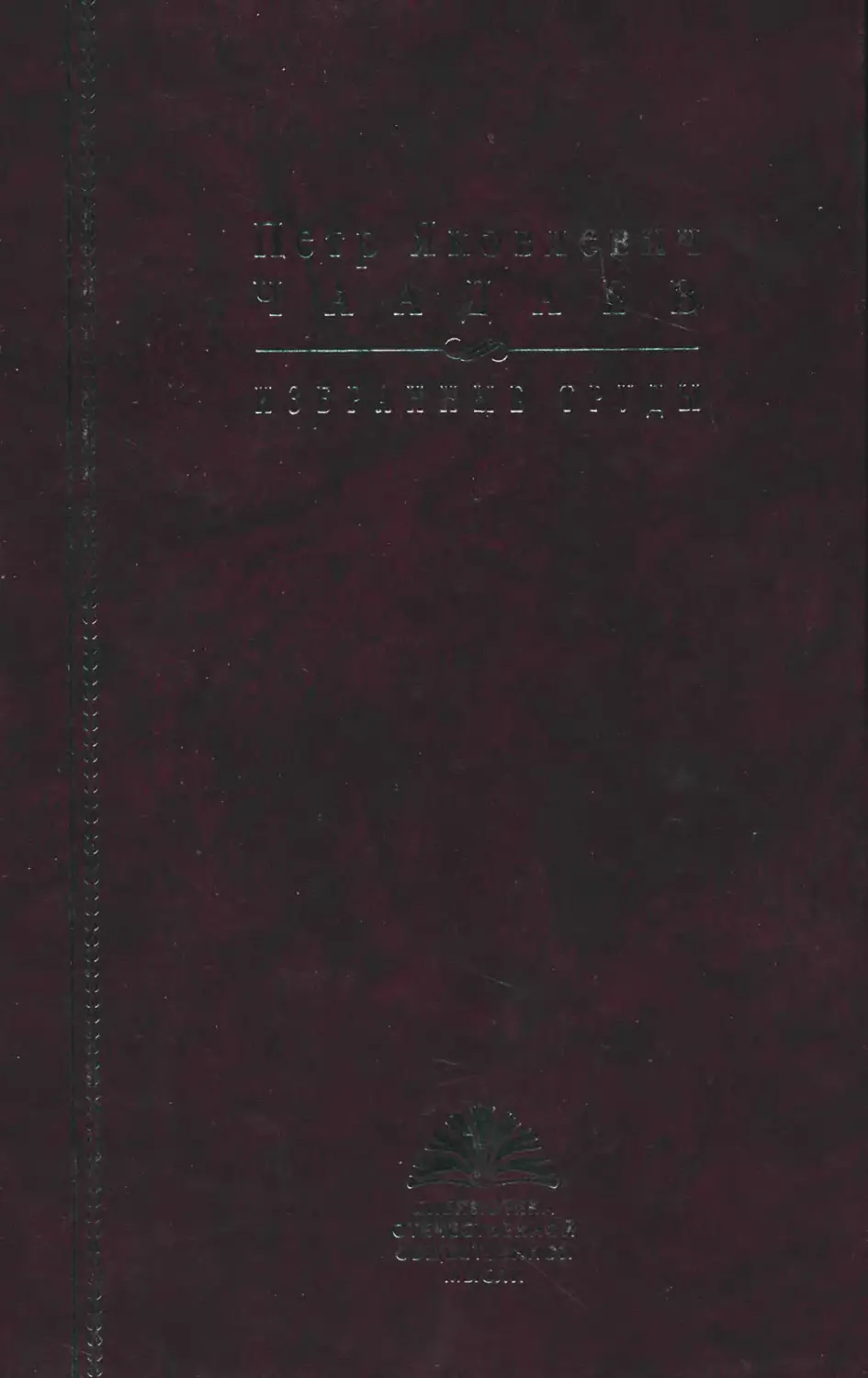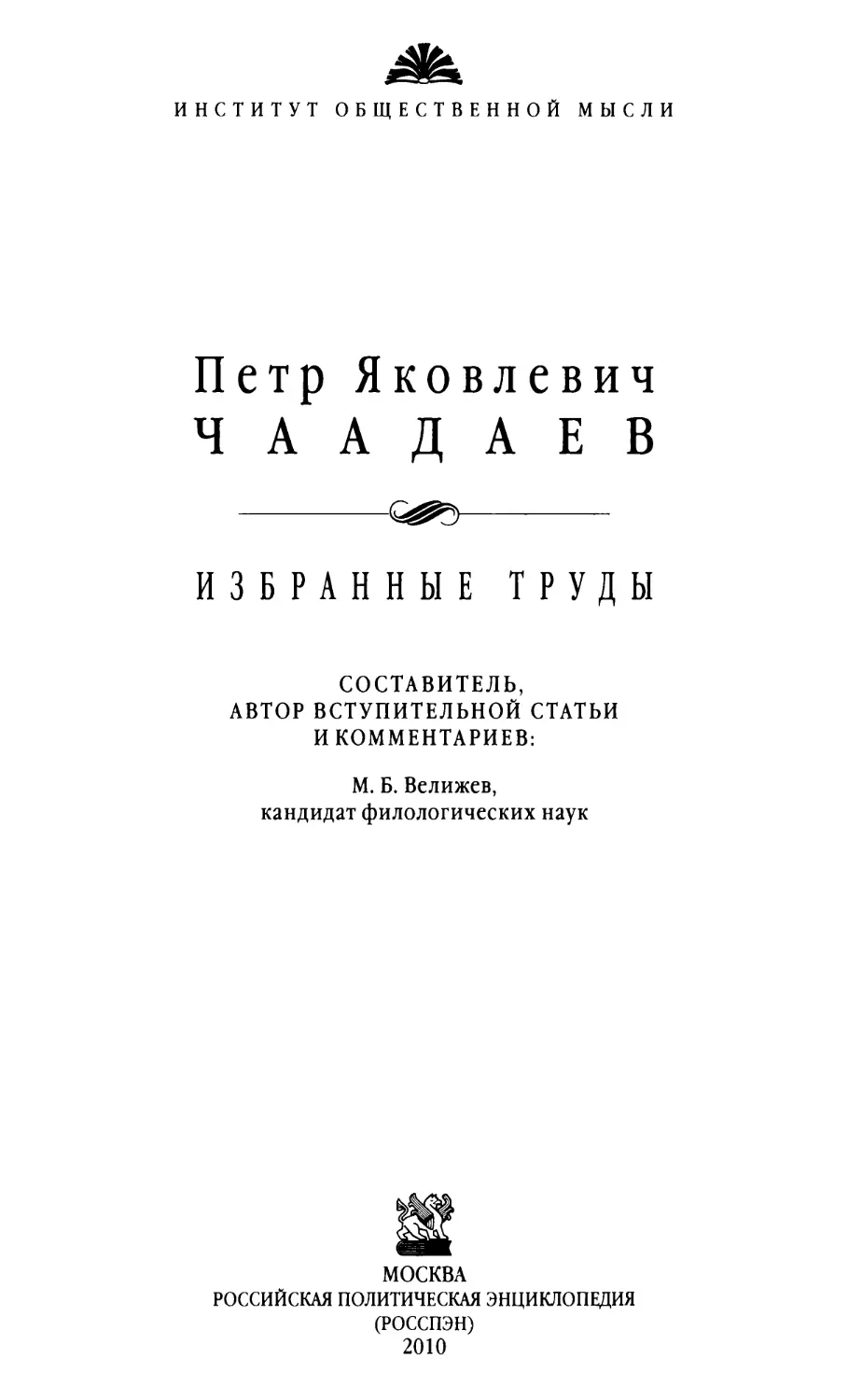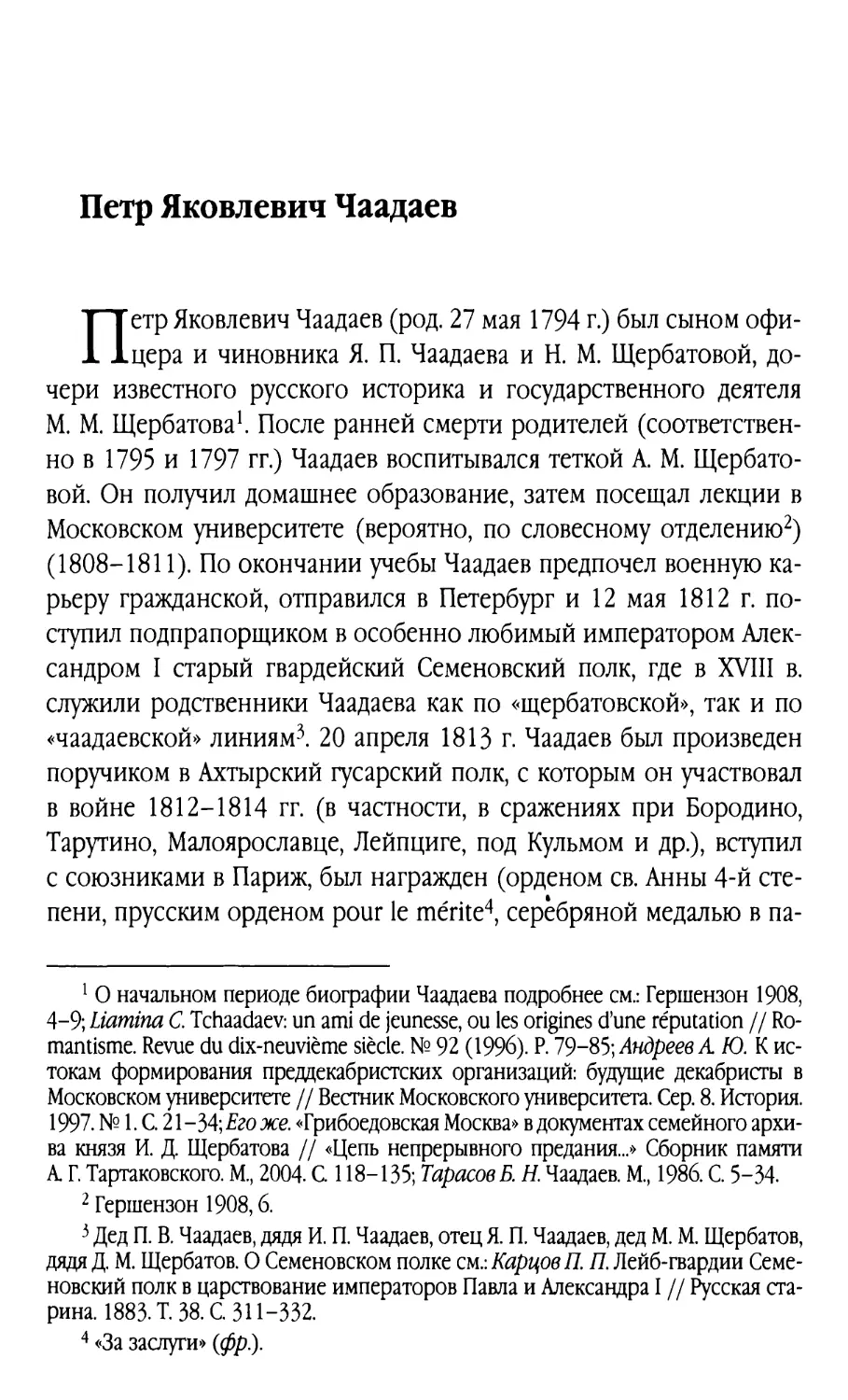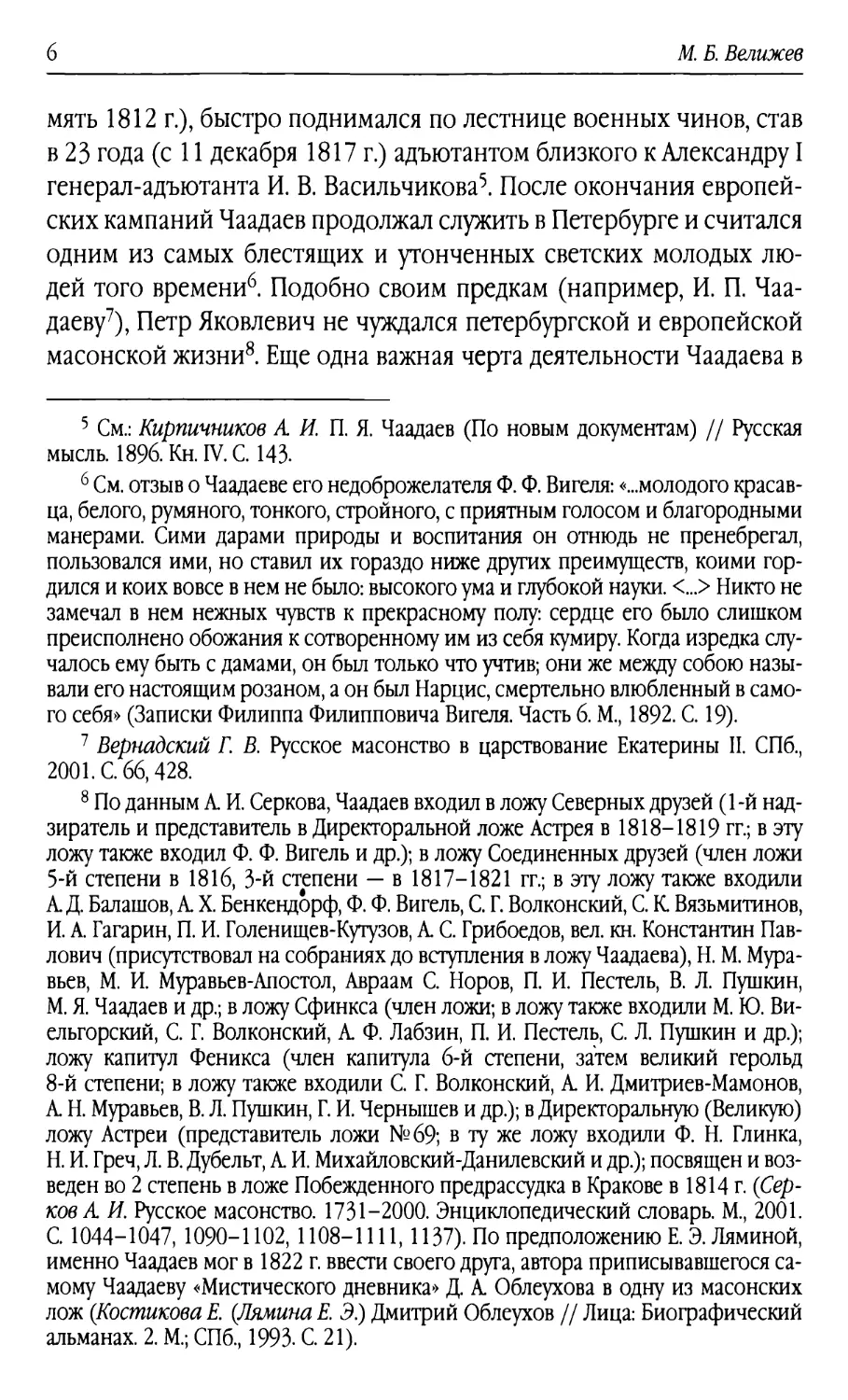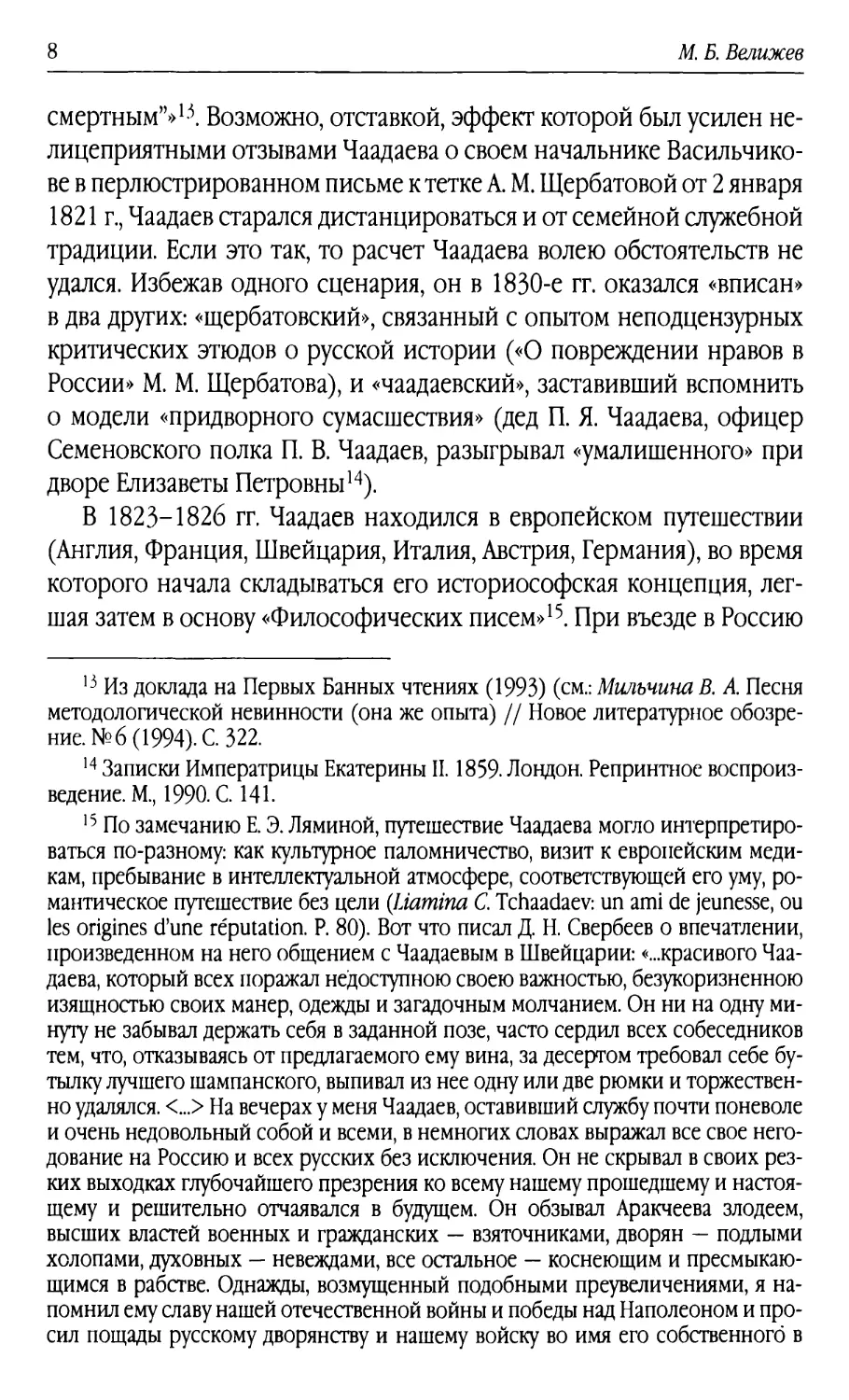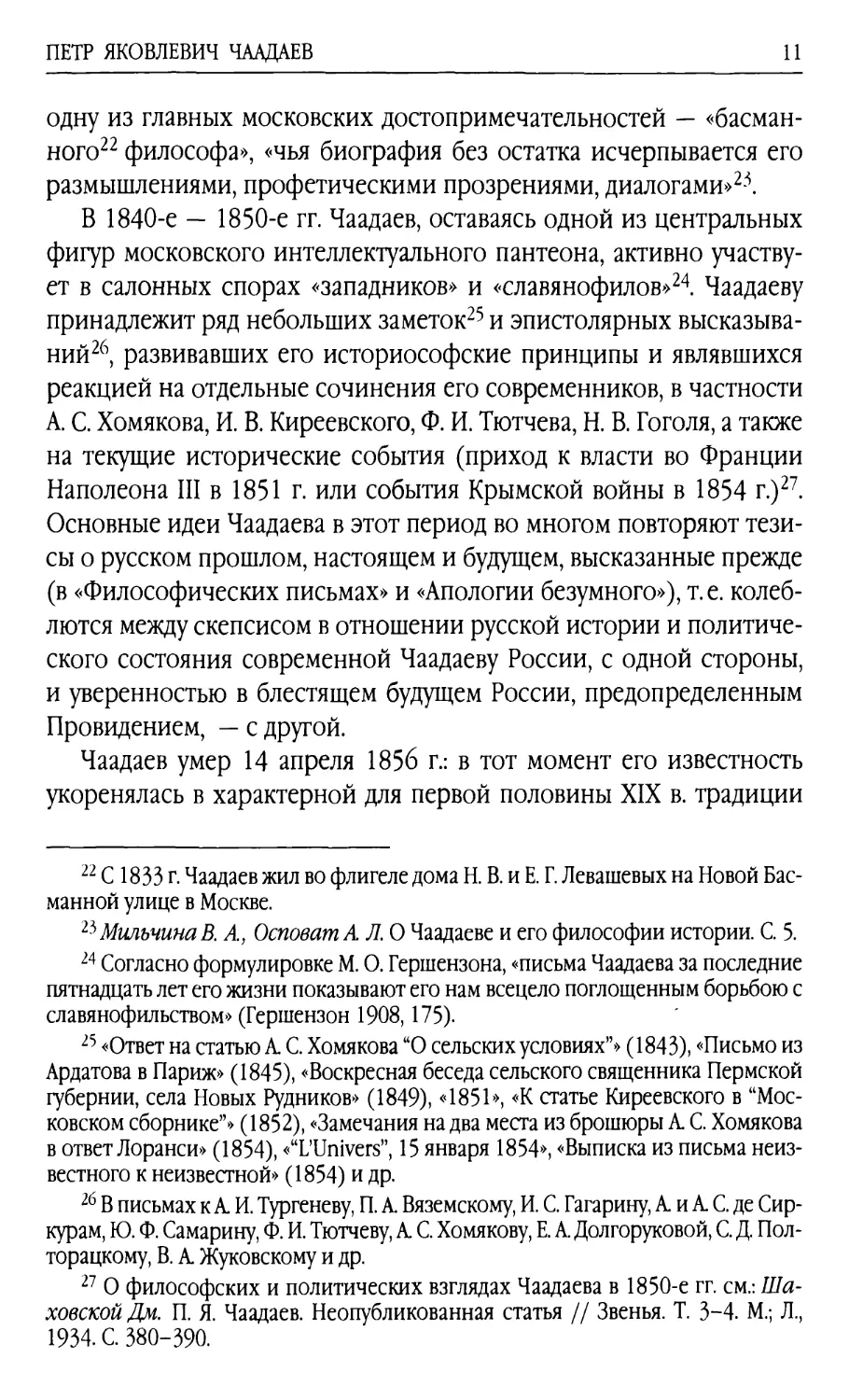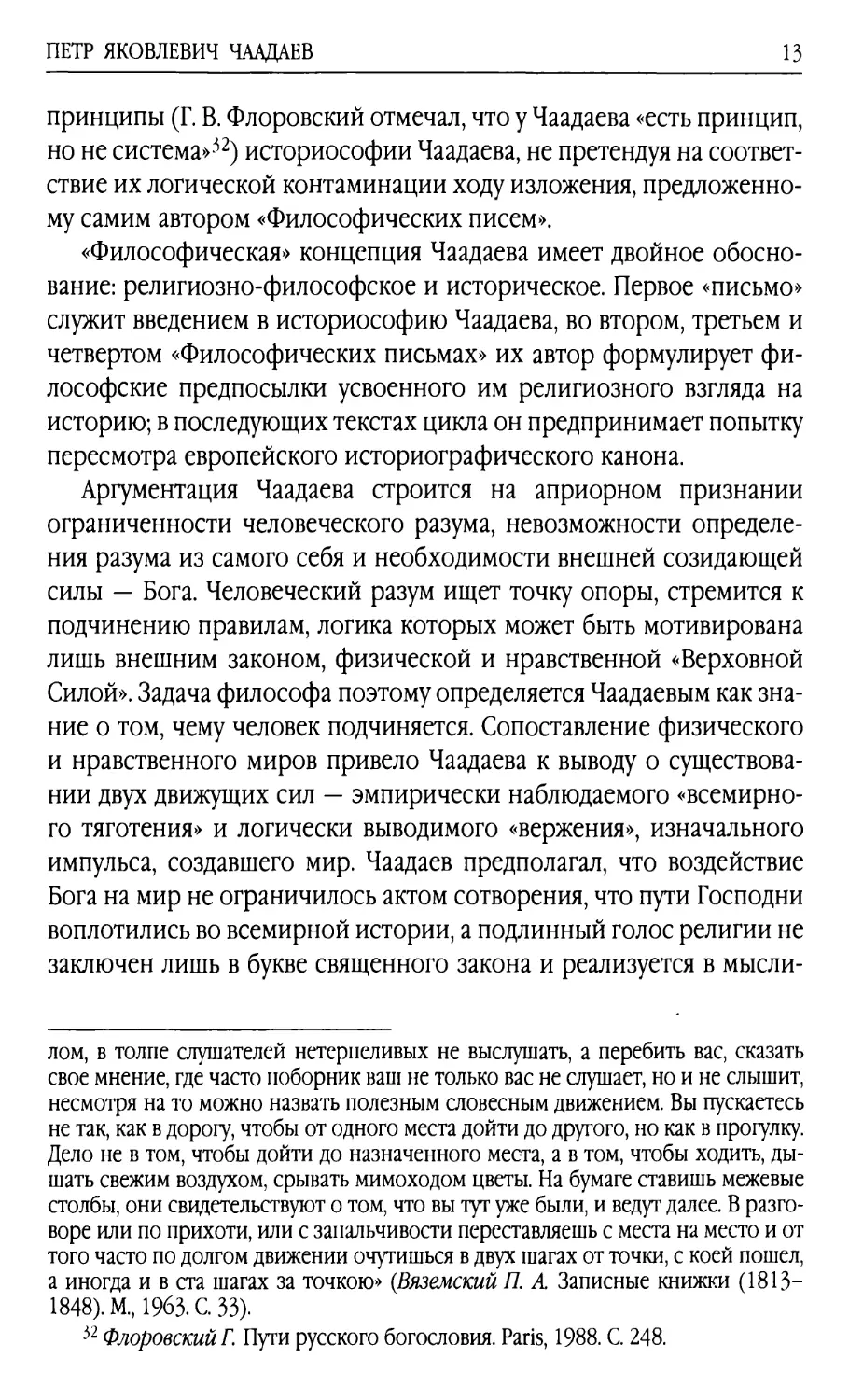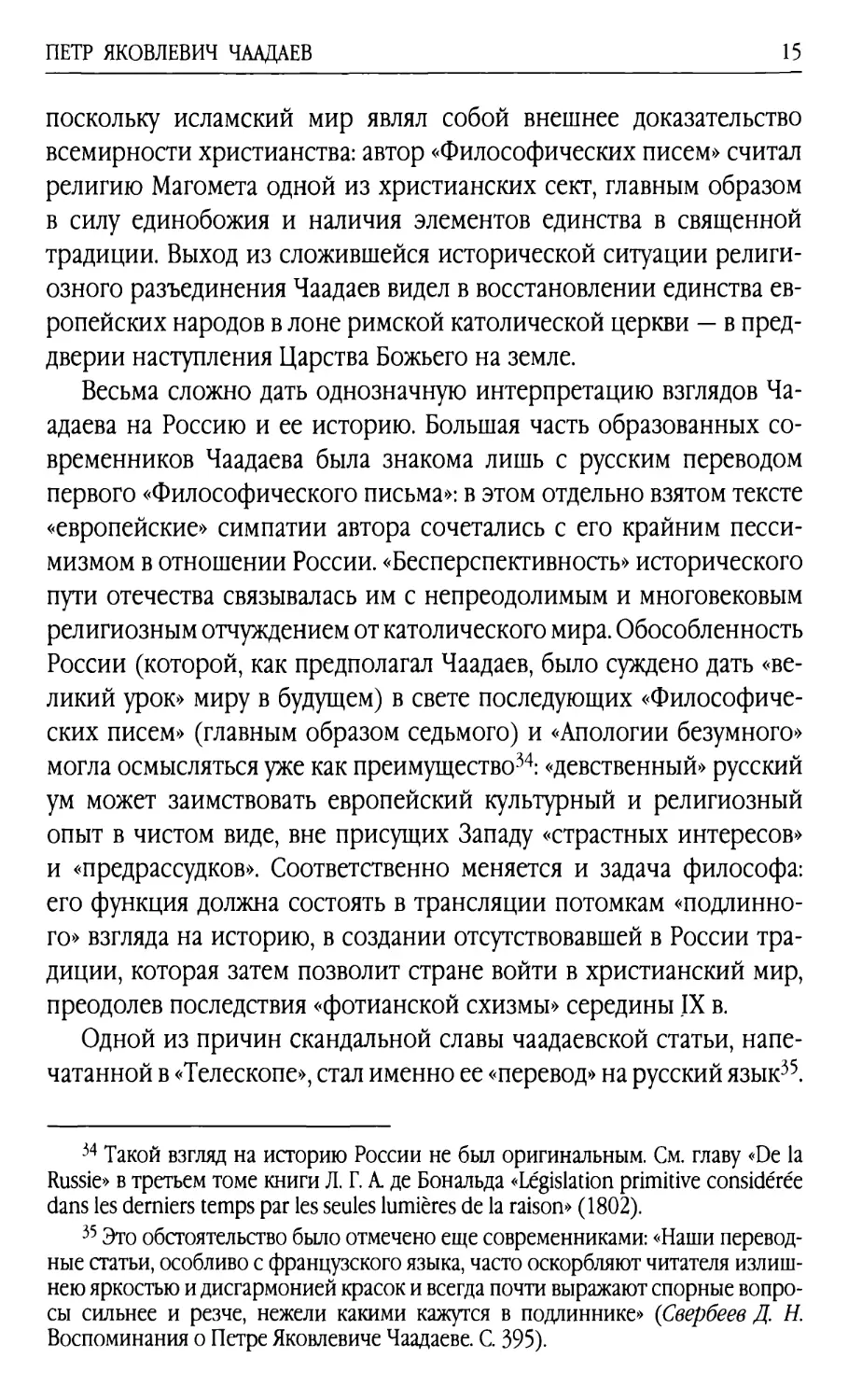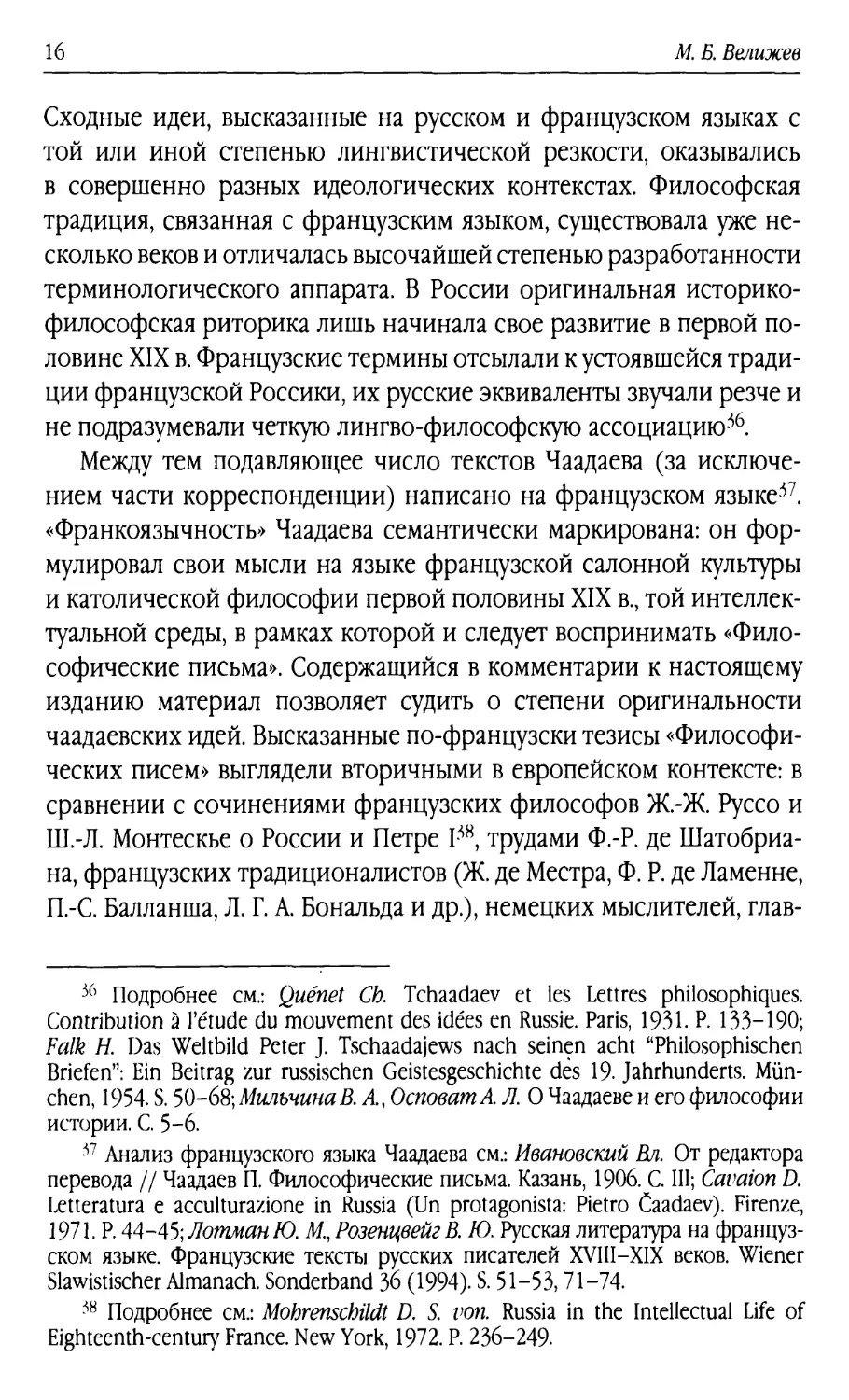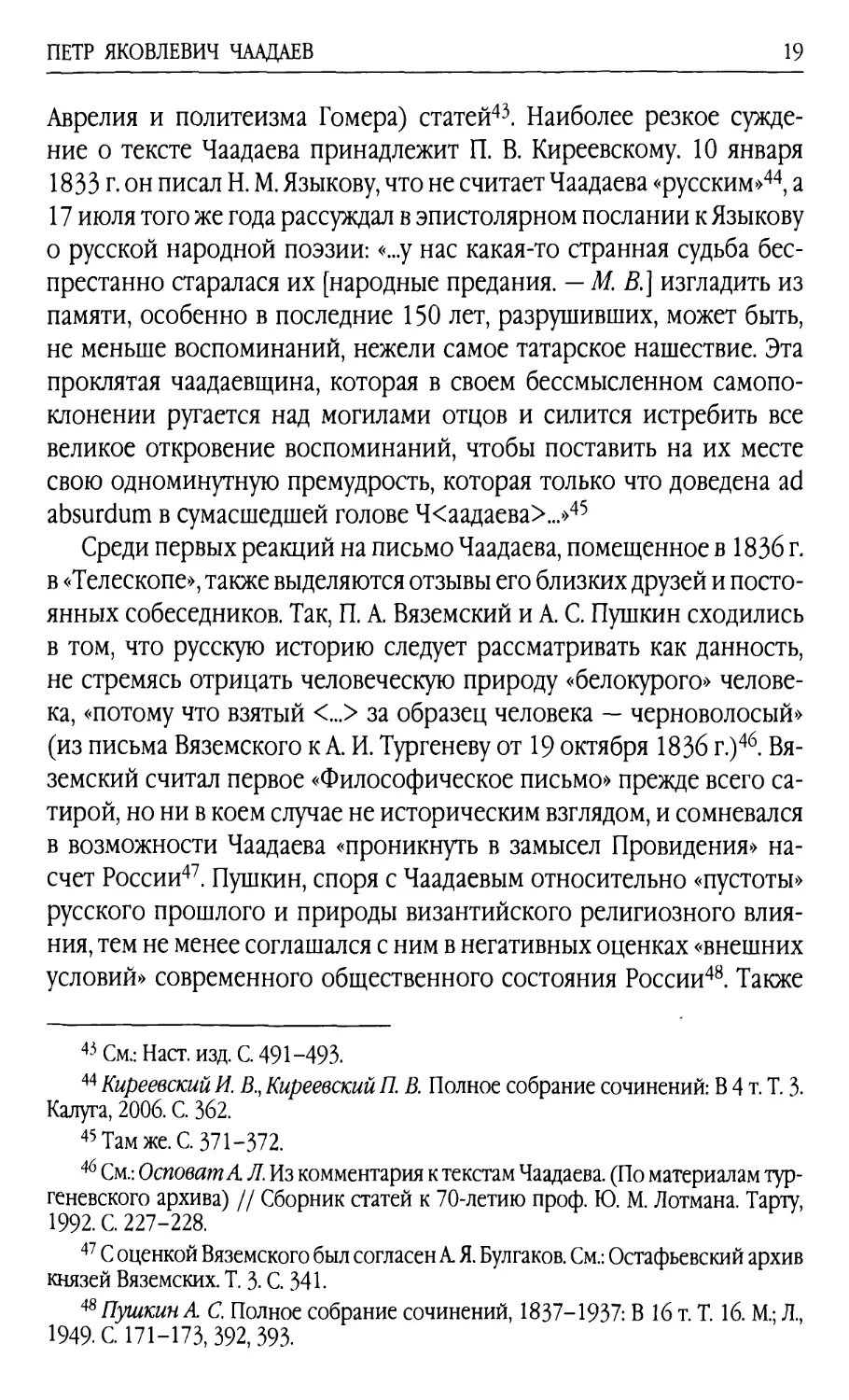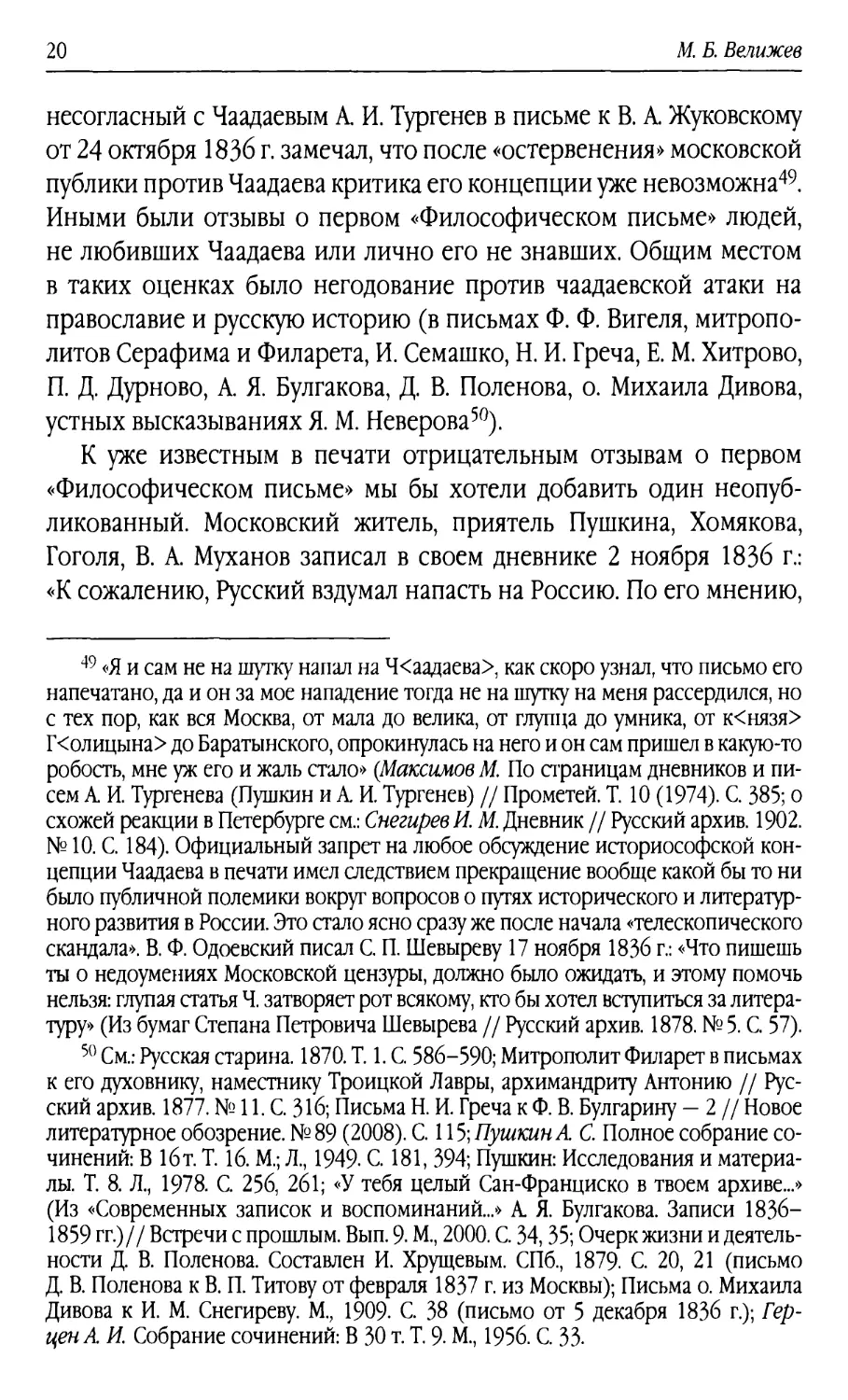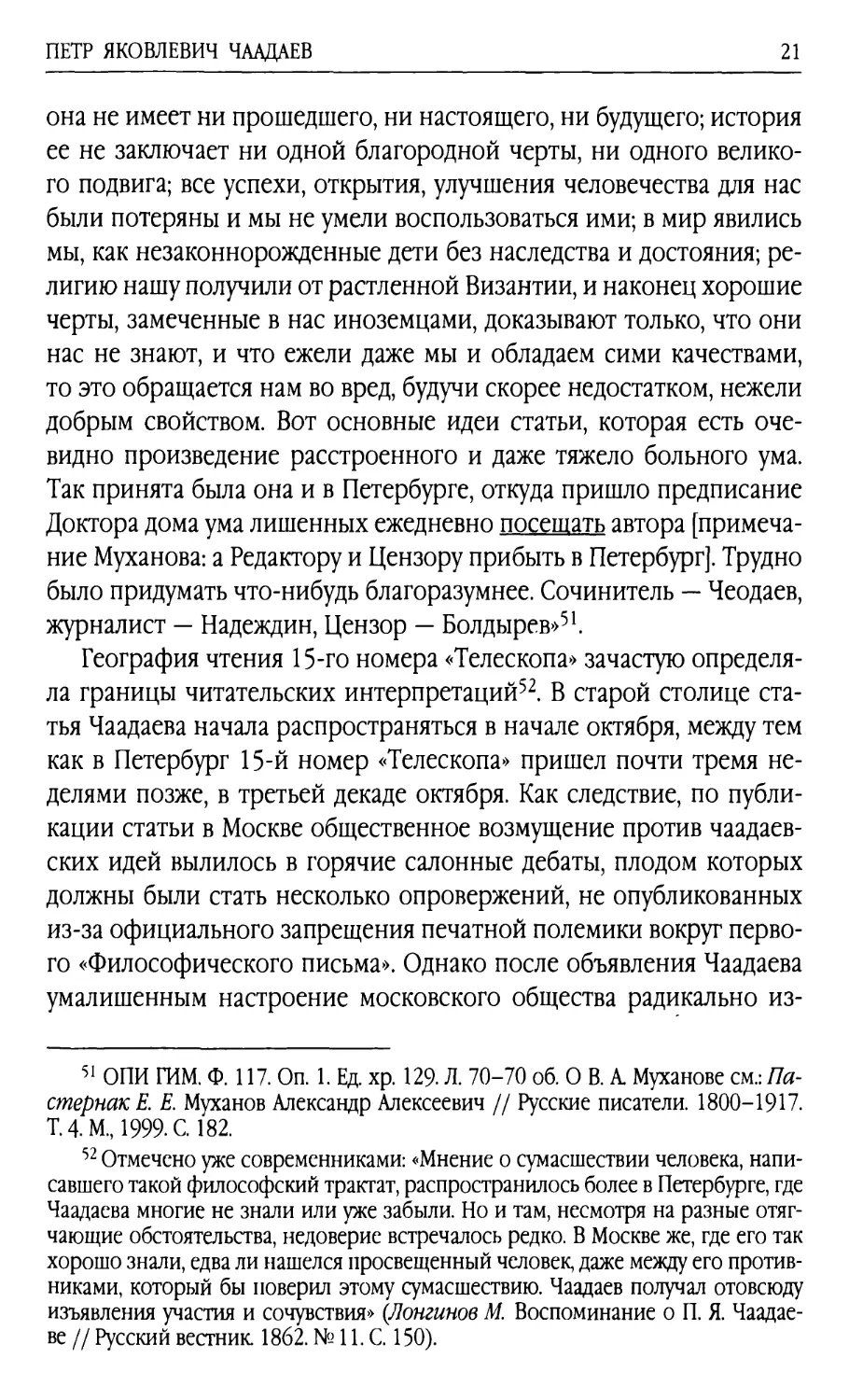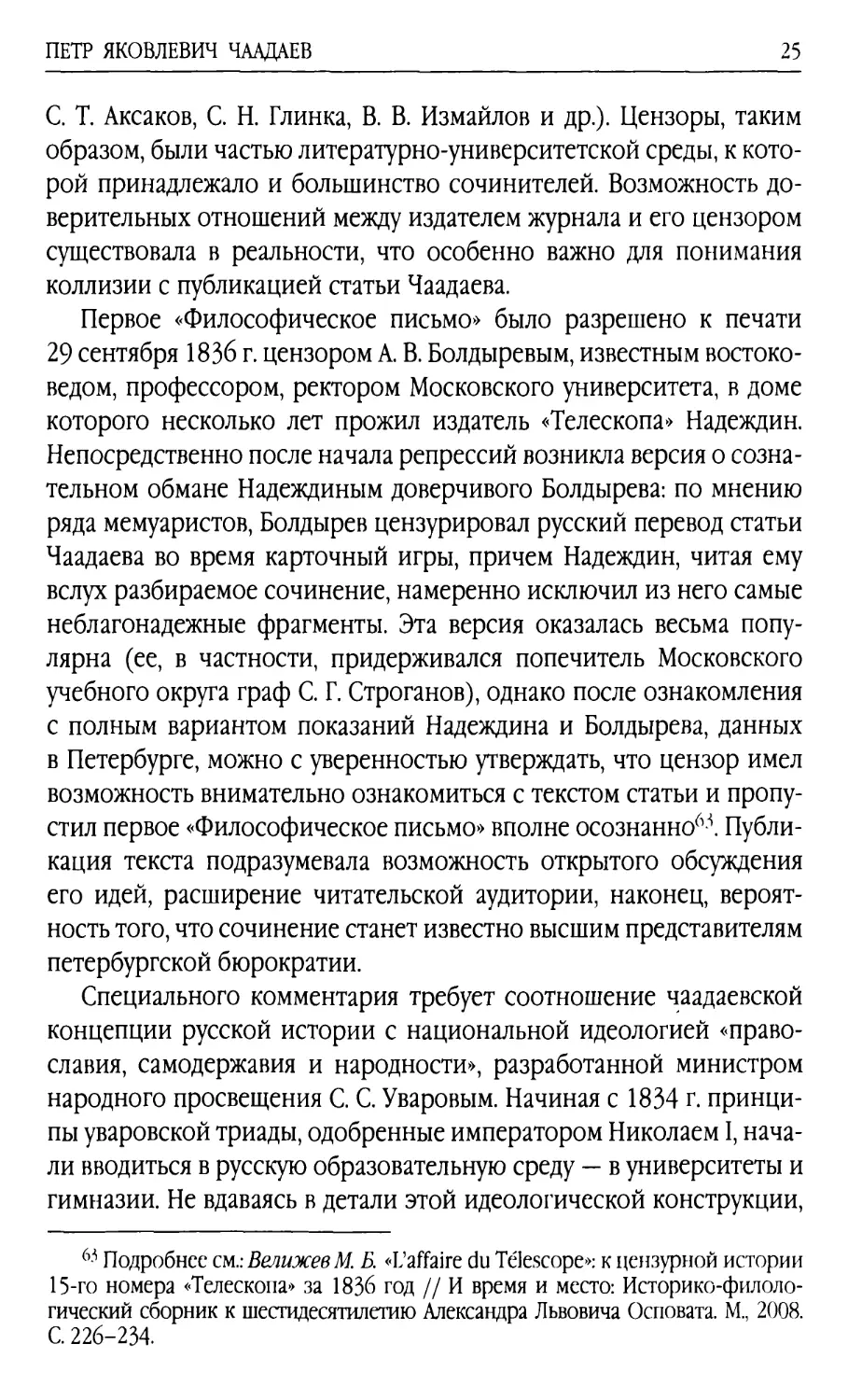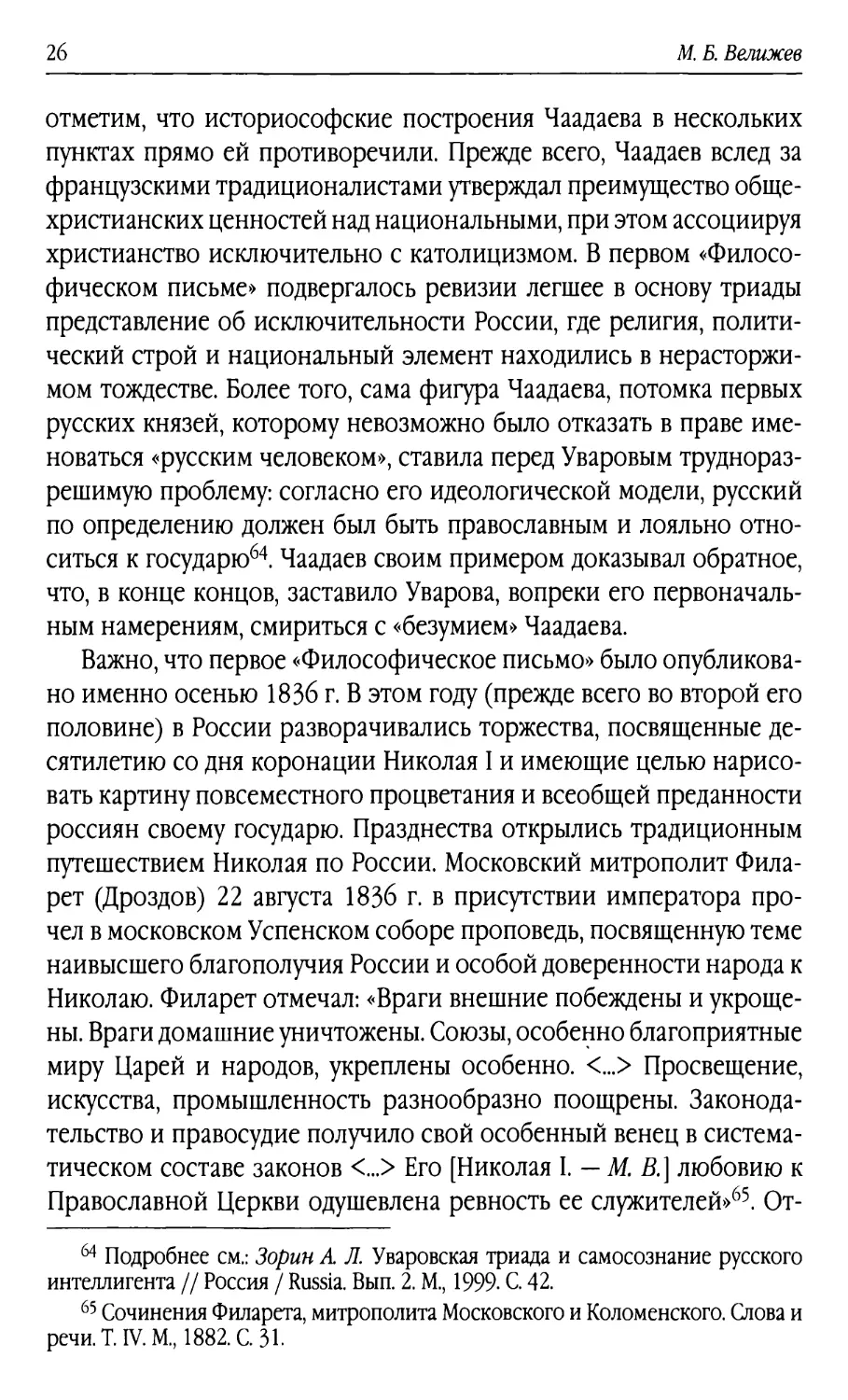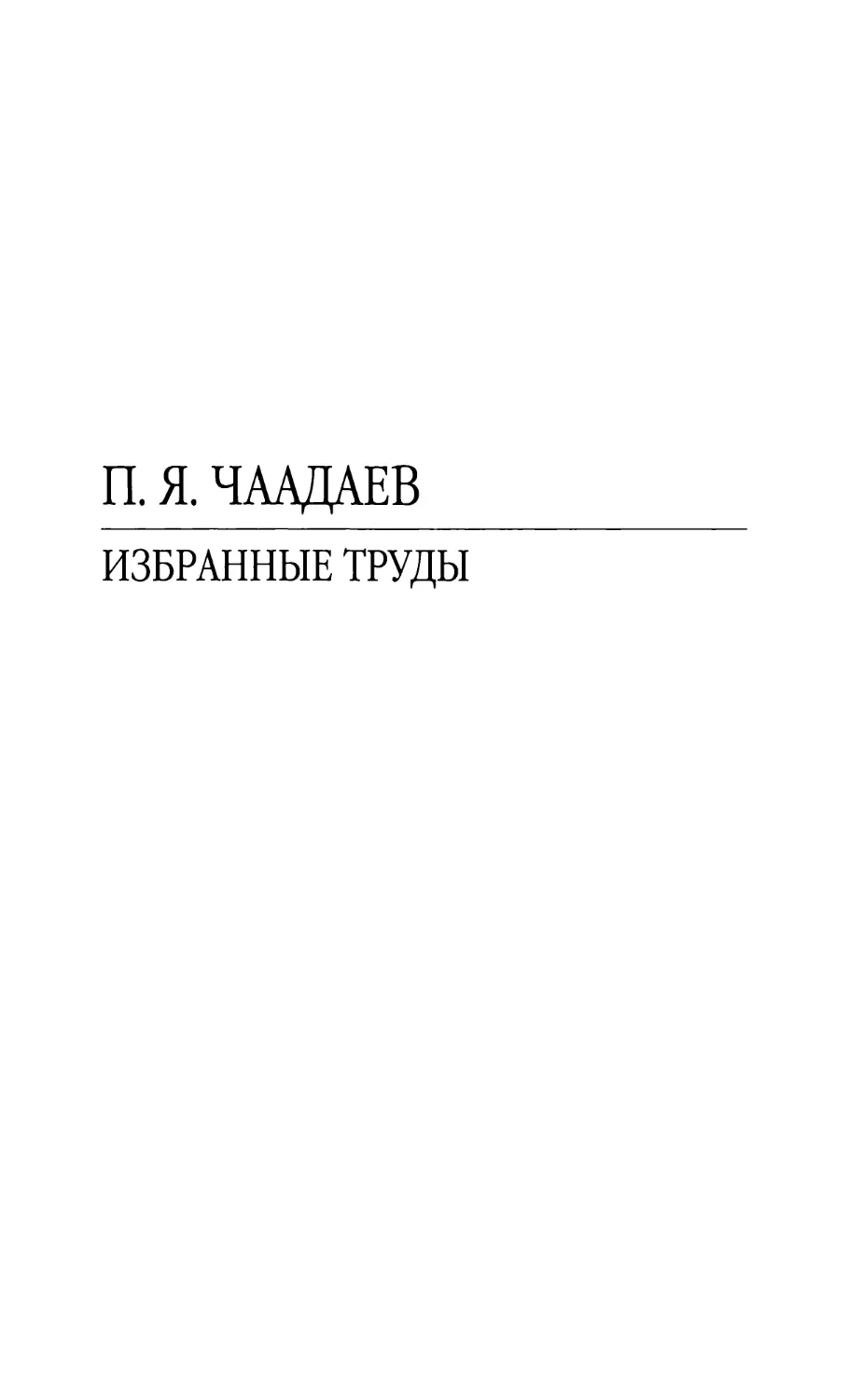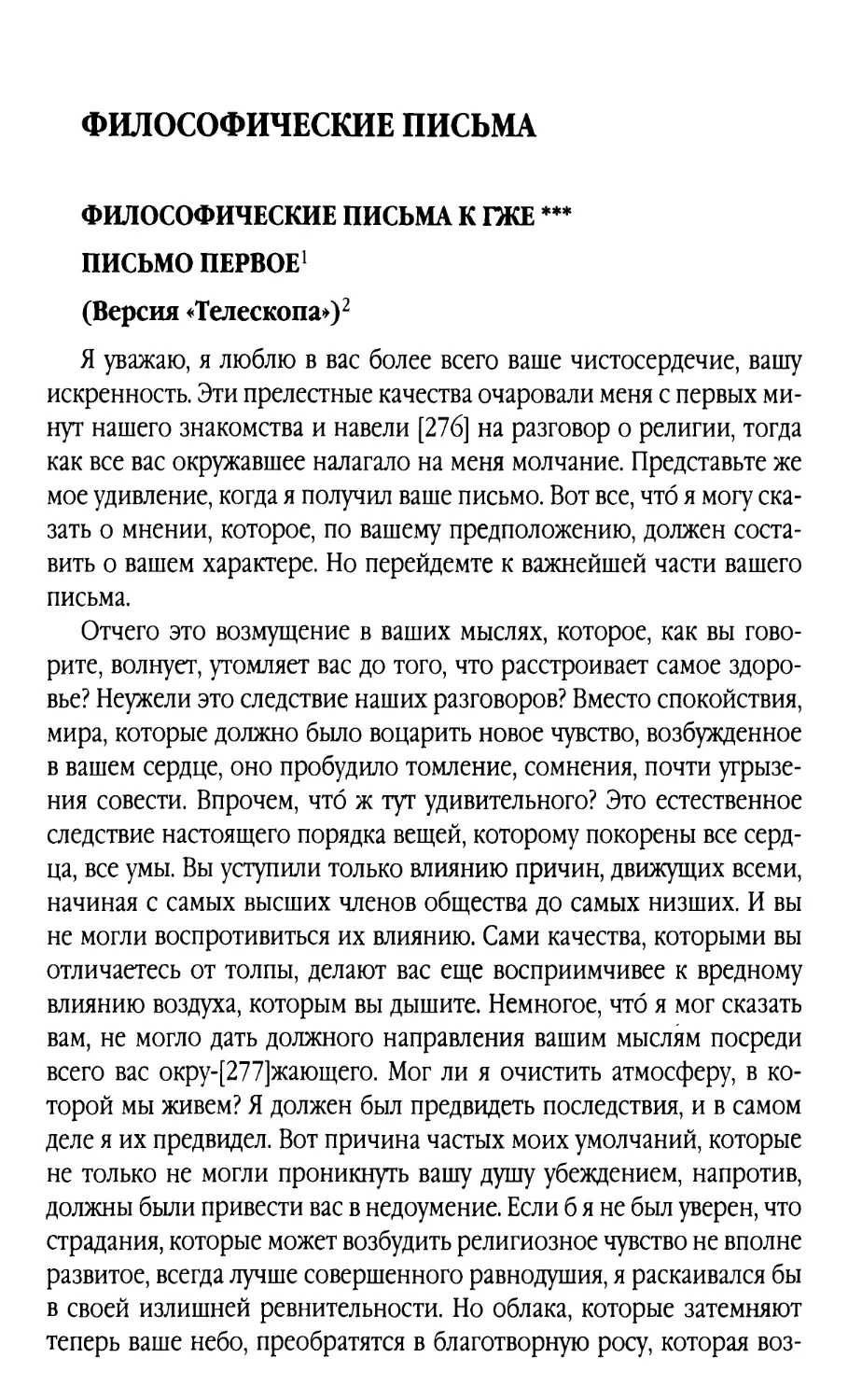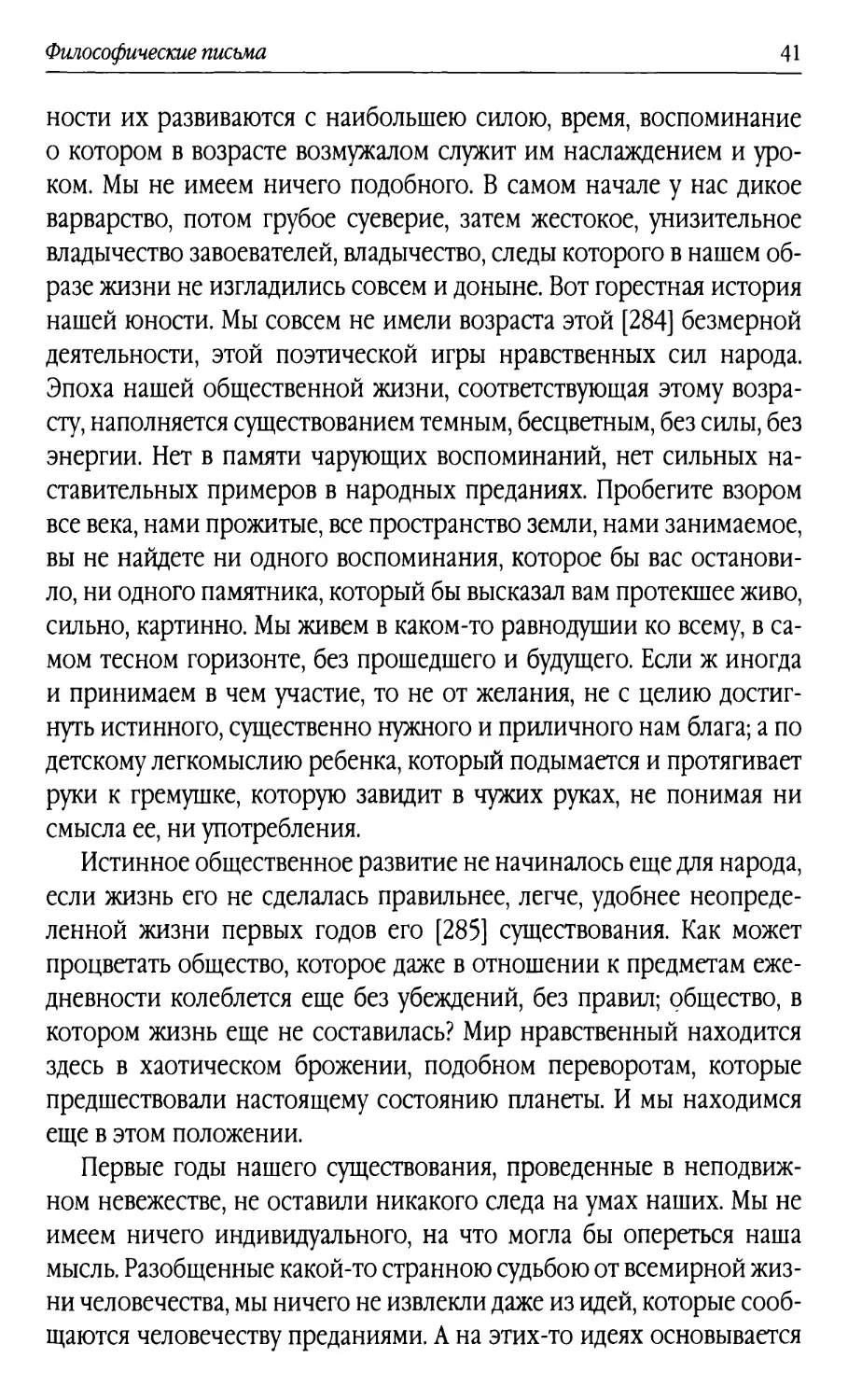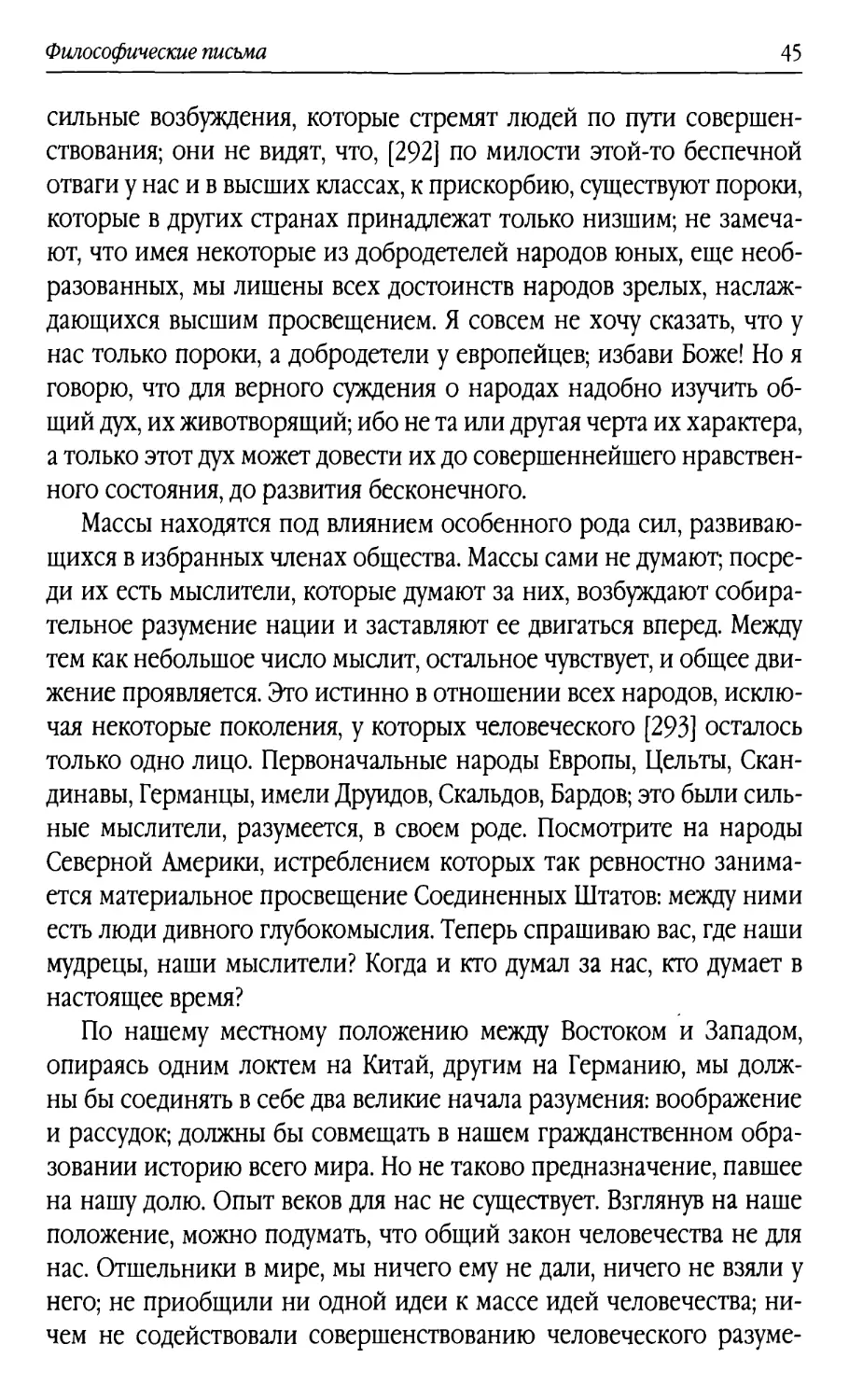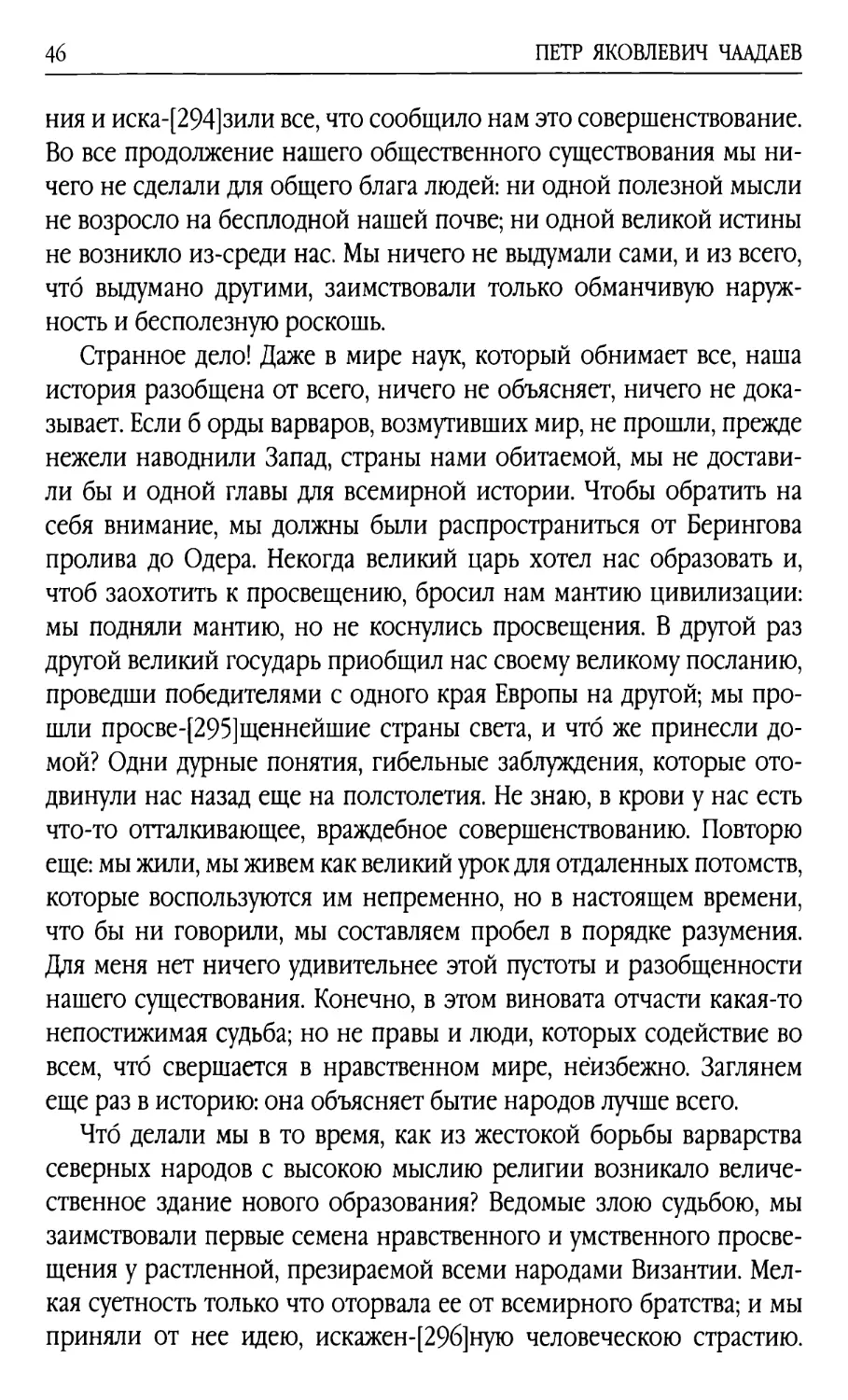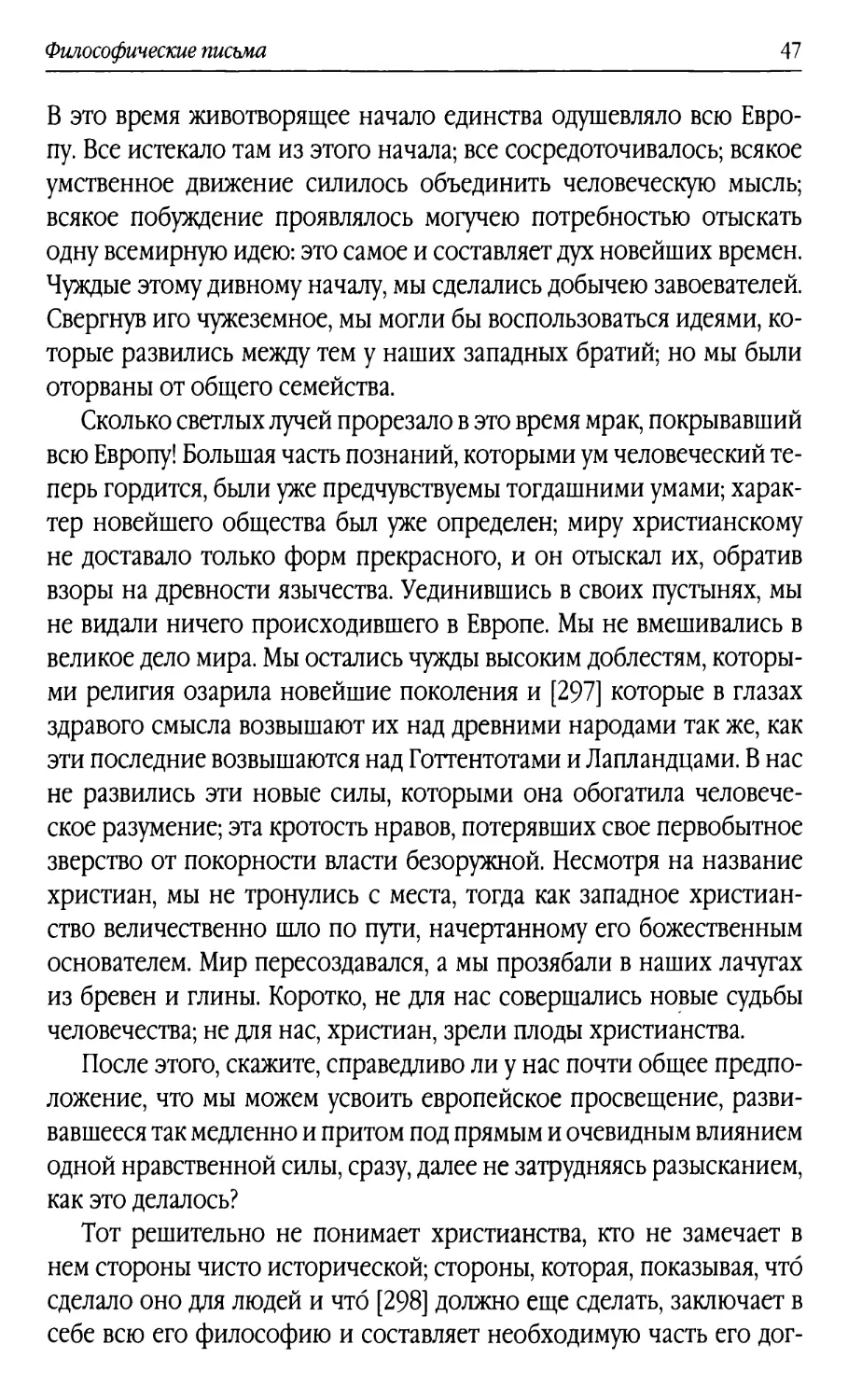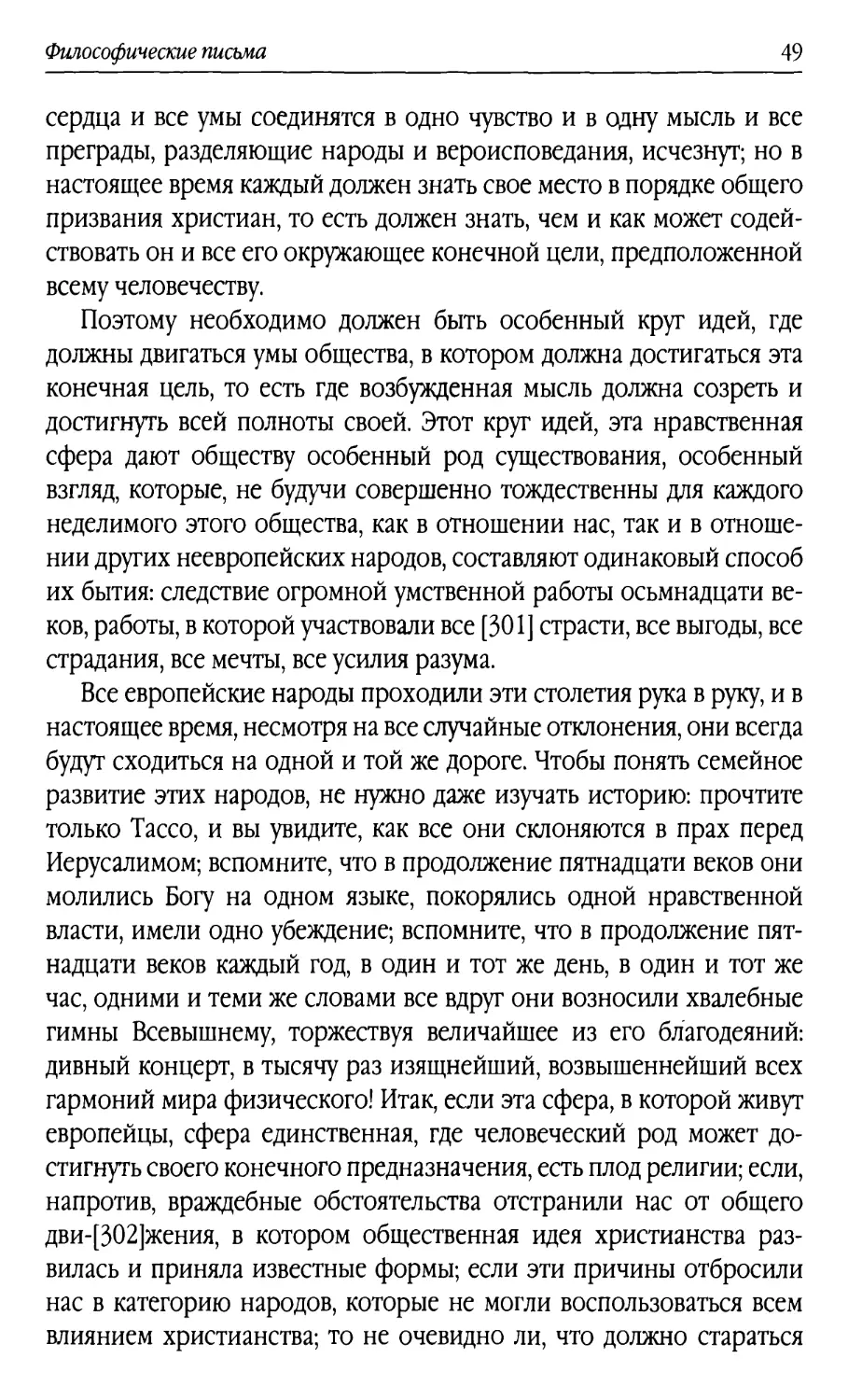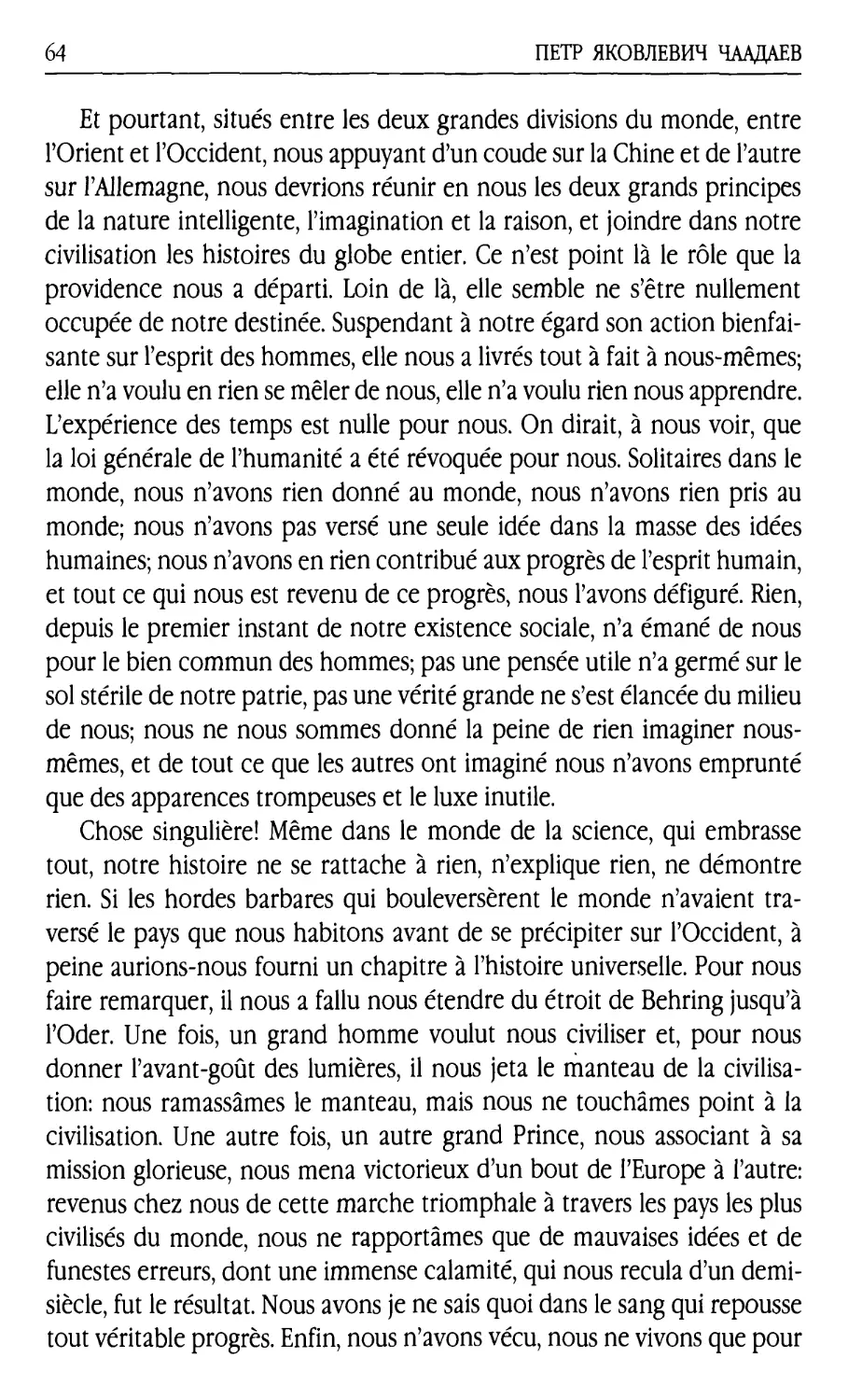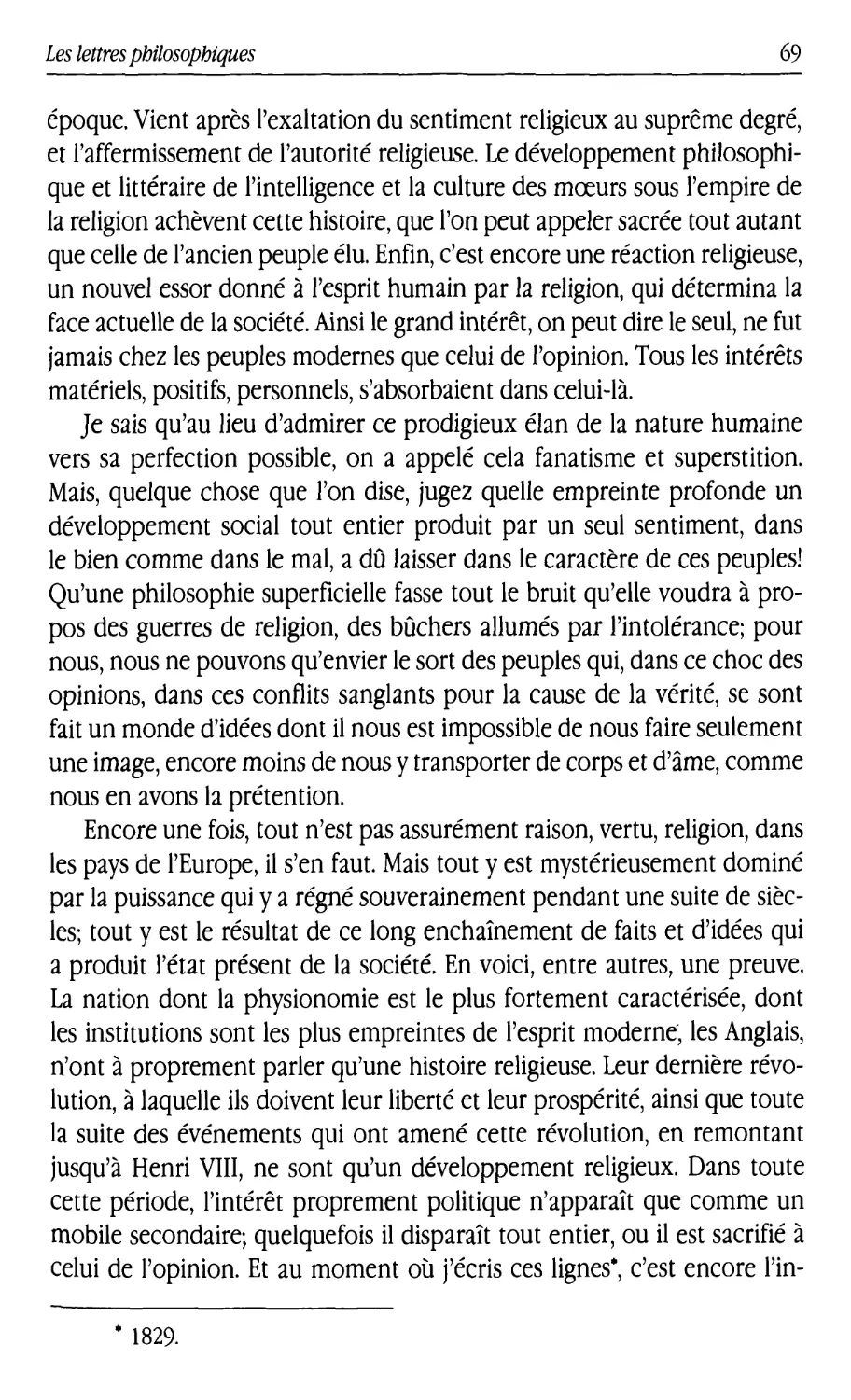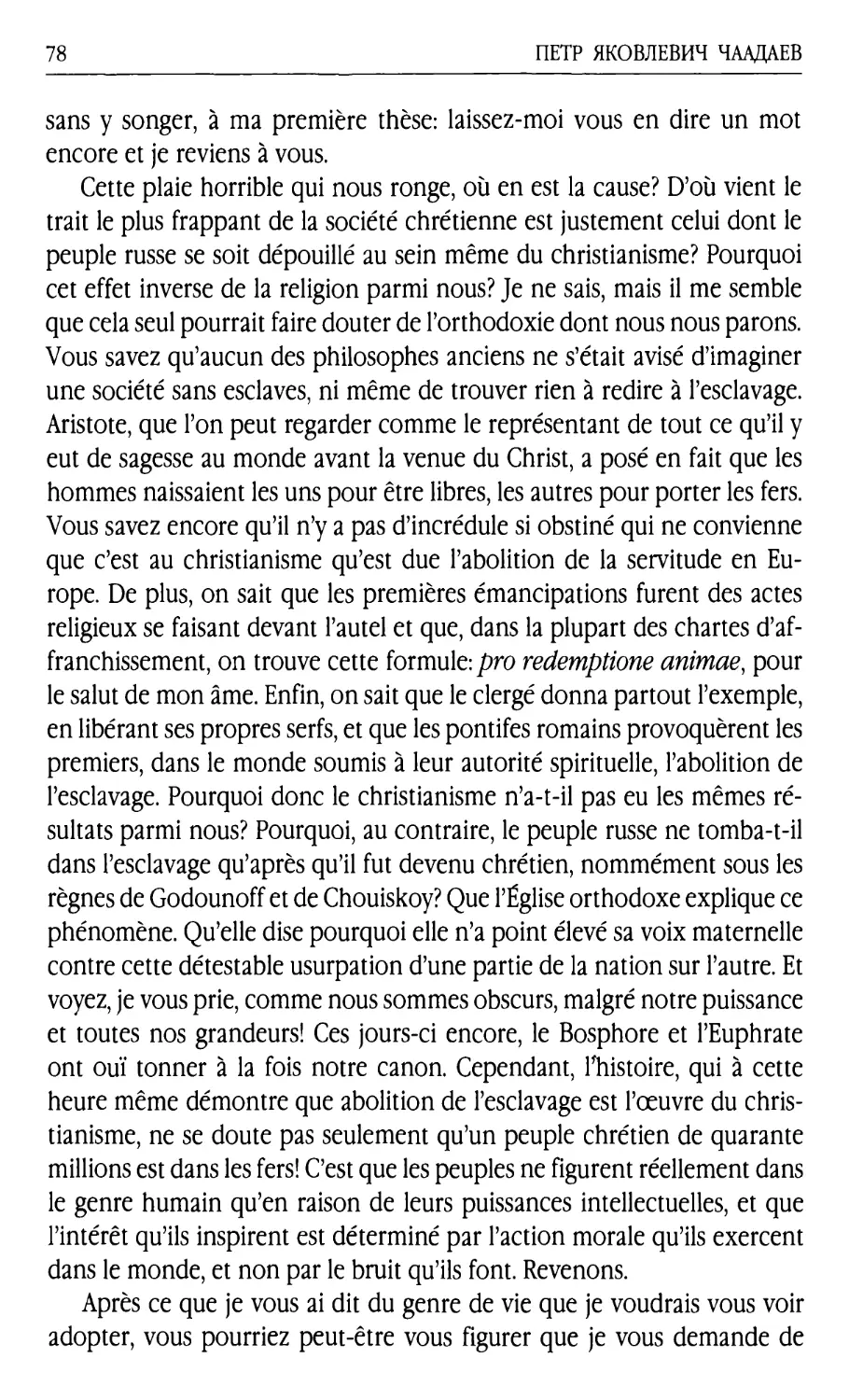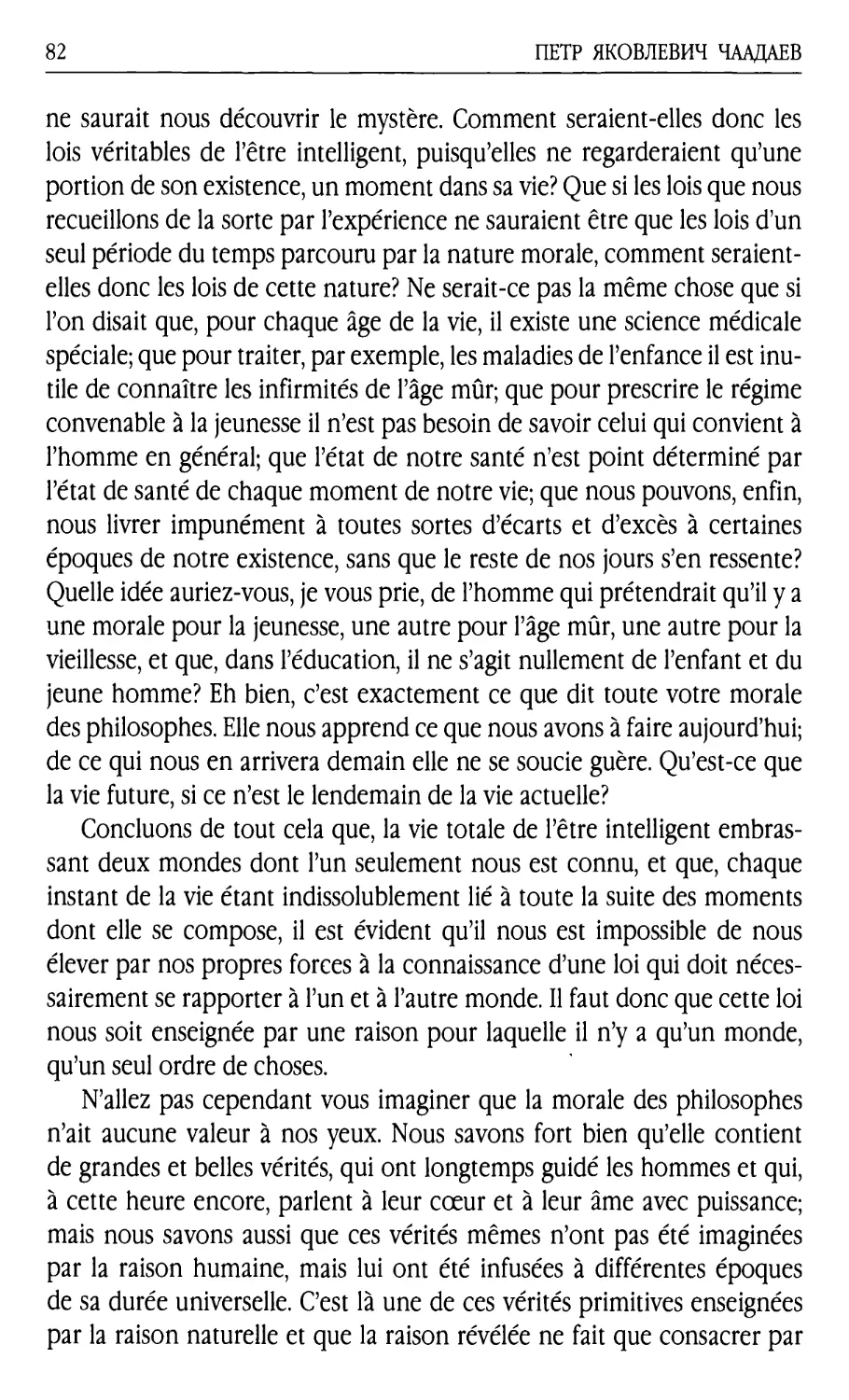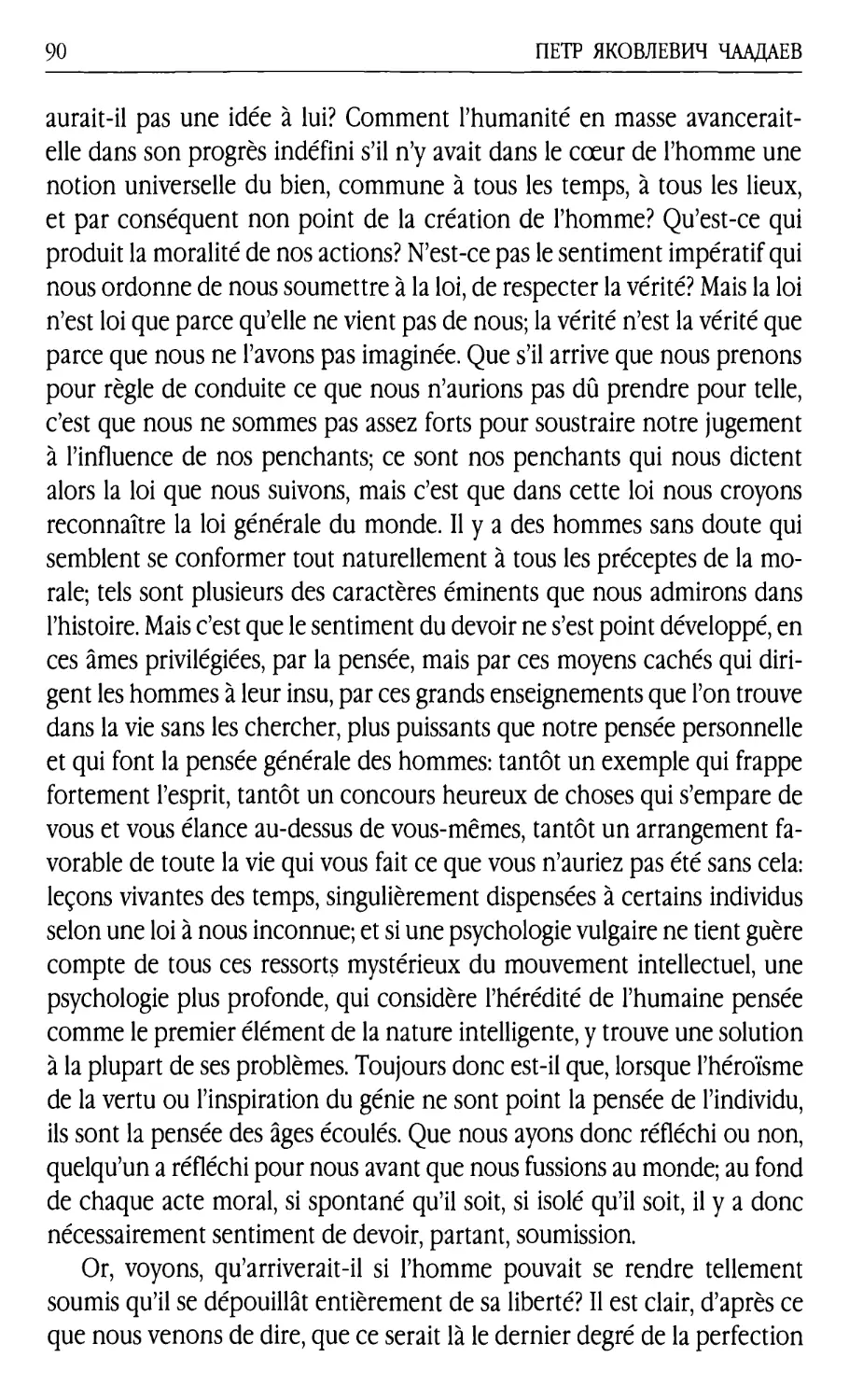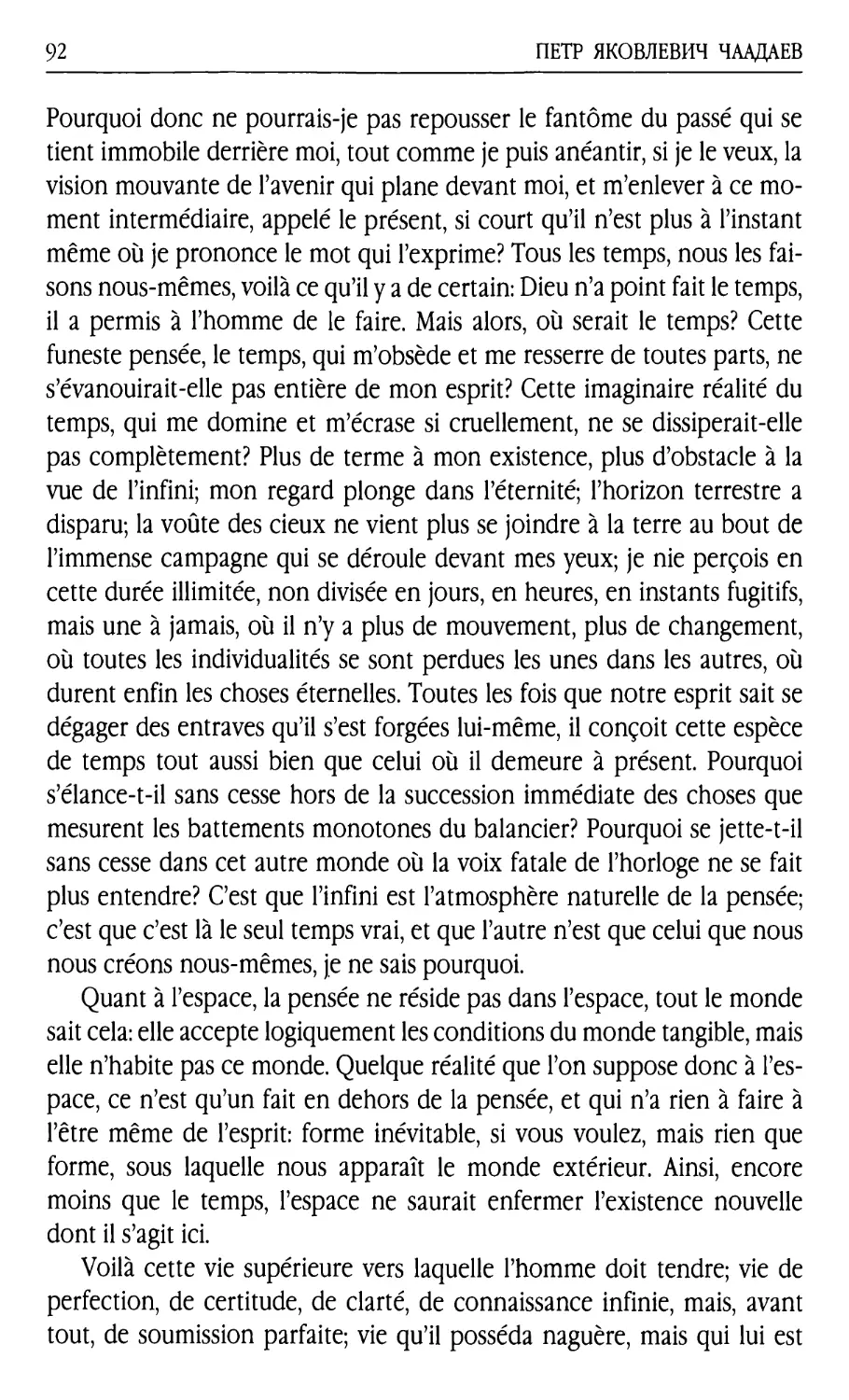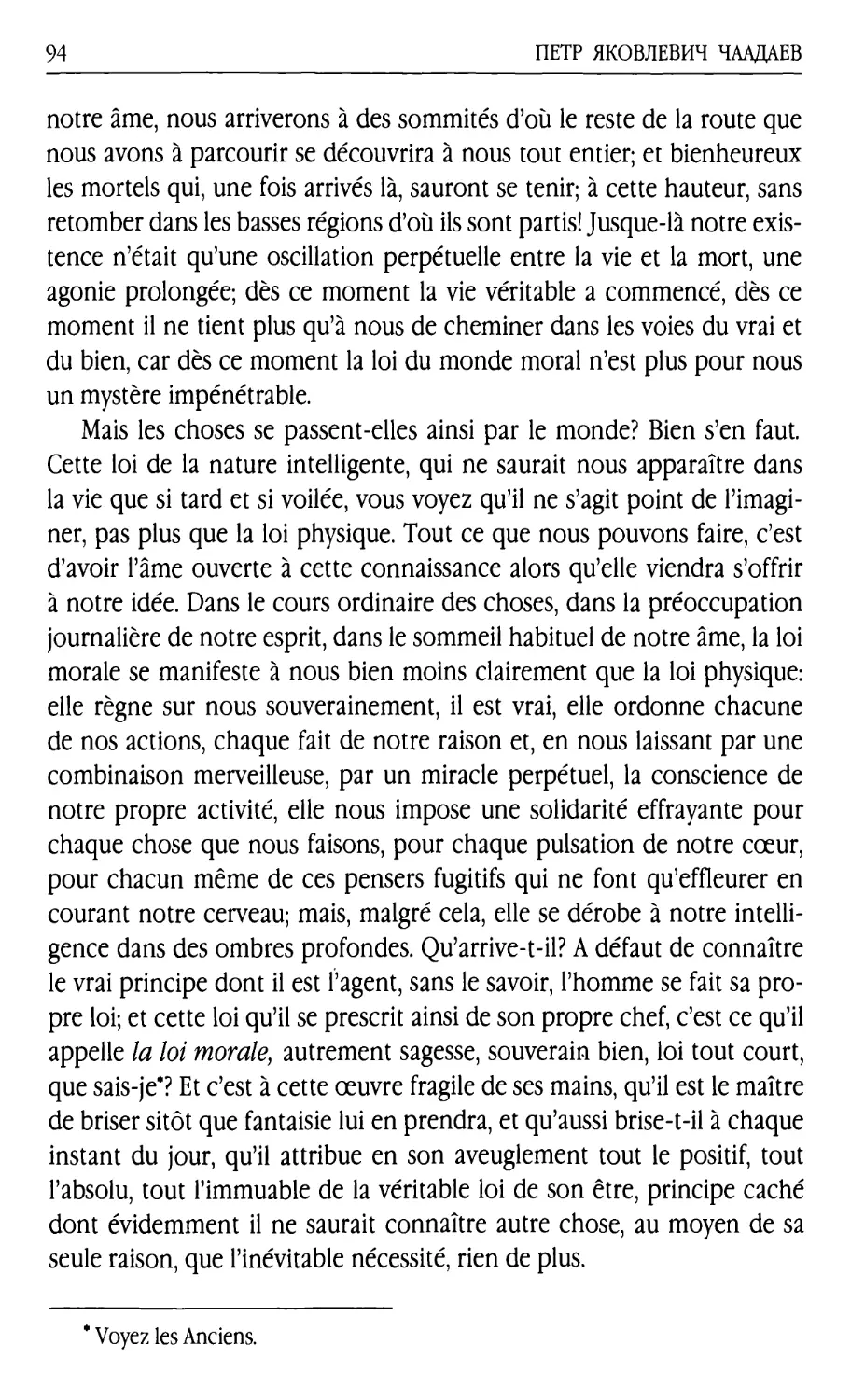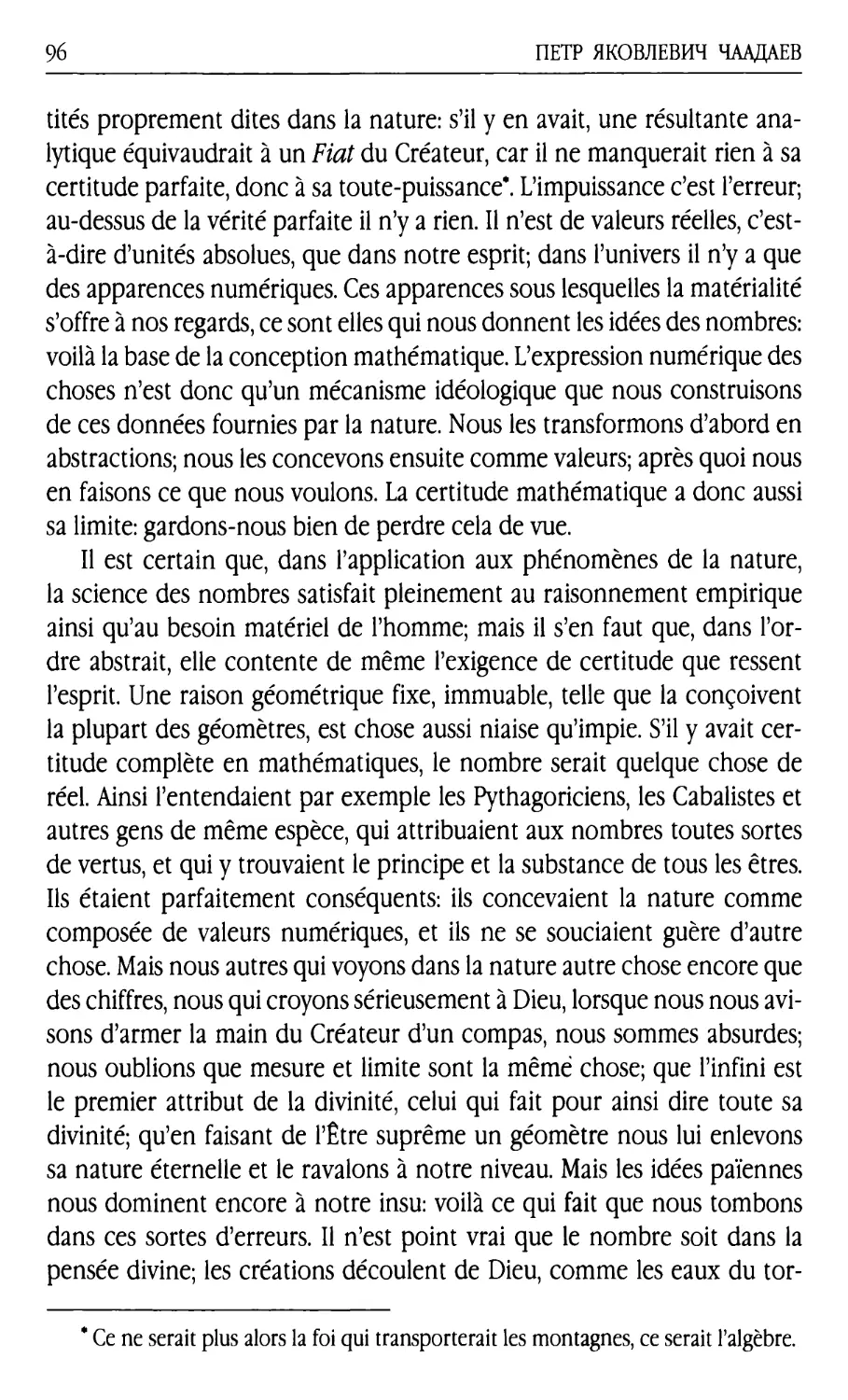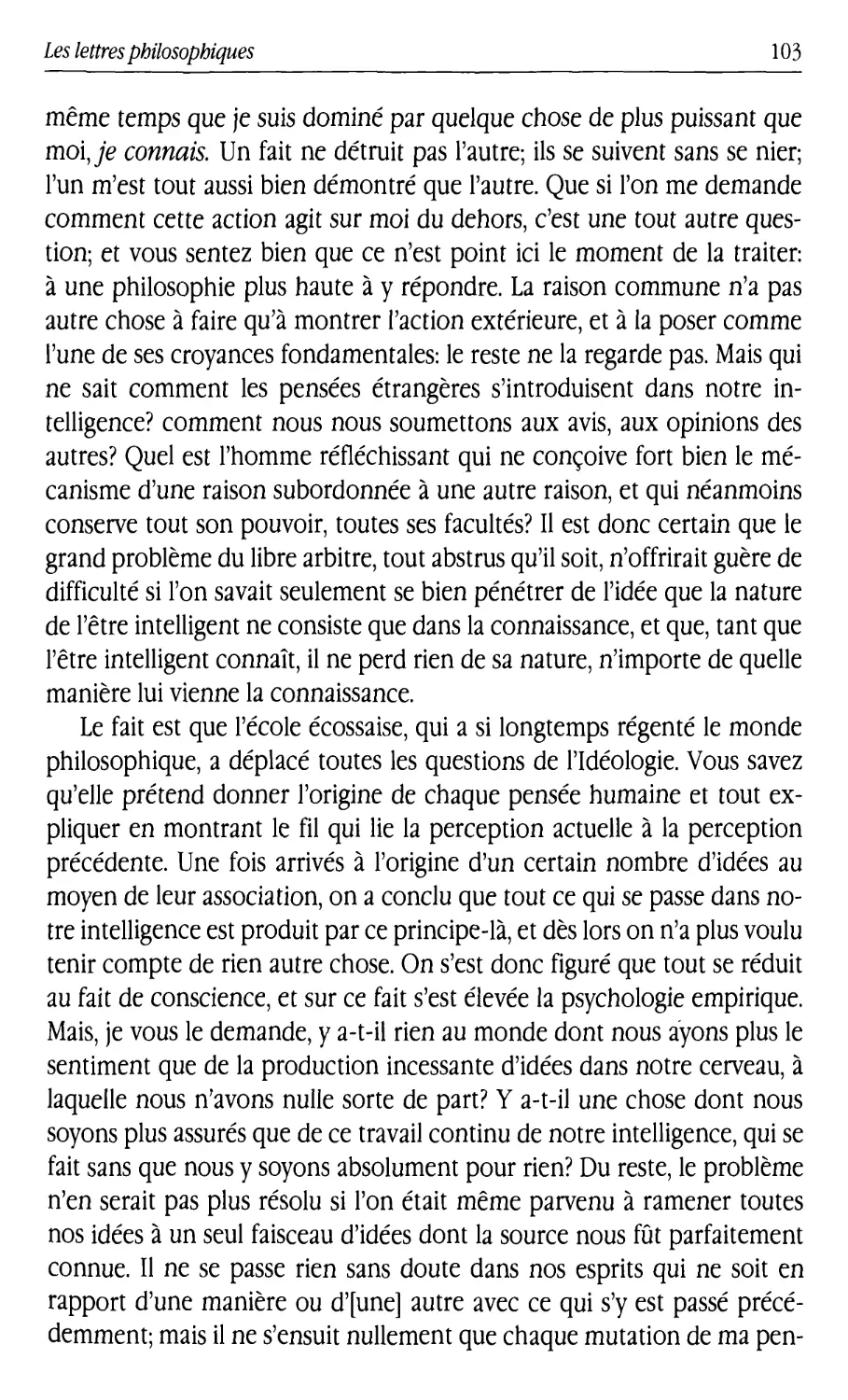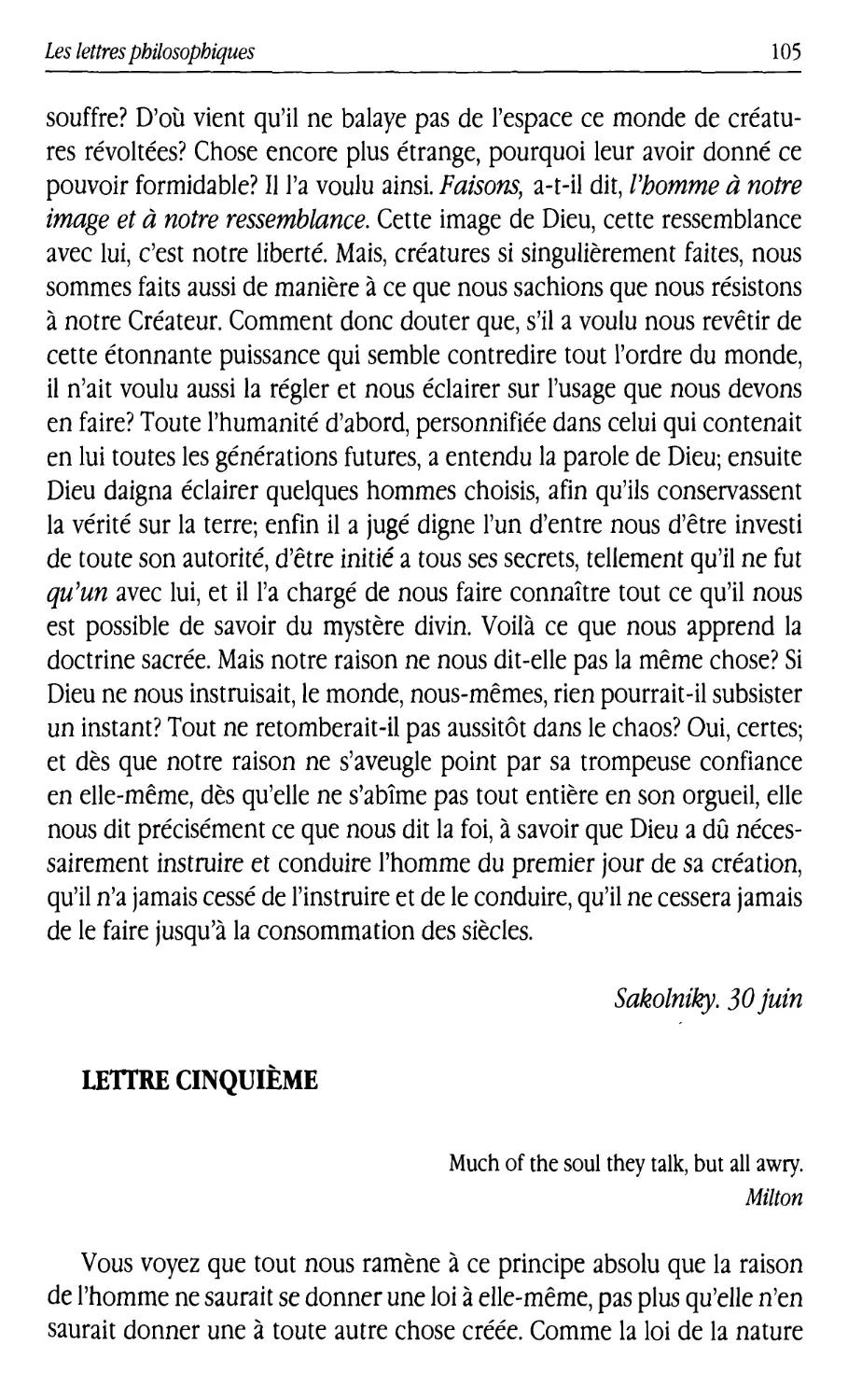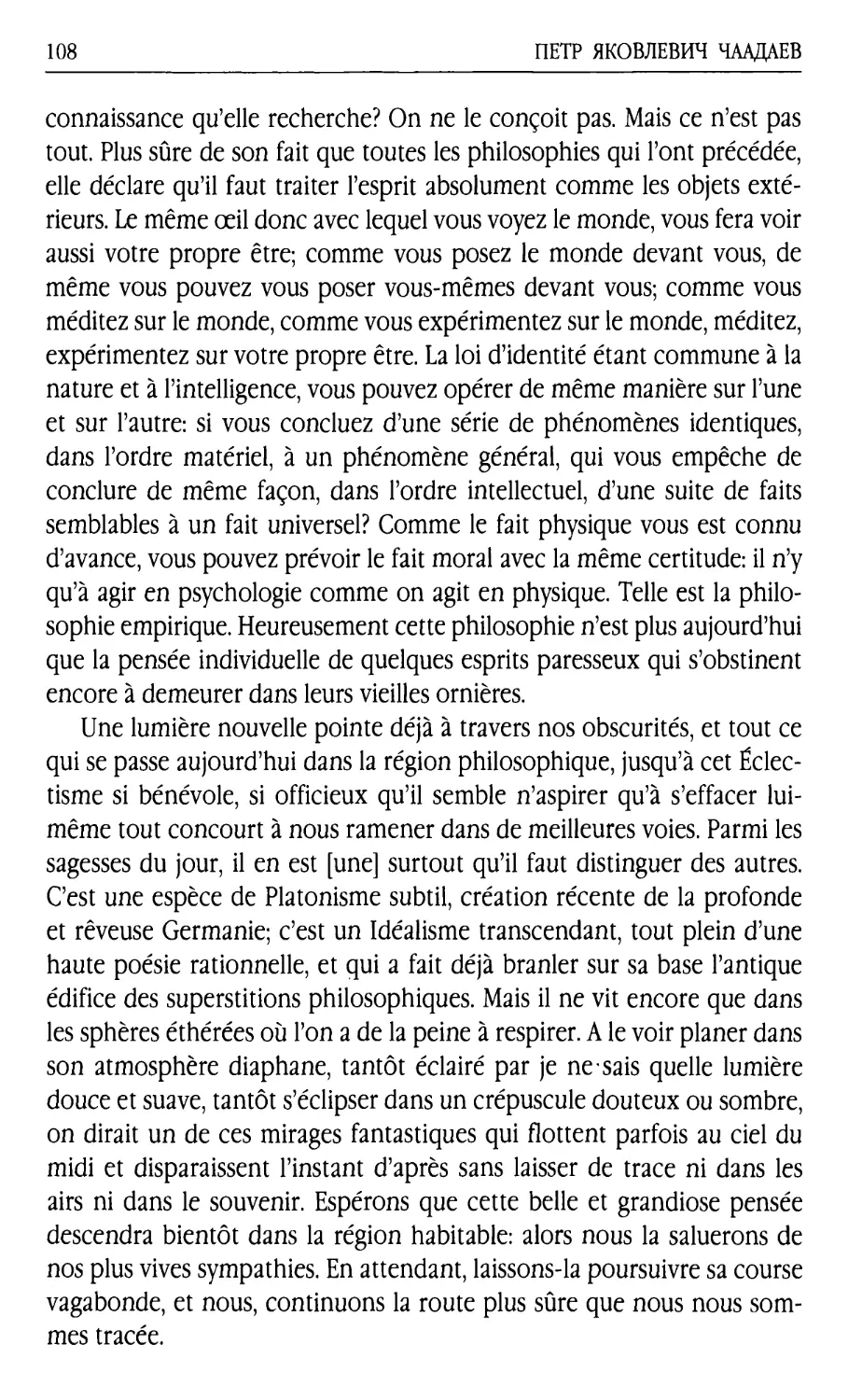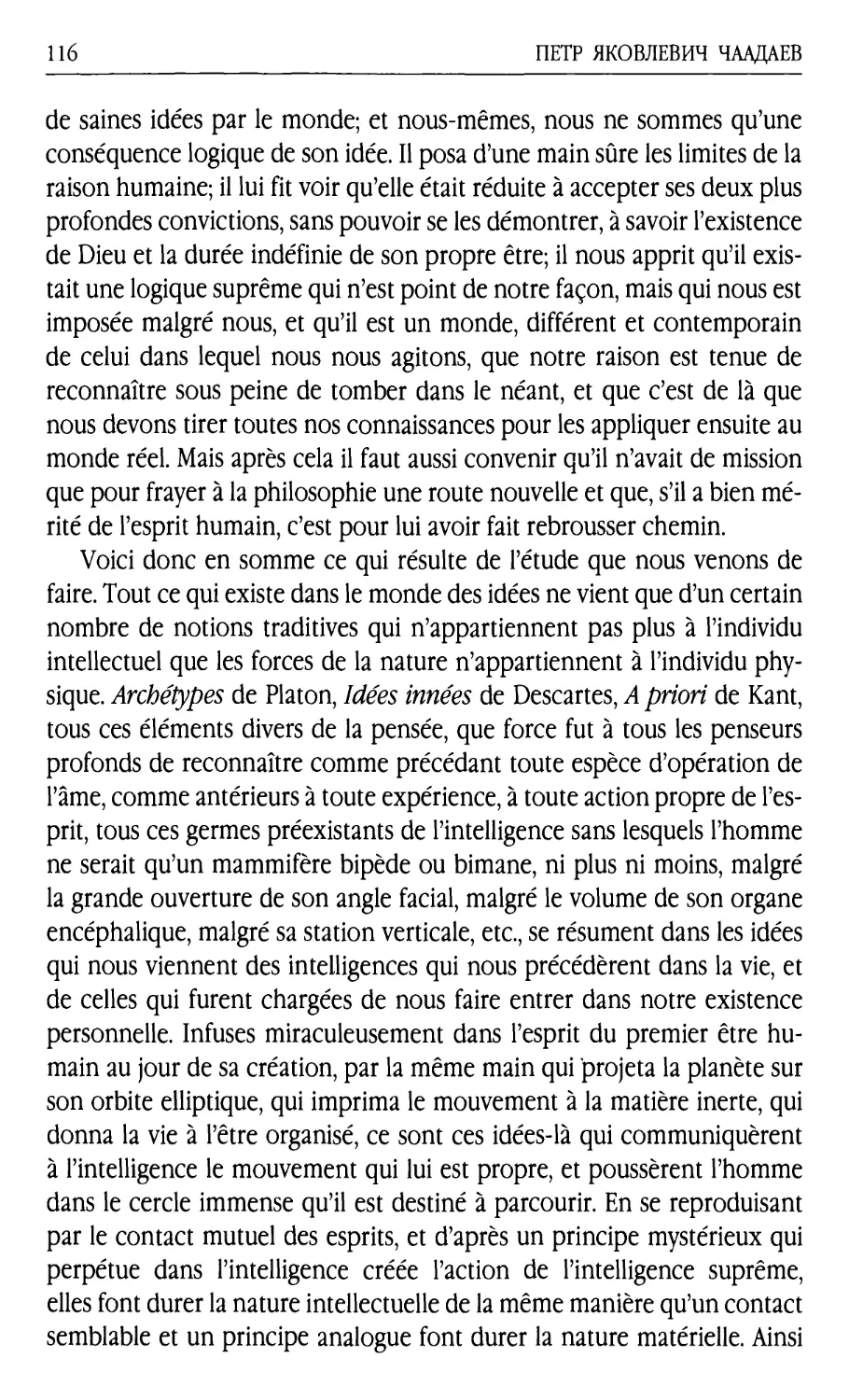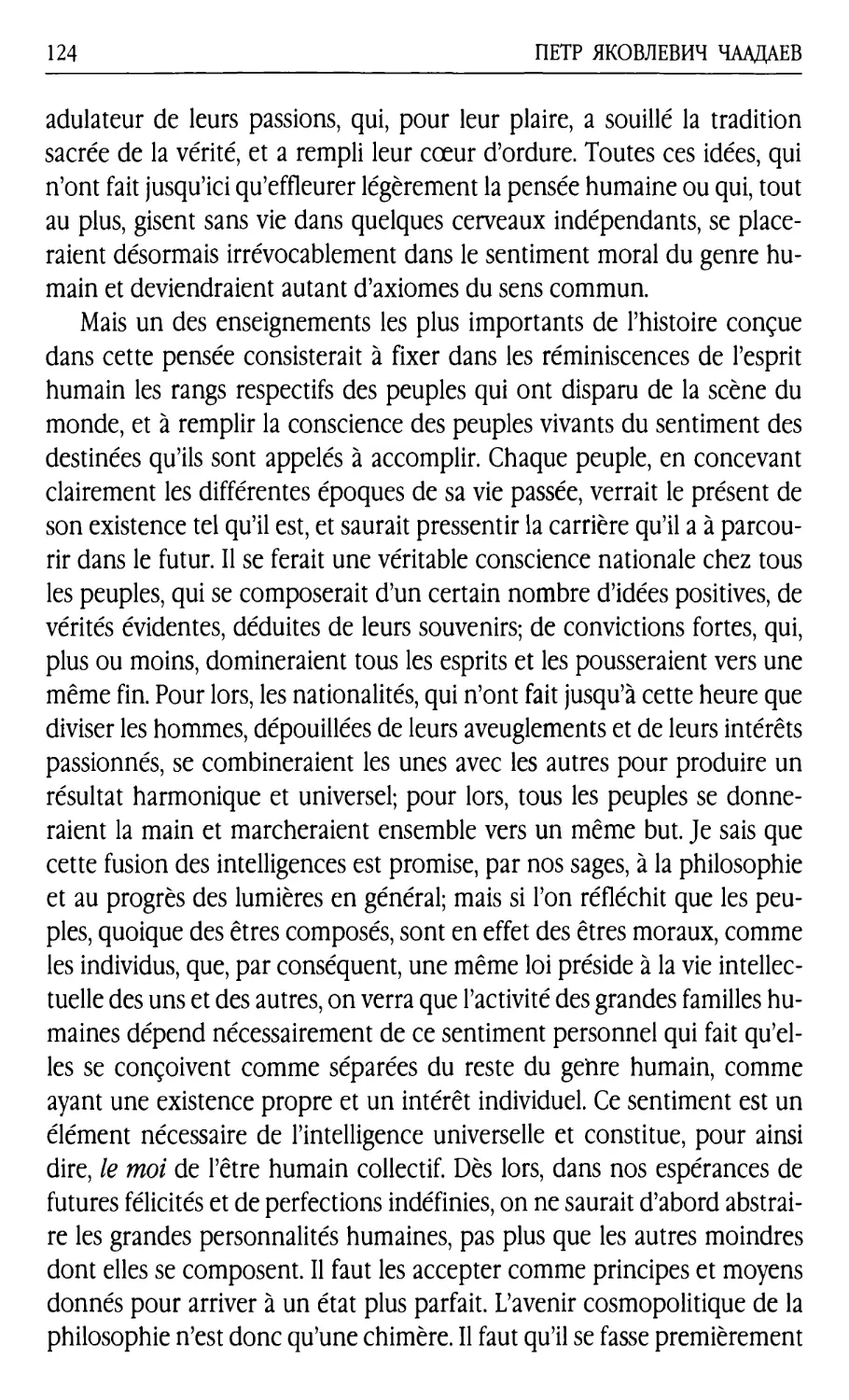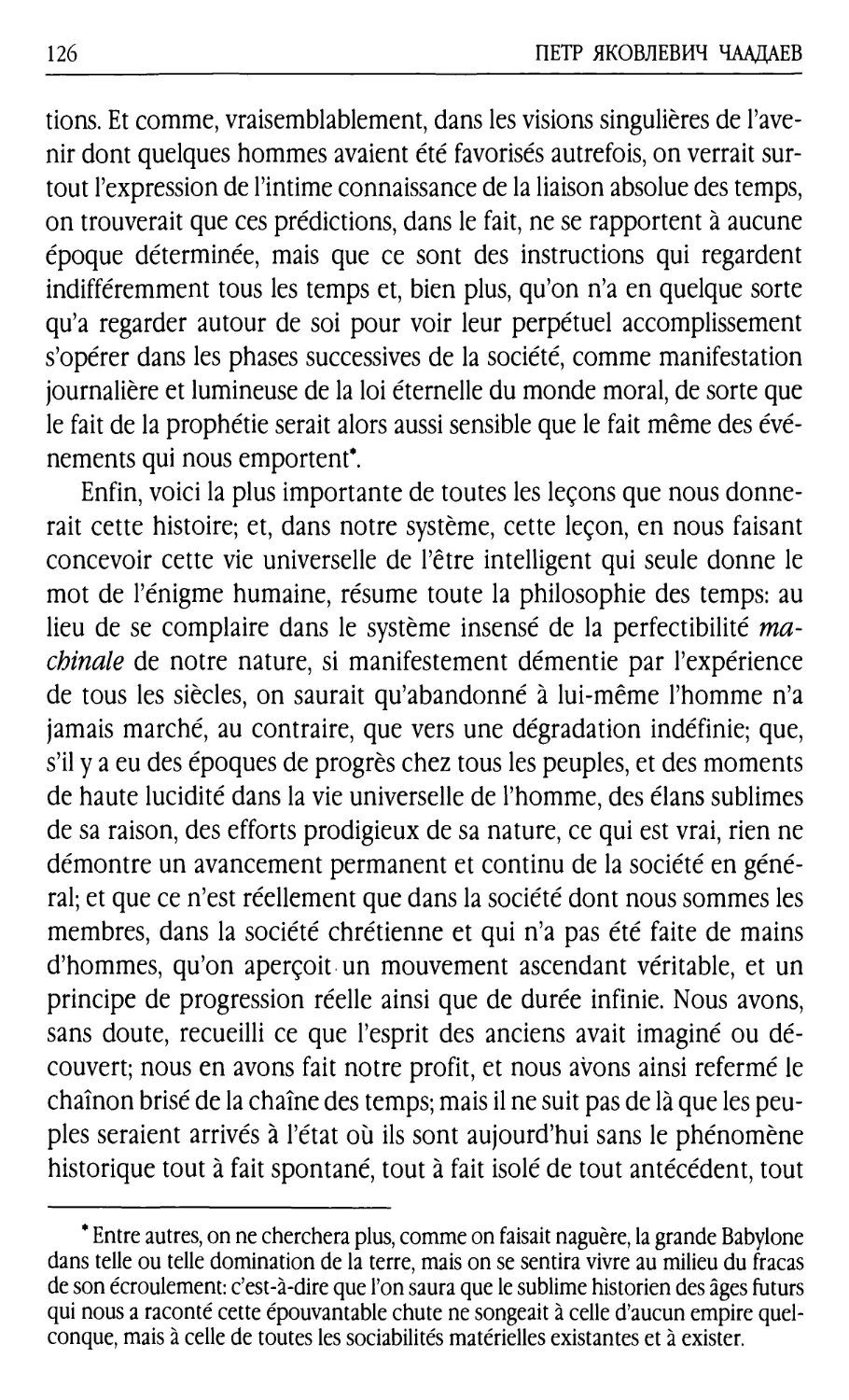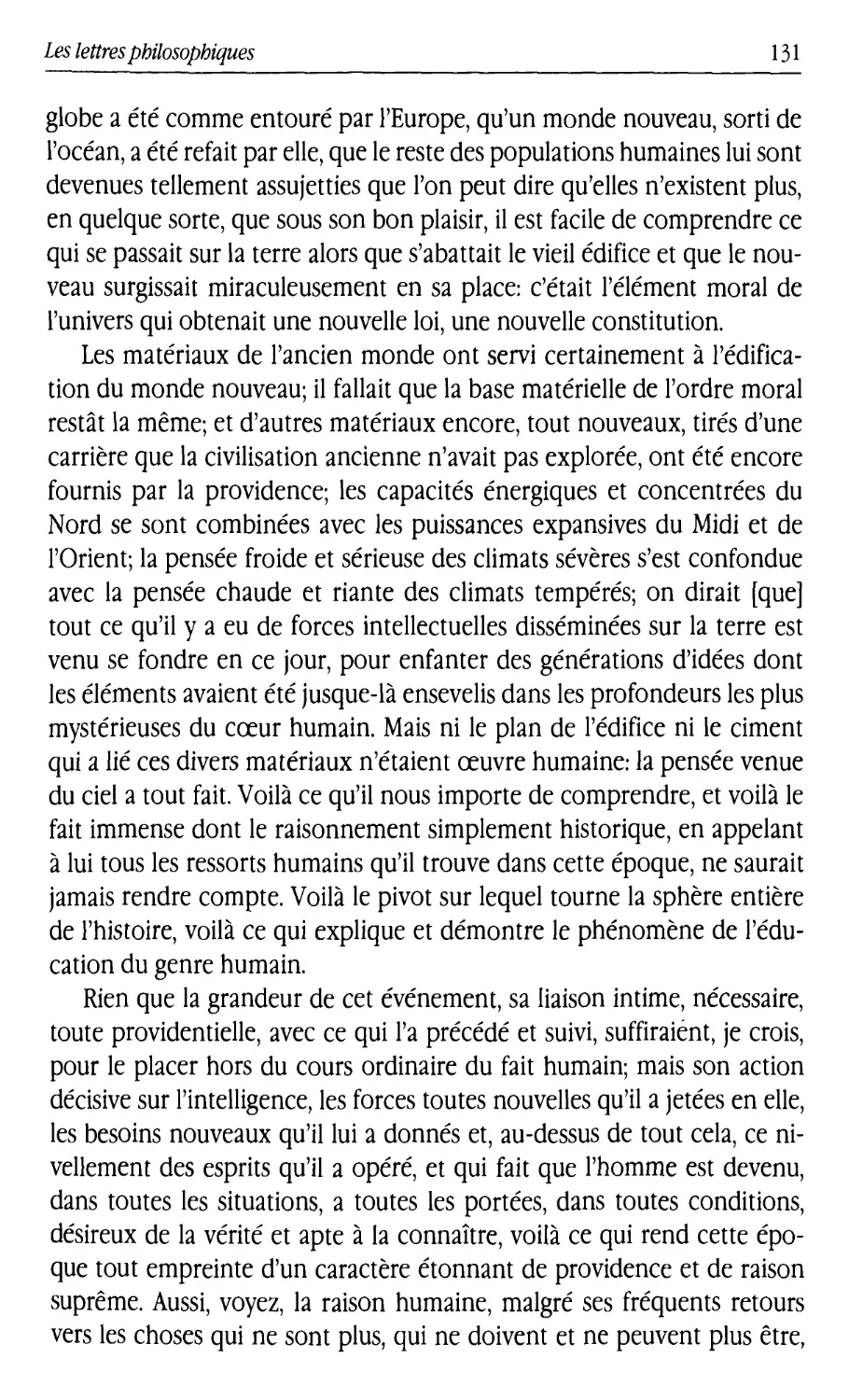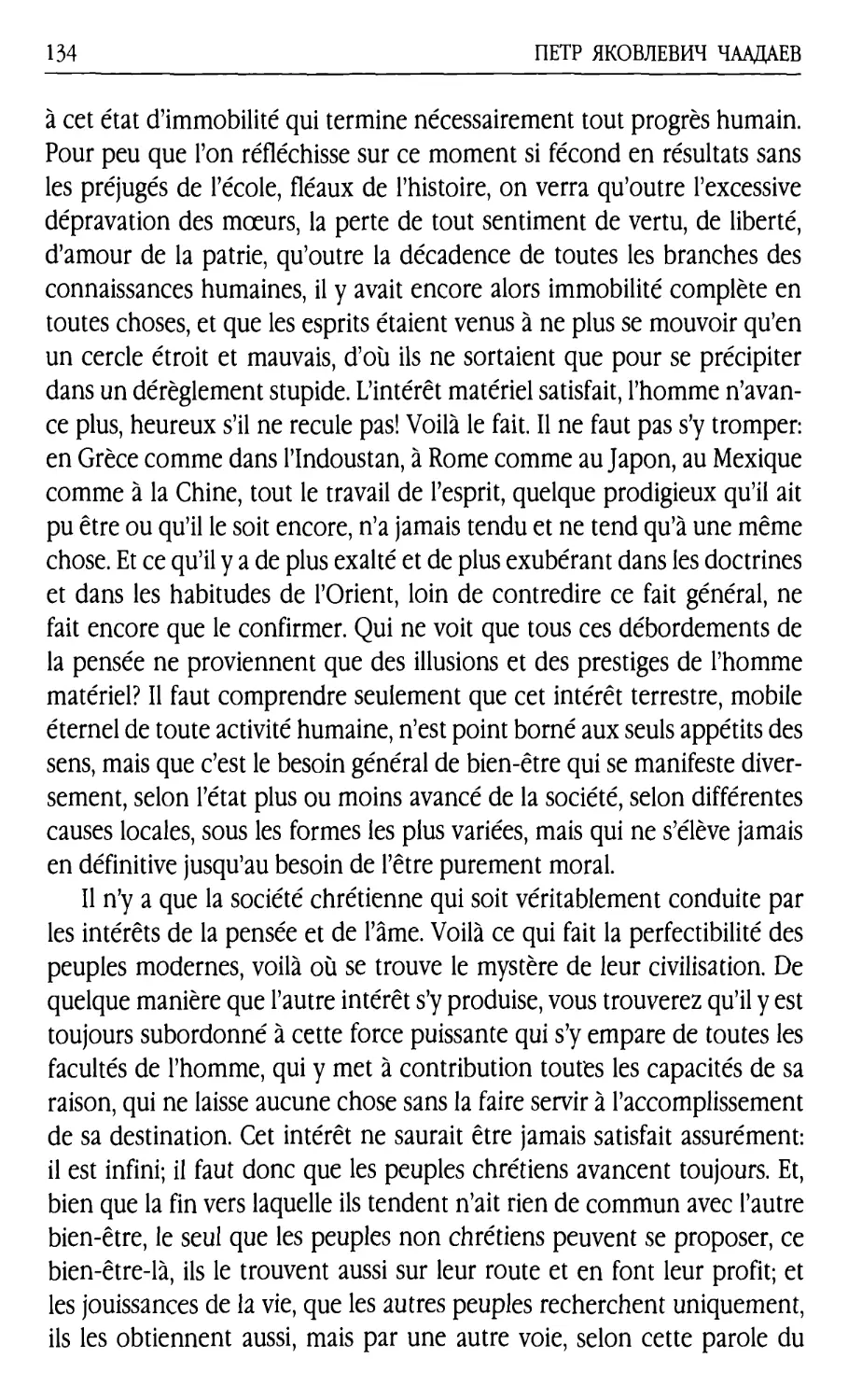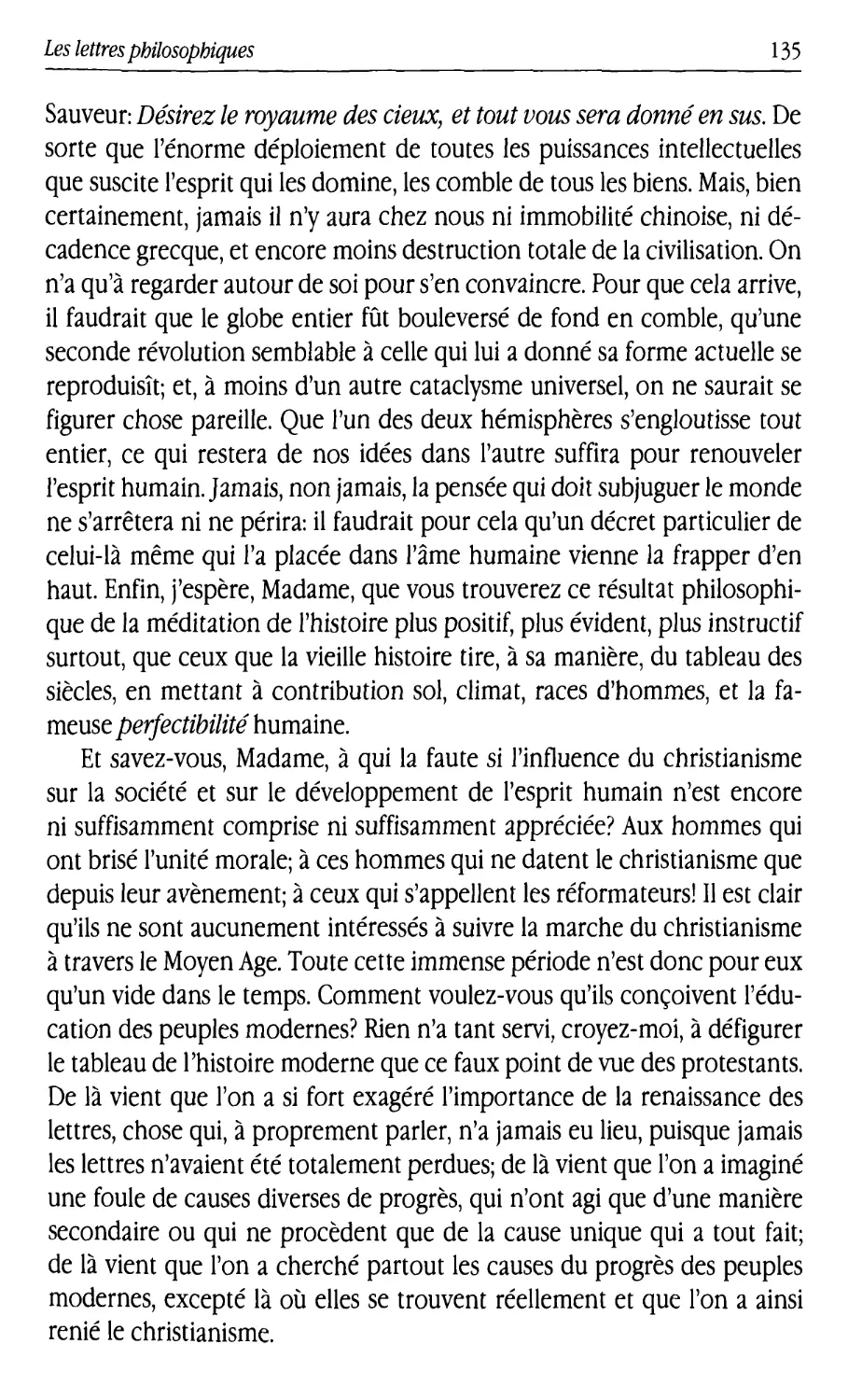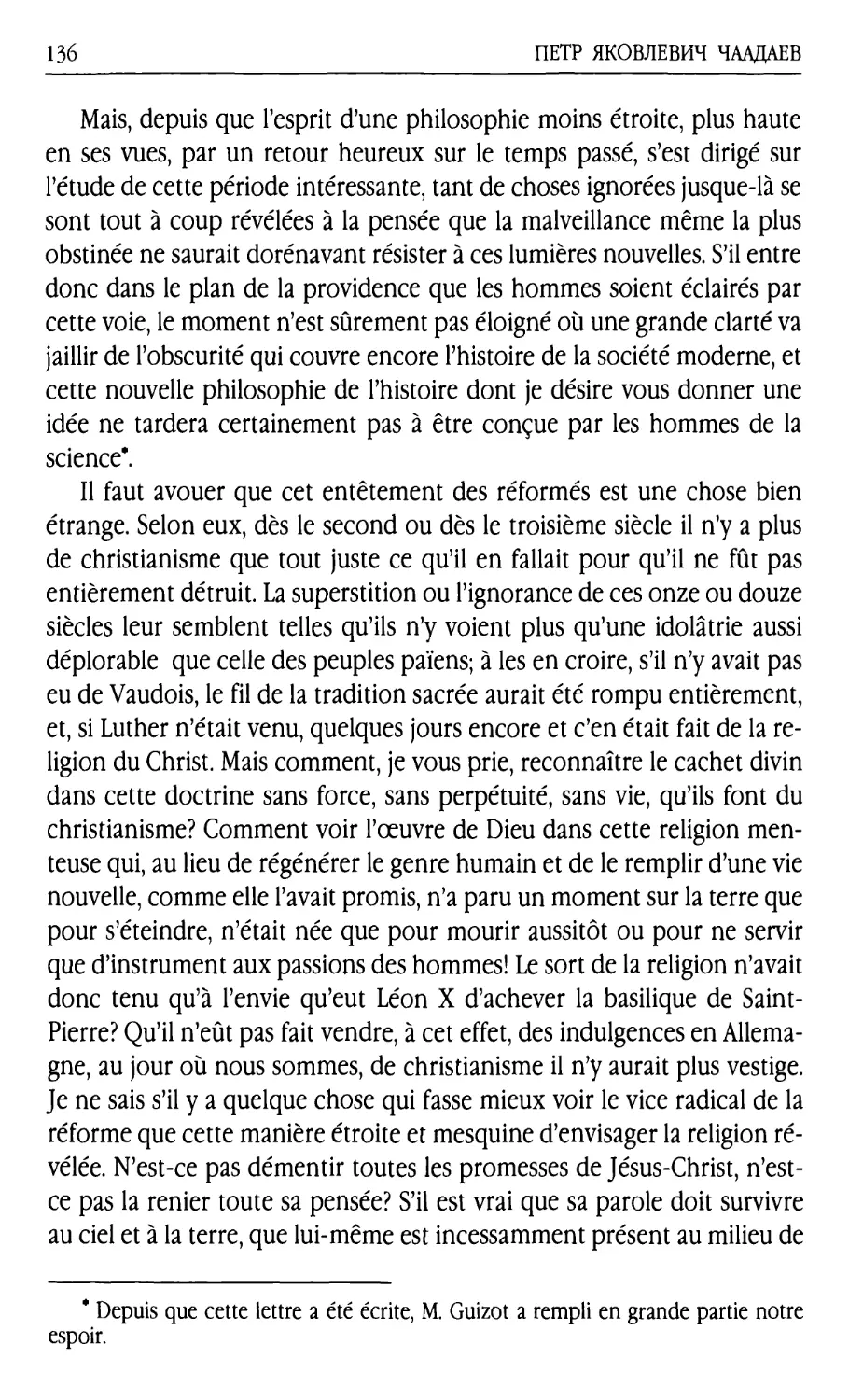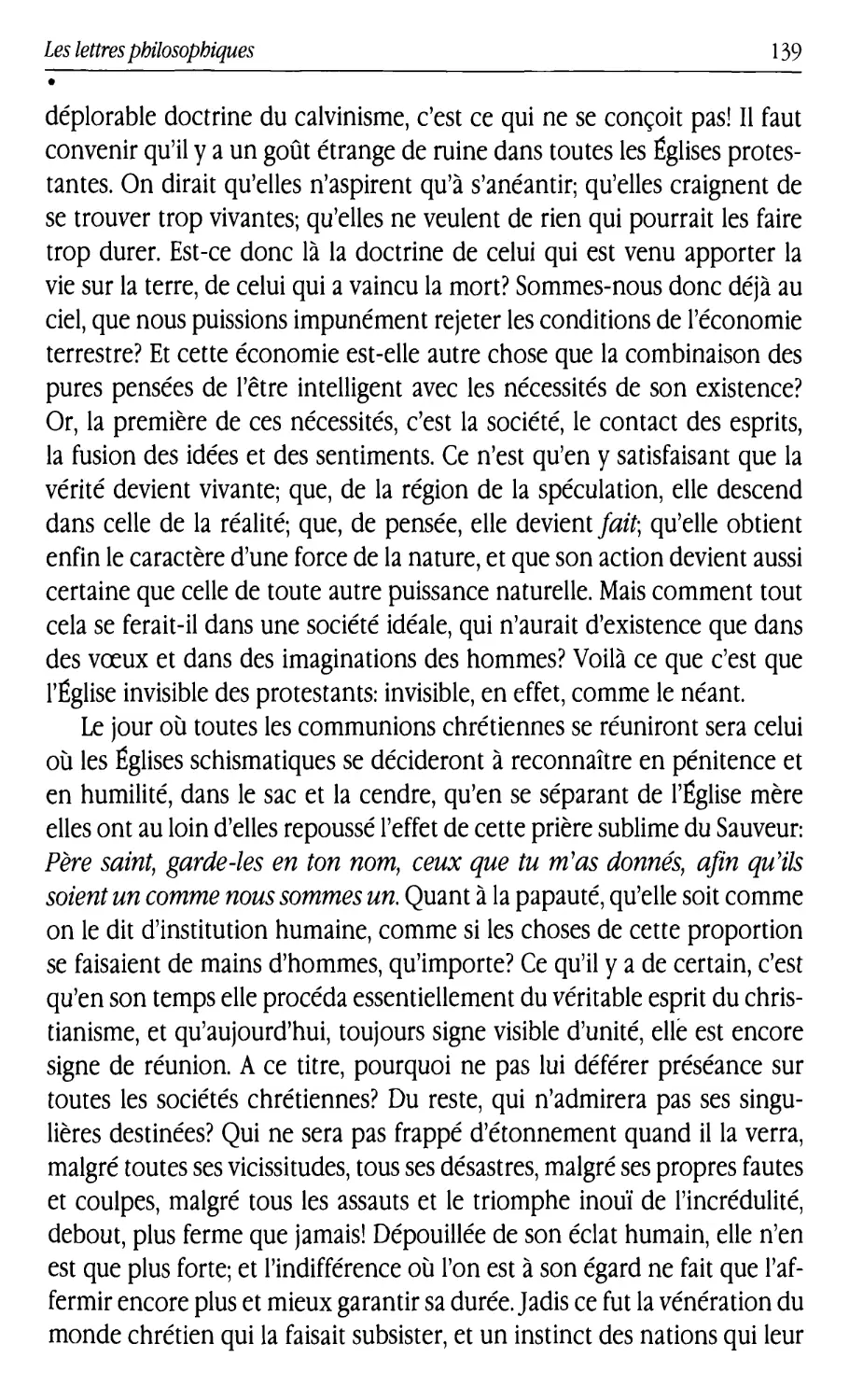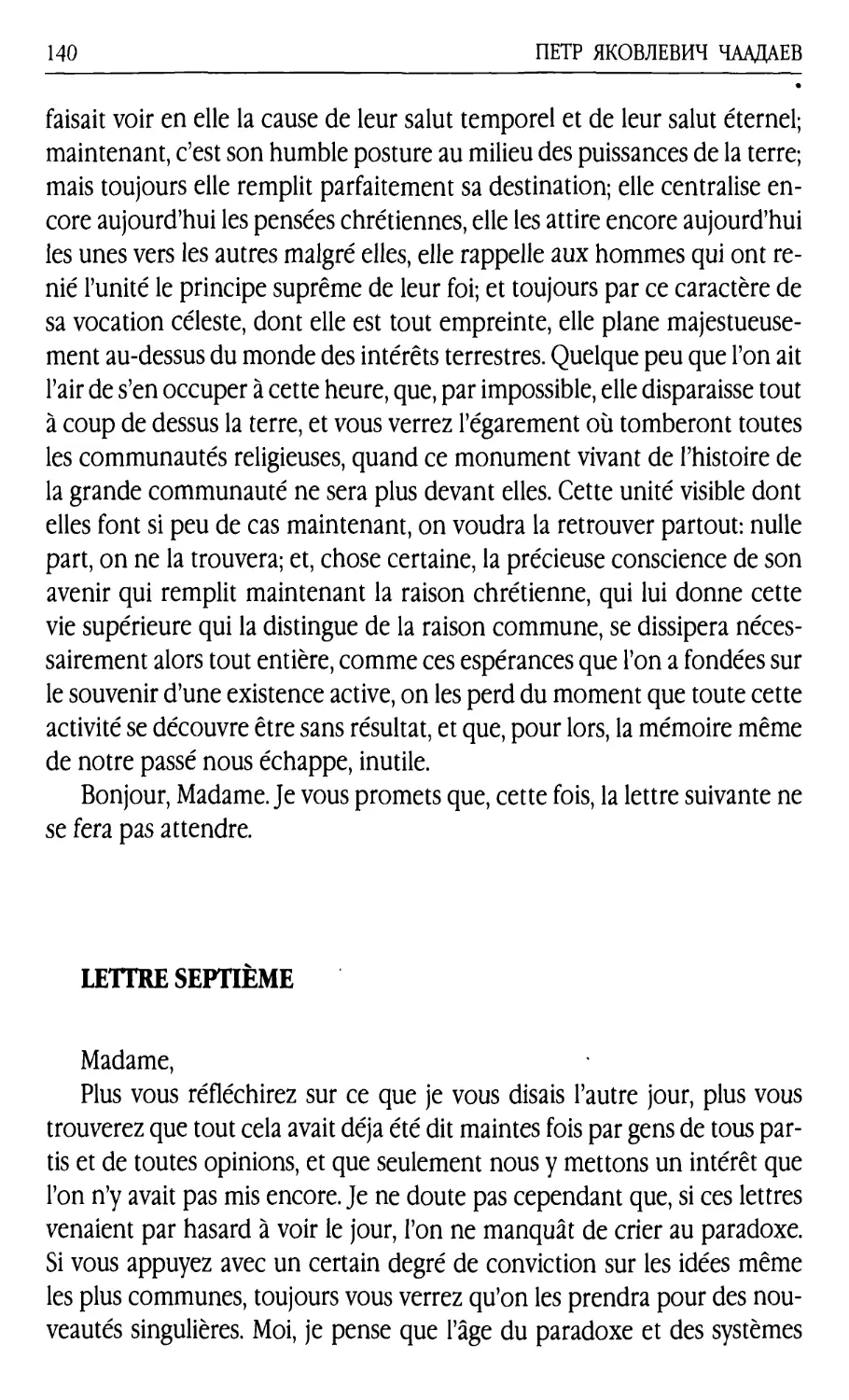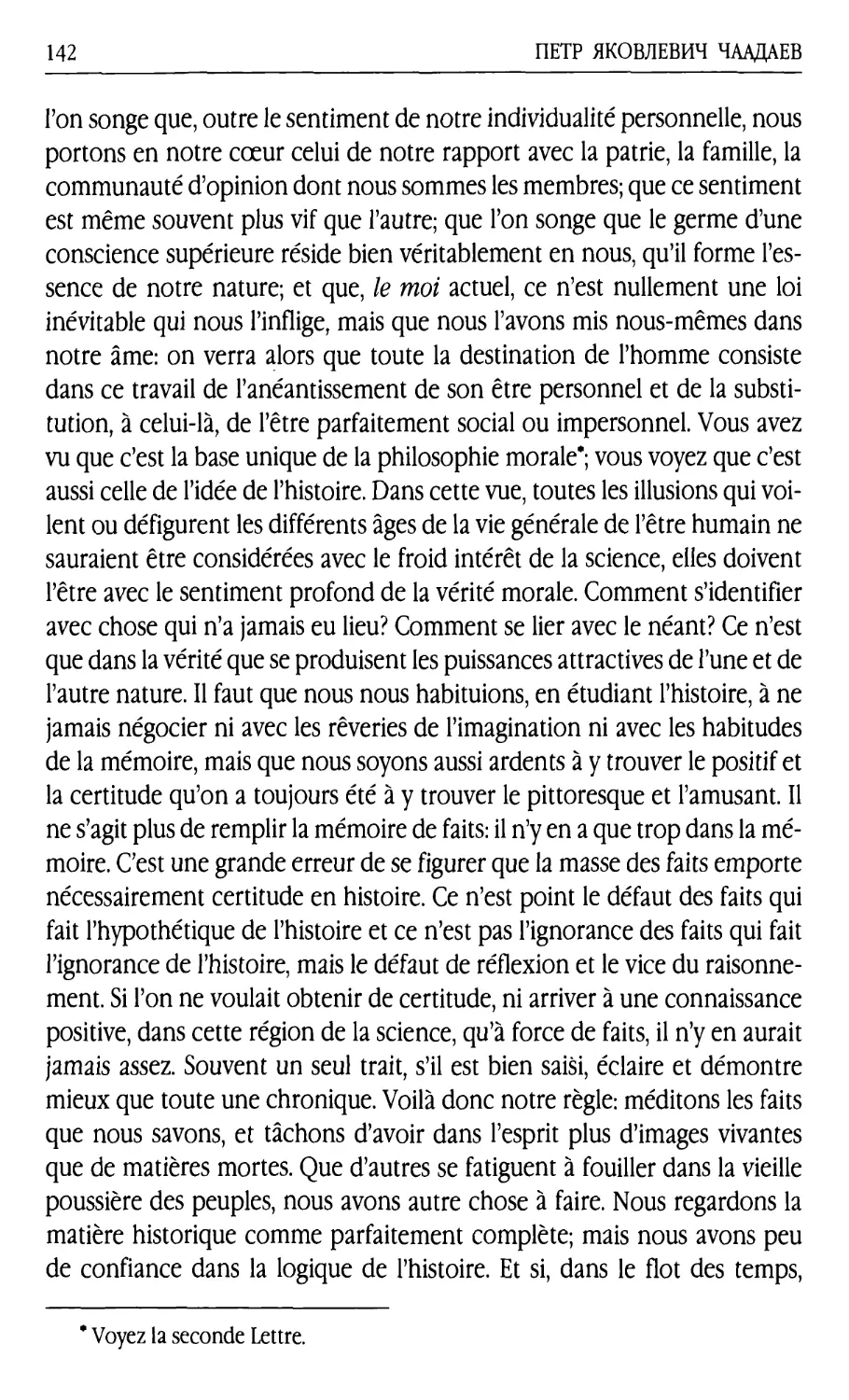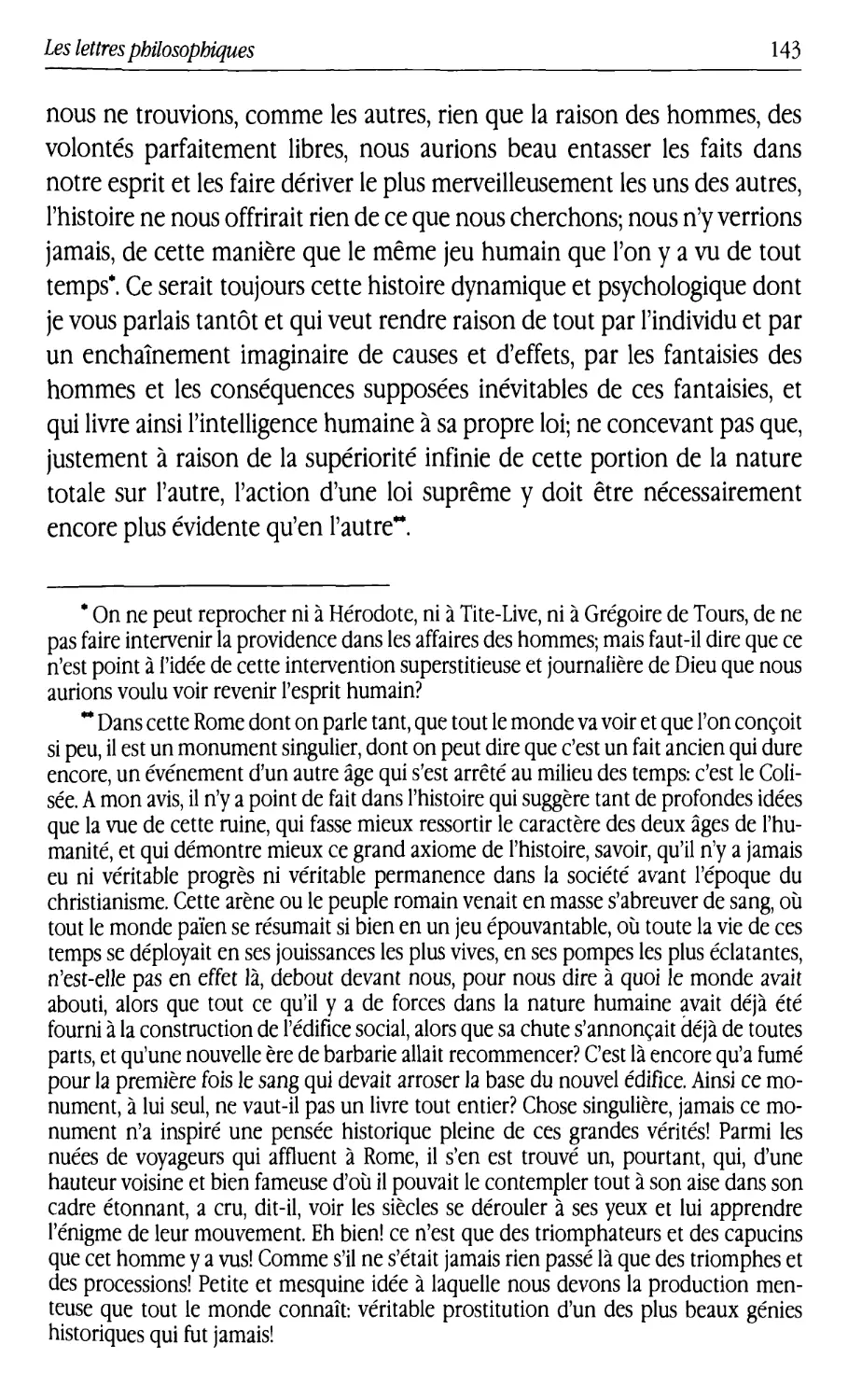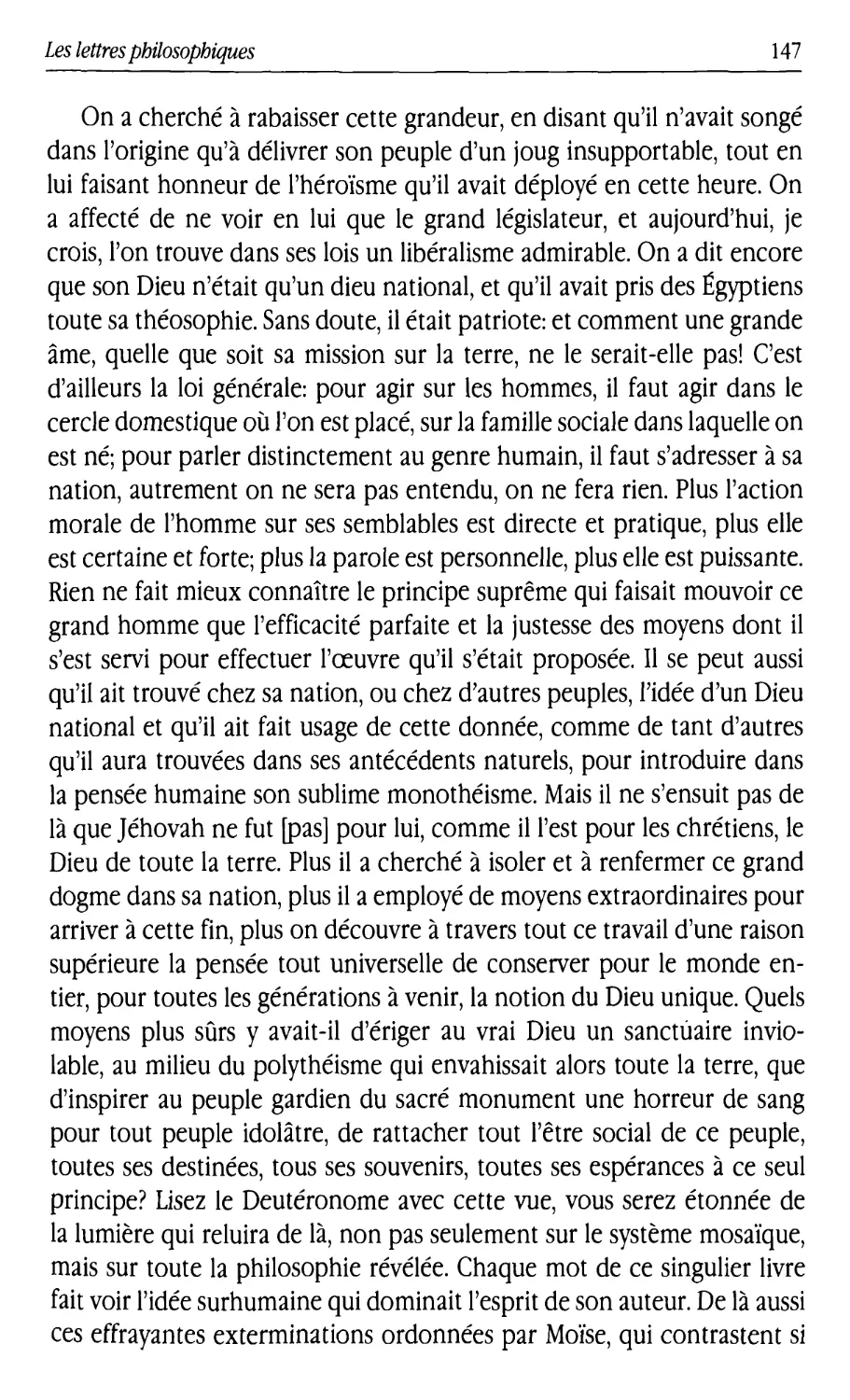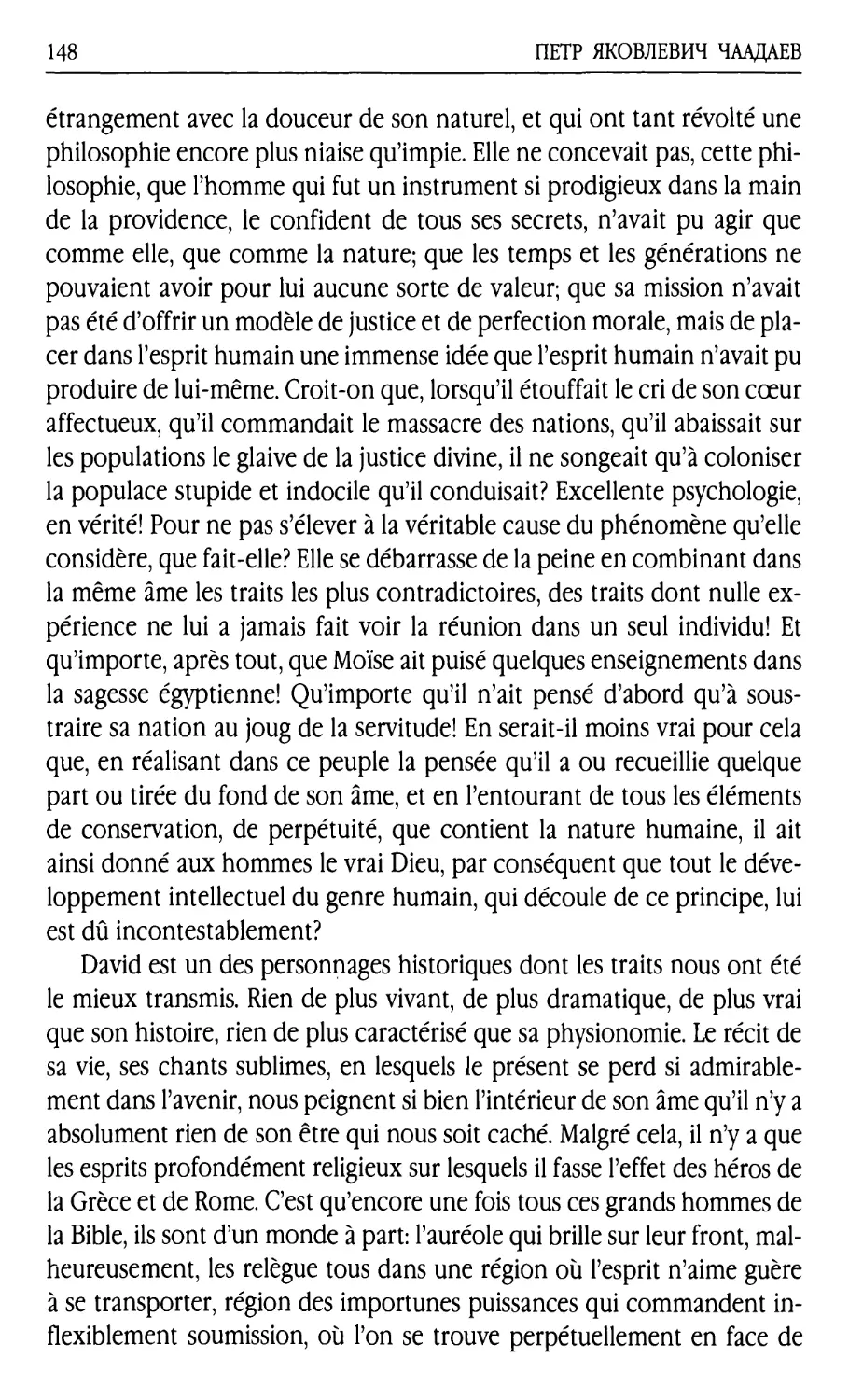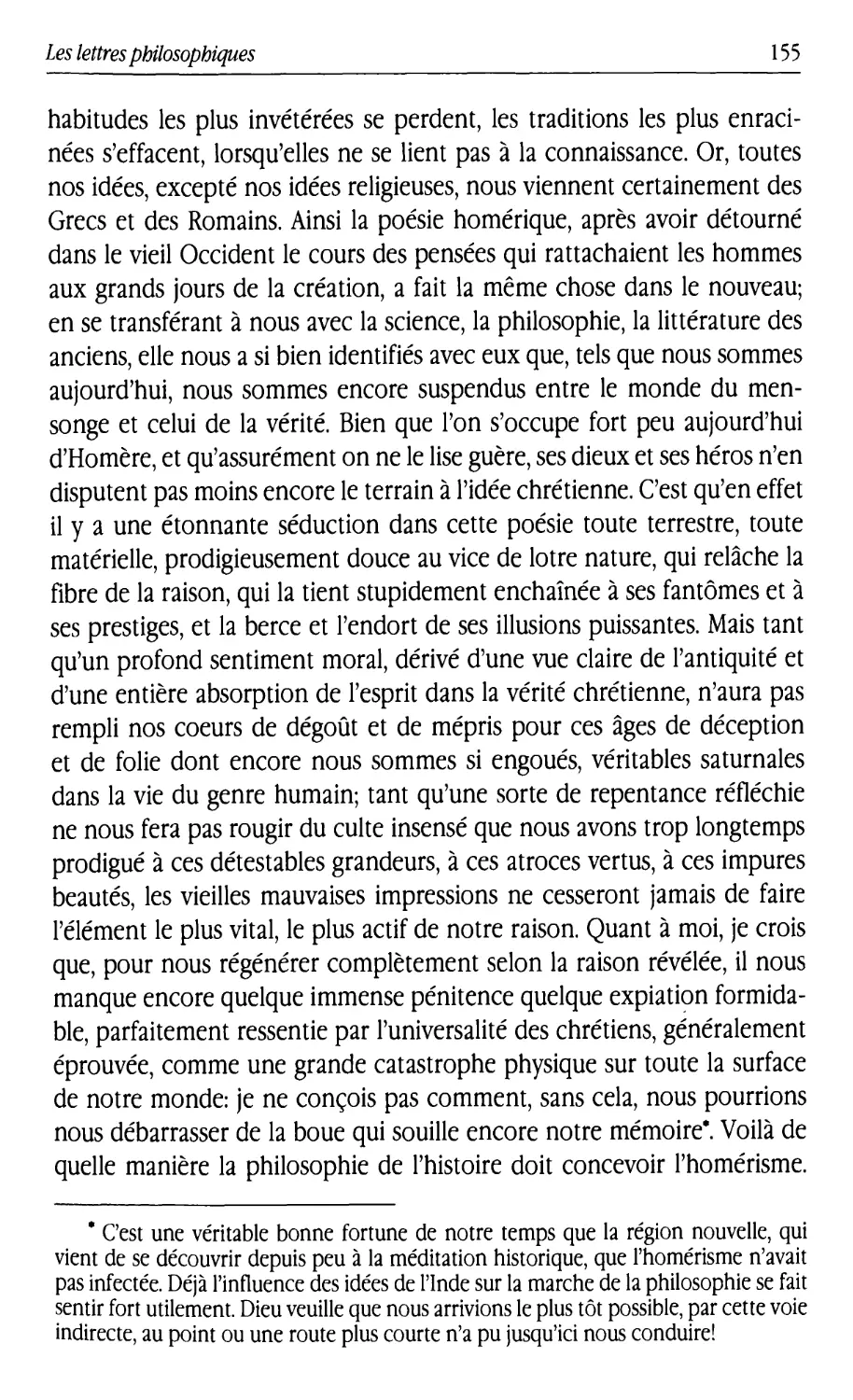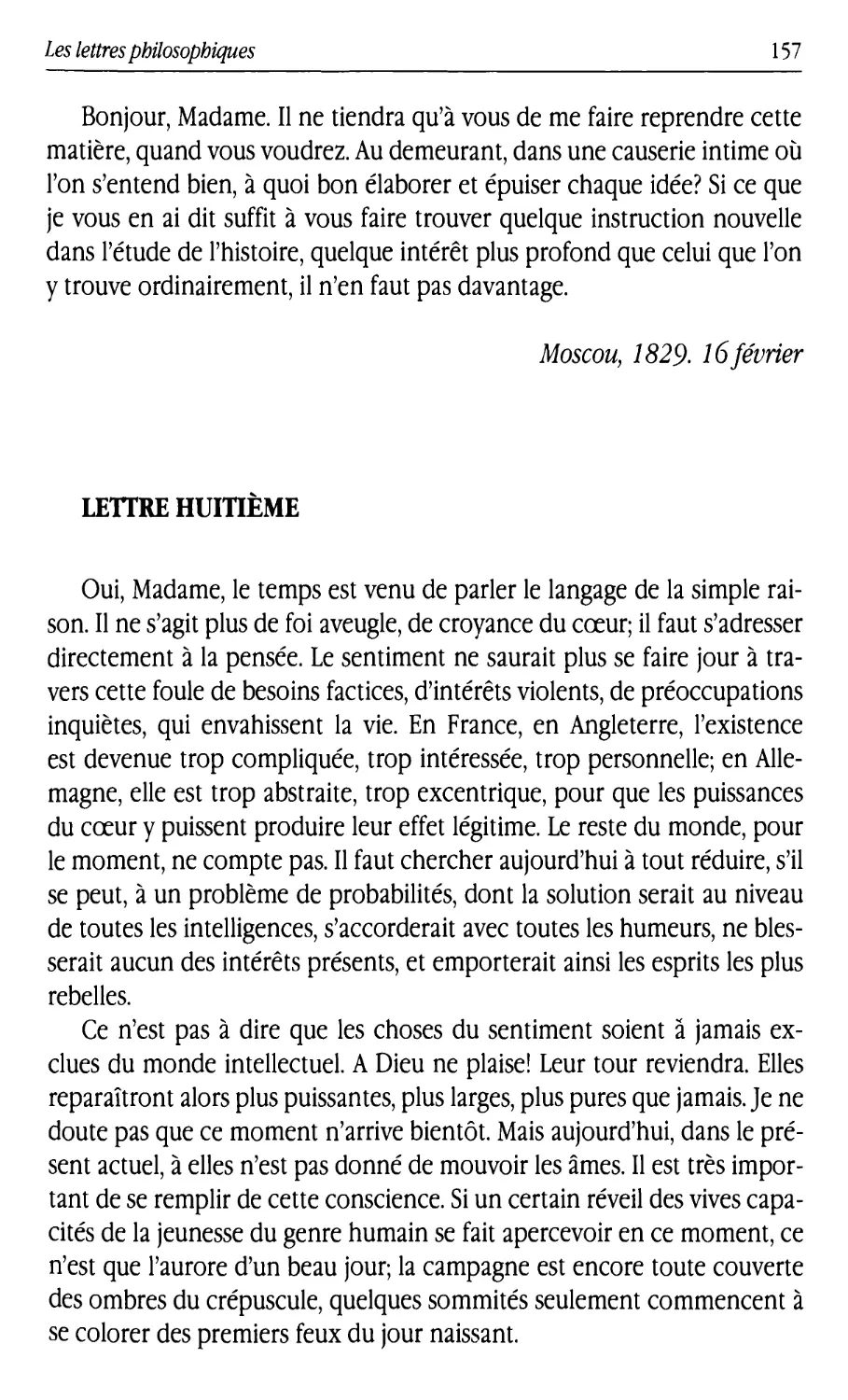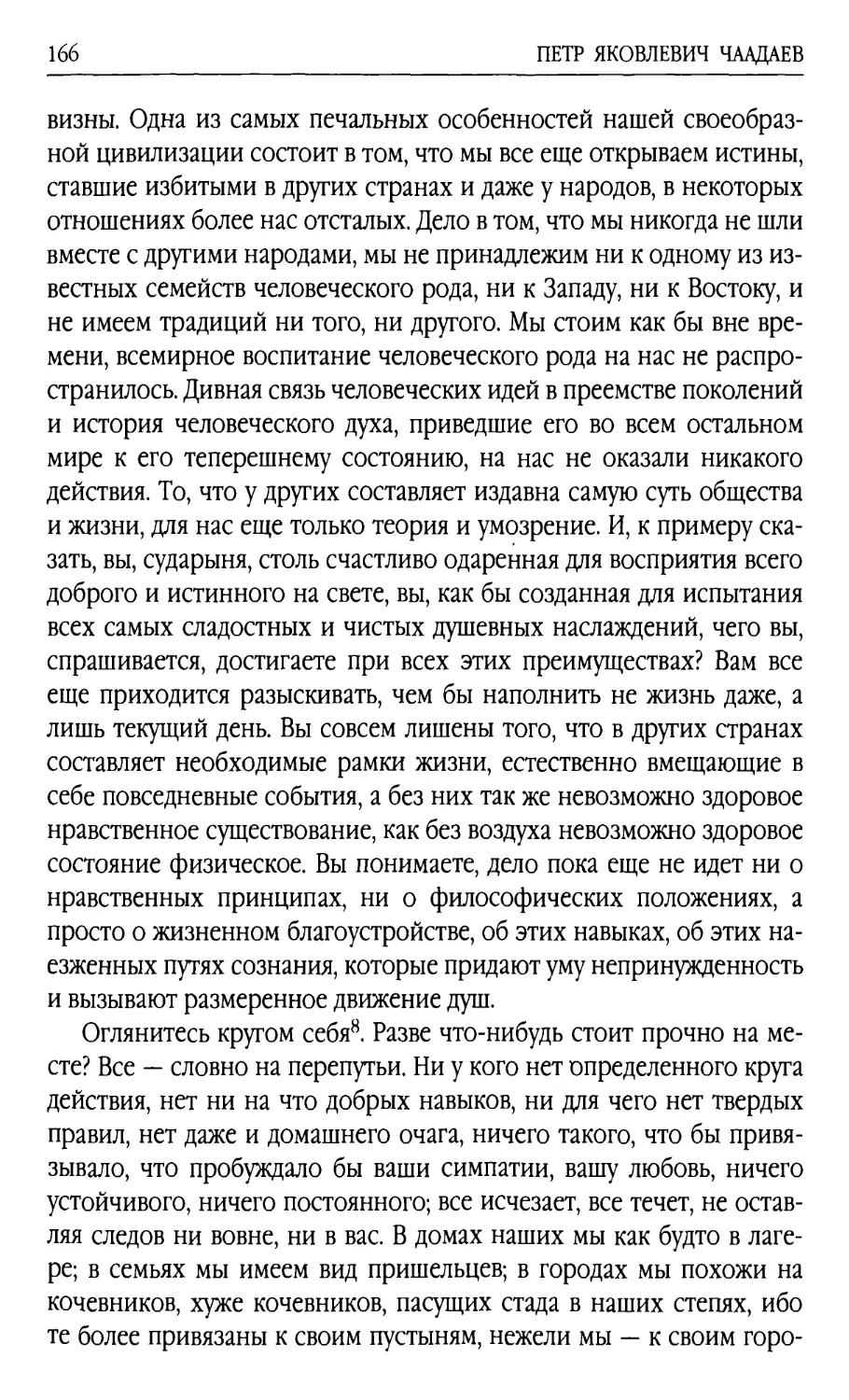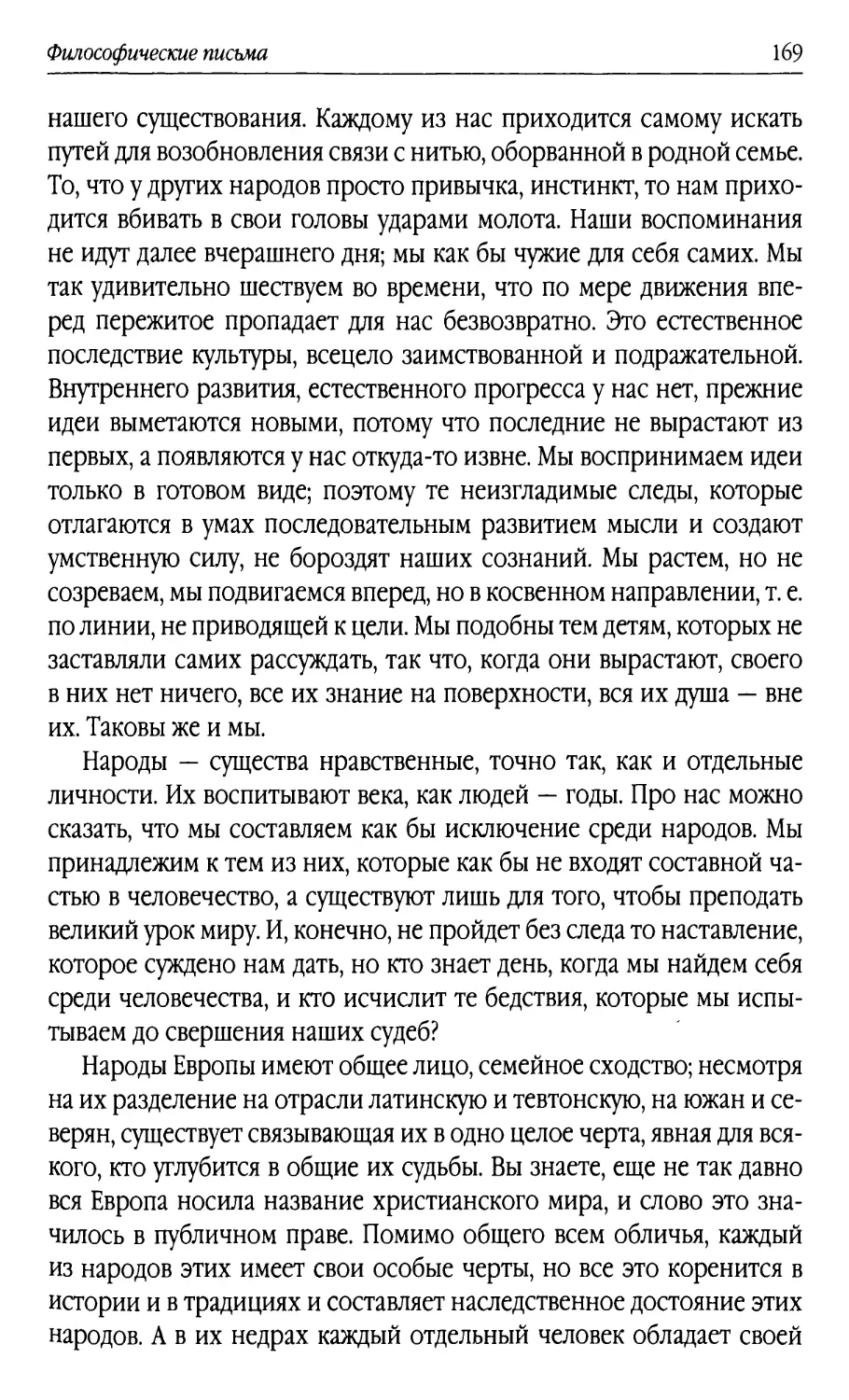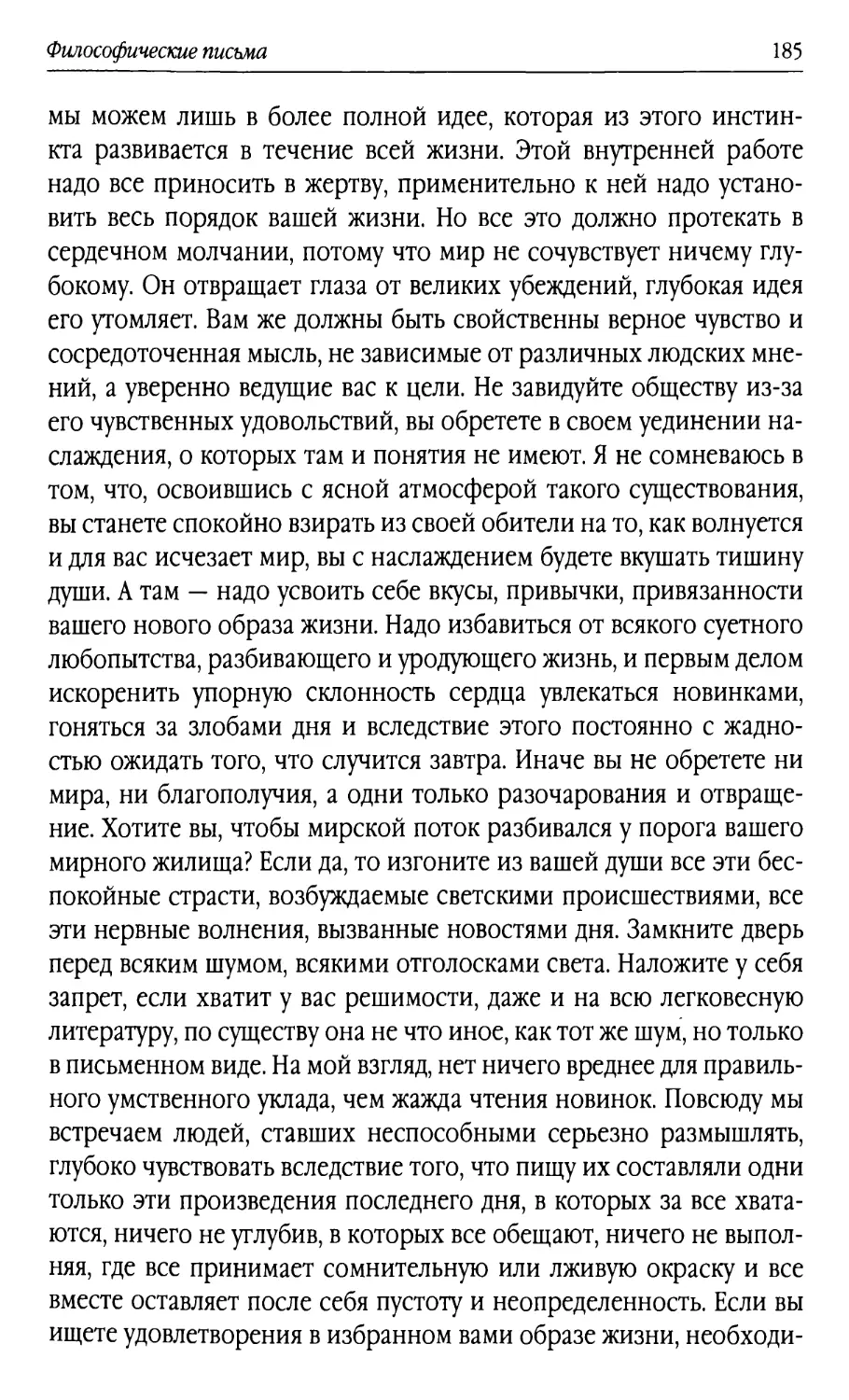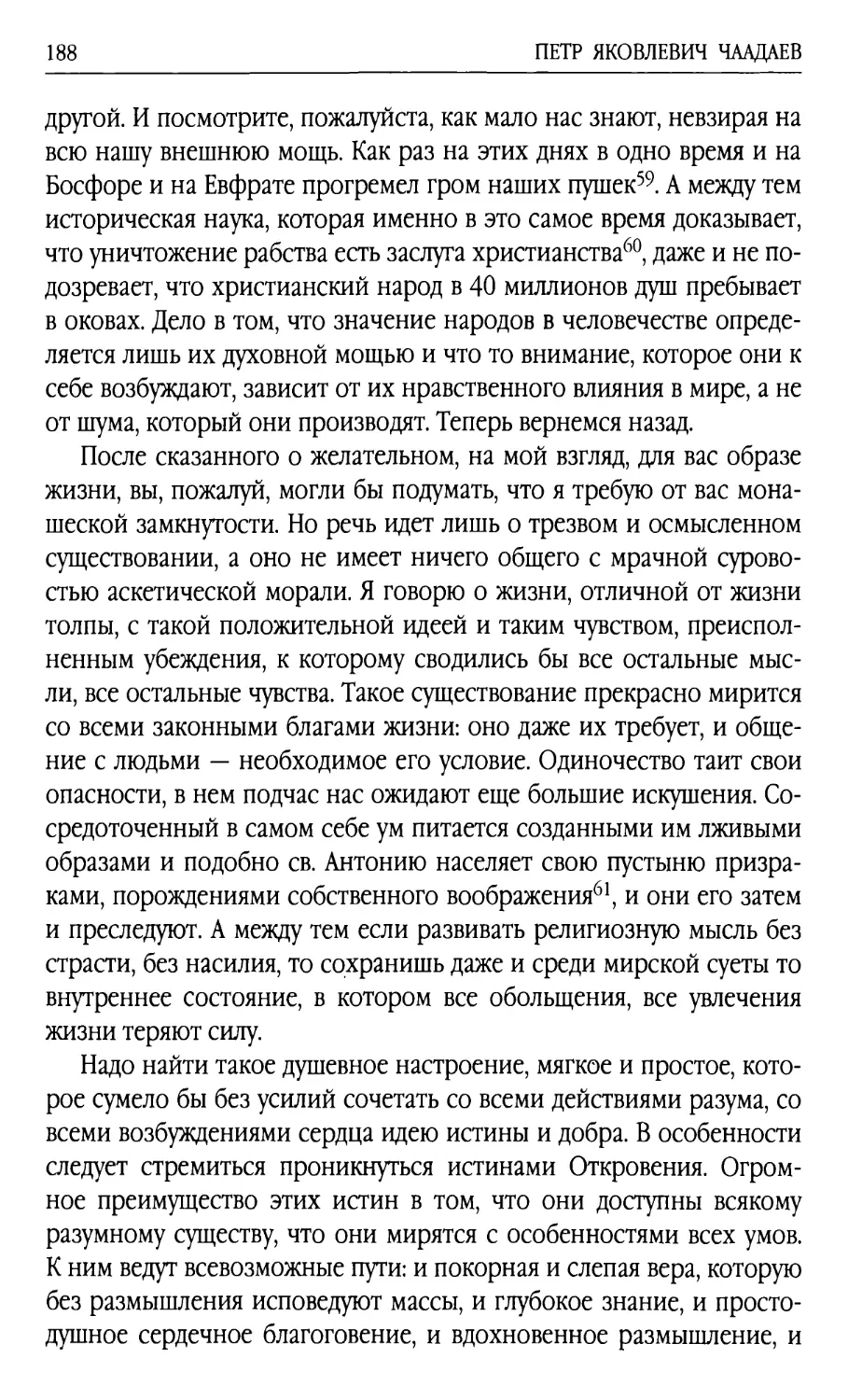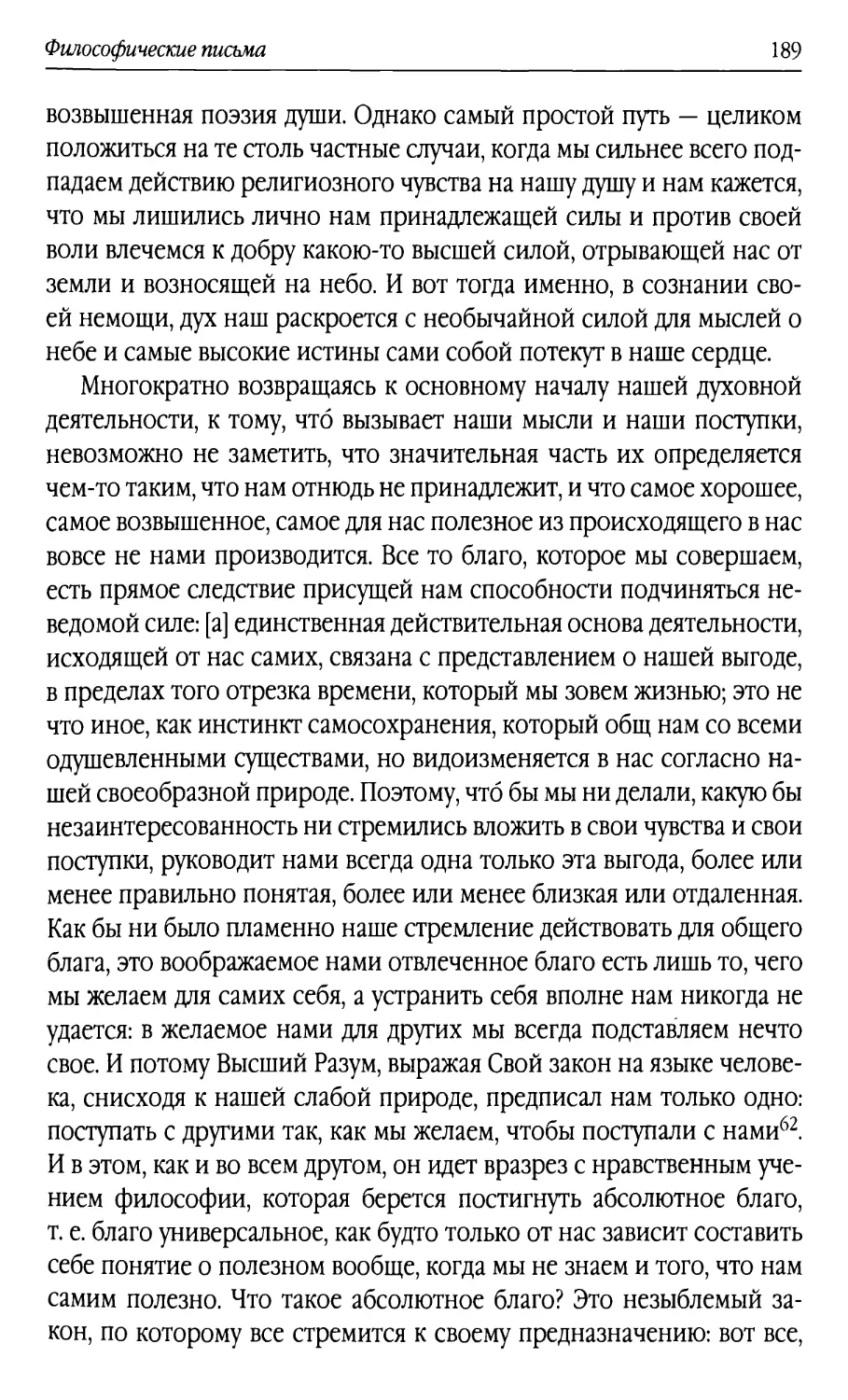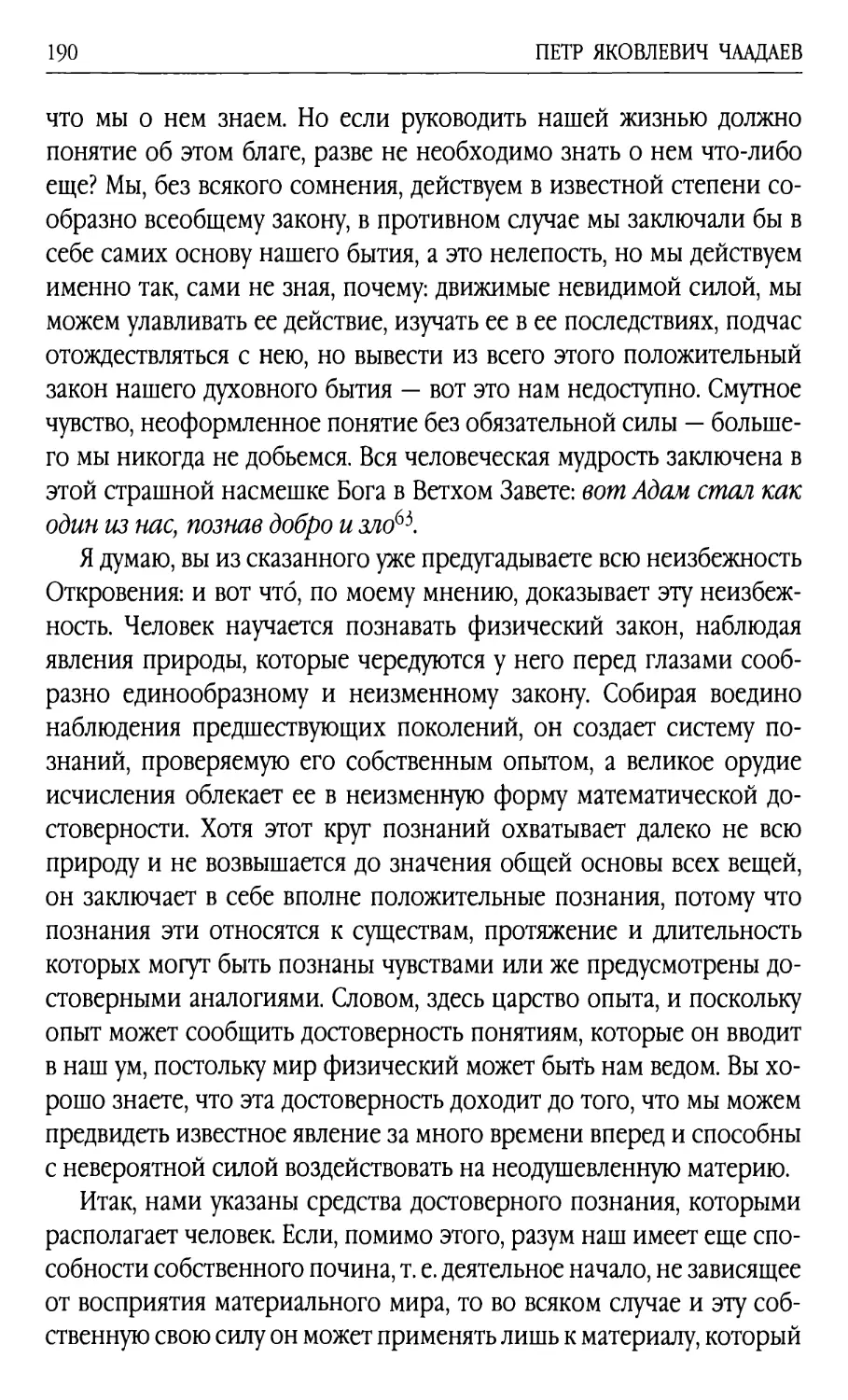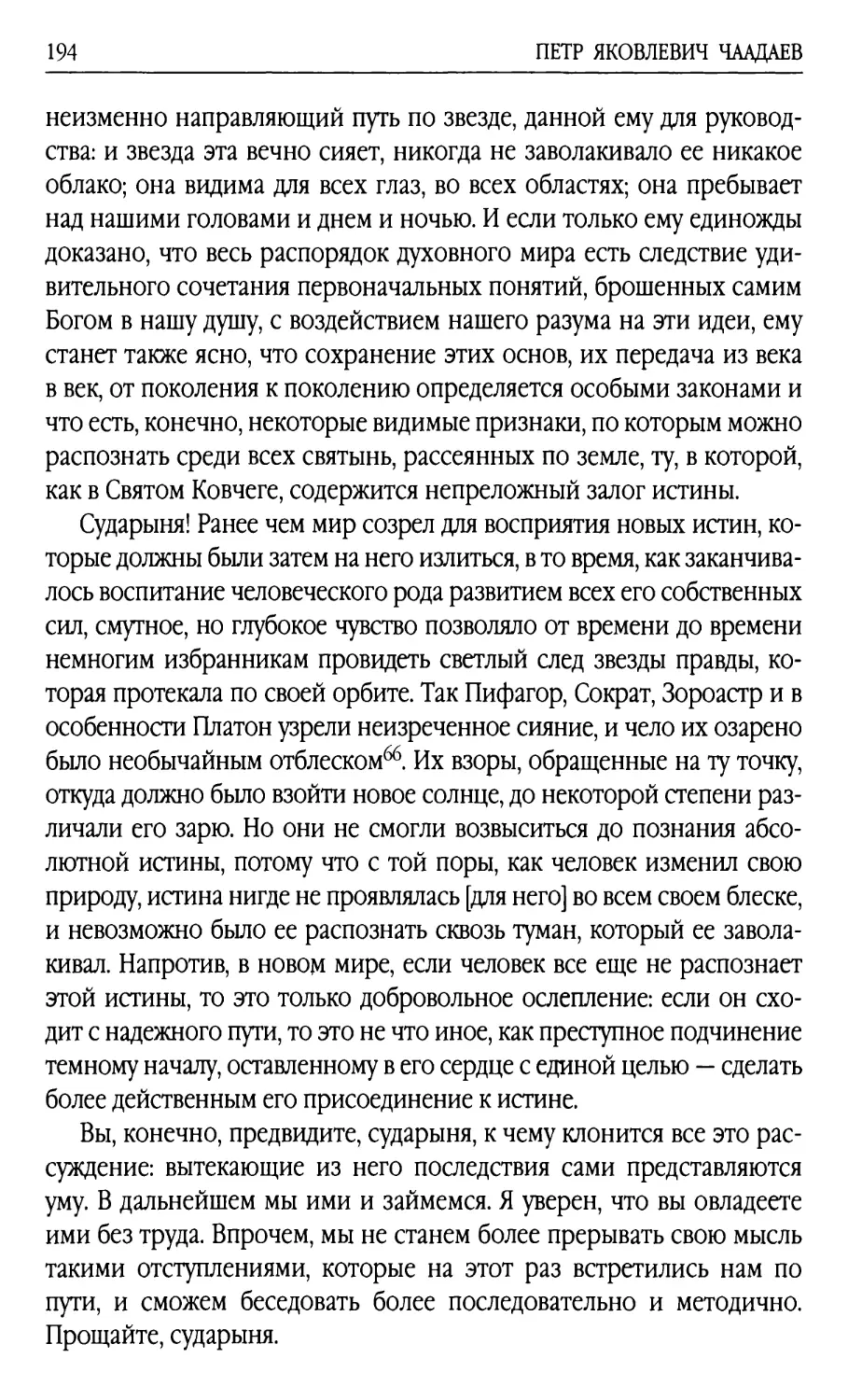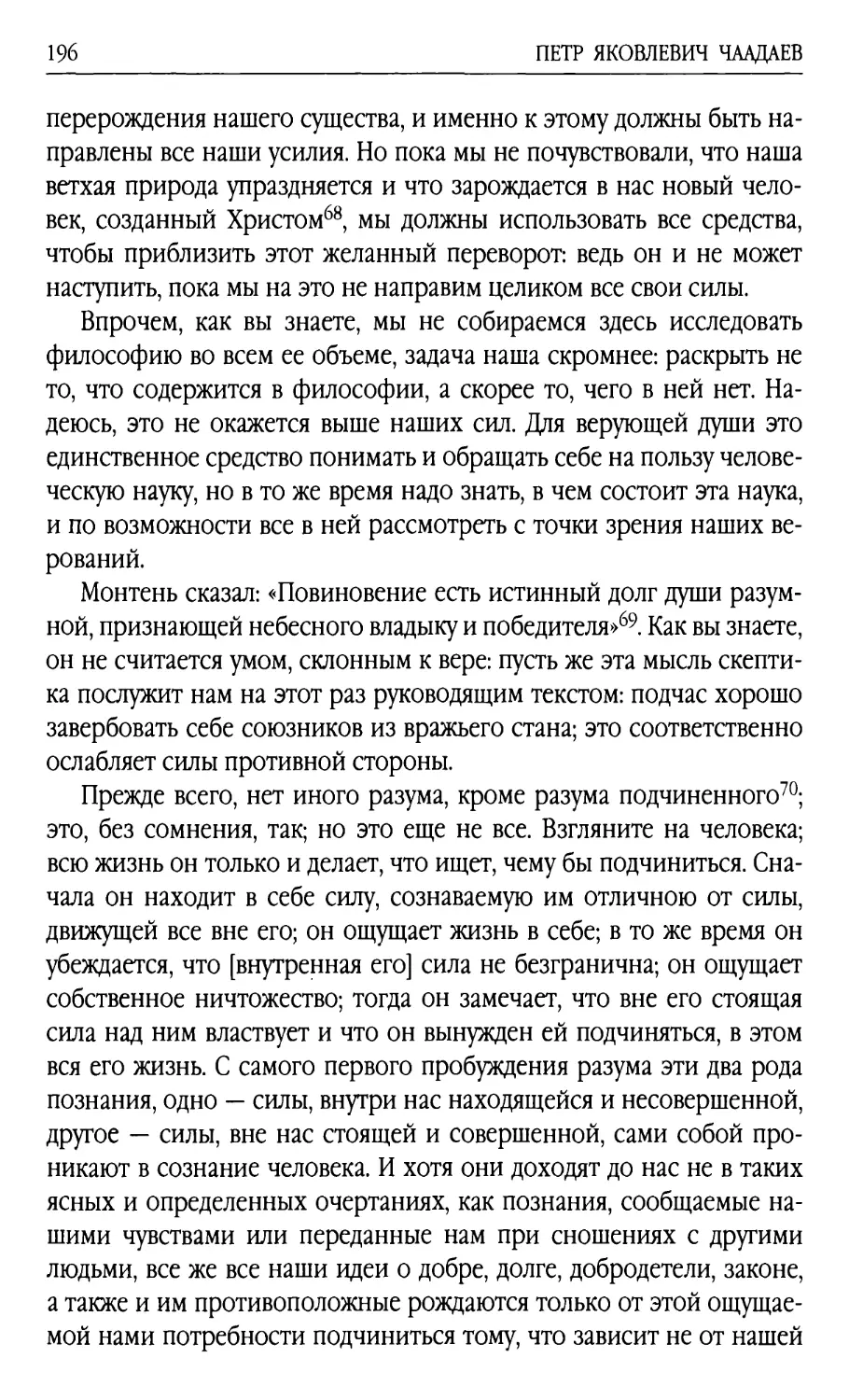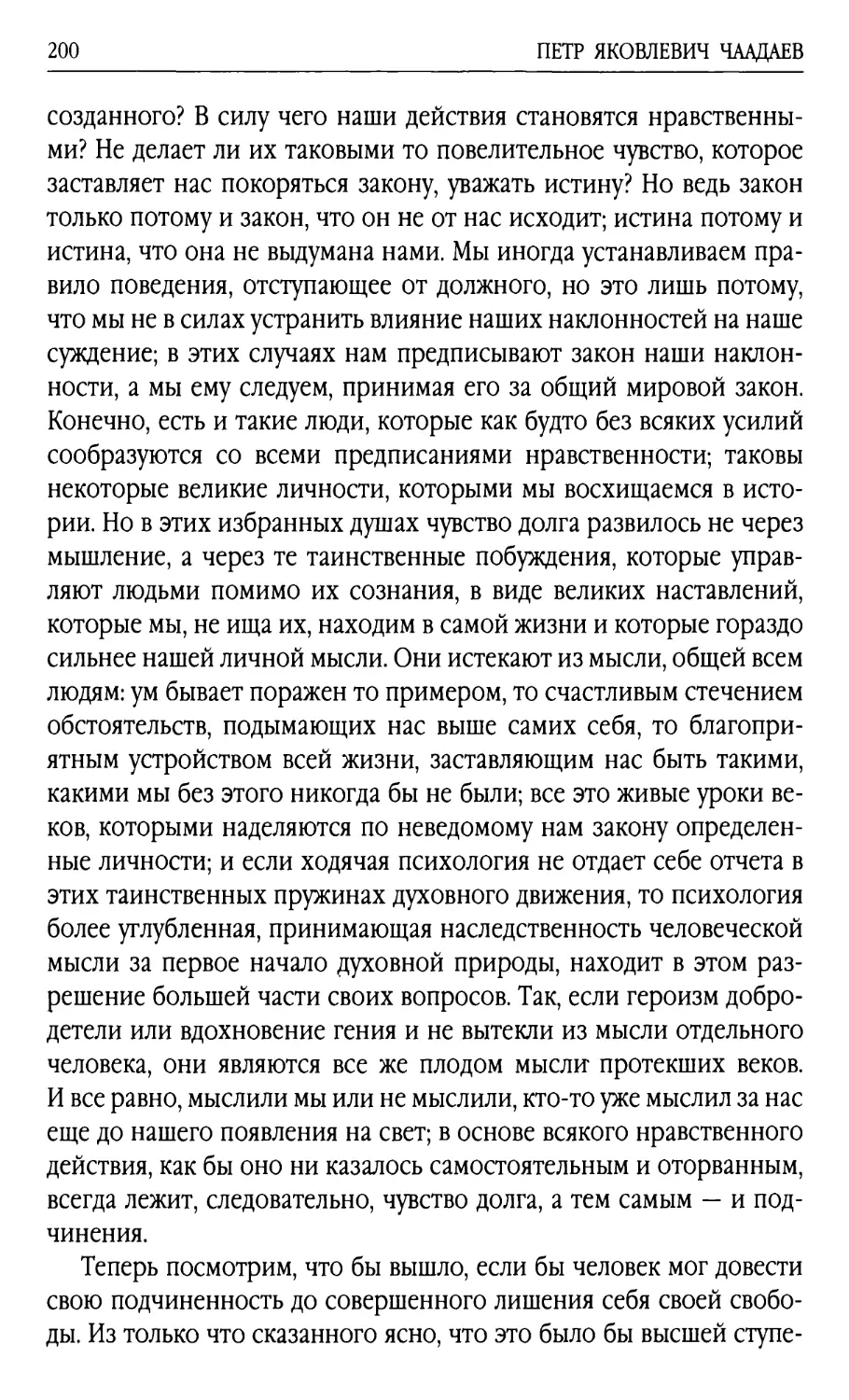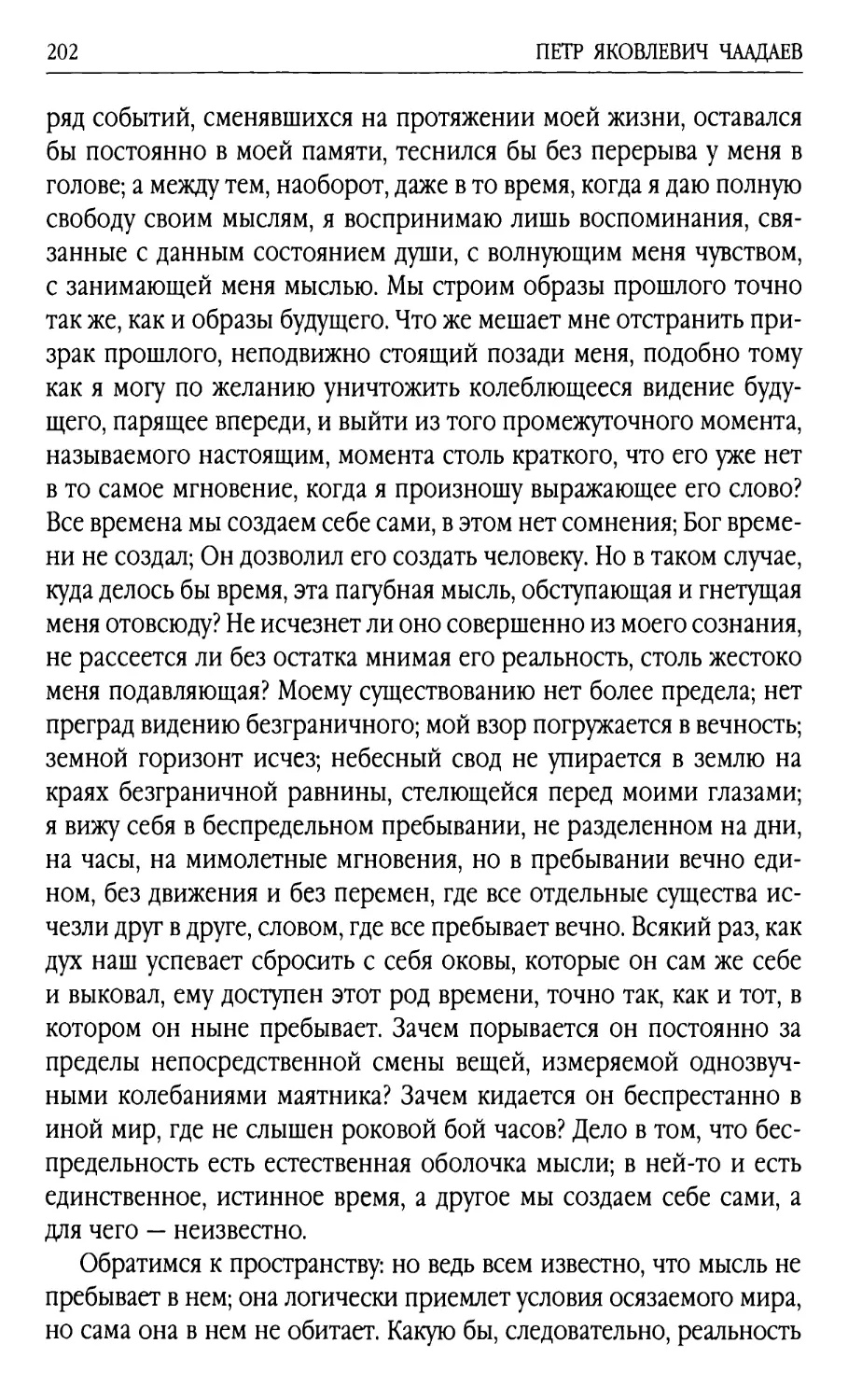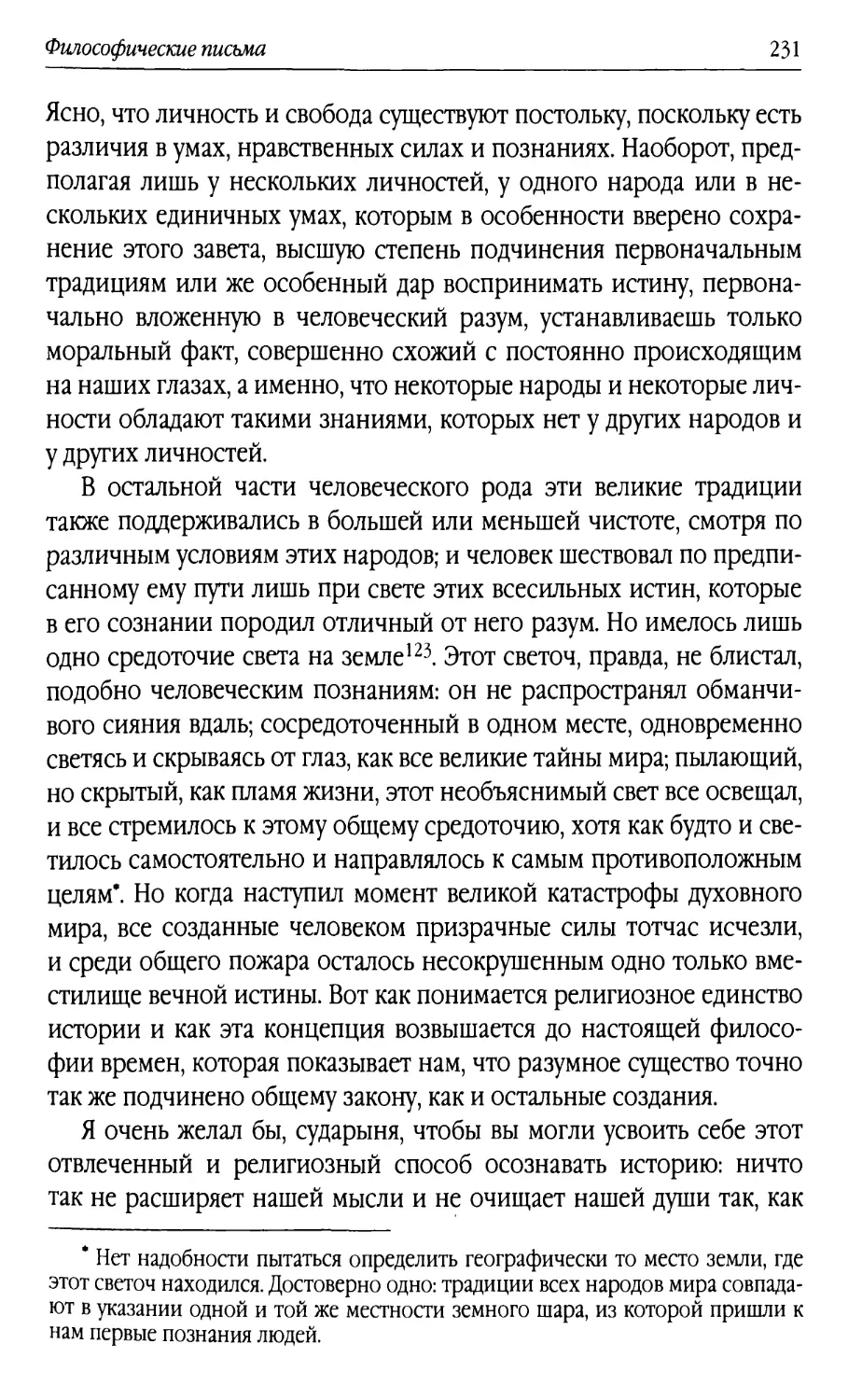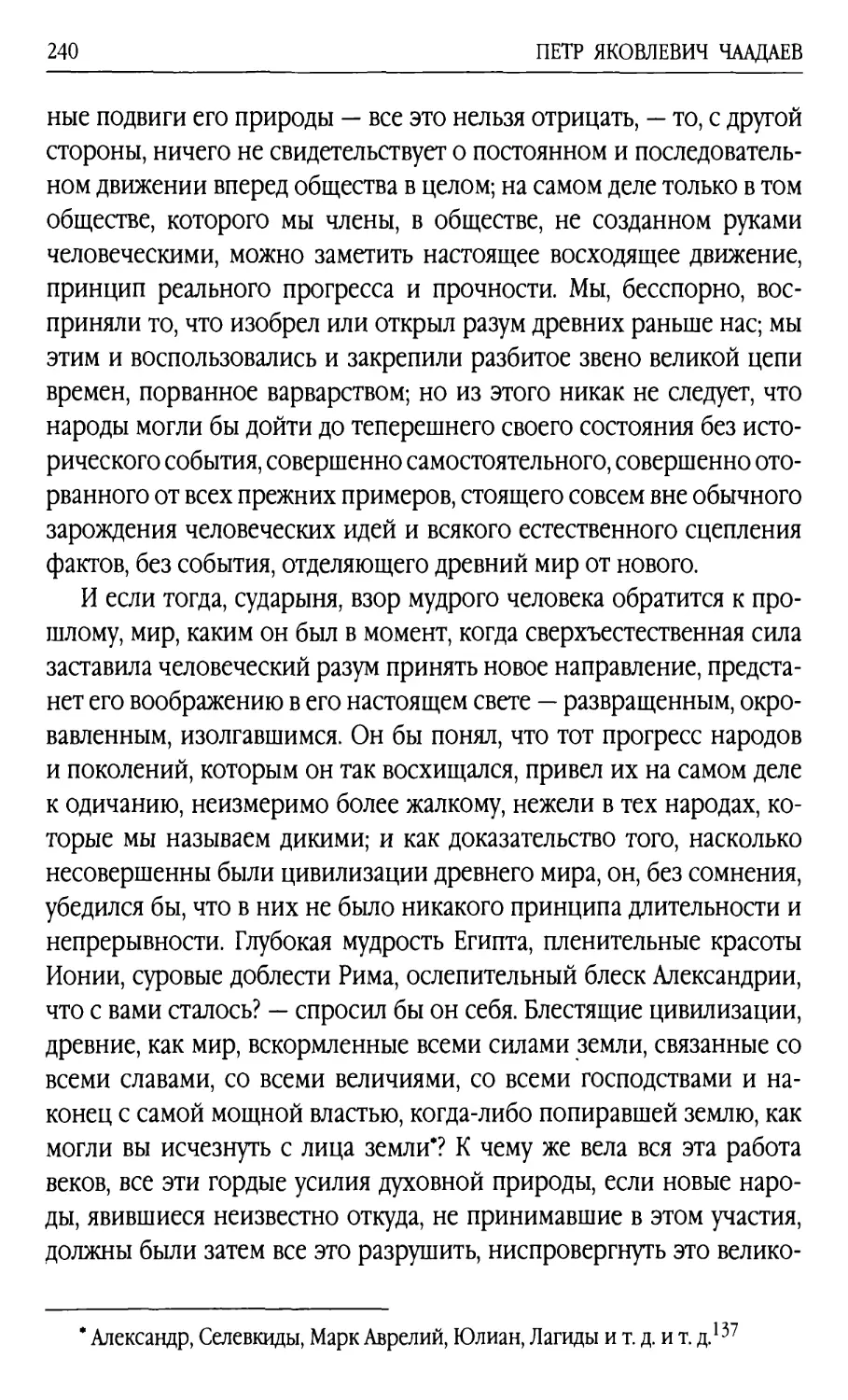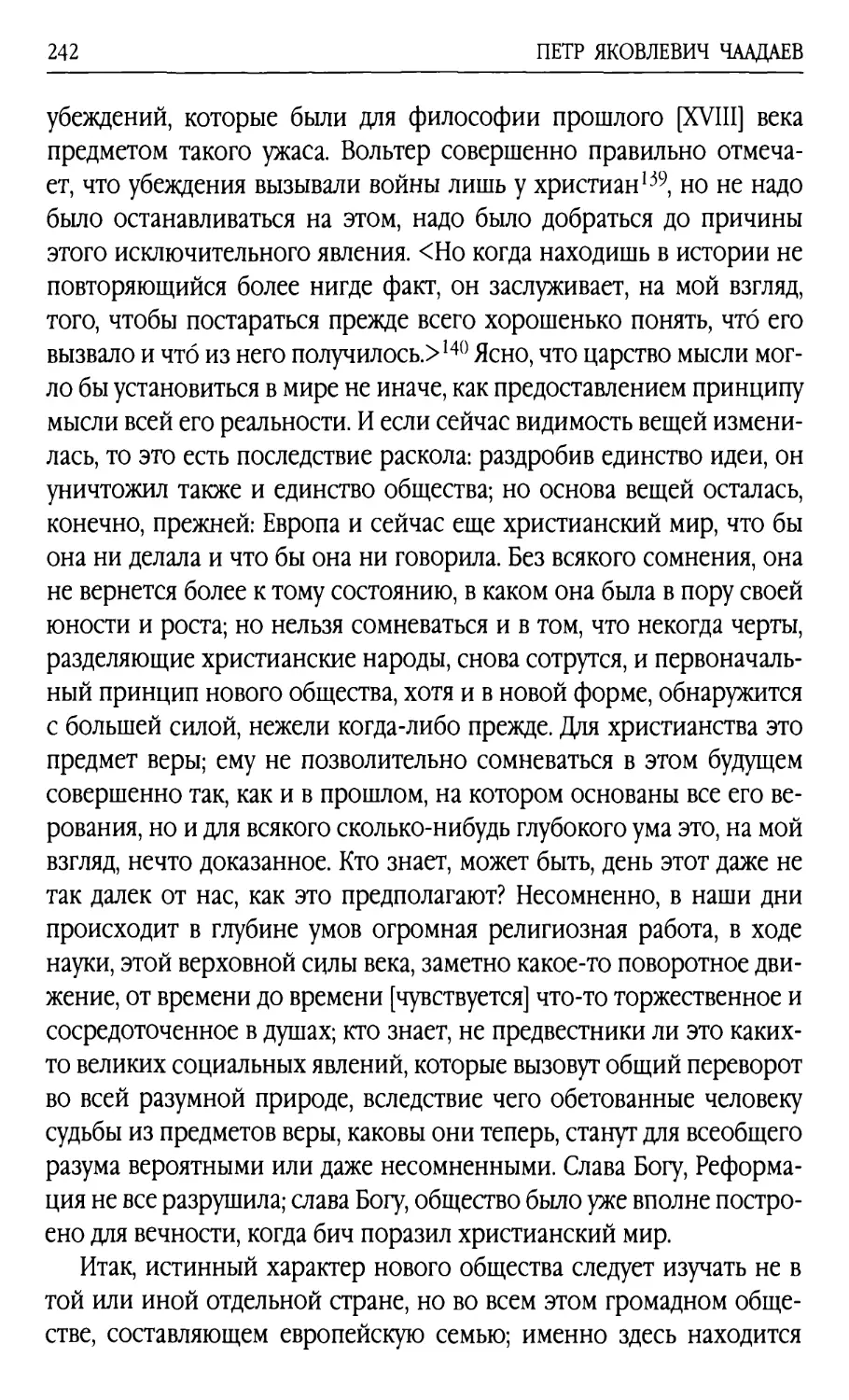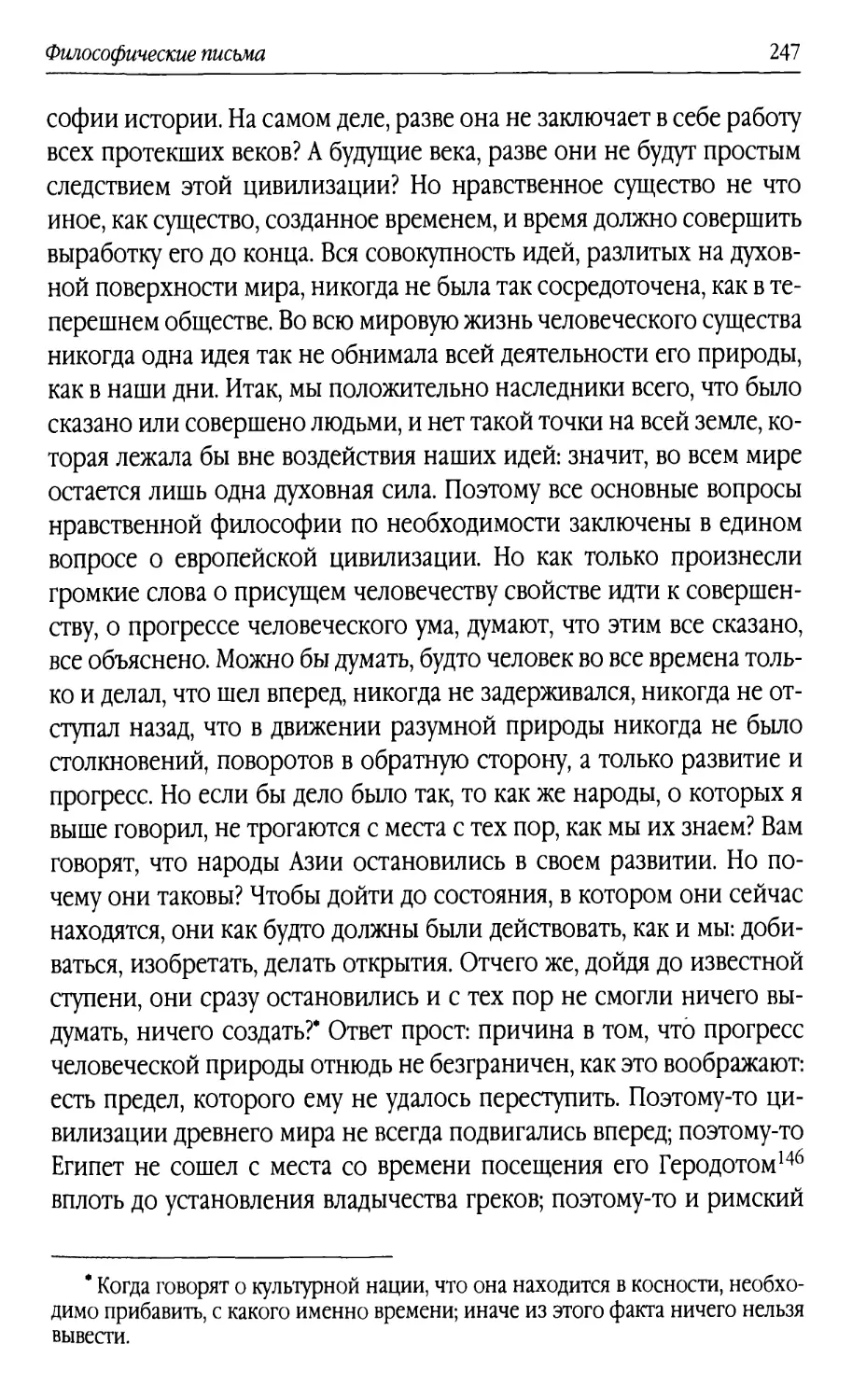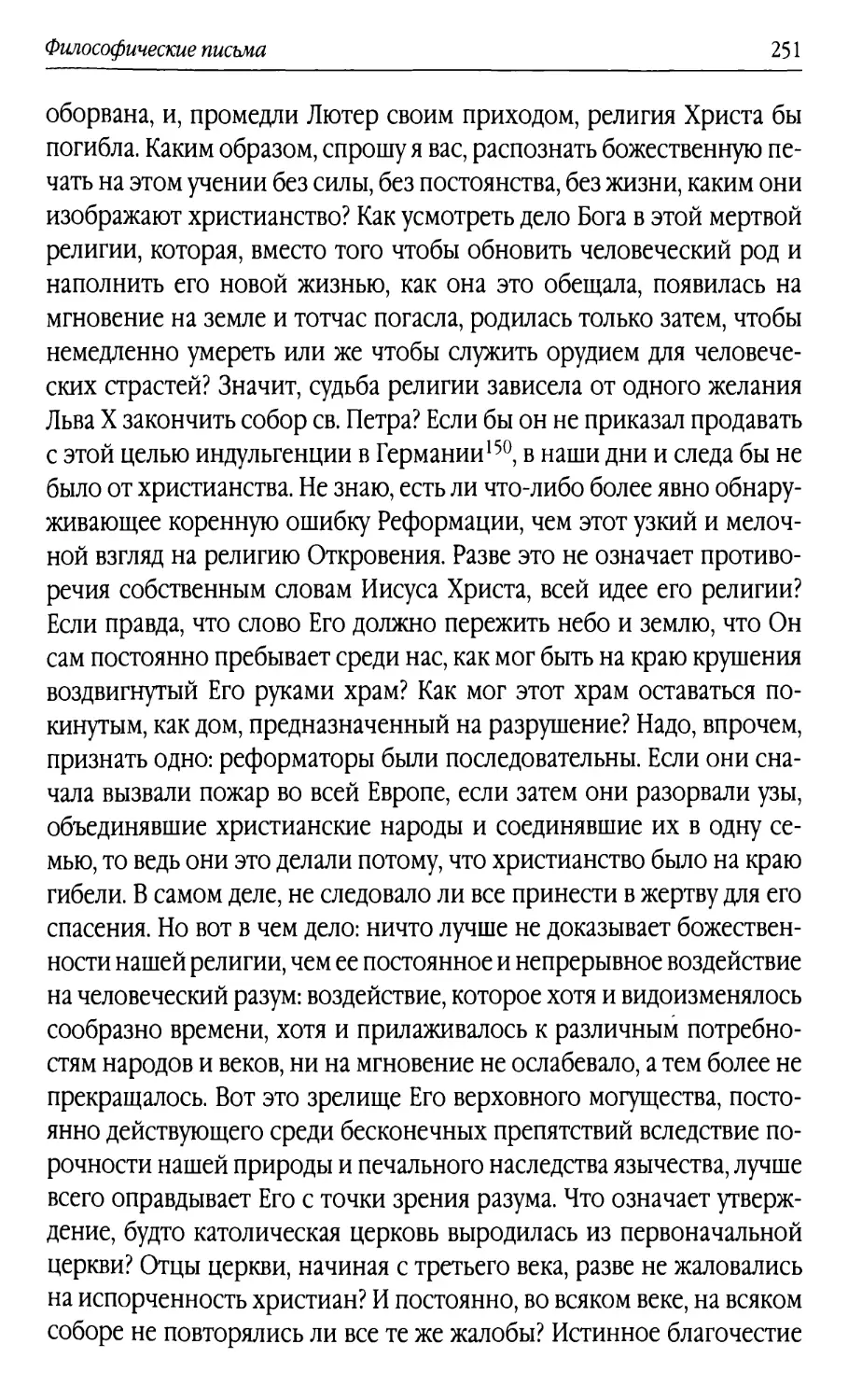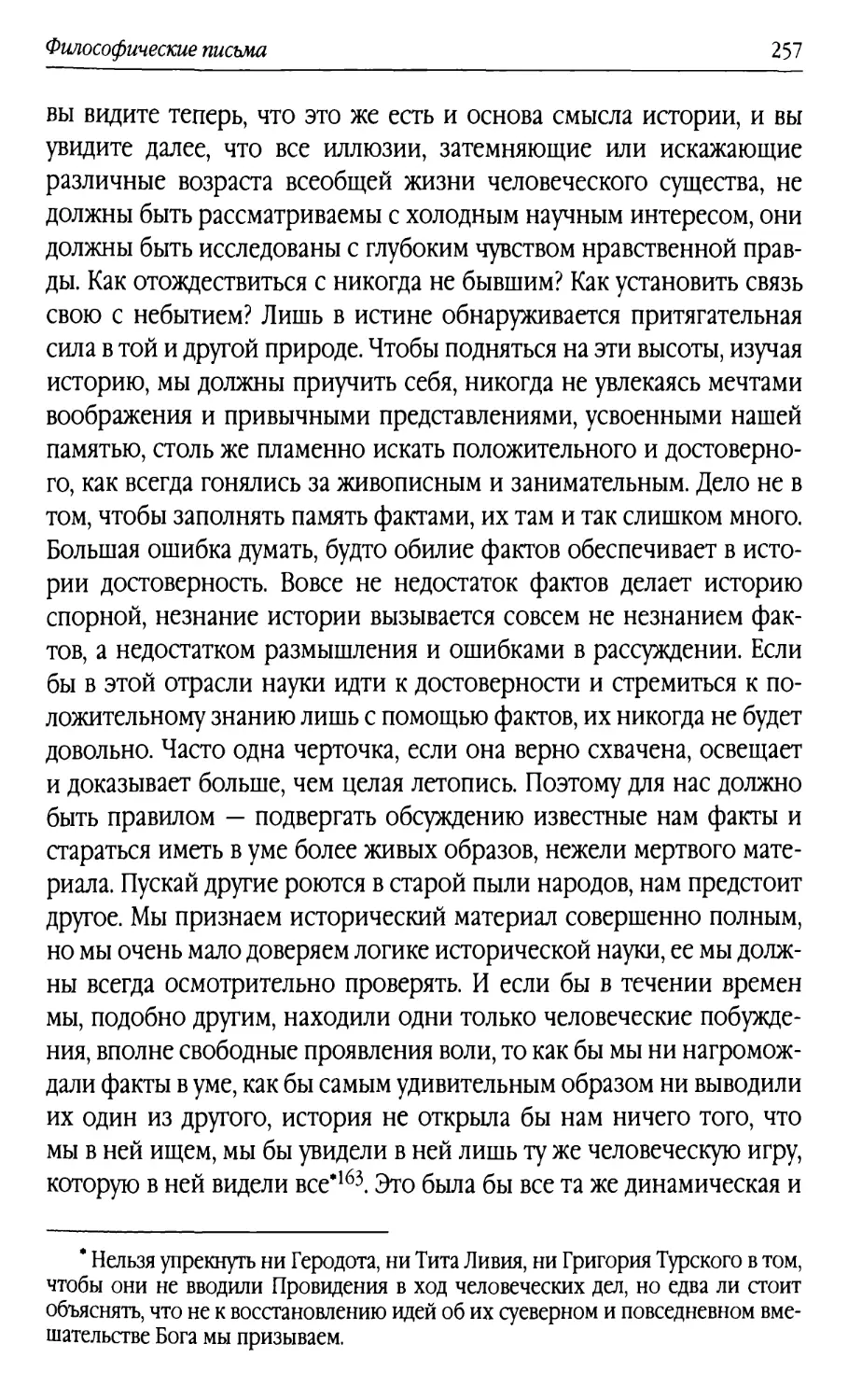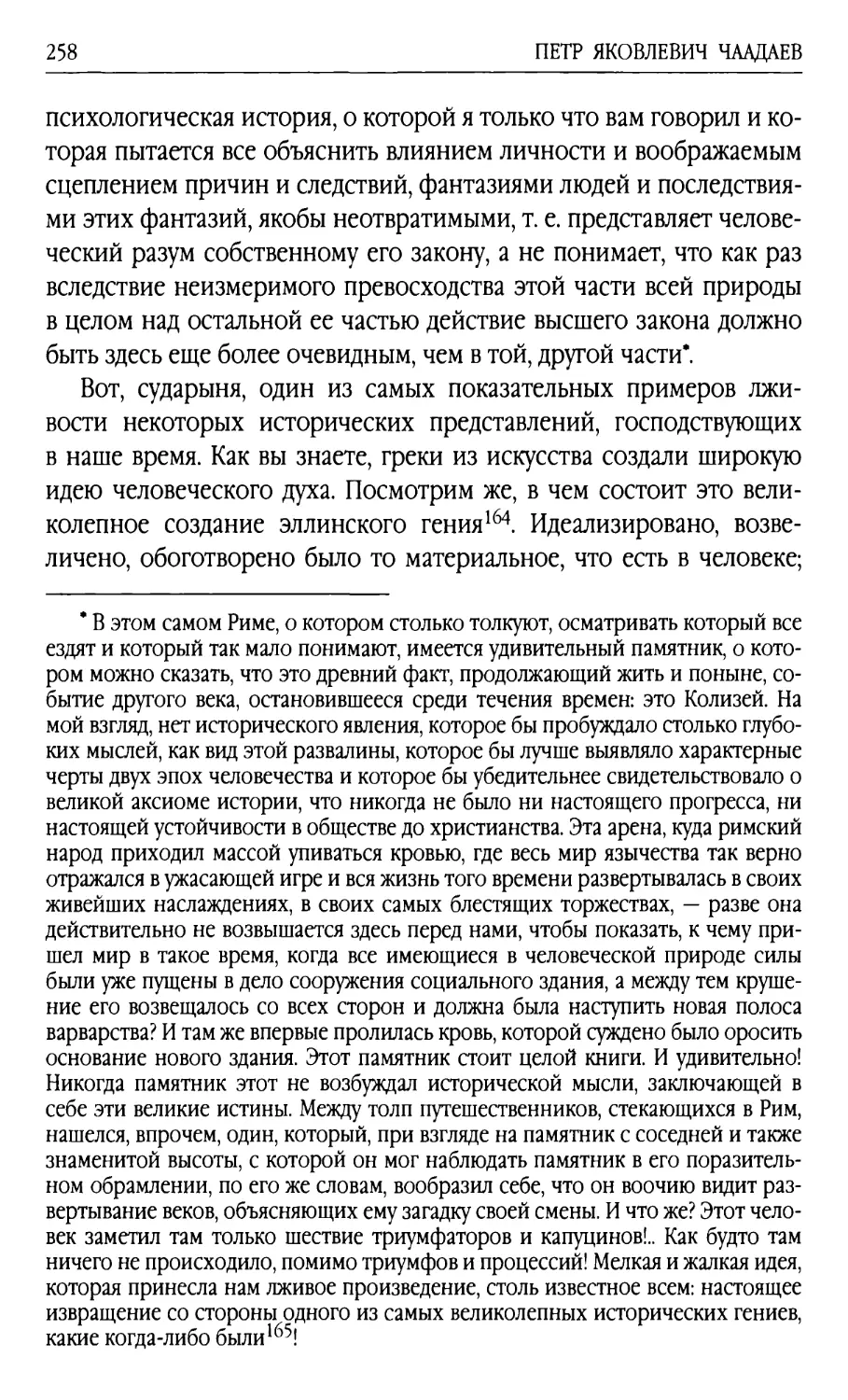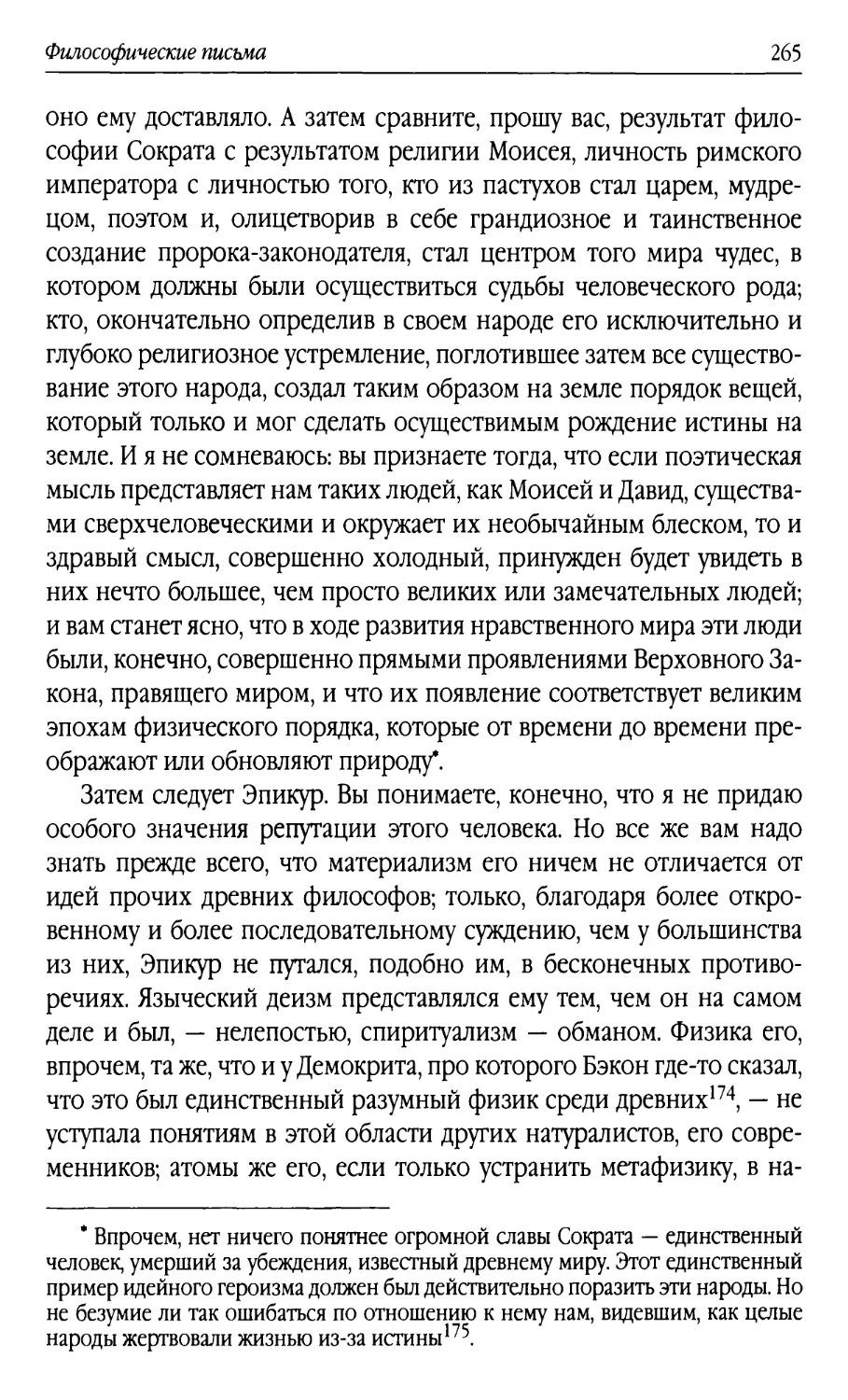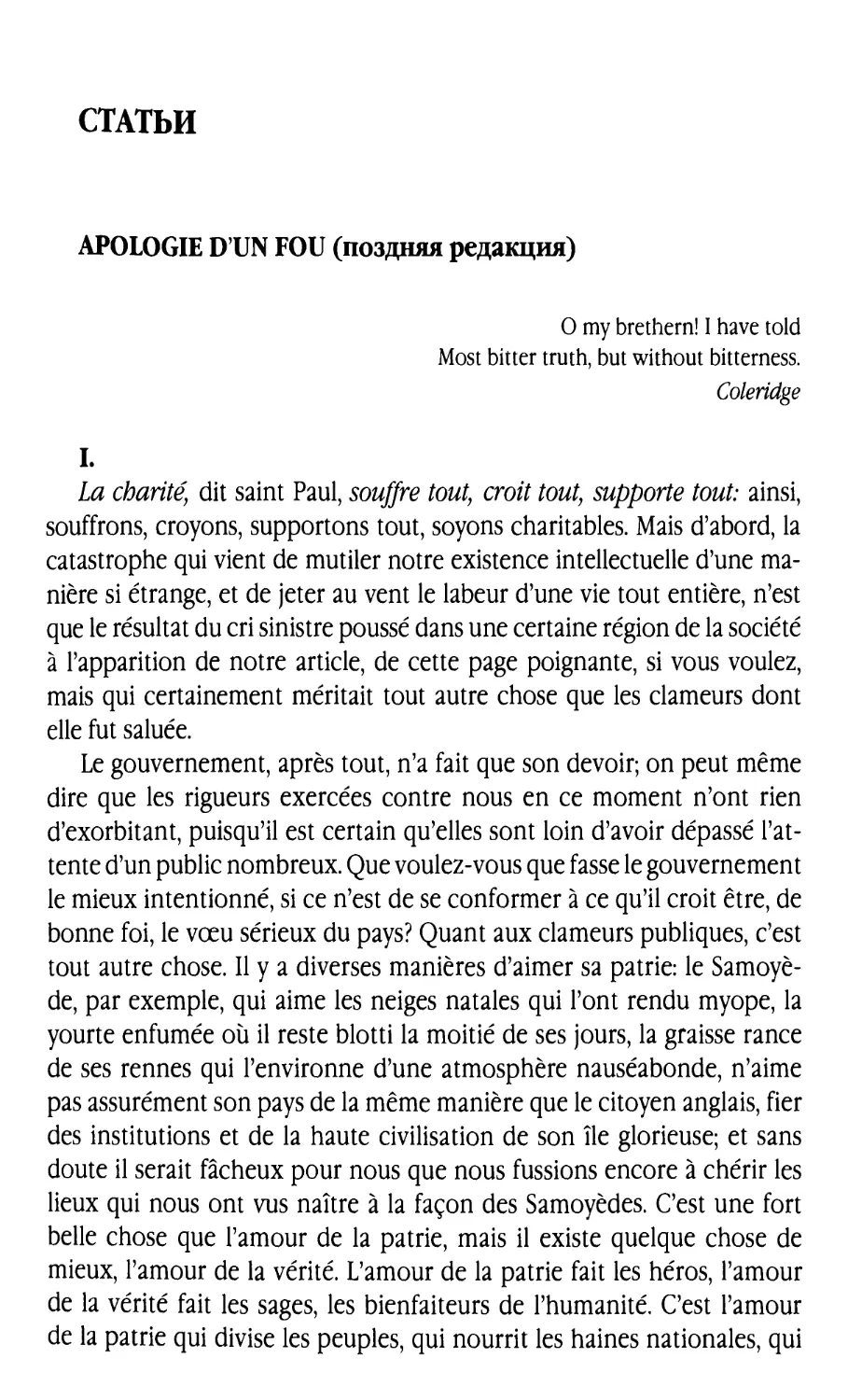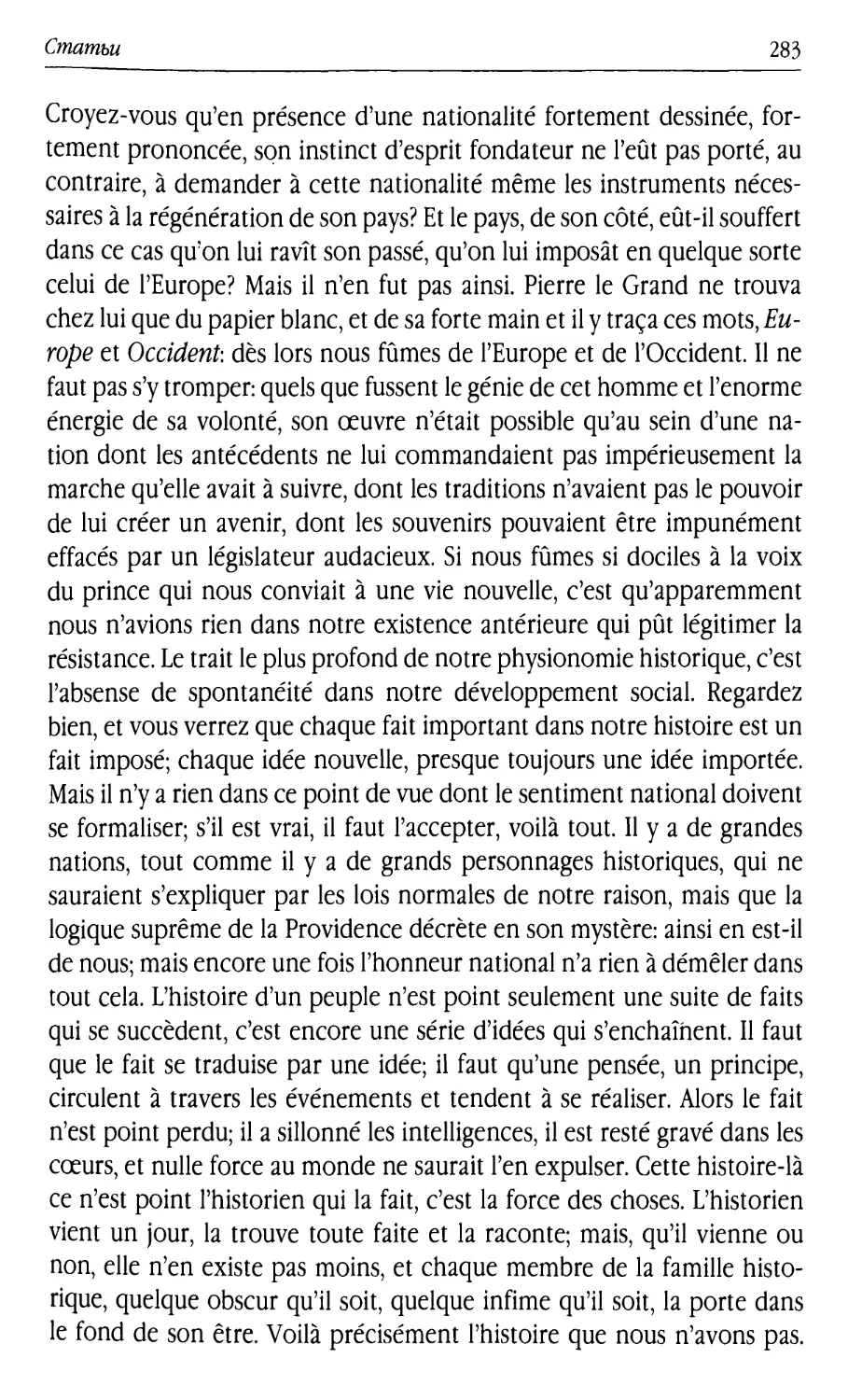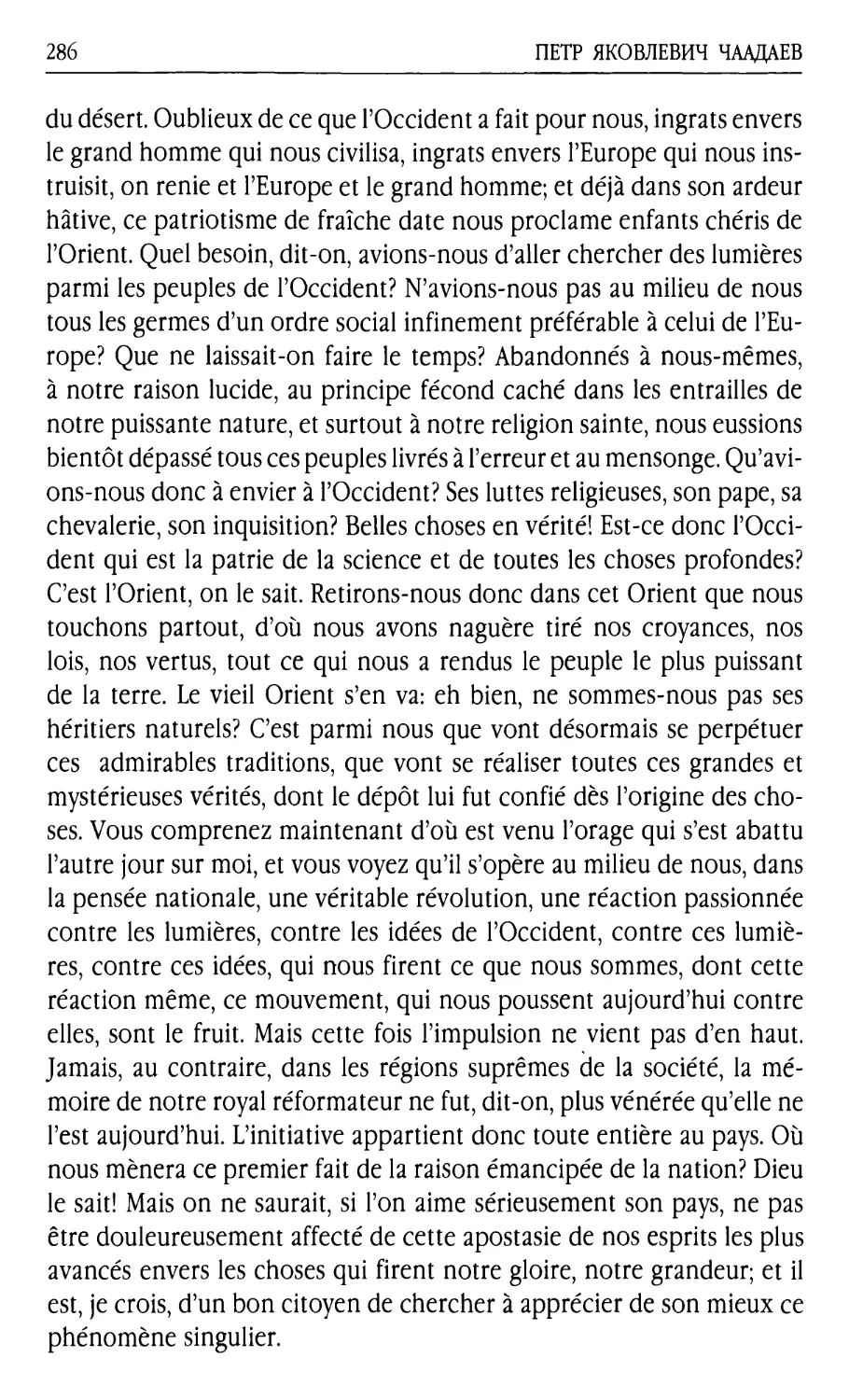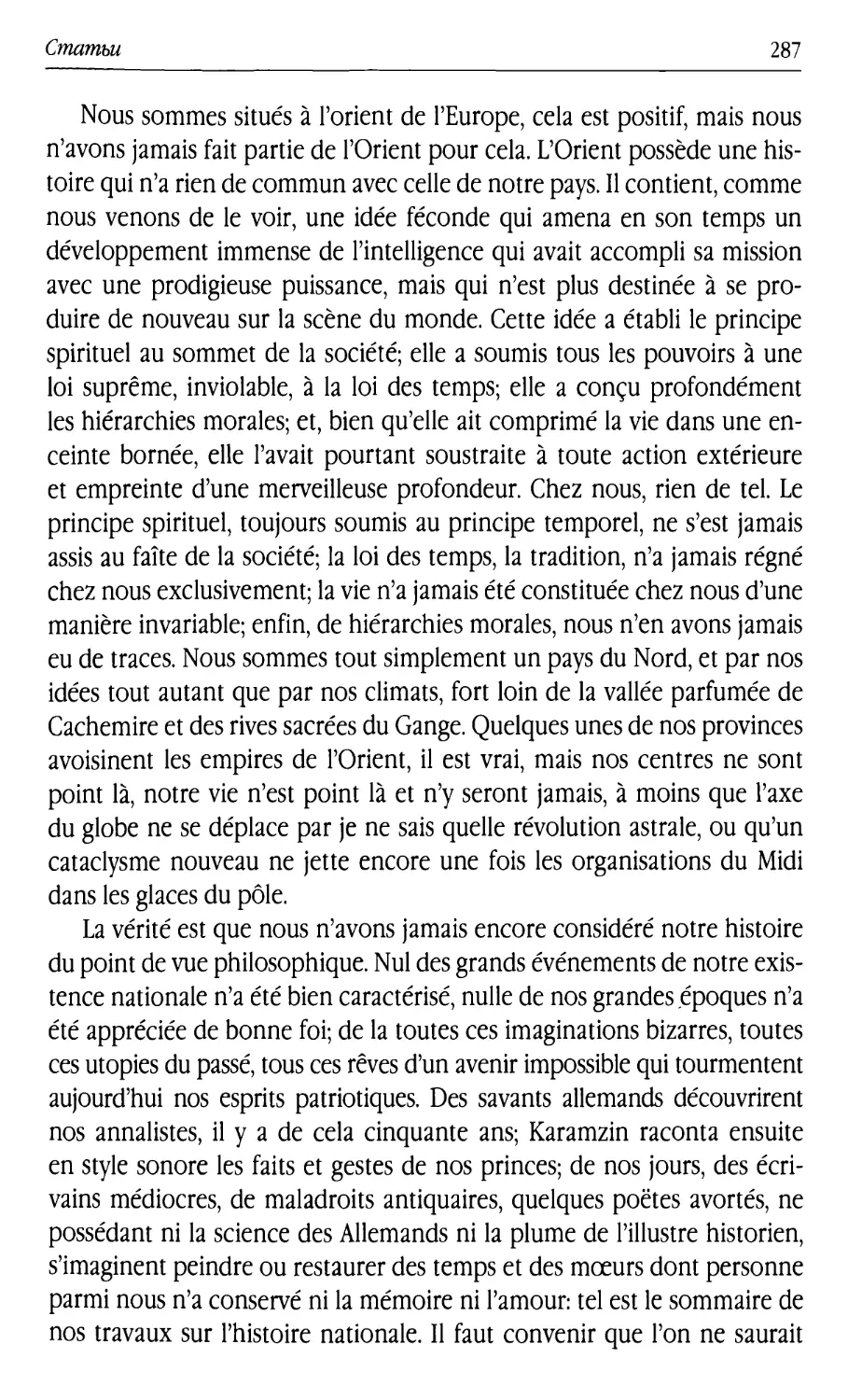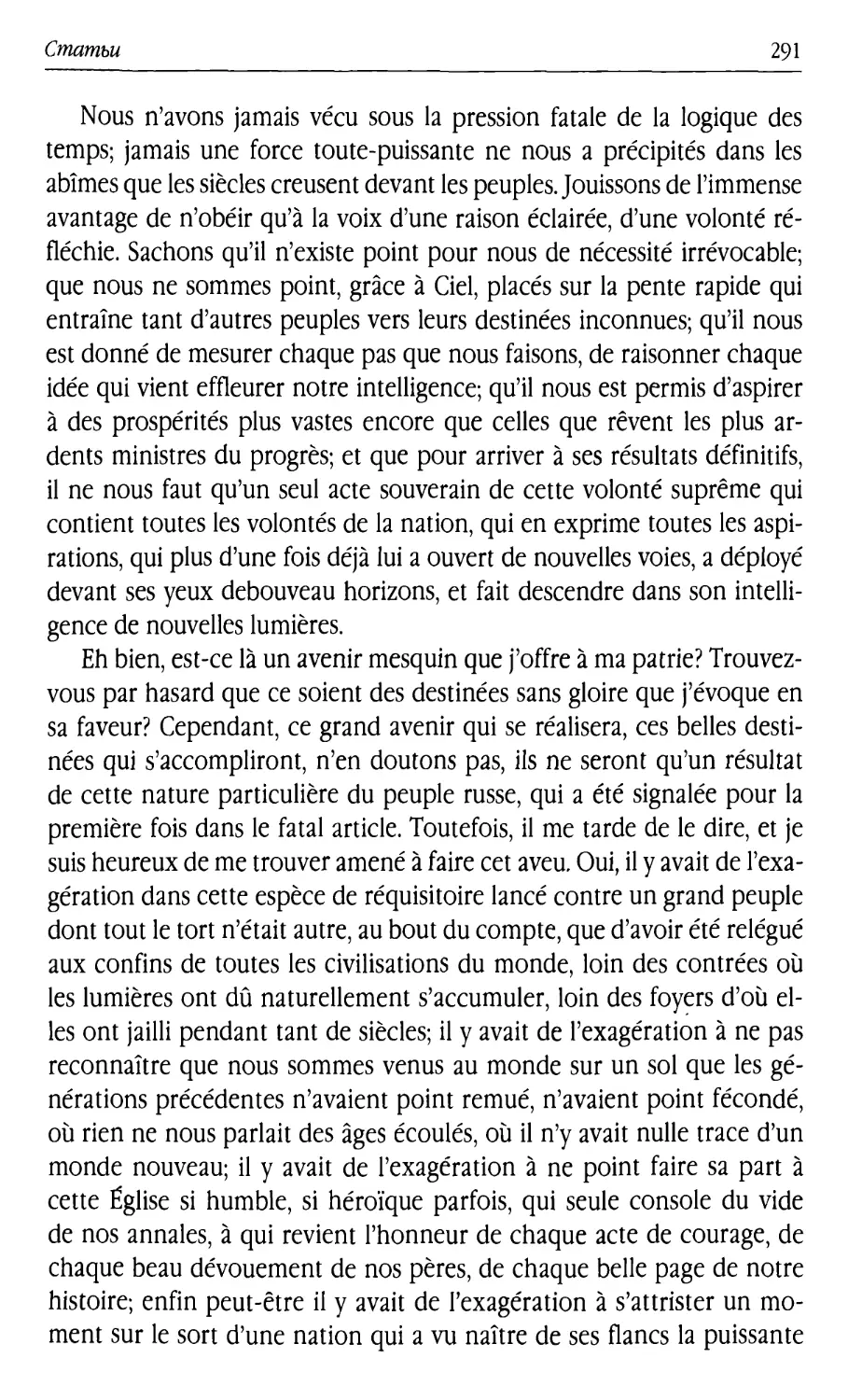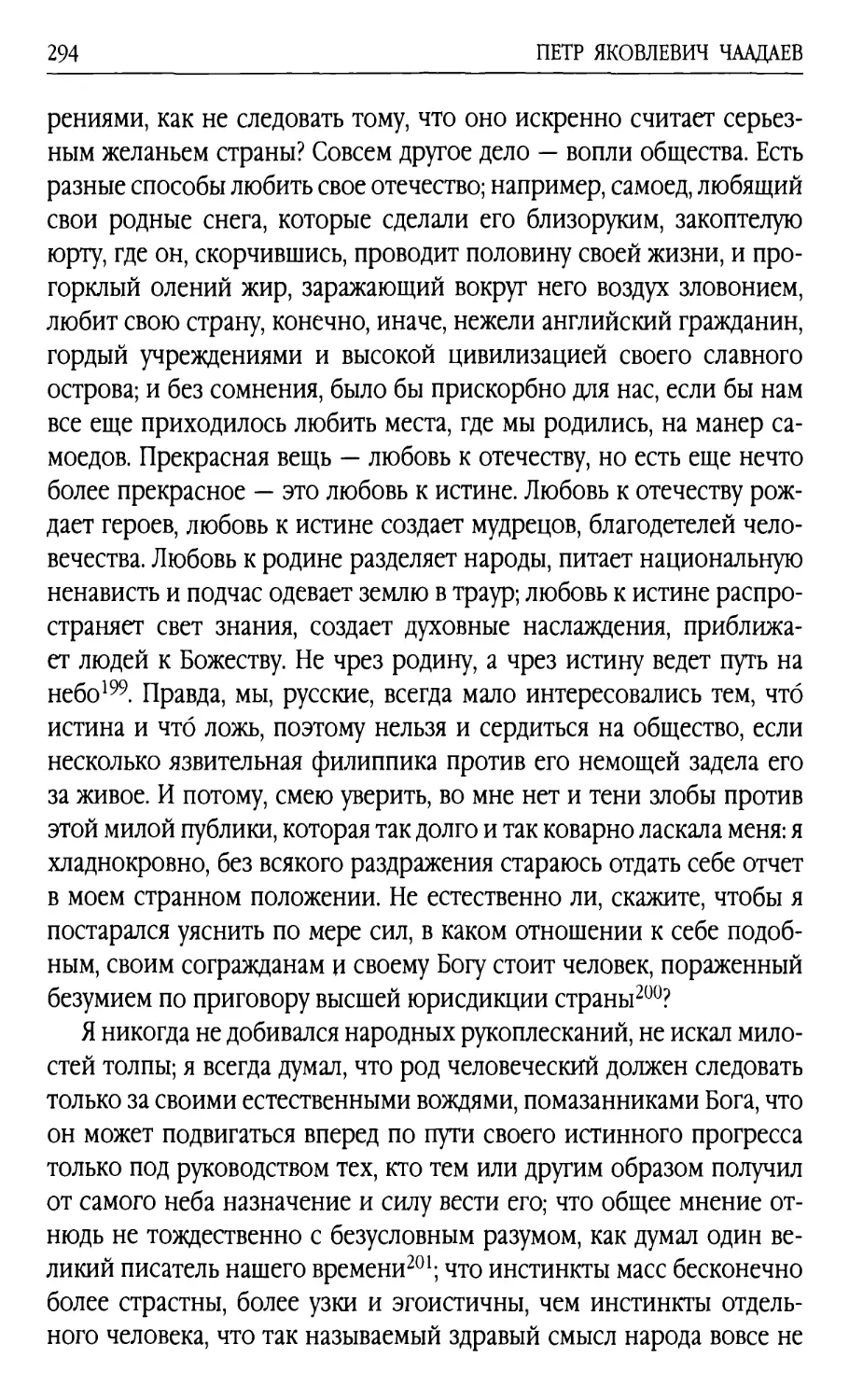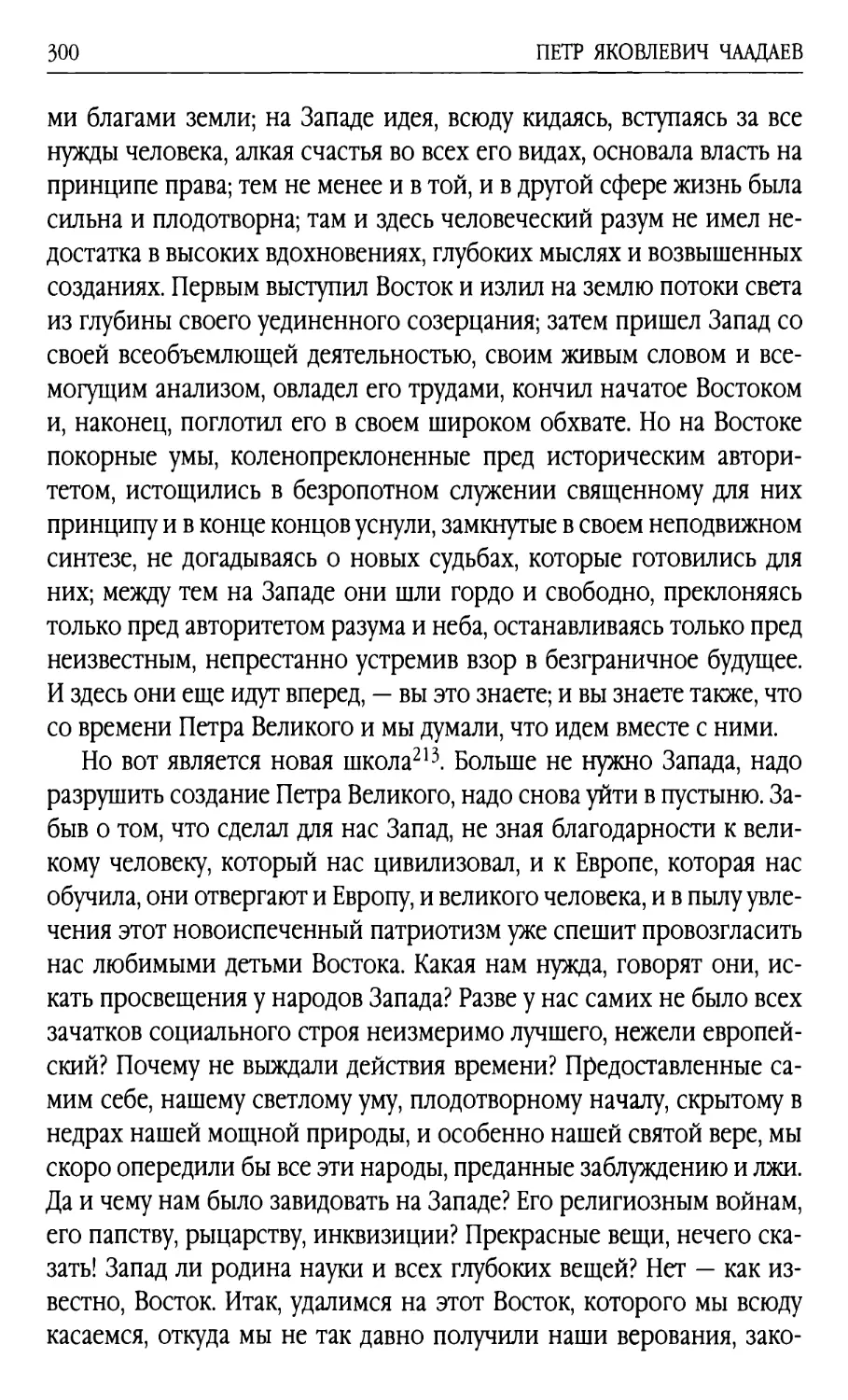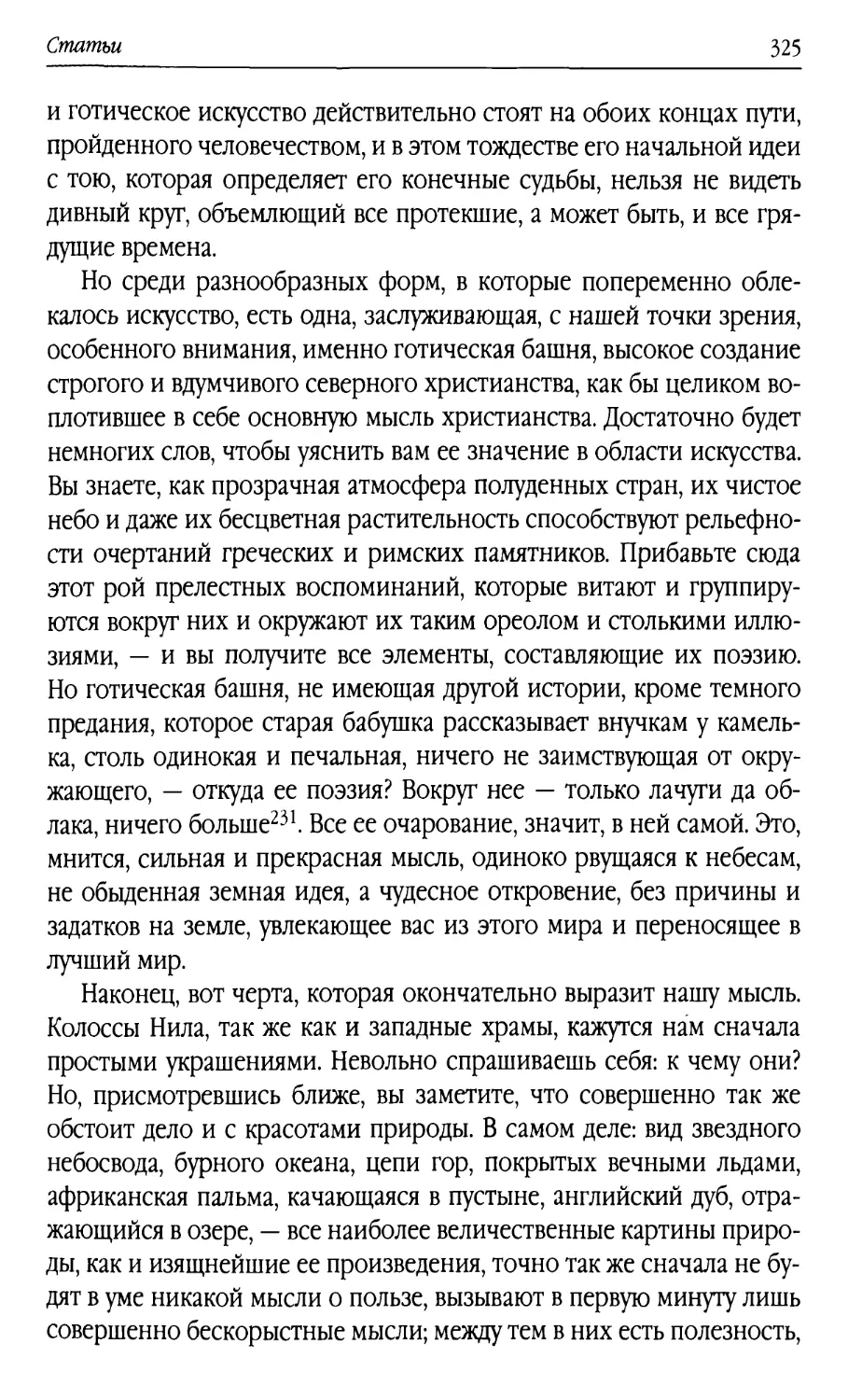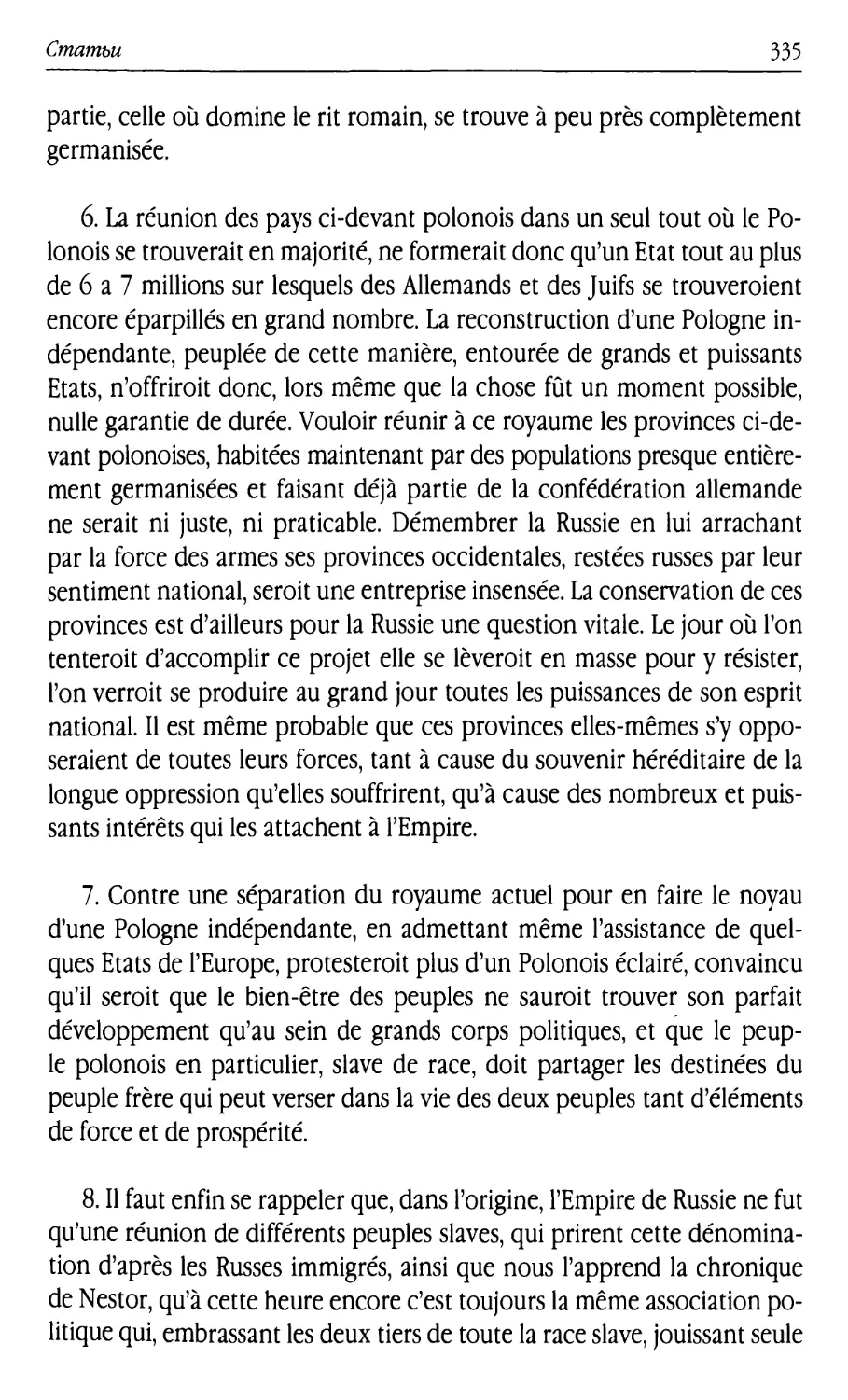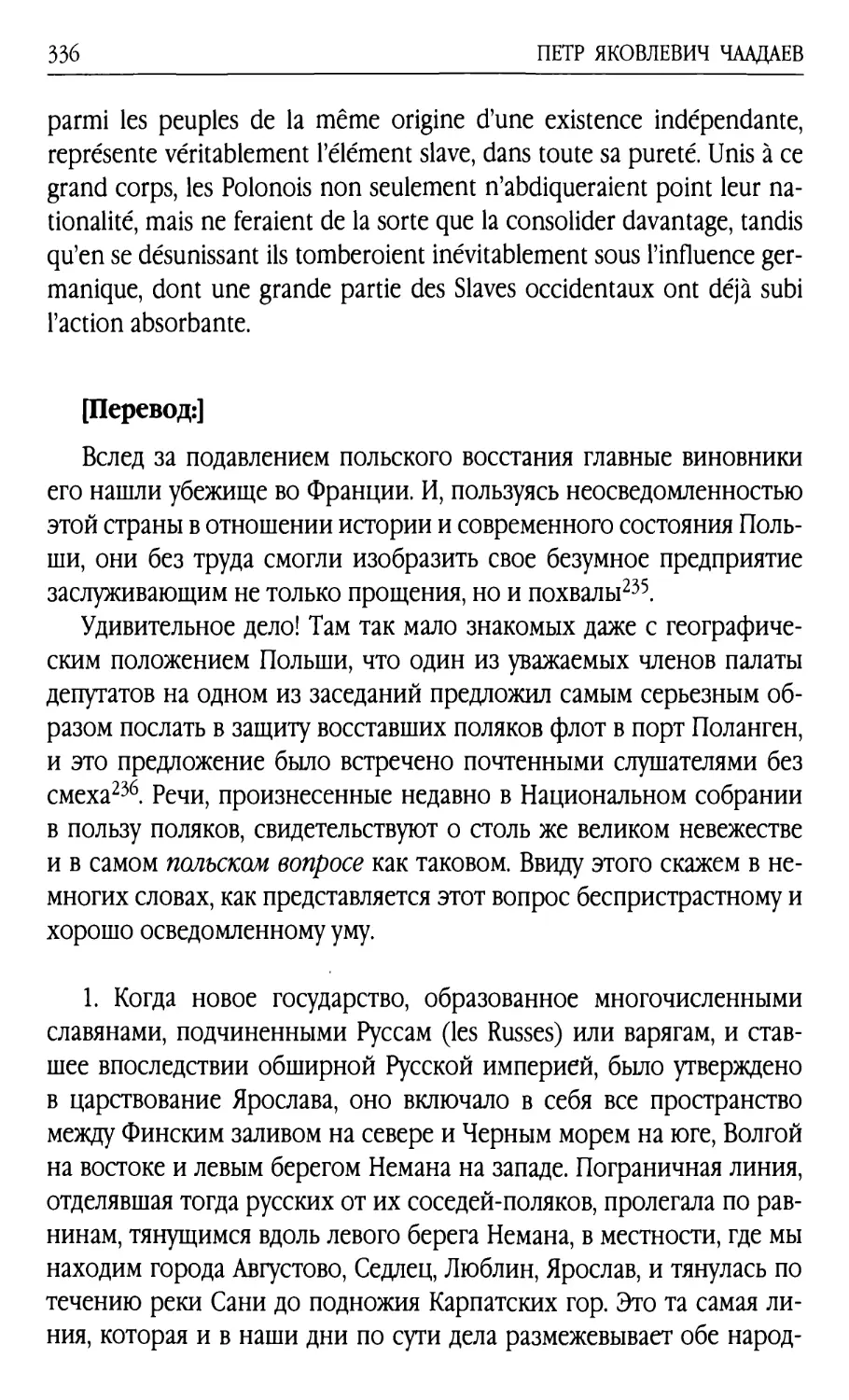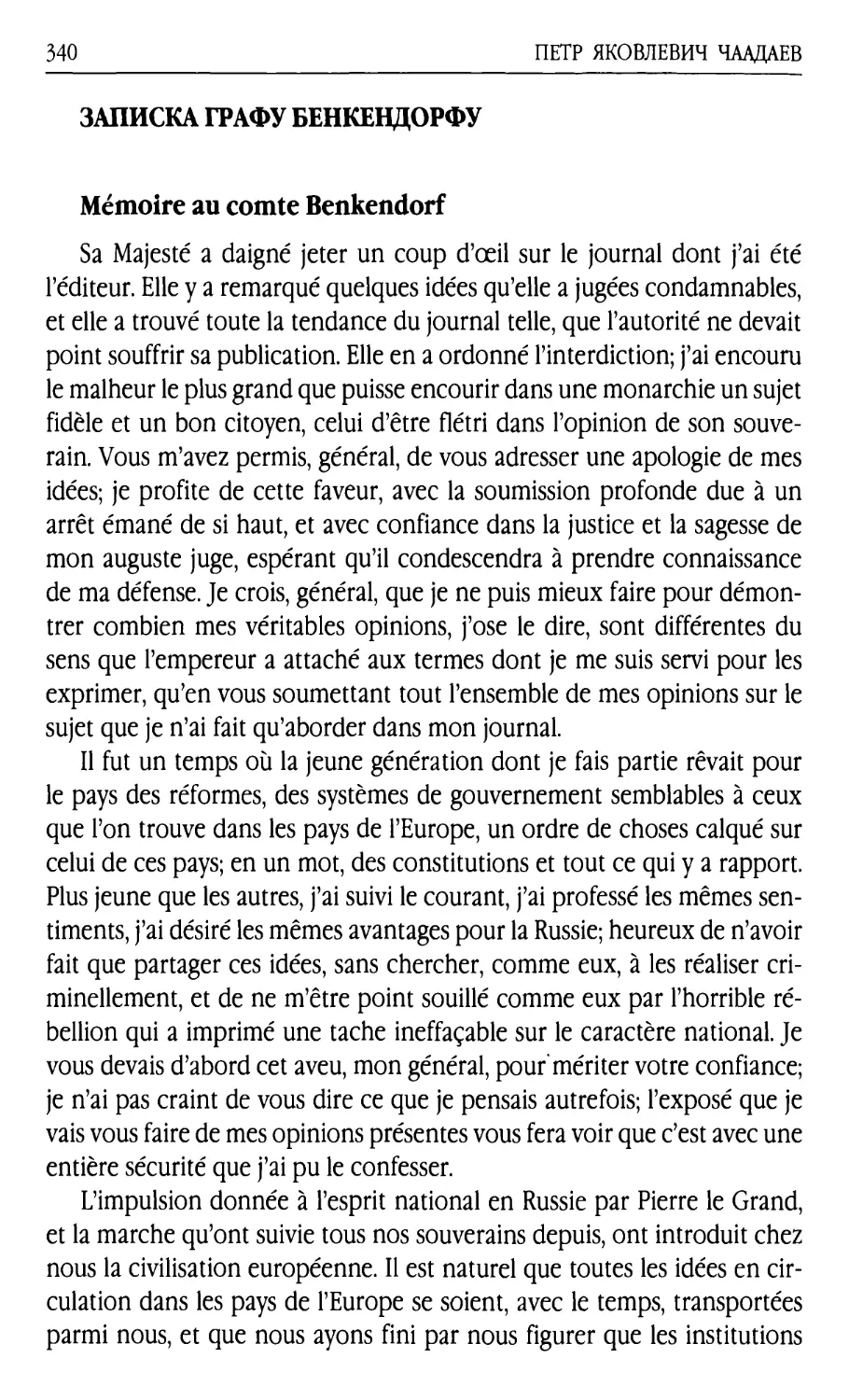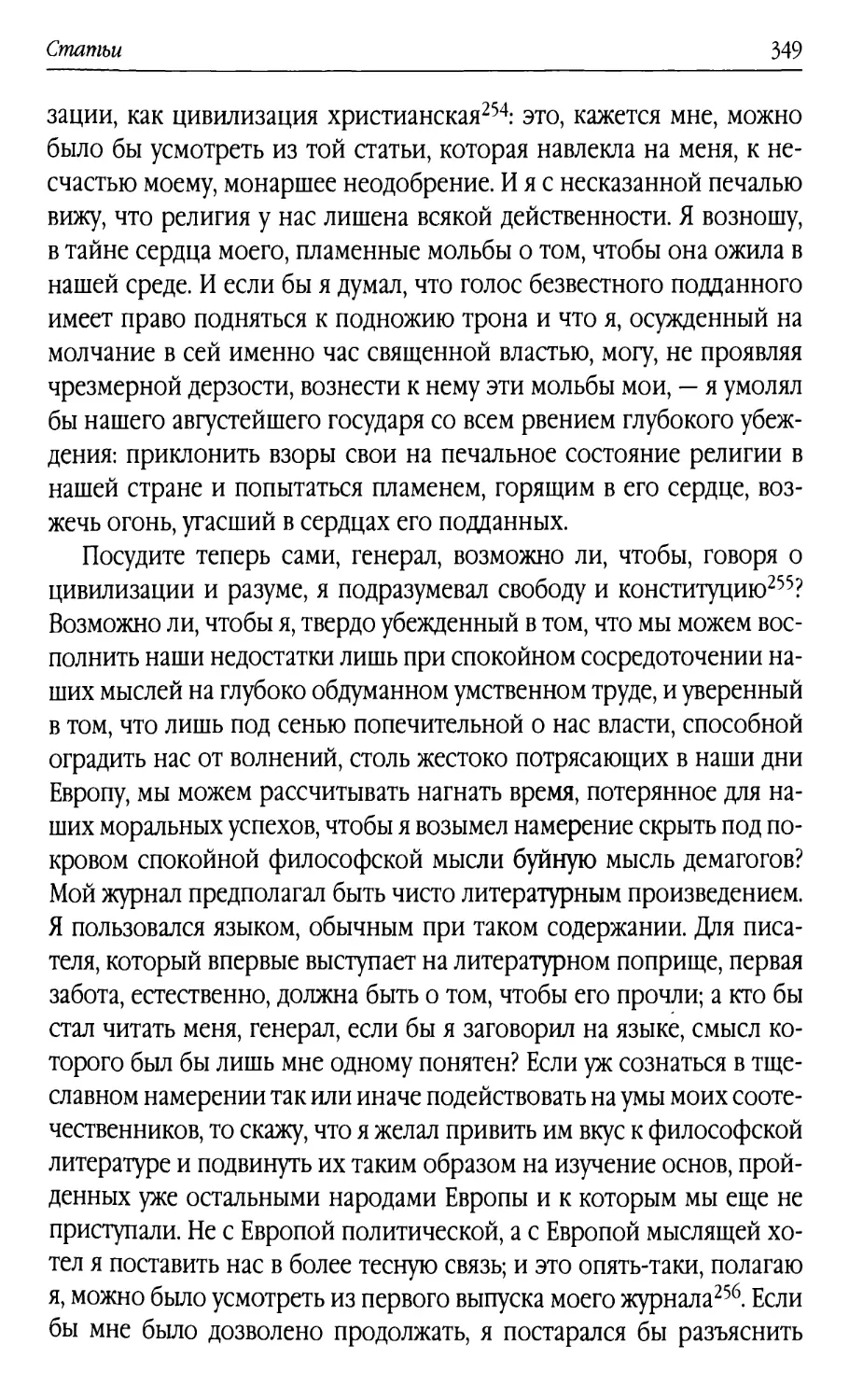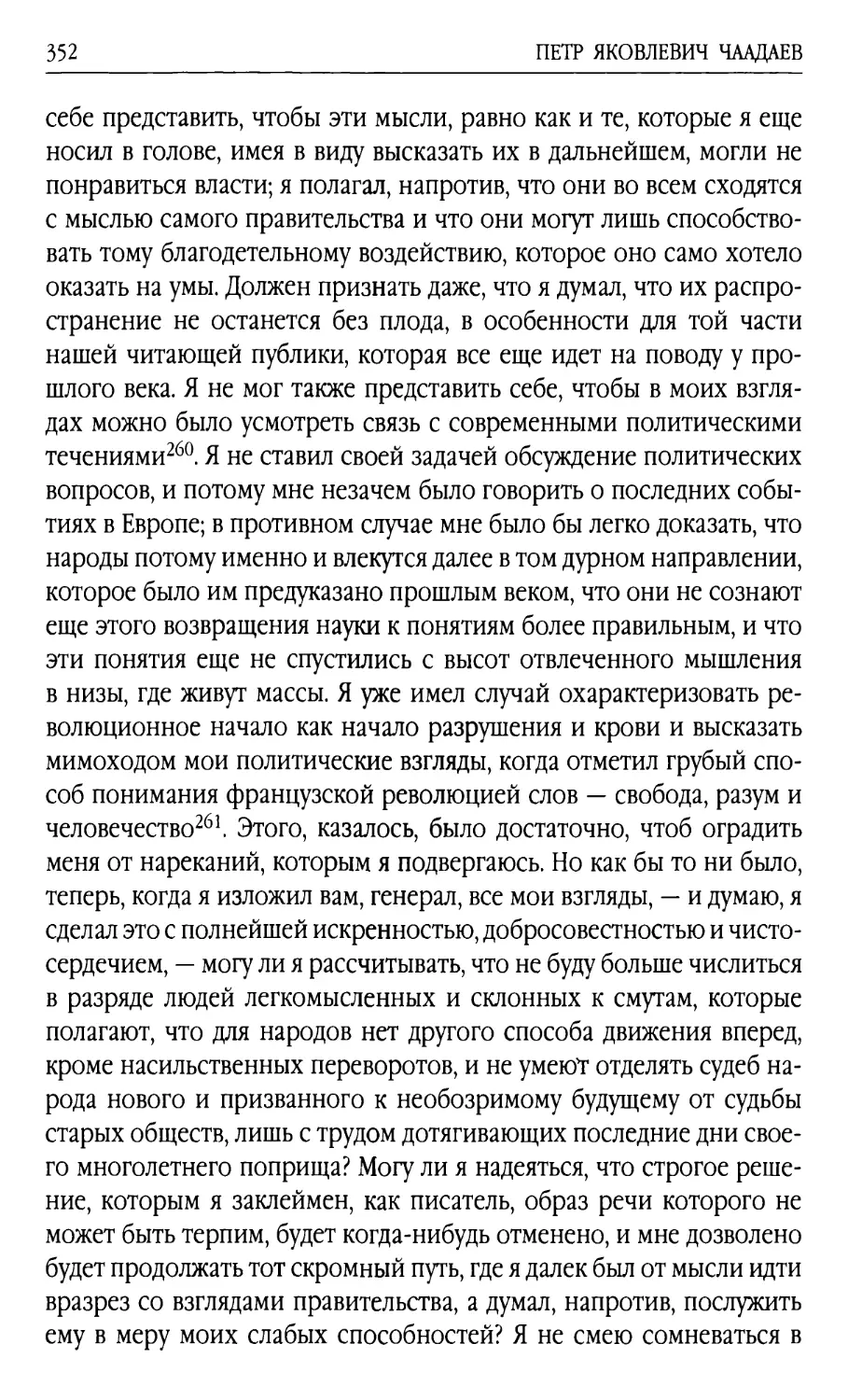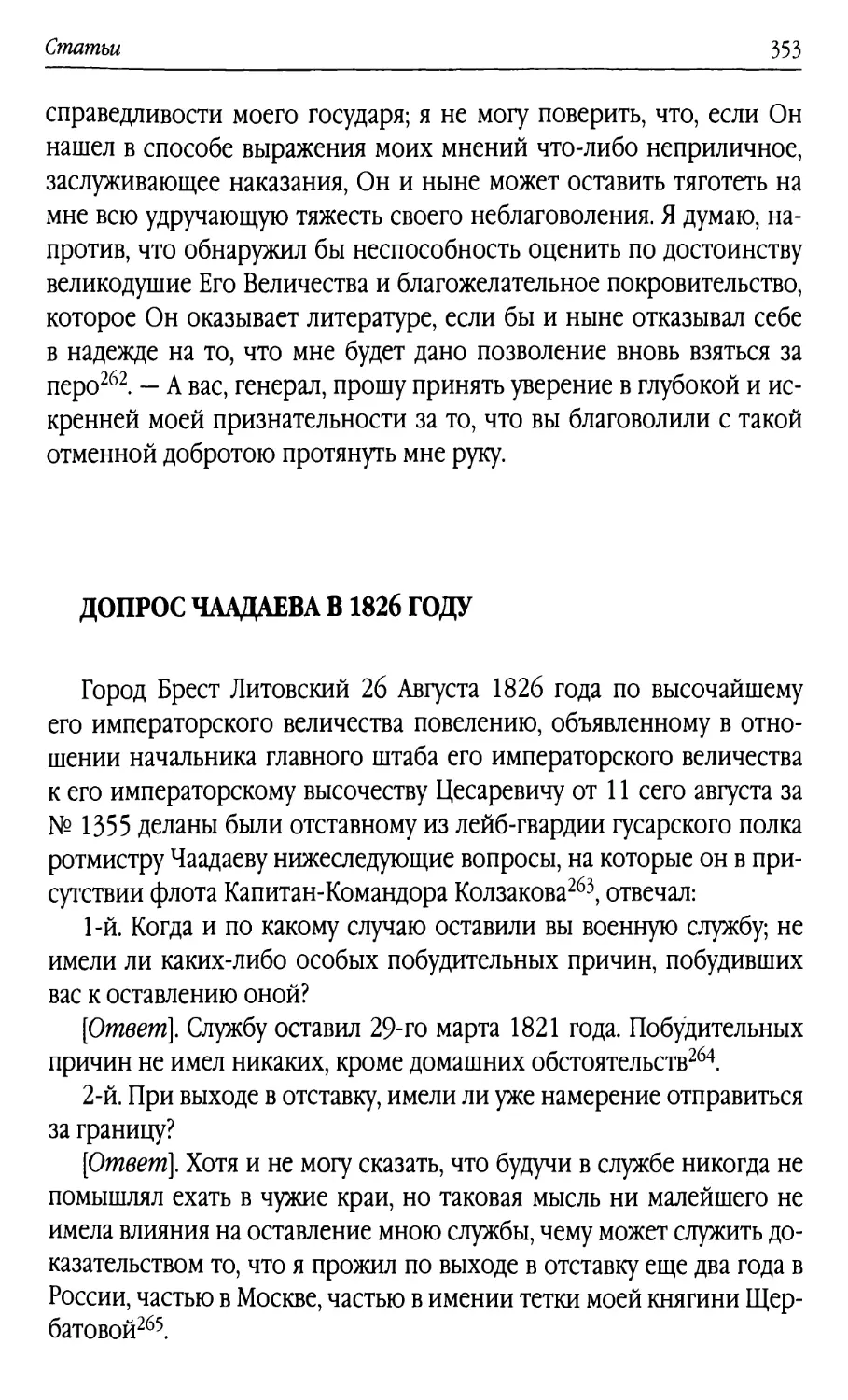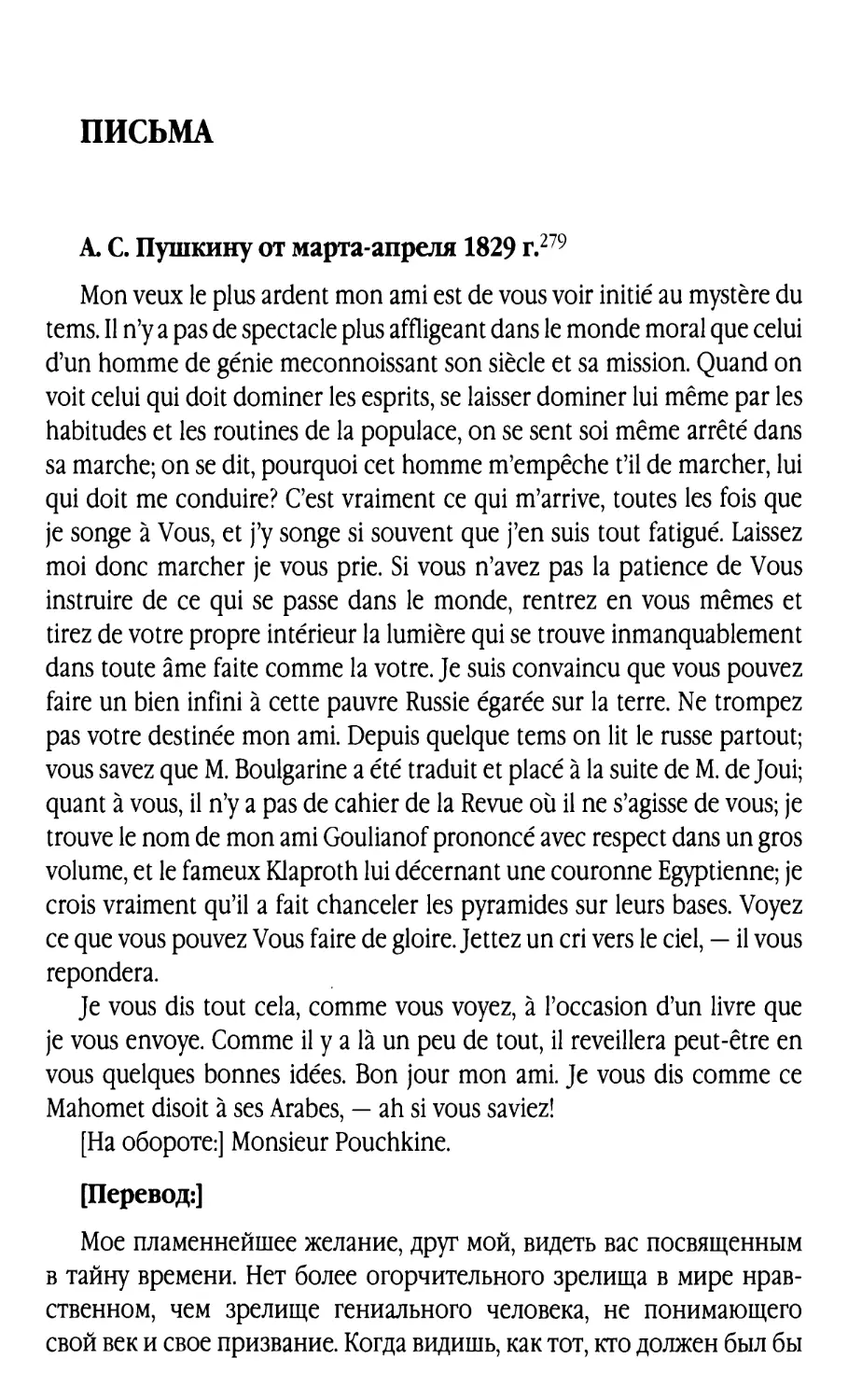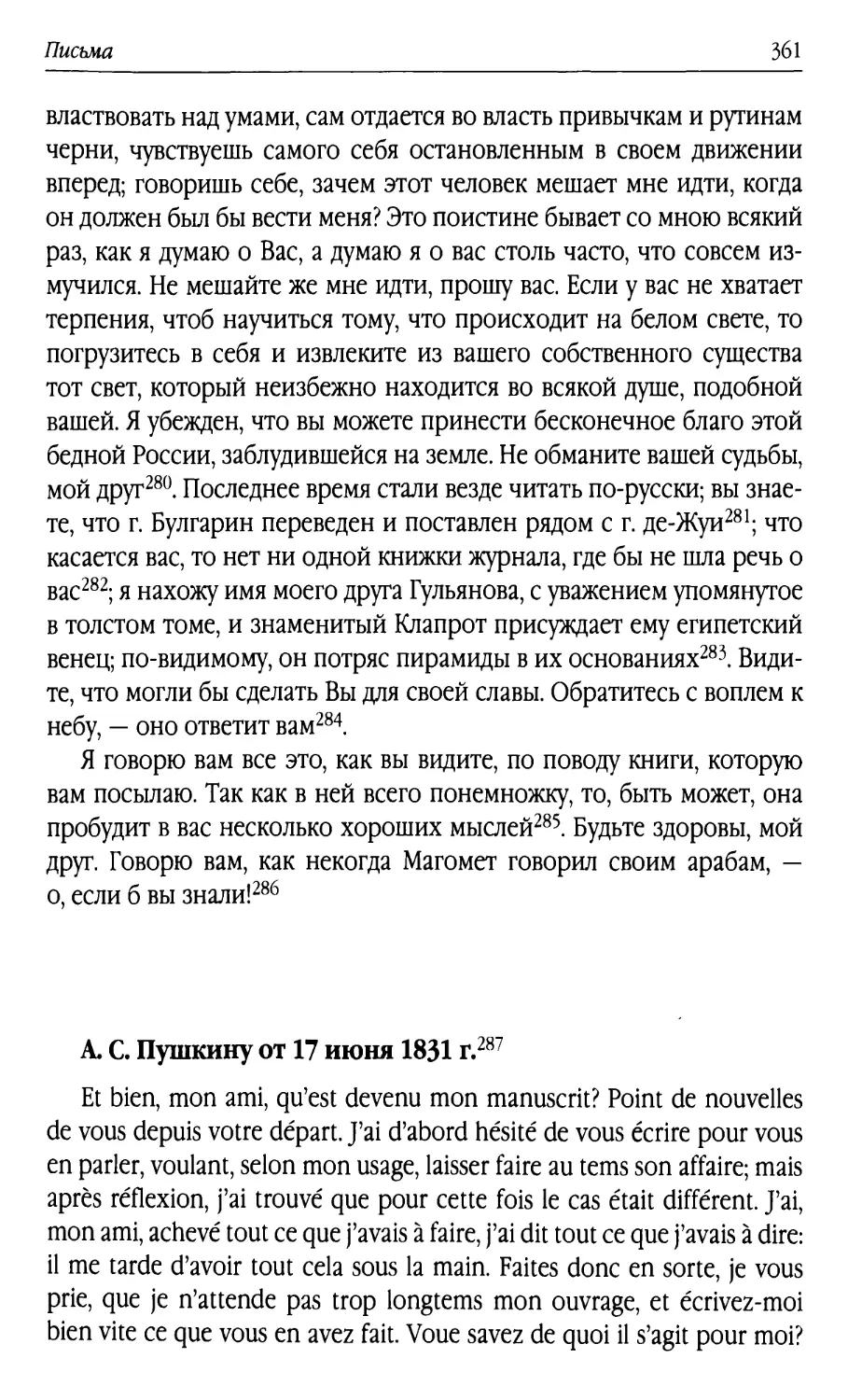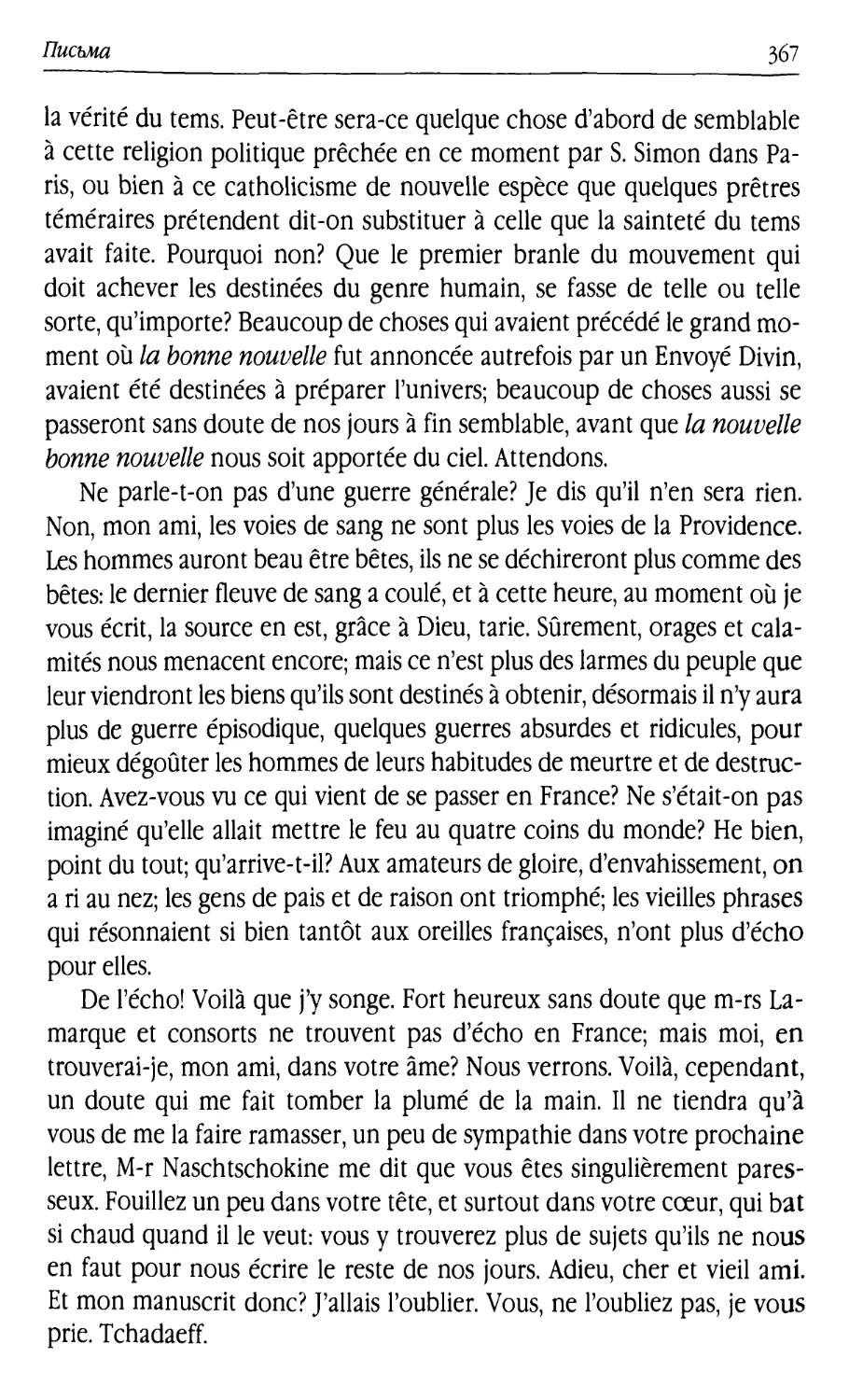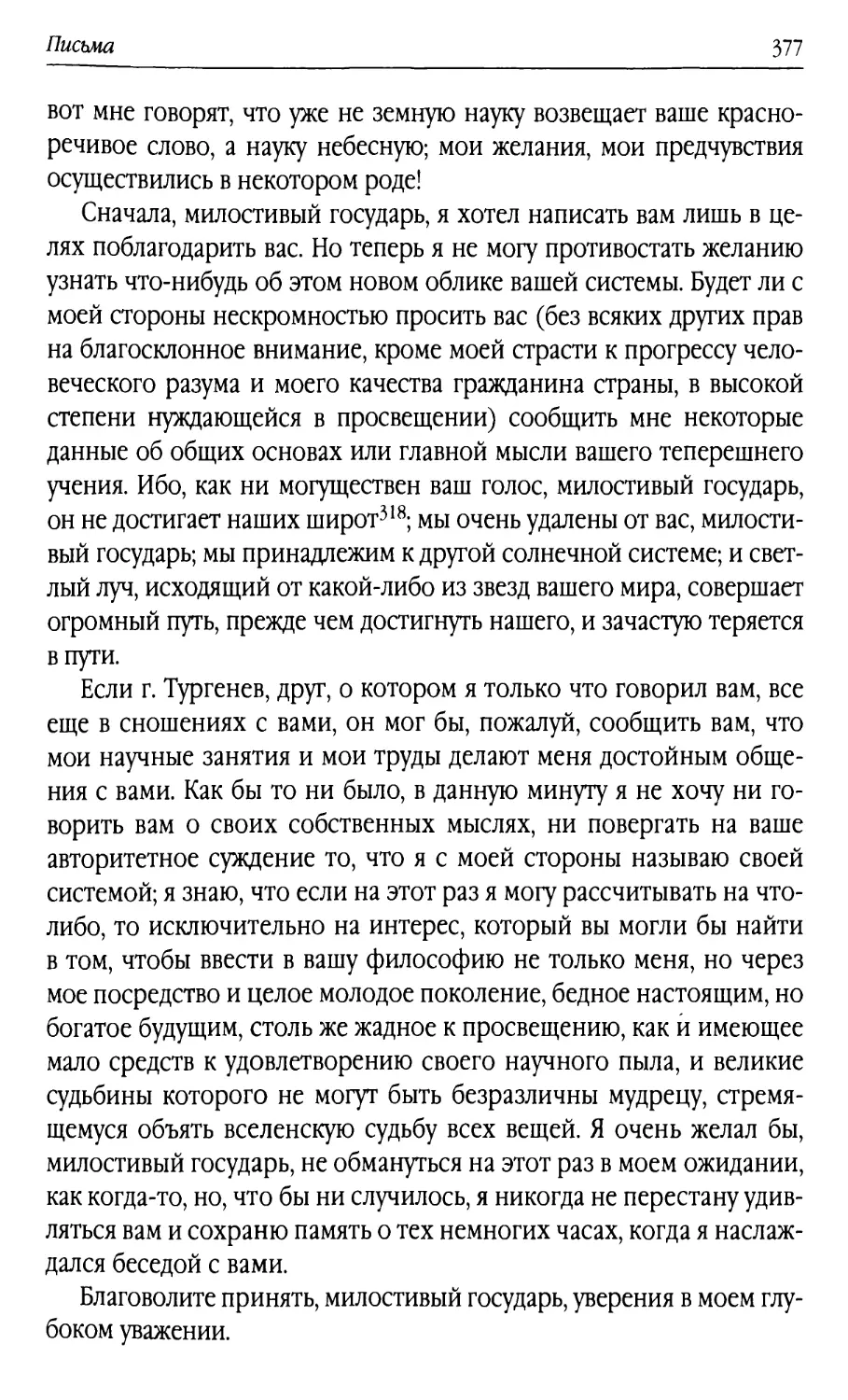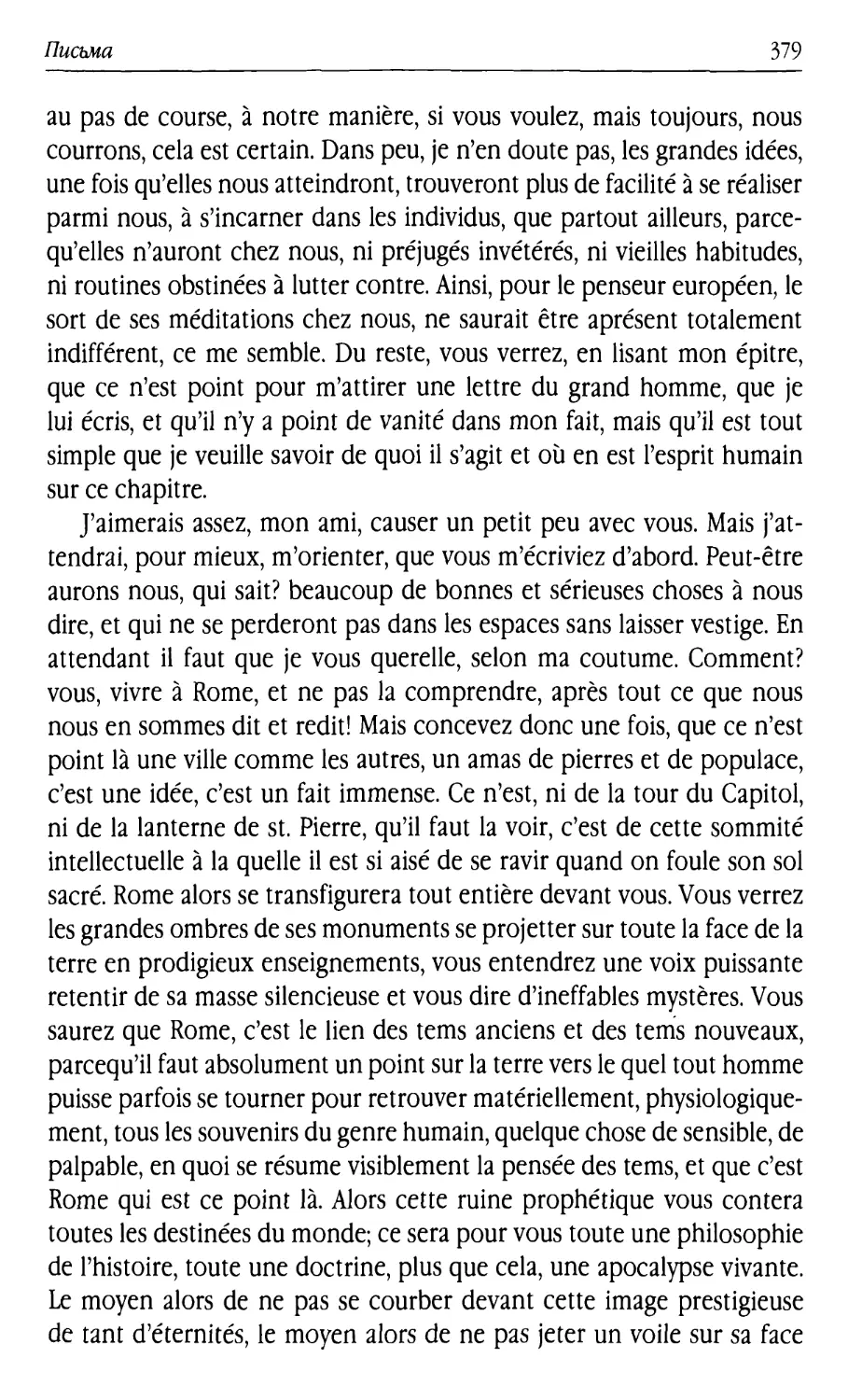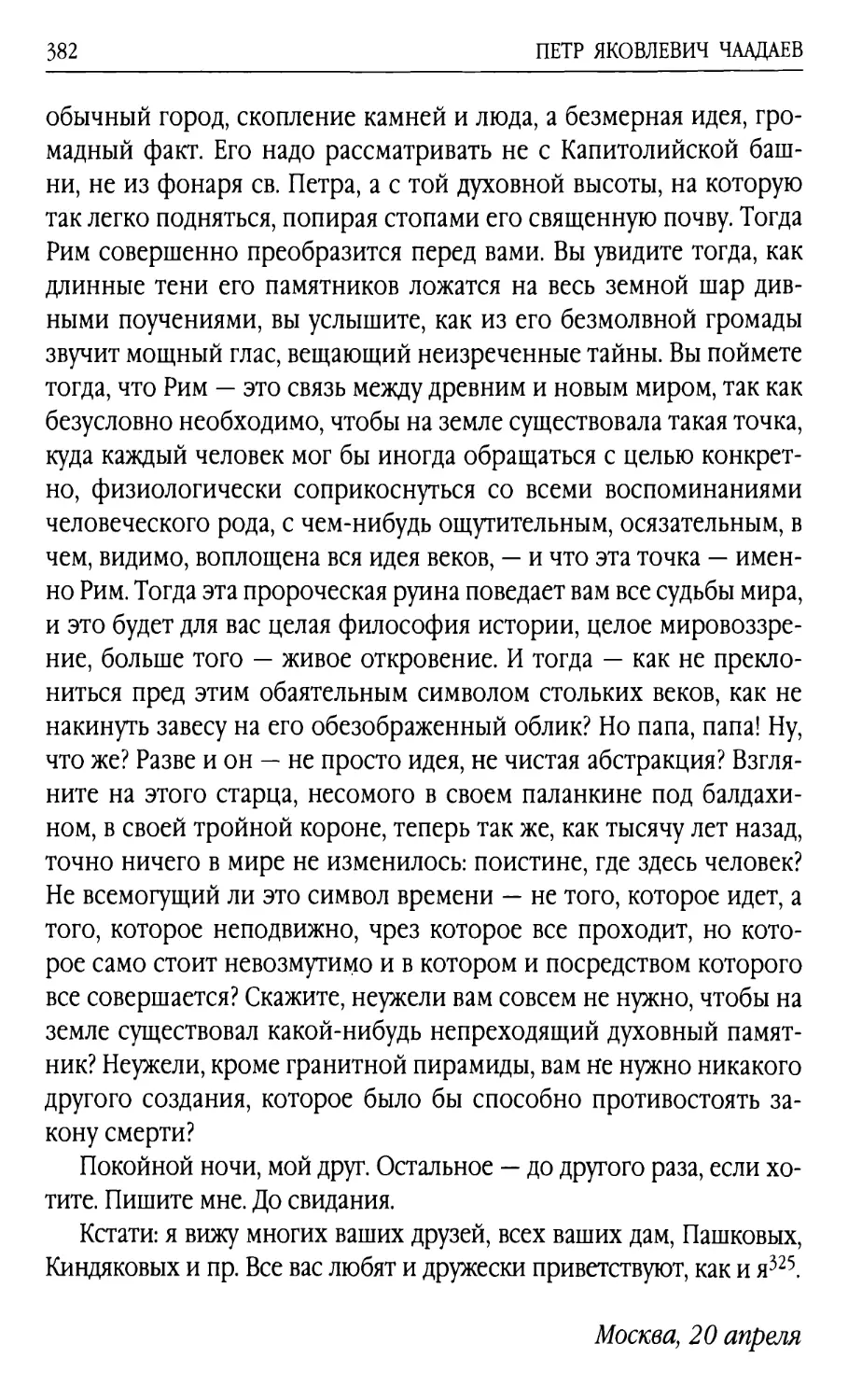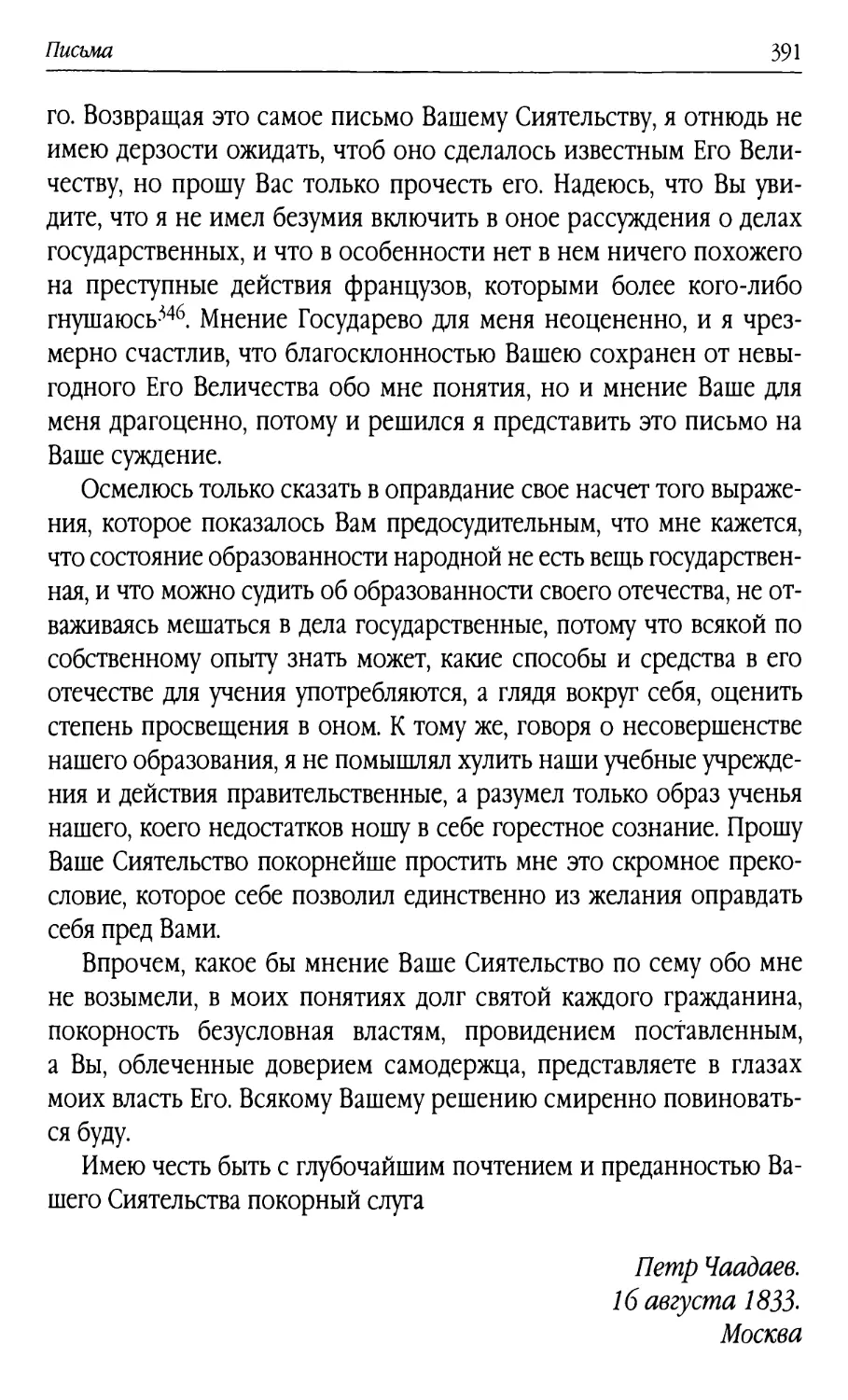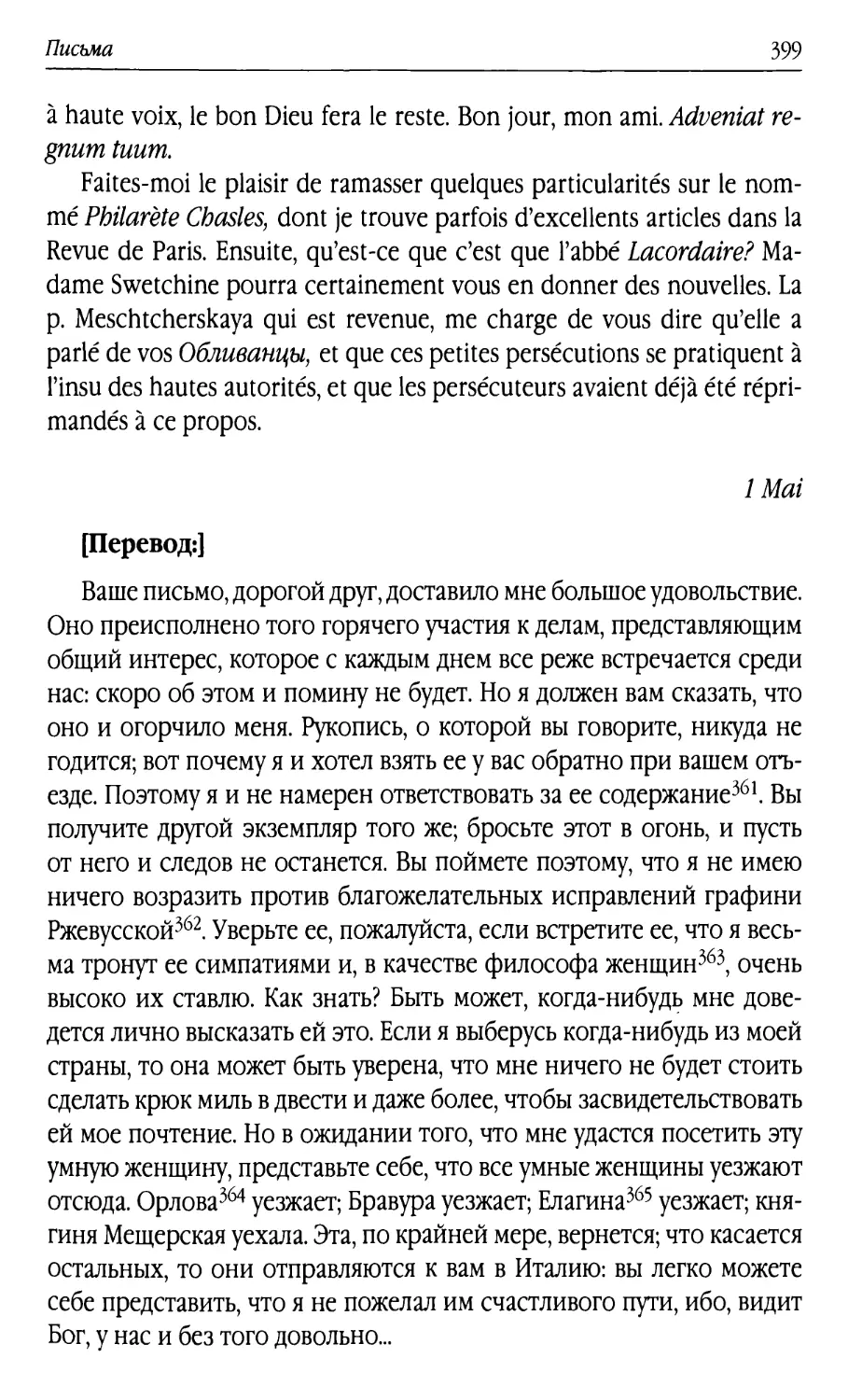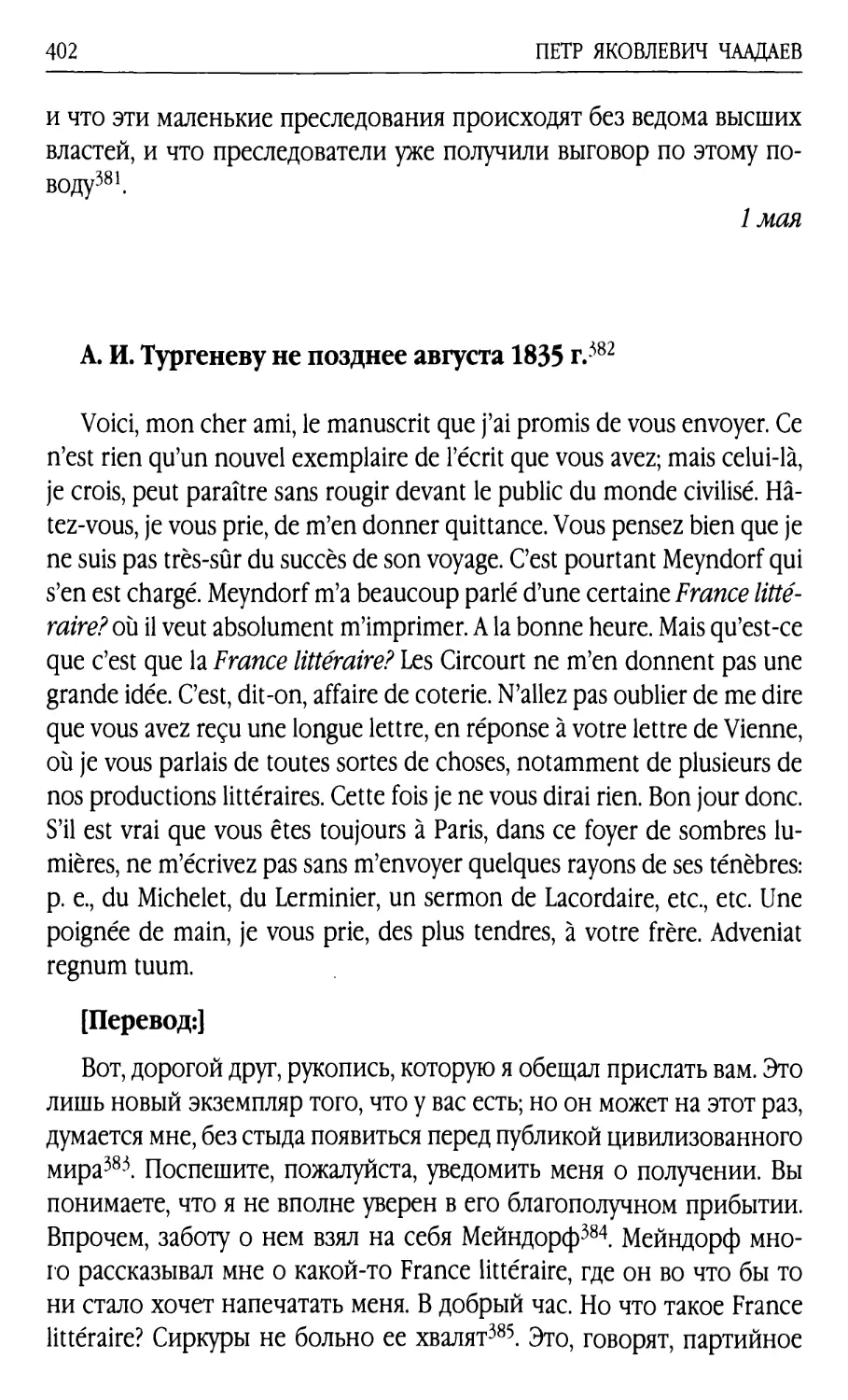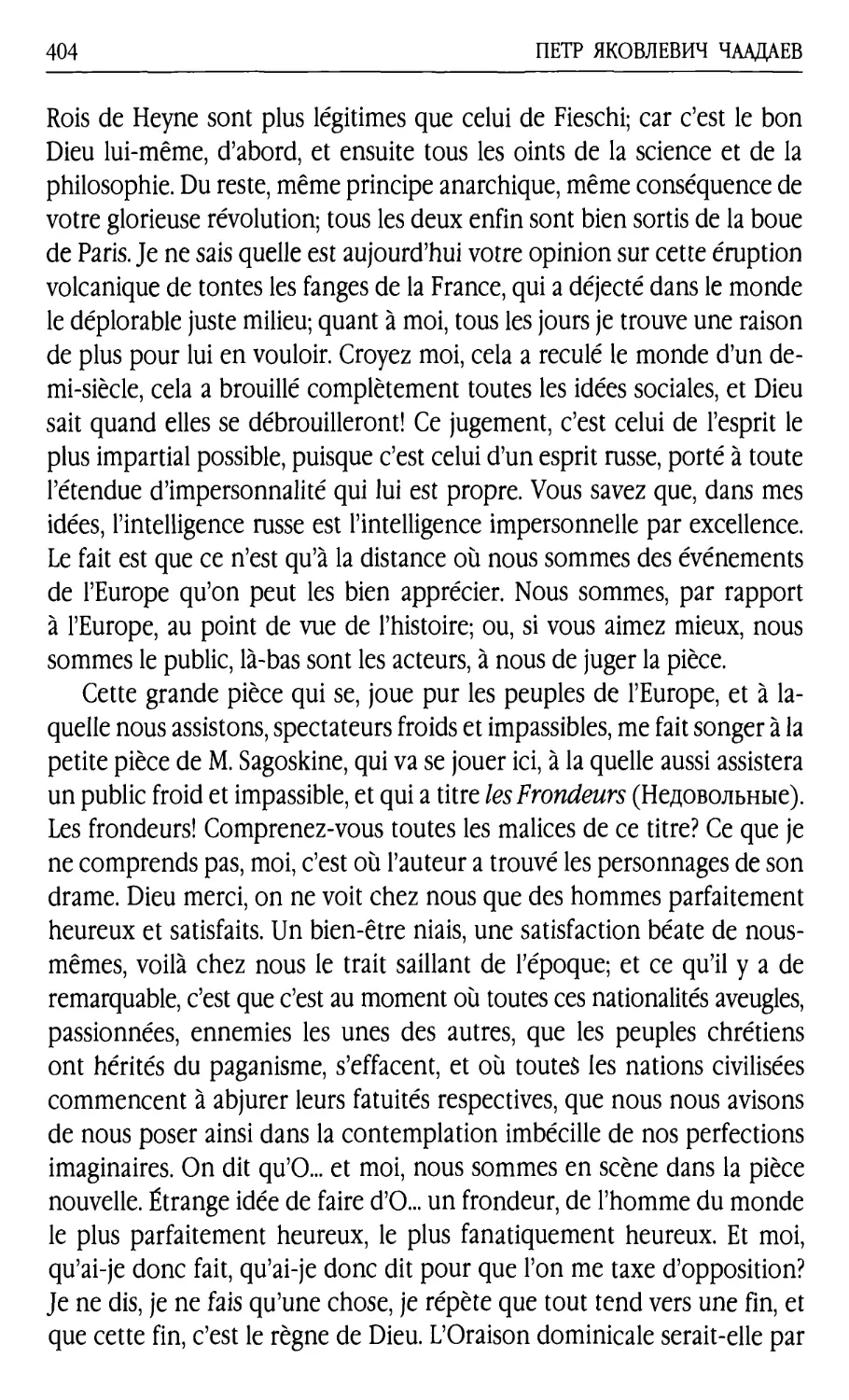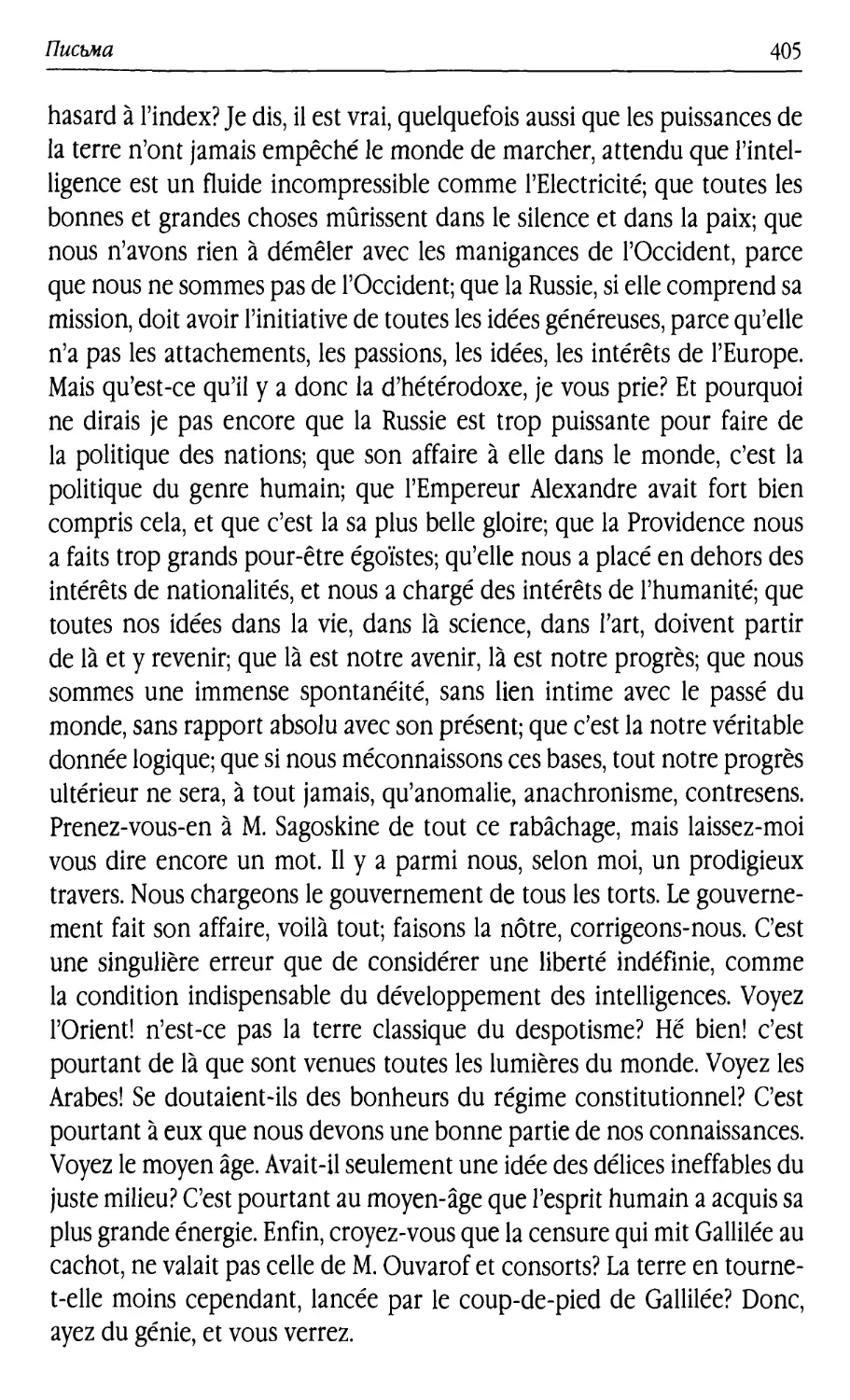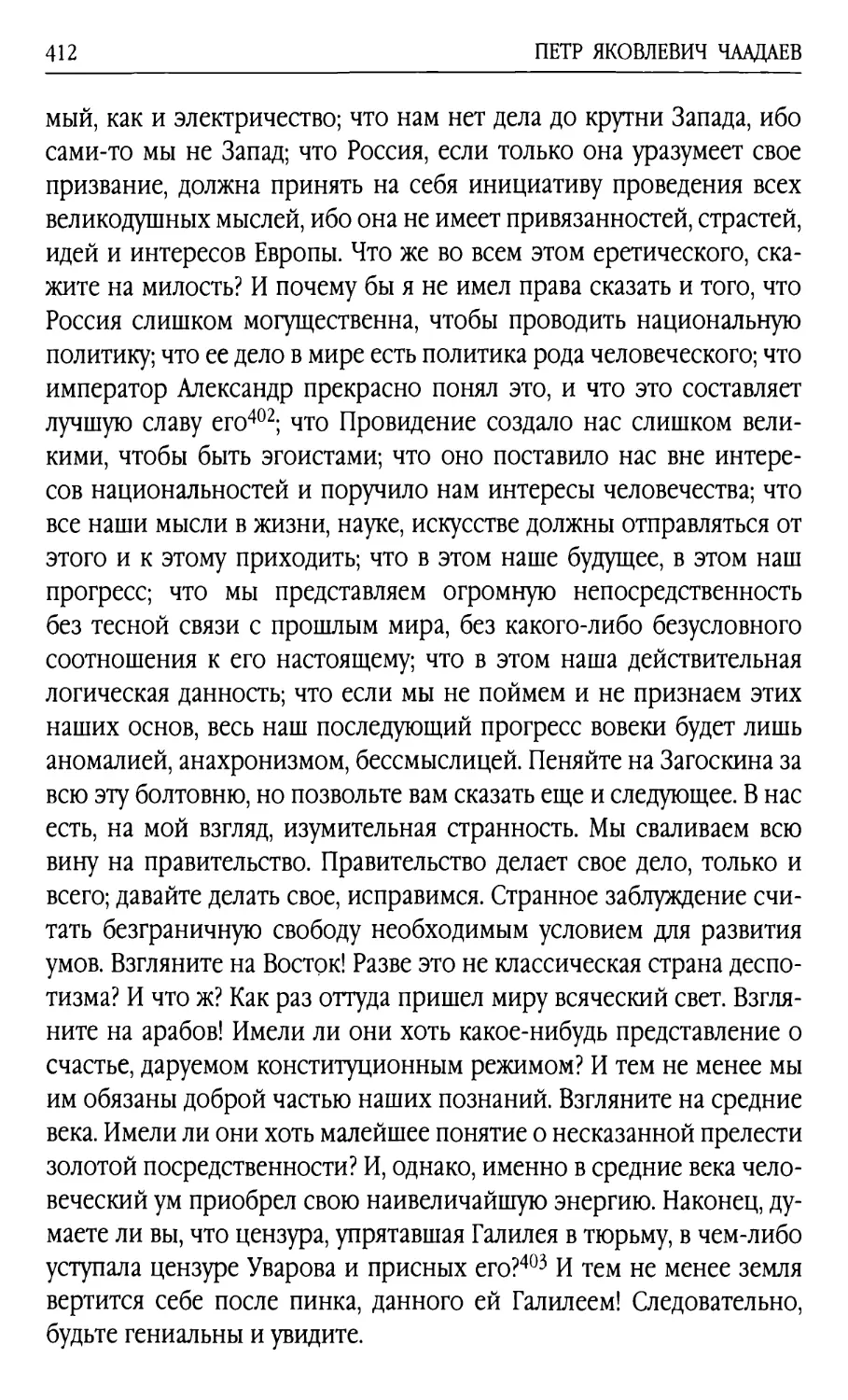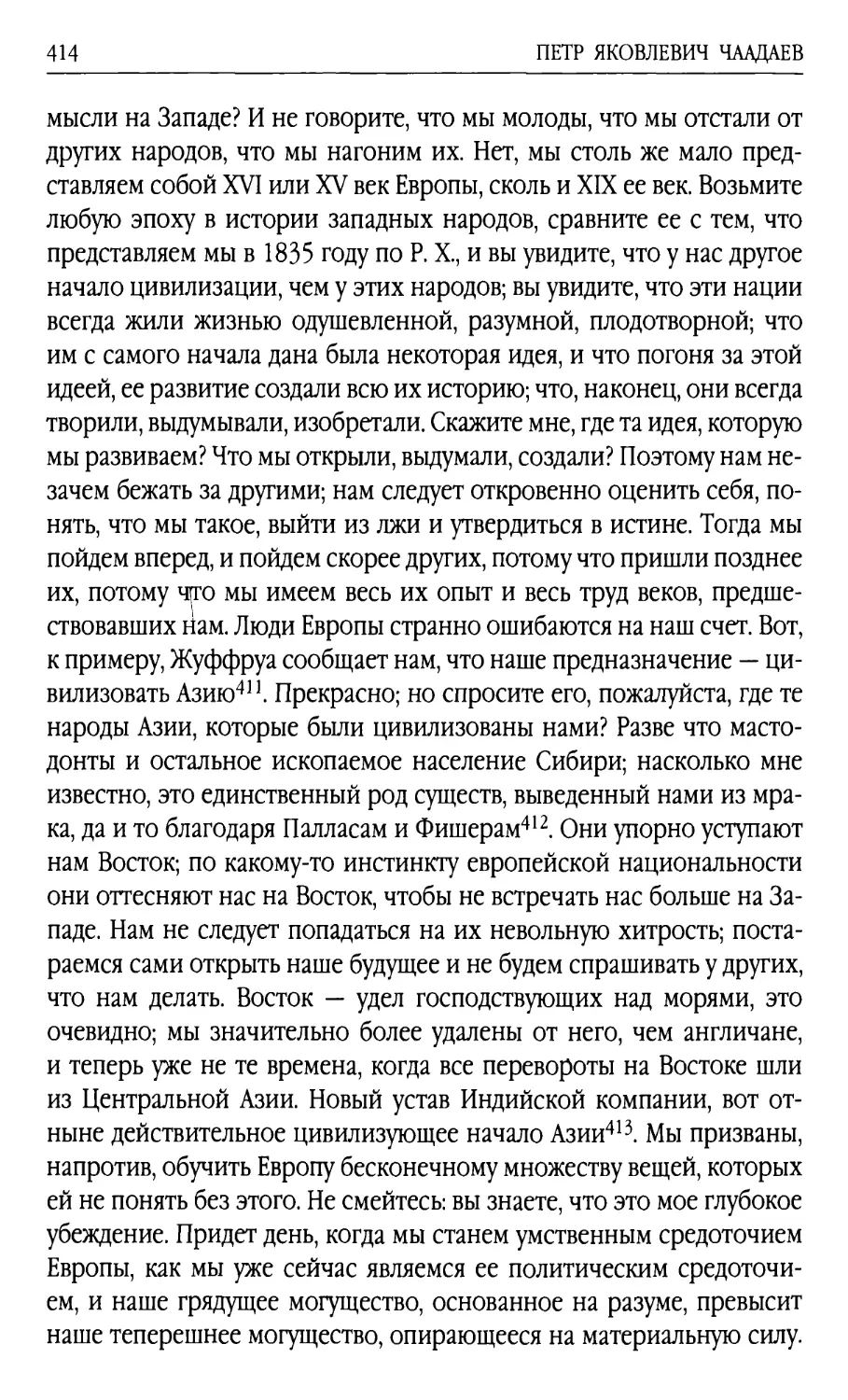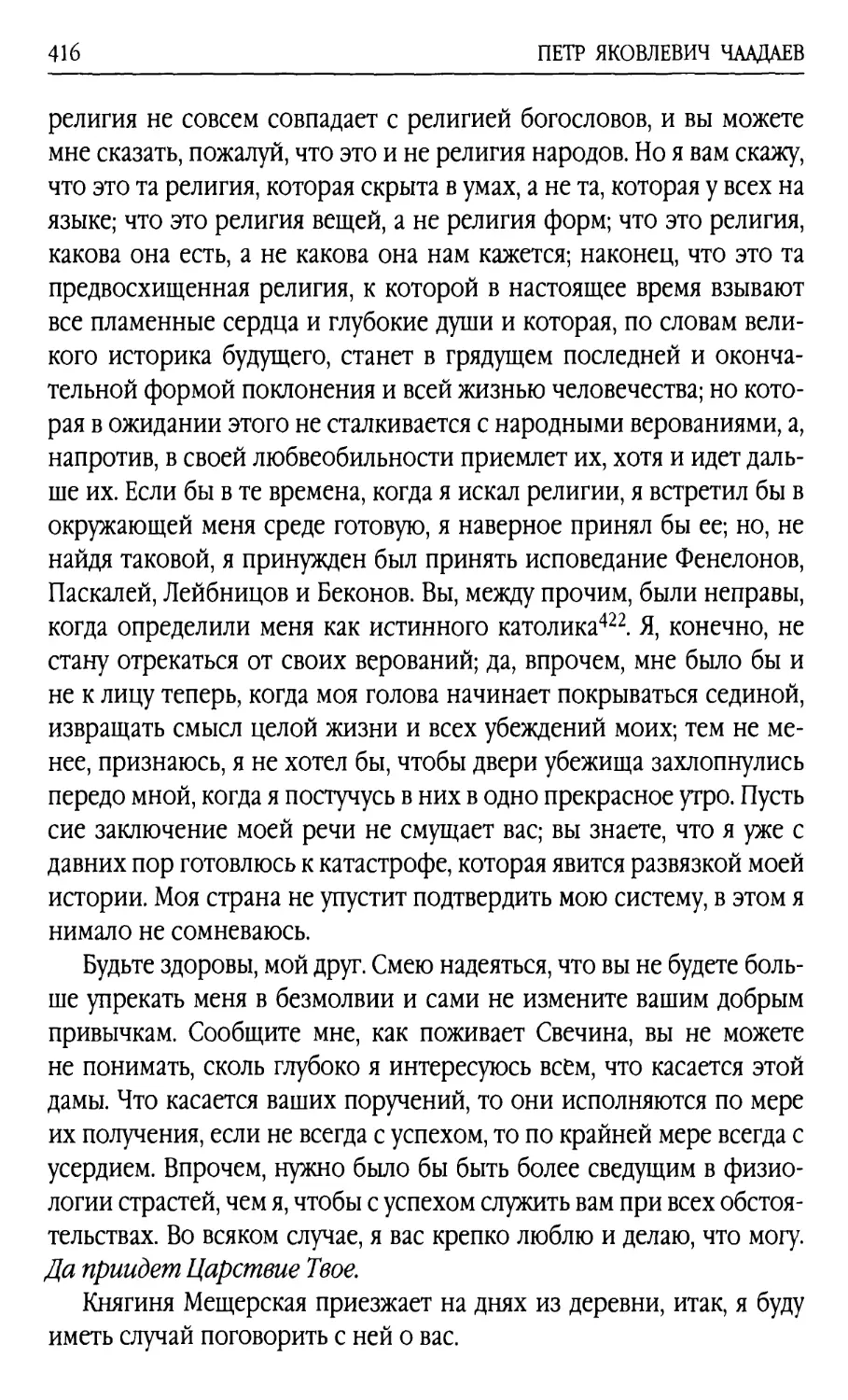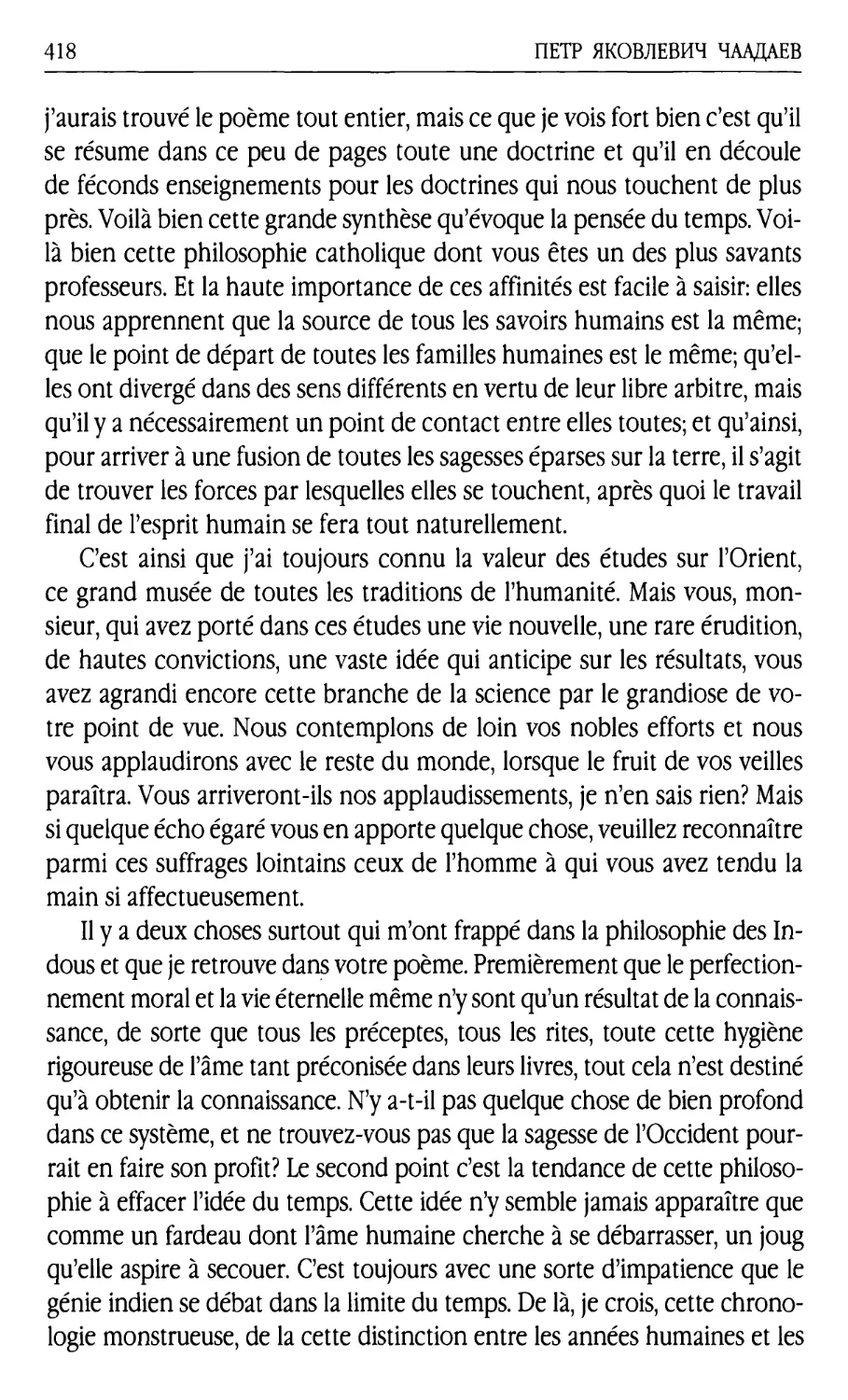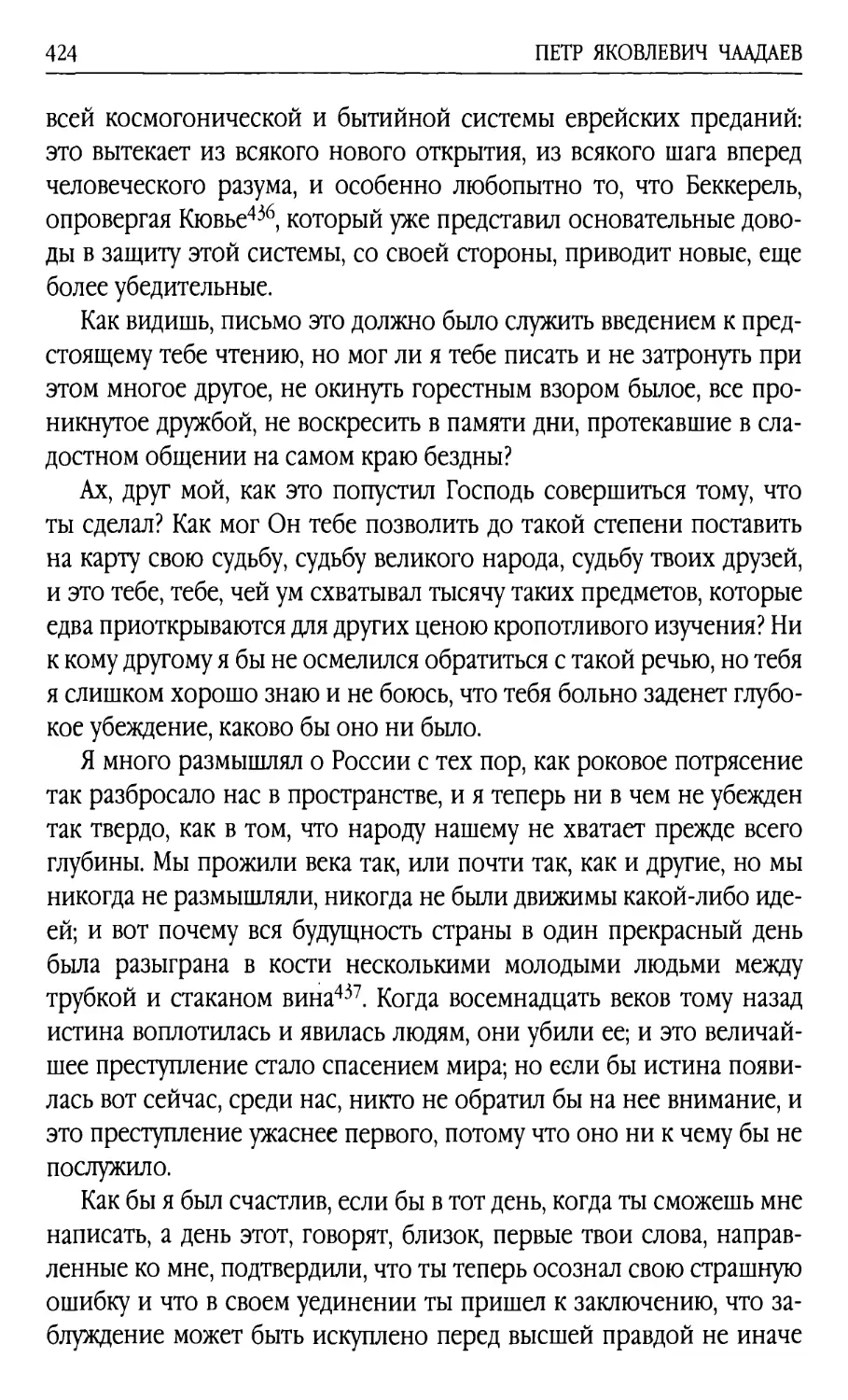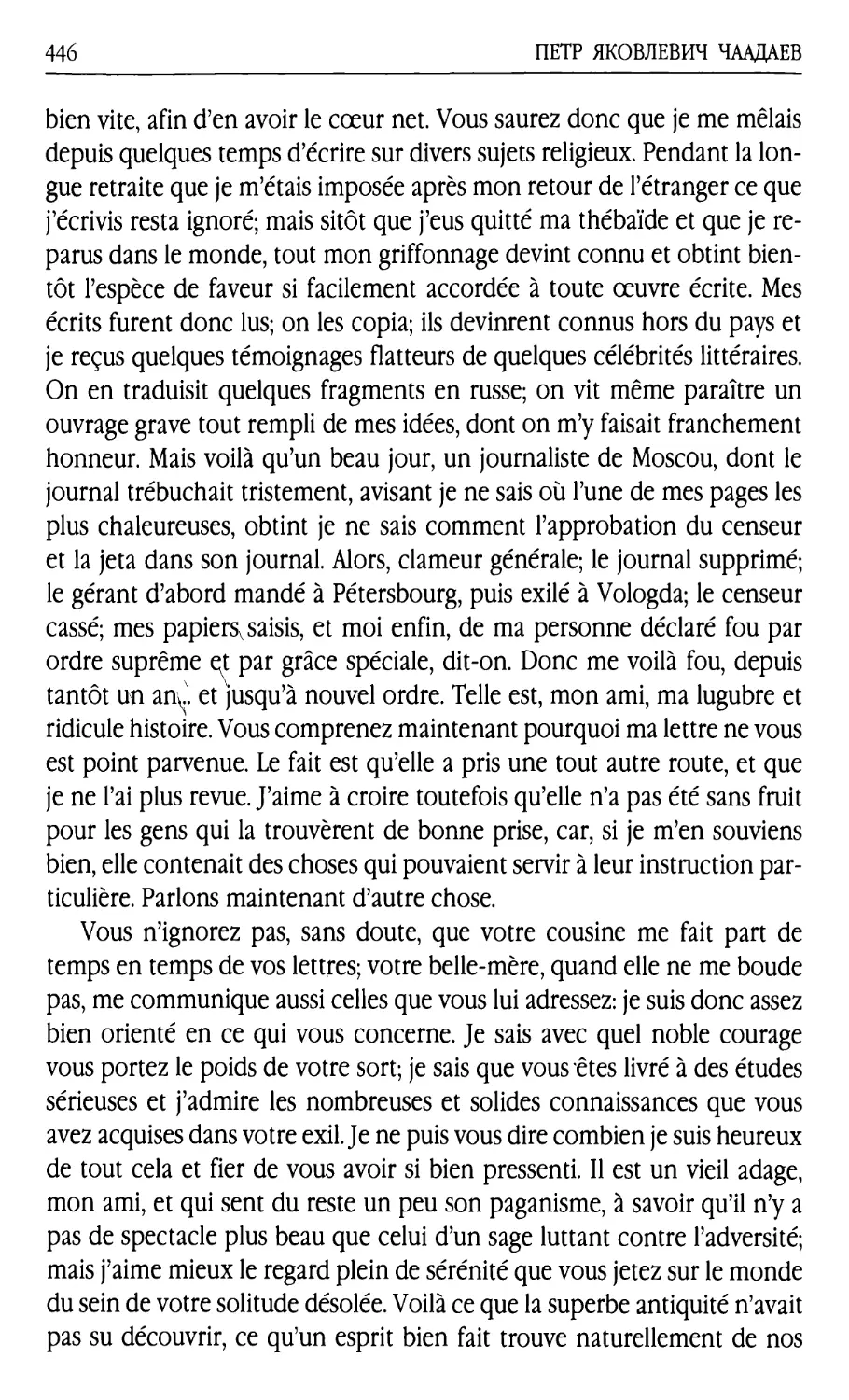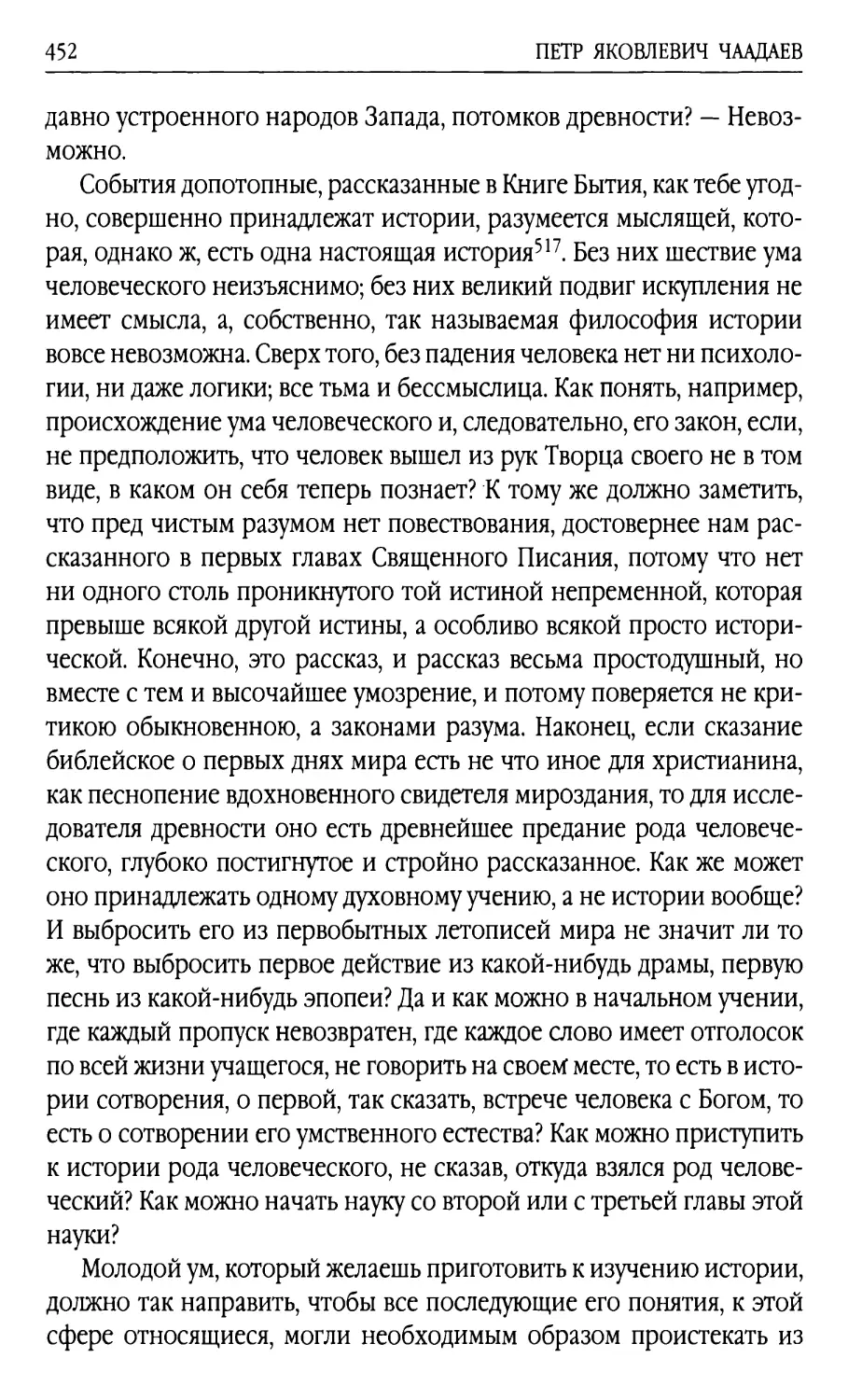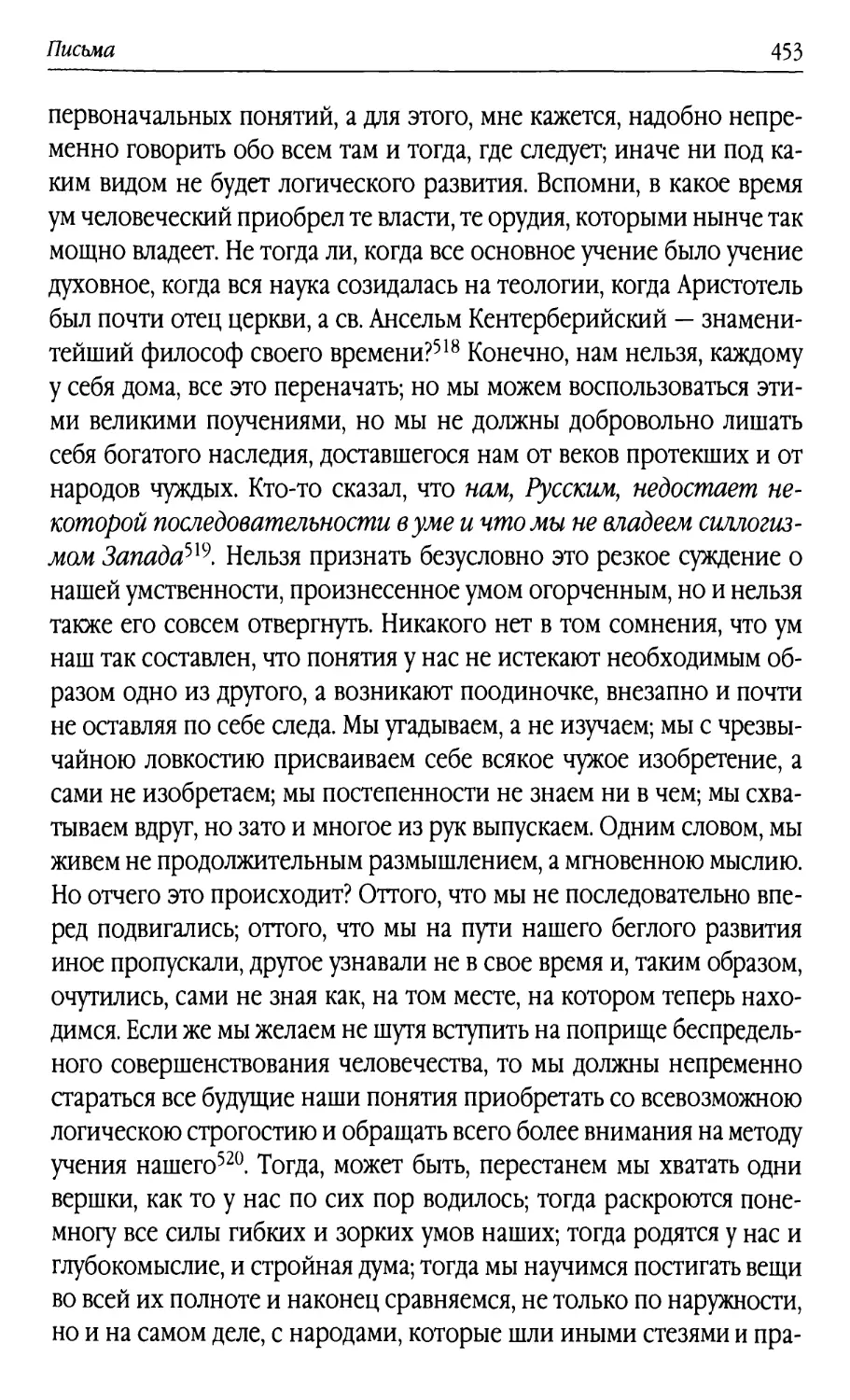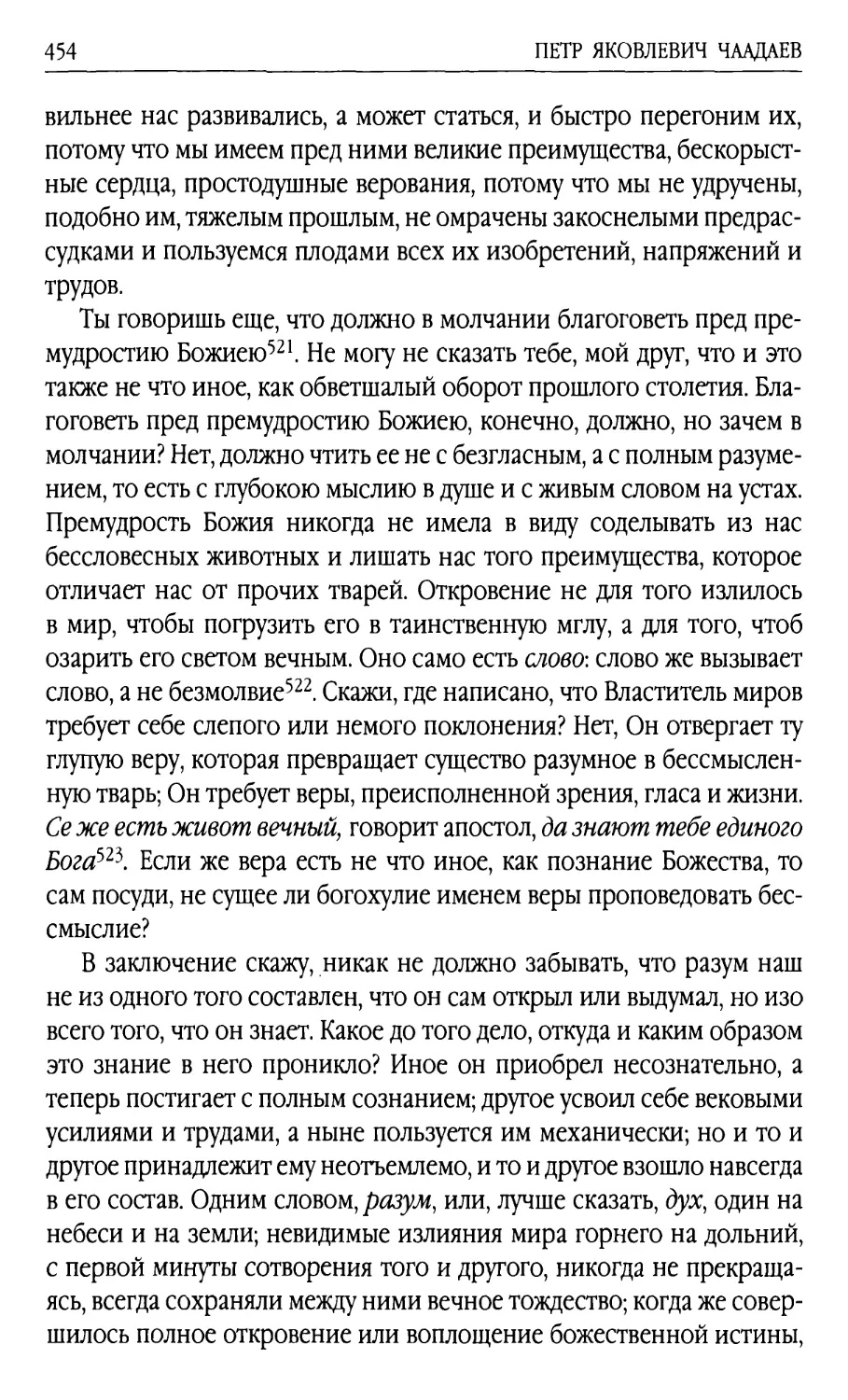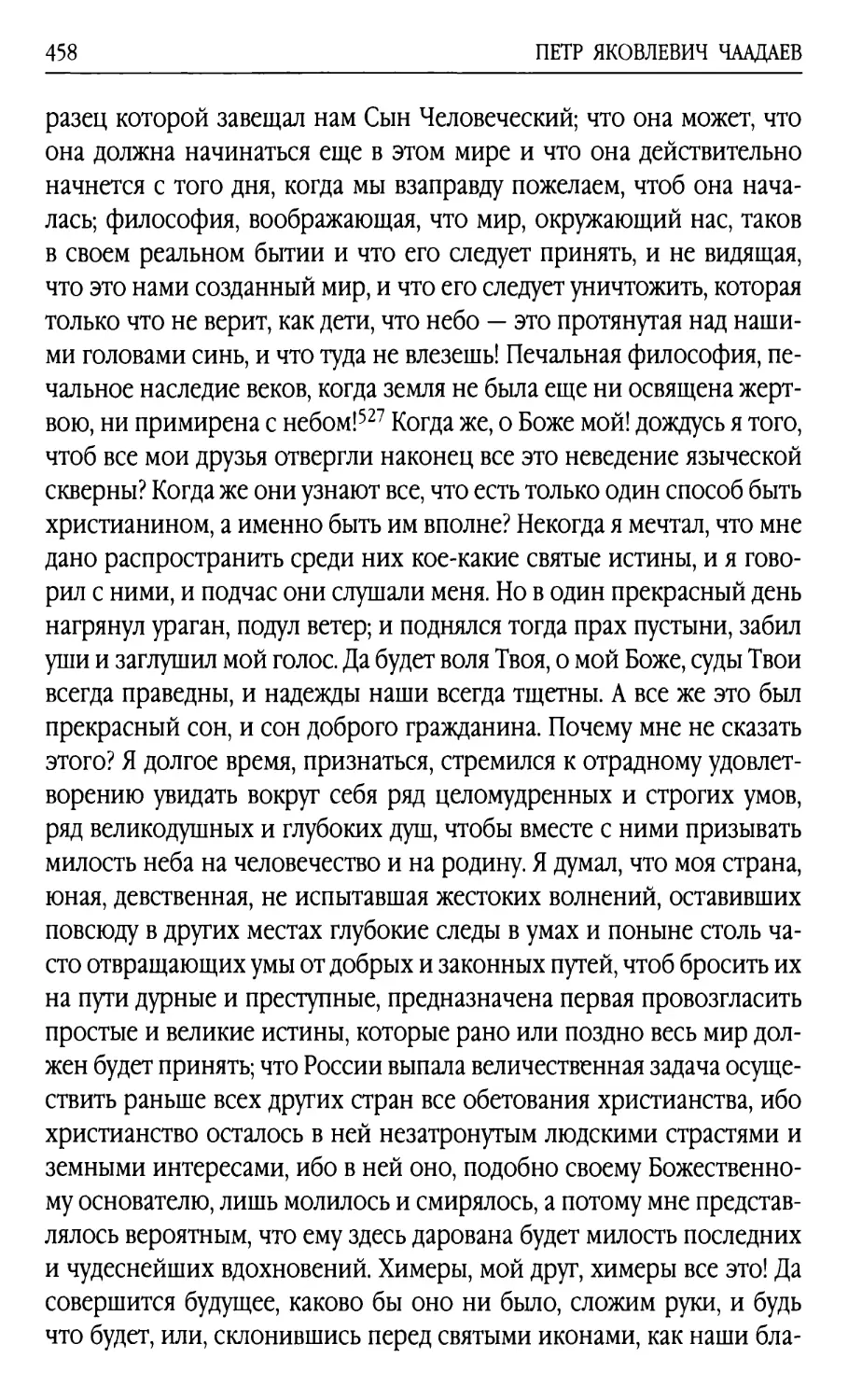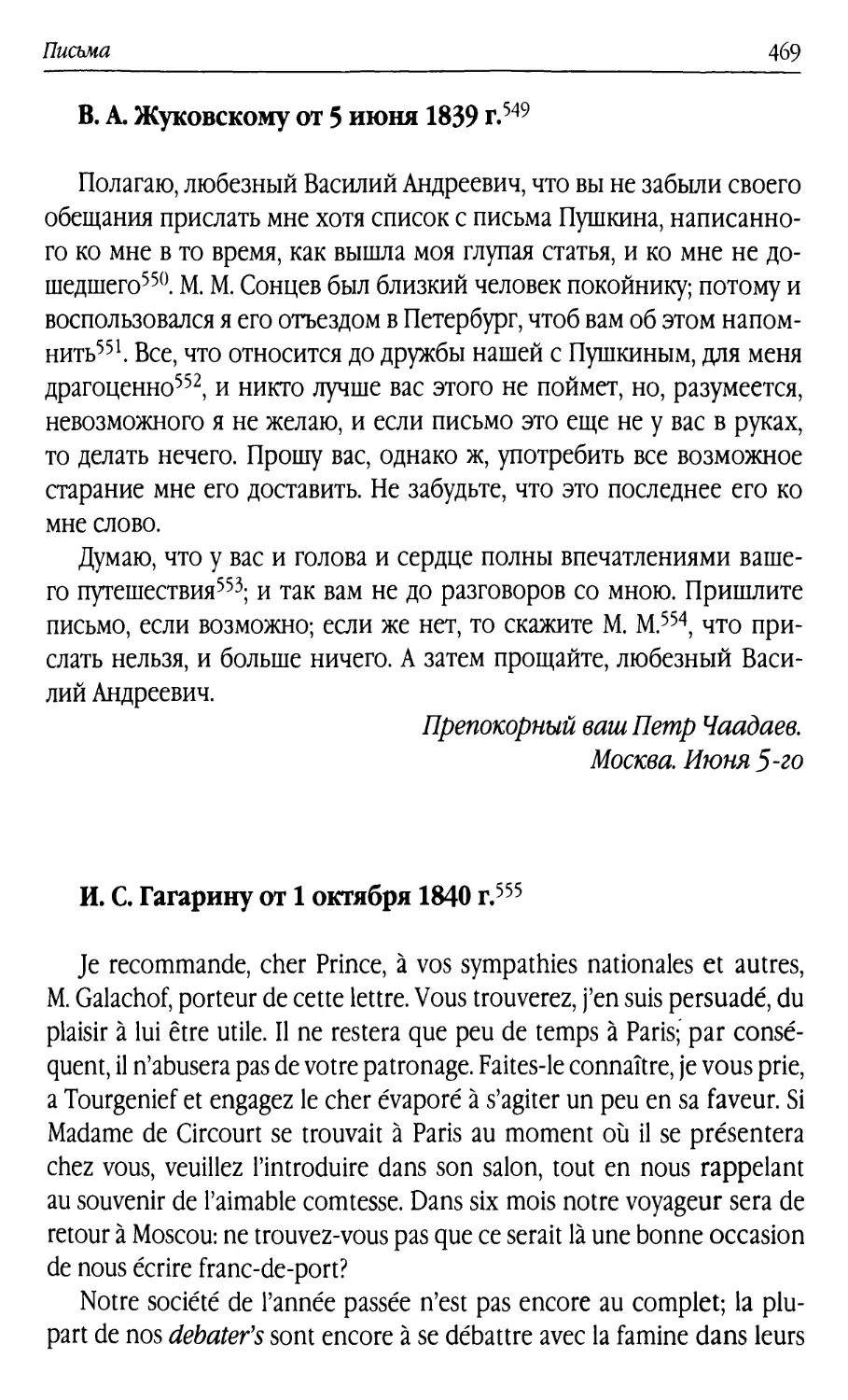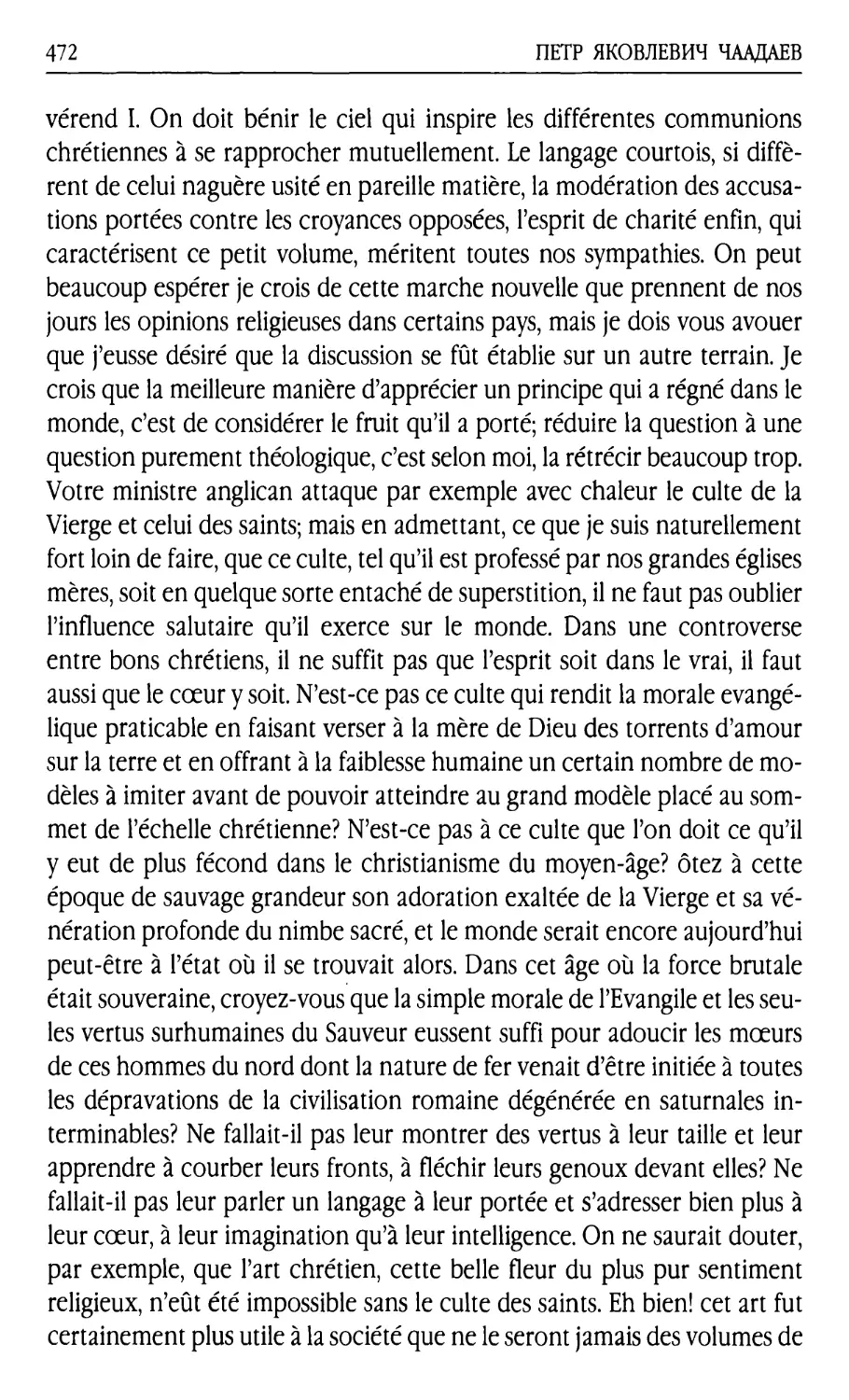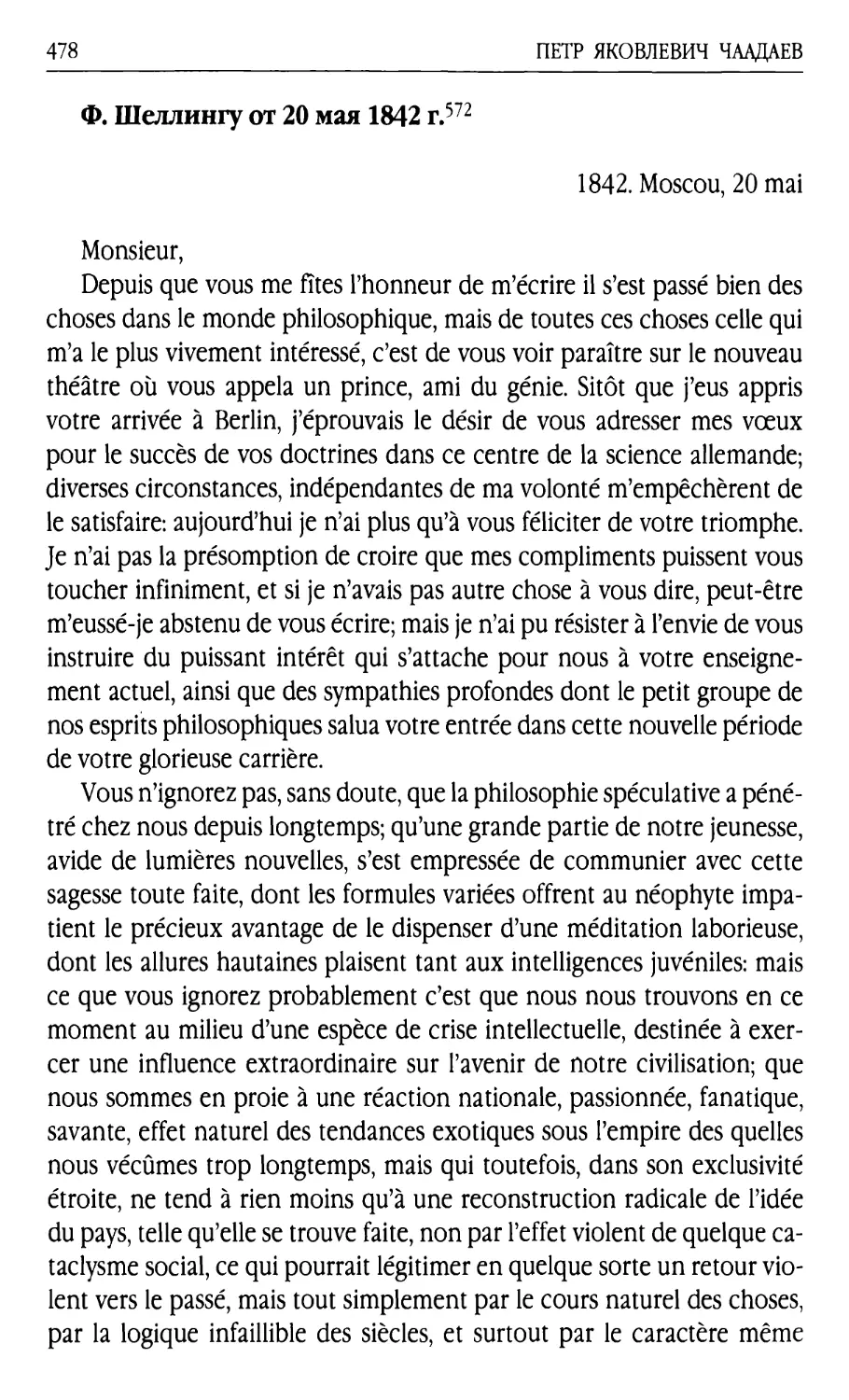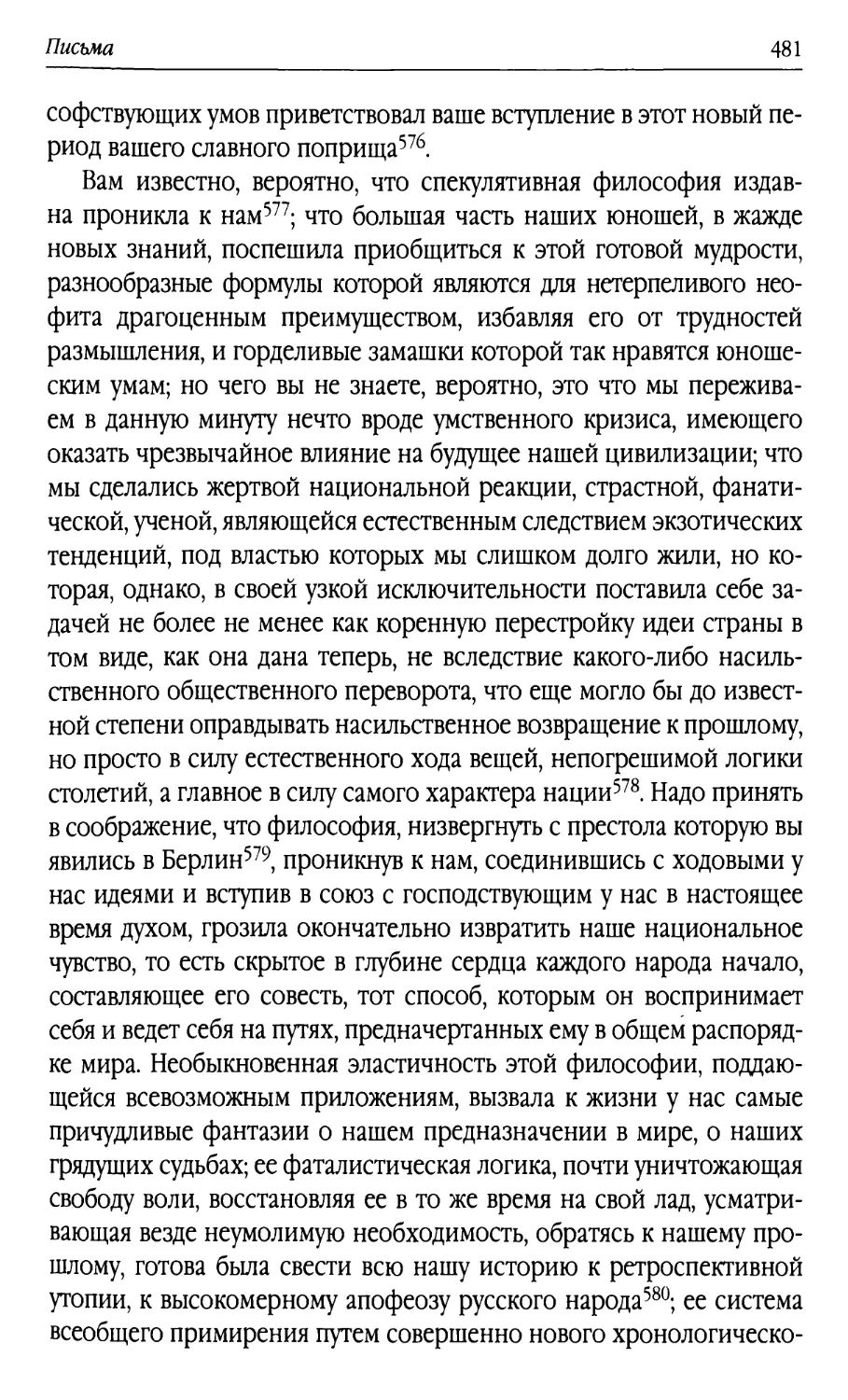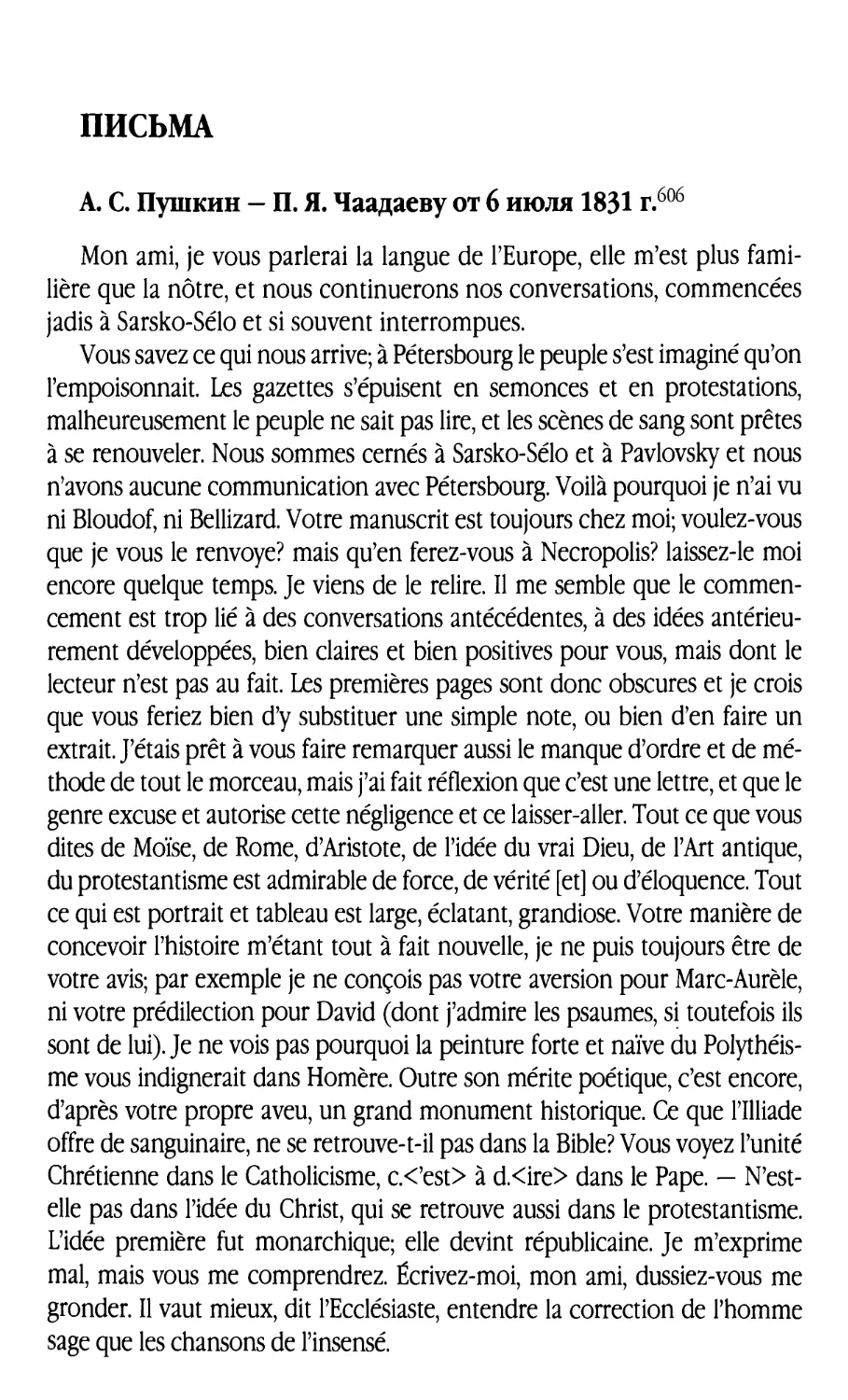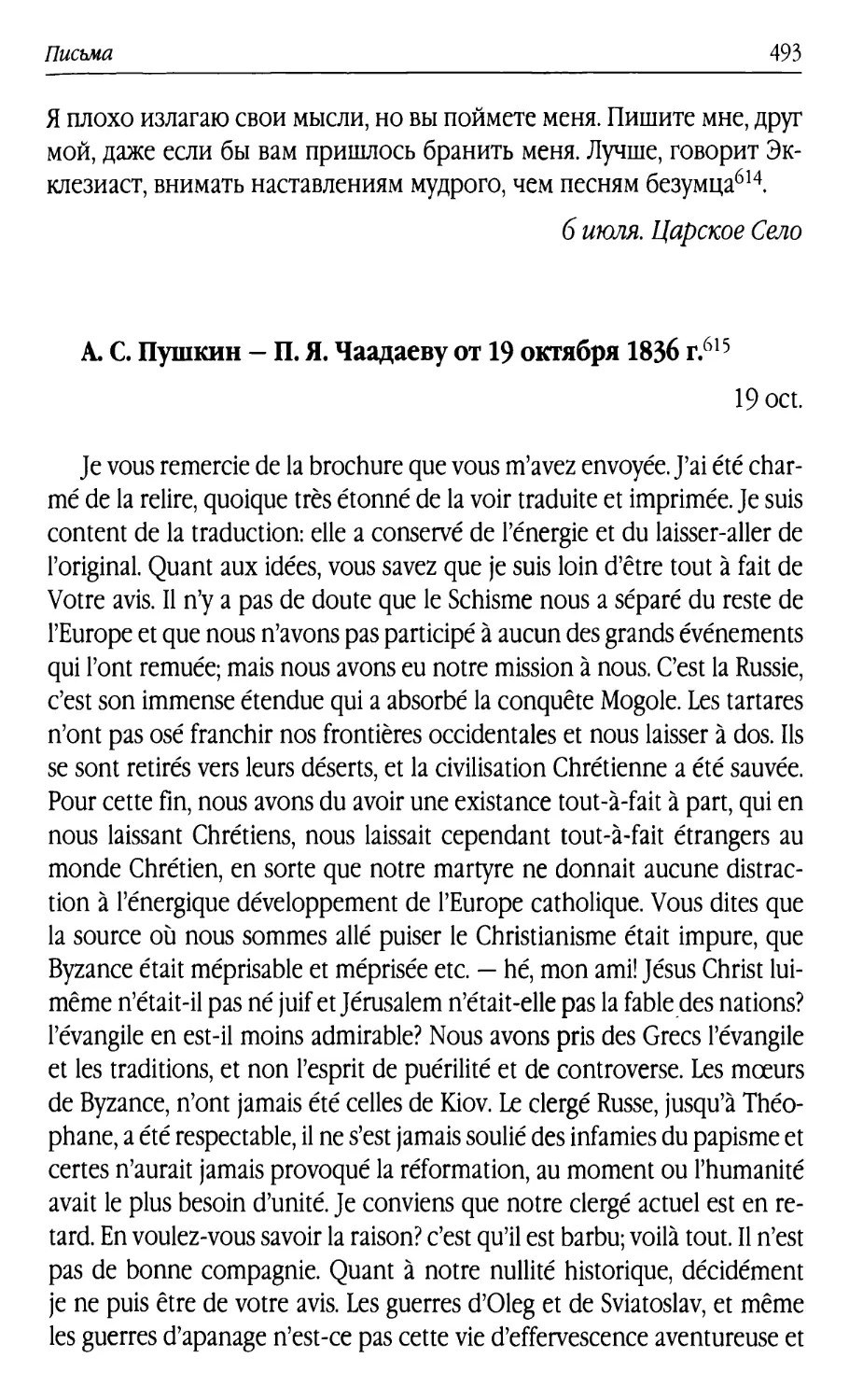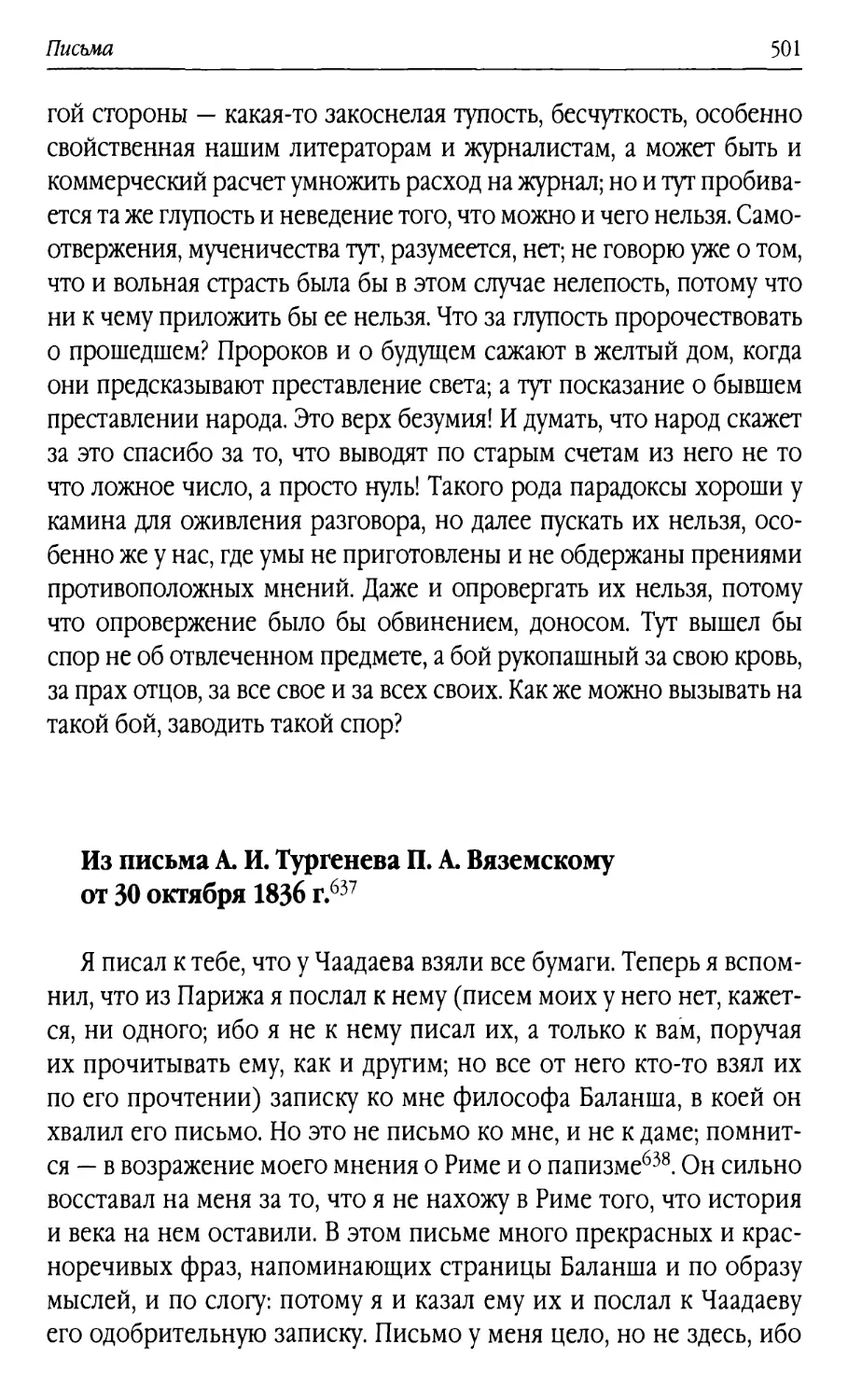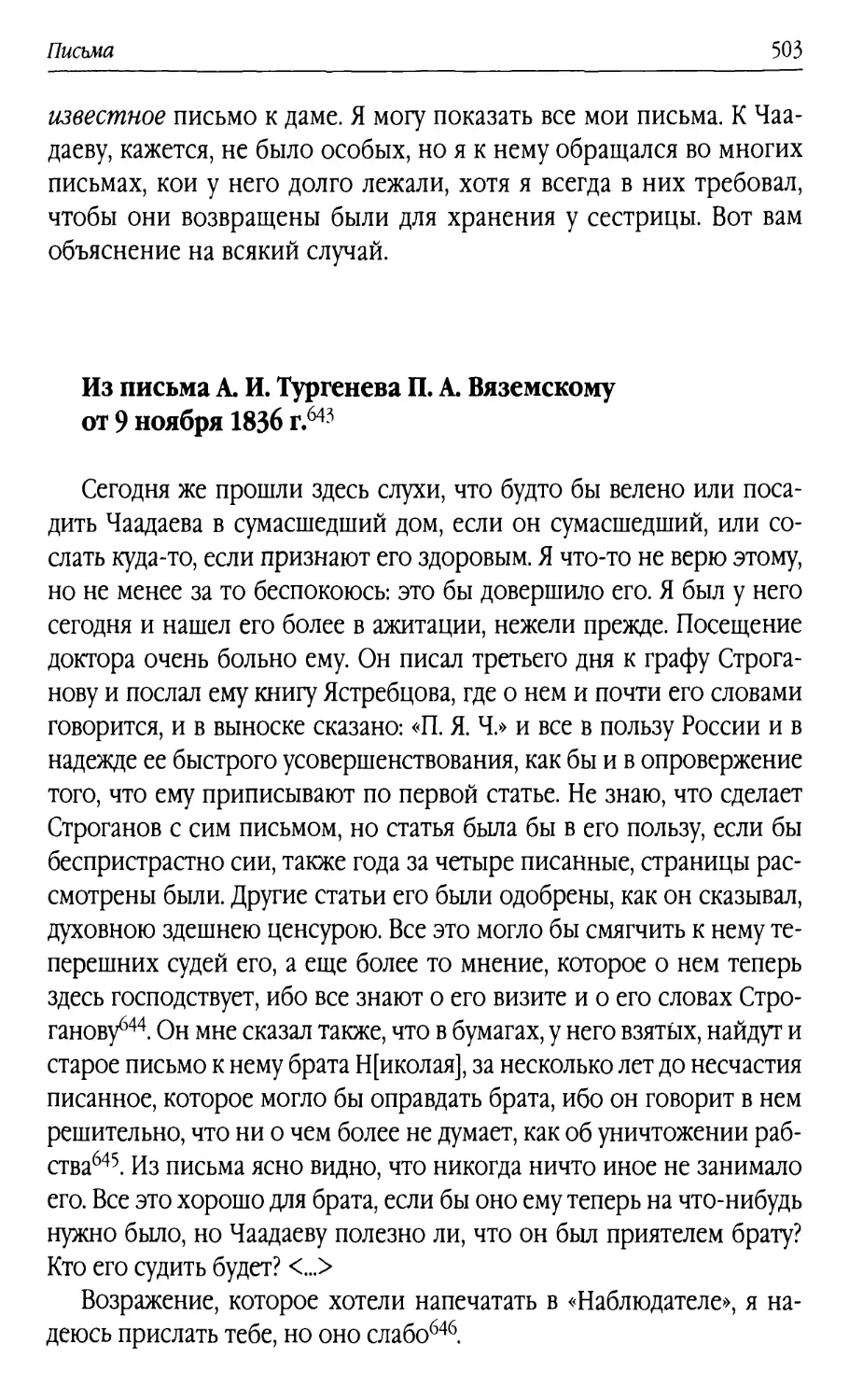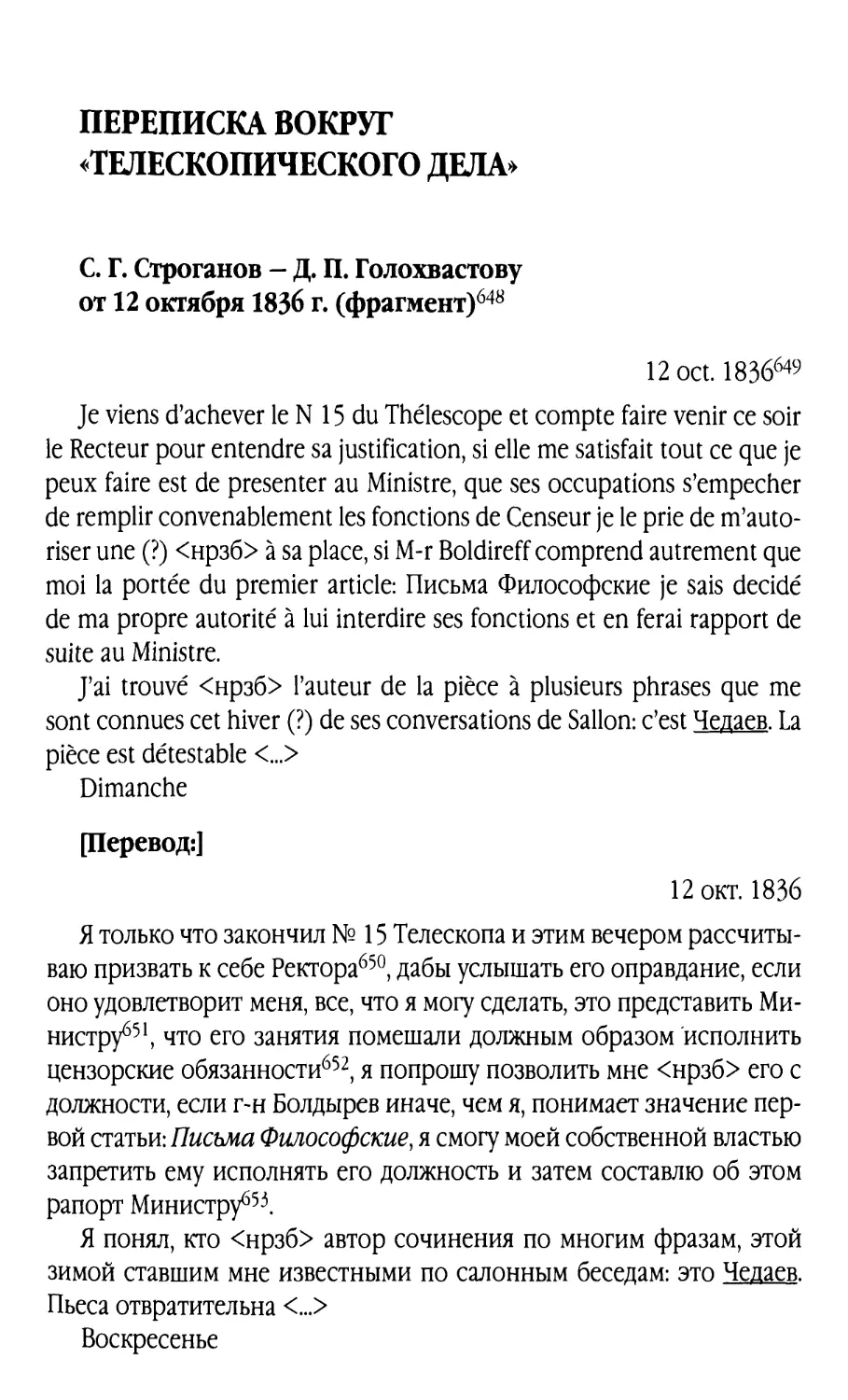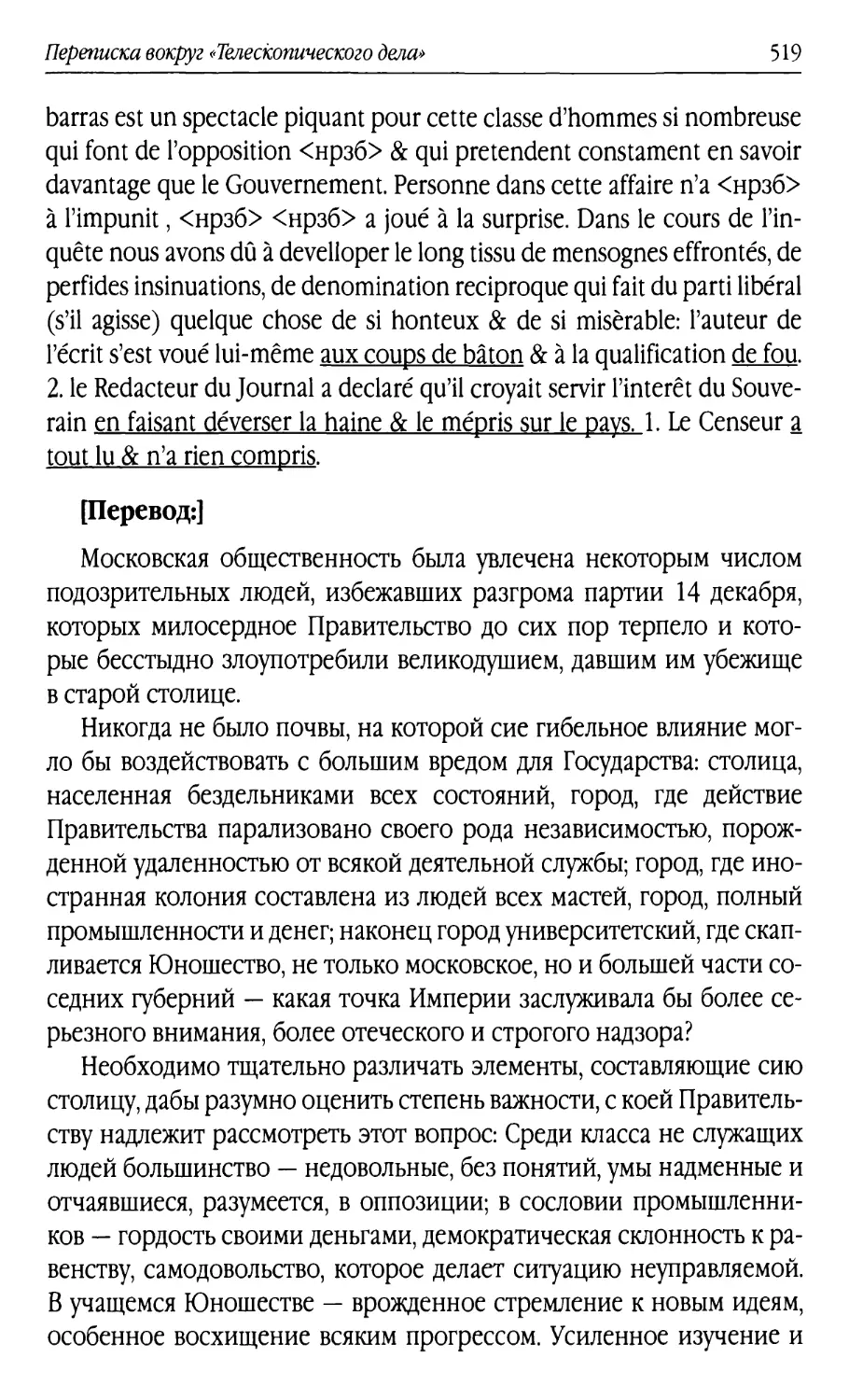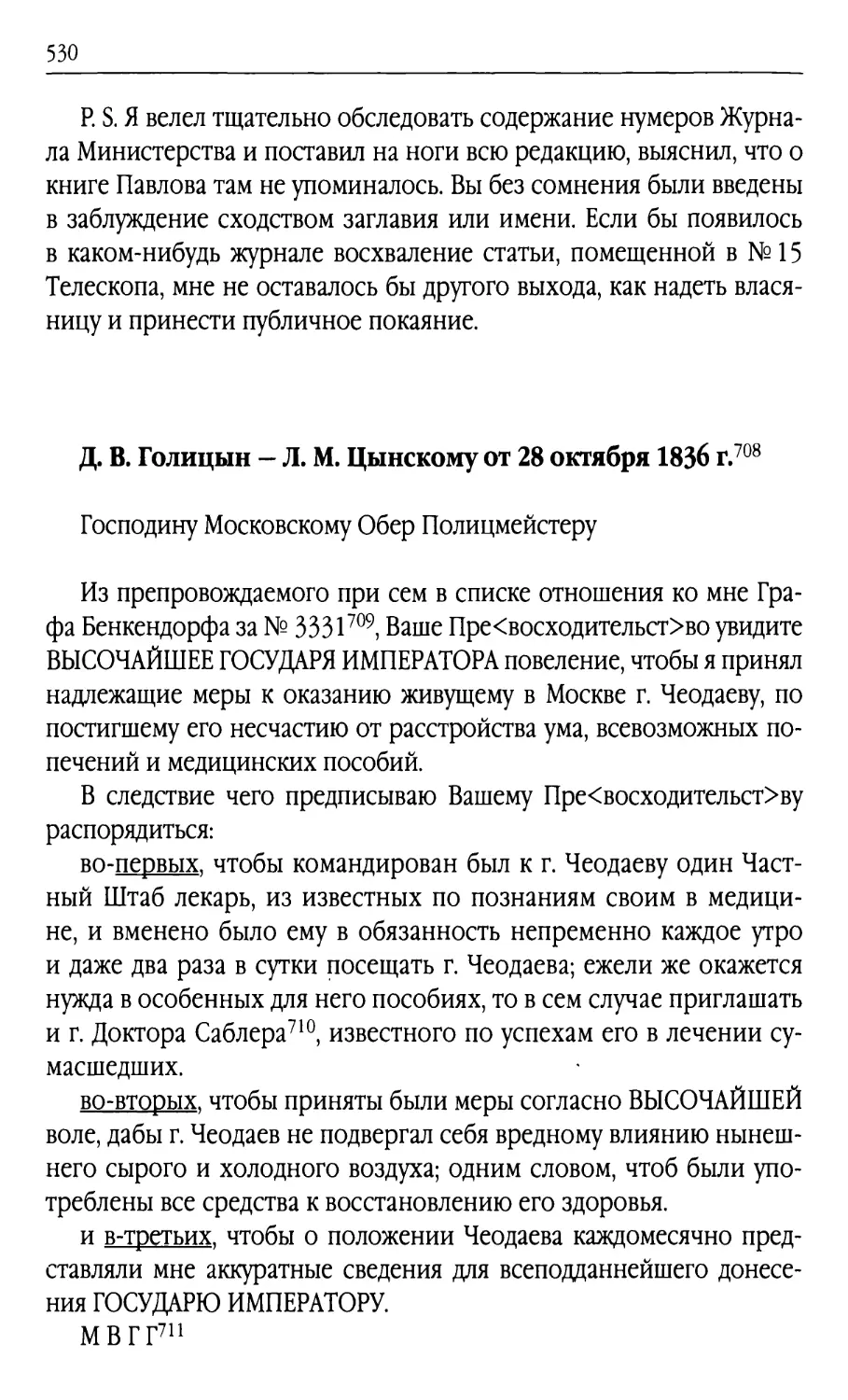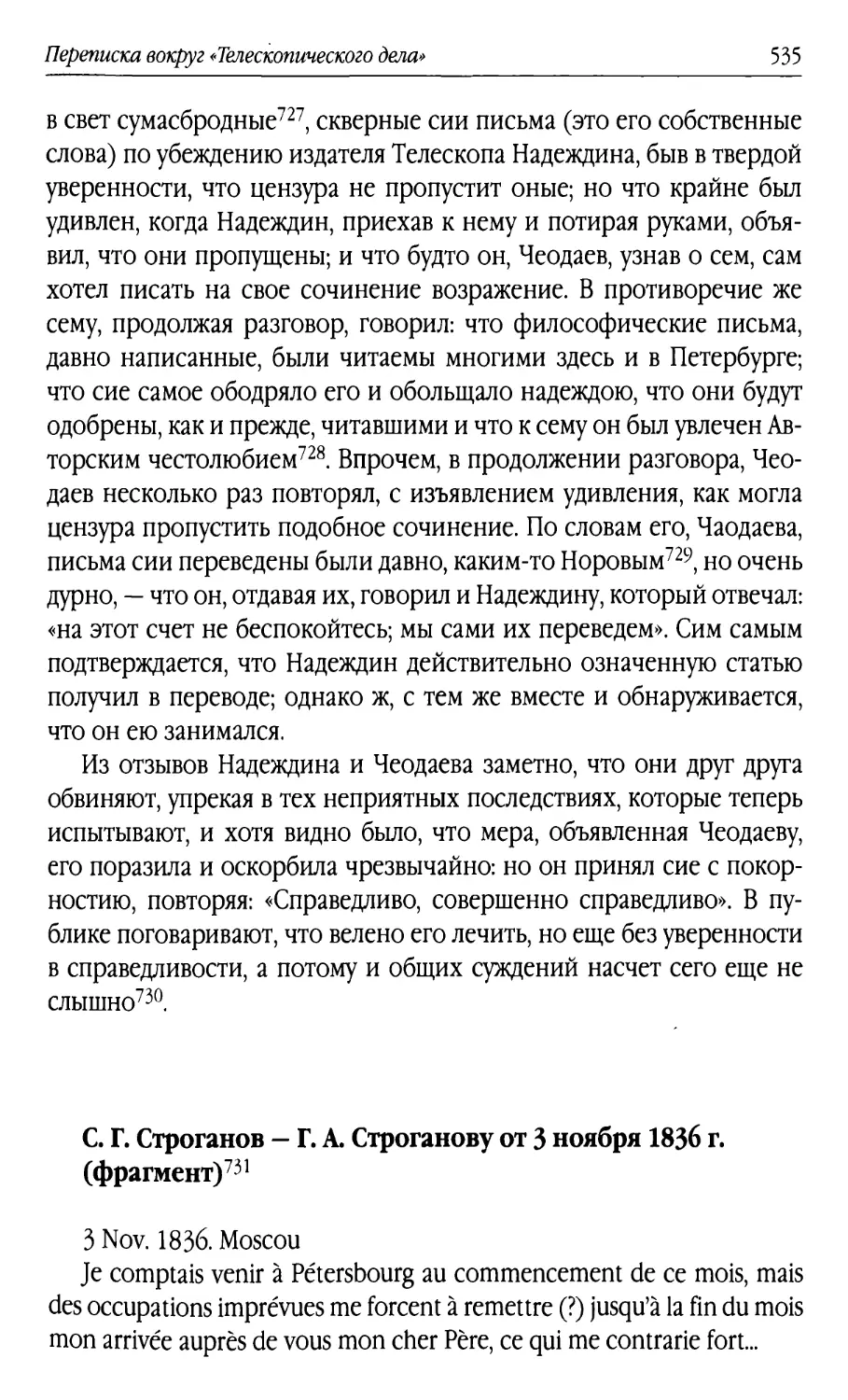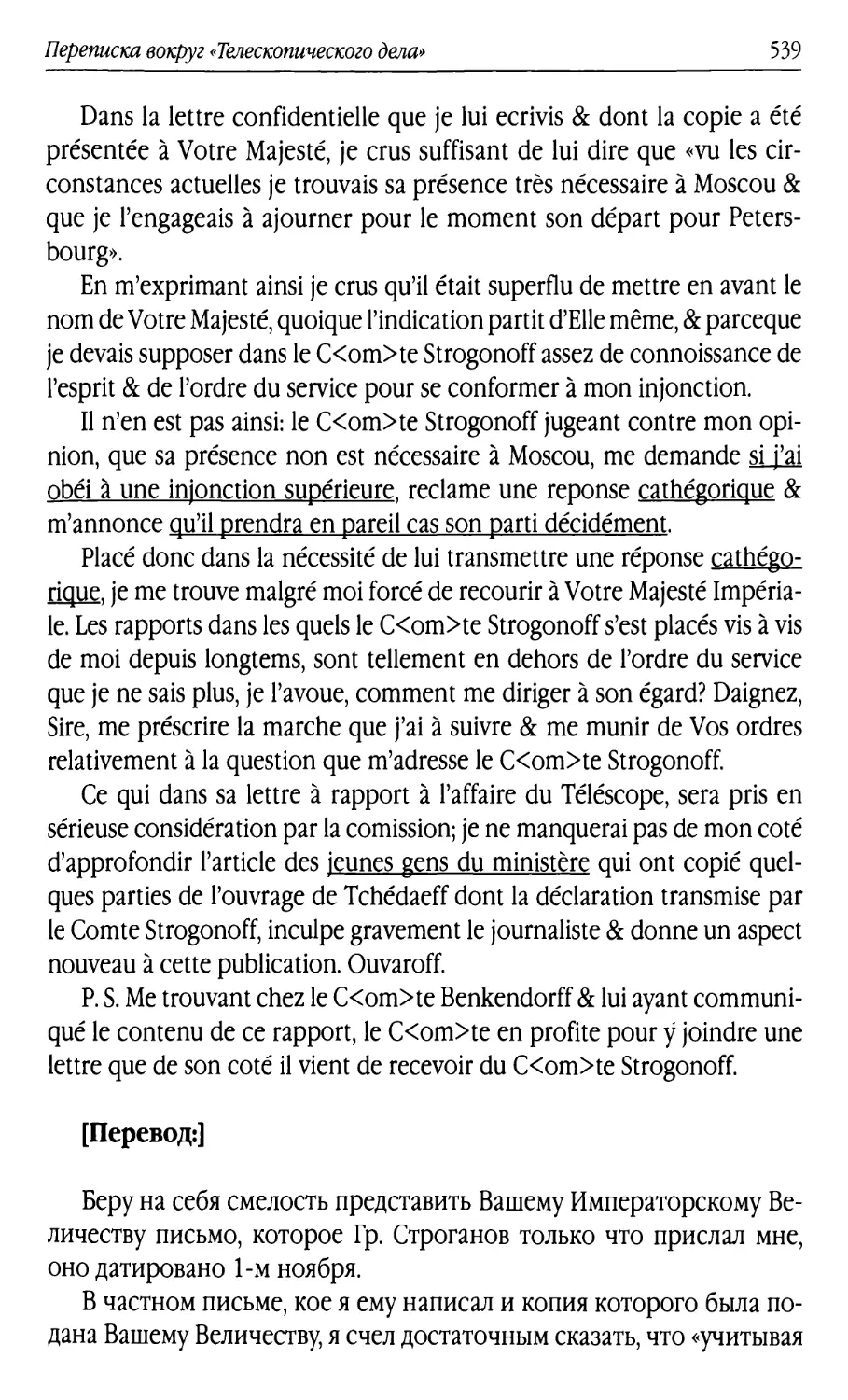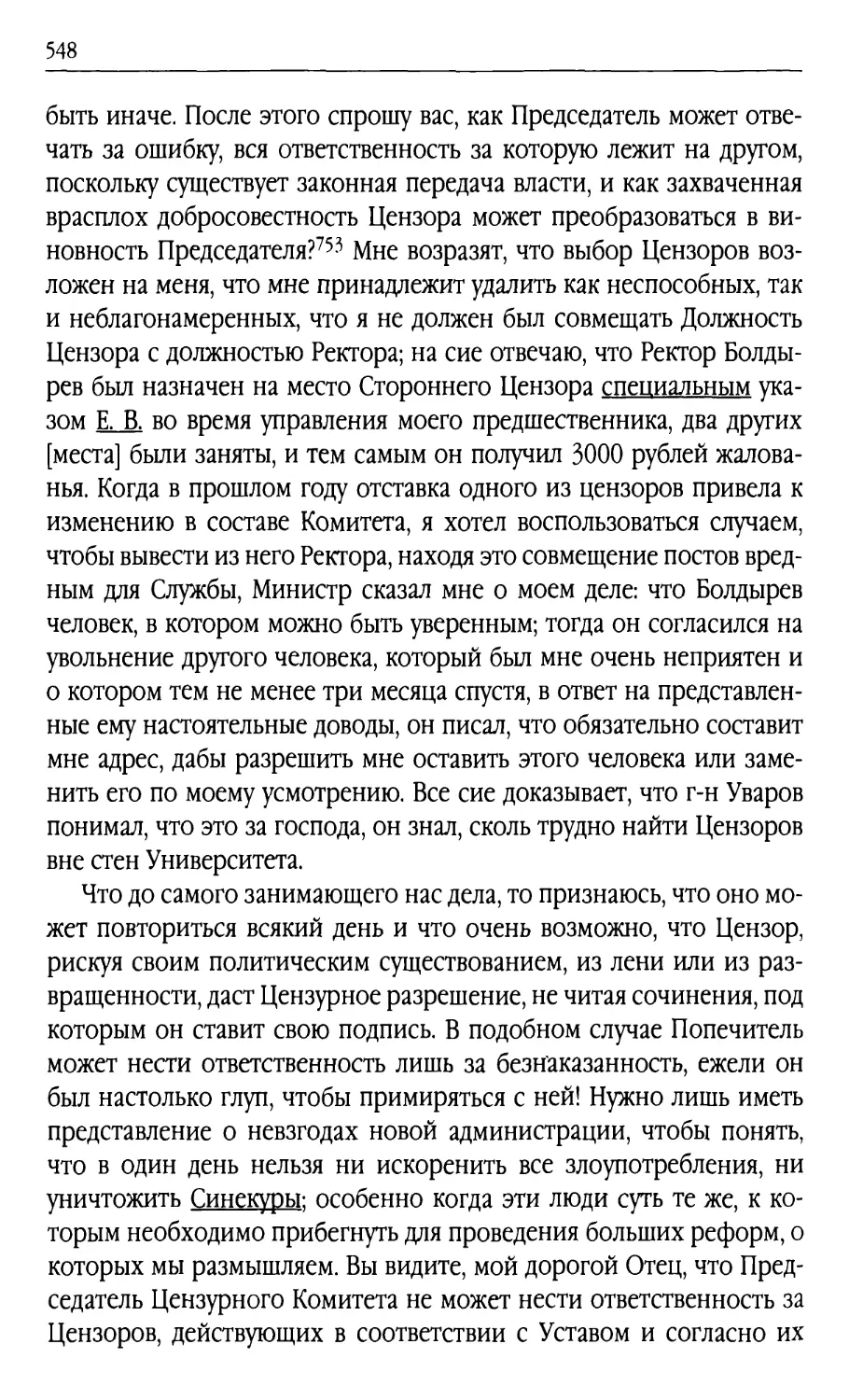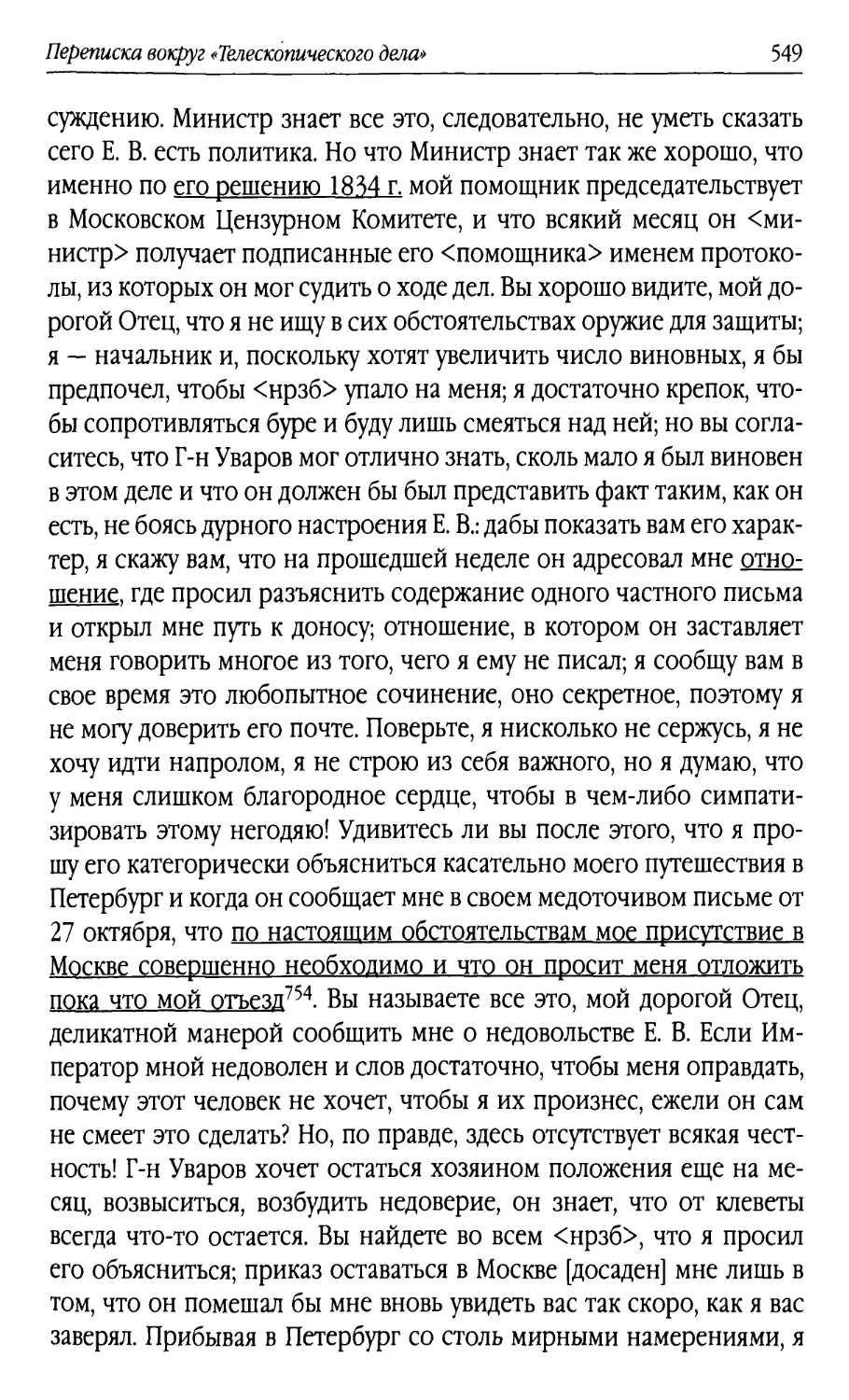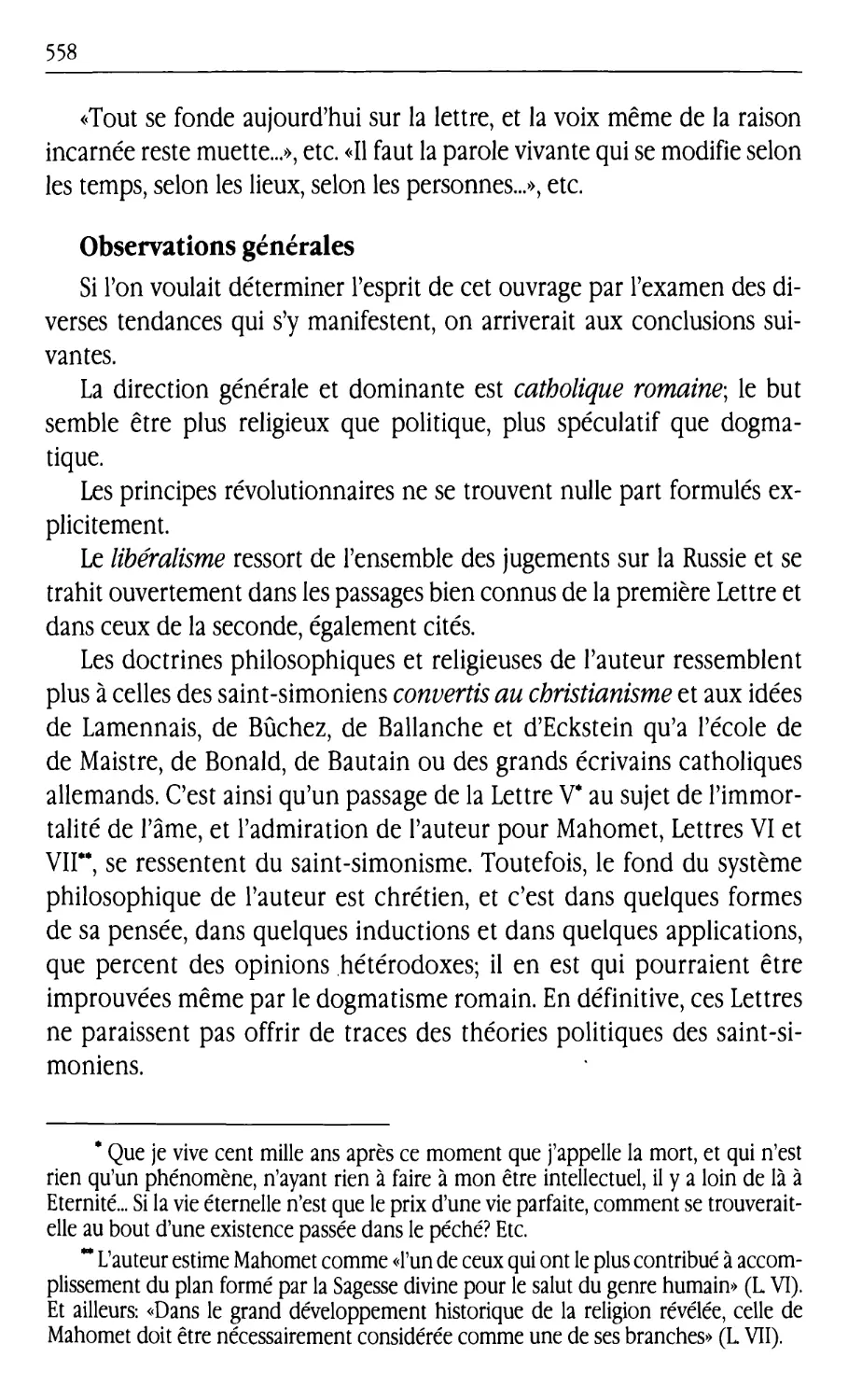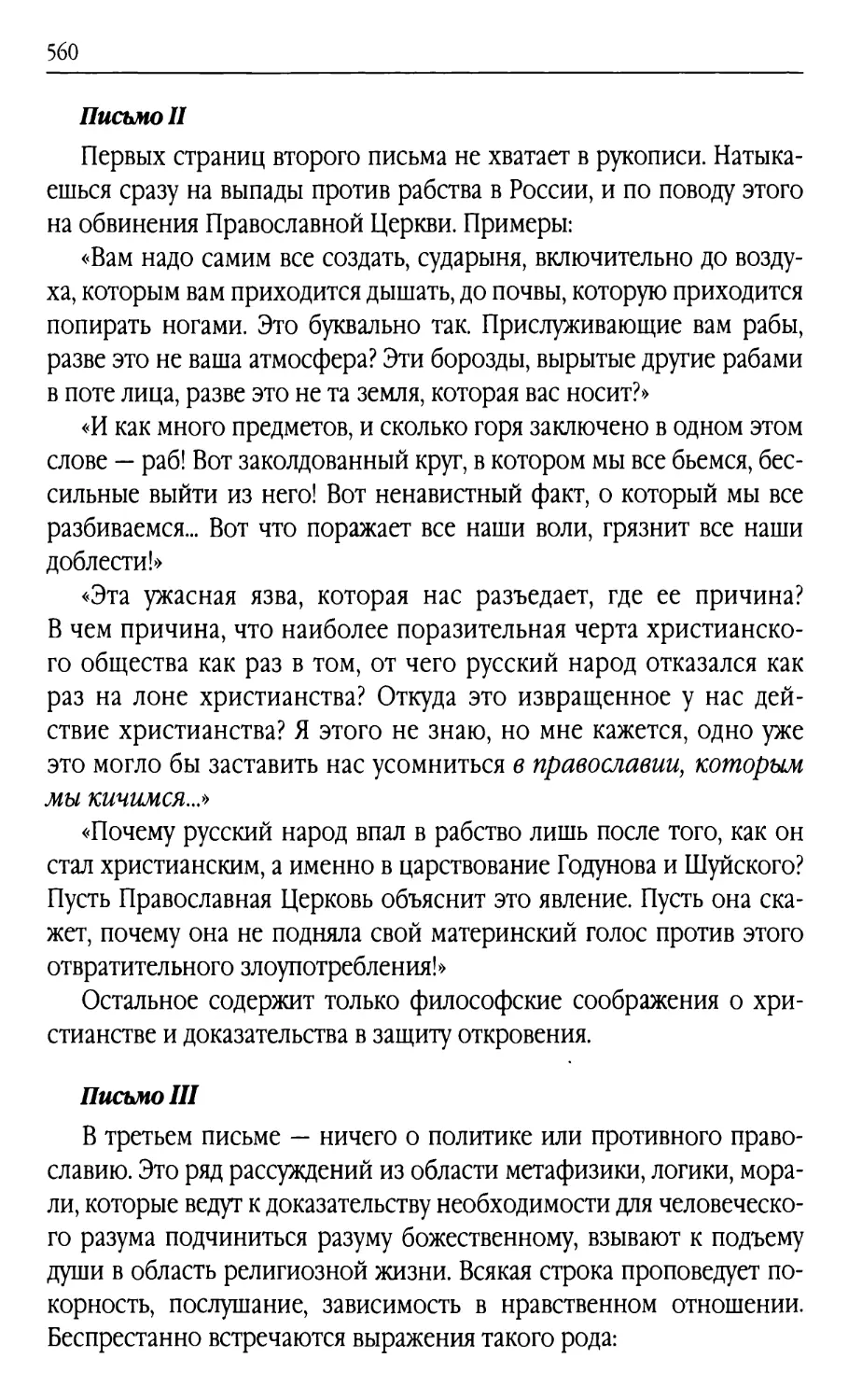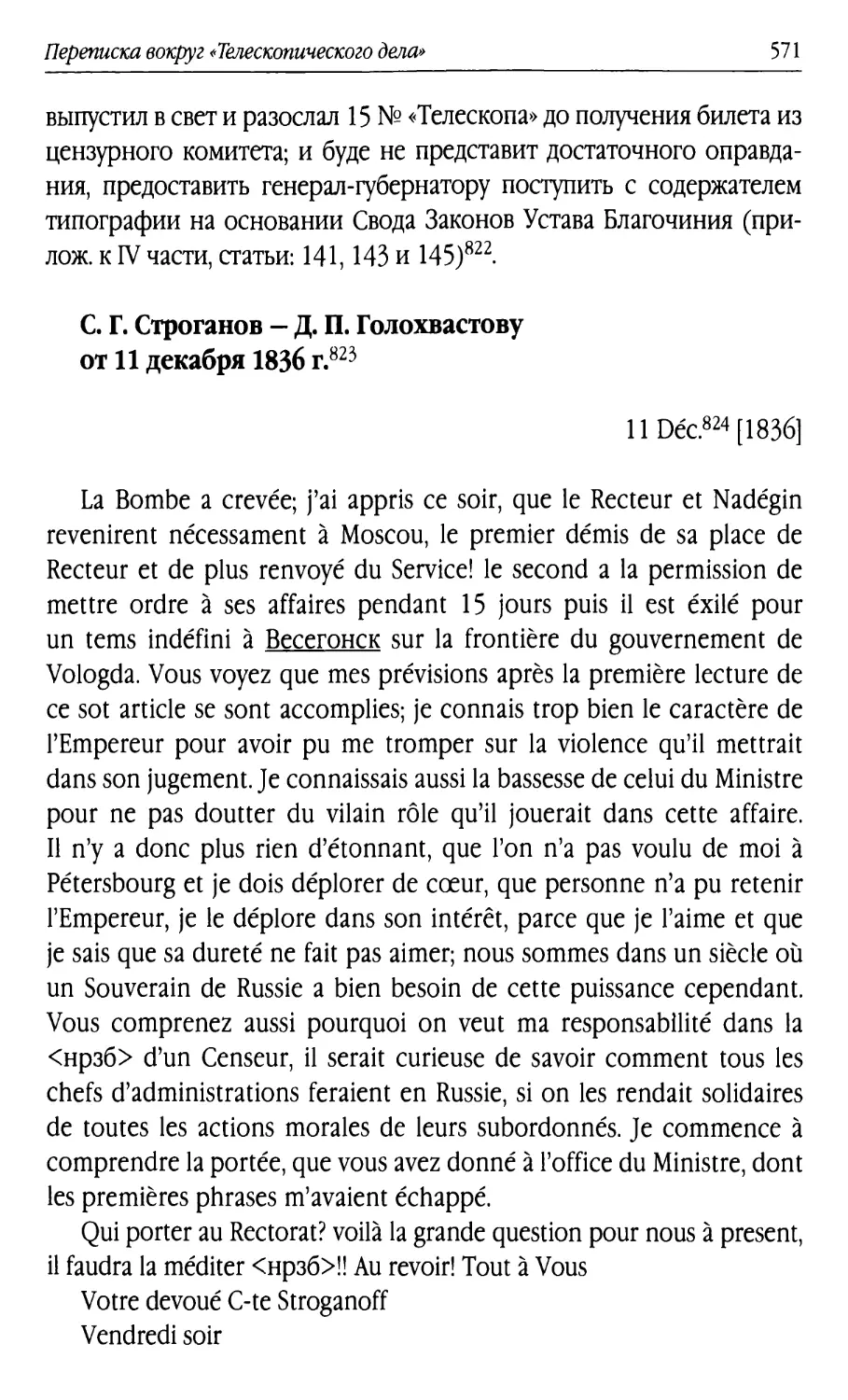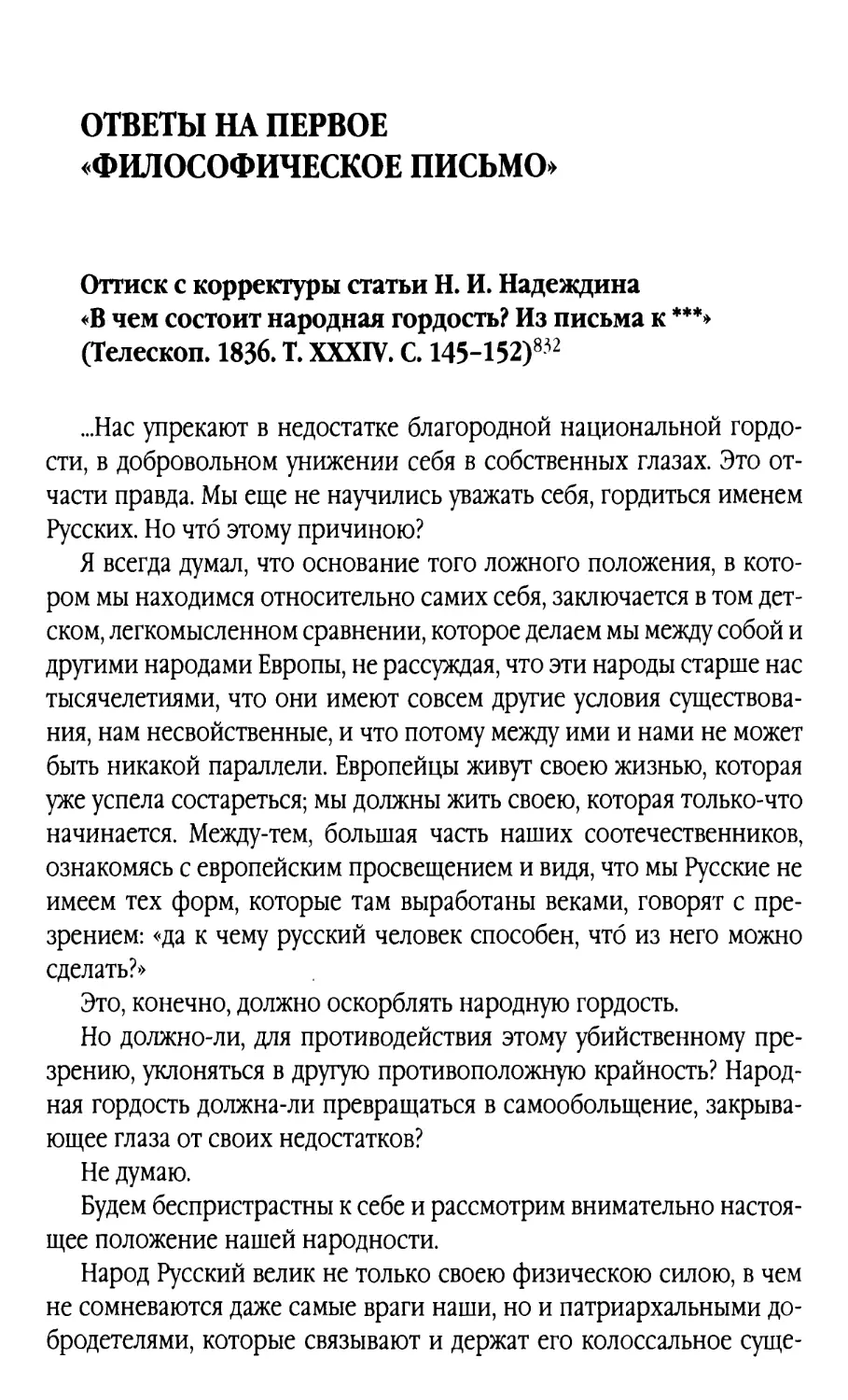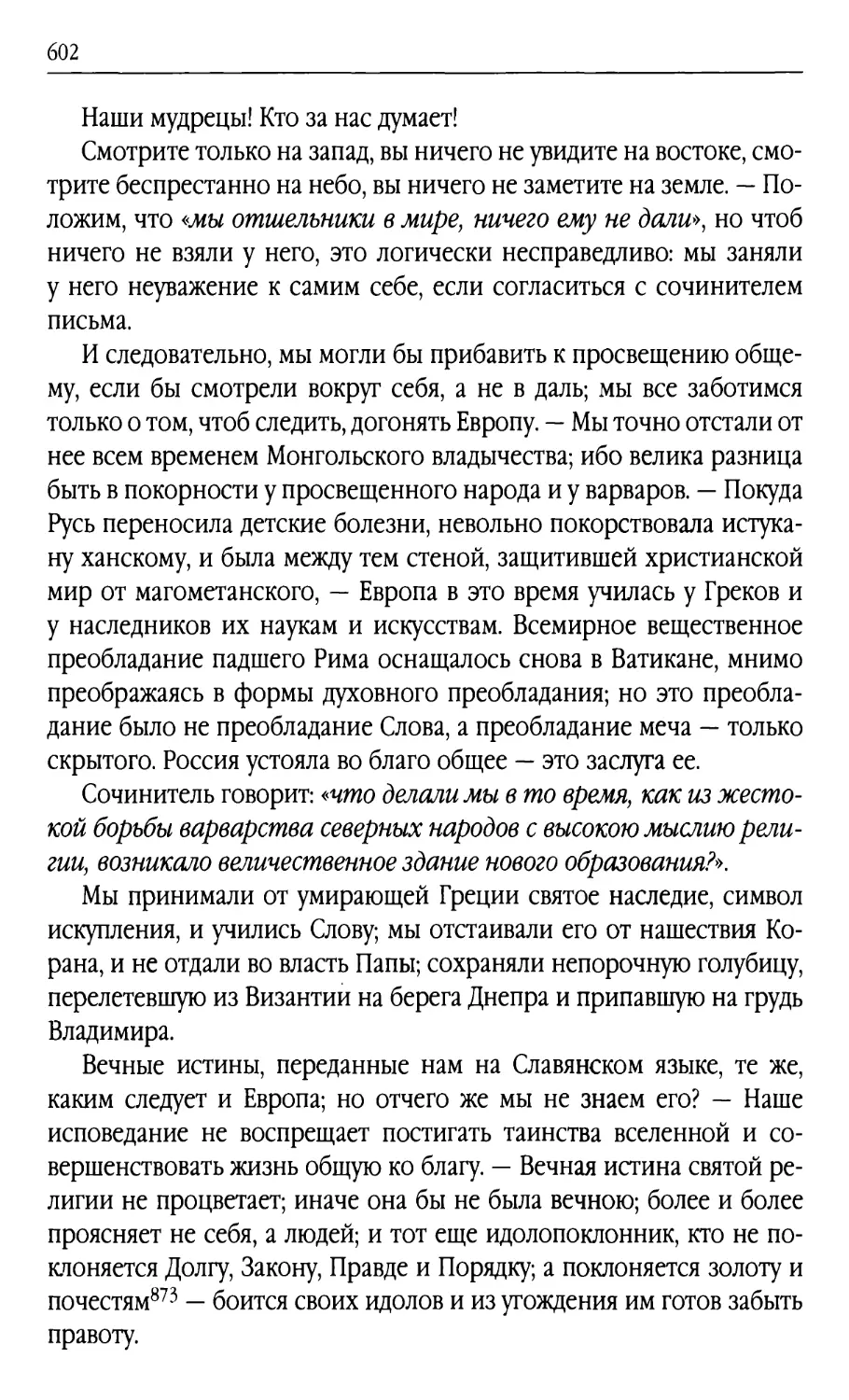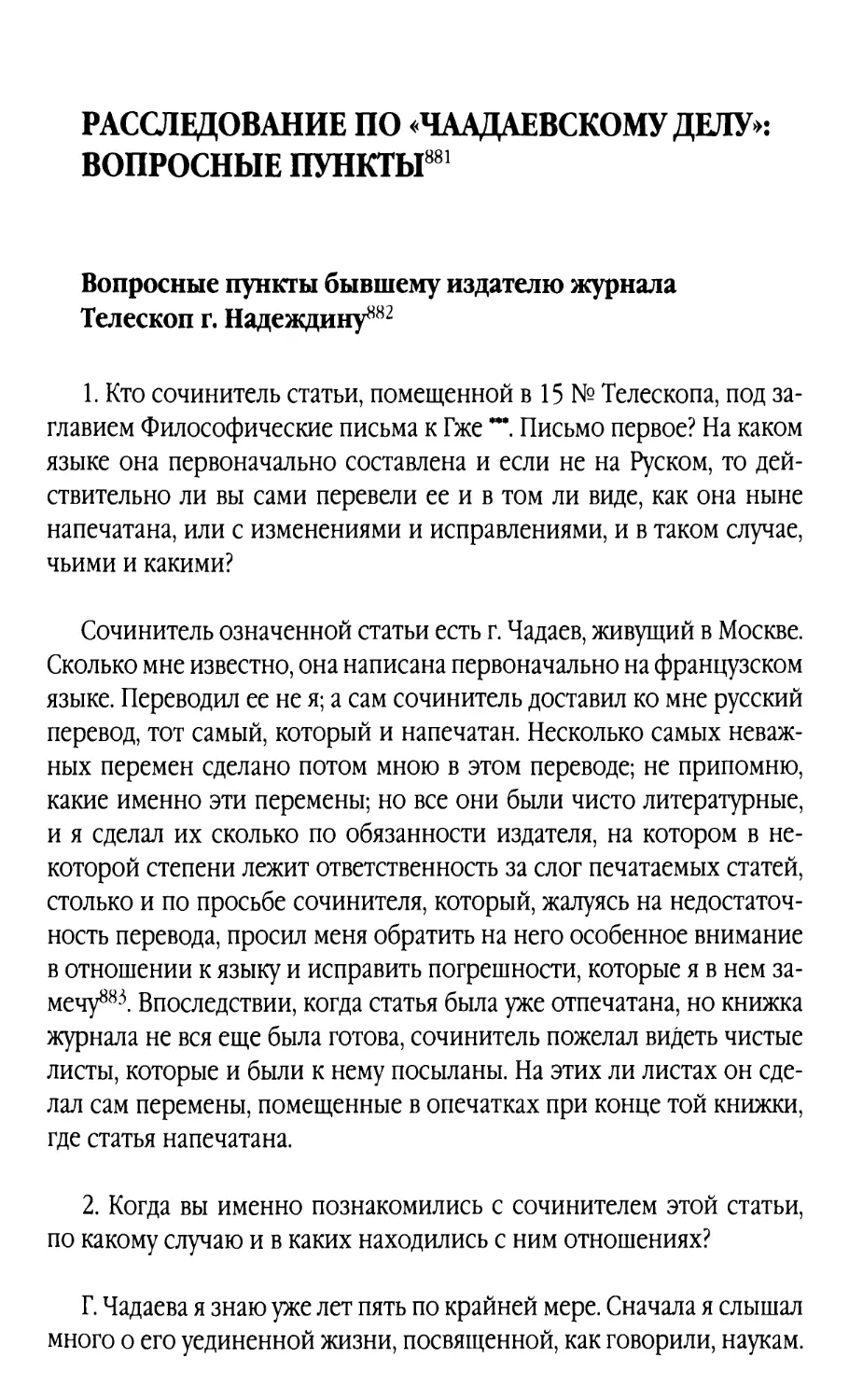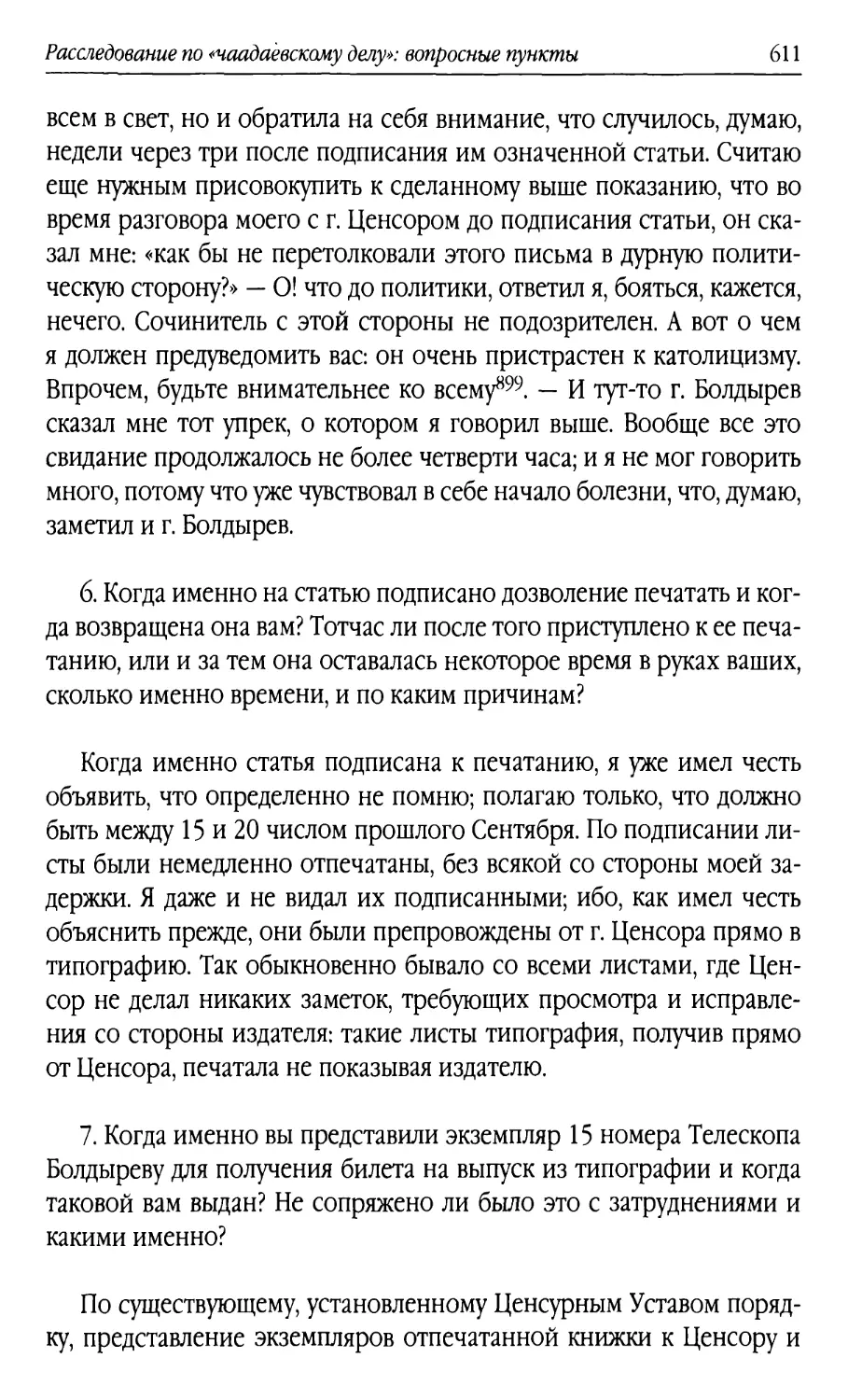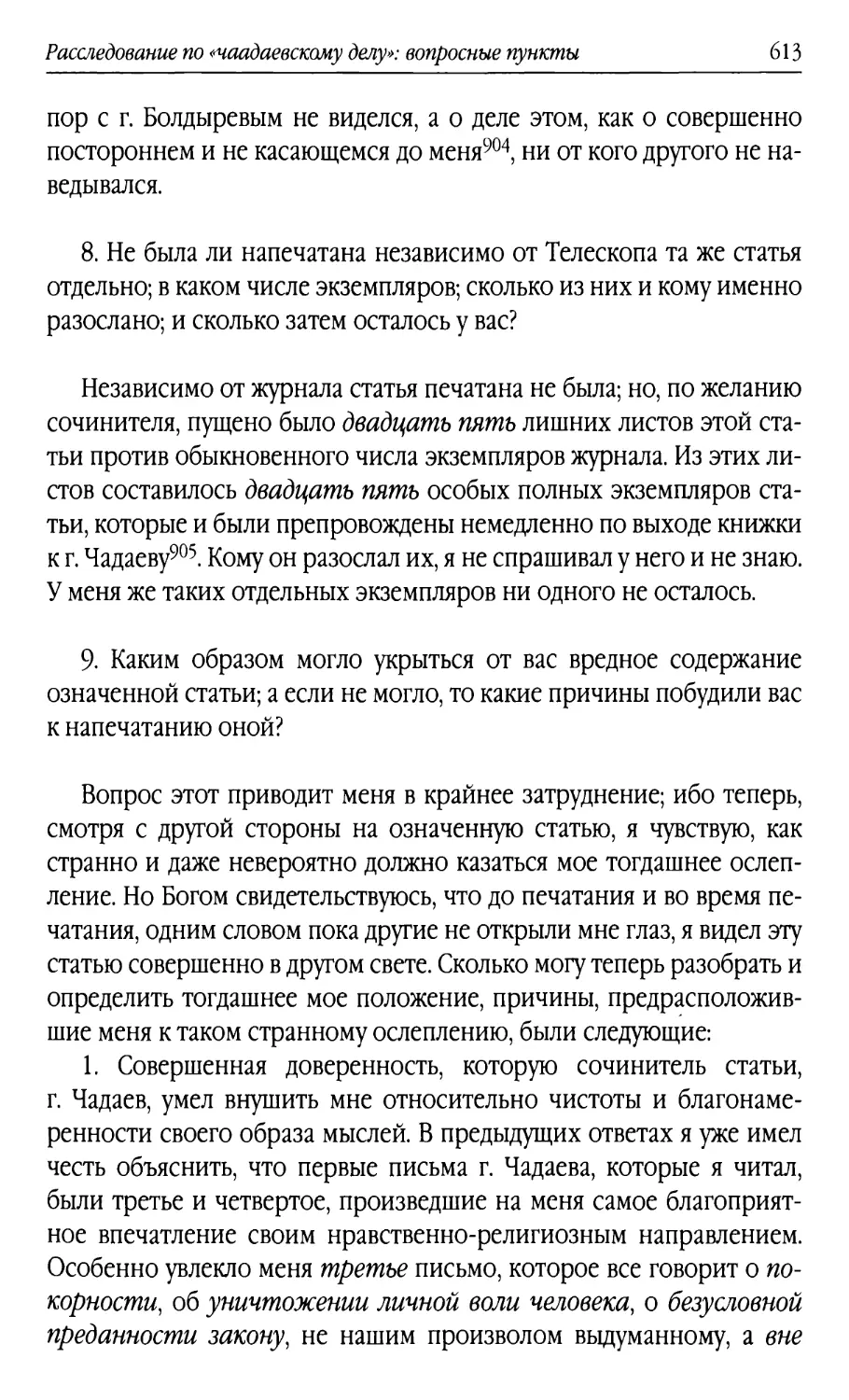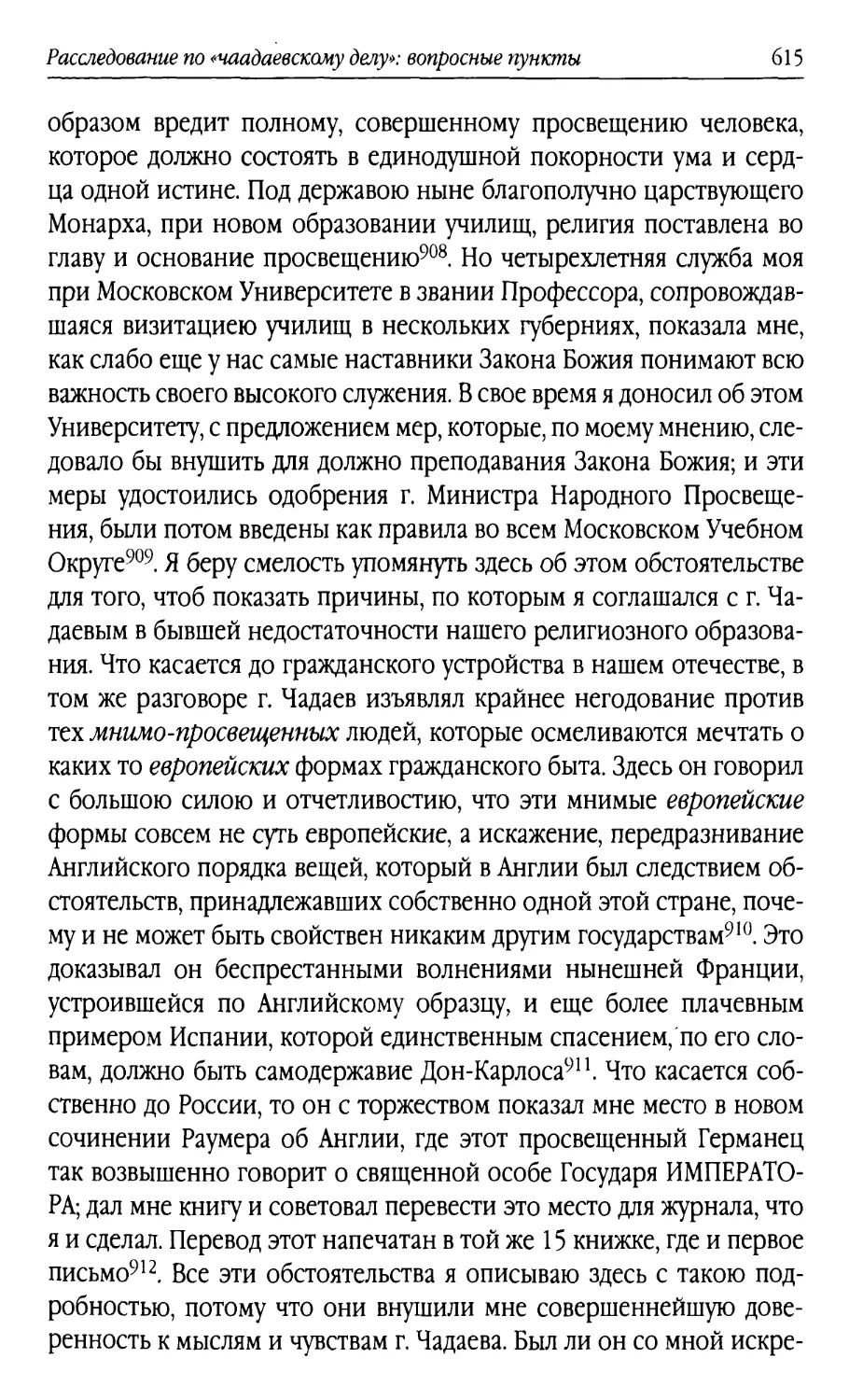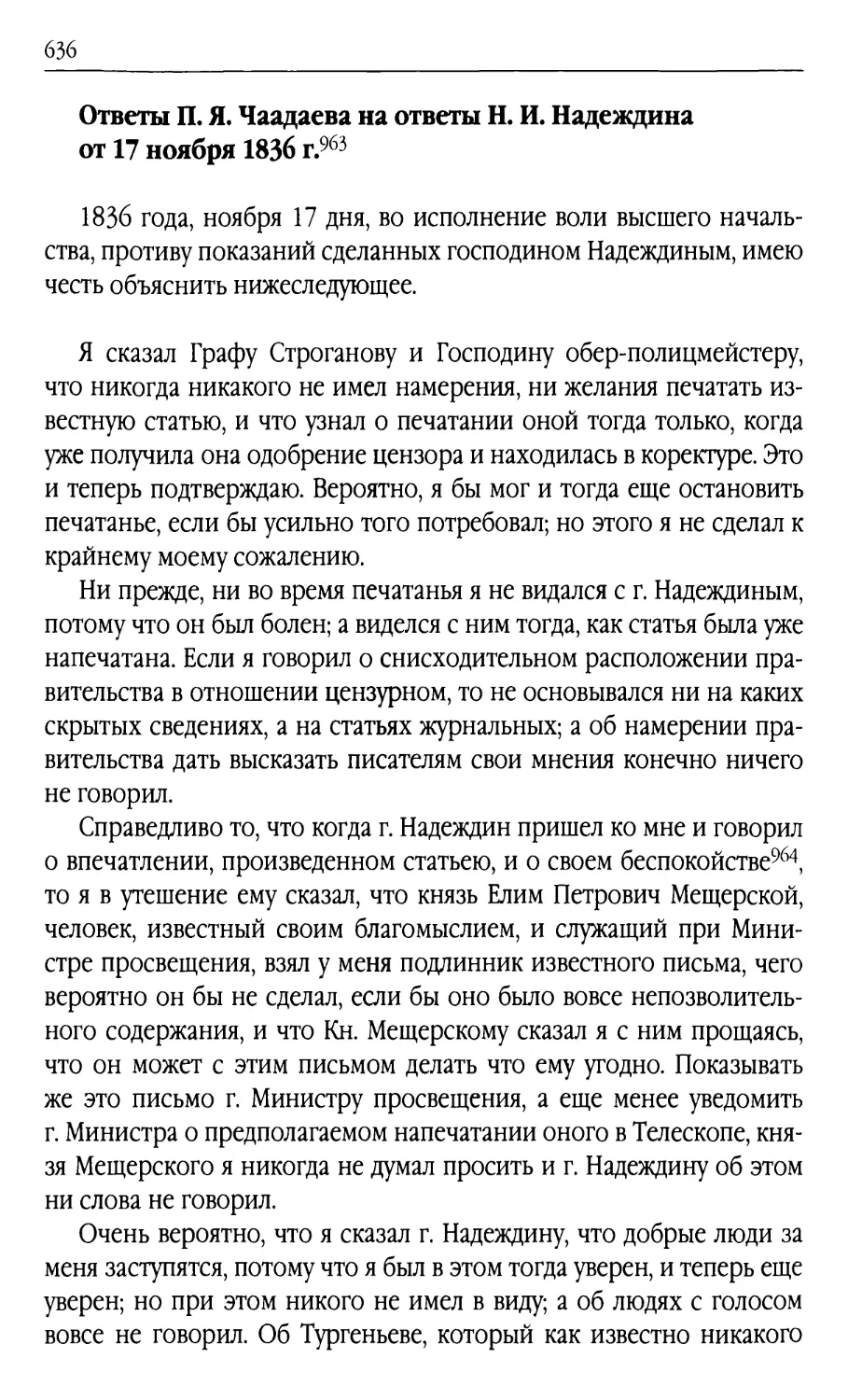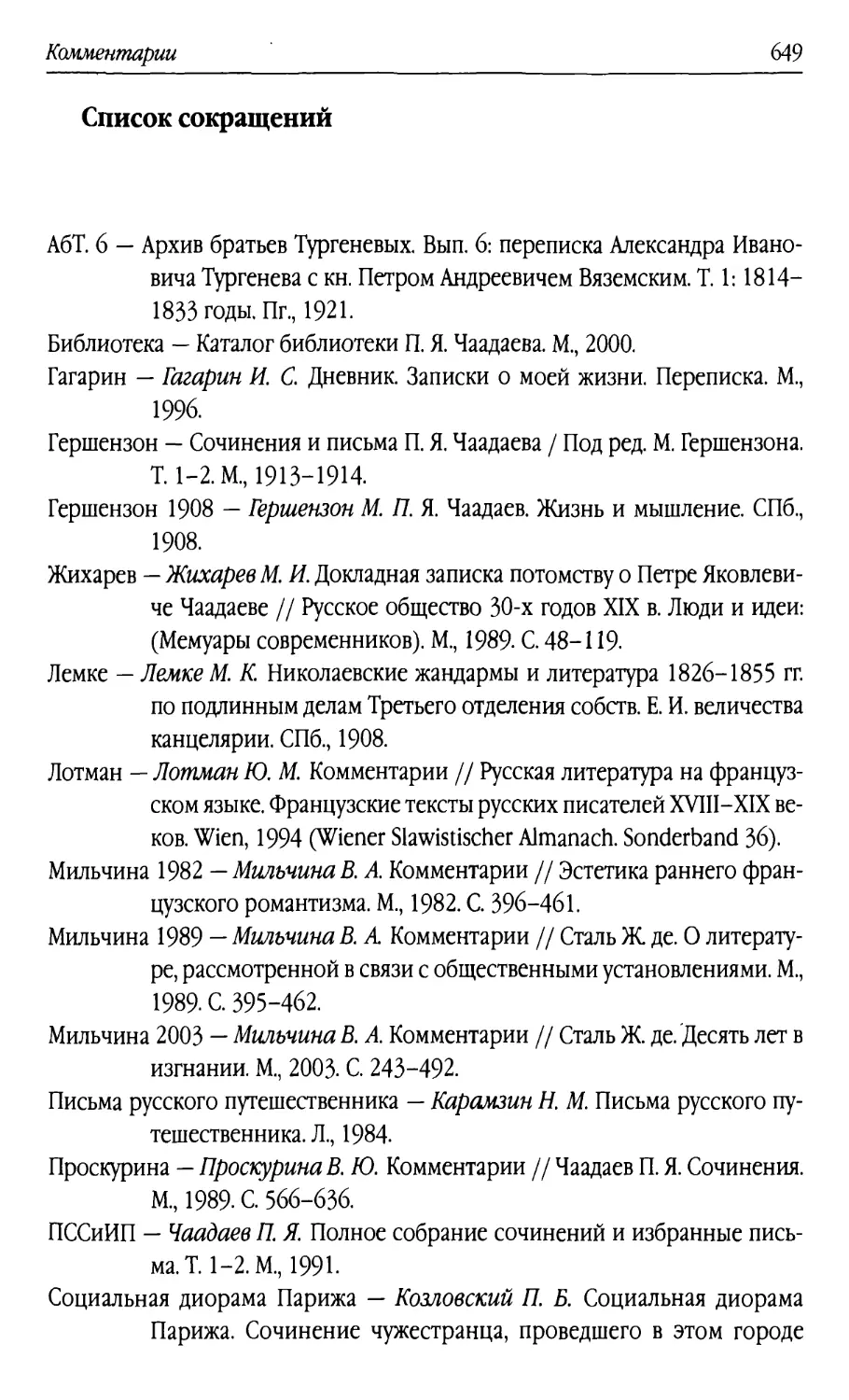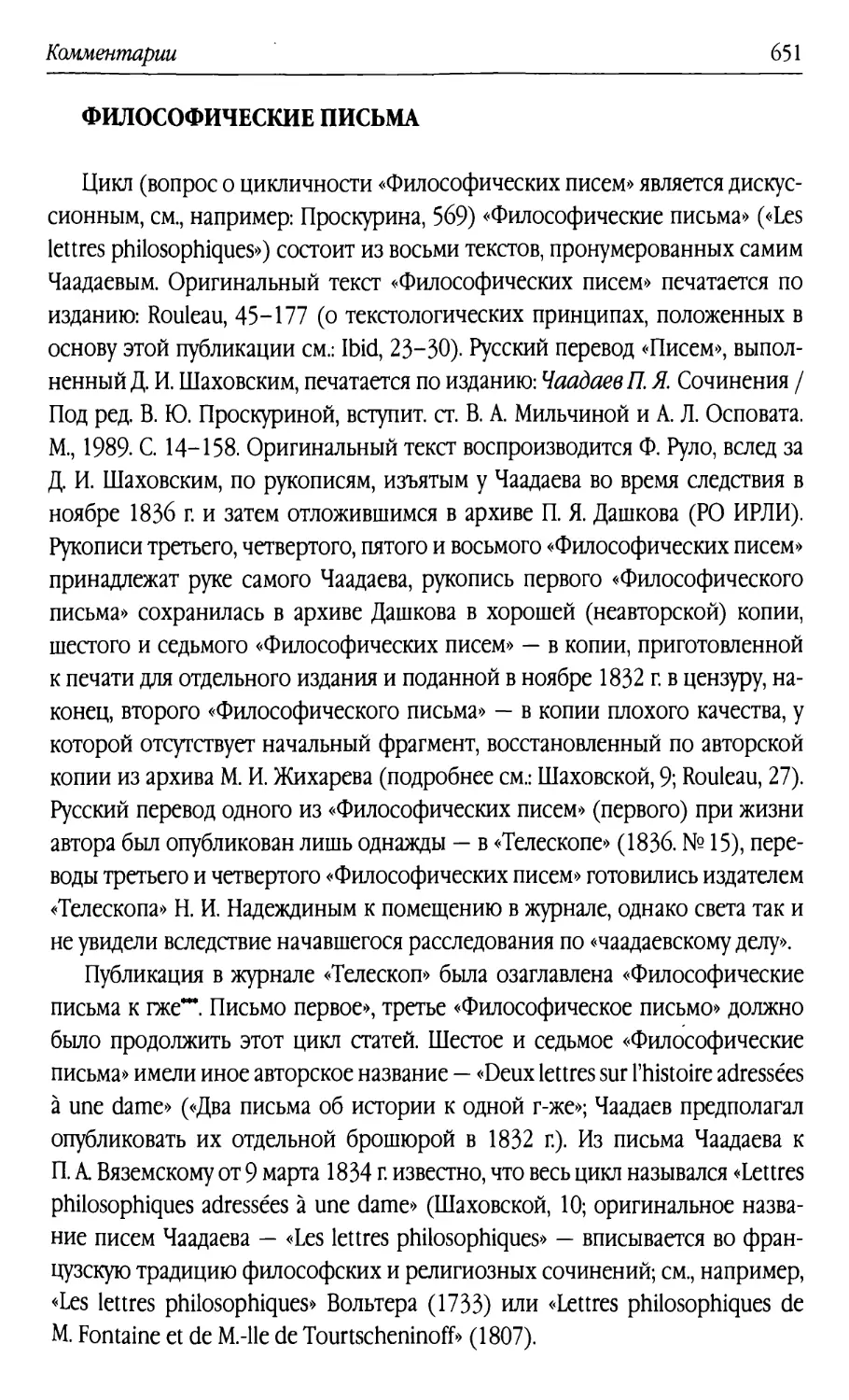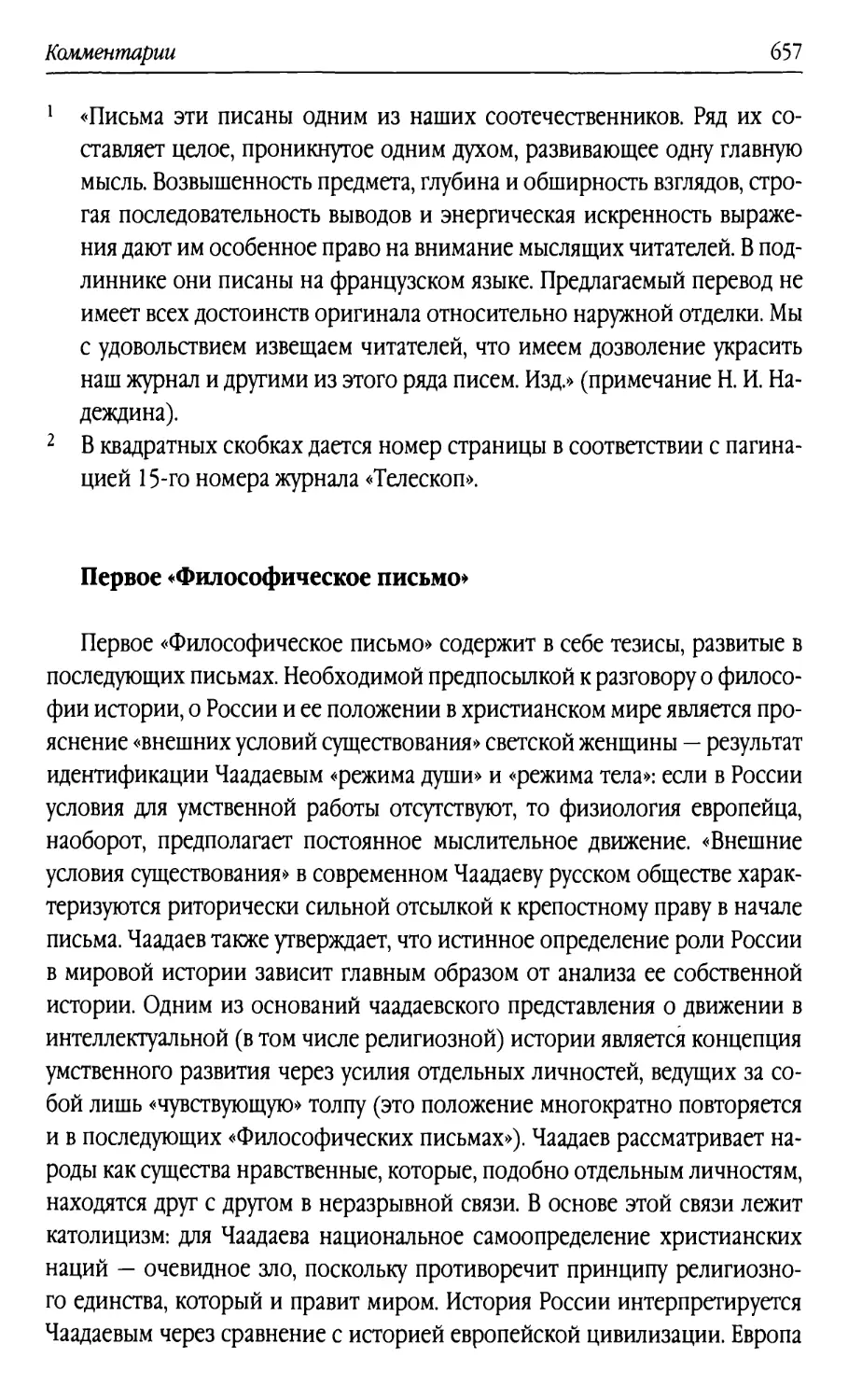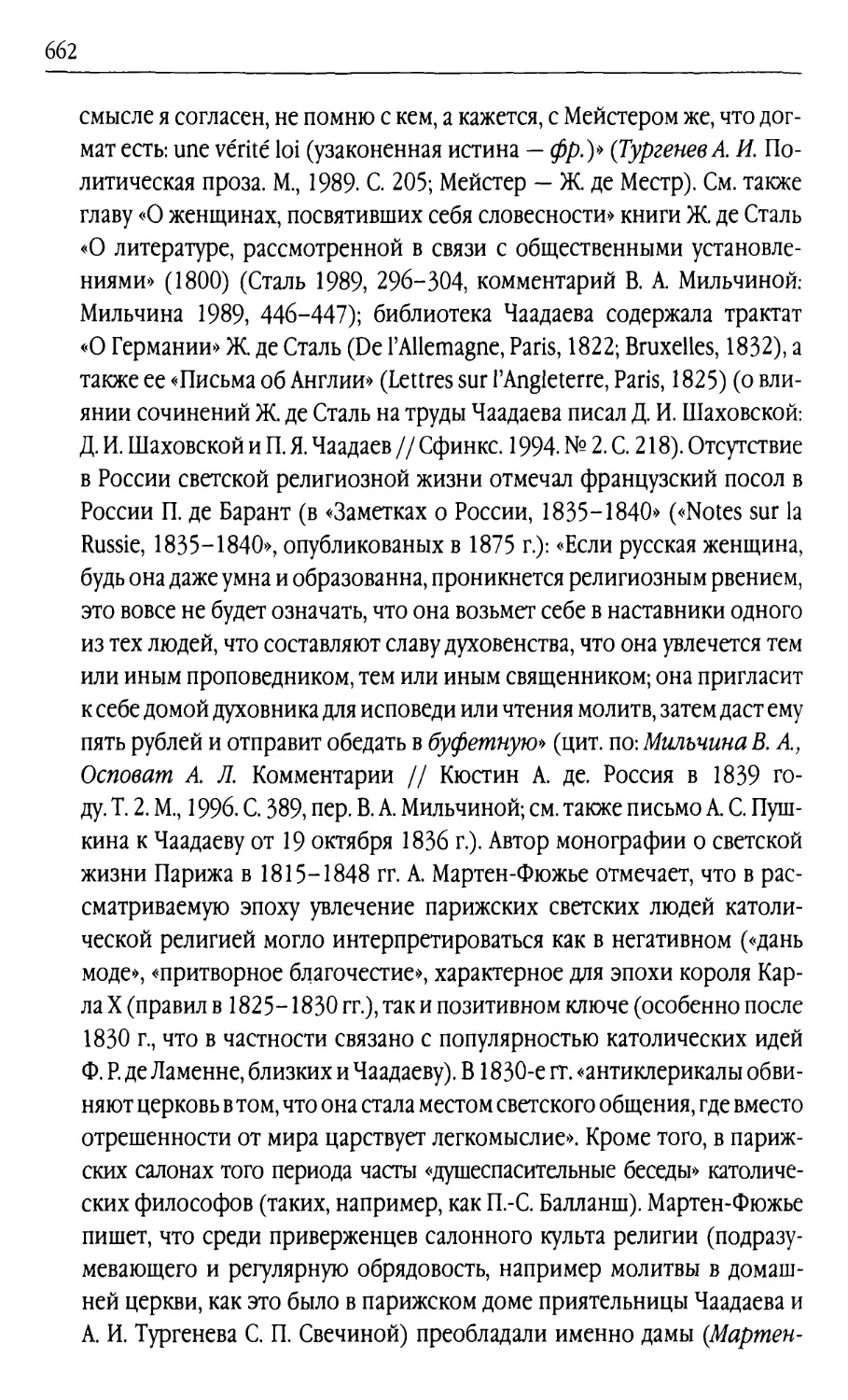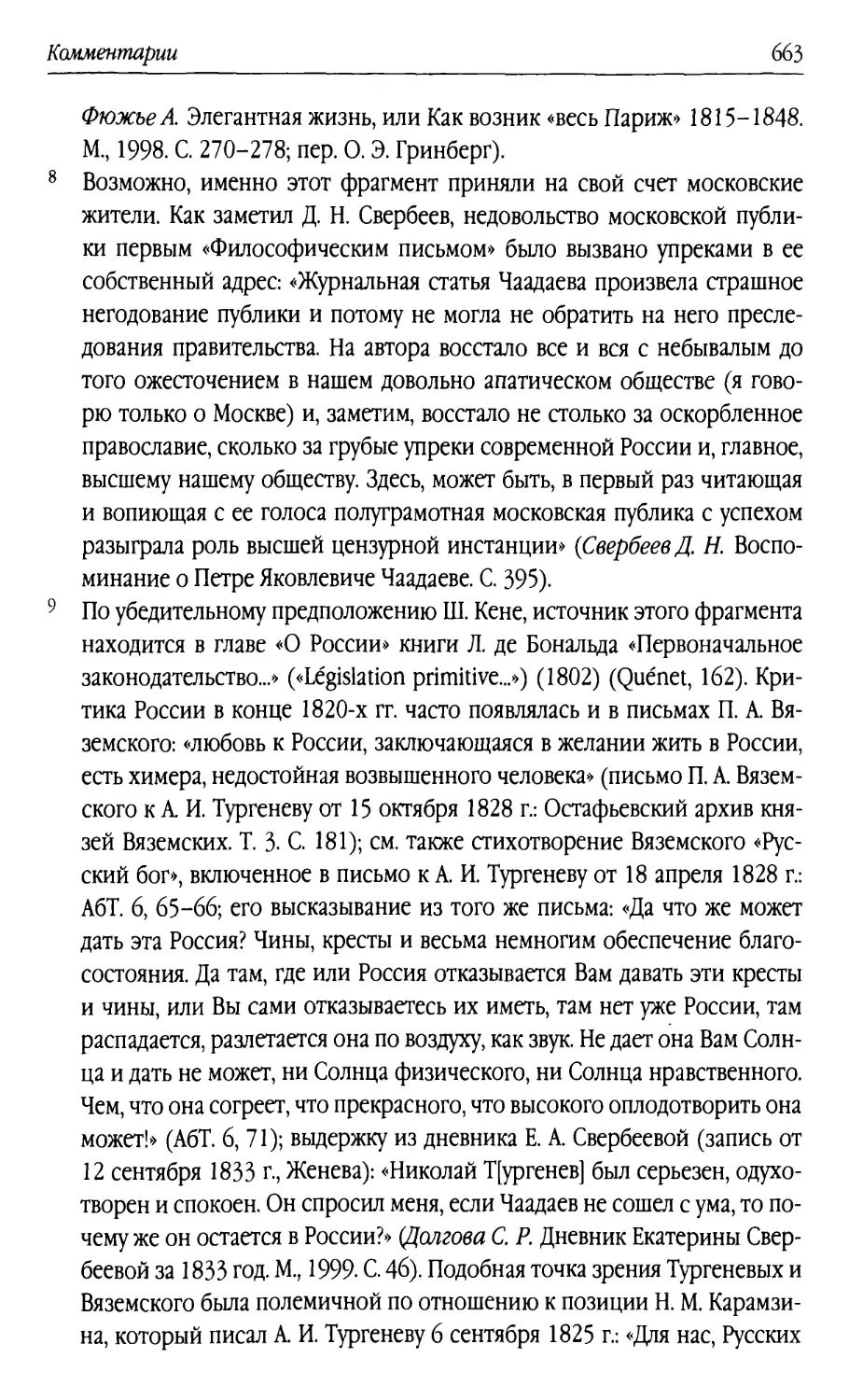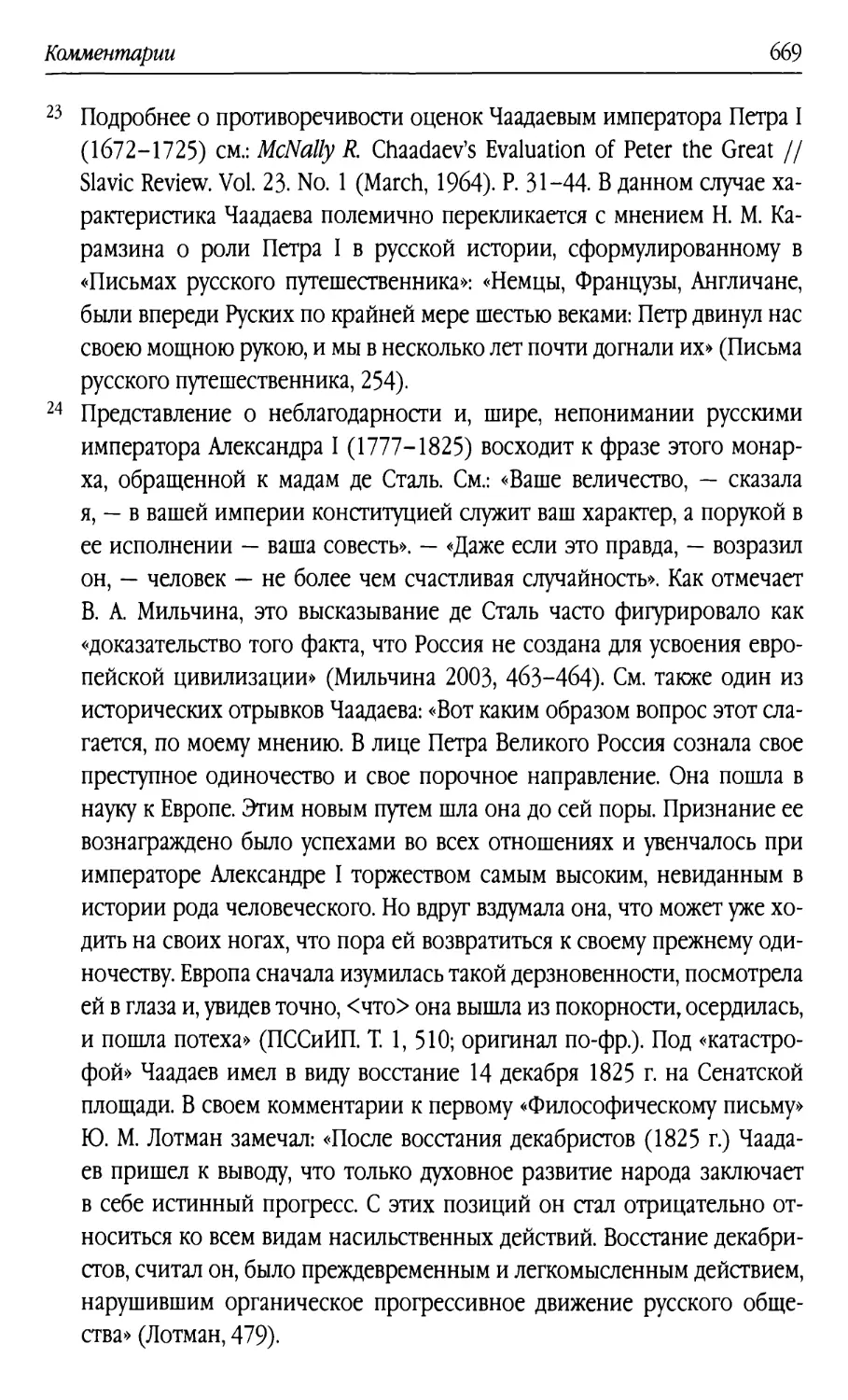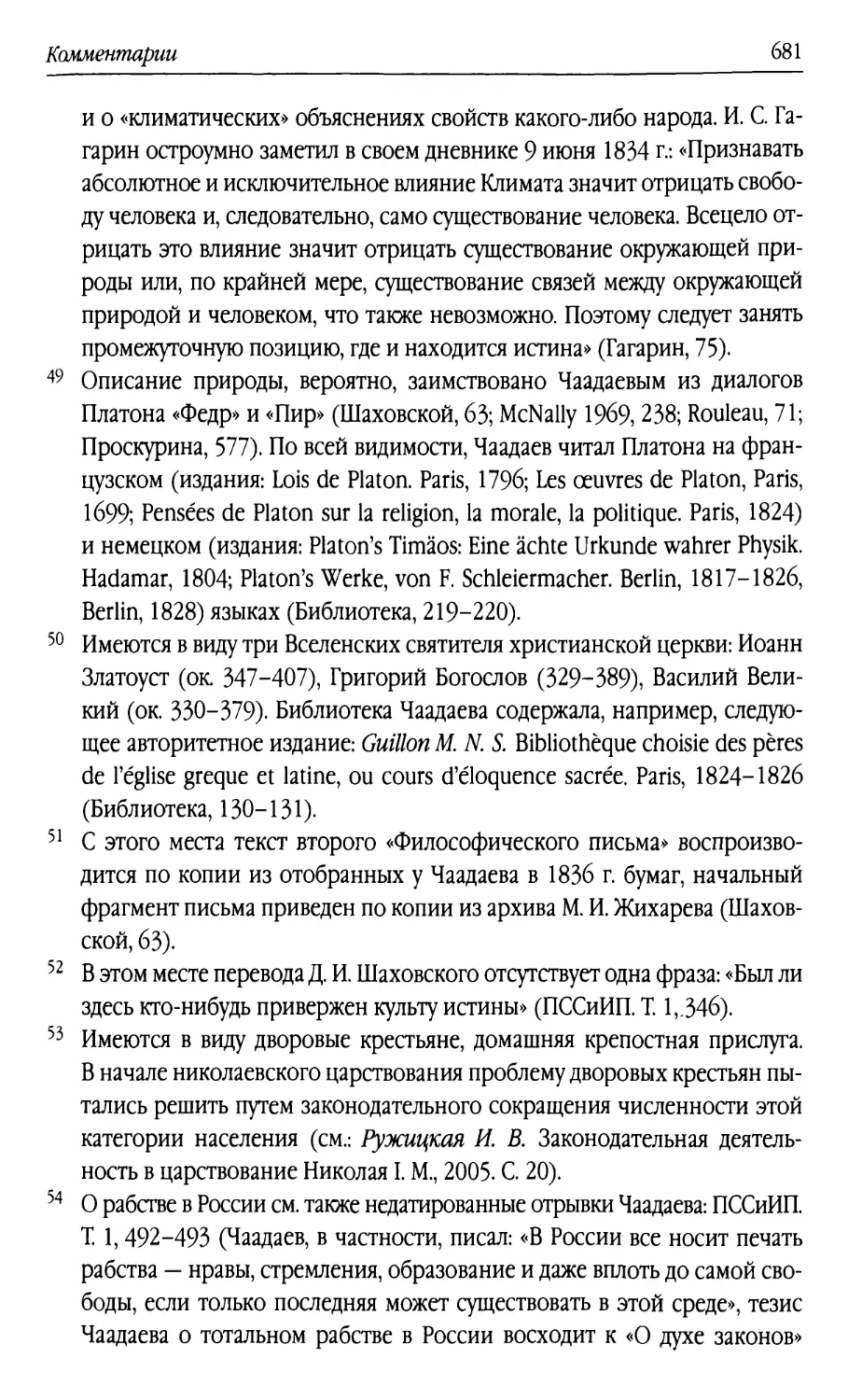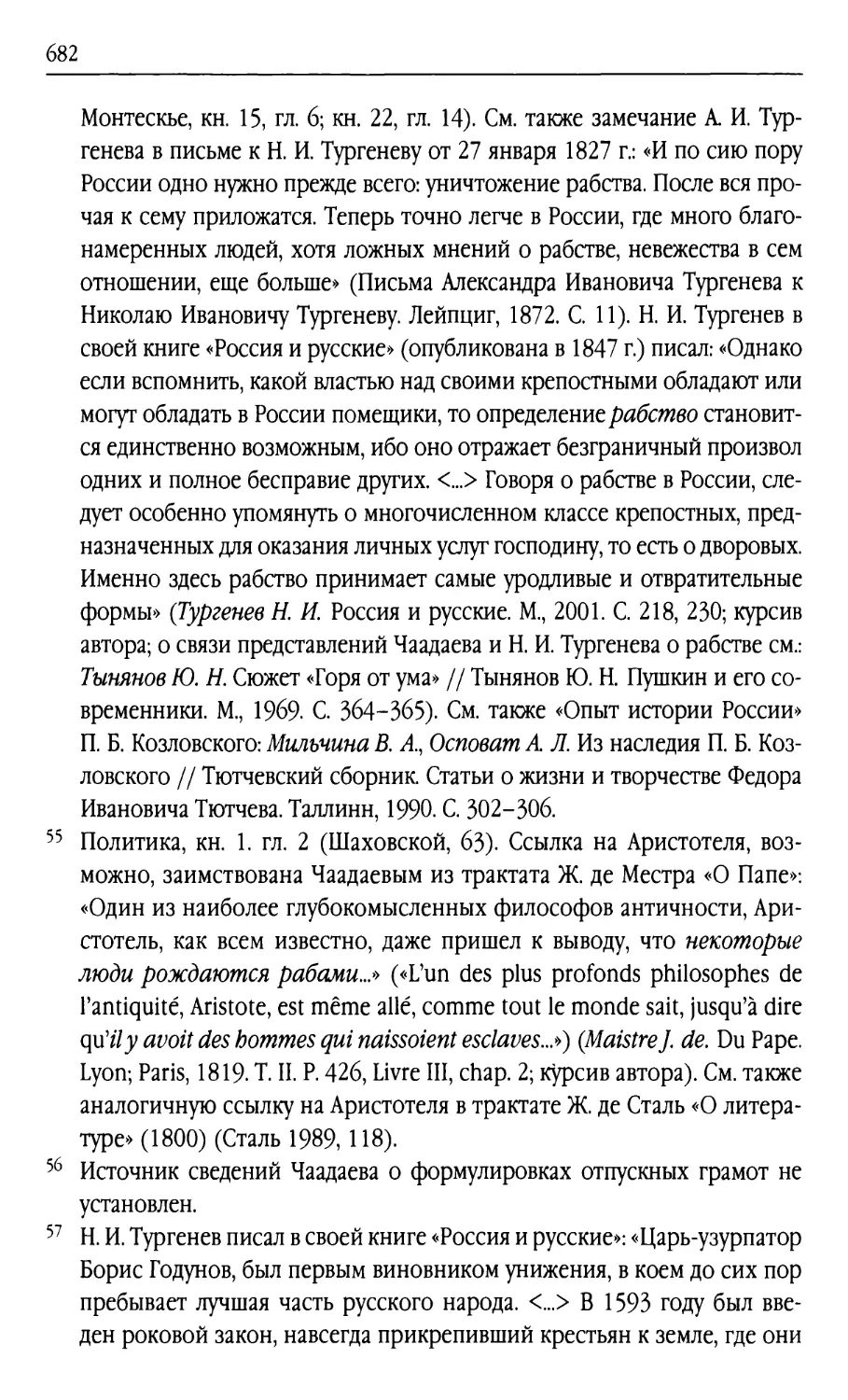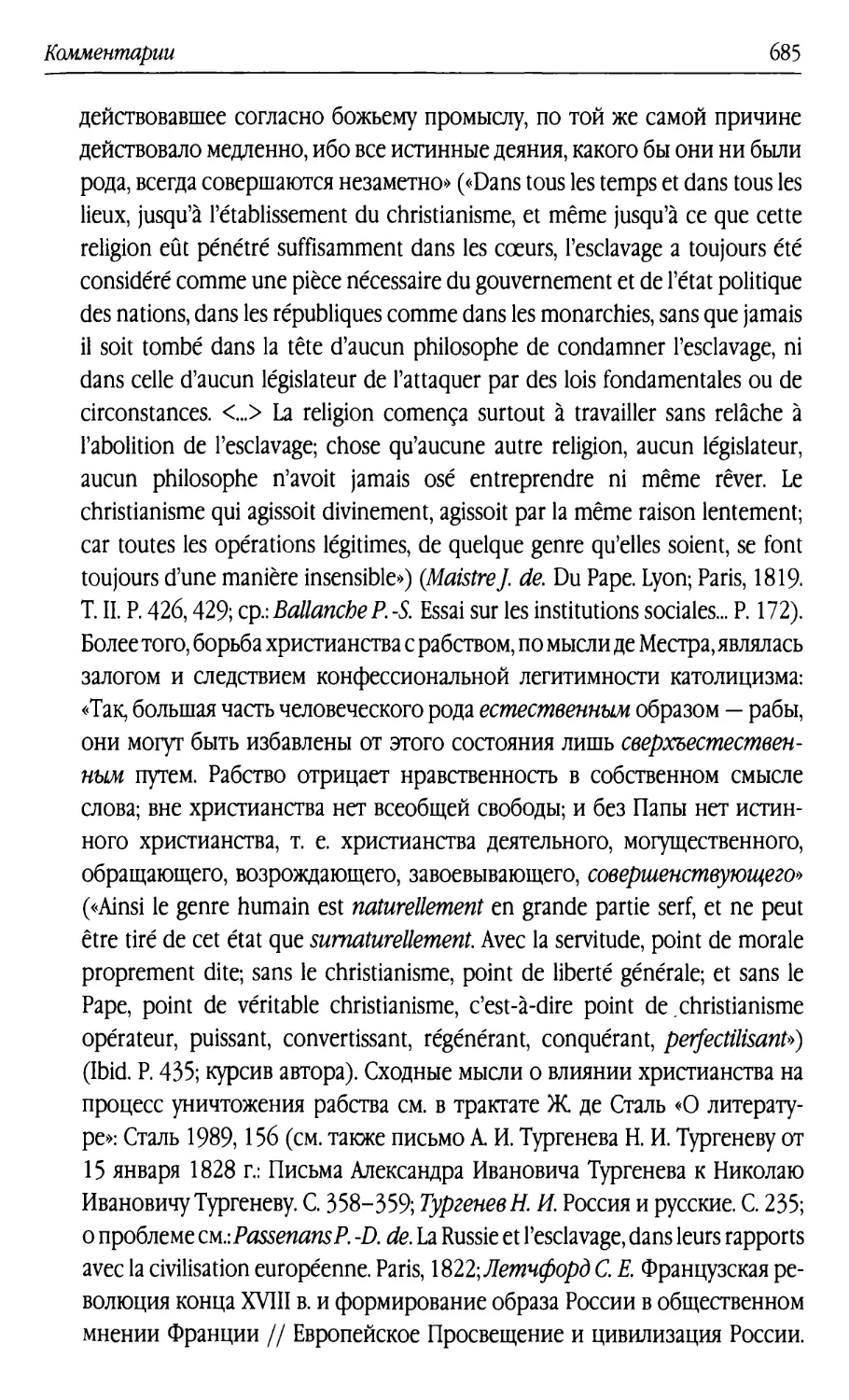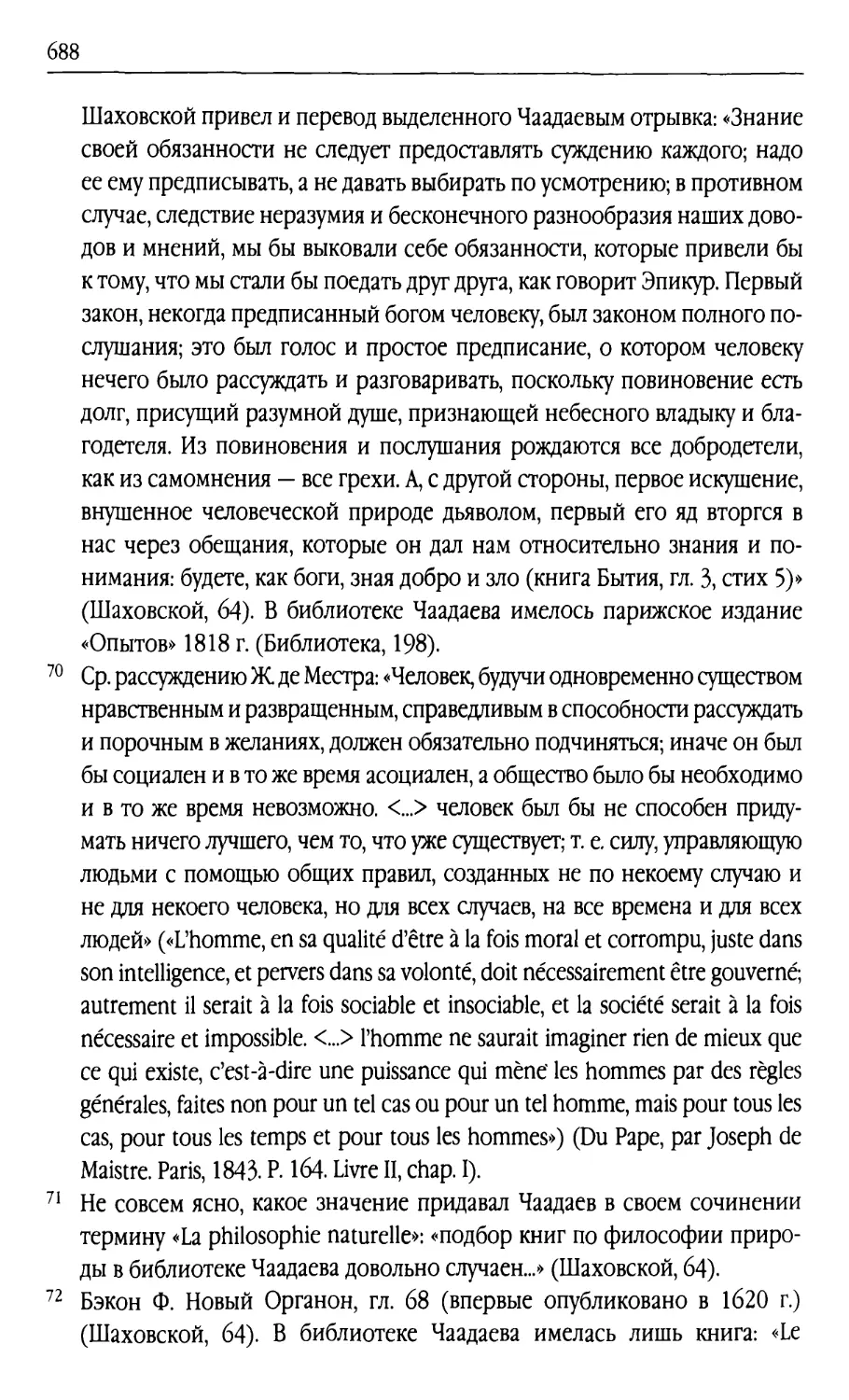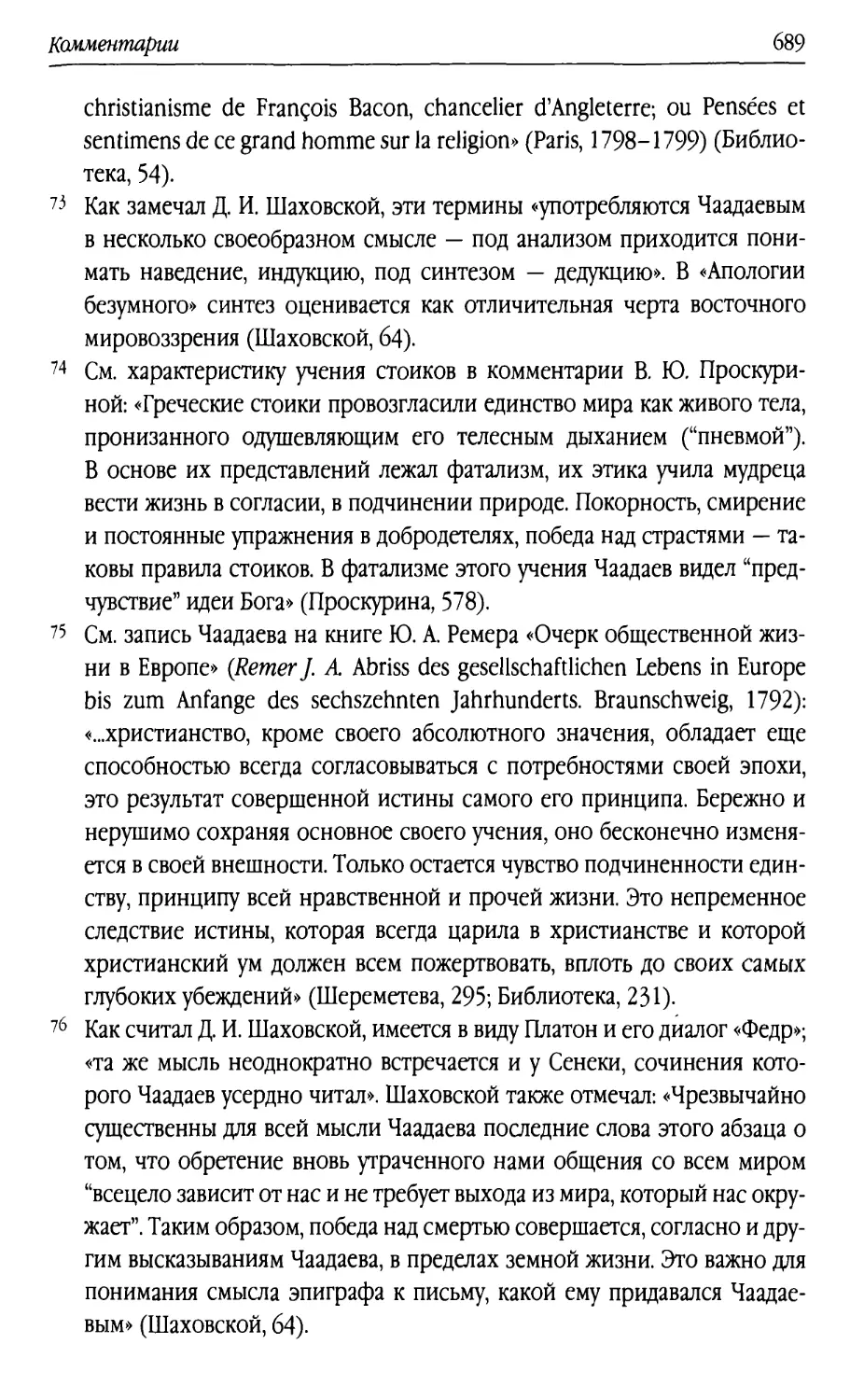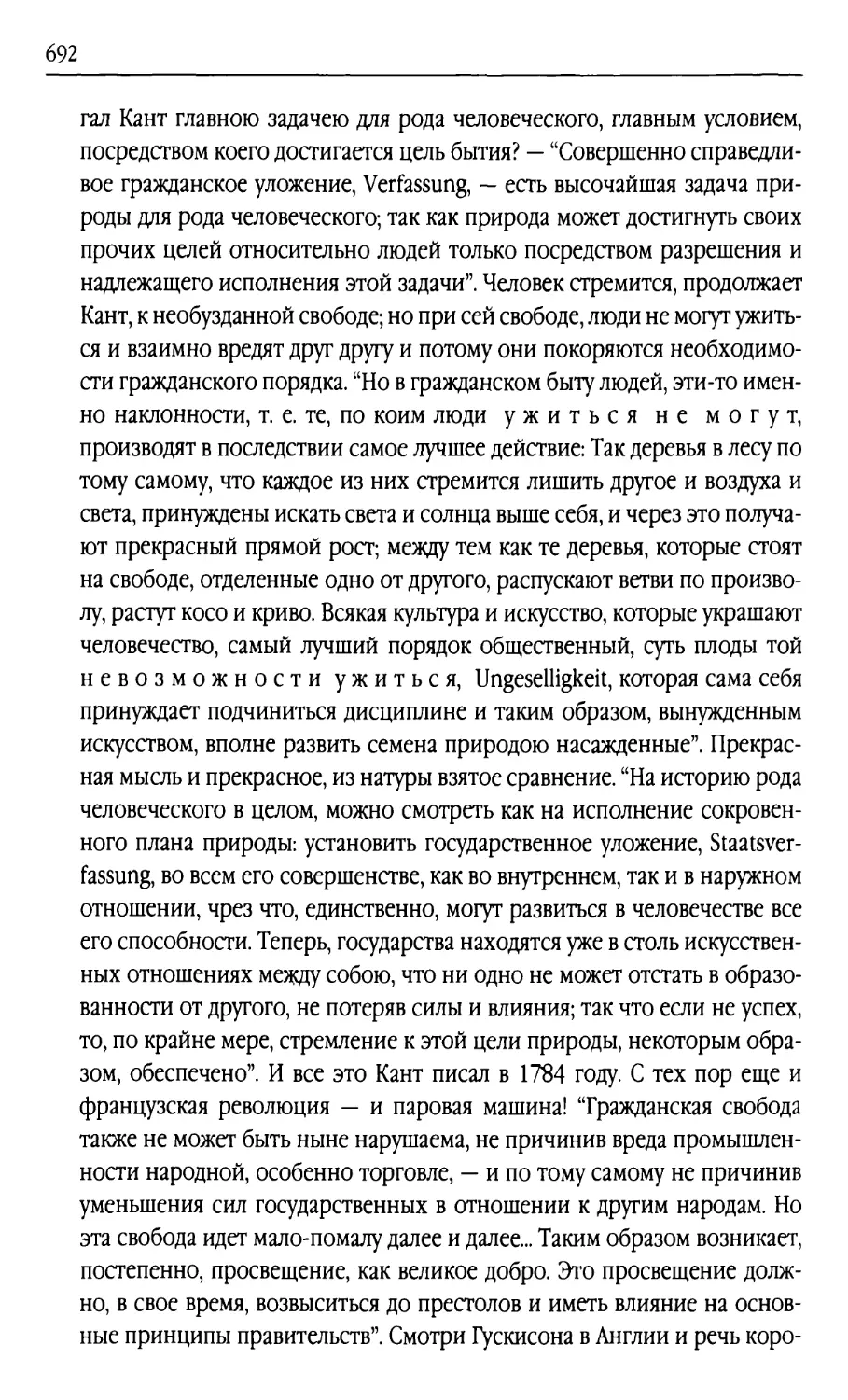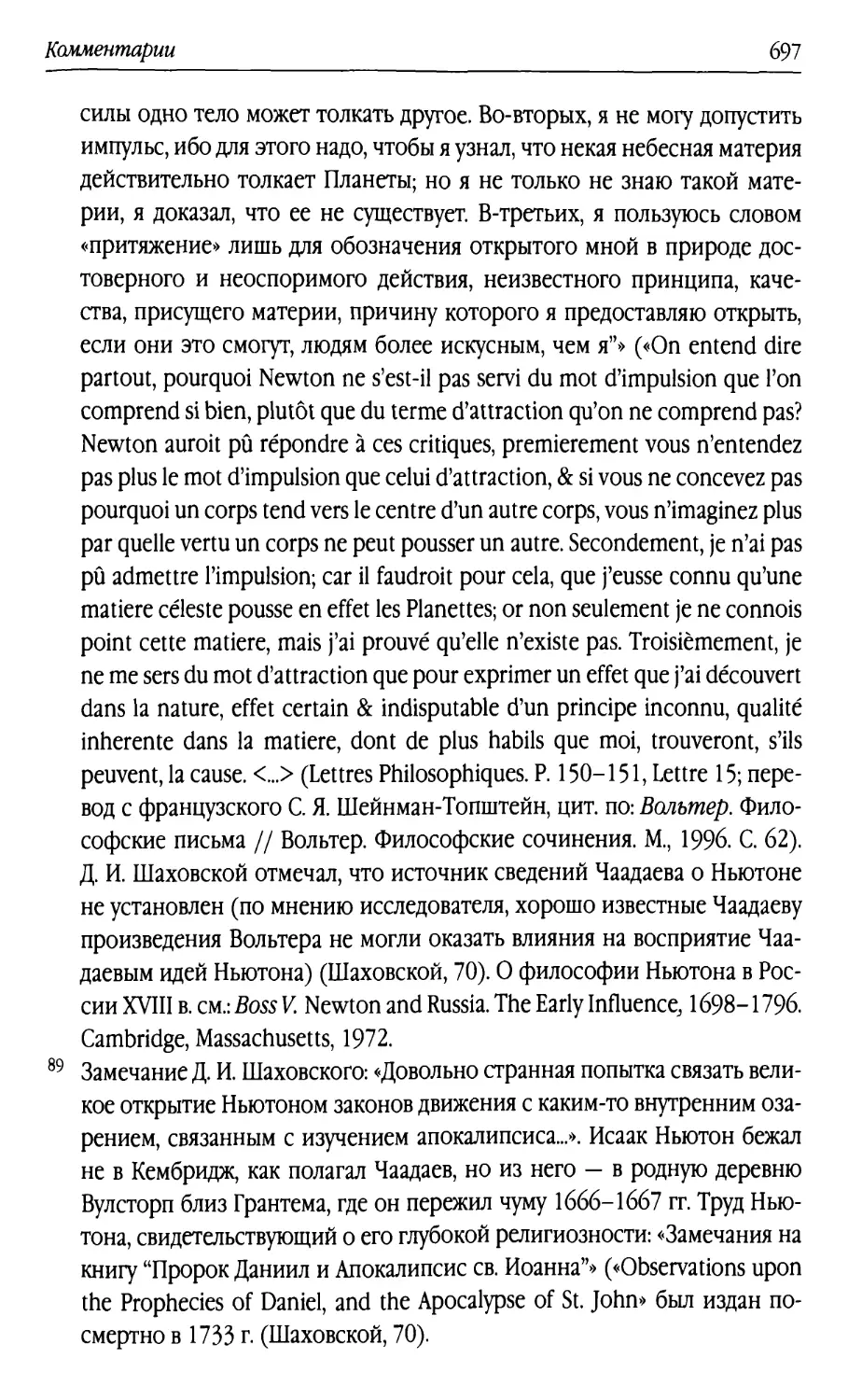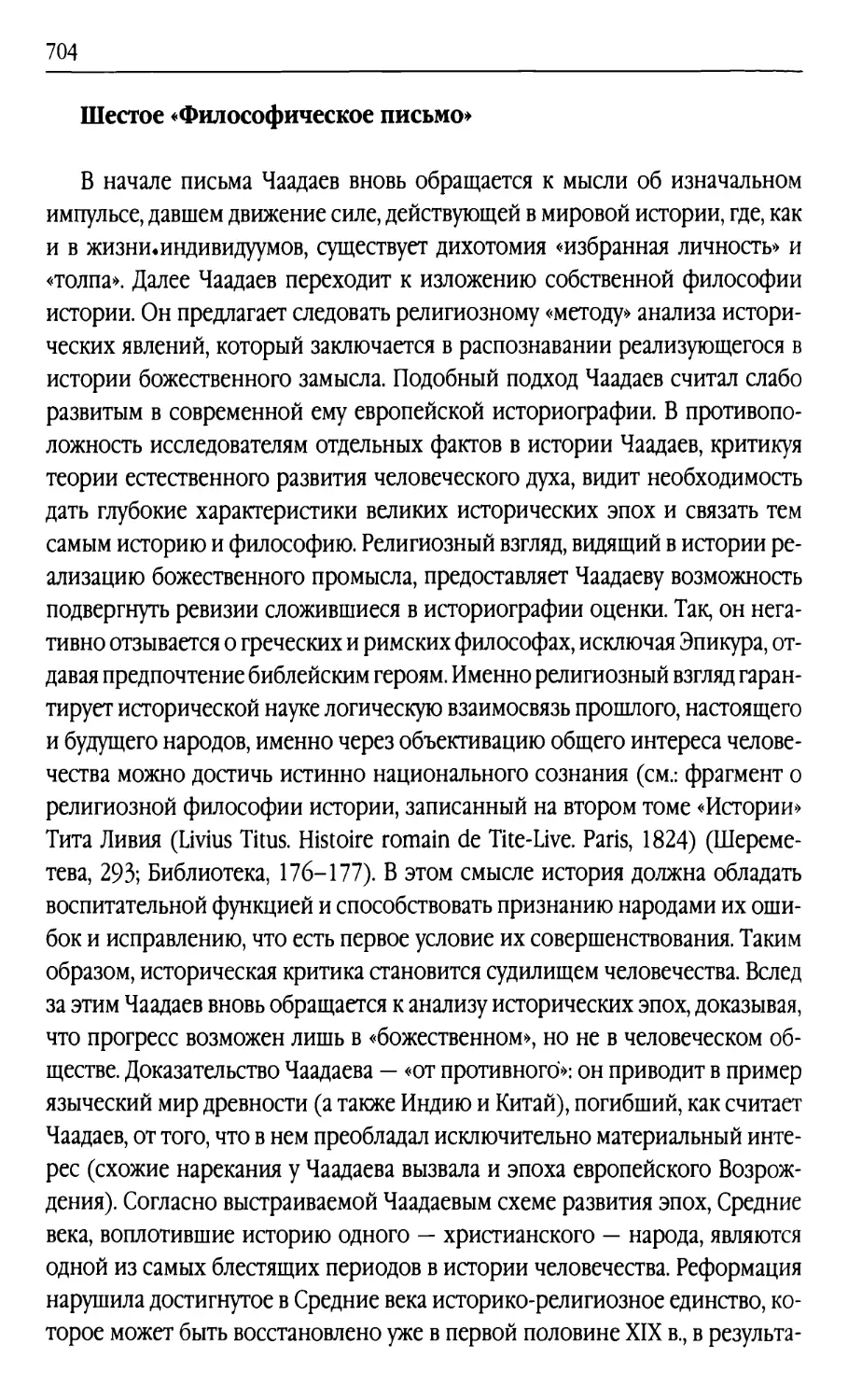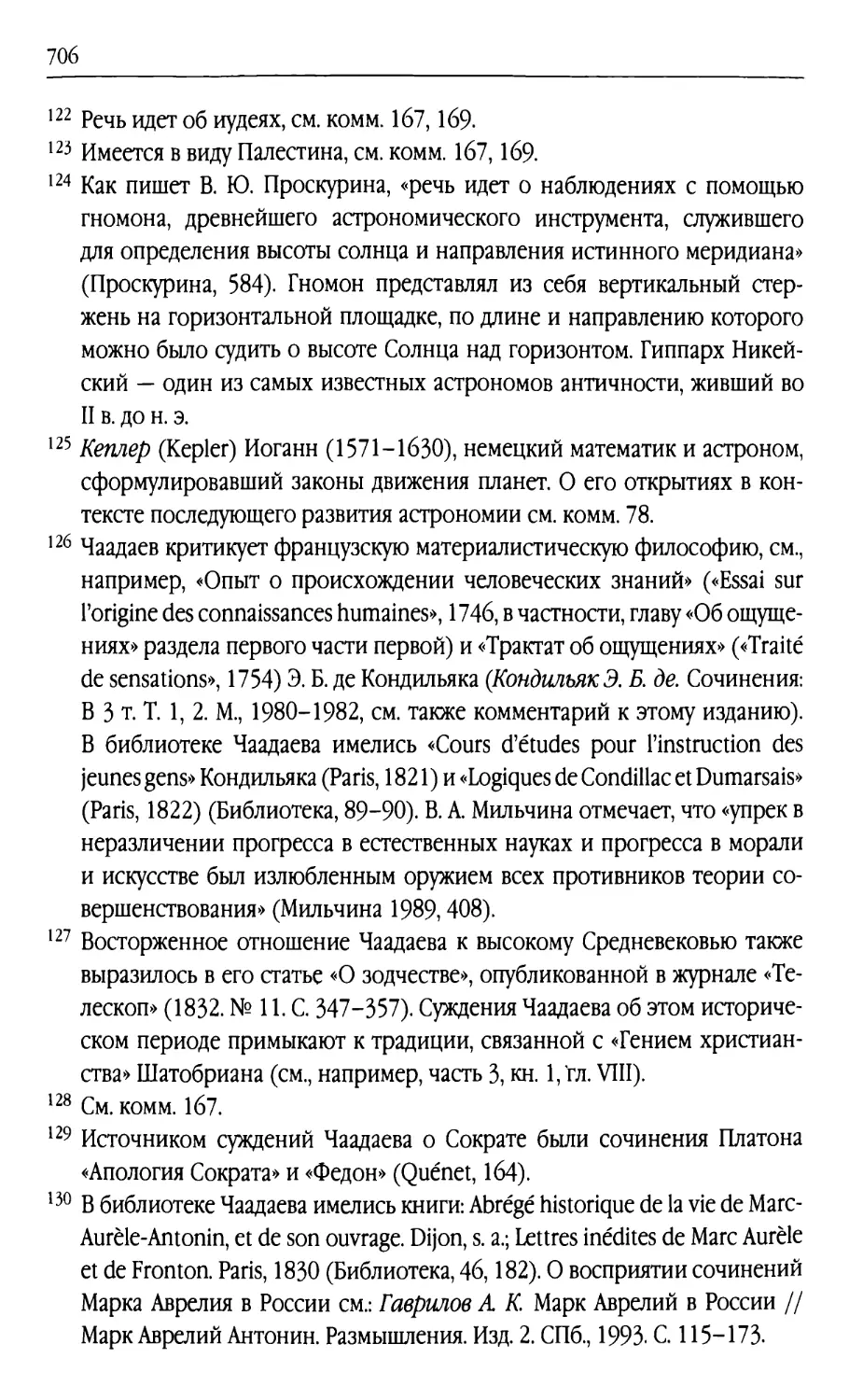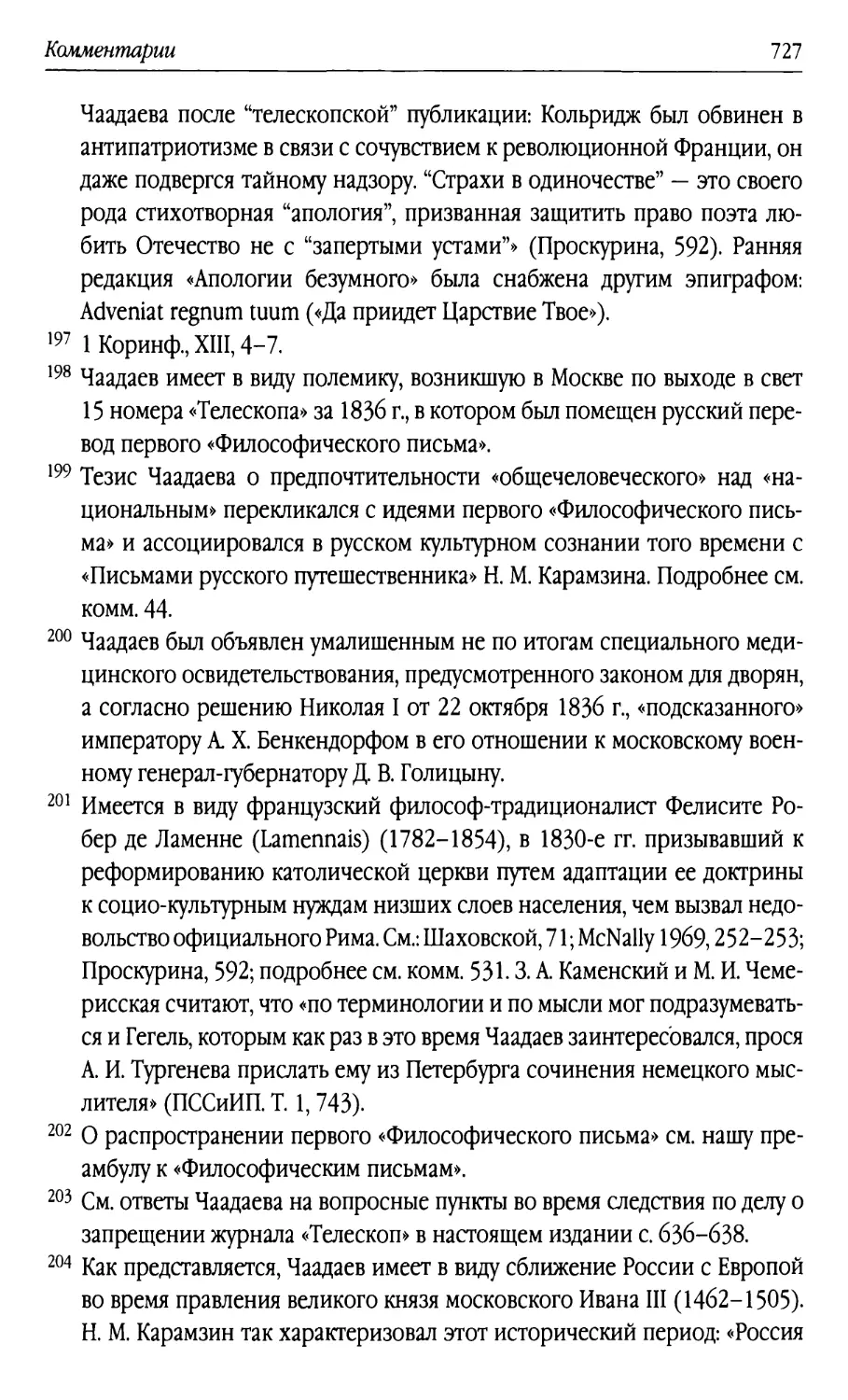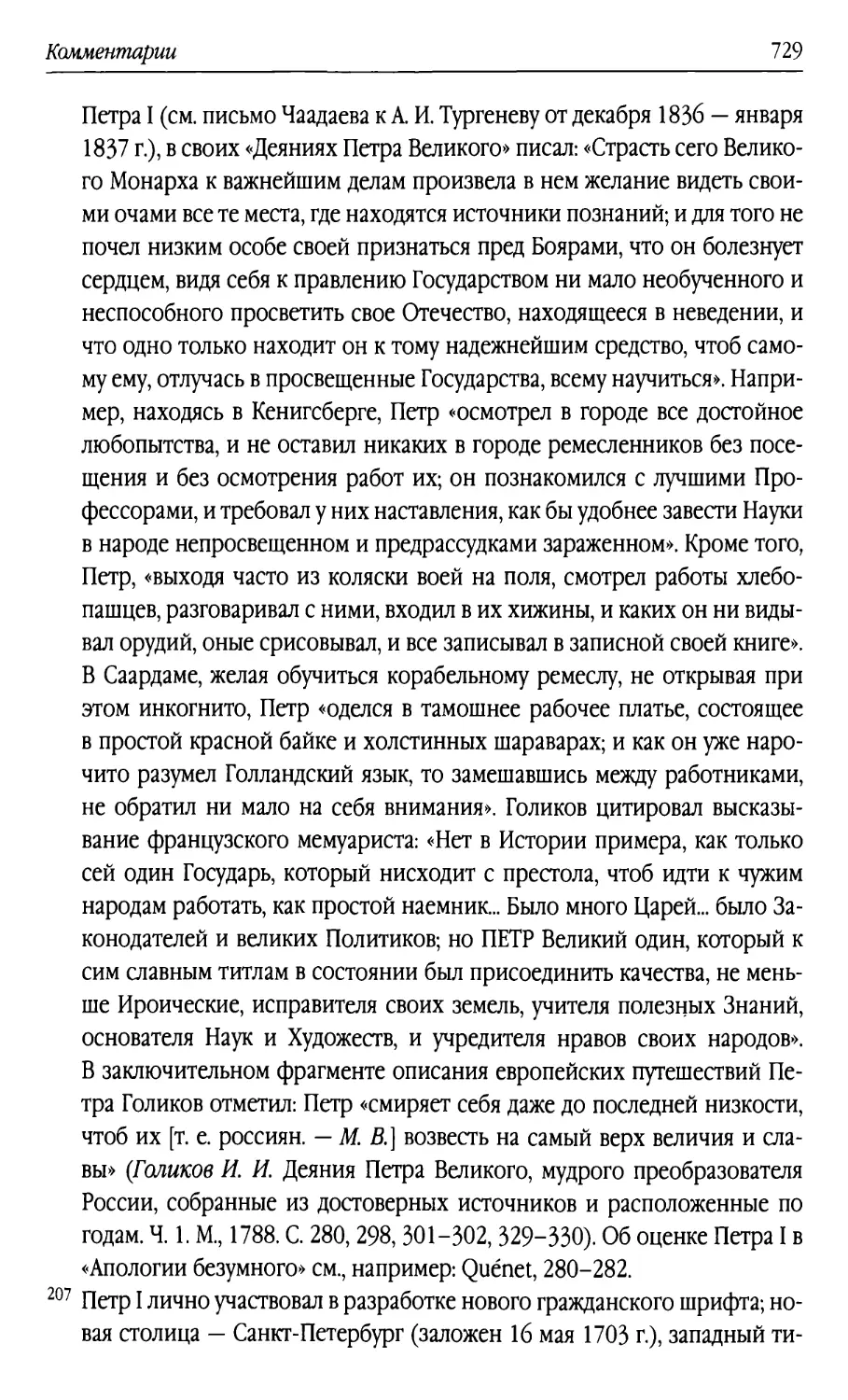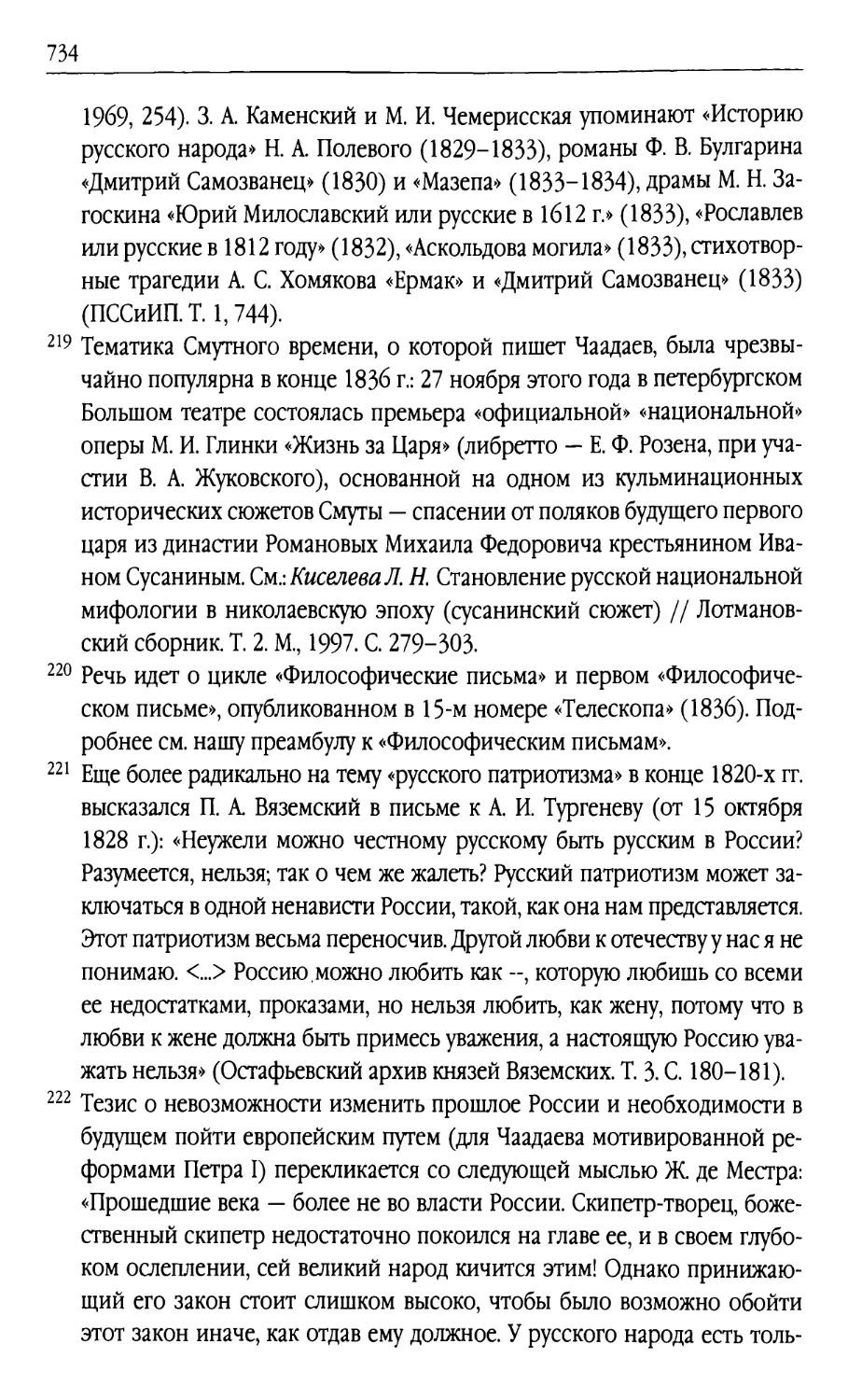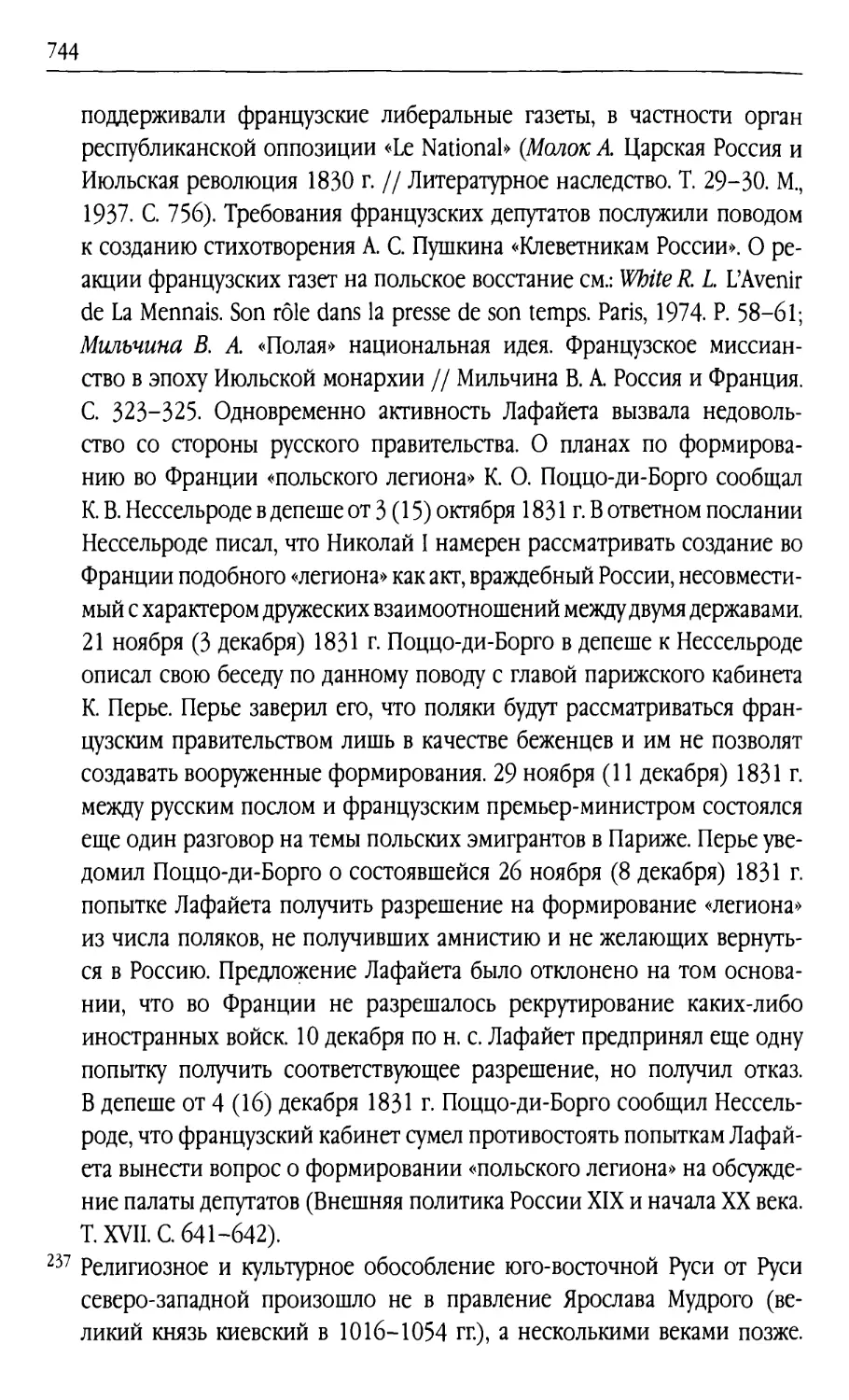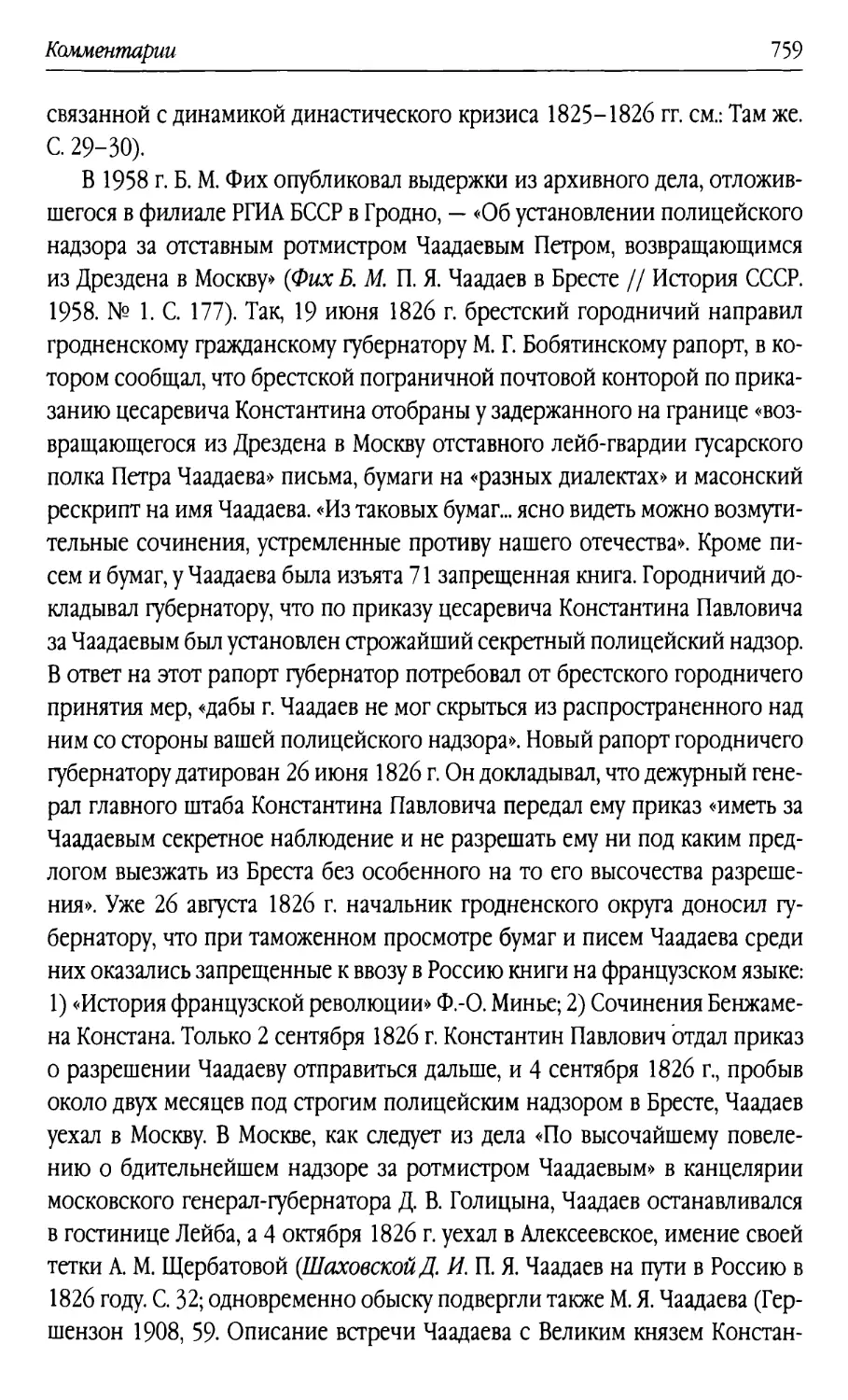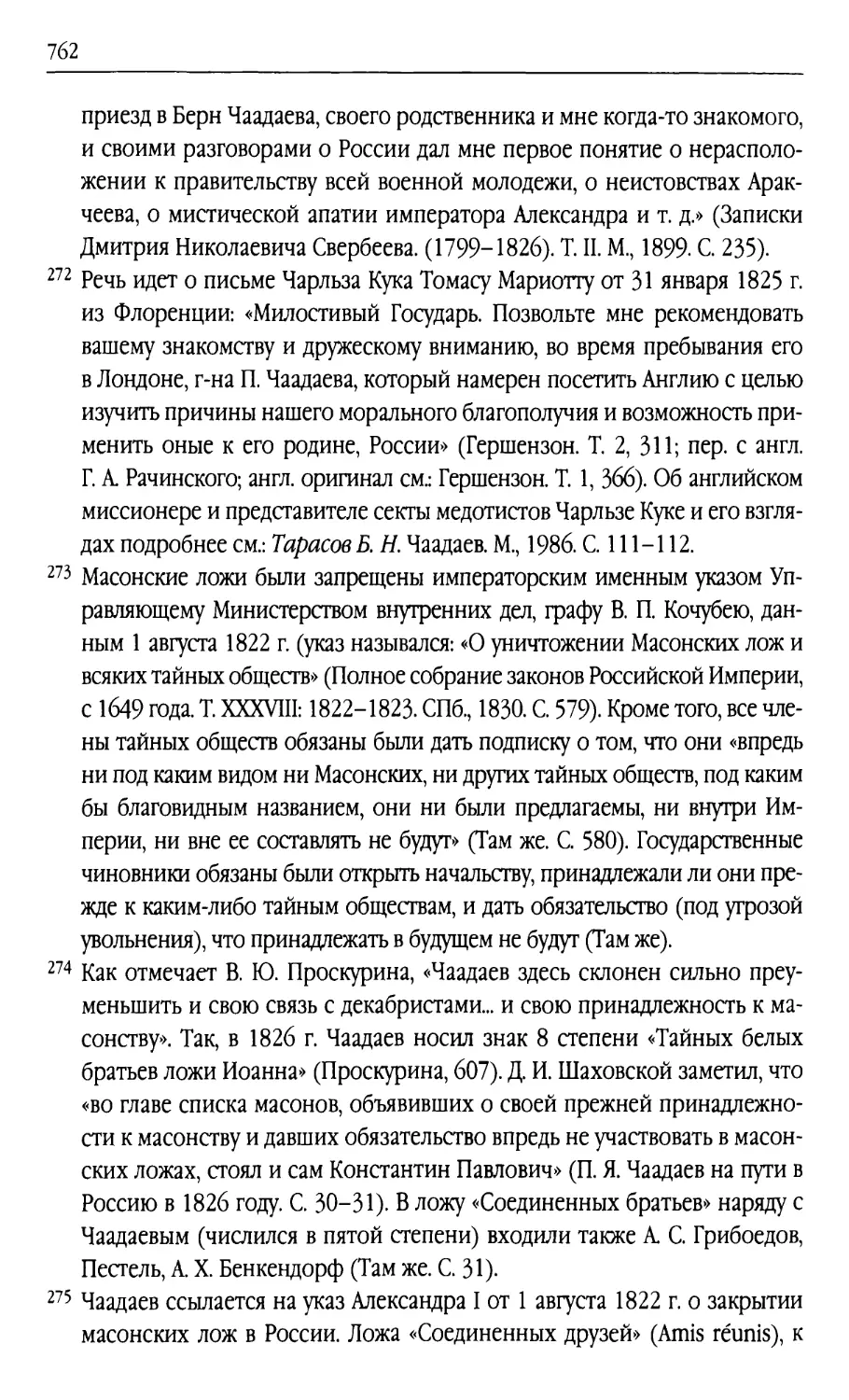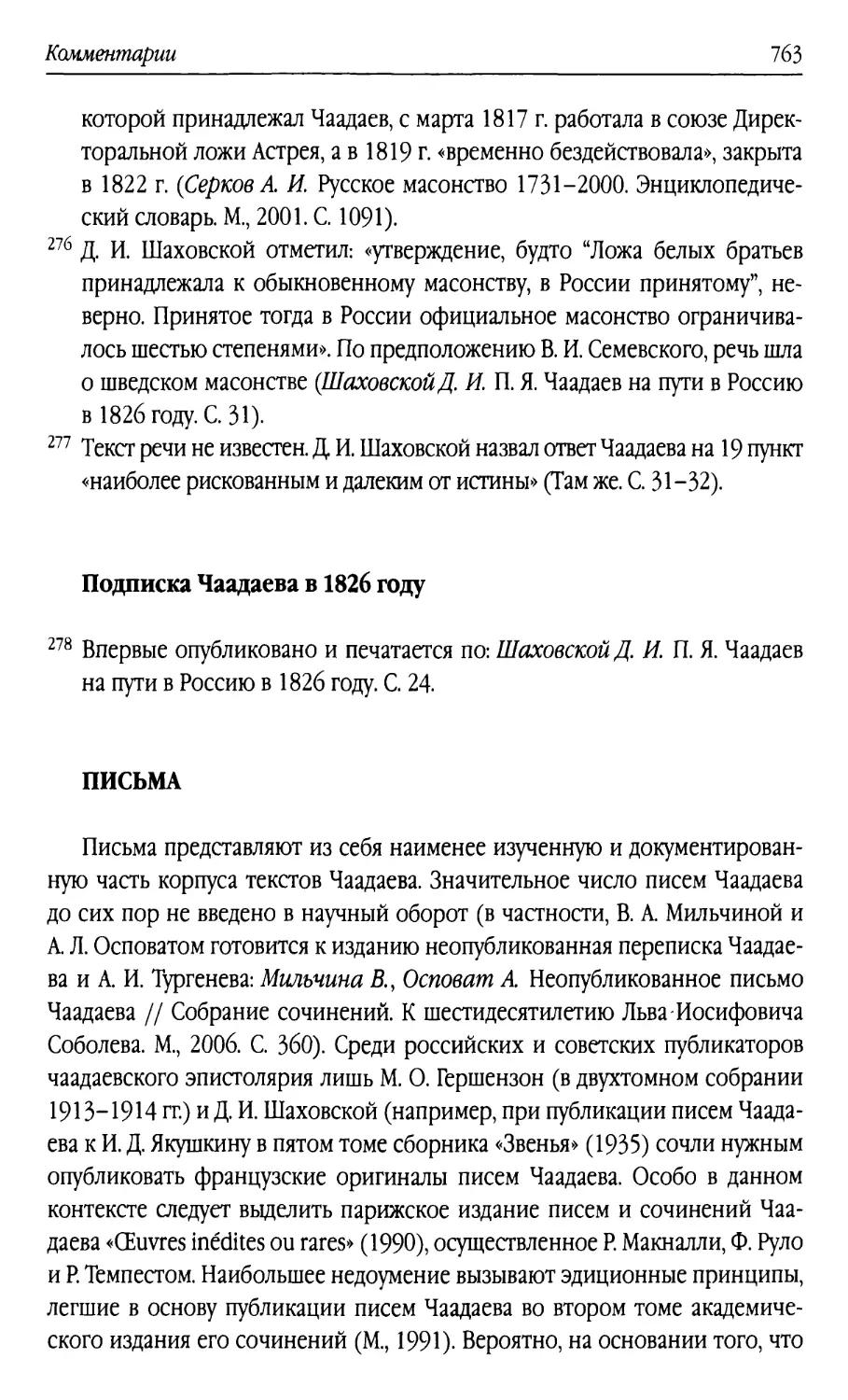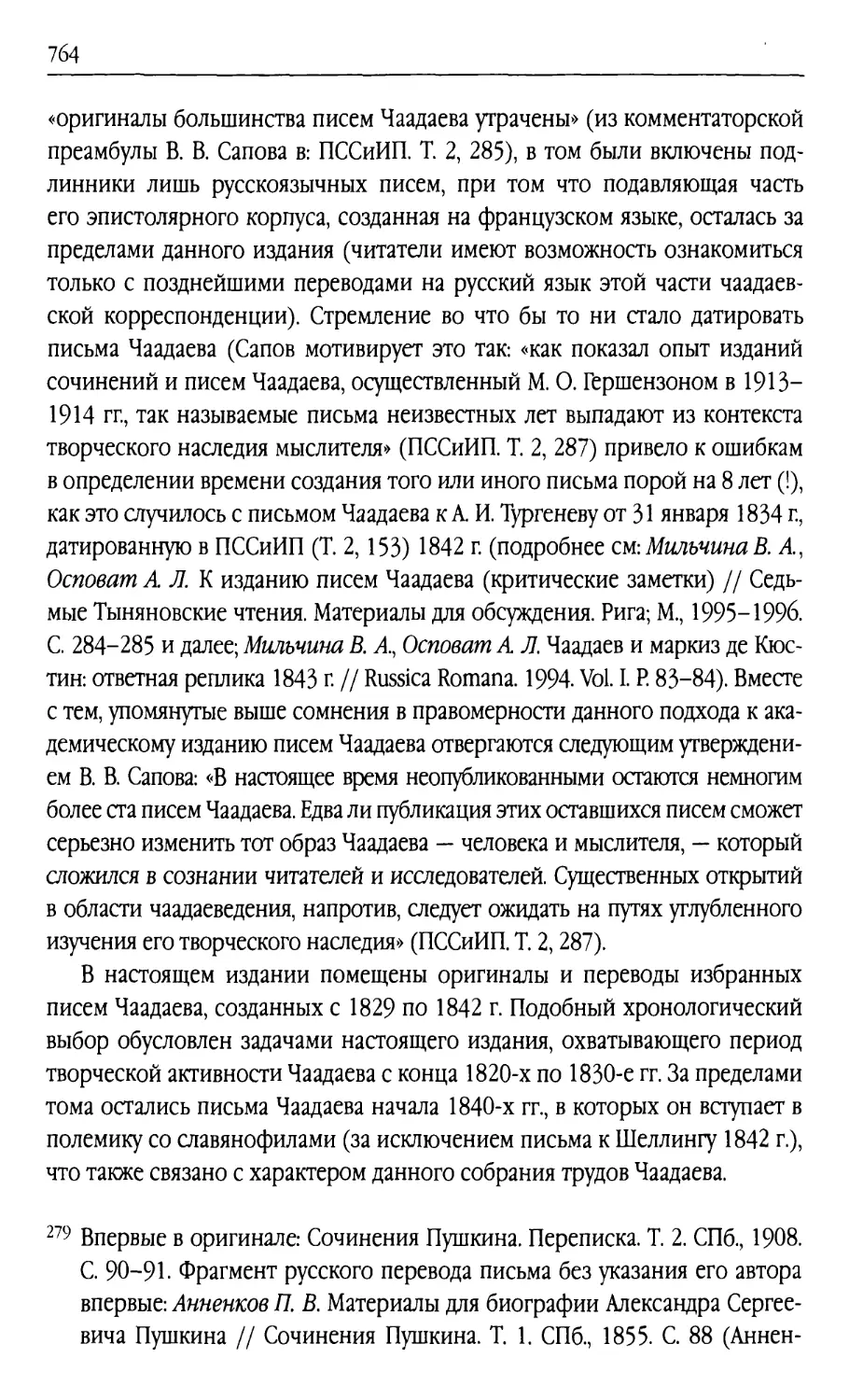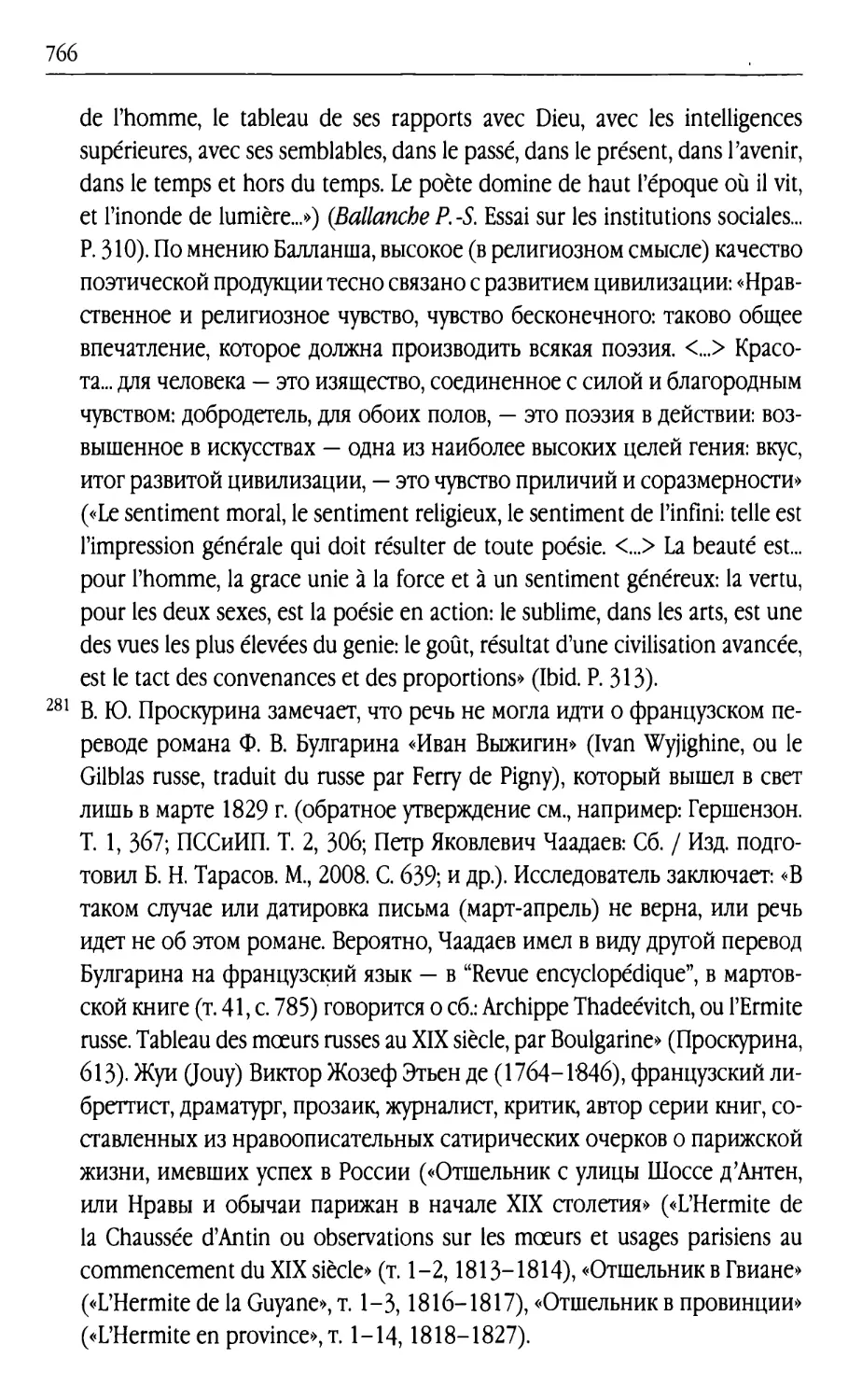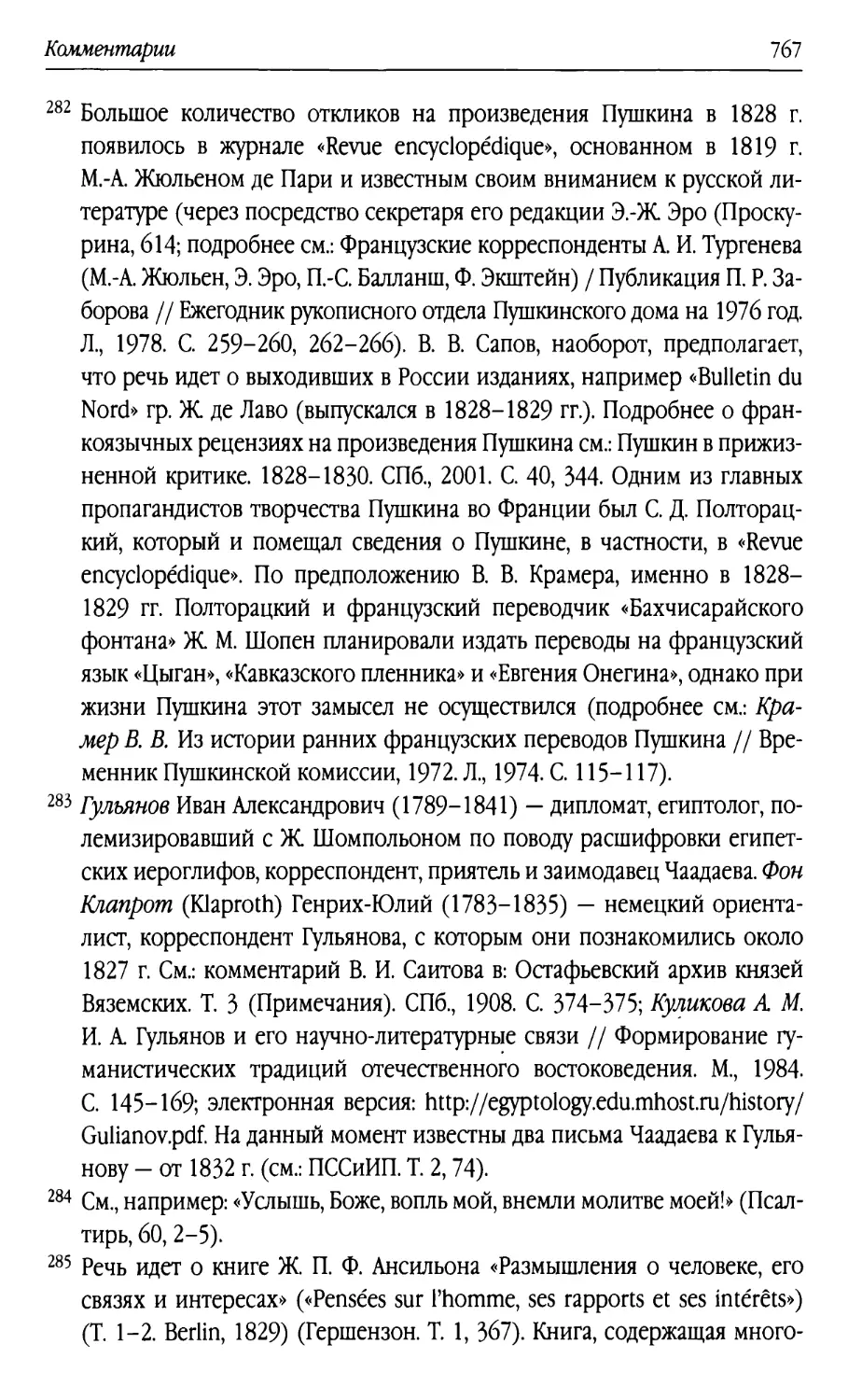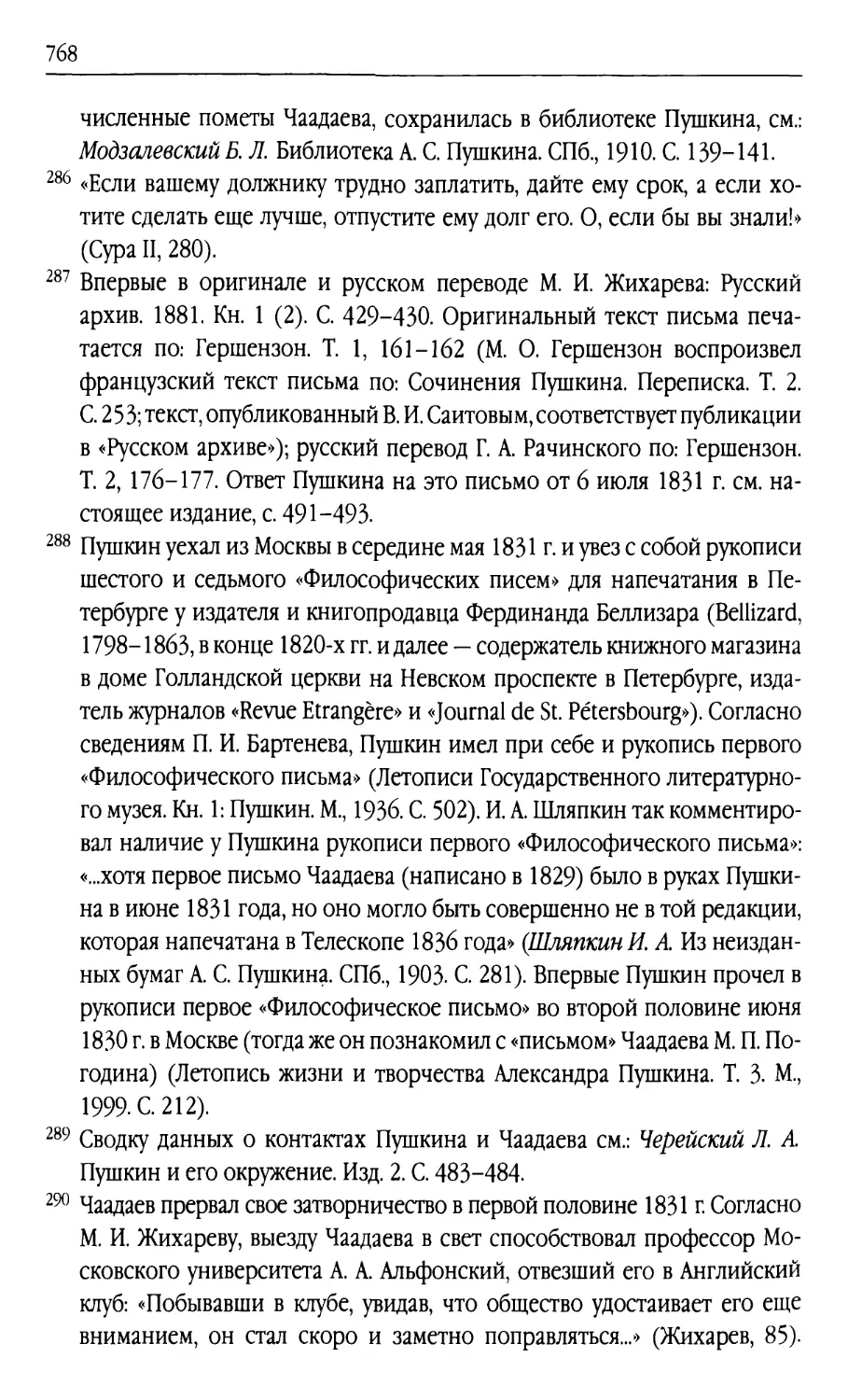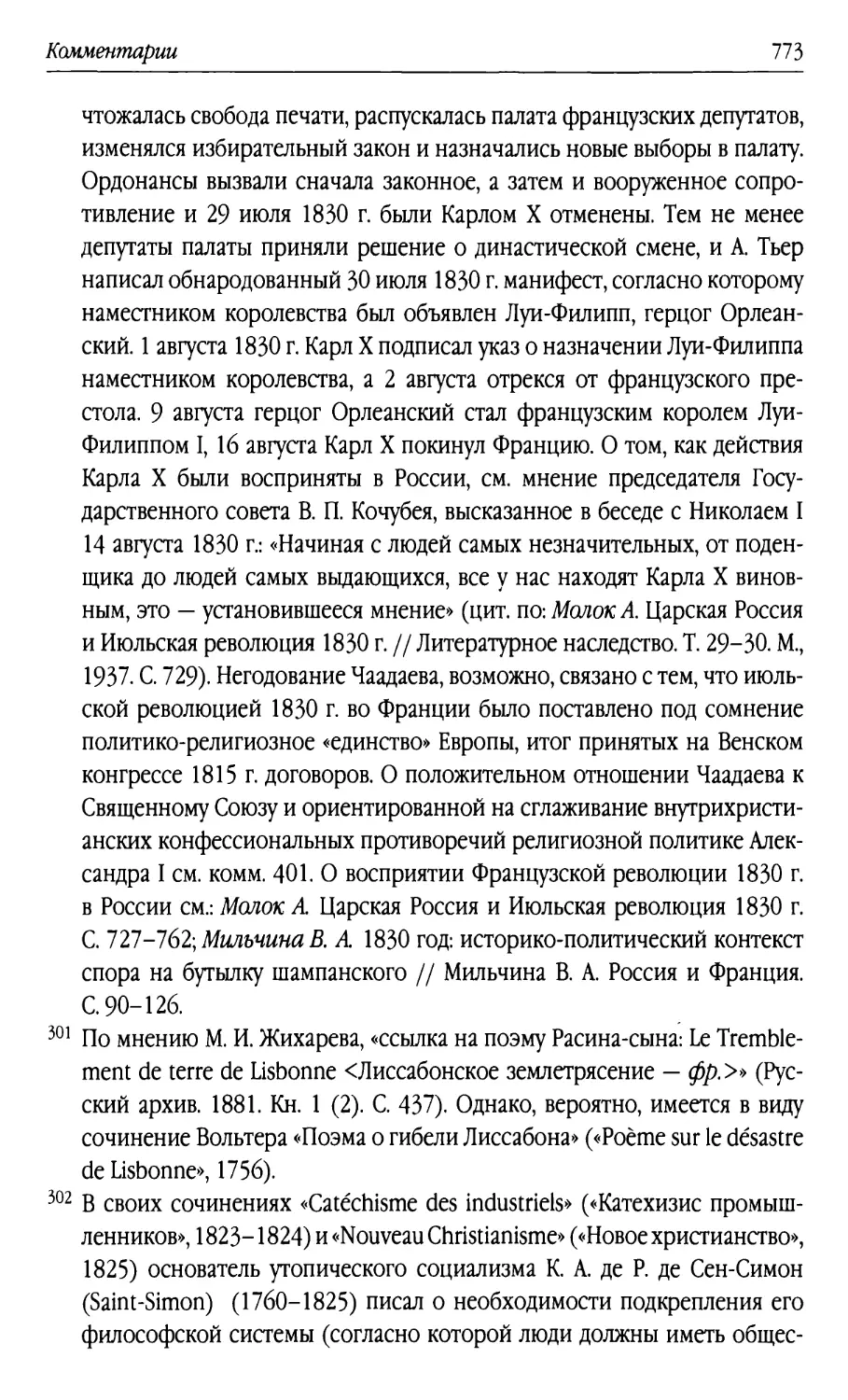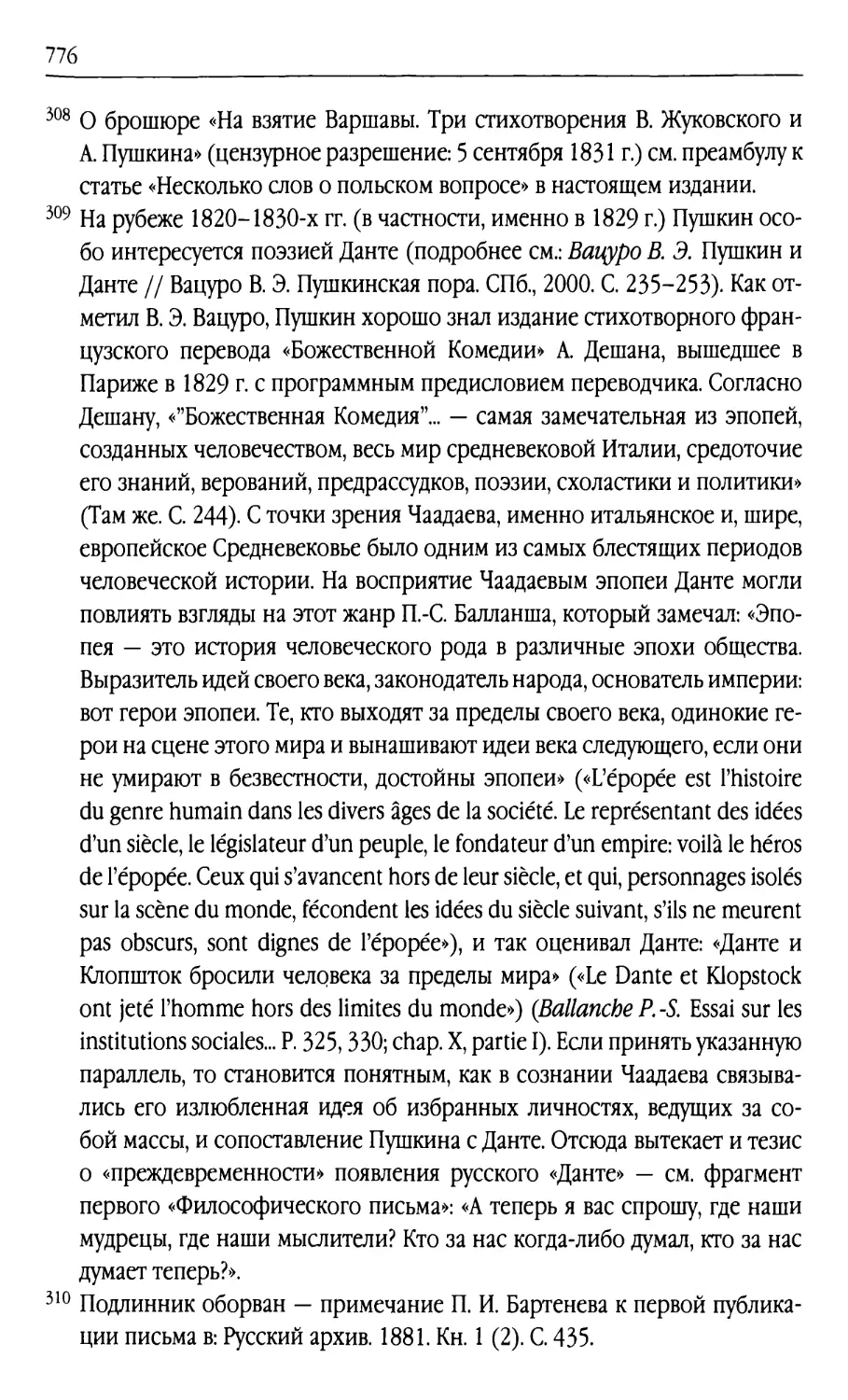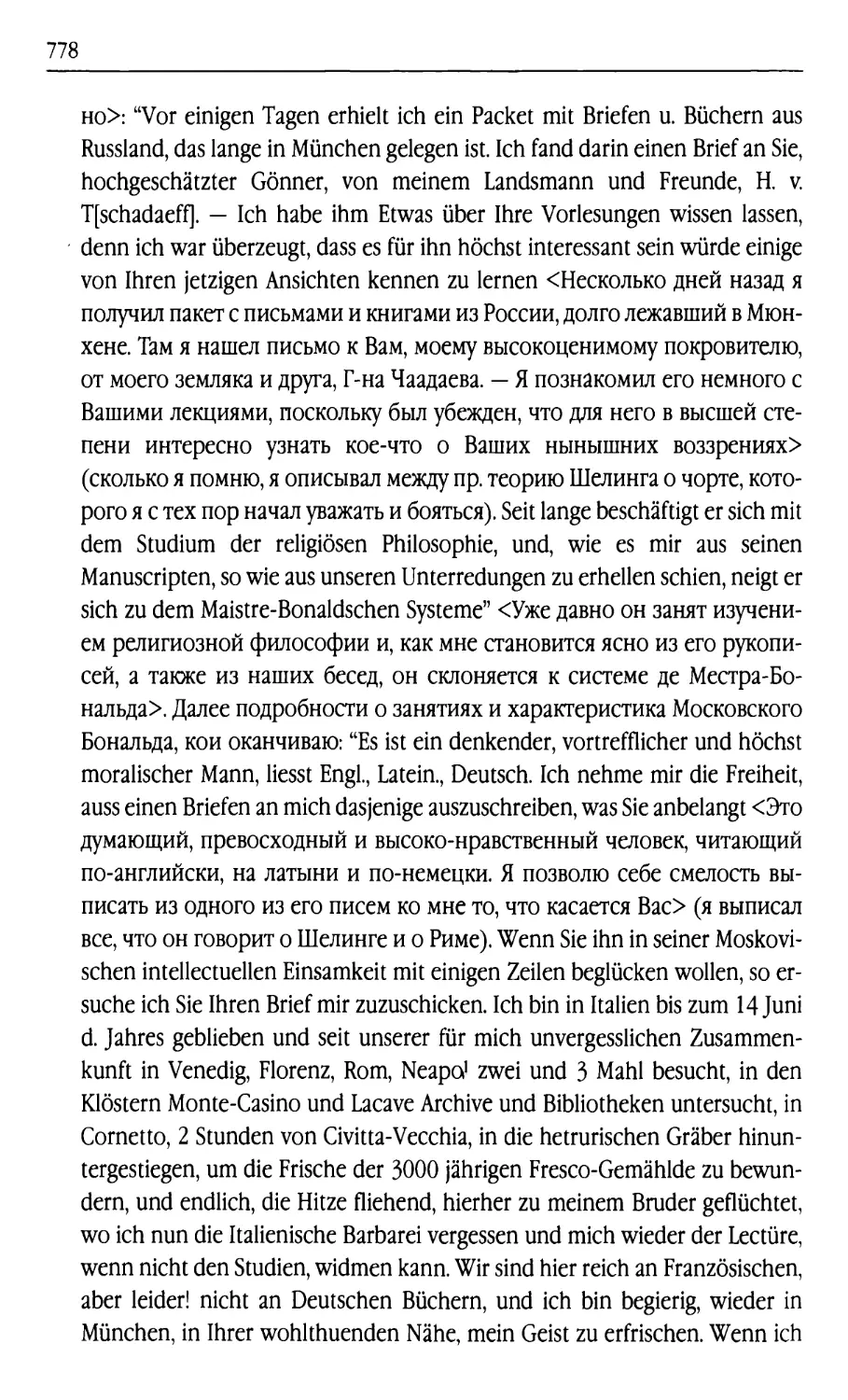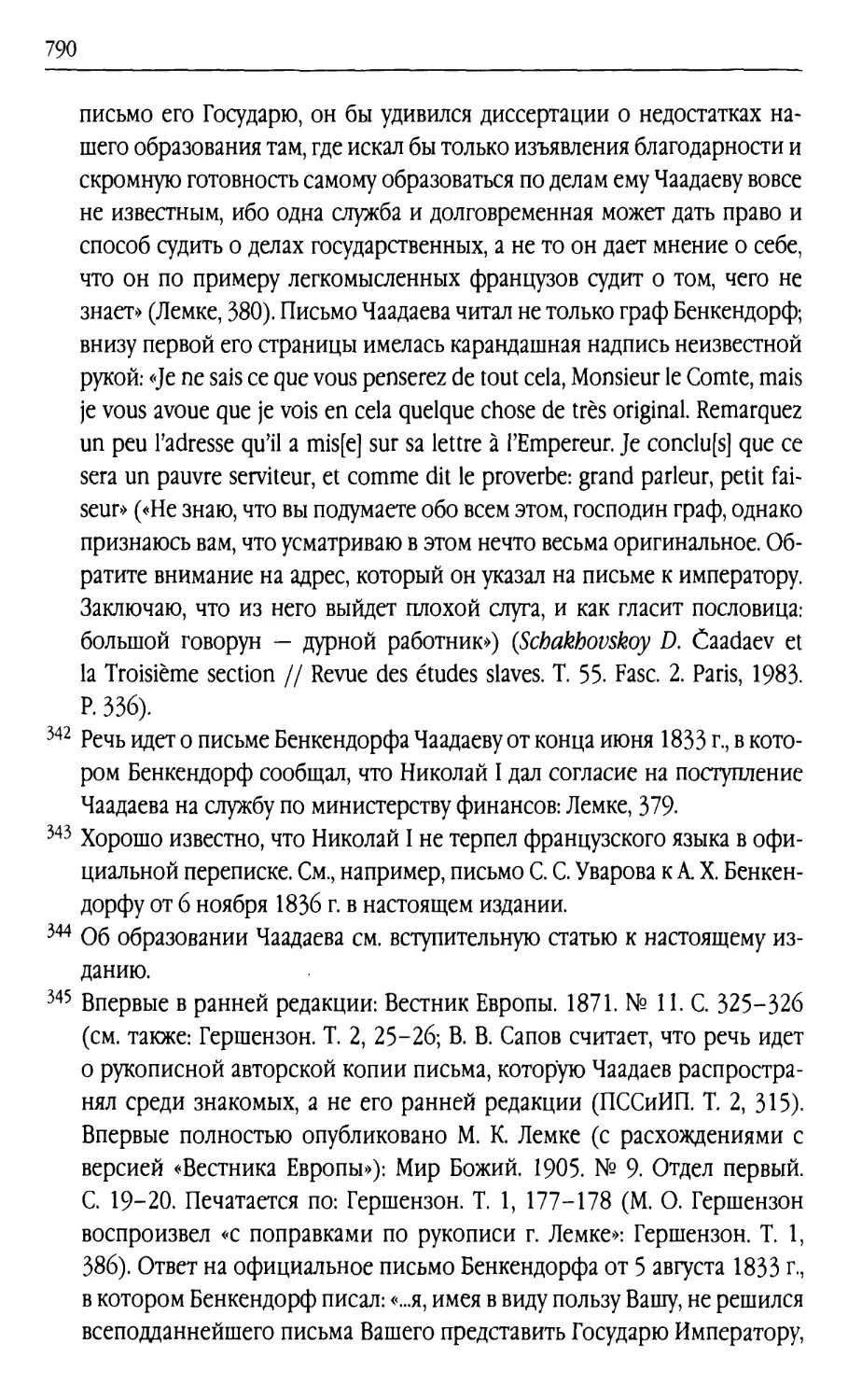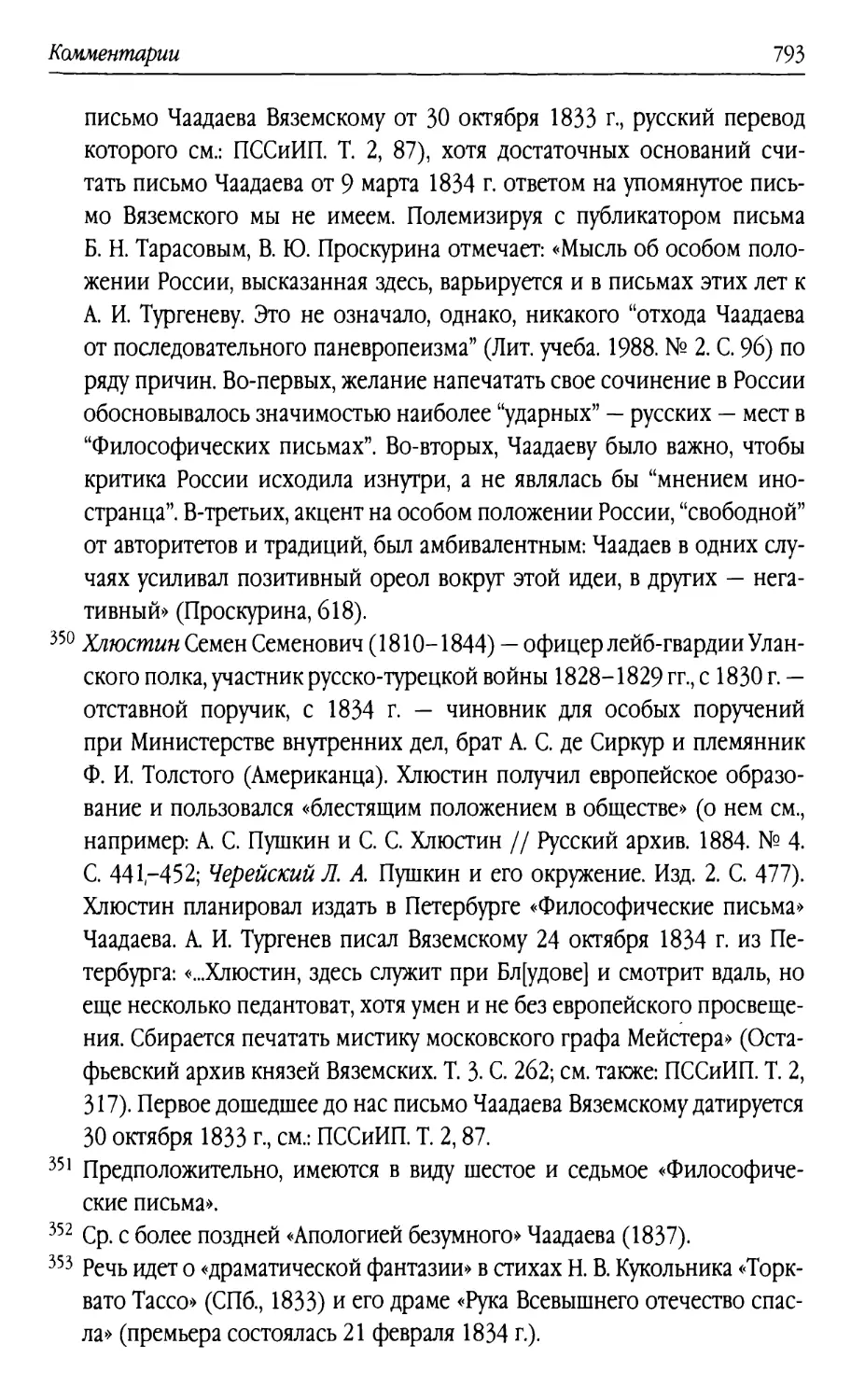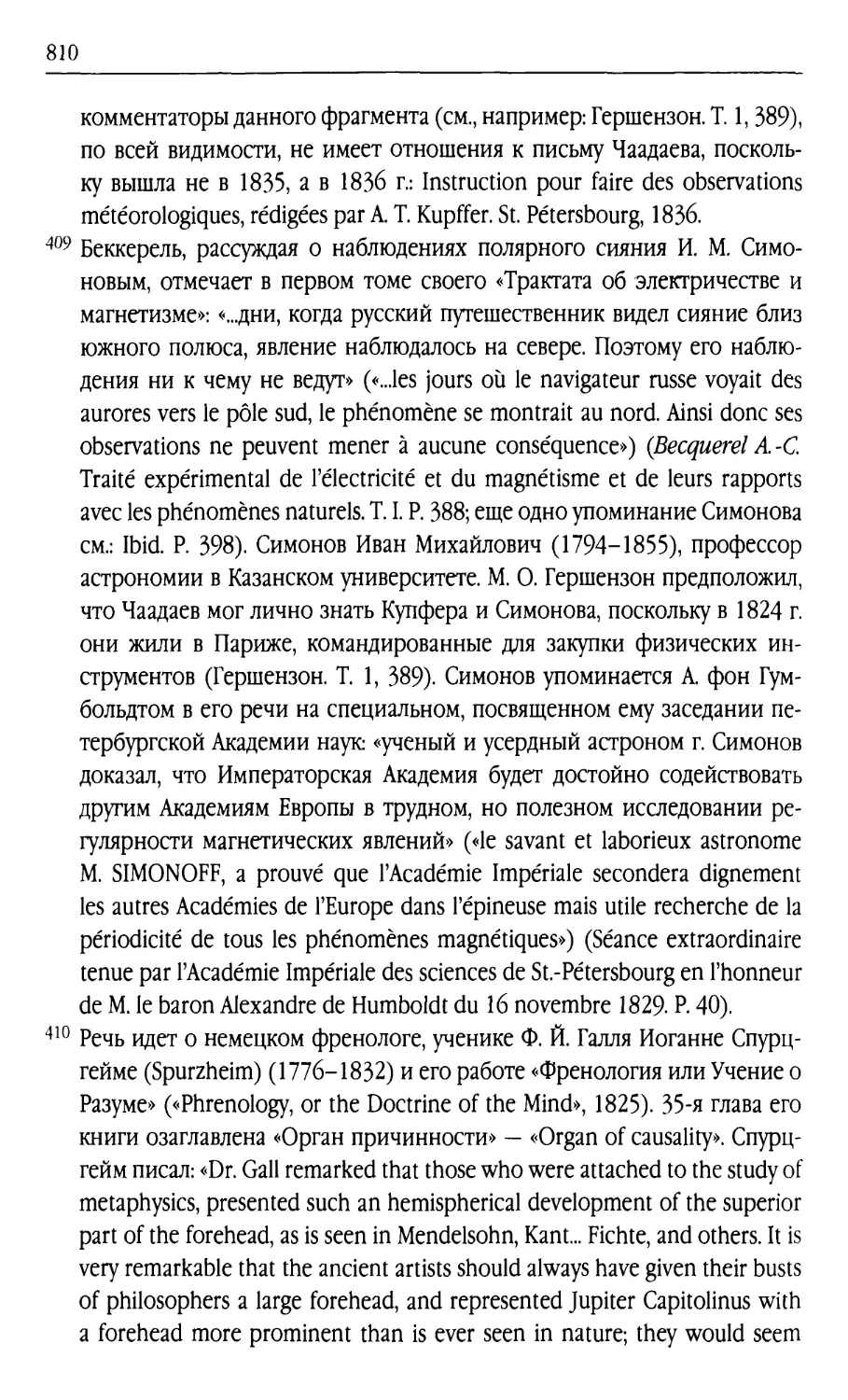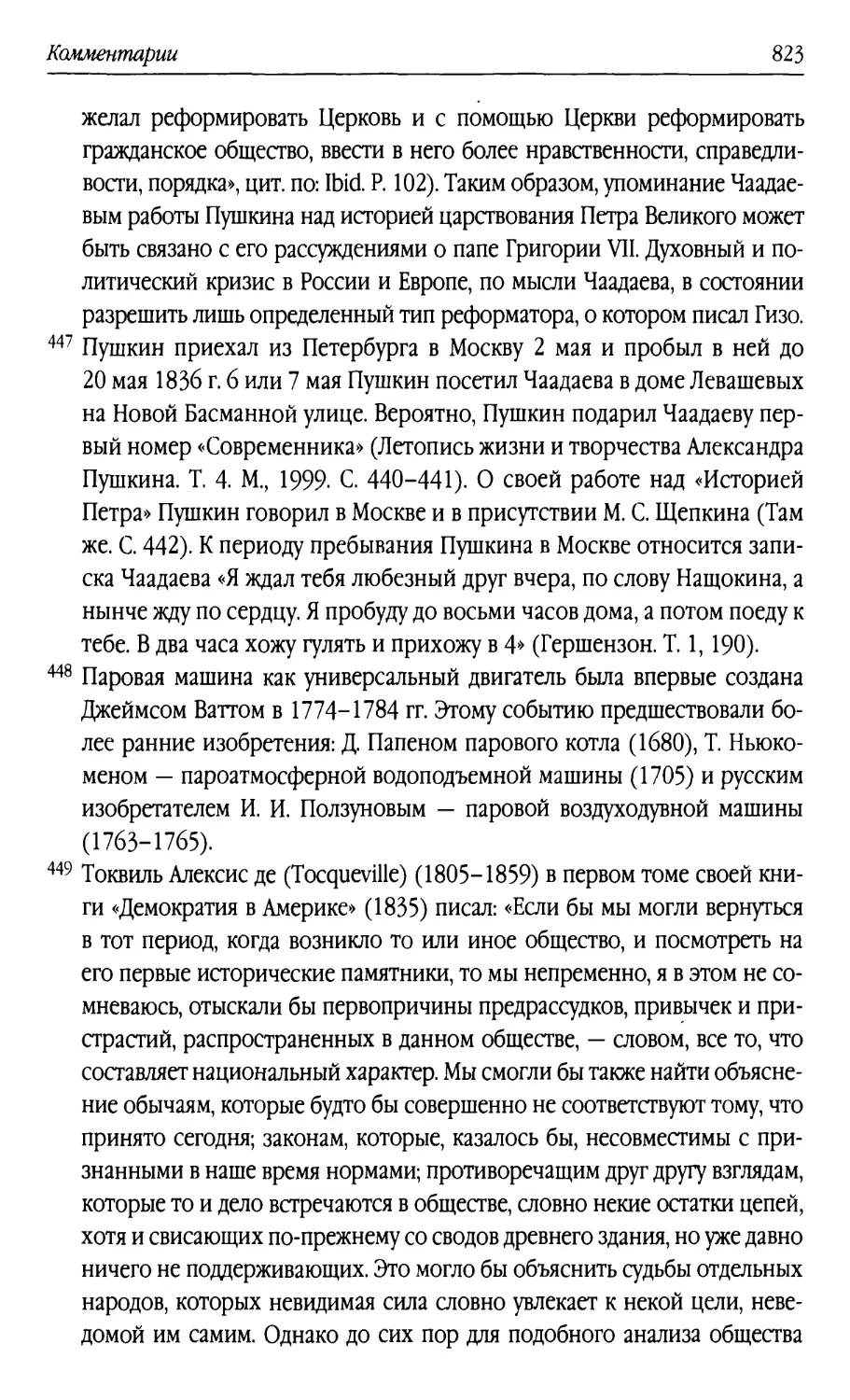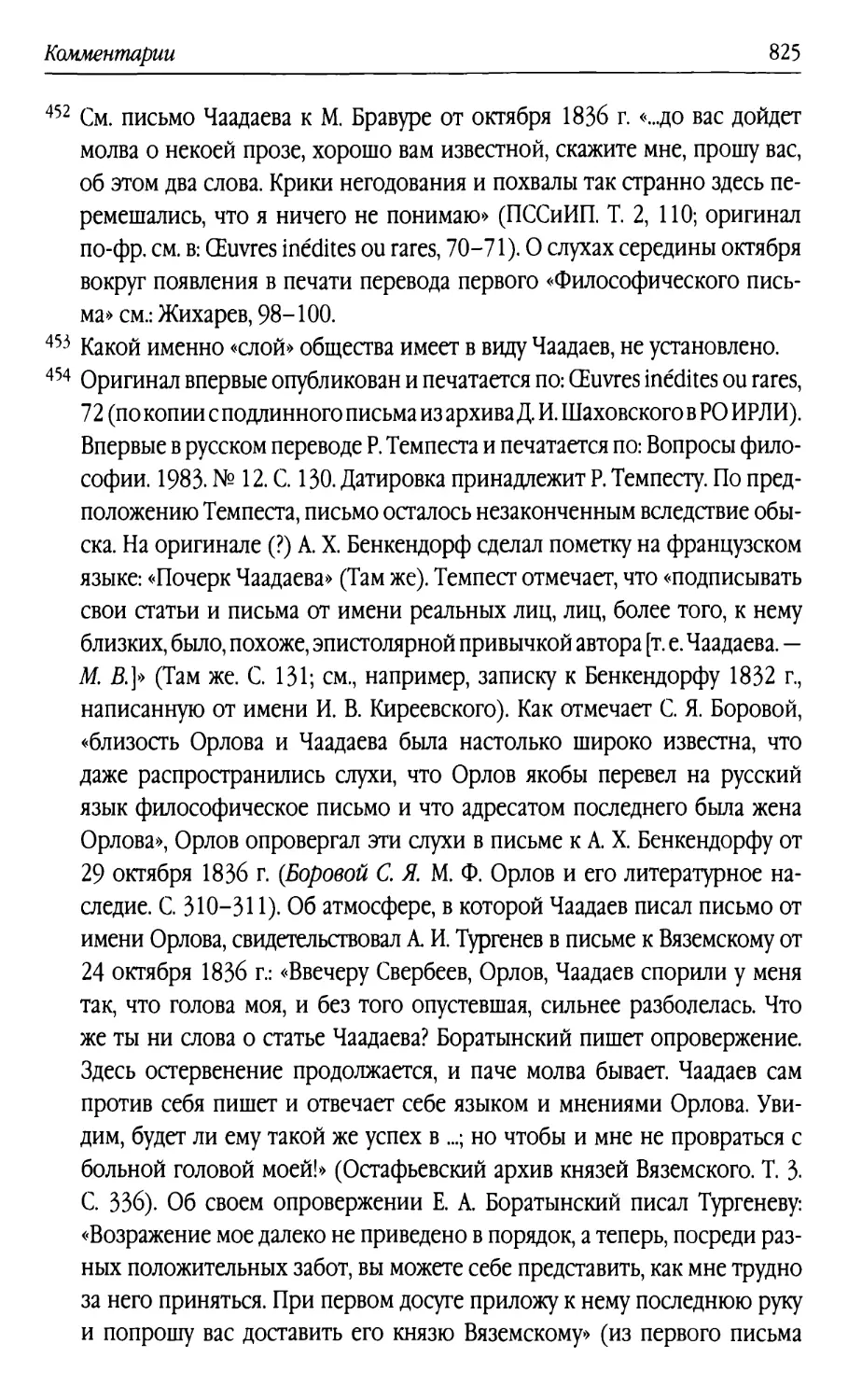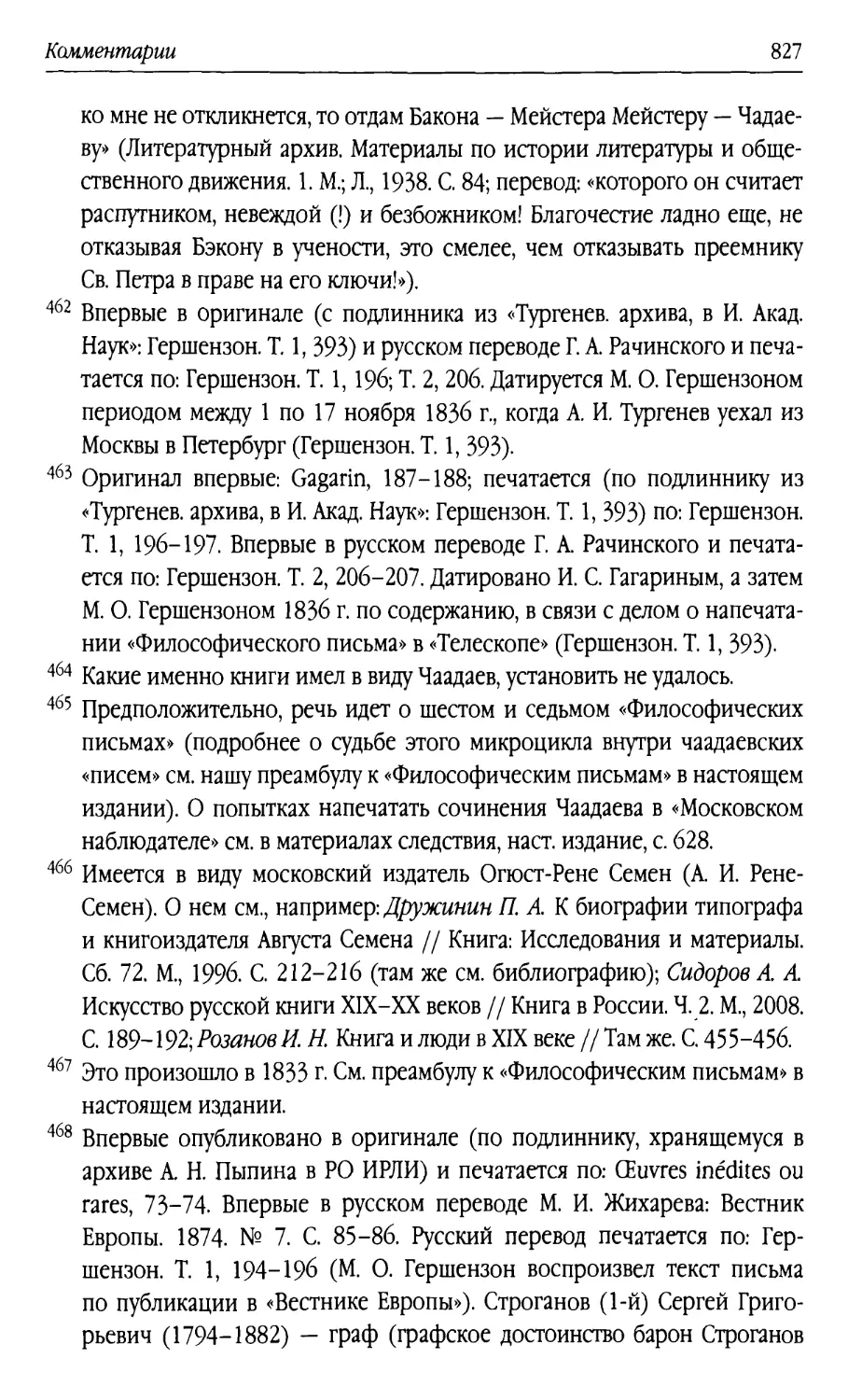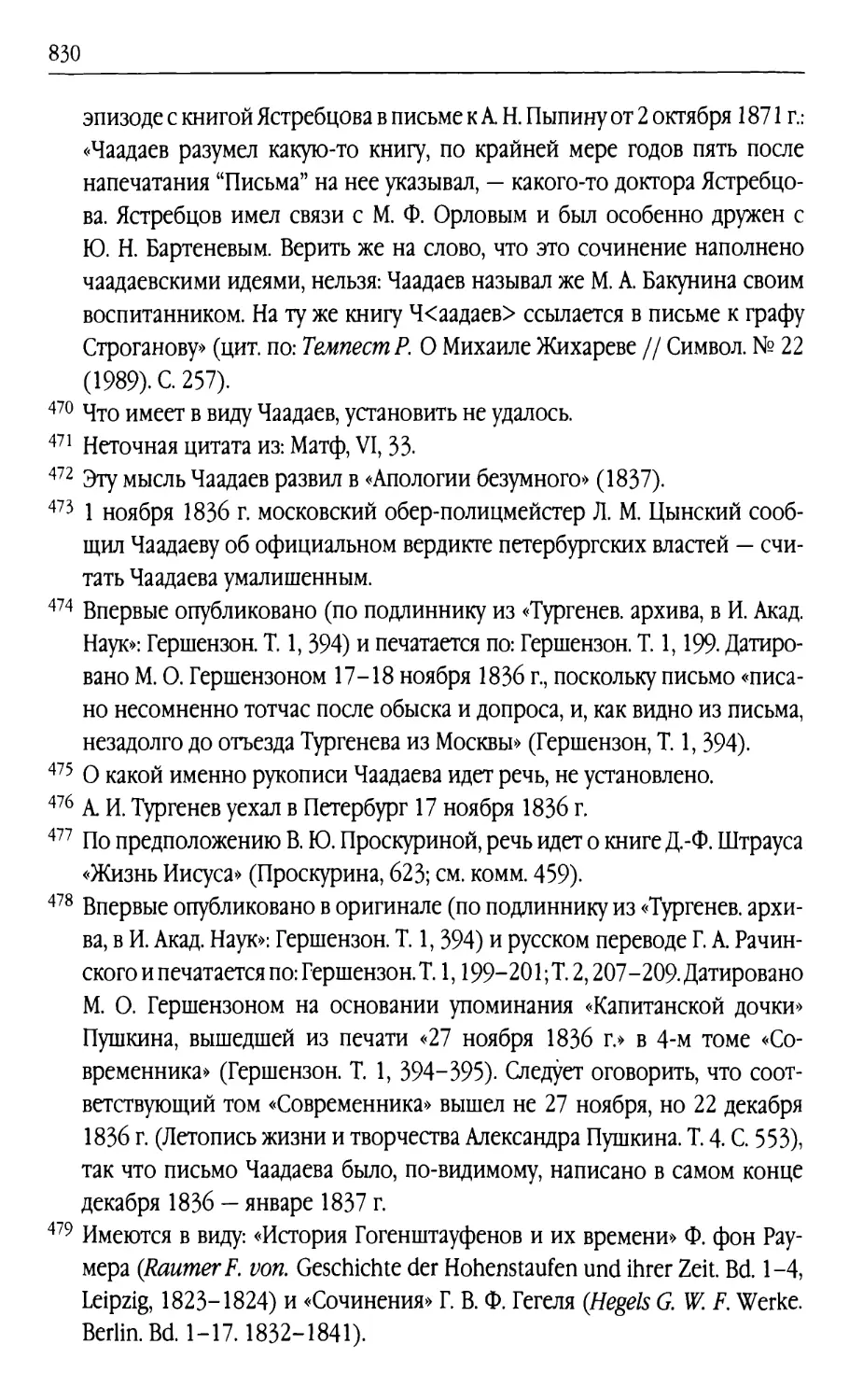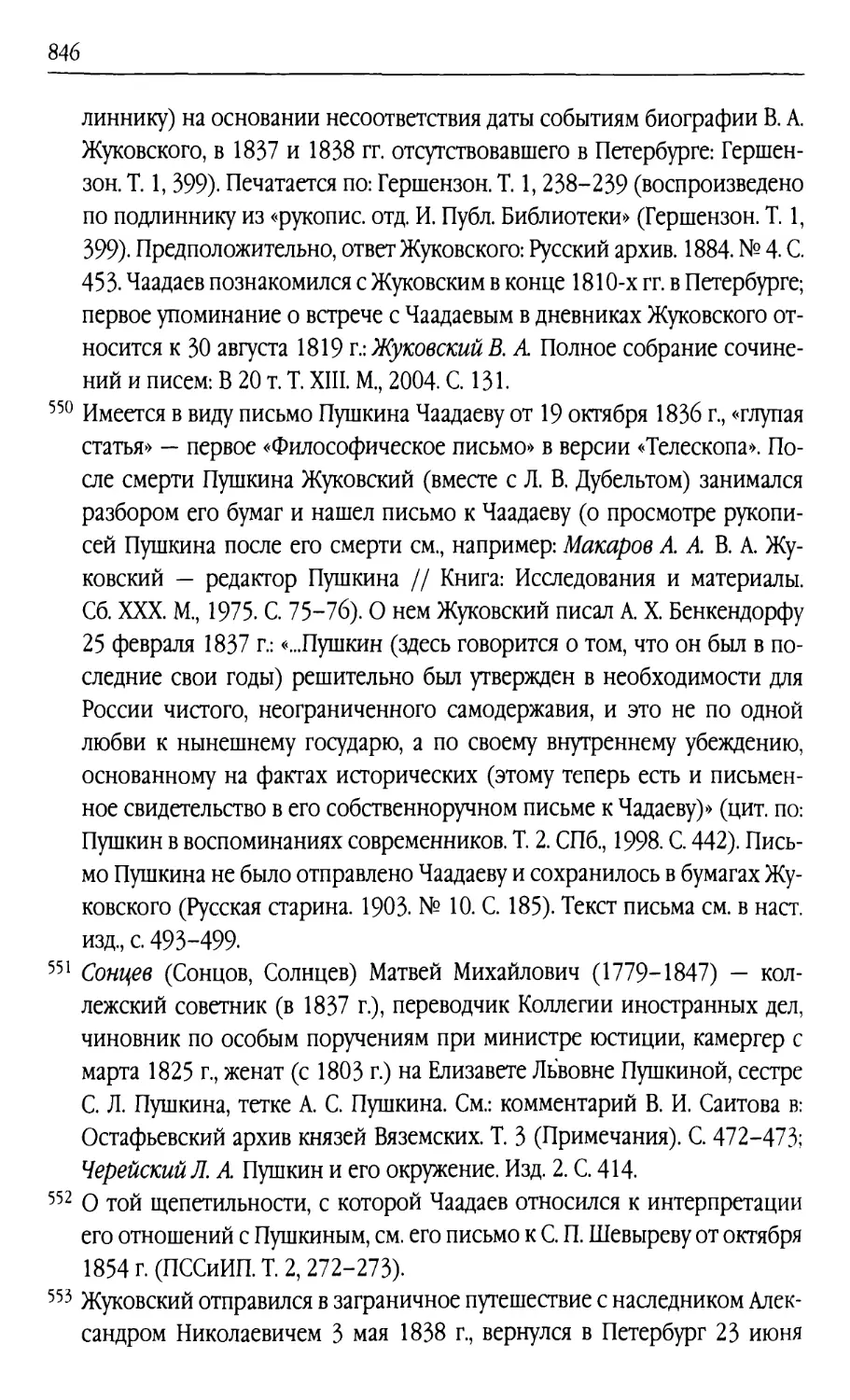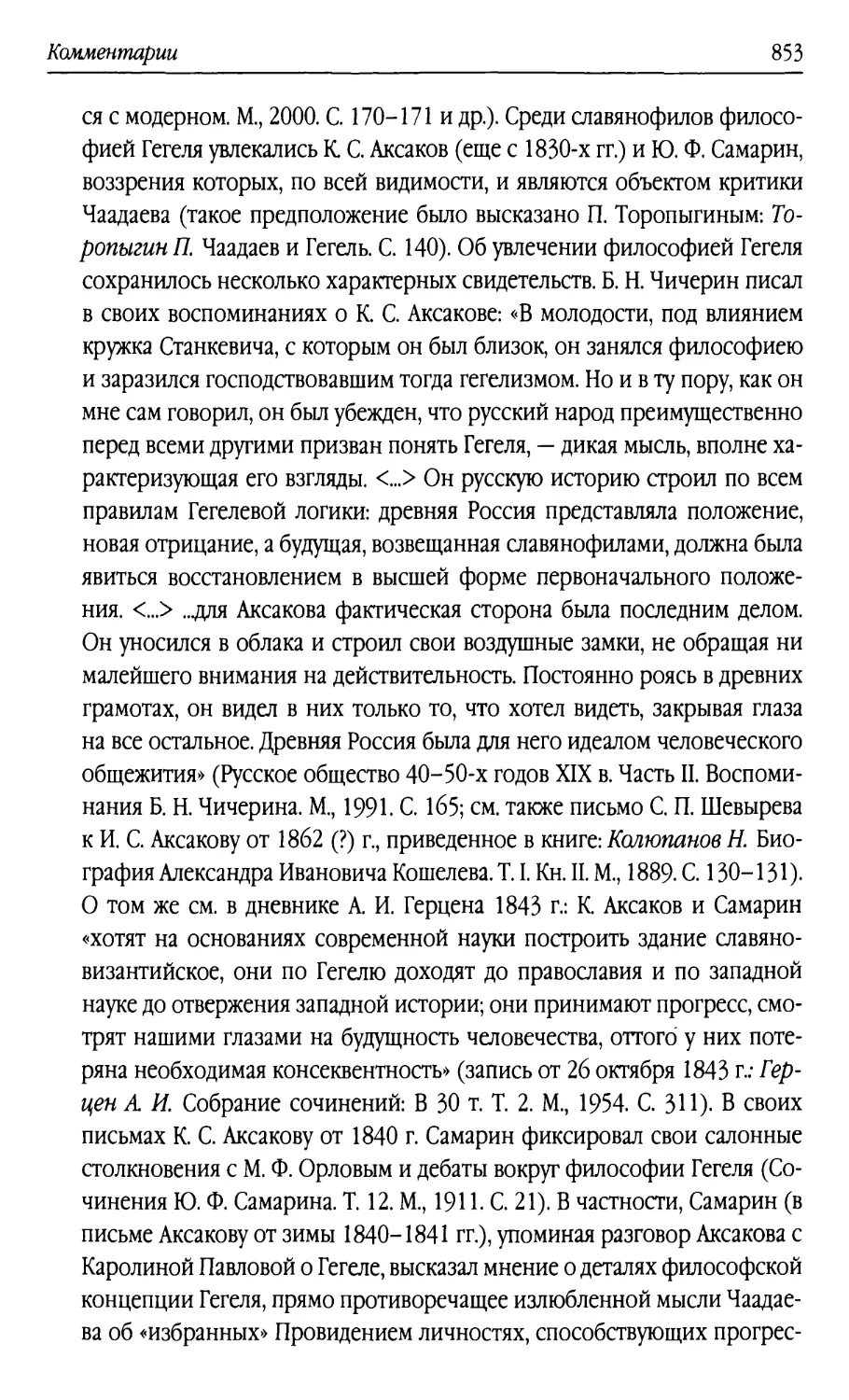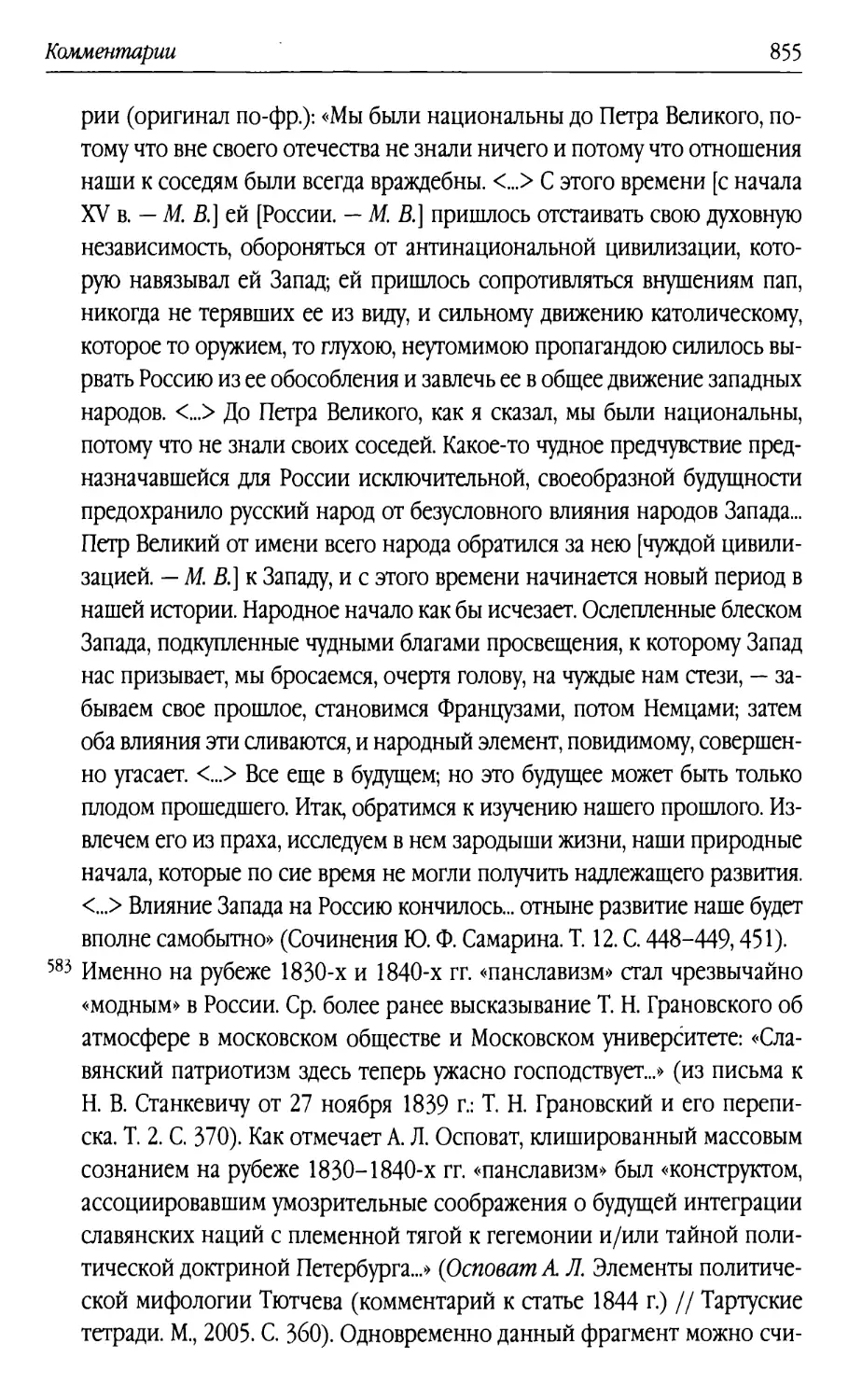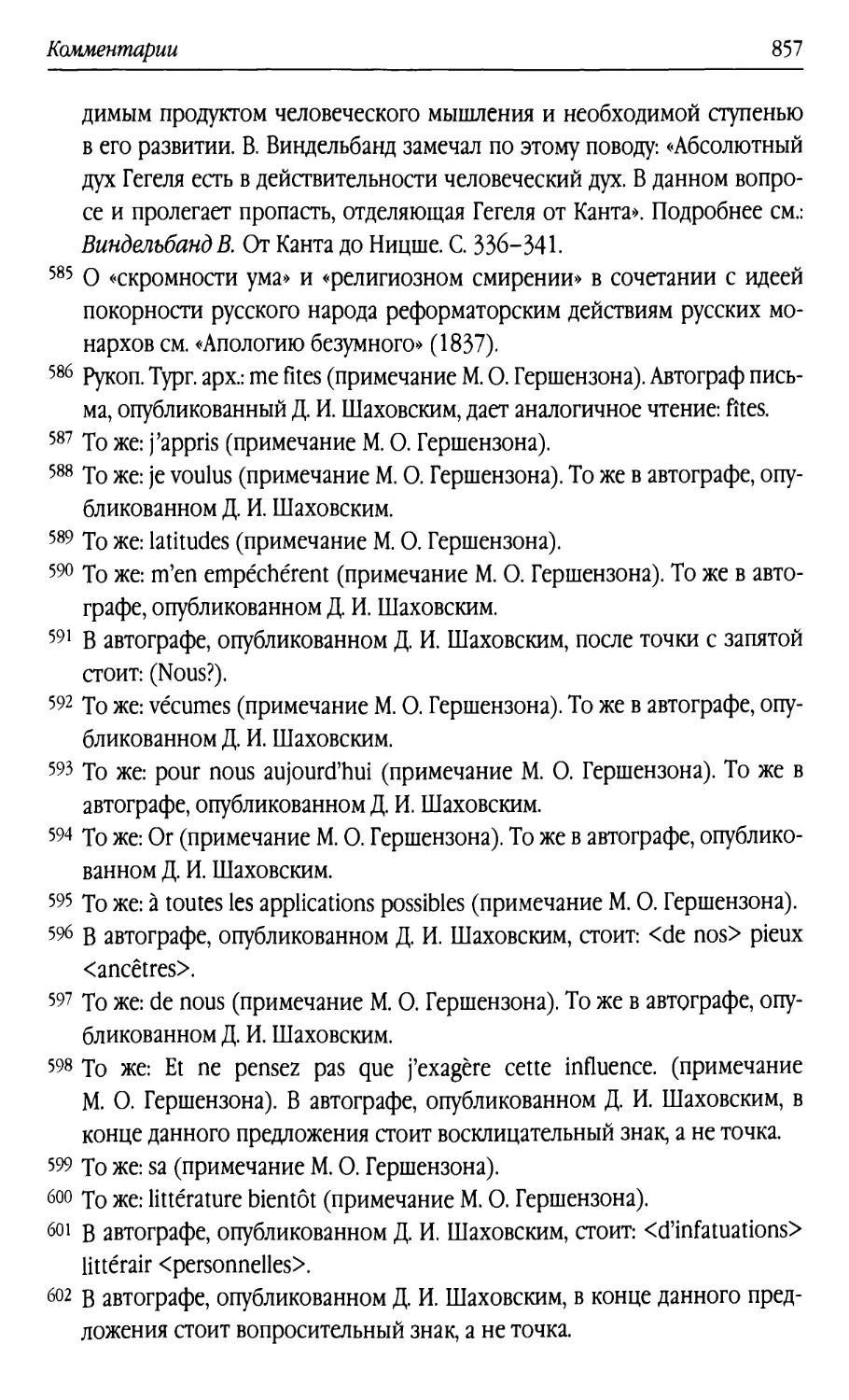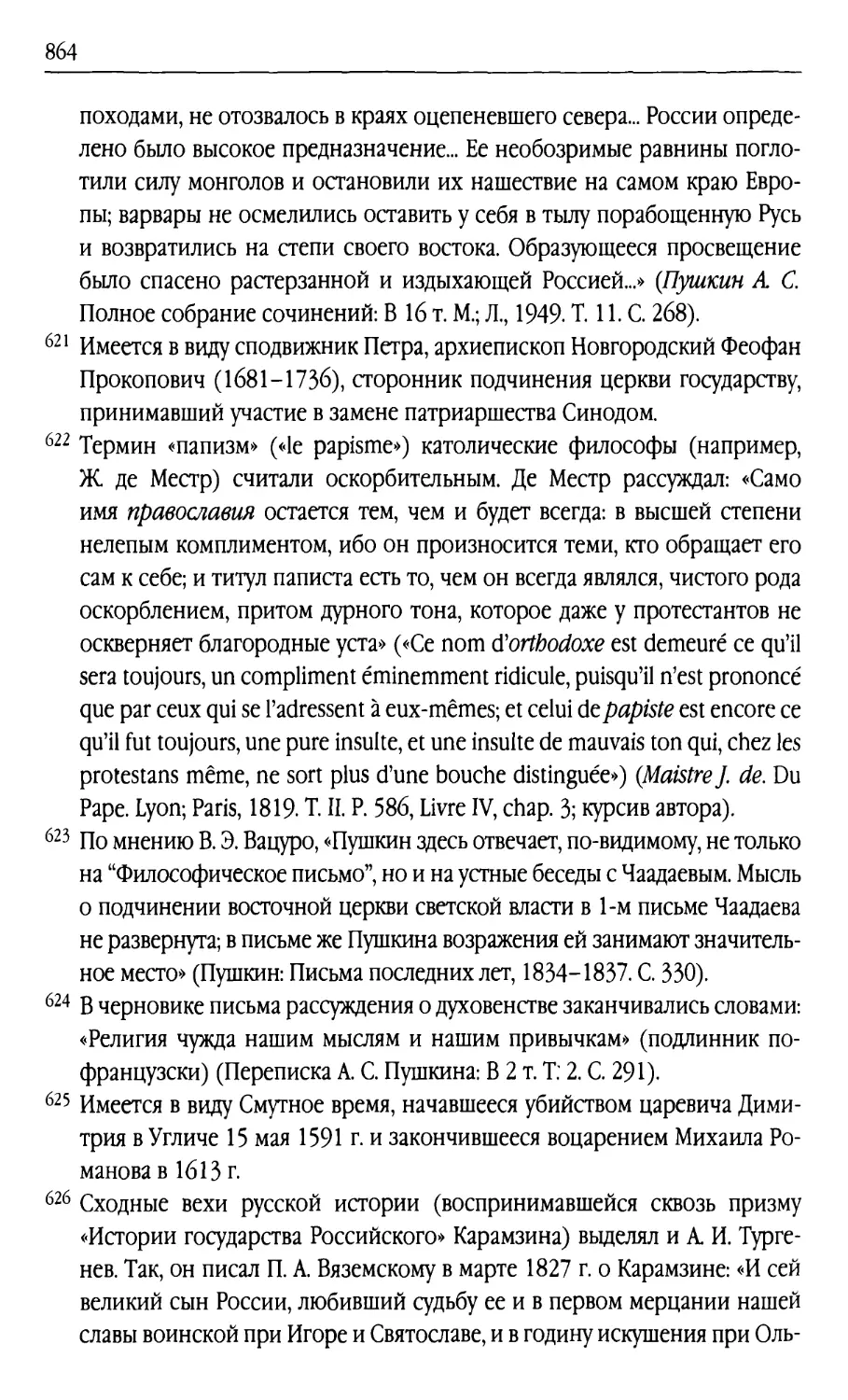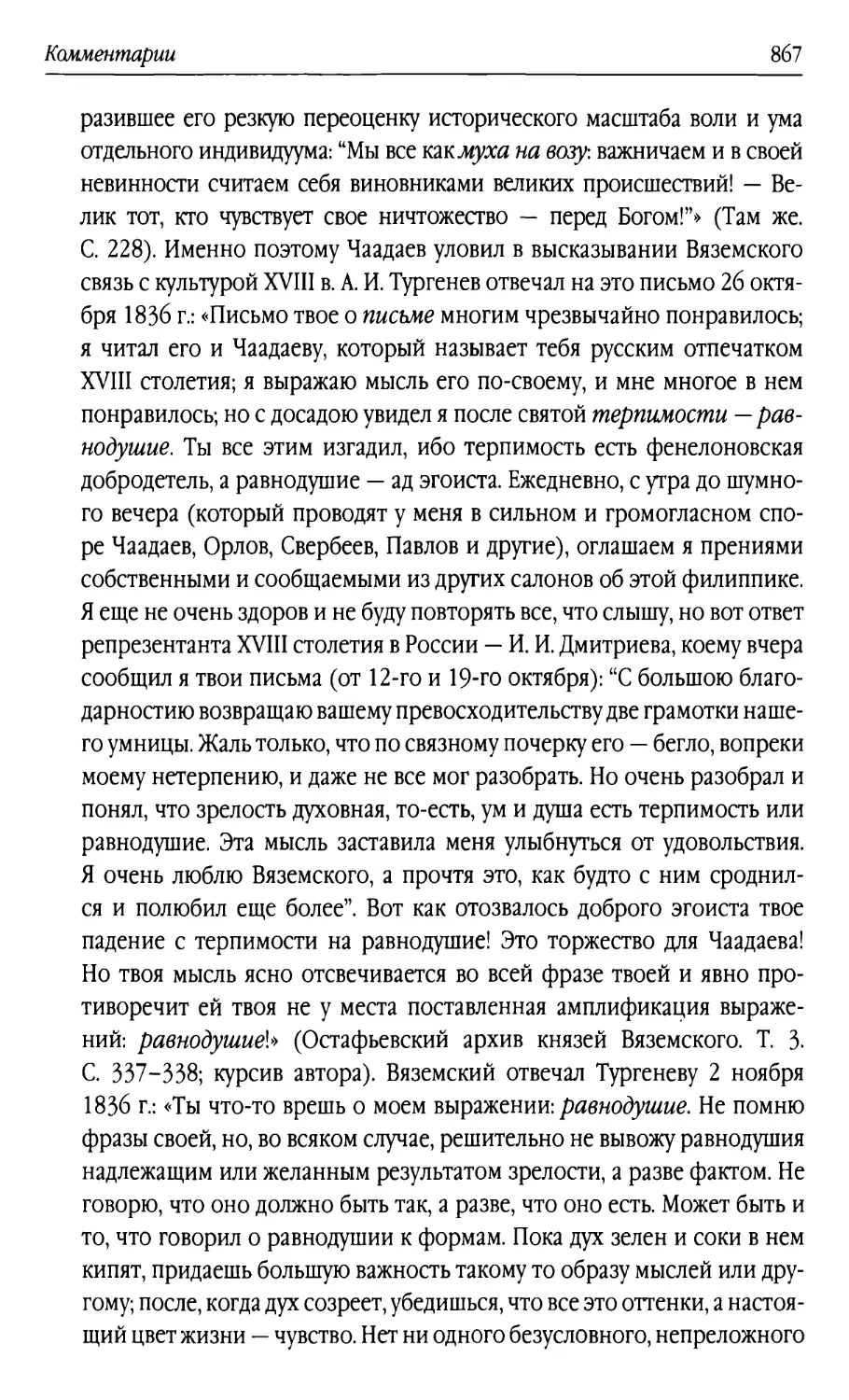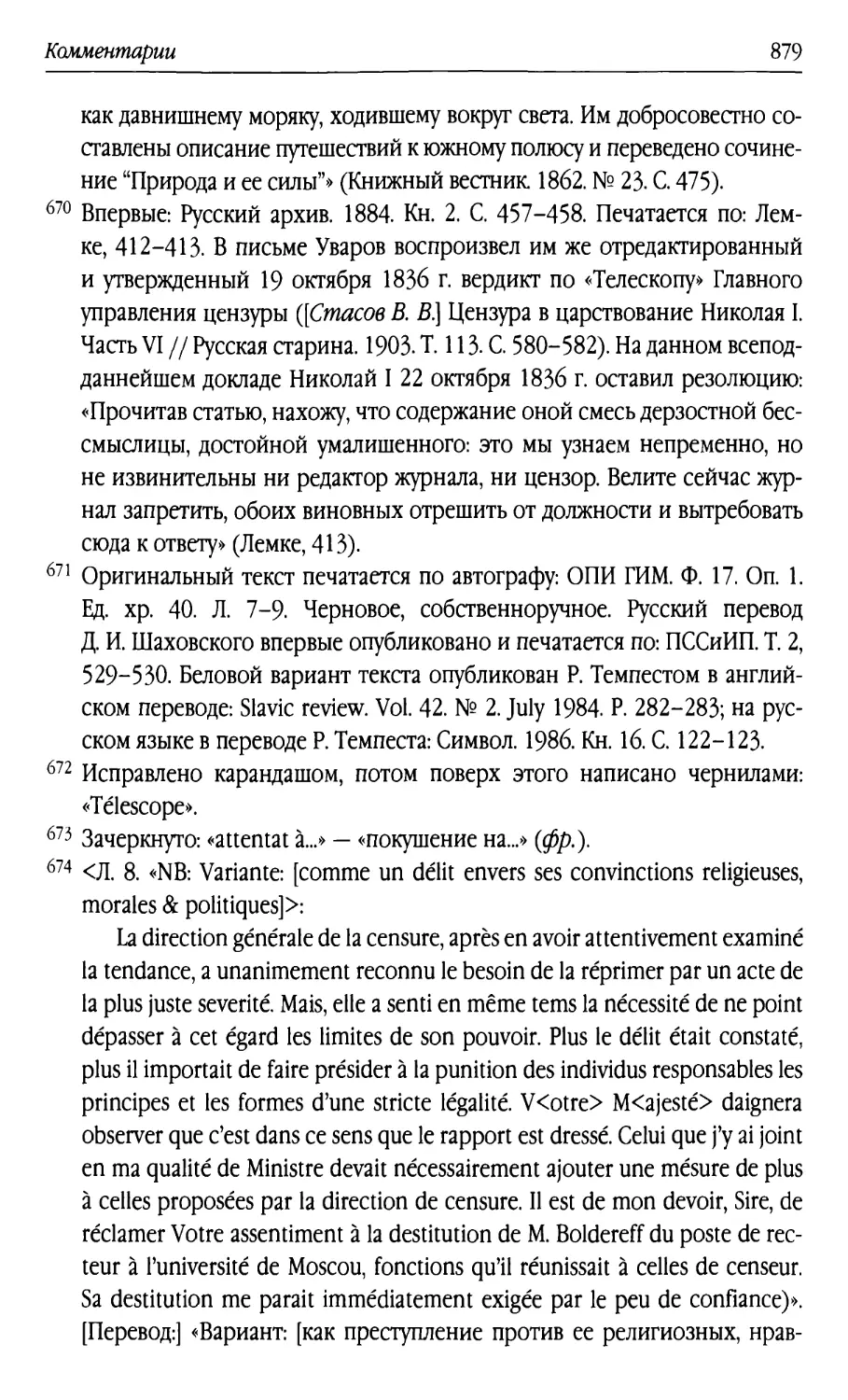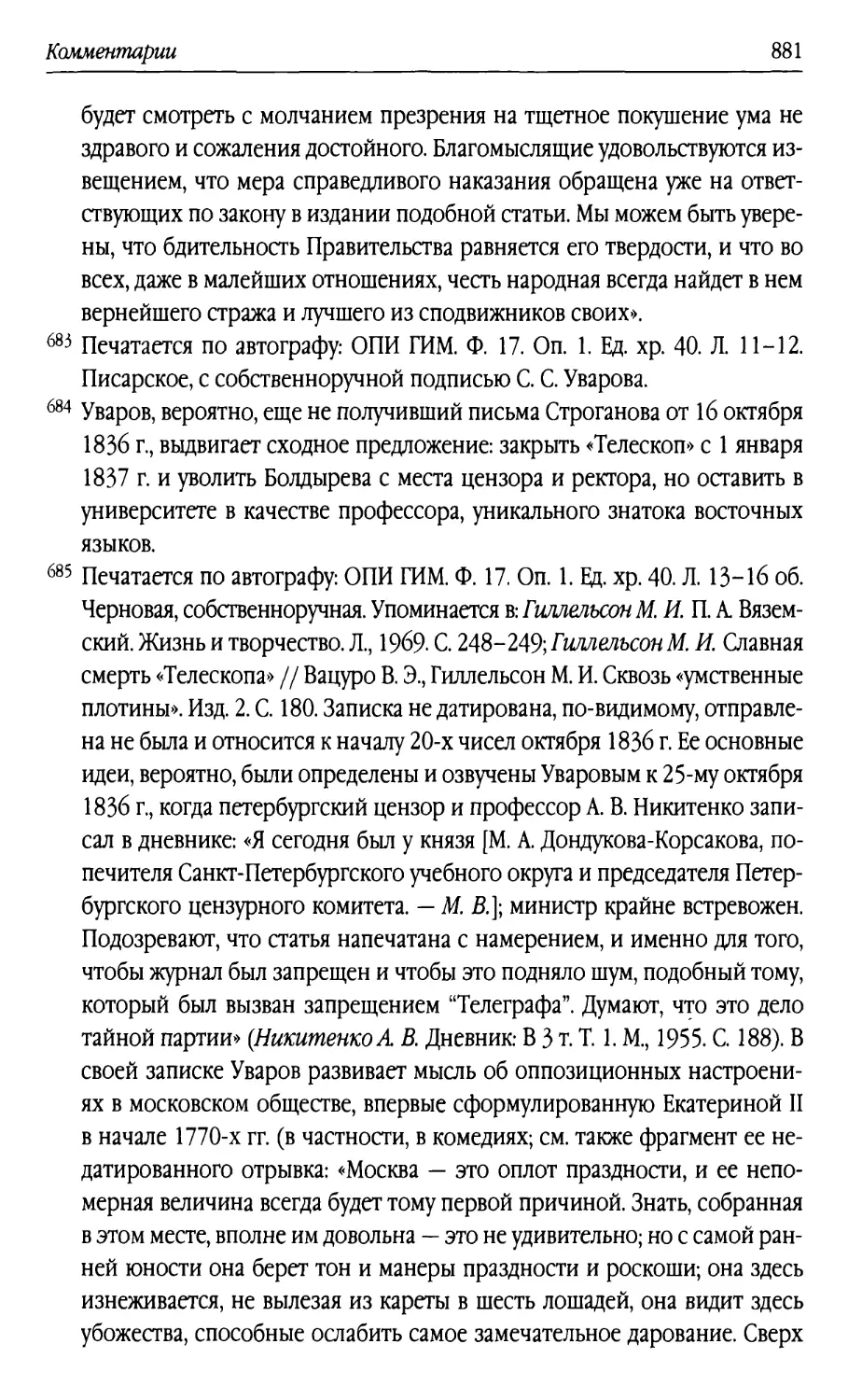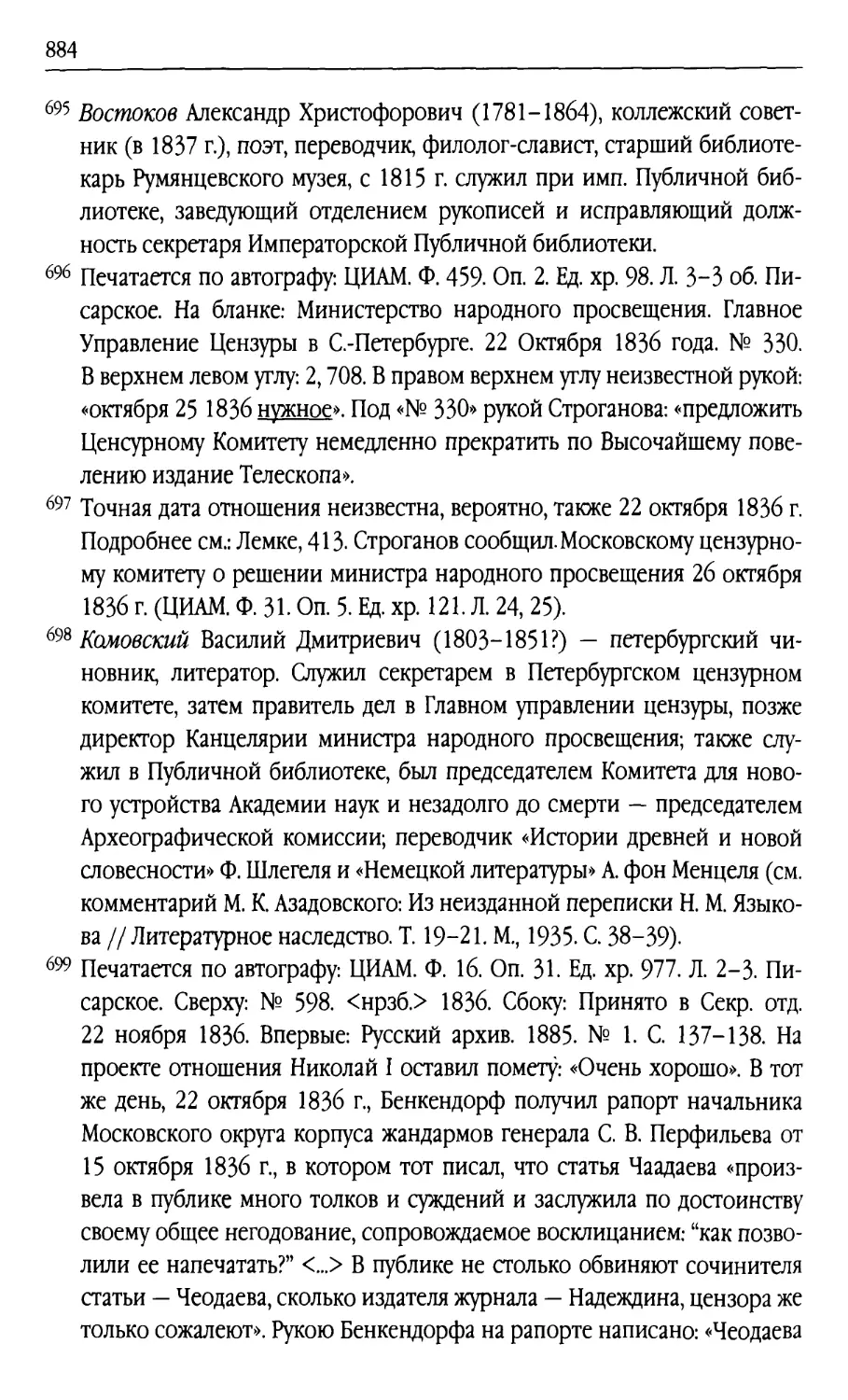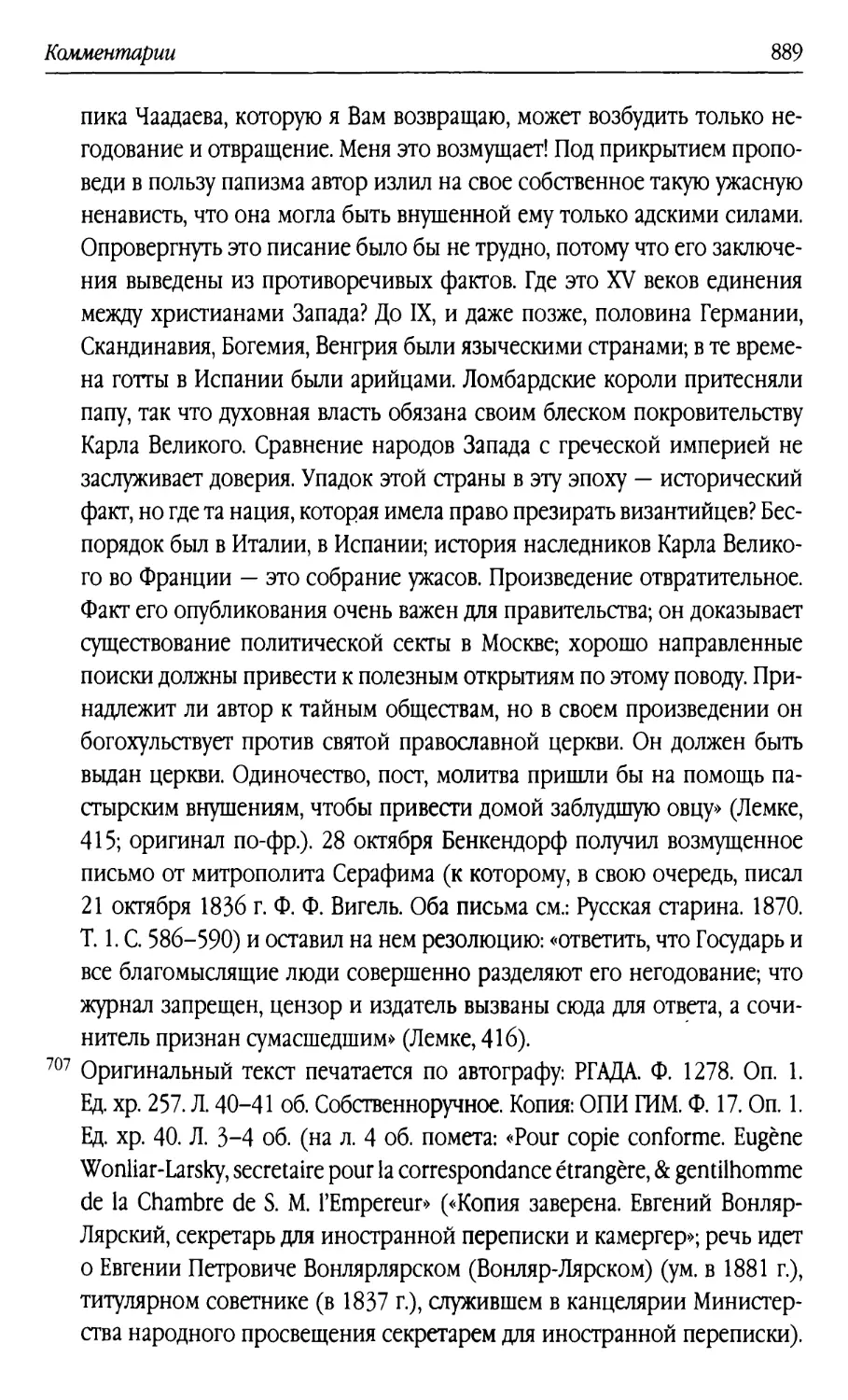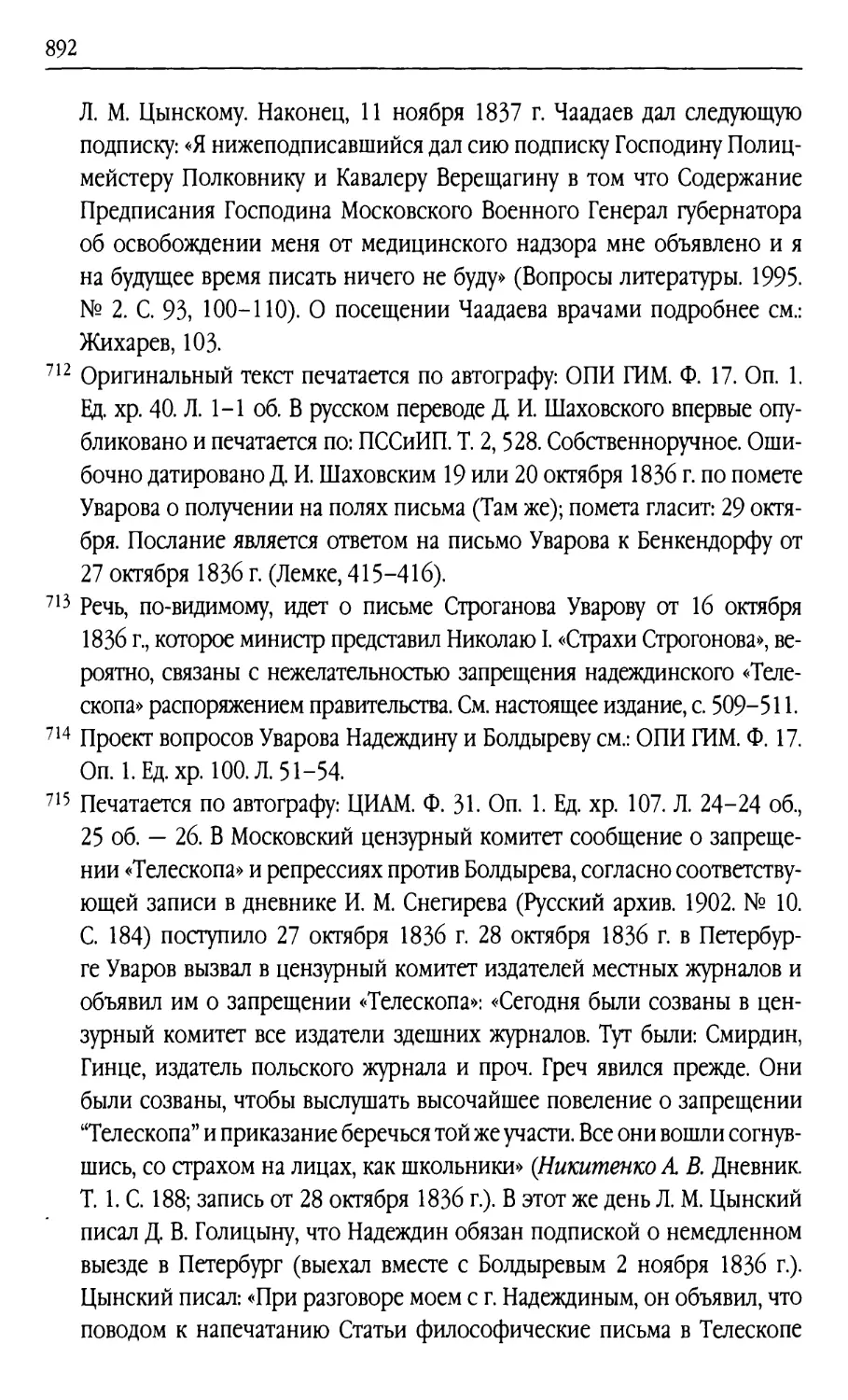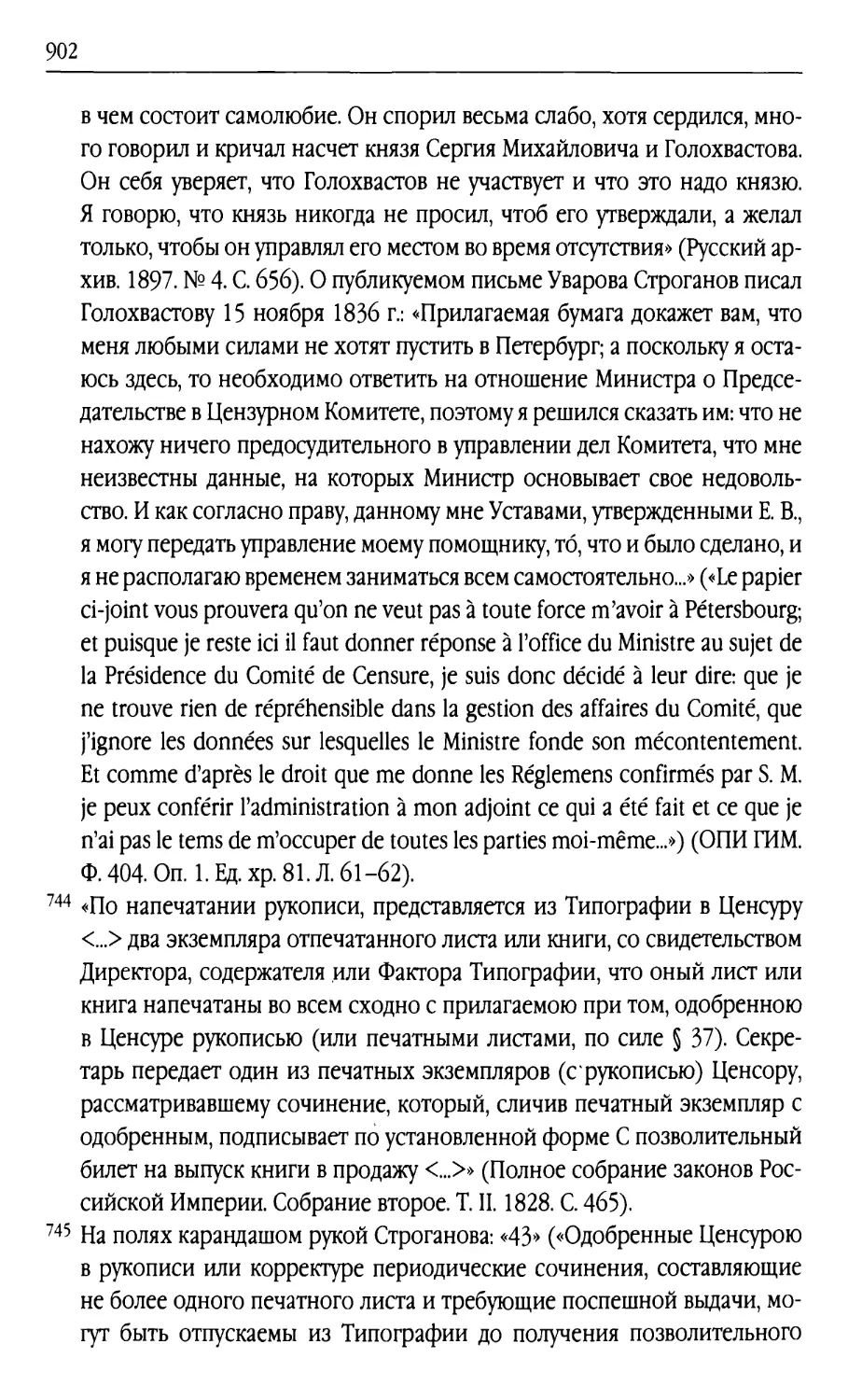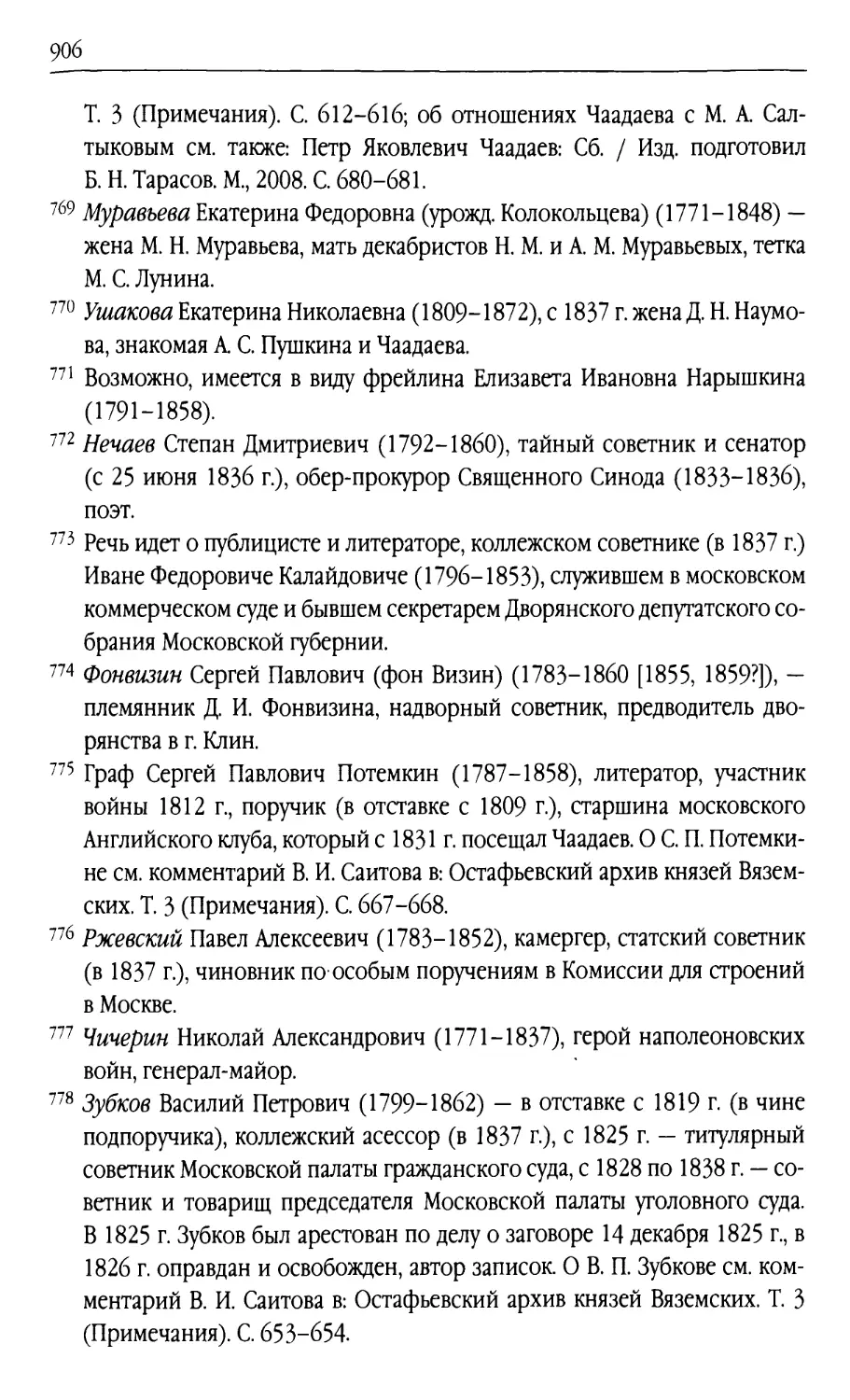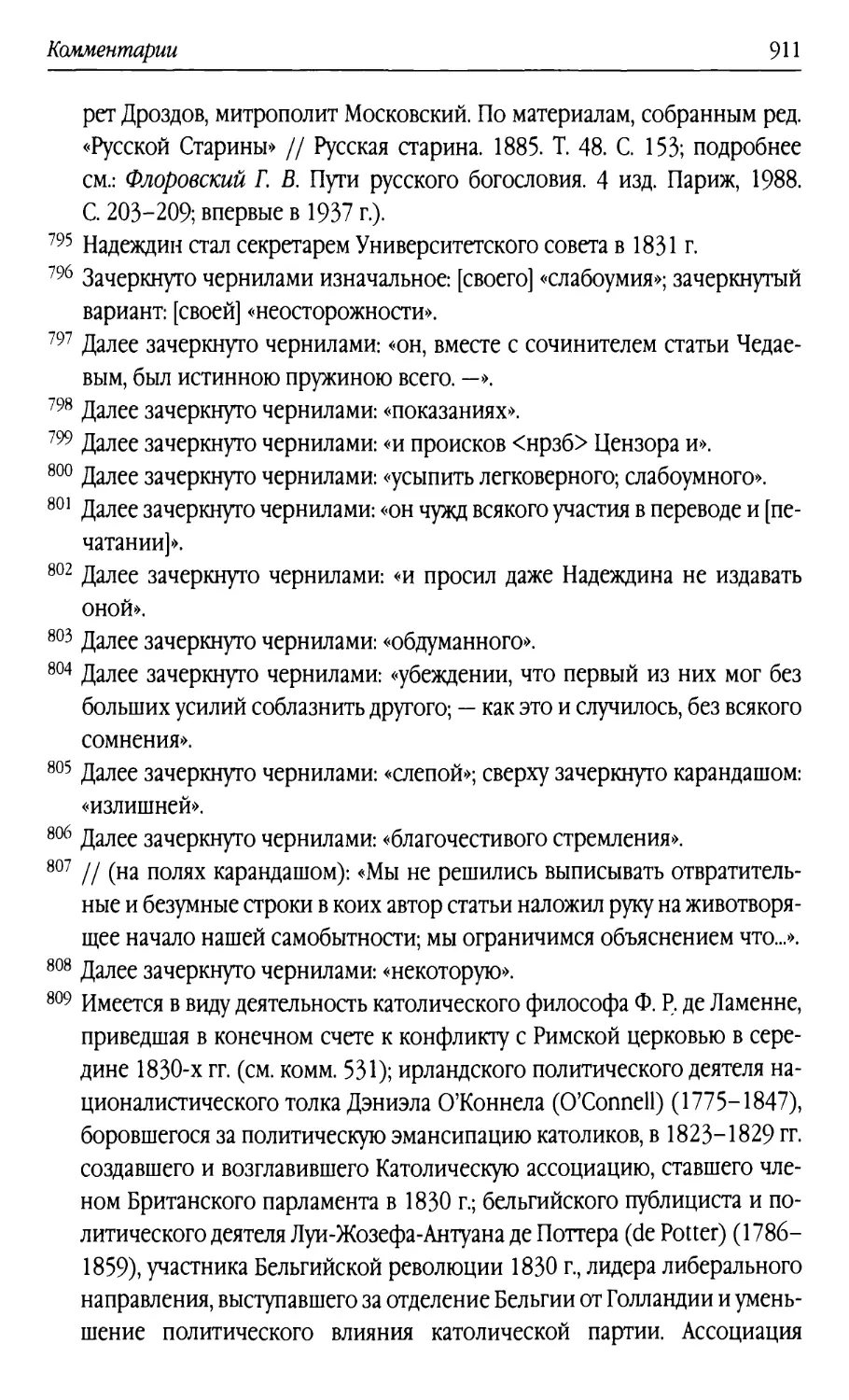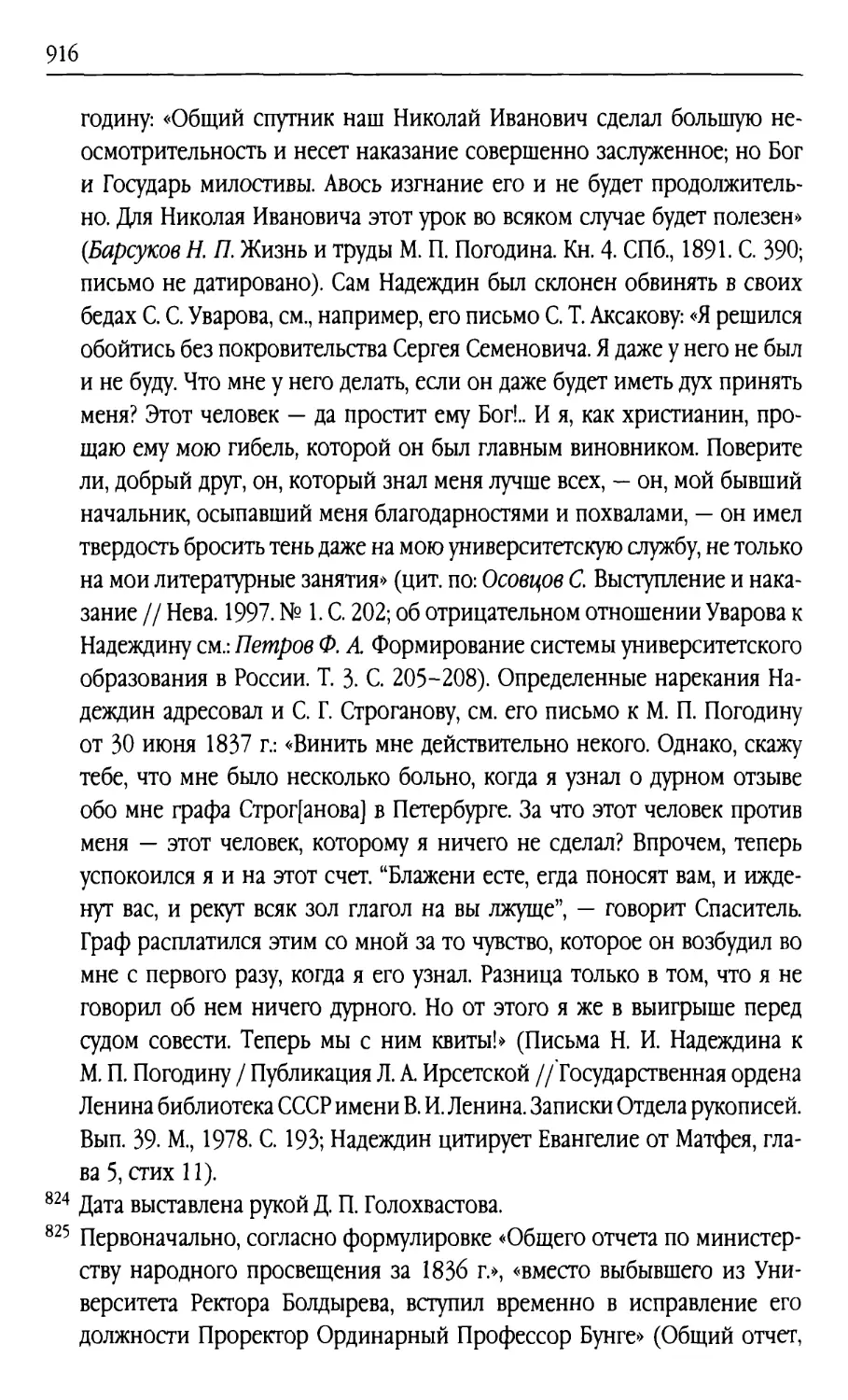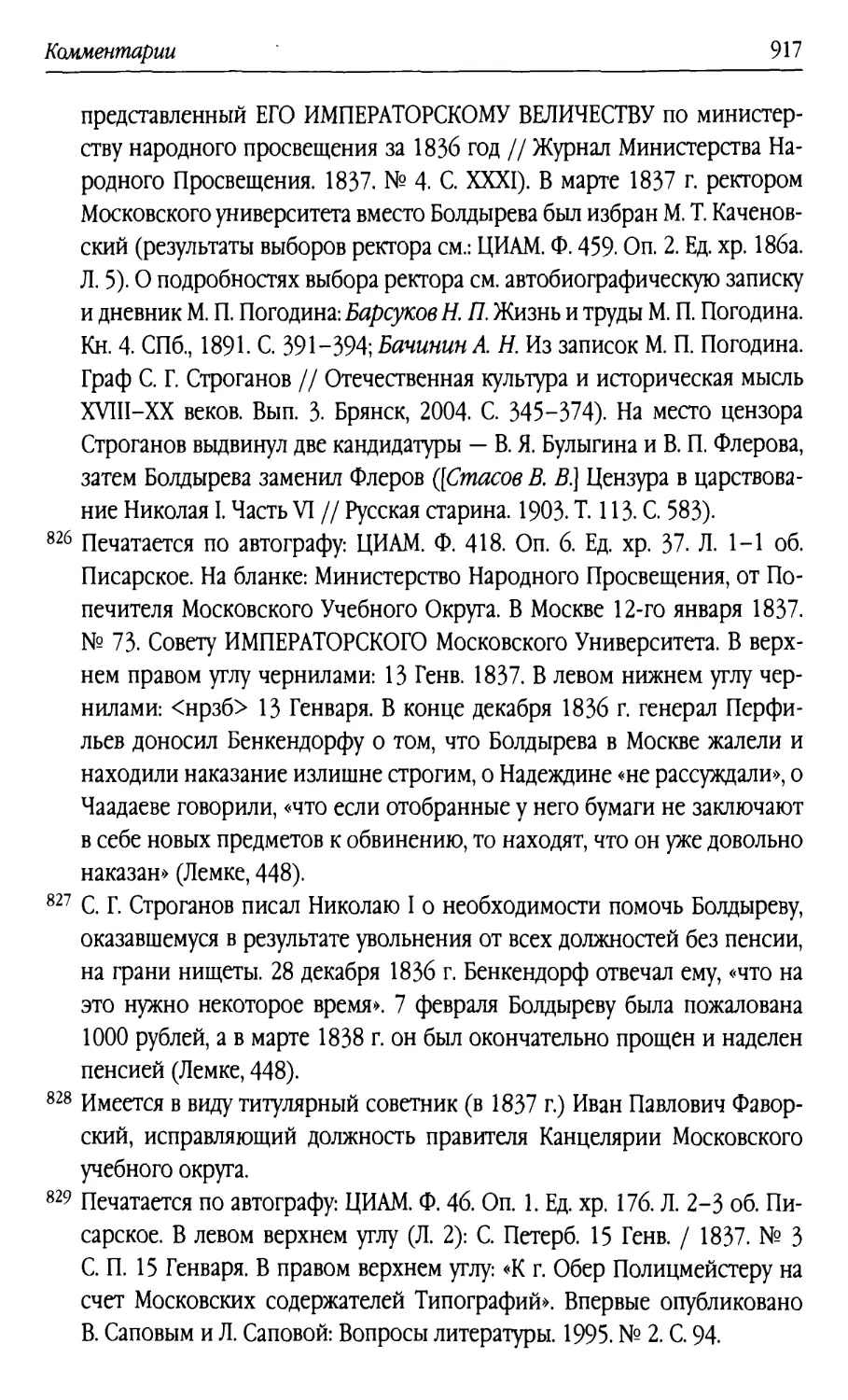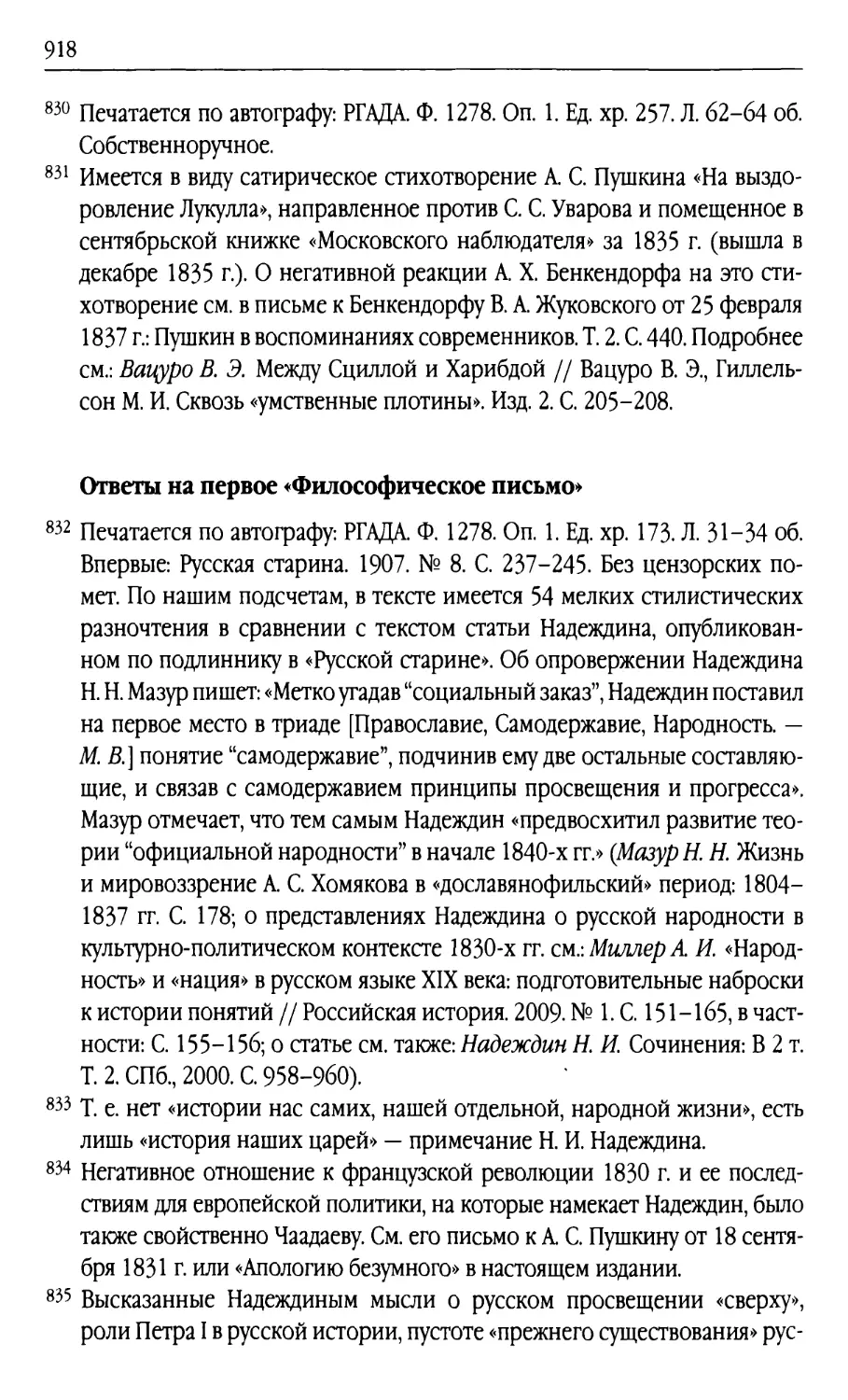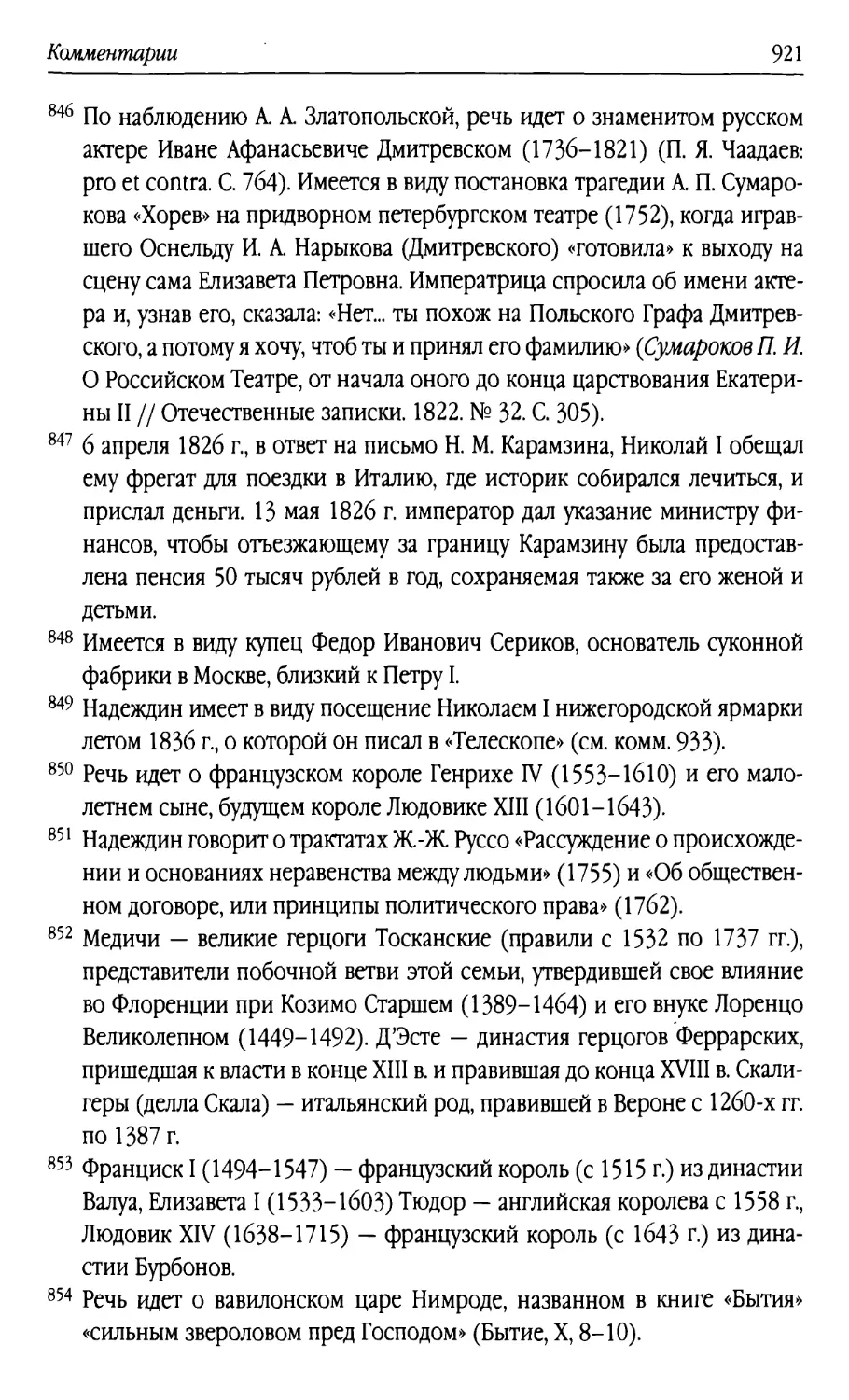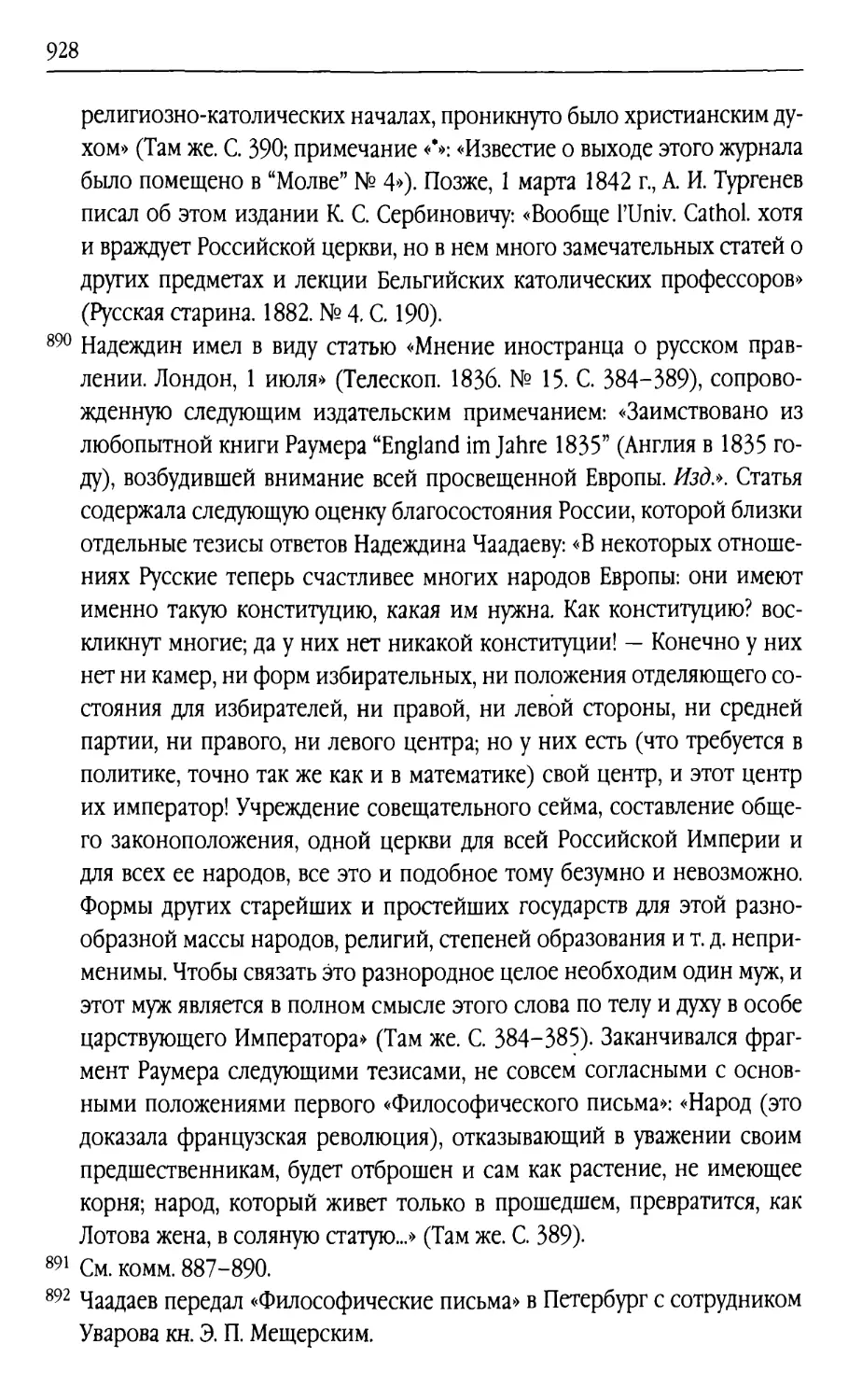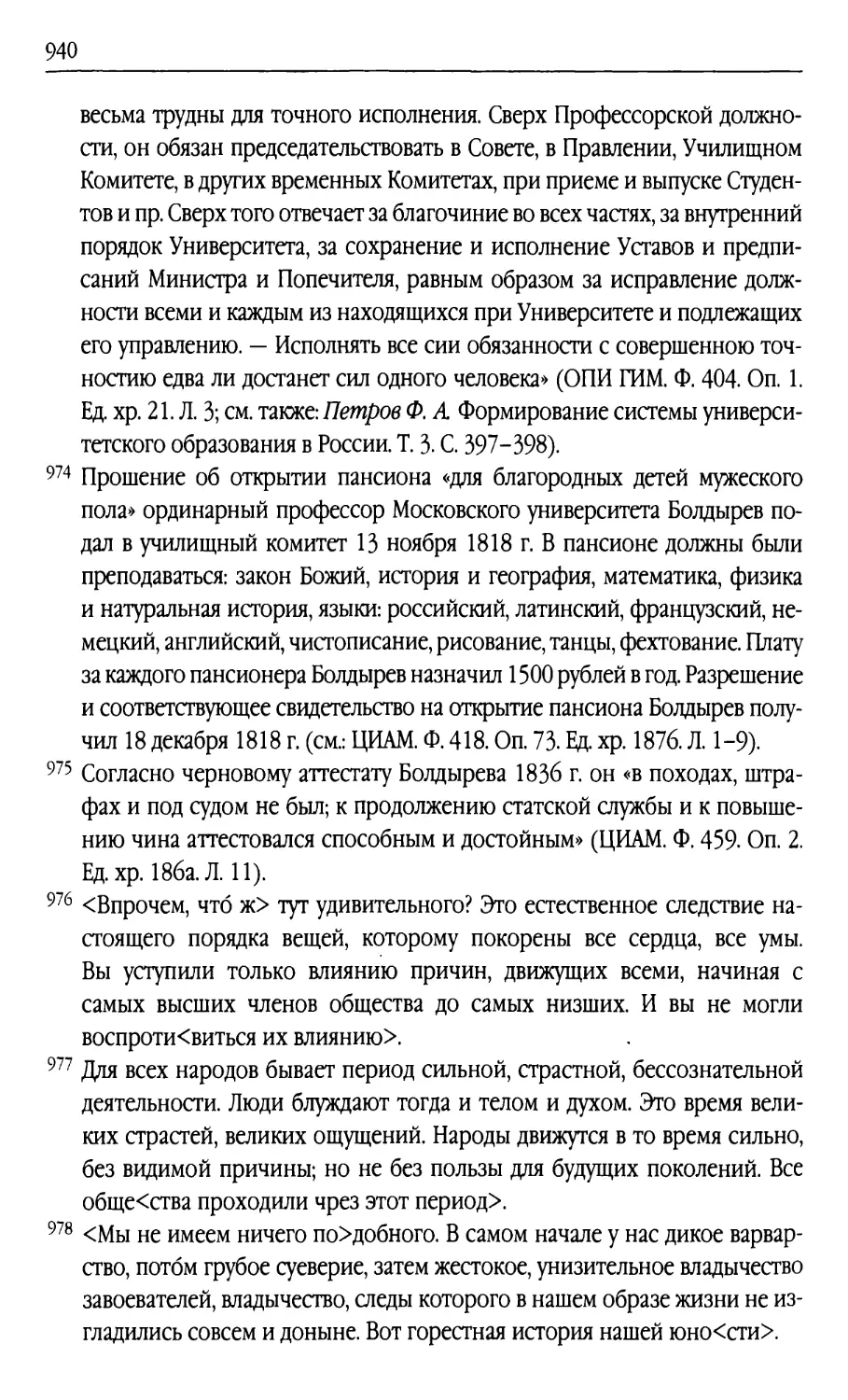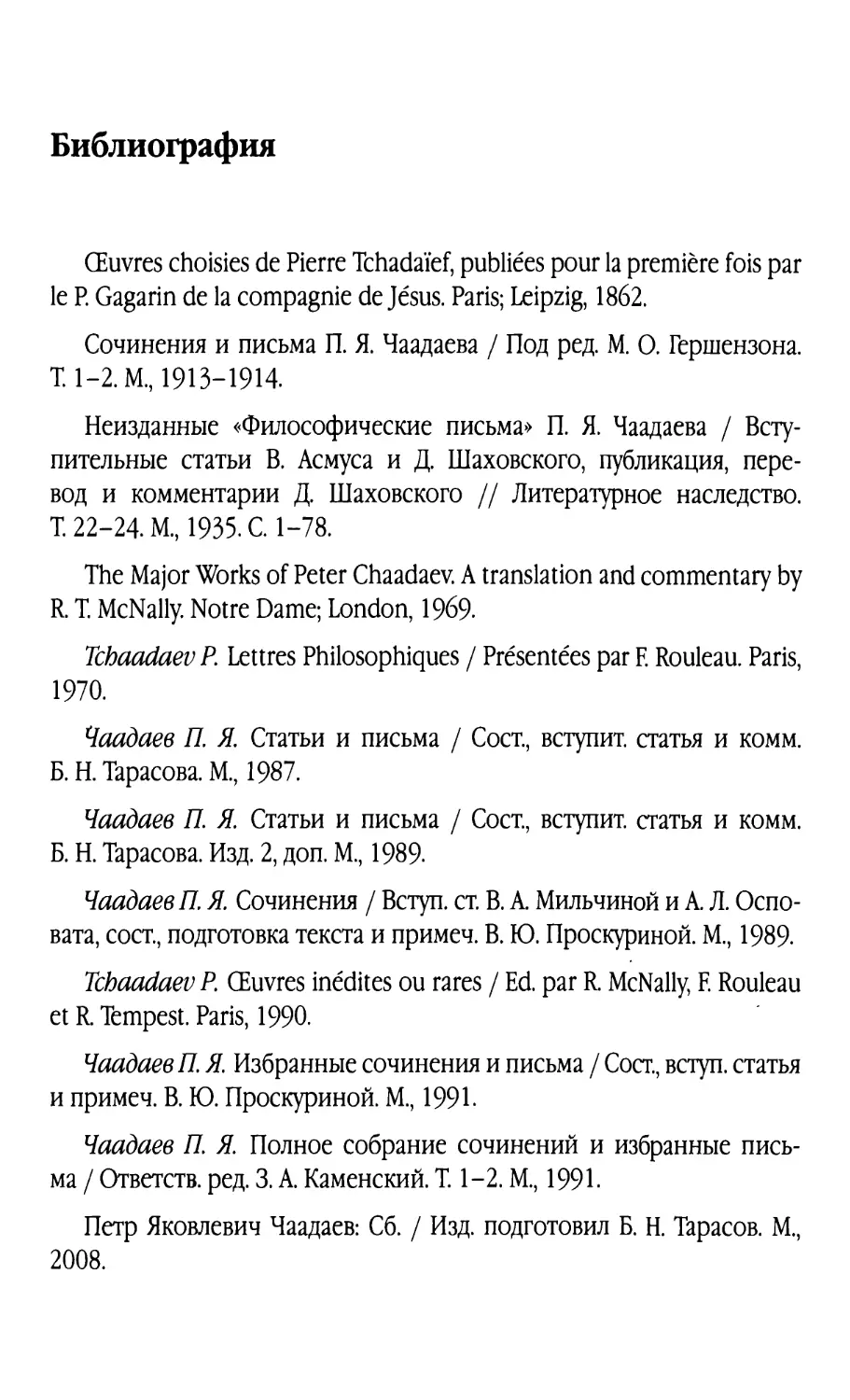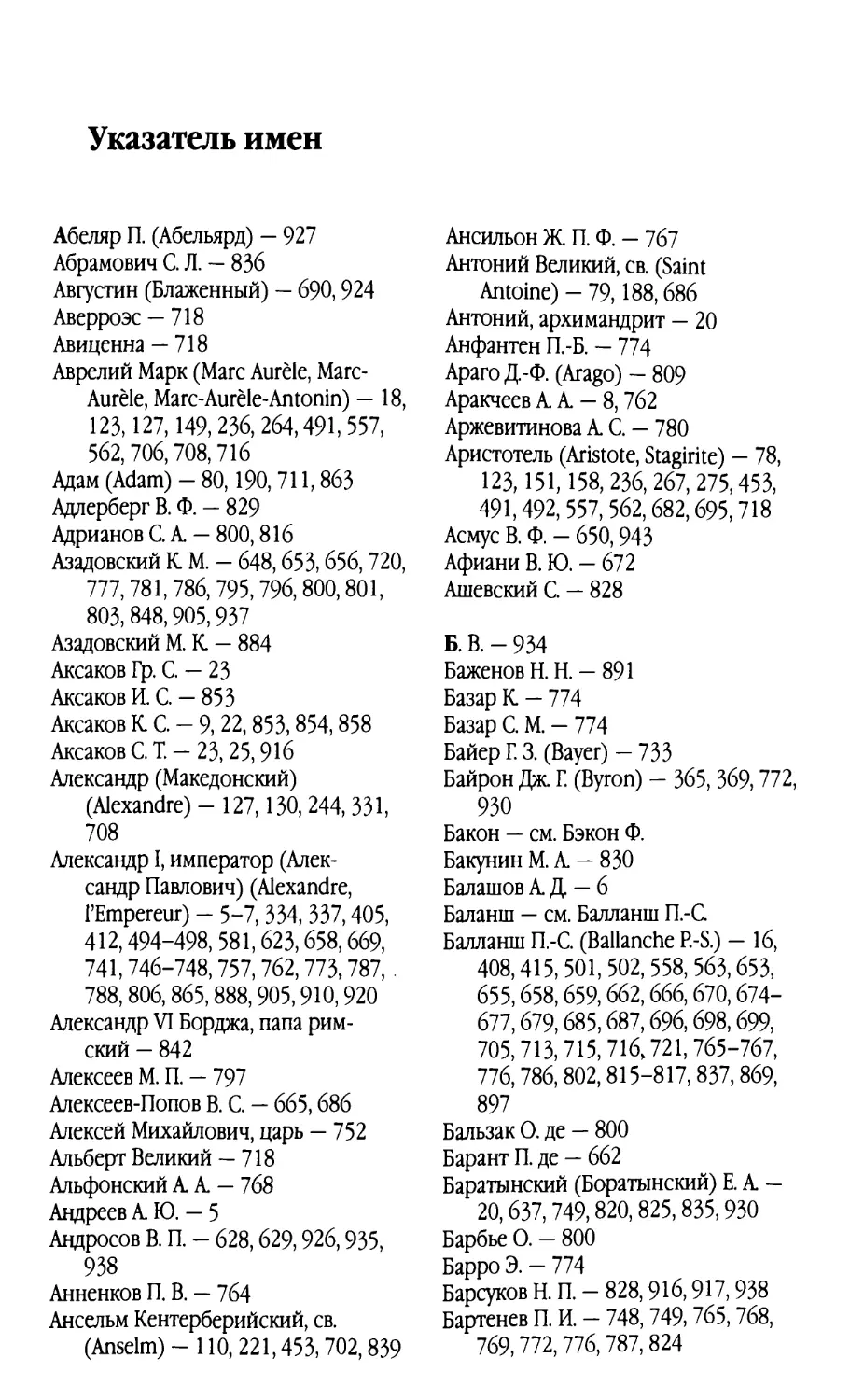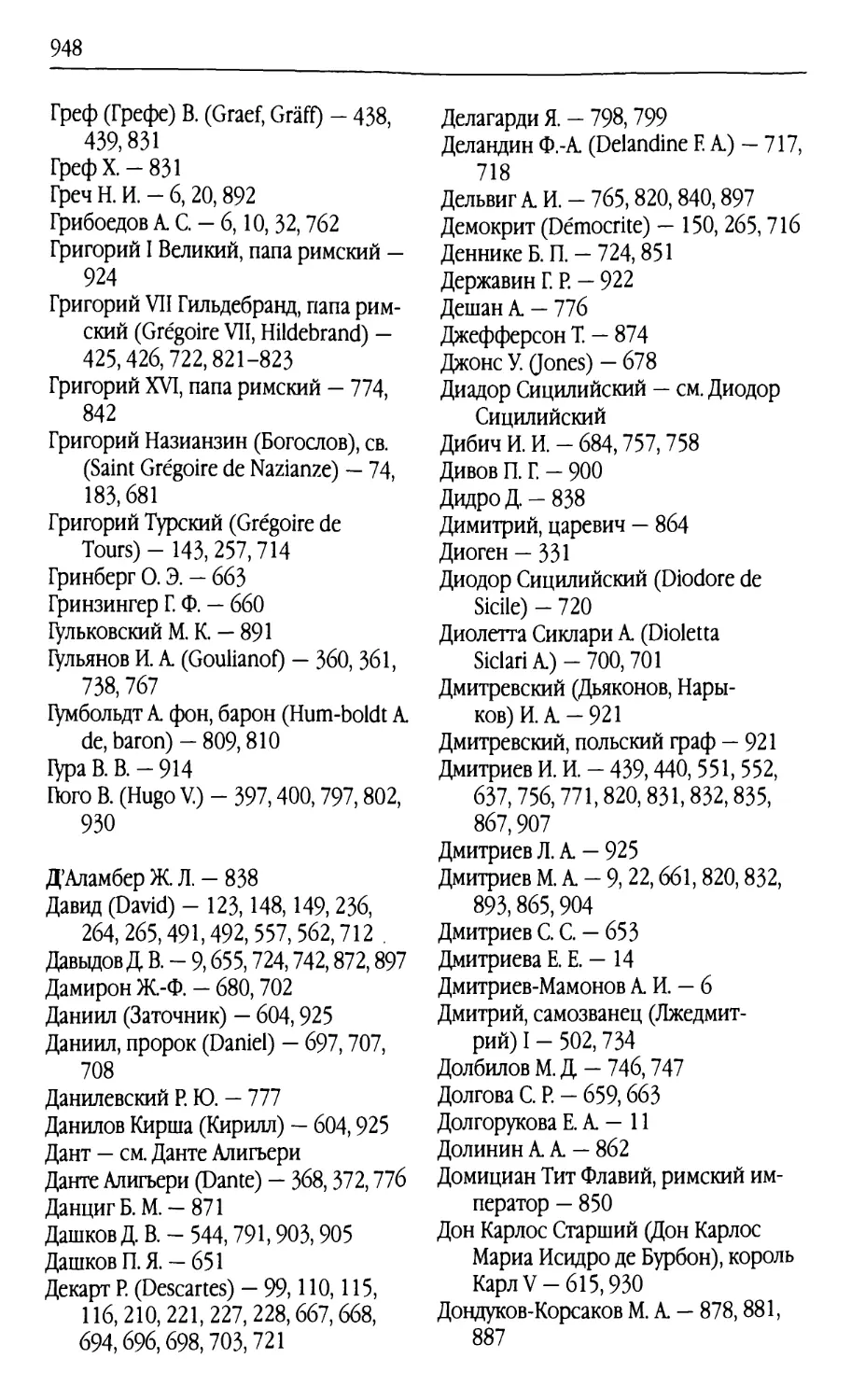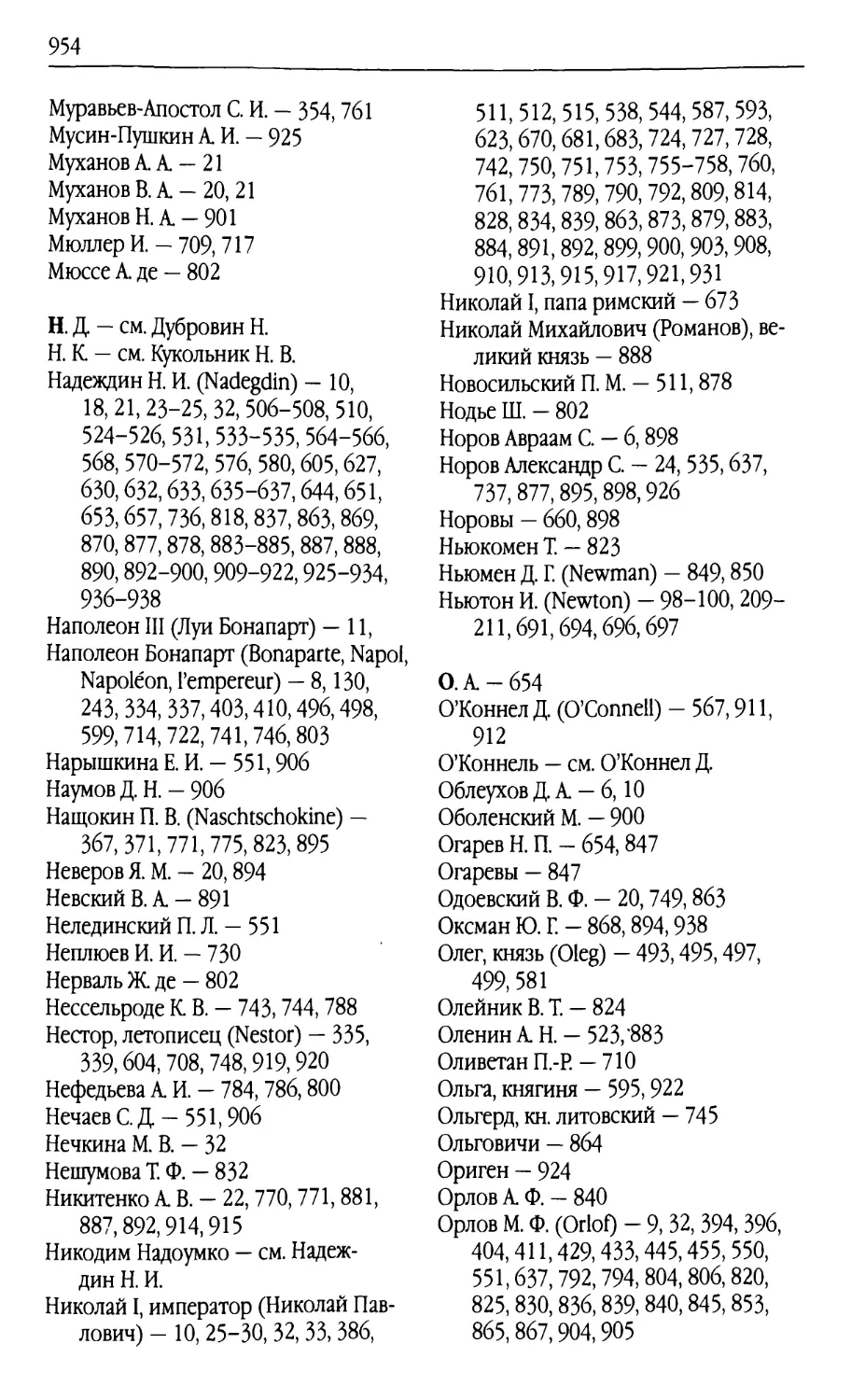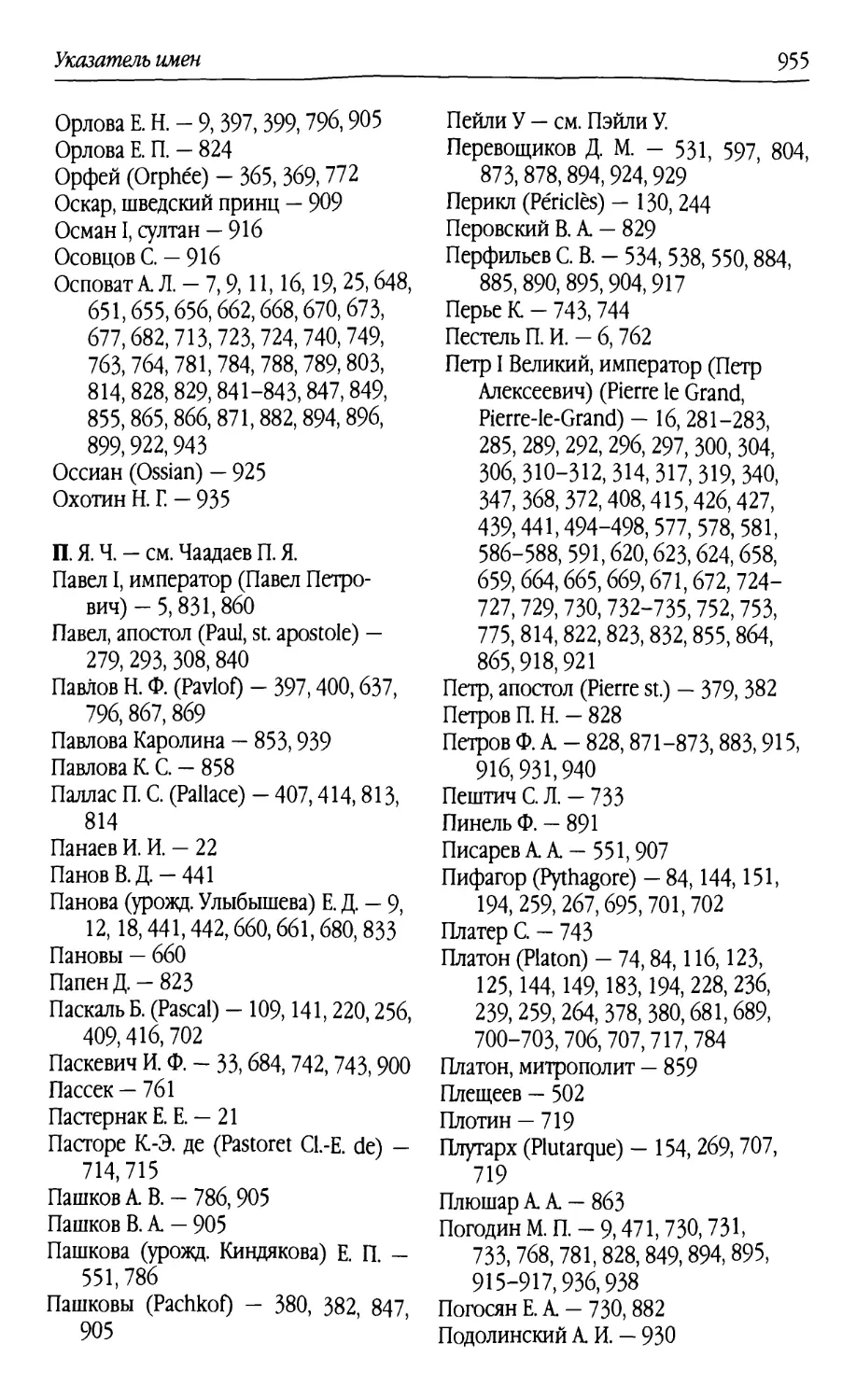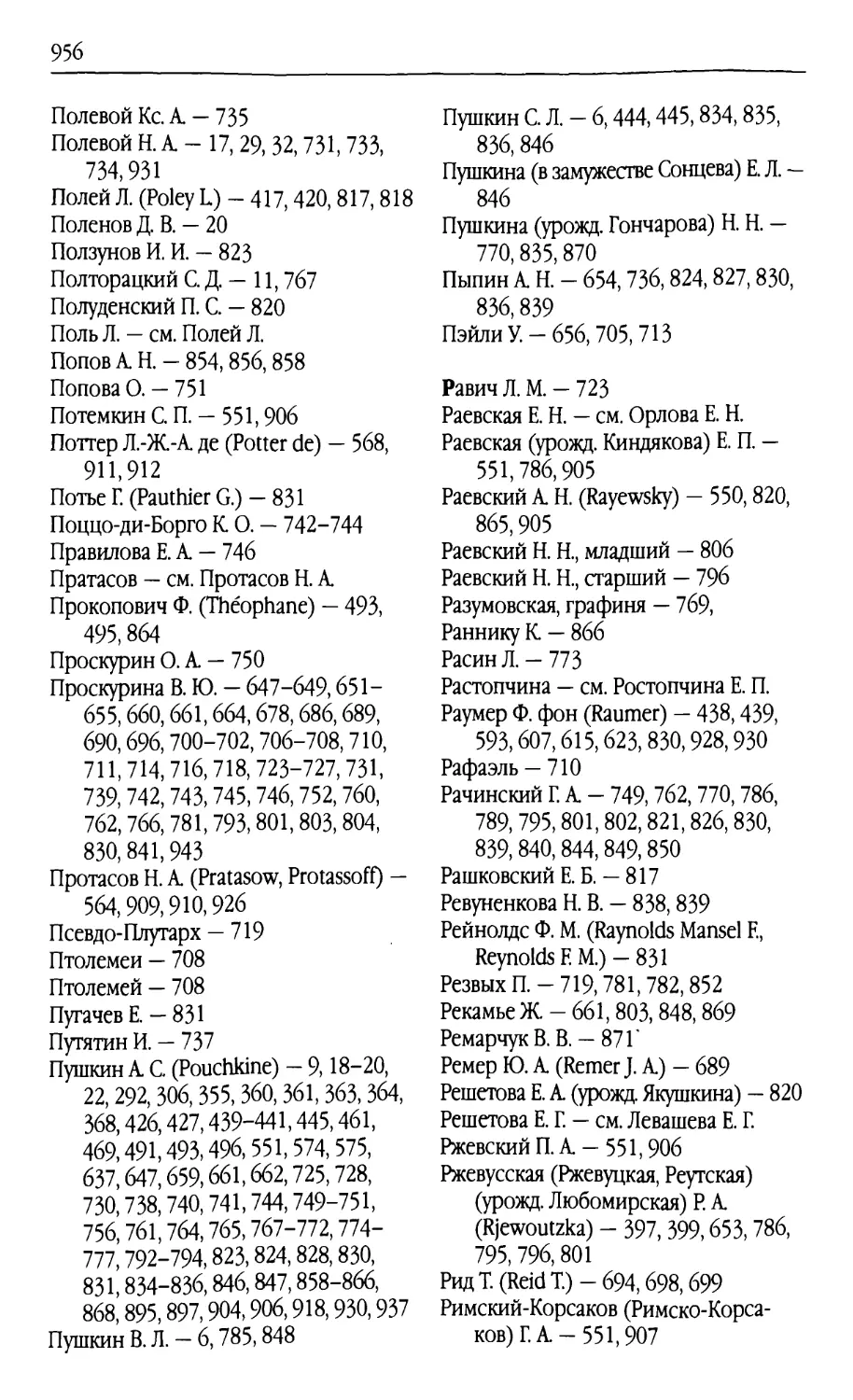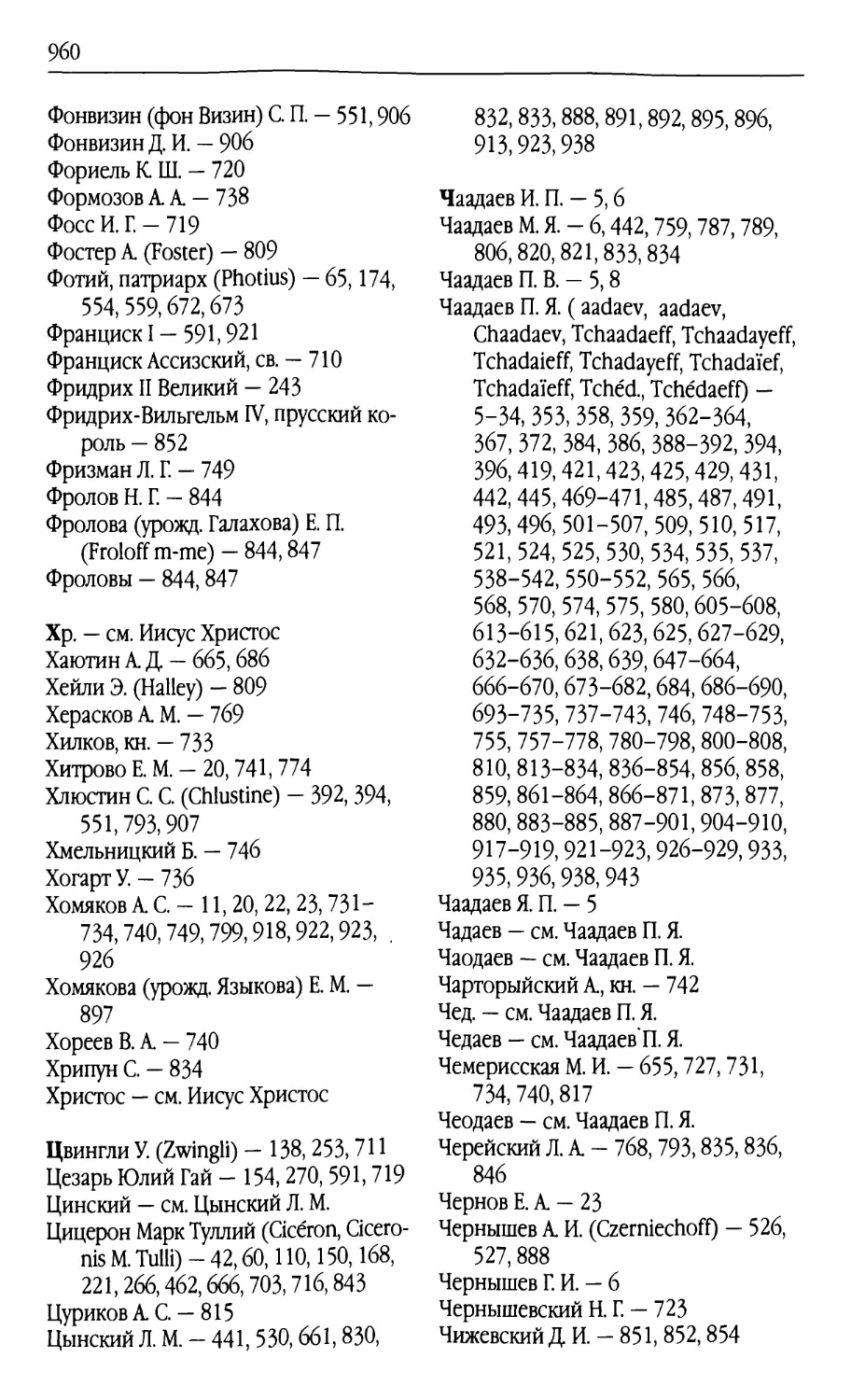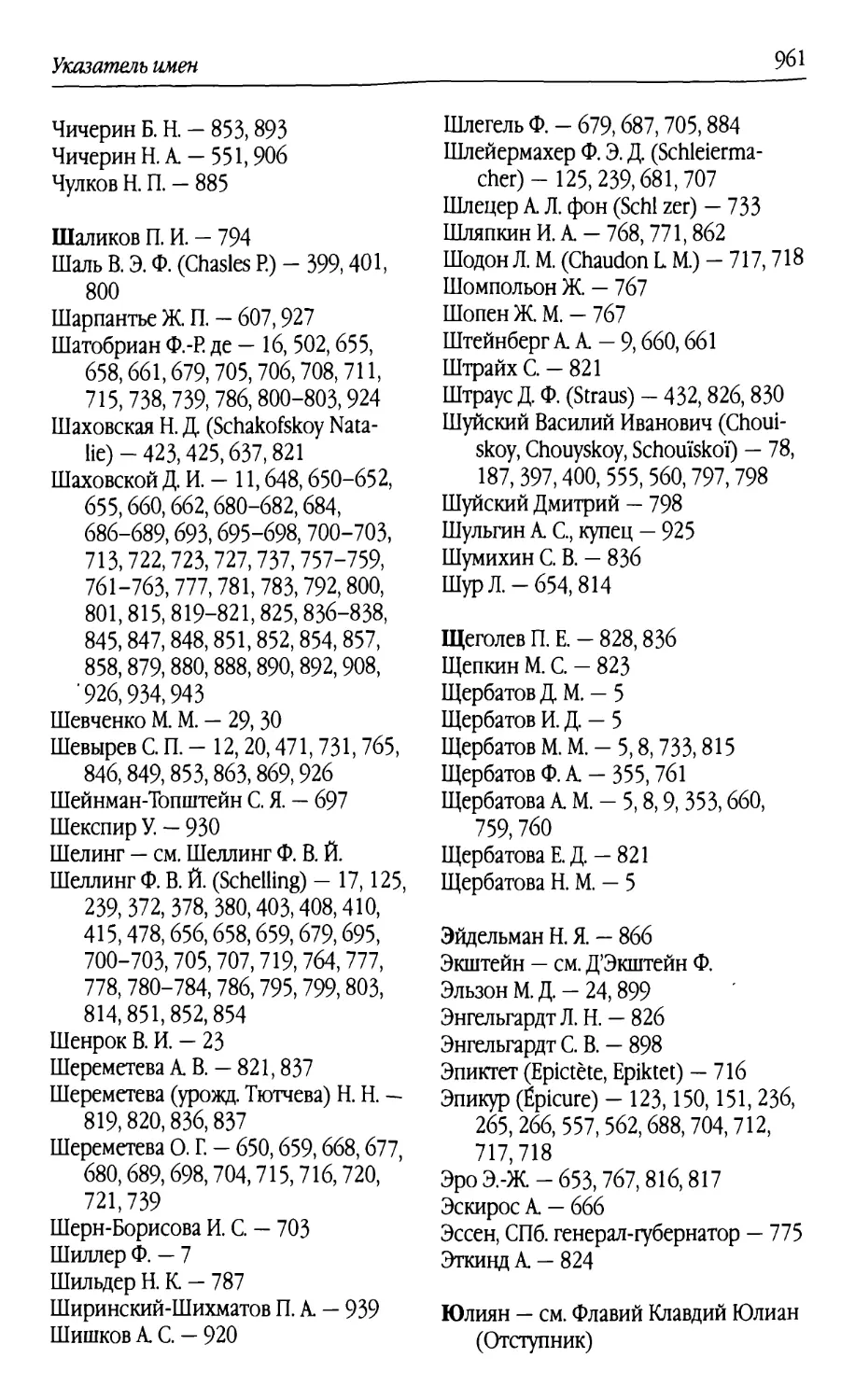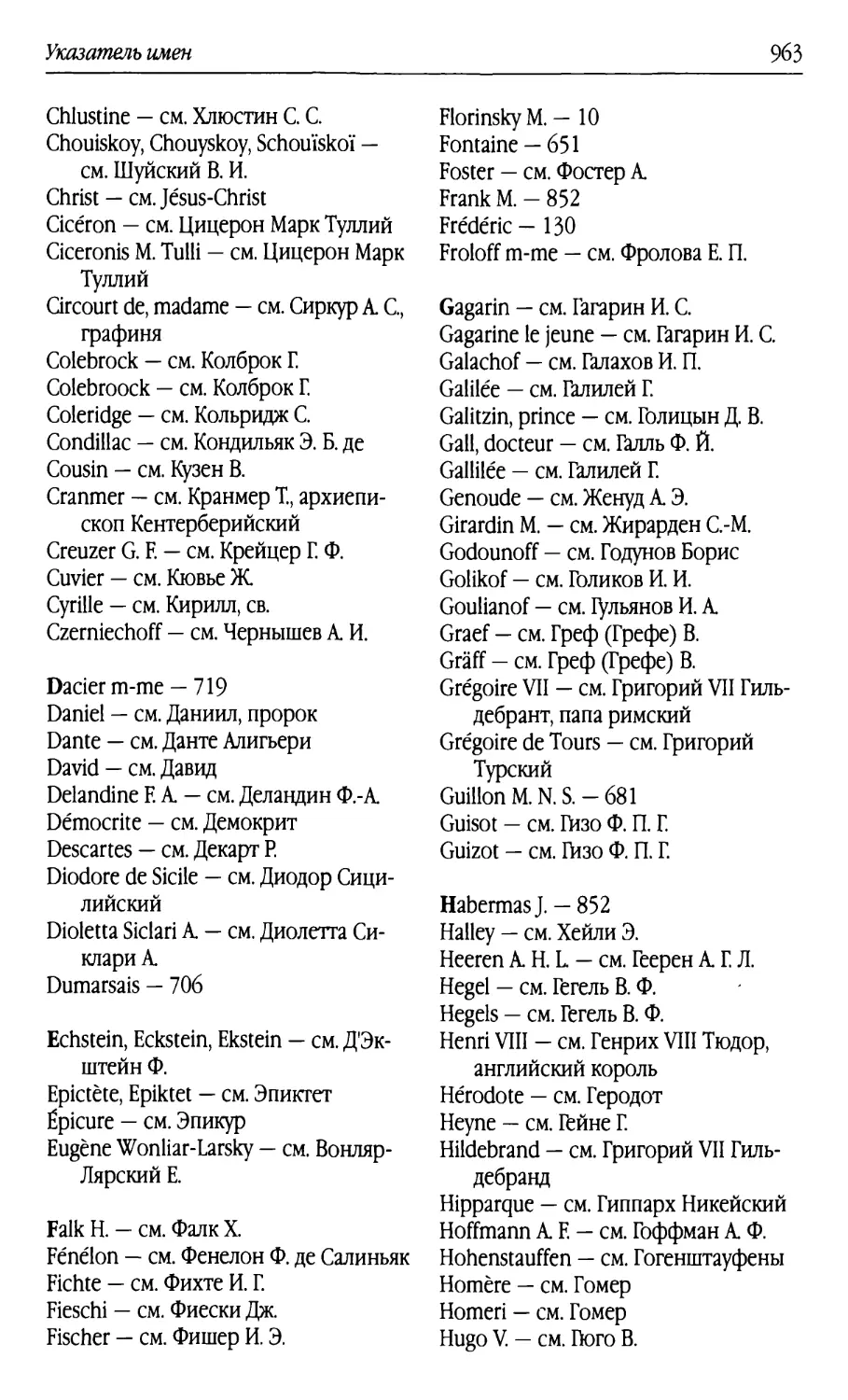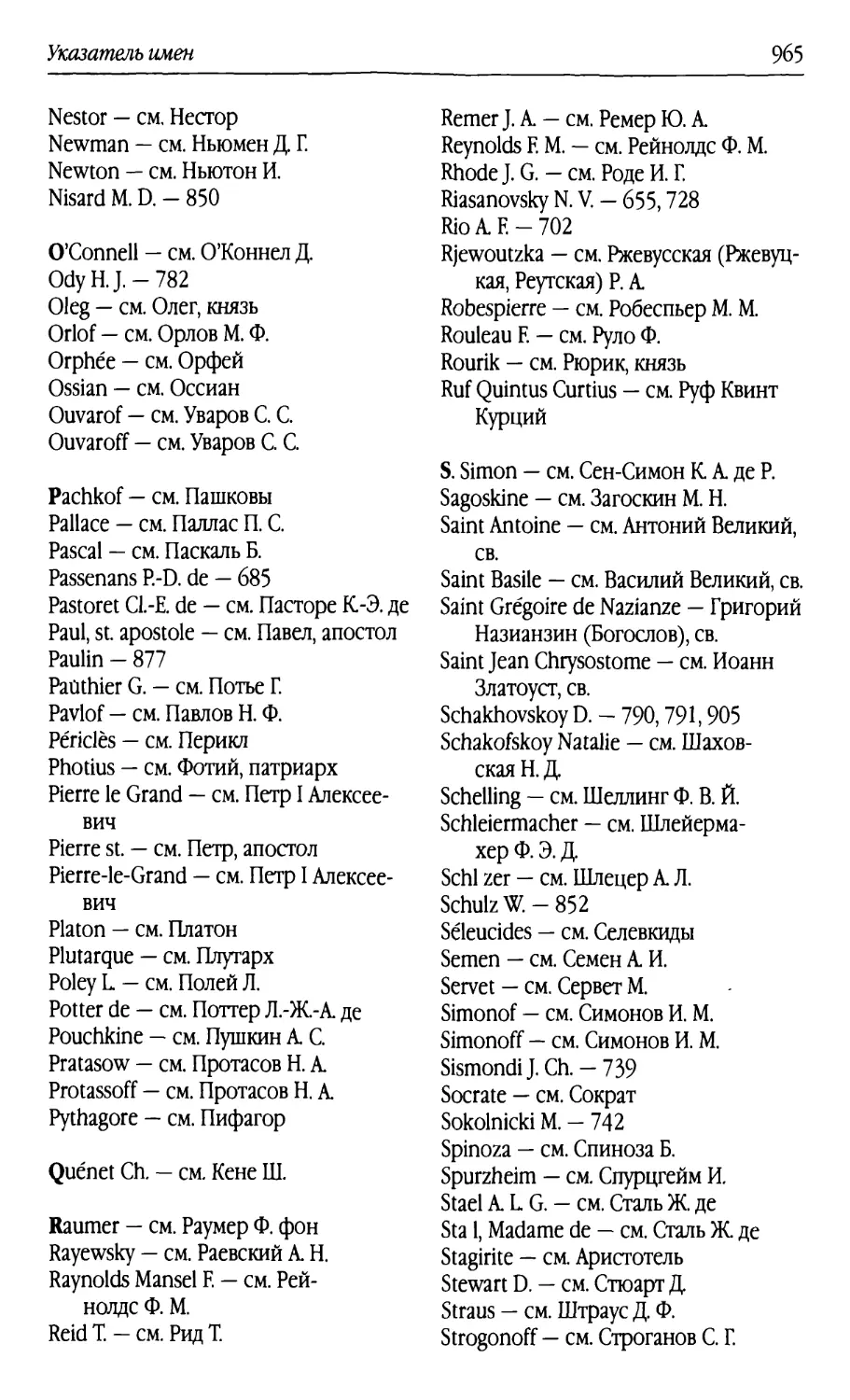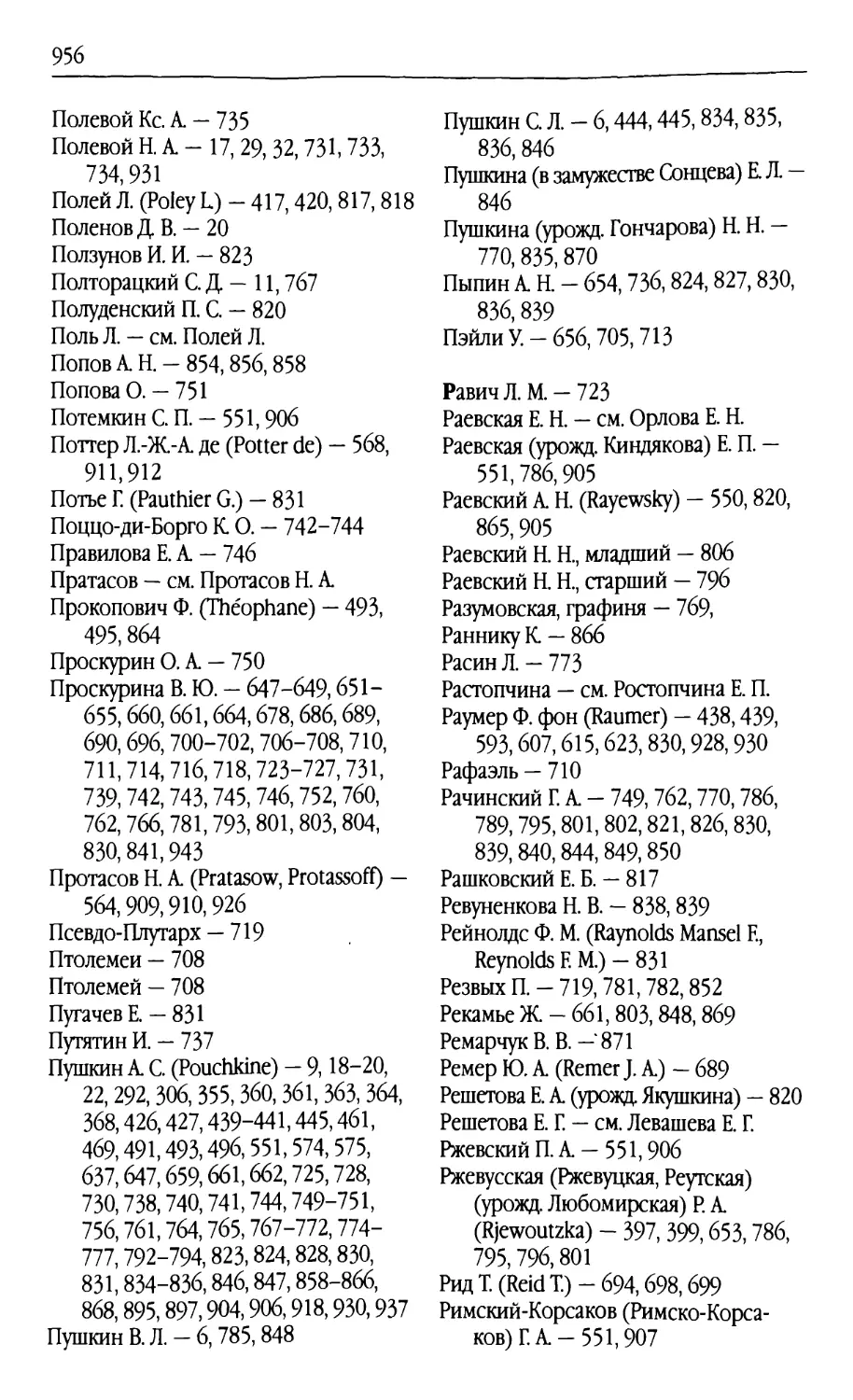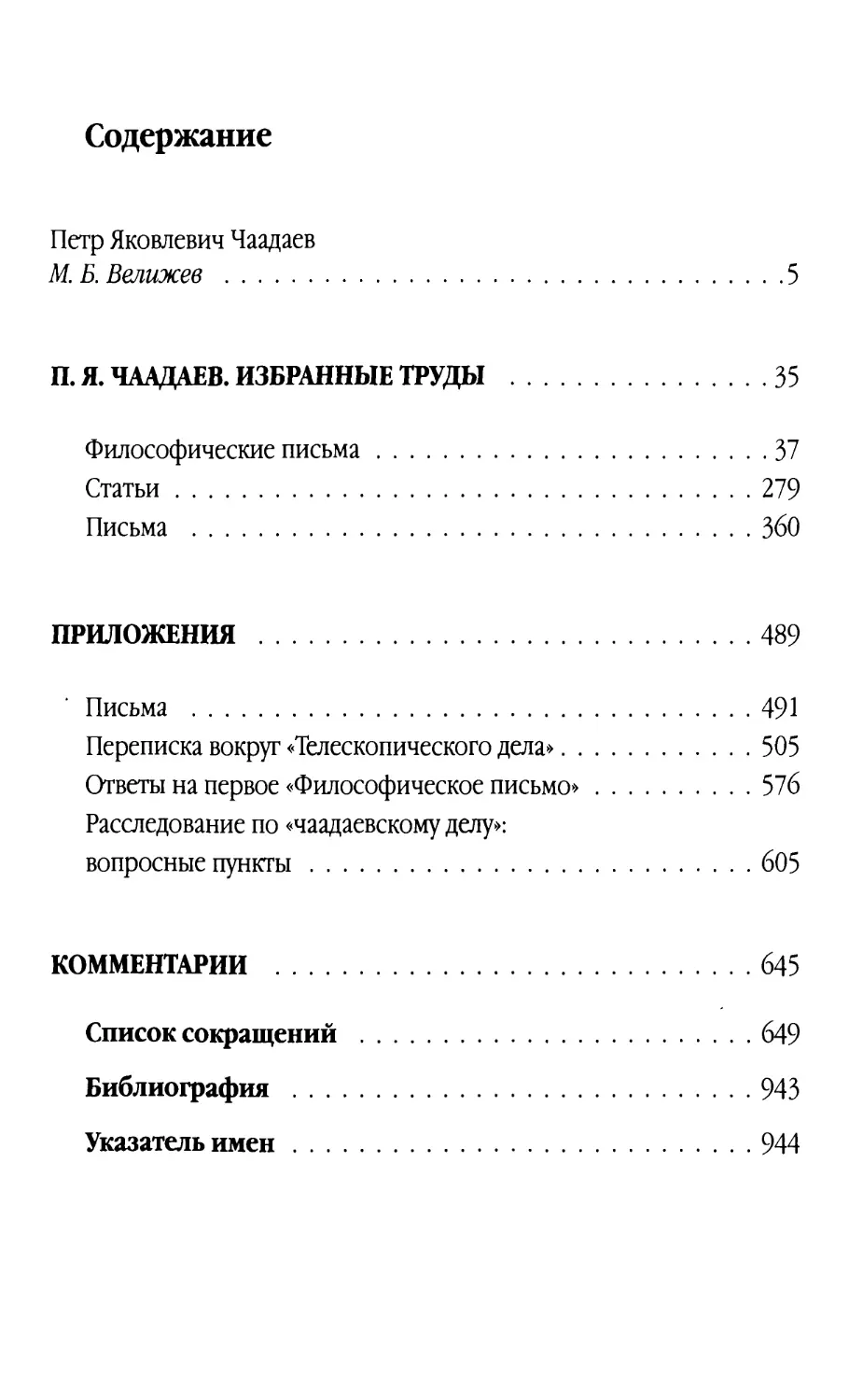Автор: Чаадаев П.Я.
Теги: всеобщая история политика политические науки философия история россии
ISBN: 978-5-8243-1326-0
Год: 2010
Похожие
Текст
БИБЛИОТЕКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА
МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010
Петр Яковлевич
ЧААДАЕВ
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
СОСТАВИТЕЛЬ,
АВТОР ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ
И КОММЕНТАРИЕВ:
М. Б. Велижев,
кандидат филологических наук
МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010
Чаадаев П. Я. Избранные труды / П. Я. Чаадаев; [сост., автор
вступ. ст. и коммент. М. Б. Велижев]. — М. Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 968 с. — (Библиотека
отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).
ISBN 978-5-8243-1326-0
ISBN 978-5-8243-1326-0
© Велижев M. Б., составление тома, вступительная
статья, комментарии, 2010
© Институт общественной мысли, 2010
© Российская политическая энциклопедия, 2010
Петр Яковлевич Чаадаев
Петр Яковлевич Чаадаев (род. 27 мая 1794 г.) был сыном
офицера и чиновника Я. П. Чаадаева и H. M. Щербатовой,
дочери известного русского историка и государственного деятеля
M. M. Щербатова1. После ранней смерти родителей
(соответственно в 1795 и 1797 гг.) Чаадаев воспитывался теткой А. М.
Щербатовой. Он получил домашнее образование, затем посещал лекции в
Московском университете (вероятно, по словесному отделению2)
(1808-1811). По окончании учебы Чаадаев предпочел военную
карьеру гражданской, отправился в Петербург и 12 мая 1812 г.
поступил подпрапорщиком в особенно любимый императором
Александром I старый гвардейский Семеновский полк, где в XVIII в.
служили родственники Чаадаева как по «щербатовской», так и по
«чаадаевской» линиям3. 20 апреля 1813 г. Чаадаев был произведен
поручиком в Ахтырский гусарский полк, с которым он участвовал
в войне 1812-1814 гг. (в частности, в сражениях при Бородино,
Тарутино, Малоярославце, Лейпциге, под Кульмом и др.), вступил
с союзниками в Париж, был награжден (орденом св. Анны 4-й
степени, прусским орденом pour le mérite4, серебряной медалью в па-
1 О начальном периоде биографии Чаадаева подробнее см.: Гершензон 1908,
4-9; Liamina С. Tchaadaev: un ami de jeunesse, ou les origines d'une réputation //
Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle. № 92 (1996). P. 79-85; Андреев А Ю. К
истокам формирования преддекабристских организаций: будущие декабристы в
Московском университете // Вестник Московского университета. Сер. 8. История.
1997. № 1. С. 2\-34\Егоже. «Грибоедовская Москва» в документах семейного
архива князя И. Д. Щербатова // «Цепь непрерывного предания...» Сборник памяти
А Г. Тартаковского. М, 2004. С. 118-135; Тарасов Б. Я Чаадаев. М., 1986. С. 5-34.
2 Гершензон 1908,6.
3 Дед П. В. Чаадаев, дядя И. П. Чаадаев, отец Я. П. Чаадаев, дед M. M. Щербатов,
дядя Д. М. Щербатов. О Семеновском полке см.: Карцов П. П. Лейб-гвардии
Семеновский полк в царствование императоров Павла и Александра I // Русская
старина. 1883. Т. 38. С 311-332.
4 «За заслуги» (фр.).
6
M. Б. Велижев
мять 1812 г.), быстро поднимался по лестнице военных чинов, став
в 23 года (с 11 декабря 1817 г.) адъютантом близкого к Александру I
генерал-адъютанта И. В. Васильчикова5. После окончания
европейских кампаний Чаадаев продолжал служить в Петербурге и считался
одним из самых блестящих и утонченных светских молодых
людей того времени6. Подобно своим предкам (например, И. П.
Чаадаеву7), Петр Яковлевич не чуждался петербургской и европейской
масонской жизни8. Еще одна важная черта деятельности Чаадаева в
5 См.: Кирпичников А И. П. Я. Чаадаев (По новым документам) // Русская
мысль. 1896. Кн. IV. С. 143.
6 См. отзыв о Чаадаеве его недоброжелателя Ф. Ф. Вигеля: «...молодого
красавца, белого, румяного, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными
манерами. Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал,
пользовался ими, но ставил их гораздо ниже других преимуществ, коими
гордился и коих вовсе в нем не было: высокого ума и глубокой науки. <...> Никто не
замечал в нем нежных чувств к прекрасному полу: сердце его было слишком
преисполнено обожания к сотворенному им из себя кумиру. Когда изредка
случалось ему быть с дамами, он был только что учтив; они же между собою
называли его настоящим розаном, а он был Нарцис, смертельно влюбленный в
самого себя» (Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть 6. М, 1892. С. 19).
7 Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб.,
2001. С. 66,428.
8 По данным А. И. Серкова, Чаадаев входил в ложу Северных друзей (1-й
надзиратель и представитель в Директоральной ложе Астрея в 1818-1819 гг.; в эту
ложу также входил Ф. Ф. Вигель и др.); в ложу Соединенных друзей (член ложи
5-й степени в 1816, 3-й степени — в 1817-1821 гг.; в эту ложу также входили
А. Д. Балашов, А. X. Бенкендорф, Ф. Ф. Вигель, С. Г. Волконский, С. К. Вязьмитинов,
И. А. Гагарин, П. И. Голенищев-Кутузов, А. С. Грибоедов, вел. кн. Константин
Павлович (присутствовал на собраниях до вступления в ложу Чаадаева), H. M.
Муравьев, М. И. Муравьев-Апостол, Авраам С. Норов, П. И. Пестель, В. Л. Пушкин,
М. Я. Чаадаев и др.; в ложу Сфинкса (член ложи; в ложу также входили М. Ю. Ви-
ельгорский, С. Г. Волконский, А. Ф. Лабзин, П. И. Пестель, С. Л. Пушкин и др.);
ложу капитул Феникса (член капитула 6-й степени, затем великий герольд
8-й степени; в ложу также входили С. Г. Волконский, А И. Дмитриев-Мамонов,
А Н. Муравьев, В. Л. Пушкин, Г. И. Чернышев и др.); в Директоральную (Великую)
ложу Астреи (представитель ложи №69; в ту же ложу входили Ф. Н. Глинка,
Н. И. Греч, Л. В. Дубельт, А И. Михайловский-Данилевский и др.); посвящен и
возведен во 2 степень в ложе Побежденного предрассудка в Кракове в 1814 г.
(Серков А И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический словарь. М., 2001.
С. 1044-1047,1090-1102,1108-1111,1137). По предположению Е. Э. Ляминой,
именно Чаадаев мог в 1822 г. ввести своего друга, автора приписывавшегося
самому Чаадаеву «Мистического дневника» Д. А Облеухова в одну из масонских
лож (Костикова Е. (Лямина Е. Э) Дмитрий Облеухов // Лица: Биографический
альманах. 2. М.; СПб., 1993. С. 21).
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
7
конце 1820-х гг. — активное участие в дискуссиях (в частности, со
своим начальником Васильчиковым, Н. И. Тургеневым и др.) вокруг
возможных решений проблемы крепостного состояния русских
крестьян9.
В 1820 г. Чаадаеву представился случай ускорить свой карьерный
рост: после восстания в Семеновском полку в октябре этого года он
был послан Васильчиковым в Троппау, дабы сообщить находящемуся
на конгрессе европейских государей Александру I детали
конфликта. Важная миссия, подразумевавшая прямой контакт с императором,
служила гарантией нового этапа военной карьеры, однако сразу же
после возвращения в Петербург Чаадаев подал в отставку и получил
ее 29 марта 1821 г. Поездка Чаадаева в Троппау еще при его жизни
обросла неверифицируемыми легендарными подробностями
(например, отмечалось опоздание увлеченного своим туалетом
Чаадаева, что вызвало недовольство Александра, узнавшего о восстании в
Семеновском полку от австрийского канцлера Меттерниха10) и стала
затем объектом тонких исследовательских интерпретаций
(например, Ю. Н. Тынянова11 и Ю. М. Лотмана12). Что именно произошло в
Троппау или потом в Петербурге, определить сложно, однако
важно, что именно с этого момента начинает формироваться,
пользуясь термином А. Л. Осповата, «отрицательная репутация» Чаадаева:
ему «важно было любой ценой противопоставить себя "простым
9 См., например: Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. Дневники и письма
Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы (III том). Пг., 1921. С. 234; Гершен-
зон 1908,1-4,13-14.
10 Подробнее см.: Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре
Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: (Мемуары
современников). М., 1989. С. 73-74.
11 Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горя от ума» // Литературное наследство. Т. 47,48.
М., 1946. С. 168-171. По мнению Тынянова, в Троппау Чаадаев предпринял
попытку обсудить с императором необходимость реформ крепостного состояния
крестьян.
12 Согласно Лотману, Чаадаев разыграл перед императором роль героя
трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос» маркиза Поза, которая подразумевала
откровенный разговор с монархом «о бедствиях русского народа» и бескорыстие
говорящего, чем, по мысли Лотмана, и была мотивирована отставка Чаадаева
(Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни// Лотман Ю. М. Беседы о русской
культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб.,
1994. С. 346-352).
8
M. Б. Велижев
смертным"»13. Возможно, отставкой, эффект которой был усилен
нелицеприятными отзывами Чаадаева о своем начальнике Васильчико-
ве в перлюстрированном письме к тетке А. М. Щербатовой от 2 января
1821 г., Чаадаев старался дистанцироваться и от семейной служебной
традиции. Если это так, то расчет Чаадаева волею обстоятельств не
удался. Избежав одного сценария, он в 1830-е гг. оказался «вписан»
в два других: «щербатовский», связанный с опытом неподцензурных
критических этюдов о русской истории («О повреждении нравов в
России» M. M. Щербатова), и «чаадаевский», заставивший вспомнить
о модели «придворного сумасшествия» (дед П. Я. Чаадаева, офицер
Семеновского полка П. В. Чаадаев, разыгрывал «умалишенного» при
дворе Елизаветы Петровны14).
В 1823-1826 гг. Чаадаев находился в европейском путешествии
(Англия, Франция, Швейцария, Италия, Австрия, Германия), во время
которого начала складываться его историософская концепция,
легшая затем в основу «Философических писем»15. При въезде в Россию
13 Из доклада на Первых Банных чтениях (1993) (см.: Мжъчиш В. А. Песня
методологической невинности (она же опыта) // Новое литературное
обозрение. №6(1994). С. 322.
14 Записки Императрицы Екатерины II. 1859. Лондон. Репринтное
воспроизведение. М, 1990. С. 141.
15 По замечанию Е. Э. Ляминой, путешествие Чаадаева могло
интерпретироваться по-разному: как культурное паломничество, визит к европейским
медикам, пребывание в интеллектуальной атмосфере, соответствующей его уму,
романтическое путешествие без цели (Liamina С. Tchaadaev: un ami de jeunesse, ou
les origines d'une réputation. P. 80). Вот что писал Д. Н. Свербеев о впечатлении,
произведенном на него общением с Чаадаевым в Швейцарии: «...красивого
Чаадаева, который всех поражал недоступною своею важностью, безукоризненною
изящностью своих манер, одежды и загадочным молчанием. Он ни на одну
минуту не забывал держать себя в заданной позе, часто сердил всех собеседников
тем, что, отказываясь от предлагаемого ему вина, за десертом требовал себе
бутылку лучшего шампанского, выпивал из нее одну или две рюмки и
торжественно удалялся. <...> На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу почти поневоле
и очень недовольный собой и всеми, в немногих словах выражал все свое
негодование на Россию и всех русских без исключения. Он не скрывал в своих
резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и
настоящему и решительно отчаявался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем,
высших властей военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми
холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и
пресмыкающимся в рабстве. Однажды, возмущенный подобными преувеличениями, я
напомнил ему славу нашей отечественной войны и победы над Наполеоном и
просил пощады русскому дворянству и нашему войску во имя его собственного в
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
9
в июле 1826 г. Чаадаев, дружный со многими участниками заговора
14 декабря 1825 г., был допрошен на предмет его связи с
восставшими, однако затем отпущен. Следующие несколько лет Чаадаев
провел сначала в имении своей тетки А. М. Щербатовой Алексеевском
(Дмитровского уезда Московской губернии), а затем в Москве, почти
в полном уединении, занимаясь созданием «Философических писем»
(обращенных к его приятельнице Е. Д. Пановой16) и переживая
своего рода духовный кризис. На философско-религиозную концепцию
«Философических писем» оказали влияние современные Чаадаеву
политические события: его нарочито негативное суждение о России
было спровоцировано высоким градусом патриотической риторики,
связанной с успехами русской армии в русско-турецкой войне 1828-
1829 гг. и ростом европейского престижа России17. В 1831 г. Чаадаев
начал выезжать в свет и параллельно распространять
«Философические письма» среди друзей (их прочли А. И. Тургенев, П. А.
Вяземский, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, М. И. Бравура, П. В. Киреевский,
М. А. Дмитриев, М. Ф. и Е. Н. Орловы, Д. В. Давыдов, доктор-практик
М. Я. Мудров, М. П. Погодин и др.), предприняв (неудачную) попытку
часть писем опубликовать — в России, а затем и во Франции.
этих подвигах участия. "Что вы мне рассказываете! Все это зависело от случая, а
наши герои тогда, как и гораздо прежде, прославлялись и награждались по
прихоти, по протекции". Говоря это, Чаадаев вышел из своей тарелки и раздражился
до нельзя» (Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. (1799-1826). Т. П. М, 1899.
С. 236-237).
16 См., например: Гершензон 1908, \0б-\09;ШтейнбергА А Пушкин и Е. Д.
Панова// Временник Пушкинской комиссии. 1965. Вып. 4. Л., 1968. С. 45-55.
17 МильчинаВ. А, ОсповатА Л. О Чаадаеве и его философии истории //
Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 7-8. В своей реакции Чаадаев не был одинок.
Е. В. Сухово-Кобылина (позже известная в литературе как Евгения Тур) писала в
своих воспоминаниях: «Он [М. А. Максимович. — М. В.] был дружен с Аксаковым,
который впоследствии написал семейную хронику. Тогда он не был еще Славо-
фил, ибо в эту секту обратили его выросшие сыновья. В ту пору сыновья были
еще дети, а отец их любил иностранную литературу, и никто еще не додумался
до того, что Запад будто бы гниет. Я помню даже, как смеялись над
Харитоньевским священником (церковь св. Харитония была нашим приходом), который,
говоря проповедь, сказал между прочим, что Господь Бог отвратил свое лице от
Запада и обратился к России. Мать моя иронически заметила, что на хорошие
вещи взирает Господь Бог и чудна эта его фантазия. Мы, дети, также смеялись,
особливо я, ибо питала ко Франции и Германии особую страсть, вспыхнувшую
после чтения писем русского путешественника Карамзина» (РГАЛИ. Ф. 447.
Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 90 об.; эпизод предположительно относится к 1831 г.).
10
M. Б. Велижев
В начале 1830-х гг. происходит изменение салонного образа
Чаадаева, связанное с характером московской среды его общения.
Знакомые Чаадаева времен его юности, значительно повлиявшие
на его интеллектуальное развитие, к началу 1830-х гг. либо умерли,
либо находились за пределами Москвы (Д. А. Облеухов, А. С.
Грибоедов, И. Д. Якушкин, Н. И. Тургенев18). Обновление дружеского
круга, точнее, аудитории, внимавшей его «проповедям», позволило
Чаадаеву поддержать ореол собственной исключительности,
создававшийся еще в 1810-е — начале 1820-х гг.
В 1836 г. стремление Чаадаева увидеть «Философические
письма» в печати увенчалось успехом: в 15-м номере журнала «Телескоп»
за этот год была помещена статья «Философические письма к гже*".
Письмо первое», русский перевод первого «Философического
письма» Чаадаева19. 3 октября 1836 г. московские книжные лавки начали
распространять издание. Однако уже во второй половине октября,
по личному распоряжению императора Николая I, журнал был
закрыт, его издатель Н. И. Надеждин и цензор А. В. Болдырев
вызваны в Петербург. В дальнейшем первый из них был выслан в Усть-
Сысольск (ныне Сыктывкар), а второй — уволен со всех должностей
«за нерадение по службе». Чаадаев был «официально», без
соответствующего освидетельствования20, объявлен «умалишенным».
Публикация в 1836 г. русскоязычной версии первого
«Философического письма» и последующий скандал лишь упрочили
«отрицательную репутацию» Чаадаева21. Осенью 1837 г. с него был снят
медицинский надзор и, менее других пострадавший от последствий
разбирательства, даже приобретший «мученическую» славу и
симпатию собственных оппонентов, он окончательно превратился в
18 Liamina С. Tchaadaev: un ami de jeunesse, ou les origines d'une réputation. P. 81.
19 Прежде, в 1832 г., в том же журнале «Телескоп» (№11. С. 347-357) были
опубликованы статья Чаадаева «О зодчестве» и шесть афоризмов «о бессмертии
души» под общим названием «Нечто из переписки NN (с французского)».
20 О правилах освидетельствования см.: Полное Собрание Законов
Российской Империи. Собрание I. СПб, 1830. Т. XXXIII. С. 195-197 (сенатский указ от
8 июня 1815 г, с изъяснением мнения Государственного Совета, «Об
освидетельствовании безумных»).
21 FlorinskyM. Russian Social and Political Thought, 1825-1855 // Russian Review.
Vol. 6. No. 2. (Spring, 1947). P. 83; Liamina С Tchaadaev: un ami de jeunesse, ou les
origines d'une réputation. P. 80.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
11
одну из главных московских достопримечательностей — «басман-
ного22 философа», «чья биография без остатка исчерпывается его
размышлениями, профетическими прозрениями, диалогами»23.
В 1840-е — 1850-е гг. Чаадаев, оставаясь одной из центральных
фигур московского интеллектуального пантеона, активно
участвует в салонных спорах «западников» и «славянофилов»24. Чаадаеву
принадлежит ряд небольших заметок25 и эпистолярных
высказываний26, развивавших его историософские принципы и являвшихся
реакцией на отдельные сочинения его современников, в частности
А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, Ф. И. Тютчева, Н. В. Гоголя, а также
на текущие исторические события (приход к власти во Франции
Наполеона III в 1851 г. или события Крымской войны в 1854 г.)27.
Основные идеи Чаадаева в этот период во многом повторяют
тезисы о русском прошлом, настоящем и будущем, высказанные прежде
(в «Философических письмах» и «Апологии безумного»), т.е.
колеблются между скепсисом в отношении русской истории и
политического состояния современной Чаадаеву России, с одной стороны,
и уверенностью в блестящем будущем России, предопределенным
Провидением, — с другой.
Чаадаев умер 14 апреля 1856 г.: в тот момент его известность
укоренялась в характерной для первой половины XIX в. традиции
22 С 1833 г. Чаадаев жил во флигеле дома Н. В. и Е. Г. Левашевых на Новой
Басманной улице в Москве.
1ЪМильчинаВ. А, ОсповатА Л. О Чаадаеве и его философии истории. С. 5.
24 Согласно формулировке М. О. Гершензона, «письма Чаадаева за последние
пятнадцать лет его жизни показывают его нам всецело поглощенным борьбою с
славянофильством» (Гершензон 1908,175).
25 «Ответ на статью А. С. Хомякова "О сельских условиях"» (1843), «Письмо из
Ардатова в Париж» (1845), «Воскресная беседа сельского священника Пермской
губернии, села Новых Рудников» (1849), «1851», «К статье Киреевского в
"Московском сборнике"» (1852), «Замечания на два места из брошюры А. С. Хомякова
в ответ Лоранси» (1854), «"L'Univers", 15 января 1854», «Выписка из письма
неизвестного к неизвестной» (1854) и др.
26 В письмах к А. И. Тургеневу, П. А. Вяземскому, И. С. Гагарину, А. и А. С. де Сир-
курам, Ю. Ф. Самарину, Ф. И. Тютчеву, А С. Хомякову, Е. А. Долгоруковой, С. Д.
Полторацкому, В. А Жуковскому и др.
27 О философских и политических взглядах Чаадаева в 1850-е гг. см.:
Шаховской Дм. П. Я. Чаадаев. Неопубликованная статья // Звенья. Т. 3-4. М.; Л.,
1934. С. 380-390.
12
M. Б. Велижев
эпистолярного или устного высказывания на политические,
исторические и религиозно-философские темы. П. А. Вяземский
писал С. П. Шевыреву 17 апреля 1856 г. из Петербурга: «А вот умер и
бедный Чаадаев. Жаль мне его. Москва без него и без Хомяковской
бороды, как без двух родинок, которые придавали особенное
выражение лицу ее»28.
* * *
«Философические письма» Чаадаева — это не трактат, но своего
рода запись философской беседы с дамой в светской гостиной29.
Структура «Философических писем» лишена формальных
признаков философского сочинения и характеризуется нарочитой «невы-
строенностью» аргументов30, частым использованием логических
приемов, которые рассчитаны не на университетского профессора
философии, но на философски осведомленного собеседника:
отсюда постоянные повторения и циклическая структура текста,
сознательное заострение отдельных тезисов, «парадоксальность», законы
которой определяются не внутренней логикой повествования, а
риторической силой конкретного высказывания. «Философические
письма» трудно интерпретировать и как единое «гармоничное»
целое сочинение, скрепленное общей системой аргументации, и как
набор отдельных, не связанных друг с другом философских реплик
по близкой тематике31. Далее мы попытаемся изложить основные
28 Русский архив. 1885. №6. С. 316-317.
29 О беседах с Е. Д. Пановой Чаадаев пишет в шестом «Философическом
письме». П. А. Вяземский замечал о первом «Философическом письме»: «Такого рода
парадоксы хороши у камина для оживления разговора, но далее пускать их
нельзя, особенно же у нас, где умы не приготовлены и не обдержаны прениями
противоположных мнений» (письмо к А. И. Тургеневу от 28 октября 1836 г.: Оста-
фьевский архив князей Вяземских. Т. 3. Переписка князя П. А Вяземского с
А И. Тургеневым. 1824-1836. СПб, 1899. С. 342).
30 Подобное впечатление о структуре «Философических писем» возникало и
у современников Чаадаева. Так, Д. Н. Свербеев замечал: «Я читал некоторые из
этих писем (и кто из людей ему коротких не читал их в это время?) и, насколько
могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания»
(Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Записки Дмитрия Николаевича
Свербеева. (1799-1826). Т. И. М, 1899. С. 394).
31 Манеру изложения Чаадаева можно сравнить с описанной П. А Вяземским
логикой салонного разговора: «Разговорные прения в гостиных, за круглым сто-
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
13
принципы (Г. В. Флоровский отмечал, что у Чаадаева «есть принцип,
но не система»32) историософии Чаадаева, не претендуя на
соответствие их логической контаминации ходу изложения,
предложенному самим автором «Философических писем».
«Философическая» концепция Чаадаева имеет двойное
обоснование: религиозно-философское и историческое. Первое «письмо»
служит введением в историософию Чаадаева, во втором, третьем и
четвертом «Философических письмах» их автор формулирует
философские предпосылки усвоенного им религиозного взгляда на
историю; в последующих текстах цикла он предпринимает попытку
пересмотра европейского историографического канона.
Аргументация Чаадаева строится на априорном признании
ограниченности человеческого разума, невозможности
определения разума из самого себя и необходимости внешней созидающей
силы — Бога. Человеческий разум ищет точку опоры, стремится к
подчинению правилам, логика которых может быть мотивирована
лишь внешним законом, физической и нравственной «Верховной
Силой». Задача философа поэтому определяется Чаадаевым как
знание о том, чему человек подчиняется. Сопоставление физического
и нравственного миров привело Чаадаева к выводу о
существовании двух движущих сил — эмпирически наблюдаемого
«всемирного тяготения» и логически выводимого «вержения», изначального
импульса, создавшего мир. Чаадаев предполагал, что воздействие
Бога на мир не ограничилось актом сотворения, что пути Господни
воплотились во всемирной истории, а подлинный голос религии не
заключен лишь в букве священного закона и реализуется в мысли-
лом, в толпе слушателей нетерпеливых не выслушать, а перебить вас, сказать
свое мнение, где часто поборник ваш не только вас не слушает, но и не слышит,
несмотря на то можно назвать полезным словесным движением. Вы пускаетесь
не так, как в дорогу, чтобы от одного места дойти до другого, но как в прогулку.
Дело не в том, чтобы дойти до назначенного места, а в том, чтобы ходить,
дышать свежим воздухом, срывать мимоходом цветы. На бумаге ставишь межевые
столбы, они свидетельствуют о том, что вы тут уже были, и ведут далее. В
разговоре или по прихоти, шш с запальчивости переставляешь с места на место и от
того часто по долгом движении очутишься в двух шагах от точки, с коей пошел,
а иногда и в ста шагах за точкою» (Вяземский П. А Записные книжки (1813-
1848). М, 1963. С 33).
32 Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris, 1988. С. 248.
14
M. Б. Велижев
тельной работе многих человеческих поколений. Отсюда следует,
что задача разумного человека сводится к распознанию того, как
претворяется слово Божие в истории. С последним тезисом
связано представление Чаадаева о человеческой свободе: свободная
умственная работа заключается в принятии религиозного взгляда
на историю и выявлении основных законов нравственного мира,
в рассуждении, а не в изучении отдельных исторических фактов.
Божественный план, основное содержание истории, состоит в
постоянном развертывании божественного Откровения. Финальной
точкой истории, таким образом, становится абсолютное
христианское единство: такова апокалиптическая перспектива, обозначенная
в конце восьмого «Философического письма», связанная, в
представлении Чаадаева конца 1820-х гг., с «нашими временами».
Прошлое, настоящее и будущее отдельных народов связаны
неразрывной логикой, поскольку именно исторический опыт, синтез идей,
сформулированных прежде, позволяет рассчитывать на успешное
будущее. Воспоминание о прошлом необходимо потому, что
слово Божие воплощено исключительно в историческом континууме.
Именно этот пункт аргументации во многом определил скептицизм
Чаадаева в отношении России (где опыт прошлого отсутствовал)
и способствовал признанию доминанты католической церкви,
независимого многовекового института, скрепляющего европейские
государства, наглядного свидетельства историко-религиозной
традиции33. Поэтому вся мировая история ставилась Чаадаевым в
зависимость от истории христианства и папства: греческая «языческая»
философия осуждалась ввиду преобладания в ней материального, а
не духовного начала (отсюда и критическое отношение Чаадаева к
эпохе итальянского Возрождения), падение дохристианских и
восточных империй Чаадаев считал следствием отсутствия
обеспеченного христианством внутреннего единства, история православия
и протестантизма была запятнана расколом христианского мира
и предпочтением национального принципа в ущерб
общехристианскому. Мусульманство, наоборот, вызывало энтузиазм Чаадаева,
33 О католических симпатиях Чаадаева в контексте «русского католицизма»
см.: Дмитриева Е. Е. Обращения в католичество в России в XIX в. (историко-
культурный контекст) // Arbor mundi. Вып. 4 (1996). M., 1995. С. 91,95-97.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
15
поскольку исламский мир являл собой внешнее доказательство
всемирности христианства: автор «Философических писем» считал
религию Магомета одной из христианских сект, главным образом
в силу единобожия и наличия элементов единства в священной
традиции. Выход из сложившейся исторической ситуации
религиозного разъединения Чаадаев видел в восстановлении единства
европейских народов в лоне римской католической церкви — в
преддверии наступления Царства Божьего на земле.
Весьма сложно дать однозначную интерпретацию взглядов
Чаадаева на Россию и ее историю. Большая часть образованных
современников Чаадаева была знакома лишь с русским переводом
первого «Философического письма»: в этом отдельно взятом тексте
«европейские» симпатии автора сочетались с его крайним
пессимизмом в отношении России. «Бесперспективность» исторического
пути отечества связывалась им с непреодолимым и многовековым
религиозным отчуждением от католического мира. Обособленность
России (которой, как предполагал Чаадаев, было суждено дать
«великий урок» миру в будущем) в свете последующих
«Философических писем» (главным образом седьмого) и «Апологии безумного»
могла осмысляться уже как преимущество34: «девственный» русский
ум может заимствовать европейский культурный и религиозный
опыт в чистом виде, вне присущих Западу «страстных интересов»
и «предрассудков». Соответственно меняется и задача философа:
его функция должна состоять в трансляции потомкам
«подлинного» взгляда на историю, в создании отсутствовавшей в России
традиции, которая затем позволит стране войти в христианский мир,
преодолев последствия «фотианской схизмы» середины IX в.
Одной из причин скандальной славы чаадаевской статьи,
напечатанной в «Телескопе», стал именно ее «перевод» на русский язык35.
34 Такой взгляд на историю России не был оригинальным. См. главу «De la
Russie» в третьем томе книги Л. Г. А де Бональда «Législation primitive considérée
dans les derniers temps par les seules lumières de la raison» (1802).
35 Это обстоятельство было отмечено еще современниками: «Наши
переводные статьи, особливо с французского языка, часто оскорбляют читателя
излишнею яркостью и дисгармонией красок и всегда почти выражают спорные
вопросы сильнее и резче, нежели какими кажутся в подлиннике» (Свербеев Д. Н.
Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве. С. 395).
16
M. Б. Велижев
Сходные идеи, высказанные на русском и французском языках с
той или иной степенью лингвистической резкости, оказывались
в совершенно разных идеологических контекстах. Философская
традиция, связанная с французским языком, существовала уже
несколько веков и отличалась высочайшей степенью разработанности
терминологического аппарата. В России оригинальная историко-
философская риторика лишь начинала свое развитие в первой
половине XIX в. Французские термины отсылали к устоявшейся
традиции французской Россики, их русские эквиваленты звучали резче и
не подразумевали четкую лингво-философскую ассоциацию36.
Между тем подавляющее число текстов Чаадаева (за
исключением части корреспонденции) написано на французском языке37.
«Франкоязычное^» Чаадаева семантически маркирована: он
формулировал свои мысли на языке французской салонной культуры
и католической философии первой половины XIX в., той
интеллектуальной среды, в рамках которой и следует воспринимать
«Философические письма». Содержащийся в комментарии к настоящему
изданию материал позволяет судить о степени оригинальности
чаадаевских идей. Высказанные по-французски тезисы
«Философических писем» выглядели вторичными в европейском контексте: в
сравнении с сочинениями французских философов Ж.-Ж. Руссо и
Ш.-Л. Монтескье о России и Петре I38, трудами Ф.-Р. де Шатобриа-
на, французских традиционалистов (Ж. де Местра, Ф. Р. де Ламенне,
П.-С. Балланша, Л. Г. А. Бональда и др.), немецких мыслителей, глав-
36 Подробнее см.: Quénei Go. Tchaadaev et les Lettres philosophiques.
Contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie. Paris, 1931. P. 133-190;
Falk H. Das Weltbild Peter J. Tschaadajews nach seinen acht "Philosophischen
Briefen": Ein Beitrag zur russischen Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts.
München, 1954. S. 50-68;МильчинаВ. A, OcnoeamA. Л. О Чаадаеве и его философии
истории. С. 5-6.
67 Анализ французского языка Чаадаева см.: Ивановский Вл. От редактора
перевода // Чаадаев П. Философические письма. Казань, 1906. С. Ill; Cavaion D.
Letteratura е acculturazione in Russia (Un protagonista: Pietro Caadaev). Firenze,
1971. P. 44-45; ЛоптанЮ. M, РозенцвейгВ. Ю. Русская литература на
французском языке. Французские тексты русских писателей XVIII-XIX веков. Wiener
Slawistischer Almanach. Sonderband 36 (1994). S. 51-53,71-74.
38 Подробнее см.: Mohrenschüdt D. S. von. Russia in the Intellectual Life of
Eighteenth-century France. New York, 1972. P. 236-249.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
17
ным образом Ф. И. Й. Шеллинга. Однако неоригинальность мысли,
с точки зрения внутренней логики чаадаевских текстов, не являлась
серьезным недостатком и, наоборот, могла свидетельствовать о
причастности Чаадаева к восемнадцативековой традиции
западного христианства, умственной работе, которая и являлась залогом
исторической состоятельности католицизма.
Публикация в «Телескопе» вызвала резкую реакцию
петербургских властей в немалой степени потому, что она расширяла круг
читательской аудитории первого «Философического письма». Чаа-
даевская статья принадлежала к группе документов, дискуссия
вокруг которых должна была ограничиваться лишь частной сферой
благородного общения: тем контрастнее выглядело ее появление
в подчеркнуто «недворянском», университетском журнале
«Телескоп». Критика особенностей российской истории не была
редкостью в 1830-е гг. Тексты, содержащие «альтернативный»
официальной идеологии взгляд на Россию, обсуждались в аристократических
салонах, циркулировали в рукописях, дебатировались в личной
переписке: здесь достаточно упомянуть «Записку о древней и
новой России» H. M. Карамзина (1811, опубликована в 1836 г.),
письма П. А. Вяземского, А. И. Тургенева39. Попытки сделать такого рода
материалы достоянием публики, как правило, заканчивались для их
авторов неудачей: показательным здесь является пример А. Н.
Радищева, И. В. Киреевского, журнал которого «Европеец» был в 1832 г.
запрещен за публикацию отчасти созвучной идеям Чаадаева статьи
самого Киреевского «Девятнадцатый век»40, или Н. А. Полевого, чье
издание «Московский телеграф» было закрыто цензурой в 1834 г.
Одним из оснований чаадаевского взгляда на структуру
«общественного мнения» и движение мысли в религиозной истории
является тезис об интеллектуальных усилиях отдельных
личностей, ведущих за собой «толпу». Это представление укладывается в
религиозно-философскую трактовку божественного откровения,
изначально дарованного лишь избранным, чья функция состоит в
39 См.: Тартаковскии А Г. Русская мемуаристика XVIII - первой половины
XIX в. М, 1991.
40 Подробнее о статье Киреевского как реплике в диалоге с Чаадаевым см.:
Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л.,
1977. С. 49-51.
18
M. Б. Велижев
дальнейшей трансляции этого знания современникам и следующим
поколениям. Очерченный дуализм лишается в «Философических
письмах» конфликтной составляющей и описывается как
естественный атрибут движения в истории идей, становясь при этом и
объяснительной матрицей для самого разговора Чаадаева с Е. Д. Пановой:
как представляется, передача чаадаевского знания/«откровения»
его собеседнице наглядно иллюстрирует сам механизм создания
традиции и объявляется Чаадаевым в седьмом «Философическом
письме» единственно возможной формой действия в современной
России. Облеченная в откровенно профетическую форму
«письма» — «послания»41, историософия Чаадаева по необходимости
направлена на трансляцию вовне (конкретного светского круга
общения). Возможно, этим и объясняются настойчивые попытки
Чаадаева опубликовать отдельные «Философические письма» в
России или Европе. Публикация на русском языке первого
«Философического письма» (а не более «нейтральных» третьего и четвертого,
готовившихся к печати Надеждиным как «смягчающие впечатление
от первого») вызвала эпистолярную и дневниковую рефлексию
большого диапазона, стимулировав (часто вне зависимости от
общей оценки идей Чаадаева) дебаты о взаимоотношениях власти и
общества в России.
Первые отзывы о «Философических письмах» относятся к
первой половине 1830-х гг., когда ближайшие к Чаадаеву люди прочли
фрагменты его сочинения. А. И. Тургенев в письме к Н. И. Тургеневу
от 10 июля 1831 г. точно охарактеризовал философские
источники «Философических писем»: «...система его [Чаадаева. —М.В.] есть
точь-в-точь графа Мейстера ОКозефа де Местра>, модифирован-
ная чтением немецких писателей»42. Пушкин в письме к Чаадаеву
от 6 июля 1831 г. проницательно объяснил неясность и отсутствие
четкой структуры шестого и седьмого «Философических писем» их
генезисом из устных разговоров Чаадаева, оспорив общую идею
(единство христианства в папе римском, а не в Христе) и ряд
частных заключений (негативную оценку римского императора Марка
41 Подробнее о жанре «письма» — «послания» см.: La correspondance. Les
usages de la lettre au XIX siècle. Paris, 1991. P. 130-131.
42 Тургенев А И. Политическая проза. M., 1989. С. 157.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
19
Аврелия и политеизма Гомера) статей43. Наиболее резкое
суждение о тексте Чаадаева принадлежит П. В. Киреевскому. 10 января
1833 г. он писал Н. М. Языкову, что не считает Чаадаева «русским»44, а
17 июля того же года рассуждал в эпистолярном послании к Языкову
о русской народной поэзии: «...у нас какая-то странная судьба
беспрестанно старалася их [народные предания. — М. В.] изгладить из
памяти, особенно в последние 150 лет, разрушивших, может быть,
не меньше воспоминаний, нежели самое татарское нашествие. Эта
проклятая чаадаевщина, которая в своем бессмысленном
самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все
великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте
свою одноминутную премудрость, которая только что доведена ad
absurdum в сумасшедшей голове 4<аадаева>...»45
Среди первых реакций на письмо Чаадаева, помещенное в 1836 г.
в «Телескопе», также выделяются отзывы его близких друзей и
постоянных собеседников. Так, П. А. Вяземский и А. С. Пушкин сходились
в том, что русскую историю следует рассматривать как данность,
не стремясь отрицать человеческую природу «белокурого»
человека, «потому что взятый <...> за образец человека — черноволосый»
(из письма Вяземского к А. И. Тургеневу от 19 октября 1836 г.)46.
Вяземский считал первое «Философическое письмо» прежде всего
сатирой, но ни в коем случае не историческим взглядом, и сомневался
в возможности Чаадаева «проникнуть в замысел Провидения»
насчет России47. Пушкин, споря с Чаадаевым относительно «пустоты»
русского прошлого и природы византийского религиозного
влияния, тем не менее соглашался с ним в негативных оценках «внешних
условий» современного общественного состояния России48. Также
43 См-Наст. изд. С. 491-493.
44 Киреевский И. Я, Киреевский П. В. Полное собрание сочинений: В 4 т. Т. 3.
Калуга, 2006. С. 362.
45 Там же. С. 371-372.
46 См.: ОсповатА Л. Из комментария к текстам Чаадаева. (По материалам
тургеневского архива) // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту,
1992. С. 227-228.
47 С оценкой Вяземского был согласен А. Я. Булгаков. См.: Остафьевский архив
князей Вяземских. Т. 3. С. 341.
48 Пушкин А С. Полное собрание сочинений, 1837-1937: В 16 т. Т. 16. М.; Л,
1949 С 171-173, 392, 393.
20
M. Б. Велижев
несогласный с Чаадаевым А. И. Тургенев в письме к В. А. Жуковскому
от 24 октября 1836 г. замечал, что после «остервенения» московской
публики против Чаадаева критика его концепции уже невозможна49.
Иными были отзывы о первом «Философическом письме» людей,
не любивших Чаадаева или лично его не знавших. Общим местом
в таких оценках было негодование против чаадаевской атаки на
православие и русскую историю (в письмах Ф. Ф. Вигеля,
митрополитов Серафима и Филарета, И. Семашко, Н. И. Греча, Е. М. Хитрово,
П. Д. Дурново, А. Я. Булгакова, Д. В. Поленова, о. Михаила Дивова,
устных высказываниях Я. М. Неверова50).
К уже известным в печати отрицательным отзывам о первом
«Философическом письме» мы бы хотели добавить один
неопубликованный. Московский житель, приятель Пушкина, Хомякова,
Гоголя, В. А. Муханов записал в своем дневнике 2 ноября 1836 г.:
«К сожалению, Русский вздумал напасть на Россию. По его мнению,
49 «Я и сам не на шутку напал на 4<аадаева>, как скоро узнал, что письмо его
напечатано, да и он за мое нападение тогда не на шутку на меня рассердился, но
с тех пор, как вся Москва, от мала до велика, от глупца до умника, от к<нязя>
Г<олицына> до Баратынского, опрокинулась на него и он сам пришел в какую-то
робость, мне уж его и жаль стало» (Максимов М. По страницам дневников и
писем А И. Тургенева (Пушкин и А И. Тургенев) // Прометей. Т. 10 (1974). С. 385; о
схожей реакции в Петербурге см.: Снегирев И. М. Дневник // Русский архив. 1902.
№ 10. С. 184). Официальный запрет на любое обсуждение историософской
концепции Чаадаева в печати имел следствием прекращение вообще какой бы то ни
было публичной полемики вокруг вопросов о путях исторического и
литературного развития в России. Это стало ясно сразу же после начала «телескопического
скандала». В. Ф. Одоевский писал С. П. Шевыреву 17 ноября 1836 г.: «Что пишешь
ты о недоумениях Московской цензуры, должно было ожидать, и этому помочь
нельзя: глупая статья Ч. затворяет рот всякому, кто бы хотел вступиться за
литературу» (Из бумаг Степана Петровича Шевырева // Русский архив. 1878. № 5. С. 57).
50 См.: Русская старина. 1870. Т. 1. С 586-590; Митрополит Филарет в письмах
к его духовнику, наместнику Троицкой Лавры, архимандриту Антонию //
Русский архив. 1877. №11. С. 316; Письма Н. И. Греча к Ф. В. Булгарину — 2 // Новое
литературное обозрение. № 89 (2008). С. 115; Пушкин А С. Полное собрание
сочинений: В 16 т. Т. 16. М.; Л., 1949- С. 181, 394; Пушкин: Исследования и
материалы. Т. 8. Л., 1978. С. 256, 261; «У тебя целый Сан-Франциско в твоем архиве...»
(Из «Современных записок и воспоминаний...» А. Я. Булгакова. Записи 1836-
1859 гг.)// Встречи с прошлым. Вып. 9. М., 2000. С. 34,35; Очерк жизни и
деятельности Д. В. Поленова. Составлен И. Хрущевым. СПб., 1879. С. 20, 21 (письмо
Д. В. Поленова к В. П. Титову от февраля 1837 г. из Москвы); Письма о. Михаила
Дивова к И. М. Снегиреву. М., 1909. С. 38 (письмо от 5 декабря 1836 г.);
Герцен А И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 9. М., 1956. С. 33.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
21
она не имеет ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего; история
ее не заключает ни одной благородной черты, ни одного
великого подвига; все успехи, открытия, улучшения человечества для нас
были потеряны и мы не умели воспользоваться ими; в мир явились
мы, как незаконнорожденные дети без наследства и достояния;
религию нашу получили от растленной Византии, и наконец хорошие
черты, замеченные в нас иноземцами, доказывают только, что они
нас не знают, и что ежели даже мы и обладаем сими качествами,
то это обращается нам во вред, будучи скорее недостатком, нежели
добрым свойством. Вот основные идеи статьи, которая есть
очевидно произведение расстроенного и даже тяжело больного ума.
Так принята была она и в Петербурге, откуда пришло предписание
Доктора дома ума лишенных ежедневно посещать автора
[примечание Муханова: а Редактору и Цензору прибыть в Петербург]. Трудно
было придумать что-нибудь благоразумнее. Сочинитель — Чеодаев,
журналист — Надеждин, Цензор — Болдырев»51.
География чтения 15-го номера «Телескопа» зачастую
определяла границы читательских интерпретаций52. В старой столице
статья Чаадаева начала распространяться в начале октября, между тем
как в Петербург 15-й номер «Телескопа» пришел почти тремя
неделями позже, в третьей декаде октября. Как следствие, по
публикации статьи в Москве общественное возмущение против чаадаев-
ских идей вылилось в горячие салонные дебаты, плодом которых
должны были стать несколько опровержений, не опубликованных
из-за официального запрещения печатной полемики вокруг
первого «Философического письма». Однако после объявления Чаадаева
умалишенным настроение московского общества радикально из-
51 ОПИ ГИМ. Ф. 117. Оп. 1. Ед. хр. 129. Л. 70-70 об. О В. А. Муханове см.:
Пастернак Е. Е. Муханов Александр Алексеевич // Русские писатели. 1800-1917.
Т. 4. М., 1999. С. 182.
52 Отмечено уже современниками: «Мнение о сумасшествии человека,
написавшего такой философский трактат, распространилось более в Петербурге, где
Чаадаева многие не знали или уже забыли. Но и там, несмотря на разные
отягчающие обстоятельства, недоверие встречалось редко. В Москве же, где его так
хорошо знали, едва ли нашелся просвещенный человек, даже между его
противниками, который бы поверил этому сумасшествию. Чаадаев получал отовсюду
изъявления участия и сочувствия» (Лонгинов М. Воспоминание о П. Я.
Чаадаеве // Русский вестник. 1862. № 11. С. 150).
22
M. Б. Велижев
менилось в сторону сочувствия Чаадаеву, впрочем, сочувствия ему
самому, но не его идеям53.
В Петербурге же следствием позднего поступления в город
экземпляров 15 номера «Телескопа» стала синхронность чтения
статьи Чаадаева и распространения информации о его наказании
императором. Именно «сумасшествие» Чаадаева стало той призмой,
сквозь которую в столице знакомились с его текстом.
Петербургские свидетели скандала рассуждали уже не только о чаадаевском
письме, но и о репрессиях и, шире, механизмах воздействия
власти на общество. По свидетельству И. И. Панаева, именно
наказание причастных к публикации первого «Философического письма»
лиц заставило публику обратить внимание на сочинение Чаадаева:
«Прекращение этого журнала ["Телескопа". —М. В.] наделало
большого шуму, возбудило различные толки и заставило прочесть
статью Чаадаева — виновницу прекращения — даже тех, которые
отроду не читали таких серьезных статей»54. «Сумасшествие» Чаадаева
могло интерпретироваться по-разному, в частности как
метафорическое обозначение чаадаевского тщеславия и самолюбия55. Однако
сам факт «нелепого» наказания Чаадаева часто давал убедительное
обоснование его пессимизму касательно «внешних условий
существования» в России56.
53 Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве.
С. 104; Дмитриевы. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С 367.
54 Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 143. См. схожий
«московский» отзыв К. С. Аксакова (из письма к М. Г. Карташевской): «его
["Телескоп". — М. В.] запретили на этих днях за помещение одной статьи, которую
точно не следовало помещать и которая противоречила всегдашнему его
направлению. <...> Статья, за которую запрещен журнал, наделала ужасно шуму в
Москве; не осталось человека, который бы не говорил об ней. Люди самые не
литературные, люди, едва знающие грамоте, люди, которые никогда в руки не
брали русской книги, — все теперь читают 15 номер "Телескопа", шумят и по
большей части негодуют и бранят сочинителя» (Алексей Степанович Хомяков /
Публ., коммент. и вступит, ст. В. А. Кошелева // Север. 1991. № 5. С. 141).
55 См. письмо Александра Карамзина к Андрею Карамзину от 5-6 (17-18)
ноября 1836 г.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов. М.; Л., I960.
С. 130-131.
56 См. отзывы Александра Карамзина, К. H. Лебедева, А. В. Никитенко, а также
москвича Д. Н. Свербеева (Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов.
С 158; Из записок сенатора К Н. Лебедева // Русский архив. 1910. №7. С. 361-
365; Никитенко А В. Дневник: В 3 т. Т. 1. М., 195 5. С 188; СвербеевД. Н. Воспоми-
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
23
* * *
Даже приблизительный ответ на вопрос о том, почему опытный
журналист Надеждин решился в 1836 г. на публикацию заведомо
«скандального» философского сочинения, представляется
затруднительным. Существующая историография предлагает несколько
версий: частичные совпадения во взглядах Надеждина и Чаадаева
(Ю. В. Манн57), случайность и неосторожность (М. К. Лемке58),
желание издателя «Телескопа» с помощью чаадаевской публикации
«потопить» конкурирующее с ним периодическое издание —
«Московский наблюдатель», связанное с кругом Чаадаева (Н. Н. Мазур59).
нание о Петре Яковлевиче Чаадаеве. С. 397). В отзывах (синхронных и не
только) о сути первого «Философического письма» и ходе «чаадаевского дела» людей
мало осведомленных о деталях официального расследования реальные факты
часто подвергались интересным и важным с точки зрения рецепции истории
1836 г. деформациям. Приведем два примера. В своем дневнике (запись от 8
сентября, год не указан, Москва) публицист и философ Н. П. Гиляров-Платонов
писал: «Мне пора написать литературное событие, хотя оно и давно, однако я его
не знаю. Г. Надеждин, как мне было известно, человек из духовного звания,
издавал журнал Телескоп, родом из Белоомута, свящ. сын, сослан в Уссысольск за
то, что назвал Русских дураками. Но писал статью в журнале не он, а Чадаев,
которого объявили сумасшедшим» (Щукинский сборник Вып. 2. М., 1903. С. 515);
из письма Г. С. Аксакова родным из Петербурга в статье В. И. Шенрока: «Так с
живым участием принял Григорий Сергеевич известие о запрещении
"Телескопа" и о ссылке Надеждина, возмущаясь зело, что "здесь изо всего Петербурга
едва ли отыщется и сто человек, которые сожалеют о запрещении "Телескопа".
Он живо интересовался судьбой Надеждина и его журнала и желал скорее
увидеть его. <...> О запрещении "Телескопа" Григорий Сергеевич писал:
"Приехавши в Петербург, некоторые москвичи встретили меня известием, что "Телескоп"
запрещен за какую-то статью о правлении Виссариона Белинского (как его
здесь все называют), что Болдырев сменен с ректорства и был посажен под арест
на две недели"» (Шенрок В. И. С. Т. Аксаков и его семья. I-XV // Журнал
Министерства народного просвещения. 1904. № 10. С. 411).
57 Манн Ю. В. Надеждин Николай Иванович // Русские писатели. 1800-1917:
Биограф, словарь. Т. 4. М., 1999. С. 211. См. также: Чернов Е. Л. Об отношении
Н. И. Надеждина к первому «Философическому письму» П. Я. Чаадаева //
Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории.
Историография освободительного движения и общественной мысли России и
Украины. Днепропетровск, 1984. С. 127-135.
5ВЛемкеМ. К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. СПб., 1909.
С. 401-402.
59 Мазур Н. Н. Жизнь и мировоззрение А. С. Хомякова в «дославянофильский»
период: 1804-1837 гг.: диссертация... кандидата филологических наук М., 2000.
С. 160-187.
24
M. Б. Велижев
Решение Надеждина опубликовать первое «Философическое
письмо» (а затем и еще два текста из этого цикла) оказалось для его
современников полной неожиданностью. Ректор Киевской духовной
академии епископ Иннокентий (Борисов) писал М. А. Максимовичу
14 декабря 1836 г.: «Это наваждение злого духа. Кто мог предвидеть
его?»60. До сих пор точно не выяснено, кто именно перевел первое
«Философическое письмо» на русский язык. По мнению М. Д. Эльзо-
на, посвятившего проблеме специальную работу, переводчиков было
несколько: первоначально со статьей Чаадаева работал А. С. Норов,
происходивший из семьи, близкой к Чаадаеву, затем текст был
отредактирован известным московским литератором Н. X. Кетчером,
но ответственность за перевод на следствии взял на себя издатель
журнала Надеждин61.
Что означал для 1830-х гг. факт публикации статьи в
периодическом издании? Прежде всего, официальную апробацию
публикуемого сочинения императорской цензурой, относившейся к
ведомству Министерства народного просвещения. Цензура в этот
исторический период стала одним из важнейших рычагов
государственного контроля над «общественным мнением»,
ориентированного не только и не столько на исполнение репрессивных функций,
сколько на создание системы, позволяющей различным властным
структурам, обладавшим цензорским правом62, формировать и
ориентировать движение общественной мысли. Одновременно
посредническая роль цензуры позволяла «обществу» в определенной
мере оказывать обратное влияние на государственную идеологию.
Согласно цензурному уставу 1828 г., контролем за книгами и
периодическими изданиями занимались компетентные в словесности
университетские профессора или специально назначенные
«сторонние» цензоры, не имевшие отношения к университету (такими
цензорами часто становились известные литераторы, например,
60 Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде, Михаила Максимовича. СПб.,
1871. С. 69.
61 Элъзон М. Д. Кем переведено «Философическое письмо»? (К истории
закрытия «Телескопа») // Русская литература. 1982. № 1. С. 168-176.
62 Таковых было много, в их числе Министерство народного просвещения,
III Отделение императорской канцелярии, Св. Синод, Министерство внутренних
дел и др.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
25
С. Т. Аксаков, С. Н. Глинка, В. В. Измайлов и др.). Цензоры, таким
образом, были частью литературно-университетской среды, к
которой принадлежало и большинство сочинителей. Возможность
доверительных отношений между издателем журнала и его цензором
существовала в реальности, что особенно важно для понимания
коллизии с публикацией статьи Чаадаева.
Первое «Философическое письмо» было разрешено к печати
29 сентября 1836 г. цензором А. В. Болдыревым, известным
востоковедом, профессором, ректором Московского университета, в доме
которого несколько лет прожил издатель «Телескопа» Надеждин.
Непосредственно после начала репрессий возникла версия о
сознательном обмане Надеждиным доверчивого Болдырева: по мнению
ряда мемуаристов, Болдырев цензурировал русский перевод статьи
Чаадаева во время карточный игры, причем Надеждин, читая ему
вслух разбираемое сочинение, намеренно исключил из него самые
неблагонадежные фрагменты. Эта версия оказалась весьма
популярна (ее, в частности, придерживался попечитель Московского
учебного округа граф С. Г. Строганов), однако после ознакомления
с полным вариантом показаний Надеждина и Болдырева, данных
в Петербурге, можно с уверенностью утверждать, что цензор имел
возможность внимательно ознакомиться с текстом статьи и
пропустил первое «Философическое письмо» вполне осознанно63.
Публикация текста подразумевала возможность открытого обсуждения
его идей, расширение читательской аудитории, наконец,
вероятность того, что сочинение станет известно высшим представителям
петербургской бюрократии.
Специального комментария требует соотношение чаадаевской
концепции русской истории с национальной идеологией
«православия, самодержавия и народности», разработанной министром
народного просвещения С. С. Уваровым. Начиная с 1834 г.
принципы уваровской триады, одобренные императором Николаем I,
начали вводиться в русскую образовательную среду — в университеты и
гимназии. Не вдаваясь в детали этой идеологической конструкции,
63 Подробнее см.: ВелижевМ. Б. «L'affaire du Télescope»: к цензурной истории
15-го номера «Телескопа» за 1836 год // И время и место:
Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М., 2008.
С. 226-234.
26
M. Б. Велижев
отметим, что историософские построения Чаадаева в нескольких
пунктах прямо ей противоречили. Прежде всего, Чаадаев вслед за
французскими традиционалистами утверждал преимущество
общехристианских ценностей над национальными, при этом ассоциируя
христианство исключительно с католицизмом. В первом
«Философическом письме» подвергалось ревизии легшее в основу триады
представление об исключительности России, где религия,
политический строй и национальный элемент находились в
нерасторжимом тождестве. Более того, сама фигура Чаадаева, потомка первых
русских князей, которому невозможно было отказать в праве
именоваться «русским человеком», ставила перед Уваровым
трудноразрешимую проблему: согласно его идеологической модели, русский
по определению должен был быть православным и лояльно
относиться к государю64. Чаадаев своим примером доказывал обратное,
что, в конце концов, заставило Уварова, вопреки его
первоначальным намерениям, смириться с «безумием» Чаадаева.
Важно, что первое «Философическое письмо» было
опубликовано именно осенью 1836 г. В этом году (прежде всего во второй его
половине) в России разворачивались торжества, посвященные
десятилетию со дня коронации Николая I и имеющие целью
нарисовать картину повсеместного процветания и всеобщей преданности
россиян своему государю. Празднества открылись традиционным
путешествием Николая по России. Московский митрополит
Филарет (Дроздов) 22 августа 1836 г. в присутствии императора
прочел в московском Успенском соборе проповедь, посвященную теме
наивысшего благополучия России и особой доверенности народа к
Николаю. Филарет отмечал: «Враги внешние побеждены и
укрощены. Враги домашние уничтожены. Союзы, особенно благоприятные
миру Царей и народов, укреплены особенно. <...> Просвещение,
искусства, промышленность разнообразно поощрены.
Законодательство и правосудие получило свой особенный венец в
систематическом составе законов <...> Его [Николая I. — М. В.] любовию к
Православной Церкви одушевлена ревность ее служителей»65. От-
64 Подробнее см.: Зорин А Л. Уваровская триада и самосознание русского
интеллигента // Россия / Russia. Вып. 2. М, 1999- С 42.
65 Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и
речи. Т. IV. М, 1882. С. 31.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
27
дельная часть проповеди была посвящена развитию апостольского
тезиса о покорности всякой власти, Богом поставленной:
«Повинуясь Царю и Начальству, вы благоугождаете Царю; и в то же время,
повинуясь Господа ради, вы благоугождаете Господу»66. Только
повиновение Господа ради, считал Филарет, «всегда
удовлетворительно для власти и всегда блаженно для повинующагося»67. Следующий
тезис Филарета, о сознательном выборе между личным счастьем и
долгом государству и царю, тесно перекликался с основной
идеей оперы М. И. Глинки «Жизнь за Царя», которая в этот момент
активно готовилась к постановке: «Поставьте оное
[повиновение. — М. В.] в самое сильное испытание: пусть, например, надобно
будет пожертвовать собою повиновению, пострадать или умереть
за Государя и Отечество: пусть воздвигнет против сего
естественную борьбу естественная любовь к собственной жизни, к благам
жизни, ко многому любезному в жизни: вся брань помыслов, без
сомнения, низложена будет, как скоро придет сильное благодатное
слово: Господа ради»68.
3 октября 1836 г. в цензуру III отделения поступила опера
Глинки «Жизнь за Царя», 13 октября внутренняя цензура дала согласие
на публикацию либретто, а 21 октября — буквально накануне
вынесения Чаадаеву императорского вердикта о безумии — III отделение
окончательно разрешило постановку оперы. 27 ноября — за день
до поднесения Николаю доклада специально созданной в начале
ноября 1836 г. комиссии по «телескопическому» делу — во вновь
отстроенном и блестяще отделанном Большом театре в Петербурге
состоялось первое представление «Жизни за Царя», на котором
присутствовала императорская фамилия и вся столичная элита. Как
отмечает Л. Н. Киселева, автору либретто барону Е. Ф. Розену — не
без помощи В. А. Жуковского — удалось органично развить идею
народности, тем самым наглядно проиллюстрировав взаимосвязь
всех трех членов уваровской триады69.
66 Там же. С 32.
67 Там же. С. 35.
68 Там же.
69 Киселева Л. Н. Становление русской национальной мифологии в
николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) //Лотмановский сборник. Т. 2. М, 1997.
С 279-302.
28
M. Б. Велижев
Таким образом, первое «Философическое письмо» появилось в
печати в разгар торжеств, символически ориентированных на
демонстрацию всеобщего социального и политического единения в
России. Возмущение министра народного просвещения Уварова по
поводу чаадаевской статьи усиливалось одной деликатной деталью:
прохождение текста Чаадаева через московскую цензуру ставило
вопрос о ведомственной ответственности перед императором.
Ответственность за цензуру московских журналов прежде всего нес
председатель Московского цензурного комитета, попечитель
Московского учебного округа С. Г. Строганов. На более высоком уровне
административной иерархии объяснять причину цензорской
некомпетентности надлежало самому Уварову как министру народного
просвещения. Наконец, реальной была перспектива вмешательства в
дело III отделения императорской канцелярии во главе с А. X.
Бенкендорфом (одновременно шефом корпуса жандармов), под чьим
контролем также находилось «общественное мнение». Ситуация
усугублялась тем, что Строганов, Уваров и Бенкендорф, ближайшие к
Николаю I бюрократы, испытывали друг к другу неприязнь и
острейшим образом конкурировали за влияние на решения императора70.
Первым из приближенных Николая I прочитавший
«телескопическую» версию первого «Философического письма», Строганов сразу
понял, что промах цензора Болдырева грозит Министерству
народного просвещения неприятным конфликтом с ведомством
Бенкендорфа. Строганов решил предложить Уварову «замять» дело на
уровне министерства, тем самым избежав вмешательства III отделения и
гнева государя. Предложения Строганова стали известны Уварову уже
после того, как Николай I ознакомился с содержанием 15-го номера
«Телескопа», вынес резолюцию и одобрил официальный рапорт
Бенкендорфа о наказаниях ответственных за публикацию лиц. Узнав о
выходе перевода первого «Философического письма» до получения
корреспонденции Строганова, Уваров решил воспользоваться
случаем и свести счеты со своими личными и служебными
противниками — Строгановым и Бенкендорфом.
70 Подробнее см.: Велижев М. Б. «L'affaire du Télescope»: Переписка С. Г.
Строганова и С. С. Уварова (октябрь 1836 года) // Пушкинские чтения в Тарту 4:
Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария. Тарту, 2007. С. 300-318.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
29
В своих оценках публикации в «Телескопе» Уваров прибегнул к
давно опробованной стратегии: в письмах и записках к Николаю I
он нарисовал картину большого заговора, якобы стоящего за
выступлением Чаадаева. Борьба с «заклятыми врагами» была положена
Уваровым в основание его министерской идеологической программы.
К идее заговора Уваров уже обращался в 1834 г., в деле о закрытии
«Московского телеграфа»71. В глазах Уварова «телескопическая»
история явилась логическим продолжением истории с журналом Н. А.
Полевого, запрещенного после публикации недоброжелательной
рецензии на патриотическую драму Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего
Отечество спасла». В различных черновиках осени 1836 г. Уваров,
размышляя о «Телескопе», постоянно допускает ошибку — пишет
«Телеграф», а затем тщательно зачеркивает и исправляет.
Многие программные документы, созданные Уваровым в
первой половине 1830-х гг., пестрят упоминаниями о «буре», в которой
находится Россия, о «беспрерывной продолжительной и упрямой
борьбе», об угрозе «неминуемой гибели» из-за «необузданного»
распространения идей европейского просвещения. Вот как Уваров
формулировал цели своей деятельности в докладе «О некоторых
общих началах, могущих служить руководством при управлении
Министерством Народного Просвещения», доложенным императору
19 ноября 1833 г.: «Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу,
посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества,
посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить
слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых
основаниях спасительного начала <...> должно ли устоять против
порывов бури ежеминутно нам грозящей»72. Выходом из ситуации
Уваров считал повсеместное распространение «соединенного духа
Православия, Самодержавия и Народности»73.
71 Доклад Уварова Николаю I от 21 марта 1834 г:.ЛемкеМ. К. Николаевские
жандармы и литература 1826-1855 гг. С. 89.
72 Шевченко M. М. Доклады министра народного просвещения С. С. Уварова
императору Николаю I // Река времен. Кн. 1. М., 1995. С. 72; подробнее см.:
Шевченко М. М. Конец одного Величия. Власть, образование и печатное слово в
Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 68-70.
73 Шевченко M. M. Доклады министра народного просвещения С. С. Уварова
императору Николаю I. С. 72. См. подробнее: Зорин А Л. Кормя двуглавого орла...
30
M. Б. Велижев
По идее министра, в России постоянно существовала кризисная
ситуация, порожденная последствиями восстания 14 декабря 1825 г.
Вся жесткость и решительность пропагандистских мер Уварова
оправдывалась именно срочной необходимостью изменений,
обратное могло привести к непоправимым последствиям.
«Революционная» деятельность журналов «Московский телеграф» и «Телескоп»
только подтверждала выводы Уварова74. Как известно, идея
зреющего заговора особо оговаривалась министром в записке от октября
1836 г., направленной царю. Первое «Философическое письмо»
Уваров считал началом заговора, пробным камнем, с помощью
которого бунтовщики стремятся прощупать почву для грядущего
выступления. Исходя из всего сказанного, Уваров потребовал
уголовного наказания для Чаадаева. Замечание А. И. Тургенева в письме
к А. Я. Булгакову, что Чаадаев был «прикрыт цензурным уставом»75
(дополнение к уставу об ответственности цензора и редактора, но
не сочинителя, появилось в 1831 г.) требует корректировки:
секретный комитет по делам цензуры в том же 1831 г. постановил:
«Пропуск к напечатанию вредной книги есть, собственно, вина цензора;
но что было преступлением до издания оной, то не перестает быть
преступлением и после, и автор безбожного или возмутительного
сочинения, представивший оное в цензуру, и, следовательно,
изобличенный в намерении обнародовать оное, должен быть предан
суду на основании общих законов, несмотря на данное ему от
цензора одобрение»76.
Русская литература и государственная идеология в России в последней трети
XVIII - первой трети XIX века. М, 2004. С. 337-374.
74 См. в более поздней записке Уварова Николаю I «О цензуре» (24 марта
1848 г.): «Самую затруднительную задачу для них [цензоров. — М. В.] составляют
повременные издания, политические и литературные. Характер нашего
века — повсеместное брожение умов, недовольных настоящим, и стремление к
непрестанным изменениям. Этот характер во всей силе обнаружился на Западе;
у нас появились было слабые отражения его в некоторых наших повременных
изданиях и повлекли за собой запрещение их; такая судьба постигла Телеграфа,
Европейца, Телескопа» (Шевченко M. M. Доклады министра народного
просвещения С. С. Уварова императору Николаю I. С. 75).
75 Письма Александра Ивановича Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 194.
76 Записка секретного комитета по цензуре 1831 г.:ЛемкеМ. К. Николаевские
жандармы и литература 1826-1855 гг. С. 61.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
31
Утверждение о связи чаадаевской статьи с московским
заговором автоматически ставило под сомнение способность
Бенкендорфа и его ведомства контролировать действия заговорщиков и, как
следствие, отвечать за безопасность империи. Конкретным же
виновником пропуска первого «Философического письма» через
цензуру являлся попечитель Строганов, недоглядевший за действиями
своих подчиненных.
Неудивительно поэтому, что тезис Уварова о зреющем в Москве
возмущении натолкнулся на неприятие со стороны
Бенкендорфа: он не посчитал поступок Чаадаева уголовно наказуемым. При
этом Бенкендорф руководствовался не только мотивами личного
соперничества с Уваровым, но и собственной оценкой текущего
исторического момента. 1836 г. ознаменовался пятилетием
подавления польского мятежа, он должен был также подвести итог
деятельности III отделения (учрежденного в 1826 г.) по устранению
последствий восстания 1825 г. Еще в своем напутствии полковнику
жандармского полка Бибикову в 1826 г. Бенкендорф отмечал, что
«благотворительной целью государя императора» и «обязанностью»
III отделения являются «благосостояние» подданных, «тишина» и
«спокойствие»77. По его мысли, 1836 год должен был
свидетельствовать о полном успехе избранного в 1826 г. направления, несмотря
на первоначальное «невольное сомнение, что Бог не благословляет
царствование Государя». Вот что читаем в отчете III отделения
императору за 1836 г.: с 1831 г. «Россия пребывает спокойною внутри
ее, и в мире со всеми Державами. Внутренняя ее промышленность и
заграничная торговля с каждым годом распространяются. <...> В
отношениях своих к иностранным Державам Россия, в течение
последних пяти лет, постоянно возвеличивалась, и ныне достигла той
высоты, на которой никогда еще не стояла. <...> Таковое в течение
последних пяти лет развитие внутреннего благосостояния России и
политического ее веса, совершенно изгладило мысль о несчастном
Царствовании, и заменило скорбное чувство сие, общим чувством
доверия к Государю, как к виновнику настоящего блестящего
положения России». Далее Бенкендорф отмечал усиливавшуюся
любовь россиян к императору: «Существование Государя признается
77 Русский архив. 1889. № 7. С. 396-398.
32
M. Б. Велижев
ныне необходимым условием для удерживания Отечества нашего в
сем цветущем положении <...> к сим чувствам должно в настоящее
время присовокупить еще чувство всеобщего доверия к Государю,
утвердившееся в последние пять лет»78.
В беседе с М. Ф. Орловым по поводу первого «Философического
письма» Чаадаева Бенкендорф сформулировал собственную
концепцию русской истории: «Прошлое России прекрасно; настоящее более
чем великолепно; что касается ее будущего, то оно превосходит все то,
что самое смелое воображение может изобразить; вот, мой дорогой,
точка зрения, с которой следует понимать и писать русскую историю»79.
Как прошлое, так и настоящее России пронизаны духом особого
доверия, любви и личной преданности к государю и династии.
На фоне наступившего, по мысли Бенкендорфа, в 1836 г.
всеобщего «благоденствия», «тишины» и «спокойствия» скандал с
публикацией перевода первого «Философического письма» выглядел
явным диссонансом, равно как и стремление Уварова объяснить
действия автора и издателя письма, ссылаясь на масштабный
антиправительственный заговор. Бенкендорф попытался, и не без
успеха, переместить центр тяжести скандала с текстов Чаадаева на
действия Надеждина и Болдырева. В итоге Уварову не оставалось
ничего другого, как согласиться с этим. Собственно, Бенкендорфу
удалось достигнуть поставленной цели благодаря
неординарному шагу — объявлению Чаадаева безумным 22 октября 1836 г., что
имело основанием, по сути, неоднозначный вердикт императора:
«смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного»80. Этот
ход помог Бенкендорфу представить дело крайне выгодным для
себя образом: во-первых, он «угадал» намерения государя, воплотив
в обвинении Чаадаеву императорские представления о
законности (в николаевскую эпоху «в правовой сфере покорность властям
78 Россия под надзором. Отчеты III отделения. 1827-1869. М., 2006. С 140-155.
79Ломке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855. С. 411;
оригинал на фр.
80 Там же. С. 413. О политическом «безумии» в начале XIX в. см.: Нечки-
наМ. В. А. С. Грибоедов и декабристы. Изд. 2. М., 1951. С. 353-358. Случай
Чаадаева не был уникальным: «безумцами» Николай I и Бенкендорф именовали
декабристов в 1826 г., поляков в 1831 г., H. А. Полевого в 1834 г.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
33
выше истины»81). Во-вторых, освободив Чаадаева как умалишенного
от уголовной ответственности82, в соответствии с указом от 23
апреля 1801 г., Бенкендорф тем самым блокировал развитие уваровской
версии о заговоре, виновниками всего объявлялись издатель
«Телескопа» и московский цензор, а ответственность за цензуру нес все
тот же Уваров. Таким образом, Бенкендорф «ставил на место»
чересчур активного министра народного просвещения.
Рассмотренная в широком идеологическом контексте
«телескопическая» история демонстрирует, что чуть ли не впервые в
российской истории столкнулись две дискурсивные стратегии, и
впоследствии использовавшиеся властью при интерпретации
возникающих критических ситуаций: идея перманентного тайного
заговора, требующего открытой и решительной борьбы, и идея
всеобщего благоденствия и процветания, при котором любое
сомнение в правильности существующего миропорядка является
«безумием». Таким образом складывались ныне трудноразличимые
условия, сделавшие публикацию риторически сильного текста
Чаадаева одним из центральных событий русской интеллектуальной
истории XIX в.
«Философические» принципы Чаадаева сыграли важную роль
в развитии русской историософии: с первым «Философическим
письмом» традиционно связывается начало дебатов о религиозно-
исторической миссии России («особом пути»), главным образом в
апокалиптической перспективе будущего. Заданная Чаадаевым про-
81 СамоверН. В. «Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже
Бенкендорфу...»: Диалог В. А Жуковского с Николаем I в 1830 году // Лица: Биографический
альманах. 6. М.; СПб., 1995. С. 100.15 февраля 1836 г. Николай писал-И. Ф. Паске-
вичу: «Кажется мне, что среди всех обстоятельств, колеблющих положение
Европы, нельзя без благодарности Богу и народной гордости взирать на положение
нашей матушки России, стоящей как столб и презирающей лай зависти и
злости, платящей добром за зло и идущей смело, тихо, по христианским правилам
к постепенным усовершенствованиям, которые должны из нее на долгое время
сделать сильнейшую и счастливейшую страну в мире. Да благословит нас Бог и
устранит от нас всякую гордость или кичливость, но укрепит нас в чувствах
искренней доверенности и надежды на милосердный Промысел Божий!» (Русский
архив. 1897. № 1.С. 18).
82 См.: Tempest R. La démence de Caadaev // Revue des études slaves. T. 55 (1983).
Fasc. 2. P. 305-315; Tempest R. Madman or Criminal: Government Attitudes to Petr
Chaadaev in 1836 // Slavic Review. Vol. 43. № 2. (Summer, 1984). P. 281-287.
34
M. Б. Велижев
екция русской истории на историю мировую и библейскую была и
остается чрезвычайно востребованной «русской мыслью»83 в трудах
как либеральных, так и консервативных мыслителей.
М. Б. Велижев,
кандидат филологических наук
83 Богатый материал по данной тематике см.: Петр Чаадаев: pro et contra.
Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и
исследователей. СПб., 1998. См. также: Гершензон 1908,96-97.
П. Я. ЧААДАЕВ
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА К ГЖЕ ***
ПИСЬМО ПЕРВОЕ1
(Версия «Телескопа»)2
Я уважаю, я люблю в вас более всего ваше чистосердечие, вашу
искренность. Эти прелестные качества очаровали меня с первых
минут нашего знакомства и навели [276] на разговор о религии, тогда
как все вас окружавшее налагало на меня молчание. Представьте же
мое удивление, когда я получил ваше письмо. Вот все, что я могу
сказать о мнении, которое, по вашему предположению, должен
составить о вашем характере. Но перейдемте к важнейшей части вашего
письма.
Отчего это возмущение в ваших мыслях, которое, как вы
говорите, волнует, утомляет вас до того, что расстроивает самое
здоровье? Неужели это следствие наших разговоров? Вместо спокойствия,
мира, которые должно было воцарить новое чувство, возбужденное
в вашем сердце, оно пробудило томление, сомнения, почти
угрызения совести. Впрочем, что ж тут удивительного? Это естественное
следствие настоящего порядка вещей, которому покорены все
сердца, все умы. Вы уступили только влиянию причин, движущих всеми,
начиная с самых высших членов общества до самых низших. И вы
не могли воспротивиться их влиянию. Сами качества, которыми вы
отличаетесь от толпы, делают вас еще восприимчивее к вредному
влиянию воздуха, которым вы дышите. Немногое, что я мог сказать
вам, не могло дать должного направления вашим мыслям посреди
всего вас окру-[277]жающего. Мог ли я очистить атмосферу, в
которой мы живем? Я должен был предвидеть последствия, и в самом
деле я их предвидел. Вот причина частых моих умолчаний, которые
не только не могли проникнуть вашу душу убеждением, напротив,
должны были привести вас в недоумение. Если б я не был уверен, что
страдания, которые может возбудить религиозное чувство не вполне
развитое, всегда лучше совершенного равнодушия, я раскаивался бы
в своей излишней ревнительности. Но облака, которые затемняют
теперь ваше небо, преобратятся в благотворную росу, которая воз-
38
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
растит семена, запавшие в ваше сердце. Действие на вас немногих
слов служит мне верным ручательством, что ваше собственное
разумение доведет вас впоследствии до полнейшего развития.
Предавайтесь безбоязненно религиозным чувствованиям: из этого чистого
источника не могут родиться чувства нечистые.
Что ж касается до предметов внешних, то на этот раз вам
довольно знать, что учение, основанное на высшем начале единства
и на прямой передаче истины священнослужителями,
беспрерывно следующими один за другим, совершенно согласно с истинным
духом религии; потому что [278] вполне соответствует идее слития
всех нравственных сил в одну мысль, в одно чувство и постепенного
образования в обществе духовного единства, или церкви, которая
должна воцарять истину между людьми. Всякое другое учение
одним уже отделением от учения первоначального уничтожает
значение высокого воззвания Спасителя: «Отче, да будут едино, якоже и
мы!», и противодействует осуществлению на земле Царствия Божия.
Но из этого не следует, чтоб вы были обязаны проявлять эту истину
на земле; нет, не в том состоит ваше призвание. Напротив, по вашему
положению в свете, самое начало, из которого вытекает эта истина,
обязывает вас почитать ее не более, как внутренним светильником
вашего верования. Я счастлив, что мог содействовать религиозному
направлению ваших мыслей; но почел бы себя несчастным, если б
в то же время возбудил укоры совести, которые впоследствии
могли бы охладить вашу веру.
Кажется, я говорил вам однажды, что религиозное чувство
поддерживается лучше всего выполнением постановлений церкви. Это
упражнение в покорности, которое заключает в себе гораздо
больше, нежели предполагают, которое налагали на себя величай-[279]
шие умы, по зрелом рассуждении, с полным сознанием, есть
настоящее чествование Бога. Ничто так не укрепляет ума в его верованиях,
как строгое выполнение всех налагаемых ими обязанностей. Кроме
того, большая часть обрядов христианской религии,
постановленные самим Верховным Умом, существенно действительны для
каждого, кто умеет проникнуться истинами, которые они выражают.
Горе тому, кто примет обольстительные призраки своего тщеславия,
суемудрствования своего рассудка за высшее просветление и
возмечтает, что оно освобождает его от общего закона! И для вас, су-
Философические письма
39
дарыня, что может быть приличнее одежды смирения? Облекитесь
в нее: она так идет вашему полу. Поверьте, это средство всего скорее
укротит волнения вашего ума, разольет сладостное спокойствие по
всему существу вашему.
Для женщины, которой образованный ум находит прелесть в
учении и в важных занятиях созерцания, что может быть естественнее,
даже по светским понятиям, как жизнь несколько серьезная,
посвященная преимущественно благочестивым помыслам и выполнению
обязанностей, налагаемых религией? Вы пишете, что ничто не
говорит вашему воображению так сильно, как описания [280] этих
мирных, ясных существований, взгляд на которые, как взгляд на
прелестное сельское местоположение, озаренное последними лучами
солнца, успокоивает душу и уносит ее на мгновение из мира нашей
болезненной или бесцветной существенности. Что же мешает вам
осуществить одно из этих прелестных созданий фантазии? Вы
одарены всем, что для этого нужно. Вы видите, как я снисходителен: я
отыскиваю успокоивающие средства в собственных ваших вкусах, в
приятнейших мечтах вашего воображения.
В жизни есть сторона совершенно невещественная, относящаяся
собственно к разумной стихии нашего бытия: этой стороны никак
не должно пренебрегать. Для души есть диэтетическое содержание,
точно так же, как и для тела; уменье подчинять ее этому содержанию
необходимо. Знаю, что повторяю старую поговорку; но в нашем
отечестве она имеет все достоинства новости. Это одна из самых жалких
странностей нашего общественного образования, что истины,
давно известные в других странах, и даже у народов, во многих
отношениях менее нас образованных, у нас только что открываются. И это
оттого, что мы никогда не шли [281] вместе с другими народами; мы
не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни
к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий ни того, ни другого. Мы
существуем как бы вне времени, и всемирное образование
человеческого рода не коснулось нас. Эта дивная связь человеческих идей в
течение веков, эта история человеческого разумения, доведшие его
в других странах мира до настоящего положения, не имели на нас
никакого влияния. То, что у других народов давно вошло в жизнь,
для нас до сих пор есть только умствование, теория. Примеры не
далеки; вы сами, созданные так счастливо, что можете совмещать в
40
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
себе все, что есть в мире благого и истинного, одаренные сознанием
всего, что доставляет изящнейшие и чистейшие душевные
наслаждения, скажите, далеко ли ушли вы со всеми этими достоинствами?
Вы ищете даже того, чем наполнить ваш день, не то что целую жизнь.
Вам не достает даже тех предметов, которые в других странах
составляют эту необходимую рамку жизни, где все происшествия дня
размещаются так естественно: условие столь же нужное для
здоровья нравственного, как чистый воздух для здоровья телесного. Вы
понимаете, [282] что я говорю здесь не о нравственных или
философических правилах, а просто о хорошем распределении жизни, о
тех обыкновениях, тех навыках, которые дают уму какое-то
приволье, душе правильное движение.
Посмотрите вокруг себя. Все как будто на ходу. Мы все как будто
странники. Нет ни у кого сферы определенного существования, нет
ни на что добрых обычаев, не только правил, нет даже семейного
средоточия; нет ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало
ваши сочувствия, расположения; нет ничего постоянного,
непременного: все проходит, протекает, не оставляя следов ни на внешности,
ни в вас самих. Дома мы будто на постое, в семействах как чужие, в
городах как будто кочуем, и даже больше, чем племена, блуждающие
по нашим степям, потому что эти племена привязаннее к своим
пустыням, чем мы к нашим городам. Не воображайте, чтоб эти
замечания были ничтожны. Бедные! неужели к прочим нашим несчастиям
мы должны прибавить еще новое: несчастие ложного о себе
понятия! Как добиваться нам жизни чистых духов! Научимся прежде жить
благоразумно в нашей данной существенности.
[283] Для всех народов бывает период сильной, страстной,
бессознательной деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом.
Это время великих страстей, великих ощущений. Народы движутся
в то время сильно, без видимой причины; но не без пользы для
будущих поколений. Все общества проходили чрез этот период. Он
даровал им их живейшие воспоминания, их чудесное, их поэзию,
все их высшие и плодотворнейшие идеи. Он необходим для жизни
общества. Без него что сохранилось бы в памяти народов, к чему
могли бы они привязаться, пристраститься; без него они
дорожили бы только прахом родной земли. Эта чрезвычайно занимательная
эпоха в истории народов есть время их юности; время, когда способ-
Философические письма
41
ности их развиваются с наибольшею силою, время, воспоминание
о котором в возрасте возмужалом служит им наслаждением и
уроком. Мы не имеем ничего подобного. В самом начале у нас дикое
варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унизительное
владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем
образе жизни не изгладились совсем и доныне. Вот горестная история
нашей юности. Мы совсем не имели возраста этой [284] безмерной
деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа.
Эпоха нашей общественной жизни, соответствующая этому
возрасту, наполняется существованием темным, бесцветным, без силы, без
энергии. Нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных
наставительных примеров в народных преданиях. Пробегите взором
все века, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое,
вы не найдете ни одного воспоминания, которое бы вас
остановило, ни одного памятника, который бы высказал вам протекшее живо,
сильно, картинно. Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в
самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего. Если ж иногда
и принимаем в чем участие, то не от желания, не с целию
достигнуть истинного, существенно нужного и приличного нам блага; а по
детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает
руки к гремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни
смысла ее, ни употребления.
Истинное общественное развитие не начиналось еще для народа,
если жизнь его не сделалась правильнее, легче, удобнее
неопределенной жизни первых годов его [285] существования. Как может
процветать общество, которое даже в отношении к предметам еже-
дневности колеблется еще без убеждений, без правил; общество, в
котором жизнь еще не составилась? Мир нравственный находится
здесь в хаотическом брожении, подобном переворотам, которые
предшествовали настоящему состоянию планеты. И мы находимся
еще в этом положении.
Первые годы нашего существования, проведенные в
неподвижном невежестве, не оставили никакого следа на умах наших. Мы не
имеем ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша
мысль. Разобщенные какой-то странною судьбою от всемирной
жизни человечества, мы ничего не извлекли даже из идей, которые
сообщаются человечеству преданиями. А на этих-то идеях основывается
42
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
частная жизнь народов; из них развивается их будущность, их
нравственное образование. Чтоб сравниться с прочими образованными
народами, нам надобно переначать для себя снова все воспитание
человеческого рода. Для этого перед нами история народов и плоды
движения веков. Конечно, велик этот труд, и, может быть, одно
поколение людей не в состоянии совершить его; [286] но прежде всего
необходимо узнать: в чем дело, что это за воспитание человеческого
рода, и какое место занимаем мы в общем порядке мира?
Народы живут только мощными впечатлениями времен
прошедших на умы их и соприкосновением с другими народами. Таким
образом каждый человек чувствует свое соотношение с целым
человечеством. «Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память
о предшествовавшем не соединяет настоящего с прошедшим?» Мы
явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без
связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни
одного из поучительных уроков минувшего. Каждый из нас должен
сам связывать разорванную нить семейности, которой мы
соединялись с целым человечеством. Нам должно молотами вбивать в
голову то, что у других сделалось привычкой, инстинктом. Наши
воспоминания не далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим
себе. Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный
шаг исчезает для нас безвозвратно. Все это есть следствие
образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития
собственного, самобытного, совершенствования [287] логического.
Старые идеи уничтожаются новыми, потому что последние не
истекают из первых, а западают к нам Бог знает откуда; наши умы не
браздятся неизгладимыми следами последовательного движения
идей, которое составляет их силу, потому что мы заимствуем идеи
уже развитые. Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то
косвенному направлению, не ведущему к цели. Мы подобны детям,
которых не заставляли рассуждать; возмужав, они не имеют
ничего собственного; все их знание во внешности их существования, во
внешности вся душа их.
Народы существа нравственные, точно так же, как и люди. Они
образуются веками, как люди годами. Но мы, почти можно сказать,
народ исключительный. Мы принадлежим к нациям, которые,
кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существу-
Философические письма
43
ют для того, чтобы со временем преподать какой-нибудь великий
урок миру. Нет никакого сомнения, что это предназначение
принесет свою пользу; но кто знает, когда это будет?
Народы Европы имеют одну общую физиономию, какой-то
отблеск односемейности. Несмотря на разделение их на ветви
латинскую и тевтоническую, на южную и [288] северную, между ними есть
связь общая, которая соединяет их, связь видимая для всякого, кто
углублялся в их общую историю. Давно ли вся Европа называлась
«христианством», и это название имело место в ее публичном праве?
Но кроме этого общего характера, каждый из них имеет еще свой
особенный, придаваемый ему историей и преданиями. И то и
другое составляет родовое наследие идей этих народов. Каждое частное
лицо пользуется плодами этого наследия; без утомления, без труда
собирает на жизненном пути сведения, рассеянные в обществе, и
употребляет их в свою пользу. Теперь сравните сами: много ли
соберете вы у нас начальных идей, которые каким бы то ни было образом
могли бы руководствовать нас в жизни? Заметьте, что здесь дело не
об учении, не о литературе или науке; но просто о соприкосновении
умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком еще в колыбели,
которые окружают его в играх; которые мать вдыхает в него
своими ласками; которые в виде различных чувствований проникают в
его существо вместе с воздухом, которым он дышит, и образуют его
нравственное бытие [289] еще до вступления в мир и в общество.
Хотите ли знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды,
порядка. Они развиваются из происшествий, содействовавших
образованию общества; они необходимые начала мира общественного. Вот
что составляет атмосферу Запада; это более чем история, более чем
психология: это физиология Европейца. Чем вы замените все это?
Не знаю, можно ли вывести из сказанного что-нибудь
совершенно безусловное и основать на нем непременное правило; но
очевидно, какое сильное влияние на дух каждого отдельного лица должно
иметь это странное положение народа, по которому он не может
остановить своей мысли ни на одном ряде идей, развивавшихся в
обществе постепенно одна за другой; по которому он принимал
участие в общем движении человеческого разума только слепым,
поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям. От этого
вы найдете, что всем нам не достает некоторого рода основатель-
44
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ности, методы, логики. Силлогизм Запада нам неизвестен. В наших
лучших головах есть что-то больше, чем неосновательность. Лучшие
идеи, от недостатка связи и последовательности, как [290]
бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя
средства придти в соотношение, связаться с тем, что ему
предшествует и что последует; он лишается всякой уверенности, всякой
твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он
заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во
всех странах; но у нас эта черта общая. Это не та легкомысленность,
которою некогда упрекали французов, которая, не отрицая ни
глубины, ни многообъемлемости ума, зависела только от способности
понимать все с чрезвычайною легкостью, что придавало
обращению более прелести и любезности; нет! это ветреность жизни без
опыта и предвидения; жизни, которая ограничивается эфемерным
существованием неделимого, оторванного от своей породы, жизни,
которая не заботится ни о славе, ни о распространении каких-либо
общих идей или выгод, ни даже о тех семейных, наследственных
интересах, о том множестве притязаний и надежд, освященных
давностью, которые в обществе, основанном на памяти прошедшего
и на понятии будущего, составляют жизнь общественную и жизнь
частную. В наших головах [291] решительно нет ничего общего; все
в них частно, и к тому еще не верно, не полно. Даже в нашем взгляде
я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, несколько
сходное с физиономиею народов, стоящих на низших ступенях
общественной лествицы. Находясь в других странах, и в особенности
южных, где лица так одушевлены, так говорящи, я сравнивал не раз
моих соотечественников с туземцами, и всегда поражала меня эта
немота наших лиц.
Чужестранцы ставили нам в достоинство некоторого рода
беспечную отважность, которую встречали особенно в низших классах.
Но по нескольким отдельным проявлениям народного характера
они не могли верно судить о целом. Они не видят, что то же самое
начало, которое иногда придает нам эту смелость, делает нас в то же
время неспособными ни к глубокомыслию, ни к постоянству; они
не видят, что это равнодушие к материальным опасностям делает
нас также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко
всякой истине, ко всякой лжи и что тем самым уничтожает в нас все
Философические письма
45
сильные возбуждения, которые стремят людей по пути
совершенствования; они не видят, что, [292] по милости этой-то беспечной
отваги у нас и в высших классах, к прискорбию, существуют пороки,
которые в других странах принадлежат только низшим; не
замечают, что имея некоторые из добродетелей народов юных, еще
необразованных, мы лишены всех достоинств народов зрелых,
наслаждающихся высшим просвещением. Я совсем не хочу сказать, что у
нас только пороки, а добродетели у европейцев; избави Боже! Но я
говорю, что для верного суждения о народах надобно изучить
общий дух, их животворящий; ибо не та или другая черта их характера,
а только этот дух может довести их до совершеннейшего
нравственного состояния, до развития бесконечного.
Массы находятся под влиянием особенного рода сил,
развивающихся в избранных членах общества. Массы сами не думают;
посреди их есть мыслители, которые думают за них, возбуждают
собирательное разумение нации и заставляют ее двигаться вперед. Между
тем как небольшое число мыслит, остальное чувствует, и общее
движение проявляется. Это истинно в отношении всех народов,
исключая некоторые поколения, у которых человеческого [293] осталось
только одно лицо. Первоначальные народы Европы, Цельты,
Скандинавы, Германцы, имели Друидов, Скальдов, Бардов; это были
сильные мыслители, разумеется, в своем роде. Посмотрите на народы
Северной Америки, истреблением которых так ревностно
занимается материальное просвещение Соединенных Штатов: между ними
есть люди дивного глубокомыслия. Теперь спрашиваю вас, где наши
мудрецы, наши мыслители? Когда и кто думал за нас, кто думает в
настоящее время?
По нашему местному положению между Востоком и Западом,
опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы
должны бы соединять в себе два великие начала разумения: воображение
и рассудок; должны бы совмещать в нашем гражданственном
образовании историю всего мира. Но не таково предназначение, павшее
на нашу долю. Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше
положение, можно подумать, что общий закон человечества не для
нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у
него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества;
ничем не содействовали совершенствованию человеческого разуме-
46
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ния и иска-[294]зили все, что сообщило нам это совершенствование.
Во все продолжение нашего общественного существования мы
ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли
не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины
не возникло из-среди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего,
что выдумано другими, заимствовали только обманчивую
наружность и бесполезную роскошь.
Странное дело! Даже в мире наук, который обнимает все, наша
история разобщена от всего, ничего не объясняет, ничего не
доказывает. Если б орды варваров, возмутивших мир, не прошли, прежде
нежели наводнили Запад, страны нами обитаемой, мы не
доставили бы и одной главы для всемирной истории. Чтобы обратить на
себя внимание, мы должны были распространиться от Берингова
пролива до Одера. Некогда великий царь хотел нас образовать и,
чтоб заохотить к просвещению, бросил нам мантию цивилизации:
мы подняли мантию, но не коснулись просвещения. В другой раз
другой великий государь приобщил нас своему великому посланию,
проведши победителями с одного края Европы на другой; мы
прошли просве-[295]щеннейшие страны света, и что же принесли
домой? Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые
отодвинули нас назад еще на полстолетия. Не знаю, в крови у нас есть
что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию. Повторю
еще: мы жили, мы живем как великий урок для отдаленных потомств,
которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени,
что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумения.
Для меня нет ничего удивительнее этой пустоты и разобщенности
нашего существования. Конечно, в этом виновата отчасти какая-то
непостижимая судьба; но не правы и люди, которых содействие во
всем, что свершается в нравственном мире, неизбежно. Заглянем
еще раз в историю: она объясняет бытие народов лучше всего.
Что делали мы в то время, как из жестокой борьбы варварства
северных народов с высокою мыслию религии возникало
величественное здание нового образования? Ведомые злою судьбою, мы
заимствовали первые семена нравственного и умственного
просвещения у растленной, презираемой всеми народами Византии.
Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства; и мы
приняли от нее идею, искажен-[29б]ную человеческою страстию.
Философические письма
47
В это время животворящее начало единства одушевляло всю
Европу. Все истекало там из этого начала; все сосредоточивалось; всякое
умственное движение силилось объединить человеческую мысль;
всякое побуждение проявлялось могучею потребностью отыскать
одну всемирную идею: это самое и составляет дух новейших времен.
Чуждые этому дивному началу, мы сделались добычею завоевателей.
Свергнув иго чужеземное, мы могли бы воспользоваться идеями,
которые развились между тем у наших западных братии; но мы были
оторваны от общего семейства.
Сколько светлых лучей прорезало в это время мрак, покрывавший
всю Европу! Большая часть познаний, которыми ум человеческий
теперь гордится, были уже предчувствуемы тогдашними умами;
характер новейшего общества был уже определен; миру христианскому
не доставало только форм прекрасного, и он отыскал их, обратив
взоры на древности язычества. Уединившись в своих пустынях, мы
не видали ничего происходившего в Европе. Мы не вмешивались в
великое дело мира. Мы остались чужды высоким доблестям,
которыми религия озарила новейшие поколения и [297] которые в глазах
здравого смысла возвышают их над древними народами так же, как
эти последние возвышаются над Готтентотами и Лапландцами. В нас
не развились эти новые силы, которыми она обогатила
человеческое разумение; эта кротость нравов, потерявших свое первобытное
зверство от покорности власти безоружной. Несмотря на название
христиан, мы не тронулись с места, тогда как западное
христианство величественно шло по пути, начертанному его божественным
основателем. Мир пересоздавался, а мы прозябали в наших лачугах
из бревен и глины. Коротко, не для нас совершались новые судьбы
человечества; не для нас, христиан, зрели плоды христианства.
После этого, скажите, справедливо ли у нас почти общее
предположение, что мы можем усвоить европейское просвещение,
развивавшееся так медленно и притом под прямым и очевидным влиянием
одной нравственной силы, сразу, далее не затрудняясь разысканием,
как это делалось?
Тот решительно не понимает христианства, кто не замечает в
нем стороны чисто исторической; стороны, которая, показывая, что
сделало оно для людей и что [298] должно еще сделать, заключает в
себе всю его философию и составляет необходимую часть его дог-
48
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
матики. Таким образом христианская религия является не только
нравственною системой, выразившеюся в преходящих формах
человеческого ума; но силою божественною, вечною, действующею
во всем пространстве мира умственного; силою, которой видимые
действия должны нам служить вечными уроками.
В мире христианском все необходимо должно содействовать, и
в самом деле содействует учреждению на земле совершенного
порядка. В противном случае действительность противоречила бы
слову Господа: он не был бы посреди своей церкви до скончания
веков. Новый порядок, царствие Божие, которое должно было
осуществиться искуплением, не отличалось бы от прежнего порядка,
от царства зла, которое искупление должно было уничтожить: тогда
существовала бы одна вообразительная усовершимость, о которой
мечтает философия и которую обличает во лжи каждая страница
истории; суетное волнение ума, удовлетворяющее только нуждам
существа материального, которое если когда и возносило человека на
некоторую высоту, то [299] для того только, чтоб низвергнуть потом
в глубочайшие пропасти.
Но вы возразите: разве мы не христиане, разве образование
возможно только по образцу европейскому? Без сомнения, мы
христиане: но разве Абиссинцы не христиане же? Разумеется, можно
образоваться отлично от Европы: разве Японцы не образованны и,
если верить одному из наших соотечественников, даже более нас?
Но неужели вы думаете, что христианство Абиссинцев и
образованность Японцев могут воссоздать тот порядок, о котором я говорил
сию минуту, порядок, который составляет конечное предназначение
человечества? Неужели вы думаете, что эти жалкие отклонения от
божественных и человеческих истин низведут небо на землю?
В христианстве есть два направления, резко отличающиеся одно
от другого: это его действие на человека и действие на всемирное
разумение. Они сливаются оба в Верховном Разуме и ведут к одной
и той же цели. Но наше ограниченное зрение не может обнять
время, в продолжение которого должны осуществиться вечные
предначертания божественной мудрости. Поэтому мы должны различать
божественное действие, про-[300]являющееся в данное время в
жизни человека, от проявляющегося только в бесконечности. Конечно,
в день окончательного исполнения великой тайны искупления все
Философические письма
49
сердца и все умы соединятся в одно чувство и в одну мысль и все
преграды, разделяющие народы и вероисповедания, исчезнут; но в
настоящее время каждый должен знать свое место в порядке общего
призвания христиан, то есть должен знать, чем и как может
содействовать он и все его окружающее конечной цели, предположенной
всему человечеству.
Поэтому необходимо должен быть особенный круг идей, где
должны двигаться умы общества, в котором должна достигаться эта
конечная цель, то есть где возбужденная мысль должна созреть и
достигнуть всей полноты своей. Этот круг идей, эта нравственная
сфера дают обществу особенный род существования, особенный
взгляд, которые, не будучи совершенно тождественны для каждого
неделимого этого общества, как в отношении нас, так и в
отношении других неевропейских народов, составляют одинаковый способ
их бытия: следствие огромной умственной работы осьмнадцати
веков, работы, в которой участвовали все [301] страсти, все выгоды, все
страдания, все мечты, все усилия разума.
Все европейские народы проходили эти столетия рука в руку, и в
настоящее время, несмотря на все случайные отклонения, они всегда
будут сходиться на одной и той же дороге. Чтобы понять семейное
развитие этих народов, не нужно даже изучать историю: прочтите
только Тассо, и вы увидите, как все они склоняются в прах перед
Иерусалимом; вспомните, что в продолжение пятнадцати веков они
молились Богу на одном языке, покорялись одной нравственной
власти, имели одно убеждение; вспомните, что в продолжение
пятнадцати веков каждый год, в один и тот же день, в один и тот же
час, одними и теми же словами все вдруг они возносили хвалебные
гимны Всевышнему, торжествуя величайшее из его благодеяний:
дивный концерт, в тысячу раз изящнейший, возвышеннейший всех
гармоний мира физического! Итак, если эта сфера, в которой живут
европейцы, сфера единственная, где человеческий род может
достигнуть своего конечного предназначения, есть плод религии; если,
напротив, враждебные обстоятельства отстранили нас от общего
дви-[302]жения, в котором общественная идея христианства
развилась и приняла известные формы; если эти причины отбросили
нас в категорию народов, которые не могли воспользоваться всем
влиянием христианства; то не очевидно ли, что должно стараться
50
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
оживить в нас веру всеми возможными способами? Вот что я хотел
сказать, говоря, что у нас должно переначать все воспитание
человеческого рода.
Вся история нового общества совершается в области мнения.
Следовательно, здесь настоящее воспитание. Новое общество,
основанное на этом начале, двигалось вперед только мыслию. Выгоды
всегда следовали за идеями, но никогда им не предшествовали.
Мнения рождали выгоды, но выгоды никогда не рождали мнений. Все
успехи'Запада в сущности были успехи нравственные. Искали
истину, и нашли благосостояние. Вот как объясняется явление нового
общества и его образование; иначе оно совершенно непонятно.
Первые столетия новой истории наполняются: гонениями за
веру, мученичеством, распространением христианской веры,
ересями и соборами. Движение всей этой эпохи, не исключая и нашествия
варваров, связано тес-[303]но с усилиями новейшего разума еще в
детстве. Вторую эпоху наполняют: образование иерархии,
сосредоточение духовной власти и беспрерывное распространение
религии на Севере. Затем следуют: усиление религиозного чувства до
высочайшей степени и упрочение духовной власти. Философическое
и литературное развитие ума и образование нравов под влиянием
религии оканчивают эту историю, которая имеет точно такое же
право на название священной, как и история древнего избранного
народа. Наконец, и настоящее положение общества заимствует свой
характер от религиозного противодействия, от нового направления,
которое религия дала человеческому духу. Таким образом, можно
сказать, что у новейших народов мнение было единственным
могучим деятелем; оно поглощало все материальные, положительные и
личные выгоды.
Знаю: вместо того чтобы дивиться этому дивному порыву
человечества к возможному совершенству, его называли фанатизмом,
суеверием. Но что бы ни говорили, подумайте, как сильно должно
отпечатлеться на характере этих народов, как в добром, так и в
дурном отношении, это развитие общественности, вполне
совершенное [304] одним чувством! Пусть поверхностная философия вопиет,
что хочет, против войн за веру, против костров, зажженных нетер-
пимостию, мы можем только завидовать народам, которые в этой
сшибке мнений, в этой кровопролитной борьбе за истину создали
Философические письма
51
себе целый мир идей, мир, который мы не можем представить себе
воображением, не только перенестись в него телом и душой, как у
нас предполагают.
Повторяю еще: в Европе не все было умно, добродетельно,
религиозно; но в ней все проникнуто таинственной силой, которая
царила самодержавно целый ряд столетий; в ней все следствие того
бесконечного сцепления идей и явлений, которые образовали
настоящее общество. Из многих доказательств, вот одно. У народа,
физиономия которого оттенена резче прочих, постановления
которого проникнуты наиболее новейшим духом, словом, у Англичан,
почти одна религиозная история. Что такое бурная эпоха Карла I
и Кромвеля, предшествовавшая их настоящему благосостоянию, и
весь этот длинный ряд происшествий, ее породивших, до самого
Генриха VIII, как не развитие чисто религиозное? Во всем этом
периоде, выгоды чисто [305] политические появляются
второстепенными побудителями и часто исчезают совершенно или приносятся
в жертву мнению. Даже в эту самую минуту, как я пишу*, что
волнует эту привилегированную землю? Выгоды религиозные. Коротко,
есть ли в Европе народ, который не нашел бы в своем национальном
сознании, если б только захотел поискать, этого особенного начала,
которое, под видом священной мысли, постоянно было
животворящим деятелем, душою общественного бытия, во все продолжение
его существования?
Действие христианства отнюдь не ограничивается его прямым
и непосредственным влиянием на умы людей. Исполинское
предназначение его должно быть следствием множества нравственных,
умственных и общественных сопряжений, в которых человечество
должно найти возможный простор для всех направлений своей
деятельности. Отсюда понятно, что все свершившееся с первого дня
нашей эры, или лучше с той минуты, как Спаситель сказал своим
ученикам: «идите, проповедуйте Евангелие всей твари!», не
исключая и самые гонения на христианство, совершенно согла-[30б]суется
с этим общим понятием об его влиянии. Чтоб убедиться в
действительном осуществлении пророческих изречений Христа, довольно
одного взгляда на повсеместное проявление его царствия в сердцах
* 1829.
52
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
людей, проявление сознательное или бессознательное, вольное или
невольное. Таким образом, несмотря на все несовершенства, на все,
что есть дурного и порочного в настоящем европейском обществе,
частное осуществление царствия Божия в нем неоспоримо, потому
что оно заключает в себе начало бесконечного совершенствования
и содержит в зародыше и в начальных проявлениях все нужное для
конечного осуществления его на земле.
Теперь позвольте мне заключить это рассуждение о влиянии
религии на общество выпискою из одной вам неизвестной статьи,
написанной мною гораздо прежде.
«Нет никакого сомнения, говорил я, что тот, кто не замечает
действий христианства, везде, где человеческая мысль приходит с ним
в соприкосновение каким бы то ни было образом, даже
противодействуя ему, тот не имеет об нем настоящего понятия. Везде, где
произносится имя Христа, одно это имя увлекает людей против их
воли. Ничто не обнаружи-[307]вает так Божественного начала этой
религии, как этот отблеск безусловной всемирности, которым она
проникает в душу всеми возможными способами; овладевает умами,
даже в то время, когда они, кажется, противятся ей наиболее;
покоряет, сообщая разумению истины, дотоле ему неизвестные, возбуждая
в сердце ощущения, до сих пор им не испытанные, вдыхая в нас
чувства, которые без нашего ведения вводят нас в порядок общий.
Таким образом она определяет круг действий каждого в особенности,
устремляя в то же время действия всех к одной цели. При
рассматривании христианства с этой точки, каждое из пророческих
изречений Христа делается осязаемою истиною. Отсюда можно видеть
ясно игру всех рычагов, которые приводит в движение его
всемогущая рука, ведя человека к его предназначению, никак не ограничивая
его деятельности, никак не подавляя ни одной из сил ему
врожденных, но, напротив, удвояя их, возвышая до бесконечности. Ни одно
из нравственных начал не остается бездейственным; оно
пользуется всеми способностями мысли, всею пламенною расширимостию
чувства, героизмом души сильной и преданностию ума покорного.
Доступное всякому со-[308]зданию, одаренному разумением,
сливаясь с каждым биением нашего сердца, оно поглощает все, растет и
даже укрепляется препятствиями, которые встречает. С гениальным
человеком оно возносится на высоту, недосягаемую для других; с
Философические письма
53
умом робким идет по земле мерным шагом; в уме мыслящем,
безусловно, глубоко; в душе, преобладаемой воображением, эфирно,
творит мириады образов; в сердце нежном, любящем,
проявляется милосердием и любовью. Оно идет всегда вместе с разумением,
ему предавшимся, сообщая ему силу, теплоту, ясность. Посмотрите,
как разнообразны природы, как многочисленны силы, которые оно
приводит в движение; сколько различных деятелей сливается
воедино, сколько сердец, совершенно несходных одно с другим, бьется
для одной-единственной идеи»!
«Еще удивительнее общественное действие христианства.
Взгляните на картину полного развития нового общества, и вы увидите,
что христианство преобразует все человеческие выгоды в свои
собственные; потребность вещественную везде заменяет потребностью
нравственною; возбуждает в мире мыслительном эти великие пре-
[309]ния, которых вы не встретите в истории других эпох, других
обществ; воспламеняет это ужасное борение мнений, в котором
целая жизнь народов становится одною великою идеею, одним
бесконечным чувствованием. Вы увидите, что все создано им, и только
им: и жизнь частная и жизнь общественная, и семейство и отечество,
и наука и поэзия, и ум и воображение, и воспоминания и надежды, и
восторги и горести. Счастливы те, которые во глубине души сознают
свои действия в этом великом движении мира, движении,
возбужденном самим Богом!»
Но время обратиться к вам, сударыня. Признаюсь, мне тяжело
оторваться от этих общих взглядов. Картина, которая с этой высоты
представляется мне, есть для меня источник всего утешительного.
Сладостное верование в будущее благоденствие человечества живит
мою душу, когда, сдавленный жалкою окружающею меня
существенностью, я жажду подышать воздухом чистейшим, взглянуть на небо
яснейшее. Впрочем, мне кажется, что я не употребил вашего
терпения во зло. Прежде всего надобно было показать вам точку зрения, с
которой должно смотреть на христианский мир и на наши действия
в [310] нашем мире. Может быть, вам покажется, что я слишком
нападаю на нас; нет, я говорил истину и еще не высказал ее вполне.
Впрочем, дух христианства не терпит никакого ослепления, а тем
более народных предрассудков, потому что они разъединяют людей
более всего.
54
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Это письмо довольно длинно. Вначале я полагал, что выскажу все
в немногих словах, но впоследствии увидел, что рассмотрение
этого предмета может составить целый том. Вы мне напишете,
согласны ли вы с моими мнениями. Но во всяком случае, вы не избавитесь
второго письма, потому что мы только приступили к предмету
нашего рассуждения...
Некрополис.
1829, декабря 1
[418] В перевод первого из «Философических Писем к Гже~» вкрались
следующие ошибки, которые просим поправить самих читателей:
стр.
278
287
303
308
строк.
12
24
7
22
напечатано
вас обязывали
принесет свою пользу
религиозной
общее
читай
вы были обязаны
сбудется
духовной
общественное
LES LETTRES PHILOSOPHIQUES
LETTRE PREMIÈRE
Adveniat regnum tuum
Madame,
C'est votre candeur, c'est votre franchise que j'aime, que j'estime le
plus en vous. Jugez si votre lettre a dû me surprendre. Ce sont ces qualités
aimables qui me charmèrent en vous lorsque je fis votre connaissance,
et qui m'induisirent à vous parler de religion. Tout, autour de vous, était
fait pour m'imposer silence. Jugez donc, encore une fois, quel a dû être
mon étonnement en recevant votre lettre. Voila tout ce que j'ai à vous
dire, madame, au sujet de l'opinion que vous présumez que j'ai de votre
caractère. N'en parlons plus, et arrivons de suite à la partie sérieuse de
votre lettre.
Et d'abord, d'où vient ce trouble dans vos idées, qui vous agite tant, qui
vous fatigue, dites-vous, au point d'altérer votre santé? Ce serait donc là le
triste résultat de nos entretiens. Au lieu du calme et de la paix que le
sentiment nouveau réveillé en votre cœur avait dû vous procurer, ce sont des
angoisses, des scrupules, presque des remords qu'il a causés. Cependant,
dois-je m'en étonner? C'est l'effet naturel de ce funeste état de choses qui
envahit chez nous tous les cœurs et tous les esprits. Vous n'avez fait que
céder à l'action des forces qui remuent tout ici, depuis les sommités les
plus élevées de la société jusqu'à l'esclave qui n'existe que pour le plaisir
de son maître. Comment, d'ailleurs, y auriez-vous résisté? Les qualités qui
vous distinguent de la foule doivent vous rendre encore plus accessible
aux mauvaises influences de l'air que vous respirez. Le peu de choses qu'il
m'a été permis de vous dire, pouvait-il fixer vos idées, au milieu de tout ce
qui vous environne? Pouvais-je purifier l'atmosphère que nous habitons?
J'ai dû prévoir la conséquence, je la prévoyais en effet. De là ces
fréquentes réticences, si peu faites pour porter la conviction dans votre âme, et
qui devaient naturellement vous égarer. Aussi, si je n'étais persuadé que,
quelques peines que le sentiment religieux imparfaitement réveillé dans
56
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
un cœur puisse lui causer, cela vaut encore mieux qu'un complet
assoupissement, je n'aurais eu qu'à me repentir de mon zèle. Mais ces nuages
qui obscurcissent aujourd'hui votre ciel se dissiperont un jour, je l'espère,
en rosée salutaire qui fécondera le germe jeté dans votre cœur, et l'effet
que quelques paroles sans valeur ont produit sur vous m'est un sûr garant
de plus grands effets que le travail de votre propre intelligence produira
certainement par la suite. Abandonnez-vous sans crainte, Madame, aux
émotions que les idées religieuses vous susciteront; de cette source pure,
il ne saurait provenir que des sentiments purs.
Pour ce qui regarde les choses extérieures, qu'il vous suffise de
savoir aujourd'hui que la doctrine qui se fonde sur le principe suprême de
l'unité, et de la transmission directe de la vérité dans une succession non
interrompue de ses ministres, ne peut être que la plus conforme au
véritable esprit de la religion, car il est tout entier dans l'idée de la fusion de
tout ce qu'il y a au monde de forces morales en une seule pensée, en un
seul sentiment, et dans l'établissement progressif d'un système social, ou
Église, qui doit faire régner la vérité parmi les hommes. Toute autre
doctrine, par le seul fait de sa séparation de la doctrine primitive, repousse
au loin d'elle l'effet de cette sublime invocation du Sauveur: Mon Père, je
te prie qu'ils soient un comme nous sommes un, et ne veut pas du règne
de Dieu sur la terre. Mais il ne suit pas de là que vous soyez tenue à
manifester cette vérité à la face de la terre: n'est point certainement là votre
vocation. Le principe même d'où dérive cette vérité vous fait au contraire
un devoir, vu votre position dans le monde, à n'y voir qu'un flambeau
intérieur de votre croyance, et rien de plus. Je me crois heureux d'avoir
contribué à tourner vos idées vers la religion; mais je me croirais bien
malheureux, Madame, si, en même temps, j'avais causé à votre conscience
des embarras qui ne pourraient à la longue que refroidir votre foi.
Je crois vous avoir dit un jour que le meilleur moyen de conserver le
sentiment religieux, c'est de se conformer à tous les usages prescrits par
l'Église. Cet exercice de soumission qui renferme plus de choses que l'on
ne s'imagine, et que les plus grands esprits se sont imposé avec réflexion
et connaissance, est un véritable culte que l'on rend à Dieu. Rien ne
fortifie autant l'esprit dans ses croyances que la pratique rigoureuse de
toutes les obligations qui s'y rapportent. D'ailleurs, la plupart des rites de la
religion chrétienne, émanés de la plus haute raison, sont d'une efficacité
réelle pour quiconque sait se pénétrer des vérités qu'ils expriment. Il n'y
Les lettres philosophiques
57
a qu'une seule exception à cette règle, parfaitement générale d'ailleurs,
c'est lorsque l'on trouve en soi des croyances d'un ordre supérieur, qui
élèvent l'âme à la source même d'où découlent toutes nos certitudes, et
qui pourtant ne contredisent pas les croyances populaires, qui les
appuient au contraire; alors, et seulement alors, il est permis de négliger les
observances extérieures, afin de pouvoir d'autant mieux se livrer à des
travaux plus importants. Mais malheur à celui qui prendrait les illusions
de sa vanité, les déceptions de sa raison, pour des lumières
extraordinaires qui l'affranchissent de la loi générale! Pour vous, Madame, que pou-
vez-vous faire de mieux que de vous revêtir de cette robe d'humilité qui
sied si bien à votre sexe? C'est, croyez-moi, ce qui peut le mieux calmer
vos esprits agités et verser de la douceur dans votre existence.
Et y a-t-il, je vous prie, même en parlant selon les idées du monde,
une manière d'être plus naturelle, pour une femme dont esprit cultivé
sait trouver du charme dans l'étude et dans les émotions graves de la
méditation, que celle d'une vie un peu sérieuse, livrée en grande partie à
la pensée et à la pratique de la religion? Dans vos lectures, dites-vous, rien
ne parle autant à votre imagination que les peintures de ces existences
tranquilles et sereines dont la vue, comme celle d'une belle campagne
au déclin du jour, repose l'âme et nous tire pour un instant d'une réalité
douloureuse ou insipide. Eh bien, ce ne sont point là des peintures
fantastiques; il ne tient qu'à vous de réaliser une de ces fictions charmantes;
rien ne vous manque pour cela. Vous voyez que ce n'est point une morale
très austère que je prêche; c'est dans vos goûts, dans les rêves les plus
agréables de votre imagination, que je vais chercher ce qui peut donner
la paix à votre âme.
Il y a dans la vie un certain détail qui ne se rapporte pas à l'être
physique, mais qui regarde l'être intelligent: il ne faut pas le négliger; il y a un
régime pour l'âme, comme il y a un régime pour le corps: il faut savoir s'y
soumettre. C'est là un vieil adage,*je le sais; mais je crois que, dans notre
pays, bien souvent encore il a tout le mérite de la nouveauté. C'est une des
choses les plus déplorables de notre singulière civilisation, que les vérités
les plus triviales ailleurs, et même chez les peuples bien moins avancés que
nous sous certains rapports, nous sommes encore à les découvrir. C'est
que nous n'avons jamais marché avec les autres peuples; nous
n'appartenons à aucune des grandes familles du genre humain; nous ne sommes
ni de l'Occident ni de l'Orient, et nous n'avons les traditions ni de l'un ni
58
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
de l'autre. Placés comme en dehors des temps, l'éducation universelle du
genre humain ne nous a pas atteints. Cette admirable liaison des idées
humaines dans la succession des âges, cette histoire de l'esprit humain, qui
l'ont conduit à l'état où il est aujourd'hui dans le reste du monde, n'ont eu
aucun effet sur nous. Ce qui ailleurs constitue depuis longtemps l'élément
même de la société et de la vie n'est encore pour nous que théorie et
spéculation. Et par exemple, il faut bien vous le dire, Madame, vous qui êtes si
heureusement organisée pour recueillir tout ce qu'il y a au monde de bon
et de vrai, vous qui êtes faite pour ne rien ignorer de ce qui procure les plus
douces et les plus pures jouissances de l'âme, où en êtes-vous, je vous prie,
avec tous ces avantages? A chercher encore, non ce qui doit remplir la vie,
mais la journée. Les choses mêmes qui font ailleurs ce cadre nécessaire de
la vie, où tous les événements de la journée se rangent si naturellement
condition aussi indispensable d'une saine existence morale que le bon air
l'est d'une saine existence physique, vous manquent complètement. Vous
comprenez qu'il ne s'agit encore là ni de principes moraux ni de maximes
philosophiques, mais tout simplement d'une vie bien ordonnée, de ces
habitudes, de ces routines de l'intelligence, qui donnent de l'aisance à l'esprit,
qui impriment un mouvement régulier à l'âme.
Regardez autour de vous. Tout le monde n'a-t-il pas un pied en l'air?
On dirait tout le monde en voyage. Point de sphère d'existence
déterminée pour personne, point de bonnes habitudes pour rien, point de règle
pour aucune chose. Point même de foyer domestique; rien qui attache,
rien qui réveille vos sympathies, vos affections; rien qui dure, rien qui
reste: tout s'en va, tout s'écoule sans laisser de trace ni au-dehors ni en
vous. Dans nos maisons, nous avons l'air de camper; dans nos familles,
nous avons l'air d'étrangers; dans nos villes, nous avons l'air de nomades,
plus nomades que ceux qui paissent dans nos steppes, car ils sont plus
attachés à leurs déserts que nous à nos cités. Et n'allez pas vous imaginer
qu'il ne s'agit là que d'une chose sans importance. Pauvres âmes que nous
sommes! N'ajoutons pas à nos autres misères celle de nous méconnaître;
n'aspirons pas à la vie des pures intelligences; apprenons à vivre
raisonnablement dans notre réalité donnée. Mais d'abord, parlons encore un peu
de notre pays; nous ne sortirons pas de notre sujet. Sans ce préambule,
vous ne pourriez pas entendre ce que j'ai à vous dire.
Il est un temps, pour tous les peuples, d'agitation violente,
d'inquiétude passionnée, d'activité sans motif réfléchi. Les hommes pour lors
Les lettres philosophiques
59
sont errants dans le monde, de corps et d'esprit. C'est l'âge des grandes
passions, des grandes émotions, des grandes entreprises des peuples. Les
peuples alors se remuent avec véhémence, sans sujet apparent, mais non
sans fruit pour les postérités à venir. Toutes les sociétés ont passé par
ces périodes. Elles leur fournissent leurs réminiscences les plus vives,
leur merveilleux, leur poésie, toutes leurs idées les plus fortes et les plus
fécondes. Ce sont les bases nécessaires des sociétés. Autrement, elles
n'auraient rien dans leur mémoire à quoi s'attacher, à quoi s'affectionner;
elles ne tiendraient qu'à la poussière de leur sol. Cette époque
intéressante dans l'histoire des peuples, c'est l'adolescence des peuples; c'est le
moment où leurs facultés se développent le plus puissamment, dont la
mémoire fait la jouissance et la leçon de leur âge mûr. Nous autres, nous
n'avons rien de tel. Une brutale barbarie d'abord, ensuite une
superstition grossière, puis une domination étrangère, féroce, avilissante, dont le
pouvoir national a plus tard hérité l'esprit, voila la triste histoire de notre
jeunesse. Cet âge d'activité exubérante, du jeu exalté des forces morales
des peuples, rien de semblable chez nous. L'époque de notre vie sociale
qui répond à ce moment a été remplie par une existence terne et
sombre, sans vigueur, sans énergie, que rien n'animait que le forfait, que rien
n'adoucissait que la servitude. Point de souvenirs charmants, point
d'images gracieuses dans la mémoire, point de puissantes instructions dans la
tradition nationale. Parcourez de l'œil tous les siècles que nous avons
traversés, tout le sol que nous couvrons, vous ne trouverez pas un souvenir
attachant, pas un monument vénérable, qui vous parle des temps passés
avec puissance, qui vous les retrace d'une manière vivante et pittoresque.
Nous ne vivons que dans le présent le plus étroit, sans passé et sans
avenir, au milieu d'un calme plat. Et si nous nous agitons parfois, ce n'est ni
dans l'espérance ni dans le désir de quelque bien commun, mais dans la
frivolité puérile de l'enfant qui se dresse et tend les mains au hochet que
lui montre sa nourrice.
Le véritable développement de l'être humain dans la société n'a pas
commencé pour un peuple tant que la vie n'est pas devenue plus
réglée, plus facile, plus douce qu'au milieu des incertitudes du premier âge.
Tant que les sociétés se balancent encore sans convictions et sans règles,
même pour les choses journalières, et que la vie n'est point constituée,
comment voulez-vous que les germes du bien y mûrissent? C'est là encore
la fermentation chaotique des choses du monde moral, semblable aux
60
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
révolutions du globe qui ont précédé l'état actuel de la planète. Nous en
sommes encore là.
Nos premières années, passées dans un abrutissement immobile, n'ont
laissé aucune trace dans nos esprits, et nous n'avons rien d'individuel sur
quoi asseoir notre pensée; mais, isolés par une destinée étrange du
mouvement universel de l'humanité, nous n'avons rien recueilli non plus des
idées traditives du genre humain. C'est sur ces idées pourtant que se fonde
la vie des peuples; c'est de ces idées que se déroule leur avenir, et que
provient leur développement moral. Si nous voulons nous donner une
attitude semblable à celle des autres peuples civilisés, il faut, en quelque sorte,
revenir chez nous sur toute l'éducation du genre humain. Nous avons
pour cela l'histoire des peuples, et devant nous le résultat du mouvement
des siècles. Sans doute cette tâche est difficile, et il n'est point peut-être
donné à un homme d'épuiser ce vaste sujet; mais, avant tout, il faut savoir
de quoi il s'agit, quelle est cette éducation du genre humain, quelle est la
place que nous occupons dans l'ordre général. Les peuples ne vivent que
par les fortes impressions que les âges écoulés laissent dans leurs esprits
et par le contact avec les autres peuples. De cette manière chaque
individu se ressent de son rapport avec l'humanité entière. «Qu'est-ce que la
vie de l'homme, dit Cicéron, si la mémoire des faits antérieurs ne vient
renouer le présent au passé?» Nous autres, venus au monde comme des
enfants illégitimes, sans héritage, sans lien avec les hommes qui nous ont
précédés sur la terre, nous n'avons rien dans nos cœurs des
enseignements antérieurs à notre propre existence. Il faut que chacun de nous
cherche à renouer lui-même le fil rompu dans la famille. Ce qui est
habitude, instinct, chez les autres peuples, il faut que nous le fassions entrer
dans nos têtes à coups de marteau. Nos souvenirs ne datent pas au-delà
de la journée d'hier; nous sommes, pour ainsi dire, étrangers à nous-
mêmes. Nous marchons si singulièrement dans le'temps qu'à mesure
que nous avançons la veille nous échappe sans retour. C'est une
conséquence naturelle d'une culture toute d'importation et d'imitation. Il n'y
a point chez nous de développement intime, de progrès naturel; les
nouvelles idées balaient les anciennes, parce qu'elles ne viennent pas de
celles-là et qu'elles nous tombent de je ne sais où. Ne prenant que des
idées toutes faites, là trace ineffable qu'un mouvement d'idées
progressif grave dans les esprits, et qui fait leur force, ne sillonne pas nos
intelligences. Nous grandissons, mais nous ne mûrissons pas; nous avançons,
Les lettres philosophiques
61
mais dans la ligne oblique, c'est-à-dire dans celle qui ne conduit pas au
but. Nous sommes comme des enfants que l'on n'a pas fait réfléchir
eux-mêmes; devenus hommes, ils n'ont rien de propre; tout leur savoir
est sur la surface de leur être, toute leur âme est hors d'eux. Voilà
précisément notre cas.
Les peuples sont tout autant des êtres moraux que les individus. Les
siècles font leur éducation, comme les années font celle des personnes.
En quelque sorte, on peut dire que nous sommes un peuple d'exception.
Nous sommes du nombre de ces nations qui ne semblent pas faire partie
intégrante du genre humain, mais qui n'existent que pour donner
quelque grande leçon au monde. L'enseignement que nous sommes destinés
à donner ne sera pas perdu assurément, mais qui sait le jour où nous nous
retrouverons au milieu de l'humanité, et que de misères nous
éprouverons avant que nos destinées s'accomplissent?
Les peuples de l'Europe ont une physionomie commune, un air de
famille. Malgré la division générale de ces peuples en branches latine et
teutonique, en méridionaux et septentrionaux, il y a un lien commun
qui les unit tous dans un même faisceau, bien visible pour quiconque a
approfondi leur histoire générale. Vous savez qu'il n'y a pas bien
longtemps encore que toute l'Europe s'appelait la Chrétienté, et que ce mot
avait sa place dans le droit public. Outre ce caractère général, chacun
de ces peuples a un caractère particulier; mais tout cela n'est que de
l'histoire et de la tradition. Cela fait le patrimoine héréditaire d'idées
de ces peuples. Chaque individu y jouit de son usufruit, ramasse dans
la vie, sans fatigue, sans travail, ces notions éparses dans la société, et
en fait son profit. Faites vous-même le parallèle et voyez ce que nous
pouvons ainsi, dans le simple commerce, recueillir d'idées élémentaires
pour nous en servir, tant bien que mal, à nous diriger dans la vie? Et
remarquez qu'il ne s'agit ici ni d'étude ni de lecture, de rien de littéraire
ou de scientifique, mais simplement du contact des intelligences; de ces
idées qui s'emparent de l'enfant au berceau, qui l'environnent au milieu
de ses jeux, que la mère lui souffle dans ses caresses; enfin, qui, sous la
forme de sentiments divers, pénètrent dans la moelle de ses os avec l'air
qu'il respire, et qui ont déjà fait son être moral avant qu'il soit livré au
monde et à la société. Voulez-vous savoir quelles sont ces idées? Ce sont
les idées de devoir, de justice, de droit, d'ordre. Elles dérivent des
événements mêmes qui y ont constitué la société, elles sont des éléments
62
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
intégrants du monde social de ces pays. C'est cela, l'atmosphère de
l'Occident; c'est plus que de l'histoire, c'est plus que de la psychologie, c'est
la physiologie de l'homme de l'Europe. Qu'avez-vous à mettre à la place
de cela chez nous?
Je ne sais si l'on peut déduire de ce que nous venons de dire quelque
chose de parfaitement absolu, et en venir de là à quelque principe
rigoureux; mais on voit bien comment cette étrange situation d'un peuple qui
ne peut rallier sa pensée à aucune suite d'idées progressivement
développées dans la société, et se déroulant lentement les unes des autres, qui n'a
pris part au mouvement général de l'esprit humain que par une imitation
aveugle, superficielle, très souvent maladroite, des autres nations, doit
puissamment influer sur l'esprit de chaque individu de ce peuple. Vous
trouverez, en conséquence, qu'un certain aplomb, une certaine méthode
dans l'esprit, une certaine logique nous manquent à tous. Le syllogisme
de l'Occident nous est inconnu. Il y a quelque chose de plus que de la
frivolité, dans nos meilleures têtes. Les meilleures idées, faute de liaison
et de suite, stériles éblouissements, se paralysent dans nos cerveaux. Il est
dans la nature de l'homme de se perdre quand il ne trouve pas moyen de
se lier à ce qui le précède et à ce qui le suit; toute consistance alors, toute
certitude lui échappe; le sentiment de la durée permanente ne le guidant
pas, il se trouve égaré dans le monde. Il y a de ces êtres perdus dans tous
les pays; chez nous, c'est le trait général. Ce n'est point cette légèreté que
l'on reprochait jadis aux Français, et qui du reste n'était qu'une manière
facile de concevoir les choses, qui n'excluait ni la profondeur ni l'étendue
dans l'esprit, et qui mettait infiniment de la grâce et du charme dans le
commerce; c'est l'étourderie d'une vie sans expérience et sans prévision,
qui ne se rapporte à rien de plus qu'à l'existence éphémère de l'individu
détaché de l'espèce; qui ne tient ni à l'honneur ni à l'avancement d'une
communauté quelconque d'idées et à intérêts, ni même à ces hérédités de
famille et à cette foule de prescriptions et de perspectives qui composent,
dans un ordre de choses fondé sur la mémoire du passé et l'appréhension
de l'avenir, et la vie publique et la vie privée. Il n'y a absolument rien dans
têtes de général; tout y est individuel, et tout y est flottant et incomplet.
Il y a même, je trouve, dans notre regard je ne sais quoi d'étrangement
vague, de froid, d'incertain, qui ressemble un peu à la physionomie des
peuples placés au plus bas de l'échelle sociale. En pays étranger, dans le
Midi surtout, où les physionomies sont si animées et si parlantes, maintes
Les lettres philosophiques
63
fois, quand je comparais les visages de mes compatriotes avec ceux des
indigènes, j'ai été frappé de cet air muet de nos figures.
Des étrangers nous ont fait un mérite d'une sorte de témérité
insouciante, que l'on remarque surtout dans les classes inférieures de la nation.
Mais, ne pouvant observer que certains effets isolés du caractère national,
ils n'ont pu juger de l'ensemble. Ils n'ont pas vu que le même principe qui
nous rend quelquefois si audacieux fait aussi que nous sommes toujours
incapables de profondeur et de persévérance; ils n'ont pas vu que ce qui
nous rend si indifférents aux hasards de la vie nous rend aussi tels à tout
bien, à tout mal, à toute vérité, à tout mensonge, et que c'est là justement
ce qui nous prive de tous les puissants mobiles qui poussent les hommes
dans les voies du perfectionnement; ils n'ont pas vu que c'est précisément
cette audace paresseuse qui fait que, chez nous, les classes supérieures
mêmes, chose bien douloureuse à dire, ne sont pas exemptes des vices
qui n'appartiennent ailleurs qu'aux toutes dernières; ils n'ont pas vu enfin
que, si nous avons quelques-unes des vertus des peuples jeunes et peu
avancés dans la civilisation, nous n'en avons aucune de celles des peuples
mûrs et jouissant d'une haute culture. Je ne prétends pas dire
certainement qu'il n'y a que vices parmi nous, et que vertus parmi les peuples de
l'Europe, à Dieu ne plaise! Mais je dis que, pour juger des peuples, c'est
l'esprit général qui fait leur existence qu'il faut étudier; car c'est cet esprit
seulement qui peut les porter vers un état moral plus parfait et vers un
développement indéfini, et non tel ou tel trait de leur caractère.
Les masses sont soumises à certaines forces placées aux sommités de
la société. Elles ne pensent pas elles-mêmes; il y a parmi elles un certain
nombre de penseurs qui pensent pour elles, qui donnent l'impulsion à
l'intelligence collective de la nation et la font marcher. Tandis que le petit
nombre médite, le reste sent, et le mouvement général a lieu. Excepté
pour quelques races abruties, qui n'ont conservé de la nature humaine
que la figure, cela est vrai pour tous les peuples de la terre. Les peuples
primitifs de l'Europe, les Celtes, les Scandinaves, les Germains, avaient
leurs druides, leurs scaldes, leurs bardes, qui étaient de puissants penseurs
à leur façon. Voyez ces peuples du Nord de l'Amérique, que la civilisation
matérielle des États-Unis est si occupée à détruire: il y a parmi eux des
hommes admirables de profondeur. Or, je vous le demande, où sont nos
sages, où sont nos penseurs? Qui est-ce qui a jamais pensé pour nous, qui
est-ce qui pense aujourd'hui pour nous?
64
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Et pourtant, situés entre les deux grandes divisions du monde, entre
l'Orient et l'Occident, nous appuyant d'un coude sur la Chine et de l'autre
sur l'Allemagne, nous devrions réunir en nous les deux grands principes
de la nature intelligente, l'imagination et la raison, et joindre dans notre
civilisation les histoires du globe entier. Ce n'est point là le rôle que la
providence nous a départi. Loin de là, elle semble ne s'être nullement
occupée de notre destinée. Suspendant à notre égard son action
bienfaisante sur l'esprit des hommes, elle nous a livrés tout à fait à nous-mêmes;
elle n'a voulu en rien se mêler de nous, elle n'a voulu rien nous apprendre.
L'expérience des temps est nulle pour nous. On dirait, à nous voir, que
la loi générale de l'humanité a été révoquée pour nous. Solitaires dans le
monde, nous n'avons rien donné au monde, nous n'avons rien pris au
monde; nous n'avons pas versé une seule idée dans la masse des idées
humaines; nous n'avons en rien contribué aux progrès de l'esprit humain,
et tout ce qui nous est revenu de ce progrès, nous l'avons défiguré. Rien,
depuis le premier instant de notre existence sociale, n'a émané de nous
pour le bien commun des hommes; pas une pensée utile n'a germé sur le
sol stérile de notre patrie, pas une vérité grande ne s'est élancée du milieu
de nous; nous ne nous sommes donné la peine de rien imaginer nous-
mêmes, et de tout ce que les autres ont imaginé nous n'avons emprunté
que des apparences trompeuses et le luxe inutile.
Chose singulière! Même dans le monde de la science, qui embrasse
tout, notre histoire ne se rattache à rien, n'explique rien, ne démontre
rien. Si les hordes barbares qui bouleversèrent le monde n'avaient
traversé le pays que nous habitons avant de se précipiter sur l'Occident, à
peine aurions-nous fourni un chapitre à l'histoire universelle. Pour nous
faire remarquer, il nous a fallu nous étendre du étroit de Behring jusqu'à
l'Oder. Une fois, un grand homme voulut nous civiliser et, pour nous
donner l'avant-goût des lumières, il nous jeta le manteau de la
civilisation: nous ramassâmes le manteau, mais nous ne touchâmes point à la
civilisation. Une autre fois, un autre grand Prince, nous associant à sa
mission glorieuse, nous mena victorieux d'un bout de l'Europe à l'autre:
revenus chez nous de cette marche triomphale à travers les pays les plus
civilisés du monde, nous ne rapportâmes que de mauvaises idées et de
funestes erreurs, dont une immense calamité, qui nous recula d'un demi-
siècle, fut le résultat. Nous avons je ne sais quoi dans le sang qui repousse
tout véritable progrès. Enfin, nous n'avons vécu, nous ne vivons que pour
Les lettres philosophiques
65
servir de quelque grande leçon aux lointaines postérités qui en auront
l'intelligence; aujourd'hui, quoi que l'on dise, nous faisons lacune dans
l'ordre intellectuel. Je ne puis me lasser d'admirer ce vide et cette solitude
étonnante de notre existence sociale. Il y a là certainement la part d'une
destinée inconcevable. Mais il y a là aussi, sans doute, la part de l'homme,
comme en tout ce qui arrive dans le monde moral. Interrogeons encore
l'histoire: c'est elle qui explique les peuples.
Tandis que du sein de la lutte entre la barbarie énergique des peuples
du Nord et la haute pensée de la religion s'élevait l'édifice de la
civilisation moderne, que faisions-nous? Poussés par une destinée fatale, nous
allions chercher dans la misérable Byzance, objet du profond mépris de
ces peuples, le code moral qui devait faire notre éducation. Un moment
auparavant, un esprit ambitieux* avait enlevé cette famille à la fraternité
universelle: c'est l'idée ainsi défigurée par la passion humaine que nous
recueillîmes. Le principe vivifiant de l'unité animait tout alors en Europe.
Tout y émanait de là, et tout y convergeait. Tout le mouvement
intellectuel de ces temps ne tendait qu'à constituer l'unité de la pensée humaine,
et toute impulsion provenait de ce besoin puissant d'arriver à une idée
universelle, qui est le génie des temps modernes. Etrangers à ce principe
merveilleux, nous devenions la proie de la conquête. Et quand, affranchis
du joug étranger, nous aurions pu, si nous n'eussions été séparés de la
famille commune, profiter des idées écloses pendant ce temps parmi nos
frères d'Occident, c'est dans une servitude plus dure encore, sanctifiée
qu'elle était par le fait de notre délivrance, que nous tombâmes.
Que de vives lumières avaient déjà jailli alors en Europe des ténèbres
apparentes dont elle avait été couverte! La plupart des connaissances
dont l'esprit humain s'enorgueillit aujourd'hui avaient été déjà
pressenties dans les esprits; le caractère de la société moderne avait été déjà
fixé; et, en se repliant sur l'antiquité païenne, le monde chrétien avait
retrouvé les formes du beau qui lui manquaient encore. Relégués dans
notre schisme, rien de ce qui se passait en Europe n'arrivait jusqu'à nous.
Nous n'avions rien à démêler avec la grande affaire du monde. Les
qualités eminentes dont la religion avait doté les peuples modernes, et qui,
aux yeux d'une saine raison, ks élèvent autant au-dessus des peuples
anciens que ceux-là étaient élevés au-dessus des Hottentots et des Lapons;
* Photius.
66
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ces forces nouvelles dont elle avait enrichi l'intelligence humaine; ces
mœurs que la soumission à une autorité désarmée avait rendues aussi
douces qu'elles avaient été d'abord brutales: rien de tout cela ne s'était
fait chez nous. Malgré le nom de chrétiens que nous portions, quand le
christianisme s'avançait majestueusement dans la voie qui lui était tracée
par son divin fondateur et entraînait les générations après lui, nous ne
bougions pas. Tandis que le monde se reconstruisait tout entier, rien ne
s'édifiait chez nous: nous restions blottis dans nos masures de soliveaux
et de chaume. En un mot, les nouvelles destinées du genre humain ne
s'accomplissaient pas pour nous. Chrétiens, le fruit du christianisme ne
mûrissait pas pour nous.
Je vous le demande, n'est-il pas absurde de supposer, comme on le fait
généralement chez nous, que ce progrès des peuples de l'Europe, si
lentement opéré, et par l'action directe et évidente d'une force morale unique,
nous pouvons nous l'approprier tout d'un trait, et sans nous donner
seulement la peine de nous informer comment il s'est fait?
On ne comprend rien au christianisme, si l'on ne conçoit pas qu'il y
a en lui une face purement historique, qui fait si essentiellement partie
du dogme qu'elle renferme, en quelque sorte, toute la philosophie du
christianisme, puisqu'elle fait voir ce qu'il a fait pour les hommes et ce
qu'il doit faire pour eux à l'avenir. C'est ainsi que la religion chrétienne
apparaît non seulement comme un système moral, conçu dans les
formes périssables de l'esprit humain, mais comme une puissance divine,
éternelle, agissant universellement dans le monde intellectuel, et dont
l'action visible doit nous être un enseignement perpétuel. C'est là le
propre sens du dogme exprimé dans le symbole par la foi en une Église
universelle.
Dans le monde chrétien, tout doit nécessairement concourir à
l'établissement d'un ordre parfait sur la terre, et y concourt en effet.
Autrement la parole du Seigneur serait démentie par le fait. Il ne serait pas au
milieu de son Église jusqu'à la fin des siècles. L'ordre nouveau, le règne
de Dieu, que la rédemption devait effectuer, ne différerait pas de l'ordre
ancien, du règne du mal, qu'elle devait anéantir; et il n'y aurait encore
que cette perfectibilité imaginaire que rêve la philosophie et que dément
chaque page de l'histoire: vaine agitation de l'esprit, qui ne satisfait qu'aux
besoins de l'être matériel et qui n'a jamais élevé l'homme à quelques
hauteurs que pour le précipiter dans des abîmes plus profonds.
Les lettres philosophiques
61
Mais enfin, me direz-vous, ne sommes-nous donc pas chrétiens, et
ne saurait-on être civilisé qu'à la manière de l'Europe? Sans doute, nous
sommes chrétiens: mais les Abyssins ne le sont-ils pas aussi? Certainement
on peut être civilisé autrement qu'en Europe: ne l'est-on pas au Japon,
et plus même qu'en Russie, s'il faut en croire un de nos compatriotes?
Croyez-vous que ce soit le christianisme des Abyssins et la civilisation des
Japonais qui amèneront cet ordre de choses dont je viens de parler tout à
l'heure, et qui est la destinée dernière de l'espèce humaine? Croyez-vous
que ce sont ces aberrations absurdes des vérités divines et humaines qui
feront descendre le ciel sur la terre?
Il y a deux choses très distinctes dans le christianisme: l'une, c'est
son action sur l'individu; l'autre, c'est son action sur l'intelligence
universelle. Elles se confondent naturellement dans la raison suprême et
aboutissent nécessairement à la même fin. Mais la durée dans laquelle
les éternels desseins de la sagesse divine se réalisent ne saurait être
embrassée par notre vue bornée. Il faut que nous distinguions l'action
divine se manifestant dans un temps donné, dans la vie de l'homme, de
celle qui n'a lieu que dans l'infini. Au jour de l'accomplissement final de
l'œuvre de la rédemption, tous les cœurs et tous les esprits ne feront
qu'un seul sentiment et une seule pensée, et tous les murs qui séparent
les peuples et les communions s'abattront. Mais aujourd'hui il importe
à chacun de savoir comment il est placé dans l'ordre de la vocation
générale des chrétiens, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'il trouve en
lui et autour de lui pour coopérer à la fin proposée à la société humaine
entière.
Il y a donc nécessairement un certain cercle d'idées dans lequel se
meuvent les esprits dans la société où cette fin doit s'accomplir, c'est-à-
dire là où la pensée révélée doit mûrir et arriver à route sa plénitude. Ce
cercle d'idées, cette sphère morale y produisent naturellement un
certain mode d'existence et un point de vue qui, sans y être précisément ks
mêmes pour chacun, par rapport à nous comme par rapport à tous les
peuples non européens, font une même manière d'être, résultat de cet
immense travail intellectuel de dix-huit siècles, où toutes les passions,
tous les intérêts, toutes les souffrances, toutes les imaginations, tous les
efforts de la raison ont participé.
Toutes les nations de l'Europe se tenaient par la main en avançant dans
les siècles. Quelque chose qu'elles fassent aujourd'hui pour diverger cha-
68
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
cune dans leur sens, elles se retrouvent toujours sur la même route. Pour
concevoir le développement de famille de ces peuples, il n'est pas besoin
d'étudier l'histoire: lisez seulement le Tasse, et voyez-les tous prosternés
au pied de Jérusalem; rappelez-vous que, pendant quinze siècles, ils n'ont
eu qu'un seul idiome pour parler à Dieu, qu'une seule autorité morale,
qu'une seule conviction; songez que, pendant quinze siècles, chaque
année, le même jour, à la même heure, dans les mêmes paroles, tous à la fois,
ils élevaient leurs voix vers l'Être suprême, pour célébrer sa gloire dans
le plus grand de ses bienfaits: admirable concert, plus sublime mille fois
que toutes les harmonies du monde physique! Or, puisque cette sphère
où vivent les hommes de l'Europe, et qui est la seule où l'espèce humaine
puisse arriver à sa destinée finale, est le résultat de l'influence que la
religion a exercée parmi eux, il est clair que, si jusqu'ici la faiblesse de nos
croyances ou l'insuffisance de notre dogme nous a tenus en dehors de ce
mouvement universel dans lequel l'idée sociale du christianisme s'est
développée et s'est formulée, et nous a rejetés dans la catégorie des peuples
qui ne doivent profiter qu'indirectement et fort tard de l'effet complet
du christianisme, il faut chercher à ranimer nos croyances par tous les
moyens possibles, et à nous donner une impulsion vraiment chrétienne,
car c'est le christianisme qui a fait tout là-bas. Voilà ce que j'ai voulu dire
lorsque je vous disais qu'il fallait recommencer chez nous l'éducation du
genre humain.
Toute l'histoire de la société moderne se passe sur le terrain de
l'opinion. C'est donc là une véritable éducation. Instituée primitivement sur
cette base, elle n'a marché que par la pensée. Les intérêts y ont toujours
suivi les idées et ne les ont jamais précédées. Toujours les opinions y ont
produit les intérêts et jamais les intérêts n'y ont provoqué les opinions.
Toutes les révolutions politiques n'y furent, dans le principe, que des
révolutions morales. On a cherché la vérité, et l'on a trouvé la liberté et
le bien-être. De cette manière s'expliquent le phénomène de la société
moderne et sa civilisation: autrement, on n'y comprendrait rien.
Persécutions religieuses, martyres, propagation du christianisme,
hérésies, conciles: voilà les événements qui remplissent les premiers siècles. Le
mouvement de cette époque tout entier, sans en excepter l'invasion des
barbares, se rattache à ces efforts de l'enfance de l'esprit moderne.
Formation de la hiérarchie, centralisation du pouvoir spirituel, propagation
continuée de la religion dans les pays du Nord, c'est ce qui remplit la seconde
Les lettres philosophiques
69
époque. Vient après l'exaltation du sentiment religieux au suprême degré,
et l'affermissement de l'autorité religieuse. Le développement
philosophique et littéraire de l'intelligence et la culture des moeurs sous l'empire de
la religion achèvent cette histoire, que l'on peut appeler sacrée tout autant
que celle de l'ancien peuple élu. Enfin, c'est encore une réaction religieuse,
un nouvel essor donné à l'esprit humain par la religion, qui détermina la
face actuelle de la société. Ainsi le grand intérêt, on peut dire le seul, ne fut
jamais chez les peuples modernes que celui de l'opinion. Tous les intérêts
matériels, positifs, personnels, s'absorbaient dans celui-là.
Je sais qu'au lieu d'admirer ce prodigieux élan de la nature humaine
vers sa perfection possible, on a appelé cela fanatisme et superstition.
Mais, quelque chose que l'on dise, jugez quelle empreinte profonde un
développement social tout entier produit par un seul sentiment, dans
le bien comme dans le mal, a dû laisser dans le caractère de ces peuples!
Qu'une philosophie superficielle fasse tout le bruit qu'elle voudra à
propos des guerres de religion, des bûchers allumés par l'intolérance; pour
nous, nous ne pouvons qu'envier le sort des peuples qui, dans ce choc des
opinions, dans ces conflits sanglants pour la cause de la vérité, se sont
fait un monde d'idées dont il nous est impossible de nous faire seulement
une image, encore moins de nous y transporter de corps et d'âme, comme
nous en avons la prétention.
Encore une fois, tout n'est pas assurément raison, vertu, religion, dans
les pays de l'Europe, il s'en faut. Mais tout y est mystérieusement dominé
par la puissance qui y a régné souverainement pendant une suite de
siècles; tout y est le résultat de ce long enchaînement de faits et d'idées qui
a produit l'état présent de la société. En voici, entre autres, une preuve.
La nation dont la physionomie est le plus fortement caractérisée, dont
les institutions sont les plus empreintes de l'esprit moderne, les Anglais,
n'ont à proprement parler qu'une histoire religieuse. Leur dernière
révolution, à laquelle ils doivent leur liberté et leur prospérité, ainsi que toute
la suite des événements qui ont amené cette révolution, en remontant
jusqu'à Henri VIII, ne sont qu'un développement religieux. Dans toute
cette période, l'intérêt proprement politique n'apparaît que comme un
mobile secondaire; quelquefois il disparaît tout entier, ou il est sacrifié à
celui de l'opinion. Et au moment où j'écris ces lignes*, c'est encore l'in-
* 1829.
70
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
térêt de la religion qui agite cette terre privilégiée. Mais, en général, quel
est le peuple de l'Europe qui ne trouverait dans sa conscience nationale,
s'il se donnait la peine de l'y chercher, cet élément particulier qui, sous la
forme d'une sainte pensée, fut constamment le principe vivifiant, l'âme
de son être social, dans toute la durée de son existence?
L'action du christianisme n'est nullement bornée à son influence
immédiate et directe sur l'esprit des hommes. L'immense résultat qu'il est
destiné à produire ne doit être que l'effet d'une multitude de
combinaisons morales, intellectuelles et sociales, où la liberté parfaite de l'esprit
humain doit trouver nécessairement toute latitude possible. On conçoit
donc que tout ce qui s'est fait dès le premier jour de notre ère, ou plutôt
dès le moment où le Sauveur du monde a dit à ses disciples: «Allez, prêchez
rÉvangile à toute créature», toutes les attaques dirigées contre le
christianisme y comprises, rentre parfaitement dans cette idée générale de son
influence. Il suffit de voir l'empire du Christ s'exerçant universellement dans
les coeurs, que ce soit avec connaissance ou dans l'ignorance, de gré ou
de force, pour reconnaître l'accomplissement de ses oracles. Ainsi, malgré
tout ce qu'il y a d'incomplet, de vicieux, de coupable dans la société
européenne telle qu'elle est faite aujourd'hui, il n'en est pas moins vrai que le
règne de Dieu s'y trouve en quelque sorte réalisé, parce qu'elle contient le
principe d'un progrès indéfini, et qu'elle possède en germe et en éléments
tout ce qu'il faut pour qu'il s'établisse un jour définitivement sur la terre.
Avant de terminer, Madame, ces réflexions sur l'influence que la
religion a exercée sur la société, je vais transcrire ici ce que j'en ai dit
autrefois dans un écrit que vous ne connaissez pas.
«Il est certain, disais-je, que, tant que l'on ne voit pas l'action du
christianisme partout où la pensée humaine y touche de quelque manière que
ce soit, lors même que ce n'est que pour le combattre, on n'en a point une
idée nette. Partout où le nom du Christ est prononcé, ce nom seul entraîne
les hommes, quoi qu'ils fassent. Rien ne fait mieux voir l'origine divine de
cette religion que ce caractère d'universalité absolue qui fait qu'elle
s'insinue dans les âmes de toutes les manières possibles; qu'elle s'empare des
esprits à leur insu, les domine, les subjugue, lors même qu'ils semblent lui
résister le plus, en introduisant dans l'intelligence des vérités qui n'y étaient
pas auparavant, en faisant éprouver au cœur des émotions qu'il n'avait
jamais ressenties, en nous inspirant des sentiments qui nous placent, sans
que nous le sachions, dans l'ordre général. C'est ainsi que l'emploi de cha-
Les lettres philosophiques
71
que individualité se trouve par elle déterminé, et qu'elle fait tout concourir
à une seule fin. En envisageant le christianisme de ce point de vue, chacun
des oracles du Christ devient d'une vérité palpable. On voit pour lors
distinctement le jeu de tous les leviers que sa main toute-puissante met en
mouvement pour conduire l'homme à sa destination, sans attenter à sa
liberté, sans paralyser aucune des forces de sa nature, mais au contraire en
ajoutant à leur intensité et en exaltant jusqu'à l'infini tout ce qu'il possède
de puissance propre. On voit que nul élément moral ne reste inactif dans
l'économie nouvelle, que les capacités les plus énergiques de la pensée,
aussi bien que l'expansion chaleureuse du sentiment, que l'héroïsme d'une
âme forte, aussi bien que l'abandon d'un esprit soumis, que tout y trouve
place et application. Accessible à toute créature intelligente, s'associant à
chaque pulsation de notre cœur, quelle qu'elle puisse être,, la pensée
révélée emporte tout avec elle, et s'agrandit et se fortifie des obstacles mêmes
qu'elle rencontre. Avec le génie elle s'élève à une hauteur inabordable au
reste des humains; avec l'esprit timide elle ne marche que terre à terre et
ne s'avance qu'à pas comptés; dans une raison méditative, elle est absolue
et profonde; dans une âme dominée par l'imagination, elle est éthérée
et féconde en images; dans le cœur tendre et aimant, elle se dissout en
charité et en amour; toujours elle va de front avec toute intelligence qui
se livre à elle, la remplissant de chaleur, de force et de clarté. Voyez quelle
diversité de natures, quelle multiplicité de forces elle fait agir; que de
puissances différentes, qui ne font qu'une chose; que de cœurs diversement
construits, qui ne battent que pour une seule idée!
Mais l'action du christianisme sur la société, en général, est encore
plus admirable. Que l'on déroule le tableau entier du développement de
la société nouvelle, on verra le christianisme transformant tous les
intérêts des hommes en ses propres intérêts, remplaçant parut le besoin
matériel par le besoin moral, suscitant dans le domaine de la pensée ces
grands débats dont l'histoire d'aucune autre époque ni d'aucune autre
société n'offre d'exemple, ces luttes terribles entre les opinions, où la vie
tout entière des peuples devenait une grande idée et un sentiment infini:
on verra tout devenir lui, et rien que lui, la vie privée et la vie publique,
la famille et la patrie, la science et la poésie, la raison et l'imagination, les
souvenirs et les espérances, les jouissances et les douleurs. Heureux ceux
qui, dans ce grand mouvement imprimé au monde par Dieu même, ont
en leur cœur la conscience intime des effets qu'ils opèrent; mais tous n'y
72
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
sont pas instruments actifs, tous n'agissent pas avec connaissance; des
multitudes nécessairement s'y meuvent aveuglément, atomes inanimés,
masses inertes, sans connaître les forces qui les mettent en mouvement,
sans entrevoir le but vers lequel ils sont poussés».
Il est temps de revenir à vous, Madame. J'avoue que j'ai peine à me
détacher de ces vues générales. C'est du tableau qui s'offre à mes yeux
de cette hauteur que je tire toutes mes consolations; c'est dans la douce
croyance des félicités à venir des hommes que je me réfugie, alors
qu'obsédé par la fâcheuse réalité qui m'environne je me sens le besoin de
respirer un air plus pur, de regarder un ciel plus serein. Je ne crois pas
cependant avoir abusé de votre temps. Il fallait vous faire connaître le point
de vue d'où l'on doit envisager le monde chrétien, et ce que, nous autres,
nous faisons dans ce monde. J'ai dû vous paraître amer en parlant de
notre pays: je n'ai pourtant dit que la vérité, et pas même toute la vérité.
Du reste, la raison chrétienne ne souffre aucune sorte d'aveuglement, et
celui du préjugé national moins que tout autre, attendu que c'est celui qui
divise le plus les hommes.
Voilà une lettre bien longue, Madame. Je crois que nous avons tous
les deux besoin de reprendre haleine. Je pensais, en commençant, que je
pourrais vous dire en peu de mots ce que j'avais à vous dire. En y songeant
mieux, je trouve qu'il y a là de quoi faire un volume. Cela vous arrange-t-il,
Madame? Vous me le direz. Mais, en tout cas, vous ne pourrez éviter une
seconde lettre, car nous n'avons fait qu'aborder le sujet. En attendant,
je vous serais très obligé si vous vouliez bien regarder la prolixité de la
première comme un dédommagement pour le temps que je vous ai fait
attendre. J'avais pris la plume le jour même où je reçus votre lettre: de
tristes et fatigantes préoccupations m'absorbaient alors tout entier; il fallait
m'en débarrasser d'abord, avant de me mettre à vous parler de choses si
graves; après cela, il fallait recopier mon griffonnage,-qui était absolument
indéchiffrable. Cette fois, vous n'attendrez pas longtemps; dès demain je
reprends la plume.
Nécropolis. 1829. 1er décembre
Les lettres philosophiques
73
LETTRE DEUXIÈME
Si j'ai bien rendu mon idée l'autre jour, vous avez dû trouver que je suis
loin de penser que ce sont seulement les lumières qui nous manquent. Il
n'y en a point non plus profusion parmi nous, il est vrai, mais il faut nous
résigner de nous passer pour le moment de ces vastes richesses
intellectuelles que les siècles ont accumulées ailleurs entre les mains des
hommes: nous avons autre chose à faire. D'ailleurs, en supposant que nous
pourrions nous donner par l'étude et la réflexion les connaissances qui
nous manquent encore, comment nous donnerons-nous ces puissantes
traditions, cette vaste expérience, cette conscience profonde des temps
accomplis, ces habitudes fortes de l'esprit, fruit d'un immense exercice de
toutes les facultés de l'homme, qui constituent la nature morale des
peuples de l'Europe et leur véritable supériorité? Il ne s'agit donc pas à cette
heure de chercher à agrandir le domaine de nos idées, mais de rectifier
celles que nous possédons, de leur donner une direction nouvelle. Quant
à vous, Madame, ce qu'il vous faut avant tout, c'est une sphère d'existence
où les jeunes pensées que le hasard a introduites dans votre esprit, les
besoins nouveaux que ces pensées ont donnés à votre cœur, les sentiments
qu'elles ont fait éclore dans votre âme, trouvent une application réelle.
C'est un monde à vous qu'il faut vous créer, puisque celui que vous
habitez vous est devenu étranger.
Et premièrement, l'état de notre âme, quelque élévation que nous
puissions lui donner, dépend nécessairement des choses qui nous
entourent. Occupez-vous donc à bien comprendre ce que votre position
dans le monde et dans votre famille vous permet de faire pour lettre en
harmonie vos sentiments avec votre genre de vie, vos idées avec vos
rapports domestiques, vos croyances avec celles des gens que vous voyez.
Une foule de maux ne viennent que de ces dissonances entre ce qui se
passe dans notre pensée intime et les assujettissements de la société.
Vous dites que votre fortune ne vous permet pas de jouir d'une existence
agréable dans la capitale. Eh bien! vous possédez une campagne
charmante: qui vous empêche d'y déposer vos dieux lares pour le reste de vos
jours? Heureuse nécessité qu'il ne tient qu'à vous de vous rendre aussi
profitable que tout ce que la philosophie pourrait vous enseigner de plus
intéressant. Faites que cet asile soit aussi attachant que possible;
occupez-vous à l'embellir, à l'orner; mettez-y, si vous voulez, de la recherche,
74
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
de la coquetterie: pourquoi pas? Il ne s'agit point là d'un raffinement de
la sensualité; ce n'est point pour obtenir de vulgaires jouissances que
vous vous donnerez tous ces soins: c'est afin de pouvoir vous concentrer
d'autant mieux dans votre vie intime. Ne dédaignez pas, je vous prie, ces
détails matériels. Nous vivons dans un pays si dénué d'idéalité que, si
nous ne nous entourons pas dans notre vie domestique d'un peu de
poésie et de bon goût, nous courons risque de perdre tout sentiment délicat,
toute idée d'art. C'est un des traits les plus frappants de notre singulière
civilisation que la négligence des commodités et des agréments de la vie.
A peine songeons-nous à nous abriter contre les intempéries des saisons,
et cela dans un climat dont il est permis de douter sérieusement qu'il fût
jamais destiné à être habité par des êtres raisonnables. Si nous avons eu
jadis la maladresse de nous établir en ces climars brutaux, tâchons du
moins aujourd'hui de nous y arranger de manière à nous en faire un peu
oublier la rudesse.
Je me souviens que vous vous plaisiez beaucoup autrefois à la lecture
de Platon. Voyez donc comme le plus idéal, le plus vaporeux des sages
de l'antiquité est soigneux d'entourer les personnages de ses drames
philosophiques des bonheurs de la vie. Tantôt vous les voyez se promener
lentement sur les bords délicieux de l'Ilyssus ou dans les allées de cyprès
de Gnosse; tantôt ils vont chercher le frais ombrage d'un vieux platane ou
le doux repos d'un gazon fleuri; tantôt, laissant tomber la chaleur du jour,
ils vont respirer l'air embaumé et la douce haleine d'une soirée attique; ou
enfin vous les voyez mollement étendus autour de la table du banquet,
couronnés de fleurs et la coupe à la main: ce n'est ainsi qu'après les avoir
bien établis sur la terre qu'il les emporte dans ces régions perlunaires où
il aime tant à planer. Je pourrais vous faire voir encore dans les écrits des
Pères les plus austères de l'Église, dans saint Jean Chrysostome, dans saint
Grégoire de Nazianze, dans saint Basile même, des peintures délicieuses
des retraites où ces grands hommes trouvèrent la paix et les hautes
inspirations qui les rendirent les lumières de la foi. Ils ne croyaient point, ces
saints personnages, déroger à leur dignité en donnant quelques soins à des
choses qui, quoi que l'on fasse, remplissent une grande partie de la vie. Il
y a un véritable cynisme dans cette indifférence pour les douceurs de la
vie dont quelques-uns de nous se font un mérite. C'est une des choses qui
retardent le plus, je crois, notre progrès que l'absence de toute idée d'art
dans notre vie intime.
Les lettres philosophiques
75
Je voudrais après cela que, dans cet asile que vous aurez embelli de
votre mieux, vous vous arrangiez une existence parfaitement uniforme
et méthodique. L'esprit d'ordre et de méthode nous manque à tous:
corrigeons-nous de ce défaut. Il est inutile de répéter ce qui a été dit en
faveur d'une vie bien réglée; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a que
cet exercice perpétuel d'assujettissement à une règle constante qui puisse
nous habituer à nous soumettre sans effort à la loi suprême de notre
nature. Mais, pour suivre une règle quelconque avec exactitude, il faut
que rien ne se mette en travers. Souvent on est jeté dès les premières
heures du jour hors du cercle que l'on s'est tracé: alors toute la journée
est faussée. Ainsi, rien de plus essentiel que les premières impressions que
nous recevons, les premières idées qui s'offrent à nous lorsque nous
recommençons à vivre après le simulacre de mort qui sépare nos journées.
Ce sont ces impressions, ce sont ces idées qui déterminent ordinairement
l'état de notre âme pour toute la journée. Tel jour a commencé par une
tracasserie domestique, qui a fini par une faute irréparable. Habituez-vous
donc à rendre les premières heures du jour aussi graves, aussi solennelles
qu'il se peut; faites monter l'âme aussitôt à toute la hauteur dont elle est
capable; tâchez de les passer dans une solitude complète, d'écarter tout ce
qui peut vous toucher, vous distraire trop vivement: ainsi préparée, vous
pourrez affronter sans crainte les fâcheuses influences qui viendront vous
obséder après et qui autrement feraient de votre existence entière une
lutte perpétuelle où le triomphe serait impossible. D'ailleurs, ce moment
passé, on n'en retrouve plus pour s'isoler, pour se recueillir: la vie vous
saisit avec toutes ses préoccupations de plaisirs et d'ennuis; vous ne faites
plus que rouler dans le cercle éternel des petitesses humaines. Ne laissons
pas s'écouler sans en profiter la seule heure du jour où nous puissions être
bien à nous-mêmes.
Je tiens beaucoup, je vous l'avoue, à cette nécessité de se concentrer et
de se redresser journellement; je suis assuré qu'il n'y a pas d'autre moyen
de se garantir contre l'action envahissante des choses qui nous
environnent: cela ne suffit pas cependant, comme vous le pensez bien. Il vous
faut une idée qui s'épande sur toute la vie, que vous ayez toujours
présente, qui vous serve de flambeau à toutes les heures du jour. Nous venons
au monde avec un instinct vague du bien moral, mais nous ne saurions le
concevoir pleinement que dans l'idée plus complète qui s'en développe
en nous dans le cours de la vie. C'est à ce travail intérieur qu'il faut tout
76
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
rapporter, c'est en regard de cela qu'il faut ordonner toute votre
existence. Mais il faut que tout cela se passe dans le silence de votre cœur, car
le monde n'a point de sympathies pour les choses profondes. Il détourne
les yeux des grandes convictions; la présence d'une idée grave le fatigue. À
vous, il vous faut un sentiment vrai, une pensée sérieuse, qui ne balancent
pas entre les diverses opinions des hommes, mais qui vous conduisent
sûrement au but. N'enviez pas à la société ses bonheurs passionnés; vous
trouverez dans votre retraite des douceurs dont elle n'a point l'idée. Je
n'en doute pas, quand vous serez habituée à l'atmosphère sereine de cette
existence, vous regarderez tranquillement du sein de votre asile le monde
s'agiter et s'enfuir devant vous, vous jouirez avec délices du silence de
votre âme. En attendant, il faut vous donner les goûts, les habitudes, les
affections de votre nouveau genre de vie. Il faut vous débarrasser de toutes
les vaines curiosités qui gaspillent et mutilent la vie; il faut surtout
détruire ce penchant profond du cœur qui fait l'attrait de la nouveauté,
l'intérêt de l'affaire du jour, qui produit la convoitise et l'attente incessantes
du lendemain. Sans cela vous ne trouverez ni paix ni bien-être, mais rien
que dégoûts et ennuis. Voulez-vous que le flot du monde vienne se
briser auprès de votre demeure paisible? Bannissez de votre âme toutes ces
passions inquiètes suscitées par les événements de la société, toutes ces
émotions nerveuses provoquées par les nouvelles du jour; fermez votre
porte à tous les bruits, à tous les retentissements du monde; proscrivez
même chez vous, si vous en avez le courage, toute cette frivole littérature
qui n'est au fond que ce même bruit, mis par écrit. Il n'y a rien, selon
moi, de si incompatible avec un régime intellectuel bien ordonné que
l'avidité des lectures nouvelles. On ne voit que des gens devenus incapables
d'une méditation sérieuse, d'un sentiment profond, que parce qu'ils ne
se nourrissaient que de ces productions du jour où l'on aborde tout sans
rien approfondir, où l'on promet tout sans rien donner, où tout se colore
d'une teinte douteuse ou fausse qui ne laisse dans l'esprit que vide et
incertitude. Si vous voulez trouver du charme dans le genre de vie que vous
aurez adopté, il faut que la nouveauté ne soit jamais auprès de vous un
titre en aucune chose.
Il est certain que plus vous vous donnerez de goûts, de besoins en
rapport avec ce genre de vie, mieux vous vous en trouverez; plus vous
ferez accorder le dehors avec le dedans, le visible avec l'invisible, plus vous
vous rendrez douce la voie que vous aurez à parcourir. Mais il ne faut
Les lettres philosophiques
11
point non plus vous dissimuler les obstacles que vous aurez à rencontrer.
Dans notre pays, il y en a plus sur cette route qu'on ne saurait le dire.
Ce n'est point un chemin battu, où la roue de la vie roule dans l'ornière
frayée, c'est un sentier où il faut se faire jour à travers les ronces et les
épines, et parfois à travers la futaie. Dans les vieilles civilisations de
l'Europe, tous les modes d'existence étant réalisés depuis longtemps, lorsque
l'on s'y détermine à changer de vie, on n'a qu'à choisir le cadre nouveau
où l'on veut se caser; votre place y est préparée d'avance; la distribution
des rôles est faite; pourvu que vous preniez le rôle qui vous appartient,
les hommes et les choses vont d'eux-mêmes se grouper autour de vous: à
vous d'en tirer le parti convenable. Mais chez nous c'est tout autre chose.
Que de frais, que de fatigues avant que vous vous trouviez à votre aise
dans votre nouvelle sphère! Que de temps perdu, que de forces usées à
s'orienter, à habituer les hommes à vous regarder sous votre nouvelle
face, à faire taire le sot, à lasser la surprise! Sait-on ici ce que c'est que
la puissance de la pensée? A-t-on jamais vu ici comment une grande
conviction s'introduit dans l'esprit par quelque circonstance hors du
cours ordinaire des choses, par quelque lumière imprévue, par quelque
enseignement supérieur, se saisit de l'âme, renverse votre être tout entier
et l'élancé au-dessus de lui-même et de tout ce qui l'environne? Quelle
vive conscience a jamais fait palpiter ici un cœur? Quel homme s'est
jamais voué ici au culte de la vérité? Comment donc celui qui se livrerait
avec chaleur à ses croyances ne trouverait-il pas, au milieu de cette foule
que rien n'a jamais émue, entraves et contrariétés? Il faut vous créer
tout, Madame, jusqu'à l'air que vous devez respirer, jusqu'au sol que vous
devez fouler. Cela est vrai littéralement. Ces esclaves qui vous servent,
n'est-ce point là votre atmosphère? Ces sillons que d'autres esclaves ont
creusés à la sueur de leur front, n'est-ce point là la terre qui vous porte?
Et que de choses, que de misères renfermées dans ce seul mot d'esclave!
Voilà le cercle magique où nous nous débattons tous, sans pouvoir en
sortir; voilà le fait odieux contre lequel tous nous nous brisons; voilà ce
qui rend vains chez nous les plus nobles efforts, les plus généreux élans;
voilà ce qui paralyse toutes nos volontés, ce qui souille toutes nos vertus.
Chargée d'une coulpe fatale, quelle est l'âme si belle qui ne se dessèche
sous ce fardeau insupportable? Quel est l'homme si fort qui, toujours en
contradiction avec lui-même, toujours pensant d'une façon et agissant
d'une autre, ne finisse par se dégoûter de lui-même! Me voilà ramené,
78
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
sans y songer, à ma première thèse: laissez-moi vous en dire un mot
encore et je reviens à vous.
Cette plaie horrible qui nous ronge, où en est la cause? D'où vient le
trait le plus frappant de la société chrétienne est justement celui dont le
peuple russe se soit dépouillé au sein même du christianisme? Pourquoi
cet effet inverse de la religion parmi nous? Je ne sais, mais il me semble
que cela seul pourrait faire douter de l'orthodoxie dont nous nous parons.
Vous savez qu'aucun des philosophes anciens ne s'était avisé d'imaginer
une société sans esclaves, ni même de trouver rien à redire à l'esclavage.
Aristote, que l'on peut regarder comme le représentant de tout ce qu'il y
eut de sagesse au monde avant la venue du Christ, a posé en fait que les
hommes naissaient les uns pour être libres, les autres pour porter les fers.
Vous savez encore qu'il n'y a pas d'incrédule si obstiné qui ne convienne
que c'est au christianisme qu'est due l'abolition de la servitude en
Europe. De plus, on sait que les premières émancipations furent des actes
religieux se faisant devant l'autel et que, dans la plupart des chartes
d'affranchissement, on trouve cette formule: pro redemptione animae, pour
le salut de mon âme. Enfin, on sait que le clergé donna partout l'exemple,
en libérant ses propres serfs, et que les pontifes romains provoquèrent les
premiers, dans le monde soumis à leur autorité spirituelle, l'abolition de
l'esclavage. Pourquoi donc le christianisme n'a-t-il pas eu les mêmes
résultats parmi nous? Pourquoi, au contraire, le peuple russe ne tomba-t-il
dans l'esclavage qu'après qu'il fut devenu chrétien, nommément sous les
règnes de Godounoff et de Chouiskoy? Que l'Église orthodoxe explique ce
phénomène. Qu'elle dise pourquoi elle n'a point élevé sa voix maternelle
contre cette détestable usurpation d'une partie de la nation sur l'autre. Et
voyez, je vous prie, comme nous sommes obscurs, malgré notre puissance
et toutes nos grandeurs! Ces jours-ci encore, le Bosphore et l'Euphrate
ont ouï tonner à la fois notre canon. Cependant, l'histoire, qui à cette
heure même démontre que abolition de l'esclavage est l'œuvre du
christianisme, ne se doute pas seulement qu'un peuple chrétien de quarante
millions est dans les fers! C'est que les peuples ne figurent réellement dans
le genre humain qu'en raison de leurs puissances intellectuelles, et que
l'intérêt qu'ils inspirent est déterminé par l'action morale qu'ils exercent
dans le monde, et non par le bruit qu'ils font. Revenons.
Après ce que je vous ai dit du genre de vie que je voudrais vous voir
adopter, vous pourriez peut-être vous figurer que je vous demande de
Les lettres philosophiques
79
vous livrer à une vie toute claustrale. Mais il ne s'agit que d'une existence
sobre et réfléchie, qui n'a rien de commun avec la rigueur triste de la
morale ascétique; il ne s'agit que d'une manière de vivre qui ne diffère de
celle de la foule que par une idée positive, un sentiment plein de
conviction, auxquels on rapporte toutes ses autres idées, tous ses autres
sentiments. Cette existence se combine fort bien avec les agréments légitimes
de la vie; elle les exige même, et la société des hommes en est une
condition nécessaire. La solitude a ses dangers, on y trouve parfois d'étranges
séductions. Concentré en lui-même, l'esprit se nourrit des vaines images
qu'il se crée; comme saint Antoine, on peuple son désert de fantômes,
enfants de votre imagination, qui vous poursuivent de chez les hommes.
Tandis que, si l'on cultive la pensée religieuse sans passion, sans violence,
on conservera, même au milieu de tout le fracas du monde, cette attitude
intérieure devant laquelle tous les enchantements, tous les étourdisse-
ments de la vie sont impuissants. C'est une certaine disposition de l'esprit,
douce et facile, qu'il faut trouver, qui sache marier sans efforts à toutes
les opérations de la raison, à toutes les émotions du cœur, l'idée du vrai
et du bien. Il faut surtout chercher à se pénétrer des vérités révélées. La
grande prérogative de ces vérités, c'est d'être accessibles à toute créature
intelligente, de s'accommoder à toutes les formes de l'esprit. On y arrive
de toutes les manières possibles, par la foi soumise et aveugle que les
multitudes professent sans réflexion, par le savoir profond, par la piété naïve
du coeur, par l'inspiration raisonnée de l'esprit, par la poésie exaltée de
l'âme; mais la voie la plus simple, c'est de nous reporter à ces moments,
si fréquents dans la vie, où nous nous ressentons le plus de l'action du
sentiment religieux sur notre âme, lorsqu'il nous semble que, privés de
toute puissance propre, une force supérieure nous pousse vers le bien
malgré nous, nous enlève de la terre et nous porte vers le ciel. C'est alors
que, dans la conscience de notre impuissance, notre esprit s'ouvrira avec
une volonté extraordinaire aux pensées du ciel, que les plus hautes vérités
couleront naturellement dans notre cœur.
Il est impossible, en revenant fréquemment sur le principe de notre
activité morale, sur les mobiles de nos pensées et nos actions, de ne pas
voir qu'une grande partie de tout ce que nous faisons est déterminé par
quelque chose qui ne nous appartient nullement; c'est précisément ce qui
se passe en nous de meilleur, de plus noble, de plus utile à nous-mêmes
que nous ne produisons pas nous-mêmes; tout le bien que nous faisons
80
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
n'est que l'effet de la capacité que nous possédons de nous soumettre à
l'action d'une force inconnue: le seul et véritable principe de notre propre
activité, c'est l'idée de notre intérêt circonscrit dans la limite d'un temps
donné, que nous appelons la vie; ce principe n'est rien que l'instinct de
notre conversation, que nous partageons avec tous les êtres animés, mais
que nous modifions selon notre nature particulière. On a donc beau faire,
quelque désintéressement que l'on mette dans ses sentiments et dans
ses actions, c'est toujours cet intérêt, plus ou moins bien compris, plus
ou moins éloigné, qui nous dirige. Quelque ardent désir que nous ayons
d'agir en vue d'un bien général, ce bien abstrait, que nous nous figurons,
ce n'est que celui que nous voulons à nous-mêmes; nous ne parvenons
jamais à nous effacer complètement; nous nous comprenons toujours
dans ce que nous désirons aux autres. Aussi la raison suprême, dans
l'expression humaine de sa loi, condescendant à notre faible nature, n'a-t-elle
pas ordonné autre chose, sinon de faire à autrui ce que nous voulons que
l'on nous fasse, bien différente en cela, comme en tout le reste, de la
morale des philosophes, qui prétend concevoir le bien absolu, c'est-à-dire le
bien universel, comme s'il ne tenait qu'à nous de nous donner la notion
de l'utilité générale, tandis que nous ne savons pas seulement ce qui est
utile à nous-mêmes. Qu'est-ce que le bien absolu? C'est la loi immuable en
vertu de laquelle tout tend à sa fin: voila tout ce que nous en savons. Mais
si c'était l'idée de ce bien qui dût nous guider dans la vie, ne faudrait-il pas
en savoir quelque chose de plus? Nous agissons jusqu'à un certain point
conformément à la loi générale, sans doute; autrement nous aurions
notre principe d'existence en nous-mêmes, ce qui est absurde; mais nous
agissons de la sorte sans savoir pourquoi: poussés par une puissance
invisible, nous pouvons surprendre son action, l'étudier dans ses effets, nous
identifier quelquefois avec elle; mais déduire de tout cela la loi positive
de notre nature morale, c'est ce qu'il nous est impossible de faire. Un
sentiment vague, une idée sans corps, sans autorité, ce ne sera jamais que
cela. Toute philosophie humaine est comprise dans cette terrible dérision
du Dieu de l'ancien testament: Voici Adam devenu comme Гип de nous,
sachant le bien et le mal.
Vous pressentez à cette heure, je pense, la nécessité d'une révélation.
Voici, à mon avis, ce qui démontre cette nécessité. L'homme apprend
à concevoir la loi physique en observant les phénomènes de la nature
qui se succèdent devant ses yeux selon une loi uniforme et invariable.
Les lettres philosophiques
81
En recueillant les observations des générations antérieures, il arrive à un
système de connaissances, que sa propre expérience confirme et que le
grand instrument du calcul revêt de la forme immuable de la certitude
mathématique. Quoique cet ordre de connaissances soit loin
d'embrasser le système entier de la nature et de s'élever au principe universel des
choses, il comprend néanmoins des connaissances parfaitement
positives, parce qu'elles se rapportent à des êtres dont l'étendue et la durée
peuvent être perçues par les sens ou prévues par des analogies certaines.
En un mot, c'est ici le domaine de l'expérience; et autant que l'expérience
peut donner de certitude aux idées qu'elle introduit dans l'esprit, autant
le monde physique peut nous être connu. Vous n'ignorez pas que cette
certitude va jusqu'à nous faire prévoir certains phénomènes à des
intervalles immenses de temps, et jusqu'à nous donner le pouvoir d'agir sur la
matière inerte avec une puissance incroyable.
Voilà donc les moyens de connaissance certaine que possède
l'homme. Si notre raison a, outre cela encore, une puissance de spontanéité, ou
un principe d'activité interne, indépendante de la vision du monde
matériel, toujours est-il qu'elle ne saurait exercer ses propres forces que sur
les matériaux que lui fournit, dans l'ordre [matériel, l'observation; mais à
quoi, dans l'ordre] moral, l'homme appliquera-t-il ces moyens? Que
faudrait-il qu'il observe pour découvrir la loi de l'ordre moral? La nature
intelligente, n'est-ce pas? Mais la nature intelligente est-elle donc faite comme
la nature matérielle? N'est-elle pas libre? Ne suit-elle pas la loi qu'elle
s'impose à elle-même? En étudiant l'intelligence dans ses effets extérieurs et
intérieurs, qu'apprendrons-nous donc? Qu'elle est libre, voilà tout. Et si
par hasard, nous arrivons une fois, dans cette étude, à quelque chose
d'absolu, l'instant d'après le sentiment de notre liberté ne nous rejetterait-il
pas derechef, et nécessairement, dans le même ordre d'idées d'où nous
pensions être sortis tout à l'heure? Ne nous retrouverions-nous pas, un
moment après, à la même place? Ce cercle est inévitable. Mais ce n'est
pas tout. Supposons que nous nous élevions réellement à quelques
vérités tellement démontrées que la raison fût tenue de les admettre
absolument; supposons que nous trouvions en effet quelques règles générales
auxquelles il faudra que l'être intelligent se soumette nécessairement. Ces
règles, ces vérités, ne se rapporteront qu'à une partie de la vie totale de
l'homme, à sa vie terrestre; elles n'auront donc rien de commun avec
l'autre partie, qui nous est parfaitement inconnue et dont nulle analogie
82
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ne saurait nous découvrir le mystère. Comment seraient-elles donc les
lois véritables de l'être intelligent, puisqu'elles ne regarderaient qu'une
portion de son existence, un moment dans sa vie? Que si les lois que nous
recueillons de la sorte par l'expérience ne sauraient être que les lois d'un
seul période du temps parcouru par la nature morale, comment seraient-
elles donc les lois de cette nature? Ne serait-ce pas la même chose que si
l'on disait que, pour chaque âge de la vie, il existe une science médicale
spéciale; que pour traiter, par exemple, les maladies de l'enfance il est
inutile de connaître les infirmités de l'âge mûr; que pour prescrire le régime
convenable à la jeunesse il n'est pas besoin de savoir celui qui convient à
l'homme en général; que l'état de notre santé n'est point déterminé par
l'état de santé de chaque moment de notre vie; que nous pouvons, enfin,
nous livrer impunément à toutes sortes d'écarts et d'excès à certaines
époques de notre existence, sans que le reste de nos jours s'en ressente?
Quelle idée auriez-vous, je vous prie, de l'homme qui prétendrait qu'il y a
une morale pour la jeunesse, une autre pour l'âge mûr, une autre pour la
vieillesse, et que, dans l'éducation, il ne s'agit nullement de l'enfant et du
jeune homme? Eh bien, c'est exactement ce que dit toute votre morale
des philosophes. Elle nous apprend ce que nous avons à faire aujourd'hui;
de ce qui nous en arrivera demain elle ne se soucie guère. Qu'est-ce que
la vie future, si ce n'est le lendemain de la vie actuelle?
Concluons de tout cela que, la vie totale de l'être intelligent
embrassant deux mondes dont l'un seulement nous est connu, et que, chaque
instant de la vie étant indissolublement lié à toute la suite des moments
dont elle se compose, il est évident qu'il nous est impossible de nous
élever par nos propres forces à la connaissance d'une loi qui doit
nécessairement se rapporter à l'un et à l'autre monde. Il faut donc que cette loi
nous soit enseignée par une raison pour laquelle il n'y a qu'un monde,
qu'un seul ordre de choses.
N'allez pas cependant vous imaginer que la morale des philosophes
n'ait aucune valeur à nos yeux. Nous savons fort bien qu'elle contient
de grandes et belles vérités, qui ont longtemps guidé les hommes et qui,
à cette heure encore, parlent à leur cœur et à leur âme avec puissance;
mais nous savons aussi que ces vérités mêmes n'ont pas été imaginées
par la raison humaine, mais lui ont été infusées à différentes époques
de sa durée universelle. C'est là une de ces vérités primitives enseignées
par la raison naturelle et que la raison révélée ne fait que consacrer par
Les lettres philosophiques
83
son autorité suprême. Honneur aux sages de la terre, mais gloire à Dieu
seul! L'homme n'a jamais marché qu'au flambeau de la lumière divine;
elle a toujours éclairé ses pas, mais il ne voyait pas le foyer d'où tombait le
rayon lumineux sur sa route. Elle éclaire, dit l'écrivain sacré, tout homme
venant au monde; elle a toujours été dans le monde; mais le monde ne la
voyait pas.
Les habitudes que le christianisme a introduites dans l'esprit humain
nous portent à ne voir l'idée révélée que dans les deux grandes
révélations de l'ancien et du nouveau testament, et nous font oublier la
révélation primitive. Sans une notion claire de cette première communion
de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme, il n'y a pas moyen de rien
comprendre au christianisme. Le chrétien, ne trouvant pas alors dans ses
propres doctrines de solution au grand problème de l'être moral, est
réduit naturellement aux doctrines des philosophes. Or, les philosophes
ne sauraient expliquer l'homme que par l'homme: ils le séparent ainsi
de Dieu et le remplissent de l'idée de sa propre suffisance. On se figure
ordinairement que le christianisme ne rend pas raison de tout ce qu'il
nous importe de savoir; on croit qu'il y a des vérités morales que la
philosophie seule peut nous enseigner: c'est une grande erreur. Il n'est point de
science humaine capable de remplacer la science divine. Pour le chrétien,
tout le mouvement de l'esprit humain n'est autre chose que le tableau de
l'action continue de Dieu dans le monde; l'étude des résultats de ce
mouvement ne lui fournit que de nouvelles preuves à l'appui de ses croyances;
il ne voit dans les différents systèmes philosophiques, dans tous les efforts
de l'homme, qu'un développement plus ou moins heureux des puissances
intellectuelles du monde selon les différentes situations et les différents
âges des sociétés; mais le mystère de la destination de l'homme, il le
découvre non dans l'inquiète et incertaine agitation de la raison humaine,
mais dans les symboles et les types profonds légués à l'humanité par les
doctrines dont l'origine se perd dans le sein de Dieu. S'il fouille dans les
théories où la pensée terrestre s'est, tour à tour, formulée, c'est pour y
chercher les traces, plus ou moins effacées, des premiers enseignements
prodigués à l'homme par le Créateur lui-même, au jour où il le
pétrissait de ses mains; s'il médite sur l'histoire de l'esprit humain, c'est pour
y trouver les lumières surnaturelles qui n'ont cessé d'illuminer la raison
humaine à son insu, à travers tous les brouillards, toutes les ténèbres dont
elle aime tant à s'entourer. Partout il reconnaît ces puissantes et ineffaça-
84
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
bles idées tombées du ciel sur la terre, sans lesquelles l'humanité se serait
abîmée depuis longtemps dans sa liberté. Enfin, il sait que c'est encore à la
faveur de ces mêmes idées que l'esprit humain put recueillir les lumières
plus parfaites que Dieu daigna verser sur lui à une époque plus récente.
Loin donc de chercher à s'approprier toutes les imaginations écloses
dans le cerveau humain, il ne songe qu'à mieux concevoir les voies [de]
Dieu dans la vie universelle de l'humanité. Il n'est ardent [que] de la
tradition céleste: ce que les hommes ont fait pour la défigurer ne lui est
que d'un intérêt secondaire. De cette manière il arrive nécessairement
à comprendre qu'il existe une règle certaine à l'aide de laquelle on peut
découvrir, au milieu de l'océan des opinions humaines, le vaisseau du
salut qui suit invariablement l'étoile placée au firmament pour lui servir
de guide: étoile toujours brillante, que nul nuage jamais ne voila, visible à
tous les yeux, dans tous les climats, et qui se tient jour et nuit au-dessus
de nos têtes. Et si, une fois, il lui est démontré que toute l'économie de
l'univers moral est le résultat d'une admirable combinaison des notions
primitives, jetées par Dieu même dans notre âme, et de l'action de notre
raison sur ces idées, il lui sera évident aussi que la conservation de ces
éléments, leur transmission d'âge en âge, de génération en génération,
ont dû être réglées par quelques lois spéciales, et qu'il y a certainement
quelques signes visibles auxquels on peut reconnaître, entre tous les
sanctuaires répandus sur la terre, celui de l'arche sainte qui contient le dépôt
sacré de la vérité.
Avant, Madame, que le monde fût mûr pour recevoir les nouvelles
lumières qui devaient un jour s'épandre sur lui, pendant que l'éducation
du genre humain s'achevait par le développement de toutes ses forces
propres, un sentiment vague mais profond faisait entrevoir de temps à
autre, à quelques hommes élus, la trace lumineuse de l'astre de vérité
parcourant son orbite. Ainsi Pythagore, Socrate, Zorbastre, Platon surtout,
avaient eu des lueurs ineffables, et leurs fronts resplendirent d'un reflet
extraordinaire. Leurs regards, tournés vers le point d'où devait monter
le nouveau soleil, en avaient en quelque sorte entrevu l'aurore. Mais ils
ne purent s'élever à la connaissance des véritables caractères de la vérité
absolue parce que, depuis que l'homme s'était dénaturé, elle n'avait nulle
part apparu dans tout son éclat, et que l'on ne pouvait la reconnaître à
travers les ombres qui la couvraient. Mais dans la nouvelle économie, si
l'homme méconnaît encore ces caractères, ce n'est plus que par l'effet
Les lettres philosophiques
85
d'un aveuglement volontaire; s'il se détourne de la bonne voie, ce n'est
que par un abandon coupable au principe ténébreux laissé dans son cœur
dans la seule vue de rendre plus efficace son acquiescement à la vérité.
Vous prévoyez sans doute, Madame, à quoi tend tout ce raisonnement:
les conséquences qui en découlent se présentent d'elles-mêmes à l'esprit.
Ce sont ces conséquences qui vont nous occuper prochainement: vous
les saisirez sans peine, j'en suis sûr. Nous n'aurons plus, d'ailleurs, à nous
interrompre par des digressions comme celles que nous avons
rencontrées cette fois, et nous pourrons causer avec plus de suite et de méthode.
Bonjour, Madame.
LETTRE TROISIÈME
Absorpta est mors ad victoriam
La méditation religieuse nous a conduit au raisonnement
philosophique, et le raisonnement philosophique nous a ramené à l'idée religieuse.
Revenons maintenant au point de vue philosophique: nous ne l'avons pas
épuisé. Lorsque l'on veut traiter la question religieuse par le pur
raisonnement, elle ne fait que compléter la question philosophique. D'ailleurs,
quelque vive que soit la croyance, il est bon que l'esprit sache s'appuyer
des forces qu'il trouve en lui-même. Il est des âmes dans lesquelles il faut
absolument que la foi puisse au besoin évoquer les convictions de la
raison. Je crois que vous êtes précisément dans ce cas. Vous avez été trop
familiarisée avec la philosophie de l'école, votre religion date de trop peu
de temps, vos habitudes sont trop loin de cette vie intérieure où la simple
piété se nourrit et se contente d'elle-même, pour que vous puissiez vous
guider par le sentiment seul. Votre cœur ne saurait se passer de réfléchir.
Le sentiment recèle de grandes clartés, sans doute, le cœur a de grandes
puissances; mais les choses du sentiment ne nous sont présentes que tant
qu'elles nous émeuvent, et l'émotion ne peut durer continuellement. Au
contraire, ce que nous avons acquis par le raisonnement est à nous à toutes
les heures du jour. Dans quelque disposition de l'âme que nous nous
trouvions, l'idée réfléchie ne nous quitte jamais, tandis que l'idée sentie nous
86
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
échappe sans cesse, et se modifie à chaque instant selon que notre cœur
bat plus ou moins rapidement. Et puis, on ne prend pas tel cœur que l'on
veut; celui que l'on s'est trouvé une fois, on le garde: au lieu que notre
raison, nous sommes toujours à la faire.
Vous dites que vous êtes naturellement disposée à la vie religieuse. J'y
ai souvent réfléchi. Je ne le crois pas. Un sentiment vague provoqué par
la circonstance, une velléité rêveuse de l'imagination, voila ce que vous
prenez pour le besoin de votre nature. Ce n'est pas ainsi, ce n'est point
avec cette ardeur inquiète que l'on se livre à sa vocation, alors qu'on la
découvre dans la vie; on accepte alors sa destinée avec une sécurité
parfaite, avec une conviction toute tranquille. Certainement, on peut, on doit
se refaire: l'assurance de cette possibilité, le sentiment de ce devoir sont
articles de foi pour le chrétien, la plus importante de ses croyances. Le
christianisme ne roule tout entier que sur le principe de la régénération
possible et nécessaire de notre être, et c'est à cela que doivent tendre
tous nos efforts. Mais, en attendant que nous soyons arrivés à ressentir
notre vieille nature se dissoudre en nous, et l'homme nouveau, l'homme
fait par le Christ, poindre en nous, il ne faut rien négliger pour hâter le
moment de cette heureuse révolution, qui ne peut d'ailleurs nous arriver
qu'autant que nous aurons fait tout ce qui est en nous pour la produire.
Du reste, vous le savez, il ne s'agit pas ici d'explorer le domaine entier de
la philosophie: notre tâche est plus humble que cela; nous avons plutôt à
rechercher ce qui ne se trouve pas que ce qui se trouve dans la
philosophie. J'espère que cela ne surpassera pas nos forces. Pour un esprit
religieux c'est la seule manière de concevoir et d'utiliser la science humaine;
mais encore faut-il savoir ce qui en est de cette science, et ne rien laisser,
autant que faire se peut, en arrière de ses croyances.
C'est Montaigne qui l'a dit: l'obéir est le propre office d'une âme
raisonnable, recognoissant un céleste supérieur et bienfacteur. Vous savez
qu'il ne passe pas pour un esprit crédule; prenons donc aujourd'hui cette
pensée du sceptique pour notre texte: il est bon parfois de tirer ses
auxiliaires du camp de l'ennemi; cela diminue d'autant ses forces.
Et d'abord, il n'y a de raison que la raison soumise, cela est
parfaitement vrai; mais cela n'est pas tout. Voyez, l'homme fait-il autre chose, sa
vie durant, que de chercher à se soumettre à quelque chose?
Premièrement il trouve en lui-même une puissance qu'il reconnaît être différente
de celle qui détermine le mouvement qui se passe hors de lui: il se sent
Les lettres philosophiques
87
vivre; en même temps il éprouve que cette puissance n'est point
illimitée: il sent son propre néant; après cela il s'aperçoit que la puissance
extérieure le domine, et qu'il faut s'y soumettre: c'est là toute sa vie. Du
moment où il a l'usage de sa raison, ces deux notions, l'une d'un pouvoir
intérieur et imparfait, l'autre d'un pouvoir extérieur et parfait, viennent se
placer d'elles-mêmes dans son intelligence. Et, quoique ces deux notions
ne nous arrivent point claires et précises, comme celles qui nous sont
suggérées par nos sens ou transmises par la communication avec nos
semblables, toutes nos idées de bien, de devoir, de vertu, de loi, ainsi que
toutes les idées opposées, ne nous viennent que de ce besoin que nous
ressentons de nous subordonner à ce qui ne provient pas de notre
nature éphémère, des agitations de notre volonté mobile, des entraînements
de nos désirs inquiets. Toute notre activité n'est que l'effet d'une force
qui nous pousse à nous placer dans l'ordre général, dans celui de la
dépendance. Que nous consentions, que nous résistions à cette force,
n'importe, nous sommes toujours sous son empire. Nous n'avons donc autre
chose à faire que de chercher à nous tendre le meilleur compte possible
de son action sur nous et, une fois que nous en avons découvert quelque
chose, de nous y livrer avec foi et confiance: car cette force qui agit sur
nous à notre insu, c'est celle qui ne se trompe jamais, c'est celle qui fait
marcher l'univers à sa destinée. Ainsi la grande question de la vie, quelle
est-elle? Là voici: que faut-il faire pour découvrir l'action de la puissance
souveraine sur notre être?
Tel nous concevons le principe du monde intellectuel, et tel, vous le
voyez, il correspond parfaitement à celui du monde physique. Mais l'un
de ces principes nous apparaît comme une force irrésistible, à laquelle
tout se soumet inévitablement, tandis que l'autre ne nous semble qu'un
pouvoir en combinaison avec notre propre pouvoir, et, en quelque sorte,
modifiable par lui. C'est là l'aspect logique imposé au monde par notre
raison artificielle. Mais cette raison artificielle que nous avons substituée
volontairement à la portion de raison universelle qui nous fut départie
dans l'origine, cette mauvaise raison qui renverse si souvent les objets
à notre vue et nous les montre tout autres qu'ils ne le sont en effet, ne
nous cache pas cependant l'ordre absolu des choses au point que nous ne
puissions y voir le fait de la passivité précédant celui de [la] liberté, et la loi
que nous nous faisons nous-mêmes dérivant de la loi générale du monde.
Elle ne nous empêche donc nullement, en acceptant la liberté comme
88
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
réalité donnée, de reconnaître dans la passivité la réalité réelle de l'ordre
moral tout comme de l'ordre physique. Toutes les forces de l'esprit, tous
ses moyens de connaissance ne lui sauraient donc venir, en effet, que de
sa docilité. Il n'est puissant qu'à force d'être soumis. Il ne s'agit pour la
raison humaine que de savoir à quoi elle doit se soumettre. Sitôt que l'on
se soustrait à cette règle suprême de toute activité intellectuelle et morale,
on se précipite à l'instant dans le vice du raisonnement ou dans celui de
la volonté. Démontrer donc cette règle d'abord, puis faire voir d'où nous
luit la lumière qui doit nous guider dans la vie, voilà toute la mission de
la bonne philosophie.
D'où vient, par exemple, qu'en aucun de ses procédés l'esprit ne s'élève
si haut que dans le calcul? Qu'est-ce que le calcul? Manipulation
intellectuelle, travail mécanique de la raison, où la volonté raisonnante n'entre
pour rien. D'où vient la puissance prodigieuse de l'analyse en
mathématiques? C'est que c'est un emploi de la raison parfaitement subordonné à
une règle donnée. Pourquoi la grande efficacité de l'observation en
physique? C'est qu'elle fait violence au penchant naturel de l'esprit humain;
c'est qu'elle le soumet à une marche diamétralement opposée à son allure
habituelle; c'est qu'elle le place en face de la nature dans l'humble posture
qui lui appartient*. Comment la philosophie naturelle est-elle parvenue
à sa grande certitude? En réduisant la raison à une activité toute passive,
toute négative. Et que fait enfin la belle logique, qui a donné à cette
philosophie une si énorme puissance? Elle enchaîne la raison, elle la courbe
au joug universel d'obédience, et la rend aussi aveugle et soumise que la
nature elle-même, objet de son étude. La seule route, dit Bacon, ouverte à
Vhommepour régner sur la nature est la même qui conduit au royaume
des deux: on n'y entre que sous Vhumble personnage d'un еп/апГ.
Ensuite l'analyse logique, qu'est-ce autre chose encore sinon une
violence que l'esprit se fait à lui-même? Laissez faire votre raison, elle
n'opérera que par synthèse. Nous ne pouvons procéder par voie
analytique qu'en travaillant sur nous-mêmes avec un effort extraordinaire:
nous retombons toujours dans la voie naturelle, dans la synthèse. Aussi,
c'est par la synthèse que l'esprit humain a commencé, c'est la synthèse
* Pourquoi les Anciens ne savaient-ils pas observer? Parce qu'ils n'étaient pas
chrétiens.
** Novum Organum.
Les lettres philosophiques
89
qui caractérise la science des anciens. Mais toute naturelle, toute
légitime qu'est la synthèse, et plus légitime bien souvent que l'analyse, il est
certain pourtant que ce n'est qu'au procédé de la soumission, à l'analyse,
qu'appartiennent les énergies les plus efficaces de la pensée. De l'autre
côté, si l'on y regarde bien, l'on trouve que nos plus grandes découvertes
dans les sciences naturelles ne sont jamais que pures intuitions
parfaitement spontanées: c'est-à-dire qu'elles ne viennent que d'un principe
synthétique. Or, remarquez que l'intuition, bien qu'elle appartienne
essentiellement à la raison humaine et qu'elle en soit un des instruments
les plus actifs, il nous est impossible de nous en rendre compte comme
de nos autres facultés. C'est que nous ne la possédons pas purement et
simplement comme les autres, c'est qu'il y a en elle quelque chose d'une
intelligence supérieure, c'est qu'elle n'est destinée qu'à refléter cette autre
intelligence dans la nôtre. Et voila précisément ce qui fait que nous lui
devons nos lumières les plus belles.
Il est donc clair que la raison humaine n'est point conduite à ses
connaissances les plus positives par un pouvoir proprement interne, mais
qu'il faut que son mouvement lui soit toujours imprimé du dehors. Le
véritable principe de notre puissance intellectuelle n'est donc au fond
qu'une sorte d'abnégation logique, identique avec l'abnégation morale et
procédant de la même loi.
Du reste, la nature ne s'offre pas à nous uniquement comme matière
d'expérience et de connaissance, mais encore comme règle de
raisonnement. Tout phénomène naturel est un syllogisme qui à sa majeure, sa
mineure, sa conséquence. C'est donc la nature elle-même qui impose à
l'esprit la méthode qu'il doit suivre pour apprendre à la connaître; notre
raison ne fait donc là que se soumettre à une loi qui s'offre à elle dans le
mouvement même des choses. Ainsi, quand les anciens, les Stoïciens, par
exemple, qui eurent de si magnifiques pressentiments, parlaient
d'imiter la nature, de lui obéir, de se conformer à elle, plus rapprochés que
nous de l'origine des choses et n'ayant pas encore, comme nous, brisé le
monde, ils ne faisaient que proclamer ce principe primitif de la nature
intelligente, à savoir que nul pouvoir, nulle règle ne nous vient de nous-
mêmes.
Quant au principe qui nous fait agir, et qui n'est autre chose que le
désir de notre bien, le genre humain où en serait-il si l'idée de ce bien n'était
qu'une invention de notre raison? Chaque siècle, chaque peuple, n'en
90
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
aurait-il pas une idée à lui? Comment l'humanité en masse avancerait-
elle dans son progrès indéfini s'il n'y avait dans le cœur de l'homme une
notion universelle du bien, commune à tous les temps, à tous les lieux,
et par conséquent non point de la création de l'homme? Qu'est-ce qui
produit la moralité de nos actions? N'est-ce pas le sentiment impératif qui
nous ordonne de nous soumettre à la loi, de respecter la vérité? Mais la loi
n'est loi que parce qu'elle ne vient pas de nous; la vérité n'est la vérité que
parce que nous ne l'avons pas imaginée. Que s'il arrive que nous prenons
pour règle de conduite ce que nous n'aurions pas dû prendre pour telle,
c'est que nous ne sommes pas assez forts pour soustraire notre jugement
à l'influence de nos penchants; ce sont nos penchants qui nous dictent
alors la loi que nous suivons, mais c'est que dans cette loi nous croyons
reconnaître la loi générale du monde. Il y a des hommes sans doute qui
semblent se conformer tout naturellement à tous les préceptes de la
morale; tels sont plusieurs des caractères éminents que nous admirons dans
l'histoire. Mais c'est que le sentiment du devoir ne s'est point développé, en
ces âmes privilégiées, par la pensée, mais par ces moyens cachés qui
dirigent les hommes à leur insu, par ces grands enseignements que l'on trouve
dans la vie sans les chercher, plus puissants que notre pensée personnelle
et qui font la pensée générale des hommes: tantôt un exemple qui frappe
fortement l'esprit, tantôt un concours heureux de choses qui s'empare de
vous et vous élance au-dessus de vous-mêmes, tantôt un arrangement
favorable de toute la vie qui vous fait ce que vous n'auriez pas été sans cela:
leçons vivantes des temps, singulièrement dispensées à certains individus
selon une loi à nous inconnue; et si une psychologie vulgaire ne tient guère
compte de tous ces ressorts mystérieux du mouvement intellectuel, une
psychologie plus profonde, qui considère l'hérédité de l'humaine pensée
comme le premier élément de la nature intelligente, y trouve une solution
à la plupart de ses problèmes. Toujours donc est-il que, lorsque l'héroïsme
de la vertu ou l'inspiration du génie ne sont point la pensée de l'individu,
ils sont la pensée des âges écoulés. Que nous ayons donc réfléchi ou non,
quelqu'un a réfléchi pour nous avant que nous fussions au monde; au fond
de chaque acte moral, si spontané qu'il soit, si isolé qu'il soit, il y a donc
nécessairement sentiment de devoir, partant, soumission.
Or, voyons, qu'arriverait-il si l'homme pouvait se rendre tellement
soumis qu'il se dépouillât entièrement de sa liberté? Il est clair, d'après ce
que nous venons de dire, que ce serait là le dernier degré de la perfection
Les lettres philosophiques
91
humaine. Chaque mouvement de son âme ne serait-il pas produit alors
par le même principe qui produit tous les autres mouvements du monde?
Au lieu donc d'être séparé de la nature, comme il l'est maintenant, ne se
confondrait-il pas avec elle? A la place du sentiment de sa volonté propre,
qui le soustrait à l'ordre général, qui fait de lui un être à part, ne se
trouverait-il pas celui de la volonté universelle, ou, ce qui est la même chose,
le sentiment intime, la conscience profonde de son rapport réel avec la
création entière? Au lieu donc de cette idée individuelle et solitaire, dont
il est rempli à cette heure, de cette personnalité qui l'isole de tout ce qui
l'environne et voile toutes choses devant ses yeux, et qui n'est rien moins
que la condition nécessaire de sa nature particulière, mais uniquement
l'effet de sa séparation violente de la nature générale, en abdiquant le
funeste moi actuel, ne recouvrerait-il pas l'idée, la vaste personnalité et
toute la puissance de la pure intelligence dans sa liaison native avec le
reste des choses? Et alors, serait-ce encore de cette vie étroite, de cette vie
mesquine qui le force à tout attirer vers lui, à ne rien voir qu'à travers le
prisme de sa raison factice, qu'il se sentirait vivre? Non, sans doute; mais
de la vie que Dieu même lui avait faite, le jour où il le tira du néant. C'est
cette vie primitive que l'exercice tout entier de nos facultés est destiné à
retrouver. Un beau génie a dit autrefois que l'homme avait souvenance
d'une vie meilleure: grande idée qui ne fut point jetée en vain sur la terre;
mais ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il fallait dire, et voilà la portée à laquelle ni
ce beau génie ni nul autre à cet âge de la pensée humaine n'a pu atteindre,
c'est que cette existence perdue, cette existence plus belle, il ne tient qu'à
nous de la retrouver, et cela sans sortir de ce monde.
Le temps et l'espace, voilà les limites de la vie humaine telle qu'elle
est faite maintenant. Mais, premièrement, qui m'empêche de me dérober
aux étreintes étouffantes du temps? D'où me vient l'idée du temps? De la
mémoire des choses écoulées. Mais qu'est-ce que le souvenir? Rien qu'un
acte de la volonté: la preuve, c'est que l'on n'a jamais plus de souvenirs
que l'on en veut avoir; autrement toute la suite des événements qui se
sont succédé dans le cours de ma vie serait toujours présente à ma
mémoire, se presserait toujours dans ma tête; loin de là, je n'accueille, dans
les moments mêmes où je laisse flotter le plus librement ma pensée, que
les réminiscences qui coïncident avec l'état actuel de mon âme, avec le
sentiment qui m'émeut, avec l'idée qui m'occupe. Nous nous faisons des
images du passé précisément comme nous nous en faisons de l'avenir.
92
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Pourquoi donc ne pourrais-je pas repousser le fantôme du passé qui se
tient immobile derrière moi, tout comme je puis anéantir, si je le veux, la
vision mouvante de l'avenir qui plane devant moi, et m'enlever à ce
moment intermédiaire, appelé le présent, si court qu'il n'est plus à l'instant
même où je prononce le mot qui l'exprime? Tous les temps, nous les
faisons nous-mêmes, voilà ce qu'il y a de certain: Dieu n'a point fait le temps,
il a permis à l'homme de le faire. Mais alors, où serait le temps? Cette
funeste pensée, le temps, qui m'obsède et me resserre de toutes parts, ne
s'évanouirait-elle pas entière de mon esprit? Cette imaginaire réalité du
temps, qui me domine et m'écrase si cruellement, ne se dissiperait-elle
pas complètement? Plus de terme à mon existence, plus d'obstacle à la
vue de l'infini; mon regard plonge dans l'éternité; l'horizon terrestre a
disparu; la voûte des cieux ne vient plus se joindre à la terre au bout de
l'immense campagne qui se déroule devant mes yeux; je nie perçois en
cette durée illimitée, non divisée en jours, en heures, en instants fugitifs,
mais une à jamais, où il n'y a plus de mouvement, plus de changement,
où toutes les individualités se sont perdues les unes dans les autres, où
durent enfin les choses éternelles. Toutes les fois que notre esprit sait se
dégager des entraves qu'il s'est forgées lui-même, il conçoit cette espèce
de temps tout aussi bien que celui où il demeure à présent. Pourquoi
s'élance-t-il sans cesse hors de la succession immédiate des choses que
mesurent les battements monotones du balancier? Pourquoi se jette-t-il
sans cesse dans cet autre monde où la voix fatale de l'horloge ne se fait
plus entendre? C'est que l'infini est l'atmosphère naturelle de la pensée;
c'est que c'est là le seul temps vrai, et que l'autre n'est que celui que nous
nous créons nous-mêmes, je ne sais pourquoi.
Quant à l'espace, la pensée ne réside pas dans l'espace, tout le monde
sait cela: elle accepte logiquement les conditions du monde tangible, mais
elle n'habite pas ce monde. Quelque réalité que l'on suppose donc à
l'espace, ce n'est qu'un fait en dehors de la pensée, et qui n'a rien à faire à
l'être même de l'esprit: forme inévitable, si vous voulez, mais rien que
forme, sous laquelle nous apparaît le monde extérieur. Ainsi, encore
moins que le temps, l'espace ne saurait enfermer l'existence nouvelle
dont il s'agit ici.
Voilà cette vie supérieure vers laquelle l'homme doit tendre; vie de
perfection, de certitude, de clarté, de connaissance infinie, mais, avant
tout, de soumission parfaite; vie qu'il posséda naguère, mais qui lui est
Les lettres philosophiques
93
promise encore. Et savez-vous ce qu'elle est, cette vie? C'est le Ciel: il n'y a
point d'autre ciel que celui-là. Il nous est permis d'y entrer dès à présent,
n'en doutons pas. Ce n'est rien que la complète rénovation de notre
nature, dans l'ordre donné, le dernier terme du labeur de l'être intelligent,
la destinée finale de l'esprit dans le monde. Chacun de nous est-il appelé
à remplir cette immense carrière, chacun de nous touchera-t-il au but
glorieux qui la termine, je l'ignore; mais ce que je sais, c'est que le point
définitif de notre progrès ne saurait être autre qu'une fusion complète de
notre nature avec la nature universelle, car ce n'est que de cette manière
que notre esprit peut s'élever à la perfection des choses qui sont l'énoncé
même de l'intelligence suprême*.
Mais en attendant que nous soyons arrivés au terme de notre
pèlerinage, avant que cette grande combinaison de notre être avec l'être
universel se soit accomplie, ne pouvons-nous pas nous confondre du moins
avec le monde intellectuel? N'avons-nous pas en nous le pouvoir de nous
identifier indéfiniment avec les êtres qui nous ressemblent? N'avons-nous
pas la faculté de nous appliquer leurs besoins, leurs intérêts, de nous
approprier leurs sentiments, et cela au point de ne plus vivre que pour eux,
de ne plus sentir que par eux? Assurément. Sympathie, amour, charité,
de quelque nom que vous appeliez cette capacité singulière que nous
possédons de nous confondre avec ce qui se passe autour de nous, il est
certain qu'elle est inhérente à notre nature. Nous pouvons, si nous le
voulons, si bien nous mêler avec le monde moral qu'il n'y arrive rien, pourvu
que nous en ayons connaissance, que nous ne le ressentions comme une
chose qui adviendrait à nous-mêmes; bien plus: il ne faut pas même que
les événements du monde nous préoccupent extraordinairement; la seule
idée générale, mais profonde, des affaires des hommes, la seule conscience
intime de notre lien réel avec l'humanité, suffit pour faire battre notre
cœur aux destinées de tout le genre humain, à faire accorder chacune
de nos pensées, chacune de nos actions avec les pensées et les actions de
tous les hommes, dans un concert harmonique. En cultivant cette
eminente: propriété de notre nature, en la développant de plus en plus en
* Il faut remarquer ici deux choses: premièrement, que l'on n'a pas voulu dire que
le Ciel est tout entier dans cette vie, mais seulement qu'il commence dès cette vie,
attendu que la mort n'existe plus du jour où elle fut vaincue par le Sauveur;
secondement, qu'il ne s'agit point ici, comme de raison, d'une fusion matérielle dans le temps
et dans l'espace, mais d'une fusion dans l'idée et dans le principe.
94
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
notre âme, nous arriverons à des sommités d'où le reste de la route que
nous avons à parcourir se découvrira à nous tout entier; et bienheureux
les mortels qui, une fois arrivés là, sauront se tenir; à cette hauteur, sans
retomber dans les basses régions d'où ils sont partis! Jusque-là notre
existence n'était qu'une oscillation perpétuelle entre la vie et la mort, une
agonie prolongée; dès ce moment la vie véritable a commencé, dès ce
moment il ne tient plus qu'à nous de cheminer dans les voies du vrai et
du bien, car dès ce moment la loi du monde moral n'est plus pour nous
un mystère impénétrable.
Mais les choses se passent-elles ainsi par le monde? Bien s'en faut.
Cette loi de la nature intelligente, qui ne saurait nous apparaître dans
la vie que si tard et si voilée, vous voyez qu'il ne s'agit point de
l'imaginer, pas plus que la loi physique. Tout ce que nous pouvons faire, c'est
d'avoir l'âme ouverte à cette connaissance alors qu'elle viendra s'offrir
à notre idée. Dans le cours ordinaire des choses, dans la préoccupation
journalière de notre esprit, dans le sommeil habituel de notre âme, la loi
morale se manifeste à nous bien moins clairement que la loi physique:
elle règne sur nous souverainement, il est vrai, elle ordonne chacune
de nos actions, chaque fait de notre raison et, en nous laissant par une
combinaison merveilleuse, par un miracle perpétuel, la conscience de
notre propre activité, elle nous impose une solidarité effrayante pour
chaque chose que nous faisons, pour chaque pulsation de notre cœur,
pour chacun même de ces pensers fugitifs qui ne font qu'effleurer en
courant notre cerveau; mais, malgré cela, elle se dérobe à notre
intelligence dans des ombres profondes. Qu'arrive-t-il? A défaut de connaître
le vrai principe dont il est l'agent, sans le savoir, l'homme se fait sa
propre loi; et cette loi qu'il se prescrit ainsi de son propre chef, c'est ce qu'il
appelle la loi morale, autrement sagesse, souverain bien, loi tout court,
que sais-je*? Et c'est à cette œuvre fragile de ses mains, qu'il est le maître
de briser sitôt que fantaisie lui en prendra, et qu'aussi brise-t-il à chaque
instant du jour, qu'il attribue en son aveuglement tout le positif, tout
l'absolu, tout l'immuable de la véritable loi de son être, principe caché
dont évidemment il ne saurait connaître autre chose, au moyen de sa
seule raison, que l'inévitable nécessité, rien de plus.
* Voyez les Anciens.
Les lettres philosophiques
95
Du reste, bien que la loi morale existe hors de nous, tout comme la loi
physique, et indépendamment de notre connaissance, il y a une différence
essentielle entre ces deux lois. Des multitudes innombrables ont vécu et
vivent encore sans nulle idée des forces matérielles qui meuvent le monde
de la nature; Dieu voulut que la raison de l'homme découvrît tout cela
elle-même, et peu à peu. Mais quelque dégradé que soit l'être intelligent,
si bornées que soient ses facultés, il ne saurait être totalement dépourvu
d'une certaine connaissance du principe qui le fait agir. La délibération, le
jugement supposent nécessairement la notion du bien et du mal; ôtez à
l'homme cette notion, il ne délibérera pas, il ne jugera pas, ce ne sera plus
un être raisonnable: Dieu n'a donc pu nous laisser vivre un seul instant
sans elle; c'est ainsi qu'il nous fit. Et cette imparfaite idée, déposée en notre
âme d'une manière incompréhensible, c'est elle qui fait tout l'homme
intellectuel. Vous venez de voir ce que l'on pourrait tirer de cette idée si l'on
parvenait à la retrouver dans sa pureté native, telle qu'elle nous fut donnée
primitivement; mais il faut voir ce que l'on peut faire en ne cherchant
absolument que dans notre propre nature le principe de tous nos savoirs.
Sakolniky. 1er juin
LETTRE QUATRIÈME
La volonté n'est qu'une manière de penser. Que
l'on s'imagine la volonté comme finie ou comme
infinie, toujours faut-il reconnaître une cause qui la
détermine à agir: elle ne doit donc être envisagée que
comme un principe nécessaire et non comme un
principe libre.
Spinoza. De anima
Nous avons vu que tout phénomène naturel peut être envisagé
comme un syllogisme: mais il peut l'être encore comme un chiffre. Ou l'on fait
chiffrer la nature et on la regarde faire, c'est l'observation; ou l'on chiffre
en abstraction, c'est le calcul; ou bien l'on prend pour unités les quantités
que l'on trouve dans la nature et on calcule avec; alors on applique le
calcul à l'observation, et on complète là science. C'est là tout le cercle de
la connaissance positive. Il faut seulement savoir qu'il n'y a point de quan-
96
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
tités proprement dites dans la nature: s'il y en avait, une résultante
analytique équivaudrait à un Fiat du Créateur, car il ne manquerait rien à sa
certitude parfaite, donc à sa toute-puissance*. L'impuissance c'est l'erreur;
au-dessus de la vérité parfaite il n'y a rien. Il n'est de valeurs réelles, c'est-
à-dire d'unités absolues, que dans notre esprit; dans l'univers il n'y a que
des apparences numériques. Ces apparences sous lesquelles la matérialité
s'offre à nos regards, ce sont elles qui nous donnent les idées des nombres:
voilà la base de la conception mathématique. L'expression numérique des
choses n'est donc qu'un mécanisme idéologique que nous construisons
de ces données fournies par la nature. Nous les transformons d'abord en
abstractions; nous les concevons ensuite comme valeurs; après quoi nous
en faisons ce que nous voulons. La certitude mathématique a donc aussi
sa limite: gardons-nous bien de perdre cela de vue.
Il est certain que, dans l'application aux phénomènes de la nature,
la science des nombres satisfait pleinement au raisonnement empirique
ainsi qu'au besoin matériel de l'homme; mais il s'en faut que, dans
l'ordre abstrait, elle contente de même l'exigence de certitude que ressent
l'esprit. Une raison géométrique fixe, immuable, telle que la conçoivent
la plupart des géomètres, est chose aussi niaise qu'impie. S'il y avait
certitude complète en mathématiques, le nombre serait quelque chose de
réel. Ainsi l'entendaient par exemple les Pythagoriciens, les Cabalistes et
autres gens de même espèce, qui attribuaient aux nombres toutes sortes
de vertus, et qui y trouvaient le principe et la substance de tous les êtres.
Ils étaient parfaitement conséquents: ils concevaient la nature comme
composée de valeurs numériques, et ils ne se souciaient guère d'autre
chose. Mais nous autres qui voyons dans la nature autre chose encore que
des chiffres, nous qui croyons sérieusement à Dieu, lorsque nous nous
avisons d'armer la main du Créateur d'un compas, nous sommes absurdes;
nous oublions que mesure et limite sont la même chose; que l'infini est
le premier attribut de la divinité, celui qui fait pour ainsi dire toute sa
divinité; qu'en faisant de l'Être suprême un géomètre nous lui enlevons
sa nature éternelle et le ravalons à notre niveau. Mais les idées païennes
nous dominent encore à notre insu: voilà ce qui fait que nous tombons
dans ces sortes d'erreurs. Il n'est point vrai que le nombre soit dans la
pensée divine; les créations découlent de Dieu, comme les eaux du tor-
* Ce ne serait plus alors la foi qui transporterait les montagnes, ce serait l'algèbre.
Les lettres philosophiques
97
rent, sans mesure et sans fin; mais il faut à l'homme un point de contact
entre son intelligence bornée et l'infinie intelligence de Dieu, séparées
entre elles par l'immensité: c'est pour cela qu'il aime tant à emprisonner
la puissance divine dans les proportions de sa propre nature. Et voilà
aussi le véritable anthropomorphisme, plus mauvais mille fois que celui
de ces cœurs simples qui, en leur ardeur de s'approcher de Dieu, et faute
de pouvoir se figurer un individu moral autrement fait que celui dont ils
ont la conscience, réduisent la divinité à un être semblable à eux-mêmes.
Les philosophes ne font pas mieux, au fait. «Ils attribuent à Dieu, dit un
grand penseur qui s'y connaissait bien, une raison pareille à celle qu'ils
possèdent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent rien dans leur
propre nature de plus parfait que leur raison. Or, la raison divine étant
la cause de tout, et celle de l'homme n'étant qu'un effet, que peut-il y
avoir de commun entre ces deux raisons? Tout au plus, dit-il, ce qu'il y a
de commun entre la constellation du Chien qui brille au firmament et le
chien qui court dans la rue, le nom seul»*.
Vous voyez que tout le positif des sciences que nous appelons exactes
vient de ce que les objets dont elles s'occupent sont des quantités, c'est-à-
dire des choses limitées. Il est naturel que l'esprit, pouvant embrasser ces
objets complètement, arrive dans leur connaissance à sa plus grande
certitude. Mais vous voyez aussi que, malgré tout ce que nous avons de part
directe dans la production de ces vérités, nous ne les tirons point
pourtant de notre propre fonds. Les premières idées qui nous les suggèrent
nous sont donc données hors de nous. La conséquence logique qui
ressort donc tout d'abord de la nature même de ces connaissances les plus
susceptibles de certitude que nous puissions avoir, c'est qu'elles ne se
rapportent qu'à quelque chose de borné, qu'elles n'originent pas
immédiatement dans notre cerveau, que nous n'exerçons nos facultés, dans cet
ordre d'idées, que sur le fini, et que nous n'y inventons rien. Que si donc
nous voulons appliquer à nos autres connaissances la règle qui s'offre à
nous de là, que trouvons-nous? Que la forme absolue de l'objet connu,
quel qu'il soit, doit être nécessairement celle d'une chose finie; que son
lieu, dans la sphère intellectuelle, doit être en dehors de nous. Telles sont
les conditions naturelles de la certitude. Or, où en sommes-nous d'après
cela vis-à-vis des choses intellectuelles? Premièrement, où est la limite des
* Spinoza.
98
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
données fournies à la psychologie et à la morale? Point de limite.
Secondement, où le fait moral se passe-t-il? En nous-mêmes. Ainsi, la méthode
que suit l'esprit dans l'ordre des idées positives, peut-il en faire usage dans
cet autre ordre? Impossible. Et alors comment arriver à l'évidence? Pour
ma part, je n'en sais rien. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce
raisonnement, tout simple qu'il soit, la philosophie ne l'a jamais fait. Jamais elle n'a
voulu poser nettement cette distinction essentielle entre les deux sphères
de la connaissance humaine; toujours elle a confondu le fini avec l'infini,
le visible avec l'invisible, ce qui tombe sous les sens avec ce qui n'y tombe
pas. Et si parfois elle a changé de langage, dans le fond de sa pensée elle
n'a jamais douté un instant que l'on ne pût connaître le monde moral,
tout comme le monde physique, en l'étudiant l'instrument à la main, en
calculant, en mesurant les dimensions intellectuelles comme les
matérielles, en expérimentant sur l'être intelligent comme sur l'être inanimé.
Etrange paresse de l'esprit humain! Pour se débarrasser du labeur qu'exige
l'intelligence claire du monde supérieur, il dénature ce monde, il se
dénature lui-même, et puis va toujours son chemin, comme si de rien n'était.
Nous verrons pourquoi il agit de la sorte.
Il ne faut pas s'imaginer non plus que dans les sciences naturelles tout
n'est qu'observation et expérience. Un des secrets de leurs belles méthodes,
c'est que l'on n'y observe que ce qui peut être véritablement objet
d'observation. Principe négatif, si vous voulez, mais plus puissant, plus fécond
que le principe positif même. C'est à ce principe que la chimie nouvelle
doit son progrès; c'est ce principe qui fait dans la physique générale cette
horreur de la métaphysique, devenue depuis Newton sa principale règle
et le fond de sa méthode. Or, que veut dire cela? Rien autre chose sinon
que la perfection de ces sciences, toutes leurs puissances, viennent de ce
qu'elles savent se circonscrire parfaitement dans le cercle légitime, voilà
tout. Quant au procédé même de l'observation, quel est-il? Que faisons-
nous lorsque nous observons le mouvement des astres sur la voûte des
cieux, ou celui des forces vitales dans l'être organisé; lorsque nous
étudions les puissances qui meuvent les corps, ou celles qui agitent les
molécules intégrantes dont ils sont formés; lorsque nous traitons chimie,
astronomie, physique, physiologie? Nous concluons de ce qui a été à ce qui
va être, nous lions les faits qui se suivent immédiatement dans la nature,
et nous déduisons le résultat prochain. C'est là l'orbe obligé de la
méthode expérimentale. Mais, dans l'ordre moral, connaissez-vous quelque
Les lettres philosophiques
99
chose qui se fasse en vertu d'une loi constante, irrévocable, qui donnerait
lieu à conclure de même manière d'un fait à un autre fait, et préjuger ainsi
avec certitude de la chose postérieure par la chose antérieure? Rien de tel.
Tout ne s'y fait, au contraire, qu'en vertu de volontés libres, divergentes,
qui ne reconnaissent de règle que leur caprice; tout y est l'effet du vouloir
et de la liberté de l'homme. La méthode expérimentale à quoi y servirait-
elle donc? A rien du tout.
Telle est la leçon que nous donne la marche naturelle de l'esprit
humain dans la sphère de connaissance où il lui est donné d'atteindre à
ses plus hautes certitudes. Passons à l'enseignement qui ressort de cette
connaissance même.
Les sciences positives ont été cultivées de tout temps, comme de
raison; mais vous savez que ce n'est que depuis un siècle qu'elles se sont
élevées tout à coup à la portée où nous les voyons aujourd'hui. Telles
qu'elles sont faites maintenant, trois choses leur imprimèrent l'essor qui
les porta si rapidement à cette hauteur: l'analyse, créée par Descartes,
Г observation, par Bacon, la géométrie céleste, par Newton. L'analyse,
circonscrite entièrement dans l'ordre mathématique, ne nous regarde pas;
remarquez seulement qu'elle a fait entrer dans les sciences morales un
élément de rigueur fausse qui a nui prodigieusement à leurs progrès. La
manière nouvelle de traiter les sciences naturelles, conçue par Bacon, est
de la plus haute importance pour toute la philosophie, car c'est elle qui
lui a donné cette tendance empirique qui fit si longtemps tout le
caractère de la pensée moderne. Mais, dans l'étude que nous faisons, c'est la loi
en vertu de laquelle tous les corps gravitent vers un centre commun qui
nous intéresse spécialement: c'est donc cette loi qui doit nous occuper.
Il semble d'abord que la gravité universelle absorbe en elle toutes les
forces de la nature: elle n'est point cependant la force unique de la
nature; et c'est précisément pour cela que la loi à laquelle elle obéit est si
profonde dans notre point de vue. L'attraction toute seul non seulement
n'explique pas le monde, mais elle n'explique rien du tout: à elle seule
elle ne ferait de toute la matérialité qu'une masse informe et inerte. Tout
mouvement dans la nature est le produit de deux puissances sollicitant
le mobile dans deux directions différentes, et c'est surtout dans le
mouvement cosmique que ce principe se voit le plus clairement. Mais, les
astronomes ayant une fois reconnu que les corps célestes sont assujettis à
la loi de la pesanteur, et les effets de cette loi pouvant être évalués avec
100
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
précision, tout le système du monde est devenu un problème de
géométrie, et c'est sous le seul nom d'Attraction ou de Gravité universelle que
l'on conçoit aujourd'hui, par une espèce de fiction mathématique, la loi
la plus générale de la nature. Cette autre force sans laquelle la pesanteur
ne servirait de rien, c'est ^Impulsion initiale, ou la Projection. Voici donc
les deux puissances motrices de la nature: la Gravité ti h Projection. Dans
l'idée nette de l'action simultanée de ces deux puissances, telle que la
science nous la donne, est contenue toute la doctrine du Parallélisme des
deux mondes: il ne s'agit à cette heure que de l'assimiler à la combinaison
des deux puissances que nous avons précédemment reconnues dans
l'ordre intellectuel, l'une dont nous avons la conscience, notre libre arbitre,
notre vouloir, l'autre qui nous domine à notre insu, l'action $ un pouvoir
extérieur sur notre être, et de voir ce qui en résultera*.
Nous connaissons l'Attraction dans une infinité de ses effets: elle se
produit devant nos yeux perpétuellement; nous la mesurons; nous en
avons une connaissance parfaitement certaine. Ceci, comme vous voyez,
correspond à merveille à l'idée que nous avons de notre propre pouvoir.
De l'Impulsion, nous ne connaissons que sa nécessité absolue, de même
* Il est certain que les applications de la loi découverte par Newton sont immenses
dans l'ordre des choses tangibles, et qu'elles deviendront de jour en jour plus
nombreuses encore; mais il ne faut pas oublier que la loi de la chute des graves a été
trouvée par Galilée, et celle du mouvement planétaire par Kepler. Newton n'eut donc que
l'heureuse inspiration de lier l'une de ces lois à l'autre. Tout ce qui regarde d'ailleurs
cette célèbre découverte est important. Un illustre géomètre, par exemple, regrettait
que nous ignorions certaines formules dont Newton s'est servi dans son travail. C'était
fort bien: nul doute que la science n'eût infiniment gagné à retrouver ces talismans du
génie. Mais peut-on croire sérieusement que tout le secret du génie de Newton, toutes
ses puissances ne se révèlent qu'en ses procédés mathématiques? Ne savons-nous pas
qu'il y avait encore autre chose, dans cette haute intelligence, que la capacité du calcul?
Je vous le demande. Jamais pensée de la proportion de celle dont il s'agit ici vint-elle
à une raison impie? Jamais vérité de cette grandeur fut-elle donnée au monde par un
esprit incrédule? Et comment s'imaginer que, lorsque Newton, fuyant l'épidémie qui
ravageait Londres, se réfugiait à Cambridge et que, là, la loi de la matérialité venait à
luire à son esprit et le voile de la nature se déchirait devant lui, il n'y avait que chiffres
en son âme pieuse? Chose singulière! Il est encore des gens par le monde qui ne
sauraient comprimer un sourire de pitié quand ils songent à Newton commentant
l'Apocalypse. On ne voit pas que c'est le Newton tel qu'il a été, le génie aussi soumis que
vaste, aussi humble que puissant, qui a seul pu faire les grandes découvertes dont se
glorifie l'humaine espèce entière, et jamais l'homme présomptueux que l'on voudrait
qu'il fût. Encore une fois, où donc a-t-on vu, je ne dis pas l'athée, mais l'esprit
seulement froid à la religion, reculer comme lui la science au-delà des bornes qui
semblaient lui être prescrites?
Les lettres philosophiques
101
que nous n'en connaissons pas davantage de l'action divine sur notre
âme. Cependant nous sommes tout aussi convaincus de l'une de ces forces
que de l'autre. Ainsi, dans les deux cas, connaissance nette et précise
d'une chose, connaissance vague et obscure de l'autre, certitude parfaite
pour toutes les deux. Telle est l'application immédiate de cette façon de
se figurer l'ordre matériel du monde, et vous voyez qu'elle s'offre tout
naturellement à l'esprit. Mais il faut encore considérer que l'analyse
astronomique étend la loi de notre système solaire à tous les systèmes sidéraux
qui remplissent les espaces du ciel; que la théorie moléculaire en fait la
cause de la formation même des corps; et que nous sommes parfaitement
autorisés à regarder la loi de notre système comme une condition
universelle de toute la création, ou peu s'en faut: alors ce point de vue devient
d'une portée immense.
D'ailleurs, toutes les lignes que nous traçons entre les différents êtres,
toutes les distinctions imaginaires que nous établissons entre eux, pour
notre commodité, et selon notre bon plaisir, tout cela n'est-il pas
absolument nul à l'égard du principe créateur? N'avons-nous pas, quoi que
nous fassions, le sentiment intime d'une réalité supérieure à l'apparente
réalité qui nous environne? Et cette autre réalité n'est-elle pas la seule
véritablement réelle, la réalité objective, qui embrasse l'être tout entier
et nous confond nous-mêmes dans l'unité générale? Là s'abîment donc
toutes les différences, toutes les limites que pose l'esprit en raison de son
imperfection et de la borne de sa nature; et dès lors il n'y a plus dans
toute l'infinité des choses qu'un seul fait unique et universel. En effet, le
sentiment intime de notre propre nature, tout autant que la vue de
l'univers, ne saurait nous faire concevoir l'être créé autrement que dans un
état de motion continuelle. Voilà le fait universel. L'idée du mouvement
doit donc naturellement précéder en philosophie toute autre idée. Mais
cette idée, c'est à la géométrie qu'il faut la demander, car ce n'est que là
qu'on la trouve dépouillée de toute métaphysique arbitraire, ce n'est que
dans le mouvement linéaire que nous pouvons recueillir la notion
absolue de tout mouvement quelconque. Eh bien! Le géomètre ne saurait se
figurer d'autre mouvement qu'un mouvement communiqué. Il est donc
obligé de poser, avant tout, que la chose mue est inerte de soi, et que
tout mouvement est l'effet d'une impulsion imprimée du dehors. Dans la
plus haute abstraction, tout comme dans la nature, nous sommes donc
toujours ramenés à une action extérieure et primitive, sans égard à l'objet
102
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
considéré. L'idée d'une action distincte de tout pouvoir, de toute cause se
trouvant dans la chose même en laquelle s'opère le mouvement, est donc
logiquement inséparable de l'idée même du mouvement. Et voilà aussi
pourquoi l'esprit humain a tant de peine à se débarrasser de cette vieille
erreur que toutes ses idées lui viennent par les sens. C'est tout simple: il
n'y a rien au monde dont nous soyons plus portés à douter que de notre
propre pouvoir; ce qu'il y a donc de positivement absurde dans le système
sensualiste, c'est seulement qu'il attribue à la chose matérielle une action
immédiate sur la chose immatérielle, faisant ainsi choquer les corps avec
les intelligences, au lieu de mettre en contact choses de même nature,
comme dans l'ordre physique, c'est-à-dire intelligences avec intelligences.
Enfin, comprenons-le bien: dans l'idée pure du mouvement, la
matérialité ne signifie absolument rien; toute la différence entre le mouvement
matériel et le mouvement moral consiste en ce que les éléments de l'un
sont l'espace et le temps, tandis que le temps seul est l'élément de l'autre;
or, il est évident que la seule idée de temps suffit pour nous donner celle
du mouvement. La loi du mouvement est donc la loi de l'universalité des
choses, et ce que nous avons dit du mouvement physique s'applique
parfaitement au mouvement intellectuel ou moral.
Que faut-il conclure de tout cela? Qu'il n'y a nulle difficulté à
concevoir le propre procédé de l'homme comme un principe occasionnel,
comme une puissance qui n'agit qu'en vertu de sa combinaison avec une
autre puissance supérieure, de même manière que la force d'attraction
n'agit qu'en se combinant avec la force de projection. C'est là où nous en
voulions venir.
On croira peut-être qu'il n'y a point de place dans ce système pour
la philosophie du moi Ce serait une erreur. Elle s'arrange au contraire
fort bien avec ce système; seulement elle y est réduite à sa juste valeur,
voilà tout. De ce que nous venons de dire de la double action qui régit
les mondes, il ne résulte en aucune façon que notre propre activité soit
nulle: il est donc fort utile de méditer le pouvoir que nous possédons et
de chercher à nous en rendre le meilleur compte possible. L'homme est
poussé incessamment par une puissance dont il n'a point le sentiment,
c'est vrai; mais c'est au moyen de la connaissance que cette action
extérieure s'exerce sur lui; ainsi, de quelque manière que me vienne l'idée que
je trouve dans ma tête, c'est parce que je la connais, cette idée, que je l'y
trouve. Or, connaître c'est agir. J'agis donc véritablement et sans cesse, en
Les lettres philosophiques
103
même temps que je suis dominé par quelque chose de plus puissant que
moi, je connais. Un fait ne détruit pas l'autre; ils se suivent sans se nier;
l'un m'est tout aussi bien démontré que l'autre. Que si l'on me demande
comment cette action agit sur moi du dehors, c'est une tout autre
question; et vous sentez bien que ce n'est point ici le moment de la traiter:
à une philosophie plus haute à y répondre. La raison commune n'a pas
autre chose à faire qu'à montrer l'action extérieure, et à la poser comme
l'une de ses croyances fondamentales: le reste ne la regarde pas. Mais qui
ne sait comment les pensées étrangères s'introduisent dans notre
intelligence? comment nous nous soumettons aux avis, aux opinions des
autres? Quel est l'homme réfléchissant qui ne conçoive fort bien le
mécanisme d'une raison subordonnée à une autre raison, et qui néanmoins
conserve tout son pouvoir, toutes ses facultés? Il est donc certain que le
grand problème du libre arbitre, tout abstrus qu'il soit, n'offrirait guère de
difficulté si l'on savait seulement se bien pénétrer de l'idée que la nature
de l'être intelligent ne consiste que dans la connaissance, et que, tant que
l'être intelligent connaît, il ne perd rien de sa nature, n'importe de quelle
manière lui vienne la connaissance.
Le fait est que l'école écossaise, qui a si longtemps régenté le monde
philosophique, a déplacé toutes les questions de l'Idéologie. Vous savez
qu'elle prétend donner l'origine de chaque pensée humaine et tout
expliquer en montrant le fil qui lie la perception actuelle à la perception
précédente. Une fois arrivés à l'origine d'un certain nombre d'idées au
moyen de leur association, on a conclu que tout ce qui se passe dans
notre intelligence est produit par ce principe-là, et dès lors on n'a plus voulu
tenir compte de rien autre chose. On s'est donc figuré que tout se réduit
au fait de conscience, et sur ce fait s'est élevée la psychologie empirique.
Mais, je vous le demande, y a-t-il rien au monde dont nous ayons plus le
sentiment que de la production incessante d'idées dans notre cerveau, à
laquelle nous n'avons nulle sorte de part? Y a-t-il une chose dont nous
soyons plus assurés que de ce travail continu de notre intelligence, qui se
fait sans que nous y soyons absolument pour rien? Du reste, le problème
n'en serait pas plus résolu si l'on était même parvenu à ramener toutes
nos idées à un seul faisceau d'idées dont la source nous fût parfaitement
connue. Il ne se passe rien sans doute dans nos esprits qui ne soit en
rapport d'une manière ou d'[une] autre avec ce qui s'y est passé
précédemment; mais il ne s'ensuit nullement que chaque mutation de ma pen-
104
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
sée, chaque forme qu'elle prend tour à tour, se produise par mon propre
pouvoir: il y a donc la lieu encore à une immense action parfaitement
distincte de la mienne. La théorie empirique ne fait donc tout au plus que
constater certains phénomènes de notre nature; quant au phénomène
général, elle n'en rend pas compte du tout.
Enfin l'action propre de l'homme n'est véritablement telle qu'alors
qu'elle est conforme à la loi. Toutes les fois que nous agissons
contrairement à la loi, ce n'est plus nous-mêmes qui nous déterminons, ce sont les
choses autour de nous qui nous déterminent. Quand nous nous
abandonnons à ces influences étrangères, quand nous sortons de la loi, nous nous
anéantissons. Mais, dans notre soumission au pouvoir divin, nous n'avons
jamais la conscience parfaite de ce pouvoir; il ne saurait donc jamais
empiéter sur notre liberté. Notre liberté ne consiste donc qu'en ce que nous
n'avons pas le sentiment de notre dépendance: il n'en faut pas davantage
pour que nous nous considérions comme parfaitement libres, et comme
solidaires de chaque chose que nous faisons, de chaque idée que nous
pensons. Malheureusement ce n'est pas ainsi que l'homme conçoit sa
liberté: il se croit libre, dit Job, comme le petit de Г âne sauvage.
Oui, je suis libre, comment en douterais-je? Au moment où j'écris ces
lignes, ne sais-je pas que je suis le maître de ne pas les écrire? Si une
providence a irrévocablement ordonné de moi, qu'importe si son pouvoir ne
m'est point sensible? Mais une idée vient s'associer à celle de ma liberté,
une idée effrayante, la terrible, l'inexorable conséquence, l'abus de ma
liberté et le mal qui en est la suite. Supposons qu'une seule molécule
de la matière vînt à s'imprimer une fois un mouvement volontaire; que,
par exemple, au lieu de tendre vers le centre de son système, elle déviât
de la moindre chose du rayon où elle est située. Qu'arriverait-il? Toute
l'économie du monde ne se troublerait-elle pas aussitôt? Chaque atome
dans les infinis espaces ne se trouverait-il pas déplacé? Plus que cela, tous
les corps ne s'entrechoqueraient-ils pas à l'aventure et ne s'entre-détrui-
raient-ils pas? Eh bien, concevez-vous que c'est là ce que chacun de nous
fait à chaque instant du jour? Nous ne faisons pas autre chose que nous
imprimer des mouvements volontaires, et à chaque fois nous ébranlons
l'univers entier; et ce ne sont point seulement nos mouvements
extérieurs qui causent cet épouvantable ravage au sein de la création, c'est
chaque pulsation de notre âme, chacune de nos pensées les plus intimes.
Tel est le spectacle que nous offrons à l'Être suprême. D'où vient qu'il le
Les lettres philosophiques
105
souffre? D'où vient qu'il ne balaye pas de l'espace ce monde de
créatures révoltées? Chose encore plus étrange, pourquoi leur avoir donné ce
pouvoir formidable? Il l'a voulu ainsi. Faisons, a-t-il dit, ГЬотте à notre
image et à notre ressemblance. Cette image de Dieu, cette ressemblance
avec lui, c'est notre liberté. Mais, créatures si singulièrement faites, nous
sommes faits aussi de manière à ce que nous sachions que nous résistons
à notre Créateur. Comment donc douter que, s'il a voulu nous revêtir de
cette étonnante puissance qui semble contredire tout l'ordre du monde,
il n'ait voulu aussi la régler et nous éclairer sur l'usage que nous devons
en faire? Toute l'humanité d'abord, personnifiée dans celui qui contenait
en lui toutes les générations futures, a entendu la parole de Dieu; ensuite
Dieu daigna éclairer quelques hommes choisis, afin qu'ils conservassent
la vérité sur la terre; enfin il a jugé digne l'un d'entre nous d'être investi
de toute son autorité, d'être initié a tous ses secrets, tellement qu'il ne fut
qu'un avec lui, et il l'a chargé de nous faire connaître tout ce qu'il nous
est possible de savoir du mystère divin. Voilà ce que nous apprend la
doctrine sacrée. Mais notre raison ne nous dit-elle pas la même chose? Si
Dieu ne nous instruisait, le monde, nous-mêmes, rien pourrait-il subsister
un instant? Tout ne retomberait-il pas aussitôt dans le chaos? Oui, certes;
et dès que notre raison ne s'aveugle point par sa trompeuse confiance
en elle-même, dès qu'elle ne s'abîme pas tout entière en son orgueil, elle
nous dit précisément ce que nous dit la foi, à savoir que Dieu a dû
nécessairement instruire et conduire l'homme du premier jour de sa création,
qu'il n'a jamais cessé de l'instruire et de le conduire, qu'il ne cessera jamais
de le faire jusqu'à la consommation des siècles.
Sakolniky. 30 juin
LETTRE CINQUIÈME
Much of the soul they talk, but all awry.
Milton
Vous voyez que tout nous ramène à ce principe absolu que la raison
de l'homme ne saurait se donner une loi à elle-même, pas plus qu'elle n'en
saurait donner une à toute autre chose créée. Comme la loi de la nature
106
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
physique, la loi de la nature morale nous est donc donnée une fois pour
toutes: si nous trouvons l'une toute faite, il n'y a nulle raison que nous
ne trouvions l'autre toute faite aussi. Mais telle la lumière de ces soleils
qui roulent en d'autres cieux, mais dont le rayon nous parvient pourtant
quoique affaibli, telle la lumière de la loi morale nous luit aussi d'une
région lointaine et ignorée: à nous d'avoir l'œil ouvert pour la recevoir alors
qu'elle vient à briller devant nous. Vous avez vu que nous sommes arrivés
à ces résultats par des inductions logiques qui nous ont fait découvrir
certaines identités entre l'ordre matériel et l'ordre intellectuel. La
psychologie de l'école part à peu près du même point, mais elle n'arrive pas aux
mêmes conséquences. Elle ne prend à la science de la nature que
l'observation, c'est-à-dire ce qu'il y a de moins applicable à l'objet de son étude.
Au lieu donc de s'élever à la véritable unité des choses, elle ne fait que
confondre ce qui doit demeurer éternellement séparé; au lieu de trouver
la loi, elle trouve le chaos. Sans doute il existe une unité absolue dans
l'ensemble des êtres; et c'est précisément ce que nous-mêmes nous
cherchons à démontrer de notre mieux; il y a plus: c'est là le credo de toute
saine philosophie. Mais cette unité, c'est l'unité objective, complètement
en dehors de la réalité sensible; fait immense sans doute, qui répand une
lumière ineffable sur le grand Tout, qui donne la logique des causes et des
fins, mais qui n'a rien de commun avec cette espèce de panthéisme que
professent la plupart des philosophes de nos jours, doctrine funeste qui
colore aujourd'hui de sa teinte fausse tous les systèmes philosophiques,
qui fait qu'il n'y a plus aujourd'hui de système quelconque qui, malgré
ses belles promesses de spiritualisme, ne finisse par traiter le fait spirituel
exactement comme s'il avait affaire au fait matériel.
L'esprit par sa nature tend à l'unité: mais malheureusement on n'a pas
encore bien compris en quoi consiste l'unité réelle des choses. Pour vous
en convaincre, voyez comment la généralité des esprits conçoit la durée de
l'âme. Un Dieu éternel et une âme éternelle comme lui, un infini absolu et
un autre infini absolu en présence de celui-là, est-ce chose possible?
L'infini absolu n'est-ce point la perfection absolue? Comment donc y aurait-il
deux êtres éternels, deux êtres parfaits l'un en face de l'autre? Mais voici
le fait. Comme il n'y a nul motif légitime d'admettre, dans l'être formé
d'intelligence et de matière, l'anéantissement simultané des deux natures
qui le composent, il était naturel que l'esprit humain en vînt à l'idée de la
survivance de l'une de ces natures à l'autre. Mais c'est à quoi il fallait s'en
Les lettres philosophiques
107
tenir. Que je vive cent mille ans après ce moment que j'appelle la mort,
et qui n'est rien qu'un phénomène physique n'ayant rien à faire à mon
être intellectuel, il y a loin encore de là à l'éternité. Et, comme toutes les
idées instinctives de l'homme, l'idée de l'immortalité de l'âme fut simple
et raisonnable d'abord; mais, une fois tombée sur le sol trop fécond de
l'Orient, elle y grandit démesurément et, toujours grandissant, elle arriva
un jour à ce dogme impie qui confond la créature avec le Créateur, qui
rompt la ligne qui les sépare à tout jamais, qui accable l'esprit du poids
immense d'un avenir sans terme, et qui mêle et brouille tout. Après cela, en
s'introduisant dans le christianisme à la suite de maintes choses qu'il hérita
des païens, elle se donna tout l'appui de cette puissance nouvelle, et c'est
ainsi qu'elle parvint à subjuguer complètement le cœur humain. Personne
n'ignore cependant que la religion chrétienne considère la vie éternelle
comme la récompense d'une vie parfaitement sainte; si donc il faut
mériter la vie éternelle, il est clair qu'il ne faut pas l'avoir possédée auparavant;
si la vie éternelle n'est que le prix d'une vie parfaite, comment se
trouverait-elle au bout d'une existence passée dans le péché? Chose étonnante!
Éclairé par la plus haute des lumières, l'esprit humain ne peut, malgré cela,
se saisir de la vérité complète: toujours il oscille entre le vrai et le faux. Il
faut le dire, toute philosophie se renferme nécessairement dans un certain
cercle fatal, d'où il lui est impossible de sortir. En morale, c'est toujours une
loi qu'elle se prescrit elle-même d'abord, et à laquelle ensuite elle se met à
obéir on ne sait ni comment ni pourquoi; en métaphysique, c'est toujours
un principe qu'elle pose premièrement, et dont elle fait découler ensuite
tout un monde de choses de sa création. C'est donc toujours une pétition
de principe; mais elle est inévitable: autrement, qu'aurait la raison à faire
dans tout cela? Rien du tout, cela est évident.
Voici, par exemple, comment procède la philosophie la plus positive,
la plus rigoureuse de notre temps. Elle commence par poser en fait que,
notre raison étant l'instrument donné de la connaissance, c'est notre
raison qu'il faut avant tout apprendre à connaître: sans cela, dit-elle, pas
moyen d'en faire un usage convenable. Après cela elle se mit à disséquer,
à dépecer cette raison de son mieux. Or, ce travail préliminaire, ce
travail indispensable, cette anatomie de l'intelligence, avec quoi le fait-elle?
N'est-ce pas avec cette même raison? Ainsi, réduite dans sa toute première
et sa plus importante opération à un outil dont elle ne sait pas encore
se servir, d'après son propre aveu, comment fera-t-elle pour arriver à la
108
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
connaissance qu'elle recherche? On ne le conçoit pas. Mais ce n'est pas
tout. Plus sûre de son fait que toutes les philosophies qui l'ont précédée,
elle déclare qu'il faut traiter l'esprit absolument comme les objets
extérieurs. Le même œil donc avec lequel vous voyez le monde, vous fera voir
aussi votre propre être; comme vous posez le monde devant vous, de
même vous pouvez vous poser vous-mêmes devant vous; comme vous
méditez sur le monde, comme vous expérimentez sur le monde, méditez,
expérimentez sur votre propre être. La loi d'identité étant commune à la
nature et à l'intelligence, vous pouvez opérer de même manière sur l'une
et sur l'autre: si vous concluez d'une série de phénomènes identiques,
dans l'ordre matériel, à un phénomène général, qui vous empêche de
conclure de même façon, dans l'ordre intellectuel, d'une suite de faits
semblables à un fait universel? Comme le fait physique vous est connu
d'avance, vous pouvez prévoir le fait moral avec la même certitude: il n'y
qu'à agir en psychologie comme on agit en physique. Telle est la
philosophie empirique. Heureusement cette philosophie n'est plus aujourd'hui
que la pensée individuelle de quelques esprits paresseux qui s'obstinent
encore à demeurer dans leurs vieilles ornières.
Une lumière nouvelle pointe déjà à travers nos obscurités, et tout ce
qui se passe aujourd'hui dans la région philosophique, jusqu'à cet
Éclectisme si bénévole, si officieux qu'il semble n'aspirer qu'à s'effacer lui-
même tout concourt à nous ramener dans de meilleures voies. Parmi les
sagesses du jour, il en est [une] surtout qu'il faut distinguer des autres.
C'est une espèce de Platonisme subtil, création récente de la profonde
et rêveuse Germanie; c'est un Idéalisme transcendant, tout plein d'une
haute poésie rationnelle, et qui a fait déjà branler sur sa base l'antique
édifice des superstitions philosophiques. Mais il ne vit encore que dans
les sphères éthérées où l'on a de la peine à respirer. A le voir planer dans
son atmosphère diaphane, tantôt éclairé par je ne sais quelle lumière
douce et suave, tantôt s'éclipser dans un crépuscule douteux ou sombre,
on dirait un de ces mirages fantastiques qui flottent parfois au ciel du
midi et disparaissent l'instant d'après sans laisser de trace ni dans les
airs ni dans le souvenir. Espérons que cette belle et grandiose pensée
descendra bientôt dans la région habitable: alors nous la saluerons de
nos plus vives sympathies. En attendant, laissons-la poursuivre sa course
vagabonde, et nous, continuons la route plus sûre que nous nous
sommes tracée.
Les lettres philosophiques
109
Que si donc nous avons conçu le mouvement du monde moral comme
étant l'effet d'une impulsion primitive tout comme celui du monde
physique, ne suit-il pas de là que ces deux mouvements, dans leur continuité,
sont soumis aussi aux mêmes lois, et que par conséquent tous les
phénomènes de l'intelligence ne sont que le résultat de cette analogie? De
même donc que le choc des corps continue dans la nature cette première
impulsion communiquée à la matière, c'est le choc des intelligences qui
continue le mouvement de l'esprit; de même que chaque chose dans la
nature est liée à tout ce qui la précède et à tout ce qui la suit, chaque
individu humain et chaque pensée humaine sont liés à tous les êtres humains
et à toutes les pensées humaines qui les ont précédés et qui les suivront;
comme la nature est une, toute la suite des hommes, selon l'expression
pittoresque de Pascal, est un seul homme qui existe toujours, et chacun
de nous participe directement à l'œuvre intellectuelle qui se consomme à
travers les siècles. Enfin, de même qu'un certain travail plastique et
perpétuel des éléments matériels ou des atomes, c'est-à-dire la génération des
êtres physiques, constitue la nature matérielle, de même un travail
semblable des éléments intellectuels ou des idées, c'est-à-dire la génération
des esprits, constitue la nature intelligente; et de même que je conçois
toute la matière tangible comme un seul tout, je dois concevoir aussi
l'ensemble des intelligences comme une seule et unique intelligence.
Le principal véhicule de la procréation des esprits est, comme de
raison, la parole: sans elle on ne saurait s'imaginer ni l'origine de
l'intelligence dans l'individu ni son développement dans le genre humain.
Mais la parole seule ne suffit pas pour produire le grand phénomène
de l'intelligence universelle; il s'en faut qu'elle fasse toute la
communication entre les hommes, et par conséquent qu'elle comprenne toute
l'action intellectuelle s'exerçant dans le monde. Mille liens invisibles
unissent les pensées d'un être raisonnable à celles d'un autre; nos
pensées les plus intimes trouvent toutes sortes de moyens de se reproduire
au-dehors; en se répandant, en se croisant, elles se confondent, se
combinent, passent d'un esprit à l'autre, germent, fructifient, et finalement
engendrent la raison générale. Une idée quelquefois en se manifestant
ne semble causer aucune impression sur les objets environnants;
cependant le mouvement a été communiqué, le choc a eu lieu; en son temps
elle trouvera une pensée affine qu'elle ébranlera par son attouchement,
et alors vous la verrez reparaître au jour et produire quelque surprenant
по
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
effet dans le monde intellectuel. Vous connaissez cette expérience de
physique: on suspend plusieurs boules sur un fil horizontal; on écarte la
première; c'est la dernière qui part, les intermédiaires restant en repos.
Voilà comment l'idée se transmet à travers les cerveaux des hommes*.
Que de pensées grandes et belles, parties de je ne sais où, ont envahi
des multitudes et des générations sans nombre! Que de hautes vérités
vivent, agissent, régnent ou brillent parmi nous, puissances formidables
ou lumières éclatantes, sans que l'on sache ni d'où elles sont venues ni
comment elles ont parcouru les temps et les espaces. «La nature, dit
quelque part Cicéron, a disposé la face humaine pour représenter les
sentiments cachés de notre cœur: quelque affection que nous
éprouvions, nos yeux la rendent toujours». Cela est parfaitement vrai; tout
dans l'être intelligent traduit sa pensée intime: l'homme tout entier
se communique à son semblable, et ainsi s'engendrent les
intelligences. Car l'intelligence ne se produit pas plus miraculeusement qu'autre
chose: c'est une génération comme une autre. Une seule et même loi
préside à toute production de quelque nature qu'elle soit; rien ne
s'engendre que par le contact ou la fusion des êtres; nulle force, nul
pouvoir n'agit d'une manière isolée. Il faut seulement remarquer que le fait
même de la génération se passe dans une certaine région soustraite
à notre perception directe. Ainsi, comme dans le monde physique où
vous voyez les effets des différentes puissances de la nature telles que
l'attraction, l'assimilation, l'affinité, etc., mais où vous arrivez en dernier
résultat à un fait insaisissable, à l'acte qui confère la vie physique, de
même dans le monde intelligent on voit bien les effets des différentes
puissances humaines, mais en définitive on arrive à une chose qui sort
du domaine de notre perception immédiate, à l'acte qui confère la vie
intellectuelle.
Quant à cette intelligence universelle qui répond à la matière
universelle, au sein de laquelle s'opèrent les phénomènes moraux comme
les phénomènes physiques s'opèrent au sein de la matérialité, c'est tout
simplement la somme de toutes les idées qui vivent dans le souvenir hu-
* On sait que la fameuse démonstration de l'existence de Dieu attribuée à
Descartes fut inventée par saint Anselme au Xle siècle. Elle était restée enfouie dans un
coin de l'esprit humain depuis tantôt cinq cents ans quand Descartes vint et la livra à
la philosophie.
Les lettres philosophiques
111
main. Il faut que l'idée traverse un certain nombre de générations pour
devenir le patrimoine de l'humanité: en d'autres termes, l'idée ne tombe
dans le domaine de la raison générale qu'à l'état de tradition. Mais il ne
s'agit point ici des traditions seules que l'histoire et la science fournissent
à l'esprit humain, et qui ne font qu'une partie du souvenir universel. Il
en est qui ne furent jamais ni récitées devant les peuples assemblés, ni
chantées par des rhapsodes; qui ne furent jamais tracées ni sur la colonne
ni sur le parchemin; dont les dates ne furent jamais vérifiées par le calcul
et par le cours des astres; que la critique ne pesa jamais dans sa balance
partiale; mais qu'une main inconnue dépose dans l'intérieur des âmes,
que le premier sourire de la mère, la première caresse du père apportent
au cœur nouveau-né. Voilà les souvenirs puissants dans lesquels se
résume l'expérience des âges: chaque individu les recueille avec l'air qu'il
respire. C'est le milieu dans lequel s'accomplissent toutes les merveilles
de l'intelligence. Sans doute cette expérience cachée des temps n'arrive
point complète à chaque fraction humaine; mais elle forme la substance
intellectuelle de l'univers, elle coule dans le sang des races humaines, elle
s'incorpore avec leur fibre, enfin elle continue ces autres traditions plus
mystérieuses encore, sans origine sur la terre, qui ont servi de point de
départ à toutes les sociétés. C'est un fait connu que, dans la tribu la plus
isolée du grand mouvement du monde, on trouve toujours un certain
nombre de notions plus ou moins nettes sur l'Être suprême, sur le bien
et le mal, sur le juste et l'injuste: sans ces notions, elle n'aurait pas pu
subsister, pas plus que sans les aliments grossiers que lui fournissent le sol
qu'elle foule, les arbres qui l'abritent. D'où lui viennent-elles? Personne ne
le sait: des traditions, voilà tout; il n'y a pas moyen de remonter à leur
origine: les enfants les ont apprises de leurs pères et mères, c'est là toute leur
généalogie. Ensuite les siècles viennent descendre sur ces idées primitives,
l'expérience s'accumule sur elles, la science s'édifie sur elles, l'esprit
humain grandit sur cette base invisible, et voilà comment on arrive par la
voie du fait au même point où nous a conduit le raisonnement, à cette
impulsion initiale sans laquelle, nous l'avons vu, rien ne bougerait dans la
nature, et qui est tout aussi nécessaire ici que là.
Et dites-moi, je vous prie, concevez-vous un être intelligent sans nulle
idée quelconque? Concevez-vous dans l'homme une raison avant qu'il en
ait fait usage? Pouvez-vous vous imaginer quelque chose, dans la tête d'un
enfant, d'antérieur à ce qui lui a été enseigné par ceux qui assistèrent à
112
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
son entrée dans la vie? On a vu des enfants ramassés parmi les bêtes de
la forêt, dont ils partageaient les moeurs, recouvrer ensuite leurs facultés
mentales; mais ces enfants n'avaient pas été abandonnés dès les premiers
jours de leur existence. Le petit de l'animal le plus robuste périrait
infailliblement s'il était délaissé par la femelle aussitôt que mis bas; l'homme, de
tous les animaux le plus faible, ne pouvant se passer d'allaitement pendant
six ou sept mois, dont le crâne n'est pas même ossifié plusieurs jours après
sa naissance, a plus forte raison ne saurait traverser la première époque
de la vie s'il ne trouve les bras d'une mère pour le recueillir. Ces enfants
ont donc reçu le germe intellectuel avant qu'ils fussent enlevés à leurs
parents. Qu'un homme se fût trouvé, du moment où ses yeux s'ouvrirent
à la lumière, séparé des auteurs de ses jours et de tout être humain; qu'il
n'eût pas aperçu une seule fois le regard de son semblable ni entendu un
seul son de sa voix, et qu'il eût ainsi vécu jusqu'à l'âge de raison, je vous
garantis qu'entre ce mammifère-là et les autres que le naturaliste place
dans le même genre, il n'y aurait différence aucune. Y a-t-il rien de plus
absurde que de considérer chaque individu humain comme
recommençant son espèce ainsi que la brute! Voilà pourtant l'hypothèse qui sert de
base à tout l'édifice idéologique. On suppose que cette petite créature
informe, que le cordon ombilical tient encore nouée aux entrailles de
la mère, est un être intelligent. Mais d'où le sait-on? Est-ce à ce
trépignement galvanique qui l'agite que vous avez reconnu le don céleste qui lui
fut départi? Est-ce dans ce regard stupide, dans ces larmes, dans ces cris
perçants que vous avez découvert l'être fait à l'image de Dieu? Aura-t-il
jamais, je vous le demande, une idée qui ne lui sera venue du petit nombre
de notions que sa mère, sa nourrice ou toute autre créature humaine
aura fait entrer dans son cerveau aux premiers jours de son existence? Le
premier homme ne fut pas un enfant criard, mais un homme tout fait; il
pouvait donc fort bien ressembler à Dieu, et lui ressemblait en effet; mais
certes ce n'est pas l'embryon humain qui est fait à l'image de Dieu. Ce qui
constitue la véritable nature de l'homme, c'est que de tous les êtres c'est
le seul qui peut recevoir une instruction infinie: là est sa grandeur, là est
sa supériorité sur toute chose créée. Mais, pour qu'il s'élève à la condition
d'être intelligent, il faut qu'un rayon de la raison suprême illumine son
front. Le jour où l'homme fut créé, Dieu lui parla, et l'homme l'écoutait
et l'entendait: telle est la vraie genèse de la raison humaine; jamais la
psychologie n'en trouvera de plus profonde. Ensuite il perdit en partie
Les lettres philosophiques
113
la faculté d'ouïr la voix de Dieu, et ce fut l'effet naturel du don de liberté
illimitée qu'il avait obtenu: mais il ne perdit pas la mémoire des premières
paroles divines qui retentirent à son oreille. C'est donc cette même
parole de Dieu, adressée au premier homme et qui, transmise d'âge en âge,
frappe l'enfant au berceau, qui l'introduit dans le monde des intelligences
et en fait un être pensant. Le même procédé dont Dieu se servit pour tirer
l'homme du néant est donc encore celui dont il fait usage aujourd'hui
pour créer chaque nouvelle intelligence. C'est toujours Dieu qui parle à
l'homme, par Г intermédiaire de ses semblables.
L'idée de l'être humain venant au monde avec une intelligence toute
faite n'a donc, vous le voyez, aucune base ni dans l'expérience ni dans
l'abstraction. La grande loi de l'action constante et directe d'un principe
suprême ne fait donc que se reproduire dans la vie générale de l'homme
comme elle se reproduit dans toute la création. Là c'est une force
contenue dans une quantité, ici c'est un principe contenu dans une tradition;
mais toujours le même fait d'une action extérieure s'exerçant sur l'être
quel qu'il soit, instantanément d'abord, puis d'une manière continue et
permanente.
On a beau se replier sur soi-même, on a beau creuser dans les plus
secrètes profondeurs de son cœur, jamais on n'y trouvera autre chose
que la pensée que nous avons héritée de ceux qui nous précédèrent
sur la terre. Cet entendement que l'on décomposera, que l'on mettra
en pièces, ce ne sera jamais que celui de toutes les générations qui se
sont succédé depuis le premier homme jusqu'à nous; et lorsque nous
méditons sur les facultés de notre esprit, nous ne faisons que nous
servir, tant bien que mal, de cette même raison universelle pour observer
la portion que nous en avons recueillie dans le cours de notre existence
personnelle. Qu'est-ce qu'une faculté de l'âme? Une idée, une idée que
nous trouvons toute faite dans notre esprit, sans savoir comment elle
y est venue, et qui en provoque une autre. Mais l'idée première, d'où
voulez-vous qu'elle nous arrive si ce n'est de cet océan d'idées dans
lequel nous nageons? Privés du contact des autres intelligences, nous
brouterions l'herbe au lieu de spéculer sur notre nature. Si l'on ne veut
pas que la pensée de l'homme soit la pensée du genre humain, il n'y
a pas moyen de concevoir ce qu'elle est. Tout autant que le reste du
monde créé, rien ne se peut concevoir dans le monde intellectuel de
parfaitement isolé, de subsistant par soi-même. Enfin, s'il est vrai que,
114
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
dans la réalité suprême ou objective, la raison de l'homme n'est que la
reproduction perpétuelle de la pensée de Dieu, il est certain aussi que sa
raison actuelle ou sa raison subjective n'est que la raison qu'il s'est faite
lui-même en vertu de son libre arbitre. Il est vrai que l'école ne fait nul
cas de tout cela: pour elle il n'est qu'une seule et unique raison; pour elle
l'homme donné, c'est l'homme tel qu'il est sorti des mains du Créateur;
créé libre, il n'a pas mésusé de sa liberté; être volontaire, il est resté
le même, comme la chose inerte obéissant à une force irrésistible; les
erreurs innombrables, les grossières superstitions qu'il a enfantées, les
crimes dont il s'est souillé, rien de tout cela n'a laissé de trace dans son
esprit: le voici tel qu'il fut au jour où le souffle divin anima son moule
terrestre, aussi pur, aussi chaste qu'avant que nulle chose encore n'eût
entaché sa jeune nature; pour l'école l'homme est toujours le même; il a
été le même en tout temps, il est le même en tous lieux; tels nous
sommes tels nous devons être; et cet amas d'idées incomplètes, fantasques,
incohérentes, que nous appelons l'esprit humain, selon elle c'est là la
pure intelligence: la céleste émanation écoulée de Dieu même; rien ne
Га altérée, rien n'y a touché. Voilà la sagesse humaine.
L'esprit de l'homme a pourtant toujours éprouvé le besoin de se
reconstruire d'après un type idéal. Il n'a fait autre chose, jusqu'au
moment où parut le christianisme, que travailler à ce type qui lui
échappait toujours et qu'il recommençait toujours: c'était la grande affaire de
l'antiquité. Et l'homme était naturellement réduit alors à le chercher en
soi-même. Mais ce qu'il y a de singulier, c'est que de nos jours encore le
philosophe s'obstine parfois, en présence des hautes instructions offertes
par le christianisme, à demeurer dans le cercle où l'antiquité était
confinée; qu'il ne songe pas à s'enquérir ailleurs que dans la nature humaine
d'un exemplaire de l'intelligence parfaite; à le demander, par exemple,
à la doctrine sublime destinée à conserver parmi les hommes les plus a
ntiques traditions du monde, à ce livre admirable qui porte si bien le
cachet de la raison absolue, c'est-à-dire de cette raison même qu'il
cherche et qu'il ne trouve pas. Pour peu que vous méditiez de bonne foi le
système révélé, vous serez frappé de la grande formule de perfection
intellectuelle qui le domine tout entier; vous verrez que toutes les
intelligences eminentes que vous y rencontrez ne sont que des fractions d'une
seule et vaste intelligence qui remplit et pénètre ce monde où le passé,
le présent et l'avenir ne font qu'un seul tout indivisible; vous sentirez
Les lettres philosophiques
115
que chaque chose y tend à vous faire comprendre la nature d'une raison
qui n'est point soumise aux conditions du temps et de l'espace, et que
l'homme posséda naguère, qu'il perdit, qu'il retrouvera un jour, et qui
nous fut montrée dans la personne du Christ. Remarquez que sur ce point
le spiritualisme philosophique ne diffère en rien du système opposé; car,
que l'on prenne l'entendement humain pour table rase et que l'on s'en
tienne au vieil adage de l'école sensualiste: rien dans la raison qui ne
soit d'abord dans les sens, ou qu'on le suppose agissant par sa propre
puissance, et que l'on répète avec Descartes: je bouche tous mes sens et je
vis, ce sera toujours la raison que nous nous trouvons aujourd'hui, non
la raison qui nous fut octroyée dans l'origine; ce ne sera donc jamais le
véritable principe spirituel que l'on analysera, mais ce principe dénaturé,
mutilé, vicié par la volonté de l'homme.
Du reste, de tous les systèmes connus, celui qui, pour se rendre compte
du phénomène intellectuel, s'efforce de construire de bonne foi une
intelligence absolument abstraite, une nature simplement intelligente, sans
remonter à la source même du principe spirituel, est assurément le plus
profond et le plus fécond en résultats. Mais comme c'est toujours
l'homme donné qui lui fournit les matériaux dont il construit son modèle, il
se trouve que c'est encore la raison artificielle qu'il nous montre, et non
la raison primitive. Le penseur profond, auteur de cette philosophie, n'a
point vu qu'il ne s'agissait point de se représenter une intelligence qui
n'eût de volonté que pour rechercher et évoquer l'intelligence suprême;
mais qui, ainsi que tout ce qui existe, eût un mode de mouvement
parfaitement légitime, et dont le pouvoir ne consistât qu'en une tendance
infinie à se confondre avec cette autre intelligence. S'il était parti de là, il
serait certainement arrivé à l'idée d'une raison véritablement pure parce
qu'elle ne serait qu'un reflet de la raison absolue; et l'analyse de cette
raison l'aurait conduit indubitablement à des conséquences d'une portée
immense; de plus, il ne serait point tombé dans la mauvaise doctrine de
l'autonomie de l'esprit humain, je ne sais quelle loi imperative gisante
dans notre raison même, qui lui donne le pouvoir de s'élever par son
propre élan à toute sa perfection possible; enfin, une philosophie plus
arrogante encore, la philosophie de l'omnipotence du moi humain, ne lui
aurait point dû le jour. Toutefois, justice doit lui être rendue; son oeuvre,
telle qu'elle est, mérite tous nos respects. C'est à la marche qu'il imprima
à la science philosophique que nous devons tout ce qu'il y a aujourd'hui
116
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
de saines idées par le monde; et nous-mêmes, nous ne sommes qu'une
conséquence logique de son idée. Il posa d'une main sûre les limites de la
raison humaine; il lui fit voir qu'elle était réduite à accepter ses deux plus
profondes convictions, sans pouvoir se les démontrer, à savoir l'existence
de Dieu et la durée indéfinie de son propre être; il nous apprit qu'il
existait une logique suprême qui n'est point de notre façon, mais qui nous est
imposée malgré nous, et qu'il est un monde, différent et contemporain
de celui dans lequel nous nous agitons, que notre raison est tenue de
reconnaître sous peine de tomber dans le néant, et que c'est de là que
nous devons tirer toutes nos connaissances pour les appliquer ensuite au
monde réel. Mais après cela il faut aussi convenir qu'il n'avait de mission
que pour frayer à la philosophie une route nouvelle et que, s'il a bien
mérité de l'esprit humain, c'est pour lui avoir fait rebrousser chemin.
Voici donc en somme ce qui résulte de l'étude que nous venons de
faire. Tout ce qui existe dans le monde des idées ne vient que d'un certain
nombre de notions traditives qui n'appartiennent pas plus à l'individu
intellectuel que les forces de la nature n'appartiennent à l'individu
physique. Archétypes de Platon, Idées innées de Descartes, A priori de Kant,
tous ces éléments divers de la pensée, que force fut à tous les penseurs
profonds de reconnaître comme précédant toute espèce d'opération de
l'âme, comme antérieurs à toute expérience, à toute action propre de
l'esprit, tous ces germes préexistants de l'intelligence sans lesquels l'homme
ne serait qu'un mammifère bipède ou bimane, ni plus ni moins, malgré
la grande ouverture de son angle facial, malgré le volume de son organe
encéphalique, malgré sa station verticale, etc., se résument dans les idées
qui nous viennent des intelligences qui nous précédèrent dans la vie, et
de celles qui furent chargées de nous faire entrer dans notre existence
personnelle. Infuses miraculeusement dans l'esprit du premier être
humain au jour de sa création, par la même main qui projeta la planète sur
son orbite elliptique, qui imprima le mouvement à la matière inerte, qui
donna la vie à l'être organisé, ce sont ces idées-là qui communiquèrent
à l'intelligence le mouvement qui lui est propre, et poussèrent l'homme
dans le cercle immense qu'il est destiné à parcourir. En se reproduisant
par le contact mutuel des esprits, et d'après un principe mystérieux qui
perpétue dans l'intelligence créée l'action de l'intelligence suprême,
elles font durer la nature intellectuelle de la même manière qu'un contact
semblable et un principe analogue font durer la nature matérielle. Ainsi
Les lettres philosophiques
117
se continue l'impulsion initiale en toutes choses; ainsi elle se résout
définitivement en une providence constante et directe, s'exerçant sur toute
l'universalité des êtres.
Cela posé, l'étude qui nous reste à faire est simple: nous n'avons plus
qu'à rechercher la marche de ces traditions à travers l'histoire du genre
humain, afin de voir comment et où l'idée primitivement déposée dans le
cœur de l'homme s'est conservée entière et pure.
LETTRE SIXIÈME
On peut demander comment, au milieu de tant de
secousses, de guerres intestines, de conspirations, de
crimes et de folies, il y a eu tant d'hommes qui aient
cultivé les arts utiles et les arts agréables en Italie, et
ensuite dans les autres États chrétiens; c'est ce que
nous ne voyons pas sous la domination des Turcs.
Voltaire, Essai sur les Mœurs
Madame,
Vous avez vu dans mes lettres précédentes combien il est important de
bien concevoir le mouvement de la pensée dans la succession des âges. Mais
vous avez dû voir aussi que, lorsque l'on est pénétré de l'idée
fondamentale qu'il n'est point d'autre vérité dans l'esprit humain que celle que Dieu
y a déposée de sa main alors qu'il a tiré l'homme du néant, on ne saurait
guère envisager le mouvement des siècles de la même manière que
l'envisage l'histoire vulgaire. On trouve alors que non seulement une providence
ou une raison parfaitement sage préside au cours des événements, mais
on découvre encore une action directe et constante de cette providence,
ou de cette raison, sur l'esprit de l'homme. Si l'on admet une fois qu'il a
été nécessaire que la raison de l'être créé, pour se mettre en mouvement,
ait primitivement reçu une impulsion qui ne provenait pas de sa propre
nature, que ses premières idées, ses premières connaissances, n'avaient pu
être que des communications miraculeuses de la raison suprême: il s'ensuit
que, dans le cours du progrès de la raison humaine, la puissance qui l'a ainsi
constituée a dû continuer d'exercer sur elle la même action dont elle a fait
usage au moment où elle lui imprimait son premier mouvement.
118
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Cette manière de concevoir l'être intelligent dans le temps, et son
progrès, doit vous être devenue familière, si vous avez bien saisi,
Madame, les choses dont nous sommes convenus précédemment. Vous avez
vu que le pur raisonnement métaphysique démontre parfaitement la
perpétuité d'une action extérieure sur l'esprit de l'homme. Mais il n'est
pas besoin d'avoir recours à la métaphysique; la conséquence est
rigoureuse sans cela: on ne saurait la nier sans nier les prémisses dont elle se
tire. Si alors on réfléchit sur le mode même de cette action continue de
la raison divine dans le monde moral, on trouve qu'outre qu'elle devait
être, comme nous venons de le voir, conforme à son action initiale,
elle devait encore avoir lieu de manière à ne pas détruire la liberté de
la raison humaine, ni à rendre inutile la propre activité de cette raison.
Il n'y a donc rien de singulier qu'il y ait eu un peuple au milieu duquel
la tradition des premières communications de Dieu s'était préservée
plus pure, plus certaine que parmi les autres, et que des hommes
eussent apparu, de temps en temps, dans lesquels se renouvelait le fait
primitif de l'ordre moral. Otez ce peuple, ôtez ces hommes privilégiés,
il faudra supposer que chez tous les peuples, à toutes les époques de la
vie universelle de l'homme, dans chaque individu, la pensée divine se
recelait également pleine, également vivante. Ce serait, vous le voyez,
détruire toute personnalité et toute liberté dans le monde: ce serait
anéantir la chose donnée. Il est évident qu'il n'y a de personnalité ni
de liberté qu'autant qu'il y a diversité d'intelligences, diversité de forces
morales, diversité de connaissances. Au lieu qu'en supposant seulement
dans une nation, ou dans quelques esprits isolés, comme spécialement
chargés de la garde de ce dépôt, un degré extraordinaire de soumission
aux traditions primitives, ou une capacité particulière pour concevoir
la vérité originairement infuse dans l'esprit humain, on ne fait
absolument rien que poser un fait moral parfaitement semblable à ce qui
se passe incessamment devant nos yeux, savoir, peuples et individus
en possession de certaines lumières dont d'autres peuples et d'autres
individus sont privés.
Dans le reste du genre humain, ces grandes traditions s'entretenaient
aussi, plus ou moins pures, selon les différentes situations des peuples; et
l'homme n'a marché dans la voie qui lui a été prescrite qu'au flambeau de
ces vérités puissantes qu'une autre raison que la sienne a engendrées dans
son intelligence. Mais il n'y avait qu'un seul foyer de lumière sur la terre.
Les lettres philosophiques
119
Ce foyer ne brillait pas, à la vérité, à la manière des lumières humaines; il
ne répandait pas au loin un éclat trompeur; concentré sur un seul point,
lumineux et invisible à la fois, comme tous les grands mystères du monde;
ardent, mais caché, comme le feu de la vie, tout s'éclairait de cette lumière
ineffable et tout tendait à ce centre commun, tandis que tout semblait
reluire de son propre éclat et se diriger vers les fins les plus opposées*. Mais
quand arriva le moment de la grande catastrophe du monde intellectuel,
toutes les vaines puissances que l'homme avait créées s'évanouirent
aussitôt, et il ne resta debout, au milieu de la conflagration générale, que le
seul tabernacle de la vérité éternelle. Voilà comment se conçoit l'unité de
l'histoire; et voilà comment cette idée l'élève à une véritable philosophie
des temps, qui nous montre l'être intelligent aussi subordonné à une loi
générale et absolue que le reste des choses créées.
Je voudrais bien, Madame, que vous pussiez arriver à cette manière
abstraite et religieuse de ressentir l'histoire; car rien n'agrandit notre
pensée et n'épure notre âme comme ces vues, quoique obscures, d'une
providence qui domine les temps et conduit le genre humain à ses destinées
finales. Mais, en attendant, cherchons à nous faire une philosophie de
l'histoire qui répande du moins, sur la vaste région des souvenirs humains,
une lumière qui soit pour nous comme l'aurore de la vive clarté du jour.
Nous tirerons d'autant plus de fruit de cette étude préparatoire qu'elle fait
un système complet à elle seule, et dont nous pourrions à la rigueur nous
contenter si, par aventure, quelque chose venait à nous arrêter dans notre
progrès ultérieur. Du reste, souvenez-vous, je vous prie, Madame, que je
ne suis pas en chaire, et que ces lettres ne sont que la continuation de nos
entretiens interrompus, entretiens où j'ai recueilli tant et de si doux
moments, et qui, j'aime à le redire, m'avaient été de véritables consolations
dans un temps où j'en avais grand besoin. Ne vous attendez donc pas à
me trouver cette fois plus didactique qu'à l'ordinaire; et vous, comme à
l'ordinaire, préparez-vous à mettre du vôtre dans cette méditation.
Vous vous serez aperçue, sans doute, que la tendance actuelle de
l'esprit humain se porte évidemment à revêtir toute connaissance de la
forme historique. En méditant sur les bases philosophiques de la pensée
* Il n'est pas nécessaire de chercher à déterminer géographiquement le point de la
terre où se trouvait ce foyer; mais une chose est certaine, c'est que les traditions de
tous les peuples du monde s'accordent à faire provenir les premières connaissances
des hommes des mêmes régions du globe.
120
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
de l'histoire, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elle est appelée
aujourd'hui à s'élever à une portée infiniment plus haute que celle où
elle s'est tenue jusqu'ici. On peut dire que l'esprit ne se plaît aujourd'hui
que dans l'histoire; qu'il ne fait plus que se replier incessamment sur le
temps passé, et ne cherche plus à se donner des forces nouvelles qu'en les
résumant de ses souvenirs, de la contemplation de la carrière parcourue,
de l'étude des puissances qui ont réglé et déterminé sa marche à travers
les siècles. C'est là assurément une tournure fort heureuse que la science
moderne a prise. Il est temps de concevoir que la force que la raison
humaine trouve dans l'étroit présent ne la constitue pas tout entière, et qu'il
existe en elle une autre force qui, en ramassant dans une seule pensée et
les temps écoulés et les temps promis, fait son être véritable et la place
dans sa véritable sphère d'activité.
Mais ne trouvez-vous pas, Madame, qu'en général l'histoire traditive,
ou racontée, est nécessairement incomplète? De cette histoire il n'y aura
jamais, n'est-il pas vrai, que ce qui en reste dans la mémoire des hommes?
Or, tout ce qui se passe dans le monde n'y reste pas. Ainsi le point de vue
historique actuel ne saurait satisfaire la raison. Malgré l'esprit
philosophique dont l'histoire s'est pénétrée de nos jours, malgré les utiles travaux
de la critique, malgré les secours que les sciences naturelles se sont plu à
lui prêter en dernier lieu, l'astronomie, la géologie et même la physique
proprement dite, vous le voyez, elle n'a pu arriver encore ni à l'unité ni
à cette haute moralité qui dériverait de la vue distincte de la loi générale
dans le mouvement moral des âges. De tout temps l'esprit humain, dans
la contemplation des temps passés, a aspiré à ce grand résultat; mais la
facile instruction qui se tire autrement de l'histoire, ces leçons de
philosophie banale, ces exemples de je ne sais quelles vertus, comme si la vertu
s'étalait sur le grand théâtre du monde et que son caractère essentiel ne
fût pas de rester cachée, cette vaine morale psychologique de l'histoire,
qui n'a jamais fait un seul honnête homme mais foule de scélérats et de
fous de tout genre, et qui ne sert qu'à perpétuer la mauvaise comédie du
monde, tout cela a détourné la raison des véritables instructions que les
traditions humaines sont destinées à lui offrir. Tant que l'esprit de la
religion chrétienne dominait la science, une pensée profonde, quoique mal
articulée, répandait sur ces études quelque chose de la sainte inspiration
dont elle provenait elle-même. Mais pour lors la critique historique était
encore si peu avancée, tant de faits, ceux surtout des temps primitifs, gi-
Les lettres philosophiques
121
saient encore si défigurés dans les souvenirs du genre humain, que toutes
les lumières de la religion ne pouvaient dissiper ces ténèbres profondes;
et l'histoire, quoique éclairée par une lumière supérieure, n'en marchait
pas moins terre à terre. Aujourd'hui, une manière tout a fait rationnelle
d'envisager l'histoire produirait sans nul doute un résultat parfaitement
positif. C'est une philosophie de l'histoire toute nouvelle que requiert la
raison du siècle; une philosophie qui ne ressemblerait pas plus à
l'ancienne philosophie de l'histoire que les analyses savantes de
l'astronomie de nos jours ne ressemblent aux séries d'observations gnomoniques
d'Hipparque et du reste des astronomes anciens. Seulement, il faut savoir
qu'il n'y aura jamais assez de faits pour tout démontrer, et qu'il y en a eu
suffisamment pour faire pressentir beaucoup de choses dès le temps de
Moïse et d'Hérodote. Quelque accumulation que l'on en fasse, les faits ne
feront jamais certitude; elle ne peut dériver que de la manière dont ils
feront conçus. C'est ainsi que l'expérience des siècles, qui avait enseigné
à Kepler les lois du mouvement planétaire, n'avait pas suffi à lui dévoiler
la loi générale de la nature: cette découverte était réservée à une sorte de
révélation extraordinaire, d'une pieuse méditation. Voilà, Madame,
l'histoire qu'il nous faut chercher à comprendre.
Et d'abord, que signifient tous ces rapprochements de siècles et de
peuples, qu'entasse une vaine érudition? Toutes ces origines de langues,
de peuples et d'idées? Une philosophie aveugle ou entêtée ne saura-t-elle
pas toujours s'en débarrasser par son vieil argument de l'uniformité
générale de la nature humaine? De tout ce merveilleux entrelacement des
temps, par sa théorie du développement naturel de l'esprit humain, sans
traces aucunes de providence, sans autre cause que la force mécanique
de sa nature? L'esprit humain n'est tout au plus, pour elle, que la boule de
neige qui grandit en roulant, rien que cela. Du reste, ou elle voit partout
un progrès et un perfectionnement naturels qui, selon elle, sont inhérents
à l'être humain, ou elle ne trouve qu'un mouvement sans motif et sans
raison. Selon les différentes trempes d'esprit, sombre et désespérée ou
toute en espérances et en compensations, tantôt elle ne voit l'homme que
se trémousser, imbécile, comme le moucheron au soleil, tantôt s'élever
et monter toujours, par l'effet de sa sublime nature; mais toujours, pour
elle, c'est l'homme, et rien que l'homme. Volontairement ignorante, le
monde physique qu'elle croit connaître ne lui apprend rien, sinon ce qu'il
donne à la vaine curiosité de l'esprit et aux sens; les grandes lumières
122
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
que ce monde épanche sans cesse de son sein n'arrivent pas jusqu'à elle;
et si, enfin, elle se décide à reconnaître un plan, un dessein, une raison
dans l'ensemble des choses, à y soumettre l'intelligence humaine et à
accepter toutes les conséquences qui résultent de là par rapport au
phénomène moral universel, cela lui est impossible aussi longtemps qu'elle est
ce qu'elle est. Il ne sert donc de rien ni de lier les temps ni de travailler
perpétuellement sur le matériel des faits: il faut chercher à caractériser
profondément les grandes époques de l'histoire, il faut déterminer
sévèrement et avec une parfaite impartialité les traits de chaque âge, selon
la loi d'une haute raison pratique. D'ailleurs, que l'on y regarde bien, l'on
trouvera que la matière historique est achevée; que les peuples ont récité
toutes leurs traditions; que, si des époques reculées sont mieux éclaircies
un jour (et encore ne sera-ce pas par cette critique qui ne sait que remuer
les vieilles cendres des peuples, mais par des procédés purement
rationnels), pour des faits proprement dits il n'y en a plus à retrouver. L'histoire
n'a donc plus autre chose à faire aujourd'hui qu'à méditer.
Cela conçu, elle se placerait tout naturellement dans le système
général de la philosophie, et en ferait un élément intégrant. Nombre de choses
s'en détacheraient alors, comme de raison, qu'on abandonnerait aux
romanciers et aux poètes fabuleux. Mais il y en aurait bien plus encore qui
surgiraient de l'atmosphère nébuleuse où elles gisent pour se placer aux
sommités les plus apparentes du nouveau système. Ces choses ne
recevraient plus leur caractère de vérité uniquement de la chronique, mais,
de même que ces axiomes de la philosophie naturelle que l'expérience
et l'observation ont fait trouver mais que la raison géométrique à réduits
en formules, ce serait désormais la raison morale qui leur imprimerait le
cachet de la certitude. Telle est, par exemple, cette époque encore si peu
comprise, non faute de données et de monuments, mais faute de pensée,
où aboutissent tous les temps, où tout se termine; où tout commence,
dont on peut dire sans exagérer que tout le passé du genre humain s'y
réunit à tout son avenir, je veux dire les premiers siècles de notre ère. Un
jour, la méditation historique ne pourra se détacher de ce spectacle
imposant de toutes les grandeurs premières des hommes réduites en poussière,
de toutes leurs grandeurs futures venant à éclore. Telle est aussi la longue
période qui a suivi et continué cet âge du renouvellement de l'être
humain; période dont le préjugé et le fanatisme philosophique se faisaient
naguère une si trompeuse image, où de si vives lumières se cachaient au
Les lettres philosophiques
123
fond des plus épaisses ténèbres, où de si prodigieuses forces morales se
conservaient et s'alimentaient au milieu de l'immobilité apparente des
esprits, et qu'on n'a commencé à concevoir que depuis le nouveau tour
que l'esprit humain a pris. Mais alors elle se ferait voir dans toute son
admirable réalité, et avec toute sa grande instruction. Puis, des figures
gigantesques, perdues à cette heure dans la foule des personnages historiques,
sortirent de l'ombre qui les enveloppe, tandis que mainte renommée, à
laquelle les hommes ont prodigué longtemps une coupable ou imbécile
vénération, s'abîmerait pour jamais dans le néant. Telles seraient, entre
autres, les nouvelles destinées de quelques-uns des personnages de la
Bible, méconnus ou négligés par la raison humaine, et de quelles sages
païens, qu'elle a entourés de plus de gloire qu'ils ne l'ont mérité!
Par exemple, de Moïse et de Socrate; on saurait, une fois pour toutes,
que l'un a donné le Dieu véritable aux hommes, que l'autre ne leur a légué
que le doute pusillanime et inquiet. De David et de Marc-Aurèle; on
verrait que l'un est le modèle parfait du plus saint héroïsme, que l'autre n'est
qu'un exemplaire curieux d'une artificielle grandeur et d'une vertu de
faste et d'apparat. On ne se rappellerait plus aussi Caton, déchirant en
fureur ses entrailles, que pour apprécier à leur juste valeur et la philosophie
qui inspirait une vertu si forcenée et la misérable grandeur que l'homme
s'était faite. Parmi les gloires du paganisme, je crois que le nom d'Épicure
serait dégagé du préjugé qui le flétrit, et qu'un intérêt nouveau
s'attacherait à son souvenir. D'autres grandes renommées subiraient de même un
sort nouveau. Le nom du Stagirite, par exemple, ne serait plus prononcé
qu'avec une sorte d'horreur, celui de Mahomet qu'avec un respect
profond: le premier serait considéré comme un ange de ténèbres, qui a
comprimé pendant nombre de siècles toutes les puissances du bien parmi les
hommes; le second, comme un être bienfaisant, l'un de ceux qui ont le
plus contribué à l'accomplissement du plan formé par la sagesse divine
pour le salut du genre humain. Enfin, le dirai-je? une espèce d'infamie
s'attacherait au grand nom d'Homère. Le jugement que l'instinct religieux
de Platon lui a fait porter sur ce corrupteur des hommes ne serait plus
regardé comme une de ses fameuses saillies utopiques, mais comme une
des anticipations les plus admirables des pensées de l'avenir. Il faut que
les hommes apprennent une fois à rougir au souvenir de cet enchanteur
coupable, qui a contribué d'une manière effrayante à dégrader la nature
humaine; il faut qu'ils se repentent de l'encens qu'ils ont prodigué à cet
124
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
adulateur de leurs passions, qui, pour leur plaire, a souillé la tradition
sacrée de la vérité, et a rempli leur cœur d'ordure. Toutes ces idées, qui
n'ont fait jusqu'ici qu'effleurer légèrement la pensée humaine ou qui, tout
au plus, gisent sans vie dans quelques cerveaux indépendants, se
placeraient désormais irrévocablement dans le sentiment moral du genre
humain et deviendraient autant d'axiomes du sens commun.
Mais un des enseignements les plus importants de l'histoire conçue
dans cette pensée consisterait à fixer dans les réminiscences de l'esprit
humain les rangs respectifs des peuples qui ont disparu de la scène du
monde, et à remplir la conscience des peuples vivants du sentiment des
destinées qu'ils sont appelés à accomplir. Chaque peuple, en concevant
clairement les différentes époques de sa vie passée, verrait le présent de
son existence tel qu'il est, et saurait pressentir la carrière qu'il a à
parcourir dans le futur. Il se ferait une véritable conscience nationale chez tous
les peuples, qui se composerait d'un certain nombre d'idées positives, de
vérités évidentes, déduites de leurs souvenirs; de convictions fortes, qui,
plus ou moins, domineraient tous les esprits et les pousseraient vers une
même fin. Pour lors, les nationalités, qui n'ont fait jusqu'à cette heure que
diviser les hommes, dépouillées de leurs aveuglements et de leurs intérêts
passionnés, se combineraient les unes avec les autres pour produire un
résultat harmonique et universel; pour lors, tous les peuples se
donneraient la main et marcheraient ensemble vers un même but. Je sais que
cette fusion des intelligences est promise, par nos sages, à la philosophie
et au progrès des lumières en général; mais si l'on réfléchit que les
peuples, quoique des êtres composés, sont en effet des êtres moraux, comme
les individus, que, par conséquent, une même loi préside à la vie
intellectuelle des uns et des autres, on verra que l'activité des grandes familles
humaines dépend nécessairement de ce sentiment personnel qui fait
qu'elles se conçoivent comme séparées du reste du genre humain, comme
ayant une existence propre et un intérêt individuel. Ce sentiment est un
élément nécessaire de l'intelligence universelle et constitue, pour ainsi
dire, le moi de l'être humain collectif. Dès lors, dans nos espérances de
futures félicités et de perfections indéfinies, on ne saurait d'abord
abstraire les grandes personnalités humaines, pas plus que les autres moindres
dont elles se composent. Il faut les accepter comme principes et moyens
donnés pour arriver à un état plus parfait. L'avenir cosmopolitique de la
philosophie n'est donc qu'une chimère. Il faut qu'il se fasse premièrement
Les lettres philosophiques
125
une certaine morale domestique des peuples, différente de leur morale
politique; il faut qu'ils apprennent d'abord à se connaître et à
s'apprécier, tout comme les individus; qu'ils sachent leurs vices et leurs vertus;
qu'ils apprennent à se repentir des fautes, des crimes, qu'ils ont commis,
à réparer le mal qu'ils ont fait, à persister dans le bien dont ils suivent la
voie. Voilà les conditions inévitables d'une véritable perfectibilité, pour
les peuples comme pour les individus; les uns et les autres, pour remplir
leur destination dans le monde, doivent se replier sur leurs vies écoulées
et trouver leur avenir dans leur passé.
Vous voyez que la critique historique ne serait plus alors une vaine
curiosité, mais bien la plus auguste des magistratures. Elle exercerait une
justice implacable sur les illustrations et les grandeurs de tous les âges; elle
scruterait scrupuleusement toutes les renommées, toutes les gloires; elle
ferait raison de tout fantôme, de tout prestige historique; elle ne
s'occuperait plus qu'à détruire les fausses images dont la mémoire des hommes
est encombrée, afin que, le passé s'offrant à la raison dans son jour
véritable, elle puisse en déduire des conséquences certaines par rapport au
présent et porter ses regards avec une sorte d'assurance dans les espaces
infinis de l'avenir.
Je crois qu'une immense gloire, la gloire de la Grèce, s'évanouirait
alors tout entière; je crois qu'un jour viendra où la pensée morale ne
s'arrêtera plus que pénétrée d'une sainte tristesse sur cette terre de déception
et d'illusion, d'où le génie de l'imposture a versé si longtemps sur le reste
de la terre la séduction et le mensonge. Et alors on ne verrait plus l'âme
pure d'un Fénelon se repaître mollement des imaginations voluptueuses
enfantées par la plus effrayante dépravation où l'esprit humain soit tombé,
ni de puissantes intelligences se laisser envahir par les sensuelles
inspirations de Platon*; mais, au contraire, les vieilles pensées, presque oubliées,
des esprits religieux (nommément de quelques-uns des forts penseurs,
de ces véritables héros de la pensée, qui a l'aurore de la société nouvelle
traçaient d'une main la voie qu'elle devait parcourir, tandis qu'ils se
débattaient de l'autre contre le monstre agonisant du polythéisme) et les
prodigieuses conceptions de ces sages que Dieu avait commis à la
conservation des premières paroles proférées par lui en présence de la créature,
trouveraient sans doute d'aussi admirables que d'inattendues applica-
* Schleiermacher, Schelling, Cousin, etc.
126
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
tions. Et comme, vraisemblablement, dans les visions singulières de
l'avenir dont quelques hommes avaient été favorisés autrefois, on verrait
surtout l'expression de l'intime connaissance de la liaison absolue des temps,
on trouverait que ces prédictions, dans le fait, ne se rapportent à aucune
époque déterminée, mais que ce sont des instructions qui regardent
indifféremment tous les temps et, bien plus, qu'on n'a en quelque sorte
qu'a regarder autour de soi pour voir leur perpétuel accomplissement
s'opérer dans les phases successives de la société, comme manifestation
journalière et lumineuse de la loi éternelle du monde moral, de sorte que
le fait de la prophétie serait alors aussi sensible que le fait même des
événements qui nous emportent*.
Enfin, voici la plus importante de toutes les leçons que nous
donnerait cette histoire; et, dans notre système, cette leçon, en nous faisant
concevoir cette vie universelle de l'être intelligent qui seule donne le
mot de l'énigme humaine, résume toute la philosophie des temps: au
lieu de se complaire dans le système insensé de la perfectibilité
machinale de notre nature, si manifestement démentie par l'expérience
de tous les siècles, on saurait qu'abandonné à lui-même l'homme n'a
jamais marché, au contraire, que vers une dégradation indéfinie; que,
s'il y a eu des époques de progrès chez tous les peuples, et des moments
de haute lucidité dans la vie universelle de l'homme, des élans sublimes
de sa raison, des efforts prodigieux de sa nature, ce qui est vrai, rien ne
démontre un avancement permanent et continu de la société en
général; et que ce n'est réellement que dans la société dont nous sommes les
membres, dans la société chrétienne et qui n'a pas été faite de mains
d'hommes, qu'on aperçoit un mouvement ascendant véritable, et un
principe de progression réelle ainsi que de durée infinie. Nous avons,
sans doute, recueilli ce que l'esprit des anciens avait imaginé ou
découvert; nous en avons fait notre profit, et nous avons ainsi refermé le
chaînon brisé de la chaîne des temps; mais il ne suit pas de là que les
peuples seraient arrivés à l'état où ils sont aujourd'hui sans le phénomène
historique tout à fait spontané, tout à fait isolé de tout antécédent, tout
* Entre autres, on ne cherchera plus, comme on faisait naguère, la grande Babylone
dans telle ou telle domination de la terre, mais on se sentira vivre au milieu du fracas
de son écroulement: c'est-à-dire que l'on saura que le sublime historien des âges futurs
qui nous a raconté cette épouvantable chute ne songeait à celle d'aucun empire
quelconque, mais à celle de toutes les sociabilités matérielles existantes et à exister.
Les lettres philosophiques
127
à fait en dehors de la génération habituelle des idées humaines et de
tout enchaînement naturel des choses, qui sépare le monde ancien du
monde nouveau.
Pour lors, Madame, quand le sage se retournerait vers le passé, le monde,
au moment où une puissance surnaturelle imprima à l'esprit humain une
direction nouvelle, se retracerait à son imagination dans sa couleur
véritable, corrompu, sanglant, menteur. Il reconnaîtrait que le progrès des
peuples et des générations, qu'il a tant admirés, ne les avait conduits, en effet,
qu'à un abrutissement infiniment au-dessous de celui des peuples que
nous appelons sauvages; et, ce qui fait bien voir combien les civilisations
de l'ancien monde étaient imparfaites, il verrait qu'il n'y avait nul principe
de durée et de permanence en elles. Sagesse profonde de l'Egypte, grâces
charmantes de l'Ionie, vertus de Rome, éclat d'Alexandrie, qu'êtes-vous
devenus, se dirait-il? Comment, brillantes civilisations, vieilles de tout
l'âge du monde, nourries par toutes les puissances, associées à toutes les
gloires, à toutes les grandeurs, à toutes les dominations et, enfin, au
pouvoir le plus énorme qui ait jamais écrasé la terre, comment avez-vous pu
être anéanties*? A quoi donc tendait tout ce travail des siècles, tous ces
efforts superbes de la nature intelligente, si des peuples nouveaux, qui
n'y avaient pas participé, devaient un jour détruire tout cela, mettre en
pièces ce magnifique édifice et faire passer la charrue sur ses décombres!
L'homme n'avait-il donc édifié que pour voir tout l'ouvrage de ses mains
réduit en poussière? N'avait-il tant accumulé que pour tout perdre en un
jour? Ne s'était-il élevé si haut que pour descendre plus bas?
Mais ne vous y trompez pas, Madame. Ce ne sont point les barbares
qui ont détruit le monde ancien; c'était un cadavre pourri; ils n'ont fait
que jeter sa poussière au vent. Ces mêmes barbares avaient attaqué avant
cela les sociétés anciennes sans pouvoir les entamer: à peine l'histoire
se souvient-elle de leurs premières invasions. Le fait est que le principe
de vie qui avait fait subsister la société humaine jusque-là était épuisé;
que l'intérêt matériel ou, si l'on veut, l'intérêt réel, qui avait seul jusque-
là déterminé le mouvement social, avait pour ainsi dire rempli sa tâche
et consommé l'éducation préliminaire du genre humain: car la pensée
humaine, tout ardente qu'elle est de sortir de sa sphère terrestre, ne peut
s'élever que de moments en moments aux régions où réside le véritable
* Alexandre, Séleucides, Marc-Aurèle, Julien, Lagides, etc.
128
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
principe de toutes choses; elle ne saurait donc jamais donner à la société
toute sa permanence. Dans cette vérité est renfermée toute l'histoire dont
je vous parle.
Malheureusement, on a trop longtemps été habitué à ne voir en
Europe que des États séparés. La permanence de la société nouvelle et son
immense supériorité sur l'ancienne ne pouvaient donc être comprises.
On ne songeait pas que, pendant une suite de siècles, elle avait formé un
véritable système fédéral, ou plutôt un seul peuple, et que ce système n'a
été dissous que par la réformation. Mais, quand la réformation arriva, la
société était déjà tout édifiée pour l'éternité. Antérieurement à ce funeste
événement, les peuples de l'Europe ne se considéraient que comme
faisant un seul corps social, divisé géographiquement en différents États,
mais n'en faisant qu'un seul moralement. Longtemps il n'y eut parmi eux
d'autre droit public que celui de l'Église; les guerres qui se faisaient alors
étaient regardées comme des guerres intestines; un seul et unique intérêt
animait tout ce monde; une seule pensée l'inspirait. Voilà ce qui rend
l'histoire du Moyen Age si profondément philosophique; c'est
littéralement l'histoire de l'esprit humain; le mouvement moral, le mouvement de
la pensée y font tout; les événements purement politiques n'y occupent
jamais que le second plan du tableau; et ce qui le démontre, ce sont
précisément ces guerres d'opinions que la philosophie du siècle passé a eues
tant en horreur. Voltaire remarque fort bien que l'opinion n'a causé de
guerres que chez les chrétiens; puis, il se met à divaguer à sa façon. Mais,
quand on trouve dans l'histoire un fait unique, il mérite bien, je crois, que
l'on cherche avant tout à bien comprendre ce qui Га produit et ce qui en
est résulté. Je vous le demande, le règne de la pensée pouvait-il s'établir
autrement dans fe monde qu'en donnant au principe de la pensée toute
sa réalité, toute son intensité? L'apparence des choses a changé, si l'on
veut, et c'est le résultat du schisme: en brisant l'unité de l'idée, il a brisé
aussi celle de la société; mais le fond des choses est bien certainement le
même: l'Europe est encore la Chrétienté, quoi qu'elle fasse. Sans doute
elle ne reviendra plus à l'état où elle se trouvait à son âge de jeunesse et
de croissance; mais nul doute aussi qu'un jour les lignes qui séparent les
peuples chrétiens ne s'effacent derechef et que, sous une forme nouvelle,
le principe primitif de la société moderne ne se manifeste plus
puissamment que jamais. Pour le chrétien, c'est chose de foi: il ne lui est pas plus
permis de douter de cet avenir que du passé sur lequel se fondent ses
Les lettres philosophiques
129
croyances; mais pour tout esprit un peu profond c'est, je crois, une chose
démontrée. Qui sait même si ce jour n'est pas moins éloigné qu'on ne le
croirait? Il y a certainement aujourd'hui un travail religieux au fond des
esprits; des retours dans la marche de la science, puissance suprême du
siècle; de temps en temps, je ne sais quoi de solennel et de recueilli dans
les âmes; qui sait si ce ne sont pas là les précurseurs de quelques grands
phénomènes moraux et sociaux qui détermineront une révolution
générale dans toute la nature intelligente, telle que, de croyances de la foi que
sont maintenant les destinées promises à l'homme, elles deviendraient
alors probabilités, certitudes de la raison générale?
C'est, Madame, dans la grande famille des peuples chrétiens qu'il faut
méditer le caractère spécial de la société nouvelle; c'est là que se trouve
l'élément de stabilité et de véritable progrès qui la distingue de tout autre
système social qui fut au monde; et c'est la que se cachent toutes les grandes
lumières de l'histoire. Ainsi voyons-nous que, malgré toutes les
révolutions que la nouvelle société a éprouvées, non seulement elle n'a rien
perdu de sa vitalité, mais que tous les jours elle croît en force et que tous
les jours de nouvelles puissances, plus énergiques encore que celles qui se
développèrent en elle premièrement, se manifestent en elle. Ainsi encore,
les Arabes, les Tatares, les Turcs, non seulement n'ont pu l'anéantir, mais
n'ont fait au contraire que l'affermir. Vous savez que les deux premiers
de ces peuples l'avaient attaquée antérieurement à la découverte de la
poudre à canon, ce qui prouve que ce n'est point les armes à feu qui l'ont
préservée de la destruction; et l'un de ces peuples envahissait en même
temps les deux sociétés restantes de l'ancien monde, l'Inde et la Chine.
Ces deux sociétés n'ont point péri non plus, il est vrai grâce à leurs
immenses populations, masses quoique inertes mais réactives; mais l'indigé-
nité y a été perdue, l'ancien principe vital a été rejeté aux extrémités du
corps social; de sorte que l'arrêt de mort n'en a pas été moins prononcé
pour elles. Ces deux pays, d'ailleurs, étaient destinés à donner un grand
enseignement dont nous devons profiter. En les regardant aujourd'hui,
nous devenons en quelque sorte contemporains de ce monde dont nous
ne retrouvons plus autour de nous que la poussière; c'est donc là que
nous pouvons apprendre ce que serait devenu le genre humain sans
l'impulsion nouvelle qui lui a été imprimée par une main toute-puissante. Et
remarquez que la Chine paraît être en possession, depuis un temps
immémorial, des trois grands instruments qui ont, dit-on, le plus accéléré le
130
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
progrès de l'esprit humain parmi nous: de la boussole, de l'imprimerie, de
la poudre à canon. Eh bien, à quoi lui ont-ils servi? Les Chinois ont-ils fait
le tour du globe? Ont-ils découvert un hémisphère nouveau? Possèdent-
ils une littérature plus vaste que celle que nous avions avant l'invention
de l'imprimerie? Dans l'art funeste de la guerre, ont-ils eu des Frédéric,
des Bonaparte, comme nous? Quant à l'Indoustan, y a-t-il rien au monde
qui fasse mieux voir l'impuissance et la triste condition de toute société
non fondée sur la vérité émanée immédiatement de la raison suprême,
que cet état abject où la conquête des Tatares et celle des Anglais l'ont
réduit! Je ne puis douter que cette immobilité stupide de la Chine et cet
avilissement extraordinaire du peuple indien, dépositaire des plus antiques
lumières naturelles et des germes de toutes les connaissances humaines,
ne renferment une immense leçon, et que c'est pour cela que Dieu les a
conservés sur la terre*.
Vous avez entendu souvent attribuer la chute de l'empire romain à la
perte des mœurs et au despotisme qui en a suivi. Mais, dans cette
révolution universelle, ce n'est point de Rome qu'il s'agit, ce n'est point Rome
qui a péri, c'est la civilisation ancienne tout entière. L'Egypte
pharaonique, la Grèce de Périclès, la seconde Egypte des Lagides, et toute la
Grèce d'Alexandre, qui s'étendait par-delà l'Indus; enfin, le judaïsme même,
depuis qu'il s'était hellénisé, tout cela s'était fondu dans la masse romaine
et ne faisait plus qu'une pièce qu'une société unique, qui représentait
toutes les générations antérieures, depuis l'origine des choses, qui contenait
tout ce qu'il y a eu de forces morales et intellectuelles de développées
jusque-là dans la nature humaine. Ce n'est donc point un empire, c'est la
société humaine qui a été anéantie, et qui a recommencé. Depuis que le
* Ne serait-ce pas, peut-être, l'application de cette loi à l'intelligence collective des
peuples, dont nous voyons les effets chaque jour dans l'individu, qu'une raison qui, par
quelque cause que ce soit, n'a rien tiré de la masse d'idées répandues dans tout le
genre humain, et ne s'est point ainsi soumise à l'action d'une loi générale, mais qui s'est
trouvée isolée de la famille humaine et s'est retirée tout entière en elle-même, subit
nécessairement une dégradation d'autant plus grande que son action propre a été plus
insubordonnée? Jamais, en effet, nation a-t-elle été réduite à un tel état d'abjection
que de devenir la proie, non d'un autre peuple, mais de quelques trafiquants, sujets
eux-mêmes dans leur propre pays, potentats absolu au milieu d'elle? Au surplus, outre
cette dégradation inouïe des Indous, résultat de la conquête, le dépérissement de la
société indienne date bien plus loin. Cette littérature, cette philosophie, et jusqu'à la
langue dans laquelle tout cela a été débité, appartiennent à un ordre de choses qui
n'existe plus depuis longtemps.
Les lettres philosophiques
131
globe a été comme entouré par l'Europe, qu'un monde nouveau, sorti de
l'océan, a été refait par elle, que le reste des populations humaines lui sont
devenues tellement assujetties que Ton peut dire qu'elles n'existent plus,
en quelque sorte, que sous son bon plaisir, il est facile de comprendre ce
qui se passait sur la terre alors que s'abattait le vieil édifice et que le
nouveau surgissait miraculeusement en sa place: c'était l'élément moral de
l'univers qui obtenait une nouvelle loi, une nouvelle constitution.
Les matériaux de l'ancien monde ont servi certainement à
l'édification du monde nouveau; il fallait que la base matérielle de l'ordre moral
restât la même; et d'autres matériaux encore, tout nouveaux, tirés d'une
carrière que la civilisation ancienne n'avait pas explorée, ont été encore
fournis par la providence; les capacités énergiques et concentrées du
Nord se sont combinées avec les puissances expansives du Midi et de
l'Orient; la pensée froide et sérieuse des climats sévères s'est confondue
avec la pensée chaude et riante des climats tempérés; on dirait [que]
tout ce qu'il y a eu de forces intellectuelles disséminées sur la terre est
venu se fondre en ce jour, pour enfanter des générations d'idées dont
les éléments avaient été jusque-là ensevelis dans les profondeurs les plus
mystérieuses du cœur humain. Mais ni le plan de l'édifice ni le ciment
qui a lié ces divers matériaux n'étaient œuvre humaine: la pensée venue
du ciel a tout fait. Voilà ce qu'il nous importe de comprendre, et voilà le
fait immense dont le raisonnement simplement historique, en appelant
à lui tous les ressorts humains qu'il trouve dans cette époque, ne saurait
jamais rendre compte. Voilà le pivot sur lequel tourne la sphère entière
de l'histoire, voilà ce qui explique et démontre le phénomène de
l'éducation du genre humain.
Rien que la grandeur de cet événement, sa liaison intime, nécessaire,
toute providentielle, avec ce qui l'a précédé et suivi, suffiraient, je crois,
pour le placer hors du cours ordinaire du fait humain; mais son action
décisive sur l'intelligence, les forces toutes nouvelles qu'il a jetées en elle,
les besoins nouveaux qu'il lui a donnés et, au-dessus de tout cela, ce
nivellement des esprits qu'il a opéré, et qui fait que l'homme est devenu,
dans toutes les situations, a toutes les portées, dans toutes conditions,
désireux de la vérité et apte à la connaître, voilà ce qui rend cette
époque tout empreinte d'un caractère étonnant de providence et de raison
suprême. Aussi, voyez, la raison humaine, malgré ses fréquents retours
vers les choses qui ne sont plus, qui ne doivent et ne peuvent plus être,
132
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
quoi qu'elle fasse, ne s'est-elle pas toujours, depuis, ralliée tout entière
à ce moment? Cette portion de l'intelligence universelle qui domine et
entraîne aujourd'hui tout le reste de sa masse, ne date-t-elle pas du jour
premier de notre ère? L'esprit du monde n'est-il pas aujourd'hui l'esprit
chrétien? Je ne sais, peut-être la ligne qui nous sépare du monde ancien
n'est-elle pas visible à tous les yeux. Quant à moi, toute ma philosophie,
toute ma morale, toute ma religion est là. Un temps viendra, je l'espère,
où tous les retours vers le paganisme, et celui-là surtout qui a été effectué
au quinzième siècle, qu'on appelle, je crois, la renaissance des lettres, avec
toutes leurs suites et conséquences, ne seront plus regardés que comme
de coupables enivrements dont il faut tâcher d'effacer le souvenir par
tous les moyens possibles dans la mémoire du monde.
Il faut remarquer que, par une espèce d'illusion visuelle, on se figure
l'antiquité comme une succession d'âges sans fin, tandis que la période
moderne semble n'avoir commencé que d'hier. Or, l'histoire du monde
ancien, en remontant par exemple jusqu'à l'établissement des Pélasges en
Grèce, n'embrasse qu'un espace de temps ne surpassant que d'un siècle la
durée de notre ère. Mais les temps historiques n'ont pas même cette
étendue-là. Dans cet espace de temps, que de sociétés ont péri dans l'ancien
monde! Tandis que dans l'histoire des peuples modernes on ne voit que
les limites géographiques des États se déplacer, la société et les peuples
restent intacts. Je n'ai pas besoin de vous dire que des faits tels que
l'expulsion des Maures en Espagne, la destruction des populations
américaines, l'anéantissement des Tatares en Russie, ne font qu'appuyer le
principe. C'est ainsi que la chute de l'empire Ottoman, qui déjà retentit à nos
oreilles, va encore offrir le spectacle d'une de ces grandes catastrophes
que les peuples chrétiens ne sont pas destinés à éprouver. Viendra ensuite
le tour des autres peuples non chrétiens, qui touchent aux extrémités plus
reculées de notre système. Voilà le cercle de l'action toute-puissante de la
vérité sacrée: tantôt refoulant les populations, tantôt les embrassant dans
sa circonférence, il s'élargit incessamment et nous approche des temps
annoncés. Ainsi s'accomplissent les destinées du genre humain.
C'est une chose merveilleuse que l'indifférence avec laquelle on a
longtemps envisagé la civilisation moderne. Vous voyez pourtant que la
bien concevoir, l'expliquer parfaitement, c'est en quelque sorte résoudre
le problème social. C'est pour cela que, dans les considérations les plus
vastes et les plus générales de la philosophie de l'histoire, il faut toujours
Les lettres philosophiques
133
revenir bon gré mal gré sur cette civilisation. En effet, ne renferme-t-elle
pas le produit de tous les âges écoulés? Les âges futurs seront-ils autre
chose que la conséquence de cette civilisation? Or, l'être moral n'est rien
que l'être fait par les temps et que ks temps doivent achever. Jamais dans
la société humaine toute la masse des idées répandues sur la surface
intellectuelle du monde s'est-elle trouvée concentrée comme dans la société
actuelle? Jamais, dans aucun temps de la vie universelle de l'être humain,
une pensée seule a-t-elle embrassé l'activité entière de sa nature comme
au jour où nous sommes? Nous sommes donc positivement héritiers de
tout ce qui a été jamais dit ou fait par les hommes, et il n y a pas un point
sur la terre qui soit soustrait à l'influence de nos idées: il n'y a donc plus,
dans l'univers, qu'une seule puissance intellectuelle. Ainsi toutes les
questions fondamentales de la philosophie de l'histoire sont nécessairement
contenues dans la question de la civilisation européenne.
Mais, quand on a proféré les mots de perfectibilité humaine, de
progrès de l'esprit humain, on croit avoir tout dit, tout expliqué. On dirait que
l'homme n'a fait de tout temps que marcher en avant, sans jamais
s'arrêter, sans reculer; que, dans le mouvement de la nature intelligente, il n'y
a jamais eu ni percussion ni retour, rien que développement et progrès.
Mais pourquoi donc ces peuples dont je vous ai parlé tout à l'heure ne
bougent-ils pas depuis que nous les connaissons? On vous dit que les
nations de l'Asie sont stationnâmes. Mais pourquoi sont-elles stationnaires?
Pour arriver à la condition où elles se trouvent aujourd'hui, elles ont dû
apparemment faire comme nous, chercher, inventer, découvrir? D'où
vient donc qu'arrivées à un certain point elles se sont arrêtées tout court
et n'ont su, depuis, rien imaginer, rien créer*? La réponse est toute
simple: c'est que le progrès de la nature humaine n'est nullement indéfini,
comme on se l'imagine; il y a une limite qu'il ne saurait dépasser. C'est
pour cela que les sociétés de l'ancien monde n'ont pas marché toujours;
c'est pour cela que l'Egypte, depuis qu'Hérodote l'avait visitée, n'a plus
bougé jusqu'au temps de la domination grecque; c'est pour cela que le
monde romain, si beau, si brillant, ce tout ce qu'il y avait de lumières,
depuis les colonnes d'Hercule jusqu'au Gange, était venu se fondre, était
arrivé, au moment où une lumière nouvelle vint éclairer l'esprit humain,
* Quand on dit d'une nation civilisée qu'elle est stationnaire, il faut dire depuis
quand; autrement il n'y a point de conclusion à tirer de ce fait.
134
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
à cet état d'immobilité qui termine nécessairement tout progrès humain.
Pour peu que l'on réfléchisse sur ce moment si fécond en résultats sans
les préjugés de l'école, fléaux de l'histoire, on verra qu'outre l'excessive
dépravation des mœurs, la perte de tout sentiment de vertu, de liberté,
d'amour de la patrie, qu'outre la décadence de toutes les branches des
connaissances humaines, il y avait encore alors immobilité complète en
toutes choses, et que les esprits étaient venus à ne plus se mouvoir qu'en
un cercle étroit et mauvais, d'où ils ne sortaient que pour se précipiter
dans un dérèglement stupide. L'intérêt matériel satisfait, l'homme
n'avance plus, heureux s'il ne recule pas! Voilà le fait. Il ne faut pas s'y tromper:
en Grèce comme dans l'Indoustan, à Rome comme au Japon, au Mexique
comme à la Chine, tout le travail de l'esprit, quelque prodigieux qu'il ait
pu être ou qu'il le soit encore, n'a jamais tendu et ne tend qu'à une même
chose. Et ce qu'il y a de plus exalté et de plus exubérant dans les doctrines
et dans les habitudes de l'Orient, loin de contredire ce fait général, ne
fait encore que le confirmer. Qui ne voit que tous ces débordements de
la pensée ne proviennent que des illusions et des prestiges de l'homme
matériel? Il faut comprendre seulement que cet intérêt terrestre, mobile
éternel de toute activité humaine, n'est point borné aux seuls appétits des
sens, mais que c'est le besoin général de bien-être qui se manifeste
diversement, selon l'état plus ou moins avancé de la société, selon différentes
causes locales, sous les formes les plus variées, mais qui ne s'élève jamais
en définitive jusqu'au besoin de l'être purement moral.
Il n'y a que la société chrétienne qui soit véritablement conduite par
les intérêts de la pensée et de l'âme. Voilà ce qui fait la perfectibilité des
peuples modernes, voilà où se trouve le mystère de leur civilisation. De
quelque manière que l'autre intérêt s'y produise, vous trouverez qu'il y est
toujours subordonné à cette force puissante qui s'y empare de toutes les
facultés de l'homme, qui y met à contribution toutes les capacités de sa
raison, qui ne laisse aucune chose sans la faire servir à l'accomplissement
de sa destination. Cet intérêt ne saurait être jamais satisfait assurément:
il est infini; il faut donc que les peuples chrétiens avancent toujours. Et,
bien que la fin vers laquelle ils tendent n'ait rien de commun avec l'autre
bien-être, le seul que les peuples non chrétiens peuvent se proposer, ce
bien-être-là, ils le trouvent aussi sur leur route et en font leur profit; et
les jouissances de la vie, que les autres peuples recherchent uniquement,
ils les obtiennent aussi, mais par une autre voie, selon cette parole du
Les lettres philosophiques
135
Sauveur: Désirez le royaume des deux, et tout vous sera donné en sus. De
sorte que l'énorme déploiement de toutes les puissances intellectuelles
que suscite l'esprit qui les domine, les comble de tous les biens. Mais, bien
certainement, jamais il n'y aura chez nous ni immobilité chinoise, ni
décadence grecque, et encore moins destruction totale de la civilisation. On
n'a qu'à regarder autour de soi pour s'en convaincre. Pour que cela arrive,
il faudrait que le globe entier fût bouleversé de fond en comble, qu'une
seconde révolution semblable à celle qui lui a donné sa forme actuelle se
reproduisît; et, à moins d'un autre cataclysme universel, on ne saurait se
figurer chose pareille. Que l'un des deux hémisphères s'engloutisse tout
entier, ce qui restera de nos idées dans l'autre suffira pour renouveler
l'esprit humain. Jamais, non jamais, la pensée qui doit subjuguer le monde
ne s'arrêtera ni ne périra: il faudrait pour cela qu'un décret particulier de
celui-là même qui l'a placée dans l'âme humaine vienne la frapper d'en
haut. Enfin, j'espère, Madame, que vous trouverez ce résultat
philosophique de la méditation de l'histoire plus positif, plus évident, plus instructif
surtout, que ceux que la vieille histoire tire, à sa manière, du tableau des
siècles, en mettant à contribution sol, climat, races d'hommes, et la
fameuse perfectibilité humaine.
Et savez-vous, Madame, à qui la faute si l'influence du christianisme
sur la société et sur le développement de l'esprit humain n'est encore
ni suffisamment comprise ni suffisamment appréciée? Aux hommes qui
ont brisé l'unité morale; à ces hommes qui ne datent le christianisme que
depuis leur avènement; à ceux qui s'appellent les réformateurs! Il est clair
qu'ils ne sont aucunement intéressés à suivre la marche du christianisme
à travers le Moyen Age. Toute cette immense période n'est donc pour eux
qu'un vide dans le temps. Comment voulez-vous qu'ils conçoivent
l'éducation des peuples modernes? Rien n'a tant servi, croyez-moi, à défigurer
le tableau de l'histoire moderne que ce faux point de vue des protestants.
De là vient que l'on a si fort exagéré l'importance de la renaissance des
lettres, chose qui, à proprement parler, n'a jamais eu lieu, puisque jamais
les lettres n'avaient été totalement perdues; de là vient que l'on a imaginé
une foule de causes diverses de progrès, qui n'ont agi que d'une manière
secondaire ou qui ne procèdent que de la cause unique qui a tout fait;
de là vient que l'on a cherché partout les causes du progrès des peuples
modernes, excepté là où elles se trouvent réellement et que l'on a ainsi
renié le christianisme.
136
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Mais, depuis que l'esprit d'une philosophie moins étroite, plus haute
en ses vues, par un retour heureux sur le temps passé, s'est dirigé sur
l'étude de cette période intéressante, tant de choses ignorées jusque-là se
sont tout à coup révélées à la pensée que la malveillance même la plus
obstinée ne saurait dorénavant résister à ces lumières nouvelles. S'il entre
donc dans le plan de la providence que les hommes soient éclairés par
cette voie, le moment n'est sûrement pas éloigné où une grande clarté va
jaillir de l'obscurité qui couvre encore l'histoire de la société moderne, et
cette nouvelle philosophie de l'histoire dont je désire vous donner une
idée ne tardera certainement pas à être conçue par les hommes de la
science*.
Il faut avouer que cet entêtement des réformés est une chose bien
étrange. Selon eux, dès le second ou dès le troisième siècle il n'y a plus
de christianisme que tout juste ce qu'il en fallait pour qu'il ne fût pas
entièrement détruit. La superstition ou l'ignorance de ces onze ou douze
siècles leur semblent telles qu'ils n'y voient plus qu'une idolâtrie aussi
déplorable que celle des peuples païens; à les en croire, s'il n'y avait pas
eu de Vaudois, le fil de la tradition sacrée aurait été rompu entièrement,
et, si Luther n'était venu, quelques jours encore et c'en était fait de la
religion du Christ. Mais comment, je vous prie, reconnaître le cachet divin
dans cette doctrine sans force, sans perpétuité, sans vie, qu'ils font du
christianisme? Comment voir l'œuvre de Dieu dans cette religion
menteuse qui, au lieu de régénérer le genre humain et de le remplir d'une vie
nouvelle, comme elle l'avait promis, n'a paru un moment sur la terre que
pour s'éteindre, n'était née que pour mourir aussitôt ou pour ne servir
que d'instrument aux passions des hommes! Le sort de la religion n'avait
donc tenu qu'à l'envie qu'eut Léon X d'achever la basilique de Saint-
Pierre? Qu'il n'eût pas fait vendre, à cet effet, des indulgences en
Allemagne, au jour où nous sommes, de christianisme il n'y aurait plus vestige.
Je ne sais s'il y a quelque chose qui fasse mieux voir le vice radical de la
réforme que cette manière étroite et mesquine d'envisager la religion
révélée. N'est-ce pas démentir toutes les promesses de Jésus-Christ, n'est-
ce pas la renier toute sa pensée? S'il est vrai que sa parole doit survivre
au ciel et à la terre, que lui-même est incessamment présent au milieu de
* Depuis que cette lettre a été écrite, M. Guizot a rempli en grande partie notre
espoir.
Les lettres philosophiques
137
nous, comment le temple édifié par ses mains avait-il pu être au moment
de crouler? Comment ce temple avait-il pu rester abandonné tel qu'une
maison destinée à tomber en ruines?
Il faut pourtant convenir d'une chose, c'est que les réformateurs ont
été conséquents. S'ils ont mis d'abord toute l'Europe en feu, s'ils ont
ensuite rompu les liens qui unissaient les peuples et en faisaient une seule
famille, s'ils ont répandu tant de misères et tant de sang sur la terre, c'est
que le christianisme était sur le point de périr. Ne fallait-il pas tout
immoler pour le sauver? Mais voici le fait. Rien, au contraire, ne démontre
mieux la divinité de notre religion que son action perpétuelle et
incessante sur l'esprit humain: action qui, pour s'être modifiée selon les temps,
pour s'être combinée avec les différents besoins des peuples et des siècles,
ne s'est point ralentie un seul instant, bien loin de cesser totalement. C'est
ce spectacle de sa souveraine puissance, toujours agissante au milieu des
obstacles sans nombre que ne cessaient de lui susciter et le vice de notre
nature et le funeste héritage du paganisme, qui satisfait le mieux la raison
à son égard.
Que signifie de dire que l'Église avait dégénéré de la primitive Église?
Les Pères, dès le troisième siècle, ne déploraient-ils pas la corruption des
chrétiens? Et toujours, dans chaque siècle, à chaque concile, les mêmes
plaintes n'avaient-elles pas été répétées? Toujours, la piété véritable n'a-
t-elle pas élevé sa voix contre les abus et les vices du clergé et, quand il y
avait lieu, contre les usurpations du pouvoir hiérarchique? Rien n'est plus
admirable que les lumières brillantes qui s'élançaient, de temps à autre,
du sein de la nuit sombre qui couvrait le monde: tantôt des exemples
des plus sublimes vertus, tantôt des effets merveilleux de la foi sur
l'esprit des peuples et des individus; l'Église recueillait tout cela, et en faisait
sa force et sa richesse; ainsi s'édifiait la fabrique éternelle, de la manière
qui pouvait le mieux lui donner sa forme nécessaire. La pureté primitive
du christianisme ne pouvait pas naturellement se conserver toujours; il
fallait que le christianisme traversât toutes les phases possibles de
corruption, qu'il portât toutes les empreintes que la liberté de la raison humaine
dut lui imprimer. De plus, la perfection de l'Église apostolique était celle
d'une communauté peu nombreuse, perdue dans la grande communauté
païenne; elle ne saurait donc être celle de la société universelle du genre
humain. L'âge d'or de l'Église, on le sait, était celui de ses plus grandes
souffrances, celui où s'opérait encore l'œuvre de douleur qui devait fon-
138
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
der l'ordre nouveau, où encore ruisselait le sang du Sauveur: il est absurde
de rêver le retour d'un état de choses qui ne résultait que des immenses
misères qui accablaient les premiers chrétiens.
Or, voulez-vous savoir ce qu'a fait cette réformation qui se vante
d'avoir retrouvé le christianisme? Et vous voyez bien, du reste, que c'est
une des plus grandes questions que la science historique puisse se faire.
Elle a replacé le monde dans la désunité du paganisme; elle a rétabli les
grandes individualités nationales, l'isolement des âmes et des esprits; elle
a rejeté derechef l'homme dans la solitude de sa personne; elle a tenté
d'ôter de nouveau du monde toutes les sympathies, toutes les harmonies
que le Sauveur avait apportées au monde. Si elle a accéléré le mouvement
de l'esprit humain, elle a aussi enlevé à la conscience de l'être intelligent
la féconde, la sublime idée d'universalité et d'unité, source unique du
véritable progrès de l'humanité, c'est-à-dire d'un progrès infini. Le fait propre
de tout schisme, dans le monde chrétien, est de rompre l'unité
mystérieuse dans laquelle est comprise toute la divine pensée du christianisme,
et toute sa puissance. C'est pour cela que l'antique Église dans laquelle le
christianisme a mûri ne transigera jamais avec les communions nouvelles.
Malheur à elle, et malheur au monde, si jamais elle reconnaissait le fait
de la séparation! Tout ne serait bientôt, encore une fois, que chaos des
humaines idées, que multiplicité du mensonge, que ruine et poussière.
La fixité visible, palpable, plastique, de la vérité peut seule conserver le
règne de l'esprit sur la terre. Ce n'est qu'en se réalisant dans les formes
données de la nature humaine que l'empire de la pensée trouve
permanence et durée. Et que deviendra donc le sacrement de la communion,
cette merveilleuse découverte de la raison chrétienne qui pour ainsi dire
matérialise les âmes afin de les mieux unir, si l'on ne veut plus d'union
visible, si l'on se contente d'une communauté interne d'opinions sans
réalité extérieure! A quoi bon s'unir au Sauveur, si l'on est séparés les uns des
autres? Que le féroce Calvin, l'assassin de Servet, que le spadassin Zwingli,
que le tyran Henri VIII avec son hypocrite Cranmer aient méconnu les
puissances d'amour et d'union que contient le grand sacrement, je ne
m'en étonne pas; mais que des esprits profonds, sincèrement religieux,
tels qu'on en voit beaucoup parmi les luthériens, chez qui d'ailleurs cette
spoliation de l'Eucharistie n'est pas dogmatique, elle que leur fondateur
avait combattue avec tant d'ardeur, puissent se méprendre si
étrangement sur l'idée de cette grande institution, et qu'ils s'abandonnent à la
Les lettres philosophiques
139
déplorable doctrine du calvinisme, c'est ce qui ne se conçoit pas! Il faut
convenir qu'il y a un goût étrange de ruine dans toutes les Églises
protestantes. On dirait qu'elles n'aspirent qu'à s'anéantir; qu'elles craignent de
se trouver trop vivantes; qu'elles ne veulent de rien qui pourrait les faire
trop durer. Est-ce donc là la doctrine de celui qui est venu apporter la
vie sur la terre, de celui qui a vaincu la mort? Sommes-nous donc déjà au
ciel, que nous puissions impunément rejeter les conditions de l'économie
terrestre? Et cette économie est-elle autre chose que la combinaison des
pures pensées de l'être intelligent avec les nécessités de son existence?
Or, la première de ces nécessités, c'est la société, le contact des esprits,
la fusion des idées et des sentiments. Ce n'est qu'en y satisfaisant que la
vérité devient vivante; que, de la région de la spéculation, elle descend
dans celle de la réalité; que, de pensée, elle devient fait; qu'elle obtient
enfin le caractère d'une force de la nature, et que son action devient aussi
certaine que celle de toute autre puissance naturelle. Mais comment tout
cela se ferait-il dans une société idéale, qui n'aurait d'existence que dans
des vœux et dans des imaginations des hommes? Voilà ce que c'est que
l'Église invisible des protestants: invisible, en effet, comme le néant.
Le jour où toutes les communions chrétiennes se réuniront sera celui
où les Églises schismatiques se décideront à reconnaître en pénitence et
en humilité, dans le sac et la cendre, qu'en se séparant de l'Église mère
elles ont au loin d'elles repoussé l'effet de cette prière sublime du Sauveur:
Père saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils
soient un comme nous sommes un. Quant à la papauté, qu'elle soit comme
on le dit d'institution humaine, comme si les choses de cette proportion
se faisaient de mains d'hommes, qu'importe? Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'en son temps elle procéda essentiellement du véritable esprit du
christianisme, et qu'aujourd'hui, toujours signe visible d'unité, elle est encore
signe de réunion. A ce titre, pourquoi ne pas lui déférer préséance sur
toutes les sociétés chrétiennes? Du reste, qui n'admirera pas ses
singulières destinées? Qui ne sera pas frappé d'étonnement quand il la verra,
malgré toutes ses vicissitudes, tous ses désastres, malgré ses propres fautes
et coulpes, malgré tous les assauts et le triomphe inouï de l'incrédulité,
debout, plus ferme que jamais! Dépouillée de son éclat humain, elle n'en
est que plus forte; et l'indifférence où l'on est à son égard ne fait que
l'affermir encore plus et mieux garantir sa durée. Jadis ce fut la vénération du
monde chrétien qui la faisait subsister, et un instinct des nations qui leur
140
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
faisait voir en elle la cause de leur salut temporel et de leur salut éternel;
maintenant, c'est son humble posture au milieu des puissances de la terre;
mais toujours elle remplit parfaitement sa destination; elle centralise
encore aujourd'hui les pensées chrétiennes, elle les attire encore aujourd'hui
les unes vers les autres malgré elles, dk rappelle aux hommes qui ont
renié l'unité le principe suprême de leur foi; et toujours par ce caractère de
sa vocation céleste, dont elle est tout empreinte, elle plane
majestueusement au-dessus du monde des intérêts terrestres. Quelque peu que l'on ait
l'air de s'en occuper à cette heure, que, par impossible, elle disparaisse tout
à coup de dessus la terre, et vous verrez l'égarement où tomberont toutes
les communautés religieuses, quand ce monument vivant de l'histoire de
la grande communauté ne sera plus devant elles. Cette unité visible dont
elles font si peu de cas maintenant, on voudra la retrouver partout: nulle
part, on ne la trouvera; et, chose certaine, la précieuse conscience de son
avenir qui remplit maintenant la raison chrétienne, qui lui donne cette
vie supérieure qui la distingue de la raison commune, se dissipera
nécessairement alors tout entière, comme ces espérances que l'on a fondées sur
le souvenir d'une existence active, on les perd du moment que toute cette
activité se découvre être sans résultat, et que, pour lors, la mémoire même
de notre passé nous échappe, inutile.
Bonjour, Madame. Je vous promets que, cette fois, la lettre suivante ne
se fera pas attendre.
LETTRE SEPTIÈME
Madame,
Plus vous réfléchirez sur ce que je vous disais l'autre jour, plus vous
trouverez que tout cela avait déjà été dit maintes fois par gens de tous
partis et de toutes opinions, et que seulement nous y mettons un intérêt que
l'on n'y avait pas mis encore. Je ne doute pas cependant que, si ces lettres
venaient par hasard à voir le jour, l'on ne manquât de crier au paradoxe.
Si vous appuyez avec un certain degré de conviction sur les idées même
les plus communes, toujours vous verrez qu'on les prendra pour des
nouveautés singulières. Moi, je pense que l'âge du paradoxe et des systèmes
Les lettres philosophiques
141
sans base réelle est si bien passé que l'on ne saurait plus sans stupidité
tomber dans ces vieux travers de l'esprit humain. Il est certain que, si la
raison humaine n'est aujourd'hui ni si vaste, ni si haute, ni si féconde qu'aux
grands siècles d'inspiration et d'invention, elle est infiniment plus sévère,
plus sobre, plus rigoureuse, plus méthodique, plus juste, enfin, qu'elle ne
le fut jamais; et j'ajouterai, et cela avec un sentiment de véritable bonheur,
qu'elle est encore, depuis quelque temps, plus impersonnelle que jamais,
ce qui est le plus sûr garant contre la témérité des opinions particulières.
Si, en méditant sur les souvenirs humains, nous sommes arrivés à
quelques aperçus qui nous sont propres et qui ne s'accordent pas avec le
préjugé, c'est que nous avons pensé qu'il était temps de prendre son parti
franchement sur ces matières, comme on l'avait fait dans le siècle passé sur les
sciences naturelles. Nous avons cru qu'il était temps de concevoir l'histoire
dans toute son idéalité rationnelle, comme on a conçu celles-ci dans toute
leur réalité empirique. Le sujet de l'histoire et ses moyens de connaissance
étant toujours les mêmes, il est clair que le cercle de l'expérience
historique doit se refermer un jour. Les applications ne finiront jamais, mais, la
règle une fois trouvée, il n'y aura plus rien à y ajouter. Dans les sciences
physiques, chaque nouvelle découverte ouvre une carrière nouvelle à
l'esprit et découvre un champ nouveau à l'observation: pour ne pas aller plus
loin, le seul microscope n'a-t-il pas fait connaître un monde entier
inconnu aux naturalistes anciens? Dans l'étude de la nature, le progrès est donc
nécessairement infini; mais, dans l'histoire, c'est toujours l'homme que l'on
étudie, et c'est toujours le même instrument qui nous sert dans cette étude.
Ainsi, s'il y a une grande instruction cachée dans l'histoire, il faut que l'on
arrive un jour à quelque chose de fixe, qui fera clore une fois pour toutes
l'expérience, c'est-à-dire à quelque chose de parfaitement rationnel. Cette
belle pensée de Pascal, que je vous ai déjà, je crois, citée une fois, que toute
la suite des hommes n'est qu'un seul homme qui subsiste toujours, il faut
qu'un jour elle ne soit plus l'énoncé figuré d'un principe abstrait, mais
qu'elle devienne le fait réel de l'esprit humain, qui, dès lors, sera pour ainsi
dire forcé à ne plus opérer qu'en ébranlant à chaque fois toute l'immense
chaîne des idées humaines qui s'étend à travers tous les siècles.
Mais on se demande: l'homme pourra-t-il jamais se donner, à la place
de la conscience toute personnelle, toute solitaire, qu'il trouve
maintenant en soi, cette conscience toute générale qui le ferait ainsi se ressentir
constamment comme portion du grand tout moral? Oui, sans doute. Que
142
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
l'on songe que, outre le sentiment de notre individualité personnelle, nous
portons en notre cœur celui de notre rapport avec la patrie, la famille, la
communauté d'opinion dont nous sommes les membres; que ce sentiment
est même souvent plus vif que l'autre; que l'on songe que le germe d'une
conscience supérieure réside bien véritablement en nous, qu'il forme
l'essence de notre nature; et que, le moi actuel, ce n'est nullement une loi
inévitable qui nous l'inflige, mais que nous l'avons mis nous-mêmes dans
notre âme: on verra alors que toute la destination de l'homme consiste
dans ce travail de l'anéantissement de son être personnel et de la
substitution, à celui-là, de l'être parfaitement social ou impersonnel. Vous avez
vu que c'est la base unique de la philosophie morale*; vous voyez que c'est
aussi celle de l'idée de l'histoire. Dans cette vue, toutes les illusions qui
voilent ou défigurent les différents âges de la vie générale de l'être humain ne
sauraient être considérées avec le froid intérêt de la science, elles doivent
l'être avec le sentiment profond de la vérité morale. Comment s'identifier
avec chose qui n'a jamais eu lieu? Comment se lier avec le néant? Ce n'est
que dans la vérité que se produisent les puissances attractives de l'une et de
l'autre nature. Il faut que nous nous habituions, en étudiant l'histoire, à ne
jamais négocier ni avec les rêveries de l'imagination ni avec les habitudes
de la mémoire, mais que nous soyons aussi ardents à y trouver le positif et
la certitude qu'on a toujours été à y trouver le pittoresque et l'amusant. Il
ne s'agit plus de remplir la mémoire de faits: il n'y en a que trop dans la
mémoire. C'est une grande erreur de se figurer que la masse des faits emporte
nécessairement certitude en histoire. Ce n'est point le défaut des faits qui
fait l'hypothétique de l'histoire et ce n'est pas l'ignorance des faits qui fait
l'ignorance de l'histoire, mais le défaut de réflexion et le vice du
raisonnement. Si l'on ne voulait obtenir de certitude, ni arriver à une connaissance
positive, dans cette région de la science, qu'à force de faits, il n'y en aurait
jamais assez. Souvent un seul trait, s'il est bien saisi, éclaire et démontre
mieux que toute une chronique. Voilà donc notre règle: méditons les faits
que nous savons, et tâchons d'avoir dans l'esprit plus d'images vivantes
que de matières mortes. Que d'autres se fatiguent à fouiller dans la vieille
poussière des peuples, nous avons autre chose à faire. Nous regardons la
matière historique comme parfaitement complète; mais nous avons peu
de confiance dans la logique de l'histoire. Et si, dans le flot des temps,
* Voyez la seconde Lettre.
Les lettres philosophiques
143
nous ne trouvions, comme les autres, rien que la raison des hommes, des
volontés parfaitement libres, nous aurions beau entasser les faits dans
notre esprit et les faire dériver le plus merveilleusement les uns des autres,
l'histoire ne nous offrirait rien de ce que nous cherchons; nous n'y verrions
jamais, de cette manière que le même jeu humain que l'on y a vu de tout
temps*. Ce serait toujours cette histoire dynamique et psychologique dont
je vous parlais tantôt et qui veut rendre raison de tout par l'individu et par
un enchaînement imaginaire de causes et d'effets, par les fantaisies des
hommes et les conséquences supposées inévitables de ces fantaisies, et
qui livre ainsi l'intelligence humaine à sa propre loi; ne concevant pas que,
justement à raison de la supériorité infinie de cette portion de la nature
totale sur l'autre, l'action d'une loi suprême y doit être nécessairement
encore plus évidente qu'en l'autre**.
* On ne peut reprocher ni à Hérodote, ni à Tite-Live, ni à Grégoire de Tours, de ne
pas faire intervenir la providence dans les affaires des hommes; mais faut-il dire que ce
n'est point à l'idée de cette intervention superstitieuse et journalière de Dieu que nous
aurions voulu voir revenir l'esprit humain?
** Dans cette Rome dont on parle tant, que tout le monde va voir et que l'on conçoit
si peu, il est un monument singulier, dont on peut dire que c'est un fait ancien qui dure
encore, un événement d'un autre âge qui s'est arrêté au milieu des temps: c'est le Coli-
sée. A mon avis, il n'y a point de fait dans l'histoire qui suggère tant de profondes idées
que la vue de cette ruine, qui fasse mieux ressortir le caractère des deux âges de
l'humanité, et qui démontre mieux ce grand axiome de l'histoire, savoir, qu'il n'y a jamais
eu ni véritable progrès ni véritable permanence dans la société avant l'époque du
christianisme. Cette arène ou le peuple romain venait en masse s'abreuver de sang, où
tout le monde païen se résumait si bien en un jeu épouvantable, où toute la vie de ces
temps se déployait en ses jouissances les plus vives, en ses pompes les plus éclatantes,
n'est-elle pas en effet là, debout devant nous, pour nous dire à quoi le monde avait
abouti, alors que tout ce qu'il y a de forces dans la nature humaine avait déjà été
fourni à la construction de l'édifice social, alors que sa chute s'annonçait déjà de toutes
parts, et qu'une nouvelle ère de barbarie allait recommencer? C'est là encore qu'a fumé
pour la première fois le sang qui devait arroser la base du nouvel édifice. Ainsi ce
monument, à lui seul, ne vaut-il pas un livre tout entier? Chose singulière, jamais ce
monument n'a inspiré une pensée historique pleine de ces grandes vérités! Parmi les
nuées de voyageurs qui affluent à Rome, il s'en est trouvé un, pourtant, qui, d'une
hauteur voisine et bien fameuse d'où il pouvait le contempler tout à son aise dans son
cadre étonnant, a cru, dit-il, voir les siècles se dérouler à ses yeux et lui apprendre
l'énigme de leur mouvement. Eh bien! ce n'est que des triomphateurs et des capucins
que cet homme y a vus! Comme s'il ne s'était jamais rien passé là que des triomphes et
des processions! Petite et mesquine idée à laquelle nous devons la production
menteuse que tout le monde connaît: véritable prostitution d'un des plus beaux génies
historiques qui fut jamais!
144
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Et tenez, pour vous en citer quelque chose, voici, je crois, un des
exemples les plus remarquables de la fausseté de certaines conceptions
de l'histoire telle qu'elle est faite aujourd'hui. Vous savez que ce sont les
Grecs qui ont fait de l'art une vaste idée de l'esprit humain. Or, voyons en
quoi consiste cette magnifique création du génie hellénique. Ce qu'il y a
de matériel dans l'homme a été idéalisé, agrandi, divinisé; l'ordre naturel
et légitime des choses a été interverti; ce qui devait rester à jamais dans les
régions inférieures du monde intellectuel a été lancé dans la plus haute
des sphères de la pensée; l'action des sens sur l'esprit a été augmentée à
l'infini; la grande ligne de démarcation qui sépare le divin de l'humain
dans le sentiment a été rompue. De là une confusion chaotique de tous
les éléments moraux. L'intelligence s'est jetée avec passion sur les choses
les moins dignes de l'occuper; un attrait inouï s'est répandu sur tout ce
qu'il y a de plus vicieux dans la nature de l'homme; à la place de la poésie
primitive de la vérité, la poésie du mensonge s'est introduite dans
l'imagination; cette faculté puissante, faite pour nous figurer l'infigurable et
nous faire voir l'invisible, ne s'est plus employée dès lors qu'à rendre le
sensible plus sensible encore, le terrestre plus terrestre encore; en sorte
qu'il est advenu que notre être physique a grandi d'autant que notre être
moral a été rapetissé. Et, si des sages, tels que Pythagore et Platon, ont
lutté contre cette funeste tendance de l'esprit de leur temps, eux-mêmes
plus ou moins envahis par cet esprit, leurs efforts n'ont servi de rien; et
ce n'est qu'après que le christianisme eut renouvelé l'esprit humain que
leurs doctrines obtinrent une véritable influence. Voilà ce qu'a fait l'art
des Grecs. C'est l'apothéose de la matière, on ne peut le nier. On regarde
les monuments qui nous en restent, sans comprendre ce qu'ils signifient;
on se dilate à la vue de ces inspirations admirables d'un génie qui
heureusement n'existe plus, sans se douter seulement de ce qui se passe dans
le cœur d'impur, dans l'esprit de faux: c'est un cuite, un enivrement, une
fascination, où le sentiment moral s'abîme tout entier. Cependant, il ne
faudrait que se rendre raison de sang-froid du sentiment dont on est
rempli au milieu de cette admiration imbécile, pour reconnaître que c'est la
portion la plus vile de notre être qui le produit, que c'est pour ainsi dire
avec nos corps que nous concevons ces corps de marbre et de bronze. Et
remarquez que toute beauté, toute perfection de ces figures ne viennent
que de la stupidité parfaite qui y est empreinte; pour peu que le signe de
la raison osât s'y produire, l'idéal qui nous charme disparaîtrait à l'instant.
Les lettres philosophiques
145
Ainsi, ce n'est pas même la figure de l'être raisonnable que nous
contemplons, c'est celle de je ne sais quel être imaginaire, espèce de monstre
produit par le débordement le plus déréglé de l'esprit humain, dont l'image,
bien loin de nous remplir de plaisir, devrait plutôt nous repousser. Voilà
comment les choses les plus graves de la philosophie des temps sont
défigurées par le préjugé, par ces habitudes de l'école, par ces routines de
l'esprit, par ce charme d'une illusion trompeuse, qui font l'idée actuelle
de l'histoire.
Vous me demanderez peut-être si, moi-même, j'ai toujours été étranger
à ces séductions de l'art? Non, Madame, au contraire; avant même de les
avoir connues, je ne sais quel instinct me les avait fait pressentir comme
de doux enchantements qui devaient remplir ma vie. Lorsqu'un des grands
événements du siècle me conduisit dans la capitale où la conquête avait
rassemblé momentanément toutes ces merveilles, je fis comme les autres,
et plus dévotement encore je jetai mon encens sur l'autel des idoles. Puis,
quand je les ai revues une seconde fois, à la lumière de leur soleil natal,
j'en ai encore joui avec délices. Mais il est vrai de dire aussi qu'au fond de
cette jouissance quelque chose d'amer, semblable à un remords, se
cachait toujours: aussi, lorsqu'est venue la pensée de vérité, je n'ai regimbé
contre aucune des conséquences qui en dérivaient, je les ai toutes aussitôt
acceptées, sans tergiverser.
Revenons, à présent, à ces grands personnages de l'histoire, qu'elle a
méconnus ou effacés du souvenir humain. Commençons par Moïse, la
plus gigantesque et la plus imposante de toutes les figures historiques.
Grâce à Dieu, nous ne sommes plus au temps où le grand législateur
des Juifs n'était, pour ceux mêmes qui se mêlent de réfléchir tout de bon,
qu'un de ces êtres d'un monde de fiction, comme toutes ces images
surnaturelles, héros, demi-dieux, prophètes, que l'on trouve aux premières
pages de toutes les histoires des peuples anciens, un personnage poétique,
dans lequel la pensée de l'histoire n'est tenue qu'à découvrir
l'enseignement qu'il contient comme type, symbole ou expression de l'âge où le
placent les traditions humaines. Personne aujourd'hui ne doute, je crois,
de la réalité historique de Moïse. Toutefois, il est certain que l'atmosphère
sacrée qui l'entoure ne lui est point très favorable, et qu'il n'est pas au
lieu qui lui appartient dans l'histoire. L'influence que ce grand homme
a exercée sur le genre humain est bien loin d'être comprise et appréciée
comme elle devrait l'être. Sa physionomie est restée trop voilée dans le
146
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
jour mystérieux qui la couvre. N'ayant pas été assez étudié, la leçon qui
résulte de la vue des grands hommes de l'histoire, Moïse ne la donne pas.
Ni l'homme public ni l'homme privé, ni celui qui pense ni celui qui agit,
ne trouvent dans l'histoire de sa vie tout l'enseignement qu'ils pourraient
y trouver. C'est l'effet des habitudes introduites dans l'esprit par la religion:
en imprimant aux figures de la Bible un air surhumain, elle les fait paraître
tout autres qu'elles ne sont en effet*. Il y a dans la personne de Moïse un
certain mélange singulier de hauteur et de simplicité, de force et de
bonhomie, de dureté et de douceur, que l'on ne peut assez méditer. Il n'y a pas,
je crois, un seul caractère, dans l'histoire, qui offre l'assemblage de traits et
de puissances si opposés. Et quand je réfléchis sur cet être prodigieux et
sur l'action qu'il a exercée sur les hommes, je ne sais ce que je dois admirer
le plus, du phénomène historique dont il a été la cause ou du phénomène
moral que je trouve en sa personne! D'une part, cette immense conception
d'un peuple élu, c'est-à-dire d'un peuple revêtu de la mission suprême de
garder sur la terre l'idée d'un seul Dieu, et ce spectacle des moyens inouïs
dont il s'est servi pour constituer ce peuple de manière à ce que cette idée
se conservât au milieu de lui, non seulement intacte, mais telle qu'un jour
elle pût apparaître puissante, irrésistible, comme une force de la nature en
présence de laquelle toutes les forces humaines devront disparaître,
devant laquelle tout le monde intelligent devra un jour s'incliner. De l'autre,
l'homme simple jusqu'à la faiblesse, l'homme qui ne sait exhaler son
courroux que par son impuissance, qui ne sait commander qu'en s'épuisant à
convaincre, qui se laisse instruire par le premier venu. Génie étrange, à la
fois le plus fort et le plus docile des hommes! Il crée les temps à venir, et se
soumet humblement à tout ce qui s'offre à lui sous l'apparence de la vérité;
il parle aux hommes du milieu d'un météore, sa voix retentit à travers les
siècles, il frappe les peuples comme une destinée, et il cède au premier
mouvement d'un cœur sensible, à la première raison juste qui l'aborde!
N'est-ce pas là une grandeur étonnante, une leçon unique?
* Remarquez qu'au fond les personnages bibliques nous devraient être les mieux
connus, car il n'y en a point dont les traits soient mieux tracés. C'est là un des grands
ressorts de l'Ecriture. Comme il fallait que l'on pût s'identifier tellement avec ces
hommes qu'ils agissent directement sur notre sens le plus intime, afin de préparer ainsi
les âmes à se soumettre à l'influence autrement nécessaire de la personne du Christ, elle
a trouvé le secret de si bien dessiner leurs traits que leurs images se gravent dans l'esprit
de manière à faire sur nous l'effet des hommes avec lesquels on a vécu familièrement.
Les lettres philosophiques
147
On a cherché à rabaisser cette grandeur, en disant qu'il n'avait songé
dans l'origine qu'à délivrer son peuple d'un joug insupportable, tout en
lui faisant honneur de l'héroïsme qu'il avait déployé en cette heure. On
a affecté de ne voir en lui que le grand législateur, et aujourd'hui, je
crois, l'on trouve dans ses lois un libéralisme admirable. On a dit encore
que son Dieu n'était qu'un dieu national, et qu'il avait pris des Égyptiens
toute sa théosophie. Sans doute, il était patriote: et comment une grande
âme, quelle que soit sa mission sur la terre, ne le serait-elle pas! C'est
d'ailleurs la loi générale: pour agir sur les hommes, il faut agir dans le
cercle domestique où l'on est placé, sur la famille sociale dans laquelle on
est né; pour parler distinctement au genre humain, il faut s'adresser à sa
nation, autrement on ne sera pas entendu, on ne fera rien. Plus l'action
morale de l'homme sur ses semblables est directe et pratique, plus elle
est certaine et forte; plus la parole est personnelle, plus elle est puissante.
Rien ne fait mieux connaître le principe suprême qui faisait mouvoir ce
grand homme que l'efficacité parfaite et la justesse des moyens dont il
s'est servi pour effectuer l'œuvre qu'il s'était proposée. Il se peut aussi
qu'il ait trouvé chez sa nation, ou chez d'autres peuples, l'idée d'un Dieu
national et qu'il ait fait usage de cette donnée, comme de tant d'autres
qu'il aura trouvées dans ses antécédents naturels, pour introduire dans
la pensée humaine son sublime monothéisme. Mais il ne s'ensuit pas de
là que Jéhovah ne fut [pas] pour lui, comme il l'est pour les chrétiens, le
Dieu de toute la terre. Plus il a cherché à isoler et à renfermer ce grand
dogme dans sa nation, plus il a employé de moyens extraordinaires pour
arriver à cette fin, plus on découvre à travers tout ce travail d'une raison
supérieure la pensée tout universelle de conserver pour le monde
entier, pour toutes les générations à venir, la notion du Dieu unique. Quels
moyens plus sûrs y avait-il d'ériger au vrai Dieu un sanctuaire
inviolable, au milieu du polythéisme qui envahissait alors toute la terre, que
d'inspirer au peuple gardien du sacré monument une horreur de sang
pour tout peuple idolâtre, de rattacher tout l'être social de ce peuple,
toutes ses destinées, tous ses souvenirs, toutes ses espérances à ce seul
principe? Lisez le Deutéronome avec cette vue, vous serez étonnée de
la lumière qui reluira de là, non pas seulement sur le système mosaïque,
mais sur toute la philosophie révélée. Chaque mot de ce singulier livre
fait voir l'idée surhumaine qui dominait l'esprit de son auteur. De là aussi
ces effrayantes exterminations ordonnées par Moïse, qui contrastent si
148
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
étrangement avec la douceur de son naturel, et qui ont tant révolté une
philosophie encore plus niaise qu'impie. Elle ne concevait pas, cette
philosophie, que l'homme qui fut un instrument si prodigieux dans la main
de la providence, le confident de tous ses secrets, n'avait pu agir que
comme elle, que comme la nature; que les temps et les générations ne
pouvaient avoir pour lui aucune sorte de valeur; que sa mission n'avait
pas été d'offrir un modèle de justice et de perfection morale, mais de
placer dans l'esprit humain une immense idée que l'esprit humain n'avait pu
produire de lui-même. Croit-on que, lorsqu'il étouffait le cri de son cœur
affectueux, qu'il commandait le massacre des nations, qu'il abaissait sur
les populations le glaive de la justice divine, il ne songeait qu'à coloniser
la populace stupide et indocile qu'il conduisait? Excellente psychologie,
en vérité! Pour ne pas s'élever à la véritable cause du phénomène qu'elle
considère, que fait-elle? Elle se débarrasse de la peine en combinant dans
la même âme les traits les plus contradictoires, des traits dont nulle
expérience ne lui a jamais fait voir la réunion dans un seul individu! Et
qu'importe, après tout, que Moïse ait puisé quelques enseignements dans
la sagesse égyptienne! Qu'importe qu'il n'ait pensé d'abord qu'à
soustraire sa nation au joug de la servitude! En serait-il moins vrai pour cela
que, en réalisant dans ce peuple la pensée qu'il a ou recueillie quelque
part ou tirée du fond de son âme, et en l'entourant de tous les éléments
de conservation, de perpétuité, que contient la nature humaine, il ait
ainsi donné aux hommes le vrai Dieu, par conséquent que tout le
développement intellectuel du genre humain, qui découle de ce principe, lui
est dû incontestablement?
David est un des personnages historiques dont les traits nous ont été
le mieux transmis. Rien de plus vivant, de plus dramatique, de plus vrai
que son histoire, rien de plus caractérisé que sa physionomie. Le récit de
sa vie, ses chants sublimes, en lesquels le présent se perd si
admirablement dans l'avenir, nous peignent si bien l'intérieur de son âme qu'il n'y a
absolument rien de son être qui nous soit caché. Malgré cela, il n'y a que
les esprits profondément religieux sur lesquels il fasse l'effet des héros de
la Grèce et de Rome. C'est qu'encore une fois tous ces grands hommes de
la Bible, ils sont d'un monde à part: l'auréole qui brille sur leur front,
malheureusement, les relègue tous dans une région où l'esprit n'aime guère
à se transporter, région des importunes puissances qui commandent
inflexiblement soumission, où l'on se trouve perpétuellement en face de
Les lettres philosophiques
149
l'implacable loi, où il n'y a plus rien à faire qu'a se prosterner et adorer. Et
cependant, comment concevoir le mouvement des âges si on ne l'étudié
là où le principe qui le crée se manifeste le mieux?
En opposant Socrate et Marc-Aurèle à ces deux géants de l'Écriture,
j'ai voulu vous faire apprécier par ce contraste de grandeurs si différentes
les deux mondes dont elles sont tirées. Lisez d'abord dans Xénophon
les anecdotes de Socrate, si vous pouvez, sans le préjuge attaché à son
souvenir; réfléchissez à ce que sa mort a ajouté à sa renommée; songez
à son fameux démon; songez à cette complaisance pour le vice, qu'il
poussait quelquefois, il faut l'avouer, jusqu'à un étrange point*; songez
aux différentes accusations dont ses contemporains l'ont chargé; songez
à ce mot qu'il a prononcé l'instant d'avant sa mort, et qui léguait à la
postérité toute l'incertitude de sa pensée; enfin, songez à toutes les
opinions divergentes, absurdes, contradictoires, sorties de son école. Quant
à Marc-Aurèle, point de superstition non plus; méditez bien son livre;
rappelez-vous le massacre de Lyon, l'homme épouvantable auquel il a
livré l'univers, le temps où il a vécu, la haute sphère où il a été placé, tous
les moyens de grandeur que lui offrait sa position dans le monde. Puis,
comparez, je vous prie, le résultat de la philosophie de Socrate avec celui
de la religion de Moïse, la personne de l'empereur romain avec celle de
l'homme qui, de pâtre, devenu roi, poète, sage, a personnifié en soi la
vaste et mystérieuse conception du prophète législateur, qui s'est fait
le centre de ce monde de merveilles dans lequel les destinées du genre
humain devaient s'accomplir; qui, en déterminant définitivement en son
peuple la tendance spécialement et profondément religieuse qui devait
absorber toute l'existence de ce peuple, a produit ainsi sur la terre l'ordre
de choses qui seul pouvait rendre possible la génération de la vérité ici-
bas. Je ne doute pas que vous ne conveniez alors que, si la pensée
poétique nous représente des hommes tels que Moïse et David comme des
êtres surhumains, et les environne d'un éclat singulier, la commune
raison, toute froide, ne soit aussi tenue à voir en eux quelque chose de plus
que simplement des grands hommes, des hommes extraordinaires; et il
vous paraîtra évident, je crois, que, dans le cours du monde moral, ces
hommes furent certainement des manifestations tout à fait directes de la
* Si je n'écrivais à une femme, j'aurais surtout engagé le lecteur, pour s'en faire une
idée, à lire le Banquet de Platon.
150
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
loi suprême qui gouverne ce monde, que leurs apparitions répondent à
ces grandes époques de l'ordre physique qui, de temps en temps, refont
ou renouvellent la nature*.
Vient ensuite Epicure. Vous pensez bien que je n'attache pas une
importance particulière à la réputation de ce personnage. Mais il faut
que vous sachiez premièrement que, quant à son matérialisme il n'était
nullement différent des idées des autres philosophes anciens; seulement,
ayant le jugement plus franc, plus conséquent que la plupart d'entre eux,
Epicure ne s'embrouillait pas comme eux dans des contradictions sans
fin. Le déisme païen lui paraissait ce qu'il était en effet, une absurdité; le
spiritualisme, une déception. Sa physique, qui au reste n'était que celle
de Démocrite, dont Bacon a dit quelque part que c'était le seul physicien
raisonnable parmi les anciens, n'était pas inférieure à celle des autres
naturalistes de son temps; et pour ses atomes, si l'on en écarte la
métaphysique, aujourd'hui que la philosophie moléculaire est devenue si positive,
il s'en faut qu'ils soient aussi ridicules qu'on l'a dit. Mais c'est à sa morale,
comme vous savez, que son nom est principalement attaché, et c'est elle
qui l'a flétri. Or, cette morale, nous n'en jugeons que sur les dérèglements
de sa secte et sur les interprétations plus ou moins arbitraires que l'on en
a faites après lui; pour ses propres écrits, vous savez qu'on ne les a plus.
Permis à Cicéron, sans doute, de frémir au seul nom de volupté: mais
comparez, je vous prie, cette morale tant décriée, telle qu'il faut la
concevoir principalement d'après ce que nous savons de la personne même de
son auteur et en faisant abstraction du résultat qu'elle a eu dans le monde
païen, attendu que ce résultat appartient bien plus à l'attitude générale
de l'esprit humain dans ces temps qu'à cette doctrine même; comparez-
la, dis-je, aux autres systèmes moraux des anciens, vous trouverez que,
ni si arrogante, ni si dure, ni si impraticable que celle des Stoïciens, ni si
vague, ni si vaporeuse, ni si impuissante que celle des Platoniciens, elle
était affectueuse, bénévole, humaine, en quelque sorte qu'elle contenait
quelque chose du principe de la morale chrétienne. Il n'y a pas moyen
de méconnaître qu'il y avait dans cette philosophie un élément essen-
* Rien de plus simple, du reste, que l'énorme gloire de Socrate, le seul homme que
l'ancien monde ait vu mourir pour une conviction. Cet exemple unique de l'héroïsme
de l'opinion a dû en effet étrangement étourdir ces peuples. Mais pour nous, qui avons
vu des populations entières donner leur vie pour la cause de la vérité, n'est-ce point
folie que de nous méprendre comme eux sur son compte?
Les lettres philosophiques
151
tiel qui manquait totalement à la pensée pratique des anciens, élément
d'union, de lien, de bienveillance entre les hommes. Il y avait surtout en
elle un bon sens et une absence de fierté que l'on ne trouve dans aucune
des philosophies contemporaines. Du reste, elle faisait consister le
souverain bien dans la paix de l'âme et dans une joie douce, qui imitaient
sur la terre le bonheur céleste des Dieux. Epicure lui-même avait donné
l'exemple de cette existence paisible; il vécut presque obscur au sein des
plus douces affections et de l'étude. Si sa morale avait pu se fixer dans
l'esprit des peuples sans se laisser dénaturer par le principe vicieux qui
alors dominait le monde, nul doute qu'elle n'eût répandu dans les cœurs
une douceur et une humanité que ni la vantarde morale du Portique ni
la spéculation rêveuse des Académiciens n'étaient faites pour répandre.
Faites, je vous prie, attention encore qu'Épicure est le seul d'entre les
sages de l'antiquité dont les mœurs aient été parfaitement
irréprochables, et le seul dont le souvenir se confondait, chez ses disciples, en un
amour, en une vénération, qui tenaient du culte*. Vous comprenez à
présent pourquoi nous avons dû chercher à rectifier un peu notre souvenir
au sujet de cet homme.
Nous ne reviendrons pas sur Aristote. Il fait pourtant un des
chapitres les plus importants de l'histoire moderne; mais c'est un trop grand
sujet pour n'être traité qu'incidemment. Vous remarquerez seulement,
s'il vous plaît, qu'Aristote est en quelque sorte une création de l'esprit
nouveau. Il est naturel que dans sa jeunesse la nouvelle raison,
tourmentée par son énorme besoin de connaître, s'attachât de toutes ses forces à
ce mécanicien de l'intelligence qui, à l'aide de ses manivelles, de ses
leviers, de ses poulies, faisait marcher l'entendement avec une prodigieuse
vélocité. Et il était fort simple aussi que les Arabes, qui l'ont déterré
les premiers, l'eussent si fort trouvé de leur goût. Ce peuple improvisé
n'avait rien à lui à quoi se rattacher: une sagesse toute faite devait donc
naturellement lui convenir. Enfin, tout cela a passé: Arabes, Scolastiques
et leur maître commun; tout cela a rempli ses différentes missions. Il en
est revenu à l'esprit plus de consistance, plus d'aplomb; sa marche en est
devenue plus assurée; il s'est fait une allure qui facilite ses mouvements,
qui accélère ses procédés. Tout s'est fait au mieux, comme vous voyez;
* Pythagore ne fait pas exception. C'était un personnage fabuleux à qui l'on
attribuait tout ce que l'on voulait.
152
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
le mal a tourné en bien, grâce aux forces et aux lumières cachées de la
raison nouvelle. Aujourd'hui il faut revenir sur nos pas, il faut reprendre
les voies larges des temps où l'intelligence n'avait d'autres machines à
son usage que les ailes d'or et d'azur de sa nature angélique.
Venons à Mahomet. Si l'on réfléchit sur le bien qui a résulté de sa
religion pour l'humanité, premièrement parce qu'elle a concouru avec
d'autres causes plus puissantes à la destruction du polythéisme, ensuite
parce qu'elle a répandu sur une étendue immense du globe, et jusqu'en
des climats qu'on dirait inaccessibles au mouvement général de
l'intelligence, l'idée d'un seul Dieu et d'une croyance universelle; qu'elle a ainsi
préparé d'innombrables populations aux destinées définitives du genre
humain: on ne saurait ne pas reconnaître que, malgré le tribut que sans
doute ce grand homme a payé à son temps, aux lieux qui l'ont vu naître,
il ne mérite plus incomparablement les hommages des humains que
cette foule de sages inutiles qui n'ont jamais su donner ni corps ni vie
à aucune de leurs imaginations, remplir un seul cœur d'une conviction
forte, qui n'ont fait que diviser l'être humain, au lieu de chercher à unir
les éléments épars de sa nature. L'islamisme est une des manifestations
les plus remarquables d'une loi générale; c'est méconnaître l'universelle
influence du christianisme, dont il dérive, que de le juger autrement.
La plus essentielle capacité de notre religion, c'est de pouvoir se
revêtir des formes les plus diversifiées de la raison religieuse, de savoir se
combiner même, quand il le faut, avec l'erreur pour arriver à son
résultat total. Dans le grand développement historique de la religion révélée,
celle de Mahomet doit être nécessairement considérée comme une de
ses branches. Le dogmatisme le plus exclusif ne doit pas faire difficulté
d'admettre ce fait important; et il le ferait certainement s'il se rendait
une fois bien raison de ce qui nous fait regarder les mahométans comme
les ennemis naturels de notre religion, car ce n'est que de là que vient le
préjugé*. Vous savez, du reste, qu'il n'y a point presque de chapitre dans
le Coran où il ne soit question de Jésus-Christ. Or, nous sommes
convenus que l'on n'a point une idée nette du grand oeuvre de la rédemption,
* Dans l'origine, les mahométans n'avaient nulle antipathie contre les chrétiens; ce
n'est qu'à la suite des longues guerres qu'ils eurent avec eux que la haine et le mépris
pour le christianisme s'introduisirent parmi eux. Pour les chrétiens, il est naturel qu'ils
durent les considérer d'abord comme idolâtres, ensuite comme ennemis de leur
religion, ce qu'ils devinrent effectivement.
Les lettres philosophiques
153
que l'on ne comprend rien au mystère du règne du Christ, tant que l'on
ne voit pas l'action du christianisme partout où le seul nom du
Sauveur est prononcé, tant que l'on ne conçoit pas son influence s'exerçant
sur tous les esprits qui, de quelque manière que ce soit, se trouvent en
contact avec ses doctrines; autrement il faudrait exclure du nombre de
ceux qui profitent du bienfait de la rédemption des multitudes entières
qui portent le nom de chrétiens: ne serait-ce pas la réduire le royaume
de Jésus-Christ à fort peu de chose, l'universalité du christianisme à une
fiction dérisoire? Résultat, donc, de la fermentation religieuse amenée en
Orient par l'apparition de la nouvelle religion, le mahométisme se trouve
en première ligne parmi ces choses qui ne semblent sortir à la première
vue du christianisme, mais qui en viennent certainement. De sorte que,
outre l'effet négatif qu'il a eu sur la formation de la société chrétienne,
en confondant les intérêts particuliers des peuples dans celui du salut
commun, outre les nombreux matériaux que la civilisation des Arabes a
fournis à la nôtre, choses qu'il faut regarder comme des voies indirectes
dont la providence s'est servie pour consommer la régénération du
genre humain, dans son action propre sur l'esprit des peuples qu'il s'est
soumis on doit reconnaître un effet direct et positif de la doctrine dont
il dérive, qui n'a fait ici que s'arranger avec certains besoins locaux et
contemporains pour se donner le moyen de répandre sur un plus vaste
terroir la semence de la vérité. Heureux ceux, sans doute, qui servent
le Seigneur en connaissance et en conviction! Mais, ne l'oublions pas,
il est dans le monde nombre infini de puissances obéissant à la voix du
Christ, qui n'ont nulle notion de la puissance suprême qui les met en
mouvement!
Il ne nous reste plus qu'Homère. C'est une question toute décidée,
aujourd'hui, que celle de l'influence qu'Homère a exercée sur l'esprit
humain. On sait fort bien aujourd'hui ce que c'est que la poésie homérique;
on sait de quelle façon elle a contribué à déterminer le caractère grec, qui
à son tour a déterminé celui de tout le monde ancien; on sait que cette
poésie a remplacé une autre poésie plus haute, plus pure, dont on ne
trouve plus que des lambeaux; on sait aussi qu'elle a substitué un nouvel
ordre d'idées à un autre ordre d'idées qui n'était pas né du sol de la Grèce,
et que ces idées primitives, repoussées par la nouvelle pensée, réfugiées
soit dans les mystères de Samothrace soit à l'ombre des autres sanctuaires
des vérités perdues, n'existèrent dès lors que pour un petit nombre d'élus
154
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ou d'adeptes*. Mais ce que l'on ne sait guère, je trouve, c'est ce qu'Homère
peut avoir de commun avec le temps où nous vivons, ce qui en reste
encore dans l'intelligence universelle. Et voilà justement où est l'intérêt de la
véritable philosophie de l'histoire, son étude principale n'étant, comme
vous l'avez vu, que de chercher les résultats permanents et les effets
éternels des phénomènes historiques. Pour nous donc, Homère n'est encore
que le Typhon ou l'Ahrimane du monde actuel comme il l'a été de celui
qu'il avait créé. A nos yeux, funeste héroïsme des passions, idéal fangeux
de beauté, goût effréné de la terre, tout cela nous vient encore de lui**.
Remarquez qu'il n'y a jamais eu rien de tel dans les autres sociétés
civilisées du monde. Il n'y a que les Grecs qui se soient avisés d'idéaliser et de
diviniser le vice et le crime; la poésie du mal ne s'est donc jamais trouvée
que parmi eux et parmi les peuples qui ont hérité de leur civilisation. On
peut voir clairement dans le Moyen Age quelle direction la pensée des
nations chrétiennes aurait prise si elle s'était entièrement abandonnée à
la main qui la guidait. Cette poésie n'a donc pu nous venir de nos ancêtres
septentrionaux; l'esprit des hommes du Nord était fait tout autrement et
ne tendait à rien moins qu'à s'attacher à la terre; combiné tout seul avec
le christianisme, au lieu de ce qui est arrivé, il se serait plutôt perdu dans
le vague nuageux de ses imaginations rêveuses. D'ailleurs, nous n'avons
plus rien du sang qui a coulé dans leurs veines, et ce n'est point parmi les
peuples décrits par César ou Tacite que nous allons chercher les leçons
de la vie, mais parmi ceux du monde d'Homère; c'est depuis quelques
jours seulement qu'un retour vers notre propre passé commence à nous
ramener dans le sein de la famille et nous fait peu à peu retrouver le
patrimoine paternel. Des peuples du Nord nous n'avons hérité que des
habitudes, des traditions; l'esprit ne se nourrit que de connaissances; les
* Si l'on veut se faire une idée de l'influence morale d'Homère dans le monde, on
n'a qu'à lire le traité de Plutarque et le chapitre de Maxime de Tyr qui traitent de lui.
Ensuite, dans le livre de Heeren, les chapitres où il est question de la civilisation des
Grecs, et surtout, dans l'excellent ouvrage de Kreutzer sur les religions de l'antiquité,
tout ce qui regarde cette matière.
** Les effets de la poésie homérique se confondent naturellement avec ceux de l'art
grec, parce qu'elle en est le type; c'est-à-dire qu'elle a fait l'art grec, et que l'art grec a
continué son effet. Du reste, qu'un homme tel qu'Homère ait existé ou non, c'est ce
qu'il importe peu de savoir; la critique historique ne pourra jamais anéantir le souvenir
d'Homère; c'est donc l'idée qui se lie à ce souvenir qui doit occuper le philosophe, et
non la personne même du poète.
Les lettres philosophiques
155
habitudes les plus invétérées se perdent, les traditions les plus
enracinées s'effacent, lorsqu'elles ne se lient pas à la connaissance. Or, toutes
nos idées, excepté nos idées religieuses, nous viennent certainement des
Grecs et des Romains. Ainsi la poésie homérique, après avoir détourné
dans le vieil Occident le cours des pensées qui rattachaient les hommes
aux grands jours de la création, a fait la même chose dans le nouveau;
en se transférant à nous avec la science, la philosophie, la littérature des
anciens, elle nous a si bien identifiés avec eux que, tels que nous sommes
aujourd'hui, nous sommes encore suspendus entre le monde du
mensonge et celui de la vérité. Bien que l'on s'occupe fort peu aujourd'hui
d'Homère, et qu'assurément on ne le lise guère, ses dieux et ses héros n'en
disputent pas moins encore le terrain à l'idée chrétienne. C'est qu'en effet
il y a une étonnante séduction dans cette poésie toute terrestre, toute
matérielle, prodigieusement douce au vice de lotre nature, qui relâche la
fibre de la raison, qui la tient stupidement enchaînée à ses fantômes et à
ses prestiges, et la berce et l'endort de ses illusions puissantes. Mais tant
qu'un profond sentiment moral, dérivé d'une vue claire de l'antiquité et
d'une entière absorption de l'esprit dans la vérité chrétienne, n'aura pas
rempli nos coeurs de dégoût et de mépris pour ces âges de déception
et de folie dont encore nous sommes si engoués, véritables saturnales
dans la vie du genre humain; tant qu'une sorte de repentance réfléchie
ne nous fera pas rougir du culte insensé que nous avons trop longtemps
prodigué à ces détestables grandeurs, à ces atroces vertus, à ces impures
beautés, les vieilles mauvaises impressions ne cesseront jamais de faire
l'élément le plus vital, le plus actif de notre raison. Quant à moi, je crois
que, pour nous régénérer complètement selon la raison révélée, il nous
manque encore quelque immense pénitence quelque expiation
formidable, parfaitement ressentie par l'universalité des chrétiens, généralement
éprouvée, comme une grande catastrophe physique sur toute la surface
de notre monde: je ne conçois pas comment, sans cela, nous pourrions
nous débarrasser de la boue qui souille encore notre mémoire*. Voilà de
quelle manière la philosophie de l'histoire doit concevoir l'homérisme.
* C'est une véritable bonne fortune de notre temps que la région nouvelle, qui
vient de se découvrir depuis peu à la méditation historique, que l'homérisme n'avait
pas infectée. Déjà l'influence des idées de l'Inde sur la marche de la philosophie se fait
sentir fort utilement. Dieu veuille que nous arrivions le plus tôt possible, par cette voie
indirecte, au point ou une route plus courte n'a pu jusqu'ici nous conduire!
156
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Jugez d'après cela de quel œil elle doit regarder la figure d'Homère. Voyez
si, d'après cela, elle n'est point tenue en conscience d'apposer sur son
front le sceau d'une flétrissure ineffaçable?
Nous voilà, Madame, au bout de notre galerie. Je ne vous ai pas dit
tout ce que j'avais à vous dire, mais il faut finir. Or, savez-vous une chose?
C'est qu'au fond, Homère, Grecs, Romains, Germains, pour nous autres
Russes, nous n'avons rien de commun avec tout cela. Tout cela nous est
parfaitement étranger. Mais que voulez-vous? Il faut bien parler le
langage de l'Europe. Notre civilisation exotique nous a acculés de telle sorte
à l'Europe que, bien que nous n'ayons pas ses idées, nous n'avons pas
d'autre langage que le sien: force donc nous est de parler celui-là. Si le
petit nombre d'habitudes de l'esprit que nous possédons, de traditions,
de souvenirs, si nul de nos antécédents ne nous lie à aucun peuple de la
terre, si nous n'appartenons en effet à aucun des systèmes de l'univers
moral, par nos superficies sociales nous tenons pourtant au monde de
l'Occident. Ce lien, bien faible à la vérité, sans nous unir aussi intimement
à l'Europe qu'on se l'imagine, ni nous faire ressentir sur tous les points de
notre être le grand mouvement qui s'y opère, fait cependant dépendre
nos destinées futures de celles de la société européenne. Ainsi, plus nous
chercherons à nous identifier avec elle, mieux nous nous en trouverons.
Nous avons vécu jusqu'ici tout seuls; ce que nous avons appris des autres
est resté à l'extérieur de nous, simple décoration, sans pénétrer dans
l'intérieur de nos âmes; aujourd'hui, les forces de la société souveraine ont
tellement grandi, son action sur le reste de l'espèce humaine a tellement
gagné en étendue, que bientôt nous serons emportés dans le tourbillon
universel, corps et âmes, cela est certain: assurément nous ne saurions
rester longtemps encore dans notre désert. Faisons donc ce que nous
pouvons pour préparer les voies à nos neveux. Ne pouvant leur laisser
ce que nous n'avons pas eu: des croyances, une raison faite par le temps,
une personnalité fortement dessinée, des opinions développées dans le
cours d'une longue vie intellectuelle, animée, active, féconde en résultats,
laissons-leur du moins quelques idées qui, bien que nous ne les ayons
pas trouvées nous-mêmes, transmises ainsi d'une génération à une autre,
auront toutefois quelque chose de l'élément traditif et, par cela même,
certaine puissance, certaine fécondité de plus que nos propres pensées.
Nous aurons ainsi bien mérité de la postérité, nous n'aurons pas passé
inutilement sur la terre.
Les lettres philosophiques
157
Bonjour, Madame. Il ne tiendra qu'à vous de me faire reprendre cette
matière, quand vous voudrez. Au demeurant, dans une causerie intime où
l'on s'entend bien, à quoi bon élaborer et épuiser chaque idée? Si ce que
je vous en ai dit suffit à vous faire trouver quelque instruction nouvelle
dans l'étude de l'histoire, quelque intérêt plus profond que celui que l'on
y trouve ordinairement, il n'en faut pas davantage.
Moscou, 1829. 16février
LETTRE HUITIÈME
Oui, Madame, le temps est venu de parler le langage de la simple
raison. Il ne s'agit plus de foi aveugle, de croyance du cœur; il faut s'adresser
directement à la pensée. Le sentiment ne saurait plus se faire jour à
travers cette foule de besoins factices, d'intérêts violents, de préoccupations
inquiètes, qui envahissent la vie. En France, en Angleterre, l'existence
est devenue trop compliquée, trop intéressée, trop personnelle; en
Allemagne, elle est trop abstraite, trop excentrique, pour que les puissances
du cœur y puissent produire leur effet légitime. Le reste du monde, pour
le moment, ne compte pas. Il faut chercher aujourd'hui à tout réduire, s'il
se peut, à un problème de probabilités, dont la solution serait au niveau
de toutes les intelligences, s'accorderait avec toutes les humeurs, ne
blesserait aucun des intérêts présents, et emporterait ainsi les esprits les plus
rebelles.
Ce n'est pas à dire que les choses du sentiment soient ä jamais
exclues du monde intellectuel. A Dieu ne plaise! Leur tour reviendra. Elles
reparaîtront alors plus puissantes, plus larges, plus pures que jamais. Je ne
doute pas que ce moment n'arrive bientôt. Mais aujourd'hui, dans le
présent actuel, à elles n'est pas donné de mouvoir les âmes. Il est très
important de se remplir de cette conscience. Si un certain réveil des vives
capacités de la jeunesse du genre humain se fait apercevoir en ce moment, ce
n'est que l'aurore d'un beau jour; la campagne est encore toute couverte
des ombres du crépuscule, quelques sommités seulement commencent à
se colorer des premiers feux du jour naissant.
158
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Les preuves matérielles de la vérité sont complètes, pour qui se soucie
de la vérité. Vous savez, Madame, ce que j'entends par preuves matérielles
de la vérité? La masse des faits historiques dûment analysés. Il faut à cette
heure les résumer en un cadre systématique et populaire, les formuler de
façon à ce qu'ils fassent impression sur les esprits les plus froids au bien,
les plus fermés au vrai, ou qui se débattent encore dans le temps passé,
dans ce temps qui est fini pour le monde, et qui certainement ne
reviendra plus pour le monde, mais qui dure encore pour ces coeurs lents, pour
ces âmes traînantes qui ne devinent jamais le jour d'aujourd'hui qui se
tiennent toujours dans le jour d'hier.
La démonstration finale doit se tirer de l'idée générale de l'histoire.
Et cette idée ne doit être dorénavant que l'idée d'une haute psychologie
concevant, une fois pour toutes, l'être humain comme l'être intelligent
abstrait, jamais comme l'être individuel et personnel, circonscrit dans le
moment présent, éphémère insecte qu'un même jour voit naître et
mourir, et qui ne se lie à l'ensemble des choses que par la loi de génération
et de pourriture. Il faut donc montrer ce qui fait réellement subsister le
genre humain; il faut découvrir à tous les yeux la réalité mystérieuse qui
se cache au fond de la nature intellectuelle et qui n'est visible encore qu'à
l'œil éclairé par quelque lumière singulière. Pourvu que l'on ne soit ni
trop exclusif, ni trop rêveur, ni trop symétrique; pourvu surtout que l'on
ne parle au siècle que le langage du siècle, et non plus la langue vieillie
du dogme, devenue inintelligible; on y parviendra, nul doute, aujourd'hui
que la raison, la science, et l'art même, semblent se précipiter avec
passion, comme à la grande époque du Sauveur, au-devant d'un nouveau
cataclysme moral.
Je vous ai souvent parlé de l'influence que la vérité chrétienne a
exercée sur la société. Je ne vous ai pas dit tout. On ne le croirait pas, cela est
certain pourtant, c'est là une matière toute neuve. On apprécie assez bien
l'action morale du christianisme; mais quant à son action proprement
intellectuelle, à sa puissance logique, à peine si l'on s'en doute. On n'a
rien dit encore de la part qu'il a eue dans le développement et dans la
formation de la pensée moderne. On ne sait pas que tout notre argument
est chrétien; on se croit encore dans les catégories et dans le syllogisme
d'Aristote. C'est que les longues palinodies des philosophes et des sectaires
sur les prétendus âges de superstition, d'ignorance et de fanatisme, ont
fait perdre totalement de vue les effets salutaires de la religion. Si bien
Les lettres philosophiques
159
que, lorsque la fièvre de l'incrédulité fut passée, les esprits les plus justes
et les plus soumis se trouvèrent dépaysés sur leur propre terrain et eurent
grand-peine à remettre chaque chose à sa place dans leur idée. Il est vrai
aussi que l'étude du fait purement humain n'a pas pour ces esprits tout
l'intérêt qu'il aurait dû avoir. Ils le négligent trop. Et, habitués qu'ils sont à
ne regarder que l'action surhumaine, ils ne voient pas ce qu'il y a dans le
monde de forces naturelles; de sorte que l'économie matérielle de
l'intelligence leur échappe presque entièrement. Mais il est temps que la raison
moderne sache enfin que toute sa vertu, elle la doit au christianisme. Il
est temps qu'elle apprenne que ce n'est qu'au moyen des instruments
extraordinaires que lui a fournis l'idée révélée, et de la vive clarté qu'elle
a su répandre sur tous les objets de la réflexion humaine, que s'est élevé
l'imposant édifice de la science nouvelle. Il faut que cette superbe science
conçoive enfin elle-même qu'elle n'est montée si haut que grâce à la règle
sévère, au principe fixe, et surtout à cet instinct, à cette passion de vérité
qu'elle a trouvés dans les doctrines du Christ.
Heureusement nous ne sommes plus au temps où l'on prenait les
entêtements de parti pour des convictions, les colères de secte pour de la
ferveur. On peut donc espérer de s'entendre. Mais vous pensez bien que
ce n'est point à la vérité à faire des concessions. Et ce n'est pas affaire
d'étiquette: pour l'autorité légitime, céder c'est abdiquer tout pouvoir, toute
action, c'est s'anéantir. Il ne s'agit pas de prestige, d'un effet extérieur
quelconque. Tout prestige est à jamais dissipé, toute illusion est à jamais
manquée. Il s'agit d'une chose très réelle, plus réelle qu'on ne saurait le
dire. C'est l'existence écoulée qui garantit l'existence future: telle est la loi
de la vie. Annihiler son passé, c'est s'enlever son avenir. Mais, par exemple,
les trois cents ans de durée que compte la grande erreur chrétienne ne
font point un souvenir que l'on ne puisse effacer à volonté. Aux gens du
schisme donc il ne tient qu'à se construire tel avenir qu'ils veuillent. La
vieille communauté n'a respiré, dès le commencement, que d'espérances
et de foi en ses destinées promises, tandis qu'eux, ils ont vécu jusqu'à
cette heure sans nulle idée d'avenir.
Mais, d'abord, il est un point essentiel, qu'il faut éclaircir avant tout.
Parmi les choses qui contribuent à conserver la vérité sur la terre, il est
certain que le code sacré de la raison nouvelle est l'une des plus efficaces.
Une vénération machinale s'attache naturellement au livre qui contient le
document authentique de l'établissement du nouvel ordre de choses. La
160
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
parole écrite ne s'en va pas comme la parole articulée. Elle fait violence
à l'esprit. Elle le soumet rigoureusement par sa fixité et par sa longue
consécration. Mais, en même temps, elle l'immobilise en le codifiant,
elle le comprime en le resserrant dans la borne étroite de l'Écriture, et
l'enchaîne de toutes les manières. Rien n'arrête la pensée religieuse dans
son élan sublime, dans son progrès infini, autant que le livre; rien ne
l'empêche autant de s'établir dans l'esprit humain d'une façon parfaitement
décisive. Tout se fonde aujourd'hui dans l'ordre religieux sur la lettre, et
la voix même de la raison incarnée reste muette. Les chaires de vérité
ne retentissent plus que de mots sans volonté, sans autorité. La
prédication n'est plus qu'une chose incidente dans l'œuvre du bien. Mais enfin, il
faut bien en convenir, le discours qui nous a été transmis par la lettre ne
s'adressait, comme de raison, qu'aux présents, qu'à ceux qui l'ouïssaient.
Il ne saurait donc être également intelligible aux hommes de tous les
temps, de tous les lieux. Nécessairement il doit être empreint d'une
certaine couleur locale, contemporaine, qui l'enferme dans une sphère
d'où on ne peut le faire sortir qu'au moyen d'une interprétation plus ou
moins arbitraire et tout humaine. Comment voulez-vous donc que cette
vieille parole parle au monde toujours avec la même puissance, comme à
l'époque où elle était le véritable langage du temps, la force réelle du
moment? Ne faut-il pas au monde une voix nouvelle, selon le cours des
choses, dont les sons ne soient étrangers à aucune oreille, qui vibre
également sur tous les points de la terre, dont les échos du siècle se saisissent à
l'envi pour la porter d'un bout de l'univers à l'autre?
Le verbe, la parole qui s'adresse à tous les siècles, ce n'est point le
discours du Sauveur seulement, c'est sa figure céleste tout entière, ceinte de
son auréole, couverte de son sang, suspendue à sa croix, telle enfin que
Dieu l'a mise une fois dans le souvenir humain. Lorsque le fils de Dieu
disait qu'il enverrait l'esprit aux hommes, et que lui-même serait au milieu
d'eux éternellement, croyez-vous qu'il songeait à ce livre que l'on a fait
après sa mort, où l'on a raconté, tant bien que mal, sa vie et ses discours et
recueilli quelques-uns des écrits de ses disciples? Croyez-vous qu'il pensait
que ce serait ce livre qui perpétuerait sa doctrine sur la terre?
Certainement, telle n'était pas sa pensée. Mais il voulait dire qu'il viendrait après
lui des hommes qui s'absorberaient si bien dans la contemplation et dans
l'étude de ses perfections, qui se rempliraient tellement de sa doctrine et
de la leçon de sa vie qu'ils ne feraient moralement qu'un avec lui; que ces
Les lettres philosophiques
161
hommes, se succédant à travers tous les âges futurs, se transmettraient de
main en main toute son idée, tout son être: voilà ce qu'il voulait dire, et
voilà ce que l'on ne comprend pas. On croit trouver son héritage entier
dans ces pages que tant d'interprétations diverses ont tant de fois
défigurées, ont fait plier tant de fois à leurs fantaisies*.
On s'imagine qu'il suffit de disperser ce livre par toute la terre pour
convertir toute la terre: pauvre idée, dont se nourrissent passionnément
les réfractaires! C'est en des hommes faits comme nous, faits comme lui,
que demeure sa divine raison, non dans le volume fabriqué par l'Église. Et
c'est pourquoi justement l'attachement obstiné des gens de la tradition
au singulier dogme de la présence réelle du corps dans l'Eucharistie, ce
culte hyperbolique qu'ils rendent au corps du Sauveur, sont si admirables.
Rien ne fait mieux concevoir que cela d'où se tire la vérité chrétienne:
rien ne fait mieux voir comme il est nécessaire de chercher, par tous les
moyens possibles, à réaliser au milieu de nous la présence matérielle de
l'homme-Dieu; d'évoquer sans cesse son image corporelle, afin d'avoir
cette image formidable toujours en face de nous, type et enseignement
éternels de la nouvelle humanité. Chose bien digne, je trouve, d'être
méditée! Cette étrange doctrine de l'Eucharistie, objet de dérision, objet de
mépris, livrée par tant de faces à la malveillance de l'argument humain,
malgré cela se conserve toujours dans quelques têtes, inviolable et pure!
Pourquoi? Ne serait-ce pas pour servir un jour d'élément d'union entre les
différents systèmes chrétiens? Ne serait-ce pas pour faire jaillir un jour sur
le monde quelque lumière nouvelle, qui à présent se cache encore en sa
destinée miraculeuse? Je n'en doute pas.
Bien que l'on doive donc considérer le signe tracé de la pensée
humaine comme un élément nécessaire du monde moral, il n'en est pas
moins vrai que le véritable principe du contact des intelligences et du
développement universel de l'être raisonnable se trouve ailleurs: dans la
vivante parole, dans cette parole qui se modifie selon les temps, selon
les lieux, selon les personnes; toujours ce qu'elle doit être; qui n'a besoin
ni de commentaires ni d'exégèse; dont l'authenticité n'a que faire d'être
soumise à un canon; enfin, dans l'instrument naturel de notre pensée.
* On sait que le christianisme s'est constitué sans le secours d'aucun livre. Dès le
second siècle, il avait conquis le monde. Dès lors, l'esprit humain lui était
irrévocablement soumis.
162
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Il est donc, je ne dis pas hétérodoxe, mais fort peu philosophique sans
doute de supposer, comme font les sectaires, que toute sagesse est
renfermée dans les pages d'un livre. Et aussi est-il certain qu'il est une haute
philosophie en ces croyances si fermes des gens de la Loi, qui leur font
reconnaître une autre source de la vérité, plus pure, une autre autorité
moins terrestre.
Il faut savoir apprécier cette raison chrétienne, si sûre, si correcte chez
ces hommes. C'est l'instinct du vrai, c'est l'effet du principe moral reporté
de l'action dans l'esprit; c'est la logique involontaire d'un raisonnement
parfaitement discipliné. Intelligence extraordinaire de la vie apportée sur
la terre par l'auteur du christianisme; esprit d'immolation; horreur de la
division; amour passionné de l'unité: voilà ce qui guide les chrétiens purs,
en toutes choses. De cette façon se conserve l'idée révélée; de cette
façon se fait, par cette idée, la grande opération de la fusion des âmes et
des différentes puissances morales du monde en une seule âme, en une
seule puissance. Cette fusion, c'est toute la mission du christianisme. La
vérité est une; le royaume de Dieu, le ciel sur la terre, toutes les promesses
evangéliques ne sont rien que la prévision et l'œuvre de l'union de toutes
les pensées des hommes dans une pensée unique; et cette pensée unique,
c'est la pensée même de Dieu, c'est-à-dire la loi morale accomplie. Tout
le travail des âges intellectuels n'est destiné qu'à produire ce résultat
définitif, terme et fin de toutes choses, dernière phase de la nature humaine,
dénouement du drame universel, la grande synthèse apocalyptique.
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Adveniat regnum tuum3
Сударыня.
Прямодушие и искренность именно те черты, которые я в вас
более всего люблю и ценю. Судите же сами, как меня должно было
поразить ваше письмо. Эти самые любезные свойства ваши и
очаровали меня при нашем знакомстве, они-то меня и побудили
заговорить с вами о религии, когда все вокруг вас призывало к молчанию.
Повторяю, посудите, как я должен был удивиться при получении
вашего письма4. Вот все, что я имею вам сказать, сударыня, по поводу
выраженных там предположений об оценке мною вашего характера.
Не будем более на этом останавливаться и перейдем прямо к
существенной части вашего письма.
И, прежде всего, откуда в вашем уме берется это смущение, до
того вас волнующее и утомляющее, что оно, по вашим словам,
отражается и на здоровьи? Неужели это печальное следствие наших
бесед? Вместо успокоения и мира, которые должно было бы внести
пробужденное в сердце чувство, оно вызвало тревогу, сомнение, чуть
не угрызения совести. Впрочем, чему тут дивиться? Это естественное
последствие того печального положения вещей, которому
подчинены у нас сердца и умы всех вообще. Вы просто поддались действию
сил, которые приводят у нас в движение все, начиная с самых
высот общества и кончая рабом, существующим лишь для утехи своего
владыки.
Да и как смогли бы вы этого избегнуть? Те самые свойства,
которыми вы выделяетесь из толпы, должны сделать вас тем более
подверженной вредному воздействию воздуха, которым вы дышите.
Среди всего окружающего вас могло ли сообщить устойчивость
вашим идеям то немногое, что мне удалось вам передать? Зависело ли
от меня очистить атмосферу, в которой мы живем?
Последствия я должен был предвидеть, да я их и предвидел. В этом
причина постоянных умолчаний, мешавших убеждениям
проникнуть вам в душу и вводивших вас естественно в заблуждение. И если
164
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
бы только я не был уверен, что религиозное чувство, пробужденное
хотя бы частично в любом сердце, какие бы оно ни причинило ему
муки, все же лучше полного омертвения, мне бы пришлось
раскаиваться в своем усердии. Однако я надеюсь, что облака, омрачающие
сейчас ваше небо, превратятся в благодатную росу и она
оплодотворит заброшенный в ваше сердце зародыш. Произведенное на вас
действие нескольких ничего не стоящих слов служит мне верной
порукой более значительных результатов: их непременно вызовет в
будущем работа вашего собственного сознания. Смело вверьтесь,
сударыня, волнениям, вызываемым в вас мыслями о религии: из этого
чистого источника могут вылиться одни только чистые чувства.
По отношению к внешним условиям5 вам пока достаточно знать
самим, что учение, построенное на высшем начале единства и
непосредственной передачи истины в непрерывном преемстве ее
служителей, только и может быть самым согласным с подлинным духом
религии, потому что дух этот заключается всецело в идее слияния
всех, сколько их ни есть в мире, нравственных сил в одну мысль, в
одно чувство и во все большем установлении социальной системы
или церкви, которая должна водворить царство правды среди людей.
Всякое иное учение, вследствие одного уже отступления от учения
первоначального, далеко откидывает от себя самое возвышенное
обращение Спасителя: Отче святый, соблюди их, да будет едино, яко
же и мы6, и отрекается от водворения Царства Божия на земле. Но из
сказанного отнюдь еще не следует, что вы обязаны провозглашать
во всеуслышание эту истину перед лицом земли: конечно, не
таково ваше призвание. Тот самый принцип, из которого она вытекает,
обязывает вас, напротив, при вашем положении в свете, смотреть на
нее как на внутренний светоч вашей веры — и только. Я считаю за
счастье то, что способствовал обращению ваших мыслей к религии,
но я признал бы себя очень несчастным, сударыня, если бы вместе с
тем вызвал затруднения для вашей совести, которые в конце концов
не могли бы не охладить вашей веры.
Я вам, кажется, как-то сказал, что лучшее средство сохранить
религиозное чувство — это придерживаться всех обычаев,
предписанных церковью. Такое упражнение в подчинении себя важнее,
чем обыкновенно думают; его налагали на себя продуманно и
сознательно величайшие умы, в нем заключается настоящее служение
Философические письма
165
Богу. Ничто так не укрепляет разум в его верованиях, как строгое
выполнение всех относящихся к ним обязанностей. Притом же в
большинстве обряды христианской религии, имея источником
высший разум, оказывают решительное влияние на каждого,
способного проникнуться выраженными в них истинами. Есть только одно
исключение из этого положения, в остальных случаях
общеобязательного, — а именно, когда находишь в себе верования более
высокого порядка, нежели те, которые исповедуют массы, верования,
возносящие душу к тому самому источнику, из коего проистекают
все убеждения, причем верования эти нисколько не противоречат
народным, а, напротив, их подтверждают; в таком случае, но
единственно в этом, позволительно отступать от соблюдения внешних
обрядов, чтобы получить возможность тем полнее посвятить себя
более важным трудам. Но горе тому, кто бы принял увлечения своего
тщеславия или отступления своего ума за чрезвычайные
откровения, освобождающие из-под власти закона. А вы, сударыня, не всего
ли лучше для вас облечься в одежду смирения, столь приличную
вашему полу? Поверьте, это лучше всего сможет успокоить смущение
вашего духа и внести мир в вашу жизнь.
Да даже и с точки зрения светских взглядов, скажите, что может
быть естественнее для женщины, способной оценить прелесть
научных занятий и серьезных размышлений, чем сосредоточенная
жизнь, посвященная главным образом религиозным помыслам
и упражнениям?7 Вы говорите, что при чтении книг ничто так не
действует на ваше воображение, как картины мирных и вдумчивых
существований, которые, подобно прекрасной сельской местности
на закате дня, вносят мир в душу и вырывают нас на мгновение из
тягостной или бесцветной действительности. Но ведь это вовсе не
фантастические картины: только от вас зависит осуществить одно
из этих пленительных измышлений: в вас есть все, что для этого
нужно. Как видите, я вовсе не проповедую вам мораль слишком
аскетическую: в ваших же вкусах, в самых приятных грезах вашего
воображения я ищу то, что может внести успокоение в вашу душу.
В жизни есть частность, относящаяся не к физическому, а к
духовному существу; пренебрегать ею не следует; есть режим для души,
как есть режим и для тела: надо уметь ему подчиниться. Я знаю, что
это избитая истина, но у нас она, кажется, имеет всю ценность но-
166
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
визны. Одна из самых печальных особенностей нашей
своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины,
ставшие избитыми в других странах и даже у народов, в некоторых
отношениях более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли
вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из
известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и
не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне
времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не
распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений
и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном
мире к его теперешнему состоянию, на нас не оказали никакого
действия. То, что у других составляет издавна самую суть общества
и жизни, для нас еще только теория и умозрение. И, к примеру
сказать, вы, сударыня, столь счастливо одаренная для восприятия всего
доброго и истинного на свете, вы, как бы созданная для испытания
всех самых сладостных и чистых душевных наслаждений, чего вы,
спрашивается, достигаете при всех этих преимуществах? Вам все
еще приходится разыскивать, чем бы наполнить не жизнь даже, а
лишь текущий день. Вы совсем лишены того, что в других странах
составляет необходимые рамки жизни, естественно вмещающие в
себе повседневные события, а без них так же невозможно здоровое
нравственное существование, как без воздуха невозможно здоровое
состояние физическое. Вы понимаете, дело пока еще не идет ни о
нравственных принципах, ни о философических положениях, а
просто о жизненном благоустройстве, об этих навыках, об этих
наезженных путях сознания, которые придают уму непринужденность
и вызывают размеренное движение душ.
Оглянитесь кругом себя8. Разве что-нибудь стоит прочно на
месте? Все — словно на перепутьи. Ни у кого нет определенного круга
действия, нет ни на что добрых навыков, ни для чего нет твердых
правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что бы
привязывало, что пробуждало бы ваши симпатии, вашу любовь, ничего
устойчивого, ничего постоянного; все исчезает, все течет, не
оставляя следов ни вовне, ни в вас. В домах наших мы как будто в
лагере; в семьях мы имеем вид пришельцев; в городах мы похожи на
кочевников, хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо
те более привязаны к своим пустыням, нежели мы — к своим горо-
Философические письма
167
дам. И никак не думайте, что это не имеющий значения пустяк.
Несчастные, не будем прибавлять к остальным нашим бедам еще одной
лишней — созданием ложного представления о себе самих, не будем
воображать себя живущими жизнью чисто духовных существ,
научимся благоразумно устраиваться в данной действительности...9 Но
поговорим сначала еще о нашей стране, мы при этом не выйдем из
своей темы. Без такого предварительного объяснения вы не сможете
понять, что я хочу вам сказать.
У всех народов есть период бурных волнений, страстного
беспокойства, деятельности без обдуманных намерений. Люди в такое
время блуждают по свету и телесно, и духовно. Это пора великих
побуждений, обширных предприятий, сильных страстей у народов.
Они тогда мечутся с неистовством, без ясной цели, но не без
пользы для будущих поколений. Все общества прошли через такие
периоды. В них народы наживают свои самые яркие воспоминания,
свое чудесное, свою поэзию, свои самые сильные и плодотворные
идеи, в этом и состоят необходимые устои обществ. Без этого они
бы не сохранили в своей памяти ничего, к чему бы можно было
пристраститься, что можно было бы полюбить, они были бы
привязаны лишь к праху своей земли. Эта увлекательная пора в истории
народов есть их юность, когда всего сильнее развиваются их
дарования, и память о ней составляет отраду и поучение в их зрелом
возрасте. Мы, напротив, не имели ничего подобного10. Сначала дикое
варварство, затем грубое суеверие, далее — иноземное владычество,
жестокое, унизительное, дух которого национальная власть
впоследствии унаследовала, — вот печальная история нашей юности11. Пора
бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил
народа — ничего такого у нас. Пора нашей социальной жизни,
соответствующая этому возрасту, была наполнена бесцветным и
мрачным существованием без мощности, без напряжения, его ничто не
одушевляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства.
Никаких чарующих воспоминаний, никаких прекрасных картин в
памяти, никаких действенных наставлений в национальной
традиции12. Окиньте взором все прожитые нами века, все занятые
пространства — и вы не найдете ни одного приковывающего к себе
воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы говорил
о прошедшем с силою и рисовал его живо и картинно. Мы живем
168
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без
будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не
в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в
ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает
руки к погремушке, которую ему показывает кормилица13.
Настоящее развитие человеческого существа в обществе еще не
началось для народа, пока жизнь не стала в нем более
упорядоченной, более легкой, более спокойной, чем в неопределенности первой
поры. Пока общества еще колеблются без убеждений и без правил
даже и в повседневных мелочах, как можно ожидать в них
созревания зачатков добра? Пока — это все еще хаотическое брожение
предметов нравственного мира, подобное тем переворотам в
истории земли, которые предшествовали образованию нашей планеты в
ее теперешнем виде14. Мы пока еще в таком положении.
Первые наши годы, протекшие в неподвижной дикости, не
оставили никакого следа в нашем сознании, и нет в нас ничего лично
нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль; выделенные
по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не
восприняли мы и традиционных идей человеческого рода. А между
тем на них основана жизнь народов, из этих идей вытекает их
будущее и происходит их нравственное развитие. Если мы хотим,
подобно другим народам, иметь свое лицо, мы должны сначала как-то
переначать у себя все воспитание человеческого рода. К нашим
услугам — история народов и перед нашими глазами — итоги движения
веков. Задача бесспорно трудная, и одному человеку, пожалуй, не
исчерпать столь обширного предмета... Прежде всего, однако, надо
понять, в чем дело, в чем заключается это воспитание человеческого
рода и каково занимаемое нами в общем строе место.
Народы живут только сильными впечатлениями,
сохранившимися в их умах от протекших времен, и общением с другими народами.
Этим путем каждая отдельная личность ощущает свою связь со всем
человечеством.
В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон, если
память о протекших временах не связывает настоящего с прошлым?15
хМы же, явившись на свет, как незаконнорожденные дети, лишенные
наследства16, без связи с людьми, предшественниками нашими на
земле, не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до
Философические письма
169
нашего существования. Каждому из нас приходится самому искать
путей для возобновления связи с нитью, оборванной в родной семье.
То, что у других народов просто привычка, инстинкт, то нам
приходится вбивать в свои головы ударами молота. Наши воспоминания
не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы
так удивительно шествуем во времени, что по мере движения
вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное
последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной.
Внутреннего развития, естественного прогресса у нас нет, прежние
идеи выметаются новыми, потому что последние не вырастают из
первых, а появляются у нас откуда-то извне. Мы воспринимаем идеи
только в готовом виде; поэтому те неизгладимые следы, которые
отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают
умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не
созреваем, мы подвигаемся вперед, но в косвенном направлении, т. е.
по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не
заставляли самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего
в них нет ничего, все их знание на поверхности, вся их душа — вне
их. Таковы же и мы.
Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные
личности. Их воспитывают века, как людей — годы. Про нас можно
сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы
принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной
частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать
великий урок миру. И, конечно, не пройдет без следа то наставление,
которое суждено нам дать, но кто знает день, когда мы найдем себя
среди человечества, и кто исчислит те бедствия, которые мы
испытываем до свершения наших судеб?
Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство; несмотря
на их разделение на отрасли латинскую и тевтонскую, на южан и
северян, существует связывающая их в одно целое черта, явная для
всякого, кто углубится в общие их судьбы. Вы знаете, еще не так давно
вся Европа носила название христианского мира, и слово это
значилось в публичном праве. Помимо общего всем обличья, каждый
из народов этих имеет свои особые черты, но все это коренится в
истории и в традициях и составляет наследственное достояние этих
народов. А в их недрах каждый отдельный человек обладает своей
170
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
долей общего наследства, без труда, без напряжения подбирает в
жизни рассеянные в обществе знания и пользуется ими. Сравните то,
что делается у нас, и судите сами, какие элементарные идеи можем
почерпнуть в повседневном обиходе мы, чтобы ими так или иначе
воспользоваться для руководства в жизни. Заметьте при этом, что
дело идет здесь не об учености, не о чтении, не о чем-то
литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях,
охватывающих ребенка в колыбели, нашептываемых ему в ласках
матери, окружающих его среди игр, о тех, которые в форме
различных чувств проникают в мозг его вместе с воздухом и которые
образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления
в обществе17. Вам надо назвать их? Это идеи долга, справедливости,
права, порядка. Они имеют своим источником те самые события,
которые создали там общество, они образуют составные элементы
социального мира тех стран. Вот она, атмосфера Запада, это нечто
большее, чем история или психология, это физиология европейца18.
А что вы взамен этого поставите у нас?
Не знаю, можно ли вывести из сказанного сейчас что-либо
вполне бесспорное и построить на этом непреложное положение; но
ясно, что на душу каждой отдельной личности из народа должно
сильно влиять столь странное положение, когда народ этот не в
силах сосредоточить своей мысли ни на каком ряде идей, которые
постепенно развертывались в обществе и понемногу вытекали одна из
другой, когда все его участие в общем движении человеческого
разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бестолковому
подражанию другим народам. Вот почему, как вы можете заметить,
всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то
последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам чужд. В лучших
умах наших есть что-то еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи,
лишенные связи и последовательности, как бесплодные вспышки,
парализуются в нашем мозгу. В природе человека — теряться, когда
он не в состоянии связаться с тем, что было до него и что будет
после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность.
Раз он не руководим ощущением непрерывной длительности, он
чувствует себя заблудившимся в мире. Такие растерянные существа
встречаются во всех странах; у нас — это общее свойство. Тут вовсе
не то легкомыслие, которое когда-то ставили в упрек французам19
Философические письма
171
и которое в конце концов было не чем иным, как легким способом
воспринимать окружающее, что не исключало ни глубины ума, ни
широты кругозора и вносило столько прелести и обаяния в
обращение; тут — бессмысленность жизни без опыта и предвидения, не
имеющей отношения ни к чему, кроме призрачного бытия особи,
оторванной от своего видового целого, не считающейся ни с
требованиями чести, ни с успехами какой-либо совокупности идей и
интересов, ни даже с наследственными стремлениями данной семьи
и со всем сводом предписаний и точек зрения, которые определяют
и общественную, и частную жизнь в строе, основанном на памяти
прошлого и на заботе о будущем. В наших головах нет
решительно ничего общего, все там обособленно и все там шатко и неполно.
Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности
неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее обличие
народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы.
В чужих краях, особенно на юге, где лица так одушевлены и
выразительны, я столько раз сравнивал лица моих земляков с лицами
местных жителей и бывал поражен этой немотой наших выражений.
Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беззаветную
отвагу, особенно замечаемую в низших классах народа20; но имея
возможность наблюдать лишь отдельные черты народного характера,
они не могли судить о нем в целом. Они не заметили, что та самая
причина, которая делает нас подчас столь смелыми, постоянно
лишает нас глубины и настойчивости; они не заметили, что свойство,
делающее нас столь безразличными к случайностям жизни,
вызывает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко всякой
лжи и что именно это и лишает нас тех сильных побуждений,
которые направляют людей на путях к совершенствованию; они не
заметили, что именно вследствие такой ленивой отваги даже и высшие
классы — как ни тяжело, а приходится признать это — не свободны
от пороков, которые у других свойственны только классам самым
низшим; они, наконец, не заметили, что если мы обладаем
некоторыми достоинствами народов молодых и здоровых, то мы не имеем
ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные.
Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а
среди народов Европы одни добродетели, отнюдь нет. Но я говорю,
что, судя о народах, надо исследовать общий дух, составляющий их
172
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более
совершенному нравственному состоянию и направить к
бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера.
Массы находятся под воздействием известных сил, стоящих у
вершин общества. Массы непосредственно не размышляют. Среди
них имеется известное число мыслителей, которые за них думают,
которые дают толчок собирательному сознанию нации и приводят
ее в движение. Незначительное меньшинство мыслит, остальная
часть чувствует, в итоге же получается общее движение. Это так у
всех народов на земле; исключение составляют только некоторые
одичавшие расы, которые сохранили из человеческой природы
один только внешний облик. Первобытные народы Европы, кельты,
скандинавы, германцы, имели своих друидов, своих скальдов, своих
бардов, которые на свой лад были сильными мыслителями21.
Взгляните на племена Северной Америки, которые искореняет с таким
усердием материальная цивилизация Соединенных Штатов: среди
них имеются люди, удивительные по глубине22. А теперь я вас
спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто за нас когда-либо
думал, кто за нас думает теперь?
А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира,
между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай,
другим — на Германию, мы бы должны были сочетать в себе две
великие основы духовной природы — воображение и разум и
объединить в своем просвещении исторические судьбы всего земного
шара. Не эту роль предоставило нам Провидение. Напротив, оно
как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в
своем обычном благодетельном влиянии на человеческий разум,
оно предоставило нас всецело самим себе, не захотело ни в чем
вмешиваться в наши дела, не захотело ничему нас научить. Опыт
времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас
бесплодно. Наблюдая нас, можно бы сказать, что здесь сведен на нет
всеобщий закон человечества. Одинокие в мире, мы миру ничего
не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих
идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению
вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого
движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего
социального существования, от нас не вышло ничего пригодного
Философические письма
173
для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на
бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была
выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать в
области воображения, и из того, что создано воображением других,
мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и
бесполезную роскошь.
Удивительное дело. Даже в области той науки, которая все
охватывает, наша история ни с чем не связана, ничего не объясняет,
ничего не доказывает. Если бы полчища варваров, потрясших мир, не
прошли по занятой нами стране прежде нашествия на Запад, мы бы
едва ли дали главу для всемирной истории. Чтобы заставить себя
заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до
Одера. Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того,
чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации23;
мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой
раз другой великий монарх, приобщая нас к своей славной
судьбе, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись
домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным
странам мира, мы принесли с собой одни только дурные понятия
и гибельные заблуждения, последствием которых была катастрофа,
откинувшая нас назад на полвека24. В крови у нас есть что-то
такое, что отвергает всякий настоящий прогресс25. Одним словом, мы
жили и сейчас еще живем лишь для того, чтобы преподать какой-то
великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что
бы там ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумного
существования. Я не могу довольно надивиться на эту пустоту, на эту
поразительную оторванность нашего социального бытия. В этом,
наверное, отчасти повинна наша непостижимая судьба. Но есть
здесь еще, без сомнения, и доля человеческого участия, как во всем,
что происходит в нравственном мире. Обратимся за объяснением
снова к истории: она нам дает ключ к пониманию народов.
В то время, когда среди борьбы между исполненным силы
варварством народов севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось
здание современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой
судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно
было нас воспитать, к растленной Византии26, к предмету глубокого
презрения этих народов. Только что перед тем эту семью вырвал из
174
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
вселенского братства один честолюбивый ум*27, вследствие этого мы
и восприняли идею в искаженном людской страстью виде. В
Европе все тогда было одушевлено животворным началом единства. Все
там из него истекало, все там сосредоточивалось28. Все умственное
движение той поры только и стремилось установить единство
человеческой мысли, и всякий импульс истекал из властной потребности
найти мировую идею, эту вдохновительницу новых времен. Чуждые
этому чудотворному принципу, мы стали жертвой завоевания. И
когда, затем, освободившись от чужеземного ига, мы могли бы
воспользоваться идеями, расцветшими за это время среди наших братьев на
Западе, если бы только не были отторгнуты от общей семьи, мы
подпали рабству, еще более тяжелому, и притом освященному самым
фактом избавления нас от ига29.
Сколько ярких лучей тогда уже вспыхнуло среди кажущегося
мрака, покрывавшего Европу. Большинство знаний, которыми ныне
гордится человеческий ум, уже предугадывалось в умах; характер
нового общества уже определился, и, обращаясь назад к языческой
древности, мир христианский снова обрел формы прекрасного,
которых ему еще недоставало. До нас же, замкнутых в нашей схизме,
ничего из происходившего в Европе не доходило. Нам не было дела
до великой всемирной работы. Выдающиеся качества, которыми
религия одарила современные народы и которые в глазах
здравого смысла ставят их настолько выше древних, насколько последние
выше готтентотов или лапландцев; новые силы, которыми она
обогатила человеческий ум; нравы, которые под влиянием преклонения
перед безоружной властью стали столь же мягкими, как ранее они
были жестоки, — все это прошло мимо нас. Вопреки имени
христиан, которое мы носили, в то самое время, когда христианство
величественно шествовало по пути, указанному божественным его
основателем, и увлекало за собой поколения людей, мы не
двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не
созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из бревешек
и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода не для нас
совершались. Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды
христианства.
* Фотий.
Философические письма
175
Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас
предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно
совершившийся и притом под прямым и явным воздействием одной
нравственной силы, мы можем себе сразу усвоить, да еще не дав себе
ясного отчета в том, как он совершился?
Ничего не понимает в христианстве тот, кто не замечает его
чисто исторической стороны, составляющей столь существенную часть
вероучения, что в ней до некоторой степени заключается вся
философия христианства, так как именно здесь обнаруживается, что оно
сделало для людей и что ему предстоит сделать для них в будущем.
В этом смысле христианская религия раскрывается не только как
система нравственности, воспринятая в преходящих формах
человеческого разума, но еще как божественная вечная сила, действующая
всеобщим образом в мире сознаний, так что ее видимое проявление
должно служить нам постоянным поучением. В этом и
заключается собственный смысл догмата символа веры о единой Вселенской
Церкви30. В мире христианском все должно вести непременно к
установлению совершенного строя на земле, да и ведет к этому на
самом деле, иначе факты опровергали бы слова Спасителя. Он бы не
был среди Своей Церкви до окончания века. Новый строй, —
Царство Божие, — который должен наступить благодаря искуплению, не
отличался бы от старого строя — от царства зла, — который должен
быть искуплением искоренен, и мы снова остались бы с этим
воображаемым свойством непременного совершенствования, о котором
мечтает философия и которое опровергается на каждой странице
истории: это пустое возбуждение ума, которое удовлетворяет лишь
потребностям физического существа и которое если и поднимает
человека на некоторую высоту, то всегда лишь с тем, чтобы
низвергнуть его в еще более глубокую пропасть.
Но разве мы не христиане, скажете вы, и разве нельзя быть
цивилизованным не по европейскому образцу? Да, мы без всякого
сомнения христиане, но не христиане ли и абиссинцы31? И можно
быть, конечно, цивилизованным иначе, чем в Европе, разве не
цивилизованна Япония, да еще и в большей степени, чем Россия, если
верить одному из наших соотечественников32. Но разве вы думаете,
что христианство абиссинцев и цивилизация японцев водворяет тот
строй, о котором я только что говорил и который составляет конеч-
176
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ное назначение человеческого рода? Неужели вы думаете, что эти
нелепые отступления от Божеских и человеческих истин низведут
небо на землю?
В христианстве есть две легко различимые стороны. Во-первых,
его действие на личность, во-вторых, его действие на мировой
разум. В Верховном Разуме то и другое естественно сливается и
приводит к одной и той же цели. Но наш ограниченный взгляд не в силах
охватить все протяжение времен, в которые осуществляются вечные
предначертания божественной мудрости. Нам необходимо различать
божественное действие, проявляющееся в данное время в жизни
человека, от того действия, которое проявляется лишь в бесконечности.
В день окончательного завершения дела искупления все сердца и все
умы составят одно чувство и одну мысль, и падут все стены,
разделяющие народы и вероисповедания. Но в настоящее время каждому
важно знать свое место в общем строе призвания христиан, т. е. знать,
каковы те средства, которые он находит в себе и вокруг себя, для того,
чтобы сотрудничать, в достижении цели, стоящей перед всем
человеческим обществом в целом.
Непременно должен быть, следовательно, особенный круг идей,
в пределах которого идет движение сознаний в том обществе, где
цель эта должна осуществиться, т. е. там, где идея Откровения
должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта
нравственная сфера неизбежно вызывают особенный род
существования и особенную точку зрения, которые, хотя могут быть и не
тождественными у всякого отдельного лица, однако же, по сравнению
с нами, как и по сравнению со всеми неевропейскими народами,
создают одну и ту же особенность в поведении, как следствие той
огромной работы духа в течение восемнадцати веков33, куда влились
все страсти, все интересы, все страдания, все усилия воображения и
разума.
Все народы Европы, подвигаясь из века в век, шли рука об руку.
Что бы они ни делали, каждый по-своему, они все же постоянно
сходятся на одном и том же пути. Чтобы понять семейное сходство
в развитии этих народов, не надо даже изучать историю: читайте
только Тассо, и вы увидите все народы распростертыми у подножия
стен Иерусалима34. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у
них был один язык при обращении к Богу, один нравственный авто-
Философические письма
177
ритет, одно и то же убеждение35. Подумайте, в течение пятнадцати
веков, ежегодно в один и тот же день, в один и тот же час, в тех
же выражениях они возносили свой голос к Верховному Существу,
прославляя Его в величайшем из Его благодеяний: дивное созвучие
в тысячу раз более величественное, чем все гармонии физического
мира. После этого ясно, что раз та сфера, в которой живут
европейцы и которая одна лишь может привести человечество к его
конечному назначению, есть результат влияния, произведенного на них
религией, и раз слабость наших верований или недостаток нашего
вероучения удерживали нас вне этого мирового движения, в котором
социальная идея христианства развилась и получила определенное
выражение, а мы были откинуты к числу народов, которым суждено
использовать воздействие христианства во всей силе лишь косвенно
и с большим опозданием, то необходимо стремиться всеми
способами оживить наши верования и дать нам воистину христианский
импульс, ибо ведь там все совершило христианство. Так вот что я
имел в виду, говоря о необходимости снова начать у нас воспитание
человеческого рода.
Вся история нового общества происходит на почве убеждений.
Значит, это настоящее воспитание. Утвержденное с самого начала
на этой основе, новое общество двигалось вперед лишь под
влиянием мысли. Интересы в нем всегда следовали за идеями, а никогда
им не предшествовали. В этом обществе постоянно из убеждений
создавались интересы, никогда интересы не вызывали убеждений.
Все политические революции были там в принципе переворотами
нравственного порядка. Искали истины — нашли свободу и
благоденствие. Только так объясняется исключительное явление нового
общества и его цивилизации; иначе в нем ничего нельзя было бы
понять.
Религиозные гонения, мученичества, пропаганда христианства,
ереси, соборы — вот события, заполняющие первые века. Все
движение данной эпохи, не исключая и вторжения варваров, целиком
связывается с младенческими усилиями нового духа. Образование
иерархии, сосредоточение духовной власти, продолжение
религиозной пропаганды в странах севера — вот содержание второй
эпохи. Наступает затем высший восторженный подъем религиозного
чувства и упрочение духовной власти. Философское и литературное
178
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
развитие ума и смягчение нравов под влиянием религии
заканчивают эту историю, которую можно назвать священной, подобно
истории избранного народа в древности36. Наконец, и нынешнее
состояние общества определяется религиозной реакцией, новым
толчком, сообщенным человеческому духу религией. Итак, главный,
можно сказать, единственный интерес у новых народов заключался
лишь в убеждении. Все интересы — материальные, положительные,
личные — поглощались этим.
Я знаю, вместо преклонения перед таким чудесным порывом
человеческой природы к возможному совершенству его называли
фанатизмом и суеверием37. Но что бы там ни говорили, посудите, какое
глубокое впечатление должно было оставить на характере этих
народов социальное развитие, целиком вызванное, как в добре, так и
в зле, одним чувством. Пускай поверхностная философия38 сколько
угодно шумит по поводу религиозных войн, костров, зажженных
нетерпимостью, — что касается нас, мы можем только завидовать
судьбе народов, которые в этом столкновении убеждений, в этих
кровавых схватках в защиту истины создали себе мир понятий, какого
мы не можем себе даже и представить, а не то что перенестись туда
телом и душою, как мы на это притязаем.
Повторю еще раз: разумеется, в странах Европы не все исполнено
ума, добродетели, религии, — совсем нет. Но все там таинственно
подчинено силе, безраздельно царившей в ряде веков; все в ней
вытекает из того продолжительного сцепления фактов и идей,
которым создано теперешнее состояние общества. И вот, между прочим,
тому пример. Народ, личность которого ярче всех обозначилась,
учреждения которого всего более отражают новый дух, —
англичане, — собственно говоря, не имеют истории, помимо церковной.
Последняя их революция, которой они обязаны своей свободой и
благоденствием, а также и вся цепь событий, которые привели к
этой революции, начиная с Генриха VIII, не что иное, как
религиозное развитие. Во всем этом периоде интересы собственно
политические проявлялись лишь в качестве второстепенных побуждений,
а подчас они совершенно исчезали или же приносились в жертву
убеждениям. И пока я пишу эти строки*, опять-таки религиозный во-
* 1829.
Философические письма
179
прос волнует эту избранную страну39. Да и вообще, какой из народов
Европы не нашел бы в своем национальном самосознании, если бы
он в нем захотел порыться, этой особой черты, которая, как святой
завет, была постоянным животворным началом, душой его
социального бытия во все продолжение его жизни40.
Действие христианства отнюдь не ограничивается его
немедленным и прямым влиянием на душу людей. Огромное действие,
которое оно призвано вызвать, должно состоять из множества сочетаний,
нравственных, умственных и социальных, где полная свобода
человеческого духа должна непременно найти всяческий простор. Итак,
понятно, что все совершившееся с первого дня нашей эры, или,
вернее, с того часа, как Спаситель мира сказал своим ученикам: Идите по
миру и проповедуйте Евангелие всей твари41, — заключается
целиком, со всеми нападками на христианство в том числе, в общей идее
об его влиянии. Чтобы убедиться в исполнении пророчеств Христа,
достаточно наблюдать повсеместное водворение владычества Его в
сердцах, будь то с сознанием или бессознательно, добровольно или
против воли. И поэтому, невзирая на все незаконченное, порочное и
преступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось, все
же Царство Божие в известном смысле в нем действительно
осуществлено, потому что общество это содержит в себе начало
бесконечного прогресса и обладает, в зародыше и в элементах, всем
необходимым для его окончательного водворения в будущем на земле.
Прежде чем заключить эти размышления о том воздействии,
которое религия оказала на общество, я повторю здесь то, что написал
об этом когда-то в одном сочинении, вам, сударыня, неизвестном42.
«Несомненно, — писал я, — что пока не замечаешь влияния
христианства везде, где человеческая мысль с ним как бы то ни было
сталкивается, хотя бы только с целью борьбы, не имеешь о нем
ясного представления. Всюду, где произнесено имя Христа, оно само
по себе неотвратимо увлекает людей. Ничто не обнаруживает вернее
божественного происхождения этой религии, чем свойственная ей
черта абсолютной всеобщности, вследствие которой она внедряется
в душах всевозможными способами, овладевает без их ведома
умами, господствует над ними, подчиняет их даже и тогда, когда они
как будто сильнее всего сопротивляются, внося при этом в
сознание чуждые ему до тех пор истины, заставляет сердце переживать не
180
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
испытанные им ранее впечатления и внушает нам чувства, которые
незаметно вынуждают нас занять место в общем строе. Этим она
определяет действие всякой индивидуальности и все направляет к
одной цели. При таком взгляде на христианство всякое изречение
Христа становится осязаемой истиной, и тогда явственно
различаешь действие всех рычагов, которые пускает в ход Его всемогущая
десница, чтобы направить человека к его назначению, не посягая на
его свободу, не поражая ни одной из его природных сил, а,
напротив, вызывая их высшее напряжение и возбуждая до бесконечности
всю, сколько в нем ни есть, его собственную мощь. Тогда бросается
в глаза, что в новом распорядке ни один нравственный элемент не
остается без действия, что все находит в нем место и применение,
самые деятельные дарования ума, равно как и горячее излияние
чувства, героизм сильной души, как и преданность покорного духа.
Доступная всякому сознательному существу, сочетаясь со всяким
движением сердца, из-за чего бы оно ни билось, мысль Откровения
захватывает все, растет и крепнет даже и вследствие препятствий на
своем пути. С гением она возвышается до высот, недоступных
прочим смертным, с робким духом она пробирается, припав к земле, и
подвигается шаг за шагом; в сосредоточенном уме она независима и
глубока, в душе, поддающейся воображению, она витает в мечтах и
полна образов; в нежном и любящем сердце она исходит
милосердием и любовью; она всегда идет наравне со всяким вверившимся ей
сознанием, наполняя его жаром, силой и светом. Какие
разнообразные натуры, какое множество сил она приводит в движение, сколько
различных способностей сливает воедино, сколько несходных
сердец заставляет биться из-за одной и той же идеи. Но еще
поразительнее действие христианства на общество в целом. Разверните всю
картину развития нового общества, и вы увидите, что христианство
претворяет все интересы людей в свои собственные, заменяя везде
материальную потребность потребностью нравственной,
возбуждая в области мысли великие прения, каких история не наблюдала
ни в одной другой эпохе и ни в одном другом обществе, вызывая
жестокую борьбу между убеждениями, так что жизнь народов
превращалась в великую идею и во всеобъемлющее чувство; вы увидите,
что в христианство и только в него выливалось все, жизнь частная
и жизнь общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и во-
Философические письма
181
ображение, воспоминания и надежды, радости и горести. Благо тем,
кто в великом движении, возбужденном в мире самим Богом, носят
в сердце внутреннее сознание производимого ими действия. Но не
все в этом движении — орудия деятельные, не все работают
сознательно; массы по необходимости движутся слепо, как
неодушевленные атомы, косные громады, не знающие тех сил, которые приводят
их в движение, не различая той цели, к которой они влекутся»43.
Пора обратиться снова к вам, сударыня. Мне, признаться, трудно
оторваться от этих широких горизонтов. С этой высоты
открывается перед моими глазами картина, в которой почерпаю я все свои
утешения; в сладостном чаянии грядущего блаженства людей — мое
прибежище, когда, под гнетом обступающей меня печальной
действительности, я чувствую потребность подышать более чистым
воздухом, взглянуть на более ясное небо.
Я, впрочем, не думаю, что злоупотребил вашим временем. Надо
было выяснить вам точку зрения, с которой следует смотреть на мир
христианский и на то, что в этом мире делаем мы. Я должен был
показаться вам жестоким в отзывах о родине. Однако же я сказал
только правду и даже еще не всю правду. Притом христианское сознание
не терпит никакого ослепления и менее всех других — предрассудка
национального, так как он более всего разделяет людей44.
Письмо мое слишком разрослось, сударыня, нам обоим, кажется,
надо перевести дух. Вначале мне казалось, что я смогу в немногих
словах передать вам задуманное; осмотревшись, я вижу, что здесь
имеется материала на целый том. Устраивает ли это вас, сударыня?
Вы мне это скажете. Во всяком случае вам не миновать второго
письма, ибо мы только что приступили к существу дела. Между тем я буду
вам очень признателен, если вы согласитесь посмотреть на
обширность первого письма как на возмещение за время вашего
вынужденного ожидания. Я взялся за перо в самый день получения письма.
Печальные и утомительные заботы меня тогда всецело поглощали:
надо было от них отделаться прежде, чем начать беседу о столь
важных предметах; затем приходилось переписать мое маранье,
совершенно неудобочитаемое. На этот раз ожидать вам придется недолго:
завтра же я снова берусь за перо.
Некрополис, 1829,1 декабря'
182
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Если я удачно передал намедни свою мысль, вы должны были
убедиться, что я отнюдь не думаю, будто нам не хватает одних только
знаний. Правда, и их у нас не слишком много, но приходится в
данное время обойтись без тех обширных духовных сокровищ, которые
веками скоплены в других странах и находятся там в распоряжении
человека: нам предстоит другое. К тому же, если и допустить, что мы
смогли бы путем изучения и размышления добыть себе
недостающие нам знания, откуда нам взять живые традиции, обширный опыт,
глубокое осознание прошлого, прочные умственные навыки — все
эти последствия огромного напряжения всех человеческих
способностей, а они-то и составляют нравственную природу народов
Европы и дают им подлинное превосходство. Итак, задача сейчас не
в расширении области наших идей, а в том, чтобы исправить их и
придать им новое направление. Что касается вас, сударыня, то вам
прежде всего нужна новая сфера бытия, в которой свежие мысли,
случайно зароненные в ваш ум, и новые потребности, порожденные
этими мыслями в вашей душе, нашли бы действительное
приложение. Вы должны создать себе новый мир, раз тот, в котором вы
живете, стал вам чуждым.
Начать с того, что состояние души нашей, как бы высоко она ни
была настроена, по необходимости зависит от окружающей
обстановки. Поэтому вам надлежит как следует разобраться в том, что
можно сделать при вашем положении в свете и в собственной вашей
семье для согласования ваших чувств с вашим образом жизни, ваших
идей — с вашими домашними отношениями, ваших верований — с
верованиями тех, кого вы видаете...
Ведь множество зол возникает именно оттого, что происходящее
в глубине нашей мысли резко расходится с необходимостью
подчиняться общественным условиям. Вы говорите, что средства не
позволяют вам удобно устроиться в столице. Ну что ж, у вас прелестная
усадьба: почему бы вам прочно там не обосноваться до конца ваших
дней?46 Это счастливая необходимость, и от вас одной зависит
извлечь из нее всю ту пользу, какую могли бы вам доставить самые
поучительные указания философии. Сделайте свой приют как
можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством,
Философические письма
183
почему бы даже не вложить в это некоторую изысканность и
нарядность? Ведь это вовсе не особый вид чувственности, заботы ваши
будут иметь целью не вульгарные удовольствия, а возможность
всецело сосредоточиться в своей внутренней жизни. Очень прошу вас
не пренебрегать этими внешними мелочами47. Мы живем в стране,
столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим
себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса,
то легко можем утратить всякую утонченность чувства, всякое
понятие об изящном. Одна из самых поразительных особенностей
нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении
всеми удобствами и радостями жизни. Мы лишь с грехом пополам
боремся с крайностями времен года, и это в стране, о которой
можно не на шутку спросить себя, была ли она предназначена для жизни
разумных существ. Раз мы сделали некогда неосторожность,
поселившись в этом жестоком климате, то постараемся по крайней мере
ныне устроиться там так, чтобы можно было несколько забыть его
суровость48.
Мне помнится, вы в былое время с большим удовольствием
читали Платона. Вспомните, как заботливо самый идеальный, самый
выспренний из мудрецов древнего мира окружает действующих лиц
своих философских драм всеми благами жизни. То они медленно
гуляют по прелестным прибрежьям Илисса или в кипарисных
аллеях Гносса, то они укрываются в прохладной тени старого платана
или вкушают сладостное отдохновение на цветущей лужайке, а то,
выждав спадения дневной жары, наслаждаются ароматным
воздухом и тихой прохладой вечера в Аттике, или же, наконец, возлежат
в удобных позах, увенчанные цветами и с кубками в руках, вокруг
стола с яствами, и, только прекрасно устроив их на земле, автор
возносит их в надлунные пространства, в которых так любит витать49.
Я мог бы вам указать и в сочинениях самых строгих отцов церкви,
у св. Иоанна Златоуста, у св. Григория Назианзина, даже и у св.
Василия50, прелестные изображения уединений, где эти великие люди
находили покой и высокие вдохновения, сделавшие их светилами
веры. Святые мужи не думали, что они унижают свое достоинство,
отдаваясь заботам о таких предметах, наполняющих значительную
часть жизни. В этом безразличии к жизненным благам, которое
иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное.
184
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в
отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней жизни.
Затем я бы хотел, чтобы вы устроили себе в этом убежище,
которое вы как можно лучше украсите, вполне однообразный и
методический образ жизни. Нам всем не хватает духа порядка и
последовательности, исправимся от этого недостатка. Не стоит повторять
доводов в пользу преимуществ размеренной жизни, во всяком случае
одно лишь постоянное подчинение определенным правилам может
научить нас без усилий подчиняться высшему закону нашей
природы. Но для точного поддержания известного строя необходимо
устранить все, что этому мешает. Часто с первых часов дня бываешь
выбит из намеченного круга занятий, и весь день испорчен. Нет
ничего важнее первых испытанных нами впечатлений, первых мыслей
вслед за подобием смерти, которое разделяет один день от другого.
Эти впечатления и эти мысли обычно предопределяют состояние
нашей души на весь день. Вот он начался домашней сварой и может
кончиться непоправимой ошибкой. Поэтому приучитесь первые
часы дня сделать как можно более значительными и
торжественными, сразу вознесите душу на всю ту высоту, к какой она способна,
старайтесь провести эти часы в полном уединении, устраняйте все,
что может слишком на вас повлиять, слишком вас рассеять, при
такой подготовке вы можете безболезненно встретить те
неблагоприятные впечатления, которые затем вас охватят и которые при других
условиях превратили бы ваше существование в непрерывную
борьбу, без надежды на победу. К тому же раз это время упущено, потом
уже не вернешь его для уединения и сосредоточенной мысли. Жизнь
поглотит вас всеми своими заботами, как приятными, так и
скучными, и вы покатитесь в нескончаемом колесе житейских мелочей. Не
дадим же протекать без пользы единственному часу дня, когда мы
можем принадлежать сами себе.
Признаюсь, я придаю большое значение этой потребности
ежедневно сосредоточиться и расправить душу, я уверен, что нет
другого средства уберечь себя от поглощения окружающим; но вы,
конечно, понимаете, что это далеко еще не все. Одна идея,
пронизывающая всю вашу жизнь, должна всегда стоять перед вами,
служить вам светочем во всякое время дня. Мы являемся в мир со
смутным инстинктом нравственного блага, но вполне осознать его
Философические письма
185
мы можем лишь в более полной идее, которая из этого
инстинкта развивается в течение всей жизни. Этой внутренней работе
надо все приносить в жертву, применительно к ней надо
установить весь порядок вашей жизни. Но все это должно протекать в
сердечном молчании, потому что мир не сочувствует ничему
глубокому. Он отвращает глаза от великих убеждений, глубокая идея
его утомляет. Вам же должны быть свойственны верное чувство и
сосредоточенная мысль, не зависимые от различных людских
мнений, а уверенно ведущие вас к цели. Не завидуйте обществу из-за
его чувственных удовольствий, вы обретете в своем уединении
наслаждения, о которых там и понятия не имеют. Я не сомневаюсь в
том, что, освоившись с ясной атмосферой такого существования,
вы станете спокойно взирать из своей обители на то, как волнуется
и для вас исчезает мир, вы с наслаждением будете вкушать тишину
души. А там — надо усвоить себе вкусы, привычки, привязанности
вашего нового образа жизни. Надо избавиться от всякого суетного
любопытства, разбивающего и уродующего жизнь, и первым делом
искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками,
гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с
жадностью ожидать того, что случится завтра. Иначе вы не обретете ни
мира, ни благополучия, а одни только разочарования и
отвращение. Хотите вы, чтобы мирской поток разбивался у порога вашего
мирного жилища? Если да, то изгоните из вашей души все эти
беспокойные страсти, возбуждаемые светскими происшествиями, все
эти нервные волнения, вызванные новостями дня. Замкните дверь
перед всяким шумом, всякими отголосками света. Наложите у себя
запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную
литературу, по существу она не что иное, как тот же шум, но только
в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего вреднее для
правильного умственного уклада, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы
встречаем людей, ставших неспособными серьезно размышлять,
глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни
только эти произведения последнего дня, в которых за все
хватаются, ничего не углубив, в которых все обещают, ничего не
выполняя, где все принимает сомнительную или лживую окраску и все
вместе оставляет после себя пустоту и неопределенность. Если вы
ищете удовлетворения в избранном вами образе жизни, необходи-
186
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
мо добиться, чтобы новшество из-за одной новизны своей никогда
вами не ценилось.
Нет никакого сомнения, чем более вы согласуете свои вкусы и
потребности с этим образом жизни, тем лучше вы будете себя
чувствовать. Чем теснее вы свяжете внешнее с внутренним, видимое с
невидимым, тем более вы облегчите предстоящий путь. Не надо,
однако, скрывать от себя и ожидающих вас трудностей. Их у нас так
много, что всех и не перечесть. Здесь не торная дорога, где колесо
жизни катится по наезженной колее: это тропа, по которой
приходится продираться сквозь тернии и колючки, а подчас и сквозь
чащу. В старых цивилизованных странах Европы давно сложились
определенные бытовые образцы, так что там, когда решишь
переменить обстановку, приходится просто-напросто выбрать ту новую
рамку, в которую желаешь перенестись — место заранее готово.
Распределение ролей сделано. Как только вы изберете подходящий род
жизни, и люди и предметы сами собой расположатся вокруг вас. Вам
остается только должным образом их использовать. Совсем иное
дело у нас. Сколько издержек, сколько труда, прежде чем вы
освоитесь в новой обстановке! Сколько теряется времени, сколько
затрачивается сил на приспособление, на то, чтобы приучить
окружающих смотреть на вас сообразно с новым вашим положением, чтобы
заставить молчать глупца, чтобы улеглось любопытство. Разве здесь
знают, что такое могущество мысли? Разве здесь испытали, как
прочное убеждение вследствие тех или других причин вторгается в душу
вопреки привычному ходу вещей, через некое внезапное озарение,
через указание свыше51, овладевает душой, опрокидывает целиком
ваше существование и поднимает вас выше вас самих и всего, что вас
окружает? Живое сознание вызывало ли здесь когда-либо сердечный
отклик?52
Естественно, что всякий, кто отдался бы с жаром своим
верованиям, наткнется среди этой толпы, которую никогда ничего не
потрясало, на препятствия и возражения. Вам придется себе все создавать,
сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под
ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве
не они составляют окружающий вас воздух?53 Эти борозды, которые
в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас
носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в
Философические письма
187
себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем,
бессильные выйти из него54. Вот проклятая действительность, о нее
мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые
благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует
волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная
роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не
заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек, столь сильный,
чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая
одно и поступая по-другому, он не опротивел самому себе? И вот я
снова вернулся, сам того не замечая, к тому, с чего начал: позвольте
мне еще немного на этом остановиться, и я затем вернусь к вам.
Эта ужасная язва, которая нас изводит, в чем же ее причина? Как
могло случиться, что самая поразительная черта христианского
общества как раз именно и есть та, от которой русский народ отрекся
на лоне самого христианства? Откуда у нас это действие религии
наоборот? Не знаю, но мне кажется, одно это могло бы заставить
усомниться в православии, которым мы кичимся. Вы знаете, что ни
один философ древности не пытался представить себе общества
без рабов, да и не находил никаких возражений против рабства.
Аристотель, признанный представитель всей той мудрости, какая
только была в мире до пришествия Христа, утверждал, что люди
родятся — одни, чтобы быть свободными, другие — чтобы носить
оковы55. Вы знаете также и то, что, по признанию самых даже упорных
скептиков, уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны
христианству. Более того, известно, что первые случаи
освобождения были религиозными актами и совершались перед алтарем и
что в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: pro
redemptione animae — ради искупления души56. Наконец, известно,
что духовенство показало везде пример, освобождая собственных
крепостных, и что римские первосвященники первые вызвали
уничтожение рабства в области, подчиненной их духовному
управлению. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас?
Почему, наоборот, русский народ подвергся рабству лишь после
того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова
и Шуйского?57 Пусть православная церковь объяснит это явление58.
Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса
против этого отвратительного насилия одной части народа над
188
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
другой. И посмотрите, пожалуйста, как мало нас знают, невзирая на
всю нашу внешнюю мощь. Как раз на этих днях в одно время и на
Босфоре и на Евфрате прогремел гром наших пушек59. А между тем
историческая наука, которая именно в это самое время доказывает,
что уничтожение рабства есть заслуга христианства60, даже и не
подозревает, что христианский народ в 40 миллионов душ пребывает
в оковах. Дело в том, что значение народов в человечестве
определяется лишь их духовной мощью и что то внимание, которое они к
себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не
от шума, который они производят. Теперь вернемся назад.
После сказанного о желательном, на мой взгляд, для вас образе
жизни, вы, пожалуй, могли бы подумать, что я требую от вас
монашеской замкнутости. Но речь идет лишь о трезвом и осмысленном
существовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной
суровостью аскетической морали. Я говорю о жизни, отличной от жизни
толпы, с такой положительной идеей и таким чувством,
преисполненным убеждения, к которому сводились бы все остальные
мысли, все остальные чувства. Такое существование прекрасно мирится
со всеми законными благами жизни: оно даже их требует, и
общение с людьми — необходимое его условие. Одиночество таит свои
опасности, в нем подчас нас ожидают еще большие искушения.
Сосредоточенный в самом себе ум питается созданными им лживыми
образами и подобно св. Антонию населяет свою пустыню
призраками, порождениями собственного воображения61, и они его затем
и преследуют. А между тем если развивать религиозную мысль без
страсти, без насилия, то сохранишь даже и среди мирской суеты то
внутреннее состояние, в котором все обольщения, все увлечения
жизни теряют силу.
Надо найти такое душевное настроение, мягкое и простое,
которое сумело бы без усилий сочетать со всеми действиями разума, со
всеми возбуждениями сердца идею истины и добра. В особенности
следует стремиться проникнуться истинами Откровения.
Огромное преимущество этих истин в том, что они доступны всякому
разумному существу, что они мирятся с особенностями всех умов.
К ним ведут всевозможные пути: и покорная и слепая вера, которую
без размышления исповедуют массы, и глубокое знание, и
простодушное сердечное благоговение, и вдохновенное размышление, и
Философические письма
189
возвышенная поэзия души. Однако самый простой путь — целиком
положиться на те столь частные случаи, когда мы сильнее всего
подпадаем действию религиозного чувства на нашу душу и нам кажется,
что мы лишились лично нам принадлежащей силы и против своей
воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от
земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании
своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о
небе и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце.
Многократно возвращаясь к основному началу нашей духовной
деятельности, к тому, что вызывает наши мысли и наши поступки,
невозможно не заметить, что значительная часть их определяется
чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хорошее,
самое возвышенное, самое для нас полезное из происходящего в нас
вовсе не нами производится. Все то благо, которое мы совершаем,
есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться
неведомой силе: [а] единственная действительная основа деятельности,
исходящей от нас самих, связана с представлением о нашей выгоде,
в пределах того отрезка времени, который мы зовем жизнью; это не
что иное, как инстинкт самосохранения, который общ нам со всеми
одушевленными существами, но видоизменяется в нас согласно
нашей своеобразной природе. Поэтому, что бы мы ни делали, какую бы
незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и свои
поступки, руководит нами всегда одна только эта выгода, более или
менее правильно понятая, более или менее близкая или отдаленная.
Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего
блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего
мы желаем для самих себя, а устранить себя вполне нам никогда не
удается: в желаемое нами для других мы всегда подставляем нечто
свое. И потому Высший Разум, выражая Свой закон на языке
человека, снисходя к нашей слабой природе, предписал нам только одно:
поступать с другими так, как мы желаем, чтобы поступали с нами62.
И в этом, как и во всем другом, он идет вразрез с нравственным
учением философии, которая берется постигнуть абсолютное благо,
т. е. благо универсальное, как будто только от нас зависит составить
себе понятие о полезном вообще, когда мы не знаем и того, что нам
самим полезно. Что такое абсолютное благо? Это незыблемый
закон, по которому все стремится к своему предназначению: вот все,
190
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
что мы о нем знаем. Но если руководить нашей жизнью должно
понятие об этом благе, разве не необходимо знать о нем что-либо
еще? Мы, без всякого сомнения, действуем в известной степени
сообразно всеобщему закону, в противном случае мы заключали бы в
себе самих основу нашего бытия, а это нелепость, но мы действуем
именно так, сами не зная, почему: движимые невидимой силой, мы
можем улавливать ее действие, изучать ее в ее последствиях, подчас
отождествляться с нею, но вывести из всего этого положительный
закон нашего духовного бытия — вот это нам недоступно. Смутное
чувство, неоформленное понятие без обязательной силы —
большего мы никогда не добьемся. Вся человеческая мудрость заключена в
этой страшной насмешке Бога в Ветхом Завете: вот Адам стал как
один из нас, познав добро и зло65.
Я думаю, вы из сказанного уже предугадываете всю неизбежность
Откровения: и вот что, по моему мнению, доказывает эту
неизбежность. Человек научается познавать физический закон, наблюдая
явления природы, которые чередуются у него перед глазами
сообразно единообразному и неизменному закону. Собирая воедино
наблюдения предшествующих поколений, он создает систему
познаний, проверяемую его собственным опытом, а великое орудие
исчисления облекает ее в неизменную форму математической
достоверности. Хотя этот круг познаний охватывает далеко не всю
природу и не возвышается до значения общей основы всех вещей,
он заключает в себе вполне положительные познания, потому что
познания эти относятся к существам, протяжение и длительность
которых могут быть познаны чувствами или же предусмотрены
достоверными аналогиями. Словом, здесь царство опыта, и поскольку
опыт может сообщить достоверность понятиям, которые он вводит
в наш ум, постольку мир физический может быть нам ведом. Вы
хорошо знаете, что эта достоверность доходит до того, что мы можем
предвидеть известное явление за много времени вперед и способны
с невероятной силой воздействовать на неодушевленную материю.
Итак, нами указаны средства достоверного познания, которыми
располагает человек. Если, помимо этого, разум наш имеет еще
способности собственного почина, т. е. деятельное начало, не зависящее
от восприятия материального мира, то во всяком случае и эту
собственную свою силу он может применять лишь к материалу, который
Философические письма
191
доставляет ему [в порядке материальном — наблюдение]64; а в
порядке духовном — [к чему] применит человек эти средства? Что именно
придется ему наблюдать для раскрытия закона духовного порядка?
Природу разума, не правда ли? Но разве природа разума такова же,
как природа материальная? Не свободен ли он? Разве он не следует
закону, который сам себе полагает? Поэтому, исследуя разум в его
внешних и внутренних проявлениях, что мы узнаем? Что он
свободен, вот и все. И если мы при этом исследовании достигнем чего-
либо абсолютного, разве ощущение нашей свободы не отбросит нас
немедленно, и притом неизбежно, в тот самый круг рассуждения, из
которого мы только что перед тем как будто выбились? Не очутимся
ли мы вслед за тем на прежнем месте? Круг этот неизбежен. Но это
не все. Предположим, что мы на самом деле возвысились до
некоторых истин, настолько доказанных, что разум вынужден их принять
непременно. Предположим, что мы действительно нашли
несколько общих законов, которым разумное существо непременно
должно подчиниться. Эти законы, эти истины будут относиться лишь к
одной части всей жизни человека, к его земной жизни, ничего
общего не будут они иметь с другой частью, которая нам совершенно
неведома и тайну которой не сможет нам раскрыть никакая аналогия.
Каким же образом могут они быть истинными законами духовного
существа, раз они касаются лишь части его существования, одного
мгновения в его жизни? Так что если мы и постигнем эти законы на
основании опыта, то и они смогут быть только законами одного
периода времени, пройденного духовной природой, а в таком случае,
как можем мы их признать за законы духовной природы вообще? Не
значило ли бы это то же самое, как если бы сказали, что для
каждого возраста есть специальная врачебная наука, и, чтобы лечить,
например, детские болезни, излишне знать немощи зрелого возраста?
Что для предписания образа жизни, подходящего для молодежи, нет
нужды знать тот, который пригоден человеку вообще? Что
состояние нашего здоровья не определяется состоянием здоровья всех
моментов нашей жизни и, наконец, что мы можем предаваться всяким
отступлениям и излишествам в известные эпохи безнаказанно для
дальнейшей жизни? Я спрашиваю вас, какое мнение составили бы вы
себе о человеке, который бы утверждал, что существует одна
нравственность для юности, другая для зрелого возраста, еще другая для
192
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
старости и что значение воспитания ограничивается [только]
ребенком и юношей. А между тем, это именно то, что утверждает мораль
ваших философов. Она научает нас тому, что надлежит нам делать
сегодня, о том, что будет с нами завтра, она не помышляет. А что
такое будущая жизнь, если не завтрашний день жизни настоящей?
Все это приводит нас к такому заключению: жизнь духовного
существа в целом обнимает собою два мира, из которых только один
нам ведом, и так как всякое мгновение жизни неразрывно связано со
всей последовательностью моментов, из которых слагается жизнь,
то ясно, что собственными силами нам невозможно возвыситься до
познания закона, который необходимо должен относиться к тому и
другому миру. Поэтому закон этот неизбежно должен быть нам
преподан таким разумом, для которого существует один-единственный
мир, единый порядок вещей.
Впрочем, не подумайте, что нравственное учение философов не
имеет с нашей точки зрения никакой ценности. Мы как нельзя
лучше знаем, что оно содержит великие и прекрасные истины, которые
долго руководили людьми и которые еще и сейчас с силой
отзываются в сердце и в душе. Но мы знаем также, что истины эти не были
выдуманы человеческим разумом, но были ему внушены свыше в
различные эпохи общей жизни человечества. Это одна из первичных
истин, преподанных естественным разумом, и которую Откровение
лишь освящает своим высшим авторитетом. Хвала мудрым земли, но
слава одному только Богу. Человек никогда не шествовал иначе, как
при сиянии божественного света. Свет этот постоянно озарял шаги
человека, но он не замечал того источника, из которого исходил
яркий луч, падающий на его путь. Он просвещает, говорит евангелист,
всякого человека, приходящего в мир. Он всегда был в мире, но мир
его не познал65.
Привычные представления, усвоенные человеческим разумом под
влиянием христианства, приучили нас усматривать идею,
раскрытую свыше, лишь в двух великих Откровениях — Ветхого и Нового
Завета, и мы забываем о первоначальном Откровении. А без ясного
понимания этого первого общения Духа Божия с духом
человеческим ничего нельзя понять в христианстве. Христианин, не находя в
собственном своем учении разрешения великой загадки духовного
бытия, естественно приводится к учению философов. А между тем
Философические письма
193
философы способны объяснять человека только через человека:
они отделяют его от Бога и внушают ему мысль о том, будто он
зависит только от себя самого. Обычно думают, что христианство не
объясняет всего, что нам надлежит знать. Считают, что существуют
нравственные истины, которые может нам преподать одна только
философия: это великое заблуждение. Нет такого человеческого
знания, которое способно было бы заменить собою знание
божественное. Для христианина все движение человеческого духа не что
иное, как отражение непрерывного действия Бога на мир. Изучение
последствий этого движения дает ему в руки лишь новые доводы в
подтверждение его верований. В различных философских системах,
во всех усилиях человека христианин усматривает лишь более или
менее полное развитие духовных сил мира, сообразно различным
состояниям и различным возрастам обществ, но тайну назначения
человека он открывает не в тревожном и неуверенном колебании
человеческого разума, а в символах и глубоких образах,
завещанных человечеству учениями, источник которых теряется в лоне Бога.
Он следит за учениями, в которые постепенно выливалась земная
мысль, и находит там более или менее заметные следы
первоначальных наставлений, преподанных человеку самим Создателем в тот
день, когда Он его творил своими руками; он размышляет об
истории человеческого духа и находит в ней сверхприродные озарения,
не перестававшие просвещать без его ведома человеческий разум,
пронизывая весь тот туман, весь тот мрак, которым этот разум так
охотно себя облекает. Всюду примечает он эти всесильные и
неизгладимые идеи, нисшедшие с неба на землю, без которых
человечество давно бы запуталось в своей свободе. И наконец, он знает,
что опять-таки благодаря этим самым идеям дух человеческий мог
воспринять более совершенные истины, которые Бог соблаговолил
сообщить ему в более близкую нам эпоху.
И поэтому, далекий от попыток овладеть всеми
заключающимися в мозгу человека измышлениями, он стремится лишь как можно
лучше постигнуть пути Господни во всемирной истории
человечества. Он влечется к одной только небесной традиции; искажения,
внесенные в нее людьми, для него дело второстепенное. И тогда он
неизбежно поймет, что есть надежное правило, как среди всего
необъятного моря человеческих мнений отыскать корабль спасения,
194
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
неизменно направляющий путь по звезде, данной ему для
руководства: и звезда эта вечно сияет, никогда не заволакивало ее никакое
облако; она видима для всех глаз, во всех областях; она пребывает
над нашими головами и днем и ночью. И если только ему единожды
доказано, что весь распорядок духовного мира есть следствие
удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим
Богом в нашу душу, с воздействием нашего разума на эти идеи, ему
станет также ясно, что сохранение этих основ, их передача из века
в век, от поколения к поколению определяется особыми законами и
что есть, конечно, некоторые видимые признаки, по которым можно
распознать среди всех святынь, рассеянных по земле, ту, в которой,
как в Святом Ковчеге, содержится непреложный залог истины.
Сударыня! Ранее чем мир созрел для восприятия новых истин,
которые должны были затем на него излиться, в то время, как
заканчивалось воспитание человеческого рода развитием всех его собственных
сил, смутное, но глубокое чувство позволяло от времени до времени
немногим избранникам провидеть светлый след звезды правды,
которая протекала по своей орбите. Так Пифагор, Сократ, Зороастр и в
особенности Платон узрели неизреченное сияние, и чело их озарено
было необычайным отблеском66. Их взоры, обращенные на ту точку,
откуда должно было взойти новое солнце, до некоторой степени
различали его зарю. Но они не смогли возвыситься до познания
абсолютной истины, потому что с той поры, как человек изменил свою
природу, истина нигде не проявлялась [для него] во всем своем блеске,
и невозможно было ее распознать сквозь туман, который ее
заволакивал. Напротив, в новом мире, если человек все еще не распознает
этой истины, то это только добровольное ослепление: если он
сходит с надежного пути, то это не что иное, как преступное подчинение
темному началу, оставленному в его сердце с единой целью — сделать
более действенным его присоединение к истине.
Вы, конечно, предвидите, сударыня, к чему клонится все это
рассуждение: вытекающие из него последствия сами представляются
уму. В дальнейшем мы ими и займемся. Я уверен, что вы овладеете
ими без труда. Впрочем, мы не станем более прерывать свою мысль
такими отступлениями, которые на этот раз встретились нам по
пути, и сможем беседовать более последовательно и методично.
Прощайте, сударыня.
Философические письма
195
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Absorpta est mors ad victoriam67
Размышления наши о религии перешли в философское
рассуждение, а оно вернуло нас снова к религиозной идее. Теперь станем
опять на философскую точку зрения: мы ее не исчерпали.
Рассматривая религиозный вопрос в свете чистого умозрения, мы
религией лишь завершаем вопрос философский. К тому же, как бы ни была
сильна вера, разум должен уметь опираться на силы, заключающиеся
в нем самом. Есть души, в которых вера непременно должна в случае
нужды найти доводы в разуме. Мне кажется, к числу таких душ как
раз принадлежите и вы. Вы слишком сроднились со школьной
философией, вера ваша слишком недавнего происхождения, привычки
ваши слишком далеки от той замкнутой жизни, в которой простое
благочестие само себя питает и собой довольствуется, вы поэтому
не сможете руководиться одним только чувством. Вашему сердцу без
рассуждений не обойтись. Правда, в чувстве таится много озарений,
сердцу несомненно присущи великие силы; но чувство действует на
нас временно, и вызываемое им волнение не может длиться
постоянно. Наоборот, добытое рассуждением остается всегда с нами.
Продуманная идея нас никогда не покидает, каково бы ни было душевное
настроение, между тем как идея, только прочувствованная,
неустойчива и изменчива: все зависит от силы, с какой бьется наше сердце.
А сверх того, сердца не даются по выбору: какое в себе нашел, с тем и
приходится мириться, разум же свой мы сами постоянно создаем.
Вы утверждаете, что от природы расположены к религиозной
жизни. Я часто думал об этом, и мне кажется, вы ошибаетесь. За
природную потребность вы принимаете случайно вызванное
неопределенное чувство, мечтательную прихоть воображения. Нет, не так,
не с таким беспокойным пылом отдаются настоящему призванию,
раз оно найдено в жизни; тогда принимают судьбу свою с твердой
решимостью, со спокойной уверенностью. Конечно, можно и даже
должно себя переделывать, для христианина уверенность в такой
возможности и сознание своего долга в этом отношении —
предмет веры и самое важное из чаяний. Христианское учение
рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого
196
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
перерождения нашего существа, и именно к этому должны быть
направлены все наши усилия. Но пока мы не почувствовали, что наша
ветхая природа упраздняется и что зарождается в нас новый
человек, созданный Христом68, мы должны использовать все средства,
чтобы приблизить этот желанный переворот: ведь он и не может
наступить, пока мы на это не направим целиком все свои силы.
Впрочем, как вы знаете, мы не собираемся здесь исследовать
философию во всем ее объеме, задача наша скромнее: раскрыть не
то, что содержится в философии, а скорее то, чего в ней нет.
Надеюсь, это не окажется выше наших сил. Для верующей души это
единственное средство понимать и обращать себе на пользу
человеческую науку, но в то же время надо знать, в чем состоит эта наука,
и по возможности все в ней рассмотреть с точки зрения наших
верований.
Монтень сказал: «Повиновение есть истинный долг души
разумной, признающей небесного владыку и победителя»69. Как вы знаете,
он не считается умом, склонным к вере: пусть же эта мысль
скептика послужит нам на этот раз руководящим текстом: подчас хорошо
завербовать себе союзников из вражьего стана; это соответственно
ослабляет силы противной стороны.
Прежде всего, нет иного разума, кроме разума подчиненного70;
это, без сомнения, так; но это еще не все. Взгляните на человека;
всю жизнь он только и делает, что ищет, чему бы подчиниться.
Сначала он находит в себе силу, сознаваемую им отличною от силы,
движущей все вне его; он ощущает жизнь в себе; в то же время он
убеждается, что [внутренная его] сила не безгранична; он ощущает
собственное ничтожество; тогда он замечает, что вне его стоящая
сила над ним властвует и что он вынужден ей подчиняться, в этом
вся его жизнь. С самого первого пробуждения разума эти два рода
познания, одно — силы, внутри нас находящейся и несовершенной,
другое — силы, вне нас стоящей и совершенной, сами собой
проникают в сознание человека. И хотя они доходят до нас не в таких
ясных и определенных очертаниях, как познания, сообщаемые
нашими чувствами или переданные нам при сношениях с другими
людьми, все же все наши идеи о добре, долге, добродетели, законе,
а также и им противоположные рождаются только от этой
ощущаемой нами потребности подчиниться тому, что зависит не от нашей
Философические письма
197
преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не
от увлечений наших тревожных желаний. Вся наша активность есть
лишь проявление силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в
порядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой или
противимся ей — все равно, мы вечно под ее властью. Поэтому нам только
и надо стараться отдать себе возможно верный отчет в ее действии
на нас и, раз мы что-либо об этом узнали, предаться ей со
спокойной верой: эта сила, без нашего ведома действующая на нас, никогда
не ошибается, она-то и ведет вселенную к ее предназначению. Итак,
вот в чем главный вопрос жизни: как открыть действие Верховной
Силы на нашу природу.
Так понимаем мы первооснову мира духовного и, как видите,
она вполне соответствует первооснове мира физического. Но по
отношению к природе первооснова эта кажется нам
непреодолимой силой, которой все неизбежно подчиняется, а по отношению
к нам она представляется лишь силой, действующей в сочетании с
нашей собственной силой и до некоторой степени видоизменяемой
последней. Таков логический вид, придаваемый миру нашим
искусственным разумом. Но этот искусственный разум, которым мы
своевольно заменили уделенную нам изначала долю разума
мирового, этот злой разум, столь часто извращающий предметы в наших
глазах и заставляющий нас видеть их вовсе не такими, каковы они
на самом деле, все же не в такой мере затемняет абсолютный
порядок вещей, чтобы лишить нас способности признать главенство
подчиненности над свободой и зависимость устанавливаемого нами
для себя закона — от общего закона мирового. Поэтому разум этот
отнюдь не препятствует нам, принимая свободу, как данную
реальность, признавать зависимость подлинною реальностью духовного
порядка, совершенно так, как мы это делаем по отношению к
порядку физическому. Итак, все силы ума, все его средства познания
основываются лишь на его покорности. Чем более он себя
подчиняет, тем он сильнее. И перед человеческим разумом стоит один
только вопрос: знать, чему он должен подчиниться. Как только мы
устраним это верховное правило всякой деятельности, умственной
и нравственной, так немедленно впадем в порочное рассуждение
или в порочную волю. Назначение настоящей философии только в
том и состоит, чтобы, во-первых, утвердить это положение, а затем
198
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
показать, откуда исходит этот свет, который нами должен
руководить в жизни.
Отчего, например, ни в одном из своих действий разум не
возвышается до такой степени, как в математических исчислениях? Что
такое исчисление? Умственное действие, механическая работа ума,
в которой рассуждающей воле нет места. Откуда эта
чудодейственная мощь анализа в математике? Дело в том, что ум здесь
действует в полном подчинении данному правилу. Отчего так много дает
наблюдение в физике? Оттого, что оно преодолевает естественную
наклонность человеческого разума и дает ему направление,
диаметрально противоположное обычному ходу мысли: оно ставит разум
по отношению к природе в подчиненное положение, ему присущее*.
Каким образом достигла своей высокой достоверности
натурфилософия71? Сводя разум до совершенно подчиненной отрицательной
деятельности. Наконец, в чем действие блестящей логики,
сообщившей этой философии такую исполинскую силу? Она сковывает
разум, она подводит его под всемирное ярмо повиновения и делает
его столь же слепым и подвластным, как та самая природа, которую
он исследует. Единый путь, говорит Бэкон, отверстый человеку
для владычества над природой, есть тот самый, который ведет
в Царство Небесное: войти туда можно лишь в смиренном образе
ребенка**12.
Далее. Что такое логический анализ, как не насилие разума над
самим собою? Дайте разуму волю, и он будет действовать одним
синтезом. Аналитическим путем мы можем идти лишь с помощью
чрезвычайных усилий над самими собой: мы постоянно сбиваемся на
естественный путь, синтетический. С синтеза и начал человеческий
разум, и именно синтез есть отличительная черта науки древних. Но
как ни естественен синтез, как он ни законен, и часто даже более
законен, чем анализ, несомненно, все же к наиболее деятельным
проявлениям мысли принадлежат именно процессы подчинения,
анализа73. С другой стороны, всмотревшись в дело внимательно,
находим, что величайшие открытия в естественных науках — чистые
* Почему древние не умели наблюдать? Потому, что они не были
христианами.
** Novum Organum.
Философические письма
199
интуиции, совершенно самостоятельные, т. е. что они истекают из
синтетического начала. Но заметьте, что, хотя интуиция и
составляет по существу своему свойство человеческого разума и является
одним из самых деятельных его орудий, мы все же не можем дать
себе в ней полного отчета, как в других наших способностях. Дело в
том, что мы ею владеем не в том чистом и простом виде, как
другими способностями, в этой способности есть нечто, принадлежащее
высшему разуму, ей дано лишь отражать этот высший разум в нашем.
И потому-то мы и обязаны интуиции самыми блестящими нашими
открытиями.
Таким образом, ясно, что человеческий разум не достигает
самых положительных своих знаний чисто внутреннею своею силой,
а направляется непременно извне. Следовательно, настоящая основа
нашей умственной мощи в сущности не что иное, как своего рода
логическое самоотречение, однородное с самоотречением
нравственным и вытекающее из того же закона.
Впрочем, природа познается нами не только через опыт и
наблюдение, а также и через рассуждение. Всякое природное явление
есть силлогизм с большей и меньшей посылками и выводом.
Следовательно, сама природа внушает уму путь, которому он должен
следовать для ее познания; стало быть, и тут он только повинуется
закону, который перед ним раскрывается в самом движении вещей.
Таким образом, когда древние, например, стоики74, с их
блестящими предчувствиями, толковали о подражании природе, о
повиновении ей, о согласованности с ней, они, находясь еще гораздо ближе
нас к началу всех вещей и не разбив еще, подобно нам, мира на
части, лишь провозглашали это основное начало духовной
природы, именно то, что никакая сила, никакой закон не создаются нами
из себя.
Что касается побуждающего нас действовать начала, которое
есть не что иное, как желание собственного блага, то к чему бы
пришло человечество, если бы понятие об этом благе было одной
лишь выдумкой нашего разума? Что ни век, что ни народ имели бы
тогда о нем свою особую идею. Как могло бы человечество в целом
шествовать вперед в своем беспредельном прогрессе, если бы в
сердце человека не было одного мирового понятия о благе,
общего всем временам и всем странам и, следовательно, не человеком
200
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
созданного? В силу чего наши действия становятся
нравственными? Не делает ли их таковыми то повелительное чувство, которое
заставляет нас покоряться закону, уважать истину? Но ведь закон
только потому и закон, что он не от нас исходит; истина потому и
истина, что она не выдумана нами. Мы иногда устанавливаем
правило поведения, отступающее от должного, но это лишь потому,
что мы не в силах устранить влияние наших наклонностей на наше
суждение; в этих случаях нам предписывают закон наши
наклонности, а мы ему следуем, принимая его за общий мировой закон.
Конечно, есть и такие люди, которые как будто без всяких усилий
сообразуются со всеми предписаниями нравственности; таковы
некоторые великие личности, которыми мы восхищаемся в
истории. Но в этих избранных душах чувство долга развилось не через
мышление, а через те таинственные побуждения, которые
управляют людьми помимо их сознания, в виде великих наставлений,
которые мы, не ища их, находим в самой жизни и которые гораздо
сильнее нашей личной мысли. Они истекают из мысли, общей всем
людям: ум бывает поражен то примером, то счастливым стечением
обстоятельств, подымающих нас выше самих себя, то
благоприятным устройством всей жизни, заставляющим нас быть такими,
какими мы без этого никогда бы не были; все это живые уроки
веков, которыми наделяются по неведомому нам закону
определенные личности; и если ходячая психология не отдает себе отчета в
этих таинственных пружинах духовного движения, то психология
более углубленная, принимающая наследственность человеческой
мысли за первое начало духовной природы, находит в этом
разрешение большей части своих вопросов. Так, если героизм
добродетели или вдохновение гения и не вытекли из мысли отдельного
человека, они являются все же плодом мысли протекших веков.
И все равно, мыслили мы или не мыслили, кто-то уже мыслил за нас
еще до нашего появления на свет; в основе всякого нравственного
действия, как бы оно ни казалось самостоятельным и оторванным,
всегда лежит, следовательно, чувство долга, а тем самым — и
подчинения.
Теперь посмотрим, что бы вышло, если бы человек мог довести
свою подчиненность до совершенного лишения себя своей
свободы. Из только что сказанного ясно, что это было бы высшей ступе-
Философические письма
201
нью человеческого совершенства75. Ведь всякое движение души его
вызывалось бы тем самым началом, которое производит все другие
движения в мире. Тогда исчез бы теперешний его отрыв от природы
и он бы слился с нею. Ощущение своей собственной воли выделяет
его теперь из всеобщего распорядка и делает из него
обособленное существо; а тогда в нем бы проснулось чувство мировой воли,
или, говоря иными словами, — внутреннее ощущение, глубокое
сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию.
Теперь он проникнут своей собственной обособляющей идеей,
личным началом, разобщающим его от всего окружающего и
затуманивающим в его глазах все предметы; но это отнюдь не
составляет необходимого условия его собственной природы, а есть только
следствие его насильственного отчуждения от природы всеобщей,
и если бы он отрешился от своего нынешнего пагубного Я, то разве
он не нашел бы вновь и идею, и всеобъемлющую личность, и всю
мощь чистого разума в его изначальной связи с остальным миром?
И разве тогда все еще стал бы он ощущать себя живущим этой узкой
и жалкой жизнью, которая его побуждает относить все к себе и
глядеть на мир только через призму своего искусственного разума?
Конечно нет, он снова начал бы жить жизнью, которую даровал
ему сам Господь Бог, в тот день, когда Он извлек его из небытия.
Вновь обрести эту исконную жизнь и предназначено высшему
напряжению наших дарований. Один великий гений когда-то сказал,
что человек обладает воспоминанием о какой-то лучшей жизни76:
великая мысль, не напрасно брошенная на землю; но вот чего он не
сказал, а что сказать следовало, — но здесь лежит предел, которого
не мог переступить ни этот блестящий гений, ни какой-либо другой
в ту пору развития человеческой мысли, — это то, что утраченное и
столь прекрасное существование может быть нами вновь обретено,
что это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира,
который нас окружает.
Время и пространство — вот пределы человеческой жизни,
какова она ныне. Но, прежде всего, кто может мне запретить вырваться
из удручающих объятий времени? Откуда почерпнул я самую идею
времени? Из памяти о прошедших событиях77. Но что же такое эта
самая память? Не что иное, как действие воли: это видно из того,
что мы помним не более того, что желаем вспомнить; иначе весь
202
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ряд событий, сменявшихся на протяжении моей жизни, оставался
бы постоянно в моей памяти, теснился бы без перерыва у меня в
голове; а между тем, наоборот, даже в то время, когда я даю полную
свободу своим мыслям, я воспринимаю лишь воспоминания,
связанные с данным состоянием души, с волнующим меня чувством,
с занимающей меня мыслью. Мы строим образы прошлого точно
так же, как и образы будущего. Что же мешает мне отстранить
призрак прошлого, неподвижно стоящий позади меня, подобно тому
как я могу по желанию уничтожить колеблющееся видение
будущего, парящее впереди, и выйти из того промежуточного момента,
называемого настоящим, момента столь краткого, что его уже нет
в то самое мгновение, когда я произношу выражающее его слово?
Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения; Бог
времени не создал; Он дозволил его создать человеку. Но в таком случае,
куда делось бы время, эта пагубная мысль, обступающая и гнетущая
меня отовсюду? Не исчезнет ли оно совершенно из моего сознания,
не рассеется ли без остатка мнимая его реальность, столь жестоко
меня подавляющая? Моему существованию нет более предела; нет
преград видению безграничного; мой взор погружается в вечность;
земной горизонт исчез; небесный свод не упирается в землю на
краях безграничной равнины, стелющейся перед моими глазами;
я вижу себя в беспредельном пребывании, не разделенном на дни,
на часы, на мимолетные мгновения, но в пребывании вечно
едином, без движения и без перемен, где все отдельные существа
исчезли друг в друге, словом, где все пребывает вечно. Всякий раз, как
дух наш успевает сбросить с себя оковы, которые он сам же себе
и выковал, ему доступен этот род времени, точно так, как и тот, в
котором он ныне пребывает. Зачем порывается он постоянно за
пределы непосредственной смены вещей, измеряемой
однозвучными колебаниями маятника? Зачем кидается он беспрестанно в
иной мир, где не слышен роковой бой часов? Дело в том, что
беспредельность есть естественная оболочка мысли; в ней-то и есть
единственное, истинное время, а другое мы создаем себе сами, а
для чего — неизвестно.
Обратимся к пространству: но ведь всем известно, что мысль не
пребывает в нем; она логически приемлет условия осязаемого мира,
но сама она в нем не обитает. Какую бы, следовательно, реальность
Философические письма
203
ни придавали пространству, это факт вне мысли, и у него нет ничего
общего с сущностью духа; это форма, пускай неизбежная, но все же
лишь одна форма, в которой нам представляется внешний мир.
Следовательно, пространство еще менее, чем время, может закрыть путь
в то новое бытие, о котором здесь идет речь.
Так вот та высшая жизнь, к которой должен стремиться
человек, жизнь совершенства, достоверности, ясности, беспредельного
познания, но прежде всего — жизнь совершенной подчиненности;
жизнь, которой он некогда обладал, но которая ему также обещана
и в будущем. А знаете ли вы, что это за жизнь? Это Небо: и
другого неба, помимо этого, нет. Вступить же в него мы можем отныне
же, сомнений тут быть не должно. Ведь это не что иное, как полное
обновление нашей природы в данных условиях, последняя грань
усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире.
Я не знаю, призван ли каждый из нас пройти этот огромный путь,
достигнет ли он его славной конечной цели, но то, что предельной
точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние
нашей природы с природой всего мира, это я знаю, ибо только таким
образом может наш дух вознестись в совершенство всего, а это и
есть подлинное выражение Высшего Разума*.
Но пока мы еще не достигли предела нашего паломничества, до
того как совершится это великое слияние нашего существа с
существом всемирным, не можем ли мы по крайней мере раствориться
в мире одухотворенных существ? Разве не в нашей власти в любой
степени отождествлять себя с подобными нам существами? Мы
ведь способны усваивать себе их нужды, их выгоды, переноситься
в их чувства так, что мы, наконец, начинаем жить только для них и
чувствовать только через них. Это без сомнения верно. Как бы вы
ни называли эту нашу удивительную способность сливаться с тем,
что происходит вокруг нас, — симпатией, любовью,
состраданием — она во всяком случае присуща нашей природе. Мы при же-
* Здесь надлежит заметить две вещи, во-первых, что мы не имели в виду
утверждать, будто в этой жизни содержится все небо целиком: оно в этой
жизни лишь начинается, ибо смерть более не существует с того дня, как она была
побеждена Спасителем; и, во-вторых, что здесь, конечно, говорится не о
слиянии вещественном во времени и в пространстве, а лишь о слиянии в идее и в
принципе.
204
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ланий можем до такой степени сродниться с нравственным миром,
что все совершающееся в нем и нам известное мы будем переживать
как совершающееся с нами; более того, если даже мировые
события нас и не очень заботят, довольно одной уже общей, но глубокой
мысли о делах других людей, одного только внутреннего сознания
нашей действительной связи с человечеством, чтобы заставить наше
сердце сильнее биться над судьбою всего человеческого рода, а все
наши мысли и все наши поступки сливать с мыслями и поступками
всех людей в одно созвучное целое. Воспитывая это замечательное
свойство нашей природы, все более и более развивая его в душе, мы
достигнем таких высот, с которых целиком раскроется перед нами
остальная часть всего предстоящего нам пути; и благо тем из
смертных, кто, раз поднявшись на эту высоту, сумеет на ней удержаться,
а не низринется вновь туда, откуда началось его восхождение. Все
существование наше до тех пор было непрерывным колебанием
между жизнью и смертью, длительной агонией; тут началась
настоящая жизнь, с этого часа от нас одних зависит идти по пути правды и
добра, ибо с этой поры закон духовного мира перестал быть для нас
непроницаемой тайной.
Но так ли протекает жизнь кругом нас? Совсем наоборот.
Закон духовной природы обнаруживается в жизни поздно и неясно,
но, как вы видите, его вовсе не приходится измышлять [он не
зависит от нас], как и закон физический. Все, что от нас требуется,
это — иметь душу, раскрытую для этого познания, когда оно
предстанет перед нашим умственным взором. В обычном ходе жизни,
в повседневных заботах нашего ума, в привычной дремоте души
нравственный закон проявляется гораздо менее явственно, чем
закон физический. Правда, он над нами безраздельно господствует,
определяет каждое наше действие, каждое движение нашего
разума, но вместе с тем, сохраняя в нас, посредством какого-то
дивного сочетания, через непрерывно длящееся чудо, сознание нашей
самодеятельности, он налагает на нас грозную ответственность за
все, что мы делаем, за каждое биение нашего сердца, даже за
каждую мимолетную мысль, едва затронувшую наш ум; и несмотря на
это, он ускользает от нашего разумения в глубочайшем мраке. Что
же происходит? Не зная истинного двигателя, бессознательным
орудием которого он служит, человек создает себе свой собствен-
Философические письма
205
ный закон, и этот-то закон, который он по своему же почину себе
предписывает, и есть то, что он называет нравственный закон78,
иначе — мудрость, высшее благо, или просто закон, или еще
иначе*. И этому-то хрупкому произведению собственных рук,
произведению, которое он может по произволу разрушить и
действительно ежечасно разрушает, человек приписывает в своем жалком
ослеплении все положительное, безусловное, все непреложное,
присущее настоящему закону его бытия, а между тем, при помощи
одного только своего разума, он, очевидно, мог бы постигнуть
относительно этого сокровенного начала одну лишь его неизбежную
необходимость — ничего более.
Впрочем, хотя нравственный закон пребывает вне нас и
независимо от нашего знания его, совершенно так, как и закон
физический, есть все же существенное различие между этими двумя
законами. Бесчисленное множество людей жило и теперь еще живет
без малейшего понятия о вещественных движущих силах
природы: Бог восхотел, чтобы человеческий разум открывал их
самостоятельно и постепенно. Но как бы низко ни стояло разумное
существо, как бы ни были жалки его способности, оно всегда имеет
некоторое понятие о начале, побуждающем его действовать.
Чтобы размышлять, чтобы судить о вещах, необходимо иметь понятие
о добре и зле79. Отнимите у человека это понятие, и он не будет
ни размышлять, ни судить, он не будет существом разумным. Без
этого понятия Бог не мог оставить нас жить хотя бы мгновение;
Он нас и создал с ним80. И эта-то несовершенная идея,
непостижимым образом вложенная в нашу душу, составляет всю сущность
разумного человека. Вы только что видели, что можно было бы
извлечь из этой идеи, если бы удалось восстановить ее в ее
первоначальной чистоте, как она была нам сообщена сначала; следует,
однако, рассмотреть и то, чего можно достичь, если отыскивать
начало всех наших познаний единственно в собственной нашей
природе.
Сокольники. 1 июня [1830]
* См. древних.
206
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
La volonté n'est qu'une manière de penser. Que
l'on s'imagine la volonté comme finie ou comme
infinie, toujours faut-il reconnaître une cause qui la
détermine à agir: elle ne doit donc être envisagée que
comme un principe nécessaire et non comme un
principe libre.
Спиноза. De anima81
Как мы видели, всякое естественное явление можно
рассматривать как силлогизм; но его можно также рассматривать как число.
При этом или заставляют природу выразиться в числе и
рассматривают ее в действии — это наблюдение, или исчисляют в
отвлечении — это вычисление; или же, наконец, за единицы принимаются
найденные в природе величины и производят вычисления над ними;
в этом случае прилагают вычисление к наблюдению и этим
завершают науку. Вот и весь крут положительного знания. Необходимо
только иметь в виду, что количеств, собственно говоря, в природе не
существует; если бы они там были, то аналитический вывод был бы
равнозначащим творческому. Да будет, ибо совершенная
достоверность его не была бы ничем ограничена и, следовательно, была бы
всемогуществом*. Бессилие то же, что заблуждение; выше
совершенной истины нет ничего. Действительные количества, т. е.
абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме; во вселенной находятся
лишь числовые видимости. Эти видимости, в форме которых
материальность открывается нашим взорам, они-то и дают нам понятие
о числах: вот основа математического восприятия. Итак, числовое
выражение предметов не что иное, как идеологический механизм,
который мы создаем из данных природы. Сначала мы переводим эти
данные в область отвлеченности, затем мы их воспринимаем как
величины; и, наконец, поступаем с ними по своему усмотрению.
Математическая достоверность, следовательно, имеет также свой предел;
будем остерегаться упустить это из виду.
В приложении к явлениям природы наука чисел, без сомнения,
вполне достаточна для эмпирического мышления, а также и для
* В таком случае уже не Вера двигала бы горы, а Алгебра.
Философические письма
207
удовлетворения материальным нуждам человека; но никак нельзя
сказать, чтобы в порядке безусловного она в той же мере
соответствовала требуемой умом достоверности. Косное, неподвижное,
геометрическое рассуждение, каким его по большей части
воспринимают геометры, есть нечто, лишенное разума, безбожное. Если бы
в математике заключалась совершенная достоверность, число было
бы чем-то реальным. Так понимали его, например, пифагорейцы,
каббалисты и им подобные, приписывавшие числам силы разного
рода и находившие в них начало и сущность всех вещей82. Они были
вполне последовательны, так как мыслили природу состоящею из
числовых величин и ни о чем другом не помышляли83. Но мы видим
в природе еще нечто другое, мы с полным сознанием верим в Бога,
и когда мы осмеливаемся вкладывать в руку Создателя циркуль, то
допускаем нелепость; мы забываем, что мера и предел одно и то же,
что бесконечность есть первое из свойств, именно она, можно
сказать, и составляет Его Божественность, так что, превращая Высшее
Существо в измерителя, мы лишаем Его свойственной Ему вечной
природы и низводим Его до нашего уровня. Бессознательно нами
владеют еще языческие представления: в этом и есть источник
такого рода заблуждений. Число не могло заключаться в
Божественной мысли; творения истекают из Бога, как воды потока, без меры
и конца, но человеку необходима точка соприкосновения между
его ограниченным разумом и бесконечным разумом Бога,
разделенными беспредельностью, и вот почему он так любит замыкать
Божественное всемогущество в размеры собственной природы.
Здесь мы видим настоящий антропоморфизм, в тысячу раз более
вредный, нежели антропоморфизм простецов, не способных в
своем пламенном устремлении приблизиться к Богу и представить
себе духовное существо иным, чем то, которое совместимо с их
пониманием, и поэтому низводящих Божество до существа,
подобного себе. В сущности и философы поступают не лучше. «Они
приписывают Богу, — сказал великий мыслитель, который в этом
хорошо разбирался, — разум, подобный их собственному. Почему?
потому что они в своей природе не знают ничего лучше
собственного разума. А между тем Божественный Разум есть причина всему,
разум человека есть лишь следствие, что же может быть общего
между тем и другим? Разве то же, — прибавляет он, — что между
208
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
созвездием Пса, сияющим на небе, и тем псом, который бежит по
улице, — одно только имя»*84.
Как видите, все положительное наук, называемых точными,
исходит из того, что они занимаются количествами-, иными словами,
предметами ограниченными. Естественно, что ум, имея
возможность полностью обнять эти предметы, достиг в познании их
высочайшей достоверности, ему доступной. Но вы видите также и то, что,
как ни значительно прямое наше участие в создании этих истин, мы
их все же не из себя извлекаем. Первые идеи, из которых истекают
эти истины, даны нам извне. Итак, вот какие логические следствия
вытекают сразу из самой природы этих познаний, наиболее
близких к доступной нам достоверности: они относятся лишь к чему-то
ограниченному, они не родятся непосредственно в нашем мозгу, мы
в этой области понятий развиваем наши способности лишь по
отношению к конечному и мы здесь ничего не выдумываем. Так что
же мы найдем, если захотим приложить приемы, основанные на
достижении этих познаний, к познаниям другого рода? Что
абсолютная форма познанного предмета, каков бы последний ни был,
должна быть непременно формой чего-то конечного; что место его
в познавательной области должно находиться вне нас. Ведь
именно таковы естественные условия достоверности. А в каком
положении на основании этого окажемся мы по отношению к .предметам
в области духовной? Прежде всего, где предел данных, входящих в
область психологии и морали? Предела нет. Затем, где совершается
моральное действие? В нас самих. Итак, тот прием, который
применяется разумом в области положительных понятий, может ли быть
им использован в этой другой области? Отнюдь нет. Но в таком
случае как достигнуть здесь очевидности? Что касается меня, я этого не
знаю. Странно то, что, как ни просто это рассуждение, философия
никогда до него не доходила. Никогда она не решалась отчетливо
установить это существенное отличие двух областей
человеческого знания; она всегда смешивала конечное с бесконечным, видимое
с невидимым, поддающееся восприятию чувств с неподдающимся.
Если иногда она и говорила другое, в глубине своей мысли она
никогда не сомневалась, что мир духовный можно познавать так же, как
* Спиноза.
Философические письма
209
и мир физический, изучая его с циркулем в руке, вычисляя, измеряя
величины духовные, как и материальные, подвергая опытам
существо, одаренное разумом, как существо неодушевленное.
Удивительно, как ленив человеческий разум. Чтобы избавиться от напряжения,
которого требует ясное уразумение высшего мира, он искажает этот
мир, он себя самого искажает и шествует затем своим путем, как ни в
чем не бывало. Мы еще увидим, почему он так поступает.
Не надо думать к тому же, будто в естественных науках все
сводится к наблюдению и опыту. Одна из тайн их блестящих методов — в
том, что наблюдению подвергают именно то, что может на самом
деле стать предметом наблюдения. Если хотите, это начало
отрицательное, но оно сильнее, плодотворнее положительного начала.
Именно этому началу обязана своим успехом новая химия; это
начало очистило общую физику от метафизики и со времен Ньютона
сделалось ее главным правилом и основанием ее метода. А что это
означает? Не иное что, как то, что совершенство этих наук, все их
могущество проистекают из уменья всецело ограничить себя
принадлежащей им по праву областью. Вот и все. А с другой стороны,
в чем самый процесс наблюдения? Что делаем мы, когда наблюдаем
движение светил на небесном своде или движение жизненных сил в
организме: когда мы изучаем силы, движущие тела или сотрясающие
молекулы, из коих тела состоят; когда занимаемся химией,
астрономией, физикой, физиологией? Мы делаем вывод из того, что было, к
тому, что будет; связываем факты, следующие в природе
непосредственно друг за другом, и выводим из этого ближайшее заключение.
Вот неизбежный путь опытного метода. Но в порядке нравственном
известно ли вам что-нибудь, что бы совершилось в силу
постоянного, неотвратимого закона, по которому вы могли бы заключать, как
там, от одного факта к другому и предугадывать таким образом с
уверенностью последующее на основании предшествующего? Ни в
коем случае. Напротив, здесь совершается все лишь в силу
свободных актов воли, не связанных между собою, не подчиненных
другому закону, кроме своей прихоти; одним словом, все сводится здесь
к действию хотения и свободы человека. К чему послужил бы здесь
метод опытный? Ровно ни к чему.
Вот чему, в сфере тех познаний, где ему дана возможность
достигнуть своей высшей достоверности, учит нас естественный ход
210
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
человеческого разума. Перейдем к поучению, которое заключается в
самом содержании этих познаний.
Положительные науки были, разумеется, всегда предметом
изучения, но, как вы знаете, лет сто тому назад они сразу возвысились
до теперешнего их состояния. Три открытия сообщили им толчок,
вознесший их на эту высоту: анализ — создание Декарта,
наблюдение — создание Бэкона и небесная геометрия — создание
Ньютона85. Анализ ограничивается областью математики и нас здесь не
касается; заметим только, что он вызвал приложение начала
необоснованной принудительности к нравственным наукам, а это сильно
повредило их успехам. Новый способ изучать естественные науки,
открытый Бэконом, имеет величайшую важность для всей
философии, ибо этот метод придал ей эмпирическое направление, а оно
надолго определило весь строй современной мысли86. Но в
настоящем нашем исследовании нас особенно занимает закон, в силу
которого все тела тяготеют к одному общему центру; этим законом мы
и займемся.
С первого взгляда кажется, будто все силы природы сводятся к
всемирному тяготению; а между тем эта сила природы отнюдь не
единственная; и именно поэтому закон, которому природа
подвластна, имеет, на наш взгляд, такой глубокий смысл. Само по себе
притяжение не только не объясняет всего в мире, но оно вообще ничего
еще не объясняет. Если бы оно одно действовало, то вся
вещественность обратилась бы в одну бесформенную и косную массу. Всякое
движение в природе производится двумя силами, возбуждающими
в движимом стремление в двух противоположных направлениях, и
в космическом движении эта истина проявляется всего явственнее.
А между тем астрономы, удостоверившись, что тела небесные
подлежат закону тяготения и что действия этого закона могут быть
вычислены с точностью, превратили всю систему мира в геометрическую
задачу и теперь самый общий закон природы воспринимают при
помощи некоторого рода математической фикции под одним именем
Притяжения или Всемирного Тяготения. Но есть еще другая сила, без
которой тяжесть ни к чему бы не послужила: это Начальный толчок,
или Вержение87. Итак, вот две движущие силы природы: Тяготение
и Вержение88. На отчетливой идее совокупного действия этих двух
сил, как она нам дается наукой, покоится все учение о Параллелизме
Философические письма
211
двух миров: сейчас нам приходится только применить эту идею к
совокупности тех двух сил, которые нами ранее установлены в
духовной области, одной силы, сознаваемой нами, — это наша свободная
воля, наше хотение, другой, нами не сознаваемой, — это действие на
наше существо некоей вне нас лежащей силы, и затем посмотреть,
каковы будут последствия*.
Нам известно Притяжение во множестве его проявлений; оно
беспрестанно обнаруживается перед нашими глазами; мы его
измеряем: мы имеем о нем знание вполне достоверное. Все это, как
вы видите, точно соответствует представлению, которое мы имеем о
нашей собственной силе. О Вержении мы знаем только его
абсолютную необходимость; и совершенно то же знаем мы и о
божественном действии на нашу душу. И тем не менее мы одинаково убеждены
в существовании как той, так и другой силы. Итак, в обоих случаях
мы имеем: познание отчетливое и точное одной силы, познание
смутное и темное — другой, но совершенную достоверность обеих.
Таково непосредственное приложение представления о веществен-
* Без сомнения, применения открытого Ньютоном закона в области
предметов осязаемых чрезвычайны, и число их будет с каждым днем еще возрастать.
Но не следует забывать, что закон падения тяжестей установлен Галилеем, закон
движения планет — Кеплером. Ньютону принадлежит только счастливое
вдохновение — связать воедино оба эти закона. Впрочем, все относящееся к этому
славному открытию чрезвычайно важно. Не мудрено, что один геометр сожалел,
что нам неизвестны некоторые из формул, которыми Ньютон пользовался при
своей работе; наука, конечно, много бы выиграла от находки этих талисманов
гения. Но можно ли серьезно думать, что весь секрет гениальности Ньютона, вся
его мощь заключается в одних его математических приемах? Разве мы не знаем,
что в этом возвышенном уме было еще что-то сверх способности к
вычислениям? Я вас спрашиваю, рождалась ли когда-либо подобная мысль в разуме
безбожном? Истина такой огромной величины дана ли была когда-либо миру
душой неверующей? И можно ли представить себе, будто в то время, когда Ньютон
бежал от опустошавшей Лондон эпидемии в Кембридж и закон вещественности
блеснул его духу и разодралась завеса, скрывавшая природу, в благочестивой
душе его были одни только цифры? Странное дело, есть еще люди, которые не
могут подавить в себе улыбки жалости при мысли о Ньютоне, комментирующем
Апокалипсис. Не понимают, что великие открытия, составляющие гордость
всего человеческого рода, могли быть сделаны только тем самым Ньютоном, каков
он был, гением столь же покорным, как и всеобъемлющим, столь же смиренным,
как и мощным, а отнюдь не тем высокомерным человеком, каким его хотят
представить. Повторю еще раз: видано ли, чтобы человек, не говорю уже
отрицающий Бога, но хотя бы только равнодушный к религии раздвинул, как он,
границы науки за пределы, ей, казалось, предначертанные?8^
212
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ном порядке мира, и вы видите, что оно совершенно естественно
является уму. Но должно еще принять во внимание, что
астрономический анализ распространяет закон нашей солнечной системы и на
все звездные системы, заполняющие небесные пространства, а
молекулярная теория принимает его за причину самого образования
тел и что мы имеем полное право почитать закон нашей системы
общим едва ли не для всего мироздания; таким образом, эта точка
зрения получает чрезвычайно важное значение.
Впрочем, все разграничения наши между существами, все
измышляемые нами между ними ради удобства или по произволу
различия — все это не имеет никакого применения к самому
творческому началу. Что бы мы ни делали, в нас есть внутреннее
ощущение реальности высшей по сравнению с окружающей нас
видимой реальностью. И эта иная реальность не есть ли единственная
истинно реальная, реальность объективная, которая охватывает
всецело существо и растворяет нас самих во всеобщем единстве?
В этом-то единстве стираются все различия, все пределы, которые
устанавливает разум в силу своего несовершенства и
ограниченности своей природы: и тогда-то во всем бесконечном множестве
вещей остается одно только действие, единственное и мировое.
И в самом деле, одинаково, как внутреннее ощущение нашей
собственной природы, так и восприятие вселенной не позволяет нам
постигнуть все сотворенное иначе, как в состоянии непрерывного
движения. Таково мировое действие. Поэтому в философии идея
движения должна предварять всякую другую. Но идею движения
приходится искать в геометрии, ибо лишь там мы находим ее
очищенной от какой бы то ни было произвольной метафизики
и только в линейном движении можем мы воспринять
абсолютное знание всякого движения вообще. И что же? Геометр не может
себе представить никакого движения, кроме движения
сообщенного. Он поэтому принужден исходить из того, что движущееся
тело само по себе инертно и что всякое движение есть следствие
побуждения со стороны. Итак, и в наивысшем отвлечении, и в
самой природе мы постоянно возвращаемся к какому-то действию
[action], внешнему и первичному, независимо от рассматриваемого
предмета. Стало быть, идея движения сама по себе по неумолимому
требованию логики вызывает представление о таком действии, ко-
Философические письма
213
торое отлично от всякой силы и от всякой причины, находящихся
в самом движущемся предмете.
И вот почему, между прочим, человеческому разуму так трудно
освободиться от старого заблуждения, будто все идеи возникают в
нем через внешние чувства. Все дело в том, что в мире нет ничего,
в чем мы были бы более склонны сомневаться, чем в присущей нам
самостоятельной силе, и несостоятельность системы сенсуалистов
единственно в том, что система эта приписывает вещественному
непосредственное воздействие на невещественное и таким образом
заставляет тела сталкиваться с сознаниями, вместо того чтобы
приводить в соприкосновение [и здесь] предметы одной и той же природы,
как в области вещества, т. е. одни сознания с другими сознаниями90.
И, наконец, проникнемся мыслью, что в чистой идее движения
вещественность решительно ни при чем: все различие между движением
материальным и движением в области духовной состоит в том, что
элементы первого — пространство и время, а последнего — одно
только время; а ведь очевидно, что идея времени уже достаточна
для возникновения идеи движения. Итак, закон движения есть закон
всего в мире, и то, что мы сказали о физическом движении, вполне
применимо к движению умственному или нравственному.
Что же должно заключить из всего сказанного? Что нет ни
малейшего затруднения принять собственные действия человека за
причину побочную [principe occasionnel]91: за силу, которая действует,
лишь поскольку она соединяется с другой высшей силой, точно так,
как притяжение действует лишь в совокупности с силой вержения.
Вот то, к чему мы хотели придти.
Может быть, подумают, что в этой системе нет места для
философии нашего Я. И ошибутся. Напротив, эта философия прекрасно
уживается с изложенной системой: она только сведена здесь к своей
действительной значимости, вот и все. Из того, что мы сказали о
двояком действии, управляющем мирами, отнюдь не следует, чтобы
наша собственная деятельность сводилась к нулю; значит, должно
разобраться в присущей нам силе и пытаться понять ее по
возможности правильно. Человек постоянно побуждается силой, которой
он в себе не ощущает, это правда; но это внешнее действие имеет
на него влияние через сознание, следовательно, как бы ни дошла до
меня идея, которую я нахожу в своей голове, нахожу я ее там только
214
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
потому, что сознаю ее. А сознавать значит действовать. Стало быть, я
на самом деле и постоянно действую, хотя в то же время подчиняюсь
чему-то, что гораздо сильнее меня, — я сознаю92. Одно не устраняет
другого, одно следует за другим, его не исключая, и первый факт мне
так же доказан, как и последний. Вот если меня спросят, как именно
возможно такое действие на меня извне, это совсем другой вопрос,
и вы, конечно, понимаете, что здесь не время его рассматривать: на
него должна ответить философия высшего порядка. Простому
разуму93 следует только установить факт внешнего воздействия и
принять его за одно из своих основных верований; остальное его не
касается. Впрочем, кто не знает, как чужая мысль вторгается в наше
сознание? Как мы подчиняемся мнениям, убеждениям других?
Всякий, кто об этом размышлял, отлично понимает, что один разум
подчиняется другому и вместе с тем сохраняет всю свою силу, все свои
способности. Итак, несомненно, великий вопрос о свободе воли, как
бы он ни был запутан, не представлял бы затруднений, если бы
умели вполне проникнуться идеей, что природа существа, одаренного
разумом, заключается только в сознании и что поскольку одаренное
разумом существо сознает, оно не утрачивает ничего из своей
природы, каким бы путем сознание в него ни вливалось.
Дело в том, что шотландская школа94, так долго царившая в
философском мире, спутала все вопросы Идеологии. Вы знаете, что она
берется найти источник всякой человеческой мысли и все
объяснить, обнаружив нить, связывающую настоящее представление с
представлением предшествовавшим. Дойдя до происхождения
известного числа идей путем их ассоциации, заключили, что все
совершающееся в нашем сознании происходит на том же основании,
и с тех пор не пожелали принимать ничего другого. Поэтому
вообразили, что все сводится к факту сознательности, и на этом-то факте
была построена вся эмпирическая психология. Но позвольте
спросить, разве есть в мире что-либо более согласное с нашим
ощущением, нежели происходящая постоянно такая смена идей в нашем
мозгу, в которой мы не принимаем никакого участия? Разве мы не
твердо убеждены в такой непрерывной работе нашего ума, которая
совершается помимо нас? Задача, впрочем, не была бы нисколько
разрешена, если бы даже и удалось свести все наши идеи к
некоторому ограниченному числу их и вполне установить их источник.
Философические письма
215
Конечно, в нашем уме не совершается ничего, что не было бы так
или иначе связано с совершившимся там ранее; но из этого никак
не следует, чтобы каждое изменение моей мысли, изменение форм,
которые она поочередно принимает, вызывалось моей собственной
силой: здесь, следовательно, имеет место еще огромное воздействие,
совершенно отличное от моего. Итак, эмпирическая теория
устанавливает в лучшем случае некоторые явления нашей природы, но о
всей совокупности явлений она не дает никакого понятия.
Наконец, собственное воздействие человека исходит
действительно от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону.
Всякий раз как мы от него отступаем, действия наши определяются
не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым
влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем. С другой
стороны, покоряясь божественной силе, мы никогда не имеем полного
сознания этой силы; поэтому она никогда не может попирать
нашей свободы. Итак, наша свобода заключается лишь в том, что мы не
ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почесть себя
совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со
всем, что мы думаем95. К несчастью, человек понимает свободу иначе:
он почитает себя свободным, говорит Иов, как дикий осленок96.
Да, я свободен, могу ли я в этом сомневаться? Пока я пишу эти
строки, разве я не знаю, что я властен их не писать? Если
Провидение и определило мою судьбу бесповоротно, какое мне до этого
дело, раз Его власть мне не ощутительна? Но с идеей о моей свободе
связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное последствие
ее — злоупотребление моей свободой и зло как его последствие.
Предположим, что одна-единственная молекула вещества один
только раз приняла движение произвольное, что она, например,
вместо стремления к центру своей системы сколько-нибудь
отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом
произойдет? Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечных
пространствах? Не потрясется ли тотчас весь порядок мироздания?
Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке
сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы, что
это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы то и дело
вовлекаемся в произвольные действия, и всякий раз мы потрясаем
все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы
216
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
производим не только внешними действиями, но каждым душевным
движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей. Таково
зрелище, которое мы представляем Всевышнему. Почему же Он терпит
все это? Почему не выметет из пространства этот мир
возмутившихся тварей? И еще удивительнее — зачем наделил Он их этой
страшной силой? Он так восхотел. Сотворим человека по нашему образу и
подобию, — сказал Он97. Этот образ Божий, Его подобие — это наша
свобода. Но, сотворив нас столь удивительным образом, Он к тому же
одарил нас способностью знать, что мы противимся своему
Создателю. Можно ли поверить, что, даровав нам эту удивительную силу, как
будто идущую вразрез с мировым порядком, Он не восхотел дать ей
должное направление, не восхотел просветить нас, как мы должны
ее использовать? Нет. Слову Всевышнего внимало сначала все
человечество, олицетворенное в одном человеке, в котором заключались
все грядущие поколения; впоследствии Он просветил отдельных
избранников, дабы они хранили истину на земле, и, наконец, признал
достойным одного из нас быть облеченным Божественным
авторитетом, быть посвященным во все Его сокровенности, так что Он стал
с Ним одно98, и возложил на Него поручение сообщить нам все, что
нам доступно из Божественной тайны. Вот чему учит нас священная
мудрость. Но наш собственный разум не говорит ли нам то же
самое? Если бы не поучал нас Бог, разве мог бы пробыть хотя бы
мгновение мир, мы сами и что бы то ни было? Разве все не превратилось
бы вновь в хаос? Это несомненно так, и наш собственный разум, как
скоро он выходит из ослепления обманчивой самонадеянности, из
полного погружения в свою гордыню, говорит то же, что и вера, а
именно, что Бог необходимо должен был поучать и вести человека
с первого же дня его создания и что Он никогда не переставал и не
перестанет поучать и вести его до скончания века".
Сокольники. 30 июня
ПИСЬМО ПЯТОЕ
Much of the soul they talk, but all awry.
Milton100
Вы видите, все приводит нас снова к абсолютному положению:
закон не может быть дан человеческим разумом самому себе точно
так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой
Философические письма
217
созданной вещи. Закон духовной природы нам раз навсегда
предуказан, как и закон природы физической: если мы находим
последний готовым, то нет ни малейшего основания полагать, будто дело
обстоит иначе с первым. Однако свет нравственного закона сияет из
отдаленной и неведомой области подобно сиянию тех солнц,
которые движутся в иных небесах и лучи которых, правда, ослабленные,
все же до нас доходят, нам надо иметь очи отверстыми для
восприятия этого света, как только он заблестит перед нами. Вы видели, мы
пришли к этому заключению путем логических выводов, которые
вскрыли некоторые элементы тождества между тем и другим
порядком: материальным и духовным. Школьная психология101, [хотя и]
имеет почти ту же отправную точку, приводит к другим
последствиям. Она заимствует у естественных наук один лишь прием, прием
наблюдения, т. е. именно то, что менее всего применимо к предмету
ее изучения. И вот, вместо того чтобы возвыситься до подлинного
единства всего, она только смешивает то, что должно оставаться
навеки раздельным, вместо закона она и находит хаос. Да, сомнения
нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ:
это именно и есть то, что мы по мере сил пытаемся доказать; скажу
больше: в этом-то и заключается основное верование всякой здравой
философии. Но это единство объективное, стоящее совершенно вне
ощущаемой нами действительности; нет сомнения, это факт
огромной важности, и он бросает чрезвычайный свет на великое ВСЕ: он
создает логику причин и следствий, но он не имеет ничего общего
с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных
философов, печальное учение, сообщающее ныне свою ложную
окраску всем философским направлениям и ввергающее все до
единой современные системы, как бы они ни расточали своих обетов
в верности спиритуализму, в необходимость обращаться с фактами
духовного порядка совершенно так, как будто они имеют дело с
фактами порядка материального.
Ум по природе своей стремится к единству, но, к несчастию, пока
еще не поняли как следует, в чем заключается настоящее единство
вещей. Чтобы в этом удостовериться, достаточно взглянуть на то, как
большинство мыслящих понимает бессмертие души. Вечно живой
Бог и душа, подобно Ему вечно живая, одна абсолютная
бесконечность и другая абсолютная бесконечность рядом с первой — разве
218
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
это возможно? Абсолютная бесконечность не есть ли абсолютное
совершенство? Как же могут пребывать рядом два вечных существа,
два существа совершенных? А дело вот в чем. Так как нет
никакого логического основания предполагать в существе, состоящем из
сознания и материи, одновременное уничтожение обеих
составных частей, то человеческому уму естественно было прийти к
мысли, что одна из этих частей может пережить другую. Но на этом
и надо было остановиться. Пусть я проживу сто тысяч лет после
того мгновения, которое я называю смертью и которое есть чисто
физическое явление, с моим сознательным существом не имеющее
ничего общего, отсюда еще далеко до бессмертия. Как все
инстинктивные идеи человека, идея бессмертия души была сперва простой
и разумной; но попав затем на слишком тучную почву Востока, она
там разрослась свыше меры и вылилась, в конце концов, в
нечестивый догмат102, в котором творение смешивается с Творцом, так что
черта, навеки их разделяющая, стирается, дух подавляется
огромной тяжестью беспредельного будущего, все смешивается и
запутывается. А затем — эта идея вторглась вместе со многим другим,
унаследованным от язычников, в христианство, в этой новой силе
она нашла себе надежную опору и смогла таким образом
совершенно покорить себе сердце человека. Между тем, всякому известно,
что христианская религия рассматривает бессмертие как награду
за жизнь совершенно святую, итак, если вечную жизнь
приходится еще заслужить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя; будучи
воздаянием за совершенную жизнь, как может она быть исходом
существования, протекшего в грехе? Удивительное дело. Хотя дух
человеческий осенен высочайшим из светочей, он все же не в силах
овладеть полной истиной и постоянно мечется между истинным и
ложным103.
Всякая философия, приходится сказать это, по необходимости
заключена в роковом круге без исхода. В области нравственности
она сначала предписывает сама себе закон, а затем начинает ему
подчиняться, неизвестно, ни как, ни почему; в области метафизики
она всегда предварительно устанавливает какое-то начало, из
которого затем по ее воле вытекает целый мир вещей, ею же созданных.
Это — вечное petitio principii104, и при этом оно неизбежно: иначе
все участие разума в этом деле свелось бы, очевидно, к нулю.
Философические письма
219
Вот, например, как поступает самая положительная, самая строгая
философия нашего времени105. Она начинает с установления факта,
что орудием познания является наш разум, а поэтому необходимо
прежде всего научиться его познать; без этого, утверждает она, мы
не сможем использовать его должным образом. Далее философия
эта и принимается изо всех сил рассекать и разбирать самый разум.
Но при помощи чего производит она эту необходимую
предварительную работу, эту анатомию сознания? Не посредством ли этого
самого разума? Итак, вынужденная в этой своей наипервейшей и
главной операции взяться за орудие, которым она по собственному
признанию не умеет еще владеть, как может она прийти к искомому
познанию? Этого понять нельзя. Но и это еще не все. Более
уверенная в себе, чем все прежние философские системы, она утверждает,
что с разумом надо обращаться точь-в-точь как с внешними
предметами. Тем же оком, которое вы направляете на [внешний] мир, вы
можете рассмотреть и свое собственное существо: точно так, как вы
ставите перед собой мир, можете вы перед собой поставить и самого
себя, и как вы над миром размышляете и производите над ним
опыты, так размышляйте и производите опыты над самим собой. Закон
тождества, будучи общим природе и разуму, позволяет вам
одинаково обращаться и с нею и с ним. На основании ряда тождественных
явлений материального порядка вы выводите заключение об общем
явлении, что же мешает вам из ряда одинаковых фактов заключать
к всеобщему факту и в порядке умственном? Как вы в состоянии
заранее предвидеть факт физический, с одинаковой уверенностью вы
можете предвидеть и факт духовный; смело можно в психологии
поступать так, как в физике. Такова эмпирическая философия. По
счастью, философия эта стала в настоящее время уделом лишь
нескольких отсталых умов, которые упорно топчутся на старых путях.
Но вот свет уже пробивается сквозь обступающую нас тьму, и все
движение философии, вплоть до эклектизма106, который так
благодушен и уступчив, что, кажется, только и помышляет о
самоупразднении, наперебой стремится вернуть нас на более надежные пути.
Среди умственных течений современности есть, в частности, [одно],
которое приходится особенно выделить. Это род тонкого
платонизма, новое порождение глубокой и мечтательной Германии; это
преисполненный возвышенной вдумчивой поэзии трансцендент[аль]ный
220
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
идеализм, который уже потряс ветхое здание философских
предрассудков в самой их основе107. Но [новое] направление пребывает
пока на таких эфирных высотах, на которых захватывает дыхание.
Оно как бы витает в прозрачном воздухе, порою светясь каким-то
мягким и нежным отблеском, порою теряясь в неясных или
мрачных сумерках, так что можно принять его за одно из
фантастических видений, которые подчас появляются на южном небе, а через
мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе, ни в памяти.
Будем надеяться, что прекрасная и величественная мысль эта
вскоре спустится в обитаемые пространства: мы будем ее
приветствовать с живейшим сочувствием. А пока предоставим ей шествовать
по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой,
более надежной.
Так вот, если, как мы убедились, движение в мире нравственном,
как и движение в мире физическом, — последствие изначального
толчка, то не следует ли из этого, что то и другое движение и в
дальнейшем подчинены одним и тем же законам, а следовательно, все
явления жизни духа могут быть выведены по аналогии? Значит,
подобно тому как столкновение тел в природе служит продолжением
этого первого толчка, сообщенного материи, столкновение
сознаний также продолжает движение духа; подобно тому как в природе
всякая вещь связана со всем, что ей предшествует и что за ней
следует, так и всякий отдельный человек и всякая мысль людей связаны
со всеми людьми и со всеми человеческими мыслями,
предшествующими и последующими: и как едина природа, так, по образному
выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один
человек, пребывающий вечно108, и каждый из нас — участник
работы сознания, которая совершается на протяжении веков. Наконец,
подобно тому как некая построяющая и непрерывная работа
элементов материальных или атомов, т. е. воспроизведение физических
существ, составляет материальную природу, подобная же работа
элементов духовных или идей, т. е. воспроизведение душ, составляет
природу духовную; и если я постигаю всю осязаемую материю как
одно целое, то я должен одинаково воспринимать и всю
совокупность сознаний как единое и единственное сознание.
Главный рычаг образования душ есть, без сомнения, слово109:
без него нельзя себе представить ни происхождения сознания в от-
Философические письма
221
дельной личности, ни его развития в человеческом роде. Но одно
только слово недостаточно для того, чтобы вызвать великое
явление всемирного сознания, слово далеко не единственное средство
общения между людьми, оно, следовательно, совсем не обнимает
собой всю духовную работу, совершающуюся в мире. Тысячи
скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями
другого; наши самые сокровенные мысли находят всевозможные
средства вылиться наружу; рассеиваясь, скрещиваясь между собой,
они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания
в другое, обсеменяют, оплодотворяют и, в конце концов, порождают
общее сознание. Иногда случается, что проявленная мысль как
будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем
движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет
другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней,
и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире
сознаний. Вы знаете такой физический опыт: подвешивают
несколько шариков в ряд: отстраняют первый шарик, и последний шарик
отскакивает, а промежуточные остаются неподвижными. Вот так
передается и мысль, проносясь сквозь головы людей*. Сколько великих и
прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные
массы и поколения. Сколько возвышенных истин живет и действует,
властвуя или светясь среди нас, и никто не знает, ни откуда явились
эти внушительные силы или блестящие светочи, ни как они
пронеслись через времена и пространства. Цицерон где-то сказал:
«Природа так устроила человеческий облик, что он выявляет чувства,
скрытые в сердце: что бы мы ни чувствовали, глаза наши всегда это
отражают»111. Это совершенно верно: в разумном существе все
выдает его затаенную мысль; весь человек целиком сообщается
ближнему, и так происходит зарождение сознаний. Ибо сознание возникает
ничуть не более чудесными путями, чем все остальное. Здесь такое
же зарождение, как и всякое другое. Один и тот же закон имеет силу
при любом воспроизведении, какова бы ни была его природа: все
* Известно, что знаменитое доказательство бытия Божия, приписываемое
Декарту, восходит к Ансельму, жившему в XI в.110 Доказательство оставалось
погребенным в каком-то уголке человеческого сознания в течение почти 500 лет,
пока не явился Декарт и не вручил его философии.
222
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
возникает через соприкосновение или слияние существ: никакая
сила, никакая власть, обособленная от других, не может оказать
своего действия. Необходимо только принять во внимание, что самый
факт зарождения происходит где-то вне нашего непосредственного
наблюдения. Подобно тому как в физическом мире вы наблюдаете
действие различных природных сил — притяжения, ассимиляции,
сродства и т. п., но в последнем счете подходите к факту
неуловимому, к самому акту, сообщающему физическую жизнь, — и в мире
духовном мы ясно различаем последствия, вызванные различными
человеческими силами, но, в конце концов, мы подходим к чему-то,
что ускользает от нашего непосредственного восприятия, к самому
акту передачи духовной жизни.
А что такое то мировое сознание, которое соответствует мировой
материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка,
подобно тому как явления порядка физического протекают на лоне
материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей,
которые живут в памяти людей. Для того чтобы стать достоянием
человечества, идея должна пройти через известное число поколений;
другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума
лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о
тех традициях, которые сообщаются человеческому уму историей
и наукой: эти традиции составляют лишь часть мировой памяти.
А много есть и таких, которые никогда не оглашались перед
народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не
были начертаны ни на колоннах, ни в хартиях; самое время их
возникновения никогда не было проверено исчислением и приурочено
к течению светил небесных; критика никогда не взвешивала их на
своих пристрастных весах; их влагает в глубину душ неведомая рука,
их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая
ласка отца. Таковы всесильные воспоминания, в которых
сосредоточен опыт поколений: всякий в отдельности их воспринимает с
воздухом, которым дышит. И в этой-то среде совершаются все чудеса
сознания. Правда, этот сокрытый опыт веков в целости не доходит
до каждой частицы человечества, но он все же составляет духовную
сущность вселенной, он переливается в жилах человеческих рас, он
воплощается в образовании их тел и, наконец, служит
продолжением других традиций, еще более таинственных, не имеющих корней
Философические письма
223
на земле, но составляющих отправную точку всех обществ; твердо
установлено, что в каждом племени, как бы оно ни обособилось от
основного мирового движения, всегда находятся некоторые
представления, более или менее отчетливые, о Высшем Существе, о добре
и зле, о том, что справедливо и что несправедливо: без этих
представлений невозможно было бы существование племени
совершенно так же, как и без грубых произведений земли, которую племя
попирает, и деревьев, которые дают ему приют. Откуда эти
представления? Никто этого не знает; предания — вот и все; докопаться
до их происхождения невозможно: дети восприняли их от отцов и
матерей — вот и вся их родословная. А затем на эти первоначальные
понятия нисходят века, на них скапливается опыт, на них
созидается наука, из этой невидимой основы вырастает человеческий дух.
И вот как, путем наблюдений действительности, мы подошли к тому
самому, к чему привело нас и рассуждение: к начальному толчку, без
которого, как мы убедились, ничего бы не двинулось в природе и
который необходим здесь точно так, как и там.
И скажите на милость, можете ли вы допустить сознательное
существо без всякой мысли? Можете ли вы представить себе в
человеке разум, ранее чем он пустил его в дело? Можете ли вы себе
представить что-либо в голове ребенка до того, как ему было
преподано нечто свидетелями появления его на свет? Находили детей
среди лесных зверей, нравы которых эти дети себе усвоили; они
затем восстанавливали свои умственные способности; но эти дети
не могли быть покинуты с первых дней своего существования112.
Детеныш самого сильного животного неизбежно погибнет,
оставленный самкой тотчас же после родов; а человек — слабейшее из
животных, он требует кормления грудью в течение шести или семи
месяцев, даже череп его остается незакостеневшим несколько дней
после рождения, как бы он мог просуществовать первое время своей
жизни, не попав в материнские руки? Значит, дети эти до разлуки
с родителями восприняли духовное семя. Я ручаюсь, что человек,
очутившийся без родителей или иного человеческого существа, как
только открылись на свет его глаза, если бы он ни разу не ощутил на
себе взгляда одного из себе подобных, не воспринял бы ни единого
звука их голоса и в таком отчуждении вырос до сознательного
возраста, ничем не отличался бы от других млекопитающих, которых
224
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
натуралист причислит к тому же роду. Может ли быть что-либо
бессмысленнее, чем предположение, будто каждая человеческая
личность, как животное, является начинателем своей породы? А между
тем именно такова гипотеза, служащая основой всего
идеологического построения. Предполагают, что это крохотное
неоформившееся существо, еще связанное через пуповину с чревом матери,
одарено разумом. Но чем это подтверждается? Неужели по
гальваническому содроганию, которое в нем заметно, определите вы
небесный дар, ему уделенный? Или в бессмысленном его взгляде, в его
слезах, в пронзительном крике распознали вы существо, созданное
по образу Божию? Есть в нем, спрашиваю я, какая-нибудь мысль,
которая бы не вытекала из небольшого круга понятий, вложенных
в его голову матерью, кормилицей или другим человеческим
существом в первые дни его бытия? Первый человек не был крикливым
ребенком, он был человеком сложившимся, поэтому он вполне мог
быть подобен Богу и, разумеется, был Ему подобен: но, конечно, уж
вовсе не подобен образу Божию людской зародыш. Истинную
природу человека составляет то, что из всех существ он один способен
просвещаться беспредельно: в этом и состоит его превосходство над
всеми созданиями. Но для того чтобы он мог возвыситься до свойств
разумного существа, необходимо, чтобы чело его озарилось лучом
высшего разума. В день создания человека Бог с ним беседовал, и
человек слушал и понимал Его: таково истинное происхождение
человеческого разума; психология никогда не отыщет объяснения
более глубокого. В дальнейшем он частью утратил способность
воспринимать голос Бога, это было естественным следствием дара
полученной им неограниченной свободы. Но он не потерял
воспоминания о первых Божественных словах, которые раздались в его ухе.
Вот этот-то первый глагол Бога к первому человеку, передаваемый
от поколения к поколению, поражает человека в колыбели, он-то и
вводит человека в мир сознаний и превращает его в мыслящее
существо. Тем же действием, которое Бог совершал, чтобы исторгнуть
человека из небытия, Он пользуется и сейчас для создания всякого
нового мыслящего существа. Это именно Бог постоянно обращается
к человеку через посредство ему подобных.
Таким образом, представление о том, будто человеческое
существо является в мир с готовым разумом, не имеет, как вы видите, ни-
Философические письма
lib
какого основания ни в опытных данных, ни в отвлеченных доводах.
Великий закон постоянного и прямого воздействия высшего начала
повторяется в общей жизни человека, как он осуществляется во всем
творении. Там — это сила, заключающаяся в количестве, здесь — это
принцип, заключающийся в традиции; но в обоих случаях
повторяется одно и то же: внешнее воздействие на существо, каково бы оно
ни было, воздействие сначала мгновенное, а затем — длительное и
непрерывное.
Как бы ни замыкаться в себе, как бы ни копаться в сокровенных
глубинах своего сердца, мы никогда там ничего не найдем, кроме
мысли, унаследованной от наших предшественников на земле. Это
разумение, как его ни разлагать, как его ни расчленять на части, оно
всегда останется разумением всех поколений, сменившихся со
времен первого человека и до нас; и когда мы размышляем о
способностях нашего ума, мы пользуемся лишь более или менее удачно
этим самым мировым разумом, с тем, чтобы наблюдать ту его долю,
которую мы из него восприняли в продолжение нашего личного
существования. Что означает то или иное свойство души? Это идея,
идея, которую мы находим в своем уме вполне готовой, не зная, как
она в нем появилась, а эта идея в свою очередь вызывает другую.
Но первая-то идея, откуда, по-вашему, может в нас возникнуть она,
если не из того океана идей, в который мы погружены? Лишенные
общения с другими сознаниями, мы [мирно] щипали бы траву, а
не рассуждали бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что
мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности
понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной
вселенной, ничего в мире сознаний не может быть постигнуто
совершенно обособленным, существующим самим собою. И, наконец,
если справедливо, что в верховной или объективной
действительности разум человеческий на самом деле лишь постоянное
воспроизведение мысли Бога, то его разум во времени, или разум
субъективный, очевидно, тот, который он, благодаря свободной воле, сам себе
создал. Правда, школьная мудрость не считается со всем этим: для
нее существует только один и единственный разум; для нее данный
человек и есть тот, каким он вышел из рук Создателя; [хотя и]
созданный свободным, он не употребил во зло своей свободы; при всем
своем своеволии, он, подобно неодушевленным предметам, пребыл
226
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
неизменным, повинуясь непреклонной силе; заблуждения без счета,
грубейшие предрассудки, им порожденные, преступления,
которыми он запятнал себя, — ничего из всего этого якобы не оставило
следа в его душе. Вот он — тот самый, каким он был в тот день, когда
божественное дыхание оживило его земное существо, он столь же
чист, столь же непорочен, как тогда, когда еще ничто не осквернило
его юной природы; для этой школьной мудрости человек постоянно
один и тот же; всегда и всюду; мы именно таковы, какими должны
были быть; и вот — это скопище мыслей, неполных,
фантастических, несогласованных, которое мы именуем человеческим умом, по
ее мнению, оно именно и есть чистый разум, небесная эманация,
истекшая из самого Бога; ничто его не изменило, ничто его не
коснулось. Так рассуждает человеческая мудрость.
Тем не менее ум человеческий всегда ощущал потребность
сызнова себя перестроить по идеальному образцу. До появления
христианства он только и делал, что работал над созданием этого образца,
который постоянно ускользал от него и над которым он постоянно
продолжал трудиться; это и составляло великую задачу древности.
В то время человек поневоле был обречен на искание образца в
самом себе. Но удивительно то, что и в наши дни, имея перед собой
возвышенные наставления, преподанные в христианстве, философ
все еще подчас упорно пребывает в том кругу, в котором был
замкнут древний мир, а не помышляет о поисках образца совершенного
разума вне человеческой природы, не думает, например,
обратиться к возвышенному учению, предназначенному сохранить в среде
людей древнейшие традиции мира, к той удивительной книге,
которая столь явственно носит на себе печать абсолютного разума, т. е.
именно того разума, который он ищет и не может найти. Стоит
только несколько вдуматься с искренней верой в учение, раскрытое
Откровением, и вас поразит то величавое выражение духовного
совершенства, которое в этом учении царит нераздельно, вам откроется,
что все выдающиеся умы, вами там встреченные, составляют лишь
части одного обширного разума, который заполняет и
пронизывает тот мир, в котором прошедшее, настоящее и будущее составляют
одно неразделимое целое; вы почувствуете, что все там ведет к
постижению природы такого разума, который не подчинен условиям
времени и пространства, и [именно] того, которым человек некогда
Философические письма
111
обладал, который он утратил и который он некогда вновь обретет,
[тот самый], который был нам явлен в лице Христа. Заметьте, что по
этому вопросу философский спиритуализм ничем не разнится от
противоположной системы, ибо все равно, признаем ли мы
человеческое разумение за пустое место, согласившись со старой
формулой сенсуалистов — нет ничего в уме, что бы не было сперва в
ощущениит, или же предположим ли мы, что разум действует по
присущей ему собственной силе и повторим за Декартом: я
замыкаю все свои ощущения и я живут, — и в том и в другом случае мы
все же будем иметь дело с тем разумом, который мы сейчас в себе
находим, а не с тем, который был нам дарован изначала; поэтому мы
будем исследовать вовсе не подлинное духовное начало, но начало
искаженное, искалеченное, извращенное произволом человека.
Впрочем, из всех известных систем, несомненно, самая глубокая
и плодотворная по своим последствиям есть та, которая стремится,
для того чтобы отчетливо понять явление разумности,
добросовестно построить совершенно отвлеченный разум, существо
исключительно мыслящее, не восходя при этом к источнику духовного
начала. Но так как материалом, из которого эта система строит свой
образец, служит ей человек в теперешнем его состоянии, то она
все-таки вскрывает перед нами разум искусственный, а не разум
первоначальный. Глубокий мыслитель115, творец этой философии,
не усмотрел, что все дело [заключалось] только116 в том, чтобы
представить себе разум, который бы имел одно волевое устремление:
обрести и вызвать к действию разум высший, но такой разум, свойство
[mode] движения которого заключалось бы в совершенном
подчинении закону, подобно всему существующему, а вся его сила сводилась
бы к безграничному стремлению слиться с тем другим разумом. Если
бы он избрал это своей исходной точкой, он бы, конечно, пришел к
идее разума воистину чистого, потому что разум этот был бы
простым отражением абсолютного разума и анализ этого разума привел
бы его без сомнения к последствиям огромной важности, а сверх
того он не впал бы в ложное учение об автономии человеческого
разума, о каком-то императивном законе, находящемся внутри
самого нашего разума и дающем ему способность собственным
порывом возвышаться до всей полноты доступного ему совершенства,
наконец, другая, еще более самонадеянная философия, философия
228
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
всемогущества человеческого Я не была бы ему обязана своим
существованием117.
Но все же надо воздать ему должное: его создание и в теперешнем
своем виде заслуживает с нашей стороны всяческого уважения. Тому
направлению, которое он придал философским знаниям, обязаны
мы всеми здравыми идеями современности, сколько их ни есть в
мире; и мы сами — только логическое последствие его мысли. Он
положил уверенной рукой пределы человеческому разуму; он
выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих
убеждения, а именно: существование Бога и неограниченное свое
бытие, не имея возможности их доказать; он научил нас тому, что
существует Верховная Логика, которая не подходит под нашу
мерку и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и
что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем пребывающий
одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум
вынужден признать под опасением в противном случае самому
ввергнуться в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы должны
почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру
реальному. И все же в конце концов приходится признать и то, что
ему было предназначено только проложить новый путь философии
и что если он оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в
том смысле, что заставил его вернуться вспять.
В итоге произведенного нами сейчас исследования получается
следующее. Сколько ни есть на свете идей, все они последствия
некоторого числа передаваемых традиционно понятий, которые так
же мало составляют достояние отдельного разумного существа, как
природные силы — принадлежность особи физической. Архетипы
Платона118, врожденные идеи Декарта119, a priori Канта120, все эти
различные элементы мысли, которые всеми глубокими
мыслителями по необходимости признавались за предваряющие какие бы то
ни было проявления души, за предшествующие всякому опытному
знанию и всякому самостоятельному действию ума, все эти изначала
существующие зародыши разума сводятся к идеям, которые
переданы нам от сознаний, предваривших нас к жизни и предназначенных
ввести нас в наше личное бытие. Без восприятия этих результатов
человек был бы просто-напросто двуногим или двуруким
млекопитающим, ни более, ни менее, и это несмотря на лицевой угол, близкий
Философические письма
229
к прямому, несмотря на размер своей черепной коробки, несмотря
на вертикальное положение своего тела и т. д. Вложенные чудесным
образом в сознание первого человеческого существа в день его
создания той же рукой, которая направила планету по эллиптической
орбите, которая привела в движение мертвую материю, которая
даровала жизнь органическому существу, — именно эти-то идеи
сообщили разуму свойственное ему движение и кинули человека в тот
огромный круг, который ему предначертано пробежать. Идеи эти,
возникающие посредством взаимного соприкосновения душ и в
силу таинственного начала, которое увековечивает в созданном
сознании действие Сознания Верховного, поддерживают жизнь
природы духовной таким же порядком, как сходное соприкосновение и
аналогичное начало поддерживают жизнь природы материальной.
Так продолжается во всем первичное воздействие; так оно
выливается окончательно в некое Провидение, постоянное и
непосредственное, простирающее свое действие на всю совокупность существа.
Раз это установлено, ясно, что нам еще должно исследовать: нам
остается лишь проследить движение этих традиций в истории
человеческого рода, чтобы выяснить, каким образом и где идея,
первоначально вложенная в сердце человека, сохранилась в целости и
чистоте.
ПИСЬМО ШЕСТОЕ
On peut demander comment, au milieu de tant de
secousses, de guerres intestines, de conspirations, de
crimes et de folies, il y a eu tant d'hommes qui aient
cultivé les arts utiles et les arts agréables en Italie, et
ensuite dans les autres États chrétiens; c'est ce que
nous ne voyons pas sous la domination des Turcs.
Voltaire, Essai sur les mœurs121
Сударыня,
В предыдущих моих письмах вы видели, как можно правильно
понимать развитие мысли в смене поколений, но вы также должны
были найти в них и другую мысль: раз проникшись этой основной
230
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
идеей, что в человеческом духе нет истины, помимо
собственноручно вложенной в нее Богом, когда Он извлек человека из небытия,
вам должно было стать ясным и то, что нельзя рассматривать
движение веков так, как это делает вульгарная история. Приходится тогда
признать не только влияние на ход событий некоего Провидения
или совершенно мудрого разума, но и постоянное действие этого
разума на разум человеческий. Как только согласишься, что для
первоначального движения разума в существе созданном потребовался
импульс, исходящий не из его собственной природы, что его первые
идеи, первые познания только и могли быть чудесными внушениями
Верховного Разума, то приходится заключить, что в развитии
человеческого разума создавшая его таким образом сила должна была и
далее оказывать на него то же действие, как и при сообщении ему
первого движения.
Такое понимание исторической жизни сознательного существа
и его развития должно было быть вами усвоено, если вы вполне
восприняли то, до чего мы ранее договорились. Вы видели, что
часто метафизическое рассуждение вполне доказывает непрерывное
действие внешней причины на разум человека. Впрочем, можно бы
обойтись и без метафизики, вывод неизбежен и без нее: нельзя
откинуть его, не отрицая посылок, из которых он вытекает. Если же
разобрать самый способ этого постоянного воздействия Божественного
Разума в духовном мире, то находишь, кроме только что
указанного соответствия его первоначальному действию, еще и то, что
осуществляться оно должно таким образом, чтобы человеческий разум
оставался совершенно свободным и мог развить всю свою
деятельность. Поэтому нет ничего удивительного, что существовал народ122,
среди которого традиция первоначальных божественных
сообщений сохранилась в большей чистоте, с большей определенностью,
чем среди других, и что от времени до времени появлялись люди,
через которых как бы возобновлялось первоначальное действие
нравственного порядка. Если устранить этот народ, устранить этих
избранных людей, то придется предположить, что у всех народов,
во все эпохи всеобщей жизни человека, во всякой отдельной
личности Божественная мысль сохранилась одинаково полной,
одинаково живой. Это означало бы уничтожение всякой личности и всякой
свободы в духовном мире: это было бы отрицанием очевидности.
Философические письма
231
Ясно, что личность и свобода существуют постольку, поскольку есть
различия в умах, нравственных силах и познаниях. Наоборот,
предполагая лишь у нескольких личностей, у одного народа или в
нескольких единичных умах, которым в особенности вверено
сохранение этого завета, высшую степень подчинения первоначальным
традициям или же особенный дар воспринимать истину,
первоначально вложенную в человеческий разум, устанавливаешь только
моральный факт, совершенно схожий с постоянно происходящим
на наших глазах, а именно, что некоторые народы и некоторые
личности обладают такими знаниями, которых нет у других народов и
у других личностей.
В остальной части человеческого рода эти великие традиции
также поддерживались в большей или меньшей чистоте, смотря по
различным условиям этих народов; и человек шествовал по
предписанному ему пути лишь при свете этих всесильных истин, которые
в его сознании породил отличный от него разум. Но имелось лишь
одно средоточие света на земле123. Этот светоч, правда, не блистал,
подобно человеческим познаниям: он не распространял
обманчивого сияния вдаль; сосредоточенный в одном месте, одновременно
светясь и скрываясь от глаз, как все великие тайны мира; пылающий,
но скрытый, как пламя жизни, этот необъяснимый свет все освещал,
и все стремилось к этому общему средоточию, хотя как будто и
светилось самостоятельно и направлялось к самым противоположным
целям*. Но когда наступил момент великой катастрофы духовного
мира, все созданные человеком призрачные силы тотчас исчезли,
и среди общего пожара осталось несокрушенным одно только
вместилище вечной истины. Вот как понимается религиозное единство
истории и как эта концепция возвышается до настоящей
философии времен, которая показывает нам, что разумное существо точно
так же подчинено общему закону, как и остальные создания.
Я очень желал бы, сударыня, чтобы вы могли усвоить себе этот
отвлеченный и религиозный способ осознавать историю: ничто
так не расширяет нашей мысли и не очищает нашей души так, как
* Нет надобности пытаться определить географически то место земли, где
этот светоч находился. Достоверно одно: традиции всех народов мира
совпадают в указании одной и той же местности земного шара, из которой пришли к
нам первые познания людей.
232
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
[представление] о замыслах Провидения, господствующего в веках
и ведущего человеческий род к его конечному назначению. Но пока
постараемся построить философию истории, которая бы осветила
по крайней мере обширную область человеческих воспоминаний, с
тем чтобы Он был для нас зарей живого дневного света. Мы извлечем
из этого предварительного изучения истории тем большую пользу,
что оно само по себе может составить полную систему, так что мы
в крайнем случае могли бы ей довольствоваться, если бы случайно
что-либо помешало дальнейшим нашим изысканиям. Впрочем, я вам
напоминаю, сударыня, что я беседую с вами не с кафедры и что эти
письма составляют лишь продолжение наших прерванных бесед,
в которых я так много почерпал отрадных минут и которые — я с
удовольствием это повторяю — служили мне истинным утешением,
когда я в нем особенно нуждался. Итак, не ожидайте от меня более
поучительного тона, чем и обыкновенно, и вы, сударыня, не
откажете сами, как обычно, возместить вашей собственной догадкой все,
что окажется неполным в этом очерке.
Вы уже, наверное, заметили, сударыня, что современное
направление человеческого разума явно стремится облечь всякое знание
в историческую форму. Размышляя о философских основах
исторической мысли, нельзя не заметить, что она призвана подняться
в наши дни на неизмеримо большую высоту, чем та, на какой она
стояла до сих пор. В настоящее время разум, можно сказать, только
и находит удовлетворение в истории; он постоянно обращается к
прошедшему времени и в поисках новых возможностей выводит их
исключительно из воспоминаний о прошлом, из обзора
пройденного пути, из изучения тех сил, которые направили и определили
его движение в продолжение веков. И, разумеется, это направление
современной науки чрезвычайно благотворно. .
Пора признать, что та сила, которую человеческий разум
находит в узких пределах настоящего, не составляет всего его
содержания, что в нем имеется еще другая сила, которая, объединяя в одной
мысли и времена протекшие, и времена обетованные, выражает
подлинное существо разума и ставит его в действительно
принадлежащую ему сферу действий.
Впрочем, неужели вы не находите, сударыня, что и вообще
повествовательная история по необходимости неполна, так как она
Философические письма
233
может заключать в себе лишь то, что сохраняется в памяти людей?
А ведь сохраняется не все происходящее. Поэтому, очевидно,
теперешняя точка зрения истории не может удовлетворить разум.
Несмотря на философский дух, которым ныне прониклась история,
несмотря на ценные критические труды, несмотря на оказанное
ей в последнее время содействие естественных наук, астрономии,
геологии и даже физики, как видите, она не смогла еще дойти ни
до единства, ни до высшей нравственной оценки, которая
вытекала бы из отчетливого понимания всеобщего закона, управляющего
движением веков. Человеческий разум, рассматривая прошлое,
постоянно стремился к этому великому результату; но поверхностное
поучение, извлекаемое из истории столь разнообразными путями,
эти уроки ходячей философии, эти примеры каких-то там
добродетелей, — как будто добродетель выставляла себя напоказ на
великой мировой сцене, а ей по существу дела не было свойственно
пребывать в тени, — эта пустая психологическая мораль истории,
которая не создала ни одного честного человека, но породила
множество плутов и безумцев всякого рода и которая только и служит к
повторению жалкой мировой комедии, — все это отклонило разум
от тех настоящих наставлений, которые должны бы ему дать
традиции человечества. Пока в науке господствовал дух христианства,
глубокая, хотя и неудачно выраженная мысль проливала на
исторические изыскания долю того священного вдохновения, которым она
сама была порождена. Но в то время историческая критика была еще
так слаба, столько событий, особенно о первобытных временах,
сохранилось в памяти человеческого рода с таким извращением, что
весь свет религии не мог рассеять этого глубокого мрака; так что
история, хотя и освещенная высшим светом, тем не менее не могла
подняться на должную высоту. В наши дни рациональное воззрение
на историю привело бы, без сомнения, к более положительным
результатам. Разум века требует совсем новой философии истории,
такой философии истории, которая бы так же мало напоминала
старую, как современные астрономические учения мало схожи с
рядами гномонических наблюдений Гиппарха124 и прочих астрономов
древности. Надо только признать, что никогда не будет достаточно
фактов для того, чтобы все доказать, а для того, чтобы многое
предчувствовать, их было довольно со времен Моисея и Геродота. Самые
234
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
факты, сколько бы их ни набирать, еще никогда не создадут
достоверности, которую нам может дать лишь способ их группировки,
понимания и распределения. Точно так же, как, например, опыт веков,
раскрывший Кеплеру законы движения планет125, был недостаточен
для того, чтобы обнаружить для него общий закон природы; это
открытие выпало на долю необычайного озарения особого рода, на
долю благочестивого размышления. Именно так, сударыня, нам и
надо пытаться понять историю.
Прежде всего, что означают все эти сопоставления веков и
народов, которые пустая начитанность нагромождает друг на друга?
Все эти родословные языков, народов и идей? Слепая или упрямая
философия всегда сумеет от всего этого отговориться старыми
доводами об однородности природы всех людей; все это удивительное
сплетение времен объяснить своей любимой теорией
естественного развития человеческого духа, без всяких следов Провидения, без
влияния какой бы то ни было причины, кроме механической силы
человеческой природы. С точки зрения этой теории, человеческий
разум, как известно, то же, что ком снега, растущий по мере того, как
его катят. Впрочем, она или усматривает повсюду прогресс и
естественное совершенствование, присущее, по ее мнению,
человеческому существу, или же она находит какое-то бессмысленное и
беспричинное движение. Смотря по духовной организации исследователя,
то мрачной и безнадежной, а то, напротив, исполненной надежд и
уверенности в воздаянии, эта философия или заставляет человека
бессмысленно трепыхаться подобно мошкаре в солнечном луче, или
все подниматься выше и выше силою своей природы; но она видит
во всем этом человека и всегда только человека. Она добровольно
обрекает себя на невежество, даже мир вещественный, который она
якобы постигла, научает ее только тому, что он открывает пустому
любопытству ума и чувств. Потоки света, непрестанно вытекающие
из этого мира, до нее не доходят; если же она наконец и решится в
совокупности всего усмотреть план, замысел, смысл, подчинить им
человеческий разум и принять все вытекающие отсюда последствия
относительно всеобщего нравственного миропорядка — это
оказывается для нее невозможным126. Поэтому ни к чему не ведут попытки
связать между собой времена, а также и непрестанная работа над
фактическим материалом; надо стараться дать глубокие характери-
Философические письма
235
стики великих исторических эпох и определить строго черты
каждого века на основании законов практического разума. При этом,
если внимательно всмотреться в дело, то окажется, что содержание
истории все исчерпано; что народы выявили все свои традиции; если
и предстоит еще дать лучшие объяснения прошедшим эпохам (да и
то задача будет выполнена не той критикой, которая способна лишь
копаться в мусоре народов, а приемами чисто логическими), то по
отношению самых фактов не предстоит никаких новых открытий.
Итак, истории осталось теперь только одно: размышлять.
А раз это будет понято, то история, естественно, займет свое
место в общей системе философии и составит существенную часть ее.
Многие предметы, разумеется, от нее отпадут и станут достоянием
романистов и поэтов. Но еще больше их вынырнет из окружающего
их тумана и поместится на самых видных вершинах новой системы.
Предметы истории стали бы заимствовать признаки достоверности
не от одной лишь хроники: подобно тому как аксиомы
натурфилософии, хотя и открытые наблюдением и опытом, сводятся к формулам
и уравнениям только геометрическим разумом, так истинам в той
области придал бы характер достоверности разум нравственный.
Такова, например, эпоха, на наш взгляд, столь мало еще понятая (и
вовсе не за отсутствием данных и памятников, а лишь за отсутствием
мысли), эпоха, в которую упираются все времена, где все кончается
и все начинается вновь, о которой без преувеличения можно
сказать, что в ней все прошлое человеческого рода соединяется со всем
его будущим: я имею в виду первые века христианской эры.
Настанет день, я не сомневаюсь в этом, когда историческое мышление не
сможет оторваться от величественного зрелища того, как все
первоначальные людские величия обратились в прах, а все их будущие
величия вдруг раскрылись. Таков же и продолжительный период,
наступивший вслед за этим обновлением человеческого существа и
бывший его продолжением; период, который предрассудок и
философский фанатизм обрисовали в столь ложных красках, в котором
столь живые источники света скрывались в глубине самого густого
мрака, в котором столь необычайные нравственные силы
сохранялись и питались среди видимой неподвижности умов и который
начали постигать лишь с тех пор, как исторические исследования
приняли свое новое направление127. Но тогда эта пора раскрылась бы во
236
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
всей своей дивной реальности и со всем своим великим поучением.
Затем исполинские фигуры, затерянные ныне в толпе исторических
личностей, выйдут из окружающей их мглы, а слава многих, кому
люди расточали столь долго преступное или бессмысленное
поклонение, обратится навсегда в ничто. Таковы будут, между прочим, и
новые судьбы некоторых лиц Библии, которых человеческий разум
оставлял в неведении или в пренебрежении, и некоторых языческих
мудрецов, которым он воздал славу не по заслугам; так, например,
Моисея128 и Сократа129, Давида и Марка Аврелия: по отношению к
Моисею и Сократу раз навсегда узнают, что первый открыл людям
истинного Бога, а последний завещал им лишь малодушное
сомнение; что Давид совершенный образец самого святого героизма, в то
время как Марк Аврелий130 не что иное, как любопытный пример
искусственного величия и хвастливой добродетели. Точно так же
про Катона, растерзавшего свои внутренности131, будут вспоминать
лишь с тем, чтобы оценить по настоящему достоинству и
философию, внушавшую столь неистовую добродетель, и жалкое величие,
которое этот человек себе создал. Я думаю, что среди славных
языческих имен Эпикур будет освобожден от порочащего его
предвзятого мнения и что память о нем вызовет к себе новый интерес.
Новой оценке подвергнутся и другие знаменитости. Имя Стагирита
[Аристотеля], например, станут произносить с своего рода ужасом,
имя Магомета132 — с глубоким уважением. На первого будут
смотреть, как на ангела тьмы, который заковал на протяжении
нескольких веков все силы добра среди людей; на второго — как на
благодетельное существо, одного из тех, кто всего более способствовал
осуществлению плана божественной мудрости для спасения рода
человеческого. И, наконец, сказать ли это? — своего рода бесчестие
будет связано, может быть, с именем Гомера. В суждении, которое
религиозный инстинкт Платона побудил его произнести об этом
развратителе людей, не будут видеть одну из его знаменитых
утопических выходок, а одно из замечательных его предвосхищений
мыслей будущего133. Должен наступить день, когда имя этого
преступного обольстителя, который ужасным образом способствовал
извращению человеческой природы, будет вспоминаться с краской
на лице. Нужно, чтобы люди когда-нибудь принесли раскаяние за
расточавшийся ими фимиам этому льстецу их страстей, который
Философические письма
237
запятнал священную традицию истины и наполнил сердце их
нечистью, чтобы угодить им.
Все эти идеи, которые до сих пор только слегка коснулись
человеческой мысли или, в лучшем случае, покоятся без движения в
немногих независимых умах, займут тогда безвозвратно свое место
в нравственном чувстве человеческого рода и станут аксиомами
здравого смысла. Но одним из важнейших указаний истории,
понимаемой в этом смысле, было бы закрепление в памяти человеческого
ума относительных степеней народов, исчезнувших со сцены мира,
и установление в сознании живых народов ощущения тех судеб,
которые они призваны выполнить. Всякий народ, ясно воспринимая
различные эпохи прошедшей жизни, видел бы в истинном свете и
настоящее свое положение и умел бы предвидеть тот путь, который
ему надлежит пройти в будущем. У всех народов образовалось бы
настоящее национальное сознание, состоящее из некоторого числа
положительных идей, очевидных истин, выведенных на основе их
воспоминаний, из твердых убеждений, которые господствовали бы
в большей или меньшей мере над всеми умами и направляли бы их
к одной и той же цели. И тогда национальности, которые до сих пор
лишь разделяли людей, избавившись от ослепления и от страстного
преследования своих интересов, объединились бы для достижения
согласованного и всеобщего результата; тогда все народы
протянули бы, может быть, друг другу руку в правильном сознании
общего интереса человечества, который был бы тогда не чем иным, как
правильно понятым интересом каждого народа. Я знаю, что это
слияние сознаний нашими мудрецами обещано благодаря успехам
философии и знания вообще. Но если рассудить, что народы, хотя
и собирательные единицы, на самом деле существа нравственные,
подобно личностям, а следовательно, один и тот же закон властвует
в духовной жизни тех и других, то мне кажется, что деятельность
великих семей человечества по необходимости зависит от личного
чувства, вследствие которого они сознают себя как бы
выделенными из остальной части человеческого рода, имеющими собственное
свое существование и свой личный интерес; что это чувство —
необходимая составная часть мирового сознания, оно составляет как бы
свое Я собирательного человеческого существа, что, следовательно,
в наших чаяниях грядущего благоденствия и беспредельного совер-
238
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
шенствования так же невозможно сразу устранить крупные
личности человечества, как и мельчайшие, из которых те составляются,
и что, следовательно, их надо принять безусловно, как основания
и средства к более совершенному существованию. Поэтому
космополитическое будущее философии — пустая мечта. Сначала надо
заняться выработкой домашней нравственности народов, отличной
от их политической морали; им надо сначала научиться знать и
оценивать самих себя, как и отдельным личностям; они должны знать
свои недостатки и свои добродетели; они должны научиться
раскаиваться в ошибках и преступлениях, ими совершенных, исправлять
совершенное ими зло, упорствовать в добре, по пути которого они
идут, В этом заключаются, по нашему мнению, первые условия
настоящей способности к совершенствованию для народов, как и для
отдельных личностей; как те, так и другие, для выполнения своего
назначения в мире, должны опереться на пройденную часть своей
жизни, лишь в ясном понимании своего прошлого найдут они силу
влиять на свое будущее.
Вы видите, при таком отношении к делу историческая критика из
предмета пустого любопытства стала бы высочайшим из судилищ.
Она произносила бы неумолимый суд над гордостью и величием
всех веков; она тщательно проверила бы всякую репутацию, всякую
славу; она устранила бы все призраки и все исторические увлечения;
она занялась бы усиленно уничтожением лживых образов, которые
загромождают память людей, с тем чтобы прошлое, представ перед
разумом в истинном свете, дало ему возможность вывести
определенные следствия по отношению к настоящему и направить с
некоторой уверенностью взоры в бесконечные дали будущего,
открывающегося перед ним.
Я думаю, что одна величайшая слава, слава Греции, при этом
исчезла бы почти целиком; я думаю, придет день, когда нравственная
мысль будет останавливаться лишь проникнувшись святой грустью
на этой стране обманчивых надежд и иллюзий, из которой гений
обмана так долго изливал на остальную часть земного шара соблазн
и ложь. И тогда мы бы не были свидетелями того, что чистые души
людей, подобных Фенелону134, беспечно упиваются чувственными
вымыслами, порожденными самым ужасным извращением
человеческого духа, или же того, что мощные умы подчиняются увлечению
Философические письма
239
чувственными вдохновениями Платона*135, и, наоборот, нашли бы
себе применение — удивительное и неожиданное — старые
полузабытые идеи умов религиозных, а именно некоторых из тех
выдающихся мыслителей, настоящих героев мысли, которые на заре
нового общества одной рукой намечали предстоящий ему путь, а другою
отбивались от издыхающего чудовища многобожия, замечательные
построения других мудрецов — тех, кому Бог вверил сохранение
первых слов, обращенных Им к Его созданиям. В удивительных
видениях будущего, когда-то дарованных избранным людям, вероятно,
усмотрят прежде всего выражение интимного понимания
абсолютной связи эпох и поэтому найдут, что на деле эти предсказания не
относятся к тому или другому определенному времени, а они служат
наставлениями, одинаково применимыми ко всем временам, и даже,
более того, поймут, что достаточно оглядеться кругом, чтобы
заметить их постоянное совершение в последовательных изменениях
общества, как повседневное и ослепительное проявление вечного
закона нравственного мира, так что пророчество ощущалось бы нами
столь же живо, как и самые факты увлекающих нас событий**136.
Наконец, вот самый важный урок, который, по нашему мнению,
можно было бы вычитать в этой истории, таким образом понятой:
урок этот в нашей системе сводит воедино всю философию
истории, так как он дает нам понять всемирную жизнь сознательного
существа, а она одна раскрывает загадку человечества.
Вот этот урок: вместо того чтобы удовлетворяться
бессмысленной системой механического совершенствования нашей природы,
теории, столь явно опровергнутой опытом всех веков, надо понять,
что человек, предоставленный самому себе, напротив, шел всегда к
все большему и большему падению: если и были периоды
прогресса у всех народов и моменты высокого просветления во всемирной
жизни человечества, возвышенные порывы его разума, замечатель-
* Шлейермахер, Шеллинг, Кузен и др.
** Так, между прочим, люди перестанут искать, как это делали прежде,
великий Вавилон в том или другом земном государстве, а ощутят себя живущими
среди треска его крушения; таким образом, поймут, что возвышенный историк
грядущих веков, рассказавший нам его ужасное падение, думал о крушении не
одного определенного царства, а материального общества вообще, такого
общества, какое мы видим.
240
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ные подвиги его природы — все это нельзя отрицать, — то, с другой
стороны, ничего не свидетельствует о постоянном и
последовательном движении вперед общества в целом; на самом деле только в том
обществе, которого мы члены, в обществе, не созданном руками
человеческими, можно заметить настоящее восходящее движение,
принцип реального прогресса и прочности. Мы, бесспорно,
восприняли то, что изобрел или открыл разум древних раньше нас; мы
этим и воспользовались и закрепили разбитое звено великой цепи
времен, порванное варварством; но из этого никак не следует, что
народы могли бы дойти до теперешнего своего состояния без
исторического события, совершенно самостоятельного, совершенно
оторванного от всех прежних примеров, стоящего совсем вне обычного
зарождения человеческих идей и всякого естественного сцепления
фактов, без события, отделяющего древний мир от нового.
И если тогда, сударыня, взор мудрого человека обратится к
прошлому, мир, каким он был в момент, когда сверхъестественная сила
заставила человеческий разум принять новое направление,
предстанет его воображению в его настоящем свете — развращенным,
окровавленным, изолгавшимся. Он бы понял, что тот прогресс народов
и поколений, которым он так восхищался, привел их на самом деле
к одичанию, неизмеримо более жалкому, нежели в тех народах,
которые мы называем дикими; и как доказательство того, насколько
несовершенны были цивилизации древнего мира, он, без сомнения,
убедился бы, что в них не было никакого принципа длительности и
непрерывности. Глубокая мудрость Египта, пленительные красоты
Ионии, суровые доблести Рима, ослепительный блеск Александрии,
что с вами сталось? — спросил бы он себя. Блестящие цивилизации,
древние, как мир, вскормленные всеми силами земли, связанные со
всеми славами, со всеми величиями, со всеми господствами и
наконец с самой мощной властью, когда-либо попиравшей землю, как
могли вы исчезнуть с лица земли*? К чему же вела вся эта работа
веков, все эти гордые усилия духовной природы, если новые
народы, явившиеся неизвестно откуда, не принимавшие в этом участия,
должны были затем все это разрушить, ниспровергнуть это велико-
* Александр, Селевкиды, Марк Аврелий, Юлиан, Лагиды и т. д. и т. д.
Философические письма
241
лепное здание и над его развалинами провести плуг? Для того ли
человек возводил здание, чтобы увидеть когда-нибудь все
произведение своих рук обращенным в прах? Для того он так много скопил,
чтобы все это потерять в один день? Он так высоко поднялся лишь
затем, чтобы тем ниже пасть?
Но не ошибитесь, сударыня. Вовсе не варвары разрушили
старый мир; он был истлевший труп; они лишь развеяли прах его по
ветру138. Разве эти самые варвары не нападали ранее на древние
общества и не могли их даже поколебать; история едва помнит их
первые нашествия. Дело в том, что принцип жизни, несший с собою
до тех пор возможность существования для общества, был исчерпан;
что материальный интерес, или, если хотите, интерес реальный,
который один только определял ранее социальное движение, как бы
выполнил до конца свою задачу и совершил предварительное
воспитание человеческого рода; что дух человека, при всем его пылком
стремлении выйти из земной сферы, лишь от времени до
времени может возвыситься в области, где находится настоящая основа
общественного бытия, и что, следовательно, он не в силах придать
обществу его окончательную форму.
Слишком долго держалась привычка видеть в мире только
отдельные государства; вот почему огромное превосходство нового
общества над древним еще не оценено надлежащим образом. Не
обращали внимания на то, что в продолжение ряда веков Европа
составляла настоящую федеральную систему и что эта система была
разорвана лишь Реформацией. Но когда Реформация произошла,
общество было уже воздвигнуто навеки. До этого рокового
события народы Европы смотрели на себя как на одно социальное тело,
хотя и разделенное территориально на различные государства, но в
нравственном отношении принадлежащие к одному целому. Долгое
время у них не было другого публичного права, помимо церковного;
тогдашние войны рассматривались как междоусобные; весь этот мир
жил одним и тем же интересом; одна идея его одушевляла. История
средних веков — в буквальном смысле слова — есть история одного
народа, народа христианского; это в буквальном смысле слова
история человеческого духа; движение нравственной идеи — главное ее
содержание; события чисто политические занимают там
второстепенное место; и лучше всего это доказывают те самые войны из-за
242
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
убеждений, которые были для философии прошлого [XVIII] века
предметом такого ужаса. Вольтер совершенно правильно
отмечает, что убеждения вызывали войны лишь у христиан139, но не надо
было останавливаться на этом, надо было добраться до причины
этого исключительного явления. <Но когда находишь в истории не
повторяющийся более нигде факт, он заслуживает, на мой взгляд,
того, чтобы постараться прежде всего хорошенько понять, что его
вызвало и что из него получилось.>140 Ясно, что царство мысли
могло бы установиться в мире не иначе, как предоставлением принципу
мысли всей его реальности. И если сейчас видимость вещей
изменилась, то это есть последствие раскола: раздробив единство идеи, он
уничтожил также и единство общества; но основа вещей осталась,
конечно, прежней: Европа и сейчас еще христианский мир, что бы
она ни делала и что бы она ни говорила. Без всякого сомнения, она
не вернется более к тому состоянию, в каком она была в пору своей
юности и роста; но нельзя сомневаться и в том, что некогда черты,
разделяющие христианские народы, снова сотрутся, и
первоначальный принцип нового общества, хотя и в новой форме, обнаружится
с большей силой, нежели когда-либо прежде. Для христианства это
предмет веры; ему не позволительно сомневаться в этом будущем
совершенно так, как и в прошлом, на котором основаны все его
верования, но и для всякого сколько-нибудь глубокого ума это, на мой
взгляд, нечто доказанное. Кто знает, может быть, день этот даже не
так далек от нас, как это предполагают? Несомненно, в наши дни
происходит в глубине умов огромная религиозная работа, в ходе
науки, этой верховной силы века, заметно какое-то поворотное
движение, от времени до времени [чувствуется] что-то торжественное и
сосредоточенное в душах; кто знает, не предвестники ли это каких-
то великих социальных явлений, которые вызовут общий переворот
во всей разумной природе, вследствие чего обетованные человеку
судьбы из предметов веры, каковы они теперь, станут для всеобщего
разума вероятными или даже несомненными. Слава Богу,
Реформация не все разрушила; слава Богу, общество было уже вполне
построено для вечности, когда бич поразил христианский мир.
Итак, истинный характер нового общества следует изучать не в
той или иной отдельной стране, но во всем этом громадном
обществе, составляющем европейскую семью; именно здесь находится
Философические письма
243
истинный элемент устойчивости и прогресса, отличающий новый
мир от древнего; в этом сокрыты все великие поучения истории.
И мы видим, что при всех переворотах, испытанных новым
обществом, оно не только не утратило ничего в своей жизненности, но с
каждым днем еще растет в силе, и с каждым днем в нем
обнаруживаются новые возможности. И мы видим, что ни арабы, ни татары, ни
турки не только не могли это общество уничтожить, но даже,
наоборот, только способствовали его утверждению141. Как вы знаете, два
первые из этих народов напали на христианское общество ранее
изобретения пороха, а это доказывает, что его спасло от разрушения
не огнестрельное оружие; один из этих народов в то же время
напал на два общества, сохранившиеся от древнего мира, на Индию и
Китай. Оба эти общества, правда, также не погибли, благодаря
величине населения, составляющего хотя и косные, но все же способные
к сопротивлению массы; но самобытность их утратилась, прежний
жизненный принцип был отброшен к конечностям социального
тела; таким образом, смертный приговор был все же произнесен над
ними. Эти страны притом были предназначены для великого
поучения, которым мы должны воспользоваться. Присматриваясь к ним
теперь, мы до некоторой степени становимся современниками того
мира, от которого кругом нас сохранился один лишь прах; таким
образом, мы можем там наблюдать, во что бы обратился род
людской без нового импульса, данного ему всемогущей рукой. И
заметьте, что Китай, по-видимому, с незапамятных времен обладал тремя
великими орудиями, которые, как говорят, наиболее ускорили среди
нас движение вперед человеческого ума: компасом, печатным
станком и порохом. И что же? На что они ему послужили? Объехали ли
китайцы кругом земного шара? Открыли ли они новое полушарие?
Есть ли у них литература более обширная, чем та, которой мы
обладали ранее изобретения книгопечатания? В злосчастном искусстве
войны были ли у них Фридрихи и Бонапарты, как у нас?
Относительно Индостана — есть ли на свете что-либо более убедительно
свидетельствующее о бессилии и печальном состоянии всякого
общества, не опирающегося на истину, исшедшую непосредственно
от высшего разума, чем то унизительное состояние, в которое его
привело завоевание татар и англичан. Я не могу сомневаться в том,
что эта тупая неподвижность Китая142 и необычайное принижение
244
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
индусского народа, хранителя древнейших природных достижений
и зародышей всех человеческих познаний, заключает в себе сверх
того какой-то важнейший урок и что именно поэтому Бог сохранил
их на земле*.
Обыкновенно считают, будто падение Римской империи
произошло вследствие развращения нравов и деспотизма, как его
следствия143. Но в этой всемирной революции дело касается не
одного Рима, погиб не Рим, а целиком вся древняя цивилизация. Египет
фараонов, Греция Перикла, второй Египет Лагидов и вся Греция
Александра, которая простиралась за Инд, наконец даже и
иудейство, с тех пор как оно эллинизировалось, все это растворилось в
римской массе и составляло одно общество, которое совместило
в себе все предшествующие поколения с самого начала бытия,
заключало в себе все нравственные и умственные силы, развившиеся
до этого в человеческой природе. Значит, не империя погибла,
погибло и вновь восстало человеческое общество. С тех пор как
земной шар был как бы охвачен Европой и новый мир, всплывший из
океана, был ею заново пересоздан, а остальные человеческие
племена настолько ей подчинились, что можно считать их как бы
существующими только в меру ее произволения, легко себе представить
происходившее на земле тогда, когда сокрушалось старое здание, а
новое чудесным образом возникало взамен его: нравственное
начало вселенной получало новый закон, новое устройство. Разумеется,
материал старого мира был использован при построении нового;
* Может быть, здесь применяется к коллективному разуму народов тот закон,
действие которого мы ежедневно наблюдаем на отдельной личности, а именно,
что разум, который по какой бы то ни было причине ничего не почерпнул из
массы распространенных во всем человеческом роде идей и таким образом не
подчинил себя действию общего закона, а оказался обособленным от
человеческой семьи и совершенно замкнулся в себе самом, неизбежно приходит тем в
больший упадок, чем менее подчиненной была его собственная деятельность.
В самом деле, был ли когда-либо народ доведен до такого состояния унижения,
чтобы стать добычей не другого народа, но нескольких торговцев, в свою
очередь подданных в собственной стране, а между тем неограниченных владык
среди подчиненной нации? Сверх того, помимо неслыханного падения индусов,
последовавшего за их завоеванием, умирание индусского общества относится,
как известно, к более раннему времени. Их литература и философия и даже
самый язык, на котором все это изложено, принадлежат к порядку вещей, уже
давно исчезнувшему.
Философические письма
245
так как Высший Разум не может уничтожить творение собственных
рук, то материальная основа нравственного порядка по
необходимости осталась прежняя; и к тому еще совсем новый материал,
почерпнутый из пластов, не тронутых старой цивилизацией, был
доставлен Провидением; деятельные и сосредоточенные
способности Севера сочетались с пылкими силами Юга и Востока, холодная
и строгая мысль северного климата слилась с горячей и радостной
мыслью умеренного; можно сказать, сколько ни было духовных сил,
рассеянных по земле, все они соединились в этот день, чтобы
зародились поколения идей, элементы которых были до тех пор
погребены в самых таинственных глубинах человеческого сердца. Но
ни план здания, ни цемент, связавший воедино эти разнообразные
материалы, не были делом рук человеческих: все совершила идея
истины. Это нам и важно понять, и в этом заключается огромный факт,
которого чисто историческое рассуждение, привлекшее все
человеческие средства, находимые им в этой эпохе, не смогло бы
объяснить, — вот ось, вокруг которой вертится вся сфера истории, вот что
объясняет и доказывает явление воспитания человеческого рода.
Одно уж величие этого события, его внутренняя, его необходимая
связь с предшествовавшим и последующим достаточны, по-моему
мнению, чтобы поставить его вне обычного течения человеческих
действий, которые никогда не бывают свободны от известного
произвола, от известного рода прихотливости; но его определяющее
влияние на разум, совсем новые силы, которыми оно его обогатило,
впервые порожденные в нем потребности, а главное, произведенное
этим событием уравнение умов, сделавшее человека во всяком
положении, на всяком уровне развития, при всевозможных условиях
ищущим истины и способным познать ее — вот что налагает на эту
эпоху от начала до конца поразительную печать Провидения и
Высшего Разума. И вот взгляните, как часто разум человека, несмотря на
свои частые обращения к предметам отжившим, к таким, которые
не должны и не могут более существовать, всегда упорно
держался за этот момент. Взгляните, разве сознание мирового разума не
вошло нынче целиком в новый нравственный порядок и разве эта
часть мирового разума, увлекающая за собой остальную его массу,
не ведет своего начала с первых дней нашей эры? Мировой разум
не есть ли теперь разум христианский? Не знаю, может быть, черта,
246
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
отделяющая нас от древнего мира, заметна не для всякого глаза, но
она, конечно, ощутима для всякого ума, который научен моральным
чувством сколь-нибудь понимать то, что разделяет элементы
природы, и то, что их соединяет. И, поверьте мне, придет время, когда
своего рода возврат к язычеству, совершившийся в пятнадцатом веке
и носящий очень неправильное имя «возрождение искусств», будет
возбуждать в новых народах лишь такое воспоминание, какое
сохраняет человек, вернувшийся к добру, о каком-нибудь бездумном и
преступном увлечении своей юности.
Надо заметить, что благодаря своего рода оптическому обману
древность представляют себе как нескончаемый ряд веков, а
современный период — наступившим чуть не со вчерашнего дня. Между
тем история древнего мира, если начинать, например, с водворения
в Греции пелазгов144, обнимает собою время, лишь на сто лет
превышающее длительность периода с первого дня нашей эры. Но
подлинное историческое время еще короче. И в течение этого времени
сколько обществ погибло в древнем мире; напротив, в истории
современных народов мы наблюдаем лишь перемещение
географических границ государств — общества и народы остаются
неприкосновенными. Нет надобности говорить, что такие факты, как изгнание
мавров из Испании, истребление американских племен, свержение
татарского владычества в России, — лишь подтверждают наше
рассуждение. Точно так же крушение Оттоманской империи, которое
уже доносится до нашего слуха145, снова представит нам зрелище
еще одной из тех великих катастроф, которые никогда не суждено
переживать христианским народам. Затем наступит черед других
нехристианских народов, граничащих с более отдаленными
окраинами нашей системы. Вот круг всесильного действия священной
истины: порою откидывая народы, порою вбирая их в свой состав, он
расширяется без перерыва и приближает нас к возвещенным
временам. Так совершаются судьбы рода человеческого.
Нельзя не поражаться тому равнодушию, с которым долго
относились к современной цивилизации. Между тем, как вы видите,
понять ее должным образом и до конца использовать — значит, до
некоторой степени, разрешить социальную задачу. Именно поэтому
волей-неволей приходится постоянно возвращаться к этой
цивилизации при самых обширных и самых общих соображениях фило-
Философические письма
247
софии истории. На самом деле, разве она не заключает в себе работу
всех протекших веков? А будущие века, разве они не будут простым
следствием этой цивилизации? Но нравственное существо не что
иное, как существо, созданное временем, и время должно совершить
выработку его до конца. Вся совокупность идей, разлитых на
духовной поверхности мира, никогда не была так сосредоточена, как в
теперешнем обществе. Во всю мировую жизнь человеческого существа
никогда одна идея так не обнимала всей деятельности его природы,
как в наши дни. Итак, мы положительно наследники всего, что было
сказано или совершено людьми, и нет такой точки на всей земле,
которая лежала бы вне воздействия наших идей: значит, во всем мире
остается лишь одна духовная сила. Поэтому все основные вопросы
нравственной философии по необходимости заключены в едином
вопросе о европейской цивилизации. Но как только произнесли
громкие слова о присущем человечеству свойстве идти к
совершенству, о прогрессе человеческого ума, думают, что этим все сказано,
все объяснено. Можно бы думать, будто человек во все времена
только и делал, что шел вперед, никогда не задерживался, никогда не
отступал назад, что в движении разумной природы никогда не было
столкновений, поворотов в обратную сторону, а только развитие и
прогресс. Но если бы дело было так, то как же народы, о которых я
выше говорил, не трогаются с места с тех пор, как мы их знаем? Вам
говорят, что народы Азии остановились в своем развитии. Но
почему они таковы? Чтобы дойти до состояния, в котором они сейчас
находятся, они как будто должны были действовать, как и мы:
добиваться, изобретать, делать открытия. Отчего же, дойдя до известной
ступени, они сразу остановились и с тех пор не смогли ничего
выдумать, ничего создать?* Ответ прост: причина в том, что прогресс
человеческой природы отнюдь не безграничен, как это воображают:
есть предел, которого ему не удалось переступить. Поэтому-то
цивилизации древнего мира не всегда подвигались вперед; поэтому-то
Египет не сошел с места со времени посещения его Геродотом146
вплоть до установления владычества греков; поэтому-то и римский
* Когда говорят о культурной нации, что она находится в косности,
необходимо прибавить, с какого именно времени; иначе из этого факта ничего нельзя
вывести.
248
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
мир, столь прекрасный, столь яркий, воспринявший в себя все
просвещение стран от столбов Геркулеса до Ганга, дошел к моменту
озарения человеческого разума новым светом до того состояния
неподвижности, которым по необходимости заканчивается всякий
человеческий прогресс. Если только продумать этот момент, столь
богатый результатами, без школьных предрассудков, легко
убедиться, что сверх чрезвычайного развращения нравов, потери всякого
чувства доблести, свободы, любви к родине, упадка в некоторых
отраслях человеческих знаний в то время еще наступил полный застой
во всем, и умы вращались только в узком кругу, который они
переступали лишь с тем, чтобы окунуться в бессмысленное беспутство.
Как только удовлетворен интерес материальный, человек не идет
вперед, хорошо еще, если он не отступает. Не надо заблуждаться: в
Греции, как и в Индостане, в Риме, как и в Японии, вся умственная
работа, как бы она ни была замечательна, в прошлом и настоящем,
всегда вела и всегда ведет только к одному: поэзия, философия,
искусство, — все это служило и служит одному только — для
удовлетворения физического существа. Все наиболее возвышенное и бьющее
через край в учениях и привычках Востока не только не
противоречит этому общему положению, а, напротив, подтверждает его, так
как кто не видит, что все эти преувеличения мысли происходят из
измышлений и самообольщения материального человека. Не надо
только думать, что этот земной интерес, вечный возбудитель
всякой человеческой деятельности, ограничивается одними только
чувственными потребностями, но все же он проявляется лишь в
различных видах стремления к благосостоянию вообще, завися от степени
развития общества, от тех или других местных условий, выливаясь в
самые разнообразные формы, но никогда в конце концов не доходя
до потребностей чисто нравственного существа:
Одно только христианское общество действительно руководимо
интересами мысли и души. В этом и состоит способность к
усовершенствованию новых народов, в этом и заключается тайна их
цивилизации. Здесь, в какой бы мере ни проявлялся другой интерес,
всегда окажется, что он подчинен этой могучей силе, которая в
христианском обществе овладевает всеми свойствами человека,
подчиняет себе все способности его разума, не оставляет ничего в
стороне, заставляет все служить осуществлению своего назначения. И этот
Философические письма
249
интерес никогда не может быть удовлетворен до конца: он
беспределен по самой своей природе; поэтому христианские народы должны
постоянно идти вперед. И хотя та цель, к которой они стремятся,
не имеет ничего общего с другим благополучием, единственным,
какое могут ставить перед собою народы нехристианские, на пути
христианских народов находится и это последнее благополучие, и
оно им достается: и жизненные блага, которых одних добиваются
прочие народы, получаются и христианскими, но другим путем, по
слову Спасителя: Ищите же прежде всего Царства Божия и
правды его, и все остальное приложится вам*. Так, огромное развитие
всех духовных сил, возбужденных господствующим у них духом,
доставляет им все блага, как телесные, так и духовные. Но у нас,
наверное, никогда не будет ни китайской неподвижности, ни греческой
упадочности, а тем менее — полного крушения нашей цивилизации.
Достаточно оглядеться кругом, чтобы в этом убедиться. Для такого
крушения весь земной шар должен быть разрушен до основания,
должен произойти второй переворот, подобный тому, который
придал ему теперешнюю его форму; без второго всеобщего потопа
нельзя себе представить полную гибель нашего просвещения,
потому что, если бы даже было целиком поглощено одно из полушарий,
того, что сохранилось бы от нашей цивилизации во втором, хватило
бы для восстановления человеческого разума. Никогда, нет,
никогда не остановится и не погибнет мысль, которая должна подчинить
себе мир: для этого ее должно бы было поразить свыше особое
повеление Того, кто вложил ее в душу человека. Во всяком случае, я
полагаю, что этот философский вывод из размышлений об истории
более положителен, более очевиден, а главное, более поучителен,
чем те, которые на свой лад делает банальная история из картины
веков, используя при этом почву, климат, расы людей и т. п., а также
и прославленное свойство людей идти к совершенству.
Надо сознаться, что вина за то, что влияние христианства на
общество и на развитие человеческого разума все еще недостаточно
понято и недостаточно оценено, лежит в значительной степени на
протестантах. Вы знаете, что они видят во всех пятнадцати веках,
предшествующих Реформации, или по крайней мере во всем перио-
* Мат, VI, 33.
250
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
де с тех пор, как исчезло христианство, только папизм; ясно, что они
нимало не заинтересованы в исследовании христианства в средние
века. Поэтому весь этот период для них пустое место во времени.
Как же они могут понять воспитание современных народов?
Поверьте, ничто так не послужило к искажению современной истории,
как эта неправильная точка зрения протестантизма147. Отсюда идет
столь сильно преувеличенная оценка эпохи Возрождения, которого,
собственно говоря, никогда и не было, потому что науки никогда
окончательно не замирали; отсюда идут выдумки о множестве
различных причин прогресса, которые все имели лишь второстепенное
значение или же вытекали из той единственной причины, которая
все произвела; отсюда идут всяческие поиски причин успехов
современных народов, поиски повсюду, за исключением того, в чем
эти причины действительно заключаются, а вследствие этого стали
отказываться от христианства.
К счастию, философия менее узкая, с более обширным
кругозором, в наши дни, обратившись к прошлому, исправила наши понятия
об этом интересном периоде. Благодаря ей сразу столько неведомых
ранее предметов предстало в мысли, что даже и наиболее упорное
недоброжелательство не сможет впредь противиться этим новым
открытиям. Так что если только в замыслы Провидения входит,
чтобы люди этим путем просветились, то, наверное, недалек тот час,
когда великий свет разгонит темноту, еще покрывающую историю
современного общества, и эта новая философия истории, о которой
я стараюсь дать вам понятие, не замедлит быть усвоенной людьми
науки*148.
Мы не можем не вернуться еще раз к этому странному упорству
протестантов. По их мнению, начиная со второго или с третьего
века, христианство сохранялось ровно столько, сколько было
необходимо для его спасения от окончательного уничтожения. Суеверия
или невежество этих одиннадцати или двенадцати веков
представляются им такими, что они в них усматривают идолопоклонство
более печальное, чем у народов-язычников; если им поверить, нить
священного предания, не будь вальденцев149, была бы окончательно
* С тех пор как написано это письмо, г-н Гизо в значительной мере оправдал
нашу надежду.
Философические письма
251
оборвана, и, промедли Лютер своим приходом, религия Христа бы
погибла. Каким образом, спрошу я вас, распознать божественную
печать на этом учении без силы, без постоянства, без жизни, каким они
изображают христианство? Как усмотреть дело Бога в этой мертвой
религии, которая, вместо того чтобы обновить человеческий род и
наполнить его новой жизнью, как она это обещала, появилась на
мгновение на земле и тотчас погасла, родилась только затем, чтобы
немедленно умереть или же чтобы служить орудием для
человеческих страстей? Значит, судьба религии зависела от одного желания
Льва X закончить собор св. Петра? Если бы он не приказал продавать
с этой целью индульгенции в Германии150, в наши дни и следа бы не
было от христианства. Не знаю, есть ли что-либо более явно
обнаруживающее коренную ошибку Реформации, чем этот узкий и
мелочной взгляд на религию Откровения. Разве это не означает
противоречия собственным словам Иисуса Христа, всей идее его религии?
Если правда, что слово Его должно пережить небо и землю, что Он
сам постоянно пребывает среди нас, как мог быть на краю крушения
воздвигнутый Его руками храм? Как мог этот храм оставаться
покинутым, как дом, предназначенный на разрушение? Надо, впрочем,
признать одно: реформаторы были последовательны. Если они
сначала вызвали пожар во всей Европе, если затем они разорвали узы,
объединявшие христианские народы и соединявшие их в одну
семью, то ведь они это делали потому, что христианство было на краю
гибели. В самом деле, не следовало ли все принести в жертву для его
спасения. Но вот в чем дело: ничто лучше не доказывает
божественности нашей религии, чем ее постоянное и непрерывное воздействие
на человеческий разум: воздействие, которое хотя и видоизменялось
сообразно времени, хотя и прилаживалось к различным
потребностям народов и веков, ни на мгновение не ослабевало, а тем более не
прекращалось. Вот это зрелище Его верховного могущества,
постоянно действующего среди бесконечных препятствий вследствие
порочности нашей природы и печального наследства язычества, лучше
всего оправдывает Его с точки зрения разума. Что означает
утверждение, будто католическая церковь выродилась из первоначальной
церкви? Отцы церкви, начиная с третьего века, разве не жаловались
на испорченность христиан? И постоянно, во всяком веке, на всяком
соборе не повторялись ли все те же жалобы? Истинное благочестие
252
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
разве не возвышало постоянно своего голоса против
злоупотреблений и пороков духовенства, против злоупотреблений
иерархической власти, когда они происходили? Нет ничего удивительнее тех
блестящих откровений, которые от времени до времени
устремлялись из недр темной ночи, покрывавшей мир: это были то примеры
высших добродетелей, то чудесные действия веры на душу народов
и отдельных лиц151; церковь все это сохраняла и строила из этого
свою силу и свое богатство; таким образом, создалось вечное здание,
тем способом, который всего лучше мог сообщить церкви
необходимую ей форму. Первоначальная чистота христианства, разумеется,
не могла всегда сохраняться; христианству пришлось пройти через
всевозможные виды испорченности и понести на себе неизбежные
отпечатки свободы человеческого разума. Притом же совершенство
апостольской церкви осуществлялось в немногочисленной общине,
затерянной в огромной языческой среде; оно не могло быть таким
же, как во всемирном обществе человеческого рода. Золотой век
церкви, как известно, был временем ее величайших страданий, когда
еще совершался подвиг мученичества, на котором строился новый
порядок, когда струилась еще кровь Спасителя152; нелепо мечтать о
возврате такого порядка вещей, который вытекал только из великих
бедствий, поражавших первых христиан153.
Хотите ли вы знать, что же совершила Реформация, гордая тем,
что она вновь нашла христианство? Вы видите, что это один из
важнейших вопросов, какой может самой себе предложить история:
Реформация вернула мир в разобщенность язычества, она
восстановила основные индивидуальные черты национальностей,
обособление душ и умов, которые Спаситель приходил разрушить154. Если
она ускорила развитие человеческого разума, то она в то же время
изъяла из сознания разумного существа плодотворную,
возвышенную идею всеобщности155.
Сущностью всякого раскола в христианском мире является
разрыв того таинственного единства, в котором заключается вся
божественная мысль христианства и вся его сила. Вот почему
католическая [церковь] никогда не примирится с отпавшими от нее
общинами. Горе ей и горе христианству, если когда-либо будет
признан факт разделения законной властью: все снова обратилось бы в
хаос человеческих идей, в многообразие лжи, в развалины и прах.
Философические письма
253
Одна лишь видимая, осязаемая, изваянная неизменность истины
может сохранить царство духа на земле. Господство мысли обретает
непрерывность и длительность, лишь осуществляясь в данных
формах человеческой природы. И во что обратится таинство
причащения, это чудесное изобретение христианского разума, которое, если
можно так выразиться, как бы облекает души плотью для лучшего
их соединения, если перестают требовать видимого единения, если
довольствуются внутренним единством убеждений без внешнего
воплощения!156 К чему объединяться со Спасителем, если
разделяться между собой? Пускай жестокий Кальвин, убийца Сервета, пускай
буйный Цвингли, пускай тиран Генрих VIII со своим лицемерным
Кранмером157 не смогли понять силу любви и единения, которая
содержится в великом таинстве, я этому не удивляюсь; но я
совершенно не понимаю, как могут так странно ошибаться по отношению к
идее этого великого установления и предаваться жалкому учению
кальвинизма те глубокие умы, искренне религиозные, каких много
среди лютеран, у которых это искажение Евхаристии не возведено
в догмат и основатель учения которых с таким жаром против этого
искажения боролся?158 Надо согласиться, что во всех протестантских
церквах есть какое-то странное пристрастие к разрушению. Они как
будто только и мечтают о самоуничтожении; они как бы боятся быть
слишком живыми; они не хотят всего того, что могло бы сделать их
слишком долговечными. Неужели таково учение Того, Кто пришел
принести жизнь на землю, Кто победил смерть? Разве мы уже на
небе, чтобы позволять себе безнаказанно откидывать условия
земного распорядка? И распорядок этот, разве он не есть соединение
чистых мыслей разумного существа с тем, что необходимо для его
существования? А первейшая из этих потребностей — общество,
соприкосновение умов, слияние мыслей и чувств. Лишь при
осуществлении этого истина становится живой, из области рассуждений она
спускается в область действительности, из мысли она становится
действием; тогда она получает наконец свойство силы природы, и
ее действие столь же определенно, как действие всякой другой
природной силы. Но как же все это совершится в обществе идеальном,
которое существует лишь в пожеланиях и в воображении людей?
Такова невидимая церковь протестантов: она и действительно
невидима, как небытие.
254
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
День, когда соединятся все христианские вероисповедания,
будет днем, когда отколовшиеся церкви должны будут признать в
покаянии и в уничижении, во вретище и посыпав голову пеплом, что,
отделившись от церкви-матери, они далеко отбросили от себя
действие возвышенной молитвы Спасителя: Отче святый, соблюди
их во имя Твое, тех, кого Ты мне дал, да будут они одно, как мы
одно*. А папство — пускай оно и будет, как говорят, человеческим
учреждением — как будто предметы такого порядка совершаются
руками людей, — но разве в этом дело? Во всяком случае
достоверно, что оно возникло по существу из истинного духа христианства,
это — видимый знак единства, и вместе с тем, ввиду происшедшего
разделения, и знак воссоединения. Почему бы, руководствуясь этим,
не признать за ним первенства над всеми христианскими
обществами? Во всяком случае, кого не удивят его необычайные судьбы? Кого
не поразит удивлением его вид, непоколебимый и более чем когда-
либо крепкий, несмотря на собственные ошибки и грехи, несмотря
на все атаки и неслыханное торжество неверия. Лишившись своего
человеческого блеска, оно от этого только усилилось; и безразличие,
с которым к нему относятся, делает его положение еще более
прочным и вернее обеспечивает его длительное существование. Когда-то
его поддерживало преклонение мира христианского и внутреннее
чувство народов, которое заставляло их видеть в нем основу их
спасения, временного и вечного; теперь то же производит его
униженное положение среди земных держав; но все же оно в совершенстве
выполняет свое назначение; оно и в наши дни централизует
христианские мысли; оно и в наши дни их сближает помимо их воли; оно
напоминает людям, отрекшимся от единства, верховное основание
их веры, и благодаря этой черте своего небесного призвания,
которым оно все проникнуто, оно величественно витает над миром
земных интересов. Как бы мало на первый взгляд им сейчас ни
занимались, в случае если бы, предположив невозможное, папство
исчезло с лица земли, вы увидели бы, как растерянность охватила бы
все религиозные общины, когда этот живой памятник великой
общины перестал бы стоять перед ними159. Всюду станут искать этого
видимого единства, которому теперь придают так мало значения; и
* Иоанн, XVII, 11.
Философические письма
255
нигде его не будут находить, и нет ни малейшего сомнения, что
драгоценное сознание своей будущности, которым ныне преисполнен
христианский разум и которое дает ему особую высшую жизнь, чем
он и отличается от разума обычного, неизбежно рассеется, подобно
чаяниям, построенным на памяти о деятельном существовании: эти
чаяния утрачиваются, как только воображаемая деятельность
оказалась лишенной содержания, и сама память о прошлом ускользает из
души как ненужная.
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
Сударыня,
Чем более вы будете вдумываться в то, что я говорил вам на днях,
тем яснее вам представится, что то же самое было уже много раз
сказано людьми всех партий и всех убеждений и что я только
придаю сказанному особое значение, которого ранее в нем не видели.
А между тем я уверен, что, если эти письма как-нибудь случайно
увидят свет, непременно усмотрят в них парадоксы. Стоит
поддерживать самые простые мысли с некоторой долей убеждения, чтобы
их приняли за какие-то странные новости160. А я полагаю, что пора
парадоксов и систем без реальной основы миновала так
бесповоротно, что только глупец может еще поддаваться этим старым
заблуждениям человеческого ума. Если человеческий ум в наши дни не
так широк, не так возвышен, не так плодотворен, как в великие века
вдохновений и открытий, то он, без сомнения, несравненно строже,
трезвее, точнее, методичнее, наконец справедливее, чем когда-либо
ранее; и я прибавлю — и это с чувством настоящего счастья, — что он
с некоторого времени, кроме того, стал более прежнего безличным,
а это лучшее ручательство против заносчивости отдельных мнений.
Если же при рассмотрении воспоминаний людей мы высказали
несколько своих мыслей, не совпадающих с господствующими, то
это благодаря уверенности, что надо откровенно заявить свой взгляд
на историю, как это было сделано по отношению к естественным
наукам в прошлом [XVIII] веке, т. е. познав историю во всем ее
рациональном идеализме, как естественные науки были восприняты
во всей их эмпирической реальности. Так как предмет истории и ее
256
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
средства познания всегда одни и те же, то ясно, что круг
исторического опыта должен когда-нибудь замкнуться. Приложения никогда
не будут исчерпаны, но, раз будет найдено общее мерило, к этому
нечего будет прибавить. В естественных науках каждое новое
открытие пролагает новый путь уму и раскрывает новое поле для
наблюдений; чтобы не ходить далеко, один уже микроскоп разве не дал
возможности познать целый мир, неведомый древним натуралистам161?
Поэтому в изучении природы движение вперед по необходимости
беспредельно; но в истории изучаешь все одного и того же человека,
и орудие, которым мы при этом пользуемся, все одно и то же.
Поэтому если в истории сокрыто великое поучение, то необходимо дойдут
когда-нибудь до чего-то определенного, что раз навсегда завершит
опыт, т. е. к чему-то вполне рациональному. Я, кажется, приводил вам
уже эту удивительную мысль Паскаля, что вся последовательная
смена людей не что иное, как один и тот же постоянно сущий
человек162. Она когда-нибудь должна стать не образным выражением
отвлеченного положения, а реальным фактом человеческого разума,
и последний затем вынужден будет при всяком своем действии как
бы потрясать всю бесконечную цепь человеческих мыслей на
протяжении всех веков.
Но возникает вопрос, сможет ли когда-либо человек на место
того совсем личного, совсем обособленного сознания, которое он
в себе находит теперь, приобрести такое общее сознание,
которое заставляло бы его постоянно чувствовать себя частью
великого нравственного целого. Сможет, нельзя в этом сомневаться.
Подумайте только, наряду с чувством нашей отдельной личности мы
носим в сердце чувство связи с родиной, с семьей, с идейной
средой, членами которой мы являемся; чувство это иногда даже более
живо, нежели другое. Зародыш высшего сознания, несомненно, в нас
пребывает, он составляет даже самую сущность нашей природы;
теперешнее наше Я вовсе не вложено в нас каким-то непреложным
законом, мы сами внесли его в свою душу: и станет ясно, что все
назначение человека состоит в разрушении его отдельного существа
и в замене его существом совершенно социальным или безличным.
Вы видели, в этом единственная основа нравственной философии*;
* Смотрите второе письмо.
Философические письма
257
вы видите теперь, что это же есть и основа смысла истории, и вы
увидите далее, что все иллюзии, затемняющие или искажающие
различные возраста всеобщей жизни человеческого существа, не
должны быть рассматриваемы с холодным научным интересом, они
должны быть исследованы с глубоким чувством нравственной
правды. Как отождествиться с никогда не бывшим? Как установить связь
свою с небытием? Лишь в истине обнаруживается притягательная
сила в той и другой природе. Чтобы подняться на эти высоты, изучая
историю, мы должны приучить себя, никогда не увлекаясь мечтами
воображения и привычными представлениями, усвоенными нашей
памятью, столь же пламенно искать положительного и
достоверного, как всегда гонялись за живописным и занимательным. Дело не в
том, чтобы заполнять память фактами, их там и так слишком много.
Большая ошибка думать, будто обилие фактов обеспечивает в
истории достоверность. Вовсе не недостаток фактов делает историю
спорной, незнание истории вызывается совсем не незнанием
фактов, а недостатком размышления и ошибками в рассуждении. Если
бы в этой отрасли науки идти к достоверности и стремиться к
положительному знанию лишь с помощью фактов, их никогда не будет
довольно. Часто одна черточка, если она верно схвачена, освещает
и доказывает больше, чем целая летопись. Поэтому для нас должно
быть правилом — подвергать обсуждению известные нам факты и
стараться иметь в уме более живых образов, нежели мертвого
материала. Пускай другие роются в старой пыли народов, нам предстоит
другое. Мы признаем исторический материал совершенно полным,
но мы очень мало доверяем логике исторической науки, ее мы
должны всегда осмотрительно проверять. И если бы в течении времен
мы, подобно другим, находили одни только человеческие
побуждения, вполне свободные проявления воли, то как бы мы ни
нагромождали факты в уме, как бы самым удивительным образом ни выводили
их один из другого, история не открыла бы нам ничего того, что
мы в ней ищем, мы бы увидели в ней лишь ту же человеческую игру,
которую в ней видели все*163. Это была бы все та же динамическая и
* Нельзя упрекнуть ни Геродота, ни Тита Ливия, ни Григория Турского в том,
чтобы они не вводили Провидения в ход человеческих дел, но едва ли стоит
объяснять, что не к восстановлению идей об их суеверном и повседневном
вмешательстве Бога мы призываем.
258
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
психологическая история, о которой я только что вам говорил и
которая пытается все объяснить влиянием личности и воображаемым
сцеплением причин и следствий, фантазиями людей и
последствиями этих фантазий, якобы неотвратимыми, т. е. представляет
человеческий разум собственному его закону, а не понимает, что как раз
вследствие неизмеримого превосходства этой части всей природы
в целом над остальной ее частью действие высшего закона должно
быть здесь еще более очевидным, чем в той, другой части*.
Вот, сударыня, один из самых показательных примеров
лживости некоторых исторических представлений, господствующих
в наше время. Как вы знаете, греки из искусства создали широкую
идею человеческого духа. Посмотрим же, в чем состоит это
великолепное создание эллинского гения164. Идеализировано,
возвеличено, обоготворено было то материальное, что есть в человеке;
* В этом самом Риме, о котором столько толкуют, осматривать который все
ездят и который так мало понимают, имеется удивительный памятник, о
котором можно сказать, что это древний факт, продолжающий жить и поныне,
событие другого века, остановившееся среди течения времен: это Колизей. На
мой взгляд, нет исторического явления, которое бы пробуждало столько
глубоких мыслей, как вид этой развалины, которое бы лучше выявляло характерные
черты двух эпох человечества и которое бы убедительнее свидетельствовало о
великой аксиоме истории, что никогда не было ни настоящего прогресса, ни
настоящей устойчивости в обществе до христианства. Эта арена, куда римский
народ приходил массой упиваться кровью, где весь мир язычества так верно
отражался в ужасающей игре и вся жизнь того времени развертывалась в своих
живейших наслаждениях, в своих самых блестящих торжествах, — разве она
действительно не возвышается здесь перед нами, чтобы показать, к чему
пришел мир в такое время, когда все имеющиеся в человеческой природе силы
были уже пущены в дело сооружения социального здания, а между тем
крушение его возвещалось со всех сторон и должна была наступить новая полоса
варварства? И там же впервые пролилась кровь, которой суждено было оросить
основание нового здания. Этот памятник стоит целой книги. И удивительно!
Никогда памятник этот не возбуждал исторической мысли, заключающей в
себе эти великие истины. Между толп путешественников, стекающихся в Рим,
нашелся, впрочем, один, который, при взгляде на памятник с соседней и также
знаменитой высоты, с которой он мог наблюдать памятник в его
поразительном обрамлении, по его же словам, вообразил себе, что он воочию видит
развертывание веков, объясняющих ему загадку своей смены. И что же? Этот
человек заметил там только шествие триумфаторов и капуцинов!.. Как будто там
ничего не происходило, помимо триумфов и процессий! Мелкая и жалкая идея,
которая принесла нам лживое произведение, столь известное всем: настоящее
извращение со стороны одного из самых великолепных исторических гениев,
какие когда-либо были165!
Философические письма
259
естественный и законный порядок вещей был извращен; то, что по
своему происхождению должно было навсегда оставаться в низших
областях духовного мира, было возведено в высшую область мысли;
действие чувств на ум было возвеличено неизмеримо; главная черта,
отделяющая божественное от человеческого в разуме, была стерта.
Отсюда — хаотическое смешение всех нравственных элементов. Ум
накинулся на предметы менее всего достойные его внимания с той
же страстностью, что и на те, которые были для него всего важнее.
Все области мышления делались равно привлекательными; на место
первоначальной поэзии разума и правды в-воображение вторглась
чувственная и лживая поэзия; и эта могучая способность, созданная
для того, чтобы представлять себе то, что лишено образа, проникать
взором в невидимое, стала с тех пор применяться лишь на то, чтобы
сделать осязаемое еще более осязаемым, земное — еще более
земным; в итоге — наше физическое существо настолько же выросло,
насколько умалилось духовное. И если такие мудрецы, как Пифагор
и Платон, боролись с этим пагубным направлением духа своего
времени, их усилия ни к чему не привели, так как они сами более или
менее были увлечены тем же, и только тогда, когда христианство
обновило человеческое мышление, их учение приобрело настоящее
влияние. Вот что совершило искусство греков. Это был апофеоз
материи, отрицать этого нельзя. Так ли был понят этот факт? Далеко
нет. Рассматривают сохранившиеся от того времени памятники, не
понимая их значения, восхищаются при виде удивительных
вдохновений гения, который, к счастию, более не существует, даже не
подозревая всего нечистого, что при этом рождается в сердце, всего
лживого, что возникает в уме; это какой-то культ, опьянение,
очарование, в которых нравственное чувство целиком исчезает. А между
тем стоит только хладнокровно отдать себе отчет в том чувстве,
которое нас наполняет среди этого бессмысленного восхищения,
чтобы убедиться, что его производит самая низменная сторона нашей
природы, что, можно бы сказать, мы плотью своей воспринимаем
эти мраморные и бронзовые тела. И заметьте, вся красота, все
совершенство этих изваяний происходит только от совершенного
безмыслия, которое в них запечатлено: если бы только там проявился
малейший проблеск ума, тотчас исчезнет очаровывающий нас идеал.
Так что мы созерцаем даже не образ разумного существа, но какое-
260
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
то человекоподобное животное, образ какого-то существа
измышленного, своего рода чудовища, порожденного вследствие самого
беспорядочного извращения человеческого ума, чудовищный вид
которого никак не должен бы был привлекать, а, напротив, должен
бы отталкивать нас. Вот как предрассудок, школьные навыки, рутина,
очарование обманчивой иллюзии, составляющие нынешнюю идею
истории, извращают самые важные предметы исторической
философии. Вы, может быть, меня спросите, был ли я сам всегда чужд
этих обольщений искусства. Нет, сударыня, совсем напротив; пока я
с ними даже и не был знаком, какой-то неведомый инстинкт влагал в
меня предчувствие исходящих от них сладостных наслаждений,
которым суждено заполнить мою жизнь. Когда же одно из величайших
событий века привело меня в ту столицу, где завоевание сразу
собрало все эти сокровища, я следовал общему примеру и еще усерднее,
чем другие, курил свой фимиам на алтаре кумиров. Затем, когда я их
во второй раз увидел при свете их родного солнца, я снова
восхищался ими с наслаждением166. Правда, в глубине этого восхищения
всегда таилось что-то горькое, подобное угрызению совести; и
потому, когда явилось понимание истины, я, не отбрасывая ни одного
из ее последствий, немедленно и бесповоротно все их принял.
Вернемся, однако, сударыня, теперь к этим великим личностям
в истории, о которых я вам немного говорил, которых она не
оценила или вычеркнула из памяти людей. Начнем с Моисея, этой
самой гигантской и внушительной из всех исторических фигур167.
К счастию, прошло уже время, когда великий законодатель евреев
был даже и для тех, кто принимался рассуждать по существу, одним
из выходцев призрачного мира, как все эти герои, полубоги,
пророки, которых встречаешь на первых страницах всех историй древних
народов, поэтической фигурой, в которой мысли историка
приходится открывать лишь то, что она содержит поучительного как типа,
символа или выражения того века, куда его поместила человеческая
традиция. В наши дни, кажется, никто не сомневается в
исторической реальности Моисея. И все же, несомненно, что окружающая его
священная обстановка не особенно для него благоприятна и что она
мешает занять ему в истории то место, которое ему принадлежит.
Влияние этого великого человека на род человеческий далеко не
понято и не оценено, как бы следовало. Его личность слишком за-
Философические письма
261
туманена в таинственном свете, который его окружает. Его
недостаточно изучали, и Моисей не дает поучения, какое выносишь из
знакомства с великими историческими личностями. Ни общественный,
ни частный человек, ни мыслитель, ни деятель не находят теперь
в его биографии всего того наставления, которое они могли бы в
ней почерпнуть. Это следствие привычек, привитых в уме религией:
представляя библейские образы в сверхчеловеческом виде, эти
привычки изображают их совсем иными, чем они есть на самом деле*.
В личности Моисея удивительным образом сочетаются черты
величия и простоты, силы и добродушия, твердости и мягкости, над этим
можно размышлять без конца. Пожалуй, нет в истории ни одного
характера, который бы соединял в себе столь разнородные черты и
силы. Раздумывая об этом необыкновенном существе и о
произведенном им на людей действии, я не знаю, чему тут более удивляться,
тому ли историческому явлению, которое он вызвал, или тому
нравственному явлению, которое я наблюдаю в его лице. С одной
стороны, это величавая концепция об избранном народе, т. е. о народе,
облеченном высшей миссией — сохранить на земле идею единого
Бога169, и зрелище невероятных средств, которые он использовал
для устройства этого народа таким образом, чтобы эта идея
сохранилась в нем не только неприкосновенной, но еще и могла
выявиться всесильной, неотразимой, как сила природы, чтобы при виде ее
все человеческие силы должны были исчезнуть, весь духовный мир
должен был в будущем преклониться. С другой стороны, простой до
слабости человек, человек, не умеющий проявить свой гнев иначе,
как собственным бессилием, не умеющий повелевать иначе, как
истощаясь в убеждениях, поддающийся указаниям первого встречного.
Странный гений! Одновременно и самый сильный, и самый
послушный из людей! Он создает будущее и смиренно подчиняется всему,
что предстает перед ним под покровом правды; он говорит с людьми
* Заметьте, что в сущности люди Библии должны бы быть нам особенно
знакомы, так как черты их там лучше всего обрисованы. В этом одна из самых
сильных сторон Священного Писания. Надо было добиться, чтобы путем нашего
отождествления с ними библейские личности непосредственно влияли на наше
внутреннее чувство и этим приготовить души подчиниться влиянию еще более
необходимому, со стороны Христа: Библия и нашла способ так хорошо
обрисовывать черты этих лиц, что образы их, внедряясь в сознание, производят на нас
впечатление людей, с которыми мы жили в тесном общении168.
262
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
среди грозных явлений природы, голос его раздается на
протяжении веков, он поражает народы, как рок — и подчиняется первому
движению чувствительного сердца, первому справедливому доводу,
им выслушанному. Неужели это не изумительное величие, не
беспримерный урок?
Пытались умалить это величие, утверждая, что вначале он не
помышлял ни о чем, кроме освобождения своего народа от
невыносимого ига, в чем он действительно и проявил достойный славы
героизм. Стремятся усматривать в нем только замечательного
законодателя, и ныне, если не ошибаюсь, законы его признают
удивительно либеральными. Сверх того говорили еще, что Бог его только
Бог национальный, что всю свою теософию он заимствовал от
египтян. Без сомнения, он был патриотом: да и как'может не быть им
великая душа, какова бы ни была ее миссия на земле! К тому же это
общий закон: чтобы воздействовать на людей, надо влиять в
домашнем кругу, там, где кто находится, на социальную среду, в которой
кто родился; чтобы явственно говорить роду человеческому, надо
обращаться к своему народу, иначе не будешь услышан и ничего не
сделаешь. Чем прямей и деловитей нравственное воздействие
человека на подобных ему, тем оно вернее и сильнее; чем более личного
заключает в себе речь, тем она действеннее. Ничто так хорошо не
указывает на высшее начало, заставляющее действовать этого
великого человека, как полная действенность и верность тех средств,
которыми он воспользовался для совершения предположенного дела.
Конечно, возможно, что он нашел в своем народе или у других
народов представление о национальном Боге и что он использовал это
обстоятельство, как и множество другого, что он нашел у своих
естественных предшественников, для того, чтобы ввести в человеческую
мысль свое возвышенное единобожие. Но из этого не следует, что
Иегова не был для него тем же, что и для христиан, Богом
всемирным. Чем более он стремился выделить и замкнуть этот великий
догмат в своем народе, чем больше он употребил чрезвычайных усилий
для достижения этой цели, тем более обнаруживаешь, сквозь всю эту
работу Высшего Разума, вполне мировую мысль — сохранить для
всего мира, для всех следующих поколений понятие единого Бога.
Какие имелись более верные средства воздвигнуть истинному Богу
неприкосновенный жертвенник среди многобожия, завладевшего
Философические письма
263
всей землей, чем внушить народу, хранителю этого священного
памятника, расовую вражду ко всякому народу-идолопоклоннику, как
связать все социальное бытие этого народа, всю его судьбу, все его
воспоминания, все его надежды с этим принципом? Читайте
Второзаконие с этой мыслью в уме, и вы будете поражены светом,
который при этом прольется не только на моисееву систему, но и на всю
философию Откровения170. Всякое слово этой удивительной книги
обнаруживает сверхчеловеческую мысль, господствующую над умом
ее автора. Отсюда вытекают и эти ужасные избиения по приказанию
Моисея, которые так разительно противоречат мягкости его нрава
и которые так возмутили философию, еще в большей мере несмыс-
ленную, чем нечестивую. Философия эта не понимала, что человек,
бывший столь выдающимся орудием в руках Провидения,
поверенным всех его тайн, мог действовать только подобно Провидению,
подобно природе; что время и поколения людей не могли иметь для
него никакой ценности; что миссия его заключалась не в том, чтобы
проявить образец справедливости и нравственного совершенства, а
в том, чтобы внедрить в человеческий разум величайшую идею,
которую разум этот не мог произвести сам. Неужели думают, что, когда
он подавлял крик своего любящего сердца, когда он предписывал
избивать целые племена, когда он поражал их мечом божеского
правосудия, он думал только о расселении тупого и непокорного народа,
который он вел за собою? Поистине — славная психология! Чтобы
не подниматься к настоящей причине рассматриваемого ею явления,
как она поступает? Она избавляется от этого труда, соединяя в одной
душе самые противоположные черты, черты, соединение которых
в одной личности не может быть подкреплено этой психологией
ни одним наблюдением! И какое значение имеет, в конце концов,
если Моисей и почерпнул некоторые познания в египетской
мудрости? Если он и думал вначале об одном избавлении своего народа
из-под ярма рабства? Разве из-за этого перестало бы быть истиной,
что он осуществлял в этом народе мысль, все равно заимствованную
или обретенную в глубине своей души, и, окружив эту мысль всеми
условиями нерушимости и постоянства, какие только содержит
человеческая природа, тем самым дал людям истинного Бога, так что
все умственное развитие человеческого рода, вытекающее из этого
принципа, несомненно, ему обязано своим действием.
264
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Давид одна из тех исторических личностей, черты которых нам
всего лучше переданы. Ничего нельзя себе представить более
живого, более драматического, более правдивого, чем его история, и
ничего более ярко обрисованного, чем его образ. Рассказ об его жизни,
его возвышенные песни, в которых настоящее так удивительно
сливается с будущим, так хорошо рисуют нам стремление его души, что
нет положительно ничего в его существе, что было бы от нас скрыто.
Тем не менее он производит такое же впечатление, как герои Греции
и Рима, только на вполне религиозные умы. Это потому, что великие
люди Библии, повторяю это еще раз, принадлежат к особому миру,
сияние, горящее на их челе, к несчастию, переносит их всех в такую
область, до которой ум неохотно доходит, в область неподатливых
сил, настойчиво требующих подчинения, где постоянно
сталкиваешься лицом к лицу с неумолимым законом, где остается лишь пасть
ниц перед этим законом. И все же как понять движение времен, если
не изучать этого движения там, где всего яснее обнаруживается
причина, это движение вызывающая?
Противопоставляя Сократа и Марка Аврелия этим двум гигантам
Священного Писания, я хотел вызвать самым контрастом столь
различных величин сравнительную оценку двух миров, из которых те
и другие взяты. Прочитайте прежде у Ксенофонта рассказы о
Сократе171, если возможно, без предубеждения, связанного с памятью
о нем; примите во внимание, что привнесла к его славе смерть;
подумайте об его знаменитом демоне, подумайте об его
снисходительном отношении к пороку, которое он, надо признаться, доводил до
странной степени*; подумайте о различных обвинениях,
возведенных на него современниками, подумайте о произнесенном им за
минуту до смерти слове, завещавшем потомству всю неуверенность
его мысли; подумайте о всех несхожих, нелепых, противоречивых
учениях, вышедших из его школы. Что касается Марка Аврелия, то
и здесь не поддавайтесь предубеждениям; вдумайтесь хорошенько
в его книгу172; вспомните лионскую резню, ужасного человека,
которому он вручил судьбу вселенной173, время, в которое он жил,
высокое его положение в свете и все возможности величия, которые
* Если бы я писал не к женщине, я бы особенно рекомендовал вам, чтобы
составить себе об этом понятие, прочитать «Пир» Платона.
Философические письма
265
оно ему доставляло. А затем сравните, прошу вас, результат
философии Сократа с результатом религии Моисея, личность римского
императора с личностью того, кто из пастухов стал царем,
мудрецом, поэтом и, олицетворив в себе грандиозное и таинственное
создание пророка-законодателя, стал центром того мира чудес, в
котором должны были осуществиться судьбы человеческого рода;
кто, окончательно определив в своем народе его исключительно и
глубоко религиозное устремление, поглотившее затем все
существование этого народа, создал таким образом на земле порядок вещей,
который только и мог сделать осуществимым рождение истины на
земле. И я не сомневаюсь: вы признаете тогда, что если поэтическая
мысль представляет нам таких людей, как Моисей и Давид,
существами сверхчеловеческими и окружает их необычайным блеском, то и
здравый смысл, совершенно холодный, принужден будет увидеть в
них нечто большее, чем просто великих или замечательных людей;
и вам станет ясно, что в ходе развития нравственного мира эти люди
были, конечно, совершенно прямыми проявлениями Верховного
Закона, правящего миром, и что их появление соответствует великим
эпохам физического порядка, которые от времени до времени
преображают или обновляют природу*.
Затем следует Эпикур. Вы понимаете, конечно, что я не придаю
особого значения репутации этого человека. Но все же вам надо
знать прежде всего, что материализм его ничем не отличается от
идей прочих древних философов; только, благодаря более
откровенному и более последовательному суждению, чем у большинства
из них, Эпикур не путался, подобно им, в бесконечных
противоречиях. Языческий деизм представлялся ему тем, чем он на самом
деле и был, — нелепостью, спиритуализм — обманом. Физика его,
впрочем, та же, что и у Демокрита, про которого Бэкон где-то сказал,
что это был единственный разумный физик среди древних174, — не
уступала понятиям в этой области других натуралистов, его
современников; атомы же его, если только устранить метафизику, в на-
* Впрочем, нет ничего понятнее огромной славы Сократа — единственный
человек, умерший за убеждения, известный древнему миру. Этот единственный
пример идейного героизма должен был действительно поразить эти народы. Но
не безумие ли так ошибаться по отношению к нему нам, видевшим, как целые
народы жертвовали жизнью из-за истины175.
266
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
стоящее время, когда молекулярная философия стала чем-то вполне
твердым, вовсе не представляются столь смешными, как о них ранее
судили. Но имя Эпикура, как вам известно, связано главным образом
с его нравственным учением, а последнее-то и наложило пятно на
его славу. Однако мы судим о морали Эпикура только по
разнузданности его секты и по более или менее произвольным толкованиям,
сделанным после него; вы ведь знаете, что собственные писания его
до нас не дошли. Конечно, Цицерону позволительно ужасаться при
одном имени наслаждения176, но я попрошу вас оценивать это столь
ославленное учение в том виде, как его надо себе представить, т. е.
главным образом на основании известного нам по личности самого
автора, и, отрешившись от последствий, которые она имела в
языческом мире, так как последствия эти были вызваны скорее общим
направлением человеческого духа того времени, чем самим учением,
сравните его затем с прочими нравственными системами древних:
вы тогда найдете, что, не будучи столь высокомерным, ни столь
суровым, ни столь невыполнимым, как учение стоиков177, а с другой
стороны, ни столь неопределенным, ни столь туманным, ни столь
бессильным, как учение платоников, оно было исполнено любви,
благоволения, человечности — можно сказать, что оно содержало
в себе нечто сродни нравственности христианской. Невозможно
отрицать, что в эту философию существенной частью входило
нечто совершенно чуждое практической мысли древних — элемент
единения, связи, благорасположения между людьми, и в
особенности ему были свойственны здравый смысл и отсутствие гордости,
что и отличает это учение от всех современных ему философских
систем. Сверх того, оно видело высшее благо в душевном мире и в
тихой радости, которые переносили на землю небесное блаженство
богов. Эпикур самолично подавал пример такой мирной жизни: он
жил почти в полной неизвестности, среди самых нежных
привязанностей, погруженный в науку. Если бы его мораль могла закрепиться
в сознании народов и не подверглась извращениям порочного
начала, господствовавшего тогда в мире, она, несомненно, водворила
бы в сердцах кротость и человечность, распространить которые
были неспособны ни кичливая мораль Портика, ни мечтательные
рассуждения последователей Академии178. Обратите еще внимание
на то, что Эпикур — единственный из мудрецов древности, нравы
Философические письма
267
которого были безупречны, и единственный, память о котором
соединялась у его учеников с любовью и почитанием, граничащими с
культом*. Вы теперь понимаете, почему я был вынужден внести
некоторые поправки в наши представления об этом человеке179.
К Аристотелю мы не станем возвращаться. Он мог бы, однако,
составить одну из самых важных глав новой истории; но это слишком
обширный предмет, нельзя говорить о нем мимоходом. Заметьте
только, пожалуйста, что Аристотель до некоторой степени создание
нового духа. Вполне естественно было новому разуму в юности, под
влиянием мучительной и огромной потребности познаний, всеми
силами привязаться к этому механизму ума, который при помощи
своих рукояток, рычагов и блоков заставлял познавательную силу
двигаться с поразительной быстротой. Легко понять и то, что он
пришелся по вкусам арабам, которые его первые откопали180.
Импровизированный народ не имел за собой ничего, на что бы опереться;
поэтому вполне готовая мудрость должна была ему, естественно, как
нельзя более прийтись по душе. В конце концов, все это миновало:
арабы, схоластики, а также их общий наставник, все это выполнило
определенное каждому назначение. И это придало больше
устойчивости и уверенности в себе; ход его развития стал поэтому более
решительным; он усвоил себе приемы, облегчающие движение и
ускоряющие его работу. Как видите, все устроилось к лучшему; зло
обратилось в добро, благодаря силам и скрытым источникам знания
нового разума. Теперь нам надо вернуться назад, снова вступить на
широкий путь той поры, когда разум не имел в своем распоряжении
других орудий, кроме золотых и лазоревых крыльев своей
ангельской природы.
Перейдем к Магомету. Если подумать о благе, вытекшем для
человечества из его религии, то увидим, что, во-первых, она вместе
с другими более сильными причинами содействовала
уничтожению многобожия, затем, что она распространила на громадном
протяжении земного шара — и притом в таких областях, которые
можно было считать недоступными влиянию общего движения
разума, — идею единого Бога и всемирного верования: она, таким
* Пифагор не составляет в этом отношении исключения. Он личность
баснословная, и ему приписывалось все, что угодно.
268
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
образом, приготовила бесчисленное множество людей к конечным
судьбам человеческого рода. Поэтому необходимо признать, что,
несмотря на дань, которую этот великий человек заплатил своему
времени и своей родине, он заслуживает несравненно большего
уважения людей, чем толпа бесполезных мудрецов, которые никогда не
умели облечь в плоть и кровь ни одно из своих измышлений,
воодушевить хотя бы одно сердце сильным убеждением, а лишь
раздробили человеческое существо, вместо того чтобы стремиться к
объединению разрозненных элементов его природы. Исламизм есть одно
из самых замечательных проявлений общего закона, судить о нем
иначе — значит не понимать всемирное влияние христианства, от
которого он происходит. Самое существенное свойство нашей
религии состоит в способности принимать самые различные формы
религиозных доводов, в уменьи согласовать свои действия, в случае
необходимости, даже и с заблуждением, с тем чтобы достигнуть
конечного результата181. В великом историческом развитии религии
Откровения религия Магомета должна быть непременно
рассматриваема как одно из ее разветвлений. Самый исключительный
догматизм должен без затруднений признать этот важный факт; он бы это
и сделал, если бы только хоть раз отдал себе ясный отчет в том, что
именно заставляет нас смотреть на магометан как на естественных
врагов нашей религии, потому что только из этого и возник данный
предрассудок*. Впрочем, вы знаете, что почти нет главы в Коране, где
бы не говорилось об Иисусе Христе. А мы согласились на том, что
не имеешь ясного понятия о великом деле искупления, что ничего
не понимаешь в тайне Царства Христа, пока не усматриваешь
действия христианства везде, где только произнесено имя Спасителя,
пока не понимаешь, что Его влияние распространяется на все души,
соприкасающиеся как бы то ни было с Его учением; в противном
случае пришлось бы исключить из числа пользующихся благами
искупления великое множество людей, носящих имя христиан: не
значило ли бы это свести все Царство Иисуса Христа к ничтожным
* Вначале у магометан не было никакого враждебного чувства к христианам;
только в результате продолжительных войн между ними и христианами у них
возникла ненависть и презрение к последним. Что касается христиан, то
совершенно естественно, что они должны были сначала смотреть на магометан как
на язычников, позднее — как на врагов своей веры, а те затем ими и стали.
Философические письма
269
пустякам, а всемирность христианава — к смешной фикции? Итак,
магометанство, как результат религиозного брожения, вызванного
на Востоке появлением новой веры, стоит в первом ряду тех
явлений, которые на первый взгляд не вытекают из христианства, но на
самом деле, конечно, исходят из него. Таким образом, помимо
влияния отрицательного, которое оно имело на образование
христианского общества, сливая разрозненные интересы народов в единую
задачу общего спасения, помимо богатого материала, который
цивилизация арабов передала нашей, что следует рассматривать как
косвенные пути, использованные Провидением для довершения
возрождения человечества, — в собственном воздействии ислама на дух
покоренных им народов надо видеть прямое и положительное
проявление учения, из которого оно исходит, которое здесь лишь
приспособилось к некоторым местным и современным потребностям
для того, чтобы получить возможность распространить семя истины
на более обширном пространстве. Благо тем, несомненно, которые
служат Господу с полным сознанием и с убеждением! Но не забудем
и того, что имеется в мире бесконечное множество сил, послушных
голосу Христа, хотя они не имеют никакого понятия о Верховной
Силе, которая приводит их в движение!
Нам остается еще сказать о Гомере. В наши дни вопрос о влиянии
Гомера на человеческий разум вполне разрешен182. Отлично знают
теперь, что такое поэзия Гомера; знают, каким путем она
способствовала образованию характера греков, которые в свою очередь
определили характер всего древнего мира; знают, что эта поэзия
заменила другую поэзию, более возвышенную и чистую, от которой
сохранились одни отрывки; знают также, что она сменила другой
круг представлений, зародившийся не на греческой почве, и что
эти-то первоначальные представления, оттесненные новой
мыслью, нашли приют в таинствах Самофракии183 и других святилищ
утраченных истин и продолжали жить только для небольшого
числа избранных или посвященных*. Не знают, как мне кажется, только
* Если пожелать составить себе понятие о нравственном влиянии Гомера в
мире, следует только прочитать очерк Плутарха или главу Максима Тирского, к
нему относящиеся184. Затем в книге Геерена главы, в которых говорится о
цивилизации греков185, а в особенности все, что касается этого предмета в отличном
труде Крейцера о религиях древности186.
270
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
того, что может быть общего у Гомера со временем, в котором мы
живем, того, что до сих пор уцелело от него в мировом сознании.
А именно в этом и заключается интерес настоящей философии
истории, так как главный предмет ее изучения, как мы видели, не что
иное, как изыскание постоянных результатов и вечных последствий
исторических явлений. Итак, для нас Гомер еще и теперь Тифон или
Ариман187 современного мира, как он был им и для мира, им
созданного. На наш взгляд, гибельный героизм страстей, запятнанный
идеал красоты, необузданное влечение ко всему земному — все это
заимствовано нами у него*. Заметьте, что никогда не было ничего
подобного в других цивилизованных обществах мира. Одни
только греки решились таким образом идеализировать и обожествлять
порок и преступление; поэзия зла нашла себе, следовательно, место
только у них и у народов, унаследовавших их цивилизацию. Можно
ясно разглядеть, изучая средние века, какое направление приняла бы
мысль христианских народов, если бы они всецело вверились руке,
которая их вела. Итак, эта поэзия не могла к нам явиться от наших
северных предков, ум людей Севера был создан совсем по-иному и
менее всего стремился привязаться к земному; если бы он один
сочетался с христианством, он бы, вместо того, что на деле произошло,
скорее затерялся в туманной неопределенности своего
мечтательного воображения. К тому же в нас нет более ни капли крови, текшей
в их жилах, и мы ищем уроков жизни не среди народов, описанных
Цезарем и Тацитом188, а среди тех, которые составляют мир Гомера;
только с недавнего времени возврат к нашему собственному
прошлому начинает водворять нас на наше семейное лоно и дает нам
возможность мало-помалу находить отцовское достояние. От
народов Севера мы унаследовали лишь одни привычки и традиции:
а разум же питается только знанием; самые застарелые обычаи
теряются, пустившие наиболее глубокие корни традиции стираются,
* Действие поэзии Гомера естественно сливается с действием греческого
искусства, потому что она типичный представитель этого искусства, т. е. последнее
создано поэзией Гомера, а греческое искусство продолжало ее действие.
Впрочем, существовал ли такой человек, как Гомер, или нет — знать это не важно;
историческая критика никогда не сможет вычеркнуть из жизни память о
Гомере; философа должна занимать идея, которая связана с памятью о нем, а не
самая личность поэта189.
Философические письма
271
если те и другие не связаны с знанием. Между тем все наши идеи, за
исключением идей религиозных, идут, конечно, от греков и римлян.
Таким образом, поэзия Гомера, после того как она в старину на
Западе отвела в другое русло течение мыслей, привязывавших людей
к великим дням творения, совершила то же и в новое время;
переносясь к нам с наукой, философией и литературой древних, она так
успешно отождествила нас с ним, что мы еще и сейчас на самом деле
все еще колеблемся между миром лжи и миром истины. Хотя в наши
дни Гомером занимаются очень мало и хотя, наверное, его совсем не
читают, его боги и его герои тем не менее все еще оспаривают почву
у христианской идеи. И действительно, есть какая-то поразительная
прелесть в этой поэзии, всецело земной, чисто материальной,
необычайно снисходительной к порочности нашей природы: она
ослабляет напряжение ума, держит его безрассудно прикованным к своим
призракам и самообольщениям, убаюкивает и усыпляет его своими
мощными иллюзиями. И пока глубокое нравственное чувство,
порожденное ясным представлением всей древности и совершенным
погружением ума в христианскую истину, не наполнит наши сердца
презрением и отвращением к этим векам обмана и безумия, которые
нами еще владеют, к этим настоящим сатурналиям в жизни
человеческого рода; пока своего рода сознательное раскаяние не
заставит нас краснеть за бессмысленное поклонение, которое мы
слишком долго расточали перед этим отвратительным величием, этими
ужасными доблестями, этой нечистой красотой, до тех пор старые,
вредные впечатления не перестанут составлять наиболее
жизненный и деятельный элемент нашего разума. Лично я думаю, что для
совершенного возрождения, в согласии с разумом Откровения, нам
не хватает еще какого-то огромного испытания, какого-то сильного
искупления, вполне прочувствованного всем христианским миром
в целом и всеми испытанного, как великая физическая катастрофа,
на всем пространстве мира; я не постигаю, как без этого мы бы
могли избавиться от грязи, еще оскверняющей нашу память*. Вот как
* Настоящим счастием нашего времени является новая область, не
загрязненная гомеризмом, которая недавно открылась для исторического
размышления. Влияние идей Индии уже проявляется с большой пользой в развитии
философии. Дал бы Бог, чтобы мы пришли как можно скорее этим кружным путем к
той точке, куда нас не смогла до сих пор привести более прямая дорога!
272
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
философия истории должна понимать гомеризм. Посудите теперь,
какими глазами она должна смотреть на Гомера! Разве на этом
основании не должна она по совести наложить на его чело печать
несмываемого отвержения!190
Вот, сударыня, мы и у конца нашей галереи. Я не договорил всего,
что имел вам сказать, но пора кончать. Говоря по правде, до
Гомера, греков, римлян, германцев нам, русским, нет никакого дела. Нам
все это вполне чуждо. Но что поделаешь! Поневоле приходится
говорить языком Европы. Наша чужеядная цивилизация так вдвинула
нас в Европу, что хотя мы и не имеем ее идей, у нас нет другого
языка, кроме языка той же Европы; им и приходится пользоваться.
Если ничтожное количество установившихся у нас навыков ума,
традиций, воспоминаний, если ничто вообще из нашего прошлого не
объединяет нас ни с одним народом на земле, если мы на самом
деле не принадлежим ни к какой нравственной системе вселенной,
то, во всяком случае, внешность нашего социального быта связывает
нас с западным миром. Эта связь, надо признаться, очень слабая, не
соединяющая нас с Европой так крепко, как это воображают, и не
заставляющая нас ощущать всем своим существом великое движение,
которое там совершается, все же ставит нашу будущую судьбу в
зависимость от судьбы европейского общества. Потому чем более мы
будем стараться с нею отождествиться, тем лучше нам будет. До сих
пор мы жили обособленно; то, чему мы научились от других,
осталось вне нас, как простое украшение, не проникая в глубину наших
душ; в наши дни силы ведущего общества так возросли, его действие
на остальную часть человеческого рода так расширилось, что вскоре
мы будем увлечены всемирным вихрем и телом и духом, это
несомненно: нам никак не удастся долго еще пребыть в нашем
одиночестве191. Сделаем же, что в наших силах, для расчистки путей нашим
внукам. Не в нашей власти оставлять им то, чего у нас не было, —
верований, разума, созданного временем, определенно обрисованной
личности, убеждений, развитых ходом продолжительной духовной
жизни, оживленной, деятельной, богатой результатами, —
передадим им по крайней мере несколько идей, которые, хотя бы мы и
не сами их нашли, переходя из одного поколения в другое, [тогда]
получат нечто, свойственное традиции, и этим самым приобретут
некоторую силу, несколько большую способность приносить плод,
Философические письма
273
чем это дано нашим мыслям. Этим мы бы оказали услугу потомству
и не прошли бы без всякой пользы свой земной путь.
Прощайте, сударыня. От вас одной зависит, чтобы я, как только
вы пожелаете, вновь заговорил на ту же тему. А пока в задушевной
беседе, где собеседники схватывают мысль друг друга с полуслова,
зачем разрабатывать и исчерпывать до дна каждую мысль? Если
сказанное мной побудит вас поискать каких-либо новых указаний
при изучении истории, возбудит к ней более глубокий интерес, чем
обыкновенно там находят, — я большего не домогаюсь.
Москва, 1829, 16 февраля
ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
Да, сударыня, пришло время говорить простым языком разума.
Нельзя уже более ограничиваться слепой верой, упованием сердца;
пора обратиться прямо к мысли. Чувству самому по себе не
проложить себе пути через всю эту груду искусственных потребностей,
враждебных друг другу интересов, беспокойных забот, овладевших
жизнью. Во Франции и Англии она стала слишком сложной, слишком
подвластной интересам, слишком личной; в Германии она слишком
отвлеченна, слишком эксцентрична, так что веления сердца
утрачивают там свою по существу присущую им силу. А об остальном
мире сейчас не стоит и говорить. Приходится ныне свести вопрос к
одной, основанной на учете всех возможностей задаче, разрешение
которой было бы по плечу всем сознаниям, подходило бы ко всяким
настроениям, не поражало бы ничьих наличных интересов и таким
образом могло бы увлечь даже самые упорные умы.
Это не значит, что предметы чувства навсегда изъяты из мира
мысли. Не дай Бог, настанет вновь и их черед. И тогда мы их увидим
столь сильными, широкими, чистыми, какими они еще никогда не
бывали. Я не сомневаюсь, время это скоро настанет. Но в наши дни,
в данной обстановке чувствам не дано потрясать души. Очень важно
проникнуться этим сознанием. Правда, сейчас заметно некоторое
пробуждение живых дарований, свойственных юношеской поре
человечества. Но это лишь заря прекрасного дня; равнины пока сплошь
274
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
покрыты сумеречной тенью, только некоторые вершины начинают
загораться первыми лучами рассвета.
Для всякого, кому истина не безразлична, явные признаки ее
налицо. Знаете ли вы, сударыня, что я разумею под этими признаками?
Это вся совокупность исторических фактов, должным образом
проработанных. Сейчас их надо свести в стройное целое, облечь в
доступную форму и так их выразить, чтобы они подействовали на душу
людей, самых равнодушных к добру, менее всего открытых правде,
на тех, кто еще толчется в прошлом, когда для всего мира оно уже
миновало и, конечно, более не вернется, но которое еще живо для
ленивых сердец, для низменных душ, никогда не угадывающих
настоящего дня, а вечно пребывающих во вчерашнем.
Окончательное просветление должно вытечь из общего смысла
истории. И этот смысл должен быть впредь сведен к идее высшей
психологии, а именно, чтобы раз навсегда человеческое существо
было постигнуто как разумное существо в отвлечении, а отнюдь не
существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте,
т. е. насекомое-поденка, в один и тот же день появляющееся на свет
и умирающее, связанное с совокупностью всего одним только
законом рождения и тления. Да, надо обнаружить то, чем действительно
жив человеческий род: надо показать всем таинственную
действительность, которая в глубине духовной природы и которую пока еще
усматривают только при некотором особом озарении. Лишь бы не
быть слишком исключительным, мечтательным или схематичным,
а главное — лишь бы говорить с веком языком века, а не устарелым
языком догмата, ставшим непонятным, и тогда, без всякого
сомнения, успех обеспечен, именно в наше время, когда и разум, и наука,
и даже искусство страстно рвутся навстречу новому нравственному
перевороту, как это было и в великую эпоху Спасителя мира.
Я вам уже не раз говорил о влиянии христианской истины на
общество. Но я сказал не все. Трудно этому поверить, а между тем
то, что я скажу, совсем еще новая мысль: нравственное значение
христианства достаточно оценено, но о чисто умственном его
действии, о могучей силе его логики почти еще не думают. Ничего еще
не было сказано о том значении, которое имело христианство в
развитии и в образовании современной мысли. Пока еще не
осознано, что вся наша аргументация — христианская192; мы все еще
Философические письма
275
мыслим себя в царстве категорий и силлогизмов Аристотеля. Дело
в том, что нескончаемые сетования философов и отщепенцев на те
века, когда якобы всесильны были одни только предрассудки,
невежество и изуверство, заставили нас совершенно упустить из виду,
как благодетельно было действие веры. Так что когда пыл неверия
миновал, самые праведные и смиренные уже оказались чуждыми на
собственной своей почве и лишь с большим трудом вновь
водворяли в своих мыслях все на свои места. Правда, эти умы к тому же не
интересуются в должной мере изучением чисто человеческой
действительности. Они к этому относятся слишком пренебрежительно.
По привычке созерцать действия сверхчеловеческие, они не
замечают действующих в мире природных сил и почти совсем упускают
из виду вещественные условия умственной деятельности. Как бы то
ни было, пора современному разуму признать, что всей своей силой
он обязан христианству. Пора уразуметь, что лишь при содействии
необычайных средств, дарованных Откровением, и благодаря той
живой ясности, которую оно сумело внести во все предметы
человеческого мышления, воздвигнуто величавое здание современной
науки. Эта горделивая наука должна, наконец, сама признать, что она
так высоко поднялась только благодаря строгой дисциплине,
незыблемости принципов, и прежде всего благодаря инстинкту и
страстному исканию истины, которые она нашла в учении Христа.
По счастью, мы живем уже не в те времена, когда партийное
упорство принималось за убеждение, а выпады сект — за благочестивое
рвение. Можно поэтому надеяться, что удастся сговориться. Но вы,
конечно, согласитесь, что не истине делать уступки. И тут дело не в
требованиях этикета: для законного авторитета уступка означала бы
отказ от всякой власти, всякой активной роли, уступка была бы
самоуничтожением. Вопрос тут не в поддержании престижа, не в каком-
либо внешнем впечатлении. Всякий престиж навсегда утратил
значение, и иллюзии отошли в вечность. Дело идет о самой реальной вещи,
более реальной, чем это можно выразить словами. Ведь протекшее
определяет будущее: таков закон жизни. Отказаться от своего
прошлого значит лишить себя будущего. Но те триста лет, которые числит за
собой великое христианское заблуждение, вовсе не такое
воспоминание, которое не могло бы быть при желании стерто. Отколовшиеся
могут поэтому по произволу строить свое будущее. Исконная община
276
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
изначала дышала лишь надеждой и верой в обещанное ей
предназначение, а они пребывали до сих пор без всякой идеи будущего.
Необходимо, однако, прежде всего выяснить одно важное
обстоятельство. Между предметами, которые способствуют
сохранению истины на земле, одним из наиболее существенных является,
без сомнения, священная книга Нового Завета. К книге, содержащей
подлинный акт установления нового строя на земле, естественно
относятся с особым, непререкаемым уважением. Слово писанное не
улетучивается, как слово произнесенное193. Оно кладет свою печать
на разум. Оно его сурово подчиняет себе своею нерушимостью и
длительным признанием святости. Но вместе с тем, кодифицируя
дух, слово лишает его подвижности, оно гнетет его, втесняя в узкие
рамки Писания, и всячески его сковывает. Ничто так не задерживает
религиозную мысль в ее высоком порыве, в ее беспредельном
шествии вперед, как книга, ничто так не затрудняет вполне прочного
утверждения религиозной мысли в человеческой душе. В
религиозной жизни все теперь основано на букве, и подлинный голос
воплощенного разума пребывает немым. С амвонов истины раздаются
только лишенные силы и авторитета слова. Проповедь стала лишь
случайным явлением в строительстве добра. А между тем — надо
же, наконец, прямо признать это — проповедь, переданная нам
в Писании, была, само собою разумеется, обращена к одним
присутствовавшим слушателям. Она не может быть одинаково понятна
для людей всех времен и всех стран. По необходимости она должна
была принять известную местную и современную ей окраску, а это
замыкает ее в такие пределы, вырваться из которых она может лишь
с помощью толкования, более или менее произвольного и вполне
человеческого. Так может ли это древнее слово всегда вещать миру
с той же силой, как в то время, когда оно было подлинной речью
своего века, действительной силой данного момента! Не должен ли
раздаться в мире новый голос, связанный с ходом истории, такой,
чтобы его призывы не были никому чужды, чтобы они
одинаково гремели во всех концах земли и чтобы отзвуки и в нынешнем
веке наперебой его схватывали и разносили его из края в край
вселенной. Слово — обращенный ко всем векам глагол — это не одна
только речь Спасителя, это весь Его небесный образ, увенчанный
Его сиянием, покрытый Его кровью, с распятием на кресте. Словом,
Философические письма
111
тот самый, каким Бог раз навсегда запечатлел Его в людской памяти.
Когда Сын Божий говорил, что Он пошлет людям Духа и что Он Сам
пребудет среди них вечно, неужели Он помышлял об этой книге,
составленной после Его смерти, где худо ли, хорошо ли рассказано об
Его жизни и Его речах и собраны некоторые записи Его учеников?
Мог ли Он полагать, что эта книга увековечит Его учение на
земле? Конечно, не такова была Его мысль. Он хотел сказать, что после
Него явятся люди, которые так вникнут в созерцание и изучение Его
совершенств, которые так будут преисполнены Его учением и
примером Его жизни, что нравственно они составят с Ним одно целое,
что эти люди, следуя друг за другом из поколения в поколение, будут
передавать из рук в руки всю Его мысль, все Его существо: вот что Он
хотел сказать и вот именно то, чего не понимают. Думают найти все
Его наследие в этих страницах, которые столько раз искажены были
различными толкователями, столько раз сгибались по произволу.
[Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы
то ни было книги. Начиная со второго века оно уже покорило мир.
И с тех пор человеческий род был ему подчинен безвозвратно.]194
Воображают, что стоит только распространить эту книгу по всей
земле, и земля обратится к истине: жалкая мечта, которой так
страстно предаются отпадшие.
Его божественный разум живет в людях, таких, каковы мы и
каков Он сам, а вовсе не в составленной церковью книге. И вот почему
упорная привязанность со стороны верных преданию к
поразительному догмату о действительном присутствии Тела в Евхаристии и их
не знающее пределов поклонение Телу Спасителя столь достойны
уважения. Именно в этом лучше всего постигается источник
христианской истины: здесь всего убедительнее обнаруживается
необходимость стараться всеми доступными средствами делать
действительным присутствие среди нас Богочеловека, вызывать беспрестанно Его
телесный образ, чтобы иметь Его постоянно перед глазами во всем
Его величии как образец и вечное поучение нового человечества. По-
моему, это заслуживает самого глубокого размышления. Этот
странный догмат об Евхаристии, предмет издевательства и презрения,
открытый со стольких сторон злым нападкам человеческих доводов,
сохраняется в некоторых умах, несмотря ни на что, нерушимым и
чистым. В чем тут дело? Не для того ли, чтобы когда-нибудь послу-
278
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
жить средством единения между разными христианскими учениями?
Не для того ли, чтобы в свое время выявить в мире новый свет,
который пока еще скрывается в тайнах судьбы? Я в этом не сомневаюсь.
Итак, хотя печать, наложенную человеческой мыслью, надо
признать необходимой составной частью нравственного мира,
настоящая основа слияния сознаний и мирового развития разумного
существа на самом деле содержится в ином, а именно в живом слове,
в слове, которое видоизменяется по временам, странам и лицам и
пребывает всегда тем, чем оно должно быть, которое не нуждается ни
в разъяснениях, ни в толковании, подлинность которого не требует
защиты на основе канонов, — в слове, этом естественном орудии
нашей мысли. Так что предположение, будто вся мудрость заключается
в столбцах одной книги, как это утверждают протестанты, не скажу
даже не правоверно, оно, во всяком случае, не имеет ничего общего
с философией. А с другой стороны, несомненно, есть высшая
философия в этих столь устойчивых верованиях, заставляющих людей
закона признавать другой источник истины, более чистый, другой
авторитет, менее земной.
Надо уметь ценить этот христианский разум, столь уверенный в
себе, столь точный в этих людях: это инстинкт правды, это
последствие нравственного начала, перенесенного из области поступков
в область сознаний, это бессознательная логика мышления, вполне
подчинившегося дисциплине. Удивительное понимание жизни,
принесенное на землю Создателем христианства; дух самоотвержения;
отвращение от разделения; страстное влечение к единству: вот что
сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так
сохраняется раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое
действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну
душу, в единую силу. Это слияние — все предназначение
христианства195. Истина едина: Царство Божие, небо на земле, все евангельские
обетования — все это не иное что, как прозрение и осуществление
соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта
единая мысль есть мысль самого Бога, иначе говоря — осуществленный
нравственный закон. Вся работа сознательных поколений
предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел
и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение
мировой драмы, великий апокалиптический синтез.
СТАТЬИ
APOLOGIE D'UN FOU (поздняя редакция)
О my brethern! I have told
Most bitter truth, but without bitterness.
Coleridge
I.
La charité, dit saint Paul, souffre tout, croit tout, supporte tout: ainsi,
souffrons, croyons, supportons tout, soyons charitables. Mais d'abord, la
catastrophe qui vient de mutiler notre existence intellectuelle d'une
manière si étrange, et de jeter au vent le labeur d'une vie tout entière, n'est
que le résultat du cri sinistre poussé dans une certaine région de la société
à l'apparition de notre article, de cette page poignante, si vous voulez,
mais qui certainement méritait tout autre chose que les clameurs dont
elle fut saluée.
Le gouvernement, après tout, n'a fait que son devoir; on peut même
dire que les rigueurs exercées contre nous en ce moment n'ont rien
d'exorbitant, puisqu'il est certain qu'elles sont loin d'avoir dépassé
l'attente d'un public nombreux. Que voulez-vous que fasse le gouvernement
le mieux intentionné, si ce n'est de se conformer à ce qu'il croit être, de
bonne foi, le vœu sérieux du pays? Quant aux clameurs publiques, c'est
tout autre chose. Il y a diverses manières d'aimer sa patrie: le Samoyè-
de, par exemple, qui aime les neiges natales qui l'ont rendu myope, la
yourte enfumée où il reste blotti la moitié de ses jours, la graisse rance
de ses rennes qui l'environne d'une atmosphère nauséabonde, n'aime
pas assurément son pays de la même manière que le citoyen anglais, fier
des institutions et de la haute civilisation de son île glorieuse; et sans
doute il serait fâcheux pour nous que nous fussions encore à chérir les
lieux qui nous ont vus naître à la façon des Samoyèdes. C'est une fort
belle chose que l'amour de la patrie, mais il existe quelque chose de
mieux, l'amour de la vérité. L'amour de la patrie fait les héros, l'amour
de la vérité fait les sages, les bienfaiteurs de l'humanité. C'est l'amour
de la patrie qui divise les peuples, qui nourrit les haines nationales, qui
280
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
parfois couvre la terre de deuil; c'est l'amour de la vérité qui répand les
lumières, qui crée les jouissances de l'esprit, qui rapproche les hommes
de la Divinité. Ce n'est point par le chemin de la patrie, c'est par celui
de la vérité que l'on monte au ciel. Il est vrai que, nous autres Russes,
nous nous sommes de tout temps médiocrement préoccupés de ce qui
est vrai ou faux. Il ne faut donc pas guère en vouloir au pays, s'il s'est
vivement ému d'une apostrophe tant soit peu virulente adressée à ses
infirmités. Aussi n'ai-je pas de rancune, je vous assure, contre ce cher
public qui me fit si longtemps patte de velours: c'est de sang-froid, sans
irritation aucune, que je cherche à me rendre compte de mon étrange
situation. Ne faut-il pas, je vous le demande, que je tâche de découvrir,
si je le puis, où en est vis-à-vis de ses semblables, vis-à-vis de ses
concitoyens, vis-à-vis de son Dieu, l'homme frappé de démence par un arrêt
de la justice suprême du pays?
Je n'ai jamais brigué les ovations populaires, ni recherché les faveurs
de la foule; j'ai toujours pensé que le genre humain ne devait marcher qu'a
la suite de ses chefs naturels, les oints du Seigneur; qu'il ne saurait avancer
dans les voies de son progrès véritable que guidé par ceux-là qui, d'une
manière ou d'une autre, ont reçu du ciel même mission et puissance pour
le conduire; que la raison générale n'était point la raison absolue, ainsi
que l'a cru un grand écrivain de nos jours; que les instincts des majorités
étaient infiniment plus passionnés, plus étroits, plus égoïstes, que ceux de
l'homme isolé; que ce que l'on appelle le bon sens du peuple n'est point
du tout le bon sens; que la vérité ne jaillissait point de la cohue; qu'elle
ne saurait être figurée par un chiffre; enfin, que l'intelligence humaine ne
se manifestait jamais dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur,
que dans l'esprit solitaire, centre et soleil de sa sphère. Comment se fait-il
donc que je me sois trouvé un beau jour en face d'un public en colère,
d'un public dont je n'ai jamais ambitionné les suffrages, dont les caresses
ne m'ont jamais réjoui, dont les boutades ne m'ont jamais ému?
Comment se fait-il qu'une pensée qui n'était pas adressée à mon siècle, que,
sans vouloir avoir affaire aux hommes de nos jours, j'avais léguée dans
le plus profond de mes convictions aux générations à venir, aux
générations mieux informées, et avec ce caractère de publicité intime qui lui
était déjà acquis depuis longtemps, comment se fait-il que cette pensée
ait brisé ses entraves, qu'elle se soit échappée de son cloître, qu'elle se soit
précipitée dans la rue, bondissant au milieu de la foule stupéfaite? C'est
Статьи
281
là ce que je ne saurais dire. Mais voici ce que je puis affirmer avec une
parfaite assurance.
Il y a trois cents ans que la Russie aspire à se confondre avec l'occident
de l'Europe; qu'elle tire de la toutes ses idées les plus sérieuses, tous ses
enseignements les plus féconds, toutes ses jouissances les plus vives. Depuis
un siècle et plus elle fait mieux que cela. Le plus grand de nos rois, celui
qui, dit-on, commença pour nous une ère nouvelle, à qui, dit-on, nous
devons notre grandeur, notre gloire, et tous les biens que nous possédons
aujourd'hui, abjura, il y a de cela cent cinquante ans, la vieille Russie à la
face du monde entier. Il balaya de son souffle puissant toutes nos
institutions; il creusa un abîme entre notre passé et notre présent, et il y jeta
pêle-mêle toutes nos traditions. Lui-même il alla dans les pays de
l'Occident, et il revint parmi nous le plus grand; il se prosterna devant
l'Occident, et il se releva notre maître et notre législateur. Il introduisit dans
notre idiome les idiomes de l'Occident; sa nouvelle capitale, il l'appela
d'un nom de l'Occident; son titre héréditaire, il le rejeta, et prit un titre
de l'Occident; enfin il renonça presque à son propre nom, et plus d'une
fois signa ses arrêt souverains d'un nom de l'Occident. Depuis ce temps-
là, les regards constamment tournés vers les pays de l'Occident, nous ne
fîmes plus, pour ainsi dire, qu'aspirer les émanations qui nous arrivaient
de là et nous en nourrir. Nos princes, il faut le dire, qui presque
toujours nous conduisirent par la main, qui presque toujours remorquèrent
le pays, sans que le pays y fût pour rien, eux-mêmes nous imposèrent les
mœurs, le langage, l'habit de l'Occident. Nous apprîmes à épeler les noms
des choses dans les livres de l'Occident. Notre propre histoire, c'est l'un
des pays de l'Occident qui nous l'enseigna; nous traduisîmes la littérature
de l'Occident tout entière, nous l'apprîmes par coeur, nous nous parâmes
de ses guenilles; et enfin nous fûmes heureux de ressembler à l'Occident,
et glorieux lorsqu'il voulut bien nous compter parmi les siens.
Elle fut belle, il faut en convenir, cette création de Pierre le Grand,
cette pensée puissante que se saisit de nous et nous lança dans la route
que nous devions parcourir avec tant d'éclat; elle fut profonde cette
parole qui nous dit: Voyez-vous là-bas cette civilisation, fruit de tant de
travaux, ces sciences, ces arts qui coûtèrent tant de sueurs à tant de
générations! tout cela est à vous à condition que vous vous dépouillerez de
vos superstitions, que vous répudierez vos préjugés, que vous ne serez
point jaloux de votre passé barbare, que vous ne vous vanterez pas de vos
282
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
siècles d'ignorance, que vous ne serez ambitieux que de vous approprier
les travaux de tous les peuples, les richesses acquises par l'esprit humain
à toutes les latitudes du globe. Et ce n'était point pour sa nation seule que
travaillait le grand homme. Ces hommes de la Providence sont toujours
envoyés pour l'humanité tout entière. Un peuple les réclame d'abord,
puis ils s'absorbent dans le genre humain, comme ces grands fleuves qui
fertilisent d'abord de vastes contrées, puis vont porter le tribut de leurs
eaux dans l'Océan. Le spectacle qu'il offrit à l'univers, lorsque, quittant
la majesté royale et son pays, il alla se cacher dans les derniers rangs des
peuples civilisés, que fut-ce autre chose, sinon un nouvel effort du génie
de l'homme pour sortir de l'enceinte étroite de la patrie, pour s'établir
dans la grande sphère de l'humanité? Telle fut la leçon que nous devions
en recueillir: nous en avons profité en effet, et jusqu'à ce jour nous avons
marché dans la voie que le grand empereur nous avait tracée. Notre
immense développement n'est que l'accomplissement de ce superbe
programme. Jamais peuple ne fut moins infatué de lui-même que le peuple
russe, tel qu'il a été fait par Pierre le Grand, et jamais non plus peuple
n'obtint de succès plus glorieux dans la carrière du progrès. La haute
intelligence de cet homme extraordinaire devina parfaitement quel devait
être notre point de départ sur la route de la civilisation et du mouvement
intellectuel du monde. Il vit que, la donnée historique nous manquant à
peu près complètement, nous ne saurions asseoir notre avenir sur cette
base impuissante; il comprit fort bien que, placés en face de la vieille
civilisation de l'Europe, nous n'avions que faire de nous étouffer dans
notre histoire, de nous traîner, comme les peuples de l'Occident, à travers
le chaos des préjugés nationaux, par les sentiers étroits des idées locales,
sur l'ornière rouillée de la tradition indigène; qu'il nous fallait enlever, par
un élan spontané de nos puissances internes, par un effort énergique de
la conscience nationale, les destinées qui nous étaient réservées. Il nous
délivra donc de tous ces antécédents qui encombrent les sociétés
historiques et entravent leur marche; il ouvrit notre intelligence à tout ce qui
existe parmi les hommes de grandes et belles idées; il nous livra
l'Occident tout entier, tel que les siècles l'avaient fait, et il nous donna toute son
histoire pour histoire, tout son avenir pour avenir.
Croyez-vous que, s'il eût trouvé au milieu de sa nation une histoire
riche et féconde, des traditions vivantes, des institutions
profondement enracinées, il n'eût pas hésité à la jeter dans un moule nouveau?
Статьи
283
Croyez-vous qu'en présence d'une nationalité fortement dessinée,
fortement prononcée, son instinct d'esprit fondateur ne l'eût pas porté, au
contraire, à demander à cette nationalité même les instruments
nécessaires à la régénération de son pays? Et le pays, de son côté, eût-il souffert
dans ce cas qu'on lui ravît son passé, qu'on lui imposât en quelque sorte
celui de l'Europe? Mais il n'en fut pas ainsi. Pierre le Grand ne trouva
chez lui que du papier blanc, et de sa forte main et il y traça ces mots,
Europe et Occident-, dès lors nous fûmes de l'Europe et de l'Occident. Il ne
faut pas s'y tromper: quels que fussent le génie de cet homme et l'énorme
énergie de sa volonté, son œuvre n'était possible qu'au sein d'une
nation dont les antécédents ne lui commandaient pas impérieusement la
marche qu'elle avait à suivre, dont les traditions n'avaient pas le pouvoir
de lui créer un avenir, dont les souvenirs pouvaient être impunément
effacés par un législateur audacieux. Si nous fûmes si dociles à la voix
du prince qui nous conviait à une vie nouvelle, c'est qu'apparemment
nous n'avions rien dans notre existence antérieure qui pût légitimer la
résistance. Le trait le plus profond de notre physionomie historique, c'est
l'absense de spontanéité dans notre développement social. Regardez
bien, et vous verrez que chaque fait important dans notre histoire est un
fait imposé; chaque idée nouvelle, presque toujours une idée importée.
Mais il n'y a rien dans ce point de vue dont le sentiment national doivent
se formaliser; s'il est vrai, il faut l'accepter, voilà tout. Il y a de grandes
nations, tout comme il y a de grands personnages historiques, qui ne
sauraient s'expliquer par les lois normales de notre raison, mais que la
logique suprême de la Providence décrète en son mystère: ainsi en est-il
de nous; mais encore une fois l'honneur national n'a rien à démêler dans
tout cela. L'histoire d'un peuple n'est point seulement une suite de faits
qui se succèdent, c'est encore une série d'idées qui s'enchaînent. Il faut
que le fait se traduise par une idée; il faut qu'une pensée, un principe,
circulent à travers les événements et tendent à se réaliser. Alors le fait
n'est point perdu; il a sillonné les intelligences, il est resté gravé dans les
cœurs, et nulle force au monde ne saurait l'en expulser. Cette histoire-là
ce n'est point l'historien qui la fait, c'est la force des choses. L'historien
vient un jour, la trouve toute faite et la raconte; mais, qu'il vienne ou
non, elle n'en existe pas moins, et chaque membre de la famille
historique, quelque obscur qu'il soit, quelque infime qu'il soit, la porte dans
le fond de son être. Voilà précisément l'histoire que nous n'avons pas.
284
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Il faut apprendre à nous en passer, et non lapider les gens qui se sont
aperçus de cela les premiers.
Nos Slavons fanatiques pourront bien dans leurs fouilles diverses
exhumer de temps à autre des objets de curiosité pour nos musées, pour
nos bibliothèques; mais il est permis de douter, je crois, qu'ils parviennent
jamais à tirer de notre sol historique de quoi combler le vide de nos âmes,
de quoi condenser le vague de nos esprits. Voyez l'Europe au moyen âge:
point d'événement qui n'y soit en quelque sorte d'une nécessité absolue,
qui n'ait laissé de traces profondes au cœur de l'humanité. Et pourquoi
cela? C'est que là; derrière chaque événement vous trouvez une idée, c'est
que l'histoire du moyen âge, c'est l'histoire de la pensée des temps
modernes, qui cherche à s'incarner dans l'art, dans la science, dans la vie
de l'homme, dans la société. Aussi, que de sillons cette histoire n'a-t-elle
point creusés dans les intelligences, comme elle a labouré le terrain sur
lequel s'agite l'esprit de l'homme! Je sais bien que toutes les histoires n'ont
pas la marche rigoureuse, la marche logique de celle de cette époque
prodigieuse, au sein de laquelle s'élabora la société chrétienne sous
l'empire d'un principe suprême; mais il n'en est pas moins vrai que c'est là le
véritable caractère du développement historique, soit d'un peuple, soit
d'une famille de peuples, et que les nations dépourvues d'un passé ainsi
fait doivent se résigner à chercher ailleurs qu'en histoire, qu'en leur
mémoire, les éléments de leur progrès ultérieur. Il en est de la vie des peuples
à peu près comme de celles des individus. Tous les hommes ont vécu,
mais il n'y a que l'homme de génie, ou l'homme placé dans certaines
conditions particulières, qui ait une véritable histoire. Qu'un peuple, par
exemple, par un concours de circonstances qu'il n'a point créées, par
l'effet d'une position géographique qu'il n'a point choisie, se répande sur
une immense étendue de pays sans avoir la conscience de ce qu'il fait, et
qu'un beau jour il se trouve être un peuple puissant, ce sera assurément
un phénomène étonnant, et l'on pourra l'admirer tant que l'on voudra;
mais que voulez-vous que l'histoire en dise? Au fond ce n'est là qu'un fait
purement matériel, un fait pour ainsi dire géographique, dans d'énormes
proportions sans doute, mais rien que cela. L'histoire le recueillera, le
consignera dans ses fastes, puis se refermera sur lui, et tout sera dit. La
véritable histoire de ce peuple ne commencera que du jour où il se sera
saisi de l'idée qui lui était confiée, qu'il est appelé à réaliser, et lorsqu'il
se mettra à la poursuivre avec cet instinct persévérant, quoique caché,
Статьи
285
qui conduit les peuples à leurs destinées. Voilà le moment que j'évoque
en faveur de mon pays de toutes les puissances de mon cœur, voilà la
tâche que je voudrais vous voir entreprendre, à vous, mes chers amis et
concitoyens, qui vivez dans un siècle de haute instruction, et qui venez
de m'apprendre combien vous êtes vivement enflammés du saint amour
de la patrie.
Le monde fut de tout temps partagé en deux parts, en Orient et en
Occident. Ce n'est point la seulement une division géographique, c'est encore
un ordre de choses résultant de la nature même de l'être intelligent, ce
sont deux principes qui répondent aux deux forces dynamiques de la
nature, deux idées qui embrassent toute l'économie du genre humain. C'est
en se concentrant, en se recueillant, en se renfermant en lui-même, que
l'esprit humain se construisit en Orient; c'est en s'épandant au dehors, en
rayonnant dans tous les sens, en luttant contre tous les obstacles, qu'il se
développe en Occident. La société se constitua naturellement sur ces
données primitives. En Orient, la pensée retirée en elle-même, réfugiée dans
le repos, cachée dans le désert, laissa le pouvoir social maître de tous les
biens de la terre; en Occident, l'idée se projetant partout, embrassant tous
les besoins de l'homme, aspirant à tous les bonheurs, fonda le pouvoir sur
le principe du droit; néanmoins dans l'une et l'autre de ces sphères, la vie
fut forte et féconde; dans l'une et l'autre, les hautes inspirations, les
pensées profondes, les créations sublimes, ne faillirent point à l'intelligence
humaine. L'Orient vint le premier et versa sur la terre des flots de lumière
du sein de sa méditation solitaire; puis vint l'Occident, qui, avec son
immense activité, sa vive parole, son analyse toute-puissante, s'empara de ses
travaux, acheva ce que l'Orient avait commencé, et l'enveloppa enfin dans
sa vaste étreinte. Mais en Orient, les intelligences dociles, agenouillées
devant l'autorité des temps, s'épuisèrent dans l'exercice de leur soumission
absolue à un principe vénéré, et s'endormirent un jour emprisonnées dans
leur synthèse immobile, sans se douter des destinées nouvelles qui se
préparaient pour elles; tandis qu'en Occident elles marchèrent fières et libres,
ne s'inclinant que devant l'autorité de la raison et du Ciel, ne s'arrêtant
que devant l'inconnu, et l'œil toujours fixé sur l'avenir sans bornes. Et elles
y marchent encore, vous le savez: et vous savez aussi que, depuis Pierre
le Grand, nous avons cru marcher avec elles.
Mais voici venir une école nouvelle. On ne veut plus de l'Occident,
on veut démolir l'œuvre de Pierre le Grand, on veut reprendre le chemin
286
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
du désert. Oublieux de ce que l'Occident a fait pour nous, ingrats envers
le grand homme qui nous civilisa, ingrats envers l'Europe qui nous
instruisit, on renie et l'Europe et le grand homme; et déjà dans son ardeur
hâtive, ce patriotisme de fraîche date nous proclame enfants chéris de
l'Orient. Quel besoin, dit-on, avions-nous d'aller chercher des lumières
parmi les peuples de l'Occident? N'avions-nous pas au milieu de nous
tous les germes d'un ordre social infinement préférable à celui de
l'Europe? Que ne laissait-on faire le temps? Abandonnés à nous-mêmes,
à notre raison lucide, au principe fécond caché dans les entrailles de
notre puissante nature, et surtout à notre religion sainte, nous eussions
bientôt dépassé tous ces peuples livrés à l'erreur et au mensonge. Qu'avi-
ons-nous donc à envier à l'Occident? Ses luttes religieuses, son pape, sa
chevalerie, son inquisition? Belles choses en vérité! Est-ce donc
l'Occident qui est la patrie de la science et de toutes les choses profondes?
C'est l'Orient, on le sait. Retirons-nous donc dans cet Orient que nous
touchons partout, d'où nous avons naguère tiré nos croyances, nos
lois, nos vertus, tout ce qui nous a rendus le peuple le plus puissant
de la terre. Le vieil Orient s'en va: eh bien, ne sommes-nous pas ses
héritiers naturels? C'est parmi nous que vont désormais se perpétuer
ces admirables traditions, que vont se réaliser toutes ces grandes et
mystérieuses vérités, dont le dépôt lui fut confié dès l'origine des
choses. Vous comprenez maintenant d'où est venu l'orage qui s'est abattu
l'autre jour sur moi, et vous voyez qu'il s'opère au milieu de nous, dans
la pensée nationale, une véritable révolution, une réaction passionnée
contre les lumières, contre les idées de l'Occident, contre ces
lumières, contre ces idées, qui nous firent ce que nous sommes, dont cette
réaction même, ce mouvement, qui nous poussent aujourd'hui contre
elles, sont le fruit. Mais cette fois l'impulsion ne vient pas d'en haut.
Jamais, au contraire, dans les régions suprêmes de la société, la
mémoire de notre royal réformateur ne fut, dit-on, plus vénérée qu'elle ne
l'est aujourd'hui. L'initiative appartient donc toute entière au pays. Où
nous mènera ce premier fait de la raison émancipée de la nation? Dieu
le sait! Mais on ne saurait, si l'on aime sérieusement son pays, ne pas
être douleureusement affecté de cette apostasie de nos esprits les plus
avancés envers les choses qui firent notre gloire, notre grandeur; et il
est, je crois, d'un bon citoyen de chercher à apprécier de son mieux ce
phénomène singulier.
Статьи
287
Nous sommes situés à l'orient de l'Europe, cela est positif, mais nous
n'avons jamais fait partie de l'Orient pour cela. L'Orient possède une
histoire qui n'a rien de commun avec celle de notre pays. Il contient, comme
nous venons de le voir, une idée féconde qui amena en son temps un
développement immense de l'intelligence qui avait accompli sa mission
avec une prodigieuse puissance, mais qui n'est plus destinée à se
produire de nouveau sur la scène du monde. Cette idée a établi le principe
spirituel au sommet de la société; elle a soumis tous les pouvoirs à une
loi suprême, inviolable, à la loi des temps; elle a conçu profondément
les hiérarchies morales; et, bien qu'elle ait comprimé la vie dans une
enceinte bornée, elle l'avait pourtant soustraite à toute action extérieure
et empreinte d'une merveilleuse profondeur. Chez nous, rien de tel. Le
principe spirituel, toujours soumis au principe temporel, ne s'est jamais
assis au faîte de la société; la loi des temps, la tradition, n'a jamais régné
chez nous exclusivement; la vie n'a jamais été constituée chez nous d'une
manière invariable; enfin, de hiérarchies morales, nous n'en avons jamais
eu de traces. Nous sommes tout simplement un pays du Nord, et par nos
idées tout autant que par nos climats, fort loin de la vallée parfumée de
Cachemire et des rives sacrées du Gange. Quelques unes de nos provinces
avoisinent les empires de l'Orient, il est vrai, mais nos centres ne sont
point là, notre vie n'est point là et n'y seront jamais, à moins que l'axe
du globe ne se déplace par je ne sais quelle révolution astrale, ou qu'un
cataclysme nouveau ne jette encore une fois les organisations du Midi
dans les glaces du pôle.
La vérité est que nous n'avons jamais encore considéré notre histoire
du point de vue philosophique. Nul des grands événements de notre
existence nationale n'a été bien caractérisé, nulle de nos grandes époques n'a
été appréciée de bonne foi; de la toutes ces imaginations bizarres, toutes
ces utopies du passé, tous ces rêves d'un avenir impossible qui tourmentent
aujourd'hui nos esprits patriotiques. Des savants allemands découvrirent
nos annalistes, il y a de cela cinquante ans; Karamzin raconta ensuite
en style sonore les faits et gestes de nos princes; de nos jours, des
écrivains médiocres, de maladroits antiquaires, quelques poètes avortés, ne
possédant ni la science des Allemands ni la plume de l'illustre historien,
s'imaginent peindre ou restaurer des temps et des moeurs dont personne
parmi nous n'a conservé ni la mémoire ni l'amour: tel est le sommaire de
nos travaux sur l'histoire nationale. Il faut convenir que l'on ne saurait
288
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
guère tirer de ce tout cela le pressentiment sérieux des destinées qui nous
attendent. Or, c'est de cela précisément qu'il s'agit maintenant; ce sont
précisément ces résultats qui font de nos jours tout l'intérêt des études
historiques. Ce que réclame la pensée sérieuse des temps où nous vivons,
c'est une méditation sévère, une analyse sincère des moments où la vie
s'est manifestée chez un peuple avec plus ou moins de profondeur, où son
principe social s'est produit dans toute sa vérité, car là est l'avenir, là sont
les éléments de son progrès possible. Si de telles époques sont rares dans
votre histoire, si la vie chez vous ne fut point puissante et profonde, si la
loi qui préside à vos destinées, loin d'être un principe radieux, nourri au
grand jour des gloires nationales, n'est qu'une chose pâle et terne, se
dérobant à la lumière du soleil dans les sphères souterraines de votre existence
sociale, ne repoussez point la vérité, ne vous imaginez point avoir vécu
de la vie des nations historiques, alors qu'ensevelis dans votre sépulcre
immense vous ne viviez que de la vie des fossiles. Mais si vous arrivez par
hasard ce néant à un moment où la nation s'est tout de bon sentie vivre,
où son cœur s'est vraiment mis à palpiter, si vous entendez le flot
populaire retentir et monter autour de vous, oh! alors arrêtez-vous, méditez,
étudiez, vos peines ne seront pas perdues: vous apprendrez ce que peut
votre pays dans les grands jours, ce qu'il doit espérer dans l'avenir. Tel fut
chez nous, par exemple, le moment qui termina le drame épouvantable
de l'interrègne, où la nation, poussée à bout, honteuse d'elle-même, fit
entendre enfin sin sublime cri d'alarme, et, après avoir terrassé son
ennemi par un effort spontané de toutes les puissances secrètes de son être,
éleva sur le pavois la noble famille qui règne sur nous: moment unique
et que l'on ne saurait se lasser d'admirer, surtout si l'on considère le vide
des siècles précédents de notre histoire et la situation toute particulière
où se trouvait le pays en ce jour mémorable. On voit que je suis fort loin
d'exiger, comme on l'a prétendu, que l'on fasse main basse sur tous nos
souvenirs.
J'ai dit seulement, et je le répète, qu'il est temps de jeter un coup
d'œil lucide sur notre passé, et cela, non pour en extraire de vieilles
reliques tombées en pourriture, de vieilles idées que le temps a dévorées,
de vieilles antipathies dont le bon sens de nos princes ainsi que celui du
pays ont depuis longtemps fait justice, mais pour savoir à quoi nous en
tenir sur nos antécédents. C'est ce que j'avais tenté de faire dans un travail
resté incomplet, et auquel l'article qui vient de soulever si étrangement
Статьи
289
les vanités nationales devait servir d'introduction. Sans doute il y avait de
l'impatience dans l'expression, de l'excès dans la pensée; mais l'émotion
qui domine le morceau tout entier n'est rien moins qu'hostile à la
patrie: c'est un sentiment profond de nos infirmités, exprimée avec douleur,
avec tristesse, et rien de plus.
Plus qu'aucun de vous, croyez-moi, je chéris mon pays, je suis
ambitieux de sa gloire, je sais apprécier les eminentes qualités de ma nation;
mais il est vrai aussi que le sentiment patriotique qui m'anime n'est point
fait exactement de la même façon que celui dont les cris ont bouleversé
mon existence tranquille, et ont de nouveau lancé sur l'océan de misères
humaines ma barque échouée au pied de la croix. Je n'ai point appris
à aimer ma patrie les yeux fermés, le front courbé, la bouche close. Je
trouve que l'on ne saurait être utile à son pays qu'à la condition d'y voir
clair; je crois que le temps des aveugles amours est passé, qu'aujourd'hui
avant tout l'on doit à sa patrie la vérité. J'aime mon pays ainsi que Pierre
le Grand m'a appris à l'aimer. Je n'ai point, je l'avoue, ce patriotisme béat,
ce patriotisme paresseux, qui s'arrange pour voir tout en beau, qui
s'endort sur ses illusions, et dont malheureusement beaucoup de nos bons
esprits sont affligés de nos jours. Je pense que si nous sommes venus
après les autres, c'est pour faire mieux que les autres, c'est pour ne pas
tomber dans leurs fautes, dans leur erreurs, dans leur superstitions. Ce
serait, à mon avis, étrangement méconnaître le rôle qui nous est échu,
que de nous réduire à répéter maladroitement toute la longue série de
folies commises par les nations moins favorisées que nous, à
recommencer toutes les calamités subies par elle. Je trouve que c'est là une situation
fortunée que la nôtre, pourvu que nous sachions l'apprécier; que c'est
la un beau privilège que celui de pouvoir contempler et juger le monde
de toute la hauteur d'une pensée dégagée des passions effrénées, des
pitoyables intérêts qui ailleurs troublent la vue de l'homme et faussent
son jugement. Il y a plus: j'ai l'intime conviction que nous sommes
appelés à résoudre la plupart des problèmes de l'ordre social, à achever la
plupart des idées surgies dans les vieilles sociétés, à prononcer sur les
plus graves questions de celles qui préoccupent le genre humain. Je l'ai
souvent dit, et j'aime à le répéter: nous sommes constitués en quelque
sorte, par la nature même des choses, véritable jury pour maints procès
se plaidant par-devant les grands tribunaux de l'esprit humain et de la
société humaine.
290
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Voyez, en effet, ce qui se passe dans les pays que j'ai trop vantés peut-
être, mais qui n'en sont pas moins les exemplaires les plus complets de
toute espèce de civilisation. On l'a vu trop souvent: une idée nouvelle y
vient-elle à éclore, à l'instant même tout ce qu'il s'y remue sur la surface
de la société d'égoïsmes étroits, de vanités puériles, de partis obstinés, se
jette dessus, s'en empare, la travestit, la dénature, et un moment après,
broyée par ces agents divers, là voilà emportée dans les régions abstraites
où vont s'engloutir toutes les poussières stériles. Parmi nous, point de ces
intérêts passionnés, de ces opinions toutes faites, de ces préjugés
constitués; nous arrivons, esprits vierges, en face de chaque idée nouvelle. Dans
nos institutions, oeuvres spontanées de nos princes ou faible vestige d'un
ordre de choses labouré par leur toute-puissant charrue, dans nos mœurs,
mélange bizarre d'une imitation maladroite et de lambeaux d'une
existence sociale depuis longtemps épuisée, dans nos opinions, qui cherchent
vainement encore à se fixer sur les moindres choses rien ne s'oppose à
la réalisation immédiate de tous les biens que la Providence destine à
l'humanité. Il suffit qu'une volonté souveraine se prononce parmi nous
pour que toutes les opinions s'effacent, pour que toutes les croyances
fléchissent, pour que tous les esprits s'ouvrent à la pensée nouvelle qui
leur est offerte. Je ne sais, peut-être eût-il mieux valu traverser toutes ks
épreuves parcourues par les autres peuples chrétiens, y puiser comme
eux des puissances, des énergies, des méthodes nouvelles, et peut-être
notre position isolée nous eût-elle préservés des calamités qui
accompagnèrent la longue et laborieuse éducation de ces peuples; mais ce qu'il y
a de certain, ce que ce n'est plus de cela qu'il s'agit maintenant, c'est qu'il
ne faut songer désormais qu'à bien saisir le caractère actuel du pays, tel
qu'il est donné, tel qu'il se trouve fait par la nature des choses, et qu'a en
tirer tout le parti imaginable. L'histoire n'est plus à nous, il est vrai, mais la
science nous appartient; nous ne saurions recommencer tout le travail de
l'esprit humain, mais nous pouvons participer à ses travaux ultérieurs; le
passé n'est plus en notre pouvoir, mais l'avenir est à nous. On ne saurait
en douter, une grande partie de l'univers est opprimé par ses traditions,
par ses souvenirs: ne lui envions pas le cercle borné où il se débat; il est
certain qu'il y a dans le cœur de la plupart des nations un sentiment
profond de la vie accomplie qui domine la vie actuelle, un souvenir obstiné
des jours révolus qui remplit les jours d'aujourd'hui. Laissons les lutter
avec leur passé inexorable.
Статьи
291
Nous n'avons jamais vécu sous la pression fatale de la logique des
temps; jamais une force toute-puissante ne nous a précipités dans les
abîmes que les siècles creusent devant les peuples. Jouissons de l'immense
avantage de n'obéir qu'à la voix d'une raison éclairée, d'une volonté
réfléchie. Sachons qu'il n'existe point pour nous de nécessité irrévocable;
que nous ne sommes point, grâce à Ciel, placés sur la pente rapide qui
entraîne tant d'autres peuples vers leurs destinées inconnues; qu'il nous
est donné de mesurer chaque pas que nous faisons, de raisonner chaque
idée qui vient effleurer notre intelligence; qu'il nous est permis d'aspirer
à des prospérités plus vastes encore que celles que rêvent les plus
ardents ministres du progrès; et que pour arriver à ses résultats définitifs,
il ne nous faut qu'un seul acte souverain de cette volonté suprême qui
contient toutes les volontés de la nation, qui en exprime toutes les
aspirations, qui plus d'une fois déjà lui a ouvert de nouvelles voies, a déployé
devant ses yeux debouveau horizons, et fait descendre dans son
intelligence de nouvelles lumières.
Eh bien, est-ce là un avenir mesquin que j'offre à ma patrie? Trouvez-
vous par hasard que ce soient des destinées sans gloire que j'évoque en
sa faveur? Cependant, ce grand avenir qui se réalisera, ces belles
destinées qui s'accompliront, n'en doutons pas, ils ne seront qu'un résultat
de cette nature particulière du peuple russe, qui a été signalée pour la
première fois dans le fatal article. Toutefois, il me tarde de le dire, et je
suis heureux de me trouver amené à faire cet aveu. Oui, il y avait de
l'exagération dans cette espèce de réquisitoire lancé contre un grand peuple
dont tout le tort n'était autre, au bout du compte, que d'avoir été relégué
aux confins de toutes les civilisations du monde, loin des contrées où
les lumières ont dû naturellement s'accumuler, loin des foyers d'où
elles ont jailli pendant tant de siècles; il y avait de l'exagération à ne pas
reconnaître que nous sommes venus au monde sur un sol que les
générations précédentes n'avaient point remué, n'avaient point fécondé,
où rien ne nous parlait des âges écoulés, où il n'y avait nulle trace d'un
monde nouveau; il y avait de l'exagération à ne point faire sa part à
cette Église si humble, si héroïque parfois, qui seule console du vide
de nos annales, à qui revient l'honneur de chaque acte de courage, de
chaque beau dévouement de nos pères, de chaque belle page de notre
histoire; enfin peut-être il y avait de l'exagération à s'attrister un
moment sur le sort d'une nation qui a vu naître de ses flancs la puissante
292
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
nature de Pierre le Grand, l'esprit universel de Lomonossof et le génie
gracieux de Pouchkine.
Mais après cela il faut aussi convenir que les fantaisies de notre public
sont admirables.
On se rappelle qu'un moment après la malencontreuse publication
dont il s'agit ici, une drame nouveau fut jouée sur notre scène. Eh bien!
Jamais nation ne fut fustigée de la sorte, jamais pays ne fut ainsi traîné
dans la boue, jamais on ne jeta au visage du public tant d'ordures, et
jamais pourtant succès ne fut plus complet. Serait-ce donc que l'esprit
sérieux qui aura profondément médite sur son pays, sur l'histoire, sur le
caractère du peuple, sera condamné au silence parce qu'il ne pourra pas
faire entendre par la bouche d'un histrion le sentiment patriotique qui
l'oppresse! Qu'est-ce donc qui nous rend si complaisants envers la leçon
cynique de la comédie, et si ombrageux envers la parole austère qui va au
fond des choses? Il faut bien le dire, c'est que nous n'avons guère encore
que des instincts patriotiques; c'est que nous sommes fort loin encore
du patriotisme réfléchi des vieilles nations mûries aux travaux de
l'intelligence, éclairées par la lumière, par les méditations de la science; c'est
que nous sommes encore à chérir notre pays à la manière de ces peuples
adolescents que la pensée n'a pas encore tourmentés, qui sont encore
à la recherche de l'idée qui leur appartient, du rôle qu'ils sont appelés à
remplir sur la scène du monde; c'est que nos puissances intellectuelles
ne se sont guère exercées encore aux choses sérieuses; c'est qu'en un
mot le travail de l'esprit jusqu'à ce jour a été à peu près nul chez nous.
Nous sommes arrivés avec une étonnante rapidité à un certain degré de
civilisation qui fait à juste titre l'admiration de l'Europe. Notre puissance
fait la terreur du monde, notre empire s'étend sur la cinquième partie du
globe; mais tout cela, il faut l'avouer, nous ne le devons qu'à la volonté
énergique de nos princes, secondée par les conditions physiques du pays
que nous habitons.
Façonnés, moulés, créés par nos souverains et par notre climat, ce n'est
qu'à force de soumission que nous sommes devenus un grand peuple.
Parcourez nos annales d'un bout à l'autre, vous y trouverez à chaque
page l'action profonde du pouvoir, l'influence incessante du sol, et
presque jamais celle de la volonté publique. Toutefois, il est vrai de dire
aussi qu'en abdiquant sa puissance entre les mains de ses maîtres, en
cédant à la nature de son pays, le peuple russe faisait preuve d'une haute
Статьи
293
sagesse, qu'il reconnaissait ainsi la loi suprême de ses destinées: singulier
résultat de deux éléments d'ordre différent, qu'il ne saurait méconnaître
sans fausser son être, sans comprimer le principe même de son progrès
possible. Un coup d'œil rapide, jeté sur notre histoire du point de vue
où nous nous sommes placés, va, je l'espère, nous montrer cette loi dans
toute son évidence.
IL
Il est un fait qui domine souverainement notre marche à travers les
siècles, qui parcourt notre histoire tout entière, qui comprend en quelque
sorte toute sa philosophie, qui se produit à toutes les époques de notre
vie sociale et détermine leur caractère, qui est à la fois l'élément essentiel
de notre grandeur politique et la véritable cause de notre impuissance
intellectuelle: ce fait, c'est le fait géographique.
[Перевод:]
АПОЛОГИЯ БЕЗУМНОГО
О my brethern! I have told Most bitter truth,
but without bitterness.
Coleridge196
I.
Милосердие, говорит an. Павел, все терпит, всему верит, все
переносит197: итак, будем все терпеть, все переносить, всему верить, — будем
милосердны. Но прежде всего, катастрофа, только что столь
необычайным образом исказившая наше духовное существование и кинувшая
на ветер труд целой жизни, является в действительности лишь
результатом того зловещего крика, который раздался среди известной части
общества при появлении нашей статьи, едкой, если угодно, но,
конечно, вовсе не заслуживавшей тех криков, какими ее встретили198.
В сущности, правительство только исполнило свой долг; можно
даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас,
нет ничего чудовищного, так как они, без сомнения, далеко не
превзошли ожиданий значительного круга лиц. В самом деле, что еще
может делать правительство, одушевленное самыми лучшими наме-
294
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
рениями, как не следовать тому, что оно искренно считает
серьезным желаньем страны? Совсем другое дело — вопли общества. Есть
разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий
свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую
юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и
прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием,
любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин,
гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного
острова; и без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам
все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер
самоедов. Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто
более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству
рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей
человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную
ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине
распространяет свет знания, создает духовные наслаждения,
приближает людей к Божеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на
небо199. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что
истина и что ложь, поэтому нельзя и сердиться на общество, если
несколько язвительная филиппика против его немощей задела его
за живое. И потому, смею уверить, во мне нет и тени злобы против
этой милой публики, которая так долго и так коварно ласкала меня: я
хладнокровно, без всякого раздражения стараюсь отдать себе отчет
в моем странном положении. Не естественно ли, скажите, чтобы я
постарался уяснить по мере сил, в каком отношении к себе
подобным, своим согражданам и своему Богу стоит человек, пораженный
безумием по приговору высшей юрисдикции страны200?
Я никогда не добивался народных рукоплесканий, не искал
милостей толпы; я всегда думал, что род человеческий должен следовать
только за своими естественными вождями, помазанниками Бога, что
он может подвигаться вперед по пути своего истинного прогресса
только под руководством тех, кто тем или другим образом получил
от самого неба назначение и силу вести его; что общее мнение
отнюдь не тождественно с безусловным разумом, как думал один
великий писатель нашего времени201; что инстинкты масс бесконечно
более страстны, более узки и эгоистичны, чем инстинкты
отдельного человека, что так называемый здравый смысл народа вовсе не
Статьи
295
есть здравый смысл; что не в людской толпе рождается истина; что
ее нельзя выразить числом; наконец, что во всем своем могуществе и
блеске человеческое сознание всегда обнаруживалось только в
одиноком уме, который является центром и солнцем его сферы. Как же
случилось, что в один прекрасный день я очутился перед
разгневанной публикой, — публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи
ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как
случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не
желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего
сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, — при
той гласности в тесном кругу, которую эта мысль приобрела уже
издавна202, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из
своего монастыря и бросилась на улицу вприпрыжку среди
остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить203. Но вот что я могу
утверждать с полною уверенностью.
Уже триста лет Россия стремится слиться с Западной Европой204,
заимствует оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее
плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения. Но вот
уже век и более, как она не ограничивается и этим. Величайший из
наших царей, тот, который, по общепринятому мнению, начал для
нас новую эру205, которому, как все говорят, мы обязаны нашим
величием, нашей славой и всеми благами, какими мы теперь
обладаем, полтораста лет назад пред лицом всего мира отрекся от старой
России. Своим могучим дуновением он смел все наши учреждения;
он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и
грудой бросил туда все наши предания. Он сам пошел в страны
Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим206;
он преклонился пред Западом и встал нашим господином и
законодателем. Он ввел в наш язык западные речения; свою новую столицу
он назвал западным именем; он отбросил свой наследственный
титул и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего
собственного имени и не раз подписывал свои державные решения
западным именем207. С этого времени мы только и делали, что, не
сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя веяния, приходившие
к нам оттуда, и питались ими. Должно сказать, что наши государи,
которые почти всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащили
страну на буксире без всякого участия самой страны, сами заставили
296
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
нас принять нравы, язык и одежду Запада208. Из западных книг мы
научились произносить по складам имена вещей. Нашей
собственной истории научила нас одна из западных стран209; мы целиком
перевели западную литературу, выучили ее наизусть, нарядились
в ее лоскутья и наконец стали счастливы, что походим на Запад, и
гордились, когда он снисходительно соглашался причислять нас к
своим.
Надо сознаться — оно было прекрасно, это создание Петра
Великого, эта могучая мысль, овладевшая нами и толкнувшая нас на тот
путь, который нам суждено было пройти с таким блеском. Глубоко
было его слово, обращенное к нам: «Видите ли там эту
цивилизацию, плод стольких трудов, — эти науки и искусства, стоившие таких
усилий стольким поколениям! все это ваше при том условии, чтобы
вы отказались от ваших предрассудков, не охраняли ревниво
вашего варварского прошлого и не кичились веками вашего невежества,
но целью своего честолюбия поставили единственно усвоение
трудов, совершенных всеми народами, богатств, добытых человеческим
разумом под всеми широтами земного шара». И не для своей только
нации работал великий человек. Эти люди, отмеченные
Провидением, всегда посылаются для всего человечества. Сначала их
присваивает один народ, затем их поглощает все человечество,
подобно тому, как большая река, оплодотворив обширные пространства,
несет затем свои воды в дань океану. Чем иным, как не новым
усилием человеческого гения выйти из тесной ограды родной страны,
чтобы занять место на широкой арене человечества, было зрелище,
которое он явил миру, когда, оставив царский сан и свою страну,
он скрылся в последних рядах цивилизованных народов210? Таков
был урок, который мы должны были усвоить; мы действительно
воспользовались им и до сего дня шли по пути, который предначертал
нам великий император. Наше громадное развитие есть только
осуществление этой великолепной программы. Никогда ни один народ
не был менее пристрастен к самому себе, нежели русский народ,
каким воспитал его Петр Великий, и ни один народ не достиг
также более славных успехов на поприще прогресса. Высокий ум
этого необыкновенного человека безошибочно угадал, какова должна
быть наша исходная точка на пути цивилизации и всемирного
умственного движения. Он видел, что, за полным почти отсутствием у
Статьи
297
нас исторических данных, мы не можем утвердить наше будущее на
этой бессильной основе; он хорошо понял, что, стоя лицом к лицу
со старой европейской цивилизацией, которая является последним
выражением всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться
в нашей истории и незачем тащиться, подобно западным народам,
чрез хаос национальных предрассудков, по узким тропинкам
местных идей, по изрытым колеям туземной традиции, что мы должны
свободным порывом наших внутренних сил, энергическим усилием
национального сознания овладеть предназначенной нам судьбой.
И вот он освободил нас от всех этих пережитков прошлого, которые
загромождают быт исторических обществ и затрудняют их
движение; он открыл наш ум всем великим и прекрасным идеям, какие
существуют среди людей; он передал нам Запад сполна, каким его
сделали века, и дал нам всю его историю за историю, все его будущее
за будущее.
Неужели вы думаете, что, если бы он нашел у своего народа
богатую и плодотворную историю, живые предания и глубоко
укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму?
Неужели вы думаете, что, будь пред ним резко очерченная, ярко
выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его,
напротив, обратиться к этой самой народности за средствами,
необходимыми для возрождения его страны? И, с другой стороны,
позволила ли бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и, так сказать,
навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было. Петр
Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной
рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы
принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни
был гений этого человека и необычайная энергия его воли, то, что
он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не
указывало ей властно того пути, по которому она должна была двигаться,
чьи традиции были бессильны создать ее будущее, чьи
воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы
оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то
это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что
могло бы оправдать сопротивление. Самой глубокой чертой нашего
исторического облика является отсутствие свободного почина в
нашем социальном развитии. Присмотритесь хорошенько, и вы увиди-
298
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
те, что каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая
новая идея почти всегда заимствована211. Но в этом наблюдении нет
ничего обидного для национального чувства; если оно верно, его
следует принять — вот и все. Есть великие народы, — как и великие
исторические личности, — которые нельзя объяснить нормальными
законами нашего разума, но которые таинственно определяет
верховная логика Провидения: таков именно наш народ; но, повторяю,
все это нисколько не касается национальной чести. История всякого
народа представляет собою не только вереницу следующих друг за
другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт
должен выражаться идеей; чрез события должна нитью проходить
мысль или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян,
он провел борозду в умах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в
мире не может изгнать его оттуда. Эту историю создает не историк,
а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и рассказывает
ее; но придет он или нет, она все равно существует, и каждый член
исторической семьи, как бы ни был он незаметен и ничтожен, носит
ее в глубине своего существа. Именно этой истории мы и не имеем.
Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями
тех, кто первый подметил это.
Возможно, конечно, что наши фанатические славяне при их
разнообразных поисках будут время от времени откапывать диковинки
для наших музеев и библиотек; но, по моему мнению, позволительно
сомневаться, чтобы им удалось когда-нибудь извлечь из нашей
исторической почвы нечто такое, что могло бы заполнить пустоту наших
душ и дать плотность нашему расплывчатому сознанию. Взгляните
на средневековую Европу: там нет события, которое не было бы в
некотором смысле безусловной необходимостью и которое не
оставило бы глубоких следов в сердце человечества'. А почему? Потому,
что за каждым событием вы находите там идею, потому что
средневековая история — это история мысли нового времени,
стремящейся воплотиться в искусстве, науке, в личной жизни и в обществе.
И оттого — сколько борозд провела эта история в сознании людей,
как разрыхлила она ту почву, на которой действует человеческий
ум! Я хорошо знаю, что не всякая история развивалась так строго и
логически, как история этой удивительной эпохи, когда под властью
единого верховного начала созидалось христианское общество; тем
Статьи
299
не менее несомненно, что именно таков истинный характер
исторического развития одного ли народа или целой семьи народов и что
нации, лишенные подобного прошлого, должны смиренно искать
элементов своего дальнейшего прогресса не в своей истории, не в
своей памяти, а в чем-нибудь другом. С жизнью народов бывает
почти то же, что с жизнью отдельных людей. Всякий человек живет, но
только человек гениальный или поставленный в какие-нибудь
особенные условия имеет настоящую историю. Пусть, например, какой-
нибудь народ, благодаря стечению обстоятельств, не им созданных,
в силу географического положения, не им выбранного, расселится
на громадном пространстве, не сознавая того, что делает, и в один
прекрасный день окажется могущественным народом: это будет,
конечно, изумительное явление, и ему можно удивляться сколько
угодно; но что, вы думаете, может сказать о нем история? Ведь, в
сущности, это — не что иное, как факт чисто материальный, так сказать,
географический, правда, в огромных размерах, но и только. История
запомнит его, занесет в свою летопись, потом перевернет страницу,
и тем все кончится. Настоящая история этого народа начнется лишь
с того дня, когда он проникнется идеей, которая ему доверена и
которую он призван осуществить, и когда начнет выполнять ее с тем
настойчивым, хотя и скрытым инстинктом, который ведет народы
к их предназначению. Вот момент, который я всеми силами моего
сердца призываю для моей родины, вот какую задачу я хотел бы,
чтобы вы взяли на себя, мои милые друзья и сограждане, живущие в век
высокой образованности и только что так хорошо показавшие мне,
как ярко пылает в вас святая любовь к отечеству.
Мир искони делился на две части — Восток и Запад212. Это не
только географическое деление, но также и порядок вещей,
обусловленный самой природой разумного существа: это — два принципа,
соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи,
обнимающие весь жизненный строй человеческого рода.
Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался
человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны,
борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. По этим
первоначальным данным естественно сложилось общество. На
Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись
в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение все-
300
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все
нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на
принципе права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь была
сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел
недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных
созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света
из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со
своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и
всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком
и, наконец, поглотил его в своем широком обхвате. Но на Востоке
покорные умы, коленопреклоненные пред историческим
авторитетом, истощились в безропотном служении священному для них
принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном
синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для
них; между тем на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь
только пред авторитетом разума и неба, останавливаясь только пред
неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее.
И здесь они еще идут вперед, — вы это знаете; и вы знаете также, что
со времени Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними.
Но вот является новая школа213. Больше не нужно Запада, надо
разрушить создание Петра Великого, надо снова уйти в пустыню.
Забыв о том, что сделал для нас Запад, не зная благодарности к
великому человеку, который нас цивилизовал, и к Европе, которая нас
обучила, они отвергают и Европу, и великого человека, и в пылу
увлечения этот новоиспеченный патриотизм уже спешит провозгласить
нас любимыми детьми Востока. Какая нам нужда, говорят они,
искать просвещения у народов Запада? Разве у нас самих не было всех
зачатков социального строя неизмеримо лучшего, нежели
европейский? Почему не выждали действия времени? Предоставленные
самим себе, нашему светлому уму, плодотворному началу, скрытому в
недрах нашей мощной природы, и особенно нашей святой вере, мы
скоро опередили бы все эти народы, преданные заблуждению и лжи.
Да и чему нам было завидовать на Западе? Его религиозным войнам,
его папству, рыцарству, инквизиции? Прекрасные вещи, нечего
сказать! Запад ли родина науки и всех глубоких вещей? Нет — как
известно, Восток. Итак, удалимся на этот Восток, которого мы всюду
касаемся, откуда мы не так давно получили наши верования, зако-
Статьи
301
ны, добродетели, словом, все, что сделало нас самым
могущественным народом на земле. Старый Восток сходит со сцены: не мы ли
его естественные наследники? Между нами будут жить отныне эти
дивные предания, среди нас осуществятся все эти великие и
таинственные истины, хранение которых было вверено ему от начала
вещей. — Вы понимаете теперь, откуда пришла буря, которая только
что разразилась надо мной, и вы видите, что у нас совершается
настоящий переворот в национальной мысли, страстная реакция
против просвещения, против идей Запада, — против того просвещения
и тех идей, которые сделали нас тем, что мы есть, и плодом которых
является эта самая реакция, толкающая нас теперь против них. Но на
этот раз толчок исходит не сверху. Напротив, в высших слоях
общества память нашего державного преобразователя, говорят, никогда
не почиталась более, чем теперь214. Итак, почин всецело
принадлежит стране. Куда приведет нас этот первый акт эмансипированного
народного разума? Бог весть! Но кто серьезно любит свою родину,
того не может не огорчать глубоко это отступничество наших
наиболее передовых умов от всего, чему мы обязаны нашей славой,
нашим величием; и, я думаю, дело честного гражданина — стараться по
мере сил оценить это необычайное явление.
Мы живем на востоке Европы — это верно, и тем не менее мы
никогда не принадлежали к Востоку. У Востока — своя история, не
имеющая ничего общего с нашей. Ему присуща, как мы только что
видели, плодотворная идея, которая в свое время обусловила
громадное развитие разума, которая исполнила свое назначение с
удивительной силою, но которой уже не суждено снова проявиться на
мировой сцене. Эта идея поставила духовное начало во главу
общества; она подчинила все власти одному ненарушимому высшему
закону — закону истории; она глубоко разработала систему
нравственных иерархий; и хотя она втиснула жизнь в слишком тесные
рамки, однако она освободила ее от всякого внешнего воздействия
и отметила печатью удивительной глубины. У нас не было ничего
подобного. Духовное начало, неизменно подчиненное светскому,
никогда не утвердилось на вершине общества; исторический закон,
традиция, никогда не получал у нас исключительного господства;
жизнь никогда не устраивалась у нас неизменным образом; наконец,
нравственной иерархии у нас никогда не было и следа. Мы просто
302
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
северный народ и по идеям, как и по климату, очень далеки от
благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга. Некоторые
из наших областей, правда, граничат с государствами Востока, но
наши центры не там, не там наша жизнь, и она никогда там не
будет, пока какое-нибудь планетное возмущение не сдвинет с места
земную ось или новый геологический переворот опять не бросит
южные организмы в полярные льды215.
Дело в том, что мы еще никогда не рассматривали нашу историю
с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего
национального существования не было должным образом
характеризовано, ни один из великих переломов нашей истории не был
добросовестно оценен; отсюда все эти странные фантазии, все эти
ретроспективные утопии, все эти мечты о невозможном будущем,
которые волнуют теперь наши патриотические умы. Пятьдесят лет
назад немецкие ученые открыли наших летописцев216; потом
Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей217;
в наши дни плохие писатели, неумелые антикварии и несколько
неудавшихся поэтов, не владея ни ученостью немцев, ни пером
знаменитого историка, самоуверенно рисуют и воскрешают времена и
нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит, таков итог
наших трудов по национальной истории218. Надо признаться, что
из всего этого мудрено извлечь серьезное предчувствие ожидающих
нас судеб. Между тем именно в нем теперь все дело; именно эти
результаты составляют в настоящее время весь интерес исторических
изысканий. Серьезная мысль нашего времени требует прежде всего
строгого мышления, добросовестного анализа тех моментов, когда
жизнь обнаруживалась у данного народа с большей или меньшей
глубиной, когда его социальный принцип проявлялся во всей своей
чистоте, ибо в этом — будущее, в этом элементы его возможного
прогресса. Если такие моменты редки в вашей истории, если жизнь
у вас не была мощной и глубокой, если закон, которому подчинены
ваши судьбы, представляет собою не лучезарное начало, окрепшее
в ярком свете национальных подвигов, а нечто бледное и тусклое,
скрывающееся от солнечного света в подземных сферах вашего
социального существования, — не отталкивайте истины, не
воображайте, что вы жили жизнью народов исторических, когда на самом
деле, похороненные в вашей необъятной гробнице, вы жили только
Статьи
303
жизнью ископаемых. Но если в этой пустоте вы как-нибудь
наткнетесь на момент, когда народ действительно жил, когда его сердце
начинало биться по-настоящему, если вы услышите, как шумит и
встает вокруг вас народная волна, — о, тогда остановитесь, размышляйте,
изучайте, — ваш труд не будет потерян: вы узнаете, на что способен
ваш народ в великие дни, чего он может ждать в будущем. Таков был
у нас, например, момент, закончивший страшную драму
междуцарствия219, когда народ, доведенный до крайности, стыдясь самого
себя, издал наконец свой великий сторожевой клич и, сразив врага
свободным порывом всех скрытых сил своего существа, поднял на
щит благородную фамилию, царствующую теперь над нами: момент
беспримерный, которому нельзя достаточно надивиться, особенно
если вспомнить пустоту предшествующих веков нашей истории и
совершенно особенное положение, в каком находилась страна в эту
достопамятную минуту. Отсюда ясно, что я очень далек от
приписанного мне требования вычеркнуть все наши воспоминания.
Я сказал только и повторяю, что пора бросить ясный взгляд на
наше прошлое, и не затем, чтобы извлечь из него старые, истлевшие
реликвии, старые идеи, поглощенные временем, старые антипатии,
с которыми давно покончил здравый смысл наших государей и
самого народа, но для того, чтобы узнать, как мы должны относиться к
нашему прошлому. Именно это я и пытался сделать в труде, который
остался неоконченным и к которому статья, так странно задевшая
наше национальное тщеславие, должна была служить введением220.
Без сомнения, была нетерпеливость в ее выражениях, резкость в
мыслях, но чувство, которым проникнут весь отрывок, нисколько не
враждебно отечеству: это глубокое чувство наших немощей,
выраженное с болью, с горестью, — и только.
Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну,
желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа; но верно
и то, что патриотическое чувство, одушевляющее меня, не совсем
похоже на то, чьи крики нарушили мое спокойное существование
и снова выбросили в океан людских треволнений мою ладью,
приставшую было у подножья креста. Я не научился любить свою
родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми
устами221. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране
только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых
304
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны
родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня
любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм,
этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в
розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к
сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы. Я полагаю, что мы
пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не
впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Тот обнаружил бы,
по-моему, глубокое непонимание роли, выпавшей нам на долю, кто
стал бы утверждать, что мы обречены кое-как повторять весь
длинный ряд безумств, совершенных народами, которые находились в
менее благоприятном положении, чем мы, и снова пройти через все
бедствия, пережитые ими. Я считаю наше положение счастливым,
если только мы сумеем правильно оценить его; я думаю, что
большое преимущество — иметь возможность созерцать и судить мир со
всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких
корыстей, которые в других местах мутят взор человека и
извращают его суждения. Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что
мы призваны решить большую часть проблем социального
порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах,
ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество.
Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой
вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим
тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами
человеческого духа и человеческого общества.
В самом деле, взгляните, что делается в тех странах, которые я,
может быть, слишком превознес, но которые, тем не менее,
являются наиболее полными образцами цивилизации во всех ее формах.
Там неоднократно наблюдалось: едва появится на свет Божий
новая идея, тотчас все узкие эгоизмы, все ребяческие тщеславия, вся
упрямая партийность, которые копошатся на поверхности
общества, набрасываются на нее, овладевают ею, выворачивают ее
наизнанку, искажают ее, и минуту спустя, размельченная всеми этими
факторами, она уносится в те отвлеченные сферы, где исчезает
всякая бесплодная пыль. У нас же нет этих страстных интересов, этих
готовых мнений, этих установившихся предрассудков; мы
девственным умом встречаем каждую новую идею. Ни наши учреждения,
Статьи
305
представляющие собою свободные создания наших государей или
скудные остатки жизненного уклада, вспаханного их всемогущим
плугом, ни наши нравы — эта странная смесь неумелого подражания
и обрывков давно изжитого социального строя, ни наши мнения,
которые все еще тщетно силятся установиться даже в отношении
самых незначительных вещей, — ничто не противится
немедленному осуществлению всех благ, какие Провидение предназначает
человечеству. Стоит лишь какой-нибудь властной воле высказаться
среди нас — и все мнения стушевываются, все верования
покоряются и все умы открываются новой мысли, которая предложена им.
Не знаю, может быть, лучше было бы пройти через все испытания,
какими шли остальные христианские народы, и черпать в них,
подобно этим народам, новые силы, новую энергию и новые методы;
и, может быть, наше обособленное положение предохранило бы нас
от невзгод, которые сопровождали долгое и многотрудное
воспитание этих народов; но несомненно, что сейчас речь идет уже не об
этом: теперь нужно стараться лишь постигнуть нынешний характер
страны в его готовом виде, каким его сделала сама природа вещей, и
извлечь из него всю возможную пользу. Правда, история больше не в
нашей власти, но наука нам принадлежит; мы не в состоянии
проделать сызнова всю работу человеческого духа, но мы можем принять
участие в его дальнейших трудах; прошлое уже нам не подвластно,
но будущее зависит от нас222. Не подлежит сомнению, что большая
часть мира подавлена своими традициями и воспоминаниями: не
будем завидовать тесному кругу, в котором он бьется. Несомненно,
что большая часть народов носит в своем сердце глубокое чувство
завершенной жизни, господствующее над жизнью текущей, упорное
воспоминание о протекших днях, наполняющее каждый нынешний
день. Оставим их бороться с их неумолимым прошлым.
Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен;
никогда мы не были ввергаемы всемогущею силою в те пропасти,
какие века вырывают перед народами. Воспользуемся же огромным
преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только
голосу просвещенного разума, сознательной воли. Познаем, что
для нас не существует непреложной необходимости, что благодаря
небу мы не стоим на крутой покатости, увлекающей столько
других народов к их неведомым судьбам; что в нашей власти измерять
306
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
каждый шаг, который мы делаем, обдумывать каждую идею,
задевающую наше сознание; что нам позволено надеяться на
благоденствие еще более широкое, чем то, о котором мечтают самые пылкие
служители прогресса, и что для достижения этих окончательных
результатов нам нужен только один властный акт той верховной
воли, которая вмещает в себе все воли нации, которая выражает все
ее стремления, которая уже не раз открывала ей новые пути,
развертывала пред ее глазами новые горизонты и вносила в ее разум
новое просвещение.
Что же, разве я предлагаю моей родине скудное будущее? Или вы
находите, что я призываю для нее бесславные судьбы? И это
великое будущее, которое, без сомнения, осуществится, эти прекрасные
судьбы, которые, без сомнения, исполнятся, будут лишь результатом
тех особенных свойств русского народа, которые впервые были
указаны в злополучной статье223. Во всяком случае мне давно хотелось
сказать, и я счастлив, что имею теперь случай сделать это признание:
да, было преувеличение в этом обвинительном акте, предъявленном
великому народу, вся вина которого в конечном итоге сводилась к
тому, что он был заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций
мира, далеко от стран, где естественно должно было накопляться
просвещение, далеко от очагов, откуда оно сияло в течение стольких
веков; было преувеличением не признать того, что мы увидели свет
на почве, не вспаханной и не оплодотворенной предшествующими
поколениями, где ничто не говорило нам о протекших веках, где не
было никаких задатков нового мира; было преувеличением не
воздать должного этой церкви, столь смиренной, иногда столь
героической, которая одна утешает за пустоту наших летописей, которой
принадлежит честь каждого мужественного поступка, каждого
прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой прекрасной
страницы нашей истории; наконец, может быть, преувеличением было
опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого
вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум
Ломоносова224 и грациозный гений Пушкина.
Но за всем тем надо согласиться также, что капризы нашей
публики удивительны.
Вспомним, что вскоре после напечатания злополучной статьи,
о которой здесь идет речь, на нашей сцене была разыграна новая
Статьи
307
пьеса225. И вот, никогда ни один народ не был так бичуем, никогда
ни одну страну не волочили так в грязи, никогда не бросали в лицо
публике столько грубой брани, и однако, никогда не достигалось
более полного успеха. Неужели же серьезный ум, глубоко
размышлявший о своей стране, ее истории и характере народа, должен быть
осужден на молчание, потому что он не может устами скомороха
высказать патриотическое чувство, которое его гнетет?226 Почему же
мы так снисходительны к циническому уроку комедии и столь
пугливы по отношению к строгому слову, проникающему в сущность
явлений? Надо сознаться, причина в том, что мы имеем пока только
патриотические инстинкты. Мы еще очень далеки от сознательного
патриотизма старых наций, созревших в умственном труде,
просвещенных научным знанием и мышлением; мы любим наше отечество
еще на манер тех юных народов, которых еще не тревожила мысль,
которые еще отыскивают принадлежащую им идею, еще
отыскивают роль, которую они призваны исполнить на мировой сцене; наши
умственные силы еще не упражнялись на серьезных вещах; одним
словом, до сего дня у нас почти не существовало умственной работы.
Мы с изумительной быстротой достигли известного уровня
цивилизации, которому справедливо удивляется Европа. Наше могущество
держит в трепете мир, наша держава занимает пятую часть земного
шара, но всем этим, надо сознаться, мы обязаны только энергичной
воле наших государей, которой содействовали физические условия
страны, обитаемой нами.
Обделанные, отлитые, созданные нашими властителями и
нашим климатом, только в силу покорности стали мы великим
народом. Просмотрите от начала до конца наши летописи, — вы
найдете в них на каждой странице глубокое воздействие власти,
непрестанное влияние почвы и почти никогда не встретите
проявлений общественной воли. Но справедливость требует также
признать, что, отрекаясь от своей мощи в пользу своих правителей,
уступая природе своей страны, русский народ обнаружил высокую
мудрость, так как он признал тем высший закон своих судеб:
необычайный результат двух элементов различного порядка,
непризнание которого привело бы к тому, что народ извратил бы свое
существо и парализовал бы самый принцип своего естественного
развития. Быстрый взгляд, брошенный на нашу историю с точки
308
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
зрения, на которую мы стали, покажет нам, надеюсь, этот закон во
всей его очевидности.
П.
Есть один факт, который властно господствует над нашим
историческим движением, который красною нитью проходит чрез всю
нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее
философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной
жизни и определяет их характер, который является в одно и то же
время и существенным элементом нашего политического величия, и
истинной причиной нашего умственного бессилия: это — факт
географический227.
APOLOGIE D'UN FOU (ранняя редакция)
Adveniat regnum tuum
La charité, dit saint Paul, souffre tout, croit tout, supporte tout: ainsi,
souffrons, croyons, supportons tout, soyons charitables. Mais d'abord la
catastrophe qui vient de briser notre existence philosophique et jeter au
vent le travail d'une vie entière, n'est que le résultat obligé du cri poussé
à l'apparition de notre article, de cette page acerbe si vous voulez, mais
qui certes méritait autre chose encore que la clameur dont on l'a salué.
Le gouvernement, après tout, n'a fait que son devoir: on peut même
dire que la mesure qu'il a prise à notre égard est parfaitement libérale,
puisqu'elle n'a point dépassé l'attente du public; Que voulez-vous que
fasse le gouvernement le mieux intentionné, si ce n'est de se conformer
au vœu général? Quant à la clameur publique, c'est tout autre chose. Il y
a différentes manières d'aimer son pays. Le Samoyède, par exemple, qui
aime les neiges natales qui l'ont rendu myope, l'iourte enfumée où il reste
blotti une moitié de sa vie, la graisse rance de ses rennes qui l'environne
d'une atmosphère nauséabonde, n'aime point assurément son pays de la
même manière que l'Anglais fier des institutions et de la haute civilisation
de son île bienheureuse; et il serait quelque peu fâcheux, sans doute, si
Статьи
309
nous étions encore à chérir les lieux qui nous virent naître à la façon des
Samoyèdes.
C'est une très belle chose que l'amour de la patrie; mais il y a quelque
chose de mieux que cela, c'est l'amour de la vérité. L'amour de la patrie
fait les héros, l'amour de la vérité fait les sages, les bienfaiteurs de
l'humanité; c'est l'amour de la patrie qui divise les peuples, qui nourrit les haines
nationales, qui parfois couvre la terre de deuil; c'est l'amour de la vérité
qui répand les lumières, qui crée les jouissances de l'esprit, qui rapproche
les hommes de la divinité. Ce n'est point par le chemin de la patrie, c'est
par celui de la vérité que l'on monte au ciel. Il est vrai que, nous autres
Russes, nous avons parmi nous peu d'hommes amoureux de la vérité: les
exemples nous manquent. Il ne faut donc pas trop en vouloir à une nation
qui s'est de tout temps fort peu souciée de ce qui est vrai ou non, si elle
s'est tant émue à une apostrophe un peu virulente à ses infirmités. Aussi
n'ai-je point de rancune, je vous assure, contre ce cher public qui me fit
si longtemps patte de velours: c'est de sang-froid, sans irritation aucune,
que je cherche à me rendre raison de mon étrange situation! Ne faut-
il pas que j'essaye de m'expliquer où en est vis-à-vis de ses semblables,
vis-à-vis de ses concitoyens, vis-à-vis de son Dieu, l'homme à qui l'on
imposa la démence?
Je n'ai jamais fait grand cas de la populace; je n'eus jamais les goûts
démocratiques; je n'ai jamais brigué les ovations populaires, ni estimé les
jugements de la foule. J'ai toujours pensé que le genre humain ne saurait
marcher qu'à la suite de ses élus, à la suite de ceux qui ont mission de le
conduire; que la raison générale n'est point la raison absolue, ainsi que
Га cru un grand écrivain de nos jours; que les instincts des majorités sont
nécessairement plus égoïstes, plus passionnés, plus étroits que ceux de
l'homme isolé; que ce que l'on appelle le bon sens du peuple n'est point
du tout le bon sens; que la vérité ne saurait être représentée par un chiffre;
enfin, que l'intelligence humaine ne se manifeste jamais dans toute sa
puissance que dans l'esprit solitaire, centre et soleil de sa sphère. Comment
se fait-il donc que je me sois trouvé un jour en face d'un public en colère,
d'un public dont je n'ai jamais ambitionné les suffrages, dont les caresses
ne m'ont jamais réjoui, dont les boutades ne m'ont jamais ému? Comment
se fait-il qu'une pensée qui ne fut pas adressée au monde, que mille fois je
déclarai n'avoir rien à faire aux contemporains, que j'avais léguée dans le
plus profond de mes convictions aux générations à venir, aux générations
310
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
mieux informées, et avec ce caractère de demi-publicité qui lui était déjà
acquis, comment se fait-il que cette pensée ait un jour brisé ses entraves,
qu'elle se soit échappée de son cloître, qu'elle se soit précipitée dans la rue
bondissante au milieu de la foule stupéfaite? Certes, je ne saurais le dire:
mais voici ce que je puis affirmer avec une parfaite assurance.
Il y a trois cents ans que la Russie aspire à se confondre avec
l'Occident, qu'elle s'avoue inférieure à l'Occident, qu'elle tire de l'Occident
toutes ses idées, tous ses enseignements, toutes ses jouissances. Depuis
un siècle, elle fait mieux que cela. Le plus grand de nos rois, notre gloire,
notre demi-dieu, celui qui commença pour nous une ère nouvelle, à qui
nous devons notre grandeur et tous les biens que nous possédons, a
abjuré, il y a de cela cent ans, la vieille Russie à la face du monde entier. Il a
balayé de son souffle puissant toutes nos vieilles institutions; il a creusé
un abîme entre notre passé et notre présent, et il y a jeté pêle-mêle toutes
nos traditions; lui-même il est allé se faire le plus petit en Occident, et il
est revenu le plus grand parmi nous; il s'est prosterné devant l'Occident,
et il s'est relevé notre maître et notre législateur; il a introduit dans notre
idiome les idiomes de l'Occident; les caractères de notre écriture, il les
a moulés sur ceux de l'Occident; les vêtements de nos pères, il les a
méprisés et il nous fit prendre l'habit de l'Occident; sa nouvelle capitale, il
l'appela d'un nom de l'Occident; son titre héréditaire, il le rejeta et prit
un titre de l'Occident; enfin il renonça à son propre nom et il signa d'un
nom de l'Occident. Depuis ce temps-là, ks regards constamment tournés
vers l'Occident, nous ne fîmes plus que humer les émanations qui nous
arrivaient de là, et nous en nourrir. Nos princes, qui toujours furent en
avant de la nation, qui toujours nous traînèrent malgré nous dans la route
du perfectionnement, qui toujours remorquèrent le pays à leur suite, sans
que le pays y fût pour rien, eux-mêmes nous imposèrent les mœurs, le
langage, le luxe de l'Occident. Nous apprîmes à lire dans les livres de
l'Occident, nous apprîmes à parler des hommes de l'Occident; notre
propre histoire, c'est l'Occident qui nous l'enseigna; nous puisâmes tout dans
l'Occident, nous traduisîmes l'Occident tout entier, et enfin nous fûmes
heureux de ressembler à l'Occident et glorieux quand il nous compta
parmi les siens.
Elle fut belle, il faut en convenir, cette création de Pierre le Grand,
cette pensée de l'homme de génie qui nous dicta la route que désormais
nous devions suivre; elle fut profonde cette parole qui nous dit: «Voyez-
Статьи
311
vous là-bas cette civilisation, fruit de tant de travail, ces sciences, ces arts
qui coûtèrent tant de sueurs à tant de générations? tout cela est à vous, à
condition que vous vous dépouillerez de vos superstitions que vous
répudierez vos préjugés, que vous ne serez point fiers de votre passé barbare,
que vous ne vous vanterez pas de vos siècles d'ignorance, que vous ne
serez ambitieux que de vous approprier les travaux de tous les peuples,
les richesses acquises par l'esprit humain à toutes les latitudes du globe».
Et ce n'est point pour sa nation seule que travaillait le grand homme, les
hommes de la providence sont toujours envoyés pour l'univers entier:
un peuple les réclame d'abord, puis ils s'absorbent dans le genre humain,
comme ces grands fleuves qui d'abord fertilisent de vastes contrées, puis
vont s'écouler dans l'Océan. Le spectacle unique qu'il offrit à l'univers
lorsque, quittant la majesté royale et son pays, il alla se cacher dans les
derniers rangs des peuples civilisés, que fût-ce autre chose, sinon un
nouvel effort du génie de l'homme pour sortir de la sphère étroite de la patrie,
pour s'établir dans la grande sphère de l'humanité? Telle était la leçon que
nous devions en recueillir! Nous en profitâmes en effet, et jusqu'à ce jour
nous marchâmes dans la voie que le grand Empereur nous avait tracée.
Notre immense développement n'est que le fruit de cette vaste pensée.
Jamais peuple ne fut moins infatué de lui-même que le peuple russe fait
par Pierre le Grand. La haute intelligence de cet homme extraordinaire
devina parfaitement quel devait être notre point de départ. Il vit que la
donnée historique nous manquait complètement, que par conséquent
nous ne pouvions asseoir notre avenir sur cette base toute vide; il
comprit que, placés en face de la vieille civilisation de l'Europe, nous n'avions
que faire de nous étouffer dans notre histoire, de nous traîner comme les
peuples de l'Occident, à travers le monde des préjugés nationaux, par les
sentiers étroits des idées municipales; qu'il nous fallait enlever d'un élan
spontané les destinées qui nous sont promises. Il nous délivra donc de
tous ces antécédents qui encombrent les sociétés historiques, qui
arrêtent leur marche; il ouvrit notre intelligence à tout ce qu'il y a parmi les
hommes de grandes et belles idées; il nous livra l'Occident tout entier, tel
que les siècles l'ont fait, et il nous donna toute son histoire pour histoire,
tout son avenir pour avenir.
Croyez-vous que, s'il eût trouvé au milieu de sa nation une histoire
riche et féconde, des traditions vivantes, des institutions enracinées, il
n'eût pas hésité à la jeter dans un monde nouveau, à la dépouiller de sa
312
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
nationalité? N'aurait-il pas cherché, au contraire, dans cette nationalité
même, les moyens de la régénérer? Et la nation, aurait-elle souffert qu'on
lui ravît son passé, qu'on lui imposât, en quelque sorte, celui de l'Europe?
Mais il n'en fut pas ainsi. Pierre le Grand ne trouva chez lui qu'une feuille
de papier blanc, et il écrivit dessus: Europe et Occident; dès lors nous
fûmes de l'Europe et de l'Occident. Il ne faut pas s'y tromper: quel que
fût le génie de cet homme, son œuvre ne fut possible qu'au sein d'une
nation dont les antécédents ne lui commandaient pas impérieusement la
marche qu'elle avait à suivre, dont les traditions n'avaient pas la faculté de
lui créer un avenir, dont les souvenirs pouvaient être impunément effacés
par un législateur audacieux. Si nous fûmes si dociles à la voix du prince
qui nous entraînait dans une vie nouvelle, c'est que nous n'eûmes rien
dans notre existence passée de quoi légitimer la résistance. Le trait le plus
profond de notre physionomie sociale, c'est la spontanéité. Chaque fait
dans notre histoire est un fait isolé, un fait imposé; chaque idée nouvelle,
une idée détachée, une idée importée. Ainsi le lien entre l'événement du
jour et celui de la veille nous manque naturellement. Mais il n'y a rien
dans ce point de vue dont le sentiment national puisse justement se
formaliser. S'il est vrai, il faut l'accepter, voilà tout. Que la logique humaine
nous ait fait faute, la logique de la providence veillait sur nous et nous
conduisait à ses fins. Il y a de grandes nations, tout comme il y a de grands
personnages historiques, qui ne s'expliquent point par les lois de notre
raison, mais que la raison suprême décrète dans son mystère: ainsi de
nous. Encore une fois, l'honneur national n'a rien à faire dans tout cela.
L'histoire d'un peuple n'est point seulement une suite de faits qui se
succèdent, mais encore une série d'idées qui s'enchaînent. Il faut que le
fait se traduise par une idée; alors vous avez une histoire; alors le fait n'est
point perdu; il a sillonné l'intelligence, il est resté gravé dans les cœurs.
Cette histoire, ce n'est point l'historien qui la fait; c'est la marche des
choses. L'historien vient un jour, la trouve toute faite et la raconte: mais,
qu'il vienne ou non, elle n'en existe pas moins, chacun la porte dans le
fond de son être. Voilà précisément l'histoire que nous n'avons pas. Il faut
apprendre à nous en passer, et non lapider les gens qui se sont aperçus de
cela les premiers. Nos slavons fanatiques pourront bien dans leurs fouilles
diverses exhumer encore de temps à autre des objets de curiosité pour
nos musées, pour nos bibliothèques; mais il est permis de douter qu'ils
tirent jamais des entrailles de notre sol historique de quoi combler les
Статьи
313
vides de nos âmes, de quoi condenser le vague de nos esprits. Voyez
l'Europe au Moyen Age: point d'événement qui ne soit là, en quelque sorte,
d'une nécessité absolue. Aussi, que de sillons cette histoire a creusés dans
les intelligences, comme elle a labouré le terrain sur lequel s'agite l'esprit
humain! Je sais bien que toutes les histoires n'ont pas la marche
rigoureuse et logique de celle de cette époque prodigieuse, mais il n'en est pas
moins vrai que c'est là le véritable caractère d'un développement
historique, soit d'un peuple soit d'un groupe de peuples, et que les nations
dépourvues d'un passé ainsi fait doivent chercher ailleurs que dans leur
mémoire la base de leur progrès ultérieur. Il en est de la vie des peuples
comme de celles des individus: tous les hommes ont vécu, mais il n'y a
que l'homme de génie qui ait une histoire. Qu'un peuple, par un concours
de circonstances qu'il n'a point créées, par l'effet d'une position
géographique qu'il n'a point choisie, se répande sur une immense étendue de
pays sans avoir l'intelligence de ce qu'il fait, et qu'un jour il se trouve être
un peuple puissant, ce sera assurément un phénomène étonnant, et l'on
pourra l'admirer en silence; mais que voulez-vous que l'histoire en dise?
L'histoire de ce peuple ne commencera que du jour où il se sera saisi de
l'idée qui lui est confiée, qu'il est appelé à réaliser, et où il se mettra à la
poursuivre avec cet instinct persévérant, quoique obscur, qui conduit les
peuples à leurs destinées. Voilà le moment que j'évoque pour mon pays
de toutes les puissances de mon cœur, voilà la tâche que je voudrais vous
voir entreprendre, à vous mes chers amis et concitoyens, qui vivez dans
un siècle de haute instruction et qui venez de m'apprendre combien vous
êtes vivement enflammés du saint amour de la patrie.
Le monde fut de tout temps partagé en deux sphères, en Orient et en
Occident. Ce n'est point là une division géographique, c'est un ordre de
choses qui découle de la nature même de l'être intelligent. Ce sont deux
principes qui répondent aux deux forces dynamiques de la nature, ce
sont deux idées qui embrassent toute l'économie du genre humain. C'est
en se concentrant, en se recueillant, en se renfermant dans sa propre
activité, que l'esprit de l'homme trouva en Orient ses puissances; c'est en
s'épandant au-dehors, en rayonnant dans tous les sens, en luttant avec
tous les obstacles, qu'il se développa en Occident. La société se constitua
naturellement sur ces données primitives. En Orient, la pensée retirée en
elle-même, réfugiée dans le repos, cachée dans le désert, laissa le pouvoir
social maître de tous les biens de la terre; en Occident, l'idée se projetant
314
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
partout, embrassant tous les besoins de l'homme, aspirant à tous les
bonheurs, fonda le pouvoir sur le principe du droit. Néanmoins, dans l'une
et l'autre de ces sphères, la vie fut forte et féconde; dans l'une et l'autre,
les hautes aspirations, les pensées profondes, les créations sublimes ne
faillirent point à l'intelligence humaine. L'Orient vint le premier et versa
sur la terre des flots de lumière du sein de sa méditation silencieuse, puis
vint l'Occident avec son immense activité; sa vive parole s'empara de ses
travaux, acheva ce que l'Orient avait commencé, et l'enveloppa enfin dans
sa vaste étreinte. Mais, en Orient, les intelligences, dociles, agenouillées
devant l'autorité des temps, s'épuisèrent dans les premiers âges du monde
à l'exercice de leur soumission absolue, et restèrent un jour immobiles et
muettes, sans se douter des destinées nouvelles qui se préparaient pour
elles; tandis qu'en Occident elles marchèrent fières et libres, ne s'inclinant
que devant l'autorité; de la raison et du ciel, ne s'arrêtant que devant
l'inconnu, et l'œil toujours fixé sur l'avenir sans bornes. Et elles y marchent
encore, vous le savez: et vous savez aussi que depuis Pierre le Grand nous
crûmes marcher avec elles.
Mais voici venir chez nous une école nouvelle. On ne veut plus de
l'Occident, on veut démolir l'œuvre de Pierre le Grand; on veut reprendre
le chemin du désert. Oublieux de ce que l'Occident a fait pour nous, on
l'injurie; ingrat envers le grand homme qui nous régénéra, envers
l'Europe qui nous instruisit, on renie et le grand homme et l'Europe; et déjà,
dans son ardeur hâtive, ce patriotisme de nouvelle date nous proclame
de l'Orient. Quel besoin, dit-on, avions-nous de chercher des lumières
dans les pays de l'Europe? Il fallait laisser faire le temps; abandonnés à
nous-mêmes, nous eussions sans doute dépassé tous ces peuples livrés
à l'erreur et au mensonge. Qu'avions-nous donc à envier à l'Occident?
les guerres de religion, l'inquisition, le Pape, les Jésuites? Belles choses
en vérité! Ce n'est point l'Occident, c'est l'Orient qui est la patrie de la
science et des vastes pensées. Retirons-nous donc dans cet Orient que
nous touchons partout, d'où nous tirâmes naguère nos croyances, nos
lois, nos vertus, tout ce qui nous rendit le peuple le plus puissant de la
terre. Le vieil Orient s'en va: eh bien, nous sommes ses héritiers naturels,
c'est parmi nous que vont se perpétuer les grandes et mystérieuses vérités
qu'il conserva si longtemps pour le bien de l'humanité! Vous comprenez
maintenant d'où partit l'orage qui s'abattit l'autre jour sur moi; et vous
voyez qu'il se passe au milieu de nous une véritable réaction. Mais cette
Статьи
315
fois l'impulsion ne vient pas d'en haut. Jamais, au contraire, dans les
régions suprêmes de la société la mémoire de notre grand régénérateur ne
fut plus vénérée qu'aujourd'hui. L'initiative est donc toute au pays. Où
nous mènera ce premier acte de la raison émancipée de la nation, Dieu
le sait! Mais on ne peut, si l'on aime sérieusement son pays, ne pas être
tristement affecté de cette apostasie de nos esprits les plus avancés, à ce
qui fit jusqu'ici notre gloire, notre honneur, et il est d'un bon citoyen de
chercher à apprécier de son mieux ce phénomène singulier.
Nous sommes situés à l'orient de l'Europe, cela est positif; mais nous
ne fûmes jamais de l'Orient pour cela. L'Orient, comme nous venons de
le voir, est en possession d'une idée qui y est incrustée dans les esprits
depuis les premiers jours de la création. C'est une idée féconde qui amena
en son temps un immense développement de l'intelligence. Elle établit le
principe spirituel au plus haut de la société; elle soumit tous les pouvoirs
à une loi suprême, inviolable, la loi des temps; elle conçut profondément
les hiérarchies sociales; et, bien qu'elle eût comprimé la vie dans une
enceinte bornée, elle l'avait pourtant soustraite à toute action extérieure.
Tout cela nous fut parfaitement étranger. Le principe spirituel ne fut
jamais chez nous assis au faîte de la société; la loi des temps, la tradition,
ne régna jamais chez nous; de hiérarchies sociales, nous n'en eûmes
jamais; enfin, la vie ne fut jamais indépendante chez nous. Nous sommes
tout simplement un pays du Nord, et par nos idées, tout autant que par
nos climats, fort loin de la vallée parfumée de Kachemire et des rives
sacrées du Gange. Quelques-unes de nos provinces avoisinent les empires
de l'Orient, il est vrai, mais nos centres ne sont point là, notre vie n'est
point là, et n'y seront jamais, à moins que l'axe du globe ne se déplace, ou
qu'un cataclysme nouveau ne jette encore une fois les organisations du
Midi dans les glaces du pôle.
Le fait est que nous n'avons jamais encore considéré notre histoire du
point de vue philosophique; aucun des grands événements de notre vie
passée n'a été bien caractérisé, aucune de nos grandes époques n'a été
appréciée de bonne foi: de la toutes nos singulières imaginations. Des savants
allemands découvrirent nos annalistes il y a de cela cinquante ans; ensuite
Karamsine raconta en style sonore les faits et gestes de nos princes; de nos
jours, des écrivains médiocres n'ayant ni la science des Allemands, ni le
style de l'illustre prosateur, prétendent peindre des temps et des moeurs
dont personne n'a conservé ni la mémoire ni l'amour: tel est le sommaire
316
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
de nos travaux sur l'histoire nationale. Il faut convenir que l'on ne saurait
guère tirer de ce peu de choses de quoi faire pressentir à un grand peuple
ks destinées qui l'attendent. Or, dest de cela précisément qu'il s'agit
aujourd'hui, ce sont précisément ces résultats qui font de nos jours tout
l'intérêt des études historiques; ce que réclame la pensée sérieuse des temps
où nous vivons, c'est une méditation sévère, une analyse impartiale des
moments où la vie s'est manifestée chez un peuple avec plus ou moins
d'intensité, car là sont ses avenirs, là les éléments de son développement
possible. Que si de telles époques sont rares dans votre histoire, que si la vie
ne fut point toujours chez vous puissante et profonde, ne repoussez point
la vérité, ne vous nourrissez point de mensonges, ne vous imaginez point
avoir vécu alors que vous vous traîniez d'une tombe en l'autre; mais si vous
arrivez après cela, à travers ce néant, à un instant où la nation s'est tout
de bon senti vivre, où son cœur s'est vraiment mis à palpiter, et que vous
entendez la voix du flot populaire retentir et monter autour de vous, alors
arrêtez-vous, méditez, étudiez: vos peines ne seront pas perdues, vous
apprendrez ce que peut votre pays dans les grands jours, ce qu'il peut espérer
dans l'avenir. Tel fut chez nous, par exemple, ce moment qui termina le
drame terrible de l'interrègne, où la nation, après avoir elle-même terrassé
son ennemi, éleva sur le pavois la noble maison qui règne sur nous:
moment unique, et que l'on ne peut assez admirer si l'on considère le vide des
siècles précédents et la situation toute spéciale de notre patrie. On voit que
je suis fort loin d'exiger, comme on l'a prétendu, que l'on fasse main basse
sur tous nos souvenirs: je dis seulement qu'il est temps de jeter un coup
d'œil lucide sur notre passé, et cela, non pour en extraire de vieilles reliques
tombées en pourriture, de vieilles idées que le temps a dévorées, de vieilles
antipathies dont le bon sens de nos princes a depuis longtemps fait raison,
mais pour savoir à quoi nous en tenir sur nos antécédents. C'est ce que
je tentais de faire dans un travail resté incomplet, et auquel le morceau
qui vient de soulever si étrangement les vanités nationales devait servir
d'introduction. Sans doute ce premier jet d'une idée vivement sentie fut
trop passionné, sans doute il y avait de l'impatience dans l'expression, de
l'excès au fond de la pensée, mais l'émotion qui domine le morceau entier
n'est rien moins qu'hostile à la patrie: c'est une sombre tristesse exprimée
en paroles véhémentes, rien de plus.
Plus que qui que ce soit, croyez-moi, je chéris ma patrie, je suis
ambitieux de sa gloire, je sais apprécier les eminentes qualités de ma nation;
Статьи
317
mais il est vrai que le sentiment patriotique qui m'anime n'est point fait
exactement comme celui des hommes dont les cris bouleversent mon
existence obscure et relancèrent sur leur océan de misères ma barque
échouée au pied de la croix. Il est vrai que je n'ai point appris à aimer ma
patrie les yeux fermés, le front courbé, la bouche close; je trouve qu'on
ne saurait être utile à son pays qu'à la condition d'y voir clair; je crois que
les temps des aveugles amours sont passés, que les fanatismes d'aucun
genre ne sont plus de saison: j'aime mon pays ainsi que Pierre le Grand
m'instruisit à l'aimer. Je n'ai point, je l'avoue, ce patriotisme béat, ce
patriotisme paresseux, qui s'arrange pour voir tout en beau, qui s'endort sur
ses illusions, et dont malheureusement beaucoup de nos bons esprits sont
aujourd'hui affligés. Je pense que si nous sommes venus après les autres,
c'est pour faire mieux que les autres; pour ne point tomber dans leurs
superstitions, dans leurs aveuglements, dans leurs engouements. Ce serait, à
mon avis, étrangement méconnaître le rôle qui nous est échu, que de nous
réduire à répéter la longue série de folks et de calamités que ks nations
moins favorisées que nous ont dû subir. Je trouve que c'est une heureuse
situation que la nôtre, pourvu que nous sachions l'apprécier; que c'est un
beau privilège que celui de pouvoir contempler et juger le monde, de la
hauteur d'une pensée délivrée des passions effrénées, des pitoyables
intérêts qui l'envahissent. Il y a plus: j'ai l'intime conviction que nous sommes
appelés à résoudre la plupart des problèmes de l'ordre social, à achever
la plupart des idées surgies dans les vieilles sociétés, à prononcer sur les
plus graves questions de celles qui préoccupent le genre humain. Je l'ai
souvent dit, et j'aime à le répéter, nous sommes constitués, par la force
même des choses, véritable jury pour maints procès se plaidant devant les
grands tribunaux du monde.
Voyez, en effet, ce qui se passe de nos jours dans ces pays que j'ai trop
vantés peut-être, mais qui n'en sont pas moins les exemplaires ks plus
parfaits de tous les genres de civilisation. Une idée nouvelle y vient-elle à
éclore, tout ce qu'il s'agit d'égoïsmes, de vanités, de partis sur la surface de
la société se jette dessus, s'en empare, la défigure, la travestit; et un
moment après, broyée par ces agents divers, là voilà emportée dans les régions
abstraites où vont s'amonceler toutes les poussières stériles de l'esprit
humain. Chez nous, point de ces intérêts passionnés, de ces opinions toutes
faites, de ces préjugés invétérés: nous arrivons avec des esprits vierges en
face de chaque vérité nouvelle. Dans nos institutions, oeuvres spontanées
318
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
de nos princes, dans nos mœurs qui n'ont point un siècle d'existence,
dans nos opinions qui cherchent encore à se stationner sur les moindres
choses, rien ne s'oppose aux biens que la providence destine à
l'humanité. Il suffit qu'une volonté souveraine se prononce parmi nous pour que
toutes les opinions s'effacent, pour que toutes les croyances fléchissent,
pour que tous les esprits s'ouvrent à la pensée nouvelle qui leur est
offerte. Peut-être eût-il mieux valu traverser toutes les épreuves parcourues
par les autres peuples chrétiens, y puiser, comme eux, des puissances, des
énergies, des méthodes nouvelles, et peut-être notre position isolée nous
eût-elle préservés des calamités qui accompagnèrent la longue éducation
de ces peuples, mais ce n'est plus de cela qu'il s'agit maintenant, il ne s'agit
plus que de bien saisir le caractère actuel du pays, tel qu'il est donné, tel
qu'il est irrévocablement fixé par la nature des choses et d'en tirer tout le
profit imaginable. L'histoire n'est plus à nous, il est vrai, mais la science est
à nous; nous ne saurions recommencer tout le travail de l'esprit humain,
mais nous pouvons participer à tous ses travaux ultérieurs. Ce passé n'est
plus en notre pouvoir, mais l'avenir nous appartient.
On ne peut en douter, le monde est opprimé par sa tradition: ne lui
envions pas le cercle borné où il se débat; il est certain qu'il y a dans le
cœur de toutes les nations un sentiment profond de la vie accomplie qui
domine la vie actuelle, un souvenir obstiné des jours écoulés qui remplit
les jours d'aujourd'hui: laissons-les lutter avec leur passé inexorable. Nous
ne vécûmes jamais sous l'empire des nécessités historiques, jamais une loi
toute-puissante ne nous précipita dans les abîmes que les temps creusent
devant les peuples: n'allons pas aujourd'hui nous livrer à ces sombres
fatalités que nous ne connûmes jamais; jouissons avec bonheur de l'immense
avantage de pouvoir marcher en avant avec la conscience de la route que
nous avons à parcourir, de n'obéir qu'à la voix d'une raison éclairée, d'une
volonté réfléchie. Sachons qu'il n'existe point pour nous de nécessité
absolue; que nous ne sommes point, grâce à Dieu, situés sur la pente rapide
qui emporte les autres peuples vers leurs destinées inconnues; qu'il nous
est donné de mesurer chaque pas que nous faisons, de raisonner chaque
idée qui vient effleurer notre intelligence, qu'il nous est permis d'aspirer à
des prospérités plus vastes que celle que rêvent les plus ardents ministres
de la religion du progrès, et que, pour arriver à ses résultats définitifs, il
ne nous faut qu'une volonté puissante, telle que celle qui naguère nous
régénéra.
Статьи
319
Eh bien! Est-ce la un avenir mesquin que j'offre à ma patrie; sont-ce
là des destinées sans gloire que j'évoque pour elle? Cependant, ce grand
avenir qui se réalisera, ces belles destinées qui s'accompliront, je n'en
doute pas, ils ne seront qu'un résultat de cette nature spéciale, de cette
nature du peuple russe, qui a été signalée dans le fatal article. (Mais sait-
on donc enfin ce que c'était que cet article? C'était une lettre intime écrite
à une femme depuis maintes années sous l'impression d'un sentiment
douloureux, d'un immense désappointement, que l'indiscrète vanité d'un
journaliste livra au public; qui, lue et relue mille fois avant l'impression
et cela dans l'original, plus rude de beaucoup que la faible traduction
dans laquelle elle parut, jamais ne provoqua la mauvaise humeur de qui
que ce soit, pas même des plus idolâtres patriotes; dans laquelle enfin, au
milieu de quelques pages d'une dévotion profonde, était encadrée une
étude historique où la vieille thèse de la supériorité des pays de l'Occident
se trouvait reproduite avec une certaine chaleur; avec exagération peut-
être. Tel était cet écrit détestable, ce pamphlet incendiaire qui attira sur
l'auteur l'animadversion publique, la plus étrange des persécutions).
Toutefois, il me tarde de le dire, et je suis heureux d'avoir été amené
à faire cet aveu: oui, il y avait de l'exagération dans cette espèce de
réquisitoire contre un grand peuple, dont tout le tort n'était autre au bout du
compte que d'avoir été relégué aux extrémités du monde civilisé, loin des
centres où toutes les lumières doivent naturellement s'accumuler, loin
des foyers d'où elles jaillirent pendant des siècles; il y avait de
l'exagération à ne pas reconnaître que nous vînmes au monde sur un sol ingrat où
les empires ne fleurirent point, que les générations ne vénérèrent point,
où rien ne nous parlait des âges écoulés, où il n'y avait nul vestige des
civilisations antérieures, nul souvenir, nul monument du monde évanoui;
il y avait de l'exagération à ne point faire sa part à cette église si humble,
si héroïque parfois, qui seule console du vide de nos annales, à qui revient
l'honneur de chaque acte de courage, de chaque beau dévouement de
nos pères; enfin il y avait de l'exagération, sans doute, à désespérer un
moment d'une nation qui porta dans ses flancs la grande âme de Pierre
le Grand. Mais après cela il faut aussi convenir que les caprices et les
fantaisies de notre public sont inconcevables.
On se rappelle que, quelques jours avant la publication dont il s'agit,
une pièce nouvelle fut jouée sur notre scène. Eh bien! Jamais nation ne fut
fustigée de la sorte, jamais pays ne fut ainsi traîné dans la boue, jamais on
320
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ne jeta tant de son ordure au visage du public et jamais cependant succès
ne fut plus complet.
О ЗОДЧЕСТВЕ
Sur Parchitecture
Vous trouvez, dites-vous, un rapport singulier entre le génie de
l'architecture égyptienne et celui de l'architecture tudesque vulgairement
appelée gothique, et vous me demandez d'où vient ce rapport, ce qu'il y a au
fond de commun entre la pyramide des Pharaons et l'ogive, entre
l'obélisque du Caire et la flèche des temples d'Occident? Il existe en effet une
analogie frappante entre ces deux phases de l'art, toutes séparées qu'elles
sont par trente siècles et plus, et je ne m'étonne guère que vous soyez
arrivée à ce rapprochement intéressant, car il résultait en quelque sorte
du point de vue auquel nous nous mettons, vous et moi, pour considérer
l'histoire de l'humanité. Et d'abord remarquez, je vous prie, cette figure
géométrique du triangle, qui encadre ces deux styles et les dessine si bien.
Voilà pour leur nature plastique, pour leur forme extérieure. Considérez
ensuite ce caractère d'inutilité, ou, si vous aimez mieux, de simple
monument, qui leur appartient encore à tous les deux.
C'est là, selon moi, leur idée intime, ce qui constitue essentiellement
leur génie commun. Mais voici qui est fort curieux. Mettez en face de la
ligne verticale de ces architectures, la ligne horizontale de l'architecture
hellénique, et vous aurez parfaitement caractérisé-les diverses
physionomies de toutes les architectures de tous les âges et de tous les pays. Cette
vaste antithèse vous donnera le trait le plus profond de chaque époque,
de chaque lieu où elle se produira. Dans le style grec, ainsi que dans tous
ceux qui s'en rapprochent plus ou moins, vous trouverez la demeure, la
maison, le gôut de la terre et de ses bonheurs; dans le style égyptien et
gothique, le monument, la pensée, l'aspiration vers le ciel et vers ses félicités;
le style grec, avec tous les styles qui en dérivent, se rapportera aux besoins
matériels de l'homme, les deux autres à ses besoins moraux; l'architecture
Статьи
321
pyramidale sera la chose sacrée et céleste, l'architecture horizontale, la
chose profane et terrestre. N'est-ce point là, dites-moi, toute l'histoire de
l'idée humaine, s'élançant d'abord vers le ciel dans sa nature vierge, puis
rampant terre à terre dans son état de corruption, et de nouveau projetée
vers le ciel par la main toute puissante du Sauveur do monde!
Il faut remarquer que l'architecture que l'on voit encore aujourd'hui
aux rives du Nil est positivement la plus ancienne de l'univers. Il existe,
il est vrai, une antiquité plus reculée encore, mais non pour l'art. Les
constructions cyclopéennes, par exemple, celles de l'Inde entre autres, les
plus vastes de ce genre, ne sont guère que des tâtonnements de l'idée de
l'art, et non encore l'art proprement dit. On peut donc considérer avec
raison les monuments de l'Egypte comme contenant les premiers types
du beau architectonique et les premiers éléments de l'art en général. L'art
égyptien et le gothique sont donc en effet placés aux deux bouts de la
voie parcourue par le genre humain, et l'on ne saurait méconnaître dans
cette identité entre la pensée des commencements de l'homme et celle
qui préside à ses destinées finales, un merveilleux cycle embrassant tous
les temps accomplis, peut-être même tous les temps à venir.
Mais parmi les formes variées dont l'art s'est tour à tour revêtu, il en
est une surtout qui mérite à notre point de vue une mention particulière,
c'est le beffroi gothique, sublime inspiration du christianisme grave et
pensif du Nord, où la pensée tout entière du principe chrétien semble
se résumer. Peu de mots suffiront pour vous en faire apprécier la portée
dans la sphère de l'art. Vous savez combien l'atmosphère diaphane des
contrées du Midi, leur ciel pur et jusqu'à leur végétation décolorée
contribuent à faire ressortir les monuments de la Grèce et de Rome. Ajoutez à
cela cette foule de souvenirs charmants qui circulent, se groupent autour
d'eux et les environnent de tant de prestiges et d'illusions, et vous aurez
les éléments dont se compose leur poésie. Mais la tour gothique, qui n'a
pour toute histoire que l'obscure légende contée au coin du feu aux petits
enfants par la vieille grand'mère, toute solitaire, toute triste,
n'empruntant rien à ce qui l'entoure, d'où lui vient sa poésie? Autour d'elle on ne
voit que des masures et des nuages, voilà tout. Sa magie est donc tout en
elle. Ne dirait-on pas une pensée forte et belle, qui toute seule s'échappe
vers le ciel; une idée qui n'est pas une idée d'ici-bas, mais une merveilleuse
intuition sans cause ni origine sur la terre, qui vous enlève de ce monde et
vous porte dans un monde meilleur?
322
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Enfin voici un trait qui achèvera d'exprimer notre pensée. Les colosses
du Nil, ainsi que les temples d'Occident, ne nous apparaissent d'abord
que comme de simples de'corations. On se demande pourquoi tout cela?
Mais, si vous y regardez bien, vous trouverez qu'il en est absolument de
même des beautés de la nature. En effet, l'aspect de la voûte étoilée, de
l'Océan furieux, de la chaîne de montagnes couvertes de glaces éternelles;
le palmier de l'Afrique se balançant dans le désert, le chêne d'Angleterre se
mirant dans le lac; tous les spectacles les plus imposants de la nature, tout
comme les objets les plus gracieux, ne font point non plus naître d'abord
aucune idée d'utilité dans l'esprit, ne réveillent au premier moment que
des pensées parfaitement désintéressées; l'utilité y est bien, pourtant, mais
elle se dérobe au premier coup d'œil pour ne se révéler plus tard qu'à la
réflexion. Ainsi l'obélisque, ne projetant pas même assez d'ombre pour
vous abriter un instant contre les ardeurs d'un soleil presque tropical, ne
sert de rien, mais il vous fait élever vos regards vers le ciel; ainsi la grande
église du monde chrétien, lorsqu'à l'heure du crépuscule vous vous égarez
sous ses voûtes immenses et que de profondes ténèbres ont déjà envahi
toute la nef, tandis que les vitraux de la coupole brûlent encore des
derniers feux du soleil couchant, vous étonne plus qu'elle ne vous charme
par ses dimensions surhumaines; mais ces dimensions vous apprennent
qu'il fut donné à l'œuvre de l'homme, pour honorer Dieu, de s'élever une
fois jusqu'à la grandeur même de la nature*. Enfin lorsque par une douce
soirée d'été, cheminant le long de la vallée du Rhin, vous vous approchez
de l'une de ces antiques cités du moyen âge, humblement prosternées
au pied de leur immense cathédrale, et que le disque de la lune plane
déjà dans la brume au faite du géant, pourquoi ce géant est-il là devant
vous? Mais peut-être vous inspirera t-il quelque rêverie pieuse et
profonde; peut-être vous prosternerez-vous avec une ferveur nouvelle devant le
Dieu de cette poésie puissante; peut-être enfin un rayon lumineux, parti
de la cime du monument, percera-t il les ténèbres qui vous environnent,
et, éclairant soudain la voie que vous avez parcourue, effacera-t-il la trace
sombre d'une vie d'erreurs et de fautes! Voilà pourquoi il est là devant
vous, le géant.
* C'est à dessein que nous avons confondu Saint-Pierre de Rome avec les temples
gothiques, car, selon nous, quoique composés d'éléments différents, ils doivent le jour
au même principe, et en portent le cachet.
Статьи
323
Après cela, allez donc voir Paestum et demandez lui aussi des
émotions. Voici ce qui vous arrivera: toutes les mollesses, toutes les délices
du monde païen se revêtant de leurs formes les plus séduisantes, soudain
surgiront en foule autour de vous et vous enlaceront de leur réseau
fantastique; tous les souvenirs de vos plus folles joies, de vos emportements
les plus ardents, se réveilleront en vos sens, et oubliant alors vos
croyances les plus sincères, vos convictions les plus intimes, vous adorerez
malgré vous, de toutes les fibres de votre être terrestre, les puissances impures
que l'homme encensa si longtemps dans l'ivresse de sa chair et de son
âme. C'est que le plus beau temple grec ne nous parle pas du ciel; c'est que
le sentiment agréable que nous inspirent ses belles proportions n'est
destiné qu'à nous faire mieux goûter encore les voluptés de la terre; c'est que
les temples des anciens n'étaient guère an fond que de belles habitations
qu'ils construisaient pour leurs héros devenus dieux, tandis que nos églises
sont de véritables monuments religieux. Aussi je l'avoue, quant à moi, j'ai
éprouvé mille fois plus de bonheur au pied de la cathédrale de Strasbourg
qu'en présence du Panthéon ou même qu'au milieu de ce Colisée, témoin
auguste des deux plus grandes gloires de l'humanité, de Rome souveraine
et du christianisme naissant. Madame de Staël a dit quelque part, en
parlant de la musique, qu'elle seule était d'une belle inutilité, et que c'est pour
cela qu'elle nous émouvait si profondément. Voilà notre pensée exprimée
dans l'idiome du génie; nous n'avons fait que signaler ailleurs le même
principe. En résumé, ce qu'il y a de certain, c'est que le beau et le bien
viennent d'une même source, qu'ils obéissent à une même loi, qu'ils ne
sont tels que parce qu'ils sont désintéressés, que l'histoire de l'art, enfin,
n'est autre chose que l'histoire symbolique de l'humanité.
[Перевод:]
Вы находите, по вашим словам, какую-то особенную связь
между духом египетской архитектуры и духом архитектуры немецкой,
которую обыкновенно называют готической228, и вы спрашиваете
меня, откуда эта связь, то есть что может быть общего между
пирамидою фараона и стрельчатым сводом, между каирским обелиском
и шпилем западноевропейского храма? Действительно, как ни
удалены друг от друга эти два фазиса искусства промежутком более,
чем в тридцать веков, между ними есть разительное сходство, и я не
324
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
удивляюсь, что вам пришло на мысль это любопытное сближение,
так как оно до известной степени неизбежно вытекает из той
точки зрения, с которой мы с вами условились рассматривать историю
человечества. И прежде всего, в отношении пластической природы
этих двух стилей, их внешней формы, обратите внимание на эту
геометрическую фигуру — треугольник, — которая вмещает в себе
и так хорошо очерчивает и тот, и другой. Заметьте, далее, общий
опять-таки обоим характер бесполезности или, вернее, простой
монументальности. Именно в нем, по-моему, — их глубочайшая идея,
то, что в основе составляет их общий дух. Но вот что особенно
любопытно. Сопоставьте вертикальную линию, характеризующую
эти два стиля, с горизонтальной, лежащей в основе эллинского
зодчества, — и вы тем самым вполне определили все разнообразные
архитектурные стили всех времен и всех стран229. И эта огромная
антитеза сразу укажет вам глубочайшую черту всякой эпохи и
всякой страны, где только она обнаруживается. В греческом стиле, как
и во всех более или менее приближающихся к нему, вы откроете
чувство оседлости, домовитости, привязанности к земле и ее
утехам, в египетском и готическом — монументальность, мысль, порыв
к небу и его блаженству; греческий стиль со всеми производными
от него оказывается выражением материальных потребностей
человека, вторые два — выражением его нравственных нужд; другими
словами, пирамидальная архитектура является чем-то священным,
небесным, горизонтальная же — человеческим и земным. Скажите,
не воплощается ли здесь вся история человеческой мысли, сначала
устремленной к небу в своем природном целомудрии, потом, в
период своего растления, пресмыкавшейся в прахе, и, наконец, снова
кинутой к небу всесильной десницей Спасителя мира!
Надо заметить, что архитектура, еще ныне зримая на берегах
Нила, — без сомнения старейшая в мире. Есть, правда, древность
еще более отдаленная, но не для искусства. Так, циклопические
постройки, и в том числе индийские, наиболее обширные в этом роде,
представляют собою лишь первые проблески идеи искусства, а не
произведения искусства в собственном смысле слова230. Поэтому с
полным правом можно утверждать, что египетские памятники
содержат в себе первообразы архитектонической красоты и первые
элементы искусства вообще. Таким образом, египетское искусство
Статьи
325
и готическое искусство действительно стоят на обоих концах пути,
пройденного человечеством, и в этом тождестве его начальной идеи
с тою, которая определяет его конечные судьбы, нельзя не видеть
дивный круг, объемлющий все протекшие, а может быть, и все
грядущие времена.
Но среди разнообразных форм, в которые попеременно
облекалось искусство, есть одна, заслуживающая, с нашей точки зрения,
особенного внимания, именно готическая башня, высокое создание
строгого и вдумчивого северного христианства, как бы целиком
воплотившее в себе основную мысль христианства. Достаточно будет
немногих слов, чтобы уяснить вам ее значение в области искусства.
Вы знаете, как прозрачная атмосфера полуденных стран, их чистое
небо и даже их бесцветная растительность способствуют
рельефности очертаний греческих и римских памятников. Прибавьте сюда
этот рой прелестных воспоминаний, которые витают и
группируются вокруг них и окружают их таким ореолом и столькими
иллюзиями, — и вы получите все элементы, составляющие их поэзию.
Но готическая башня, не имеющая другой истории, кроме темного
предания, которое старая бабушка рассказывает внучкам у
камелька, столь одинокая и печальная, ничего не заимствующая от
окружающего, — откуда ее поэзия? Вокруг нее — только лачуги да
облака, ничего больше231. Все ее очарование, значит, в ней самой. Это,
мнится, сильная и прекрасная мысль, одиноко рвущаяся к небесам,
не обыденная земная идея, а чудесное откровение, без причины и
задатков на земле, увлекающее вас из этого мира и переносящее в
лучший мир.
Наконец, вот черта, которая окончательно выразит нашу мысль.
Колоссы Нила, так же как и западные храмы, кажутся нам сначала
простыми украшениями. Невольно спрашиваешь себя: к чему они?
Но, присмотревшись ближе, вы заметите, что совершенно так же
обстоит дело и с красотами природы. В самом деле: вид звездного
небосвода, бурного океана, цепи гор, покрытых вечными льдами,
африканская пальма, качающаяся в пустыне, английский дуб,
отражающийся в озере, — все наиболее величественные картины
природы, как и изящнейшие ее произведения, точно так же сначала не
будят в уме никакой мысли о пользе, вызывают в первую минуту лишь
совершенно бескорыстные мысли; между тем в них есть полезность,
326
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
но на первый взгляд она не видна и только позднее открывается
размышлению. Так и обелиск, не дающий даже достаточно тени, чтобы
на минуту укрыть вас от зноя почти тропического солнца, не
служит ни к чему, но заставляет вас поднять взор к небу232; так великий
храм христианского мира, когда в час сумерек вы блуждаете под его
огромными сводами и глубокие тени уже наполнили весь корабль,
а стекла купола еще горят последними лучами заходящего солнца,
более удивляет вас, чем чарует своими нечеловеческими размерами;
но эти размеры показывают вам, что человеческому созданию было
дано однажды для прославления Бога возвыситься до величия самой
природы*. Наконец, когда тихим летним вечером, идя вдоль долины
Рейна, вы приближаетесь к одному из этих старинных
средневековых городов, смиренно простершихся у подножья своего
колоссального собора, и диск луны в тумане реет над верхушкой
гиганта, — зачем этот гигант перед вами? Но, может быть, он навеет на вас
какое-нибудь благочестивое и глубокое мечтание; может быть, вы с
новым жаром падете ниц перед Богом этой могучей поэзии; может
быть, наконец, светозарный луч, исходящий от вершины
памятника, пронижет окружающий вас мрак и, осветив внезапно путь, вами
пройденный, изгладит темный след былых ошибок и заблуждений!
Вот почему стоит перед вами этот гигант.
А после этого идите в Пестум и отдайте себе отчет во впечатлении,
которое он произведет на вас233. Вот что с вами случится: вся
изнеженность, все соблазны языческого мира, приняв самые обольстительные
свои формы, внезапно встанут толпой вокруг вас и опутают вас своей
фантастической сетью; все воспоминания о ваших безумнейших
утехах, о самых пламенных ваших порывах проснутся в ваших чувствах,
и тогда, забыв ваши искреннейшие верования и задушевнейшие
убеждения, вы, помимо собственной воли, будете всеми фибрами вашего
земного существа обожать те нечистые силы, которым так долго в
опьянении своего тела и души поклонялся человек. Ибо и
прекраснейший из греческих храмов не говорит нам о небе; приятное
чувство, которое внушают нам его прекрасные пропорции, имеет целью
* Мы с умыслом причислили собор св. Петра в Риме к готическим храмам,
ибо, на наш взгляд, они, хотя и составлены из разных элементов, но порождены
одним и тем же началом и носят на себе его печать.
Статьи
327
лишь заставить нас полнее вкушать земные наслаждения; храмы
древних представляли собою в сущности не что иное, как прекрасные
жилища, которые они строили для своих героев, ставших богами, тогда
как наши церкви являются настоящими религиозными памятниками.
И потому лично я испытал, признаюсь, в тысячу раз больше счастия у
подножья Страсбургского собора, нежели пред Пантеоном или даже
внутри Колизея, этого внушительного свидетеля двух величайших
слав человечества: владычества Рима и рождения христианства.
Госпожа Сталь сказала как-то, говоря о музыке, что она одна отличается
прекрасной бесполезностью и что именно поэтому она так глубоко
волнует нас234. Вот наша мысль, выраженная на языке гения; мы
только проследили в другой области тот же принцип. В общем
несомненно, что красота и добро исходят из одного источника и подчиняются
одному и тому же закону, что они являются таковыми лишь в силу
своей бескорыстности, что, наконец, история искусства — не что иное,
как символическая история человечества.
О ЗОДЧЕСТВЕ (редакция «Телескопа»)
Нечто из переписки NN (аф)
(с Французского)
— Вы находите еще, милостивая государыня, странную связь
между гением Архитектуры Египетской и гением Германского Зодчества
* Издатель получил сии отрывки при следующей записке: «М. Г.!
Препровождая к вам некоторые отрывки из переписки одного из наших
соотечественников, для помещения в вашем журнале, считаю нужным сказать об них несколько
предварительных слов. Переписка сия представляет развитие одной полной,
глубоко обдуманной системы. Предлагаемые здесь отрывки, несмотря на
разнородность их предмета, проникнуты также одною основною мыслию. И эта
внутренняя связь их, при внешнем разнообразии, есть именно то, что дает им
особенную цену. Кроме достоинства мысли, в оригинале они отличаются еще
необыкновенною изящностию языка. В переводе утрачено сие достоинство,
которого одного было б достаточно, чтоб заинтересовать наших читателей.
Теперь остается в них, по крайней мере, интерес логогрифа: отгадать, что может
быть общего между архитектурою и бессмертием души». С удовольствием
принимая посылку почтенного корреспондента, издатель надеется, что мыслящие
читатели найдут здесь и другую, высшую занимательность. Изд.
328
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
и хотите знать, что может быть общего, напр. между пустынною
пирамидой Египта и шпилем Христианских храмов, между обелиском
Каира и остроконечными окнами средних веков. Эта аналогия, су-
ществу-[348]ющая между двумя Архитектурами, столь отдаленными
во времени, но действительно сливающимися, достойным удивления
образом, в одной идее, весьма поразительна, и вы необходимо
должны были дойти до ней, по самой связи мыслей, представлявшихся в
размышлениях наших об Истории. Заметьте во-первых
геометрическую фигуру, треугольник, в которой помещаются обе Архитектуры:
она дает им обеим особенный характер и рисунок. Но это только
материальное их выражение, их форма пластическая. Впоследствии
найдете вы, что обе сии Архитектуры имеют также общий идеальный
характер, весьма ясно проявляющийся в какой-то бесполезности,
или лучше в исключительной идее монумента, которая особенно
в них господствует. Кроме того, отличает и выражает обе сии
Архитектуры вертикальная линия, которая собственно и образует оба
стиля. Но вот что важно. Вертикальная линия, в противуположность
горизонтальной линии Греческой Архитектуры, дает нам истинную
физиономию всех Архитектур мира; и этот антитез в
последовательности ис-[349]кусства совершенно выражает особенные черты
различных времен и народов.
Стиль Греческий есть пристанище, жилище, дом; стиль
Египетский и Готический — монумент, поэзия, мысль. Первый относится
к материальным нуждам человека, второй к его нуждам
нравственным. Пирамидальная Архитектура есть следовательно вещь святая,
небесная. Горизонтальная архитектура вещь человеческая, земная.
А понимаете ли вы, что все это значит? То великое разделение
человеческого ума, которое объемлет умственное движение всех веков:
Сенсуализм и Идеализм!
Итак, видите ли вы глубокое, проистекающее отсюда,
сближение первобытного мира с миром Христианским? Видите ли вы, как
мысль, принадлежащая эпохе происхождения человеческого рода,
совпадает с мыслию, принадлежащею временам совершения судеб
его? Ибо Архитектура, еще нынче видимая на берегах Нила, есть, без
сомнения, древнейшая в мире. Если и предположить существование
древности, более отдаленной, нежели древность Египетская, то она
не [350] относится к Зодчеству, как напр. построения Циклопеан-
Статьи
329
ские не суть Зодчество; в противном случае Архитектура Индийская
была бы древнейшая из всех существующих, но это не Архитектура.
Итак должно признавать Египетскую Архитектуру за содержащую в
себе первообраз красоты архитектонической, первоначально
вымышленной гением человека; а в сем непонятном сходстве двух
крайностей Истории нельзя не сознать того великого указания
Исторической Философии, что первообразною мыслию человека
необходимо была мысль истины и закона, и что таким образом два
мгновения, находящиеся на обоих концах времени, совершаемого
человеком — первое мгновение его сотворения и последнее
мгновение его конечного развития — встречаются в общем понятии
предания и утверждают собою метафизическое событие и
положительную идею существования человеческого.
Мне кажется, что Готическая башня достойна особенного
внимания, как одно из прекраснейших созданий воображения. Жители
Европы, слишком свыкшиеся с сим странным произведением Зод-
че-[351]ства, не умеют, по моему мнению, довольно ценить его. Нам,
жителям другого мира, надлежит понять его. Прозрачная
атмосфера и бесцветная природа южных стран весьма много способствуют
к увеличению эффекта, производимого Греческими и Римскими
памятниками; прибавьте к тому кучу воспоминаний и все
принадлежности протекшего и настоящего, которые толпятся около сих
памятников и окружают оные всеми очарованиями, питающими
мечтательность: тогда поймете вы, в чем состоит красота сих
памятников. Но уединенная башня Севера, о которой не говорит ни
слова история, а разве какую-нибудь темную легенду рассказывает
при очаге внучкам старая бабушка, эта башня, высящаяся над
жилищами людей, в мрачное облачное небо, не заимствует поэзии своей
от мира, ей совершенно чуждого, ни от предметов, ее окружающих.
Около ней хижины и облака — больше ничего! Вся ее магия, все ее
достоинство в ней самой. Она, как мысль могучая и прекрасная, одна
стремится к небу, уносит вас с земли и ничего от земли не берет;
принадлежит особенному чину идей и не происте-[352]кает от
земного; видение чудеснейшее, без начала и причины на земле!
Колоссы Нила, равно как и Христианские храмы, при первом на
них взгляде, кажутся только украшениями. Заметьте, что сей
наружный характер бесполезности есть также характер красот самой при-
330
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
роды. Вид звездного свода, ярящегося океана, покрытой вечными
льдами цепи гор, все сии разительнеишие зрелища натуры, равно
как и самые красивые, как напр. пальма Африки, дуб Англии, сначала
не порождают в вас непосредственно идеи о их полезности; но
возбуждают в вас мысли совершенно бескорыстные. Полезность есть
конечно в них, но она сокрыта и уже представляется по некотором
размышлении. Таков обелиск, не дающий даже довольно тени, чтоб
укрыть вас от зноя почти тропического солнца. Кажется, он ни к чему
не полезен; но он поневоле заставляет вас устремить взор на небо.
Такова великая церковь Христианского мира! Когда в часы сумрака
блуждаете вы под огромными ее сводами и глубокий мрак уже
распростерся по всей ее внутреннос-[353]ти, а над вашею головой окна
купола горят еще последними огнями заходящего солнца: к чему,
кажется, сей огромный сверх-человеческой размер? Но он говорит
вам, что для поклонения Божеству, раз дана была мысли человека
возможность возрасти до высоты самой природы. Или когда вы, идя
в осеннюю ночь по берегам Рейна, подходите к одному из
тамошних старинных городов, смиренно расстилающемуся у подножия
своего высокого собора, в то время как луна стоит над вершиною
сего величественного исполина: зачем исполин сей представляется
вашим взорам? Но, может быть, внушит он вам мечтания
благочестивые, может быть, преклонит долу чело ваше, в излиянии чувств
ваших пред Богом, источником сей высокой поэзии, и заставит вас с
необыкновенным, новым для вас жаром веры произнести вечернюю
вашу молитву: вот для чего пред вами сей исполин!
Наконец, прекраснейший Греческий храм есть не что иное, как
дом: с приятными ощущениями, доставляемыми вам его изящною
соразмерностию, не-[354]обходимо соединена мысль, что он создан
для чьего-либо жилища. И это весьма понятно.- Греки
действительно должны были строить жилища своим богам. Мы, Христиане,
воздвигаем только священные памятники, ибо нам некого помещать в
наших храмах. Вспомните слова Гжи Сталь, сказанные ею о музыке,
что одной ей принадлежит прекрасная бесполезность и что именно
по сей-то причине поражает она нас так глубоко. И в сей-то мысли,
как и во всем, мною выше сказанном, бесполезность есть
безличность; а ею все доброе, все изящное связываются и соединяются в
нравственном мире.
Статьи
331
Нам предписано любить ближнего; но для чего? — Чтобы
отклонить любовь нашу от самих себя. — Это не мораль, а просто
логика. — Что бы я ни делал, между мною и истиною вечно становится
что-то постороннее; и это постороннее — это я сам. Я сам от себя
заслоняю истину. Одно, следовательно, средство открыть ее:
отстранить свое я. Потому, мне кажется, хорошо б было, если б мы часто
[355] повторяли сами себе то, что Диоген сказал Александру:
посторонись, ты заслоняешь мне солнце!
— Он умер, тот, кого вы любили, перед кем вы благоговели, и вам
осталось от него одно грустное воспоминание — грустное и, может
быть, сладкое в то же время. Но вы уже не любите его, не благоговеете
перед ним по-прежнему; и можно ли благоговеть перед прахом,
любить разрушение? — Что, однако, если он не умер? Если он живет еще,
где-нибудь далеко, в какой-нибудь далекой стороне? Если он только в
отсутствии, подобно стольким из ваших друзей? — Тогда зачем не
возвратите вы ему всех прежних чувств ваших? — И вот на чем основано
поклонение святым. Веровать искренно, твердо в бессмертие души и,
между тем, отказывать в благоговении людям, достойным этого
чувства, отказывать только потому, что они не живут уже здесь, на этой
земле — скажите: не значит ли это противоречить самому себе?
[356] — Христианское бессмертие есть жизнь без смерти, совсем
не то, что обыкновенно воображают: жизнь после смерти.
— Помните ли вы, что с вами было на первом году вашей
жизни? — Нет, говорите вы. — Так мудрено ли, что вы забыли и то, что с
вами было прежде вашего рождения!
— Думаете ли вы, что человеку смерть понятнее рождения? — Без
сомнения нет! Он видит, что вокруг него существа образуются и
332
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
разрушаются, и между прочим существа ему подобные. Он не знает,
жили ли они под другим видом, прежде принятия настоящего; не
знает, будут ли жить в другом виде, утратив настоящий образ.
Несмотря на то, он боится смерти; стало быть думает, что постигает
ее. — Страшит его не страдание: почему знать ему, будет ли он
страдать? Также не уничтожение пугает его; ибо что ужасного в
прекращении бытия? — Следовательно, его страшит другое: он как-то узнал,
неизвестно как, что после смерти он будет жить еще. Но он не знает,
в чем состоит [357] эта вторая жизнь; и жить этою новою жизнию,
отличною от настоящей — вот, что кажется ему ужасным! — Итак —
видите — здесь находим мы опять одно из тех великих преданий,
которых происхождение теряется во временах неизвестных,
подобно стольким другим идеям, служащим основанием человеческому
разуму, идеям, коих разум не изобрел, но которые были сообщены
ему тогда, когда во вселенной создавалась интеллигенция.
Что же такое смерть? Тот момент посреди всего продолжения
человека, когда человек перестает понимать себя в теле...
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЛЬСКОМ ВОПРОСЕ
Un mot sur la question polonoise
Après que l'insurrection polonoise eut été étouffée, ses principaux
fauteurs trouvèrent un asile en France. Profitant de l'ignorance où l'on est
dans ce pays de l'histoire de la Pologne, ainsi que de sa situation actuelle,
ils y purent facilement représenter leur folle entreprise non seulement
comme excusable, mais aussi comme digne d'éloges. Chose singulière! La
position géographique de la Pologne y est même si peu connue, que l'on
vit un jour l'un des membres les plus distingués de la chambre des
députés proposer sérieusement l'envoi d'une flotte dans le port de Polangen,
au secours des Polonois insurgés, et cela sans exciter seulement l'hilarité
de ses honorables auditeurs. Les discours prononcés récemment au sein
Статьи
333
de l'assemblée nationale en faveur des Polonois, témoignent de la même
ignorance sur la question polonoise proprement dite. Or, voici, en peu de
mots, la manière dont cette question se présente à l'esprit impartial et
bien informé.
1. Lorsque le nouvel Etat, formé par les Slaves nombreux, soumis aux
Russes ou Variagues, et qui devait devenir un jour le vaste Empire de
Russie, se trouva consolidé sous le règne de Jaroslav, il comprenait tout
le pays situé entre le golfe de Finlande au nord et la mer noire au sud, le
Volga à l'orient et la rive gauche du Niémen à l'occident. La ligne
frontière qui séparoit alors les Russes de leurs voisins les Polonois, s'étendoit
dans les plaines qui longent la rive gauche du Niémen, traversoit les pays
où nous trouvons les villes d'Agustovo, de Sedlitz, de Lublin, de Jaroslav,
et suivoit le cours de la rivière Sann, jusqu'au pied des monts Carpates.
C'est la même ligne de démarcation qui forme encore de nos jours la
véritable frontière entre les deux nationalités, russe et polonoise. La
population qui habite l'Est de cette ligne parle l'idiome russe et appartient
à l'Eglise grecque, celle de l'Ouest s'exprime en polonois et professe le
rit romain.
2. Les Polonois ne forment qu'une branche de la grande famille slave.
Ils ne composoient jadis, et ne composent encore maintenant, qu'une
population peu nombreuse. La célèbre république polonoise à l'époque
de sa plus grande puissance n'étoit qu'un Etat formé de divers peuples,
dont les russes, habitant les contrées sous les noms de Russie-blanche et
Petite-Russie, constituoient la plus grande force. Cette population russe,
annexée à la république, ne s'étoit réunie aux Polonois qu'à condition de
jouir de tous les privilèges de sa propre nationalité et de sa liberté, droits
qui lui furent assurés par les fameux Pacta Conventa. Ces droits et ces
privilèges furent, dans le cours du temps, brutalement méconnus par la
Pologne, et constamment violés au milieu des persécutions religieuses les
plus odieuses. C'est à la suite de ces cruelles souffrances que les provinces
russes se détachèrent de la république et vinrent se réunir au groupe de
peuples slaves qui s'appela YEmpire de toutes lesRussies. Cette séparation,
commencée en 1651, consommée vers la fin du XVIIIe siècle, ne fut que
l'effet inévitable des fautes d'un gouvernement oppressif, de l'intolérance
du clergé romain, et d'une tendance fort naturelle de cette fraction du
334
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
peuple russe à secouer le joug de l'étranger et à rentrer dans le sein de sa
propre nationalité.
3. Après la défection des peuples russes, la Pologne proprement dite,
ou comme on l'appeloit alors, Polska Koronna, réduite à ses propres
forces, ne pouvant plus constituer un Etat indépendant, devint la proie
de l'Autriche et de la Prusse. L'Empereur Napoléon la réunit de nouveau
et en forma le grand Duché de Varsovie, qui, plus tard, prit une part
active dans la guerre de 1812 contre la Russie. Les armées russes, ayant fait
la conquête du Duché en 1813, l'Empereur Alexandre en incorpora la
majeure partie à ses Etats sous le nom de Royaume de Pologne. Réuni à
la Russie par la force des armes, ce pays fut loin toutefois d'être traité en
pays conquis. Russes et Polonois sur toute l'étendue de notre vaste
Empire possèdent les mêmes droits. Le Polonois est entré par le fait de cette
réunion dans le sein de cette grande association de peuples slaves qui
forme l'Empire, pour y jouir des nombreux avantages qu'un Etat puissant
dispense naturellement à tous ses membres.
4. Les provinces occidentales de l'ancienne Pologne, réunies depuis
aux Etats allemands, ont dû subir l'influence étrangère au point [que] la
population polonoise y est devenue minorité — et que tous les jours elles
se laissent de plus en plus absorber dans le grand corps germanique: tel
est le cas de la Silésie, de la Poméranie et d'une partie du grand-Duché
de Posen.
5. Dans les provinces réunies à l'Empire de Russie (non compris le
Royaume de Pologne) et que l'on appeloit autrefois Lithuanie, Russie-
blanche et Petite-Russie, les Polonois composent à peu près la 50e partie
de la totalité de la population. Le reste des habitants est presque
exclusivement russe. Ces derniers conservent encore parfaitement le souvenir
des vexations dont leurs pères furent l'objet sous le régime polonois et
nourrissent pour leurs maîtres, reste vivant de ce régime, une haine si
invétérée que ceux-ci ne doivent en partie leur salut qu'a la protection
du gouvernement russe. Parmi les provinces, faisant partie de l'Empire
d'Autriche, la partie orientale de la Galicie, appelée autrefois Russie-rouge,
et qui professe le rit grec, conserve presque entièrement sa nationalité,
et les Polonois y sont loin de jouir des sympathies des indigènes: l'autre
Статьи
335
partie, celle où domine le rit romain, se trouve à peu près complètement
germanisée.
6. La réunion des pays ci-devant polonois dans un seul tout où le Po-
lonois se trouverait en majorité, ne formerait donc qu'un Etat tout au plus
de 6 a 7 millions sur lesquels des Allemands et des Juifs se trouveroient
encore éparpillés en grand nombre. La reconstruction d'une Pologne
indépendante, peuplée de cette manière, entourée de grands et puissants
Etats, n'offrirait donc, lors même que la chose fût un moment possible,
nulle garantie de durée. Vouloir réunir à ce royaume les provinces
ci-devant polonoises, habitées maintenant par des populations presque
entièrement germanisées et faisant déjà partie de la confédération allemande
ne serait ni juste, ni praticable. Démembrer la Russie en lui arrachant
par la force des armes ses provinces occidentales, restées russes par leur
sentiment national, serait une entreprise insensée. La conservation de ces
provinces est d'ailleurs pour la Russie une question vitale. Le jour où l'on
tenterait d'accomplir ce projet elle se lèverait en masse pour y résister,
l'on verrait se produire au grand jour toutes les puissances de son esprit
national. Il est même probable que ces provinces elles-mêmes s'y
opposeraient de toutes leurs forces, tant à cause du souvenir héréditaire de la
longue oppression qu'elles souffrirent, qu'à cause des nombreux et
puissants intérêts qui les attachent à l'Empire.
7. Contre une séparation du royaume actuel pour en faire le noyau
d'une Pologne indépendante, en admettant même l'assistance de
quelques Etats de l'Europe, protesterait plus d'un Polonois éclairé, convaincu
qu'il serait que le bien-être des peuples ne saurait trouver son parfait
développement qu'au sein de grands corps politiques, et que le
peuple polonois en particulier, slave de race, doit partager les destinées du
peuple frère qui peut verser dans la vie des deux peuples tant d'éléments
de force et de prospérité.
8. Il faut enfin se rappeler que, dans l'origine, l'Empire de Russie ne fut
qu'une réunion de différents peuples slaves, qui prirent cette
dénomination d'après les Russes immigrés, ainsi que nous l'apprend la chronique
de Nestor, qu'à cette heure encore c'est toujours la même association
politique qui, embrassant les deux tiers de toute la race slave, jouissant seule
336
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
parmi les peuples de la même origine d'une existence indépendante,
représente véritablement l'élément slave, dans toute sa pureté. Unis à ce
grand corps, les Polonois non seulement n'abdiqueraient point leur
nationalité, mais ne feraient de la sorte que la consolider davantage, tandis
qu'en se désunissant ils tomberoient inévitablement sous l'influence
germanique, dont une grande partie des Slaves occidentaux ont déjà subi
l'action absorbante.
[Перевод:]
Вслед за подавлением польского восстания главные виновники
его нашли убежище во Франции. И, пользуясь неосведомленностью
этой страны в отношении истории и современного состояния
Польши, они без труда смогли изобразить свое безумное предприятие
заслуживающим не только прощения, но и похвалы235.
Удивительное дело! Там так мало знакомых даже с
географическим положением Польши, что один из уважаемых членов палаты
депутатов на одном из заседаний предложил самым серьезным
образом послать в защиту восставших поляков флот в порт Поланген,
и это предложение было встречено почтенными слушателями без
смеха236. Речи, произнесенные недавно в Национальном собрании
в пользу поляков, свидетельствуют о столь же великом невежестве
и в самом польском вопросе как таковом. Ввиду этого скажем в
немногих словах, как представляется этот вопрос беспристрастному и
хорошо осведомленному уму.
1. Когда новое государство, образованное многочисленными
славянами, подчиненными Руссам (les Russes) или варягам, и
ставшее впоследствии обширной Русской империей, было утверждено
в царствование Ярослава, оно включало в себя все пространство
между Финским заливом на севере и Черным морем на юге, Волгой
на востоке и левым берегом Немана на западе. Пограничная линия,
отделявшая тогда русских от их соседей-поляков, пролегала по
равнинам, тянущимся вдоль левого берега Немана, в местности, где мы
находим города Августово, Седлец, Люблин, Ярослав, и тянулась по
течению реки Сани до подножия Карпатских гор. Это та самая
линия, которая и в наши дни по сути дела размежевывает обе народ-
Статьи
337
ности — русскую и польскую. Население к востоку от этой линии
говорит на русском наречии и принадлежит к греческой церкви,
население на запад от нее говорит по-польски и принадлежит к
римскому исповеданию237
2. Поляки составляют лишь одну ветвь великой славянской семьи.
Они и в старину составляли и теперь еще составляют население
немногочисленное. Знаменитая Польская республика в пору
наивысшего своего могущества была не чем иным, как государством,
состоящим из нескольких народностей; из них русские, в областях,
носивших название Белоруссии и Малороссии, составляли главную
часть. Это русское население, присоединенное к республике,
объединилось с поляками лишь на условии пользоваться всеми
национальными привилегиями и свободой; права эти были за ними упрочены
знаменитыми Pacta conventa238. Эти права и привилегии с течением
времени были грубо нарушены Польшей и постоянно попирались,
сопровождаясь самыми возмутительными религиозными
преследованиями239. Вследствие этих жестоких страданий русские области
отделились от республики и соединились с семьей славянских
народов, которая приняла имя Всероссийской империи (l'Empire des
toutes les Russes). Это отделение, начавшееся с 1651 г. и
закончившееся к концу XVIII в., было неизбежным следствием ошибок
притеснительного правительства, нетерпимости римского духовенства
и вполне естественной тяги этой части русского народа свергнуть
иноземцев и вернуться в лоно собственной народности240.
3. После отпадения русских племен настоящая Польша, или, как
ее тогда называли, Polska koronna, предоставленная своим
собственным силам и лишенная возможности представлять из себя
независимое государство, досталась в добычу Австрии и Пруссии. Император
Наполеон вновь соединил ее и создал из нее Варшавское Великое
княжество, которое затем приняло деятельное участие в войне 1812г.
против России. После того как русская армия овладела Княжеством в
1813 г., император Александр большую часть его присоединил к
своим владениям под именем Царства Польского241. Однако же и после
присоединения к России силой оружия с краем этим вовсе не
обращались как с завоеванным. На всем пространстве нашей обширной
338
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
империи русские и поляки пользуются одинаковыми правами.
Поляк вступил посредством этого соединения в среду того
обширного союза славянских народов, который составляет империю,
вследствие чего стал пользоваться многими преимуществами, которыми
естественно пользуются все члены могущественного государства242.
4. Западным областям старой Польши, присоединенным затем к
немецким государствам, пришлось испытать иноземное воздействие
в такой степени, что польское население оказалось там в
меньшинстве и с каждым днем все больше растворяется в толще германского
племени: так обстоит дело в Силезии, в Померании и в части
великого княжества Познанского.
5. В областях, присоединенных к Российской империи (не
считая Царства Польского) и называвшихся раньше Литвой,
Белоруссией и Малороссией, поляки составляют приблизительно
пятидесятую часть всего населения243. Остальные почти сплошь русские.
Эти последние хранят еще свежую память о насилиях, выпавших на
долю их отцов при польском владычестве, и питают к своим
господам, живым осколкам прежнего строя, такую неуемную ненависть,
что спасением своим те отчасти обязаны покровительству русского
правительства. Среди областей, составляющих часть Австрийской
империи, восточная часть Галиции, некогда носившая название
Червонная Русь и придерживающаяся греческого церковного обряда,
почти целиком сохраняет свою народность, и поляки там далеко не
пользуются симпатией коренного населения: остальная часть, где
господствует римский церковный обряд, почти онемечена244.
6. В случае соединения прежних польских земель в одно такое
целое, где поляки оказались бы в большинстве245, составилось бы
таким образом государство с населением никак не более 6-7
миллионов, и в нем оказались бы вкрапленными в большом количестве
немцы и евреи246. Восстановление независимой Польши с таким
составом населения, окруженной большими и сильными
державами, если и оказалось бы в данный момент осуществимым, не давало
бы поэтому никакого ручательства в длительном существовании.
Мысль присоединить к этому Царству области, бывшие когда-то
Статьи
339
польскими, с населением ныне почти полностью онемеченным и
вошедшим уже в состав немецкой конфедерации, была бы и
несправедливой, и неосуществимой. Расчленять Россию, отторгая от нее
силой западные губернии, оставшиеся русскими по своему
национальному чувству, было бы безумием. Сохранение же их составляет
для России жизненный вопрос. В случае, если бы попытались
осуществить этот план, она в тот же час поднялась бы всей массой, и
мы стали бы свидетелями проявления всей мощи ее национального
духа. И, по всей вероятности, губернии эти сами всеми бы силами
воспротивились этому, как в силу передаваемых по наследству
воспоминаний о перенесенном ими продолжительном угнетении, так
и вследствие многих значительных интересов, связывающих их с
империей.
7. Против отторжения нынешнего Царства (Польского) с целью
превращения его в ядро (новой)247 независимой Польши, далее и при
содействии этому со стороны нескольких европейских государств,
стал бы возражать не один просвещенный поляк, убежденный, что
благополучие народов может найти свое полное выражение лишь в
составе больших политических тел и что, в частности, народ
польский, славянский по племени, должен разделить судьбы братского
народа, который способен внести в жизнь обоих народов так много
силы и благоденствия.
8. Надо наконец вспомнить, что первоначально Российская
империя была лишь объединением нескольких славянских племен,
которые приняли свое имя от пришедших Руссов (les Russes), как
нам сообщает Несторова летопись, и что поныне это все тот же
политический союз, объединяющий две трети всего славянского
племени, единственный среди всех народов того же племени ведущий
независимое существование и на самом деле представляющий
славянское начало во всей его неприкосновенности248. В соединении
с этим большим целым поляки не только не отрекутся от своей
национальности, но таким образом еще больше укрепят ее, тогда как
в разъединении они неизбежно подпадут под влияние немцев, чье
поглощающее воздействие испытала на себе значительная часть
западных славян.
340
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ЗАПИСКА ГРАФУ БЕНКЕНДОРФУ
Mémoire au comte Benkendorf
Sa Majesté a daigné jeter un coup d'œil sur le journal dont j'ai été
l'éditeur. Elle y a remarqué quelques idées qu'elle a jugées condamnables,
et elle a trouvé toute la tendance du journal telle, que l'autorité ne devait
point souffrir sa publication. Elle en a ordonné l'interdiction; j'ai encouru
le malheur le plus grand que puisse encourir dans une monarchie un sujet
fidèle et un bon citoyen, celui d'être flétri dans l'opinion de son
souverain. Vous m'avez permis, général, de vous adresser une apologie de mes
idées; je profite de cette faveur, avec la soumission profonde due à un
arrêt émané de si haut, et avec confiance dans la justice et la sagesse de
mon auguste juge, espérant qu'il condescendra à prendre connaissance
de ma défense. Je crois, général, que je ne puis mieux faire pour
démontrer combien mes véritables opinions, j'ose le dire, sont différentes du
sens que l'empereur a attaché aux termes dont je me suis servi pour les
exprimer, qu'en vous soumettant tout l'ensemble de mes opinions sur le
sujet que je n'ai fait qu'aborder dans mon journal.
Il fut un temps où la jeune génération dont je fais partie rêvait pour
le pays des réformes, des systèmes de gouvernement semblables à ceux
que l'on trouve dans les pays de l'Europe, un ordre de choses calqué sur
celui de ces pays; en un mot, des constitutions et tout ce qui y a rapport.
Plus jeune que les autres, j'ai suivi le courant, j'ai professé les mêmes
sentiments, j'ai désiré les mêmes avantages pour la Russie; heureux de n'avoir
fait que partager ces idées, sans chercher, comme eux, à les réaliser
criminellement, et de ne m'être point souillé comme eux par l'horrible
rébellion qui a imprimé une tache ineffaçable sur le caractère national. Je
vous devais d'abord cet aveu, mon général, pour* mériter votre confiance;
je n'ai pas craint de vous dire ce que je pensais autrefois; l'exposé que je
vais vous faire de mes opinions présentes vous fera voir que c'est avec une
entière sécurité que j'ai pu le confesser.
L'impulsion donnée à l'esprit national en Russie par Pierre le Grand,
et la marche qu'ont suivie tous nos souverains depuis, ont introduit chez
nous la civilisation européenne. Il est naturel que toutes les idées en
circulation dans les pays de l'Europe se soient, avec le temps, transportées
parmi nous, et que nous ayons fini par nous figurer que les institutions
Статьи
341
politiques de ces pays pouvaient nous servir de modèles, comme leur
science nous avait servi d'enseignement; on ne se doutait pas que ces
institutions, dérivant d'un état de la société qui nous est totalement
étranger, ne pouvaient avoir rien de commun avec les besoins de notre pays,
et toute notre instruction étant puisée dans les écrivains de l'Europe, tout
ce que nous apprenions dans nos études sur les objets de législation et de
politique venant de la même source, l'on s'habitua naturellement à
envisager parmi nous les gouvernements les plus parfaits de l'Europe comme
contenant les règles et les principes de tout gouvernement en général.
Nos souverains non-seulement ne se sont pas opposés à cette direction
des idées, mais ils l'ont favorisée. Le gouvernement ignorait aussi bien que
la nation combien notre développement historique avait été différent de
celui de l'Europe, et combien par conséquent les théories politiques qui
ont cours chez eux sont opposées aux exigences d'une grande nation qui
s'est faite elle-même, et qui ne saurait se réduire au rôle subalterne de
satellite dans le système du monde social, sans perdre tous les éléments de
force et de vitalité qui font l'existence des peuples. J'ose affirmer, général,
qu'il n'y a plus aujourd'hui chez nous un seul homme réfléchi qui ne soit
convaincu que ce rôle est celui qui nous convient le moins. — Quant à
moi, voici ma pensée entière. — Quel que soit le mérite réel des
différentes législations de l'Europe, comme toutes les formes sociales y sont
les résultats nécessaires d'une foule d'antécédents auxquels nous
sommes restés étrangers, elles ne sauraient nous convenir en aucune façon.
De plus, étant dans notre civilisation beaucoup en arrière de l'Europe,
et ayant encore dans nos propres institutions une infinité de choses qui
repoussent manifestement toute imitation de celles de l'Europe, nous ne
devons songer qu'à tirer de notre propre fonds les biens dont nous
sommes appelés à jouir un jour. Avant tout, c'est une instruction classique
sérieuse et forte, que nous devons chercher à nous donner; une
instruction qui ne soit pas empruntée aux superficies de la civilisation, que l'on
trouve aujourd'hui en Europe, mais plutôt à celle qui précéda celle-ci, et
qui a produit tout ce qu'il y a de vraiment bon dans la civilisation actuelle.
Voilà ce que je désire premièrement pour mon pays. Je désire ensuite
l'affranchissement de nos serfs, parce que je crois que c'est la condition
nécessaire de tout progrès ultérieur chez nous, et surtout de tout progrès
moral. Je crois que tous les changements que le gouvernement voudrait
introduire aujourd'hui dans nos lois ne porteraient aucun fruit tant que
342
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
nous serons sous l'influence des impressions que laisse en nos esprits le
spectacle de l'esclavage qui nous entoure dès notre enfance, et qu'il n'y
a que son abolition graduelle qui puisse nous rendre capables de
profiter des autres réformes que nos souverains, dans leur sagesse, jugeront à
propos de faire un jour. Je crois que l'exécution des lois, quelque sages
qu'elles soient, no pourra jamais remplir l'intention du législateur, tant
qu'elle ne sera confiée qu'à des hommes qui sucent avec le lait de leurs
nourrices toutes les idées possibles d'iniquité, et tant que nos
administrations ne seront remplies que par des sujets familiarisés dès le berceau
avec toutes les sortes d'injustices. Enfin je désire pour mon pays que le
sentiment religieux s'y réveille, que la religion sorte de la léthargie où elle
est plongée aujourd'hui. Je pense que les lumières que nous envions aux
autres peuples n'ont été ailleurs que le fruit de l'influence qu'y ont
exercée les idées religieuses; que ce sont elles qui y ont donné à la pensée cette
énergie et cette fécondité qui l'ont fait monter à la hauteur où elle est
parvenue, et qu'aujourd'hui même ce sont elles qui tireront l'Europe de la
funeste tourmente qui l'agite. Je ne conçois pas d'autre civilisation qu'une
civilisation chrétienne: c'est, je crois, ce que l'on a pu voir dans l'article
qui m'a attiré le malheur de la réprobation souveraine. Et je vois avec une
indicible douleur que la religion, chez nous, est sans nulle action. Je fais,
dans le secret de mon cœur, des vœux ardents pour qu'elle se ranime
parmi nous. Et si je pensais que la voix d'un obscur sujet avait droit de
monter jusqu'au pied du trône, et que je pouvais, sans une extrême
témérité, moi, condamné au silence à cette heure même par une autorité
sacrée, y porter ces vœux, oui, j'aurais imploré notre auguste prince avec
tout le zèle d'une profonde conviction; qu'il abaisse ses regards sur l'état
affligeant de la religion dans notre pays, qu'il cherche à rallumer avec la
flamme qui brûle en son cœur le feu éteint dans le cœur de ses sujets.
Jugez maintenant vous-même, général, s'il est possible qu'en parlant
de civilisation et de raison, l'aie pu entendre liberté et constitution? Se
peut-il que moi, qui suis si fermement, persuadé que ce n'est que dans
la tranquillité et dans le recueillement d'un travail intellectuel
profondément réfléchi que nous pouvons trouver ce qui nous manque encore, et
qui suis convaincu que c'est seulement à l'ombre d'un pouvoir tutélaire,
qui nous garantirait des agitations qui remuent à présent si violemment
l'Europe, que nous pouvons espérer regagner le temps perdu pour notre
avancement moral, que moi j'aie voulu cacher sous le voile de la pen-
Статьи
343
sée calme de la philosophie la pensée turbulente des démagogues? Ma
revue ne devait être qu'une oeuvre purement littéraire. Je me suis servi
du langage usité en pareille matière. Pour un écrivain qui débute dans
la carrière littéraire, le premier souci naturellement est celui de se faire
lire; or, qui est-ce qui m'aurait lu, général, si j'avais parlé un langage dont
j'aurais eu seul la clef? S'il me fallait aujourd'hui avouer la présomptueuse
intention d'avoir voulu agir d'une manière quelconque sur l'esprit de mes
compatriotes, je dirais que je désirais leur donner le goût de la littérature
philosophique, et les porter ainsi aux études fondamentales que les autres
peuples de l'Europe ont déjà faites, et que nous n'avons pas faites encore.
Ce n'est point avec l'Europe politique, mais avec l'Europe méditante que
je voulais nous mettre en relation plus intime; et c'est encore, je crois, ce
que le premier cahier de ma revue faisait bien voir. S'il m'avait été permis
de continuer, j'aurais tâché de faire comprendre à mes lecteurs qu'il n'y
a point pour nous d'autre politique que la science; que sans certaines
lumières préalables, les mesures les plus sages et les plus bienveillantes du
gouvernement seront toujours impraticables; et les meilleures intentions
du prince se trouveront toujours paralysées dans l'exécution. J'aurais
tâché ensuite de leur faire concevoir que ce qu'il nous importe le plus, c'est
de nous rendre bien compte à nous-mêmes de notre état social, afin de
savoir où nous en sommes vis-à-vis de l'Europe; car ce n'est qu'ainsi que
nous saurons ce qu'il nous convient d'emprunter à l'Europe et ce qui doit
nous rester étranger. Voilà, général, quelle devait être la tendance de ma
revue. Méconnu malheureusement par l'empereur dans mes intentions
les plus pures, j'aurais subi en silence la peine qui m'a été imposée, si vous
ne m'aviez convié à articuler un mot pour ma justification. Puisqu'il m'a
été accordé de le faire, je dois dire tout ce que me suggérera le sentiment
douloureux de passer auprès de Sa Majesté pour un esprit mal pensant.
Au moment donc où les tristes résultats de l'esprit de désordre se
manifestent d'une manière si déplorable parmi les peuples plus avancés que
nous, mais qui ne doivent leur progrès qu'à des temps où l'intelligence
mûrissait dans la paix et la sécurité; comment un homme, chez nous,
qui aime son pays, qui est jaloux de sa prospérité, ne désirerait-il pas que
l'ordre et la tranquillité, s'y maintiennent? Comment, s'il a fait une étude
tant soit peu approfondie de l'histoire nationale, et s'il a réfléchi sur les
différentes situations que les nations occupent dans l'ordre général, ne
verrait-il pas à présent que ce que réclame la société ici est tout autre
344
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
chose que ce qu'elle réclame ailleurs? Ensuite il faudrait être aujourd'hui
étrangement aveuglé pour ne pas reconnaître qu'il n'y a pas de pays où les
souverains aient tant fait pour le progrès des lumières et le bien des
peuples que la Russie; et que toute notre civilisation, tout ce que nous
sommes, nous le devons à nos monarques; que partout les gouvernements
ont suivi l'impulsion que leur donnaient les peuples et la suivent encore,
tandis que chez nous le gouvernement a toujours été en avant de la
nation, et que c'est de lui que provenait le mouvement. Avant tout donc,
un sentiment de confiance et de gratitude envers ses princes doit animer
le cœur d'un Russe; et c'est cette conscience du bien qu'ils nous ont fait
qui doit nous guider dans notre vie commune. Voyant comment ils ont
rempli leur haute mission, nous devons nous reposer sur eux de l'avenir
du pays, et en attendant travailler en silence sur nous-mêmes; mais
surtout il faut que nous tâchions de nous donner la morale publique qui
nous manque encore. Si nous parvenons à l'établir sur une base religieuse,
comme elle l'a été primitivement dans tous les pays du monde chrétien,
et à reconstruire toute notre civilisation sur ce fonds nouveau, nous
nous trouverons alors dans les véritables voies dans lesquelles l'humanité
marche à l'accomplissement de ses destinées. Il est clair que tout cela ne
doit s'opérer que dans la sphère intellectuelle, et que la politique n'y a
rien à faire. Et que nous importe ce qui se passe aujourd'hui à la surface de
la société européenne? Qu'avons-nous donc à démêler avec cette Europe
nouvelle, si douloureusement travaillée par un enfantement dont elle ne
sait se rendre compte elle-même? C'est, comme je le disais, dans la vieille
Europe où de si grandes choses se sont faites, auxquelles nous n'avons pas
participé, où tant de grandes pensées se sont produites, qui ne sont pas
venues jusqu'à nous, que nous devons chercher nos leçons. L'article de la
revue dans lequel j'ai tâché de caractériser le trait philosophique du siècle
ne devait servir que de préface au développement de ces idées.
L'empereur, au milieu de ses hautes préoccupations, n'a pu sans doute prêter
qu'une attention fugitive à ce morceau, et le sujet soumis et raisonnable
sait dûment apprécier cet effet de l'élévation où est placé le monarque
pour le bien des peuples, et s'y résigner de bonne foi. Mais j'ose croire,
général, que si Sa Majesté avait daigné donner plus de temps à sa lecture,
elle n'y aurait rien trouvé qui pût justement motiver le jugement sévère
qu'elle en a porté, et qu'elle n'y aurait vu que le raisonnement
indispensable qui devait introduire le lecteur à des considérations plus étendues.
Статьи
345
En retraçant l'histoire de la raison philosophique dans ces derniers temps,
j'avais essayé de montrer que l'esprit humain, après avoir été détourné de
ses voies légitimes par la philosophie absurde et impie du dixhuitième
siècle, était enfin revenu à une pensée plus sage; qu'aujourd'hui la
religion avait repris tous ses droits dans le domaine de la philosophie, et
que la science était devenue aussi sobre et modérée qu'elle avait été
naguère audacieuse et passionnée. J'avoue que je ne pouvais m'imaginer que
ces idées-là, ni celles que je nourrissais encore dans ma pensée pour les
produire plus tard, pouvaient déplaire à l'autorité; je croyais au contraire
qu'elles étaient parfaitement d'accord avec la pensée même du
gouvernement, et qu'elles ne pouvaient que seconder l'action bienfaisante que lui-
même voulait exercer sur les esprits. J'avoue même que je pensais qu'en
se répandant elles ne seraient pas sans fruit, surtout pour cette portion
de notre public littéraire qui est encore à la remorque du siècle passé. Je
ne pouvais non plus me figurer que l'on pourrait trouver un lien entre
mes opinions et les opinions politiques du temps. N'ayant pas à traiter
la question politique, je n'avais rien à dire sur les événements récents
de l'Europe; autrement il m'eût été facile de prouver que c'est justement
parce que les peuples méconnaissaient encore ce retour de la science à
des conceptions plus justes, et que ces conceptions ne sont point encore
descendues de la région abstraite dans celles où vivent les masses, que
ces dernières courent dans la direction mauvaise qui leur a été imprimée
dans le siècle précédent. J'avais déjà caractérisé le principe
révolutionnaire comme un principe de destruction et de sang, et j'avais, en passant, fait
connaître mes sentiments politiques en remarquant la grossière manière
de concevoir les mots de liberté, de raison et d'humanité dans la
révolution française. Cela aurait pu, je crois, suffire pour me mettre à l'abri des
imputations qui m'ont été faites. Mais quoi qu'il en soit, à présent, mon
général, que je vous ai soumis toutes mes opinions, et je crois l'avoir fait
avec toute la candeur et toute la sincérité de la bonne foi; puis-je espérer
que je ne serai plus compté au nombre de ces esprits futiles et brouillons
qui ne savent comment les peuples peuvent avancer autrement qu'à force
de bouleversements, ni séparer les destinées d'un peuple nouveau appelé
à remplir un avenir immense, d'avec les destinées de ces vieilles sociétés
qui ne font plus qu'achever péniblement leur longue carrière? Puis-je
espérer que cet arrêt rigoureux qui me signale comme un écrivain dont le
langage ne pouvait être souffert, sera révoqué un jour, et qu'il me sera
346
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
permis de continuer l'humble route où, loin de vouloir jamais entraver
les vues du gouvernement, je pensais au contraire le servir selon mes
faibles capacités? Je ne puis douter de la justice de mon souverain; je ne
puis croire que s'il a trouvé dans l'expression de mes opinions quelque
chose d'inconvenant qui méritât une correction, à cette heure il puisse
faire peser encore sur moi le poids accablant de son animadversion. Je
penserais, au contraire, méconnaître l'âme généreuse de Sa Majesté et
cette bienveillante protection qu'elle accorde aux lettres, si je me refusais
encore à l'espoir d'obtenir la liberté de reprendre la plume. — Et vous,
mon général, qui avez bien voulu me tendre la main avec tant de bonté,
veuillez agréer ma profonde et vive reconnaissance.
[Перевод:]
Его Величество удостоил бросить взгляд на журнал, которого я
был издателем. Он заметил некоторые мысли, которые он счел
предосудительными, и нашел все направление журнала таковым, что
властям не следовало бы терпеть его издания. Он повелел запретить
его; на мою долю выпало самое большое несчастье, какое может
выпасть в монархии верноподданному и доброму гражданину, а
именно — быть опозоренным в глазах своего государя. Вы позволили
мне, генерал, обратиться к вам с апологией моих мыслей; пользуюсь
этой милостью с глубокой покорностью решению, последовавшему
свыше, и с упованием на справедливость и мудрость моего
державного судьи, надеясь на то, что он снизойдет до ознакомления с моей
защитой. Я полагаю, генерал, что самое лучшее, что я могу сделать
для того, чтобы доказать, насколько мои действительные взгляды,
решаюсь это утверждать, отличны от того смысла, который
император придал словам, которыми я пользовался для выражения их,
это представить вам в целом мои взгляды по предмету, которого я
только коснулся в моем журнале.
Было время, когда молодое поколение, к которому я принадлежу,
мечтало о реформах в стране, о системах управления, подобных тем,
какие мы находим в странах Европы, о порядке вещей, в точности
воспроизводящем порядок, установившийся в этих странах; одним
словом, о конституциях и всем, связанном с ними. Младший среди
других, я поддался этому течению, держался тех же чувств, желал
тех же преимуществ для России; я счастлив, что только разделял эти
Статьи
347
мысли, не пытаясь, как они, осуществить их преступными путями, и
не запятнал себя, как они, ужасным бунтом, наложившим
неизгладимое пятно на национальное достоинство249. Я должен был начать
с этого признания вам, генерал, дабы заслужить ваше доверие; я не
побоялся сказать вам, что я некогда думал; последующее изложение
моих взглядов в данную минуту покажет вам, что я мог с полным
спокойствием принести мою исповедь.
Толчок, данный народному духу Петром Великим, и образ
действия всех последующих государей ввели у нас европейскую
цивилизацию250. Естественно, что все мысли, бывшие в обращении в
странах Европы, проникли к нам, и мы вообразили себе в конце
концов, что политические учреждения этих стран могут служить
нам образцами, как некогда их наука послужила нашему обучению;
никто не подозревал, что эти учреждения, возникнув из совершенно
чуждого нам общественного строя, не могут иметь ничего общего
с потребностями нашей страны, и раз все наше образование было
почерпнуто у европейских писателей, а следовательно, и все, что мы
в ходе нашего изучения узнавали по вопросам законодательства и
политики, проистекало из того же источника, мы естественно
привыкли смотреть на наиболее совершенные правительства Европы,
как на содержащие правила и начала всякого управления вообще.
Наши государи не только не противились этому направлению
мыслей, но даже поощряли его. Правительство, так же как и народ, не
ведало, насколько наше историческое развитие было отличным от
такового же Европы и насколько, следовательно, политические
теории, которые у них в ходу, противоположны требованиям великой
нации, создавшей себя самостоятельно, нации, которая не может
удовольствоваться ролью спутника в системе социального мира,
ибо это значило бы утратить все начала силы и жизненности,
которые являются основой бытия народов. Смею уверить, генерал, что в
настоящее время у нас нет ни одного мыслящего человека, который
не был бы убежден, что эта роль менее всего подходит к нам. — Что
до меня, то вот моя мысль в целом. — Каково бы ни было
действительное достоинство различных законодательств Европы, раз все
социальные формы являются там необходимыми следствиями из
великого множества предшествовавших фактов, оставшихся нам
чуждыми, они никоим образом не могут быть для нас пригодными.
348
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Кроме того, мы в нашей цивилизации значительно отстали от
Европы и в наших собственных учреждениях есть еще бесконечное
число особенностей, явно не допускающих какое-либо подражание
учреждениям Европы, а посему нам следует помышлять лишь о том,
чтобы из нашего собственного запаса извлечь те блага, которыми
нам в будущем предстоит пользоваться. Прежде всего нам следует
приложить все старания к тому, чтобы приобрести серьезное и
основательное классическое образование; образование,
позаимствованное не из внешних сторон той цивилизации, которую мы
находим в настоящее время в Европе, а скорее от той, которая ей
предшествовала и которая произвела все, что есть истинно
хорошего в теперешней цивилизации251. Вот чего бы я желал на первом
месте для моей страны. Затем я желал бы освобождения наших
крепостных, потому что думаю, что это есть необходимое условие
всякого дальнейшего прогресса у нас, и в особенности прогресса
морального. Я думаю, что все изменения, которые правительство
предположило бы внести в наши законы, не принесли бы
никакого плода, пока мы будем пребывать под влиянием тех впечатлений,
которые оставляет в наших умах зрелище рабства, окружающего
нас с нашего детства, и что только его постепенная отмена может
сделать нас способными воспользоваться остальными реформами,
которые наши государи, в своей мудрости, сочтут уместным ввести
со временем252. Я думаю, что исполнение законов, какова бы ни
была мудрость сих последних, никогда не приведет к
осуществлению намерений законодателя, раз оно будет поручено людям,
которые впитывают с молоком своих кормилиц всяческую неправду,
и до тех пор, пока наша администрация будет пополняться лицами,
с колыбели освоившимися со всеми родами несправедливости.
Наконец, я желал бы для моей страны, чтобы в ней проснулось
религиозное чувство, чтобы религия вышла из того состояния летаргии,
в которое она погружена в настоящее время. Я думаю, что то
просвещение, которому мы завидуем у других народов, является не чем
иным, как плодом влияния, которое имели там религиозные идеи;
что это они придали мысли ту энергию и ту плодотворность,
которые подняли ее на ту высоту, которой она достигла, и что даже в
настоящее время они-то и высвободят Европу из той пагубной бури,
которая колеблет ее253. Я не могу представить себе другой цивили-
Статьи
349
зации, как цивилизация христианская^4: это, кажется мне, можно
было бы усмотреть из той статьи, которая навлекла на меня, к
несчастью моему, монаршее неодобрение. И я с несказанной печалью
вижу, что религия у нас лишена всякой действенности. Я возношу,
в тайне сердца моего, пламенные мольбы о том, чтобы она ожила в
нашей среде. И если бы я думал, что голос безвестного подданного
имеет право подняться к подножию трона и что я, осужденный на
молчание в сей именно час священной властью, могу, не проявляя
чрезмерной дерзости, вознести к нему эти мольбы мои, — я умолял
бы нашего августейшего государя со всем рвением глубокого
убеждения: приклонить взоры свои на печальное состояние религии в
нашей стране и попытаться пламенем, горящим в его сердце,
возжечь огонь, угасший в сердцах его подданных.
Посудите теперь сами, генерал, возможно ли, чтобы, говоря о
цивилизации и разуме, я подразумевал свободу и конституцию255?
Возможно ли, чтобы я, твердо убежденный в том, что мы можем
восполнить наши недостатки лишь при спокойном сосредоточении
наших мыслей на глубоко обдуманном умственном труде, и уверенный
в том, что лишь под сенью попечительной о нас власти, способной
оградить нас от волнений, столь жестоко потрясающих в наши дни
Европу, мы можем рассчитывать нагнать время, потерянное для
наших моральных успехов, чтобы я возымел намерение скрыть под
покровом спокойной философской мысли буйную мысль демагогов?
Мой журнал предполагал быть чисто литературным произведением.
Я пользовался языком, обычным при таком содержании. Для
писателя, который впервые выступает на литературном поприще, первая
забота, естественно, должна быть о том, чтобы его прочли; а кто бы
стал читать меня, генерал, если бы я заговорил на языке, смысл
которого был бы лишь мне одному понятен? Если уж сознаться в
тщеславном намерении так или иначе подействовать на умы моих
соотечественников, то скажу, что я желал привить им вкус к философской
литературе и подвинуть их таким образом на изучение основ,
пройденных уже остальными народами Европы и к которым мы еще не
приступали. Не с Европой политической, а с Европой мыслящей
хотел я поставить нас в более тесную связь; и это опять-таки, полагаю
я, можно было усмотреть из первого выпуска моего журнала256. Если
бы мне было дозволено продолжать, я постарался бы разъяснить
350
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
моим читателям, что для нас не может быть другой политики, кроме
науки; что без некоторых предварительных знаний самые мудрые
и самые благожелательные меры правительства окажутся
неприменимыми, и наилучшие намерения государя будут парализованы, как
только приступят к их выполнению. Я постарался бы затем уяснить
им, что для нас важнее всего отдать себе хорошенько отчет в нашем
общественном положении, дабы уразуметь, какое положение мы
занимаем по отношению к Европе, ибо только таким путем мы можем
узнать, что нам подобает заимствовать у Европы и что должно нам
остаться чуждым. Вот, генерал, какое направление предполагалось
придать моему журналу. К несчастью, император не признал полной
чистоты моих намерений, и я бы молча снес наложенное на меня
наказание, если бы вы не предложили мне сказать несколько слов в
свою защиту. Раз мне это дозволено, я считаю долгом высказать все,
внушаемое мне скорбным сознанием, что Его Величество считает
мой ум дурно направленным.
Итак, во времена, когда склонность к беспорядку столь
плачевным образом проявляет свои печальные последствия у народов,
обогнавших нас, но обязанных своим прогрессом исключительно тем
эпохам, когда разум зрел в мире и безопасности, как мог бы у нас
человек, любящий свою страну, ревнующий о ее благосостоянии,
не пожелать, чтобы порядок и спокойствие сохранились в ней? Как
мог бы он в настоящее время, если только он хоть сколько-нибудь
основательно изучил историю своего народа и обдумал разницу
положений, занимаемых нациями в общем распорядке, не усмотреть,
что общественные потребности у нас не совпадают с таковыми же в
других местах? Затем, в наши дни было бы странным ослеплением
не признавать, что нет страны, где бы государи столько сделали для
успеха просвещения и для блага народов, как'в России; и что всей
нашей цивилизацией, всем, что мы есть, мы обязаны нашим
монархам; что везде правительства следовали импульсу, который им
давали народы, и поныне следуют оному, между тем как у нас
правительство всегда шло впереди нации, и всякое движение вперед было его
делом257. Поэтому в сердце каждого русского прежде всего должно
жить чувство доверия и благодарности к своим государям; и это-то
сознание благодеяний, ими оказанных нам, и должно руководить
нами в нашей общественной жизни. Видя, как они выполнили свое
Статьи
351
высокое призвание, мы должны положиться на них по отношению
к будущему нашей страны и в ожидании молча работать над собою;
но в особенности мы должны приложить наши старания к тому,
чтобы создать себе общественную нравственность, которой у нас
еще не имеется. Если нам удастся утвердить ее на религиозном
базисе, как это первоначально было сделано во всех странах
христианского мира, и перестроить всю нашу цивилизацию на этих новых
основах, мы в таком случае окажемся на истинных путях, по коим
человечество шествует к выполнению своих судеб. Ясно, что все это
должно произойти исключительно в интеллектуальной сфере и что
политика тут ни при чем. И какое нам дело до того, что происходит
в настоящее время на поверхности европейского общества? Что у
нас может быть общего с этой новой Европой, столь жестоко
терзаемой потугами некоего рождения, в смысле которого она сама не
может отдать себе отчета? Мы должны, как я уже говорил, искать
уроков себе в старой Европе, где совершены были столь великие
дела, в коих мы не принимали участия, где возникло столько
великих мыслей, не дошедших до нас258. Журнальная статья, в которой
я старался охарактеризовать философское направление века,
должна была служить лишь предисловием к развитию вышеизложенных
мыслей. Император, озабоченный более высокими предметами,
мог, конечно, обратить на эту статью лишь беглое внимание, и
покорный и разумный подданный сумеет по достоинству оценить ту
удаленность и высоту, на какую поставлен монарх для блага
народов, и добросовестно подчиниться этому обстоятельству. Но смею
думать, генерал, что, если бы Его Величество соблаговолил отдать
больше времени на ее прочтение, Он не нашел бы в ней ничего,
что могло бы оправдать то строгое суждение, которое Он произнес
о ней, и увидал бы в ней лишь необходимые рассуждения, которые
должны были приготовить читателя к дальнейшим более
обстоятельным соображениям. Излагая историю философского разума за
последнее время, я пытался показать, что ум человека,
отклоненный от своих законных путей нелепой и безбожной философией
восемнадцатого века259, вернулся наконец к более мудрой мысли;
что в настоящее время религия вступила вновь в свои права в
области философии и что наука стала столь же трезвой и умеренной,
сколь некогда она была смелой и страстной. Признаюсь, я не мог
352
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
себе представить, чтобы эти мысли, равно как и те, которые я еще
носил в голове, имея в виду высказать их в дальнейшем, могли не
понравиться власти; я полагал, напротив, что они во всем сходятся
с мыслью самого правительства и что они могут лишь
способствовать тому благодетельному воздействию, которое оно само хотело
оказать на умы. Должен признать даже, что я думал, что их
распространение не останется без плода, в особенности для той части
нашей читающей публики, которая все еще идет на поводу у
прошлого века. Я не мог также представить себе, чтобы в моих
взглядах можно было усмотреть связь с современными политическими
течениями260. Я не ставил своей задачей обсуждение политических
вопросов, и потому мне незачем было говорить о последних
событиях в Европе; в противном случае мне было бы легко доказать, что
народы потому именно и влекутся далее в том дурном направлении,
которое было им предуказано прошлым веком, что они не сознают
еще этого возвращения науки к понятиям более правильным, и что
эти понятия еще не спустились с высот отвлеченного мышления
в низы, где живут массы. Я уже имел случай охарактеризовать
революционное начало как начало разрушения и крови и высказать
мимоходом мои политические взгляды, когда отметил грубый
способ понимания французской революцией слов — свобода, разум и
человечество261. Этого, казалось, было достаточно, чтоб оградить
меня от нареканий, которым я подвергаюсь. Но как бы то ни было,
теперь, когда я изложил вам, генерал, все мои взгляды, — и думаю, я
сделал это с полнейшей искренностью, добросовестностью и
чистосердечием, — могу ли я рассчитывать, что не буду больше числиться
в разряде людей легкомысленных и склонных к смутам, которые
полагают, что для народов нет другого способа движения вперед,
кроме насильственных переворотов, и не умеют отделять судеб
народа нового и призванного к необозримому будущему от судьбы
старых обществ, лишь с трудом дотягивающих последние дни
своего многолетнего поприща? Могу ли я надеяться, что строгое
решение, которым я заклеймен, как писатель, образ речи которого не
может быть терпим, будет когда-нибудь отменено, и мне дозволено
будет продолжать тот скромный путь, где я далек был от мысли идти
вразрез со взглядами правительства, а думал, напротив, послужить
ему в меру моих слабых способностей? Я не смею сомневаться в
Статьи
353
справедливости моего государя; я не могу поверить, что, если Он
нашел в способе выражения моих мнений что-либо неприличное,
заслуживающее наказания, Он и ныне может оставить тяготеть на
мне всю удручающую тяжесть своего неблаговоления. Я думаю,
напротив, что обнаружил бы неспособность оценить по достоинству
великодушие Его Величества и благожелательное покровительство,
которое Он оказывает литературе, если бы и ныне отказывал себе
в надежде на то, что мне будет дано позволение вновь взяться за
перо262. — А вас, генерал, прошу принять уверение в глубокой и
искренней моей признательности за то, что вы благоволили с такой
отменной добротою протянуть мне руку.
ДОПРОС ЧААДАЕВА В 1826 ГОДУ
Город Брест Литовский 26 Августа 1826 года по высочайшему
его императорского величества повелению, объявленному в
отношении начальника главного штаба его императорского величества
к его императорскому высочеству Цесаревичу от 11 сего августа за
№1355 деланы были отставному из лейб-гвардии гусарского полка
ротмистру Чаадаеву нижеследующие вопросы, на которые он в
присутствии флота Капитан-Командора Колзакова263, отвечал:
1-й. Когда и по какому случаю оставили вы военную службу; не
имели ли каких-либо особых побудительных причин, побудивших
вас к оставлению оной?
[Ответ]. Службу оставил 29-го марта 1821 года. Побудительных
причин не имел никаких, кроме домашних обстоятельств264.
2-й. При выходе в отставку, имели ли уже намерение отправиться
за границу?
[Ответ]. Хотя и не могу сказать, что будучи в службе никогда не
помышлял ехать в чужие край, но таковая мысль ни малейшего не
имела влияния на оставление мною службы, чему может служить
доказательством то, что я прожил по выходе в отставку еще два года в
России, частью в Москве, частью в имении тетки моей княгини
Щербатовой265.
354
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
3-й. Где, когда и по какому случаю познакомились вы с
Николаем Тургеневым, капитаном Якушкиным, Муравьевым и полковником
князем Трубецким?
[Ответ]. С Николаем Тургеневым и с Якушкиным учился
вместе в Московском университете; с полковником князем Трубецким,
Матвеем Муравьевым и Сергеем Муравьевым познакомился, служа в
Семеновском полку, а через них и с Никитою Муравьевым, их
родственником. В Семеновском полку продолжал свое знакомство и с
Якушкиным266.
4-й. После выхода вашего из лейб-гвардии Семеновского полка,
имели ли вы личное или письменное сношение с означенными
лицами, где, когда и в чем оное заключалось?
[Ответ]. С Якушкиным видался несколько раз в бытность свою в
Москве по выходе в отставку267; связь моя с ним продолжалась и во
время путешествия моего по чужим краям; в Риме получил от него
письмо, в ответ на мое письмо, писанное из Милана. Кроме
сношений дружбы, никаких и ни в какое время с ним не имел. С Матвеем
и Никитою Муравьевыми, с князем Трубецким и с Николаем
Тургеневым виделся в С. Петербурге перед отъездом своим за границу.
С первыми после того не имел никаких более сношений; с
Тургеневым же виделся в Риме и в Карлсбаде и получил от него, в
продолжении пребывания своего за границею, два письма268.
5-й. В одном из писем Николая Тургенева, писанном к вам из
Неаполя 14-го (26-го) февраля 1825 года, изъяснены следующие слова:
«каждое письмо из С. Петербурга, как бы оно бедно ни было в
известиях о том, что там.делается, наводит на меня тяжелую грусть;
живя там, мы ко всему присмотрелись, но здесь неистовство
глупости сильно поражает». — К чему именно сии слова относятся и какая
мысль в оных заключается?269
[Ответ]. Зная совершенно положение Николая Тургенева по
службе, не могу ничего другого сказать насчет сих слов, как что,
служа в департаменте законов государственного совета, имел он
случай знать обо всех злоупотреблениях и беспорядках, чинимых в
России, что производило в нем сильное всегда негодование. Сверх
того, много думал он о положении крестьян в России, беспрестанно
об этом предмете помышлял, посему уверен, что слова его в письме
ко мне относятся до сих предметов. Что же касается до последних
Статьи
355
слов неистовство и глупость, то не могу сказать, что он под ними
понимал.
6-й. По знакомству вашему с вышеупомянутыми лицами, которые
в последствии времени оказались все участвовавшими в известных
происшествиях в России, не заметили ли вы в разговорах с ними,
или между ими, или же из поступков их что-либо такого, что бы
могло возбудить подозрение об их злоумышленных предприятиях?
[Ответ]. Хотя по знакомству моему с ними знал их образ мыслей
и политическое вольнодумство, простиравшееся у многих до весьма
высокой степени, но никаких причин не имел заключить о их
тайных видах270 и преступных и безумных намерениях.
7-й. Кто сочинил имеющиеся между бумагами вашими стихи, под
названием «Смерть» и другие, относящиеся к Занту?
[Ответ]. Как стихи под заглавием «Смерть» и другие о Занте,
равно как и прочие отрывки стихов, тут же находящиеся, сочинены
известным стихотворцем Пушкиным.
8-й. Были ли оные стихи напечатаны и публикованы в России
или другом месте?
[Ответ]. Сколько мне известно, оные стихи никогда не были
напечатаны, но были весьма известны в России и находились во всех
руках.
9-й. Где и от кого вы получили оные стихи и для чего вы их
списали и хранили у себя?
[Ответ]. Получил я оные стихи за границею в Швейцарии от
адъютанта покойного генерал-адъютанта Уварова князя
Щербатова. Не обращая никакого внимания на их содержание, сохранил их
единственно у себя за достоинство их в литературном смысле271.
10-й. Между бумагами вашими находится рекомендательное
письмо англичанина Коока к приятелю своему Марриоту, в Лондон,
в коем он пишет, что вы едете в Англию для исследования
нравственных причин благоденствия того края, дабы ввести оные, буде можно,
в Россию. Кто таков англичанин Коок и какие именно причины
нравственного благоденствия предполагали вы исследовать в Англии?
[Ответ]. Англичанин Кук известный миссионер. Я познакомился
с ним во Флоренции при проезде его из Иерусалима во Францию. Так
как все его мысли и весь круг действий обращены были к религии, то
все разговоры мои с ним относились до сего предмета. Благоденствие
356
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Англии приписывал он всеобще распространенному там духу веры, я
же, с своей стороны [зачеркнуто «изъявлял»], говорил ему с горестью
о недостатке веры в народе русском, особенно в высших классах. По
сему случаю дал он мне письмо к приятелю своему в Лондон, с тем
чтобы он мог познакомить меня более с нравственным
расположением народа в Англии. Так как я в Англии после того не был, то и
письмо это осталось у меня, а с Куком и с Марриотом никакого после
того не имел сообщения и даже о них ничего не слыхал272.
11-й. Большая часть книг ваших касается Религии. Какие причины
побуждают вас заниматься более этою частью наук, как другими?
[Ответ]. Из давнего времени, прежде выезда за границу,
занимался я христианскою литературою, не имея при том никакого другого
вида, как умножение познаний своих насчет религии и укрепления
своего в вере христианской. В России имею значительное собрание
книг по сей части; в бытность свою в Дрездене старался увеличить,
сколько мог, оное собрание.
12-й. Между прочим имеются у вас книги, которые в России
запрещены, почему вы оные везли с собою, возвращаясь в Россию?
[Ответ]. Какие именно сочинения запрещено ввозить в Россию,
мне не известно. Живши же в России, часто выписывал книги из
чужих краев и с дозволения цензуры, объявив, что для
собственного употребления выписываю книги, обыкновенно получал все без
изъятия, кроме тех, в которых содержались личные клеветы насчет
царской фамилии. В сих же книгах, полагаю, ничего такого не
находится, но так как всех их еще не прочел, то уверительно сказать
не могу.
13-й. Вы, находясь еще в России в 1822 году, когда по
высочайшему его императорского величества повелению уничтожены все
масонские ложи, и требовались только о принадлежности или
непринадлежности к масонству подписки, давали ли от себя такую
подписку и кем оная от вас требовалась?273
[Ответ]. Сколько я припомню, таковые подписки требовались
только от служащих военных и гражданских лиц; я же, находясь
тогда в отставке, таковой подписки от меня не было требовано,
следственно, я таковой никому не давал.
14-й. Имели ли с того времени какое-либо сношение с
масонскими ложами, с какими именно и в чем оно заключалось?
Статьи
357
[Ответ]. Не только со времени запрещения, но и гораздо
прежде я всякое сношение с масонскими ложами пресек, по
собственному удостоверению, что в оном ничего не заключается, могущего
удовлетворить честного и рассудительного человека. С ложею же, к
которой принадлежал, соединенных братьев (Amis réunis), пресек
совершенно свои сношения в то время, как по отставке выехал из
Петербурга, на что и должен был сохраниться в делах оной ложи
документ, моею рукой писанный. В оной бумаге изъявил, что я с той
ложею никакого впредь сношения иметь не намерен274.
15-й. Существует ли еще в С. Петербурге или другом месте России
ложа, к которой вы принадлежали и от коей имеется у вас грамота на
восьмую степень, под тем ли самым существует она названием, что
прежде, или под другим, под каким именно, и что вам вообще ныне
об оной ложе известно?
[Ответ]. Прекратив с давнего времени все сношения с масонским
орденом, не имею никакого сведения ни о той ложе, к которой
принадлежал, ни об прочих. Полагаю, судя по мерам, принятым
правительством насчет масонства, что оной ложи более не существует275.
16-й. Во время проживания вашего за границею имели ли
какое-либо сношение с тамошними масонскими ложами и какими
именно?
[Ответ]. Ни с какими.
17-й. Была ли какая-либо разница между закрытою ложею
тайных белых братьев Иоанна или ордена Иисуса Христа, коей вы были
членом, и другими масонскими ложами, и в чем таковая разница
заключалась?
[Ответ]. Закрытая ложа тайных белых братьев принадлежала к
[зачеркнуто «числу»] обыкновенному масонству, в России
принятому276. Название же тайных белых братьев присвоено одной восьмой
степени. Первые три масонские степени известны под именем ио-
анновского масонства, следующие три андреевского, седьмой же и
восьмой имеют особенные названия.
18-й. Оставив масонство, почему вы сохранили у себя грамоту,
данную вам на восьмую степень?
[Ответ]. На сие никакого другого изъяснения дать не могу, как
что остался оный патент у меня с прочими бумагами,
напоминающими мне прежние лета моей жизни.
358
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
19-й. Не принадлежали ли вы в России или за границею к каким-
либо другим тайным обществам, где и под каким названием оные
существовали и какая была их цель, и не знали ли вы о существовании
подобных обществ, хотя бы сами к оным не принадлежали?
[Ответ]. Ни к какому тайному обществу никогда не принадлежал.
Мнение мое вообще об тайных обществах видеть можно из
находящейся в бумагах моих речи о масонстве, писанной мною еще в
1818 году, где ясно и сильно выразил мысль свою о безумстве и
вредном действии тайных обществ вообще277. О существовании тайных
обществ в России не имел другого сведения, как по общим слухам,
об названиях же их и цели никакого понятия не имел, и какие лица
в них участвовали, не знал.
20-й. Во время теперешнего проживания своего в Бресте
Литовском, имели ли с кем-либо переписку, с кем именно и в чем оная
заключалась?
[Ответ]. Писем ни от кого не получал. Сам же писал к брату два
письма; в первом известил его о нахождении моем в Бресте; во
втором же просил его прислать ко мне Библию.
Подписано: Отставной лейб-гвардии Гусарского полка ротмистр
Петр Чаадаев.
При допросе находился флота капитан командор Колзаков.
ПОДПИСКА ЧААДАЕВА В 1826 ГОДУ278
Во исполнение высочайшей его императорского величества
воли, объявленной повсеместно и по долгу верноподданнической
присяги чести и совести моей, я нижеподписавшийся признаюсь
чистосердечно, что в 1814 году на службе в городе Кракове был я
принят в масонскую ложу, которой название запамятовал, и
получил в оной первые две степени. В 1822 году, находясь в отставке,
подписки о пресечении всякого сношения с масонством требовано
от меня не было, по сему таковой в то время и дать не мог. Но
прежде того принадлежа с 1815 года к российскому Востоку, получил
следующие шесть степеней. С 1821 года же пресек всякое сношение
Статьи
359
с масонством, по собственному уверению в ничтожестве и
безрассудстве оного. Ныне даю сию подписку в том, что впредь ни к каким
тайным обществам, где и под каким бы они названием не
существовали, принадлежать и сношений с оными ни письменно, ни
словесно ниже вообще другими какими-либо способами ни сам собою, ни
посредством других я иметь не буду, подвергая себя в противном
случае строжайшему наказанию как государственный [пропуск].
Брест Литовский 1826 года августа 29 дня. Отставной лейб-
гвардии Гусарского полка ротмистр Петр Яковлев сын Чаадаев.
ПИСЬМА
А. С. Пушкину от марта-апреля 1829 г.279
Mon veux le plus ardent mon ami est de vous voir initié au mystère du
tems. Il n'y a pas de spectacle plus affligeant dans le monde moral que celui
d'un homme de génie meconnoissant son siècle et sa mission. Quand on
voit celui qui doit dominer les esprits, se laisser dominer lui même par les
habitudes et les routines de la populace, on se sent soi même arrêté dans
sa marche; on se dit, pourquoi cet homme m'empêche t'il de marcher, lui
qui doit me conduire? C'est vraiment ce qui m'arrive, toutes les fois que
je songe à Vous, et j'y songe si souvent que j'en suis tout fatigué. Laissez
moi donc marcher je vous prie. Si vous n'avez pas la patience de Vous
instruire de ce qui se passe dans le monde, rentrez en vous mêmes et
tirez de votre propre intérieur la lumière qui se trouve inmanquablement
dans toute âme faite comme la votre. Je suis convaincu que vous pouvez
faire un bien infini à cette pauvre Russie égarée sur la terre. Ne trompez
pas votre destinée mon ami. Depuis quelque tems on lit le russe partout;
vous savez que M. Boulgarine a été traduit et placé à la suite de M. de Joui;
quant à vous, il n'y a pas de cahier de la Revue où il ne s'agisse de vous; je
trouve le nom de mon ami Goulianof prononcé avec respect dans un gros
volume, et le fameux Klaproth lui décernant une couronne Egyptienne; je
crois vraiment qu'il a fait chanceler les pyramides sur leurs bases. Voyez
ce que vous pouvez Vous faire de gloire. Jettez un cri vers le ciel, — il vous
repondera.
Je vous dis tout cela, comme vous voyez, à l'occasion d'un livre que
je vous envoyé. Comme il y a là un peu de tout, il reveillera peut-être en
vous quelques bonnes idées. Bon jour mon ami. Je vous dis comme ce
Mahomet disoit à ses Arabes, — ah si vous saviez!
[На обороте:] Monsieur Pouchkine.
[Перевод:]
Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть вас посвященным
в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире
нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего
свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был бы
Письма
361
властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам
черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении
вперед; говоришь себе, зачем этот человек мешает мне идти, когда
он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мною всякий
раз, как я думаю о Вас, а думаю я о вас столь часто, что совсем
измучился. Не мешайте же мне идти, прошу вас. Если у вас не хватает
терпения, чтоб научиться тому, что происходит на белом свете, то
погрузитесь в себя и извлеките из вашего собственного существа
тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной
вашей. Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой
бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы,
мой друг280. Последнее время стали везде читать по-русски; вы
знаете, что г. Булгарин переведен и поставлен рядом с г. де-Жуи281; что
касается вас, то нет ни одной книжки журнала, где бы не шла речь о
вас282; я нахожу имя моего друга Гульянова, с уважением упомянутое
в толстом томе, и знаменитый Клапрот присуждает ему египетский
венец; по-видимому, он потряс пирамиды в их основаниях283.
Видите, что могли бы сделать Вы для своей славы. Обратитесь с воплем к
небу, — оно ответит вам284.
Я говорю вам все это, как вы видите, по поводу книги, которую
вам посылаю. Так как в ней всего понемножку, то, быть может, она
пробудит в вас несколько хороших мыслей285. Будьте здоровы, мой
друг. Говорю вам, как некогда Магомет говорил своим арабам, —
о, если б вы знали!286
А. С. Пушкину от 17 июня 1831 г.287
Et bien, mon ami, qu'est devenu mon manuscrit? Point de nouvelles
de vous depuis votre départ. J'ai d'abord hésité de vous écrire pour vous
en parler, voulant, selon mon usage, laisser faire au tems son affaire; mais
après réflexion, j'ai trouvé que pour cette fois le cas était différent. J'ai,
mon ami, achevé tout ce que j'avais à faire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire:
il me tarde d'avoir tout cela sous la main. Faites donc en sorte, je vous
prie, que je n'attende pas trop longtems mon ouvrage, et écrivez-moi
bien vite ce que vous en avez fait. Voue savez de quoi il s'agit pour moi?
362
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Ce n'est point de l'effet ambitieux, mais de l'effet utile. Ce n'est pas que
je n'eusse désiré sortir un peu de mon obscurité, attendu que ce serait un
moyen de donner cours à la pensée que je crois avoir été destiné à livrer
au monde; mais la grande préoccupation de ma vie, c'est de compléter
cette pensée dans l'intérieur de mon âme et d'en faire mon héritage.
Il est malheureux, mon ami, que nous ne soyons pas arrivés à nous
joindre dans la vie. Je persiste à croire que nous devions marcher
ensemble et qu'il en aurait résulté quelque chose d'utile et pour nous et
pour autrui. Ce retour m'est venu à l'esprit, depuis que je vais quelquefois,
devinez où? — au club anglais. Vous y alliez, me disiez-vous; je vous y
aurais rencontré, dans ce local si beau, au milieu de ces colonnades si
grecques, à l'ombre de ces beaux arbres; la puissance d'effusion de nos
esprits n'aurait pas manqué à se produire d'elle-même. J'ai éprouvé souvent
chose semblable.
Bon jour, mon ami. Ecrivez-moi en russe; il ne faut pas que vous parliez
d'autre langue que celle de votre vocation. J'attends de vous une bonne
longue lettre; parlez-moi de tout ce que vous voudrez: tout m'intéressera
venant de vous. Il faut nous mettre en train; je suis sûr que nous
trouverons mille chose à nous dire. A vous et bien à vous, du fond de mon âme.
Tchadaieff.
17 juin
[Перевод:]
Что же, мой друг, что сталось с моей рукописью? От вас нет вестей
с самого дня вашего отъезда288. Сначала я колебался писать вам по
этому поводу, желая, по своему обыкновению, дать времени сделать
свое дело; но подумавши, я нашел, что на этот раз дело обстоит
иначе. Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел
сказать: мне не терпится иметь все это под рукою. Постарайтесь
поэтому, прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго
дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы
знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом
эффекте, но в эффекте полезном. Не то, чтоб я не желал выйти
немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было
бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя
призванным дать миру; но главная забота моей жизни, это довершить эту
мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие.
Письма
363
Это — несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись
ближе с вами289. Я продолжаю думать, что нам суждено было идти
вместе, и что из этого воспоследовало бы нечто полезное и для нас
и для других. Эти мысли пришли мне снова в голову с тех пор, как я
бываю иногда, угадайте где? — в Английском клубе290. Вы мне
говорили, что вам пришлось бывать там291; я бы вас встречал там, в этом
прекрасном помещении, среди этих греческих колоннад, в тени
этих прекрасных деревьев; сила излияния наших умов не замедлила
бы сама собой проявиться. Мне нередко приходилось испытывать
нечто подобное.
Будьте здоровы, мой друг. Пишите мне по-русски; вам не следует
говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания. Жду от вас
милого и длинного письма; говорите мне о всем, что вам вздумается:
все, что идет от вас, будет мне интересно. Нам надо только
разойтись; я уверен, что мы найдем тысячу вещей сказать друг другу. Ваш
и искренно ваш всей душою. Чаадаев.
11-го июня
А. С. Пушкину от 7 июля 1831 г.292
Mon cher ami. Je vous ai écrit pour vous redemander mon manuscrit;
j'attends réponse. Je vous avoue que j'ai hâte de le ravoir; renvoyez-le moi,
je vous prie, au premier jour. J'ai lieu de croire que je puis incessamment
en tirer partie, et lui faire voir le jour avec le reste de mes écritures.
N'auriez-vous pas reçu ma lettre? Vu la grande calamité qui nous afflige,
cela ne serait pas impossible. On me dit que Tsarskoé-Sélo'est intact. Je
n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai été heureux de l'apprendre.
Pardonnez-moi, mon ami, de vous occuper de moi au moment où l'ange
de la mort plane si effroyablement sur la contrée que vous habitez. Je ne
l'aurais pas fait si vous habitiez Pétersbourg même; mais c'est l'assurance
de la sécurité dont vous jouissez encore où vous êtes, qui m'a donné le
cœur de vous écrire.
Combien il me serait doux, mon ami, si à l'occasion de cette lettre vous
me donniez de bien amples nouvelles de vous, et si vous continuiez de
m'en donner tant que l'épidémie durerait chez-vous. Puis-je y compter?
364
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Bonjours. Je fais des vœux infinis pour votre salut et vous embrasse bien
tendrement. Ecrivez moi, je vous prie. Votre fidèle Tchadayeff.
7 juillet 1831
[Перевод:]
Дорогой друг, я писал вам, прося вернуть мою рукопись; я жду
ответа. Признаюсь вам, что мне не терпится получить ее обратно;
пришлите мне ее, пожалуйста, без промедления. У меня есть основания
думать, что я могу ее использовать немедленно и выпустить ее в свет
вместе с остальными моими писаниями293.
Неужели вы не получили моего письма? Ввиду постигшего нас
великого бедствия, это не представляется невозможным. Говорят,
что Царское Село еще не затронуто294. Мне не нужно говорить вам,
как я был счастлив узнать это. Простите мне, друг мой, что я
занимаю вас собою в такую минуту, когда ангел смерти столь ужасно
носится над местностью, где вы живете. Я бы так не поступил, если
бы вы жили в самом Петербурге; но уверенность в безопасности,
которой вы еще пользуетесь там, где вы находитесь, придала мне
смелости написать вам.
Как мне было бы приятно, мой друг, если бы в ответ на это
письмо вы сообщили мне подробности о себе и не оставляли меня без
вестей все время, пока у вас будет продолжаться эпидемия. Могу ли я
рассчитывать на это? Будьте здоровы. Шлю непрестанные мольбы о
вашем благосостоянии и обнимаю вас со всею нежностью. Пишите
мне, прошу вас. Ваш верный Чаадаев.
7 июля 1831
А. С. Пушкину от 18 сентября 1831 г.295
Eh bien, mon ami, qu'avez-vous fait de mon manuscrit? Le choléra
l'aurait-il empesté? Mais le choléra, dit-on, n'est pas venu chez vous.
N'aurait-il pas pris la clef des champs, par hasard? Mais en ce cas, donnez
m'en, je vous prie, avis quelconque. J'ai eu grand plaisir à revoir de votre
écriture. Elle m'a rappelé un tems qui ne valait pas grande chose, à la
vérité, mais où il y avait encore espoir; les grandes déceptions n'étaient
Письма
365
pas encore advenues. Je parle de moi, vous entendez bien; mais pour vous
aussi il y avait, je crois, de l'avantage à n'avoir pas encore épuisé toutes
les réalités. Douces et brillantes ont été vos réalités à vous, mon ami,
cependant toujours, y en a-t-il qui valent les fausses attentes, les trompeurs
pressentiments, les menteuses visions de l'heureux âge des ignorances?
Vous voulez causer, disiez-vous: causons. Mais prenez garde, je ne suis
pas riant; vous, vous êtes nerveux. Et voyons, de quoi causerons nous? Je
n'ai qu'une pensée, vous le savez. Si, par aventure, je trouve d'autres idées
dans mon cerveau, elles se rattacheront certainement à celle-là: voyez si
cela vous arrange. Encore si vous me suscitiez quelques idées de votre
monde, si vous me provoquiez? Mais vous voulez que je parle le premier,
soit; mais encore, une foi, gare aux nerfs!
Donc voici ce que je vais vous dire. Vous êtes-vous aperçu qu'il se
passe quelque chose d'extraordinaire dans les entrailles du monde moral,
quelque chose de semblable à ce qui se passe, dit-on, dans les entrailles
du monde physique? Or, dites-moi, je vous prie, comment en êtes-vous
affecté? Il me semble, quant à moi, que c'est la matière poétique tout-à-
fait, ce grand renversement des choses; vous ne sauriez y être indifférent,
d'autant que l'égoïsme de la poésie y a ample pâture, à ce que je crois. Le
moyen de n'être pas soi-même froissé dans ses plus intimes sentimens,
au milieu de ce froissement général de tous les élémens de la nature
humaine! J'ai vu tantôt une lettre de votre ami, le grand poète: c'est un
enjouement, une hilarité, qui font peur. Pourriez-vous me dire comment cet
homme, qui avait naguère une tristesse pour chaque chose, ne trouve-t-il
pas aujourd'hui une seule petite douleur pour la ruine d'un monde? Car
regardez, mon ami: n'est-ce point la vraiment un monde qui périt, si, pour
qui ne sait pressentir le monde nouveau qui va surgir en sa place, ce n'est
pas autre chose qu'une ruine affreuse qui se fait. N'auriez-vôus pas non
plus un sentiment, une pensée à donner à cela? Je suis sûr que le
sentiment et la pensée se couvent à votre insu dans quelque profondeur de
votre âme; seulement, sans produire au dehors, elles ne sauraient
ensevelis, que probablement; ils sont dans ce tas de vieilles idées, d'habitude,
de convenance, dont, vous avez beau dire, tout poète est inévitablement
pétri, quoiqu'il fasse, attendu, mon ami, que depuis l'indien Valmiki, le
chantre du Ramayâna, et le grec Orphée, jusqu'à l'écossais Byron, tout
poète a été tenu jusqu'à cette heure de redire toujours la même chose,
dans quelque lieu du monde qu'il eût chanté.
366
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Oh, que je voudrais pouvoir évoquer à la fois toutes les puissances
de votre être poétique! Que je voudrais en tirer, dès ce moment, tout
ce qui, je sais, s'y tient caché, pour que vous nous fassiez aussi un jour
entendre un de ces chants que veut le siècle! Comme tout alors, qui
s'en va aujourd'hui devant vous sans laisser nulle trace en votre esprit,
aussitôt vous frapperait! Comme tout prendrait face nouvelle à vos
yeux!
En attendant, causons toujours. Il y a quelque tems, il y a un an, le
monde vivait dans la sécurité du présent et de l'avenir, et récapitulait en
silence son passé et s'en instruisait. L'esprit se régénérait dans la paix,
la mémoire humaine se renouvelait, les opinions se reconciliaient, la
passion s'étouffait, les colères se trouvaient sans aliment, les vanités se
satisfaisaient dans de beaux travaux; tous les besoins des hommes se
circonscrivaient peu à peu dans l'intelligence, et tous leurs intérêts allaient
peu à peu aboutir au seul intérêt du progrès de la raison universelle.
Pour moi c'était foi, c'était crédulité infinies. Dans cette paix heureuse
du monde, dans cet avenir je trouvais ma paix, mon avenir. Est survenue
tout-à-coup la bêtise d'un homme, d'un de ces hommes appelés, sans
leur aveu, à diriger les affaires humaines. Voilà que sécurité, paix, avenir,
tout devint aussitôt néant. Songez-y bien; ce n'est pas un de ces grands
événements, faits pour bouleverser les empires et ruiner les peuples,
qui a fait cela; la niaiserie d'un seul homme! Dans votre tourbillon vous
n'avez pu ressentir la chose comme moi; c'est tout simple. Mais se peut-il
que cette prodigieuse aventure qui n'a point sa pareille, toute empreinte
de Providence qu'elle est, ne vous apparaisse que comme prose toute
commune, ou au plus comme poésie didactique, par exemple comme
un tremblement de Lisbonne dont vous n'auriez que faire? Pas possible!
Moi, je me sens la larme à l'œil, quand je regarde ce vaste désastre de la
vieille, de ma vieille société, ce mal universel, tombé sur mon Europe
d'une manière si imprévue, a doublé mon propre mal. Et pourtant oui,
de tout cela il ne sortira que du bien; j'en ai la certitude parfaite, et j'ai
la consolation de voir que je ne suis point le seul à ne pas désespérer
du retour de la raison à la raison. Mais comment se fera-t-il ce retour,
quand? Sera-ce par quelque puissant esprit, délégué extraordinairement
par la Providence, pour opérer cet oeuvre, ou bien par une suite d'évé-
nemens par elle suscités pour éclairer le genre humain? Ne sais. Mais une
vague conscience me dit que bientôt viendra un homme nous apporter
Письма
367
la vérité du terns. Peut-être sera-ce quelque chose d'abord de semblable
à cette religion politique prêchée en ce moment par S. Simon dans
Paris, ou bien à ce catholicisme de nouvelle espèce que quelques prêtres
téméraires prétendent dit-on substituer à celle que la sainteté du tems
avait faite. Pourquoi non? Que le premier branle du mouvement qui
doit achever les destinées du genre humain, se fasse de telle ou telle
sorte, qu'importe? Beaucoup de choses qui avaient précédé le grand
moment où la bonne nouvelle fut annoncée autrefois par un Envoyé Divin,
avaient été destinées à préparer l'univers; beaucoup de choses aussi se
passeront sans doute de nos jours à fin semblable, avant que la nouvelle
bonne nouvelle nous soit apportée du ciel. Attendons.
Ne parle-t-on pas d'une guerre générale? Je dis qu'il n'en sera rien.
Non, mon ami, les voies de sang ne sont plus les voies de la Providence.
Les hommes auront beau être bêtes, ils ne se déchireront plus comme des
bêtes: le dernier fleuve de sang a coulé, et à cette heure, au moment où je
vous écrit, la source en est, grâce à Dieu, tarie. Sûrement, orages et
calamités nous menacent encore; mais ce n'est plus des larmes du peuple que
leur viendront les biens qu'ils sont destinés à obtenir, désormais il n'y aura
plus de guerre épisodique, quelques guerres absurdes et ridicules, pour
mieux dégoûter les hommes de leurs habitudes de meurtre et de
destruction. Avez-vous vu ce qui vient de se passer en France? Ne s'était-on pas
imaginé qu'elle allait mettre le feu au quatre coins du monde? He bien,
point du tout; qu'arrive-t-il? Aux amateurs de gloire, d'envahissement, on
a ri au nez; les gens de pais et de raison ont triomphé; les vieilles phrases
qui résonnaient si bien tantôt aux oreilles françaises, n'ont plus d'écho
pour elles.
De l'écho! Voilà que j'y songe. Fort heureux sans doute que m-rs La-
marque et consorts ne trouvent pas d'écho en France; mais moi, en
trouverai-je, mon ami, dans votre âme? Nous verrons. Voilà, cependant,
un doute qui me fait tomber la plumé de la main. Il ne tiendra qu'à
vous de me la faire ramasser, un peu de sympathie dans votre prochaine
lettre, M-r Naschtschokine me dit que vous êtes singulièrement
paresseux. Fouillez un peu dans votre tête, et surtout dans votre cœur, qui bat
si chaud quand il le veut: vous y trouverez plus de sujets qu'ils ne nous
en faut pour nous écrire le reste de nos jours. Adieu, cher et vieil ami.
Et mon manuscrit donc? J'allais l'oublier. Vous, ne l'oubliez pas, je vous
prie. Tchadaeff.
368
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
18 septembre.
J'apprends que vous êtes nommé, ou comment est-ce que vous êtes
chargé d'écrire l'histoire de Pierre-le-Grand? A la bonne heure! Je vous en
félicite du fond de mon âme. J'attendrai pour vous en dire quelque chose
que vous m'en parliez vous-même. Adieu donc.
Voilà que je viens de voir vos deux pièces de vers. Mon ami, jamais
vous ne m'avez fait tant de plaisir. Enfin, vous voilà poète national; vous
avez enfin deviné votre mission. Je ne puis vous exprimer la satisfaction
que vous m'avez fait éprouver. Nous en reparlerons une autre fois, et
beaucoup. Je ne sais si vous m'entendez bien? La pièce aux ennemis de
la Russie est surtout admirable; c'est moi qui vous le dis. Il y a la plus de
pensées que l'on n'en a dit et fait depuis un siècle en ce pays. Oui, mon
ami, écrivez l'histoire de Pierre-le-Grand. Tout le monde n'est pas de mon
avis ici, vous vous en doutez bien; mais laissons les dire et avançons; quand
l'on a deviné... un bout de la puissance qui nous pousse, une seconde fois,
on la devinera... entière bien sur. J'ai envie de me dire: voici venu notre
Dante enfin... peut être trop hâtif. Attendons.
[На обороте:] Его Высокоблагородию Милостивому Государю
Александру Сергеевичу Пушкину, в Царском Селе в доме Панаевой.
[Перевод:]
Ну что же, мой друг, куда вы девали мою рукопись? Холера ее
забрала, что ли? Но слышно, что холера к вам не заходила296. Может
быть, она сбежала куда-нибудь? Но, в последнем случае, сообщите
мне, пожалуйста, хоть что-нибудь об этом. С большой радостью
увидал я вновь ваш почерк. Он напомнил мне время, по правде сказать,
немногого стоившее, но когда была еще надежда; великие
разочарования еще не наступали тогда. Вы, конечно, понимаете, что я говорю
о себе; но и для вас, думается мне, было некоторое преимущество в
том, что еще не все реальности были исчерпаны вами. Отрадными и
блестящими были эти ваши реальности, мой друг; но все же, есть ли
между ними такие, которые сравнились бы с ложными ожиданиями,
обманчивыми предчувствиями, лживыми грезами счастливого
возраста неведения?
Вам хочется потолковать, говорите вы: потолкуем. Но берегитесь,
я не в веселом настроении; а вы, вы нервны. Да притом, о чем мы с
Письма
369
вами будем толковать? У меня только одна мысль, вам это известно.
Если бы, невзначай, я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они,
наверно, будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли
это вам. Если бы вы хоть подсказали мне какие-нибудь мысли из
вашего мира, если бы вы вызвали меня? Но вы хотите, чтоб я начал
говорить первый, ну что ж; но еще раз, берегите свои нервы!
Итак, вот что я вам скажу. Заметили ли вы, что происходит
нечто необычное в недрах морального мира, нечто подобное тому,
что происходит, говорят, в недрах мира физического?297 Скажите же
мне, прошу вас, как это отзывается на вас? Что меня касается, то мне
сдается, что это готовый материал для поэзии, — этот великий
переворот в вещах; вы не можете остаться безучастным к нему, тем
более что эгоизм поэзии найдет в нем, как мне кажется, богатую пищу.
Разве есть какая-либо возможность не быть затронутым в
задушевнейших своих чувствах среди этого всеобщего столкновения всех
начал человеческой природы! Мне пришлось видеть недавно письмо
вашего друга, великого поэта: это — такая беспечность и веселие, что
страх берет. Можете ли вы объяснить мне, как подобный человек,
знакомый некогда с печалью всех вещей, не испытывает ныне ни
малейшего чувства горя перед гибелью целого мира?298 Ибо взгляните,
мой друг: разве не воистину некий мир погибает, и разве для того,
кто не обладает предчувствием нового мира, имеющего возникнуть
на месте старого, здесь может быть что-либо, кроме надвигающейся
ужасной гибели. Неужели и у вас не найдется чувства, мысли,
обращенной к этому? Я убежден, что это чувство и эта мысль,
неведомо для вас, тлеют где-нибудь в глубинах вашей души; только они не
проявляются вовне, они погребены, по всей вероятности; они под
кучей старых мыслей, привычек, условностей, приличий, которыми,
что бы вы ни говорили, неизбежно пропитан каждый поэт, хотя бы
он и принимал против этого всякие меры, ибо, друг мой, начиная с
индуса Валмики, певца «Рамаяны», и грека Орфея до шотландца
Байрона299, всякий поэт принужден был доселе повторять одно и то же,
в каком бы месте света он ни пел.
О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего
поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь,
все то, что, как я знаю, скрывается в нем, дабы и вы дали нам
услышать когда-нибудь одну из тех песней, какие требует век. Как тог-
370
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
да все, что теперь бесследно для вашего ума проходит перед вами,
тотчас поразило бы вас! Как все приняло бы новый облик в ваших
глазах!
А в ожидании этого, все же потолкуем. Еще недавно, с год тому
назад, мир жил в полном спокойствии за свое настоящее и будущее
и в молчании проверял свое прошлое, поучаясь на нем. Ум
возрождался в мире, человеческая память обновлялась, мнения
сглаживались, страсть была подавлена, гнев не находил себе пищи,
тщеславие находило себе удовлетворение в прекрасных трудах;
все людские потребности ограничивались мало-помалу кругом
умственной деятельности, и все интересы людей сводились мало-
помалу к единственному интересу прогресса вселенского разума.
Во мне это было верой, было легковерием бесконечным. В этом
счастливом покое мира, в этом будущем я находил мой покой,
мое будущее. И вдруг нагрянула глупость человека, одного из тех
людей, которые бывают призваны, без их согласия, к управлению
людскими делами. И мир, безопасность, будущее, — все сразу
обратилось в ничто. Подумайте только: не какое-либо из тех великих
событий, которые ниспровергают царства и несут гибель народам,
а нелепая глупость одного человека сделала все это300! В вашем
вихре вы не могли почувствовать этого, как я; это вполне понятно.
Но статочное ли дело, чтобы это небывалое и ужасное событие,
несущее на себе столь явную печать Провидения, казалось вам самой
обыкновенной прозой или, самое большее, дидактической
поэзией, вроде какого-нибудь лиссабонского землетрясения301, с
которым вам нечего было бы делать? Это невозможно! Что до меня, у
меня навертываются слезы на глазах, когда я вижу это необъятное
злополучие старого, моего старого общества; это всеобщее
бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу, удвоило мое
собственное бедствие. И тем не менее да, из этого воспоследует
одно только добро; я в этом вполне уверен, и мне служит
утешением видеть, что я не один не теряю надежды на то, что разум
образумится. Но как совершится этот возврат, когда? Будет ли в этом
посредником какой-либо могучий дух, облеченный Провидением
на чрезвычайное посланничество для совершения этого дела, или
это будет следствием ряда событий, вызванных Провидением для
наставления рода человеческого? Не знаю.
Письма
371
Но смутное сознание говорит мне, что скоро придет человек,
имеющий принести нам истину времени. Быть может, на первых
порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую
в настоящее время проповедует Сен-Симон302 в Париже, или тому
католицизму нового рода, который несколько смелых священников
пытаются поставить на место прежнего, освященного временем303.
Почему бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет пущено
в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого?
Многое из предшествовавшего той великой минуте, когда добрая
весть была возвещена во дни оны Посланником Божиим, имело
своим предназначением приготовить вселенную; многое также,
несомненно, совершится и в наши дни с подобной же целью, прежде чем
новая добрая весть будет нам принесена с небес. Будем ждать.
Говорят, ходят толки о всеобщей войне?304 Я утверждаю, что
ничего подобного не будет. Нет, мой друг, пути крови не суть пути
Провидения. Как люди ни глупы, они не станут раздирать друг друга, как
звери: последний поток крови пролит, и теперь, в тот час, когда я
пишу вам, источник ее, слава Богу, иссяк.
Спора нет, бури и бедствия еще грозят нам; но уже не из слез
народов возникнут те блага, которые им суждено получить; отныне
будут лишь случайные войны, несколько бессмысленных и смешных
войн, чтобы отбить окончательно у людей охоту к разрушениям и
убийствам. Заметили ли вы, что только что произошло во Франции?
Разве люди не вбили себе в голову, что она намерена поджечь мир
с четырех концов? И что же, ничего подобного; а что произошло?
Любителей славы, захватов подняли на смех; люди мира и разума
восторжествовали; старые фразы, которые еще недавно так отменно
звучали для французских ушей, уже не находят себе отклика.
Отклика! Кстати, по его поводу. Конечно, весьма счастливо, что
г-да Ламарк и его сотоварищи не находят отклика во Франции305; но
я-то найду ли его, мой друг, в вашей душе? Посмотрим. Однако при
одной возможности сомнения в этом у меня падает из рук перо. От
вас будет зависеть, чтобы я поднял его; немного сочувствия в вашем
следующем письме. Г-н Нащокин говорил мне, что вы изумительно
ленивы306. Поройтесь немного в вашей голове, и в особенности в
вашем сердце, которое так горячо бьется, когда хочет этого: вы
найдете там больше предметов для переписки, чем нам может понадо-
372
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
биться на весь остаток наших дней. Прощайте, дорогой и старый
друг. А что ж моя рукопись? Я чуть было не забыл ее. Вы не забудьте
о ней, прошу вас. Чаадаев.
18 сентября.
Мне говорят, что вы назначены, или еще каким-то способом
поручено вам написать историю Петра Великого?307 В добрый час!
Поздравляю вас от всего сердца.
Подожду, прежде чем сказать вам что-либо по этому поводу,
чтобы вы сами заговорили со мной об этом. Итак, прощайте.
Я только что увидал два ваших стихотворения. Мой друг,
никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец,
вы — национальный поэт; вы угадали, наконец, свое призвание. Не
могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня
испытать. Мы поговорим об этом другой раз, и подробно. Я не знаю,
понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России
в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей,
чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой
стране308. Да, мой друг, пишите историю Петра Великого. Не все
держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете;
но пусть их говорят, а мы пойдем вперед; когда угадал... малую часть
той силы, которая нами движет, другой раз угадаешь ее... наверное
всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант309...310
может быть, слишком поспешный. Подождем.
Ф. Шеллингу от 1832 г.311
1832. Moscou
Monsieur.
Je ne sais si vous vous rappelez un jeune homme, russe de nation, que
vous vîtes à Karlsbad, l'année 1825. Il eût l'avantage de souvent
s'entretenir avec vous de sujets de philosophie, et vous lui fîtes l'honneur de lui
dire que vous trouviez de la satisfaction à lui communiquer vos pensées.
Vous lui dîtes, entre autre, que sur plusieurs points vous aviez modifié
vos idées, et vous lui conseillâtes d'attendre que le nouvel ouvrage, dont
vous vous occupiez alors, parût, pour prendre connaissance de votre phi-
Письма
373
losophie. Cet ouvrage n'a point paru, et ce jeune homme c'était moi. En
attendant, monsieur, j'ai lu tous vos écrits. De vous dire que je me sois
élevé sur vos traces à ces hauteurs où votre génie vous a porté par un si
bel élan, ce serait, peut-être, présomption de ma part; il me souvient que
vous trouviez que M. Cousin ne vous avait pas bien compris; et je serais
bien mal avisé, homme inconnu dans le monde européen, de prétendre
aller en avant d'une si grande renommée littéraire; mais il me sera permis,
je crois, de vous dire, que l'étude de vos ouvrages m'a ouvert un monde
nouveau; qu'à la lumière de votre esprit j'ai entrevu dans le domaine de
la pensée des espaces qui m'avaient été entièrement dérobés, que cette
étude m'a été une source de fécondes et délicieuses méditations; il me
sera permis de vous dire encore que tout en vous suivant en vos routes
sublimes, il m'est souvent advenu d'aboutir à d'autres lieux que ceux où
vous êtes arrivé. Aujourd'hui j'apprends par un ami qui dernièrement a
passé quelques jours auprès de vous que vous enseignez une philosophie
de la révélation. Ce cours public que vous professez maintenant,
monsieur, c'est, je présume, le développement de cette pensée qui germait
dans votre esprit lorsque je vous vis à Karlsbad. J'ignore quelle peut être
la doctrine que vous exposez à cette heure à votre auditoire, quoique, je
vous l'avoue, j'ai cru souvent pressentir, en vous lisant, qu'une
philosophie religieuse devait un jour découler de votre système; mais je ne puis
vous dire combien j'ai été heureux d'apprendre que le penseur le plus
profond de notre temps, soit arrivé à cette grande idée de la fusion de la
philosophie avec la religion. Dès le premier moment où je commençais
à philosopher, cette idée se présenta à moi comme le fanal et le but de
tout mon travail intellectuel. Tout l'intérêt de mon existence, toute la
curiosité de ma raison, se trouvèrent absorbés par cette unique idée; et
à mesure que j'avançais dans la méditation je m'assurais que c'était aussi
là le grand intérêt de l'humanité. Chaque pensée nouvelle qui venait se
grouper dans ma tête à cette pensée première, me semblait une pierre
que j'apportais à la construction du temple où tous les hommes devaient
un jour se réunir pour y adorer, en parfaite connaissance, le Dieu
évident. Perdu dans les solitudes intellectuelles de mon pays, je crûs être
longtemps le seul à m'épuiser à ce labeur ou n'avoir du moins que peu
de compagnons disséminés par la terre; je découvris ensuite que tout le
monde pensant marchait dans la même direction; et ce fut un grand jour
pour moi que celui où je fis cette découverte. Mais en même temps je
374
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
fus frappé du besoin d'une haute raison individuelle, d'un grand agent
isolé fait pour guider toutes les raisons, tous les agens de la masse. Dès
lors naturellement je pensais à vous. Je me dis, cet homme si haut placé
dans la sphère morale du monde, à qui le genre humain doit en grande
partie d'avoir retrouvé ses premières et saintes intuitions, se peut-il que
la nouvelle lumière qui certainement va bientôt nous éclairer tous, ne
vienne à luire à ses yeux de tout son éclat, avant qu'elle ne se manifeste
aux yeux de tout le monde? Lui, qui accorda tant d'élémens divergents de
la pensée humaine, ne viendra-t-il pas aussi à accorder l'élément religieux
avec l'élément philosophique qui déjà se touchent? Enfin, dans mes vœux
intimes de progrès et de perfectionnement, je vous destinais à accomplir
la grande révolution vers laquelle, selon moi, tendait la raison nouvelle:
et voilà que l'on me dit que ce n'est plus la science de la terre que prêche
votre parole éloquente, mais la science du ciel; voilà que mes vœux, mon
pressentiment se trouvent en quelque sorte réalisés!
D'abord, monsieur, je n'ai voulu vous écrire que pour vous remercier.
Mais, à cette heure, je ne puis résister à l'envie de connaître quelque chose
de cette face nouvelle de votre système. Serait-ce trop que de vous
demander (sans autre titre à cette faveur que ma passion du progrès de la
raison humaine et ma qualité de citoyen d'un pays grandement
nécessiteux de lumières) quelques données sur les bases générales, ou sur l'idée
fondamentale de votre doctrine actuelle? Car toute puissante qu'est votre
voix, monsieur, elle ne retentit pas jusqu'en nos latitudes; nous sommes
très loin de vous, monsieur; nous appartenons à un autre système solaire;
et le rayon lumineux partant de quelque astre de votre monde à un
chemin énorme à faire avant d'arriver dans le nôtre, et souvent se perd dans
le trajet.
Si M. Tourguénef, l'ami dont je vous parlais tout-à-1'heure, est toujours
en relation avec vous, il pourrait peut-être vous dire que mes études et
mes travaux me rendent digne de votre commerce. Toutefois, je ne veux
en ce moment ni vous parler de mes propres idées, ni soumettre à votre
autorité ce que j'appelle aussi mon système; je sais que, si cette fois je
dois compter sur quelque chose c'est seulement sur l'intérêt que vous-
même vous pourriez trouver à introduire dans votre philosophie, non
pas moi seul, mais par mon intermédiaire toute une jeune génération,
pauvre de présent, mais riche d'avenir, aussi avide de lumières qu'elle a
peu de moyens de satisfaire son ardeur d'instruction et dont les grandes
Письма
375
destinées ne sauraient être indifférentes au sage qui aspire à embrasser la
destinée universelle de toute chose. Je désire beaucoup, monsieur, ne pas
me tromper dans ma prévision cette fois comme l'autre, mais quoi qu'il
arrive, je ne cesserai jamais ni de vous admirer, ni de garder la mémoire
de ces quelques heures où j'ai joui de votre entretien.
Veuillez agréer, monsieur, les assurances de mon profond respect.
[Перевод:]
1832. Москва
Милостивый государь.
Не знаю, помните ли вы молодого человека, русского по
национальности, которого вы видели в Карлсбаде в 1825 году312. Он имел
преимущество часто беседовать с вами о философских предметах,
и вы сделали ему честь сказать, что с удовольствием делитесь с ним
вашими мыслями. Вы сказали ему, между прочим, что по некоторым
пунктам вы изменили свои воззрения, и вы посоветовали ему
подождать выхода нового произведения, которым вы тогда были
заняты313, прежде чем знакомиться с вашей философией. Это
произведение не появилось, и этот молодой человек был я. В ожидании
я прочел, милостивый государь, все ваши произведения314. Сказать,
что я поднялся по вашим стопам на те высоты, куда в таком
прекрасном порыве вознес вас ваш гений, было бы, может быть,
самонадеянностью с моей стороны; помнится, вы находили, что г. Кузен плохо
вас понял315; и было бы слишком смело со стороны человека,
неизвестного в европейском мире, притязать на превосходство перед
столь крупной литературной известностью; но мне будет позволено,
думаю я, сказать вам, что изучение ваших произведений открыло
мне новый мир; что при свете вашего разума мне приоткрылись в
царстве мыслей такие области, которые дотоле были для меня
совершенно закрытыми; что это изучение было для меня источником
плодотворных и чарующих размышлений; мне будет позволено
сказать вам еще и то, что, хотя и следуя за вами по вашим возвышенным
путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда
приходили вы. В настоящее время я узнал от одного из своих
друзей, который провел недавно несколько дней в ваших местах, что вы
преподаете философию откровения^6. Публичный курс, который
вы читаете в настоящее время, милостивый государь, является, дума-
376
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
ется мне, развитием той мысли, которая зарождалась в вашем уме,
когда я вас видел в Карлсбаде. Мне неизвестно, что представляет из
себя то учение, которое вы излагаете в данное время вашим
слушателям, хотя, признаюсь, при чтении вас у меня зачастую являлось
предчувствие, что из вашей системы должна когда-нибудь проистечь
религиозная философия; но я не нахожу слов сказать вам, как я был
счастлив, когда узнал, что глубочайший мыслитель нашего времени
пришел к этой великой мысли о слиянии философии с религией.
С первой же минуты, как я начал философствовать, эта мысль встала
передо мной, как светоч и цель всей моей умственной работы. Весь
интерес моего существования, вся любознательность моего разума
были поглощены этой единственной мыслью; и по мере того, как
я подвигался в моем размышлении, я убеждался, что в ней лежит и
главный интерес человечества. Каждая новая мысль, примыкавшая в
моем уме к этой основной мысли, казалась мне камнем, который я
приносил для построения храма, где все люди должны будут когда-
нибудь сойтись для поклонения, в совершенном знании, явному
Богу. Затерянный в умственных пустынях моей страны, я долго
полагал, что я один истощаю свои силы над этой работой или имею,
по крайней мере, лишь немного сотоварищей, рассеянных по
земле; впоследствии я открыл, что весь мыслящий мир движется в том
же направлении; и великим был для меня тот день, когда я сделал
это открытие. Но в то же время я был поражен потребностью в
высоком индивидуальном разуме, в отдельном великом деятеле,
созданном для того, чтоб руководить всеми разумами, всеми деятелями
толпы317. С тех пор, естественно, я стал думать о вас. Я сказал себе,
возможно ли, чтоб новый свет, который, несомненно, вскоре
просветит нас всех, не воссиял во всем своем блеске, прежде чем
открыться глазам всего мира, пред очами этого человека, столь высоко
поставленного в моральной сфере мира, и которому род
человеческий обязан в значительной мере тем, что вновь обрел свои первые
и святые воззрения? Он, согласивший столько расходящихся начал
человеческой мысли, не приведет ли к соглашению религиозное
начало с началом философским, которые уже теперь соприкасаются?
Одним словом, в моих сокровенных положениях прогресса и
совершенствования я предназначал вас к осуществлению того великого
переворота, к которому, на мой взгляд, стремится новый разум: и
Письма
377
вот мне говорят, что уже не земную науку возвещает ваше
красноречивое слово, а науку небесную; мои желания, мои предчувствия
осуществились в некотором роде!
Сначала, милостивый государь, я хотел написать вам лишь в
целях поблагодарить вас. Но теперь я не могу противостать желанию
узнать что-нибудь об этом новом облике вашей системы. Будет ли с
моей стороны нескромностью просить вас (без всяких других прав
на благосклонное внимание, кроме моей страсти к прогрессу
человеческого разума и моего качества гражданина страны, в высокой
степени нуждающейся в просвещении) сообщить мне некоторые
данные об общих основах или главной мысли вашего теперешнего
учения. Ибо, как ни могуществен ваш голос, милостивый государь,
он не достигает наших широт318; мы очень удалены от вас,
милостивый государь; мы принадлежим к другой солнечной системе; и
светлый луч, исходящий от какой-либо из звезд вашего мира, совершает
огромный путь, прежде чем достигнуть нашего, и зачастую теряется
в пути.
Если г. Тургенев, друг, о котором я только что говорил вам, все
еще в сношениях с вами, он мог бы, пожалуй, сообщить вам, что
мои научные занятия и мои труды делают меня достойным
общения с вами. Как бы то ни было, в данную минуту я не хочу ни
говорить вам о своих собственных мыслях, ни повергать на ваше
авторитетное суждение то, что я с моей стороны называю своей
системой; я знаю, что если на этот раз я могу рассчитывать на что-
либо, то исключительно на интерес, который вы могли бы найти
в том, чтобы ввести в вашу философию не только меня, но через
мое посредство и целое молодое поколение, бедное настоящим, но
богатое будущим, столь же жадное к просвещению, как и имеющее
мало средств к удовлетворению своего научного пыла, и великие
судьбины которого не могут быть безразличны мудрецу,
стремящемуся объять вселенскую судьбу всех вещей. Я очень желал бы,
милостивый государь, не обмануться на этот раз в моем ожидании,
как когда-то, но, что бы ни случилось, я никогда не перестану
удивляться вам и сохраню память о тех немногих часах, когда я
наслаждался беседой с вами.
Благоволите принять, милостивый государь, уверения в моем
глубоком уважении.
378
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
А. И. Тургеневу от 20 апреля 1833 г.319
Voici, mon ami, une lettre pour l'illustre Schelling, que je vous prie
de lui faire parvenir. Un mot que vous m'avez dit un jour à son sujet,
dans une de vos lettres à madame votre cousine, m'a donnée l'idée de
lui écrire. Elle est ouverte, vous la lirez, et vous verrez de quoi il s'agit.
Comme je lui parle de vous, j'ai voulu qu'elle lui arrive par votre canal.
Vous me ferez plaisir, en la lui envoyant, de lui faire entendre que je sais
l'allemand; car je tiens à ce qu'il m'écrive (s'il me fait cet honneur là),
dans la langue dans la quelle il a fait si souvent revivre mon ami Platon,
et dans la quelle la science est devenue par lui poésie et géométrie à la
fois, et à cette heure déjà, peut être, religion. Et fasse le ciel! Il est tems
que tout cela ne soit plus qu'une même chose. Vous dites à madame
Bravoura que vous ne savez de quoi me parler. Hé bien, voilà matière à
conversation, pour commencer; ensuite, nous verrons. Mais vous, mon
ami, il faut que vous m'écriviez en français. Ne vous en déplaise, j'aime
mieux vos lettres françaises que vos lettres russes. II y a dans vos lettres
françaises plus de laisser aller, vous y êtes plus vous-mêmes. Or, c'est
lorsque vous êtes tout vous mêmes, que vous êtes bon. Vos circulaires
en langue nationale, articles de journeaux, mon ami, articles de jour-
neaux! et je vous en fais bien mon compliment: mais c'est pour cela
que je ne les aime pas. Au lieu que vos lettres françaises n'ont l'air de
rien, et c'est pour cela que je les trouve excellentes. Si j'écrivais à une
femme, je dirais qu'elles vous ressemblent. Dailleurs, vous êtes
essentiellement homme de l'Europe. Vous savez que je m'y connais. Le français
est vraiment votre costume obligé. Vous avez éparpillé toutes les pièces
de votre toilette nationale sur les grandes routes du monde civilisé.
Donc, écrivez le français, et ne vous gênez pas je vous en prie, attendu
que, grâce à la nouvelle école, de si bonne composition, il est permis
désormais de ne pas plus se déranger en français qu'en javanais, dans la
quelle langue, dit-on, l'on écrit indifféremment de haut en bas et de bas
en haut, de droite à gauche et de gauche à droite, sans qu'il en advienne
inconvénient aucun.
On vient d'imprimer ici (dans un Journal) un article sur notre
philosophe: une niaiserie sans pareille, comme bien vous pensez. S'il veut
qu'on le conçoive en ce pays, il fera bien, je crois, de répondre à ma lettre.
Comme tous les peuples, nous autres aussi nous marchons aujourd'hui,
Письма
379
au pas de course, à notre manière, si vous voulez, mais toujours, nous
courrons, cela est certain. Dans peu, je n'en doute pas, les grandes idées,
une fois qu'elles nous atteindront, trouveront plus de facilité à se réaliser
parmi nous, à s'incarner dans les individus, que partout ailleurs, parce-
qu'elles n'auront chez nous, ni préjugés invétérés, ni vieilles habitudes,
ni routines obstinées à lutter contre. Ainsi, pour le penseur européen, le
sort de ses méditations chez nous, ne saurait être aprésent totalement
indifférent, ce me semble. Du reste, vous verrez, en lisant mon épitre,
que ce n'est point pour m'attirer une lettre du grand homme, que je
lui écris, et qu'il n'y a point de vanité dans mon fait, mais qu'il est tout
simple que je veuille savoir de quoi il s'agit et où en est l'esprit humain
sur ce chapitre.
J'aimerais assez, mon ami, causer un petit peu avec vous. Mais
j'attendrai, pour mieux, m'orienter, que vous m'écriviez d'abord. Peut-être
aurons nous, qui sait? beaucoup de bonnes et sérieuses choses à nous
dire, et qui ne se perderont pas dans les espaces sans laisser vestige. En
attendant il faut que je vous querelle, selon ma coutume. Comment?
vous, vivre à Rome, et ne pas la comprendre, après tout ce que nous
nous en sommes dit et redit! Mais concevez donc une fois, que ce n'est
point là une ville comme les autres, un amas de pierres et de populace,
c'est une idée, c'est un fait immense. Ce n'est, ni de la tour du Capitol,
ni de la lanterne de st. Pierre, qu'il faut la voir, c'est de cette sommité
intellectuelle à la quelle il est si aisé de se ravir quand on foule son sol
sacré. Rome alors se transfigurera tout entière devant vous. Vous verrez
les grandes ombres de ses monuments se projetter sur toute la face de la
terre en prodigieux enseignements, vous entendrez une voix puissante
retentir de sa masse silencieuse et vous dire d'ineffables mystères. Vous
saurez que Rome, c'est le lien des tems anciens et des terris nouveaux,
parcequ'il faut absolument un point sur la terre vers le quel tout homme
puisse parfois se tourner pour retrouver matériellement, physiologique-
ment, tous les souvenirs du genre humain, quelque chose de sensible, de
palpable, en quoi se résume visiblement la pensée des tems, et que c'est
Rome qui est ce point là. Alors cette ruine prophétique vous contera
toutes les destinées du monde; ce sera pour vous toute une philosophie
de l'histoire, toute une doctrine, plus que cela, une apocalypse vivante.
Le moyen alors de ne pas se courber devant cette image prestigieuse
de tant d'éternités, le moyen alors de ne pas jeter un voile sur sa face
380
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
choquante! Mais le pape, le pape! Hè bien, le pape, qu'est ce encore
qu'une idée, une chose toute abstraite? Regardez la donc, cette figure de
vieillard, portée sur son brancard, sous son dais, avec sa triple couronne,
toujours de même manière depuis mille ans, comme si de rien n'était:
sérieusement, où est là l'homme? N'est ce pas là le symbole
tout-puissant du tems, non de ce tems qui s'en va, mais de ce tems qui ne bouge
pas, à travers qui tout passe, mais qui lui même reste immobile, et en qui
et par qui, tout s'accomplit? Dites, ne voulez vous donc absolument sur
la terre, d'aucun monument intellectuel, qui aure? Vous faut il, en fait
d'oeuvre humaine, rien que la pyramide de granit qui sache lutter contre
la loi de mort, rien? Bon soir, mon ami. Le reste à une autre fois, si vous
voulez. Ecrivez moi. Adieu. —
A propos. Je vois beaucoup de gens de vos amis, toutes vos femmes, les
Pachkof, les Kindiakof, etc. Tout ce monde vous aime et vous salue bien
tendrement, et je fais le même.
Moscou. 20 avril
[Перевод:]
Вот, любезный друг, письмо к знаменитому Шеллингу, которое
прошу вас доставить ему. Известие, которое вы как-то сообщили мне
о нем в письме к вашей кузине320, внушило мне мысль написать ему.
Письмо открыто, прочтите его, и вы увидите, о чем речь. Так как я
пишу ему о вас, то я хотел, чтобы оно чрез вас и дошло к нему. Вы
сделаете мне одолжение, если, посылая ему это письмо, сообщите
ему, что я владею немецким языком, потому что мне хотелось бы,
чтобы он отвечал мне (если он пожелает оказать мне эту честь) на
том языке, на котором он столько раз воскрешал моего друга
Платона и на котором знание стало благодаря ему поэзией и вместе
геометрией, а теперь, может быть, уже и религией321. Дай-то Бог! Пора
всему этому слиться воедино.
Вы пишете г-же Бравура, что не знаете, о чем мне писать322. Да вот
вам тема для начала, а потом видно будет. Но вы, мой друг, должны
писать мне по-французски. Не в обиду вам сказать, я люблю больше
ваши французские, нежели ваши русские, письма. В ваших
французских письмах больше непринужденности, вы в них больше — вы
сами. А вы только тогда и хороши, когда остаетесь совершенно са-
Письма
381
мим собой. Ваши циркуляры на родном языке — это, мой друг, не что
иное, как газетные статьи, правда, очень хорошие статьи, но именно
за это я их не люблю, между тем как ваши французские письма не
сбиваются ни на что и потому кажутся мне великолепными. Если
бы я писал женщине, я сказал бы, что они похожи на вас. Притом,
вы — европеец до мозга костей. В этом, как вам известно, я знаю
толк. Поэтому французский язык — ваш обязательный костюм. Вы
растеряли все части вашей национальной одежды по большим
дорогам цивилизованного мира. Итак, пишите по-французски и,
пожалуйста, не стесняйте себя, так как, по милости новой необыкновенно
сговорчивой школы, отныне дозволено писать по-французски столь
же непринужденно, как по-явански, где, по слухам, пишут
безразлично сверху вниз или снизу вверх, справа налево или слева направо, не
терпя от того никаких неудобств.
Только что появилась здесь (в газете) статья о нашем
философе — вздор беспримерный, как вы легко можете себе представить323.
Если он хочет, чтобы его понимали в этой стране, ему следует, я
думаю, ответить на мое письмо. Как и все народы, мы, русские,
подвигаемся теперь вперед бегом, на свой лад, если хотите, но мчимся
несомненно. Пройдет немного времени, и, я уверен, великие идеи,
раз настигнув нас, найдут у нас более удобную почву для своего
осуществления и воплощения в людях, чем где-либо, потому что не
встретят у нас ни закоренелых предрассудков, ни старых привычек,
ни упорной рутины, которые противостали бы им. Поэтому для
европейского мыслителя судьба его идей у нас теперь, как мне кажется,
не может быть совсем безразличной. Впрочем, прочитав мое письмо,
вы увидите, что я пишу ему не для того, чтобы снискать себе письмо
великого человека, и что в моем поступке нет тщеславия, — что я
просто хочу знать, что делается и до чего дошел человеческий ум в
этой области.
Я хотел бы также, мой друг, немного побеседовать с вами, но
для лучшего осведомления подожду, пока вы первый напишете
мне. Кто знает? может быть, мы сумеем сообщить друг другу много
добрых и серьезных вещей, которые не затеряются в
пространстве бесследно. А пока я должен, по моему обыкновению,
пожурить вас. Как! вы живете в Риме и не понимаете его, после того как
мы столько говорили о нем!324 Поймите же раз навсегда, что это не
382
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
обычный город, скопление камней и люда, а безмерная идея,
громадный факт. Его надо рассматривать не с Капитолийской
башни, не из фонаря св. Петра, а с той духовной высоты, на которую
так легко подняться, попирая стопами его священную почву. Тогда
Рим совершенно преобразится перед вами. Вы увидите тогда, как
длинные тени его памятников ложатся на весь земной шар
дивными поучениями, вы услышите, как из его безмолвной громады
звучит мощный глас, вещающий неизреченные тайны. Вы поймете
тогда, что Рим — это связь между древним и новым миром, так как
безусловно необходимо, чтобы на земле существовала такая точка,
куда каждый человек мог бы иногда обращаться с целью
конкретно, физиологически соприкоснуться со всеми воспоминаниями
человеческого рода, с чем-нибудь ощутительным, осязательным, в
чем, видимо, воплощена вся идея веков, — и что эта точка —
именно Рим. Тогда эта пророческая руина поведает вам все судьбы мира,
и это будет для вас целая философия истории, целое
мировоззрение, больше того — живое откровение. И тогда — как не
преклониться пред этим обаятельным символом стольких веков, как не
накинуть завесу на его обезображенный облик? Но папа, папа! Ну,
что же? Разве и он — не просто идея, не чистая абстракция?
Взгляните на этого старца, несомого в своем паланкине под
балдахином, в своей тройной короне, теперь так же, как тысячу лет назад,
точно ничего в мире не изменилось: поистине, где здесь человек?
Не всемогущий ли это символ времени — не того, которое идет, а
того, которое неподвижно, чрез которое все проходит, но
которое само стоит невозмутимо и в котором и посредством которого
все совершается? Скажите, неужели вам совсем не нужно, чтобы на
земле существовал какой-нибудь непреходящий духовный
памятник? Неужели, кроме гранитной пирамиды, вам не нужно никакого
другого создания, которое было бы способно противостоять
закону смерти?
Покойной ночи, мой друг. Остальное — до другого раза, если
хотите. Пишите мне. До свидания.
Кстати: я вижу многих ваших друзей, всех ваших дам, Пашковых,
Киндяковых и пр. Все вас любят и дружески приветствуют, как и я325.
Москва, 20 апреля
Письма
383
А. X. Бенкендорфу от 1 июня 1833 г.326
Monsieur le Comte.
Je viens de recevoir du général Vasiltschikof une lettre où il me fait
part des dispositions bienveillantes de votre Excellence à mon égard.
Il me dit, monsieur le comte, que vous désirez que je vous écrive. Vous
m'aviez déjà engagé à le faire la dernière fois que j'eus l'honneur de vous
voir. Si je n'ai pas encore profité de l'offre obligeante de votre protection,
s'est qu'ayant été autrefois attaché au général, et lui croyant devoir de la
reconnaissance pour l'amitié qu'il m'a toujours témoignée, je pensais que
je devais le considérer comme mon protecteur naturel. J'espère, monsieur
le comte, que vous apprécierez ma conduite dans cette occurence et que
vous me continuerez votre faveur.
Je sais, monsieur le comte, que je n'ai nul droit à l'attention du
gouvernement. Les fâcheuses circonstances qui m'ont trop longtems éloigné du
service m'ont complètement rejeté parmi les gens qui n'ont aucun titre
à faire valoir auprès de lui. Cependant j'ai la témérité d'espérer que si Sa
Majesté daigne se souvenir de moi, Elle se rappelera peut être aussi que je
ne suis pas tout à fait indigne qu'Elle condescende à me mettre dans le cas
de lui prouver mon dévouement et d'appliquer les moyens que je puis
apporter à son service. J'avais pensé d'abord que n'ayant pas l'habitude des
affaires civiles, je ne pouvais briguer qu'un emploi diplomatique; et dans
cette vue j'avais demandé au général Vasiltschikof, de communiquer au
chef du département de l'extérieur, quelques aperçus qui me semblaient
pouvoir trouver application dans la situation actuelle de l'Europe,
notamment de la nécessité de surveiller particulièrement le mouvement des
idées en Allemagne. A cette heure encore je vois que ce serait le service où
je pourrais le mieux utiliser le fruit de mes études et des travaux de toute
ma vie. Mais l'état des choses dans le monde politique se compliquant de
jour en jour, le gouvernement ne saurait aujourd'hui se confier dans cette
partie qu'à des gens bien connus. Je n'aspire maintenant qu'au bonheur
de me faire connaître de Sa Majesté. Parmi les choses admirables de ce
règne glorieux, où tant de nos espérances ont été réalisées, où tant de
nos vœux ont été accomplis, l'une des plus frappantes est le choix des
hommes appelés aux affaires. Et si l'on a toujours dit que la première
des qualités d'un souverain, c'est de savoir découvrir les hommes, certes,
chacun des sujets de Sa Majesté, pour peu qu'il aspire à l'honneur d'être
384
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
aperçu d'Elle, peut être assuré que son zèle ne sera pas méconnu, que son
ardeur à la servir ne sera pas perdue, que la sagesse de son Prince saura
démêler les capacités, telles minimes qu'elles soient, dont il peut faire
usage pour le bien de l'État. Je me livre donc entièrement à la discrétion
de Sa Majesté: heureux si je n'aurai à devoir mon sort futur qu'à mon
Empereur, à l'auguste juge de tous nos mérites, à l'appréciateur légitime des
services que chacun de nous peut rendre à la patrie!
Mais Vous, Monsieur le comte, qui m'avez accordé si courtoisement
votre médiation auprès du Maître, vous voudrez bien aussi je l'espère,
porter son attention sur les désavantages de ma position. Le feu
Empereur, en me congédiant, n'avait pas voulu me gratifier du grade de
Colonel, qui me revenait, mais que j'avais assurément bien démérité par mon
obstination ridicule à demander mon congé. Je n'ai donc que le rang de
capitaine de la garde. Je puis dire cependant que si le mauvais état de ma
santé et de ma fortune m'a tenu longtems hors du service de Sa Majesté,
je n'ai point vécu tout ce tems sans chercher à ramasser quelques notions,
quelques connaissances que je puisse, à l'occasion, faire servir à l'utilité
de mon pays. J'ai grand besoin, monsieur le comte, de la toute-puissante
bienveillance de l'Empereur. Sans elle, enseveli dans l'obscurit à la quelle
me condamne mon grade, à peine le regard de Sa Majesté pourrait il m'y
atteindre.
Veuillez, monsieur le comte, agréer les assurances de mon profond
respect.
Tscbaadaef.
Moscou. 1833. ljuin
[Перевод:]
Граф.
Я только что получил от генерала Васильчикова письмо, в
котором он сообщает мне о благорасположении ко мне Вашего
Сиятельства. Он пишет мне, граф, что вы желаете, чтобы я написал вам327.
Вы уже предлагали мне сделать это, когда я имел честь вас видеть
последний раз328. Если я до сих пор не воспользовался любезным
предложением прибегнуть к вашему покровительству, то это потому, что,
состоя некогда при генерале329 и считая себя связанным чувством
благодарности за его постоянное дружеское ко мне отношение, я
Письма
385
полагал, что должен рассматривать его как естественного моего
покровителя. Надеюсь, граф, что вы оцените мое поведение при
данных обстоятельствах и сохраните ваше милостивое расположение
ко мне.
Я знаю, граф, что не имею никакого права на внимание
правительства. Печальные обстоятельства, слишком долго удалявшие меня от
службы, окончательно отбросили меня в число людей, не имеющих
законных оснований предъявлять ему какие-либо ходатайства330.
Тем не менее я имею смелость надеяться, что, если Его Величество
удостоит вспомнить обо мне, Он, быть может, припомнит и то, что
я не во всех отношениях недостоин того, чтобы Он милостиво дал
мне возможность доказать ему мою преданность и применить те
силы, которые я мог бы отдать на службу ему. Я полагал сначала, что,
за отсутствием навыка в гражданских делах331, я могу
ходатайствовать лишь о предоставлении мне дипломатической должности; и
ввиду этого, я просил генерала Васильчикова сообщить стоящему во
главе ведомства иностранных дел332 некоторые соображения,
которые, как мне казалось, могли бы найти применение при настоящем
положении Европы, а именно о необходимости пристально следить
за движением умов в Германии333. Да и в настоящую минуту я вижу,
что это было бы той службой, на которой я мог бы лучше всего
использовать плоды моих научных занятий и труда всей моей жизни.
Но положение вещей в мире политическом усложняется со дня на
день, и при этих условиях правительство может положиться в таком
деле лишь на хорошо известных ему лиц. Теперь я стремлюсь лишь
к счастью быть известным Его Величеству. Среди дивных дел этого
славного царствования, когда столько наших надежд осуществилось,
столько наших благопожеланий исполнилось, наиболее
разительным является выбор людей, призванных к делам334. И если всегда
утверждали, что первым качеством монарха является умение найти
людей, то, конечно, каждый из подданных Его Величества, раз он
только стремится к чести быть Им замеченным, может быть вполне
уверен, что его усердие будет оценено по достоинству, что его
пламенное желание служить Ему не пропадет даром, что мудрость его
Государя сумеет разобраться в способностях, как бы ничтожны они
ни были, раз он может ими воспользоваться для блага Государства.
Итак, я отдаю себя в полное и безусловное распоряжение Его Be-
386
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
личества: я буду счастлив, если моей грядущей судьбой буду обязан
исключительно моему Императору, августейшему судье всех наших
достоинств, законному ценителю тех услуг, которые каждый из нас
может оказать отечеству!
Но вы, граф, согласившийся со столь благородной любезностью
предстательствовать за меня перед лицом Властителя, вы
соблаговолите, смею надеяться, обратить Его внимание и на невыгоды
моего положения. В Бозе почивший Император, увольняя меня в
отставку, не пожелал пожаловать мне чин полковника, следовавший
мне, но которого я бесспорно не заслуживал ввиду моего
смешного упорства уйти в отставку335. Таким образом, я имею лишь
чин капитана гвардии. Я должен сказать однако, что, если плохое
состояние моего здоровья и моих имущественных дел336 долгое
время препятствовало мне поступить на службу Его Величества, я
все же провел все это время не без того, чтоб постараться собрать
кое-какие сведения и кое-какие знания, которые я мог бы, при
случае, использовать для блага моей страны. Я в высшей степени
нуждаюсь, граф, во всемогущем благорасположении Императора. Без
него, погребенный во мрак, на который осуждает меня мой чин, я
едва ли могу рассчитывать на то, что взгляд Его Величества падет
на меня.
Благоволите, граф, принять уверение в глубоком моем уважении.
Чаадаев.
Москва. 1833. 1 июня
Николаю I от 15 июля 1833 г.337
Sire.
Votre Majesté a daignée agréer ma demande de rentrer au service.
Elle désire me voir employé au ministère des Finances. Votre volonté,
Sire, est ma loi, et la grâce avec la quelle Vous avez condescendu à ma
demande fait mon bonheur. Mais quand je me suis déterminé à me vouer
de rechef au service de Votre Majesté, je n'ai pas eu seulement en vue
Письма
387
mon avantage, j'ai encore aspiré à la gloire de Vous servir avec utilité. Le
département au quel Vous me destinez, Sire, emporte des connaissances
positives dans une matière qui ne m'est point familière. Animé par le désir
de Vous obéir je vois que je pourrais en m'appliquant à ces objets,
arriver un jour à les connaître d'une manière générale. Mais, Sire, les hautes
vues que Vous avez porté dans toutes les branches de l'administration et
les grandes mesures législatives que vous avez entreprises, font de Votre
règne une époque glorieuse où les moyens ordinaires dans les serviteurs
de l'Etat, ne sauraient répondre à la vaste impulsion que suit le
gouvernement. Moi, Sire, je ne pourrais apporter dans cette carrière que
l'infériorité d'un homme dont toutes les études antérieures avaient été relatives à
des choses étrangères à cette partie.
Sire, il ne m'est point permis de pénétrer dans Votre Royale pensée,
j'ignore quels sont Vos desseins à mon égard. Mais ce que je sais, et ce que
tout le monde sait comme moi, c'est que tous les actes de Votre
gouvernement sont empreints d'une grande idée, et que cette idée émane de
Vous. J'ai donc la conscience en Vous parlant de parler à un souverain
aussi élevé comme homme parmi les hommes, qu'il est haut placé comme
Monarque parmi les monarques.
Ayant beaucoup réfléchi sur l'état des lumières en Russie, je vois, Sire,
que je pourrais remplir un emploi dans l'Instruction publique, de façon
à satisfaire aux intentions de Votre gouvernement. Je crois qu'il y a
beaucoup de choses à faire dans cette partie, justement dans l'esprit de l'idée
qui me semble être celle de Votre Majesté. Je crois que l'enseignement
en Russie peut être conçu d'une manière particulière; qu'il est possible
de l'asseoir sur une base nationale, tout autre que celle sur la quelle il
est fondé dans le reste de l'Europe, parceque la Russie s'est développée
tout autrement, et qu'elle a une destination spéciale à accomplir dans le
monde. Nous avons je crois besoin de nous isoler autant par les opinions
de la science que par les opinions de la politique, et la nation Russe,
grande et forte, doit je crois en toutes choses, non pas recevoir l'action
des autres peuples, mais leur imprimer son action propre. Si ces idées
se trouvaient être conformes aux vues de Votre Majesté, ce serait un
bonheur indicible pour moi de concourir à les réaliser dans notre pays.
Mais avant tout, mon intime conviction est qu'il n'y a progrès possible
pour nous que dans une soumission parfaite des sentimens des sujets
aux sentimens du Souverain.
388
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Sire, j'ai cru devoir, en honnête homme, Vous faire connaître mon
insuffisance dans la sphère que Vous m'avez assigné, et ce que je puis
fournir dans une autre sphère. Mais quel que soit Votre suprême volonté
à mon égard, je m'y soumettrai avec bonheur. A Vous, Sire, de juger de
l'emploi qu'il faut faire pour le bien public des capacités de chacun de
Vos sujets. Je supplie seulement Votre Majesté de daigner apprécier avec
faveur les motifs qui m'ont dictés ma conduite en cette occasion.
Sir,
j'ai l'honneur d'être de Votre Majesté le fidèle sujet
Juillet 15.
Tchaadayef
[Перевод:]
Государь.
Ваше Величество благоволили согласиться на мое ходатайство о
принятии меня вновь на службу. Вам угодно, чтобы я поступил в
министерство финансов338. Ваша воля, Государь, закон для меня, и милость, с
которой Вы снизошли на мою просьбу, составляет мое счастье. Но
когда я решился вновь посвятить себя службе Вашего Величества, я имел в
виду не только мою выгоду, я стремился и к славе с пользой послужить
Вам. Ведомство, к которому Вы меня предназначаете, Государь,
предполагает положительные сведения по предмету, который мне чужд.
Одушевленный желанием исполнить Вашу волю, я вижу, что
прилежанием в сих предметах я в состоянии буду достигнуть когда-нибудь
знакомства с ними в общих чертах. Но, Государь, высокие взгляды,
проводимые Вами во всех отраслях управления, и великие законодательные
меры, предпринятые Вами, делают из Вашего царствования славную
эпоху, когда рядовые способности и знания у служителей Государства
уже не могут соответствовать тому широкому размаху, который
придан правлению. Я, Государь, мог бы явить на этом поприще лишь
непригодность человека, все научные занятия которого в прошлом
связаны были с предметами, чуждыми этой области.
Государь, я не смею проникать Вашей царственной мысли, мне
неведомы Ваши намерения относительно меня. Но я знаю, и весь
мир, как и я, знает, что все действия Вашего правительства запечат-
Письма
389
лены великой мыслью, и эта мысль исходит от Вас. Я обращаюсь
поэтому к Вам в сознании, что говорю с Государем, столь же высоко
стоящим, как человек, среди людей, сколь он высоко поставлен, как
Монарх, среди монархов.
Я много размышлял над положением образования в России и
думаю, Государь, что, заняв должность по народному просвещению, я
мог бы действовать соответственно предначертаниям Вашего
правительства339. Я думаю, что в этой области можно много сделать, и
именно в том духе, в котором, как мне представляется, направлена
мысль Вашего Величества. Я полагаю, что на учебное дело в России
может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно
дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на
которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во
всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение
в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обособиться в наших
взглядах на науку не менее, чем в наших политических воззрениях,
и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, во всем
не подчиняться воздействию других народов, но с своей стороны
воздействовать на них. Если бы эти мысли оказались согласными
со взглядами Вашего Величества, я был бы несказанно счастлив
содействовать осуществлению их в нашей стране. Но прежде всего я
глубоко убежден, что какой-либо прогресс возможен для нас лишь
при условии совершенного подчинения чувств и взглядов
подданных чувствам и взглядам Монарха.
Государь, я счел долгом честного человека340 доложить Вам о моей
непригодности в той области, которую Вы мне предназначили, и о
том, что я мог бы дать в другой области. Но какова бы ни была Ваша
верховная воля по отношению ко мне, я буду счастлив подчиниться
ей. Вы, Государь, судья в вопросе о том, какое применение следует
дать для общего блага способностям того или другого из Ваших
подданных. Я умоляю лишь Ваше Величество соблаговолить милостиво
оценить те поводы, которые вызывают мое поведение в настоящем
случае.
Государь, имею честь быть Вашего Величества верноподданный
Чаадаев.
Июль 15
390
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
А. X. Бенкендорфу от 15 июля 1833 г.341
Милостивый Государь
Граф Александр Христофорович.
Я имел честь получить письмо Вашего Сиятельства342. Государь
Император желает, чтоб я служил по министерству финансов. Я
осмелился отвечать на это Самому Государю. Прошу покорнейше
Ваше Сиятельство письмо мое вручить Его Величеству.
Я пишу к Государю по-французски. Полагаясь на милостивое
Ваше ко мне расположение, прошу Вас сказать Государю, что
писавши к Царю Русскому не по-русски, сам тому стыдился343. Но я желал
выразить Государю чувство, полное убеждения, и не сумел бы его
выразить на языке, на котором прежде не писывал. Это новое тому
доказательство, что я в письме своем говорю Его Величеству о
несовершенстве нашего образования. Я сам живой и жалкий пример
этого несовершенства344.
Вашему Сиятельству доложу я еще, что если вступлю в службу, то
в сей раз пишу по-французски в последние. По сие время писал я на
том языке, на котором мне всего было легче писать. Когда стану
делать дело, то, Бог поможет, найду и слово русское: но первого опыта
не посмел сделать, писав к Государю.
С глубочайшим почтением честь имею быть Вашего Сиятельства,
Милостивого Государя, покорный Ваш слуга Петр Чаадаев.
Москва,
июля 15. 1833
А. X. Бенкендорфу от 16 августа 1833 г.345
Милостивый Государь
граф Александр Христофорович.
Приношу живейшую мою благодарность Вашему Сиятельству за
участие, которое Вы изволите принимать в моей судьбе. Получив
письмо Ваше, я был тронут, найдя в нем, что Вы для собственной
моей пользы не вручили Государю всеподданнейшего письма мое-
Письма
391
го. Возвращая это самое письмо Вашему Сиятельству, я отнюдь не
имею дерзости ожидать, чтоб оно сделалось известным Его
Величеству, но прошу Вас только прочесть его. Надеюсь, что Вы
увидите, что я не имел безумия включить в оное рассуждения о делах
государственных, и что в особенности нет в нем ничего похожего
на преступные действия французов, которыми более кого-либо
гнушаюсь346. Мнение Государево для меня неоцененно, и я
чрезмерно счастлив, что благосклонностью Вашею сохранен от
невыгодного Его Величества обо мне понятия, но и мнение Ваше для
меня драгоценно, потому и решился я представить это письмо на
Ваше суждение.
Осмелюсь только сказать в оправдание свое насчет того
выражения, которое показалось Вам предосудительным, что мне кажется,
что состояние образованности народной не есть вещь
государственная, и что можно судить об образованности своего отечества, не
отваживаясь мешаться в дела государственные, потому что всякой по
собственному опыту знать может, какие способы и средства в его
отечестве для учения употребляются, а глядя вокруг себя, оценить
степень просвещения в оном. К тому же, говоря о несовершенстве
нашего образования, я не помышлял хулить наши учебные
учреждения и действия правительственные, а разумел только образ ученья
нашего, коего недостатков ношу в себе горестное сознание. Прошу
Ваше Сиятельство покорнейше простить мне это скромное
прекословие, которое себе позволил единственно из желания оправдать
себя пред Вами.
Впрочем, какое бы мнение Ваше Сиятельство по сему обо мне
не возымели, в моих понятиях долг святой каждого гражданина,
покорность безусловная властям, провидением поставленным,
а Вы, облеченные доверием самодержца, представляете в глазах
моих власть Его. Всякому Вашему решению смиренно
повиноваться буду.
Имею честь быть с глубочайшим почтением и преданностью
Вашего Сиятельства покорный слуга
Петр Чаадаев.
16 августа 1833.
Москва
392
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
А. X. Бенкендорфу от второй половины 1833 г.347
Милостивый Государь
Граф Александр Христофорович.
Не имея никакого права ожидать ответа на письмо, которое
писал к Вашему Сиятельству, прошлого августа месяца, во время
отсутствия Вашего за границею348, теперь осмеливаюсь писать к Вам
единственно для того, чтоб если Вы по сему случаю как-либо не
изволили получить письма моего, известить Вас, что я не оставил
поступка своего без оправдания. Я знаю, что сего оправдания не
достаточно, потому что в таких делах не имею возможности
представиться Вам в другом виде, в каком раз представился. Но, находясь
по сему случаю также и пред Высоким лицом Государя, не мог я не
употребить, хотя и без надежды, все средства, дабы заслужить вновь
милостивого воззрения Его Величества.
Уверяю Вас, Ваше Сиятельство, что никто лучше меня самого не
может оценить моего безрассудства и что горесть моя, лишив себя
счастья служить Государю, неописуема.
С глубочайшим почтением имею честь быть, Милостивый
Государь, Вашего Сиятельства покорнейший слуга Петр Чаадаев.
П. А. Вяземскому от 9 марта 1834 г.349
Voilà, cher Prince, M. Chlustine, qui s'en va à Petesbourg, & qui désire
faire Votre connaissance. C'est un jeune homme très distingué, comme
vous allez en juger, vous mêmes, tout-à-1'heure. Vous savez probablement
qu'il est fils d'une soeur de notre ami, l'américain, & frère d'une dame de
secour, qui habite Rome en ce moment, une femme remarquable, dit-on.
En voilà assez sur notre jeune homme; je ne doute pas qu'il ne Vous
intéresse. Profitons de la circonstance, pour parler d'autre chose.
Vous savez que je me suis livré à quelques études sérieuses, & à des
travaux que je poursuis en silence! Vous en avez vu un lambeau, mais ce
n'était ni le morceau le plus important, ni le mieux fait. Le tout, est un
travail assez considérable, que je serais fâché, je vous l'avoue, d'avoir fait
sans fruit. Le point de vue d'où j'envisage les choses, m'est particulier, je
Письма
393
crois, & me semble tel, qu'il servirait peut-être, à éclaircir quelques
obscurités dans le monde philosophique, voire même, dans le monde social,
aujourd'hui que ces deux mondes, si je ne me trompe fort, ne sont plus
qu'un seul monde.
Il me serait fort aisé de publier cela, hors du pays, comme bien vous
pensez. Mais je crois que c'est de la Russie, de notre pays, que doivent
partir certaines idées, pour produire l'effet nécessaire. C'est une opinion qui
se rattache à l'ensemble de mes opinions, & j'y tiens. Nous sommes
placés vis-à-vis de la civilisation générale d'une manière toute particulière,
qui n'a pas été encore apreciée. N'ayant proprement rien à démêler avec
ce qui se passe en Europe, nous sommes plus desintéressés, plus froids,
plus impersonnels, plus impartiaux par consequent, sur tous les objets
en discussion, que les gens de l'Europe. Nous sommes donc, en quelque
sorte, les jurés constitués, pour toutes les hautes questions du monde. Je
suis convaincu qu'à nous est dévolue la tâche de résoudre les plus grands
problèmes de la pensée & de la société, parce que nous ne sommes pas
sous l'impression funeste de toutes les superstitions, de tous les prestiges
qui envahissent les esprits en Europe. Il ne dépend que de nous de nous
faire aussi abstrait que nous voulons, donc, aussi justes que ce peut. Pour
eux, là-bas, impossible. Le passé pèse sur eux du poids immense de ses
souvenirs, de ses habitudes, de ses routines, & les écrase quoiqu'ils fassent.
Vous concevez d'après cela, que je dois épuiser d'abord toutes les
possibilités de publication, dans le pays, avant de me déterminer à me produire
devant l'Europe, & à me dépouiller de ce caractère national, ou local, qui
fait partie de mes idées.
On dit qu'il y a plus de liberté chez Vous, qu'ici. C'est ce qui me fait
vous écrire, pour vous en demander votre avis. Je n'en suis pas étonné, du
reste. Les hautes puissances sont toujours moins ombrageuses & moins
étroites, que les petits agents subalternes; c'est la nature des choses. Vous
avez chez vous, d'ailleurs, des gens qui conçoivent du moins le bien, si ce
n'est qu'ils le font.
Le titre du livre serait, lettres philosophiques adressées à une dame.
Pour complaire à la censure, on pourrait retrancher quelques lettres, ce
que j'aimerais mieux que de toucher au texte. Si cela devait paraître,
traduit, dans quelques recueil périodique, il y aurait encore plus de latitude,
pour la complaisance; on pourrait choisir quelques lettres, sans observer
de suite, & les donner en forme de fragments. Enfin, quand vous n'aurez
394
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
rien de mieux à faire, dites moi, je vous prie, ce que vous en pensez. Du
reste, je ne vous en parle que dans l'idée que vous ne serez pas indifférent
à une chose de ce genre. Vous pensez bien que je ne compte pas
beaucoup sur le succès.
Que dites vous de certaines productions du jour, telle p. e. que le Tasse
de Koukolnike, & son autre drame? Ou que dit-on du livre d'Orlof? J'ai
devant moi un petit volume de poésies, d'une dem. Teplof, qui m'a fait
grand plaisir. Je suis heureux de voir que les femmes commencent à faire
quelque chose, chez nous; elles n'ont jamais été pour rien dans notre
développement; c'est ce qui nous rend si brutaux.
Je viens de voir notre bonne connaissance, la belle des belles que Vous
fait compliment. Plus belle que jamais! le jour où on Га vu, on ne veut plus
rien voir autre chose.
Bon jour, cher Prince. Mes très grands hommages à mad. la Princesse.
Rappelez moi, je Vous prie, à Zoukofsky. A-t-on des nouvelles, par-là, du
Juif errant? Singulier homme! Il remplit des lettres entières, de choses,
pour moi, & à moi directement jamais il ne m'écrit une ligne. Apparement
qu'il est comme les femmes de Moscou, qui me trouvent trop sérieux (?),
pour elles. Il est un peu femme, notre ami, c'est vrai, mais femme d'esprit,
au moins, je pensais. Bon jour, encore une fois. Tout à Vous
Tschaaâaeff
Moscou, 9 mars
[Перевод:]
Вот, милый князь, г-н Хлюстин350, который едет в Петербург и
желает с вами познакомиться. Это весьма благовоспитанный
молодой человек, как вы вскоре сами убедитесь. Быть может, вам
известно, что он сын одной из сестер нашего друга; американца, и брат
одной светской дамы, которая сейчас живет в Риме, женщины, как
говорят, выдающейся. Довольно о нашем молодом человеке; не
сомневаюсь, что вы им заинтересуетесь. Воспользуемся случаем, чтобы
поговорить о другом.
Вам известно, что я занимаюсь некоторыми серьезными
исследованиями и в затворничестве работаю над неким трудом. Вы видели
один отрывок, но не самый важный и не лучшим образом
отделанный351. Целое представляет из себя весьма значительный труд, кото-
Письма
395
рый, признаюсь, мне было бы досадно сделать зря. Я рассматриваю
вещи со своей собственной точки зрения, и она кажется мне
пригодной для освещения темных мест в философском мире, а также
в мире социальном, так как ныне эти два мира, если не ошибаюсь,
составляют единое целое.
Как вы понимаете, мне было бы легко опубликовать это за
границей. Но думаю, что для достижения необходимого результата
определенные идеи должны исходить из нашей страны, из России. Такое
мнение составляет часть всей совокупности моих мыслей. Мы
находимся в совершенно особом положении относительно мировой
цивилизации и положение это еще не оценено по достоинству.
Рассуждая о том, что происходит в Европе, мы более беспристрастны,
холодны, безличны и, следовательно, более нелицеприятны по
отношению ко всем обсуждаемым вопросам, чем европейцы. Значит,
мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных,
учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем352. Я
убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы
мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий
и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей
власти оставаться настолько независимыми, насколько необходимо,
настолько справедливыми, насколько возможно. Для них же это
невозможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом
воспоминаний, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из
всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все
возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить
перед лицом Европы, и освободиться от того национального или
местного характера, который является частью моих идей.
Говорят, что у вас больше свободы, нежели здесь. По этой
причине я и пишу вам, чтобы спросить ваше мнение. Впрочем, это меня не
удивляет. Высшие власти всегда менее подозрительны и ограничены
в вопросе о природе вещей, чем мелкие подчиненные исполнители.
К тому же, у вас есть люди, которые хотя бы чувствуют добро, если
и не делают его.
Книга будет называться «Философические письма, адресованные
даме». Чтобы угодить цензуре, я бы предпочел исключить
некоторые письма, но не искажать текст. Если она увидит свет в одном из
периодических сборников, то будет еще большая свобода действий;
396
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
можно будет выбрать несколько писем, не соблюдая
последовательности, и представить их в форме отрывков. Когда у вас не будет
более интересного занятия, прошу вас, сообщите мне, что вы об этом
думаете. Впрочем, я говорю вам обо всем этом, надеясь, что вы не
будете безразличны к подобным вещам. Вы понимаете, что я не
слишком рассчитываю на успех.
Что скажете о некоторых современных произведениях, таких,
например, как «Тассо» Кукольника и другая его драма?353 А что
говорят о книге Орлова?354 У меня в руках небольшой томик стихов
девицы Тепловой355, который доставил мне огромное удовольствие.
Я счастлив, что наши женщины начинают чем-то заниматься, они
никогда ранее не вносили никакой лепты в наше развитие; по этой
причине мы так грубы.
Я только что виделся с нашей доброй знакомой, красавицей из
красавиц356. Она шлет вам привет. Она стала еще прекрасней! Когда
видишься с ней, не хочется более ничего в этот день видеть.
Прощайте, милый князь. Засвидетельствуйте мое глубокое
почтение княгине357. Передайте от меня привет Жуковскому. Есть ли
какие-нибудь новости о вечном жиде?358 Удивительный человек! Он
пишет письма, заполненные предназначенными для меня вещами,
но мне лично он никогда не написал ни строчки359. Он точно
московские дамы, которые находят меня слишком для них серьезным.
В нашем друге действительно есть нечто от женщины, но от
женщины умной, полагаю. Еще раз приветствую вас. К вашим услугам.
Чаадаев
Москва, 9 марта
А. И. Тургеневу от 1 мая 1835 г.360
Votre lettre, cher ami, m'a fait grand plaisir. Elle est remplie de cette
chaleur pour les choses d'un intérêt universel que tous les jours devient
plus rare parmi nous: bientôt il n'en sera plus question. Mais je dois vous
dire aussi qu'elle m'a fait de la peine. L'écrit dont vous me parlez ne vaut
rien du tout; c'est pour cela que je voulais vous le retirer à votre départ.
Ainsi je ne prétends pas en être solidaire. Vous allez recevoir un autre
Письма
397
exemplaire de la même chose; jetez celui-là au feu et qu'il n'en reste plus
de trace. Vous concevez d'après cela, que je n'ai rien à redire aux
bénévoles censures de la comtesse Rjewoutzka. Dites-lui bien, je vous prie, si
vous la revoyez, que je suis très-touché de ses sympathies, et qu'en ma
qualité de philosophe des femmes, j'en fais un cas infini. Qui sait? Peut-
être, un jour, lui dirai-je cela en propre personne. Si jamais je sors de
mon pays, elle peut être bien assurée qu'il ne me coûtera rien de faire
un crochet de deux cents lieux, et plus, pour lui aller faire ma révérence.
Mais en attendant que j'aille trouver cette femme d'esprit-là, figurez-vous
que toutes les femmes d'esprit s'en vont d'ici. Voilà mad. Orlof qui s'en
va; voilà mad. Bravoura qui s'en va; voilà mad. Jelaguine qui s'en va; voilà
la princesse Meschtscherskaya qui s'en est allée. Celle-là, du moins, va
revenir; quant aux autres, elles vont vous chercher en Italie: je n'ai garde
de leur dire bon voyage, vous le pensez bien, car Dieu sait si nous avons
assez de desot sans cela!
Vous parle-t-on de nos productions du jour? Nous avons d'abord un
volume de contes, de Pavlof. Tâchez de vous le procurer, et lisez le premier
conte: vous m'en direz des nouvelles. Si je ne me trompe fort, ce morceau
est un événement. Ensuite nous avons un drame. Autre événement, mais
dans un sens différent La pièce est intitulée Скопин-Шуйский; l'auteur est
Кукольник, espèce de Victor Hugo en petit format, et sauf les intentions,
bien entendu. Vous savez que ce Скопин-Шуйский est l'une des figures
les plus remarquables de notre histoire, la seule peut-être de cette
grandeur dans toutes nos annales: c'est un héros civilis, un héros à la manière
de l'Occident. Or, dans le drame ce n'est pas lui qui est le personnage
dominant, c'est Ляпунов. Celui-là c'est un sauvage, un barbare, qui de sa taille
de barbare écrase Chouyskoy complètement, et qui est le grand homme
du poème. Pour lui donc les applaudissements, pour lui le fanatisme du
public. Vous comprenez la portée de cette belle conception? Il y a là des
morceaux de féroce énergie contre tout ce qui vient de l'Occident, contre
toute espèce de civilisation: et le parterre de claquer! Enfin, que vous dirai-
je? c'est l'apothéose de la barbarie. Voilà, mon ami, où nous en sommes
venus. Encore une chose curieuse que vous trouverez dans la Bibliothèque.
Un cri de fou enragé contre la philosophie allemande. Faites bien attention
à cela; jamais impudence littéraire, jamais cynisme de l'esprit n'allèrent
plus loin; et ce qu'il y a de plus amusant, c'est que cet article est accoudé à
une lettre charmante de Joukofsky, toute pétrie de l'esprit germanique.
398
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Au moment où nous sommes, il se fait chez nous, dans les esprits,
une singulière opération. On est en travail d'une sorte de nationalité
qui, ne pouvant se fonder sur rien, attendu que toute matière pour cela
manque absolument, ne sera, comme de raison, si l'on arrive à fabriquer
quelque chose de tel, qu'une création tout à fait artificielle. Ainsi, poésie,
histoire, art, tout cela va se précipiter dans un abome de mensonge et
de déception, et cela dans un siècle où, dans d'autres lieux, une
analyse formidable fait main basse sur tout ce qui reste l'illusions dans les
sphères de l'intelligence. Il est impossible le prévoir à présent où cela
nous mènera; il y a là peut-être au fond un bien caché qui se produira
à l'heure marquée; il est possible que ce n'est non plus qu'une œuvre
d'analyse, qui nous fera comprendre enfin que c'est sur une haute et
profonde appréciation de notre positon actuelle devant le siècle, que
nous devons chercher à asseoir notre avenir, et non sur un passé qui
n'est rien qu'un néant. Quoiqu'il en soit, en attendant que les vues de la
Providence se manifestent, cette tendance me semble une véritable
calamité. Dites, n'est-ce pas une pitié que de nous voir, au moment où tous
les peuples fraternisent ensemble, où toutes les personnalités locales ou
géographiques s'effacent, nous refouler ainsi sur nous-mêmes, et revenir
à l'amour du clocher? Vous savez que, selon moi, la Russie était appelée
à fournir une immense carrière intellectuelle: elle devait, un jour, donner
la solution de toutes les questions qui se débattent en Europe. Placée en
dehors du mouvement rapide qui emporte là-bas les esprits, pouvant
considérer avec calme et avec une parfaite impartialité, tout ce qui là-bas
agite et passionne les âmes, à elle était dévolue, selon moi, la tâche de
prononcer un jour le mot de l'énigme humaine. Mais que cette tendance
se prolonge, adieu mes belles espérances: jugez si j'en suis heureux! Moi,
qui n'aimais dans mon pays que son avenir, que voulez-vous alors que
j'en fasse? A ce point de vue dégagé de tous les préjugés, de tous les
égoïsmes qui retardent encore dans la vieille société le développement
final de l'intelligence, point de vue que la nature même des choses nous
impose; à cet élan puissant qui devait nous porter d'un seul jet là, où les
autres peuples n'ont pu arriver que par des efforts inouïs et à travers
d'effrayantes calamités, à cette pensée large qui ailleurs n'a pu être que
le résultat d'un travail de l'esprit qui a englouti siècles et générations, on
préfère l'étroite idée qu'aujourd'hui toutes les nations repoussent, qui de
toute part s'en va. Hé bien, soit; je ne m'en mêle plus. J'ai dit ma pensée
Письма
399
à haute voix, le bon Dieu fera le reste. Bon jour, mon ami. Adveniat re-
gnum tuum.
Faites-moi le plaisir de ramasser quelques particularités sur le
nommé Philarète Chasles, dont je trouve parfois d'excellents articles dans la
Revue de Paris. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'abbé Lacordaire?
Madame Swetchine pourra certainement vous en donner des nouvelles. La
p. Meschtcherskaya qui est revenue, me charge de vous dire qu'elle a
parlé de vos Обливанцы, et que ces petites persécutions se pratiquent à
l'insu des hautes autorités, et que les persécuteurs avaient déjà été
réprimandés à ce propos.
1 Mai
[Перевод:]
Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне большое удовольствие.
Оно преисполнено того горячего участия к делам, представляющим
общий интерес, которое с каждым днем все реже встречается среди
нас: скоро об этом и помину не будет. Но я должен вам сказать, что
оно и огорчило меня. Рукопись, о которой вы говорите, никуда не
годится; вот почему я и хотел взять ее у вас обратно при вашем
отъезде. Поэтому я и не намерен ответствовать за ее содержание361. Вы
получите другой экземпляр того же; бросьте этот в огонь, и пусть
от него и следов не останется. Вы поймете поэтому, что я не имею
ничего возразить против благожелательных исправлений графини
Ржевусской362. Уверьте ее, пожалуйста, если встретите ее, что я
весьма тронут ее симпатиями и, в качестве философа женщин363, очень
высоко их ставлю. Как знать? Быть может, когда-нибудь мне
доведется лично высказать ей это. Если я выберусь когда-нибудь из моей
страны, то она может быть уверена, что мне ничего не будет стоить
сделать крюк миль в двести и даже более, чтобы засвидетельствовать
ей мое почтение. Но в ожидании того, что мне удастся посетить эту
умную женщину, представьте себе, что все умные женщины уезжают
отсюда. Орлова364 уезжает; Бравура уезжает; Елагина365 уезжает;
княгиня Мещерская уехала. Эта, по крайней мере, вернется; что касается
остальных, то они отправляются к вам в Италию: вы легко можете
себе представить, что я не пожелал им счастливого пути, ибо, видит
Бог, у нас и без того довольно...
400
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Имеете ли вы известия о том, что у нас появилось в свет на этих
днях? Во-первых, мы имеем том рассказов Павлова. Постарайтесь
добыть его и прочтите первый рассказ: это стоит почитать. Или я
очень ошибаюсь, или это произведение представляет событие366.
Затем у нас есть драма. Тоже событие, но в другом смысле. Пьеса
озаглавлена Скопин-Шуйский367; автор — Кукольник368, нечто
вроде Виктора Гюго в маленьком формате и, понятно, без его
устремлений369. Вам известно, что этот Скопин-Шуйский одно из
замечательнейших явлений нашей истории, единственное, быть может,
по своему размеру на всем протяжении наших летописей. Это
цивилизованный герой, герой на западный лад370. Между тем в драме
не он является первенствующим лицом, а Ляпунов. Этот
последний — дикарь, варвар, своей варварской грузностью совершенно
подавляющий Шуйского, и он — является великим человеком
данного поэтического произведения371. Ему, следовательно,
аплодисменты, ему фанатизм публики. Вам понятно, куда клонит эта
прекрасная концепция. Там есть места, исполненные дикой энергии и
направленные против всего, идущего с Запада, против всякого рода
цивилизации372, а партер этому неистово хлопает! Вот, мой друг, до
чего мы дошли. Еще любопытную вещь найдете вы в Библиотеке.
Крик бешеного безумца против немецкой философии373. Обратите
на это свое внимание; никогда еще литературное бесстыдство,
никогда еще цинизм духа не заходили так далеко; и что всего забавнее:
эта статья помещена бок о бок с прелестнейшим письмом
Жуковского, пропитанным немецким духом374.
В настоящую минуту.у нас происходит какой-то странный
процесс в умах. Вырабатывается какая-то национальность, которая, не
имея возможности обосноваться ни на чем, так как для сего
решительно отсутствует какой-либо материал, будет,понятно, если только
удастся соорудить что-нибудь подобное, совершенно искусственным
созданием375. Таким образом, поэзия, история, искусство, все это
рухнет в бездну лжи и обмана, и это в тот век, когда в других местах
огромный анализ расправляется с последними остатками иллюзий
в областях понимания. В настоящее время невозможно предвидеть,
куда это нас приведет; быть может, в глубине всего этого скрывается
некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час;
возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в
Письма
401
конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования
для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего
настоящего положения пред лицом века, а не в некотором прошлом, которое
является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании
того, что предначертания Провидения станут явными, это
направление умов представляется мне истинным бедствием. Скажите, разве
это не жалость видеть, как мы, в то время как все народы братаются
и все местные и географические отличия стираются, обращаемся
таким образом вновь на себя и возвращаемся к квасному патриотизму?
Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к
необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение
всем вопросам, возбуждающим споры в Европе376. Поставленная вне
того стремительного движения, которое уносит там умы, имея
возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что
волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила
в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки. Но
если это направление умов продолжится, мне придется
проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я
себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране
лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке
зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов,
замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке
зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей; этому
могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком
туда, куда другие народы могли придти лишь путем неслыханных
усилий и, пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли,
которая у других могла быть лишь результатом духовной работы,
поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею,
отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду
исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану.
Я громко высказал мою мысль, остальное будет делом Бога. Будьте
здоровы, мой друг. Да приидет царствие Твое577.
Доставьте мне удовольствие: соберите кой-какие сведения о
некоем Филарете Шаль, превосходные статьи которого попадаются мне в
Revue de Paris378. Затем, что такое аббат Лакордер?379 Свечина может
вам наверное сообщить кой-что о нем380. Кн. Мещерская вернулась
и поручила мне сказать вам, что она говорила о ваших Обливанцах,
402
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
и что эти маленькие преследования происходят без ведома высших
властей, и что преследователи уже получили выговор по этому
поводу381.
1 мая
А. И. Тургеневу не позднее августа 1835 г.382
Voici, mon cher ami, le manuscrit que j'ai promis de vous envoyer. Ce
n'est rien qu'un nouvel exemplaire de l'écrit que vous avez; mais celui-là,
je crois, peut paraître sans rougir devant le public du monde civilisé.
Hâtez-vous, je vous prie, de m'en donner quittance. Vous pensez bien que je
ne suis pas très-sûr du succès de son voyage. C'est pourtant Meyndorf qui
s'en est chargé. Meyndorf m'a beaucoup parlé d'une certaine France
littéraire? où il veut absolument m'imprimer. A la bonne heure. Mais qu'est-ce
que c'est que la France littéraire? Les Circourt ne m'en donnent pas une
grande idée. C'est, dit-on, affaire de coterie. N'allez pas oublier de me dire
que vous avez reçu une longue lettre, en réponse à votre lettre de Vienne,
où je vous parlais de toutes sortes de choses, notamment de plusieurs de
nos productions littéraires. Cette fois je ne vous dirai rien. Bon jour donc.
S'il est vrai que vous êtes toujours à Paris, dans ce foyer de sombres
lumières, ne m'écrivez pas sans m'envoyer quelques rayons de ses ténèbres:
p. е., du Michelet, du Lerminier, un sermon de Lacordaire, etc., etc. Une
poignée de main, je vous prie, des plus tendres, à votre frère. Adveniat
regnum tuum.
[Перевод:]
Вот, дорогой друг, рукопись, которую я обещал прислать вам. Это
лишь новый экземпляр того, что у вас есть; но он может на этот раз,
думается мне, без стыда появиться перед публикой цивилизованного
мира383. Поспешите, пожалуйста, уведомить меня о получении. Вы
понимаете, что я не вполне уверен в его благополучном прибытии.
Впрочем, заботу о нем взял на себя Мейндорф384. Мейндорф
много рассказывал мне о какой-то France littéraire, где он во что бы то
ни стало хочет напечатать меня. В добрый час. Но что такое France
littéraire? Сиркуры не больно ее хвалят385. Это, говорят, партийное
Письма
403
предприятие. Не забудьте сообщить мне, получили ли вы длинное
письмо в ответ на ваше письмо из Вены, где я писал вам о всякой
всячине, главным образом о некоторых наших литературных
произведениях386. На этот раз я вам не сообщу ничего. Итак, будьте здоровы.
Если правда, что вы все еще в Париже, в этом центре мрачного света,
то не забудьте, когда будете писать мне, послать мне несколько
лучей этого мрака, ну хотя бы что-нибудь Мишеле, Лерминье,
проповедь Лакордера и т. д., и т. д.387 Передайте, пожалуйста, пожатие руки
из самых нежных вашему брату388. Да приидет царствие Твое.
А. И. Тургеневу от октября-ноября 1835 г.389
Je vous remercie, mon ami, pour vos très intéressantes
communications. C'est une véritable Revue épistolalre. Votre lettre de Londres,
surtout, m'a vivement intéressé. Il est donc vrai qu'il existe une même idée
d'un bout de l'univers à l'autre; il y a donc véritablement un Esprit
universel qui plane sur le monde, ce Welt-Geist, dont me parlait Schelling, et
devant lequel il s'inclinait avec tant de majesté; on peut donc se tenir par
la main à des distances immenses; il n'y a point d'espaces pour la pensée,
et cette chaîne infinie d'hommes qui pensent à l'unisson, qui poursuivent
le même objet de toutes les forces de leur âme et de leur esprit, marche
donc d'un même pas et encercle l'univers entier. Continuez de me faire
ressentir le mouvement du monde: vos peines, je l'espère, ne seront pas
perdues. Il y a pourtant des choses qui vous échappent. Vous ne m'avez
point parlé, p. е., du dernier ouvrage de Heyne. Il est vrai que la plupart des
chapitres de ce singulier livre ont paru précédemment dans différentes
Revues; mais il est impossible que leur réunion en bloc n'ait pas ému le
monde philosophique. Savez-vous comment j'ai appelé Heyne? le Fieschi
de la philosophie. Vous savez qu'il met en parallèle Kant avec Robespierre,
Fichte avec Napoléon, et Schelling avec Charles X. Je n'ai donc fait que
continuer le parallèle, et je suis arrivé tout naturellement à la conjonction
épouvantable de ces deux êtres sataniques, tueurs de Rois tous les deux
chacun à sa manière. J'aime à croire que ce Fieschi-là n'a pas plus réussi
que l'autre: mais toujours est il que son livre est un attentat tout-à-fait
semblable à celui du boulevard, avec cette différence seulement que les
404
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Rois de Heyne sont plus légitimes que celui de Fieschi; car c'est le bon
Dieu lui-même, d'abord, et ensuite tous les oints de la science et de la
philosophie. Du reste, même principe anarchique, même conséquence de
votre glorieuse révolution; tous les deux enfin sont bien sortis de la boue
de Paris. Je ne sais quelle est aujourd'hui votre opinion sur cette éruption
volcanique de tontes les fanges de la France, qui a déjecté dans le monde
le déplorable juste milieu; quant à moi, tous les jours je trouve une raison
de plus pour lui en vouloir. Croyez moi, cela a reculé le monde d'un
demi-siècle, cela a brouillé complètement toutes les idées sociales, et Dieu
sait quand elles se débrouilleront! Ce jugement, c'est celui de l'esprit le
plus impartial possible, puisque c'est celui d'un esprit russe, porté à toute
l'étendue d'impersonnalité qui lui est propre. Vous savez que, dans mes
idées, l'intelligence russe est l'intelligence impersonnelle par excellence.
Le fait est que ce n'est qu'à la distance où nous sommes des événements
de l'Europe qu'on peut les bien apprécier. Nous sommes, par rapport
à l'Europe, au point de vue de l'histoire; ou, si vous aimez mieux, nous
sommes le public, là-bas sont les acteurs, à nous de juger la pièce.
Cette grande pièce qui se, joue pur les peuples de l'Europe, et à
laquelle nous assistons, spectateurs froids et impassibles, me fait songer à la
petite pièce de M. Sagoskine, qui va se jouer ici, à la quelle aussi assistera
un public froid et impassible, et qui a titre les Frondeurs (Недовольные).
Les frondeurs! Comprenez-vous toutes les malices de ce titre? Ce que je
ne comprends pas, moi, c'est où l'auteur a trouvé les personnages de son
drame. Dieu merci, on ne voit chez nous que des hommes parfaitement
heureux et satisfaits. Un bien-être niais, une satisfaction béate de nous-
mêmes, voilà chez nous le trait saillant de l'époque; et ce qu'il y a de
remarquable, c'est que c'est au moment où toutes ces nationalités aveugles,
passionnées, ennemies les unes des autres, que les peuples chrétiens
ont hérités du paganisme, s'effacent, et où toutes les nations civilisées
commencent à abjurer leurs fatuités respectives, que nous nous avisons
de nous poser ainsi dans la contemplation imbecille de nos perfections
imaginaires. On dit qu'O... et moi, nous sommes en scène dans la pièce
nouvelle. Étrange idée de faire d'O... un frondeur, de l'homme du monde
le plus parfaitement heureux, le plus fanatiquement heureux. Et moi,
qu'ai-je donc fait, qu'ai-je donc dit pour que l'on me taxe d'opposition?
Je ne dis, je ne fais qu'une chose, je répète que tout tend vers une fin, et
que cette fin, c'est le règne de Dieu. L'Oraison dominicale serait-elle par
Письма
405
hasard à l'index? Je dis, il est vrai, quelquefois aussi que les puissances de
la terre n'ont jamais empêché le monde de marcher, attendu que
l'intelligence est un fluide incompressible comme l'Electricité; que toutes les
bonnes et grandes choses mûrissent dans le silence et dans la paix; que
nous n'avons rien à démêler avec les manigances de l'Occident, parce
que nous ne sommes pas de l'Occident; que la Russie, si elle comprend sa
mission, doit avoir l'initiative de toutes les idées généreuses, parce qu'elle
n'a pas les attachements, les passions, les idées, les intérêts de l'Europe.
Mais qu'est-ce qu'il y a donc la d'hétérodoxe, je vous prie? Et pourquoi
ne dirais je pas encore que la Russie est trop puissante pour faire de
la politique des nations; que son affaire à elle dans le monde, c'est la
politique du genre humain; que l'Empereur Alexandre avait fort bien
compris cela, et que c'est la sa plus belle gloire; que la Providence nous
a faits trop grands pour-être égoïstes; qu'elle nous a placé en dehors des
intérêts de nationalités, et nous a chargé des intérêts de l'humanité; que
toutes nos idées dans la vie, dans là science, dans l'art, doivent partir
de là et y revenir; que là est notre avenir, là est notre progrès; que nous
sommes une immense spontanéité, sans lien intime avec le passé du
monde, sans rapport absolu avec son présent; que c'est la notre véritable
donnée logique; que si nous méconnaissons ces bases, tout notre progrès
ultérieur ne sera, à tout jamais, qu'anomalie, anachronisme, contresens.
Prenez-vous-en à M. Sagoskine de tout ce rabâchage, mais laissez-moi
vous dire encore un mot. Il y a parmi nous, selon moi, un prodigieux
travers. Nous chargeons le gouvernement de tous les torts. Le
gouvernement fait son affaire, voilà tout; faisons la nôtre, corrigeons-nous. C'est
une singulière erreur que de considérer une liberté indéfinie, comme
la condition indispensable du développement des intelligences. Voyez
l'Orient! n'est-ce pas la terre classique du despotisme? Hé bien! c'est
pourtant de là que sont venues toutes les lumières du monde. Voyez les
Arabes! Se doutaient-ils des bonheurs du régime constitutionnel? C'est
pourtant à eux que nous devons une bonne partie de nos connaissances.
Voyez le moyen âge. Avait-il seulement une idée des délices ineffables du
juste milieu? C'est pourtant au moyen-âge que l'esprit humain a acquis sa
plus grande énergie. Enfin, croyez-vous que la censure qui mit Gallilée au
cachot, ne valait pas celle de M. Ouvarof et consorts? La terre en tourne-
t-elle moins cependant, lancée par le coup-de-pied de Gallilée? Donc,
ayez du génie, et vous verrez.
406
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Je viens de lire dans le Journal des Débats un excellent article de
M. Marc Girardin, sur la nouvelle édition de s. Jean-Chrisostome. Si vous
connaissez M. Gir., dites-lui qu'un philosophe de Moscou, de vos amis,
vous prie de l'en remercier. Il faut que l'on sache là-bas qu'il y a du
retentissement pour les bonnes choses jusqu'en ces régions où la
température moyenne reste a 30° Réaumur durant quinze jours de suite,
ainsi qu'il advint dernièrement, et que le froid qui congèle le mercure
ne congèle pas une idée profonde. Peut-être aussi concevront-ils que
le siècle n'est point si athée qu'on le dit, quand ils verront une idée
religieuse saluée de si loin à l'instant où elle est émise par un esprit
distingué. M. Gir. fait voir que tout le progrès récent dans les sciences
physiques vient à l'appui du système génésiaque de la Bible, et il se fonde
sur le nouveau traité sur l'Electricité de M. Becquerel. Au moment où je
vous écris, j'achève ce traité. Ce qu'il y a de curieux, c'est que l'auteur ne
se doute nullement du parti qui se laisse tirer de son livre, si bien qu'il
réfute même les preuves que Cuvier fournit en faveur de la cosmogonie
mosaïque. Voici une autre chose curieuse que j'y trouve. Comment se
fait-il que dans cette grande affaire de l'Electricité, dans laquelle des
hommes de toutes les nations civilisées ont participés, nous n'ayons
contribués de rien? Quelques observations sur le Magnétisme terrestre,
faites par des étrangers, par un Kupfer, p. е., voilà tout. Une fois M. Si-
monof, de Casan, est nommé, mais c'est pour lui dire que son
observation ne vaut rien. Avouons-le, il y a quelque lacune profonde dans notre
organisation intellectuelle. Par exemple, la capacité de la conséquence
logique, l'esprit de méthode et de suite, nous manquent absolument
Spurzheim, dans sa classification phrénologique des facultés humaines,
désigne ce groupe par l'organe de la causalité; c'est précisément cet
organe-là qui est demeuré sans développement dans nos pauvres
cerveaux; on n'a qu'a se tâter le crâne pour s'en convaincre. C'est que l'idée
n'a jamais dominé parmi nous; c'est que nous n'avons jamais été mus
par de grandes croyances, par de puissantes convictions. Qu'est-ce,
qu'en effet, les événements mesquins de notre histoire religieuse,
devant les conflagrations de la pensée chrétienne en Occident? Et ne dites
pas que nous sommes jeunes, que nous sommes en arrière des autres
peuples, que nous les rejoindrons. Non, nous ne sommes pas plus du
XVI, du XV siècle de l'Europe, que du XIX. Prenez telle époque que vous
voudrez de l'histoire des peuples de l'Occident, comparez-la à ce que
Письма
407
nous sommes l'an de grâce 1835, et vous verrez que nous n'avons pas
même le principe de la civilisation de ces peuples; vous trouverez que
ces nations ont toujours vécu d'une vie animée, intelligente, féconde;
qu'une idée leur a été livrée dès le commencement, et que c'est la
poursuite de cette idée, et son développement, qui ont fait toute leur
histoire; qu'enfin ils ont toujours créés, inventés, découverts. Dites moi quelle
est l'idée que nous développons? Qu'avons nous découverts, inventés,
créés? Il ne s'agit donc nullement pour nous de courir après les autres; il
s'agit de nous apprécier franchement, de nous concevoir tels que nous
sommes, de sortir du mensonge, et de nous placer dans la vérité. Après
cela nous avancerons, et nous avancerons plus rapidement que les
autres, parce que nous sommes venus après eux, parce que nous avons
toute leur expérience et tout le travail des siècles qui nous ont précédés.
Les gens de l'Europe se méprennent étrangement sur notre compte.
Voila M. Jouffroy, p. е., qui nous apprend que nous sommes destinés
à civiliser l'Asie. C'est fort bien; mais demandez-lui donc, je vous prie,
quels sont les peuples de l'Asie que nous avons civilisés? Apparemment
les mastodontes et les autres populations fossiles de la Sibérie, seules
races d'êtres, à ma connaissance, que nous ayons tirés de l'obscurité,
et cela encore grâce aux Pallas et aux Fischer. Ils s'obstinent à nous
livrer l'Orient; par une sorte d'instinct de nationalité européenne, ils
nous refoulent en Orient pour ne plus nous rencontrer en Occident. Ne
soyons pas dupes de leur artifice involontaire; cherchons nous-mêmes
à découvrir notre avenir, et ne demandons pas aux autres ce que nous
avons à faire. L'Orient est aux maîtres de la mer, cela est évident; nous
en sommes beaucoup plus éloignés que les Anglais, et nous ne sommes
plus au temps où toutes les révolutions de l'Orient partaient de l'Asie
centrale. La nouvelle Charte de la Compagnie des Indes, voilà désormais
le véritable élément civilisateur de l'Asie. C'est l'Europe, au contraire,
que nous sommes destinés à instruire sur une infinité de choses qu'elle
ne saurait concevoir sans cela. Ne riez pas: vous savez que c'est mon
intime conviction. Un jour viendra où nous nous placerons au milieu
de l'Europe intellectuelle, comme nous sommes déjà placés au milieu de
l'Europe politique, plus puissants alors par notre intelligence que nous
le sommes aujourd'hui par notre force matérielle. Tel sera le résultat
logique de notre longue solitude: toujours les grandes choses sont venues
du désert. La puissante voix qui vient de retentir dans le monde, servira
408
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
singulièrement à hâter l'accomplissement de nos destinées. Frappée de
stupeur et d'épouvante, l'Europe nous a repoussés avec colère; la page
fatale de notre histoire, écrite de la main de Pierre le Grand est déchirée;
grâce à Dieu, nous ne sommes plus de l'Europe: dès ce jour donc, notre
mission universelle a commencé. Aussi voyez si jamais acte de
gouvernement fut salué de plus de sympathies nationales, si jamais accord plus
parfait s'est vu entre les sentiments du souverain et ceux des peuples!
C'est que c'est la Providence, elle-même, qui a parlé par la bouche du
prince: voilà pourquoi tous les instincts de la nation se sont prosternés
devant cette voix du ciel.
En voilà bien assez de philosophie; parlons un peu de nous. J'ai eu
tout récemment des nouvelles de notre illustre Schelling, par le jeune Ga-
garine. Si tout ce que ce jeune homme m'a dit de la part du philosophe,
n'est point exagéré, je ne puis qu'être très-sensible à cette application de
la doctrine de l'Identité à ma chétive personne. Il paraît que le misérable
article de la Bibliothèque ne lui est point parvenu. Mais vous, vous ne
me parlez plus de M. Ballanche. Savez-vous que j'avais bâti toute une
philosophie sur ses sympathies. Je vous avoue pourtant, que j'ai été fort
surpris du jugement qu'il a porté de mon écrit: certes, le méchant
exemplaire qu'il a eu entre les mains ne pouvait me le faire préjuger. Quoiqu'il
en soit, dans l'intérêt de la philosophie, vous ne devriez pas se laisser
dénouer des rapports que vous avez, vous-même, contribués à former.
Un homme encore avec le quel j'aimerais bien à me mettre en contact,
c'est M. de Genoude. Il y a de la vie dans cette âme de prêtre: il ne reste
pas les bras croisés à voir passer le monde, il frappe à toutes les portes, il
est partout avec son Christ. Tel est le philosophe catholique. Le principe
du catholicisme est un principe d'action, un principe social, avant tout.
C'est le caractère que vous lui trouverez à toutes les époques des temps
modernes. Seul il a compris le règne de Dieu, non pas seulement comme
idée, mais encore comme fait, parce que seul il est en possession de
ces traditions sacrées, de cette doctrine des élus qui, de tout temps, ont
fait exister le monde sans qu'il s'en doutât: In mundo erat, et mundus
per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. Vous voyez que ma
religion n'est pas précisément celle des théologiens, et vous me direz
peut-être que ce n'est point non plus celle des peuples. Mais moi je vous
dirai que c'est la religion qui est au fond des esprits, et non pas celle qui
est aux boute des langues; que c'est la religion des choses, et non pas
Письма
409
celle des formes; que c'est la religion qui est et non pas celle qui paraît;
qu'enfin c'est cette religion anticipée que tous les cœurs ardente, toutes
les âmes profondes évoquent aujourd'hui, et qui, selon le grand historien
de l'avenir, deviendra un jour le culte définitif et la vie tout entière de
l'humanité; mais qui en attendant ne se heurte pas contre les croyances
populaires, qui les adopte au contraire, dans sa vaste charité, tout en les
dépassant. Si j'avais trouvé une religion toute faite autour de moi, alors
que j'en cherchais une, je l'aurais prise assurément; mais n'en ayant point
trouvé, force me fut d'embrasser la communion des Fénélon, des Pascal,
des Leibniz et des Bacon. Au fait, vous avez en tort de me qualifier de
vrai catholique. Je ne renie point mes croyances, sans doute; il me siérait
mal, d'ailleurs, aujourd'hui que ma tête commence à grisonner, de
fausser toute une existence de convictions; cependant, je vous l'avoue, je ne
voudrais pas trouver la porte de l'hôpital fermée devant moi quand j'y
viendrai frapper un de ces matins. Que cette péroraison ne vous affecte
pas; vous savez que je suis préparé de longue main à la catastrophe qui
doit servir de péripétie à mon histoire. Mon pays ne donnera pas le
démenti à mon système, cela est bien certain.
Bonjour, mon ami. J'aime à croire que vous ne me reprocherez plus
ma taciturnité, et que vous-même vous irez toujours votre train. Donnez-
moi des nouvelles de madame Svetchine; vous devez croire que je ne puis
que m'intéresser profondément à tout ce qui concerne cette dame. Quant
à vos commissions, elles sont remplies à mesure qu'elles arrivent, sinon
toujours avec succès, du moins toujours avec zèle. Du reste, faudrait être
plus savant que je ne le suis dans la physiologie des passions pour vous
bien servir en toutes choses. Toujours est-il que je vous aime bien, et que
je fais de mon mieux. Ad. reg. tuum.
Voilà la Princesse Meschtscherskaya qui arrive de la campagne; je vais
donc lui parler de vous.
Il y a un mois que cette lettre est écrite. Boulhakof n'était pas à
Moscou. Je crois qu'il est revenu depuis longtemps; mais je ne l'ai su
qu'hier. Je la laisse partir telle qu'elle est, pour n'avoir pas la peine d'en
faire une autre. En attendant j'ai reçu la brochure de M. d'Ekstein. Je
vous prie de lui dire que je suis très sensible à cette galanterie tout-à-fait
philosophique, et que je vais lui écrire incessament. Vous ne me parlez
jamais de l'homme qui a été si longtemps le meilleur des amis. C'est bien
mal à vous.
410
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
[Перевод:]
Благодарю вас, мой друг, за ваши крайне интересные сообщения.
Это — настоящее Обозрение в форме письма. Ваше письмо из
Лондона в особенности живо меня заинтересовало390. Значит, правда,
что существует только одна мысль от края до края вселенной;
значит, действительно есть вселенский Дух, парящий над миром, тот
Welt-Geist, о котором говорил мне Шеллинг и перед которым он так
величественно склонялся391; можно, значит, подать руку другому на
огромном расстоянии; для мысли не существует пространства, и эта
бесконечная цепь единомысленных людей, преследующих одну и ту
же цель всеми силами своей души и своего разума, идет,
следовательно, в ногу и объемлет своим кольцом всю вселенную. Продолжайте
давать мне чувствовать движение мира: ваши труды, я надеюсь, не
пропадут даром. Есть, впрочем, вещи, которые ускользают от вас. Вы
ничего мне не сказали, например, о последнем сочинении Гейне392.
Правда, что большая часть глав этой странной книги появилась уже
раньше в различных журналах; но не может быть, чтобы соединение
их в одно целое не вызвало волнения в философском мире. Знаете,
как я назвал Гейне? Фиески в философии393. Вы знаете, что он
проводит параллель между Кантом и Робеспьером, Фихте и
Наполеоном, Шеллингом и Карлом X394. Я, следовательно, только продолжил
параллель и вполне естественно пришел к ужасающему сочетанию
этих двух сатанинских существ, представляющих, как тот, так и
другой, цареубийц, каждый на свой лад. Смею думать, что этот новый
Фиески немногим лучше старого; но во всяком случае его книга есть
покушение, во всем подобное бульварному, с тою только разницею,
что короли Гейне законнее короля Фиески; ибо это, во-первых, сам
Господь Бог, а затем все помазанные науки и философии. В
остальном, тот же анархический принцип, то же следствие вашей
прославленной революции; наконец, как тот, так и другой, бесспорно,
вышли из парижской грязи.
Я не знаю, каково в настоящее время ваше мнение об этом вол-
каническом извержении всей накопленной Францией грязи,
выбросившем в свет плачевную золотую посредственность395; что до меня,
то я с каждым днем нахожу новые основания негодовать на него.
Поверьте мне, оно отодвинуло мир на полстолетия назад, спутало
Письма
411
окончательно все социальные идеи, и Бог знает, когда они еще
распутаются! Это суждение есть суждение ума беспристрастного в той
степени, в какой это только возможно, ибо это ум русский,
доведенный до пределов свойственной ему безличности. Вы знаете, что, по
моим воззрениям, русский ум есть ум безличный по преимуществу.
Дело в том, что оценить как следует европейские события можно
лишь с того расстояния, на котором мы от них находимся. Мы
стоим, по отношению к Европе, на исторической точке зрения, или,
если угодно, мы — публика, а там актеры, нам и принадлежит право
судить пьесу396.
Эта великая пьеса, которая разыгрывается народами Европы, и
на представлении которой мы присутствуем в качестве холодных
и беспристрастных зрителей, напоминает маленькую пьесу
Загоскина397, которая в скором времени будет поставлена здесь, на
которую также будет взирать беспристрастная и холодная публика и
заглавие которой Недовольные^98. Недовольные! Понимаете вы всю
тонкую иронию этого заглавия? Чего я, с своей стороны, не могу
понять, это — где автор разыскал действующих лиц своей пьесы.
У нас, слава Богу, только и видишь, что совершенно довольных и
счастливых людей399. Глуповатое благополучие, блаженное
самодовольство, вот наиболее выдающаяся черта эпохи у нас; и, что
особенно замечательно, это то, что как раз в то время, когда все эти
слепые и страстные национальные самоутверждения, враждебные
друг другу, унаследованные христианскими народами от времен
язычества, сглаживаются, и все цивилизованные нации начинают
отрекаться от презрительного самодовольства в своих взаимных
отношениях, нам взбрело в голову стать в позу бессмысленного
созерцания наших воображаемых совершенств. Говорят, что О... и я
выведены в новой пьесе400. Странная мысль сделать недовольного
из О..., из этого светского человека, во всех отношениях
счастливого, счастливого до фанатичности. А я, что я сделал, что я сказал
такого, что могло бы послужить основанием к обвинению меня в
оппозиции? Я только одно непрестанно говорю, только и делаю,
что повторяю, что все стремится к одной цели и что эта цель есть
Царство Божие. Уж не попала ли невзначай молитва Господня под
запрет?401 Правда, я иногда прибавляю, что земные власти никогда
не мешали миру идти вперед, ибо ум есть некий флюид несжимае-
412
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
мый, как и электричество; что нам нет дела до крутни Запада, ибо
сами-то мы не Запад; что Россия, если только она уразумеет свое
призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех
великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей,
идей и интересов Европы. Что же во всем этом еретического,
скажите на милость? И почему бы я не имел права сказать и того, что
Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную
политику; что ее дело в мире есть политика рода человеческого; что
император Александр прекрасно понял это, и что это составляет
лучшую славу его402; что Провидение создало нас слишком
великими, чтобы быть эгоистами; что оно поставило нас вне
интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что
все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от
этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш
прогресс; что мы представляем огромную непосредственность
без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного
соотношения к его настоящему; что в этом наша действительная
логическая данность; что если мы не поймем и не признаем этих
наших основ, весь наш последующий прогресс вовеки будет лишь
аномалией, анахронизмом, бессмыслицей. Пеняйте на Загоскина за
всю эту болтовню, но позвольте вам сказать еще и следующее. В нас
есть, на мой взгляд, изумительная странность. Мы сваливаем всю
вину на правительство. Правительство делает свое дело, только и
всего; давайте делать свое, исправимся. Странное заблуждение
считать безграничную свободу необходимым условием для развития
умов. Взгляните на Восток! Разве это не классическая страна
деспотизма? И что ж? Как раз оттуда пришел миру всяческий свет.
Взгляните на арабов! Имели ли они хоть какое-нибудь представление о
счастье, даруемом конституционным режимом? И тем не менее мы
им обязаны доброй частью наших познаний. Взгляните на средние
века. Имели ли они хоть малейшее понятие о несказанной прелести
золотой посредственности? И, однако, именно в средние века
человеческий ум приобрел свою наивеличайшую энергию. Наконец,
думаете ли вы, что цензура, упрятавшая Галилея в тюрьму, в чем-либо
уступала цензуре Уварова и присных его?403 И тем не менее земля
вертится себе после пинка, данного ей Галилеем! Следовательно,
будьте гениальны и увидите.
Письма
413
Я только что прочел в Journal des Débats превосходную статью
Марка Жирардена по поводу нового издания св. Иоанна Златоуста404.
Если вы знакомы с Жир.405, то скажите ему, что московский
философ, из ваших друзей, просит вас передать ему благодарность за нее.
Нужно, чтобы там знали, что хорошее находит отголосок даже и в
сих областях, где средняя температура пятнадцать дней кряду стоит
на 30° Реомюра, как было у нас недавно, и что холод,
замораживающий ртуть, не замораживает глубокой идеи. Быть может, также они
поймут, что наш век не столь атеистичен, как о нем говорят, когда
увидят, что религиозная идея немедленно встречает привет даже в
столь отдаленной стране, как только она выражена выдающимся
умом.
Жир. показывает, что весь прогресс физических наук за
последнее время клонится к подтверждению системы, изложенной
в библейской книге Бытия, и основывается на новом трактате об
электричестве Беккереля406. Как раз в то время, как я сел писать
вам, я кончал чтение этого трактата. Любопытно то, что сам автор
не подозревает, что его книгу можно использовать в этом смысле,
он даже опровергает те доводы, которые Кювье приводит в пользу
космогонии Моисея407. Я напал при чтении еще на одно странное
обстоятельство. Как это случилось, что в великое дело
электричества, в котором приняли участие люди всех цивилизованных наций,
мы не внесли ничего. Кое-какие наблюдения над земным
магнетизмом, сделанные чужестранцами, например Купфером408, и это,
пожалуй, все. Однажды попадается имя Симонова, из Казани, и то с тем,
чтобы сказать ему, что его наблюдение ровно ничего не стоит409.
Приходится признаться, что в нашей умственной организации есть
какой-то глубокий недостаток. Мы совершенно лишены, например,
способности к логической последовательности, духа метода и
постепенности. Спурцгейм в своей френологической классификации
человеческих способностей дает этой группе название органа
причинности410; вот этот-то орган и остался без развития в нашем
бедном мозгу; стоит только пощупать свой череп, чтоб убедиться в этом.
Дело в том, что идея никогда не властвовала среди нас; мы никогда
не были движимы великими верованиями, могучими убеждениями.
Что представляют собой, в самом деле, мелочные события нашей
религиозной истории по сравнению со вспышками христианской
414
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
мысли на Западе? И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от
других народов, что мы нагоним их. Нет, мы столь же мало
представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX ее век. Возьмите
любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что
представляем мы в 1835 году по Р. X., и вы увидите, что у нас другое
начало цивилизации, чем у этих народов; вы увидите, что эти нации
всегда жили жизнью одушевленной, разумной, плодотворной; что
им с самого начала дана была некоторая идея, и что погоня за этой
идеей, ее развитие создали всю их историю; что, наконец, они всегда
творили, выдумывали, изобретали. Скажите мне, где та идея, которую
мы развиваем? Что мы открыли, выдумали, создали? Поэтому нам
незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя,
понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы
пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому что пришли позднее
их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков,
предшествовавших нам. Люди Европы странно ошибаются на наш счет. Вот,
к примеру, Жуффруа сообщает нам, что наше предназначение —
цивилизовать Азию411. Прекрасно; но спросите его, пожалуйста, где те
народы Азии, которые были цивилизованы нами? Разве что
мастодонты и остальное ископаемое население Сибири; насколько мне
известно, это единственный род существ, выведенный нами из
мрака, да и то благодаря Палласам и Фишерам412. Они упорно уступают
нам Восток; по какому-то инстинкту европейской национальности
они оттесняют нас на Восток, чтобы не встречать нас больше на
Западе. Нам не следует попадаться на их невольную хитрость;
постараемся сами открыть наше будущее и не будем спрашивать у других,
что нам делать. Восток — удел господствующих над морями, это
очевидно; мы значительно более удалены от него, чем англичане,
и теперь уже не те времена, когда все перевороты на Востоке шли
из Центральной Азии. Новый устав Индийской компании, вот
отныне действительное цивилизующее начало Азии413. Мы призваны,
напротив, обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых
ей не понять без этого. Не смейтесь: вы знаете, что это мое глубокое
убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием
Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим
средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит
наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу.
Письма
415
Таков будет логический результат нашего долгого одиночества; все
великое приходило из пустыни. Могучий голос, на этих днях
раздавшийся в мире, в особенности послужит к ускорению исполнения
судеб наших414. Пришедшая в остолбенение и ужас, Европа с гневом
оттолкнула нас; роковая страница нашей истории, написанная
рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу, больше не
принадлежим к Европе: итак, с этого дня наша вселенская миссия началась415.
Поэтому обратите внимание, что никогда еще ни одно действие
правительства не было встречено более единодушными симпатиями
нации, никогда не видано было более совершенного согласия между
чувствами государя и чувствами народов! Ибо в данном случае само
Провидение говорило устами монарха: вот почему все инстинкты
нации преклонились перед этим глаголом свыше.
Но, впрочем, будет философствовать; поговорим немного о себе.
Я получил недавно вести о нашем славном Шеллинге через
молодого Гагарина416. Если все, что этот молодой человек передал мне
от имени философа, не преувеличено, то я не могу не быть весьма
тронутым этим приложением учения о Тождестве к моей
незначительной персоне. По-видимому, жалкая статья Библиотеки не дошла
до него417. Но вы ничего мне не пишите больше о Балланше418.
А знаете, что я было построил целую философию на его
симпатиях. Признаюсь вам, впрочем, что я был крайне удивлен его
суждению о моей статье; плохой экземпляр, бывший в его руках, не давал
мне оснований рассчитывать на это. Как бы то ни было, в интересах
философии вам не следовало бы давать порваться связям,
установлению которых вы сами содействовали. Еще с кем бы мне очень
хотелось установить сношения, это де Генуд419. Есть что-то живое в
этой душе священника: он не смотрит, сложа руки, на проходящих
мимо людей, он стучится во все двери, он везде со своим Христом.
Такова католическая философия. Начало католичества есть начало
деятельное, начало социальное прежде всего420. Этот характер вы
найдете в нем во все эпохи нового времени. Одно оно восприняло
Царство Божие не только как идею, но еще и как факт, ибо одно
оно владело теми священными традициями, тем учением
избранных, которые во все времена поддерживали существование мира,
причем этот последний даже и не подозревал об этом. В мире был, и
мир через Него начал быть, и мир Его не познал*21. Как видите, моя
416
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
религия не совсем совпадает с религией богословов, и вы можете
мне сказать, пожалуй, что это и не религия народов. Но я вам скажу,
что это та религия, которая скрыта в умах, а не та, которая у всех на
языке; что это религия вещей, а не религия форм; что это религия,
какова она есть, а не какова она нам кажется; наконец, что это та
предвосхищенная религия, к которой в настоящее время взывают
все пламенные сердца и глубокие души и которая, по словам
великого историка будущего, станет в грядущем последней и
окончательной формой поклонения и всей жизнью человечества; но
которая в ожидании этого не сталкивается с народными верованиями, а,
напротив, в своей любвеобильности приемлет их, хотя и идет
дальше их. Если бы в те времена, когда я искал религии, я встретил бы в
окружающей меня среде готовую, я наверное принял бы ее; но, не
найдя таковой, я принужден был принять исповедание Фенелонов,
Паскалей, Лейбницов и Беконов. Вы, между прочим, были неправы,
когда определили меня как истинного католика422. Я, конечно, не
стану отрекаться от своих верований; да, впрочем, мне было бы и
не к лицу теперь, когда моя голова начинает покрываться сединой,
извращать смысл целой жизни и всех убеждений моих; тем не
менее, признаюсь, я не хотел бы, чтобы двери убежища захлопнулись
передо мной, когда я постучусь в них в одно прекрасное утро. Пусть
сие заключение моей речи не смущает вас; вы знаете, что я уже с
давних пор готовлюсь к катастрофе, которая явится развязкой моей
истории. Моя страна не упустит подтвердить мою систему, в этом я
нимало не сомневаюсь.
Будьте здоровы, мой друг. Смею надеяться, что вы не будете
больше упрекать меня в безмолвии и сами не измените вашим добрым
привычкам. Сообщите мне, как поживает Свечина, вы не можете
не понимать, сколь глубоко я интересуюсь всем, что касается этой
дамы. Что касается ваших поручений, то они исполняются по мере
их получения, если не всегда с успехом, то по крайней мере всегда с
усердием. Впрочем, нужно было бы быть более сведущим в
физиологии страстей, чем я, чтобы с успехом служить вам при всех
обстоятельствах. Во всяком случае, я вас крепко люблю и делаю, что могу.
Да приидет Царствие Твое.
Княгиня Мещерская приезжает на днях из деревни, итак, я буду
иметь случай поговорить с ней о вас.
Письма
417
Вот уже месяц, как написано это письмо. Булгакова423 не было
в Москве. По-видимому, он уже давно вернулся, но я узнал об этом
только вчера424. Отправлю его, как оно есть, дабы не брать на себя
труда писать новое. За это время я получил брошюру Экштейна425.
Передайте ему, пожалуйста, что я весьма тронут этой чисто
философской любезностью и что я не замедлю написать ему. Вы не
говорите мне ничего о человеке, который так долго был лучшим из
друзей. Это нехорошо с вашей стороны426.
Ф. д'Экштейну от 15 апреля 1836 г.427
Moscou. 15 avril (1836)
Monsieur,
J'ai été singulièrement flatté de recevoir de votre part votre analyse
du Kathaka-Oupanichat. Votre nom, monsieur, m'est depuis longtemps
le symbole d'une des idées les plus profondes de notre siècle; et je ne dois
assurément la galanterie littéraire qui me procure l'honneur de vous
écrire, qu'à une application fort large de cette même idée, idée d'union avant
tout, si je ne me trompe, par conséquent essentiellement sympathique. Et
permettez-moi de vous dire que vous autres hommes de l'Occident,
vivant au sein du grand mouvement intellectuel du monde, vous ne sauriez
apprécier parfaitement toute la valeur de ces communications qui chez
vous remplissent la vie, mais qui sont chez nous des événements
extraordinaires. Le principe tout-puissant de l'unité qui a constitué le monde
que vous habitez y a développé aussi toutes les capacités sympathiques du
cœur humain. Vous savez que ce principe nous a manqué: nous sommes
donc restés naturellement étrangers à ses résultats. Mais lorsque de ces
régions favorisées du ciel où se réalisent nos vœux, s'accomplissent nos
espérances, s'incarnent nos idées, il nous arrive un souffle bienveillant,
nous sommes heureux et fiers.
L'intérêt de votre morceau de critique philosophique est prodigieux.
Nous sommes ici de pauvres indianistes; je n'ai point autour de moi les
moyens matériels qu'il faudrait avoir pour bien apprécier un travail de
cette nature et je n'ai point pu encore me procurer le livre de M. Paley où
418
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
j'aurais trouvé le poème tout entier, mais ce que je vois fort bien c'est qu'il
se résume dans ce peu de pages toute une doctrine et qu'il en découle
de féconds enseignements pour les doctrines qui nous touchent de plus
près. Voilà bien cette grande synthèse qu'évoque la pensée du temps.
Voilà bien cette philosophie catholique dont vous êtes un des plus savants
professeurs. Et la haute importance de ces affinités est facile à saisir: elles
nous apprennent que la source de tous les savoirs humains est la même;
que le point de départ de toutes les familles humaines est le même;
qu'elles ont divergé dans des sens différents en vertu de leur libre arbitre, mais
qu'il y a nécessairement un point de contact entre elles toutes; et qu'ainsi,
pour arriver à une fusion de toutes les sagesses éparses sur la terre, il s'agit
de trouver les forces par lesquelles elles se touchent, après quoi le travail
final de l'esprit humain se fera tout naturellement.
C'est ainsi que j'ai toujours connu la valeur des études sur l'Orient,
ce grand musée de toutes les traditions de l'humanité. Mais vous,
monsieur, qui avez porté dans ces études une vie nouvelle, une rare érudition,
de hautes convictions, une vaste idée qui anticipe sur les résultats, vous
avez agrandi encore cette branche de la science par le grandiose de
votre point de vue. Nous contemplons de loin vos nobles efforts et nous
vous applaudirons avec le reste du monde, lorsque le fruit de vos veilles
paraîtra. Vous arriveront-ils nos applaudissements, je n'en sais rien? Mais
si quelque écho égaré vous en apporte quelque chose, veuillez reconnaître
parmi ces suffrages lointains ceux de l'homme à qui vous avez tendu la
main si affectueusement.
Il y a deux choses surtout qui m'ont frappé dans la philosophie des In-
dous et que je retrouve dans votre poème. Premièrement que le
perfectionnement moral et la vie éternelle même n'y sont qu'un résultat de la
connaissance, de sorte que tous les préceptes, tous les rites, toute cette hygiène
rigoureuse de l'âme tant préconisée dans leurs livres, tout cela n'est destiné
qu'à obtenir la connaissance. N'y a-t-il pas quelque chose de bien profond
dans ce système, et ne trouvez-vous pas que la sagesse de l'Occident
pourrait en faire son profit? Le second point c'est la tendance de cette
philosophie à effacer l'idée du temps. Cette idée n'y semble jamais apparaître que
comme un fardeau dont l'âme humaine cherche à se débarrasser, un joug
qu'elle aspire à secouer. C'est toujours avec une sorte d'impatience que le
génie indien se débat dans la limite du temps. De là, je crois, cette
chronologie monstrueuse, de la cette distinction entre les années humaines et les
Письма
419
années divines. Il est possible qu'en cherchant un appui à mes propres idées
j'ai cru voir dans les Védas ce que je désirais y voir; car je vous l'avoue, j'ai
l'intime foi que le bien ainsi que l'éternité, qui n'est du reste rien autre chose
que le bien absolu, sont au bout de la connaissance, et que l'idée du temps,
dans laquelle l'esprit humain s'est volontairement emprisonné, est la plus
écrasante de nos superstitions logiques. Pour vous faire bien comprendre
ma pensée, il me faudrait entrer dans un développement qui ne serait pas
ici à sa place, mais il me sera fort agréable de m'entretenir de cela avec vous
une autre fois. Quoi qu'il en soit, monsieur, quant à ce qui touche à l'Inde
je me soumets complètement à votre autorité. Heureux, je vous assure, de
trouver sur mon chemin un pouvoir que la raison admet sans scrupule,
chose bien rare dans nos latitudes.
Veuillez agréer, monsieur, les assurances de ma haute estime et de
mon dévouement très parfait.
Pierre Tchadayeff
[Перевод:]
Москва. 15 апреля
Сударь!
Я был необычайно польщен, получив ваш анализ Катха-
упанишады428. Ваше имя, сударь, уже давно является для меня
символом одной из глубочайших идей нашего века; честью писать вам
я обязан, разумеется, не только литературной вежливости, а
широкому приложению той же идеи, если я не ошибаюсь, прежде всего
идеи единения <и вызывающей поэтому> особую симпатию. И
позвольте сказать вам, что вы, люди Запада, живущие в недрах великого
мирового умственного движения, возможно, не вполне ясно
понимаете всю ценность тех идей, которые, заполняя вашу повседневную
жизнь, являются, однако же, для нас событиями исключительными.
Всемогущий принцип единства, сформировавший мир, в котором
вы живете, развил в нем также симпатические способности сердца
человеческого. Вы знаете, что мы были лишены этого принципа; так
что вполне естественно, что мы не испытали на себе его
последствия. Но когда из этих возлюбленных небом краев, где сбываются
наши желания, исполняются надежды и воплощаются наши идеи, до
нас доходит благословенное дуновение, мы счастливы и горды.
420
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Ваша новая философская критика представляет исключительный
интерес. Мы здесь плохие индологи; я не располагаю средствами,
необходимыми для того, чтобы в полную меру оценить429 работу430,
и я не смог еще достать книгу г-на Полей, в которой я нашел бы всю
поэму <Катха-упанишаду> целиком431; но я ясно вижу, что на
нескольких страницах изложено целое учение, из которого вытекает
<много> плодотворных идей для тех учений, которые нам близки.
Вот великий синтез, рожденный мыслью <нашего> времени. Вот
та католическая философия, одним из наиболее искусных
проповедников которой вы являетесь. И высокое значение этого
сродства легко уразуметь: оно нас учит, что источник всех человеческих
знаний — один, что отправная точка для всех человеческих семей
едина; что развитие их пошло разными путями по их собственному
усмотрению, но между ними всеми обязательно существует точка
соприкосновения; таким образом, чтобы достичь слияния всей
распространенной на земле мудрости, потребуется найти силы,
благодаря которым они соприкоснутся, после чего конечная работа
человеческого разума совершится сама собой.
Именно в этом я всегда видел ценность изучения Востока, этого
великого музея традиций человечества. Но вы, сударь, привнесли в
это изучение новую жизнь, редкую эрудицию, высокие убеждения,
огромную идею, предвосхищающую результаты. Вы возвеличили эту
область науки грандиозностью вашей точки зрения. Мы
осмысливаем издалека ваши благородные усилия и будем рукоплескать вместе
со всем миром, когда появится плод ваших бдений. Достигнут ли вас
наши рукоплескания, не знаю, но если какое-то случайно дошедшее
до вас эхо донесет до вас что-либо, соблаговолите принять среди
этих отдаленных одобрений одобрение человека, которому вы так
любезно протянули руку.
Две вещи, больше всего поразившие меня в философии индусов,
я нашел в вашей поэме. Во-первых, то, что нравственное
усовершенствование и сама вечная жизнь являются всего лишь
результатом познания того, что все заветы, все обряды, вся суровая гигиена
души, за которую так ратуют их книги, — все это направлено
только на обретение знания. Нет ли в этой системе какой-то особой
глубины, и не находите ли вы, что мудрость Запада может извлечь
из нее пользу? Во-вторых, стремление этой философии упразднить
Письма
421
идею времени. Эта идея, как представляется, всегда проявляется
только как бремя, от которого душа человеческая пытается
избавиться, как иго, которое она силится сбросить. Индийский гений
всегда с каким-то нетерпением спорит с пределами времени.
Отсюда, я думаю, эта чудовищная хронология, отсюда это различие
между годами людей и богов432. Возможно, что, ища там опоры для
собственных идей, я увидел в Ведах то, что хотел увидеть, потому
что, признаюсь, я полагаю, что добро, как и вечность, которая есть
не что иное, как абсолютное добро, является конечной целью
познания, а идея времени, в которую дух человеческий добровольно
себя заточил, — одним из наиболее гнетущих предрассудков нашей
логики. Чтобы моя мысль стала полностью понятной для вас, она
нуждается в дальнейшем развитии, которое здесь неуместно, но мне
было бы приятно побеседовать с вами об этом в другой раз. Как бы
то ни было, сударь, в том, что касается Индии, я всецело полагаюсь
на ваш авторитет. Счастлив, уверяю вас, что встретил на своем пути
силу, которую разум признает без колебаний, — вещь редкая для
наших широт.
Соблаговолите принять, сударь, уверения в моем высоком
уважении и моей глубокой преданности.
Петр Чаадаев
И. Д. Якушкину от 2 мая 1836 г.433
Mon cher ami. Voici un livre que Madame Levachof vous envoyé. J'ai
substitué à l'exemplaire qui vous était destiné celui dont je me suis servi
moi-même, afin que vous portiez votre attention sur les choses qui ont
attiré la mienne et que vous trouverez soulignées de mon crayon. J'ai
éprouvé un plaisir extrême en apprenant que vous vous occupez de ces
études fortes si bien faites pour adoucir les peines de votre existence. Je
sais que vous n'avez pas cessé d'étudier dans votre exil. C'est un grand
bienfait de la providence que ce goût de la science qu'elle vous a permis
de conserver au milieu des misères dont la justice humaine vous a frappé.
Il est impossible que vous n'en ressentiez une profonde reconnaissance
pour celui de qui viennent tous les biens, quelles que soient d'ailleurs
422
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
vos opinions philosophiques. Quant à moi, j'ai l'intime conviction que la
résignation à la fois courageuse et calme avec laquelle vous avez accepté
votre position, et les sentiments de douce bienveillance et de charité
parfaite que vous avez toujours entretenus sous le poids de votre grande
infortune, vous ont déjà mérité des lumières nouvelles sur beaucoup de
choses. Et alors, je crois qu'en vous invitant à méditer avec soin quelques-
uns des passages soulignés dans ce livre, je ne ferai que continuer l'œuvre
même commencée par Dieu. L'idée générale qui ressort du reste de la face
nouvelle sous laquelle la nature s'offre à nos regards par suite des progrès
récents des sciences physiques, c'est que tout le système cosmogonique et
génésiaque des traditions hébraïques se trouve appuyé par chaque
nouvelle découverte, par chaque pas en avant que fait l'esprit humain et ce
qu'il y a de curieux, c'est que Becquerel, tout en réfutant Cuvier qui avait
déjà fourni de formidables preuves en faveur de ce système, en donne lui-
même de plus formidables encore.
Vous voyez que cette lettre n'était destinée qu'à servir de préface à la
lecture que vous allez faire; mais pouvais-je vous écrire sans parier d'autre
chose, sans jeter un regard douloureux sur le passé tout entier rempli par
l'amitié, sur les jours écoulés dans les plus douces communications au
bord d'un abîme? Ah, mon ami! Comment Dieu a-t-il pu vous laisser faire
ce que vous avez fait? Comment a-t-il pu vous permettre de jouer ainsi vos
destinées, les destinées d'un grand peuple, et celles de vos amis, vous dont
l'intelligence avait deviné mille choses que d'autres intelligences arrivent
à peine à entrevoir à force d'étude et de travail? Je n'oserais tenir ce
langage à tout autre que vous; mais vous, je vous connais trop pour craindre
de vous blesser par une profonde conviction quelle qu'elle soit. J'ai
beaucoup réfléchi sur mon pays depuis qu'une funeste catastrophe a jeté les
espaces entre nous; et rien ne m'est plus démontré aujourd'hui que ce
qui manque à notre nation, c'est la profondeur. Nous avons parcouru les
temps comme les autres, ou à peu prés; mais jamais nous n'avons réfléchi,
jamais nous n'avons été remués par une idée quelconque; et voilà ce qui a
fait que tout l'avenir du pays un jour fut joué aux dés par quelques jeunes
gens entre la pipe et le verre de vin. Quand, il y a de cela dix-huit-cents
ans, la vérité s'incarna et apparut au milieu des hommes, ils la tuèrent,
et cet immense attentat fut le salut du monde; mais si elle apparaissait
aujourd'hui au milieu de nous, elle passerait sans être aperçue, et cet
attentat-là serait plus grand que l'autre, car il ne servirait de rien.
Письма
423
Que je serais heureux, si le jour où vous pourrez m'écrire, et on dit que
ce jour est prochain, les premières lignes que vous m'adresseriez
m'apprenaient que vous appréciez maintenant la grande erreur commise par vous
et que dans votre solitude vous êtes arrivé à concevoir qu'une erreur ne
peut être effacée devant la justice suprême que si on la confesse, de même
qu'une faute de calcul ne peut être corrigée qu'après qu'on l'a reconnue.
Adieu mon ami. Je suis fier d'avoir pu vous dire ces choses avec la certitude
que votre âme n'en sera point froissée et que votre haute intelligence y
saura démêler le sentiment qui les a inspirées.
Je ne vous ai point parlé de mon frère parce qu'il habite Nijny et que
j'ai fort rarement de ses nouvelles. Natalie Schakofskoy et sa sœur me
parlent souvent de vous. Vos enfants me sont venus voir l'autre jour: je les
ai embrassés avec bonheur et tristesse.
Pierre Tchaadayeff
[Перевод:]
Москва, 2 мая
Дорогой друг. Вот книга, которую тебе посылает г-жа Левашова434.
Я подменил предназначенный тебе экземпляр другим, которым сам
пользовался, с той целью, чтобы ты сосредоточил свое внимание на
тех местах, которые привлекли и мое: они подчеркнуты моим
карандашом435. Мне было чрезвычайно отрадно узнать о твоих усидчивых
занятиях, способных так сильно смягчить тяготы твоей жизни. Мне
известно, что в ссылке ты не переставал накапливать знания.
Великое благо судьбы, что она тебе позволила сохранить вкус к науке
среди ужасов, обрушившихся на тебя по людскому суду. Не может
быть, чтобы ты не ощущал за это глубокой благодарности по
отношению к тому, от кого исходят всякие блага, убеждения. Со своей
стороны, я глубоко верю, что в награду за стойкую и вместе с тем
спокойную покорность в несении своего жребия и за неизменно
сохраняемые под давлением страшного бедствия чувства кроткого
благорасположения и совершенной любви тебе уже дарованы
новые откровения в постижении многих вещей. И поэтому, приглашая
тебя тщательно вникнуть в некоторые из подчеркнутых в этой
книге отрывков, я, наверное, лишь продолжаю дело, уже начатое Богом.
В конце концов общее представление о природе, вытекающее из
последних завоеваний естественных наук, сводится к подтверждению
424
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
всей космогонической и бытийной системы еврейских преданий:
это вытекает из всякого нового открытия, из всякого шага вперед
человеческого разума, и особенно любопытно то, что Беккерель,
опровергая Кювье436, который уже представил основательные
доводы в защиту этой системы, со своей стороны, приводит новые, еще
более убедительные.
Как видишь, письмо это должно было служить введением к
предстоящему тебе чтению, но мог ли я тебе писать и не затронуть при
этом многое другое, не окинуть горестным взором былое, все
проникнутое дружбой, не воскресить в памяти дни, протекавшие в
сладостном общении на самом краю бездны?
Ах, друг мой, как это попустил Господь совершиться тому, что
ты сделал? Как мог Он тебе позволить до такой степени поставить
на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей,
и это тебе, тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые
едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни
к кому другому я бы не осмелился обратиться с такой речью, но тебя
я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет
глубокое убеждение, каково бы оно ни было.
Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение
так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден
так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего
глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы
никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо
идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день
была разыграна в кости несколькими молодыми людьми между
трубкой и стаканом вина437. Когда восемнадцать веков тому назад
истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это
величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина
появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее внимание, и
это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не
послужило.
Как бы я был счастлив, если бы в тот день, когда ты сможешь мне
написать, а день этот, говорят, близок, первые твои слова,
направленные ко мне, подтвердили, что ты теперь осознал свою страшную
ошибку и что в своем уединении ты пришел к заключению, что
заблуждение может быть искуплено перед высшей правдой не иначе
Письма
425
как путем его исповедания, подобно тому как ошибка в счете может
быть исправлена лишь после ее признания.
Прощай, друг мой. Я горжусь тем, что смог сказать тебе эти вещи с
уверенностью, что душа твоя этим не оскорбится и что твое высокое
понимание сумеет разглядеть в сказанном внушившее его чувство.
Я тебе ничего не сказал о моем брате потому, что он в Нижнем, и
потому, что я редко получаю от него вести438. Натали Шаховская и ее
сестра часто говорят со мною о тебе. Твои дети на днях приходили
повидаться со мной. Я их обнял с чувством и счастья, и грусти439.
Петр Чаадаев
А. И. Тургеневу от 25 мая 1836 г.440
Moscou. 25 Mai
Voici, mon cher ami, une lettre pour le Baron d'Ekstein. Je ne sais où
elle vous trouvera, car vous me parlez de départ, mais vous ne me dites
pas vers quels lieux de la terre vous allez diriger vos pas. Ce qui m'a fait
tarder de l'écrire au Baron, c'est que Mrss. les Observateurs se proposaient
de faire quelque chose de sa brochure dans leur Journal. Ils n'en ont rien
fait; et en attendant je remettais à écrire d'un jour à l'autre, afin d'avoir
quelque chose à lui dire à propos de cela. On dit que nous sommes voisins
de l'Inde: voyez donc si nous sommes curieux de l'Inde! Voilà ce que vous
direz à M. d'Ekstein, si ces lettres arrivent à Paris avant votre départ. Vous
me parlez de toutes sortes de choses que vous avez expédié à Viasemskoy
et qu'il devait me faire tenir, lecture faite. Rien de tout cela ne m'est
encore arrivé. Point de Dominicale, point de Lacordaire. Et à propos de lui,
j'espère qu'il songera à Rome à se faire Pape: je lui garantis la faveur du
S. Esprit. Le Saint-Esprit a toujours été l'Esprit-du-siècle, voilà ce qu'il faut
bien comprendre. Ce qu'il faut anjourd'hui à l'Eglise, c'est un Hildebrand
qui soit aussi bien de son temps que l'autre était du sien. Pourquoi votre
Lacordaire ne serait-il pas l'homme appelé? Il y à de profondes choses
ensevelies dans l'élément démocratique de la Papauté. Oui sait si le prochain
conclave n'est point destiné à régénérer l'Eglise?
426
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Nous avons ici Pouchkine. Il s'occupe beaucoup de son Pierre-le-
Grand. Son livre viendra très-à-propos lorsque tout Pierre-le-Grand sera
détruit: ce sert son oraison funèbre. Vous savez qu'il fait aussi un journal
qu'il appels le Contemporain. Contemporain de quoi? Du XVI siècle, et
encore non? Singulière rage de nous vouloir assimiler au reste du monde.
Qu'y a t-il de commun entre nous et l'Europe? La machine à vapeur, voilà
tout. Une idée profonde de M. de Tocqueville, et qu'il m'a volée, c'est que
le point de départ des peuple détermine leur destinées. On ne veut pas
concevoir cela chez nous: c'est pourtant la toute notre histoire. Plus que
jamais donc, ad. Reg. tuum.
La Pr. Meschtscherskaja est aussi impatiente que moi d'avoir un petit
bout de Lacordaire, ce qui ne l'empêche pas de vous saluer très
amicalement. Bon jour mon ami.
[Перевод:]
Москва, 25 мая
Вот, дорогой друг, письмо к барону Экштейну441. Не знаю, где оно
застанет вас, ибо вы мне пишете об отъезде, но не говорите мне, в
какие страны света вы направляете свои шаги442. Я промедлил с письмом
к барону ввиду того, что гг. Наблюдатели предполагали использовать
его брошюру для своего журнала443. Они ничего не сделали в этом
смысле, а я тем временем откладывал писание со дня на день, чтобы
иметь возможность сказать ему что-нибудь по этому поводу. Говорят,
что мы находимся по соседству с Индией: не правда ли, что мы
проявляем отменное любопытство по отношению к индийским делам!
Скажите все это Экштейну, если эти письма прибудут в Париж
до вашего отъезда. Вы пишете мне о целом ряде вещей, которые вы
выслали Вяземскому и которые он должен был передать мне по
прочтении444. Я еще ничего из этого не получал. Ни «Молитвы
Господней», ни Лакордера445. Кстати, надеюсь, что он в Риме примет меры,
чтобы стать папой: я гарантирую ему благодать Св. Духа. Святой Дух
был всегда Духом века, вот что следует понять хорошенько. Что в
настоящее время нужно Церкви, так это Гильдебранда, который столь
же был бы проникнут духом своего времени, сколь тот был
проникнут духом своего446. Почему бы вашему Лакордеру не быть
призванным к сему человеком? Глубокие вещи зарыты в демократическом
Письма
427
элементе папства. Кто знает, быть может, грядущему конклаву
суждено возродить Церковь?
У нас здесь Пушкин447. Он очень занят своим Петром Великим.
Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело
Петра Великого: она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что
он издает также журнал под названием Современник. Современник
чего? XVI-ro столетия, да и то нет? Странная у нас страсть
приравнивать себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая
машина, и только448. У Токвилля есть глубокая мысль, которую он
украл у меня, а именно что точка отправления народов
определяет юс судьбы449. У нас этого не хотят понять: а между тем в этом вся
наша история. Поэтому более чем когда-либо:Да приидет Царствие
Твое. Княгиня Мещерская не менее меня жаждет получить хоть
несколько строк Лакордера, что не мешает ей посылать вам дружеский
привет. Будьте здоровы, мой друг.
С. С. Мещерской от 15 октября 1836 г.450
Voici, princesse, une brochure qui vous intéressera j'en suis sûr, c'est
mon écrit, traduit et imprimé dans l'idiome du pays. La publicité est
venue me prendre au collet au moment où je m'y attendais le moins. Vous
trouverez d'abord le fait fort singulier, je n'en doute pas, mais en y
réfléchissant vous changerez d'avis. Où donc est après tout la merveille à ce
qu'une idée, vieille bientôt de deux mille ans, professée, vénérée, prêchée
par mille esprits éminents, par mille saints personnages, eût enfin trouvé
jour parmi nous? N'eût-il pas été bien plus étrange, si elle ne l'eût jamais
fait? S'il est vrai que le christianisme, tel qu'il se trouve constitué en
Occident, fut le principe qui y développa et fit germer toutes choses, il faut
bien que le pays qui n'a point recueilli tous les fruits de cette religion,
quoiqu'il en eût subi la loi, l'ait méconnue jusqu'à un certain point, se soit
mépris en quelque chose sur son véritable esprit, en eût repoussé
quelques-unes des vérités essentielles. On ne pouvait donc séparer la
conséquence de son principe, et ce qui détermina le principe à se produire dut
également obliger la conséquence à se manifester.
428
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
On dit que grande est la rumeur; je ne m'en étonne guère. Je sais
toutefois que mon écrit a obtenu quelque faveur dans une certaine région de la
société. Certes, il n'était point fait pour plaire à la population béate de nos
salons, livrés au glorieux régime du whist et du réversi. Vous me connaissez
trop bien pour ne pas être assurée que tout ce fracas m'occupe fort peu.
Vous savez que je n'ai jamais songé au public, que je n'ai même jamais
pu concevoir comment on pouvait écrire pour un public tel que le nôtre:
autant valait s'adresser aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel. Quoi
qu'il en soit, si ce que j'ai dit est vrai, cela restera, sinon il ne faut pas que
cela reste.
Il y a, princesse, des gens de votre connaissance qui trouvent qu'il serait
dans l'intérêt de la chose publique d'interdire à l'auteur le séjour de la
capitale. Qu'en pensez-vous? N'est-ce point faire trop peu de cas de la chose
publique et beaucoup trop de l'auteur? Heureusement notre gouvernement
est toujours plus avisé que le public; j'ai donc bon espoir que ce ne sera
point la clameur de la cohue qui lui dictera sa conduite. Mais si par hasard
le vœu de ces bonnes gens allait se réaliser, j'irai, princesse, vous demander
asyle, et l'on apprendra ainsi que les opinions sérieusement religieuses les
plus divergentes sont toujours sympathiques les unes envers les autres.
[Перевод:]
15 октября 1836
Вот, княгиня, брошюра, которая для вас будет интересна, я в том
уверен, — это моя статья, переведенная и напечатанная по-русски451.
Публичность схватила меня за ворот в то самое время, как я
наименее того ожидал. Сначала вы найдете этот случай странным, без
сомнения, но, подумавши, перемените мнение. В чем же, после всего,
чудо, что идея, которой от рода скоро будет две тысячи лет, идея,
преподаваемая, чтимая, проповедуемая тысячью высокими умами,
тысячью святыми, наконец, пробила себе свет у нас? Не гораздо ли
бы было страннее, если бы она никогда того не сделала? Если правда,
что христианство в том виде, как оно соорудилось на Западе, было
принципом, под влиянием которого там все развернулось и созрело,
то должно быть, что страна, не собравшая всех плодов этой религии,
хотя и подчинившаяся ее закону, до некоторой степени ее не
признала, в чем-нибудь ошиблась насчет ее настоящего духа, отвергла
Письма
429
некоторые из ее существенных истин. Последующего вывода никак,
следовательно, нельзя было отделить от первоначального
принципа, и то, что было причиной воспроизведения принципа, вынудило
также и обнаружение последствия.
Говорят, что шум идет большой; я этому нисколько не
удивляюсь452. Однако же мне известно, что моя статья заслужила некоторую
благосклонность в известном слое общества453. Конечно, не с тем
она была писана, чтобы понравиться блаженному народонаселению
наших гостиных, предавшихся достославному быту виста и реверси.
Вы меня слишком хорошо знаете и, конечно, не сомневаетесь, что
весь этот гвалт занимает меня весьма мало. Вам известно, что я
никогда не думал о публике, что я даже никогда не мог постигнуть, как
можно писать для такой публики, как наша: все равно обращаться к
рыбам морским, к птицам небесным. Как бы то ни было, если то, что
я сказал, правда, оно останется; если нет, незачем ему оставаться.
Есть, княгиня, люди, и вам знакомые, которые находят, что в
интересе общественном полезно бы было воспретить автору пребывание
в столице. Что вы об этом думаете? Не значит ли это слишком мало
придавать значения интересу общественному и слишком много
автору? По счастию, наше правительство всегда благоразумнее (plus avisé)
публики; стало быть, я в доброй надежде, что не шумливые крики
сволочи (cohue) укажут ему его поведение. Но если бы по какому случаю
желание этих добрых людей исполнилось, я к вам приду, княгиня,
просить убежища и таким образом узнаю то, что серьезные религиозные
убеждения, самые разнородные, всегда симпатизируют друг с другом.
<Письмо П. Я. Чаадаеву по поводу публикации
в «Телескопе» первого «Философического письма»,
от лица М. Ф. Орлова>454
J'ai quelque chose à vous dire mon ami sur l'effet que votre lettre
a produit dans le public, et j'ai mes raisons pour vous le dire par écrit.
Vous vous rappelez que je vous ai dit souvent que vos opinions ne
trouveraient pas de sympathie dans le pays. Je ne prétends pas me faire
un mérite de mes prévisions, mais vous avouerez que l'épreuve les a
430
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
confirmées. Mon instinct national ne m'a point trompé. Je pourrais
encore me prévaloir d'un autre avantage. Je ne suis point idéaliste, comme
vous savez; je donne une large part dans les affaires de ce monde au
fait matériel; et c'est précisément pour cela que j'ai mieux apprécié que
vous la disposition des esprits sur la grave question que vous avez jetée
au milieu de nous. L'abstraction où vous vivez vous a caché le véritable
aspect des choses. Je vous connais trop bien pour ne pas être assuré
que le mouvement causé par votre écrit ne vous satisfait nullement; et
quoique vous n'eûtes pas l'initiative dans sa publication, la publicité une
fois acceptée par vous, je sais fort bien que ce n'est point le bruit que
vous avez ambitionné. Mais enfin, puisque vous n'avez point convaincu,
quelle aura été l'utilité de cette publication? Pensez-vous avoir atteint
votre but, en remuant un peu les esprits, et les tournant pour un instant
vers ces matières? Voilà ce que je voudrais savoir et voilà ce que j'ai
mieux aimé vous demander par écrit que de vive voix, afin que vous
puissiez me dire votre pensée tout entière et à tête reposée. Je vous
invite donc avec toute la force de mon amitié dans l'intérêt même de
vos idées, à mettre sans retard la plume à la main; et croyez-moi que,
pour ne pas partager vos opinions sur beaucoup de choses, je n'attache
pas moins d'intérêt à la marche d'une idée qui s'est prononcée avec tant
d'énergie.
[Перевод:]
<октябрь 1836 года>
Я имею сказать вам несколько слов, мой друг, о впечатлении,
произведенном вашим письмом в публике, и у меня есть основания
сказать их вам письменно. Вы помните, что я вам часто говорил, что ваши
взгляды не найдут сочувственного отклика в нашей стране. Не смею
слишком подчеркивать мои предсказания, но вы должны признать,
что ваш опыт их подтвердил. Мой национальный инстинкт меня не
обманул. Более того, я мог бы поздравить себя с еще одним
преимуществом. Я отнюдь не идеалист; как вы знаете, я придаю большое
значение в делах этого мира материальному началу; и именно потому я
смог лучше, чем вы, оценить настроение умов относительно
серьезного вопроса, брошенного вами в нашу гущу. Абстракция, в которой
вы обитаете, скрыла от вас истинный вид вещей. Я слишком хорошо
Письма
431
вас знаю, чтобы не быть уверенным в том, что движение,
произведенное вашим сочинением, вас отнюдь не удовлетворило; и хотя
публикация статьи произошла не без вашей инициативы, я не сомневаюсь,
что, хотя вы и согласились придать ей гласность, реакция оказалась
совсем не такой^какую вы предвидели. Но в конце концов, поскольку
вы никого не могли убедить, какова была польза от этой публикации?
Считаете ли вы, что вы достигли вашей цели, произведя некоторое
волнение в умах, привлекая, быть может, их внимание к этим
вопросам? Вот что я хотел бы знать и вот что мне лучше спросить у вас
письменно, нежели устно, дабы вы смогли мне высказать все ваши
мысли на свежую голову. Поэтому я вам предлагаю, именно в
интересах ваших идей, незамедлительно взять перо в руки; и поверьте мне,
что, хотя и я не разделяю ваших взглядов по многим вопросам, я тем
не менее слежу с большим интересом за развитием идеи,
возвестившей о себе с такой энергией.
Н. П. Брянчанинову от 30 октября 1836 г.455
Милостивый Государь
Никита Петрович.
Сейчас вспомнил, что два из моих сочинений, одно находилось
вчера в руках перепищика, а другое просто в чужих руках456. Я
полагаю, что не худо сделаю, если вам их препровожу, одно потому,
что Ъно под нумером, следовательно, не видя этого нумера, могли
бы подумать, что я его скрыл, и что в нем заключается Бог весть что;
сверх этого последовательность была бы нарушена, и читатель при
чтении не понял бы моих мыслей; другое же потому, что в нем (не)
заключаются такие места, которые бы желал, чтобы правительству
были известны. При сем прилагаю оба сии сочинения. Прошу вас,
если это не противно вашей обязанности, доставить мне в
получении оных расписку.
Честь имею быть, Милостивый Государь, Ваш покорнейший слуга
Петр Чаадаев.
Октября 30
432
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
А. И. Тургеневу от конца октября -
начала ноября 1836 г.457
Je ne sais mon ami si vous êtes déjà informé de la visite domiciliaire
dont j'ai été honoré. Mes papiers m'ont été enlevés. Je suis réduit à mes
idées: pauvres idées qui m'ont conduites à ce beau dénoûment. Du reste,
je ne puis qu'approuver la louable curiosité des puissances de connaître
mes écrits: je désire de tout mon cœur qu'ils leur profitent. Mais ce n'est
point de cela qu'il s'agit premièrement: privé de la possibilité de
continuer mes travaux, je m'ennuie, pour la première fois de la vie. C'est le
moment de lire, d'étudier. Renvoyez-moi donc je vous prie Straus, si cela
est possible, et les réfutations que vous m'avez promises. Si vous avez
autre chose, quelque ouvrage de longue haleine, ne soyez pas chiche et
envoyez-moi cela aussi. Je ne garderai point tout, je choisirai. Pouvez-
vous me donner p. e. le livre de Maistre sur Bacon? Je crois que ce n'est
pas trop présumer de votre charité que de vous demander cela. Autre
point. Ne pensez-vous pas qu'on sera étonné de n'avoir point trouvé
vos lettres parmi mes papiers? Voyez donc s'il ne serait pas convenable,
dans votre intérêt, de les faire parvenir à Benkendorf. Enfin, gardez-vous
encore la chambre? Si vous n'êtes pas encore sortables, je viendrai vous
voir ce soir; autrement venez me voir ce matin encore s'il se peut. Ad.
reg. tuum.
[Перевод:]
Не знаю, известно ли вам уже, мой друг, о домашнем обыске,
которым меня почтили458. Забрали все мои бумаги. Мне остались
только мои мысли: бедные мысли, которые привели меня к этой
прекрасной развязке. Впрочем, я могу лишь одобрить похвальное
любопытство властей, пожелавших ознакомиться с моими
писаниями: от всего сердца желаю, чтобы это им пошло на пользу. Но не
в этом дело. Во-первых: лишенный возможности продолжать мою
работу, я скучаю в первый раз в жизни. Самое удобное время для
того, чтобы читать и учиться. Верните мне поэтому Штрауса459,
если возможно, и опровержения, которые вы мне обещали460. Если
у вас есть еще что-нибудь, какое-либо пространное сочинение, то
не скупитесь и пришлите мне и его. Я не оставлю всего, а сделаю
выбор. Не можете ли вы мне дать, например, книгу де Местра о
Письма
433
Бэконе?461 Надеюсь, что не злоупотреблю вашей
снисходительностью, если попрошу вас об этом. Затем второе. Не думаете ли вы,
что будут удивлены, не найдя ваших писем в моих бумагах?
Обдумайте поэтому, не будет ли в ваших интересах переслать их
Бенкендорфу. Наконец, принуждены ли вы все еще сидеть дома? Если
вы не в состоянии выходить, то я зайду к вам нынче вечером; а
то, если можете, зайдите вы ко мне сегодня же утром. Да приидет
Царствие Твое.
А. И. Тургеневу от ноября 1836 г.462
Mon bon ami, j'ai été bien fâché d'apprendre que vous êtes venu à
deux fois chez moi, sans me trouver. Mais il fallait m'attendre un peu,
dans mon grand fauteuil; un petit somme ici, ou un petit somme là-bas,
n'est-ce pas la même chose? Vous voyez que je me permets parfois une
promenade le soir: je pense que la sûreté de l'état ne souffrira pas de cet
arrangement. On peut être fou, d'ailleurs, et se promener le soir. Vous ne
m'avez pas fait dire si vous viendrez demain, mercredi, diner chez moi;
il faut bien que je le sache aujourd'hui, et aussi, si Orlof viendra, ou non.
Bon jour mon ami, et réponse s'il vous plait.
[На обороте:]
Александру Ивановичу Тургеневу.
[Перевод:]
Мой добрый друг, я был очень огорчен, когда узнал, что вы
дважды заходили ко мне и каждый раз не заставали меня. Но вам
следовало бы подождать меня немножко в моем большом кресле; тут ли
малость подремать или там, не все ли равно? Как видите, я иногда
позволяю себе прогуляться вечерком; я думаю, что безопасность
государства от этого не пострадает. Впрочем, можно быть безумцем
и все же гулять по вечерам. Вы ничего не велели сказать мне о том,
придете ли вы завтра, в середу, обедать ко мне; мне необходимо
знать это сегодня, а также придет ли Орлов или нет. Будьте здоровы,
друг мой, и дайте, пожалуйста, ответ.
434
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
А. И. Тургеневу от ноября 1836 г.463
Voici deux de vos livres. Il m'est revenu que l'on débite dans le public
que j'avais précédemment tenté de faire imprimer le fameux morceau
dans le Наблюдатель. C'est un insigne mensonge; les réducteurs de ce
journal peuvent l'attester. Ils savent fort bien que je n'ai jamais songé à
faire imprimer autre chose dans leur journal que les deux lettres lues à
la soirée de mad. Sverbeyef. La première lettre leur a été communiquée
uniquement pour l'intelligence de la suite. On dit aussi que j'avais déjà
essayé de faire imprimer l'original chez Semen. Autre mensonge. L'écrit
remis à Semen se composait de deux lettres, sur l'histoire, où il n'y avait
rien de relatif à la Russie. Il fut censuré avec beaucoup de bienveillance
par les censeurs spirituels de Troïtza, et je possède leur arrêté. Je vous prie
de dire cela à vos connaissances. Vous concevez l'importance morale de
tout ceci. Je n'ai point les goûts démocratiques, et je n'ai jamais brigué la
faveur populaire; mais je tiens beaucoup à l'opinion des gens qui
m'honorent de leur amitié.
[Перевод:]
Вот две из ваших книг464. До меня дошел слух, что в публике
толкуют, будто я пытался напечатать прославленный отрывок в
Наблюдателе. Это явная ложь; редакторы журнала могут подтвердить это.
Им отлично известно, что я не намеревался ничего печатать в их
журнале, кроме двух писем, прочитанных на вечере у Свербеевой465.
Первое письмо было сообщено им исключительно для того, чтобы
им было понятно дальнейшее. Говорят также, что я уже делал
попытки напечатать оригинал у Семена466. Опять-таки ложь. Рукопись,
переданная Семену, состояла из двух писем об истории, в которых
не было ничего, касающегося России. Она была процензурована с
большим благожелательством духовными цензорами от Троицы, и у
меня есть их постановление по этому поводу467. Расскажите это,
пожалуйста, вашим знакомым. Вам понятно моральное значение всего
этого. У меня нет демократических замашек, и я никогда не искал
благорасположения толпы; но мне очень дорого мнение людей,
почтивших меня своей дружбой.
Письма
435
С. Г. Строганову от 8 ноября 1836 г.468
8 novembre 1836
Je ne sais, monsieur le comte, il vous connaissez l'ouvrage ci-joint?
Veuillez l'ouvrir à la feuille pliée, vous y trouverez un chapitre qui
pourra servir de commentaire à l'article qui vient de soulever contre moi
les rumeurs publiques. J'ai pensé que je ferais bien de signaler à votre
attention ces pages écrites sous ma dictée, où ma pensée sur l'avenir
de mon pays est exprimée en termes assez précis, quoique incomplets,
et qui ne furent point indiscrètement exhumées de mon portefeuille.
Il m'importe, dans l'intérêt de ma réputation de bon citoyen, que l'on
sache que le morceau proscrit ne contient pas ma profession de foi,
mais seulement l'expression d'un sentiment amer épuisé depuis
longtemps. Je suis loin d'abjurer toutes les opinions émises dans l'écrit en
question; il y a telle pensée dans cet écrit que je suis prêt à signer de
mon sang. Quand j'y disais, par exemple, que Les peuples de Г Occident,
en cherchant la vérité, trouvèrent le bien-être et la liberté, je ne faisais
que paraphraser cette parole du Sauveur, Cherchez le royaume des deux
et tout vous sera donné en sus, et vous pensez bien que ce n'est point
là une de ces idées que l'on jette un jour sur le papier pour l'effacer
le lendemain, mais il est vrai aussi qu'il y a la bien des choses que je
n'eusse pas certainement dites aujourd'hui. J'y ai donné par exemple
une part trop large au catholicisme, et je pense à cette heure qu'il ne fut
point toujours fidèle à sa mission; je n'y ai pas assez apprécié la valeur
des éléments qui nous marquèrent, et je crois maintenant qu'ils furent
pour beaucoup dans l'édification de la société nouvelle; je n'y ai point
parlé des avantages de notre position isolée, avantages que je considère
aujourd'hui comme le trait le plus profond de notre physionomie
sociale et la base de notre progrès ultérieur; je n'y ai point fait voir que
tout ce qu'il y a dans notre histoire de belles pages est dû au
christianisme, fait qui m'aurait aujourd'hui servi à l'appui de mon système. En
un mot, s'il est vrai que je professe encore maintenant, dans le calme
de mon esprit, quelques-unes des opinions énoncées, il y a de cela six
ans, sous l'impression d'un sentiment douloureux, il est certain aussi
que bien des idées trop absolues, bien des opinions trop tranchées que
je professais alors ne m'appartiennent plus aujourd'hui, qu'ainsi que
436
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
chaque chose que nous avons faite, chaque parole que nous avons dite
nous appartiennent jusqu'à notre dernier jour, puisque nous en
rendrons compte au juge suprême, mais ce qui n'implique pas que nous en
soyons responsables devant les hommes. Aussi étais-je résolu, comme je
vous l'ai dit, de répliquer moi-même à mon article, c'est-à-dire de
traiter la même question sous mon point de vue actuel. J'entends dire que
l'on m'en fait un tort. Mais depuis quand donc n'est-il plus permis de
modifier ses opinions à plus d'un lustre d'intervalle? Depuis quand est-il
défendu à l'esprit d'un homme de marcher alors que l'esprit humain a
couru? Depuis quand est-il ordonné à l'être pensant de rester
éternellement cloué sur une idée, tel qu'un faquir imbécile? Ce n'est point vous,
assurément, qui me ferez ce reproche, vous que j'ai trouvé si favorable
au progrès des bonnes lumières. Mais quelle que soit, du reste, l'opinion
que vous vous formerez de tout ceci, je n'ai pu m'adresser qu'à vous: que
pouvais-je dire à ceux qui m'imposèrent la démence?
[Перевод:]
8 ноября 1836
Не знаю, известна ли вам, граф, прилагаемая книга?
Соблаговолите ее открыть на загнутой странице, вы в ней найдете главу,
которая может послужить пояснением к статье, возбудившей против
меня общественный крик. Мне показалось, что я хорошо сделаю,
указавши вашему вниманию эти страницы, писанные под мою
диктовку, в которых мои мысли о будущности моего отечества
изложены в выражениях довольно определенных, хотя неполных, и
которые не были нескромным образом вынуты из моего
портфеля469. Для меня очень важно в интересе моей репутации хорошего
гражданина, чтобы знали, что преследуемая статья не заключает в
себе моего profession de foi, a только выражение горького чувства,
давно истощенного. Я далек от того, чтобы отрекаться от всех
мыслей, изложенных в означенном сочинении; в нем есть такие,
которые я готов подписать кровью. Когда я в нем говорил, например,
что «народы Запада, отыскивая истину, найти благополучие и
свободу»470, я только парафразировал изречение Спасителя:
«ищите царствия небесного, и все остальное приложится вам»47\ и
Письма
437
вы понимаете, что это не одна из тех мыслей, которые бросаешь
сегодня на бумагу, чтобы завтра стереть, но верно также и то, что
в нем много таких вещей, которых бы я, конечно, не сказал теперь.
Так, например, я дал слишком большую долю католицизму, и
думаю ныне, что он не всегда был верен своей миссии; я не довольно
оценил стоимость элементов, которых у нас недоставало, и думаю
теперь, что они намного содействовали сооружению нового
общества; я не говорил о выгодах нашего изолированного положения,
на которые я теперь смотрю как на самую глубокую черту нашей
социальной физиономии и как на основание нашего дальнейшего
успеха; я не показал, что всеми, сколько есть прекрасных страниц
в нашей истории, мы обязаны христианству, — факт, который в
настоящее время послужил бы мне к опоре моей системы472.
Одним словом, если правда, что в настоящее время, в спокойствии
моего духа, я исповедую некоторые из мнений, изложенных тому
назад шесть лет под впечатлением тягостного чувства (sentiment
douloureux); достоверно также, что много мыслей слишком
абсолютных, много мнений слишком резких (мною тогда
исповедуемых) ныне принадлежат мне только в таком смысле, как всякий
поступок, нами совершенный, всякое слово, нами произнесенное,
конечно, принадлежит нам до нашего последнего дня, потому что
мы отдадим в них отчет Верховному Судие, что, однако же, вовсе
не предполагает, чтобы мы были в них ответственны перед
людьми. Поэтому-то я и решился, как вам о том и говорил, сам
возражать на свою статью, то есть рассматривать тот же вопрос с моей
теперешней точки зрения. Я слышал, что мне это ставят в вину.
Но давно ли запрещено видоизменять свои мнения после такого
длинного промежутка времени? Давно ли не дозволено уму
человека идти вперед, когда ум человечества стремится бегом? Давно
ли приказано существу мыслящему на веки веков остаться
пригвожденным к одной мысли, подобно бессмысленному факиру? Не
вы, конечно, сделаете мне этот упрек, вы, которого я нашел
столько благосклонно расположенным к успеху доброго просвещения.
Впрочем, какое мнение о всем этом вы себе ни составите, я мог
обратиться только к вам: что я мог сказать тем, которые наложили
на меня сумасшествие?473
438
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
А. И. Тургеневу от ноября 1836 г.474
Я на этих днях убедился, что мои писания не должны ходить по
рукам. И так возврати мне мою рукопись475. Не знаю, увижу ли тебя
прежде твоего отъезда, желаю тебе от всей души доброго пути и
всякого благополучия476. Книга мне твоя очень нужна; впрочем, если
тебе еще нужнее, то пришлю к тебе нынче же. — Впрочем, вздор. Вот
она. — А хорошо бы, если бы ты мне ее оставил477.
А. И. Тургеневу от декабря 1836 - января 1837 гг.478
Je viens d'apprendre, mon ami, que vous allez revenir. Cela me fait
songer que vous pourriez bien m'apporter quelques livres que l'on ne
trouve pas ici. D'abord, l'Histoire des Hohenstauffen, de Raumer, et les
Œuvres de Hegel Je suppose que ni l'un, ni l'autre de ces ouvrages n'est à
l'index. Vous demanderez cela naturellement à Graef, et vous n'aurez pas
la peine de débourser, attendu que j'ai crédit chez lui, et qu'il a encore,
je crois, en commission un ouvrage a moi appartenant. Ensuite, voyez si
vous ne trouvez pas un keepsake religieux, anglais, et l'Essai sur la
philosophie des Hindous par Colebrock, traduit par Taultier, et finalement
apportez moi force catalogues français et allemands. Je devrais après cela
vous souhaiter le bon jour, mais puisque j'ai la plume à la main, je vais
ajouter un mot.
Dites je vous prie à Meindorf, que je suis profondément affligé de ce
qui lui arrive, ne fut-ce que la moindre chose du monde. J'aime à croire
que l'on aura fini par apprécier à sa valeur le malencontreux trait-de-
plume qui lui a échappé bien à son insu, et que l'on n'y aura vu enfin que
le compliment exagéré dont on gratifie ordinairement les auteurs
manuscrits. Personne au monde ne partage moins mes opinions que Mein-
dorf. Dans toute cette affaire qui a pris un tour si sérieux, il n'y avait pas
une seule conviction sérieuse, excepté celle de l'auteur, et encore celle-là
n'etait-elle qu'une conviction philosophique, toute rouillée déjà, et qui ne
demandait pas mieux que de faire place à une autre, plus actuelle, plus
indigène. Quoiqu'il en soit de toutes les conséquences fâcheuses de ma
niaise complaisance, ce sont les embarras causés à q'autres que moi, qui
Письма
439
m'affectent le plus vivement. On m'a souvent traité de fou; je n'ai jamais
repoussé ce titre. Cette fois j'ai dit amen, ainsi que je l'ai toujours fait,
lorsqu'il me tombait une tuile sur la tête, car toute tuile tombe du ciel.
Enfin, me voilà de rechef établi dans mon antique thébaïde, voilà ma barque
de rechef amarée au pied de la croix, et c'est pour tout le reste de mes
jours: encore une fois, ainsi soit-il.
Tout fou que je suis, je compte que Pouchkin voudra bien accepter
mon compliment sur la charmante créature, son enfant adultérine, qui
est venue l'autre jour me reposer un instant de mes dégoûte. Dites lui,
je vous prie, que ce qui me charme surtout en elle, c'est cette simplicité
parfaite, ce bon goût, si rares par le temps qui court, si difficiles à prendre
en ce siècle à la fois si fat et si fougeux, qui se couvre d'oripeaux et se
roule dans l'ordure, véritable prostituée en robe de bal et les pieds dans la
boue. Ив. Ив. trouve que le vieux général allemand eut mieux été en
personnage historique, l'époque étant si parfaitement historique: je suis assez
de son avis, mais c'est une vétille. Dites encore à P. que je suis enfoncé
dans l'histoire de Pierre-le-Grand, que je lis Golikof, et que je suis heureux
des découvertes que je fais dans ce pays inconnu. C'était tout naturel de
m'abriter auprès du grand-homme qui nous lança dans l'occident, et de
lui demander protection, mais je vous avoue que je ne m'attendais pas à
le trouver ni si géant, ni si bien disposé envers moi.
Bon jour, monsieur. Je suis innondé de commérages: c'est votre
domaine; venez donc et dites à cette mer faite à m'engloutir, tu n'ira pas plus
loin; vous serez obéi, comme de raison, et je n'aurai que plus de plaisir à
vous embrasser.
Le fou.
NB. Ne pourrait-on pas trouver à Petersbourg un portrait de
M. Berryer? Je lisais ce matin son discours à la chambre et je sentais mon
front chauve s'incliner devant cette parole formidable.
[Перевод:]
Я только что узнал, дорогой друг, что Вы скоро возвращаетесь.
Это мне подало мысль попросить Вас привезти мне несколько книг,
которых здесь найти нельзя. Прежде всего, историю Гогенштауфе-
нов Раумера и сочинения Гегеля479. Я думаю, что ни то, ни другое
произведение не запрещено. Вы возьмете их, конечно, у Грефа480,
и Вам не придется за них платить, так как у него открыт для меня
440
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
кредит, к тому же у него, как мне кажется, еще лежит на комиссии
одно из моих сочинений. Затем, не найдете ли Вы английский
религиозный кипсек и исследование по философии Индусов Колеброка,
перевод Тольтье481. Наконец, привезите мне побольше французских
и немецких каталогов. После этого мне остается только пожелать
Вам всего лучшего, но раз перо у меня в руках, то я еще добавлю
несколько слов.
Передайте, пожалуйста, Мейендорфу, что я глубоко огорчен
тем, что с ним случилось, как бы ничтожно ни было это
происшествие482. Я надеюсь, что сумеют, наконец, дать должную оценку тому
злосчастному обороту мысли, который сорвался совершенно
бессознательно с его пера, и что в нем увидят лишь преувеличенный
комплимент, которым принято награждать любого автора любой
рукописи. Нет человека, который, более чем Мейендорф,
расходился бы со мной во взглядах. Во всей этой истории, которая приняла
такой серьезный оборот, нет и следа серьезных убеждений, кроме
убеждений самого автора, да и то убеждений более философского
характера, уже отчасти проржавевших и готовых уступить место
более современным, более национальным. Во всяком случае, из всех
печальных последствий моей наивной уступчивости более всего
огорчают меня беспокойства, причиняемые другим. Меня часто
называли безумцем, и я никогда не отрекался от этого звания и на этот
раз говорю — аминь, — как я всегда это делаю, когда мне на голову
падает кирпич, так как всякий кирпич падает с неба. И вот я снова в
своей Фиваиде, снова челнок мой пристал к подножию креста, и так
до конца дней моих; скажу еще раз: «буди, буди».
Пусть я безумен, но надеюсь, что Пушкин примет мое искреннее
приветствие с тем очаровательным созданием, его побочным
ребенком, которое на днях дало мне минуту отдыха от гнетущего меня
уныния483. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровала меня
в нем его полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в
настоящее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства
и пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в
мерзости нечистот, подлинная блудница в бальном платье и с
ногами в грязи. Иван Иванович находит, что старый немецкий генерал
был бы удачнее в качестве исторического лица, ведь эпоха-то
глубоко историческая; я, пожалуй, с ним согласен, но это мелочь484. Ска-
Письма
441
жите еще Пушкину, что я погружен в историю Петра Великого,
читаю Голикова и счастлив теми открытиями, которые я делаю в этой
неведомой стране485. Было вполне естественно для меня укрыться у
великого человека, который кинул нас на Запад, и просить его
защиты; но, признаюсь, я не ожидал найти его ни таким гигантом, ни
столь расположенным ко мне.
Ну, будьте здоровы. Меня заливают сплетни: это Ваша область;
придите же и скажите этому морю: «стой, не далее!». Ваше
повеление, конечно, будет исполнено, и я с тем большим удовольствием
Вас обниму.
Безумный.
NB. Нельзя ли найти в Петербурге портрет Берье?486 Сегодня
утром я прочитал его речь в парламенте, и плешивая голова моя
склонилась перед этим грозным словом.
Л. М. Цынскому от 7 января 1837 г.487
Милостивый государь, Лев Михайлович.
Несколько слов, написанных мною вчера у Вашего
превосходительства об моих сношениях с госпожою Пановой, мне кажется,
недостаточны для объяснения этого обстоятельства, и потому
позвольте мне объяснить Вам оное еще раз488. Я познакомился с
госпожою Пановой в 1827 году в подмосковной, где она и муж ее были
мне соседями. Там я с нею видался часто, потому что в бездействе
находил в этих свиданиях развлечение. На другой год,
переселившись в Москву, куда и они переехали, продолжал я с нею видеться.
В это время господин Панов занял у меня 1000 руб., и около того
же времени от жены его получил я письмо, на которое отвечал тем,
которое напечатано в Телескопе, но к ней его не послал, потому что
писал его довольно долго, а потом знакомство наше прекратилось.
Между тем срок по векселю прошел, и я не получил ни капитала, ни
процентов. Спустя, кажется, еще год подал я вексель ко взысканию
и получил от госпожи Пановой другое письмо, довольно грубое, в
котором она меня упрекала в моем поступке. В 1834 году передал я
вексель купцу Лахтину за 800 руб. Все это время я не видался с ними
442
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
и даже не знал, где они находятся. Прошлого года госпожа Панова
вдруг известила меня, что она здесь, и с легкомыслием объявила мне,
что вексель будучи выплачен, она желает возобновить со мной
знакомство, на что я отвечал, что готов ее видеть. Тогда она приехала
ко мне с мужем и тут впервые узнала о существовании письма, к ней
написанного и давно всем известного. Мы в это время еще раза два
виделись; потом она уехала в Нижний, и более я ее не видал.
Надобно еще знать, что прочие, так называемые мои философические,
письма написаны как будто к той же женщине, но что г. Панова об
них никогда даже не слыхала.
Что касается до того, что эта несчастная женщина теперь в
сумасшествии говорит, например, что она республиканка, что она
молилась за поляков и прочий вздор489, то я уверен, что если спросить
ее, говорил ли я с ней когда-либо про что-нибудь подобное, то она,
несмотря на свое жалкое положение, несмотря на то, что почитает
себя бессмертною и в припадках бьет людей, конечно, скажет, что
нет. Сверх того, и муж ее то же может подтвердить.
Все это пишу к Вашему превосходительству потому, что в городе
много говорят об моих сношениях с нею, прибавляя разные
нелепости, и потому, что я, лишенный всякой ограды, не имею
возможности защитить себя ни от клеветы, ни от злонамерения. Впрочем, я
убежден, что мудрое правительство не обратит никакого внимания
на слова безумной женщины, тем более что имеет в руках мои
бумаги, из которых можно ясно видеть, сколь мало я разделяю мнения
ныне бредствующих умствователей.
Честь имею быть, милостивый государь, с истинным почтением
Вашего Превосходительства
покорнейший слуга Петр Чаадаев.
1837января!
М. Я. Чаадаеву от февраля 1837 г.490
Благодарю тебя, любезный брат, за твое доброе участие в моем
приключении. Я никогда не сомневался в твоей дружбе, но в этом
случае мне особенно приятно было найти ей новое доказательство.
Письма
443
Ты желаешь знать подробности этого странного происшествия, для
того чтоб мне быть полезным; наперед тебе сказываю, делать тут
нечего ни тебе и никому другому, но вот ведь как оно произошло.
Издателю «Телескопа» попался как-то в руки перевод одного моего
письма, шесть лет тому назад написанного и давно уже всем известного;
он отдал его в цензуру; цензора не знаю как уговорил пропустить;
потом отдал в печать и тогда только уведомил меня, что печатает.
Я сначала не хотел тому верить, но, получив отпечатанный лист и
видя в самой чрезвычайности этого случая как бы намек
Провидения, дал свое согласие. Статья вышла без имени, но тот же час была
мне приписана или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик.
Чрез две недели спустя издание журнала прекращено, журналист и
цензор призваны в Петербург к ответу; у меня по высочайшему
повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим. Поражение
мое произошло 28-го октября491, следовательно, вот уже три месяца,
как я сошел с ума. Ныне издатель сослан в Вологду, цензор отставлен
от должности, а я продолжаю быть сумасшедшим492. Теперь, думаю,
ясно тебе видно, что все произошло законным порядком и что
просить не о чем и некого.
Говорят, что правительство, поступив таким образом, думало
поступить снисходительно; этому очень верю, ибо нет в том сомнения,
что оно могло поступить несравненно хуже493. Говорят также, что
публика крайне была оскорблена некоторыми выражениями моего
письма, и это очень может статься; странно, однако ж, что
сочинение, в продолжение многих лет читанное и перечитанное в
подлиннике, где, разумеется, каждая мысль выражена несравненно сильнее,
никогда никого не оскорбляло, в слабом же переводе всех поразило!
Это, я думаю, должно отчасти приписать действию печати: известно,
что печатное легче разбирать писаного.
Вот, впрочем, настоящий вид вещи. Письмо написано было не для
публики, с которою я никогда не желал иметь дела, и это видно из
каждой строки оного; вышло оно в свет по странному случаю, в
котором участие автора ничтожно; журналист, очевидно, воспользовался
неопытностью автора в делах книгопечатания, желая, как он сам
сказывал, «оживить свой дремлющий журнал или похоронить его с че-
стию»494; наконец, дело все принадлежит издателю, а не сочинителю,
которому, конечно, не могло прийти в голову явиться перед публикою
444
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
в дурном переводе, в то время как он давным-давно пользовался на
другом языке, и даже не в одном своем отечестве, именем хорошего
писателя. Итак, правительство преследует не поступок автора, а его
мнения. Тут естественно приходит на мысль то обстоятельство, что
эти мнения, выраженные автором за шесть лет тому назад, может быть,
ему вовсе теперь не принадлежат и что нынешний его образ мыслей,
может быть, совершенно противоречит прежним его мнениям, но об
этом, по-видимому, правительство не имело времени подумать и даже
второпях не спросило автора, признает ли он себя автором статьи
или нет. Правда, что при всем том на авторе лежит ответственность
за согласие, легкомысленно им данное, то есть за одни эти слова:
«пожалуй, печатайте»; но спрашивается: могут ли одни эти слова
составить «corpus delicti»495, и если могут, то соразмерно ли наказание с
преступлением? На это, думаю, отвечать довольно трудно.
Что касается до моего положения, то оно теперь состоит в том, что
я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть у себя
ежедневно господ медиков, ex officio496 меня навещающих. Один из
них, пьяный частный штаб-лекарь, долго ругался надо мною самым
наглым образом, но теперь прекратил свои посещения, вероятно, по
предписанию начальства. Приятели мои посещают меня довольно
часто, и некоторые из них поступают с редким благородством; но
всего утешительнее для меня дружба моих милых хозяев497. Бумаг по
сих пор не возвращают, и это всего мне чувствительнее, потому что
в них находятся труды всей моей жизни, все, что составляло цель ее.
Развязки покамест не предвижу, да и, признаться, не разумею, какая
тут может быть развязка? Сказать человеку «ты с ума сошел»
немудрено, но как сказать ему «ты теперь в полном разуме»? Окончательно
скажу тебе, мой друг, что многое потерял я невозвратно, что многие
связи рушились, что многие труды останутся неоконченными и,
наконец, что земная твердость бытия моего поколеблена навеки.
С. Л. Пушкину от второй половины февраля 1837 г.498
Je vous remercie beaucoup, cher Monsieur Pouchkine, de votre
souvenir. Permettez moi de garder la lettre de Joukofsky jusqu'à demain. J'ai
Письма
445
envis de la faire voir à Orlof, l'un des admirateurs les plus chauds de notre
illustre mort. On vient de me rendre mes papiers et j'y ai retrouvé une lettre
d'Alexandre qui a reveillé tous mes regrets. C'est là seule qui me reste des
nombreuses lettres qu'il m'avait écrites à différentes époques de sa vie, et je
suis heureux de l'avoir retrouvé. A demain donc la lettre de Joukofsky.
Votre tout dévoué Tchadayef.
[На обороте:]
Monsieur
Monsieur Serge Pouchkine
[Перевод:]
Очень благодарю вас, дорогой Пушкин, за вашу память обо мне.
Позвольте мне оставить у себя до завтра письмо Жуковского499. Мне
хочется показать его Орлову, одному из самых горячих поклонников
нашего славного покойника500. Мне только что вернули мои бумаги,
среди которых я нашел письмо Александра, пробудившее вновь все
мои сожаления. Это письмо — единственное сохранившееся у меня
из всех многочисленных писем, которые он писал мне в разные
эпохи своей жизни, и я счастлив, что нашел его501. Итак, до завтра с
письмом Жуковского.
Искренно преданный вам
Чаадаев
И. Д. Якушкину от 19 октября 1837 г.502
19 octobre 1837
Il y a de cela un an, mon ami, que je vous écrivis; ce fut au moment où
nous apprîmes que vous alliez être déplacé et que l'on pouvait désormais
correspondre avec vous. Je vous félicitais discrètement de cette
modification dans votre position en vous invitant à nous donner de vos nouvelles.
Malheureusement cette lettre se fourvoya deux fois de la manière la plus
étrange, la première grâce à l'affection jalouse de votre belle-mère
passionnément attachée au monopole de votre amitié, la seconde par suite
d'une aventure qui m'arriva vers cette époque et que je vais vous conter
446
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
bien vite, afin d'en avoir le cœur net. Vous saurez donc que je me mêlais
depuis quelques temps d'écrire sur divers sujets religieux. Pendant la
longue retraite que je m'étais imposée après mon retour de l'étranger ce que
j'écrivis resta ignoré; mais sitôt que j'eus quitté ma thébaïde et que je
reparus dans le monde, tout mon griffonnage devint connu et obtint
bientôt l'espèce de faveur si facilement accordée à toute œuvre écrite. Mes
écrits furent donc lus; on les copia; ils devinrent connus hors du pays et
je reçus quelques témoignages flatteurs de quelques célébrités littéraires.
On en traduisit quelques fragments en russe; on vit même paraître un
ouvrage grave tout rempli de mes idées, dont on m'y faisait franchement
honneur. Mais voilà qu'un beau jour, un journaliste de Moscou, dont le
journal trébuchait tristement, avisant je ne sais où l'une de mes pages les
plus chaleureuses, obtint je ne sais comment l'approbation du censeur
et la jeta dans son journal. Alors, clameur générale; le journal supprimé;
le gérant d'abord mandé à Pétersbourg, puis exilé à Vologda; le censeur
cassé; mes papiersv saisis, et moi enfin, de ma personne déclaré fou par
ordre suprême qt par grâce spéciale, dit-on. Donc me voilà fou, depuis
tantôt un anÇ et jusqu'à nouvel ordre. Telle est, mon ami, ma lugubre et
ridicule histoire. Vous comprenez maintenant pourquoi ma lettre ne vous
est point parvenue. Le fait est qu'elle a pris une tout autre route, et que
je ne l'ai plus revue. J'aime à croire toutefois qu'elle n'a pas été sans fruit
pour les gens qui la trouvèrent de bonne prise, car, si je m'en souviens
bien, elle contenait des choses qui pouvaient servir à leur instruction
particulière. Parlons maintenant d'autre chose.
Vous n'ignorez pas, sans doute, que votre cousine me fait part de
temps en temps de vos lettres; votre belle-mère, quand elle ne me boude
pas, me communique aussi celles que vous lui adressez: je suis donc assez
bien orienté en ce qui vous concerne. Je sais avec quel noble courage
vous portez le poids de votre sort; je sais que vous êtes livré à des études
sérieuses et j'admire les nombreuses et solides connaissances que vous
avez acquises dans votre exil. Je ne puis vous dire combien je suis heureux
de tout cela et fier de vous avoir si bien pressenti. Il est un vieil adage,
mon ami, et qui sent du reste un peu son paganisme, à savoir qu'il n'y a
pas de spectacle plus beau que celui d'un sage luttant contre l'adversité;
mais j'aime mieux le regard plein de sérénité que vous jetez sur le monde
du sein de votre solitude désolée. Voilà ce que la superbe antiquité n'avait
pas su découvrir, ce qu'un esprit bien fait trouve naturellement de nos
Письма
447
jours. Cependant quoique j'ignore quels sont aujourd'hui vos sentiments
religieux, je ne puis croire, je vous l'avoue, que vous soyez arrivé à cette
paix de l'âme au moyen de ce déisme glacial que les esprits de votre
catégorie professaient à l'époque où nous nous quittâmes. Les études que
vous fîtes depuis ont dû vous conduire à des méditations fortes sur les
plus graves questions de l'ordre moral et il est impossible que vous soyez
définitivement demeuré dans cet état de doute pusillanime que le déisme
ne saurait jamais franchir. Les sciences naturelles sont d'ailleurs loin d'être
aujourd'hui hostiles aux croyances religieuses; j'aime donc à croire que la
lucidité de votre jugement vous aura bientôt fait entrevoir les vérités vers
lesquelles elles gravitent. Je dois même vous dire que dans cette lettre
égarée dont je vous parlais tout à l'heure je m'étais déjà permis à
l'occasion d'un volume de Becquerel, qui devait l'accompagner, de vous faire
remarquer en passant que toutes les récentes découvertes de la science et
celles sur l'électricité notamment venaient à l'appui des traditions
chrétiennes, confirmaient le système cosmogonique de la Bible. Un jour nous
reviendrons sur ces matières, mais je voudrais savoir d'abord si vous avez
connaissance des ouvrages de Cuvier, attendu que rien ne pourrait mieux
nous servir de point de départ dans nos excursions philosophiques que
les travaux géologiques de cet homme. Vous m'en direz un mot la
première fois que vous m'écrirez.
Je vous demande pardon, mon ami, si ma première lettre se trouve
déjà toute saturée de mes préoccupations habituelles, mais vous
concevez qu'il m'est à cette heure plus malaisé que jamais de me soustraitre à
l'influence des idées qui font tout l'intérêt de ma vie, seul appui d'une
existence bouleversée. Je suis loin toutefois de vous imposer mes
opinions; je connais la tournure de votre esprit, et je sais fort bien que ni
l'âge, ni la méditation, ni l'expérience d'une vie traversée par un immense
désastre et par un immense enseignement, ne sauraient modifier
essentiellement une intelligence comme la vôtre; mais je sais aussi que l'époque
où nous vivons est trop pénétrée de ce fluide régénérateur qui a déjà
produit de si admirables résultats dans toutes les sphères de la connaissance
humaine pour que votre esprit, tout loin qu'il soit géographiquement
situé des grands foyers du mouvement intellectuel, puisse être entièrement
étranger à son action. Vous avez suivi de votre mieux la marche des idées
contemporaines; l'orbite que vous parcourez, tout excentrique qu'elle
soit, n'en est pas moins déterminée par la loi de la gravitation universelle
448
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
de toutes les choses vers un même centre et éclairée par le même soleil
qui luit sur toute l'humanité: vous ne sauriez donc être fort en retard du
reste du monde. Mais, quoi qu'il en soit, vous serez certainement de mon
avis sur un point, à savoir que nous n'avons rien de mieux à faire que de
nous tenir, autant que faire se peut, dans la région de la science; il ne m'en
faut pas davantage pour le moment.
Bonjour donc, mon ami.
[Перевод:]
19 октября 1837
Тому год назад, мой друг, что я писал к тебе; это было в то самое
время, как мы узнали, что вы скоро будете перемещены, и что вперед
можно будет с вами переписываться. Я тебя скромно поздравлял с
этим видоизменением в твоем положении и просил тебя дать нам
о себе известий. По несчастию, это письмо503 затерялось два раза
самым странным образом: в первый раз по милости ревнивой любви
твоей свекрови, страстно берегущей монополию твоей дружбы504,
во второй — вследствие случившегося со мной в это время
приключения, которое я тебе поскорее перескажу, чтобы с этим сразу
покончить и очистить совесть. Дело в том, что с некоторого времени я
начал писать о различных религиозных предметах. В продолжение
долгого уединения, наложенного мною на себя по возвращении из-
за границы, то, что я писал, оставалось неизвестным; но как только
я покинул мою Фиваиду и снова появился в свете, все мое маранье
сделалось известным и скоро приобрело тот род благосклонного
внимания, который так легко отдается всякому неизданному
сочинению. Мои писанья стали читать; их переписывали; они сделались
известны вне России, и я получил несколько лестных отзывов от
некоторых литературных знаменитостей505. Некоторые отрывки из
них были переведены на русский язык; появилась даже серьезная
книга, вся исполненная моими мыслями, которые мне откровенно
и приписывали. Но вот в один прекрасный день один московский
журналист506, журнал которого печально перебивался, усмотрев, не
знаю где, одну из моих самых горячих страниц, получил, не знаю как,
позволение цензора и поместил ее в свой журнал. Поднялся общий
шум; издание журнала прекращено, редактор сначала потребован в
Письма
449
Петербург, потом сослан в Вологду; цензор отставлен от должности,
мои бумаги захвачены, и, наконец, я сам, своей особой, объявлен
сумасшедшим по высочайшему повелению507 и по особенной
милости, как говорят. Итак, вот я сумасшедшим скоро уже год и впредь
до нового распоряжения508. Такова, мой друг, моя унылая и смешная
история. Ты понимаешь теперь, отчего мое письмо до тебя не дошло.
Дело в том, что оно приняло совершенно другую дорогу, и что я его
больше не видал. Я, впрочем, льщу себя надеждой, что оно не совсем
осталось без плода для тех, кому оно попало законной добычей,
потому что, если я не ошибаюсь, в нем заключались вещи, годные для
их личного вразумления509. Поговорим теперь о другом.
Тебе, без сомнения, известно, что твоя двоюродная сестра от
времени до времени показывает мне твои письма510; твоя свекровь,
когда на меня не дуется, также сообщает мне те, которые ты к ней
пишешь: стало быть, я довольно знаю о всем, что до тебя касается.
Я знаю, с каким благородным мужеством ты сносишь тяжесть своей
судьбы; я знаю, что ты предаешься серьезному изучению, и
удивляюсь многочисленным и твердым знаниям, приобретенным тобою в
ссылке. Не могу тебе выразить, сколько я всем этим счастлив и
сколько я горжусь, что так хорошо тебя угадывал. Есть старое изречение,
мой друг, несколько, впрочем, отзывающееся язычеством, а именно:
что нет прекраснее зрелища, как зрелище мудреца в борьбе с
противным роком; но меня еще более увлекает исполненный ясности
взгляд, который ты устремляешь на мир из своего безотрадного
одиночества. Вот чего высокомерная древность не умела открыть — и
что верный ум естественным образом находит в наше время. Однако
же, хоть я и не знаю, какие теперь твои религиозные чувствования,
но, признаюсь тебе, не могу поверить, чтобы к этому душевному
спокойствию ты пришел путем того оледеняющего деизма, который
исповедывали умы твоей категории тогда, когда мы расстались.
Изучения, которым ты с тех пор отдавался, должны были тебя привести
к серьезным размышлениям над самыми важными вопросами
нравственного порядка, и невозможно, чтобы ты окончательно остался
при том малодушном сомнении, дальше которого деизм никогда
шагнуть не может. К тому же естественные науки в настоящее время
далеко не враждебны религиозным верованиям; поэтому я ласкаю
себя надеждой, что ясность твоего понимания скоро даст тебе уви-
450
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
деть те истины, к которым они тяготеют. Я даже должен тебе сказать,
что в том затерянном письме, о котором я тебе сейчас говорил, я уже
себе позволил, по случаю книги Беккереля51\ которая должна была
сопровождать это письмо, мимоходом заметить тебе, что все
недавние открытия в науке, и открытия по части электричества в
особенности, служат к поддержке христианских преданий, подтверждают
космогоническую систему Библии. Когда-нибудь мы опять
воротимся к этим предметам, но до того я бы хотел знать, известны ли тебе
сочинения Кювье, потому что ничто не может нам служить лучшею
точкою отправления в наших философских рассуждениях, как его
геологические труды512. В первый раз, как будешь ко мне писать,
скажи мне об этом.
Прошу у тебя извинения, мой друг, в том, что это первое мое
письмо все наполнено моими обычными помыслами (préoccupations),
но ты понимаешь, что в теперешнее время мне труднее, чем когда-
либо, освободиться от влияния идей, составляющих весь интерес
моей жизни, единственную опору моего опрокинутого
существования. Я далек, однако же, от мысли навязывать тебе свои мнения;
мне известен склад твоего ума, и я очень хорошо знаю, что ни
годы, ни размышление, ни опыт жизни, по которой прошло
неизмеримое бедствие и неизмеримое поучение, не в состоянии
существенно видоизменить ум, подобный твоему; но я знаю также,
что время, в которое мы живем, слишком проникнуто тем
возрождающим током (fluide régénérateur), который произвел уже столь
удивительные результаты во всех сферах человеческого знания,
чтобы твой ум, как бы он ни был географически удален от всяких
очагов умственного движения, мог остаться совершенно чуждым
его влиянию. Ты, как только мог, следовал за ходом современных
идей: пробегаемая тобою орбита, несмотря на всю ее
эксцентричность, все-таки определяется законом всемирного тяготения всех
предметов к одному центру и освещается тем же самым солнцем,
которое сияет на все человечество: стало быть, ты не мог много
отстать от остального мира. Но, как бы то ни было, конечно, в одном
ты будешь одинакового со мною мнения, а именно: что мы не
можем сделать ничего лучшего, как держаться, сколько то возможно,
в области науки; в настоящее время мне ничего больше и не надо.
Прощай же, мой друг.
Письма
451
И. Д. Якушкину от 30 октября 1837 (?) г.513
С истинным удовольствием прочел я, мой друг, твое сочинение514.
Мне чрезвычайно приятно было видеть, с какою легкостью ты обнял
этот трудный предмет, присвоил себе все новейшие открытия науки
и приложил их к нему. Отрывок твой, по моему мнению,
отличается новостию взгляда, верностию в главных чертах и занимательным
изложением; но я не могу не сделать некоторых замечаний на
последние строки, где ты касаешься вещей, для меня весьма важных,
и излагаешь такие мнения, которых мне никак нельзя оставить без
возражения. Впрочем, я доволен и этими строками, потому что и в
них вижу то новое, благое направление всеобщего духа, за которым
так люблю следовать и которое мне столь часто удавалось
предупреждать. Итак, приступим к делу.
Ты, по старому обычаю, отличаешь учение церковное от
науки515. Я думаю, что их отнюдь различать не должно. Есть, конечно,
наука духа и наука ума, но и та и другая принадлежат познанию
нашему, и та и другая в нем заключаются. Различны способ
приобретения и внешняя форма, сущность вещи одна. Разделение твое
относится к тому времени, когда еще не было известно, что разум
наш не все сам изобретает и что, для того только, чтоб двинуться
с места, ему необходимо надобно иметь в себе нечто, им самим не
созданное, а именно орудия движения, или, лучше сказать, силу
движения. Благодаря новейшей философии в этом, кажется, ни один
мыслящий человек более не сомневается: жаль, что не всякий это
помнит. Вообще, это ветхое разделение, которое противоставляет
науку религии, вовсе не философское и, позволь мне также
сказать, несколько пахнет XVIII столетием, которое, как тебе самому
известно, весьма любило провозглашать неприступность для ума
нашего истин веры, и таким образом, под притворным уважением
к учениям церкви, скрывало вражду свою к ней516. Отрывок твой
написан совершенно в ином духе, но по тому самому
противоречие между мыслию и языком тем разительнее. Впрочем, надо и то
сказать, с кем у нас не случается мыслить современными мыслями,
а говорить словами прошлого времени, и наоборот? и это очень
естественно: как нам поспеть всеми концами вдруг нашего
огромного, несвязного бытия за развитием бытия тесно сомкнутого,
452
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
давно устроенного народов Запада, потомков древности? —
Невозможно.
События допотопные, рассказанные в Книге Бытия, как тебе
угодно, совершенно принадлежат истории, разумеется мыслящей,
которая, однако ж, есть одна настоящая история517. Без них шествие ума
человеческого неизъяснимо; без них великий подвиг искупления не
имеет смысла, а, собственно, так называемая философия истории
вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни
психологии, ни даже логики; все тьма и бессмыслица. Как понять, например,
происхождение ума человеческого и, следовательно, его закон, если,
не предположить, что человек вышел из рук Творца своего не в том
виде, в каком он себя теперь познает? К тому же должно заметить,
что пред чистым разумом нет повествования, достовернее нам
рассказанного в первых главах Священного Писания, потому что нет
ни одного столь проникнутого той истиной непременной, которая
превыше всякой другой истины, а особливо всякой просто
исторической. Конечно, это рассказ, и рассказ весьма простодушный, но
вместе с тем и высочайшее умозрение, и потому поверяется не
критикою обыкновенною, а законами разума. Наконец, если сказание
библейское о первых днях мира есть не что иное для христианина,
как песнопение вдохновенного свидетеля мироздания, то для
исследователя древности оно есть древнейшее предание рода
человеческого, глубоко постигнутое и стройно рассказанное. Как же может
оно принадлежать одному духовному учению, а не истории вообще?
И выбросить его из первобытных летописей мира не значит ли то
же, что выбросить первое действие из какой-нибудь драмы, первую
песнь из какой-нибудь эпопеи? Да и как можно в начальном учении,
где каждый пропуск невозвратен, где каждое слово имеет отголосок
по всей жизни учащегося, не говорить на своем месте, то есть в
истории сотворения, о первой, так сказать, встрече человека с Богом, то
есть о сотворении его умственного естества? Как можно приступить
к истории рода человеческого, не сказав, откуда взялся род
человеческий? Как можно начать науку со второй или с третьей главы этой
науки?
Молодой ум, который желаешь приготовить к изучению истории,
должно так направить, чтобы все последующие его понятия, к этой
сфере относящиеся, могли необходимым образом проистекать из
Письма
453
первоначальных понятий, а для этого, мне кажется, надобно
непременно говорить обо всем там и тогда, где следует; иначе ни под
каким видом не будет логического развития. Вспомни, в какое время
ум человеческий приобрел те власти, те орудия, которыми нынче так
мощно владеет. Не тогда ли, когда все основное учение было учение
духовное, когда вся наука созидалась на теологии, когда Аристотель
был почти отец церкви, а св. Ансельм Кентерберийский —
знаменитейший философ своего времени?518 Конечно, нам нельзя, каждому
у себя дома, все это переначать; но мы можем воспользоваться
этими великими поучениями, но мы не должны добровольно лишать
себя богатого наследия, доставшегося нам от веков протекших и от
народов чуждых. Кто-то сказал, что нам, Русским, недостает
некоторой последовательности в уме и что мы не владеем
силлогизмом Запада519. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о
нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя
также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум
наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым
образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно и почти
не оставляя по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с
чрезвычайною ловкостию присваиваем себе всякое чужое изобретение, а
сами не изобретаем; мы постепенности не знаем ни в чем; мы
схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы
живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслию.
Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно
вперед подвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития
иное пропускали, другое узнавали не в свое время и, таким образом,
очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь
находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще
беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно
стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною
логическою строгостию и обращать всего более внимания на методу
учения нашего520. Тогда, может быть, перестанем мы хватать одни
вершки, как то у нас по сих пор водилось; тогда раскроются
понемногу все силы гибких и зорких умов наших; тогда родятся у нас и
глубокомыслие, и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи
во всей их полноте и наконец сравняемся, не только по наружности,
но и на самом деле, с народами, которые шли иными стезями и пра-
454
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
вильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их,
потому что мы имеем пред ними великие преимущества,
бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены,
подобно им, тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми
предрассудками и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и
трудов.
Ты говоришь еще, что должно в молчании благоговеть пред пре-
мудростию Божиею521. Не могу не сказать тебе, мой друг, что и это
также не что иное, как обветшалый оборот прошлого столетия.
Благоговеть пред премудростию Божиею, конечно, должно, но зачем в
молчании? Нет, должно чтить ее не с безгласным, а с полным
разумением, то есть с глубокою мыслию в душе и с живым словом на устах.
Премудрость Божия никогда не имела в виду соделывать из нас
бессловесных животных и лишать нас того преимущества, которое
отличает нас от прочих тварей. Откровение не для того излилось
в мир, чтобы погрузить его в таинственную мглу, а для того, чтоб
озарить его светом вечным. Оно само есть слово-, слово же вызывает
слово, а не безмолвие522. Скажи, где написано, что Властитель миров
требует себе слепого или немого поклонения? Нет, Он отвергает ту
глупую веру, которая превращает существо разумное в
бессмысленную тварь; Он требует веры, преисполненной зрения, гласа и жизни.
Се же есть живот вечный, говорит апостол, да знают тебе единого
ЬогаЬ1Ъ. Если же вера есть не что иное, как познание Божества, то
сам посуди, не сущее ли богохулие именем веры проповедовать
бессмыслие?
В заключение скажу, никак не должно забывать, что разум наш
не из одного того составлен, что он сам открыл или выдумал, но изо
всего того, что он знает. Какое до того дело, откуда и каким образом
это знание в него проникло? Иное он приобрел несознательно, а
теперь постигает с полным сознанием; другое усвоил себе вековыми
усилиями и трудами, а ныне пользуется им механически; но и то и
другое принадлежит ему неотъемлемо, и то и другое взошло навсегда
в его состав. Одним словом, разум, или, лучше сказать, дух, один на
небеси и на земли; невидимые излияния мира горнего на дольний,
с первой минуты сотворения того и другого, никогда не
прекращаясь, всегда сохраняли между ними вечное тождество; когда же
совершилось полное откровение или воплощение божественной истины,
Письма
455
тогда совершилось также и сочетание обоих миров в одно
неразделимое целое, которое в сущности своей никогда более
раздроблено быть не может, ни умозрением надменной мечтательности, ни
строптивым своеволием ума, преисполненного своею личностию,
ни произвольным отречением развращенного сердца. Всемирный
дух, обновленный новою высшею мыслию, ее более отвергнуть не в
силах, ею дышит, ею живет, ею руководствуется и, вопреки всех
восстаний разнородных титанов, деистов, пантеистов, рационалистов
и прч., торжественно продолжает путь свой и влечет за собою род
человеческий к его высокой цели.
Вот, мой друг, что я хотел тебе сказать; но еще раз повторяю, с
особенным удовольствием прочел я твой занимательный отрывок и
от всей души желаю, чтоб ты продолжал свой труд.
Безумный.
1837. Октября 30
М. Ф. Орлову от 1837 г.524
Oui, mon ami, cultivons notre glorieuse amitié et laissons le monde
rouler vers ses destinées indéchiffrables. Tous les deux, battus par la
tempête, tenons-nous par la main, et debout, au milieu des brisants. Ne plions
pas nos fronts dépouillés devant les rafales qui sifflent autour de nous.
Mais surtout, n'espérons plus rien, absolument rien pour nous-mêmes.
Rien ne rend lâche comme un fol espoir. L'espérance est une vertu, sans
doute, et c'est là l'une des plus belles découvertes de notre divine religion,
mais il lui arrive aussi parfois de n'être qu'une niaiserie. Immense
niaiserie en effet que d'espérer alors que l'on se trouve plongé dans une mare
croupissante où chaque mouvement vous enfonce davantage. Donc, des
trois vertus théologales, pratiquons les deux premières, la Charité et la
Foi; et prions Dieu qu'il daigne nous pardonner, si nous désapprîmes la
troisième. Toutefois, espérons pour nos frères, pour nos enfants, pour
notre auguste patrie, si grande, si soumise, si calme. Quant à nous-mêmes,
si la terre nous est douloureuse, qui nous empêche d'escalader le ciel? Le
ciel n'est-il pas à ceux qui l'emportent de force? Sur ce point, il est vrai,
vous n'êtes pas du même avis que moi. Vous avez le malheur de croire
456
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
à la mort; pour vous, le ciel est je ne sais où, quelque part au-delà de la
tombe. Vous êtes du nombre de ceux qui pensent encore que la vie n'est
point tout d'une pièce, qu'elle est brisée en deux parts, et qu'il existe un
abîme entre ces deux parts. Vous oubliez qu'il y a bientôt dix-huit siècles
et demi que cet abîme se trouve comblé; enfin, vous croyez qu'entre vous
et le ciel il y a la pelle du fossoyeur. Tristes croyances qui ne veulent pas
comprendre que l'éternité n'est rien autre chose que la vie du juste, la vie
dont le fils de l'homme nous apporta le modèle, qu'elle peut, qu'elle doit
commencer dès ce monde, qu'elle commencera en effet du jour où nous
voudrons tout de bon qu'elle commence; qui s'imaginent que le monde
qui nous environne, c'est le monde tel qu'il existe réellement; qui ne
voient pas que ce n'est là qu'un monde fabriqué par nos mains et qu'il ne
tient qu'à nous de l'anéantir; qui se figurent, comme les petits enfants, que
le ciel, c'est le bleu tendu sur nos têtes, et qu'il n'y a pas moyen de monter
là-haut. Fatal héritage des siècles où la terre, non sanctifiée encore par le
sacrifice, ne se trouvait pas encore réconciliée avec le ciel. Quand donc,
ô mon Dieu! verrai-je tous mes amis abjurer enfin toutes ces ignorances
de l'immonde paganisme, quand donc sauront-ils tous qu'il n'est qu'une
manière d'être chrétien, c'est de l'être tout à fait! Naguère encore, je
rêvais qu'il m'était donné de répandre parmi eux quelques bonnes vérités,
et je leur parlais, et parfois ils m'écoutaient; mais un jour l'ouragan est
survenu, le samoun souffla: alors les poussières du désert se soulevèrent,
les yeux se fermèrent, les oreilles se bouchèrent et ma voix fut étouffée.
Que ta volonté soit faite, ô mon Dieu! Tes arrêts sont toujours justes et
nos vœux toujours indiscrets. C'était pourtant un beau rêve, et j'ose le
dire, celui d'un esprit juste et d'un bon citoyen. Pourquoi ne le dirais-je
pas encore? Longtemps j'aspirai, je l'avoue, à la douce satisfaction de voir
réunis autour de moi quelques esprits chastes et graves, quelques âmes
chaudes et pures, afin d'invoquer de concert les bienfaits du ciel pour
l'humanité et pour la patrie. Je pensais que mon pays, vierge de toutes
les émotions qui partout ailleurs ont laissé de si profondes traces dans
les intelligences, qui les détournent si souvent, à cette heure encore, des
bonnes voies pour les lancer dans les voies mauvaises, que mon pays, dis-
je, était destiné à proclamer le premier les grandes et les saintes vérités
que tôt ou tard l'univers tout entier devra accepter; qu'à la Russie était
dévolue l'auguste tâche de réaliser avant tous les autres pays du monde
les promesses du christianisme, parce qu'il y était resté pur du contact
Письма
457
des passions des hommes et des intérêts de la terre, parce qu'il n'y avait
fait, comme son divin fondateur, que prier et s'humilier, parce qu'il était
probable qu'à cause de cela même il y serait favorisé de ses dernières et
de ses plus puissantes inspirations. Chimères, mon ami, chimères que tout
cela. Que l'avenir s'accomplisse, quel qu'il doive être. Croisons les bras et
laissons-le venir; ou bien, inclinés devant les saintes images, comme nos
pieux et braves ancêtres, ces héros de toutes les obéissances imaginables,
attendons, dans le silence et dans la prière, qu'il s'abatte sur nous, bon ou
mauvais, n'importe!
[Перевод:]
Да, друг мой, сохраним нашу прославленную дружбу, и пусть мир
себе катится к своим неисповедимым судьбинам. Нас обоих треплет
буря, будем же рука об руку и твердо стоять среди прибоя525. Мы
не склоним нашего обнаженного чела перед шквалами, свистящими
вокруг нас. Но главным образом не будем более надеяться ни на что,
решительно ни на что для нас самих. Ничто так не истощает, ничто
так не способствует малодушию, как безумная надежда. Надежда,
бесспорно, добродетель, и она одно из величайших обретений нашей
святой религии, но она может быть подчас и чистейшей глупостью.
Какая необъятная глупость, в самом деле, надеяться, когда погружен
в стоячее болото, где с каждым движением тонешь все глубже и
глубже. А потому из трех богословских добродетелей будем прилежать
к двум первым, любви и вере, и станем молить Бога простить нам,
что мы отвыкли от третьей526. Но все же будем надеяться о братьях
наших, о наших детях, о священной родине нашей, столь великой,
столь могущественной, столь спокойной! Что до нас, то если
земля нам неблагоприятна, то что мешает нам взять приступом небо?
Разве небо не удел тех, которые берут его силою? Правда, что по
этому вопросу мы с вами расходимся во взглядах. Вы, по несчастью,
верите в смерть; для вас небо неизвестно где, где-то там за гробом;
вы из тех, которые еще верят, что жизнь не есть нечто целое, что
она разбита на две части и что между этими частями — бездна. Вы
забываете, что вот уже скоро восемнадцать с половиной веков, как
эта бездна заполнена; одним словом, вы полагаете, что между вами
и небом лопата могильщика. Печальная философия, не желающая
понять, что вечность не что иное, как жизнь праведника, жизнь, об-
458
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
разец которой завещал нам Сын Человеческий; что она может, что
она должна начинаться еще в этом мире и что она действительно
начнется с того дня, когда мы взаправду пожелаем, чтоб она
началась; философия, воображающая, что мир, окружающий нас, таков
в своем реальном бытии и что его следует принять, и не видящая,
что это нами созданный мир, и что его следует уничтожить, которая
только что не верит, как дети, что небо — это протянутая над
нашими головами синь, и что туда не влезешь! Печальная философия,
печальное наследие веков, когда земля не была еще ни освящена
жертвою, ни примирена с небом!527 Когда же, о Боже мой! дождусь я того,
чтоб все мои друзья отвергли наконец все это неведение языческой
скверны? Когда же они узнают все, что есть только один способ быть
христианином, а именно быть им вполне? Некогда я мечтал, что мне
дано распространить среди них кое-какие святые истины, и я
говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но в один прекрасный день
нагрянул ураган, подул ветер; и поднялся тогда прах пустыни, забил
уши и заглушил мой голос. Да будет воля Твоя, о мой Боже, суды Твои
всегда праведны, и надежды наши всегда тщетны. А все же это был
прекрасный сон, и сон доброго гражданина. Почему мне не сказать
этого? Я долгое время, признаться, стремился к отрадному
удовлетворению увидать вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов,
ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе с ними призывать
милость неба на человечество и на родину. Я думал, что моя страна,
юная, девственная, не испытавшая жестоких волнений, оставивших
повсюду в других местах глубокие следы в умах и поныне столь
часто отвращающих умы от добрых и законных путей, чтоб бросить их
на пути дурные и преступные, предназначена первая провозгласить
простые и великие истины, которые рано или поздно весь мир
должен будет принять; что России выпала величественная задача
осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо
христианство осталось в ней незатронутым людскими страстями и
земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему
Божественному основателю, лишь молилось и смирялось, а потому мне
представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних
и чудеснейших вдохновений. Химеры, мой друг, химеры все это! Да
совершится будущее, каково бы оно ни было, сложим руки, и будь
что будет, или, склонившись перед святыми иконами, как наши бла-
Письма
459
гочестивые и доблестные предки, эти герои покорности528, станем
ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над
нами, какое бы то ни было, доброе или злое.
А. И. Тургеневу от 1838 г.529
Ты спрашиваешь у нашей милой К. А.530, зачем я не пишу, а я у
тебя спрашиваю, зачем ты не пишешь? Впрочем, я готов писать, тем
более что есть о чем, а именно о той книге, которую ты мне
изволил прислать с этой непристойной припиской: à qui de droit [тому,
кому ведать надлежит]™. По моему мнению, в ней нет и того
достоинства, которое во всех прежних сочинениях автора находилось,
достоинства слога. И немудрено: мысль совершенно ложная хорошо
выражена быть не может. Я всегда был того мнения, что точка, с
которой этот человек сначала отправился, была ложь, теперь и подавно
в этом уверен. Как можно искать разума в толпе? Где видано, чтоб
толпа была разумна? Was hat das Volk mit der Vernunft zu schaffen?
[Что народ может иметь общего с разумом?] сказал я когда-то какому-
то немцу532. Приехал бы к нам ваш г. Ламенне и послушал бы, что
у нас толпа толкует; посмотрел бы я, как бы он тут приладил свой
vox populi, vox dei? [глас народа, глас Божий?]. К тому же это вовсе
не христианское исповедание. Каждому известно, что христианство,
во-первых, предполагает жительство истины не на земли, а на не-
беси; во-вторых, что когда она является на земли, то возникает не
из толпы, а из среды избранных или призванных533. Для меня
вовсе непостижимо, как ум столь высокий, одаренный дарами столь
необычайными мог дать себе это странное направление, и притом
видя, что вокруг него творится, дыша воздухом, породившим
воплощенную революцию и нелепую juste milieu [золотую середину]. Ему
есть один только пример в истории христианства, Савонарола534; но
какая разница! Как тот глубоко постигал свое послание, как точно
отвечал потребности своего времени! Политическое христианство
отжило свой век; оно в наше время не имеет смысла; оно тогда было
нужно, когда созидалось новейшее общество, когда вырабатывался
новый закон общественной жизни. И вот почему западное христи-
460
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
анство, мне кажется, совершенно выполнило цель, предназначенную
христианству вообще, а особенно на Западе, где находились все
начала, потребные для составления нового гражданского мира535. Но
теперь дело совсем иное. Великий подвиг совершен; общество
сооружено; оно получило свой устав; орудия беспредельного
совершенствования вручены человечеству; человек вступил в свое
совершеннолетие. Ни эпизоды безначалия, ни эпизоды угнетения не в
силах более остановить человеческий род на пути своем. Таким
образом, бразды мироправления должны были естественно выпасть из
рук римского первосвященника; христианство политическое должно
было уступить место христианству чисто духовному; и там, где столь
долго царили все власти земные, во всех возможных видах, остались
только символ единства мысли, великое поучение и памятники
прошлых времен. Одним словом, христианство нынче не должно иное
что быть, как та высшая идея времени, которая заключает в себе идеи
всех прошедших и будущих времен, и, следовательно, должно
действовать на гражданственность только посредственно, властию
мысли, а не вещества. Более нежели когда должно оно жить в области
духа и оттуда озарять мир и там искать себе окончательного
выражения. Никогда толпа не была менее способна, как в наше время, на
то содействие, которое от нее ожидает и требует Ламенне. Нет в том
сомнения, что и нынче много дела делается и говорится на свете, но
возможно ли отыскать глас Божий в этом разногласном говоре
мыслящего и не мыслящего народа, в этом порыве одной толпы к одному
вещественному, другой — к одному несбыточному? справедливо и то,
что Вечный Разум повременно выражается в делах человеческих, и
что можно отчасти за ним следовать в истории народов, но не должно
же принимать за его выражение возглас каждого сброда людей,
который, мгновенно поколебавши воздух, ни малейшего по себе не
оставляет следа. Одному своему приятелю вот что писал я об этой книге536:
«Il n'y a pas ombre de christianisme dans tout cela. Au lieu de demander
au ciel les nouvelles inspirations dont l'Eglise pourrait avoir besoin pout se
régénérer, c'est au peuple qu'il s'adresse, ce sont les peuples qu'il interroge,
c'est aux peuples qu'il demande la vérité, l'hérésiarque! Heureusement
pour lui, ainsi que pour les peuples, c'est que ces derniers ne se doutent pas
seulement qu'il existe par le monde un ange déchu, errant au milieu des
ténèbres qu'il fait autour de soi, et leur criant du sein de cette nuit sombre,
Письма
461
peuples, levez-vous, levez-vous au nom du père, du fils et du Saint-Esprit!
Oui, son cri sinistre a épouvanté tous les chrétiens sérieux et reculé au loin
l'avènement des déductions définitives du christianisme; en lui l'esprit du
mal a tenté encore une fois de mettre en lambeaux la sainte unite, le don
le plus précieux que la religion ait faite aux hommes; enfin, il a lui-même
démoli ce qu'il avait naguère lui-même édifié. Donc, laissons cet homme
à ses erreurs, à sa conscience, à miséricorde de Dieu, et que le scandale
causé par lui, lui soit léger, s'il est possible!» [«Во всем этом нет и тени
христианства. Вместо того чтобы просить у неба новых откровений,
в которых могла бы нуждаться церковь для своего возрождения, этот
ересиарх обращается к народам, вопрошает народы, у народов ищет
истины! К счастию для него, а также и для народов, сии последние и
не подозревают о существовании некоего падшего ангела537,
бродящего среди мрака, им самим вокруг себя созданного, и вопиющего
к нам из глубины этого мрака: "Народы, вставайте! вставайте во имя
Отца и Сына, и Святого Духа!" Да, его мрачный вопль перепугал всех
серьезных христиан и надолго отодвинул наступление
окончательных выводов христианства; через него дух зла вновь попытался
растерзать священное единство, драгоценнейший дар, данный религией
человечеству: наконец, он сам разрушил то, что некогда сам же
создал. Итак, предоставим этого человека его заблуждениям, его совести
и милосердию Божию, и пусть, если это возможно, поднятый им
соблазн не ляжет на него слишком тяжким бременем!»].
Сейчас прочел я Вяземского «Пожар»538. Je ne le savais, ni si bon
français, ni si bon russe. [Я не представлял его себе ни таким отменным
французом, ни таким отменным русским.] Зачем он прежде не
вздумал писать по-бусурмански? Не во гнев ему будь сказано, он гораздо
лучше пишет по-французски, нежели как по-русски. Вот действие
хороших образцов, которых, по несчастию, у нас еще не имеется.
Для того чтоб писать хорошо на нашем языке, надо быть
необыкновенным человеком, надо быть Пушкину или Карамзину*. Я знаю,
что нынче немногие захотят признать Карамзина за
необыкновенного человека539; фанатизм так называемой народности, слово, по
моему мнению, без грамматического значения у народа, который
пользуется всем избытком своего громадного бытия в том виде, в
* Я говорю о прозе, поэт везде необыкновенный человек.
462
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
котором оно составлено необходимостию, этот фанатизм, говорю я,
многих заставляет нынче забывать, при каких условиях развивается
ум человеческий, и чего стоит у нас человеку, родившемуся с
великими способностями, сотворить себя хорошим писателем. Effectrix
eloquentiae est audientium approbation [Действенность красноречия
в одобрении слушателей], говорит Цицерон540, и это относится до
всякого художественного произведения. Что касается в
особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем более и более
научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе,
какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое
отечество! Как простодушно любовался он его огромностию и как
хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой
огромности!541 А между тем как и всему чужому знал цену и отдавал
должную справедливость! Где это нынче найдешь? А как писатель, что за
стройный, звучный период, какое верное эстетическое чувство!
Живописность его пера необычайна: в истории же России это главное
дело; мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее
создать. Нынче говорят, что нам до слога? пиши, как хочешь, только
пиши дело. Дело, дело! да где его взять и кому его слушать? Я знаю,
что не так развивался ум у других народов, там мысль подавала руку
воображению, и оба шли вместе, там долго думали на готовом языке,
но другие нам не пример, у нас свой путь. —
Pour en revenir à V. [Чтобы вернуться к В.], никто, по моему
мнению, не в состоянии лучше его познакомить Европу с Россиею. Его
оборот ума именно тот самый, который нынче нравится
европейской публике. Подумаешь, что он взрос на улице St. Honoré, a не у
Калымажного двора542. —
С. С. Мещерской от 27 мая 1839 г.543
27 mai 1839
Vous ne m'avez pas compris, Princesse, et je ne m'en étonne guère.
Pour entendre, dites-vous, la réfutation d'un écrit, il faut connaître l'écrit
réfuté: rien de plus vrai. Je vais donc en peu de mots vous mettre au fait
Письма
463
de la question et vous dire le fond de mon idée. Mais d'abord je dois vous
prévenir qu'il m'est impossible d'admettre la doctrine de l'égale
importance de chaque chose contenue dans l'Écriture. Les travaux d'une saine
exégèse m'ont appris à faire dans le saint livre la part de l'action directe
du S. Esprit, et celle de la main-d'œuvre de l'homme; l'inspiration divine
qui plane sur cette œuvre merveilleuse ne saurait donc rendre à mes yeux
également sacré et inviolable chaque mot, chaque syllabe, chaque lettre,
dont les hommes se sont servi pour traduire la pensée que le S. Esprit a
déposée dans leur cœur. Pour se faire comprendre de la raison de l'homme,
le divin verbe a dû faire usage du langage humain et parconséquent se
soumettre aux imperfections de ce langage; de même que le Fils de Dieu,
en se faisant fils de l'homme, accepta toutes les conditions de la chair,
l'esprit de Dieu en se manifestant dans celui de l'homme, dût accepter
aussi toutes les conditions de la parole humaine; mais de même que le
Sauveur ne triomphe point de la chair dans chacun des actes de sa vie,
mais dans sa vie tout entière, le S. Esprit ne triomphe point non plus de
la parole humaine dans chaque ligne de l'Écriture, mais dans sa totalité.
Dire que tout dans la Bible, d'un bout à l'autre, est inspiration, vérité,
enseignement, c'est à mon avis méconnaître à la fois et la nature de l'action
exercée par l'esprit de Dieu sur celui de l'homme et le principe divin du
christianisme, qu'en raison même de sa divinité la lettre ne saurait
toujours réussir à enfermer dans ses modifications nécessaires. Non, certes,
ce n'est point là ce que j'ai voulu dire. A Dieu ne plaise que je recule jamais
vers ces erreurs profondes qui causèrent tant de maux à l'humanité! Qui
ne sait que c'est à cette vénération exagérée du texte biblique que sont
dues toutes les dissensions de la société chrétienne? que c'est appuyée sur
un texte que chaque secte, chaque hérésie, s'est proclamée tour-à-tour la
seule véritable église de Dieu? que c'est à la faveur d'un texte que l'on vint
à attribuer au pontife romain le titre de chef visible de la chrétienté, de
vicaire de J. G, et que c'est le texte à la main qu'on lui a disputé et qu'on
lui dispute encore sa suprême dignité?
Et permettez-moi de vous le dire, Princesse, il s'en faut à mon avis que
le chemin qui marche à travers les textes soit le plus droit; il me semble
au contraire que c'est le plus tortueux et le plus long: témoin, encore une
fois, les éternelles discussions des théologiens et des docteurs de la loi,
qui ne roulent jamais, comme vous le savez fort bien, que sur la lettre de
l'Écriture. Le chemin le plus droit, selon moi, c'est celui d'une raison bien
464
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
disciplinée, guidée par une croyance lucide et dégagée de toute espèce
de sentiment cupide. Le texte a cela de commode qu'il impose silence
et fait courber les fronts devant lui; aussi fut-il de tout temps l'asyle de
l'orgueil religieux. Or, comment voulez-vous que l'orgueil marche dans le
droit chemin? Cela est impossible. Pour moi qui ne suis, grâce au ciel, ni
théologien, ni docteur de la loi, qui ne suis tout simplement qu'un
philosophe chrétien, ce n'est qu'en cette qualité que j'ai pris la plume pour
combattre les opinions d'un homme que j'aime, que j'estime, homme de
savoir, homme d'esprit, mais non pas philosophe, et qui croit, comme
tant d'autres, que la foi et la raison n'ont rien de commun entre elles: voilà
l'erreur que j'ai cherché à réfuter, voilà tout l'objet de ma lettre.
Notre ami prétend d'abord que, dans l'enseignement historique, la
cosmogonie de la Bible, c'est-à-dire l'histoire révélée de la création de
l'univers, devait être omise, parce que, selon lui, cette histoire est du domaine
de la foi et non de celui de la science. J'ai donc tâché de démontrer que
l'histoire du genre humain n'avait pas de sens, si on ne la faisait
remonter aux premiers jours du monde et à la création de l'homme; que tout
serait nécessairement chaos et ténèbres dans cette sphère de la
connaissance humaine, si l'on ne faisait luire sur elle la vive lumière des vérités
profondes et des symboles admirables contenus dans la Genèse. Arrivant
ensuite au fond du sujet, j'ai dit qu'il n'avait jamais été dans les desseins
du divin fondateur du christianisme d'imposer au monde une foi muette
et myope, comme l'auteur semble le supposer, que le christianisme étant
le verbe et la lumière par excellence, il devait naturellement provoquer
la parole et répandre le plus grand jour possible sur tous les objets de la
vision intellectuelle de l'homme; que, loin de contredire les données de
la science, il les appuyait au contraire de sa haute autorité, tandis que la
science à son tour venait journellement confirmer par ses découvertes
les vérités chrétiennes; que le christianisme avait fourni à l'esprit humain
de nouveaux et nombreux instruments au moyen de l'immense exercice
qu'il lui fit subir, alors que les saints les plus illustres de l'Église étaient en
même temps les plus grands philosophes de leur âge; enfin, qu'il était
démontré que les époques les plus fécondes de l'histoire de l'esprit humain
firent celles où la science et la religion se donnaient la main. Ce que j'ai
donc eu surtout en vue dans les pages que vous venez de lire, c'est cette
tendance fâcheuse à perpétuer le schisme que le XVIII siècle a établi entre
la religion et la science et dont ni les pères de l'église, ni les docteurs
Письма
465
du moyen-âge, ces géants de la pensée religieuse, n'avaient nulle idée,
tendance dans la quelle malheureusement plus d'un esprit eminent et
sérieusement religieux s'obstine à demeurer encore, malgré la direction
toute opposée du siècle en bloc, qui aspire, au contraire, de toutes ses
puissances à revenir aux allures du bon temps des fortes croyances et à
confondre dans un seul faisceau de lumière ces deux grands fanaux de
l'intelligence humaine.
Je ne puis naturellement revenir sur tout ce que j'ai dit, mais je dois
ajouter encore quelques mots à cette récapitulation sommaire de mon
premier dire. Oui, la Bible est le trésor le plus précieux de l'humanité; c'est
la source de toute vérité morale; elle a répandu sur le monde des flots
de clarté, elle a reconstitué l'intelligence humaine et la société; c'est à la
Bible que le genre humain doit en grande partie les biens dont il jouit et
qu'il devra probablement le terme des misères qui l'affligent encore; mais
gardons-nous bien d'élever la parole écrite au-dessus de ce qu'elle vaut,
gardons-nous bien de tomber dans le culte, dans l'idolâtrie de la lettre,
gardons-nous bien surtout de nous imaginer que tout le christianisme est
confiné dans le volume sacré. Non, mille fois non. Jamais le verbe divin
ne se trouva emprisonné entre les deux planches d'un livre quelconque;
l'univers tout entier n'est pas assez vaste pour le contenir, c'est dans les
régions infinies de l'esprit qu'il habite, c'est dans le mystère ineffable de
l'Eucharistie qu'il se résume, c'est sur le monument impérissable de la
croix qu'il a buriné son aphorisme tout-puissant.
Vous le voyez Princesse, ces lignes contiennent toute une profession
de foi. Je vous remercie de m'avoir fourni l'occasion de la faire, et surtout
de vous l'adresser. Mes opinions religieuses, en butte aux interprétations
absurdes de nos salons, avaient besoin de se formuler d'une manière tant
soit peu absolue, et cela fait, elles ne pouvaient trouver de meilleur juge
que vous, dont toute la vie a été remplie par l'exercice d'une religion
sincère et éclairée.
[Перевод:]
27 мая 1839
Вы не поняли меня, княгиня, и это немало удивляет. Чтобы понять
опровержение какого-либо сочинения, говорите вы, нужно быть
знакомым с опровергаемым сочинением: совершенно справедливо.
466
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Поэтому я хочу в немногих словах познакомить вас с вопросом и
изложить вам суть моей мысли. Но прежде всего я должен
предупредить вас, что я считаю невозможным принять учение об одинаковой
важности всего находящегося в Писании. Работа здравой экзегезы
научила меня различать в Святой Книге то, что является прямым
воздействием Св. Духа, и то, что есть дело рук человеческих; поэтому
боговдохновенность, покоящаяся на этом дивном произведении,
не может сделать в моих глазах одинаково святым и ненарушимым
каждое слово, каждый слог, каждую букву, к которым люди прибегли,
чтобы передать мысль, которую Дух Святой вложил в сердца их.
Чтобы стать понятным для человеческого разума, Божественное слово
должно было пользоваться человеческим языком, а следовательно,
и подчиниться несовершенствам этой речи. Подобно тому как Сын
Божий, став Сыном Человеческим, принял все условия плоти, Дух
Божий, проявляясь в духе человеческом, также должен был принять
все условия человеческой речи; но подобно тому как Спаситель не
в каждом из актов Своей жизни торжествует над плотью, но во всей
своей жизни в ее целом, Св. Дух также торжествует над
человеческой речью не в каждой строчке Писания, но в его целом. Говорить,
что все в Библии, с начала до конца, — вдохновение, истина, учение,
значит, на мой взгляд, в одно и то же время не понимать ни
природы воздействия Духа Божия на дух человеческий, ни Божественного
начала христианства, которое в силу самой его божественности не
всегда может быть с успехом замкнуто в букву с выносимыми ею
неизбежно видоизменениями544. Нет, этого, конечно, я и не думал
говорить. Не дай Бог, чтобы я когда-нибудь вернулся к этим
глубоким заблуждениям, причинившим столько зла человечеству! Кто же
не знает, что именно этому чрезмерному благоговению перед
библейским текстом мы обязаны всеми раздорами в христианском
обществе? что, опираясь на текст, каждая секта, каждая ересь
провозглашала себя единственной истинной церковью Бога? что
благодаря тексту придан был римскому первосвященнику титул видимого
главы христианства, викария И. X., и что с текстом же в руках
оспаривали и доныне оспаривают его право на этот верховный сан?
И позвольте мне сказать вам, княгиня, что, на мой взгляд, путь
через тексты далеко не самый прямой; мне думается, напротив, что
это путь наиболее извилистый и наиболее длинный: свидетельством
Письма
467
тому могут служить опять-таки вечные споры законников и
богословов, которые вертятся всегда, как вам отлично известно, на букве
Писания. Наиболее прямой путь, по мне, это путь хорошо
дисциплинированного разума, руководимого ясной верою и свободного
от всякого корыстного чувства. Текст удобен в том отношении, что
он закрывает рот и принуждает склониться перед ним; посему он и
был во все времена убежищем религиозной гордыни. А как хотите
вы, чтоб гордость шла прямым путем? Это невозможно. Что
касается до меня, то я, благодаренье небу, не богослов, не законник, а
просто христианский философ, и только в качестве такового я
взялся за перо, чтобы оспаривать мнения человека, которого я люблю
и уважаю, человека знающего, человека умного, но не философа, и
полагающего, как многие другие, что вера и разум не имеют ничего
между собою общего: вот та ошибка, которую я старался
опровергнуть, вот весь предмет моего письма545.
Наш друг утверждает, во-первых, что при обучении истории
библейская космогония, то есть откровенная история создания мира,
должна быть опущена, ибо, по его мнению, эта история относится
к области веры, а не науки546. Я постарался поэтому доказать, что
история человеческого рода не имеет смысла, если не возводить ее к
первым дням мира и к сотворению человека; что все неизбежно
обратится в хаос и мрак в этой области человеческого познания, если
мы не бросим на нее яркий свет глубоких истин и дивных символов,
находящихся в книге Бытия. Переходя затем к сущности предмета,
я сказал, что в задачи Божественного Основателя христианства
никогда не входило навязывать миру немую и близорукую веру, как,
по-видимому, предполагает автор; что, раз христианство есть слово
и свет по преимуществу, оно естественно вызывает слово и
распространяет возможно больший свет на все объекты
интеллектуального воззрения человека; что оно не только не противоречит данным
науки, но, напротив, подтверждает их своим высоким авторитетом,
между тем как наука, в свою очередь, ежедневно подтверждает
своими открытиями христианские истины; что христианство снабдило
человеческий ум новыми и многочисленными орудиями, дав ему
повод к безмерному упражнению в те времена, когда наиболее
прославленные святые были в то же время и величайшими философами
своего века; что, наконец, доказано, что наиболее плодотворными
468
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
эпохами в истории человеческого духа были те, когда наука и
религия шли рука об руку. Поэтому в страницах, прочтенных вами, я
имел в особенности в виду прискорбную тенденцию увековечивать
раскол между религией и наукой, установленный XVIII веком, и о
котором ни отцы церкви, ни учителя средневековья, эти гиганты
религиозной мысли, не имели даже представления, тенденцию, в
которой, к сожалению, доселе упорствуют многие выдающиеся и строго
религиозные умы, несмотря на обратное направление нашего века
в его целом, стремящегося, напротив, изо всех сил вернуться к
приемам доброго времени твердых верований и слить в один поток
света эти два великих маяка человеческой мысли547.
Естественно, что я не могу повторить всего, что я сказал, но
необходимо добавить еще несколько слов к этому изложению в кратких
чертах того, что уже было мною раньше высказано. Да, Библия есть
драгоценнейшее сокровище человечества; она — источник всякой
моральной истины; она пролила на мир потоки света, она утвердила
человеческий разум и обосновала общество; Библии род
человеческий главным образом обязан теми благами, которыми он
пользуется, и ей будет он, по всей вероятности, обязан и концом тех бед,
которые еще тяготят над ним; но воздержимся от того, чтоб ставить
писаное слово на высоту, которой оно не имеет, остережемся, как бы
нам не впасть в поклонение, в идолопоклонство букве, в
особенности же остережемся представления, что все христианство замкнуто
в Священной Книге. Нет, тысячу раз нет. Никогда Божественное
слово не могло быть заточено между двумя досками какой-либо книги;
весь мир не столь обширен, чтобы объять его; оно живет в
беспредельных областях духа, оно содержится в неизреченном таинстве
Евхаристии, на непреходящем памятнике креста оно начертало
свои мощные глаголы548.
Как видите, княгиня, эти строки содержат полное исповедание
веры. Благодарю вас за то, что вы дали мне случай исповедать оную,
и в особенности в обращении к вам. Мои религиозные взгляды,
подвергаемые нелепейшим толкованиям в наших гостиных, нуждались
в формулировке хоть сколько-нибудь точной и определенной, и,
раз это сделано, они не могли бы найти лучшего судью, чем вы, вся
жизнь которой посвящена была осуществлению искренней и
просвещенной религии.
Письма
469
В. А. Жуковскому от 5 июня 1839 г.549
Полагаю, любезный Василий Андреевич, что вы не забыли своего
обещания прислать мне хотя список с письма Пушкина,
написанного ко мне в то время, как вышла моя глупая статья, и ко мне не
дошедшего550. M. M. Сонцев был близкий человек покойнику; потому и
воспользовался я его отъездом в Петербург, чтоб вам об этом
напомнить551. Все, что относится до дружбы нашей с Пушкиным, для меня
драгоценно552, и никто лучше вас этого не поймет, но, разумеется,
невозможного я не желаю, и если письмо это еще не у вас в руках,
то делать нечего. Прошу вас, однако ж, употребить все возможное
старание мне его доставить. Не забудьте, что это последнее его ко
мне слово.
Думаю, что у вас и голова и сердце полны впечатлениями
вашего путешествия553; и так вам не до разговоров со мною. Пришлите
письмо, если возможно; если же нет, то скажите M. M.554, что
прислать нельзя, и больше ничего. А затем прощайте, любезный
Василий Андреевич.
Препокорный ваш Петр Чаадаев.
Москва. Июня 5-го
И. С. Гагарину от 1 октября 1840 г.555
Je recommande, cher Prince, à vos sympathies nationales et autres,
M. Galachof, porteur de cette lettre. Vous trouverez, j'en suis persuadé, du
plaisir à lui être utile. Il ne restera que peu de temps à Paris; par
conséquent, il n'abusera pas de votre patronage. Faites-le connaître, je vous prie,
a Tourgenief et engagez le cher évaporé à s'agiter un peu en sa faveur. Si
Madame de Circourt se trouvait à Paris au moment où il se présentera
chez vous, veuillez l'introduire dans son salon, tout en nous rappelant
au souvenir de l'aimable comtesse. Dans six mois notre voyageur sera de
retour à Moscou: ne trouvez-vous pas que ce serait là une bonne occasion
de nous écrire franc-de-port?
Notre société de l'année passée n'est pas encore au complet; la
plupart de nos debater's sont encore à se débattre avec la famine dans leurs
470
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
provinces respectives; je ne puis donc vous dire autre chose de notre
petit monde, sinon qu'il n'existe pas encore. Toutefois, nous n'en allons
pas moins notre petit bonhomme de chemin. Nos doctrines indigènes,
p[ar] e[xemple], prennent de jour en jour plus de consistance, marchent
à grands pas vers leurs dernières phases, et plus d'une question sérieuse
se déroule dans la vie mécaniquement en attendant la discussion. Au fait,
la vie n'est-elle pas la meilleure des démonstrations parmi des gens aussi
peu rompus que nous le sommes aux allures logiques? La discussion ne
manquera pas, du reste, d'arriver, — по зимнему пути; mais vous, cher
Prince, vous nous manquerez alors, à moi surtout qui me plais tant à vous
suivre de l'œil et de l'âme dans votre jeune et vif entrain.
Recevez, cher Prince, les assurances des amitiés les plus profondes de
votre tout dévoué Tchaadayeff.
1 octobre. Басманная
[Перевод:]
Я вверяю вашим национальным и иным симпатиям господина
Галахова556, вручителя этого письма. Уверен, что вам будет приятно
оказать ему содействие. В Париже он пробудет не долго, так что не
злоупотребит оказанным ему покровительством. Познакомьте его,
прошу вас, с Тургеневым и заставьте милого хлопотуна несколько
для него пошевелиться557. Если госпожа Сиркур окажется в Париже
ко времени его появления у вас, не откажитесь ввести его в ее салон,
напомнив при этом любезной графине и обо мне558. Наш
путешественник через шесть месяцев будет назад в Москву: не находите
ли вы, что это хороший случай написать нам, минуя почтовые
расходы?
Наше прошлогоднее общество еще не в полном составе:
большинство дебатеров отбиваются еще от голода в соответствующих
губерниях559; значит, я могу вам сообщить о нашем маленьком
мирке560 только то, что его пока еще не существует. Однако же мы,
тем не менее, идем понемножку своим путем-дорожкой. Так, наши
доморощенные учения со дня на день все сгущаются и быстрыми
шагами приближаются к конечным выводам, а многие вопросы
разрешаются в жизни механически в ожидании обсуждений561. Правда
сказать, разве сама жизнь не есть лучший довод среди нас, так мало
освоившихся с логическим мышлением? Впрочем, настанет и пора
Письма
471
рассуждений, они прибудут [по зимнему пути], но ваше отсутствие,
милейший князь, будет нам тогда очень чувствительно, особенно же
мне, привыкшему с таким отрадным чувством следить взором и всей
душой за вашим молодым и живым увлечением.
Примите, дорогой князь, уверения в глубочайшей приязни со
стороны совершенно преданного вам Чаадаева.
1 октября. Басманная
С. П. Шевыреву от 22 сентября 1841 г.562
Милостивый Государь
Степан Петрович.
На этих днях узнал я, что стихотворение г. Растопчиной, о Москве,
произвело в кругу здешних литераторов некоторый соблазн и что
М. П. Погодин намерен был даже его отослать Графине563. Посылая
Вам его, я не предвидел, что унылое чувство поэта, внушенное ему
безлюдностию родной стороны, оскорбит Москвитян, и уверен был,
что оно дышит любовью к родине, хотя и не тою самою, которая
нынче в моде564. Если я ошибся, то виноват я, а не Графиня, не имевшая
намерения печатать своих стихов в Москвитянине. Итак, прошу вас,
если это еще возможно, возвратить мне эти стихи. Кажется, таким
образом всему делу будет конец. Впрочем, я уверен, что ни Графиня, ни
я не заслужили в этом случае вашей личной немилости, а этого с нас
обоих довольно. С истинным почтением имею честь быть
Вам преданный П. Чаадаев.
Сентября 22
С. С. Мещерской от декабря 1841 г.565
Décembre 1841
C'est sans doute une chose fort intéressante Princesse, que ces
tendances nouvelles de l'église anglicane que nous annonce le livre du ré-
472
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
vérend I. On doit bénir le ciel qui inspire les différentes communions
chrétiennes à se rapprocher mutuellement. Le langage courtois, si
diffèrent de celui naguère usité en pareille matière, la modération des
accusations portées contre les croyances opposées, l'esprit de charité enfin, qui
caractérisent ce petit volume, méritent toutes nos sympathies. On peut
beaucoup espérer je crois de cette marche nouvelle que prennent de nos
jours les opinions religieuses dans certains pays, mais je dois vous avouer
que j'eusse désiré que la discussion se fût établie sur un autre terrain. Je
crois que la meilleure manière d'apprécier un principe qui a régné dans le
monde, c'est de considérer le fruit qu'il a porté; réduire la question à une
question purement théologique, c'est selon moi, la rétrécir beaucoup trop.
Votre ministre anglican attaque par exemple avec chaleur le culte de la
Vierge et celui des saints; mais en admettant, ce que je suis naturellement
fort loin de faire, que ce culte, tel qu'il est professé par nos grandes églises
mères, soit en quelque sorte entaché de superstition, il ne faut pas oublier
l'influence salutaire qu'il exerce sur le monde. Dans une controverse
entre bons chrétiens, il ne suffit pas que l'esprit soit dans le vrai, il faut
aussi que le cœur y soit. N'est-ce pas ce culte qui rendit la morale evangé-
lique praticable en faisant verser à la mère de Dieu des torrents d'amour
sur la terre et en offrant à la faiblesse humaine un certain nombre de
modèles à imiter avant de pouvoir atteindre au grand modèle placé au
sommet de l'échelle chrétienne? N'est-ce pas à ce culte que l'on doit ce qu'il
y eut de plus fécond dans le christianisme du moyen-âge? ôtez à cette
époque de sauvage grandeur son adoration exaltée de la Vierge et sa
vénération profonde du nimbe sacré, et le monde serait encore aujourd'hui
peut-être à l'état où il se trouvait alors. Dans cet âge où la force brutale
était souveraine, croyez-vous que la simple morale de l'Evangile et les
seules vertus surhumaines du Sauveur eussent suffi pour adoucir les mœurs
de ces hommes du nord dont la nature de fer venait d'être initiée à toutes
les dépravations de la civilisation romaine dégénérée en saturnales
interminables? Ne fallait-il pas leur montrer des vertus à leur taille et leur
apprendre à courber leurs fronts, à fléchir leurs genoux devant elles? Ne
fallait-il pas leur parler un langage à leur portée et s'adresser bien plus à
leur cœur, à leur imagination qu'à leur intelligence. On ne saurait douter,
par exemple, que l'art chrétien, cette belle fleur du plus pur sentiment
religieux, n'eût été impossible sans le culte des saints. Eh bien! cet art fut
certainement plus utile à la société que ne le seront jamais des volumes de
Письма
473
froides prédications. Bien plus, je suis persuadé, quant à moi, que même
en ce moment les temples admirables dont l'église renversée peupla
l'Angleterre, tout muets qu'ils sont, y prêchent bien mieux l'Evangile à ses
populations trop ingrates, il faut le dire, à ce magnifique héritage, que les
prédicateurs de son église actuelle. Je vous avoue d'ailleurs que j'ai peine
à comprendre comment cette église, dont le nom seul d'Église établie
indique l'origine, se trouve être cette même église qui y fut fondée dès
les temps apostoliques et détruite après par les Saxons. Mais quoiqu'il en
soit, du moment qu'elle désavoue son origine récente, qu'elle ne veut plus
dater que de l'époque où il n'y avait au monde qu'une seule église, cette
église, qui existe toujours, sera sans doute fort heureuse de lui ouvrir ses
bras. Cette espèce d'abjuration de la source impure dont elle se faisait
auparavant gloire d'être sortie, est certainement un grand pas de fait et
nous devons l'en féliciter du fond de notre cœur. Comment, en effet, les
antiques communions au sein des quelles le christianisme s'est épanoui,
s'est formulé, et qui lui ont acquis le monde, ne se réjouiraient-elles pas de
voir leurs jeunes sœurs comprendre enfin qu'il ne saurait y avoir qu'une
seule église chrétienne, et cela, non je ne sais quelle église métaphysique
planant dans les sphères de l'idée, mais une église bien visiblement et bien
réellement établie par J. С sur cette terre qu'il arrosa de son sang, qu'il
sanctifia par son séjour au milieu de nous?
Je m'aperçois Princesse, que je n'ai fait encore qu'aborder la matière
et que je suis déjà au bout de ma seconde page; je ne sais si vous
voudrez bien vous contenter de ce que je viens de vous dire, mais je ne
veux point fermer ma lettre sans essayer de résumer en peu de mots mes
sentiments sur cette question intéressante. Je crois donc que la mission
de l'Église dans les siècles étant de civiliser chrétiennement le monde,
il lui fallait pour cela être constituée avec force et puissance; qu'ayant
à faire concevoir aux hommes qu'il n'existait qu'une seule manière de
connaître Dieu et de l'adorer, elle devait être naturellement dominée par
le besoin de conserver sa propre unité; que si elle se fût réfugiée dans
un spiritualisme exagéré ou dans un ascétisme étroit, que si elle ne fut
jamais sortie du sanctuaire, elle se serait par la frappée de stérilité et ne
serait jamais parvenue à accomplir son œuvre; enfin, que ses destinées
terrestres ne pouvant être remplies que dans les conditions de la
raison humaine, conditions qui lui imposaient l'obligation de se combiner
toujours avec l'esprit des temps qu'elle eut à traverser, on ne doit point
474
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
lui reprocher d'avoir suivi la route qui lui était tracée par la nature des
choses, et la seule par conséquent qu'il lui fût possible de suivre. Encore
un mot: vous savez qu'un jour, au plus fort des fureurs féodales, l'Église
défendit toute espèce d'hostilité pendant quatre jours de la semaine, et
qu' elle fut obéie: or, je vous le demande, croyez-vous que si elle ne fut
point constituée ainsi qu'elle l'a été, elle se fut jamais avisée de
proclamer cette fameuse trêve de Dieu, vrai code de paix et de miséricorde, qui,
de l'aveu même des écrivains protestants, contribua plus que tout autre
chose a développer parmi les nations modernes tous les sentiments
humains? Non, assurément. Dans cette controverse générale et pacifique
qui va donc s'établir peut-être dans le monde religieux, il me semble qu'il
ne faudra jamais perdre de vue les services rendus à l'humanité par les
anciennes croyances, ni la nécessité où elles se sont trouvées de s'ériger
en pouvoir social et de se soumettre toutes les autres puissances. Alors,
si pleines de reconnaissance pour le bien qu'elles ont fait, les nouvelles
croyances leur tendent la main avec charité, on pourra espérer sans
doute que l'Esprit-Saint lui-même daignera les éclairer et leur découvrir
tout un monde d'amour, où les opinions naguère les plus divergentes
iront se plonger et se confondre. Puisse cet heureux moment ne pas
tarder à réjouir les cœurs des vrais chrétiens! Puisse surtout, chose fort à
craindre de nos jours, une philosophie insolente qui prétend réconcilier
à l'aide de quelques formules barbares toutes les choses irréconciliables,
ne point venir se poser en médiatrice entre de sincères et profondes
convictions dont elle ne saurait, ni concevoir la nature, ni mesurer la
portée, et faire aboutir ainsi tout ce saint travail des esprits religieux
à quelque compromis maladroit, à quelque commérage philosophique
indigne de la religion du Christ.
[Перевод:]
Декабрь 1841
Бесспорно, княгиня, весьма интересно то, что сообщает нам
в своей книге достопочтенный J. о новом направлении в
англиканской церкви566. Надо благословлять небо, внушающее
различным христианским исповеданиям мысль о взаимном сближении.
Учтивый тон речи, столь непохожий на тот, который раньше
употреблялся при обсуждении подобных вопросов, умеренность в
Письма
475
обвинениях, выставляемых против чужих верований, наконец, дух
любви, характеризующий эту маленькую книжку, вполне
заслуживают наших симпатий. Мне кажется, что можно возлагать большие
надежды на это новое направление, которое принимают в наши
дни религиозные взгляды в некоторых странах, но должен
признаться вам, что я желал бы, чтоб прения возникли на другой почве.
Я думаю, что лучший способ оценить какое-либо начало,
получившее господство в мире, это взглянуть на плод, который оно
принесло; сводить вопрос на чисто богословский вопрос значит, по
мне, слишком суживать его. Ваш английский священник нападает,
например, с жаром на почитание Св. Девы и святых567; но если даже
и признать, к чему я, разумеется, вовсе не склонен, что это
почитание в том виде, как оно исповедуется нашими великими церквами-
матерями, как бы запятнано суеверием, то не следует забывать при
этом того благотворного влияния, которое оно оказало на мир.
В споре между добрыми христианами недостаточно того, чтоб прав
был ум, нужно, чтобы и сердце было право. Разве не это почитание
сделало христианскую мораль исполнимой, пролив потоки
любви Богоматери на землю и дав человеческой слабости некоторое
число образцов для подражания, прежде чем она могла обратиться
к великому образцу, стоящему на вершине христианской
лестницы? Разве не этому почитанию мы обязаны тем, что есть наиболее
плодотворного в средневековье? Отнимите у этой поры дикого
величия ее восторженное поклонение Св. Деве и ее глубокое
благоговение к священному нимбу, и мир был бы и теперь еще, быть
может, в том же состоянии, в каком он находился тогда. В эти века,
когда владычествовала грубая сила, думаете ли вы, что простая
мораль Евангелия и одни сверхчеловеческие добродетели Спасителя
были бы достаточны, чтобы смягчить нравы этих людей севера,
железная природа которых только что ознакомилась со всей
испорченностью римской цивилизации, выродившейся в бесконечные
сатурналии?568 Разве не нужно было показать им добродетели по
их мерке и научить их склонять головы и преклонять колена перед
ними? Разве не нужно было говорить с ними языком, доступным
для них, и обращаться более к их сердцу и к их воображению, чем к
их уму? Вне сомненья, например, что христианское искусство, этот
прекрасный цвет чистейшего религиозного чувства, было бы не-
476
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
возможно без почитания святых. А если это так, то ведь это
искусство бесспорно принесло больше пользы обществу, чем принесут
ему когда-либо целые тома холодных проповедей. Мало того, и что
касается меня, то я уверен в этом, даже в настоящее время дивные
храмы, которые рассыпала по всей Англии низвергнутая церковь,
лучше возвещают Евангелие в своем молчании ее неблагодарному
населению, кстати сказать мало ценящему это великолепное
наследие, чем проповедники ныне господствующей церкви. Должен,
впрочем, признаться вам, что мне трудно понять, как эта церковь,
самое наименование которой установленная Церковь —
указывает на ее происхождение, как она может быть той самой
церковью, которая была основана еще во времена апостольские и затем
разрушена саксами. Но, как бы то ни было, раз она отрицает свое
недавнее происхождение и желает вести свое начало с той поры,
когда была только одна церковь в мире, эта последняя церковь,
доныне пребывающая, будет, конечно, весьма счастлива открыть
ей свои объятия. Это отречение в некотором роде от нечистого
источника, которым она некогда кичилась, есть бесспорно
большой шаг вперед, и мы должны от всего сердца приветствовать ее
на этом пути. Как могли бы, в самом деле, древние исповедания, в
лоне которых христианство развернулось и определилось,
исповедания, стяжавшие ему мир, не порадоваться при виде своих юных
сестер, понявших наконец, что может быть лишь одна
христианская церковь, и притом не некая метафизическая церковь, парящая
в сферах идеи, но церковь, вполне видимо и вполне реально
основанная И. X. на этой земле, орошенной Его кровью и освященной
Его пребыванием среди нас?569
Я замечаю, княгиня, что я только еще приступаю к своему
предмету, а уже успел заполнить две страницы; я не знаю,
удовольствуетесь ли вы тем, что я сказал вам, но мне не хотелось бы заключать
своего письма, не попытавшись в нескольких словах резюмировать
мои чувства по этому интересному вопросу. Итак, я думаю, что
призвание Церкви в веках было дать миру христианскую цивилизацию,
для чего ей необходимо было сложиться в мощи и силе; что, имея
задачей показать людям, что есть лишь один способ познать Бога
и поклоняться Ему, она естественно должна была испытывать
потребность в сохранении собственного единства; что, если бы она
Письма
All
укрылась в преувеличенном спиритуализме или в узком аскетизме,
если бы она не вышла из святилища, она тем самым обрекла бы себя
на бесплодие и никогда не была бы в состоянии завершить своего
дела; наконец, что ее земные судьбы могут быть выполнены лишь в
условиях человеческого разума, условиях, возлагавших на нее
обязанность непрестанно приспособляться к духу времен, через
которые ей пришлось проходить, а потому и не следует упрекать ее в
том, что она пошла дорогой, предначертанной ей природой вещей,
и, следовательно, единственной, по которой она могла идти570. Еще
одно слово: вы знаете, что некогда, в самый разгар феодальных
неистовств, Церковь воспретила какие бы то ни было враждебные
действия в течение четырех дней недели и что ее послушались: ну,
так спрашиваю вас, думаете ли вы, что если б она сложилась иначе,
чем это было на деле, она могла бы решиться провозгласить этот
пресловутый мир Божий, истинный кодекс милосердия и мира,
который, по признанию даже протестантских писателей, более всего
способствовал развитию у современных наций всяческих
гуманных чувств? Конечно, нет. Мне кажется, что при общих и мирных
прениях, которые, быть может, возникнут при данных
обстоятельствах в религиозном мире, необходимо будет постоянно иметь в
виду как услуги, оказанные человечеству древними верованиями,
так и необходимость, в которую они были поставлены, выступать
в качестве общественных сил и подчинять себе все остальные
власти. И тогда, если новые верования, исполненные благодарности
за оказанное ими благо, с любовью протянут им руку, можно будет
надеяться, что сам Дух Святой благоволит просветить их и открыть
им целый мир любви, где некогда наиболее расходившиеся
мнения сольются и смешаются. Пусть эта счастливая минута скорее
порадует сердца истинных христиан! А главное, чего можно весьма
опасаться в наши дни, да не вздумает заносчивая философия,
претендующая с помощью нескольких варварских формул примирить
все непримиримое, выступить посредницей между глубокими и
искренними убеждениями, природы которых она не может понять
и значения которых она не может измерить, и тем свести всю эту
святую работу религиозных умов к какому-нибудь неудачному
компромиссу, к каким-нибудь философским пересудам, недостойным
религии Христа571.
478
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
Ф. Шеллингу от 20 мая 1842 г.572
1842. Moscou, 20 mai
Monsieur,
Depuis que vous me fîtes l'honneur de m'écrire il s'est passé bien des
choses dans le monde philosophique, mais de toutes ces choses celle qui
m'a le plus vivement intéressé, c'est de vous voir paraître sur le nouveau
théâtre où vous appela un prince, ami du génie. Sitôt que j'eus appris
votre arrivée à Berlin, j'éprouvais le désir de vous adresser mes vœux
pour le succès de vos doctrines dans ce centre de la science allemande;
diverses circonstances, indépendantes de ma volonté m'empêchèrent de
le satisfaire: aujourd'hui je n'ai plus qu'à vous féliciter de votre triomphe.
Je n'ai pas la présomption de croire que mes compliments puissent vous
toucher infiniment, et si je n'avais pas autre chose à vous dire, peut-être
m'eussé-je abstenu de vous écrire; mais je n'ai pu résister à l'envie de vous
instruire du puissant intérêt qui s'attache pour nous à votre
enseignement actuel, ainsi que des sympathies profondes dont le petit groupe de
nos esprits philosophiques salua votre entrée dans cette nouvelle période
de votre glorieuse carrière.
Vous n'ignorez pas, sans doute, que la philosophie spéculative a
pénétré chez nous depuis longtemps; qu'une grande partie de notre jeunesse,
avide de lumières nouvelles, s'est empressée de communier avec cette
sagesse toute faite, dont les formules variées offrent au néophyte
impatient le précieux avantage de le dispenser d'une méditation laborieuse,
dont les allures hautaines plaisent tant aux intelligences juvéniles: mais
ce que vous ignorez probablement c'est que nous nous trouvons en ce
moment au milieu d'une espèce de crise intellectuelle, destinée à
exercer une influence extraordinaire sur l'avenir de notre civilisation; que
nous sommes en proie à une réaction nationale, passionnée, fanatique,
savante, effet naturel des tendances exotiques sous l'empire des quelles
nous vécûmes trop longtemps, mais qui toutefois, dans son exclusivité
étroite, ne tend à rien moins qu'à une reconstruction radicale de l'idée
du pays, telle qu'elle se trouve faite, non par l'effet violent de quelque
cataclysme social, ce qui pourrait légitimer en quelque sorte un retour
violent vers le passé, mais tout simplement par le cours naturel des choses,
par la logique infaillible des siècles, et surtout par le caractère même
Письма
479
de la nation. Or, la philosophie que vous êtes venu détrôner à Berlin
en s'introduisant parmi nous, en se combinant avec les idées en cours
chez nous, en s'accouplant avec l'esprit qui nous domine à cette heure,
nous menaçait de fausser complètement notre sentiment national, c'est-
à-dire ce principe caché au fond du cœur de chaque peuple, qui fait sa
conscience, la manière dont il se conçoit et se conduit dans la voie qui
lui est assignée dans l'ordonnance générale de l'univers. La prodigieuse
élasticité de cette philosophie qui se prête à toutes les applications
possibles venait créer parmi nous les imaginations les plus bizarres sur notre
rôle dans le monde, sur nos destinées futures; sa logique fataliste qui
supprime presque le libre arbitre, tout en le constituant à sa façon, qui
trouve partout une nécessité inexorable, se tournant vers notre passé, allait
réduire toute notre histoire à une utopie rétrospective, à une arrogante
apothéose du peuple russe; son système de réconciliation universelle,
par un procédé chronologique tout nouveau, piquant échantillon de nos
capacités philosophiques, nous menait à croire, qu'anticipant sur la
marche de l'humanité, nous avions déjà réalisé au milieu de nous ses théories
ambitieuses; enfin elle allait peut-être nous dépouiller du plus bel
héritage de nos pères, de cette pudeur de l'intelligence, de cette tempérance
de la pensée dont un culte fortement empreint de contemplation et
d'ascétisme avait pénétré leur être. Jugez donc si pour tous ceux de nous
qui chérissent sérieusement leur pays, vous fûtes le bien-venu au foyer
de cette philosophie dont l'influence pouvait nous devenir si funeste. Et
ne pensez pas que j'exagère cette influence. Il est des moments dans la
vie des peuples où toute nouvelle doctrine, quelle qu'elle soit, se trouvera
toujours investie d'une puissance extraordinaire en raison du
mouvement extraordinaire des esprits qui caractérise ces époques. Or, il faut
l'avouer, l'ardeur avec laquelle on s'agite chez nous sur la surface de la
société pour retrouver je ne sais quelle nationalité perdue est incroyable.
On fouille dans tous les coins de l'histoire du pays; on refait celle de tous
les peuples du monde, on leur inflige une origine commune avec la race
privilégiée, la race slave, selon leur plus ou moins de mérite; on remue
toute la croûte du globe pour y découvrir les titres du nouveau peuple
de Dieu; et tandis que cette nationalité rebelle échappe à tout ce vain
labeur, on en fabrique une nouvelle, que l'on prétend imposer au pays,
parfaitement indifférent d'ailleurs au transport fiévreux de cette science
imberbe. Mais les fièvres se gagnent, et si la doctrine de la manifestation
480
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
immédiate de l'Esprit absolu dans l'humanité en général et dans chacun
de ses membres en particulier, continuait à régner dans votre métropole
savante, nous verrions, j'en suis sûr, tout notre monde littéraire
bientôt converti à ce système, courtisan obséquieux de la raison humaine,
flatteur charmant de toutes ses prétentions. Vous le savez, en fait de
philosophie, nous sommes encore à notre point de départ: il s'agit donc
de savoir si nous allons nous livrer à un ordre d'idées provoquant au plus
haut point tous les genres d'infatuations personnelles, ou si fidèles à la
route que nous suivîmes jusqu'à ce jour, nous continuerons à marcher
dans les voies de cette humilité religieuse, de cette modestie de l'esprit
qui furent de tout temps le trait distinctif de notre caractère national,
et, en dernier lieu, le principe fécond de notre développement singulier.
Continuez donc, Monsieur, à triompher d'une philosophie superbe qui
prétendait supplanter la vôtre. Vous le voyez, les destinées d'une grande
nation dépendent, en quelque sorte, du succès de votre système.
Puissions-nous un jour voir mûrir au milieu de nous tous les fruits de la vraie
philosophie, et vous le devoir!
[Перевод:]
1842. Москва, 20 мая
Милостивый государь.
С тех пор, как вы сделали честь написать мне573, произошло
немало событий в философском мире, но из всех этих событий
наиболее живой интерес вызвало во мне ваше выступление на новой
сцене, куда призвал вас государь, друг гения574. Как только я узнал
о вашем прибытии в Берлин575, во мне проснулось стремление
обратиться к вам с пожеланиями успеха вашим учениям в этом
средоточии немецкой науки; различные обстоятельства, независимые
от моей воли, помешали мне выполнить это: теперь мне остается
только поздравить вас с вашим успехом. Я не настолько самонадеян,
чтобы предположить, что мои приветствия могут вас бесконечно
тронуть, и если бы мне не было ничего другого сказать вам, то я,
может быть, воздержался бы от того, чтоб писать вам; но я не мог
противостать желанию сообщить вам о том могущественном
интересе, который связан для нас с вашим теперешним учением, а также
о глубоких симпатиях, с которыми маленький кружок наших фило-
Письма
481
софствующих умов приветствовал ваше вступление в этот новый
период вашего славного поприща576.
Вам известно, вероятно, что спекулятивная философия
издавна проникла к нам577; что большая часть наших юношей, в жажде
новых знаний, поспешила приобщиться к этой готовой мудрости,
разнообразные формулы которой являются для нетерпеливого
неофита драгоценным преимуществом, избавляя его от трудностей
размышления, и горделивые замашки которой так нравятся
юношеским умам; но чего вы не знаете, вероятно, это что мы
переживаем в данную минуту нечто вроде умственного кризиса, имеющего
оказать чрезвычайное влияние на будущее нашей цивилизации; что
мы сделались жертвой национальной реакции, страстной,
фанатической, ученой, являющейся естественным следствием экзотических
тенденций, под властью которых мы слишком долго жили, но
которая, однако, в своей узкой исключительности поставила себе
задачей не более не менее как коренную перестройку идеи страны в
том виде, как она дана теперь, не вследствие какого-либо
насильственного общественного переворота, что еще могло бы до
известной степени оправдывать насильственное возвращение к прошлому,
но просто в силу естественного хода вещей, непогрешимой логики
столетий, а главное в силу самого характера нации578. Надо принять
в соображение, что философия, низвергнуть с престола которую вы
явились в Берлин579, проникнув к нам, соединившись с ходовыми у
нас идеями и вступив в союз с господствующим у нас в настоящее
время духом, грозила окончательно извратить наше национальное
чувство, то есть скрытое в глубине сердца каждого народа начало,
составляющее его совесть, тот способ, которым он воспринимает
себя и ведет себя на путях, предначертанных ему в общем
распорядке мира. Необыкновенная эластичность этой философии,
поддающейся всевозможным приложениям, вызвала к жизни у нас самые
причудливые фантазии о нашем предназначении в мире, о наших
грядущих судьбах; ее фаталистическая логика, почти уничтожающая
свободу воли, восстановляя ее в то же время на свой лад,
усматривающая везде неумолимую необходимость, обратясь к нашему
прошлому, готова была свести всю нашу историю к ретроспективной
утопии, к высокомерному апофеозу русского народа580; ее система
всеобщего примирения путем совершенно нового хронологическо-
482
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
го приема, занимательного образца наших философских
способностей, вела нас к вере, что, упредив ход человечества, мы уже
осуществили в нашей среде ее честолюбивые теории; наконец, она, быть
может, лишила бы нас прекраснейшего наследия наших отцов, той
целомудренности ума, той трезвости мысли, культ которой, сильно
запечатленный созерцательностью и аскетизмом, проникал все их
существо. Вы можете судить, сколь искренно приветствовали ваше
появление в самом очаге этой философии, влияние которой могло
стать для нас столь гибельным, все те из нас, которые действительно
любят свою страну581. И не думайте, чтобы я преувеличивал это
влияние. Бывают минуты в жизни народов, когда всякое новое учение,
каково бы оно ни было, всегда явится облеченным чрезвычайной
властью в силу чрезвычайного движения умов, характеризующего
эти эпохи. А следует признаться, что горячность, с которой у нас
волнуются на поверхности общества в поисках какой-то
потерянной национальности, невероятна582. Роются во всех уголках родной
истории; переделывают историю всех народов мира, навязывают им
общее происхождение с привилегированной расой, расой
славянской, смотря по большему или меньшему достоинству их;
перерывают всю кору земного шара, чтобы найти титулы нового народа
Божия583; и в то время как эта непокорная национальность
ускользает от всего этого бесплодного труда, фабрикуют новую, которую
претендуют навязать стране, относящейся, впрочем, совершенно
безучастно к лихорадочным восторгам этой науки, у которой еще
молоко на губах не обсохло. Но горячки заразительны, и если бы
учение о непосредственном проявлении абсолютного Духа в
человечестве вообще и в каждом из его членов в частности
продолжало царить в вашей ученой метрополии584, то мы вскоре увидали бы,
в этом я уверен, весь наш литературный мир перешедшим к этой
системе, подслужливым царедворцем человеческого разума, мило
льстящим всем его притязаниям. Вы знаете, в вопросах философии
мы еще ищем своего пути: поэтому весь вопрос в том, отдадимся ли
мы порядку мыслей, поощряющему в высокой степени всякие
личные пристрастия, или, верные дороге, которой мы следовали до сего
дня, мы и впредь пойдем по путям того религиозного смирения,
той скромности ума, которые во все времена были отличительной
чертой нашего национального характера и в конечном счете плодо-
Письма
483
творным началом нашего своеобразного развития585. Продолжайте
же, милостивый государь, торжествовать над высокомерной
философией, притязавшей вытеснить вашу. Вы видите, судьбы великой
нации зависят в некотором роде от вашей системы. И да будет дано
нам увидать когда-нибудь созревшими в нашей среде все плоды
истинной философии, и это благодаря вам!
Ф. Шеллингу от 15 апреля 1842 г.
(ранняя редакция письма от 20 мая 1842 г.)
Moscou, 15 avril
Monsieur,
Depuis que vous m'avez fait586 l'honneur de m'écrire, il s'est passé bien
des choses dans le monde philosophique; mais celle qui m'a le plus
vivement intéressé, c'est de vous voir paraître sur le nouveau théâtre où un
grand roi vient de vous appeler. Sitôt que j'ai appris587 votre arrivée à
Berlin, j'ai voulu588 vous adresser mes vœux pour le succès de vos doctrines
dans en ces parages589; diverses préoccupation m'en ont empêché590:
aujourd'hui je n'ai plus qu'à vous féliciter d'un triomphe dont au fond je
ne doutais pas. Vous pensez bien, monsieur, que je n'ai pas la
présomption de croire que mes compliments puissent vous toucher infiniment;
mais je n'ai pu résister à l'envie de vous informer des sympathies
profondes dont l'élite de notre public littéraire salua votre entrée dans cette
nouvelle période de votre carrière philosophique. Vous n'y serez
certainement pas indifférent, et elles réveilleront, je n'en doute pas, toutes les
vôtres, du moment que vous en connaîtrez la nature. Ce n'est pas que
la philosophie spéculative n'ait étendu ses ravages jusqu'en nos régions
lointaines, ni qu'une partie de notre jeunesse ne se soit emparée de cette
sagesse toute faite dont les formules tranchantes semblent dispenser de
l'étude approfondie des choses et plaisent tant aux vanités juvéniles; mais
je puis vous assurer que tous nos esprits sérieux lui sont restés
parfaitement étrangers. Il faut vous dire que nous nous trouvons au milieu d'une
espèce de crise intellectuelle qui décidera probablement de l'avenir de
notre civilisation;591 que nous sommes travaillés par une réaction indi-
484
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
gène, résultat naturel des tendances exotiques dans lesquelles nous avons
vécu592 jusqu'à ce jour. Chaque incident dans la marche de l'esprit
humain est donc pour nous593 de la plus grande importance. Si594 la
philosophie qui régnait souverainement à Berlin avant votre arrivée dans cette
ville, en pénétrant chez nous et en se combinant dans quelques-unes de
nos jeunes intelligences avec les idées à l'ordre du jour, nous menaçait
de fausser complètement notre sentiment national; sa profigieuse
élasticité, qui se prête à toutes sortes d'applications595, allait semant parmi
nous une foule d'imaginations bizarres sur notre histoire; sa logique
fataliste, qui supprime presque le libre arbitre et trouve partout une nécessité
inexorable, se tournant vers notre passé, allait réduire toute notre histoire
à une arrogante apothéose de nous-même; enfin elle allait peut-être nous
dépouiller du plus bel héritage de nos ancêtres596, de ces vertus modestes
qu'une religion sévère avait implantées dans leurs coeurs; jugez donc si
pour tous ceux d'entre nous597 qui aiment sérieusement leur pays, votre
philosophie fut la bienvenue au foyer de celle dont l'influence pouvait
nous devenir si funeste598. Il est des moments dans la vie des peuples où
toute nouvelle doctrine se trouve naturellement investie d'une puissance
extraordinaire, en raison du mouvement extraordinaire des esprits qui
caractérise ces époques. Or, il faut l'avouer, l'ardeur avec laquelle on s'agite
chez nous sur la surface de la société pour retrouver je ne sais quelle
nationalité perdue est incroyable. On fouille dans tous les coins de l'histoire
du pays, dans tous les coins du monde, et tandis que cette nationalité
indocile échappe à toutes ces vaines recherches, on en fabrique une
nouvelle que l'on prétend imposer au pays, parfaitement indifférent d'ailleurs
à ce transport fiévreux de notre599 littérature imberbe. Mais les fièvres se
gagnent, monsieur, et si le système qui enseigne la marche dynamique
de l'esprit humain et réduit à rien le rôle de l'esprit individuel continuait
à fleurir dans votre métropole savante, nous verrions, j'en suis sûr, tout
notre littérature600 conquise à ce système désastreux. En fait de
philosophie, nous sommes encore à notre point de départ; il s'agit donc de savoir
si nous allons nous livrer à un ordre d'idées philosophiques qui provoque
au plus haut degré toutes les espèces d'infatuations personnelles601, ou
si, fidèles à la route que nous avons suivi jusqu'ici, nous continuerons à
marcher dans les voies de cette sage humilité qui fut toujours le trait
profond de notre caractère national, et en dernier lieu le principe fécond de
notre développement rapide602. Continuez donc, monsieur, de triompher
Письма
485
de cette philosophie superbe603 qui prétendait supplanter la vôtre: vous
le voyez, les destinées intellectuelles d'une grande nation dépendent en
partie du succès que vos doctrines vont obtenir aujourd'hui.
Puissions-nous un jour voir mûrir chez nous tous les fruits de la vraie
philosophie et vous le devoir!
Recevez, je vous prie, monsieur, l'assurance de toute mon admiration.
Pierre Tchaadayeff604
[Перевод:]
Москва. 15 апреля
Милостивый государь.
С тех пор, как Вы почтили меня своим письмом, в области
философии совершилось немало событий, но меня живее всего
затронуло появление Ваше на новом месте действия, на которое Вас
недавно призвал выдающийся монарх. Как только я узнал о Вашем
прибытии в Берлин, я хотел направить к Вам пожелание об
успешном утверждении Ваших учений в этих пределах; но мне помешали
различные заботы; в настоящее время приходится только
поздравить Вас с победой, в которой я по существу не сомневался. Вы,
конечно, не сочтете меня, милостивый государь, столь
самонадеянным, чтобы ожидать, что мое поздравление могло бы Вас особенно
затронуть, но я все же не мог воздержаться от желания осведомить
Вас о глубоких симпатиях, с которыми наша литературная среда
приветствовала вступление Ваше в эту новую полосу Вашего
философского поприща. И Вы не останетесь к этому равнодушны, это
сочувствие пробудит, я уверен, таковое же и с Вашей стороны, как
только Вы узнаете, на чем оно основано. Нельзя отрицать, что
спекулятивная философия внесла свои опустошения и в наши
отдаленные края и что часть нашей молодежи овладела этой наперед
изготовленной мудростью, уверенные формулы которой якобы делают
излишним углубленное изучение предметов и так нравятся
юношеской заносчивости, но я могу Вас уверить, что все наши
основательные умы остались ей совершенно чуждыми. Надо Вам сказать, что
мы находимся в состоянии своего рода умственного кризиса,
который, вероятно, определит судьбы нашей цивилизации, нас
разъедает доморощенная реакция, естественное последствие чужеземных
влияний, среди которых мы до сего дня жили. Всякое событие в
486
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
движении человеческого разума имеет для нас поэтому величайшее
значение. И вот та философия, которая безраздельно царила в
Берлине до Вашего прибытия туда, проникая к нам и сочетаясь в
некоторых из наших молодых умов с новоявленными идеями, грозила
полным искажением нашего национального чувства; баснословная
эластичность этой мудрости, допускающая всевозможные
приспособления, взрастила у нас множество своеобразных представлений
о нашем прошлом; ее фаталистическая логика, почти устраняющая
свободу воли и отыскивающая везде непреклонную необходимость,
обращаясь к нашему былому, готова была свести всю нашу
историю к горделивому апофеозу нас самих; наконец, она грозила
лишить нас самого ценного наследия наших благочестивых предков,
тех скромных доблестей, которые укоренила в их сердцах суровая
религия605; заключите из этого, как все искренно любящие свою
родину радостно приветствовали Вашу философию, когда она
водворилась у самого очага той, влияние которой могло стать для нас
столь пагубным. Бывают моменты в истории народов, когда всякая
новая теория приобретает необычайную силу вследствие особого
движения умов, составляющего особенность этих периодов; и как
раз приходится признать, что рвение, с которым волнуются у нас
на поверхности общества в поисках какой-то утерянной
народности, прямо невероятно. Роются во всех закоулках нашей истории,
во всех уголках земного шара; и в то самое время, как эта упрямая
народность ускользает от всех тщетных исканий, создают новую
и пытаются навязать ее стране, которая со своей стороны
совершенно равнодушна к этому лихорадочному порыву нашей
безбородой литературы. Но горячки бывают заразительны, милостивый
государь; и если бы учение, толкующее о динамическом движении
человеческого духа и сводящее к нулю значение разума отдельной
личности, продолжало процветать в Вашей ученой столице, нам бы
пришлось быть свидетелями завоевания всей нашей литературы
этой опустошительной системой. По части философии мы стоим
еще на отправной точке; приходится ставить вопрос, отдадимся ли
мы такому порядку философических идей, который вызывает
высшую степень всякого рода личных притязаний, или же, верные тому
пути, которому мы до сих пор следовали, мы и далее будем
держаться того мудрого смирения, которое всегда было глубочайшей осно-
Письма
487
вой нашего народного характера и, в последнем счете, причиной
нашего быстрого развития?
Итак, продолжайте, милостивый государь, торжествовать над этой
самоуверенной философией, которая пыталась подорвать Вашу; как
Вы видите, судьбы духовного развития великого народа отчасти
зависят от того успеха, какой ныне будет достигнут Вашим учением.
Пусть настанет день, когда мы увидим у себя все плоды настоящей
философии и будем обязаны ими Вам.
Примите, прошу вас, милостивый государь, уверение в моем
чувстве восхищения.
Петр Чаадаев
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПИСЬМА
А. С. Пушкин - П. Я. Чаадаеву от 6 июля 1831 г.606
Mon ami, je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus
familière que la nôtre, et nous continuerons nos conversations, commencées
jadis à Sarsko-Sélo et si souvent interrompues.
Vous savez ce qui nous arrive; à Pétersbourg le peuple s'est imaginé qu'on
l'empoisonnait. Les gazettes s'épuisent en semonces et en protestations,
malheureusement le peuple ne sait pas lire, et les scènes de sang sont prêtes
à se renouveler. Nous sommes cernés à Sarsko-Sélo et à Pavlovsky et nous
n'avons aucune communication avec Pétersbourg. Voilà pourquoi je n'ai vu
ni Bloudof, ni Bellizard. Votre manuscrit est toujours chez moi; voulez-vous
que je vous le renvoyé? mais qu'en ferez-vous à Necropolis? laissez-le moi
encore quelque temps. Je viens de le relire. Il me semble que le
commencement est trop lié à des conversations antécédentes, à des idées
antérieurement développées, bien claires et bien positives pour vous, mais dont le
lecteur n'est pas au fait. Les premières pages sont donc obscures et je crois
que vous feriez bien d'y substituer une simple note, ou bien d'en faire un
extrait. J'étais prêt à vous faire remarquer aussi le manque d'ordre et de
méthode de tout le morceau, mais j'ai fait réflexion que c'est une lettre, et que le
genre excuse et autorise cette négligence et ce laisser-aller. Tout ce que vous
dites de Moïse, de Rome, d'Aristote, de l'idée du vrai Dieu, de l'Art antique,
du protestantisme est admirable de force, de vérité [et] ou d'éloquence. Tout
ce qui est portrait et tableau est large, éclatant, grandiose. Votre manière de
concevoir l'histoire m'étant tout à fait nouvelle, je ne puis toujours être de
votre avis; par exemple je ne conçois pas votre aversion pour Marc-Aurèle,
ni votre prédilection pour David (dont j'admire les psaumes, si toutefois ils
sont de lui). Je ne vois pas pourquoi la peinture forte et naïve du
Polythéisme vous indignerait dans Homère. Outre son mérite poétique, c'est encore,
d'après votre propre aveu, un grand monument historique. Ce que l'Illiade
offre de sanguinaire, ne se retrouve-t-il pas dans la Bible? Vous voyez l'unité
Chrétienne dans le Catholicisme, c.<'est> à d.<ire> dans le Pape. — N'est-
elle pas dans l'idée du Christ, qui se retrouve aussi dans le protestantisme.
L'idée première fut monarchique; elle devint républicaine. Je m'exprime
mal, mais vous me comprendrez. Écrivez-moi, mon ami, dussiez-vous me
gronder. Il vaut mieux, dit l'Ecclésiaste, entendre la correction de l'homme
sage que les chansons de l'insensé.
492
[Перевод:]
Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне
привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые в свое время в
Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся.
Вам известно, что у нас происходит: в Петербурге народ
вообразил, что его отравляют607. Газеты изощряются в увещаниях и
торжественных заверениях608, но, к сожалению, народ неграмотен, и
кровавые сцены готовы возобновиться. Мы оцеплены в Царском Селе и
в Павловске и не имеем никакого сообщения с Петербургом609. Вот
почему я не видел ни Блудова, ни Беллизара610. Ваша рукопись611 все
еще у меня; вы хотите, чтобы я вам ее вернул? Но что будете вы с
ней делать в Некрополе?612 Оставьте ее мне еще на некоторое время.
Я только что перечел ее. Мне кажется, что начало слишком
связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми,
очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не
осведомлен. Вследствие этого мало понятны первые страницы, и я
думаю, что вы бы хорошо сделали, заменив их простым вступлением
или же сделав из них извлечение. Я хотел было также обратить ваше
внимание на отсутствие плана и системы во всем сочинении, однако
рассудил, что это — письмо и что форма эта дает право на такую
небрежность и непринужденность. Все, что вы говорите о Моисее,
Риме, Аристотеле, об идее истинного Бога, о древнем искусстве, о
протестантизме, — изумительно по силе, истинности или
красноречию. Все, что является портретом или картиной, сделано широко,
блестяще, величественно. Ваше понимание истории для меня
совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами: например, для
меня непостижимы ваша неприязнь к Марку Аврелию и пристрастие
к Давиду (псалмами которого, если только они действительно
принадлежат ему, я восхищаюсь). Не понимаю, почему яркое и наивное
изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его
поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию,
великий исторический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде,
не встречается также и в Библии? Вы видите единство христианства
в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа,
которую мы находим также и в протестантизме?613 Первоначально
эта идея была монархической, потом она стала республиканской.
Письма
493
Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите мне, друг
мой, даже если бы вам пришлось бранить меня. Лучше, говорит
Экклезиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца614.
6 июля. Царское Село
А. С. Пушкин - П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.615
19 oct.
Je vous remercie de la brochure que vous m'avez envoyée. J'ai été
charmé de la relire, quoique très étonné de la voir traduite et imprimée. Je suis
content de la traduction: elle a conservé de l'énergie et du laisser-aller de
l'original. Quant aux idées, vous savez que je suis loin d'être tout à fait de
Votre avis. Il n'y a pas de doute que le Schisme nous a séparé du reste de
l'Europe et que nous n'avons pas participé à aucun des grands événements
qui l'ont remuée; mais nous avons eu notre mission à nous. C'est la Russie,
c'est son immense étendue qui a absorbé la conquête Mogole. Les tartares
n'ont pas osé franchir nos frontières occidentales et nous laisser à dos. Ils
se sont retirés vers leurs déserts, et la civilisation Chrétienne a été sauvée.
Pour cette fin, nous avons du avoir une existance tout-à-fait à part, qui en
nous laissant Chrétiens, nous laissait cependant tout-à-fait étrangers au
monde Chrétien, en sorte que notre martyre ne donnait aucune
distraction à l'énergique développement de l'Europe catholique. Vous dites que
la source où nous sommes allé puiser le Christianisme était impure, que
Byzance était méprisable et méprisée etc. — hé, mon ami! Jésus Christ lui-
même n'était-il pas né juif et Jérusalem n'était-elle pas la fable des nations?
l'évangile en est-il moins admirable? Nous avons pris des Grecs l'évangile
et les traditions, et non l'esprit de puérilité et de controverse. Les mœurs
de Byzance, n'ont jamais été celles de Kiov. Le clergé Russe, jusqu'à Théo-
phane, a été respectable, il ne s'est jamais soulié des infamies du papisme et
certes n'aurait jamais provoqué la réformation, au moment ou l'humanité
avait le plus besoin d'unité. Je conviens que notre clergé actuel est en
retard. En voulez-vous savoir la raison? c'est qu'il est barbu; voilà tout. Il n'est
pas de bonne compagnie. Quant à notre nullité historique, décidément
je ne puis être de votre avis. Les guerres d'Oleg et de Sviatoslav, et même
les guerres d'apanage n'est-ce pas cette vie d'effervescence aventureuse et
494
d'activité âpre et sans but qui caractérise la jeunesse de tous les peuples?
l'invasion des tartares est un triste et grand tableau. Le réveil de la Russie,
le développement de sa puissance, sa marche vers l'unité (unité Russe bien
entendu), les deux Ivan, le drame sublime commencé à Ouglitch et
terminé au monastère d'Ipatief — quoi? tout cela ne serait pas de l'histoire,
mais un rêve pâle et à demi-oublié? Et Pierre le Grand qui à lui seul est
une histoire universelle! Et Catherine II qui a placé la Russie sur le seuil de
l'Europe? et Alexandre qui vous a mené à Paris? et (la main sur le cœur) ne
trouvez-vous pas quelque chose d'imposant dans la situation actuelle de la
Russie, quelque chose qui frappera le futur historien? Croyez <-vous> qu'il
nous mettra hors l'Europe? Quoique personnellement attaché de cœur
à l'E.<mpereur>, je suis loin d'admirer tout ce que je vois autour de moi,
comme homme de lettre, je suis aigri; comme homme a préjugés, je suis
froissé — [je] mais je vous jure sur mon honneur, que pour rien au monde
je n'aurais voulu changer de patrie, ni avoir d'autre histoire que celle de
nos ancêtres, telle que Dieu nous l'a donnée.
Voici une bien longue lettre. Après vous avoir contredit il faut bien que
je vous dise que beaucoup de choses dans votre épitre sont profondément
vraies. Il faut bien avouer que notre existence sociale est une triste chose.
Que cette absence d'opinion publique, cette indifférence pour tout ce qui
est devoir, justice et vérité, ce mépris cynique pour la pensée et la dignité
de l'homme, sont une chose vraiment désolante. Vous avez bien fait de le
dire tout haut. Mais je crains que vos opinions [reli<gieuses>] historiques
ne vous fassent du tort... enfin je suis fâché de ne pas m'être trouvé près
de vous lorsque vous avez livré votre manuscript aux journalistes. Je ne
vais nulle part, et ne puis vous dire si l'article fait effet. J'espère qu'on ne
le fera pas mousser. Avez-vous lu le 3me № du Современник? L'article
Voltaire et John Tanner sont de moi. Козловский serait ma providence
s'il voulait une bonne fois devenir homme de lettre. Adieu, mon ami. Si
vous voyez Orlof <?> et Rayewsky <?> dites-leurs bien des choses. Que
disent-ils de votre lettre, eux qui sont si médiocrement Chrétiens?
[Перевод:]
19 Okt.616
Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали617. Я с
удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и
Письма
495
напечатана618. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и
непринужденность подлинника619. Что касается мыслей, то вы знаете,
что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что Схизма
отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали
участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у
нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее
необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не
посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они
отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была
спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно
особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало
нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что
нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы
было избавлено от всяких помех620. Вы говорите, что источник,
откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была
достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус
Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во
языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы
взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и
словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше
духовенство, до Феофана621, было достойно уважения, оно никогда
не пятнало себя низостями папизма622 и, конечно, никогда не
вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего
нуждалось в единстве623. Согласен, что нынешнее наше духовенство
отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не
принадлежит к хорошему обществу624. Что же касается нашей
исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться.
Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не
та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной
деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское
нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России,
развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству,
разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе
и закончившаяся в Ипатьевском монастыре625, — как, неужели все
это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий,
который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая
поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел
496
вас в Париж?626 и (положа руку на сердце) разве не находите вы что-
то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что
поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне
Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не
восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератор — я
раздражен, как человек с предрассудками — я оскорблен, — [я] но клянусь
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой,
какой нам бог ее дал.
Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен вам
сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно,
нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь.
Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко
всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к
человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в
отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко627. Но боюсь,
как бы ваши [религиозные] исторические воззрения вам не
повредили... Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы
передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам
сказать, производит ли статья впечатление628. Надеюсь, что ее не
будут раздувать. Читали ли вы 3-й № 'Современника? Статьи «Вольтер»
и «Джон Теннер» — мои. "Козловский* стал бы моим провидением,
если бы решительно захотел сделаться литератором629. Прощайте,
мой друг. Если увидите Орлова <?> и Раевского <?>630, передайте им
поклон. Что говорят они о вашем письме, они, столь
посредственные христиане?631
Отрывок черновой редакции письма А. С. Пушкина
П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.632
<Pierre le Grand> [anéantit] domptât la noblesse [par l'Oukase] en
publiant la Табель о рангах, le clergé — [en mettant son épée] en abolissant
le patriarchat [(NB Napol on disait à Alexandre: vous tits pope chez vous;
ce n'est pas si bête)] — Mais autre chose est de faire une révolution, autre
chose est [de la conserver] d'en consacrer les résultats. [Jusqu'à Catherine II
Письма
497
on a continué chez nous la révolution de Pierre au lieu de la consolider.
Catherine II craignait encore l'Aristocratie; [et n'a pas mis de bornes à]
Alexandre était [révolutionnaire^ jacobin lui-même;] Voilà déjà 140 ans
que la Табль о рангах balaye la noblesse; et c'est l'Emp.<ereur> actuel, qui
le premier a posé une digue (bien faible encore) contre le débordement
d'une démocratie, pire que celle de l'Amérique (avez <-vous lu> Toque-
ville? [il m'a effray ] je suis encore tout chaud et tout effrayé de son livre).
Quant au clergé il est en dehors de la société, [parce qu'il est
barbu — voilà tout] il est encore barbu — [On ne le voit nulle part ni dans
nos salons, ni dans la littérature, ni dans] il n'est pas de la bonne société.
Il [n'est pas au dessus du peuple] ne veut pas être peuple. Nos souverains
ont trouvé commode de le laisser là où ils l'ont trouvé. — Comme les
énuques, il n'a de passion que le pouvoir — Aussi est-il redouté. Et [je
connais] quelqu'un [qui] malgré toute son énergie a plié devant lui dans
une occasion grave — [Ce dont j'ai 'enragé dans le temps].
[Vous en concluez que nous ne sommes pas] La religion est étrangère
à nos pensées, à nos habitudes à la bonheur, mais il ne fallait pas le dire.
[Votre brochure a produit, à ce qu'il parait une grande sensation. Je
n'en parle pas dans le monde, où [je suis]].
Ce qu'il fallait dire et ce que vous avez dit c'est que notre société
actuelle est aussi méprisable que stupide; [qu'elle ne mérite même pas] que
cette absence d'opinion publique, cette indifférence pour tout ce qui est
devoir, justice, droit et vérité; [ce mépris] [cynique] [pour tout] ce qui n'est
pas [le matériel, et l'utile] nécessité. Ce mépris cynique pour la pensée
[pour le beau] et la dignité de l'homme. Il fallait ajouter (non comme
concession [à la censure], mais comme vérité) que le gouvernement est
encore le seul Européen de la Russie, [et que malgré tout ce qu'il a de
lourd et de pénible et de cynique] et que tout brutal [et cynique] qu'il
est, il ne tiendrait qu'à lui de l'être cent fois plus. Personne n'y ferait la
moindre attention.
[La conquête [d'Igor] de Rourik [et d'Oleg], vaut bien celle du Bâtard
Normand], — La jeunesse de la Russie s'est [développée] passée
joyeusement dans les invasions d'Oleg et de Sviatoslas, et même dans [cet état de
chose] les guerres d'apanage qui n'étaient que des duels continuels —
effet [de] cette effervescence et de cette activité de la jeunesse des peuples
dont vous parlez dans votre lettre. L'invasion est un triste et grand
tableau — hé l'invasion des tartares n'est-ce pas un souvenir <...>
498
[Перевод:]
<Петр Великий> [уничтожил] укротил дворянство [указом],
опубликовав "Табель о рангах*, духовенство — [положив свою шпагу]
отменив патриаршество [(NB. Наполеон говорил Александру: вы
сами у себя поп, это совсем не так глупо)]. Но одно дело произвести
революцию, другое дело это [ее сохранить] закрепить ее результаты.
[До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того
чтобы ее упрочить. Екатерина II еще боялась аристократии; [и не
поставила границ тем] Александр сам был [рев<олюционером>]
якобинцем;] Вот уже 140 лет как *Таблъ о рангах* сметает дворянство; и
нынешний император первый воздвиг плотину (очень слабую еще)
против наводнения демократией, худшей, чем в Америке (читали
<ли вы> Токвиля? [он напугал меня] я еще весь разгорячен его
книгой и совсем напуган ею).
Что касается духовенства, оно вне общества [потому что
бородато — вот и все] оно еще бородато [Его нигде не видно, ни в наших
гостиных, ни в литературе, ни в] Оно не принадлежит к хорошему
обществу. Оно [не выше народа] не хочет быть народом. Наши
государи сочли удобным оставить его там, где они его нашли. Точно у
евнухов — у него одна только страсть — к власти. Потому его боятся.
И [я знаю] кого-то [кто] несмотря на всю свою твердость, согнулся
перед ним в одном важном вопросе — [что в свое время меня
взбесило]
[Вы из этого заключаете, что мы не] Религия чужда нашим
мыслям и нашим привычкам ну и прекрасно, но не следовало этого
говорить.
Ваша брошюра произвела, кажется, большое впечатление. Я не
говорю о ней в обществе, в котором [нахожусь].-
Что надо было сказать и что вы сказали — это то, что наше
современное общество столь же презренно, сколь глупо; [что оно не
заслуживает даже], что это отсутствие общественного мнения, это
равнодушие ко всему, что есть долг, справедливость, право и истина;
[это циничное презрение] [ко всему], что не является [материальным,
полезным] необходимостью. Это циничное презрение к мысли,
[красоте] и к достоинству человека. Надо было прибавить (не в качестве
уступки [цензуре], но как правду), что правительство все-таки един-
Письма
499
ственный Европеец в России [и что несмотря на все то, что в нем
есть тяжкого, грубого, циничного] И сколь бы грубо [и цинично] оно
ни было, только от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто
не обратил бы на это ни малейшего внимания.
[Завоевания [Игоря] Рюрика [и Олега] стоят завоеваний
Нормандского Бастарда]. Юность России [развилась] весело прошла в набегах
Олега и Святослава и даже [в том порядке вещей] в усобицах,
которые были только непрерывными поединками — следствием того
брожения и той активности, свойственных юности народов, о
которых вы говорите в вашем письме.
Нашествие — печальное и великое зрелище — да, нашествие
татар, разве это не воспоминание <...>
П. А. Вяземский - А. И. Тургеневу от 19 октября 1836 г.633
О письме Телескопа толков еще нет634. Кажется, и книжка еще
не получена, по крайней мере не в расходке. Мое мнение об этом
письме, что как сатира оно превосходное и мастерское, как
исторический взгляд, оно неверно и односторонне, как
философическое исповедание оно парадоксально, не имеет корней и не может
дать плода. Пожалуй, можно фантазировать о том, что было бы с
физиономиею белокурого человека, если он родился бы
чернобровым: но что из этого вывести?635 Если бы и вычернить его, то
все не изменишь существенного. А сказать, что этот белокурый не
человек, потому что взятый мной за образец человека —
черноволосый, это не столько поклеп и ругательство на белокурого, как
поклеп и ругательство на провидение. Не люди же делают народы,
они их разве отделывают в урочное время и то, когда пробьет на
это глас Провидения, который чуткий слух их услышит мимо
других. Положим, что Средние века нам не принадлежат, но древность
могла же быть наша, Греция и Рим не имели папизма, а бытие их
не уступит другому. Но у нас и древность, то есть и древность для
нас мертвая буква. Все это от других причин. Доказательство, что
главная мысль письма не есть главная мысль грамоты человечества,
дарованной Провидением, есть сравнение Англии и папских вла-
500
дений. Разве какой-нибудь Римский Телескоп не мог бы перенести
большую часть обвинений Русского Телескопа на головы своих
соотечественников? Сатира могла бы быть так же язвительна, так же
правдоподобна и отчасти справедлива. Все это смешение понятий:
отделите религию от политики, и все вдвинется в свое место, а
теперь все раздвижное. Европейские народы могут быть верующими
народами, но ныне религиозными народами уже они не будут. Фео-
кратия не есть главная стихия их устройства: следовательно,
судите их, то есть о них, не с паперти. Я полагаю, что причину нашего
белокурства должно искать в географии: нельзя же от оконечности
ждать средоточения силы. Когда пароходы и паровозы умножатся
по морям и по сушам, тогда будет дело иное. Можно написать
многое в опровержение Телескопа, но повторяю, как сатира оно очень
хорошо и потому целую сатирика в Вольтеровский лоб его, но не
более согласен с ним, чем с Вольтером, когда он кидал грязью в
своих вельхов. Впрочем, смешно думать, что пером можно что-нибудь
сказать: перо только хорошо для отметок на события Провидения.
Нет ни одной решительной истины: грустно в том признаться, но
время тому научит. Все эти возглашения истин непреложных:
заблуждения молодости или счастливой суетности. Зрелость
духовная, то есть ума и души, есть терпимость или, иначе, равнодушие.
Вся разность во всем в каких-то оттенках.
Из письма П. А. Вяземского А. И. Тургеневу
от 28 октября 1836 г.636
Пришли мне по оказии, что будет, и сообщи по оказии
несколько московских коммеражей, чтобы сличить их с здешними. Грустно,
а сами виноваты, до непростительности виноваты! Точно
лунатики: живут на луне и не знают, как подобает жить на земле.
Никого не уверишь здесь, что нет тут преступной неблагонамеренности
и обдуманного замысла. Впрочем, со стороны оно так и кажется.
Зная лица, знаешь, что тут всего на все с одной стороны —
непомерное самолюбие, раздраженная жажда театральной эфектности
и большая неясность, зыбкость и туманность в понятиях; а с дру-
Письма
501
гой стороны — какая-то закоснелая тупость, бесчуткость, особенно
свойственная нашим литераторам и журналистам, а может быть и
коммерческий расчет умножить расход на журнал; но и тут
пробивается та же глупость и неведение того, что можно и чего нельзя.
Самоотвержения, мученичества тут, разумеется, нет; не говорю уже о том,
что и вольная страсть была бы в этом случае нелепость, потому что
ни к чему приложить бы ее нельзя. Что за глупость пророчествовать
о прошедшем? Пророков и о будущем сажают в желтый дом, когда
они предсказывают преставление света; а тут посказание о бывшем
преставлении народа. Это верх безумия! И думать, что народ скажет
за это спасибо за то, что выводят по старым счетам из него не то
что ложное число, а просто нуль! Такого рода парадоксы хороши у
камина для оживления разговора, но далее пускать их нельзя,
особенно же у нас, где умы не приготовлены и не обдержаны прениями
противоположных мнений. Даже и опровергать их нельзя, потому
что опровержение было бы обвинением, доносом. Тут вышел бы
спор не об отвлеченном предмете, а бой рукопашный за свою кровь,
за прах отцов, за все свое и за всех своих. Как же можно вызывать на
такой бой, заводить такой спор?
Из письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому
от 30 октября 1836 г.637
Я писал к тебе, что у Чаадаева взяли все бумаги. Теперь я
вспомнил, что из Парижа я послал к нему (писем моих у него нет,
кажется, ни одного; ибо я не к нему писал их, а только к вам, поручая
их прочитывать ему, как и другим; но все от него кто-то взял их
по его прочтении) записку ко мне философа Баланша, в коей он
хвалил его письмо. Но это не письмо ко мне, и не к даме;
помнится—в возражение моего мнения о Риме и о папизме638. Он сильно
восставал на меня за то, что я не нахожу в Риме того, что история
и века на нем оставили. В этом письме много прекрасных и
красноречивых фраз, напоминающих страницы Баланша и по образу
мыслей, и по слогу: потому я и казал ему их и послал к Чаадаеву
его одобрительную записку. Письмо у меня цело, но не здесь, ибо
502
я не привез сюда парижских бумаг; но на всякий случай отыскать
его всегда могу. Я писал к вам, что у него с бумагами взяли и
портрет мой639.
Из письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому
от 1 ноября 1836 г.640
Я совершенно согласен с тобою во мнении о Чаадаеве] и, узнав,
по приезде из Симбирска, что он отдал в печать (и уже было
напечатано) письмо его, прочитав его, долго не видался с ним и при
первом свидании я так сильно напал на него за суетность авторского
самолюбия, что он не на шутку на меня рассердился и долго у меня
не был. Он навестил меня больного, и споры продолжались с ним, и
весьма жаркие. Теперь он жалок, но сохраняет довольно sang-froid и
принял объявленное ему решение о его помешательстве с чувством
признательности и растроган. Я был у него не раз после отобрания
бумаг, но после объявления не видал его. В числе бумаг его взяли
у него и портрет мой, Брюллова, а на нем известная надпись и
девиз Тургеневых, давно нами принятый: «Без боязни обличаху», слова
Троицкого летописца о Петре Тургеневе и Плещееве после
обличения ими Димитрия в самозванстве641. Это были русские легитимисты
того времени. Если будут толки о сем портрете642, то предупредите
их объяснением надписи и слов истории.
Вероятно, в бумагах Чаадаева] найдут и записку ко мне
Баланша, в коей он благодарит меня за доставление ему для прочтения
отрывков из письма Чаадаева]. Это письмо о Риме в ответ на мое
об Италии и о папе. В нем есть две страницы красноречивые о
Риме, о его вечности, о значении историческом папства и прочем.
Чаадаев был взбешен моею картиною Италии и папства в письмах
моих к вам и к нему, кои я всегда, как вы знаете, велел отдавать
сестрице, и они у меня. Он отвечал уже мне в Париж, и я видел,
что он кокетствовал со мною слогом и общими историческими
видами на Италию и на папу и желал, чтобы Шатобриан или Ба-
ланш прочли его. Я потешил его и послал ему записку Баланша
на отрывок из его письма, ему, помнится, сообщенный. Но это не
Письма
503
известное письмо к даме. Я могу показать все мои письма. К
Чаадаеву, кажется, не было особых, но я к нему обращался во многих
письмах, кои у него долго лежали, хотя я всегда в них требовал,
чтобы они возвращены были для хранения у сестрицы. Вот вам
объяснение на всякий случай.
Из письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому
от 9 ноября 1836 г.643
Сегодня же прошли здесь слухи, что будто бы велено или
посадить Чаадаева в сумасшедший дом, если он сумасшедший, или
сослать куда-то, если признают его здоровым. Я что-то не верю этому,
но не менее за то беспокоюсь: это бы довершило его. Я был у него
сегодня и нашел его более в ажитации, нежели прежде. Посещение
доктора очень больно ему. Он писал третьего дня к графу
Строганову и послал ему книгу Ястребцова, где о нем и почти его словами
говорится, и в выноске сказано: «П. Я. Ч.» и все в пользу России и в
надежде ее быстрого усовершенствования, как бы и в опровержение
того, что ему приписывают по первой статье. Не знаю, что сделает
Строганов с сим письмом, но статья была бы в его пользу, если бы
беспристрастно сии, также года за четыре писанные, страницы
рассмотрены были. Другие статьи его были одобрены, как он сказывал,
духовною здешнею ценсурою. Все это могло бы смягчить к нему
теперешних судей его, а еще более то мнение, которое о нем теперь
здесь господствует, ибо все знают о его визите и о его словах
Строганову644. Он мне сказал также, что в бумагах, у него взятых, найдут и
старое письмо к нему брата Щиколая], за несколько лет до несчастия
писанное, которое могло бы оправдать брата, ибо он говорит в нем
решительно, что ни о чем более не думает, как об уничтожении
рабства645. Из письма ясно видно, что никогда ничто иное не занимало
его. Все это хорошо для брата, если бы оно ему теперь на что-нибудь
нужно было, но Чаадаеву полезно ли, что он был приятелем брату?
Кто его судить будет? <...>
Возражение, которое хотели напечатать в «Наблюдателе», я
надеюсь прислать тебе, но оно слабо646.
504
Из письма П. Б. Козловского П. А. Вяземскому
от 26 ноября/8 декабря 1836 г.647
Мнение мое о письме Чаадаева отгадать вам будет нетрудно; но
дело идет не о том, а о том, чтоб весь ваш мудрый синклит
отстоял его невредимым и прикрыл своею человеколюбивою защитою
безумное его стремление к мученичеству. Как бы ни странны
казались его мысли, все-таки человек, не посягающий на существующее
правление, не оскорбляющий высокую особу монарха, не
ощущающий, в неблагоразумной своей искренности, ничего, кроме правды
добра, все-таки в самых заблуждениях своих достоин заступления
за себя от всех школ, у которых есть мера и сердце. Многие из вас
доступны графу генералу Бенкендорфу, и я твердо надеюсь, что вы
не оставите без покровительства журналиста и автора. Конечно,
лучше было бы не начинать таковые разговоры, которые не производят
убеждения, а подвергают убеждающего разным неприятностям; но
граф Бенкендорф охотно примет ваше братско-литературное
ходатайство за невинную дерзость. Вот о чем надобно думать, оставляя
времени решение в таком важном споре.
ПЕРЕПИСКА ВОКРУГ
«ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ДЕЛА»
С. Г. Строганов - Д. П. Голохвастову
от 12 октября 1836 г. (фрагмент)648
12 oct. Ш6^
Je viens d'achever le N 15 du Thélescope et compte faire venir ce soir
le Recteur pour entendre sa justification, si elle me satisfait tout ce que je
peux faire est de presenter au Ministre, que ses occupations s'empêcher
de remplir convenablement les fonctions de Censeur je le prie de m'auto-
riser une (?) <нрзб> à sa place, si M-r Boldireff comprend autrement que
moi la portée du premier article: Письма Философские je sais décidé
de ma propre autorité à lui interdire ses fonctions et en ferai rapport de
suite au Ministre.
J'ai trouvé <нрзб> l'auteur de la pièce à plusieurs phrases que me
sont connues cet hiver (?) de ses conversations de Sallon: c'est Чедаев. La
pièce est détestable <...>
Dimanche
[Перевод:]
12 опт. 1836
Я только что закончил № 15 Телескопа и этим вечером
рассчитываю призвать к себе Ректора650, дабы услышать его оправдание, если
оно удовлетворит меня, все, что я могу сделать, это представить
Министру651, что его занятия помешали должным образом исполнить
цензорские обязанности652, я попрошу позволить мне <нрзб> его с
должности, если г-н Болдырев иначе, чем я, понимает значение
первой статьи: Письма Философские, я смогу моей собственной властью
запретить ему исполнять его должность и затем составлю об этом
рапорт Министру653.
Я понял, кто <нрзб> автор сочинения по многим фразам, этой
зимой ставшим мне известными по салонным беседам: это Чедаев.
Пьеса отвратительна <...>
Воскресенье
506
С. Г. Строганов - С. С. Уварову
от 11 (12?) октября 1836 г.654
11 octobre 1836. Moscou
Je m'empresse de devancer les remarques, que je m'attends à recevoir
sur un article de Télescope655: Философския письмы. que j'ai lu ce matin
et qui m'a abassourdi! je ne doutte pas qu'il existe l'étonnement d'autres
lecteurs et comme il Vous parviendra quelque communication à ce sujet
Vous serez à même de répondre avec connaissance de cause. Le Recteur,
qui l'a censuré m'a assuré, qu'il l'avait autrement compris que moi et ce
n'est qu'avec peine que j'ai pu lui donner le sens de tout l'article. L'auteur
en est ce fou de Tchédaeff, qui asphixié par la doctrine de Lamenais, s'est
fait catholique pour avoir une raison de plus de la prêcher, comme il était
devenu un Apôtre de l'Ecole Américaine pour donner le change à son
ambition et jouer le rôle de liberal depuis 20 ans. Ecrit en français il a été
traduit par Nadegdin et c'est précisément ce qui à mes yeux rend sa
publication encore plus impardonable. Il faut être fou pour rédiger de pareilles
pages, mais il faut être bien sot pour les laisser passer. Je suis désolé que
pareille publication est paru dans un journal à Moscou. Si cependant ce
scandai n'avait aucune suite et l'article passait pour une rapsodie <нрзб>
des petites maisons, le Recteur peut en être quitte pour la peur ou même
pour perdre sa place sans bruit, mais si vous trouvez convenable de s'agir
je viens puis exposer mon opinion sur l'affaire.
Il m'est revenue que le journal de Nadegdin meurt de langueur et que
prévoyant sa fin honteuse le rédacteur voudrait voir un coup d'autorité le
supprimer, pour paraître une victime interessante vis-à-vis de ses
abonnés mécontents. Si l'on supprime son journal on aura joué son jeu et
donné génie et <нрзб> à un drôle qui ne la mérite pas; d'autre part il
me semble que quand un article a passé la Censure, son auteur ne peut
en porter la responsabilité, quand il n'y a pas surtout de personnalités
cachées sous les formes de conventions ou autres; il me semble que les
doctrines de la lettre philosophique sont trop claires pour avoir besoin de
commentaire, tout y est clairement exposé en deux mots: «c'est pourquoi
nous sommes devenues des fils de l'Eglise grecque, que nous sommes
restés étrangers au mouvement de la civilisation de l'occident, cette religion
abjecte a éloigné de nous les fruits de la liberté qui ont muri en Europe au
sein des institutions traditionelles d'un moyen âge qui n'a jamais existé
Переписка вокруг «Телескопического дела»
507
pour nous: nous sommes appelés à donner un grand exemple à la
postérité, car nous sommes l'opprobre du genre humain». Il me semble que
c'est assez claire pour pouvoir éloigner toute responsabilité du rédacteur,
mais alors elle doit tomber sur le Censeur. Rappelez vous je vous prie qu'il
ne peut y avoir intention hostile dans Boldireff, qu'il n'a qu'un âge pour
obtenir sa pension et qu'une démission pénale fermerait la porte de tout
droit à la question: il a 55 ans! Quand à Nadegdin et à son télégraphe656
j'en ferai bonne justice et s'il doit cesser, que ce ne soit pas par un coup
d'Etat, mais de langueur et de gré de ses abonnés; je vous assure que
jusque là j'en confierai la censure à quelqu'un, qui ne lui fera pas de sottises
pareilles. Nul doutte que par ma position je sois appelé à répondre de ce
qui se fait à la Censure de Moscou, si vous pensez que l'orage en tombant
sur moi peut sauver un vieillard, je vous promets de recevoir calmement
tout ce qui me sera adressé et à trouver tout mérité. Envisagez la question
sous un point du vue élevé et prenez en considération tous les avantages
que cette selection présente. L'Empereur peur être mécontent de moi un
instant, c'est très pénible certainement, mais j'ai dans mon cœur et dans
mes sentimens de dévouement pour Lui, assez d'étoffe pour espérer grâce
plus tard, tandis qu'un coup porté sur tout autre peut décider de son
existence et rester inéxecrable, je livre tout cela à autre considération, libre
d'en faire l'usage que vous croirez convenable. J'espérai que vous m'aurez
lu avant d'avoir frappé.
Agréez mes hommages
Comte Serge Stroganoff
[Перевод:]
11 октября 1836. Москва
Спешу опередить замечания, что ожидаю получить касательно
статьи Телескопа: Философския письмы, которую я прочел сегодня
утром и которая меня ошеломила! я не сомневаюсь, что прочие
читатели в подобном же недоумении, посему если Вам кто-либо
сообщит об этом, Вы будете в состоянии отвечать со знанием дела.
Цензурировавший его Ректор заверил меня, что понял статью иначе,
чем я, и я с большим трудом смог разъяснить ему смысл статьи. Ее
автор — безумный Чаадаев, удушенный доктриной Ламенне,
сделался католиком, дабы иметь еще одну причину проповедовать ее,
точно так же, как он стал Апостолом Американской Школы657, чтобы
508
обмануть свое честолюбие и 20 лет разыгрывать роль либерала658.
Надеждин перевел статью, написанную по-французски659, и именно
это делает публикацию в моих глазах еще более непростительной.
Нужно быть умалишенным, чтобы написать эти страницы, но чтобы
пропустить их, нужно быть полным дураком. Я огорчен, что подобная
публикация появилась в одном из московских журналов. Однако если
скандал не будет иметь продолжения, а статья прослывет за
рапсодию <нрзб> домов умалишенных, Ректор может отделаться испугом
или даже оставить свою должность без шума, однако если вы сочтете
уместным действовать, то я изложу далее мое мнение о деле.
Я узнал, что журнал Надеждина вяло умирает и что, предвидя
позорный конец, редактор хотел бы закрыть его, воспользовавшись
распоряжением властей, дабы казаться жертвой и вызвать сочувствие
у недовольных подписчиков660. Если журнал закроют, то это сыграет
ему на руку, и мы объявим гением <нрзб> плута, который того не
заслуживает; с другой стороны, мне кажется, что когда статья прошла
Цензуру, ее автор не может нести за нее ответственности, особенно
когда за условностями или чем-то другим не скрываются личности;
мне кажется, что программа философского письма слишком ясна,
чтобы нуждаться в комментариях, все ясно излагается в двух словах:
«так как мы стали детьми Греческой церкви, мы остались
посторонними движению западной цивилизации, сия гнусная религия
отдалила от нас плоды свободы, созревшие в Европе на лоне традиционных
установлений Средневековья, которого мы не знали: мы призваны
дать великий урок потомству, ибо мы — позор рода человеческого».
Мне кажется это столь очевидным, чтобы снять ответственность с
редактора, но тогда она должна пасть на Цензора. Помните, прошу
вас, что у Болдырева не могло быть дурных намерений, ему всего год
остался до пенсии, уголовная подоплека отставки лишила бы его всех
на нее прав: ему 55 лет661! Что до Надеждина и его телеграфа, я воздам
ему должное, и если ему суждено более не выходить, то не из-за
правительства, а от скуки и по воле подписчиков; уверяю вас, в ожидании
этого момента я доверю цензуру человеку, который не совершит
подобных глупостей. Вне сомнения, в силу моей должности меня
призовут к ответу относительно происходящего в московской цензуре,
если вы полагаете, что буря, разразившись надо мной, может спасти
старика, я обещаю вам со спокойствием принять все, что будет ко
Переписка вокруг ('Телескопического дела»
509
мне обращено, и почесть это заслуженным. Посмотрите на дело с
возвышенной точки зрения и учтите все преимущества,
предоставляемые сим выбором. Император может быть одно мгновенье
недоволен мной, что, разумеется, очень печально, однако в моем сердце
и чувстве к Нему достаточно твердости, чтобы надеяться на
дальнейшую милость, тогда как подобный удар, постигни он любого другого,
может решить судьбу, стать проклятьем, я оставляю все это на ваше
усмотрение, вы вольны использовать это, как сочтете нужным.
Надеюсь, вы прочтете мое письмо прежде, чем начнете карать.
Примите уверение в почтении
Граф Сергей Строганов
С. Г. Строганов - С. С. Уварову от 16 октября 1836 г.662
16 octobre
Cette lettre aurait du partir il y a trois jours sans une inadvertance de
l'huissier de ma chancellerie, ce dont je suis surtout contrarié. C'est que
l'empressement, que j'avais mis à vous communiquer ce qui fait l'objet
de la présente sera peut-être inutile à présent. Je veux parler de la
publication d'un article imprimé dans le № 15 du Télescope: философские
письмы. La pièce est de ce fou de Tchédaeff et porte tous les caractères
de la folie, mais comme elle a aussi tout ce qu'il faut pour être comprise
dans un sens très coupable, il y a une bévue impardonable de la part du
Censeur. Si cette publication produit sur vous le même effet que sur moi
et que d'autres vous en parlent il n'y a nul doute qu'elle sera relancé par la
Censure Eclessiastique, au moins serez vous prévenu pour la présente et en
mesure de répondre. Je vous prie de m'autoriser à éloigner le Recteur de
la place de Censeur étranger, qu'il occupe et à vous faire une présentation
officielle à ce sujet. Je vous prie aussi de me permettre de vous demander
à la fin de l'année la supression du Télescope, c'est un journal dont la
tendance devient tous les jours plus mauvaise; mais comme le Rédacteur
actuel de cette feuille ne demanderait rien de plus que d'être atteint par
un coup de l'autorité pour avoir une exacte vis à vis de ses abonnés dont
le nombre diminue tous les jours, si vous décidiez cette mesure de suite,
au lieu d'obtenir le résultat pénal <несколько слов нрзб >, ce serait le pis
510
de M-r Nadejdin. que l'on jouerait. En tous cas je vous promets que son
journal jusqu'au 1-е Janvier sera serré de près. De grâce que le Journal de
l'Instruction publique, séduit par la note qui préside la pièce Философские
письмы, n'en fasse...
Приписка Уварова: По справке оказалось что Журнал М<инис-
терства> Н<ародного> Пр<освещения> никогда не упоминал о
книге Павлова —
[Перевод:]
16 октября.
Сие письмо должно было отправиться три дня назад, если бы не
оплошность секретаря моей канцелярии, чем я особенно
раздосадован. Поспешность, с которой я старался сообщить вам о том, что
составляет предмет настоящего письма, будет, возможно, ныне
бесполезна. Я хочу говорить о публикации статьи, напечатанной в №
15 Телескопа: философские письмы. Сочинение принадлежит этому
безумному Чаадаеву и носит все признаки безумия, однако
поскольку ее можно понять в дурном смысле, имеет место
непростительный промах Цензора. Если эта статья произвела на вас то же
впечатление, что и на меня, и если другие говорят вам о ней <нрзб>,
нет сомнений, что она будет преследоваться Духовной Цензурой,
по крайней мере в этом случае вы будете извещены и сможете
ответствовать663. Прошу вас разрешить мне отстранить Ректора от
занимаемой им должности стороннего Цензора и подготовить для
вас официальное представление на сей счет. Прошу вас также
позволить мне просить вас в конце года закрыть Телескоп; это журнал,
направление которого с каждым днем становится все хуже; но
поскольку нынешний редактор этого листка только и хочет, чтобы его
постигла кара властей, дабы наверняка свидеться со своими
подписчиками, число коих уменьшается день ото дня, то если бы вы
безотлагательно решились на эту меру - вместо уголовного решения
Несколько слов нрзб> для оставшегося в дураках г-на Надеждина сие
было бы наихудшим. В любом случае обещаю вам, что его журнал до
1 января будет находиться под пристальным наблюдением. Только
бы Журнал Министерства Народного Просвещения, прельщенный
примечанием, предшествующим Философским письмам, не сделал
из него...664
Переписка вокруг «Телескопического дела»
511
Приписка Уварова: По справке оказалось, что Журнал М<инис-
терства> Н<ародного> Пр<освещения> никогда не упоминал о
книге Павлова665 —
Из журнала заседаний Московского цензурного комитета,
16 октября 1836 г.666
9) Присутствию Комитета докладываемо было о том, что с 9 по
16 число Октября месяца сего года выданы гг. Ценсорами билеты на
выпуск в свет нижеследующих книг, нот и картин, а именно: г. Цен-
сором Болдыревым на книгу: Телескоп № 15-й...
С. С. Уваров - С. Г. Строганову от 20 октября 1836 г.667
Господину Попечителю Московского Учебного Округа.
Покорнейше прошу Ваше Сиятельство предложить Цензорам
Московского Цензурного Комитета не позволять в периодических
изданиях ничего относящегося к напечатанной в № 15 Телескопа статье:
Философические письма, ни в опровержение, ни в похвалу ее668.
Министр Народного Просвещения Сергий Уваров
Внизу: Директор Новосильский669
С. С. Уваров - Николаю I от 20 октября 1836 г.670
Усмотрев в № 15 журнала «Телескоп» статью «Философические
письма», которая дышит нелепою ненавистью к отечеству и
наполнена ложными и оскорбительными понятиями как насчет
прошедшего, так и на счет настоящего и будущего существования
государства, я предложил сие обстоятельство на рассуждение главного
512
управления цензуры. Управление признало, что вся статья равно
предосудительна в религиозном, как и в политическом отношении,
что издатель журнала нарушил данную подписку об общей с
цензурою обязанности пещись о духе и направлении периодических
изданий; также, что не взирая на смысл цензурного устава и
непрестанное взыскательное наблюдение правительства, цензор
поступил в сем случае если не злоумышленно, то, по крайней мере,
с непростительным небрежением должности и легкомыслием.
Вследствие сего главное управление цензуры предоставило мне
довести о сем до сведения Вашего И<мператорского> В<еличества>
и испросить Высочайшего разрешения на прекращение издания
журнала «Телескоп» с 1-го января наступающего года и на
немедленное удаление от должности цензора Болдырева, пропустившего
оную статью.
С. С. Уваров - Николаю I от 20 октября 1836 г.671
Je prends la liberté d'ajouter aux deux rapports officiels ci-joint
quelques lignes afin d'expliquer respecteusement à V<otre> M<ajesté>
Kmpéria>le la vive peine que je éprouve en portant à Sa connaissance
l'article imprimé dans le № 15 du Télégraphe672. La scrupuleuse sévérité
avec laquelle je me suis appliqué depuis plus de quatre ans à surveiller les
moindres mouvemens de la presse, les mesures préventives que je n'ai
cessé de prendre, les actes de vigueur qui en ont été a plusieurs reprises la
juste consequence me faisaient espérer que nous serions désormais à l'abri
de semblables infractions à l'ordre établi, je suis, je l'avoue, Sire, navré de
l'idée qu'un article semblable ait pu être imprimé sous mon
administration, article qui je considère comme un véritable673 délit envers l'honneur
du pays, comme un délit envers NB674 son honneur religieuse, politique &
moral. La direction générale de la censure qui en a pesé attentivement la
tendance n'a pas une devoir s'éloigner de la ligne légale de ses droits; plus
le délit était constaté, plus il s'agissait de conserver à l'égard des individus
responsables675 les formes d'une exacte justice. V<otre> M<ajesté>
daignera observer que c'est dans ce sens que le rapport est dressé: celui qui
j'y ai joint en ma qualité de ministre, est suffisament cultivé par le peu de
Переписка вокруг «Телескопического дела»
513
confiance que pouvait inspirer désormais au Ministère un homme dont la
religion a été méprise par une fraude aussi grossière et qui a converti de
son nom la responsabilité attachée à un écrit, dont la tendance tout à fait
imprévue676 atteste moins le délire d'un fou, que la haine systématique
d'un homme qui infecte de sang froid à que son pays enferme de plus
saint & le plus précieux; il serait <нрзб> très difficile de trouver quelque
parte que ce soit, un acte d'accusation aussi directe contre le passé, le
présent & l'avenir de sa patrie.
Que V<otre> M<ajesté> en appréciant dans Sa sagesse le caractère
d'une publication677 qui au premier abord parait incomprensible, digne
apprécier Sa haute prudence, Sa lutte à laquelle je me trouve versé, lutte
d'hommes & de principes lutte d'adresse & de violence, lutte enfin qui
serait sans espoir si l'appui ferme & vigilant de V<otre> M<ajesté>
n'était la plus constante consolation de ceux que Sa confiance a placé à la
brèche & qui y resteront.
J'ai cru nécessaire de prescrire provisoirement aux divers comités de
censure relevant du Ministère de ne laisser passer dans les journaux aucun
article relatif à celui du Télégraphe678. Peut-être V<otre> M<ajesté> ju-
gerat-elle à propos qu'une refutation soit publié plus tard,679 l'indignation
ne peut manquer d'être générale mais tant plus, pour l'Etranger avide de
calomnies de tout genre680, mais cette refutation demanderait un tact
si délicat qu'on ne pouvait la confier aux écrivains périodiques. Je me
permet de croire que ce serait pour le moment endecLmer le mal que de
mettre en discussion la diatribe du Télégraphe681. Sur tout ceci, il me reste
à attendre les ordres particuliers de V<otre> M<ajesté>.
[Перевод:]
Беру на себя смелость сопроводить два прилагаемые
официальные рапорта почтительнейшим выражением В. И. В... глубокой
скорби, испытываемой мною при доведении до Вашего сведения статьи,
напечатанной в № 15 «Телескопа». Неизменная строгость, с которой
я уже более четырех лет наблюдаю за мельчайшими движениями в
печати, предохранительные меры, постоянно принимаемые мною
суровые кары, бывшие несколько раз справедливым их следствием,
давали мне право надеяться, что мы обеспечили себя впредь от
подобных нарушений установленного порядка; и я должен сознаться,
Государь, что повергнут в отчаяние от того, что подобная статья мог-
514
ла быть напечатана во время моего управления. Статью эту я считаю
настоящим преступлением против религиозной, политической и
нравственной чести. Главное Цензурное Управление, внимательно
рассмотрев ее направление, не сочло возможным сойти с
законной почвы присвоенных ему прав; чем бесспорнее преступление,
тем настоятельнее следует соблюсти по отношению к виновным в
точности все формы справедливости. В. В., соблаговолите заметить,
что на этих именно началах доклад и составлен; тот, который я к
нему присоединил, в качестве министра, достаточно обоснован тем
малым доверием, которое может внушать министерству человек,
поддавшийся грубому обману и [который] покрывает своим именем
статью, направление которой совершенно неожиданно
обнаружило не бред безумца, а скорее систематическую ненависть человека,
хладнокровно оскорбляющего святое святых и самое драгоценное
своей страны.
Мне кажется, трудно найти где бы то ни было прямое обвинение
прошлого, настоящего и будущего своей родины. В. В., оценивая в
своей мудрости характер этой статьи, кажущейся с первого взгляда
невероятной, благоволите оценить по справедливости ту борьбу,
которую я веду, борьбу с людьми и с принципами, с
ухищрениями и страстями; борьба эта была бы безнадежна, если бы твердая
и бдительная поддержка В. В. не являлась постоянным утешением
тех, кого Ваше доверие поставило на страже у прорыва, и которые
пребудут там.
Я счел необходимым предупредить на всякий случай различные
цензурные комитеты, зависящие от министерства, чтобы они не
пропускали в журналах ни одной статьи, касающейся «Телескопа».
Может быть, В. В., сочтете необходимым позднее напечатать
опровержение682, обращенное не к нашей стране, где возмущение не
может не стать всеобщим, а скорее для заграницы, жаждущей
всякого рода клеветнических выходок. Но опровержение это требовало
бы такта, настолько утонченного, что его нельзя было бы поручить
журнальным писателям. Позволяю себе высказать мнение, что в
настоящий момент обсуждение этой диатрибы «Телескопа» только
усилило бы зло.
Остаюсь в ожидании особых повелений В. В. по всем этим
предметам.
Переписка вокруг «Телескопического дела»
515
С. С. Уваров - Николаю I от 20 октября 1836 г.683
О назначении Проректора в Московский Университет.
Из предыдущей всеподданнейшей докладной записки ВАШЕ
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволите усмотреть, что Главное
Управление Цензуры, по уважению обстоятельств, изложенных в
оной записке, вменяет себе в обязанность ходатайствовать о
прекращении с 1-го Генваря наступающего года журнала Телескоп и об
удалении от должности Цензора Болдырева684.
Независимо от сего, считаю я прямым долгом по званию
Министра Народного Просвещения, представить ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ,
что Болдырев, пропустивший к напечатанию как Цензор, статью:
Философские письма, подлежит еще как Ректор Московского
Университета, ответственности не менее положительной и важной; что
если и допустить, что он вышесказанную статью пропустил просто
от недосмотрительности, то сей недостаток прозорливости и
соображения должен оказываться весьма ощутительно при наблюдении
за юношеством, стекающимся в Московский Университет; почему
я с своей стороны нахожу, что Болдырева следует уволить от
звания Ректора, оставляя его Профессором Восточных языков, и на
сей конец впредь до избрания Ректора, на основании ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденного Устава Российских Университетов, назначить
Проректора.
Таковое заключение имею счастие повергнуть на
благоусмотрение ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. Сергий Уваров.
№152. 20. Октября 1836.
Черновая записка С. С. Уварова Николаю I685
L'opinion de Moscou a été emportée par un certain nombre d'hommes
suspects échappés au desastre de la faction du 14 décembre, que la
clémence du Gouvernement à jusque ici tolérés et qui ont abusé sans pudeur
de la générosité qui leur donnait asyle dans l'ancienne capitale.
Jamais il n'en est trouvé un terrain sur lequel leur pernicieuse influence
ait pus exercer avec plus de dommage pour l'Etat: une capitale peuplée
516
d'oisifs de toutes les classes, une ville où l'action du Gouvernement est
paralysée par une sorte d'indépendence née de l'éloignement de tout
service actif; une ville où la colonie étrangère se compose de gens de toute
couleur, une ville toute d'industrie & d'argent; une ville d'Université enfin
où la Jeunesse s'agglomère, la jeunesse non pas seulement de Moscou,
mais celle d'une grande partie des provinces avoisinantes — quel point
de l'Empire mériterait une plus sérieuse attention, une surveillance plus
paternelle & plus vigoureuse?
Il faut remarquer avec soin les élémens dont se compose cette capitale
pour apprécier avec portée le degré d'importance que le Gouvernement
doit apporter à cet examen: Dans la classe des hommes hors de service,
une majorité de mécontens, sans portée, d'esprits présomptueux disperés,
tous naturellement à l'opposition; dans la classe des Industriels, l'orgueil
de l'argent, le penchant démocratique vers l'égalité, la fatuité que donne
une situation en dehors du gouvernement. Dans la Jeunesse studieuse,
une tendance innée vers les idées nouvelles, une admiration particulière
de tout ce qui est progrés686. De fortes études & une constante
surveillance ont pu depuis trois années, détourner l'attention de la Jeunesse du
domaine des idées politiques, mais ce penchant compromis n'est pas
vaincue; le moindre relâchement ferait partir le ressort, avec la promptitude
d'une réaction.
Il n'est pas très difficile de voir ce qu'au milieu de tant d'élémens infla-
mables, produisent la présence & la prédication d'une poignée d'hommes
qui savent tous à tous prendre le langage de chaque passion, du chaque
erreur. Avec les uns, ils affectent les vieilles idées, les vieux souvenirs du
libéralisme, usé partout, mais encore palpitants chez nous dans un petit
nombre d'hommes; avec les autres ils se font les panégyristes de
l'Industrialisme puissance nouvelle, puissance récente révolutionnaire, du moins
hostile aux idées presque ici dominantes, avec les troisièmes, ils excitent
dans une mauvaise voye ce qu'il y a de plus noble dans la jeunesse: l'élan
sympathique vers le bien, l'amour abstrait du perfectionement, le
sacrifice du soi-même, la confiance dans des rêveries, dont presque chacun a
connu plus ou moins la force & l'entrainement.
Si au milieu de toutes ces données difficiles à saisir, plus difficiles à
diriger, l'action du pouvoir n'est pas <нрзб> logique & clair voyante,
si cette action se détourne un instant de son but, si elle se fatigue de se
trouver sans cesse l'arme au bras, on a fait fausse route sans le savoir & les
Переписка вокруг «Телескопического дела»
517
embarras les plus considérables se revêlent d'une manière aussi prompte
qu'inattendue687.
En 1832 lorsque je fus envoyé a Moscou, en 1834 lorsque j'eux le
bonheur de m'y retrouver près de S<a> M<ajesté> je signalai
consciencieusement à Sa haute sagesse les ecueils qui s'étaient offerts à ma vue; je
cite ces deux époques parceque à l'une de l'autre, je m'exprimai vis à vis
de V<otre> A<uguste> M<ajesté> avec une sincérité sans reserve; dont
mes rapports écrits font foi. Je ne parle pas de tout le travail tantôt
souterrain tantôt ostensible que j'ai dû faire dans l'accomplissement de mes
devoirs officiels pendant près de quatre ans pour élever au degree qui suit
la jeunesse studieuse à l'abri des influences pernicieuses qui l'entournent.
La marche et les résultats de cette oeuvre patiente n'ont pas échappé à
l'attention que l'Empereur voue à une branche aussi importante de
l'Administration.
C'est au moment où d'heureux consequences, j'ose le dire,
commencent à sortir de ce double mouvement de développement & de
répression, que je me crois obligé de porter l'attention de S<a> M<ajesté>
sur les efforts continus de ceux que cette direction blesse davantage
& sur l'affligeant facilité avec laquelle les hommes les plus intéressés
à défendre le système du gouvernement se laissent déborder par une
poignée d'hommes desaffectionnés à son principe.
L'apparition du № 15 du Telescope en est une preuve aussi triste que
complète. Dans cette circonstance, il faut avant tout distinguer deux faces
très différentes; l'une est l'auteur de l'écrit en lui-même que l'on peut apel-
ler si l'on veut, l'oeuvre d'un cerveau brûlé, je ne m'y oppose pas; l'autre
fait non seulement plus importante, mais la seule importante, est le fait de
sa publication: ce fait est des plus graves. Quoique grande que l'on fasse
la part de l'aveuglement & de l'imprudence il en reste néanmoins assez
pour constater la malveillance & surtout l'audace excessive de la
publication. C'est au moment où le Gouvernement ont tiré les succès à reveiller
& à nourrir l'esprit nationale, où le Monarque le plus eminement Russe
par Sa politique comme par Ses affections donne le premier exemple de
cette tendance que l'on vient insulter au pays, le trainer dans la boue,
l'humilier dans ses idées les plus chères, lui disputer presque la qualité de
peuple chrétien & le tout avec l'approbation de la Censure! — Que l'on
ne dise pas pour atténuer le délit de Tchedaeff qu'il n'a point attaqué
le Gouvernement. Séparer la cause de l'Empereur de la cause de l'Etat a
518
toujours été chez nous l'argot des révolutionnaires. S'il l'avait attaqué il
n'est pas trompé la bonne foi688 des Censeurs ou bien il est fait imprimer
son libelle clandestinement; qu'est-ce que d'ailleurs le Gouvernement
séparé du pays? Pourrait-on savoir gré à l'Ecrivain d'avoir évité quelques
noms propres & d'avoir porté les coups sur le principe même? S'agit-il
de gouvernement pour des hommes qu'il apelle: les bastards de l'espèce
humaine, qu'il met pour les sentimens religieux à côté des Abyssins &
pour les lumières, au dessous des japonais, qu'il voue à donner au Monde
une effrayante & dernière leçon? — En exprimant tous ces blasphème,
ce libelle a blessé et <нрзб> l'Emp<ereu>r et dans Ses plus intimes
sentimens et dans la plus noble page de son histoire. Tracer sous Son règne
ces lignes insensées c'est faire de l'opposition audacieuse & perverse (?);
mais les publier sous l'égide des loix, ces lignes insensées, c'est un fait qui
mérite une grande attention, c'est un immense enseignement que nous
hommes du Gouvernement nous devons méditer; c'est une grande leçon
qui doit nous faire apprécier avec sagacité notre position réelle & puisque
pour cette fois, le gout a été si insolenement jeté à la face du pouvoir, c'est
à ses agens les plus dévoués & plus fidèles à ne se rien dissimuler à loi &
à ne rien cacher à FEmp<ereu>r.
Ce serait p<eut> ê<tre> bien malconnaitre l'esprit révolutionnaire,
avoir bien peu réfléchi sur les évenemens qui nous poursuivent depuis
trente ans, pour affirmer que l'opinion particulière de l'Auteur «du libelle
n'a point d'écho parmi les hommes de sa couleur, qu'eux mêmes se sont
empressées de la désavouer, de la blâmer». Le peuple de l'esprit radical
dans tous les pays est de n'avoir commun qu'un seul symbole: détruire ce
qui subsiste. Sur ce point tout le monde est d'accord; sur le reste on a
divisé en une infinité de nuances. L'œuvre de détruition est le préliminaire
obligé de toutes les fractions libérais; que leur importe, comment elle
l'exécute? A coups de hache ou d'épingles, à la sasse ou la mine. —
Détruire,689 en rendant chacun en espérances ou supports — c'est
positivement la seule opération dans laquelle tous agissent de concert. Volontiers
jettent ils en avant, ou enfans perdus, quelques uns de ces insensés dont
ils sont prêts à desavouer la tentative quand elle est sans succès. Avoir
embarassé le Gouvernement est déjà un succès. Sous le plus national des
Monarques, s'attaquer au principe dont il a fait la base de sa position,
attendre avec une maligne curiosité de quelle manière le ministère le plus
étroitement uni aux vues et aux idées de l'Emp<ereu>r, sortira de cet em-
Переписка вокруг «Телескопического дела»
519
barras est un spectacle piquant pour cette classe d'hommes si nombreuse
qui font de l'opposition <нрзб> & qui prétendent constament en savoir
davantage que le Gouvernement. Personne dans cette affaire n'a <нрзб>
à l'impunit, <нрзб> <нрзб> a joué à la surprise. Dans le cours de l'in-
quête nous avons dû à develloper le long tissu de mensognes effrontés, de
perfides insinuations, de denomination réciproque qui fait du parti libéral
(s'il agisse) quelque chose de si honteux & de si misérable: l'auteur de
l'écrit s'est voué lui-même aux coups de bâton & à la qualification de fou.
2. le Rédacteur du Journal a déclaré qu'il croyait servir l'intérêt du
Souverain en faisant déverser la haine & le mépris sur le pays. 1. Le Censeur a
tout lu & n'a rien compris.
[Перевод:]
Московская общественность была увлечена некоторым числом
подозрительных людей, избежавших разгрома партии 14 декабря,
которых милосердное Правительство до сих пор терпело и
которые бесстыдно злоупотребили великодушием, давшим им убежище
в старой столице.
Никогда не было почвы, на которой сие гибельное влияние
могло бы воздействовать с большим вредом для Государства: столица,
населенная бездельниками всех состояний, город, где действие
Правительства парализовано своего рода независимостью,
порожденной удаленностью от всякой деятельной службы; город, где
иностранная колония составлена из людей всех мастей, город, полный
промышленности и денег; наконец город университетский, где
скапливается Юношество, не только московское, но и большей части
соседних губерний — какая точка Империи заслуживала бы более
серьезного внимания, более отеческого и строгого надзора?
Необходимо тщательно различать элементы, составляющие сию
столицу, дабы разумно оценить степень важности, с коей
Правительству надлежит рассмотреть этот вопрос: Среди класса не служащих
людей большинство — недовольные, без понятий, умы надменные и
отчаявшиеся, разумеется, в оппозиции; в сословии
промышленников — гордость своими деньгами, демократическая склонность к
равенству, самодовольство, которое делает ситуацию неуправляемой.
В учащемся Юношестве — врожденное стремление к новым идеям,
особенное восхищение всяким прогрессом. Усиленное изучение и
520
постоянный надзор позволили за три года отвести внимание
Юношества от области политических идей, однако сия порочная
склонность не побеждена; малейшее ослабление с быстротой разожмет
пружину.
Нетрудно видеть, что производят среди столь большого числа
воспламеняющихся элементов присутствие и проповедь горстки
людей, каждый из которых владеет языком всякой страсти, всякого
заблуждения. С одними они действуют старыми идеями,
прежними воспоминаниями либерализма, устаревшими повсюду, однако
еще волнующими у нас умы небольшого числа людей; с иными они
делаются панегиристами новой силы — Индустриализма, недавно
появившейся революционной силы, по крайней мере враждебной
до сих пор господствующим идеям, с третьими, они направляют
по дурному пути все, что есть самого благородного в юношестве:
сочувственное стремление к добру, отвлеченная любовь к
усовершенствованию, самопожертвование, доверчивость в мечтаниях,
сила и одушевление которой знакомы в той или иной мере чуть ли
не каждому.
Если посреди всех сих трудноуловимых и еще более трудно
направляемых идей, действия власти не являются <нрзб> логичными и
прозорливыми, если эти действия отклонятся на миг от своей цели,
[будут прерваны] усталостью постоянно держать оружие в руках, то
мы сбились с пути, не зная об этом, и самые значительные
препятствия откроются столь быстро, сколь и неожиданно.
В 1832 г., когда я был послан в Москву, в 1834 г., когда я имел
счастие оказаться рядом, с В. В., я добросовестно доводил до Вашего
мудрого сведения о подводных камнях, открывшихся моему взору;
я упоминаю о сих двух моментах, ибо между ними я высказывал
свое мнение В<ашему> А<вгустейшему> В<еличеству> с
безграничной искренностью, чему свидетельством мои письменные
рапорты690. Я не говорю о всех трудах, то тайных, то явных,
необходимых при исполнении моих официальных обязанностей в течение
почти четырех лет и направленных на то, чтобы возвысить
учащееся юношество на надлежащий уровень и укрыть от окружающих
его гибельных влияний. Ход и итоги этой терпеливой работы не
ускользнули от внимания, кое Император посвящает столь важной
отрасли Управления.
Переписка вокруг «Телескопического дела»
521
Именно в то время, когда счастливые следствия, смею сказать, сего
двойного движения — развития и подавления — начинают
появляться, я считаю должным донести до сведения В<ашего> В<еличества>
о постоянных усилиях тех, кому сие направление особенно вредит,
и о прискорбной легкости, с которой люди, наиболее
заинтересованные в защите системы управления, позволяют брать верх над
собой горстке людей, не признающим ее основ.
Появление 15 № Телескопа тому сколь прискорбное, столь и
полное доказательство. В этих обстоятельствах, прежде всего
необходимо разделить две совершенно разные стороны; во-первых,
как таковой автор сочинения, которое, при желании мы можем
назвать творением головы сумасбродной, сему я не противодействую;
другое обстоятельство, не только более важнее, но единственно
важное, есть факт его публикации: что более тяжко. Сколько
важности ни приписывать ослеплению и неосторожности, остается тем
не менее достаточно оснований, чтобы констатировать недобрый
тон и особенно чрезмерную дерзость публикации. В то время,
когда Правительство добилось успехов в пробуждении и воспитании
национального духа, когда Монарх истинно Русский как по Своей
политике, так и по Своим привязанностям, первый подает пример
подобного направления, начинают оскорблять страну, смешивать
ее с грязью, унижать ее в самых драгоценных для нее идеях,
почти оспаривать ее звание христианского народа и все это с
разрешения Цензуры! — Пусть не говорят, дабы смягчить преступление
Чаадаева, что он нисколько не нападал на Правительство. Отделять
дело Императора от дела Государства всегда было у нас жаргоном
революционеров691. Если бы он напал на него <правительство>, то
не обманул бы добросовестность Цензоров или же напечатал бы
свой памфлет тайно; к тому же что есть Правительство, отделенное
от страны? Могли бы мы быть признательны Писателю за то, что
он избежал имен собственных и направил удар на сам принцип?
Идет ли речь о правительстве, когда он называет людей:
незаконнорожденными детьми рода человеческого, коих ставит он по
религиозному чувству рядом с Абиссинцами и по просвещению — ниже
Японцев, коих определяет он дать устрашающий и последний урок
Миру? Изъяснив все эти богохульства, сей пасквиль ранил и <нрзб>
Имп<ератора> и в Его самых сокровенных чувствах, и в самой бла-
522
городной странице его истории. Начертать сии безумные строки в
его Правление значит составить дерзкую и извращенную (?)
оппозицию; но публикация сих безумных строк под эгидой законов — это
факт, заслуживающий большого внимания, это важное наставление,
над которым мы, люди Правительства, должны поразмыслить; это
тяжелый урок, который должен заставить нас с проницательностию
оценить наше настоящее положение и, поскольку на сей раз <нрзб>
был столь нагло брошен в лицо власти, именно ее наиболее
преданным и верным агентам следует ничего не утаивать от закона и
ничего не скрывать от Имп<перато>ра.
Утверждать, что частное мнение Автора «пасквиля никак не
откликнулось среди людей его масти, что они сами поспешили от него
отречься, его осудить», значило бы плохо знать революционный дух,
мало поразмыслить над событиями, которые происходят у нас
последние тридцать лет. Люди крайнего образа мыслей во всех странах
имеют единственный общий символ: разрушать все, что существует.
Здесь все согласны; в остальном они делятся на бесконечное число
оттенков. Дело разрушения есть обязательный начальный этап всех
либеральных партий; что им за дело, как оно исполняется? Ударами
топора или уколом булавки, камнем или миной. — Разрушать,
подавая каждому надежду или поддержку, — это, положительно,
единственное действие, которое все делают вместе. Они бросают вперед
добровольцев или сорвиголов, т. е. некоторых из тех безумцев, от
предприятий которых они готовы отречься, если они не приносят
успеха. Привести в замешательство Правительство — это уже успех.
В правление самого национального из Монархов, покуситься на
принцип, который он сделал основанием своего положения, с
злобным любопытством ожидать, каким образом министерство, наиболее
тесно связанное с видами и идеями Имп<ерато>ра, выйдет из этого
затруднения, есть забавное зрелище для этого столь
многочисленного класса людей, которые находятся в оппозиции <нрзб> и которые
постоянно утверждают, что знают более, чем Правительство. Никто в
этом деле не <нрзб> безнаказанности, беспорядки <нрзб>
разыгрались неожиданно. В ходе расследования мы должны были распутать
длинную нить наглой лжи, коварных намеков, взаимных обвинений,
что делает либеральную партию (если бы она действовала) столь
постыдной и ничтожной: автор сочинения обрек себя на палочные
Переписка вокруг «Телескопического дела»
523
удары и на звание сумасшедшего. 2. редактор журнала объявил, что
думал послужить интересам Государя, помогая излить ненависть и
презрение на страну. 1. Цензор все читал и ничего не понял.
А. Н. Оленин - Московскому Цензурному Комитету
от 21 октября 1836 г.692
В Московский Ценсурныи Комитет.
Начальство Императорской Публичной Библиотеки имеет честь
уведомить Московский Ценсурныи Комитет, что препровожденные
им в Библиотеку при отношении от 9-го сего Октября книги и
журналы числом 14-ть и два сочинения нот в оной Библиотеке
получены, и между ими был прислан № 14-й Телескопа в двух экземплярах
вероятно другой по ошибке вместо № 15-го, один из них с
подпискою содержателя типографии, который при сем и возвращается
обратно, а вместо оного благоволит Ценсурныи Комитет прислать
№ 15-й693.
Императорской Публичной Библиотеки Директор: А. Оленин694
Исправляющий должность Секретаря Библиотекарь А. Вос-
токов695
С. С. Уваров - С. Г. Строганову от 22 октября 1836 г.696
Господину Попечителю Московского Учебного Округа
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР по рассмотрении статьи под заглавием:
Философические письма, помещенной в № 15 издаваемого в Москве
журнала: Телескоп ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил:
1. Издание журнала Телескоп немедленно прекратить.
2. Цензора статского советника Болдырева, отрешить от сей
должности.
524
Сверх сего ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ угодно, чтобы
сей последний, равно и издатель Телескопа Надеждин, явились бы
сюда для надлежащих объяснений; почему и предлагаю Вашему
Сиятельству распорядиться отправлением Болдырева в СПетербург; что
же касается до Надеждина, как он не состоит по службе в ведомстве
Министерства, то отнесся я о сем к г. Генерал-Адъютанту Графу
Бенкендорфу697.
Министр Народного Просвещения Сергий Уваров
Правитель Дел В. Комовский698
А. X. Бенкендорф - Д. В. Голицыну от 23 октября 1836 г.6"
Милостивый Государь,
Князь Дмитрий Владимирович!700
В последне вышедшем № 15-м журнала Телескоп, помещена
статья под названием: «Философические письма», коей
сочинитель есть живущий в Москве г. Чеодаев. — Статья сия, конечно уже
Вашему Сиятельству известная, возбудила в жителях Московских
всеобщее удивление. — В ней говорится о России, о народе
Русском, его понятиях, вере и истории с таким презрением, что
непонятно даже каким образом Русский мог унизить себя до такой
степени, чтоб нечто подобное написать. — Но жители древней
нашей Столицы, всегда отличающиеся чистым здравым смыслом,
и будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа,
тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана
соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и
потому, — как дошли сюда слухи, — не только не обратили своего
негодования против г. Чеодаева, но напротив изъявляют искреннее
сожаление свое, о постигшем его расстройстве ума, которое одно
могло быть причиною написания подобных нелепостей. — Здесь
получены сведения, что чувство сострадания о несчастном
положении г. Чеодаева единодушно разделяется всею Московскою
публикою. — В следствие сего ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ угодно,
Переписка вокруг «Телескопического дела»
525
чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания Вашего, приняли
надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений
и медицинских пособий701. — ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО повелевает, дабы
Вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему
последнему в обязанность, непременно каждое утро посещать г.
Чеодаева, и чтоб сделано было распоряжение дабы г. Чеодаев не
подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного
воздуха702; одним словом, чтоб были употреблены все средства к
восстановлению его здоровья. — ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
угодно, чтобы Ваше Сиятельство о положении Чеодаева каждомесячно
доносили ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ.
Сообщая Вашему Сиятельству сию ВЫСОЧАЙШУЮ волю, имею
честь быть с совершенным почтением и преданностию,
Вашего Сиятельства,
покорнейший слуга
Граф Бенкендорф
№ 3331-й
23 Октября 1836.
Его Сият<ельст>ву
Князю Д. В. Голицыну
А. X. Бенкендорф - Д. В. Голицыну от 23 октября 1836 г.703
Милостивый Государь,
Князь Дмитрий Владимирович!
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, рассмотрев в 15 Нумере издаваемого в
Москве журнала Телескоп статью: Философические письма.
ВЫСОЧАЙШЕ повелеть изволил: журнал сей запретить и вызвать сюда к
ответу издателя оного Надеждина и ценсора Болдырева.
О сей ВЫСОЧАЙШЕЙ воле я честь имею сообщить Вашему
Сиятельству, покорнейше прося Вас, Милостивый Государь, сделать.
Во исполнение оной, зависящее от Вас распоряжение о вызове
526
г. Надеждина в С.-Петербург; что ж касается до запрещения
журнала и вызова сюда Ценсора Болдырева, то о сем сделано уже нужное
распоряжение г. Министром Народного Просвещения.
С совершенным почтением и преданностию имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейший слуга
Граф Бенкендорф
Главное управление цензуры - Московскому цензурному
комитету от 24 октября 1836 г.704
В Московский Цензурный Комитет.
При отношении Комитета от 9 сего Октября за № 307
препровожден второй экземпляр № 14 журнала Телескоп вместо
следовавшего 15 №, возвращая оный Канцелярии Главного Управления
Цензуры имеем честь просить о доставлении пятнадцатого нумера
Телескопа, нужный к делу об оном по Главному Управлению
Цензуры705.
Правитель дел, В. Комовск<ий>
А. И. Чернышев - С. С. Уварову от 24 октября 1836 г.706
Je m'empresse de Vous restituer le № du Journal que Vous avez bien
voulu m'envoyer, mon cher collègue et Vous remercier pour cette
communication.
J'aurois été indigné si j'avois lu un article aussi infâme, rédigé par un
étranger; je ne puis définir les sentiments que j'ai éprouvé, en sachant que
c'est une main Russe qui a osé les tracer!!! — Ou je me trompe fort, ou
cette insolente publication doit prouver, qu'il existe à Moscou une école
dans le sens des idées infernales développées dans l'article. — Cet
objet mérite toute l'attention du gouvernement et rien ne doit être négligé
pour en avoir le cœur net.
Переписка вокруг «Телескопического дела»
527
Mes hommages à vos Dames; j'ai rempli votre commission auprès de
votre cousine, mille amitiés. Czerniechoff.
Czarskoyé Selo.
Le24 8-brel836
[Перевод:]
Спешу возвратить вам, любезный коллега, № журнала, который
вы были так добры мне прислать, и благодарю вас за это сообщение.
Я был возмущен, если бы прочел такую позорную статью,
написанную иностранцем, и не могу передать чувства, испытанного мною,
когда я узнал, что ее осмелилась написать рука русского!!
Или я жестоко ошибаюсь, или эта наглая публикация
доказывает, что в Москве существует школа, проникнутая адскими идеями,
развитыми в статье. Правительство должно обратить на это большее
внимание и не должно ничего оставить в стороне до полнейшего
выяснения всего. Мое почтение вашим дамам. Я исполнил ваше
поручение к вашей кузине.
Чернышев
Царское Село.
24 окт. 1836 г.
С. С. Уваров - С. Г. Строганову от 27 октября 1836 г.707
St. Pétersbourg. Ce 27. Octobre 1836
Je profite du départ du P-ce Galitzin pour répondre à Votre lettre
officieuse du 13 arrivée ici après le № 15 du Télescope. Le Prince
pourra Vous dire quelle explosion d'indignation générale a eu lieu à
la lecture de l'infâme diatribe qu'il renferme, ce n'est pas seulement
l'autorité ecclésiastique, comme Vous paraissiez le croire, mais toutes
les autorités & surtout l'autorité suprême qui se sont trouvées saisies de
l'affaire. Mon office du 22. Vous a porté les ordres de l'Empereur a cet
égard; la direction générale avait proposé la suspension du journal au
1-r janvier prochaine, S. M. l'a voulu immédiatement. L'auteur de l'écrit
est bien fou & bien coupable mais il y a quelqu'un de plus fou ou de plus
coupable c'est le Censeur qui a mis son nom à une pareille atrocité; lui
528
qui outre ses functions de Censeur, étant Votre Recteur, n'a pas jugé à
propos d'aller ne fut-ce que demander Votre avis. L'audace du Rédacteur
n'est pas moins grande. Ont-ils pu jusqu'à ce point nous mépriser? La
peine que j'ai éprouvée a été & est encore des plus vives: je me suis
profondement humilié qu'une pièce de cette nature ait pu être publiée
sous mon administration; je ne crois pas que l'on trouve quelque part
ailleurs une accusation aussi directe contre la vie morale de son pays &
si quelque chose pouvait consoler le gouvernement d'un pareil échec, ce
serait la profonde & universelle indignation que cette diatribe a soulevée
dans toutes les classes & à tous les degrés. Trainer son pays dans la boue,
l'insulter dans ces idées religieuses, morales & politiques, dans son
histoire, dans ces souvenirs, dans son avenir ne sera jamais populaire
heureusement pour aucun pays & pour aucun peuple. La réprobation
générale s'attachera à cette oeuvre d'un esprit malade & gangrené &
si quelques mauvais citoyens pouvaient y applaudir en secret ou si les
ateliers de calomnie dans l'étranger s'en emparaient & nous le jetaient
au visage (ce qui est très probable) la majorité raisonable dans le pays &
au dehors, en fera justice.
Il n'est personne ici qui n'éprouve ces mêmes sentimens & je me
persuade qu'il en est de même à Moscou; surtout que notre jeunesse a
repoussé avec mépris ce blasphème anti-national. Cependant d'après les
circonstances du moment, Votre présence à Moscou ne peut manquer
d'être très nécessaire & je Vous engage à ajourner pour l'instant Votre
départ pour Pétersbourg.
Veuillez recevoir, je Vous prie, l'assurance de mes sentimens très
distingués.
Ouvaroff
P. S. j'ai fait faire une recherche exacte dans les N-s du journal de
ministère & après avoir mis toute la rédaction au pied, il se trouve que le
livre de Pavloff n'y a pas été nommé; Vous aurez été sans doute induit en
erreur par quelque conformité de titre ou de nom. S'il paraissait dans le
journal un article à l'éloge de celui qui est inséré au N 15 du Télescope, je
n'aurais plus qu'à me jeter dans un froc & à faire pénitence publique.
[Перевод:]
Пользуюсь отъездом кн. Голицына, чтобы ответить на Ваше
любезное письмо от 13, пришедшее сюда после 15 № Телескопа.
Переписка вокруг «Телескопического дела»
529
Князь сумеет рассказать Вам о взрыве всеобщего возмущения,
вызванном позорной диатрибой, в нем заключенной. И не только
духовные власти, как Вы, кажется, думаете, но все власти и особенно
наивысшая были поражены этим происшествием. Мой посланный
от 22 отвез Вам приказы Государя по этому делу. Главное
Управление предположило закрыть журнал с будущего 1-го января. Его
Величество приказал закрыть тотчас же. Автор статьи совершенно
безумен и определенно виновен, но есть некто еще более безумный
и более виновный — это цензор, подписавший свое имя под такой
мерзостью, он не только исполнял цензорские функции, но был
еще и Вашим ректором и, однако, не счел нужным спросить Вашего
мнения. Дерзость редактора не меньше. Можно ли было ожидать
от них такого пренебрежительного к нам отношения?
Испытанное мною огорчение было и остается очень сильным, я чувствую
себя глубоко униженным тем, что подобная статья могла быть
напечатана при моем управлении; я не думаю, что где-нибудь в
другом месте можно найти столь прямолинейное обвинение против
нравственной жизни нашей страны, и если что-нибудь могло бы
утешить правительство в подобном положении, то только
глубокое и всеобщее негодование, которое вызвала эта диатриба во всех
классах и на всех ступенях общества. К счастью, ни в какой стране
и ни в каком народе не встретит сочувствия втаптывание в грязь
страны и оскорбление ее принципов — религиозных,
нравственных и политических, — ее истории, ее прошлого и будущего. Общее
порицание будет сопровождать это произведение больного и
зараженного ума, если бы несколько дурных граждан приветствовали
его исподтишка или если создатели клеветнических вымыслов за
границей за него ухватились бы и бросили бы нам его в лицо (что
вполне возможно), благоразумное большинство как внутри страны,
так и вне ее, рассудит по достоинству. Здесь нет никого, кто бы не
испытывал этих же чувств, и я убеждаюсь, что так же дело обстоит и
в Москве; тем более, что наша молодежь отринула с презрением это
антинациональное кощунство. Тем не менее, ввиду обстоятельств
момента, Ваше присутствие в Москве чрезвычайно необходимо и я
предлагаю Вам на время отложить Ваш отъезд в Петербург.
Примите уверения в совершенной моей преданности
С. Уваров
530
P. S. Я велел тщательно обследовать содержание нумеров
Журнала Министерства и поставил на ноги всю редакцию, выяснил, что о
книге Павлова там не упоминалось. Вы без сомнения были введены
в заблуждение сходством заглавия или имени. Если бы появилось
в каком-нибудь журнале восхваление статьи, помещенной в № 15
Телескопа, мне не оставалось бы другого выхода, как надеть
власяницу и принести публичное покаяние.
Д. В. Голицын - Л. М. Цынскому от 28 октября 1836 г.708
Господину Московскому Обер Полицмейстеру
Из препровождаемого при сем в списке отношения ко мне
Графа Бенкендорфа за № 3331709, Ваше Пре<восходительст>во увидите
ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА повеление, чтобы я принял
надлежащие меры к оказанию живущему в Москве г. Чеодаеву, по
постигшему его несчастию от расстройства ума, всевозможных
попечений и медицинских пособий.
В следствие чего предписываю Вашему Пре<восходительст>ву
распорядиться:
во-первых, чтобы командирован был к г. Чеодаеву один
Частный Штаб лекарь, из известных по познаниям своим в
медицине, и вменено было ему в обязанность непременно каждое утро
и даже два раза в сутки посещать г. Чеодаева; ежели же окажется
нужда в особенных для него пособиях, то в сем случае приглашать
и г. Доктора Саблера710, известного по успехам его в лечении
сумасшедших.
во-вторых, чтобы приняты были меры согласно ВЫСОЧАЙШЕЙ
воле, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию
нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были
употреблены все средства к восстановлению его здоровья.
и в-третьих, чтобы о положении Чеодаева каждомесячно
представляли мне аккуратные сведения для всеподданнейшего
донесения ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.
МВГГ711
Переписка вокруг «Телескопического дела»
531
А. X. Бенкендорф - С. С. Уварову от 29 октября 1836 г.712
Je vous réstitu les incluses, qui ont été lus par l'Empereur. — Il a été
étonné de la crainte de Strogonow! Le recteur Bolderew, ne peut pas être
livré à lui même pendant l'enquête; il doit être retenu quelquepart sous
bonne surveillance dans votre ministère, comme Nadegdin le sera à la
chancellerie de la gend'armerie; on ne peut pas la laisser communiquer
avec le public; cela donneroit lieu à de comérage et de canquan: les
papiers de Bilinsky seront saisis. Vos interrogatoirs sont très bien; les autres
questions naitrons de celle-cis; je garde celles à faire à Nadegdin, pour
coordonner les miennes à la marche que vous avez tracé.
Tout à vous. A. Benkendorf.
[Перевод:]
Возвращаю Вам прилагаемые бумаги, которые были прочитаны
Государем. Он был изумлен страхами Строганова!713 Ректор
Болдырев не может быть на свободе, во время следствия он должен
находиться под хорошим надзором где-нибудь в Вашем министерстве,
так же как и Надеждин, который будет содержаться в канцелярии
жандармского Управления; нельзя допустить их общения с
публикой, оно дало бы повод к сплетням и пересудам; бумаги Белинского
будут отобраны.
Ваши вопросы714 прекрасны, из них возникнут и другие; я
задержал те, которые предназначены для Надеждина, для того чтобы
согласовать свои с предначертанным Вами ходом дела.
А. Бенкендорф
Из журнала заседаний Московского цензурного комитета,
30 октября 1836 г.715
1836 Октября 30 дня в присутствие Московского ценсурного
комитета прибыли до полуночи: Правящий должность Председателя
Помощник Попечителя Московского Учебного Округа Его
Превосходительство и Кавалер Дмитрий Павлович Голохвастов716.
Михаил Трофимович Каченовский717, Иван Михайлович
Снегирев718, Дмитрий Матвеевич Перевощиков719. СЛУШАЛИ:
532
1.) Предложение Его Сиятельства г. Попечителя Московского
Учебного Округа от 26-го Октября, сего года за № 3123-м, в коем
прописывает, что г. Министр Народного Просвещения от 22 Октября
за № 330 уведомил его, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по
рассмотрении статьи, под заглавием: Философические письма, помещенной
в № 15-м издаваемого в Москве Журнала: Телескоп. ВЫСОЧАЙШЕ
повелеть соизволил издание Журнала сего немедленно прекратить,
о чем Его Сиятельство и предлагает Комитету к должному и
непременному исполнению.
Определено: Принять к сведению и непременному исполнению.
2.) Предложение Его Сиятельства г. Попечителя Московского
Учебного Округа от 26-го Октября, сего года за № 3128-м, в коем
прописывает, что г. Министр Народного Просвещения, от 22-го
сего Октября за № 330 уведомил его, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,
по рассмотрении статьи, под заглавием: Философические письма,
помещенной в № 15-м издаваемого в Москве Журнала: Телескоп,
ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил: Ценсора, статского Советника
Болдырева отрешить от сей должности, о чем Его Сиятельство
уведомляет Комитет, к должному исполнению, в дополнение к
предложению за № 3121. Определено: принять к сведению.
3.) Предложение Его Сиятельства г. Попечителя
Московского Учебного Округа от 25-го Октября сего года за № 3117, коим в
следствие отношения к нему г. Министра Народного Просвещения,
от 20-го Октября за №1316, предлагает Комитету не позволять в
периодических изданиях ничего, относящегося к напечатанной в
№ 15 Телескопа статье: Философические письма, ни в повторение
ни в похвалу ее. Определено: Принять к сведению и непременному
исполнению.
6.) Отношение ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библиотеки от
21 Октября сего года за № 238-м, коим Начальство
ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библиотеки уведомляет Московский Ценсурный
Комитет, что препровожденные Комитетом в Библиотеку при
отношении от 9-го Октября книги и журналы числом 14 и два сочинения
нот в оной Библиотеке получены, и между ими был прислан № 14
Переписка вокруг «Телескопического дела»
533
Телескопа в 2-х экземплярах вероятно другой по ошибке вместо
№ 15-го, один из них с подпискою содержания Типографии,
который при сем возвращая обратно, Библиотека просит Ценсурный
Комитет прислать № 15-й. Определено: № 15 Журнала Телескоп
препроводить в Императорскую Публичную Библиотеку немедля /и
отправлен/.
7.) Отношение Канцелярии Главного Управления Ценсуры от
24 Октября сего года за № 338-м, в коем прописывает, что при
отношении Комитета от 9 Октября сего года за № 307 препровожден
второй экземпляр № 14 Журнала Телескоп вместо следовавшего
15 №, возвращая оный, Канцелярия Главного Управления Ценсуры
просит о доставлении пятнадцатого нумера Телескопа, нужного к
делу об оном по Главному Управлению Ценсуры. Определено:
Просимый Канцеляриею Главного Управления Ценсуры № 15 Журнала
Телескоп препроводить в оную немедля, /и отправлен/.
А. X. Бенкендорф - Д. В. Голицыну от 31 октября 1836 г.720
Секретно
Милостивый Государь
Князь Дмитрий Владимирович,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, получив сведения, что бумаги,
принадлежавшие бывшему Издателю журнала Телескопа, Надеждину,
должны находиться у сотрудника его Билинского721, ВЫСОЧАЙШЕ
повелеть соизволил, дабы все бумаги в квартире сего последнего
были немедленно захвачены и доставлены ко мне. — ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВУ угодно, чтобы при сем случае был сделан у Билинского
самый тщательный обыск, в предупреждение того, чтобы он не
мог которых либо из бумаг сокрыть, с объявлением ему, что буде
в последствии откроется передача сих бумаг в другие руки или
утайка оных, то он будет подвергнут за сие строжайшей
ответственности722.
Сию ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЫСОЧАЙШУЮ волю имею честь
сообщить Вашему Сиятельству, для Вашего по оной исполнения.
534
С совершенным почтением и преданностию имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейший слуга
Граф Бенкендорф
№ 3401-й
31 Октября 1836.
Его Сия<тельст>ву Князю Д. В. Голицыну
С. В. Перфильев - А. Н. Мордвинову от 2 ноября 1836 г.723
Имею честь уведомить В<аше> П<ревосходительст>во, что
переводчик известной статьи есть сам издатель Надеждин, который
впрочем при возникшем процессе эту славу охотно предоставляет
другим, довольствуясь участием как издатель, от чего уже отозваться
нет возможности. Подобная мистификация поставляла меня в
затруднение, и чтоб сказать определительно, я желал бы видеть и
переговориться с графом Строгановым; что самое и отдалило несколько
мой ответ, ибо письмо Ваше нашло меня в постеле.
С. В. Перфильев - А. X. Бенкендорфу от 3 ноября 1836 г.724
На днях725 отставной ротмистр Чеодаев был приглашен к
здешнему обер-полицмейстеру, для объявления ему меры правительства,
последовавшей по Высочайшему повелению, в следствии
появившейся в «Телескопе» известной статьи, им сочиненной.
Прочтя предписание, он смутился, чрезвычайно побледнел,
слезы брызнули из глаз и не мог выговорить слова. Наконец,
собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: «Справедливо,
совершенно справедливо», — объявляя, что действительно в то
время, как сочинял сии письма726, был болен и тогда образ жизни и
мыслей имел противный настоящим, что ныне согласился издать
Переписка вокруг «Телескопического дела»
535
в свет сумасбродные727, скверные сии письма (это его собственные
слова) по убеждению издателя Телескопа Надеждина, быв в твердой
уверенности, что цензура не пропустит оные; но что крайне был
удивлен, когда Надеждин, приехав к нему и потирая руками,
объявил, что они пропущены; и что будто он, Чеодаев, узнав о сем, сам
хотел писать на свое сочинение возражение. В противоречие же
сему, продолжая разговор, говорил: что философические письма,
давно написанные, были читаемы многими здесь и в Петербурге;
что сие самое ободряло его и обольщало надеждою, что они будут
одобрены, как и прежде, читавшими и что к сему он был увлечен
Авторским честолюбием728. Впрочем, в продолжении разговора,
Чеодаев несколько раз повторял, с изъявлением удивления, как могла
цензура пропустить подобное сочинение. По словам его, Чаодаева,
письма сии переведены были давно, каким-то Норовым729, но очень
дурно, — что он, отдавая их, говорил и Надеждину, который отвечал:
«на этот счет не беспокойтесь; мы сами их переведем». Сим самым
подтверждается, что Надеждин действительно означенную статью
получил в переводе; однако ж, с тем же вместе и обнаруживается,
что он ею занимался.
Из отзывов Надеждина и Чеодаева заметно, что они друг друга
обвиняют, упрекая в тех неприятных последствиях, которые теперь
испытывают, и хотя видно было, что мера, объявленная Чеодаеву,
его поразила и оскорбила чрезвычайно: но он принял сие с покор-
ностию, повторяя: «Справедливо, совершенно справедливо». В
публике поговаривают, что велено его лечить, но еще без уверенности
в справедливости, а потому и общих суждений насчет сего еще не
слышно730.
С. Г. Строганов - Г. А. Строганову от 3 ноября 1836 г.
(фрагмент)731
3 Nov. 1836. Moscou
Je comptais venir à Pétersbourg au commencement de ce mois, mais
des occupations imprévues me forcent à remettre (?) jusqu'à la fin du mois
mon arrivée auprès de vous mon cher Père, ce qui me contrarie fort...
536
Vous aurez je pense pris part au mouvement qui a été provoqué par la
sotte publication d'une de nos journaux de Moscou; on a voulu en faire un
acte de délit contre la Censure; mais ce qu'il y a de plus piquant c'est que
l'auteur de l'article <нрзб> se plaint lui-même de ce que la Censure l'a
laissé passer; il prétend, que c'est le produit d'un cerveau malade qu'il était
fou en 1829 lorsqu'il a rédigé cette lettre. Toute cette histoire m'a été très
désagréable, parceque je savais mieux que personne à qui seul on devait
s'en prendre et qu'il n'y avait légalement personne à atteindre <несколько
слов нрзб>; quant à l'offence nationale, il me semble, que nous sommes
assez russes pour n'avoir pas à redoutter de pareilles attaques. Au reste
chacun a sa façon de voir là dessus, et quoique les choses ayant pris une autre
tournure que je ne l'avais désiré je n'ai rien pu y faire officiellement. Je me
suis en général un-peu enlevé depuis quelques années, je ne crois pas que
les affaires y gagnent, mais au moins c'est plus commode pour ceux qui les
font; il est si facile de passer pour un entousiaste quand on veut le servir
avec chaleur et justice, qu'il vaut mieux modérer son zèle que de devoir avec
trop plein la non réussite de ses projets <sic>. Tout cela n'empêche pas que
je suis parfaitement content de ma place, de mon <нрзб> d'activité et de
mon utilité; il faudra qu'ils fassent beaucoup pour me dégoutter! <...>
[Перевод:]
ЗНояб. 1836. Москва
Я рассчитывал прибыть в Петербург в начале сего месяца, однако
непредвиденные занятия заставили меня отложить (?) до конца
месяца мой приезд к вам, мой дорогой Батюшка, что мне весьма досадно...
Вы уже приняли участие, я думаю, в волнениях, порожденных
глупой публикацией в одном из наших московских журналов; из нее
хотели сделать преступление против (?) Цензуры; но, что самое
занимательное, автор статьи <нрзб> сам жалуется, что Цензура пропустила
статью; он утверждает, что она есть порождение ума больного, что
он был безумен в 1829 г., когда написал это письмо. Вся эта история
была мне очень неприятна, поскольку я лучше кого бы то ни было
знал, кого единственно следует упрекать <несколько слов нрзб>; что
до оскорбления нации, то мне кажется, что мы достаточно русские,
чтобы не бояться подобных нападений. В остальном, каждый имеет
здесь свою точку зрения, и хотя дело приняло иной оборот, чем я того
желал, я ничего не смог сделать официальным путем. В общем, я не-
Переписка вокруг «Телескопического дела»
537
сколько воодушевился в последние несколько лет, не думаю, что дела
от этого выигрывают, но по крайней мере так удобнее тем, кто ими
занимается; легко прослыть энтузиастом, когда хочешь служить с
пылом и справедливостью, что стоит лучше умерить свой пыл, чем быть
должным с избытком за неудачу своих проектов. Все это не мешает
тому, чтобы я был совершенно доволен своим местом, моим <нрзб>
деятельности и моей полезностью; им многое нужно сделать, чтобы
внушить мне отвращение! <...>
С. С. Уваров - А. X. Бенкендорфу от 4 ноября 1836 г.732
4 novembre
Boldyreff déclare avoir lu l'article et y avoir fait quelques
corrections. Quelques uns de ces corrections ont été insérées par le journaliste,
d'autres non.
Il a agi de confiance; n'a parlé à aucun de ses confrères, n'a point porté
l'affaire au Comité & n'en a pas parlé à ses chefs.
Le Rédacteur lui a dit que l'article était de Tchédayeff; que l'auteur
était fort connu à Moscou, qu'il y avait beaucoup de liaisons et que de
plus il était appuyé par le C-te Benkendorf. Au surplus que l'Auteur était
catholique de notoriété publique.
Boldyreff dit qu'il n'a pas compris le sens et la tendence de l'article
lorsque le rédacteur le lui a présenté & qu'il l'a seulement compris depuis.
Si le degré d'ineptie qu'il fait voir n'est pas affecté, il est clair qu'il a été
la dupe aveugle du Rédacteur qu'il accuse de tout son malheur. Interrogé
si le bruit de l'accident de S. M. à Zembar était répandu à Moscou lorsque
le Тел<ескоп> lui a présenté — a repondu affirmativement.
[Перевод:]
4 ноября
Болдырев объявляет, что прочел статью и сделал в ней некоторые
исправления. Некоторые из его исправлений были внесены
журналистом, некоторые — нет.
Он действовал по доверенности; не сказав никому из своих
собратьев, не отнеся дело в Комитет и не сказав о нем своим начальникам.
538
Редактор сказал ему, что статья принадлежала Чаадаеву; что автор
был хорошо известен в Москве, имел много связей и к тому же его
поддерживал Гр. Бенкендорф733. Сверх того, Автор был
общеизвестным католиком.
Болдырев говорит, что не понял смысла и направления статьи,
когда редактор представил ее ему и что он понял все это лишь
впоследствии.
Если степень показанной им глупости не есть притворство, то
ясно, что он стал слепой жертвой Редактора, которого обвиняет он
во всех своих бедах. Спрошенный, распространился ли по Москве
слух о несчастном случае с Е. В. в Чембаре734, когда Тел<ескоп> был
ему представлен — ответил утвердительно.
С. В. Перфильев - А. X. Бенкендорфу от 6 ноября 1836 г.735
[О мерах по адресу Чаадаева] рассуждают везде и всякий и
почти единодушно одобряют. <...> Некоторые лишь предосуждают
шутливо-насмешливый тон предписания насчет задержания
Чаадаева в квартире под видом участия736. Многие говорят против
запрещения издания журнала до срока, рассуждая таким образом:
по недосмотрению цензора пропущена статья непозволительная;
правительство могло подвергнуть его ответственности, заместить
другим, учредить сверх сего особое наблюдение, но не вводить в
процесс подписчиков, делу не причастных. Оставалось несколько
месяцев и нет сомнения, что после передряги, испытанной
сочинителем, издателем и цензором, направление и дух журнала были бы в
совершенной гармонии с правительством737. Вот толки и суждения
теперь слышанные; о дальнейших же буду иметь честь донести.
С. С. Уваров - Николаю I от 6 ноября 1836 г.738
Je prends la liberté de mettre sous les yeux de Votre Majesté
Impériale la lettre que le C<om>te Strogonoff vient de m'adresser en date du
1-r novembre.
Переписка вокруг «Телескопического дела»
539
Dans la lettre confidentielle que je lui écrivis & dont la copie a été
présentée à Votre Majesté, je crus suffisant de lui dire que «vu les
circonstances actuelles je trouvais sa présence très nécessaire à Moscou &
que je l'engageais à ajourner pour le moment son départ pour
Petersburg».
En m'exprimant ainsi je crus qu'il était superflu de mettre en avant le
nom de Votre Majesté, quoique l'indication partit d'Eue même, & parceque
je devais supposer dans le C<om>te Strogonoff assez de connoissance de
l'esprit & de l'ordre du service pour se conformer à mon injonction.
Il n'en est pas ainsi: le C<om>te Strogonoff jugeant contre mon
opinion, que sa présence non est nécessaire à Moscou, me demande si j'ai
obéi à une injonction supérieure, reclame une réponse cathégorique &
m'annonce qu'il prendra en pareil cas son parti décidément.
Placé donc dans la nécessité de lui transmettre une réponse
cathégorique, je me trouve malgré moi forcé de recourir à Votre Majesté
Impériale. Les rapports dans les quels le C<om>te Strogonoff s'est placés vis à vis
de moi depuis longtems, sont tellement en dehors de l'ordre du service
que je ne sais plus, je l'avoue, comment me diriger à son égard? Daignez,
Sire, me prescrire la marche que j'ai à suivre & me munir de Vos ordres
relativement à la question que m'adresse le C<om>te Strogonoff.
Ce qui dans sa lettre à rapport à l'affaire du Télescope, sera pris en
sérieuse considération par la comission; je ne manquerai pas de mon coté
d'approfondir l'article des jeunes gens du ministère qui ont copié
quelques parties de l'ouvrage de Tchédaeff dont la déclaration transmise par
le Comte Strogonoff, inculpe gravement le journaliste & donne un aspect
nouveau à cette publication. Ouvaroff.
P. S. Me trouvant chez le C<om>te Benkendorff & lui ayant
communiqué le contenu de ce rapport, le C<om>te en profite pour y joindre une
lettre que de son coté il vient de recevoir du C<om>te Strogonoff.
[Перевод:]
Беру на себя смелость представить Вашему Императорскому
Величеству письмо, которое Гр. Строганов только что прислал мне,
оно датировано 1-м ноября.
В частном письме, кое я ему написал и копия которого была
подана Вашему Величеству, я счел достаточным сказать, что «учитывая
540
настоящие обстоятельства, я нахожу его присутствие в Москве
совершенно необходимым и что я прошу отложить в настоящее время
его отъезд в Петербург».
Изъясняясь таким образом, я думал, что было бы излишним
ссылаться на имя Вашего Величества; хотя указание исходило от Вас и
поскольку я должен был предполагать в Гр. Строганове достаточно
знания духа и порядка службы, чтобы сообразоваться с моим
предписанием.
Но так не случилось: Гр. Строганов, рассуждая, противно моему
мнению, что его присутствие в Москве не необходимо,
спрашивает меня, подчиняюсь ли я высшему приказу, требует категоричного
ответа и объявляет мне, что в таком случае он сам примет
окончательное решение.
Находясь поэтому в необходимости передать ему категоричный
ответ, вопреки моему желанию я вынужден прибегнуть к Вашему
Императорскому Величеству. Рапорты, в которых Гр. Строганов уже
давно выставляет себя против меня, настолько выходят из
порядка службы, что я не знаю более, признаться, как мне относиться к
нему? Соблаговолите, Государь, указать мне путь, которым я должен
следовать, и снабдить вашими приказаниями касательно вопроса, с
которым обращается ко мне Гр. Строганов.
То, что в его письме имеет отношение к делу Телескопа, будет
серьезнейшим образом рассмотрено комиссией; со своей стороны я
постараюсь исследовать историю молодых людей из министерства,
копировавших фрагменты творения Чаадаева, в чьих заявлениях,
переданных Гр. Строгановым, тяжко обвиняется журналист и
публикация помещается в новую перспективу. Уваров.
P. S. Я был у Гр. Бенкендорфа и сообщил ему о содержании
этого рапорта. Гр. пользуется случаем и присоединяет к нему
одно письмо, которое, в свою очередь, он только что получил от
Гр. Строганова.
С. С. Уваров - А. X. Бенкендорфу до 6 ноября 1836 г.739
Je m'empresse de Vous comuniquer la copie de l'office que j'adresse
au С Strogonoff.
Переписка вокруг «Телескопического дела»
541
N'ayant reçu jusqu'ici aucun rapport officiel de sa part sur l'affaire
du Télescope, j'ai été induit à soumettre à S<a> M<ajesté> Kmpériale>
d'abord la précieuse lettre privée du Curateur & ensuite la seconde; si j'ai
pris la liberté d'accompagner celle-ci quelques lignes écrites en français,
c'était parce que précédement l'Emp<ereu>r avait daigné agréer plusieur
foi son observation des notes françaises destinées à remplacer des
éclaircissement verbaux & qui se trouvaient par la même privés de caractère
officiel que la forme & le style du rapport russe n'auraient pas manqué
de leur donner; je ne pretend pas me persister d'avoir employé ce mode
de relation dans d'autres circonstances qui se rend offertes frequèment
depuis près de quatre ans; j'ai seulement à louer de ne pas paraître aux
yeux de NAM <notre auguste monarque>, avoir enfreinit par
présomption les bornes prescrites. Je reconnais d'ailleurs parfaitement l'extrême
justice de l'observation de S<a> M<ajesté> car il est evident que dans la
nature de mes relations avec le C<omte> S<trogonoff> je devais me tenir
strictement aux formes officielles. Si je m'en suis écarté, je me persuade
<нрзб> que l'Emp<ereur> daignera apprécier mes motifs.
Je vous comunique ci-joint le travail de M<etsherskij?> sur les <...> de
Tchéd. Il est tout à fait suffisant pour en tirer l'exacte conséquence que
sa manière de voir est aussi bien plus hostile à l'Eglise orthodoxe dont il
a ouvertement déserté les doctrines, qu'à l'ordre politique subsistant qu'il
n'attaque que sous la masque. —
[Перевод:]
Спешу сообщить Вам копию отношения, которое я посылаю
Г. Строганову.
Не получив от него до сих пор ни одного официального рапорта
о деле Телескопа, я был вынужден поднести Е. И. В. сначала ценное
частное письмо Попечителя, а затем и второе; если я имел смелость
сопроводить это письмо несколькими строчками, написанными
по-французски, то лишь потому, что перед сим Имп<ератор>
множество раз благоволил рассматривать французские примечания,
призванные заменить устные объяснения и лишенные поэтому
официального характера, который обязательно бы придали им форма и
стиль русскоязычного рапорта; я не намерен упорствовать, что
использовал этот тип отношения в других обстоятельствах, часто
возникавших последние четыре года; я лишь льщу себя надеждою, что
542
не кажусь в глазах H. A. M. <нашего августейшего монарха> тем, кто
по высокомерию [вышел за] предписанные границы. Я совершенно
признаю к тому же крайнюю справедливость замечания Е. В., ибо
очевидно, что по природе моих отношений с Гр. С<трогановым> я
должен был строго держаться официальных форм. Если я удалился
от них, то убежден <нрзб>, что Имп<ератор> соблаговолит
оценить мои мотивы.
Сообщаю вам также работу М<ещерского?> над <нрзб>
Чед<аева>740. Этого достаточно, чтобы извлечь из нее точный
вывод, что его видение столь же враждебно православной Церкви, от
доктрины которой он открыто отступился, сколь и существующему
политическому порядку, на который он нападает лишь скрытно. —
С. С. Уваров - С. Г. Строганову от 9 ноября 1836 г.741
Господину Попечителю Московского Учебного Округа. —
Главное Управление Цензуры, подвергнув рассмотрению
выходящие ныне в свет, с дозволения Московской Цензуры, повременные
издания, положило: оставить дальнейшее существование всех их;
при чем признало нужным поставить на вид Московскому
Цензурному Комитету, что запрещение Телескопа, простирается и на
принадлежавшее к нему издание: Молва742. —
Министр Народного Просвещения Сергий Уваров
Правитель дел, В. Комовский
С. С. Уваров - С. Г. Строганову от 12 ноября 1836 г.743
Милостивый Государь, Граф Сергий Григорьевич.
Из полученных от Вашего Сиятельства сведений оказывается,
что Помощник Ваш, Статский Советник Голохвастов, продолжал
Переписка вокруг «Телескопического дела»
543
председательствовать в Московском Цензурном Комитете. Между
многими, весьма неприятными последствиями, по случаю
пропуска 15. нумера Телескопа, открылось, что в круге действий
Московского Цензурного Комитета, вопреки § 42. Устава о Цензуре744,
выдаются из Типографий печатные экземпляры сочинений745 без
получения на то дозволительного билета от Цензора,
обязанного предварительно сличить печатный экземпляр с одобренною
им рукописью. Кроме того, Цензоры не всегда в сомнительных
случаях обращаются, как бы то следовало, в Цензурный Комитет,
для получения разрешений. Отсюда происходят важные
упущения и беспорядки, которые Председательствующий в Цензурном
Комитете отнюдь не должен был допускать, ибо на основании
§ 56. Устава746 о Цензуре, он управляет всеми внутренними в
Цензурном Комитете распоряжениями и, по духу наших узаконений,
обязан приобресть должное на Цензоров влияние, руководствуя
их к точнейшему исполнению обязанностей, для предупреждения,
по возможности, столь неприятных явлений, которые, не смотря
на неусыпную мою заботливость, к крайнему моему прискорбию,
могли в Москве случиться.
Я счел за нужное просить Ваше Сиятельство поставить все сие,
от моего имени, на вид Статскому Советнику Голохвастову, и вместе
с тем, принять надлежащие меры к восстановлению в Московском
Цензурном Комитете должного порядка, от коего всякое уклонение
имеет столь вредные следствия.
С совершенным почтением и преданностию имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою Сергий Уваров
С. С. Уваров - С. Г. Строганову от 14 ноября 1836 г.747
Господину Попечителю Московского Учебного Округа
Имею честь препроводить при сем к Вашему Сиятельству для
надлежащего исполнения копию с Указа из Правительствующего
Сената от 9-го сего Ноября за № 83945 о ВЫСОЧАЙШЕМ повелении
544
отрешить Профессора Болдырева от должности Цензора при
Московском Цензурном Комитете.
Министр Народного Просвещения Сергий Уваров
Правитель Дел: В. Комовский.
Копия указа Николая I от 9 ноября 1836 г.748
Указ Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержца
Всероссийского, и Правительствующего Сената, Господину Министру
Народного Просвещения. По Указу Его ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА Правительствующий Сенат, слушали предложение г.
Министра Юстиции, Тайного Советника и Кавалера Дмитрия
Васильевича Дашкова749, что Вы сообщили ему, что Государь ИМПЕРАТОР, по
всеподданнейшему докладу Вашему в 22 ч. минувшего Октября
ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил: Цензора Московского Цензурного
Комитета, Профессора Болдорева (sic!) отрешить от сей должности.
О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воли г. Министр предложил
Правительствующему Сенату. Приказали: исполнение по сему
ВЫСОЧАЙШЕМУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА повелению, предоставить
Воле (?) г. Министру Народного Просвещения; о чем послать Указ,
Герольдии дать известие и припечатать в Сенатских ведомостях750.
Ноября «9» дня 1836 года.
С. Г. Строганов - Г. А. Строганову от 18 ноября 1836 г.751
18 Novembre 1836. Moscou
Votre bonne et excellente lettre du 13 de ce mois me fait un devoir
mon cher Père de vous répondre en détail et de vous éclairer sur l'objet
que vous avez traité. Le Curateur de l'Université de Moscou est Président
du Comité de Censure dans lequel siègent quatre Censeurs, dont deus
Переписка вокруг «Телескопического дела»
545
sont professeurs et deux devraient être des Employés Etrangers à
l'Université. Tous les ouvrages présentés à la Censure sont partagés d'après
une répartition convenue entre ces différens Censeurs, et ce n'est que
dans les cas douteux, que les Censeurs font part au Comité de leurs
incertitudes et que l'article est discuté en pleine séance, ce ne serait donc, que
pour un ouvrage, qui aurait été présenté aussi au Président, que ce
dernier pourrait être responsable; cela s'est toujours fait, ainsi le Règlement
et l'usage le prescrivent; au reste cela ne peut se faire autrement. Je vous
demande après cela, comment le Président peut répondre pour une faute
dont toute la solidarité repose sur un autre que lui, puisqu'il y a
délégation légale de pouvoir et comment, la bonne foi d'un Censeur surprise,
peut devenir une culpabilité pour le Président? On m'objectera que le
choix des Censeurs m'est dévolu, qu'il m'appartient d'éliminer les ineptes
comme les mal-intentionnés, que je ne devais pas cumuler l'Emploi de
Censeur avec celui de Recteur; à quoi je répond que c'est par un ordre
spécial de S<a> M<ajesté> et sous l'administration de mon prédécesseur,
que le Recteur Boldireff a été nommé à la place de Censeur Etranger,
les deux autres étant occupées et qu'il a obtenu par la un traitement de
3000 Roubles. Lorsque l'année passée l'Eloignement d'un des Censeurs a
provoqué un changement dans le personnel du Comité j'ai voulu profiter
de l'occasion pour faire sortir le Recteur, trouvant ce cumul de places
nuisible au Service, le Ministre à mon travail me dit: que Boldireff était un
homme dont on pouvait être sûr; il consentit alors au renvoi d'un autre
individu, qui me déplait fort et au sujet du quel cependant trois mois
après sur d'instantes preuves <?> qui lui fussent adressées il m'écrivit,
qu'il m'adresserait nécessament un office pour m'autoriser à garder cet
individu ou à le remplacer à mon grés. Tout cela prouve que m-r Ouva-
roff connaissait la portée de tous ces messieurs il savait combien il y a de
difficulté à trouver des Censeurs hors du sein de l'Université.
Quant à l'affaire même qui nous occupe je vous avoue qu'elle peut se
répéter tous les jours et qu'il est très possible qu'un Censeur risquant son
existence politique par paresse ou impureté donne un permis de Censure
sans avoir lue la pièce qu'il revêt de sa signature. Dans un cas pareil le
Curateur ne peut être responsable, que de l'impunité s'il était assez inepte pour
la souffrir! Il n'y a qu'à connaître les embarras d'une administration
nouvelle pour comprendre que l'on ne peut déraciner en un jour tous les abus
né détruire les Sinécures et surtout quand les individus qu'on trouve <?>
546
par là sont les mêmes auxquels il faut recourir pour opérer les grandes
réformes que nous méditons. Vous voyez mon cher Père que le Président
du Comité de Censure ne peut être responsable pour les Censeurs, qui
agissent conformément au Règlement d'après leur jugement. Le ministre
sait tout cela il y avait donc de la politique à ne pas savoir le dire à S<a>
M<ajesté>. Mais ce que le Ministre sait aussi très bien, c'est que par sa
décision de l'année 1834. c'est mon adjoint, qui a la présidence du Comité
de Censure à Moscou et que tous les mois il en reçoit les protocoles signés
de son nom, par lesquels il pouvait juger de la marche des affaires. Vous
sentez bien mon cher Père que je ne cherche pas dans cette circonstance
des armes pour me déffendre; je suis le chef et puisqu'on veut augmenter
le nombre des coupables je préfère que le <нрзб> tombe sur moi; je me
suis assez fort pour résister à la bourasque et ne ferai qu'en rire; mais vous
conviendrez que M<onsieu>r Ouvaroff pouvait très bien savoir combien
peu j'étais coupable dans cette affaire et qu'il aurait du présenter le fait tel
qu'il est, sans s'effrayer de la mauvaise humeur de S<a> M<ajesté>: pour
vous donner la mesure de son caractère je vous dirai, que la semaine
dernière il m'a adressé un office pour me demander des éclairecissemens sur
le contenu d'une lettre particulière et m'ouvrir une voie de délation; office
dans lequel il me fait dire tant autre chose que je ne lui avait écrit; je vous
ferai part en son tems de cette pièce curieuse, comme elle est secrette je
ne puis la confier à la poste. Croyez-moi, je ne me monte nullement, je ne
veux pas casser les vitres, je ne fais pas l'important, mais je crois avoir le
cœur trop bien placé pour sympatiser en rien avec ce drôle! Pouvez vous
après cela vous étonner si je lui demande de s'expliquer
catégoriquement au sujet de mon voyage à Pétersbourg et quand il me mande dans
son lettre mieleuse en datte du 27 octobre, que d'après les circonstances
du moment ma présence à Moscou ne peut manquer d'être très utile et
qu'il m'engage à ajourner pour l'instant mon départ. Vous appelez cela
mon cher Père une manière délicatte de m'informer du mécontement
de S<a> M<ajesté>. Si l'Empereur est mécontent de moi et que des mots
d'explications suffisent pour me justifier pourquoi cet homme ne veut-il
pas que je les dis, s'il n'ose pas le faire? Mais en vérité il n'y a là aucune
honnêteté! M<onsieu>r Ouvaroff veut rester maitre du terrain pendant
un mois pour se faire enlever, exciter des d fiances, il sait qu'il reste
toujours quelque chose de la Calomnie. Vous trouverez dans tout <нрзб>,
que je l'ai prie de s'expliquer, l'ordre de rester à Moscou ne me <нрзб>
Переписка вокруг «Телескопического дела»
547
qu'à sous un rapport, c'est qu'il m'empêcherait de vous revoir aussi tôt,
que je l'avais assuré. Moi qui arrivais à Pétersbourg avec des projets si
paisibles, je voulais y être tout pour vous et profiter au moins d'une mois de
bonheur après une absense de deux ans et demie. Probablement que je ne
pourai venir à Pétersbourg qu'à la mois janvier, car je veux passer les fêtes
ici, et rester avec Alexandre pendant les <нрзб>, il a besoin de moi alors
pour se détendre de ses études et prendre un-peu de distraction.
Adieu mon cher Père, je n'ai pas conscience de vous fatiguer de cette
longue lettre, vous y trouverez de quoi me justifier à vos yeux et la
conviction que si j'avais eu tort j'aurais été le premier à l'avouer à mon Père
et mon ami. Je suis toujours parfaitement content de mes occupations,
les sécrétions de M<onsieu>r Ouvaroff ne me dégoûteront pas de ma
place, malgrès sa philosophie de Courtisan il doit savoir que la faveur qu'il
<нрзб> ne déffend pas du mépris des honnêttes gens. Demanderez à
Alexandre l'histoire d'une pièce de vers La mort de Luculle. que la
Censure de Moscou a laissé passer l'année dernière et vous aurez le clef de toute
la tournure que le Ministre a donné à cette affaire aujourd'hui!! <...>
Serge
18 Novembre 1836
Moscou
[Перевод:]
18 ноября 1836. Москва
Ваше доброе и превосходное письмо от 13 числа сего месяца752
побуждает меня, дорогой Отец, отвечать вам подробно и
прояснить предмет, о котором вы рассуждали. Попечитель Московского
Университета и Председатель Цензурного Комитета, где заседают
четыре Цензора, двое из которых — профессора и двое должны
быть Сторонними для Университета Служащими. Все
произведения, представляемые в Цензуру, делятся согласно условному
распределению между разными Цензорами, и лишь в сомнительных
случаях Цензоры сообщают в Комитет о собственной
неуверенности, так что статья обсуждается на заседании; лишь в случае с
отдельным произведением, если его представят также и
Председателю, сей последний может быть ответственным; так всегда делалось,
так предписывают Устав и обыкновение; в остальном это не может
548
быть иначе. После этого спрошу вас, как Председатель может
отвечать за ошибку, вся ответственность за которую лежит на другом,
поскольку существует законная передача власти, и как захваченная
врасплох добросовестность Цензора может преобразоваться в
виновность Председателя?753 Мне возразят, что выбор Цензоров
возложен на меня, что мне принадлежит удалить как неспособных, так
и неблагонамеренных, что я не должен был совмещать Должность
Цензора с должностью Ректора; на сие отвечаю, что Ректор
Болдырев был назначен на место Стороннего Цензора специальным
указом Е. В. во время управления моего предшественника, два других
[места] были заняты, и тем самым он получил 3000 рублей
жалованья. Когда в прошлом году отставка одного из цензоров привела к
изменению в составе Комитета, я хотел воспользоваться случаем,
чтобы вывести из него Ректора, находя это совмещение постов
вредным для Службы, Министр сказал мне о моем деле: что Болдырев
человек, в котором можно быть уверенным; тогда он согласился на
увольнение другого человека, который был мне очень неприятен и
о котором тем не менее три месяца спустя, в ответ на
представленные ему настоятельные доводы, он писал, что обязательно составит
мне адрес, дабы разрешить мне оставить этого человека или
заменить его по моему усмотрению. Все сие доказывает, что г-н Уваров
понимал, что это за господа, он знал, сколь трудно найти Цензоров
вне стен Университета.
Что до самого занимающего нас дела, то признаюсь, что оно
может повториться всякий день и что очень возможно, что Цензор,
рискуя своим политическим существованием, из лени или из
развращенности, даст Цензурное разрешение, не читая сочинения, под
которым он ставит свою подпись. В подобном случае Попечитель
может нести ответственность лишь за безнаказанность, ежели он
был настолько глуп, чтобы примиряться с ней! Нужно лишь иметь
представление о невзгодах новой администрации, чтобы понять,
что в один день нельзя ни искоренить все злоупотребления, ни
уничтожить Синекуры; особенно когда эти люди суть те же, к
которым необходимо прибегнуть для проведения больших реформ, о
которых мы размышляем. Вы видите, мой дорогой Отец, что
Председатель Цензурного Комитета не может нести ответственность за
Цензоров, действующих в соответствии с Уставом и согласно их
Переписка вокруг «Телескопического дела»
549
суждению. Министр знает все это, следовательно, не уметь сказать
сего Е. В. есть политика. Но что Министр знает так же хорошо, что
именно по его решению 1834 г. мой помощник председательствует
в Московском Цензурном Комитете, и что всякий месяц он <ми-
нистр> получает подписанные его <помощника> именем
протоколы, из которых он мог судить о ходе дел. Вы хорошо видите, мой
дорогой Отец, что я не ищу в сих обстоятельствах оружие для защиты;
я — начальник и, поскольку хотят увеличить число виновных, я бы
предпочел, чтобы <нрзб> упало на меня; я достаточно крепок,
чтобы сопротивляться буре и буду лишь смеяться над ней; но вы
согласитесь, что Г-н Уваров мог отлично знать, сколь мало я был виновен
в этом деле и что он должен бы был представить факт таким, как он
есть, не боясь дурного настроения Е. В.: дабы показать вам его
характер, я скажу вам, что на прошедшей неделе он адресовал мне
отношение, где просил разъяснить содержание одного частного письма
и открыл мне путь к доносу; отношение, в котором он заставляет
меня говорить многое из того, чего я ему не писал; я сообщу вам в
свое время это любопытное сочинение, оно секретное, поэтому я
не могу доверить его почте. Поверьте, я нисколько не сержусь, я не
хочу идти напролом, я не строю из себя важного, но я думаю, что
у меня слишком благородное сердце, чтобы в чем-либо
симпатизировать этому негодяю! Удивитесь ли вы после этого, что я
прошу его категорически объясниться касательно моего путешествия в
Петербург и когда он сообщает мне в своем медоточивом письме от
27 октября, что по настоящим обстоятельствам мое присутствие в
Москве совершенно необходимо и что он просит меня отложить
пока что мой отъезд754. Вы называете все это, мой дорогой Отец,
деликатной манерой сообщить мне о недовольстве Е. В. Если
Император мной недоволен и слов достаточно, чтобы меня оправдать,
почему этот человек не хочет, чтобы я их произнес, ежели он сам
не смеет это сделать? Но, по правде, здесь отсутствует всякая
честность! Г-н Уваров хочет остаться хозяином положения еще на
месяц, возвыситься, возбудить недоверие, он знает, что от клеветы
всегда что-то остается. Вы найдете во всем <нрзб>, что я просил
его объясниться; приказ оставаться в Москве [досаден] мне лишь в
том, что он помешал бы мне вновь увидеть вас так скоро, как я вас
заверял. Прибывая в Петербург со столь мирными намерениями, я
550
хотел быть весь в вашем распоряжении и воспользоваться по
крайней мере месяцем счастья после двух с половиной лет отсутствия.
Вероятно, я не смогу приехать в Петербург раньше января, ибо я
хочу провести праздники здесь и остаться с Александром755 во
время <нрзб>, я нужен ему, чтобы он отдохнул от занятий и несколько
развлекся.
Прощайте, мой дорогой Отец, я не думал утомить вас этим
длинным письмом, вы найдете в нем мое оправдание в ваших глазах и
убеждение, что если бы я был неправ, то первым бы признался об
этом моему Отцу и другу. Я по-прежнему совершенно доволен моими
занятиями, желчь Г-на Уварова не отвратит меня от моего места,
несмотря на его философию придворного, он должен знать, что случай
<нрзб> не защищает от презрения порядочных людей. Спросите у
Александра об истории со стихами Смерть Лукулла, которые
Московская Цензура пропустила в прошлом году756, и у вас будет ключ к
обороту, который Министр дал этому делу сегодня!! <...>
Сергей
18 Ноября 1836
Москва
С. В. Перфильев — А. X. Бенкендорфу
от 20 ноября 1836 г.757
[Е. Г. Левашева] женщина уже не молодых лет, хорошо
образованная, начитанная, с репутацией femme savante; образ жизни ведет
довольно уединенный, и имея дочерей взрослых, редко показывается в
обществе. Сам г. Левашев слывет за человека ничтожного, и в свете,
и дома758. Знакомство имеют большое; наиболее же ее посещают:
Курбатов759, Козаков760, Саймонов761, Михайло Федорович Орлов762,
Свербеев763, Раевской764, жена сенатора Левашева765, с семействами
их, и многие другие. А отставной ротмистр Чеодаев в доме Леваше-
вой совершенно как свой. Близкие и короткие отношения его с нею,
как полагают, имеют источником симпатию, рожденную сходством
образа мыслей, взглядом и понятием о вещах.
Переписка вокруг «Телескопического дела»
551
Чеодаев особенно привлекал к себе внимание дам, доставлял
удовольствие в беседах и, передавая все читаемое им в
иностранных газетах и журналах и вообще вновь выходящих сочинениях
с возможною отчетливостию, имея счастливую память и обладая
даром слова. Когда нарождался разговор общий, Чеодаев разрешал
вопрос, при суждениях о политике, религии и подобных предметах,
с свойственным уму образованному, обилующему материалами,
убеждением. Знакомство он имеет большое; в коротких же связях
замечается: с Дмитриевым (Иваном Ивановичем), Орловым
(Михаилом Федоровичем), Масловым (Секретарем Медико-Хирургической
Академии)766, Тургеневым (Александром Ивановичем), княгинею
Мещерскою (Софьею Сергеевною); последних двух были у Чаадаева
и портреты, отобранные в числе бумаг, из коих Тургенева с
надписью: «без боязни обличаху»767. С сенатором Салтыковым (Михаилом
Александровичем)768 были в весьма коротких сношениях, видались
почти каждый день; но когда дела Чеодаева начали приходить в
расстройство (теперь он почти ничего не имеет) и Салтыков просил
выдать ему заемное обязательство в должной сумме, то Чеодаев,
оскорбясь сим, заплатил Салтыкову деньги (хотя достал оные с
трудом) и прекратил с ним знакомство.
Чеодаев часто бывает: у Екатерины Федоровны Муравьевой769,
Ушаковой770, Нарышкиной771, Пашковой, Раевской и у многих
других; знаком: с сенатором Нечаевым772, секретарем московского
депутатского собрания Колайдовичем773, Клинским предводителем
дворянства фон-Визиным774, графом Потемкиным775, камергером
Ржевским776, Николаем Александровичем Чичериным777, Васильем
Петровичем Зубковым778, Брусиловым779, Григорьем
Александровичем Римско-Корсаковым780, Александром Александровичем
Писаревым781, Александром Сергеевичем Пушкиным, Петром Львовичем
Нелединским782, Платоном Степановичем Яковлевым783 и калужским
помещиком Хлюстиным784.
Образ жизни Чеодаев ведет весьма скромный, страстей не имеет;
но честолюбив выше меры. Сие то самое и увлекает его иногда с
надлежащего пути, благоразумием предписываемого. Об этом
должно сожалеть: ибо исключая странного, предосудительного в иных
случаях образа мыслей и взгляда на предметы, он имеет много
достоинств — таков общий отзыв. При сем заключают, что на его ха-
552
рактер имеет большое влияние физическое нервное расстройство,
которому он подвержен и которое несколько лет тому назад до того
усилилось, что действительно начало обнаруживаться в признаках
временного помешательства.
Ныне часто посещают Чеодаева из вышеназванных лиц:
Тургенев785, Дмитриев786, княгиня Мещерская и доктор Брок787.
С. Г. Строганов - С. С. Уварову от 24 ноября 1836 г.788
Отношение В<ашего> В<ысоко> Прев<осходительства> от
8-го сего месяца № 1405 я сообщил в подлиннике
Председательствующему в Моск<овском> Ценсур<ном> Комитете помощнику моему
г. Голохвастову.
Исполнив таким образом предписание Ваше, я вменяю себе в
обязанность как ближайший Начальник Москов<овского>
Университета, изложить мнение мое по сему случаю о человеке,
разделяющем со мною труды службы.
С самого вступления моего в звание Попечителя я всегда видел,
что г. Голохвастов исполнял обязанность свою по Ценсурному
Комитету с тем же усердием, как и другие на него возложенные; по
сему и полагал я, что устра<не>ние его /по отношению В<ашего>
В<ысоко> П<ревосходительства> от 24 октября № 335/ вслед за
появлением 15 № Телескопа от Председательства в Ценсурном
Комитете, которым он заведывал не только с 1833 года, но с самого
вступления его в Помощ<ники> Попечителя, могло бы помрачить
в глазах Публики службу его, доселе столь же безукоризненную, как
частная жизнь его и образ мыслей. Касательно же упущений и
беспорядков, в отношении Вашем упоминаемых, и касательно выдачи
из Типографий печатных экземпляров сочинений без билета от цен-
сора и <нрзб> Ценсоры не всегда в сомнительных случаях
обращаются в Комитет для получения разрешения, я также должен сказать,
по объяснению г. Голохвастова и по собственному наблюдению
моему за действиями Ценсурного Комитета, как одной из
важнейших частей вверенного мне управления, что г. Голохвастов, служа
Переписка вокруг «Телескопического дела»
553
шестой год при Москов<ском> Универ<ситете>, успел настолько
приобрести уважение от составляющих комитет, но что даже ни
один из них не уклонялся от должной к нему подчиненности. Если
же некоторые из них, вместо того чтоб оградить себя решением
комитета, принимали исключительно на себя всю ответственность
в случаях надлежащих сомнению, то против неосторожности, для
них самих столь бедственной, напоминание
Председательствующего в Комитете не могли бы быть столь сильны, как меры
строгого взыскания, которым в разные времена по распоряжениям
Высшего Начальства подвергались несколько членов Москов<ского>
и других Ценсурных Комитетов. — Относительно выпуска из
Типографий отпечатанных сочинений без дозволительного билета,
г. Голохвастов объяснил мне, что о таковом выпуске книг, кроме
периодических сочинений на основании § 43 Устава о Ценсуре789,
он ни жалоб ни изветов никогда ни от кого не получал, наблюдать
же за незаконным выпуском книг составляющим собственную вину
типографщика, не имеет ни повода (?), ни средства.
По сему последнему предмету я имею честь испрашивать от
В<ашего> В<ысоко> П<ревосходительства> точнейшего
руководства, до какой степени действия и упущения Типографий,
кроме собственной, могут быть на ответственности
Университетского начальства. Ибо вольные Типографии на основании Свода
Зак<онов> Т. 1. ст. 2016, доселе состоят в ведомстве Министра
Внутрен<них> Дел790. Разделять с сим посторонним ведомством
надзор за действиями и упущениями вольных Типографий для
Ценсурного Комитета и вообще для Универ<ситетского>
Начальства будет, по моему мнению, тем затруднительнее, что они
не имеют к тому совершенно никаких средств и что в вольных
Типографиях печатаются книги, одобренные Ценсурою не только
светскою, но и духовною, действующие совсем отдельно, с другой
же стороны книга одобряется к печатанию Московским Ценсур-
ным Комитетом, иногда печатаются в Типографиях, состоящих в
других городах.
24-го Ноября 1836 года
Москва
554
Э. П. Мещерский. КРАТКИЙ РАЗБОР
И ВЫДЕРЖКИ ИЗ «ФИЛОСОФИЧЕСКИХ ПИСЕМ»791
Courte analyse et extraits des lettres philosophiques
Lettre I
Cette Lettre, qui sert d'introduction à l'ouvrage, ayant été
suffisamment jugée, n'exige plus un examen détaillé. L'auteur a voulu, comme
il dit, «faire connaître le point de vue d'où l'on doit envisager le monde
chrétien et ce que nous (Russes) faisons dans ce monde». Ce point de vue,
c'est la supériorité, l'excellence de
«la doctrine qui se fonde sur le principe suprême de l'unité et de la
transmission directe de la vérité dans une succession non interrompue
de ses ministres...», etc.
Telle effectivement est la base de la Foi orthodoxe; mais l'auteur ne
l'entend pas ainsi, car selon lui:
«poussés par une destinée fatale, nous allions chercher dans la
misérable Byzance, objet du mépris des peuples, le code moral qui
devait faire notre éducation. Un moment auparavant, un esprit
ambitieux (Photius) avait enlevé cette famille à la fraternité
universelle; c'est l'idée ainsi défigurée par la passion humaine que nous
recueillîmes...»
«Relégués dans notre schisme, rien de ce qui se passait en Europe
n'arrivait jusqu'à nous...»
«La faiblesse de nos croyances ou l'insuffisance de notre dogme nous
a tenus en dehors de ce mouvement universel dans lequel l'idée sociale
du christianisme s'est développée et s'est formulée, et nous a rejetés dans
la catégorie des peuples qui ne doivent profiter qu'indirectement et fort
tard de l'effet complet du christianisme».
Quant à l'opinion de l'auteur sur la Russie, les citations suivantes la
résument amplement:
«Nous ne vivons que dans le présent le plus étroit, sans passé, sans
avenir, au milieu d'un calme plat...»
«Si nous voulons nous donner une attitude semblable à celle des autres
peuples civilisés, il faut, en quelque sorte, revenir chez nous sur toute
l'éducation du genre humain...»
Переписка вокруг «Телескопического дела»
555
«Il n'y a pas chez nous de développement intime, de progrès naturel;
les nouvelles idées balayent les anciennes parce qu'elles ne viennent pas
de celles-là et qu'elles tombent de je ne sais où».
L'introduction tout entière se compose de ces paralogismes.
Lettre II
Les premières pages de la seconde Lettre manquent au manuscrit.
On tombe de prime abord sur des déclamations contre l'esclavage en
Russie; à propos de quoi, des récriminations contre l'Eglise orthodoxe.
Exemples:
«Il faut vous créer tout, Madame, jusqu'à l'air que vous devez respirer,
jusqu'au sol que vous devez fouler. Cela est vrai littéralement. Ces
esclaves qui vous servent, n'est-ce point la votre atmosphère? Ces sillons que
d'autres esclaves ont creusés à la sueur de leur front, n'est-ce point la terre
qui vous porte? Et que de choses, que de misères renfermées dans ce seul
mot d'esclave! Voilà le cercle magique dans lequel nous nous débattons
tous, sans pouvoir en sortir! Voilà le fait odieux contre lequel tous nous
nous brisons; ...voilà ce qui paralyse toutes nos volontés, ce qui souille
toutes nos vertus!»
«Cette plaie horrible qui nous ronge, où en est la cause? D'où vient
que le trait le plus frappant de la société chrétienne est justement celui
dont le peuple russe se soit dépouillé au sein même du christianisme?
Pourquoi cet effet inverse de la religion parmi nous? Je ne sais, mais il
me semble que cela seul pourrait faire douter de l'orthodoxie dont nous
nous parons !...»
«Pourquoi le peuple russe ne tomba-t-il dans l'esclavage qu'après qu'il
fut devenu chrétien, nommément sous les règnes de Godounof et de
Schouïskoï? Que l'Eglise orthodoxe explique ce phénomène! Qu'elle dise
pourquoi elle n'a point élevé sa voix maternelle contre cette détestable
usurpation!»
Le reste ne contient que des considérations philosophiques sur le
christianisme et des preuves en faveur de la Révélation.
Lettre III
Rien de politique ou de contraire à l'orthodoxie dans la troisième
Lettre. C'est une succession de raisonnements appartenant au domaine de
la métaphysique, de la logique, de la morale, et qui tendent à démontrer
556
la nécessité où se trouve la raison humaine de se soumettre à la raison
divine, qui exhortent à l'élévation de l'âme vers une vie religieuse. Chaque
ligne prêche la soumission, l'obéissance, la dépendance dans l'ordre
moral. On y rencontre sans cesse des passages comme ceux-ci:
«L'homme ne fait autre chose, sa vie durant, que de chercher à se
soumettre à quelque chose... Toute notre activité n'est que l'effet d'une
force qui nous pousse à nous placer dans l'ordre général, dans celui de
la dépendance... L'esprit humain n'est puissant qu'à force d'être
soumis...», etc.
Lettre IV
Cette Lettre, encore toute philosophique, est la continuation de la
précédente. Les questions sociales ou purement religieuses n'y sont pas
touchées. L'auteur parle principalement de la liberté morale et traite le
sujet sans s'écarter de la doctrine de l'Eglise orthodoxe.
Lettre V
Ici également rien que de la philosophie. C'est un commentaire de la
doctrine des philosophes catholiques sur l'unité du genre humain et sur
l'unité de la vérité révélée, perpétuée par la Tradition. Les idées religieuses
qu'énonce l'auteur ne diffèrent pas, dans cette Lettre, a peu d'exceptions
près, de l'esprit de l'enseignement orthodoxe.
Lettre M
La sixième Lettre, contenant des vues sur la philosophie de l'histoire,
n'aborde pas la politique et se résume en une apologie du catholicisme
romain. Après une critique du protestantisme, que ne désavouera pas
l'Eglise orthodoxe, on remarque ce passage:
«Le jour où toutes les communions chrétiennes se réuniront sera celui
où les Eglises schismatiques se décideront à reconnaître en pénitence et
en humilité, dans le sac et la cendre, qu'en se séparant de l'Eglise-mère
elles ont au loin d'elles repoussé cette prière sublime du Sauveur: Pure
saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient
un comme nous sommes un. Quant à la papauté, qu'elle soit, comme on
le dit, d'institution humaine, comme si les choses de cette proportion se
faisaient de mains d'hommes — qu'importe? Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'en son temps elle procéda essentiellement du véritable esprit du chris-
Переписка вокруг «Телескопического дела»
557
tianisme, et qu'aujourd'hui, toujours signe visible d'unité, elle est encore
signe de réunion. A ce titre, pourquoi ne pas lui déférer préséance sur
toutes les sociétés chrétiennes?», etc.
Lettre Vil
Suite du même sujet. Point de politique. Appréciations philosophiques
de Moïse, David, Socrate, Marc-Aurèle, Epicure, Aristote, Mahomet,
Homère. Les réflexions de l'auteur au sujet de Moïse et de David sont, par
le fond, conformes à l'esprit de l'Eglise; son jugement sur Mahomet offre
matière à contestation. Pour conclusion, une nouvelle sortie contre la
Russie:
«Nous avons vécu jusqu'ici tout seuls; ce que nous avons appris des
autres est resté à l'extérieur de nous, simple décoration, sans pénétrer
dans l'intérieur de nos âmes; aujourd'hui les forces de la société
souveraine ont tellement grandi, son action sur le reste de l'esprit humain a
tellement gagné en étendue, que bientôt nous serons emportés dans le
tourbillon universel corps et âmes, cela est certain; assurément nous ne
saurions rester longtemps encore dans notre désert. Faisons donc ce que
nous pouvons pour préparer les voies à nos neveux», etc.
Lettre MIL
La huitième Lettre ne paraît pas avoir été terminée. Elle traite de
l'Eucharistie et du Nouveau Testament, en avançant à l'égard de celui-ci
une manière de voir et des assertions hasardées, mais ne fait pas mention
de l'Eglise orthodoxe ou de la Russie. Il suffira de cette citation:
«Lorsque le Fils de Dieu disait qu'il enverrait l'Esprit aux hommes et
que Lui-même serait au milieu d'eux éternellement, croyez-vous qu'il
songeait a ce livre qu'on a fait après sa mort, où Von a raconté tant bien
que mal sa vie et ses discours et recueilli quelques-uns des écrits de ses
disciples? Croyez-vous qu'il pensait que ce serait ce livre qui perpétuerait
sa doctrine sur la terre? Certainement telle n'était pas sa pensée. Mais il
voulait dire qu'il viendrait après lui des hommes qui s'absorberaient si
bien dans la contemplation et dans l'étude de ses perfections, qui se
rempliraient tellement de sa doctrine et de la leçon de sa vie, qu'ils ne feraient
moralement qu'un avec lui; que ces hommes se succédant à travers les
âges futurs se transmettraient de main en main toute son idée, tout son
être...», etc.
558
«Tout se fonde aujourd'hui sur la lettre, et la voix même de la raison
incarnée reste muette...», etc. «Il faut la parole vivante qui se modifie selon
les temps, selon les lieux, selon les personnes...», etc.
Observations générales
Si l'on voulait déterminer l'esprit de cet ouvrage par l'examen des
diverses tendances qui s'y manifestent, on arriverait aux conclusions
suivantes.
La direction générale et dominante est catholique romaine; le but
semble être plus religieux que politique, plus spéculatif que
dogmatique.
Les principes révolutionnaires ne se trouvent nulle part formulés
explicitement.
Le libéralisme ressort de l'ensemble des jugements sur la Russie et se
trahit ouvertement dans les passages bien connus de la première Lettre et
dans ceux de la seconde, également cités.
Les doctrines philosophiques et religieuses de l'auteur ressemblent
plus à celles des saint-simoniens convertis au christianisme et aux idées
de Lamennais, de Bûchez, de Ballanche et d'Eckstein qu'a l'école de
de Maistre, de Bonald, de Bautain ou des grands écrivains catholiques
allemands. C'est ainsi qu'un passage de la Lettre V* au sujet de
l'immortalité de l'âme, et l'admiration de l'auteur pour Mahomet, Lettres VI et
VU**, se ressentent du saint-simonisme. Toutefois, le fond du système
philosophique de l'auteur est chrétien, et c'est dans quelques formes
de sa pensée, dans quelques inductions et dans quelques applications,
que percent des opinions hétérodoxes; il en est qui pourraient être
improuvées même par le dogmatisme romain. En définitive, ces Lettres
ne paraissent pas offrir de traces des théories politiques des
saint-simoniens.
* Que je vive cent mille ans après ce moment que j'appelle la mort, et qui n'est
rien qu'un phénomène, n'ayant rien à faire à mon être intellectuel, il y a loin de là à
Eternité... Si la vie éternelle n'est que le prix d'une vie parfaite, comment se trouverait-
elle au bout d'une existence passée dans le péché? Etc.
~ L'auteur estime Mahomet comme «l'un de ceux qui ont le plus contribué à
accomplissement du plan formé par la Sagesse divine pour le salut du genre humain» (L VI).
Et ailleurs: «Dans le grand développement historique de la religion révélée, celle de
Mahomet doit être nécessairement considérée comme une de ses branches» (L VII).
Переписка вокруг «Телескопического дела»
559
[Перевод:]
Письмо I
Это письмо, служащее введением к произведению, было в
достаточной мере оценено и не требует более подробного обозрения.
Автор хотел, как он сам говорит, «выяснить точку зрения, с которой
следует рассматривать мир христианский и то, что мы (русские) делаем
в этом мире». Эта точка зрения — большая высота, преимущество
«вероучения, основанного на верховном начале единства и прямой
передачи истины в непрерывном преемстве ее служителей...» и т. д.
Таково на деле основание Православной Веры; но автор не так
понимает дело, ибо, по его мнению:
«Влекомые роковой судьбой, мы отправились в презренную
Византию, предмет презрения народов, в поисках за нравственным
сводом, который должен был составить наше воспитание. Как раз
перед тем честолюбивая душа (Фотий) исторг эту семью из
вселенского братства; идею, так искаженную людскою страстью, мы
восприняли...»
«Уединенные в нашей ереси, мы не воспринимали ничего
происходящего в Европе...»
«Слабость наших верований или недостаточность нашего
вероучения держала нас в стороне от всемирного движения, в котором
развернулась и определилась социальная идея христианства, и
отбросила нас в число народов, которым приходится воспользоваться
вполне действием христианства лишь косвенно и с большим
запозданием».
Что касается мнения автора о России, то следующие ссылки
полностью его выражают:
«Мы живем в настоящем самом узком, без прошлого, без
будущего, среди полного застоя...»
«Если мы хотим занять положение, подобное положению других
образованных народов, мы должны в некотором роде вновь
проделать у себя все воспитание человеческого рода...»
«У нас не существует внутреннего развития, естественного
прогресса; новые идеи выметают старые, так как они не вытекают из
последних и сваливаются неизвестно откуда».
Введение целиком состоит из подобных нелепостей.
560
Письмо II
Первых страниц второго письма не хватает в рукописи.
Натыкаешься сразу на выпады против рабства в России, и по поводу этого
на обвинения Православной Церкви. Примеры:
«Вам надо самим все создать, сударыня, включительно до
воздуха, которым вам приходится дышать, до почвы, которую приходится
попирать ногами. Это буквально так. Прислуживающие вам рабы,
разве это не ваша атмосфера? Эти борозды, вырытые другие рабами
в поте лица, разве это не та земля, которая вас носит?»
«И как много предметов, и сколько горя заключено в одном этом
слове — раб! Вот заколдованный круг, в котором мы все бьемся,
бессильные выйти из него! Вот ненавистный факт, о который мы все
разбиваемся... Вот что поражает все наши воли, грязнит все наши
доблести!»
«Эта ужасная язва, которая нас разъедает, где ее причина?
В чем причина, что наиболее поразительная черта
христианского общества как раз в том, от чего русский народ отказался как
раз на лоне христианства? Откуда это извращенное у нас
действие христианства? Я этого не знаю, но мне кажется, одно уже
это могло бы заставить нас усомниться в православии, которым
мы кичимся...»
«Почему русский народ впал в рабство лишь после того, как он
стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского?
Пусть Православная Церковь объяснит это явление. Пусть она
скажет, почему она не подняла свой материнский голос против этого
отвратительного злоупотребления!»
Остальное содержит только философские соображения о
христианстве и доказательства в защиту откровения.
Письмо III
В третьем письме — ничего о политике или противного
православию. Это ряд рассуждений из области метафизики, логики,
морали, которые ведут к доказательству необходимости для
человеческого разума подчиниться разуму божественному, взывают к подъему
души в область религиозной жизни. Всякая строка проповедует
покорность, послушание, зависимость в нравственном отношении.
Беспрестанно встречаются выражения такого рода:
Переписка вокруг «Телескопического дела»
561
«Человек всю жизнь только и делает, что стремится чему-либо
подчиниться... Вся наша действенность есть лишь последствие силы,
которая побуждает нас занять место в общем распорядке, в
распорядке зависимости... Разум человеческий силен лишь в силу своего
подчинения...» и т. д.
Письмо IV
Это письмо, опять-таки целиком философское, составляет
продолжение предыдущего. Вопросы социальные или чисто
религиозные в нем не затронуты. Автор говорит главным образом о
нравственной свободе, не отклоняясь от учения Православной Церкви.
Письмо V
И здесь точно так же одна только философия. Это комментарий
католических философов к единству рода человеческого и к
единству истин откровения, вечно хранимой в Традиции. Высказанные
автором в этом письме религиозные идеи, за редкими
исключениями, не отступают от духа православного учения.
ПисьмоМ
Шестое письмо, содержащее взгляды на философию истории, не
вторгается в область политики и сводится к апологии римского
католичества. Вслед за критикой протестантизма, от которой бы не
отказалась и Православная Церковь, бросается в глаза следующее
место:
«День, когда объединятся все христианские вероисповедания,
будет тот, когда все схизматические Церкви решатся признать в
покаянии и в уничижении, во вретище и посыпав голову пеплом, что,
отделившись от Церкви-Матери, они далеко отбросили от себя эту
возвышенную молитву Спасителя: Отче святый, сохрани их во имя
Твое, тех, кого Ты даровал Мне, да будут они едины, как Мы
едины. А папство, пусть оно и будет как это утверждают, человеческим
учреждением, как будто предметы такого порядка совершаются
руками людей, — но разве в этом дело? Во всяком случае, несомненно,
оно в свое время возникло, по существу, из настоящего духа
христианства, и в настоящее время, оставаясь по-прежнему видимым
знаком единства, оно служит еще и знакам воссоединения. Почему
562
бы, руководствуясь этим, не вручить ему первенства над всеми
христианскими обществами?..» и т. д.
Письмо Ш
Продолжение того же. Политики нет. Философская оценка
Моисея, Давида, Сократа, Эпикура, Марка Аврелия, Аристотеля, Магомета,
Гомера. Рассуждения автора о Моисее и Давиде, по существу,
согласуются с духом Церкви; суждение его о Магомете вызывает
возражения. В заключение — новая выходка против России.
«Мы до сих пор жили обособленно; то, чему мы научились от
других, осталось вне нас, как простое украшение, не проникая в глубину
наших душ; в наши дни главенствующего общества так возросло его
действие на остальную часть человеческого рода и так расширилось,
что вскоре мы будем увлечены всемирным вихрем и телом и духом.
Это несомненно: нам никак не удастся долго еще оставаться в нашем
одиночестве. Сделаем же, что в наших силах, для расчистки путей
нашим внукам...» и т. д.
Письмо VIII
Восьмое письмо как будто не закончено. Оно говорит о
причащении и о Новом Завете, выставляя по отношению к последнему
рискованную точку зрения и странные утверждения, не упоминая,
впрочем, Православной Церкви или России. Достаточно привести
следующее место:
«Когда Сын Божий говорил, что Он пошлет людям духов и что Он
Сам пребудет среди них вечно, неужели Он помышлял об этой книге,
составленной после Его смерти, где худо ли, хорошо ли рассказано
об Его жизни и Его речах и собраны некоторые записи Его
учеников? Мог ли Он полагать, что эта книга увековечит Его учение на
земле? Конечно, не такова была Его мысль. Он хотел сказать, что после
Него явятся, люди, которые так вникнут в созерцание и изучение Его
совершенств, которые так будут преисполнены Его учением и
примером Его жизни, что нравственно они составят с Ним одно целое,
что эти люди, следуя друг за другом из поколения в поколение, будут
передавать из рук в руки всю Его мысль, все Его существо...» и т. д.
«...В настоящее время все основано на букве и подлинный
голос воплощенного разума пребывает немым... и т. д. Нужно живое
Переписка вокруг «Телескопического дела»
563
слово, которое видоизменяется по временам, странам и лицам...»
и т. д.
Общие замечания
Если попытаться определить дух этого сочинения путем
обозрения обнаруживающихся в нем различных направлений, то придешь
к следующим заключениям. Общее и господствующее
направление — римско-католическое; цель, по-видимому, более
религиозная, нежели политическая, и скорее умозрительная, нежели
догматическая.
Революционные принципы нигде не получают открытого
выражения. Либерализм вытекает из совокупности суждений о России и
явно выступает в хорошо известных местах первого письма и в
приведенных здесь также отрывках второго.
Философские и религиозные взгляды автора подходят ближе
ко взглядам сенсимонистов, обратившихся к христианству, и
идеям Ламенэ, Бюшэ, Балланша и Экштейна, чем к школе де Ме-
стра, Бональда, Ботэна792 или выдающихся немецких
католических писателей. Так, одно место в письме V* по поводу
бессмертия души и превознесение автором Магомета — в письмах VI и
VU** — отзываются сенсимонизмом. Но основа философской
системы автора все же христианская и мнения неправоверные
прорываются в некоторых выражениях его мысли, в некоторых
выводах и в некоторых приложениях; есть и такие, которые
могли бы быть отвергнуты и римской догматикой. В конце концов,
следов политического учения сенсимонистов в письмах этих не
обнаруживается.
* «Пусть я буду жить сто тысяч лет после того, что я называю смертью и что
есть лишь явление, не связанное с моим духовным существованием, отсюда еще
далеко до вечности... Если вечная жизнь есть только награда за совершенную
жизнь, как может <она> оказаться заключением существования, протекшего в
грехе?» и т. д.
** Автор оценивает Магомета как одного из тех, кто более всего
способствовал осуществлению плана, предначертанного «божественною мудростью для
спасения рода человеческого» (п. VI). И в другом месте: «В общем историческом
развитии религии откровения религия Магомета непременно должна
рассматриваться как одна из ее затей» (п. VII).
564
С. С. Уваров. ЧЕРНОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА КОМИССИИ
ПО ЧААДАЕВСКОМУ ДЕЛУ. НОЯБРЬ 1836 г.793
Проэкт.
При появлении в № 15 журнала Телескоп, в Москве издаваемого,
статьи под заглавием: Философические письма. Ваше
Императорское Величество, по всеподданнейшему докладу Главного
Управления Цензуры, изволили Высочайше повелеть: Цензора отрешить
от должности; журнал запретить немедленно, а Издателя журнала с
Цензором вытребовать сюда к ответу.
В исполнение сей Высочайшей воли, вместе с отрешением
цензора и с запрещением журнала, были вызваны статский советник
Болдырев и Издатель Телескопа Надеждин. — По прибытии их
Вашему Величеству благоугодно было повелеть Генерал-Адъютанту Графу
Бенкендорфу, Министру народного просвещения Тайному
Советнику Уварову, Статс-Секретарю Мордвинову и Обер-Прокурору
Святейшего Синода Графу Пратасову (sic!)794 заняться рассмотрением
этого дела и представить всеподданнейшее заключение о существе
оного.
Не утруждая Вашего Величества изложением обстоятельств
вполне Вам известных, мы считаем обязанностию обратиться прямо к
главным видам, которые представились нам по выслушании
вышесказанных лиц и по соображении данных ими письменных
объяснений.
Касательно бывшего цензора Болдырева.
Из ответов на вопросные пункты, равно как из словесных его
объяснений явствует, что сей чиновник, озабоченный сверх должности
цензорской, многотрудными обязанностями Ректора Московского
Университета, не обратил никакого внимания на принятую и в
рукописи статью. — Хотя, по собственному показанию; — и сделал он в
ней несколько поправок и перемен, но сомнению не подлежит, что
в этом случае Болдырев увлечен был слепым доверием к издателю
Телескопа Надеждину, который, по замечанию Министра народного
просвещения, будучи за несколько лет пред сим Секретарем
Университетского Совета795, имел на Болдырева влияние столь сильное, что
Министр нашел себя тогда же в обязанности принять несколько мер
в кругу Университетского Управления на тот конец, чтоб устранить
Переписка вокруг «Телескопического дела»
565
возникшие в Совете неудовольствия. Вообще Болдырев, в
продолжении всего производства настоящего дела, оказал столь мало
проницательности и такой недостаток в самостоятельном соображении
предметов, что не трудно было нам убедиться, как легко он
действительно мог сделаться жертвою своей796 беспечности и
неограниченной доверенности к Надеждину, которого и называет виновником
своего несчастия. Представленные им отзывы, равно и весь ход сего
дела показывают, что Болдырев был слепым орудием Надеждина, и
кроме сего последнего, не знал ни сочинителя ни переводчика
статьи, и не был ни в каком отношении сопричастен понятиям, какими
могли руководствоваться те лица, которые непосредственно
участвовали в переводе и обнародовании вышесказанной статьи. Сие
обстоятельство подтвердилось и при очной ставке Болдырева с На-
деждиным.
Касательно Надеждина открывается, что797 несмотря на все
извороты, употребленные им в письменных и словесных ответах, на
умышленно-преувеличенный монархический образ мыслей,
изложенный в его здешних798 объяснениях, на притворное
простодушие, с каким он показывает себя не понявшим, до напечатания.
смысла статьи и пели автора, можно безошибочно вывесть
заключение, что статья, написанная Чедаевым, перешедши от сочинителя
в руки журналиста, сделалась предметом совокупного их желания799
издать оную в свет чрез журнал Надеждина. Можно прибавить, что
без усердного содействия сего последнего, Чедаев не нашел бы
средства напечатать в России эту статью: сие доказывается уже и тем, что
Болдырев не знал Чедаева и что переговоры с Цензором шли
единственно чрез Надеждина. — Главная цель сих переговоров состояла
в том, чтоб воспользоваться простодушием Цензора; ибо, если б сей
последний хотя малейшее усомнился в содержании статьи, —
всякое совещание с товарищами (не говоря уже о Начальстве) было бы
достаточно, чтоб огласить дело и тем самым пресечь всякую
возможность издать в России статью Чедаева. <В этом-то намерении
устремил Надеждин все старания на800 Цензора, то поставляя на вид
личную преданность свою, то называя конфиденциально те лица,
которые в Петербурге извещены были, как он говорил, о появлении
статей Чедаева, то, наконец, утверждая, будто и потому уже не
опасно пропустить эту статью, что по верным сведениям, ему известным,
566
Правительство решилось расширить круг Цензурной свободыХ
Хотя дальнейшие показания Надеждина противоречат показаниям
Чедаева; хотя сей последний говорит будто801 никто менее его не
желал напечатания этой статьи802, а Надеждин напротив
утверждает, что Чедаев до последнего дня сам держал корректуру и
озабочивался поправками в слоге, — но все обстоятельства ведут прямо
к заключению, что мысль перевести и напечатать на Русском языке
статью Чедаева принадлежит равно сочинителю и журналисту, и что
только от их803 совокупного действия могло это предприятие иметь
успех. — Без согласия и участия Чедаева, Надеждин не мог
располагать статьею, а Чедаев не мог издать оную, еслиб журналист не имел
верного средства усыпить Цензора, издавна ему известного, и на
которого, как выше сказано, он и во время служения при Московском
Университете имел особое влияние.
<В объяснениях Надеждина заметно несколько хитрых уловок,
но вместе с сим упорное утверждение, что он никем, кроме Чедаева,
не был побуждаем к изданию этой статьи. В числе показаний
Надеждина, незаслуживающих доверия и вовсе неправдоподобных, можно
упомянуть, что на вопрос: «каким образом мог он в примечании на
первой странице "Философических Писем" выхвалять и
рекомендовать читателям статью, о которой будучи здесь он отзывался как
о чудовище?» — Надеждин отвечал, что «это примечание он хотел
напечатать при третьем письме, но ошибкою оно напечатано при
первом»>.
Очная ставка Надеждина с Болдыревым вполне утвердила
Комиссию в804 сих заключениях.
Не излишним считаем присовокупить, что кроме употребления
во зло805 доверенности Цензора, Надеждин нарушил данную им,
вместе с прочими Издателями журналов и газет, 9-го Января 1835
года, по требованию Министерства народного просвещению,
подписку в том, что «как лицо, коему Правительство доверяет и которому в
виде привилегии предоставляет выгоды, сопряженные с его
изданием, он обязан усердно и неусыпно содействовать Цензуре в тяжких
ее обязанностях, допуская в число своих сотрудников только таких,
кои руководствуются сим же понятием».
Рассмотрение бумаг и показаний Чедаева не представляют
никаких обстоятельств, могущих изменить предыдущее изложение сего
Переписка вокруг «Телескопического дела»
567
дела. Ответные его пункты не подтверждают во всем содержания
словесного объяснения, данного им Графу Строгонову и
Московскому Обер-Полицмейстеру, но и не опровергают оного. Тон этих
письменных ответов не так тверд и не так чистосердечен, как слова,
Графу Строгонову говоренные; вообще заметно старание сложить
на Надеждина вину в издании известной статьи.
Обозрев таким образом весь ход сего дела, Коммиссия почитает
обязанностию повергнуть на Высочайшее Вашего Императорского
Величества благоуважение общие выводы, кои представились ей по
тщательном и обдуманном соображении всех случайностей,
сопровождавших появление известной статьи в Телескопе, и потом
перейти к изложению своего заключения по сему делу.
Здесь следует, по мнению Коммиссии, различить две стороны.
два факта: первый из них есть: существо этого сочинения, носящего
на себе отпечаток умственного разврата, господствующего в Европе
и коим заразилось, к сожалению, и у нас небольшое число людей
слабоумных и беспокойных. Другой факт несравненно важнейший
или, лучше сказать, единственно-важный в сем явлении, есть
обнародование подобной статьи в то время, когда Высшее
Правительство употребляет все старания к оживлению духа народного, <в
то самое время, когда Вы, Всемилостивейший Государь, любящие
Россию как Царь и как Русской, подаете в себе блистательнейший
пример;806 к возвышению всего отечественного //807 — Автор (сей
статьи) не вооружается прямо против Правительства, но заносит
руку на животворящее начало его самобытности, — и не посягает
ли на Правительство тот, кто 50 миллионов подданных называет
незаконнорожденными в общей семье народов, ставя их по
религии наряду с Абисиниами. а по просвещению ниже Японцев, и
предопределяя их наконец дать миру какое-то ужасное наставление?
Мы не решились бы выписывать эти отвратительные и безумные
строки, еслиб не имели в виду>, что такая первая почти открытая
попытка против Греко-российской Церкви, жизнь коей столь тесно
сопряжена с жизнию Государства, дает сему произведению новую,
отличительную между либеральными пасквилями, черту,
обнаруживающую какой-то отголосок, какую-то связь с новейшим
Католицизмом, поднявшим недавно свою хоругвь во Франции под
предводительством Ламене и его школы в то самое время когда О'Коннель
568
в Англии, Поттер между Бельгийцами, наконец несколько Мистико-
радикальных сект в Германии и Швейцарии, не отделившихся
подобно Ламене от власти Римской Церкви, вместе с ним, ищут точку
соединения ее учения с революционными началами,
охватившими808 большую часть Европы809.
По всем сим уважениям, к коим приведена была Коммиссия по
подробном810 размышлении о сем деле;811 осмеливается она812
изложить следующее мнение свое о лицах к сему делу прикосновенных:
1-ое. <Коммиссия не находя себя в праве представить Вашему
Императорскому Величеству решительное заключение касательно
ЧедаеваХ Коммиссия считает обязанностию всеподданнейше
донести, что направление как напечатанной813 статьи Чедаеват так и
рукописных его бумаг, указывает ясно, что при некотором
религиозном расположении, он не только открыто и видимо пренебрег
учением Православной Церкви, но еще отделился духом и мыслию
от оной; каковое заблуждение Коммиссия не может не отнести к
незнанию догматов и Истории Православной Церкви и за тем
признает в Чедаеве одну из тех печальных жертв ложного, иноземного
просвещения, всегда готовых к принятию всех впечатлений,
клонящихся к отчуждению от России и к презрению всякой святыни в
недрах отечества. К сему Коммиссия не может однако же не
прибавить, что мера наказания повеленного Вашим Величеством Чедаеву,
постигнувшая его в раздражительном его самолюбии, и сколько мы
знаем, имевшее последствием общее одобрение здешней и
Московской публики, соответствует уже некоторым образом учиненному
Чедаевым проступку в том, что он обнаружил образ мыслей, от
коего должен был бы искать исцеления или о котором по крайней
мере, обязан был814 молчать, дабы не соблазнять толпы неопытных
и слабоумных.
2-ое. Издателя Телескопа Надеждинат815 в следствие его
несомненных действий к обнародованию статьи Чедаева, вопреки
данной им подписке, Коммиссия признает главным виновником всего
дела; почему и полагает отправить Надеждина на жительство в один
из Губернских городов России, под надзором Полиции, с
воспрещением въезда в Столицы.
3-ье. Касательно бывшего Цензора Болдырева, отрешенного уже
от сей должности, — почитая его вполне, но не умышленно винов-
Переписка вокруг «Телескопического дела»
569
ным и находя сверх того, что дальнейшее его служение при
Московском Университете не только не принесло бы никакой пользы, но
служило бы еще некоторым соблазном для прочих лиц, к оному
принадлежащих, — Коммиссия осмеливается представить
всеподданнейше Вашему Императорскому Величеству об увольнении
Болдырева вовсе от службы. — Между тем принимая в уважение
прежнюю его беспорочную службу и даже самые обстоятельства сего
дела, Коммиссия считает долгом всеподданнейше ходатайствовать,
чтоб при увольнении Болдырева от службы, он не был лишен права
на получение по званию Ординарного Профессора, выслуженного
им пенсиона, на основании существующего узаконения.
4-ое. Наконец Коммиссия думает, что следует предписать
Московскому военному Генерал-Губернатору потребовать от
Содержателя Типографии Селивановского объяснение, почему он выпустил
в свет и разослал 15-й № Телескопа до получения билета из
Цензурного Комитета816, — и буде не представит достаточного оправдания,
предоставить Военному Генерал-Губернатору поступить с
Содержателем Типографии на основании Свода Законов: Устава Благочиния,
Приложения к IV части, статьи: 141,143 и 145817. —
Все таковые предположения свои Коммиссия осмеливается
повергнуть на благоуважение Вашего Императорского Величества. —
С. С. Уваров - С. Г. Строганову от 3 декабря 1836 г.818
Милостивый Государь Граф Сергий Григорьевич.
Просив Ваше Сиятельство поставить на вид г. Помощнику
Вашему некоторые замеченные мною уклонения от установленного
порядка в действиях Московской Цензуры, я отнес эти замечания к
г. Статскому Советнику Голохвастову потому, что до сего времени
он, по показанию Вашего Сиятельства, председательствовал в
Комитете и на нем лежала обязанность управления действиями оного.
Отдавая всю справедливость и службе и образу мыслей г. Голохва-
стова, я не мог, однако, оставить без внимания те упущения,
которые показало производст<во> дела о статье в Телеско<пе> и не
570
принять меры к восстановлению желаемого порядка в Московском
Цензурном Комитете.
В рассуждении председательства в оном, я не нахожу ни в Уставе
о Цензуре, ни в Уставе Университетском, препятствия к тому,
чтобы Помощник Вашего Сиятельства, по Вашему поручению, занимал
иногда должность Председателя в случаях невозможности для Вас
присутствовать в заседаниях. Само собою разумеется, что эти
временные, домашние поручения не должны устранять Московскую
Цензуру от Вашего непосредственного наблюдения за нею, от
Вашего руководства и направления ее действий, и вообще от той
ответственности, какую возлагает на Ваше Сиятельство звание Главного
Начальника.
Что же касается до надзора за Типографиями, то наблюдение это
и ответственность Типографщиков определены уставом о Цензуре и
статьями 140,141,142819 и 143 приложения к 4-му тому Свода
Законов. Но Цензурный Комитет, с своей стороны, не должен безмолвно
допускать никаких уклонений от Устава, коль скоро заметит оные, и
всякой раз сообщать о сем Гражданскому Начальству. —
С совершенным почтением имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою
Сергий Уваров
А. X. Бенкендорф - С. С. Уварову от 4 декабря 1836 г.
(фрагмент)820
Государь Император, рассмотрев представленный мною Его
Величеству всеподданнейший доклад комиссии, учрежденной для
рассмотрения дела по статье, помещенной в № 15 журнала «Телескоп»,
высочайше повелеть изволил за сочинителем сей статьи Чадаевым
иметь медико-полицейский надзор; Надеждина выслать на
жительство в Усть-Сысольск821 под присмотр полиции, а Болдырева
отставить за нерадение от службы. Графу же Строганову велеть на его
строгой ответственности избрать надежного цензора. Вместе с сим
Его Величество высочайше соизволил утвердить заключение
комиссии, чтобы Московскому военному генерал-губернатору потребовать
от содержателя типографии Селивановского объяснение, почему он
Переписка вокруг «Телескопического дела»
571
выпустил в свет и разослал 15 № «Телескопа» до получения билета из
цензурного комитета; и буде не представит достаточного
оправдания, предоставить генерал-губернатору поступить с содержателем
типографии на основании Свода Законов Устава Благочиния (при-
лож. к IV части, статьи: 141,143 и 145)822.
С. Г. Строганов - Д. П. Голохвастову
от 11 декабря 1836 г.823
11 Dec.824 [1836]
La Bombe a crevée; j'ai appris ce soir, que le Recteur et Nadégin
revenirent nécessament à Moscou, le premier démis de sa place de
Recteur et de plus renvoyé du Service! le second a la permission de
mettre ordre à ses affaires pendant 15 jours puis il est exilé pour
un tems indéfini à Весегонск sur la frontière du gouvernement de
Vologda. Vous voyez que mes prévisions après la première lecture de
ce sot article se sont accomplies; je connais trop bien le caractère de
l'Empereur pour avoir pu me tromper sur la violence qu'il mettrait
dans son jugement. Je connaissais aussi la bassesse de celui du Ministre
pour ne pas doutter du vilain rôle qu'il jouerait dans cette affaire.
Il n'y a donc plus rien d'étonnant, que l'on n'a pas voulu de moi à
Pétersbourg et je dois déplorer de cœur, que personne n'a pu retenir
l'Empereur, je le déplore dans son intérêt, parce que je l'aime et que
je sais que sa dureté ne fait pas aimer; nous sommes dans un siècle où
un Souverain de Russie a bien besoin de cette puissance cependant.
Vous comprenez aussi pourquoi on veut ma responsabilité dans la
<нрзб> d'un Censeur, il serait curieuse de savoir comment tous les
chefs d'administrations feraient en Russie, si on les rendait solidaires
de toutes les actions morales de leurs subordonnés. Je commence à
comprendre la portée, que vous avez donné à l'office du Ministre, dont
les premières phrases m'avaient échappé.
Qui porter au Rectorat? voilà la grande question pour nous à present,
il faudra la méditer <нрзб>!! Au revoir! Tout à Vous
Votre dévoué C-te Stroganoff
Vendredi soir
572
[Перевод:]
И дек. [1836]
Бомба разорвалась; я узнал сегодня вечером, что Ректор и На-
дежин (sic!) обязательно вернутся в Москву, первый смещен с места
Ректора и более того отставлен от службы! второй имеет
разрешение привести в порядок свои дела в течение 15 дней, затем он
ссылается на неопределенное время в Весегонск на границе Вологодской
губернии. Вы видите, что мои предсказания, сделанные по
первому прочтению сей глупой статьи, исполнились. Я слишком хорошо
знаю характер Императора, чтобы обмануться на счет жестокости,
которую он вложит в свой приговор: мне также известна низость
Министра, чтобы не сомневаться в презренной роли, которую он
сыграл в этом деле. Следовательно, нет ничего удивительного, что
меня не хотели видеть в Петербурге, и я должен от всего сердца
сожалеть, что никто не смог удержать Императора, я сожалею об
этом в его интересах, ибо я люблю его и знаю, что его суровость
не порождает любовь; между тем, мы живем в век, когда Русский
Государь очень нуждается в этой силе. Вы понимаете также, почему
стремились возложить на меня ответственность за <нрзб> одного
Цензора, было бы любопытно узнать, что предприняли бы все
местные начальники в России, если бы их сделали ответственными за
все нравственные действия их подчиненных. Я начинаю понимать
значение, которое вы придали отношению Министра, смысл
первых фраз которого от меня ускользнул.
Кого сделать Ректором?825 вот наша основная проблема на
сегодня, необходимо <нрзб> об этом подумать! До свидания! Весь Ваш
Преданный Вам Гр. Строганов
Пятница вечер
С. Г. Строганов - Совету Московского университета
от 12 января 1837 г.826
Г. Министр Народного Просвещения уведомляет меня, вследствие
сообщения ему г. Генерал Адъютанта Графа Бенкендорфа, что ГОСУ-
Переписка вокруг «Телескопического дела»
573
ДАРЬ ИМПЕРАТОР, рассмотрев представленный ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ
всеподданнейший доклад Коммиссии, учрежденной для
рассмотрения дела по статье, помещенной в 15 № Телескопа, под заглавием:
Философические письма, между прочим ВЫСОЧАЙШЕ повелеть
соизволил: бывшего Ценсора, ректора и Профессора Московского
Университета отставить за нерадение от службы.
Весьма сожалея, что г. Болдырев имел несчастие навлечь на себя
негодование ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА827 и уведомляя Совет
Университета <о> ВЫСОЧАЙШЕМ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА повелении, для
приведения оного в исполнение, покорнейше прошу избрать на место
г. Болдырева другого Ректора на остающийся срок об избранном
мне представить для исходатайствования чрез г. Министра
ВЫСОЧАЙШЕГО утверждения.
Попечитель Московского учебного округа Граф Строганов
Исправляющий должность Правителя Канцелярии Иван
Фаворский828
А. X. Бенкендорф - Д. В. Голицыну от 15 января 1837 г.829
Милостивый Государь
Князь Дмитрий Владимирович
Изложенное в отношении Вашего Сиятельства, от 19 минувшего
Декабря за № 554 объяснение содержателя Типографии Селиванов-
ского на счет выпуска им 15 номера Телескопа до получения на то
билета из Ценсуры сообщал я, по принадлежности, г. Министру
Народного Просвещения, который ныне отозвался на сие, что таковое
объяснение нельзя собственно признать законным, потому что
действия в сем случае г. Селивановского, с согласия Ценсора Болдырева,
несообразны с точными предписаниями Устава о Ценсуре; но что
он, Тайный Советник Уваров, полагает, что объяснение это можно
оставить без дальнейшего хода, так как дело о Ценсоре Болдыреве
считается конченным. К сему Тайный Советник Уваров присовоку-
574
пил, что он подтвердил уже Московской Ценсуре не уклоняться от
узаконенного порядка, и считает нужным обязать к тому же
Московских содержателей Типографий.
Соглашаясь и с моей стороны с таковым мнением г. Министра
Народного Просвещения, честь имею сообщить о сем Вашему
Сиятельству, покорнейше прося Вас, Милостивый Государь, сделать
зависящее от Вас распоряжение к приведению в действие сего мнения,
в отношении к Московским содержателям Типографий.
С совершенным почтением и преданностию имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейший слуга Граф Бенкендорф
№129
15Генваря1837
Его С<иятельст>ву князю
Д. В. Голицыну
С. С. Уваров - С. Г. Строганову от 14 февраля 1838 г.
(фрагмент)830
<...> Je trouve superflu d'opposer à la nomenclature des méfaits de la
presse périodique de Pétersbourg la nomenclature de ceux des journaux
de Moscou; mais le travail existe dans mes bureaux. Sans parler du libelle
en grand comme la fameuse pièce de Tchédaeff. je me borne à indiquer
sous le rapport du libelle individuel, seulement à l'appui de mon jugement
sur l'indignité de la presse malgré toute la sévérité de Gouvernement, que
le Наблюдатель a accueilli & imprimé (Septembre 1835) une pièce de
vers de Pouchkine qu'aucune feuille en Russie n'ont accepté ne fut-ce que
par pudeur. Ce fait, comme historique, peut consoler les individualités
légèrement blessées dans leurs talens ou leurs écrits. Vous ne me faisez
pas l'injure de supposer qu'une récrimination quelconque se soit glissé
dans ces lignes purement confidentielles.
14 février 1838
Переписка вокруг «Телескопического дела»
575
[Перевод:]
<...> Нахожу излишним сопоставлять перечни преступлений
периодических изданий Петербурга и журналов Москвы; но работа в
моей канцелярии ведется. Не говоря о пасквиле в натуральную
величину, таком, как знаменитое сочинение Чаадаева, я ограничусь
указанием пасквиля личного, только чтобы поддержать мое
суждение о гнусности периодической печати, несмотря на всю строгость
Правительства, что Наблюдатель принял и опубликовал (Сентябрь
1835) стихотворное сочинение Пушкина, которое любое издание
в России постыдилось бы взять 831. Этот исторический факт может
утешить слегка задетых в их талантах и сочинениях личностей. Вы
не оскорбите меня предположением о том, что какое-либо
обвинение проникло в эти строго конфиденциальные строки.
14 февраля 1838
ОТВЕТЫ НА ПЕРВОЕ
«ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО »
Оттиск с корректуры статьи Н. И. Надеждина
«В чем состоит народная гордость? Из письма к ***»
(Телескоп. 1836. Т. XXXIV. С. 145-152)832
...Нас упрекают в недостатке благородной национальной
гордости, в добровольном унижении себя в собственных глазах. Это
отчасти правда. Мы еще не научились уважать себя, гордиться именем
Русских. Но что этому причиною?
Я всегда думал, что основание того ложного положения, в
котором мы находимся относительно самих себя, заключается в том
детском, легкомысленном сравнении, которое делаем мы между собой и
другими народами Европы, не рассуждая, что эти народы старше нас
тысячелетиями, что они имеют совсем другие условия
существования, нам несвойственные, и что потому между ими и нами не может
быть никакой параллели. Европейцы живут своею жизнью, которая
уже успела состареться; мы должны жить своею, которая только-что
начинается. Мевду-тем, большая часть наших соотечественников,
ознакомясь с европейским просвещением и видя, что мы Русские не
имеем тех форм, которые там выработаны веками, говорят с
презрением: «да к чему русский человек способен, что из него можно
сделать?»
Это, конечно, должно оскорблять народную гордость.
Но должно-ли, для противодействия этому убийственному
презрению, уклоняться в другую противоположную крайность?
Народная гордость должна-ли превращаться в самообольщение,
закрывающее глаза от своих недостатков?
Не думаю.
Будем беспристрастны к себе и рассмотрим внимательно
настоящее положение нашей народности.
Народ Русский велик не только своею физическою силою, в чем
не сомневаются даже самые враги наши, но и патриархальными
добродетелями, которые связывают и держат его колоссальное суще-
Ответы на первое «Философическое письмо»
571
ствование. Только по-несчастию эти добродетели искажаются
нашим ввозным, чужеземным просвещением. Это просвещение, вместо
скромного смирения и тихого шествования к совершенству,
которое одно нам прилично, в одних вселяя оскорбительное презрение
ко всему русскому, другим внушает хвастливую притязательность, не
менее вредную в своих последствиях. Многие думают, что мы стоим
уже на точке, с которой легко можем сразу достигнуть идеала
совершенства; а этот идеал составляют для них обольстительные формы
европейского быта.
Говорю, что такой образ мыслей и вреден и ложен. Вреден, потому-
что путает наши идеи, искажает деятельность. Ложен, потому-что
находится в явном противоречии с фактами и показывает
совершенное незнание русской самобытной и самообразной народности.
Я ограничусь здесь показанием только той запутанности,
которую этот образ мыслей производит в наших идеях, в нашей
умственной жизни. Первое и главное заблуждение, происходящее отсюда,
есть обольщение, в котором находимся мы относительно нашего
исторического бытия. Начитавшись европейских исторических
сочинений, в которых представляется вековое развитие народов, мы
втесняем наше прошедшее в те же рамы, или лучше растягиваем его
насильственно, чтобы наполнить им эти огромные рамы. В истории
нашей мы ищем тех же периодов, которые проходили европейские
народы, тех же элементов, которые развивались в их жизни, и
выводим или ожидаем от них тех же результатов. Заблуждение самое
ложное! Конечно, прошло уже тысяча лет, с тех пор как явилось
имя Русское на востоке Европы. Но эти тысяча лет разве история?
Это летописи существования, почти только этнографического.
Народ Русский в продолжение семи-сот лет только-что растягивался
физически, наполнял свою ландкарту, составлял себе ту огромную
географию, которая теперь изумляет вселенную. Не прежде
пятнадцатого века начинает в нем вырабатываться политическая
организация, под сению единодержавия царей Московских; тут начало
собственно Русской истории. Но это начало, как и везде, смутно, дико,
безобразно. Хаос установился только всемощным «да будет» Петра;
следовательно, наша история в собственном смысле продолжается
одно лишь столетие. Как же меряться нам с другими европейскими
народами, из которых самые младшие живут по нескольку сот лет?
578
Сто лет в жизни народа — минута; и вот почему можно сказать, что
«у нас нет истории?»833.
Но не есть-ли это самый жестокий удар народной гордости? Не
унижает ли это нас самым оскорбительным образом? — По-моему,
нет! Сказать младенцу, что он младенец, юноше, что он юноша, а
не муж и не старик: что тут унизительного, что обидного? Я даже
держусь такого мнения, что это отсутствие истории есть одно из
важнейших преимуществ, которым мы можем и должны гордиться
пред прочими европейскими народами. Посмотрите на настоящее
состояние Европы: какие там бури, потрясения!834 А отчего все это?
Оттого, что действительность находится в беспрестанной борьбе с
историей, которая в течение веков родила столько преданий и
укоренила их в духе и характере народов. Эти предания кажутся
несовместными с настоящим; и вот ломка, разрушение! Мы, напротив
как младенцы сохраняем чистую девственность природы, на
которой державная рука, правящая нами, сеет семена истины и блага, не
боясь плевел, которые могли-бы подавить их, потому-что этим
плевелам не когда и не откуда была запасть, потому-что у нас не было
истории, которая засеяла-бы нас предубеждениями, страстями. На
такой нови все можно вырастить.
К сожалению, эта пустота нашего прежнего существования имела
и невыгодные следствия. Продолжаясь слишком долго, почти тысячу
лет, она произвела в нашем уме закоснелость и упорство, в нашем
характере леность и беспечность, в которых не без основания
упрекают народ Русский. Так земля, остающаяся долго без возделывания,
черствеет, твердеет. Мы должны сознаться, что эта закоснелость, эта
леность, суть наши важнейшие недостатки, с которыми трудно
бороться. Сто лет истории нашей служат тому ясным доказательством.
Какие усилия должно было употребить великому Петру, чтобы про-
весть первые борозды на этой одичалой почве? И до сих пор мудрое,
попечительное правительство должно прибегать к стольким
принудительным мерам, чтобы заставить нас идти вперед соответственно
его благим намерениям. Оно манит нас, как детей, наградами, чтобы
мы только учились, просвещались, совершенствовались; преследует
невежество заслуженным презрением, чтобы заставить нас
перестать быть невеждами. А мы как отвечаем на эти благодетельные
попечения? Большую часть из нас до сих пор ничем не заманишь в
Ответы на первое «Философическое письмо»
579
школу; большая часть тех, которые наконец сели за азбуку, учатся,
чтоб только сказать, что они учились835. Мысль вовсе не развивается,
ум коснеет в прежней недеятельности. Мы не видим русского ума в
самобытной форме, русской мысли в самообразном развитии. Все
только наружный, выписной лак. Немногие исключения, если они
есть, ничего не значат в массе; их никто и не примечает.
Вот это должно жестоко оскорблять нашу народную гордость! Но
должно-ли молчать об этом, должно-ли все это скрывать, затаивать
во глубине души?
Нет! Это была бы щекотливость ложная, деликатность вредная.
Щадить себя нечего. Лучше откровенно сознаться в своих
недостатках, чем обольщать себя, притворяться пред самими собою. Это
будет черта благородная: ею можно гордиться; и эта гордость будет
достойна великого народа, который сознает себя младенцем, для того
чтоб возмужать скорее и прочнее.
Мы ничего не имеем, чем могут хвалиться возмужалые народы;
что нужды? Будем иметь, когда придет время. Зато, при наших
детских недостатках, мы имеем и те качества, которые в детях служат
залогами совершенства: мы имеем детскую доверчивость, детскую
покорность и детскую преданность. Из нас можно сделать все со
временем.
Точка отправления всей человеческой жизни есть чувство. В нем
источник всего великого, святого, божественного. У нас чувство
доселе оставалось без призора, без возделывания; а оно имеет в нем
столько же нужды, сколько ум и характер. Чувство народа питается
его верованиями: верования рождают в нем религию, патриотизм,
уважение к самому себе. Русский православный человек имеет в себе
глубокое расположение к вере; но эта святая искра не горит полным
пламенем. Там, где нет образования, она тлеет в пепле; там, где есть
образование, чужие ветры грозят задуть ее. Оживление веры есть
первое необходимое условие нашего совершенствования. Это
чувствуют и в Европе. Но там все уже перегорело, там надобно вновь
высекать огня. А для нас довольно одного благодатного дуновения!
Мысль моя та: нам нечем еще пока гордиться, кроме разве
благородным сознанием своего младенческого состояния; нечего
меряться с другими европейскими народами, с которыми мы были всегда
разобщены и познакомились тогда, как между нами и ими не оста-
580
лось почти никаких точек соприкосновения; нечего следовательно
равнять себя с ними ни в хорошую, ни в дурную сторону. Они сами
по себе, мы сами по себе. У них есть прошедшее, которого у нас нет;
но зато у нас есть будущее, в котором они отчаиваются. Это будущее
заключается в нашей безусловной доверенности и преданности
державной воле, которая нами правит, ведет нас, печется о нашем
совершенствовании, и которая создает для нас самую блистательную
историю, такую историю, которою мы будем иметь полное право
гордиться, за которую должны будем благословлять судьбу, что
родились Русскими!..
КН.
[Ответ Н. И. Надеждина П. Я. Чаадаеву. И]836
Так названное «Философическое письмо», помещенное в 15
книжке «Телескопа» за нынешний год, возбудило самое сильное и самое
естественное негодование. Отрицая с каким-то диким ожесточением
все наше прошедшее, говоря, что у нас нет преданий, нет
воспоминаний, словом, нет истории, что мы народ исключительный, что мы
явились в мир без наследства, без связи с другими людьми, что мы
никогда не шли вместе с другими народами, не принимали участия
в ходе и движениях европейского просвещения, это письмо
возмутило, оскорбило, привело в содрогание народную нашу гордость. Как?
Мы, русские, никогда не жили, ничего не сделали, ничем не
наполнили истории? Этот дивный великий народ, который даровал свое
имя седьмой части земного шара, который за тысячу лет озарился
Божественным светом христианской веры, начала всякого
просвещения, и разлил ее благодатные лучи на безмерном, ужасающем
мысль пространстве, от подошвы Карпата до хребтов Алтая; народ,
который в одно столетие успел присвоить себе все, что есть лучшего
в европейской образованности, созданной рядами столетий,
который в один год, прошедши Европу из края в край с мечем победы и
оливною ветвью мира, начертал себе такую блистательную страницу
во всемирной истории человечества, какой не может представить ни
Ответы на первое «Философическое письмо»
581
один из древних и новых народов света: этот-то народ поставить на
самой крайней степени ничтожества? Такое дикое ослепление мало
назвать просто заблуждением: это бред, горячка, безумие! И этим
безумием оскорбляется сколько здравый смысл, видя в нем
совершеннейшее противоречие с действительностью, столько или еще
более народная русская гордость, поруганная так обидно, так дерзко
и еще так несправедливо!
Мы не имеем прошедшего, не имеем истории, не имеем
преданий и воспоминаний! Но что значит тысяча лет существования
русского имени с тех пор, как Рюрик положил первый камень
общественного благоустройства на отдаленнейшем севере Европы, с тех
пор, как Олег двинул этот север на юг и прибил щит русский на
стенах гордой столицы древнего мира, с тех пор, как
равноапостольный Владимир добыл этому северу, еще юному, но уже могучему, и
веру, и письменность, и искусства, и нравы? Что значат эти яркие
проблески героической храбрости, дивного мужества, которые,
подобно молниям, рассекают густой мрак последующих времен и в
именах Мономахов и Боголюбских, Александров и Димитриев
увековечивают славу русского имени на берегах Днепра и Клязьмы,
Невы и Дона? Что значит грозная, но величественная чета Иоаннов,
которые менее чем в столетие собрали обломки колосса, пятьсот
лет дробимого бурями удельных междоусобий, двести лет
подавляемого тяжким порабощением, и из Москвы, оброчного городка
кочующих варваров, создали столицу державы, простирающейся до
тундр Сибири, до степей Татарии? Что значит чудесный,
беспримерный в летописях мира 1612 год, когда Русь Иоаннов,
осиротелая, обезглавленная, потрясенная из конца в конец, раздавленная в
самом сердце насилием остервенелого врага, вдруг чувствует в себе
исполинское могущество, собирает все свои силы, поднимается и
сбрасывает с себя чужеземное иго, растаптывает в прах своих
мучителей и в полном упоении своего торжества, в полном сознании
своего могущества, своих сил спешит освятить свои лавры,
повергая их к стопам юного Михаила, благородной отрасли Владимиров
и Иоаннов, благословенного корня Петра? Что значат, наконец, эти
два последние века, прожитые нами под благодатным скипетром
потомков Михаила, эти два века непрерывных чудес, которые
отдаленнейшее потомство сочтет баснословною поэмою; эти два века,
582
записанные во всемирную историю человечества приобщением к
Европе двух третей ее и половины Азии, основанием нового Царя-
града на пустынных берегах Финского залива, округлением
Европейского Востока в одну великую, твердую и могучую державу,
избавлением и умиротворением Европейского Запада, водружением
северных орлов на стенах Парижа и на хребтах Арарата?837 Это ли
не история? Это ли не прошедшее? И какой другой народ, древний
или новый, может представить воспоминания более сладостные,
предания более драгоценные?
Мы никогда не шли вместе с другими народами, не принимали
участия в ходе и движениях европейского просвещения! Но в чем
состоят признаки и плоды того просвещения, которым Европа
имеет право гордиться, в котором ей можно и должно завидовать, сорев-
новать? Без сомнения, в развитии наук и искусств, промышленности
и торговли, этих главных условий общественного совершенства,
главных показателей умственной и гражданской образованности
народов? Но разве у нас нет наук и искусств, разве наша
промышленность и торговля не возрастают, не цветут, не подвигаются
вперед исполинскими шагами, ежегодно, ежедневно, ежеминутно? У нас
нет наук? А беспредельное пространство нашего отечества
покрыто школами, училищами. Каждое сословие имеет приют, где может
развивать свои умственные способности, обогащать их полезными
сведениями, изощрять и благородствовать. Каждая отрасль знания
имеет достойных служителей. Каждый умственный подвиг находит
поощрение, награду, считается государственною заслугою,
гражданскою добродетелью. Число училищ, число учащихся растет не по
дням, а по часам! У нас нет искусств! А давно ли картина русского
художника, несмотря на все усилия зависти, получила первую
награду, увенчана торжественно в том самом городе, который
считается столицею нынешней так называемой европейской
образованности?838 И не приезжают ли толпами просвещеннейшие европейцы
любоваться, дивиться нашему Петербургу, этому великолепнейшему,
изящнейшему городу не только в Европе, но и во всем свете? У нас
нет промышленности! А между тем богатая, неистощимая наша
природа ежедневно разверзает свои недра и дарит труду новые
сокровища. Хребты Урала и Алтая кипят золотом; на берегах Крыма,
у подошвы Кавказа виноград стелется лесами, шелковичный червь
Ответы на первое «Философическое письмо»
583
прядет в изобилии свои нити, все нежные произведения юга рас-
положаются, пускают корни и делаются русскими. Мерзлые тундры
Камчатки и раскаленные солончаки киргизских степей засеваются
хлебом, обращаются в золотистые нивы. Русский путешественник на
утлом челноке отважно носится по волнам двух океанов, не боясь
вечных льдин одного и грозной тишины другого, преследует кита
в полярных широтах Шпицбергена, добывает пушистые меха на
погасшей гряде Алеутских и Курильских волканов. Все изделия
пользы, удобства и роскоши не стыдятся уже носить русский штемпель,
свидетельство русского происховдения. Москва со своими
окрестными губерниями, Тулой и Ярославлем, Калугой и Владимиром,
быстро превращается в одну огромную мануфактуру, в исполинский
Манчестер! У нас нет торговли! А наш Нижний Новгород ежегодно
соединяет в себе Европу и Азию, приходящие меняться своими
трудами и выгодами. Купцы московские имеют свои конторы в Кяхте
на границах Небесной Империи. Американская компания соседни-
чает с Соединенными Штатами. В Петербург и Одессу, в Ригу и
Архангельск приходят корабли из Александрии и Калькутты, из Нью-
Йорка и Рио-Жанейро. И тогда как французы и немцы только что
сбираются воспользоваться важнейшим изобретением современной
промышленности, богатейшим пособием торговли, железными
дорогами, тогда как в этих просвещеннейших странах Европы едва
обделано по десяти, по двадцати верст, у нас зреет уже исполинский
план оковать железом более чем тысячу верст расстояния, связать
Петербург с Москвою и Нижним Новгородом, так чтоб это огромное
пространство пожиралось в двое суток! Как же мы не идем вместе с
другими народами, не принимаем участия в ходе и движениях
европейского просвещения? Нет! мы бежим с нею взапуски и, верно,
перебежим скоро, если еще не перебежали!
Все это такие факты, которых отрицать нет никакой
возможности, которых действительность ясна, как солнце. И русскому ли не
признать их, не чувствовать, не восхищаться и не гордиться ими,
тогда как в самых враждебнейших иностранцах зависть невольно
смиряется пред истиною и почтительное благоговение сменяет
место прежнего неприязненного презрения! Русскому ли
осмелиться сказать, что народ русский до сих пор ничем не был, ничего
не сделал?
584
Но, братья русские, будем беспристрастны к себе, будем
правдивы и искренни! Так! мы велики, и величие наше признается всеми
земными народами. Но мы ли создали себе это величие? Плод ли
оно наших собственных усилий? Сами ли мы возвысили себя так
внезапно на такую степень совершенства, что, осматриваясь вокруг,
почти не верим, почти сомневаемся: точно ли все это истина, не
обольщаем ли мы себя сладкою мечтою? Да! благородно гордиться
своим величием; но еще благороднее признать истинный источник,
истинное начало этого величия, и повергнуться пред ним во прах с
благоговейным смирением, исповедуя, что мы сами ничто, что мы
все только чрез ту могучую власть, которая, самодержавно правя
нашими судьбами, вела и ведет нас по всем путям совершенствования
без нашего ведома, часто даже против нашей воли, борясь отечески
с свойственною массам неподвижностью.
Мы имеем блистательные страницы истории. Но разве это
история наша? Разве это история русского народа? Нет, это история
Государства Русского, это история царей русских! Развернем наши
летописи. За тысячу лет на берегах Ильменя полагается первый камень
нашей истории. «Земля наша велика и богата, говорят послы
новгородские князю варяжскому, — но нет в ней порядка; приди править
нами!»839. И на эти слова приходит самодержавный князь и
утверждает в великой и богатой земле русский порядок, краеугольный
камень народного бытия. Скоро новорожденная Русь озаряется светом
христианства и с тем вместе получает первые начала умственного и
нравственного образования. Но здесь опять сам ли народ русский
действовал своею волею? Нет! Народ обагрил улицы Киева кровию
первых русских христиан840. Спасительная мысль о прогнании
мрака идолопоклонства с земли русской образовалась в уме великого
князя и совершена им.
Послушный велениям главы своей, народ погрузился в струях
Почайны, но все еще втайне болезновал о Перуне, провожал далеко
сокрушенный кумир его и восклицал: «выдыбай, выдыбай, боже!»841.
Летописец говорит, что матери рыдали, отпуская детей своих в
школы согласно с волею равноапостольного просветителя земли
русской842. Что последовало потом с народом русским, когда
державная власть раздробилась на бесчисленное множество уделов и тем
естественно ослабила себя, когда на площадях городов раздавался
Ответы на первое ('Философическое письмо»
585
звон вечевого колокола, которого не могли заглушить обессиленные
князья? Русского народа не стало: он исчез со страниц истории на
целые пятьсот лет. Русских не было во время нашего так
называемого удельного периода, окончившегося, с одной стороны, татарским,
с другой — литовским порабощением. Тогда были новогородцы,
киевляне, суздальцы, рязанцы, которые резались друг с другом так
же, как с чудью, с половцами, с печенегами, забыв и думать о том,
что составляют один народ, одно семейство. Горько вспомнить, что
в это несчастное время имя Руси, святое, великое имя, сделалось
названием польского воеводства843, что единственный остаток, в
котором таилось зерно русской самобытности, не смел иначе
называться, как московским княжеством, и долго, долго после был известен
соседям под этим провинциальным именем, под именем Московии.
Кто заставил народ русский войти в себя, сознать свое единство,
сделаться снова русскою державой? Князь московский, который,
сосредоточив снова в руках своих самодержавную власть, принял имя
царя всей Руст, имя, сделавшееся залогом восстановления русской
самобытности844. Говорить о том, как с этой поры, с этой первой
буквы настоящей нашей истории развивалось наше существовова-
ние, упрочивалась самобытность, росло величие? Кто действовал у
нас единственно и исключительно, кто мыслил, кто трудился за нас?
Царь! Чтобы ознакомить с нами Европу, которая все еще продолжала
считать нас жалкою Московиею, надо было русскому царю проехать
ее из края в край самому своею священною особою. Первый
русский, в котором Европа узнала и научилась чтить имя русское, был
царь русский. И когда, какую строку записали мы в историю, сами
собою, без внушения, без веления своего царя? Были точно две
великие эпохи, два славные, незабвенные двенадцатые года, шестьсот
и восемьсот двенадцатый, когда народ русский действовал из себя,
сам собою. Но рассмотрим внимательно эти обе эпохи. В 1612 году
народ русский точно сиротствовал, предоставлен был одному себе.
Но над ним незримо носилась святая, великая идея царя; все
движения его в эту незабвенную годину, весь этот благородный, высокий
энтузиазм, которому нет примеров ни в чьей другой истории, имел
целью наполнить эту опустевшую идею, без которой нет
существования, нет жизни для народа русского. Если не лицо, то имя царя было
единственным возбудительным началом тех доблестей, той славы,
586
которою облита эта блистательная страница нашей истории. В
другой незабвенный двенадцатый год подвиги и патриотизм русского
народа были явно только царелюбивым отголоском всех сердец на
призыв монарха. Кто первый из русских сказал, что он не положит
оружия, пока хотя один враг останется на земле русской? Царь
русский845. Другие европейские народы разве не чувствовали всей
тяжести, которою давила их пята, угрожавшая раздавить нас? Но они
безмолвно смирялись, потому что не слышали призыва с престолов,
потому что те, которым небо вверило предводительствовать ими,
сами безмолвно смирялись пред мощным завоевателем. Царь рек, и
русский колосс всколебался, опрокинулся всею тяжестью своей на
всесильного врага и сокрушил его беспредельное могущество. И так
вся наша история не есть история нас самих, нашей отдельной,
народной жизни, а история наших царей, в которых и которыми мы
жили. Нашей истории нельзя делить по периодам народной жизни,
как европейцы делят свою историю, а по царствованиям, которые
представляют непрерывную лествицу благодетельной деятельности
царей и благовейной покорности народа. Пусть всякий русский
положит руку себе на сердце и скажет: была ли, есть ли у нас другая
история?
Во всех отраслях просвещения мы равняемся, мы обгоняем
Европу! Так! Кто в этом может усумниться? Но спросим опять себя: кому
мы обязаны этим уравнением, этой надеждой выпередить Европу?
Мы ли, собственными усилиями, собственным умом, собственною
волею создали и создаем себе просвещение? Сознаемся
откровенно: до сих пор в деле просвещения мы еще не умеем достойно
ответствовать воле монархов, наших единственных просветителей, не
научились еще вполне пользоваться всеми их попечениями о нашем
образовании. Так! У нас процветают науки, размножаются училища,
жизнь умственная всюду проявляется. Но кому принадлежит честь
всего этого движения? Кто был первый наш просветитель,
наставник, учитель? Петр. Не он ли сам своей державной рукой правил
корректурный лист первой русской газеты, писал план первой
русской академии? Среди бесчисленных царственных трудов он
составил для нас даже самую азбуку, придумал буквы, которыми мы
теперь пишем. И потом какое учебное заведение возникло, какой
ученый полезный труд предпринят и совершен без повеления, без
Ответы на первое «Философическое письмо»
587
поощрения и награды монархов? Чтобы заставить нас учиться,
каких средств не употребляет доселе державная власть? Она
основывает училища, обеспечивает способы и средства образования, зовет,
принуждает учиться и осыпает истинно царскими наградами тех,
которые только что повинуются ей, только что исполняют ее благие
веления. Мало того, стоит изъявить желание, и дети наши берутся
под непосредственный отеческий кров монарха, воспитываются на
иждивении правительства: в одних военных училищах таких
воспитанников царя тысячи. Мало и того: хотим ли мы, чтобы дети наши
воспитывались дома, под нашими глазами? Их наставники
считаются в непосредственной службе царской, имеют все права
государственных чиновников. И так умственная наша жизнь не есть дело
наше, а дело мудрых, попечительных наших монархов! У нас цветут
искусства! Но кто их насадитель, покровитель, распространитель?
Наши великолепнейшие здания воздвигнуты щедротами
монаршими. Наша академия художеств императорская, наши театры
императорские. Наши лучшие художники, дивящие своими
произведениями Италию, отчизну искусств, — пансионеры царские. Кто лелеял
у нас, на нашей северной почве, первые нежные семена изящных
искусств? Екатерина, которая удостоила своим царским
посещением Ломоносова, чтобы видеть его мозаическое лепление! Елисавета,
которая своими державными руками украшала ребенка,
сделавшегося отцом русского драматического искусства!846 Николай,
который первые дни своего благословенного царствования ознаменовал
признательностию и уважением к мужу, воздвигшему
великолепнейший памятник русскому языку и русской истории!847 Вот наши
великие меценаты, наши гении — вдохновители творческого гения!
У нас процветают промышленность и торговля! Но от нас ли? Нами
ли? Не должен ли был Петр строить своими руками корабли, ковать
железо, чтобы извлечь нас из прежней беспечности. Он братался с
русскими бородачами, называл «дядею» какого-нибудь Серикова848,
приглашал его в свой кабинет и дружелюбно толковал, как бы
завестись своим русским сукном, чтоб было и покупателям дешево, и
производителям выгодно. И теперь, какое торговое общество, какое
обширное промышленное заведение образуется без пособий, без
покровительства, без наград монарших? На днях еще мы были
свидетелями умилительнейшего зрелища, которое электрическим огнем
588
проникло и одушевило все бесчисленные нити нашей
промышленности и торговли. Русский царь ездил на свой главный рынок,
первый рынок Европы и там с отеческой любовью вникал во все нужды,
потребности и выгоды детей своих, там благоволил указать новый
путь обогащения своему народу через непроходимые хребты
Кавказа до Калькутты849. Кто ж виновник настоящего развития нашей
промышленности и торговли. Мы ли? Народ ли? Скажем более: даже
умягчением наших нравов, образованностью обычаев, всем
изяществом наружного, общежительного быта мы обязаны не себе, а
царям нашим. Петр снял с нас прежнее платье, придававшее нам
азиатскую наружность, и, чтобы создать нам изящную общественную
жизнь, царским указом и грозою, сбирал нас в ассамблеи, из наших
уединенных теремов, запертых горниц. А семейная связь, самое
первое и святое основание общественного благоденствия, где находит
у нас теперь высокий, повелительный пример, столь необходимый
после того, как в прошлом столетии в просвещенных странах
Европы, общий разврат угрожал ей конечным разрушением? Французы
с восторгом говорят о своем добром Генрихе IV, который возил на
себе своего маленького сына850. Но добрый король устыдился этого
отеческого поступка, сделанного в уединении кабинета, и извинял
себя перед тем, который случайно сделался его свидетелем. Мы,
напротив, недавно видели пример родительской нежности,
совершенный великим монархом торжественно, в присутствии сотней тысяч
восторженного народа! И так все наше просвещение, вся
образованность принадлежит опять не нам, происходит не от нас, а от царей
наших. Их самодержавная воля была и есть нашей водительницей на
всех путях совершенствования.
Значит, все, что мы имеем теперь, имеем не от себя, не чрез себя.
Значит, мы сами по себе точно ничто! Добрый русский народ
чувствует это, и вот почему все его желания, все надежды, все обеты и
благословения, вся жизнь, все бытие сосредоточены были всегда в
самодержавной главе его. «Ведает Бог и Великий Государь» — вот
сокращение всей его народной мудрости! «Служу Богу и Великому
Государю» — вот основание всей его гражданской деятельности!
В таком случае мы, действительно, народ исключительный, не
принадлежащий к современному европейскому семейству, не
принимающий участия в его ходе и движениях! Но неужели это для нас
Ответы на первое «Философическое письмо»
589
унизительно? Неужели этим должна оскорбляться наша истинная
русская гордость?
Боже мой! Как жалко унизились бы мы в собственных глазах, если
б стали сокрушаться о том, что мы созданы быть народом
самобытным и самообразованным, а не слепком, не копией других народов!
Неужели нынешний европейский быт есть крайняя ступень
совершенствования человеческого, окончательная развязка, последний
акт всемирной истории? И народ, который мыслит, который
чувствует, который живет не как нынешние европейцы, уже не имеет
никакой надежды спасения, должен повергнуться в мрачное, безотрадное
отчаяние, хотя бы он, как мы, состоял из шестидесяти миллионов,
наполнял собою пространство, в котором уместится десяток и
больше Европы? Нет! Не напрасно миродержавный Промысел отвел нам
в удел такую огромную, беспредельную ландкарту, держал нас
тысячу лет под своим особенным попечением и не дал нам утратить ни
своего самобытного языка, ни своих самородных нравов, ни своей
самообразной физиономии, одним словом, ни одного из тех
условий, которыми держится народная самостоятельность, тогда как
другие нации, при малейшем стечении неблагоприятных обстоятельств,
во сто лет сглаживались с лица земли, так что теперь не находят и
следов их! Не напрасно во все это время мы отделены были от
маленького уголка, называемого Европою, не приняли ничего от ней в
наследство, даже самое христианство, первое условие всякого
просвещения, заимствовали не у ней, а у Византии, которая была тогда в
таком жалком, непривлекательном положении, что мы сами тотчас
ее презрели, бросили, не приняли за образец и правило. Не напрасно
эти тысяча лет нашего существования представляют чистый пробел
в истории, свиток которой европейские народы исчертили своими
страстями, испачкали заблуждениями, забрызгали кровью! Да! Мы
существуем для того, чтобы преподать великий урок Mupyi'Наше
назначение — не быть эхом этой дряхлой, издыхающей цивилизации,
которой, может быть, видим мы последние предсмертные судороги,
а развить из себя новую, юную и могучую цивилизацию,
цивилизацию собственно русскую, которая так же обновит ветхую Европу, как
некогда эта Европа, еще чистая и девственная, еще не истерзанная
бурями, не состаревшаяся в волнениях, обновила ветхую Азию. И вот
идеал этой русской самобытной цивилизации.
590
Народ русский до сих пор есть великое, патриархальное
семейство, существующее в тех чистых первобытных формах отеческого
самодержавия и детской покорности, которые сам Бог изрек для рода
человеческого. Жалко и смешно ослепление тех, которые и теперь
еще повторяют нелепую мечту Руссо о каком-то первобытном
состоянии людей, когда мы, как звери, ходили будто на четвереньках и
пожирали друг друга, жили настоящей республикой львов и тигров,
и о каком-то общественном договоре, на котором будто основались
все нынешние гражданские постановления851. Люди никогда не были
и не могли быть зверьми. Сама природа отличила их от
бессмысленных животных тем, что вложила в их сердца инстинкт семейности,
инстинкт, не оставляющий их в самом глубочайшем варварстве и
дикости. Где только находят ныне людей, людей диких, почти
униженных до состояния зверей, везде находят их семьями. Семья есть
необходимая форма человеческого существования. Но семья по природе
своей есть монархия, и монархия самодержавная: в ней отец —
природный, неограниченный государь; дети — природные, безусловные
подданные. Все народы начали свою историю с этого
первоначального, единственно свойственного природе человеческой состояния.
Азия, отчизна человечества, с самых первых дней своего бытия
является в монархических, неограниченно-самодержавных формах.
Когда Греция, колыбель европейской цивилизации, вышла на
сцену истории в песнях Гомера, она также представляет ряд семейств,
управляемых патриархальными жезлами царей, пастырей народов.
Но в последствии времени разгар страстей, соблазн своеволия,
желание пожить своим умом, по своим прихотям вкралось в эти
первобытные семейства и разрушило святые узы послушания, которыми
держалось их существование. Как семья резвых своевольных детей,
народы вздумали обойтись без патриархальной отеческой власти,
пожить сами собою. И что же сделалось с ними? Они истощили свои
силы в бурных порывах, в кипучих страстях и погибли, как гибнут все
несогласные семьи. Так погибла древняя Греция; так погиб древний
Рим. Напрасно в последние времена народ римский отказался от
своей несчастной самобытности, которой доискивался столько веков,
которая стоила ему стольких терзаний; напрасно возвратился к
первоначальной форме всякого гражданского бытия, повергся под
самодержавный скипетр Цезарей. Было уже поздно! труп, истерзанный ве-
Ответы на первое «Философическое письмо»
591
ковыми потрясениями, не мог оживиться. Притом монархия Цезарей
не была чистая, естественная, законная, а какая-то чудовищная смесь
неограниченного могущества и всегдашней зависимости от
произвола тех, которые ей покорялись. Отсутствие наследственности,
необходимого условия истинной, законной монархии, было очевидным
признаком ее неестественности. Горсть солдат, интрига евнухов,
толпа черни раздавала, даже продавала пурпур, кому хотела, и
срывала его опять по своему буйному произволу. Это было причиною,
что обе Римские Империи, Западная и Восточная, не могли устоять,
разрушились, пали. Явилось христианство, начало нового мира. Оно
скрепило опять узы патриархальной покорности в народах,
освятило державную власть печатью Божественного права, объявило царей,
отцов народа, помазанниками Божиими. И вот новая блистательная
жизнь заструилась в жилах человечества. Европа воскресла и создала
себе ту великолепную цивилизацию, которая дала ей первенство во
вселенной. Обратим внимание на блестящую эпоху так называемого
возрождения наук и искусств, на это прекрасное утро
европейского просвещения. Оно свершилось под непосредственным влиянием
державных властителей народов. Кто были первые покровители наук
и искусств в Италии? Самодержавные первосвященники Рима,
миланские Висконти и Сфорцы, флорентийские Медичи, феррарские
Эсты, веронские Скалы852, сосредоточившие в руках своих власть
державную. Венеция и Генуя, оставшиеся республиками, принимали
самое ничтожное участие в возрождении наук и искусств: они только
покупали манускрипты и другие остатки древности для державных
меценатов. Да и в других государствах Европы как называются
золотые века просвещения? По именам государей, которые были их
главными зиждителями: веком Франциска I, веком Елисаветы, веком
Людовика XW.855 Но Европа также не захотела остаться при тех
условиях, которые были причиной ее возрождения: она вздумала посвое-
вольничать, пожить сама собою; она пародировала Древнюю Грецию
и Древний Рим; объявила войну своему родному, кровному
прошедшему, опрокинула его, смочила кровью, для того чтобы передразнить
заблуждения и страсти древних народов, забыв, что они погибли от
этих страстей и заблуждений. И ее постигнет та же судьба, и над ней
свистит уже бич Немезиды, под ударами которого сокрушился Рим,
сокрушилась Греция.
592
Благодаря Промыслу, народ русский не принимал никакого
участия в движениях Европы. Он остается до сих пор чистой,
девственной семьею детей, безусловно покорных своему державному отцу.
И это наше высокое неоцененное преимущество, это особенная
благодать Божия, которою мы, русские, имеем полное право гордиться
пред всем светом. Мы дети, и это детство есть наше счастье. С
нашей простой девственной, младенческой природой, не исчерченной
никакими предубеждениями, не засеянной никакими враждебными
воспоминаниями и преданиями, можно сделать все без труда, без
насилия; из нас, как из чистого, мягкого воска, можно вылепить все
формы истинного совершенства. О! какой невообразимый верх дает
нам пред европейцами это святое, блаженное детство! У них есть
длинная, тысячелетная история; но чего она им стоит? В этой
истории воспоминания и предания, накопленные веками,
представляют борьбу разнороднейших, враждебнейших стихий; и эта борьба
оставляет их в вечном колебании, в вечном раздоре, в вечных муках
болезненного разрушения. Эта история их гибель: она завещала им
неизгладимую ненависть сословий друг к другу, бесчисленные,
неисполнимые притязания, химерические требования, мечтательные
нужды. Благо нам, что у нас нет такого прошедшего, что мы не имели
и не имеем этих враждебных стихий, борьба которых составляет
историю Европы. У нас не было их, нет и дай Бог, чтоб никогда не
было, и даст Бог, никогда не будет; у нас одна вечная, неизменная
стихия-. Царь! Одно начало всей народной жизни: святая любовь к
Царю\ Наша история была доселе великою поэмою, в которой один
герой, одно действующее лицо. Это-то единство было причиною,
что мы так быстро сравнялись с европейцами относительно
просвещения. Что они придумали в продолжение веков, то мы схватили в
одно столетие. Будь действователями сами мы, предоставь нас
Промысл собственному уму, собственной воле, не пошли он нам
самодержавной адамантовой воли Петра, мы бы до сих пор оставались
в наших бревенчатых избах добычей лени, невежества и бедности.
Вот отличительный, самобытный характер нашего прошедшего! Он
показывает нам и наше будущее великое назначение. Да! Присвоив
себе все благие плоды просвещения, без тех волнений, без тех мук,
без тех ужасных потрясений, которые изнурили Европу и убили в
ней духовное начало жизни до того, что она уже отчаивается теперь
Ответы на первое «Философическое письмо»
593
в своем будущем, мы, напротив, станем юными, бодрыми,
могучими на чреде мира и явим великий, блистательный пример, как из
святого единства самодержавия должно возникать образцовое
высочайшее народное просвещение, величие и счастье. Этому
просвещению, этому величию, этому счастию будет завидовать Европа. Но
что я сказал? Она и теперь уже завидует. Вот что говорит один из
просвещеннейших мужей ее, знаменитый Раумер, краса и слава
германской учености. «Русские теперь счастливее многих народов
Европы; они имеют именно такую конституцию, какая им нужна. У них
есть (что требуется в политике, точно так же, как и математике) свой
центр, и этот центр их император. Формы других государств для них
неприменимы. Чтобы связать такое великое целое, как Россия,
необходим один муж, и этот муж является в полном смысле этого слова
по телу и духу в особе царствующего императора. В нем
соединены все великие государственные способности, повелительная и в то
же время привлекательная наружность, удивительная деятельность,
дивная сила воли и непреодолимое мужество. Конституция
Императора Николая такова, что я готов взять акцию скорее на нее, нежели
на жизненность других бумажных конституций»*.
Итак, вот где наше истинное достоинство, истинная гордости
Пусть другие европейские народы, дряхлые, изможденные,
стараются утешать себя в преждевременной старости безрассудными
возгласами: «Зато мы пожили, зато мы сделали». Русский великий народ
находит свою гордость в другом, более высоком, более утешительном
чувстве: «Я ничего себе не приписываю, за меня действует моя глава;
я только слушаюсь ее, повинуюсь ей с доверенностью и любовью; и
зато я так свеж и могуч, прекрасен и величествен!» В этом чувстве
нет никакого унижения: напротив, оно гораздо согласнее с
истинным достоинством человеческой разумно-нравственной природы,
чем хвастовство буйного своевольства. Прибегнем к собственному
нашему здравому смыслу. Какие минералы, какие растения, каких
животных считаем мы единогласно благороднейшими,
совершеннейшими? Не те ли, которые допускают искусству обработывать
себя во все изящные формы, которые повинуются мысли,
соображаются с ней, воплощают ее в себе, отрекаясь от того дикого, грубо-
* Телескоп, 1836,15, стр. 385-386.
594
го, бессмысленного и бесцельного состояния, в котором находятся
они в недрах природы? Когда золото является во всем своем блеске,
алмаз во всей своей прелести лучезарной игры? Тогда, как грубый
кусок руды пройдет чрез очистительный горн, темный бесцветный
кремень покорится резцу художника! Отчего колос пшеницы, лоза
винограда предпочитаются и могучему дубу, и стройной пальме, и
величественному кипарису? отчего они называются
благодатнейшими дарами растительной природы? Оттого, что они безусловно
покорны руке, их возделывающей; оттого, что по манию этой руки,
один рассыпается питающими зернами, другая струится
оживляющим, веселящим сердце соком. Когда, в какие минуты лев, царь
зверей, является нам во всем своем царственном величии, рождает
истинно высокое чувство? Тогда ли, как в бешенстве непреодолимой
силы, разметав гриву, сверкая кровавыми глазами, с диким ревом,
терзает своих менее сильных братьев, или, при недостатке добычи,
истощает свою ярость на самом себе? Нет! Но когда это дивное,
могучее животное, покоряя свою силу чувству признательности, лижет
добродушно руку своего попечителя, слабого, беспомощного
человека, играет с ним, дозволяет ему перебирать его косматую гриву,
гладить его грозное чело! Орел, другой царь животных, лев
пернатых, нигде так не является величественным, как в прекрасной басне
древних греков, где он с покорностию голубя носит молнии и гром
миродержца Зевеса! Вот тайна истинного величия всего
сотворенного, всего, что существует во вселенной! Это величие находится
только там, где сила добровольно покоряется мысли, чувству. И чем
сила выше, тем покорность благороднее, величие блистательнее.
Таково именно величие русского народа! Этот дивный колосс,
который одним легким потрясением своих исполинских мышц может
всколебать, опрокинуть вселенную, этот колосс повинуется одному
отеческому слову, одному державному мановению и повинуется
добровольно, с преданностью и с любовью. И вот чем славна великая
его история! Она наполнена дивными чертами этого добровольного
повиновения силы, в котором заключается истинное величие
народов. Где, в какой истории найдете вы сцену, подобную той, которая
открывает собой летописи земли русской?
Везде, у всех народов власть утверждалась завоеванием,
порядок был сладким плодом горького насилия. Первый властелин, о
Ответы на первое «Философическое письмо»
595
котором упоминают летописи мира, Священное Писание, был муж
силен ловец пред Господом; он сам себя сделал царем, сам дал себе
право владычества854. Только один избранный народ Божий, народ
еврейский, имел мудрость испросить сам себе земную главу у
небесной главы своей; но этот народ просвещен был Откровением
свыше. А народ русский, еще во тьме язычества, при совершенном
отсутствии всех внешних возбуждений, по одному внушению
доброго светлого чувства, которое принадлежало только одному ему,
сам преклонил колена, смирил свои могучие силы и передал свою
великую и богатую землю спасительной власти единодержавия,
да воцарится в ней порядок\ Какой мудрый ответ дала дружина и
дума княжеская, представительница мысли и силы народной,
когда Владимир, по тщательном испытании, решился завоевать своей
земле христианство? Она сослалась на державный пример Ольги,
мудрейшей из жен, и с безусловною преданностию повиновалась
воле Равноапостольного855. Тут не нужно было ни грозных
указов Феодосия, ни насильственных драгонад Людовика XIV856, ни
крестовых походов, столько раз провозглашаемых папами для
обращения язычников. Все исполнилось единодушно, безусловною
покорностию народа. А то непоколебимое постоянство, с
которым народ русский вынес бури междуусобий и ярмо чужеземного
рабства, не изменяя себе, не утратив своих добрых качеств, своей
любви к Богу и царю! А то героическое терпение, с которым он
прошел сквозь очистительный огнь укрепляющегося
самодержавия под грозою Иоанна! А второе еще более славное, еще более
торжественное покорение под спасительную власть
единодержавия после блистательнейших подвигов, которые упоили бы всякий
другой народ справедливою гордостью, справедливою доверенно-
стию к самому себе! Глас безоружного старца из уединенной тиши
монастырской кельи раздается по всем концам Руси и приводит ее
в электрическое содрогание; сын народа, нижегородский
простолюдин, становится вождем многочисленного воинства; меч
благородного князя, победителя врагов, освободителя Москвы, любимца
Руси, уже касается святого венца Мономахов; и чем же
оканчивается вся эта высокая драма: где каждое сословие народа явилось
во всем блеске, во всей силе? Единодушным покорением всех воль,
преданием всех сил юному Михаилу!857 А то послушное увлечение,
596
с каким после свойственного детскому возрасту упорства народ
русский потек по пути, указанному ему великим преобразователем!
Но зачем искать примеров далеко? Давно ли в тяжкую годину
искушения, посвещавшего нас губительною язвою, одного слова царя
достаточно было, чтобы подавить невольное отчаяние в сердце
бедствующего народа, повергнуть его на колена и заставить
вознести пламенные мольбы к единому Целителю всех недугов,
Врачу всех страданий. Европа не могла скрыть своего благоговейного
изумления при таком величественном зрелище, какому немного
подобных представят летописи мира, которое кажется вырванным
из поэтических преданий о золотом веке человечества, и такое
послушание при такой безмерной массе сил, при таком обилии всех
даров, украшающих человеческую природу! Да! в этой покорной
силе, которая называется православным русским народам, лежат
дивные сокровища ума, характера и чувства. Они развертываются
беспрестанно, со дня на день, с часу на час, к изумлению мира, к
славе русского имени, к утешению Русского царя. Скажем с новою
гордостию: мы достойны своих мудрых великих монархов,
которые создали нам такое блистательное настоящее, создадут еще
блистательнейшее будущее. От недостатков детских мы
исправляемся ежедневно под их руководством; добродетели детские
сохраним всегда, к их радости и славе. Русский царь может гордиться
своим народом, который в нем одном полагает все свое величие,
блаженство и гордость.
Заключим словами великого поэта:
О, Росс! о, род великодушный!
О, твердокаменная грудь!
О, исполин царю послушный).
Когда и где ты досягнуть
Не мог тебя достойной славы!858
И ты будешь досягать ее всегда, добрый, великий народ!
Будешь — только памятуй с благоговейным смирением и благородною
гордостию, что вся твоя жизнь, все твое бытие сосредоточено в
священной главе твоей. Без нее — ты ряд нулей; с этой державной
единицей нули делают биллион\
Ответы на первое «Философическое письмо»
597
Корректура «Московского Наблюдателя»
(1836. Август, книжка II) с цензорскими пометами
Д. М. Перевощикова. «Несколько слов о философическом
письме, напечатанном в 15 книжке Телескопа.
(письмо к г-же N.)», без подписи. С. 526-540859
Тебя удивила, мой друг, статья «Философические письма»,
помещенная в 15 № Телескопа, тебя даже обидела она; ты невольно
повторяешь: неужели мы так ничтожны в сравнении с Европой,
неужели мы в самом деле, похожи на приемышей в общей семье
человечества? — Я понимаю, какое грустное чувство поселяет в тебе эта
мысль; успокойся, мой друг, эта статья писана не для тебя; всякое
преобразование твоего сердца и твоей души было бы зло: ты
родилась уже истинной Христианкой, практическим существом той
теории, которую излагает сочинитель Ф. П. для женщины, может быть
омраченной наносными мнениями прошедшего столетия. Ты давно
поняла то единство духа, которое, со временем, должно возобладать
над всем человечеством; ты издавна уже помощница его. Я знаю, как
соблазняла тебя нехристианская жизнь860 людей того общества,
которое должно служить примером для прочих состояний. Ты устояла
от соблазна, не увлеклась на путь не имеющей цели жизни, и теперь
сама видишь, что на избранном тобою пути, нельзя ни потерять, ни
расточить земного блага; ибо избранный тобою путь есть стезя, на
которой человек безопасен от хищничества и ласкательства, и по
которой со временем, должно идти все человечество. Для тебя не
новость — умеренность во всем, во всем что касается до сердца и
души, ты знала, что только неразрывный их союз составляет
истинную жизнь, что сердце без разума — страсть, пламя,
пожирающее существование, что разум без сердца — холод, оледеняющий
жизнь. — Для тебя ненужно было длинного ряда прославленных
предков, чтобы понимать святые мысли.
«Диэтетика души и тела, есть истина давно известная у
других народов», говорит сочинитель статьи, «а для нас она новость»,
замечает он; но кто-ж тебе открыл эту истину, мой друг, открыл
просто, как будто без влияния веков и людей? Кто-ж мог открыть кроме
Бога Слова? Нужно было только прежде всего верить, а потом ис-
поведывать эту истину, во благо общее тела и духа.
598
Если ты уже постигла один раз истину и следуешь ей, то не думай,
чтоб истину можно было совершенствовать; ее откровение
совершилось один раз и на веки, и потому слова: «Сколько светлых лучей
прорезало в это время мрак покрывавший всю Европу!» относятся
только к открытиям, касающимся, до совершенствования
вещественной жизни, а не духовной; ибо сущность Религии есть неизменный
во веки дух света, проникающий все формы земные. —
Следовательно, мы не отстали в этом отношении от других просвещенных
народов; — а язычество таится еще во всей Европе: сколько еще
поклонников идолам, рассыпавшимся в золото и почести861! Что же
касается до условных форм общественной жизни, то пусть опыты
совершаются не над нами: можно жить мудро чужими опытами;
зачем нам вдаваться в крайности: испытывать страсти сердца как
Франция, охлаждаться преобладанием ума как Англия; пусть одна
перегорает, а другая стынет; одна от излишних усилий может
нажить аневризм, а другая от излишней полноты паралич862.
Россия же, при крепком своем сложении, умеренной жизнию,
может достигнуть до маститых веков существования,
предназначенного народам.
Положение наше ограничено влиянием всех четырех частей
света—и мы не ничто, как говорит сочинитель Ф<илософического>
П<исьма>, но мы центр в человечестве Европейского полушария,
море, в которое еще стекаются все понятия. Когда оно
переполнится истинами частными, тогда потопит берега свои истиной
общей. — Вот, кажется мне, то таинственное предназначение России,
о котором беспокоится сочинитель статьи Ф<илософическое>
П<исьмо>863. — Вот причина разнородности понятий в нашем
царстве. И пусть вливаются в наш сосуд общие понятия человечества — в
этом сосуде есть древний Русский элемент, который предохранит
нас от порчи.
Но рассмотрим подробнее некоторые положения
сочинителя статьи Ф<илософическое> П<исьмо> «Народы живут только
мощными впечатлениями времен прошедших на умы их и
соприкосновением с другими народами. Таким образом каждый человек
чувствует свое собственное соотношение с целым человечеством»,
так пишет сочинитель — и продолжает: «мы явились в мир, как
незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, кото-
Ответы на первое «Философическое письмо»
599
рые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из
поучительных уроков минувшего».
Сочинитель не трудился развертывать той метрической
книги, в которой записано и наше рождение в числе прочих
законнорожденных народов, иначе он не сказал бы этого. Он верно
не видал записи и межевого плана земли, где отмечено родовое
имение Славян и Руссов, отмечено на своем родном языке, а не
на наречии? — Если б мы не жили мощными впечатлениями
времен прошедших, мы не гордились бы своим именем, мы бы не
смели свергнуть с себя иго Монголов, поклонились бы давно власти
какого-нибудь Сикста V864 или Наполеона, признали бы между адом
и раем чистилище865, и наконец давно обратились уже в ханжей,
следующих правилу «несть зла в прегрешении тайном». — Кому
нужна такая индульгенция, тот не найдет ее в учениях866 наших
постановлениях церкви867.
Сочинитель идет от народа к человеку, а мы пойдем от человека к
народу: Рассмотрим сперва что наследует от отца сын, внук, правнук
и т. д. — Потом что последуют поколения.
Первое наследие есть имя, потом звание, потом имущество и
наконец некоторый отблеск доброй славы предков; но эти все
наследия, кроме звания, постепенно или вдруг исчезают, если наследники
не хранят и не поддерживают их: богатство проживается, лучи
отцовской славы бледнее и бледнее отражаются на потомках;
остаются только слова Князь, Граф, Дворянин, купец, крестьянин; но без
поддержки первые падают.
Нигде и никогда ни один из великих людей не дал ряда великих
потомков; то же сбылось и между потомками868; потомки Греков не
сберегли ни языка, ни слова, ни нрава, ни крови предков своих
владык. Римляне обратились в рабов; и населившийся гонимый отвсюду
Париями весь север Европы возвысился и образовал новую
родословную книгу своей роды869; сжег разрядные книги Индии, Рима и
Греции.
Где же мощные впечатления прошедших времен? и нужны-ли
они для нравственности человека, и для порядка его жизни? Чтоб
распределить свое время, знать как употребить каждый его час,
каждый день, чтоб иметь цель существования, нужны-ли потомки и
впечатления прошедшего?
600
Порода имеет влияние только в отношениях людей между
собою: сравнение преимущества своего с ничтожеством других делает
человека гордым, презрение трогает самолюбие и убивает силы; но
религиозное состояние человека не требует породы; —
следовательно для чувства гордости и уважения нашего к самим себе, — нам
нужно родословие народа; а для религиозной России нужно только
уважение ее к собственной религии, которой святость и могущество
проходит так мирно чрез века.
Наше общество, действительно, составляет теперь разногласие
понятий; и все-таки от того что понятия передаются нам разномыс-
ленными воспитателями; от того-то общество наше,
долженствующее подавать собою во всем пример прочим состояниям, настроено
на разный лад; и эта расстроенность не кончится до тех пор, пока
не образуется у нас достаточное число наставников собственных,
достойных уважения и доверия родителей.
Таким-то образом чужие понятия расстроивали нас с своими
собственными. Мы отложили заботу о совершенствовании всего
своего, ибо в нас внушали любовь и уважение только к чужому — и
это стоит нам нравственного унижения870. — Родной язык не уважен
как должно871, древний наш прямодушный нрав часто заменяется
ухищрением; крепость тела изнеживается — новость стала душой
нашей; переимчивость овладела нами... Не сами ли мы разрываем
союз с впечатлениями нашего прошедшего. — Зачем некоторые872
вершины наши отрываются от подножий; зачем они часто живут
как гости на родине, не только говорят, пишут, но и мыслят не по-
Русски.
Отвечай мне, мой друг, на эти вопросы, истинны ли они? отвечай,
нужны ли соколу павлиньи перья, чтоб быть также птицей Божьей, и
исполнить свое предназначение в судьбе всего творения?
При разделении односемейности Европейской, на Латынскую и
Тевтоническую, сочинитель несправедливо отстранил семью Греко-
российскую, которая также идет в связи с прочими, и, можно сказать,
составляет средину между крайностями слепоты и ясновидения.
Было трое сильных Владык в первых веках Христианского мира:
Греция, Рим и Север (мир Тевтонический).
От добровольного соединения Греции и Севера родилась Русь;
от насильственного соединения Рима с Севером родились западные
Ответы на первое «Философическое письмо»
601
царства. Греция и Рим отжили. — Русь одна наследница Греции; — у
Рима много было наследников.
Следует решить, в ком из них истина надежнее развивает — идеи
долга, закона, правды и порядка. Может быть одежда истины также
должна сообразоваться с климатом; но сущность ее повсюду одна, ибо
истекает из одного родника. — Для нравственной нашей жизни мы
можем пользоваться и правилами Конфуция; ибо заключения разума
из опытов жизни повсюду одни и те же: из всей разнородной пищи,
вкус извлекает только два первородных начала: сладкое и горькое.
Если нравственность повсюду одна, и мы подобно прочим
народам можем ею пользоваться, кто же побуждает нас предаваться
совершенствованию только наружной жизни. Каждому человеку дано
от Неба столько воли, что он может овладеть собою, остановить
ложное свое направление, заставить себя обдумать жизнь, ввериться
в вечное правило: «Умерь себя и словом и делом» и соделаться
лучшим без помощи предков, но с помощью опыта людей. — Потоки
блага текут также с вершины.
«Массы находятся под влиянием особого рода сил,
развивающихся в избранных членах общества. Массы сами не думают, посреди
их есть мыслители, которые думают за них, возбуждают
собирательное разумение нации, и заставляют ее двигаться вперед;
между тем как небольшое число мыслит, остальное чувствует,
и общее движение проявляется. Это истинно в отношении всех
народов, исключая некоторые поколения, у которых человеческого
осталось только одно лице».
Последние слова противоречат первым; ибо жизнь есть
движение вперед, а в природе все движется вперед, во всех движениях
природы есть начало и следствие. — Как ни кажется справедливо
положение сочинителя, однако же если массу сравнить с сферой,
состоящей из множества постоянно, до единицы дробящихся сфер,
то самому последнему существу нельзя отказать в том мышлении, из
которого составляется мышление общее высшее, приводимое в
исполнение. — Иначе масса была бы бездушной материал.
Таким образом слова г. сочинителя «где наши мудрецы, наши
мыслители? Когда и кто думал за нас, кто думает в настоящее
время?» сказаны им против собственного в пользу общую мышления.
Он отрицает этим собственную свою мыслительную деятельность:
602
Наши мудрецы! Кто за нас думает!
Смотрите только на запад, вы ничего не увидите на востоке,
смотрите беспрестанно на небо, вы ничего не заметите на земле. —
Положим, что «мы отшельники в мире, ничего ему не дали», но чтоб
ничего не взяли у него, это логически несправедливо: мы заняли
у него неуважение к самим себе, если согласиться с сочинителем
письма.
И следовательно, мы могли бы прибавить к просвещению
общему, если бы смотрели вокруг себя, а не в даль; мы все заботимся
только о том, чтоб следить, догонять Европу. — Мы точно отстали от
нее всем временем Монгольского владычества; ибо велика разница
быть в покорности у просвещенного народа и у варваров. — Покуда
Русь переносила детские болезни, невольно покорствовала
истукану ханскому, и была между тем стеной, защитившей христианской
мир от магометанского, — Европа в это время училась у Греков и
у наследников их наукам и искусствам. Всемирное вещественное
преобладание падшего Рима оснащалось снова в Ватикане, мнимо
преображаясь в формы духовного преобладания; но это
преобладание было не преобладание Слова, а преобладание меча — только
скрытого. Россия устояла во благо общее — это заслуга ее.
Сочинитель говорит: «что делали мы в то время, как из
жестокой борьбы варварства северных народов с высокою мыслию
религии, возникало величественное здание нового образования?».
Мы принимали от умирающей Греции святое наследие, символ
искупления, и учились Слову; мы отстаивали его от нашествия
Корана, и не отдали во власть Папы; сохраняли непорочную голубицу,
перелетевшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь
Владимира.
Вечные истины, переданные нам на Славянском языке, те же,
каким следует и Европа; но отчего же мы не знаем его? — Наше
исповедание не воспрещает постигать таинства вселенной и
совершенствовать жизнь общую ко благу. — Вечная истина святой
религии не процветает; иначе она бы не была вечною; более и более
проясняет не себя, а людей; и тот еще идолопоклонник, кто не
поклоняется Долгу, Закону, Правде и Порядку; а поклоняется золоту и
почестям873 — боится своих идолов и из угождения им готов забыть
правоту.
Ответы на первое «Философическое письмо»
603
Преобладание Христианской религии не основывается на
насилии, и потому не поверхностная философия восставала «против
войн за веру и против костров», а истина самого Христианства.
И какой мир идей можно создать в сшибке мнений. Сшибка мнений
свойственна ученикам, в этих жарких спорах ложный силлогизм так
же может торжествовать, как и меч в руках сильнейшего, но
вместе и несправедливейшего. Истинное убеждение скромно
удаляется от тех, которые его не понимают, не унижает себя раздором за
мнения. — И потому мне кажется, что религия в борениях запада
была только маской874 иных человеческих усилий; ибо религия не
спрашивает человека, на каких условиях живет он в обществе: она
уверена, что если образцы общественной жизни живут правдой, а
не языческой себялюбивой хитростию, то из всех условий общества
один и тот же вывод: долг, закон, правда, порядок.
Религия есть одно солнце, один свет для всех; но, равно-
благодетельные лучи его не равно разливаются по земному шару,
а соответственно общему закону вселенной. Согласуясь с климатом
природы, у нас холоднее и климат идей; с крепостию тела, у нас
могут быть прочнее и силы души. — И мы не обречены к замерзанию:
природа дала нам средства согревать тело; от нас зависит сберечь и
душу от холода зла.
Этим хотел я кончить письмо мое; но не мог удержаться еще от
нескольких слов в опровержение мнений, что будто Россия не имеет
ни Истории, ни преданий, — не значит ли это, что она не имеет ни
корня, ни основы, ни Русского духа, не имеет ни прошедшего, ни
даже кладбища, которое напоминало бы ей величие предков. — Надо
знать только Историю Солонов875, чтоб быть до такой степени
несправедливым.
Виновата ли летопись Русского старого быта, что ее не читают?
Не ранее 12 века, все настоящие просвещенные царства стали
образовываться из хаоса варварства. — В XII веке у нас Христианский
мир уже процветал мирно; а в западной Европе что тогда делалось?
овцы западного стада, возбужденные пастырем своим, думали о
преобладании; но верно святые земли не им были назначены под паству;
Бог не требует ни крови, ни гонений за веру: мечом не доказывают
истины; — Бог слова покоряет словом. Гроб Господень не яблоко
распри; он достояние всего человечества876.
604
Таким-то образом мнимо-великое предприятие должно было
рушиться. — Мы не принимали в нем участия и похвалимся этим. Мы в
это время образовали свой ум и душу — и потому-то ни одно царство,
возникшее из средних времен, не представит нам памятников ХИ-го
столетия, подобных слову Игоря, посланию Даниила к Георгию
Долгорукому877, и многих других сочинений на Славянском языке, даже
IX и X столетий. — Есть-ли у кого из народов Европейских, кроме
Шотландцев878, подобные нашим легенды и песни; у кого столько
своей, родной души, — откуда вьются эти звонкие, непостижимые
по полноте чувств, голоса хороводов, прочтите сборник Кирила879
Данилова880, древнейших народных преданий-поэм. — У какого
Христианского народа есть Нестор? У кого из народов есть столько
ума в пословицах? а пословицы не есть-ли плод опытной, давней
народной жизни?
Еще оставалось-бы высчитать тебе природные свойства и
прижитые недостатки наши и прочих просвещенных народов, взвесить
их, и по ним уже заключить: который из народов способнее
соединить в себе могущество вещественное и духовное? — Но это новый
обширный предмет рассуждения. — Довольно против мнения, что
мы ничтожны.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО <ЧААДАЕВСКОМУ ДЕЛУ>:
ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ881
Вопросные пункты бывшему издателю журнала
Телескоп г. Надеждину882
1. Кто сочинитель статьи, помещенной в 15 № Телескопа, под
заглавием Философические письма к Гже *". Письмо первое? На каком
языке она первоначально составлена и если не на Руском, то
действительно ли вы сами перевели ее и в том ли виде, как она ныне
напечатана, или с изменениями и исправлениями, и в таком случае,
чьими и какими?
Сочинитель означенной статьи есть г. Чадаев, живущий в Москве.
Сколько мне известно, она написана первоначально на французском
языке. Переводил ее не я; а сам сочинитель доставил ко мне русский
перевод, тот самый, который и напечатан. Несколько самых
неважных перемен сделано потом мною в этом переводе; не припомню,
какие именно эти перемены; но все они были чисто литературные,
и я сделал их сколько по обязанности издателя, на котором в
некоторой степени лежит ответственность за слог печатаемых статей,
столько и по просьбе сочинителя, который, жалуясь на
недостаточность перевода, просил меня обратить на него особенное внимание
в отношении к языку и исправить погрешности, которые я в нем
замечу883. Впоследствии, когда статья была уже отпечатана, но книжка
журнала не вся еще была готова, сочинитель пожелал видеть чистые
листы, которые и были к нему посыланы. На этих ли листах он
сделал сам перемены, помещенные в опечатках при конце той книжки,
где статья напечатана.
2. Когда вы именно познакомились с сочинителем этой статьи,
по какому случаю и в каких находились с ним отношениях?
Г. Чадаева я знаю уже лет пять по крайней мере. Сначала я слышал
много о его уединенной жизни, посвященной, как говорили, наукам.
606
Тут же говорили мне и об его сочинениях с большими похвалами,
не называя однако их содержания и предмета. Я любопытен был
увидеть такого человека, и мне указали его в первый раз в
Московском Английском Клубе884. Но, с первого взгляда, странная
наружность его истребила во мне желание с ним сблизиться. В 1832
году мне доставили в переводе отрывки из неизвестного большого
сочинения, с замечанием, что это сочинение писано Русским, но по-
французски. В этих отрывках говорено было о древней
архитектуре и о бессмертии души. Я напечатал их в моем журнале в том
же 1832 году, но в которой именно книжке не припомню885. После
того вскоре, г. Чадаев, встретясь со мной также в Клубе, объявил мне,
что он сочинитель напечатанных отрывков, и предложил мне свое
знакомство, намекая, что он желал бы и впредь участвовать в моем
журнале помещением своих сочинений. Вследствие такого
предложения, я сделал ему визит; но, при разговоре, относившемся
вообще к наукам и способу занятия ими, мое предубеждение против
него усилилось: я нашел в нем очень тяжелого и сухого человека,
так что не только не напомнил ему об его предложении, но и не
стал к нему больше ездить. Тогда я имел много сотрудников по
журналу, почему и не подорожил предложением г. Чадаева, тем более
что он, по-видимому, хотел дать этому предложению вид одолжения.
С тех пор снова прекратилось всякое сношение между мной и им.
Мы только кланялись, видая друг друга в Клубе; в других же
обществах и не встречались вовсе. Г. Чадаев принадлежал к совсем
другому кругу Московских литераторов, между которым и мною до
последнего времени существовало журнальное несогласие. В этом
кругу журнал мой не пользовался благорасположенным мнением; и,
сколько мне известно было по слухам, г. Чадаев был не из последних
моих противников и охуждателей886. Нынешний год я редко выезжал
из дому и потому до июня или июля месяца вовсе не видал г.
Чадаева. В одном же из этих месяцев, в котором именно не вспомню, он,
г. Чадаев, встретив меня опять в Клубе же, подошел ко мне сам, начал
разговор и наговорил мне очень много лестного о моем журнале.
Меня удивила такая перемена в человеке, которого я считал к себе
нерасположенным. Натурально, я продолжил с ним разговор; и тут
он снова предложил мне свое желание участвовать в моем журнале
помещением своих сочинений. На этот раз, с одной стороны край-
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
607
ний недостаток в сотрудниках, с другой же радушный и приятный
тон г. Чадаева заставили меня изъявить готовность воспользоваться
его предложением. Вследствие чего я и получил от него перевод двух
Философических писем, именно третьего и четвертого, которые
показались мне написанными очень умно, достойными замечания
как по содержанию, так и по изложению. Тогда я сам поехал к г. Ча-
даеву, чтобы сказать ему мое мнение об этих письмах. И в это
посещение имел с ним длинный разговор, в котором он убеждал меня
принять для моего журнала нравственно-религиозное направление,
как единственное основание общественного благоденствия и
личного совершенствования каждого человека. Признаюсь, это меня
совершенно расположило в его пользу и загладило прежние против
него предубеждения. Разговор его был весь проникнут любовью к
общественному порядку и неприязнью к потрясениям, волнующим
Западную Европу. Главною причиною этих волнений он полагал
отсутствие веры, упадок религии, в чем и я совершенно с ним
соглашался. Тут он дал мне несколько книг, рекомендуя сделать из них
переводы для журнала; книги эти были: брошюрка барона д'Эккштейна
О Вере, полученная им от самого сочинителя в нынешнем году887,
История Средних Веков Шарпантье888, несколько книжек журнала
«VUniversité Catholique»889 и Письма об Англии Раумера890. Я точно
воспользовался из них несколькими статьями, которых переводы
помещены в последних книжках моего журнала891. Одно только
заметил я странного при этом случае в г. Чадаеве, именно пристрастие
к католицизму, о чем от других слышал еще и прежде. В то же самое
свидание рассказал он мне, что у него целый ряд писем, написанных
в том же духе, как те, которые уже у меня. Я изъявил ему готовность
поместить все их, если они имеют то же содержание и тот же дух.
Он просил меня подождать, пока он пересмотрит перевод первого
письма, которое, по его словам, должно служить введением ко всем
прочим; и через несколько дней, прислал ко мне этот перевод, как
я уже имел честь объяснить в предыдущем ответе. В Сентябре
месяце, когда началось уже печатание писем, я был опасно болен,
вследствие простуды. В это время г. Чадаев посетил меня; и это был
первый и последний раз, что он был в моей квартире. В это посещение
я спрашивал его о втором письме, которое следовало бы поместить
за первым для порядка, но он сказал, что этого второго письма он
608
напечатать не намерен и что это, впрочем, не нарушит связи
писем. Наконец, когда книжка журнала вышла и в Москве стали уже
говорить о статье, я полубольной ездил еще раз к г. Чадаеву, чтобы
рассказать ему о произведенном неприятном впечатлении и о моем
крайнем беспокойстве. В этот раз он успокоивал меня всячески,
уверяя в чистоте и благонамеренности своих идей; причем прибавил,
что образ его мыслей давно известен Правительству, и совсем не с
дурной стороны, что даже все эти письма давно уже известны не
только в Москве, но и в Петербурге, что он еще недавно послал их в
подлиннике чрез кого-то к г. Министру Народного Просвещения и с
тем вместе просил предуведомить г. Министра об их напечатании в
моем журнале892. Это было мое последнее с ним свидание; оно было
8 или 9 Октября, в точности не припомню; знаю только, что прежде,
чем началось следствие по этой статье со стороны г. Попечителя
Московского Университета893. В том, что я имел честь рассказать
здесь, заключаются все мельчайшие подробности моих сношений с
г. Чадаевым. Присовокупляю еще к вышеуказанному показанию, что
я слышал от самого г. Чадаева, что письма его известны Его
Сиятельству, Графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу.
3. Сколько именно передано было вам Философических писем от
сочинителя их, все ли они переведены на Русский язык и где ныне
находится как подлинник, так и перевод?
Ответ на этот вопрос содержится уже в предыдущих моих
показаниях. Я получил от г. Чадаева только три письма: первое, третье и
четвертое. В подлиннике видел только два последние, и то у него в
квартире. Перевод первого письма возвратил я обратно г.
сочинителю, по отпечатании. Перевод третьего остался у бывшего Ценсора
г. Болдырева. Перевод четвертого также обратно возвращен
сочинителю, который сам захотел сделать в нем некоторые
предварительные поправки894.
4. Сами ли вы, или кто другой и когда именно представил
бывшему ценсору Болдыреву на рассмотрение означенную статью, и
одно ли только заключалось в ней напечатанное уже письмо, или и
другие, служащие ему продолжением, и в последнем случае сколько
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
609
именно писем, рассмотрены ли они окончательно и не возвращены
ли уже вам?
По существующему порядку, письмо первое в корректурных
листах было отправлено к г. Ценсору прямо из типографии895; когда
именно, не могу сказать; должно быть около 15 числа Сентября.
Прежде нежели листы были подписаны, я увиделся с г. Болдыревым
совершенно случайно, который при этом свидании сказал мне, что
его затрудняет это письмо по резкости своих выражений. Я просил
его, как обыкновенно бывало в подобных случаях, сделать нужные
исключения или заметки, по которым статья и будет исправлена.
В след за тем г. Ценсор возвратил мне листы, в иных местах вовсе
исключив несколько строк, а в других сделав только отметки
карандашом. Исключенные строки были выпущены, а отмеченные
исправлены896. Все это делалось с моей стороны с таким равнодушием, что
я решительно не помню, в чем состояли эти выпуски и поправки.
Я смотрел на них, как на вещь обыкновенную, случавшуюся не редко
с печатаемыми статьями. Конечно, это равнодушие и невнимание с
моей стороны зависело главным образом от моей болезни, которая
именно в эти дни имела свои первые и жестокие пароксизмы,
угрожавшие мне горячкою. Между тем типография, сделав все нужные
перемены, отправила снова корректурные листы к г. Ценсору прямо,
без всякого моего посредства, который и возвратил их опять туда-же
подписанные. Письмо третье, которое предполагалось к
помещению в 17 книжке журнала, г. Болдырев, уже узнавший неприятное
впечатление, произведенное первым, не решился пропустить сам, а
представил предварительно в корректурных листах к г.
Попечителю Московского Университета, который, по прочтении, сказал, что
статьи этой нельзя пропустить без позволения Духовной Ценсуры.
Чувствуя, как важно для меня скорейшее помещение этого письма,
объясняющего дух и направление автора, я сам лично просил г.
Попечителя о дозволении напечатать его без Духовной Ценсуры, по той
причине, что содержание его не имеет в себе ничего богословского
и церковного, а есть философически-религиозное; почему
представление его в Духовную Ценсуру нисколько не нужно, и только
замедлит его появление, тем более что Духовная Ценсура находится
не в Москве, а в Сергиевой Лавре, от чего на одну переписку потребу-
610
ется немало времени. Г. Попечитель, хотя и соглашался со мной, что
это третье письмо должно убить впечатление первого, но остался
при прежнем своем решении. В следствие чего набор второго
письма в типографии был уничтожен, а корректурные листы остались у
меня без Ценсорского одобрения. Письмо четвертое совсем и не
набиралось в типографии, почему и к подписанию Ценсора
представляемо не было.
5. Не употребляли ли вы сами, или кто другой настояния о
скорейшем дозволении печатать ту статью; без затруднения, или с
трудом согласился Болдырев пропустить ее и не требовал ли сделать в
ней некоторые перемены и какие именно?
В предыдущем ответе я уже имел честь объяснить все сношения
мои с г. Болдыревым касательно пропуска означенной статьи. Я не
употреблял с моей стороны никаких усилий; да и вообще, в
течение трех лет, когда мой журнал рассматривался г. Болдыревым897, я
совершенно покорялся его распоряжениям, и когда он приказывал
что опустить или изменить, никогда не настаивал на противное. Не
думаю, чтобы и кто другой в этом случае употреблял какое-либо
настояние; по крайней мере ничего подобного я не слышал от г.
Болдырева. Что ж касается до затруднения с его стороны при пропуске
означенной статьи, то я также имел честь объяснить в предыдущем
ответе, что он при свидании говорил мне о замеченной им
резкости выражений, но нисколько о неблагонамеренности духа, вредном
направлении содержания, или о чем-либо подобном. Помню я, что
когда при этом случае просил я его сделать нужные исключения и
заметки, он сказал мне с некоторым упреком, что я должен бы был
собственною предварительною внимательностию избавлять его от
этого труда, что ему гораздо бы приятнее было подписывать все
представляемое мной без малейшего затруднения. На что я отвечал
искренно, что, будучи обременен таким множеством разнообразных
дел, не могу иметь к себе доверенности и боюсь, при всем внимании,
не заметить того, что ему, как человеку свежему, скорее бросится в
глаза898. После того, как я уже имел честь сказать, он прислал мне
листы с некоторыми исключениями и заметками. Затем я уже и не
видался с ним до тех пор, пока книжка журнала не только вышла со-
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
611
всем в свет, но и обратила на себя внимание, что случилось, думаю,
недели через три после подписания им означенной статьи. Считаю
еще нужным присовокупить к сделанному выше показанию, что во
время разговора моего с г. Ценсором до подписания статьи, он
сказал мне: «как бы не перетолковали этого письма в дурную
политическую сторону?» — О! что до политики, ответил я, бояться, кажется,
нечего. Сочинитель с этой стороны не подозрителен. А вот о чем
я должен предуведомить вас: он очень пристрастен к католицизму.
Впрочем, будьте внимательнее ко всему899. — И тут-то г. Болдырев
сказал мне тот упрек, о котором я говорил выше. Вообще все это
свидание продолжалось не более четверти часа; и я не мог говорить
много, потому что уже чувствовал в себе начало болезни, что, думаю,
заметил и г. Болдырев.
6. Когда именно на статью подписано дозволение печатать и
когда возвращена она вам? Тотчас ли после того приступлено к ее
печатанию, или и за тем она оставалась некоторое время в руках ваших,
сколько именно времени, и по каким причинам?
Когда именно статья подписана к печатанию, я уже имел честь
объявить, что определенно не помню; полагаю только, что должно
быть между 15 и 20 числом прошлого Сентября. По подписании
листы были немедленно отпечатаны, без всякой со стороны моей
задержки. Я даже и не видал их подписанными; ибо, как имел честь
объяснить прежде, они были препровождены от г. Ценсора прямо в
типографию. Так обыкновенно бывало со всеми листами, где Цен-
сор не делал никаких заметок, требующих просмотра и
исправления со стороны издателя: такие листы типография, получив прямо
от Ценсора, печатала не показывая издателю.
7. Когда именно вы представили экземпляр 15 номера Телескопа
Болдыреву для получения билета на выпуск из типографии и когда
таковой вам выдан? Не сопряжено ли было это с затруднениями и
какими именно?
По существующему, установленному Ценсурным Уставом
порядку, представление экземпляров отпечатанной книжки к Ценсору и
612
получение билета на выпуск ее в свет, производилось совершенно
мимо меня, без всякого моего участия и даже ведома. Это долг
типографии, а не издателя900. Почему я и не знаю определенно, когда
получено дозволение Ценсора на выпуск 15 книжки; думаю однако,
что должно быть не позже утра 3 Октября, ибо к полдням этого
числа она уже разослана была по лавкам Московских книгопродавцев,
согласно объявлению, напечатанному в Московских Ведомостях901.
Полагаю, что затруднений никаких со стороны Ценсора не было
при этом случае; ибо в противном случае типография бы уведомила
меня немедленно; да и сам г. Болдырев, с которым я увиделся дней
через пять после выхода книжки, ничего подобного мне не говорил.
Впрочем впоследствии случилось следующее обстоятельство, о
котором считаю долгом упомянуть здесь. Больше чем через неделю
уже после выхода книжки, кажется 13 Октября, г. Болдырев приехал
ко мне в квартиру чрезвычайно расстроенный и объяснил, что он
накануне был призывай г. Попечителем, который представил ему в
самом ужасном свете вышедшее письмо902. Как я и сам был поставлен
уже на другую точку зрения относительно этого письма, то вполне
разделил его беспокойство903. Тогда он вдруг предложил мне:
нельзя ли перепечатать этой статьи с некоторыми новыми выпусками и
переменами? Я отвечал ему, что отдал бы все на свете, если б мог всю
ее уничтожить; но что к нещастию это уже поздо (sic!), потому что
книжка везде уже разослана и прочтена. Таким образом, предав
судьбу свою воле Божией, мы расстались; и я с тех пор не видал лично
г. Болдырева. Помню еще, что в то же последнее свидание г.
Болдырев к крайнему изумлению моему сказал мне, что билета на 15
книжку он еще не выдавал, хотя уже, как я имел уже честь выше объяснить,
прошло около десяти дней после ее выхода в свет. Такое замедление
с его стороны показалось мне очень странно, тем более, что, как сам
он говорил при том же случае, книжка выпущена с дозволения его,
написанного на чистом экземпляре, который типография, по
существующему при периодических изданиях порядку, представляет
Ценсору для предварительного одобрения к выпуску. Я приписал
это тому же расстройству духа, по которому г. Болдырев предлагал
мне перепечатать статью, тогда как это было уже совершенно
невозможно и противузаконно. Когда после того выдан билет, и даже
выдан ли он и теперь, я не знаю; потому что, как выше сказал, с тех
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
613
пор с г. Болдыревым не виделся, а о деле этом, как о совершенно
постороннем и не касающемся до меня904, ни от кого другого не
наведывался.
8. Не была ли напечатана независимо от Телескопа та же статья
отдельно; в каком числе экземпляров; сколько из них и кому именно
разослано; и сколько затем осталось у вас?
Независимо от журнала статья печатана не была; но, по желанию
сочинителя, пущено было двадцать пять лишних листов этой
статьи против обыкновенного числа экземпляров журнала. Из этих
листов составилось двадцать пять особых полных экземпляров
статьи, которые и были препровождены немедленно по выходе книжки
к г. Чадаеву905. Кому он разослал их, я не спрашивал у него и не знаю.
У меня же таких отдельных экземпляров ни одного не осталось.
9. Каким образом могло укрыться от вас вредное содержание
означенной статьи; а если не могло, то какие причины побудили вас
к напечатанию оной?
Вопрос этот приводит меня в крайнее затруднение; ибо теперь,
смотря с другой стороны на означенную статью, я чувствую, как
странно и даже невероятно должно казаться мое тогдашнее
ослепление. Но Богом свидетельствуюсь, что до печатания и во время
печатания, одним словом пока другие не открыли мне глаз, я видел эту
статью совершенно в другом свете. Сколько могу теперь разобрать и
определить тогдашнее мое положение, причины,
предрасположившие меня к таком странному ослеплению, были следующие:
1. Совершенная доверенность, которую сочинитель статьи,
г. Чадаев, умел внушить мне относительно чистоты и
благонамеренности своего образа мыслей. В предыдущих ответах я уже имел
честь объяснить, что первые письма г. Чадаева, которые я читал,
были третье и четвертое, произведшие на меня самое
благоприятное впечатление своим нравственно-религиозным направлением.
Особенно увлекло меня третье письмо, которое все говорит о
покорности, об уничтожении личной воли человека, о безусловной
преданности закону, не нашим произволом вьщуманному, а вне
614
нас находящемуся906. В этой покорности, в этом самоуничижении, в
этой безусловной преданности, автор письма полагает последнюю
степень совершенства человеческого и говорит, что человек,
совершенно уничтоживший в себе порывы личного своеволия, убивший
свое Я, на земле еще создает для себя небо. Такие мысли,
совершенно согласные с моими убеждениями, совершенно
расположили меня в пользу означенных писем и их сочинителя. Но всю мою
доверенность г. Чадаев выиграл обольстительно-умным и
благонамеренным разговором при свидании, которое я имел с ним по
прочтении этих двух писем. С таким одушевлением говорил он против
нынешнего состояния Западной Европы, которой, вместо
обольстительного призрака совершенства, угрожает конечное разрушение;
и все это приписывал охлаждению веры Христовой и нарушению
проповедуемой в Евангелии покорности. С восторгом переносился
он в те времена, когда Западная Европа была вполне христианскою
и безусловно преданною Евангельским идеям детского смирения,
детского повиновения, и называл эти времена золотыми веками
Европейской истории907, особенно эпоху Крестовых Походов. Этот
разговор, признаюсь, очаровал меня, сколько по тому, что
согласовался с моими собственными мыслями, столько и по тому, что мне
крайне приятно было встретить неожиданно человека, до такой
степени проникнутого христианскими чувствами долга и покорности,
несмотря на его иноземное, или как говорят европейское
образование. Об России, г. Чадаев при этом случае говорил с сожалением,
что особенно в так называемом образованном нашем классе вера
не имеет той силы, какая необходима для истинного просвещения.
И в этом отношении я также соглашался с ним до некоторой
степени; ибо знал по опыту, какое малое участие принимает еще
религия в нашем образовании. Большая часть людей умных, которые и
сами себя считают и от других считаются просвещенными,
признают веру чувством совершенно особым, посторонним, и не только
не стараются основывать на ней всех своих умственных понятий
и нравственных убеждений, но даже почитают ее несогласимою с
нынешним просвещенным образом мыслей; они говорят: «это так
по религии; этому надобно верить; но разум этого не принимает;
он говорит иное». Заблуждение, по моему мнению, самое ложное и
гибельное! Ибо оно ставит в противоречие сердце с умом, и таким
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
615
образом вредит полному, совершенному просвещению человека,
которое должно состоять в единодушной покорности ума и
сердца одной истине. Под державою ныне благополучно царствующего
Монарха, при новом образовании училищ, религия поставлена во
главу и основание просвещению908. Но четырехлетняя служба моя
при Московском Университете в звании Профессора,
сопровождавшаяся визитациею училищ в нескольких губерниях, показала мне,
как слабо еще у нас самые наставники Закона Божия понимают всю
важность своего высокого служения. В свое время я доносил об этом
Университету, с предложением мер, которые, по моему мнению,
следовало бы внушить для должно преподавания Закона Божия; и эти
меры удостоились одобрения г. Министра Народного
Просвещения, были потом введены как правила во всем Московском Учебном
Округе909. Я беру смелость упомянуть здесь об этом обстоятельстве
для того, чтоб показать причины, по которым я соглашался с г. Ча-
даевым в бывшей недостаточности нашего религиозного
образования. Что касается до гражданского устройства в нашем отечестве, в
том же разговоре г. Чадаев изъявлял крайнее негодование против
тех мнимо-просвещенных людей, которые осмеливаются мечтать о
каких то европейских формах гражданского быта. Здесь он говорил
с большою силою и отчетливостию, что эти мнимые европейские
формы совсем не суть европейские, а искажение, передразнивание
Английского порядка вещей, который в Англии был следствием
обстоятельств, принадлежавших собственно одной этой стране,
почему и не может быть свойствен никаким другим государствам910. Это
доказывал он беспрестанными волнениями нынешней Франции,
устроившейся по Английскому образцу, и еще более плачевным
примером Испании, которой единственным спасением, по его
словам, должно быть самодержавие Дон-Карлоса911. Что касается
собственно до России, то он с торжеством показал мне место в новом
сочинении Раумера об Англии, где этот просвещенный Германец
так возвышенно говорит о священной особе Государя
ИМПЕРАТОРА; дал мне книгу и советовал перевести это место для журнала, что
я и сделал. Перевод этот напечатан в той же 15 книжке, где и первое
письмо912. Все эти обстоятельства я описываю здесь с такою
подробностью, потому что они внушили мне совершеннейшую
доверенность к мыслям и чувствам г. Чадаева. Был ли он со мной искре-
616
нен, я не знаю; но если он притворялся, то да простит ему Бог! Ибо
важною причиною моей несчастной неосторожности при
помещении его статьи, была конечно эта полная к нему доверенность.
2. Признаюсь, с первого прочтения письма от меня не укрылся
резкий тон, которым автор его унижает народ Русский, отрицает у
него прошедшее, говорит, что мы никогда не шли вместе-с другими
народами, и пр. Я очень понимаю, что такие отзывы должны
оскорбить нашу народную гордость915. Но я имел, может быть странное,
но тем не менее самое чистое и самое благонамеренное убеждение,
что для блага нашего отечества не только полезно, но даже
необходимо противодействовать гордости в собственном смысле
народной. Осмеливаюсь испрашивать благосклонного и
снисходительного внимания на ряд мыслей, породивших во мне такое убеждение.
Я должен изложить их с некоторою подробностью; потому что
здесь дело идет о тайнах моей души, потому что это будет моя
торжественная исповедь, как перед судом Божиим. Если я ошибался, то
ошибка моя была заблуждение ума, а не сердца. Начинаю с истории
моего образования. Я посвятил с детских лет жизнь мою наукам.
Мое первое воспитание было духовное, богословское, классическое.
Кончив курс наук в высшем духовном училище914, я получил
твердый, логически установленный образ мыслей, состоявший в чистом
религиозном воззрении на вещи, в безусловной преданности
отеческим нравам, вере, державной власти, и в совершеннейшей
уверенности, что нет и не может быть другого просвещения, кроме
сознательного благоговения к Богу, Престолу, Отечеству. Как же я был
изумлен, когда, принужденный обстоятельствами вступить в так
называемый свет, с которым дотоле не имел никакого сообщения, я
увидел, что есть другой образ мыслей о просвещении, о благе, об
усовершенствовании? До тех пор я весьма неопределенно знал
последние события, в продолжение сорока лет случившиеся в
Западной Европе, не читал никаких новых книг, даже худо знал
французский язык; почему все, идеи и даже язык так называемого
европеизма были для меня совершенною новостью. Чувствуя в себе
силы, я решился изучить все это. Но основные идеи мои были уже
так тверды, что европеизм не мог поколебать их. В 1829 году, после
трех лет непрерывного, уединенного занятия, я нашел себя столько
сильным, что явился на литературном поле915. Мои первые статьи
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
617
были печатаны в издававшемся тогда «Вестнике Европы». Я восстал
в них с жаром против вредного направления, обуявшего нашу
словесность под именем романтизма, и с особенным ожесточением
преследовал «Московский Телеграф», бывший тогда главным
органом новой европейско-романтической школы. И меня встретили с
неприязнию, с ругательствами; в тогдашних Московских и
Петербургских журналах все называли меня вандалом, семинаристом,
старовером916. Когда «Вестник Европы», вследствие недостатка
средств, принужден был прекратиться917, я не хотел сходить с
поприща и испросил себе дозволение издавать свой журнал918.
Направление мое было: противодействовать ложным, вредным идеям,
заносимым к нам с Запада, и я был столько счастлив, что, в конце
1831 года, Его Императорское Величество Государь Император все-
милостивейше соизволил повелеть объявить мне чрез тогдашнего г.
Попечителя Московского Университета Князя Сергия Михайловича
Голицына919, чтобы я считал Его Величество в числе подписчиков
моего журнала. Такая неоцененная Монаршая милость влила мне
новую бодрость. Смею указать на все мои статьи, помещавшиеся в
«Телескопе» и «Молве» в 1831 и 1832 годах: они исполнены
чистейшей преданности к великому Государю и Отечеству, проникнуты
глубочайшим негодованием против так называемого европейского,
губительного просвещения920. Я вел тогда горячую полемику с
«Московским Телеграфом», и квасной патриотизм, любимое
выражение этого журнала, был особенным предметом моих нападений921.
Не имея под руками ни одного из моих журналов, я не могу указать
здесь этих статей, но осмеливаюсь просить обратить на них
благосклонное внимание. С 1833 года922 ревность моя в издании журнала
ослабела. Я вступил в Московский Университет Профессором; на
меня возложено было множество должностей, кроме чтения
лекций, так что я не имел возможности заниматься журналом, как
прежде923. От того в продолжение 1833 и 1834 годов журнал мой
наполнялся больше статьями переводными. В 1835 году занятия
Университетские до-того расстроили мое здоровье, что я должен
был оставить службу и, по предписанию врачей, ехать за границу,
чтобы укрепить себя отдыхом и путешествием924. В это время
журнал мой издавался особою редакциею с разрешения Министерства
Народного Просвещения925. Путешествие мое продолжалось семь
618
месяцев, до начала нынешнего года, оно возвратило мне здоровье и
силы. Я решился восстановить мой журнал, пришедший в
отсутствие мое в совершенный упадок, сколько по тому, чтобы
обеспечить себе возможность существовать, столько и по желанию быть
полезным, трудиться для истинного блага и истинного
просвещения. На этот раз я решился изменить несколько способ действова-
ния, вследствие обдуманного убеждения. Прежде я восставал
преимущественно против не-патриотического уничижения России пред
так называемою Европою и старался доказывать, что мы Русские во
всем можем равняться с Европейцами, даже гордиться пред ними.
Но опыт убедил меня, что этой меры недостаточно. Так называемые
просвещенные люди с жалкой улыбкой называли меня квасным
патриотом, говорили: «да что он знает? где он был? что видел?».
Другие могли обратить против меня мое оружие, могли сказать: «мы
согласны, что Русский народ велик, что он уже созрел; значит, он
имеет все права на участие в плодах европейской цивилизации!» И,
признаюсь, это последнее мнение казалось мне в тысячу раз
гибельнее первого; потому что первое беспрестанно разрушается
благодетельными попечениями Правительства, совершенствующего
Россию, а последнее в плодах этих попечений находит себе новое
лишь питание. Вот почему я решился, признал полезным восставать
против этой ложной народной гордости и убивать ее вредные
последствия. С этой новой целью я начал нынешний год «Телескопа»
своею собственною статьею, под заглавием: «Европеизм и
народность в отношении к Русской Словесности». Статья эта вылилась у
меня в первые минуты возвращения в отечество. Я старался в ней
убить нашу литературную гордость, которая почитает себя столько
созревшею, что нарочно усиливается подделаться под болезненную
дряхлость нынешней французской литературы. В этой статье я
утверждал, что мы даже не имеем языка литературного, и потому,
вместо подражания Французам и вообще Европейцам, должны
смиренно заняться обработкою, созданием чистого Русского языка,
достойного великой Державы, которая говорит им. Не имея под
руками книжек, я не могу припомнить ничего определенно из этой
статьи; но умоляю обратить благосклонное внимание особенно на
ее заключение, которое вполне обнаруживает мои истинные
чувства, чувства, которыми я считаю себя в праве гордиться, как истин-
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
619
ный сын России, как преданный слуга Русского Царя. В этой статье
я говорил о народности, противополагая ее ложному
европеизму926. Но самое имя народность, при дальнейшем исследовании,
показалось мне опасным, способным к перетолкованию и выводу
ложных идей. Европейская атмосфера так внедряется во все, что
заразила даже самый язык, исказила смысл слов. Известно, как
понимают народность на Западе, в каком духе произносят, проповедуют
это слово. Там народность означает какую-то отдельную
самобытность народа; и не во имя ли этой народности, этой безумной
гордости, мечтающей о какой-то самобытности народа, совершаются
там беспрестанные волнения? Вот почему я положил идти гораздо
далее: убивать чувство всякой отдельной народности в нашем
отечестве, которое до сих пор не иначе жило и сознавало себя, как в
своей самодержавной Главе, для которого народность состояла
всегда в царелюбивой покорности927, которое, и впоследствии,
должно наперекор Европе, явить в себе блистательный урок, как из
святого единства самодержавия должно возникнуть образцовое,
высочайшее народное просвещение, блаженство и слава. Начало
этому я сделал уже и в той вышепомянутой статье, где между-прочим
старался развить ту мысль, что Россия не Европа и не должна быть
Европой, что эта великая Держава, обнимая седьмую часть Земного
шара, есть особая часть света, которая должна и предназначена
Промыслом развить из себя свою Русскую цивилизацию, которая
так же обновит дряхлую Европу, как за несколько веков Европа в
лице Греции и Рима обновила дряхлую Азию928. Потом я составил
себе следующий идеал Русской самобытной цивилизации. Мы,
Русские, до сих пор, благодаря Провидению, не принимали никакого
участия в ходе и волнениях Западной Европы; мы составляем еще
великое патриархальное семейство, в тех чистых, первобытных
формах, какие сам Господь изрек для первых семей рода
человеческого. Мы дети одного Отца Отечества, который печется о нас и
правит нами с отеческою любовию и с отеческим самодержавием.
Все народы начали свою историю с того же самого состояния,
которое есть единственно свойственное человеческой природе: семья
разумных существ, людей есть по натуре своей монархия; только
бессмысленные животные бродят не покорными, не послушными
никому стадами. Но прочие народы вышли из этого состояния, рас-
620
теряли свои силы в буйном своеволии, и погибли в болезненных
судорогах преждевременной старости. Так погибла Греция; так
погиб Рим; так без сомнения погибнет и всякий народ, свергнувший с
себя патриархальную власть отеческого самодержавия, задумавший
жить сам собой, без послушания, в состоянии зверей. В нашем
любезном отечестве эта благодатная семейность сохраняется целою и
девственною; но европеизм угрожает ей своими тлетворными
внушениями. Чем же поддержать, упрочить это спасительное
состояние? Убеждением, что народ сам по себе ничего не значит, что он
имеет смысл и значение только в своей Главе, что всякое чувство
отдельной самобытности есть для него гибель, что только в детском
смирении, в детском самоуничижении, в детском отречении от всех
притязаний произвола, в детском повиновении мудрому,
попечительному Промыслу Родителя, заключается его спасение,
блаженство, сила. И какой другой народ ближе к этому высокому идеалу
семейной цивилизации, как не Русский, который до сих пор не
переставал быть согласной, единодушной, безусловно покорной
семьей — семьей детей, конечно со свойственными детям
недостатками, но зато с какими же надеждами? с такими, каких не иметь ввек
дряхлым Европейским народам, прожившим свои силы в искании
мнимой самобытности, в желании пожить своим умом, своей
волей! — «Но, говорят, мы уж не дети; мы давно выросли,
созрели!» — Когда ж? — «Мы имеем тысячу лет истории!» — Пусть
Европейцы хвалятся своими тысячелетними историями; они им стоили
и будут еще стоить много. Наша история не есть история народа, а
история добрых, мудрых, царей, в которых мы жили и должны жить
всегда. Эта история не длинна: введение сделали в ней Иоанны,
начал ее вполне Петр, продолжают его августейшие преемники.
Историю нашу мы должны делить не по периодам народной жизни, а по
царствованиям, представляющим со времен Петра непрерывную
лествицу благодеяний Царей и блаженства подданных. Европейцы в
своей истории ищут и находят разнородные стихии, из борения
которых составилась общественная жизнь их. У нас не было этих
стихий, у нас нет их, и дай Бог, чтоб никогда не было! У нас одна вечная
неизменная стихия: ЦАРЬ! Народ Русский существует только в
своем Царе; без него это ряд нулей; с этой державной единицей, нули
превращаются в биллион. Вот мой символ веры!929 Если я ошибался,
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
621
если это мечты, то по крайней мере источник их чист и свят.
Словом: я объявил себя врагом собственно народной гордости, потому
что считал и теперь считаю ее несовместною с истинным
назначением народа Русского, который должен гордиться собой только в
державной Главе своей. При этом расположении духа и образе
мыслей, я читал письмо г. Чадаева. Я уже имел честь объяснить все
обстоятельства, предрасположившие меня в пользу автора. И,
признаюсь в моем ослеплении, резкий, унизительный тон, которым он
говорит о народе Русском, показался мне согласным с моею целию.
То, что он говорит о разобщении нашем от всемирной жизни
человечества, о не существовании у нас прошедшего, о не
принадлежности нашей к Европейскому Западу, все это считал я полезным для
подавления той народной гордости, которую положил
преследовать. И мое ослепление было тем естественнее, что г. Чадаев, говоря
унизительно о народе Русском, явно отделяет от народа державную
власть Царей, видя в ней напротив единственное начало
совершенства для народа, который сам по себе ни к чему не способен930.
Я осмеливаюсь выписать здесь его слова, которые особенно
служили к моему обольщению относительно благонамеренности автора
и статьи: «Некогда великий Царь хотел нас образовать, и чтоб зао-
хотить к просвещению, бросил нам мантию цивилизации: мы
подняли мантию, но не коснулись просвещения. В другой раз, другой
великий Государь приобщил нас своему великому посланию,
проведши победителями с одного края Европы на другой; мы прошли
просвещеннейшие страны света, и что же принесли домой? Одни
дурные понятия, гибельные заблуждения» (стр. 294 и 295). Эти
слова убедили меня, что унизительный тон письма направлен только
на народ, представляемый отдельно от своей державной Главы.
Сверх того, другое место письма утвердило меня в том мнении, что
оно может быть устремлено против той безумной
притязательности на европеизм и европейские формы, которая, по моему мнению,
весьма естественно рождается из ложной народной гордости951.
Это место осмеливаюсь также здесь выписать: «После этого,
скажите, справедливо ли у нас почти общее предположение, что мы
можем усвоить европейское просвещение, развивавшееся так
медленно, и притом под прямым и очевидным влиянием одной
нравственной силы, сразу, даже не затрудняясь разысканием, как
622
это делалось?» (с. 297). Наконец последнее, что ослепило меня
окончательно на счет впечатления всего письма, было следующее место
статьи: «В мире христианском все необходимо должно
содействовать и в самом деле содействует учреждению на Земле
совершенного порядка. В противном случае действительность противоречила-
бы слову Господа: он не был бы посреди своей церкви до скончания
веков. Новый порядок, царствие Божие, которое должно было
осуществиться искуплением, не отличалось бы от прежнего порядка,
от царства зла, которое искупление должно было уничтожить.
Тогда существовала бы одна вообразительная усовершимость, о
которой мечтает философия и которую обличает во лжи каждая
страница истории: суетное волнение ума, удовлетворяющее только нуждам
существа материального, которое если когда и возносит человека
на некоторую высоту, то для того только чтоб низвергнуть потом в
глубочайшие пропасти» (с. 298). Так как я предполагал вслед за этим
письмом немедленно поместить следующее, где автор говорит о
покорности, как о единственном условии существования на земле
царства Божия952, то я имел безрассудство думать, что
оскорбление, нанесенное гордости народа, рассматриваемого в
отдельности, будет иметь полезное следствие, приведя к тому неизбежному
результату, что ничтожество наше должно получать значение, силу
и достоинство не чрез сознание своего равенства с Европою, а чрез
нравственное-религиозное образование, которого первое
основание есть христианская покорность.
3. Наконец, при всем этом, я предчувствовал, что статья,
написанная таким резким тоном, должна непременно возбудить во
многих неудовольствие и родить горячие опровержения. Я ожидал
этих опровержений; и у меня уже были готовы в мысли ответы,
которые бы повели меня прямо к цели. Я знал, что могли сказать:
«Но разве народ Русский не стоит уже на блистательной степени
совершенства и в отношении к тому, что есть лучшего в Западной
Европе? Разве у нас не процветают науки, искусства, торговля,
промышленность? Разве с каждым днем не умножаются школы,
фабрики, полезные и благотворительные заведения?» — Я готов был на
это отвечать: «Так! все это правда. Но кто дал нам это? Сами ли мы?
У нас процветают науки, искусства, торговля, промышленность; но
кто виновник всего этого? Не мы, а отеческая попечительность на-
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
623
ших самодержавных МОНАРХОВ! Всему этому насильно, против
нашей воли, положил основание великий Петр, который, чтобы
принудить нас учиться и работать, сам своими державными руками
строил корабли, ковал железо! Петр создал наше бытие; Екатерина
украсила его; Александр возвеличил; НИКОЛАЙ ведет далее к
совершенству!» Я бы развил еще сильнее, еще ярче ту мысль, которая
была уже высказана в одной из последних книжек моего журнала,
по поводу посещения Нижегородской ярмарки его ВЕЛИЧЕСТВОМ
Государем ИМПЕРАТОРОМ: ту мысль, что если мы богатеем с часу
на час, если промышленность наша идет исполинскими шагами,
капиталы растут, торговля проникает в отдаленнейшие глубины
Азии, так это по тому что мудрый, великий Государь сам зовет нас,
прокладывает пути к обогащению, и потом опять сам же нас
изволит награждать, если мы обогащаемся согласно с его
намерениями933. Я бы повторил еще громче превосходные слова Раумера,
помещенные в той же самой книжке, где и письмо г. Чадаева, что у нас
в России «один центр всего, и этот центр есть наш ИМПЕРАТОР, в
священной особе Которого соединены все великие
государственные способности» (стр. 386). И потом я бы высказал с новою силою
мою задушевную мысль, что народ Русский сам по себе ничто, что
он ничего для себя не сделал и сделать не может, что он не
должен гордиться собой и надеяться на себя; но что у него есть другая
высшая надежда, благороднейшая гордость: она заключается в его
Царе, который в себе соединяет всю Россию, носит ее
просвещение, силу, блаженство!
Этим рядом мыслей и чувствований, в соединении с
вышеизложенными обстоятельствами, я увлечен был к напечатанию статьи
г. Чадаева и введен в совершенное ослепление на счет ее
содержания, так что не ожидал от ней никаких других впечатлений,
кроме изъясненных выше. Но теперь с глубочайшею горестию вижу,
как жалко я ошибся. Взятая отдельно, без связи с другими
письмами, статья эта может только возмущать, оскорблять, производить
справедливое негодование. Без заключения, которое я
предполагал из ней вывесть, она осталась отвратительным чудовищем,
которого я сам содрогаюсь; и я отдал бы жизнь свою, чтоб не видеть
ее никогда, не только связать с ней мое до сих пор чистое,
безукоризненное имя.
624
Беру смелость присовокупить здесь еще несколько слов о том
месте письма, где автор говорит, что мы заимствовали первые
семена умственного и нравственного просвещения у растленной,
презираемой всеми народами Византии. Эту выходку я имел
несчастие понимать не относительно православного Греко-Российского
вероисповедания, в котором я родился и к которому не переставал
изъявлять глубочайшего уважения в самом моем журнале, даже,
кажется, в 14 книжке нынешнего года, по поводу «Писем о
Богослужении Восточной Церкви» г. Муравьева934. Понимал же я эти
слова в отношении к умственным понятиям и нравственным
обычаям, которые мы также заимствовали у Византии, и в самое жалкое
время ее существования. Действительно, в те века, когда мы после
принятия Христианства935, находились в теснейших,
исключительных сношениях с Византиею, Греческая Империя находилась
в крайнем невежестве и варварстве, которые потом и довели ее
до конечной гибели. Что мы заняли у Византии многие
варварские обычаи, свидетельствует история; Карамзин утвердительно
говорит, что обычай выжигать глаза занят был нашими предками
у Греков936. Фанатическая ненависть, возродившаяся между
Востоком и Западом вследствие разделения Церквей, также нам
передана Византийцами. Греки до того ненавидели Западных
христиан, что предпочитали лучше отдаться Туркам, чем прибегнуть к
их помощи. И у нас до времен великого преобразователя России
Паписты и Лютеране считались хуже Жидов и Татар. Петр, чтобы
победить эту вредную ненависть, неоднократно упрекал Русских
своих подданных, что они коснеют в фанатизме, который довел
Греков до конечного разрушения. Этот-то фанатизм, мне казалось,
имел в виду автор письма, говоря, что мы приняли от Византии
«идею, искаженною человеческою страстию», и вследствие того
были «оторваны от всемирного христианского братства», которое
должно существовать несмотря на различие вероисповеданий и
ныне действительно существует. Касательно же тех слов, что «мы
не тронулись с места, когда Западное Христианство
величественно шло по пути, начертанному его божественным основателем»
и что не для нас, христиан, «зрели плоды христианства», то весь
предыдущий ряд мыслей показывает, что он разумеет здесь
возрождение наук и искусств в Европе, совершившееся, как известно,
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
625
под влиянием духовенства937. Вообще, хотя я и знал пристрастие
г. Чадаева к католицизму, но никак не предполагал в нем нелепого
желания унижать пред ним Греко-Российское вероисповедание;
тем более, что он сам в начале своего письма положил за
основание, что «учение, основанное на высшем начале единства и на
прямой передаче истины священно-служителями, беспрерывно
следующими один за другим, совершенно согласно с истинным
духом церкви» (стр. 277). А таково именно учение православной
Греко-Российской Церкви.
10. Что побудило вас написать замечание, на первой странице
помещенное? Полагали ли вы действительно, издать в журнале ряд
сих писем без затруднения со стороны Ценсуры и какое имели на
сей конец удостоверение?
Примечание, напечатанное под первым письмом938, было
написано мной первоначально для третьего, которым, не имея еще
в руках первого письма, я хотел начать печатание. Впоследствии,
когда первое письмо было прислано и печатание началось с него,
это примечание без всяких перемен помещено было под этим, по
виновному с моей стороны небрежению, но которое происходило
от того же самого ослепления. Причины, которые я имел честь
изложить в предыдущем ответе, объясняют, почему я действительно
располагался поместить в моем журнале, если не весь ряд, то
несколько этих писем, и почему со стороны Ценсуры не предвидел
никакого затруднения к их помещению. Так как примечание мое,
как я уже сказал выше, назначалось первоначально для
третьего письма, то побуждением моим к его написанию было сколько
желание сделать комплимент автору, столько с другой стороны и
то, чтобы обратить внимание публики на эту статью и возбудить
охоту прочесть ее. По несчастию, примечание это, попавшись под
первое письмо, бросает теперь на меня самый невыгодный свет.
Я не могу ничего сказать против этого; умоляю только обратить
внимание на то, что самое простодушие, с каким оно написано,
есть уже очевидное нравственное доказательство, что я не ожидал
от письма г. Чадаева того ужасного впечатления, которое
произведено им.
626
11. Не знаете ли вы чего о других произведениях того же
сочинителя, и если знаете, то о каких именно, — сами ли читали их или
только слышали, когда, и в последнем случае, от кого именно?
О других сочинениях г. Чадаева я ничего не знаю. Даже
неизвестно мне до сих пор, из какого именно сочинения его
заимствованы были те отрывки, которые, как я уже имел честь упоминать,
были напечатаны в моем журнале в 1832 году. Думаю только, что
не из ряда Философических Писем, потому что в противном
случае г. Чадаев верно сказал бы мне это при разговоре о помянутых
письмах939.
12. Не имеете ли вы каких-либо других оправданий в напечата-
нии означенной статьи, кроме тех, которые вошли в ответы ваши
на вышепрописанные вопросы, и буде имеете, то в чем именно они
заключаются?
Оправдываться в напечатании означенной статьи теперь я не
смею и помыслить. Зная впечатление, произведенное ею,
впечатление, которого я уже не могу изгладить, как прежде имел безрассудство
предполагать, я сознаю вполне всю виновность моей
неосторожности. Но окончательно убивает меня та мысль, что напечатание этой
статьи огорчило отеческое сердце Государя ИМПЕРАТОРА; это, перед
моею совестью, обращает сделанную мной неосторожность в самое
тяжкое преступление, такое преступление, для заглаждения которого
я считаю всю жизнь мою недостаточною. Если я могу еще что
позволить себе, так уверение в отсутствии всякой злонамеренности при
помещении этой статьи. Призываю сердцеведца Бога в свидетели
чистоты души моей, которая вся исполнена любви к Отечеству и
безусловной преданности великому ГОСУДАРЮ. Я не могу представить
других доказательств этой чистоты, кроме моей прежней
беспорочной жизни и службы, равно как и всех моих собственных сочинений,
печатанных как в моем журнале, так и в других изданиях940. Но это
доказательства нравственные: они не рождают доверенности; им дает
силу доверенность, которой я имел несчастие лишиться. Итак, всю
надежду моего оправдания возлагаю только на Бога и на милосердие
МОНАРХА.
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
627
13. Где вы воспитывались? и, отвечая на сей вопрос, опишите весь
ход, так сказать, историю вашего воспитания.
Родясь в духовном звании, я получил первое воспитание в
Рязанской Духовной Семинарии; потом поступил в Московскую
Духовную Академию, где кончил курс и получил степень Магистра.
Оттуда отправлен был обратно в Рязанскую Семинарию Профессором,
где и служил два года. Потом переехал в Москву в дом г. Самарина, у
которого прожил четыре года воспитателем и наставником детей.
В это время я занимался сам собою, не посещая никаких публичных
лекций, и приготовился к экзамену на степень Доктора Словесных
Наук, которую и получил в Московском Университете. Затем
вступил в конкурс, открытый тем же Университетом на катедру Теории
изящных Искусств и Археологии, и представя сочинение, удостоен
был звания Ординарного Профессора по означенной катедре941.
Что касается до внутренней истории моего образования, то я уже
имел честь изложить ее в ответе на 9 вопросный пункт.
Н. И. Надеждин
Новые показания по чаадаевскому делу942
[Надпись карандашом:] От Надеждина.
Ласкаясь единственною, остающеюся мне надеждою, что
справедливое начальство не откажет в благосклонном внимании ко всем
подробностям, могущим объяснить несчастный мой проступок, беру
смелость изложить здесь некоторые новые показания, которые, по
естественному смущению духа, были опущены мной при словесном
объяснении:
1. Признавая себя совершенно и непростительно виновным в
желании напечатать статью г. Чадаева, я с тем вместе чувствую себя
невинным ни в каких низких, коварных усилиях похитить
доверенность Ценсора для ее одобрения к печатанию. Слова: «вы, как
свежий человек, лучше рассмотрите, чем я с головою, отуманенною
разными делами!» так живо остались в моей памяти, как будто я
вчера сказал их. Сверх того честь имею присовокупить здесь новое
628
обстоятельство, которое теперь только пришло мне на память.
Вопреки всегдашнему обыкновению, статья г. Чадаева послана была к
Ценсору в корректурных листах вся вдруг, а не отдельно листами,
один за другим, как это бывало в других случаях. И это было по
особенному с моей стороны распоряжению, дабы Ценсор мог всю
ее вдруг прочесть и обнять, а не прерывать внимания с каждым
листом, на день, или на два, пока другой лист наберется и
приготовится. Я теперь живо помню, что это обстоятельство я заметил
г. Болдыреву, когда он изъявлял мне свои сомнения на счет
резкости статьи. Не знаю, почему он отвергает говоренные мною в то
время слова и то, что я взял у него один только лист, а два прочие
(точно два, а не один) оставил у него для отметок и получил после.
По уважению к его характеру думаю однако, что это происходит
от забвения с его стороны. Впрочем на счет последнего, я могу
сослаться на свидетельство типографии, которая именно получила
прежде один лист для исправления, а потом два остальные.
2. Я никогда сам не просил статей у г. Чадаева, и ездил к нему в
первый раз уже благодарить за их присылку. Г. Чадаев также никогда
не говорил мне о своих опасениях на счет Ценсуры, если он их имел,
тем более не просил меня о не помещении первого письма. Что он
сам желал видеть свои статьи напечатанными где бы то ни было, на
это я имею свидетельство г. Андросова, издателя Московского
Наблюдателя943, который, после уже напечатания первого письма,
говорил самому мне, что письма эти были в редакции его журнала, но
он не решился поместить их и тем крайне огорчил г. Чадаева944. Сам
же г. Чадаев говорил, что напротив редакция Наблюдателя просила у
него эти письма и вызывалась напечатать первое, с тем только,
чтобы везде, где говорится о России, не говорить: «мы», а выражаться
неопределенно: «некоторые народы», на что он, г. Чадаев, не
согласился. Все эти слова, которые теперь пришли мне на память, я могу
подтвердить свидетелями.
3. Внешних побуждений к напечатанию статьи я не имел никаких
других, кроме желания заинтересовать внимание публики и тем дать
ход журналу945. Зная известность и вес автора в высшем обществе, я
ожидал впечатления от самого имени его, которого он нисколько не
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
629
думал скрывать, хотя и не подписал под статьею. От того же г.
Андросова слышал я, что г. Чадаев, еще до напечатания статьи, разглашал
везде, что он участвует в моем журнале и будет помещать в нем свои
сочинения. Такой авторитет для известности и хода журнала конечно
мог быть выгоден. Что ж касается до вредных последствий, то я никак
не ожидал их, предоставляя себе немедленно сделать на эту статью
возражение, и тем, изгладив дурные впечатления, поддержать
вместе занимательность журнала. Но этому воспрепятствовало решение
г. Попечителя Графа Строганова, который приказал, чтобы об этой
статье ничего нигде помещаемо не было946. Почему я ограничился
приготовлением особой статьи «о народной гордости», которая
написана в том же духе, как и последнее мое возражение, только без
всякого отношения к письму. Статья эта, по причине запрещения
журнала, не вышла в свет947. Кроме внешних расчетов журналиста,
чтоб дать ход журналу, имел я в виду еще и то, что, растрогав
внимание публики, обращу ее тем с живейшим участием и на собственные
мои мысли, состоящие в решительном противоречии с статьею г. Ча-
даева. В этом последнем я чувствовал тем большую нужду, что до сих
пор все патриотические мои мысли, которыми я имею полное право
гордиться и которые уже осчастливлены лестным одобрением
Начальства, или вовсе не обращали на себя внимания, или в некоторых
возбуждали презрительные отзывы в посмеяние мне. А что я не
скрывал этих мыслей, тому доказательством могут служить все мои
собственные статьи: нет строчки в последнем моем возражении, которое
удостоилось такого благосклонного внимания, где бы содержалась
мысль, не высказанная уже мной, иногда несколько раз, в журнале.
Одним словом: я считаю себя непростительно виноватым в на-
печатании статьи дикой, нелепой, чудовищной, наполненной
грубыми клеветами и оскорбительными дерзостями; но уверяю, по
сущей правде и совести, как пред судом Божиим, что это сделано
было без всякой обдуманной злонамеренности, вследствие
непостижимого для самого меня ослепления. Это Божий гнев, небесное
наказание!948 Вся прошедшая моя жизнь свидетельствует чистоту
моего образа мыслей и благонамеренность чувств; будущее
докажет всю глубину моего раскаяния в этом гибельном ослеплении, на
заглаждение которого посвящу я всю мою жизнь, все способности,
данные мне Богом, и все средства, полученные от образования.
630
Вопрос г. Надеждину949
Призывал ли Вас Попечитель Московского Учебного Округа
Генерал-Адъютант Граф Строганов к себе, прежде издания № 15-го
Телескопа, и увещевал ли Вас переменить направление Вашего
журнала, и когда именно он вас призывал?
Г. Попечитель Московского Учебного Округа меня никогда не
призывал, и я в том беру смелость сослаться на собственное Его
Сиятельства свидетельство. Во всю жизнь мою я только три раза имел
честь быть у него и видеть его лично. В первый раз, по возвращении
моем в Москву из путешествия, я счел долгом представиться Графу
и поручить его благосклонному покровительству себя и свой
журнал. Это было в Феврале нынешнего года. Граф принял меня очень
ласково, говорил со мной долго о моем путешествии, о моих
теперешних намерениях касательно местопребывания и службы,
спрашивал: остаюсь ли я в Москве и не имею ли желания вступить снова
в Университет, из которого я вышел еще до определения его в звание
Попечителя. Я отвечал ему, что я еще ни на что не решился и хочу
нынешний год отдохнуть и подумать внимательнее о будущем. В это
время ни слова не было говорено о журнале, которого и вышла тогда
еще одна только первая книжка. В другой раз, я был у Его Сиятельства
в Июне месяце, и именно по следующему случаю. Раз зашел ко мне в
квартиру г. Болдырев, и между прочим сказал мне, что Граф говорил
с ним о моем журнале, отзывался об нем с весьма лестной стороны,
и только заметил, что я напрасно огорчил двумя несколько жесткими
выражениями одного из гг. профессоров Московского Университета,
при разборе речи, которую означенный профессор произносил и
напечатал950, причем прибавил, что ему не хотелось бы, чтоб в
журнале моем были диссонансы (это собственные слова, переданные мне
от г. Болдырева). Я спросил тогда г. Болдырева: объяснил ли Граф ему,
в чем состоят эти диссонансы? Г. Болдырев отвечал, что нет. Тогда я
опять спросил: могу ли я сходить к Графу и сказать ему, что слышал
от него, г. Болдырева, эти слова, дабы попросить на них объяснения.
Г. Болдырев совершенно уполномочил меня употребить его имя в
этом случае. Вследствие чего я отправился к Графу и был снова
принят им с такою же благосклонностью и ласкою, как прежде. Когда я
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
631
сначала стал благодарить его за лестный отзыв о моем журнале,
переданный мне от г. Болдырева, Граф повторил мне лично этот отзыв и
говорил мне, что он находит журнал мой весьма полезным, желает
мне ревности к продолжению его и ожидает от него весьма много
для содействия просвещению. Потом я повторил ему слова г.
Болдырева о диссонансах и просил его благосклонно объяснить мне смысл
этих слов, уверяя, что я поставлю первым долгом сообразоваться с
его указаниями и никак не выступлю из круга, в котором он меня
поставит. Тогда Граф сказал мне, что он под именем диссонансов
разумеет несогласия, которые замечает между образом моих мыслей о
некоторых частностях публичного воспитания, и теми видами,
которыми намерено руководствоваться Университетское начальство. Тут
он открыл мне, что начальство Университетское намерено усилить
изучение древних классических языков и вообще преподаванию
наук дать направление исключительно положительное, фактическое;
в журнале же моем заметил он некоторое пренебрежение к древним
языкам и особенное пристрастие к систематизму, к логическим
построениям. Это, говорил Граф, тем более может быть соблазнительно
для молодых студентов, читающих ваш журнал, потому-что они
имеют к вам доверенность, как к бывшему их достойному профессору.
Я объяснил тогда Графу, что в отношении пренебрежения древних
языков я совершенно с ним согласен и нигде этого пренебрежения
не проповедовал, а сказал только о речи г. профессора Латинского
языка мою истинную мысль, что содержание ее выбрано неудачно,
ибо вовсе не занимательно и маловажно951. Что ж касается до
исключительно положительного, фактического преподавания наук вообще,
то сказал, что я осмеливаюсь иметь об этом другое мнение и думаю,
что несвязное изучение фактов не может быть достаточно, что
система в каждой науке необходима. Впрочем я прибавил тут же, что
если он находит это мнение неуместным, то я впредь излагать его
в журнале не буду, хотя внутренно всегда при нем останусь. Тогда
Граф с самым благодушным видом сказал мне, что в этом отношении
он никак не хочет стеснять моего образа мыслей, что напротив он
предоставляет мне полное право излагать его и печатать в журнале;
только прибавил весьма ласково, что ему приятнее было бы и для
общего дела просвещения было-бы полезнее, если бы я шел с ним рука
в руку (это были собственные слова Графа). Свидание это кончилось
632
для меня самым приятным образом: Граф просил меня ходить к нему
чаще, забыть все разделяющие нас отношения, говорить все просто,
открыто, искренно, как «Строгонов и Надеждин» (это опять его ж
собственные слова). Когда при прощанье он снова мне повторил, что
я могу приносить и верно принесу журналом своим большую пользу,
я сказал ему, что для поддержания во мне ревности всего нужнее его
начальническое покровительство; Граф обнадежил меня в нем самым
благосклонным и уверительным образом. Это свидание не только не
имело тона увещания, но напротив было для меня самое
ободрительное. И я с истинным удовольствием пересказал весь этот разговор
со всеми подробностями г. Болдыреву при первом с ним свидании,
равно как и другим моим знакомым. С тех пор я уже не имел чести
быть у Графа до выхода 15 книжки, и явился уже к нему больше чем
через неделю, после того как он призывал г. Болдырева952. И в этот
последний раз я был у него опять без всякого с его стороны зову.
Но в этот раз он точно делал уже мне увещание, и очень строгое.
Я объяснил ему тогда отчасти причины, которые увлекли меня
напечатать статью г. Чадаева, те же самые, которые имел честь изложить в
предыдущих ответах. Граф не обратил на них особенного внимания,
говоря, что эти причины касаются только меня, а в этом деле вся
ответственность падет на Ценсора, которым я защищен совершенно.
При этом-то последнем случае, бывшем уже по выходе 15 книжки,
Граф сказал мне, что и в 14 книжке есть места два, которые бы он не
пропустил, если б был Ценсором. Признаюсь, я читал потом с
вниманием эту 14 книжку, и не нашел в ней ничего злонамеренно
предосудительного. Да и вообще за весь нынешний год готов дать отчет в
каждой строчке, в каждом слове моих собственных сочинений; что
ж касается до переводных и чужых статей, смею поручиться за их
общий дух; если ж бы в этих последних найдены были какие-нибудь
неосторожные выражения, то маловажность и совершенная
безвредность их доказывается уже тем, что они ускользнули не от одного
только моего внимания, но и от внимания всех читающих; ибо не
возбудили никаких вредных толков. Само Министерство Народного
Просвещения, сделавшее в течение нынешнего года несколько
замечаний другому Московскому журналу «Наблюдатель»953, моего не
наказало ни одним. По крайней мере ни от Ценсурного Комитета, ни от
г. Ценсора, я не получал о том никакого извещения.
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
633
Дополнительные вопросы Н. И. Надеждину
и ответы954
Дополнительные вопросы бывшему Издателю журнала Телескоп,
Надеждину.
1-й Сами ли Вы лично представили Ценсору Болдыреву
статью Философические письма, или посылали ее к нему, и чрез кого
именно?
2-е В каком виде была статья представлена Ценсору; в рукописи,
или в Корректурном напечатанном листе?
3-е Сколько раз виделись Вы с Ценсором Болдыревым по случаю
Корректуры статьи?
4-е Была ли означенная статья, кроме помещения оной в
Телескопе, отпечатана особо; в каком числе экземпляров, и кому отданы
те экземпляры?
5-е В письме Вашем к Болдыреву, по случаю призыва его в
С.-Петербург, Вы успокоивали его тем, что многие, имеющие голос,
будут писать в его пользу, и что таковые люди есть. — О ком именно
разумели Вы, писавши в таковых выражениях к Болдыреву?
6-е Просил ли Вас Чеодаев не печатать статьи Философические
Письма, и уверял ли он Вас, что Ценсура статьи сей конечно не
пропустит?
Рукой Надеждина:
На вышеписанные дополнительные вопросы имею честь
отвечать следующее:
1. Означенная статья представлена была Ценсору не мною лично,
а посылана из типографии прямо, по всегдашнему порядку.
2. Статья была представлена в корректурном листе.
3. До подписания статьи, как я уже объяснил в прежних моих
ответах, я виделся только раз с Ценсором, и то совсем не по поводу
634
этой статьи. Что же происходило при этом свидании, я объяснил
подробно в ответах на 4 и 5 пункты.
4. Статья, особо в числе 25 экземпляров, отправлена мной к г. Ча-
даеву, как я объяснил в ответе на 8 пункт.
5. При успокоивании г. Болдырева, я не имел определенно в виду
никого, а разумел тех людей, которые изъявляли живейшее
сожаление о несчастии, постигшем его, г. Болдырева. Сам г. Чадаев, при
последнем свидании моем с ним, бывшем после выхода статьи, говорил
мне, что он крайне будет сожалеть, если это происшествие сделает
вред мне и Ценсору, но что он на этот раз спокоен, просил
успокоиться меня и успокоить г. Болдырева, что есть люди, которые имеют
голос и будут писать об этом деле в Петербург. Из числа таких людей,
он наименовал мне, если не ошибаюсь, г. Тургенева, о котором я
после слышал, что он точно весьма жалеет обо мне и о Ценсоре, бранит
Чадаева, что он ввел нас в такую беду955; что, признаюсь, меня очень
удивило, по тому что я г. Тургенева лично никогда и не видывал, а о
статьях его, печатанных в журнале «Современник», в моем журнале
недавно был самый неблагоприятный отзыв956. Сверх-того слышал
я, что Князь Сергий Михайлович Голицын намерен писать именно о
пощаде г. Болдырева957, и даже к ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ Государю
ИМПЕРАТОРУ принести о том всеподданнейшую просьбу.
6. Г. Чадаев никогда не просил меня о не печатании письма. Даже,
бывши у меня, говорил, что он имеет верные сведения, что
начальство решилось, в Ценсурном отношении, давать писателям более
возможности высказывать себя, дабы чрез то составить верное
понятие о настоящем духе и образе мыслей958.
Список с записки, приложенной при отношении
Генерал-Адъютанта Графа Бенкендорфа
к Московскому Военному Генерал Губернатору
от 9 ноября 1836 г., заключающей в себе вопросы
отставному Гвардии Ротмистру Чаодаеву959.
Г. Чеодаев лично объяснил г. Генерал Адъютанту Графу
Строганову960 и Московскому Обер Полицмейстеру961, что статья Фило^
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
635
софические письма, помещенные в № 15 журнала Телескопа,
напечатана вопреки его желания; что он просил издателя журнала не
печатать сей статьи и уверял его, что Ценсура, конечно статьи сей
не пропустит.
Напротив того г. Надеждин здесь показал, что г. Чаодаев не
только никогда его не просил не печатать означенной статьи и не
изъявлял сомнения в пропуске оной Ценсурою, но еще сказывал, что
имеет верные сведения, что Начальство решилось, в Ценсурном
отношении давать писателям более возможности всё высказывать,
дабы составить чрез то верное понятие о настоящем духе и образе
мыслей. — Далее г. Надеждин показывает, что когда № 15-й
Телескопа вышел и в Москве стали уже говорить о статье, то он поехал
к г. Чаодаеву, которому рассказывал о произведенном неприятном
впечатлении и своем беспокойстве. При сем свидании г. Чаодаев,
успокоивая Надеждина, говорил ему, что есть люди, которые имеют
голос и будут писать об этом деле в С. Петербург; из числа каковых
людей г. Чаодаев наименовал Тургенева; что он, Чаодаев, недавно
послал Философические свои письма чрез кого-то к г. Министру
Народного Просвещения и с тем вместе просил предуведомить
г. Министра об их напечатании в Телескопе, и что г. Чаодаев
говорил Надеждину, что письма сии известны Генерал Адъютанту Графу
Бенкендорфу.
Таковое показание г. Надеждина совершенно противуположно
вышепомянутым объяснениям, сделанным г. Чаодаевым, почему
и нужно его по сему предмету откровенное и подробное
объяснение.
Сверх того нужно отобрать от г. Чаодаева ответы на следующие
два вопроса:
1, На каких именно людей он надеялся, что будут писать в С.
Петербург, в его пользу.
2, Кому именно розданы им полученные от г. Надеждина 25
экземпляров особо отпечатанной статьи, помещенной в Телескопе.
Верно: Гвардии Полковник Барышников*
636
Ответы П. Я. Чаадаева на ответы Н. И. Надеждина
от 17 ноября 1836 г.963
1836 года, ноября 17 дня, во исполнение воли высшего
начальства, противу показаний сделанных господином Надеждиным, имею
честь объяснить нижеследующее.
Я сказал Графу Строганову и Господину обер-полицмейстеру,
что никогда никакого не имел намерения, ни желания печатать
известную статью, и что узнал о печатании оной тогда только, когда
уже получила она одобрение цензора и находилась в коректуре. Это
и теперь подтверждаю. Вероятно, я бы мог и тогда еще остановить
печатанье, если бы усильно того потребовал; но этого я не сделал к
крайнему моему сожалению.
Ни прежде, ни во время печатанья я не видался с г. Надеждиным,
потому что он был болен; а виделся с ним тогда, как статья была уже
напечатана. Если я говорил о снисходительном расположении
правительства в отношении цензурном, то не основывался ни на каких
скрытых сведениях, а на статьях журнальных; а об намерении
правительства дать высказать писателям свои мнения конечно ничего
не говорил.
Справедливо то, что когда г. Надеждин пришел ко мне и говорил
о впечатлении, произведенном статьею, и о своем беспокойстве964,
то я в утешение ему сказал, что князь Елим Петрович Мещерской,
человек, известный своим благомыслием, и служащий при
Министре просвещения, взял у меня подлинник известного письма, чего
вероятно он бы не сделал, если бы оно было вовсе
непозволительного содержания, и что Кн. Мещерскому сказал я с ним прощаясь,
что он может с этим письмом делать что ему угодно. Показывать
же это письмо г. Министру просвещения, а еще менее уведомить
г. Министра о предполагаемом напечатании оного в Телескопе,
князя Мещерского я никогда не думал просить и г. Надеждину об этом
ни слова не говорил.
Очень вероятно, что я сказал г. Надеждину, что добрые люди за
меня заступятся, потому что я был в этом тогда уверен, и теперь еще
уверен; но при этом никого не имел в виду; а об людях с голосом
вовсе не говорил. Об Тургеньеве, который как известно никакого
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
637
голоса не имеет, сказал я г. Надеждину одно то, что он в переписке
со многими в Петербурге, что его вероятно известят, какое эта
статья там произведет действие, и что я ему сообщу, что от Тургеньева
узнаю. Все это г. Надеждин странным образом перепутал.
Каким образом г. Надеждину вздумалось, что я будто бы сказал
ему, что Графу Бенкендорфу известны мои письма, этого я не
понимаю. Вероятно, имя графа Бенкендорфа в разговоре было мною
произнесено, и так как я лично знаю графа965, то с похвалою, но
конечно больше ничего.
На первый из последних двух вопросов отвечаю, что может быть,
говорил, что будут писать в Петербург, и что по этому узнаем, что
там говорят; но из этого никакого другого заключения не выводил, и
никакой надежды на это не имел, потому что совершенно знал, что
никто мнений изложенных в этой статье не разделяет.
В заключении позволю себе прибавить, что никто конечно более
меня не жалеет об том, что эта статья напечатана, и никто менее
меня не желал видеть ее напечатанною.
Из 25 книжек доставленных мне г. Надеждиным, взяты —
Иваном Ивановичем Дмитриевым, 1
В семействе Левашевых, 4
Князем Иваном Сергеевичем Гагариным 5, для отдачи Александру
Сергеевичу Пушкину. Князю Михаиле Петровичу Голицыну966,
Графине Сиркур. Князю Елиму Петровичу Мещерскому, и для него самого.
Михаилом Федоровичем Орловым 1.
Княгиней Натальей Дмитриевной Шаховской, 1.
Авдотьей Петровной Елагиной, 1.
Александром - - Норовым 1.
Дмитрием Филиповичем Павловым, 1.
Евгением Авраамовичем Баратынским, 1.
Александром Ивановичем Тургеньевым, 2 —
С моими бумагами 2 или 3
Г. Янишом967.1
Катериною Александровною Свербеевой I968 —
Сверх того 4 или 5, на которых я стал было делать поправки,
изорвал, потому что они чрез то сделались неудобочитаемы, и
несколько еще взяты со стола приходившими ко мне, коих имена теперь не
вспомню.
638
Все сие показал по сущей справедливости, и если что в
последствии, сему показанию окажется противное, то подвергаюсь
законной ответственности.
Отставной гвардии ротмистр Петр Яковлев Чаадаев.
Вопросные пункты А. В. Болдыреву969
Бывший Цензор Статский Советник Болдырев имеет отвечать
письменно на нижеследующие вопросы:
Известен ли ему Сочинитель статьи, помещенной в 15-м нумере
Телескопа на 1836-й год, под заглавием: Философические письма к
Г-же***. — Письмо первое? Если известен, то с которого времени, по
какому случаю и в каких он находился с ним отношениях?
Сочинитель сей статьи вовсе мне не известен; я не только не был
с ним ни в каких отношениях, но и лица его не знаю.
2. Кем и когда именно была представлена ему, Болдыреву, на
цензурное рассмотрение, означенная статья, и одно ли только
заключалось в ней напечатанное уже письмо или и другие, служащие ему
продолжением, и в последнем случае, сколько именно писем,
подвергнуты ли они были рассмотрению и где теперь находятся?
Статья сия прислана была из типографии с мальчиком, которого
числа не помню, но по утру в один из тех дней, в которые бывает
присутствие в Университете и в которые я особенно бывал занят
и развлечен делами. Представлено было в корректуре одно только
письмо; но спустя недели три после того представлено было другое,
как продолжение. Я его читал и представил на рассмотрение г.
Попечителю, который не позволил печатать. Корректурный лист отослал
к издателю. Перед отъездом моим в Петербург Издатель прислал мне
письменный перевод сего письма, советуя взять с собою, — но я не
взял его, считая совершенно бесполезным. — и он остался у меня в
Москве.
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
639
3. Неизвестно ли ему, Болдыреву, кем и на каком языке
первоначально были написаны вышепомянутые письма, и если на
Французском, как сие сказано в примечании к статье, то не видал ли он
подлинника, и не знает ли, где он ныне находится?
Издатель Телескопа сказал мне, что эти письма сочинены г. Ча-
даевым на Французском языке. Я никогда не слыхал о Чадаеве, кто
он и что он. Подлинника я не видал и не знаю, где он находится.
4. Рассматривал ли он внимательно напечатанную в
Телескопе статью, и не был ли введен в заблуждение на счет содержания
ее личными объяснениями Сочинителя, Переводчика или других
лиц, и в таком случае кого именно? Не принимал ли кто-либо,
кроме их, участия в этом деле и не употреблял ли настояния или не
ходатайствовал ли о скорейшем дозволении печатать помянутую
статью?
Так как статья сия представлена была в такое время, когда я был
развлечен делами Университета, то я не мог употребить на
рассмотрение оной всего должного внимания; при всем том бросились
мне в глаза некоторые места, которые я отметил и указал Издателю,
прося его исправить их. Вообще однако ж я не понял в то время
хорошо ни содержания970 сего письма ни цели. Издатель Телескопа
лично объяснял мне некоторые места, наводившие на меня
сомнение; в таком благовидном виде, что я впал в заблуждение и поверил
ему. При этом случае я просил Издателя обратить самое строгое
внимание и на те места, которые мною не отмечены, представляя
ему обязанности издателя и ответственность Ценсора — и он
уверял меня, что он это исполнит. Кроме Издателя Телескопа никто не
являлся ко мне и не просил меня о скорейшем позволении печатать
помянутую статью.
5. Представлял ли он эту статью предварительно на рассуждение
Цензурного Комитета или Начальства, или разрешил печатание ее
собственною властию, и буде не исполнил первого условия, то по
каким уважительным причинам?
640
Этой статьи я не представлял на рассуждение Ценсурного
Комитета ни Председателя, будучи совершенно успокоен уверениями
Издателя и положившись на его честность и добросовестность, тем
более что я представлял ему обязанности его и просил сберечь и
меня, как Ценсора. В этой слепой и несчастной доверенности к нему
я разрешил сам печатание сей статьи.
6. Не сделал ли Болдырев, при дозволении печатать известную
статью, некоторых изменений в рукописи ее, и если сделал, то какие
именно?
На корректурном листе я не делал никаких изменений, но только
отметил некоторые места карандашем, какие же именно, о том
представлю особенную записку.
7. Когда именно он подписал на статье дозволение печатать и
возвратил оную Издателю Телескопа, и тотчас ли после того было
приступлено к ее печатанию, или эта статья оставалась и за тем
некоторое время без печатания, и сколько времени именно?
Не помню, которого числа Сентября, подписал я дозволение,
но знаю, что очень скоро после представления мне оной в первый
раз, а именно через день или много два. Что ж касается до того,
скоро ли эта статья была напечатана, или оставалась некоторое
время без печатания и сколько времени именно, я не знаю
совершенно.
8. Когда именно представлен Издателем .Телескопа экземпляр
15-го нумера в Цензуру с испрашиванием билета на выпуск из
типографии и когда таковой ему выдан?
Дней через десять, а может быть недели через две после раздачи
15 нумера испрашиваем был билет из Ценсурного Комитета на
выпуск из Типографии, и я не хотел было вовсе подписывать его, но
когда узнал, что он уже давно роздан и что я не мог воспользоваться
правом перепечатать этой статьи на свой счет с нужными исправ-
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
641
лениями, или заменить ее другою, то подписал и этот билет в
половине Октября, не прежде. Прежде выдачи билета из Ценсурного
Комитета на выпуск какого-нибудь № мне представляли экземпляр,
на обертке которого я подписывал: раздавать позволяется, думая,
что Издатель привычно воспользуется им только для раздачи
подписчикам в Москве.
9. Не была ли напечатана, независимо от Телескопа, та же статья
отдельно, и в каком числе экземпляров?
Была ли отдельно напечатана эта статья и в каком числе
экземпляров, я не знаю; ибо ни Издатель Телескопа, ни типографщик не
просили у меня на это согласия.
10. Не обратил ли Болдырев внимания на вредное содержание
той же статьи уже по напечатании ее и не принимал ли каких-либо
мер к воспрепятствованию выпуска в свет 15-го № Телескопа?
Увлеченный взглядом и толкованием Издателя Телескопа на эту
статью, я долго не понимал ее вредного содержания; только
некоторые места и притом немногие казались мне или дерзко
изложенными, или могущими быть поняты в другом смысле, нежели я понимал.
Я думал было воспрепятствовать выпуску сего №, не выдавая билет
из Цензурного Комитета, и желал перепечатать эту статью, но как он
уже был роздан везде, по словам Издателя, то и не мог ничего
сделать и хотя поздно, но почел уже себя обязанным подписать, хотя и
нимало не одобрял сей статьи.
11. Не имеет ли Болдырев каких-либо других оправданий в
пропуске означенной статьи, кроме тех, которые войдут в ответы его
на вышепрописанные вопросы, и буде имеет, то в чем именно они
заключаются?
На 11-й пункт я покорнейше прошу позволения отвечать
особенно, — ибо теперь от усталости и изнеможения не могу отвечать
основательно и подробно971.
642
Ответ А. В. Болдырева на 11 статью972
Ответ на 11 статью.
В то время, когда представлена была мне статья, я был
обременен, сверх обыкновенных занятий по должности Ректора, многими
другими делами, требовавшими всего моего внимания, а именно:
устройством преподавания лекций в Университете, размещением
классов в новом доме Университета, выдачею табелей Студентам,
экзаменами вновь поступающих в Университет и проч.973 Такое
множество разнообразных и единовременных занятий утомляли
меня и помешали обратить все внимание на представленную мне
статью; это же было причиною того, что я многого в сей статье не
понял; по видимому с намерением выбрано было такое время для
представления мне сей статьи. При таких утомительных занятиях
я по неволе должен был обратиться к Издателю и, представив ему
свои сомнения, просил его заняться исправлением и пересмотреть
строгим [так] всей статьи. Уверения его успокоили меня и я, будучи
прямым, честным человеком, доверил ему, тем более, что он, имея
обширные сведения, и быв несколько лет Профессором в
Университете, мог в тонкости понять и содержание Философской пиесы и
ее направление. Доверенность моя к нему подкреплялась тем, что я
в продолжение всего моего знакомства с ним не заметил в нем ни
безнравственности, ни дурных, предосудительных правил, ни
вольнодумства, ни вражды ко мне. В продолжении трех лет он
беспрекословно исправлял отмеченные мною места в Телескопе и даже
пропущенное мною что-нибудь по неосмотрительности
выбрасывал, или заменял другим, лучшим. Все это заставило меня иметь к
нему полную, слепую доверенность в таком затруднительном
положении моем. Пагубные следствия сей несчастной доверенности
составляют теперь мое бедствие. Но вся жизнь моя может служить
мне оправданием в моей невинности. Тридцатилетняя беспорочная
служба моя Государю и Отечеству не осталась без внимания и
наград. Благоговение к религии, пламенная любовь и преданность к
Государю, покорность законам, беспрекословное повиновение
начальству, усердие к благу отечества — вот чувства, одушевлявшие
меня во всю жизнь мою, и управлявшие всеми моими действиями и
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
643
помышлениями. Я не вступал ни в какие противозаконные общества,
не знаю никаких сект; благородным образом мыслей,
неукоризненными действиями, добротою сердца, чистотою нравов, откровенно-
стию, честностию, строгою справедливостию имел я счастие
приобрести любовь и уважение всех, кто имел со мною дело, и даже тех,
кто не знал меня лично, но получал обо мне понятие по одним
слухам. Таким образом пользовался я доверенностию лучшего
дворянства, поручавшего мне детей своих на воспитание в продолжении
десяти лет существования моего Пансиона974. Начальство мое было
всегда ко мне благосклонно, ободряло службу мою наградами; я не
подвергался никогда ни выговорам, ни штрафам. Товарищи мои
почтили меня на три года Ректором; служба моя в звании Ректора
была по ходатайству начальства награждена от Государя
Императора орденом Св. Анны с короною. По прошествии трех лет снова
избран я Ректором на четыре года; это служит доказательством и
доверенности ко мне профессоров и безукоризненных моих
действий по службе975. Я был счастлив, покоен. Но видно никто не
может назваться счастливым прежде смерти! Проведя 52 года жизни
и по расстроенному здоровью своему стоя одной ногой уже в
гробе, мог ли я изменить правилам, одушевлявшим меня целую жизнь
мою? Мог ли я преступить умышленно долг присяги Государю, к
которому всегда питал в душе своей благоговейную преданность и
любовь? Одна мысль об этом приводит меня в содрогание! — Нет! я
все тот же, каким был всю жизнь мою, все тот же, каким меня знают
все имевшие со мною дело, и не переменюсь до гроба. Верный сын
отечества, верноподданный Государю, уважающий все священное,
усердный исполнитель приказаний начальства! Да покарает меня
Всевышний в сей и будущей жизни, если я сказал неправду! Вся вина
моя состоит в неосмотрительности и несчастной доверчивости к
человеку, который употребил ее во зло. Я несчастная жертва
коварства. Впрочем неисследимы судьбы Божий! Я до сих пор не могу
понять, как могло случиться то, что со мною случилось! Может быть
Всемогущая десница хотела ниспослать на меня тяжкое испытание,
хотела поколебать мое счастие, дабы я смиренно и безропотно
покорился Его святой воле! Покоряюсь с благоговением святой твоей
воле, Всемогущий Боже!
644
Места, отмеченные мною карандашом на корректурном листе и
лично указанные мною Издателю Телескопа, сколько помню, суть
следующие: страница 276, строки 18-23976. Стр. 283, 1-7977- 23-
28978. Стр. 284,17-25979. Стр. 286,20-22980. Стр. 292,1-5981; 19-24982
Стр. 293,11-12^83. Стр 295, 2-4984; с 24-й до конца985. 29б! 1,6-9986
Стр. 297,18-24987. Стр. 300,14 до конца988. Стр. 301,1-2989. Стр 302
6-8"°.Стр.304,24-28991.
Ответ А. В. Болдырева о Н. И. Надеждине992
Сколько раз и где имел г. Статский Советник Болдырев
свидание и объяснение с г. Надеждиным до издания 15 Нумера
Телескопа? - Говорил ли он ему о сем предмете после напечатания
известной статьи?
До издания 15 № Телескопа Надеждин был у меня на квартире
один только раз, и именно в то утро, в которое принесены были в
первый раз ко мне корректурные листы сей статьи, на которых я
сделал отметки и тогда же указал ему на оные. — Вскоре по выпуске
в свет он приходил ко мне также(?) один раз и объявил, какое
впечатление производит эта статья. При этом случае я просил его
остановить выдачу сего № другим подписчикам, которые еще не успели
получить его, — а у получивших отобрать назад; в невыданных
экземплярах сделать перемену в этой статье, или напечатать другую
вместо нее. Но он мне объявил, что этот № уже везде разослан и что
его возвратить нельзя. Тогда я был столько встревожен этим, что
поверил его словам; теперь же вижу, что это несправедливо. Ибо это
было не позже двух, или трех дней по выходе Телескопа, и
следовательно этот № мог быть только роздан в одной Москве, — и если
случились почтовые дни, то в один или два города. — Все это
показывает, что он не хотел принять никаких мер к остановке выдачи
сего № ни сделать перемены в статьях. Я же с своей стороны был
столько испуган этим обстоятельством, что не имел никакой
надежды поправить этого дела, - и не вздумал предуведомить об этом
г. Попечителя.
КОММЕНТАРИИ
Комментарии
647
Настоящее издание ставит целью осветить начальный период
религиозно-философской активности Чаадаева (конец 1820-х — 1830-е гг.),
кульминационным событием которого мы считаем публикацию в 1836 г.
русского перевода первого «Философического письма» в журнале
«Телескоп» (№ 15). Принципиальное значение для понимания как философской
системы Чаадаева, так и реакции на русскоязычную версию первого
«Философического письма» его современников имело «франкоязычие» чаадаев-
ских текстов. В силу последнего обстоятельства мы сочли необходимым
включить в собрание как переводы сочинений Чаадаева на русский язык,
так и французские оригиналы его работ.
В рамках настоящего тома мы не стремились воспроизвести все
известные на данный момент «философические» труды Чаадаева, что
объясняется спецификой издания чаадаевских статей и переписки. С 1986 г. до
сегодняшнего дня в свет вышло более шести научных и научно-популярных
собраний сочинений Чаадаева, в том числе одно академическое (1991; об
этом издании см.: Проскурина В. Ю. Слишком полное собрание
сочинений // Литературная газета. 1991. № 26. С. 11), а также том «П. Я. Чаадаев:
pro et contra» (1998), иллюстрирующий историю восприятия чаадаевских
идей в России XIX и XX вв. Столь внушительное количество публикаций
дает нам возможность, приводя основной корпус историософских трудов
Чаадаева, сосредоточиться на отдельных аспектах его творчества,
оказавших, как нам представляется, особое влияние на историю русской
общественной мысли.
Настоящий том включает в себя следующие тематические разделы:
1) «Философические письма» на французском и русском языках, в том
числе анонимный перевод первого «Философического письма», помещенный в
«Телескопе» (1836); 2) Статьи, написанные в период с 1829 по 1837 г.
(французские оригиналы и русские переводы), в том числе «Апология
безумного» (1837), философско-публицистический ответ Чаадаева на скандал и
репрессии, вызванные журнальной публикацией первого
«Философического письма»; 3) Избранные письма 1829-1842 гг. на русском и французском
языках, бывшие важнейшим пространством трансляции философских идей
Чаадаева после 1836 г.; 4) Первые отклики на публикацию русского
перевода первого «Философического письма» (1836) ближайших друзей и
знакомых Чаадаева: П. А. Вяземского, П. Б. Козловского, А. С. Пушкина, А. И.
Тургенева; 5) Возражения на первое «Философическое письмо», подготовленные
к печати в московских журналах «Телескоп» и «Московский наблюдатель»,
но не вышедшие вследствие запрещения публичных дебатов вокруг чаа-
648
даевской статьи; 6) Материалы «чаадаевского дела», расследования
обстоятельств публикации первого «Философического письма», большая часть
которых печатается впервые. Параллельные места к публикуемым текстам
из тех сочинений Чаадаева и откликов на его философские труды, которые
не вошли в настоящее издание, приводятся в комментарии.
В комментарии к настоящему тому мы опирались: 1) на материалы
предшествующих изданий сочинений Чаадаева (главным образом Д. И.
Шаховского (1935), В. Ю. Проскуриной (1989), Ф. Руло (1970), Р. Макналли, Ф. Руло
и Р. Темпеста (1990). Нам представляется важным всякий раз указывать,
кому именно из исследователей принадлежит то или иное наблюдение;
2) на анализ текстов Чаадаева в работах Ш. Кене, Р. Макналли и X. Фалка;
3) на опыт комментирования сочинений, принадлежавших литераторам
«чаадаевского» круга (прежде всего А. И. Тургенева), — в исследованиях
В. А. Мильчиной, А. Л. Осповата, К. М. Азадовского; 4) на работы
комментаторов французских философских и литературных текстов первой
половины XIX в. (прежде всего В. А. Мильчиной). Используя в комментарии каталог
библиотеки Чаадаева, впервые опубликованный в 1980 г. и переизданный в
2000 г., мы тем не менее считаем, что наличие или отсутствие той или иной
книги в каталоге не может однозначно подтвердить или опровергнуть
знакомство Чаадаева с данным текстом. В настоящем комментарии мы никоим
образом не претендуем на полноту освещения источников философских
принципов Чаадаева, исследование которых должно продолжиться в
последующих академических изданиях его историко-философских трудов.
Переводы текстов на английском и французском языках за
исключением оговоренных случаев принадлежат нам, переводы с немецкого
языка — М. Б. Лавринович. Мы сердечно благодарим за помощь при подготовке
настоящего издания А. Г. Евстратова, А. Л. Зорина, А. Р. Курилкина, М. Б.
Лавринович, Е. Э. Лямину, В. А. Мильчину, А. Л. Осповата.
Михаил Велижев
Комментарии
649
Список сокращений
АбТ. 6 — Архив братьев Тургеневых. Вып. 6: переписка Александра
Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским. Т. 1:1814-
1833 годы. Пг, 1921.
Библиотека — Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 2000.
Гагарин — Гагарин И. С Дневник. Записки о моей жизни. Переписка. М.,
1996.
Гершензон — Сочинения и письма П. Я. Чаадаева / Под ред. М. Гершензона.
Т. 1-2. М, 1913-1914.
Гершензон 1908 — Гершензон М. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб.,
1908.
Жихарев — Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре
Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи:
(Мемуары современников). М., 1989. С. 48-119.
Лемке — Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг.
по подлинным делам Третьего отделения собств. Е. И. величества
канцелярии. СПб., 1908.
Лотман — Лотман Ю. М. Комментарии // Русская литература на
французском языке. Французские тексты русских писателей XVIII-XIX
веков. Wien, 1994 (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 36).
Мильчина 1982 — Мильчина В. А. Комментарии // Эстетика раннего
французского романтизма. М., 1982. С. 396-461.
Мильчина 1989 — Мильчина В. А Комментарии // Сталь Ж де. О
литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями. М.,
1989. С. 395-462.
Мильчина 2003 — Мильчина В. А. Комментарии // Сталь Ж. де. Десять лет в
изгнании. М, 2003. С. 243-492.
Письма русского путешественника — Карамзин Я M Письма русского
путешественника. Л., 1984.
Проскурина — Проскурина Я Ю. Комментарии // Чаадаев П. Я. Сочинения.
М, 1989. С. 566-636.
ПССиИП — Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные
письма. Т. 1-2. М, 1991.
Социальная диорама Парижа — Козловский П. Б. Социальная диорама
Парижа. Сочинение чужестранца, проведшего в этом городе
650
зиму 1823 и часть 1824 года / Перевод с фр. В. А. Мильчиной.
М, 1997.
Сталь — Сталь Ж. де. О литературе, рассмотренной в связи с
общественными установлениями. М., 1989.
Шаховской — Неизданные «Философические письма» П. Я. Чаадаева /
Вступительные статьи В. Асмуса и Д. Шаховского, публикация,
перевод и комментарии Д. Шаховского // Литературное наследство.
Т. 22-24. М, 1935. С. 1-78.
Шереметева — Шереметева О. Г. Надписи и отметки на книгах
библиотеки Чаадаева // Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 2000.
С 286-309.
Falk — Falk H. Das Weltbild Peter J. Tschaadajews nach seinen acht
«Philosophischen Briefen». München, 1954.
Gagarin — Œuvres choisies de Pierre Tchadaïef, publiées pour la première fois
par le P. Gagarin de la compagnie de Jésus. Paris; Leipzig, 1862.
McNally 1969 — The Major Works of Peter Chaadaev. A translation and
commentary by R. T. McNally. Notre Dame; London, 1969.
McNally — McNally R. T Chaadayev and His Friend. An Intellectual History
of Peter Chaadayev and His Russian Contemporaries. Tallahassee,
Florida, 1971.
Œuvres inédites ou rares — Tchaadaev P. Œuvres inédites ou rares / Ed. par
R. McNally, F. Rouleau et R. Tempest. Paris, 1990.
Quénet — Quénet Ch. Tchaadaev et les lettres philosophiques. Contribution à
l'étude du mouvement des idées en Russie. Paris, 1931.
Rouleau — Tchaadaev P. Lettres Philosophiques / Présentées par F. Rouleau.
Paris, 1970.
Комментарии
651
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
Цикл (вопрос о цикличности «Философических писем» является
дискуссионным, см., например: Проскурина, 569) «Философические письма» («Les
lettres philosophiques») состоит из восьми текстов, пронумерованных самим
Чаадаевым. Оригинальный текст «Философических писем» печатается по
изданию: Rouleau, 45-177 (о текстологических принципах, положенных в
основу этой публикации см.: Ibid, 23-30). Русский перевод «Писем»,
выполненный Д. И. Шаховским, печатается по изданию: Чаадаев П. Я. Сочинения /
Под ред. В. Ю. Проскуриной, вступит, ст. В. А. Мильчиной и А. Л. Осповата.
М., 1989. С. 14-158. Оригинальный текст воспроизводится Ф. Руло, вслед за
Д. И. Шаховским, по рукописям, изъятым у Чаадаева во время следствия в
ноябре 1836 г. и затем отложившимся в архиве П. Я. Дашкова (РО ИРЛИ).
Рукописи третьего, четвертого, пятого и восьмого «Философических писем»
принадлежат руке самого Чаадаева, рукопись первого «Философического
письма» сохранилась в архиве Дашкова в хорошей (неавторской) копии,
шестого и седьмого «Философических писем» — в копии, приготовленной
к печати для отдельного издания и поданной в ноябре 1832 г. в цензуру,
наконец, второго «Философического письма» — в копии плохого качества, у
которой отсутствует начальный фрагмент, восстановленный по авторской
копии из архива М. И. Жихарева (подробнее см.: Шаховской, 9; Rouleau, 27).
Русский перевод одного из «Философических писем» (первого) при жизни
автора был опубликован лишь однажды — в «Телескопе» (1836. № 15),
переводы третьего и четвертого «Философических писем» готовились издателем
«Телескопа» Н. И. Надеждиным к помещению в журнале, однако света так и
не увидели вследствие начавшегося расследования по «чаадаевскому делу».
Публикация в журнале «Телескоп» была озаглавлена «Философические
письма к гже*~ Письмо первое», третье «Философическое письмо» должно
было продолжить этот цикл статей. Шестое и седьмое «Философические
письма» имели иное авторское название — «Deux lettres sur l'histoire adressées
à une dame» («Два письма об истории к одной г-же»; Чаадаев предполагал
опубликовать их отдельной брошюрой в 1832 г.). Из письма Чаадаева к
П. А Вяземскому от 9 марта 1834 г. известно, что весь цикл назывался «Lettres
philosophiques adressées à une dame» (Шаховской, 10; оригинальное
название писем Чаадаева — «Les lettres philosophiques» — вписывается во
французскую традицию философских и религиозных сочинений; см., например,
«Les lettres philosophiques» Вольтера (1733) или «Lettres philosophiques de
M. Fontaine et de M.-lle de Tourtscheninoff» (1807).
652
Датировка «Философических писем» представляет специальную
проблему. В рукописях Чаадаева указано, что первое «Философическое письмо»
было закончено в Москве («Некрополис») 1 декабря 1829 г., в финале
третьего письма стоит место и дата — «Сокольники. 1 июня», четвертого —
«Сокольники. 30 июня», седьмого — «Nécropolis (т. е. Москва). 1829.16 февраля»
(см.: Rouleau, 29). Основанием для подтверждения датировки первого
«Философического письма» служит ссылка в тексте Чаадаева на билль об
эмансипации английских католиков, принятый 13 апреля 1829 г. (Шаховской, 14;
Falk, 33). На основе корреспонденции Чаадаева (Проскурина, 569; ПССиИП.
Т. 1, 695) устанавливается, что начало работы над первым
«Философическим письмом» относится к 1828 г. (А. И. Тургенев писал к П. А.
Вяземскому 24 октября 1836 г.: «Он [Чаадаев. — М. В.] желал, чтоб я написал к тебе,
что письмо это написано в 1828 г. Написано не для печати, и у него
выпрошено...» (цит. по: Проскурина В. Ю. О жизни и мышлении П. Я. Чаадаева //
Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма. М., 1991. С. 8), датирован же
декабрем 1829 г. более поздний вариант текста. Начало работы Чаадаева над
вторым «Философическим письмом» связывается с авторским указанием
на события текущей русско-турецкой войны и датируется апрелем-маем
1829 г. Окончание работы над третьим и четвертым «Философическими
письмами» принято относить к июню-июлю 1830 г. Пятое «Философическое
письмо» предположительно создавалось в 1829-1830 гг., шестое и седьмое
существовали уже в готовом виде к 1831 г. Д. И. Шаховской считал, что
выделяющееся «по своему тону» восьмое «Философическое письмо» писалось
позже остальных текстов цикла (см. подробнее: Шаховской, 14; Quénet, 109;
Falk, 33-34). Очевидно, что порядок создания писем отличается от порядка
их авторской нумерации (Rouleau, 29).
В 1831-1832 гг. Чаадаев предпринял попытки опубликовать отдельные
«Философические письма»: в частности, шестое и седьмое «письма» он
задумал издать как отдельную брошюру (специальное примечание
Чаадаева к этому предполагавшемуся изданию см.: Gagarin, 118; Rouleau, 197).
В 1831 г. Чаадаев вел переговоры с петербургским издателем Ф. Беллиза-
ром о публикации французского оригинала шестого и седьмого
«Философических писем», в 1832 г. предполагал при помощи А. П. Елагиной (см.
ее письмо к Ф. А. Голубинскому от 1 февраля 1833 г.: ПССиИП. Т. 2, 527)
печатать перевод отрывков из шестого и седьмого «писем» у
московского издателя О.-Р. Семена (А. И. Рене-Семена) под заглавием — «Deux lettres
sur l'histoire adressées à une dame» (эта публикация была запрещена
распоряжением духовной цензуры (цензор — Ф. А. Голубинский) от 31 января
Комментарии
653
1833 г.) (Проскурина 1989, 570; ПССиИП. Т. 1,690-691; McNally, 26;
первоначально разрешено к печати московским цензором И. М. Снегиревым, см.
(с датировкой: 1834 г.): Бокова В. М. Снегирев Иван Михайлович // Русские
писатели. 1800-1917. Биографический словарь. М., 2007. С. 691). В 1833 г.
в свет вышла книга И. М. Ястребцова, знакомого Чаадаеву с начала 1830-х гг.,
«О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемым к
образованнейшему классу общества», в которой, при «прозрачной» ссылке на
первоисточник, излагались некоторые идеи Чаадаева (в частности,
концепция эстафетности прогресса). Труд Ястребцова не только прошел цензуру,
но и был удостоен половинной Демидовской премии, распорядителем
которой был президент Петербургской Академии наук и будущий министр
народного просвещения С. С. Уваров (подробнее см.: Торопыгин П. Г.
П. Я. Чаадаев и И. И. (sic!) Ястребцов // Актуальные проблемы теории и
истории русской литературы. Труды по славянской и русской филологии.
Литературоведение. Тарту, 1987. С. 29-43; ПССиИП. Т. 2. С. 538-543;
положительную рецензию на книгу Ястребцова см., например: Московский телеграф.
1833- №8. С. 587-588). После серии неудачных попыток издать
«Философические письма» в России Чаадаев предлагал свои труды для публикации
во Франции — через А. И. Тургенева, А. К. Мейендорфа (см.: Гершензон 1908,
134-135; Французские корреспонденты А. И. Тургенева (М.-А. Жюльен,
Э. Эро, П.-С. Балланш, Ф. Экштейн / Публикация П. Р. Заборова // Ежегодник
рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. СПб., 1978. С. 266-267;
Дмитриев С. С. 1836 г. 145 лет со дня опубликования первого
«Философического письма» // Памятные книжные даты. М., 1981. С. 78-84). Вскоре после
отправки письма Тургеневу от 1 мая 1835 г., в котором Чаадаев просил
своего корреспондента поспособствовать изданию его сочинений во Франции,
Чаадаев выслал Тургеневу новую редакцию первого «Философического
письма», которому он стремился придать «публикабельный» вид: снабдил
его заголовком (Lettre I), эпиграфом (Adveniat regnum tuum), датой (1829)
и местом написания, которое зашифровал как Necropolis (Азадовский К
Чаадаев и графиня Ржевусская // Вопросы литературы. 2008. №5. С. 341).
Одновременно Чаадаев не оставлял попыток поместить свое сочинение в
московских журналах, например «Московском наблюдателе», следствием
чего стала постоянная авторская правка предполагавшихся к напечатанию
текстов. Чаадаеву не удавалось опубликовать «Философические письма» до
тех пор, пока в 1836 г. он не передал перевод нескольких
«Философических писем» Надеждину, в журнале которого «Телескоп» в 1832 г. появилась
чаадаевская работа «О зодчестве» и шесть афоризмов о бессмертии души
654
(№11. С. 347-357). Анонимный перевод первого «Философического
письма» увидел свет в 15-м номере «Телескопа», в 17-м номере того же журнала
предполагалось поместить третье «Философическое письмо», а затем и
четвертое. Однако репрессии против журнала не дали замыслу осуществиться
(подробнее см.: Проскурина, 570; Falk, 34; Rouleau, 26, 28).
Восприятие идей Чаадаева в истории русской общественной
мысли связано с динамикой дальнейшей публикации его трудов. Долгое
время Чаадаев был известен широкому кругу русской образованной публики
лишь как автор статьи «Философические письма к гже~*. Письмо первое»,
вышедшей в свет в 1836 г. (и перепечатанной затем в 1861 г. в «Полярной
звезде» А. И. Герцена и Н. П. Огарева). В 1862 г. (Париж, Лейпциг)
появилось первое франкоязычное издание сочинений Чаадаева, подготовленное
его «сочувственником» кн. И. С. Гагариным: в него вошли три
«Философических письма» (соответственно, первое, шестое и седьмое в авторской
нумерации), статья «О зодчестве», «Апология безумного» и несколько писем,
переданных Гагарину наследником Чаадаева М. И. Жихаревым (см. также
публикацию И. С. Гагариным французского оригинала первого
«Философического письма» в I860 г. в журнале «Le Correspondant» (в составе статьи
Гагарина «Tendances Catholiques dans la Société Russe» («Католические
тенденции в русском обществе»: Le Correspondant. Recueil périodique. Paris, I860.
T. 50 (juin). P. 286-318, затем отдельным оттиском с самостоятельной
пагинацией. См.: И. С. Гагарин — издатель «Философических писем» П. Я.
Чаадаева / Введение, подготовка публикации и комментарии Л. Шура // Символ.
№9 (1983). С. 219-236; О. А Новые публикации из архива И. С. Гагарина //
Вопросы литературы. 1987. №7. С. 276-280; Rouleau, 24). В 1870-е гг. в
журнале «Вестник Европы» при участии М. И. Жихарева и А. Н. Пыпина
публиковалась корреспонденция Чаадаева (подробнее см.: Темпест Р. О Михаиле
Жихареве // Символ. №22 (1989). С. 237-267; Темпест Р. Скромный страж
(О Михаиле Жихареве) // Звезда. 1993. №2. С. 136-150). В начале XX в.
публикация русскоязычных версий опубликованных И. С. Гагариным чаадаев-
ских сочинений продолжилась. Качественно новый этап в издании «писем»
Чаадаева прежде всего связан с деятельностью М. О. Гершензона. Переводы
Гершензона трех «Философических писем» (первого, шестого и седьмого в
авторской нумерации), отрывка «О зодчестве» и ряда писем были включены
в его книгу «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление» (Гершензон 1908, 204-279).
В 1913-1914 гг. Гершензон издал двухтомное собрание сочинений и писем
Чаадаева, поместив туда большое количество ранее не издававшихся
текстов и известные на тот момент философские статьи. Наконец, в 1935 г.
Комментарии
655
крупнейший исследователь творчества Чаадаева Д. И. Шаховской напечатал
переводы обнаруженных им пяти оставшихся «Философических писем»,
французские оригиналы которых были обнародованы лишь в 1966 и 1970 г.
соответственно Р. Макналли и Ф. Руло. Подробнее см.: Проскурина, 567;
Rouleau, 24-25; отрывки из пяти на тот момент неизданных
«Философических писем» поместил в своей книге «Tchaadaev et les Lettres philosophiques»
(1931) Ш. Кене (см. об этом: Шаховской Дм. П. Я. Чаадаев. Неопубликованная
статья // Звенья. Т. 3-4. М.; Л., 1934. С. 366-367). На этом введение в научный
оборот текстов Чаадаева не прекратилось: отдельные письма, разрозненные
фрагменты и афоризмы активно публиковались в 1980-е гг. (Р. Темпестом,
Т. Тогава, Б. Н. Тарасовым, 3. А. Каменским, В. В. Саповым, М. И. Чемерис-
ской). Публикация ранее не публиковавшихся писем Чаадаева в 1990-е и
2000-е гг. осуществлялась В. А. Мильчиной и А. Л. Осповатом.
Влияние немецкой, французской и английской философских традиций
на творчество Чаадаева было исследовано в работах Ш. Кене, Р. Макналли,
X. Фалка, А. Валицки (см., например: WalickiA The Slavophile Controversy. History
of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought. Notre Dame,
Indiana, 1989. P. 86-98 (впервые в 1975 г.) и др. Говоря о воздействии той или
иной философской доктрины на тексты Чаадаева, мы отсылаем читателя к
работам упомянутых исследователей. Из философских сочинений,
актуальных для Чаадаева в период создания «Философических писем» (1829-1831),
следует выделить: 1) «Гений христианства» («Génie du christianisme», 1802)
Ф.-R де Шатобриана. 2) «Опыт об общественных установлениях» («Essai sur
les institutions sociales», 1818), «Опыты о социальной палингенезии» («Essais
de palingénésie sociale», 1820) П.-С. Балланша (знакомство и интерес Чаадаева
к которым подтверждается свидетельствами А. И. Тургенева и Д. В. Давыдова).
Из упомянутых сочинений Балланша в библиотеке Чаадаева числилось лишь
издание: Essai de palingénésie sociale. T. 1-2. Paris, 1827-1829 (Библиотека, 54-
55). 3) «Опыт о безразличии к религии» и «Защита опыта о безразличии к
религии» («Essai sur l'indifférence en matière de religion» ( 1817-1823) и «Défense de
l'essai sur l'indifférence en matière de religion» (1828) Ф. Р. де Ламенне (во время
напечатания и начальных дискуссий вокруг первого труда Ламенне (1824)
Чаадаев находился в Париже. О близости идей Ламенне и Чаадаева писали
А. И. Тургенев и Д. В. Давыдов. Д. И. Шаховской считал труды Ламенне
основным источником чаадаевской религиозной доктрины (Шаховской, 71).
Подробнее о влиянии Ламенне на Чаадаева см.: Riasanovsky N. V. On Lamennais,
Chaadaev, and the Romantic Revolt in France and Russia // The American
Historical Review. Vol. 82. No. 5 (Dec, 1977). P. 1165-1186). В библиотеке Чаа-
656
даева имелись оба упомянутых издания Ламенне: (Essai... — Gand, 1819-1820,
Défense... — Paris, Lyon, 1821, a также: Réflexions sur l'état de l'église en France
pendant le dix-huitième siècle, et sur sa situation actuelle. Paris, 1819
(Библиотека, 167-169). 4) «О Папе» («Du Pape», 1819) и «Петербургские вечера» («Les
soirées de Saint-Pétersbourg», 1821) Ж де Местра (влияние де Местра отмечали
А. И. Тургенев, С. А. Соболевский). В библиотеке Чаадаева имелось издание:
MaistreJ. de. Du Pape. Lyon, Paris, 1821 (Библиотека, 180-181). 5)
«Первоначальное законодательство...» («Législation primitive considérée dans les derniers
temps par les seules lumières de la raison», 1802) и «Теория политической и
религиозной власти...» («Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société
civile, démontrée par le raisonnement et par l'histoire», 1796) Л. де Бональда.
6) «Философская палингенезия» («La Palingénésie philosophique ou idées sur
l'état passé et sur l'état futur des êtres vivants», 1769) Ш. Бонне (в библиотеке
Чаадаева имелась книга: Bonnet Ch. Contemplation de la nature. Hambourg, 1782
(Библиотека, 68). 7) «Подлинная теология» («Natural theology», 1802) и
«Свидетельства в пользу истинности христианства» («Evidences of Christianity»,
1794) У. Пейли (оба сочинения имелись в библиотеке Чаадаева: Библиотека,
213-214). О пантеизме Бонне и Пейли см. один из недатированных отрывков
Чаадаева (ПССиИП. Т. 1,460-461). 8) «Идеи к философии природы» («Ideen
zur Philosophie der Natur», 1797), «О мировой душе» («Von der Weltseele, eine
Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus»),
1798), «Первый набросок системы натурфилософии» («Erster Entwurf eines
Systems des Naturphilosophie», 1799) Ф. В. Й. Шеллинга (в библиотеке
Чаадаева были следующие издания: SchellingF. W. Я Erster Entwurf eines Systems
der Naturphilosophie. Jena; Leipzig, 1799; SchellingF. W. H. Einleitung zu seinem
Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Jena; Leipzig, 1799 (Библиотека,
242). О знакомстве Чаадаева с философией Шеллинга см.: А. И. Тургенев и
Шеллинг (По неизданным материалам) / Публикация, предисловие и
примечания К М. Азадовского и А. Л. Осповата // Вопросы философии. 1988.
№7. С. 152-165). По мнению Ш. Кене, философская'терминология Чаадаева
восходит к сочинениям Ламенне и Бональда (Quénet, 149,162).
Философические письма к гже ***
Письмо первое (Версия «Телескопа»)
Печатается по: Телескоп. 1836. №15. С. 275-310. Цензурное
разрешение — 29 сентября 1836 г. Москва, цензор — А. В. Болдырев.
Комментарии
657
1 «Письма эти писаны одним из наших соотечественников. Ряд их
составляет целое, проникнутое одним духом, развивающее одну главную
мысль. Возвышенность предмета, глубина и обширность взглядов,
строгая последовательность выводов и энергическая искренность
выражения дают им особенное право на внимание мыслящих читателей. В
подлиннике они писаны на французском языке. Предлагаемый перевод не
имеет всех достоинств оригинала относительно наружной отделки. Мы
с удовольствием извещаем читателей, что имеем дозволение украсить
наш журнал и другими из этого ряда писем. Изд.» (примечание Н. И. На-
деждина).
2 В квадратных скобках дается номер страницы в соответствии с
пагинацией 15-го номера журнала «Телескоп».
Первое «Философическое письмо»
Первое «Философическое письмо» содержит в себе тезисы, развитые в
последующих письмах. Необходимой предпосылкой к разговору о
философии истории, о России и ее положении в христианском мире является
прояснение «внешних условий существования» светской женщины — результат
идентификации Чаадаевым «режима души» и «режима тела»: если в России
условия для умственной работы отсутствуют, то физиология европейца,
наоборот, предполагает постоянное мыслительное движение. «Внешние
условия существования» в современном Чаадаеву русском обществе
характеризуются риторически сильной отсылкой к крепостному праву в начале
письма. Чаадаев также утверждает, что истинное определение роли России
в мировой истории зависит главным образом от анализа ее собственной
истории. Одним из оснований чаадаевского представления о движении в
интеллектуальной (в том числе религиозной) истории является концепция
умственного развития через усилия отдельных личностей, ведущих за
собой лишь «чувствующую» толпу (это положение многократно повторяется
и в последующих «Философических письмах»). Чаадаев рассматривает
народы как существа нравственные, которые, подобно отдельным личностям,
находятся друг с другом в неразрывной связи. В основе этой связи лежит
католицизм: для Чаадаева национальное самоопределение христианских
наций — очевидное зло, поскольку противоречит принципу
религиозного единства, который и правит миром. История России интерпретируется
Чаадаевым через сравнение с историей европейской цивилизации. Европа
658
представляет собой историческое единство и абсолютную всеобщность в
католическом христианстве, доказательством чего являются непрерывная
трансляция божественной истины из поколения в поколение — работа
духа в течение восемнадцати веков, органическое историческое развитие
(три эпохи христианства), социальное измерение христианства. Россия же
слаба в религиозном, социальном и нравственном отношениях, причина
чего лежит в принятии Русью восточного варианта христианства,
отмеченного «фотианской схизмой» (863-867), отчуждением от истинной, с
точки зрения Чаадаева, римской христианской традиции. В силу
изначального несовершенства православие не могло оказать влияния на человека и
общество. В России отсутствовала традиция умственной работы, а усилия
отдельных личностей (императоров Петра I и Александра I) оказывались
невостребованными. По мысли Чаадаева, Провидение назначило России
дать «великий урок» христианскому миру, смысл которого в первом
«Философическом письме» остается непроясненным.
Основные положения первого «Философического письма» восходят к
следующим интеллектуальным традициям. Тезисы о единстве
человеческого рода, важности социальной функции христианства, исключительности
католицизма (и папской власти) как выражения единства и
универсальности христианства, представление о Провидении в истории могли быть
заимствованы Чаадаевым из сочинений французских католических
философов Шатобриана, Балланша, Ламенне, де Местра, Бональда, Бонне, а
также устных бесед с французским публицистом Ф. д'Экштейном. Тезисы о
духе христианства как претворении идеального мира в действии, церкви
как воплощении божественной истины, объединительной функции
католицизма — из сочинений Шеллинга. Концепция историко-религиозного
прогресса как передачи божественной истины через католическую
традицию была сформулирована в трудах Балланша и Ламенне. Сходные мнения
о «пустоте» и «бесплодности» русской истории, отклонившейся в
результате «фотианской схизмы» середины IX в. от общего вектора христианского
развития, высказывались де Местром и Бональдом. (Подробнее о влияниях
на историософию Чаадаева см.: Quénet, 143-178). Точка зрения о
подражательном характере русской цивилизации, подразумевающая негативный
отзыв о роли Петра I в истории России, восходит к сочинениям Ж.-Ж. Руссо
и Ш. Л. Монтескье. Представление об исключительности петровских
преобразований, «создавших Россию из небытия», принято ассоциировать с
историческими и публицистическими трудами Вольтера (подробнее см.,
например: Mohrenschildt D. S. von. Russia in the intellectual life of Eighteenth-century
Комментарии
659
France. New York, 1972. P. 24\-242;Мезин С. А Петр I как цивилизатор России:
два взгляда // Европейское Просвещение и цивилизация России. М., 2004.
С. 5-15; Минути Р. Образ России в творчестве Монтескье // Там же. С. 31-
42 (франкоязычную версию статьи Р. Минути см.:MinutiR. l'image de la Russie
dans l'œuvre de Montesquieu // Cromohs. Vol. 10 (2005): http://www.cromohs.
unifi.it/10_05/minuti_montruss.html). Теория прогресса общественных
отношений через индивидуальные усилия избранных личностей,
распознающих божественный замысел и ведущих за собой массы, имеет богатую
историю. В частности, этот тезис высказывался в работах Балланша, Шеллинга,
К. А. Сен-Симона (см.: Мильчина В. А. Россия и Франция. Дипломаты.
Литераторы. Шпионы. СПб., 2004. С. 129, 464; McNally, 174; о Чаадаеве и
сенсимонизме см. письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 2 июня
1833 г. в: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 236; запись в
дневнике Е. А. Свербеевой от 2 июня 1833 г.: Долгова С. Р. Дневник
Екатерины Свербеевой за 1833 год. М., 1999. С. 15). О различных
концепциях «гения», бытовавших в России 1820-х — 1830-х гг., см.: Мазур H. H.
Пушкин и «московские юноши»: вокруг проблемы гения // Пушкинская
конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования. М., 2001.
С. 54-105. См., например, дневниковую запись И. С. Гагарина от 26 мая
1834 г.: «...человечество следует разделить на два Класса: философов,
которые идут впереди и несут факел, озаряющий нам дорогу, и массу,
следующую за ними в отдалении...» (Гагарин, 55). Близкие идеи см. в трактате
Ж. де Сталь «О литературе» (1800). Согласно Сталь, «новое
республиканское мироощущение может быть создано не принуждением, но
апелляцией к чувствам людей, а это под силу только интеллектуальной элите
нации — литераторам, которые своими произведениями ведут за собой
непросвещенный народ». Отсюда актуальная и для Чаадаева мысль о том, что
«философы и литераторы играют в обществе не меньшую (а то и большую)
роль, чем правители и военные, и потому правители вынуждены с ними
считаться...» (Мильчина 2003, 286-287; не случайно фрагмент первого
«Философического письма», посвященный роли отдельных личностей в
истории человечества, с упоминанием скальдов, друидов и бардов, вложен
в книгу мадам де Сталь «О Германии» (Шереметева, 293; речь идет о
парижском издании трактата 1818 г.: Библиотека, 253).
3 «Да приидет Царствие твое» (лат.). Фрагмент молитвы Господней или
«Отче наш»: «Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе» (Матфей, VI, 10; Лука, XI, 2). В библиотеке Чаадаева име-
лась Библия на немецком (Stuttgart, 1824, изданная Г. Ф. Гринзингером;
Heidelberg, 1831-1832, в переводе В. М. Л. де Ветте), французском (Paris,
1820, в переводе Д. Мартина; Paris, 1822, в переводе И.-Л. Ле Местра
де Саси; Paris, 1828-1829, в переводе А. Э. Женуда) и латинском (Tiguri,
1703, Test. Vêtus - Ab Imman. Tremellio & Francisco Junio ex hebraeo
latine redditum, Test. Novum — A Theodoro Beza è graeco in latinum
versum) языках (а также русское издание «Десяти посланий святых
апостолов» (СПб., 1821) (Библиотека, 25, 63-65). В версии первого
«Философического письма», опубликованной в «Телескопе», эпиграф
отсутствовал. Фрагмент «Отче наш» упоминается также в шестом, седьмом
и восьмом «Философических письмах», а также в письмах Чаадаева
А. И. Тургеневу — от 1835 г., от 25 мая 1836 г., от октября-ноября 1836 г.
В письме от 1844 г. Чаадаев писал Тургеневу: «...церковь западная
развивалась не как государство, а как царство; что смешно ее в этом
упрекать, потому что вся цель христианства в том и состоит, чтобы создать
на земле одно царство, все прочие царства в себе заключающее...»
(Проскурина, 574-575; ПССиИП. Т. 2,170) (см. также недатированные
отрывки Чаадаева: ПССиИП. Т. 1,471).
Имеется в виду переписка Чаадаева с Екатериной Дмитриевной
Пановой (урожд. Улыбышевой) (1804 — после 1858), адресатом
«Философических писем», сестрой поэтессы Елизаветы Улыбышевой и
музыкального критика А. Д. Улыбышева (подробнее см., например: Гациский А
Александр Дмитриевич Улыбышев. 1794-1858 // Русский архив. 1886.
№ 1. С. 58), женой агронома В. М. Панова, знакомого Чаадаева, у
которого он занимал деньги. Знакомство Чаадаева с Пановой состоялось
после того, как 4 октября 1826 г. (в то время Чаадаев находился под
полицейским надзором: Шаховской Д. И. П. Я. Чаадаев на пути в Россию
в 1826 году // Литературное наследство. Т. 19-21. М., 1935. С. 32) он
выехал в имение своей тетки А. М. Щербатовой Алексеевское, где его
соседями были семейства Пановых и Норовых. А. А. Штейнберг
датировал начало дружеских отношений Чаадаева и Пановой летом 1827 г.
В конце 1820-х гг. между ними завязывается переписка, из которой
затем вырастают «Философические письма» (известны четыре письма
Пановой к Чаадаеву, два от конца 1820-х гг. и два от 1836 г. (ПССиИП. Т. 2,
436-439,455-460, здесь же высказано предположение о том, что первое
«Философическое письмо» было ответом на письмо Пановой Чаадаеву,
написанное не позднее 1829 г.: Там же. С. 439). 17 декабря 1836 г. по
просьбе мужа Московское губернское правление освидетельствовало
Комментарии
661
умственные способности Пановой (см. письмо Чаадаева Л. М. Цынскому
от 7 января 1837 г.: настоящее издание, с. 441-442) и затем поместило ее
в лечебницу В. Ф. Саблера. С. А. Соболевский отмечал в письме М. И.
Жихареву «Екатерина Панова (урожд. Улыбышева) была гадкая собою,
глупая bas bleu <синий чулок — фр.> и страшная бл... — Я до сих пор не
могу понять, как мог Чаадаев компрометироваться письмом к ней и даже
признаваться в ее знакомстве» (цит. по: Гершензон М. О.
Библиографические записи о Чаадаеве // РГАЛИ. Ф. 130. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 73 об.).
Одновременно, по свидетельству М. А. Дмитриева, в Москве ходили
слухи о принадлежности В. М. Панова к тайной полиции (Дмитриев М. Л.
Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 259). О Е. Д. Пановой см.:
Гершензон 1908, 66-68; Вильде Н. Корреспондентка Чаадаева // Голос
Москвы. 1913. № 94. С. 2; Штейнберг А А. Пушкин и Е. Д. Панова //
Временник Пушкинской комиссии. 1965. Вып. 4. Л., 1968. С. 45-55; McNally
1969, 233-234; Кайдаш С. Адресат «Философических писем» // Наука и
жизнь. 1979. № 7. С. 62-65; Проскурина, 568; ПССиИП. Т. 2,437-439-
5 В. Ю. Проскурина отмечает, что «под "внешними условиями" здесь
понимаются внешние проявления веры», и «расшифровывает» ответ
Чаадаева на вопрос Е. Д. Пановой относительно католичества в России
следующим образом: «религия католическая, основанная на единстве, есть
истинная религия, однако ради этого принципа единства и не нужно
обнаруживать своих убеждений открыто, перед лицом света,
собственной семьи» (Проскурина, 575).
6 Иоанн, XVII, 11.
7 В качестве эталонного примера религиозной активности светской
женщины того времени можно указать на описание А. И. Тургеневым
беседы мадам Рекамье с Ф.-Р. де Шатобрианом — в письме к П. А.
Вяземскому от 3 июня 1830 г.: «Ей [Ж. Рекамье. — М. В.] ничто не чуждо, а
там, где, как часто случается, душа источник мысли, например, в сфере
религии, там я ей более верю, нежели автору "Духа христианства"; и
она разобрала его мнения, его исторические парадоксы умом
просвещенным, хотя и не совсем свободным от уз церковных, то есть от
закоснелых догматов римской церкви, но я видел, что ум и душа
доступны в ней и понятиям высшей сердечной, духовной религии,
религии не для людей на земле... <...> Эта мысль, это мнение не исключает
необходимости привести в этой ненадежной бездне, привести ум не
только в послушание веры, по словам апостола, но даже и в
послушание церкви, по слову графов мейстеров всех исповеданий; и в сем
смысле я согласен, не помню с кем, а кажется, с Мейстером же, что
догмат есть: une vérité loi (узаконенная истина — фр.)» (ТургеневЛ. И.
Политическая проза. М., 1989- С. 205; Мейстер — Ж. де Местр). См. также
главу «О женщинах, посвятивших себя словесности» книги Ж. де Сталь
«О литературе, рассмотренной в связи с общественными
установлениями» (1800) (Сталь 1989, 296-304, комментарий В. А. Мильчиной:
Мильчина 1989, 446-447); библиотека Чаадаева содержала трактат
«О Германии» Ж. де Сталь (De l'Allemagne, Paris, 1822; Bruxelles, 1832), a
также ее «Письма об Англии» (Lettres sur l'Angleterre, Paris, 1825) (о
влиянии сочинений Ж. де Сталь на труды Чаадаева писал Д. И. Шаховской:
Д. И. Шаховской и П. Я. Чаадаев // Сфинкс. 1994. № 2. С. 218). Отсутствие
в России светской религиозной жизни отмечал французский посол в
России П. де Барант (в «Заметках о России, 1835-1840» («Notes sur la
Russie, 1835-1840», опубликованых в 1875 г.): «Если русская женщина,
будь она даже умна и образованна, проникнется религиозным рвением,
это вовсе не будет означать, что она возьмет себе в наставники одного
из тех людей, что составляют славу духовенства, что она увлечется тем
или иным проповедником, тем или иным священником; она пригласит
к себе домой духовника для исповеди или чтения молитв, затем даст ему
пять рублей и отправит обедать в буфетную» (цит. по: Мильчина В. А,
Осповат А. Л. Комментарии // Кюстин А. де. Россия в 1839
году. Т. 2. М., 1996. С. 389, пер. В. А. Мильчиной; см. также письмо А. С.
Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г.). Автор монографии о светской
жизни Парижа в 1815-1848 гг. А. Мартен-Фюжье отмечает, что в
рассматриваемую эпоху увлечение парижских светских людей
католической религией могло интерпретироваться как в негативном («дань
моде», «притворное благочестие», характерное для эпохи короля
Карла X (правил в 1825-1830 гг.), так и позитивном ключе (особенно после
1830 г., что в частности связано с популярностью католических идей
Ф. Р. де Ламенне, близких и Чаадаеву). В 1830-е гг. «антиклерикалы
обвиняют церковь в том, что она стала местом светского общения, где вместо
отрешенности от мира царствует легкомыслие». Кроме того, в
парижских салонах того периода часты «душеспасительные беседы»
католических философов (таких, например, как П.-С. Балланш). Мартен-Фюжье
пишет, что среди приверженцев салонного культа религии
(подразумевающего и регулярную обрядовость, например молитвы в
домашней церкви, как это было в парижском доме приятельницы Чаадаева и
А. И. Тургенева С. П. Свечиной) преобладали именно дамы (Мартен-
Комментарии
663
ФюжьеА. Элегантная жизнь, или Как возник «весь Париж» 1815-1848.
М, 1998. С. 270-278; пер. О. Э. Гринберг).
8 Возможно, именно этот фрагмент приняли на свой счет московские
жители. Как заметил Д. Н. Свербеев, недовольство московской
публики первым «Философическим письмом» было вызвано упреками в ее
собственный адрес: «Журнальная статья Чаадаева произвела страшное
негодование публики и потому не могла не обратить на него
преследования правительства. На автора восстало все и вся с небывалым до
того ожесточением в нашем довольно апатическом обществе (я
говорю только о Москве) и, заметим, восстало не столько за оскорбленное
православие, сколько за грубые упреки современной России и, главное,
высшему нашему обществу. Здесь, может быть, в первый раз читающая
и вопиющая с ее голоса полуграмотная московская публика с успехом
разыграла роль высшей цензурной инстанции» {Свербеев Д. Н.
Воспоминание о Петре Яковлевиче Чаадаеве. С. 395).
9 По убедительному предположению Ш. Кене, источник этого фрагмента
находится в главе «О России» книги Л. де Бональда «Первоначальное
законодательство...» («Législation primitive...») (1802) (Quénet, 162).
Критика России в конце 1820-х гг. часто появлялась и в письмах П. А.
Вяземского: «любовь к России, заключающаяся в желании жить в России,
есть химера, недостойная возвышенного человека» (письмо П. А.
Вяземского к А. И. Тургеневу от 15 октября 1828 г.: Остафьевский архив
князей Вяземских. Т. 3- С. 181); см. также стихотворение Вяземского
«Русский бог», включенное в письмо к А. И. Тургеневу от 18 апреля 1828 г.:
АбТ. 6, 65-66; его высказывание из того же письма: «Да что же может
дать эта Россия? Чины, кресты и весьма немногим обеспечение
благосостояния. Да там, где или Россия отказывается Вам давать эти кресты
и чины, или Вы сами отказываетесь их иметь, там нет уже России, там
распадается, разлетается она по воздуху, как звук. Не дает она Вам
Солнца и дать не может, ни Солнца физического, ни Солнца нравственного.
Чем, что она согреет, что прекрасного, что высокого оплодотворить она
может!» (АбТ. 6, 71); выдержку из дневника Е. А. Свербеевой (запись от
12 сентября 1833 г., Женева): «Николай Т[ургенев] был серьезен,
одухотворен и спокоен. Он спросил меня, если Чаадаев не сошел с ума, то
почему же он остается в России?» (Долгова С. Р. Дневник Екатерины
Свербеевой за 1833 год. М., 1999. С. 46). Подобная точка зрения Тургеневых и
Вяземского была полемичной по отношению к позиции H. M.
Карамзина, который писал А. И. Тургеневу 6 сентября 1825 г.: «Для нас, Русских
с душею, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует: все
иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить,
мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в
России; или нет гражданина, нет человека...» (АбТ. 6, 18). Позиция
Чаадаева близка к мнению Тургеневых и Вяземского, однако, в отличие от
них, после 1826 г. он не выезжал в Европу, поэтому одним из важных
положений «Философических писем» является осознание необходимости
высказывать «истинные» с точки зрения Чаадаева идеи именно в России
(отсюда и желание опубликовать здесь свое сочинение).
См. также один из недатированных отрывков Чаадаева: «История нашей
страны, например, рассказана недостаточно; из этого, однако, не
следует, что ее нельзя разгадать. Мысль более сильная, более
проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает. Русский народ
тогда узнает, что он такое, или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает
себя теперь за такой же народ, как и другие; тогда, я уверен, он с ужасом
убедится в своем нравственном ничтожестве; он узнает, что
провидение пока еще давало ему жизнь лишь для того, чтобы иметь в его лице
динамическую силу в мире, и пока еще не для того, чтобы проявить
себя сознательно. Тогда мы поймем, что имеем вес на земле, но еще не
действовали. Подобно тому, как народы, образовавшие новое общество,
были сначала призваны на мировую арену как материальная сила и
заняли свое место в порядке сознательном лишь после того, как
подчинились игу его закона, точно так же и мы в настоящее время представляем
только силу физическую; силой нравственной мы станем тогда, когда
совершим то же, что совершили они. Но когда это будет?» (ПССиИП.
Т. 1,456; оригинал по-фр.).
Рассуждение Чаадаева об истории России, по-видимому, полемически
заострено против исторических сочинений Николая Михайловича
Карамзина (1766-1826), прежде всего «Истории государства
Российского» (11 томов вышли в 1816-1824 гг., 12-й том — посмертно в 1829 г.)
(Проскурина, 575). В «Письмах русского путешественника» (впервые
напечатаны на страницах журналов «Московский вестник» (1791-1792)
и «Аглая» (1794-1795) Карамзин писал: «У нас был свой Карл Великий:
Владимир — свой Лудовик XI: Царь Иоанн — свой Кромвель: Годунов —
и еще такой Государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий.
Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей Истории, и
даже в Истории человечества...» (Письма русского путешественника,
253). Сравнение «юности» европейских и русского народов заставля-
Комментарии
665
ет вспомнить оценку преобразований Петра I Ж.-Ж. Руссо: «Юность —
не детство. У народов, как и людей, существует пора юности или, если
хотите, зрелости, которой следует дождаться, прежде чем подчинять их
законам. Но наступление зрелости у народа не всегда легко распознать;
если же ввести законы преждевременно, то весь труд пропал. Один
народ восприимчив уже от рождения, другой не становится таковым и
по прошествии десяти веков. Русские никогда не станут истинно
цивилизованными, так как они подверглись цивилизации слишком рано»
(РуссоЖ.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 2000. С. 234-235;
пер. А. Д. Хаютина, В. С. Алексеева-Попова). См. также сходное
сравнение европейского Средневековья с русским в письме А. И. Тургенева к
П. А. Вяземскому от 1 сентября 1833 г.: «Жаль, что у нас нет средних
столетий, или что в них — Татары!» (АбТ. 6, 314).
2 В 1836 г. выпад против «национальных традиций» звучал несколько иначе,
нежели в момент создания «Философических писем» в конце 1820-х гг.,
вступая в противоречие с разработанной в 1833-1834 гг. министром
народного просвещения С. С. Уваровым национальной официальной
идеологией «православия, самодержавия и народности» (подробнее см.
вступительную статью к настоящему изданию).
3 Источник сравнения жителей России с младенцами неустановлен. См.,
например, близкое (но не идентичное) по смыслу употребление
метафоры в реплике одного из персонажей комедии П. К. де Ш. де Мариво
«Остров Разума или маленькие человечки» («L'Ile de la raison ou les petits
hommes», 1727): «Я браню вас лишь за ваш страх. Вы когда-нибудь
видели ребенка на руках кормилицы? Знакома ли вам погремушка с
бубенчиками, которую она встряхивает, чтобы потешить младенца
песенкой? Вы истинно похожи на сего младенца, вы, высокородные сеньоры!
Взгляните на ваших приближенных, все они держат в руке логремушку;
бубенчики должны звенеть, а песенка продолжаться» («C'est la peur que
vous avez que je ne vous épluche. N'avez-vous jamais vu d'enfant entre les
bras de sa nourrice? Connaissez-vous le hochet dont elle agite les grelots
pour réjouir le poupon avec la chansonnette? Que vous ressemblez bien à ce
poupon, vous autres grands seigneurs! Regardez ceux qui vous approchent, ils
ont tous le hochet à la main; il faut que le grelot joue, et que sa chansonnette
marche») (акт 3, сцена 2). Употребление схожей метафоры см. в
дневнике И. С. Гагарина, запись от 26 сентября 1834 г.: «Радости ребенка в
пеленах, который счастлив, когда он может спать и сосать грудь кормилицы,
скоро тебе [России. — М. В.] должны надоесть» (Гагарин, 109).
Параллелью к этому фрагменту Чаадаева служит высказывание
П.-С. Балланша: «Человеческий разум также пережил катастрофы,
несколько раз изменявшие поверхность земного шара» («L'esprit humain
survit aussi aux catastrophes qui viennent quelquefois changer la face du
globe») (BallancheP.-S. Essai sur les institutions sociales... Paris, 1818. P. 39).
По мнению З. А. Каменского и M. И. Лепехина, Чаадаев ссылается на
«теорию катастроф» Ж. Кювье (оговорим, что сам термин «теория
катастроф» Кювье не принадлежал), о которой писал И. Д. Якушкину 2 мая
183бг.(ПССиИП.Т. 1,694; Т. 2,105). Читателям 15-го номера «Телескопа»
за 1836 г. могла быть известна анонимная статья «Кювье», помещенная в
9-м томе «Библиотеки для чтения» за 1835 г. В частности, в этом тексте
говорилось: «От наблюдений над феноменами повсеместными, но
описываемыми с особенным умением и ясностью, возводит он [Кювье. —
М. В.] читателя к самым страшным переворотам, которым подвергалась
наша планета. Он показывает, что эти перемены долженствовали быть
многочисленны и внезапны, что некоторые из них произошли от
появления живых существ на земном шаре, другие после» (Библиотека для
чтения. 1834. Т. 9. Науки и художества. С. 33-34). Близки к философским
принципам Чаадаева замечания о «философическом» глубоком уме
Кювье (Там же. С. 34), естественнонаучных доказательствах исторической
достоверности Пятикнижия Моисея (Там же. С. 36), о принятии Кювье
«неизбежного закона Провидения» (Там же. С. 44; см. также: Эскирос Л.
Знаменитые современники. I. Кювье // Телескоп. 1836. № 2. С. 267-298;
№ 3. С. 393-419). Положительный отзыв о работах Кювье у
французских философов-традиционалистов см., например: Ballanche P.S. Essai
sur les institutions sociales... P. 345; chap. X, partie II. В библиотеке Чаадаева
имелась книга Кювье «История развития естественных наук с 1789 г. до
настоящего времени» («Histoire des progrès des sciences naturelles, depuis
1789 jusqu'à ce jour» (Paris, 1826-1828) (Библиотека, 95).
Цицерон, Оратор, XXIV, 120. В библиотеке Чаадаева имелись
следующие издания трудов Цицерона: «О государстве» (M. Tulli Ciceronis de
republica quae supersunt, Romae, 1822) и «О морали: отрывки из
сочинений» (Pensées morales de Ciceron, Paris, 1782) (Библиотека, 85-86).
Частотность цитирования Чаадаевым произведений Цицерона не должна
удивлять: Цицерон нередко удостаивался похвал современных Чаадаеву
католических философов. Например, Ф. Р. де Ламенне писал о
Цицероне в «Опыте о безразличии к религии» (1817-1823): «достойно
удивления, что представления язычника о сем предмете более справедливы
Комментарии
661
и возвышенны, чем мысли современных философов и даже многих
христиан» («il est étonnant qu'un païen ait eu sur ce sujet des idées plus
justes et plus élevées que les philosophes de nos jours, et même que plusieurs
chrétiens») (De La Mennais F. Essai sur l'indifférence en matière de religion.
T. III. Paris, 1823. P. 27, chap. XXII).
16 Возможно, идея сравнения была подсказана Чаадаеву следующими
словами Л. де Бональда, которые характеризуют русскую
православную церковь: «Эта новая церковь, незаконнорожденное дитя
христианства, получившее жизнь лишь для просвещения ее насчет нелепостей
идолопоклонства...» («Cette nouvelle église, enfantée au christianisme par
une naissance illégitime, ne reçut qu'un faux jour qui servit à l'éclairer
sur les absurdités de l'idolâtrie...») (Œuvres de M. de Bonald. Législation
primitive... T. III. Paris, 1829. P. 174). Ср. терминологии И. С. Гагарина:
«Ты [Россия. — М. Я], самая юная из них [старших европейских
сестер. — М. Я], ребенком была покинута в чужой стране, и там, слабая
и беззащитная, ты многое претерпела от ее обитателей. Но печать
могущества была на челе твоем, и ты из своих угнетателей сделала —
рабов и вновь присоединилась к своим сестрам. Один из твоих сынов,
великий, мудрый и сильный, отправился искать твоих старших сестер
и, вернувшись, принес добрую весть. С тех пор ты держишься за руку
своих старших сестер и следуешь за ними, но из-за того, что они ушли
далеко вперед, ты была вынуждена долго бежать, чтобы их догнать,
и ты все еще бежишь...» (дневниковая запись от 26 сентября 1834 г.:
Гагарин, 109-110).
17 Мысль о постепенном обогащении человеческого разума многажды
высказывалась и до Чаадаева, см., например, предисловие ко второму
изданию трактата Ж. де Сталь «О литературе» (1800) (Сталь 1989, 62;
Мильчина 1989,408-409).
18 Тезис о неразрывной связи человеческих физиологии и
нравственности характерен для французской философии XVII-XVIII вв. Чаадаев мог
почерпнуть сведения о нем из сочинений Бональда, который писал о
корреляции моральной и физической сфер жизни человека: «В этом,
кажется мне, общий принцип, основное положение всякой
физиологии, поскольку она рассматривает взаимосвязи физического устройства
и нравственности человека. Сей принцип признается всеми
физиологами, от Декарта до доктора Галля, и не оспаривается моралистами» («Là, ce
me semble, est le principe général, le point fondamental de toute la
physiologie, en tant qu'elle considère les rapports réciproques du physique et du то-
rai de l'homme. Ce principe est reconnu par tous les physiologistes, depuis
Descartes jusqu'au docteur Gall, et n'est pas contesté par les moralistes»)
(BonaldL G. A. Œuvres. T. VIII: Recherches philosophiques sur les premiers
objets des connaissances morales. T. I. Paris, 1826. P. 287, см. также: Ibid.
P. 287-289; Библиотека, 59).
П. Б. Козловский в статье «Некоторые мысли о французском
национальном характере» отмечал: «Вначале французов называли народом
легкомысленным, фривольным, изящным, исполненным воображения,
непостоянным во вкусах и страстно гоняющимся за удовлетворением
мимолетных желаний...» (Социальная диорама Парижа, 59). Общим
адресатом полемических высказываний Чаадаева и Козловского о
«мнимом» легкомыслии французов мог быть H. M. Карамзин, заметивший в
«Письмах русского путешественника»: «Наконец — есть ли бы одним
словом надлежало означить народное свойство Англичан — я назвал
бы их угрюмыми, так как Французов легкомысленными...» (Письма
русского путешественника, 384; см.: комментарий В. А. Мильчиной и
А. Л. Осповата к «Социальной диораме Парижа» Козловского:
Социальная диорама Парижа, 154-155).
Эта формула была высказана, например, в «Четырех главах о России»
(«Quatre chapitres sur la Russie») Ж. де Местра, написанных в 1810-е гг.,
но впервые опубликованных уже после смерти Чаадаева (1859):
«Понаблюдайте, как они [русские. — М. В.] — даже те, что принадлежат к
низшим сословиям, — занимаются торговлей, вы увидите, как они умны
и сноровисты в достижении собственных целей; понаблюдайте за тем,
как осуществляют они предприятия самые рискованные, наконец, как
ведут себя на поле боя, и вы увидите, как они дерзки» (пер. В. А.
Мильчиной: Мильчина 2003,445).
Интерес к кельтской культуре в Европе резко возрос после появления
«Поэм Оссиана» Дж. Макферсона (1761-1773). В библиотеке Чаадаева
имелось издание: Ossian. Poésies galliques. Paris, 1810, пер. с английского
П. Летурнера (Библиотека, 212).
См. упоминание о «мудреце из племен Северной Америки», который
«говорит, что великий Дух дал человеку только частичку своего ума» в
надписи Чаадаева на втором томе «Опыта о безразличии к религии» Ла-
менне (Шереметева, 296). «Великий дух» североамериканских индейцев
упоминается, например, в статье «Традиция диких народов Северной
Америки» («Tradition des sauvages de l'Amérique septentrionale») Ламенне:
Le Mémorial Catholique. 1825 (Novembre). P. 270-271.
Комментарии
669
23 Подробнее о противоречивости оценок Чаадаевым императора Петра I
(1672-1725) см.: McNally R. Chaadaev's Evaluation of Peter the Great //
Slavic Review. Vol. 23. No. 1 (March, 1964). P. 31-44. В данном случае
характеристика Чаадаева полемично перекликается с мнением H. M.
Карамзина о роли Петра I в русской истории, сформулированному в
«Письмах русского путешественника»: «Немцы, Французы, Англичане,
были впереди Руских по крайней мере шестью веками: Петр двинул нас
своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их» (Письма
русского путешественника, 254).
24 Представление о неблагодарности и, шире, непонимании русскими
императора Александра I (1777-1825) восходит к фразе этого
монарха, обращенной к мадам де Сталь. См.: «Ваше величество, — сказала
я, — в вашей империи конституцией служит ваш характер, а порукой в
ее исполнении — ваша совесть». — «Даже если это правда, — возразил
он, — человек — не более чем счастливая случайность». Как отмечает
В. А. Мильчина, это высказывание де Сталь часто фигурировало как
«доказательство того факта, что Россия не создана для усвоения
европейской цивилизации» (Мильчина 2003, 463-464). См. также один из
исторических отрывков Чаадаева: «Вот каким образом вопрос этот
слагается, по моему мнению. В лице Петра Великого Россия сознала свое
преступное одиночество и свое порочное направление. Она пошла в
науку к Европе. Этим новым путем шла она до сей поры. Признание ее
вознаграждено было успехами во всех отношениях и увенчалось при
императоре Александре I торжеством самым высоким, невиданным в
истории рода человеческого. Но вдруг вздумала она, что может уже
ходить на своих ногах, что пора ей возвратиться к своему прежнему
одиночеству. Европа сначала изумилась такой дерзновенности, посмотрела
ей в глаза и, увидев точно, <что> она вышла из покорности, осердилась,
и пошла потеха» (ПССиИП. Т. 1, 510; оригинал по-фр.). Под
«катастрофой» Чаадаев имел в виду восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской
площади. В своем комментарии к первому «Философическому письму»
Ю. М. Лотман замечал: «После восстания декабристов (1825 г.)
Чаадаев пришел к выводу, что только духовное развитие народа заключает
в себе истинный прогресс. С этих позиций он стал отрицательно
относиться ко всем видам насильственных действий. Восстание
декабристов, считал он, было преждевременным и легкомысленным действием,
нарушившим органическое прогрессивное движение русского
общества» (Лотман, 479).
По всей видимости, тезис Чаадаева восходит к представлению о
неспособности русского народа, воспитанного в ложной религиозной
традиции, воспринимать реформаторские усилия русских императоров, в
жилах которых текла иностранная кровь и которые олицетворяли
собой попытки европеизации России. Ж. де Местр писал в трактате «О
Папе» (1819): «Напрасно вознесенный на русский трон иноземный род
считал бы себя вправе лелеять самые возвышенные надежды; напрасно
самые мягкие добродетели спорили бы на этом троне с древней
суровостью, правления кратки ничуть не из-за ошибок государей, что было
бы очевидно несправедливо, но по вине народа. Напрасно государи
будут совершать самые благородные усилия — им будут вторить
усилия великодушного народа, который никогда не считается со своими
повелителями...» («En vain le sang étranger, porté sur le trône de Russie,
pourrait se croire en droit de concevoir des espérances plus élevées; en
vain les plus douces vertus viendroient contraster sur ce trône avec l'âpreté
antique, les règnes ne sont point accourcis par les fautes des souverains, ce
qui serait visiblement injuste, mais par celles du peuple. En vain les souverains
feront les plus nobles efforts, secondés par ceux d'un peuple généreux qui
ne compte jamais avec ses maîtres...») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris,
1819. T. IL P. 538, Livre III, chap. 6). В представлениях П.-С. Балланша,
идеи которого оказали влияние на историософию Чаадаева, единство
правящей династии и народа было признаком политического строя
католической (христианской) Европы, а их разобщенность —
характеристикой азиатской деспотии: «Христианские династии составляют
единство с христианскими народами и живут одной с ними жизнью:
это происходит от совершенствования, которое проникло с
христианством как в человеческие общества, так и во все категории мыслей и
чувств» («Les dynasties chrétiennes ne font qu'un avec les peuples chrétiens,
et n'ont qu'une vie avec eux: ceci tient au perfectionnement introduit par le
christianisme dans les sociétés humaines comme dans tous les ordres d'idées
et de sentiments»), a в Азии: «Отечество и король суть две разные вещи...»
(«La patrie et le roi sont deux choses distinctes...») (Ballanche P. -S. Essai
sur les institutions sociales... P. 19, 21; chap. I; именно отделение
Чаадаевым русского императора от русского народа вызвало резкую критику
С. С. Уварова (см. его записку к Николаю I по поводу «чаадаевского» дела
в приложении к данному тому); тот же тезис позже особенно
раздражил Николая I при чтении книги А. де Кюстина «Россия в 1839 году»
(1843): Мильчина В. А, Осповат А Л. Петербургский кабинет против
Комментарии
671
маркиза де Кюстина: нереализованный проект С. С. Уварова // Новое
литературное обозрение. № 13 (1995). С. 279-280). Критика главенства
русского государства над православной церковью была традиционна
как для французских философов XVIII в. (см., например, гл. 7 четвертой
книги «Об общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо), так и для
европейских путешественников, посещавших Россию. Положение духовенства
в России «в зависимости от убеждений пишущего, могло оцениваться
самым противоположным образом — от одобрения действий Петра I,
который, упразднив патриаршество и смирив сопротивление
невежественных попов, способствовал просвещению страны, до осуждения
деспотизма государей, узурпировавших духовную власть» (Мильчина
2003, 417). О французской традиции негативного осмысления роли и
функции православной церкви в истории России см.: Liechtenhan F. -D.
Les trois christianismes et la Russie. Les voyageurs occidentaux face à
l'église orthodoxe russe. XV-e — XVIII-e siècle. Paris, 2002 (в частности:
P. 156-159).
См. определение Византийской империи у Ж. де Местра: «эпоха самого
значительного развращения рода человеческого» («l'époque de la plus
grande corruption de l'esprit humain») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris,
1819. T. IL P. 536, Livre III, chap. 6, см. также: Ibid. P. 543). Ф. Р. де Ламенне
считал любую национальную церковь атеистической: «Без Папы нет
христианства; без христианства нет религии; без религии нет
общества. Отделить себя от Рима, предаться расколу, создать национальную
церковь — значило бы провозгласить атеизм со всеми его
последствиями» («Point de Pape, point de christianisme; point de christianisme, point
de religion; point de religion, point de société. Se séparer de Rome, faire
le schisme, créer une église nationale, ce serait proclamer l'athéisme et ses
conséquences») (Essai sur l'indifférence en matière de religion // Œuvres
complètes de M. l'abbé F. de Lamennais. T. IL Bruxelles, 1830. P. 100).
Представление об испорченности Восточной империи и генетической
связи допетровской эпохи истории России с христианской Византией
восходит к «Размышлениям о причинах величии и падения римлян»
(1734) Ш.-Л. Монтескье: «Греческая история представляет множество
таких характерных черт; так как слабоумие стало характером всего
народа, то не было больше мудрости в предприятиях; мятежи возникали
без причин, революции происходили без мотивов. Всеобщее
ханжество уничтожило смелость в людях и привело в оцепенение всю
империю. Константинополь, собственно говоря, являлся единственной
страной на Востоке, где господствовала христианская религия. Но эта
трусость, леность, расслабленность азиатских народов смешались с
самой набожностью. <...> Грубое суеверие, которое в такой же
степени уничтожает ум, в какой религия его возвышает, полагало всю
добродетель и возлагало все упования на тупое почитание икон; таким
образом, некоторые генералы снимали осады и теряли города, чтобы
получить мощи. Христианская религия в Греческой империи пришла
в такое же состояние упадка, в каком она находилась в наше время
у московитов до того, как царь Петр I возродил этот народ и ввел в
управляемом государстве больше перемен, чем это делают завоеватели
в покоренных ими странах. Легко поверить, что греки впали в
некоторого рода идолопоклонство. Никто не станет обвинять итальянцев и
немцев того времени в том, что они плохо соблюдали внешние
церковные обряды» (Монтескье Ш.-Л. Персидские письма. Размышления о
причинах величия и падения римлян. М., 2002. С. 377-378; пер. А. И.
Рубина). Противоположную точку зрения см. в четвертой главе
пятого тома «Истории государства Российского» (вышел в свет в 1818 г.)
H. M. Карамзина: «История подтверждает истину, предлагаемую всеми
Политиками-Философами, и только для одних легких умов
сомнительную, что Вера есть особенная сила государственная. В Западных
странах Европейских Духовная власть присвоила себе мирскую от того,
что имела дело с народами полудикими — Готфами, Лонгобардами,
Франками — которые, овладев ими и приняв Христианство, долго не
умели согласить оного с своими гражданскими законами, ни утвердить
естественных границ между сими двумя властями: а Греческая Церковь
воссияла в Державе благоустроенной, и Духовенство не могло столь
легко захватить чуждых ему прав. К счастию, Святый Владимир
предпочел Константинополь Риму» (цит. по: Карамзин Я М. История
государства Российского: В 12 т. Т. V. М., 1993. С. 209-210; в основу
данного издания «Истории государства Российского», на которое мы будем
ссылаться и в дальнейшем, положен текст последнего прижизненного
издания «Истории» — Т. I—VIII второго издания (СПб., 1818-1821). См.:
Лфиани В. Ю., Живов В. М, Козлов В. П. Научные принципы издания //
Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12т. Т. I. M., 1989-
С. 400-401).
Имеется в виду начало разделения христианской церкви на
католическую и православную в середине IX в. (в 863 г. на Римском соборе
был отлучен от христианской церкви константинопольский патриарх
Комментарии
673
Фотий (ок. 820 — ок. 891), который, в свою очередь, на соборе в
Константинополе в 867 г. отлучил римского папу Николая I). Для уяснения
позиции Чаадаева необходимо помнить, что «историческая» ошибка
патриарха Фотия, инициировавшего схизму (что, как правило,
мотивировалось его «людской страстью» — тщеславием), усугублялась, по мнению
ряда французских католических публицистов, реальными
перспективами «католического» крещения Руси — через деятельность Кирилла и Ме-
фодия. Ж де Местр писал: «Кирилл и Мефодий... получили полномочия
от Святого Престола... Однако едва созданная цепь была разрублена
руками печально памятного Фотия, которого человечество в целом вправе
упрекать не менее, чем религия, в чьем отношении он был столь виновен.
Россия поэтому оказалась вовсе не причастной к общему влиянию и не
могла проникнуться всемирным духом, ибо она едва успела
почувствовать руку Верховных Понтификов. Тому следствием внешний характер
ее религии, не проникающей вглубь сердец» («Cyrille et Méthode... avoient
reçu leurs pouvoirs du Saint Siège... Mais la chaîne, à peine établie, fut coupée
par les mains de ce Photius de funeste et odieuse mémoire, à qui l'humanité en
général n'a pas moins de reproches à faire que la religion envers laquelle il fut
cependant si coupable. La Russie ne reçut donc point l'influence générale, et
ne put être pénétrée par l'esprit universel, puisqu'elle eut à peine le temps de
sentir la main des Souverains Pontifes. De là vient que sa religion est toute en
dehors, et ne s'enfonce point dans les cœurs») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon;
Paris, 1819. T. IL P. 533-534, Livre III, chap. 6, о схизме см.: Ibid. P. 576-579).
См. также: McNally 1969,235.
Согласно Чаадаеву, католической Европе удавалось сохранять это
единство и в XIX в. О том же писали и некоторые современники
Чаадаева, см., например, характеристику роли католического духовенства
в общественной жизни Франции в «Социальной диораме Парижа»
П. Б. Козловского, созданной в середине 1820-х гг.: «Если то, что я видел
собственными глазами, и то, что узнал от людей превосходно
осведомленных, верно, можно не сомневаться, что могущество церкви
основывается на чем-то более прочном, нежели покровительство властей, что
сила ее зиждется на общественном мнении, иначе говоря, на
религиозных убеждениях целого народа» (Социальная диорама Парижа, 43; см.
комментарий В. А. Мильчиной и А. Л. Осповата: Там же. С. 142-143).
Версия о раннем закрепощении крестьян в России, предшествующем
соответствующим законам Бориса Годунова, восходит к «Истории
России» П. Ш. Левека («Histoire de Russie», 1782).
674
30 В латинском католическом тексте «Никейского символа веры» этот
догмат звучит как «[Credo in] Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam» («[Верую в] И во единую, святую, вселенскую и апостольскую
Церковь»).
31 Имеются в виду православные жители Эфиопии, в где в IV-VI вв.
распространилось греческое христианское вероисповедание монофизит-
ского толка.
32 Речь идет о книге В. М. Головнина «Записки флота капитана Головнина
о приключениях его в плену у японцев в 1811,1812 и 1813 годах» (СПб.,
1816) (ПССиИП.Т. 1,695; см.: Сводный каталог русской книги. 1801-1825.
Т. 1. М., 2000. С. 368). Ю. М. Лотман считал, что Чаадаев имел в виду
публикацию записок Головнина, печатавшихся в 1820 г. в «Сыне
отечества» (кн. 59-72) и в «Записках, издаваемых адмиралтейским
департаментом» (Лотман, 479).
33 Длительность истории католической церкви не раз отмечалась и до
Чаадаева. См. у де Местра: «Ни одно из человеческих установлений не
просуществовало восемнадцать веков» («Nul institution humaine n'a
duré dix-huit siècles») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris, 1819. T. IL P. 660,
Livre IV, chap. 9) или у Ламенне: «Такой была Церковь в первые дни ее
существования, такова она и ныне: она нисколько не меняется, не
стареет; вот уже восемнадцать веков, как она вступила в вечность» («Telle
fut l'église aux premiers jours, telle encore elle est aujourd'hui: elle ne change
point, elle ne vieillit point; il y a dix-huit siècles que l'éternité a commencé pour
elle») (Essai sur l'indifférence en matière de religion // Œuvres complètes de
M. l'abbé F. de Lamennais. T. IL Bruxelles, 1830. P. 36).
34 Имеется в виду поэма Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим»
(«Gerusalemme liberata», 1581), описание христианского войска см.:
песнь 1, строфы 37-64. Ср.: «Тассо надлежало изобразить колыбель
христианского общества» («Le Tasse avoit à peindre le berceau de la
société chrétienne») (Ballanche P.S. Essai sur les institutions sociales...
P. 329; chap. X, partie I).
35 Имеется в виду период истории римской католической церкви с I по
XVI вв., который закончился религиозными реформами Мартина Лютера
(с 1517 г.) и возникновением «национальных» протестантских церквей.
36 Имеются в виду иудеи. Об избранничестве народа/отдельной личности
см. преамбулу к первому «Философическому письму». В качестве
сходного примера приведем фрагмент из «Опыта об общественных
установлениях» П.-С. Балланша (1818): «Каждый народ... имеет исполнить свое
Комментарии
675
назначение в плане Провидения, и всегда оно открывается тайными и
неведомыми путями. Народные вожди суть не что иное как двигатели
сего таинственного и святого назначения. <...> Несколько человек идут
впереди: мнения сих избранных людей постепенно распространяются и
становятся мнением следующего века, который, в свою очередь,
присутствует при рождении новых идей, назначенных также сначала составить
мнение немногих, затем стать господствующими и наконец всеобщими.
<...> Избранники, идущие впереди... они, в отличие от остальных,
имеют возвышенную способность проникать в сущность вещей...» («Chaque
peuple... a une mission à remplir dans les vues de la Providence, et toujours
elle lui est révélée, d'un manière intime, par des moyens inconnus. Les chefs
des peuples ne sont autre chose que les chefs de cette mission mystérieuse
et sacrée. <...> Quelques hommes marchent en avant: les opinions de ces
hommes de choix s'étendent peu à peu, et finissent par être l'opinion de
l'âge suivant, qui, à son tour, voit naître d'autres idées, destinées aussi à être
d'abord celle du petit nombre, puis les idées dominantes, et enfin les idées
des tous. <...> Les hommes de choix, qui marchent avant... ils ont, au-dessus
des autres, une haute faculté de lire dans le fond des choses...») (Ballanche
P.S. Essai sur les institutions sociales... P. 17,41,43; chap. I, II).
По предположению Р. Макналли, Чаадаев имеет в виду интерпретацию
Средних веков Вольтером, высказанную прежде всего в его «Опыте о
нравах» (1756) (McNally 1969,236).
В своих оценках французской философии XVIII в. Чаадаев следует за
философами-традиционалистами. Например, Бональд так оценивал
взаимоотношения философии и религии в XVIII в.: «современная
философия есть не что иное как искусство все объяснять, все устраивать,
не сообразуясь с божественным участием. Отсюда и все смехотворные
формулы, столь часто используемые в сочинениях философов
нашего столетия, всякий раз, как они хотят оспорить или ослабить веру,
основанную на религиозных доктринах и божественных откровениях...
Современная философия поэтому есть философия по сути
атеистическая...» («la philosophie moderne n'est autre chose que l'art de tout expliquer,
de tout régler sans le concours de la Divinité. Et de là ces formules dérisoires,
si fréquemment employées dans les écrits des philosophes de notre siècle,
toutes les fois qu'ils veulent contester ou affaiblir la foi due aux doctrines
religieuses et aux révélations divines... La philosophie des modernes est donc
une philosophie essentiellement athée...») (Bonald L De la Philosophie
morale et politique du 18-e siècle (6 octobre 1805) // Œuvres de M. de Во-
nald. T. X: Mélanges littéraires, politiques et philosophiques. T. I. Paris, 1819.
P. 505-506).
Имеется в виду подготовка и законодательное оформление билля об
эмансипации английских католиков (Roman Catholic Relief Act, no
которому католикам предоставлялось избирательное право (с некоторыми
ограничениями), был также открыт доступ в палату общин и дана
возможность поступать на государственную службу) 13 апреля 1829 г. Об
особой роли Англии в современном Чаадаеву религиозном движении
писал Ж де Местр: «Все будто показывает, что англичанам назначено
дать ход великому религиозному движению, которое готовится и
которое предстанет священной эпохой в анналах рода человеческого. <...>
Благородные Англичане! вы были некогда первыми врагами единства;
ныне именно на вас возложена честь возвратить его Европе» («Tout
semble démontrer que les Anglais sont destinés à donner le branle au grand
mouvement religieux qui se prépare et qui sera une époque sacrée dans les
fastes du genre humain. <...> Nobles Anglais! vous fûtes jadis les premiers
ennemis de l'unité; c'est à vous aujourd'hui, qu'est dévolu l'honneur de la
ramener en Europe») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris, 1819. T. II. P. 647,
653, Livre IV, cap. IX); см. также у П.-С. Балланша: «Английская нация,
первая, сделала из божественного права антинациональную догму. Если
однажды она захочет способствовать освобождению католиков, думаю, что
она не будет иметь более причин продолжать исповедовать социальную
ересь и вернется тогда в великую истинную веру рода человеческого»
(«La nation angloise, la première, a fait du droit divin un dogme antinational.
Si une fois elle veut consentir à l'affranchissement des catholiques, je pense
qu'elle n'aura plus de raison pour continuer de professer une telle hérésie
sociale, et qu'elle rentrera, à cet égard, dans la grand orthodoxie du genre
humain») (Ballancbe P. -S. Essai sur les institutions sociales... P. 297; chap. IX,
partie II).
Ср. рассуждению князя П. Б. Козловского о месте наций «в ряду
народов»: «Но более или менее высокое место в ряду народов нация
занимает не благодаря своей мощи, протяженности территории и числу
подданных и даже не благодаря своей военной славе. Гунны были
могущественны и одерживали победу за победой, но от этого не
переставали быть гуннами. Преемники Османов, турки долгое время наводили
ужас на Европу и завладели территориями от Евфрата до Дуная, но в
памяти народов они навсегда останутся свирепыми варварами. Место,
занимаемое нацией в ряду народов прошлого и настоящего, опреде-
Комментарии
677
ляется тем участием, какое она принимает в развитии цивилизации
и совершенствовании ума человеческого с помощью своих законов,
своей литературы, своих научных открытий, своей промышленности
и торговли». Козловский не сходится с Чаадаевым лишь в конкретных
оценках роли наций в истории цивилизации, выделяя, помимо
англичан, греков и итальянские республики (Социальная диорама Парижа,
56). Доминанта церковной истории Англии, о которой пишет Чаадаев,
возможно, связана с представлением об английской веротерпимости
(см. комментарий В. А. Мильчиной и А. Л. Осповата в: Социальная
диорама Парижа, 150). H. M. Карамзин отмечал в «Письмах русского
путешественника»: «Здесь терпим всякой образ Веры: и есть ли в Европе
хотя одна Христианская Секта, которой бы в Англии не было?» (Письма
русского путешественника, 343).
41 Марк, XVI, 15.
42 По мнению 3. А. Каменского и М. И. Лепехина, слова Чаадаева могут
«означать ссылку более позднего варианта [первого
«Философического письма». — М. В.], относящегося, по-видимому, к 1835 г.», на седьмое
«Философическое письмо»: «В нем нет буквально приведенного
Чаадаевым в кавычках текста, но есть довольно близкие формулы и
идентичные мысли» (ПССиИП. Т. 1,695).
43 См. надпись Чаадаева на книге Ж. Б. Био «Очерки элементарной
физики» (BiotJ. В. Precis élémentaire de physique expérimentale. Paris, 1824):
«...всякое движение бывает вызвано — движение интеллектуальное, как
и материальное. В этом смысле и мысль передается. Ясность — не что
иное, как развитие впервые вызванного Богом движения в
неподвижном разуме. Поэтому мыслящие индивидуумы неизбежно должны быть
приспособлены для восприятия сообщаемого движения, т. е. они
должны быть эластичны и сжимаемы — одни тела больше, другие меньше»
(Шереметева, 299; Библиотека, 6в\ оригинал по-фр.).
44 См. у П.-С. Балланша: «Религия подобна отечеству: когда ее
оставляют, то к ней обращаются все желания, и, вопреки себе, к ней взывают
всякую минуту. Фихте сказал столь же глубоко, сколь разумно, что мы
все рождаемся в веровании» («La religion est comme une patrie: quand
on l'a quittée, on tend vers elle de tous ses vœux, et, malgré soi, on
l'invoque à chaque instant. Fichte a dit avec autant de profondeur que de
raison, que nous naissons tous dans la croyance») (Ballanche P. -S. Essai sur
les institutions sociales... P. 163-164). О борьбе с национальными
предрассудками при распространении христианства писал и Ж. де Местр
678
в своем трактате «О Папе»: «Ученый шевалье Джонс [имеется в виду
британский филолог и востоковед, крупнейший специалист по
индийской культуре в XVIII в. Уильям Джонс (1746-1796). — М. В.]
отметил бессилие евангелического слова в Индии (т. е. в британской
Индии). Он разуверился победить национальные предрассудки» («Le
docte chevalier Jones a remarqué l'impuissance de la parole évangélique
dans l'Inde (c'est-à-dire dans l'Inde anglaise). Il désespère absolument de
vaincre les préjugés nationaux») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris, 1819.
T. II. P. 406, Livre III, chap. I). Ср. также мысль Карамзина из «Писем
русского путешественника», которую обсуждал А. И. Тургенев с П. А.
Вяземским в письме от 2 июня 1830 г. из Парижа. Тургенев прочитал «все
путешествие Карамзина, и слова: Главное дело быть людьми, а не
славянами — так поразили, обрадовали меня, что я выписал все в письме
к брату... Не желаю приводить доказательств, но русская история не
оправдывает прекрасной, истинно христианской, в душе Карамзина
почерпнутой мысли: главное быть людьми» (Тургенев А. И.
Политическая проза. М., 1989- С. 203-204; курсив автора).
45 Под «Некрополисом» («городом мертвых») Чаадаев имеет в виду
Москву. Ср. высказывание П. А. Вяземского об участи Николая Тургенева
в письме к А. И. Тургеневу от 1 января 1830 г. из Москвы: «Смотри...
на Россию, как на кладбище: плачь на нем, но не требуй от него то,
что оно возвратить не в силах. Не ворочай надгробным камнем, не
раздирай земли: ты только измучишься в насилиях безумной скорби,
отроешь одне кости; но кладбище не возвратит жизни, которую оно
пожрало; не возвратить минувшего, которое уже и не в нем, а в Боге»
(Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 190). В. Ю.
Проскурина отмечает, что «метафора "Некрополиса" возникла в период
московского затворничества» Чаадаева (конец 1820-х гг.), но
«иногда вместо нее появляется образ Фиваиды. Фиваида, расположенная
в окрестностях развалин египетских Фив, место убежища
христианских отшельников в начале эры». Надпись «Nécropolis» «может
быть связана с темой Фиваиды, отшельничества, зарождения новой
духовной жизни в древних гробницах» (Торопыгин П. Г. Чаадаев и
И. И. Ястребцов. С. 41; см. также: Темнеет Р. Чаадаев и смерть //
Звезда. 1994. № 7. С. 104-105). Дата окончания первого
«Философического письма» 1 декабря 1829 г. совпадает с датой последнего обращения
Чаадаева к «Опыту о безразличии к религии» Ф. Р. де Ламенне (см.:
Проскурина, 576-577).
Комментарии
679
Второе «Философическое письмо»
Чаадаев возвращается к определению путей, необходимых для
нравственного обновления России. Эти пути формируются с учетом
окружающей мыслителя обстановки («внешних условий», климата, потребности
сосредоточиться как необходимого условия внутренней работы,
разборчивости в чтении). В противоположность Европе, интеллектуальная
атмосфера в России еще не сложилась, чему виной, в частности, недостатки
общественного устройства, главный из которых — рабство крепостных людей.
Как и в первом «Философическом письме», Чаадаев, говоря о «внешних
условиях существования», педалирует тезис об избранных личностях,
руководящих умственным движением масс. Второе «Философическое письмо»
посвящено обоснованию идеи божественного Откровения. В соответствии
с инстинктом самосохранения человек действует сообразно
собственным выгодам. Однако несмотря на это, существует и абсолютное благо,
всеобщий закон, управляющий различными человеческими движениями,
о котором мы имеем лишь смутное ощущение. По мнению Чаадаева,
существование внешнего закона, не подчиняющегося человеческому
разумению, неизбежно. Необходимо поэтому открыть, что лучшим в нас самих
мы обязаны не себе, а Богу, поскольку неизменный закон действует как в
мире физическом (примеры всеобщего закона в мире физическом Чаадаев
заимствует из математики), так и в параллельном ему мире нравственном.
Так Чаадаев приходит к идее первоначального божественного Откровения.
Тайное назначение христианина — уметь распознать действие Бога на мир,
разглядеть пути Господни во всемирной истории человечества,
воплощенные в католической традиции. Философия античности при этом не
противоречит христианской традиции, но намечает ее развитие.
Идея первоначального Откровения и божественного плана,
согласно которому движется история, была сформулирована Шатобрианом,
де Местром, Балланшем, Ф. Шлегелем (в работах «Фрагменты» («"Athenaums"-
Fragmente», 1797-1798) и «Характеристики и критики» («Charakteristiken und
Kritiken», 1801). Об исторической идее христианства как фундаментальной
писал Шеллинг. Представление о народе как едином целом, со своим
характером и ролью в истории, высказывалось Ф. Гизо («Опыт истории
Франции» («L'Essai sur l'histoire de France», 1823), «История Карла I» («L'Histoire
de Charles I-er», 1826-1827), «Всеобщая история цивилизации в Европе
начиная с падения римской империи до французской Революции» («L'Histoire
générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'empire romain jusqu'à
680
la Révolution française» (1828), «История цивилизации во Франции начиная
с падения римской империи до 1789 г.» («L'Histoire de la civilisation en France
depuis la chute de l'empire romain jusqu'en 1789» (t. 1-3 — 1829, t. 4 — 1830,
t. 5 - 1830-1832; см.: Библиотека, 132-133). Именно сочинения Гизо
могли быть источником воззрений Чаадаева на религиозную специфику
английской истории. Оценки «отсталой» Испании у Гизо, а еще ранее — у
Монтескье, схожи с выводами Чаадаева о характере русской цивилизации.
Как и Гизо, Чаадаев утверждал, что единство христианства сохранило для
Европы единство политическое (соответствующая запись о единстве
Европы (неразделенности ее на нации) была сделана на белом листе,
вложенном в книгу: Guizot F. P. G. Cours d'histoire moderne: Histoire générale de la
civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la revolution
française. Paris, 1828 (Шереметева, 293; Библиотека, 132-133). Чаадаев
разделял и представление Гизо о мировой цивилизации как едином движении
различных народов, развитии социального и интеллектуального состояния,
совершенствовании общества и отдельного человека, а также о
материальном и духовном элементах цивилизации (см. также мысли о всемирной
истории в книге Ж.-Ф. Дамирона «Опыт истории французской философии
XIX в.» («Essai sur l'histoire de la philosophie en France au dix-neuvième siècle»,
1828) (Шереметева, 294; Библиотека, 95). Подробнее см.: Quénet, 139-180.
46 О контактах между Чаадаевым и Е. Д. Пановой в конце 1820-х гг. см.
комм. 4.
47 Д. И. Шаховской заметил: «Чрезвычайно показательно для понимания
Чаадаевым христианства проводимое здесь отрицательное отношение
к аскетизму» (Шаховской, 63).
48 Представление о связи образа жизни и правления с климатом восходит
к сочинению Ш.-Л. Монтескье «О духе законов» (1748, например, кн. 5,
гл. 14 и др.; в библиотеке Чаадаева имелось следующее издание «О духе
законов»: De l'esprit des lois. Paris, 1827 (Библиотека, 199). О дискуссиях
вокруг соотнесенности северного климата с интеллектуальными
способностями северных народов во французской традиции XVIII в. см.: Миль-
чина 2003, 488. Отношение Чаадаева к климату как основному
критерию при оценке истории того или иного государства противоречиво: во
втором и шестом «Философических письмах» он ссылается на значение
климата для истории России, однако в том же шестом «Философическом
письме» скептически отзывается о любом историческом сочинении,
основанном не на доминанте божественного Промысла, т. е. в том числе
Комментарии
681
и о «климатических» объяснениях свойств какого-либо народа. И. С.
Гагарин остроумно заметил в своем дневнике 9 июня 1834 г.: «Признавать
абсолютное и исключительное влияние Климата значит отрицать
свободу человека и, следовательно, само существование человека. Всецело
отрицать это влияние значит отрицать существование окружающей
природы или, по крайней мере, существование связей между окружающей
природой и человеком, что также невозможно. Поэтому следует занять
промежуточную позицию, где и находится истина» (Гагарин, 75).
49 Описание природы, вероятно, заимствовано Чаадаевым из диалогов
Платона «Федр» и «Пир» (Шаховской, 63; McNally 1969, 238; Rouleau, 71;
Проскурина, 577). По всей видимости, Чаадаев читал Платона на
французском (издания: Lois de Platon. Paris, 1796; Les œuvres de Platon, Paris,
1699; Pensées de Platon sur la religion, la morale, la politique. Paris, 1824)
и немецком (издания: Platon's Timäos: Eine ächte Urkunde wahrer Physik.
Hadamar, 1804; Platon's Werke, von F. Schleiermacher. Berlin, 1817-1826,
Berlin, 1828) языках (Библиотека, 219-220).
50 Имеются в виду три Вселенских святителя христианской церкви: Иоанн
Златоуст (ок. 347-407), Григорий Богослов (329-389), Василий
Великий (ок. 330-379). Библиотека Чаадаева содержала, например,
следующее авторитетное издание: Guillon M. N. S. Bibliothèque choisie des pères
de l'église greque et latine, ou cours d'éloquence sacrée. Paris, 1824-1826
(Библиотека, 130-131).
51 С этого места текст второго «Философического письма»
воспроизводится по копии из отобранных у Чаадаева в 1836 г. бумаг, начальный
фрагмент письма приведен по копии из архива М. И. Жихарева
(Шаховской, 63).
52 В этом месте перевода Д. И. Шаховского отсутствует одна фраза: «Был ли
здесь кто-нибудь привержен культу истины» (ПССиИП. Т. 1,.34б).
53 Имеются в виду дворовые крестьяне, домашняя крепостная прислуга.
В начале николаевского царствования проблему дворовых крестьян
пытались решить путем законодательного сокращения численности этой
категории населения (см.: Ружицкая И. В. Законодательная
деятельность в царствование Николая I. М., 2005. С. 20).
54 О рабстве в России см. также недатированные отрывки Чаадаева: ПССиИП.
Т. 1,492-493 (Чаадаев, в частности, писал: «В России все носит печать
рабства — нравы, стремления, образование и даже вплоть до самой
свободы, если только последняя может существовать в этой среде», тезис
Чаадаева о тотальном рабстве в России восходит к «О духе законов»
Монтескье, кн. 15, гл. 6; кн. 22, гл. 14). См. также замечание А. И.
Тургенева в письме к Н. И. Тургеневу от 27 января 1827 г.: «И по сию пору
России одно нужно прежде всего: уничтожение рабства. После вся
прочая к сему приложатся. Теперь точно легче в России, где много
благонамеренных людей, хотя ложных мнений о рабстве, невежества в сем
отношении, еще больше» (Письма Александра Ивановича Тургенева к
Николаю Ивановичу Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 11). Н. И. Тургенев в
своей книге «Россия и русские» (опубликована в 1847 г.) писал: «Однако
если вспомнить, какой властью над своими крепостными обладают или
могут обладать в России помещики, то определение рабство
становится единственно возможным, ибо оно отражает безграничный произвол
одних и полное бесправие других. <...> Говоря о рабстве в России,
следует особенно упомянуть о многочисленном классе крепостных,
предназначенных для оказания личных услуг господину, то есть о дворовых.
Именно здесь рабство принимает самые уродливые и отвратительные
формы» (Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 2001. С. 218, 230; курсив
автора; о связи представлений Чаадаева и Н. И. Тургенева о рабстве см.:
Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горя от ума» // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его
современники. М., 1969. С. 364-365). См. также «Опыт истории России»
П. Б. Козловского: Мильчина В. А, Осповат А Л. Из наследия П. Б.
Козловского // Тютчевский сборник. Статьи о жизни и творчестве Федора
Ивановича Тютчева. Таллинн, 1990. С. 302-306.
Политика, кн. 1. гл. 2 (Шаховской, 63). Ссылка на Аристотеля,
возможно, заимствована Чаадаевым из трактата Ж. де Местра «О Папе»:
«Один из наиболее глубокомысленных философов античности,
Аристотель, как всем известно, даже пришел к выводу, что некоторые
люди рождаются рабами...» («L'un des plus profonds philosophes de
l'antiquité, Aristote, est même allé, comme tout le monde sait, jusqu'à dire
qu'il y avoit des hommes qui naissoient esclaves...») (MaistreJ. de. Du Pape.
Lyon; Paris, 1819. T. II. P. 426, Livre III, chap. 2; курсив автора). См. также
аналогичную ссылку на Аристотеля в трактате Ж. де Сталь «О
литературе» (1800) (Сталь 1989,118).
Источник сведений Чаадаева о формулировках отпускных грамот не
установлен.
Н. И. Тургенев писал в своей книге «Россия и русские»: «Царь-узурпатор
Борис Годунов, был первым виновником унижения, в коем до сих пор
пребывает лучшая часть русского народа. <...> В 1593 году был
введен роковой закон, навсегда прикрепивший крестьян к земле, где они
Комментарии
683
жили в момент его обнародования» (Тургенев К К Россия и русские.
М., 2001. С. 212-213). Данная точка зрения восходит к третьей главе
десятого тома «Истории государства Российского» H. M. Карамзина
(Карамзин H. M. История государства Российского. Т. 10. СПб., 1824.
С. 208-210, см. также примечания к 10-му тому: Там же. С. 116-117).
О попытках законодательного решения крестьянской проблемы в
России см.: Тургенев К И. Россия и русские. С. 247-258: комментарий
А. Р. Курилкина: Там же. С. 697-698). Автор специальной монографии
о законодательстве николаевского царствования И. В. Ружицкая
отмечает: «Предметом длительных дебатов стал вопрос о запрещении
отчуждать крестьян без земли. Он был поставлен уже в Комитете
6 декабря 1826 г. В 1829 г. был даже создан особый Комитет для
рассмотрения вопроса о прекращении продажи людей без земли. <...>
Что касается способа освобождения крестьян — с землей или без
таковой — то до 1835 г. допускалось освобождение без земли...»
(Ружицкая И. В. Законодательная деятельность в царствование императора
Николая I. С. 137-138; курсив автора). Как отмечает Ружицкая, с 1826
по 1855 г. было утверждено 367 законодательных актов о помещичьих
крестьянах, однако никаких решительных шагов по освобождению
крестьян сделано не было (Там же. С. 142; об отношении Николая I к
проблеме крепостного права см.: Там же. С. 146-151).
Интересно, что в рассуждении о миссионерской роли церкви в истории
народов Ж. де Местр ссылался на мнение Екатерины II: «Императрица
Екатерина II, в одном весьма любопытном письме, которое я читал в
Санкт-Петербурге, говорит, что часто и с восхищением замечала
влияние миссионеров на просвещение и политическую организацию
народов: "По мере того, говорит она, как религия идет вперед, мы видим, как
словно по волшебству возникают деревни, и т. д.". Именно древняя
Церковь, будучи истинной, творила эти чудеса: лишь от государыни
зависело сравнение сей силы и плодотворности с полным ничтожеством той
же Церкви, оторванной от великих корней» («L'Impératrice Catherine II,
dans une lettre extrêmement curieuse que j'ai lue à St-Pétersbourg, dit
qu'elle avoit souvent observé avec admiration l'influence des missions sur la
civilisation et l'organisation politique des peuples: "A mesure, dit-elle, que la
religion s'avance, on voit les villages paraître comme par enchantement, etc."
C'étoit l'Eglise antique qui opérait ces miracles parce que elle étoit légitime: il ne
tenoit qu'à la souveraine de comparer cette force et cette fécondité à la nullité
absolue de cette même Eglise détachée de la grande racine») (MaistreJ. de.
Du Pape. Lyon; Paris, 1819. T. IL P. 405-406, Livre III, chap. I; см. также
сходные рассуждения у Ф. Р. де Ламенне: McNally, 171).
Д. И. Шаховской полагал, что «пушки на Босфоре» соответствуют не
подходу И. И. Дибича к Константинополю, после взятия в августе
Адрианополя, а блокаде Босфора, отразившейся на прекращении подвоза
съестных припасов к столице Турции благодаря действиям русской эскадры
адмирала А. С. Грейга в мае 1829 г. Под «громом пушек на Евфрате»
имеется в виду взятие Эрзерума армией под предводительством И. Ф. Паске-
вича в апреле 1829 г. Шаховской отмечал «странность» упоминаний о
весенних событиях 1829 г. во втором «Философическом письме»:
считается, что оно было написано после 1 декабря 1829 г. Исследователь
предположил, что сопоставление с обстоятельствами русско-турецкой
войны содержалось в одном из не дошедших до нас черновиков
Чаадаева, где материал мог быть подан иначе (Шаховской, 63).
Что именно имел в виду Чаадаев под «исторической наукой» о рабстве,
сказать сложно. В своей заграничной поездке он запасся брошюрами
У. Вильберфорса по истории рабства (Шаховской, 63; в библиотеке
Чаадаева имелась книга: Wilberforce W. An appeal to the religion, justice and
humanity of the inhabitants of the British Empire, in behalf of the negro slaves
in the West Indies. London, 1823, «Обращение к религии, справедливости
и гуманности жителей Британских островов, в пользу негров — рабов
в Вест Индии» (Библиотека, 272). Вильберфорс обращал особое
внимание на воздействие христианства на рабов-африканцев, например в
связи с таинством христианского брака (см.: Wilberforce W. An appeal to
the religion, justice and humanity of the inhabitants of the British Empire.
P. 30,46-47,69, 74-75; Wilberforce W. A letter on the abolition of the slave
trade; addressed to the. freeholders and other inhabitants of Yorkshire.
London, 1807. P. 318-320). В трактате Ж де Местра «О Папе» борьбе
западного христианства с рабством посвящена специальная глава (книга
третья, глава вторая). Де Местр, в частности, писал: «Во все времена и
повсюду, до утверждения христианства и даже до того, как эта религия
достаточно проникла в сердца, рабство всегда почиталось необходимым
условием правления и политического состояния наций, как в
республиках, так и в монархиях, так что ни одному из философов не приходило
в голову осуждать его и ни одному из законодателей обратить против
него основные законы. <...> Религия прежде всего начала неустанно
искоренять рабство; то, что ни одна другая религия, законодатель,
философ никогда не смели предпринять и даже помыслить. Христианство,
Комментарии
685
действовавшее согласно божьему промыслу, по той же самой причине
действовало медленно, ибо все истинные деяния, какого бы они ни были
рода, всегда совершаются незаметно» («Dans tous les temps et dans tous les
lieux, jusqu'à l'établissement du christianisme, et même jusqu'à ce que cette
religion eût pénétré suffisamment dans les cœurs, l'esclavage a toujours été
considéré comme une pièce nécessaire du gouvernement et de l'état politique
des nations, dans les républiques comme dans les monarchies, sans que jamais
il soit tombé dans la tête d'aucun philosophe de condamner l'esclavage, ni
dans celle d'aucun législateur de l'attaquer par des lois fondamentales ou de
circonstances. <...> La religion comença surtout à travailler sans relâche à
l'abolition de l'esclavage; chose qu'aucune autre religion, aucun législateur,
aucun philosophe n'avoit jamais osé entreprendre ni même rêver. Le
christianisme qui agissoit divinement, agissoit par la même raison lentement;
car toutes les opérations légitimes, de quelque genre qu'elles soient, se font
toujours d'une manière insensible») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris, 1819.
T. II. P. 426,429; ср.:BallancheP.S. Essai sur les institutions sociales... P. 172).
Более того, борьба христианства с рабством, по мысли де Местра, являлась
залогом и следствием конфессиональной легитимности католицизма:
«Так, большая часть человеческого рода естественным образом — рабы,
они могут быть избавлены от этого состояния лишь
сверхъестественным путем. Рабство отрицает нравственность в собственном смысле
слова; вне христианства нет всеобщей свободы; и без Папы нет
истинного христианства, т. е. христианства деятельного, могущественного,
обращающего, возрождающего, завоевывающего, совершенствующего»
(«Ainsi le genre humain est naturellement en grande partie serf, et ne peut
être tiré de cet état que surnaturellement. Avec la servitude, point de morale
proprement dite; sans le christianisme, point de liberté générale; et sans le
Pape, point de véritable christianisme, c'est-à-dire point de .christianisme
opérateur, puissant, convertissant, régénérant, conquérant, perfectilisant»)
(Ibid. P. 435; курсив автора). Сходные мысли о влиянии христианства на
процесс уничтожения рабства см. в трактате Ж де Сталь «О
литературе»: Сталь 1989,156 (см. также письмо А. И. Тургенева Н. И. Тургеневу от
15 января 1828 г.: Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю
Ивановичу Тургеневу. С. 358-359; Тургеневы. И. Россия и русские. С. 235;
о проблеме см.: PassenansP. -D. de. La Russie et l'esclavage, dans leurs rapports
avec la civilisation européenne. Paris, \822; Летчфорд С. Е. Французская
революция конца XVIII в. и формирование образа России в общественном
мнении Франции // Европейское Просвещение и цивилизация России.
686
M., 2004. С. 82-83). Противоположную точку зрения на вопрос о рабстве
и христианстве см., например, в трактате Ж.-Ж. Руссо «Об общественном
договоре» (1762): «Христианство проповедует лишь рабство и
зависимость. Его дух слишком благоприятен для тирании, чтобы она
постоянно этим не пользовалась. Истинные христиане созданы, чтобы быть
рабами...» (Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 2000.
С. 319; пер. А. Д. Хаютина, В. С. Алексеева-Попова).
61 Св. Антоний (ок. 251-ок. 356) — раннехристианский подвижник, один
из основателей и символов отшельнического монашества, проведший
около 20 лет в уединении в Фивадской пустыне, где, по преданию, он
был многажды искушаем дьяволом. Д. И. Шаховской в своем
комментарии ко второму «Философическому письму» подчеркивал важность
западноевропейского иконографического материала, связанного с
сюжетом искушения св. Антония (Шаховской, 63).
62 Матфей, VII, 12; Лука, VI, 31.
63 Бытие, III, 22.
64 «В этом месте в сохранившейся рукописи несомненно пропущено
несколько слов. Помещенные в прямых скобках слова включены по
смыслу всего места и по аналогии с соответствующими местами в
письмах 4-м и 5-м» (Шаховской, 63).
65 Иоанн, 1,9-Ю.
66 В. Ю. Проскурина отмечает, что упоминание четырех философов
показательно: с их доктринами Чаадаев связывает начало монотеизма,
проецируя эпоху перехода от язычества к христианству на современную ему
эпоху, которая осмысляется им как начало нового исторического цикла
(Проскурина, 578).
Третье «Философическое письмо»
Чаадаев критикует «школьную философию» (т. е. философию
европейского Просвещения XVIII в.), неспособную признать значимость
божественного Провидения в жизни европейских народов. Как и в
предыдущих письмах, Чаадаев пишет о «внешних условиях существования»,
которые должны благоприятствовать человеку сливаться с
нравственной жизнью народов в повседневном опыте. Третье «Философическое
письмо» дает подробное обоснование существования «внешнего» закона.
Главным признаком человеческого поведения, по мнению Чаадаева, яв-
Комментарии
687
ляется его постоянное стремление к повиновению, индивидуум ощущает
потребность подчиниться тому, что от него не зависит. Субъектом
подчинения является божественная Верховная Сила, действующая на нашу
природу, и в этом смысле мир духовный соответствует миру физическому —
обоими управляет Верховная Сила. Согласно Чаадаеву, реальность духовного
порядка ничуть не менее значима, чем реальность физическая. Отсюда
формулируется общая задача философии: «знать, от чего мы зависим». Знание о
мире физическом достигается аналитическим путем или интуицией, однако
ни того, ни другого не достаточно для определения сущности внутренней
работы человека. Залогом успешного понимания нравственного мира
является логическое самоотречение, поскольку законы его функционирования
не могли быть заданы человеком. Знания о законах духовной реальности
передаются через интеллектуальную традицию, инструментами которой
являются великие личности. Отсюда столь важны живые уроки веков: когда
человек рождается, он может рассчитывать на то, что кто-то уже мыслил до
его появления на свет. В третьем «Философическом письме» Чаадаев также
обращается к толкованию свободы человека, доказывая, что время и
пространство, интерпретированные как пределы человеческой жизни,
ограничивающие его свободу, таковыми на деле не являются. Высшая жизнь
открывается человеку только через подчинение его разума Богу и универсальному
нравственному закону, нивелирующему как время, так и пространство. Здесь
мы сталкиваемся уже с различием между физическим и нравственным
мирами: жизнь человека не предполагает точного знания, например, о законах
математики, между тем как представление о нравственном начале (о добре и
зле и т. д.) необходимо человеку почти с самого рождения. Толкование
Чаадаевым соответствия между законами существования материального и
духовного миров и понятия человеческой свободы как осознания
божественного замысла близко к трактовкам этих предметов Балланшем, Бональдом и
Ф. Шлегелем. Подробнее см.: Quénet, 143-180.
67 «Поглощена смерть победою» (лат.). 1 Коринф., XV, 54; Исайя, XV, 8.
68 Колосс, III, 9-Ю; Ефм IV, 22-24.
69 Монтень М, Опыты, кн. 2, гл. 12 («l'obéir est le propre office d'une âme
raisonnable, recognaissant un celeste supérieur et bienfacteur», впервые
опубликовано в 1580 г.). Установив источник цитаты, Д. И. Шаховской
отметил, что она приводится у Чаадаева, «как вообще принято во
французской литературе, в правописании подлинника». Книга имелась в
библиотеке Чаадаева, и приведенное место было подчеркнуто Чаадаевым.
Шаховской привел и перевод выделенного Чаадаевым отрывка: «Знание
своей обязанности не следует предоставлять суждению каждого; надо
ее ему предписывать, а не давать выбирать по усмотрению; в противном
случае, следствие неразумия и бесконечного разнообразия наших
доводов и мнений, мы бы выковали себе обязанности, которые привели бы
к тому, что мы стали бы поедать друг друга, как говорит Эпикур. Первый
закон, некогда предписанный богом человеку, был законом полного
послушания; это был голос и простое предписание, о котором человеку
нечего было рассуждать и разговаривать, поскольку повиновение есть
долг, присущий разумной душе, признающей небесного владыку и
благодетеля. Из повиновения и послушания рождаются все добродетели,
как из самомнения — все грехи. А, с другой стороны, первое искушение,
внушенное человеческой природе дьяволом, первый его яд вторгся в
нас через обещания, которые он дал нам относительно знания и
понимания: будете, как боги, зная добро и зло (книга Бытия, гл. 3, стих 5)»
(Шаховской, 64). В библиотеке Чаадаева имелось парижское издание
«Опытов» 1818 г. (Библиотека, 198).
Ср. рассуждению Ж де Местра: «Человек, будучи одновременно существом
нравственным и развращенным, справедливым в способности рассуждать
и порочным в желаниях, должен обязательно подчиняться; иначе он был
бы социален и в то же время асоциален, а общество было бы необходимо
и в то же время невозможно. <...> человек был бы не способен
придумать ничего лучшего, чем то, что уже существует; т. е. силу, управляющую
людьми с помощью общих правил, созданных не по некоему случаю и
не для некоего человека, но для всех случаев, на все времена и для всех
людей» («L'homme, en sa qualité d'être à la fois moral et corrompu, juste dans
son intelligence, et pervers dans sa volonté, doit nécessairement être gouverné;
autrement il serait à la fois sociable et insociable, et la société serait à la fois
nécessaire et impossible. <...> l'homme ne saurait imaginer rien de mieux que
ce qui existe, c'est-à-dire une puissance qui mène les hommes par des règles
générales, faites non pour un tel cas ou pour un tel homme, mais pour tous les
cas, pour tous les temps et pour tous les hommes») (Du Pape, par Joseph de
Maistre. Paris, 1843. P. 164. Livre II, chap. I).
Не совсем ясно, какое значение придавал Чаадаев в своем сочинении
термину «La philosophie naturelle»: «подбор книг по философии
природы в библиотеке Чаадаева довольно случаен...» (Шаховской, 64).
Бэкон Ф. Новый Органон, гл. 68 (впервые опубликовано в 1620 г.)
(Шаховской, 64). В библиотеке Чаадаева имелась лишь книга: «Le
Комментарии
689
christianisme de François Bacon, chancelier d'Angleterre; ou Pensées et
sentimens de ce grand homme sur la religion» (Paris, 1798-1799)
(Библиотека, 54).
73 Как замечал Д. И. Шаховской, эти термины «употребляются Чаадаевым
в несколько своеобразном смысле — под анализом приходится
понимать наведение, индукцию, под синтезом — дедукцию». В «Апологии
безумного» синтез оценивается как отличительная черта восточного
мировоззрения (Шаховской, 64).
74 См. характеристику учения стоиков в комментарии В. Ю.
Проскуриной: «Греческие стоики провозгласили единство мира как живого тела,
пронизанного одушевляющим его телесным дыханием ("пневмой").
В основе их представлений лежал фатализм, их этика учила мудреца
вести жизнь в согласии, в подчинении природе. Покорность, смирение
и постоянные упражнения в добродетелях, победа над страстями —
таковы правила стоиков. В фатализме этого учения Чаадаев видел
"предчувствие" идеи Бога» (Проскурина, 578).
75 См. запись Чаадаева на книге Ю. А. Ремера «Очерк общественной
жизни в Европе» (RemerJ. A Abriss des gesellschaftlichen Lebens in Europe
bis zum Anfange des sechszehnten Jahrhunderts. Braunschweig, 1792):
«...христианство, кроме своего абсолютного значения, обладает еще
способностью всегда согласовываться с потребностями своей эпохи,
это результат совершенной истины самого его принципа. Бережно и
нерушимо сохраняя основное своего учения, оно бесконечно
изменяется в своей внешности. Только остается чувство подчиненности
единству, принципу всей нравственной и прочей жизни. Это непременное
следствие истины, которая всегда царила в христианстве и которой
христианский ум должен всем пожертвовать, вплоть до своих самых
глубоких убеждений» (Шереметева, 295; Библиотека, 231).
76 Как считал Д. И. Шаховской, имеется в виду Платон и его диалог «Федр»;
«та же мысль неоднократно встречается и у Сенеки, сочинения
которого Чаадаев усердно читал». Шаховской также отмечал: «Чрезвычайно
существенны для всей мысли Чаадаева последние слова этого абзаца о
том, что обретение вновь утраченного нами общения со всем миром
"всецело зависит от нас и не требует выхода из мира, который нас
окружает". Таким образом, победа над смертью совершается, согласно и
другим высказываниям Чаадаева, в пределах земной жизни. Это важно для
понимания смысла эпиграфа к письму, какой ему придавался
Чаадаевым» (Шаховской, 64).
По наблюдению Р. Макналли, данный фрагмент третьего
«Философического письма» восходит к концепции времени как памяти Бл. Августина:
«от Августина Чаадаев воспринял мысль о том, что наше прошлое
обязано своим существованием лишь памяти, а будущее — надежде» (McNally
1969, 240; Проскурина, 579). В библиотеке Чаадаева, вероятно, имелся
труд Августина «О граде Божьем» (французское издание: Bourges, 1818)
(Библиотека, 53).
Имеется в виду «нравственный императив» Иммануила Канта (в
библиотеке Чаадаева имелись три издания Канта: «Критика практического
разума» («Critik der practischen Vernunft», Leipzig, 1818), «Критика чистого
разума» («Critik der reinen Vernunft», Leipzig, 1818), «Критика чистого
разума» («Critique de la raison pure», Paris, 1835-1836): Библиотека, 157-
158). Связь историко-религиозной теории Чаадаева с философией
истории Канта несомненна. Об этом можно судить, например, по статье
Канта «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» («Idee
zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht») (1784), см.
изложение ее основных положений книги в письме А. И. Тургенева к
Н. И. Тургеневу от 3 ноября 1827 г.: «За мной прислала Св<ечи>на и я
провел с ними вечер в рассуждениях о том: совершенствуется ли род
человеческий, т. е. идет ли вперед, или только меняется в видах своих? Я
слушал ее с удовольствием, но помнил своего Канта, который
остроумно решил вопрос сей и, мне казалось, согласно с христианскою верою,
которая обещает всех привести в лоно Отца небесного и соединить еще
и здесь в одно стадо с единым Пастырем; но на это Св<ечи>на
возразила мне одним словом Спасителя: "Сын человеческий, пришедши, найдет
ли веру на земле?" (Лук. 18,8). А какое же совершенство без веры
постижимо для нас — и в какое состояние должна будет нравственность
прийти, если совершенное безверие воцарится? После вчерашнего
разговора с Св<ечи>ной я заглянул в свои выписки и нашел в них мысль Канта
о том же предмете, еще в 1784 г. им изложенную в "Idee zu einer
allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Uebersicht" (sie!). Вот главная
мысль его: "Явление свободы воли, т. е. поступки человеческие, точно
также как и все явления природы, определяются общими законами
природы. История, которая рассказывает сии явления, сколь бы глубоко ни
были сокрыты причины оных, позволяет надеяться, что созерцая во
всем объеме игру свободы человеческой воли, она может открыть
правильный ход сих явлений и что таким образом, если в отдельных
индивидуумах представляется что-нибудь неясного и неправильного, то в
Комментарии
691
целом роде человеческом можно, однакоже, заметить и признать
беспрерывное, хотя и медленное развитие первобытных способностей
человеческих". Кант доказывает, что другие животные достигают цели
бытия своего, т. е. возможного в своем роде совершенства, по
одиночке, каждое отдельно; человек, напротив, достигает совершенства
токмо в роде своем, а не в частях своих, т. е. не по народам.
Поколения созреют и отцветут, не достигнув цели бытия человечества. Но
каждое составляет звено в цепи общего развития. Единице, т. е. человеку
присвоена свободная воля; но целое, т. е. род человеческий подвержен
общим, неизменяемым законам. "Люди в частности и даже целые
народы мало помышляют о том, что действуя каждый в своем смысле и часто
противно другим, и стремясь к достижению их собственной цели, они
неприметно следуют по черте ведущей к цели природою
предназначенной и содействуют тем успехам, о которых они мало бы заботились,
если бы сии успехи им и были известны". Цель историка, по мнению
Канта, должна быть: "В хаотическом ходе дел человеческих открыть
цель природы, сообразно коей, т. е. цели, не смотря на то, что люди
действуют без всякого плана, можно было бы составить историю по
определенному плану природы". Он сам желал бы только указать на
возможность такой истории человечества, "а потом предоставить природе
создать человека, который был бы в состоянии начертать ее. Таким
образом она, т. е. природа, произвела Кеплера, который неожиданным
образом подчинил определенным законам пути планет, и Ньютона,
который общею естественною причиною изъяснил сии законы". И в самом
деле, если Кеплер и Ньютон угадали законы, по коим движутся миры,
единицы во вселенной; то можно надеяться, что и путь человечества, в
путях единиц, т. е. народов, открыт и описан и определен будет.
Доказательство, что одно труднее другого, только в том, что одни законы
открываются позже других. Мы видим более нерегулярности, хотя и
мнимой, в законах, коими управляются поколения человеческого рода,
нежели в законах, по коим текут единицы — светила млечного пути.
Далее Кант, в том же сочинении говорит, что все врожденные качества
и способности, Naturanlagen, каждого создания достигают со временем
определенного им совершенства или развития. В человеке, напротив,
как в единственном создании, одаренном разумом, сии отличительные
качества, Naturanlagen, его разуму только свойственные, развиваются
вполне, т. е. достигают совершенства, токмо вроде (человеческом) а
не в каждом человеке отдельно. И что же, тогда уже, т. е. в 1784 г., пола-
гал Кант главною задачею для рода человеческого, главным условием,
посредством коего достигается цель бытия? — "Совершенно
справедливое гражданское уложение, Verfassung, — есть высочайшая задача
природы для рода человеческого; так как природа может достигнуть своих
прочих целей относительно людей только посредством разрешения и
надлежащего исполнения этой задачи". Человек стремится, продолжает
Кант, к необузданной свободе; но при сей свободе, люди не могут
ужиться и взаимно вредят друг другу и потому они покоряются
необходимости гражданского порядка. "Но в гражданском быту людей, эти-то
именно наклонности, т. е. те, по коим люди ужиться не могут,
производят в последствии самое лучшее действие: Так деревья в лесу по
тому самому, что каждое из них стремится лишить другое и воздуха и
света, принуждены искать света и солнца выше себя, и через это
получают прекрасный прямой рост; между тем как те деревья, которые стоят
на свободе, отделенные одно от другого, распускают ветви по
произволу, растут косо и криво. Всякая культура и искусство, которые украшают
человечество, самый лучший порядок общественный, суть плоды той
невозможности ужиться, Ungeselligkeit, которая сама себя
принуждает подчиниться дисциплине и таким образом, вынужденным
искусством, вполне развить семена природою насажденные".
Прекрасная мысль и прекрасное, из натуры взятое сравнение. "На историю рода
человеческого в целом, можно смотреть как на исполнение
сокровенного плана природы: установить государственное уложение,
Staatsverfassung, во всем его совершенстве, как во внутреннем, так и в наружном
отношении, чрез что, единственно, могут развиться в человечестве все
его способности. Теперь, государства находятся уже в столь
искусственных отношениях между собою, что ни одно не может отстать в
образованности от другого, не потеряв силы и влияния; так что если не успех,
то, по крайне мере, стремление к этой цели природы, некоторым
образом, обеспечено". И все это Кант писал в 1784 году. С тех пор еще и
французская революция — и паровая машина! "Гражданская свобода
также не может быть ныне нарушаема, не причинив вреда
промышленности народной, особенно торговле, — и по тому самому не причинив
уменьшения сил государственных в отношении к другим народам. Но
эта свобода идет мало-помалу далее и далее... Таким образом возникает,
постепенно, просвещение, как великое добро. Это просвещение
должно, в свое время, возвыситься до престолов и иметь влияние на
основные принципы правительств". Смотри Гускисона в Англии и речь коро-
Комментарии
693
ля баварского в Мюнхене. "И это дает надежду, что со временем, после
многих переворотов и преобразований, будет наконец достигнута
высочайшая цель природы: всеобщий, всесветно-гражданский,
weltbürgerlicher быт, как лоно, в котором разовьются все первоначальные
способности рода человеческого. Философический опыт обработать всеобщую
историю по плану природы, который имел бы в виду гражданское
соединение в роде человеческом; такой опыт должно почитать возможным
и даже сообразным сей цели природы". Это ведет к единому стаду и к
единому Пастырю, но не в смысле единовластительства, а братства
гражданского и христианского вместе. "В нашей части света найдут
наконец правильный ход в улучшениях государственного образования". И
все это Кант писал в такое время, когда еще в Европе не много
рассуждали о пользе лучшего образа правления. Все это согласно с началами
христианства» (Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю
Ивановичу Тургеневу. С. 237-242). Основное расхождение
философских принципов Чаадаева и Канта состоит в признании первым
божественного происхождения априорных идей, зависимости
человеческого разума от Бога и важности роли Провидения в истории (подробнее
см.: Zeldin M. -В. Chaadaev's quarrel with Kant: an attempt at a cease-fire //
Revue des études slaves. T. 55 (1983). Fase. 2. P. 277-285; Торопыгин П.
Кантианство Чаадаева // Труды по русской и славянской филологии.
Литературоведение. I (Новая серия). Тарту, 1994. С. 112-123; Quénet, 1б4).
Д. И. Шаховской писал: «Здесь как будто допускается существование
врожденных идей в человеке, мысль, которую Чаадаев отвергает в
5-м письме. Повидимому неясность вызывается просто неудачным
оборотом речи» (Шаховской, 68).
Ср. рассуждению Ф. Р. де Ламенне: «Было бы сложно обратить
внимание на сей всемирный эстафетный порядок, ибо все сохраняется через
внешнее наставление и все, включая мысль, берет начало с истинного
откровения, ибо мысль развивается внутри каждого из нас лишь с
помощью слова, которое открывает нас или обнаруживает для нас разум
другого. <...> Откуда нам известны сами названия религии, Бога,
вечного, бесконечного, справедливости, долга um. д., если мы не восприняли
их как часть языка, которому нас обучали? Изобрели бы мы их сами?
или же и без них мы стали бы носителями идей, которые они
выражают? И ежели невозможно, чтобы они когда-либо были изобретены, то
первый человек, передавший их нам, должен был получить их из уст
Создателя; и именно поэтому мы находим в непогрешимом слове Бо-
694
жьем источник религии и хранящей ее традиции. <...> Нет, нет, человек
не изобрел законов своего бытия...» («On ne sauroit trop faire remarquer
cet ordre universel de transmission, en sorte que tout se conserve par un
enseignement extérieur, et que tout commence par une véritable révélation,
même la pensée; car elle ne se développe en chacun de nous qu'à l'aide de la
parole, que nous révèle ou nous manifeste la raison d'autrui. <...> Comment
connoissons-nous les noms même de religion, de Dieu, d'éternel, d'infini, de
justice, de devoirs, etc., sinon parce que nous les avons appris, parce qu'ils
font partie du langage qui nous a été enseigné? Les aurions-nous inventés
nous-mêmes? ou aurions-nous sans eux les idées qu'ils expriment? Et s'il est
impossible qu'ils aient été jamais inventés, il faut donc que le premier homme
qui nous les a transmis, les eût lui-même reçut de la bouche du Créateur; et
c'est ainsi que nous trouvons dans l'infaillible parole de Dieu l'origine de la
religion et de la tradition qui la conserve. <...> Non, non, l'homme n'a pas
inventé les lois de son être...») (De La Mennais F. Essai sur l'indifférence en
matière de religion. T. III. Paris, 1823. P. 13-15, Chap. XXI; курсив автора).
Четвертое «Философическое письмо»
Чаадаев возвращается к отличию нравственного мира от мира
естественных наук, разоблачая ограниченность математики и понятия
бесконечности как вредного антропоморфизма. Единственная возможность
интерпретировать бесконечность — это признать, что источник знания
находится вне нас. Чаадаев считает, что мир духовный можно познать так
же, как и мир физический. В физическом мире (здесь Чаадаев ссылается на
работы Р. Декарта, Ф. Бэкона, И. Ньютона) действуют две силы —
«всемирное тяготение» (которое можно постичь экспериментом) и «изначальный
(божественный) импульс» («вержение», то, что следует вывести логически
как трансцендентальный источник всемирного движения). В нравственном
мире эти две силы соответствуют свободе воли и подчиненности
нравственному закону вне нас. Знание о духовной реальности удостоверяется
как логическим путем, так и через ощущение. Далее Чаадаев обращается
к философскому толкованию человеческого Я, заявляя, что умственная
работа внутри индивидуума не противоречит его свободе, но составляет
ее. Чаадаев спорит с философией Шотландской школы (Д. Стюарт, Т. Рид
и др.) по проблеме основания знания и доказывает, что понятие свободы
укоренено в сознании необходимости божественного промысла. Тезис о
Комментарии
695
«врожденных идеях» и изначальном импульсе, задавшем параметры
движения в мире, восходит к философии Канта и Шеллинга, хотя, как заметил
Ш. Кене, те же принципы подробно разбирались и в сочинениях
французских философов-традиционалистов. См.: Quénet, 163-172.
81 «Воля есть не что иное, как род мышления. Представлять ли себе волю
конечною или бесконечною, все равно приходится признать некую
причину, которая заставляет ее действовать: поэтому ее должно
рассматривать не как начало свободное, а как начало обусловленное» (фр.).
По наблюдению Д. И. Шаховского, «никакого сочинения Спинозы под
заглавием "De anima" не существует. Вторая часть "Этики", трактующая
о душе, носит название "De Mente". В ней есть теорема 48-я, довольно
близко соответствующая данному тексту, но на самом деле цитата
взята не оттуда, а из доказательства теоремы 32-й первой части "Этики":
"О боге"». Французский перевод «Этики» Спинозы Э. Сесе вышел в 1843 г.
В библиотеке Чаадаева имелись немецкие переводы «Этики» Спинозы,
в частности лейпцигское издание 1796 г. первых двух частей
трактата, откуда Чаадаев и заимствовал эпиграф (страница с
соответствующей цитатой загнута Чаадаевым пополам) (Шаховской, 68). В
библиотеке Чаадаева были представлены следующие экземпляры сочинений
Б. Спинозы: «Œuvres» (Paris, 1842), «Spinoza's philosophische Scriften.
Bd. 1» (Gera, 1787), «Spinoza's philosophische Scriften. Bd. 2, 3» (Leipzig,
1796): Библиотека, 251-252. Схожие рассуждения о воле и мышлении
см. в начале десятой главы третьей книги трактата Аристотеля «О душе»
(De Anima). Шаховской дал следующую интерпретацию эпиграфа к
четвертому «Философическому письму»: «Несомненно... что в основе мысли
Чаадаева лежит также [кроме заимствованного у Мальбранша и других
последователей Декарта представления о «"cause occasionelle", причине
случайного или вторичного порядка, как действии человека,
непосредственно вызывающем известное явление». —М. В.] идея Канта о вещи в
самой себе и о мире явлений. Все это рассуждение до некоторой
степени позволяет автору подойти к основному вопросу о примирении
необходимости и свободы. Чрезвычайно знаменательно, однако, что
эпиграфом к письму Чаадаев выбрал категорическое выражение
подзаконное™ всякого действия» (Шаховской, 68).
82 Чаадаев мог иметь в виду «учения последователей Пифагора о числах
как знаках материи», а также «мистические представления каббали-
стов»: «ирония» Чаадаева «быть может, направлена в данном случае
696
не против наивных представлений древних мудрецов, а против "им
подобных" — масонов, в чьих воззрениях можно усмотреть
поверхностное усвоение символов каббалистов» (Rouleau, 100; Проскурина,
580).
83 См. иной взгляд на теорию природы («наделенной чувствительностью»)
Пифагора в раннем трактате П.-С. Балланша «О чувстве, рассмотренном
в его соотношении с литературой и изящными искусствами» (1801)
(Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 40, см. также
комментарий В. А. Мильчиной: Мильчина 1982, 399).
84 Цитата взята в сокращении из схолии к 17-й теореме первой части
«Этики» Спинозы (Шаховской, 68).
85 О Декарте, произведения которого Чаадаев «прекрасно знал», хотя и «не
соглашаясь с ним», и Ф. Бэконе в произведениях Чаадаева см.: Quénet,
163,165,188; Шаховской, 68,70.
86 Ср. мнению Вольтера, высказанному в его «Философских письмах»
(«Les lettres philosophiques», 1733): «Одним словом никто до
канцлера Бэкона не знал экспериментальной философии, и из всех
физических опытов, предпринятых после него, едва ли один не указан в
его Книге [Новый Органон. — М. Я]» («En un mot personne avant le
Chancelier Bacon n'avoit connu la philosophie expérimentale, & de toutes
les épreuves phisiques qu'on a faites depuis lui, il n'y en a presque pas une
qui ne soit indiquée dans son Livre [Novum Organum. — M. Ä]...») (Lettres
Philosophiques, par M. de V... Amsterdam, M. D. С. С. XXXIV. P. 97, Lettre
12). Из сочинений Вольтера в библиотеке Чаадаева имелись: «Chefs-
d'œuvre dramatiques» (Paris, 1825), «Œuvres complètes» (Paris, 1827, в
трех томах) (Библиотека, 269).
87 «Вержение» («la projection») — «сила удара, сообщенная движущему
телу тем, кто или что приводит тело в движение», термин заимствован
Д. И. Шаховским из русского перевода четвертого «Философического
письма», предназначенного для «Телескопа» (Шаховской, 70).
88 Вольтер разъяснял смысл одной из этих сил — «притяжение» — в
«Философских письмах» («Lettres Philosophiques»): «Всюду только и можно
было слышать: "почему Ньютон не воспользовался словом «импульс»,
таким понятным, вместо термина «притяжение», который никто не
понимает?" Ньютон мог бы ответить всем этим критикам: "прежде всего,
вы не лучше понимаете слово «импульс», чем слово «притяжение», и
если вы не постигаете, почему одно тело устремляется к центру другого
тела, то вы не более того можете себе представить, с помощью какой
Комментарии
697
силы одно тело может толкать другое. Во-вторых, я не могу допустить
импульс, ибо для этого надо, чтобы я узнал, что некая небесная материя
действительно толкает Планеты; но я не только не знаю такой
материи, я доказал, что ее не существует. В-третьих, я пользуюсь словом
«притяжение» лишь для обозначения открытого мной в природе
достоверного и неоспоримого действия, неизвестного принципа,
качества, присущего материи, причину которого я предоставляю открыть,
если они это смогут, людям более искусным, чем я"» («On entend dire
partout, pourquoi Newton ne s'est-il pas servi du mot d'impulsion que l'on
comprend si bien, plutôt que du terme d'attraction qu'on ne comprend pas?
Newton auroit pu répondre à ces critiques, premièrement vous n'entendez
pas plus le mot d'impulsion que celui d'attraction, & si vous ne concevez pas
pourquoi un corps tend vers le centre d'un autre corps, vous n'imaginez plus
par quelle vertu un corps ne peut pousser un autre. Secondement, je n'ai pas
pu admettre l'impulsion; car il faudrait pour cela, que j'eusse connu qu'une
matière céleste pousse en effet les Pianettes; or non seulement je ne connois
point cette matière, mais j'ai prouvé qu'elle n'existe pas. Troisièmement, je
ne me sers du mot d'attraction que pour exprimer un effet que j'ai découvert
dans la nature, effet certain & indisputable d'un principe inconnu, qualité
inhérente dans la matière, dont de plus habils que moi, trouveront, s'ils
peuvent, la cause. <...> (Lettres Philosophiques. P. 150-151, Lettre 15;
перевод с французского С. Я. Шейнман-Топштейн, цит. по: Вольтер.
Философские письма // Вольтер. Философские сочинения. М., 1996. С. 62).
Д. И. Шаховской отмечал, что источник сведений Чаадаева о Ньютоне
не установлен (по мнению исследователя, хорошо известные Чаадаеву
произведения Вольтера не могли оказать влияния на восприятие
Чаадаевым идей Ньютона) (Шаховской, 70). О философии Ньютона в
России XVIII в. см.: BossV. Newton and Russia. The Early Influence, 1698-1796.
Cambridge, Massachusetts, 1972.
89 Замечание Д. И. Шаховского: «Довольно странная попытка связать
великое открытие Ньютоном законов движения с каким-то внутренним
озарением, связанным с изучением апокалипсиса...». Исаак Ньютон бежал
не в Кембридж, как полагал Чаадаев, но из него - в родную деревню
Вулсторп близ Грантема, где он пережил чуму 1666-1667 гг. Труд
Ньютона, свидетельствующий о его глубокой религиозности: «Замечания на
книгу "Пророк Даниил и Апокалипсис св. Иоанна"» («Observations upon
the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John» был издан
посмертно в 1733 г. (Шаховской, 70).
698
См. полемическую по отношению к сенсуалистам попытку Балланша в
его трактате «О чувстве» дать определение обсуждаемому им предмету
также и в нравственной проекции: «Чувство — это нравственная сила,
которая инстинктивно, без помощи разума выносит суждение обо всем,
что живет по законам нашей животной, личностной и духовной
природы» (Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 37;
курсив автора).
О термине «Cause occasionnelle» см. комм. 81.
Чаадаевское «я сознаю» («Je connais») соотносится с «cogito» Декарта
(Шаховской, 70). Изречение «cogito ergo sum» Чаадаев записал на
внутренней стороне обложки «Фактов сознания» Фихте (издание: Stuttgart;
Tübingen, 1817) (Шереметева, 305).
В оригинале — «la raison commune». Как отметил Д. И. Шаховской, этот
термин был в ходу у шотландской школы (см. комм. 94). «Трудно
сказать, связывается ли 4<аадаевым> с этой школой или термин имеет
общее значение» (Шаховской, 70).
Ж. де Сталь так передает смысл доктрины шотландской школы
(главные представители: Томас Рид (1710-1796), Дюгальд Стюарт (1753-
1828): «предчувствие будущего... то двойное зрение, о котором
толкуют шотландцы и в основе которого, возможно, лежит не что иное, как
способность видеть предметы в свете чувства, независимого от разума»
(СталъЖ. де. Десять лет в изгнании. М., 2003. С. 67, пер. В. А. Мильчиной;
см. также: Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М.,
1982. С 272-321; Шаховской, 70; McNally, 182-183). В близкой к
Чаадаеву интеллектуальной среде сочинения философов шотландской
школы ценились высоко. А. И. Тургенев писал своему брату Н. И. Тургеневу
27 января 1827 г. из Дрездена о доктрине «здравого смысла»
шотландцев (предпочтении непосредственной интуитивной достоверности,
заложенной Богом в природу человека, философии разума):
«Продолжаю читать и понимать Д. Стеварта и в учении нахожу для ума и для
правил истинную пользу. Его книга убедила меня более в
справедливости твоего замечания о английских и немецких авторах. В философии
еще приметнее практическая tendance первых и часто односторонняя
и иногда бесплодная умозрительность последних» (Письма
Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. С. 11-12).
И. С. Гагарин записал в дневнике 25 мая 1834 г.: «Глубокое исследование
теории Локка. Чтение сей книги исполнило меня желания прочитать
сочинения Шотландской школы» (Гагарин, 51-52). В библиотеке Чаа-
Комментарии
699
даева имелись следующие книги: Reid T. Œuvres complètes. Paris, 1828-
1836; Stewart D. Elémens de la philosophie de l'esprit humain. Genève,
1808-1825; Stewart D. Histoire abrégée des sciences métaphysiques,
morales et politiques, depuis la renaissance des lettres. Paris, 1820-1823
(Библиотека, 229-230, 255).
95 Рассуждения Чаадаева о сущности человеческой свободы близки к
идеям, высказанным по тому же поводу П.-С. Балланшем: «...человек,
имеющий возможность выбрать добро или предпочесть зло, человек есть
свободное создание, и лишь в социальном состоянии он находит и
атрибуты и границы своей свободы... Человек заключен Провидением
между двумя пределами, которые суть границы свободы. Два предела
эти — слово и общество» («...l'homme, qui peut choisir le bien ou préférer
le mal, l'homme est un être libre, et ce n'est que dans l'état social qu'il trouve
à-la-fois et les attributs et les limites de sa liberté... L'homme a été enfermé par
la Providence entre deux limites qui sont les bornes de la liberté. Ces deux
limites sont la parole et la société» (Ballanche P.-S. Essai sur les institutions
sociales... P. 223-224,274; chap. IX, partie I, II). Уточним, что в
представлении Балланша социальная функция индивидуума неразрывно связана с
его конфессиональной принадлежностью.
96 Иов, XI, 12.
97 Бытие, 1,26.
98 Иоанн, XVII, 11; XVII, 21.
99 Последний фрагмент тематически связан с первой частью десятой
главы «Опыта об общественных установлениях» Балланша,
озаглавленной «Теория слова». Балланш, как затем и Чаадаев, вновь возвращался
к вопросу об избранных личностях и дарованном им божественном
откровении, а также замечал: «Бог не перестает говорить с человеком,
ибо продолжает заботиться о нем» («Dieu ne cesse de parler à l'homme
parce qu'il ne cesse de veiller sur lui» (Ballanche P. -S. Essai sur les institutions
sociales... P. 305, см. также: Р. 308).
Пятое «Философическое письмо»
Нравственный закон, по мнению Чаадаева, всегда предуказан, как и
закон в физике, а также гарантирован, вопреки пантеистическим
учениям, абсолютным божественным единством (в том числе и
историческим). Чаадаев повторяет высказанные прежде тезисы: о философских
700
системах, выводящих разум из самого себя, об изначальном импульсе
к движению в нравственном и физическом мирах. Далее Чаадаев
переходит к анализу центрального для его историософии понятия
«традиции». Традиция представляет из себя результат работы сознания
многих поколений людей и выражается в слове, данном человеку Богом и
передаваемом затем из века в век. Мировое сознание складывается из
совокупности всех идей, в частности из воспоминания, запечатлевшего
исторический опыт поколений. Нравственные знания человек
получает от родителей, родители от собственных родителей и так далее, пока
логическая цепочка не приводит к первопричине — Богу, источнику
человеческого разума. Именно поэтому человек обладает способностью к
бесконечному просвещению. Традиция была создана через изначальное
внешнее воздействие Бога на человеческий разум, объективная функция
которого состоит в постоянном воспроизведении мысли Бога. С
субъективной точки зрения, человек всегда свободен в выборе истинного или
ложного взгляда на мир и роль в нем Бога. Далее Чаадаев вновь
возвращается к критике философских систем, обосновывавших критерии разума
в нем самом. Чаадаев выделяет философию Шеллинга, соглашаясь с ним
в двух пунктах: существовании божественного промысла и
неограниченного бытия разума. Реализуется же божественная традиция в мировой
истории. См.: Quénet, 164-172.
100 «Они толкуют много о душе, но все превратно. Мильтон» (англ.). 154-й
стих четвертой песни поэмы Дж. Мильтона «Возвращенный рай»
(«Paradise Regained», 1671) (см.: McNally 1969, 242), который
составляет часть речи Христа, обращенной к сатане. Дьявол искушал Христа
и указывал в поучение ему на мудрецов, рассуждающих об истине в
Афинах: Сократа, Платона, стоиков и эпикурейцев (Шаховской, 70).
В библиотеке Чаадаева было следующее издание сочинений Дж.
Мильтона: Milton]. The poetical works. S. 1, s. a. (Библиотека, 196),
указанный стих, впрочем, как и многие другие, отмечен Чаадаевым
(Шаховской, 71).
101 Возможно, имеется в виду психология немецкого философа,
популяризатора философских идей Лейбница Христиана Вольфа (1679-1754),
«делившего психологию на эмпирическую и рациональную (первая
занимается душой в ее связях с телом, вторая — неизменной
бессмертной душой)» (McNally 1969, 242; Проскурина, 581). А. Диолетта Сиклари
отмечает, что на Чаадаева могли оказать влияние сочинения критиков
Комментарии
701
Вольфа И. Ланге (Lange) и А. Ф. Гоффмана (Hoffmann) (Dioletta SiclariA
La culture allemande comme fondement de la divergence entre Caadaev et
Kireevskij sur la philosophie de l'histoire // Revue des études slaves. T. 55.
Fasc. 2. Paris, 1983. P. 288).
102 По предположению В. Ю. Проскуриной, под «нечестивым догматом» в
данном случае «понимаются... древневосточные учения о
реинкарнации души. Здесь, возможно, Чаадаев дает обобщенный образ восточной
мифологии, куда входит и теория метампсихоза, распространенная в
Индии, повествующая о переселении души в другого человека или
животное» (Проскурина, 581).
103 См. недатированные отрывки Чаадаева: «Ни бессмертие души, ни ее
бесплотность не могут быть строго доказаны. Но что может быть доказано,
так это ее существование после того мгновения, которое мы называем
смертью; и ничего более не нужно для всеобщей нравственности» и
«Христианское бессмертие — это жизнь без смерти, а вовсе не жизнь
после смерти» (ПССиИП. Т. 1,465-466; оригинал по-фр.; Шаховской, 72).
104 «Ошибка в логическом рассуждении, состоящая в том, что для
доказательства известного положения пользуются доводом, еще не
доказанным, а, в свою очередь, требующим доказательства» (Шаховской, 72).
105 Имеется в виду шотландская школа (Шаховской, 72), см. комм. 84. По
мнению Д. И. Шаховского, логика последующего фрагмента о
различных философских системах подсказана Чаадаеву структурой
сочинения Ф. Р. де Ламенне «В защиту опыта о безразличии к религии»
(Шаховской, 72).
106 Имеется в виду доктрина французского философа Виктора Кузена
(Cousin) (1792-1867), в рамках которой была сделана попытка освоить
и объединить различные философские идеи, в том числе Канта,
Шеллинга и Гегеля. В библиотеке Чаадаева имелись следующие сочинения
Кузена: «Manuel de l'histoire de la philosophie» (Paris, 1829), «Nouveaux
fragments philosophiques» (Paris, 1828): Библиотека, 94. P. Макналли
приводит фрагмент из предисловия к «Fragments philosophiques» (1826)
Кузена, близкий к идеям Чаадаева: «разум — есть в буквальном смысле
слова откровение, откровение необходимое и всеобщее, которое давалось
всем и просвещало человека, когда он входил в этот мир; разум — это
необходимый посредник между Богом и человеком, логос Пифагора
и Платона, глагол, служащий Богу толкователем, а человеку —
наставником, человеку и Богу вместе» («la raison est à la lettre une révélation,
une révélation nécessaire et universelle, qui n'a manqué à aucun homme et
a éclairé tout homme à sa venue en ce monde; la raison est la médiatrice
nécessaire entre Dieu et l'homme, ce logos de Pythagore et de Platon, ce verbe
fait chair que sert d'interprète à Dieu et de précepteur à l'homme, homme à
la fois et Dieu tout ensemble» (McNally 1969, 243; курсив автора).
В одном из недатированных отрывков Чаадаев дал следующее описание
истории немецкой трансцендентальной философии: «...возвеличивание
"Я", начатое Кантом и завершенное Фихте, должно было неизбежно
ввергнуть человеческий разум в некий ужас и заставить его отшатнуться
от необходимости в будущем раз навсегда рассчитывать на одни только
свои единичные силы; поневоле человеческому разуму пришлось искать
убежища в "абсолютном тождестве'" Шеллинга, т. е. искать помощи и
содействия в чем-то вне самого себя, в чем-то таком, что не есть он сам»
(ПССиИП. Т. 1,475, курсив автора, оригинал по-фр.; см. также: ПССиИП.
Т. 1,482-483,497-498; Шаховской, 72; Falk, 115; McNally 1969,243-244).
Чаадаев цитирует «Предисловие к трактату о пустоте», трактат Блеза
Паскаля (1623-1662) по физике («Préface sur la traité du vide», 1651). Д. И.
Шаховской отмечал, что «смысл слов Паскаля не такой, как у Чаадаева»,
Паскаль «просто-напросто защищает право исследователей природы
вносить новые воззрения в науку, не стесняясь авторитетом прежних
ученых, в том числе и утверждениями древних. Буквально: "De sorte
que toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles doit être
considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend
continuellement"». До Паскаля о том же писал Р. Бэкон в первой части
«Opus magnus» (1268) и Ф. Бэкон в «Novum Organon» (Новый Органон,
кн. 1, 84), а также «De augmentis scientiarum», 11 («О приумножении
наук»). Чаадаев вряд ли заимствовал эту мысль прямо из произведений
Паскаля. По мнению Д И. Шаховского, источник цитаты — книга: Rio A F.
Essai sur l'histoire de l'esprit humain dans l'antiquité. T. 1» (Paris, 1829)
(Шаховской, 75-76; McNally 1969, 244; Библиотека, 233).
Д. И. Шаховской предположил, что этот тезис'заимствован
Чаадаевым из философии Бональда, о которой Чаадаев мог знать и из книги
Ж. Ф. Дамирона «Essai sur l'histoire de la philosophie en France au dix-
neuvième siècle» (Paris, 1828) («Опыт истории философии 19 века во
Франции») (Шаховской, 76; Библиотека, 95).
Имеется в виду онтологическое доказательство бытия Бога,
изложенное Ансельмом Кентерберийским в «Прибавлении к рассуждению»
(«Proslogion», 1077-1078, гл. 2-3) (Проскурина, 582). Ф. Руло отмечал,
что онтологическое доказательство было чрезвычайно распростране-
Комментарии
703
но в христианской схоластике, следовательно, утверждение Чаадаева не
совсем корректно (Rouleau, 118).
111 Цицерон. О законах, кн. 1, гл. 9, § 26 и 27.
112 Сравнение заимствовано из «Опыта о безразличии к религии»
Ф. Р. де Ламенне: ч. 2, гл. 16 (установлено Д. И. Шаховским«-
Шаховской, 76).
113 См., например, в «Опыте о происхождении человеческих знаний» (1746)
Э. Б. де Кондильяка: «Мы, в сущности, не создаем идей, а лишь
комбинируем путем сочетания и расчленения те идеи, которые мы получаем
через органы чувств» (часть первая, раздел второй, глава одиннадцатая
«О разуме, об уме и о различных видах разума и ума» (цит. по: Конди-
льяк Э. Б. де. Сочинения: В 3 т. Т. 1. М, 1980. С. 131; пер. И. С. Шерн-
Борисовой).
114 О невозможности основывать доказательство бытия Бога на
человеческих ощущениях Рене Декарт писал в третьем «Метафизическом
размышлении» (1641) (Rouleau, 123).
115 Об отношении Чаадаева к Канту см.: Шаховской, 76; McNally 1969,245, а
также комм. 78.
116 В оригинале Чаадаев пропустил слово «que», что меняет смысл его
рассуждения, исправлено Д. И. Шаховским (Шаховской, 76).
117 Имеется в виду субъективный идеализм Иоганна Готлиба Фихте (1762-
1814). На одном из сочинений Фихте в библиотеке Чаадаева
помечено — «Arogantia» («Дерзость») (Шаховской, 76; Библиотека, 115-116;
McNally, 181). Наоборот, апологию Чаадаевым философии Фихте (как
прежде всего учения о науке) см. в одном из недатированных отрывков:
ПССиИП. Т. 1,483-484.
118 Ш. Кене отмечал, что явным свидетельством о знакомстве и влиянии
идей Платона на Чаадаева является его письмо А. И. Тургеневу от 20
апреля 1833 г., в котором Чаадаев просит своего адресата переслать его
письмо Шеллингу, упоминая беседу с немецким философом о Платоне,
относящуюся ко времени заграничного путешествия Чаадаева
(ПССиИП. Т. 2,78). Имя Платона возникает во втором «Философическом
письме», где речь идет об обретении и сохранении идей (по мнению Кене,
источником фрагмента служит диалог Платона «Федр»). Диалог
Платона «Пир» Чаадаев использовал в негативном контексте, при осуждении
сократической и платонической морали (Quénet, 163-164).
119CM.:Quénet, 164.
120 См. комм. 78.
704
Шестое «Философическое письмо»
В начале письма Чаадаев вновь обращается к мысли об изначальном
импульсе, давшем движение силе, действующей в мировой истории, где, как
и в жизни,индивидуумов, существует дихотомия «избранная личность» и
«толпа». Далее Чаадаев переходит к изложению собственной философии
истории. Он предлагает следовать религиозному «методу» анализа
исторических явлений, который заключается в распознавании реализующегося в
истории божественного замысла. Подобный подход Чаадаев считал слабо
развитым в современной ему европейской историографии. В
противоположность исследователям отдельных фактов в истории Чаадаев, критикуя
теории естественного развития человеческого духа, видит необходимость
дать глубокие характеристики великих исторических эпох и связать тем
самым историю и философию. Религиозный взгляд, видящий в истории
реализацию божественного промысла, предоставляет Чаадаеву возможность
подвергнуть ревизии сложившиеся в историографии оценки. Так, он
негативно отзывается о греческих и римских философах, исключая Эпикура,
отдавая предпочтение библейским героям. Именно религиозный взгляд
гарантирует исторической науке логическую взаимосвязь прошлого, настоящего
и будущего народов, именно через объективацию общего интереса
человечества можно достичь истинно национального сознания (см.: фрагмент о
религиозной философии истории, записанный на втором томе «Истории»
Тита Ливия (Livius Titus. Histoire romain de Tite-Live. Paris, 1824)
(Шереметева, 293; Библиотека, 176-177). В этом смысле история должна обладать
воспитательной функцией и способствовать признанию народами их
ошибок и исправлению, что есть первое условие их совершенствования. Таким
образом, историческая критика становится судилищем человечества. Вслед
за этим Чаадаев вновь обращается к анализу исторических эпох, доказывая,
что прогресс возможен лишь в «божественном», но не в человеческом
обществе. Доказательство Чаадаева — «от противного»: он приводит в пример
языческий мир древности (а также Индию и Китай), погибший, как считает
Чаадаев, от того, что в нем преобладал исключительно материальный
интерес (схожие нарекания у Чаадаева вызвала и эпоха европейского
Возрождения). Согласно выстраиваемой Чаадаевым схеме развития эпох, Средние
века, воплотившие историю одного — христианского — народа, являются
одной из самых блестящих периодов в истории человечества. Реформация
нарушила достигнутое в Средние века историко-религиозное единство,
которое может быть восстановлено уже в первой половине XIX в., в результа-
Комментарии
705
те религиозной работы внутри европейской семьи народов. Поддержание
связи с традицией является главной социальной задачей современной
христианской цивилизации, основу которой составляет органичное духовное
развитие. Как показывает исторический опыт, лишь христианские народы
идут вперед согласно божественному замыслу. Гарантией их дальнейшего
развития и главным инструментом Провидения служит католицизм,
которому, в отличие от протестантизма, свойственны всемирность, единство и
созидательная сила. По мысли Чаадаева, в скором времени христианская
церковь должна вновь соединиться под эгидой римского папы. Так Чаадаев
намечает апокалиптическую перспективу, которую он развернет в
восьмом «Философическом письме». Отрицание фактологической истории и
признание ценности общей характеристики исторических эпох
сближает «Философические письма» Чаадаева с сочинениями Гизо и Балланша.
Античную Грецию за материальность ее цивилизации критиковали
Ламенне, Бональд, Шатобриан, Шеллинг, Пейли. Враждебность к Реформации и
протестантам — черта французской католической философии (Ламенне,
де Местр, Бональд). Близкая по духу критика философии XVIII в.
содержится в сочинениях Ламенне, де Местра и Ф. Шлегеля, критика эпохи
Возрождения — в сочинениях Бональда. Подробнее см.: Quénet, 139-180.
121 «Можно поставить вопрос, каким образом среди множества
потрясений, междоусобий, заговоров, преступлений и безумств находилось
столько людей, занимавшихся полезными и изящными искусствами в
Италии и затем в других христианских государствах; под владычеством
турок мы этого не наблюдаем» (фр.). Вольтер, «Опыт о нравах», том IV,
гл. CXCVII («Опыт о нравах и духе народов» («Essai sur les moeurs et l'esprit
des nations») опубликован в 1756 г.). Процитированный фрагмент
касается итальянского Ренессанса, о котором Вольтер писал также в третьем
томе «Опыта о нравах» (подробнее см.: McNally 1969, 246). Повышенная
чувствительность к произведениям Вольтера во французской
католической традиции не случайна. См., например, замечание Ж де Местра:
«Таков Вольтер, самый презренный из писателей, если судить о нем с
точки зрения нравственности, и, по той же самой причине, лучший
свидетель истины, когда он по рассеянности отдает ей должное» («Tel est
Voltaire, le plus méprisable des écrivains lorsqu'on ne le considère que sous
le point de vue moral; et par cette raison même, le meilleur témoin pour la
vérité, lorsqu'il lui rend hommage par distraction») (Du Pape, par Joseph de
Maistre. Paris, 1843. P. 249. Livre II, chap. IX).
122 Речь идет об иудеях, см. комм. 167,169.
123 Имеется в виду Палестина, см. комм. 167,169.
124 Как пишет В. Ю. Проскурина, «речь идет о наблюдениях с помощью
гномона, древнейшего астрономического инструмента, служившего
для определения высоты солнца и направления истинного меридиана»
(Проскурина, 584). Гномон представлял из себя вертикальный
стержень на горизонтальной площадке, по длине и направлению которого
можно было судить о высоте Солнца над горизонтом. Гиппарх Никей-
ский — один из самых известных астрономов античности, живший во
II в. до н. э.
125 Кеплер (Kepler) Иоганн (1571-1630), немецкий математик и астроном,
сформулировавший законы движения планет. О его открытиях в
контексте последующего развития астрономии см. комм. 78.
126 Чаадаев критикует французскую материалистическую философию, см.,
например, «Опыт о происхождении человеческих знаний» («Essai sur
l'origine des connaissances humaines», 1746, в частности, главу «Об
ощущениях» раздела первого части первой) и «Трактат об ощущениях» («Traité
de sensations», 1754) Э. Б. де Кондильяка (Кондильяк Э. Б. де. Сочинения:
В 3 т. Т. 1, 2. М., 1980-1982, см. также комментарий к этому изданию).
В библиотеке Чаадаева имелись «Cours d'études pour l'instruction des
jeunes gens» Кондильяка (Paris, 1821 ) и «Logiques de Condillac et Dumarsais»
(Paris, 1822) (Библиотека, 89-90). В. А. Мильчина отмечает, что «упрек в
неразличении прогресса в естественных науках и прогресса в морали
и искусстве был излюбленным оружием всех противников теории
совершенствования» (Мильчина 1989,408).
127 Восторженное отношение Чаадаева к высокому Средневековью также
выразилось в его статье «О зодчестве», опубликованной в журнале
«Телескоп» (1832. № 11. С. 347-357). Суждения Чаадаева об этом
историческом периоде примыкают к традиции, связанной с «Гением
христианства» Шатобриана (см., например, часть 3, кн. 1, гл. VIII).
128 См. комм. 167.
129 Источником суждений Чаадаева о Сократе были сочинения Платона
«Апология Сократа» и «Федон» (Quénet, 164).
130 В библиотеке Чаадаева имелись книги: Abrégé historique de la vie de Marc-
Aurèle-Antonin, et de son ouvrage. Dijon, s. a.; Lettres inédites de Marc Aurèle
et de Fronton. Paris, 1830 (Библиотека, 46,182). О восприятии сочинений
Марка Аврелия в России см.: Гаврилов А К. Марк Аврелий в России //
Марк Аврелий Антонин. Размышления. Изд. 2. СПб., 1993. С. 115-173.
Комментарии
707
131 См., например, описание смерти Катона Утического у Плутарха: «Si
furent tellement outrez de douleur, qu'ils ne scavent de prime face que dire
ne que faire: mais son médecin s'approchant voulut essayer de remettre ses
boyaux qui ne soient point entamer, & recoudre la playe: mais quand il se fut
un peu revenu d'évanouissement, il repoussa arrière le médecin, & déchirant
ses boyaux avec ses propres mains, ouvrit encore plus sa playe: tant que sur
l'heure il rendit l'esprit» (Les vies des hommes illustres par Plutarque, grecs
et romains, translatées par M. Iagues. T. 2. Genève, 1642. P. 395) (перевод:
«Увидев его, плавающего в крови, с вывалившимися внутренностями, но
еще живого — взор его еще не потускнел — они оцепенели от ужаса, и
только лекарь, приблизившись, попытался вложить на место
нетронутую мечом часть кишок и зашить рану. Но тут Катон очнулся,
оттолкнул врача, и, собственными руками снова разодрав рану, испустил дух»
{Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 263;
пер. С. А. Маркиша).
132 Об источниках воззрений Чаадаева на ислам см. преамбулу к седьмому
«Философическому письму». Библиотека Чаадаева содержала издания:
Le Coran. Trad, de l'arabe par m. Savary. Paris, 1821; Doctrine et devoirs de la
religion musulmane, tirés textuellement du Coran. Paris, 1826 (Библиотека,
102, 224).
133 «В "Государстве" Платон показал, что при всей эстетически
совершенной картине мира, данной Гомером в его творениях, нельзя допустить
воздействия его прекрасных, но порочных, подверженных страстям
образов на мораль членов утопического государства» (Проскурина, 585).
134 Фенелон Франсуа (1651-1715), французский религиозный писатель,
автор популярного романа «Похождения Телемаха, сына Улисса» (1699),
сюжет которого был ориентирован на сюжет «Одиссеи» Гомера (см.:
McNally 1969, 247). В библиотеке Чаадаева имелись: Les aventures de
Télèmaque, fils d'Ulysse. Paris, 1824; Œuvres spirituelles. Paris, 1822
(Библиотека, 112-113).
135 Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст (1768-1834) переводил и
издавал сочинения Платона в Германии, В. Кузен - во Франции (1822-
1840), о Платоне беседовали Шеллинг с Чаадаевым в Германии в 1825 г.
(см. комм. 118).
136 В. Ю. Проскурина отмечает, что «в символической картине смены эпох
Чаадаев контаминирует библейское сказание о четырех царствах в
образе зверей (Даниил, VII, 1-24)... и рассказ о Вавилонской башне (Бытие,
XI, 1-9). В европейской традиции Вавилоном, погрязшим в пороке и об-
реченным на погибель, попеременно именовались разные государства.
В XIX в. расхожим было метафорическое уподобление Вавилону
Парижа. К метафоре присоединялись и ассоциации с четвертым царством,
пожирающим всю землю, попирающим и сокрушающим ее (Даниил,
VII, 23), — прямые аналогии с Наполеоновскими завоеваниями.
"Возвышенный историк грядущих веков" — это, конечно, пророк Даниил,
наделенный от Бога даром разгадывать и толковать пророческие сны и
видения» (Проскурина, 585).
Чаадаев перечисляет династии греческих и римских империй,
переживших эпоху расцвета и падения, и имена их основателей. Упоминание в
данном ряду римских императоров Марка Аврелия (121-180) и Флавия
Клавдия Юлиана («Отступника») (331-363) заставляет предположить, что
Чаадаев считал важным дополнительно указать на причину
недолговечности их государств — императорскую враждебность христианству.
Имеются в виду: Александр Македонский (356-323 до н. а), династия Селевкидов,
основанная одним из полководцев Александра Македонского Селевком и
правившая одним из эллинистических государств, центр которого
находился в Месопотамии, с 312 по 64 гг. до н. а, Лагиды, или Птолемеи,
династия, основанная военачальником Александра Птолемеем, сыном Лага,
правившая эллинистическим Египтом в 305-30 гг. до н. э.
Утверждение заимствовано из «Гения христианства» Шатобриана (6 кн.,
4 часть, 13 гл.) (Проскурина, 586).
Чаадаев цитирует «Замечания в дополнение «Опыту о нравах и духе
народов» (1763) Вольтера: Voltaire. Remarques pour servir de supplément à
l'Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, remarque VII (McNally 1969,247;
Rouleau, 141).
Зачеркнуто, но затем восстановлено переводчиком (Проскурина, 100).
А. И. Тургенев, в отличие от Чаадаева, был склонен отделять воздействие
арабов на европейскую культуру от результатов татаро-монгольских
нашествий на Русь: «Татары для России не то, что Арабы для Гишпании.
Они не ученее нас были и не привезли из Азии с собою
Историографов. Там завоеватели и покоренные были народы не только грамотные,
но и Исторические: и те и другие писали Историю. Победы Монголов
"carent vate sacro", и только в Печерской келье продолжатели
Нестора, "не мудрствуя лукаво", вносили в книгу судеб России ее бедствия и
унижения. <...> Только тот народ имеет Историю, кто оной достоин,
а Монголы только громили нас и оставили нам в наследство щеты,
Кн. Юсупова и некоторые дурные навыки. Провидение, кажется, бережет
Комментарии
709
Историю только для тех, кои приобщают и свою лепту к общей массе
блага человеческого: те, кои просто губят, не освежая землю, исчезают с
лица ее, без славы, "auf dass die Völker nicht meinen Gewalt reiche hin zum
Ruhm" ["для славы сих народов моей силы не хватает"], говорит где-то
Иоанн Мюллер» (письмо к П. А. Вяземскому от 2 августа 1833 г.: АбТ. 6,
283; курсив автора).
142 Интерпретация Чаадаевым Китая (как «косного» и «неподвижного»
государства) полемически заострена против культа Китая, созданного
Вольтером, и, вероятно, восходит к трактату Монтескье «О духе законов»
(1748; например, к десятой главе XIX книги — «О характере испанцев и
китайцев»). Подробнее см.: Фишман О. Л. Китай в Европе: миф и
реальность. СПб, 2003. С. 259-271.
143 В несколько более усложенном виде этот тезис высказал Ш. Л. Монтескье
в «Размышлениях о причинах величия и падения римлян» (1734):
«Римляне сделались победителями всех народов не только благодаря своему
военному искусству, но и благодаря своему благоразумию, своей
мудрости, своему постоянству, своей любви к славе и к отечеству. Когда при
императорах все эти добродетели исчезли, у них сохранилось военное
искусство, благодаря которому они удержали все завоеванные ими
земли, несмотря на слабость и тиранию их государей; но когда
разложилось и войско, римляне стали добычей всех народов» (Монтескье Ш. Л.
Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения
римлян. М., 2002. С. 357-358; пер. А. И. Рубина).
144 «Пеласгами» древнегреческие авторы именовали доэллинское
население Греции.
145 Оттоманская империя — турецкий султанат, основанный Османом I
в 1299 г. и существовавший до 1923 г. Чаадаев мог связывать близкое
падение Османской империи с событиями русско-турецкой войны
1828-1829 гг., завершившейся подписанием Адрианопольского мира
2 сентября 1829 г. и актуализировавшей циркулировавшие со времен
русско-турецких войн XVIII в. предсказания о неизбежности падения
Османской империи.
146 Геродот посетил Египет ок. 450 г. до н. э. и посвятил ему вторую
книгу своей «Истории». Библиотека Чаадаева содержала том: Histoire
d'Hérodote, suivie de la vie d'Homère. Paris, 1822 (Библиотека, 142).
147 Ср. высказывание о Средних веках Ж. де Местра: «...Государь Понтифик
как источник европейской власти, ибо она, действуя повсюду, стирала
национальные различия, насколько это было возможно, и ничто так не
710
сближает людей, как религиозное единство. Провидение доверило
Папам воспитание верховной власти Европы» («le Souverain Pontife comme
la source de la souveraineté européenne, parce que la même autorité agissant
partout, effaçoit les différences nationales autant que la chose étoit possible,
et que rien n'identifie les hommes comme l'unité religieuse. La Providence
avoit confié aux Papes l'éducation de la souveraineté européenne»)
(MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris, 1819- T. II. P. 514, Livre III, chap. IV).
148 О влиянии идей Ф. Гизо на Чаадаева см. преамбулу ко второму
«Философическому письму».
149 Вальденсы — религиозная секта, последователи лионского купца Пьера
Вальдо, жившего в XII в. и стремившегося возродить первоначальную
чистоту христианских нравов, признавали свободу чтения Библии и
проповеди, отлучены от церкви в 1184-1215 гг., однако быстро
распространились в Италии, Франции, Испании, Богемии и впоследствии
жестоко преследовались католической церковью. Близкие к
протестантизму, вальденсы участвовали в подготовке французского перевода
Библии — П.-Р. Оливетана, вышедшего в 1535 г. с двумя предисловиями
Ж Кальвина. Протестантский источник, к которому апеллирует
Чаадаев, не установлен.
150 Имеются в виду: одна из фаз перестройки собора св. Петра в Риме папой
Львом X Медичи (1475-1521), в частности при участии Рафаэля;
активная продажа Львом X индульгенций («прощения грехов»),
спровоцировавшая открытое выступление против католической церкви Мартина
Лютера, 31 октября 1517 г. вывесившего свои «95 тезисов» на воротах
соборной церкви Виттенберга.
151 По мнению В. Ю. Проскуриной, Чаадаев мог иметь в виду Франциска
Ассизского, осуждавшего материальные блага и проповедовавшего
добровольную нищету; под «чудесными действиями» веры на народы Чаадаев
мог подразумевать крестовые походы (Проскурина, 587).
152 В определении духовной цензуры, рассматривавшей русский перевод
шестого и седьмого «Философических писем», готовившегося к печати
в качестве отдельной публикации в типографии А. Семена, от 31 января
1833 г. фраза Чаадаева «В золотой век церкви, в век величайших ее
страданий, — еще струилась кровь Спасителя» сопровождалась следующим
комментарием: «Кровь Спасителя, в собственном смысле, изливалась во
время его страданий, и тогда, когда воин пронзил копьем ребро его.
В смысле таинственном она не перестает изливаться и ныне и во все
времена церкви Христианской в таинстве Евхаристии. Следовательно, про-
Комментарии
711
лияние крови Спасителя нельзя относить как отличительный признак
к Церкви Апостольской I и II века по Р. X., о которой говорит
сочинитель» (цит. по: ПССиИП. Т. 2, 536; см. также письмо Ф. А. Голубинского к
А. П. Елагиной от 1 февраля 1833 г.: Там же. С. 526-527).
153 В постановлении духовной цензуры о фразе Чаадаева «Безрассудно
мечтать о возвращении такого состояния вещей, которое
происходило только от чрезвычайных бедствий, угнетавших первых христиан»
говорилось: «Под сим состоянием разумеет сочинитель совершенство
церкви Апостольской... но нельзя сказать, чтобы сие совершенство
происходило от бедствий церкви. Бедствие было только содействующею
причиною, а не главною» (Там же. С. 536-537).
154 В тексте имеется фрагмент, впоследствии зачеркнутый переводчиком.
После слов «душ и умов» следовало: «Она [Реформация. — М. В.] снова
отбросила человека в одиночество его личности, она попыталась снова
отнять у мира все симпатии, все созвучия» (Проскурина, 587).
155 Далее зачеркнуто переводчиком: «...и единства, незаменимый источник
истинного прогресса человечества, то есть прогресса беспредельного»
(Проскурина, 587).
156 Важнейшую роль евхаристии в христианстве отмечал Ф.-Р. де Шатобри-
ан в «Гении христианства» (1802). По мнению Шатобриана, святое
причастие одновременно означало: 1) материализованное в хлебе и вине
освящение Богом человеческой пищи; 2) через сходство с праздником
Пасхи томившихся в Египте евреев, евхаристия символизировала связь
новых времен с великой христианской традицией; 3) святое причастие
свидетельствовало о слиянии всех христиан в одну большую семью;
4) наконец, таинство евхаристии связано с непосредственным
присутствием Бога в освященном хлебе, тем самым душа человека воспаряла к
временам мудрости Адама, предшествовавшим его падению (часть 1, кн. 1,
гл. VII). См. комментарий духовной цензуры к фразе Чаадаева «Таинство
причащения, сие чудное открытие разума Христиан, если позволено так
выразиться, материализует души»: «Оба сии выражения (открытие разума
Христ. и материализует души) — неправильны» (ПССиИП. Т. 2,537).
157 Чаадаев подчеркивает жестокость, сопровождавшую
распространение протестантизма: сожжение по доносу Кальвина его оппонента,
богослова-антитринитария Мигеля Сервета в 1563 г. (род. в 1511);
деятельность протестантского проповедника, переводчика Библии на
швейцарский диалект немецкого языка Ульриха Цвингли (1484-1531),
погибшего 11 октября 1531 г. в битве при Каппеле, выступавшего за
712
принятие Библии как единственной нормы веры и поведения,
противопоставляя его религиозным практикам римской католической церкви;
английский король Генрих VIII (1491-1547) из династии Тюдоров,
изначально защитник католической церкви, затем в 1530-е гг. основал
реформированную английскую церковь. Архиепископ Кентерберийский
и активный деятель английской реформации Томас Кранмер (1489-
1556) осуществил развод Генриха с Екатериной Арагонской,
необходимость которого послужила источником конфликта Генриха с Римом.
158 Ж. де Местр замечал в трактате «О Папе», что католическую и
православную церкви объединяет общность обрядов, в том числе евхаристии,
которых протестанты не признают (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris,
1819. T. П. Р. 560, Livre IV, chap. 1).
159 Оценка Чаадаевым существа католической церкви подверглась
осуждению со стороны духовной цензуры: «Все сии мысли противные
истинным понятиям о православии, чистоте и превосходстве церкви
Восточной» (ПССиИП. Т. 2, 537).
Седьмое «Философическое письмо»
Чаадаев размышляет о собственной манере письма, которая многим, с
его точки зрения, может показаться парадоксальной. Однако Чаадаев считает
свое рассуждение лишь изложением «простых мыслей с долей убеждения».
История, согласно Чаадаеву, изучает одного и того же человека, которому
суждено стать частью великого нравственного целого. Религиозная
трактовка истории способствует уяснению человеком его назначения — разрушить
его отдельное существо и заменить его существом социальным или
безличным. В седьмом «Философическом письме» он вновь возвращается к ревизии
исторического канона, осуждает фактологическую историю, пишет о
материальности греческой цивилизации — не в пример католическому Риму.
Среди исторических единиц Чаадаев выделяет Моисея, Давида и иудеев, народ,
облеченный высшей миссией передачи ветхозаветной традиции, осуждает
греков и римлян. Сравнение с библейскими героями выдерживает лишь
Эпикур, мирной жизни которого Чаадаев приписывает христианские качества, а
его философии — элемент единения. Положительной оценки Чаадаева
удостаиваются арабы, в религии которых он усматривает идею единого бога и
всемирного верования. Ислам поэтому трактуется как христианская секта,
что доказывает всемирное влияние христианства. В конце письма Чаадаев
Комментарии
713
возвращается к России, и его выводы звучат уже менее пессимистично, чем в
первом «Философическом письме». Своим социальным бытом Россия, по
мысли Чаадаева, неразрывно связана с Европой (ср. тезисы, сформулированные
в «Апологии безумного»). Рано или поздно Россия примет свое назначение
и встанет на путь интеграции, но для успешного единения с христианским
Западом требуется создание традиции, формулирование идей, умственная
работа, которой, по мнению Чаадаева, и должен заниматься религиозный
философ в России. Представление о мусульманстве как ответвлении от
христианства см. у Балланша, де Местра, Бональда, Пэйли. Близкие к чаадаевским
утверждения о Риме см. в трактате де Местра «О Папе» (кн. 2, гл. VI) и в «Гении
христианства» Шатобриана (ч. 4, кн. 6, гл. VI). Тезис Чаадаева о перспективах
России в европейской истории сходствует с высказываниями на ту же тему
Бональда. Подробнее см.: Quénet, 143-180.
160 П. Б. Козловский, рассуждая в «Опыте истории России» о
возможности открытого обнародования в России сочинения, содержащего
резкую критику современных ему порядков, высказывал тезисы, близкие
к чаадаевским, однако в итоге предпочел «безвестность» «почету
гонения» и «мученичеству»: «Мы ясно сознаем, что, защищая истину во
имя всеобщего блага, навлечем на себя ненависть и
недоброжелательство тех, чье самолюбие будет задето нашим сочинением. Поэтому,
опасаясь высказать великие истины в стране, где о них до сих пор
молчали, мы предпочитаем безвестность почету гонений; истина, как
и религия, имеет своих мучеников, и мы почли бы за честь поставить
под этим сочинением свое имя, будь мы уверены, что зло,
причиненное нашей особе, обратится во благо для всех прочих людей, но увы,
среди русских, победителей за пределами своего отечества и
несчастных в его пределах, вовсе не существует общественного мнения,
способного защитить сочинителя от предрассудков отдельных
личностей» (Милъчжа В. А, Осповат А. Л. Из наследия П. Б. Козловского //
Тютчевский сборник. Статьи о жизни и творчестве Федора Ивановича
Тютчева. Таллинн, 1990. С. 302,308; пер. с фр. В. А. Мильчиной). После
бесед с Козловским в Эмсе в 1827 г. А. И. Тургенев писал Н. И.
Тургеневу: «Только заключения его меня сердят; ибо он, вместо того, чтобы за
суд нападать на судей, нападает на Россию вообще и на народ. Тайная
причина сему в его положении. Он желал бы извинить себя или свою
бесполезность, им самим произведенную, для народа, для отечества
и прикрывает этот тайный упрек совести негодованием против Рос-
сии, где случается то что случилось. Спорить с ним бесполезно; но
слушать его рассуждения, когда они справедливы, приятно и весело»
(Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу
Тургеневу. С. 52-53).
161 Микроскоп был изобретен и стал активно использоваться в
естественных науках в конце XVI-XVII вв., его распространение, в частности,
связано с именем голландского натуралиста Антони ван Левенгука (1632-
1723). Вопрос об уровне науки до и после изобретения микроскопа
являлся в эпоху Чаадаева дискуссионным. См., например: «Discours sur
l'état actuel des sciences naturelles» ботаника, академика Петербургской
академии наук Карла Бернгарда Триниуса в: Recueil des actes de la séance
publique de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg tenue le
29 Décembre 1828. Pétersbourg, 1829. P. 97-98.
162 См. комм. 108.
163 Чаадаев упоминает крупнейших античных и раннехристианских
историков: Геродота, жившего в V в. до н. э., автора «Истории», важнейшего
источника по средиземноморской истории середины первого
тысячелетия до н. э., Тита Ливия (59 до н. э. — 17), автора «Римской истории»,
Григория Турского (538-594), франкского священника и писателя,
автора десятитомной «Истории франков».
164 Имеется в виду греческий скульптор Фидий, живший в V в. до н. э.
165 По мнению комментаторов сочинений Чаадаева, речь идет об
Эдварде Гиббоне, авторе «Истории упадка и разрушения Римской империи»
(1776) (Проскурина, 589; Rouleau, 163).
166 По-видимому, Чаадаев имеет в виду часть предметов искусства из
коллекции Лувра, вывезенных из Италии Наполеоном Бонапартом, а после
его падения возвращенных обратно. Чаадаев вошел в Париж вместе с
русской армией 1 апреля 1814 г., познакомился с этими
произведениями в Париже, а затем в 1825 г. имел возможность вторично видеть их во
время своего путешествия по Италии. О каких именно творениях
упоминает Чаадаев, не установлено (см.: McNally 1969,249).
167 В библиотеке Чаадаева имелась книга К. Э. де Пасторе (Pastoret)
«Моисей как законодатель и моралист» («Moyse considéré comme législateur et
comme moraliste» (s. 1., s. a.) (Библиотека, 201). В своем сочинении Пасторе
разбирал законы Моисея и доказывал историческую достоверность его
деяний. Кроме того, Пасторе обосновывал трехтысячелетнюю историю
еврейского законодательства его божественным происхождением и
строгостью наказаний за его нарушение (в частности, для сохранения в
Комментарии
715
силе божественных предписаний Моисею требовалось полностью
изолировать свой народ от прочих, среди которых было распространено
идолопоклонство; впоследствии божественные заповеди, данные
Моисею на горе Синай, повлияли, в частности, на греческую философию),
аргументировал положение, согласно которому действия Моисея были
сознательно направлены на подготовку универсализации культа
Иеговы и превращение иудаизма в христианство, отмечал сходства и
различия между законодательной деятельностью Моисея и Магомета (Moyse
considéré comme législateur et comme moraliste par M. De Pastoret. Paris,
1788. P. 7-10, 495-500, 517-520). В своей интерпретации исторической
роли Моисея Чаадаев мог также опираться на четвертую книгу «Гения
христианства» (1802) Шатобриана, озаглавленную «Возражения на
систему Моисея». При рассмотрении седьмого «Философического письма»
духовной цензурой в 1833 г. было вынесено следующее определение: «В
статье о Моисее... основные понятия несправедливы. Главное
недоразумение состоит в том, что сочинитель видит в Моисее не посланника Божия,
а законодателя, который при всей странности характера, совмещающего
в себе свойства противоположные, силою своего гения и употреблением
средств необыкновенных достигает того, что утверждает на целые века
в народе израильском свою систему — монотеизм». Цензоры расценили
чаадаевскую интерпретацию характера Моисея как «превратную и
противную смыслу Св. Писания» (ПССиИП. Т. 2. С. 537-538; курсив автора).
Рассуждения Чаадаева о литературных достоинствах Библии,
возможно, восходят к пятой книге «Гения христианства» (1802) Шатобриана,
озаглавленной «Библия и Гомер» (см.: Эстетика раннего французского
романтизма. М., 1982. С. 171-176). О библейской фразеологии см. также
записи Чаадаева на книгах Фридриха-Генриха Якоби «Об учении
Спинозы в его переписке с г. М. Мендельсоном» (Ueber die Lehre des Spinoza
in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Breslau, 1789) и третьем томе
«Исторических и литературных очерков» Абеля-Франсуа Вильмена
(Villemain Л. F. Mélanges historiques et littéraires. Paris, 1827-1828)
(Шереметева, 294-295; Библиотека, 150, 267-268).
Ср. у Ламенне: «иудеи выполняли высокую функцию, готовя род
человеческий узнать своего Спасителя» («le peuple juif remplissoit la
haute function de préparer le genre humain à reconnoitre son Sauveur»)
(De La Mennais F. Essai sur l'indifférence en matière de religion. T. III.
Paris, 1823. P. 50, Chap. XXIII); y П.-С. Балланша о миссии иудеев:
«...назначение должно было отныне ограничиться сохранением древних
заветов...» («...la mission devoit se borner désormais à être le gardien des
promesses anciennes...» {BallancheP.-S. Essai sur les institutions sociales...
P. 161; chap. VI).
170 «Второзаконие» — название пятой книги Пятикнижия и Ветхого
Завета. Дано ей греческими переводчиками Библии, интерпретировавшими
ее содержание как «второй закон» Моисея, повторяющий многие
религиозные нормы, прежде изложенные в книге «Исход».
171 Имеется в виду цикл произведений древнегреческого историка и
полководца Ксенофонта Афинского, жившего в V-IV вв. до н. э., о своем
учителе Сократе (в частности «Воспоминания о Сократе», «Апология
Сократа», «Пир»). Источник сведений Чаадаева о сочинениях Ксенофонта
не установлен. Об отношении Чаадаева к античности см.:
Проскурина В. Ю. От Афин к Иерусалиму (Культурный статус античности в 1830 —
начале 1840-х годов) //Лотмановский сб. 1. М., 1995. С. 488-502.
172 Речь идет о книге записей римского императора Марка Аврелия (121-
180) «Наедине с собой (Размышления)».
173 Речь идет о лионской резне христиан в августе 178 г. и наследнике
Марка Аврелия, его сыне, императоре Коммоде (161-192), прославившемся
своей развращенностью и жестокостью.
174 Комментаторы расходятся в интерпретации ссылки Чаадаева на
мнение Ф. Бэкона о Демокрите. В. Ю. Проскурина отмечает, что «Бэкон
посвятил Демокриту несколько сочувственных страниц в книге "О
началах и истоках"» (Проскурина, 589), 3. А. Каменский пишет, что «Ф.
Бэкон вовсе не считал Демокрита "единственным" ["разумным физиком"]»
(ПССиИП.Т. 1,709).
175 См. также запись Чаадаева на первом томе «Опыта о безразличии» Ла-
менне (Lamennais F. R. Essai sur l'indifférence en matière de religion. Gand,
1819-1820): «...если это правда, что видели где-то вне христианства
людей, умирающих за свои убеждения. — Умирали за привычки, а не за
убеждения (исключаю только Магомета)» (Шереметева, 296;
Библиотека, 168; оригинал по-фр.).
176 Возможно, Чаадаев имеет в виду: Цицерон, О законах, книга I, глава XIX,
§ 52 (Rouleau, 170).
177 В библиотеке Чаадаева имелись следующие издания: «Epiktet's Handbuch
der stoischen Moral» (Mannheim, 1826), «Manuel d'Epictète précédé d'une
notice sur ce philosophie, et d'observations sur la morale des stoïciens»
(Paris, 1823) (Библиотека, 109-1Ю). Близкие размышления о стоицизме
приведены во второй записной книжке П. А. Вяземского: «Вместо того,
Комментарии
111
чтобы уничтожать страсти, стоикам надлежало бы управлять ими.
Преподавая учение слишком недоступное для людей обыкновенных,
стоическая нравственность образовала лицемеров и возбудила сомнения в
возможности достичь до столь высокой добродетели. Метафизика сих
философов была слишком холодная, они разливали большой свет на
нравственные истины, но не умели запалить тот чистый пламень,
который пожирает зародыш пороков. Учение стоиков, оковывая страсти
молчанием, без сомнения, утверждало владычество рассудка; но оно
не могло приверженцам своим внушить силу души, которая приводит
в действие, и гибкость, приучающую подаваться обстоятельствам; и
варвары, завоевавшие Италию, нашли в ней людей, или ослабленных
крайностию безнравственности, или граждан честных, но бессильных и
несмелых (Müller)» (Вяземский П. А. Записные книжки (1813-1848). М.,
1963. С. 30-31; вероятно, имеется в виду швейцарский историк Иоганн
Мюллер (1752-1809).
Портик — имеется в виду стоическая школа философии, получившая
свое название от афинской колоннады («стоя» в античной
архитектуре — галерея-портик, обычно с 1-2 рядами колонн и со стеной по
одной из ее длинных сторон), где выступал основатель школы Зенон из
Кития; Академия — название философской школы Платона, название
произошло от расположенного рядом общественного гимнасия,
существовавшего на месте святилища местного героя Академа.
Источник воззрений Чаадаева на учение Эпикура не установлен. Ряд
сходных мыслей об Эпикуре см., например, в четвертом томе «Нового
исторического словаря» (1804) Л. М. Шодона и Ф.-А. Деландина:
«Усевшись в тенистой свежести дерев или удобно расположившись на
мягких ложах со своими учениками, он старался внушить им восторг
мудрости, воздержанность, умеренность, отвращение к публичной жизни,
скромность в споре, осторожное отношение к человеческому
самолюбию, твердость души, вкус к приличным удовольствиям и презрение к
жизни. <...> В то время как другие философские секты возмущали мир
своими распрями, секта Эпикура жила в единодушии и мире» («C'étoit,
fraîchement assis à l'ombre des bois, ou couché mollement sur des lits
délicats avec ses élèves, qu'il tâchoit de leur inspirer l'enthousiasme de la
sagesse, la tempérance, la frugalité, l'éloignement des affaires publiques, la
modération dans la dispute, le ménagement pour l'amour propre des hommes,
la fermeté de l'âme, le goût des plaisirs honnêtes, et le mépris de la vie. <...>
Tandis que les autres sects philosophiques scandalisoient le monde par leurs
querelles, celle d'Epicure vivoit dans l'union et dans la paix» (Chaudon L M,
Delandine F. A. Nouveau dictionnaire historique. T. 4. Lyon, 1804. P. 530;
здесь же см. о восприятии идей Эпикура в Европе XVII и XVIII вв., в
частности о работах Пьера Гассенди: Ibid. P. 532-533); или в «Правилах
нравственности Эпикура» (1758) Ш. Батте, который выделял такие
постулаты эпикурейской морали, как «Будьте справедливы, благоразумны,
вооружитесь силой и постоянством, будьте воздержаны и умеренны во
всем. Для человека нет счастья вне добродетели» («Soyez juste, soyez
prudent, armez-vous de force & de constance, soyez tempérant & modéré en
tout. Point de bonheur pour l'homme sans la vertu»), и комментировал:
«Это рассуждение удивляет тех, кто полагает, что добродетель не может
существовать без Религии и уважения к Божеству» («Ce discours étonne
ceux qui croient que la vertu ne peut être sans la Religion & le respect de
la Divinité») (Batteux Ch. La morale d'Epicure, tirée de ses propres écrits.
Paris, MDCCLVIII (1758). P. 121-123; здесь же см. характеристику
полемик вокруг учения и фигуры Эпикура: Ibid. P. 7, 13 passim). Однако
все указанные авторы утверждали, что сравнивать учение Эпикура о
нравственности с христианскими заповедями неправомерно. В оценке
эпикурейской философии и морали Чаадаев расходился и с
католическими французскими философами, например с Бональдом, который
полагал, что именно эпикурейская мораль ослабила, а затем и
погубила Римскую империю (Bonald L G. A. Mélanges littéraires, politiques
et philosophiques. T. 2. Paris, 1819. P. 421). Последняя точка зрения
восходит, в частности, к десятой главе «Размышлений о причинах величия
и падения римлян» Монтескье (1734).
Интерес арабских ученых к философии Аристотеля проявился в VIII в.
В конце XII в., благодаря латинским переводам комментариев Авиценны
(980-1037), философия Аристотеля вновь актуализировалась в
Западной Европе и повлияла на развитие христианской схоластики,
например, на учение Альберта Великого. Одновременно изучение Аристотеля
активно велось в арабской Испании и, в первую очередь, связано с
деятельностью Аверроэса (1126-1198).
Примечание И. С. Гагарина: «В крайнем случае можно считать
магометанство христианской сектой, так же как, например, арианство, но
невозможно допустить, чтоб истина соединялась с ложью» (Гагарин, 111,
оригинал по-фр.; перевод см.: Проскурина, 589).
О европейском контексте споров о Гомере см.: Мильчина 1989, 414-
416. В библиотеке Чаадаева см.: «L'Iliade d'Homère» (Paris, 1815, trad, par
Комментарии
719
m-me Dacier), «L'Odissée d'Homère» (Paris, 1815, trad, par m-me Dacier)
(Библиотека, 114-115).
183 Остров в северной части Эгейского моря (современное название —
Самотраки), в Древней Греции был центром проведения мистерий в честь
божеств малоазийского происхождения — кабиров. Среди возможных
источников сведений Чаадаева о самофракийских таинствах следует
упомянуть речь Шеллинга «О самофракийских божествах» 1815 г. в Баварской
академии наук, вышедшую в том же году отдельным изданием, в период
полемики вокруг символики древних мифологий между Г. Ф. Кройцером
и И. Г. Фоссом, и разобранную затем Кройцером в «Венском литературном
ежегоднике» (Резвых П. Ф. В. Й. Шеллинг в диалоге с российскими
интеллектуалами // Новое литературное обозрение. № 91 (2008). С. 148-150).
184 По предположению 3. А. Каменского, Чаадаев ссылается на книгу
Плутарха «О жизни и поэзии Гомера» («De vita et poesi Homeri») и три речи
Максима Тирского из его сочинения «Maxime Turii Philosophumena»
(ПССиИП. T. 1, 710). Следует оговорить, что автором первого трактата
был не Плутарх из Херонеи, а Псевдо-Плутарх.
185 В библиотеке Чаадаева имелись следующие сочинения немецкого
историка, специалиста по Греции Арнольда Германа Людвига Геерена
(Heeren) (1760-1842): Heeren A H. L Ideen über die Politik, den Verkehr
und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. T. 1-3. Göttingen,
1815-1821; Heeren A. H. L Zusätze und Umarbeitungen aus der vierten
Ausgabe der Ideen über die Politik und den Handel der vornehmsten Völker
desAlterthums.T. 1-2. Göttingen, 1827 (Библиотека, 137-138;CM.:McNally
1969, 249). 3. А. Каменский считает, что труды Геерена оказали влияние
на интерпретацию Чаадаевым истории Индии (подробнее см.: ПССиИП.
Т. 1,710-711).
186 Библиотека Чаадаева содержала книгу немецкого филолога Георга
Фридриха Кройцера (Creuzer) (1771-1858), переводчика Плотина,
писавшего о религии греков: Creuzer G. F. Religions de l'antiquité, considérées
principalement dans leur formes symboliques et mythologiques. T. 1. Paris,
1825 (Библиотека, 94-95; см.: McNally 1969, 249-250).
187 Тифон — в древнегреческой мифологии хтоническое стоглавое
чудовище, сын Тартара и Геи, с человеческим туловищем и змеями вместо ног,
Ариман — бог зла в религии древнего Ирана.
188 Имеются в виду «Записки о галльской войне» римского императора Гая
Юлия Цезаря и «О происхождении германцев и местоположении
Германии» римского историка Публия Корнелия Тацита.
720
189 Тезис о коллективном авторстве поэм Гомера был подробно обоснован
в книге Ф.-А. Вольфа «Prolegomena ad Homerum» («Пролегомены к
Гомеру, 1795). Об исключительном воздействии этой книги на изучение
античности писал А. И. Тургенев (со слов историка и филолога К. Ш. Фо-
риеля) в письме к П. А. Вяземскому и В. А. Жуковскому от 7 марта 1836 г.
(Азадовский К. М. Старые европейские комеражи (Несостоявшаяся
«Хроника» А. И. Тургенева) // Звезда. 1999- № 6. С. 105-106).
190 Ср. запись Чаадаева на внутренней стороне переплета четвертого тома
«Истории» Диодора Сицилийского (Histoire universelle de Diodore de
Sicile. Paris, 1758): «...если допустить, что мир создан Гомером, все
пороки сделались бы в конце концов игрой, а все наиболее презренные
чувства — шалостью» (Шереметева, 294; Библиотека, 102; оригинал по-фр.).
191 Мнение Чаадаева о перспективах интеграции России в европейский
католический мир, возможно, восходит к следующему замечанию
Ж де Местра: «Любая нация, даже христианская, не достаточно знакомая
с созидательной деятельностью, при прочих равных навсегда останется
ниже остальных наций, и всякая обособленная нация, ощутив
прикосновение всемирной печати, почувствует, наконец, что ей чего-то не
хватает, и рано или поздно она будет возвращена к единству здравым
смыслом или бедствием. Каждому народу присуща загадочная, но очевидная
взаимосвязь между длительностью правлений его государей и
совершенством религиозных принципов» («Toute nation, même chrétienne, qui
n'a pas assez senti l'action constituante, demeurera de même éternellement
au-dessous des autres, toutes choses égales d'ailleurs, et toute nation séparée
après avoir reçu l'impression du sceau universel, sentira enfin qu'il lui manque,
quelque chose, et sera ramenée tôt ou tard par la raison ou par le malheur. Il y
a pour chaque peuple une liaison mystérieuse mais visible, entre la durée des
règnes et la perfection du principe religieux») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon;
Paris, 1819. T. II. P. 549-550, Livre III, chap. 7).
Восьмое «Философическое письмо»
Совокупность исторических фактов составляет истину, задача
историка — обнаружить общий смысл истории через анализ умственного действия
христианства. Чаадаев утверждает, что его историческая аргументация
является по характеру своему христианской, поскольку пользуется
средствами, дарованными человеку божественным Откровением. Чаадаев проводит
Комментарии
721
различение между буквой и подлинным голосом религии. Это различение
делает возможным само историософское толкование, поскольку не
ограничивает религиозный закон одним текстом Св. Писания. Человечество
должно достичь единства в живом слове: «Философические письма»
завершаются апокалиптическим предсказанием близости слияния всех народов
(в том числе и русского) в истине, в Царстве Божием на земле, в
осуществленном нравственном законе. Значимая роль живого слова, а не только
буквы христианства, обосновывалась в сочинениях Балланша и Бональда.
Противопоставление общехристианского элемента европейской истории
национальному см. в работах Балланша. См.: Quénet, 143-163.
192 О глубокой взаимосвязи между христианством и наукой писал
Ж. де Местр: «Никакая религия, за исключением одной единственной, не
может пройти испытание наукой. <...> Наука и вера никогда не вступят
в союз вне единства» («Aucune religion, excepté une, ne peut supporter
l'épreuve de la science. <...> La science et la foi ne s'allieront jamais hors de
l'unité») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon; Paris, 1819. T. II. P. 566, 567, Livre IV,
chap. I). См. также надпись Чаадаева на первом томе книги И. Г. Роде «О
мифологии и философии индусов» (Rhode J. G. Ueber religiöse Bildung,
Mythologie und Philosophie des Hindus. Leipzig, 1827): «Вы считаете
христианство только религией, Вам надоело слышать, что оно
божественно, как тому финскому язычнику, но ведь это философия, это
геометрия, это история. Если бы, не называя Христа, Вам говорили о нем как
о философе (без употребления обычных избитых выражений), как о
Декарте например, Вы признали бы его учение вполне разумным»
(Шереметева, 295; Библиотека, 232; оригинал по-фр.).
193 Ср. «Отрывки и афоризмы» Чаадаева: «Слово\ — А что такое
Слово? — Смотрите на кормщика; — среди подводных камней он правит
верно кораблем своим, по воле своей вертит им, как простым куском
дерева, плавающим на поверхности вод: от времени до времени повторяет
он несколько слов, и они-то производят это чудо. — Взгляните на поле
сражения: сотни полков подвиглись, в одно время вдруг бросаются они
на неприятеля — одно мановение, одно слово начальника тому
причиною. — Вот слабое подобие глагола могущего, который яснее и звонче
всякого человеческого голоса в ограниченном пространстве раздается
в беспредельности вселенной, — и этот глагол есть слово. — Слово есть
действующая сила речи, Глагол творящий» {Чаадаев П. Я. Сочинения. М.,
1989. С. 157; оригинал по-фр.).
722
194 «При печатании перевода мы перенесли на несомненно принадлежащее
им место три строчки текста, стоящие в самом конце письма, о
распространении христианства в течение первого века без содействия книги.
Строки эти заключены в прямые скобки» (Шаховской, 78).
195 Ср. у Ж. де Местра: «...христианство, так сказать, рассеянное по земле,
могло лишь приготовлять сердца, и его великие политические следствия
могли бы проявиться только когда власть понтифика обретет свой
истинный размах, и мощь сей религии сосредоточится в руках одного
человека — условие, необходимое для осуществления этой власти» («...le
christianisme, pour ainsi dire disséminé sur la terre, ne pouvoit que préparer
les cœurs, et ses grands effets politiques ne pouvoient avoir lieu que lorsque
l'autorité pontificale ayant acquis ses justes dimensions, la puissance de cette
religion se trouveroit concentrée dans la main d'un seul homme, condition
inséparable à l'exercice de cette puissance») (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon;
Paris, 1819. T. II. P. 511, Livre III, chap. IV). Политических аспектов
всеобщего религиозного объединения Чаадаев в «Философических
письмах» не касался. О французских дебатах вокруг возможности более
активного вмешательства римского папы в политическую жизнь Европы
А. И. Тургенев писал Н. И. Тургеневу из Парижа 29 октября 1827 г.:
«Вчера вечером — у Гизо с Вильменем. Он [А. Ф. Вильмен. — М. В.] много
говорил о плане своей истории Григория VII и о главной мысли о нем,
в которой он согласен с Гизо. Григорий VII предпринял почти
невозможное, и желание покорить свет папизму, при всей железной воле его,
сравнил Гизо с походом Наполеона в Россию. И Григорию не удались
мечты всемирного владычества. Он произвел реакцию, оппозицию
против папской власти. Вильмень доведет в предисловии историю его
системы до гр. Мейстера, до Ламене и покажет, что они хотят того же
теперь, когда и при Григории это не удалось» (Письма Александра
Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. С. 231).
СТАТЬИ
Апология безумного
В настоящем издании восстанавливается русский перевод заглавия
«Apologie d'un fou», данный тексту Д. И. Шаховским при подготовке так и
не увидевшего свет тома сочинений Чаадаева в издательстве «Academia»
Комментарии
723
(1930-е гг.): «Апология безумного» (таким же образом Шаховской именовал
данный текст и в своих печатных работах, см., например: Шаховской Дм.
П. Я. Чаадаев. Неопубликованная статья // Звенья. Т. 3-4. М.; Л., 1934. С. 367).
Шаховской писал: «По устоявшейся традиции, до сих пор заглавие "Apologie
d'un fou" постоянно переводится "Апология сумасшедшего". Едва ли
заглавие это удачно. Сам автор наряду с подписью одного письма словом "fou"
<...> другое — русское, — написанное, вероятно, Якушкину в октябре 1838 г.
<...> подписал: "Безумный". Поэтому позволим себе в настоящем издании
озаглавить сочинение "Апология безумного" как более соответствующее
слову fou с его множеством разных значений» (цит. по: Осповат А Из
комментария к текстам Чаадаева (по материалам тургеневского архива) //
Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 231). См. также
комментарий А Л. Осповата к данной реплике Шаховского: «Вывод
исследователя о предпочтительности перевода: "Апология безумца" (или "Апология
безумного") представляется более чем убедительным; добавим только, что
приведенный им пример из эпистолярии Чаадаева безусловно реализует то
значение этого слова, которое закрепило за ним влиятельная культурная
традиция — см. в "Горе от ума": "Безумным вы меня ославили всем хором..."; ср.
в пушкинском "Страннике": "И от меня, махнув рукою, отступились, // Как от
безумного, чья речь и дикий плач // Докучны, и кому суровый нужен врач".
Вариант же, предложенный Чернышевским и независимо от него Гершензо-
ном, переводит (очень возможно, что бессознательно) чаадаевское заглавие
в принципиально иной стилевой регистр, ассоциирующийся прежде всего с
гоголевскими "Записками сумасшедшего"» (Там же, выделение автора;
вариант заглавия «Апология безумного» также использует Л. М. Равич: Собиратели
книг в России. Вторая половина XIX века. М., 1988. С. 90).
«Апология безумного» существует в двух редакциях, отличающихся
стилистически и объемом, автографы которых неизвестны. Ранняя редакция
(копия текста, полученного А И. Тургеневым от самого Чаадаева)
опубликована М. О. Гершензоном (Гершензон. Т. 2, 29-40). По мнению большинства
исследователей, ранняя редакция была задумана и начата в конце 1836 —
начале 1837 г. (Ш. Кене считал, что к ее созданию Чаадаев приступил уже в
середине ноября 1836 г.: Quénet, 264; см. также: ПССиИП. Т. 1,743) и закончена
в начале или середине 1837 г. (Проскурина, 590-591). Д И. Шаховской при
подготовке издания сочинений Чаадаева в издательстве «Academia» уточнил,
что верхней хронологической границей создания данной редакции следует
считать 7 июня 1837 г., когда А. И. Тургенев уехал из Москвы (цит. по:
Осповат Л. Из комментария к текстам Чаадаева. С. 230). Как установил А. Л. Оспо-
724
ват (на основе дневниковых записей А. И. Тургенева), накануне своего
отъезда из Москвы Тургенев часто виделся с Чаадаевым (в частности, 29 мая, 2 и
6 июня 1837 г.). Еще 15 апреля 1837 г. Тургенев записал в дневнике: «Опять в
<Московский> Архив <Коллегии иностранных дел>, к <А. Я> Булг<ако>ву
<...> — и к Чаадаеву, где слышал исповедь его о России и о Петре I» (Там же.
С. 230-231; 12 апреля 1837 г. Тургенев сообщал Вяземскому лишь то, что
«Закрасноворотский философ очень оправился, хотя еще никуда не
является, но духом опять воспрянул. Ему сказали о твоих словах о нем в письме
к Давыдову, и кажется это кольнуло его истиною замечания, а я еще не
читал твоего письма» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 4. СПб., 1899.
С. 5; о каком письме Вяземского к Д. В. Давыдову идет речь, не установлено).
По убедительному предположению А. Л. Осповата, в дневниковой записи
А. И. Тургенева от 15 апреля 1837 г. речь шла о первой редакции «Апологии
безумного» («ср. заглавие первого — неопубликованного — перевода этого
сочинения, сохранившегося в архиве M. H. Лонгинова: "Петра Яковлевича
Чаадаева с его собственноручными поправками. О России"» (ОсповатА Из
комментария к текстам Чаадаева. С. 231). Таким образом, завершение
работы над начальной редакцией текста следует отнести к середине апреля
1837 г. (Там же). Вторая, поздняя и более пространная редакция «Апологии
безумного», для датировки которой мы не располагаем даже косвенными
данными, известна лишь по изданию И. С. Гагарина 1862 г.: Gagarin, 126-152;
русский перевод: Гершензон. Т. 2,215-231.0 двух неопубликованных
переводах «Апологии безумного» (М. Н. Лонгинова и, вероятно, М. И. Жихарева)
и двух опубликованных (С. М. Юрьева и Б. П. Деннике (1906), М. О. Гершен-
зона (1908) подробнее см.: Гершензон. Т. 1, 398; Проскурина, 591.
О названии работы В. Ю. Проскурина замечает: оно «выбрано не
случайно. Среди хорошо известных Чаадаеву авторов можно указать по крайней
мере на двух, имевших в своем философском арсенале "апологии". Это Юнг-
Штиллинг и его две книги "Theorie der Geisterkunde" и "Apologie der Theorie
der Geisterkunde" ("Теория духоведения" и "Апология«Теории духоведения»"),
а также Ламенне с его "Essai sir l'indifférence en matière de religion" и "Déffence
de l'Essai" ("Опыт о безразличии в делах веры" и "Защита Опыта..."). Жанр
философской апологии, служившей развернутым ответом на критику
предшествующей работы, был, безусловно, учтен Чаадаевым при написании его
"Апологии..."» (Проскурина, 591). Ряд положений данного сочинения
излагались Чаадаевым и ранее, в «Записке графу Бенкендорфу» от имени И. В.
Киреевского (1832), письме к Николаю I (1833), письмах А. И. Тургеневу 1835 г. и
написанной под влиянием Чаадаева книге И. М. Ястребцова «О системе наук,
Комментарии
lib
приличных в наше время детям, назначаемым к образованнейшему классу
общества» (1833) (Quénet, 275-276; Проскурина, 591). «Апология безумного»
также свидетельствует о влиянии на Чаадаева концепции российской
истории и государственности, сформулированной H. M. Карамзиным в «Истории
государства Российского» (Quénet, 275-280).
В настоящем издании оригинальный текст поздней редакции «Апологии
безумного» печатается по: Гершензон. Т. 1, 219-234 (воспроизведено Гер-
шензоном по: Gagarin, 126-152); русский перевод М. О. Гершензона поздней
редакции статьи печатается по: Гершензон. Т. 2, 215-231; оригинальный
текст ранней редакции «Апологии» — по: Rouleau, 199-210 (Ф. Руло
воспроизвел текст «Апологии безумного» по авторской рукописи, хранящейся в
РО ИРЛИ; впервые: Гершензон. Т. 2, 29-40; М. О. Гершензон напечатал текст
ранней редакции «Апологии безумного» «с копии, находящейся в Тургенев.
Архиве, в И. Акад. Наук» — ныне в РО ИРЛИ (Гершензон. Т. 2, 29).
«Апология безумного» — непосредственная реакция Чаадаева на скандал
и официальное расследование вокруг публикации в 15-м номере
«Телескопа» за 1836 г. русскоязычной версии первого «Философического письма».
Стилистически и композиционно — парадоксальными формулировками и
сюжетной цикличностью — «Апология» схожа с «Философическими
письмами». Начальной предпосылкой чаадаевских рассуждений является часто
повторяющийся в «Философических письмах» и эпистолярии Чаадаева
конца 1830-х — начала 1840-х гг. тезис о предпочтительности «любви к
истине» перед «любовью к отечеству» («религиозной всемирное™» перед
«национальностью»). Отсюда следует, что «истинный патриотизм»
возможен именно через «любовь к истине». Не желая касаться подробностей
печатной истории первого «Философического письма», Чаадаев
противопоставляет реакцию общества на появление его статьи в печати («вопли»)
и действия «одушевленного самыми лучшими намерениями»
правительства, наказавшего Чаадаева менее, чем того хотел «значительный круг лиц».
Антитеза «власть» — «общество» находит свое отражение в деятельности
Петра I, которым Чаадаев специально интересовался в начале 1837 г.
Итоги петровских преобразований (в России правительство — по выражению
А. С. Пушкина, «главный европеец», который ведет за собой послушный
народ), давших основу русскому императорскому мифу, актуальному и для
николаевского царствования, и сама политика первого русского
императора, «склонившегося пред Западом», позволили Чаадаеву задать вопрос о
состоятельности русской допетровской культуры: «позволила бы страна,
чтобы у нее отняли ее прошлое и, так сказать, навязали ей прошлое Евро-
726
пы?» — и дать ответ: «Петр Великий нашел у себя дома только лист белой
бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с
тех пор мы принадлежим к Европе и Западу» (курсив автора). Подобное
культурное преобразование было, согласно Чаадаеву, благом прежде
всего потому, что Россия никогда не принадлежала к Востоку. Кроме того,
петровская (т. е. ориентированная на европейскую ценностную систему)
модель патриотизма («я люблю мое отечество, как Петр Великий научил
меня любить его») опирается на коренное свойство русского народа —
покорность. Отсутствие «общественной воли» — признак «высшей мудрости»,
уступка «природе своей страны» в «пользу своих правителей», позволило
России идти по естественному, «правильному» пути своего развития.
Логика русской истории, по мнению Чаадаева, привела к тому, что именно
России, защищенной от «эгоизмов» и «предрассудков» европейской
цивилизации, суждено первенствовать в будущем. Отсутствие «прошлого» в
России оказывается в интерпретации Чаадаева преимуществом: в отличие от
отягощенной вековыми спорами Европы «мы должны повиноваться только
голосу просвещенного разума, сознательной воли». Наконец,
противоположение «европейского» правительства «славянофильскому» обществу дает
Чаадаеву возможность легитимировать собственную позицию как автора
первого «Философического письма»: пусть и путем «безумия», во многом
интерпретируемого в профетической перспективе, ему удается, почти с
согласия «милосердного» правительства, «раскрыть» образованному обществу
истину и тем самым сохранить свое исключительное положение философа,
избранного вести толпу, о чем он много писал в «Философических
письмах». Подробный разбор «старых» и «новых» идей Чаадаева, высказанных в
«Апологии безумного» см.: Quénet, 268-273 (Чаадаев, в частности,
воспроизводит в «Апологии безумного» высказанные прежде тезисы о сходных
законах существования отдельных людей и народов, о необходимости для
народов следовать «одной идее», своему предназначению, о
необходимости философского анализа в истории, о положительных интеллектуальных
и религиозных свойствах европейского Средневековья, об отсутствии
«умственной работы» в России и др.).
196 «О мои братья! Я сказал много горьких истин, но без всякой горечи»
{англ.) — фрагмент стихотворения С. Т. Кольриджа «Страхи в
одиночестве» («Fear in Solitude», 1798). В. Ю, Проскурина пишет о связи
биографий Чаадаева и Кольриджа: «Ситуация, в которой оказался Кольридж в
тот период [конец 1790-х гг. — М. Я], чрезвычайно близка к положению
Комментарии
111
Чаадаева после "телескопской" публикации: Кольридж был обвинен в
антипатриотизме в связи с сочувствием к революционной Франции, он
даже подвергся тайному надзору. "Страхи в одиночестве" — это своего
рода стихотворная "апология", призванная защитить право поэта
любить Отечество не с "запертыми устами"» (Проскурина, 592). Ранняя
редакция «Апологии безумного» была снабжена другим эпиграфом:
Adveniat regnum tuum («Да приидет Царствие Твое»).
197 1 Коринф, XIII, 4-7.
198 Чаадаев имеет в виду полемику, возникшую в Москве по выходе в свет
15 номера «Телескопа» за 1836 г, в котором был помещен русский
перевод первого «Философического письма».
199 Тезис Чаадаева о предпочтительности «общечеловеческого» над
«национальным» перекликался с идеями первого «Философического
письма» и ассоциировался в русском культурном сознании того времени с
«Письмами русского путешественника» H. M. Карамзина. Подробнее см.
комм. 44.
200 Чаадаев был объявлен умалишенным не по итогам специального
медицинского освидетельствования, предусмотренного законом для дворян,
а согласно решению Николая I от 22 октября 1836 г, «подсказанного»
императору А. X. Бенкендорфом в его отношении к московскому
военному генерал-губернатору Д. В. Голицыну.
201 Имеется в виду французский философ-традиционалист Фелисите Ро-
бер де Ламенне (Lamennais) (1782-1854), в 1830-е гг. призывавший к
реформированию католической церкви путем адаптации ее доктрины
к социо-культурным нуждам низших слоев населения, чем вызвал
недовольство официального Рима. См.: Шаховской, 71; McNally 1969,252-253;
Проскурина, 592; подробнее см. комм. 531.3. А. Каменский и М. И. Чеме-
рисская считают, что «по терминологии и по мысли мог
подразумеваться и Гегель, которым как раз в это время Чаадаев заинтересовался, прося
А. И. Тургенева прислать ему из Петербурга сочинения немецкого
мыслителя» (ПССиИП. Т. 1,743).
202 О распространении первого «Философического письма» см. нашу
преамбулу к «Философическим письмам».
203 См. ответы Чаадаева на вопросные пункты во время следствия по делу о
запрещении журнала «Телескоп» в настоящем издании с. 636-638.
204 Как представляется, Чаадаев имеет в виду сближение России с Европой
во время правления великого князя московского Ивана III (1462-1505).
H. M. Карамзин так характеризовал этот исторический период: «Россия
около трех веков находилась вне круга Европейской политической
деятельности, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни
народов. <...> Бракосочетанием с Софиею [Палеолог. — М. В.] обратив на
себя внимание Держав, раздрав завесу между Европою и нами, с
любопытством обозревая престолы и Царства, <Иоанн Ш> не хотел
мешаться в дела чуждые; принимал союзы, но с условием ясной пользы для
России; искал орудий для собственных замыслов и не служил никому
орудием, действуя всегда как свойственно великому, хитрому
Монарху, не имеющему никаких страстей в Политике, кроме добродетельной
любви к прочному благу своего народа. Следствием было то, что
Россия, как Держава независимая, величественно возвысила главу свою на
пределах Азии и Европы, спокойная внутри, и не боясь врагов внешних»
(впервые в 1818 г., цит. по: Карамзин H. M. История государства
Российского: В 12 т. Т. VI. M., 1998. С. 209-210). Если наше предположение
верно, то данное высказывание Чаадаева следует считать полемичным
по отношению к «Истории государства Российского»: Чаадаев
усматривает в правлении Ивана III не начало российской независимости, но,
наоборот, период, открывший эпоху тотальных заимствований (идей,
познаний и т. д.) из Западной Европы.
«Революционная» роль Петра I в российской истории подчеркивалась
многими французскими литераторами и публицистами XVIII в.,
главным образом Вольтером. В николаевское царствование параллель
между правящим царем и Петром I вошла в сценарий императорской власти
Николая I (как предположил Ю. М. Лотман, сравнение с Петром было
подсказано Николаю А. С. Пушкиным во время их свидания в Москве
8 сентября 1826 г.: Лотман Ю. М. Несколько добавочных замечаний
к вопросу о разговоре Пушкина с Николаем I 8 сентября 1826 года //
Пушкинские чтения. Сб. статей. Таллинн, 1990. С. 43). Подробнее об
ориентации Николая на монарший образ Петра I см.: Riasanovsky N. V.
The Image of Peter the Great in Russian History and Thought. New York;
Oxford, 1985. P. 106-109; УортманР. Сценарии власти. Мифы и
церемонии русской монархии. Т. 1. М., 2002. С. 395-397,400 (впервые в 1995 г.);
Мазур H. Я Из истории формирования русской национальной
идеологии (первая треть XIX в.) // «Цепь непрерывного предания...»: Сборник
памяти А. Г. Тартаковского. М., 2004. С. 222-223, 249-250 (там же см.
библиографию вопроса).
И. И. Голиков, сочинения которого послужили, по всей видимости,
непосредственным источником информации Чаадаева о царствовании
Комментарии
729
Петра I (см. письмо Чаадаева к А. И. Тургеневу от декабря 1836 — января
1837 г.), в своих «Деяниях Петра Великого» писал: «Страсть сего
Великого Монарха к важнейшим делам произвела в нем желание видеть
своими очами все те места, где находятся источники познаний; и для того не
почел низким особе своей признаться пред Боярами, что он болезнует
сердцем, видя себя к правлению Государством ни мало необученного и
неспособного просветить свое Отечество, находящееся в неведении, и
что одно только находит он к тому надежнейшим средство, чтоб
самому ему, отлучась в просвещенные Государства, всему научиться».
Например, находясь в Кенигсберге, Петр «осмотрел в городе все достойное
любопытства, и не оставил никаких в городе ремесленников без
посещения и без осмотрения работ их; он познакомился с лучшими
Профессорами, и требовал у них наставления, как бы удобнее завести Науки
в народе непросвещенном и предрассудками зараженном». Кроме того,
Петр, «выходя часто из коляски воей на поля, смотрел работы
хлебопашцев, разговаривал с ними, входил в их хижины, и каких он ни
видывал орудий, оные срисовывал, и все записывал в записной своей книге».
В Саардаме, желая обучиться корабельному ремеслу, не открывая при
этом инкогнито, Петр «оделся в тамошнее рабочее платье, состоящее
в простой красной байке и холстинных шараварах; и как он уже
нарочито разумел Голландский язык, то замешавшись между работниками,
не обратил ни мало на себя внимания». Голиков цитировал
высказывание французского мемуариста: «Нет в Истории примера, как только
сей один Государь, который нисходит с престола, чтоб идти к чужим
народам работать, как простой наемник... Было много Царей... было
Законодателей и великих Политиков; но ПЕТР Великий один, который к
сим славным титлам в состоянии был присоединить качества, не
меньше Ироические, исправителя своих земель, учителя полезных Знаний,
основателя Наук и Художеств, и учредителя нравов своих народов».
В заключительном фрагменте описания европейских путешествий
Петра Голиков отметил: Петр «смиряет себя даже до последней низкости,
чтоб их [т. е. россиян. — М. В.] возвесть на самый верх величия и
славы» (Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя
России, собранные из достоверных источников и расположенные по
годам. Ч. 1. М, 1788. С. 280, 298, 301-302, 329-330). Об оценке Петра I в
«Апологии безумного» см., например: Quénet, 280-282.
Петр I лично участвовал в разработке нового гражданского шрифта;
новая столица — Санкт-Петербург (заложен 16 мая 1703 г.), западный ти-
тул — «император всероссийский» (с 22 октября 1721 г.), в 10-12 томах
«Деяний Петра Великого» Голикова (1789) собраны письма и грамоты
Петра I, во многих из которых он подписывает бумаги «Piter».
208 Тезис Чаадаева о доминирующей роли династии Романовых в
государственных преобразованиях в России перекликается с высказыванием
А. С. Пушкина во время разговора с вел. кн. Михаилом Павловичем 22
декабря 1835 г.: «Все Романовы революционеры и уравнители» (Пушкин А С
<Дневник 1833-1835 гг> // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений:
В 16т.Т. XII. М- Л., 1949. С. 335,448, оригинал по-фр.).
209 О немцах — историках России см. комм. 216.
210 Имеется в виду великое посольство 1697-1698 гг., когда Петр I
инкогнито путешествовал по Европе и посетил Германию, Англию, Голландию,
Австрию.
211 Наблюдение Чаадаева над количеством заимствованных в России идей
перекликается с оценками Петра в русской истории как
преобразователя всех элементов физической реальности, что традиционно
связывалось с ориентацией Петра на введение в России плодов
западноевропейского просвещения. Подобная точка зрения возникает сразу по смерти
Петра I в 1725 г., см., например, воспоминания дипломатического
представителя России в Константинополе И. И. Неплюева: «...сей монарх
отечество наше привел в сравнение с прочими; научил узнавать, что и мы
люди; одним словом, на что в России ни взгляни, все его началом имеет»
(цит. по: Погосян Е. А Петр I — архитектор российской истории. СПб.,
2001. С. 303). Современник Чаадаева, историк, профессор Московского
университета М. П. Погодин в статье «Петр Великий» писал: «Да, Петр
Великий сделал много в России. Смотришь и не веришь, считаешь и не
досчитаешься. Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться
с места, не можем оборотиться ни в одну сторону, без того, чтоб он
везде не встретился с нами, дома, на улице, в церкви, в училище, в суде,
в полку, на гулянье — все он, все он, всякий день, всякую минуту, на
всяком шагу! <...> Он видел все, обо всем думал, и приложил руку ко всему,
всему дал движение, или направление, или самую жизнь. Что теперь ни
думается нами, ни говорится, ни делается, все, труднее или легче, далее
или ближе, повторяю, может быть доведено до Петра Великого. У него
ключ или замок» (Погодины. П. Историко-критические отрывки. Кн. 1.
М., 1846. С. 341, 343; впервые: Москвитянин. 1841. № 1).
212 Представление о геополитических характеристиках «Востока» и
«Запада» в европейской культуре, о котором пишет Чаадаев, было сфор-
Комментарии
731
мировано в XVIII — первой половине XIX в. Процессу нанесения на
«воображаемую» карту цивилизации «восточных» и «западных» земель
посвящены две классические монографии: «Ориентализм. Западные
концепции Востока» Эдварда Сайда (1978; русский перевод — 2006)
и «Изобретая Восточную Европу» Ларри Вульфа (1994; русский
перевод - 2003).
3 Большинство комментаторов в данном случае ограничивается
констатацией, что речь идет о славянофилах (Проскурина, 592; ПССиИП.
Т. 1, 744). По мнению 3. А. Каменского и М. И. Чемерисской, Чаадаев
«фиксирует здесь еще за 2-3 года до этой даты процесс
формирования "новой школы"», которая сложится к 1839 г. (ПССиИП. Т. 1, 744).
Ш. Кене считал, что Чаадаев имел в виду круг «Московского
наблюдателя» во главе с С. П. Шевыревым (Quénet, 264). Р. Макналли указал,
что Чаадаев подразумевал не только будущих славянофилов, но и
таких сторонников теории официальной народности, как М. П. Погодин,
Н. А. Полевой, А. Ф. Вельтман, С. А. Бурачок и Шевырев (McNally 1969,
253; Ш. Кене, наоборот, считал, что в данном случае речь не шла о
близких к С. С. Уварову публицистах: Quénet, 274). Мы считаем, что Чаадаев
под «новой школой» мог также иметь в виду группу читателей
«Философических писем», будущих славянофилов, А. С. Хомякова, П. В.
Киреевского и др., резкость воззрений которых на обсуждаемые Чаадаевым
проблемы мотивировалась (и выразилась преимущественно в салонных
дебатах конца 1836 — начала 1837 гг.) выходом в свет русского
перевода первого «Философического письма» в «Телескопе». Парадоксальным
образом, «новая школа», объект критики со стороны Чаадаева, во
многом оформилась благодаря стремлению того же Чаадаева опубликовать
фрагменты «Философических писем». Подобная интерпретация
понятия «новая школа» станет убедительнее, если принять датировку статьи
Хомякова «О старом и новом», предложенную H. H. Мазур, — февраль
1837 г. (Мазур Н. К Жизнь и мировоззрение А. С. Хомякова в «досла-
вянофильский» период: 1804-1837 гг.: диссертация... кандидата
филологических наук М., 2000. С. 185-187). В своей статье Хомяков высказал
ряд тезисов, на которые в несколько утрированной форме возражает
Чаадаев в «Апологии безумного»: 1) «больше не нужно Запада» — в
допетровский период российской истории, согласно Хомякову, Запад «был
совершенно чужд» России, отсюда следует, что фаза «сознающего себя»
возвращения к Древней Руси в современном обществе подразумевает
отказ от западных ценностей. Впрочем, другие суждения Хомякова на
тот же предмет звучат чуть мягче, но сути доводов не меняют: «...мы
будем подвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные
открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в
них те человеческие начала, которые для Запада остались тайными...»;
2) «надо разрушить создание Петра Великого» — Хомяков считал, что
Петр «ударил по России, как страшная, но благодетельная гроза»,
«много ошибок помрачают славу преобразователя России, но ему остается
честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы». «Эпоха создания
государственного», связанная, согласно Хомякову, с деятельностью Петра I,
закончилась, «настало для нас время понимать, что человек достигает
своей нравственной цели только в обществе, где силы каждого
принадлежат всем и силы всех каждому». Последний тезис подразумевает
сознательное, а не «случайное» «воскрешение Древней Руси» с «простотой
дотатарского устройства областного», с ее «патриархальным бытом»,
не чуждыми «истины человеческой», «закона справедливости и любви
взаимной», а также с чистотой православной церкви; 3) «надо опять
уйти в пустыню» — говоря о развитии восточного христианства и
невозможности принятия христианства в Греции, Хомяков писал: «Мысль,
<утомленная> тщетною борьбою с внешностью быта общественного и
государственного, уходила в пустыни, в обители Египта и Палестины, в
нагорные монастыри Малой Азии и Эллады. Туда-то лучшие, избранные
души уносили из круга гражданского красоту своей внутренней жизни,
и, удаляясь от мира, которого они не хотели и который не мог им
покориться, они избрали поприще созерцания, размышления, молитвы и
духовного восторга. В них жило все прекрасное и высокое, все то, что
не осуществлялось современным обществом» (Хомяков А. С. Сочинения:
В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 464, 467-470). Отзыв Чаадаева о славянофилах
созвучен более поздним оценкам этого движения мысли, например, в
письмах Т. Н. Грановского, который писал Н. В. Станкевичу 27 ноября
1839 г.: «Бываю довольно часто у Киреевских. Пётр (собиратель русских
песен) очень хороший человек, к Ивану, старшему — как-то не лежит
сердце. Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия.
Главные их положения: запад сгнил и от него уже не может быть ничего;
русская история испорчена Петром, — мы оторваны насильственно от
родного исторического основания и живем наудачу; единственная
выгода нашей современной жизни состоит в возможности пристрастно
наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся
мудрость человеческая истощена в творении св. отцов греческой церк-
Комментарии
733
ви, писавших после отделения от западной. Их нужно только изучать:
дополнять нечего, все сказано. Гегеля упрекают в неуважении к фактам.
Киреевский говорит эти вещи в прозе, Хомяков — в стихах» (Т. Н.
Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 369-370).
О восприятии образа Петра I в 1830-е гг. подробнее см. комм. 205.
О теории глобальных переворотов в геологической истории
человечества Ж. Кювье см. комм. 512.
Имеются в виду немецкие историки Г. 3. Байер, А. Л. Шлецер и Г. Ф.
Миллер (McNally 1969, 254). Готлиб Зигфрид Байер (Bayer) (1694-1738),
немецкий филолог и историк на русской службе, академик Петербургской
академии наук, переселился в Петербург в 1725 г. (уволен в 1736 г.) и
занял кафедру по восточным древностям и языкам в Академии наук,
разработчик академического устава (1732). Август Людвиг фон Шлецер
(Schlözer) (1735-1809), петербургский академик (до 1770 г.), находился
в России с 1761 по 1767 гг., издал в 1802-1809 гг. исследование русских
летописей «Нестор», переведенных на русский язык Д. Языковым и
изданных в 1809-1819 гг. По замечанию С. Л. Пештича, «Шлецер одним
из первых в 60-70-х годах XVIII в. познакомил русских историков с
новейшими приемами "малой" и "большой" (т. е. внешней и внутренней)
критики, что, в свою очередь, благотворно сказалось на издании первых
источников русской истории». Герхард Фридрих Миллер (Müller) (1705-
1783) — авторитетный историк, приехал в Россию в 1733 г., совершил
длительное путешествие по Сибири, издал «Историю Сибири» (1750),
участвовал в журнале «Ежемесячные сочинения» (в частности,
опубликовал «Краткое известие о начале Новагорода и о происхождении
российского народа...», 1761), после переезда в Москву в 1765 г. становится
директором Московского архива коллегии иностранных дел, выпустил
три книги «Истории Российской» В. Н. Татищева, подготовленный им
же «Судебник», «Ядро Российской истории», приписав его князю Хил-
кову, оказал определенное влияние на М. М. Щербатова (Пештич С. Л.
Русская историография XVIII века. Ч. II. Л., 1965. С. 241; о Миллере и
Шлецере см.: Там же. С. 210-242).
Имеется в виду «История государства Российского» H. M. Карамзина,
выходившая в свет в 1818-1829 гг. (последний, двенадцатый том
«Истории», подготовленный к печати К. С. Сербиновичем и Д. Н. Блудовым,
вышел в свет уже после смерти Карамзина).
По мнению Р. Макналли, Чаадаев имеет в виду историков и
литераторов Н. А. Полевого (1796-1846) и М. П. Погодина (1800-1875) (McNally
1969, 254). 3. А. Каменский и М. И. Чемерисская упоминают «Историю
русского народа» Н. А. Полевого (1829-1833), романы Ф. В. Булгарина
«Дмитрий Самозванец» (1830) и «Мазепа» (1833-1834), драмы M. H.
Загоскина «Юрий Милославский или русские в 1612 г.» (1833), «Рославлев
или русские в 1812 году» (1832), «Аскольдова могила» (1833),
стихотворные трагедии А. С. Хомякова «Ермак» и «Дмитрий Самозванец» (1833)
(ПССиИП.Т.1,744).
Тематика Смутного времени, о которой пишет Чаадаев, была
чрезвычайно популярна в конце 1836 г.: 27 ноября этого года в петербургском
Большом театре состоялась премьера «официальной» «национальной»
оперы М. И. Глинки «Жизнь за Царя» (либретто — Е. Ф. Розена, при
участии В. А. Жуковского), основанной на одном из кульминационных
исторических сюжетов Смуты — спасении от поляков будущего первого
царя из династии Романовых Михаила Федоровича крестьянином
Иваном Сусаниным. См.: Киселева Л. К Становление русской национальной
мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотманов-
ский сборник. Т. 2. М, 1997. С. 279-303.
Речь идет о цикле «Философические письма» и первом
«Философическом письме», опубликованном в 15-м номере «Телескопа» (1836).
Подробнее см. нашу преамбулу к «Философическим письмам».
Еще более радикально на тему «русского патриотизма» в конце 1820-х гг.
высказался П. А. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу (от 15 октября
1828 г.): «Неужели можно честному русскому быть русским в России?
Разумеется, нельзя; так о чем же жалеть? Русский патриотизм может
заключаться в одной ненависти России, такой, как она нам представляется.
Этот патриотизм весьма переносчив. Другой любви к отечеству у нас я не
понимаю. <...> Россию.можно любить как --, которую любишь со всеми
ее недостатками, проказами, но нельзя любить, как жену, потому что в
любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию
уважать нельзя» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 180-181).
Тезис о невозможности изменить прошлое России и необходимости в
будущем пойти европейским путем (для Чаадаева мотивированной
реформами Петра I) перекликается со следующей мыслью Ж де Местра:
«Прошедшие века — более не во власти России. Скипетр-творец,
божественный скипетр недостаточно покоился на главе ее, и в своем
глубоком ослеплении, сей великий народ кичится этим! Однако
принижающий его закон стоит слишком высоко, чтобы было возможно обойти
этот закон иначе, как отдав ему должное. У русского народа есть толь-
Комментарии
735
ко один путь, дабы достичь уровня европейской цивилизации и науки,
путь, которым сей народ был создан» («Les siècles passés ne sont pas plus
au pouvoir du Russe. Le sceptre créateur, le sceptre divin n'a pas assez reposé
sur sa tête, et dans son profond aveuglement, ce grand peuple s'en glorifie!
Cependant le loi qui le rabaisse vient de trop haute pour qu'il soit possible de
le détourner autrement qu'en lui rendant hommage. Pour s'élever au niveau
de la civilisation et de la science européenne, il n'y a qu'une voie pour lui,
celle dont il est sorti» (MaistreJ. de. Du Pape. Lyon, Paris, 1819. T. IL P. 538-
539; livre III, chap. VI; под «путем», которым русский народ «был создан»,
по-видимому, де Местр имеет в виду реформы Петра I).
223 Основным свойством русского народа Чаадаев считал его покорность
властям, о чем, в частности, писал в первом «Философическом письме».
224 Сводку данных о репутации М. В. Ломоносова в первой трети XIX в., в
том числе о многосторонности его литературных и научных интересов
см.: Кошелев В. А. К проблеме восприятия Ломоносова в литературном
сознании начала XIX века // М. В. Ломоносов и русская культура.
Тезисы докладов конференции, посвященной 275-летию со дня рождения
М. В. Ломоносова. Тарту, 1986. С. 46-49; Троицкий В. Ю. Образ М. В.
Ломоносова в русской литературе 30-х годов XIX в. (Кс. Полевой и его
книга «Михаил Васильевич Ломоносов») // Ломоносов и русская
литература. М, 1987. С. 339-351).
225 Речь идет о «Ревизоре» Н. В. Гоголя (впервые поставлен в Петербурге
19 апреля 1836 г., в Москве — 25 мая 1836 г.). По мнению Р. Макналли, в
данном случае Чаадаев ссылается на представление «Ревизора» в Москве
2 декабря 1836 г., на котором он мог лично присутствовать (McNally
1969, 256). Подробнее см.: Веселовский Алексей. Гоголь и Чаадаев. Из
этюда о Гоголе // Вестник Европы. 1895. № 9. С. 84-95; Гоголь Н. В.
Полное собрание сочинений и писем. Т. 4. М., 2003. С. 679-680
(комментарий Ю. В. Манна).
226 О первой реакции на постановку «Ревизора» среди петербургских
друзей и приятелей Чаадаева писал П. А. Вяземский А. И. Тургеневу 8 мая
1836 г.: «Прочти "Ревизора" и заключи, сколько толков раздаются о нем.
Tout le monde se pique d'être plus royaliste que le roi <все ставят себе в
заслугу то, что они большие роялисты, чем король>, и все гневаются, что
позволили играть эту пьесу, которая, впрочем, имела блистательный и
полный успех на сцене, хотя не успех общего одобрения. Неимоверно,
что за глупые суждения слышишь о ней, особенно в высшем ряду
общества! "Как будто есть такой город в России?" Во-первых, вероятно, и есть,
736
а во-вторых, мог бы быть, и для комика довольно и этой возможности.
Комик не историк, не статистик нравов. Комик в некотором отношении
каррикатурный живописец нравов, Гогарт общества и только. "Как не
представить хотя одного честного, порядочного человека? Будто их нет
в России?" Разумеется, есть, но честный человек не входит в объем
плана, который расчертил пред собою автор. Вы требуете фасада, а он
хотел показать вам один угол, чтобы тем сильнее сосредоточить les effets
de lumière <световые эффекты> и внимание ваше. "D'ailleurs il y a un
honnête homme dans la pièce" <Впрочем, в пьесе есть один порядочный
человек>, сказал я всенародно, "c'est le gouvernement qui en a autorisé la
représentation, car il ne se reconnait pas dans ce tableau, admet l'existence
de ces abus, plus au moins inhérent à la nature humaine, les reprime quand
ils parviennent à la connaissance et la preuve en est dans le titre de la pièce
«Ревизор», et veut en inspirer le dégoût en les immolant au ridicule et au
mépris sur la scène" <это правительство, разрешившее ее представление,
ибо оно не узнавало себя в этой картине, признает существование
злоупотреблений, более или менее свойственных человеческой природе,
пресекает их, когда они становятся известны, доказательство чему
содержится в названии пьесы — <«Ревизор»>, и хочет внушить к ним
отвращение, подвергая их смеху и презрению на сцене>. Кажется, после
этого надобно бы замолчать? Куда, кричат пуще прежнего! Козловский
один из малого числа ратоборцев за пьесу, Жуковский, да я, не говоря
уже о государе, который читал ее в рукописи» (Остафьевский архив
князей Вяземских. Т. 3. С. 317).
227 «Здесь заканчивается рукопись, и ничто не указывает на то, что она
когда-либо была продолжена» («Ici s'arrête le manuscrit, et rien n'indique
qu'il ait jamais été continué») (примечание И. С. Гагарина при первой
публикации текста: Gagarin, 152).
О зодчестве
Дата создания двух существующих редакций статьи «О зодчестве» не
установлена. Русский анонимный перевод первой, ранней редакции текста
был напечатан в журнале Н. И. Надеждина «Телескоп» под заглавием «Нечто
из переписки NN (с французского)» в 11-м номере за 1832 г. (С. 347-357).
М. И. Жихарев писал об этой публикации А. Н. Пыпину 2 октября 1871 г.:
«Перевод был сделан — не знаю, кем — уж как будто не Д. Н. ли Свербеевым
Комментарии
737
в Телескопе — которого года сказать не могу, должно быть 1832, 33 или 34.
Читался на разных литературных вечерах в Москве. Из тех, кто его тогда
читал и слушал, смело можно сказать, что, кроме Д. Н. Свербеева, в живых
никого нет. Весь перевод состоит из нескольких очень немногих страниц. Тут
был маленький этюд о готических церквях, помещенных в "Œuvres choisies",
да выбор из отдельных изречений, далеко не лучших» (цит. по: Темнеет Р.
О Михаиле Жихареве // Символ. № 22 (1989). С. 256; курсив автора; М. О. Гер-
шензон предполагал, что переводчиком мог быть Александр Норов: Гершен-
зон 1908, 135). В большей по объему, второй редакции статья появилась в
гагаринском издании сочинений Чаадаева 1862 г. и была ошибочно
идентифицирована с четвертым «Философическим письмом» (Gagarin, 119-125).
В издании М. О. Гершензона воспроизведена вторая, пространная редакция
статьи (в оригинале, в соответствии с текстом, помещенным у И. С. Гагарина,
и в русском переводе М. О. Гершензона), вновь под заглавием «Четвертое
"Философическое письмо". (О зодчестве)». Д. И. Шаховской впервые
установил, что статья «О зодчестве» представляет собой самостоятельную работу,
не связанную с циклом «Философических писем» (Шаховской, 9). В
настоящем издании оригинальный текст печатается по: Гершензон. Т. 1,138-142;
русский перевод М. О. Гершензона — по: Гершензон. Т. 2,172-176. Ниже мы
также приводим редакцию статьи «О зодчестве», опубликованную в 11
номере журнала «Телескоп» в 1832 г. (в квадратных скобках указывается номер
страницы согласно пагинации журнального варианта статьи).
Как отмечает Е. А. Борисова, «утверждение Чаадаева, что готическое
зодчество воплощает в себе основную мысль христианства, встретило и
сторонников и противников в русской художественной культуре той
эпохи» (Борисова Е. А, Русская архитектура в эпоху романтизма. СПб., 1997.
С. 113). Распространение готического стиля в России специалисты
относят к началу 1770 гг.: «Как раз при зарождении "Греческого проекта"
"готика" впервые появляется в русской архитектуре не только в небольших
парковых, по сути игровых, сооружениях, но как цельный художественный
образ победы православной просвещенной, издревле культурной и
самобытной России в первой Турецкой войне. Хорошо известно, что
"готическая" тема доминировала в Ходынских торжествах, затем усадьбы видных
военачальников получили "готическое" оформление. "Готика" же стала
официальным стилем императорского строительства на древних
московских землях» (Путятин И. Загадки церкви в Быкове. Ж.-Л. де Кордемуа,
М.-А. Ложье и церковная архитектура в России эпохи Просвещения //
Пинакотека. № 13/14 (2002). С. 74). В первой половине XIX в. вопрос о возмож-
738
ности и формах перенесения норм европейской готической архитектуры в
Россию был дискуссионным: см., например, статью Н. В. Гоголя «Об
архитектуре нынешнего времени» (написана в 1831 г.) (подробнее см.: Борисова Е. А
Русская архитектура в эпоху романтизма. С. 114-116). В статье Чаадаева
заметно влияние «Гения христианства» Шатобриана (1802), особенно глав
«Архитектура. — Дом Инвалидов» и «Готические соборы» (книга первая
части третьей). Чаадаев исходит из центральной и для Шатобриана мысли:
здания неразрывно связаны с «установлениями и обычаями народа». Если
Шатобриан рассматривал готическую архитектуру как часть французской
культурной традиции, то Чаадаев аргументировал ее общехристианский
характер (Шатобриан Ф. Р. де. Гений христианства // Эстетика раннего
французского романтизма. М., 1982. С. 188-189).
228 О сходстве готических соборов с египетскими храмами упоминал в
«Гении христианства» Ф. Р. де Шатобриан (1802) (Шатобриан Ф. Р. де.
Гений христианства. С. 189).
229 Шатобриан писал в шестой главе книги первой части третьей «Гения
христианства» («Архитектура. — Дом Инвалидов»): «В зодчестве, как и
во всех других искусствах, христианство восстановило истинные
пропорции. Наши храмы, превосходя по величине афинские, но уступая
мемфисским, держатся той золотой середины, что отличает чувство
красоты и вкуса. В куполе, неизвестном древним, религия счастливо
соединила смелость готической архитектуры с простотой и изяществом
архитектуры греческой» (Там же. С. 186; пер. В. А. Мильчиной).
230 По мнению А. А. Формозова, Чаадаев почерпнул сведения о мегалитах
Индии из бесед с известным египтологом И. А. Гульяновым: «В 1820-е
годы о мегалитах Индии слышали очень немногие. Первые менгиры и
дольмены были выявлены там только в 1819 г. англичанином Бэбинг-
тоном на Малабарском побережье, а описаны им в 1820 г. в весьма
специальном издании (Babington I. Description of the Pandoo Cooliisin,
Malabar. "Transactions of Literary Society". Bombay, 1820). Этот факт
показывает, что при подготовке статьи об архитектуре Чаадаев пользовался
консультацией какого-то крупного знатока древностей» (Формозов Л. А.
Пушкин, Чаадаев и Гульянов // Вопросы истории. 1966. № 8. С. 213).
231 Ср. в «Гении христианства» Шатобриана: «Если пейзаж кажется голым,
унылым, пустынным, поместите в центр сельскую колокольню — и в тот
же миг все оживет» (Шатобриан Ф. Р. де. Гений христианства. С. 186;
пер. В. А. Мильчиной).
Комментарии
739
232 Ср. в «Гении христианства» Шатобриана: «...большинство наших
церквей увенчивается не куполом, а колокольнею, она-то и придает нашим
селениям и городам тот нравственный облик, которого не имели
античные города. Взор путника обращается прежде всего на эту религиозную
стрелу, пробуждающую так много чувств и воспоминаний...» (Там же).
233 Пестум — древний город на юго-западе Италии, колония Сибариса,
основанная ок. 600 г. до н. э., на территории которого сохранились
религиозные постройки, восходящие к VI—IV вв. до н. э.
234 В трактате «О Германии» (1810) Ж де Сталь противопоставляла пользу
(utilité) и удовольствие (agrément) применительно к искусствам в школе
Песталоцци, особо выделяя среди последних музыку и далее замечая:
«Недостаточно заниматься людьми из народа, исходя только из
соображений пользы, необходимо также, чтобы они участвовали в увеселениях
воображения и сердца» («Ce n'est pas assez de s'occuper des gens du peuple
sous un point de vue d'utilité, il faut aussi qu'ils participent aux jouissances
de l'imagination et du coeur») (Staël A L G. de. De l'Allemagne. Paris, 1823.
P. 151-152; chap. XIX.) (Проскурина, 595).
Несколько слов о польском вопросе
Впервые в оригинале: Brun-Zejmis J. «A Word on the Polish Question» by
P. Ya. Chaadaev // California Slavic Studies. Vol. XI (1980). P. 29-32. Впервые
фрагменты русского перевода: Берелевич Ф. И. П. Я. Чаадаев и польское
восстание 1830 года // Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова. Доклады и сообщения исторического факультета. Вып. 8. М.,
1948. С. 27-32. Впервые полностью в русском переводе О. Г. Шереметевой:
Вопросы философии. 1988. № 6. С. 108-110 (публикация 3. А. Каменского).
В настоящем издании оригинальный текст статьи печатается по: Œuvres inédits
ou rares, 205-207 (опубликовано, как и в журнале «California Slavic Studies», no
оригиналу, хранящемуся в ОР РГБ); русский перевод О. Г. Шереметевой
печатается в соответствии с публикацией в журнале «Вопросы философии».
Автограф статьи вклеен между 112 и 113 страницами книги: Sismon-
dij. Ch. Histoire des Français. Paris, 1823. T. 5. Дж. Брун-Зеймис на
основании почерка Чаадаева, характерного для его поздних документов, отнесла
статью к концу 1830-х гг., уточнив, что она не могла быть создана ранее
1832 г. и позднее 1846 г. (Brun-ZejmisJ. «A Word on the Polish Question» by
P. Ya. Chaadaev. P. 25-26). Комментаторы письма в ПССиИП (В. В. Сапов,
740
3. А. Каменский и М. И. Чемерисская) датируют текст 1831 — началом 1832 г.
(Вопросы философии. 1988. № 6. С. 111; ПССиИП. Т. 1,738), при этом делая
справедливую оговорку: «вопрос об обстоятельствах и источниках
написания Чаадаевым этой статьи (и в этой связи о его авторстве) остается
открытым для дальнейших исследований» (ПССиИП. Т. 1,739).
Статья «Несколько слов о польском вопросе» стоит в ряду прочих
откликов на польское восстание 1830 г., вокруг которого в русском
образованном обществе велась активная дискуссия (см.: Гиллельсон М. И. П. А.
Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 218-219; Хорее В. А. Роль польского
восстания 1830 г. в утверждении негативного образа Польши в русской
литературе // Поляки и русские: Взаимопонимание и взаимонепонимание.
М., 2000. С. 100-109; и др.). Так, А. С. Пушкин и В. А. Жуковский,
опубликовавшие отдельной брошюрой «На взятие Варшавы. Три стихотворения
В. Жуковского и А. Пушкина» (СПб., 1831, цензурное разрешение: 5
сентября 1831 г., вышла из печати 11-13 сентября) свои стихотворения
(«Бородинская годовщина» и «Клеветникам России» Пушкина и «Старая песня на
новый лад. (На голос: "Гром победы, раздавайся!")» Жуковского), заняли
отчетливо антипольскую позицию, к которой был близок и Чаадаев (см.
письмо к Пушкину от сентября 1831 г.): «Существование Польши как
суверенного государства противоречит русским интересам, — именно с этой точки
зрения, рано им [Пушкиным. — М. В.] усвоенной (уже в исторических
заметках 1822 г. "уничтоженная Польша" включена в перечень великих заслуг
Екатерины II)... Пушкин трактовал события 1830-1831 гг.» (ОсповатА. Л.
Пушкин, Тютчев и польское восстание 1830-1831 гг. // Пушкинские
чтения в Тарту: Тезисы докладов научной конференции 13-И ноября 1987 г.
Таллин, 1987. С. 49; о брошюре «На взятие Варшавы» см. комментарий
Н. Серебренникова в издании: Жуковский В. А Полное собрание
сочинений и писем. Т. 2. М., 2000. С. 665-667). В стихотворении «Ода» (1831)
Хомяков полемизировал с Пушкиным, противопоставляя «непримиримости
"семейной вражды"» между народами идею «кровного родства враждующих
"славянских братьев"». Согласно Ф. И. Тютчеву (стихотворение «Как дочь
родную на закланье...», конец сентября 1831 г.), «идея славянского единства
выше принципа самодержавия (при том, что именно на русском
императоре лежит историческая ответственность за реализацию этой идеи), выше
любого принципа политической или социальной организации», а Польша
выполняет назначенную Провидением «роль искупительной жертвы,
приносимой во имя грядущего всеславянского торжества» (ОсповатА. Л.
Пушкин, Тютчев и польское восстание 1830-1831 гг. С. 50-52). «Клеветникам
Комментарии
741
России» Пушкина вызвало энтузиазм С. С. Уварова, который перевел это
стихотворение на французский язык. В интерпретации Уварова, «распря
между поляками и русскими должна была закончиться гибелью одного из
этих народов» (Мазур Т. Я, Малое H. H. Новые материалы о Пушкине //
Прометей. Т. 10 (1974). С. 249; свод данных о контексте пушкинских
высказываний на польскую тему см., например: Беляев М. Д. Польское
восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово // Письма Пушкина к
Елизавете Михайловне Хитрово. 1827-1832 Л., 1927. С. 266-268, 287-290 (Труды
Пушкинского дома. Вып. XLVIII); Истрин В. Из документов архива братьев
Тургеневых // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1913- № 3.
С. 19-22; и др.).
Автор статьи «Несколько слов о польском вопросе» рассматривает
русско-польский конфликт с историко-религиозной точки зрения (в
отличие, например, от H. M. Карамзина, который в своем «Мнении русского
гражданина» (1819; впервые опубликовано в 1862 г.) убеждал Александра I
оставить Польшу зависимой от России, поскольку «мы взяли Польшу
мечем: вот наше право, коему все Государства обязаны бытием своим, ибо все
составлены из завоеваний» (Неизданные сочинения и переписка Николая
Михайловича Карамзина. Ч. I. СПб., 1862. С. 5), и аргументирует, что до
разделов Польши на ее территории проживало как польское (католическое),
так и русское (православное) население, причем последнее постоянно
ущемлялось в своих религиозных правах. От «отпадения русских племен»
Польша лишь проиграла и оказалась во власти Австрии, Пруссии, а затем
и Наполеона. После создания Царства Польского в составе Российской
империи (1815) поляки, благодаря предоставленному им Россией
политическому равноправию, «вступили в среду... обширного союза славянских
народов», при том что в принадлежащих Австрии и Пруссии польских
землях польский национальный элемент оказался нивелирован и растворен
в «толще германского племени». В силу этих обстоятельств автору статьи
представляется невозможным и нецелесообразным возвращение к единой
Польше, поскольку в этом случае в состав нового государства вошли бы
территории, на которых проживает большое количество непольских народов
(немцы, евреи, русские). Для сохранения своей «славянской»
идентичности и национальности полякам следует оставаться в Российской империи,
исторически ориентированной на союз «братских» славянских народов.
А. И. Тургенев и П. А. Вяземский, не разделявшие общих восторгов по
поводу подавления польского восстания 1830-1831 гг., «немного нападали
на Чаадаева за его мнение о стихах» Пушкина (цит. по: Тургенев А И. По-
742
литическая проза. M., 1989. С. 158; см. также: Проскурина, 595; ПССиИП.
Т. 1,738-739). 22 сентября 1831 г. Вяземский занес в записную книжку
сравнение России с Европой, близкое к идеям Чаадаева, выраженным в первом
«Философическом письме»: «За что возрождающейся Европе любить нас?
Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в
движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и
политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на
ней...» (Вяземский П. Л. Записные книжки (1813-1848). М., 1963. С. 214;
курсив автора; ср. исторический пессимизм Д. В. Давыдова в период подавления
русскими войсками польского восстания: Гиллельсон М. И. От арзамасского
братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. С. 56-58). Как
констатировал М. И. Гиллельсон, «в начале 30-х годов прошлого столетия [1830-х гг. —
М. В.] произошел идеологический "взрыв", проявившийся в интенсивной
филиации русофильских и западнических идей» (Там же. С. 60).
235 После взятия Варшавы И. Ф. Паскевичем в конце августа — начале
сентября 1831 г. значительное число польских офицеров и солдат бежали
в Швейцарию, Англию, Францию. В Париж первая волна польских
эмигрантов начала прибывать во второй половине октября 1831 г. Среди
наиболее известных деятелей польской эмиграции были Иоахим Леле-
вель (1786-1861), активный участник восстания, член образованного
4 декабря 1830 г. временного правительства Польши и член
«Патриотического общества» (основано 30 ноября 1830 г.), и кн. Адам Чарторый-
ский (1770-1861), председатель польского Сената, глава временного
польского правительства. В конце 1820-х — начале 1830-х гг. Лелевель
и Чарторыйский принадлежали к разным оппозиционным партиям:
Лелевель — к республиканцам, Чарторыйский — к более умеренным
конституционалистам. Оба они высказались за детронизацию Николая I
25 декабря 1830 г., однако при подписании соответствующего акта
Чарторыйский произнес: «вы погубили Польшу!» (о Лелевеле и Чарто-
рыйском как прямых адресатах реплики Чаадаева см.: Проскурина, 595;
ПССиИП. Т. 1,739; подробнее о польской эмиграции, польском
«Патриотическом обществе» и «Центральном польском комитете» в Париже
см. специальное исследование: Sokolnicki M. Les origines de l'émigration
polonaise en France. 1831-1832. Paris, 1910). Русское правительство
предвидело возможность активизации французского «пропольского»
общественного мнения после взятия Варшавы. Сообщая о последнем
событии русскому послу в Париже К. О. Поццо-ди-Борго, вице-канцлер
Комментарии
743
К. В. Нессельроде писал (в депеше от 14 (26) сентября 1831 г.): «Можно
предвидеть, что весть о взятии Варшавы произведет неоднозначное
впечатление во Франции. Правительство и вместе с ним небольшое число
искренних сторонников ныне существующего порядка, возможно,
поздравят себя с успехом дела, являющегося делом мира и общественного
спокойствия. <...> Напротив, те, кто изображают поляков только
героическим и угнетенным народом, а их бунт и преступное сопротивление
как самоотверженную борьбу за свое освобождение и свободу Европы,
впадут, мы уверены, в неистовство, какое должны в них вызвать досада
и позор поражения» (Внешняя политика России XIX и начала XX века:
Документы Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Т. XVII. М., 2005. С. 474; оригинал по-фр.). Поццо-ди-Борго были даны
указания удостоверить французский кабинет К. Перье в том, что
русский «император принял твердое решение ни в чем не отклоняться при
будущем устройстве Королевства Польского от буквы Венского
договора (имеется в виду договор 1815 г. о создании Царства Польского,
подписанный на Венском конгрессе европейских монархов. —М. В.)» (Там
же. С. 475; оригинал по-фр.).
236 Чаадаев имеет в виду праздник по поводу годовщины польского
восстания в Париже 29 ноября 1831 г. (т. е. уже после взятия Варшавы
генералом Паскевичем), когда депутаты французской палаты (М.-Ж Лафайет,
по случаю облачившийся в мундир гренадеров национальной польской
гвардии, С. Платер, Ф. Моген и др.) выступили с речами в
Национальном собрании, требуя оказать Польше вооруженную помощь. В
частности, Лафайет сказал: «Dernièrement encore, n'est-ce pas à vous, j'aime à
le répéter avec une juste reconnaissance, n'est-ce pas à vous, Polonais, que
l'Europe, que la France surtout ont dû d'avoir été préservées de l'agression
des armées du Nord?» («И в-последних, не вам ли, я люблю это повторять
с чувством истинной признательности, не вам ли, Поляки, Европа и
особенно Франция обязаны спасением от вторжения северных воинств?»,
цит. по: La Fayette et la Pologne. 1830-1834. Paris, 1934. F. 14 (издание без
пагинации). В Париже Лафайет образовал комитет в поддержку
польского восстания, состоявший из французов и польских эмигрантов и
занятый сбором средств и агитацией в пользу польского восстания. По
мнению В. Ю. Проскуриной, «упоминание предложения послать флот
в Поланген (Паланга) носил издевательский характер: это место,
наиболее удаленное от театра военных действий» (Проскурина, 596). Идею
вооруженного вмешательства Франции в конфликт России и Польши
поддерживали французские либеральные газеты, в частности орган
республиканской оппозиции «Le National» {Молок А. Царская Россия и
Июльская революция 1830 г. // Литературное наследство. Т. 29-30. М,
1937. С. 756). Требования французских депутатов послужили поводом
к созданию стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России». О
реакции французских газет на польское восстание см.: White R. L L'Avenir
de La Mennais. Son rôle dans la presse de son temps. Paris, 1974. P. 58-61;
Милъчиш В. А «Полая» национальная идея. Французское миссиан-
ство в эпоху Июльской монархии // Мильчина В. А. Россия и Франция.
С. 323-325. Одновременно активность Лафайета вызвала
недовольство со стороны русского правительства. О планах по
формированию во Франции «польского легиона» К. О. Поццо-ди-Борго сообщал
К. В. Нессельроде в депеше от 3 (15) октября 1831 г. В ответном послании
Нессельроде писал, что Николай I намерен рассматривать создание во
Франции подобного «легиона» как акт, враждебный России,
несовместимый с характером дружеских взаимоотношений между двумя державами.
21 ноября (3 декабря) 1831 г. Поццо-ди-Борго в депеше к Нессельроде
описал свою беседу по данному поводу с главой парижского кабинета
К Перье. Перье заверил его, что поляки будут рассматриваться
французским правительством лишь в качестве беженцев и им не позволят
создавать вооруженные формирования. 29 ноября (11 декабря) 1831 г.
между русским послом и французским премьер-министром состоялся
еще один разговор на темы польских эмигрантов в Париже. Перье
уведомил Поццо-ди-Борго о состоявшейся 26 ноября (8 декабря) 1831 г.
попытке Лафайета получить разрешение на формирование «легиона»
из числа поляков, не получивших амнистию и не желающих
вернуться в Россию. Предложение Лафайета было отклонено на том
основании, что во Франции не разрешалось рекрутирование каких-либо
иностранных войск. 10 декабря по н. с. Лафайет предпринял еще одну
попытку получить соответствующее разрешение, но получил отказ.
В депеше от 4 (16) декабря 1831 г. Поццо-ди-Борго сообщил
Нессельроде, что французский кабинет сумел противостоять попыткам
Лафайета вынести вопрос о формировании «польского легиона» на
обсуждение палаты депутатов (Внешняя политика России XIX и начала XX века.
Т. XVII. С. 641-642).
Религиозное и культурное обособление юго-восточной Руси от Руси
северо-западной произошло не в правление Ярослава Мудрого
(великий князь киевский в 1016-1054 гг.), а несколькими веками позже.
Комментарии
745
Изначально Галицко-Волынское княжество было менее зависимым от
Золотой Орды, но в 1340 г. Галиция оказалась захваченной польским
королем Казимиром Великим, в то же время литовские князья Гедимин
и Ольгерд подчинили себе Волынь и западнобелорусские земли (при
том что некоторые из литовских князей исповедовали православие).
В XV в. «религиозная политика в Великом княжестве Литовском
характеризовалась относительной свободой и терпимостью» (Западные
окраины Российской империи. М, 2006. С. 22; раздел написан Л. А. Бережной
и А. И. Миллером).
238 Имеется в виду «Договор об объединении» Литвы и Польши в Речь По-
сполитую, процесс, открытый Кревской унией 1385 г. и завершившийся
Люблинской унией 1569 г. (См.: Проскурина, 596; ПССиИП. Т. 1, 740).
В 1385 г. в городе Крево литовский князь Ягайло сочетался браком с
12-летней польской принцессой Ядвигой и подписал соглашение,
согласно которому он брал на себя ответственность за обращение
Великого княжества Литовского в католическую веру (уния фактически была
разорвана в 1398 г., когда Витовт, двоюродный брат Ягайло, объявил
себя великим князем литовским). В 1569 г. специально созванный в
Люблине Сейм реализовал политическую программу создания единого
полиэтнического государства Речь Посполитая. Согласно
заключенному договору, Великое княжество Литовское сохранило за собой
автономию судопроизводства, администрации и русинский язык в
делопроизводстве; особо оговаривались свобода вероисповедания и право на
сохранение местных обычаев.
239 Вопреки мнению, высказанному в статье «Несколько слов о польском
вопросе», одним из последствий Люблинской унии 1569 г. стал резкий
подъем православия, интенсификация культурной и религиозной
жизни на соответствующих территориях Речи Посполитой. Двтор статьи,
вероятно, имеет в виду последствия принятых на Тридентском соборе
католической церкви (1545-1563) решений по укреплению
католического влияния в Европе и прибытия иезуитов в Речь Посполитую. Тем не
менее, как отмечают Л. А. Бережная и А. И. Миллер, «конфессиональное
сознание православных религиозных лидеров того времени оставалось
открытым и готовым к диалогу. <...> Унионное движение нашло
выражение не только в политическом и экономическом объединении двух
государств, но и в стремлении к конфессиональному диалогу, попытке
объединения двух церквей» (Западные окраины Российской империи.
С. 25-26). В 1596 г. в Бресте была заключена новая уния между католи-
ческой и православной церквями Речи Посполитои: православная
церковь признавала главенство папы римского и ряд католических
догматов, но сохраняла за собой право на неприкосновенность собственных
таинств и обрядов. В сложной конфессиональной ситуации Речи
Посполитои (на ее территории исповедовалось четыре религии:
католичество, православие, униатство и протестантизм) Уния породила целую
серию политико-религиозных конфликтов (см.: Там же. С. 26-29).
Как отмечает В. Ю. Проскурина, «петербургская конвенция 1770-
1790-х гг. о разделе Речи Посполитои, по мысли Чаадаева, является
финалом процесса отделения "русского" населения от Польши (для
Чаадаева, как и для многих его современников, украинцы и белорусы являются
частью русского народа)» (Проскурина, 596; ПССиИП. Т. 1,740). К1651 г.
относятся первые действия московского духовенства по оказанию
помощи единоверцам, живущим в окончательно сложившейся в конце 1640-х гг.
Гетманщине на территории Речи Посполитои (Брацлавское, Киевское и
Черниговское воеводства). В итоге, 1 октября 1653 г. Земский собор
решил принять Гетманщину (во главе с Богданом Хмельницким) в состав
Московского государства, в 1654 г. был юридически оформлен военный
союз между Москвой и Гетманщиной. По Андрусовскому перемирию
1667 г., закрепленному «вечным миром» 1686 г., к Московскому
государству от Речи Посполитои отошли Смоленщина и Левобережная Украина,
а также Киев (но не Киевское воеводство), Галиция и Волынь остались
за Речью Посполитои. В течение XVIII в. Гетманщина постепенно теряла
свою автономию, полностью ликвидированную Екатериной II. Подробнее
см.: Западные окраины Российской империи. С. 35-58; разделы написаны
Т. Г. Яковлевой и А И. Миллером). О влиянии России на политические
события внутри самой Речи Посполитои в XVIII в. см.: Там же. С. 65-80;
разделы написаны А. И. Миллером, М. Д. Долбиловым, Е. А. Правиловой.
По итогам трех разделов Польши между Россией, Пруссией и Австрией
(1772,1793 и 1795 гг.) Речь Посполитая прекратила свое независимое
существование. В 1807 г. Наполеон основал Герцогство Варшавское,
существовавшее до 1814-1815 гг., когда на Венском конгрессе
европейских монархов было создано Царство Польское в составе
Российской империи, которому 27 ноября 1815 г. Александр I даровал
Конституцию.
О политическом устройстве Царства Польского см.: Там же. С. 83-84;
раздел написан А. И. Миллером и М. Д. Долбиловым. Польская
конституция предусматривала свободу печати и вероисповедания, официаль-
Комментарии
747
ным языком оставался польский. О политических конфликтах между
местной польской властью и российской администрацией на рубеже
1810-х и 1820-х гг. см.: Там же. С. 91-93; раздел написан А. И. Миллером
и М. Д. Долбиловым.
243 Согласно К. Герману, в общем по России «подвластные» ей «не Руские
народы составляют не более четвертной доли всего населения»
(Герман К. Статистические исследования относительно Российской
Империи. Ч. I: О народонаселении. СПб., 1819- С. 85).
244 А. И. Миллер отмечает в своей книге «Империя Романовых и
национализм», что «логика дискурса общерусской нации выдвигала границы
"русской национальной территории" за границы империи, в
населенные восточными славянами области Габсбургской монархии. Дискурс о
Червонной Руси (Восточной Галиции) и Угорской Руси (Буковине и
современной Закарпатской Украине) отличался от панславистского
дискурса вообще о славянах Габсбургской и Османской империй. Это был,
по сути, дискурс националистической ирреденты. <...> Уже в XIX веке
русские националисты неоднократно критиковали "ошибку
Екатерины", оставившей "русское" население Восточной Галиции Австрийской
империи, где оно оказалось "под властью поляков". Таким образом,
"исконно русские земли" в рамках этой оптики делились на
"благополучные", то есть те, в которых их русский характер был вполне утвержден;
проблемные, "больные", где следовало извести враждебные влияния;
и, наконец, остающиеся вовсе "отторгнутыми", то есть в империю — и
как следствие в "национальное тело" — не включенными. Этот дискурс
оставался в силе вплоть до краха империи» (Миллер А. Империя
Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования.
М, 2006. С. 162-163).
245 Согласно Г. Симоненко, «цифра всего народонаселения страны до
самых последних дней самостоятельного существования Польши не
была известна» (Симоненко Гр. Сравнительная статистика Царства
Польского и других европейских стран. Т. 1. Варшава, 1879. С. 21).
В 1818 г. в Польше была проведена всеобщая перепись населения (Там
же. С. 56). В 1830 г. в Варшаве вышел географическо-статистический
атлас с данными о населении Польши (Там же. С. 59). Революция 1830 г.
вызвала отмену конституции, дарованной императором Александром I
Царству Польскому, и замену ее так называемым Органическим
Статутом, который упразднил законодательные палаты, т. е. Сенат и Палату
Представителей. С упразднением их «исчезла для Министерства Вн. Дел
748
обязанность представлять во всеобщее сведение отчеты о состоянии
края...» (Там же. С. 64). В 1830-х гг. статистика в Польше находилась в
упадке (Там же. С. 65).
246 По подсчетам К. Германа, только в той части Польши, которая в
результате разделов отошла к России, проживало «слишком 6 миллионов»
человек, однако население Польши в прежних границах, т. е. с учетом
земель, принадлежавших к 1830-м гг. Австрии и Пруссии, равнялось
«круглым числом» 14 миллионам человек. По тем же подсчетам, «от того, что
Католическая вера есть господствующая в Губерниях от Польши
присоединенных, что она весьма усилилась в Курляндии и многие
иностранцы ее исповедуют, полагать можно с большею вероятностию, что число
Католиков простирается по семи миллионов». «Число Евреев» в
Российской империи «простираться может до полумиллиона» (Герман К.
Статистические исследования относительно Российской Империи.
Ч. I: О народонаселении. С. 70-71,91,93).
247 Оба слова в скобках вставлены переводчиком.
248 H. M. Карамзин, основываясь на летописи Нестора, писал в первом томе
«Истории государства Российского» (вышел в свет в начале 1818 г.):
«Тогда — заметим сие первое хронологическое показание в
Несторе — какие-то смелые и храбрые завоеватели, именуемые в наших
летописях Варягами, пришли из-за Балтийского моря и наложили дань
на Чудь, Славян Ильменских, Кривичей, Мерю, и хотя были чрез два
года изгнаны ими, но Славяне, утомленные внутренними раздорами, в
862 году снова призвали к себе трех братьев Варяжских, от племени
Русского, которые сделались первыми Властителями в нашем древнем
отечестве, и по которым оно стало именоваться Русью» (цит. по:
Карамзин К М. История государства Российского: В 12 т. Т. I. M., 1989. С. 54-55;
курсив автора; см. также комментарий Карамзина к термину «Русь»: Там
же. С 207-208).
Записка графу Бенкендорфу
Впервые в оригинале: Gagarin, 153-165. Впервые в анонимном русском
переводе: Русский архив. 1896. № 8. С. 576-582 (с двумя примечаниями
П. И. Бартенева: «Переведено с Французского из книжки: "Œuvres choisies
de P. TchadaïefP, 1862. Чадаев близко знал графа Бенкендорфа еще в
царствование Александра Павловича за границею и в России. С его стороны
Комментарии
749
эта записка была делом дружбы. Французским языком Чадаев владел
отлично. Мысли, изложенные в этой прекрасной записке, принадлежат самому
Киреевскому, Чадаев был только их излагателем»; «Не знаем, дошло ли до
Государя это письмо, написанное конечно, так сказать, под диктовку
самого Киреевского, оставшегося в течение всей своей дальнейшей
деятельности верным тому, что здесь изложено» (Там же. С. 576, 582). Оригинальный
текст «Записки» печатается по: Гершензон. Т. 1, 335-341 (воспроизведено
по изданию И. С. Гагарина); русский перевод Г. А. Рачинского по:
Гершензон. Т. 2, 302-309.
Атрибуция статьи Чаадаеву принадлежит И. С. Гагарину (Gagarin, 153),
затем дополнительно аргументирована М. О. Гершензоном (Гершензон.
Т. 1, 431-432). Как показывает запись в дневнике А. И. Тургенева от
31 марта 1832 г. («<...> Сидел у Чад[аева], письмо его для Кир[еевского] <...>»:
РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 325. Л. 151; указано А. Л. Осповатом), «Записка
Бенкендорфу» была закончена к концу марта 1832 г.
Написано Чаадаевым от лица издателя журнала «Европеец» Ивана
Васильевича Киреевского (1806-1856) (который, вопреки позднейшим
предположениям П. И. Бартенева, М. К. Лемке и Л. Г. Фризмана (Лемке, 76-77;
Фризман Л. Г. Иван Киреевский и его журнал «Европеец» // Европеец.
Журнал И. В. Киреевского. 1832. М., 1989. С. 440-441), признавался, что знал о
существовании «записки», но не имел к ней никакого отношения (письмо к
А С. Хомякову от 10 апреля 1844 т.: Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное
собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. Калуга, 2006. С. 107). В свет вышло лишь два
первых номера журнала «Европеец» (сбор материалов для которого был
начат Киреевским в конце 1830 г.), в котором сотрудничали В. А. Жуковский,
Е. А. Боратынский, Н. М. Языков, А. И. Тургенев, А С. Хомяков, а в дальнейшем
должны были участвовать Пушкин, Вяземский, В. Ф. Одоевский (о реакции
русской образованной публики на выход первых двух номеров «Европейца» см.:
Шллельсон М. И. Судьба «Европейца» // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь
«умственные плотины». Изд. 2. С. 115-120; Березкина С В. Вокруг
запрещения журнала «Европеец» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 29. СПб.,
2004. С. 226-248). «Европеец» был запрещен 10 февраля 1832 г. по
анонимному доносу (как предполагал М. К. Лемке — Ф. В. Булгарина (Лемке, 72), по
мнению Л. Г. Фризмана, «к изготовлению документа должен был иметь
непосредственное отношение тогдашний управляющий Третьим отделением
А. Н. Мордвинов» (Европеец. Журнал И. В. Киреевского. 1832. М., 1989. С. 434);
полный текст доноса опубликован в: Фризман Л. Г. К истории журнала
«Европеец» // Русская литература. 1967. №2. С. 118-119) на опубликованную в
750
первом номере журнала статью Киреевского «Девятнадцатый век», а также
из-за рецензии «"Горе от ума" — на московском театре», в которой
Киреевский, хваля европейское просвещение, негативно отзывался о живущих и
служащих в России иностранцах, что было воспринято как намек на
«немецкую» партию при русском дворе (семейство Ливенов (в том числе
министр народного просвещения в 1828-1833 гг. К А. Ливен), А. X. Бенкендорф;
подробнее см.: Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи.
М., 2000. С. 317-319). О реакции на запрещение «Европейца» в Петербурге
А. С. Пушкин писал И. В. Киреевскому: «Запрещение Вашего журнала сделало
здесь большое впечатление; все были на Вашей стороне, то есть на стороне
совершенной безвинности... Жуковский заступился за Вас с своим горячим
прямодушием; Вяземский писал к Бенкендорфу смелое, умное и
убедительное письмо» (Литературное наследство. Т. 16-18. М., 1934. С. 543).
В своем ответе от имени Киреевского Чаадаев сконцентрировал свое
внимание на доказательстве благонамеренности статьи «Девятнадцатый
век», ни разу не упомянув о «'Торе от ума" — на московском театре». За
две с половиной недели до запрещения «Европейца» (18 января 1832 г.)
Вяземский замечал в письме к А. И. Тургеневу: «Скажи Киреевскому, что
Европеец его худо одет, то есть бумажно и печатно, что напрасно
говорит он слишком резко и грубо Московской публике по поводу Горе от ума»
(АбТ. 6,84-85). Именно статья «"Горе от ума" — на московском театре»
вызвала особое недовольство Николая I: «...Государь Император изволил
заметить в статье "Горе от ума" самую неприличную и непристойную выходку на
счет находящихся в России иностранцев, в пропуске которой цензура уже
совершенно виновна» (Лемке, 73). Жуковский (родственник И. В.
Киреевского: мать последнего, Авдотья Петровна Елагина, была племянницей
Жуковского), считавший себя лично ответственным за судьбу «Европейца» (и
считавшийся таковым, см., например, письмо Н. М. Языкова В. Д. Комовскому от
5 января 1832 г.: «он [«Европеец» — М. В.] начался под сению
Жуковского» (Из неизданной переписки H. M. Языкова // Литературное наследство.
Т. 19-21. М., 1935. С. 61), так объяснял смысл статьи Киреевского в черновом
письме к А. X. Бенкендорфу (1832): «Статья Киреевского, в которой он
говорит о безрассудном пристрастии нашем к иностранцам без разбора и
хочет отличить сие пристрастие от полезного и необходимого нам уважения
к просвещению Европейскому, объяснена самым превратным образом.
Говорят, будто он разумел под именем людей, носящих не-Русскую фамилию,
всех тех, кои населяют наши Немецкие провинции и столь же Русские по
своему патриотизму и по своим услугам общему отечеству, как и коренные
Комментарии
751
жители Москвы, Владимира и Новгорода. Такой мысли Киреевский иметь
не мог просто потому, что он не сумасшедший. Он говорил об иностранцах
не-русских подданных, хотя и родившихся в России...» (Русский архив. 1896.
№ 1. С. 116); и к Николаю I (1832): «В замечаниях на комедию Горе от ума
автор не только не нападает на иностранцев, но еще хочет, в смысле
правительства, оправдать благоразумное подражание иностранному, утверждая,
что оно не только не вредит национальности, но должно еще послужить к
ее утверждению. Кого имеет в виду — "кои у нас (или родясь в России или
переселяясь в нее из отечества), под покровительством не-Русского имени,
первенствуют в обществе и портят домашнее воспитание, вверенное им
без разбора родителями"» (Там же. С. 117-118; курсив автора; подробнее о
взаимоотношениях Киреевского и III отделения см.: Шллелъсон М. И. Судьба
«Европейца» / / Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины».
Изд. 2. С. 114-139; см. также комментарий О. Поповой к письмам А. С.
Пушкина И. В. Киреевскому по поводу запрещения «Европейца»: Литературное
наследство. Т. 16-18. С. 544-547).
Ю. В. Манн пишет о точках схождения и дивергенции историософских
взглядов Чаадаева и Киреевского в первой половине 1830-х гг.: «Как уже
неоднократно отмечалось, взгляды Киреевского рубежа 20-30-х годов
находятся в отпределенном соотношении с концепцией "Философических
писем" Чаадаева (возможно, мы имеем дело и с непосредственной реакцией
на эти письма, поскольку они были известны еще до публикации: в первой
половине 1831 года их читал, например, Пушкин). Общее у Киреевского и
Чаадаева — идея исторического универсализма и исключения из нее
России, правда, последнее (исключение России) выражено Чаадаевым много
сильнее и категоричнее... Однако различие не только в степени
категоричности, но в существе взгляда. У Чаадаева оттеснение России на периферию
истории обсуловлено особенностью ее религиозности, у Киреевского —
отсутствием античного элемента. Этический идеал Чаадаева окрашен мечтою
о возрождении потенциала христианского средневековья; для Киреевского
же именно новая фаза западноевропейской истории и особенно ее
последние десятилетия, после Великой французской революции — начало
многообещающего прогресса. Поскольку же Россия прежде была отчуждена от
европейской общности и ей предоставлена возможность начать все с чистого
листа, то, по Киреевскому, как бы происходит превращение слабости в силу,
минуса в плюс. Подобное превращение, кстати, знакомо и Чаадаеву, правда,
на более поздней стадии его эволюции (в "Апологии сумасшедшего")...»
(Манн Ю. В. Эстетическая эволюция И. Киреевского // Киреевский И. В.
752
Критика и эстетика. Изд. 2. М., 1998. С. 18-19). В. Ю. Проскурина отмечает,
что «Чаадаев акцентирует в статье Киреевского те положения, которые в
наибольшей степени совпадают с его собственными. Так, он
подхватывает мысль автора опальной статьи об особом смысле слов "свобода",
"разум", "человечество" в период Французской революции, чтобы еще раз
обрушиться на французскую просветительскую философию, породившую эту
"разрушительную" семиотику» (Проскурина, 597).
249 Как отмечает Ю. В. Манн, «либеральные тенденции во взглядах
Киреевского усиливаются накануне Декабрьского восстания 1825 г.» (Манн Ю. В.
Киреевский Иван Васильевич // Русские писатели. 1800-1917.
Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 534). О реакции на восстание 14
декабря круга молодых служащих московского Архива Иностранных дел,
в который входил и И. В. Киреевский, см.: Записки А. И. Кошелева. М.,
1991. С 52-55; впервые в 1884 г.).
250 Анализу исторической роли Петра I была посвящена вторая часть статьи
И. В. Киреевского «Девятнадцатый век», предназначавшейся для
третьего номера «Европейца», не вышедшая вследствие закрытия журнала, но
широко распространявшаяся в списках. Киреевский отмечал, что
«европейское просвещение начало вводиться у нас гораздо прежде Петра, и
особенно при Алексее Михайловиче... Но, несмотря на это, начало сие
было столь слабо и ничтожно в сравнении с тем, что совершил Петр, что,
говоря о нашей образованности, мы обыкновенно называем его
основателем нашей новой жизни и родоначальником нашего умственного
развития. Ибо прежде него просвещение вводилось к нам мало-помалу
и отрывисто, отчего по мере своего появления в России оно
искажалось влиянием нашей пересиливающей национальности. Но переворот,
совершенный Петром, был не столько развитием, сколько переломом
нашей национальности; не столько внутренним успехом, сколько
внешним нововведением» (Европеец. Журнал И. В. Киреевского. 1832. М., 1989.
С. 314; курсив автора). Далее Киреевский задается вопросом о
возможности «самобытного» просвещения в России и, подобно Чаадаеву,
описывает поиски национальной идентичности в России как слепое копирование
западных образцов: «Если рассмотреть внимательно, то это самое
стремление к национальности есть не что иное, как непонятное повторение
мыслей чужих, мыслей европейских, занятых у французов, у немцев, у
англичан и необдуманно применяемых к России» (Там же. С. 316). По
мнению Киреевского, просвещение должно развиваться из националь-
Комментарии
753
ности, пример чего мы встречаем в Западной Европе: «если немцы искали
чисто немецкого, то это не противоречило их образованности» (Там же).
Однако, «у нас искать национального — значит искать необразованного;
развивать его на счет европейских нововведений — значит изгонять
просвещение, ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития
образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы? Разве самая
образованность европейская не была последствием просвещения
древнего мира? Разве не представляет она теперь просвещения
общечеловеческого? Разве не в таком же отношении находится она к России, в каком
просвещение классическое находилось к Европе?» (Там же. С. 316-317).
Отсюда «начатая» Петром I «образованность России» — «вот основание
его величия и нашего будущего благоденствия» (Там же. С. 317).
251 Чаадаев имеет в виду европейское Средневековье. И. В. Киреевский, в
отличие от Чаадаева, считал, что формообразующим элементом
современной европейской цивилизации является ее генетическая связь с
эпохой античности.
252 Возможно, Чаадаев намекает на проекты крестьянской реформы,
обсуждавшиеся в Комитете 6 декабря 1826 г. Одним из основных
разработчиков реформы был M. M. Сперанский, выступавший за «постепенный
переход из крепостных в свободное состояние» (см.: Ружицкая И. В.
Законодательная деятельность в царствование императора Николая I.
С. 40). О взглядах Чаадаева на проблему крепостного права в России см.
комм. 54.
253 Чаадаев имеет в виду европейские революции и войны: революция
1830 г. во Франции открыла период регулярных волнений в самой
Франции и спровоцировала серию вооруженных выступлений против
Фердинанда VII в Испании; во второй половине 1830 г. вспыхнуло
восстание в Бельгии, 1831 г. был отмечен продолжившимися мятежами в
Польше и Северной Италии.
254 Воззрения Чаадаева и И. В. Киреевского на историю католической и
православной религии были во многом схожи, с той разницей, что
Киреевский видел причину преимущества западной церкви над восточной
в наличии в европейской истории античного периода, а не Средних
веков, как полагал Чаадаев. Киреевский во второй части статьи
«Девятнадцатый век» утверждал, что эффективность политической
деятельности римской католической церкви связана с ее опорой на «устройство
древнего мира» в Средние века: «Известно, что гражданская власть
духовенства в Европе была прямым наследием устройства римского и что
светское правление епископов было устроено по образцам римским,
еще уцелевшим в частях, когда целое уже и разрушилось. <...> ...церковь
в обновленной Европе стала не только источником духовного
образования, но и главою устройства политического. Она была первым звеном
того феодального порядка, который связал в одну систему все
различные государства Европы; на ней утверждена была Святая римская
империя; она была первою стихиею того рыцарства, которое
распространило один нравственный кодекс посреди разнородных политических
отношений; она была единственным узлом между всеми нестройными
элементами и всеми различными народами; она дала один дух всей
Европе, подняла крестовые походы и, быв источником единодушия и
порядка, остановила набеги варваров и положила преграду нашествиям
мусульман». О православной церкви Киреевский в том же тексте писал:
«В России христианская религия была еще чище и святее. Но недостаток
классического мира был причиною тому, что влияние нашей церкви во
времена необразованные не было ни так решительно, ни так
всемогуще, как влияние церкви римской. Последняя как центр политического
устройства возбудила одну душу в различных телах и создала таким
образом ту крепкую связь христианского мира, которая спасла его от
нашествий иноверцев, — у нас сила эта была не столь ощутительна, ни
столь всемогуща...» (Европеец. С. 309).
А. X. Бенкендорф писал министру народного просвещения кн. К А. Ли-
вену 7 февраля 1832 г.: «Государь Император, прочитав в № 1
издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием "Европеец"
статью Девятнадцатый век, изволил обратить на оную особое Свое
внимание. Его Величество изволил найти, что все статьи сии есть не что
иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной
сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. — Но
стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что
сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под
словом просвещение он понимает свободу, что деятельность разума
означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что
иное, как конституция» (Лемке, 73; курсив автора).
И. В. Киреевский в начале статьи «Девятнадцатый век», вышедшей в
первом номере «Европейца», строго разграничил «политику», о которой
он не говорит, и «литературу, общество, борьбу религиозных партий,
волнения философских мнений», т. е. «целый нравственный быт
просвещенной Европы». В финале статьи он замечал: «...главный характер
Комментарии
755
просвещения в Европе был прежде попеременно поэтический,
исторический, художественный, философический и только в наше время мог
образоваться чисто практическим. Человек нашего времени уже не
смотрит на жизнь как на простое условие развития духовного, но видит
в ней вместе и средство и цель бытия, вершину и корень всех отраслей
умственного и сердечного просвещения» (Европеец. С. 5, 19; курсив
автора). Отрицая наличие политических идей в сочинении Киреевского,
Чаадаев следовал логике защиты издателя «Европейца», предложенной
В. А. Жуковским в письмах к Бенкендорфу и Николаю I. Вместе с тем,
разбирая общее направление современного ему европейского общества,
Киреевский различал в нем элементы сразу нескольких эпох, в том числе и
времени Великой французской революции, толковал понятия «свобода»,
«разум», «человечество», что в частности и послужило поводом к оценке
его статьи как «политически неблагонадежной» со стороны Николая I.
257 О покорности русского народа его властителям подробнее см. в
«Апологии безумного».
258 Чаадаев писал о выключении России из европейского (=католического)
умственного процесса в первом и пятом «Философических письмах» и
«Апологии безумного».
259 И. В. Киреевский в первой части статьи «Девятнадцатый век» рассуждал о
«разрушительном» «направлении умов» в европейском XVIII в.: «Религия
пала вместе с злоупотреблениями оной, и ее место заступило
легкомысленное неверие. В науках признавалось истинным одно ощутительно
испытанное, и все сверхчувственное отвергалось не только как
недоказанное, но даже как невозможное. Изящные искусства от подражания
классическим образцам обратились к подражанию внешней
неодушевленной природе. Тон общества от изысканной искусственности
перешел к необразованной естественности. В философии господствовал
грубый, чувственный материализм. Правила нравственности сведены были
к расчетам непросветленной корысти. <...> ...это направление
разрушительное, которому ясным и кровавым зеркалом может служить
французская революция...» (Европеец. С. 10). О негативном мнении Чаадаева о
французской материалистической философии см. комм. 515, 516.
260 Если Чаадаев в своем «ответе» ограничился изложением собственной
(=Киреевского) положительной программы, то видевший ситуацию
изнутри придворного сообщества В. А. Жуковский в своих оправдательных
письмах к Бенкендорфу и Николаю I подробно останавливался на
интерпретации «клеветы», содержащейся в доносе на Киреевского и ставшей
поводом к запрещению его журнала: «Нет строки, сколь бы она просто
ни была написана, которой бы нельзя было истолковать самым
гибельным образом, если вместо слов, употребленных автором, выдумать
другие и, предположив в авторе дурное намерение, заставить его говорить
не то, что думал он, а то, что заставляешь его думать. <...> Это и сделано
со статьею Киреевского» (черновое письмо к Бенкендорфу (1832):
Русский архив. 1896. № 1. С. 114); «На дурные поступки его никто указать
не может, их не было и нет; но уже на первом шагу дорога его кончена.
Для Вас он не только чужой, но вредный. Одной благости Вашей должно
приписать только то, что его не постигло никакое наказание. Но
главное несчастие совершилось: Государь, представитель закона,
следственно сам закон, наименовал его уже виновным. На что же послужили ему
двадцать пять лет непорочной жизни? И на что может вообще служить
непорочная жизнь, если она в минуту может быть опрокинута клеветой?»
(черновое письмо к Николаю I (1832): Там же. С. 119). Аргументы
Жуковского основывались на его уверенности, что «самый верный хранитель
общественного порядка есть не полиция, не шпионство, а
нравственность правительства» (из письма к А. И. Тургеневу от 4 декабря 1827 г.:
Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
С. 233). См. также письмо П. А. Вяземского Бенкендорфу по поводу
запрещения «Европейца» и письмо А. С. Пушкина И. И. Дмитриеву от
14 февраля 1832 г.: Гиллельсон М. И. Судьба «Европейца». С. 128-134.
В. А. Жуковский в черновом «оправдательном» письме к Николаю I о
запрещении «Европейца» Киреевского писал: «он [И. В. Киреевский. —
М. В.] не касается до политики (о чем именно говорит в начале статьи),
и его собственные мнения решительно антиреволюционные; об
остальном же говорит он просто исторически. В некоторых местах он темен,
но это без намерения, а единственно от того, что не умел выразиться
яснее, что не только весьма трудно, но и почти неизбежно на Русском
языке, в котором так мало терминов философических. <...> Сии места,
вырванные из связи целого, могли быть изъяснены неблагоприятным
образом, особливо если представить их в смысле политическом; но
прочтенные в связи с прочим, они совершенно невинны» (Русский
архив. 1896. № 1. С. 117).
С 1832 по 1845 г. Киреевский лишь дважды выступал в печати со
статьями: «О стихотворениях г. Языкова» (Телескоп. 1834. № 3,4) и «О русских
писательницах. (Письмо к А. П. Зонтаг)» (в одесском альманахе
«Подарок бедным на 1834 г.» (1834).
Комментарии
757
Допрос Чаадаева в 1826 году
Впервые (с большим количеством неточностей): Н. Д. [Николай
Дубровин?] Петр Яковлевич Чаадаев (материалы для его биографии) // Русская
старина. 1900. Т. 104. С. 583-588. Печатается по полному,
исправленному в соответствии с оригинальной рукописью варианту: Шаховской Д И.
П. Я. Чаадаев на пути в Россию в 1826 году // Литературное наследство.
Т. 19-21. М., 1935. С. 20-24. Примечание Д. И. Шаховского: «Писан
собственноручно Чаадаевым на больших листах, перегнутых пополам вдоль. С
левой стороны перегиба текст вопросов, без этого наименования, с правой
стороны — ответы. Текст всякого нового вопроса пишется, начиная против
того места, где закончен текст предыдущего ответа» (Там же. С. 20). По
мнению Шаховского, допрос производился не столько П. А. Колзаковым (как
это указано в тексте допроса), сколько неким приближенным к
Константину Павловичу человеком (Там же. С. 30; заметим, однако, что Колзаков,
с 1811 г. находившийся при Константине Павловиче, несомненно, являлся
доверенным лицом великого князя).
В «дело о учреждении тайного надзора за ротмистром лейб-гвардии
гусарского полка Чаадаевым» также входят:
1) рапорт Константина Павловича императору Николаю I от 7 июля
1826 г. из Брест-Литовска, где Константин Павлович сообщал брату о
приезде в Брест-Литовск Чаадаева и добавлял: «...в бытность мою прошлого года
в Карлсбаде, я видел там сего ротмистра Чаадаева и знал, что он жил в
больших связях с тремя братьями Тургеневыми, а наиболее из них так сказать
душа в душу с Николаем Тургеневым». Далее Константин упоминал об
обстоятельствах отставки Чаадаева, замечая, что «его императорское величество
[Александр I. — М. В.] изволил отзываться о сем офицере весьма с
невыгодной стороны» (Там же. С. 16, см. также выдержку из дневника А. И. Тургенева
о встрече с Константином Павловичем в Карлсбаде: Там же. С. 28).
2) письмо И. И. Дибича московскому военному генерал-губернатору
Д. В. Голицыну от 14 июля 1826 г., из Петербурга: «Государь император
высочайше повелеть соизволил, чтобы ваше сиятельство имели за ним
г. Чаадаевым бдительнейший присмотр и буде малейше окажется он
подозрительным, то приказали бы его арестовать». Основная причина такого
распоряжения: «короткое знакомство с преступником Николаем
Тургеневым» (Там же. С. 17).
3) рапорт Константина Павловича Николаю I от 21 июля 1826 г., из
Варшавы. Цесаревич писал, что встретил Чаадаева в Варшаве, где тот задержал-
758
ся «по приключившейся ему легкой болезни», «но ничего такого против его
не предпринимал, что бы могло подать ему мысль, что его подозревают,
а только учрежден был за ним один секретный надзор, по коему ничего
особенного в поступках его подозрительного не оказалось». В Бресте же
при обыске были найдены у Чаадаева «разные непозволенные книги и
подозрительные бумаги», так что изъятые у Чаадаева документы представили
Константину Павловичу, а самого Чаадаева оставили под надзором в Бресте
(далее Константин приводит сведения о декабристских и масонских связях
Чаадаева, отраженные затем в вопросных пунктах). Константин решил «не
выпущать» Чаадаева из Бреста-Литовского до получения специального
распоряжения из Петербурга (Там же. С. 17-18; см. также: Сборник
Императорского Русского Исторического Общества. Т. 31. СПб., 1910. С. 88).
4) рапорт Дибича Константину Павловичу от 11 августа 1826 г., из
Москвы. Изъявляя императорскую благодарность за действия цесаревича,
Дибич передавал ему высочайшую волю: допросить Чаадаева на предмет
изъятых у него бумаг (Шаховской Д. И. П. Я. Чаадаев на пути в Россию в
1826 году. С. 18).
5) рапорт Дибича Константину Павловичу от 23 августа 1826 г., из
Москвы: «Ныне государь император высочайше повелеть мне соизволил
просить покорнейше ваше высочество приказать объявить Чаадаеву, что хотя
из найденных при нем бумаг видно, что он имел самый непозволительный
образ мыслей и был в тесной связи с действовавшими членами
злоумышленников, за что подвергался бы строжайшему взысканию, но его величество,
надеясь, что он изъявит чистосердечное в заблуждении своем раскаяние,
видя ужасные последствия подобных связей, изволил предоставить
особенному благоусмотрению вашего императорского высочества, освободить ли
Чаадаева от всяких других взысканий, с тем, что изволит ожидать, что он,
почувствуя в полной мере заблуждения свои, будет мыслить и поступать как
следует верноподданному» (Там же. С. 19).
6) рапорт Константина Павловича Николаю Гот 1 сентября 1826 г., из
Варшавы. Константин Павлович пересылал императору текст допроса и
подписки Чаадаева, которому была объявлена «высочайшая воля» и
разрешено покинуть Брест-Литовск и отправиться в Россию (Там же. С. 19-20).
Чаадаев выехал из Карлсбада 8/20 сентября 1825 г. вместе с Н. И.
Тургеневым (Там же. С. 26). Как отметил Д. И. Шаховской, Великий князь
Константин Павлович был «и активным возбудителем дела против Чаадаева,
и... главным виновником его сравнительно благополучного разрешения»
(Там же. С. 27; о причинах подобной политики Константина Павловича,
Комментарии
759
связанной с динамикой династического кризиса 1825-1826 гг. см.: Там же.
С. 29-30).
В 1958 г. Б. М. Фих опубликовал выдержки из архивного дела,
отложившегося в филиале РГИА БССР в Гродно, — «Об установлении полицейского
надзора за отставным ротмистром Чаадаевым Петром, возвращающимся
из Дрездена в Москву» {Фих Б. М. П. Я. Чаадаев в Бресте // История СССР.
1958. № 1. С. 177). Так, 19 июня 1826 г. брестский городничий направил
гродненскому гражданскому губернатору М. Г. Бобятинскому рапорт, в
котором сообщал, что брестской пограничной почтовой конторой по
приказанию цесаревича Константина отобраны у задержанного на границе
«возвращающегося из Дрездена в Москву отставного лейб-гвардии гусарского
полка Петра Чаадаева» письма, бумаги на «разных диалектах» и масонский
рескрипт на имя Чаадаева. «Из таковых бумаг... ясно видеть можно
возмутительные сочинения, устремленные противу нашего отечества». Кроме
писем и бумаг, у Чаадаева была изъята 71 запрещенная книга. Городничий
докладывал губернатору, что по приказу цесаревича Константина Павловича
за Чаадаевым был установлен строжайший секретный полицейский надзор.
В ответ на этот рапорт губернатор потребовал от брестского городничего
принятия мер, «дабы г. Чаадаев не мог скрыться из распространенного над
ним со стороны вашей полицейского надзора». Новый рапорт городничего
губернатору датирован 26 июня 1826 г. Он докладывал, что дежурный
генерал главного штаба Константина Павловича передал ему приказ «иметь за
Чаадаевым секретное наблюдение и не разрешать ему ни под каким
предлогом выезжать из Бреста без особенного на то его высочества
разрешения». Уже 26 августа 1826 г. начальник гродненского округа доносил
губернатору, что при таможенном просмотре бумаг и писем Чаадаева среди
них оказались запрещенные к ввозу в Россию книги на французском языке:
1) «История французской революции» Ф.-О. Минье; 2) Сочинения Бенжаме-
на Констана. Только 2 сентября 1826 г. Константин Павлович отдал приказ
о разрешении Чаадаеву отправиться дальше, и 4 сентября 1826 г., пробыв
около двух месяцев под строгим полицейским надзором в Бресте, Чаадаев
уехал в Москву. В Москве, как следует из дела «По высочайшему
повелению о бдительнейшем надзоре за ротмистром Чаадаевым» в канцелярии
московского генерал-губернатора Д. В. Голицына, Чаадаев останавливался
в гостинице Лейба, а 4 октября 1826 г. уехал в Алексеевское, имение своей
тетки А. М. Щербатовой {Шаховской Д. И. П. Я. Чаадаев на пути в Россию в
1826 году. С. 32; одновременно обыску подвергли также М. Я. Чаадаева (Гер-
шензон 1908, 59. Описание встречи Чаадаева с Великим князем Констан-
760
тином Павловичем в Бресте см. также: Жихарев, 84). Уже в Алексеевском
Чаадаева навестил дмитровский исправник. В канцелярии Д. В. Голицына
предполагали, что Чаадаев, покинув Москву, отправится в Дмитров. О
приезде Чаадаева сообщили дмитровскому городничему, однако тот отвечал,
что в подотчетном ему городе отставной ротмистр не появлялся. Тогда
Голицын поручил дмитровскому исправнику найти Чаадаева в уезде.
Исправник доносил в Москву в ноябре 1826 г.: «И по тому предписанию Вашего
Сиятельства о узнании о месте пребывания г. Чаодаева почел за
непременную обязанность тотчас отправиться в вверенной управлению моему уезд,
и нашел сего ротмистра Петра Яковлева Чаодаева, находившимся в доме у
его тетки, в сельце Алексеевском княжны Щербатовой, в коем Чаодаеве, я
с своей стороны видя в первый еще случай, никакого замечания не
предвижу. А о дальнем последствии при настоящем наблюдении не примину
тогда ж донести Вашему Сиятельству» (см.: ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 31. Ед. хр. 210.
Л. 5-10).
263 Имеется в виду капитан-командор Гвардейского Экипажа Павел
Андреевич Колзаков (1779-1864), находившейся (с 1811 г.) при цесаревиче,
Великом князе Константине Павловиче, в будущем адмирал (с 1843 г.) и
дежурный генерал Главного Морского Штаба, участник войны 1812 г. и
европейских походов русской армии 1813-1814 гг.
264 О трактовках отставки Чаадаева см.: Проскурина, 606, а также
вступительную статью к настоящему тому.
265 Одновременно, в письме к тетке А. М. Щербатовой от 2 января 1821 г.,
Чаадаев, сообщая о том, что он подал в отставку, добавлял: «Самое
большое через два месяца я увижусь с вами. Брат и я обоснуемся на
некоторое время в Москве, я до тех пор, пока не представится возможность
удалиться в Швейцарию, где я думаю обосноваться навсегда, а брат до
переезда на житье в свое имение. <...> моей страной будет Швейцария...
Мне невозможно оставаться в России по многим основаниям...» (Гер-
шензон. Т. 2, 54; оригинал по-фр.: Гершензон. Т. 1,4).
266 Тургенев Николай Иванович (1789-1871) — брат Анд. И., Алекс. И. и
С. И. Тургеневых, один из ближайших друзей Чаадаева. Верховный
уголовный суд по делу декабристов приговорил Тургенева к смертной
казни, замененной Николаем I пожизненной каторгой, которой Тургенев
избежал, поскольку жил политическим эмигрантом в Англии. Якушкин
Иван Дмитриевич (1793-1857) — отставной капитан, один из
основателей Союза спасения, член Союза благоденствия (см. комментарии к
Комментарии
761
письмам Чаадаева к Якушкину в наст. изд.). Трубецкой Сергей Петрович
(1790-1860) — полковник, член Союза спасения, Союза благоденствия,
один из руководителей Северного общества. Муравьев-Апостол Матвей
Иванович (1793-1886) — отставной подполковник, один из
основателей Союза спасения, член Союза благоденствия, Южного общества,
участник восстания Черниговского полка. Муравьев-Апостол Сергей
Иванович (1795-1826) — подполковник Черниговского пехотного
полка, один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, член
Южного общества, руководитель восстания Черниговского полка.
Муравьев Никита Михайлович (1795-1843) — капитан Гвардейского
генерального штаба, один из основателей Союза спасения, член Союза
благоденствия, член Верховной думы Северного общества, публицист,
автор декабристской конституции.
Во время одной из встреч Якушкин пытался принять Чаадаева в тайное
общество: «...мне [И. Д. Якушкину. — М. В.] поручено было принять Пас-
сека и Петра Чаадаева... Когда Чаадаев приехал в Москву, я предложил
ему вступить в наше Общество; он на это согласился, но сказал мне, что
напрасно я не принял его прежде, тогда он не вышел бы в отставку и
постарался бы попасть в адъютанты к Великому князю Николаю
Павловичу, который, очень может быть, покровительствовал бы под рукой
Тайное общество, если бы ему внушить, что это Общество может быть
для него опорой в случае восшествия на престол старшего брата»
(Якушкин И. Д. Записки // Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина.
М., 1951. С. 46). Ф. И. Берелевич в специальной работе
аргументировала, что Чаадаев не был членом Союза Благоденствия: Берелевич Ф. К
Был ли П. Я. Чаадаев членом Союза Благоденствия // Тюменский
государственный педагогический институт. Ученые записки. Т. XV. Кафедра
истории. Вып. 3. Тюмень, 1962. С. 66-75.
В 1825 г. Н. И. Тургенев написал к Чаадаеву как минимум пять писем
(Гершензон. Т. 1, 351-359; Проскурина, 607).
Письмо Н. И. Тургенева к Чаадаеву от 14/26 февраля 1825 г.
опубликовано в: Гершензон. Т. 1, 351-353; цитируемый фрагмент: С. 352).
«Видах» написано вместо зачеркнутого «намерениях» — примечание
публикатора.
Д. И. Шаховской считал, что речь шла об одном стихотворении
Пушкина — «Кинжал» (1821) (Шаховской Д. И. П. Я. Чаадаев на пути в Россию в
1826 году. С. 30). Чаадаев получил его от Ф. А. Щербатова, брата Е. А. Свер-
беевой (см.: «Князь Феодор (Ф. А. Щербатов) возвестил мне скорый
приезд в Берн Чаадаева, своего родственника и мне когда-то знакомого,
и своими разговорами о России дал мне первое понятие о
нерасположении к правительству всей военной молодежи, о неистовствах
Аракчеева, о мистической апатии императора Александра и т. д.» (Записки
Дмитрия Николаевича Свербеева. (1799-1826). Т. И. М, 1899. С. 235).
Речь идет о письме Чарльза Кука Томасу Мариотту от 31 января 1825 г.
из Флоренции: «Милостивый Государь. Позвольте мне рекомендовать
вашему знакомству и дружескому вниманию, во время пребывания его
в Лондоне, г-на П. Чаадаева, который намерен посетить Англию с целью
изучить причины нашего морального благополучия и возможность
применить оные к его родине, России» (Гершензон. Т. 2, 311; пер. с англ.
Г. А. Рачинского; англ. оригинал см.: Гершензон. Т. 1, 366). Об английском
миссионере и представителе секты медотистов Чарльзе Куке и его
взглядах подробнее см.: Тарасов Б. Н. Чаадаев. М., 1986. С. 111-112.
Масонские ложи были запрещены императорским именным указом
Управляющему Министерством внутренних дел, графу В. П. Кочубею,
данным 1 августа 1822 г. (указ назывался: «О уничтожении Масонских лож и
всяких тайных обществ» (Полное собрание законов Российской Империи,
с 1649 года. Т. XXXVIII: 1822-1823. СПб, 1830. С. 579). Кроме того, все
члены тайных обществ обязаны были дать подписку о том, что они «впредь
ни под каким видом ни Масонских, ни других тайных обществ, под каким
бы благовидным названием, они ни были предлагаемы, ни внутри
Империи, ни вне ее составлять не будут» (Там же. С. 580). Государственные
чиновники обязаны были открыть начальству, принадлежали ли они
прежде к каким-либо тайным обществам, и дать обязательство (под угрозой
увольнения), что принадлежать в будущем не будут (Там же).
Как отмечает В. Ю. Проскурина, «Чаадаев здесь склонен сильно
преуменьшить и свою связь с декабристами... и свою принадлежность к
масонству». Так, в 1826 г. Чаадаев носил знак 8 степени «Тайных белых
братьев ложи Иоанна» (Проскурина, 607). Д. И. Шаховской заметил, что
«во главе списка масонов, объявивших о своей прежней
принадлежности к масонству и давших обязательство впредь не участвовать в
масонских ложах, стоял и сам Константин Павлович» (П. Я. Чаадаев на пути в
Россию в 1826 году. С. 30-31). В ложу «Соединенных братьев» наряду с
Чаадаевым (числился в пятой степени) входили также А. С. Грибоедов,
Пестель, А. X. Бенкендорф (Там же. С. 31).
Чаадаев ссылается на указ Александра I от 1 августа 1822 г. о закрытии
масонских лож в России. Ложа «Соединенных друзей» (Amis réunis), к
Комментарии
763
которой принадлежал Чаадаев, с марта 1817 г. работала в союзе Дирек-
торальной ложи Астрея, а в 1819 г. «временно бездействовала», закрыта
в 1822 г. (Серков А И. Русское масонство 1731-2000.
Энциклопедический словарь. М, 2001. С. 1091).
276 Д. И. Шаховской отметил: «утверждение, будто "Ложа белых братьев
принадлежала к обыкновенному масонству, в России принятому",
неверно. Принятое тогда в России официальное масонство
ограничивалось шестью степенями». По предположению В. И. Семевского, речь шла
о шведском масонстве (Шаховской Д. И. П. Я. Чаадаев на пути в Россию
в 1826 году. С. 31).
277 Текст речи не известен. Д И. Шаховской назвал ответ Чаадаева на 19 пункт
«наиболее рискованным и далеким от истины» (Там же. С. 31-32).
Подписка Чаадаева в 1826 году
278 Впервые опубликовано и печатается по: Шаховской Д. И. П. Я. Чаадаев
на пути в Россию в 1826 году. С. 24.
ПИСЬМА
Письма представляют из себя наименее изученную и
документированную часть корпуса текстов Чаадаева. Значительное число писем Чаадаева
до сих пор не введено в научный оборот (в частности, В. А. Мильчиной и
А. Л. Осповатом готовится к изданию неопубликованная переписка
Чаадаева и А. И. Тургенева: Мильчина Я, Осповат А Неопубликованное письмо
Чаадаева // Собрание сочинений. К шестидесятилетию Льва Иосифовича
Соболева. М., 2006. С. 360). Среди российских и советских публикаторов
чаадаевского эпистолярия лишь М. О. Гершензон (в двухтомном собрании
1913-19Н гг.) и Д. И. Шаховской (например, при публикации писем
Чаадаева к И. Д. Якушкину в пятом томе сборника «Звенья» (1935) сочли нужным
опубликовать французские оригиналы писем Чаадаева. Особо в данном
контексте следует выделить парижское издание писем и сочинений
Чаадаева «Œuvres inédites ou rares» (1990), осуществленное Р. Макналли, Ф. Руло
и Р. Темпестом. Наибольшее недоумение вызывают эдиционные принципы,
легшие в основу публикации писем Чаадаева во втором томе
академического издания его сочинений (М., 1991). Вероятно, на основании того, что
764
«оригиналы большинства писем Чаадаева утрачены» (из комментаторской
преамбулы В. В. Сапова в: ПССиИП. Т. 2, 285), в том были включены
подлинники лишь русскоязычных писем, при том что подавляющая часть
его эпистолярного корпуса, созданная на французском языке, осталась за
пределами данного издания (читатели имеют возможность ознакомиться
только с позднейшими переводами на русский язык этой части Чаадаев-
ской корреспонденции). Стремление во что бы то ни стало датировать
письма Чаадаева (Сапов мотивирует это так: «как показал опыт изданий
сочинений и писем Чаадаева, осуществленный М. О. Гершензоном в 1913—
1914 гг., так называемые письма неизвестных лет выпадают из контекста
творческого наследия мыслителя» (ПССиИП. Т. 2, 287) привело к ошибкам
в определении времени создания того или иного письма порой на 8 лет (!),
как это случилось с письмом Чаадаева к А. И. Тургеневу от 31 января 1834 г.,
датированную в ПССиИП (Т. 2,153) 1842 г. (подробнее см:Мильчиш В. А,
Осповат А Л. К изданию писем Чаадаева (критические заметки) //
Седьмые Тыняновские чтения. Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995-1996.
С. 284-285 и далее; Мильчина В. А, Осповат А Л. Чаадаев и маркиз де Кюс-
тин: ответная реплика 1843 г. // Russica Romana. 1994. Vol. I. P. 83-84). Вместе
с тем, упомянутые выше сомнения в правомерности данного подхода к
академическому изданию писем Чаадаева отвергаются следующим
утверждением В. В. Сапова: «В настоящее время неопубликованными остаются немногим
более ста писем Чаадаева. Едва ли публикация этих оставшихся писем сможет
серьезно изменить тот образ Чаадаева — человека и мыслителя, — который
сложился в сознании читателей и исследователей. Существенных открытий
в области чаадаеведения, напротив, следует ожидать на путях углубленного
изучения его творческого наследия» (ПССиИП. Т. 2,287).
В настоящем издании помещены оригиналы и переводы избранных
писем Чаадаева, созданных с 1829 по 1842 г. Подобный хронологический
выбор обусловлен задачами настоящего издания, охватывающего период
творческой активности Чаадаева с конца 1820-х по 1830-е гг. За пределами
тома остались письма Чаадаева начала 1840-х гг., в которых он вступает в
полемику со славянофилами (за исключением письма к Шеллингу 1842 г.),
что также связано с характером данного собрания трудов Чаадаева.
279 Впервые в оригинале: Сочинения Пушкина. Переписка. Т. 2. СПб., 1908.
С. 90-91. Фрагмент русского перевода письма без указания его автора
впервые: Анненков П. В. Материалы для биографии Александра
Сергеевича Пушкина // Сочинения Пушкина. Т. 1. СПб., 1855. С. 88 (Аннен-
Комментарии
765
ков ошибочно предположил, что на это письмо Пушкин отвечал
стихотворением «Ты прав, мой друг — напрасно я презрел» (1822): Там же.
С. 88-89). Впервые полностью по-русски в переводе М. О. Гершензона:
Гершензон 1908,131-133. Оригинальный текст печатается по изданию:
Гершензон. Т. 1,73; русский перевод М. О. Гершензона по: Гершензон, Т.
2,105-106. Датировано Б. Л. Модзалевским (Сочинения Пушкина.
Переписка. Т. 2. С. 90-91, где текст впервые напечатан в оригинале). Зимой
1836 г. Чаадаев, согласно его собственному свидетельству, сжег
большую часть писем к нему Пушкина, когда был подвергнут гонениям в
деле о первом «Философическом письме» (Летописи Государственного
литературного музея. Кн. 1: Пушкин. М., 1936. С. 502). Сохранилось три
письма Пушкина к Чаадаеву (от 2 января 1831 г., 6 июля 1831 г., 19
октября 1836 г.) и пять писем Чаадаева к Пушкину (от марта-апреля 1829 г.,
17 июня 1831 г., 7 июля 1831 г, 18 сентября 1831 г., первой половины мая
1836 г.) (подробнее см. комментарий М. И. Гиллельсона в книге:
Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 267-269). Пушкин и Чаадаев
познакомились в доме Н. М. Карамзина в Царском Селе в середине 1810-х гг.
(см.: Лонгинов М. Воспоминание о П. Я. Чаадаеве // Русский вестник.
1862. № 11. С. 124). Как отмечал А. И. Дельвиг, «Чаадаев был убежден,
что его знакомство с А. С. Пушкиным с того времени, когда последний
был еще в лицее, имело сильное влияние на развитие гения Пушкина,
и потому всегда порицал тех, кто писал о Пушкине, не
посоветовавшись предварительно с ним и в особенности сильно за это нападал
на П. И. Бартенева (впоследствии издателя "Русского архива")»
(Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820-1870. М.; Л.,
МСМХХХ [1930]. Т. 1. С. 220-221; см. об этом письмо Чаадаева к С. П. Ше-
выреву от октября 1854 г.: ПССиИП. Т. 2, 272-273). Подборку скудных
данных о жизни Чаадаева в период «затворничества» (1826-1831) см.:
ПССиИП. Т. 2, 305-306.
Уверенность Чаадаева в особых, «профетических» свойствах поэзии,
делающих ее жизненно необходимой современной ему России,
возможно, связана с трактовкой поэтического творчества в первой части
десятой главы «Опыта об общественных установлениях» П.-С Балланша:
«Поэзия есть первоначальное слово, открытое человеку. Она — история
человека, картина его отношений с Богом, с высшим разумом, с себе
подобными, в прошлом, настоящем, будущем, во времени и вне его.
Поэт возвышается над эпохой, в которой он живет, и наполняет ее
светом...» («La poésie est la parole primitive, révélée à l'homme. Elle est l'histoire
de l'homme, le tableau de ses rapports avec Dieu, avec les intelligences
supérieures, avec ses semblables, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir,
dans le temps et hors du temps. Le poète domine de haut l'époque où il vit,
et l'inonde de lumière...») (Ballanche P. -S. Essai sur les institutions sociales...
P. 310). По мнению Балланша, высокое (в религиозном смысле) качество
поэтической продукции тесно связано с развитием цивилизации:
«Нравственное и религиозное чувство, чувство бесконечного: таково общее
впечатление, которое должна производить всякая поэзия. <...>
Красота... для человека — это изящество, соединенное с силой и благородным
чувством: добродетель, для обоих полов, — это поэзия в действии:
возвышенное в искусствах — одна из наиболее высоких целей гения: вкус,
итог развитой цивилизации, — это чувство приличий и соразмерности»
(«Le sentiment moral, le sentiment religieux, le sentiment de l'infini: telle est
l'impression générale qui doit résulter de toute poésie. <...> La beauté est...
pour l'homme, la grace unie à la force et à un sentiment généreux: la vertu,
pour les deux sexes, est la poésie en action: le sublime, dans les arts, est une
des vues les plus élevées du génie: le goût, résultat d'une civilisation avancée,
est le tact des convenances et des proportions» (Ibid. P. 313).
В. Ю. Проскурина замечает, что речь не могла идти о французском
переводе романа Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (Ivan Wyjighine, ou le
Gilblas russe, traduit du russe par Ferry de Pigny), который вышел в свет
лишь в марте 1829 г. (обратное утверждение см., например: Гершензон.
Т. 1, 367; ПССиИП. Т. 2, 306; Петр Яковлевич Чаадаев: Сб. / Изд.
подготовил Б. Н. Тарасов. М., 2008. С. 639; и др.). Исследователь заключает: «В
таком случае или датировка письма (март-апрель) не верна, или речь
идет не об этом романе. Вероятно, Чаадаев имел в виду другой перевод
Булгарина на французский язык — в "Revue encyclopédique", в
мартовской книге (т. 41, с. 785) говорится о сб.: Archippe Thadeévitch, ou l'Ermite
russe. Tableau des mœurs russes au XIX siècle, par Boulgarine» (Проскурина,
613). Жуй (J°uy) Виктор Жозеф Этьен де (1764-1846), французский
либреттист, драматург, прозаик, журналист, критик, автор серии книг,
составленных из нравоописательных сатирических очерков о парижской
жизни, имевших успех в России («Отшельник с улицы Шоссе д'Антен,
или Нравы и обычаи парижан в начале XIX столетия» («L'Hermite de
la Chaussée d'Antin ou observations sur les moeurs et usages parisiens au
commencement du XIX siècle» (т. 1-2,1813-1814), «Отшельник в Гвиане»
(«L'Hermite de la Guyane», т. 1-3,1816-1817), «Отшельник в провинции»
(«L'Hermite en province», т. 1-14,1818-1827).
Комментарии
767
282 Большое количество откликов на произведения Пушкина в 1828 г.
появилось в журнале «Revue encyclopédique», основанном в 1819 г.
М.-А. Жюльеном де Пари и известным своим вниманием к русской
литературе (через посредство секретаря его редакции Э.-Ж Эро
(Проскурина, 614; подробнее см.: Французские корреспонденты А. И. Тургенева
(М.-А. Жюльен, Э. Эро, П.-С. Балланш, Ф. Экштейн) / Публикация П. Р. За-
борова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год.
Л., 1978. С. 259-260, 262-266). В. В. Сапов, наоборот, предполагает,
что речь идет о выходивших в России изданиях, например «Bulletin du
Nord» гр. Ж. де Лаво (выпускался в 1828-1829 гг.). Подробнее о
франкоязычных рецензиях на произведения Пушкина см.: Пушкин в
прижизненной критике. 1828-1830. СПб., 2001. С. 40, 344. Одним из главных
пропагандистов творчества Пушкина во Франции был С. Д.
Полторацкий, который и помещал сведения о Пушкине, в частности, в «Revue
encyclopédique». По предположению В. В. Крамера, именно в 1828-
1829 гг. Полторацкий и французский переводчик «Бахчисарайского
фонтана» Ж М. Шопен планировали издать переводы на французский
язык «Цыган», «Кавказского пленника» и «Евгения Онегина», однако при
жизни Пушкина этот замысел не осуществился (подробнее см.:
Крамер В. В. Из истории ранних французских переводов Пушкина //
Временник Пушкинской комиссии, 1972. Л., 1974. С. 115-117).
283 Гулъянов Иван Александрович (1789-1841) — дипломат, египтолог,
полемизировавший с Ж Шомпольоном по поводу расшифровки
египетских иероглифов, корреспондент, приятель и заимодавец Чаадаева. Фон
Клапрот (Klaproth) Генрих-Юлий (1783-1835) — немецкий
ориенталист, корреспондент Гульянова, с которым они познакомились около
1827 г. См.: комментарий В. И. Саитова в: Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3 (Примечания). СПб., 1908. С. 374-375; Куликова А М.
И. А. Гульянов и его научно-литературные связи // Формирование
гуманистических традиций отечественного востоковедения. М., 1984.
С. 145-169; электронная версия: http://egyptology.edu.mhost.ru/history/
Gulianov.pdf. На данный момент известны два письма Чаадаева к Гулья-
нову - от 1832 г. (см.: ПССиИП. Т. 2,74).
284 См., например: «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей!»
(Псалтирь, 60, 2-5).
285 Речь идет о книге Ж. П. Ф. Ансильона «Размышления о человеке, его
связях и интересах» («Pensées sur l'homme, ses rapports et ses intérêts»)
(T. 1-2. Berlin, 1829) (Гершензон. T. 1, 367). Книга, содержащая много-
768
численные пометы Чаадаева, сохранилась в библиотеке Пушкина, см.:
Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 139-141.
286 «Если вашему должнику трудно заплатить, дайте ему срок, а если
хотите сделать еще лучше, отпустите ему долг его. О, если бы вы знали!»
(Сура II, 280).
287 Впервые в оригинале и русском переводе М. И. Жихарева: Русский
архив. 1881. Кн. 1 (2). С. 429-430. Оригинальный текст письма
печатается по: Гершензон. Т. 1, 161-162 (М. О. Гершензон воспроизвел
французский текст письма по: Сочинения Пушкина. Переписка. Т. 2.
С. 253; текст, опубликованный В. И. Саитовым, соответствует публикации
в «Русском архиве»); русский перевод Г. А. Рачинского по: Гершензон.
Т. 2, 176-177. Ответ Пушкина на это письмо от 6 июля 1831 г. см.
настоящее издание, с. 491-493.
288 Пушкин уехал из Москвы в середине мая 1831 г. и увез с собой рукописи
шестого и седьмого «Философических писем» для напечатания в
Петербурге у издателя и книгопродавца Фердинанда Беллизара (Bellizard,
1798-1863, в конце 1820-х гг. и далее — содержатель книжного магазина
в доме Голландской церкви на Невском проспекте в Петербурге,
издатель журналов «Revue Etrangère» и «Journal de St. Pétersbourg»), Согласно
сведениям П. И. Бартенева, Пушкин имел при себе и рукопись первого
«Философического письма» (Летописи Государственного
литературного музея. Кн. 1: Пушкин. М., 1936. С. 502). И. А. Шляпкин так
комментировал наличие у Пушкина рукописи первого «Философического письма»:
«...хотя первое письмо Чаадаева (написано в 1829) было в руках
Пушкина в июне 1831 года, но оно могло быть совершенно не в той редакции,
которая напечатана в Телескопе 1836 года» (Шляпкин К А. Из
неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. 281). Впервые Пушкин прочел в
рукописи первое «Философическое письмо» во второй половине июня
1830 г. в Москве (тогда же он познакомил с «письмом» Чаадаева М. П.
Погодина) (Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 3. М.,
1999. С. 212).
289 Сводку данных о контактах Пушкина и Чаадаева см.: Иерейский Л. А.
Пушкин и его окружение. Изд. 2. С. 483-484.
290 Чаадаев прервал свое затворничество в первой половине 1831 г. Согласно
М. И. Жихареву, выезду Чаадаева в свет способствовал профессор
Московского университета А. А. Альфонский, отвезший его в Английский
клуб: «Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще
вниманием, он стал скоро и заметно поправляться...» (Жихарев, 85).
Комментарии
769
А. И. Тургенев писал Н. И. Тургеневу 10 июля 1831 г. о Чаадаеве: «Он
ежедневно в Английском] клобе; обедать там не решается, а только
проводит вечер», в письме от 26 сентября Тургенев уже отмечал, что Чаадаев
обедает в Английском клубе (Тургенев А И. Политическая проза. М., 1989.
С. 157; см. также: Гершензон 1908,111-112). См. также письмо П. А.
Вяземского Пушкину от 14 июля 1831 г.: «Чадаев выезжает: мне все кажется,
что он немного тронулся. Мы стараемся приголубить его и ухаживаем
за ним» (Пушкин А С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. М.; Л.,
1941. С. 190). H. M. Карамзин так характеризовал московский
Английский клуб в «Записке о Московских достопримечательностях» (1818):
«Надобно ехать в Английский Ююб, чтобы узнать общее мнение...» (цит.
по: Карамзин К М. Записки старого московского жителя. Избранная
проза. М., 1986. С. 321; впервые в авторской редакции в 1820 г.). Историю
московского Английского клуба кратко описал в «Обозрении Москвы»
(кн. 1-3, написано во второй половине 1810-х гг. — 1826 г., полностью
опубликовано в 1992 г.; кн. 1. опубликована в 1820 г.) А. Ф. Малиновский:
«В Москве из русских дворян, нескольких купцов и малого числа
иностранцев составился в 1790 году клуб, Английским называемый. При
самом заведении клуб помещался на Знаменке, в том самом доме, где был
сгоревший театр; быв на три года уничтожен, переместился после того
на Петровку в огромный дом князя Гагарина. В 1813 году члены
собрались в уцелевший от пожара дом г. Бенкендорфа на Петровском
бульваре, а ныне около десяти лет [клуб] занимает на Дмитровке дом генерал-
майора Муравьева. Он открыт ежедневно до полуночи, всегда бывают
ужины; но обеды только по середам и субботам. Число членов не
превышает шестисот; но сверх того допускаются и посетители. <...> Занятие
большей части членов состоит в карточной игре, иные проводят время
в биллиардных и немногие приезжают затем, чтобы пользоваться в
газетной комнате разными журналами. <...> Кроме российских журналов
и газет, Английский клуб выписывает много и иностранных на
французском, немецком и английском языках, чем удовлетворяет
любопытству членов, литераторов и политиков» (Малиновский А Ф. Обозрение
Москвы. М, 1992. С. 161-162; кн. 3, гл. VIII). С 22 апреля 1831 г.
Английский клуб помещался в каменном доме на Тверской улице, построенном
для А. М. Хераскова, а с 1807 г. принадлежавшем графине Разумовской.
Согласно П. И. Бартеневу, «Чаадаев в клубе не играл в карты, а
постоянно был центром кружка людей, обсуждавших тогдашние дела» (К
истории московского Английского клуба // Русский архив. 1889. № 5. С. 85).
770
О Чаадаеве и Английском клубе см. также: Петр Яковлевич Чаадаев: Сб. /
Изд. подготовил Б. Н. Тарасов. М., 2008. С. 701-704.
291 Пушкин обедал в Английском клубе, например, 9 мая 1831 г. (Летопись
жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 3. М., 1999. С. 333).
292 Впервые в оригинале и русском переводе М. И. Жихарева: Русский
архив. 1881. Кн. 1 (2). С. 430-431. Оригинальный текст письма печатается
по: Гершензон. Т. 1,162 (М. О. Гершензон воспроизвел текст письма по:
Сочинения Пушкина. Переписка. Т. 2. С. 269-270; текст,
опубликованный В. И. Саитовым, соответствует публикации в «Русском архиве»);
русский перевод Г. А. Рачинского по: Гершензон. Т. 2, 177. Отправлено до
получения письма Пушкина от 6 июля 1831 г.
293 Рукопись шестого и седьмого «Философических писем» оставалась у
Пушкина до конца августа 1831 г. Об этой рукописи см. письмо
Пушкина к П. А. Вяземскому от 3 августа 1831 г. 23 августа В. А. Жуковский
писал А. И. Тургеневу: «Манускрипт Чаадаева он (А. С. Пушкин. —М.В.)
давал мне читать и взял его у меня, чтобы отправить к Чаадаеву.
Вероятно, он уже и получен» (Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу
Тургеневу. М., 1895. С. 258).
294 А. С. и Н. Н. Пушкины переехали в Царское Село 25 мая 1831 г. 19 июня
того же года Петербург был оцеплен карантином по случаю холеры.
В тот же день петербургский житель А. В. Никитенко записал в своем
дневнике: «наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в
Петербурге. <...> Город в тоске. Почти все сообщения прерваны»
{Никитенко А В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 106-107). Первое официальное
известие о холере в «Московских ведомостях» было обнародовано 27 июня
1831 г. (№ 51. С. 2231. Сообщение от Санкт-Петербургского военного
генерал-губернатора от 17 июня: «По всем дорогам, ведущим из мест
зараженных и сомнительных (равномерно и в Кронштат), учреждены
карантинные заставы; все вещи, посылки и письма, оттуда получаемые,
подвергнуты рачительной окурке...»). По свидетельству Никитенко,
холера «почти прошла» в Петербурге к 30 июля 1831 г. {Никитенко А. В.
Дневник. Т. 1.С. 109).
295 Впервые в оригинале и русском переводе М. И. Жихарева: Русский
архив. 1881. Кн. 1 (2). С. 431-438. Оригинальный текст печатается по:
Гершензон. Т. 1,162-166 (Гершензон воспроизвел оригинальный текст по:
Сочинения Пушкина. Переписка. Т. 2. С. 324-328; текст,
опубликованный В. И. Саитовым, соответствует публикации в «Русском архиве»);
русский перевод Г. А. Рачинского по: Гершензон. Т. 2, 178-182. Почтовый
Комментарии
111
штемпель на письме: «Москва, сентября 28». Ответ на письмо Пушкина
от 6 июля 1831 г.
Источником информации Чаадаева о конце холерного карантина мог
быть упомянутый в письме П. В. Нащокин, которому Пушкин писал
29 июля 1831 г.: «У нас все, слава богу, тихо; бунты петербургские
прекратились; холера также». Тот же Нащокин должен был передать
Чаадаеву, что его «посылку... не приняли на почте» {Пушкин А С. Полное
собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. М.; Л., 1941. С. 200; о посылке Пушкин
писал Нащокину еше 21 июля 1831 г., речь идет, по-видимому, о шестом
и седьмом «Философических письмах»: Летопись жизни и творчества
Александра Пушкина. Т. 3. М., 1999. С. 363; посылку не приняли на
почте из-за холерного карантина: см. письмо Пушкина к П. А. Вяземскому
в Москву из Царского Села от 3 августа 1831 г.: «Скажи ему [П. Я.
Чаадаеву. — М. Я], что его рукопись я пытался-было переслать к нему, но
на почте посылок еще не принимают, извини меня перед ним»
{Пушкин А С Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. С. 204 ). 18 августа
1831 г. посылка еще не была получена в Москве. Нащокин писал
Пушкину в этот день: «Послал ли Чедаеву посылку, я его всякий день вижу, но не
как не решусь подойти, я об нем такого высокого мнения, что не знаю,
как спросить или чем начать разговор — он ныне пустился в люди —
всякий день в клобе...» {Шляпкин И. А Из неизданных бумаг А. С. Пушкина.
С. 150). В конце октября 1831 г. рукопись еще находилась у Пушкина (см.
об этом письмо к нему А. И. Тургенева от 29 октября 1831 г.: «Вчера и Ча-
даев был с нами [у Вяземского и И. И. Дмитриева с Жуковским. — М. Я].
Что его рукопись?» {Пушкин А С. Полное собрание сочинений: В 16 т.
Т. 14. С. 238). См. также комментарий М. И. Гиллельсона в: Переписка
А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М, 1982. С. 285.
Чаадаев соотносит эпидемию холеры в Петербурге с политическими
событиями 1830-1831 гг. (Польское восстание, революция во
Франции и некоторых других европейских странах), что укладывается в
его представление о схожести законов развития «мира
нравственного» и «мира физического», сформулированного в «Философических
письмах». Подобного рода сопоставления встречаются не только в
текстах Чаадаева. См., например, запись в дневнике А. В. Никитенко от
5 сентября 1830 г.: «Ужасная болезнь холера-морбус в прошедшем
месяце свирепствовала в Астрахани, оттуда двинулась в Саратов, Тамбов,
Пензу и ныне посетила Вологду, как доносит о том местное начальство
министру внутренних дел. В столице сильно беспокоятся. Болезнь сия,
в самом деле, всего опаснее в большом городе: здесь настоящая ее жатва,
а может быть, и колыбель. Притом климат петербургский и без того,
особенно осенью, порождает много болезней. Между тем как на севере
Европы растет и развивается чудовище, готовое поглотить массу
человеческих жертв, на западе и юге свирепствуют болезни политические.
Франции удалось оттолкнуть от себя руку, готовившую сковать ее
цепями. В три дня в ней остались одни развалины от безумного деспотизма,
который стремился в ней водворить Карл X. Пример Франции пробудил
от сна южную часть Нидерландов. В Брюсселе происходили кровавые
схватки. В Испании также умы волнуются. В Португалии начинают
скучать жестокостями дона Мигуэля. Что у нас говорят о сих событиях?
У нас боятся думать вслух, но, очевидно, про себя думают много» (Ники-
тенкоЛ В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 92).
«Великий поэт» — по предположению П. И. Бартенева и
поддержавшего его М. О. Гершензона, В. А. Жуковский (Русский архив. 1881.
Кн. 1 (2). С. 436; Гершензон. Т. 1, 380). Возможно, имеется в виду
письмо В. А. Жуковского к находившему в Москве А. И. Тургеневу от 23
августа 1831 г. из Царского Села, где Жуковский писал о том, что они с
А. С. Пушкиным «вместе поживают в Царском и вместе проводят
вечера у смуглой Царскосельской невесты [А. О. Смирновой-Россет. — М. Я]»
и что сам Жуковский «пишет экзаметры» [«Сказку о царе Берендее». —
М. В.] (Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу.
С. 257-258). Чаадаеву могло быть известно о содержании письма
Жуковского, поскольку там же поэт упоминал, что, благодаря посредничеству
Пушкина, читал «манускрипт 4<аадаева>» («Философические письма»),
который затем был взят Пушкиным обратно для отправки в Москву его
автору (Там же. С. 258). Отсюда особенное стремление Чаадаева убедить
Пушкина в своей правоте касательно последствий холеры могло
мотивироваться контекстом письма Жуковского Тургеневу: Чаадаев знает,
что оба поэта плотно контактируют в Царском Селе.
«Рамаяна» (санскр. «судьбы Рамы») — одна из двух древнеиндийских
эпопей, повествующая о жизни и подвигах Рамы, автором которой
считается древнеиндийский легендарный поэт Вальмики; Орфей —
легендарный греческий поэт и музыкант, Байрон (Byron) Джордж Гордон
(1788-1824) — английский поэт.
Речь идет о французском короле Карле X, правившем с 1825 по 1830 г.
26 июля 1830 г. в журнале «Moniteur» были опубликованы ордонансы
Карла X, фактически нарушавшие Хартию 1814 г. Ордонансами уни-
Комментарии
773
чтожалась свобода печати, распускалась палата французских депутатов,
изменялся избирательный закон и назначались новые выборы в палату.
Ордонансы вызвали сначала законное, а затем и вооруженное
сопротивление и 29 июля 1830 г. были Карлом X отменены. Тем не менее
депутаты палаты приняли решение о династической смене, и А. Тьер
написал обнародованный 30 июля 1830 г. манифест, согласно которому
наместником королевства был объявлен Луи-Филипп, герцог
Орлеанский. 1 августа 1830 г. Карл X подписал указ о назначении Луи-Филиппа
наместником королевства, а 2 августа отрекся от французского
престола. 9 августа герцог Орлеанский стал французским королем Луи-
Филиппом I, 16 августа Карл X покинул Францию. О том, как действия
Карла X были восприняты в России, см. мнение председателя
Государственного совета В. П. Кочубея, высказанное в беседе с Николаем I
14 августа 1830 г.: «Начиная с людей самых незначительных, от
поденщика до людей самых выдающихся, все у нас находят Карла X
виновным, это — установившееся мнение» (цит. по: Молок А. Царская Россия
и Июльская революция 1830 г. // Литературное наследство. Т. 29-30. М.,
1937. С. 729). Негодование Чаадаева, возможно, связано с тем, что
июльской революцией 1830 г. во Франции было поставлено под сомнение
политико-религиозное «единство» Европы, итог принятых на Венском
конгрессе 1815 г. договоров. О положительном отношении Чаадаева к
Священному Союзу и ориентированной на сглаживание внутрихристи-
анских конфессиональных противоречий религиозной политике
Александра I см. комм. 401. О восприятии Французской революции 1830 г.
в России см.: Молок А Царская Россия и Июльская революция 1830 г.
С. 727-762; Мильчина В. А 1830 год: историко-политический контекст
спора на бутылку шампанского // Мильчина В. А. Россия и Франция.
С. 90-126.
По мнению М. И. Жихарева, «ссылка на поэму Расина-сына: Le
Tremblement de terre de Lisbonne <Лиссабонское землетрясение — фр. >»
(Русский архив. 1881. Кн. 1 (2). С. 437). Однако, вероятно, имеется в виду
сочинение Вольтера «Поэма о гибели Лиссабона» («Poème sur le désastre
de Lisbonne», 1756).
В своих сочинениях «Catéchisme des industriels» («Катехизис
промышленников», 1823-1824) и «Nouveau Christianisme» («Новое христианство»,
1825) основатель утопического социализма К. А. де Р. де Сен-Симон
(Saint-Simon) (1760-1825) писал о необходимости подкрепления его
философской системы (согласно которой люди должны иметь общее-
тво, выгодное для наибольшей массы людей, способное улучшить
положение многочисленного бедного класса) религиозным чувством,
согласованным с «прогрессом наук». По мнению Сен-Симона, прогресс
научных знаний, морали, религии прямо способствует росту
благосостояния и счастью большей части общества. Сен-Симон умер 19 мая
1825 г. Чаадаев имеет в виду сенсимонистов, например, супругов С. М. и
К. Базар, П.-Б. Анфантена, О. Родрига, Э. Барро и др., тех, кто публично
исповедовал учение Сен-Симона с 1828 г. (с расчетом на большую
аудиторию с октября 1830 г.) и выпускал книги, толковавшие учение Сен-
Симона (например: «Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année,
1829» (1830). Подробнее см.: Мильчина В. А Частная и общественная
жизнь сенсимонистов глазами русского наблюдателя. Из писем А. И.
Тургенева 1830 года // Мильчина В. А. Россия и Франция. С. 127-143.
Б. В. Томашевский писал: «...Пушкина, как и Чаадаева, интересовала
религиозно-философская сторона учения, в то время, как социальная
программа не привлекала внимания. Чаадаев — в согласии с таким
пониманием сенсимонизма — совершенно прав, сопоставляя
сенсимонизм с приверженцами Ламенэ» (Томашевский Б. Я Французские дела
1830-1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово // Письма Пушкина к
Е. М. Хитрово. 1827-1832. С. 357).
Чаадаев имеет в виду группу литераторов, сотрудников католико-
либеральной парижской ежедневной газеты «l'Avenir» («Будущее»),
первый номер которой вышел 16 октября 1830 г. Главным редактором
газеты был Ф. Р. де Ламенне, сотрудниками и вкладчиками — аббат
О. Ф. Жербэ, барон Ф. Д'Экштейн, А. Лакордер, Ш. де Монталамбер,
А. де Виньи. Издание было ориентировано на пропаганду
католических и демократических ценностей (в качестве эпиграфа на первой
странице газеты значилось — «Dieu et la Liberté» («Бог и Свобода»),
выступало за отделение церкви от государства, свободу прессы,
преподавания, политическую самостоятельность Бельгии, Польши и
итальянских государств. В итоге, в 1831 г. «Будущее» вызвало критику со
стороны части местной и римской католической элиты. 15 ноября
1831 г. издание журнала было приостановлено, поскольку его
издатель и сотрудники (главным образом Лакордер) считали
необходимым отправиться в Рим и лично оправдаться перед папой
Григорием XVI. Несмотря на все усилия, окончательное закрытие газеты было
спровоцировано ее осуждением 15 августа 1832 г. в энциклике
Григория XVI Mirari Vos (см.: Гершензон. Т. 1, 380; о журнале Ламенне см.,
Комментарии
775
например: White R. L L'Avenir de La Mennais. Son rôle dans la presse de
son temps. Paris, 1974; Инсаров X. Ламене и его время (окончание) //
Мир Божий. 1905. № 2. С 80-88).
304 Слухи о всеобщей войне, возможно, были связаны с призывами во
французском парламенте к вступлению Франции в русско-польский
конфликт. См. комм. 236. Слова Чаадаева о том, что «источник войны»
иссяк, могут быть связаны с известием о взятии Варшавы. 12 сентября
1831 г. «Московские ведомости» сообщали (из Петербурга от 4
сентября): «Сего Сентября 4-го, пополудни в седьмом часу, Санктпетербург-
ский Военный Генерал-Губернатор, Генерал от инфантерии Эссен, имел
щастие получить Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
повеление: возвестить верноподданным жителям Столицы о покорении
города Варшавы» (Московские ведомости. 1831. № 73. С. 3075).
305 Ламарк (Lamarque) Жан Максимильен (1770-1832) — граф,
наполеоновский генерал, высланный из Франции после реставрации Бурбонов,
вернулся во Францию в 1818 г. и в 1828 г. был избран в палату
депутатов, в 1830 г. стал одним из руководителей республиканской
оппозиции Бурбонам, а затем правительству Луи-Филиппа, поддерживал идею
вступления Франции в конфликт России и Польши в 1831 г. Погиб во
время восстания в Париже в июне 1832 г.
306 Ср. письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от 23 августа 1831 г.: «...Пушкин
ждет осени, чтобы начать писать» (Письма В. А. Жуковского к
Александру Ивановичу Тургеневу. С. 258).
307 14 сентября 1831 г. о тех же слухах писал из Москвы В. А. Жуковскому
А. И. Тургенев: «Обними историографа Петра 1-го, так прошел здесь о
нем слух, но только слух» (цит. по: Гиллельсон М. И. От арзамасского
братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. С. 32; см. также:
письмо А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу от 15 сентября 1831 г. (Истрин В.
Из документов архива братьев Тургеневых // Журнал Министерства
Народного Просвещения. 1913. № 3. С. 19); письмо А. И. Тургенева к
Н. И. Тургеневу от 26 сентября 1831 г. (Тургенев А И. Политическая проза.
С. 158), запись в дневнике А. И. Тургенева от 23 октября: Гиллель-
сон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей.
С. 33). Сам Пушкин сообщал в Москву П. В. Нащокину 3 сентября 1831 г.:
«У меня, слава богу, все тихо, жена здорова; царь (между нами) взял меня в
службу, т. е. дал мне жалования, и позволил рыться в архивах для
составления Истории Петра I» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т.
Т. 14. С. 219).
О брошюре «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и
А. Пушкина» (цензурное разрешение: 5 сентября 1831 г.) см. преамбулу к
статье «Несколько слов о польском вопросе» в настоящем издании.
На рубеже 1820-1830-х гг. (в частности, именно в 1829 г.) Пушкин
особо интересуется поэзией Данте (подробнее см.: Вацуро В. Э. Пушкин и
Данте // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 235-253). Как
отметил В. Э. Вацуро, Пушкин хорошо знал издание стихотворного
французского перевода «Божественной Комедии» А. Дешана, вышедшее в
Париже в 1829 г. с программным предисловием переводчика. Согласно
Дешану, «"Божественная Комедия"... — самая замечательная из эпопей,
созданных человечеством, весь мир средневековой Италии, средоточие
его знаний, верований, предрассудков, поэзии, схоластики и политики»
(Там же. С. 244). С точки зрения Чаадаева, именно итальянское и, шире,
европейское Средневековье было одним из самых блестящих периодов
человеческой истории. На восприятие Чаадаевым эпопеи Данте могли
повлиять взгляды на этот жанр П.-С. Балланша, который замечал:
«Эпопея — это история человеческого рода в различные эпохи общества.
Выразитель идей своего века, законодатель народа, основатель империи:
вот герои эпопеи. Те, кто выходят за пределы своего века, одинокие
герои на сцене этого мира и вынашивают идеи века следующего, если они
не умирают в безвестности, достойны эпопеи» («L'épopée est l'histoire
du genre humain dans les divers âges de la société. Le représentant des idées
d'un siècle, le législateur d'un peuple, le fondateur d'un empire: voilà le héros
de l'épopée. Ceux qui s'avancent hors de leur siècle, et qui, personnages isolés
sur la scène du monde, fécondent les idées du siècle suivant, s'ils ne meurent
pas obscurs, sont dignes de l'épopée»), и так оценивал Данте: «Данте и
Клопшток бросили человека за пределы мира» («Le Dante et Klopstock
ont jeté l'homme hors des limites du monde») (Ballanche P.S. Essai sur les
institutions sociales... P. 325,330; chap. X, partie I). Если принять указанную
параллель, то становится понятным, как в сознании Чаадаева
связывались его излюбленная идея об избранных личностях, ведущих за
собой массы, и сопоставление Пушкина с Данте. Отсюда вытекает и тезис
о «преждевременности» появления русского «Данте» — см. фрагмент
первого «Философического письма»: «А теперь я вас спрошу, где наши
мудрецы, где наши мыслители? Кто за нас когда-либо думал, кто за нас
думает теперь?».
Подлинник оборван — примечание П. И. Бартенева к первой
публикации письма в: Русский архив. 1881. Кн. 1 (2). С. 435.
Комментарии
111
311 Впервые в оригинале: Русский вестник. 1862. № 11. С. 157-158. Впервые
в переводе на русский язык: Бобров Е. Л. Шеллинг и Чаадаев //
Философия в России. Вып. 4. Казань, 1901. С. 4-7. Оригинальный текст
печатается по: Гершензон. Т. 1,167-170 (воспроизведено М. О. Гершензоном в
соответствии с публикацией в «Русском вестнике»); русский перевод
Е. А. Боброва (с большим количеством мелких исправлений) по:
Гершензон. Т. 2, 183-185. Д. И. Шаховской датировал письмо 1833 г.
(Шаховской, 72). Письмо было отправлено позже, чем написано.
Первоначально оно было послано П. А. Вяземскому в Петербург с М. Бравура,
11 мая 1833 г. оно уже отправилось с русским посланником в Баварии
(с 1833 г.), близким к семейству Тургеневых кн. Г. И. Гагариным (1782-
1837) в Мюнхен к А. И. Тургеневу (соученику Гагарина по Московскому
Благородному пансиону). Тургенев получил письма Чаадаева (к
Шеллингу и к нему самому) в Женеве 2/14 августа 1833 г. Спустя два дня
Тургенев переправил письмо Чаадаева Шеллингу с швейцаркой Эспе-
ранс Сильвестр (1790 — после 1853; «умна, добра, учена, и воспитывала
дочерей Вел. Княг. Марии Павл[овны]; знавала Гете; услаждала
последние дни Бонштетена, переправляла его сочинения, и теперь занимается
астрономией!.. Жук[овский] знает ее коротко» — из письма А. И.
Тургенева П. А. Вяземскому от 2/14 июля 1833 г.: АбТ. 6, 247; подробнее об
Э. Сильвестр, в будущем также воспитательнице детей С. С. Уварова см.:
Данилевский Р. Ю. Э. Сильвестр и ее письмо о Пушкине // Временник
Пушкинской комиссии, 1975. Л., 1979- С. 5-15); Шарль-Виктор Бонштет-
тен (Bonstetten) (1745-1832), швейцарский публицист, историк,
педагог, философ, государственный деятель, сводку сведений о его
знакомстве с Жуковским и А. И. Тургеневым см. в комментарии К. М. Аза-
довского в: «С Лагарпом и Ламартином...» Письмо Александра Тургенева
к Николаю Тургеневу. Париж, 2004 («Библиограф». Вып. 16). С. 23, 25-
26). Тургенев сопроводил письмо хвалебной для Чаадаева
рекомендацией и выдержками из письма Чаадаева к самому себе. Фрагмент
рекомендательного письма А. И. Тургенева к Шеллингу, прилагавшегося к самому
письму Чаадаева к немецкому философу, а также критические
замечания самого Тургенева в адрес Чаадаева см. в его письме Вяземскому от
14 августа 1833 г.: «Жалею, что давно не получал письма нашего
Московского философа, особливо писанного к Шелингу. Посылаю его после
завтра с M-lle Sylverste в Миних. Передай это щеголю-философу вместе
с экстрактом из письма моего к Шелингу, которое перепишет Татари-
нов, и с другими выписками для него; вот оно à peu près <приблизитель-
но>: "Vor einigen Tagen erhielt ich ein Packet mit Briefen u. Büchern aus
Russland, das lange in München gelegen ist. Ich fand darin einen Brief an Sie,
hochgeschätzter Gönner, von meinem Landsmann und Freunde, H. v.
T[schadaeff]. — Ich habe ihm Etwas über Ihre Vorlesungen wissen lassen,
denn ich war überzeugt, dass es für ihn höchst interessant sein würde einige
von Ihren jetzigen Ansichten kennen zu lernen <Несколько дней назад я
получил пакет с письмами и книгами из России, долго лежавший в
Мюнхене. Там я нашел письмо к Вам, моему высокоценимому покровителю,
от моего земляка и друга, Г-на Чаадаева. — Я познакомил его немного с
Вашими лекциями, поскольку был убежден, что для него в высшей
степени интересно узнать кое-что о Ваших нынышних воззрениях>
(сколько я помню, я описывал между пр. теорию Шелинга о чорте,
которого я с тех пор начал уважать и бояться). Seit lange beschäftigt er sich mit
dem Studium der religiösen Philosophie, und, wie es mir aus seinen
Manuscripten, so wie aus unseren Unterredungen zu erhellen schien, neigt er
sich zu dem Maistre-Bonaldschen Systeme" <Уже давно он занят
изучением религиозной философии и, как мне становится ясно из его
рукописей, а также из наших бесед, он склоняется к системе де Местра-Бо-
нальда>. Далее подробности о занятиях и характеристика Московского
Бональда, кои оканчиваю: "Es ist ein denkender, vortrefflicher und höchst
moralischer Mann, liesst Engl., Latein., Deutsch. Ich nehme mir die Freiheit,
auss einen Briefen an mich dasjenige auszuschreiben, was Sie anbelangt Ото
думающий, превосходный и высоко-нравственный человек, читающий
по-английски, на латыни и по-немецки. Я позволю себе смелость
выписать из одного из его писем ко мне то, что касается Вас> (я выписал
все, что он говорит о Шелинге и о Риме). Wenn Sie ihn in seiner Moskovi-
schen intellectuellen Einsamkeit mit einigen Zeilen beglücken wollen, so
ersuche ich Sie Ihren Brief mir zuzuschicken. Ich bin in Italien bis zum 14 Juni
d. Jahres geblieben und seit unserer für mich unvergesslichen
Zusammenkunft in Venedig, Florenz, Rom, Neapo1 zwei und 3 Mahl besucht, in den
Klöstern Monte-Casino und Lacave Archive und Bibliotheken untersucht, in
Cornetto, 2 Stunden von Civitta-Vecchia, in die hetrurischen Gräber
hinuntergestiegen, um die Frische der 3000 jährigen Fresco-Gemählde zu
bewundern, und endlich, die Hitze fliehend, hierher zu meinem Bruder geflüchtet,
wo ich nun die Italienische Barbarei vergessen und mich wieder der Leetüre,
wenn nicht den Studien, widmen kann. Wir sind hier reich an Französischen,
aber leider! nicht an Deutschen Büchern, und ich bin begierig, wieder in
München, in Ihrer wohlthuenden Nähe, mein Geist zu erfrischen. Wenn ich
Комментарии
779
nicht wieder nach Italien reise, um auch nach Sicilien zu gehen, so hoffe ich
in München den Winter zuzubringen, um mich wieder an Ihrer Sonne zu
erwärmen und zu erleuchten, denn da, «wo die Citronen blühen», da welkt
jetzt der Geist". <Если вы пожелаете осчастливить его несколькими
строками в его московском интеллектуальном одиночестве, тогда я попрошу
Вас отправить Ваше письмо мне. Я останусь в Италии до 14 июля этого
года, где, с момента нашего незабываемого для меня пребывания в
Венеции, два или три раза посетил Флоренцию, Рим, Неаполь, изучал архивы
и библиотеки в монастырях Монте-Казино и Лакаве, спускался в
этрусские могилы в Корнетто, в двух часах от Чивитта-Веккья, и восхищался
там свежими фресками трехтысячелетней давности и в конце концов,
бежав от зноя, скрылся здесь, у моего брата, где я могу теперь забыть
итальянское варварство и вновь посвятить себя чтению, если не
штудиям. У нас здесь много французских, к сожалению! недостаточно
немецких книг, и я страстно желаю вновь освежить мой дух в Мюнхене, в
Вашей благотворной близости. Если я снова не поеду в Италию, чтобы
посетить Сицилию, то рассчитываю провести зиму в Мюнхене, чтобы
погреться и озариться лучами Вашего солнца, поскольку там, где «край
лимонных рощ в цвету», там ныне увядает дух> — Далее о другом и о
других, о чем напишу к самому философу, и с нетерпением ожидаю
случая и досуга отвечать ему на его милое, умное и красноречивое письмо,
на которое одна дама, перечитав его два или три раза, написала ко мне
сегодня: "There is the man" <Ce человек>. Как бы хотелось привязаться
теперь к некоторым строкам его, напр., о Папе: "où est l'homme? n'est-ce
pas le symbole tout puissant du tems, non, de ce tems, qui s'en va, mais de ce
tems qui ne bouge pas, à travers qui tout passe, mais qui lui même reste
immobile, et en quoi, et par quoi tout s'accomplit! Dites, ne voulez vous donc
absolument sur la terre d'aucun monument intellectuel, qui dure? Vous faut-
il, en fait d'oeuvre humaine, rien que la pyramide de granit qui sache lutter
contre la loi de mort, rien?..." <где человек? Не всемогущий ли это символ
времени, нет, того времени, которое уходит, но при этом не движется,
через которое все проходит, но которое само остается недвижным, в
котором и которым все свершается! Скажите, вы совершенно не хотите
иметь на земле долго существующий умственный памятник? В делах
человеческих, вам не нужно ничего, кроме гранитной пирамиды,
умеющей сопротивляться закону смерти, ничего?..> — Ответ: oui,
certainement, c'est le symbole de ce tems qui ne bouge pas, et voilà pourquoi il n'est
plus rien pour nous, il n'est plus le symbole, en quoi et par quoi tout s'accom-
put! Voilà pourquoi le pape n'a plus rien à dire dans le grand procès
intellectuel, religieux et politique, qui se plaide devant nous. Tout s'accomplit
maintenant par les Schelling d'un côté et les Bentham de l'autre, c'est par eux que
nous marchons vers un meilleur avenir, et le pape n'est plus qu'une pyramide
d'Egypte: lui aussi — il a "fatigué le tems" <да, разумеется, это символ
неподвижного времени, и именно поэтому он ничего для нас уже не
значит, это более не символ, в котором и которым все свершается! Вот
отчего папе нечего более сказать и на великом умственном, религиозном
и политическом процессе, который разворачивается перед нами. Все
ныне совершается Шеллингами, с одной стороны, и Бентамами, с
другой, именно с их помощью мы шагаем к лучшему будущему, а папа есть
не более, чем египетская пирамида: он также «отягощает время»>.
Но этот вопрос может завести и далее Египта» (АбТ. 6, 301-302; Татари-
нов Александр Николаевич (1810-1862?), надворный советник,
впоследствии начальник 1-го отделения департамента уделов, его мать
Анна Семеновна Аржевитинова была двоюродной сестрой братьев
Тургеневых, в 1836 г. — чиновник Департамента управления духовных дел
(см. подробнее комментарий В. И. Саитова в: Остафьевский архив
князей Вяземских. Т. 3 (Примечания). СПб., 1908. С. 588-589). О получении
Шеллингом письма Чаадаева Тургенев писал Вяземскому 6 сентября
1833 г.: «Дай знать Чад[ае]ву, что Шелинг получил письмо его: сегодня
пришел ко мне профессор, с коим M-lle Sylverste проходила
астрономию, и благодарил от ее имени за знакомство с Шелингом. Она провела
с ним три вечера, проведенные ею в Минхене, и в беспрерывном
восхищении от его Гения, от его любезности, от всего, что она слышала от
него» (АбТ. 6,329). 16 / 28 сентября того же года Тургенев получил ответ
от Шеллинга, датированный 21 сентября 1833 г. (напечатан в оригинале
в: Гершензон. Т. 1, 382-383), и послал его Чаадаеву. В ответном
послании Шеллинг объяснял сущность своей философии откровения и роли
в ней христианского элемента, позволившего ему преодолеть прежний
рационализм, не впадая при этом в мистицизм. Кроме того, Шеллинг
отмечал, что пока не готов предать собственные новые взгляды
гласности. Чаадаев позволил знакомым снимать копию с письма Шеллинга,
чем воспользовался журналист и востоковед Осип Иванович Сенков-
ский (1800-1858), напечатавший отрывок из письма в издаваемом им
журнале «Библиотека для чтения» (1834. Т. 3. Ч. VII. С. 114-115) с
язвительными замечаниями в адрес Шеллинга. В частности, в «Библиотеке
для чтения» говорилось: «Мы имеем перед глазами письмо его [Шеллин-
Комментарии
781
га. — M. Я], писанное в Москву к одному из наших соотечественников в
Сентябре прошлого года, и с удовольствием сообщили бы его вполне
нашим читателям, если б умозрительное мечтательство какого бы то ни
было человека считали важным делом для человечества». Далее
приводит несколько слов из письма в доказательство «философского
отступничества» Шеллинга, впавшего в «религиозный мистицизм», от
предшествующей традиции немецкой философии. К Чаадаеву условно можно
отнести следующую фразу из статьи: «Блажен, кто в состоянии тешиться
подобными надеждами!» (Германия, ученая и литературная (из рубрики
«Смесь» // Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. Ч. 2 (май). С. 114-115;
о реакции русских шеллингианцев на статью Сенковского см.:
Бобров Е. Л. Шеллинг и Чаадаев. С. 9-Ю; см. также: Проскурина, 616;
ПССиИП. Т. 2, 311-312; Резвых П. Ф. В. Й. Шеллинг в диалоге с
российскими интеллектуалами // Новое литературное обозрение. № 91 (2008).
С. 178).
2 О личном знакомстве Чаадаева с Шеллингом в 1825 г. в Карлсбаде и
чтении его сочинений см.: Бобров Е. Л. Шеллинг и Чаадаев. С. 1-17.
В дневниковой записи М. П. Погодина от 23 декабря 1828 г. отмечено,
что А. С. Пушкин рекомендовал ему Чаадаева как знакомого Шеллинга
(цит. по: Шаховской Д. К П. Я. Чаадаев на пути в Россию в 1826 году.
С. 32). 24 августа 1825 г. с Шеллингом познакомился, а затем и
сдружился А. И. Тургенев (А. И. Тургенев и Шеллинг (По неизданным
материалам) / Публикация, предисловие и примечания К. М. Азадовского и
А. Л. Осповата // Вопросы философии. 1988. № 7. С. 153). По этому
поводу П. Резвых замечает: «Готовность знаменитого философа
поддерживать такие отношения с представителем другой культурной среды
объясняется, конечно, не только личными качествами Тургенева, но и
обстоятельствами жизни Шеллинга в этот период. Дело в том, что для
самого философа именно первая половина 1820-х годов является, быть
может, единственным периодом жизни, когда он почти целиком
отстраняется от всех официальных ролей и погружается в мир частного
общения» (Резвых П. Ф. В. Й. Шеллинг в диалоге с российскими
интеллектуалами. С. 168-169, 171, 172-174; о взаимоотношениях Шеллинга
и А. И. Тургенева, наиболее интенсивный период которых пришелся на
1832-1834 гг. см.: А. И. Тургенев и Шеллинг. С. 153-164). Чаадаев был
также знаком еще с одним корреспондентом Шеллинга в России —
пастором К. А. Зедергольмом (Резвых П. Ф. В. Й. Шеллинг в диалоге с
российскими интеллектуалами. С. 157,183).
782
Речь идет о курсе лекций «Философии мифологии» Шеллинга,
изданном по смерти ученого в 1857 г. (А. И. Тургенев и Шеллинг. С. 153).
А. И. Тургенев замечал в письме Вяземскому от 6 сентября 1833 г.: «Новая
книга Шелинга печатается..., а старый Шелинг у Моск. философа есть»
(АбТ.6,350).
О взаимоотношениях Шеллинга и Кузена подробнее см.: Ody H. J.
Victor Cousin. Ein Lebensbild im deutsch-franzoesischen Kulturraum.
Saarbrücken, 1951; VermerenP. (ed). Victor Cousin. Suivi de la correspondance
Schelling-Cousin. Corpus: revue de philosophie / Assotiation pour le Corpus
des Œuvres de Philosophie en Langue France 18/19- Paris, 1991 (мы
благодарим П. Резвых за указание на эти издания).
Речь идет об А И. Тургеневе, который познакомился с курсом «философии
откровения», прочитанным в 1831-1832 гг. в Мюнхенском университете.
Тургенев 30 июля 1832 г. сделал запись в дневнике: «Вчера в 7-м часу вечера
приехал я сюда [в Мюнхен. — М. В.] <...> От 12 до 1 — слушал Шеллинга: Ober
die Philosophie der Offenbarung и жалел, что подле меня не было Чаадаева!
Какое бы наслаждение доставил ему сей гений-христианин,
возвратившийся на путь истины и теперь проповедующий Христа в высшей
философии» (А. И. Тургенев и Шеллинг. С. 157-158; курсив автора). Ср. письмо
А. И. Тургенева Н. И. Тургеневу 2 августа 1832 г.: «Здесь был на лекции у
Шеллинга, и он в тот же день у меня, а вчера более двух часов гулял со
мною. Его лекция была бы для Чаадаева весьма любопытна: die Philosophie
der Offenbarung [философия откровения. — M. Я]» (Там же. С. 154). По
мнению П. Резвых, Тургенев «прослушал только лекции,
сосредоточенные вокруг двух довольно специальных тем — сатанологии и ангелоло-
гии. Особенно впечатлило русского слушателя шеллинговское учение о
нетварности сатаны. Он поделился услышанным в письме Жуковскому,
а впоследствии подробно пересказал шеллинговскую концепцию Чаа-(
даеву. О принципах, положенных Шеллингом в основу предлагаемых
им теологических тезисов, Тургенев имел самое приблизительное
представление» {Резвых П. Ф. В. Й. Шеллинг в диалоге с российскими
интеллектуалами. С. 170; см. также: А. И. Тургенев и Шеллинг. С. 154).
Об «отдельном великом деятеле» см. преамбулу к первому
«Философическому письму» в настоящем издании.
О русском шеллингианстве применительно к философским трудам
Чаадаева см., например: Quénet, 165-168.
Впервые в оригинале: Гершензон. Т. 1, 170-173 («с подлинника,
находящегося в Тургенев, архиве, в И. Академии Наук» (ныне в РО ИРЛИ):
Комментарии
783
Гершензон. Т. 1, 384); впервые в переводе на русский язык М. О.
Гершензона: Гершензон 1908, 297-300; с датировкой — 20
апреля 1832 г., датировка уточнена в: Гершензон. Т. 1, 384.
Оригинальный текст печатается по: Гершензон. Т. 1, 170-173; русский перевод
М. О. Гершензона по: Гершензон. Т. 2,186-188. Подробнее о контексте
данного письма см. примечания к письму Чаадаева Шеллингу от 1832 г.
С конца 1810-х гг. Чаадаев был ближайшим другом Н. И. Тургенева, с
тремя братьями Тургеневыми Чаадаев много общался в Карлсбаде в 1825 г.
В 1826 г. Чаадаев ухаживал за больным С. И. Тургеневым (АбТ. 6,30;
подробнее см.: Шаховской Д. И. П. Я. Чаадаев на пути в Россию в 1826 году.
С. 28). А. И. Тургенев и Чаадаев особенно сблизились в Москве в
начале 1830-х гг. (см.: Истрин В. Из документов архива братьев
Тургеневых // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1913. № 3.
С. 20-21; первое известное в печати письмо Чаадаева к А. И. Тургеневу
относится к 1820 г., см.: Œuvres inédits ou rares, 16; ПССиИП. Т. 2,13-14).
П. А. Вяземский, прекрасно знавший как адресата, так и адресанта
данного письма, писал об их дружбе: «Тургенев сошелся в Москве с
прежним Петербургским приятелем Чадаевым. Они были приятели, но
вместе с тем во многих отношениях и противоположно расходились.
Одни точки соприкосновения, существовавшие между ними, были ум,
образованность, благородство, честная независимость, вежливость (не
только в смысле учтивости, а более в смысле благовоспитания, одним
словом, цивилизации понятий, воззрений, правил, обхождения...) Этих
условий и держались Чадаев и Тургенев. Во всем прочем были они
прямые антиподы. Тургенев жил более жизнью открытою и внешнею; хотя
и он (греха таить нечего) любил иногда пускать пыль в глаза, но
ничего не было в нем подготовленного, заранее продуманного. <...>
Чадаев рисовался серьезно и с некоторым благоговением смотрел на
подлинник, в который преображался. Он был гораздо умнее того, чем он
прикидывался. Природный ум его был чище того систематического и
поучительного ума, который он на него нахлобучил. Не будь этой
слабости, он остался бы замечательным человеком и деятелем на том и на
другом поприще. Чадаев, особенно в Москве, предначертил себе план
особничества и ни на волос, ни на йоту от него не отступал. Тургенев
был рассеян, обмолвливался иногда нечаянно, иногда умышленно, но
всегда забавно и часто остроумно. Чадаев был всегда погружен в себя,
погружен в созерцание личности своей, пребывал во внимательном
прислушивании к тому, что сам скажет. Он был доктринер, препода-
ватель с подвижной кафедры, которую переносил из салона в салон.
Тургенев был увлекательный собеседник, вмешивался в толпу и сгоряча
и на обум говорил все, что родится и мелькнет в голове его. Чадаев был
ума и обхождения властолюбивого. Он хотел быть основателем чего-
то. Он готов был сказать и вероятно говорил себе, в подражание
Людовику XIV-му. моя философия, это я! Между тем, если он имел довольно
слушателей (потому что говорил хорошо и что в Москве, на досуге,
любят слушать), он, кажется, не создал себе адептов и единоверцев.
Разве между дамами имел он несколько крылошанок и неофиток. Тургенев
был ручнее, общедоступнее его. И положение его в обществе было, так
сказать, блистательнее. Чадаев, при всей приязни своей, смотрел на
него свысока. Пуританизм его смущался развязностью Тургенева; он
осуждал некоторое легкомыслие его и отсутствие в нем всякого
формализма и обрядного священнодействия» (Полное собрание
сочинений князя П. А. Вяземского. Т. VIII: Старая записная книжка. СПб., 1883.
С. 287-288; курсив автора). Часть переписки Чаадаева с А. И. Тургеневым
остается до сих пор неопубликованной (см.: Мильчина В., Осповат А.
Неопубликованное письмо Чаадаева // Собрание сочинений к
шестидесятилетию Льва Иосифовича Соболева. М., 2006. С. 360).
Нефедьева Александра Ильинична (1782-1857), двоюродная сестра
братьев Тургеневых. О каком именно письме пишет Чаадаев, установить
не удалось. Осенью 1832 г. А. И. Тургенев встречался с Шеллингом в
Венеции.
Немецкий философ и историк философии Вильгельм Виндельбанд
замечал по поводу связи философии тождества Шеллинга (в частности,
диалога «Бруно, или О божественном и естественном начале вещей»
(1802) с идеями Платона: «..."Бруно", очевидно, обязан подражанием
Платону и является, несомненно, самым совершенным из всех
новейших подражаний великому эллинскому образцу. Однако влияние
Платона на Шеллинга сказалось не только в форме. В первые годы нового
столетия оно было весьма значительным и в содержательном
отношении. Система абсолютного разума в силу внутренней потребности
пошла навстречу учению об идеях, овладела им, восприняла его и под его
влиянием стала внутренне преобразовываться. <...> Конечно, учение
Платона не воспринималось при этом в чистом первоначальном виде...
Шеллинг и Гегель придерживались такого толкования системы Платона,
которое, начиная с неопифагорейцев и неоплатоников, безраздельно
господствовало в средние века и Новое время: они видели в Платонов-
Комментарии
785
ских идеях не сверхчувственные сущности, а мысли Бога» (Виндель-
банд В. От Канта до Ницше. История новой философии в ее связи с
общей культурой и отдельными науками. М., 1998. С. 285-286; пер. с нем.
под ред. А. И. Введенского; впервые в 1880 г.).
Письмо А. И. Тургенева к М. Бравуре неизвестно. Рожденная в Риме,
католичка, приятельница Чаадаева, А. И. Тургенева («amico fidèle»),
Вяземского и И. С. Гагарина, Бравура жила в Москве с 1830 г. Вяземский включил
фрагмент письма к нему от Бравуры, касавшийся московской репутации
Чаадаева, в послание к Тургеневу от 4 сентября 1832 г.: «"L'auteur de la
lettre à une dame est toujours dans les régions superlunaires, pourtant il lui
prend quelquefois la fantaisie de s'humaniser et alors qui croyez Vous qu'il
choisisse pour but, en descendant jusqu'aux faibles mortelles? Il y a des choses
en lui qui ne s'accordent pas avec sa philosophie, choses, qui marcheraient
bien avec la vôtre, mon prince, et dont je ne puis Vous entretenir? Votre
esprit sera-t-il à la torture. Si c'est une énigme je Vous la donne à deviner?"
<Сочинитель письма к даме пребывает в заоблачном мире, однако ему
временами приходит фантазия сделаться человечнее и тогда, кого, Вы
думаете, он избирает для этой цели, опускаясь до простых смертных?
Есть в нем нечто, что не согласуется с его философией, нечто, что
отлично подошло бы философии вашей, мой князь, и о чем беседу
поддерживать я не смею? Будет ли мучиться ваш разум. Ежели сие загадка,
то я предлагаю Вам ее разгадать?> — И в самом деле, загадка, и не умею
разгадать ее. Не наткнешься-ли ты чутьем? Не ходит-ли он миссионер-
ничать по <...>ям. Это вовсе не по моей части и не по моей философии,
но la pruderie qui empêche M-dme Bravura de m'en entretenir
Стыдливость, мешающая г-же Бравуре поведать мне о сем> дает мне некоторое
подозрение», в приписке к тому же письму от 8 сентября: «Князь
Голицын возвратил мне вчера несколько из книг, тобою присланных, все
духовные. При первом случае перешлю их в Москву, не через Чадаева-ли?
Он пойдет их читать там, где с купцем играл дьячек приходский в горку.
Жаль что Василия Львовича нет, он написал-бы новую картину: Буянов
Миссионер» (АбТ. 6,104-105; курсив автора; Буянов — персонаж поэмы
В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (написана в 1811 г., быстро разошлась и
стала хорошо известна в списках, первое типографское издание,
получившее распространение, — в 1855 г.) (см. также: ПССиИП, Т. 2, 313). О
Бравуре см.: Из моей старины. Воспоминания князя А. В. Мещерского //
Русский архив. 1900. № 10. С. 294.
Какую статью имел в виду Чаадаев, установить не удалось.
Какое именно письмо А. И. Тургенева к Чаадаеву или П. А. Вяземскому
послужило поводом к возражениям Чаадаева, определить трудно.
Предполагаемый ответ А. И. Тургенева на письмо Чаадаева см. в его письме
П. А. Вяземскому от 14 августа 1833 г. из Женевы (Азадовский К. Чаадаев
и графиня Ржевусская // Вопросы литературы. 2008. № 5. С. 333; см.
также наши примечания к письму Чаадаева Шеллингу от 1832 г.). Об этом
письме Тургенев писал Вяземскому 1 ноября 1836 г.: «Вероятно, в
бумагах Чаадаева] найдут и записку ко мне Баланша, в коей он благодарит
меня за доставление ему для прочтения отрывков из письма Чаадаева].
Это письмо о Риме в ответ на мое об Италии и о папе. В нем есть две
страницы красноречивые о Риме, о его вечности, о значении
историческом папства и прочем. Чаадаев был взбешен моею картиною Италии
и папства в письмах моих к вам и к нему, кои я всегда, как вы знаете,
велел отдавать сестрице [А. И. Нефедьевой. — М. Я], и они у меня. Он
отвечал уже мне в Париж, и я видел, как он кокетствовал со мною слогом
и общими историческими видами на Италию и на папу и желал, чтобы
Шатобриан или Баланш прочли его. Я потешил его и послал ему записку
Баланша на отрывок из его письма, ему, помнится, сообщенный. Но это
не известное письмо к даме» (Остафьевский архив князей Вяземских.
Т. 3. С. 345-346; курсив автора; см. настоящее издание, с. 502-503).
Имеются в виду Елизавета Петровна Пашкова (1805-1854), урожд.
Киндякова, в первом замужестве Лобанова-Ростовская, с 1828 г. жена
генерал-майора Александра Васильевича Пашкова (1792-1868). Кин-
дяковы — семья генерал-майора Петра Васильевича Киндякова (1768-
1827). Екатерина Петровна Киндякова (1812-1839), сестра Е. П.
Пашковой, в ноябре 1834 г. вышла замуж за приятеля Чаадаева Александра
Николаевича Раевского. См. также комм. 765.
Впервые в оригинале: Гершензон. Т. 1, 173-174 (напечатано «с
рукописной копии, снятой г-м М. К. Лемке в архиве бывш. III Отделения»:
Гершензон. Т. 1,385); впервые частично в русском переводе М. К Лемке:
Мир Божий. 1905. № 9. Отдел первый. С. 17-18. Оригинальный текст
печатается по: Гершензон. Т. 1, 173-174; русский перевод Г. А. Рачин-
ского по: Гершензон. Т. 2, 188-190. Бенкендорф Александр Христофо-
рович (1781/1783-1844) — генерал от кавалерии, сенатор, участник
наполеоновских войн, с 1819 г. — генерал-адъютант, член следственной
комиссии по делу декабристов, начальник III Отделения императорской
канцелярии и шеф корпуса жандармов, командующий императорской
Главной квартирой, член Государственного совета, с 1832 г. — граф.
Комментарии
787
Знаком с Чаадаевым по масонской ложе Соединенных друзей,
считался возможным покровителем Чаадаева (хотя в 1821 г. и упомянул его
в числе деятелей тайных обществ в записке, поданной через И. В.
Васильчикова Александру I (Шильдер Н. К Император Александр
Первый. Его жизнь и царствование. Т. 4. СПб., 1904. С. 211), сыграл важную
роль в определении вердикта о сумасшествии Чаадаева. Как бюрократ
Бенкендорф имел репутацию «беспечного» светского человека, мало
занимавшегося делами (см., например: Фишер К. И. Записки //
Исторический вестник. 1908. № 9- С. 808-810; Львов А Ф. Записки // Русский
архив. 1884. № 4. С. 239), однако, по выражению П. И. Бартенева, «нельзя
позабыть, что начальник Третьего Отделения был своего рода первым
министром и олицетворял собою то единство управления, о котором
так вздыхали потом» (Русский архив. 1889. № 8. С. 530). Как указал
М. К. Лемке, желание Чаадаева поступить на службу было, с одной
стороны, связано с желанием быть полезным правительству, с другой —
денежным неурядицами (в конце 1832 г. опекунский совет по третьему
долгу пустил с торгов его последнее имение, и у него остались только
7000 рублей, получаемых ежегодно от брата М. Я. Чаадаева, причем в
1833 г. последний раз). Одновременно 27 декабря 1832 г. на Чаадаева
поступил анонимный донос в III Отделение, по расследовании
опровергнутый (Лемке, 377).
327 Речь идет о письме Васильчикова от 4 мая 1833 г.: «Pardon, mon cher
Monsieur Tchedaef, si j'ai mis du retard à vous répondre; mais j'ai désiré
pouvoir le faire d'une manière satisfaisante et jusqu'à présent les personnes
à qui je me suis adressés, tout en reconnaissant vos qualités et votre mérite,
se trouvent dans l'embarras de vous donner une place convenable à cause
de votre rang. Benkendorf qui a été longtemps absent et malade et que je
vois très rarement, m'a dit hier qu'il ne demanderait pas mieux que de vous
être utile et qu'il désirait que vous lui écriviez à ce sujet en lui exposant
vos désirs, afin qu'il puisse juger de ce qu'il pourra faire pour vous. Je vous
engage donc, mon cher, à vous addresser à lui, je ne demande pas mieux
que d'appuyer votre demande et si j'avais une administration à diriger, votre
affaire serait bientôt faite; mais n'en ayant pas, je dois me borner au rôle de
solliciteur. — J'ai passé un hiver bien triste, j'ai perdu ma mère et je viens de
perdre mon frère; ces malheurs ont dérangé le peu de bien que les eaux de
Moscou m'avaient fait. Je compte m'y rendre de nouveau et serais charmée
de vous y voir. Recevez, je vous prie en attendant l'assurance...» <Простите,
мой дорогой господин Чедаев, если я отвечаю вам с опозданием; дело
в том, что я желал сделать это удовлетворительным образом, и до сего
времени люди, к которым я обращался, совершенно признавая ваши
достоинства и заслуги, затрудняются найти вам подходящее место из-
за вашего чина. Долго отсутствовавший и болевший Бенкендорф, коего
вижу я очень редко, вчера сказал мне, что он желал бы быть вам
полезным и хотел бы, чтобы вы написали ему по сему поводу и изложили
бы ваши чаяния, дабы он мог судить о том, что может для вас сделать.
Я вас поэтому призываю, дорогой мой, отнестись к нему, я с готовностью
поддержу вашу просьбу и, ежели бы я распоряжался администрацией,
ваше дело было бы скоро решено; не имея, однако, этой власти, я должен
ограничиться ролью просителя. — Я провел зиму весьма печально, потерял
мать и только что — моего брата; эти несчастья уничтожили то
небольшое полезное воздействие, которое оказали на меня московские воды. Я
рассчитываю вновь отправиться туда и был бы рад вас там видеть.
Примите тем временем, прошу вас, уверения в...> (цит. по: Гершензон М. О.
Библиографические записи о Чаадаеве // РГАЛИ. Ф. 130. Оп. 1. Ед. хр. 56.
Л. 76 об.; краткий пересказ письма см.: Гершензон 1908,125; Лемке, 377).
328 М. О. Гершензон считал, что имеется в виду встреча Чаадаева с Василь-
чиковым в Москве в 1832 г., когда Васильчиков приезжал в старую
столицу для лечения водами (Гершензон 1908,125).
329 С 1817 по 1821 гг. Чаадаев состоял адъютантом И. В. Васильчикова.
330 Речь идет об отставке Чаадаева, данной ему в марте 1821 г., и
недовольстве Александра I поведением Чаадаева.
331 Об образовании и служебной карьере Чаадаева см. вступительную
статью к настоящему тому.
332 Во главе Министерства иностранных дел в тот момент стоял К. В.
Нессельроде (1780-1862), министр с 1822 г.
333 Основание института зарубежных командировок сотрудников III
Отделения, которым руководил Бенкендорф, было положено в 1832 г. Как
отмечает А. Л. Осповат, «потребность в подобных мерах диктовалась
в корне изменившейся внешнеполитической ситуацией: если в
декларированной цели и итогах русско-турецкой войны 1828-29 гг. Европа
усматривала залоги возникновения нового оплота христианства (а
первое "Философическое письмо" Чаадаева явилось, по нашему мнению,
полемической реакцией на возрождение мессианского комплекса на
русской почве), то разгром польского восстания в 1831 г. и последовавшие
за ним репрессии против целой нации и всей униатской церкви
Западного края были восприняты европейским общественным мнением как
Комментарии
789
доказательства устрашающей децивилизованности режима Николая I.
Сколько можно судить, из всех заграничных резидентур III Отделения
самая ранняя была основана в Пруссии, состоявшей тогда в
политическом союзе с Россией» (Осповат А Л. Тютчев и заграничная служба
III Отделения (Материалы к теме) // Тыняновский сборник.: Пятые
Тыняновские чтения. Рига; М., 1994. С. 110-111).
334 Современники часто отмечали противоположное свойство императора:
неумение правильно выбирать сотрудников (короткую сводку данных
об этом см.: Выскочков Л. Николай I. M., 2006. С. 182).
335 Речь идет о событиях 1820-1821 гг., подробнее см. вступительную
статью к настоящему изданию.
336 О долгах Чаадаева см.: Гершензон. Т. 1,425,429; также см. запись М. Я.
Чаадаева о долгах брата: РГАЛИ. Ф. 546. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 362 об. — 364 об.
337 Впервые в оригинале: Гершензон. Т. 1,175-176 (воспроизведено «с
рукописной копии, снятой М. К. Лемке» с подлинника, находившегося в
архиве III Отделения: Гершензон. Т. 1, 385); впервые в русском переводе
М. К. Лемке: Мир Божий. 1905. № 9. Отдел первый. С. 20-22.
Оригинальный текст письма печатается по: Гершензон. Т. 1,175-176; русский
перевод Г. А. Рачинского по: Гершензон. Т. 2,190-192. О редких встречах
Чаадаева с великим князем Николаем Павловичем в 1810-е гг. в
Петербурге см.: Жихарев, 63.
338 Министром финансов в тот момент был Е. Ф. Канкрин (1774-1845),
министр с 1823 г.
339 Министром народного просвещения тогда был С С. Уваров (1786-1855),
министр с 1833 г.
340 Ср. мнение П. А. Вяземского, высказанное в письме к Д. В. Голицыну от
18 апреля 1829 г.: «Я глубоко убежден, что язык истины совершенно
независимой является единственным, с которым верноподданный
должен обращаться к своему государю» (Вяземский П. А Записные книжки
(1813-1848). М., 1963. С. 321). Подробнее о терминологии
политической культуры первой четверти XIX в. см.: Вацуро В. Э. «Подвиг честного
человека» // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные
плотины». Изд. 2. С. 29-113.
341 Впервые: Лемке, 379- Печатается по: Гершензон. Т. 1,176-177
(воспроизведено М. О. Гершензоном с поправками по рукописи, имевшейся в
распоряжении М. К. Лемке: Гершензон. Т. 1, 385). Ответ А. X.
Бенкендорфа от 5 августа 1833 г. см.: Лемке, 380. На подлиннике рукой
Бенкендорфа написано: «Отослать ему назад, что я для его пользы не смел подать
письмо его Государю, он бы удивился диссертации о недостатках
нашего образования там, где искал бы только изъявления благодарности и
скромную готовность самому образоваться по делам ему Чаадаеву вовсе
не известным, ибо одна служба и долговременная может дать право и
способ судить о делах государственных, а не то он дает мнение о себе,
что он по примеру легкомысленных французов судит о том, чего не
знает» (Лемке, 380). Письмо Чаадаева читал не только граф Бенкендорф;
внизу первой его страницы имелась карандашная надпись неизвестной
рукой: «Je ne sais ce que vous penserez de tout cela, Monsieur le Comte, mais
je vous avoue que je vois en cela quelque chose de très original. Remarquez
un peu l'adresse qu'il a mis[e] sur sa lettre à l'Empereur. Je conclu[s] que ce
sera un pauvre serviteur, et comme dit le proverbe: grand parleur, petit
faiseur» («Не знаю, что вы подумаете обо всем этом, господин граф, однако
признаюсь вам, что усматриваю в этом нечто весьма оригинальное.
Обратите внимание на адрес, который он указал на письме к императору.
Заключаю, что из него выйдет плохой слуга, и как гласит пословица.-
большой говорун — дурной работник») (Schakhovskoy D. Caadaev et
la Troisième section // Revue des études slaves. T. 55. Fasc. 2. Paris, 1983.
P. 336).
Речь идет о письме Бенкендорфа Чаадаеву от конца июня 1833 г., в
котором Бенкендорф сообщал, что Николай I дал согласие на поступление
Чаадаева на службу по министерству финансов: Лемке, 379-
Хорошо известно, что Николай I не терпел французского языка в
официальной переписке. См., например, письмо С. С. Уварова к А. X.
Бенкендорфу от 6 ноября 1836 г. в настоящем издании.
Об образовании Чаадаева см. вступительную статью к настоящему
изданию.
Впервые в ранней редакции: Вестник Европы. 1871. № U.C. 325-326
(см. также: Гершензон. Т. 2, 25-26; В. В. Сапов считает, что речь идет
о рукописной авторской копии письма, которую Чаадаев
распространял среди знакомых, а не его ранней редакции (ПССиИП. Т. 2, 315).
Впервые полностью опубликовано М. К. Лемке (с расхождениями с
версией «Вестника Европы»): Мир Божий. 1905. № 9. Отдел первый.
С. 19-20. Печатается по: Гершензон. Т. 1, 177-178 (М. О. Гершензон
воспроизвел «с поправками по рукописи г. Лемке»: Гершензон. Т. 1,
386). Ответ на официальное письмо Бенкендорфа от 5 августа 1833 г.,
в котором Бенкендорф писал: «...я, имея в виду пользу Вашу, не решился
всеподданнейшего письма Вашего представить Государю Императору,
Комментарии
791
ибо Его Величество, конечно бы, изволил удивиться, найдя
диссертацию о недостатках нашего образования там, где вероятно ожидал
одного лишь изъявления благодарности и скромной готовности
самому образоваться в делах, Вам вовсе незнакомых. Одна лишь служба, и
служба долговременная дает нам право и возможность судить о делах
государственных, и потому я боялся, чтобы Его Величество, прочитав
Ваше письмо, не получил о Вас мнение, что Вы, по примеру
легкомысленных Французов, принимаете на себя судить о предметах Вам
неизвестных» (Лемке, 380). Письмо Чаадаева от 16 августа осталось без
ответа; на нем осталась помета: «убрать» и дата «20 сентября 1833 г.»
(Scbakhovskoy D. Caadaev et la Troisième section. P. 337). Как отметили
M. О. Гершензон и М. К. Лемке, после неудачной попытки поступить на
службу, пользуясь знакомством А. X. Бенкендорфа, Чаадаев обратился
к министру юстиции Д. В. Дашкову с просьбой взять его на службу.
Дашков представил письмо Чаадаева Бенкендорфу, тот — Николаю I:
«разрешение было получено, а определение Чаадаева по юстиции
предоставлено усмотрению министра» (Лемке, 383; Гершензон 1908,130).
16 декабря 1833 г. Бенкендорф писал Дашкову: «Врученное мне Вашим
Пр[евосходительст]вом письмо к Вам отстав[ного] гвардии ротмистра
Чеодаева, я имел счастие представить Государю Им[перато]ру и его
Велич[ест]во изволили отозваться, что Чаадаева можно бы употребить
по Министерству Юстиции; о чем и повелел мне сообщить Вам. <...>
Сим исполняя таковую Высоч[айшую] Его Величества волю, и
возвращая при сем упомянутое письмо Господина] Чаадаева имею честь
быть...» (Scbakhovskoy D. Caadaev et la Troisième section. P. 337).
Определение Чаадаева на службу не состоялось. В подготовительных бумагах
М. О. Гершензона к двухтомнику сочинений Чаадаева 1913-1914 гг.
сохранилась копия с письма Д. В. Дашкова к неизвестному адресату
(предположительно, 1834 г.; упоминается в: Scbakhovskoy D. Caadaev
et la Troisième section. P. 337), где говорилось: «Побывайте у Салтыкова
(сенатора M. А. Салтыкова, приятеля Чаадаева. — М. В.) и изъявите ему
мое удивление, что до сих пор не получал ответа от Г-на Чаадаева на
письмо, которое я писал в январе или еще в конце декабря. Я уведомил
его частным образом, что о содержании его письма было доведено
до высочайшего сведения, и что Государь соизволил на употребление
его по Министерству Юстиции. Правда, что Г-н Чаадаев хотел бы
служить по Мин. Просвещения и что я не знаю, какое место по его чину
может ему у меня понравиться. Да и какого он чина, не знаю. Но не
792
менее того, я все сделал, что от меня зависело, и ожидал от него ответа.
В Москве-ли он? Я бы желал получить о сем извещение» (РГАЛИ.
Ф. 130. Оп. 1.Ед.хр.5б.Л.57об.).
346 См. отзывы Чаадаева о Французской революции 1830 г. в его письмах к
Пушкину 1831 г. (настоящее издание, с. 364-372).
347 Впервые: Лемке, 383. Печатается по: Гершензон. Т. 1, 179
(воспроизведено М. О. Гершензоном по изданию М. К. Лемке). М. О. Гершензон
датировал письмо «по связи» с предшествующими письмами Чаадаева к
Бенкендорфу концом 1833-го или началом 1834-го гг. (Гершензон. Т. 1,
386). В. В. Сапов, на основании отсылки Чаадаева к его письму от
«прошлого августа месяца», датировал данное послание сентябрем 1833 г.
(ПССиИП. Т. 2, 316). Между тем указание на «прошлый август месяц»
означает не столько то, что данное письмо было отправлено в
следующем после августа месяце, сколько то, что оно могло быть написано в
течение года после августовской корреспонденции Чаадаева. Нашу
датировку см. комм. 348.
348 А. X. Бенкендорф сопровождал императора Николая I в очередной
заграничной поездке (Пруссия, Бавария, Царство Польское) (Северная
пчела. 1833. № 184 (17 августа 1833 г.). С. 733). Николай I и Бенкендорф
выехали из Царского Села вечером 19 августа 1833 г. (Северная пчела.
1833. № 188 (22 августа 1833 г.). С. 744) и вернулись обратно вечером
16 сентября 1833 г. (Северная пчела. 1833. № 211 (19 сентября 1833 г.).
С. 842). Это обстоятельство позволяет уточнить датировку послания
Чаадаева: именно 16 сентября следует считать нижней хронологической
датой, после которой и было написано данное письмо.
349 Оригинальный текст печатается впервые по подлиннику: РГАЛИ.
Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3004. Л. 1-2. Впервые упомянуто, процитировано
и атрибутировано 9 марта 1835 г. в: Шаховской, 10. Впервые
частично в русском переводе Б. Н. Тарасова: Литературная учеба. 1988. № 2.
С. 95 (публикация Б. Н. Тарасова, который датировал письмо 1835 или
1836 гг.: Там же. С. 96). Печатается в русском переводе Л. 3. Каменской
по: ПССиИП. Т. 2,88-90. В ПССиИП письмо датируется 1834 г. на
основании того, что Вяземский с августа 1834 г. находился за границей и
не мог получить письма в Петербурге, одновременно письмо не
могло быть написано ранее 1834 г., поскольку в нем упоминается книга
М. Ф. Орлова «О государственном кредите» (которая вышла в свет
22 августа 1833 г.) (Т. 2, 316-317). Данное письмо Чаадаева
перекликается с письмом Вяземского Чаадаеву от 22 декабря 1833 г. (ответ на
Комментарии
793
письмо Чаадаева Вяземскому от 30 октября 1833 г., русский перевод
которого см.: ПССиИП. Т. 2, 87), хотя достаточных оснований
считать письмо Чаадаева от 9 марта 1834 г. ответом на упомянутое
письмо Вяземского мы не имеем. Полемизируя с публикатором письма
Б. Н. Тарасовым, В. Ю. Проскурина отмечает: «Мысль об особом
положении России, высказанная здесь, варьируется и в письмах этих лет к
А. И. Тургеневу. Это не означало, однако, никакого "отхода Чаадаева
от последовательного паневропеизма" (Лит. учеба. 1988. № 2. С. 96) по
ряду причин. Во-первых, желание напечатать свое сочинение в России
обосновывалось значимостью наиболее "ударных" — русских — мест в
"Философических письмах". Во-вторых, Чаадаеву было важно, чтобы
критика России исходила изнутри, а не являлась бы "мнением
иностранца". В-третьих, акцент на особом положении России, "свободной"
от авторитетов и традиций, был амбивалентным: Чаадаев в одних
случаях усиливал позитивный ореол вокруг этой идеи, в других —
негативный» (Проскурина, 618).
350 Хлюстин Семен Семенович (1810-1844) — офицер лейб-гвардии
Уланского полка, участник русско-турецкой войны 1828-1829 гг., с 1830 г. —
отставной поручик, с 1834 г. — чиновник для особых поручений
при Министерстве внутренних дел, брат А. С. де Сиркур и племянник
Ф. И. Толстого (Американца). Хлюстин получил европейское
образование и пользовался «блестящим положением в обществе» (о нем см.,
например: А. С. Пушкин и С. С. Хлюстин // Русский архив. 1884. № 4.
С. 441,-452; Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Изд. 2. С. 477).
Хлюстин планировал издать в Петербурге «Философические письма»
Чаадаева. А. И. Тургенев писал Вяземскому 24 октября 1834 г. из
Петербурга: «...Хлюстин, здесь служит при Бл[удове] и смотрит вдаль, но
еще несколько педантоват, хотя умен и не без европейского
просвещения. Сбирается печатать мистику московского графа Мейстера» (Оста-
фьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 262; см. также: ПССиИП. Т. 2,
317). Первое дошедшее до нас письмо Чаадаева Вяземскому датируется
30 октября 1833 г, см.: ПССиИП. Т. 2,87.
351 Предположительно, имеются в виду шестое и седьмое
«Философические письма».
352 Ср. с более поздней «Апологией безумного» Чаадаева (1837).
353 Речь идет о «драматической фантазии» в стихах Н. В. Кукольника «Торк-
вато Тассо» (СПб., 1833) и его драме «Рука Всевышнего отечество
спасла» (премьера состоялась 21 февраля 1834 г.).
Книга «О государственном кредите» М. Ф. Орлова вышла в свет —
анонимно и с цензурными изъятиями — в 1833 г. (подробнее см.
комментарии С. Я. Борового и М. И. Гиллельсона к тексту в: Орлов М. Ф.
Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 331-333).
С. Я. Боровой отмечает, что «книга Орлова прошла почти совершенно
незамеченной в русской науке того времени» (книгу читал и сделал
несколько критических заметок А. С. Пушкин, рецензии появились в:
Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. Литературная летопись. С. 47-51;
Коммерческая газета. 1834. Прибавление к № 63 от 26 мая) (Боровой С. Я.
М. Ф. Орлов и его литературное наследие. С. 303).
Имеется в виду сборник «Стихотворения Надежды Тепловой» (М., 1833).
Теплова Надежда Сергеевна (1814-1848) — московская поэтесса, дочь
купца, благодаря покровительству М. А. Максимовича и П. И. Шаликова
начавшая публиковать свои сочинения в конце 1820-х гг. в журналах
«Московский телеграф» и «Дамский журнал» (затем печаталась также в
«Телескопе» и «Северных цветах»), участвовала в альманахе
Максимовича «Денница» на 1830 г. Известны положительные отзывы о ее поэзии
Н. В. Станкевича, И. В. Киреевского, П. А. Вяземского (в письме к М. А.
Максимовичу от 9 ноября 1833 г.). Как отметил В. Э. Вацуро, письма
Тепловой к Максимовичу 1832-1833 гг. «доносят до нас шум социальных
и литературных полемик. "Кто такой Чедаев?" Записка не датирована,
но пишется, вероятнее всего, в 1833 г., когда чтение еще не изданного
"1-го Философического письма" разделяет московское общество на
враждующие партии и Петр Киреевский пишет Языкову целую
филиппику, где уже очерчиваются первые контуры ожесточенных споров
1836 г.» (Вацуро В. Э. Жизнь и поэзия Надежды Тепловой // Вацуро В. Э.
Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 402-403,405).
Речь идет о приятельнице Чаадаева и А. И. Тургенева М. Бравуре.
Вяземский писал Чаадаеву в письме от 22 декабря 1833 г.: «Прошу вас,
передайте г-же Бравуре, что я на днях напишу ей» («Dites, je vous prie, à m-me
Bravoura que je vais lui écrire un de ces jours») (Старина и новизна. Кн. 1.
СПб., 1897. С. 207; перевод на русский язык В. В. Сапова: ПССиИП. Т. 2,
452).
Имеется в виду жена П. А. Вяземского (с 1811 г.) Вера Федоровна
Вяземская (урожд. Гагарина) (1790-1886), которая вместе с Е. А.
Карамзиной благодарила Чаадаева через П. А. Вяземского в письме последнего
Чаадаеву от 22 декабря 1833 г.: «за то, что помните о них, и [Вяземская
и Карамзина. — М. В.] до отказа нагружают меня всякими поручения-
Комментарии
795
ми для вас» («à avoir pensé à elles et me chargent de tout plein de choses
pour vous») (Старина и новизна. Кн. 1. С. 207; перевод на русский язык
В. В. Сапова: ПССиИП. Т. 2,452).
358 Имеется в виду А. И. Тургенев, находившийся в то время в очередном
европейском путешествии.
359 П. А. Вяземский писал Чаадаеву 22 декабря 1833 г.: «Quant aux extraits de
ses lettres [de Tourgeneff. — MA] pour ce qui vous concerne prenez un peu
patience. Les lettres se trouvent pour le moment chez son neveu Tatarinof
que j'ai chargé de cette besogne qui n'est pas facile, comme bien vous penser.
Vous connaissez l'écriture et la bigarrure épistolaire de notre ami» («Что
касается выписок из его [А. И. Тургенева. — М. В.] писем, касающихся
вас, то запаситесь немного терпением. Письма находятся сейчас у его
племянника Татаринова, которому поручил я этот нелегкий, как вам
хорошо известно, труд. Вам знакомы почерк нашего друга и аляповатость
его писем») (Старина и новизна. Кн. 1. С. 206-207; перевод на русский
язык В. В. Сапова: ПССиИП. Т. 2, 451). Как следует из письма Чаадаева
Вяземскому от 30 октября 1833 г., Чаадаев предполагал, что имеющие к
нему отношение фрагменты писем Тургенева касаются его переписки с
Шеллингом (ПССиИП. Т. 2,87).
360 Впервые в оригинале: Gagarin, 170-174. Впервые в русском переводе
Г. А. Рачинского: Гершензон. Т. 2,193-196. Оригинальный текст («с
подлинника, находящегося в Тургенев, архиве, в И. Акад. Наук» (Гершензон.
Т. 1, 387) и русский перевод печатаются по: Гершензон. Т. 1, 179-182;
Т. 2, 193-196. В подлиннике письма год его создания не обозначен.
Письмо датировано И. С. Гагариным 1834 или 1835 г., датировка
уточнена М. О. Гершензоном (Гершензон. Т. 1, 387). Послание представляет
собой ответ на письмо А. И. Тургенева от 3-4 марта 1835 г. и было
получено Тургеневым в Лондоне 31 июля 1835 г. (АзадовскийК Чаадаев и
графиня Ржевусская // Вопросы литературы. 2008. № 5. С. 340). О
сближении А. И. Тургенева и Чаадаева в начале 1830-х гг. см. комм. 319.
361 Имеется в виду одно из «Философических писем» (возможно, первое),
находившееся в распоряжении А. И. Тургенева.
362 Ржевусская (Ржевуцкая, Реутская) Розалия, урожд. княжна Любомир-
ская (1791-1865), знакомая П. А. Вяземского и А. И. Тургенева, после
Польского восстания переехавшая из Варшавы в Вену. С письмом от
9-Ю мая 1833 г. Вяземский переслал (с Г. И. Гагариным) Тургеневу
«Философические письма» Чаадаева («...с "Философическими письмами",
которые, по просьбе Бравурши, взялся я доставить к тебе»: Остафьев-
ский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 232). Согласно дневниковой записи
А. И. Тургенева от 12 января 1834 г., Ржевусская «восхищалась письмом
Чаадаева о Риме и брала его два раза» (речь идет о письме Чаадаева к
А. И. Тургеневу от 20 апреля 1833 г.). 1 марта 1835 г. Тургенев отправил
Ржевусской первое «Философическое письмо», а через день получил
рукопись обратно с пометами и ремарками, о чем написал Чаадаеву
3 марта 1835 г. Ржевусская замечала Тургеневу: «Автор слишком строго
судит о своей стране, он особенно неправ, упрекая ее в том, что у нее не
было Средневековья, — и делая из этого столь печальные выводы. Если
даже Россия не имеет богатой исторической памяти, она участвует в
современной истории — этого достаточно, чтобы утешить любителей
старины. — Неправота автора, на мой взгляд, заключается в том, что он
совсем не понимает католицизма, и именно эта его неправота многое мне
объясняет. — Но я люблю автора этой рукописи, и случись нам однажды
встретиться, я буду приветствовать его как соотечественника, близкого
мне по мысли и чувству» (подлинник по-французски). В приписке к
этому письму, сделанной 4 марта, Тургенев сообщал Чаадаеву: «Вчера я
долго разговаривал с Розалией Ржевусской о рукописи. Она высоко ценит ее
автора, устная беседа с которым была бы весьма интересной и для нас,
не посвященных в тайны религиозной философии и развития
человечества в свете этой философии». Как отмечает К. М. Азадовский, «Чаадаев
правил первоначальный текст [первого «Философического письма»,
отосланный А. И. Тургеневу с оказией вслед за письмом от 1 мая 1835 г. —
М. В.] независимо от замечаний Ржевусской. Его правка носила не
смысловой, а стилистический характер» (Азадовский К. Чаадаев и графиня
Ржевусская // Вопросы литературы. 2008. № 5. С. 330-341).
О Чаадаеве как «философе женщин» см.: ПССиИП. Т. 2, 318-319.
Орлова Екатерина Николаевна (1797-1885), жена М. Ф. Орлова (с 1821 г.),
дочь Н. Н. Раевского-старшего.
Елагина Авдотья Петровна (урожд. Юшкова, в первом замужестве
Киреевская) (1789-1877) — племянница и воспитанница В. А.
Жуковского, мать П. В. и И. В. Киреевских, хозяйка московского литературно-
философского салона, который посещал и Чаадаев.
Речь идет о сборнике «Три повести» (М., 1835) («Именины»,
«Аукцион», «Ятаган») московского приятеля Чаадаева, прозаика, поэта,
публициста, критика, переводчика Николая Филипповича Павлова
(1803-1864). В «первом рассказе» книги — «Именины» — Павлов
связал любовную коллизию с актуальными социальными проблемами,
Комментарии
797
в данном случае с крепостничеством, что и могло привлечь особое
внимание Чаадаева.
Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Драма в пяти актах, в
стихах, сочинение Н. К. <Нестора Кукольника> (писана весною 1834
года). СПб., 1835. Цензурное разрешение: 17 октября 1834 г. В основу
сюжета драмы легли эпизоды подношения царского венца воеводе
М. В. Скопину-Шуйскому П. Ляпуновым в 1609 г. и смерти Скопина-
Шуйского в 1610 г., описанные, в частности, в третьей и четвертой
главах 12-го тома «Истории государства Российского» H. M. Карамзина
(вышел в 1829 г.).
Кукольник Нестор Васильевич (1809-1868) — прозаик, поэт, драматург,
в 1830-е гг. автор успешных «патриотических» драм и исторических
трагедий.
Возможно, поводом для сравнения Кукольника и Гюго стало наличие
в драме Кукольника «страшных, кровавых сцен» (см. отзыв А. О. Смир-
новой-Россет: «Громовым ударом разнеслась весть о Июльской
революции... <...> Тогда явилась новая литература в лице Виктора Гюго; она была
отпечатком страшных, кровавых сцен и господствовала долго...» (цит. по:
Алексеев М. П. Виктор Гюго и его русские знакомства // Литературное
наследство. Т. 31-32. М., 1937. С. 787-788). Об интересе Н. В. Кукольника
к сочинениям Гюго упоминал М. П. Алексеев (Там же. С. 815).
Один из самых талантливых русских военачальников времен Смуты,
Скопин в пьесе Кукольника обвиняется молвой в связи с
«нехристями заморскими» (Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. С. 34).
В 1608 г. Скопин был послан Василием Шуйским в Швецию для
переговоров с королем Карлом IX о союзе с Россией {Карамзин H. M. История
государства Российского. Т. XII. СПб., 1829. С. 92-93). Карамзин так
описывает Скопина-Шуйского: «Наконец Россияне видели, чего уже давно
не видали: ум, мужество, добродетель и счастие в одном лице; видели
мужа великого в прекрасном юноше, и славили его с любовию...» (Там же.
С. 172). Образ «юного», «смиренного», наделенного талантом, но
неопытного в придворных интригах Скопина-Шуйского в «Истории
государства Российского» несколько отличается от образа Скопина —
«цивилизованного героя» в интерпретации Чаадаева: «Именуя Михаила
Ахиллом и Гектором Российским, Летописцы не менее славят в нем и
милость беспримерную, уветливостъ, смирение Ангельское,
прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукою для его нежного
сердца» (Там же. С. 213; курсив автора).
Драма Кукольника открывается описанием конфликта, происходящего
в душе положительного героя, рязанского дворянина Прокопия
Ляпунова: с одной стороны, он служит Лжедмитрию II, считая его «истинным»
наследником Рюриковичей, с другой — догадывается и затем узнает, что
Лжедмитрий — самозванец, и тогда сам он становится «отступником от
Церкви, изменником Царю и государству» (Князь Михаил Васильевич
Скопин-Шуйский. С. 14). Именно в уста Ляпунова Кукольник вложил
«программные» реплики, например: «Будь Русским так, как должно
Русским быть» (Там же. С. 28). Князь Скопин-Шуйский появляется лишь во
втором акте драмы. Скопин, впрочем, также рассуждает о «русских»
военных добродетелях — например, «Какая мысль — я жгу свою отчизну!
Ты понимать меня не можешь, Яков [Делагарди. -IÄ]! Вам
иностранцам лишь-бы где подраться...» (Там же. С. 37). Однако показателен диалог
Скопина и Ляпунова в выходах 9-16 второго акта драмы, где смысловой
акцент поставлен именно на репликах Ляпунова (Там же. С. 46-61).
В центре основного конфликта драмы — выбор русского царя. Ляпунов
считает, что им должен стать родственник Василия Шуйского Скопин-
Шуйский, прежде всего в силу личной добродетели (Там же. С. 62-64).
Назначенный наследником, Скопин погибает, отравленный по приказу
Екатерины, жены другого претендента на престол Дмитрия
Шуйского. Мысль о варварстве Ляпунова соотносится с его жестокостью,
например, в конце четвертого акта, когда он отдает на растерзание
народу косвенно причастного к смерти Скопина врача Фидлера (Там же.
С. 140-141). В 12-м томе «Истории государства Российского»
Карамзина Ляпунов описан как положительный, но «гордый» исторический
герой: «созданный быть вождем и повелителем людей в безначалии, в
мятежах и бурях, — одаренный красотою и крепостию телесною, силою
ума и духа, смелостию и мужеством» (Карамзин H. M. История
государства Российского. Т. XII. 1829. С. 33, 325-326). Возможно, негативная
реакция Чаадаева на драму Кукольника была усилена рецензией на нее
О. И. Сенковского в 9-м томе «Библиотеки для чтения» за 1835 г. Сен-
ковский, в частности, замечал: «Здесь (т. е. в драме Кукольника) один
только характер, одно лице, — Ляпунов, который оставляет сцену в
самый тот момент, когда начинается историческая жизнь его. Все
лучшие стихи и все длинные монологи достались на долю Ляпунова, с
явною обидою для хозяина драмы, князя Михаила Васильевича» (Рец.
на: Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Драма в пяти актах, в
стихах, сочинение Н. К. (Писана весною 1834 года). Санктпетербург,
Комментарии
799
1835; Роксолана, драма в пяти актах, в стихах, сочинение Н. К. (Писана
летом 1834 года). Санктпетербург, 1835 // Библиотека для чтения. 1835.
Т. 9. Критика. С. 79).
372 См., например, реплику Ляпунова, обращенную к Делагарди:
«Чужеземец!!! От них все зло и мятежи и смуты! <...> В бессильной зависти к
Святому Царству, Вы не живых людей к нам посылали, а мертвецов,
безбожники, будили; под именем, всегда святым для Русских, вели на Русь
неслыханный обман! <...> Не в нравах-ли таится жизнь народа? Не в
нравах-ли всех доблестей народных лежат святые корни? Не на них-ли,
как на граните все почиет Царство? И мы святые нравы сохраняли; мы с
ними жили столько сотен лет; Привыкли. Что-ж? Приходят чужеземцы,
порочат наши нравы, нашу Церковь, все предрассудок у людей
заморских, обычаи смешны, смешна одежда, наш разум не разумен, наши
чувства без благородства...» (Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский.
С. 52-54). Или другую реплику Ляпунова: «Мы можем как пожар, весь
Запад сжечь!» (Там же. С. 57). Необходимо также упомянуть, что в 1831 г.
историческую драму «Прокофий Ляпунов» задумал А. С. Хомяков. Работа
над драмой началась в 1833 (написана «Сцена в Рязани») и
продолжалась в 1834 г., однако затем прервалась, по предположению Б. Ф.
Егорова, «поводом к прекращению работы послужил выход драмы Н. В.
Кукольника на аналогичную тему» (см.: Хомяков А С. Стихотворения и
драмы. Л, 1969. С 585).
373 Имеется в виду анонимная статья «Германская философия» (Библиотека
для чтения. 1835. Т. 9. Науки и художества. С. 83-116. Цензурное
разрешение — 27 февраля 1835 г.). Немецкая философия,
«трансцендентальное, заоблачное учение» (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, окончательно
«сгубивший Германскую Философию») аттестовалась в статье как
«психологическое заблуждение», которое «уничтожает действительность
вместо того, чтобы познавать ее»: «Главное заблуждение Германской
Философии состоит в том, что она хочет творить истину, а не открывать
ее». Статья заканчивалась следующим заключением: «Германская
Философия наделала много вреда; она сбила с толку не одну умную голову и
запутала все науки: пора ей в отставку, — и, по милости, освободите от
ней Русских, которые всегда славились своим здравым смыслом» (Там
же. С. 85,92,95,101,104,116).
374 Жуковский В. Две всемирные истории. Отрывок письма из Швейцарии
(4/16 января 1833) // Библиотека для чтения. 1835. Т. 9. Русская
словесность. С. 168-176. Уточним, что статья Жуковского находилась в том
же томе, что и анонимная «Германская философия», однако в другой
рубрике.
О ложной, с точки зрения Чаадаева, русской национальности см. также
письмо Чаадаева Шеллингу от 20 мая 1842 г.
Ср. мнение, высказанное Чаадаевым в «Апологии безумного» (1837).
Матфей, VI, 10. Подробнее см. комм. 3.
Шаль (Chasles) Виктор Эуфемиен Филарет (1798-1873) — французский
литератор, историк литературы и журналист, популяризатор
литературы на английском языке, печатался во многих изданиях, в частности в
«La Revue des Deux Mondes». «Revue de Paris» — литературный журнал,
основанный в 1829 г. Л.-Д. Вероном, где печатались Оноре де Бальзак,
Александр Дюма-отец, Альфонс Kapp, Эжен Сю, Огюст Барбье, Бенжа-
мен Констан и др.
Лакордер (Lacordaire) Жан Батист Анри (1802-1861) — аббат,
журналист, литератор, адвокат, в 1824 г. принял сан и в 1830 г. примкнул к
изданию Ламенне «L'Avenir» («Будущее»), однако после критики
католического Рима в адрес Ламенне отстал от него. Католический оратор,
известный своими проповедями на этические темы в соборе Парижской
Богоматери (см.: Адрианов С. Примечание к переписке П. Я. Чаадаева.
С. 474-475). На проповедях Лакордера бывал А. И. Тургенев,
отозвавшийся о них: «Я еще ничего подобного во французских церквах не слыхал»
(Тургенев А И. Париж (Хроника русского) // Тургенев А. И. Хроника
русского. Дневники (1825-1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 74,79; от 17 и 22 февраля
1836 г.; впервые: Современник. 1836. Т. 1; см. также письмо А. И.
Тургенева П. А. Вяземскому и В. А. Жуковскому из Парижа от 5-9 марта (22-
26 февраля) 1836 г. Тургенев, приводя характеристику Лакордера,
просил своих корреспондентов передать письмо А. И. Нефедьевой, которая,
в свою очередь, должна была доставить текст митрополиту Филарету и
Чаадаеву, поскольку «оба желают знать что-нибудь о Лакордере»: Аза-
довский К М. Старые европейские комеражи (Несостоявшаяся
«Хроника» А. И. Тургенева) // Звезда. 1999. № 6. С. 103,112; о знакомстве
Тургенева с Лакордером, их встречах весной 1836 г. и отношении Тургенева
к Лакордеру см. комментарий К. М. Азадовского: Там же. С. 114;
комментарий В. А. Мильчиной к письму А. И. Тургенева к Е. А. Свербеевой от
3/15 февраля 1841 г. в: Ф. Р. де Шатобриан. Замогильные записки //
Вопросы литературы. 1991. № 3. С. 205).
Свечина (урожд. Соймонова) Софья Петровна (1782-1859) —
католическая религиозная проповедница, автор духовных сочинений, по-
Комментарии
801
стоянно жившая и державшая салон в Париже (окончательно
поселилась во Франции в 1818 г.). В салоне Свечиной бывали Ф. де Ламенне,
Ж. Б. Лакордер, Ф. Р. Шатобриан, Л. де Бональд, В. Кузен, А. де Токвиль,
Ш. Монталамбер и др. (в салоне Свечиной в середине 1830-х гг. часто
бывал и А. И. Тургенев, см.: Азадовский К. М. Старые европейские коме-
ражи (Несостоявшаяся «Хроника» А. И. Тургенева) // Звезда. 1999. № 6.
С. 121). Свечина сыграла значительную роль в обращении в
католичество многих русских, в том числе своего племянника И. С. Гагарина.
Вопрос о том, как и когда попало в руки Свечиной первое
«Философическое письмо», прояснен не до конца. А. И. Тургенев писал Н. И. Тургеневу
1 октября 1832 г.: «Пишу сегодня к Свечиной и говорю ей о Чаадаеве и
о его католицизме» (Азадовский К. Чаадаев и графиня Ржевусская //
Вопросы литературы. 2008. № 5. С. 334).
381 Речь идет о притеснениях со стороны местных властей крестьян
западных губерний Российской империи, крестивших младенцев
обливанием водой. «Обливанцами» православные, особенно старообрядцы,
называли католиков. Православная церковь допускала крещение через
обливание, что категорически запрещалось у старообрядцев.
382 Впервые в оригинале: Gagarin, 188-189. Впервые в русском переводе
Г. А. Рачинского: Гершензон. Т. 2, 196. Французский оригинал (по
подлиннику из «Тургенев, архива И. Акад. Наук»: Гершензон. Т. 1, 388) и
русский перевод печатаются по: Гершензон. Т. 1, 182-183; Т. 2, 196.
Датировка уточнена Д. И. Шаховским (Проскурина, 619).
383 Речь, вероятно, идет о первом «Философическом письме».
384 Мейендорф Александр Казимирович (1798-1865) — литератор,
статский советник (в 1837 г.), служащий по министерству финансов
департамента мануфактур и внутренней торговли, с мая 1842 г. —
председатель московских отделений Мануфактурного и Коммерческого советов,
в 1830-е гг. находился во Франции как агент по части мануфактурной
промышленности и торговли. Об А. К. Мейендорфе см. комментарий
В. И. Саитова в: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3
(Примечания). СПб, 1908. С. 577-580.
385 Имеются в виду граф А. де Сиркур и его жена А. С. Хлюстина,
сблизившиеся с Чаадаевым во время их приезда в Россию в 1835 г. См.
положительный отзыв о журнале «La France littéraire» Ш. Мало в письме А. И.
Тургенева к П. А. Вяземскому от 13 апреля 1833 г.: «La France littéraire
богата хорошими статьями, и хроника литературная в ней довольно
полна. Она почти вся исключительно посвящена литературе и наукам»
(АбТ. 6,189). «La France littéraire» выходила в 1833-1843 гг., в газете (при
издателе Ш. Мало, т. е. до 1839 г.) сотрудничали Ж. Кювье, Ф. Р. де Ла-
менне, С. М. Жирарден, В. Гюго, А. де Ламартин, Ш. О. Сент-Бев, А. Дюма,
Ш. Нодье, Э. Сю, Ж. де Нерваль, А. де Мюссе, Э. П. Мещерский. Мысль
Мейендорфа о публикации сочинений Чаадаева именно в «La France
littéraire» могла быть связана с христианским направлением издания,
в котором регулярно критиковались «атеистические»
материалистические философские системы XVIII в. Общее направление журнала
определяется современным исследователем следующим образом: «разделение
между порядком и анархией в вопросах морали, религии, литературы и
политики» («la division entre l'ordre et l'anarchie en matière de morale, de
religion, de littérature et de poMqut»:Juden B. La France littéraire de Charles
Malo (1832-1839) et de Pierre Joseph Challamel (1840-1843). Répertoire,
présentation et notes. Paris, 1974. P. 35). В первой половине 1830-х гг. «La
France littéraire» часто навлекала на себя обвинения в эклектизме,
поскольку Ш. Мало считал важным дать высказаться на страницах своего
издания приверженцам различных религиозно-философских доктрин.
Весной 1835 г. направление «La France littéraire» становится более
однозначным: после появления в апрельском номере журнала статьи аббата
Л. Ботэна «De la veritable hérésie du XIX-e siècle» («Об истинной ереси
XIX в.»), направленной против пантеизма, из его числа сотрудников
надолго исключается П.-С. Балланш. Однако однозначно определить,
какую именно «coterie» («партию») имели в виду супруги Сиркур,
представляется в данный момент затруднительным. Подробнее о
направлении «La France littéraire» см.: Ibid. P. 16, 35-41.
Имеется в виду письмо Чаадаева А. И. Тургеневу от 1 мая 1835 г.
Речь идет о французском историке Ж. Мишле (1798-1874), публицисте
и адвокате Ж Л. Э. Лерминье (1803-1857). О Лакордере см. комм. 379.
Речь идет о Н. И. Тургеневе. А. И. Тургенев в тот момент находился в
Лондоне, см., например, фрагмент его письма Чаадаеву от 13/30 июля 1835 г.
(Ф. Р. де Шатобриан. Замогильные записки / Пер. с фр., вступит, ст. и
примечания В. А. Мильчиной // Вопросы литературы. 1991- № 3. С. 198).
Впервые в оригинале: Gagarin, 174-187. Впервые в русском переводе
Г. А. Рачинского: Гершензон. Т. 2, 196-204. Французский оригинал (по
подлиннику из «Тургенев, архива, И. Акад. Наук»: Гершензон. Т. 1, 388) и
русский перевод печатаются по: Гершензон. Т. 1,183-190; Т. 2,196-204.
Датировано Гершензоном не раньше половины октября и не позже
1 декабря 1835 г. (Гершензон. Т. 1,388). Как явствует из письма А. И. Тур-
Комментарии
803
генева к Чаадаеву от 2/14 апреля 1836 г., он читал это письмо в салоне
мадам Рекамье в присутствии Шатобриана, Сент-Бева и др.
(Проскурина, 619).
390 О каком письме идет речь, установить не удалось.
391 Чаадаев имеет в виду собственные беседы с Шеллингом летом 1825 г. в
Карлсбаде.
392 Второй том философско-публицистических работ Генриха Гейне
«Салон» («Der Salon») вышел в январе 1835 г., но три статьи из журнала
«Revue des deux mondes» (1834), вошедшие в том, были, вероятно,
известны Чаадаеву прежде (Гершензон. Т. 1,388). Подробнее см.: ПССиИП.
Т. 2, 321. Окончательно утверждать, что именно это сочинение Гейне
имел в виду Чаадаев, по-видимому, нельзя. Его недовольство молчанием
А. И. Тургенева о «Салоне» необъяснимо в свете указания К. М. Азадов-
ского и А. Л. Осповата на то, что о выходе в свет двух частей «Салона»
Тургенев еще в феврале-марте 1835 г. извещал Жуковского, Свербеева и
Чаадаева, характеризуя Гейне в письме к Жуковскому от 15 (27) февраля
1835 г. как «умного враля» (Азадовский К. М, Осповат А. Л. Из
дневников и писем А. И. Тургенева: (Уточнения к публикациям) // Временник
Пушкинской комиссии. Вып. 21. Л., 1987. С. 135).
393 Корсиканец Джузеппе (Жозеф) Фиески (1790-1836) 28 июля 1835 г.
совершил неудавшееся покушение на жизнь французского короля
Луи-Филиппа, взорвав бомбу на бульваре дю Темпль в Париже во
время празднеств по поводу пятилетия Июльской революции. 19
человек было убито (в их числе французский военный министр маршал
А.-Ш.-Ж Мортье), 42 ранено, но Луи-Филипп почти не пострадал.
Фиески был признан виновным и гильотинирован 19 февраля 1836 г.
394 По предположению В. В. Сапова, Чаадаев подразумевал следующий
фрагмент книги Гейне: «Сравнивая некогда французскую революцию с
немецкою философиею, я скорее шутя, чем серьезно, сравнил Фихте с
Наполеоном. Но тут действительно существует замечательная аналогия.
После того, как последователи Канта совершили свой подвиг
террористического разрушения, является Фихте, как явился Наполеон после
того, как Конвент, с помощью тоже критики чистого разума, разрушил
все прошедшее. И Фихте, и Наполеон — представители великого
неумолимого Я, у которого мысль и дело — одно...» (ПССиИП. Т. 2,320-321;
Сапов цитирует издание: Гейне Г. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1936.
Т. VII. С. 119; перевод с нем. А. Г. Горнфельда; об относительности
сопоставлений письма Чаадаева именно с «Салоном» Гейне см. комм. 392).
«Juste milieu» («золотая посредственность», фр.) — термин, вошедший в
обиход для обозначения буржуазно-обывательских слоев, характерных
для Франции после революции 1830 г. (Проскурина, 619).
О будущем России как «присяжного суда» европейских стран см. также
«Апологию безумного» (1837).
Загоскин Михаил Николаевич (1789-1852) — действительный статский
советник (в 1837 г.), директор императорских московских театров,
популярный исторический романист, комедиограф, знакомый Чаадаева.
В архиве Загоскина сохранился ответ на первое «Философическое
письмо» версии «Телескопа» (см.: ПССиИП. Т. 2, 544-546).
Имеется в виду: Недовольные. Комедия в четырех действиях. Сочинение
М. Н. Загоскина. М.: в типографии Николая Степанова, 1836.
Цензурное разрешение: Москва. 11 декабря 1835 г. Цензор Д. М. Перевощиков.
Одобрено к представлению: Петербург. 6 ноября 1835 г. Представлена
в первый раз на Большом Петровском Театре 2 декабря 1835 г.
«Недовольные» у Загоскина — в том числе и выведенные в пьесе Чаадаев и
М. Ф. Орлов — не удовлетворены как уровнем российского
просвещения и качеством российского законодательства, так и собственной
служебной невостребованностью.
Иного мнения придерживался, например, недоброжелатель Чаадаева
Ф. Ф. Вигель, который писал Загоскину 17 марта 1836 г. из Петербурга,
после прочтения «Недовольных»: «Вы очень хорошо сделали, что сцену
вашей комедии поставили в Москве; здесь охотно смеются над старой
столицей, и хотя нравы, кои вы изобразили, совершенно суть здешние,
но никто не захочет себя узнать, и я ручаюсь вам за успех. Конечно, н е-
довольных и здесь довольно, они будут гневаться; иной промотался,
и хочет пожить, повеселиться еще; другой ленив и горд, служить не
согласен, а чинов и орденов хочется; про правительство говорить не
смеют, за все отвечает Россия и ее варварство, ее-то все и поносят» (Русская
старина. 1902. № 7. С. 97; там же Вигель сообщал Загоскину о том, что
его комедия понравилась Д. Н. Блудову).
О... — имеется в виду М. Ф. Орлов. Чаадаев был выведен в пьесе в
персонаже — Владимир Иванович Радугин, сын князя Ивана Ильича. Между
репликами Радугина и мировоззрением Чаадаевым можно усмотреть
следующие сходства: 1) предпочтение женского общества («Все
женщины, мой друг, как дети: / Их надо забавлять, им должно льстить, /
Побольше подличать, поменьше их любить, / И вещи брать, как есть
они на свете; / А то себя и их со скуки уморишь. / Люблю за это я
Комментарии
805
Париж — / Для всех хорошеньких приятней нет столицы: / Мущины
там рабы, а женщины царицы...») (действие второе, явление первое);
2) фрондерство по отношению к государственным служащим («У
должности я не был три недели, / Являюся — меня трактуют как писца, / Мне
выговор! — / <...> Начальник мой — ты знаешь этого глупца — / При
всех сказал, что стыдно мне шататься, / Что должно делом заниматься, /
А дело что? — Бессмыслица и вздор! / Вот я вступил с ним в жаркой спор, /
И доказал ему, что врет он очевидно. / Что ж он, мой друг? — И вспомнить-
то обидно! — / Молчать велел!») (действие второе, явление первое);
3) прозрачный намек на обстоятельства отставки Чаадаева в 1820-1821 гг.
(«"К тому ж" примолвил он [начальник. — М. Я] с насмешливой
улыбкой, / "У вас на всякой строчке галицизм, / И слово каждое с ошибкой. /
Учитесь грамоте!" — Такой обидный тон / Взбесил меня! Когда ж он, к
этому в прибавку, / Осмелился сказать: — "Подите, сударь, вон!" — / Я
тотчас объявил, что подаю в отставку; / Что в руки не возьму пера; / Что
службою у нас лишь только тот доволен, / В ком нет души. — И что ж?
Вдруг узнаю вчера, / Что я от службы уж уволен, / И что мне выдадут
прескверный аттестат. / Тем лучше, очень рад! / Я посмеюсь над этой
отсталою / Толпой невежд, глупцов, и докажу, / Как мало дорожу / Их вздорной
похвалою») (действие второе, явление первое); 4) признание
превосходства философских штудий над службой («Поверьте мне, мои домашние
занятья / Важнее во сто раз... / Всех глупых дел, / Среди которых мы в
невежестве коснели, / Когда никто из нас не постигал / Ни любомудрия
высокой цели / Ни просвещенья светлый идеал») (действие второе,
явление третье); 5) признание превосходства Парижа над Москвой («Вот
жизнь, мой друг! У нас все гладь, да тишь, / И мы спокойно все от скуки
умираем, / Волочимся тайком, украдкою играем, / В театре спим, / А в
клобе Английском едим, / Ростем в Москве, или в деревне прозябаем: /
А там все жизнию кипит! И все в чаду — / Старик и юноша, глупец и
гений, / Все пьют равно из чаши наслаждений!.. / Счастливо прожил
сутки, / А там — хоть пулю в лоб!.. / А сколько в этой буйной жизни /
Поэзии, мой друг! — А в нашей-то отчизне, / И с нашей прозаической
зимой, / Прошу поэтом быть») (действие второе, явление второе);
6) критика «квасного» патриотизма («Святая родина, ее священный глас, /
И дым отечества, и тма подобных фраз — / Давно свой век отжили, / Их
воскрешать, — напрасный труд. / Оне еще бредут / В каком-нибудь
народном водевиле; / Но если станем мы как люди рассуждать, / Так смею
вас спросить: чем можно оправдать / Смешное наше чванство? / И чем
нам хвастаться? — Не тем ли, что у нас / Брусника есть, капуста, квас? /
В любви к невежеству большое постоянство / И несколько давно
истасканных идей?») (действие второе, явление четвертое); 7) внимательное
отношение Чаадаева к своей европейской репутации, особенно в
Германии и Франции («профессором в Париже называли; / Ему в Германии,
тому назад пять лет, / Дивился весь ученый свет — / А этот край учеными
обилен, / И там живут не дураки — / Отлично знает языки...») (действие
четвертое, явление одиннадцатое); 8) имение Радугиных описано за
долги (четвертое действие, явление двенадцатое), эпизод соотносится с
обстоятельствами биографии Чаадаева, заложившего свое имение и
известного своими долгами (запись М. Я. Чаадаева о долгах П. Я. Чаадаева:
РГАЛИ. Ф. 546. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 362 об.-Зб4 об.). М. Ф. Орлов выведен
Загоскиным в персонаже барон Турухтанов. Так, Турухтанов является
автором «руководства к Познанью Русских всех производящих сил /
И средству верному умножить капиталы» (намек на книгу Орлова «О
государственном кредите» (1833), которого никто не понимает: «Поверьте
мне, пройдут, конечно, веки, / Пока в моем отечестве родном / Поймут
меня» (действие третье, явление восьмое) (см., например, жалобы
Орлова в письме к H. H. Раевскому (младшему) от 22 января 1834 г.: «Похвалы,
которые я получаю [за книгу «О государственном кредите». — М. Я], ни
в коей мере меня не удовлетворяют. Они почти все относятся к
первым страницам моей работы, доказывая мне, что не многие дочитали до
конца») (цит. по: Боровой С. Я. М. Ф. Орлов и его литературное наследие.
С. 303). Подробнее о «Недовольных» и взаимоотношениях Загоскина и
Чаадаева см.: Усакина Т. К Памфлет M. H. Загоскина на П. Я. Чаадаева и
М. Ф. Орлова //Декабристы в Москве. М., 1963. С. 162-184.
Имеется в виду фрагмент молитвы господней «Да придет царствие Твое».
См. комм. 3.
Речь идет о Священном Союзе и религиозной политике Александра I
второй половины его царствования, отличавшейся религиозной
терпимостью и представлением об объединяющей миссии христианства
(подробнее см.: Зорин А Л. Кормя двуглавого орла... Литература и
государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой
трети XIX века. М, 2004. С. 288-290).
Галилео Галилей (1564-1642) был осужден в 1633 г. римской
инквизицией за нарушение церковных запретов и приговорен к пожизненному
тюремному заключению, которого он избежал, публично отрекшись от
учения Н. Коперника. С. С. Уваров с 1833 г. был министром народного
Комментарии
807
просвещения и именно в его компетенцию (через Главное управление
цензурой) входил надзор за выходящими книгами и периодическими
изданиями.
Имеется в виду французский публицист, литературный критик,
политик, профессор французской поэзии в Коллеже Сен-Луи и Сорбонне
Сен-Марк Жирарден (Girardin) (1801-1873) и его статьи в журнале
«Journal des Débats», где он «проповедовал... sur les tendances religieux
de notre siècle» («о религиозных тенденциях нашего века») (выражение
А. И. Тургенева из его статьи «Париж (Хроника русского); датирована
21 марта 1836 г., впервые: Современник. 1836. Т. IV) (цит. по:
Тургенев А И. Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 85).
В данном случае речь идет о рецензии Жирардена на издание: Sancti
Joannis Chrysostomi opera omnia quae exstant. Tome IV. Paris, 1835 //
Journal des Débats. 14 octobre 1835. P. 3 (подпись: St.-M.). Дата выхода
журнального номера (14 октября) позволяет определить нижнюю
хронологическую границу создания письма Чаадаева Тургеневу.
Из письма А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 13 апреля 1833 г. из
Рима следует, что Тургенев посещал начало курса Жирардена о
немецкой истории в Сорбонне в 1830 г. (АбТ. 6, 189, 479). В «Отрывках из
заграничной переписки» (Московский наблюдатель. 1835. № 10)
Тургенев писал, что Жирарден лично приглашал его посетить собственные
лекции в Париже (цит. по: Тургенев Л. И. Хроника русского. Дневники
(1825-1826 гг.). С. 57).
Имеется в виду книга Антуана-Сезара Беккереля (Becquerel) (1788-
1878) «Трактат об электричестве и магнетизме» («Traité expérimental
de l'électricité et du magnétisme et de leurs rapports avec les phénomènes
naturels», первый том вышел в 1834 г., седьмой, последний, — в 1840 г.).
В своей рецензии (Journal des Débats, 14 octobre 1835) Жирарден, как
«светский человек» («homme du monde»), a не теолог, разбирал
комментарий Иоанна Златоуста к библейской книге Бытия и ставил себе задачу
уяснить, имеют ли комментарии интерес с точки зрения литературы
и философии. Особое внимание Жирардена было сфокусировано на
«естественнонаучных» фрагментах книги Бытия (например, на
описании сотворения мира). Критик предлагал проверить сведения,
содержащиеся в Библии, данными современной ему науки: в подтверждение
истинности библейской космогонии Жирарден упомянул Ж. Кювье, а
затем обратился к упомянутому выше труду Беккереля. Основной
посылкой к сопоставлению служила «свобода» научного поиска, которая
делала возможным непредвзятое суждение на заданную тему (в
частности, Жирарден писал: «La science est libre et marche à son aise, sans
avoir à craindre d'être condamnée par le Parlement ou par la Sorbonne, pour
avoir contredit l'Ancien Testament» («Наука свободна и движется по
своему усмотрению, не боясь осуждения со стороны суда или Сорбонны за
противоречия с Ветхим Заветом»: Journal des Débats, 14 octobre 1835.
P. 3). Сопоставляя разные переводы книги Бытия, Жирарден пришел
к выводу о соответствии космогонии Моисея стадиям геологического
развития Земли, изложенным у Беккереля: последовательное
сотворение мира отвечало этапам преобразования Земли из газообразного
состояния в твердое, а также возникновения жизни на планете (Ibid).
Жирарден заключал: «...ces analogies étant tout-à-fait accidentelles, et la
science n'ayant cherché à calquer la Bible, ces ressemblences sont curieuses,
qu'il peut y avoir lieu à réfléchir quand on voit que la science ne dit pas
toujours non à la tradition religieuse; que le doute est bon, même à l'égard
de la philosophie sceptique du dernier siècle; que cette philosophie, en niant
l'autorité de la Bible, n'a peut-être résolu du coup tous les problèmes que
soulève l'origine du monde et de l'homme» («...хотя аналогии эти
полностью случайны и наука не стремится копировать Библию, сходства сии
любопытны и могут дать повод к размышлению, особенно когда мы
видим, что наука не всегда противоречит религиозной традиции; что
сомнение правильно даже в отношении скептической философии
прошлого века; что эта философия, отрицая авторитет Библии, возможно,
не решила сразу всех проблем, связанных с происхождением мира и
человека») (Ibid). Мысли Жирардена чрезвычайно близки основным
идеям о науке и религии, которые развивал Чаадаев в 1830-е гг.
Возможно, Чаадаев имеет в виду восьмой параграф шестой главы
первого тома «Трактата об электричестве и магнетизме», где Беккерель
рассуждал о последнем по времени революционном изменении
геологической структуры земного шара и спорил с «Рассуждением о революциях
земного шара» («Discours sur les révolutions du globe») Ж Кювье, однако
саму космогонию Моисея Беккерель не упоминает (BecquerelЛ. -С. Traité
expérimental de l'électricité et du magnétisme et de leurs rapports avec les
phénomènes naturels. T. I. Paris, 1834. P. 525-526).
Имя Адольфа-Теодора (Адольфа Яковлевича) Купфера (Kupffer) (1799-
1865) часто упоминается в первом томе «Трактата об электричестве и
магнетизме» Беккереля (Becquerel A-С. Traité expérimental de l'électricité
et du magnétisme et de leurs rapports avec les phénomènes naturels. T. I.
Комментарии
809
P. 24, 371-374, 388-391, 398, 402). Купфер, происходивший из
Курляндии, был профессором физики, химии и минералогии в Казанском
университете, был избран академиком Императорской Академии наук в
Санкт-Петербурге 27 августа 1828 г. (утвержден императором Николаем I
26 октября 1828 г.). К 1834 г. он был действительным академиком,
коллежским советником, директором музея минералогии и магнетической
обсерватории, профессором физики в Педагогическом институте и
Институте путей сообщения, членом петербургского Общества
минералогии, московского Общества натуралистов и Общества ободрения
полезных искусств («d'encouragement des arts utiles») Эдинбурга. К 1837 г.
в послужном списке Купфера значилось кроме прежнего: профессор
физики в Обсерватории руд, земного магнетизма и метеорологии
(«Observatoire normal du Corps des mines, pour le magnétisme terrestre et la
météorologie»), член секции статистики Совета при министре
внутренних дел («la section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur»),
член Общества натуралистов и медиков Гейдельберга («la Société des
naturalists et médecins de Heidelberg»), Лондонского географического
общества («la Société géographique de Londres»), кавалер ордена св. Анны
3-й степени (Compte rendu des travaux de l'Académie Impériale des
sciences pour les années 1827-1828, par M. Fuss, secrétaire perpétuel. S. a., s. d.
P. 7; Recueil des actes de la séance publique de l'Académie Impériale des
sciences de St.-Pétersbourg tenue le 29 décembre 1833. St.-Pétersbourg, 1834.
P. VI-VII; Recueil des actes de la séance publique de l'Académie Impériale
des sciences de Saint-Pétersbourg, tenue le 29 décembre 1835.
St.-Pétersbourg, 1836. P. VI-VII; Recueil des actes de la séance publique de
l'Académie Impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, tenue le 30 décembre 1836.
St. Pétersbourg, 1837. P. XL-XLI). Купферу принадлежала также
«Mémoire sur quelques phénomènes magnétiques par M. Kupffer, membre de
l'académie», прочитанные на заседании в честь Александра Гумбольдта
16 ноября 1829 г. («Séance extraordinaire tenue par l'Académie Impériale
des sciences de St.-Pétersbourg en l'honneur de M. le baron Alexandre de
Humboldt du 16 novembre 1829») и выпущенная отдельной книгой в
1829 г. Купфер излагал в этом сочинении краткую историю изучения
магнетизма, выделяя исследования Э. Хейли (Halley), A. Гумбольдта,
А. Фостера (Foster), Ж.-Б. Био (Biot), барона Ф. П. Врангеля в Северной
Америке, Д.-Ф. Aparo (Arago) и Ж.-Б. Буссенго (Boussingault) в Боготе
(Ibid. P. 19-25). Книга Купфера «Руководство к деланью магнетических
и метеорологических наблюдений», на которую ссылаются некоторые
комментаторы данного фрагмента (см., например: Гершензон. Т. 1,389),
по всей видимости, не имеет отношения к письму Чаадаева,
поскольку вышла не в 1835, а в 1836 г.: Instruction pour faire des observations
météorologiques, rédigées par A. T. Kupffer. St. Pétersbourg, 1836.
Беккерель, рассуждая о наблюдениях полярного сияния И. М.
Симоновым, отмечает в первом томе своего «Трактата об электричестве и
магнетизме»: «...дни, когда русский путешественник видел сияние близ
южного полюса, явление наблюдалось на севере. Поэтому его
наблюдения ни к чему не ведут» («...les jours où le navigateur russe voyait des
aurores vers le pôle sud, le phénomène se montrait au nord. Ainsi donc ses
observations ne peuvent mener à aucune conséquence») (Becquerel A. -C
Traité expérimental de l'électricité et du magnétisme et de leurs rapports
avec les phénomènes naturels. T. I. P. 388; еще одно упоминание Симонова
см.: Ibid. P. 398). Симонов Иван Михайлович (1794-1855), профессор
астрономии в Казанском университете. М. О. Гершензон предположил,
что Чаадаев мог лично знать Купфера и Симонова, поскольку в 1824 г.
они жили в Париже, командированные для закупки физических
инструментов (Гершензон. Т. 1, 389). Симонов упоминается А. фон
Гумбольдтом в его речи на специальном, посвященном ему заседании
петербургской Академии наук: «ученый и усердный астроном г. Симонов
доказал, что Императорская Академия будет достойно содействовать
другим Академиям Европы в трудном, но полезном исследовании
регулярности магнетических явлений» («le savant et laborieux astronome
M. SIMONOFF, a prouvé que l'Académie Impériale secondera dignement
les autres Académies de l'Europe dans l'épineuse mais utile recherche de la
périodicité de tous les phénomènes magnétiques») (Séance extraordinaire
tenue par l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg en l'honneur
de M. le baron Alexandre de Humboldt du 16 novembre 1829. P. 40).
Речь идет о немецком френологе, ученике Ф. Й. Галля Иоганне Спурц-
гейме (Spurzheim) (1776-1832) и его работе «Френология или Учение о
Разуме» («Phrenology, or the Doctrine of the Mind», 1825). 35-я глава его
книги озаглавлена «Орган причинности» — «Organ of causality». Спурц-
гейм писал: «Dr. Gall remarked that those who were attached to the study of
metaphysics, presented such an hemispherical development of the superior
part of the forehead, as is seen in Mendelsohn, Kant... Fichte, and others. It is
very remarkable that the ancient artists should always have given their busts
of philosophers a large forehead, and represented Jupiter Capitolinus with
a forehead more prominent than is ever seen in nature; they would seem
Комментарии
811
to have observed that development of the forehead has a relation to great
understanding. Dr. Gall ascribes to the hemispherical configuration of brow
mentioned above the love of metaphysics, or profound reasoning. <...> And
I therefore ask what is the special faculty of lateral parts (of the front. — M. Я)?
Let us examine the most active faculty in metaphysicians. Their object is to
investigate the nature of all things, even the nature of God, and of the
immortal soul. Though, with Kant and others, I think that it is impossible by
reasoning to penetrate these subjects, it may still be asked, what faculty
endeavours to do so? Metaphysicians, in their attempts to explain phenomena,
necessarily examine the relations between cause and effect. Philosophers in
their explanations of natural phenomena by reasoning, always suppose or
admit some cause, and then develop their subject by mental induction
according to it. It seems to me, therefore, that the special faculty of the cerebral
parts on either side of comparison, examine causes, considers the relations
between cause and effect, and prompts men to ask, Why? Thus, the faculty
of individuality makes us acquainted with objects, that of eventuality, with
facts; comparison points out their identity, analogy, of difference, and the
faculty we are now considering, and which I style causality, desires to know
the causes of all occurences. Consequently, these faculties together,
drawing conclusions, inductions or corollaries, point out principles and laws, and
constitute the truly philosophic understanding. The faculty of eventuality
must furnish a sufficient number of facts in order to permit the two superior
faculties to draw consequencesand establish general principles. The effects
of causality are immense: the cultivation of fields, plantation of trees, all the
artificial enjoyments of the external and internal senses, the invention of
instrument of all kinds, on short all which men produces by art, depends on
this faculty. It knows the conditions under which events happen, brings these
to bear, and produces effects; for man cannot create, he can only imitate
nature; he cannot attain final causes, which nevertheless must exist; all he can
know is the succession of phenomena, and if one uniformly succeed another,
the preceeding is considered as the cause and the succeeding as the effect»
(«Д-р Галль отметил, что у тех, кто усиленно изучал метафизику, верхняя
часть лба получила своеобразное развитие в виде полусферы, как это
можно видеть у Мендельсона, Канта... Фихте и других. Примечательно,
что древние скульпторы всегда наделяли философов большим лбом,
изображая Юпитера Капитолийского со лбом, наиболее выдающимся,
какой только можно найти в природе, полагая, будто такое развитие лба
имеет отношение к особенной способности к пониманию. Д-р Галль
приписывает упомянутой выше полусферической конфигурации лба
любовь к метафизике или сильно развитую способность к
размышлению. <...> И поэтому я спрашиваю, какая особая способность есть у
боковых частей (лба. — М. Я)? Давайте исследуем наиболее ярко
выраженные способности метафизиков. Их стремление — постигнуть природу
всех вещей, даже природу Господа и бессмертной души. Вместе с
Кантом и другими я полагаю, что невозможно проникнуть в эти предметы
с помощью размышления, и поэтому по-прежнему мы можем спросить:
какая способность стремится так делать? Метафизики, в своих
попытках объяснить тот или иной феномен, необходимо исследуют
отношения между причиной и следствиями. Философы, размышляя и объясняя
природные феномены, всегда предлагают или допускают существование
некой причины, и затем развивают свой предмет, используя умственную
индукцию. Мне кажется поэтому, что особая способность церебральных
частей с каждой стороны к сравнению, изучению причин, рассматривает
отношения между причинами и следствиями и побуждает спрашивать:
почему? Так, индивидуальная способность знакомит нас с предметами,
возможностью, фактами; сравнение указывает на их идентичность,
аналогичность, различие, и способность, о которой мы теперь рассуждаем
и которую я именую причинностью, стремится познавать причины всех
явлений. Следовательно, все эти способности вместе: умение делать
выводы, умозаключения, извлекать следствия, — указывают принципы и
законы и составляют по-настоящему философское понимание.
Способность говорить о возможности должна предоставить достаточное
число фактов, чтобы позволить двум высшим способностям выводить
следствия и устанавливать общие принципы. Действия причинности
бесконечны: возделывание полей, выращивание деревьев, все
художественные удовольствия внешнего и внутреннего ощущения,
изобретение инструментов всех видов, вкратце, все, что человек производит,
используя различные ухищрения, зависит от этой способности. Она знает
условия, при которых происходят события, воздействует на них и дает
определенный эффект; что бы человек ни создавал, он может только
подражать природе; он не может достичь конечных причин, которые
тем не менее должны существовать; все, что мы знаем, есть
последовательность феноменов, и если один из них следует за другим, предыдущий
считается причиной, а следующий за ним — следствием») (SpurzheimJ.
Phrenology, or the Doctrine of the Mind. London, 1825. P. 295-297; section
IX, chap. Ill, XXXV). Работы Спурцгейма составляли актуальный фон для
Комментарии
813
современных Чаадаеву русскоязычных трудов по психиатрии и
душевным заболеваниям (см., например: Бутковский П. Душевные болезни,
изложенные сообразно началам нынешнего учения психиатрии в общем
и частном, феоретическом и практическом содержании. Ч. I. СПб., 1834.
С. III, XXXV). О френологии в России см.: Богданов К. А Врачи,
пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры XVIII—
XIX веков. М, 2005. С. 193-196.
Имеется в виду французский философ Теодор-Симон Жуффруа
(Jouffroy) (1796-1842), ученик В. Кузена, переводчик шотландских
философов, либеральный критик католицизма, профессор философии в
Коллеж де Франс, прославился статьей «Как умирают догматы» (1823),
в которой он утверждал, что старое христианство умерло и следовало
ожидать появления новой веры. В своей книге «Melanges philosophiques»
(1833) он писал: «...deux leviers bien plus puissans sont en mouvement pour
arracher la vieille Asie à ses vieilles doctrines. Ces leviers sont la Russie et
l'Angleterre. ...la première s'apprête à chasser tôt ou tard la mahométisme de
l'Europe, elle le tourne vers le Caucase et s'en va tarir dans leurs sources, dans
les steppes du nord, les recrues de l'islamisme et du brahmanisme. <...> ...la
Russie cerne l'Asie par le nord, depuis les monts Ourals jusqu'à l'extrémités du
Kamchatka, et ouvre un grand tiers de cette vaste contrée à notre civilisation...
<...> C'est une chose admirable et qui prouve la supériorité de la civilisation
chrétienne, que la conduite de la Russie et de l'Angleterre à l'égard des Asiatiques»
(«...два куда более могущественные рычага приведены ныне в действие,
дабы избавить старую Азию от ее старых доктрин. Сии рычаги суть
Россия и Англия. ...первая готовится рано или поздно изгнать
мусульманство из Европы, поворачивая его к Кавказу, и собирается рассеять
сторонников ислама и брахманизма в их истоках, в северных степях.
<...> ...Россия обнимает Азию с севера, от Уральских гор до
оконечности Камчатки, и открывает добрую треть сей обширной территории
нашей цивилизации... <...> Образ действия России и Англии в
отношении азиатских народов восхитителен и доказывает превосходство
христианской цивилизации») (Jouffroy Th. Mélanges philosophiques. Seconde
édition. Paris, 1838. P. 106-108).
Паллас (Pallas) Петер Симон (1741-1811), немецкий
естествоиспытатель, путешественник и географ на русской службе (с 1767 г.),
совершил путешествие по России (в частности, по Сибири) в 1768-1774 г.
и собрал богатый материал по естественнонаучной истории России.
814
Фишер (Fischer) Иоганн Эберхард (1697-1771), немецкий историк и
археолог на русской службе (с 1730 г.), совершил путешествие по
Сибири (1739-1748), в 1768 г. издал «Sibirische Geschichte von der Entdeckung
Sibiriens bis auf die Eroberung dieses Landes dursh die russeschen Waffen»
(русский перевод — 1774 г.). Подробнее о немецких исследователях
Сибири см.: Кюнтцель-Витт К. От Мессершмидта к Палласу: немецкие
ученые — исследователи Сибири. Российская империя: к просвещению
через открытие себя самой // «Вводя нравы и обычаи Европейские в
Европейском народе». К проблеме адаптации западных идей и практик
в Российской империи. М., 2008. С 152-162.
3 Имеется в виду Британская Ост-Индская компания (British East India
Company) и, вероятно, ее хартия 1833 г. (Charter Act 1833), в одном из
пунктов которой значилось, что ни одному подчиненному Компании
индийского происхождения не будет отказано от должности из-за его
религиозных убеждений, места рождения, цвета кожи.
14 Имеется в виду речь, произнесенная Николаем I в Варшаве 4/16
октября 1835 г., в которой он пригрозил полякам стереть Варшаву с лица
земли, если они будут оказывать неповиновение (полностью речь была
опубликована в газете «Journal des Débats»). Подробнее см.: Сидоров А А
Русские и русская жизнь в Варшаве (1815-1895). 2-ое изд. Варшава,
1901. С. ПО-Ш; Мильчина В. А Россия и Франция. С. 196-197, 358-
360.
5 О Петре I и его роли в русской истории подробнее см. «Апологию
безумного» (1837).
6 Дипломат и публицист Иван Сергеевич Гагарин (1814-1882) услышал о
Чаадаеве в 1833 г. от Шеллинга («l'un des hommes les plus remarquables
qu'il eût rencontrés» («один из самых замечательных людей, которого он
когда-либо встречал») (Gagarin, 1; И. С. Гагарин — издатель
«Философических писем» П. Я. Чаадаева / Введение, подготовка публикации и
комментарии Л. Шура // Символ. № 9 (1983). С. 220). В 1833-1835 гг.
Гагарин служил при русской миссии в Мюнхене. В 1835 г. он привез в
Москву отзыв Шеллинга о Чаадаеве, воспользовавшись им для
знакомства. Гагарин признавался, что его обращению в католицизм во многом
способствовал именно Чаадаев (Темнеет Р. Неизданные письма А. И. и
Н. И. Тургеневых И. С. Гагарину и письмо Н. И. Тургенева кн. А. П.
Голицыну // Символ. № 19 (1988). С. 229; см. также комментарий В. А. Миль-
чиной и А. Л. Осповата к письму Чаадаева к А. И. Тургеневу от 1 октября
1841 г.: Мильчина В. А, Основат А. Л. Неопубликованное письмо Чаа-
Комментарии
815
даева // Собрание сочинений: К шестидесятилетию Льва Иосифовича
Соболева. М., 2006. С. 363). Чаадаева и Гагарина познакомил А. С. Цури-
ков (Гершензон. Т. 1, 389; о Цурикове и Чаадаеве см.: Жихарев, 119),
который был автором заметки о Чаадаеве, опубликованной в 25-м номере
газеты «Весть» за 1865 г. (Л. 1) и ценной для «мифологии» Чаадаева
описанием его комнаты во флигеле Левашовых на Новой Басманной: «В мое
время Чаадаев сидел обыкновенно на старинном вольтеровском кресле,
принадлежавшем деду его, историографу князю Щербатову; кресло это
было немного ниже остальной, весьма скромной старой мебели. Подле
кресла налево стоял небольшой письменный стол, на котором Чаадаев,
в положении, по-моему, весьма неудобном (что составляло между нами
предмет частых споров), написал свои дальновидные, почти
пророческие письма о России на французском языке и многие другие статьи
по-русски и французски... Прямо против его кресла, между двумя
окнами противоположной стены, висел портрет его старого друга, сенатора
М. А. Салтыкова, кажется работы Кипренского. Направо на глухой стене
висела небольшая картина Егорова — ночная борьба патриарха Иакова
с ангелом — и наконец тут же помещались две большие, прекрасные
гравюры, изображающие пророка Моисея и св. евангелиста Иоанна
Богослова» (Весть. 1865. № 25. Л. 1).
Подробнее см. комм. 311.
Вероятно, П.-С. Балланш, при посредничестве А. И. Тургенева,
читал фрагменты сочинений Чаадаева (по всей видимости, не первого
«Философического письма»). О чтении Балланшем письма Чаадаева о
Риме к А. И. Тургеневу от 1 ноября 1836 г. см. в письме последнего к
П. А. Вяземскому от 1 ноября 1836 г.: «Вероятно, в бумагах Чаадаева]
найдут и записку ко мне Баланша, в коей он благодарит меня за
доставление ему для прочтения отрывков из письма Чаадаева]. Это письмо о
Риме в ответ на мое об Италии и о папе. <...> Он (Чаадаев. — М. В.)
отвечал уже мне в Париже, и я видел, что он кокетствовал со мною слогом
и общими историческими видами на Италию и на папу и желал, чтобы
Шатобриан или Баланш прочли его. Я потешил его и послал ему записку
Баланша на отрывок из его письма, ему, помнится, сообщенный. Но это
не известное письмо к даме» (Остафьевский архив князей Вяземских.
Т. 3. С. 345-346; курсив автора; см. также настоящее издание, с. 502-
503). Рукопись Чаадаева была получена Тургеневым от Балланша 3 июля
1835 г. (с письмом от 2 июля). В «записке» Балланш писал о рукописи
Чаадаева: «...она доставила мне истинное удовольствие... я вполне сочувствую
816
ее форме и содержанию и мне очень хочется ознакомиться со всеми
сочинениями этого человека» (Французские корреспонденты А. И. Тургенева
(М.-А. Жюльен, Э. Эро, П.-С. Балланш, Ф. Экштейн) / Публикация П. Р. За-
борова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год.
Л., 1978. С. 266; оригинал по-фр.). На письме Балланша Тургенев сделал
надпись: «Прошу доставить П. Я. Чаадаеву: он отгадает, о какой рукописи
идет дело» (Там же. С. 267).
419 Женуд (Genoude) Антуан-Эжен (1792-1849) — французский
католический публицист, журналист и аббат (с 1835 г.), легитимист и
сторонник ультрамонтанского католицизма (см.: Адрианов С. Примечание
к переписке П. Я. Чаадаева. С. 473-474). Женуд издавал «La Raison du
Christianisme» (1834-1835,12 томов) и редактировал «Gazette de France».
В библиотеке Чаадаева была книга: Genoude E. de. Considérations sur les
grecs et les turcs, suivies de mélanges religieux, politiques et littéraire. Paris;
Lyon, 1821 (Библиотека, 122).
420 этот тезис неоднократно повторяется Чаадаевым в «Философических
письмах».
421 Иоанн, 1,10.
422 Чаадаев при своих католических симпатиях никогда официально не
переходил в католицизм.
423 Булгаков Александр Яковлевич (1781-1863) — действительный
тайный советник (в 1837 г.), в 1809-1831 гг. — чиновник особых
поручений при московском генерал-губернаторе, московский почт-директор
(1831-1856), близкий друг А. И. Тургенева, П. А. Вяземского, приятель и
корреспондент Чаадаева (его отзыв о «чаадаевском деле» см.: Встречи с
прошлым. Вып. 9. С. 34-35). Булгаков выехал в Петербург в
промежутке между 28 и 31 октября 1835 г. (Московские ведомости. 1835. № 88.
С. 4340).
424 О возвращении А. Я. Булгакова в Москву из Петербурга (в период с 26 по
30 декабря 1835 г.) «Московские ведомости» сообщили 1 января 1836 г.
(Московское ведомости. 1836. № 1. С. 22).
425 Имеются в виду барон Фердинанд д'Экштейн (d'Eckstein) (1790-1861)
и его статья «Analyse du Kathaka-Oupanischat» (см.: Гершензон. Т. 1, 390).
См. подробнее: Адрианов С. Примечание к переписке П. Я. Чаадаева.
С. 471-475. Чаадаев мог познакомиться и сдружиться с д'Экштейном
еще в 1813 г., когда оба они участвовали в некоторых сражениях,
например под Люценом, но возможно, что их знакомство завязалось или
возобновилось в 1823-1824 гг., во время пребывания Чаадаева в Париже
Комментарии
817
(Там же. С. 472). Граф де Сиркур входил в круг приверженцев Бурбонов
во главе с Экштейном, где вращался и А. де Кюстин (Там же. С. 472-473).
Д'Экштейн, родившийся в Дании и учившийся в Германии, в 1818 г. был
назначен генеральным инспектором французской полиции, был
историографом в Министерстве иностранных дел Франции.
Имеется в виду Н. И. Тургенев.
Впервые в оригинале и русском переводе М. И. Чемерисской: Народы
Азии и Африки. 1986. № 5. С. 107-108. Оригинал печатается по: Œuvres
inédites ou rares, 67-68 (воспроизведено по автографу). Русский
перевод М. И. Чемерисской печатается по: Народы Азии и Африки. 1986.
№ 5. С. 108. Письмо датировано в рукописи 15-м апреля, год написания
текста — 1836-й — определен М. И. Чемерисской на основании письма
Чаадаева к А. И. Тургеневу от 1836 г. (Там же. С. 103). Ответное письмо
д'Экштейна Чаадаеву от 12 октября 1837 г. см.: Гершензон. Т. 1,391 (оно
было передано Чаадаеву через А И. Тургенева в письме от 15 октября
1837 г.: Французские корреспонденты А И. Тургенева (М.-А. Жюльен,
Э. Эро, П.-С. Балланш, Ф. Экштейн) / Публикация П. Р. Заборова //
Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., 1978.
С. 273-274). Лично знакомый с д'Экштейном, Чаадаев мог следить за
его позднейшими публикациями благодаря А. И. Тургеневу
(например, 11/23 апреля 1838 г. Тургенев писал Вяземскому: «Сейчас барон
д'Экштейн прислал мне ответ свой на брошюру Гизо о религии. Я
посылаю ее князю А. Н. Голицыну с тем, чтобы он доставил ее тебе, а ты,
прочитав, отошли в Москву для прочтения Чаадаеву]...» (Остафьевский
архив князей Вяземских. Т. 4. С. 40). О связи историософии Чаадаева
и индийской философии см.: Рашковский Е. Б. К публикации письма
П. Я. Чаадаева // Народы Азии и Африки. 1986. № 5. С. 109-117.
Оттиск статьи: Analyse du Kâthakao-upanischat, extrait du Yadschour Véda.
Chapitre premier. Théorie du feu du sacrifice. (Natschiketas) // Journal de
l'Institut historique. 1835. Vol. 3. Livre 8. P. 97-117. Материал был
подписан: «Le baron d'Echstein, membre de la 1-re classe de l'Institut Historique».
В оригинале слово неразборчиво — примечание M. И. Чемерисской.
В оригинале слово неразборчиво — примечание М. И. Чемерисской.
Речь идет о книге: Oupanischat, théologie des Védas, texte sanscrit
commenté par Shankara, traduit en français par L Poley. Paris, 1835. В своей
статье д'Экштейн так рекомендовал это исследование: «C'est le premier
des nombreux monumens de la littérature védaïque, dont ce érudit prépare
une édition. Le service qu'il rend à la science est immense» («Это первый
из многочисленных памятников ведической литературы, издание
которых готовит сей эрудит (т. е. Полей. — М. В.). Услуга, кою он оказывает
науке, огромна»: Journal de l'Institut historique. 1835. Vol. 3. Livre 8. P. 97).
Упоминание «Катхи-Упанишады» во фрагменте книги д'Экштейна «De la
Foi, de son développement et de ses rapports avec la Science» (Paris, 1836),
опубликованном в 12 номере «Телескопа» за 1836 г., сопровождалось
следующим комментарием Н. И. Надеждина (сделанном, возможно, с
подачи Чаадаева): «Анализ этого Упанишата, переведенного на
французский Л. Полем, напечатан бароном д'Экштейном в "Journal de l'Institut
Historique", III vol., 3 livr.» (Телескоп. 1836. № 12. С. 455. Цензурное
разрешение: 13 августа 1836 г.). Об увлечении восточными религиозными
практиками во французской католической мысли первой половины
XIX в. см.: Le GuilloiL L'Evolution de la pensée religieuse de Félicité
Lamennais. Paris, 1966. P. 31-35.
Идеи священного знания о смерти и времени «Катхи-Упанишад» («Но
достигший истинного понимания управляет своим умом и поэтому
всегда чист; он достигает цели — состояния, когда больше не нужно
рождаться в мире... Мудрый растворяет речь в уме; ум — в разуме, разум —
в Великой Душе; Великую Душу — в безмятежном Атмане», часть 1.3)
кратко сформулированы в финале статьи д'Экштейна: «Nâtschikétas ne
se laisse pas facilement tromper. Il devine l'inquiétude du dieu, il perce la
double entente de ses paroles; il voit que derrière cet être, en apparence sans
fin, il existe une fin réelle, que derrière cet être, en apparence immortel, il
existe une morte réelle; car, en tout cela, il y a un commencement; il est...
l'origine du monde. Mais Nâtschikétas aspire à la connaissance d'un être
vraiment infini, qui n'ait ni commencement ni fin; il y nul souci de cette
durée des choses temporelles, qui naissent avec le monde, qui meurent avec
le monde; elles rattachent le dieu de la mort aux phénomènes de la nature,
elles ne lui procurent qu'une immortalité relative, une éternité du temps, si
j'ose m'exprimer ainsi, éternité qui ne paraît telle que par rapport à la
migration des êtres» («Начикета не дает себя легко обмануть. Он угадывает
беспокойство бога, он проникает в двойной смысл его слов; он видит, что
за данным бытием, кажущимся бесконечным, существует верный конец,
что за данным существом, кажущимся бессмертным, существует верная
смерть; ибо, у всего этого, есть начало; есть... начало мира. Но Начекета
стремится к знанию бытия истинно бесконечного, не имеющего ни
начала, ни конца; ему нет дела до жизни временных вещей, рождающихся
и умирающих с миром; они подчиняют бога смерти к природным явле-
Комментарии
819
ниям, они принесут ему лишь относительное бессмертие, временную
вечность, если можно так выразиться, вечность, кажущуюся таковой
только в связи с переселением сущего»: Journal de l'Institut historique.
1835. Vol.3. Livre 8. P. 116-117).
Оригинал и русский перевод Д. И. Шаховского впервые: Шаховской Дм.
Якушкин и Чаадаев (По новым материалам) // Декабристы и их время.
Труды московской и ленинградской секций по изучению декабристов и
их времени. Т. П. М., 1932. С. 183-185. Оригинал печатается по: Œuvres
inédites ou rares, 69-70 (воспроизведено по автографу, хранящемуся в
РО ИРЛИ). Русский перевод Д. И. Шаховского печатается по:
Шаховской Дм. Якушкин и Чаадаев (По новым материалам) // Декабристы и
их время. Труды московской и ленинградской секций по изучению
декабристов и их времени. Т. И. С. 184-185. Письмо так и не было послано.
О причинах, побудивших Чаадаева не отправлять письмо Якушкину,
Д. И. Шаховской писал: «Письмо не было послано потому, что именно в
это время, по миновании десяти лет со дня 14 декабря, Якушкину каторга
была заменена вечным поселением, — 16 апреля последовало
распоряжение о перемещении его в Ялуторовск, и с июня по 16 сентября, день
прибытия в этот город, он постепенно перекочевывал через Иркутск и
Тобольск к месту нового своего назначения. Теща Якушкина, Над. Ник.
Шереметева, распоряжавшаяся сношениями с ним, не знала, куда
направить эти первые прямо уже на его имя посылаемые письма, и
поэтому произошла заминка в переписке. Как видно из письма Левашевой,
она хотела было отослать письмо Чаадаева со своим, писанным в июне,
но Шереметева утверждала, что нельзя пока писать Якушкину ни в Пе-
тровск, ни в Ялуторовск... <...> Очень может быть, что письмо даже было
представлено Чаадаевым московскому полицмейстеру Брянчанинову
уже после обыска, и что оно и есть то "сочинение", о котором в своем
письме Брянчанинову от 30 октября 1836 г. Чаадаев пишет, что оно во
время обыска находилось в чужих руках...» (Там же. С. 185-186). Чаадаев
и Иван Дмитриевич Якушкин (1793-1857) вместе учились в
Московском университете с 1808 г., затем служили в Семеновском полку,
вместе участвовали в европейской компании 1813-1814 гг., именно
Якушкин пытался принять Чаадаева в 1821 г. в тайное общество. Подробнее
см.: Там же. С. 161-166. В печати известны письма Якушкина к Чаадаеву
(от 4 марта 1825 г., от 1821 г. и от 1851 г.) и четыре письма Чаадаева
Якушкину (от 9 января 1825 г., 2 мая 1836 г., 19 октября 1837 г., 30
октября 1837 (или, как полагал Шаховской, 1838 г.) (Там же. С. 166-167).
См. также: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951.
С. 237-244, 257-259, 360,641,670.
Левашова Екатерина Гавриловна (урожд. Решетова) (?—1839), жена
Н. В. Левашова, двоюродная сестра Якушкина, с которой Чаадаев
познакомился в 1832 г., а в сентябре 1833 г. переехал во флигель дома Лева-
шевых на Новой Басманной (см. характеристику Левашевой Чаадаевым
(Юна изошла любовью») и А. И. Герценом («Женщина эта
принадлежала к тем удивительным явлениям русской жизни, которые мирят с
нею, которых все существование — подвиг, никому неведомый, кроме
небольшого круга друзей»): Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 8: Былое
и думы. 1852-1868. Части I—III. М., 1956. С. 366-367). Е. Е. Якушкин
писал: «Николай Васильевич Левашев был женат на двоюродной сестре
И. Д. Якушкина Екатерине Гавриловне Решетовой, мать которой
Екатерина Андреевна была родная сестра Дмитрия Андреевича Якушкина. Из
сохранившихся писем Екатерины Гавриловны к И. Д. Якушкину в Сибирь
видно, что это была женщина большой душевной глубины. Она была
хорошая знакомая П. Я. Чаадаева. И с Левашевыми и с братьями
Чаадаевыми Иван Дмитриевич был очень близок» (цит. по: Записки, статьи,
письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 548). Следующий после 1825 г. контакт
между Чаадаевым и Якушкиным относится к 1834 г.: «Сам Чаадаев еще
в 1834 г. послал Якушкину небольшую картинку с подписью художника
Романелли, изображающую, наподобие иконки, семейную группу.
Картина эта висела в камере Ивана Дмитриевича [Якушкина. — М. В.] и
сохранилась в его семье» (Шаховской Дм. Якушкин и Чаадаев (По новым
материалам). С. 182-183). Подробнее о Левашевых см.: Полвека русской
жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820-1870. Т. 1. М.; Л., МСМХХХ.
[1930] С. 205-206. В салоне Левашевых бывали И. И. Дмитриев, М. А.
Салтыков, М. Ф. Орлов, А. Н. Раевский, П. С. Полуденский, Е. А. Боратынский,
М. А. Дмитриев и др. (Там же. С. 206; «П. Я. Чаадаев познакомился с
Левашевыми через М. А. Салтыкова и М. Ф. Орлова/скоро очень сблизился с
ними и поселился в одном из флигелей их дома» (Там же. С. 215).
Письма Е. Г. Левашевой И. Д. Якушкину и П. Я. Чаадаеву см.: Петр Яковлевич
Чаадаев: Сб. / Изд. подготовил Б. Н. Тарасов. М., 2008. С. 419-430.
Чаадаев предназначал для высылки Якушкину свой экземпляр первого
тома книги А.-С. Беккереля «Трактат об электричестве...» (Becquerel А.-С
Traité expérimental de l'électricité et du magnétisme et de leurs rapports
avec les phénomènes naturels, 1834). Книга была задержана
Шереметевой и должна была быть послана, по просьбе Чаадаева, через Е. Ф. Му-
Комментарии
821
равьеву (Шаховской Дм. Якушкин и Чаадаев (По новым материалам).
С. 186).
436 О Ж. Кювье см. комм. 512.
437 Речь идет о восстании 14 декабря 1825 г. См. комм. 24.
438 Имеется в виду М. Я. Чаадаев, живший в своем имении Хрипуново
Нижегородской губернии. Последнее по времени по отношению к
настоящему посланию из дошедших до нас писем М. Я. Чаадаева П. Я. Чаадаеву
датировано 12 ноября 1835 г. (ПССиИП. Т. 2,453-454).
439 Имеются в виду Н. Д. Шаховская и Е. Д. Щербатова. Дети Ивана
Дмитриевича Якушкина и Анастасии Васильевны Шереметевой: Вячеслав
Якушкин (1823-1861) и Евгений Якушкин (1826-1905). С сыновьями
И. Д Якушкин познакомился лишь в начале 1850-х гг., когда В. И. Якушкин
получил место чиновника особых поручений при генерал-губернаторе
Восточной Сибири, а Е. И. Якушкин в 1853 г. был командирован в Сибирь
от министерства государственных имуществ (см.: Штрайх С. Краткие
сведения о декабристе И. Д Якушкине // Записки, статьи, письма
декабриста И. Д. Якушкина. С. 518-519).
440 Впервые опубликовано в оригинале (по подлиннику в «Тургенев, архиве
в И. Акад. Наук»: Гершензон. Т. 1, 390) и русском переводе Г. А. Рачин-
ского и печатается по: Гершензон. Т. 1, 191; Т. 2, 204-205. Датировано
М. О. Гершензоном (Гершензон. Т. 1, 390).
441 Имеется в виду письмо Чаадаева д'Экштейну от 15 апреля 1836 г.
442 М. О. Гершензон (ошибочно отнесший пиамо Чаадаева д'Экштейну к 25 мая
1836 г.) предположил, что письмо Чаадаева Тургеневу «могло застать
А. И. Тургенева в Париже, откуда он уехал только 2 июля... всю вторую
половину этого и первую 1837 года Тургенев провел в России, и в Париж
вернулся только после лета 1837 года» (Гершензон. Т. 1, 390-391).
443 Т. е. издатели журнала «Московский наблюдатель» (о направлении
данного издания в связи с идеями Чаадаева см.: ПССиИП. Т. 2, 325).
444 О чем именно идет речь, установить не удалось.
445 Имеется в виду журнал «La Dominicale» («Молитва Господня»), издателем
которого был Лакордер (подробнее см.: Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3. С. 333).
446 Имеется в виду папа Григорий VII Гильдебранд (1015/1020-1085, папа
римский с 1073 по 1085 гг.), который был известен своим
стремлением укрепить независимость папства, обновить католическую церковь (в
частности, Григорий VII способствовал утверждению церковного
целибата, добивался от священников отказа от использования оружия), борол-
ся за права католической церкви (с императором Священной римской
империи Генрихом IV, см. «унижение» императора в Каноссе в 1077 г.)
и сословия священников перед светской аристократией. Упоминание
Чаадаевым папы Григория VII как реформатора католической церкви
не случайно. Гильдебрандт был одним из излюбленных исторических
героев Ламенне, которого он называл «grand patriarche du libéralisme
européen» и «sauveur de l'Eglise, du christianisme, de la civilisation, de la
liberté» («великий патриарх европейского либерализма» и «спаситель
Церкви, христианства, цивилизации, свободы», из статьи Ламенне «De
la position de l'Eglise en France» («О положении Церкви во Франции»)
в газете «Будущее» («L'Avenir», от 6 января 1831 г., цит. по: Le Guillou L
L'Evolution de la pensée religieuse de Félicité Lamennais. Paris, 1966.
P. 102). Д'Экштейн замечал о роли Григория VII в истории католицизма:
«Sous Grégoire VII, elle [Rome] empêcha la féodalité d'absorber l'Eglise et
dtpaganiser en quelque sorte la chrétienté» («При Григории VII, он [Рим]
помешал феодальной системе поглотить Церковь и в каком-то смысле
обратить христианские народы в язычество», из статьи «De Rome dans
le present et l'avenir» (О Риме в настоящем и будущем», помещенной в
газете «Будущее» («L'Avenir») 3 мая 1831 г., цит. по: Ibid. P. ПО; курсив
автора). В своей статье «De la liberté de l'Eglise» («О свободе Церкви»),
опубликованной в том же издании 19 декабря 1830 г., аббат Жербэ
цитировал фрагмент «Курса современной истории» Ф. Гизо, касавшийся
папы Григория VII: «Nous sommes accoutumés à nous représenter Grégoire VII
comme un homme qui a voulu rendre toutes choses immobiles, comme
un adversaire du développement intellectuel, du progrès social, comme un
homme qui prétendait retenir le monde dans le système stationnaire ou
retrograde. Rien n'est moins vrai. Grégoire VII était un réformateur, par la voie
du despotisme, comme Charlemagne ou Pierre le Grand. Il était à peu près
dans l'ordre ecclésiastique ce que Charlemagne en France et Pierre le Grand
en Russie ont été dans l'ordre civil. Il a voulu réformer l'Eglise et par l'Eglise
la société civile, y introduire plus de moralité, plus de justice, plus de règle»
(«Мы привыкли представлять себе Григория VII как человека,
желавшего застоя, как противника умственного развития, социального
прогресса, как человека, стремившегося удержать мир в рамках бездвижной и
ретроградной системы. Нет ничего более ложного. Григорий VII был
сторонником реформ посредством деспотизма, как Карл Великий или
Петр Великий. Он был почти тем же в церковной сфере, кем были Карл
Великий во Франции и Петр Великий в России в сфере гражданской. Он
Комментарии
823
желал реформировать Церковь и с помощью Церкви реформировать
гражданское общество, ввести в него более нравственности,
справедливости, порядка», цит. по: Ibid. P. 102). Таким образом, упоминание
Чаадаевым работы Пушкина над историей царствования Петра Великого может
быть связано с его рассуждениями о папе Григории VII. Духовный и
политический кризис в России и Европе, по мысли Чаадаева, в состоянии
разрешить лишь определенный тип реформатора, о котором писал Гизо.
Пушкин приехал из Петербурга в Москву 2 мая и пробыл в ней до
20 мая 1836 г. 6 или 7 мая Пушкин посетил Чаадаева в доме Левашевых
на Новой Басманной улице. Вероятно, Пушкин подарил Чаадаеву
первый номер «Современника» (Летопись жизни и творчества Александра
Пушкина. Т. 4. М., 1999. С. 440-441). О своей работе над «Историей
Петра» Пушкин говорил в Москве и в присутствии М. С. Щепкина (Там
же. С. 442). К периоду пребывания Пушкина в Москве относится
записка Чаадаева «Я ждал тебя любезный друг вчера, по слову Нащокина, а
нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми часов дома, а потом поеду к
тебе. В два часа хожу гулять и прихожу в 4» (Гершензон. Т. 1,190).
Паровая машина как универсальный двигатель была впервые создана
Джеймсом Ваттом в 1774-1784 гг. Этому событию предшествовали
более ранние изобретения: Д. Папеном парового котла (1680), Т. Ньюко-
меном — пароатмосферной водоподъемной машины (1705) и русским
изобретателем И. И. Ползуновым — паровой воздуходувной машины
(1763-1765).
Токвиль Алексис де (Tocqueville) (1805-1859) в первом томе своей
книги «Демократия в Америке» (1835) писал: «Если бы мы могли вернуться
в тот период, когда возникло то или иное общество, и посмотреть на
его первые исторические памятники, то мы непременно, я в этом не
сомневаюсь, отыскали бы первопричины предрассудков, привычек и
пристрастий, распространенных в данном обществе, — словом, все то, что
составляет национальный характер. Мы смогли бы также найти
объяснение обычаям, которые будто бы совершенно не соответствуют тому, что
принято сегодня; законам, которые, казалось бы, несовместимы с
признанными в наше время нормами; противоречащим друг другу взглядам,
которые то и дело встречаются в обществе, словно некие остатки цепей,
хотя и свисающих по-прежнему со сводов древнего здания, но уже давно
ничего не поддерживающих. Это могло бы объяснить судьбы отдельных
народов, которых невидимая сила словно увлекает к некой цели,
неведомой им самим. Однако до сих пор для подобного анализа общества
824
не хватает фактов. Стремление познать самих себя приходит к народам
лишь по мере их старения, поэтому, когда они наконец задумываются
о необходимости взглянуть на свою колыбель, время уже заволокло ее
дымкой, а невежество и тщеславие окутало вымыслом, за которым
истина потерялась окончательно» (кн. 1, ч. 1, гл. 2: ТоквильА де.
Демократия в Америке. М., 2000. С. 43; пер. с фр. В. Т. Олейника, Е. П. Орловой,
И. А. Малаховой, И. Э. Иванян, Б. Н. Ворожцова). В библиотеке Чаадаева
имелось следующее издание: Tocqueville А СЪ. de. De la démocratie en
Amérique. Bruxelles, 1835 (Библиотека, 262; см. также: ПССиИП. Т. 2, 325).
О начальном этапе рецепции «Демократии в Америке» Токвиля (1835)
см.: Вольперт Л. И. Пушкин и Токвиль (Книга А. Токвиля («О
демократии в Америке») // Книга А. Токвиля «О демократии в Америке». Пушкин
и европейское мышление. Труды по русской и славянской филологии.
Литературоведение. IV. Тарту, 2001. С. IQ9-U5; Эткинд А Иная свобода:
Пушкин, Токвиль и демократия в России // Знамя. 1996. № 6. С. 2-15.
450 Оригинал впервые опубликован и печатается по: Œuvres inédites ou
rares, 71-72 (воспроизведено по подлиннику из архива А. Н. Пыпина в
РО ИРЛИ). Впервые в русском переводе М. И. Жихарева: Вестник Европы.
1874. № 7. С. 84-85. Русский перевод Жихарева печатается по: Гершен-
зон. Т. 1, 192-193. Переписку Мещерской и Чаадаева см. также: Лото-
шино: Литературно-краеведческий альманах. Вып. 1. М., 1998. С. 48-63-
Мещерская (урожд. Всеволожская) Софья Сергеевна (1775-1848) —
автор и переводчица религиозно-нравственных сочинений,
приятельница Чаадаева, А. И. Тургенева, П. А. Вяземского, Карамзиных, участница
Русского Библейского общества.
451 С. С. Мещерская получила один из 25 специальных оттисков русского
перевода первого «Философического письма», вышедшего в 15 книжке
«Телескопа» за 1836 г. Письмо к С. С. Мещерской — доказательство
заинтересованности Чаадаева в публикации и распространении этого текста.
Ср.: «В сущности Чадаев мог быть доволен громкою историею
"Телескопа". Произведение его появилось в журнале с предисловием издателя,
усладительно щекотавшим его самолюбие...» {Бартенев П. И.
Письмо А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву по поводу его «Философических
писем» // Русский архив. 1884. № 4. С. 459). Вероятно, Чаадаев (прямо или
косвенно) «рекламировал» публикацию в «Телескопе» и П. А.
Вяземскому, который писал А. И. Тургеневу 12 октября 1836 г.: «Скажи Чаадаеву о
моем сожалении, что не видел его пред отъездом, но готовлюсь увидеть
его в «Телескопе» (Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 130).
Комментарии
825
452 См. письмо Чаадаева к М. Бравуре от октября 1836 г. «...до вас дойдет
молва о некоей прозе, хорошо вам известной, скажите мне, прошу вас,
об этом два слова. Крики негодования и похвалы так странно здесь
перемешались, что я ничего не понимаю» (ПССиИП. Т. 2, ПО; оригинал
по-фр. см. в: Œuvres inédites ou rares, 70-71). О слухах середины октября
вокруг появления в печати перевода первого «Философического
письма» см.: Жихарев, 98-100.
453 Какой именно «слой» общества имеет в виду Чаадаев, не установлено.
454 Оригинал впервые опубликован и печатается по: Œuvres inédites ou rares,
72 (по копии с подлинного письма из архива Д. И. Шаховского в РО ИРЛИ).
Впервые в русском переводе Р. Темпеста и печатается по: Вопросы
философии. 1983. № 12. С. 130. Датировка принадлежит Р. Темпесту. По
предположению Темпеста, письмо осталось незаконченным вследствие
обыска. На оригинале (?) А. X. Бенкендорф сделал пометку на французском
языке: «Почерк Чаадаева» (Там же). Темпест отмечает, что «подписывать
свои статьи и письма от имени реальных лиц, лиц, более того, к нему
близких, было, похоже, эпистолярной привычкой автора [т. е. Чаадаева. —
М. В.]» (Там же. С. 131; см., например, записку к Бенкендорфу 1832 г.,
написанную от имени И. В. Киреевского). Как отмечает С. Я. Боровой,
«близость Орлова и Чаадаева была настолько широко известна, что
даже распространились слухи, что Орлов якобы перевел на русский
язык философическое письмо и что адресатом последнего была жена
Орлова», Орлов опровергал эти слухи в письме к А. X. Бенкендорфу от
29 октября 1836 г. (Боровой С. Я. М. Ф. Орлов и его литературное
наследие. С. 310-311). Об атмосфере, в которой Чаадаев писал письмо от
имени Орлова, свидетельствовал А И. Тургенев в письме к Вяземскому от
24 октября 1836 г.: «Ввечеру Свербеев, Орлов, Чаадаев спорили у меня
так, что голова моя, и без того опустевшая, сильнее разболелась. Что
же ты ни слова о статье Чаадаева? Боратынский пишет опровержение.
Здесь остервенение продолжается, и паче молва бывает. Чаадаев сам
против себя пишет и отвечает себе языком и мнениями Орлова.
Увидим, будет ли ему такой же успех в ...; но чтобы и мне не провраться с
больной головой моей!» (Остафьевский архив князей Вяземского. Т. 3.
С. 336). Об своем опровержении Е. А. Боратынский писал Тургеневу:
«Возражение мое далеко не приведено в порядок, а теперь, посреди
разных положительных забот, вы можете себе представить, как мне трудно
за него приняться. При первом досуге приложу к нему последнюю руку
и попрошу вас доставить его князю Вяземскому» (из первого письма
826
Тургенева к Вяземскому от 11 ноября 1836 г. (Там же. С. 357-358;
«положительные заботы» — смерть 4 ноября и похороны 7 ноября 1836 г.
Л. Н. Энгельгардта, отца А. Л. Боратынской, тестя Е. А. Боратынского
(Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800-1844. М., 1998.
С. 335).
Впервые: Лемке, 417. Печатается по: Гершензон. Т. 1,193 (М. О. Гершензон
воспроизвел текст письма с поправками по рукописи, имевшейся в
распоряжении М. К. Лемке). Написано после домашнего обыска у Чаадаева
29 октября 1836 г. М. К. Лемке отметил, что прилагаемые к письму
бумаги в архивном деле, из которого он почерпнул это письмо,
отсутствовали (Лемке, 417). Никита Петрович Брянчанинов (1801-1886) —
московский старший полицмейстер, состоявший при кавалерии, полковник
(с 1832 г.).
По предположению Ш. Кене, речь шла о рукописи одного из
«Философических писем» и копии одного из «Философических писем» или же
дубликате страниц о России из книги И. М. Ястребцова (Quénet, 250).
Оригинал впервые: Gagarin, 189-190. Впервые в русском переводе
Г. А. Рачинского: Гершензон. Т. 2, 205-206. Оригинал (с подлинника из
«Тургенев, архива И. Акад. Наук»: Гершензон. Т. 1,392) и русский перевод
Г. А. Рачинского печатается по: Гершензон. Т. 1, 190; Т. 2, 205-206. По
предположению М. О. Гершензона, написано около 30 октября 1836 г.
(Гершензон. Т. 1,392).
Обыск у Чаадаева состоялся 29 октября 1836 г.
Предположительно, речь идет о книге Давида Фридриха Штрауса
«Жизнь Иисуса» («Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet», два тома данного
сочинения вышли в 1835-1836 гг.). См. также: Жихарев, 87.
О каких именно «опровержениях» писал Чаадаев, установить не
удалось.
Имеется в виду книга Ж де Местра «Исследование философии Бэкона»
(Examen de la philosophie de Bacon, 2 t., 1836). A И. Тургенев писал П. А
Вяземскому из Симбирска 7 сентября 1836 г.: «Скажи милой Брав. (т. е.
М. Бравуре. — М. Я), что отвечать ей буду из Москвы; но не худо, есть
ли бы она еще написала ко мне и сказала побольше о себе и о своих
надеждах в будущем; т. е. где она останется или куда переедет? — у меня
для нее Гр. Мейстер (œuvre posthume) <посмертные сочинения>
ругательная критика на Бакона, qu'il traite en polissons, en ignorant (!) et des
impie! Passe pour la piété — moins refuser la science à Bacon, c'est plus hardi
que de refuser les clefs de S. Pierre à son successeur! Естьли Брав, еще раз
Комментарии
827
ко мне не откликнется, то отдам Бакона — Мейстера Мейстеру — Чадае-
ву» (Литературный архив. Материалы по истории литературы и
общественного движения. 1. М.; Л., 1938. С. 84; перевод: «которого он считает
распутником, невеждой (!) и безбожником! Благочестие ладно еще, не
отказывая Бэкону в учености, это смелее, чем отказывать преемнику
Св. Петра в праве на его ключи!»).
Впервые в оригинале (с подлинника из «Тургенев, архива, в И. Акад.
Наук»: Гершензон. Т. 1, 393) и русском переводе Г. А. Рачинского и
печатается по: Гершензон. Т. 1,196; Т. 2, 206. Датируется М. О. Гершензоном
периодом между 1 по 17 ноября 1836 г., когда А. И. Тургенев уехал из
Москвы в Петербург (Гершензон. Т. 1, 393).
Оригинал впервые: Gagarin, 187-188; печатается (по подлиннику из
«Тургенев, архива, в И. Акад. Наук»: Гершензон. Т. 1, 393) по: Гершензон.
Т. 1, 196-197. Впервые в русском переводе Г. А. Рачинского и
печатается по: Гершензон. Т. 2, 206-207. Датировано И. С. Гагариным, а затем
М. О. Гершензоном 1836 г. по содержанию, в связи с делом о напечата-
нии «Философического письма» в «Телескопе» (Гершензон. Т. 1, 393).
Какие именно книги имел в виду Чаадаев, установить не удалось.
Предположительно, речь идет о шестом и седьмом «Философических
письмах» (подробнее о судьбе этого микроцикла внутри чаадаевских
«писем» см. нашу преамбулу к «Философическим письмам» в настоящем
издании). О попытках напечатать сочинения Чаадаева в «Московском
наблюдателе» см. в материалах следствия, наст, издание, с. 628.
Имеется в виду московский издатель Огюст-Рене Семен (А. И. Рене-
Семен). О нем см., например: Дружинин П. А. К биографии типографа
и книгоиздателя Августа Семена // Книга: Исследования и материалы.
Сб. 72. М., 1996. С. 212-216 (там же см. библиографию); Сидоров А. А.
Искусство русской книги XIX-XX веков // Книга в России. Ч. 2. М., 2008.
С. 189-192; Розанов И. К Книга и люди в XIX веке //Там же. С. 455-456.
Это произошло в 1833 г. См. преамбулу к «Философическим письмам» в
настоящем издании.
Впервые опубликовано в оригинале (по подлиннику, хранящемуся в
архиве А. Н. Пыпина в РО ИРЛИ) и печатается по: Œuvres inédites ou
rares, 73-74. Впервые в русском переводе М. И. Жихарева: Вестник
Европы. 1874. № 7. С. 85-86. Русский перевод печатается по:
Гершензон. Т. 1, 194-196 (М. О. Гершензон воспроизвел текст письма
по публикации в «Вестнике Европы»). Строганов (1-й) Сергей
Григорьевич (1794-1882) — граф (графское достоинство барон Строганов
получил через жену — Н. П. Строганову, дочь гр. П. А. Строганова,
таким образом став продолжателем пресекшейся с умершим в 1817 г.
П. А. Строгановым первой ветви этой фамилии. См.: Петров П. К
История родов русского дворянства: В 2 кн. Кн. 2. М., 1991.
С. 153-154; впервые в 1886 г.), генерал-майор (в 1836 г., генерал-лейтенант
с 26 апреля 1837 г.), воспитанник Корпуса инженеров путей
сообщения, участник войны 1812 г., русско-турецкой войны 1828-1829 гг.,
в 1826 г. выполнял личные распоряжения Николая I в Костромской
губернии и в Москве (ревизовал Московский университет), с 1828 г. — в
императорской свите, в 1830 г. — уволен в отпуск по состоянию
здоровья, с 1831 г. замещал Рижского военного генерал-губернатора,
затем стал временным Минским военным генерал-губернатором (уволен
25 апреля 1832 г.), с 6 декабря 1835 г. — генерал-адъютант Николая I, с
1 июля 1835 г. — попечитель Московского учебного округа, председатель
Московского отделения Мануфактурного совета (Формулярный
список о службе и достоинстве... графа Строганова (апрель 1829 г.,
черновой) // РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 165. Л. 18-21; Формулярный список
о службе и достоинстве... графа Строганова (ноябрь 1856 г., писарский
с собственноручными пометами) // РГАДА- Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 165.
Л. 59-77). О Строганове см., например: Барсуков К П. Жизнь и труды
М. П. Погодина. Кн. 4. СПб, 1891. С. 307-308; 1825-1860. Школа
рисования в отношении к искусствам и ремеслам, учрежденная в 1825 г.
графом С. Г. Строгановым. Ее возникновение и развитие до I860 г. Составил
А. Гартвиг. М, 1901. С. 77-89; Лшевский С. Из истории Московского
университета (к полуторавековому юбилею: 1755-1905)//Мир Божий. 1905.
№ 4. С. 104-110; Петров Ф. Л. Формирование системы
университетского образования в России. Т. 4: Российские университеты и люди 1840-х
годов. Часть I: Профессура. М, 2003. С. 127-134. Строганов первым из
высокопоставленных чиновников министерства народного
просвещения прочитал русскоязычную версию первого «Философического
письма», опубликованную в «Телескопе». Когда разразился скандал,
Строганов обсуждал «чаадаевское дело» с А. И. Тургеневым (запись в дневнике
A. И. Тургенева от 4 ноября: РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 316. Л. 58 об.;
указано А. Л. Осповатом; о салонных беседах Тургенева о «чаадаевском
деле», см.: Щеголев И Е. Дуэль и смерть Пушкина. С приложением
новых материалов из нидерландских архивов. СПб, 1999. С. 256-258,260,
266, 269). Обращение Чаадаева к Строганову могло также объясняться
его репутацией «честного человека» среди близких к Чаадаеву людей.
B. А. Жуковский писал Николаю I в 1830 г.: «Одно только необходимо:
Комментарии
829
чтобы в самом начале положены были основания твердые, чтобы с
самого начала дано было полное счастие гражданское, чтобы
исполнение благого намерения было поручено людям, способным постигнуть
его и исполнить с совершенным забвением личной корысти. Такие
надежные люди есть; назову: Адлерберга, Василия Перовского, Сергея
Строганова и еще одного, который бы мог там и остаться, который есть
воплощенная честность и здравый смысл, статского или
действительного с (татского) с(оветника) Тургенева, служившего при министре
в(нутренних) д(ел), теперь взявшего отставку» (Дубровин К Василий
Андреевич Жуковский и его отношения к декабристам // Русская
старина. 1902. Т. ПО. С. 78).
Обращение к книге И. М. Ястребцова должно было подчеркнуть под-
цензурность идей Чаадаева. А. И. Тургенев писал Вяземскому 12 ноября
1836 г. о письме Чаадаева к Строганову: «Он писал третьего дня к графу
Строганову и послал ему книгу Ястребцова, где о нем и почти его
словами говорится, и в выноске сказано: "П. Я. Ч." и все в пользу России и в
надежде ее быстрого усовершенствования, как бы и в опровержение того,
что ему приписывают по первой статье. Не знаю, что сделает Строганов
с сим письмом, но статья была бы в его пользу, если бы
беспристрастно сии, также года за четыре писанные, страницы рассмотрены были.
Другие статьи его были одобрены, как он сказывал, духовною здешнею
ценсурою. Все это могло бы смягчить к нему теперешних судей его, а
еще более то мнение, которое о нем теперь здесь господствует, ибо все
знают о его визите и о его словах Строганову» (Остафьевский архив
князей Вяземских. Т. 3. С. 358-359). Как следует из дневниковой записи
А. И. Тургенева от 14 ноября 1836 г. («[...] поехал к Гр[афу] Строганову],
он сказал мне, что не послал письма Ч[адаева] о Ястребцова книге,
что производится следствие» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 316. Л. 60; указано
А. Л. Осповатом), Чаадаев просил Строганова отправить его письмо в
Петербург (кому именно, сказать сложно; осторожно предположим,
что речь шла об А. X. Бенкендорфе: Бенкендорф лично знал Чаадаева,
именно к его заступничеству П. Б. Козловский советовал обратиться
А. И. Тургеневу и П. А. Вяземскому в письме от 26 декабря 1836 г.; в ноябре
1836 г. Строганов писал Бенкендорфу о «чаадаевском деле» (упоминание о
письме см. приложение, с. 539-540); хотя личные отношения Строганова
и Бенкендорфа не были хорошими, предположение, что Чаадаев просил
попечителя отправить письмо о книге Ястребцова врагу Строганова
министру С. С. Уварову, кажется менее вероятным). М. И. Жихарев писал об
830
эпизоде с книгой Ястребцова в письме к А. Н. Пыпину от 2 октября 1871 г.:
«Чаадаев разумел какую-то книгу, по крайней мере годов пять после
напечатания "Письма" на нее указывал, — какого-то доктора
Ястребцова. Ястребцов имел связи с М. Ф. Орловым и был особенно дружен с
Ю. Н. Бартеневым. Верить же на слово, что это сочинение наполнено
чаадаевскими идеями, нельзя: Чаадаев называл же М. А. Бакунина своим
воспитанником. На ту же книгу 4<аадаев> ссылается в письме к графу
Строганову» (цит. по: Темнеет Р. О Михаиле Жихареве // Символ. № 22
(1989). С. 257).
470 что имеет в ВИду Чаадаев, установить не удалось.
471 Неточная цитата из: Матф, VI, 33.
472 Эту мысль Чаадаев развил в «Апологии безумного» (1837).
473 1 ноября 1836 г. московский обер-полицмейстер Л. М. Цынский
сообщил Чаадаеву об официальном вердикте петербургских властей —
считать Чаадаева умалишенным.
474 Впервые опубликовано (по подлиннику из «Тургенев, архива, в И. Акад.
Наук»: Гершензон. Т. 1,394) и печатается по: Гершензон. Т. 1,199.
Датировано М. О. Гершензоном 17-18 ноября 1836 г., поскольку письмо
«писано несомненно тотчас после обыска и допроса, и, как видно из письма,
незадолго до отъезда Тургенева из Москвы» (Гершензон, Т. 1, 394).
475 О какой именно рукописи Чаадаева идет речь, не установлено.
476 А. И. Тургенев уехал в Петербург 17 ноября 1836 г.
477 По предположению В. Ю. Проскуриной, речь идет о книге Д.-Ф. Штрауса
«Жизнь Иисуса» (Проскурина, 623; см. комм. 459).
478 Впервые опубликовано в оригинале (по подлиннику из «Тургенев,
архива, в И. Акад. Наук»: Гершензон. Т. 1,394) и русском переводе Г. А. Рачин-
ского и печатается по: Гершензон. Т. 1,199-201; Т. 2,207-209. Датировано
М. О. Гершензоном на основании упоминания «Капитанской дочки»
Пушкина, вышедшей из печати «27 ноября 1836 г.» в 4-м томе
«Современника» (Гершензон. Т. 1, 394-395). Следует оговорить, что
соответствующий том «Современника» вышел не 27 ноября, но 22 декабря
1836 г. (Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С 553),
так что письмо Чаадаева было, по-видимому, написано в самом конце
декабря 1836 — январе 1837 г.
479 Имеются в виду: «История Гогенштауфенов и их времени» Ф. фон Рау-
мера (Raumer F. von. Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. Bd. 1-4,
Leipzig, 1823-1824) и «Сочинения» Г. В. Ф. Гегеля (Hegels G. W. F. Werke.
Berlin. Bd. 1-17.1832-1841).
Комментарии
831
480 Греф Вильгельм (Грефе) (Graff) (1781-1839) - петербургский издатель
и книгопродавец. Родившийся в Германии Греф происходил из семьи
священника, с 17 лет работал в книжной лавке своего дяди X. Грефа в
Лейпциге, в 1802 г. был послан в Петербург по деловому поручению, но,
не выполнив его, остался работать в одной из местных книжных лавок.
В 1806 г. Греф был отозван в Лейпциг, но уже весной 1807 г. вернулся
в Россию и открыл в Петербурге собственную книжную лавку, которую
держал в течение следующих 32 лет. Подробнее см. анонимный
некролог Грефу в: Neuer Nekrolog des Deutschen. 70. Jahrgang, 1839. 2. Theil.
Weimar, 1841. S. 851-852 (благодарим за указание на этот источник
А. Койтен).
481 Вероятно, имеется в виду один из томов английского литературного
альманаха, издававшегося Фредериком Менселом Рейнольдсом: The
Keepsake. Ed. by F. Mansel Reynolds. London, 1830-1837; и французский
перевод Гийома Потье (Pauthier) «Рассуждения о философии Индусов»
(«L'Essai sur la philosophie des Hindous», 1833-1837) Генри Томаса Кол-
брука (Colebrooke).
482 При обыске у Чаадаева было, в частности, изъято письмо барона А. К Мей-
ендорфа, в котором и содержался упомянутый Чаадаевым «комплимент»
(Гершензон. Т. 1,295; Quénet, 255).
483 Имеется в виду роман Пушкина «Капитанская дочка».
484 «Старый немецкий генерал» — Андрей Карлович, появляющийся в
финале второй главы «Капитанской дочки»: «Приехав в Оренбург, я
прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже
сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый
полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в
его речи сильно отзывался немецкий выговор» (Пушкин А С. Полное
собрание сочинений: В 16 т. Т. 8. Кн. 1. М.; Л., 1948. С. 292), Суждение
И. И. Дмитриева о «Капитанской дочке» важно еще и потому, что его
рассказы, как живого свидетеля восстания, послужили одним из
источников пушкинских работ о бунте Пугачева. Дмитриев Иван Иванович
(1760-1837) — государственный деятель, переводчик, мемуарист, еще
при жизни имел репутацию русского «классического» поэта. В 1796 г.
вышел в отставку из военной службы полковником, при Павле I (в 1797 г.)
назначен 2-м товарищем министра в новоучрежденный Департамент
Удельных имений и обер-прокурором во временный Казенный
департамент Сената. В1799 г. вышел в отставку в чине тайного советника, с 1806 г. —
сенатор в Московском VI департаменте Сената, в 1810-1814 гг. —
министр юстиции, после отставки поселился в Москве, завсегдатаи
московского Английского клуба, один из посетителей салона Е. Г. Леваше-
вой. Первое упоминание о встрече Чаадаева и Дмитриева относится к
1822 г. (А. Я. Булгаков писал К. Я. Булгакову 23 мая 1822 г. из Москвы о
вечере у П. А. Вяземского, на котором присутствовали как И. И.
Дмитриев, так и Чаадаев: Русский архив. 1901. № 3. С. 413), их контакты
интенсифицировались в 1831 г. (учтено в: Сукайло В. А. Труды и дни Ивана
Дмитриева 1760-1837. Хроника. Ульяновск, 2008. С. 724-726,728).
Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России,
собранные из достоверных источников и расположенные по годам.
Ч. 1-12. М., 1788-1789; Голиков И. Я. Дополнения к Деяниям... М, 1790-
1797.
Берье (Веггуег) Пьер-Антуан (1790-1868), адвокат, политический
деятель, легитимист, сочетавший приверженность к традиционной
монархии с защитой либеральных идей. О каком именно портрете и речи
Берье идет речь, неустановленно. Репутация Берье как оратора была
крайне высока. А. И. Тургенев рассказывал в «Хронике русского»: «Он
[Берье. — М.В.] любит жить и любит жизнь в большом свете и с артистами;
страстен к итальянской музыке и в связи с Россини и проч., но охотник
говорить и о делах государственных; несмотря на легитимизм, видит
его с высока, так, как и все вещи и людей, имеющих влияния на были и
небылицы века сего. <...> [С. П. Свечина] не надивится универсальности
и его глубокомыслию и таланту, с коим и то и другое выражает он в
речах своих и в разговоре» (Тургенев А И. Хроника русского.
Дневники (1825-1826). М.; Л., 1964. С. 78; курсив автора; корреспонденция от
22 февраля 1836 г., опубликовано в журнале «Современник». 1836. Т. I).
Впервые: Вестник Европы. 1871. № 11. С. 328-329. Печатается по: Гер-
шензон. Т. 1, 201-202 (М. О. Гершензон напечатал это письмо по
более точной публикации М. К. Лемке (Лемке, 449-450), с поправками
по имевшейся в его распоряжении рукописи- Гершензон. Т. 1, 395).
Цынский (Цынской, Цинский) Лев Михайлович — московский обер-
полицмейстер, участвовал в европейской компании 1813-1814 гг.,
штаб-ротмистр лейб-гвардии Конного полка и полковой казначей
(1822), впоследствии полковник, эскадронный и дивизионный
командир, с 1830 г. — флигель-адъютант, с 1833 г. — генерал-майор, с ноября
1833 г. (по февраль 1845 г.) — обер-полицмейстер в Москве
(подробнее см. комментарий К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой, Т. Ф. Нешумовой в:
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 679)-
Комментарии
833
Согласно ряду источников, Цынский пользовался в Москве репутацией
человека крайне жестокого. См.: «Цынский был известен впоследствии
как человек более чем сомнительной честности, нахальный, грубый,
злой и жестокий. Говорили, и не без основания, что он нарочно
приезжал присутствовать при телесных наказаниях, если они того
заслуживали, т. е. если с человека, как говорилось, спускали шкуру, и что
видеть подобные экзекуции составляло для него наслаждение. Любил
он, как рассказывали, и собственноручные расправы, которые, впрочем,
не всегда оканчивались для Цынского успешно. <...> Кто читал обер-
полицмейстерские отчеты того времени, тот мог без труда взвесить ту
степень, до какой доходило казнокрадство Цынского. <...> Физиономия
его была очень неприятная: изношенный, бледный, с зеленоватым
оттенком, в черном парике, с крашенными усами, морщинистый, с злым
и бездушным выражением, он внушал всякому порядочному человеку
антипатию, доходившую до отвращения» (Отрывки из воспоминаний
Бекетова // Щукинский сборник. Вып. 2. М., 1903. С. 487-488).
О деталях своего разговора с Чаадаевым Цынский писал московскому
военному генерал-губернатору Д. В. Голицыну 18 января 1837 г.
(пересылая и само письмо от 7 января). Цынский навел справки и выяснил,
что «Панова по просьбе мужа своего действительно была
свидетельствована Губернским Правлением в умственных способностях и в
самом акте составленном таковому свидетельству истребованному мною
чрез г. Московского Гражданского Губернатора, объяснены все ее
выражения на основании коих признана она умалишенною, и отправлена на
излечение в заведение г. Саблера». 23 января 1837 г. Голицын рассказал
обо всем этом в письме к Бенкендорфу, заметив, что «по заботливости
Чаадаева — объяснить начальству о прежнем знакомстве его с г-ею Па-
новою, нельзя не приметить, что он опасается подпасть под
подозрение в одномыслии с тою женщиною, слова которой, объявленные ею
в сумасшествии, смутили его и заставили дать помянутое объяснение»
(Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 95-97).
Показания Е. Д. Пановой, в которых она в частности называла себя
«республиканкой» и замечала: «молилась Богу за поляков потому, что они
сражались за вольность», см.: Лемке, 448-449-
Впервые: Вестник Европы. 1871. № U.C. 326-328 (с неверной датой —
5 января 1837 г.). Печатается по: Гершензон. Т. 1, 203-205 (М. О. Гер-
шензон воспроизвел текст письма по публикации в «Вестнике Европы»).
Ответ на письмо М. Я. Чаадаева от 26 января 1837 г.: Гершензон, Т. 1,396
834
(M. Я. Чаадаев, в частности, писал брату: «Письмо твое от 11 января, в
котором уведомляешь о постигшем тебя несчастии получил. <...> Если
объявление тебя сумасшедшим сделано неправильно то так как тебе
самому нельзя просить, — мой долг от своего имени просить где следует,
но для этого надобно знать: как, кем ты объявлен сумасшедшим, —
каким присутств.: местом или лицом, откуда последовал указ, как
производилось следствие, и прочие все обстоятельства о которых ты меня не
уведомил. Разумеется что если все происходило законным порядком то
и просить не о чем, и нельзя» (Гершензон. Т. 1, 396). Письмо существует
в двух редакциях. Ранняя редакция опубликована в: Гершензон. Т. 2, 26-
28 и сопровождена следующим комментарием М. О. Гершензона: «Уже
по отпечатании I тома кн. А. В. Звенигородским была доставлена
нижеследующая копия письма № 68, писанная М. Я. Чаадаевым. На подлинном
рукою М. Я. сверху написано: "1837 г. Февр.: 16. — К Метог: III6. — Брат
П. Я. Ч. — Копия с письма брата П. Я. Ч. в С. Хрипун: 14 Февр: 1837 г."
Копия представляет значительные варианты; это несомненно
первоначальная редакция, тогда как текст I тома — исправленная. Очевидно, Ч.,
отослав письмо, затем по своему обыкновению выправил черновую и в
таком исправленном виде давал письмо на прочтение своим знакомым»
(Гершензон. Т. 1, 26). Исключенные Чаадаевым при редактуре абзацы
ранней редакции письма см.: ПССиИП. Т. 2, 333-334. Подробнее о ходе
«чаадаевского дела» см. приложение к настоящему изданию.
На самом деле, Чаадаеву сообщили о вынесенном в Петербурге
решении 29 октября 1836 г.
Именно так распорядился Николай 130 ноября 1836 г. по рассмотрении
доклада специальной комиссии по делу о запрещении «Телескопа».
Подробнее об интерпретации Чаадаевым собственного наказания см. в
нашей преамбуле к «Апологии безумного».
См. материалы следствия в настоящем издании, с. 628-629.
Состав преступления {лат. ).
По обязанности (лат.).
Имеются в виду Н. В. и Е. Г. Левашевы. Подробнее см. комм. 434.
Оригинал и русский перевод Б. Л. Модзалевского впервые: Из бумаг
С. Л. Пушкина: (Письма к нему разных лиц, 1836-1837 гг.) // Пушкин
и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1908. Вып. 8.
С. 52-53. Печатается по: Гершензон. Т. 1,205; Т. 2,209 (М. О. Гершензон
воспроизвел по публикации в книге «Пушкин и его современники»).
Сергей Львович Пушкин (1770-1848), отец А. С. Пушкина, в момент
Комментарии
835
смерти сына находился в Москве. Е. А. Боратынский навестил его «в ту
самую страшную минуту, как его уведомили о страшном происшествии.
Он, как безумный, долго не хотел верить» (цит. по: Черейский Л. А.
Пушкин и его окружение. Изд. 2. С. 352). «Приготовить» С. Л.
Пушкина к получению вести о смерти сына было поручено И. И. Дмитриеву,
писавшему В. А. Жуковскому из Москвы 27 марта 1837 г.: «Тяжело, а
часто будем будем вспоминать его [А. С. Пушкина. — М. В.], любезный
Василий Андреевич. Думал ли я дождаться такого с ним катастрофа?
Думал ли я пережить его? Поденные Тургенева записки, два письма
Вяземского и ваше так врезались и в памяти и в сердце моем, как будто и
я был всему самовидец, и на меня же еще было возложено приготовить
отца к разразившемуся над ним удару!» (Дмитриев И. И. Сочинения. М,
1986. С. 422; сам Жуковский подробно описал «последние минуты
Пушкина» в письме к его отцу от 15 февраля 1837 г.). Кроме того, письмо
С. Л. Пушкину о смерти сына по просьбе H. H. Пушкиной написал
и П. А. Вяземский. Вот как писал об этом в своих воспоминаниях
А. Я. Булгаков: «Пушкина просила написать Сергею Львовичу, она
давала поручение сие Вяземскому, а сама ехала в деревню через Москву
и не навестила своего несчастного свекра, не привезла к нему детей
своих. Старик говорил мне о сем с соболезнованием и сими словами:
"У меня одна нога в гробу, я не знаю, долго ли мне определено жить
еще, мне сладко было бы благославить моих внучат. Это дети моего
Александра!". Сие было сказано мне в ответ, когда я ему заметил, что
она не приехала к нему, боясь за себя и за него при первом столь
горестном свидании, столь скоро после общего несчастья их постигшего.
С<ергей> Льв<ович> был сутки в сем мучительном неведении, но я
должен прибавить, что на другой день ездил к нему брат Нат<альи>
Николаевны, молодой Гончаров, с поручением от сестры. Она послала его
сказать Сер<гею> Львовичу, что доктор запретил ей видеть его, боясь
худых последствий для здоровья, но что она просит у него позволения
быть в Москве летом со всеми детьми именно для того, чтобы провести
с ним одним недели две, что тогда будут оба они истинно покойны
духом. Это очень утешило старика... Сер<гей> Львов<ич>
рассказывал мне, что жены лишился он 29-го марта и ровно через 10 месяцев,
29 января, сына. "Как я счастлив, — прибавил он, — что сын мой Лев в
Тифлисе, а не в Петербурге. Кто знает... может быть, пришлось бы мне
оплакивать двух сыновей вместо одного!". В. А. Жуковский прислал мне
письмо для прочтения и доставления Сер<гею> Львовичу, в коем также
836
описывал смерть Пушкина. Это почти повторение того, что пишет
Вяземский, но гораздо полнее <...> Вообще, русскому нельзя читать
равнодушно смерть Пушкина, описанную Жуковскими (Шумихин С В.,
Юрьев К. С. Из дневника московского почт-директора // Временник
Пушкинской комиссии. Вып. 24. СПб., 1991. С. 126-127; курсив автора;
классической работой о дуэли и смерти Пушкина является: Щеголев П. Е.
Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. Пг., 1916;
материалы о смерти Пушкина, а также библиографию см. в статейном
блоке: К 150-летию со дня гибели Пушкина // Пушкин:
Исследования и материалы. Т. 13. Л., 1989. С. 146-185, в работах Я. Л. Левкович,
Р. В. Иезуитовой и С. Л. Абрамович).
499 «Петр Яковлевич Чаадаев имеет в виду известное письмо Жуковского
к С. Л. Пушкину, помеченное 15-м февраля 1837 г. и вошедшее в его
статью "Последние минуты Пушкина", помещенную в "Современнике"
1837 г., № 1, стр. I—XVIII» (примечание Б. Л. Модзалевского: Из бумаг
С. Л. Пушкина. С. 53).
500 Имеется в виду М. Ф. Орлов. Краткую сводку о его взаимоотношениях с
Пушкиным см.: ЧерейскийЛ. А Пушкин и его окружение. Изд. 2. С. 311.
501 «Здесь, вероятно, он [Чаадаев. — М. Я] имеет в виду письмо Пушкина от
6-го июля 1831 г.» (примечание Б. Л. Модзалевского: Из бумаг С. Л.
Пушкина. С. 53).
502 Оригинал впервые опубликован (по подлиннику, хранящемуся в архиве
А. Н. Пыпина в РО ИРЛИ) и печатается по: Œuvres inédites ou rares, 74-75.
Впервые в русском переводе М. И. Жихарева: Вестник Европы. 1874. № 7.
С. 88-91. Русский перевод печатается по: Гершензон. Т. 1, 205-208
(М. О. Гершензон воспроизвел текст письма по публикации в «Вестнике
Европы»). В июне 1836 г. Якушкин был выпущен на поселение и
водворен в Ялуторовск. Д. И. Шаховской писал: «Ответил ли что-либо
Якушкин на призыв Чаадаева? Соответствующего письма его я не знаю, но
можно, кажется, с уверенностью утверждать, что они еще раз
обменялись письмами по этим вопросам» (Шаховской Дм. Якушкин и Чаадаев
(По новым материалам). С. 193).
5°3 Имеется в виду письмо от 2 мая 1836 г. (подробнее см. комм. 433).
Д. И. Шаховской отмечал, что поскольку Якушкин находился в пути на
вечное поселение в Ялуторовск, «Левашева свое июньское письмо
отослала лишь в сентябре, с новым, написанным 15 сентября, на имя ген.-
губернатора Зап. Сибири кн. Горчакова. Письмо же Чаадаева попало,
очевидно, в руки Шереметевой, отправлено ею по назначению не было
Комментарии
837
(вот почему письмо затерялось, как пишет Чаадаев, два раз а)...»
(Шаховской Дм. Якушкин и Чаадаев (По новым материалам). С. 186;
(разрядка автора).
504 Шереметева Надежда Николаевна (урожд. Тютчева) (1775-1850),
тетка Ф. И. Тютчева, чья вторая дочь Анастасия Васильевна Шереметева
(1806-1845/1846?) была женой И. Д. Якушкина. Фрагменты из писем
H. H. Шереметевой к Чаадаеву приведены в: Петр Яковлевич Чаадаев: Сб. /
Изд. подготовил Б. Н. Тарасов. №, 2008. С. 431-432.
505 Например, П.-С. Балланша. Подробнее см. преамбулу к
«Философическим письмам».
506 Имеется в виду Н. И. Надеждин.
507 Слова «по высочайшему повелению» восстановлены Д. И. Шаховским
(ПССиИП.Т.2,334).
508 Чаадаев был освобожден от медицинского надзора в ноябре 1837 г.
509 Письмо Чаадаева Якушкину было конфисковано во время следствия по
делу о напечатании первого «Философического письма» и
препровождено в Петербург, где его могли читать А. X. Бенкендорф и С. С. Уваров.
510 Имеется в виду Е. Г. Левашева.
511 О книге Беккереля «Трактат об электричестве и магнетизме» подробнее
см. комм. 406 [и] 407.
512 Кювье Жорж (Cuvier) (1769-1832) — французский естествоиспытатель
и натуралист, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии, в
сочинениях которого, в частности, обосновывалось соответствие
библейской космогонии естественнонаучным критериям, один из
создателей «теории катастроф» (термин введен в 1832 г. В. Уэвеллом), согласно
которой эволюция биологических видов происходила на Земле путем
глобальных катастроф, вслед за которыми возникали новые виды. Такое
представление подтверждало историческую подлинность изложенных
в Ветхом Завете событий, в частности сотворения мира и
всемирного потопа. Теория изложена, в частности, в книгах Кювье: «Recherches
sur les ossemens fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux
dont les révolutions du globe ont détruit les espèces» (1817), «Discours
sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changements qu'elles
ont produits dans le règne animal» (1825). С Кювье был хорошо знаком
А. И. Тургенев (Мильчина В. А. Академия versus Пантеон // Мильчина В. А
Россия и Франция. С. 500).
513 Впервые (с подлинника из «Тургенев, архива И. Акад. Наук»: Гершензон.
Т. 1, 397): Гершензон 1908, 304-308, с указанием другого адресата -
А. И. Тургенева. Печатается по: Гершензон. Т. 1, 208-213.
Переатрибутировано Д. И. Шаховским: Якушкин и Чаадаев (По новым материалам).
С. 193-195. Шаховской считал, что это письмо следует датировать
30 октября 1838 г.: «...Чаадаев, через год после разразившейся над
ним беды, пишет Якушкину свое давно известное письмо 17 октября
1837 года, затем, в ответ на приглашение писать по вопросам
философии, Якушкин пишет свое "сочинение", Чаадаев в свою очередь пишет
на него ответ 30 октября 1838 года, сообщает свой ответ Мещерской
[см. письмо Чаадаева к С. С. Мещерской от 27 мая 1839 г. — М. В.] и,
получив по этому поводу ее замечания, пишет ей свое письмо 27 мая
1839 года» (Там же. С. 195). После этого письма «связь» между
Чаадаевым и Якушкиным «естественно заглохла» вследствие смерти 9 марта
1839 г. Е. Г. Левашевой. О письме видевшего Якушкина в Ялуторовске
Н. Д. Свербеева Чаадаеву от 4 августа 1851 г., с припиской самого
Якушкина (Свербеев должен был передать Якушкину несохранившееся
письмо Чаадаева) см.: Там же. С. 198-200. О смерти Чаадаева Якушкин
узнал в Иркутске летом 1856 г.
О каком именно сочинении Якушкина идет речь, не установлено.
Под «старым обычаем» Чаадаев, по-видимому, имеет в виду резкое
разграничение религиозной и научной сфер познания, принятое во
французской философии XVIII в. Так, Ж Ф. Мармонтель замечал в статье
«Критика», включенной в четвертый том «Энциклопедии» (1754):
«Поскольку священная история является откровением, было бы нечестиво
подвергать ее проверке разумом, но имеется способ рассуждать о ней
ради торжества самой же веры. Роль критики в этой области
заключается в следующем: сравнивать тексты и согласовывать их между собой,
сопоставлять события с пророчествами, их предсказавшими, показывать
превосходство моральной очевидности над физической
невозможностью, преодолевать отвращение разума авторитетом свидетельств,
разыскивать источник традиции, дабы представить ее во всей силе.
Наконец, исключать из числа доказательств истины все туманные,
слабые или неубедительные аргументы, которые являются общим для всех
религий оружием, применяемым с ложным рвением и опровергаемым
нечестием» (цит. по: История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. Л.,
1978. С. 58; пер. с фр. Н. В. Ревуненковой).
Подробнее см. комм. 515. Определение «религии откровения» в 14-м
томе «Энциклопедии» (1765; статья неустановленного автора) разводит
понятия «религии» и «разума»: «Религия откровения учит нас долгу по
Комментарии
839
отношению к богу, к другим людям и к самим себе посредством неких
сверхъестественных способов и даже прямых откровений самого бога,
выраженных устами его посланцев и пророков с целью открыть людям
то, чего они никогда бы не узнали и не смогли бы узнать с помощью
естественных знаний... Именно эту религию обычно называют просто
религией» (цит. по: Там же. С. 110; пер. с фр. Н. В. Ревуненковой).
517 Подобный взгляд на священную историю обоснован Чаадаевым в
шестом и седьмом «Философических письмах». В контексте письма к Якуш-
кину точка зрения Чаадаева полемически заострена против взглядов на
священную историю французских «энциклопедистов». Вольтер писал в
статье «История» (в восьмом томе «Энциклопедии», 1765): «Священная
история — это ряд божественных и чудесных действий, с помощью
которых богу было угодно некогда руководить еврейским народом, а ныне
испытывать нашу веру. Я совсем не коснусь этого почтенного предмета»
(Там же. С. 7; пер. с фр. Н. В. Ревуненковой).
518 Об Ансельме Кентерберийском см. комм. 110.
519 Чаадаев приводит собственную мысль из первого «Философического
письма»: «От этого вы найдете, что всем нам не достает некоторого рода
основательности, методы, логики. Силлогизм Запада нам неизвестен»
(Телескоп. 1836. №15. С. 289).
520 О требованиях современного образования Чаадаев рассуждал также в
письме к Николаю I от 15 июля 1833 г.
521 Подробнее см. комм. 514.
522 О роли «слова» в истории человечества подробнее см. восьмое
«Философическое письмо».
523 Иоанн, XVII, 3.
524 Оригинальный текст впервые (по копии неизвестной рукой, без
обращения и подписи, в «Румянц. музее» (ныне ОР РГБ): Гершензон.
Т. 1, 398) в: Гершензон. Т. 1, 217-218. Печатается по: Œuvres inédites ou
rares, 76-77 (воспроизведено по автографу из архива А. Н. Пыпина в
РО ИРЛИ (в редакции с небольшим количеством чисто грамматических
изменений в сравнении с текстом, опубликованным М. О. Гершензо-
ном). Впервые русский перевод М. И. Жихарева напечатан в: Вестник
Европы. 1874. № 7. С. 86-88. Печатается в переводе на русский язык
Г. А. Рачинского по: Гершензон. Т. 2, 213-215. Датировано в публикации
«Вестника Европы». Орлов Михаил Федорович (1788-1842) —
политический и военный писатель, мемуарист, экономист, один из ближайших
друзей Чаадаева, знакомый Ж. де Местра, генерал, участник кампаний
840
1805-1807 и 1812-1814 гг., основатель Ордена русских рыцарей, член
Союза благоденствия, после восстания 1825 г. отправлен в отставку и
сослан в деревню, 12 мая 1831 г. Орлову, усилиями его брата А. Ф.
Орлова, разрешили жить в Москве. Подробнее см.: Боровой С. Я. М. Ф.
Орлов и его литературное наследство // Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа.
Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 2б9-$\5\Илъин-Томич А
М. Ф. Орлов // Памятные книжные даты. М., 1988. С. 12-14;
Литературное наследство. Т. 29-30. М., 1937. С. 616, 618. См. характеристику
Орлова в воспоминаниях А. И. Дельвига: «М. Ф. Орлов был человек очень
образованный и добрый. Наружность его была весьма замечательная.
Вследствие участия его в тайном обществе, из которого вышел задолго
до 1825 г., он был отставлен от службы и сослан в деревню. Впоследствии
ему дозволено было жить в Москве. Натура его требовала деятельности,
которую он, по тогдашнему состоянию нашего общества, не мог
употреблять на что-либо дельное. Это было причиною того, что он любил в
обществе высказывать свои знания, а иногда и такие, которых он не имел.
Так, любил он цитировать стихи древних поэтов, едва ли зная древние
языки, и даже пускался в математические толки, тогда как он
положительно не знал высшей математики» (Полвека русской жизни.
Воспоминания А. И. Дельвига. 1820-1870. М.; Л, МСМХХХ. [1930]. С. 207-208).
Чаадаев, вероятно, имеет в виду постигшие его и М. Ф. Орлова в 1826 г.
репрессии, «телескопическую историю» 1836 г. и атаки на их репутацию
в московском обществе (в связи, например, с комедией M. H. Загоскина
«Недовольные» (1835), где были выведены и Орлов, и Чаадаев).
Имеется в виду надежда. Три богословские добродетели — вера,
надежда, любовь — связываются вместе в 1-м послании апостола Павла к
Коринфянам: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но
любовь из них больше» (1 Коринф., XIII, 13).
Имеется в виду античная, дохристианская философия, о которой
Чаадаев подробно писал в седьмом «Философическом письме».
Мысль о покорности как основной черте русского народа обоснована
Чаадаевым в «Апологии безумного» (1837).
Впервые (с подлинника из «Тургенев, архива, И. Акад. Наук»: Гершен-
зон. Т. 1,397): Гершензон 1908, 300-303. Печатается по: Гершензон. Т. 1,
213-217; фрагменты по-французски в переводе Г. А. Рачинского
печатаются по: Гершензон. Т. 2, 210-213. Письмо долго оставалось
неотправленным. Чаадаев передал его А. И. Тургеневу только в 1842 г., а тот
14 ноября 1842 г. послал фрагмент письма П. А. Вяземскому: Остафьев-
Комментарии
841
ский архив князей Вяземских. Т. 4. С. 188-189. Первоначально Гершен-
зон отнес письмо к 1837 г. (Гершензон 1908, 300), однако упомянутая
статья Вяземского о пожаре в Зимнем дворце была напечатана в Париже
отдельной анонимной брошюрой — «Incendie du Palais d'Hiver à Saint-
Pétersbourg» лишь 12 февраля 1838 г., 18 февраля, при посредничестве
русского агента в Париже Я. Толстого, — в «Gazette de France», 25
февраля (в отрывках) — в «Quotidienne» (в русском переводе 20 апреля 1838 г.
в «Московских ведомостях») (см.:МилъчишВ. А, ОсповатА Л.
Комментарии // Кюстин А. де. Россия в 1839 году. Т. 2. М., 1996. С. 404). Таким
образом, письмо могло быть написано не ранее начала 1838 г.
(Проскурина, 625; сам Гершензон в более поздней работе датировал письмо
концом 1837-1838 гг.: Гершензон. Т. 1, 397).
530 Свербеева (урожд. Щербатова) Екатерина Александровна (1808-1892) —
дальняя родственница Чаадаева, его близкая приятельница и
корреспондент, хозяйка московского литературного салона, была в дружеских
отношениях с А. И. Тургеневым, П. А. Вяземским, с 1827 г. замужем за
близким к Чаадаеву мемуаристом и дипломатом Дмитрием
Николаевичем Свербеевым (1799-1874). Подробнее об их взаимоотношениях с
Чаадаевым см.: Голицын К В. П. Я. Чаадаев и Е. А. Свербеева. (Из
неизданных бумаг Чаадаева) // Вестник Европы. 1918. Кн. 1-4. С. 233-254; Петр
Яковлевич Чаадаев: Сб. / Изд. подготовил Б. Н. Тарасов. М., 2008. С. 709.
531 Речь идет о книге Ф. Р. де Ламенне «Римские дела» («Affaires du Rome»,
1836-1837). Защищая газету «L'Avenir» («Будущее») в конфликте с Римом,
Ламенне утверждал политико-религиозный идеал всеобщего равенства
перед Богом и критиковал человеческий эгоизм. По мнению Ламенне,
задача современной ему католической церкви состояла в
возвращении к истокам, в обретении «доверия народных масс» («la confiance des
masses populaires»: Lamennais F. R. Affaires de Rome. Paris, 1836-1837. P. 5),
в эгалитаризме. Именно это положение и вызвало критику Чаадаева,
исповедовавшего представление об избранных личностях, распознающих
Божий промысел и ведущих за собой остальную часть человечества.
В своем отрицательном отношении к идеям Ламенне в 1830-е гг.
Чаадаев был не одинок. См. письма Э. П. Мещерского к аббату Л. Ботэну:
«католическая философия г. Ламене толкала к антихристианской идее
суверенитета народа» (без даты); «самый смертельный враг
христианства не мог бы действовать лучше. В тот момент, когда верующие люди
не видят в будущем другого спасения, кроме как в усилиях склонить
правителей и управляемых к истинным докринам христианства, — в это
самое время повторяю, слуга евангелия начинает доказывать
правительствам Европы, что католицизм может привести к общественному
перевороту ничуть не хуже религии Робеспьера» (от 2 июля 1834 г.) (Мазон А
Князь Элим // Литературное наследство. Т. 31-32. М., 1937. С. 432). Об
отношении Чаадаева к Ламенне и католическим философам в целом см.:
McNalfy R. Т. Chaadayev's Evaluation of Western Christian Churches // The
Slavonic and East European Review. Vol. XLII. №. 99. June 1964. P. 370-387.
О парижских спорах вокруг «падения Ламенне» см. письмо А. И.
Тургенева к Вяземскому от 22 декабря 1838 г.: Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 4. С. 56-57.
532 Адресат реплики Чаадаева не установлен.
533 О противопоставлении Чаадаевым «избранных личностей» «толпе» см.
подробнее нашу преамбулу к первому «Философическому письму».
534 Савонарола Джироламо (1452-1498) — христианский мыслитель,
влиятельный проповедник, выдвинувший программу нравственного
обновления Церкви, поэт, доминиканский монах, с 1491 г. — приор
монастыря Сан-Марко во Флоренции, после падения Медичи в 1494 г.
фактически управлявший Флоренцией. Открытый конфликт с папой
Александром VI привел к тому, что в 1497 г. Савонарола был отлучен
от церкви, а в 1498 г. — повешен во Флоренции как еретик. Интерес к
фигуре Савонаролы резко усилился в актуальной для Чаадаева
французской католической мысли в начале 1830-х гг., когда Ф. Р. де Ламенне и
его сотрудники по газете «Будущее» («L'Avenir») вступили в конфликт с
римским папой Григорием XVI (см.: Le Guillou L L'Evolution de la pensée
religieuse de Félicité Lamennais. Paris, 1966. P. 237-238).
535 Подробнее о роли России в будущем европейском мире см. «Апологию
безумного» (1837).
536 Адресат высказывания Чаадаева не установлен.
537 Имеется в виду Ф. Р. де Ламенне, подробнее см. комм. 531.
538 В. А. Мильчина и А. Л. Осповат в комментарии к книге «Россия в 1839
году» А. де Кюстина так характеризуют брошюру Вяземского:
«Сгоревший дворец описан в ней как "твердыня монархии", из которой
"исходили мудрые нововведения, благодетельные реформы <...>
цивилизаторские начинания", место единения императора и народа, а
тушение пожара — как "свидетельство доверия и любви, которыми
обменялись государь и народ". Монархическая направленность
брошюры способствовала ее успеху в парижской легитимистской печати... [см.
комм. 529. —М. В.] легитимисты увидели в брошюре "прекрасную жало-
Комментарии
843
бу русской нации, которая на развалинах царского дворца изъясняет
любовь к императорскому семейству, пораженному великим
несчастьем", "монархическое и национальное воодушевление",
свидетельствующее о благотворности российской формы правления (Gazzette
de France). Брошюра Вяземского, чьи взгляды в конце 1830-х гг. начали
эволюционировать от либеральных к консервативным, "сильно
повредила ему в мнении людей здравомыслящих и его истинных друзей, что
же до царедворцев и низкопоклонников всех сортов, они были очень
довольны, видя, что либерал стал льстецом и даже хуже того"» (слова
П. Б. Козловского, приведенные А. И. Тургеневым в письме к Н. И.
Тургеневу от 6 июня 1839 г.) (МильчинаВ. А, Осповат А Л. Комментарии //
Кюстин А. де. Россия в 1839 году. С. 404-405; см. также: Мильчина В. А.
«Русский мираж» французских легитимистов. 1830-е — 1840-е годы //
Мильчина В. А. Россия и Франция. С. 364-369).
539 О дискуссиях вокруг «Истории государства Российского» H. M.
Карамзина в конце 1810-х — 1830-е гг. см.: Вацуро В. Э. «Подвиг честного
человека» // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины».
Изд. 2. С. 37-113. В полемические тона по отношению к концепции
русской истории Карамзина была окрашена парадигматическая книга
Н. Г. Устрялова «О прагматической системе русской истории» (1836), на
которую планировал публично возражать П. А. Вяземский. Возможно,
реплику Чаадаева о произведениях Карамзина следует рассматривать в
контексте попыток Тургенева в 1838 г. опубликовать «Собрание писем
и записок покойного Историографа», заблокированных петербургской
цензурой (подробнее см. комментарий Л. А. Сапченко в кн.: Карамзин:
pro et contra. СПб, 2006. С. 903-904).
540 Цицерон. Тускуланские беседы, книга 2,1, 3.
541 В предисловии к «Истории государства Российского» (вышла в свет в
начале 1818 г.) Карамзин писал: «Кроме особенного достоинства для нас,
сынов России, ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство сей
единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии
не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков
Африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными
преградами Естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми,
хладными и жаркими климатами; как Астрахань и Лапландия, Сибирь и
Бессарабия, могли составить одну Державу с Москвою? Менее ли
чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разновидных, и столь
удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке Россия
имеет своих Диких; подобно другим странам Европы являет плоды
долговременной гражданской жизни. Не надобно быть Русским: надобно
только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который
смелостию и мужеством снискал господство над седьмою частию света,
открыл страны, никому дотоле неизвестные, внес их в общую систему
Географии, Истории, и просветил Божественною Верою, без насилия, без
злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе
и в Америке, но единственно примером лучшего» (цит. по: Карамзин H. M.
История государства Российского: В 12 т. Т. I. M., 1989. С. 14-15).
Название улиц в Париже и Москве. Колымажный конюшенный двор
располагался на ул. Волхонка на месте Музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, старый двор был разрушен в 1830 г., там был создан
манеж для обучения верховой езде, а затем до 1880-х гг. в конюшных
и каретных сараях Колымажного двора находилась пересыльная
тюрьма (см. о нем: Малиновский А Ф. Обозрение Москвы. М., 1992. С. 156
(кн. 3, гл. V): «Повозки царские назывались прежде колымагами, а потому
и двор сей исстари прозван Колымажным» (Там же). Улица «St. Honoré» в
Париже была известна тем, что на ней возводились баррикады во время
революционных волнений в столице Франции (в частности, в 1830 г.).
Оригинал впервые: Gagarin, 191-196; печатается по: Гершензон. Т. 1, 235-
238 (воспроизведено по подлиннику из «Тургенев, архива, И. Акад. Наук»,
авторская рукопись озаглавлена — «Deux lettres à la Princesse Sophie M.»
(второе письмо написано в декабре 1841 г.). По предположению
М. О. Гершензона, письма представляют собой «копию... снятую автором
для распространения среди знакомых» (Гершензон. Т. 1, 399). Впервые
опубликовано в русском переводе Г. А. Рачинского и печатается по:
Гершензон. Т. 2, 231-234. Данное письмо — еще одно свидетельство «моды
на ученость» в светском дамском обществе конца 1830-х гг., о которой
Т. Н. Грановский (в контексте разговора о Чаадаеве и братьях
Киреевских) писал Н. Г. и Е. П. Фроловым 4 января 1840т.: «Познакомился также
с Чаадаевым, который Вам вероятно известен по слуху. Он мог бы быть по
уму очень замечательным человеком, но его погубило самолюбие,
доходящее до смешных глупостей. В здешнем хорошем обществе теперь мода
на ученость, дамы говорят об истории и философии с цитатами... <...>
Недавно мне предложили читать курс Истории для дам» (Т. Н. Грановский
и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 416; курсив автора).
Подробнее о «духе» и «букве» божественного закона см. восьмое
«Философическое письмо».
Комментарии
845
545 По убедительному предположению Д. И. Шаховского, речь шла об одном
из писем Чаадаева к И. Д. Якушкину (Шаховской Дм. Якушкин и Чаадаев
(По новым материалам). С. 195-196).
546 В конце 1830-х гг. одним из московских оппонентов Чаадаева по
вопросу о науке и религии мог быть и М. Ф. Орлов. См. письмо Т. Н.
Грановского к Н. В. Станкевичу от 18 февраля 1840 г.: «Был два раза у
Чаадаева. Скучно! Перестал ездить; тем более, что там всегда встретишь
генерала 0<рло>ва, самого несносного болтуна в мире. <...> 0<рло>в
везде доказывает теперь "que la science est athée" <наука безбожна>»
(T. H. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 382). Против перенесения
религиозных норм в пространство других общественных практик
(политических, экономических и т. д.) резко возражал и А. И. Тургенев,
писавший Вяземскому 2 августа 1833 г.: «Эти замечания напоминают мне
подобные, коими возражал я часто Жуковскому, коему полюбилась идея
желающих ввести Бога в гражданское законодательство, т. е. Мейстеров,
Бональдов, Галлера-внука и пр. Он думает, что уложение без Бога, Code-
Athée, ведет к всем ужасам безбожия. Но как же поставить христианский
Эпиграф к кодексу, в коем глава о собственности совершенно противна
Евангельскому правилу: отдай все нищим; или как согласить в
уголовном уложении степени наказаний с другою христианскою заповедью:
подставлять правую щеку тому, кто тебя ударит в левую? Если законы
должны быть согласны с текстами нашего христианского учения, то и
администрация финансов потребует того же. Куда это заведет нас? Нет,
законы гражданские — для граждан, закон Хр. — для людей... Не один
Жук[овский] так ошибался. <...> Христианство — как бы мы ни
устраняли оное — свое возьмет, без протекции кодификаторов. Ни Юлиян, ни
Лудвиг XIV ему не помешали...» (АбТ. 6, 285). В письме к А. И. Тургеневу
от 14/26 марта 1833 г. Жуковский, разбирая книгу швейцарского
католического публициста К.-Л. Галлера «Restauration der Staats-Wissenschaft»
(6 томов, 1816-1834), резюмировал: «Религия, религия, вот, что должно
быть общим криком! В ней и гражданство, и свобода, и благородство
души человеческой» (Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу
Тургеневу. С. 276).
547 О Ж Кювье см. комм. 512.
548 О таинстве Евхаристии в интерпретации Чаадаева см. также шестое
«Философическое письмо».
549 Впервые: Русская старина. 1903. № 10. С. 185-186 (с датой - 1837 г.,
передатировано М. О. Гершензоном (который печатал письмо по под-
846
линнику) на основании несоответствия даты событиям биографии В. А.
Жуковского, в 1837 и 1838 гг. отсутствовавшего в Петербурге: Гершен-
зон. Т. 1, 399). Печатается по: Гершензон. Т. 1, 238-239 (воспроизведено
по подлиннику из «рукопис. отд. И. Публ. Библиотеки» (Гершензон. Т. 1,
399). Предположительно, ответ Жуковского: Русский архив. 1884. № 4. С.
453. Чаадаев познакомился с Жуковским в конце 1810-х гг. в Петербурге;
первое упоминание о встрече с Чаадаевым в дневниках Жуковского
относится к 30 августа 1819 т.: Жуковский В. Л. Полное собрание
сочинений и писем: В 20 т. Т. XIII. М, 2004. С. 131.
550 Имеется в виду письмо Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г., «глупая
статья» — первое «Философическое письмо» в версии «Телескопа».
После смерти Пушкина Жуковский (вместе с Л. В. Дубельтом) занимался
разбором его бумаг и нашел письмо к Чаадаеву (о просмотре
рукописей Пушкина после его смерти см., например: Макаров А Л. В. А.
Жуковский — редактор Пушкина // Книга: Исследования и материалы.
Сб. XXX. М., 1975. С. 75-76). О нем Жуковский писал А. X. Бенкендорфу
25 февраля 1837 г.: «...Пушкин (здесь говорится о том, что он был в
последние свои годы) решительно был утвержден в необходимости для
России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной
любви к нынешнему государю, а по своему внутреннему убеждению,
основанному на фактах исторических (этому теперь есть и
письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чадаеву)» (цит. по:
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. СПб., 1998. С. 442).
Письмо Пушкина не было отправлено Чаадаеву и сохранилось в бумагах
Жуковского (Русская старина. 1903. № 10. С. 185). Текст письма см. в наст,
изд., с. 493-499.
551 Сонцев (Сонцов, Солнцев) Матвей Михайлович (1779-1847) —
коллежский советник (в 1837 г.), переводчик Коллегии иностранных дел,
чиновник по особым поручениям при министре юстиции, камергер с
марта 1825 г., женат (с 1803 г.) на Елизавете Львовне Пушкиной, сестре
С. Л. Пушкина, тетке А. С. Пушкина. См.: комментарий В. И. Саитова в:
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3 (Примечания). С. 472-473;
ЧерейскийЛ. А. Пушкин и его окружение. Изд. 2. С. 414.
552 О той щепетильности, с которой Чаадаев относился к интерпретации
его отношений с Пушкиным, см. его письмо к С. П. Шевыреву от октября
1854 г. (ПССиИП. Т. 2, 272-273).
553 Жуковский отправился в заграничное путешествие с наследником
Александром Николаевичем 3 мая 1838 г., вернулся в Петербург 23 июня
Комментарии
847
1839 г. О возвращении Жуковского Чаадаев узнал от А. И. Тургенева, с
которым Жуковский виделся в мае 1839 г. в Германии.
554 Имеется в виду М. М. Сонцев.
555 Впервые в оригинале: Временник общества друзей русской книги. № 2.
Париж. 1928. С. 7 (также см. публикацию Д. И. Шаховского: Звенья. Кн. 5.
М.; Л., 1935. С. 209-210, по фотографиям с оригиналов из фонда И. С.
Гагарина в парижской «Bibliothèque Slave»). Оригинальный текст (по
подлиннику из архива И. С. Гагарина в «Bibliothèque Slave, Centre d'Etudes
Russes, Meudon»: Œuvres inédites ou rares, 248) печатается по: Œuvres
inédites ou rares, 83. Впервые в русском переводе Д. И. Шаховского и
печатается по: Звенья. Кн. 5. М.; Л., 1935. С. 210, 213. Датировано 1840-м
годом Д. И. Шаховским на основании письма А. И. Тургенева к А. П.
Елагиной от 9 (21) февраля 1841 г. (Там же. С. 213). В печати известны
лишь два письма Чаадаева Гагарину — от 1 октября 1840 г. и 1842 г. (см.:
Звенья. Кн. 5. С. 215-219). О знакомстве Чаадаева с И. С. Гагариным см.
комм. 416. Согласно показаниям Чаадаева 1836 г., именно Гагарин
передал оттиски первого «Философического письма» петербургским
друзьям Чаадаева, в том числе А. С. Пушкину. Во второй половине октября
1836 г., еще будучи в Москве, Гагарин защищал право Чаадаева
опубликовать свое сочинение в печати. А. И. Тургенев записал в дневнике
19 октября 1836 г. после посещения салона Киндяковых-Пашковых: «[...] там
дамы и девы — большинство восстали на Чаадаева]. [...] К[нязь] Гагар[ин]
спорил не за него, но за свободу писать свободно о России» (Мильчи-
наВ. А, Осповат А. Л. Неизданные письма И. С. Гагарина к А. И.
Тургеневу. Статья первая (1838-1841) // Символ. № 22 (1989). С. 218).
556 Галахов Иван Павлович (1809-1849), брат Елизаветы Павловны
Фроловой, приятель А. И. Герцена, Н. П. Огарева и Т. Н. Грановского,
интересовавшийся католицизмом (о нем см. комментарий Д. И. Шаховского в:
Звенья. Кн. 5. С. 213-214). Грановский так описывал Галахова в письме к
Н. В. Станкевичу от 26 ноября 1839 г.: «У них [Огаревых. —М. В.] я
познакомился с братом Елизаветы Павловны — Галаховым. Славный человек
мы спорим ужасно, потому что у него немного женский характер и
потребности: ему нужен Бог удобоосязаемый, награды за добрые дела; он
прикладывает часто чувствительно-нравственное мерило к историческим
героям. Но конец-концов — он может быть братом M-me Froloff. Лучше
похвалить не умею» (Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 368).
557 А. И. Тургенев обещал ввести И. П. Галахова в парижское общество:
«Басманной, в коем называют меня: le cher évaporé <милый ветре-
ник> и поручают мне познакомить с Парижем одного из новичков-
соотечественников, коего отец был долго моим сослуживцем. Передайте
Басманному философу мою благодарность за поручение; Галл...
возвратится истым Парижанином, как некогда Вас. Льв. [В. Л. Пушкин. — М. Я],
узнает все тропки булевара, все магазины новых мод, классические
салоны Рекамье и Сиркур, литературные знаменитости от кедра до иссопа, от
Ламартина до Marmier, Академии, Сорбонну и вечеринки m-me Ancelot,
где в безпрерывной борьбе элементы юной Франции с лежитимистским
настоем, и классицизм с романтизмом во второклассных своих
представителях, где Польские и Гишпанские выходцы упиваются Русским чаем
и где я за полночь не засыпаю» (из письма А. П. Елагиной (адресат
установлен Д. И. Шаховским: Звенья. Кн. 5. С. 213) от 9/21 февраля 1841 г.: Из
парижских писем А. И. Тургенева // Русский архив. 1896. № 2. С. 202-203;
курсив автора). Чаадаев благодарил А. И. Тургенева за хлопоты о Галахо-
ве в письме от 1841 г. (Гершензон. Т. 2,235; оригинал по-фр.).
Госпожа Сиркур — Анастасия Семеновна Хлюстина (1808-1863), жена
французского публициста и историка-легитимиста графа Адольфа
де Сиркура, имевшая «довольно широкий круг знакомства в
литературном мире» и известная «своими статьями во французских журналах о
русской литературе» (Звенья. Кн. 5. С. 214). О знакомстве Хлюстиной с
А. И. Тургеневым см. комментарий К. М. Азадовского в: «С Лагарпом и Ла-
мартином...» Письмо Александра Тургенева к Николаю Тургеневу. С. 25.
Имеется в виду голод в центральных губерниях России в 1839-1840 гг.
См.:ПССиИП.Т.2,338.
Д. И. Шаховской так комментировал сведения о московском обществе,
которые передает Гагарину Чаадаев: «Чаадаев говорит об этих
собраниях с каким-то двойственным чувством и с оценкой, заключающей в
себе внутреннее противоречие. С одной стороны, он им, несомненно,
придает значение заметного общественного явления, с другой — сам не
признает за ними никаких признаков силы, влияющей на ход событий,
так что приходится только плестись за совершающимися механически
жизненными процессами. В этом противоречии — трагедия жизни
Чаадаева» (Звенья. Кн. 5. С. 214).
Д. И. Шаховской высказал предположение о том, что речь в данном
случае идет о неких «правительственных мероприятиях, которых общество
является безгласным созерцателем». Под такими «мероприятиями»,
согласно мнению исследователя, можно понимать «действия
правительства по униатскому вопросу, так как в 1839-1840 годах проводились
Комментарии
849
меры правительства по насильственному возвращению униатов
Западного края в лоно православия» (Там же. С. 215).
Впервые опубликовано (по подлиннику из «И. Публ. Библиотеки» (ныне
РО РНБ): Гершензон. Т. 1,401) и печатается по: Гершензон. Т. 1,239-240.
Передатировано В. В. Саповым на основе письма Ф. Н. Глинки к М. П.
Погодину от 4 июня 1841 г. (ПССиИП. Т. 2, 338).
Имеется в виду стихотворение «Вид Москвы» (датировано 27 июня
1840 г.) поэтессы, прозаика и драматурга Евдокии Петровны
Ростопчиной (урожд. Сушковой) (1811-1858). Исходный посыл
стихотворения: «О! как пуста, о! как мертва / Первопрестольная Москва!..», затем
получал свое обоснование. Ростопчина противопоставляла прошлое и
настоящее Москвы. В прошлом — «боярский герб старинный», в
настоящем — «изящная роскошь», результат деятельности стирающего «следы
веков» «расчетливого покупщика»: «Все изменилось!.. Просвещенье / И
подражанье новизне / Уж водворили пресыщенье / На православной
стороне. / Гостеприимство, хлебосольство, / Накрытый стол и настежь
дверь / Преданьем стали...». «Осиротелая Москва» жива лишь «вещим
звуком колоколов» (Ростопчина Е. П. Талисман: Избранная лирика. Драма.
Документы, письма, воспоминания. М., 1987. С. 66-68).
В. А. Мильчина и А. Л. Осповат замечают об отношении Чаадаева к
журналу «Москвитянин» в 1841 г.: «Поддерживая добрые отношения
с Шевыревым и с издателем журнала Михаилом Петровичем
Погодиным (1800-1875), Чаадаев не был поклонником избранного ими
направления» (Мильчина В. А, Осповат А Л. Неопубликованное письмо
Чаадаева // Собрание сочинений: К шестидесятилетию Льва
Иосифовича Соболева. М., 2006. С. 365). См. письмо Чаадаева к А. И. Тургеневу от
1 октября 1841 г.: Там же. С. ЗбО; и комментарий: С. 364-366.
Оригинальный текст впервые: Gagarin, 197-202; печатается по:
Гершензон. Т. 1, 240-243 (воспроизведено по подлинной рукописи из
«Тургенев, архива, И. Акад. Наук»: Гершензон. Т. 1, 399, 401). Впервые
опубликовано в русском переводе Г. А. Рачинского и печатается по:
Гершензон. Т. 2, С. 235-238.
По нашему предположению, речь идет о книге «Трактаты на злобу дня.
№ 90. Замечания на некоторые фрагменты 39 статей» («Tracts for the
Times. No. 90. Remarks on certain passages in the thirty-nine articles», 1841)
одного из крупнейших английских богословов XIX в. Джона Генри
Ньюмена (Newman) (1801-1890). Ставший англиканским священником в
1824 г., Ньюмен входил в близкое к католицизму «Оксфордское движе-
ние» внутри англиканской церкви, целью которого было возвращение
к независимости и дисциплине первых веков существования
христианства. В октябре 1845 г. Ньюмен перешел в католичество, в 1870-м — стал
кардиналом. Мещерская могла переслать книгу Ньюмена Чаадаеву в силу
близости воззрениям Чаадаева одного из ее основных тезисов:
необходимости сближения местной англиканской церкви с католицизмом
и враждебности к протестантизму. Ньюмен признавал, что со времен
апостолов существует лишь одна легитимная Святая Церковь —
католическая. Приводя определения Церкви Христовой (Art. XIX), Ньюмен
добавлял: «This is not an abstract definition of a Church, but a description of the
actually existing One Holy Catholic Church diffused throughout the world...
This is evident from the mode of describing the Catholic Church familiar to all
writers from the first ages down to the age of this Article» («Это не
абстрактное определение какой-то церкви, но описание действительно
существующей Одной Святой Католической Церкви, распространившейся по
всему миру... Это очевидно из способа описания Католической Церкви,
знакомого всем авторам с первых веков и вплоть до эпохи, когда
написана эта Статья») (цит. по: Newman J. H. Tracts for the Times. No. 90.
Remarks on certain passages in the thirty-nine articles. Reprinted from the
second english edition. New York, 1841. P. 17; курсив автора).
В параграфе 6 — «Purgatory, Pardons, Relics, Invocation of Saints» (Ibid.
P. 38-44).
Описание императорских удовольствий эпохи правления Домициана
(81-96 гг.) во время декабрьского праздника сатурналий, часто
символизировавшего время вседозволенности и любых излишеств, см.,
например, в книге: NisardM. D. Études des mœurs et de critique sur les poètes
latins de la décadence. T. 1. Bruxelles, 1834. P. 349-355.
Подробнее см. комм, к первому «Философическому письму».
Подробнее об оценке Чаадаевым католицизма и его цивилизаторской
роли в Средние века см. «Философические письма».
Имеется в виду философия Гегеля. См. комм. 578.
Письмо существует в двух редакциях. Впервые в оригинале более
поздняя редакция опубликована M. H. Лонгиновым в: Русский вестник. 1862.
№ 11. С. 159-160. Оригинальный текст поздней редакции печатается по:
Гершензон. Т. 1, 244-245 (воспроизведено по публикации в «Русском
вестнике»). Русский перевод Е. А. Боброва впервые в кн.: Бобров Е.
Философия в России, вып. 4. Казань, 1901. С. 11-15. Печатается в русском
переводе Г. А. Рачинского по: Гершензон. Т. 2, 239-241. Оригинальный
Комментарии
851
текст краткой редакции письма напечатан в: Gagarin, 203-206;
частичный русский перевод Б. П. Денике см. в издании: Чаадаев П.
Философические письма. Казань, 1906, перевод датирован, вслед за гагаринским
изданием, 15 апреля 1841 или 1842 г. (С. I—III, отдельной пагинации) (об
отклике H. H. Страхова на письмо Чаадаева Шеллингу, опубликованном
в журнале братьев Достоевских «Эпоха» в 1864 г. см.: Чижевский Д. И.
Гегель в России. СПб., 2007. С. 192). М. О. Гершензон считал правильным
датировать письмо 1842 г. на основании того, что Гегель занял кафедру
в Берлинском университете лишь осенью 1841 г. и прочел первую
лекцию 15 ноября 1841 г. (Гершензон. Т. 2,40). Ниже мы также помещаем
оригинальный текст краткой редакции письма Чаадаева к Шеллингу
(по: Гершензон. Т. 2, 41-43; воспроизведено по публикации в издании
И. С. Гагарина с указанием на наличие авторской копии этого письма
в архиве Тургеневых, незначительные расхождения с которой
фиксируются в примечаниях; Д. И. Шаховской в 1935 г. опубликовал текст
ранней редакции письма по автографу (Звенья. Кн. 5. С. 220, 225),
разночтения с которым также учтены в примечаниях) и ее русский перевод
Д. И. Шаховского (по: Звенья. Кн. 5. С. 226-228). Сравнительный
лексический и аналитический анализ двух редакций см. в комментарии
Д. И. Шаховского: Чаадаев П. Я. Три письма // Звенья. Кн. 5. С. 226-230
(в частности, Шаховской писал: «При более детальном перечне главных
черт учения Гегеля в краткой и пространной редакциях повторяются по
большей части тождественные выражения, но в тезисе об отношении к
вопросу о свободе воли — отрицанию ее в пространной редакции
дается другое, более ограниченное выражение и затем в ней
прибавлена еще лишняя черта — о системе всеобщего примирения...» (Там же.
С. 229). Какая именно редакция письма была выслана Шеллингу — не
установлено. Письмо должен был доставить И. С. Гагарин, а затем
А. И. Тургенев, однако оно, вероятно, доставлено не было (ПССиИП.
Т. 2, 340; Д. И. Шаховской считал, что Тургенев не принимал никакого
участия в пересылке письма, но задача доставки корреспонденции
Шеллингу была всецело возложена на И. С. Гагарина: Звенья. Кн. 5. С. 230-231).
Как заметил Д. И. Шаховской: «пока неизвестен текст письма,
полученного Шеллингом, осторожнее было бы считать последним выражением
мысли Чаадаева эту более пространную и более отделанную редакцию,
тем более, что и поставленная в ней дата — 20 мая — позднее даты гага-
ринского текста — 15 апреля» (курсив автора). На основании того, что
Чаадаев считал «официальным текстом своего непосредственного об-
ращения к Шеллингу» в 1844 г. краткую редакцию, Шаховской «близок
к выводу, что вторая, пространная, редакция написана позднее июня
1844 года и к Шеллингу вовсе не попала» (Там же; курсив автора).
573 Имеется в виду письмо Шеллинга Чаадаеву от 21 сентября 1833 г.
(см.: Гершензон. Т. 1, 382-391).
574 В 1841 г. Шеллинг, по приглашению прусского короля (с 1840 г.)
Фридриха-Вильгельма IV, стал профессором в Берлинском
университете. В 1841-1842 гг. он прочел курс «Философия Откровения»; конспект
М. Н. Каткова вступительной речи Шеллинга (15 ноября 1841 г.) см:
Отечественные записки. 1842. № 2. Отд. VIII (Смесь). С. 65-70. О
взаимоотношениях Шеллинга и Гегеля см.: Schulz W. Die Vollendung des deutschen
Idealismus in der Spatphilosophie Schellings. Stuttgart; Köln, 1955;
Habermas]. Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespaeltigkeit in Schellings
Denken. Bonn, 1954; Frank M. Der unendliche Mangel an Sein: Schellings
Hegelkritik und die Anfänge der Marxschen Dialektik. München, 1992 (впервые
в 1975 г.) (мы благодарим П. Резвых за указание на эти издания).
575 О знакомстве друзей Чаадаева (например, А. И. Тургенева, П. А.
Вяземского) с курсом философии откровения Шеллинга, прочитанным в
1841-1842 гг. см.: А. И. Тургенев и Шеллинг. С. 156-157.
576 Имеется в виду философия Откровения Шеллинга, см. примечания к
письму Чаадаева Шеллингу от 1832 г.
577 Распространение немецкой «спекулятивной» философии (в частности,
философии И. Канта) в России приходится на конец XVIII в. — начало
XIX в. См., например, «немецкую» часть «Писем русского
путешественника» H. M. Карамзина.
578 Здесь и ниже Чаадаев критикует философский метод Гегеля и его
постулат «что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно.
Этого убеждения придерживается каждое непосредственное сознание,
как и философия, и из этого убеждения философия исходит в своем
рассмотрении как духовного, так и природного универсума» (формула
из «Философии права», 1820), в силу своей «эластичности»
позволяющий, по мнению Чаадаева, оправдать любую концепцию русской
национальной самобытности (об отношении Чаадаева к Гегелю, с
трудами которого он познакомился лишь в середине 1830-х гг., см.: Quénet,
178-179; Чижевский Д. И. Гегель в России. С. 266; Торопыгин П.
Чаадаев и Гегель // В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992.
134-141; Сербиненко В. В. Гегель и русская религиозная метафизика
XIX в. / / Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощают-
Комментарии
853
ся с модерном. М., 2000. С. 170-171 и др.). Среди славянофилов
философией Гегеля увлекались К. С. Аксаков (еще с 1830-х гг.) и Ю. Ф. Самарин,
воззрения которых, по всей видимости, и являются объектом критики
Чаадаева (такое предположение было высказано П. Торопыгиным: То-
ропыгин П. Чаадаев и Гегель. С. 140). Об увлечении философией Гегеля
сохранилось несколько характерных свидетельств. Б. Н. Чичерин писал
в своих воспоминаниях о К. С. Аксакове: «В молодости, под влиянием
кружка Станкевича, с которым он был близок, он занялся философиею
и заразился господствовавшим тогда гегелизмом. Но и в ту пору, как он
мне сам говорил, он был убежден, что русский народ преимущественно
перед всеми другими призван понять Гегеля, — дикая мысль, вполне
характеризующая его взгляды. <...> Он русскую историю строил по всем
правилам Гегелевой логики: древняя Россия представляла положение,
новая отрицание, а будущая, возвещанная славянофилами, должна была
явиться восстановлением в высшей форме первоначального
положения. <...> ..для Аксакова фактическая сторона была последним делом.
Он уносился в облака и строил свои воздушные замки, не обращая ни
малейшего внимания на действительность. Постоянно роясь в древних
грамотах, он видел в них только то, что хотел видеть, закрывая глаза
на все остальное. Древняя Россия была для него идеалом человеческого
общежития» (Русское общество 40-50-х годов XIX в. Часть П.
Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. С. 165; см. также письмо С. П. Шевырева
к И. С. Аксакову от 1862 (?) г., приведенное в книге: Колюпанов Н.
Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. I. Кн. И. М., 1889. С. 130-131).
О том же см. в дневнике А. И. Герцена 1843 г.: К. Аксаков и Самарин
«хотят на основаниях современной науки построить здание
славяновизантийское, они по Гегелю доходят до православия и по западной
науке до отвержения западной истории; они принимают прогресс,
смотрят нашими глазами на будущность человечества, оттого у них
потеряна необходимая консеквентность» (запись от 26 октября 1843 г.:
Герцен А И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 2. М., 1954. С 311). В своих
письмах К. С. Аксакову от 1840 г. Самарин фиксировал свои салонные
столкновения с М. Ф. Орловым и дебаты вокруг философии Гегеля
(Сочинения Ю. Ф. Самарина. Т. 12. М., 1911. С. 21). В частности, Самарин (в
письме Аксакову от зимы 1840-1841 гг.), упоминая разговор Аксакова с
Каролиной Павловой о Гегеле, высказал мнение о деталях философской
концепции Гегеля, прямо противоречащее излюбленной мысли
Чаадаева об «избранных» Провидением личностях, способствующих прогрес-
854
су человечества: «Мне кажется, Гегель понимает всю историю, все
развитие, как откровение Божие, но не принимает откровения в известное
только время, одному или некоторым лицам» (Там же. С. 24). О
дискуссиях между Самариным и Чаадаевым в начале 1840-х гг. свидетельствует
письмо Самарина К. Аксакову от 1843 г.: «Я сбираюсь нынче вечером
к Чаадаеву. Что бы тебе, с своей стороны, отправиться туда же? Я
давно уже выдерживаю один его нападения, намеки и пр. Пора на смену»
(Там же. С. 43-44) (об отношении славянофилов к философии Гегеля (в
частности, свод позднейших высказываний Самарина о сути увлечения
философией Гегеля в начале 1840-х гг.), подробнее см.: Чижевский Д. И.
Гегель в России. С. 192-208; об отношении к философии Гегеля русской
прессы 1840-х гг. см.: Там же. С. 262-264). Д. И. Шаховской отметил, что
в письме Чаадаева «слышны отклики салонных споров и литературных
впечатлений, между которыми не последнее место могли занимать
толки о статьях Белинского, гегелианство которого только что тогда
еще отрешилось от готовности полного оправдания действительности,
каково бы ни было ее содержание, когда западник Белинский мог
выступать апологетом узкого национализма» (Звенья. Кн. 5. С. 232;
имеются в виду статьи Белинского в журнале «Московский наблюдатель»
в 1838-1839 гг.). Шаховской резюмировал: «...при этом он [Чаадаев. —
М. В.] сам в значительной мере подпадает под удары той критики,
которые он расточает другим: в увлечении спора "судьбы великого народа"
чуть не ставятся в зависимость от смены профессоров и умственных
чтений в Берлине» (Там же).
579 Ю. Ф. Самарин писал А. Н. Попову в 1842 г.: «Недавно оттуда [из
Берлина. — М. В.] приехавшие Мельгунов и Тургенев [И. С. Тургенев. —
М. В.] сказывали (это собственные слова последнего), что все
порядочные люди приняли сторону Шеллинга и что Гегель похоронен»
(Сочинения Ю. Ф. Самарина. Т. 12. С. 95; курсив автора).
580 Подробнее см. комм. 578.
581 Об «истинной» любви к отечеству в представлении Чаадаева см.
«Апологию безумного» (1837).
582 Поскольку, как мы предполагаем, содержание письма Чаадаева к
Шеллингу укоренено в контексте его салонных споров с молодыми
гегельянцами — К. С. Аксаковым и Ю. Ф. Самариным, то приведем
фрагменты письма Самарина к члену Камеры Депутатов Ф. Могену от сентября
1840 г., распространявшегося Самариным среди московских друзей и
полемичного по отношению к чаадаевской концепции русской исто-
Комментарии
855
рии (оригинал по-фр.): «Мы были национальны до Петра Великого,
потому что вне своего отечества не знали ничего и потому что отношения
наши к соседям были всегда враждебны. <...> С этого времени [с начала
XV в. — М. В.] ей [России. — М. В.] пришлось отстаивать свою духовную
независимость, обороняться от антинациональной цивилизации,
которую навязывал ей Запад; ей пришлось сопротивляться внушениям пап,
никогда не терявших ее из виду, и сильному движению католическому,
которое то оружием, то глухою, неутомимою пропагандою силилось
вырвать Россию из ее обособления и завлечь ее в общее движение западных
народов. <...> До Петра Великого, как я сказал, мы были национальны,
потому что не знали своих соседей. Какое-то чудное предчувствие
предназначавшейся для России исключительной, своеобразной будущности
предохранило русский народ от безусловного влияния народов Запада...
Петр Великий от имени всего народа обратился за нею [чуждой
цивилизацией. — М. В.] к Западу, и с этого времени начинается новый период в
нашей истории. Народное начало как бы исчезает. Ослепленные блеском
Запада, подкупленные чудными благами просвещения, к которому Запад
нас призывает, мы бросаемся, очертя голову, на чуждые нам стези, —
забываем свое прошлое, становимся Французами, потом Немцами; затем
оба влияния эти сливаются, и народный элемент, повидимому,
совершенно угасает. <...> Все еще в будущем; но это будущее может быть только
плодом прошедшего. Итак, обратимся к изучению нашего прошлого.
Извлечем его из праха, исследуем в нем зародыши жизни, наши природные
начала, которые по сие время не могли получить надлежащего развития.
<...> Влияние Запада на Россию кончилось... отныне развитие наше будет
вполне самобытно» (Сочинения Ю. Ф. Самарина. Т. 12. С. 448-449,451).
583 Именно на рубеже 1830-х и 1840-х гг. «панславизм» стал чрезвычайно
«модным» в России. Ср. более ранее высказывание Т. Н. Грановского об
атмосфере в московском обществе и Московском университете:
«Славянский патриотизм здесь теперь ужасно господствует...» (из письма к
Н. В. Станкевичу от 27 ноября 1839 г.: Т. Н. Грановский и его
переписка. Т. 2. С. 370). Как отмечает А. Л. Осповат, клишированный массовым
сознанием на рубеже 1830-1840-х гг. «панславизм» был «конструктом,
ассоциировавшим умозрительные соображения о будущей интеграции
славянских наций с племенной тягой к гегемонии и/или тайной
политической доктриной Петербурга...» (Осповат А Л. Элементы
политической мифологии Тютчева (комментарий к статье 1844 г.) // Тартуские
тетради. М., 2005. С. 360). Одновременно данный фрагмент можно счи-
856
тать и репликой Чаадаева в спорах с Ю. Ф. Самариным, в чьих взглядах
того времени идея исследования славянского мира прочно связывалась
с философским методом Гегеля. Самарин писал А. Н. Попову 5 декабря
1842 г.: «Участие к славянскому возрождению, с некоторого времени,
принимает такой характер, который, мне кажется, делает
противодействие необходимым. Многие стали понимать будущее торжество
славянизма, как торжество жизни над наукою. Я готов согласиться, что
прекрасен мир Славян, что прекрасна эта жизнь свободная, этот уцелевший
быт; но существенное его достоинство в моих глазах состоит именно в
том, что этот быт и эта жизнь и должна быть оправдана наукою. <...> Вы
знаете, что под наукою я разумею философию, а под философиею —
Гегеля. Только приняв эту науку от Германии, бессильной удержать ее (от
того, что эта наука выразила требование такой жизни, какой не может
явить Западная Европа), только этим путем совершится примирение
сознания и жизни, которое будет торжеством России над Западом. <...>
...искать славянского духа в сложности всех племен славянских кажется
мне мыслью ошибочной. Целью и окончательным результатом всего
славянского развития было вынести Россию и в ней явить средоточие и всю
полноту славянского духа, без всякой односторонности. <...> Только в
России славянский дух дошел до самосознания, условленного
самоотрицанием. <..> ...Православие явится тем, что оно может быть, и
восторжествует только тогда, когда его оправдает наука, что вопрос о Церкви
зависит от вопроса философского и что участь Церкви тесно, неразрывно
связана с участью Гегеля» (Сочинения Ю. Ф. Самарина. Т. 12. С. 98-100).
А. И. Герцен записал в дневнике 10 ноября 1843 г. о разговоре с
Самариным: «Они говорят, что плод европейской жизни созреет в славянском
мире, что Европа, достигнув науки, негации существующего, наконец,
провидения будущего в вопросах социализма и коммунизма, совершила
свое и что славянский мир — почва симпатического, органического
развития будущего. <...> У них славянизм неразделен с греческой религией»
{Герцен А И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 2. С. 314-315).
584 С 1818 по 1831 гг. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (Hegel) (1770-1831)
был профессором Берлинского университета. Чаадаев упоминает
представления Гегеля о миссии народов и реализации мирового духа
в историческом процессе, в различных формах, согласно духу
отдельных народов. «Абсолютный дух» развивается, по мнению Гегеля, в трех
формах: как интуиция в искусстве, как представление в религии и как
понятие в философии. Каждая философская система является необхо-
Комментарии
857
димым продуктом человеческого мышления и необходимой ступенью
в его развитии. В. Виндельбанд замечал по этому поводу. «Абсолютный
дух Гегеля есть в действительности человеческий дух. В данном
вопросе и пролегает пропасть, отделяющая Гегеля от Канта». Подробнее см.:
Виндельбанд В. От Канта до Ницше. С. 336-341.
585 О «скромности ума» и «религиозном смирении» в сочетании с идеей
покорности русского народа реформаторским действиям русских
монархов см. «Апологию безумного» (1837).
586 рукоп. Тург. арх.: те fites (примечание М. О. Гершензона). Автограф
письма, опубликованный Д. И. Шаховским, дает аналогичное чтение: fîtes.
587 То же: j'appris (примечание М. О. Гершензона).
588 То же: je voulus (примечание M. О. Гершензона). То же в автографе,
опубликованном Д. И. Шаховским.
589 То же: latitudes (примечание М. О. Гершензона).
590 то же: m'en empêchèrent (примечание M. О. Гершензона). То же в
автографе, опубликованном Д. И. Шаховским.
591 В автографе, опубликованном Д. И. Шаховским, после точки с запятой
стоит: (Nous?).
592 То же: vécûmes (примечание М. О. Гершензона). То же в автографе,
опубликованном Д. И. Шаховским.
593 То же: pour nous aujourd'hui (примечание M. О. Гершензона). То же в
автографе, опубликованном Д. И. Шаховским.
594 То же: Or (примечание М. О. Гершензона). То же в автографе,
опубликованном Д. И. Шаховским.
595 То же: à toutes les applications possibles (примечание M. О. Гершензона).
596 в автографе, опубликованном Д. И. Шаховским, стоит: <de nos> pieux
<ancêtres>.
597 То же: de nous (примечание M. О. Гершензона). То же в автографе,
опубликованном Д. И. Шаховским.
598 То же: Et ne pensez pas que j'exagère cette influence, (примечание
M. О. Гершензона). В автографе, опубликованном Д. И. Шаховским, в
конце данного предложения стоит восклицательный знак, а не точка.
599 То же: sa (примечание М. О. Гершензона).
600 То же: littérature bientôt (примечание M. О. Гершензона).
601 в автографе, опубликованном Д. И. Шаховским, стоит: <d'infatuations>
littérair <personnelles>.
602 в автографе, опубликованном Д. И. Шаховским, в конце данного
предложения стоит вопросительный знак, а не точка.
То же: à triompher d'une philosophie superbe (примечание M. О. Гершен-
зона).
Подпись восстановлена по публикации Д. И. Шаховского: Звенья. Кн. 5.
С 225.
Возможно, в данном фрагменте (в поздней редакции того же письма о
православии речи нет) Чаадаев критикует сложившуюся под
влиянием философского метода Гегеля концепцию развивающейся Церкви
Ю. Ф. Самарина, которую тот подробно обсуждал с А. Н. Поповым как раз
зимой 1841-1842 гг. Согласно Самарину, «развитие» церкви «стоит
бесконечно выше всякого человеческого развития, потому что каждый момент
его запечатлен Духом, каждый результат, каждое слово Церкви есть
необходимо истинное. Поэтому самый путь, которым она достигла истины,
Церковь должна признать, должна благословить развитие... ей дана
возможность непогрешительного развития, постижения всякой истины,
обличение всякой лжи. <...> В признании и осуществлении этого развития лежит
превосходство, истина нашей Церкви. Примирение двух односторонних
начал. Католицизм осуществил в себе неподвижную церковь;
протестантизм, признавши начало развития, должен был отрицать Церковь,
следовательно, само содержание этого развития. Он остался при отвлеченном,
бесплодном движении. Мы же, т. е., пока Аксаков и я, исповедуем Церковь
развивающуюся» (СочиненияЮ.Ф.Самарина.Т.
12.С.84-85;разрядка автора). Самарин, таким образом, оправдывал любое прогрессивное
движение в истории православной церкви и усматривал в этом залог ее
состоятельности, в то время как Чаадаев в «Философических письмах»
выводил конфессиональную прочность католицизма как раз из его
«неподвижности», постоянства его присутствия в европейской истории.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Письма
Оригинал впервые: Le Correspondant. Nouvelle série. T. XIV, 25 juin I860.
Paris. P. 287-288. Первая публикация в русском переводе: Полярная
звезда на 1861 год. С. 102-104; см. также: Библиографические записки. 1861.
№ 1. Стлб. 9-Ю. Оригинал и русский перевод К. С. Павловой печатаются
по: Пушкин А С Полное собрание сочинений, 1837-1937: В 16 т. Т. 14.
М.; Л., 1941. С. 187-188,430-431. Ответ на письмо Чаадаева от 17 июня
1831 г. О контексте письма см.: Летописи Государственного литератур-
Комментарии
859
ного музея. Кн. 1: Пушкин. М., 1936. С. 502; Калитин П. Я, Кулагин А В.
Об источниках пушкинской заметки «Мнение митрополита Платона...» //
Временник Пушкинской комиссии. Вып. 26. СПб., 1995. С. 163-164.
А. И. Тургенев отозвался на письмо Пушкина Чаадаеву следующей
репликой: «В письме к Чад.<аеву> о его рукописи много справедливого.
Поставь на место католицизма — христианство, и все будет на месте; но в
том-то и ошибка его и предтечей его: Мейстера, Бональда, Ламене, Свечи-
ной. — На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно
мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения,
ни на историю, в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию.
Чадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя
он — выслушивает и другую сторону-, т. е. читает и протестантов; но
находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или слабые
доказательства, кои спешит обессилить, или устраняется от состязания
когда доводы противников слишком сильны. — Это кабинетное занятие
было бы спасительно и для его ментально-физического здоровья, о
котором пишу к Жуковскому, — но болезнь, т. е. хандра его, имеет корень в
его характере и в неудовлетворенном самолюбии, которое впрочем всем
сердцем извиняю, и постигаю. Мало по малу я хочу напомнить ему, что
учение христ.<ово> объемлет всего человека и бесконечно, естьли,
возводя мысль к небу, не делает нас и [на земле] здесь добрыми земляками
и не позволяет нам уживаться с людьми в англ.<ийском> Московском
клобе; деликатно хочу напомнить ему, что можно и должно менее
обращать на себя и на das liebe Ich <свое любезное Я — нем.У внимания, менее
ухаживать за собою, а более за другими, не повязывать пять галстуков в
утро, менее даже и холить свои ногти и зубы и свой желудок; а избыток
отдавать тем, кои и от крупиц падающих сыты и здоровы. Тогда и холеры
и гемороя менее будем бояться: до наели? сказал один мудрец в 30 лет,
за жизнь коего в Царе-граде, во время греческого восстания,
страшился брат в П.<етер>Бурге. Тогда и жизнь и смерть — и болезнь — и все
получит смысл...» (цит. по: Пушкин А С. Полное собрание сочинений:
В 16т. Т. 14. М- Л, 1941. С. 191; курсив автора).
Речь идет об эпидемии холеры, начавшейся в Петербурге в середине
июня 1831 г. Слухи о том, что немецкие врачи и поляки отравляют
народ, вызвали бунт на Сенной площади в Петербурге. Подробнее см.:
МартьяноваМ. «Польские отравители» в 1830-1831 годах //Тартуские
тетради. М, 2005. С. 306-314.
Возможно, речь идет, например, о статье «Наблюдения в отечестве.
О нынешней болезни», помещенной в «Северной пчеле» от 3 июля
1831 г., где, в частности, говорилось: «Тому назад около пяти сот был во
всей Азии и Европе губительный мор, известный под именем Черной
Смерти: миллионы погибли от оного в разных странах, между прочим
и в России. В те времена непросвещения люди гибли от моровых
поветрий тысячами; кто бывало заразится, тот уже не встанет. Тогда не
было благоустройства в Государствах: не было Полиции, которая,
содержа карантины, не допускала бы вторжения болезни, которая
отделяла бы больных от здоровых, доставляла им средства пропитания и
врачевания, и хоронила мертвых поодаль, для удержания дальнейшего
распространения заразы; не было знающих и опытных Врачей, которые
умели бы предохранять людей от заразы, а в случае заражения, лечить
их с успехом. В нынешние времена, когда народы Христианские живут
под защитою и охранением просвещенных Правительств, нельзя уже
опасаться таких бедствий, как в те времена темные и невежественные.
<...> Бог увенчал счастливым успехом сие Христианское
самопожертвование [прививание оспы Екатериной II себе и наследнику великому
князю Павлу Петровичу. — М. Я]; народ уверился в спасительном
прививании, и число жертв оспы значительно умалилось... Так и со всеми
заразами: они страшны и пагубны, когда не принимают против них
надлежащих и сильных мер; но при пособии искусства Врачей, при
бдительности властей полицейских и при беспрекословном исполнении
предписаний благоразумного начальства, мало-помалу ослабевают, а
наконец исчезают вовсе. <...> Соединим же все усилия свои и станем
усердно вспомоществовать трудам благодетельного Правительства; не
будем уклоняться ни от каких его предписаний; окружим нашим
доверием и уважением, как исполнителей велений верховной власти, так и
великодушных Врачей, помогающих нам в общем бедствии. Бог
услышит молитвы наши и благословит мудрые и чадолюбивые попечения
доброго нашего МОНАРХА. Минет жестокая болезнь, а в сердцах наших
останется навек уверенность в милосердии Божием и неизгладимая
благодарность к Его Помазаннику» (Северная пчела. 1831. № 146. Л. 2-
2 об.; та же самая статья была затем помещена и в «Санкт-Петербургских
ведомостях»: О нынешней болезни // Санкт-Петербургские ведомости.
1831. № 155 (4 июля). С. 640; О нынешней болезни (окончание) //
Санкт-Петербургские ведомости. 1831. № 156 (5 июля). С. 644-645.
С пометой: «Из Сев.<ерной> Пч.<елы>» (Там же. С. 645).
Пушкин с семьей, как и императорский двор, находился в Царском Селе,
из санитарных соображений отрезанном от Петербурга. См. комм. 294.
Комментарии
861
610 Именно с помощью Д. Н. Блудова, в тот момент товарища министра
народного просвещения (с 25 ноября 1826 г.), Пушкин собирался
получить разрешение на напечатание шестого и седьмого «Философических
писем» Чаадаева у книгопродавца и издателя Ф. Беллизара. Обращение к
Блудову в случае цензурных проблем типично для литераторов
пушкинского круга. Например, П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу и В. А.
Жуковскому 6 января 1827 г. из Москвы: «Пушкин получил обратно свою
трагедию [«Бориса Годунова». —М.В.] из рук высочайшей цензуры. Дай
Бог каждому такого цензора. Очень мало увечья. Новый устав Цензуры
[1826 г. — М. В.] здесь в Москве все еще не в силе: надеюсь на Блудова,
что он его и совершенно обессилит» (АбТ. 6, 55). Именно Блудов был
инициатором пересмотра цензурного устава 1826 г., закончившегося
высочайшим утверждением нового устава 22 апреля 1828 г.
611 Речь идет о рукописи шестого и седьмого «Философических писем».
612 Т. е. в Москве, как было обозначено Чаадаевым в конце седьмого
«Философического письма».
613 Пушкин писал в Москву П. А. Вяземскому 3 августа 1831 г.: «Не понимаю,
за что Чедаев с братией нападает на реформацию, c.<'est> à d.<ire> un
fait de l'esprit Chrétien. Ce que le Christianisme y perdit en unité il le regagna,
[par [cet] ce fait], en popularité. Греческая церковь — дело другое: она
остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа.
Радуюсь, что Чедаев опять явился в обществе» (Пушкин А С. Полное
собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. С. 205; перевод: «то есть на известное
проявление христианского духа. Насколько христианство потеряло при
этом в отношении своего единства, настолько же оно выиграло в
отношении своей народности» (Там же. С. 434).
614 Экклезиаст, VII, 5.
615 Впервые в оригинале и переводе на русский язык: Русский архив. 1884.
Кн. 2. С. 453-457. Оригинал и русский перевод H. H. Соколовой под ред.
Н. В. Измайлова печатаются по: Пушкин: Письма последних лет, 1834—
1837. Л., 1969. С. 153-156. Письмо было известно в рукописи (например,
А. И. Тургеневу, оставившему соответствующую дневниковую запись
от 15 декабря 1836 г.: Максимов М. По страницам дневников и писем
А. И. Тургенева (Пушкин и А. И. Тургенев) // Прометей. Т. 10 (1974).
С. 384). См. комментарий В. Э. Вацуро в кн. «Пушкин: Письма последних
лет»: «Неотправленное письмо осталось в бумагах Пушкина, откуда было
извлечено Жуковским, и затем хранилось у него (по-видимому, в
момент просмотра бумаг Пушкина оно уже было у Жуковского, так как не
имеет жандармской нумерации). <...> В письме Жуковскому от 5 июня
1837 г. Чаадаев просил прислать ему хотя бы копию письма. <...> Текст
письма был известен друзьям Пушкина; 15 декабря 1836 г. А. И. Тургенев
записал: "Читал письмо к Чаадаеву не посланное"... 2 февраля 1837 г.
Жуковский читал его присутствующим у В. Ф. Вяземской...» (Пушкин:
Письма последних лет, 1834-1837. С. 328-329). О контексте создания
письма подробнее см.: Долинин А. А. Вальтер-скоттовский историзм и
«Капитанская дочка» // Долинин А. А. Пушкин и Англия: Цикл статей. М,
2007. С. 256-258.
Пушкин не отправил статью Чаадаеву, поскольку узнал от К. О. Россета
о начале репрессий против автора первого «Философического письма».
Россет писал Пушкину вскоре после 22 октября 1836 г.: «Сейчас
возвратившись домой, я узнал нижеследующее обстоятельство, которое
спешу вам сообщить в дополнение к нашему разговору. — Государь читал
статью Чедаева и нашел ее нелепою и сумазбродною, сказав при том,
что он не сумневается, "что Москва не разделяет сумасшедшего мнения
Автора", а г.<енерал> г.<убернатору> князю Голицыну предписал
ежедневно наведываться о состоянии здоровья головы Чедаева и отдать его
под присмотр правительства, ценсора отставить, а № журнала
запретить. Сообщая вам об этом для того, чтоб вы еще раз прочли писанное
вами письмо к Чедаеву и еще лучше отложили бы посылать по почте...»
(цит. по: Пушкин А С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 16. М.; Л.,
1949- С. 176). Согласно мнению И. А. Шляпкина, Пушкин, получивший
в первой половине октября 1836 г. письмо от Ф. Ф. Вигеля о выходе
первого «Философического письма» в «Телескопе» («Нежную
обожаемую мать разругали, ударили при мне по щеке; желание мести и
бессилие меня ужасно тревожит», писал Вигель), «думал анонимно переслать
Чаадаеву это опровержение [Вигеля. — М. В] или какое-нибудь другое,
может-быть коллективное с Блудовым и Вигелем...» (Блудов упоминался
в упомянутом письме Вигеля Пушкину) (Шляпкин И. А. Из неизданных
бумаг А. С. Пушкина. С. 280-281).
Речь идет об отдельном оттиске русскоязычной версии первого
«Философического письма», опубликованной в 15-м номере «Телескопа» за
1836 г. Оттиск был передан Пушкину через И. С. Гагарина. В библиотеке
Пушкина 15-й номер «Телескопа» отсутствовал (Модзалевский Б. Л.
Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 135).
Как писала С. Н. Карамзина брату А. Н. Карамзину 3 ноября 1836 г. по
поводу цензуры: «Пушкин очень хорошо сравнивает ее с пугливой ло-
Комментарии
863
шадью, которая ни за что, хоть убейте ее, не перепрыгнет через белый
платок, подобный запрещенным словам, вроде слов "свобода",
"революция" и прочее, но которая бросится через ров потому, что он черный, и
сломает там себе шею» (Пушкин в переписке Карамзиных. 1837-1837 гг.
С. 128). Сходные мысли высказывал В. Ф. Одоевский в письме к С. П. Ше-
выреву: «Что наделал Надеждин? Как до такой степени не знать своего
дела? Виноват один, а естественно падает на всех; ни в чью душу не
взлезешь, и неосторожность легко смешивают с злонамеренностию. Здесь
об этом такой трезвон по гостиным, что ужас; и что всего досаднее,
вступиться нельзя: явная глупость в самой статье, а еще большая в напе-
чатании оной. Ясно вижу, хотя и не понимаю от чего, журнала в Москве
издавать нельзя: у вас Москвичей такое незнание о том, что делается
на Руси! Такое незнание струн, которых нельзя трогать! Вздора ваши
цензоры не пропускают и задумываются на самой невинной фразе, а
вдруг брякнут торжественно, что мы должны быть подданными Папы!
Сами вы, господа, тиснули недавно, что человечество не происходит от
Адама. Как вам не бросилось это в глаза? Горе да и только! Продавайте
Наблюдатель Плюшару; вот все, что вам остается делать, и да не будет
в Москве ни одного журнала, по крайней мере мы не будем трепетать
за вас при получении каждой книжки» (Из бумаг Степана Петровича
Шевырева // Русский архив. 1878. № 5. С. 58; письмо датировано здесь
30 декабря 1836 г. Однако такая датировка, по-видимому, неправильна.
В том же письме Одоевский замечал: «Успокой семейство Н<адеждина>.
Я не думаю, чтоб он лично пострадал, но нагоняй будет, как видно по
общему мнению, порядочный. Всех издателей собирали в Комитет, чтоб
им объявить о запрещении Телескопа» (Там же), т. е. письмо написано
еще до утверждения Николаем I приговора специальной комиссии по
«чаадаевскому делу», до 30 ноября 1836 г. Уваров объявил о запрещении
«Телескопа» цензорам и издателям 24 октября 1836 г. Вероятно, письмо
Одоевского можно датировать 30 октября 1836 г.).
Сам Чаадаев придерживался противоположного мнения. См. комм. 724.
Эти строки письма близки началу статьи Пушкина «О ничтожестве
литературы русской» (1834 г.): «Долго Россия оставалась чуждою
Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни
в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-
кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее
никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми
восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми
864
походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России
определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины
поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю
Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь
и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение
было спасено растерзанной и издыхающей Россией...» (Пушкин А С
Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 268).
621 Имеется в виду сподвижник Петра, архиепископ Новгородский Феофан
Прокопович (1681-1736), сторонник подчинения церкви государству,
принимавший участие в замене патриаршества Синодом.
622 Термин «папизм» («le papisme») католические философы (например,
Ж де Местр) считали оскорбительным. Де Местр рассуждал: «Само
имя православия остается тем, чем и будет всегда: в высшей степени
нелепым комплиментом, ибо он произносится теми, кто обращает его
сам к себе; и титул паписта есть то, чем он всегда являлся, чистого рода
оскорблением, притом дурного тона, которое даже у протестантов не
оскверняет благородные уста» («Ce nom d'orthodoxe est demeuré ce qu'il
sera toujours, un compliment éminemment ridicule, puisqu'il n'est prononcé
que par ceux qui se l'adressent à eux-mêmes; et celui de papiste est encore ce
qu'il fut toujours, une pure insuite, et une insulte de mauvais ton qui, chez les
protestans même, ne sort plus d'une bouche distinguée») (MaistreJ. de. Du
Pape. Lyon; Paris, 1819. T. IL P. 586, Livre IV, chap. 3; курсив автора).
623 По мнению В. Э. Вацуро, «Пушкин здесь отвечает, по-видимому, не только
на "Философическое письмо", но и на устные беседы с Чаадаевым. Мысль
о подчинении восточной церкви светской власти в 1-м письме Чаадаева
не развернута; в письме же Пушкина возражения ей занимают
значительное место» (Пушкин: Письма последних лет, 1834-1837. С. 330).
624 В черновике письма рассуждения о духовенстве заканчивались словами:
«Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам» (подлинник по-
французски) (Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т: 2. С. 291).
625 Имеется в виду Смутное время, начавшееся убийством царевича
Димитрия в Угличе 15 мая 1591 г. и закончившееся воцарением Михаила
Романова в 1613 г.
626 Сходные вехи русской истории (воспринимавшейся сквозь призму
«Истории государства Российского» Карамзина) выделял и А. И.
Тургенев. Так, он писал П. А. Вяземскому в марте 1827 г. о Карамзине: «И сей
великий сын России, любивший судьбу ее и в первом мерцании нашей
славы воинской при Игоре и Святославе, и в годину искушения при Оль-
Комментарии
865
говичах и Татарах, и в эпоху внутренних преобразований при Годунове
и Петре, и в лучезарный век Екатерины и Александра I, и, наконец,
умиравший с любовию в сердце и с верою в будущее постепенное
возрождение Империи...» (АбТ. 6, 57-58; черновое).
627 В черновике письма критика общества и оценка правительственной
деятельности даны более развернуто: «Что надо было сказать и что вы
сказали — это то, что наше современное общество столь же презренно,
сколь глупо; [что оно не заслуживает даже,] что это отсутствие
общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости,
праву и истине; [это циничное презрение ко всему], что не является
необходимостью. Это циничное презрение к мысли и к достоинству
человека. Надо было прибавить (не в качестве уступки [цензуре], но как
правду), что правительство все еще единственный Европеец в России [и что
несмотря на все то, что в нем есть тяжкого, грубого, циничного]. И сколь
бы грубо [и цинично] оно ни было, только от него зависело бы стать во
сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания»
(подлинник по-французски; в редакционных скобках слова,
зачеркнутые Пушкиным) (Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. С. 291-292).
628 М. И. Гиллельсон писал: «Это утверждение рассчитано на
перлюстрацию письма; в черновом тексте Пушкин утверждал, что
"Философическое письмо" произвело большое впечатление в обществе» (Там же.
С. 292).
629 Пушкин познакомился с П. Б. Козловским в конце 1835 или в начале
1836 г. По формулировке В. А. Мильчиной и А. Л. Осповата, «Пушкин,
отличавший синкретическое дарование своего нового знакомца
(литератор, философ, знаток точных наук), наделял его важной культуро-
творческой миссией» (Милъчина В. А, Осповат А Л. Козловский Петр
Борисович // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь.
М., 1994. С. 10). Козловский пометил в пушкинском «Современнике»
популяризаторские статьи «Разбор парижского математического
ежегодника [по статистике] на 1836 г.» (Т. 1) и «О надежде» (Т. 3).
630 Имена Орлова и Раевского тщательно вычеркнуты и восстанавливаются
предположительно (Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. С. 292).
631 На последней странице письма запись рукой Пушкина: «Ворон ворону
глаза не выклюнет — Шотландская пословица, приведенная В<альтер>
<Скоттом> в Woodstock» (Там же). Имеется в виду фрагмент
авторского предисловия к роману В. Скотта «Вудсток» (1826): «Hawks, we say in
Scotland, ought not to pick out hawks' eyes, or tire upon each other's quarry...»
(«Сокол, как мы говорим в Шотландии, не должен выклевывать глаз
другому соколу или посягать на его добычу»). Подробнее см.: Якубович Д. П.
Предисловие к «Повестям Белкина» и повествовательные приемы
Вальтер Скотта // Пушкин в мировой литературе. Л., 1926. С. 381-382; Ран-
никуК. Об одной вальтер-скоттовской цитате у Пушкина // Русская
филология. 12. Сборник научных трудов молодых филологов. Тарту, 2001.
С. 60-64.
Оригинал и перевод на русский язык печатаются по: Пушкин: Письма
последних лет, 1834-1837. С. 197-199. О черновом варианте письма
Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. Н. Я. Эйдельман писал: «В этих
черновых строках Пушкин обращался к одной из своих излюбленных
мыслей — опасению, что в столь могущественной империи, при столь
централизованной власти, сокрушение дворянства, аристократии
создает почву для всепоглощающего деспотизма, умаления прав свободной
личности; порождает опасную возможность самодержавной опоры на
псевдодемократию, "народность", на шовинистические и
антиинтеллигентские настроения в том духе, как проповедовали, например, Булга-
рин и Греч. Самодержавие, ломающее, но не закрепляющее, сметающее,
но не утверждающее; соединение деспотизма с "якобинской энергией";
наконец, пугающие российские аналоги американской демократии
"по Токвилю" — вот в чем заключалась для Пушкина "азиатская" фаза
российской истории, вот в чем он видит возможности новых
страшных потрясений, "бессмысленных и беспощадных". Духовенство и его
роль оцениваются в черновике сразу вслед за фрагментом о
дворянстве... — этот раздел уже в общем совпадает с тем, что мы находим в
окончательном тексте письма; дворянская же тема в конце концов
снимается, может быть, потому, что Пушкин... позже вообще несколько
меняет тональность послания: черновик резче, печальнее, в нем острая
критика в общем сильнее совпадает с чаадаевской (хотя и тут
переводится в чисто пушкинское русло)» (Эйделъман Н. Я. Пушкин и Чаадаев
(последнее письмо) // Россия/Russia. Вып. 6 (1988). С. 8-9).
Впервые опубликовано (в соответствии с оригиналом) и печатается по:
ОсповатА Л. Из комментария к текстам Чаадаева (по материалам
тургеневского архива) // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту,
1992. С. 227-228. А. Л. Осповат комментирует данное письмо Вяземского:
«В равной степени оспаривая как характеристику России, данную
Чаадаевым, так и саму претензию проникнуть в замысел Провидения на ее счет,
Вяземский как бы развивает здесь одно из высказываний Карамзина, от-
Комментарии
867
разившее его резкую переоценку исторического масштаба воли и ума
отдельного индивидуума: "Мы все как муха на возу-, важничаем и в своей
невинности считаем себя виновниками великих происшествий! —
Велик тот, кто чувствует свое ничтожество — перед Богом!"» (Там же.
С. 228). Именно поэтому Чаадаев уловил в высказывании Вяземского
связь с культурой XVIII в. А. И. Тургенев отвечал на это письмо 26
октября 1836 г.: «Письмо твое о письме многим чрезвычайно понравилось;
я читал его и Чаадаеву, который называет тебя русским отпечатком
XVIII столетия; я выражаю мысль его по-своему, и мне многое в нем
понравилось; но с досадою увидел я после святой терпимости
—равнодушие. Ты все этим изгадил, ибо терпимость есть фенелоновская
добродетель, а равнодушие — ад эгоиста. Ежедневно, с утра до
шумного вечера (который проводят у меня в сильном и громогласном
споре Чаадаев, Орлов, Свербеев, Павлов и другие), оглашаем я прениями
собственными и сообщаемыми из других салонов об этой филиппике.
Я еще не очень здоров и не буду повторять все, что слышу, но вот ответ
репрезентанта XVIII столетия в России — И. И. Дмитриева, коему вчера
сообщил я твои письма (от 12-го и 19-го октября): "С большою благо-
дарностию возвращаю вашему превосходительству две грамотки
нашего умницы. Жаль только, что по связному почерку его — бегло, вопреки
моему нетерпению, и даже не все мог разобрать. Но очень разобрал и
понял, что зрелость духовная, то-есть, ум и душа есть терпимость или
равнодушие. Эта мысль заставила меня улыбнуться от удовольствия.
Я очень люблю Вяземского, а прочтя это, как будто с ним
сроднился и полюбил еще более". Вот как отозвалось доброго эгоиста твое
падение с терпимости на равнодушие! Это торжество для Чаадаева!
Но твоя мысль ясно отсвечивается во всей фразе твоей и явно
противоречит ей твоя не у места поставленная амплификация
выражений: равнодушие^ (Остафьевский архив князей Вяземского. Т. 3.
С. 337-338; курсив автора). Вяземский отвечал Тургеневу 2 ноября
1836 г.: «Ты что-то врешь о моем выражении: равнодушие. Не помню
фразы своей, но, во всяком случае, решительно не вывожу равнодушия
надлежащим или желанным результатом зрелости, а разве фактом. Не
говорю, что оно должно быть так, а разве, что оно есть. Может быть и
то, что говорил о равнодушии к формам. Пока дух зелен и соки в нем
кипят, придаешь большую важность такому то образу мыслей или
другому; после, когда дух созреет, убедишься, что все это оттенки, а
настоящий цвет жизни — чувство. Нет ни одного безусловного, непреложного
мнения: все слова и звуки, которые переливаются из пустого в
порожнее. У меня, например, душу прет от прений французских журналов,
которые я прежде читал с верою и страхом. Впрочем, говорю о себе: меня
к этому равнодушию привела, может быть, и скорбь» (Там же. С. 348-
349; курсив автора). В ноябре-декабре 1836 г. Вяземский готовил так и
не отправленное письмо С. С. Уварову по поводу книги Н. Г. Устрялова
«О системе прагматической русской истории» (1836), где
петербургский историк критиковал Карамзина. Вяземский сравнивал первое
«Философическое письмо» с трудом Устрялова и доказывал их
близость, поскольку в обоих текстах предпринималась попытка
подвергнуть ревизии достижения Карамзина-историка: «Письмо
Чаадаева — не что иное в сущности своей, как отрицание той России,
которую с подлинника списал Карамзин. Тут никакого умысла и
помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостию
воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по
части искажения Русской Истории. <...> Мысли г. Устрялова сбиваются
на ту же теорию, которая, проповедуемая историческою оппозициею
нашею, получила, наконец, практическое применение в известном
письме Телескопа. Оба мнения подкрепляют друг друга и сливаются
вместе. Одно различие в том, что в журнальном письме более безумия
и таланта, а в университетском рассуждении более нелепости и менее
искусства» (Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. П. СПб.,
1879. С. 221, 223; курсив автора). Со своей стороны, Устрялов также
чувствовал опасность, которую представляло бы обсуждение его
книги в печати — на фоне первого «Философического письма» Чаадаева.
27 октября 1836 г. Устрялов отправил А. С. Пушкину записку, в
которой просил не упоминать о выходе «О системе прагматической
русской истории» в «Современнике». По убедительному предположению
Ю. Г. Оксмана, «просьба Н. Г. Устрялова "прейти молчанием" его
книжку в "Современнике" диктовалась не столько авторской скромностью,
сколько опаской. Его диссертация появилась в самый разгар
следственных разысканий об обстоятельствах выхода в свет "Философического
письма" Чаадаева... Расправа с "Телескопом" началась 22 октября 1836 г.,
и неудивительно, что Н. Г. Устрялов, даже чисто академически ставя
некоторые из тех проблем, которые разрешал в своей философии
русской истории Чаадаев, имел все основания опасаться каких бы то
ни было ассоциаций "письма" последнего со своим "рассуждением"»
(Литературное наследство. Т. 16-18. С. 605).
Комментарии
869
634 Между тем, как замечал Тургенев в письме к Вяземскому от 18
октября 1836 г., «здесь [в Москве. — М. В.] большие толки о статье
Чаадаева; ожидают грозы от вас, но авось ответы патриотов спасут цензора»
(Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 333). О скандале вокруг
15 номера «Телескопа», студенческих протестах С. Г. Строганову см.
также: Козмин К К Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-
литературная деятельность. 1804-1836. СПб., 1912. С. 543.
635 В воспоминаниях Д. Н. Свербеева это крылатое высказывание было
ошибочно приписано В. А. Жуковскому.
636 Впервые опубликовано и печатается по: Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3. С. 341-342.
637 Впервые опубликовано и печатается по: Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3. С. 344.30 октября 1836 г. Тургенев записал в дневник- «Ше-
вырев привез ко мне выписки из моих итал<ьянских> бумаг. Я ими очень
доволен; в ту же минуту и он и Павлов уведомили меня об отобрании
бумаг у Чаад<аева> и о слухе о Вологде. Я поехал к нему с Павл<овым>,
нашел его хотя в душевном страдании, но довольно спокойным; он уже
писал ко мне и просил книг, и предлагал писать к гр. Бенк<ендорфу>!!
И мой портрет взяли у него! И верно донесено будет о сем визите» (цит.
по: Гиллельсон М. А. И. Тургенев и его литературное наследство //
Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.). С. 486-487).
638 Чуть позже, 4 ноября 1836 г., Тургенев прокомментировал Вяземскому
контекст обмена письмами между ним и П.-С. Балланшем: «Перебирая
вчера бумаги, кои попали в мой парижский портфель, я нашел письмо
Чаадаева, о коем упоминает Баланш в своей ко мне записке. Посылаю
письмо в оригинале, но убедительнейшее прошу не затерять его и
возвратить ко мне, если оно вам не нужно будет. Это выходка о Риме очень
понравилась Баланшу, но записка его писана из учтивости, дабы
потешить Чаадаева и сделать мне удовольствие. Помнится, что' он говорит
в ней, что он симпатизирует с Чаадаевым. Эта симпатия — за Рим, и
ни за что иное. Впрочем, и Баланш, автор "Антигоны" (то-есть, дюшессы
Беррийской) — легитимист и в религии. Глубок, хотя по католически, и
неправославен. Это добрый старик, ухаживающий за Рекамье и
посвятивший себя ей и окончанию своей "Палингенезии". Впрочем, я не мог
не тешить Чаадаева (хотя к нему почти и не писал, а все писал к нему
в письмах к другим, как вы знаете), ибо я никогда не забуду, что когда
брат мой Сережа приехал в Дрезден в ужасно-расстроенном здоровье,
то один он ухаживал за ним в болезни его до той поры, пока другой
870
ангел-хранитель, в лице Пушкиной, не принял участия в положении и в
болезни брата. Такие случаи в жизни редки и в сердце моем вечно
памятны. Я не забуду никогда, чем обязан Чаадаеву в это время. Вот что
изъясняет мою о нем заботливость. Теперь он для меня только страдалец, и
его несчастие сливается в сердце моем с благодарностию за брата, уже
вознагражденного за бедствия этой жизни» (Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3. С. 351; курсив автора).
639 В приписке к этому письму Е. А. Свербеева, в частности, писала: «Je vous
remercie de votre souvenir, mon aimable cousin; quand vous aurez un instant
de libre, donnez-moi de vos nouvelles. Nous sommes très inquiets ici pour
Tchaadaeff — que lui arrivera-t-il?» («Благодарю вас за воспоминание обо
мне, милый кузен; когда у вас появится свободное мгновенье, напишите
мне о новостях. Мы здесь весьма беспокоимся за Чаадаева — что с ним
будет?») (Там же. С. 344).
640 Впервые опубликовано и печатается по: Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3. С. 345-346.
641 В. И. Сайтов сообщал в своем комментарии к письму А. И. Тургенева
П. А. Вяземскому от 30 октября 1836 г.: «Выражение: "Без боязни того
обличаху" относится к Петру Никитичу Тургеневу и Федору Колачнику,
казненным в Москве в 1606 году» (Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3 (Примечания). С. 731).
642 На данный предосудительный, с его точки зрения, портрет обращал
внимание Н. А. Кашинцев в донесении в III Отделение от 2 декабря
1836 г. Кашинцев, упоминая портрет и надпись, кроме того замечал:
«По слухам за секрет рассказываемым напечатание статьи Чаадаева
Философические письма много приписывают побуждению его к тому,
будто бы кроме Надеждина особенно Алекс. Ив. Тургенева, который
будто уже и струсил и от того под всегда носимою им маскою для
скрытия фальшивых правил его ускакал в С. Петербург» (цит. по: ПССиИП.
Т. 2, 533; курсив автора).
643 Впервые опубликовано и печатается по: Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3. С. 358-359- О «сумасшествии» Чаадаева см. комм. 702.
644 О встрече Чаадаева с С. Г. Строгановым см. комм. 468.
645 Имеется в виду письмо Н. И. Тургенева к Чаадаеву от 27 марта 1820 г., в
котором Тургенев замечал: «Единственная мысль одушевляет меня,
единую цель предполагаю себе в жизни: одна надежда еще не умерла в моем
сердце: освобождение крестьян» (цит. по: ПССиИП. Т. 2,413).
646 Текст «возражения» см. наст. изд. с. 597-604.
Комментарии
871
647 Впервые опубликовано и печатается в русском переводе В. А. Мильчи-
ной по:Мильчина В. А, Осповат А. Л. Из наследия П. Б. Козловского //
Тютчевский сборник. Статьи о жизни и творчестве Федора Ивановича
Тютчева. Таллинн, 1990. С. 308.
Переписка вокруг «Телескопического дела»
648 Печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 404. Ou, 1. Ед. хр. 81. Л. 54-55.
Собственноручное. Частично цитируется в русском переводе: Петров Ф. А.
Формирование системы университетского образования в России. Т. 4.
Ч. 2. М, 2003. С. 318.
649 Дата проставлена Д. П. Голохвастовым.
650 Имеется в виду Алексей Васильевич Болдырев (1784-1842) — статский
советник (с 1829 г.), ректор Московского университета, профессор,
востоковед. Воспитанник московской Университетской гимназии, студент
Московского университета, кандидат Словесного отделения (1805),
магистр философии и свободных наук (1806), с 1811 г. — адъюнкт и
начальник кафедры восточных языков, с 1815 г. — экстраординарный
профессор, с 1818 г. — ординарный профессор, в 1828,1829 и 1830 гг. — декан
словесных наук, с 1833 г. — ректор Московского университета, с 7 августа
1833 г. — сторонний цензор в Московском цензурном комитете, 11
февраля 1836 г. вновь утвержден ректором Московского университета, уволен
со службы 22 октября 1836 г. за «нерадение» (пропустил в печать перевод
первого «Философического письма» Чаадаева (Аттестат А. В. Болдырева
(13 февраля 1837 г, черновой) // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 186а. Л. 9-
11 об.; см. также: Ректоры Московского университета. Биографический
словарь / Составитель В. В. Ремарчук М., 1996. С. 55-57). Крупнейший
востоковед своего времени, Болдырев был автором учебников по восточным
языкам, по которым велось преподавание в университетах вплоть до конца
XIX в. (о Болдыреве-востоковеде см.: Данциг Б. М. Ближний Восток в
русской науке и литературе (дооктябрьский период). М., 1973. С. 119-121).
651 Имеется в виду министр народного просвещения Сергей Семенович
Уваров (1786-1855) — тайный советник (в 1837 г.), министр
народного просвещения (с 1833 г.), президент Императорской Академии наук,
сенатор, член Государственного совета, член Совета о военно-учебных
заведениях, председатель Комитета устройства учебных заведений и
Главного управления цензуры.
652 Впервые Болдырев был избран ректором 3 мая 1833 г., 9 июня утвержден,
8 июля вступил в должность, в связи с чем Д. П. Голохвастов писал Уварову
о нем как о «человеке слабого здоровья, который по причине застарелой
болезни частенько пропускает свои лекции и заседания в Совете» (цит. по:
Петров Ф. А Формирование системы университетского образования в
России. Т. 4. Ч. 2. С. 318). Вторично Болдырев был избран ректором 4
января 1836 г., утвержден императорским указом от 11 февраля 1836 г. Как
отмечает Ф. А. Петров, «письмо Строганова Голохвастову от 7 января 1836 г.
позволяет говорить о двойственной позиции попечителя: поддерживая
переизбрание Болдырева, как человека, способного обеспечить
необходимую преемственность и пользующегося поддержкой Уварова, он в то же
время писал, что "компетентность Болдырева меньше, чем компетентность
Давыдова". Понимая, что нельзя опаздывать с выбором главы
университета в период введения нового устава, Строганов призывал Голохвастова, а
через него и университетский Совет "еще раз все хорошенько обдумать",
поскольку по уставу ректора выбирали на 4 года, а выбор Болдырева
"может оказаться лишь временным"» (Петров Ф. А Формирование системы
университетского образования. Кн. 3. С. 456). Еще ранее, 21 (27?)
декабря 1835 г. Строганов писал Голохвастову: «Выборы нового ректора
потребуют всей вашей расторопности, прошу вас внести кандидатуру
Болдырева, он в настоящее время единственный, кто мог бы подойти; но я
хотел, чтобы Вы призвали его и преподали урок о том, как бы я ожидаю,
чтобы он исполнял свои функции в будущем; если он совершит
оплошность <...> то 61 параграф не спасет его, и он не продержится на месте
более 6 месяцев. Г-н Уваров думал, что астроном будет хорошим Ректором.
Но поскольку я придерживаюсь противоположного мнения, то не могу
думать о нем, он слишком желчен и слишком любит деньги. Вы можете
думать, что годичная отсрочка выборов Ректора от меня не зависела, дело
было решено прежде моего прибытия сюда, сие было необходимо как
повод к отставке ректора Петербургского университета» («L'élection du
nouveau Recteur réclamera toute votre activité, je vous engage à faire porter
M-r Boldireff, c'est le seul qui convienne pour le moment; mais je desiderait
que Vous le fassiez venir et lui fassiez la leçon sur la manière dont j'attends qu'il
remplisse ses fonctions à l'avenir; s'il fait le faux <...> le § 61 ne le sauvera pas
et il ne restera pas 6 mois à sa place. M-r Ouvaroff avait cru que l'astronome
ferait un bon Recteur. Mais comme je suis d'un avis contraire je ne puis songer
à lui; il a trop de passion de bile et d'amour pour l'argent. Vous pouvez penser
qu'il n'a pas dépendu de moi de retarder d'une année cette élection du Recteur,
la chose était terminée avant mon arrivée ici, on avoit besoin d'un prétexte
pour renvoyer le recteur de l'Université de Pétersbourg» (ОПИ ГИМ. Ф. 404.
On. 1. Ед. xp. 81. Л. 10 об.; согласно 61-му параграфу «Устава о цензуре»:
Комментарии
873
«На случай отъезда или болезни, Попечитель Округа поручает
временное председательство в Ценсурном Комитете Ректору Университета или
которому либо из Профессоров, по своему усмотрению, и доносит о том
Главному Управлению Ценсуры» (Свод законов Российской империи,
повелением государя императора Николая Павловича составленный. Т. 14.
Ч. 3-5. СПб., 1833. С. 312). Как следует из этого письма, Уваров не одобрял
кандидатуру Болдырева, в то время как Строганов выдвинул Болдырева
более для того, чтобы не допустить на ректорство профессора
астрономии и геодезии Д. М. Перевощикова, которого, как следует из письма,
поддерживал Уваров (об особом расположении Уварова к Перевощикову см.,
например: Петров Ф. А Формирование системы университетского
образования в России. Т. 3: Университетская профессура и подготовка Устава
1835 года. М, 2003. С. 189).
653 См. письмо Строганова к С. С. Уварову от 16 октября 1836 г.
654 Печатается по автографу: РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 53-54 об.
Собственноручное, черновое (обоснование атрибуции и анализ
черновиков писем Строганова к Уварову от октября 1836 г. см.: Велижев М.
L'affaire du Télescope: письма С. Г. Строганова С. С Уварову (октябрь
1836 г.) // Пушкинские чтения в Тарту. 4. Тарту, 2007. С. 300-317).
На черновике стоит дата: 11 октября, однако из письма Строганова к
Д. П. Голохвастову от 12 октября следует, что попечитель прочел 15
номер «Телескопа» именно в этот день: ОПИ ГИМ. Ф. 404. Оп. 1. Ед. хр. 81.
Л. 54-55 (см. настоящее издание, с. 505); см. также: Петров Ф. А
Формирование системы университетского образования в России. Т. 4. Ч. И.
С. 318). Чтение «Телескопа» могло быть делом запланированным, а не
срочным: 12 октября, прежде ознакомления со статьей Чаадаева,
Строганов написал письмо к отцу, Г. А. Строганову, в котором отсутствуют
упоминания о «Телескопе» (РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 17-
18 об.). Поздний рассказ Строганова о чтении 15-го номера
«Телескопа», переданный О. М. Бодянским, как следует из приводимой нами
переписки, грешит неточностями и ошибками в датах, хотя, вероятно, сам
журнал Строганов получил именно от Д. П. Голохвастова (Осип
Максимович Бодянский в его дневнике 1849-1852 гг. Часть III, IV, V // Русская
старина. 1889. № 10. С 137 (запись от 30 января 1852 г.).
655 Выскоблено: «[Télégraphe».
656 Правильно: «Телескоп».
657 Строганов точно уловил связь идей Чаадаева с религиозной
философией Ламенне (см. нашу преамбулу к «Философическим письмам»).
Указание на «Американскую школу» как источник воззрений Чаадаева являет-
ся уникальным. «Американская школа» — группа политических деятелей
и литераторов, занимавшихся изучением и популяризацией
американской демократической доктрины (в частности, работ Томаса Джеффер-
сона), одним из видных представителей которых был убитый на дуэли в
1836 г. журналист-республиканец, один из издателей газеты «Le National»
(начала выходить в начале 1830 г.; см., например: Кушнир С. И.
Идеология французского радикализма в 30-е — 40-е гг. XIX в. // Вопросы
истории. 2009. № 3. С. 125-133) Арман Каррель (1800-1836). О взглядах Кар-
реля на место России в европейском мире и ее будущем см., например,
заметку «L'Europe ne sera pas cosaque» («Европа не будет казацкой») в «Le
National» от 3 мая 1835 г.: «Le Journal des Débats cite un passage du livre de
M. de Tocqueville sur les États-Unis ainsi conçu: "Il y a aujourd'hui sur la terre
deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le
même but: ce sont les Russes et les Anglo-Américains. Tous deux ont grandi
dans l'obscurité, et, tandis que les regards des hommes étaient occupés ailleurs,
ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations. Le monde a appris
presque en même temps leur naissance et leur grandeur. Tous les autres
peuples paraissent avoir attaint les limites qu'a tracées la nature; mais eux sont en
croissance. Tous les autres sont arrêtés ou n'avancent qu'à travers mille efforts;
eux seuls marchent d'un pas aisé et rapide dans une carrière dont l'œil ne
saurait encore apercevoir la borne. L'un a pour principal moyen d'action la
liberté; l'autre, la servitude. Leur point de départ est différent; leurs voies sont
diverses. Néanmoins, chacun semble appelé, par un dessein secret de la
Providence, à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde". Et
le Journal des Débats ajoute: "Il y a là des points de vue sur lesquels celui qui
écrit ces mots appelle depuis vingt ans les méditations de l'Europe". Nous ne
devinons pas l'auteur de l'article à l'indication que renferment ces lignes; mais
elles experiment un sentiment qui fait le fond de la politique ajournai des
Débats depuis vingt ans; c'est que la nationalité française a touché sa période
de décadence; que la puissance appartient à la Russie dans l'ancien monde, et
que l'Angleterre laisse échapper, en se faisant démocratique, le sceptre des
mers, qui ne peut être relevé que par l'Amérique. Il y aurait, suivant cette
opinion, deux civilisations qui se disputeraient l'empire du monde: l'une,
représentée par la Russie, et fondée sur le principe de l'obéissance et de l'action de
tous à la volonté d'un seul homme; l'autre, représentée par l'Union américaine,
et fondée sur le principe de la volonté de tous, exécutée par l'intelligence et
l'activité d'un seul. L'Angleterre et la France, comme agents de civilisation,
disparaîtraient dans cette hypothèse: ce serait deux nations usées. En admet-
Комментарии
875
tant un seul instant que les États-Unis d'Amérique aient héritée du noble rôle
d'initiation réformatrice qui jusqu'ici a été exercé alternativement par la France
et par l'Angleterre, on ne voit pas sur quel champ de bataille la Russie et les
États-Unis pourraient se rencontrer un jour, et au nom de quels intérêts ils se
trouveraient aux prises. Pas plus dans trois siècles qu'aujourd'hui la puissance
russe ne fera obstacle aux développements matériels et moraux des races
transplantées dans l'Amérique septentrionale. Le continent tout entier serait
devenu cosaque, la puissance britannique serait détruite par une invasion
russe, que le puissant peuple de l'Union n'interviendrait pas en faveur des
libertés du vieux monde, si ses principes de politique extérieure étaient
toujours ceux qui font aujourd'hui sa prospérité. Ceux qui ont reconnu don
Miguel et profité des embarrass de la révolution de juillet pour enlever 25 millions
à la France, ne seront jamais les propagateurs de la liberté dans aucun des
deux hémisphères. Avant de parvenir à ce colossal développement qui leur
permettrait de se partager le monde, l'Union américaine et l'empire russe
seront brisés par les causes de destruction qu'ils portent avec eux. L'empire russe
verra se développer, par les progrès de son commerce, une classe moyenne
et une démocratie semblables à celles qui composent partout la société
européenne; et le principe de l'obéissance aveugle sera détruit. La fédération
américaine n'aura pas à craindre les débordements de la démocratie; mais elle sera
livrée aux convulsions de l'émancipation de la race nègre. L'alliance ne sera
plus possible entre les États dont l'existence est fondée sur l'esclavage des
noirs et ceux qui, favorisés par un climat plus heureux, ont su l'extirper ou qui
ne l'ont jamais connu» ajournai des Débats приводит фрагмент из книги
г. де Токвилля о Соединенных Штатах, состоящий в следующем: "На
земле сегодня существуют два великие народа, которые, отправившись из
разных точек, кажется, направляются к одной и той же цели: это Русские
и Англо-Американцы. Оба народа выросли в безвестности и, когда взоры
людей были заняты другим, они внезапно объявились среди наций
первой величины. Мир узнал об их рождении и величии почти
одновременно. Все прочие народы, по-видимому, достигли пределов, начертанных
природой, но эти — продолжают развиваться. Все прочие остановились
или двигаются вперед, тратя массу усилий; лишь русские и американцы
одни идут легким и быстрым шагом на поприще, пределов которого глаз
не может еще различить. Один из народов действует, главным образом,
через свободу; другой — через рабство. Точки их отправления были
разными, их пути разнятся. Тем не менее, каждый из них как будто призван,
тайным промыслом Провидения, распоряжаться однажды судьбами по-
ловины мира""Journal des Débats добавляет: Именно об этих точках
зрения автор сих строк уже как 20 лет призывает задуматься Европу". Мы не
угадаем автора статьи по указанию, заключенному в этих строках; но
они выражают убеждение, лежащее в основе политики/оигая/ des Débats
последние двадцать лет; а именно то, что французская национальность
переживает период заката; что в старом свете сила — на стороне России,
и что Англия, делаясь демократичной, теряет владычество над морями,
кое не может быть воспринято никем другим, кроме Америки. Согласно
этому мнению, две цивилизации будут оспаривать господство над
миром: одна, которую представляет Россия, основана на принципе
подчинения и действия всех по воле одного человека; вторая, которую
олицетворяет Американский союз, базируется на принципе общей воли,
исполненной способностями и деятельностью одного. Англия и
Франция, как агенты цивилизации, согласно этой гипотезе исчезнут: они
будут двумя отжившими нациями. На мгновенье признавая, что
Соединенные Штаты Америки воспримут благородную роль реформатора, до сих
пор принадлежавшую поочередно Франции и Англии, мы тем не менее
не видим того поля битвы, на котором Россия и Соединенные Штаты
могли бы однажды встретиться, и во имя каких интересов они бы
боролись друг с другом. В течение трех веков с сего момента русская держава
не будет препятствовать материальному и нравственному развитию рас,
перенесенных в Северную Америку. Европейский континент целиком
станет казацким, британское государство будет разрушено в результате
нашествия русских, могущественный народ Американского Союза не
придет на помощь свободам старого света, если внешнеполитические
принципы всегда будут теми, что обеспечивают сегодня его
процветание. Те, кто признал дона Мигеля и воспользовался замешательством
Июльской революции и похитил 25 миллионов у Франции, никогда не
будут призывать к свободе в каком-либо из двух полушарий. Прежде чем
достичь той колоссальной степени развития, которая позволила бы им
разделить мир, Американский Союз и Российская империя раздробятся
с той разрушительной силой, которую они несут в себе. В Российской
империи разовьются, как результат прогресса в торговле, средний и
демократический классы, похожие на те, которые повсюду составляют
европейское общество; и принцип слепого подчинения будет уничтожен.
Американская федерация не должна бояться излишеств демократии; но
ее будут бить конвульсии при эмансипации темнокожей расы.
Распадется союз между теми Штатами, чье существование основано на эксплуата-
Комментарии
877
ции черных рабов, и Штатами, которые, благодаря более счастливому
климату, сумели искоренить рабство или же никогда его не знали») (цит.
по: Œuvres politiques et littéraires d'Armand Carrel, mises en ordre, annotées
et précédées d'une notice biographique sur l'auteur per M. Littré et M. Paulin.
Vol. IV. Paris, 1859. P. 273-275).
658 Вероятно, Строганов говорит о жизни Чаадаева в Петербурге во второй
половине 1810-х гг.
659 Источник сведений Строганова о переводчике первого
«Философического письма» не установлен. Возможно, восходит к версии
самого Надеждина. Позже журналист сформулирует эту точку зрения на
следствии по делу о запрещении «Телескопа»: не желая упоминать имя
Н. X. Кетчера, исправлявшего первоначальный перевод А. С. Норова, На-
деждин взял ответственность на себя.
660 Точка зрения Строганова согласна с объяснением, представленным на
следствии самим Надеждиным, и со слухами, ходившими в Москве
осенью 1836 г. См. наст, изд., с. 628-629.
661 В октябре 1836 г. Болдыреву было 52 года (род. 16 марта 1784 г.).
662 печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 37-37 об.
Собственноручное с пометами С. С. Уварова, которые в данном случае
сняты. На полях рукой С. С. Уварова: Rep<ond>u. 27. Пользуясь
случаем, исправляем досадную оплошность, допущенную нами при первой
публикации фрагментов этого письма: мы ошибочно сочли 27
октября 1836 г. датой получения Уваровым данного послания Строганова
(Велижев M. L'affaire du Télescope: письма С. Г. Строганова С. С. Уварову
(октябрь 1836 г.). С. 311). Как мы предполагаем, письмо пришло в
промежутке между 22 и 27 октября 1836 г. Письмо Уварова к Строганову от
27 октября 1836 г. см. наст, изд., с. 527-530.
663 О том же Строганов говорил Надеждину во время их личной встречи.
См. наст, изд., с. 630-632.
664 Окончание письма отсутствует.
665 Строганов писал Д. П. Голохвастову 30 октября 1836 г.: «Укажите, прошу
вас, мне, в каком из № Журнала <Министерства> Народного
Просвещения статья об ошибках Павлова <нрзб>, мне очень нужно это указание,
которого я буду ждать сегодня вечером, если вы сможете сообщить мне
его» («Veillez je vous prie m'indiquer dans quel № du Journal de l'Instruction
publique l'article sur les fautes de Pawloff <нрзб>, j'ai un besoin particulier
de cette indication que je attendrai ce soir si (?) vous pouvez me la procurer»)
(ОПИ ГИМ. Ф. 404. On. 1. Ед. хр. 81. Л. 58). О какой книге и о каком из
Павловых идет речь, не установлено. Внимание Строганова к
«Журналу Министерства Народного Просвещения» в связи с первым
«Философическим письмом» кажется неслучайным. В этом издании с 1834 по
1837 гг., с подачи Э. П. Мещерского, публиковались статьи и очерки о
французской (в том числе и католической) философии и образовании
(в частности, о Л. Ботэне, Ж де Местре, «Разуме христианства» А. Э. Женуда,
С. М. Жирардене, в октябрьской книжке за 1836 г. была помещена статья
о католическом университете) (см.: Мазон А Князь Элим //
Литературное наследство. Т. 31-32. М., 1937. С. 448-449).
Печатается по автографу: ЦММ. Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 286. Л. 6 об.
Писарское. На заседании присутствовали Д. П. Голохвастов (председатель),
цензоры М. Т. Каченовский, А. В. Болдырев, И. М. Снегирев, Д. М. Перево-
щиков.
Печатается по автофафу: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 98. Л. 1. Писарское. На
бланке Канцелярии Министерства народного просвещения: 20 Октября
1836 года, № 1316. В верхнем левом углу: 2, 707. Сверху неизвестной
рукой: «октябр. 25 1836 нужное». Слева, под «№ 1316» бланка рукой С. Г.
Строганова: «предложить Ценсурному Комитету для исполнения». Решение
о запрете полемики было принято на заседании Главного управления
цензуры в Петербурге 19 октября 1836 г. (Лемке, 412). 20 октября Уваров
прислал попечителю Санкт-Петербургского учебного округа и
председателю Петербургского цензурного комитета М. А. Дондукову-Корсакову
предписание, в котором, уведомляя о появлении в «Телескопе» первого
«Философического письма», «предлагал цензорам не позволять в других
периодических изданиях ничего относящегося к этой статье, ни в
опровержение, ни в похвалу ее» (Дело цензурного комитета, 1836, № 50.
Бумага из канцелярии Министерства Народного Просвещения от 20 октября,
№ \ЪМ-.КожинН. К Николай Иванович Надеждин. С. 549).
Строганов сообщил Московскому цензурному комитету о решении
Уварова блокировать дискуссию вокруг первого «Философического
письма» 26 октября 1836 г. (получено в комитете 27 ноября 1836 г.) (ЦИАМ.
Ф. 31. Оп. 5. Цд. хр. 121. Л. 23).
Новосильский Павел Михайлович ([1802]-1862) — мореплаватель,
коллежский советник (в 1837 г.), директор канцелярии министра народного
просвещения, в будущем — цензор Санкт-Петербургского цензурного
комитета, литератор. В его некрологе говорилось: «...бывший цензор Павел
Михайлович Новосильский, писавший статьи для журналов, особенно по
естествознанию и мореплаванию, которое ему было хорошо известно,
Комментарии
879
как давнишнему моряку, ходившему вокруг света. Им добросовестно
составлены описание путешествий к южному полюсу и переведено
сочинение "Природа и ее силы"» (Книжный вестник. 1862. № 23. С. 475).
670 Впервые: Русский архив. 1884. Кн. 2. С. 457-458. Печатается по: Лем-
ке, 412-413. В письме Уваров воспроизвел им же отредактированный
и утвержденный 19 октября 1836 г. вердикт по «Телескопу» Главного
управления цензуры ([Стасов В. В] Цензура в царствование Николая I.
Часть VI // Русская старина. 1903. Т. 113. С. 580-582). На данном
всеподданнейшем докладе Николай I 22 октября 1836 г. оставил резолюцию:
«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной
бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но
не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас
журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать
сюда к ответу» (Лемке, 413).
671 Оригинальный текст печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1.
Ед. хр. 40. Л. 7-9. Черновое, собственноручное. Русский перевод
Д. И. Шаховского впервые опубликовано и печатается по: ПССиИП. Т. 2,
529-530. Беловой вариант текста опубликован Р. Темпестом в
английском переводе: Slavic review. Vol. 42. № 2. July 1984. P. 282-283; на
русском языке в переводе Р. Темпеста: Символ. 1986. Кн. 16. С. 122-123.
672 Исправлено карандашом, потом поверх этого написано чернилами:
«Telescope».
673 Зачеркнуто: «attentat à...» — «покушение на...» (фр.).
674 <Л. 8. «NB: Variante: [comme un délit envers ses convinctions religieuses,
morales & politiques]>:
La direction générale de la censure, après en avoir attentivement examiné
la tendance, a unanimement reconnu le besoin de la réprimer par un acte de
la plus juste sévérité. Mais, elle a senti en même tems la nécessité de ne point
dépasser à cet égard les limites de son pouvoir. Plus le délit était constaté,
plus il importait de faire présider à la punition des individus responsables les
principes et les formes d'une stricte légalité. V<otre> M<ajesté> daignera
observer que c'est dans ce sens que le rapport est dressé. Celui que j'y ai joint
en ma qualité de Ministre devait nécessairement ajouter une mesure de plus
à celles proposées par la direction de censure. Il est de mon devoir, Sire, de
réclamer Votre assentiment à la destitution de M. Boldereff du poste de
recteur à l'université de Moscou, fonctions qu'il réunissait à celles de censeur.
Sa destitution me parait immédiatement exigée par le peu de confiance)».
[Перевод:] «Вариант: [как преступление против ее религиозных, нрав-
880
ственных и политических убеждений]: Главное управление цензуры,
внимательно изучив его направление, единогласно признало
необходимым пресечь его со всей надлежащей строгостью. Однако оно в то
же время сочло нужным не выходить из границ своей власти. Чем более
преступление доказано, тем более важно направить точные принципы
и формы законности на наказание ответственных лиц. В. В.
соблаговолит заметить, что именно в этом смысле составлен рапорт. То, что
я как министр добавил к нему, должно обязательно сопровождаться
новыми мерами управления цензурой, сверх предложенного. Мой долг,
Государь, испросить Вашего согласия на смещение г. Болдырева с места
ректора Московского университета, должность, которую он соединял с
обязанностями цензора. Как мне кажется, его необходимо уволить
немедленно — по недостатку доверия» [перевод наш. — М. В.].
675 Зачеркнуто: «coupables» — «виновные» (фр.).
676 Зачеркнуто: «originale» — «оригинальная» (фр.).
677 Зачеркнуто: «absolument inattendue & que rien ne pouvait présa...» —
«совершенно неожиданная и которую ничто не могло пред...» (фр.).
678 Карандашом исправлено: «[Télejscope».
679 Зачеркнуто карандашом: «mais cette refutation adressée non pour le
pays...» — «но сие опровержение направлено не стране...» (фр.).
680 Зачеркнуто: «demande une reunion de force et de habilité» — «требует
соединения силы и умения» (фр.).
681 Карандашом и чернилами исправлено: «[Télejscope».
682 Текст проекта официального опровержения статьи Чаадаева
напечатан по копии из архива Д. И. Шаховского в: П. Я. Чаадаев: Pro et contra.
СПб., 1998. С. 73. Мы приводим его ниже по автографу (ОПИ ГИМ. Ф. 17.
Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 122-123). На полях карандашом рукой Уварова
написано: «оставлено». В проекте говорилось: «Статья, в недавнем
времени напечатанная в одном из Московских журналов, направление коей
ближе означать мы себе не дозволяем, возбудила во всех
благомыслящих общее чувство негодования. Не трудно указать на все ошибки
против логики и против здравого рассудка, на все погрешности против
Истории — словом, на глубокое невежество, коим наполнена вся
статья, еслиб другое чувство, более живое, более сродное сердцу Русскому,
не препятствовало хладнокровному разбору подобной пьесы. Отвечать
на произведения этого рода было бы унизить священное дело нашей
народности. Кто уважил впечатление, произведенное этой пьесой над
читателями, тот конечно убедится в бесполезности опровержения и
Комментарии
881
будет смотреть с молчанием презрения на тщетное покушение ума не
здравого и сожаления достойного. Благомыслящие удовольствуются
извещением, что мера справедливого наказания обращена уже на ответ-
ствующих по закону в издании подобной статьи. Мы можем быть
уверены, что бдительность Правительства равняется его твердости, и что во
всех, даже в малейших отношениях, честь народная всегда найдет в нем
вернейшего стража и лучшего из сподвижников своих».
без печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 11-12.
Писарское, с собственноручной подписью С. С. Уварова.
684 Уваров, вероятно, еще не получивший письма Строганова от 16 октября
1836 г., выдвигает сходное предложение: закрыть «Телескоп» с 1 января
1837 г. и уволить Болдырева с места цензора и ректора, но оставить в
университете в качестве профессора, уникального знатока восточных
языков.
685 Печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 13-16 об.
Черновая, собственноручная. Упоминается в: ГидлельсонМ. И. П. А.
Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969. С 248-249; ГидлельсонМ. И. Славная
смерть «Телескопа» // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные
плотины». Изд. 2. С. 180. Записка не датирована, по-видимому,
отправлена не была и относится к началу 20-х чисел октября 1836 г. Ее основные
идеи, вероятно, были определены и озвучены Уваровым к 25-му октября
1836 г., когда петербургский цензор и профессор А. В. Никитенко
записал в дневнике: «Я сегодня был у князя [М. А. Дондукова-Корсакова,
попечителя Санкт-Петербургского учебного округа и председателя
Петербургского цензурного комитета. — М. Я]; министр крайне встревожен.
Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того,
чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум, подобный тому,
который был вызван запрещением "Телеграфа". Думают, что это дело
тайной партии» {Никитенко А В. Дневник: В 3 т. Т. 1. М., 1955. С. 188). В
своей записке Уваров развивает мысль об оппозиционных
настроениях в московском обществе, впервые сформулированную Екатериной II
в начале 1770-х гг. (в частности, в комедиях; см. также фрагмент ее
недатированного отрывка: «Москва — это оплот праздности, и ее
непомерная величина всегда будет тому первой причиной. Знать, собранная
в этом месте, вполне им довольна — это не удивительно; но с самой
ранней юности она берет тон и манеры праздности и роскоши; она здесь
изнеживается, не вылезая из кареты в шесть лошадей, она видит здесь
убожества, способные ослабить самое замечательное дарование. Сверх
того, никогда народ не имел перед глазами более предметов
фанатизма, сплошные чудотворные образа, сплошные церкви, повсюду одни
попы, монастыри, ханжи, нищие, воры, ненужные в доме слуги, а какие
дома, какая нечистоплотность в домах, хозяйство которых огромно, а
во дворах — болота. Вот скопление черни всех сортов, всегда готовой
воспротивиться порядку и восстающей из-за любой безделицы с
незапамятных времен; она холит даже сказки о своих бунтах и
воспитывается на них»: Сочинения Императрицы Екатерины II на основании
подлинных рукописей с объяснительными примечаниями. Т. XII. СПб.,
1872. С. 642; оригинал по-фр.; подробнее см.: ПогосянЕ. Л. От старой
Ладоги до Екатеринослава (место Москвы в представлениях Екатерины II о
столице империи) //Лотмановский сборник. 2. М., 1997. С. 511-513; Ев-
стратов Л. Г. Публицистический аспект комедиографии Екатерины II:
Из комментария к комедии «О время!» (1772) // Вестник РГГУ. Сер.
Журналистика. Литературная критика. 2008. № 11. С. 212-218). H. M.
Карамзин в «Записке о московских достопамятностях» (1817; напечатано
без согласия Карамзина и с искажениями в: Украинский вестник. 1818.
Ч. 10; Карамзин воспроизвел правильный вариант текста в девятом томе
своих «Сочинений» (1820) наделил московское общество следующими
характеристиками: «...Москва будет всегда истинною столицею России.
Там средоточие царства, всех движений торговли, промышленности,
ума гражданского. <...> Москва непосредственно дает губерниям и
товары, и моды, и образ мыслей. <...> Со времен Екатерины Великой
Москва прослыла республикою. Там, без сомнения, более свободы, но не
в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных,
нежели здесь в Петербурге, где мы развлекаемся двором, обязанностями
службы, исканием, личностями. <...> Во время Екатерины доживали там
[т. е. в Москве. —М.В.] век свой многие люди, знаменитые родом и
чином, уважаемые двором и публикою» (цит. по: Карамзин H. M. Записки
старого московского жителя. Избранная проза. М., 1986. С. 321; курсив
автора). Подробнее см.: Осповат Л. Л. К прениям 1830-х гг. о русской
столице // Лотмановский сборник. I. M., 1995. С. 476-487.
Зачеркнуто: «exotique» — «экзотический» (фр.).
На полях: «Est-il donc absolument nécessaire que Moscou soit le champ
d'asyle de tous les hommes... rendus du doctrines du 14. et qui ont échappé
par hasard aux <нрзб>?» — «Совершенно ли необходимо, чтобы Москва
служила убежищем всем приверженцем доктрин 14 <декабря 1825 г>,
которые случайно скрылись от <нрзб>?» (0р.).
Комментарии
883
688 Зачеркнуто: «religion» — «религия» (фр.).
689 Зачеркнуто: «ce que l'ordre aportait pour planter son drapeau sur les
ruines» — «то, что порядок созидает, дабы установить свой флаг на
развалинах» (фр.).
690 Уваров, вероятно, имеет в виду свой отчет Николаю I о состоянии
Московского университета, поданный 4 декабря 1832 г., итог ревизии
университета, проведенной Уваровым с августа по октябрь 1832 г. Как
считает Ф. А. Петров, именно этот отчет, включавший в себя основные
положения уваровской «триады», способствовал окончательному
решению Николая поручить Уварову управление министерством народного
просвещения (Петров Ф. А. Формирование системы университетского
образования в России. Т. 3. С. 189). В своем отчете Уваров, в частности,
критиковал тех профессоров, которые издают литературные журналы,
в частности Н. И. Надеждина, который «занимается изданием Телескопа
и Молвы, двух периодических изданий, не заслуживающих одобрения
ни по содержанию, ни по духу» (цит. по: Там же. С. 190; подробнее об
отчете 4 декабря 1832 г. см.: Там же. С. 189-191).
691 Подробнее см. комм. 25.
692 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 121. Л. 17.
Писарское. На бланке: Министерство Народного Просвещения.
Императорская Публичная Библиотека. 21 октября 1836 г. № 238. Ответ на № 306: с
возвращением № 14 журнала Телескоп. Внизу карандашом неизвестной
рукой: «отправить и отправлен».
693 Два 14-х номера «Телескопа» были посланы из Москвы в имп.
Публичную библиотеку в Петербурге 9 октября 1836 г. (ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5.
Ед. хр. 113. Л. 196), т. е. тогда, когда 15-й номер журнала, содержавший
русский перевод первого «Философического письма» Чаадаева, еще не
получил цензорского билета на выход из типографии, но уже начал
распространяться по московским книжным лавкам (3 октября 1836 г.).
24 октября 1836 г. Московский цензурный комитет исправил ошибку
и отправил в Публичную библиотеку №№ 15 и 16 «Телескопа» (Там же.
Л. 198).
694 Оленин Алексей Николаевич (1763 или 1764-1843), действительный
тайный советник (в 1837 г.), археолог, филолог, палеограф,
государственный деятель, президент Императорской академии художеств,
первый директор имп. Публичной библиотеки в Петербурге (с 1811 г.).
См.: Имп. Публичная библиотека за сто лет. 1814-1914. СПб., 1914.
С. 23-157.
884
695 Востоков Александр Христофорович (1781-1864), коллежский
советник (в 1837 г.), поэт, переводчик, филолог-славист, старший
библиотекарь Румянцевского музея, с 1815 г. служил при имп. Публичной
библиотеке, заведующий отделением рукописей и исправляющий
должность секретаря Императорской Публичной библиотеки.
696 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 98. Л. 3-3 об.
Писарское. На бланке: Министерство народного просвещения. Главное
Управление Цензуры в С.-Петербурге. 22 Октября 1836 года. № 330.
В верхнем левом углу: 2,708. В правом верхнем углу неизвестной рукой:
«октября 25 1836 нужное». Под «№ 330» рукой Строганова: «предложить
Ценсурному Комитету немедленно прекратить по Высочайшему
повелению издание Телескопа».
697 Точная дата отношения неизвестна, вероятно, также 22 октября 1836 г.
Подробнее см.: Лемке, 413. Строганов сообщил. Московскому
цензурному комитету о решении министра народного просвещения 26 октября
1836 г. (ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 121. Л. 24, 25).
698 Комовский Василий Дмитриевич (1803-1851?) — петербургский
чиновник, литератор. Служил секретарем в Петербургском цензурном
комитете, затем правитель дел в Главном управлении цензуры, позже
директор Канцелярии министра народного просвещения; также
служил в Публичной библиотеке, был председателем Комитета для
нового устройства Академии наук и незадолго до смерти — председателем
Археографической комиссии; переводчик «Истории древней и новой
словесности» Ф. Шлегеля и «Немецкой литературы» А. фон Менцеля (см.
комментарий М. К. Азадовского: Из неизданной переписки H. M.
Языкова //Литературное наследство. Т. 19-21. М., 1935. С. 38-39).
699 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 31. Ед. хр. 977. Л. 2-3.
Писарское. Сверху: № 598. <нрзб> 1836. Сбоку: Принято в Секр. отд.
22 ноября 1836. Впервые: Русский архив. 1885. № 1. С. 137-138. На
проекте отношения Николай I оставил помету: «Очень хорошо». В тот
же день, 22 октября 1836 г., Бенкендорф получил рапорт начальника
Московского округа корпуса жандармов генерала С. В. Перфильева от
15 октября 1836 г., в котором тот писал, что статья Чаадаева
«произвела в публике много толков и суждений и заслужила по достоинству
своему общее негодование, сопровождаемое восклицанием: "как
позволили ее напечатать?" <...> В публике не столько обвиняют сочинителя
статьи — Чеодаева, сколько издателя журнала — Надеждина, цензора же
только сожалеют». Рукою Бенкендорфа на рапорте написано: «Чеодаева
Комментарии
885
кто перевел?» (Лемке, 413). 23 октября Д. В. Голицыну сообщалось о
немедленной высылке Надеждина в Петербург, в тот же день Бенкендорф,
по высочайшему повелению, предписал Перфильеву взять у Чаадаева
«все его бумаги без исключения» и доставить их в Петербург.
Бенкендорф писал.- «поручаю в<ашему> пр<евосходительст>ву исполнить сию
Высочайшую волю, чрез надежного штаб-офицера корпуса жандармов
совместно с чиновником московской полиции и принять надлежащие
меры, дабы таковая Его Величества воля была приведена в исполнение
во всей точности, без всякого снисхождения и таким образом, чтоб
г. Чеодаев никак не успел быть предварительно извещен о сем, и не мог
принять мер к сокрытию своих бумаг. По отобрании бумаг г. Чеодаева
прошу вас тотчас прислать их ко мне с нарочным надежным
жандармом» (Лемке, 414).
Голицын (1-й) Дмитрий Владимирович (1771-1844) — светлейший
князь, генерал от кавалерии, участвовал во многих военных
кампаниях конца XVIII — начала XIX в., с 1821 г. — член Государственного
совета, в 1820-1844 гг. — московский военный генерал-губернатор и
управляющий гражданской частью, хозяин литературного салона,
дальний родственник и союзник попечителя Московского учебного округа
С. Г. Строганова (подробнее см.: [Чулков Н. П.] Дмитрий Владимирович
Голицын // Русский биографический словарь. Гоголь-Гюне. М., 1997.
С. 164-167; Материалы для полной родословной росписи князей
Голицыных, собранные князем H. H. Голицыным. Киев, 1880. С. 86). Именно
заступничество Голицына спасло от преследований Н. С. Селиванов-
ского, в типографии которого был отпечатан 15-й номер «Телескопа».
Голицын хорошо знал Чаадаева, поскольку был женат на сестре князя
И. В. Васильчикова, адъютантом которого в 1817-1821 гг. был Чаадаев
(подробнее см.: Жихарев, 104).
Медицинский надзор за Чаадаевым официально продолжался около
года, однако, по всей видимости, предписанный Чаадаеву режим
соблюдался лишь в конце 1836 — начале 1837 гг.: «Арест, наложенный
на Чаадаева, продолжался не более двух месяцев. Князь Димитрий
Владимирович Голицын выпросил ему у государя свободу. Впрочем, ему и
тогда не запрещалось принимать у себя знакомых» (СвербеевД. Я
Воспоминание о Петре Яковлевиче Чаадаеве. С. 397).
Интересно, что современная Чаадаеву русская медицина, наоборот,
предписывала употребление «холода и восприемлющих его веществ»
для лечения душевнобольных (в зависимости от их темперамента) (см.:
Бутковский Я. Душевные болезни. М., 1834. Ч. I. С. 78,79,82,86,87; Ч. II.
С. 56). «Помешательство ума» характеризовалось в том же сочинении
как «не свобода душевных сил с напряжением ума в превратности
понятий и суждений» (Там же. Ч. И. С. 47). О причинах «помешательства»
Бутковский замечал: «Болезни сей подвергаются наиболее люди
сангвинического темперамента и крепкого сложения с пылким воображением,
равно как и те, кои имеют проницательный ум и большую
восприимчивость только к одному классу мыслей и чувствований, кои предаются
продолжительным исследованиям отвлеченных метафизических
предметов и сильным возбуждающим страстям» (Там же. С. 49). Одной из
причин помешательства ума Бутковский считал «обманутое самолюбие
и честолюбие»; «часто также излишества и превратности в религиозных
упражнениях, у людей надменных и суетливых, подают повод к сей
душевной болезни» (Там же. С. 49-50). Признаками «суемудрия», одной из
разновидностей «помешательства ума», были: «религиозное изуверство
и фанатизм, умствования и спекуляции о безднах человеческого
познания, глупое, даже не чистосердечное, возмущаемое страстию чтение
Библии, особенно же неусыпное, день и ночь продолжаемое упражнение в
Апокалипсисе, также превратное исследование глубочайших
источников и сокровенностей натуры, чрезмерное упражнение в кабалистике
и т. п.» (Там же. С. 59). Бутковский также писал об этом типе
умалишенных: «Никакой сумасшедший не ходит так величественно, как
суемудрый. Самая речь его умеренная, исполненная тайностей, содержит
высокие слова и выражения, но без смысла. Он охотно описывает, либо
изображает странные характеры на бумаге, или на стене, при чем много
болтает и всякому желает сообщить свои открытия. Сим отличается от
сумасбродного или дурака; а натуральным сведением окружающих его
обстоятельств от исступленного и скромным поведением от бешеного.
Суемудрие, как плод высочайшего душевного напряжения и телесного
расстройства редко излечивается, наипаче, когда оно сделается
продолжительным и глубоко вкоренится» (Там же. С. 62). По мнению Бут-
ковского, «всякая ложная философия составляет половину суемудрия»
(Там же. С. 63). Лечение «суемудрия» не предполагает его изоляцию от
«сырого и холодного воздуха», но «самое важнейшее и
необходимейшее условие состоит в том, чтобы отвлечь кандидата суемудрия от тех
предметов, к коим он привязан и кои угрожают совершенным
разрушением его свободы. Упражнение чувств, принуждение заболевающего к
потребностям гражданской жизни, сколь ни трудны для него, составля-
Комментарии
887
ют самую целительную помощь» (Там же. С. 64). Уже при более острой
форме заболевания требуется «спокойствие, темнота, отсутствие
всякого шума» (Там же).
703 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 31. Ед. хр. 977. Л. 1-1 об.
Писарское. Сверху: № 599. Рукой Д. В. Голицына (?): «Г. Обер-Полицмейст.
предписать о объявлении г. Надеждину, чтобы он немедленно приехал
в С.-Пбург». Сбоку: принято (?) в Секр. Отд. 22 ноября 1836. Впервые
опубликовано В. Саповым и Л. Саповой: Вопросы литературы. 1995. № 1.
С. 141-142.
704 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 121. Л. 22.
Писарское. На бланке: Министерство Народного Просвещения. Главное
Управление Цензуры в С. Петербурге. 24 октября 1836 года. № 338.
Сбоку карандашом неизвестной рукой: «отправить и отправлен». В тот
же день, 24 октября 1836 г., Уваров сообщал цензурным комитетам о
наказании фигурантов «телескопического дела» и писал: «поставить на
вид гг. цензорам и издателям повременных изданий, для
предостережения их, что несоблюдение правил цензурного устава и предписаний
высшего начальства первым и небрежное исполнение обязанностей
своих по данным подпискам — последними будет иметь неминуемым
следствием такое же распоряжение» (Лемке, 415). См. об этом в
дневнике А. В. Никитенко (запись от 25 октября 1836 г.): «Ужасная суматоха в
цензуре и в литературе. В 15 номере "Телескопа" напечатана статья под
заглавием "Философские письма". Статья написана прекрасно; автор ее
Чаадаев. Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном
виде. Политика, нравственность, даже религия представлены как дикое,
уродливое исключение из общих законов человечества. Непостижимо,
как цензор Болдырев пропустил ее. Разумеется, в публике поднялся шум.
Журнал запрещен. Болдырев, который одновременно был профессором
и ректором Московского университета, отрешен от всех должностей.
Теперь его вместе с Надеждиным, издателем "Телескопа", везут сюда для
ответа» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 188). Сообщая об
высочайшем повелении М. А. Дондукову-Корсакову, председателю
Петербургского цензурного комитета, Уваров «просил поставить на вид цензорам
С.-Петербургского цензурного комитета и издателям повременных
сочинений, что несоблюдение правил цензурного устава и предписаний
высшего начальства первыми и небрежное исполнение обязанностей
своих по данным распискам последними, — будет иметь неминуемым
следствием такое-же распоряжение». Предписание министра было вы-
слушано и «принято к сведению» в заседании комитета 20-28 октября
1836 г. (Дела С.-Петербургского цензурного комитета 20-28 октября
1836 г. Предписание министра от 24 октября 1836 г. за № 1333) (Аоз-
мин Н. К Николай Иванович Надеждин. С. 544). В Москве 24 октября
1836 г. Д. В. Голицын предписал обер-полицмейстеру Л. М. Цынскому, в
соответствии с высочайшим повелением, объявить Надеждину о
необходимости немедленно выехать в Петербург и явиться к Бенкендорфу
(Вопросы литературы. 1995. № 1. С. 142).
Точная дата отправки 15-го номера «Телескопа» в Главное управление
цензуры неизвестна. Несомненно лишь то, что он был отправлен после
30 октября 1836 г.
Оригинальный текст печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1.
Ед. хр. 40. Л. 2. Русский перевод Д. И. Шаховского впервые опубликован
и печатается по: ПССиИП. Т. 2, 530-531. Собственноручное. Чернышев
Александр Иванович (1786-1857) — граф (с 1826 г.), генерал-адъютант,
генерал от кавалерии, непременный председатель Военного совета,
сенатор, член Государственного совета, управляющий военным
министерством с 1827 г., с 1832 по 1852 гг. — военный министр,
«всемогущий князь... с громадным париком и надменным взором» (свидетельство
С. Н. Трубецкого, приведенное в: Николай Михайлович. Генерал-
адъютанты императора Александра I // Исторический вестник. 1908. № 2.
С. 398-399). Влияние Чернышева в системе государственного
управления стало заметно расти с 1835 г. (Фишер К. И. Записки // Исторический
вестник. 1908. № 5. С. 430-432). Обращение Уварова именно к
Чернышеву, по-видимому, могло мотивироваться еще и тем, что военный министр
находился в не слишком добрых отношениях с оппонентами Уварова
по «чаадаевскому делу» А. X. Бенкендорфом и Д. В. Голицыным (см.:
Светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын в 1820-1843 гг. //
Русская старина. 1889. Т. 63. С. 145-147). 26 октября 1836 г. Уваров
переслал Бенкендорфу полученное в тот же день конфиденциальное письмо
к нему другого государственного человека — сенатора, действительного
тайного советника, русского посла в Вене Д. П. Татищева (как следует из
письма, Уваров переслал ему, как и Чернышеву, текст статьи Чаадаева), о
котором Уваров замечал: «...все монархисты всецело разделяют
убеждения государя. Я полагаю, это письмо может понравиться Его Величеству,
как искреннее выражение мнения человека преданного, как и мы,
принципу консерватизма, и который имел возможность вблизи наблюдать
так много». Татищев писал о первом «Философическом письме»: «Филип-
Комментарии
889
пика Чаадаева, которую я Вам возвращаю, может возбудить только
негодование и отвращение. Меня это возмущает! Под прикрытием
проповеди в пользу папизма автор излил на свое собственное такую ужасную
ненависть, что она могла быть внушенной ему только адскими силами.
Опровергнуть это писание было бы не трудно, потому что его
заключения выведены из противоречивых фактов. Где это XV веков единения
между христианами Запада? До IX, и даже позже, половина Германии,
Скандинавия, Богемия, Венгрия были языческими странами; в те
времена готты в Испании были арийцами. Ломбардские короли притесняли
папу, так что духовная власть обязана своим блеском покровительству
Карла Великого. Сравнение народов Запада с греческой империей не
заслуживает доверия. Упадок этой страны в эту эпоху — исторический
факт, но где та нация, которая имела право презирать византийцев?
Беспорядок был в Италии, в Испании; история наследников Карла
Великого во Франции — это собрание ужасов. Произведение отвратительное.
Факт его опубликования очень важен для правительства; он доказывает
существование политической секты в Москве; хорошо направленные
поиски должны привести к полезным открытиям по этому поводу.
Принадлежит ли автор к тайным обществам, но в своем произведении он
богохульствует против святой православной церкви. Он должен быть
выдан церкви. Одиночество, пост, молитва пришли бы на помощь
пастырским внушениям, чтобы привести домой заблудшую овцу» (Лемке,
415; оригинал по-фр.). 28 октября Бенкендорф получил возмущенное
письмо от митрополита Серафима (к которому, в свою очередь, писал
21 октября 1836 г. Ф. Ф. Вигель. Оба письма см.: Русская старина. 1870.
Т. 1. С. 586-590) и оставил на нем резолюцию: «ответить, что Государь и
все благомыслящие люди совершенно разделяют его негодование; что
журнал запрещен, цензор и издатель вызваны сюда для ответа, а
сочинитель признан сумасшедшим» (Лемке, 416).
Оригинальный текст печатается по автографу: РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1.
Ед. хр. 257. Л. 40-41 об. Собственноручное. Копия: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1.
Ед. хр. 40. Л. 3-4 об. (на л. 4 об. помета: «Pour copie conforme. Eugène
Wonliar-Larsky, secretaire pour la correspondance étrangère, & gentilhomme
de la Chambre de S. M. l'Empereur» («Копия заверена. Евгений Вонляр-
Лярский, секретарь для иностранной переписки и камергер»; речь идет
о Евгении Петровиче Вонлярлярском (Вонляр-Лярском) (ум. в 1881 г.),
титулярном советнике (в 1837 г.), служившем в канцелярии
Министерства народного просвещения секретарем для иностранной переписки).
Впервые опубликовано в русском переводе Д. И. Шаховского и
печатается по: ПССиИП. Т. 2,531-532.27 октября 1836 г. Уваров писал
Бенкендорфу: «Вместе с этим письмом Вы получите переписку со Строгановым
по делу, о котором идет речь, и копию циркуляра моего цензурным
комитетам [от 24 октября. — М. В.]. Полезно, больше чем когда-либо, чтобы
Вы были обо всем осведомлены. Думаю, что безошибочно могу указать,
что бумаги Надеждина (редактора "Телескопа") находятся в руках
некоего Билинского, его сотрудника по журналу, который и заменял его во
время его отсутствия и который, вероятно, и есть его самое доверенное
лицо. Будьте так добры приказать, чтобы Болдырев, во время своего
пребывания здесь, находился под самым бдительным надзором полиции,
чтобы узнать, с какими лицами он будет иметь сношения» (оригинал по-
фр.). На этом письме Бенкендорф написал: «Государь приказал, дабы кн.
Голицын немедля велел бы схватить все бумаги В. Билинского, обыскав
бдительно и узнав, не спрячены ли у кого-либо другого, за что в
последствие времени Билинский строго бы отвечал» (оригинал по-фр.) (Лемке,
415-416). 27 октября московскому гражданскому губернатору
предписывалось выслать Болдырева и Надеждина в Петербург, сделав
распоряжение «дабы они по приезде к заставе, немедленно были представлены:
ст. сов. Болдырев к г. министру народного просвещения, а г. Надеждин в
штаб корпуса жандармов» (Лемке, 416). В тот же день Бенкендорф писал
Голицыну о необходимости изъятия у Чаадаева всех бумаг, а
поскольку Голицын в тот момент находился в Петербурге, то обыск поручено
было производить начальнику II округа корпуса жандармов генералу
С. В. Перфильеву (Вопросы литературы. 1995. № 1. С. 142-143). 29
октября, по поручению Перфильева, жандармский подполковник Бегичев и
полковник Брянчанинов изъяли у Чаадаева все бумаги (цит. по: Там же.
С. 144).
Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 31. Ед. хр. 977. Л. 5-6.
Черновое. Сверху: СПб. № 47. Сбоку: № 59 С. П. Бург. Впервые опубликовано
В. Саповым и Л. Саповой: Вопросы литературы. 1995. № 1. С. 143-144.
28 октября 1836 г. в Москве уже знали о репрессиях против цензора
«Телескопа». А. И. Тургенев писал Вяземскому 28 октября 1836 г.: «Что же
ты ни слова об участи "Телескопа" и... Он запрещен, Болдырев отрешен
от ценсуры, и велено явиться к государю для объяснения» (Остафьев-
ский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 339). 29 октября 1836 г. генерал
Перфильев сообщал из Москвы Бенкендорфу, что московский
полицмейстер полковник Брянчанинов и жандармский офицер Бегичев ото-
Комментарии
891
брали у Чаадаева все бумаги «самым негласным образом» и отослали их
в III отделение (Лемке, 416). 29 октября А. И. Тургенев писал Вяземскому
из Москвы: «Что ты ни слова о нашем философе? Ректор-цензор едет
явиться к государю. Все возражения также запрещены» (Остафьевский
архив князей Вяземских. Т. 3. С. 343).
709 Имеется в виду письмо Бенкендорфа Д. В. Голицыну от 23 октября 1836 г.
См. в настоящем издании с. 524-525.
710 Саблер Василий Федорович (1797-1877) - психиатр, с 1 октября 1828
по 1871 г. — главный врач Московского доллгауза (дома умалишенных,
с 1838 г. — Преображенская больница). С именем Саблера связаны
нововведения (в 1832 г.) в сфере ухода и лечения психических
заболеваний — в соответствии с уровнем европейской науки об умалишенных
того времени (прежде всего, ориентированной на работы Ф. Пинеля).
Саблер уничтожил цепи для больных (к 1834 г.), ввел огородные и
рукодельные работы, завел музыкальные инструменты и т. д. Впервые
управляющим больницей стал врач, а не полицейский чин, что сделало
возможным развитие не только практической, но и научной психиатрии в
Москве. Библиографию научных работ Саблера и о нем см.: Невский В. А,
Федотов Д. Д. Отечественная невропатология и психиатрия XVIII и
первой половины XIX века (1700-1860 гг.). Библиографический указатель.
М, 1964. С. 30,68,73-74,82,116,126,130,133,152; Баженов К К
История Московского Доллгауза. М., 1909. С 63-86,125-132).
711 2 ноября 1836 г. Цынский доносил Д. В. Голицыну о том, что он
предписал штаб-лекарю Тверской части М. К. Гульковскому (1799-1865)
оказать Чаадаеву необходимые медицинские пособия и еженедельно
доставлять сведения о положении его здоровья (Вопросы литературы.
1995. № 2. С. 77; М. И. Жихарев писал: «В первый свой приезд к
Чаадаеву он [Гульковский. — М. Я] начал свои медицинские пособия словами:
"Вот в каких обстоятельствах пришлось нам увидеться, Петр Яковлевич:
не будь у меня старухи жены и огромного семейства, я бы им сказал,
кто сумасшедший"» (ПССиИП. Т. 2, 333). Гульковский ежемесячно
отчитывался Цынскому о состоянии здоровья Чаадаева (с декабря 1836 по
июнь 1837 г.), о чем тот сообщал Голицыну, а тот, в свою очередь, —
Николаю I. Наконец, 28 июля Бенкендорф сообщил Голицыну о решении
императора прекратить лечение. В период пребывания императора в
Москве, 29 октября 1837 г., Голицын поднес ему соответствующую
записку, конфирмованную Николаем, о чем Бенкендорф писал
Голицыну 5 ноября. 7 ноября Голицын дал соответствующее распоряжение
892
Л. М. Цынскому. Наконец, 11 ноября 1837 г. Чаадаев дал следующую
подписку: «Я нижеподписавшийся дал сию подписку Господину
Полицмейстеру Полковнику и Кавалеру Верещагину в том что Содержание
Предписания Господина Московского Военного Генерал губернатора
об освобождении меня от медицинского надзора мне объявлено и я
на будущее время писать ничего не буду» (Вопросы литературы. 1995.
№ 2. С. 93, 100-110). О посещении Чаадаева врачами подробнее см.:
Жихарев, 103.
712 Оригинальный текст печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1.
Ед. хр. 40. Л. 1-1 об. В русском переводе Д. И. Шаховского впервые
опубликовано и печатается по: ПССиИП. Т. 2, 528. Собственноручное.
Ошибочно датировано Д. И. Шаховским 19 или 20 октября 1836 г. по помете
Уварова о получении на полях письма (Там же); помета гласит: 29
октября. Послание является ответом на письмо Уварова к Бенкендорфу от
27 октября 1836 г. (Лемке, 415-416).
713 Речь, по-видимому, идет о письме Строганова Уварову от 16 октября
1836 г., которое министр представил Николаю I. «Страхи Строганова»,
вероятно, связаны с нежелательностью запрещения надеждинского
«Телескопа» распоряжением правительства. См. настоящее издание, с. 509-511.
714 Проект вопросов Уварова Надеждину и Болдыреву см.: ОПИ ГИМ. Ф. 17.
Оп. 1.Ед.хр. 100. Л. 51-54.
715 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 24-24 об.,
25 об. — 26. В Московский цензурный комитет сообщение о
запрещении «Телескопа» и репрессиях против Болдырева, согласно
соответствующей записи в дневнике И. М. Снегирева (Русский архив. 1902. № 10.
С. 184) поступило 27 октября 1836 г. 28 октября 1836 г. в
Петербурге Уваров вызвал в цензурный комитет издателей местных журналов и
объявил им о запрещении «Телескопа»: «Сегодня были созваны в
цензурный комитет все издатели здешних журналов. Тут были: Смирдин,
Гинце, издатель польского журнала и проч. Греч явился прежде. Они
были созваны, чтобы выслушать высочайшее повеление о запрещении
"Телескопа" и приказание беречься той же участи. Все они вошли
согнувшись, со страхом на лицах, как школьники» (Никитенко А В. Дневник.
Т. 1. С. 188; запись от 28 октября 1836 г.). В этот же день Л. М. Цынский
писал Д. В. Голицыну, что Надеждин обязан подпиской о немедленном
выезде в Петербург (выехал вместе с Болдыревым 2 ноября 1836 г.).
Цынский писал: «При разговоре моем с г. Надеждиным, он объявил, что
поводом к напечатанию Статьи философические письма в Телескопе
Комментарии
893
было суждение многих лиц, которые ставят себя в просвещении на ряду
с Европою, но он сею статьею хотел им доказать, что они ошибаются и
находятся еще в таком положении, что не только не могут сравниться с
Европейским просвещением, но их надо еще водить на помочах и что
статью сию получил уже переведенную от сочинителя Философических
писем г. Чадаева, который желал ее поместить в его журнале» (Вопросы
литературы. 1995. № 1. С. 145; перекликается с показаниями Надеждина
в Петербурге).
Голохвастов Дмитрий Павлович (1796-1849) — действительный
статский советник (в 1837 г.), в 1836 г. — помощник попечителя Московского
учебного округа и конфидент С. Г. Строганова, по взаимному
соглашению со Строгановым председательствовал в Московском цензурном
комитете вместо попечителя; служил чиновником для особых поручений
при прежнем попечителе Московского учебного округа С. М. Голицыне,
в 1847 г. сменил Строганова на посту попечителя Московского
учебного округа. О его репутации в 1840-е гг. см. в «Москве сороковых годов»
Б. Н. Чичерина: «Голохвастов был человек неглупый и честный, с
основательным, хотя односторонним образованием, но формалист и педант.
<...> Сама наружность его не внушала сочувствия. Он был чопорный,
важный и нарядный и любил, чтобы все вокруг него было чинно,
важно и нарядно» (цит. по: Русское общество 40-50-х годов XIX в. Часть П.
С. 61).
Каченовский Михаил Трофимович (1775-1842) — историк, критик,
переводчик, с 1811 г. — ординарный профессор теории изящных наук и
археологии Московского университета, в 1821 г. занял кафедру истории,
статистики и географии Российского государства, в 1835 г. — кафедру
истории и литературы славянских наречий, цензор, ректор
Московского университета с 1837 г., заменил отставленного по «чаадаевскому
делу» А. В. Болдырева. Член Московского цензурного комитета с 1833 г.
Данные формулярного списка Каченовского 1822 г. см. в комментарии
к изданию: Дмитриев М. А Главы из воспоминаний моей жизни. М.,
1998. С. 564.
Снегирев Иван Михайлович (1793-1868) - фольклорист, этнограф,
историк-археолог, библиограф, профессор Московского университета
(с 1826, по кафедре римской словесности и древностей), член
Московского цензурного комитета (с 1824 г.). В 1833 г. одобрил шестое и
седьмое «Философические письма», запрещенные затем к печати духовной
цензурой.
Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788-1880) — математик, астроном,
профессор Московского университета (1826-1851), ректор (1848-
1851), член Московского цензурного комитета.
Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 31. Ед. хр. 977. Л. 8.
Писарское. Сверху неизвестной рукой: M 5 нояб. 1836 лично отдано в <нрзб>
для исполнения. № 570. Сбоку неизвестной рукой: Гр. Бенкендорфу
10 ноября 1836. № 470. Напротив подписи Бенкендорфа, неизвестной
рукой: «в собственные руки». Впервые частично опубликовано: Лемке,
416. Полностью опубликовано В. Саповым и Л. Саповой: Вопросы
литературы. 1995. № 2. С. 76. В тот же день, 31 октября 1836 г., московский
осведомитель III отделения Н. А. Кашинцев писал в Петербург, что
запрещению «Телескопа» «все рады... особенно отцы семейств, которым
давно желалось, чтоб сей журнал был запрещен и даже всегда дивились,
как сего давно не последовало» (цит. по: ПССиИП. Т. 2, 533). Кашинцев
(Кашинцов) Николай Андреевич (1799-1870) — коллежский асессор
(в 1837 г.), с 1832 по 1856 гг. — сотрудник III Отделения «для
наблюдения за всеми выходящими в Москве периодическими изданиями»; о нем
см.: Ильин-Томич А А Еще раз о доносе 1840 года на М. П. Погодина //
И время и место: Историко-филологический сборник к
шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М., 2008. С. 249-263.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) — критик, публицист,
в первой половине 1830-х гг. сотрудничал в «Телескопе» и «Молве» На-
деждина. Письма Белинского ближайшим друзьям за период работы
в «Телескопе» не сохранились: предполагается, что они были
«полностью уничтожены еще осенью 1836 г., в пору привлечения Белинского
к дознанию об обстоятельствах появления в журнале Надеждина
знаменитого "Философического письма" П. Я. Чаадаева» (Литературное
наследство. Т. 55. Кн. I. M., 1948. С. 415; о взаимоотношениях Белинского и
Надеждина осенью 1836 г., в частности о публикации рецензии
Белинского на «Опыт системы нравственной философии» А. Дроздова в
«Телескопе» см., например: Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 9 т.
Т. 1. М., 1976. С. 676-678; Трофимов И. Т. Поиски и находки в
московских архивах. М., 1987. С. 164-174). По предположению Ю. Г. Оксмана,
об опасности Белинского предупредил Я. М. Неверов, «работавший в
аппарате Министерства народного просвещения», а бумаги на квартире
Белинского были уничтожены по распоряжению Н. В. Станкевича
(Литературное наследство. Т. 56. Кн. 2. М., 1950. С. 232). Оксман считал, что
слухи о привлечении Белинского к делу о первом «Философическом
Комментарии
895
письме» остановили переговоры А. С. Пушкина (через П. В. Нащокина) о
переезде Белинского в Петербург для сотрудничества в «Современнике»
(Там же. С. 233).
722 6 ноября 1836 г. Цынский доносил Д. В. Голицыну, что бумаги
Белинского были полностью отобраны — в его отсутствие подписаться о
произведенном обыске был вынужден живший на квартире у Белинского
студент Воложинин, о чем Голицын писал Бенкендорфу 10 ноября.
15 ноября 1836 г. Белинский прибыл в Москву, при въезде в которую
в его вещах был произведен тщательный обыск. Голицын доносил об
этом Бенкендорфу 19 ноября, суммируя: «в имуществе Белинского
ничего предосудительного не найдено» (Вопросы литературы. 1995. № 2.
С. 78,79,81,84,85).
723 Впервые опубликовано и печатается по: Лемке, 417. Перфильев Степан
Васильевич (1796-1878) — жандармский генерал, начальник II
(московского) округа корпуса жандармов в 1836-1874 гг., близкий к
литературным и театральным кругам (см. о нем комментарий в издании: Дмитриев
M. А Главы из воспоминаний моей жизни. С. 620). Мордвинов Александр
Николаевич (1792-1869) — действительный статский советник (в 1837 г.),
с 1831 по 1839 г. начальник канцелярии III отделения императорской
канцелярии, статс-секретарь, сенатор (подробнее о нем см.: Ваиуро В. Э.
Между Сциллой и Харибдой // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь
«умственные плотины». Изд. 2. С. 220-228). Как следует из черновика
письма Строганова к С. С. Уварову от 11 (12?) октября 1836 г., попечитель
Московского учебного округа считал переводчиком первого
«Философического письма» Надеждина (см. настоящее издание, с. 505).
Вероятно, именно Строганов сообщил Перфильеву данные о причастности
Надеждина к переводу статьи Чаадаева. 3 ноября 1836 г. Перфильев
сообщал Мордвинову, ссылаясь на близких к Надеждину людей, что На-
деждину неизвестно имя переводчика, поскольку он получил готовый
перевод (Лемке, 417-418).
724 Впервые: Мир Божий. 1905. № 10. Отдел первый. С. 148-149. Печатается
по: Лемке, 418-419. 2 ноября 1836 г. московский обер-полицмейстер
Л. М. Цынский отправил рапорт о посещении его Чаадаевым Д. В.
Голицыну. В пересказе Цынского, Чаадаев утверждал также, что первое
«Философическое письмо» было написано «назад тому 6 лет» и что
«сочинение сие переводил г. Норов, живущий в деревне, но как перевод
оказался весьма дурен, то после и перевел оное некто Кречер [правильно —
Кетчер. — М. Я], живущий у [зачеркнуто: Погодина] Надеждина [?],
коего перевода также не одобряет, представляя тому доказательством,
что в статье о Хозяйственных постройках, вместо Соломы названа
Глина. Почему из разговоров моих с гг. Чаадаевым и Надеждиным и должно
предположить, что в переводе Философических писем участвовали они
оба, а переводил под их руководством Кречер» (Вопросы литературы.
1995. № 2. С. 77-78). По сведениям, приводимым М. И. Жихаревым,
«Обер-полицеймейстер [Л. М. Цынский. —М.В.] обошелся с Чаадаевым
чрезвычайно вежливо и, насколько то с его должностью совместимо,
предупредительно» (Жихарев, 102).
1 ноября 1836 г. 29 октября 1836 г. у Чаадаева были изъяты все бумаги,
Надеждин и Болдырев выехали из Москвы в Петербург 2 ноября (Лемке,
418).
Т. е. в 1829-1831 гг.
Известие о том, что Чаадаев при объяснении с Цынским согласился
с «официальным диагнозом», быстро распространилось по Москве.
Одним из источников информации о поведении Чаадаева при
объявлении ему правительственных мер был С. Г. Строганов. А. И. Тургенев
записал в дневнике 5 ноября 1836 г.: «<...> Я у гр[афа] Строганова].
Говорили о Чад[аеве]. Все свалил на свое сумасшествие-. — вот как
проникнут он — пришествием Царствия Божия! Adv[eniat] Regn[um] Timm!»
(PO ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 316. Л. 58 об.; указано А. Л. Осповатом). Не
позднее 8 ноября состоялся разговор Чаадаева и Строганова, в котором
Чаадаев вновь признал свое сумасшествие (в дневниковой записи А. И.
Тургенева от 8 ноября 1836 г.: «У Чадаева просидел с час, объяснился с ним,
за что был сердит и теперь сердит на него. Он потерял голову: вот и все,
когда был у гр[афа] Строганова]. Но и Стр[оганов]у охота
пересказывать слова пораженного приговором сумасшествия!» (РО ИРЛИ. Ф. 309.
Ед. хр. 316. Л. 59 об.; указано А. Л. Осповатом; о разговоре см. также:
Жихарев, 102; вероятно, это была не первая беседа Чаадаева со
Строгановым о публикации в «Телескопе». Строганов писал Д. П. Голохвасто-
ву 30 октября 1836 г., т. е. день спустя после изъятия у Чаадаева бумаг
Н. П. Брянчаниновым и подполковником Бегичевым: «J'ai eu la visite de
Tchédaeff ce matin; elle était curieuse, mais surtout sémi-dégoutante»
(«Сегодня утром у меня был Чаадаев: любопытно, но прежде всего —
полуотвратительно») (ОПИ ГИМ. Ф. 404. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 58); уже 1 ноября,
во время объяснения с Цынским при объявлении императорского
решения о признании его «умалишенным», Чаадаев просил разрешения
увидеться с С. Г. Строгановым, на что Цынский согласился: Вопросы ли-
Комментарии
897
тературы. 1995. № 2. С. 78). О содержании разговора Чаадаева со
Строгановым Д. В. Давыдов писал А. С. Пушкину 23 ноября 1836 г.: «Ты
спрашиваешь о Чедаеве? Как очевидец я ничего не могу сказать тебе о нем; я
прежде к нему не езжал и теперь не езжу. Я всегда считал его человеком
начитанным и без сомнения весьма умным шарлатаном в
беспрерывном пароксизме честолюбия, — но без духа и характера как белокурая
кокетка, в чем я и не ошибся. Мне Строганов рассказал весь разговор его
с ним; весь, — с доски до доски! Как он, видя беду неминуемую,
признался ему, что писал этот пасквиль на русскую нацию немедленно по
возвращении из чужих краев, во время сумашествия, в припадках которого
он посягал на собственную свою жизнь; как он старался свалить всю
беду на журналиста и на ценсора, — на первого потому, что он очаровал
его (Надеждин очаровал!) и увлек его к позволению отдать в печать
пасквиль этот, — а на последнего за то, что пропустил оный. Но это просто
гадко, а что смешно, это скорбь его о том, что скажут о признании его
умалишенным знаменитые друзья его, ученые Balanche, Lamené, Guisot
и какие-то немецкие Шустера-Метафизики! Но полно; если б ты не
вызвал меня, я бы промолчал о нем, я не люблю разочаровывать; впрочем
спроси у Т<ургенева>, который на днях поехал в Петербург, он может
расскажет происшествие это не так, как я, и успокоит на счет
Католички» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 16. М.; Л., 1949.
С. 194; курсив автора; см. также упоминание Чаадаева в более раннем
письме Давыдова к П. А. Вяземскому от 22 марта 1833 г.: Письмо Дениса
Давыдова к П. А. Вяземскому / Публикация Е. В. Свиясова // Русская
литература. 1980. № 2. С. 156; об отношении Давыдова к Чаадаеву и о его
стихотворении «Современная песня» (1836), в том числе направленном
против Чаадаева, см.: Ваиуро В. Э. Денис Давыдов — поэт // Давыдов Д. В.
Стихотворения. Л., 1984. С. 46-48). 20 ноября 1836 г. Е. М. Хомякова
спрашивала из Богучарова в письме к брату H. M. Языкову: «Правда ли,
что Чедаев согласился, что он был сумасшедший, когда писал свою
статью?» (ОПИ ГИМ. Ф. 178. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 70 об.; указано H. H. Мазур;
см. также фрагмент о «чаадаевском деле» из «Современных записок и
воспоминаний моих» А. Я. Булгакова: Встречи с прошлым. Вып. 9. С. 35).
Чаадаев вскоре реинтерпретировал принятую им на себя роль
«безумца», стал подписывать письма «Безумный» и написал «Apologie d'un fou»
(«Апологию безумного»). Ср.: «Непонятно как эта статья, написанная на
французском языке, прельстила Надеждина, издателя Телескопа; он ее
перевел на русский язык, и цензор Болдырев разрешил ее печатать не
прочитав, из уважения к настойчивой просьбе переводчика, который
умышленно принес ее во время цензорского обеда. Оба поплатились:
Болдырев лишился места цензора, а журнал Надеждина был запрещен.
Шеф жандармов, граф Бенкендорф, написал князю Дмитрию
Владимировичу Голицыну письмо в шутливом тоне, объясняя что
соотечественники Чаадаева, прочитав его статью, принимают живое участие в его
здоровье и просят князя не только запретить ему выезд в сырую
осеннюю погоду, но посылать к нему еженедельно доктора умалишенных.
О состоянии больного князю предписывалось извещать раз в неделю
графа Бенкендорфа. Это предписание исполнял некоторое время, со
свойственными ему деликатностью и благородством, князь Дмитрий
Владимирович. Доктор сумасшедших являлся к Чаадаеву в
сопровождении полицейского офицера, получал награду за визит и не беспокоил
мнимого пациента, который написал статью: l'Apologie d'un fou и
раздавал ее в копиях своим знакомым. Он говаривал иногда не без
удовольствия: "Mon illustre démence" <"мое прославленное безумие" — (фр.)>»
(Ольга N. [С. В. Энгельгардт] Из воспоминаний // Русский вестник. 1887.
№10. С. 698).
См.: «Рукописное письмо Чаадаева по-французски читали в Москве очень
многие; и никто им не оскорблялся; оскорбил же почти всех
напечатанный перевод этого письма. Нет сомнения, что Чаадаев знал о переводе
и о его печатании и этому не препятствовал, но не более. Письмо было
напечатано с целью увеличить число подписчиков на журнал, т. е. из-за
денежных выгод, в которых Чаадаев не участвовал» (Полвека русской
жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820-1870. Т. 1. С. 211).
Имеется в виду Александр Сергеевич Норов (1797/1798-1870). Как
отметил М. К. Лемке, в деле, с которым он работал, находилось письмо
Норова Чаадаеву от 29 июля 1836 г., с которым Норов пересылал
перевод «первой тетради, просил дать еще перевод второй, "ибо знает, что
она должна быть напечатана"». Кроме того, в деле имелось письмо
Александра Норова брату Аврааму от 22 ноября, где он говорил, что
напечатанный перевод первого «Философического письма» ему не
принадлежит, что раскаивается в легкомыслии и обещает «вовсе не знать впредь
Чаадаева». Авраам Норов писал 3 декабря 1836 г. Бенкендорфу о том,
что перевод первого «Философического письма» — не пера его брата, а
также просил успокоить «испуганную и угнетенную горем» семью
Норовых доведением этой информации до сведения императора. На
письме Авраама Норова Бенкендорф написал: «ответить ему, что я знаю от
Комментарии
899
Чаадаева, что перевод был плохо сделан, а потому исправлен; его брату
можно сообщить, что его дело кончено» (оригинал по-фр.) (Лемке, 418).
Подробнее см.: Элъзон М. Д Кем переведено «Философическое письмо»?
(К истории закрытия «Телескопа») // Русская литература. 1982. № 1.
С. 173-176.
730 3 ноября 1836 г. А. И. Тургенев приписал к письму Вяземскому,
начатому 2 ноября: «Сказывают, что Чаадаев сильно потрясен постигшим его
наказанием; отпустил лошадей, сидит дома, похудел вдруг страшно и
какие-то пятна на лице. Его кузины навещали его и сильно поражены
его положением. Доктор приезжает наведываться о его официальной
болезни. Он должен совершить какой-то раздел с братом: сумасшедший
этого не может» (Остафьевский архив князей Вяземского. Т. 3. С. 349).
731 Печатается по автографу: РГАДА Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 19-
20 об. Собственноручное. Строганов Григорий Александрович (1770—
1857) — отец С. Г. Строганова, действительный тайный советник (в 1837 г.),
дипломат, член Верховного уголовного суда по делу декабристов, член
Государственного совета (с 1827 г.).
732 Печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 6-6 об.
Черновое, собственноручное.
733 Представление о заступничестве, которое Чаадаеву мог оказать
Бенкендорф, было распространено среди знакомых Чаадаева. П. Б. Козловский
в письме к Вяземскому от 26 ноября/8 декабря 1836 г. призывал
адресата своего послания и его друзей, вне зависимости от их мнения о сути
чаадаевских идей, обратиться к Бенкендорфу, дабы избавить Чаадаева
и Надеждина от репрессий (Милъчиш В. А, Осповат А Л. Из наследия
П. Б. Козловского // Тютчевский сборник. Таллинн, 1990. С. 308; см.
настоящее издание, с. 504). Чаадаев был знаком с Бенкендорфом с 1810-х гг.,
именно к нему (при посредничестве И. В. Васильчикова) он обращался
в 1833 г., пытаясь вновь поступить на службу.
734 Проследовав по маршруту своего традиционного путешествия по
России из Москвы в Нижний Новгород, Казань, Симбирск и всюду
встречая восторженный прием, Николай добрался до Чембара, близ Пензы.
В ночь с 25 на 26 августа экипаж, в котором находился царь,
опрокинулся, и император сломал ключицу, был вынужден остановиться в Чемба-
ре на 10 дней, прервав свое путешествие (подробнее см.: Ильченко Д. В.
Император Николай Павлович в уездном городе Чембаре с 25-го августа
по 8-ое сентября 1836 г. // Русская старина. 1876. № 12. С. 523-534;
Селиванов А Император Николай в уездном городе Чембаре в 1836 г. //
900
Русская старина. 1883. Т. 37. С. 497; Ильченко Д. В. Император Николай
в городе Чембаре в 1836 году // Русская старина. 1883. Т. 37. С. 729-730;
Из дневника П. Г. Дивова // Русская старина. 1900. Т. 103. С. 200-201;
Львов А. Ф. Записки // Русский архив. 1884. № 4. С. 254-255; Император
Николай Павлович в его письмах к князю Паскевичу // Русский архив.
1897. № 1. С. 18-19; и др.). Падение Николая вызвало переполох в
Петербурге, а его благополучное возвращение в столицу было отмечено
новым взрывом энтузиазма: впервые показавшись на публике, в театре,
Николай удостоился продолжительных оваций (см., например, письмо
С. К. Булгаковой (Перовской) к А. Я. Булгакову от 15 октября 1836 г.:
ОР РГБ. Ф. 41. К. 118. Ед. хр. И. Л. 1-2; Московские ведомости. № 84
(17 октября 1836 г.). С. 1672 и др.).
735 Впервые: Мир Божий. 1905. № 10. Отдел первый. С. 154. Печатается по:
Лемке, 422-423. А. И. Тургенев замечал Вяземскому 7 ноября 1836 г.
из Москвы (письмо первое): «Доктор ежедневно навещает Чаадаева. Он
никуда из дома не выходит. Боюсь, чтобы он и в самом деле не
помешался. В Москве толки умолкают. Что-то у вас?» (Остафьевский архив
князей Вяземских. Т. 3. С 352); 11 ноября: «Здесь толки о Чаадаеве]
умолкают, хотя недавно отобрали бумаги у Над[еждина], Белинского
и какого-то переводчика статьи, коего имя не упомню. Этот шум
заменен другим — о приезде к князю Михаилу Оболенскому (издателю
архивных актов, женившемуся на купеческом миллионе) другой жены
из Варшавы, которую, однако ж, как слышно, удалось ему отстранить
200 тысячами» (Там же. С. 358); 12 ноября: «Сегодня же прошли здесь
слухи, что будто бы велено или посадить Чаадаева в сумасшедший дом,
если он сумасшедший, или сослать куда-то, если признают его
здоровым. Я что-то не верю этому, но не менее за то беспокоюсь: это бы
довершило его. Я был у него сегодня и нашел его более в ажитации,
нежели прежде. Посещение доктора очень больно ему» (Там же).
736 Имеется в виду отношение А. X. Бенкендорфа к Д. В. Голицыну от
23 октября 1836 г. См. настоящее издание, с. 524-525.
737 О том же писал С. Г. Строганов С. С. Уварову в письмах от 12 и 16
октября 1836 г. См. настоящее издание, с. 506-511.
738 Печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 21-22 об.
Черновое, собственноручное. Поведение С. Г. Строганова,
переносившего представление о своем месте в дворянской иерархии на иерархию
служебную, вызвало протест Уварова (согласно его более поздней
формулировке: «Да высокомерие этого человека [С. Г. Строганова. — М. В.]
Комментарии
901
не знает пределов; он поображает (так!), что род их значительнее даже
рода Романовых»: Русский архив. 1892. № 7. С. 354), который, наоборот,
считал, что профессиональные отношения должны строго
регламентироваться внутриведомственной субординацией. См., например,
высказывание М. И. Сухомлинова, зафиксированное в дневнике О. М. Бодян-
ского: Сухомлинов «сообщил, как слышал от старших сотоварищей по
университету, о первом, так сказать, выходе в звании министра Уварова.
"Прошу быть, господа, покорными мне: кто иначе станет думать, нежели
я, того я без дальнего удалю. Не ссылайтесь мне на законы. Я знаю лучше
всякого, как и для чего у нас пишутся законы. Законы вам — воля
министра и больше ничего. Надеюсь, это немудреное и простое правило вы
легко запомните и постарайтесь исполнять; тогда мы сделаемся
друзьями. Вы увидите во мне не господина, не начальника, но вашего друга и
благоприятеля"» (Исторический вестник. 1887. № 12. С. 534).
739 Печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 18-18 об.
Черновое, собственноручное.
740 Краткие разбор и выдержки Э. П. Мещерского из рукописей
«Философических писем» Чаадаева см. в наст. изд. с. 554-563-
741 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 98. Л. 16. Писарское.
На бланке: Министерство народного просвещения, Главное Управление
Цензуры в С. Петербурге. 9 Ноября 1836 года. № 365. Карандашом рукой
С. Г. Строганова: «предложить Ценсур. Комитету». В верхнем левом углу:
2,904. Сверху рукой С. Г. Строганова (?): Ноября 14. — 1836.
742 С. Г. Строганов сообщил Московскому цензурному комитету о воле
министра 26 ноября 1836 г. (ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 120. Л. 16-16 об.).
743 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 98. Л. 22-22 об.
Писарское. В верхнем правом углу: Ноября 12-о — 1836. Внизу слева: Его
Сият-ву Графу С. Г. Строганову. В нижнем левом углу: № 1405.8. Ноября
1836. Уваров опирается на § 30 Цензурного устава: «В каждом Ценсур-
ном Комитете Попечитель округа Университетского имеет
председательство» (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание
второе. Т. II. 1828. СПб., 1830. С. 464). Попытка Уварова привлечь к
ответственности по «чаадаевскому делу» Д. П. Голохвастова объясняется,
кроме прочего, теми претензиями, которые Уваров выдвигал к Голохвасто-
ву в период его службы при прежнем попечителе Московского учебного
округа С. М. Голицыне. См. запись в дневнике H. A Муханова от 1 июля
1832 г.: «Вечер кончил у Уварова tête-à-tête. Колкость речей моих его
немного замешивала и сердила. Я ему доказывал, что такое министерство,
в чем состоит самолюбие. Он спорил весьма слабо, хотя сердился,
много говорил и кричал насчет князя Сергия Михайловича и Голохвастова.
Он себя уверяет, что Голохвастов не участвует и что это надо князю.
Я говорю, что князь никогда не просил, чтоб его утверждали, а желал
только, чтобы он управлял его местом во время отсутствия» (Русский
архив. 1897. № 4. С. 656). О публикуемом письме Уварова Строганов писал
Голохвастову 15 ноября 1836 г.: «Прилагаемая бумага докажет вам, что
меня любыми силами не хотят пустить в Петербург; а поскольку я
остаюсь здесь, то необходимо ответить на отношение Министра о
Председательстве в Цензурном Комитете, поэтому я решился сказать им: что не
нахожу ничего предосудительного в управлении дел Комитета, что мне
неизвестны данные, на которых Министр основывает свое
недовольство. И как согласно праву, данному мне Уставами, утвержденными Е. В.,
я могу передать управление моему помощнику, то, что и было сделано, и
я не располагаю временем заниматься всем самостоятельно...» («Le papier
ci-joint vous prouvera qu'on ne veut pas à toute force m'avoir à Pétersbourg;
et puisque je reste ici il faut donner réponse à l'office du Ministre au sujet de
la Présidence du Comité de Censure, je suis donc décidé à leur dire: que je
ne trouve rien de reprehensible dans la gestion des affaires du Comité, que
j'ignore les données sur lesquelles le Ministre fonde son mécontentement.
Et comme d'après le droit que me donne les Réglemens confirmés par S. M.
je peux conférir l'administration à mon adjoint ce qui a été fait et ce que je
n'ai pas le tems de m'occuper de toutes les parties moi-même...») (ОПИ ГИМ.
Ф. 404. On. 1. Ед.хр. 81. Л. 61-62).
«По напечатании рукописи, представляется из Типографии в Ценсуру
<...> два экземпляра отпечатанного листа или книги, со свидетельством
Директора, содержателя или Фактора Типографии, что оный лист или
книга напечатаны во всем сходно с прилагаемою при том, одобренною
в Ценсуре рукописью (или печатными листами, по силе § 37).
Секретарь передает один из печатных экземпляров (с рукописью) Ценсору,
рассматривавшему сочинение, который, сличив печатный экземпляр с
одобренным, подписывает по установленной форме С позволительный
билет на выпуск книги в продажу <...>» (Полное собрание законов
Российской Империи. Собрание второе. Т. II. 1828. С. 465).
На полях карандашом рукой Строганова: «43» («Одобренные Ценсурою
в рукописи или корректуре периодические сочинения, составляющие
не более одного печатного листа и требующие поспешной выдачи,
могут быть отпускаемы из Типографии до получения позволительного
Комментарии
903
билета, с строжайшею ответственностью Начальства, или содержателя
оной, что листы сии в точности напечатаны по одобренной Ценсором
рукописи или корректуре» (Там же).
746 «Попечитель, в звании Председателя Комитета, управляет всеми
внутренними в оном распоряжениями, и наблюдает за скорым
возвращением рукописей предъявителям и за скорою выдачею позволительных
билетов» (Там же. С. 467). На полях карандашом рукой Строганова:
«50,58». § 50: «<...> предписывается Комитетам и Ценсорам, не замедлять
выдачею позволительных билетов на книги и сочинения, напечатанные
по одобрению Ценсуры. Сии билеты должны быть выдаваемы на выпуск
срочных изданий, в 24 часа; на все прочие книги не позже трех дней»
(Там же. С. 466); § 58: «Секретарь и Канцелярия Комитета подчиняется
непосредственно Попечителю» (Там же. С. 467).
747 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 98. Л. 18. Писарское.
На бланке: Министерство народного просвещения, Главное Управление
Цензуры в С. Петербурге. 14 Ноября 1836 года. № 375. Под номером:
карандашом (рукой С. Г. Строганова?): «исполнено. Сообщ. в совет Унив.».
В левом верхнем углу: 2982. В правом верхнем углу: Ноября 20 — 1836.
748 печатается по копии: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 98. Л. 19-19 об. Сбоку
горизонтально: № 83.945. Другую копию документа см.: ЦИАМ. Ф. 31.
Оп.5.Ед.хр. 120. Л. 30-30 об.
749 Дашков Дмитрий Васильевич (1788-1839) — тайный советник
(в 1837 г.), государственный деятель, литератор, участник общества
«Арзамас», с 1826 г. статс-секретарь и товарищ министра внутренних дел, с
1832 г. — министр юстиции.
750 Соответствующей публикации в «Санкт Петербургских сенатских
ведомостях» не выявлено.
7*! Печатается по автографу: РГАДА Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 21-24 об.
Собственноручное.
752 Данное письмо Г. А. Строганова сыну не обнаружено.
753 О том же Строганов писал Уварову 19 января 1837 г.: «Но разделять с
ними [цензорами. — М. В.] ответственность за проступок, падающий по
законам на их ответственность, или быть ручателем за неумышленное
отступление, я не беру на себя смелости, и в подобных случаях буду
всегда искать в законах средства оправдать себя» ([Стасов В. В]
Цензура в царствование Николая I. Часть VI // Русская старина 1903. Т. 113.
С. 583).
754 См. настоящее издание, с. 528-529.
904
755 Имеется в виду сын С. Г. Строганова Александр Сергеевич Строганов
(1818-1864), в будущем флигель-адъютант и придворный егермейстер.
756 Имеется в виду брат С. Г. Строганова, генерал-адъютант и член
Государственного совета, с 1834 г. товарищ министра внутренних дел, в 1836-
1838 гг. генерал-губернатор Черниговский, Полтавский и Харьковский
граф Александр Григорьевич Строганов (1795-1891). О стихотворении
А. С. Пушкина «На выздоровление Лукулла» см. комм. 831.
757 Впервые: Мир Божий. 1905. № 10. Отдел первый. С. 155-156. Печатается
по: Лемке, 423-424. Чуть раньше, 13 ноября 1836 г., жандармский
подполковник Бегичев подал Перфильеву секретное донесение (на
предписание за № 85-м от 5 ноября 1836 г. «о дознании под рукою с кем
наиболее отставной ротмистр имеет связи и знакомства, и в чем
заключаются беседы его с знакомыми») о связях и знакомстве отставного
ротмистра Петра Чаадаева, в котором говорилось: «...честь имею
донести вашему превосходительству, что по разведаниям моим г. Чаадаев
имеет весьма обширный круг знакомства, и как его посещают многие,
равно он и сам ездит к разным лицам; — но замечают, что он ближе
прочих знаком с отставным генерал-майором Орловым,
действительным статским советником Александром Ивановичем Тургеневым,
княгинею Мещерскою, сих последних двух особ имеются у него портреты,
из коих Тургенева с надписью внизу: "Без боязни обличаху", —
находится в числе взятых у Чаадаева бумаг его; с отставным генерал-майором
князем Гагариным, и секретарем ученых обществ Масловым. В чем
заключаются беседы г. Чаадаева с знакомыми, того достоверно никто не
знает, но по ученым его занятиям, полагать можно, что и разговоры с
означенными лицами относятся до предметов ученых» (Русская
старина. 1887. № 10. С. 221). .
758 О Е. Г. и Н. В. Левашевых см. комм. 434.
759 Вероятно, имеется в виду Петр Александрович Курбатов (1788, 1794
или 1795-1872), директор типографии Московского университета
(с 1816 по 1851 г.) и известный московский старожил. См. о нем
комментарий в издании: Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей
жизни. С. 669.
760 Неустановленное лицо.
761 Соймонов Александр Николаевич (1780-1856), помещик, отец С. А.
Соболевского, имевший московские литературные знакомства.
762 О М. Ф. Орлове см. комм. 524.
763 О Д. Н. Свербееве см. комм. 530.
Комментарии
905
764 Раевский Александр Николаевич (1795-1868), участник войны 1812 г.,
в отставке с 1824 г. (в чине полковника), с января 1826 г. — камергер, в
1834 г. женившийся на Екатерине Киндяковой, его сестра Е. Н. Раевская
была замужем за М. Ф. Орловым.
765 Речь идет о второй жене генерала от кавалерии, графа (с 1 июля 1833 г.)
Василия Васильевича Левашева (1783-1848), дочери в прошлом члена
Государственного совета, обер-гофмаршала и обер-егермейстера
Василия Александровича Пашкова Евдокие Васильевне Пашковой (1796-
1868). Сестра Евдокии Васильевны, Елизавета, была женой Д. В. Дашкова,
другая сестра, Татьяна, — второй женой И. В. Васильчикова (1776-1847),
адъютантом которого с 1817 по 1821 г. был Чаадаев; брат Е. В.
Пашковой, Александр, был женат на Елизавете Киндяковой (см. комм. 325).
С семейством Пашковых был знаком и А. И. Тургенев (см.
комментарий К. М. Азадовского: «С Лагарпом и Ламартином...» Письмо Александра
Тургенева к Николаю Тургеневу. С. 23-24).
766 Письмоводитель при президенте Медико-хирургической академии,
член Математико-физического общества при Московском
университете, коллежский советник, один из основателей и в будущем
непременный секретарь Императорского Московского общества сельского
хозяйства, учредитель (в 1821 г.) «Земледельческого журнала» Степан
Алексеевич Маслов (1793-1879).
767 Подробнее см. письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 1 ноября 1836 г.
в настоящем издании, с. 502-503.
768 Граф Михаил Александрович Салтыков (1767-1851) начал военную
карьеру в царствование Екатерины II, состоял при коллегии иностранных
дел при Александре I, попечитель Казанского учебного округа с 1812
по 1819 г., с апреля 1828 г. — тайный советник, с декабря 1828 г. —
сенатор, с 1830 г. — почетный опекун Московского опекунского совета, с
1849 г. — в отставке. Один из ближайших приятелей Чаадаева в первой
половине 1830-х гг. В анонимном доносе на Чаадаева, поданном в III
отделение 27 декабря 1832 г., в частности, говорилось: «Особенно у него
бывает ежедневно сенатор Салтыков, сам Чеодаев два раза в неделю
обедает в английском клубе, а прочее время больной частию дома иногда
бывает в театре» (Scbakhovskoy D. Caadaev et la Troisième section. P. 335;
начало документа см.: Лемке, 377). Ту же формулировку Бенкендорф
воспроизвел в распоряжении следить за Чаадаевым от 9 января 1833 г.:
Scbakhovskoy D. Caadaev et la Troisième section. P. 336. О Салтыкове см.
комментарий В. И. Саитова в: Остафьевский архив князей Вяземских.
906
T. 3 (Примечания). С. 612-616; об отношениях Чаадаева с М. А.
Салтыковым см. также: Петр Яковлевич Чаадаев: Сб. / Изд. подготовил
Б. Н. Тарасов. М, 2008. С. 680-681.
769 Муравьева Екатерина Федоровна (урожд. Колокольцева) (1771-1848) —
жена М. Н. Муравьева, мать декабристов Н. М. и А. М. Муравьевых, тетка
М. С. Лунина.
770 Ушакова Екатерина Николаевна (1809-1872), с 1837 г. жена Д. Н.
Наумова, знакомая А. С. Пушкина и Чаадаева.
771 Возможно, имеется в виду фрейлина Елизавета Ивановна Нарышкина
(1791-1858).
772 Нечаев Степан Дмитриевич (1792-1860), тайный советник и сенатор
(с 25 июня 1836 г.), обер-прокурор Священного Синода (1833-1836),
поэт.
773 Речь идет о публицисте и литераторе, коллежском советнике (в 1837 г.)
Иване Федоровиче Калайдовиче (1796-1853), служившем в московском
коммерческом суде и бывшем секретарем Дворянского депутатского
собрания Московской губернии.
774 Фонвизин Сергей Павлович (фон Визин) (1783-1860 [1855, 1859?]), -
племянник Д. И. Фонвизина, надворный советник, предводитель
дворянства в г. Клин.
775 Граф Сергей Павлович Потемкин (1787-1858), литератор, участник
войны 1812 г., поручик (в отставке с 1809 г.), старшина московского
Английского клуба, который с 1831 г. посещал Чаадаев. О С. П.
Потемкине см. комментарий В. И. Саитова в: Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 3 (Примечания). С. 667-668.
776 Ржевский Павел Алексеевич (1783-1852), камергер, статский советник
(в 1837 г.), чиновник по особым поручениям в Комиссии для строений
в Москве.
777 Чичерин Николай Александрович (1771-1837), герой наполеоновских
войн, генерал-майор.
778 Зубков Василий Петрович (1799-1862) - в отставке с 1819 г. (в чине
подпоручика), коллежский асессор (в 1837 г.), с 1825 г. — титулярный
советник Московской палаты гражданского суда, с 1828 по 1838 г. —
советник и товарищ председателя Московской палаты уголовного суда.
В 1825 г. Зубков был арестован по делу о заговоре 14 декабря 1825 г., в
1826 г. оправдан и освобожден, автор записок. О В. П. Зубкове см.
комментарий В. И. Саитова в: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3
(Примечания). С. 653-654.
Комментарии
907
779 Возможно, имеется в виду титулярный советник Николай Николаевич
Брусилов, служивший в Московском Губернском правлении.
780 Григорий Александрович Римский-Корсаков (1792-1852) — отставной
полковник лейб-гвардии Московского полка, участник войны 1812 г.,
член Союза благоденствия, с 1823 по 1826 г. — в заграничной поездке, в
1830-е гг. жил в Москве.
781 Писарев Александр Александрович (1780 [1781,1782?] — 1848) —
тайный советник (с 1830 г.), служил в Преображенском и Семеновском
полках, участник войны 1812 г. и заграничных походов, с 1825 по
1830 г. — попечитель Московского учебного округа, сенатор (по
Седьмому департаменту), с 1836 г. — член Совета по управлению Царством
Польским (в 1840 г. Писарев станет военным губернатором Варшавы),
прозаик, поэт, критик, действительный член Российской академии и
почетный член Академии художеств, председатель Общества
любителей российской словесности при Московском университете (1829-
1830 гг.).
782 Неустановленное лицо.
783 Имеется в виду Платон Степанович Яковлев, сотрудник Общества
любителей российской словесности.
784 С. С. Хлюстин (о нем см. комм. 350) владел с. Троицким Медынского
уезда Калужской губернии.
785 Об одном из таких посещений Тургенев писал Вяземскому 9 ноября
1836 г.: «Вчера, после завтрака у приходского попа и нескольких
именинных визитов, был я у Чаадаева и нашол его довольно твердым, хотя
образ наказания и сильно поразил и возмутил душу его. Он надеется,
что отобранные бумаги содействуют к его оправданию или, по
крайней мере, к отстранению того мнения, которое, слышно, имеют о нем
в Петербурге. Он уже давно своих мнений сам не имеет и изменил их
существенно, и я это заметил во многом и удивился появлению письма,
столь обильного бреднями. Но чего же опасаться, если все, особливо
приятели его, так сильно восстали на него?» (Остафьевский архив
князей Вяземских. Т. 3. С. 354; курсив автора).
786 «Первым посетителем Чаадаева в самый первый день его опалы был
И. И. Дмитриев, памятный своей высокой и благородной деятельностью
на службе, более известный своими сочинениями и влиянием, которое
он, вместе с другом своим Карамзиным, имел на оцивилизирование
нашей литературы» (СвербеевД. Н. Воспоминание о Петре Яковлевиче
Чаадаеве. С. 397).
908
787 Неустановленное лицо.
788 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 98. Л. 23-24 об.
Черновое, собственноручное. На бланке: Министерство народного
просвещения, от Попечителя Московского Учебного округа. 24 Ноября
1836. №3512.
789 Текст параграф 43 Устава о цензуре см. в комм. 745.
790 Речь идет о параграфе 2016 учреждения министерств, основанного на
указах от 25 июня 1811 г. и 22 апреля 1828 г. и регулировавшего сферу
компетенции Министерства народного просвещения и Министерства
внутренних дел применительно к цензуре. В частности, в данном
параграфе говорилось: «Ценсура всех издаваемых в Империи книг и
периодических сочинений принадлежит Министерству Просвещения,
по точной силе особенных его Уставов и Учреждений. К действию же
Министра Внутренних Дел по сей части принадлежит следующее: <...>
5) Надзор, чтоб в типографиях не издавались книги, Ценсурою
недозволенные, принадлежит Министру Внутренних Дел. Типографии, кои
уличены будут в таковом издании, имеют быть закрыты, а виновные
преданы суду по Законам» (Свод законов Российской империи,
повелением государя императора Николая Павловича составленный. Изд. 2.
Т. 1.4.1. СПб, 1833. С. 488-489).
791 Оригинальный текст впервые опубликован и печатается по: Rouleau,
191-196. Фрагменты разбора Мещерского см.: Филиппов Л. Чаадаев
подлинный и мнимый // Вопросы литературы. 1974. № 10. С. 136.
Впервые опубликовано полностью в русском переводе Д. И. Шаховского и
печатается по: П. Я. Чаадаев: pro et contra. С. 105-110. Атрибутировано
Э. П. Мещерскому Д. И. Шаховским. Датируется первой половиной ноября
1836 г. Мещерский Элим Петрович (1808-1844) — коллежский асессор
(в 1837 г.), поэт, переводчик, публицист, дипломат, был близок к
католицизму. С 1832 г. причислен к русскому посольству в Париже, становится
специальным корреспондентом С. С. Уварова и" первым русским
культурным атташе в Париже (до 1837 г.). Как отмечает В. А. Мильчина,
Мещерский был «одним из первых пропагандистов идеи о том, что Россия
не только не осуждена быть пассивной продолжательницей Европы, но,
напротив, способна преподать ей уроки правильной социальной
организации» (Мильчина В. А «Русский мираж» французских
легитимистов. 1830-е — 1840-е годы // Мильчина В. А. Россия и Франция. С. 352
и далее). В 1836 г. был в России и взял у Чаадаева оттиск «телескопской»
публикации первого «Философического письма». О том, что Мещер-
Комментарии
909
ский едет в Москву из Петербурга, Вяземский сообщал А. И. Тургеневу
7 июля 1836 г. (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 322).
О Мещерском см. комментарий В. И. Саитова в: Остафьевский архив
князей Вяземских. Т. 3 (Примечания). С. 695-698; Мазон Л. Князь Элим.
С. 373-490 (по мнению А. Мазона, Мещерский был для Чаадаева
«случайным встречным» (Там же. С. 384).
792 Бюше Филипп Жозеф (Bûchez) (1796-1865) — французский
политический деятель и историк, сен-симонист, затем ставший одним из
идеологов христианского социализма. Луи Эжен Мари Ботэн (Bautain)
(1796-1867) — аббат (с 1828 г.), французский католический философ и
богослов.
793 Печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 24-35.
Писарское с собственноручными пометами С. С. Уварова. В ломаных
скобках воспроизводятся зачеркнутые Уваровым фрагменты. Частично
вошло в окончательную версию официального доклада комиссии по
«чаадаевскому делу» (составленной из С. С. Уварова, А. X.
Бенкендорфа, А. Н. Мордвинова, Н. А. Протасова), представленного императору
28 ноября 1836 г.: Лемке, 444-447. 19 ноября 1836 г. Уваров
представил остальным членам комиссии «Выписки из "Телескопа" 1835 и
1836 годов», доказывавшие, что «дух сего издания был всегда дурен, а
редактор всегда подозрителен» (Лемке, 443; курсив автора; о конфликтах
Надеждина с цензурным ведомством в 1832 г. см.: Из цензурной
старины (1830-1855 гг.) // Щукинский сборник. Вып. 1. М., 1902. С. 297-298;
Кожин К К. Николай Иванович Надеждин. С. 545-546; Гиллелъсон М. И.
Судьба «Европейца» // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные
плотины». Изд. 2. С. 124-125; напомним, что в начале 1836 г. А. В.
Болдырев уже получал нарекание за недостаточную строгость при
цензурировании «Телескопа». См. запись в дневнике И. М. Снегирева от 13 марта
1836 г.: «Был на заседании Цензурного Комитета, в который получен
от министра строгий выговор Болдыреву (1835 г.) за пропуск в 14 №
Телескопа слов, оскорбительных для Шведского престола: "Шведы не
любят наследного принца Оскара, и после смерти Бернадота наверное
вспыхнет революция. Оскару не царствовать"» (Русский архив. 1902.
№ 10. С. 166). 26 ноября 1836 г. Уваров переслал готовую редакцию
проекта Бенкендорфу, сопроводив ее запиской: «Вот проект отношения
Императору. Пользуясь замечаниями, переданными мне вчера от Вас
г. Мордвиновым, я добавил одну фразу в заключении о Чаадаеве: тем не
менее я не убежден, что мы имеем право, говоря о нем, сказать, что он
"уже достаточно наказан" и также что эта фраза может ему быть полез-
на или благоприятна. Так же думает и Протасов; с другой стороны, мы
готовы принять ее, если это соответствует вашему мнению. Состояние
моего здоровья ныне позволяет мне выходить на улицу, я — в вашем
распоряжении, если вы считаете необходимым собрать нас у себя,
чтобы закончить последнюю редакцию» («Voici le projet de rapport à
l'Empereur. D'après les observations que Mr. Mordvinoff m'a transmises hier de
Votre part, j'ai ajouté une phrase à la conclusion sur Tchédaeff: cependant je
ne suis pas bien convaincu que nous ayons le droit de dire en parlant de lui
qi'il est "deja suffisament puni" & même que cette phrase puisse lui être utile
ou favorable. C'est aussi ce que pense Protassoff; nous sommes d'une autre
coté prêts à l'adopter si elle est conforme à votre opinion. L'état de ma santé
me permettent maintenant de sortir, je suis à Votre disposition si Vous croyez
nécessaire de nous réunir chez Vous pour achever la redaction definitive»)
(ОПИ ГИМ. Ф. 17. On. 1. Ед. хр. 40. Л. 23-23 об). 30 ноября 1836 г.
Николай I поставил на докладе комиссии резолюцию: «Чадаева продолжать
считать умалишенным и как за таковым иметь медико-полицейский
надзор; Надеждина выслать на жилье в Усть-Сысольск под присмотр
полиции, а Болдырева отставить за нерадение от службы [вопреки
предложению комиссии. — М. Я]; в прочем согласен с мнением комиссии.
Г. Строганову велеть на его строгой ответственности избрать
надежного цензора» (Лемке, 447).
Протасов Николай Александрович (1799-1855) — граф, флигель-
адъютант, полковник лейб-гвардии Гусарского полка (в 1837 г.), член
Главного правления училищ, Комитета по устроению учебных
заведений и Главного управления цензуры, в 1835-1836 гг. исполняющий
должность товарища министра народного просвещения, обер-прокурор
Святейшего Синода (с 1836 г.), родственник С. Г. Строганова, в
прошлом, как и Чаадаев, адъютант И. В. Васильчикова (Кочубинский А. А.
О. М. Бодянский и его дневник // Исторический вестник. 1887. № 12.
С. 519). О репутации Протасова в русских церковных кругах см.:
«Протасов принадлежал к знатной фамилии, с большим значением при дворе
по своей матери и теще, бывших статс-дамами при государе Александре I;
он был лично любим императрицей, как отличный танцор. Главный
недостаток нового обер-прокурора скрывался в характере полученного
им воспитания. Известно, что воспитанием графа Протасова заведывал
иезуит, который, конечно, сумел дать всему его мировоззрению особую,
не совсем подходящую для синодального чиновника, окраску» (Фила-
Комментарии
911
рет Дроздов, митрополит Московский. По материалам, собранным ред.
«Русской Старины» // Русская старина. 1885. Т. 48. С. 153; подробнее
см.: Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 4 изд. Париж, 1988.
С. 203-209; впервые в 1937 г.).
795 Надеждин стал секретарем Университетского совета в 1831 г.
796 Зачеркнуто чернилами изначальное: [своего] «слабоумия»; зачеркнутый
вариант: [своей] «неосторожности».
797 Далее зачеркнуто чернилами: «он, вместе с сочинителем статьи Чедае-
вым, был истинною пружиною всего. — ».
798 Далее зачеркнуто чернилами: «показаниях».
799 Далее зачеркнуто чернилами: «и происков <нрзб> Цензора и».
800 Далее зачеркнуто чернилами: «усыпить легковерного; слабоумного».
801 Далее зачеркнуто чернилами: «он чужд всякого участия в переводе и
[печатании]».
802 Далее зачеркнуто чернилами: «и просил даже Надеждина не издавать
оной».
803 Далее зачеркнуто чернилами: «обдуманного».
804 Далее зачеркнуто чернилами: «убеждении, что первый из них мог без
больших усилий соблазнить другого; — как это и случилось, без всякого
сомнения».
805 Далее зачеркнуто чернилами: «слепой»; сверху зачеркнуто карандашом:
«излишней».
806 Далее зачеркнуто чернилами: «благочестивого стремления».
807 // (на полях карандашом): «Мы не решились выписывать
отвратительные и безумные строки в коих автор статьи наложил руку на
животворящее начало нашей самобытности; мы ограничимся объяснением что...».
808 Далее зачеркнуто чернилами: «некоторую».
809 Имеется в виду деятельность католического философа Ф. Р. де Ламенне,
приведшая в конечном счете к конфликту с Римской церковью в
середине 1830-х гг. (см. комм. 531); ирландского политического деятеля
националистического толка Дэниэла О'Коннела (O'Connell) (1775-1847),
боровшегося за политическую эмансипацию католиков, в 1823-1829 гг.
создавшего и возглавившего Католическую ассоциацию, ставшего
членом Британского парламента в 1830 г.; бельгийского публициста и
политического деятеля Луи-Жозефа-Антуана де Поттера (de Potter) (1786—
1859), участника Бельгийской революции 1830 г., лидера либерального
направления, выступавшего за отделение Бельгии от Голландии и
уменьшение политического влияния католической партии. Ассоциация
Уварова не случайна: политическая деятельность О'Коннела в
начале 1830-х гг. активно пропагандировалась во Франции (в частности,
при посредничестве Ш. де Монталамбера) в газете Ламенне «Будущее»
(«L'Avenir»). Поттер также был другом и корреспондентом Ламенне.
Подробнее см.: Le Guillou L L'Evolution de la pensée religieuse de Félicité
Lamennais. Paris, 1966. P. 183, 326-331; White R. L L'Avenir de La Mennais.
Son rôle dans la presse de son temps. Paris, 1974. P. 37-40,158-159.
0 Далее зачеркнуто чернилами: «разыскании и».
1 Далее зачеркнуто карандашом и чернилами: «и о коих Коммиссия не
могла умолчать пред Вашим Величеством».
2 Далее зачеркнуто чернилами: «представить Вашему Величеству».
3 Далее зачеркнуто чернилами: «его».
4 Далее зачеркнуто чернилами: «бы».
5 Далее зачернуто чернилами: «Коммиссия»; далее зачеркнуто
карандашом: «[в] уважение», написано карандашом: «[в] следствие».
6 На связь публикации в «Телескопе» с дружескими отношениями На-
деждина и Селивановского указывал в своем донесении в III Отделение
от 2 декабря 1836 г. Е А. Кашинцев (см.: ПССиИП. Т. 2, 534). В деле о
запрещении «Телескопа» в канцелярии московского военного генерал-
губернатора содержится справка о Н. С. Селивановском: «Журнал
Телескоп печатался всегда в Типографии г. Степанова, но помещенная
Статья в № 15: "Философические письма" была печатана в типографии
г. Селивановского, равно как и письмо третье той же статьи с
надписью — самого г. Надеждина "Этой статьи напечатать отдельно 20
экземпляров". Оригинал как 1-го, так и 3 письма руки самого г. Надеждина...».
Как следует из пометы на полях отношения Бенкендорфа Голицыну
от 7 декабря 1836 г., в котором шеф жандармов сообщал московскому
военному генерал-губернатору об окончательном вердикте по делу о
запрещении «Телескопа» и необходимости, в соответствии с
предложением специальной комиссии, взять у Селивановского объяснение, оно
было получено 12 декабря. Уже 13 декабря 1836 г. Д. В. Голицын
распорядился потребовать у Селивановского объяснения о выпуске 15
номера «Телескопа» из типографии. 16 декабря Селивановский записал: «в
следствие предписания высшего Начальства честь имею объяснить что
печатавшийся в Типографии моей Журнал Телескоп № 15, по издавна
заведенному порядку для Журналов наблюдаемому был отпущен мною
из Типографии переписчику в листах, до получения билета, в следствие
дозволения г. Ценсора Болдырева, собственноручно надписавшего на
Комментарии
913
книжке ему представленной по отпечатании "выпустить из Типографии
позволяется или можно" — точных слов не припомню, и сей экземпляр
на другой день представил в Ценсурный Комитет, а вместо оного
получен билет, который при сем представить честь имею. Коллежский
Секретарь Николай Селиванова™». 19 декабря 1836 г. Голицын писал
Бенкендорфу, что Селивановскому «по всей справедливости не можно
поставить в вину, что он по обыкновению выдал из типографии 15-й №
Телескопа» (Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 89-92). 30 декабря 1836 г.
Бенкендорф сообщал Уварову, что он «получил отзыв от князя
Димитрия Владимировича, в коем он не считает Селивановского виновным
в отпуске № 15 "Телескопа" по одной дозволительной записке цензора,
так как сие обыкновенно принято для выигрыша времени
содержателями типографий». Селивановский же, по отзыву московского обер-
полицмейстера Цынского, «известен до сих пор в Москве за человека
весьма хорошей нравственности» (Русский архив. 1884. Кн. 2. С. 458).
Селивановский Николай Семенович (1806-1852) — книгоиздатель,
продолжавший дело отца, известного московского типографа С. И.
Селивановского, театральный и литературный критик, переводчик, хозяин
литературно-театрального салона (вторая половина 1830-х— 1840-е гг.),
один из издателей журнала Надеждина «Телескоп» (в частности, № 15 за
1836) и газеты «Молва», в 1823-1826 г. учился в Московском
университете, в начале 1830-х гг. в одном доме с Селивановскими снимал
квартиру Надеждин. Подробнее см.: Лямина Е. Э. Селивановский Николай
Семенович // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь.
Т. 5. М, 2007. С. 545-547.
Речь идет об Уставе о цензуре, 141-й параграф которого гласил: «Если
Ценсор найдет, что сделанные во время печатания поправки
предосудительны, то объявляет о том чрез Канцелярию содержателю Типографии,
который обязан перепечатать замеченное место на счет автора,
сделавшего ту непозволительную перемену, и представить исправленную
книгу вновь для получения билета. Если во время печатания одобренной
книги, включено в оную что-либо противное общим правилам Ценсуры;
то листы, в коих таковые места заключаются, перепечатываются вновь
на счет виновного, а листы прежде напечатанные, уничтожаются при
свидетеле, от Ценсуры доверенном; в важных же случаях содержатель
Типографии предается суду» (Свод законов Российской империи,
повелением государя императора Николая Павловича составленный. Т. 14:
Свод Уставов Благочиния. Часть 3-5. СПб., 1833. С. 327); параграф 143:
«Во время печатания книги, одобренной Ценсурою, содержатель
Типографии может выдавать отдельные листы оной Издателю для заметки и
исправления Типографских ошибок. Но он не должен выдавать
Издателю более одного экземпляра листов, так называемых белых или чистых,
до получения позволительного билета» (Там же); параграф 145:
«Управляющие казенными Типографиями, Директоры, Смотрители, Факторы,
и т. п. обязаны при печатании книг во вверенных им Типографиях
наблюдать без всякого послабления правила и формы, предписываемые
сим Уставом» (Там же. С. 328).
Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 98. Л. 25-26.
Писарское. На бланке: Министерство народного просвещения, Главное
Управление Цензуры в С. Петербурге. 3 Декабря 1836 года. № 393. Под
номером карандашом рукой С. Г. Строганова: «к сведению». В верхнем
левом углу: 3,149. В верхнем правом углу: Декабря 6-го 1836. В нижнем
левом углу: «Его Сиятель-ву Графу С. Г. Строганову». 4 декабря 1836 г. На-
деждин был освобожден в Петербурге из-под ареста, 5 декабря получил
обратно бумаги (собственные и В. Г. Белинского), 8 декабря уехал в
Москву, куда, как писал М. К Лемке, «его сопровождала бумага
Бенкендорфа, в которой тот просил кн. Голицына дать ему остаться там недели на
две для устройства своих дел» (Лемке, 447; Вопросы литературы. 1995.
№ 2. С. 89). А. В. Никитенко записал в дневнике 11 декабря 1836 г.:
«Когда ему объявили о ссылке, он просил Бенкендорфа исходатайствовать
ему вместо того заключение в крепость, потому что там он по крайней
мере может не умереть с голоду. Бенкендорф исходатайствовал ему
вместо того позволение писать и печатать сочинения под своим именем.
Говорят, Надеждин сначала упал духом, но потом оправился и теперь
довольно спокоен. Он с благодарностью отзывается о Бенкендорфе и
особенно о Дубельте. Болдырева приказано отрешить от всех
должностей, то есть ректора, профессора и цензора. Говорят, что наш
министр вел себя очень сурово в отношении Надеждина» (Никитенко Л. В.
Дневник. Т. I. С. 190). 3 февраля 1837 г. Надеждин выехал из Москвы в
Вологду (Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 98). О пребывании Надеждина
в Вологодской губернии см.: Тура В. В. Русские писатели в Вологодской
области. Вологда, 1951. С. 60-67.
Согласно 140-му параграфу «Устава о цензуре»: «По отпечатании книги,
содержатель Типографии представляет в Ценсуру одобренную
рукопись оной с узаконенным числом экземпляров книги при подписке, в
которой свидетельствует, что книга напечатана сходно с одобренным
Комментарии
915
Ценсурою подлинником» (Свод законов Российской империи. Т. 14.
Ч. 3-5. СПб., 1833. С. 327). В 142-ом параграфе «Устава о цензуре»
говорилось: «За напечатание неодобренной Ценсурою книги или
сочинения, хотя бы оные не заключали в себе ничего противного
постановлениям Ценсуры, содержатель частной Типографии, или Управляющий
Типографиею казенною, предается суду. Мера вины их усугубляется,
когда напечатанная без одобрения Ценсуры книга заключает в себе
места, противные общим правилам Ценсуры» (Там же). 143-й параграф см.
в комм. 817.
820 Впервые и печатается по: Русский архив. 1884. Кн. 2. С. 458. Резолюция
Николая I на докладе комиссии по «чаадаевскому» делу была поставлена
30 ноября 1836 г. 7 декабря Бенкендорф сообщил об императорской
воле Д. В. Голицыну (Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 88-89).
821 О выборе места ссылки для Надеждина см.: Тихонова Е. Ю. Наказанная
неосторожность // Вопросы истории. 1991. № 2-3. С. 254.
822 В скобках — добавление согласно публикации данного документа
B. В. Стасовым: Русская старина. 1903. Т. 113. С. 584.
823 Печатается по автографу: ОПИ ГИМ. Ф. 404. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 68-
68 об. Собственноручное. 9 декабря 1836 г. Уваров сообщил
Строганову о «Высочайшем повелении отставить "за нерадение" от службы
Болдырева и о прекращении выплаты ему жалованья» (Петров Ф. Л.
Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование
системы университетского образования. Кн. 3: Университетская
профессура и подготовка устава 1835 г. М., 2000. С. 494) (как следует из
публикуемого письма, Строганов получил это сообщение 11 декабря).
11 декабря 1836 г. информация об участи фигурантов «чаадаевского
дела» распространилась в Петербурге. См. запись в дневнике А. В. Ни-
китенко от 11 декабря: «Участь Надеждина решена: его сослали на
житье в Усть-Сысольск, где должен он существовать на сорок копеек в
день. Впрочем, это последнее смягчено» (Никитенко А. В. Дневник. Т. I.
C. 189-190). При этом, например, А. И. Тургенев узнал об окончательном
решении императора (30 ноября) ранее, см. его письмо к А. Я. Булгакову
от 7 декабря из Петербурга: «Участь журналиста и ценсора решена:
первый ссылается в Вологду, второй отставлен за нерадение от всей
службы, следов., лишается и права на пенсию и пр. Автор остается по-
прежнему» (Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939- С. 197;
разрядка автора). В правильности наказания Надеждина не сомневались
даже близкие к нему люди. В частности, Д. М. Княжевич писал М. П. По-
годину: «Общий спутник наш Николай Иванович сделал большую
неосмотрительность и несет наказание совершенно заслуженное; но Бог
и Государь милостивы. Авось изгнание его и не будет
продолжительно. Для Николая Ивановича этот урок во всяком случае будет полезен»
(Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 4. СПб., 1891. С 390;
письмо не датировано). Сам Надеждин был склонен обвинять в своих
бедах С. С. Уварова, см., например, его письмо С. Т. Аксакову: «Я решился
обойтись без покровительства Сергея Семеновича. Я даже у него не был
и не буду. Что мне у него делать, если он даже будет иметь дух принять
меня? Этот человек — да простит ему Бог!.. И я, как христианин,
прощаю ему мою гибель, которой он был главным виновником. Поверите
ли, добрый друг, он, который знал меня лучше всех, — он, мой бывший
начальник, осыпавший меня благодарностями и похвалами, — он имел
твердость бросить тень даже на мою университетскую службу, не только
на мои литературные занятия» (цит. по: Осовцов С Выступление и
наказание // Нева. 1997. № 1. С. 202; об отрицательном отношении Уварова к
Надеждину см.: Петров Ф. А Формирование системы университетского
образования в России. Т. 3. С. 205-208). Определенные нарекания
Надеждин адресовал и С. Г. Строганову, см. его письмо к М. П. Погодину
от 30 июня 1837 г.: «Винить мне действительно некого. Однако, скажу
тебе, что мне было несколько больно, когда я узнал о дурном отзыве
обо мне графа Строганова] в Петербурге. За что этот человек против
меня — этот человек, которому я ничего не сделал? Впрочем, теперь
успокоился я и на этот счет. "Блажени есте, егда поносят вам, и ижде-
нут вас, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще", — говорит Спаситель.
Граф расплатился этим со мной за то чувство, которое он возбудил во
мне с первого разу, когда я его узнал. Разница только в том, что я не
говорил об нем ничего дурного. Но от этого я же в выигрыше перед
судом совести. Теперь мы с ним квиты!» (Письма Н. И. Надеждина к
М. П. Погодину / Публикация Л. А. Ирсетской //Государственная ордена
Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина. Записки Отдела рукописей.
Вып. 39. М., 1978. С. 193; Надеждин цитирует Евангелие от Матфея,
глава 5, стих 11).
Дата выставлена рукой Д. П. Голохвастова.
Первоначально, согласно формулировке «Общего отчета по
министерству народного просвещения за 1836 г.», «вместо выбывшего из
Университета Ректора Болдырева, вступил временно в исправление его
должности Проректор Ординарный Профессор Бунге» (Общий отчет,
Комментарии
917
представленный ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ по
министерству народного просвещения за 1836 год // Журнал Министерства
Народного Просвещения. 1837. № 4. С. XXXI). В марте 1837 г. ректором
Московского университета вместо Болдырева был избран М. Т. Каченов-
ский (результаты выборов ректора см.: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 186а.
Л. 5). О подробностях выбора ректора см. автобиографическую записку
и дневник М. П. Погодина: Барсуков К П. Жизнь и труды М. П. Погодина.
Кн. 4. СПб., 1891. С 391-394; Бачинин А Я. Из записок М. П. Погодина.
Граф С. Г. Строганов // Отечественная культура и историческая мысль
XVIII-XX веков. Вып. 3. Брянск, 2004. С. 345-374). На место цензора
Строганов выдвинул две кандидатуры — В. Я. Булыгина и В. П. Флерова,
затем Болдырева заменил Флеров ([Стасов В. В] Цензура в
царствование Николая I. Часть VI // Русская старина. 1903. Т. 113. С. 583).
826 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 6. Ед. хр. 37. Л. 1-1 об.
Писарское. На бланке: Министерство Народного Просвещения, от
Попечителя Московского Учебного Округа. В Москве 12-го января 1837.
№ 73. Совету ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Университета. В
верхнем правом углу чернилами: 13 Генв. 1837. В левом нижнем углу
чернилами: <нрзб> 13 Генваря. В конце декабря 1836 г. генерал
Перфильев доносил Бенкендорфу о том, что Болдырева в Москве жалели и
находили наказание излишне строгим, о Надеждине «не рассуждали», о
Чаадаеве говорили, «что если отобранные у него бумаги не заключают
в себе новых предметов к обвинению, то находят, что он уже довольно
наказан» (Лемке, 448).
827 С. Г. Строганов писал Николаю I о необходимости помочь Болдыреву,
оказавшемуся в результате увольнения от всех должностей без пенсии,
на грани нищеты. 28 декабря 1836 г. Бенкендорф отвечал ему, «что на
это нужно некоторое время». 7 февраля Болдыреву была пожалована
1000 рублей, а в марте 1838 г. он был окончательно прощен и наделен
пенсией (Лемке, 448).
828 Имеется в виду титулярный советник (в 1837 г.) Иван Павлович
Фаворский, исправляющий должность правителя Канцелярии Московского
учебного округа.
829 Печатается по автографу: ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 2-3 об.
Писарское. В левом верхнем углу (Л. 2): С. Петерб. 15 Генв. / 1837. № 3
СП. 15 Генваря. В правом верхнем углу: «К г. Обер Полицмейстеру на
счет Московских содержателей Типографий». Впервые опубликовано
В. Саповым и Л. Саповой: Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 94.
918
830 Печатается по автографу: РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 257. Л. 62-64 об.
Собственноручное.
831 Имеется в виду сатирическое стихотворение А. С. Пушкина «На
выздоровление Лукулла», направленное против С. С. Уварова и помещенное в
сентябрьской книжке «Московского наблюдателя» за 1835 г. (вышла в
декабре 1835 г.). О негативной реакции А. X. Бенкендорфа на это
стихотворение см. в письме к Бенкендорфу В. А. Жуковского от 25 февраля
1837 г.: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 440. Подробнее
см.: Вацуро В. Э. Между Сциллой и Харибдой // Вацуро В. Э., Гиллель-
сон М. И. Сквозь «умственные плотины». Изд. 2. С. 205-208.
Ответы на первое «Философическое письмо»
832 Печатается по автографу: РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 31-34 об.
Впервые: Русская старина. 1907. № 8. С. 237-245. Без цензорских
помет. По нашим подсчетам, в тексте имеется 54 мелких стилистических
разночтения в сравнении с текстом статьи Надеждина,
опубликованном по подлиннику в «Русской старине». Об опровержении Надеждина
Н. Н. Мазур пишет: «Метко угадав "социальный заказ", Надеждин поставил
на первое место в триаде [Православие, Самодержавие, Народность. —
М. В.] понятие "самодержавие", подчинив ему две остальные
составляющие, и связав с самодержавием принципы просвещения и прогресса».
Мазур отмечает, что тем самым Надеждин «предвосхитил развитие
теории "официальной народности" в начале 1840-х гг.» (Мазур К Я Жизнь
и мировоззрение А. С. Хомякова в «дославянофильский» период: 1804—
1837 гг. С. 178; о представлениях Надеждина о русской народности в
культурно-политическом контексте 1830-х гг. си;. Миллер А Я
«Народность» и «нация» в русском языке XIX века: подготовительные наброски
к истории понятий // Российская история. 2009. № 1. С. 151-165, в
частности: С. 155-156; о статье см. также: Надеждин Я Я Сочинения: В 2 т.
Т. 2. СПб, 2000. С. 958-960).
833 Т. е. нет «истории нас самих, нашей отдельной, народной жизни», есть
лишь «история наших царей» — примечание Н. И. Надеждина.
834 Негативное отношение к французской революции 1830 г. и ее
последствиям для европейской политики, на которые намекает Надеждин, было
также свойственно Чаадаеву. См. его письмо к А. С. Пушкину от 18
сентября 1831 г. или «Апологию безумного» в настоящем издании.
835 Высказанные Надеждиным мысли о русском просвещении «сверху»,
роли Петра I в русской истории, пустоте «прежнего существования» рус-
Комментарии
919
ских, «младенчестве» русской нации во многом перекликаются с
ключевыми идеями «Апологии безумного» Чаадаева.
836 Впервые: Русская старина. 1907. № 8. С. 245-258. Печатается по:
Чаадаева Я. Сочинения. М., 1989. С. 533-554.
837 А. А. Златопольская отмечает в своем комментарии, что «имеется в виду
присоединение Восточной Армении (ханств Нахичеванского и Эри-
ванского с горой Арарат) к России в 1828 г. по Туркманчайскому
мирному договору, которым закончилась война между Россией и Персией»
(П. Я. Чаадаев: pro et contra. С. 764).
838 Имеется в виду картина К. Брюллова «Последний день Помпеи»,
получившая почетную медаль на Парижской выставке 1834 г.
839 Неточная цитата из фрагмента первого тома «Истории государства
Российского» H. M. Карамзина, основанного на Несторовой летописи:
«Нестор пишет, что Славяне Новгородские, Кривичи, Весь и Чудь отправили
посольство за море, к Варягам-Руси, сказать им: Земля наша велика и
обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами»
(впервые в 1818 г., цит. по: Карамзин К М. История государства Российского:
В 12 т. Т. I. M., 1989. С. 94; курсив автора).
840 Надеждин имеет в виду следующий эпизод, произошедший в 983 г. и
так описанный в первом томе «Истории государства Российского»
H. M. Карамзина: «Увенчанный победою и славою, Владимир хотел
принести благодарность идолам, и кровию человеческою обагрить олтари.
Исполняя совет Бояр и старцев, он велел бросить жребий, кому из
отроков и девиц Киевских надлежало погибнуть в удовольствие мнимых
богов — и жребий пал на юного Варяга, прекрасного лицем и душею,
коего отец был Христианином. Посланные от старцев объявили
родителю о сем несчастии: вдохновенный любовию к сыну и ненавистию к
такому ужасному суеверию, он начал говорить им о заблуждении
язычников, о безумии кланяться тленному дереву, вместо живого Бога,
истинного Творца неба, земли и человека. Киевляне терпели
Христианство; но торжественное хуление Веры их произвело всеобщий мятеж в
городе. Народ вооружился, разметал двор Варяжского Христианина и
требовал жертвы. Отец, держа сына за руку, с твердостию сказал:
"ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами извлекут его из
моих объятий". Народ, в исступлении ярости, умертвил отца и сына,
которые были таким образом первыми и последними мучениками
Христианства в языческом Киеве. Церковь наша чтит их Святыми под
именем Феодора и Иоанна» (впервые в 1818 г., цит. по: Карамзин H. M.
История государства Российского: В 12 т. Т. I. М., 1989. С. 146; курсив ав-
920
тора). Логика изложения данного сюжета Надеждиным, основанная на
принципиальном различении княжеской и народной воли, несколько
противоречит «Истории государства Российского», поскольку на жертву
варягов-христиан обрекает именно киевский князь Владимир.
841 H. M. Карамзин в первом томе «Истории государства Российского»
доказывал, что крещение киевлян происходило в Днепре, а не в Почайне.
Карамзин комментировал следующий фрагмент первого тома — «Там
явился Владимир, провождаемый собором Греческих Священников, и по
данному знаку бесчисленное множество людей вступило в реку» — так:
«В Днепр, а не в Почайну. Нестор знал все обстоятельства лучше, нежели
писатели новейшие. В харатейных Прологах XIV века сказано, что
место крещения на реке Почайне издревле именуется Святым, где стоит
церковь Петрова; а в печатном: "идеже ныне церковь есть Мучеников
Бориса и Глеба'» (Там же. С. 153, 289; курсив автора). «Выдыбай» —
«выплывай», Карамзин в примечаниях к первому тому «Истории» цитировал
«Синопсис» киевский: «Старые люди рассказывают, что идол, влекомый
Христианами с горы Днепровской, вопил и рыдал: для того прозвали
сию горы (ниже монастыря Златоверхого Михаила) Чортовым береми-
щем, или тягостию и бедствием сего злого духа. Когда он плыл рекою,
суеверные язычники кричали: видибай\ т. е. выплывай. Он действительно
выплыл на берег: и сие место названо Выдибичи, а после Выдубичи (где
стоит ныне монастырь Выдубецкий). Однако ж Христиане утопили
идола, привязав к нему тяжелый камень» (Там же. С. 289; курсив автора).
842 Летописец — Нестор. См. в первом томе «Истории государства
Российского» Карамзина: «Чтобы утвердить Веру на знании книг
Божественных, еще в IX веке переведенных на Славянский язык Кириллом и Ме-
фодием и без сомнения уже давно известных Киевским Христианам,
Великий Князь завел для отроков училища, бывшие первым
основанием народного просвещения в России. Сие благодеяние казалось тогда
страшною новостию, и жены знаменитые, у коих неволею брали детей
в науку, оплакивали их как мертвых, ибо считали грамоту опасным
чародейством» (Там же. С. 154).
843 Возможно, Надеждин имеет в виду Галицкую или Червонную Русь,
окончательно ставшую польской провинцией в 1386 г. См. также комм. 244.
844 Имеется в виду Иван IV Грозный (1530-1584), венчавшийся на царство
в 1547 г.
845 Слова «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятеля не останется
в царстве моем» были вложены А. С. Шишковым в уста Александра I в
манифесте на вторжение французов 13 июня 1812 г.
Комментарии
921
846 По наблюдению А. А. Златопольской, речь идет о знаменитом русском
актере Иване Афанасьевиче Дмитревском (1736-1821) (П. Я. Чаадаев:
pro et contra. С. 764). Имеется в виду постановка трагедии А. П.
Сумарокова «Хорев» на придворном петербургском театре (1752), когда
игравшего Оснельду И. А. Нарыкова (Дмитревского) «готовила» к выходу на
сцену сама Елизавета Петровна. Императрица спросила об имени
актера и, узнав его, сказала: «Нет... ты похож на Польского Графа
Дмитревского, а потому я хочу, чтоб ты и принял его фамилию» (Сумароков П. И.
О Российском Театре, от начала оного до конца царствования
Екатерины II // Отечественные записки. 1822. № 32. С. 305).
847 6 апреля 1826 г., в ответ на письмо H. M. Карамзина, Николай I обещал
ему фрегат для поездки в Италию, где историк собирался лечиться, и
прислал деньги. 13 мая 1826 г. император дал указание министру
финансов, чтобы отъезжающему за границу Карамзину была
предоставлена пенсия 50 тысяч рублей в год, сохраняемая также за его женой и
детьми.
848 Имеется в виду купец Федор Иванович Сериков, основатель суконной
фабрики в Москве, близкий к Петру I.
849 Надеждин имеет в виду посещение Николаем I нижегородской ярмарки
летом 1836 г., о которой он писал в «Телескопе» (см. комм. 933).
850 Речь идет о французском короле Генрихе IV (1553-1610) и его
малолетнем сыне, будущем короле Людовике XIII (1601-1643).
851 Надеждин говорит о трактатах Ж-Ж Руссо «Рассуждение о
происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) и «Об
общественном договоре, или принципы политического права» (1762).
852 Медичи — великие герцоги Тосканские (правили с 1532 по 1737 гг.),
представители побочной ветви этой семьи, утвердившей свое влияние
во Флоренции при Козимо Старшем (1389-1464) и его внуке Лоренцо
Великолепном (1449-1492). Д'Эсте — династия герцогов Феррарских,
пришедшая к власти в конце XIII в. и правившая до конца XVIII в. Скали-
геры (делла Скала) — итальянский род, правившей в Вероне с 1260-х гг.
по 1387 г.
853 Франциск I (1494-1547) — французский король (с 1515 г.) из династии
Валуа, Елизавета I (1533-1603) Тюдор — английская королева с 1558 г.,
Людовик XIV (1638-1715) — французский король (с 1643 г.) из
династии Бурбонов.
854 Речь идет о вавилонском царе Нимроде, названном в книге «Бытия»
«сильным звероловом пред Господом» (Бытие, X, 8-10).
Карамзин передавал этот эпизод в первом томе «Истории государства
Российского», цитируя Несторову летопись: «Владимир желал еще
слышать мнение Бояр и старцев. "Когда бы Закон Греческий — сказали
они — не был лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая всех
людей, не вздумала бы принять его". Великий Князь решился быть
Христианином» (впервые в 1818 г., цит. по: Карамзин К М. История государства
Российского: В 12 т. Т. 1. М., 1989. С. 150).
856 Речь идет о последнем императоре единой Римской империи
Феодосии I Великом (346-395), утвердившем христианство в качестве
официальной имперской религии. В 380 и 381 гг. Феодосием были
опубликованы специальные эдикты, в которых под угрозой уголовного
преследования запрещалось исповедание неортодоскального христианства
(арианства и др.). Чуть позже, в 384-394 гг., Феодосии запретил также
и языческие культы. Драгонады (вооруженные расправы с
протестантами) французского короля Людовика XIV имели место в 1683 г.
857 Надеждин имеет в виду избрание Земским собором 1613 г. на русское
царство Михаила Федоровича Романова. Согласно распространенной
в XIX в. версии, легшей, в частности, в основу «официальной»
исторической драмы Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла»
(1834), кандидатура Михаила была поддержана всеми сословиями
русского общества того времени.
858 Надеждин цитирует начальный фрагмент второй строфы оды Г. Р.
Державина «На взятие Измаила» (1790-1791; впервые издана в 1791 г.). Эти
же строки Надеждин привел в финале своей статьи «Европеизм и
народность, в отношении к русской словесности» (Телескоп. 1836. № 2).
859 Печатается по автографу: РГАДА Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 40 об. -
47 об. Исчерпывающее описание «исследовательского сюжета»,
связанного с публикацией данной статьи см.: МазурН. К Жизнь и
мировоззрение А. С. Хомякова в «дославянофильский» период: 1804-1837 гг. С. 179—
181: «Экземпляр этой статьи был обнаружен в 1938 году Я. И. Ясинским
в библиотеке А. И. Тургенева; Н. И. Мордовченко в 1950 году
атрибутировал ее А. С. Хомякову; в 1986 году статья была впервые опубликована
Р. Темпестом, согласившимся с атрибуцией Мордовченко (Темнеет Р.
Неизданная статья А. С. Хомякова // Символ. № 16 (1986). С. 121-134);
наконец, в 1994 году этот текст был включен в собрание сочинений
Хомякова. В докладе на конференции в журнале "Новое литературное
обозрение" в 1993 году А. Л. Осповат подверг сомнению авторство
Хомякова, сославшись на известное свидетельство племянника Чаадаева,
Комментарии
923
M. И. Жихарева о том, что узнав о репрессиях, постигших автора
"Письма", Хомяков отказался от мысли писать против него "громовое
опровержение"; кроме того он напомнил, что осень 1836 года Хомяков провел
в деревне, откуда вернулся только в конце ноября. Докладчик
предположил, что опровержение было написано самим Чаадаевым. В 1995
году В. Сапов и Л. Сапова опубликовали материалы обнаруженного ими
цензурного дела о запрещении "Телескопа"; им удалось установить, что
первоначально статья предназначалась для публикации в "Телескопе"
и лишь после запрещения журнала была передана в слегка
сокращенном виде в "Московский Наблюдатель". Они атрибутировали текст на
основании донесения московского обер-полицмейстера Л. М. Цынско-
го, сообщавшего, что "статья сия, как слышно, сочинена
Митрополитом Филаретом". Рукописная копия текста была обнаружена в архиве
А. Ф. Вельтмана американским ученым Джеймсом Гебхардтом, который
напечатал в 1970 году ее английский перевод, предположив, что
автором был сам Вельтман. В 1998 году М. И. Медовой (не упомянув о
находке Гебхардта) опубликовал эту же рукопись с атрибуцией Вельтману.
Ни одна из этих атрибуций не является однозначной. Против
авторства Хомякова говорит и то, что текст первоначально планировалось
опубликовать в "Телескопе"; Хомяков почти несомненно сразу отдал бы
свой текст в близкий ему "Наблюдатель". Что касается авторства
Вельтмана, то его нельзя ни подтвердить, ни отвергнуть, поскольку неясно,
чем на самом деле является архивный текст — чистовым автографом
или копией рукой Вельтмана. Добавим, что ни Хомякову, ни Вельтману
не было нужды тщательно скрывать, что статья написана ими.
Митрополит Филарет мог воздержаться от признания своего авторства, однако
против него говорит стиль — характерный для митрополита сложный
синтаксис с большим числом церковнославянизмов очень далек от
простого и лаконичного стиля статьи. Аналогичное возражение возникает
и против авторства Чаадаева: его письменный русский язык был полон
галлицизмов». Публикуемый ниже вариант текста содержит ряд отличий
от предыдущих версий статьи. Копия статьи была послана московским
обер-полицмейстером Л. М. Цынским Д. В. Голицыну, который писал,
что текст поступил в редакцию «Телескопа», а после его закрытия — в
«Московский наблюдатель». Цынский получил сведения, что «статья сия
вся уничтожена и не будет помещена в наблюдателе; корректурной же
печатанной лист оной находится у меня [Цынского. — М. Я]», «статья
сия, как слышно, сочинена Митрополитом Филаретом» (Вопросы ли-
924
тературы. 1995. № 1. С. 165-166). В «справке о Селивановском»,
сохранившейся в деле о запрещении «Телескопа» в канцелярии московского
военного генерал-губернатора, уточнялась дата окончательного
цензорского вмешательства Д. М. Перевощикова: «В наблюдателе
печаталась Критика на 1-е письмо, но — она 29-го числа [октября. — М. В.]
Г-м Цензором Перевощиковым вся вымарана и в журнале помещена не
будет» (Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 90). А. И. Тургенев так
оценил данную статью в письме к П. А. Вяземскому от 12 ноября 1836 г.:
«Возражение, которое хотели напечатать в "Наблюдателе", я надеюсь
прислать тебе, но оно слабо» (Остафьевский архив князей Вяземских.
Т. 3. С 459).
860 Вставлено рукой цензора на полях: «некоторых».
861 Зачеркнуто цензором: «и почести»; на полях рукой цензора: — «Я».
862 Со слов: «пусть одна...» и до «паралич» зачеркнуто цензором.
863 Со слов «Когда оно» до «Ф<илософическое> П<исьмо>» зачеркнуто
цензором.
864 Сикст У (Феличе Перетти ди Монтальто, 1521-1590) — папа римский
с 1585 по 1590 г., упорядочил управление Папской областью,
реорганизовал Римскую курию, учредив 15 конгрегации для церковной
администрации, ввел разветвленную систему шпионства.
865 Представление о существовании Чистилища, т. е. места между адом и
раем, где очищаются связанные непрощенными, но допустимыми
грехами души прежде, чем обрести Царствие небесное, восходит к
сочинениям Оригена и Бл. Августина, распространено в западной церкви
Григорием Великим и подробно обосновано Фомой Аквинским. В
православной и протестантской традициях учение о Чистилище
отсутствует. «Поэтические» стороны идеи о Чистилище обосновал Ф. Р. де Ша-
тобриан в «Гении христианства» (ч. 2, кн. 4, гл. 15).
866 Вставка рукой цензора: «учениях».
867 Зачеркнуто цензором: «постановлениях церкви», вместо этого на полях:
«духовных наставниках».
868 Зачеркнуто цензором: «потомками». Вписано им же на полях:
«народами».
869 «Роды» — подчеркнуто цензором, на полях — знак вопроса.
870 Зачеркнуто цензором: «и это стоит нам нравственного унижения».
871 Вставка цензора на полях: «как должно».
872 Вставка цензора на полях: «некоторые».
873 «и почестям» — вычеркнуто цензором.
Комментарии
925
874 «маской» — зачеркнуто цензором, вместо этого на полях его рукой:
«покровом».
875 Цензором зачеркнута первая буква «о», на полях написано — «а» —
«Салонов».
876 Зачеркнуто цензором: от «Гроб Господень» до «человечества».
877 Надеждин имеет в виду «Ироическую песнь о походе на половцев
удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанную
старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на
употребляемое ныне наречие» (М., 1800; издание, более известное под
названием «Слово о полку Игореве», было подготовлено А. И. Мусиным-
Пушкиным, подробнее об этом источнике см., например: Дмитриев Л. А
История первого издания «Слова о полку Игореве». М.; Л., I960); «Слово о
Даниле Заточнике» (жившем в XII в.), частично опубликованное H. M.
Карамзиным по рукописи XVI в., принадлежавшей московскому купцу
А. С. Шульгину, в «Прибавлениях» к VIII тому второго издания «Истории
государства Российского» (СПб., 1819). Карамзин оговаривал, что
«Слово» это «если и не достоверное, если и не им писанное, то по крайней
мере любопытное» и атрибутировал его так «это писано к сыну
Владимира Мономаха, Георгию Долгорукому, коему принадлежало Белоозеро.
В другом списке Даниилова Слова сей князь назван Ярославом: Георгий
мог иметь Славянское имя Ярослава)...» (цит. по: Карамзин К М. История
государства Российского: В 12 т. Т. V. М., 1993. С. 402; курсив автора).
878 Имеются в виду «Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона (1761-1773).
879 На полях рукой цензора: «[Кир]ши?>>.
880 Кирша (Кирилл) Данилов — предполагаемый составитель сборника
былин, исторических и лирических песен, записанных в XVIII в. и впервые
изданных в 1804 г. (подробнее об изданиях сборника Кирши Данилова
см., например: Безъязычный В. И. А. Ф. Якубович — редактор и первый
исследователь сборника Кирши Данилова // Книга. Исследования и
материалы. Сб. XXV. М, 1978. С. 152-155).
Расследование по «чаадаевскому делу»: вопросные пункты
881 При публикации документов все сделанные на них карандашные
подчеркивания сняты.
882 Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 881. Л. 1-17.
Писарские вопросы и собственноручные ответы Н. И. Надеждина.
Курсив — подчеркивание рукой Н. И. Надеждина. Частично опубликовано
М. К. Лемке: Мир Божий. 1905. № 11. Отдел первый. С. 137-154 (вое-
926
произведено в: Лемке, 425-441). 5 ноября 1836 г. Надеждин и Болдырев
прибыли в Петербург и в этот же день были подвергнуты допросу. Если
Болдырева допрашивал министр народного просвещения Уваров, то
Надеждина — в III Отделении императорской канцелярии; вопросные
пункты были получены Бенкендорфом от Уварова (Лемке, 425; уваров-
ский проект вопросов: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 51-54).
Ответы Надеждина Бенкендорф послал Уварову со следующей запиской:
«Je vous envoyé, cher ami, les responds de Nadegdin; S'il avoit écris, de même
dans Son Journal, il auroit été capitaine dans notre régiment. Lions avec
Pratasow et vous et moi à 2 heure. L'Empereur n'arrivant ici que pour diner il
sera bien, que nous avancions l'affaire. В.» (ОПИ ГИМ. Ф. 17. On. 1. Ед. хр. 40.
Л. 19; в переводе Д. И. Шаховского: «Посылаю вам, любезный друг,
ответы Надеждина, если бы он писал так же в своем журнале, он был бы
командиром у нас в полку. Прочтите с Протасовым и приезжайте ко мне
в 2 часа. Государь приедет сюда только к обеду и было бы хорошо
продвинуть дело» (ПССиИП. Т. 2, 528).
883 По-видимому, Чаадаев передал Надеждину перевод «Философических
писем», выполненный А. С. Норовым, который затем был исправлен,
по просьбе Надеждина, Н. X. Кетчером. Не желая упоминать на
следствии имя Кетчера, Надеждин взял ответственность за исправления
на себя.
884 Об уединении Чаадаева в 1826-1830 гг. и начале его посещений
Английского клуба в Москве см. вступительную статью к настоящему
изданию и комм. 290.
885 Телескоп. 1832. № И. С. 347-357.
886 Имеется в виду круг литераторов, близких к журналу «Московский
наблюдатель». О его составе см. запись в дневнике А. И. Тургенева
от 4 января 1835 г.: «Кончил вечер у Свербеев<а> с Хомяков<ым>,
Чадаев<ым>, Андросов<ым>, Мельгунов<ым>, Шевырев<ым>, т. е. с
большею частию издателей нового журнала: я, а потом Хомяков
рассуждали с Чадаев<ым> о католицизме» (цит. по: Гидлельсон М. Я.
А. И. Тургенев и его литературное наследство // Тургенев А. И. Хроника
русского. Дневники (1825-1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 476). Об отношении
круга «Московского наблюдателя» с Чаадаевым см.: Мазур H. H. Жизнь
и мировоззрение А. С. Хомякова в «дославянофильский» период: 1804-
1837 гг. С. 182-185.
887 См.: Понятия язычников о вере (Барона д'Эккштейна) // Телескоп. 1836.
№ 12. С. 435-456. Цензурное разрешение: 13 августа 1836 г.
Публикация сопровождалась следующим примечанием Надеждина: «Отрывок
Комментарии
927
из брошюрки, только что вышедшей в свет в Париже, под заглавием:
"de la Foi, de son développement et de ses rapports avec la Science" (Paris,
1836). Барон д'Эккштейн известен своими обширными сведениями и
глубоким христианским чувством; он есть один из пламеннейших
поборников католического духа. В предисловии к этой брошюрке он
говорит, что "писал ее с целью заставить ищущих истины вникнуть глубже в
основные догматы христианства и увидеть, как эта божественная
религия неразделимо связана с успехами нравственности и просвещения".
Мы надеемся сообщить из ней еще несколько отрывков, особенно о
тех понятиях, в которые чувство веры облекалось новою европейскою
философиею, начиная с схоластической диалектики средних веков
до нынешних выспренних умозрений трансцендентализма» (Там же.
С. 435-436). В фрагменте, помещенном в «Телескопе», д'Экштейн
показывал несоответствие верований древних греков и римлян, а также их
философии, христианскому благочестию, что перекликается с
тезисами «Философических писем» Чаадаева.
888 См.: Абельярд и Элоиза. Из Истории литературы средних веков
Ж. П. Шарпантье // Телескоп. 1836. № 16. С. 419-435. Надеждин
сопроводил перевод следующим примечанием: «"Essai sur l'Histoire Littéraire du
Moyen Age" (Опыт об Истории Литературы Средних Веков), сочинение
Ж П. Шарпантье, профессора риторики в коллегии С. Людовика, из
которого заимствуется этот отрывок, у нас почти неизвестно. Между тем
оно отличается глубоким изучением своего предмета и особым,
оригинальным взглядом, превосходящим во многих отношениях взгляд
знаменитого Вильмена, обрабатывавшего тот же предмет. Предлагаемый
отрывок познакомит отчасти с этою любопытною книгою; частную
занимательность его оценят сами читатели» (Там же. С. 419-420).
889 Имеется в виду периодический сборник «L'Université catholique, recueil
religieux, philosophique, scientifique et littéraire», основанный: в 1836 г.
католическими публицистами О. Ф. Жербэ, Л. А. де Салинисом и
Ш. де Монталамбером (в 1838 г. к ним присоединился О. Боннетти).
В 15-м номере «Телескопа» за 1836 г. появился обширный материал,
посвященный этому изданию: «Университет на бумаге, без чтений, без
классов, без студентов» (Телескоп. 1836. № 15. С. 390-418). В статье, в
частности, говорилось: «Новое любопытное явление в литературно-ученом
мире представляет, основанный в нынешнем году, в Париже, журнал,
под именем "Католического Университета" (l'Université Catholique)*.
<...> Журнал этот имеет целью заменить для Франции действительный
университет, в котором бы высшее преподавание наук основывалось на
928
религиозно-католических началах, проникнуто было христианским
духом» (Там же. С. 390; примечание «*»: «Известие о выходе этого журнала
было помещено в "Молве" № 4»). Позже, 1 марта 1842 г., А. И. Тургенев
писал об этом издании К. С. Сербиновичу: «Вообще l'Univ. Cathol. хотя
и враждует Российской церкви, но в нем много замечательных статей о
других предметах и лекции Бельгийских католических профессоров»
(Русская старина. 1882. № 4. С 190).
890 Надеждин имел в виду статью «Мнение иностранца о русском
правлении. Лондон, 1 июля» (Телескоп. 1836. № 15. С. 384-389),
сопровожденную следующим издательским примечанием: «Заимствовано из
любопытной книги Раумера "England im Jahre 1835" (Англия в 1835
году), возбудившей внимание всей просвещенной Европы. Изд.». Статья
содержала следующую оценку благосостояния России, которой близки
отдельные тезисы ответов Надеждина Чаадаеву: «В некоторых
отношениях Русские теперь счастливее многих народов Европы: они имеют
именно такую конституцию, какая им нужна. Как конституцию?
воскликнут многие; да у них нет никакой конституции! — Конечно у них
нет ни камер, ни форм избирательных, ни положения отделяющего
состояния для избирателей, ни правой, ни левой стороны, ни средней
партии, ни правого, ни левого центра; но у них есть (что требуется в
политике, точно так же как и в математике) свой центр, и этот центр
их император! Учреждение совещательного сейма, составление
общего законоположения, одной церкви для всей Российской Империи и
для всех ее народов, все это и подобное тому безумно и невозможно.
Формы других старейших и простейших государств для этой
разнообразной массы народов, религий, степеней образования и т. д.
неприменимы. Чтобы связать это разнородное целое необходим один муж, и
этот муж является в полном смысле этого слова по телу и духу в особе
царствующего Императора» (Там же. С. 384-385). Заканчивался
фрагмент Раумера следующими тезисами, не совсем согласными с
основными положениями первого «Философического письма»: «Народ (это
доказала французская революция), отказывающий в уважении своим
предшественникам, будет отброшен и сам как растение, не имеющее
корня; народ, который живет только в прошедшем, превратится, как
Лотова жена, в соляную статую...» (Там же. С. 389).
891 См. комм. 887-890.
892 Чаадаев передал «Философические письма» в Петербург с сотрудником
Уварова кн. Э. П. Мещерским.
Комментарии
929
893 «Следствие» со стороны С. Г. Строганова, о котором пишет Надеждин,
началось ок. 12 октября 1836 г.
894 Карандашом рукой Уварова: «посмотреть, нет ли в бумагах Чадаева».
895 Сбоку карандашом рукой Уварова: «Это дозволено Уставом для
журналов».
896 Сбоку карандашом рукой Уварова: «не согласно с Болд<ыревым>».
897 А. В. Болдырев начал цензурировать «Телескоп» с 10 номера за 1833 г.
и далее разрешал к печати все тома журнала, кроме: № 29-32 за 1834 г.
(цензор Н. Лазарев), № 6 за 1835 г. (цензор Д. Перевощиков).
898 Сбоку карандашом рукой Уварова: «Не согласно с Болдыр<евым>».
899 Сбоку карандашом рукой Уварова: «То же».
900 Сбоку карандашом рукой Уварова: «Правда».
901 Московские ведомости. 1836 (3 октября). № 80. С. 1612.
902 Подробнее о цензурной истории 15-го номера «Телескопа» за 1836 г.
см.: ВелижевМ. «L'affaire du Télescope»: к цензурной истории 15-го
номера «Телескопа» за 1836 год. С. 226-233.
903 Сбоку карандашом рукой Уварова: «?».
904 Сбоку карандашом рукой Уварова: «ложно».
905 Чаадаев получил 25 оттисков первого «Философического письма»,
опубликованного в 15 номере «Телескопа». О том, кому именно они были
направлены, см. ответы Чаадаева в наст, изд., с. 637.
906 Сбоку карандашом рукой Уварова: «это все находится в катехизисе. Что
именно имеет в виду?».
907 Сбоку карандашом рукой Уварова: «т. е. католическою».
908 Имеется в виду уваровская триада «православие, самодержавие,
народность», легшая в основу курса истории, предназначенного для средних
учебных заведений (1835-1836 гг.).
909 О визитации Надеждиным провинциальных (рязанских, тверских,
тульских) низших и средних учебных заведений в 1833-1834 гг. см.: Коз-
мин Н. К. Николай Иванович Надеждин. С. 360-361. «Отчеты Надеждина
[о визитациях. — М. В.] вместе с одобрительными отзывами о них
училищного комитета были представлены чрез попечителя [С. М.
Голицына. — М. В.] министру. И даже неблаговоливший к визитатору
Уваров, ознакомившись с ними, был вынужден дважды объявить ему свою
признательность и выхлопотать денежную награду в размере тысячи
рублей» (Там же. С. 361).
910 Об отношении Чаадаева к английской политической системе см. в
первом и втором «Философических письмах», а также комм. 39-
930
911 Имеется в виду испанский инфант из династии Бурбонов Дон Карлос
Старший (Дон Карлос Мариа Исидро де Бурбон) (1788-1855). В 1833 г.
умер сю старший брат, испанский король Фердинанд VII, а на престол,
по «прагматической санкции» 1830 г., отменявшей салический закон
престолонаследия в Испании, вступила его трехлетняя племянница
Изабелла II (дочь Фердинанда VII, регентом была объявлена королева
Мария Кристина, жена Фердинанда VII). Оспаривая права Изабеллы на
престол, Дон Карлос объявил себя королем Карлом V и начал так
называемую «карлистскую» войну за признание его монарших прав
(продолжалась до 1839 г. и закончилась поражением Дона Карлоса). Дона
Карлоса, в частности, поддерживали местные правые католические
круги, а также ряд европейских держав, среди которых и Россия.
912 О книге Раумера см. комм. 890.
913 Сбоку карандашом рукой Уварова: «только?».
914 Имеется в виду учеба Надеждина в высшем классе Рязанского уездного
духовного училища, а затем духовной семинарии, в 1815-1820 гг.
915 Надеждин дебютировал в «Вестнике Европы» Каченовского в 1828 г.
в качестве поэта, переводчика, философа-эстетика и критика. В 21—
22 номерах журнала за 1828 г. появилась статья Надеждина
«Литературные опасения за будущий год», подписанная, как и его
последующие статьи 1829 г., «Экс-студент Никодим Надоумко». Как отмечает
Ю. В. Манн, этот псевдоним создал «образ критика — ехидного и
бранчливого забияки и одновременно книгочея и эрудита, не признающего
авторитетов и готового сказать самую горькую правду. Главным объектом
нападений Надеждина явился романтизм, трактуемый главным образом как
тяготение к экстравагантности и аффектации во всем — и в выборе
художественных коллизий (кровавая месть, супружеские измены, убийства из
ревности, словом, всяческая "романтическая стукотня и резня" — о поэме
А. И. Подолинского "Борский"...), и в характере стиля (фрагментарность
и разорванность сюжетной линии, сознательно демонстрируемая
случайность и импровизационность повествования); при этом не делалось
исключения ни для У. Шекспира и П. Кальдерона, ни для А. С. Пушкина,
Е. А. Боратынского, В. Гюго и Байрона, "зловещего светила" европейской
поэзии» (Манн Ю. В. Надеждин Николай Иванович // Русские писатели.
1800-1917. Биографический словарь. Т. 4. М, 1999. С. 206-207).
916 Подробнее о литературных полемиках вокруг статей Надеждина в
«Вестнике Европы» см.: Козмин К К. Николай Иванович Надеждин.
С. 106-130.
Комментарии
931
917 Журнал «Вестник Европы», издававшийся М. Т. Каченовским, перестал
выходить в 1830 г.
918 Сбоку карандашом рукой Уварова: «с сим не могу согласиться, ибо г.
Надеждин должен помнить мои словесные с ним объяснения в 1833 году,
о чем и доложено было тогда же Государю Императору». О внимании
Николая I к «Телескопу» см.: Кожин Н. К. Николай Иванович Надеждин.
С. 436. В 1832 г. произошел конфликт между президентом Академии
наук С. С. Уваровым и Надеждиным: Уваров жаловался министру
народного просвещения К А. Ливену на выходки Надеждина против Академии
(Там же. С. 438).
919 Голицын Сергей Михайлович (1774-1859) — попечитель
Московского учебного округа и председатель Московского цензурного комитета
в 1830-1835 гг. (сводку данных о нем см.: Петров Ф. А Формирование
системы университетского образования в России. Т. 3. С. 395). В «деле о
запрещении "Телескопа"» в архиве С. С. Уварова сохранилось письмо к
Голицыну А. В. Болдырева от 8 декабря 1836 г. с просьбой о ходатайстве в его
пользу перед Николаем I (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. up. 40. Л. 40-40 об.).
920 Как отметил Н. К Козмин, «ревнитель просвещения и мирного
прогресса, Надеждин был, вместе с тем, горячим патриотом. Правда, его
патриотизм называли "квасным", его обвиняли в желании подслужиться
правительству...» (Там же. С. 377). Надеждин, в частности, поддержал
подавление польского восстания 1830-1831 гг.
921 М. К. Лемке усомнился в справедливости утверждения Надеждина:
«Неясно. Надеждин нападал не на "квасной патриотизм", которого сам был
представителем, а на Полевого, заклеймившего этим определенным
термином цикл понятий» (Лемке, 433). О полемике Надеждина с
Полевым в начале 1830-х гг. см.: Козмин К К. Николай Иванович Надеждин.
С. 449-452.
922 Сбоку карандашом рукою Уварова: «с 1832».
923 В 1831 г. Надеждин, занимая должность ординарного профессора
теории изящных искусств и археологии, получил также место
преподавателя логики, российской словесности и мифологии в Московской
театральной школе. С 1834 г. преподавал логику для студентов первых
курсов, был членом Училищного комитета Московского университета,
участвовал в инспектировании низших и средних учебных заведений
Московского учебного округа.
924 В заграничное путешествие Надеждин отправился в июне 1835 г. Он
посетил Гамбург, Гёттинген, Кельн, Бонн, Франкфурт-на-Майне, Страс-
бург, Париж, затем проследовал в Швейцарию, Италию, Австрию и через
Одессу и Крым возвратился в Москву в декабре 1835 г. Основной
причиной поездки увлеченного Е. В. Сухово-Кобылиной Надеждина было
расстройство его матримониальных планов.
«Официально Телескоп переходил в руки Белинского, получавшего за
то годовой оклад до 3000 рублей. О перемене, происшедшей в
составе редакции, Надеждин уведомил местное начальство. В донесении на
имя председателя Московского цензурного комитета [т. е. С. М.
Голицына. — М. Я], Надеждин писал, что "долг перед публикою обязывает его
окончить издание журналов, на которые была собрана уже подписка";
что "он распорядился, чтобы оные и в отсутствие его, выходили в свое
время", и что с этой целию "оставляется им временная редакция, в коей
производство дел поручено живущему в Москве дворянину
Белинскому, к которому он и просит комитет обращаться в случае сообщения
каковых либо приказаний". — Донесение Надеждина постигла неудача:
комитет не решился "принимать на свое рассмотрение и одобрение к
печатанию корректурные листы" Телескопа, без особого разрешения
Главного Управления Цензуры. Этого разрешения Надеждину не
суждено было дождаться в Москве: оно последовало лишь в половине июля
[1835 г. — М. Я]; а до тех пор "печатание статей, назначенных к
помещению в журнале", было приостановлено, что было весьма неприятно
издателю, так как вызывало справедливый ропот подписчиков» {Коз-
мин Н. К. Николай Иванович Надеждин. С. 495; курсив автора).
В статье «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности»
Надеждин писал: «Многие под народностью литературного духа
понимают одни наружные формы русского быта, сохраняющиеся теперь
только в простонародии, в низших классах общества. <...> ...народность,
которой я требую, имеет гораздо обширнейшее значение. Под
народностью я разумею совокупность всех свойств, наружных и внутренних,
физических и духовных, умственных и нравственных, из которых
слагается физиономия русского человека, отличающая его от всех прочих
людей — европейцев столько ж, как и азиатцев. <...> Русской ум имеет
свой особый сгиб... У нас стремление к европеизму подавляет всякое
уважение, всякое даже внимание к тому, что именно русское, народное.
<...> Если мы хотим в самом деле быть европейцами, походить на них
не одним только платьем и наружными приемами, то нам должно
начать тем, чтобы выучиться у них уважать себя, дорожить своей
личностью сколько-нибудь... Заключаю мое длинное рассуждение следующим
Комментарии
933
результатом: "Литература у нас есть; есть и литературная жизнь; но ее
развитие стесняется односторонностью подражательного
направления, убивающего народность, без которой не может быть полной
литературной жизни!" <...> В основании нашему просвещению положены
православие, самодержавие и народность. Эти три понятия можно
сократить в одно, относительно литературы. Будь только наша
словесность народною: она будет православна и самодержавна^ (Впервые:
Телескоп. 1836. № 1-2. Цит. по: Надеждин Н. И. Литературная критика.
Эстетика. М., 1972. С. 440-441,443-444; курсив автора; об отсутствии в
России литературного языка см.: С. 417).
927 Сбоку карандашом рукой Уварова: «!»
928 Надеждин замечал: «Да и что такое Европа — Европа? Кто-то раз шутя
говорил, что он хочет переделать географию и разделить землю не на
пять, а на шесть частей: Европу, Азию, Африку, Америку, Океанию и
Россию. Эта шутка для меня имеет в себе много истины. В самом деле, наше
отечество, по своей беспредельной обширности... по своему
физическому разнообразию... по разнообразию своих жителей... — наше отечество,
говорю, имеет полное право быть особенною, самобытною,
самостоятельною частью вселенной. <...> Знаю, что теперь нам надо еще учиться
да учиться у Европы; но не с тем, чтобы потерять свою личность, а чтоб
укрепить ее, возвысить! Древняя Греция также училась у Азии и долго
была под наукой; но она не сделалась Азией, напротив, сама покорила,
цивилизовала Азию!» (Там же. С. 442-443; курсив автора).
929 Сбоку карандашом рукой Уварова: «как согласить это с письмом
Чаадаева?»
930 Сбоку карандашом рукой Уварова: «коварно».
931 Сбоку карандашом рукой Уварова: «прекрасно!»
932 Имеется в виду третье «Философическое письмо».
933 См., например: «...у нас с недавнего только времени распространяется
эта мысль [о необходимости среднего класса. — М. Я], и
распространением ее мы обязаны заботливому правительству, которое снисходя к
народу, худо приготовленному, постоянно направляет его к
образованию, трудолюбию, деятельности, наставлением, поощрением,
наградами... эта ярмонка должна остаться в памяти России, сколько потому что
Государь удостоил ее своим посещением, столько и потому, что на ней
державною рукой брошено первое зерно дела великого: это компания
Азиатской торговли, которая бы, обняв всю соседку нашу Азию,
проникла от Оренбурга до Калькутты, от Тифлиса до Индии, и сменила бы на
934
рынках Азии европейцев, переплывающих океаны для торговли, тогда
как мы можем пешком идти с нею». (Б. В. Письмо из Нижнего // Молва.
1836. Приложение к № 14 «Телескопа». С. 46,47. Цензурное разрешение:
13 сентября 1836 г.).
934 См. рецензию Надеждина на «Письма о богослужении Восточной
Церкви» Муравьева (СПб., 1836) в: Молва. 1836. Приложение к № 14
«Телескопа». С. 50-55. Цензурное разрешение: 13 сентября 1836 г.
935 Сбоку карандашом рукой Уварова: «Семинарист и Профессор!».
936 Во второй главе второго тома «Истории государства Российского»
Карамзин рассказывал о походе новгородского князя Владимира Яро-
славича на Константинополь в 1043 г.: после победы над
императором Константином Мономахом, воевода Ярослава, «великодушный, но
несчастный Вышата сразился в Болгарии, у города Варны, с сильным
Греческим войском: большая часть его дружинников легла на месте.
В Константинополь привели 800 окованных Россиян и самого Вышату:
Император велел их ослепить! <...> Чрез три года Великий Князь
[Ярослав Мудрый. — М. В.] заключил мир с Империею, и пленники
Российские, бесчеловечно лишенные зрения, возвратились в Киев» (впервые
в 1818 г., цит. по.: Карамзин К М. История государства Российского:
В 12 т. Т. II—III. M., 1991. С. 22-23). В дальнейшем ослепление
политических противников часто использовалось на Руси (например, в случае с
Василько Ростиславичем, Василием Косым или Василием Темным).
937 Сбоку карандашом рукой Уварова: «неправда».
938 Текст примечания см. в настоящем издании, с. 657.
939 Как известно, Надеждин был прав. Ошибочно атрибутированный
И. С. Гагариным как «Четвертое Философическое письмо», отрывок
«О зодчестве» фигурировал под таким названием вплоть до 1935 г.,
когда Д. И. Шаховской доказал его непричастность к циклу
«Философических писем».
940 Сбоку карандашом рукой Уварова: «против этого мог бы я сказать
многое».
941 Дед и отец Надеждина были священниками в белоомутской
Преображенской церкви (Зарайского уезда Рязанской губернии). В 1815 г. Надеждин
был зачислен в высший класс Рязанского уездного духовного училища,
в 1816 г. переведен в местную семинарию. В 1820 г. рекомендован в
Московскую духовную академию, из которой был выпущен в звании
магистра в 1824 г. С осени 1824 г. по осень 1826 г. Надеждин исполнял
должность профессора словесности и немецкого (позже и латинского) языка
Комментарии
935
в Рязанской семинарии. В октябре 1826 г. уволился из духовного
звания и затем переселился в Москву, где стал домашним учителем в доме
Ф. С. и С. Ю. Самариных (в частности, занимался обучением Ю. Ф.
Самарина) и пользовался их богатой домашней библиотекой. В апреле 1830 г.
с помощью М. Т. Каченовского Надеждин защитил в Московском
университете диссертацию «О происхождении, природе и судьбах поэзии,
называемой романтической» на степень доктора словесных наук (минуя
магистерскую). В конце декабря 1831 г. утвержден ординарным
профессором теории изящных искусств и археологии Московского
университета (см.: Манн Ю. В. Надеждин Николай Иванович // Русские писатели.
1800-1917. Биографический словарь. Т. 4. С. 206-213).
942 Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 881. Л. 21-21 об.
Собственноручные. Частично опубликовано М. К. Лемке: Мир Божий. 1905.
№ 11. Отдел первый. С. 140, 153-154 (затем воспроизведено в: Лемке,
428,440-441).
943 Андросов Василий Петрович (1803-1841) — выпускник
Московского университета, чиновник особых поручений при Д. В. Голицыне, в
i 827-1829 гг. — преподаватель географии и статистики в Московской
земледельческой школе, сотрудник «Московского вестника» и издатель
«Московского наблюдателя» (1835-1837), автор многих работ по
статистике. См.: Охотин Н. Г. Андросов Василий Петрович // Русские
писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т. 1. М, 1989. С. 73-74.
944 Опровержение Чаадаевым данного свидетельства В. П. Андросова в его
письме к А. И. Тургеневу от ноября 1836 г. см. в наст, изд., с. 434.
945 Сведения о подобном объяснении Надеждиным своего стремления к
публикации перевода первого «Философического письма»
распространились в обществе. См., например: «Цензор статьи Чаадаева был отставлен
и лишен профессорства. Журналист Надеждин сослан в Устьсысольск,
самый дальний городишко Вологодской губернии. Ему не помогло его
хитрое оправдание. Вот как передавались тогда ответы Надеждина на
запрос, почему он перевел и напечатал статью Чаадаева, прибавив еще
к ней примечания, где назван был автор статьи великим мыслителем и
где обещано было помещение в следующем году других его статей.
Надеждин отвечал будто таю "Журнал мой не мог с успехом продолжаться
по малому числу подписчиков. Из двух одно: или статья Чаадаева
пройдет благополучно и приобретет мне с новым годом новых подписчиков,
или журнал за нее запретят. В последнем случае, прекращая неудачное
издание, я выигрывал в общественном мнении; в первом у меня бу-
дет от журнала барыш, а не убыток". Дилемма не удалась. Остроумно-
расчетливый издатель не предвидел ссылки» (СвербеевД. К
Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве. С. 395-396).
946 25 октября 1836 г. Строганов сообщал Московскому цензурному
комитету волю министра народного просвещения Уварова (в отношении от
20 октября 1836 г.): «...не позволять в периодических изданиях ничего,
относящегося к напечатанной в № 15 Телескопа статье:
Философические письма, ни в повторение, ни в похвалу ее» (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2.
Ед. хр. 98. Л. 2; черновое).
947 Статью Надеждина «В чем состоит народная гордость?» см. в наст,
изд., с. 576-580.
948 В своих письмах из ссылки Надеждин часто объяснял все
произошедшее с ним после выхода в свет 15 номера «Телескопа» именно «Божьим
гневом» и волей «судьбы». См., например, письмо Надеждина к М. П.
Погодину от 30 июня 1837 г. из Великого Устюга: «Нет, любезный мой
Мих[аил] Петрович! я чувствую, что моя внешняя жизнь кончилась: "Ite
missa est!" — прокричала мне судьба. Отныне я перестал существовать
для настоящего и будущего» (Письма Н. И. Надеждина к М. П. Погодину /
Публикация Л. А. Ирсетской // Государственная ордена Ленина
библиотека СССР имени В. И. Ленина. Записки Отдела рукописей. Вып. 39. М.,
1978. С. 193; Ite missa est <condo> — «идите, месса окончена» (лат.),
этой литургической формулой оканчивалось богослужение в
древнехристианской церкви, использовалась также в финале католической
мессы, после благословления).
949 Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93- Оп. 3. № 881. Л. 23-24 об.
Писарский вопрос и собственноручный ответ Надеждина.
950 См. комм. 951.
951 По всей видимости, речь идет о критическом отзыве Надеждина на:
«Речи, произнесенные в торжественном собрании ИМПЕРАТОРСКОГО
Московского Университета, 9 июня 1836. Москва в университетской
типографии. 120. (4)». В своей статье Надеждин так критиковал речь
(на латинском языке) профессора древней истории Московского
университета Д. Л. Крюкова «de Quinti Curtii Rufi aetate» («О времени, в
котором жил Квинт Курций Руф»): «Эта публика [просвещенная. — М. В.]
желала бы знать: какую особенную важность имеет Курций, чтобы
время его существования могло быть предметом такого торжественного
исследования; в каком отношении находится он к древней латинской
словесности; что за дух и характер его единственного, и то не вполне
Комментарии
937
до нас дошедшего, сочинения; какую степень занимает оно в
исторической литературе римлян; к каким результатам должно вести
относительно умственного и литературного возраста своей эпохи; какое
может иметь употребление ныне; в трудах историков и филологов?»4
(Телескоп. 1836. № 9. С. 131. Цензурное разрешение: 15 июня 1836 г.).
Далее Надеждин уточнил, что исследование о Курции может быть
актуально для современной науки, однако требует подробного
обоснования (чего Крюков не сделал). Затем критик перешел к утверждению
Крюкова о том, что «обыкновение говорить с ученой кафедры "об
идеях общих", действовать на "воображение и чувство" слушателей» есть
«французское безумие». Надеждин на нескольких страницах защищал
французскую и, шире, европейскую науку от нападок со стороны
Крюкова (Там же. С. 134-138), что, возможно, и послужило поводом для
упреков со стороны Строганова.
952 Свидание Строганова и Болдырева состоялось вечером 12 октября 1836 г.
Таким образом, если верить словам Надеждина, его последняя перед
отъездом в Петербург встреча с попечителем Московского учебного округа
имела место ок. 19 октября 1836 г.
953 Об атаках С. С. Уварова на журнал «Московский наблюдатель» в сентябре
1836 г. см., например, письмо Строганова к С. С. Уварову от 5 октября
1836 г.: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 101-102 об.
954 Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 881. Л. 27-28.
Писарские вопросы и собственноручные ответы Надеждина. Частично
опубликовано М. К. Лемке: Мир Божий. 1905. № 11. Отдел первый. С. 142
(затем воспроизведено в: Лемке, 429).
955 См. письма А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от октября-ноября 1836 г.
в настоящем издании.
956 Надеждин писал в отзыве о первой книжке «Современника»: «Самые
дурные статьи, это — "о Рифме" барона Розена и "Париж", этот род
записки, писанной к приятелю на разных лоскутках, без всякой связи и
занимательности, дурным языком» (Молва. 1836. Приложение к № 7
«Телескопа». С. 171-172; цензурное разрешение — 31 апреля 1836 г.).
О сотрудничестве А. И. Тургенева в «Современнике» Пушкина и реакции
пушкинского круга на письма Тургенева из Европы см.: Азадовский К. М.
Старые европейские комеражи (Несостоявшаяся «Хроника» А. И.
Тургенева) // Звезда. 1999. № 6. С. 93-102.
957 Подробнее см. комм. 918.
958 О чем именно идет речь, установить не удалось.
938
959 Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 881. Л. 25-26.
Писарское. Впервые опубликовано (по оригиналу, сохранившемуся в архиве
московского военного генерал-губернатора) В. Саповым и Л. Саповой:
Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 80. Текст отношения А. X.
Бенкендорфа к Д. В. Голицыну см.: Там же. С. 79-
960 О разговорах Чаадаева со Строгановым в конце октября — начале
ноября 1836 г. см. комм. 468.
961 Имеется в виду разговор Чаадаева с Л. М. Цынским 1 ноября 1836 г.
962 Василий Петрович Барышников, участник русско-польской войны
1830-1831 гг., полковник Семеновского полка, управляющий секретным
отделением канцелярии московского военного генерал-губернатора
Д. В. Голицына («по особым поручениям»).
963 печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 881. Л. 19-19 об.
Собственноручные. Надпись карандашом: «От Надеждина». Впервые:
Вестник Европы. 1871. № 11. С. 329-330. Копия из дела о запрещении
«Телескопа» в канцелярии московского военного генерал-губернатора
опубликована в: Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 86-87. Ответы
Чаадаева отправились в Петербург из канцелярии Д. В. Голицына 26 ноября
1836 г. (Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 85).
964 Беспокойство Надеждина подтверждается его письмом В. Г. Белинскому
от 12 октября 1836 г.: «Я нахожусь в большом страхе. Письмо 4<аадаева>,
помещенное в 15 книжке, возбудило ужасный гвалт в Москве, благодаря
подлецам-наблюдателям. Эти добрые люди с первого раза затрубили об
нем, как о неслыханном преступлении, и все гостиные им завторили. Ужас,
что говорят. Андросов бился об заклад, что к 20 октября "Телескоп" будет
запрещен, я посажен в крепость, а цензор отставлен: и все "светские"
повторяют: "Да! Это должно быть так непременно"» (Октан Ю. Переписка
Белинского. Критико-библиографический обзор // Литературное
наследство. Т. 56: В. Г. Белинский. Кн. 2. М., 1950. С 232; позже М. П. Погодин
зафиксировал в своем дневнике остроту Андросова (запись от 6 января
1837 г.): «Надеждин въехал в Университет на Каченовском, а выехал на
Болдыреве» (Барсуков К П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 4. С. 388).
965 Знакомство Чаадаева с Бенкендорфом (по масонским связям)
состоялось в середине 1810-х гг. в Петербурге. См. комм. 8 к вступительной
статье в настоящем издании.
966 Имеется в виду князь Михаил Петрович Голицын (1764 — после 1836),
действительный тайный советник (с 1796 г.), камергер, известный
московский библиофил.
Комментарии
939
967 Речь идет о статском советнике (с 1822 г.) Карле Ивановиче Янише
(1776-1854), враче, бывшем ординарном профессоре Московской
медико-хирургической академии (в отставке с 1833 г.), отце поэтессы
Каролины Павловой.
968 Вписано между строк.
969 печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 881. Л. 29-30 об.
Писарские вопросы (подписанные: Сергий Уваров) и собственноручные
ответы Болдырева. В верхнем левом углу: А, Чуть ниже: 5 Ноября. О
вопросных пунктах Болдыреву кратко упомянул М. К. Лемке: Мир Божий.
1905. № 11. Отдел первый. С. 156-157; Лемке, 443.0 цензурной истории
15-го номера «Телескопа» за 1836 г. подробнее см.: ВелижевМ. «L'affaire
du Télescope»: к цензурной истории 15-го номера «Телескопа» за
1836 год. С. 226-233.
970 Зачеркнуто: «их» [т. е. «Философических писем». - М. В.].
971 5 ноября 1836 г. управляющий Департаментом народного
просвещения кн. П. А. Ширинский-Шихматов писал Уварову: «По приказания
Вашего Высокопревосходительства, я занимался сегодня с г. Болдыревым
наедине с 10 часов утра до часа по полудни. Сначала я расспросил его
словесно о всех обстоятельствах дела, не объявляя о вопросных
статьях, и потом уже предложил ему оные с требованием ответов. Когда
это было им исполнено, я просил его пополнить некоторые из них
согласно с бывшим прежде разговором, что он и сделал. К ответу на
6-й вопрос он обещал сегодня же представить особую записку по
справке с печатною статьею Телескопа, а ответ на 11-й пункт просил
дозволения отложить на время, за усталостию и изнеможением.
Прикажете ли дозволить ему заняться этим ответом и запискою на
квартире, и для того снабдить его бумагою и чернилами?» (ОПИ ГИМ. Ф. 17.
Оп. 1.Ед.хр.81.Л.2б4).
972 Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 881. Л. 31-32 об.
Собственноручный. В правом верхнем углу писарским почерком: 6 ноября.
973 Возможно, именно такая стратегия оправдания (с упором на сложность
ректорских занятий, мешавших исполнению должности цензора) была
подсказана Болдыреву С. Г. Строгановым во время их свидания 12
октября 1836 г. См. письмо Строганова Д. П. Голохвастову от 12 октября 1836 г.
в настоящем издании, с. 505. Сомнения в возможности одновременно
исполнять все возложенные на него должности Болдырев высказывал
и ранее, например в ходе обсуждения в Московском университете
Университетского устава 1835 г.: «Обязанности Ректора многочисленны и
940
весьма трудны для точного исполнения. Сверх Профессорской
должности, он обязан председательствовать в Совете, в Правлении, Училищном
Комитете, в других временных Комитетах, при приеме и выпуске
Студентов и пр. Сверх того отвечает за благочиние во всех частях, за внутренний
порядок Университета, за сохранение и исполнение Уставов и
предписаний Министра и Попечителя, равным образом за исправление
должности всеми и каждым из находящихся при Университете и подлежащих
его управлению. — Исполнять все сии обязанности с совершенною точ-
ностию едва ли достанет сил одного человека» (ОПИ ГИМ. Ф. 404. Оп. 1.
Ед. хр. 21. Л. 3; см. также: Петров Ф. А Формирование системы
университетского образования в России. Т. 3. С. 397-398).
974 Прошение об открытии пансиона «для благородных детей мужеского
пола» ординарный профессор Московского университета Болдырев
подал в училищный комитет 13 ноября 1818 г. В пансионе должны были
преподаваться: закон Божий, история и география, математика, физика
и натуральная история, языки: российский, латинский, французский,
немецкий, английский, чистописание, рисование, танцы, фехтование. Плату
за каждого пансионера Болдырев назначил 1500 рублей в год. Разрешение
и соответствующее свидетельство на открытие пансиона Болдырев
получил 18 декабря 1818 г. (см.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 73. Ед. хр. 1876. Л. 1-9).
975 Согласно черновому аттестату Болдырева 1836 г. он «в походах,
штрафах и под судом не был; к продолжению статской службы и к
повышению чина аттестовался способным и достойным» (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2.
Ед.хр. 186а. Л. И).
976 <Впрочем, что ж> тут удивительного? Это естественное следствие
настоящего порядка вещей, которому покорены все сердца, все умы.
Вы уступили только влиянию причин, движущих всеми, начиная с
самых высших членов общества до самых низших. И вы не могли
воспроти<виться их влияниюХ
977 Лдя всех народов бывает период сильной, страстной, бессознательной
деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом. Это время
великих страстей, великих ощущений. Народы движутся в то время сильно,
без видимой причины; но не без пользы для будущих поколений. Все
обще<ства проходили чрез этот период>.
978 <Мы не имеем ничего по>добного. В самом начале у нас дикое
варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унизительное владычество
завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не
изгладились совсем и доныне. Вот горестная история нашей юно<сти>.
Комментарии
941
979 Еслиж иногда и принимаем в чем участие, то не от желания, не с целию
достигнуть истинного, существенно нужного и приличного нам блага; а
по детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает
руки к гремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни смысла
ее, ни употребления. Истинное общественное развитие не начиналось
еще для народа>
980 <...мы соединялись с целым человечеством. Нам должно молотами
вбивать в голову то, что у других народов сделалось привычкою,
инстинктом. Наши воспоминания не да<лее вчерашнего дня>
981 ...по милости этой-то беспечной отваги, у нас и в высших классах, к
прискорбию, существуют пороки, которые в других странах принадлежат
только нисшим; не замечают, что имея неко<торые из добродетелей
народов юных...>
982 Массы находятся под влиянием особенного рода сил, развивающихся
в избранных членах общества. Массы сами не думают; посреди их есть
мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное
разумение нации, и заставляют ее двигаться <вперед>
983 <...где наши мудрецы, на>ши мыслители? Когда и кто думал за нас, кто
думает в настоящее время?
984 <домой?> Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые
отодвинули нас назад еще на полстолетие. Не знаю, в крови у нас <есть
что-то отталкивающее...>
985 Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного
и умственного просвещения, у растленной, презираемой всеми
народами, Византии. Мелкая суетность только-что оторвала ее от всемирного
братства; и мы приняли от нее идею, искажен<ную>...
986 <искажен>ную человеческою страстию. В это время... <объединить
че>ловеческую мысль; всякое побуждение проявлялось могучею
потребностью отыскать одну всемирную идею: это самое и составляет дух
новейших времен. Чуждые <этому дивному началу...>
987 После этого, скажите, справедливо-ли у нас почти общее
предположение, что мы можем усвоить европейское просвещение, развивавшееся
так медленно, и притом под прямым и очевидным влиянием одной
нравственной силы, сразу, даже не затрудняясь разысканием, как это
делалось?
988 По-этому необходимо должен быть особенный круг идей, где должны
двигаться умы общества, в котором должна достигаться эта конечная
цель, то-есть где возбужденная мысль должна созреть и достигнуть всей
весьма трудны для точного исполнения. Сверх Профессорской
должности, он обязан председательствовать в Совете, в Правлении, Училищном
Комитете, в других временных Комитетах, при приеме и выпуске
Студентов и пр. Сверх того отвечает за благочиние во всех частях, за внутренний
порядок Университета, за сохранение и исполнение Уставов и
предписаний Министра и Попечителя, равным образом за исправление
должности всеми и каждым из находящихся при Университете и подлежащих
его управлению. — Исполнять все сии обязанности с совершенною точ-
ностию едва ли достанет сил одного человека» (ОПИ ГИМ. Ф. 404. Оп. 1.
Ед. хр. 21. Л. 3; см. также: Петров Ф. А Формирование системы
университетского образования в России. Т. 3. С. 397-398).
974 Прошение об открытии пансиона «для благородных детей мужеского
пола» ординарный профессор Московского университета Болдырев
подал в училищный комитет 13 ноября 1818 г. В пансионе должны были
преподаваться: закон Божий, история и география, математика, физика
и натуральная история, языки: российский, латинский, французский,
немецкий, английский, чистописание, рисование, танцы, фехтование. Плату
за каждого пансионера Болдырев назначил 1500 рублей в год. Разрешение
и соответствующее свидетельство на открытие пансиона Болдырев
получил 18 декабря 1818 г. (см.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 73. Цд. хр. 1876. Л. 1-9).
975 Согласно черновому аттестату Болдырева 1836 г. он «в походах,
штрафах и под судом не был; к продолжению статской службы и к
повышению чина аттестовался способным и достойным» (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2.
Ед. хр. 186а. Л. 11).
976 <Впрочем, что ж> тут удивительного? Это естественное следствие
настоящего порядка вещей, которому покорены все сердца, все умы.
Вы уступили только влиянию причин, движущих всеми, начиная с
самых высших членов общества до самых низших. И вы не могли
воспроти<виться их влиянию>.
977 Для всех народов бывает период сильной, страстной, бессознательной
деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом. Это время
великих страстей, великих ощущений. Народы движутся в то время сильно,
без видимой причины; но не без пользы для будущих поколений. Все
обще<ства проходили чрез этот период>.
978 <Мы не имеем ничего по>добного. В самом начале у нас дикое
варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унизительное владычество
завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не
изгладились совсем и доныне. Вот горестная история нашей юно<сти>.
Комментарии
941
979 Еслиж иногда и принимаем в чем участие, то не от желания, не с целию
достигнуть истинного, существенно нужного и приличного нам блага; а
по детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает
руки к гремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни смысла
ее, ни употребления. Истинное общественное развитие не начиналось
еще для народа>
980 <...мы соединялись с целым человече>ством. Нам должно молотами
вбивать в голову то, что у других народов сделалось привычкою,
инстинктом. Наши воспоминания не да<лее вчерашнего дня>
981 ...по милости этой-то беспечной отваги, у нас и в высших классах, к
прискорбию, существуют пороки, которые в других странах принадлежат
только нисшим; не замечают, что имея неко<торые из добродетелей
народов юных...>
982 Массы находятся под влиянием особенного рода сил, развивающихся
в избранных членах общества. Массы сами не думают; посреди их есть
мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное
разумение нации, и заставляют ее двигаться <вперед>
983 <...где наши мудрецы, на>ши мыслители? Когда и кто думал за нас, кто
думает в настоящее время?
984 <домой?> Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые
отодвинули нас назад еще на полстолетие. Не знаю, в крови у нас <есть
что-то отталкивающее...>
985 Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного
и умственного просвещения, у растленной, презираемой всеми
народами, Византии. Мелкая суетность только-что оторвала ее от всемирного
братства; и мы приняли от нее идею, искажен<ную>...
986 <искажен>ную человеческою страстию. В это время... <объединить
че>ловеческую мысль; всякое побуждение проявлялось могучею
потребностью отыскать одну всемирную идею: это самое и составляет дух
новейших времен. Чуждые <этому дивному началу...>
987 После этого, скажите, справедливо-ли у нас почти общее
предположение, что мы можем усвоить европейское просвещение, развивавшееся
так медленно, и притом под прямым и очевидным влиянием одной
нравственной силы, сразу, даже не затрудняясь разысканием, как это
делалось?
988 По-этому необходимо должен быть особенный круг идей, где должны
двигаться умы общества, в котором должна достигаться эта конечная
цель, то-есть где возбужденная мысль должна созреть и достигнуть всей
942
полноты своей. Этот круг идей, эта нравственная сфера дают обществу
особенный род существования, особенный взгляд, которые не будучи
совершенно тождественны для каждого неделимого этого общества, как
в отношении нас, так и в отношении других не-европейских народов,
составляют одинаковый способ их бытия: следствие огромной
умственной работы осьмнадцати веков, работы в которой участвовали все...
989 ...страсти, все выгоды, все страдания, все мечты, все усилия разума.
990 <...христиан>ства; то не очевидно-ли, что должно стараться оживить в
нас веру всеми возможными способами? Вот что я хотел...
991 что таКое бурная эпоха Карла I и Кромвеля, предшествовавшая их
настоящему благосостоянию, и весь этот длинный ряд происшествий, ее
породивших, до самого Генриха VIII, как не развитие чисто религиоз<ное>.
992 Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 881. Л. 33-33 об.
Писарский вопрос и собственноручный ответ Болдырева.
Библиография
Œuvres choisies de Pierre Tchadaïef, publiées pour la première fois par
le P. Gagarin de la compagnie de Jésus. Paris; Leipzig, 1862.
Сочинения и письма П. Я. Чаадаева / Под ред. М. О. Гершензона.
Т. 1-2. М, 1913-1914.
Неизданные «Философические письма» П. Я. Чаадаева /
Вступительные статьи В. Асмуса и Д. Шаховского, публикация,
перевод и комментарии Д. Шаховского // Литературное наследство.
Т. 22-24. М, 1935. С. 1-78.
The Major Works of Peter Chaadaev. A translation and commentary by
R. T. McNally. Notre Dame; London, 1969.
TchaadaevP. Lettres Philosophiques / Présentées par F. Rouleau. Paris,
1970.
Чаадаев П. Я. Статьи и письма / Сост., вступит, статья и комм.
Б. Н. Тарасова. М., 1987.
Чаадаев П. Я. Статьи и письма / Сост., вступит, статья и комм.
Б. Н. Тарасова. Изд. 2, доп. М, 1989.
Чаадаев П. Я. Сочинения / Вступ. ст. В. А. Мильчиной и А. Л. Оспо-
вата, сост., подготовка текста и примеч. В. Ю. Проскуриной. М., 1989.
TchaadaevP. Œuvres inédites ou rares / Ed. par R. McNally, F. Rouleau
et R. Tempest. Paris, 1990.
Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. статья
и примеч. В. Ю. Проскуриной. М., 1991.
Чаадаев Я. Я. Полное собрание сочинений и избранные
письма / Ответств. ред. 3. А. Каменский. Т. 1-2. М., 1991.
Петр Яковлевич Чаадаев: Сб. / Изд. подготовил Б. Н. Тарасов. М.,
2008.
Указатель имен
Абеляр П. (Абельярд) — 927
Абрамович С Л. — 836
Августин (Блаженный) — 690,924
Аверроэс — 718
Авиценна — 718
Аврелий Марк (Marc Aurèle, Marc-
Aurèle, Marc-Aurèle-Antonin) — 18,
123,127,149,236,264,491,557,
562,706,708,716
Адам (Adam)-80,190,711,863
Адлерберг В. Ф. - 829
Адрианов С. А.-800,816
Азадовский КМ.- 648,653,656,720,
777,781,786,795,796,800,801,
803,848,905,937
Азадовский М. К — 884
Аксаков Гр. С — 23
Аксаков И. С. — 853
Аксаков К С. - 9, 22,853,854,858
Аксаков С. Т.-23,25,916
Александр (Македонский)
(Alexandre)-127,130,244,331,
708
Александр I, император
(Александр Павлович) (Alexandre,
l'Empereur)-5-7, 334, 337,405,
412,494-498,581,623,658,669,
741,746-748,757,762,773,787,.
788,806,865,888,905,910,920
Александр VI Борджа, папа
римский — 842
Алексеев М. П. — 797
Алексеев-Попов В. С. - 665,686
Алексей Михайлович, царь — 752
Альберт Великий — 718
Альфонский А. А. — 768
Андреев А. Ю. — 5
Андросов В. П. - 628,629,926,935,
938
Анненков П. В. — 764
Ансельм Кентерберийский, св.
(Anselm) - 110,221,453,702,839
Ансильон Ж. П. Ф. - 767
Антоний Великий, св. (Saint
Antoine) - 79,188,686
Антоний, архимандрит — 20
Анфантен П.-Б. - 774
Араго Д.-Ф. (Arago) - 809
Аракчеев А. А. - 8,762
Аржевитинова А. С. - 780
Аристотель (Aristote, Stagirite) - 78,
123,151,158,236,267,275,453,
491,492,557,562,682,695,718
Асмус В. Ф. - 650,943
Афиани В. Ю. - 672
Ашевский С. — 828
Б. В. - 934
Баженов H. H. - 891
Базар К - 774
Базар С. М. - 774
Байер Г. 3. (Bayer) - 733
Байрон Дж Г. (Byron) - 365, 369,772,
930
Бакон — см. Бэкон Ф.
Бакунин М. А. — 830
Балашов А. Д. — 6
Баланш — см. Балланш П.-С.
Балланш П.-С. (Ballanche P.-S.) - 16,
408,415,501,502,558,563,653,
655,658,659,662,666,670,674-
677,679,685,687,696,698,699,
705,713,715,716,721,765-767,
776,786,802,815-817,837,869,
897
Бальзак О. де - 800
Барант П. де — 662
Баратынский (Боратынский) Е. А. -
20,637,749,820,825,835,930
Барбье О. - 800
Барро Э. - 774
Барсуков Н. П. - 828,916,917,938
Бартенев П. И. - 748,749,765,768,
769,772,776,787,824
Указатель имен
945
Бартенев Ю. Н. - 830
Барышников В. П. - 635,938
Батте Ш. (Batteux Ch.) - 718
БачининА.Е-917
Бегичев - 890,896,904
Безъязычный В. И. — 925
Бекетов П. А. - 833
Беккерель А.-С. (Becquerel) - 406,413,
422,424,447,450,807,808,810,
820,837
Белинский В. Г. (Bilinsky) - 23, 531,
533,854,890,894,895,900,914,
932,938
Беллизар Ф. (Bellizard) - 491,492,
652,768,861
Беляев M. Д. — 741
Бенкендорф А. X. (Benkendorf,
comte)-6,28, 31-33, 340, 383,
390,392,432,433,504,524-526,
530,531,533,534,537-540,550,
564,570,572-574,608,634,635,
637,724,727,748-750,754-756,
762,786-792,825,829,833,837,
846,869,884,885,888-892,894,
895,898-900,905,909,912-915,
917,918,926,938
Бентам И. (Bentham J.) - 780
Бережная Л. А. — 745
Березкина С. В. — 749
Берелевич Ф. И. — 739,761
Бернадот — 909
Берье П. A. (Berryer) - 439,441,832
Бибиков — 31
Билинский В. — см. Белинский В. Г.
БиоЖ.Б.(Вюи.В.)-б77,809
Блудов Д. H. (BloudoO - 491,492,733,
793,804,861,862
Бобров Е. А.-777,781,850
Бобятинский М. Г. — 759
Богданов К. А. — 813
Боголюбский (Андрей) - 581
Бодянский О. М. - 873,901,910
Бокова В. М. - 653
Болдорев — см. Болдырев А. В.
Болдырев А. В. (Boldireff, Boldyreff) -
10,21,23,25,28,32,505,507,508,
511,512,515,523-526,531,532,
537,538,544,545,548,564-566,
568-570,573,608-613,628,630,
631-634,638-642,644,656,871-
873,877-881,887,890,892,893,
896-898,909,910,912,914-917,
926,929,931,937-940,942
Боленко К. Г. - 832
Бональд Л. Г. (Bonald) - 15,16,558,
563,656,658,663,667,668,675,
687,702,705,713,718,721,778,
801,845,859
Бонапарт — см. Наполеон Бонапарт
Бонне Ш. (Bonnet Ch.) - 656,658
Боннетти О. - 927
Бонштетен — см. Бонштеттен Ш.-В.
Бонштеттен Ш.-В. (Bonstetten) — 777
Боратынская (урожд. Энгель-
гардт)А.Л.-82б
Борисова Е. А.-737,738
Боровой С. Я. - 794,806,825,840
Ботэн Л. (Bautain) - 558,563,802,
841,878,909
Бравура M. (Bravoura) - 9, 378, 380,
397,399,777,785,794,795,825,
826
Бравурша — см. Бравура М.
Брок, доктор — 552
Брун-Зеймис (Brun-Zejmis J.) Дж —
739
Брусилов H. H.-551,907
Брюллов К П. - 502,919
Брянчанинов Н. П. - 431,819,826,
890,896
Булгаков (Boulhakof) A. Я. - 19,20, 30,
409,417,724,816,832,835,897,
900,915
Булгаков К Я.-832
Булгакова (в замужестве Перов-
кая) С. К - 900
Булгаковы-30,915
Булгарин Ф. В. (Boulgarine) - 20, 33,
360,361,734,749,766
БулыгинВ.Я.-917
БунгеН.Х.-91б
Бурачок С. А.-731
946
Бурбоны-775,817,921,930
Буссенго Ж.-Б. (Boussingault) - 809
БутковскийЕ-813,886
Бэбингтон (Babington) - 738
Бэкон Р. - 702
Бэкон Ф. (Bacon, Bacon Fran ois) — 88,
99,150,198,210,265,409,416,432,
433,688,689,694,696,702,716,
826,827
Бюше Ф. Ж. (Bûchez) - 558,563,909
ВалицкиА. -655
ВальдоП.-710
Вальмики (Valmiki) - 365, 369,772
Василий Великий, св. (Saint Basile) —
74,183,681
Василий Косой, князь — 934
Василий Темный, князь — 934
Василько Ростиславич, князь — 934
Васильчиков И. В. (Vasiltschikof) —
6-8, 383-385,787,788,885,899,
905,910
ВаттДж-823
Вацуро В. Э. - 749,751,776,789,794,
843,861,864,881,895,897,918
Введенский А. И. — 785
Велижев М. Б. - 25, 28, 34,648,873,
877,929,939
ВельтманА.Ф.-731,923
Вернадский Г. В. — 6
ВеронЛ.-Д.-800
Веселовский А. — 735
Ветте В. М. Л. де - 660
Вигель Ф. Ф. - 6, 20,804,862,889
Виельгорский М. Ю. — 6
Вильберфорс У. (Wilberforce W.) -
684
ВильдеН.-661
Вильмен А.-Ф. (Villemain A. F.) - 715,
722,927
Вильмень — см. Вильмен А.-Ф.
Виндельбанд В. - 784,785,857
Виньи А. де — 774
Висконти — 591
Витовт, кн. литовский — 745
Владимир Мономах — 581,925
Владимир Ярославич, князь
новгородский - 934
Владимир, князь - 581,595,602,664,
672,919,920,922
Волконский С. Г. — 6
Воложинин, студент — 895
Вольперт Л. И.-824
Вольтер (Аруэ Ф. М.) (Voltaire) - 117,
128,229,242,494,496,500,651,
658,675,696,697,705,708,709,
727,773,839
Вольф Ф.-А. - 720
Вольф X.-700,701
Вонляр-Лярский (Вонлярляр-
ский) Е. П. (Eugene Wonliar-Larsky,
Wonliar-LarskyE.)-889
Ворожцова Б. H. - 824
ВостоковА.Х.-523,884
Врангель Ф. П., барон - 809
ВульфЛ.-731
Выскочков Л. — 789
Вышата — 934
Вяземская (урожд. Гагарина) В. Ф.,
княгиня — 794,862
Вяземский П. A. (Viasemskoy) - 9,
11-13,17,19,392,425,426,461,
499-504,647,649,651,652,659,
661,663-665,678,709,716,717,
720,724,734,735,740-742,749,
750,756,769-771,777,780,782-
786,789,792-795,800,801,807,
815-817,824-826,829,832,835,
836,840-843,845,852,861,864,
866-870,881,890,891,897,899,
900,905,907,909,924,937
Вязьмитинов С. К. — 6
Гаврилов А. К - 706
Гагарин Гр. И. - 777,795
Гагарин И. А. — 6
Гагарин И. С. (Gagarin, Gagarine le
jeune)-11,408,415,469,637,649,
650,652,654,659,665,667,680,698,
718,724,725,736,737,748,749,785,
795,801,802,814,815,826,827,844,
847-849,851,862,934,943
Указатель имен
947
Галахов И. П. (Galachof) - 469,470,
847,848
Галилей Г. (Galilee, Gallilee) - 100,211,
405,412,806
Галлер К.-Л. - 845
Галль Ф. Й. (Gall, docteur) - 667,668,
810-812
Гартвиг А. - 828
ГассендиП. -718
Гациский А. — 660
ГебхардтДж.-923
Гегель В. Ф. (Hegel, Hegels) - 438,
439,701,727,733,784,799,830,
850-854,856-858
Гедимин, кн. литовский — 745
Геерен А. Г. Л. (Heeren A. H. L) - 154,
269,719
Гейне Г. (Heyne) - 403,404,410,803
Генрих IV-588,822,921
Генрих VIII Тюдор, английский
король (Henri VIII) - 51,69,138,178,
253,712,942
Генуд де — см. Женуд А. Э.
Георгий Долгорукий — 604,925
Герман К-747,748
Геродот (Hérodote) - 121,133,143,
233,247,257,709,714
Герцен А. И. - 20,654,820,847,853,856
Гершензон М. О. - 5,7,9,11,34,649,
653,654,661,723-725,737,749,
759-770,772,774,777,780,782,
783,786,788-792,795,801-803,
810,815-817,821,823,824,826,
827,830-834,836-841,844,845-
847,849-852,857,858,943
Гете И. В. - 777
ШббонЭ.-714
too Ф. П. Г. (Guisot, Guizot) - 136,
250,679,680,705,710,722,817,
822,823,897
Шллельсон M. И. - 17,740,742,749,
751,756,765,771,775,789,794,
843,865,869,881,895,909,918,
926
Гильдебранд - см. Григорий VII Гиль-
дебранд
Гиляров-Платонов Н. П. — 23
Гинц - 892
Гиппарх Никеиский (Hipparque) —
121,233,706
Глинка М. И. - 27,734
Глинка С. Н. - 25
Глинка Ф. Н. - 6,849
Гогарт — см. Хогарт У.
Гогенштауфены (Hohenstauffen) —
438,439,830
Гоголь H. В.-11,20,735,738
Годунов Борис Федорович, царь
(Godounoff) - 78,187,555, 560,
664,682,861,865
Голенищев-Кутузов П. И. — 6
Голиков И. И. (Golikof) - 439,441,
728-730,832
Голицын А. Н. — 817
Голицын А. П. — 814
Голицын Д. В. (Galitzin, prince) — 20,
524,525, 527, 528,530,533, 534,
573,574,727,757,759,760,789,
833,862,885,888,890-892,895,
897,900,912-915,923,935,938
Голицын M. П. - 637,938
Голицын H. В.-841
Голицын H. H. - 885
Голицын С. М. - 617,634,893,901,
902,929,931,932
Голицыны — 885
Голицын, князь — 785
Головнин В. М. — 674
Голохвастов Д. П. - 505, 531,542, 543,
552,553,569,571,871-873,877,
878,893,896,901,902,916,939
Голубинский Ф. А. — 652,711
Гомер (Homère, Homeri) — 19,123,
153-156,236,269-272,491,
492,557,562,590,707,709,715,
718-720
ГорнфельдА.Г.-803
Горчаков, князь — 836
Гоффман А. Ф. (Hoffmann A. F.) - 701
Грановский Т. Н. - 732,733,844,845,
847,855
ГрейгА.С-684
948
Греф (Грефе) В. (Graef, Gräff) - 438,
439,831
Греф X.-831
Греч Н. И. - 6, 20,892
Грибоедов A.C. — 6,10, 32,762
Григорий I Великий, папа римский —
924
Григорий VII Гильдебранд, папа
римский (Grégoire VII, Hildebrand) -
425,426,722,821-823
Григорий XVI, папа римский — 774,
842
Григорий Назианзин (Богослов), св.
(Saint Grégoire de Nazianze) — 74,
183,681
Григорий Турский (Grégoire de
Tours)-143,257,714
Гринберг О. Э. - 663
Гринзингер Г. Ф. — 660
Гульковский М. К. — 891
Гульянов И. A. (Goulianof) — 360, 361,
738,767
Гумбольдт А. фон, барон (Hum-boldt A.
de, baron)-809,810
Гура В. В. - 914
Itoro В. (Hugo V) - 397,400,797,802,
930
Д'АламберЖЛ.-838
Давид (David) - 123,148,149, 236,
264,265,491,492,557,562,712.
Давьщов Д В. - 9,655,724,742,872,897
ДамиронЖ-Ф.-б80,702
Даниил (Заточник) — 604,925
Даниил, пророк (Daniel) - 697,707,
708
Данилевский Р. Ю. — 777
Данилов Кирша (Кирилл) — 604,925
Дант — см. Данте Алигьери
Данте Алигьери (Dante) - 368,372,776
Данциг Б. М.-871
Дашков Д. В. - 544,791,903,905
Дашков П. Я.-651
Декарт P. (Descartes) - 99,110,115,
116,210,221,227,228,667,668,
694,696,698,703,721
Делагарди Я. - 798,799
Деландин Ф.-А. (Delandine F. A.) - 717,
718
Дельвиг А. И. - 765,820,840,897
Демокрит (Démocrite) — 150, 265,716
Деннике Б. П.-724,851
Державин Г. Р. - 922
Дешан А. — 776
Джефферсон Т. - 874
Джонс У. (Jones) — 678
Диадор Сицилийский - см. Диодор
Сицилийский
Дибич И. И. - 684,757,758
Дивов П. Г. - 900
Дидро Д.-838
Димитрий, царевич — 864
Диоген-331
Диодор Сицилийский (Diodore de
Sicile) - 720
Диолетта Сиклари A. (Dioletta
SiclariA.) — 700,701
Дмитревский (Дьяконов, Нары-
ков)И.А.-921
Дмитревский, польский граф — 921
Дмитриев И. И. - 439,440, 551, 552,
637,756,771,820,831,832,835,
867,907
Дмитриев Л. А. — 925
Дмитриев М. А. - 9,22,661,820,832,
893,865,904
Дмитриев С. С. — 653
Дмитриева Е. Е. — 14
Дмитриев-Мамонов А. И. — 6
Дмитрий, самозванец (Лжедмит-
рий) I - 502,734
Долбилов М. Д. - 746,747
Долгова С Р. - 659,663
Долгорукова Е. А. — 11
Долинин А. А. — 862
Домициан Тит Флавий, римский
император — 850
Дон Карлос Старший (Дон Карлос
Мариа Исидро де Бурбон), король
Карл V-615,930
Дондуков-Корсаков М. А. — 878,881,
887
Указатель имен
949
Достоевские, бр. — 851
Дроздов А. - 894
Дружинин П. А. — 827
ДубельтЛ.В.-6,84б,914
Дубровин Н. — 757
Д'Экштейн (Д'Эккштейн) Ф. (Echstein,
Eckstein, Ekstein) - 409,417,425,
426,558,563,607,653,658,767,
774,816,817,818,821,822,926,927
Дюма А., отец-800,802
Евгения Тур — см. Сухово-Кобыли-
на Е. В.
ЕвстратовА.Г.-б48,882
Егоров А. Е., художник — 815
Егоров Б. Ф. - 799
Екатерина II Великая, императрица
(Екатерина Алексеевна) — 6,8,
494-498,587,623,683,746,747,
860,865,882,905,921
Екатерина Арагонская — 712
Екатерина, жена Дмитрия
Шуйского - 798
Елагина (урожд. Юшкова) А. П.
(Jelaguine)-397,399,637,652,
711,750,796,847,848
Елизавета Петровна (Елисавета),
императрица — 8,587,921
Елизавета I Тюдор (Елисавета),
королева английская — 591,921
Женуд А. Э. (Genoude) - 408,415,660,
816,878
ЖербэО.Ф.-774,822,927
Живов В. М. - 672
Жирарден С-М. (Girardin M.) - 406,
413,802,807,808,878
Жихарев M. И. - 7,22,649,651,654,
661,681,724,736,737,760,768,
770,773,789,815,824,825-827,
829,830,836,839,885,891,892,
896,923
Жуй В. Ж Э. (Joui de, Jouy de) - 360,
361,766
Жуковский В. A. (Joukofsky, Zoukof-
sky)-9, И, 20, 27, 33, 394, 396,
397,400,444,445,469,720,734,
736,740,749,750,755,756,770,
771,772,775,776,777,782,796,
799,800,803,828,835,836,845-
847,859,861,862,869,918
Жуффруа T. G (Jouffroy) - 407,414,
813
Жюльен М.-А. - 653,767,816,817
Заборов П. Р. - 653,767,816,817
Загоскин M. H. (Sagoskine) - 404,405,
412,734,804,806,840
Зант(Занд)КЛ.-355
Звенигородский А. В., князь - 834
Зедергольм К. А. — 781
Зенон Китайский — 717
Златопольская А. А — 919,921
ЗонтагА.П. — 756
Зорин А. Л.-26,29,648,806
Зороастр (Заратуштра) (Zoroastre) —
84,194
Зубков В. П.-551,906
И. X. — см. Иисус Христос
Иаков, патриарх — 815
Ив. Ив. — см. Дмитриев И. И.
Иван Иванович — см. Дмитриев И. И.
Иван III — см. Иоанн III
Ивановский В. — 16
Иванян И. Э. - 824
Игорь Святославович — 925
Игорь, князь (Igor) - 497,499,604,
864
Иезуитова Р. В. - 836
Изабелла II де Бурбон, королева
испанская — 930
Измайлов Н. В. - 25,861
Иисус Христос (Christ, J. С, Jesu, Jésus-
Christ) - 18, 51, 52,70,71,78,86,
115,136,146,152,153,159,179,
180,187,196,227,251,261,268,
269,275,357,408,415,463,466,
473,474,476,477,491-493,495,
700,721,782,826,830,845
Ильин-Томич А. - 840,894
Ильченко Д. В. — 899,900
950
Иннокентий (Борисов) — 24
Инсаров X. - 775
Иоанн, св.— 919
Иоанн III-581,620,727,728
Иоанн Грозный IV - 581, 595,620,
664,920
Иоанн Златоуст, св. (Saint Jean
Chrysostome) - 74,183,406,413,
681,807
Иоанн, евангелист (John St.) — 254,
661,686,697,699,815,816,839
Иов (Job)- 104, 215,699
ИрсетскаяЛ.А.-91б,93б
Исайя, пророк — 687
ИстринВ.-741,775,783
К А. — см. Свербеева Е. А.
Казимир Великий, польский король
745
Кайдаш С. — 661
Калайдович И. Ф. — 906
Калитин П. В. - 859
Кальвин Ж. (Calvin) - 138, 253,710,
711
Кальдерон П. — 930
Каменская Л. 3. — 792
Каменский 3. А. - 655,666,671,716,
719,727,731,734,739,740,943
Канкрин Е. Ф. - 789
Кант И. (Kant) - 116,228,403,410,
690,691-693,695,701-703,785,
799,803,810-812,852,857
Карамзин Александр Н. — 22
Карамзин Андрей Н. — 22,862
Карамзин H. M. (Karamsine) - 9,17,
287,302,315,461,462,624,649,
663,664,668,669,672,677,678,
683,725,726,728,733,741,748,
765,769,797,798,843,844,852,
864,866,868,882,919-922,925,
934
Карамзина Е. А. — 794
Карамзина С. Н. — 862
Карамзины - 22,824,863
Карл I, английский король (Charles
1-ег) — 51,679,942
Карл IX, шведский король - 797
Карл V — см. Дон Карлос Старший
Карл X, французский король
(Charles X) - 403,410,662,772,773
Карл Великий, император
(Charlemagne) - 664,822,889
Kapp А.-800
КаррельА.-874,877
Карташевская М. Г. — 22
Карцов П. П. - 5
Катков М. Н. - 852
Катон Младший (Утический) — 123,
236,707
Каченовский М. Т. - 531,878,893,
917,930,931,935,938
Кашинцев (Кашинцов) Н. А. — 870,
894,912
Кене Ш. (Quénet Ch.) - 16,648,650,
652,655,656,658,663,680,687,
693,695,696,703,705,706,713,
721,723,725,726,729,731,782,
826,831,852
Кеплер И. (Kepler) - 100,121,211,
234,691,706
Кетчер Н. X. - 24,877,895,896,926
Киндяков П. В. — 786
Киндякова Елизавета П. — см.
Пашкова Е. П.
Киндякова Екатерина П. — см.
Раевская Е. П.
Киндяковы (Kindiakof) — 380, 382,
786,847
Кипренский О. — 815
Киреевская — см. Елагина А. П.
Киреевские — 732,844
Киреевский И. В.-11,17,19,701,
724,732,733,749-756,794,796,
825
Киреевский П. В. - 9,19,731732,
749,794,796
Кирилл, св. (Cyrille) - 673,920
Кирпичников А. И. — 6
Киселева Л. Н. - 27,734
Клапрот Г.-Ю. фон (Klaproth) - 360,
361,767
Клопшток Ф. Г. (mopstock) - 776
Указатель имен
951
Княжевич Д. М. — 915
Козаков (Казаков) — 550
Козлов В. П. - 672
Козловский П. Б., кн. — 494,495, 504,
647,649,668,673,676,677,682,
713,736,829,843,865,871,899
Козмин Н. К. - 869,878,888,909,929,
930,931,932
КойтенА-831
Колайдович И. Ф. — 551
Колачник Федор — 870
Колброк Г. (Colebrock, Colebroock) —
438,440
Колбрук Г. — см. Колброк Г.
Колеброк — см. Колброк Г.
Колзаков П. А. - 353, 358,757,760
Кольридж С. Т. (Coleridge) - 279,293,
726,727
Колюпанов Н. — 853
Коммод, римский император — 716
Комовский В. Д. - 524, 526, 542, 544,
750,884
Кондильяк Э. Б. де (Condillac) — 703,
706
Констан Б. - 759,800
Константин Мономах, император
византийский — 934
Конфуций — 601
Константин Павлович, вел. кн. — 6,
757-760,762
Коок — см. Кук Ч.
Коперник Н. — 806
Кордемуа Ж.-Л. де — 737
Костикова Е. — см. Лямина Е. Э.
Кочубей В. П. - 762,773
Кочубинский А. А. — 910
КошелевАИ.-752,853
КошелевВ.А.-22,735
Крамер В. В. - 767
Кранмер Т., архиепископ Кентербе-
рийский (Cranmer) — 138,253,712
Кройцер Г. Ф. (Creuzer G. F.,
Kreutzer)-154,269,719
Кречер — см. Кетчер H. X.
Кромвель О.-51,664,942
Крюков Д. Л.-936,937
Ксенофонт Афинский (Xénophon) —
149,264,716
Кузен В. (Cousin) - 125, 239, 373, 375,
701,707,782,801,813
Кук 4.-355,356,762
Кукольник Н. В. (Koukolnike) - 29,394,
396,397,400,793,797-799,922
Кулагин А В.-859
Куликова AM.- 767
Купфер А Т. (Kupfer, Kupffer А Т.) -
406,413,808-810
Курбатов П. А. - 550,904
Курилкин А Р. - 648,683
Курций — см. Руф Квинт Курций
Кушнир С. И. - 874
Кювье Ж. (Cuvier) - 406,413,422,424,
447,450,666,733,802,807,808,
821,837,845
Кюнтцель-Витт К — 814
Кюстин А. де - 662,670,671,764,817,
841,842,843
Лабзин А. Ф. — 6
Лаво Ж. де, граф — 767
Лавринович М. Б. — 648
Лаг-708
Лагиды (Lagides) - 127,130, 244,708
Лазарев Н. - 929
Лакордер Ж. Б. (Lacordaire, l'abbé) —
399,401-403,425-427,774,
800-802,821
ЛамаркЖ. M. (Lamarque) - 367, 371,
775
Ламартин A M. Л. - 777,802,848,905
Ламене — см. Ламенне Ф. Р. де
Ламенне Ф. Р. де (La Mennais F. de,
Lamenais, Lamené, Lamennais) — 16,
459,460,506,507,558,563,567,568,
655,656,658,662,666-668,671,
674,678,684,693,694,701,703,705,
715,716,722,724,727,744,774,775,
800,801,802,818,822,841,842,859,
873,897,911,912
Ламенэ — см. Ламенне Ф. Р. де
ЛангеЙ.Й.(1л^еИ.)-701
Лафайет М.-Ж. (La Fayette) - 743,744
952
Лахтин, купец —441
Лебедев К Н. - 22
Лев X Медичи, папа римский (Léon X) -
136,251,710
Левашев В. В. - 550,905
Левашев Н. В. - 11, 550,820,834,904
Левашева (урожд. Решетова) Е. Г.
(Levachof, madame) - 11,421,423,
550,819,820,832,834,836-838,
904
Левашевы-637,815,820,823
Левашова — см. Левашева Е. Г.
Левек П. - 673
Левенгук А. ван — 714
ЛевковичЯ.Л.-83б
Лейб - 759
Лейбниц Г. В. (Leibniz) - 409,416,700
Лелевель И. — 742
Лемке М. К. - 23, 29, 30, 32,649,749,
750,754,786,788-792,826,832,
833,878,879,884,885,887,889-
892,894,895,896,898,899,900,
904,905,909,910,914,917,925,
926,931,935,937,939
Лепехин М. И. — 666,611
Лерминье Ж. Л. Э. (Lerminier) - 402,
403,802
Летурнер П. — 668
Летчфорд С. Е. — 685
Лжедмитрий II — 798
ЛивенКА.-750,754,931
Ливены — 750
Ливии Тит (Livius Titus, Tite-Live) -
143,257,704,714
Ложье М.-А. - 737
ЛоккД-698
Ломоносов М. В. - 292, 306,587,734
Лонгинов M. H. - 21,724,765,850
Лоранси П. С. — 11
Лотман Ю. М. - 7,16,19,649,669,
674,723,728,852,866
Лудвиг XIV - см. Людовик XIV
Лудовик XI - см. Людовик XI
Луи-Филипп, герцог Орлеанский,
затем король Луи-Филипп 1 — 773,
775,803
Лука, евангелист — 690
Лукулл (Luculle) - 547,550,918
Лунин М. С. - 906
Львов А. Ф.-787,900
Любомирская, княжна — см. Ржевус-
ская (Ржевуцкая, Реутская) Р. А.
Людовик XIV - 591, 595,784,845,921,
922
Людовик С, профессор — 927
Людовик Филипп — см. Луи-Филипп
Людовик XI — 664
Лютер М. (Luther) - 136,251,674,710
Лямина Е. Э. (Liamina С) — 5,6,8,10,
648,832,913
Ляпунов П. П. - 397,400,797-799
М. Я. — см. Чаадаев М. Я.
Магомет, пророк (Mahomet) — 15,
123,152,236,267,268,360,361,
557,558,562,563,715,716
МазонА.-878,909
Мазур H. H. - 23,659,728,731,897,
918,922,926
Мазур Т. П.-741
Макаров А. А. — 846
Макналли P. T. (McNally R. Т.) - 648,
650,653,655,659,661,669,673,
675,681,684,690,698,700,701-
703,705,707,708,714,719,727,
731,733,735,763,842,943
Максим Тирский (Maxime de Туг,
Maxime Turii) — 154,269,719
Максимов M. — 861
Максимович M. A. — 9,24,794
Макферсон Дж. — 668,925
Малахова И. А. — 824
Малиновский А. Ф. — 769,844
Мало Ш. (Mab S.)- 801,802
МаловН.Н.-741
Мальбранш Н. — 695
Манн Ю. В. - 23,735,751,752,930,935
Мариво П. К де Ш. де — 665
Мария Кристина, королева
испанская — 930
Мария Павловна, великая княгиня —
777
Указатель имен
953
Марк Аврелий — см. Аврелий Марк
Марк Аврелий Антонин — см.
Аврелий Марк
Марк, евангелист — 677
Маркиш С. А. - 707
Мармонтель Ж. Ф. — 838
МарриотТ-355,356,762
Мартен-Фюжье А. — 662
Мартин Д. — 660
Мартьянова М. — 859
МасловС.А-551,904,905
Матфей, евангелист — 249,659,686,
800,830,916
Медичи-591,842,921
Медовой М. И. - 923
Мезин С. А - 659
Мейендорф (Мейндорф,) А. К.
(Meindorf, Meyndorf) - 402,438,
440,653,801,802,831
Мейстер гр. — см. Местр Ж. де
Мельгунов Н. А. - 854,926
Мендельсон М. (Mendelsohn M.,
Mendelssohn M.) - 715,810,811
Менцель А. фон — 884
Мессершмидт —814
Местр Ж де (Maistre J. de) - 16,18,432,
558,563,656,658,662,668,670,
671,673,674,676-679,682-685,
688,705,709,710,712,713,720,
721,722,734,735,778,793,826,
827,839,845,859,864,878
Меттерних К. — 7
Мефодий, св. (Méthode) - 673,920
Мещерская (урожд. Всеволожская)
С. С. (Meschtscherskaya) - 397,
399,401,409,416,426,427,462,
471,551,552,824,838,850,904
Мещерский А В.-785
Мещерский Э. П. (Metsherskij) — 541,
542,554,636,637,802,841,878,
901,908,909,928
Мещерской Е. П. — см. Мещерский Э. П.
Мигель, дон (Miguel) — 875
Миллер А И.-745-747,918
Миллер Г. Ф. (Müller) - 733
Мильтон Дж. (Milton) - 105, 216,700
МильчинаВ. А - 8,9, И, 16,648-651,
655,659,662,667-671,673,677,
680,682,696,698,706,713,718,
738,744,763,764,773,774,784,
800,802,814,837,841-843,847,
849,865,871,899,908,943
Минута P. (Minuti R.) - 659
Минье Ф.-О. - 759
Михаил Павлович, вел. кн. — 730
Михаил, царь — 581
Михайловский-Данилевский А И. — 6
Мишле (Мишеле) Ж (Michelet) - 402,
403,802
Моген Ф. - 743,854
Модзалевский Б. Л. - 768,834,836,
862
Моисей (Moïse, Moyse) - 121,123,
145-148,233,236,260,261,263,
265,406,413,491,492,557,562,
666,712,714-716,808,815
Молок А-744,773
Мономах (Владимир) — см. Владимир
Мономах
Монталамбер Ш. де - 774,801,912,
927
Монтень M. (Montaigne) - 86,196,687
Монтескье Ш. Л. - 16,658,659,671,
672,680,682,709,718
Мордвинов A H. (Mordvinoff) — 534,
564,749,895,909,910
Мордовченко Н. И. — 922
МортьеА-Ш.-Ж-803
Мудров М. Я. — 9
Муравьев AM. — 906
Муравьев А Н.-6,624,934
Муравьев М. — см.
Муравьев-Апостол М. И.
Муравьев M. H. - 906
Муравьев H. M. - 6, 354,761,906
Муравьев С. — см. Муравьев-
Апостол С. И.
Муравьев, генерал-майор - 769
Муравьева (урожд. Колокольце-
ва)Е.Ф.-551,820,906
Муравьев-Апостол М. И. - 6, 354,761,
769
954
Муравьев-Апостол С. И. - 354,761
Мусин-Пушкин А. И. — 925
МухановА.А.— 21
Муханов В. А. - 20, 21
МухановН.А. —901
Мюллер И.-709,717
Мюссе А. де — 802
Н. Д. — см. Дубровин Н.
Н. К — см. Кукольник Н. В.
Надеждин Н. И. (Nadegdin) - 10,
18,21,23-25,32,506-508,510,
524-526,531,533-535,564-566,
568,570-572,576,580,605,627,
630,632,633,635-637,644,651,
653,657,736,818,837,863,869,
870,877,878,883-885,887,888,
890,892-900,909-922,925-934,
936-938
Наполеон III (Луи Бонапарт) — 11,
Наполеон Бонапарт (Bonaparte, Napol,
Napoléon, l'empereur) — 8,130,
243,334,337,403,410,496,498,
599,714,722,741,746,803
Нарышкина Е. И.-551,906
Наумов Д. Н.-906
Нащокин П. В. (Naschtschokine) —
367,371,771,775,823,895
Неверов Я. M.-20,894
Невский В. А.-891
Нелединский П. Л. — 551
Неплюев И. И. - 730
Нерваль Ж. де - 802
Нессельроде К В. - 743,744,788
Нестор, летописец (Nestor) — 335,
339,604,708,748,919,920
Нефедьева А. И. - 784,786,800
Нечаев С. Д- 551,906
Нечкина М. В. - 32
НешумоваТ.Ф.-832
Никитенко А. В. - 22,770,771,881,
887,892,914,915
Никодим Надоумко — см.
Надеждин Н. И.
Николай I, император (Николай
Павлович) - 10, 25-30, 32, 33, 386,
511,512,515,538,544,587,593,
623,670,681,683,724,727,728,
742,750,751,753,755-758,760,
761,773,789,790,792,809,814,
828,834,839,863,873,879,883,
884,891,892,899,900,903,908,
910,913,915,917,921,931
Николай I, папа римский — 673
Николай Михайлович (Романов),
великий князь — 888
НовосильскийП.М.-5П,878
Нодье Ш. - 802
Норов Авраам С. — 6,898
Норов Александр С. - 24, 535,637,
737,877,895,898,926
Норовы - 660,898
Ньюкомен Т. — 823
Ньюмен Д. Г. (Newman) - 849,850
Ньютон И. (Newton) - 98-100, 209-
211,691,694,696,697
О. А.-654
О'Коннел Д. (O'Connell) - 567,911,
912
О'Коннель - см. О'Коннел Д.
ОблеуховДА.-6,10
Оболенский М. — 900
Огарев Н. П. - 654,847
Огаревы — 847
Одоевский В. Ф. - 20,749,863
ОксманЮ.Г-868,894,938
Олег, князь (Oleg) - 493,495,497,
499,581
ОлейникВ.Т.-824
Оленин А. Н.-523,883
Оливетан П.-Р. -710
Ольга, княгиня — 595,922
Ольгерд, кн. литовский — 745
Ольговичи — 864
Ориген - 924
Орлов А. Ф.-840
Орлов М. Ф. (OrloO - 9,32,394,396,
404,411,429,433,445,455,550,
551,637,792,794,804,806,820,
825,830,836,839,840,845,853,
865,867,904,905
Указатель имен
955
Орлова Е. Н. - 9, 397,399,796,905
Орлова Е. П. - 824
Орфей (Orphée) - 365, 369,772
Оскар, шведский принц — 909
Осман I, султан — 916
Осовцов С. — 916
Осповат А. Л. - 7,9,11,16,19, 25,648,
651,655,656,662,668,670,673,
677,682,713,723,724,740,749,
763,764,781,784,788,789,803,
814,828,829,841-843,847,849,
855,865,866,871,882,894,896,
899,922,943
Оссиан (Ossian) — 925
Охотин Н. Г. - 935
П. Я. Ч. - см. Чаадаев П. Я.
Павел I, император (Павел
Петрович) - 5,831,860
Павел, апостол (Paul, st. apostole) —
279,293, 308,840
Павлов H. Ф. (Pavlof) - 397,400,637,
796,867,869
Павлова Каролина - 853,939
Павлова К С - 858
Паллас П. С. (Pallace) - 407,414,813,
814
Панаев И. И. — 22
Панов В. Д.-441
Панова (урожд. Улыбышева) Е. Д. — 9,
12,18,441,442,660,661,680,833
Пановы — 660
ПапенД.-823
Паскаль Б. (Pascal) - 109,141,220,256,
409,416,702
Паскевич И. Ф. - 33,684,742,743,900
Пассек — 761
Пастернак Е. Е.-21
Пасторе К.-Э. де (Pastoret C1.-E. de) -
714,715
Пашков А. В.-786,905
Пашков В. А. - 905
Пашкова (урожд. Киндякова) Е П -
551,786
Пашковы (Pachkof) — 380, 382 847
905
Пейли У — см. Пэйли У
Перевощиков Д. М. - 531, 597, 804,
873,878,894,924,929
Перикл (Périclès) - 130, 244
Перовский В. А. — 829
Перфильев С. В. - 534, 538, 550,884,
885,890,895,904,917
Перье К - 743,744
Пестель П. И. - 6,762
Петр I Великий, император (Петр
Алексеевич) (Pierre le Grand,
Pierre-le-Grand) - 16,281-283,
285,289,292, 296,297, 300, 304,
306,310-312,314,317,319,340,
347,368,372,408,415,426,427,
439,441,494-498,577,578,581,
586-588,591,620,623,624,658,
659,664,665,669,671,672,724-
727,729,730,732-735,752,753,
775,814,822,823,832,855,864,
865,918,921
Петр, апостол (Pierre st.) — 379, 382
Петров П. Н. - 828
Петров Ф. А. - 828,871-873,883,915,
916,931,940
ПештичС.Л.-733
ПинельФ.-891
Писарев А. А.-551,907
Пифагор (Pythagore) - 84,144,151,
194,259,267,695,701,702
Платер С. - 743
Платон (Platon) - 74,84,116,123,
125,144,149,183,194,228,236,
239,259,264,378,380,681,689,
700-703,706,707,717,784
Платон, митрополит — 859
Плещеев — 502
Плотин —719
Плутарх (Plutarque) - 154, 269,707,
719
Плюшар А. А. - 863
Погодин М. П. - 9,471,730,731,
733,768,781,828,849,894,895,
915-917,936,938
Погосян Е. А. - 730,882
Подолинский А. И. — 930
956
Полевой Кс. А. - 735
Полевой Н. А. - 17, 29, 32,731,733,
734,931
Полей Л. (Poley L) - 417,420,817,818
Поленов Д. В.-20
Ползунов И. И. - 823
Полторацкий С. Д. - 11,767
Полуденский П. С — 820
Поль Л. — см. Полей Л.
Попов А. Н.- 854,856,858
Попова О.-751
Потемкин С П.-551,906
Поттер Л.-Ж-А. де (Potter de) - 568,
911,912
Потье Г. (Pauthier G.) — 831
Поццо-ди-Борго К О. - 742-744
Правилова Е. А. — 746
Пратасов — см. Протасов Н. А.
Прокопович Ф. (Théophane) — 493,
495,864
Проскурин О. А. — 750
Проскурина В. Ю. - 647-649,651-
655,660,661,664,678,686,689,
690,696,700-702,706-708,710,
711,714,716,718,723-727,731,
739,742,743,745,746,752,760,
762,766,781,793,801,803,804,
830,841,943
Протасов Н. А. (Pratasow, Protassoff) -
564,909,910,926
Псевдо-Плутарх — 719
Птолемеи — 708
Птолемей — 708
Пугачев Е.-831
Путятин И. — 737
Пушкин А. С. (Pouchkine) - 9,18-20,
22,292,306,355,360,361,363,364,
368,426,427,439-441,445,461,
469,491,493,496,551,574,575,
637,647,659,661,662,725,728,
730,738,740,741,744,749-751,
756,761,764,765,767-772,774-
777,792-794,823,824,828,830,
831,834-836,846,847,858-866,
868,895,897,904,906,918,930,937
Пушкин В. Л.-6,785,848
Пушкин С. Л. - 6,444,445,834,835,
836,846
Пушкина (в замужестве Сонцева) Е. Л. -
846
Пушкина (урожд. Гончарова) H. H. -
770,835,870
Пыпин А. Н. - 654,736,824,827,830,
836,839
Пэйли У.-656,705,713
РавичЛ.М.-723
Раевская Е. Н. - см. Орлова Е. Н.
Раевская (урожд. Киндякова) Е. П. —
551,786,905
Раевский A. H. (Rayewsky) - 550,820,
865,905
Раевский Н. Е, младший — 806
Раевский H. H., старший — 796
Разумовская, графиня — 769,
Раннику К. — 866
Расин Л.-773
Растопчина — см. Ростопчина Е. П.
Раумер Ф. фон (Raumer) - 438,439,
593,607,615,623,830,928,930
Рафаэль —710
Рачинский Г. А. - 749,762,770,786,
789,795,801,802,821,826,830,
839,840,844,849,850
РашковскийЕ. Б.-817
Ревуненкова Н. В. - 838,839
Рейнолдс Ф. M. (Raynolds Mansel F.,
Reynolds F. M.)-831
Резвых П.-719,781,782,852
Рекамье Ж. - 661,803,848,869
РемарчукВ.В.-87Г
Ремер Ю. A. (Remer J. A.) - 689
Решетова Е. А (урожд. Якушкина) - 820
Решетова Е. Г. — см. Левашева Е. Г.
Ржевский П. А.-551,906
Ржевусская (Ржевуцкая, Реутская)
(урожд. Любомирская) Р. А.
(Rjewoutzka) - 397,399,653,786,
795,796,801
Рид T. (Reid T.)-694,698,699
Римский-Корсаков (Римско-Корса-
ков)Г.А.-551,907
Указатель имен
957
Робеспьер M. M. (Robespierre) —
410,842
PoneH.r.(RhodeJ.G.)-721
РодригО.-774
Розанов И. H.-827
Розен Е. 0.-27,734,937
Розенцвейг В. Ю. - 16
Романелли, художник — 820
Романов Михаил Федорович — 595,
734,864,922
Романов Николай Михайлович —
888
Романовы - 730,747,901
Россет К О. - 862
Ростопчина (урожд. Сушкова) Е. П. —
471,849
Рубин А. И.-671,709
Ружицкая И. В. - 681,683,753
Руло Ф. (Rouleau F.) - 648,650-652,
654,655,681,696,702,703,708,
714,725,763,908,943
Руссо Ж.-Ж. - 16, 590,658,665,671,
686,921
Руф Квинт Курций (Ruf Quintus
Curtius) - 936,937
Рюрик, князь (Rourik) - 497,499,581
Рюриковичи — 798
Саблер В. Ф. — 530,661,833,891
Савонарола Дж — 459,842
СаидЭ. — 731
Сайтов В. И. - 765,767,770,780,801,
846,870,905,906,909
Саймонов А. Н. — 550
Салинис Л. А. де - 927
Салтыков М. А. - 551,791,815,820,
905,906
Самарин С. Ю. - 935
Самарин Ф. С - 935
Самарин Ю. Ф. - 11,853-856,858,
935
Самовер Н. В. - 33
Сапов В. В. - 655,739,764,767,790,
792,794,795,803,849,887,890,
894,917,923,938
Сапова Л. - 887,890,894,917,923,938
Сапченко Л. А. — 843
Саси И.-Л. Ле Местр де - 660
Свербеев Д. Н. - 8,9,12,15, 22,550,
663,736,737,762,803,825,841,
867,869,885,904,907,926,936
Свербеев Н. Д.-838
Свербеева (урожд. Щербатова) Е. А.
(Sverbeyef, madame) - 434,459,
637,659,663,761,800,841,870
Свечина (урожд. Соймонова) С. П.
(Swetchine) - 399,401,409,662,
690,800,801,832,859
Свиясов Е. В. - 897
Святослав, князь (Sviatoslav) — 493,
495,497,499,864
Селевк — 708
Селевкиды (Séleucides) - 127,708
Селиванов А. — 899
Селивановский Н. С — 573,885,912,
913,924
Семевский В. И. — 763
Семен А. И. (Рене-Семен А. И.)
(Semen)-434,652,710,827
Семен О. Р. — см. Семен А. И.
Сенека Луций Аней — 689
Сенковский О. И. - 780,781,798
Сен-Симон А. К. де Р. (S. Simon) - 367,
371,659,773,774
Сент-Бев Ш. О. - 802,803
Серафим, митрополит — 20,889
Сербиненко В. В. - 852
Сербинович К С. - 733,928
Сервет M. (Servet) - 138,253,711
Серебренников Н. — 740
Сериков Ф. И., купец — 587,921
Серков А. И.-6,763
Сесе Э. - 695
Сидоров А. А.-814,827
Сикст V, папа римский — 599,924
Сильверст — см. Сильвестр Э.
Сильвестр Э. (Sylverste E.) - 777,780
Симоненко Г. — 747
Симонов И. М. (Simonof, Simonoff) —
406,413,810
Сиркур А. де, граф - 11,402,801,802,
816,848
958
Сиркур (урожд. Хлюстина) А. С. де,
графиня (Circourt de, madame) —
11,402,469,470,637,793,801,802,
848
Скалигеры (Скалы) — 591,921
Скопин — см. Скопин-Шуйский М. В.
Скопин-Шуйский М. В., князь — 397,
400,797-799
Скотт В.-865,866
Смирдин А Ф. — 892
Смирнова-Россет А. О. — 772,797
Снегирев И. М. - 20,653,878,892,
893,909
Соболев Л. И. - 763,784,815,849
Соболевский С. А — 656,661,904
Соймонов АН. — 904
Соймонова — см. Свечина С. П.
Солон — 603
Соколова H. H. — 861
Сократ (Socrate) - 84,123,149,150,
194,236,264,265,557,562,700,
706
Сонцев (Солнцев, Сонцов) M. M. —
469,846,847
София Палеолог — 728
Сперанский M. M. — 753
Спиноза Б. (Spinoza) - 95,97,206,
208,695,696,715
Спурцгейм И. (Spurzheim) - 406,413,
810,812
Стагирит — см. Аристотель
Сталь Ж. де (Staël A L G., Staël,
Madame de) - 323,327,330,649,650,
659,662,667,669,682,685,698,739
Станкевич H. В. - 732,794,845,847,
853,855,894
Стасов В. В.-879,903,915,917
Степанов Е-804,912
Страхов H.H.-851
Строганов А Г. — 904
Строганов А С. - 547, 550,904
Строганов Г. А - 535,544,873,899,903
Строганов П. А — 828
Строганов С. Г. (Strogonoff, Strogo-
now)-25,28, 31,435,503,
505-507,509,511,523,527,531,
534,535, 538-544, 547,550,552,
567,569-574,629,630,632,634,
636,827-830,869,870,872,873,
877,878,881,884,885,890,892,
893,895-897,899,900-904,910,
914-917,929,936-939
Строганова H. П. - 827
Строганов — см. Строганов С. Г.
Стюарт Д. (Stewart D.) - 694,698,699
Сукайло В. А - 832
Сумароков А П. — 921
Сумароков П. И. -921
Сусанин И. — 734
Сухово-Кобылина Е. В. (Евгения
Тур)-9
Сухово-Кобылина (урожд. Шепелева)
М. И. - 932
Сухомлинов М. И. — 901
Сфорцы (Сфорца) - 591
Сю Э.-800,802
Тарасов Б. Н. - 5,655,762,766,770,
792,793,820,837,841,906,943
Тартаковский А Г. — 5,17,728
Тассо T. (Le Tasse) - 49,68,176,394,
396,674,793
Татаринов A H. (Tatarinof) - 777,780,
795
Татищев В. Н. — 733
Татищев Д П.-888
Тацит Публий Корнелий (Tacite) —
154,270,719
Темпест P. (Tempest R) - 33,648,650,
654,655,678,737,763,814,825,
830,879,922,943'
Теплова Н. С. (Teplof) - 394,396,794
Титов В. П. - 20
Тихонова Е. Ю. — 915
Тогава Т. - 655
Токвиль А де (Tocqueville, Toquevi-
lle)-426,427,497,498,801,823,
824,866,874,875
Толстой Ф. И. («Американец») — 793
Толстой Я. — 841
Тольтье (Taultier) - 438,440
Томашевский Б. В. — 774
Указатель имен
959
Торопыгин П. Г. - 653,678,693,852,
853
ТриниусК.Б.-714
Троицкий В. Ю. — 735
Трофимов И. Т.-894
Трубецкой С. Н. - 888
Трубецкой С. П.-354,761
Тургенев Александр И. (Tourgeneff,
Tourgenief, Tourguénef) - 9,11,12,
17-20,30,374,377,378,396,402,
403,425,432-434,438,459,469,
470,499,500-503,550,552,634,
635,637,647,649,652,653,655,
656,659-663,665,678,682,685,
690,693,698,703,708,713,714,
720,722-724,727,729,734,735,
741,749,750,756,757,760,763,764,
767,769-772,775,777,780-786,
793-796,800-803,807,814-817,
821,824-830,832,835,837,838,
840-843,845,847-849,851,852,
•859,861,862,864,867,869,870,890,
891,896,897,899,900,904,905,907,
909,915,922,924,926,928,935,937
Тургенев Андрей И. — 760
Тургенев И. С. - 854
Тургенев Н. И.-7,10,18,354,503,
663,678,682,683,685,690,693,
698,713,714,722,757,758,760,
761,769,775,782,783,801,802,
814,817,829,843,848,870,905
Тургенев П. — 502
Тургенев П. Н. - 870
Тургенев С И. - 760,783,869
Тургеневы - 7,502,649,663,664,741,
757,775,777,780,783,784,851
Тургеньев — см. Тургенев Александр И.
Тынянов Ю. Н. - 7,682
ТьерЛ.А.-773
Тюдоры —712
Тютчев Ф. И. - 11,682,713,740,789,
837,855,871
Уваров С. С. (Ouvarof, Ouvaroff) -
25,26,28-33,355,405,412,506,
509-512,515,523,526-529,531,
537-540, 542-550, 552, 564, 569,
570,573,574,653,665,670,671,
731,741,777,789,790,806,829,
837, 863, 868,871-873, 877-881,
883, 887,888,890,892,895,
900-903,908,909,912,913,915,
916,918,926,928-931,933,934,
936,937,939
Улыбышев А. Д. — 660
Улыбышева — см. Панова Екатерина Д.
Улыбышева Елизавета Д. - 660
Уортман Р. С. - 728
УсакинаТИ.-80б
Устрялов Н. Г. - 843,868
Ушакова E.H.-551,906
УэвеллВ.-837
Фаворский И. П.-573,917
Фалк X. (Falk H.) - 16,648,650,652,
654,655,702
ФедотовД.Д.-891
Фенелон Ф. де Салиньяк, де ла Мот
(Fénclon) - 125,238,409,416,707
Феодор,св. -919
Феодосии I Великий, римский
император - 595,922
Фердинанд VII, испанский король —
753,930
Фидий — 714
Фидлер, врач — 798
Фиески Джузеппе (Жозеф) (Fieschi) —
403,404,410,803
Филарет (Дроздов), митрополит — 20,
26,27,800,910,923
Филиппов Л. — 908
Фих Б. М. - 759
Фихте И. Г. (Fichte) - 403,410,677,
698,702,703,799,803,810,811
Фишер И. Э. (Fischer) - 407,414,814
Фишер К И. - 787,888
Фишман О. Л. - 709
Флавий Клавдий Юлиан (Отступник)
üulien) — 127,708,845
Флеров В. П.-917
Флоровский Г. В. — 13,911
Фома Аквинский — 924
960
Фонвизин (фон Визин) С П. - 551,906
Фонвизин Д. И. - 906
Фориель К Ш. - 720
Формозов А. А. — 738
ФоссИ.Г-719
Фостер A. (Foster) - 809
Фотий, патриарх (Photius) - 65,174,
554,559,672,673
Франциск 1-591,921
Франциск Ассизский, св. — 710
Фридрих И Великий — 243
Фридрих-Вильгельм IV, прусский
король — 852
Фризман Л. Г. - 749
Фролов Н. Г. - 844
Фролова (урожд. Галахова) Е. П.
(Froloffm-me)-844,847
Фроловы - 844,847
Хр. — см. Иисус Христос
ХаютинА.Д.-6б5,68б
ХейлиЭ.(На11еу)-809
Херасков А. М. — 769
Хилков, кн. — 733
Хитрово Е.М.-20,741,774
Хлюстин С. С. (Chlustine) - 392, 394,
551,793,907
Хмельницкий Б. — 746
ХогартУ.-73б
Хомяков А. С. - 11,20,22,23,731-
734,740,749,799,918,922,923, .
926
Хомякова (урожд. Языкова) Е. М. —
897
Хореев В. А. - 740
Хрипун С. - 834
Христос - см. Иисус Христос
Цвингли У. (Zwingli) - 138, 253,711
Цезарь Юлий Гай - 154,270, 591,719
Цинский — см. Цынский Л. М.
Цицерон Марк Туллий (Cicéron, Cicero-
nis M. Tulli) — 42,60,110,150,168,
221,266,462,666,703,716,843
ЦуриковА.С. — 815
Цынский Л. M. - 441, 530,661,830,
832,833,888,891,892,895,896,
913,923,938
Чаадаев И. П. — 5,6
Чаадаев М. Я. - 6,442,759,787,789,
806,820,821,833,834
Чаадаев П. В. - 5,8
Чаадаев П. Я. ( aadaev, aadaev,
Chaadaev, Tchaadaeff, Tchaadayeff,
Tchadaieff, Tchadayeff, Tchadaïef,
Tchadaïeff, Tchéd, Tchédaeff) -
5-34, 353, 358, 359, 362-364,
367, 372, 384, 386, 388-392, 394,
396,419,421,423,425,429,431,
442,445,469-471,485,487,491,
493,496,501-507,509,510,517,
521,524,525,530,534,535,537,
538-542, 550-552, 565, 566,
568, 570, 574, 575, 580,605-608,
613-615,621,623,625,627-629,
632-636,638,639,647-664,
666-670,673-682,684,686-690,
693-735,737-743,746,748-753,
755,757-778,780-798,800-808,
810,813-834,836-854,856,858,
859,861-864,866-871,873,877,
880,883-885,887-901,904-910,
917-919,921-923,926-929,933,
935,936,938,943
Чаадаев Я. П. — 5
Чадаев — см. Чаадаев П. Я.
Чаодаев — см. Чаадаев П. Я.
Чарторыйский А., кн. — 742
Чед. — см. Чаадаев П. Я.
Чедаев — см. Чаадаев'П. Я.
Чемерисская М. И. — 655,727,731,
734,740,817
Чеодаев — см. Чаадаев П. Я.
Черейский Л. А. - 768,793,835,836,
846
Чернов Е. А. - 23
Чернышев А. И. (Czerniechoff) — 526,
527,888
Чернышев Г. И. — 6
Чернышевский Н. Г. — 723
Чижевский Д И. - 851,852,854
Указатель имен
961
Чичерин Б. Е - 853,893
Чичерин H.A.-551,906
ЧулковН.П.-885
Шаликов П. И. - 794
Шаль В. Э. Ф. (Chasles P.) - 399,401,
800
ШарпантьеЖ.П.-б07,927
Шатобриан Ф.-Р. де - 16, 502,655,
658,661,679,705,706,708,711,
715,738,739,786,800-803,924
Шаховская Н. Д. (Schakofskoy
Natalie)-423,425,637,821
Шаховской Д. И. - 11,648,650-652,
655,660,662,680-682,684,
686-689,693,695-698,700-703,
713,722,723,727,737,757-759,
761-763,777,781,783,792,800,
801,815,819-821,825,836-838,
845,847,848,851,852,854,857,
858,879,880,888,890,892,908,
'926,934,943
Шевченко M. M. - 29, 30
Шевырев С. П. - 12,20,471,731,765,
846,849,853,863,869,926
Шейнман-Топштейн С. Я. — 697
Шекспир У.-930
Шелинг — см. Шеллинг Ф. В. Й.
Шеллинг Ф. В. Й. (Schelling) - 17,125,
239,372,378,380,403,408,410,
415,478,656,658,659,679,695,
700-703,705,707,719,764,777,
778,780-784,786,795,799,803,
814,851,852,854
ШенрокВ.И.-23
Шереметева A.B.— 821,837
Шереметева (урожд. Тютчева) H. H. —
819,820,836,837
Шереметева О. Г. - 650,659,668,677,
680,689,698,704,715,716,720,
721,739
Шерн-Борисова И. С. - 703
Шиллер Ф. - 7
Шильдер Н. К - 787
Ширинский-Шихматов П. А. — 939
Шишков А. С.-920
Шлегель Ф. - 679,687,705,884
Шлейермахер Ф. Э. Д.
(Schleiermacher) - 125,239,681,707
Шлецер А. Л. фон (Schi zer) — 733
ШляпкинИ.А-768,771,862
Шодон Л. M. (Chaudon L M.) - 717,718
Шомпольон Ж. — 767
Шопен Ж. М.-767
Штейнберг А. А. - 9,660,661
ШтрайхС-821
Штраус Д. Ф. (Straus) - 432,826,830
Шуйский Василий Иванович (Choui-
skoy, Chouyskoy, Schouïskoï) — 78,
187,397,400,555,560,797,798
Шуйский Дмитрий — 798
Шульгин А. С, купец — 925
Шумихин С. В. - 836
ШурЛ.-б54,814
Щеголев П. Е. - 828,836
Щепкин М. С. - 823
Щербатов Д М. - 5
Щербатов И. Д. — 5
Щербатов М.М.-5,8,733,815
Щербатов Ф. А.-355,761
Щербатова А. М. - 5,8,9, 353,660,
759,760
Щербатова Е. Д. -821
Щербатова H. M. — 5
Эйдельман Н. Я. — 866
Экштейн — см. Д'Экштейн Ф.
ЭльзонМ.Д-24,899
Энгельгардт Л. Н. — 826
Энгельгардт С. В. — 898
Эпиктет (Epictète, Epiktet) - 716
Эпикур (Epicure) - 123,150,151,236,
265,266,557,562,688,704,712,
717,718
ЭроЭ.-Ж.-б53,7б7,81б,817
Эскирос А. — ввв
Эссен, СПб. генерал-губернатор — 775
Эткинд А. - 824
Юлиян — см. Флавий Клавдий Юлиан
(Отступник)
962
Юнг-Штиллинг И. Г. - 724
Юрьев К С. - 836
Юрьев СМ.-724
Юсупов Н. Б., князь — 708
Юшкова - см. Елагина А. П.
Ягайло, кн. литовский — 745
Ядвига, принцесса польская — 745
Языков Д. — 733
Языков H. M. - 19,749,750,756,794,
884,897
ЯкобиФ.Г.-715
Яковлев П. С.-551,907
Яковлева Т. Г. — 746
Якубович А. Ф. — 925
Якубович Я П.-866
Якушкин В. И.-821
Якушкин Д. А. — 820
Якушкин Е. Е. — 820
Якушкин Е. И.-821
Якушкин И. Д. - 10, 354,421,445,451,
666,723,760,761,763,819-821,
836-839,845
Яниш К - 637,939
Ярослав Мудрый, кн. — 336,744,934
Ясинский Я. И. — 922
Ястребцов И. М. - 653,678,724,826,
829,830
N. Ольга — см. Энгельгардт С. В.
Adam — см. Адам
Alexandre — см. Александр
Македонский
Alexandre, l'Empereur — см. Александр I
император
Ancelot m-me — 848
Anselm — см. Ансельм Кентерберий-
ский, св.
Arago — см. Араго Д.-Ф.
Aristote — см. Аристотель
Babington — см. Бэбингтон
Bacon — см. Бэкон Ф.
Bacon Fran ois — см. Бэкон Ф.
Ballanche P.-S. — см. Балланш П.-С.
Batteux Ch. — см. Батте Ш.
Bautain — см. Ботэн Л.
Bayer — см. Байер Г. 3.
Becquerel - см. Беккерель А.-С.
Bellizard — см. Беллизар Ф.
Benkendorf, comte — см.
Бенкендорф А. X.
Bentham J. — см. Бентам И.
Berryer — см. Берье П.-А.
Beza Th.-660
Bilinsky — см. Белинский В. Г.
BiotJ.B.-CM.Bno>K.B.
Bloudof — см. Блудов Д. Н.
Boldireff — см. Болдырев А. В.
Boldyreff — см. Болдырев А. В.
Bonald — см. Бональд Л. Г.
Bonaparte — см. Наполеон Бонапарт
Bonnet Ch. — см. Бонне Ш.
Bonstetten — см. Бонштеттен Ш.-В.
Boss V.-697
Boulgarine — см. Булгарин Ф. В.
Boulhakof — см. Булгаков А. Я.
Boussingault - см. Буссенго Ж.-Б.
Bravoura — см. Бравура М.
Brun-Zejmis J. — см. Брун-Зеймис Дж.
Bûchez — см. Бюше Ф. Ж.
Byron — см. Байрон Дж. Г.
Çaadaev — см. Чаадаев П. Я.
Caadaev — см. Чаадаев П. Я.
Calvin — см. Кальвин Ж.
Carrel А. — см. Каррель А.
Catherine II — см. Екатерина II
Великая, императрица •
Caton-123
Cavaion D. — 16
César — см. Цезарь Юлий Гай
Chaadaev — см. Чаадаев П. Я.
ChallamelP.J.-802
Charlemagne — см. Карл Великий,
император
Charles I-er — см. Карл I, король
Charles X — см. Карл X
Chasles Р. - см. Шаль В. Э. Ф.
Chaudon L M. — см. Шодон Л. М.
Указатель имен
963
Chlustine — см. Хлюстин С С.
Chouiskoy, Chouyskoy, Schouïskoï —
см. Шуйский В. И.
Christ — см. Jésus-Christ
Cicéron — см. Цицерон Марк Туллий
Ciceronis M. Tulli — см. Цицерон Марк
Туллий
Circourt de, madame — см. Сиркур А. С,
графиня
Colebrock — см. Колброк Г.
Colebroock — см. Колброк Г.
Coleridge — см. Кольридж С.
Condillac — см. Кондильяк Э. Б. де
Cousin — см. Кузен В.
Cranmer — см. Кранмер Т.,
архиепископ Кентерберийский
Creuzer G. F. — см. Крейцер Г. Ф.
Cuvier — см. Кювье Ж
Cyrille — см. Кирилл, св.
Czerniechoff — см. Чернышев А. И.
Dacier m-me — 719
Daniel — см. Даниил, пророк
Dante — см. Данте Алигьери
David — см. Давид
Delandine F. А. — см. Деландин Ф.-А.
Démocrite — см. Демокрит
Descartes — см. Декарт Р.
Diodore de Sicile — см. Диодор
Сицилийский
Dioletta Siclari А — см. Диолетта Си-
клариА
Dumarsais - 706
Echstein, Eckstein, Ekstein — см. Д'Эк-
штейн Ф.
Epictète, Epiktet — см. Эпиктет
Epicure — см. Эпикур
Eugene Wonliar-Larsky — см. Вонляр-
Лярский Е.
Falk H. -см.ФалкХ.
Fénélon — см. Фенелон Ф. де Салиньяк
Fichte — см. Фихте И. Г.
Fieschi — см. Фиески Дж.
Fischer — см. Фишер И. Э.
FlorinskyM. — 10
Fontaine —651
Foster — см. Фостер А
Frank M. - 852
Frédéric- 130
Froloff m-me — см. Фролова Е. П.
Gagarin — см. Гагарин И. С.
Gagarine le jeune — см. Гагарин И. С.
Galachof — см. Галахов И. П.
Galilée — см. Галилей Г.
Galitzin, prince — см. Голицын Д. В.
Gall, docteur — см. Галль Ф. Й.
Gallilée — см. Галилей Г.
Genoude — см. Женуд А Э.
Girardin M. — см. Жирарден С.-М.
Godounoff — см. Годунов Борис
Golikof — см. Голиков И. И.
Goulianof — см. Гульянов И. А.
Graef — см. Греф (Грефе) В.
СЖ-см.Греф(Грефе)В.
Grégoire VII — см. Григорий VII Гиль-
дебрант, папа римский
Grégoire de Tours — см. Григорий
Турский
GuillonM.N.S.-681
Guisot - см. Гизо Ф. П. Г.
Guizot - см. 1йзо Ф. П. Г.
Habermas J. — 852
Halley — см. Хейли Э.
Heeren A H. L — см. Геерен А Г. Л.
Hegel — см. Гегель В. Ф.
Hegels - см. Гегель В. Ф.
Henri VIII - см. Генрих VIII Тюдор,
английский король
Hérodote — см. Геродот
Heyne — см. Гейне Г.
Hildebrand — см. Григорий VII Гиль-
дебранд
Hipparque — см. Гиппарх Никейский
Hoffmann A F. — см. Гоффман А Ф.
Hohenstauffen — см. Гогенштауфены
Homere — см. Гомер
Homeri — см. Гомер
Hugo V. — см. Гюго В.
964
Humboldt A. de, baron — см. Гум-
больдт А. фон, барон
Igor — см. Игорь, князь
J. С. — см. Иисус Христос
Jaroslav, prince — 333
Jelaguine — см. Елагина А. П.
Jesu — см. Иисус Христос
Jésus-Christ — см. Иисус Христос
Job — см. Иов
John St. — см. Иоанн, евангелист
Jones — см. Джонс У.
Jouffroy — см. Жуффруа Т. С.
Joukofsky — см. Жуковский В. А.
Joui de — см. Жуй В. Ж Э. де
Jouy de — см. Жуй В. Ж Э. де
Juden В. - 802
Julien — см. Флавий Клавдий Юлиан
(Отступник)
Kant — см. Кант И.
Karamsine — см. Карамзин H. M.
Kepler — см. Кеплер И.
Kindiakof — см. Киндяковы
Kireevskij — см. Киреевский И. В.
Klaproth — см. Клапрот Г.-Ю. фон
Klopstock — см. Клопшток Ф. Г.
Koukolnike — см. Кукольник Н. В.
Kreutzer — см. Крейцер Г. Ф.
Kupfer — см. Купфер А. Т.
Kupffer A. Т. - см. Купфер А. Т.
La Fayette - см. Лафайет М.-Ж
La Mennais F. de — см. Ламенне Ф. R де
Lacordaire, l'abbé — см. Лакордер Ж. Б.
Lagides — см. Лагиды
Lamarque - см. Ламарк Ж М.
Lamenais — см. Ламенне Ф. Р. де
Lamené — см. Ламенне Ф. Р. де
Lamennais — см. Ламенне Ф. Р. де
Lange J. J. — см. Ланге Й. Й.
Le Guilloi L — Le Guillou L
Le Guillou L. - 818,822,842,912
Le Tasse — см. Тассо T.
Leibniz — см. Лейбниц Г. В.
Léon X — см. Лев X Медичи, Папа
римский
Lerminier — см. Лерминье Ж. Л. Э.
Levachof, madame — см. Левашева Е. Г.
Liamina С. — см. Лямина Е. Э.
Liechtenhan F.-D. -671
Littré - 877
Livius Titus — см. Ливии Тит
Luculle — см. Лукулл
Luther — см. Лютер М.
Mahomet — см. Магомет, пророк
Maistre J. de — см. Местр Ж Де
Malo S. — см. Мало Ш.
Marc Aurèle — см. Аврелий Марк
Marc-Aurèle — см. Аврелий Марк
Marc-Aurele-Antonin — см. Аврелий
Марк
Marmier — 848
Maxime de Туг — см. Максим Тирский
Maxime Turii — см. Максим Тирский
McNally R Т. — см. Макналли Р. Т.
Meindorf — см. Мейендорф А. К.
Mendelsohn M. — см. Мендельсон М.
Mendelssohn M. — см. Мендельсон М.
Meschtscherskaya — см.
Мещерская С. С.
Méthode — см. Мефодий, св.
Metsherskij — см. Мещерский Э. П.
Meyndorf — см. Мейендорф А. К
Michelet — см. Мишле Ж
Miguel — см. Мигель, дон
Milton — см. Мильтон Дж.
Minuti R - см. Минута Р.
Mohrenschildt D. S. von - 16,658
Moïse — см. Моисей
Montaigne — см. Монтень M.
Mordvinoff — см. Мордвинов А. Н.
Moyse — см. Моисей
Müller — см. Миллер Г. Ф.
Nadegdin — см. Надеждин Н. И.
Napol — см. Наполеон Бонапарт
Napoléon, l'empereur — см. Наполеон
Бонапарт
Naschtschokine — см. Нащокин П. В.
Указатель имен
965
Nestor — см, Нестор
Newman — см. Ньюмен Д. Г.
Newton — см. Ньютон И.
NisardM.D.-850
O'Connell - см. О'Коннел Д.
OdyH.J.-782
Oleg - см. Олег, князь
Orlof — см. Орлов М. Ф.
Orphée — см. Орфей
Ossian — см. Оссиан
Ouvarof — см. Уваров С. С.
Ouvaroff — см. Уваров С. С.
Pachkof — см. Пашковы
Pallace — см. Паллас П. С.
Pascal — см. Паскаль Б.
Passenans P.-D. de — 685
Pastoret CI.-E. de — см. Пасторе К-Э. де
Paul, st. apostole — см. Павел, апостол
Paulin - 877
Pauthier G. — см. Потье Г.
Pavlof — см. Павлов Н. Ф.
Périclès — см. Перикл
Photius — см. Фотий, патриарх
Pierre le Grand — см. Петр I
Алексеевич
Pierre st. — см. Петр, апостол
Pierre-le-Grand — см. Петр I
Алексеевич
Platon — см. Платон
Plutarque — см. Плутарх
Poley L — см. Полей Л.
Potter de — см. Поттер Л.-Ж.-А де
Pouchkine - см. Пушкин А С.
Pratasow — см. Протасов Н. А.
Protassoff — см. Протасов Н. А.
Pythagore — см. Пифагор
Quénet Ch. — см. Кене Ш.
Raumer — см. Раумер Ф. фон
Rayewsky — см. Раевский А Н.
Raynolds Mansel F. — см. Рей-
нолдс Ф. М.
ReidT. -см. Рид Т.
Remer J. A. — см. Ремер Ю. А.
Reynolds F. M. — см. Рейнолдс Ф. М.
Rhode J. G.- см. Роде И. Г.
RiasanovskyN.V.-655,728
Rio A F.-702
Rjewoutzka — см. Ржевусская (Ржевуц-
кая, Реутская) Р. А.
Robespierre — см. Робеспьер M. M.
Rouleau F. — см. Руло Ф.
Rourik — см. Рюрик, князь
Ruf Quintus Curtius - см. Руф Квинт
Курций
S. Simon — см. Сен-Симон К А. де Р.
Sagoskine — см. Загоскин M. H.
Saint Antoine — см. Антоний Великий,
св.
Saint Basile — см. Василий Великий, св.
Saint Grégoire de Nazianze — Григорий
Назианзин (Богослов), св.
Saint Jean Chrysostome — см. Иоанн
Златоуст, св.
Schakhovskoy D. - 790,791,905
Schakofskoy Natalie — см.
Шаховская H. Д.
Schelling — см. Шеллинг Ф. В. Й.
Schleiermacher — см. Шлейерма-
херФ.Э.Д.
Schi zer — см. Шлецер А Л.
Schulz W.-852
Séleucides — см. Селевкиды
Semen — см. Семен А И.
Servet — см. Сервет М.
Simonof — см. Симонов И. М.
Simonoff — см. Симонов И. М.
SismondiJ. Ch. -739
Socrate — см. Сократ
Sokolnicki M. — 742
Spinoza — см. Спиноза Б.
Spurzheim — см. Спурцгейм И.
Staël A L G. — см. Сталь Ж. де
Sta 1, Madame de - см. Сталь Ж. де
Stagirite — см. Аристотель
Stewart D. — см. Стюарт Д
Straus — см. Штраус Д. Ф.
Strogonoff — см. Строганов С. Г.
966
Strogonow — см. Строганов С. Г.
Sverbeyef, madame — см. Свербее-
ваЕ. А.
Sviatoslav — см. Святослав, князь
Sylverste Е. — см. Сильвестр Э.
Swetchine — см. Свечина С. П.
Tacite — см. Тацит
Tatarinof — см. Татаринов А. Н.
Taultier — см. Тольтье
Télèmaque — 707
Tempest R — см. Темпест Р.
Teplof — см. Теплова Н. С.
Tchaadaeff — см. Чаадаев П. Я.
Tchaadayeff — см. Чаадаев П. Я.
Tchadaieff - см. Чаадаев П. Я.
Tchadayeff — см. Чаадаев П. Я.
Tchadaïef — см. Чаадаев П. Я.
Tchadaieff — см. Чаадаев П. Я.
Tchéd. — см. Чаадаев П. Я.
Tchédaeff — см. Чаадаев П. Я.
Théophane — см. Прокопович Ф.
Tite-Live — см. Ливии Тит
Tocqueville — см. Токвиль А. де
Toqueville — см. Токвиль А. де
Tourgeneff — см. Тургенев
Александр И.
Tourgenief — см. Тургенев
Александр И.
Tourguénef — см. Тургенев
Александр И.
Tourtscheninoff, m-lle de — 651
Ulysse - 707
Valmiki — см. Вальмики
Vasiltschikof — см. Васильчиков И. В.
Vermeren P. - 782
Viasemskoy — см. Вяземский П. А.
Villemain A. F. — см. Вильмен А.-Ф.
Voltaire — см. Вольтер (Аруэ Ф. М.)
White RL-744,775,912
Wilberforce W. — см. Вильберфорс У.
Wonliar-Larsky Е. — см. Вонляр-
Лярский Е. П.
Xénophon - см. Ксенофонт
Zeldin M.-B. - 693
Zoroastre — см. Зороастр (Заратуш-
тра)
Zoukofsky — см. Жуковский В. А.
Zwingli - см. Цвингли У.
Содержание
Петр Яковлевич Чаадаев
М. Б. Велижев 5
П. Я. ЧААДАЕВ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 35
Философические письма 37
Статьи 279
Письма 360
ПРИЛОЖЕНИЯ 489
Письма 491
Переписка вокруг «Телескопического дела» 505
Ответы на первое «Философическое письмо» 576
Расследование по «чаадаевскому делу»:
вопросные пункты 605
КОММЕНТАРИИ 645
Список сокращений 649
Библиография 943
Указатель имен 944
Научное издание
Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века
Чаадаев Петр Яковлевич
Избранные труды
Ведущий редактор Е. А Кононова
Редактор Т. И. Петрова
Художественный редактор А К Сорокин
Художественное оформление М. В. Минина
Технический редактор M M. Ветрова
Компьютерная верстка Т. В. Хромцева
Корректор К Б. Стахеева
ЛР №066009 от 22.07.1998. Подписано в печать28.12.2009.
Формат 60 х 90 У к,. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 60,5.
Тираж 1000 экз. Заказ 835
Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел.: 334-81-87 (дирекция), 334-82-42 (отдел реализации)
Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО *ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
946
Бурбоны-775,817,921,930
Буссенго Ж-Б. (Boussingault) - 809
Бутковский Н. — 813,886
Бэбингтон (Babington) - 738
Бэкон Р. - 702
Бэкон Ф. (Bacon, Bacon Fran ois) — 88,
99,150,198,210,265,409,416,432,
433,688,689,694,696,702,716,
826,827
Бюше Ф. Ж (Bûchez) - 558, 563,909
ВалицкиА. — 655
ВальдоП.-710
Вальмики (Valmiki) - 365, 369,772
Василий Великий, св. (Saint Basile) —
74,183,681
Василий Косой, князь — 934
Василий Темный, князь — 934
Василько Ростиславич, князь — 934
Васильчиков И. В. (Vasiltschikof) -
6-8, 383-385,787,788,885,899,
905,910
ВаттДж.-823
Вацуро В. Э. - 749,751,776,789,794,
843,861,864,881,895,897,918
Введенский А. И. — 785
Велижев М. Б. - 25,28, 34,648,873,
877,929,939
ВельтманА.Ф.-731,923
Вернадский Г. В. - 6
ВеронЛ.-Д.-800
Весел овский А. — 735
ВеттеВ.М.Л.де-660
Вигель Ф. Ф. - 6,20,804,862,889
Виельгорский М. Ю. — 6
Вильберфорс У. (Wilberforce W.) -
684
Вильде Н. - 661
Вильмен А.-Ф. (Villemain A. F.) - 715,
722,927
Вильмень — см. Вильмен А-Ф.
Виндельбанд В. - 784,785,857
Виньи А де — 774
Висконти — 591
Витовт, кн. литовский — 745
Владимир Мономах — 581,925
Владимир Ярославич, князь
новгородский — 934
Владимир, князь - 581, 595,602,664,
672,919,920,922
Волконский С. Г. — 6
Воложинин, студент — 895
ВольпертЛ.И.-824
Вольтер (Аруэ Ф. M.) (Voltaire) - 117,
128,229,242,494,496,500,651,
658,675,696,697,705,708,709,
727,773,839
Вольф Ф.-А. - 720
Вольф X.-700,701
Вонляр-Лярский (Вонлярляр-
ский) Е. П. (Eugène Wonliar-Larsky,
Wonliar-LarskyE.)-889
Ворожцова Б. H. — 824
ВостоковА.Х.-523,884
Врангель Ф. П., барон - 809
ВульфЛ.-731
Выскочков Л. — 789
Вышата — 934
Вяземская (урожд. Гагарина) В. Ф,
княгиня - 794,862
Вяземский П. A (Viasemskoy) - 9,
11-13,17,19,392,425,426,461,
499-504,647,649,651,652,659,
661,663-665,678,709,716,717,
720,724,734,735,740-742,749,
750,756,769-771,777,780,782-
786,789,792-795,800,801,807,
815-817,824-826,829,832,835,
836,840-843,845,852,861,864,
866-870,881,890,891,897,899,
900,905,907,909,924,937
Вязьмитинов С. К — 6
Гаврилов А К - 706
Гагарин Гр. И. - 777,795
Гагарин И. А — 6
Гагарин И. С. (Gagarin, Gagarine le
jeune)-11,408,415,469,637,649,
650,652,654,659,665,667,680,698,
718,724,725,736,737,748,749,785,
795,801,802,814,815,826,827,844,
847-849,851,862,934,943
Указатель имен
947
Галахов И. П. (Galachof) - 469,470
847,848
Галилей Г. (Galilee, Gallilee) - 100, 211,
405,412,806
Галлер К.-Л. - 845
Галль Ф. Й. (Gall, docteur) - 667,668,
810-812
ГартвигА.-828
ГассендиП.-718
Гациский А. - 660
ГебхардтДж.-923
Гегель В. Ф. (Hegel, Hegels) - 438,
439,701,727,733,784,799,830,
850-854,856-858
Гедимин, кн. литовский — 745
Геерен А. Г. Л. (Heeren A. H. L.) - 154,
269,719
Гейне Г. (Heyne) - 403,404,410,803
Генрих IV-588,822,921
Генрих VIII Тюдор, английский
король (Henri VIII) - 51,69,138,178,
253,712,942
Генуд де — см. Женуд А. Э.
Георгий Долгорукий — 604,925
Герман К. - 747,748
Геродот (Hérodote) - 121,133,143,
233,247,257,709,714
Герцен А. И. - 20,654,820,847,853,856
Гершензон М. О. - 5,7,9,11,34,649,
653,654,661,723-725,737,749,
759-770,772,774,777,780,782,
783,786,788-792,795,801-803,
810,815-817,821,823,824,826,
827,830-834,836-841,844,845-
847,849-852,857,858,943
Гете И. В. - 777
№ббонЭ.-714
Гизо Ф. П. Г. (Guisot, Guizot) - 136,
250,679,680,705,710,722,817,
822,823,897
Шллельсон M. И. - 17,740,742,749,
751,756,765,771,775,789,794,
843,865,869,881,895,909,918,
926
Гильдебранд - см. Григорий VII Гиль-
дебранд
Гиляров-Платонов Н. П. — 23
Гинц - 892
Гиппарх Никейский (Hipparque) —
121,233,706
Глинка М. И. - 27,734
Глинка С. Н. - 25
Глинка Ф. Н. - 6,849
Гогарт — см. Хогарт У.
Гогенштауфены (Hohenstauffen) -
438,439,830
Гоголь H. В.-11,20,735,738
Годунов Борис Федорович, царь
(Godounoff) - 78,187, 555, 560,
664,682,861,865
Голенищев-Кутузов П. И. — 6
Голиков И. И. (Golikof) - 439,441,
728-730,832
Голицын А. Н.-817
Голицын А. П. — 814
Голицын Д. В. (Galitzin, prince) — 20,
524,525, 527, 528,530,533, 534,
573, 574,727,757,759,760,789,
833,862,885,888,890-892,895,
897,900,912-915,923,935,938
Голицын М. П. - 637,938
ГолицынН. В.-841
Голицын H. H. - 885
Голицын С. М. - 617,634,893,901,
902,929,931,932
Голицыны — 885
Голицын, князь — 785
Головнин В. М. — 674
Голохвастов Д. П. - 505, 531,542, 543,
552,553,569,571,871-873,877,
878,893,896,901,902,916,939
Голубинский Ф. А. — 652,711
Гомер (Homère, Homeri) — 19,123,
153-156,236,269-272,491,
492,557,562,590,707,709,715,
718-720
ГорнфельдА.Г-803
Горчаков, князь — 836
Гоффман А. Ф. (Hoffmann A. F.) - 701
Грановский Т. Н. - 732,733,844,845,
847,855
ГрейгА.С-684
948
Греф (Грефе) В. (Graef, Gräff) - 438,
439,831
Греф X.-831
Греч Н. И. - 6, 20,892
Грибоедов A.C. —6,10, 32,762
Григорий I Великий, папа римский -
924
Григорий VII Гильдебранд, папа
римский (Grégoire VII, Hildebrand) —
425,426,722,821-823
Григорий XVI, папа римский — 774,
842
Григорий Назианзин (Богослов), св.
(Saint Grégoire de Nazianze) — 74,
183,681
Григорий Турский (Grégoire de
Tours)-143, 257,714
Гринберг О. Э. - 663
Гринзингер Г. Ф. — 660
Гульковский М. К. — 891
Гульянов И. A. (Goulianof) - ЗбО, 361,
738,767
Гумбольдт А. фон, барон (Hum-boldt A.
de, baron)-809,810
Гура В. В. - 914
Пого В. (Hugo V.) - 397,400,797,802,
930
Д'АламберЖ.Л.-838
Давид (David) - 123,148,149,236,
264,265,491,492,557,562,712
Давьщов Д В. - 9,655,724,742,872,897
ДамиронЖ-Ф.-б80,702
Даниил (Заточник) — 604,925
Даниил, пророк (Daniel) — 697,707,
708
Данилевский Р. Ю. — 777
Данилов Кирша (Кирилл) — 604,925
Дант — см. Данте Алигьери
Данте Алигьери (Dante) — 368,372,776
Данциг Б. М- 871
Дашков Д. В. - 544,791,903,905
Дашков П. Я.-651
Декарт P. (Descartes) - 99,110,115,
116,210,221,227,228,667,668,
694,696,698,703,721
ДелагардиЯ-798,799
Деландин Ф.-А. (Delandine F. A.) — 717,
718
Дельвиг А. И. - 765,820,840,897
Демокрит (Démocrite) — 150, 265,716
Деннике Б. П.-724,851
Державин Г Р. - 922
Дешан А. — 776
Джефферсон Т. — 874
Джонс У. (Jones) — 678
Диадор Сицилийский — см. Диодор
Сицилийский
Дибич И. И. - 684,757,758
Дивов П. Г. - 900
Дидро Д.-838
Димитрий, царевич — 864
Диоген — 331
Диодор Сицилийский (Diodore de
Sicile) - 720
Диолетта Сиклари A. (Dioletta
SiclariA.) — 700,701
Дмитревский (Дьяконов, Нары-
ков)И.А.-921
Дмитревский, польский граф — 921
Дмитриев И. И. - 439,440,551,552,
637,756,771,820,831,832,835,
867,907
Дмитриев Л. А. — 925
Дмитриев М. А. - 9,22,661,820,832,
893,865,904
Дмитриев С. С. — 653
Дмитриева Е. Е. — 14
Дмитриев-Мамонов А. И. — 6
Дмитрий, самозванец (Лжедмит-
рий) I - 502,734-
Долбилов М. Д. - 746,747
Долгова С. Р. - 659,663
Долгорукова Е. А. — 11
Долинин А. А. — 862
Домициан Тит Флавий, римский
император — 850
Дон Карлос Старший (Дон Карлос
Мариа Исидро де Бурбон), король
Карл V-615,930
Дондуков-Корсаков М. А. — 878,881,
887
Указатель имен
949
Достоевские, бр. — 851
Дроздов А. - 894
Дружинин П. А. - 827
Дубельт Л. В.-6,846,914
Дубровин Н. — 757
ДЭкштейн (Д'Эккштейн) Ф. (Echstein,
Eckstein, Ekstein) - 409,417,425,
426,558,563,607,653,658,767,
774,816,817,818,821,822,926,927
Дюма А., отец-800,802
Евгения Тур — см. Сухово-Кобыли-
на Е. В.
ЕвстратовА.Г-648,882
Егоров А. Е., художник — 815
Егоров Б. Ф. - 799
Екатерина И Великая, императрица
(Екатерина Алексеевна) — 6,8,
494-498,587,623,683,746,747,
860,865,882,905,921
Екатерина Арагонская — 712
Екатерина, жена Дмитрия
Шуйского - 798
Елагина (урожд. Юшкова) А. П.
Qelaguine) - 397,399,637,652,
711,750,796,847,848
Елизавета Петровна (Елисавета),
императрица - 8,587,921
Елизавета I Тюдор (Елисавета),
королева английская — 591,921
Женуд А. Э. (Genoude) - 408,415,660,
816,878
ЖербэО.Ф.-774,822,927
Живов В. М. - 672
Жирарден G-M. (Girardin M.) - 406,
413,802,807,808,878
Жихарев M. И. - 7,22,649,651,654,
661,681,724,736,737,760,768,
770,773,789,815,824,825-827,
829,830,836,839,885,891,892,
896,923
Жуй В. Ж Э. (Joui de, Jouy de) - 360,
361,766
Жуковский В. A. (Joukofsky, Zoukof-
sky)-9, И, 20,27,33, 394,396,
397,400,444,445,469,720,734,
736,740,749,750,755,756,770,
771,772,775,776,777,782,796,
799,800,803,828,835,836,845-
847,859,861,862,869,918
Жуффруа Т. С Oouffroy) - 407,414,
813
Жюльен М.-А. - 653,767,816,817
Заборов П. Р. - 653,767,816,817
Загоскин M. H. (Sagoskine) - 404,405,
412,734,804,806,840
Зант(Занд)КЛ.-355
Звенигородский А. В., князь — 834
Зедергольм К А. — 781
Зенон Китайский — 717
Златопольская А. А. — 919,921
Зонтаг А. П. — 756
Зорин А. Л.-26,29,648,806
Зороастр (Заратуштра) (Zoroastre) —
84,194
Зубков В. П.-551,906
И. X. — см. Иисус Христос
Иаков, патриарх — 815
Ив. Ив. — см. Дмитриев И. И.
Иван Иванович — см. Дмитриев И. И.
Иван III — см. Иоанн III
Ивановский В. — 16
Иванян И. Э. - 824
Игорь Святославович — 925
Игорь, князь (Igor) - 497,499,604,
864
Иезуитова Р. В. — 836
Изабелла II де Бурбон, королева
испанская — 930
Измайлов Н. В. - 25,861
Иисус Христос (Christ, J. С, Jesu, Jésus-
Christ) - 18,51,52,70,71,78,86,
115,136,146,152,153,159,179,
180,187,196,227,251,261,268,
269,275,357,408,415,463,466,
473,474,476,477,491-493,495,
700,721,782,826,830,845
Ильин-Томич А. - 840,894
Ильченко Д. В.-899,900
950
Иннокентий (Борисов) — 24
Инсаров X. - 775
Иоанн, св.— 919
Иоанн III-581,620,727,728
Иоанн Грозный IV - 581, 595,620,
664,920
Иоанн Златоуст, св. (Saint Jean
Chrysostome) - 74,183,406,413,
681,807
Иоанн, евангелист (John St.) — 254,
661,686,697,699,815,816,839
Иов Gob)-104, 215,699
Ирсетская Л. А. - 916,936
Исайя, пророк — 687
ИстринВ.-741,775,783
К А. — см. Свербеева Е. А.
Казимир Великий, польский король —
745
Кайдаш С. — 661
Калайдович И. Ф. — 906
Калитин П. В. - 859
Кальвин Ж. (Calvin) - 138,253,710,
711
Кальдерон П. — 930
Каменская Л. 3. — 792
Каменский 3. А. - 655,666,677,716,
719,727,731,734,739,740,943
Канкрин Е. Ф. - 789
Кант И. (Kant) - 116,228,403,410,
690,691-693,695,701-703,785,
799,803,810-812,852,857
Карамзин Александр Н. — 22
Карамзин Андрей Н. — 22,862
Карамзин H. M. (Karamsine) — 9,17,
287,302,315,461,462,624,649,
663,664,668,669,672,677,678,
683,725,726,728,733,741,748,
765,769,797,798,843,844,852,
864,866,868,882,919-922,925,
934
Карамзина Е. А. — 794
Карамзина С. Н. — 862
Карамзины — 22,824,863
Карл I, английский король (Charles
I-er)-51,679,942
Карл IX, шведский король — 797
Карл V — см. Дон Карлос Старший
Карл X, французский король
(Charles X) - 403,410,662,772,773
Карл Великий, император
(Charlemagne) - 664,822,889
Kapp А.-800
КаррельА.-874,877
Карташевская М. Г. — 22
Карцов П. П. - 5
Катков М. Н. - 852
Катон Младший (Утический) — 123,
236,707
Каченовский М. Т. - 531,878,893,
917,930,931,935,938
Кашинцев (Кашинцов) Н. А. — 870,
894,912
Кене Ш. (Quénet Ch.) - 16,648,650,
652,655,656,658,663,680,687,
693,695,696,703,705,706,713,
721,723,725,726,729,731,782,
826,831,852
Кеплер И. (Kepler) - 100,121,211,
234,691,706
Кетчер Н. X. - 24,877,895,896,926
Киндяков П. В. — 786
Киндякова Елизавета П. — см.
Пашкова Е. П.
Киндякова Екатерина П. — см.
Раевская Е. П.
Киндяковы (Kindiakof) — 380, 382,
786,847
Кипренский О. — 815
Киреевская — см. Елагина А. П.
Киреевские — 732,844
Киреевский И. В. - 11,17,19,701,
724,732,733,749-756,794,796,
825
Киреевский П. В. - 9,19,731,732,
749,794,796
Кирилл, св. (Cyrille) - 673,920
Кирпичников А. И. — 6
Киселева Л. Н.-27,734
Клапрот Г.-Ю. фон (Klaproth) - 360,
361,767
Клопшток Ф. Г. (Klopstock) - 776
Указатель имен
951
КняжевичД.М. — 915
Козаков (Казаков) — 550
Козлов В. П. - 672
Козловский П. Б., кн. - 494,495,504,
647,649,668,673,676,677,682,
713,736,829,843,865,871,899
Козмин Н. К - 869,878,888,909,929,
930,931,932
КойтенА — 831
Колайдович И. Ф. — 551
Колачник Федор — 870
Колброк Г. (Colebrock, Colebroock) —
438,440
Колбрук Г. — см. Колброк Г.
Колеброк — см. Колброк Г.
Колзаков П. А. - 353, 358,757,760
Кольридж С. Т. (Coleridge) - 279,293,
726,727
Колюпанов Н. — 853
Коммод, римский император — 716
Комовский В. Д. - 524,526,542,544,
750,884
Кондильяк Э. Б. де (Condillac) — 703,
706
Констан Б. - 759,800
Константин Мономах, император
византийский — 934
Конфуций — 601
Константин Павлович, вел. кн. — 6,
757-760,762
Коок — см. Кук Ч.
Коперник Н. — 806
Кордемуа Ж-Л. де - 737
Костикова Е. — см. Лямина Е. Э.
Кочубей В. П.-762,773
Кочубинский А. А. — 9Ю
КошелевАИ.-752,853
Кошелев В. А. - 22,735
Крамер В. В. - 767
Кранмер Т., архиепископ Кентербе-
рийский (Cranmer) — 138,253,712
Кройцер Г. Ф. (Creuzer G. F.,
Kreutzer)-154,269,719
Кречер — см. Кетчер H. X.
Кромвель О.-51,664,942
Крюков Д. Л.-936,937
Ксенофонт Афинский (Xénophon) —
149,264,716
Кузен В. (Cousin) - 125, 239, 373, 375,
701,707,782,801,813
Кук 4.-355,356,762
Кукольник Н. В. (Koukolnike) - 29,394,
396,397,400,793,797-799,922
Кулагин А. В. - 859
Куликова А. М. — 767
Купфер А. Т. (Kupfer, Kupffer А. Т.) -
406,413,808-810
Курбатов П. А-550,904
Курилкин А Р. - 648,683
Курций - см. Руф Квинт Курций
Кушнир С. И. - 874
Кювье Ж (Cuvier) - 406,413,422,424,
447,450,666,733,802,807,808,
821,837,845
Кюнтцель-Витт К - 814
Кюстин А. де - 662,670,671,764,817,
841,842,843
Лабзин А. Ф. — 6
Лаво Ж де, граф - 767
Лавринович М. Б. — 648
Лаг - 708
Лагиды (Lagides) - 127,130,244,708
Лазарев Н. - 929
Лакордер Ж. Б. (Lacordaire, l'abbé) —
399,401-403,425-427,774,
800-802,821
ЛамаркЖ M. (Lamarque) - 367, 371,
775
Ламартин A. M. Л. - 777,802,848,905
Ламене — см. Ламенне Ф. Р. де
Ламенне Ф. Р. де (La Mennais F. de,
Lamenais, Lamené, Lamennais) — 16,
459,460,506,507,558,563,567,568,
655,656,658,662,666-668,671,
674,678,684,693,694,701,703,705,
715,716,722,724,727,744,774,775,
800,801,802,818,822,841,842,859,
873,897,911,912
Ламенэ — см. Ламенне Ф. Р. де
Ланге Й.Й. (Lange J.J.)-701
Лафайет М.-Ж (La Fayette) - 743,744
952
Лахтин, купец — 441
Лебедев К Н. - 22
Лев X Медичи, папа римский (Léon X) —
136,251,710
Левашев В. В. - 550,905
Левашев Н. В. - 11,550,820,834,904
Левашева (урожд. Решетова) Е. Г.
(Levachof, madame) - 11,421,423,
550,819,820,832,834,836-838,
904
Левашевы - 637,815,820,823
Левашова — см. Левашева Е. Г.
Левек П. - 673
Левенгук А. ван — 714
ЛевковичЯ.Л.-83б
Лейб - 759
Лейбниц Г. В. (Leibniz) - 409,416,700
Лелевель И. — 742
Лемке М. К - 23,29, 30, 32,649,749,
750,754,786,788-792,826,832,
833,878,879,884,885,887,889-
892,894,895,896,898,899,900,
904,905,909,910,914,917,925,
926,931,935,937,939
Лепехин М. И. — 666,611
Лерминье Ж. Л. Э. (Lerminier) — 402,
403,802
Летурнер П. — 668
Летчфорд С. Е. — 685
Лжедмитрий II — 798
ЛивенКА.-750,754,931
Ливены — 750
Ливии Тит (Livius Titus, Tite-Live) -
143,257,704,714
ЛожьеМ.-А.-737
ЛоккД.-б98
Ломоносов М. В. - 292,306,587,734
Лонгинов M. H. - 21,724,765,850
Лоранси П. С. — 11
Лотман Ю. М. - 7,16,19,649,669,
674,723,728,852,866
Лудвиг XIV - см. Людовик XIV
Лудовик XI - см. Людовик XI
Луи-Филипп, герцог Орлеанский,
затем король Луи-Филипп 1 — 773,
775,803
Лука, евангелист — 690
Лукулл (Luculle) - 547,550,918
Лунин М. С. - 906
Львов А. Ф.-787,900
Любомирская, княжна — см. Ржевус-
ская (Ржевуцкая, Реутская) Р. А.
Людовик XIV - 591,595,784,845,921,
922
Людовик С, профессор — 927
Людовик Филипп — см. Луи-Филипп
Людовик XI — 664
Лютер M. (Luther) - 136,251,674,710
Лямина Е. Э. (Liamina С.) - 5,6,8,10,
648,832,913
Ляпунов П. П. - 397,400,797-799
М. Я. — см. Чаадаев М. Я.
Магомет, пророк (Mahomet) — 15,
123,152,236,267,268,360,361,
557,558,562,563,715,716
МазонА.-878,909
Мазур Н. Н. - 23,659,728,731,897,
918,922,926
Мазур Т. П.-741
Макаров А А. — 846
Макналли P. T. (McNally R Т.) - 648,
650,653,655,659,661,669,673,
675,681,684,690,698,700,701-
703,705,707,708,714,719,727,
731,733,735,763,842,943
Максим Тирский (Maxime de Туг,
Maxime Turii)-154,269,719
Максимов M. — 861
Максимович M. A. — 9,24,794
Макферсон Дж — 66.8,925
Малахова И. А. — 824
Малиновский А Ф. — 769,844
Мало Ш. (Mab S.)- 801,802
МаловН.Е-741
Мальбранш Н. — 695
Манн Ю. В. - 23,735,751,752,930,935
Мариво П. К. де Ш. де - 665
Мария Кристина, королева
испанская — 930
Мария Павловна, великая княгиня —
777
Указатель имен
953
Марк Аврелий — см. Аврелий Марк
Марк Аврелий Антонин — см.
Аврелий Марк
Марк, евангелист — 677
Маркиш С. А. - 707
Мармонтель Ж. Ф. — 838
Марриот Т.-355, 356,762
Мартен-Фюжье А. — 662
Мартин Д. — 660
Мартьянова М. — 859
МасловС.А.-551,904,905
Матфей, евангелист — 249,659,686,
800,830,916
Медичи-591,842,921
Медовой М. И. — 923
Мезин С. А. — 659
Мейендорф (Мейндорф,) А. К.
(Meindorf, Meyndorf) - 402,438,
440,653,801,802,831
Мейстер ф. — см. Местр Ж. де
Мелыунов Н. А. - 854,926
Мендельсон М. (Mendelsohn M.,
Mendelssohn M.) - 715,810,811
Менцель А. фон — 884
Мессершмидт — 814
Местр Ж де (Maistre J. de) - 16,18,432,
558,563,656,658,662,668,670,
671,673,674,676-679,682-685,
688,705,709,710,712,713,720,
721,722,734,735,778,793,826,
827,839,845,859,864,878
Меттерних К — 7
Мефодий, св. (Méthode) - 673,920
Мещерская (урожд. Всеволожская)
С. С. (Meschtscherskaya) - 397,
399,401,409,416,426,427,462,
471,551,552,824,838,850,904
Мещерский А. В. — 785
Мещерский Э. П. (Metsherskij) — 541,
542,554,636,637,802,841,878,
901,908,909,928
Мещерской Е П. — см. Мещерский Э. П.
Мигель, дон (Miguel) — 875
Миллер А. И.-745-747,918
Миллер Г. Ф. (Müller) - 733
Мильтон Дж. (Milton) - 105, 216,700
Мильчина В. А. - 8,9,11,16,648-651,
655,659,662,667-671,673,677,
680,682,696,698,706,713,718,
738,744,763,764,773,774,784,
800,802,814,837,841-843,847,
849,865,871,899,908,943
Минута P. (Minuti R.) - 659
Минье Ф.-О. - 759
Михаил Павлович, вел. кн. — 730
Михаил, царь — 581
Михайловский-Данилевский А. И. — 6
Мишле (Мишеле) Ж (Michelet) - 402,
403,802
МогенФ.-743,854
Модзалевский Б. Л. - 768,834,836,
862
Моисей (Moïse, Moyse) — 121,123,
145-148,233,236,260,261,263,
265,406,413,491,492,557,562,
666,712,714-716,808,815
Молок А.-744,773
Мономах (Владимир) — см. Владимир
Мономах
Монталамбер Ш. де - 774,801,912,
927
Монтень M. (Montaigne) — 86,196,687
Монтескье Ш. Л. - 16,658,659,671,
672,680,682,709,718
Мордвинов A. H. (Mordvinoff) — 534,
564,749,895,909,910
Мордовченко Н. И. — 922
МортьеА.-Ш.-Ж-803
Мудров М. Я. — 9
Муравьев А. М. — 906
Муравьев А Н. - 6,624,934
Муравьев М. — см.
Муравьев-Апостол М. И.
Муравьев M. H. - 906
Муравьев H. M. - 6, 354,761,906
Муравьев С. — см. Муравьев-
Апостол С. И.
Муравьев, генерал-майор - 769
Муравьева (урожд. Колокольце-
ва)Е.Ф.-551,820,90б
Муравьев-Апостол М. И. - 6,354,761,
769
954
Муравьев-Апостол С. И. — 354,761
Мусин-Пушкин А. И. — 925
МухановА.А. — 21
МухановВ.А.-20,21
МухановЕА. —901
Мюллер И. -709,717
Мюссе А. де — 802
Н. Д. — см. Дубровин Н.
Н. К — см. Кукольник Н. В.
Надеждин Н. И. (Nadegdin) — 10,
18,21,23-25,32,506-508,510,
524-526,531,533-535,564-566,
568,570-572,576,580,605,627,
630,632,633,635-637,644,651,
653,657,736,818,837,863,869,
870,877,878,883-885,887,888,
890,892-900,909-922,925-934,
936-938
Наполеон III (Луи Бонапарт) — 11,
Наполеон Бонапарт (Bonaparte, Napol,
Napoléon, l'empereur) — 8,130,
243,334,337,403,410,496,498,
599,714,722,741,746,803
Нарышкина Е. И. - 551,906
Наумов Д. Н.-906
Нащокин П. В. (Naschtschokine) —
367,371,771,775,823,895
Неверов Я. M.-20,894
Невский В. А.-891
Нелединский П. Л. — 551
Неплюев И. И. - 730
Нерваль Ж. де — 802
Нессельроде К В. - 743,744,788
Нестор, летописец (Nestor) — 335,
339,604,708,748,919,920
Нефедьева А. И. - 784,786,800
Нечаев С.Д-551,906
Нечкина М. В. - 32
НешумоваТ.Ф.-832
Никитенко А. В. - 22,770,771,881,
887,892,914,915
Никодим Надоумко — см.
Надеждин Н. И.
Николай I, император (Николай
Павлович) - 10,25-30, 32, 33,386,
511,512,515,538,544,587,593,
623,670,681,683,724,727,728,
742,750,751,753,755-758,760,
761,773,789,790,792,809,814,
828,834,839,863,873,879,883,
884,891,892,899,900,903,908,
910,913,915,917,921,931
Николай I, папа римский - 673
Николай Михайлович (Романов),
великий князь — 888
Новосильский П. М. — 511,878
Нодье Ш. - 802
Норов Авраам С. — 6,898
Норов Александр С. — 24, 535,637,
737,877,895,898,926
Норовы - 660,898
Ньюкомен Т. — 823
Ньюмен Д Г. (Newman) - 849,850
Ньютон И. (Newton) - 98-100,209-
211,691,694,696,697
О. А.-654
О'Коннел Д (O'Connell) - 567,911,
912
О'Коннель - см. О'Коннел Д
ОблеуховДА.-6,10
Оболенский М. — 900
Огарев Н. П. - 654,847
Огаревы — 847
Одоевский В. Ф. - 20,749,863
ОксманЮ.Г-868,894,938
Олег, князь (Oleg) - 493,495,497,
499,581
Олейник В. Т. - 824
Оленин А. Н.- 523,883
ОливетанП.-Р.-710
Ольга, княгиня — 595,922
Ольгерд, кн. литовский — 745
Ольговичи — 864
Ориген - 924
Орлов А. Ф.- 840
Орлов М. Ф. (Orlof) - 9,32,394, 396,
404,411,429,433,445,455,550,
551,637,792,794,804,806,820,
825,830,836,839,840,845,853,
865,867,904,905
Указатель имен
955
Орлова Е. Н. - 9, 397,399,796,905
Орлова Е. П. - 824
Орфей (Orphée) - 365, 369,772
Оскар, шведский принц — 909
Осман I, султан — 916
Осовцов С — 916
Осповат А.Л. —7,9,11,16,19,25,648,
651,655,656,662,668,670,673,
677,682,713,723,724,740,749,
763,764,781,784,788,789,803,
814,828,829,841-843,847,849,
855,865,866,871,882,894,896,
899,922,943
Оссиан (Ossian) - 925
Охотин Н. Г. - 935
П. Я. Ч. - см. Чаадаев П. Я.
Павел I, император (Павел
Петрович) - 5,831,860
Павел, апостол (Paul, st. apostole) —
279,293, 308,840
Павлов H. Ф. (Pavlof) - 397,400,637,
796,867,869
Павлова Каролина - 853,939
Павлова К С. - 858
Паллас П. С. (Pallace) - 407,414,813,
814
Панаев И. И. — 22
Панов В. Д.- 441
Панова (урожд. Улыбышева) Е. Д. — 9,
12,18,441,442,660,661,680,833
Пановы — 660
ПапенД.-823
Паскаль Б. (Pascal) - 109,141,220,256
409,416,702
Паскевич И. Ф. - 33,684,742,743,900
Пассек — 761
Пастернак Е. Е. — 21
Пасторе К.-Э. де (Pastoret C1.-E. de) -
714,715
Пашков А. В.-786,905
Пашков В. А.-905
Пашкова (урожд. Киндякова) Е. П —
551,786
Пашковы (PachkoO - 380, 382, 847
905
Пейли У — см. Пэйли У.
Перевощиков Д. М. - 531, 597, 804,
873,878,894,924,929
Перикл (Pericles) — 130,244
Перовский В. А. — 829
Перфильев С. В. - 534, 538,550,884,
885,890,895,904,917
ПерьеК-743,744
Пестель П. И. - 6,762
Петр I Великий, император (Петр
Алексеевич) (Pierre le Grand,
Pierre-le-Grand) - 16,281-283,
285,289, 292,296, 297, 300, 304,
306,310-312,314,317,319,340,
347,368,372,408,415,426,427,
439,441,494-498,577,578,581,
586-588, 591,620,623,624,658,
659,664,665,669,671,672,724-
727,729,730,732-735,752,753,
775,814,822,823,832,855,864,
865,918,921
Петр, апостол (Pierre st.) - 379, 382
Петров П. Н. - 828
Петров Ф. А. - 828,871-873,883,915,
916,931,940
ПештичС.Л.-733
Пинель Ф. - 891
Писарев А. А.-551,907
Пифагор (Pythagore) - 84,144,151,
194,259,267,695,701,702
Платер С. — 743
Платон (Platon) - 74,84,116,123,
125,144,149,183,194,228,236,
239,259,264,378,380,681,689,
700-703,706,707,717,784
Платон, митрополит — 859
Плещеев — 502
Плотин — 719
Плутарх (Plutarque) - 154,269,707,
719
Плюшар А. А. — 863
Погодин М. П. - 9,471,730,731
733,768,781,828,849,894,895,
915-917,936,938
Погосян Е. А. - 730,882
Подолинский А. И. — 930
956
Полевой Кс. А. — 735
Полевой H. A - 17,29,32,731,733,
734,931
Полей Л. (Poley L) - 417,420,817,818
Поленов Д. В.-20
Ползунов И. И. - 823
Полторацкий СД.— 11,767
Полуденский П. С — 820
Поль Л. — см. Полей Л.
Попов АН.-854,856,858
Попова О.-751
Потемкин С. П.-551,906
Поттер Л.-Ж.-А де (Potter de) - 568,
911,912
noTber.(PauthierG.)-831
Поццо-ди-Борго К О. - 742-744
Правилова Е. А. — 746
Пратасов — см. Протасов Н. А
Прокопович Ф. (Théophane) — 493,
495,864
Проскурин О. А. — 750
Проскурина В. Ю. - 647-649,651-
655,660,661,664,678,686,689,
690,696,700-702,706-708,710,
711,714,716,718,723-727,731,
739,742,743,745,746,752,760,
762,766,781,793,801,803,804,
830,841,943
Протасов Н. А. (Pratasow, Protassoff) -
564,909,910,926
Псевдо-Плутарх — 719
Птолемеи — 708
Птолемей — 708
Пугачев Е.-831
Путятин И. — 737
Пушкин А. С. (Pouchkine) - 9,18-20,
22,292,306,355,360,361,363,364,
368,426,427,439-441,445,461,
469,491,493,496,551,574,575,
637,647,659,661,662,725,728,
730,738,740,741,744,749-751,
756,761,764,765,767-772,774-
777,792-794,823,824,828,830,
831,834-836,846,847,858-866,
868,895,897,904,906,918,930,937
Пушкин В. Л.-6,785,848
Пушкин С. Л. - 6,444,445,834,835,
836,846
Пушкина (в замужестве Сонцева) Е. Л. —
846
Пушкина (урожд. Гончарова) H. H. -
770,835,870
Пыпин АН.- 654,736,824,827,830,
836,839
ПэйлиУ-656,705,713
РавичЛ.М.-723
Раевская Е. Н. - см. Орлова Е. Н.
Раевская (урожд. Киндякова) Е. П. -
551,786,905
Раевский A H. (Rayewsky) - 550,820,
865,905
Раевский H. H., младший — 806
Раевский H. H., старший - 796
Разумовская, графиня — 769,
Раннику К — 866
Расин Л.-773
Растопчина — см. Ростопчина Е. П.
Раумер Ф. фон (Raumer) - 438,439,
593,607,615,623,830,928,930
Рафаэль — 710
Рачинский Г. А - 749,762,770,786,
789,795,801,802,821,826,830,
839,840,844,849,850
Рашковский Е. Б. — 817
Ревуненкова Н. В. - 838,839
Рейнолдс Ф. M. (Raynolds Mansel F.,
Reynolds F. M.)-831
Резвых П.-719,781,782,852
Рекамье Ж - 661,803,848,869
РемарчукВ.В.-871
Ремер Ю. A (Remer J. A) - 689
Решетова Е. А (урожд, Якушкина) — 820
Решетова Е. Г. — см. Левашева Е. Г.
Ржевский П. А-551,906
Ржевусская (Ржевуцкая, Реутская)
(урожд. Любомирская) Р. А
(Rjewoutzka) - 397, 399,653,786,
795,796,801
Рид T. (Reid T.) - 694,698,699
Римский-Корсаков (Римско-Корса-
ков)ГА-551,907
Указатель имен
957
Робеспьер M. M. (Robespierre) — 403,
410,842
PoAeH.r.(RhodeJ.G.)-721
Родриг О. — 774
Розанов И. Н. - 827
Розен Е. 0.-27,734,937
Розенцвейг В. Ю. — 16
Романелли, художник — 820
Романов Михаил Федорович — 595,
734,864,922
Романов Николай Михайлович —
888
Романовы-730,747,901
Россет К. О. - 862
Ростопчина (урожд. Сушкова) Е. П. —
471,849
Рубин А. И.-671,709
Ружицкая И. В. - 681,683,753
Руло Ф. (Rouleau F.) - 648,650-652,
654,655,681,696,702,703,708,
714,725,763,908,943
• Руссо Ж.-Ж. - 16,590,658,665,671,
686,921
Руф Квинт Курций (Ruf Quintus
Curtius) - 936,937
Рюрик, князь (Rourik) - 497,499,581
Рюриковичи — 798
Саблер В. Ф. - 530,661,833,891
Савонарола Дж — 459,842
СаидЭ. — 731
Сайтов В. И. - 765,767,770,780,801,
846,870,905,906,909
Саймонов А. Н. — 550
Салинис Л. А. де — 927
Салтыков М. А. - 551,791,815,820,
905,906
Самарин С Ю. - 935
Самарин Ф. С - 935
Самарин Ю. Ф. - 11,853-856,858,
935
Самовер Н. В. — 33
Сапов В. В. - 655,739,764,767,790,
792,794,795,803,849,887,890,
894,917,923,938
Сапова Л. - 887,890,894,917,923,938
Сапченко Л. А. — 843
Саси И.-Л. Ле Местр де - 660
Свербеев Д Н. - 8,9,12,15,22,550,
663,736,737,762,803,825,841,
867,869,885,904,907,926,936
Свербеев Н. Д.-838
Свербеева (урожд. Щербатова) Е. А.
(Sverbeyef, madame) — 434,459,
637,659,663,761,800,841,870
Свечина (урожд. Соймонова) С. П.
(Swetchine) - 399,401,409,662,
690,800,801,832,859
Свиясов Е. В. - 897
Святослав, князь (Sviatoslav) — 493,
495,497,499,864
Селевк - 708
Селевкиды (Séleucides) - 127,708
Селиванов А. — 899
Селивановский Н. С. — 573,885,912,
913,924
Семевский В. И. — 763
Семен А. И. (Рене-Семен А. И.)
(Semen)-434,652,710,827
Семен О. Р. — см. Семен А. И.
Сенека Луций Аней — 689
Сенковский О. И. - 780,781,798
Сен-Симон А. К де Р. (S. Simon) — 367,
371,659,773,774
Сент-БевШ.О.-802,803
Серафим, митрополит — 20,889
Сербиненко В. В. — 852
Сербинович К С. - 733,928
Сервет M. (Servet) - 138,253,711
Серебренников Н. — 740
Сериков Ф. И., купец — 587,921
Серков А. И. — 6,763
Сесе Э. - 695
Сидоров А. А.-814,827
Сикст V, папа римский — 599,924
Сильверст — см. Сильвестр Э.
Сильвестр Э. (Sylverste E.) - 777,780
Симоненко Г. — 747
Симонов И. М. (Simonof, Simonoff) —
406,413,810
Сиркур А. де, граф - 11,402,801,802,
816,848
958
Сиркур (урожд. Хлюсгина) А. С. де,
графиня (Circourt de, madame) —
11,402,469,470,637,793,801,802,
848
Скалигеры (Скалы) - 591,921
Скопин - см. Скопин-Шуйский М. В.
Скопин-Шуйский М. В., князь — 397,
400,797-799
Скотт В. - 865,866
Смирдин А. Ф. — 892
Смирнова-Россет А. О. — 772,797
Снегирев И. М. - 20,653,878,892,
893,909
Соболев Л. И. - 763,784,815,849
Соболевский С А. - 656,661,904
Соймонов АН. — 904
Соймонова — см. Свечина С. П.
Солон - 603
Соколова H. H. — 861
Сократ (Socrate) - 84,123,149,150,
194,236,264,265, 557,562,700,
706
Сонцев (Солнцев, Сонцов) M. M. —
469,846,847
София Палеолог — 728
Сперанский M. M. — 753
Спиноза Б. (Spinoza) — 95,97,206,
208,695,696,715
Спурцгейм И. (Spurzheim) - 406,413,
810,812
Стагирит — см. Аристотель
Сталь Ж де (Staël A. L G., Staël,
Madame de) - 323,327,330,649,650,
659,662,667,669,682,685,698,739
Станкевич H. В. - 732,794,845,847,
853,855,894
Стасов В. В.-879,903,915,917
Степанов Е-804,912
Страхов H.H.-851
Строганов А. Г. — 904
Строганов А. С. - 547, 550,904
Строганов Г. А. - 535,544,873,899,903
Строганов П. А. — 828
Строганов С. Г. (Strogonoff, Strogo-
now)-25,28, 31,435,503,
505-507,509,511,523,527,531,
534, 535, 538-544,547,550,552,
567,569-574,629,630,632,634,
636,827-830,869,870,872,873,
877,878,881,884,885,890,892,
893,895-897,899,900-904,910,
914-917,929,936-939
Строганова H. П. - 827
Строганов — см. Строганов С. Г.
Стюарт Д. (Stewart D.) - 694,698,699
СукайлоВ.А.-832
Сумароков А. П. — 921
Сумароков П. И. — 921
Сусанин И. — 734
Сухово-Кобылина Е. В. (Евгения
Тур)-9
Сухово-Кобылина (урожд. Шепелева)
М. И. - 932
Сухомлинов М. И. — 901
Сфорцы (Сфорца) — 591
Сю Э.-800,802
Тарасов Б. Н. - 5,655,762,766,770,
792,793,820,837,841,906,943
Тартаковский А. Г. — 5,17,728
Тассо T. (Le Tasse) - 49,68,176, 394,
396,674,793
Татаринов A. H. (Tatarinof) - 777,780,
795
Татищев В. Н. - 733
Татищев Д. П.-888
Тацит Публий Корнелий (Tacite) —
154,270,719
Темпест P. (Tempest R) - 33,648,650,
654,655,678,737,763,814,825,
830,879,922,943-
Теплова Н. С. (Teplof) - 394, 396,794
Титов В. П. - 20
Тихонова Е.Ю.-915
Тогава Т. — 655
Токвиль А. де (Tocqueville, Toquevi-
lle) - 426,427,497,498,801,823,
824,866,874,875
Толстой Ф. И. («Американец») — 793
Толстой Я.-841
Тольтье (Taultier) - 438,440
Томашевский Б. В. — 774
Указатель имен
959
Торопыгин П. Г. - 653,678,693,852,
853
ТриниусКБ. — 714
Троицкий В. Ю. — 735
Трофимов И. Т. - 894
Трубецкой С Н. - 888
Трубецкой С. П. - 354,761
Тургенев Александр И. (Tourgeneff,
Tourgenief, Tourguénef) - 9,11,12,
17-20,30,374,377,378,396,402,
403,425,432-434,438,459,469,
470,499,500-503,550,552,634,
635,637,647,649,652,653,655,
656,659-663,665,678,682,685,
690,693,698,703,708,713,714,
720,722-724,727,729,734,735,
741,749,750,756,757,760,763,764,
767,769-772,775,777,780-786,
793-796,800-803,807,814-817,
821,824-830,832,835,837,838,
840-843,845,847-849,851,852,
■859,861,862,864,867,869,870,890,
891,896,897,899,900,904,905,907,
909,915,922,924,926,928,935,937
Тургенев Андрей И. — 760
Тургенев И. С - 854
Тургенев Н. И. - 7,10,18, 354,503,
663,678,682,683,685,690,693,
698,713,714,722,757,758,760,
761,769,775,782,783,801,802,
814,817,829,843,848,870,905
Тургенев П. - 502
Тургенев П. Н. - 870
Тургенев С. И.-760,783,869
Тургеневы - 7, 502,649,663,664,741,
757,775,777,780,783,784,851
Тургеньев — см. Тургенев Александр И.
Тынянов Ю. Е-7,682
ТьерЛ.А.-773
Тюдоры —712
Тютчев Ф. И. - 11,682,713,740,789,
837,855,871
Уваров С. С. (Ouvarof, Ouvaroff) -
25,26,28-33,355,405,412,506,
509-512,515,523,526-529,531,
537-540, 542-550, 552, 564, 569,
570,573,574,653,665,670,671,
731,741,777,789,790,806,829,
837,863, 868,871-873,877-881,
883, 887, 888,890,892,895,
900-903,908,909,912,913,915,
916,918,926,928-931,933,934,
936,937,939
Улыбышев А. Д. — 660
Улыбышева — см. Панова Екатерина Д.
Улыбышева Елизавета Д. — 660
Уортман Р. С. - 728
УсакинаТИ.-80б
Устрялов Н. Г. - 843,868
Ушакова E.H.-551,906
Уэвелл В. - 837
Фаворский И. П.-573,917
Фалк X. (Falk H.) - 16,648,650,652,
654,655,702
ФедотовДД-891
Фенелон Ф. де Салиньяк, де ла Мот
(Fénélon) - 125,238,409,416,707
Феодор, св. — 919
Феодосии I Великий, римский
император - 595,922
Фердинанд VII, испанский король —
753,930
Фидий — 714
Фидлер, врач — 798
Фиески Джузеппе (Жозеф) (Fieschi) —
403,404,410,803
Филарет (Дроздов), митрополит — 20,
26,27,800,910,923
Филиппов Л. — 908
Фих Б. М. - 759
Фихте И. Г. (Fichte) - 403,410,677,
698,702,703,799,803,810,811
Фишер И. Э. (Fischer) - 407,414,814
Фишер К. И. - 787,888
Фишман О. Л. - 709
Флавий Клавдий Юлиан (Отступник)
(Julien)-127,708,845
Флеров В. П.-917
Флоровский Г. В. - 13,911
Фома Аквинский — 924
960
Фонвизин (фон Визин) С П. - 551,906
Фонвизин Д. И. — 906
Фориель К Ш. - 720
Формозов А. А. — 738
ФоссИ.Г-719
Фостер A. (Foster) - 809
Фотий, патриарх (Photius) — 65,174,
554,559,672,673
Франциск I — 591,921
Франциск Ассизский, св. — 710
Фридрих И Великий — 243
Фридрих-Вильгельм IV, прусский
король — 852
Фризман Л. Г. - 749
Фролов Н. Г. - 844
Фролова (урожд. Галахова) Е. П.
(Froloffm-me)-844,847
Фроловы — 844,847
Хр. — см. Иисус Христос
ХаютинА.Д.-6б5,б8б
ХейлиЭ.(На11еу)-809
Херасков А. М. — 769
Хилков, кн. — 733
Хитрово Е.М.- 20,741,774
Хлюстин С. С. (Chlustine) - 392, 394,
551,793,907
Хмельницкий Б. — 746
ХогартУ-736
Хомяков A.C. — 11, 20, 22, 23,731-
734,740,749,799,918,922,923,
926
Хомякова (урожд. Языкова) Е. М. —
897
Хореев В. А-740
Хрипун С. - 834
Христос — см. Иисус Христос
Цвингли У. (Zwingli) - 138, 253,711
Цезарь Юлий Гай - 154,270,591,719
Цинский — см. Цынский Л. М.
Цицерон Марк Туллий (Cicéron, Cicero-
nis M. Tulli) - 42,60,110,150,168,
221,266,462,666,703,716,843
ЦуриковАХ — 815
Цынский Л. M. - 441, 530,661,830,
832,833,888,891,892,895,896,
913,923,938
Чаадаев И. П. — 5,6
Чаадаев М. Я. - 6,442,759,787,789,
806,820,821,833,834
Чаадаев П. В. - 5,8
Чаадаев П. Я. ( aadaev, aadaev,
Chaadaev, Tchaadaeff, Tchaadayeff,
Tchadaieff, Tchadayeff, Tchadaïef,
Tchadaïeff, Tchéd., Tchédaeff) -
5-34, 353, 358, 359, 362-364,
367, 372, 384, 386, 388-392, 394,
396,419,421,423,425,429,431,
442,445,469-471,485,487,491,
493,496,501-507,509,510,517,
521, 524, 525, 530, 534, 535, 537,
538-542, 550-552, 565, 566,
568, 570, 574, 575, 580,605-608,
613-615,621,623,625,627-629,
632-636,638,639,647-664,
666-670,673-682,684,686-690,
693-735,737-743,746,748-753,
755,757-778,780-798,800-808,
810,813-834,836-854,856,858,
859,861-864,866-871,873,877,
880,883-885,887-901,904-910,
917-919,921-923,926-929,933,
935,936,938,943
Чаадаев Я. П. - 5
Чадаев — см. Чаадаев П. Я.
Чаодаев — см. Чаадаев П. Я.
Чарторыйский А., кн. — 742
Чед. — см. Чаадаев П. Я.
Чедаев — см. Чаадаев П. Я.
Чемерисская М. И. - 655,727,731,
734,740,817
Чеодаев — см. Чаадаев П. Я.
Черейский Л. А. - 768,793,835,836,
846
Чернов Е. А.-23
Чернышев А. И. (Czerniechoff) — 526,
527,888
Чернышев Г. И. — 6
Чернышевский Н. Г. — 723
Чижевский Д И. - 851,852,854
Указатель имен
961
Чичерин Б. Н. - 853,893
Чичерин H.A.-551,906
ЧулковН.П-885
Шаликов П. И. - 794
Шаль В. Э. Ф. (Chasles P.) - 399,401,
800
ШарпантьеЖ.П.-б07,927
Шатобриан Ф.-Р. де - 16,502,655,
658,661,679,705,706,708,711,
715,738,739,786,800-803,924
Шаховская Н. Д (Schakofskoy
Natalie)-423,425,637,821
Шаховской Д. И. - 11,648,650-652,
655,660,662,680-682,684,
686-689,693,695-698,700-703,
713,722,723,727,737,757-759,
761-763,777,781,783,792,800,
801,815,819-821,825,836-838,
845,847,848,851,852,854,857,
858,879,880,888,890,892,908,
■926,934,943
Шевченко M. M. - 29, 30
Шевырев С П. - 12,20,471,731,765,
846,849,853,863,869,926
Шейнман-Топштейн С. Я. — 697
Шекспир У.-930
Шелинг — см. Шеллинг Ф. В. Й.
Шеллинг Ф. В. Й. (Schelling) - 17,125,
239,372,378,380,403,408,410,
415,478,656,658,659,679,695,
700-703,705,707,719,764,777,
778,780-784,786,795,799,803,
814,851,852,854
ШенрокВ.И.-23
Шереметева А. В. - 821,837
Шереметева (урожд. Тютчева) H. H. —
819,820,836,837
Шереметева О. Г. - 650,659,668,677,
680,689,698,704,715,716,720,
721,739
Шерн-Борисова И. С. - 703
Шиллер Ф. — 7
ШильдерН.К-787
Ширинский-Шихматов П. А. — 939
Шишков А. С.-920
Шлегель Ф. - 679,687,705,884
Шлейермахер Ф. Э. Д
(Schleiermacher) - 125,239,681,707
Шлецер А. Л. фон (Schi zer) - 733
Шляпкин И. А. - 768,771,862
Шодон Л. M. (Chaudon L M.) - 717,718
Шомпольон Ж. — 767
Шопен Ж М.-767
Штейнберг А. А. - 9,660,661
ШтрайхС-821
Штраус Д. Ф. (Straus) - 432,826,830
Шуйский Василий Иванович (Choui-
skoy, Chouyskoy, Schouïskoï) — 78,
187,397,400,555,560,797,798
Шуйский Дмитрий — 798
Шульгин А. С, купец — 925
Шумихин С В. - 836
Шур Л.-654,814
Щеголев П. Е. - 828,836
Щепкин М. С. - 823
Щербатов Д М. — 5
Щербатов И. Д — 5
Щербатов М.М.-5,8,733,815
Щербатов Ф. А. -355,761
Щербатова А. М. - 5,8,9, 353,660,
759,760
Щербатова Е.Д-821
Щербатова H. M. - 5
Эйдельман Н. Я. — 866
Экштейн — см. Д'Экштейн Ф.
ЭльзонМ.Д-24,899
Энгельгардт Л. Н. — 826
Энгельгардт С. В. - 898
Эпиктет (Epictète, Epiktet) — 716
Эпикур (Epicure) - 123,150,151,236,
265,266,557,562,688,704,712,
717,718
ЭроЭ.-Ж-б53,7б7,81б,817
Эскирос А. — 666
Эссен, СПб. генерал-губернатор — 775
Эткинд А. — 824
Юлиян — см. Флавий Клавдий Юлиан
(Отступник)
962
Юнг-Штиллинг И. Г. - 724
Юрьев К С. - 836
Юрьев С. М. - 724
Юсупов Н. Б., князь - 708
Юшкова — см. Елагина А. П.
Ягайло, кн. литовский — 745
Ядвига, принцесса польская — 745
Языков Д.-733
Языков H. M. - 19,749,750,756,794,
884,897
ЯкобиФ.Г.-715
Яковлев П. С.-551,907
Яковлева Т. Г. - 746
Якубович А. Ф. — 925
Якубович Д. П.-866
Якушкин В. И.-821
Якушкин Д. А.-820
Якушкин Е. Е. - 820
Якушкин Е. И.-821
Якушкин И. Д.-10,354,421,445,451,
666,723,760,761,763,819-821,
836-839,845
ЯнишК-637,939
Ярослав Мудрый, кн. - 336,744,934
Ясинский Я. И. - 922
Ястребцов И. М. - 653,678,724,826,
829,830
N. Ольга — см. Энгельгардт С. В.
Adam — см. Адам
Alexandre — см. Александр
Македонский
Alexandre, l'Empereur — см. Александр I
император
Ancelot m-me — 848
Anselm — см. Ансельм Кентерберий-
ский, св.
Arago — см. Араго Д.-Ф.
Aristote — см. Аристотель
Babington — см. Бэбингтон
Bacon — см. Бэкон Ф.
Bacon Fran ois — см. Бэкон Ф.
Ballanche P.-S. — см. Балланш П.-С
Batteux Ch. — см. Батте Ш.
Bautain — см. Ботэн Л.
Bayer — см. Байер Г. 3.
Becquerel — см. Беккерель А.-С.
Bellizard — см. Беллизар Ф.
Benkendorf, comte — см.
Бенкендорф А. X.
Bentham J. — см. Бентам И.
Веггуег — см. Берье П.-А.
Beza Th.-660
Bilinsky — см. Белинский В. Г.
Вюи.В.-см.БиоЖБ.
Bloudof — см. Блудов Д. Н.
Boldireff — см. Болдырев А. В.
Boldyreff — см. Болдырев А. В.
Bonald — см. Бональд Л. Г.
Bonaparte — см. Наполеон Бонапарт
Bonnet Ch. — см. Бонне Ш.
Bonstetten — см. Бонштеттен Ш.-В.
Boss V.-697
Boulgarine — см. Булгарин Ф. В.
Boulhakof — см. Булгаков А. Я.
Boussingault - см. Буссенго Ж.-Б.
Bravoura — см. Бравура М.
Brun-Zejmis J. — см. Брун-Зеймис Дж.
Bûchez — см. Бюше Ф. Ж
Byron — см. Байрон Дж. Г.
Çaadaev — см. Чаадаев П. Я.
Caadaev — см. Чаадаев П. Я.
Calvin — см. Кальвин Ж.
Carrel А. — см. Каррель А.
Catherine II - см. Екатерина II
Великая, императрица *
Caton— 123
Cavaion D. — 16
César — см. Цезарь Юлий Гай
Chaadaev — см. Чаадаев П. Я.
Challamel P. J. — 802
Charlemagne — см. Карл Великий,
император
Charles I-er — см. Карл I, король
Charles X — см. Карл X
Chasles Р. - см. Шаль В. Э. Ф.
Chaudon L M. — см. Шодон Л. М.
Указатель имен
963
Chlustine — см. Хлюстин С. С.
Chouiskoy, Chouyskoy, Schouïskoï —
см. Шуйский В. И.
Christ — см. Jésus-Christ
Cicéron — см. Цицерон Марк Туллий
Ciceronis M. Tulli — см. Цицерон Марк
Туллий
Qrcourt de, madame — см. Сиркур А. С,
графиня
Colebrock — см. Колброк Г.
Colebroock — см. Колброк Г.
Coleridge — см. Кольридж С.
Condillac — см. Кондильяк Э. Б. де
Cousin — см. Кузен В.
Сгаптег — см. Кранмер Т.,
архиепископ Кентерберийский
Creuzer G. F. — см. Крейцер Г. Ф.
Cuvier — см. Кювье Ж.
Cyrille — см. Кирилл, св.
Czerniechoff — см. Чернышев А. И.
Dacier m-me —719
Daniel — см. Даниил, пророк
Dante — см. Данте Алигъери
David — см. Давид
Delandine F. A. — см. Деландин Ф.-А
Démocrite — см. Демокрит
Descartes — см. Декарт Р.
Diodore de Sicile — см. Диодор
Сицилийский
Dioletta Siclari A. — см. Диолетта Си-
клариА
Dumarsais — 706
Echstein, Eckstein, Ekstein — см. Д'Эк-
штейн Ф.
Epictète, Epiktet — см. Эпиктет
Epicure — см. Эпикур
Eugene Wonliar-Larsky — см. Вонляр-
Лярский Е.
Falk H. - см. Фалк X.
Fénélon — см. Фенелон Ф. де Салиньяк
Fichte — см. Фихте И. Г.
Fieschi — см. Фиески Дж.
Fischer — см. Фишер И. Э.
FlorinskyM. — 10
Fontaine —651
Foster — см. Фостер А
Frank M.- 852
Frédéric- 130
Froloff m-me — см. Фролова Е. П.
Gagarin — см. Гагарин И. С.
Gagarine le jeune — см. Гагарин И. С.
Galachof — см. Галахов И. П.
Galilée — см. Галилей Г.
Galitzin, prince — см. Голицын Д. В.
Gall, docteur — см. Галль Ф. Й.
Gallilée — см. Галилей Г.
Genoude — см. Женуд А. Э.
Girardin M. — см. Жирарден С.-М.
Godounoff — см. Годунов Борис
Golikof — см. Голиков И. И.
Goulianof — см. Гульянов И. А.
Graef — см. Греф (Грефе) В.
Gräff — см. Греф (Грефе) В.
Grégoire VII — см. Григорий VII Гиль-
дебрант, папа римский
Grégoire de Tours — см. Григорий
Турский
GuillonM.N.S.-681
Guisot - см. Гизо Ф. П. Г.
Guizot — см. Тнзо Ф. П. Г.
Habermas J. — 852
Halley — см. Хейли Э.
Heeren A H. L — см. Геерен А Г. Л.
Hegel — см. Гегель В. Ф.
Hegels — см. Гегель В. Ф.
Henri VIII - см. Генрих VIII Тюдор,
английский король
Hérodote — см. Геродот
Heyne — см. Гейне Г.
Hildebrand — см. Григорий VII Гиль-
дебранд
Hipparque — см. Гиппарх Никейский
Hoffmann A F. — см. Гоффман А Ф.
Hohenstauffen — см. Гогенштауфены
Homere — см. Гомер
Homeri — см. Гомер
Hugo V. — см. Гюго В.
964
Humboldt A. de, baron — см.
Гумбольдт А. фон, барон
Igor — см. Игорь, князь
J. С. — см. Иисус Христос
Jaroslav, prince — 333
Jelaguine — см. Елагина А. П.
Jesu — см. Иисус Христос
Jésus-Christ — см. Иисус Христос
Job — см. Иов
John St. — см. Иоанн, евангелист
Jones — см. Джонс У.
Jouffroy — см. Жуффруа Т. С.
Joukofsky — см. Жуковский В. А.
Joui de — см. Жуй В. Ж Э. де
Jouy de — см. Жуй В. Ж Э. де
Juden В. - 802
Julien — см. Флавий Клавдий Юлиан
(Отступник)
Kant — см. Кант И.
Karamsine — см. Карамзин H. M.
Kepler — см. Кеплер И.
Kindiakof — см. Киндяковы
Kireevskij — см. Киреевский И. В.
Klaproth — см. Клапрот Г.-Ю. фон
Klopstock — см. Клопшток Ф. Г.
Koukolnike — см. Кукольник Н. В.
Kreutzer — см. Крейцер Г. Ф.
Kupfer - см. Купфер А. Т.
Kupffer A Т. - см. Купфер А Т.
La Fayette - см. Лафайет М.-Ж
La Mennais F. de — см. Ламенне Ф. Р. де
Lacordaire, l'abbé — см. Лакордер Ж Б.
Lagides — см. Лагиды
Lamarque — см. Ламарк Ж М.
Lamenais — см. Ламенне Ф. Р. де
Lamené — см. Ламенне Ф. Р. де
Lamennais — см. Ламенне Ф. Р. де
Lange J. J. — см. Ланге Й. Й.
Le Guilloi L — Le GuÛlou L
Le Guillou L - 818,822,842,912
Le Tasse — см. Тассо T.
Leibniz — см. Лейбниц Г. В.
Léon X — см. Лев X Медичи, Папа
римский
Lerminier — см. Лерминье Ж Л. Э.
Levachof, madame — см. Левашева Е. Г.
Liamina С. — см. Лямина Е. Э.
Liechtenhan F.-D. -671
Littré - 877
Livius Titus — см. Ливии Тит
Luculle — см. Лукулл
Luther — см. Лютер М.
Mahomet — см. Магомет, пророк
Maistre J. de — см. Местр Ж Де
Malo S. — см. Мало Ш.
Marc Aurèle — см. Аврелий Марк
Marc-Aurèle — см. Аврелий Марк
Marc-Aurele-Antonin — см. Аврелий
Марк
Marmier — 848
Maxime de Туг — см. Максим Тирский
Maxime Turii — см. Максим Тирский
McNally R Т. — см. Макналли Р. Т.
Meindorf — см. Мейендорф А К
Mendelsohn M. — см. Мендельсон М.
Mendelssohn M. — см. Мендельсон М.
Meschtscherskaya — см.
Мещерская С. С.
Méthode — см. Мефодий, св.
Metsherskij — см. Мещерский Э. П.
Meyndorf — см. Мейендорф А К.
Michelet — см. Мишле Ж
Miguel — см. Мигель, дон
Milton — см. Мильтон Дж.
Minuti R. — см. Минута Р.
Mohrenschildt D. S. von — 16,658
Moïse — см. Моисей
Montaigne — см. Монтень M.
Mordvinoff — см. Мордвинов А Н.
Moyse — см. Моисей
Müller — см. Миллер Г. Ф.
Nadegdin — см. Надеждин Н. И.
Napol — см. Наполеон Бонапарт
Napoléon, l'empereur — см. Наполеон
Бонапарт
Naschtschokine — см. Нащокин П. В.
Указатель имен
965
Nestor — см. Нестор
Newman — см. Ньюмен Д. Г.
Newton — см. Ньютон И.
Nisard M. D. - 850
O'Connell — см. О'Коннел Д.
OdyH.J.-782
Oleg — см. Олег, князь
Orlof — см. Орлов М. Ф.
Orphée — см. Орфей
Ossian — см. Оссиан
Ouvarof — см. Уваров С. С.
Ouvaroff — см. Уваров С. С.
Pachkof — см. Пашковы
Pallace — см. Паллас П. С.
Pascal — см. Паскаль Б.
Passenans P.-D. de — 685
Pastoret C1.-E. de — см. Пасторе К-Э. де
Paul, st. apostole — см. Павел, апостол
Paulin - 877
Pauthier G. - см. Потье Г.
Pavlof — см. Павлов Н. Ф.
Pericles — см. Перикл
Photius — см. Фотий, патриарх
Pierre le Grand — см. Петр I
Алексеевич
Pierre st. — см. Петр, апостол
Pierre-le-Grand — см. Петр I
Алексеевич
Platon — см. Платон
Plutarque — см. Плутарх
Poley L — см. Полей Л.
Potter de — см. Поттер Л.-Ж-А де
Pouchkine — см. Пушкин А. С.
Pratasow — см. Протасов Н. А.
Protassoff — см. Протасов Н. А.
Pythagore — см. Пифагор
Quénet Ch. - см. Кене Ш.
Raumer — см. Раумер Ф. фон
Rayewsky — см. Раевский А. Н.
Raynolds Mansel F. — см. Рей-
нолдс Ф. М.
Reid T. — см. Рид Т.
Remer J. А. — см. Ремер Ю. А.
Reynolds F. M. — см. Рейнолдс Ф. М.
Rhode J. G.- см. Роде И. Г.
RiasanovskyN.V.-655,728
Rio A. F.-702
Rjewoutzka — см. Ржевусская (Ржевуц-
кая, Реутская) Р. А.
Robespierre — см. Робеспьер M. M.
Rouleau F. — см. Руло Ф.
Rourik — см. Рюрик, князь
Ruf Quintus Curtius — см. Руф Квинт
Курций
S. Simon — см. Сен-Симон К А. де Р.
Sagoskine — см. Загоскин M. H.
Saint Antoine — см. Антоний Великий,
св.
Saint Basile — см. Василий Великий, св.
Saint Grégoire de Nazianze — Григорий
Назианзин (Богослов), св.
Saint Jean Chrysostome — см. Иоанн
Златоуст, св.
Schakhovskoy D. - 790,791,905
Schakofskoy Natalie — см.
Шаховская H. Д.
Schelling — см. Шеллинг Ф. В. Й.
Schleiermacher — см. Шлейерма-
херФ.Э.Д.
Schi zer — см. Шлецер А Л.
Schulz W.-852
Séleucides — см. Селевкиды
Semen — см. Семен А И.
Servet — см. Сервет М.
Simonof — см. Симонов И. М.
Simonoff — см. Симонов И. М.
SismondiJ.Ch.-739
Socrate — см. Сократ
Sokolnicki M. — 742
Spinoza — см. Спиноза Б.
Spurzheim — см. Спурцгейм И.
Staël A L G. — см. Сталь Ж. де
Sta 1, Madame de — см. Сталь Ж. де
Stagirite — см. Аристотель
Stewart D. — см. Стюарт Д
Straus — см. Штраус Д. Ф.
Strogonoff — см. Строганов С. Г.
966
Strogonow — см. Строганов С. Г.
Sverbeyef, madame — см. Свербее-
ваЕ.А.
Sviatoslav — см. Святослав, князь
Sylverste Е. — см. Сильвестр Э.
Swetchine — см. Свечина С П.
Tacite — см. Тацит
Tatarinof — см. Татаринов А. Н.
Taultier — см. Тольтье
Télèmaque — 707
Tempest R — см. Темпест Р.
Teplof — см. Теплова Н. С.
Tchaadaeff — см. Чаадаев П. Я.
Tchaadayeff — см. Чаадаев П. Я.
Tchadaieff — см. Чаадаев П. Я.
Tchadayeff — см. Чаадаев П. Я.
Tchadaïef — см. Чаадаев П. Я.
Tchadaieff — см. Чаадаев П. Я.
Tchéd. — см. Чаадаев П. Я.
Tchédaeff — см. Чаадаев П. Я.
Théophane — см. Прокопович Ф.
Tite-Live — см. Ливии Тит
Tocqueville — см. Токвиль А. де
Toqueville — см. Токвиль А. де
Tourgeneff — см. Тургенев
Александр И.
Tourgenief — см. Тургенев
Александр И.
Tourguénef — см. Тургенев
Александр И.
Tourtscheninoff, m-lle de — 651
Ulysse - 707
Valmiki — см. Вальмики
Vasiltschikof — см. Васильчиков И. В.
Vermeren P. - 782
Viasemskoy — см. Вяземский П. А.
Villemain A. F. - см. Вильмен А.-Ф.
Voltaire — см. Вольтер (Аруэ Ф. М.)
White RL-744, 775,912
Wilberforce W. — см. Вильберфорс У.
Wonliar-Larsky Е. — см. Вонляр-
Лярский Е. П.
Xénophon — см. Ксенофонт
ZeldinM.-B.-693
Zoroastre — см. Зороастр (Заратуш-
тра)
Zoukofsky — см. Жуковский В. А.
Zwingli - см. Цвингли У.
Содержание
Петр Яковлевич Чаадаев
М. Б. Велижев 5
П. Я. ЧААДАЕВ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 35
Философические письма 37
Статьи 279
Письма 360
ПРИЛОЖЕНИЯ 489
Письма 491
Переписка вокруг «Телескопического дела» 505
Ответы на первое «Философическое письмо» 576
Расследование по «чаадаевскому делу»:
вопросные пункты 605
КОММЕНТАРИИ 645
Список сокращений 649
Библиография 943
Указатель имен 944
Научное издание
Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века
Чаадаев Петр Яковлевич
Избранные труды