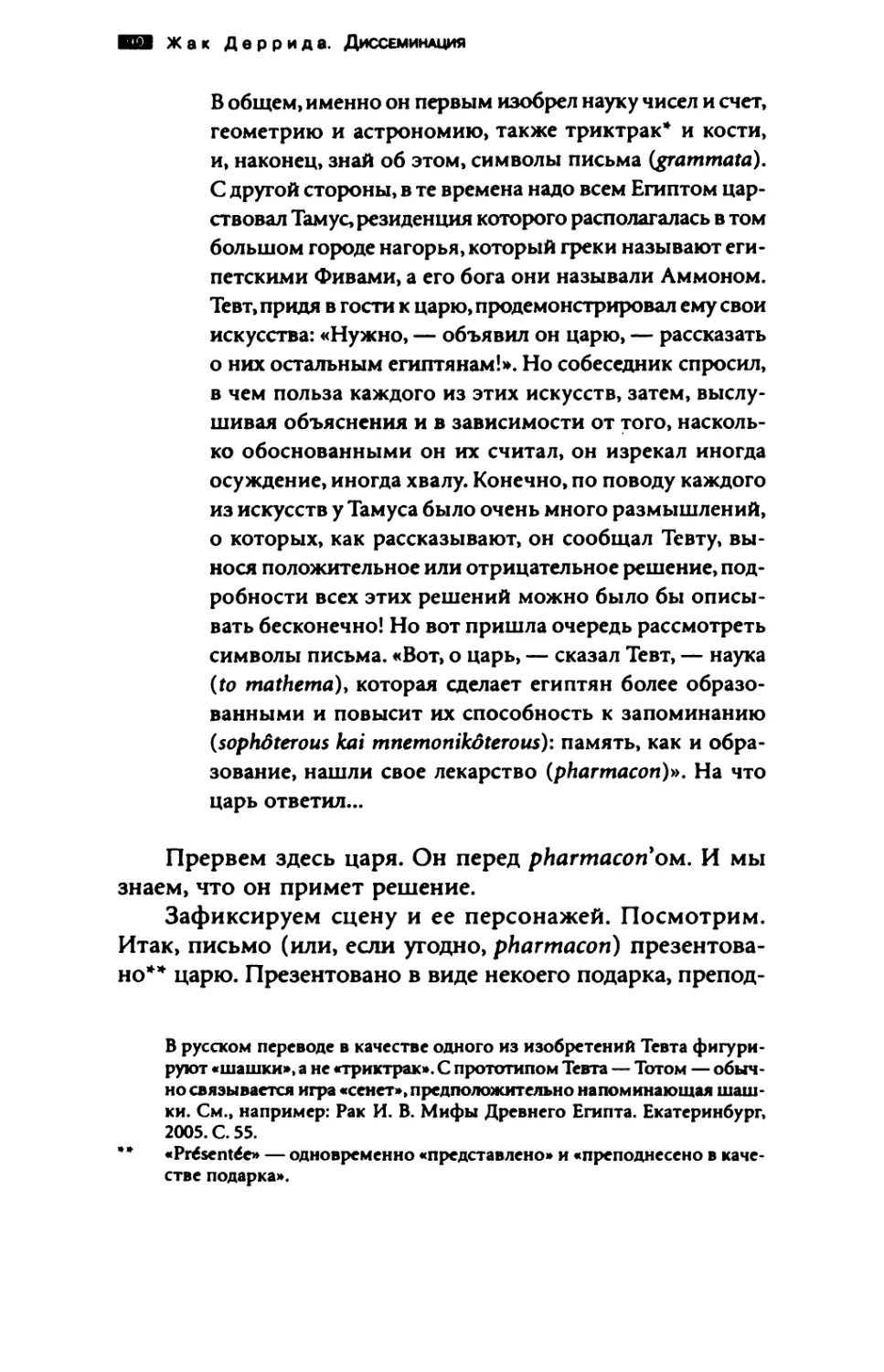Автор: Деррида Ж.
Теги: философия культуры системы культуры культурологические учения философские науки психология
ISBN: 978-5-9757-0079-7
Год: 2007
Текст
Jacques
DERRIDA
LA DISSEMINATION
Editions du Seuil
Жак
ДЕРРИДА
ДИССЕМИНАЦИЯ
У-Фактория
Екатеринбург
УДК 130.2
ББК 87
Д36
Перевод с французского Д. Кралечкина
Научный редактор В. Кузнецов
Деррида, Ж.
Д36 Диссеминация / Ж. Деррида; пер. с франц. Д. Кра-
лечкина. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. — 608 с.
(Philosophy).
ISBN 978-5-9757-0079-7
Одно из ключевых собраний текстов крупнейшего современного
мыслителя отказывается быть книгой, демонстрируя живое развора-
чивание во все стороны того рискованного предприятия, в котором
одним жестом исполняется чтение и письмо. Высочайшие ставки
мысли отличают изощренную игру деконструкции, несводимую к ка-
кому бы то ни было набору шагов, правил и/или приемов, что и вы-
зывает столь яростные дискуссии.
УДК 130.2
ББК 87
ISBN 978-5-9757-0079-7
С Editions du Seuil, 1972
© Д. Кралсчкин, перевод, послесловие, 2007
© В. Кузнецов, предисловие, 2007
© ООО «Агентство прав «У-Фактория», 2007
Рассеяние Деррида
...Я рискую не-желать-сказать-нечто та-
кое, что подлежало бы простому пони-
манию, что было бы просто делом пони-
мания.
Деррида Ж. Позиции
Эта неизбежная и смехотворная претензия написать пре-
дисловие к произведению, уже предпосылающему себе
разбор «предисловия» и отказывающемуся быть даже
книгой, не может быть оправдана пометкой «это не пре-
дисловие»; рискованное предприятие может окупиться
только действием, которое, оставаясь недеянием, нико-
гда не конвертируется.
Известность Деррида порождает устойчивую и посто-
янно воспроизводящуюся иллюзию самопонятности и са-
моочевидности двух взаимоиндуцирующих подходов —
безудержного восхваления за якобы выданную авансом
генеральную индульгенцию, дающую право на все, что
угодно, и не менее радикального реактивного поношения
за то же самое — подходов, в альтернативности своей
исключающих любые другие возможности. Пытающе-
еся остаться над схваткой отстраненное академическое
£ Предисловие
высокомерие, превращающее все и вся в безопасный за-
спиртованный препарат за стеклом витрины, подготов-
ленный для солидного и неспешного описания, не менее
достойно: в любом случае тут действуют априорные (не-
важно, осознанные или неосознанные) предпосылки, ко-
торые не сдвинуть лобовой атакой.
Провокативность Деррида завораживает и затяги-
вает, волнует и смущает, будоражит и тяготит. Поддава-
ясь ей, очень легко, оказывается, имитировать некоторые
формальные приемы и особенности построения текста,
не замечая производимой им работы. Противостоя ей,
упрощающие схемы сознания могут автоматически пре-
вратить в понятия даже слова, помечающие границы
понятийного.
Если жить вслед за логиками и бандитами по таким
авто-номным «понятиям» («Мы сделаем ему такое пред-
ложение, от которого он не сможет отказаться»), зачем
тогда читать Деррида? Если быть заранее уверенным, что
найдем там только понятия («слова, слова, слова...» —
хотя, возможно, новые и непривычные), которые можно
(бес)конечно трактовать и уточнять (почтенная тради-
ция, ведущая к современности от конфуцианского «ис-
правления имен» через раннего Витгенштейна), и что,
кроме понятий, там (и нигде вообще) ничего нет и не
может быть, то проще Деррида и не открывать.
Разумеется, можно и попробовать — посмотрев, как
Деррида осуществляет деконструирование — претендовать
на формулирование и продвижение метода «Деконструк-
ция™». Можно продолжать безотчетно пользоваться ста-
рыми инструментами, уже не отличая их от собственных
рук, даже за пределами их потенциальной действенности,
рассматривая любой критический разбор как еще одно поле
для их применения. Но зачем?
Тихая и незаметная, мягкая и гибкая, мысль, возни-
кающая каждый раз заново и делающая каждый свой шаг
всегда как первый (последующие шаги — технические
следствия, промышленное производство), совершенно не
обязательно должна именовать себя «Философия®», хотя
ЯЛ Предисловие
именно в философии принято было постоянно отказы-
ваться от привычного и обычного способа мысли и дей-
ствия или, по крайней мере, подвергать его критическо-
му переосмыслению. Ибо здесь важнее движение обна-
ружения и преодоления неявных предпосылок,
установок и допущений, выявление неодолимостей и
принятие этого вызова, нежели соблюдение ритуалов
ради них самих или в силу отсутствия очевидной аль-
тернативы.
Деррида рассеивается, но его можно собирать...
Василий Кузнецов
P.S. Переводчик и редактор благодарят Татьяну Бо-
родай, Дмитрия Бугая, Полину Гаджикурбанову и Вла-
димира Жданова за бесценные консультации. Отдельное
огромное спасибо Натали Стюарт и Юрию Бакалову за
неизменную помощь и поддержку.
Вне книги
Предисловия
Это (стало быть) не будет книгой.
И еще в меньшей степени, несмотря на внешний вид,
сборником трех «эссе», которым будто бы пришла, при-
чем именно после их осуществления, пора выяснить их
направление, обозначить их связь или же вывести закон,
и даже со всей настойчивостью, необходимой для такого
случая, представить их понятие или смысл на всеобщее
обозрение. Но мы не будем, дабы потрафить кодексу,
притворяться, будто все это имело заранее задуманный
план или же, наоборот, было импровизацией. Само уст-
ройство этих текстов иное, и в мои планы сейчас не вхо-
дит их представление.
Ведь вопрос как раз и стоит о представлении.
Если, как известно, сама форма книги отныне под-
чинена охватывающим всех и вся изменениям, если она
и ее история представляется нам как никогда менее ес-
тественной, если с ней нельзя иметь дела, не имея дела со
всем, значит, она уже не может управлять — в том числе
и здесь — такими процессами письма, которые, практи-
чески ставя ее под вопрос, должны ее при этом демонти-
ровать.
Отсюда проистекает общезначимая потребность се-
годняшнего дня вновь, с новыми силами взяться за во-
прос сохраненного имени — вопрос палеонимии. Зачем
а Жак Деррида. Диссеминация
сохранять на тот или иной срок старое имя? Зачем смяг-
чать воспоминаниями воздействие некоего нового смыс-
ла» нового понятия или нового объекта?
Но если вопрос поставить так, он тут же будет затя-
нут в целую систему предпосылок, которые здесь как раз
и разъясняются, в их числе и простое внешнее положе-
ние означающего по отношению к «своему» понятию.
Следовательно, нужно действовать как-то иначе.
Начнем снова. Примеры: почему «литературой» все
еще называется то, что уже исключается из литерату-
ры — из того, что всегда было известно под этим назва-
нием и что им обозначалось — или же, пусть и не укло-
няясь от нее окончательно, неумолимо разрушает ее? (Но
если вопрос поставить так, он тут же будет затянут га-
рантией некоего пред-знания: на самом ли деле по свое-
му существу однородно, однозначно и бесконфликтно то,
«что всегда было известно под этим названием и что им
обозначалось»?) Другие примеры: какую историческую
и стратегическую функцию предписывать с этого момен-
та кавычкам, видимым или невидимым, которые делают
из этого «книгу» и продолжают делать из деконструкции
философии «философский дискурс»?
Такая структура двойной меты (взятый — одолжен-
ный и заключенный — в оппозиционной паре термин
сохраняет свое старое имя, чтобы разрушить оппозицию,
которой он уже не совсем принадлежит, которой он,
впрочем, никогда до конца не уступит, поскольку исто-
рия этой оппозиции — это история непрерывной борь-
бы за господство) прорабатывает все поле, в котором
перемещаются данные тексты. И она сама прорабатыва-
ется в них: правило, согласно которому каждое понятие
по необходимости получает две похожие меты — в по-
вторении без тождества — одну внутри и одну снаружи
деконструируемой системы, должно образовать место
для двойного чтения и двойного письма. То есть, как бу-
дет ясно в свое время, для двойной науки.
Никакое понятие, никакое имя и означающее не укло-
няются от этого правила. Мы попытаемся определить
El Вне книги. Предисловия
закон, который принуждает (примеривая и учитывая
общую теоретическую переплавку, которая с недавнего
времени перестраивает поля философии, науки, литера-
туры и т. д.) называть «письмом» то, что критикует, де-
конструирует, напрягает традиционную, иерархически
выстроенную оппозицию письма по отношению к речи,
письма по отношению к системе (идеалистической, спи-
ритуалистической, фоноцентрической — то есть, преж-
де всего, логоцентрической) всех его иных; называть «ра-
ботой» или «практикой» то, что дезорганизует философ-
скую оппозицию praxis/theoria и уже не поддается снятию
по схеме гегелевской негативности; называть «бессозна-
тельным» то, что никогда не будет симметричным нега-
тивом или хранилищем возможностей «сознания»; на-
зывать «материей» то внешнее классических оппозиций,
которое, при условии, что мы учитываем теоретический
результат и только-только осуществленную философ-
скую деконструкцию, уже не должно было бы иметь успо-
коительной формы — ни формы некоего референта (если,
по крайней мере, понимать его как реальную вещь или
реальную причину, которые предшествуют системе об-
щей текстуальности и остаются внешними для нее), ни
формы присутствия в любом из его модусов (смысл, сущ-
ность, существование — объективное или субъективное,
форма, то есть явление, содержание, субстанция и т. д., чув-
ственное присутствие или интеллигибельное), ни формы
фундаментального или объединяющего принципа или,
тем более, последней инстанции, — короче говоря, всего
того внетекстового, которое прерывало бы сцепление
письма (того движения, которое ставит любое означаемое
в положение различительного следа) и для определения
которого я предложил понятие «трансцендентального
означаемого». В том же самом проблемном поле «раз-
личение» <diffdrance>* также указывало на подобную
Здесь и далее в угловых скобках дается лексическая единица оригина-
ла либо дается перевод иноязычных слов, не имеющих перевода в ори-
гинале. — Здесь и далее звездочкой обозначены примечания перевод-
чика.
ш Жак Деррида. Диссеминация
(военную) экономию, которая устанавливает отношение
между радикальной инаковостью или абсолютно вне-
шним и закрытым, раздираемым борьбой, иерархиче-
ским полем философских оппозиций, то есть полем
«отличий» или «различия» <diff6rence>1. Ведь экономи-
ческое движение следа предполагает одновременно и его
отмечание, и его стирание — поле страницы <marge> и
его невозможность — в соответствии с определенным
отношением, над которым не смогла бы установить гос-
подство ни одна диалектика тождественного и иного,
причем именно по той причине, что она остается опера-
цией господства2.
Конечно, всегда рискованно задействовать и пускать
в свободный оборот старые имена — риск в закрепле-
нии или даже в попятном движении к уже деконструи-
рованной или находящейся в процессе деконструкции
системе. И отрицать такой риск как раз и значило бы его
усиливать — принимать означающее, которое здесь мы
называем именем, за всего лишь конвенциональное обо-
значение понятия и за простую уступку, которая не вле-
чет никаких особых последствий. Это означало бы уси-
ление автономии смысла, идеальной чистоты теорети-
ческой абстрактной истории понятия. И наоборот, если
бы мы намеревались сразу же отделаться от предшеству-
ющих мет и по некоему указу, одним махом, перейти
к внешнему классических оппозиций, мы бы, если даже
оставить в стороне риск бесконечной «негативной тео-
логии», забыли, что эти оппозиции образуют не данную
систему, некую внеисторичную и по своей сути гомоген-
ную таблицу, а асимметричное и иерархически выстро-
енное пространство, организованное силами и прораба-
тываемое в самой своей закрытости внешним, которое
им вытесняется, то есть извергается и, что означает то
же самое, интериоризируется как один из его моментов.
Вот почему деконструкция включает в себя необходимую
фазу переворачивания. Остановиться на переворачива-
нии — значит, естественно, действовать в имманентной
сфере системы, которую нужно деконструировать. Но
Вне книги. Предисловия
если, стремясь пойти дальше, более радикально или бо-
лее отважно, полагаться на позицию нейтрализующего
безразличия к классическим оппозициям, силы, которые
фактически и исторически управляют этим полем, бу-
дут оставлены в своем прежнем свободном состоянии.
То есть, не имея средств вмешательства3, мы бы только
упрочили установившееся равновесие.
Следовательно, две эти операции должны быть вы-
полнены в некоем приводящем в замешательство sirnuVe
<в одном моменте (лат.)>, в совокупном движении —
в движении, несомненно, связном, но и разделенном, раз-
личенном, поступательном. Зазор между двумя операци-
ями должен оставаться открытым, он должен постоянно
примечаться и повторно отмечаться. Достаточно сказать
о необходимой гетерогенности каждого текста, участвую-
щего в этой операции, и о невозможности свести этот за-
зор в одну точку или даже просто обозначить его одним
именем. Ценности ответственности или же индивидуаль-
ности более не могут считаться главенствующими — та-
ково первое следствие диссеминации.
Не существует «метафизического-понятия». Не су-
ществует «метафизического-имени». Метафизика — это
некоторое определение, некое направленное движение
цепочки. Ему можно противопоставить не понятие,
а текстуальную работу и некое иное сцепление. После та-
кого напоминания развитие этой проблематики, стало
быть, должно предполагать движение различения в том
виде, в каком оно было выявлено в других текстах: про-
дуктивное и конфликтное движение4, которому не мог-
ло бы предшествовать никакое тождество, никакое един-
ство, никакая изначальная простота, которое никакая
философская диалектика не могла бы снять <relever>5,
разрешить или усмирить, которое «практически», «исто-
рически» и текстуально дезорганизует оппозицию или
различие (статическое отличие) различных терминов.
Предисловие должно было бы напомнить и предъявить
здесь некую общую теорию и практику деконструкции,
то есть ту стратегию, без которой могли бы существовать
В9 Жак Деррида. Диссеминация
лишь эмпиристские фрагментарные попытки критики,
недвусмысленно подтверждающие метафизику. Оно дол-
жно было бы в будущем времени («вы прочитаете то-то
и то-то») высказать концептуальный смысл или содер-
жание (то есть, в данном случае, эту странную страте-
гию без целесообразности, этот организующий провал
telos'a или eschatona, который вписывает ограниченную
экономию во всеобщую) того, что как будто уже было
написано. И, следовательно, достаточно прочитано, что-
бы иметь возможность собраться и в таком собрании
получить семантическую определенность, пригодную для
предуведомляющего предложения. Для предисловия, вто-
рично оформляющего некое желание-сказать <vouloir-
dire>, текст является чем-то написанным — прошлым, —
которое в ложном явлении настоящего скрытый и все-
могущий автор, полностью властвующий над своим де-
тищем, представляет читателю в качестве его, читателя,
будущего. Вот что я написал, затем прочитал, а теперь
пишу о том, что вы будете читать. После этого вы сможе-
те снова завладеть этим предисловием, которое, в общем,
вы еще не читаете, хотя, прочитав его, вы уже бросили
предварительный взгляд на все, что идет за ним и что
вы, в каком-то смысле, можете уже не читать. «Пре» пре-
дисловия делает будущее настоящим, представляет его,
приближает, стремится к нему и, продвигаясь к нему, ста-
вит его перед вами. Оно сводит его к форме явного при-
сутствия.
Операция неизбежная и смехотворная — не только
потому, что письмо не существует ни в одном из этих
трех времен (настоящем, прошлом и будущем как моди-
фикациях настоящего); не только потому, что она огра-
ничивалась бы дискурсивными эффектами желания-ска-
зать, но и потому, что она отменяла бы то текстуальное
движение, которое развертывается «здесь», выделяя из
него одно-единственное тематическое ядро и один на-
правляющий тезис. (Но где «здесь»? Вопрос о «здесь» дис-
семинацией выводится на сцену в своем явном виде.)
В данный текущий момент нужно было бы, если бы толь-
ди Вне книги. Предисловия
ко мы имели на то основания, указать, что один из тези-
сов (далеко не единственный), вписанных в диссемина-
цию, состоит как раз в невозможности свести текст как
таковой к его смысловым эффектам, содержания, тезиса
или темы. Быть может, не в невозможности, ведь обыч-
но это делается, но в сопротивлении — мы будем гово-
рить об остпавании <restance> — письма, которое при
этом делается не в большей степени, чем испытывает воз-
действие.
Следовательно, это не предисловие, если понимать
под ним лишь некую таблицу, кодекс, упорядоченную
сводку наиболее важных означаемых или даже указатель
ключевых слов или собственных имен.
Но что делают предисловия? Не является ли их ло-
гика еще более удивительной? Не придется ли однажды
восстанавливать их историю и типологию? Образуют ли
они особый жанр? Объединяются ли они в соответствии
со своим общим качеством или же сами они в своем жан-
ре распределены совершенно иначе?
Ответа на эти вопросы не будет, по крайней мере
в виде конечного и определенного заявления. Однако по
ходу дела первое место этого предисловия будет занято —
разрушая употребляющееся здесь будущее предшеству-
ющее <futur ant6rieur> — неким протоколом6. Если же
настоятельно требуется, чтобы этот протокол уже был
зафиксирован в качестве некоего представления, скажем
заранее, что он, если оставить в стороне некоторые до-
бавочные усложнения, имеет структуру волшебного блок-
нота.
Кажется, всегда писали предисловия, но также и вступ-
ления, введения, предуведомления, предварительные ука-
зания, преамбулы, прологи и пролегомены, нацеленные на
свое собственное стирание. Достигнув предела «пре» (ко-
торое представляет и предшествует или, скорее, опережа-
ет представляющее производство, дабы поставить перед
нашими глазами то, чего еще не видно и что оно обязует-
ся сказать, предсказать или напророчествовать), путь
в своей конечной точке должен быть аннулирован. Но это
El Жак Деррида. Диссеминация
исключение оставляет метку стирания, некий остаток,
который добавляется к последующему тексту и не позво-
ляет ему полностью поглотить себя. Стало быть, такая
операция представляется противоречивой, и то же самое
можно сказать об интересе к ней.
Но существует ли предисловие?
С одной стороны — и это сама логика — подобный
остаток письма всегда оказывается внешним и предше-
ствующим по отношению к развитию того содержания,
которое он предвещает. Предшествуя тому, что должно
быть в силах представлять само себя, он отпадает как пус-
тая оболочка или формальный придаток, момент сухости
или болтовни, а то и того и другого вместе. С той точки
зрения, которая в конечном счете может быть только точ-
кой зрения науки логики, Гегель именно таким образом
обесценивает предисловие. К сущности философского из-
ложения относится то, что может и должно обходиться
без предисловия. Это то, что отличает его от эмпириче-
ских форм речи (от эссе, бесед, полемик), частных фило-
софских наук и специальных наук, будь они математиче-
скими или эмпирическими. К этой теме Гегель с неосла-
бевающим упорством возвращается в «предисловиях»,
которыми открываются его трактаты (предисловия к пер-
вому изданию, введения и т. д.). Еще до того, как «Введе-
ние» (Einleitung) в «Феноменологию духа», кругообразное
предвосхищение критики чувственной достоверности и
начала феноменальности, объявит о «представлении яв-
ляющегося знания» (die Darstellung des erscheinenden
Wissens), «Предисловие» (Vorrede) предупредит нас, вы-
ступая против своего собственного статуса предваряющей
речи:
В предисловии (Vorrede), которое предшествует его
творению (Schrift)' автор обычно объясняет цель, ко-
торую он себе поставил, обстоятельства, которые за-
ставили его взяться за перо, и отношения, которые, по
его мнению, есть у его произведения с предшествую-
щими или современными трактатами на ту же тему.
дтм Вне книги. Предисловия
Но в случае философского произведения (Schrift) по-
добное прояснение представляется не только избыточ-
ным, но даже чуждым и не соответствующим приро-
де философского исследования (sondern ит der Natur
der Sache widen sogar unpassend und zweckwiedrig zu sein).
На самом деле все, что нужно было бы сказать о фило-
софии в предисловии, историческая справка о направ-
лении и точке зрения, об общем содержании и резуль-
татах, цепочка разбросанных предложений и произ-
вольных утверждений относительно истины — все это
не могло бы иметь никакой ценности в качестве спо-
соба философского изложения. Кроме того, посколь-
ку философия по своему существу живет в стихии
универсальности, которая включает в себя частное,
может показаться, что в ней, в ее цели и последних ре-
зультатах, более, чем в других науках, выражается сама
вещь (die Sache selbst) в своей совершенной сущности;
в противоположность этой сущности представление
(Ausfuhrung) должно было бы составлять само несу-
щественное (eigentlich das Unwesentliche sei) (фр. пере-
вод J. Hyppolite, p. 5).
Итак, предисловие философской записи выдыхает-
ся на пороге науки. Это место некоей болтовни, внешней
для того, о чем она собирается говорить. Подобное об-
мывание косточек сводит саму вещь (в данном случае —
понятие, смысл мысли, мыслящей себя и себя произво-
дящей в стихии универсальности) к форме какого-то
частного, конечного предмета, такого предмета, который
не способны самопроизвольно произвести в своем соб-
ственном движении специальные знания, эмпирические
описания или математические науки, поэтому они вы-
нуждены вводить его извне, определять как нечто зара-
нее данное:
Напротив, благодаря общей идее той же анатомии как
познания частей тела, рассматриваемых независимо от
их жизненных отношений, убеждаешься в том, что
KI Жак Деррида. Диссеминация
у нас еще нет самой вещи, содержания этой науки и
что необходимо, оставив эту общую идею, приступить
к специальному изучению частного. Кроме того, в по-
добном собрании знаний, которое, что вполне обосно-
ванно, не носит имени науки, болтовня (Konversation)
о целях и всеобщих закономерностях этой области
обычно не слишком отличается от чисто историче-
ского и непонятийного (begrifflosen) стиля обсуждения,
в котором говорят также о самом содержании, нервах,
мускулах и т. д. Напротив, философия оказалась бы
в совсем ином положении, если бы она стала исполь-
зовать такие методы, когда она сама объявляет их не-
способными к схватыванию истины.
Это предисловие к философскому тексту объясняет
нам, что для философского текста как такового такое
предисловие не может быть ни полезным, ни даже воз-
можным. Так имеет ли оно место? И где .могло бы быть
его место? Как это предисловие (негатив философии)
стирает само себя? В каком модусе оно все-таки прихо-
дит к предсказанию? В модусе отрицания отрицания?
Или отречения? Не сбивается ли оно с курса философс-
кого продвижения, которое само для себя является соб-
ственным представлением, домашним пространством
собственной инсценировки (Darstellung)* («Внутренняя
необходимость, чтобы знание было наукой, das Wissen
Wissenschaft sei, покоится в его природе, причем удовлет-
ворительное объяснение этого момента составляет еди-
ное целое с представлением, Darstellung, самой филосо-
фии», ibid.). Или же пролог уже вынесен по ту сторону от
самого себя движением, которое запускается перед ним
и которое кажется следующим за ним лишь потому, что
по истине оно ему предшествует? Разве предисловие
одновременно не отрицается и не интериоризируется
в представлении философии самой себя, в само-произ-
водстве и само-определении понятия?
Но если что-то из пролегомен, некогда вписанных и
вплетенных, уже не поддается снятию в ходе философ-
щ Вне книги. Предисловия
ского представления, значит ли это по необходимости,
что оно приобретает форму обвала, обрезки <tombee>?
И как обстоит дело с этой обрезкой? Нельзя ли прочи-
тать ее не просто как отброс философской логики сущ-
ности, но не для того, чтобы снять ее, а чтобы научиться
по-иному с ней считаться?
Можно — Гегель пишет, и, по ту сторону от того, что
он хочет сказать, каждая страница предисловия отклеи-
вается от самой себя и тотчас расслаивается как некий гиб-
рид или двусторонность <biface>. (Диссеминация обоб-
щает теорию и практику прививки без собственного тела
и косины без прямоты.) Мы должны указать на два места
и два направления предисловия, которое Гегель должен
писать, чтобы разоблачить в нем невозможное и одно-
временно неизбежное предисловие. Оно относится одно-
временно к внутреннему и внешнему понятия. Но в про-
цессе опосредствования и диалектического присвоения
внутреннее спекулятивной философии снимает свое
собственное внешнее как момент своей негативности.
Момент предисловия по необходимости открывается
критическим зазором между научным развертыванием
или логикой философии и ее эмпиристским или форма-
листским запаздыванием. Вот чему нужно поучиться
у Гегеля, если только это можно сделать, не став гегель-
янцем: существует существенная связь между эмпириз-
мом и формализмом. Предисловие необходимо именно
потому, что господствующая культура навязывает и эм-
пиризм и формализм; следовательно, нужно бороться
с ней или, скорее, больше ее обрабатывать, «формиро-
вать» (bilden). Необходимость предисловия относится
к Bildung. Эта борьба представляется внешней для фи-
лософии, поскольку ее поле — это поле уступчивой ди-
дактики, а не само-представления понятия. Но она же
оказывается внутренней для философии в той мере, в ка-
кой, как говорится в самом «Предисловии», внешнее по-
ложение негативного (ошибка, зло, смерть) все же отно-
сится к процессу истины и должно оставлять в нем свой
след7.
ЕЭ Жак Деррида. Диссеминация
Поэтому, определив внутреннюю необходимость
само-представления понятия, Гегель определяет для него
внешнюю необходимость — ту самую, которая принима-
ет в расчет время как наличное существование (Dasein)
понятия. Но исходно речь идет только о необходимости
времени как универсальной формы чувственности. Затем
нужно будет установить зазор между этим формальным
временем, общей стихией присутствия понятия, и его
эмпирическим или историческим определением — оп-
ределением, к примеру, нашего времени:
Что же до внешней необходимости, если она понима-
ется универсальным образом, то есть в абстракции от
случайных качеств личности и индивидуальных обсто-
ятельств, она тождественна необходимости внутрен-
ней и заключается в образе (Gestalt), в котором время
представляет наличное бытие своих моментов (wiedie
Zeit das Dasein ihrer Momente vorstellt). Если бы можно
было показать, что наше время подготовлено (an der
Zeit) к возвышению философии до науки, это дало бы
единственное верное оправдание попыток, которые за-
даются такой целью, одновременно делая очевидной
необходимость такой цели и полностью ее осуществ-
ляя (р. 8).
Но поскольку наше время не совсем и не до конца
подготовлено к такому возвышению (Erhebung), посколь-
ку пока еще не самое время (an der Zeit), поскольку мо-
мент по меньшей мере не равен сам себе, нужно по-пре-
жнему его подготавливать и заставлять его соединиться
с самим собой посредством дидактики; а если мы решим,
что момент пришел, нужно заставить осознать это, вве-
сти в то, что уже здесь; или еще лучше — привести на-
личное бытие к понятию, временным и историческим
присутствием (Dasein) которого оно является, или же —
в круговом движении — ввести понятие в его наличное
бытие. Некий пробел между понятием и наличным бы-
тием, между понятием и существованием, мыслью и вре-
Вне книги. Предисловия
менем — вот каким оказывается трудно определимое
местопребывание предисловия.
Время — это время предисловия; пространство» ис-
тиной которого будет в будущем время» — это простран-
ство предисловия. Последнее» следовательно» занимает
все место и всю длительность книги в их целостности.
Когда двойная необходимость» внешняя и внутрен-
няя» будет в будущем выполнена» предисловие» которое
в каком-то отношении послужит введением» осуществ-
ляя введение в начало истинного (в истинное начало),
несомненно» будет возвышено до философии» будет ин-
териоризировано и снято ею. Одновременно оно будет
отрезано от самого себя» и мы сможем оставить его «на
том месте» которое ему подходит в беседе»8. Двойная то-
пика» двойная поверхность, перегруженное стирание. Ка-
ков статус текста» когда он сам по себе выходит из себя
и от-межевывается <se de-marque> от себя? Диалекти-
ческое противоречие? Работа негативного и труд на служ-
бе смысла? На службе бытия понятия при самом себе?
Вы еще не знаете» не является ли то» что вы читаете»
что вы уже прочитали» всего лишь моментом гегелев-
ского предисловия.
Последнее критикует формальность предисловия
так же» как оно критикует математизм и формализм
в общем. Это одна и та же критика. Как внешняя для по-
нятия и самой вещи речь, машина» лишенная смысла и
жизни» анатомическая структура» предисловие всегда
чем-то родственно математической процедуре. («В ма-
тематическом познании рефлексия — это внешняя вещи
операция». «Цель и понятие математики» — это «несу-
щественное и лишенное понятия отношение», р. 37—38.)
Выдвинутое в «Предисловии» к «Феноменологии духа»
обвинение предисловия дублируется во «Введении»
к «Науке логики». Дублируется» — но можно ли сказать»
что оно повторяет обвинение из «Феноменологии» или
же оно всегда ему уже заранее предшествовало» его обу-
славливая? Можно ли сказать» вспоминая о вполне тра-
диционной проблеме, что вся «Феноменология духа»
SU Жак Деррида. Диссеминация
является предисловием, служащим введением к «Науке
логики»?9 Но, как и любое другое предисловие, это пре-
дисловие будет, теоретически, написано только вторым
шагом. По истине, это послесловие; как можно прочи-
тать во всех предварительных (что наиболее существен-
но) текстах, только исходя из конечной точки пути, из
абсолютного знания, обе книги открываются и охваты-
вают друг друга в едином томе. Предисловие феномено-
логии написано исходя из конца логики. Самопредстав-
ление понятия является истинным предисловием всех
предисловий. Письменные предисловия — это феноме-
ны, внешние для понятия, понятие (бытие абсолютного
логоса при себе) — это истинное предисловие, сущност-
ный пре-дикат всех писем.
Форма этого движения управляется гегелевским по-
нятием метода. Так же как «Введение» в «Феноменоло-
гию духа» (следующее за «Предисловием») критикует
критику познания, рассматривающую последнее как ин-
струмент или как среду, «Введение» в «Науку логики»
отбрасывает классическое понятие метода как исходно-
го определения правил, внешних действию, пустых пред-
варительных условий, заранее предписанной действи-
тельному ходу знания траектории. Критика, аналогичная
той, что Спиноза обратил против картезианского поня-
тия метода. Если путь науки уже является наукой, метод
больше не является предварительным и внешним рас-
суждением; он суть производство и структура целого
науки, как оно предъявляет само себя в логике. Следова-
тельно, или предисловие уже относится к этому предъяв-
лению целого, вовлекает его и в него вовлекается, не имея
при этом никаких специфических черт, никакого соб-
ственного места в тексте, раз оно оказывается частью
философского дискурса, или же оно каким-то образом
ускользает от такого предъявления и оказывается про-
сто ничем: вакантной текстуальной формой, совокупно-
стью пустых и мертвых, то есть обрезанных, знаков, по-
добно математическому отношению, остающемуся вне
живого понятия. Это не более чем машинальное пустое
ЕЙ Вне книги. Предисловия
повторение, не имеющее внутренней связи с тем содер-
жанием, которое оно намеревается приоткрыть10.
Но почему это объясняется в предисловиях7. Каков
статус этого третьего термина, который, как текст, не
оказывается однозначно ни в философской стихии, ни вне
ее, ни в примечаниях, ни в процессе, ни на полях книги?
Который никогда не снимается без остатка диалектиче-
ским методом? Который не является ни чистой, абсолют-
но пустой формой, поскольку он предвещает (пусть и
семантическое) производство понятия, ни содержанием,
моментом смысла, поскольку он остается внешним ло-
госу и неопределенно долго питает его критику, пусть
хотя бы благодаря зазору между умствованием и рацио-
нальностью, историей эмпирической и историей поня-
тийной? Нельзя понять письмо предисловия, если исхо-
дить из оппозиций форма/содержание, означающее/оз-
начаемое, чувственное/умопостигаемое. Но существует
ли предисловие, если оно остается7 Его пробел (преди-
словие к вторичному прочтению) расширяется на месте
Хо>ра.
Примечательный порог <limen> текста — то, что
читается из диссеминации. Limes: мета, ход, поле. Отме-
жевание. Запуск в движение — цитата: «Итак, этот во-
прос уже был в явной форме заявлен как вопрос гра-
ницы».
«Предисловие» к «Феноменологии духа»: «Могло бы
показаться необходимым обозначить в начале прин-
ципиальные пункты, относящиеся к методу этого дви-
жения или науки. Однако его понятие обнаруживает-
ся в том, что уже было сказано, а его подлинное пред-
ставление (eigentliche Darstellung) принадлежит только
Логике или, скорее, самой Логике. Действительно, ме-
тод не является чем-то отличным от структуры вся-
кого изложения в ее чистой форме сущности. Однако,
если учесть царившее до сего момента мнение отно-
сительно этого вопроса, мы должны осознавать, что
система представлений, соотносящихся с философским
EBS Жак Деррида. Диссеминация
методом, принадлежит культуре, которая на сегодняш-
нем этапе уже ушла в прошлое. — Это утверждение
могло бы иметь хвастливый или революционный (ге-
nommistisch oder revolutiondr) оттенок, хотя это как раз
тот тон, от которого я весьма далек [стало быть, я под-
писываю данное предисловие]; однако мы должны
с полной определенностью признать, что научный ап-
парат, предлагаемый нам математикой — определения,
подразделения, аксиомы, последовательности теорем
и их доказательств, начала с их следствиями и заклю-
чениями, — все это для мнения по меньшей мере уже
устарело» (р. 41).
Следовательно, очарование формальной моделью
математики должно было вести классических философов
в их разработке понятия метода, в их методологии, в их
рассуждении о методе и в правилах для руководства ума11.
Такой плохо упорядоченный формализм, если брать его
в целом, состоит, судя по всему, в том, что на представле-
ние истины накладываются требования, которые она не
переносит или же сама должна была бы произвести; этот
формализм делает нас слепыми к пути истины и к жи-
вой историчности метода, который излагается и сам со-
бой порождается в Логике. Именно здесь, в Логике, про-
лог должен и может исчезнуть. Гегель сказал об этом
в «Предисловии» к «Феноменологии духа». Почему же он
все-таки повторяет это во «Введении» к «Науке логики»?
Как складываются здесь обстоятельства этого текстуаль-
ного «события»? Этого диграфа?
Не существует науки, в которой потребность начинать
без предварительных рефлексий (ohne vorangehende
Reflexionen), с самой вещи (von der Sache selbst), чув-
ствовалась бы сильнее, чем в логической науке. Во всех
других науках изучаемый предмет и научный метод
отличны; так же и содержание в них не образует абсо-
лютного начала, а зависит от других понятий и оста-
ется в связи с другими материями (Stoffe). Поэтому
ря Вне книги. Предисловия
этим наукам позволяется говорить об их области, об
их связях и методе всего лишь леммами...
«Введение» в «Логику» имеет подзаголовок «Общее
понятие логики». Необходимо различать предисловие
и введение. С точки зрения Гегеля, они не обладают ни
одной и той же функцией, ни одним и тем же достоин-
ством, хотя в своем отношении к философскому корпу-
су изложения они ставят аналогичные проблемы. Введе-
ние (Einleitung) имеет более систематическую, менее ис-
торическую и менее условную связь с логикой книги. Оно
единственно, оно рассматривает общие и существенные
проблемы архитектоники, оно представляет общее по-
нятие в его разделении и его самодифференциации. На-
против, предисловия умножаются от одного издания
к другому, они принимают в расчет более эмпирическую
историчность; они отвечают на необходимость обстоя-
тельств, которую Гегель определяет, естественно, в пре-
дисловии — «Предисловии» ко второму изданию большой
«Логики»,2. Но в то же время — и именно поэтому мы
говорим об аналогичных проблемах — «Введение» так-
же должно было бы, возможно в будущем, исчезнуть
в Логике. Оно сохраняется в ней только в той мере, в ка-
кой эта абсолютно универсальная философская наука дол-
жна временно, учитывая царящее вокруг бескультурье,
осуществлять введение в саму себя как в частную фи-
лософию. Ведь единственное законное место Введения
в системе — это место увертюры частной философской
науки, например Эстетики или Истории философии. Вве-
дение сочленяет определенную общность этого производ-
ного и зависимого дискурса с абсолютной безусловной об-
щностью логики. Следовательно, Гегель никоим образом
не противоречит себе, когда устанавливает в «Лекциях»
по эстетике или истории философии необходимость вве-
дения13.
Итак, граничное пространство открыто неким несо-
ответствием между формой и содержанием дискурса или
некоей несоизмеримостью означающего и означаемого.
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
Как только блокнот сводится к одной-единственной по-
верхности, протокол навсегда становится формальной
инстанцией. Во всех обществах распорядители протокола
являются функционерами формализма. Несоответствие
формы и содержания должно было бы стереться в спе-
кулятивной логике, которая, в отличие от математики,
является одновременно и производством, и представле-
нием своего содержания: «Напротив, Логика не может
предпосылать себе ни одну из этих форм рефлексии и
ни одно из этих правил или законов мысли, поскольку
они составляют часть ее содержания и должны обосно-
вываться в нем. Часть этого содержания составляет не
только выражение научного метода, но и само понятие
науки в целом, которое в то же время образует ее послед-
ний результат».
Итак, ее содержание — это ее последний результат:
объектом логики является лишь научность вообще, по-
нятие науки, сама мысль, поскольку она воспринимает,
познает и мыслит саму себя. Она не имеет потребности
в лемме именно потому, что, начиная с понятийного
мышления, она должна им же и закончить, а также пото-
му, что заранее она не все знает о научности, понятие
которой станет ее предельным достижением. Однако не-
обходимо, чтобы это достижение уже было ее предпосыл-
кой; и чтобы в начале абстрактно объявлялось о том, что
она познает только в конце, чтобы в своем прологе она
уже располагалась в стихии своего содержания и не име-
ла нужды заимствовать формальные правила у другой
науки. Отсюда необходимость привести в движение сле-
дующее положение, которое непосредственно себе про-
тиворечит, если понимать его в соответствии с линейно-
стью, лишенной какой бы то ни было кругообразности:
Поэтому она [Логика] не может заранее сказать
(voraussagen), что она есть, на что способно только пол-
ное ее рассмотрение (ihre ganze Abhandlung), которое
производит это знание самого себя в качестве ее за-
вершения (ihr Letztes) и в качестве ее выполнения
щ Вне книги. Предисловия
(Vollendung). Так же и ее предмет, мысль или, более точ-
но, мышление, схватывающее в понятиях (begreifende
Denken), по своей сущности рассматривается внутри
логики; понятие этого мышления производится в его
развертывании (Verlauf),следовательно,оно не может
быть предпослано (vorausgeschickt) (ibid.).
Стало быть, Гегель должен сразу же отменить логи-
ческий и научный характер Введения в Логику в тот са-
мый момент, когда, предлагая это Введение (какова все
же текстуальная операция такого предложения?), он выд-
вигает в нем положение, будто Логике не может предше-
ствовать никакая лемма и никакая пролемма. Он отри-
цает логический характер этого Введения, уступая в том,
что оно является всего лишь уступкой и что оно оста-
ется, как и в классической философии, внешним по от-
ношению к своему содержанию, формальностью, обязан-
ной самопроизвольно удалиться:
То, что, таким образом, предвосхищается в этом Вве-
дении, нацелено не на какое-то обоснование понятия
Логики или же на заранее данное научное оправдание
ее содержания и ее метода, а лишь на то, чтобы по-
средством некоторых разъяснений и рефлексий, оста-
ваясь в порядке резонерства (rdsonierendem) и исто-
рии, сделать так, чтобы читатель более точно представ-
лял себе точку зрения, с которой следует рассматривать
эту науку (ibid.).
Принуждение» которому уступает Введение, остается,
несомненно, привходящим: необходимо исправить исто-
рическое заблуждение, в которое впадали как философы
прошлого, так и современные. Вступая с ними в спор» Ге-
гель заходит на их территорию» которая, таким образом,
является территорией лемматизма» математизма» форма-
лизма. Но, поскольку это заблуждение является неотвра-
тимой негативностью (подобно философской «беседе»,
которую оно предписывает), оно тут же осмысляется,
КО Жак Деррида. Диссеминация
интериоризируется, снимается движением понятия, от-
рицается в свою очередь и снова становится завершаю-
щей частью логического текста. Необходимость такого
движения приобретает фигуру парадокса или противо-
речия только в том случае, если смотреть на него с вне-
шней позиции формалистской инстанции. Скорее, такое
противоречие является самим движением спекулятив-
ной диалектики и ее дискурсивной процессии. Оно вы-
страивает понятие предисловия в соответствии с гегелев-
скими значениями негативности, снятия, предпосылки,
результата, основания, замкнутости и т. д. или согласно
противопоставлению достоверности и истины. Означаю-
щая поспешность, которая толкает предисловие вперед,
заставляет его походить на пустую форму, пока еще ли-
шенную своего желания-сказать; но поскольку оно опе-
режает само себя, оно в своем собственном тексте ока-
зывается предопределено семантическим вторым шагом.
Но такова сама сущность спекулятивного производства:
означающая поспешность и семантический второй шаг
оказываются в нем чем-то однородным и слитным. Абсо-
лютное знание присутствует в нулевой точке философ-
ского изложения. Его телеология определила предисловие
в качестве послесловия, последнюю главу «Феноменоло-
гии духа» в качестве предисловия, «Логику» — в каче-
стве Введения к «Феноменологии духа». Эта точка онто-
телеологического слияния сводит поспешность и второй
шаг к кажимости или к снимаемым моментам негатив-
ности.
Следовательно, Гегель занимает наиболее близкую и
в то же время наиболее далекую позицию по отношению
к «современной» концепции текста или письма: ничто
в абсолютном значении не предшествует текстуальной
всеобщности. Не существует предисловия, программы,
или же, по крайней мере, любая программа уже является
программой, моментом текста, повторением в тексте его
внешнего как такового. Однако Гегель осуществляет это
обобщение, насыщая текст смыслом, телеологически
приравнивая его к его понятийному наполнению, сводя
gm Вне книги. Предисловия
на нет любое абсолютное расхождение между письмом
и желанием-сказать, стирая некое событие купюры меж-
ду предвосхищением и рекапитуляцией, а именно некое
движение головы.
Сегодня же предисловие представляется недопусти-
мым как раз по противоположной причине, то есть по-
тому» что никакое содержание «в голове» больше не по-
зволяет предвосхищению и рекапитуляции объединять-
ся и переходить друг в друга. Потерять голову, не знать
больше, куда ее деть, — вот» быть может, еще одно след-
ствие диссеминации. И если сегодня смешно пытаться
писать предисловие, которое было бы единым и недели-
мым, то лишь потому, что мы знаем, что семантическое
насыщение невозможно, что означающая поспешность
вводит неуправляемый выступ <ddbord> («часть под-
кладки, которая выступает за край одежды». — Литтре),
что семантический второй шаг более не обращается
в телеологическое предвидение и в умиротворяющий по-
рядок будущего предшествующего, что зазор между пус-
той «формой» и полнотой «смысла» структурно неиспра-
вим, что, наконец, формализм, как и тематизм, не в силах
совладать с этой структурой. Они упускают ее, желая над
ней властвовать. Обобщение грамматического или тексту-
ального связано с исчезновением или, скорее, повторным
вписыванием семантического горизонта, даже (и особен-
но) в том случае, когда он включает в себя различие или
множественность. Отстраняясь от полисемии» оказыва-
ясь чем-то большим или меньшим» чем она, диссемина-
ция прерывает кругообращение, которое превращает
в первоисточник второй шаг смысла.
Но вопрос о смысле только приоткрывается, и мы
еще не закончили с Гегелем. Мы знаем, сказали мы толь-
ко что. Итак, мы знаем о чем-то, чего больше нет, знаем
знанием, форма которого не узнается посредством это-
го старого названия. Рассмотрение палеонимии в нашем
случае уже не является осознанием» повторением знания.
Несомненно, Гегель тоже воздает должное важности
некоего разрыва между формой и содержанием. То есть
М Жак Деррида. Диссеминация
между тем, что он называет достоверностью, и истиной.
Разве «Феноменология духа» не является историей та-
ких разломов? Рассказом некоего бесконечного преди-
словия? Критикуя формализм, математизм, сциентизм,
поскольку все они являются грехами философа, Гегель
остерегается опровергать необходимость формального,
математического и научного моментов (в региональном
значении этих слов). Он боится впасть в симметричное
заблуждение — эмпиризм, интуиционизм, профетизм.
Итак, подобный сговор противоположных прегрешений
находит свое местопребывание в предисловиях как в сво-
ем избранном месте. Но то же предисловие должно его,
этот сговор, разоблачить согласно избытку при-мечания
<re-marque> (предисловие на предисловие, предисловие
в предисловии), чье формальное правило и движение
в пропасть должна проблематизировать диссеминация,
задавая совсем иное повторное вписывание «мертвого
пространства и пространства мертвеца», совсем иное
и, следовательно, весьма похожее, удваивающее «Преди-
словие» к «Феноменологии духа»:
Истина — это самостоятельное движение в самой себе,
тогда как этот метод [математический] является позна-
нием, внешним по отношению к материалу (Stoffe). Вот
почему он свойственен математике, и мы должны оста-
вить его математике, для которой, как уже было огме-
чено, собственным принципом является лишенное по-
нятия отношение, отношение величины (begrifflose
Verhaltnisder Grosze), а материалом (Stoffe) — мертвое
пространство и в равной степени мертвое Единое. Этот
метод в более свободном изложении, то есть в смеше-
нии с произвольными и случайными элементами, мо-
жет также продолжать существование и в обыденной
жизни, в разговоре (Konversation) или же в историче-
ских сведениях, которые удовлетворяют не столько по-
знание (Erkenntnis), сколько любопытство (Neugierde),
приблизительно таким же оказывается и положение
предисловия (Vorrede). [...] Однако, если необходи-
ЕН Вне книги. Предисловия
мость понятия изгоняет разболтанную поступь резо-
нерствующей беседы (den losen Gang der Rasonierende
Konversation), как и процедуры научной педантичнос-
ти, мы не должны по этой причине заменять понятие
антиметодом (Unmethode) предчувствия (der Ahnens)
и воодушевления (Begeisterung),K&K и произволом про-
роческих речений, который обесценивает не только эту
научность, но и научность вообще (р. 41—42).
Спекулятивная диалектика должна преодолеть оп-
позицию формы и содержания так же, как она должна
преодолеть любой дуализм и даже любую двойствен-
ность, не отказываясь от научности. Она должна научно
осмыслить оппозицию науки и ее противоположности.
Однако недостаточно дойти до общей троичности,
чтобы получить спекулятивный элемент понятия. Фор-
мализм также может приспосабливать троичность под
себя, подрывать ее, обездвиживать ее в схеме или в таб-
лице, отрывать ее от жизни понятия. Непосредственная
мишень в данном случае — философия природы Шел-
линга:
Что же до Троичности (Triplizitat), которая у Канта была
еще мертвой и лишенной понятия (unbegriffene), най-
денной лишь благодаря инстинкту, она была возвыше-
на до своего абсолютного значения, поскольку же в ней
была изложена подлинная (wahrhafte) форма (Form)
в своем подлинном содержании, возникло понятие на-
уки; однако мы еще не можем приписать научную цен-
ность современному использованию этой формы,
в котором она сводится к безжизненной схеме (leblosen
Schema), к настоящей тени (zu einem eigentlichen Sche-
men), тогда как, как мы видим, организация науки сво-
дится к таблице (Tabelle). — Этот формализм, о кото-
ром в целом мы ранее уже говорили, так что сейчас хо-
тим более точно указать на способ его действия, пред-
полагает, что он осмыслил и выразил природу и жизнь
образования (Gestalt), если в качестве предиката этого
2-6705
ш Жак Деррида. Диссеминация
образования утвердил некую определенность схемы —
будь это субъективизм или объективизм, магнетизм
или электричество» как и сжатие или расширение, вос-
ток или запад и т. д.» — подобная игра может идти до
бесконечности, а кроме того, при таком способе дей-
ствия каждое определение или каждое образование
может, в свою очередь, повторно использоваться други-
ми образованиями в виде формы или момента схемы,
и каждое из них из благодарности может оказать такую
же услугу другому — в круге взаимности, посредством
которого невозможно на опыте узнать, что такое сама
вещь — ни та, ни другая. При этом из обыденной инту-
иции получают чувственные определения, которые, не-
сомненно, должны означать нечто отличное от того, что
они говорят; с другой стороны, то, что значимо в себе
(Bedeutende)i чистые определения мысли (субъект,
объект, субстанция, причина, универсальное и т. д.)
применяются настолько же необдуманно и с таким же
отсутствием критичности, как и в обыденной жизни,
используясь так же, как используют термины «сила» и
«слабость», «расширение» и «сжатие»; следовательно,
эта метафизика столь же ненаучна, как и эти чувствен-
ные представления.
На месте внутренней жизни и само-движения
(Selbsbewegung) ее наличного бытия подобная простая
определимость интуиции, то есть в данном случае чув-
ственного знания, выражается в соответствии с поверх-
ностной аналогией, а такое внешнее и пустое примене-
ние формулы (Formel) именуется конструкцией (Коп-
struktion). Этому формализму уготована та же судьба,
что и любому другому (р. 42—43).
Таксономическая запись» статическая классифика-
ция дуальных оппозиций и третьего термина, анатоми-
ческая мысль, то есть» как нам теперь известно, мысль
предисловия, — все они довольствуются наклеиванием
этикеток на конечные и инертные препараты. Диалек-
тическая троичность лишь по видимости присутствует
дм Вне книги. Предисловия
в философии природы Шеллинга. Она налагает извне,
в заранее заданной «конструкции», простые оппозиции,
формулы, предписанные раз и навсегда, так что подоб-
ный способ действий несколько напоминает аптеку14 или
же хорошо упорядоченную бакалею и даже музей есте-
ственной истории, в котором собраны, расклассифици-
рованы и выставлены на показ мертвые члены, остыв-
шие костяки организмов, сухие чучела с пергаментной
кожей, анатомические муляжи и таблицы, пришпилива-
ющие живое намертво:
Это именно таблица, которая походит на скелет из скле-
енных кусков картона, на ряд закрытых банок с этикет-
ками в лавке бакалейщика (in einer Gewurzkramerbude)\
подобная таблица отодвинула или далеко запрятала
живую сущность вещи, и она не более ясна, чем скелет,
кости которого не имеют ни плоти, ни крови, или же
банки (Biichsen), в которых заключены безжизненные
организмы (р. 44—45).
Чтобы представить царство мысли философским
образом, то есть в ее собственной имманентной дея-
тельности или, что означает то же самое, в ее необходи-
мом развитии, потребовалось новое предприятие, нуж-
но было начать с самого начала; что же до полученного
материала, известных форм мысли, в них мы должны
видеть весьма значительное предложение (Vorlage), не-
обходимое условие и предпосылку, заслуживающую
нашего признания, даже если она предлагает нам всего
лишь бессвязные, лишенные содержания остатки или
мертвые кости скелета, представленного нам в полном
беспорядке («Наука логики», «Предисловие ко второму
изданию»).
Этой мертвой троичности спекулятивная диалек-
тика предпочитает живую троичность понятия, ту тро-
ичность, которая не поддается воздействию со сторо-
ны какой бы то ни было арифметики или нумерологии.
«Число “три” глубже осмысляется в религии как Троица
2*
Е9 Жак Деррида. Диссеминация
и в философии как понятие. В целом численная форма,
принятая как выражение, весьма бедна и недостаточна
для представления истинного конкретного единства. Дух,
несомненно, является Троицей, однако он не поддается
сложению или подсчету. Счет — это дурной метод» («Лек-
ции по истории философии», tr. fir., р. 190).
Будучи иной практикой чисел, диссеминация выво-
дит на сцену фармацию, в которой больше нельзя считать
ни единицами, ни двойками, ни тройками, поскольку все
начинается с диады. Дуальная оппозиция (лекарство/яд,
добро/зло, умопостигаемое/чувственное, высокое/низкое,
дух/материя, жизнь/смерть, внутреннее/внешнее, речь/
письмо и т. д.) организует некое конфликтное иерархи-
ческое поле, которое не поддается ни сведению к единству,
ни выведению из какой-то первоначальной простоты, ни
диалектическому снятию или интериоризации в каком-
то третьем термине. «Третье» отныне будет давать не иде-
альность спекулятивного решения, а эффект стратегиче-
ского при-мечания, отсылающего в сдвиге и посредством
симулякра имя одного из двух терминов к абсолютно
внешнему оппозиции, к той абсолютной инаковости, ко-
торая была отмечена — еще один раз — в докладе о раз-
личении. Соотношение «два/четыре», как и «закрытие ме-
тафизики», больше не имеет, да и никогда не имело фор-
мы окружности, описывающей поле и завершенную
культуру бинарных оппозиций, являясь на деле фигурой
совсем иного распределения. Диссеминация смещает
тройку онто-теологии под углом некоего изгиба. Кризис
versus а: некоторые меты больше не поддаются сведе-
нию или «разрешению» в двоичности бинарной оппози-
ции или же снятию в троичности спекулятивной диалек-
тики (например, «различение», «грамма», «след», «исток»
<entame>, «от-граничение» <cte-limitation>, «фармакон»,
«дополнение», «гимен», «мета-ход-поле» <marque-marche-
marge> и некоторые другие, ведь движение этих мет пере-
дается всему письму, поэтому оно не может завершиться
в некоей конечной таксономии или тем более в лексике
как таковой), они разрушают троичный горизонт. Разру-
уа Вне книги. Предисловия
шают его текстуально: это меты диссеминации (а не по-
лисемии), поскольку ни в одном из пунктов их невозмож-
но пришпилить понятием или же содержанием означае-
мого. К названному горизонту они «добавляют» избыток
и недостаток четвертого термина. «Хотя он и является все-
го лишь треугольником» открытым на своей четвертой
стороне» удаленный квадрат снимает осадное положение
треугольника и круга» которые в своем троичном ритме
(Эдип» Троица» Диалектика) управляли метафизикой. Он
разжимает их» то есть он их от-граничивает» повторно
вписывает» ре-цитирует». Письмо такого рассказа, реци-
таты, не расположено ни снаружи, ни внутри треугольни-
ка, а последствия такого положения дел можно подсчиты-
вать бесконечно.
Открытость квадрата, добавление четверки (не крест
и не закрытый квадрат), избыток или недостаток, кото-
рый удаляет диссеминацию от полисемии, — все это явно
и строго соотносится с кастрацией («кастрация — в веч-
ной игре»), но лишь с учетом того внешнего кастрации
(безвозвратного падения без ограниченной экономии),
которое больше не могло заключаться и включаться в ло-
гоцентрическое сублимирующее поле речевой истины,
значения, символического, закона, полностью осмыслен-
ного слова, интерсубъективной диалектики и даже ин-
терсубъективной триады. Если диссеминация не явля-
ется просто кастрацией, которую она влечет <entrame>
(нам стоит увлечься чтением этого слова), причина тому
не только в ее «утвердительном» характере, но и в том,
что понятие кастрации, по крайней мере до сего момен-
та, в силу необходимости, которая не имеет ничего об-
щего со случайностью, было метафизически истолкова-
но и закреплено. Пустота, нехватка, купюра и т. д. полу-
чили в таком истолковании значение означаемого или,
что то же самое, трансцендентального означающего —
самопредставления истины (сокрытия/несокрытости)
как Логоса.
Здесь как раз и разыгрывается вопрос психоанали-
за: как практически примериваться к тексту, который,
ESI Жак Деррида. Диссеминация
имея возможность «начинаться» лишь с четверки, боль-
ше не поддается закрытию, овладению и заключению
в круг, если только не в каком-то отдельном месте и не
благодаря симулякру.
Диссеминация всегда открывает этот клок <ассгос>
письма, который уже не пришьешь обратно, открывает
место, в котором ни смысл, пусть даже и множествен-
ный, ни любая из форм присутствия больше не цепляют
след. Диссеминация использует — в прочитанном — ту
точку, в которой движение значения должно было бы
упорядоченно связывать игру следа, производя таким
образом историю. Она подрывает безопасность этой точ-
ки, остановленной во имя закона. Именно с риска (по
меньшей мере) подобного подрыва начиналась диссеми-
нация. И окольный путь письма, из которого не возвра-
щаются.
Этот вопрос нельзя будет отсоединить от выведения
на сцену arithmos'a и «счета» как дурного средства. А так-
же от повторного прочтения rythmos'a Демокрита, то есть
от некоего письма, с которым философия не сможет по-
считаться, поскольку она сама, скорее, пересчитывается
им, начиная со своего кануна и своего беспокойного
внешнего положения, — от написанного каким-то обра-
зом предисловия, которое речь как таковая уже не смо-
жет заключить в своем кругообращении, в том круге,
в котором соединяются в одно целое невозможность и
спекулятивная необходимость пролегомен.
Написанное предисловие (блокнот протокола), то,
что вне книги, становится в таком случае четвертым тек-
стом. Симулируя послесловие15, рекапитуляцию и воз-
вратное предвосхищение, самодвижение понятия, оно
оказывается совсем иным текстом, который в то же са-
мое время, как «речь попечения», является «двойником»
того, что оно превосходит.
Итак, спекулятивная философия запрещает преди-
словие как пустую форму и означающую поспешность;
и тем не менее она его предписывает, поскольку в нем
объявляется смысл, поскольку оно всегда уже вовлечено
ВО Вне книги. Предисловия
в Книгу,6. Такое «противоречие» по необходимости остав-
ляет протокольные следы, блоки письма в гегелевском тек-
сте — например, всю ту машинерию письма, которая от-
крывает главу о чувственной достоверности и чью стран-
ную работу мы проанализируем в другой раз. Однако это
противоречие устраняется, когда в конце предисловия, ко-
торый также является концом истории и началом фило-
софии, поле понятийной априорности освобождается от
каких бы то ни было пределов. В конце своего знаменито-
го предисловия Гегель описывает странную вторичностпъ
понятия и философской априорности, запоздание, кото-
рое стирается, полагаясь:
Чтобы сказать еще пару слов о стремлении научить
(das Belehren), каким должен быть мир, отметим, что
в любом случае философия всегда приходит слишком
поздно. Как мысль (Gedanke) мира, она впервые явля-
ется только после того, как действительность выпол-
нила процесс своего образования и завершилась. То,
чему учит понятие, история показывает со всей необ-
ходимостью, а именно, что первоначально идеал пред-
стает перед реальностью в зрелости самой действи-
тельности» а схватив тот же самый мир в его субстан-
ции, утверждается в форме мыслительного царства.
Когда же философия рисует серым по серому, форма
жизни уже устарела, и ее не омолодить этим серым по
серому, разве что признать. Сова Минервы вылетает
только в сумерках.
Однако пора заканчивать это предисловие (Vorwort) :
как предисловие (als Vorwort), оно было обязано сказать
что-то о написанном тексте, который оно предвосхи-
щает, лишь внешним и субъективным образом. Если
же мы должны говорить о содержании философски,
остается место только для научного объективного рас-
смотрения, и точно так же, с точки зрения автора, воз-
ражение (Wiederrede), которое облекалось бы в фор-
му, отличную от научного рассмотрения самой вещи,
должно иметь значение всего лишь субъективного
Ш Жак Деррида. Диссеминация
послесловия (Nachwort) и произвольного утверждения,
оставаясь безразличным для научного рассмотрения
(«Предисловие» к «Философии права»).
Конец предисловия, если он возможен, — это момент,
начиная с которого порядок изложения (Darstellung) и по-
нятийная цепочка в ее само-движении полностью по-
крывают друг друга в некоем априорном синтезе: больше
нет зазора между производством и изложением, остает-
ся лишь представление понятия самим собой, в своей
собственной речи, в своем логосе. Больше нет предше-
ствования или запаздывания формы, внешнего положе-
ния содержания, тавтология и гетерология спариваются
в спекулятивном предложении. Аналитическая процеду-
ра и процедура синтетическая обволакивают друг друга.
Понятие a priori обогащается своими определениями,
не выходя из себя или же всегда возвращаясь к себе,
в стихию присутствия для самого себя. Действительное
определение «реального» и «идеальная» рефлексия объ-
единяются в имманентном законе одного и того же дви-
жения.
И если Маркс должен был защищаться от этого ап-
риоризма и гегелевского идеализма, в котором его прак-
тически сразу же начали обвинять, причина тому имен-
но в его методе изложения. Эта защита имеет существен-
ное отношение к его понятию и практике предисловия.
Напомним, что по этому вопросу он объясняется
в «Послесловии» (Nachwort) ко второму немецкому изда-
нию «Капитала» (январь 1873 г.). Не лишен значения тот
факт, что как раз перед этими знаменитыми абзацами
о переворачивании гегелевской диалектики Маркс пред-
лагает решающее, с его точки зрения, различие способа из-
ложения и способа исследования. Только это различие дол-
жно было бы оборвать сходство формы его дискурса и
формы гегелевского представления. Это сходство ввело
в заблуждение «фабрикантов объяснений», которые при-
нялись рассуждать о «гегельянской софистике». Однако
от такого сходства можно отделаться только путем пре-
рм Вне книги. Предисловия
образования понятий рефлексии и предвосхищения,
а также оппозиций форма/материя или форма/содержа-
ние (Form/Stoff), идеальность/материальность (Ideelle/
Materielle), то есть путем преобразования отношения на-
чала к развитию и введения к процессу. Это отношение
не одно и то же в реальности и в дискурсе; оно не одно и
то же в исследовательском дискурсе и дискурсе, который
впоследствии, вторым шагом, представляет результат.
Именно эта позиция «результата» (для Гегеля «основание»
является «результатом»,7) задает всю дискуссию.
«Вестник Европы», русский журнал, издаваемый
в Санкт-Петербурге, в статье, которая полностью по-
священа методу «Капитала», объявляет, что мой ме-
тод исследования (Forschungsmethode) является стро-
го реалистическим, тогда как мой метод изложения
(Darstellungsmethode), к несчастью, принадлежит не-
мецкой диалектике (deutsch-dialektisch).
Как утверждает этот журнал, с первого взгляда,
если судить по внешней форме изложения (Form der
Darstellung)' Маркс является самым большим идеали-
стом (der Grosste Idealphilosoph), причем именно в не-
мецком, то есть дурном смысле этого слова. Но на са-
мом деле он бесконечно более реалистичен, нежели
любой из его предшественников в области критиче-
ской экономии... Ни в коем случае нельзя его назвать
идеалистом.
[...] Определяя таким образом то, что в этой статье
называется моим действительным методом (wirkliche
Methode) с такой большой точностью, и с такой благо-
желательностью относясь к моему применению этого
метода, что же автор все-таки определил, если не диа-
лектический метод? Несомненно, способ изложения
(Darstellungsweise) должен формально (formed) отли-
чаться от способа исследования (Forschungsweise). Ис-
следование должно сделать материю (Stoff) своей во
всех ее подробностях, проанализировать различные
формы ее развития и открыть их внутренние связи.
ЕВ Жак Деррида. Диссеминация
Как только эта задача выполнена, и только после этого,
действительное движение (wirkliche Bewegung) может
быть подходящим образом изложено. Если изложение
успешно, так что жизнь материи (Stoff) отражается
в своей идеальной копии (spiegelt sich ideell wieder), та-
кое зеркальное отражение может навести на мысль об
априорной конструкции (Konstruktion).
Мой диалектический метод не только по своему
основанию (der Grundlage nach) отличается от гегелев-
ского метода, он даже является его прямой противо-
положностью (direktes Gegenteil). Цля Гегеля процесс
мышления (Denkprozess)> который он под названием
Идеи превращает в независимого субъекта (in ein selbst-
standiges Subjekt), является творцом действительно-
сти, которая сама оказывается лишь его внешним про-
явлением. Напротив, для меня идея (ideelle) — это
не что иное, как материальное (Materielle), переложен-
ное и переведенное (umgesetzte und Ubersetzte) в голову
человека ”.
Мы ограничиваемся, как может показаться, только
«текстуальными» признаками вместо того, чтобы ввязы-
ваться в единственный фундаментальный спор, поддер-
живая его классическую форму (как в данном случае об-
стоят дела с понятиями метода, рефлексии, предпосыл-
ки, основания, результата, действительности и т. д.? Не
является ли, с гегелевской точки зрения, аргументация
«После-словия» Wiederrede возражением (нем.)> эмпи-
рического реализма, который, полагая абсолютную вне-
шность реальности по отношению к понятию, по необ-
ходимости заканчивает формализмом и даже идеали-
стическим критицизмом, навсегда задерживаемым сво-
им собственным предисловием? И т. д. и т. п.), лишь по
той причине, что здесь мы оказываемся в точке, в кото-
рой разыгрывается отношение «текста» — в классиче-
ском узком смысле этого слова — к «реальности», так что
речь идет о понятиях текста и внетекстового, о транс-
формации их отношения, о предисловии к практиче-
ЕЁ1 Вне книги. Предисловия
ской и теоретической проблематике такой трансформа-
ции — предисловии, в котором мы находимся. Новый
текст, который задерживает нас и, как кажется, нас огра-
ничивает, это снова бесконечный выступ своего класси-
ческого представления. Этот выступ, это от-граничение
позволяет заново прочитать форму нашего отношения
к гегелевской логике и ко всему, что в ней суммируется.
Прорыв к радиальной инаковости — по отношению
к философскому понятию (понятия) — в философии все-
гда принимает форму a posteriori и эмпиризма,9. Но здесь
речь идет о некоем эффекте зеркального отражения
философии, которая может вписать (включить) свое
внешнее, лишь присвоив его негативный образ, тогда как
диссеминация пишется на оборотной стороне — амаль-
гаме — этого зеркала. Но не на перевернутом фантоме.
И не в тройственном символическом порядке сублима-
ции. Вопрос в том, действительно ли то, что записывает-
ся под маской эмпиризма, переворачивая спекуляцию,
делает также и что-то другое, обуславливая невыпол-
нимость гегелевского снятия послесловия. Этот вопрос
требует осторожного, дифференцированного, медленно-
го и стратифицированного чтения. Например, он дол-
жен будет затронуть мотив «начала» в тексте Маркса.
Хотя он признает, как и Гегель в большой «Логике», что
«во всех науках начинать тяжело» («Предисловие» к пер-
вому изданию «Капитала», 1867), Маркс совершенно ина-
че относится к письму своих введений. Исходно он стре-
мится избежать именно формального предвосхищения.
Как, естественно, и Гегель. Но в данном случае ожидае-
мый «результат», тот, который должен предшествовать
и обуславливать введение, не является чистым опре-
делением понятия и еще в меньшей степени «основа-
нием».
Является ли единственной причиной такого поло-
жения дел только то, что здесь речь идет о том, что Ге-
гель назвал бы частной наукой? Да и является ли в дан-
ном случае политическая экономия региональной нау-
кой? 20
КО Жак Деррида. Диссеминация
Так или иначе, сама форма предисловия уже не под-
дается простой интериоризации лъгтескъЪ априорно-
стью книги и ее Darstellung <изложения, представления
Две первые главы образуют содержание настоящего
тома. У меня перед глазами собрание документов, вы-
полненных в форме монографий, которые я в разные
периоды записывал для своего собственного исследо-
вания» а не для печати, так что их систематическая раз-
работка, которая следовала бы обозначенному плану,
будет зависеть от обстоятельств.
Я убрал общее введение (allgemeine Einleitung), ко-
торое я набросал, поскольку, поразмыслив, я понял, что
предвосхищение результатов, которые сначала нужно
доказать» — это неверный ход, а читатель, который
захочет последовать за мной, должен решиться на вос-
хождение от единичного к общему. Напротив, мне ка-
жется, что здесь самое место для некоторых указаний»
относящихся к моему собственному продвижению
в исследовании политической экономии. [...] Эти ис-
следования постепенно сами по себе привели меня
к дисциплинам, которые, как казалось, отдаляли меня
от моего предмета и на которых мне пришлось на боль-
шее или меньшее время задержаться. Однако сильнее
всего время, которым я располагал, сокращалось имен-
но настоятельной необходимостью выполнять опла-
чиваемую работу. Мое сотрудничество с New York
Tribune^ которое длится уже восемь лет... («Предисло-
вие» к «Критике политической экономии», 1859,dd.soc.,
tr. М. Husson).
Развитие здесь настолько слабо упорядочивается за-
коном понятийной имманентности, оно с таким трудом
предвосхищается, что оно должно нести видимые при-
знаки переработок, редактуры, расширений, частичного
предвосхищения, игры примечаний и т. д. «Предисловие»
к первому изданию «Капитала» (1867) демонстрирует не
ЕЕ1 Вне книги. Предисловия
что иное, как работу по переработке, которой был под-
чинен «первый план изложения», количественную и ка-
чественную гетерогенность разработок, всю ту истори-
ческую сцену, на которой эта работа записывается21.
Так прорисовывается асимметричное пространство
некоего постскриптума к большой логике. Общее и бес-
конечно дифференцированное пространство. Несомнен-
но: видимо зависимое и производное именно в той мере,
в какой может быть зависимым и производным пост-
скриптум, оказывающийся в то же время силой истори-
ческого невозвращения, сопротивляющегося любому
кругообразному включению в домашнее пространство
анамнеза (Erinnerung) Логоса, покрывающего и выявляю-
щего истину в своей полной речи.
Мы попали в неравный хиазм. Как не признать в при-
чине, по которой Гегель обесценивает предисловие (его
формально внешнее положение, его означающая по-
спешность, его текстуальность, освобожденная от авто-
ритета смысла или понятия, и т. д.), само требование
письма, которое мы как раз и пытаемся прочитать? Пре-
дисловие в этом случае становится необходимым и струк-
турно незавершимым, его больше нельзя описывать
в терминах спекулятивной диалектики: это уже не толь-
ко пустая форма, незанятое значение, чистая эмпирич-
ность не-понятийности, но и совсем иная, более мощ-
ная, структура, отдающая отчет в эффектах смысла, по:
нятия, опыта, реальности, повторно вписывая их так, что
сама операция вписывания не становится включением
идеального «begreifen». И наоборот: то, что на деле всегда
навязывается Гегелю в форме предисловия (то движение,
посредством которого понятие всегда заранее объявля-
ет о себе, предшествует самому себе в своем telos'e, из-
давна размещает текст в стихии его смысла), — разве это,
с нашей точки зрения, не делает предисловие чем-то на
сегодняшний день архаичным, академичным, против-
ным необходимости текста, вышедшей из оборота ри-
торикой, подозреваемой в том, что она сводит цепочку
письма к ее тематическим эффектам и к формальным
ХЯ Жак Деррида. Диссеминация
моментам ее сборки? Диссеминация не имеет предисло-
вия, но не потому, что она дает ход какому-то изначаль-
ному произведению, некоему самопредставлению, — на-
против, именно потому, что помечает существенные об-
щие пределы риторики, формализма и тематизма, а также
всей системы их взаимообменов.
С одной стороны, предисловие исключается, однако
его должно написать — чтобы присоединить его, чтобы
стереть его текст в логике понятия, которая не может не
предполагать сама себя. С другой стороны (почти той же
самой), предисловие исключается, однако его все еще пи-
шут, заставляя его работать в качестве момента продлен-
ного текста, в качестве принадлежности текстуальной
экономии, которую не смогло бы ни снять, ни предвос-
хитить ни одно понятие. Стало быть, «момент» и «при-
надлежность» больше не могут отсылать к простому
включению в некое идеальное внутреннее пространство
письма. Выдвигать тезис, согласно которому не существу-
ет абсолютного вне-текста, — это не значит постулиро-
вать идеальную имманентность, непрерывное восстанов-
ление отношения письма к самому себе. Больше нет речи
об идеалистической или теологической операции, кото-
рая, как у Гегеля, подвешивает и снимает внешнее дис-
курса, логоса, понятия, идеи. Текст утверждает внешнее,
отмечает предел подобной спекулятивной операции, де-
конструирует и сводит к «эффектам» все предикаты, по-
средством которых спекуляция присваивает внешнее.
Если вне текста ничего нет, этим предполагается, что во-
обще — с учетом трансформации текста — сам этот текст
оказывается уже не закрытым в себе нутром некоего
внутреннего пространства или самотождественности
(хотя мотив «внешнее любой ценой» иногда и способен
играть роль успокоения — иное внутреннее может быть
и ужасным), а иным расположением эффектов откры-
тости и закрытости.
В обоих случаях предисловие является вымыслом
(«Вот киник Алкидамант, составляющий это предисло-
вие смеха ради»). Но в первом случае вымысел состоит
Ш Вне книги. Предисловия
на службе смысла, истина относится к вымыслу (истине
вымысла), вымышленное упорядочивается определенной
иерархией, устраняется и отрицает само себя как допол-
нение к понятию. В другом случае вымысел, оказываю-
щийся за пределами любого миметологизма, утвержда-
ется как симулякр; посредством работы такого тексту-
ального притворства он дезорганизует все оппозиции,
которыми телеология книги должна была бы насильно
его усмирить.
Например, такой представляется игра «путаного пре-
дисловия» или «предисловия отступника» в «Песнях Маль-
дорора». Благодаря добавлению симулякра «Песнь шес-
тая» представляет себя в качестве корпуса действитель-
ного текста, реального действия, по отношению к которому
предыдущие «Песни» должны были бы быть всего лишь
дидактическим предисловием, «синтетическим» изложе-
нием, «фронтисписом», «фасадом», который видят спере-
ди, до проникновения внутрь, воображаемой гравюрой
на обложке книги, представительным фронтоном, зара-
нее предлагающим «предварительное объяснение моей
будущей поэтики» и «изложение тезиса».
Какому же участку топики текста приписать эту стран-
ную декларацию. само это действие текста, которое уже не
расположено в предисловии и еще не входит в «аналити-
ческую» часть, которая, как кажется, должна за ним по-
следовать?
Пять первых рассказов не были бесполезны; они ста-
ли фронтисписом моего произведения, фундаментом
постройки, предварительным объяснением моей бу-
дущей поэтики: ведь я должен был, прежде чем собрать
чемоданы и отправиться в страну воображения, по-
средством выполненного, пусть и в спешке, зато точ-
но и ясно, наброска общих положений сообщить ис-
кренним любителям литературы о цели, которую я ре-
шил преследовать. Следовательно, по моему мнению,
на сегодняшний день синтетическая часть моего тру-
да завершена и в достаточной мере разработана. В ней
ш Жак Деррида. Диссеминация
вы узнали, что я задался целью атаковать человека и
создавшего его Творца. На данный момент и на бли-
жайшее будущее вам не нужно знать ничего другого!
Новые объяснения кажутся мне избыточными, по-
скольку они лишь повторили бы — пусть и в другой,
более полной, но все равно тождественной форме —
изложение тезиса, первое развитие которого можно
ожидать к вечеру этого дня. Из всех предшествующих
замечаний следует, что теперь в мои намерения вхо-
дит разработка аналитической части; это настолько
верно, что всего лишь несколько минут назад я испы-
тывал страстное желание, чтобы вы оказались заклю-
чены в потовых железах моей кожи, дабы могли с пол-
ным знанием дела подтвердить несомненность моих
утверждений. Я знаю, что необходимо представить
немалое число доказательств той аргументации, кото-
рая включена в мою теорему; и эти доказательства су-
ществуют, ведь вам известно, что я ни на кого не на-
падаю без серьезных оснований! Я только смеюсь во
все горло...
Все это происходит еще в конце предисловия, в су-
мерках, между жизнью и смертью, причем последняя
«Песнь» будет пропета к «вечеру этого дня». И это будет
только «первое развитие» уже изложенного «тезиса».
Обращаясь с целью розыгрыша к оппозиции двух спо-
собов математического доказательства, анализа и синте-
за, Лотреамон пародийно переворачивает их порядок и,
разбираясь с ними по примеру Декарта22, обнаруживает
принудительный характер и topos «порочного круга».
Предисловие как синтетический способ изложения, пред-
ставление тем, тезисов и заключений в данном случае, как
и везде, предшествует аналитическому тексту изобрете-
ния, который на самом деле опережает предисловие, не
имея при этом возможности, под страхом остаться не-
читаемым, представлять сам себя и говорить от своего
имени. Но и предисловие, которое должно сделать текст
понятным, само сможет предложить себя для чтения
утд Вне книги. Предисловия
только после действительного и бесконечного продви-
жения по болотистому пути («неровный дикий путь че-
рез пустынные болота этих темных и полных яда стра-
ниц»). Оно станет рассуждением о методе, изложением
поэтики, собранием формальных правил только после
прорывного движения метода, практикуемого на этот раз
в качестве пути, который сам себя прокладывает и стро-
ит, не имея заранее предначертанной траектории. Отсю-
да искусственность предисловия, которое «быть может,
не покажется достаточно естественным» и которое, во
всяком случае, никогда не будет однозначно вычеркну-
то23. Напротив, оно продлевает(ся в) другое предисло-
вие к новому роману:
Я не откажусь от своих слов; рассказывая о том, что
увижу, я с легкостью оправдаю их, преследуя одну лишь
истину. Теперь же я собираюсь перейти к созданию
небольшого романа на тридцать страниц; впослед-
ствии этот размер должен стать постоянным. Давно
уже я надеялся, что рано или поздно мои теории будут
закреплены в той или иной литературной форме, и вот
после нескольких попыток мне наконец удалось най-
ти окончательную формулу. Это самая лучшая фор-
мула, ведь это роман! Это путаное предисловие было
изложено так» что оно» быть может» не покажется до-
статочно естественным, поскольку оно, так сказать,
ошеломляет читателя, который не очень хорошо по-
нимает, куда же его стремятся завести; но я как раз и
приложил все срои усилия, чтобы получить это чув-
ство замечательного остолбенения, в которое, в целом,
стоит повергать тех, кто тратит свое время на чтение
книг и брошюр. И в самом деле, я не мог бы сделать
что-то меньшее даже при всей моей доброжелатель-
ности — лишь позже, после выхода в свет нескольких
романов, вы сможете лучше понять это предисловие
отступника, облик которого столь расплывчат.
Прежде чем продолжить дело, отмечу глупость (ду-
маю, что, если я не прав, никто со мной не согласится),
ВО Жак Деррида. Диссеминация
согласно которой необходимо, чтобы я разместил ря-
дом с собой открытую чернильницу и несколько лис-
тов гладкой бумаги. После этого я смогу, начиная эту
шестую песнь, полностью отдаться ряду поучительных
поэм, которые мне не терпится написать. Несколько
драматических эпизодов, которые должны принести
неоспоримую пользу! Наш герой заметил, что, часто
посещая пещеры и скрываясь в недоступных местах,
он нарушает законы логики и впадает в порочный круг.
Затем идет доказательство: Мальдорор ускользает из
круга, выходя из какой-то пещеры, из «глубины моей лю-
бимой пещеры» («Песнь первая»), но не к свету истины,
а повинуясь совсем иной топологии, в которой смешива-
ются пределы настоящего текста и «главного». Распрост-
раняя отраву, восстанавливая квадраты, анализируя кам-
ни, проходя сквозь колонны и решетки24, развилки и из-
городи «Песен Мальдорора», диссеминация при этом
смещает всю онто-спелеологию (так иначе называется ми-
метология) — но не мимезис, ужасающе сильную загад-
ку, а определенную интерпретацию мимезиса, которая не
признает логики двойника и всего того, что в другом мес-
те было обозначено как «добавление начала», «невыводи-
мое повторение», «двойственность без предшествования»
и т. д. («Представьте себе, что зеркала — тени, отраже-
ния, фантазмы и т. д. — уже не включены в структуру
онтологии и мифа о пещере — который дает место так-
же экрану и зеркалу, — а сами обволакивают эту струк-
туру, производя в том или ином месте строго определен-
ные, частные эффекты. Вся иерархия, которая описы-
вается “Государством” в его пещере и в его строках, как
будто заново разыгрывается в театре “Чисел”. Платони-
ческий момент живет на четвертой из поверхностей, не
занимая ее целиком».)
Вопрос диссеминации: что «происходит», в каком
времени, в каком пространстве, что случается в «собы-
тии», когда я «пишу», «я разместил рядом с собой откры-
тую чернильницу и несколько листов гладкой бумаги»
дм Вне книги. Предисловия
или же «я собираюсь написать», «я написал» — на пись-
ме, против письма, в письме; или же, когда я составляю
предисловие, пишу за или против предисловия, это суть
предисловие, а это — нет? Как обстоит дело с этой авто-
графией чистой потери, не имеющей подписи? И поче-
му это действие смещает столько сил, чтобы обойтись
без истины?
Структура притворства задает здесь, как всегда, до-
полнительный оборот.
Итак, «Песнь шестая» должна была бы вытолкнуть
предшествующие Песни в прошлое рассудительного
предисловия (поэтическое искусство, методология, ди-
дактическое изложение). Они, следовательно, не входят
в порождающий текст, текст одновременно практиче-
ский и «аналитический». Но эта схема, перевертываясь
в той же самой игре, смещает оппозицию пре-текста (пред-
лога) и текста. Она искривляет границу, которая будто
бы проходит между текстом и тем, что, как кажется, вы-
дается из него под видом реального. Диссеминация, осу-
ществляя упорядоченное расширение понятия текста,
вписывает иной закон эффектов смысла или референ-
ции (предшествования «вещи», реальности, объектив-
ности, сущности, существования, чувственного или умо-
постигаемого присутствия в целом), иное отношение
между письмом в метафизическом смысле и его «вне-
шним» (историческим, политическим, экономическим,
сексуальным и т. д.). «Песнь шестая» представляется не
только как наконец-то введенный текст реального анали-
тического открытия, как письмо реального исследования.
Она выдает себя и за выход из некоего текста в реальность.
В конце «Песни пятой» этот прорыв, это рискованное вы-
совывание головы из дыры в углу комнаты предписыва-
ется последовательностью паука: «Мы уже не в повество-
вании... Увы! Теперь мы дошли до реальности...». Это
момент одновременно и смерти и пробуждения. Отгра-
ниченное пространство предисловия. В то же время вы-
ход за пределы предисловия вписан в уголок рассказа,
объявляя в нем о близящемся романе. Текст прорыва за
KBI Жак Деррида. Диссеминация
пределы письменного текста («Смотрите сами...») в кон-
це «Песни пятой» повторяет мгновение смерти в мгно-
вении пробуждения, и наоборот. Вернемся же к пауку без
паутины (которую нужно плести):
Каждую ночь, в тот час, когда сон становится как
нельзя более глубоким, здоровенный старый паук мед-
ленно высовывает свою голову из дыры в полу, распо-
ложенной в одном из углов комнаты. [...] Он надеется
(надейтесь же и вы с ним), что эта ночь станет свиде-
тельницей последнего представления этого огромно-
го кровопийцы; ведь он хочет лишь того, чтобы палач
покончил с его существованием: только смерть, и он
будет доволен. Посмотрите на этого старого здоровен-
ного паука, который медленно высовывает свою голо-
ву из дыры в полу, расположенной в одном из углов ком-
наты. Мы уже не в повествовании. Он внимательно
прислушивается к тому, не движутся ли его челюсти
под действием какого-нибудь ветерка. Увы! Теперь мы
дошли до реальности, если речь о том, что относится
к этому пауку, и хотя можно было бы поставить вос-
клицательный знак в конце каждой фразы, это, быть
может» не причина, чтобы обходиться без него вовсе!
Как паук, вылезающий из «глубин своего гнезда», как
упрямая точка, которая не передает никакого речевого
восклицания, а лишь осуществляет непереходным обра-
зом свое собственное письмо (позже вы сможете разгля-
деть в этом обращенную фигуру кастрации), текст вы-
ходит из своей дыры и обнажает свою угрозу: он одним
махом переходит к «реальному» тексту и к реальному
«вне-тексту». В общей ткани «Песен» — в них вы читае-
те письменный текст, и все это производится в) тек-
ст(е) — две внешние и гетерогенные друг для друга ин-
станции, как кажется, следуют друг за другом, заменяют
друг друга, в конечном счете покрывая все поле мет.
Сценическая постановка заглавия, входной молит-
вы, посвящения, предлога, «предисловия», некоего уни-
уял Вне книги. Предисловия
кального зародыша никогда не станет действительным
началом. Она уже неопределенно долго рассеивалась.
Так разбивается треугольник текстов.
Вне-текст, совокупность первых пяти «Песен», про-
должается реальным текстом. Вне-текстом «Песни шес-
той» и даже «Стихотворениями», выходом в реальность.
Существует только текст, существует только вне-текст, то
есть в сумме — «непрекращающееся предисловие»25, ко-
торое обыгрывает философское представление текста,
усвоенную оппозицию текста и его избытка. Простран-
ство диссеминации не только возбуждает множественное
число; оно само движимо бесконечным противоречием,
отмечаемым неразрешимым синтаксисом «больше нет»
<plus>. Последний в своем практическом исследовании,
быть может, позволит нам заново прочитать фразу «на
самом деле ничего не было более реального». («На рассве-
те моя бритва, прокладывая себе путь по шее, докажет, что
на самом деле ничего не было более реального».)
Таков протокол, необходимый для любой пере-работ-
ки проблемы «идеологии», своеобразного вписывания
каждого текста (на этот раз в узком, региональном, зна-
чении этого слова) в поля, обычно обозначаемые в каче-
стве полей «реальной» (исторической, экономической,
политической, сексуальной и т. д.) причинности. По край-
ней мере, теоретическая разработка, если бы могли по-
лагаться на такое ограничение, должна была бы подве-
сить или в крайнем случае усложнить, пусть и со всей
осторожностью, наивную открытость, которая соотносит
свой текст с вещью, с референтом, с реальностью или даже
с последней семантической или понятийной инстанцией.
Каждый раз, когда, чтобы поспешно замкнуть письмо на
успокоительное внешнее или же быстро порвать с любым
идеализмом, отказываются признать недавно полученные
теоретические достижения (в их числе — критика транс-
цендентального означаемого во всех его формах; декон-
струкция, смещение и подчинение эффектов смысла и
референции, как и всего того, что могло бы управлять ло-
гоцентрическими понятиями и практикой; реконструкция
Ш Жак Деррида. Диссеминация
текстуального поля из процедур интертекстуальности или
бесконечной отсылки от следов к следам; обратное впи-
сывание в дифференциальное поле опространствования
эффектов темы, субстанции, содержания, чувственного
или умопостигаемого присутствия в любом месте, где они
могут возникнуть), тотчас реализуется еще более успеш-
ный регресс к идеализму вместе со всем тем, что, как мы
недавно определили, может лишь спариваться с ним, осо-
бенно в облике эмпиризма и формализма.
В переиздании книги.
Дважды производное первичного единства, образ,
подражание, выражение, представление — книга имеет
свое начало, которое также является ее моделью, вне себя:
это «сама вещь» или то определение сущего, которое на-
зывают «реальностью», как она есть или как она воспри-
нимается, переживается или мыслится тем, кто описыва-
ет или пишет. Итак, присутствующая реальность или ре-
альность представленная — такова альтернатива, которая
сама выводится из предшествующей модели. Модель Кни-
ги, Книга-Модель — не это ли абсолютное соответствие
присутствия и представления, истина (homoiosis или ade-
quatio) вещи и мышления о вещи, истина, которая исход-
но производится в божественном творении, а затем уже
отражается в конечном познании? Будучи Книгой Бога,
Природа в Средние века была записью, сообразной боже-
ственным мысли и слову, разуму <entendement> Бога как
Логоса, истине, которая говорит и слышит, как она гово-
рит, месту архетипов, преемнику topos noetos или topos
ouranios. Как представительное истинное письмо, соответ-
ствующее своей модели и самому себе, Природа была при
этом упорядоченной целостностью, книжным томом, на-
полненным смыслом, предлагающим себя для прочтения,
тем, что должно иметь значение для слышания в качестве
речи, идущей от разума к разуму. «Глаз слушает» (Клодель),
когда призвание книги — провозглашать божественный
логос.
Это напоминание — эта цитата — должно всего лишь
заново ввести нас в вопрос о предисловии, двойной запи-
ра Вне книги. Предисловия
си или двойной артикуляции подобного текста — его се-
мантического включения в Книгу, представляющую Ло-
гос или Логику (в качестве онто-теологии и абсолютного
знания), и оставании его текстуальной внешней позиции,
которую мы больше не будем смешивать с чувственной
непроницаемостью.
Это напоминание также должно ввести нас в вопрос
предисловия как семени. В соответствии с х (хиазмом) (ко-
торый всегда можно будет поспешно представить в виде
тематической иллюстрации диссеминации) предисловие
как semen <семя (лат.)> может в равной мере не только
оставаться^ производить и теряться подобно семенному
различению, но и поддаваться повторному присвоению
возвышенной инстанцией отца. Как предисловие книги,
оно есть речь отца, опекающего свои записи и обожаю-
щего их26, отвечающего за своего сына, изнуряющего са-
мого себя в попытке поддержать, удержать, идеализиро-
вать, повторно интериоризировать, подчинить свое семя.
Вся сцена при этом разыгрывалась бы, если бы это было
возможно» между отцом и сыном: само-осеменение, гомо-
осеменение, повторное осеменение. Нарциссизм — это
закон, он идет с ним в паре. Это отцовская фигура плато-
новского boetheia, которая еще выйдет на сцену, когда про-
легомены будут представляться в качестве моральной
инстанции, записывающейся только для того, чтобы ожи-
вить речь27. Которая в этих пролегоменах предъявляется
и проповедуется здесь и сейчас. Предисловия часто ста-
новились манифестами разных школ.
Стирание или сублимация семенного различия —
это движение, благодаря которому оставание вне-книги
поддается интериоризации и одомашниванию в онто-те-
ологической стихии великой Книги. Общая точка сопро-
тивления, в нашем случае отмечаемая, к примеру, име-
нем «Малларме», всегда может быть впоследствии уст-
ранена под прикрытием омонимии. Это снова вопрос
старого имени, онимизма <onymisme> в целом и лож-
ного тождества меты, диссеминация которой должна пе-
реоформить всю проблематику в корне.
D Жак Деррида. Диссеминация
То, что Малларме намеревался создать, используя ста-
рое название «Книга», было бы, «если бы оно существо-
вало», чем-то совсем иным. Вне-книги. Но после пришел
Клодель. Игра диссеминации, как можно было бы дога-
даться, часто призывает его к ответу. В следующем со-
брании, знак которого будет полностью, в каждом слове
преобразован диссеминацией:
Мы освободились от этого рокового оцепенения, от
этой униженной позы разума, раздавленного матери-
ей, от этой зачарованности количеством. Мы знаем, что
мы созданы для того, чтобы властвовать над миром,
а не для того, чтобы мир властвовал над нами. На небо
вернулось солнце» мы сорвали занавески и выбросили
в окно замшелые кровати и кресла, ярмарочные бу-
бенцы и «бледноголовый бюст Минервы». Мы знаем,
что мир на самом деле является текстом и что он рас-
сказывает нам, с горечью и радостью, не только о сво-
ем отсутствии» но и вечном присутствии кого-то еще,
а именно его Творца. Не только письмо, но и писец, не
только мертвая буква, но и живой дух, не только маги-
ческая тарабарщина» но и Слово, в котором были воз-
вещены все вещи. Бог! Мы знаем из «Писания» —
Писания как такового, то есть Святого Писания, — что
мы являемся неким началом творения, что мы видим
все вещи в загадке и как будто в зеркале (а именно
в зеркале Игитура), что мир — это книга, написанная
внутри и снаружи (та книга, с которой Игитур пытал-
ся сделать факсимиле), что видимые вещи созданы,
чтобы привести нас к познанию вещей невидимых.
Поэтому мы должны со всем возможным вниманием
не только смотреть на них, но и изучать их и выспра-
шивать, и как же нужно благодарить науку и филосо-
фию за то, что они предоставили нам столько замеча-
тельных инструментов, которые можно использовать
для этих целей! Ничто не мешает нам, имея в распоря-
жении эти бесконечно разнообразные инструменты,
держа одну руку на Книге Книг, а другую — на Уни-
ЕВ Вне книги. Предисловия
версуме, продолжить великое символическое исследо-
вание, которому на протяжении двенадцати столетий
предавались Отцы Веры и Искусства
С этого момента конечные книги должны стать на-
бросками, создаваемыми по модели великого божествен-
ного произведения, множеством застывших отражений,
множеством маленьких зеркал, запечатлевающих вели-
кий образец. Их идеальной формой станет книга полно-
го знания, книга абсолютного знания, объединяющая,
переписывающая, упорядочивающая в своей основе все
книги и описывающая полный круг всех знаний. Но, по-
скольку истина уже задана в отражении и отношении
Бога к самому себе, поскольку она уже знает себя как
истину речи, циклическая книга будет к тому же педаго-
гической. А ее предисловие — пропедевтическим. Авто-
ритетность энциклопедической модели, аналогическое
единство человека и Бога может действовать с исполь-
зованием весьма косвенных средств и запутанных умо-
заключений. Кроме того, речь идет о модели и норматив-
ном понятии, но это не исключает того, что в практике
письма, и особенно так называемого литературного
письма, остаются силы, которые противятся этой моде-
ли и заново, насильственным образом, разыгрывают ее.
Причем так было всегда, хотя и в разных, не сводимых
друг к другу процессах. Что касается энциклопедическо-
го проекта, как он был в явном виде сформулирован
в Средние века, хотя его подготовка началась довольно дав-
но (Витрувий, Сенека, Посидоний и т. д.), понятно, что он
имеет теологическое происхождение и теологическую
сущность, даже если так называемые атеистические умы
принимали участие в большой Энциклопедии, создавав-
шейся в полном неведении относительно своих корней.
Гегель заявляет о завершении философии. Он пишет
«Науку логики» (Большую логику), произведение абсолют-
ного знания, предваряемое двумя «Предисловиями» и од-
ним «Введением», в котором он объясняет бесполезность
и даже опасность предисловий. Но он также пишет
КО Жак Деррида. Диссеминация
«Энциклопедию философских наук», согласующую в еди-
ном порядке все области знания. Ее частью, причем имен-
но первой частью, является «Наука логики» (Малая логи-
ка), по своей сущности тождественная Большой логике,
которую она, таким образом» вписывает в упорядоченное
письмо энциклопедического тома. Несомненно, этот том
исторически оказывается последним, который еще заслу-
живает названия «энциклопедии»; философская энцик-
лопедия, органическое и рациональное единство знания,
не является тем эмпирическим собранием содержаний,
которое фигурирует сегодня в продаже под таким загла-
вием. Обогатившись тремя предисловиями (особенно
важным было второе), «Энциклопедия» Гегеля открыва-
ется «Введением», которое объясняет нам — еще один
раз, — что философия, «лишенная того преимущества, ко-
торым пользуются другие науки, а именно возможности
предполагать как свои предметы, поскольку они непо-
средственно даны представлением, так и метод познания,
используемый как в начале, так и в продолжении исследо-
вания», должна, стало быть, произвести из собственного
внутреннего содержания и свой предмет и свой метод.
«...Подобное различение само является философским ак-
том познания, который, следовательно, имеет место толь-
ко внутри философии. Вот почему предварительное
объяснение могло бы быть только нефилософским объяс-
нением, оно сводилось бы к собранию предпосылок, уве-
рений и рассуждений (Rasonnements), то есть произволь-
ных утверждений, которым можно было бы с полным
правом противопоставить противоположные утвержде-
ния... Желание познавать до познания столь же нелепо,
как проницательный рецепт того наставника, который
утверждал, что нужно научиться плавать, прежде чем бро-
саться в воду»29.
Если предварительное объяснение в абсолютном
смысле предшествует кругу энциклопедии, оно остается
внешним по отношению к ней и ничего не объясняет.
Оно не является философским, в пределе оно оказыва-
ется невозможным. Если же, напротив, оно вовлечено
ESI Вне книги. Предисловия
в философский круг, это уже не предвратная операция, оно
принадлежит действительному движению метода и струк-
туре объективности. Порождая самого себя и наслажда-
ясь собой. понятие снимает свое предисловие и углубля-
ется в него. Энциклопедия принимает роды у самой себя.
Концепция концепта <conception du concept> — это само-
осеменениеэо.
Это возвращение теологического семени к себе ин-
териоризирует свою собственную негативность и свое
собственное отличие от себя. Жизнь Понятия — это не-
обходимость, которая, включая рассеяние семени, застав-
ляя его работать на благо Идеи, в то же время исключает
его потерю или же любую незапланированную плодови-
тость. Исключение — это включение31. В противополож-
ность вытесняемому таким образом семенному разли-
чению, истина, высказывающая себя в логоцентриче-
ском круге, — это речь того, что возвращается к отцу*2.
Вот почему Гегель никогда не исследует кругооборот
жизни дискурса, используя термины письма. Он нико-
гда не исследует внешность, то есть саму автономию по-
втора, этого текстуального остатка**, который, к при-
меру, образован предисловием, даже если последнее се-
мантически снимается в энциклопедической логике. Он
проблематизирует предисловие в соответствии с тем, что
означает само это слово — желание-сказать, пред-сказать,
до-сказать (pre-fari) пролога или пролегомен, зачатых
(как живое существо) и провозглашаемых исходя из ко-
нечного акта своего эпилога. В дискурсе логос остается
возле себя. Однако наложить запрет на трактовку пись-
ма (в нашем случае — про-граммы, пред-писания и пре-
текста) в качестве простого эмпирического отброса по-
нятия должно было бы именно то, что этот отброс (ведь
здесь речь идет не о том, чтобы снять его, избавить его
от этого определения, а о том, чтобы задать ему иные во-
просы) равнообъемен всей жизни дискурса. И главное, та-
кая равнообъемность не приводит к равнозначности или
простому удвоению. По крайней мере, структура удвое-
ния уже не понятна сама по себе. В ней повторяется,
ВЯ Жак Деррида. Диссеминация
в ней упорствует определенная внешность, которая разыг-
рывается вне спекулятивного силлогизма, вне всех его
подкрепленных мет.
Преследуя почти ту же цель и получая почти тот же
результат, Новалис в явной форме ставит в своей «Эн-
циклопедии»34 (но разве не имеет никакого значения то,
что она так и осталась разбросанной по своим чернови-
кам; прорванной своими собственными проклюнувши-
мися ростками?) вопрос формы полной книги как книги
написанной — исчерпывающего таксономического пись-
ма, компьютерной голограммы, классифицирующей все
знания, создающей место для литературного письма. «Все
должно быть занесено в энциклопедию» (р. 39). «Энцик-
лопедистской» станет «некая научная грамматика», на-
писанная самыми разными способами, «фрагментами,
буквами, поэмами, точными научными исследованиями»
(р. 39), причем каждый кусок книги должен посвящать-
ся друзьям. Буквальное, литературное, как и эпистоляр-
ное, найдут свое место и свой порядок производства
в биологическом теле этой романтической энциклопе-
дии («Мой план — гетевский способ рассмотрения наук»,
р. 39). Ведь для автора «Зерен пыльцы» порядок Книги
должен был быть одновременно органицистским и таб-
личным, зачаточным и аналитическим.
Больше мы не можем отклонять вопрос генетиче-
ской программы или текстуального предисловия. Это не
значит, что в конечном счете Новалис не вернет семя
в logos spermatikos35 философии. Послесловие и преди-
словие станут тогда библейскими моментами. A priori за-
ключенными в том <volumen>. Итак:
Предметный указатель — именной указатель. План —
это тоже предметный указатель. Начинают ли с пред-
метного указателя? (р. 42.)
Отношения между заглавием, планом и предмет-
ным указателем. Необходимость послесловия.
Энциклопедистское. Как будут сделаны медные
философские таблицы? Их частью уже является таб-
DU Вне книги. Предисловия
лица категорий — теоретическая система Фихте — ди-
анология — логические таблицы Мааса — бэконов-
ская таблица наук и т. д. Картины и т. д.
а = а
+ а И а
+ +
+ а - а
+ +
Медные географические таблицы — геогностиче-
ские — минералогические — хронологические — мате-
матические — технологические — химические, эконо-
мические — политические — гальванические — физи-
ческие — артистические — физиологические — музы-
кальные — геральдические — нумизматические —
статистические — филологические — грамматиче-
ские — психологические — литературные — философ-
ские. Планы, которые предшествуют книгам, уже в ка-
кой-то мере являются таблицами — (Алфавиты) — Ука-
затели суть глоссарии и специальные энциклопедии.
(Например, геометрия, выписанная на большой табли-
це, — арифметика» алгебра и т. д.) Вся возможная исто-
рия, история литературы, искусства и мира, должна
иметь возможность располагаться на последовательно-
сти таблиц. (Чем в меньшей степени книга способна рас-
положиться на таблице» тем она хуже.)
Филология, Чем должны стать предисловие, загла-
вие, эпиграф, план — введение — примечание, текст,
приложение (таблицы и т. д.), предметный указатель —
и как они будут упорядочиваться и классифицировать-
ся? План — это комбинаторная формула предметного
указателя, а текст — осуществление в произведении.
Предисловие — это поэтическая увертюра или же пре-
дупреждение читателю как переплетчику. Эпиграф —
это музыкальная тема. Предисловие предоставляет спо-
соб использования книги — философию чтения. За-
главие — это имя. Двойное заглавие и пояснительный
В Жак Деррида. Диссеминация
подзаголовок (история заглавий) — это определение и
классификация имени.
Энциклопедистское. Необходимо, чтобы моя кни-
га содержала в себе критическую метафизику объяс-
нения, литературного искусства, опыта и наблюдения»
чтения, письма и т. д. (р. 40).
Сама история предписана. Ее развитие, ее прорывы,
даже ее перерывы не должны расстраивать этот музы-
кальный том, эту энциклопедию, которая также являет-
ся «общим басом или теорией композиции». В общей
организации этого письма «литература» наконец-то по-
лучит предписываемую ей провинцию и назначаемое ей
ее собственное происхождение. Библия, следовательно,
как табличное пространство, но и семенной разум объяс-
няет сама себя, намереваясь дать полный отчет в соб-
ственном порождающем производстве, в своем порядке
и способе использования. (Диссеминация тоже объяс-
няет себя — «Устройство объясняется», — но совершен-
но по-другому. Гетерогенность, абсолютно внешняя по-
зиция семени, семенное различение задается в програм-
ме, но в той программе, которая не формализуется. По
вполне формализуемым причинам. Бесконечность ее
кода, ее разрыв не имеют поэтому концентрированной
формы присутствия для себя в энциклопедическом цик-
ле. Различение зависит, если так можно сказать, от бес-
прерывного спада добавления кода. Формализм терпит
поражение, сталкиваясь не столько с эмпирическим бо-
гатством, сколько с хвостом. Укус которым самого себя
не является ни зеркальным, ни символическим.)
Но что означает незавершенность «Энциклопедии»
Новалиса, то есть самого завершения? Эмпирическую
случайность?
Моя книга должна стать научной библией — реаль-
ной и идеальной моделью — и зародышем всех книг.
Филология.Сначала разработать предметный ука-
затель и план — затем текст — затем введение и пре-
П Вне книги. Предисловия
дисловие — затем заглавие. Все науки образуют одну-
единственную книгу. Некоторые относятся к предмет-
ному указателю, другие — к плану и т. д.
[...] Описание библии как раз и является моей за-
дачей — или, лучше сказать, — теория библии — ис-
кусство библии и теория природы. (Способ возвысить
книгу до уровня библии.)
Доведенная до своего полного завершения, биб-
лия оказывается совершенной — правильно упорядо-
ченной — библиотекой. Схема библии одновременно
оказывается схемой библиотеки. Подлинная схема —
подлинная формула — в то же время указывает на соб-
ственное происхождение — свое собственное исполь-
зование и т. д.
(Полная карточка, касающаяся использования
каждого предмета — соединенная со способом употреб-
ления — с описанием.) (р. 41)
Совершенно завершенные книги делают обучение
ненужным. Книга — это природа, записанная на нот-
ном стане (подобно музыке) и этим завершенная (р. 43).
Последнее слово выделено самим Новалисом. Кни-
га — это природа, записанная на нотном стане: мы ви-
дим совпадение книги и тома, музыкальное тождество
всего сущего и всего энциклопедического текста. Внача-
ле кажется, что этот тезис обращается к старым фондам
традиционной метафоры («читать великую книгу све-
та» и т. д.). Однако такое тождество не оказывается дан-
ным: природа без книги в каком-то смысле не завершена.
Если бы все сущее смешалось со всем написанным, мы
не смогли бы понять, что здесь два элемента — природа
и библия, бытие и книга. И главное, мы не могли бы по-
нять возможность их сложения и место их конъюнкции.
Не нужно ли здесь выбрать между «бытием» <est> как
связкой (книга есть природа) и союзом «и» <et> конъ-
юнкции? Ведь, чтобы стало возможным предикативное
сочленение, немая конъюнкция должна дать возмож-
ность мыслить совместно, в качестве совокупности (сит),
KEI Жак Деррида. Диссеминация
книгу и природу. То, что смыслом такого сочленения по-
средством «бытия» становится смысл выполнения, вы-
полняющей производительности, которая не повторяет,
а завершает природу, должно означать, что природа в ка-
ком-то месте не завершена, что ей, чтобы быть тем, что
она есть, чего-то не хватает, что она нуждается в допол-
нении. Которое может дать только она одна, поскольку
она есть все, что есть. Книга появляется, чтобы добавить-
ся к ней (прибавляемое дополнение, выдаваемое союзом
«и»), но этим приложением она должна ее же и завер-
шить, выполнить свою сущность (завершающего допол-
нения и заместителя, заявляемого связкой «есть»). За-
крытие библиотеки артикулируется и прокручивается на
этой петле — логике или, скорее, графике дополнения.
Вместе с возникновением некоей книги — которая,
даже если она удваивает природу, добавляется к ней
в этом удвоении симулякра — зачинается текст науки или
литературы, который выходит за пределы всегда-уже-за-
данности смысла или истины в тео-логико-энциклопе-
дическом пространстве безграничного само-оплодотво-
рения. Диссеминация, потрясая physis как mimesis. снова
выводит философию на сцену и разыгрывает ее книгу36.
Рискованный избыток письма, который уже не на-
правляется знанием, тем не менее не предается импро-
визации. Случай или бросок костей, которые «открыва-
ют» подобный текст, не противоречат строгой необхо-
димости своего формального устройства. Игра здесь
оказывается единством случая и правила, программы и
ее остатка или избытка. Эта игра будет называться лите-
ратурой или книгой лишь в случае показа негативной ате-
истической стороны (недостаточной, но необходимой
стадии переворачивания), конечной статьи того же пла-
на, который отныне удерживается на обрезе закрытой
книги, взыскуемого исполнения и выполненного краха.
Таковы программные заметки в преддверии Книги Мал-
ларме. Читатель должен знать, что теперь, начиная с это-
го манифеста, они станут предметом настоящего трак-
тата.
Ю Вне книги. Предисловия
Признать полноту и самотождественность приро-
ды: «Мы, пленники абсолютной формулы, знаем, что, ко-
нечно, есть лишь то, что есть. [...] Природа имеет место,
и к ней ничего не добавишь». Если бы мы задержались
в этом плену, в плену у формулы и абсолютного знания,
мы не смогли бы помыслить ничего, что бы добавилось
к целому, пусть и для завершения этого целого, или по-
мыслить его как таковое и даже его образ или мимети-
ческое подобие, которые все равно были бы частью це-
лого в его великой естественной книге.
Но если эта формула абсолютного знания поддается
осмыслению, постановке под вопрос, весь вопрос теперь
в «части», которая больше целого, в странном отсоеди-
нении примечания, теорию которого несет диссеминация,
примечания, которое по необходимости задает целое как
эффект тотальности.
При этом условии «литература» выходит из книги.
Книга Малларме вышла из Книги. В ней, несомненно,
можно различить черты самого прямого родства, веду-
щего к библии. Она есть, по меньшей мере, эпюра биб-
лии Новалиса. Но благодаря утвержденному симулякру
и театральной постановке, благодаря прорыву примеча-
ния, она из нее вышла: она безвозвратно уклоняется от
нее, не ссылается на нее как на образ, не является больше
конечным и полагаемым объектом, покоящимся в про-
странстве библиотеки.
Любая ее расшифровка должна разделяться ею на-
двое. Например, в описании тех заветных целей, кото-
рые уже часто упоминались:
Вы понимаете, что, в сущности, мир был создан, что-
бы прийти к прекрасной книге (р. 872). ...Я всегда меч-
тал и пытался сделать что-то иное, проявляя терпели-
вость алхимика, готового пожертвовать всем своим
.тщеславием, всем довольством, как раньше сжигали
мебель и брусья крыши, чтобы только поддержать
огонь в очаге Великого Произведения. Что же это?
Трудно сказать — просто книга, во многих томах, книга
3-1705
EQI Жак Деррида. Диссеминация
с заранее продуманной архитектурой, а не собрание
случайных (sic) вдохновений, сколь бы чудесны они ни
были. Я пойду еще дальше и скажу: Книга, ведь я убеж-
ден, что в основе есть только одна книга, которую в не-
ведении от самого себя нащупывает всякий, кто пишет,
и даже Гении. Орфическое объяснение Земли, являю-
щееся единственным долгом поэта и совершеннейшей
литературной игрой, когда сам ритм книги, теперь уже
безличной и живой, накладывается, в том числе и в ну-
мерации страниц, на уравнения этой мечты или Оду...
Это владеет мной, и, быть может, мне удастся — не со-
здать такое произведение в его целостности (не знаю
даже, кем для этого нужно было бы быть!), но показать
его осуществленный фрагмент, раскрыть в каком-то
одном месте блеск его подлинной славы, указав на все
оставшееся, для которого не хватит и жизни. Доказать
выполненными отрывками, что эта книга существует
и что я познал то, что не смогу выполнить.
(Письмо Верлену, 16 ноября 1885 г. В том же письме
упоминаются «безымянная... работа» и «текст, говоря-
щий от самого себя, без авторского голоса».)
Или же того, для чего будет походя составлена пре-
людия, соответствующая логике угла или покрывала,
в невероятном месте диссеминации:
Я думаю, что Литература, схваченная у своего источ-
ника, который является Искусством и Наукой, даст нам
Театр, представления которого станут настоящим со-
временным культом; Книгу, объяснение человека, до-
статочное для наших самых смелых грез. Я думаю, что
все это написано в природе так, что закрытыми могут
оставаться глаза только у тех, кто заинтересован ниче-
го не видеть. Это произведение существует, все пыта-
лись нащупать его, не зная о том; нет такого гения или
шута» который не находил бы хоть одну его черту, не
зная о том. Показать это и приподнять краешек по-
крывала того, что может быть подобной поэмой, —
КИ Вне книги. Предисловия
это мое удовольствие и моя пытка в моем одиноче-
стве (р. 875—876).
Моя пытка, мое удовольствие.
В этой книге, созданной, чтобы «ничего не видеть»,
«не зная о том», «не зная о том» (два раза). Односторон-
няя интерпретация пришла бы к выводу о единстве При-
роды (мира в его целостности) и Книги (объемного пе-
реплета любого письма). Если такое единство и не дано,
его нужно просто восстановить. Телеологическая про-
грамма этой интерпретации, интериоризированная и
повторно присвоенная кругом ее развертывания, оста-
вила бы на долю удаленности предисловия всего лишь
роль иллюзии и время промедления. Как если бы —
и именно здесь — предисловие могло спокойно размес-
титься в полном присутствии своего будущего предше-
ствующего и в модусе той речи попечения^ определение
которой вы сможете прочитать позже.
Но, оставаясь в форме блокнота протокола, предис-
ловие оказывается вездесущим, оно больше книги. Ли-
тература также указывает (практически) на ту сторону
от всего — на «операцию», вписывание, которое преоб-
разует все в целое, требующее завершения или дополне-
ния. Такая дополнительность открывает «литературную
игру», в которой вместе с «литературой» исчезает и фи-
гура автора. «Да, что Литература существует и, если угод-
но, она одна, за исключением всего. По меньшей мере,
осуществление, к которому не подходит данное здесь ста-
рое наименование» (р. 646).
Такое осуществление разрывает энциклопедическое
завершение Новалиса. Несомненно, что литература, по
крайней мере так кажется, сама нацелена на заполнение
нехватки (дыры) в целом, которое по определению не
должно было бы испытывать нехватку в самом себе. Но
она же оказывается исключением всего — то есть одно-
временно исключением во всем, нехваткой самого себя
во всем и исключением всего; тем, что одно существует
3*
EEI Жак Деррида. Диссеминация
без чего-то другого, за исключением всего. Деталью, ко-
торая внутри и вне всего отмечает совсем иное — иное,
несоизмеримое со всем.
Но это сокращает литературу: она не существует, по-
скольку нет ничего, что было бы вне всего. Она существу-
ет, поскольку есть «исключение всего», внешнее всему,
а именно некое удаление без нехватки. Поскольку же она
существует, она одна, все не является ничем, ничто — это
все («ничего не было более реального»). Это дополнитель-
ное ничто, этот отнятый избыток подчиняет порядок
смысла (того, что есть), пусть и полисемического, рас-
страивающему закону диссеминации. Оно дает место ис-
ходя из протокола «литературной» практики, новой про-
блематике бытия и смысла37.
Та сторона всего, другое имя текста, если он сопро-
тивляется любой онтологии, как бы она ни определяла
сущее в его бытии и его присутствии, не является primum
movens сперводвигателем (ла/л.)>. Однако она сообщает
всему исходя из «внутреннего» системы, в которой она
отмечает свои эффекты пустой вписанной колонны, дви-
жение вымысла.
Она наделяет ритмом и удовольствие, и повторение
в соответствии с множественным срезом <une coupe mul-
tiplex
Что можно прочесть в этой синтагме: мета «срезает»
или срез «Малларме»?
Диссеминация производится в) это(м): срез удоволь-
ствия Ccoupe de plaisir>.
Принимая в разрыв между двумя частями каждого
из трех текстов.
И даже здесь устранен предлог:
Но здесь есть, я вмешаюсь со всей настойчивостью,
что-то совсем ничтожное, скажем нарочно — некое
ничто, которое существует, например, как равное
тексту... (р. 638, курсив Малларме).
Мы, пленники абсолютной формулы, знаем,.что,
конечно, есть лишь то, что есть. Тотчас, под любым
КЮ1 Вне книги. Предисловия
предлогом устранять обманку — вот что подчеркива-
ет нашу непоследовательность, отрицающую удоволь-
ствие, которое мы хотим получить: ведь его деятелем
является эта потусторонность', я бы даже сказал «мо-
тором», если бы мне не внушала отвращения задача
заниматься на людях нечестивым разбором вымысла
и, следовательно, литературного механизма, чтобы вы-
тащить на поверхность главную деталь или ничто. Но
я склоняю голову, когда мошеннически отбрасывают
— ради какого-то молниеносного и безопасного воз-
вышения! — сознательную нехватку <conscient
manque> у нас того, что блистает в горнем.
Чему это служит —
Одной игре (р. 647).
Без этого ничто, особенно того, что равняется тек-
сту, удовольствие бы отрицалось или удалялось в кубок
<соире>, который теперь мы намерены взять. Но кубок
снова не дает нам пить из ничего. Где же само удоволь-
ствие имеет место, если оно по сущности своей почти
литературно? Если бы «приз соблазна», «предваритель-
ное удовольствие» (Vorlust), формальный момент лите-
ратуры удовлетворялся бы только в конце удовольствия,
наслаждение всегда оставалось бы только инстанцией
соблазна, дополнительным призом за отсутствие всего
остального. Удовольствие всегда было бы формальным
и пограничным. Ничтожным и бесконечным, одновре-
менно поддерживаемым и снимаемым вытеснением. Та-
кова графика гимена, которая в возвратном движении
опрашивает все пары, все оппозиции понятий, особен-
но те, что Фрейд предлагает нам здесь в качестве опоры.
Сознательная нехватка Cconscient manque> (неопре-
деленное равновесие, способное на образование соб-
ственной системы, хотя и склоняющееся всегда больше
в какую-то одну сторону, чем в другую: существительное
может стать в нем прилагательным, а глагол — существи-
тельным) дается в довесок. Между тождественным, не-
достатком избытка, возмещением ущерба, дополнением
ЕБ1 Жак Деррида. Диссеминация
и/или завершением: «Только, будем знать, стих бы не су-
ществовал: он по-философски оплачивает недостаток
языков, сам — высшее завершение» (р. 364).
Необходимость «обдуманной чистки». «Со свобод-
ным стихом в прозе (с которым я не повторюсь) обду-
манной чистки».
Быть может, оборвать здесь ради «внешней печати»
и «финального свистка», внезапной отсылки.
Правильная вырубка <coupe reglde>: «Регулярно повто-
ряемое изъятие». Слабое прореживание <coupe sombre>
или прореживание для засева: «Действие, направленное
на то, чтобы изъять из лесонасаждения часть составляю-
щих его деревьев так, чтобы дать возможность оставшим-
ся засеять почву семенами, естественным образом произ-
водимыми и рассеиваемыми ими» (Литтре).
Мы также будем практиковать сильную вырубку,
окончательную вырубку, выборочную прорубку и проруб-
ку просветов.
Прервать здесь, решением и кивком головы. Так пре-
дисловие вписывает необходимость своей купюры и сво-
ей фигуры, своей формы и своей силы метафорического
представления, которую ему можно было бы одолжить
только по неосторожности38.
Разыгрывание без прелюдий того, что останется под-
готовить одним махом.
А затем, если отправиться, чтобы посмотреть само-
му, при удаче встретишь то, зацепившееся за угол, что
относится к срезу золота/книги.
Фармация Платона
Kolaphos: удар по щеке, пощечина... Ко-
lapto: 1. повреждать, в частности, при
речи о птицах, клевать, откуда — отры-
вать, разрывая ударами клюва... по ана-
логии, при речи о лошади, которая бьет
землю копытом. 2. соответственно, вы-
резать, гравировать: gramma eis aigeiron
[тополь], An th. 9, 341, или kata phloiou
[ кора ], Call. fr. 101, надпись на тополе или
на коре (корень «Klaph»; ср. корень
«Gluph», выдалбливать, царапать)*.
Текст является текстом только тогда, когда он скрывает от
первого взгляда, от первого попавшегося, закон своего
Деррида цитирует словарь Анатоля Байи: Bailly A, Dictionnaire grec-
fran^ais, Librairie Hachette, Paris, 1906, p. 1113, объединив две статьи —
кбАафод и коАДлтш. Ссылка на этот словарь сохранена только в пер-
вом издании (La Pharmacie de Platon П Tel Quel. Ne 32,1968, p. 3) — и то
лишь в виде «Dictionnaire A. Bailly». На основании структуры словар-
ной статьи (в частности, упоминания «корней» слов) можно сделать
вывод, что Деррида пользовался изданием 1906 г. (cinquidme edition
rdvue — пятое пересмотренное издание), а не более поздним изданием
1950 г. В данном эпиграфе сохранены следующие сокращения, отсы-
лающие к источникам греческих текстов: Anth. — Anthologie Palatine,
dd. de Fr. Jacobs, 1813—1817; Call. — Callimaque de Cyrdne, dd. O. Schneider,
Callimachea (hymnes et dpigrammes), 1870—1873.
К1 Жак Деррида. Диссеминация
построения и правило своей игры. Текст, впрочем, всегда
остается невоспринимаемым. Закон и правило не прячут-
ся в неприступной таинственности, просто они никогда
не даются как таковые, в настоящем, не даются тому, что
можно было бы со всей строгостью именовать восприя-
тием.
Всегда и по самой своей сущности рискуя, таким об-
разом, окончательно затеряться. Кто хоть однажды за-
метит подобное исчезновение?
Сокрытие текстуры может, во всяком случае, потре-
бовать столетия на то, чтобы расплести ее полотно. По-
лотно, обворачивающее полотно. Столетия на то, чтобы
расплести полотно. Восстанавливая его при этом в каче-
стве организма. Неопределенно и постоянно порождая
вновь свою собственную ткань за отрезающим следом,
решением каждого чтения. Постоянно сохраняя сюр-
приз для анатомии или физиологии той критики, кото-
рая считала, будто управляет игрой этого полотна, одно-
временно просматривая все его нити, завлекаясь обман-
кой взгляда на текст, который не касается его, не прикла-
дывает руки к своему «объекту», не рискуя добавить
какую-то новую нить в единственном шансе войти в игру,
запустив в нее пальцы. Добавить — значит здесь не что
иное, как позволить читать. Нужно настроиться на то,
чтобы мыслить следующее: речь не идет о вышивке, если
только не считать, что уметь вышивать — значит разби-
раться в следовании данной нити. То есть, если кто-то
хочет следовать за нами, в следовании скрытой нити.
И если есть единство чтения и письма, как ныне мы
привыкли с легкостью думать, если чтение есть письмо,
такое единство не указывает ни на безразличное смеше-
ние, ни на тождество произвольной остановки; есть, ко-
торое спаривает чтение с письмом, должно их распары-
вать.
Следовательно, нужно было бы в одном и том же и
все же раздвоенном жесте читать и писать. И ничего не
понял бы в игре тот, кто вдруг почувствовал бы себя вправе
хватить через край, то есть добавить не важно что. Он
Ш Фармация Платона
ничего не добавил бы, ткань бы не выдержала. И наобо-
рот, даже не начал бы читать тот, кого «методологическая
осторожность», «нормы объективности», «научные пред-
посылки» сдержали бы от добавления своего. Одна и та
же глупость, одна и та же бесплодность «несерьезного» и
«серьезного». Добавление чтения или письма должно быть
строжайше предписано, но лишь необходимостью неко-
ей игры, знака, с которым нужно соотнести систему всех
его возможностей.
D
В самом первом приближении мы сказали уже все, что
хотели сказать. Во всяком случае, наша лексика весьма
близка к исчерпанию. С точностью до такого добавле-
ния наши вопросы отныне будут именовать лишь тек-
стуру текста, чтение и письмо, господство и игру, а также
парадоксы дополнительности и графические отношения
живого и мертвого: в текстуальном, текстильном и гис-
тологическом. Мы будем удерживаться в пределах этой
ткани: между метафорой istos39 и вопросом об istos ме-
тафоры.
Поскольку мы уже все сказали, стоит потерпеть, если
мы еще немного продолжим. Если распространимся по-
средством силы игры. Если, следовательно, мы немного
напишем: о Платоне, который уже в «Федре» говорил, что
письмо может лишь повторять(ся), что оно всегда «озна-
чает (semainei) одно и то же» и что оно является «игрой»
(paidia).
1. Фармакея
Начнем снова. Итак, сокрытие текстуры может в любом
случае потребовать столетия на то, чтобы расплести ее
полотно. Пример для этого тезиса, который мы предло-
Ш Фармация Платона
жим, начав речь о Платоне, это не «Политик», о котором
мо^кно было бы сперва подумать, — несомненно, из-за
парадигмы ткача и, самое главное, из-за той самой пара-
дигмы парадигмы письма, которая ей непосредственно
предшествует40. К этому примеру мы вернемся лишь
после очень длинного отступления.
Здесь мы начнем с «Федра». Мы говорим о «Федре»,
которому пришлось ждать почти двадцать пять веков,
прежде чем его перестали считать плохо составленным
диалогом. Сначала считалось, что Платон был слишком
молод, чтобы сделать настоящее произведение, вещь,
чтобы сконструировать прекрасный предмет. Диоген
Лаэртский пересказывает эту «молву» {logos [sc. esti],
legetai), согласно которой «Федр» был первым опытом
Платона, поэтому в нем содержится что-то юношеское
{meirakiddes ti)4I. Шлейермахер счел возможным подтвер-
дить эту легенду смешным аргументом: старый писатель
не стал бы осуждать письмо так, как это делает Платон
в «Федре». Такой аргумент не только подозрителен сам по
себе, он еще и выдает доверенность легенде Лаэртского
на основе другой легенды. В самом деле, лишь слепое или
поверхностное чтение могло создать то распространен-
ное убеждение, будто Платон безоговорочно осуждает дея-
тельность писателя. Ничто в данном вопросе не представ-
ляется абсолютно однозначным, поэтому ставка «Федра»
состоит и в том, чтобы спасти — то есть одновременно
потерять — письмо как самую лучшую, самую благо-
родную игру. Далее нам нужно будет проследить взлеты
и падения этой прекрасной игры, которой предается
Платон.
В 1905 г. традиция Диогена Лаэртского была пере-
вернута, однако не для того, чтобы признать подлинные
достоинства композиции «Федра», а для того, чтобы на
этот раз объяснить его недостатки за счет старческой не-
мощи автора: «"Федр” плохо составлен. Этот недостаток
тем более удивителен, что именно в этом тексте Сократ
определяет произведение искусства как живое существо,
так что очевидная неспособность реализовать то, что
S3 Жак Деррида. Диссеминация
было хорошо задумано» является доказательством ста7
рости»42.
Этот вопрос сам по себе нас уже не интересует. Рас-
сматриваемая нами гипотеза может обрести более стро-
гую, более достоверную и более тонкую форму. Она от-
крывает новые соответствия, застает их в некоем мимо-
летном контрапункте, в менее явной организации тем,
имен, слов. Она расплетает sumplokd*, тщательно пере-
плетающее аргументы. Ведущая линия доказательства
в ней одновременно и подтверждается, и стирается, де-
монстрируя гибкость, иронию и скромность.
В частности — и это одна из наших дополнитель-
ных нитей, — вся последняя часть <«Федра»> (274b и да-
лее), посвященная, как известно, происхождению, исто-
рии и ценности письма, вся эта инструкция к процессу
письма и процессу над письмом**, должна в какой-то мо-
мент перестать представляться в качестве случайно до-
бавленной мифологической фантазии — дополнения, без
которого организм диалога мог бы обойтись безо всяко-
го ущерба для себя. На самом деле, обращение к этой ча-
сти необходимым образом осуществляется на протяже-
нии всего текста «Федра».
Но всегда с иронией. Правда, как же здесь обстоят
дела с иронией и каков ее самый главный знак? Диалог
включает только те «платоновские мифы, оригиналь-
ность которых не вызывает сомнений — это басня о ци-
кадах в “Федре” и басня о Тевте в том же диалоге»43. Но
ведь первые слова Сократа, открывающие беседу, были
направлены на то, чтобы «спровадить»*** все мифоло-
В авторской ссылке (40) Деррида указывает на перевод sutnplok# сло-
вом «сплетение», «entrelacement», хотя принятый перевод — тканье,
«tissage», который используется и в русском варианте (Политик 279b).
В оригинале — одно выражение «procds de Гёсгйиге», которое при-
шлось раздвоить, чтобы не упустить необходимой игры.
*** «Envoyer ргошепег»: оборот с устойчивым значением «отделаться»,
«спровадить», «прогнать», «отказать» используется Деррида с вовле-
чением буквального значения «отправить погулять», так что оконча-
тельность «проводов» мифологии подвешивается. Ср. русский вари-
ант перевода: «Поэтому, распростившись со всем этим...» (230а).
Q1 Фармация Платона
гемы (229с—230а). То есть не на то, чтобы абсолютно от-
клонить их, а на то, чтобы, спроваживая, возвращая им
простор, одновременно освободить их от тяжеловесной
и серьезной наивности «рационалистов»-физиков и осво-
бодить от них самого себя в отношении к себе и познании
самого себя.
Отправить мифы на прогулку, приветствовать их, от-
править их на каникулы, уволить их — это превосход-
ное решение khairein, которое одновременно обладает
всеми этими значениями, будет дважды приостановлено,
чтобы принять в качестве гостей два этих «платоновских
мифа», «оригинальность которых не вызывает сомнений»,
как уже было сказано. Причем оба мифа появляются при
открытии вопроса о письменной вещи*. Несомненно, что
это не так заметно — да и замечал ли это кто-нибудь
вообще? — в случае истории цикад, однако ее связь с ука-
занным вопросом не менее достоверна. Два мифа пред-
шествуют одному и тому же вопросу, причем они раз-
делены лишь коротким промежутком, то есть длитель-
ностью отступления. Первый миф, конечно, не отвечает
на вопрос, напротив, он его подвешивает, отмечает паузу
и заставляет нас ожидать репризы, которая приведет ко
второму мифу.
Почитаем. В точно определенном центре диалога
(можно даже подсчитать строки) задается вопрос о том,
как же обстоят дела с логографией** (257с). Федр напо-
минает, что наиболее влиятельные и наиболее почитае-
мые граждане, все самые свободные люди испытывают
стыд (aiskhumontai)> когда они «записывают речи» и ког-
да после себя они оставляют sungrammata***. Они боят-
ся осуждения будущих поколений и того, что их примут
* «Письменная вещь» — «1а chose dcrite»: буквальный перевод предпоч-
тителен по теоретическим соображениям, касающимся определения
logos'^ как живого и письма — как мертвого или, скорее» полумерт-
вого.
«Logographie» — в русском варианте перевода речь идет о «писатель-
стве».
*** В русском варианте перевода — «сочинения».
ЕЕ1 Жак Деррида. Диссеминация
за «софистов» (257d). Логограф, в точном смысле этого
слова, занимался — в соответствии с желанием сторон,
принимающих участие в суде — составлением речей,
которые сам он не произносил, которым он сам лично,
если можно так выразиться, не помогал и которые осу-
ществляли свое действие в его отсутствие. Записывая то,
чего он не говорит, чего он не сказал бы и что, несомнен-
но, он сам никогда бы не счел истинным, автор записан-
ной речи уже занимает положение софиста — человека
не-присутствия и не-истины. Итак, письмо уже выведе-
но на сцену. Несовместимость написанного и истинного
очевидным образом заявляется в тот момент, когда Со-
крат принимается рассказывать, как из-за удовольствия
люди теряют голову, выходят из себя, забывают себя и
умирают в сладострастии песнопения (259с).
Однако решение пока откладывается. Позиция Сокра-
та все еще нейтральна: письмо само по себе не является
постыдной, неприличной или бесчестящей (aiskhron) де-
ятельностью. Мы бесчестим себя только в том случае,
если пишем бесчестящим образом. Но что значит писать
бесчестящим образом? И что значит, спрашивает Федр,
писать прекрасно (kalos)l Этот вопрос обрисовывает цен-
тральную нервюру, самый большой изгиб, который орга-
низует весь диалог. Между этим вопросом и перенима-
ющим его термины ответом в последней части («...знать
о том, пристойно или непристойно писать, в каких усло-
виях хорошо заниматься этим, а в каких не пристало, —
вот вопрос, который у нас остался, не так ли?» — 274b)
протянута непрерывная, хотя и не слишком заметная,
нить, которая проходит через басню о цикадах, через
темы психогогии, риторики и диалектики.
Итак, Сократ начинает с того, что отправляет мифы
на прогулку. А дважды задержавшись перед письмом, он
изобретает два мифа; как мы увидим далее, изобретает
их — хотя и не на пустом месте — так свободно и так
неожиданно, как ни в одном другом случае. Следователь-
но, khairein в начале «Федра» имеет место во имя исти-
ны. В действительности’, нам придется поразмыслить
EII Фармация Платона
о том, как мифы возвращаются с каникул в момент и во
имя письма.
Khairein имеет место во имя истины: во имя ее по-
знания и, более точно, во имя истины познания себя.
Именно такое объяснение дает Сократ (230а). Но этот
императив познания себя первоначально не испытыва-
ется и не диктуется в прозрачной непосредственности
присутствия для самого себя. Он не воспринимается. Он
лишь интерпретируется, читается, расшифровывается.
Некая герменевтика предписывает созерцание. Некая
надпись, delphicon gramma <дельфийская надпись>, ко-
торая является не чем иным, как оракулом, предписыва-
ет посредством своего безмолвного шифра, извещает
(как извещают о приказе) о самоисследовании и само-
познании. То есть о тех самых самоисследовании и само-
познании, которые Сократ считает возможным проти-
вопоставить герменевтическому приключению мифов,
оставленному, как обычно, на долю софистов (229d).
В то же время khairein имеет место во имя истины.
Topoi <места> диалога не безразличны. Темы и места
в риторическом смысле тесно вписаны, включены в опре-
деленные регионы, каждый раз имеющие строгое значе-
ние, то есть они выведены на сцену; в такой театральной
географии единство места подчиняется безошибочному
расчету или неумолимой необходимости. Например, бас-
ня о цикадах не имела бы места, не была бы рассказана,
а Сократ не нашел бы в ней нужного ему стимула, если
бы жара, висящая пеленой над всей беседой, не выгнала
друзей за пределы города, на природу, к реке Илис. Преж-
де чем рассказать генеалогию рода цикад, Сократ упомя-
нул «прохладный летний ветерок, который вторит хору
цикад» (230с). Но это не единственный из эффектов кон-
трапункта, затребованных пространством диалога. Миф,
дающий предлог для khairein и обращения к самоиссле-
дованию, с самых первых шагов этой прогулки может
возникнуть только при виде Илис. Не в этих ли местах,
спрашивает Федр, Борей, если верить традиции, похитил
Орифию? Этот берег, чистота прозрачных вод должны
EEI Жак Деррида. Диссеминация
были служить местом отдыха молодых дев, даже зама-
нивать их подобно каким-то чарам и побуждать к игре.
Сократ тут же в виде насмешки предлагает ученое объяс-
нение мифа, соответствующее рационалистическому и
физикалистскому стилю sophoi <мудрецов>*: в момент,
когда она играла с Фармакеей (sun Pharmakeia paizousan).
северный ветер (рпеита Вогеои) поднял Орифию в воз-
дух и понес ее к пропасти, «к подножию соседних скал»,
«а из обстоятельств ее смерти родилась легенда о ее по-
хищении Бореем. Что же до меня, Федр, я все же считаю,
что объяснения такого рода не лишены привлекатель-
ности; однако они требуют слишком больших талантов,
слишком кропотливой работы, а счастья в них все равно
не найдешь...».
Является ли случайным это краткое упоминание Фар-
макеи в начале «Федра»? Быть может, это что-то внешнее
произведению? Как отмечает Робен, источник возле Илис,
«возможно лечебный», был посвящен Фармакее. Так или
иначе, обратим внимание на то, что маленькое пятно, то
есть петля (macula). помечает на обратной стороне полот-
на, охватывающего весь диалог, сцену этой девы, брошен-
ной в пропасть, застигнутой смертью в момент игры
с Фармакеей. Фармакея (Pharmakeia) — это также имя на-
рицательное, которое означает управление рИагтасоп'ом.
зельями: лекарствами и/или ядами. Не менее распростра-
ненным смыслом «фармакеи» было «отравление». Анти-
фон оставил нам логограмму, «обвинения в отравлении,
выдвинутого против тещи» (Pharmakeias kata tes metryas).
Своей игрой Фармакея увлекла к смерти девственную чи-
стоту и нетронутое нутро.
Немного далее Сократ сравнивает с зельем (pharma-
con) записанные тексты, которые Федр принес с собой.
Этот pharmacon, это «снадобье», этот настой — одновре-
менно и лекарство и яд — уже внедряется со всей своей
амбивалентностью в тело речи. Эти чары, эта способ-
ность соблазнять, эти магические силы могут быть —
Имеются в виду «фюсиологи».
SKI Фармация Платона
попеременно или одновременно — благодетельными и
пагубными. Pharmacon оказывается как будто некоей суб-
станцией — со всеми коннотациями, подразумеваемы-
ми этим словом, то есть коннотациями материи с тай-
ными свойствами; зашифрованных глубин, амбивален-
тность которых не поддается какому бы то ни было
анализу; тайны, уже подготавливающей пространство
алхимии, — если только мы не должны пойти еще даль-
ше и не признать такую субстанцию подлинной анти-
субстанцией — тем, что сопротивляется любой филосо-
феме, доводя ее до крайнего исступления, будучи не-тож-
деством, не-сущностью, не-субстанцией, и тем самым
навлекая на нее неисчислимые бедствия, сокрытые в глу-
бинах этой субстанции и в ее бездонности*.
Действуя посредством соблазна, pharmacon заставля-
ет свернуть с общих, естественных или привычных пу-
тей и отклониться от общих, естественных или привыч-
ных законов. В рассматриваемом случае он заставляет
Сократа покинуть его собственное место и сойти с обыч-
ных путей. Последние всегда удерживали его внутри го-
рода. Листы с письмом действуют наподобие pharmacon а,
который толкает или тянет за пределы города того, кто
никогда не хотел из него выходить — даже в тот послед-
ний момент, когда можно было избежать цикуты. Эти
листы заставляют его выйти из себя и увлекают его в путь,
который, собственно говоря, является путем исхода:
ФЕДР. ...Ты похож на чужестранца, которого нужно со-
провождать, а не на местного жителя. Ведь ты никогда
не покидаешь город, ни в поездках за границу, ни даже,
насколько я знаю, в прогулках за пределы городской
стены!
СОКРАТ. Будь снисходителен ко мне, мой добрый
друг: ты же знаешь, я люблю учиться. А поля и деревья
«Неисчислимые бедствия, сокрытые в глубинах этой субстанции и в ее
бездонности» — «I’inlpuisable ad ver si td de son fonds et de son absence de
fond»: игра построена на близости le fonds (наиболее общее значение —
«фонд», «запас») и le fond (наиболее общее значение — «дно»).
KU Жак Деррида. Диссеминация
не согласны меня чему-то учить, в отличие от людей
из города. Но ты, как мне кажется, нашел средство,
которое заставит меня выйти (dokeis moi tes ernes exodou
to pharmacon eurekenaty Разве не так заставляют какое-
нибудь домашнее животное идти, помахивая перед
ним, если оно голодно, какой-нибудь веткой или пло-
дом? Так же и ты поступаешь со мной: при помощи
речей, которые ты теперь протягиваешь мне на этих
листах (еп bibliois), ты, похоже, будешь гонять меня по
всей Аттике, а может, и за ее пределами, куда тебе толь-
ко вздумается! Как бы там ни было, раз уж я добрался
до этого места, я думаю, что пора мне прилечь! А тебе
стоит принять ту позу, которую ты сочтешь наиболее
удобной для чтения, а найдя такую позу, начать читать
(230d—е).
Именно в этот момент, когда Сократ наконец при-
лег, а Федр принял позу, наиболее удобную для обраще-
ния с текстом или, если угодно, рИагтасоп'ом, начинает-
ся беседа. Произнесенная речь — произнесенная Лиси-
ем или лично Федром, — речь, изложенная в настоящее
время в присутствии* Сократа, не оказала бы того же
самого воздействия. Только logoi еп biblios, отсроченные,
задержанные, завернутые в конверт, сложенные слова, за-
ставляющие ожидать себя в виде твердого предмета или
под его защитой, позволяющие не жалеть о времени, за-
траченном на путь, только спрятанные письма могут, та-
ким образом, заставить Сократа идти. Если бы этот пред-
мет мог быть абсолютно настоящим, открытым, оголен-
ным, лично представленным во всей своей истине, без
каких бы то ни было отступлений означающего, если,
в конечном счете, был бы возможен неотсроченный logos,
он бы не соблазнял. Он не сбил бы Сократа, словно по-
павшего под действие pharmacon'a, с его пути. Бросим
«Изложенная в настоящее время в присутствии» — «prdsentement
proftrd en presence»: здесь Деррида вводит обычную игру, основанную
на слове «present» — «присутствующий» и «настоящее время».
£3 Фармация Платона
взгляд в будущее. Уже письмо, pharmacon и отклонение
от курса.
Читатель заметит, что мы используем известный и ав-
торитетный перевод Платона, изданный Гийомом Бюде
<Guillaume Bud6>. Что касается «Федра», его перевод при-
надлежит Леону Робену <Leon Robin>. Мы и далее будем
пользоваться этим переводом, в скобках приводя — в слу-
чае надобности и в соответствии с нашим собственным
рассуждением — греческий текст. Таков, в частности, слу-
чай слова pharmacon. Как мы надеемся, посредством та-
кого приема будет лучше представлена вся та упорядо-
ченная полисемия, которая — благодаря определенному
смещению, неопределенности или избыточной опреде-
ленности — позволила, никогда в то же время не допу-
ская бессмыслицы, переводить одно и то же слово как
«лекарство», «яд», «снадобье», «настой» и т. д. Также ста-
нет ясно, насколько пластическое единство понятия, ско-
рее даже его правило и странная логика, связывающая
его с его означающим, были рассеяны, замаскированы,
вычеркнуты, получили штамп относительной нечитае-
мое™ благодаря, несомненно, неосторожности или эм-
пиризму переводчиков и, в то же время и в первую оче-
редь, благодаря ужасающей и неустранимой сложности
перевода. Принципиальной сложности, которая связана
не столько с переходом от одного языка к другому, от од-
ного философского языка к другому, сколько, как мы уви-
дим, уже с самой традицией греческого языка в самом
греческом и с традицией насильственного перехода от
не-философемы к философеме. В этой проблеме пере-
вода мы столкнемся с тем, что никак не меньше пробле-
мы перехода к философии.
Biblia*, которые заставляют Сократа выйти из его
укрытия и из того пространства, в котором он любит учить
и учиться, говорить и вести диалоги, то есть простран-
ства, окруженного городской стеной, эти biblia содер-
жат текст, написанный «самым умелым из современных
Книги», «свитки», «листы».
29 Жак Деррида. Диссеминация
писателей» (deinoutos on ton nun graphein). Речь идет о Ли-
сии. Федр держит текст или, если угодно, pharmacon под
своим плащом. Он нужен ему, потому что он не выучил
текст наизусть. Этот пункт будет важен в дальнейшем,
поскольку проблема письма должна связаться с пробле-
мой «знания наизусть». Когда Сократ еще не успел при-
лечь и пригласить Федра принять самую удобную позу,
Федр предложил восстановить без помощи текста рассуж-
дение, аргументацию, план речи Лисия, ее dianoia. Сократ
его останавливает: «Хорошо, мой милый, если сначала ты
все-таки покажешь мне, что ты держишь в своей левой
руке, там, под плащом... Спорю, что это и есть сама речь
(ton logon autori)» (228d). Между этим приглашением и на-
чалом чтения, то есть пока еще pharmacon имеет хожде-
ние под плащом Федра, мы имеем упоминание о Фарма-
кее и увольнение мифов.
Случайно или, наоборот, предопределено то, что еще
до явного представления письма как pharmacon'a, осуще-
ствляемого в центре мифа о Тевте, biblia и pharmaca* уже
связаны некоей склонностью, причем скорее пагубной
или подозрительной? Настоящему лекарству, основанно-
му на науке, в действительности противостоят одновре-
менно и эмпирическая практика, и действие согласно
рецептам, выученным наизусть, и книжное знание, и сле-
пое использование зелий. Все это, утверждается в тексте,
относится к mania: «Я думаю, они сказали бы, что этот
человек безумен: прочитав об этом в какой-то книге (ек
ЫЬНои) или же случайно познакомившись с какими-то
рецептами (pharmakiois), он воображает, что уже стал
врачом, тогда как на самом деле он ни капли не смыслит
в этом искусстве!» (268с).
Это соединение письма и pharmacon а пока еще пред-
ставляется внешним; его можно было бы счесть искус-
ственным и абсолютно случайным. Но интенция и ин-
тонация остаются постоянными: одно и то же подозре-
ние одним и тем же жестом распространяется на книгу
«Pharmaca» — множественное число слова «pharmacon».
ЕВ Фармация Платона
и зелье» письмо и магическое средство, двусмысленное,
отданное эмпиризму и случаю, действующее согласно
канонам магии, а не законам необходимости. Книга, мер-
твое и обездвиженное знание, заключенное в biblia, на-
копленные истории, номенклатуры, рецепты и форму-
лы, выученные наизусть, — все это настолько же чуждо
живому знанию и диалектике, насколько pharmacon чужд
врачебной науке. И насколько миф чужд знанию. По-
скольку речь идет о Платоне, который при случае умел
отлично трактовать миф в его археологическом или па-
леодогическом значении, можно представить себе бес-
предельность и сложность последней оппозиции. Эта
сложность отмечается — и это лишь один пример из сот-
ни других, пример, которым мы здесь ограничимся, —
отмечается тем, что истина (о происхождении) письма
как pharmacon'a сначала отдается на откуп мифу. Мифу
о Тевте» к которому мы уже приближаемся.
Действительно, до этой точки диалога pharmacon и
графема подают друг другу знаки, если можно так выра-
зиться, издалека, косвенно отсылая друг к другу и как буд-
то бы случайно оказываясь на одной строчке и вместе
с нее исчезая, руководствуясь все еще неясным соображе-
нием, добиваясь пока еще скромного и, быть может, не-
преднамеренного эффекта. Но чтобы устранить такое со-
мнение, пусть и предполагая, что категории намеренного
и непроизвольного имеют еще какую-то значимость в чте-
нии текста — чему мы сами не можем ни на одно мгнове-
ние поверить, по крайней мере на том текстуальном уров-
не, на котором мы продвигаемся вперед, — перейдем
к последней фазе диалога, к выходу Тевта на сцену.
На этот раз письмо безо всяких отступлений, без
скрытых размышлений или тайных аргументов предла-
гается, представляется, объявляется pharmacon ом (274е).
В каком-то смысле ситуация представима и так, что
этот отрывок можно изолировать в качестве дополнения,
присоединенного довеска. И несмотря на все то, что апел-
лирует к нему на всех предыдущих этапах, Платон, вне
всяких сомнений, предлагает его как некое развлечение,
ЕЮ Жак Деррида. Диссеминация
как закуску* или, скорее, десерт. Кажется, что все сюжеты
диалога, его темы и собеседники исчерпаны к тому мо-
менту, когда вводится дополнение, письмо или, если угод-
но, pharmacon: «Таким образом, примеров того, что в ре-
чах относится к искусству и к отсутствию искусства (to
men tekhnes te kai atekhnias logdn)44, предостаточно...» (274b).
В то же время именно в этот момент общей исчерпанно-
сти устанавливается и организуется вопрос письма45.
И, как уже было ранее заявлено словом aiskhron (или на-
речием aiskhrds), вопрос письма исходно открывается как
моральный вопрос. Ставка этого вопроса — нравствен-
ность, как в смысле оппозиции добра и зла, так и в смысле
нравов, общественной морали и общественных приличий.
Вопрос в том, что следует делать и что — не следует. Та-
кая моральная обеспокоенность ничем не отличается от
вопроса истины, памяти и диалектики. Этот последний
вопрос, который вскоре будет введен как единственный
вопрос письма, связывается с темой морали, а также раз-
вивает ее благодаря сущностному родству, а не посред-
ством наложения. Но в споре, ставшем злободневным
благодаря политическому развитию города, распростра-
нению письма и деятельности софистов или логографов,
наибольшее внимание уделяется вопросам обществен-
ных и политических приличий. Решение, предлагаемое
Сократом, играет на оппозиции ценностей приличия и
неприличия (euprepeialaprepeia): «...знать о том, пристой-
но или непристойно писать, в каких условиях хорошо за-
ниматься этим, а в каких не пристало, — вот вопрос, ко-
торый у нас остался, не так ли?» (274b).
Писать — это прилично? Занимает ли писатель дос-
тойное место? Пристало ли писать? Стоит ли это делать?
Конечно нет. Но ответ не так прост, и Сократ не сра-
зу принимает ответственность за него в рациональной
речи, в logos'е. Он позволяет его услышать, он отсылает
«Закуска» — «hors d’oeuvre»: буквальное значение — «вне произведе-
ния», то есть «миф Тевта» представляется Платоном «вне» собствен-
ного произведения.
ESI Фармация Платона
его к акоё, имеющему хождение слуху, знанию молвы,
истории, передаваемой из уст в уста: «Итак, истина изве-
стна ей [акоё древних]; если бы могли открыть ее сами,
разве стали бы мы по-прежнему заботиться о том, во что
верили люди?» (274с).
Истину письма, то есть, как мы увидим, не-истину,
мы не можем самостоятельно открыть в самих себе. Она
является не объектом некоей науки, а объектом переска-
зываемой истории, повторяемой басни. Здесь уточняет-
ся связь письма с мифом, как и его противопоставление
знанию и, самое главное, знанию, черпаемому самостоя-
тельно в самом себе. В то же самое время письмом или
мифом обозначаются генеалогический разрыв и удале-
ние от истока. Особенно важно отметить, что то, в чем
далее будет обвиняться письмо, то есть повторение без
знания, в данном пункте определяет тот самый демарш,
который ведет к высказыванию и определению статуса
письма. Мы начинаем с того, что повторяем, не зная, вслед
за мифом определение письма: повторение без знания.
Такое родство письма и мифа, причем оба они отличены
от logos'a и диалектики, отныне будет лишь уточняться.
Повторив, не зная, то, что письмо состоит в повторении
без знания, Сократ будет заниматься лишь обосновани-
ем доказательной силы своего обвинения, своего logos'a,
исходя из предпосылок акоё и структур, вычитываемых
благодаря баснословной генеалогии письма. Когда миф
нанесет первые удары, logos Сократа докажет вину обви-
няемого.
2. Отец логоса
История начинается так:
СОКРАТ. Так вот, я слышал о том, что рядом с Навкра-
тисом, в Египте, жило одно из тамошних божеств, то
самое, чьей эмблемой была птица, которую там, как ты
знаешь, называют ибисом, а имя самого бога было Тевт.
El Жак Деррида. Диссеминация
В общем, именно он первым изобрел науку чисел и счет,
геометрию и астрономию, также триктрак* и кости,
и, наконец, знай об этом, символы письма (grammata).
С другой стороны, в те времена надо всем Египтом цар-
ствовал Тамус, резиденция которого располагалась в том
большом городе нагорья, который греки называют еги-
петскими Фивами, а его бога они называли Аммоном.
Тевт» придя в гости к царю, продемонстрировал ему свои
искусства: «Нужно, — объявил он царю, — рассказать
о них остальным египтянам!». Но собеседник спросил,
в чем польза каждого из этих искусств, затем, выслу-
шивая объяснения и в зависимости от того, насколь-
ко обоснованными он их считал, он изрекал иногда
осуждение, иногда хвалу. Конечно» по поводу каждого
из искусств у Тамуса было очень много размышлений,
о которых, как рассказывают, он сообщал Тевту, вы-
нося положительное или отрицательное решение, под-
робности всех этих решений можно было бы описы-
вать бесконечно! Но вот пришла очередь рассмотреть
символы письма. «Вот, о царь, — сказал Тевт, — наука
(to mathema), которая сделает египтян более образо-
ванными и повысит их способность к запоминанию
(sophdterous kai mnemonikdterous): память, как и обра-
зование, нашли свое лекарство (pharmacon)». На что
царь ответил...
Прервем здесь царя. Он перед pharmacon'ом. И мы
знаем, что он примет решение.
Зафиксируем сцену и ее персонажей. Посмотрим.
Итак, письмо (или, если угодно, pharmacon) презентова-
но** царю. Презентовано в виде некоего подарка, препод-
В русском переводе в качестве одного из изобретений Тевта фигури-
руют «шашки», а не «триктрак». С прототипом Тевта — Тотом — обыч-
но связывается игра «сенег», предположительно напоминающая шаш-
ки. См., например: Рак И. В. Мифы Древнего Египта. Екатеринбург,
2005. С. 55.
•* «Prdsentde» — одновременно «представлено» и «преподнесено в каче-
стве подарка».
ЕН Фармация Платона
несенного, конечно, в форме клятвы верности вассала
сюзерену (Тевт — это полубог, разговаривающий с царем
богов), однако в первую очередь — в форме произведе-
ния, подлежащего оценке. Причем это произведение само
является искусством, рабочей силой, технической возмож-
ностью. Этот артефакт является неким искусством. Но
у этого подарка пока еще неопределенная ценность. Цен-
ность письма — или pharmacon а — передана, естествен-
но, царю, но только царь даст ему его цену. Он установит
цену того, что он, получая, определяет или устанавливает.
Царь или бог (Тамус представляет Аммона46, царя богов,
царя царей и бога богов, 3 basileu <о царь>, — говорит
Тевт) — это, таким образом, другое имя источника цен-
ности. Ценность письма — не само письмо, письмо полу-
чит ценность только в том случае и только в той мере,
в какой его оценит бог-царь. Он тем не менее рассматри-
вает pharmacon как некий продукт, ergon, который не его,
который приходит к нему не только извне, но и снизу
и который ожидает его снисходящего суждения, чтобы
утвердиться в своем бытии и в своей ценности. Бог-царь
не умеет писать, однако это неумение или эта неспособ-
ность свидетельствуют о его суверенной независимости.
У него нет нужды писать. Он говорит, он высказывается,
он диктует, и его слова достаточно. Добавляет ли писец из
его секретариата к его слову дополнение в виде записи или
нет — в любом случае это закрепление слова по существу
вторично.
Исходя из этой позиции, царь-бог, не отказываясь
от подношения, обесценит его, выявит не только его бес-
полезность, но и его угрозу и злодеяния. Это другой спо-
соб не принять подношение письма. Поступая таким об-
разом, бог-царь-который-говорит поступает как отец.
Pharmacon представляется здесь отцу и им же отбрасы-
вается, унижается, оставляется, обесценивается. Отец
всегда подозревает письмо и внимательно надзирает за
ним.
Даже если бы мы не хотели, чтобы нас направлял
тот простой переход, который заставляет сообщаться
EQI Жак Деррида. Диссеминация
фигуры царя, бога и отца, достаточно было бы уделить
систематическое внимание — чего, насколько нам изве-
стно, пока еще никто не делал — постоянству платонов-
ской схемы, которая связывает происхождение и власть
речи — точнее говоря, logos'a — с отцовской позицией.
Дело не в том, что такая процедура осуществляется ис-
ключительно или преимущественно у Платона. Она хо-
рошо известна и ее легко себе представить. Но «плато-
низм», определяющий всю западную метафизику во всем
ее концептуальном строе, не избегает общности такого
структурного ограничения; более того, с несравненной
ясностью и тонкостью иллюстрирует его, так что указан-
ный факт становится лишь более значимым.
Дело ведь не в том, что logos — это отец. Начало лого-
са — это его отец. Можно было бы сказать, допуская ана-
хронию, что «говорящий субъект» — это отец своего сло-
ва. Вскоре мы сможем понять, что в таком утверждении
нет никакой метафоры, если, по крайней мере, иметь
в виду некий широко распространенный и условный эф-
фект риторики. Logos — это, следовательно, сын, который
может погибнуть без присутствия, без неотступного по-
печения^ своего отца. Отца, который отвечает. За него и
вместо него. Без своего отца он как раз не больше чем ка-
кое-то письмо. Это, по меньшей мере, то, что говорит тот,
кто говорит, это тезис отца. Итак, специфичность письма
должна со-относиться с отсутствием отца. Подобное от-
сутствие может выступать в различных модальностях,
четко отличенных друг от друга или смешанных, обнару-
живающихся последовательно или одновременно: в их
числе потеря отца, обусловленная естественной или на-
сильственной смертью, каким-то насилием или отцеубий-
ством; затем — обращение за помощью (возможной или
Вариант «попечение» выбран в качестве перевода одного из ключе-
вых терминов данного текста Деррида — «[’assistance» и его произ-
водных. «[/assistance» может переводиться как «помощь», «попечение»,
«надзор», «попечительская организация», но и как «присутствие». Игра
строится на том, что это некая «помощь присутствием», равная «при-
сутствию помощи».
ЕЕ1 Фармация Платона
невозможной), предоставляемой отцовским присутстви-
ем, прямое требование этой помощи или требование,
предполагающее, что без этого присутствия можно обой-
тись, и т. д. Известно, что Сократ делает особый упор на
нищете — жалкой или разнузданной — logos'^, преданно-
го письму: «...он всегда нуждается в попечении своего отца
(tou patros aei deitai boethou): в самом деле, сам он не спосо-
бен ни защитить себя, ни помочь себе».
Такая нищета двусмысленна: конечно, она является
несчастьем сироты, который нуждается не только в том,
чтобы его сопровождали, надзирали за ним*, но и в том,
чтобы ему оказали поддержку и пришли к нему на по-
мощь; однако, жалея сироту, его, как и письмо, также и
обвиняют в удалении отца, в освобождении от него, осу-
ществляемом с самодовольством и в самодостаточности.
С позиции того, кто определяет расклад качеств, желание
письма обозначается, определяется, разоблачается как
желание беспризорности и как отцеубийственный под-
рыв. Не является ли этот pharmacon уголовным, не явля-
ется ли этот подарок отравленным?
Статус такого сироты, ответственность за которого не
может взять на себя никакая попечительская организа-
ция, охватывает статус того graphein**, которое, оказыва-
ясь ничьим сыном в тот самый момент, когда оно выпол-
няется как надпись, едва ли остается сыном и больше
не признает своих истоков: то есть не узнает их и не пита-
ет к ним никакой благодарности. В отличие от письма,
живой logos жив тем, что у него есть живой отец (тогда
как сирота сам является полумертвым), отец, который
присутствует рядом с ним, стоит возле него, за ним,
в нем самом, поддерживая его своей прямотой, лично и
от своего собственного имени опекая его. Таков живой
logos — он признает свой долг, живет таким признанием
и запрещает себе отцеубийство, верит, что он может его
«...Сопровождали, надзирали за ним» — «on 1’assiste d’une presence»:
см. предыдущую сноску. Возможен буквальный вариант — «помога-
ли ему присутствием».
** «Graphein» — «писать» (др.-греч.)\таким образом:«.. .статустого письма».
Ш Жак Деррида. Диссеминация
запретить. Однако запрет и отцеубийство, как и отно-
шения письма и речи, оказываются настолько порази-
тельными структурами, что в дальнейшем нам придется
выявить в тексте Платона сочленение между запрещен-
ным отцеубийством и объявленным отцеубийством. От-
ложенное убийство отца и главы.
«Федра» уже вполне достаточно, чтобы доказать, что
ответственность /ogos’a, его смысла и его действий, восхо-
дит к попечению, присутствию как присутствию отца.
Нужно неустанно изучать такие «метафоры». Так, Сократ,
обращаясь к Эросу, говорит: «Если раньше наши речи, моя
и Федра, были слишком грубы для тебя, винить ты дол-
жен Лисия, отца темы (ton tou logou patera)» (257b). Logos
здесь — это смысл речи, предложенного аргумента, веду-
щего рассуждения, оживляющего устную беседу (logos).
Переводить его как «тему», «сюжет» (так делает Робен) —
это не только анахронизм. Такой перевод разрушает ин-
тенцию и органическое единство определенного значения.
Поскольку только «живая» речь, только слово (а не тема,
предмет или сюжет обсуждения) могут иметь отца; соглас-
но же тому закону, который теперь будет все больше и
больше проясняться для нас, logoi* суть дети. Они доста-
точно живы, чтобы при случае выразить протест, чтобы
им можно было задать вопрос; в отличие от письменных
вещей, они также способны и ответить, когда рядом при-
сутствует их отец. Они являются ответственным присут-
ствием их отца.
Некоторые из них, например, являются потомками
Федра, и он призывается, чтобы поддержать их. Снова
приведем цитату в переводе Робена, который на этот раз
переводит logos не как «тему», а как «аргумент», а через
десять строк прерывает игру с tekhn£ ton logon. (Речь идет
о том tekhnd, которым располагают или заявляют, что
располагают, софисты и риторы, то есть одновременно
об искусстве и инструменте, рецепте, тайном и при этом
передаваемом «трактате» и т. п. Сократ здесь рассматри-
* «Logoi* — множественное число от «logos».
ЕЕ1 Фармация Платона
вает классическую для тех времен проблему исходя из
оппозиции убеждения» peitho, и истины» aletheia, 260а.)
СОКРАТ. Я согласен с этим» по крайней мере в том слу-
чае, если представляемые спорщиками аргументы (logoi)
будут свидетельствовать в его пользу» что это действи-
тельно искусство (tekhn£)l Потому что я вроде бы по-
мню о других аргументах» которые предоставляются
вслед за первыми» а эти аргументы говорят о против-
ном и утверждают» что оно лжет и что оно является не
искусством» а простым навыком» лишенным искусст-
ва: «Подлинное искусство слова (tou d£ lege in), — гово-
рит лаконец» — не будучи привязанным к истине» не
существует сейчас» да и в будущем никогда не сможет
родиться».
ФЕДР. Сократ» нам как раз нужны эти аргументы!
(Touton dei ton logon, о Sokrates). Давай же, представь
их сейчас же; расспроси их» что они говорят и в каких
терминах (ti kai pds legousin)?
СОКРАТ. Явитесь же» благородные создания (gen-
naia), и убедите Федра» отца прекрасных детей (kalli-
paida te Phaidron), в том» что если он не философство-
вал достойным образом, он ни о чем не сможет до-
стойно говорить! Пусть теперь Федр отвечает... (260е—
261а).
Федр, но на этот раз уже в «Пире», должен говорить
первым, поскольку «он занимает первое место и в то же
время он — отец темы» (pater tou logou) (177d).
To, что мы временно или в угоду удобству продолжа-
ем называть метафорой, в любом случае принадлежит
некоей системе. То, что у logos’^ есть отец, что он является
logos ’ом лишь на попечении у своего отца» объясняется
только тем, что он всегда остается сущим (on) и даже од-
ним из родов сущего (Софист 260а), более точно, живым
существом. Logos — это zdon. Это животное рождается,
растет, оно принадлежит physis. Лингвистика, логика»
диалектика и зоология частично связаны друг с другом.
ЕХЯ Жак Деррида. Диссеминация
Описывая logos как zdon, Платон следует за некоторы-
ми риторами и софистами,'которые еще до него трупному
окоченению письма противопоставляли живое слово,
безошибочно сообразующееся с потребностями фактиче-
ской ситуации, ожиданиями и требованием действитель-
но присутствующих собеседников, отыскивающее места,
где оно должно состояться, притворяющееся, что оно при-
норавливается к тому самому моменту, когда оно стано-
вится одновременно убедительным и принудительным47.
Логос, живое и одушевленное существо, является, та-
ким образом, порожденным организмом. Организмом —
собственным дифференцированным телом с центром
и конечностями, с сочленениями, с головой и хвостом.
Чтобы быть «приемлемой», письменная речь должна была
бы подобно самой живой речи подчиниться законам жиз-
ни. Логографическая необходимость (апапкё logographike)
должна была бы быть аналогичной биологической или,
скорее, зоологической необходимости. Иначе у нее не бу-
дет ни головы, ни хвоста, разве не так? Таким образом,
рискуя потерять из-за письма и голову и хвост, logos ста-
вит вопрос о структуре и конституции:
СОКРАТ. Но что сказать об остальном? Не кажется ли,
что он набросал вперемешку все составляющие темы
(ta tou logou)? Или же существует какая-то очевидная
необходимость, которая заставляет то, что в речи идет
во вторую очередь, занимать именно это второе мес-
то, которое могло бы занять что-то другое из им ска-
занного? Что же до моего мнения, поскольку я в этом
ничего не понимаю, у меня возникло впечатление, что
на самом-то деле писатель говорил в том порядке,
в каком идеи приходили ему в голову! Известна ли тебе
какая-либо логографическая необходимость, которая
заставила бы его выстроить все эти элементы именно
так, в одном ряду, друг за другом?
ФЕДР. Ты слишком уж любезен, считая меня спо-
собным различить его собственные намерения с по-
добной точностью!
ЕИ Фармация Платона
СОКРАТ. Однако» вот одна вещь» которую, как мне
думается,™ стал бы утверждать: любая речь (logon) дол-
жна быть сложена (sunestanai) наподобие одушевленно-
го существа (osper zdon). то есть иметь свое собственное
тело» которое не может оставаться ни без головы» ни
без ног» которое должно иметь как середину, так и два
конца, которые должны быть написаны так, чтобы со-
гласовываться друг с другом и с целым (264b—с).
Этот рожденный организм должен быть хорошо
рожденным, быть из хорошего рода: «gennaia!» — имен-
но так Сократ, как мы помним, призывал logoi, эти «бла-
городные создания». Этим подразумевается, что такой
организм, раз он порожден, имеет начало и конец. Тре-
бование Сократа обнаруживает здесь свое точное значе-
ние и неумолимость — речь должна иметь начало и ко-
нец, начинать с начала и заканчивать в конце: «Как ка-
жется, он, этот человек, весьма далек от того, чтобы делать
то, что мы ищем, ведь он начинает тему даже не с ее на-
чала, а, скорее, с конца, пытаясь пересечь ее, переплыв на
спине задом наперед! А начинает он с того, что влюблен-
ный сказал бы своему возлюбленному уже после призна-
ния!» (264а). Внутреннее содержание и следствия подоб-
ной нормы весьма велики, однако они вполне очевидны,
так что мы не станем на них специально останавливать-
ся. Вывод в том, что устная речь ведет себя как человек,
пользующийся попечением благодаря своему происхож-
дению и присутствующий лично. Logos: «Sermo tanquam
persona ipse loquens» <Logos: речь, сама говорящая как
человек (лат.)>. как утверждается в «Платоновском сло-
варе» 48. Как и всякий человек, logos-zdon имеет отца.
Но что такое отец?
Должны ли мы предполагать это известным и объяс-
нять благодаря этому — известному — термину другой
термин, руководствуясь тем, что мы поспешно проясни-
ли бы, назвав метафорой? Тогда можно было бы сказать,
что происхождение или причина logos'^ сравнивается
с тем, что нам известно в качестве причины живого сына,
4-6705
EZDI Жак Деррида. Диссеминация
то есть — с его отцом. Мы стали бы понимать или пред-
ставлять себе рождение и процесс logos'а исходя из чуж-
дой ему области, передачи жизни или отношений порож-
дения. Однако отец не является «реальным» родителем
или создателем до и вне всякого отношения с языком.
Чем отношение отец/сын в действительности отличает-
ся от отношения причина/следствие или родитель/по-
рожденное, если не делопроизводством логоса? Только
способность к речи имеет отца. Отец — это всегда отец
живущего/говорящего. Иными словами, только исходя
из logos'a объявляется и становится мыслимой такая
вещь, как отцовство. Если бы в выражении «отец лого-
са» имела место простая метафора, то первое слово, ко-
торое представляется более знакомым*, на деле получало
бы больше значения от второго, чем передавало бы ему.
Близость первого всегда имеет отношение к совместно-
му проживанию с logos'oM. Живые существа, отец и сын,
представляются нам, соотносятся друг с другом в домаш-
нем пространстве logos'а. И мы вовсе не выходим, несмот-
ря на внешние эффекты, из этого пространства, чтобы
посредством «метафоры» переместиться в чуждую об-
ласть, в которой можно было бы встретить отцов, сы-
нов, живых существ, то есть всевозможные сущности,
пригодные для того, чтобы посредством сравнения
объяснить тому, кто об этом ничего не знает, что же та-
кое logos, эта странная вещь. Хотя этот очаг является оча-
гом любой метафоричности, «отец логоса» — это не про-
стая метафора. Простой метафорой была бы та, соглас-
но которой живое существо, не способное к языку, —
если вообще упорно продолжать верить, что такие су-
щества бывают, — имеет отца. Таким образом, нужно
приступить к общему переписыванию всех метафори-
ческих направлений и не спрашивать о том, может ли
logos иметь отца, а понять, что то, отцом чего считает себя
отец, не может существовать без сущностной возмож-
ности logos'a.
Familier»,TO есть относящимся к семье, «1а families.
КЕ1 Фармация Платона
Logos, обязанный отцу, — что бы это могло значить?
Как, по крайней мере, читать его в том слое платонов-
ского текста, который нас здесь интересует?
Как известно, фигура отца — это также фигура блага
(agathon). Logos представляет то, чему он обязан, отца, ко-
торый также является главой, капиталом и благом. Или,
более точно, он является самим главой, самим капиталом,
самим благом. Все эти значения содержатся в греческом
слове pater. Как нам представляется, ни переводчики, ни
комментаторы Платона не объяснили игру этих схем. Со-
гласимся, что такую игру весьма сложно сохранить в пе-
реводе, а то, что ее никогда не изучали, можно, по крайней
мере, объяснить именно фактом подобной сложности. Так,
когда в «Государстве» (V 506е) Сократ отказывается гово-
рить о благе самом по себе, он тотчас предлагает заменить
благо его ekgonos'oM, его сыном или отпрыском:
...Оставим пока исследование блага, как оно есть само
по себе; оно представляется мне слишком возвышен-
ным, чтобы порыв, которым мы охвачены, мог бы сра-
зу вознести нас к такому пониманию блага, которого я
пытаюсь достичь. Однако я хочу вам рассказать, если
только вы уделите моему рассказу внимание, о том, что
представляется мне отпрыском (ekgonos) блага и наи-
более похожим на него изображением; в противном
случае оставим этот вопрос.
— Хорошо, — сказал он, — говори; в другой раз
ты сподобишься объяснить нам, что же такое отец.
— Да помогут боги в том, — ответил я, — чтобы
я смог заплатить, а вы смогли получить это объясне-
ние, которое я вам должен, а не ограничиваться, как
мы делаем сейчас, процентами (tokous). Итак, прими-
те этот плод, этот отпрыск блага самого по себе (tokon
te kai ekgonon autou tou agathon).
Tokos, который здесь связан c ekgonos, обозначает про-
изводство и продукт, рождение и ребенка и т. п. Это сло-
во в таком смысле употребляется в областях сельского
4*
Шй Жак Деррида. Диссеминация
хозяйства, отношений родства и фидуциарных* опера-
ций. Ни одна из этих областей, как мы увидим, не укло-
няется от инвестиции и возможности logos'а.
Будучи продуктом, tokos оказывается как ребенком,
потомством человека или животного, так и плодом се-
мени, доверенного полю, или же процентом с капитала;
это некий доход. В тексте Платона можно проследить за
распределением всех этих значений. Смысл слова pater
порой склоняется исключительно к «финансовому капи-
талу». Пример в том же «Государстве», причем недалеко
от того отрывка, который мы только что процитирова-
ли. Один из недостатков демократии заключается в той
роли, которую некоторые граждане придают капиталу:
«И однако же эти ростовщики, которые ходят опустив
голову, как будто не замечают этих несчастных, ранят
своим жалом, то есть деньгами, всех тех граждан, кото-
рые дают им повод, и взимают многократно увеличен-
ные проценты со своего капитала (tou patros ekgonos tokous
pollaplasious), умножая таким образом количество нищих
и обездоленных в государстве» (555е).
Итак, нельзя просто или непосредственно говорить об
этом отце, об этом капитале, об этом благе, об этом источ-
нике ценности и являющихся существ. И прежде всего по-
тому, что смотреть на них прямо можно не в большей сте-
пени, чем на солнце. Чтобы узнать о таком ослеплении при
прямом взгляде на солнце, достаточно прочитать знамени-
тый ютрывок из «Государства» (VII 515с и далее).
Поэтому Сократ будет упоминать только чувствен-
ное солнце, похожего сына и analagon умопостигаемого
солнца: «Итак, знай о том, — продолжал я, — что под
сыном блага (ton tou agathou ekgonon), порожденным бла-
гом по собственному образу (on tagathon egenne sen ana-
logon), я имел в виду солнце, которое в видимом мире по
отношению к зрению и видимым предметам является
тем же, чем является благо в умопостигаемом мире по
отношению к уму и умопостигаемым предметам» (508с).
* Фидуциарные операции — основанные на системе доверенностей.
BED Фармация Платона
Как logos вмешивается в эту аналогию между отцом
и сыном, ноуменом и ороменом**
Благо в видимом-невидимом образе отца, солнца и
капитала является началом onta < сущих >, их явления
и их прихода к logos'y, который одновременно их собира-
ет и различает: «Существует большое число прекрасных
вещей, большое число благ, большое число всевозмож-
ных других вещей, существование которых мы утверж-
даем и которые мы различаем в языке» (einai phamen te
diozizomen to logo)» (507b).
Следовательно, благо (отец, солнце, капитал) являет-
ся скрытым источником — просвещающим и ослепляю-
щим — logos'a. А так как нельзя говорить о том, что по-
зволяет говорить (запрещая разговор о нем и разговор
с ним лицом к лицу), говориться будет только о том,
что говорит, и о вещах, о которых постоянно говорят, за
исключением одной вещи. Поскольку нельзя дать отчет
или определить основание того, что ответственно за logos
(отчет или основание: ratio) и чему он обязан, поскольку
нельзя подсчитать капитал и посмотреть в лицо главе, не-
обходимо будет посредством различительной и диакри-
тической процедуры подсчитывать множественное чис-
ло процентов, доходов, продуктов, отпрысков: «“Итак, —
сказал он, — говори (/eg£); в другой раз ты сподобишься
объяснить нам, что же такое отец”. “Да помогут боги
в том, — ответил я, — чтобы я смог заплатить, а вы смог-
ли получить это объяснение, которое я вам должен, а не
ограничиваться, как мы делаем сейчас, процентами. Итак,
примите этот плод, этот отпрыск блага самого по себе;
но следите за тем, чтобы я нечаянно не обманул вас, пре-
доставив вам неверный подсчет (ton logon) процентов (tou
toko и)”» (507а).
В этом отрывке мы зафиксируем также и то, что
вместе с подсчетом (logos) дополнений (по отношению
к отцу — капиталу — благу — началу и т. д.) — вместе
* «Оромеп» (оготёпе — фр.) — термин, созданный на основе слова «оига-
nos» (др.-греч. «небо»), по аналогии с «ноуменом» (от др.-греч. nous —
«ум», «понимание»).
lES Жак Деррида. Диссеминация
с тем, что приходит в дополнение к единому в том самом
движении, в котором оно становится отсутствующим или
невидимым, требуя, таким образом, дополнения, вместе
с различением и диакритичностью — Сократ вводит или
обнаруживает всегда открытую возможность kibdelon'a,
того, что подделано, искажено, чего-то лживого, обман-
чивого, двусмысленного. «Будьте осторожны, — говорит
он, — как бы я не обманул вас, предоставив вам поддель-
ный подсчет процентов (kibdelon apodidous ton logon tou
tokou)». Kibdeleuma — это поддельный товар. Соответству-
ющий глагол (kibdeleud) означает «подделывать монету
или товар, а также, в расширительном смысле, быть недо-
бросовестным».
Такое обращение к logos'y, осуществляемое из-за
страха ослепления при непосредственном созерцании
лица отца, блага, капитала, начала бытия в себе, формы
форм и т. д., такое обращение к logos'у как к тому, что
держит нас под прикрытием солнца, укрывая под ним и
от него, предлагается Сократом в другом тексте в анало-
гичном порядке чувственного или видимого; мы часто
будем цитировать этот текст. Интересный и сам по себе,
этот текст в своем весьма качественном переводе (то есть
в переводе Робена) в действительности сохраняет сдви-
ги, которые, если можно так сказать, являются весьма зна-
чащими49. Такова критика «физиков» в «Федоне»:
Итак, вот, — продолжил Сократ, — какие у меня после
этого появились рассуждения, после того, как я оста-
вил изучение сущего (ta onta). Я должен был принять
меры предосторожности, помня о том несчастье, жерт-
вами которого становятся наблюдающие за затмением
Солнца; случается, что некоторые из них при этом те-
ряют зрение, поскольку они не смотрели на отображе-
ние (eikona) светила в воде или какой-то другой среде.
Да, я тоже думал о чем-то в этом роде: я боялся, что моя
душа совершенно ослепнет, если я буду устремлять свой
взгляд прямо на вещи и пытаться вступать в соприкос-
новение с ними посредством каждого из чувств. С тех
KES Фармация Платона
пор мне кажется необходимым прятаться на стороне
идей (еп logois) и пытаться увидеть в них истину вещей...
Таким образом» приняв в каждом из случаев в качестве
основания идею (logon), которая, по моему мнению,
является самым надежным из оснований... (99d—100а).
Следовательно, logos — это второисточник, нужно
повернуться к нему, причем не только тогда, когда при-
сутствует солнечный источник, подвергая наши глаза
риску сгореть, если только мы задержим их на нем; нуж-
но повернуться к logos'y и тогда, когда солнце, как кажет-
ся, исчезает в своем затмении. Будучи мертвым, потух-
шим или скрытым, это светило оказывается более опас-
ным, чем в любой другой момент.
Позволим всем этим нитям соединиться между со-
бой. Мы проследили их пока только для того, чтобы они
привели нас от logos'а к отцу и чтобы связать речь с kurios,
с господином, хозяином — другим именем, данным в «Го-
сударстве» благу — солнцу — капиталу — отцу (508а).
Позже из той же самой ткани, в тех же самых текстах мы
потянем за другие нити и снова — за те же самые, чтобы
увидеть, как сплетаются и расплетаются другие узоры.
3. Надпись сынов:
Тевт, Гермес, Тот, Набу, Небо
Всеобщая история продолжила свой бег;
слишком человеческие боги, на которых
нападал Ксенофан, были низведены до
ранга поэтических измышлений или де-
монов, однако считалось, что один из них,
Гермес Трисмегист, продиктовал множе-
ство книг, число которых определялось
по-разному (42 согласно Клименту Алек-
сандрийскому; 20 000 согласно Ямвлиху;
36 525 согласно жрецам Тота, который
также является Гермесом); в этих книгах
KEQ Жак Деррида. Диссеминация
были записаны все вещи мира. Фрагмен-
ты этой воображаемой библиотеки, ком-
пилируемые или сочиняемые начиная
с III века, составляют так называемый
Corpus hermeticum...
Хорхе Луис Борхес
A sense of fear of the unknown moved in the
heart of his weariness, a fear of symbols and
portents, of the hawklike man whose name
he bore soaring out of his captivity on osier
woven wing, of Thoth, the god of writers,
writing with a reed upon a tables and bearing
on his narrow ibis head the cusped moon.
A Portrait of the Artist as a Young Man*
Другая школа заявляет, что все времяуже
истекло и что наша жизнь является не
более чем воспоминанием и сумеречным
отблеском, без сомнения ложным и
ущербным, необратимого процесса. Дру-
гая говорит, что история вселенной — то
есть и наших жизней, и самой меньшей
подробности наших жизней — является
письмом, которое создает второстепен-
ный бог, чтобы договориться с демоном.
Согласно же мнению третьей, вселенная
сравнима с теми криптограммами, в ко-
торых не все символы имеют одно и то
же устойчивое значение...
Хорхе Луис Борхес
«Чувство страха перед неизвестным шевельнулось в глубине его
усталости — страха перед символами, и предвестиями, и перед ястре-
боподобным человеком, имя которого он носил, — человеком, выр-
вавшимся из плена на сплетенных из ивы крыльях; перед Тотом —
богом писцов, что писал на табличке тростниковой палочкой и носил
на своей узкой голове ибиса двурогий серп» (Джойс Дж. Портрет ху-
дожника в юности / Пер. М. П. Богословской-Бобровой) И Собр. соч.
в трех томах. Т. 1. М., 1993. С. 415—416).
EES Фармация Платона
Мы лишь хотели навести на мысль, что спонтанность, сво-
бода, фантазия, приписываемые Платону благодаря леген-
де о Тевте, контролировались и ограничивались весьма
строгими пределами. Организация мифа подчиняется
могущественным ограничениям. Такие ограничения вы-
страиваются в систему правил, которые иногда выявля-
ются внутри того, что мы эмпирически определяем как
«сочинения Платона» (на некоторые из них мы еще ука-
жем), как «культуру» или «греческий язык», а иногда —
вовне, в «чужой мифологии». У последней Платон не про-
сто взял в долг, позаимствовал некий простой элемент, то
есть фигуру определенного персонажа, Тота, бога письма.
В действительности, не рискуя потерять всякое представ-
ление о том, что это слово могло бы здесь значить, мы не
можем говорить о простом «заимствовании», то есть
о внешнем и случайном добавлении. Платон был обязан
подчинить свой рассказ структурным законам. Наибо-
лее общие структурные законы, которые контролируют
и выстраивают такие оппозиции, как слово/письмо,
жизнь/смерть, отец/сын, хозяин/слуга, первый/второй,
законный сын/незаконнорожденный сирота, душа/тело,
внутри/снаружи, добро/зло, серьезность/игра, день/ночь,
солнце/луна и т. д., в равной степени и в одних и тех же
формах господствуют в египетской, вавилонской и асси-
рийской мифологиях. Несомненно, есть и другие струк-
турные законы, описывать которые у нас здесь нет ни
намерения, ни средств. Интересуясь тем фактом, что
Платон не просто позаимствовал некий простой элемент,
мы, естественно, заключаем в скобки проблему факти-
ческого генезиса и действительных эмпирических свя-
зей культур и мифологий50. Мы хотим только обозначить
внутреннюю структурную необходимость, которая одна
могла обеспечить подобные связи, как и любую случай-
ную передачу мифем.
Платон, конечно, не описывает Тевта как конкрет-
ного персонажа. Ни в «Федре», ни в коротком упоми-
нании в «Филебе» никакие конкретные черты ему не
приписываются. По крайней мере, так кажется. Но если
НЗВ Жак Деррида. Диссеминация
присмотреться более внимательно, мы вынуждены будем
признать, что его положение, содержание его речи и его дей-
ствий, отношение тем, понятий и означающих, в которые
облекаются его выступления, — все это организует черты
весьма характерной фигуры. Структурная аналогия, ко-
торая соотносит их с другими богами письма, и в первую
очередь с египетским Тотом, не может быть следствием
частичного или полного заимствования, случая или же во-
ображения самого Платона. А их одновременное — столь
строгое и столь устойчивое — встраивание в системати-
ку философем Платона, спайка мифологического и фи-
лософского, отсылает к еще более таинственной необхо-
димости.
Несомненно, у бога Тота много лиц, много эпох, мно-
го мест проживания51. Взаимное перекрещивание мифо-
логических историй, в которых он задействован, не дол-
жно быть оставлено без внимания. Тем не менее во всех
случаях обнаруживаются инварианты, выписанные рез-
кими мазками и крупными чертами. Можно было бы
поддаться искушению и сказать, что они задают тожде-
ственность этого бога в общем пантеоне, если бы его
функция, как мы вскоре увидим, не заключалась как раз
в ниспровергающем смещении тождества как такового —
начиная с тождества теологических начал.
Каковы же его значимые черты для того, кто пыта-
ется реконструировать структурное сходство между пла-
тоновской фигурой и другими мифологическими фигу-
рами происхождения письма? Обнаружение этих черт
должно послужить не только определению каждого из
значений в игре тематических оппозиций, которые мы
только что выписали в виде последовательности, —
в платоновском дискурсе или же в определенной конфи-
гурации мифологий. Оно должно вывести нас на общую
проблематику отношений между мифемами и филосо-
фемами в происхождении западного logos'а. То есть в про-
исхождении некоей истории — или, скорее, самой исто-
рии, — которая была целиком и полностью произведена
в философском различии mythos'a и logos'слепо погру-
IEB Фармация Платона
жаясь в такое различие как в естественную очевидность
своей собственной стихии.
Итак, в «Федре» бог письма является подчиненным
персонажем» помощником» технократом без права реше-
ния, инженером, хитрым и ловким слугой, допущенным
к царю богов. Этот царь изволил принять его в своем
совете. Тевт представляет tekhnd и pharmacon царю, отцу
и богу, который говорит ;<ли командует своим солнеч-
ным голосом*. Когда он вынесет свой приговор, когда он
позволит ему со своей высоты упасть вниз, то есть когда
он одновременно предпишет отбросить pharmacon, Тевт
ничего не ответит. Присутствующие силы хотят, чтобы
он оставался на своем месте.
Не то же ли самое у него место и в египетской мифо-
логии? В ней Тот также считается рожденным богом. Он
часто именуется сыном бога-царя» бога-солнца, Амона-
Ра: «Я Тот, старший сын Ра»52. Ра (Солнце) — это бог-
творец, он порождает посредством слова53. Его другое
имя, под каким он представлен в «Федре», — Аммон.
Принятый смысл этого собственного имени — «скры-
тый» м. Итак, мы снова имеем здесь скрытое солнце, отца
всех вещей, который позволяет представлять себя речью.
Обозримое единство этих значений — могущества
речи, создания бытия и жизни, солнца (то есть, как мы
увидим, еще и глаза), само-сокрытия — проявляется в том,
что можно было бы назвать историей яйца или яйцом
истории. Мир родился из яйца. Точнее говоря, живой со-
здатель жизни мира родился из яйца: солнце» следователь-
но, сначала покоилось под яичной скорлупой. Этим объяс-
няются многие из черт Амона-Ра» он ведь еще и птица,
сокол («Я великий сокол, вышедший из его яйца»). Но бу-
дучи началом всего, Амон-Ра также является началом
яйца. На него иногда указывают как на птицу-солнце, ро-
дившуюся из яйца, а иногда — как на изначальную птицу,
«Солнечным голосом» («de sa voix ensoleillde»): буквально — «своим
залитым солнцем голосом». Деррида, вероятно, подчеркивает устой-
чивую связь солнца-истока и голоса.
ИШ1 Жак Деррида. Диссеминация
носительницу первого яйца. В таком случае, поскольку
сила речи едина с творящей силой, понятно, почему в не-
которых текстах говорится о «яйце великой наседки». Нет
никакого смысла задаваться здесь вопросом, одновремен-
но тривиальным и философским, «курицы и яйца», во-
просом логического, хронологического или онтологиче-
ского предшествования причины по отношению к след-
ствию. На этот вопрос великолепный ответ дают некото-
рые из саркофагов: «О Ра, находящийся внутри своего
яйца». Если добавить, что яйцо — это «скрытое яйцо»55, мы
зададим и одновременно откроем систему этих значений.
Подчиненность Тота, этого ибиса, старшего сына из-
начальной птицы, отмечена разными способами: напри-
мер, в мемфисском учении Тот посредством языка испол-
няет творческий проект Хора56. Он несет знаки великого
бога-солнца. Он интерпретирует его в качестве его вест-
ника. Подобно своему греческому двойнику Гермесу —
о котором Платон, впрочем, никогда не упоминает — он
исполняет роль бога-посланника, хитрого, умного и лов-
кого посредника, который всегда что-то скрывает и сам
скрывается. Бог-означающее (Бог означающего). Хор уже
помыслил то, что Тот должен высказать или выразить
в словах. Поэтому язык, обладателем и служителем кото-
рого он оказывается, способен лишь представлять, пере-
давая сообщение, уже полностью оформленную боже-
ственную мысль, завершенный план57. Сообщение только
представляет абсолютно творческий момент, а не являет-
ся им. Это второе и вторичное слово. В тех же случаях, когда
Тот имеет дело с устной речью, а не с письмом, что бывает
довольно редко, он не выступает в качестве автора или аб-
солютного основателя языка. Напротив, он вводит в язык
различие, именно он называется автором различия язы-
ков58. (Позже мы, вернувшись к Платону и «Филебу», за-
дадимся вопросом, является ли дифференциация вторич-
ным моментом и не является ли такая «вторичность» воз-
никновением графемы как начала и возможности самого
logos а. В самом деле, в «Филебе» Тевт упоминается как
автор различия — то есть дифференциации в самом язы-
ШЗ Фармация Платона
ке, а не дифференциации множества языков. Впрочем,
мы считаем, что две эти проблемы, по существу, нераз-
делимы.)
Бог вторичного языка и лингвистического различия
Тот может стать богом творящего слова лишь посред-
ством метонимического замещения, посредством исто-
рической преемственности, а иногда и посредством на-
сильственного переворота.
Замещение, таким образом, ставит Тота на место Ра
как Луну на место Солнца. Бог письма становится заме-
стителем Ра, добавляясь к нему и замещая его в его отсут-
ствии и его сущностном исчезновении. Таково происхож-
дение Луны как заместителя Солнца, ночного света как
заместителя дневного света. Письма как заместителя сло-
ва. «Когда Ра был на небе, однажды он сказал: “Приведи-
те ко мне Тота”, и Тота привели. Величественный бог
сказал Тоту: “Будь на моем месте на небе в то время, когда
я буду сиять блаженным нижних миров... ты будешь на
моем месте, моим заместителем, и тебя будут звать так:
Тот, заместитель Ра”. Потом благодаря игре слов, кото-
рой предавался Ра, возникли всевозможные вещи. Он ска-
зал Тоту: “Я сделаю так, что ты покроешь (ionh) своей кра-
сотой и своими лучами два неба”, — тогда родилась луна
(ioh). Затем, намекая на то, что ранг Тота как заместителя
Ра лишь немногим ниже ранга самого Ра, последний за-
явил: “Я сделаю так, что ты сможешь распоряжаться (hob)
теми, кто больше тебя”, — так родился Ибис (hib), птица
Тота»59.
Такое замещение, которое, следовательно, выполняет-
ся как чистая игра следов и дополнений или, как можно
было бы сказать, в порядке чистого означающего, кото-
рый не может быть ограничен, определен, проконтроли-
рован никакой реальностью, никакой абсолютно внешней
референцией, никаким трансцендентным означаемым,
это замещение, которое можно было бы назвать «безум-
ным», поскольку оно способно бесконечно долго задер-
живаться в стихии лингвистической взаимозамены за-
местителей, постоянно меняющихся своими местами,
КПЗ Жак Деррида. Диссеминация
это разнузданное связывание* оказывается все же на-
сильственным. Мы ничего не поняли бы в этой «лингви-
стической» «имманентности», если бы видели в ней мир-
ную стихию фиктивной войны, безобидной игры слов,
противопоставляющейся той polemos <битве>, которая
свирепствует в «реальности». Вовсе не в реальности, чуж-
дой «играм слов», Тот принимает также участие в заго-
ворах, злодеяниях, попытках захвата власти, направлен-
ных против царя. Он помогает сыновьям избавиться от
отца, а братьям — от старшего брата, ставшего царем.
Нут, проклятая Ра, не имела даты, дня календаря, необ-
ходимого, чтобы дать рождение ребенку. Ра зачеркнул ее
время, ее день, пригодный для рождения, временной про-
межуток, когда ребенок может родиться на свет. Тот, так-
же располагавший властью рассчитывать строй кален-
даря и его ход, добавляет пять внекалендарных дней. Это
дополнительное время позволяет Нут произвести пять
детей: Хароериса, Сета, Исиду, Нефтиду и Осириса, ко-
торый позже должен был стать царем, заступив на место
своего отца Геба. Во времена царствования Осириса
(царя-солнца) Тот, который также быд его братом60, «на-
учил людей словесности и искусствам», он «создал иеро-
глифическую письменность, чтобы они могли фиксиро-
вать свои мысли»61. Но позже он участвует в заговоре
Сета, брата, завидующего Осирису. Всем известна леген-
да о смерти Осириса: хитростью его закрыли в сундуке,
соответствующем его росту, а после многочисленных пе-
рипетий его обнаружила жена Исида, когда труп Осири-
са уже был разорван на четырнадцать частей и разбро-
сан; Исида находит все части тела за исключением фал-
лоса, проглоченного рыбой оксиринх62. Это не мешает
Тоту действовать, проявляя черты весьма гибкого и без-
гранично забывчивого оппортунизма. Действительно,
Исида, превратившись в грифа, спит с трупом Осириса.
Так она порождает Хора, «ребенка-с-пальцем-во-рту», ко-
«Это разнузданное связывание» («cet enchainement d6chain6») — бук-
вально: «расцепленное сцепление».
КШ Фармация Платона
торый позже должен был начать преследовать убийцу
своего отца. Этот убийца, Сет, вырвал у Хора глаз, а Хор
оторвал у Сета яички. Получив свой глаз обратно, Хор
приносит его своему отцу, причем этот глаз был также
луной, если угодно, Тотом, в результате Осирис оживает
и получает свою силу. Во время боя Тот разделил бойцов
и, выполняя роль бога — врача — фармацевта — колду-
на, занимался лечением покалеченных, сшивал их раны.
Позже, когда глаз и яички вернулись на свои места, со-
стоялся суд, во время которого Тот выступает против
Сета, сообщником которого он в то же время был, и спо-
собствует торжеству слова Осириса63.
Заместитель, способный стать двойником царя, отца,
солнца, слова, отличающийся от него лишь как его пред-
ставитель, его маска, его повторение, Тот столь же есте-
ственно мог полностью замещать его и захватывать все
его атрибуты. Он добавляется как существенный атри-
бут того, к чему он добавляется и от чего он почти ничем
не отличается. Он отличается от речи или от божествен-
ного света только как являющий от являемого. То есть
чуть-чуть64.
Но до уравнивания, если мы можем так сказать, за-
мещения и узурпации Тот является главным образом
богом письма, секретарем Ра и девятки богов, иерограм-
матиком и гипомнетографом65. Но, как мы увидим, имен-
но обнаруживая то, что pharmacon письма пригоден для
hypomnesis (запоминания, заучивания, фиксации), а не
для тппётё (живой и знающей памяти), Тамус в «Федре»
вынесет решение о его малой ценности.
Впоследствии, в окружении Осириса, Тот был также
писцом и счетоводом Осириса, чьим братом, не будем за-
бывать, его при этом считали. Тот в этом случае представ-
ляется в качестве идеала и начальника писцов, имеющих
большое значение в канцеляриях фараонов: «Если солнеч-
ный бог является господином вселенной, Тот — это пер-
вый чиновник, его визирь, который стоит рядом с ним
в его лодке, чтобы представлять ему отчеты»66. Будучи
«хозяином книг», составляя их, регистрируя, описывая
пн Жак Деррида. Диссеминация
и охраняя их хранилище, он становится «хозяином боже-
ственных слов»67. Его подруга тоже пишет: ее имя, Сешат,
означает, несомненно, «Та-что-пишет». Как «хозяйка биб-
лиотек» она записывает подвиги царя. Будучи первой бо-
гиней, способной ставить метки, она отмечает имена ца-
рей на дереве в храме Гелиополя, тогда как Тот ведет счет
годам при помощи палки с насечками. Известна также сце-
на коронации, воспроизведенная на барельефах многих
храмов: царь сидит под кордией, а Тот и Сешат записыва-
ют его имя на листьях священного дерева68. Известна и
сцена осуждения мертвецов: в преисподней, стоя напро-
тив Осириса, Тот записывает вес сердца-души мертвеца69.
Ведь бог письма — это также, само собой разумеет-
ся, бог смерти. Не будем забывать, что в «Федре» изобре-
тение pharmacon а порицается за то, что из-за него жи-
вое слово замещается обездушенным знаком, за то, что
pharmacon стремится обойтись без отца (живого и ис-
точника жизни) /ogos’a, но при этом может отвечать за
себя не более чем скульптура или неодушевленная кар-
тина, и т. д. Во всех циклах египетской мифологии Тот
руководит организацией смерти. Хозяин письма, числа
и счета не только записывает вес душ умерших, сначала
он должен подсчитать дни жизни, вычислить историю.
Его арифметика распространяется и на события боже-
ственной биографии. Он — «тот, кто отмеряет продол-
жительность жизни богов (и) людей»70. Он ведет себя как
руководитель похоронного протокола, в частности, он
ответственен за одеяние мертвеца.
Порой мертвец занимает место писца. В пространстве
этой сцены место мертвеца возвращается Тоту. На пира-
мидах можно прочесть небесную историю мертвеца:
«“Куда же он направляется?” — спрашивает огромный
бык, угрожающий ему своим рогом [отметим мимоходом,
что другое имя Тота, этого ночного заместителя Ра, — это
«Бык среди звезд»]. “Он направляется на небо, полное жиз-
ненной силы, чтобы увидеть своего отца, чтобы созерцать
Ра”, после чего ужасная тварь пропускает его». (Книги
мертвых, которые помещали в гроб рядом с трупом, в чис-
КШ Фармация Платона
ле прочего содержали заклятия, которые должны были по-
зволить ему «выйти на свет» и увидеть солнце. Мертвый
должен видеть солнце, смерть — это условие и даже сам
опыт такой встречи лицом к лицу. Нам еще придется
вспомнить «Федона».) Бог-отец принимает его в свою лод-
ку, «случается даже так, что он высаживает своего соб-
ственного небесного писца и усаживает мертвого на его
место, так что мертвый выносит решение, он оказывается
судьей и отдает приказы тому, кто величественнее его»7'.
Мертвый может также просто отождествляться с Тотом,
«его просто зовут богом; он — Тот, самый сильный из бо-
гов» 72.
Иерархическое противопоставление сына отцу, слу-
ги — царю, смерти — жизни, письма — речи и т. д. есте-
ственным образом дополняет свою систему противопо-
ставлением ночи дню, запада — востоку, /туны — солнцу.
Тот, «ночной заместитель Ра, бык среди звезд»73, смотрит
на запад. Он — бог луны, не важно, отождествляется ли
он с ней или защищает ее74.
Система этих качеств задействует особую логику —
фигура Тота противопоставляется его другому (отцу, сол-
нцу, жизни, слову, востоку и т. д.), но лишь замещая его.
Она добавляется и противопоставляется, повторяя и за-
нимая место. Точно так же она принимает форму, она
получает форму именно от того, чему она сопротивля-
ется и что она заменяет. Поэтому она противопоставля-
ется сама себе, она переходит в свою противоположность,
и этот бог-посредник является, естественно, богом аб-
солютного перехода между противоположностями. Если
бы он обладал определенной тождественностью (но на
деле он оказывается как раз богом не-тождественности),
он был бы тем coincidentia oppositorum <совпадением про-
тивоположностей (лат.)>, к которому нам вскоре при-
дется снова обратиться. Отличаясь от своего другого, Тот
также подражает ему, превращает себя в его знак и пред-
ставителя, повинуется ему, соответствует ему, заменя-
ет его — при надобности насильно. Таким образом, он —
другой отца, отец и подрывное движение замещения. Бог
КШ Жак Деррида. Диссеминация
письма, следовательно, одновременно является своим от-
цом, своим сыном и собой. Ему нельзя указать фиксиро-
ванное место в игре различий. Хитрец, неуловимый, за-
маскированный, заговорщик, шутник вроде Гермеса, он
ни царь, ни слуга; скорее, что-то вроде джокера, свободно-
го означающего, нейтральной карты, дающей игру игре.
Этот бог воскрешения интересуется не столько жиз-
нью или смертью, сколько смертью как повторением
жизни и жизнью как повторением смерти. Именно это
обозначает число, изобретателем и управляющим кото-
рого он также является. Тот повторяет все в добавлении
дополнения — как заместитель солнца он отличен от
солнца и тождественен ему; он отличен от блага и тожде-
ственен ему и т. д. Занимая всегда то место, которое не
принадлежит ему и которое также можно назвать мес-
том мертвого, он не имеет ни собственного места, ни соб-
ственного имени. Его свойство — несвойственность,
парящая неопределенность, которая дает возможность
игре и замещению осуществляться. Платон сам напоми-
нает об игре, которая является одним из изобретений
Тота. Мы обязаны ему игрой в кости (kubeia) и игрой
триктрак (peteia) (274d). Он был бы опосредствующим
движением диалектики, если бы он не подражал и ему,
препятствуя ему посредством такого иронического удво-
ения в тот или иной определимый срок добиться некоего
окончательного завершения или некоего эсхатологиче-
ского присвоения. Тот никогда не присутствует в настоя-
щем. Нигде он не является лично. Никакое бытие-здесь
не включено в его личную собственность.
Все его действия будут нести метку такой неустойчи-
вой двусмысленности. Этот бог счета, арифметики и ра-
циональной науки75 также управляет оккультными наука-
ми, астрологией и алхимией. Это бог магических закли-
наний, которые усмиряют море, бог тайных заговоров,
сокровенных текстов — это архетип Гермеса, бога крип-
тограммы, не в меньшей степени, чем бога графии*.
(Graphic* — буквально: «начертание», «надпись».
КПЗ Фармация Платона
Наука и магия, переход между жизнью и смертью, вос-
полнение зла и недостатка — благодаря всему этому ме-
дицина должна была стать излюбленной вотчиной Тота.
Все его силы соединялись в ней и находили в ней свое при-
менение. Бог письма, умеющий полагать жизни конец,
также лечит больных. И даже мертвых76. Стелы «Хора на
крокодилах»* рассказывают о том, как царь богов пригла-
сил Тота лечить Харсиеса, укушенного змеей, когда его
мать отлучилась77.
Итак, бог письма — это бог медицины. Бог «меди-
цины»** — одновременно науки и тайного средства. Бог
лекарства и яда. Бог письма — это бог pharmacon'a.
И именно письмо как pharmacon он представляет в «Фед-
ре», демонстрируя послушание, тревожащее как своеоб-
разный вызов.
4. Pharmacon
Необходимо, чтобы, столкнувшись с по-
добными пороками, в каждом случае за-
конодатель нашел определенный pharma-
con. Верна старая пословица, что сложно
одновременно бороться с двумя противо-
положностями; это доказывают болезни
и другие беды.
Законы 919b
Вернемся к тексту Платона, если только мы вообще его
покидали. Слово pharmacon включено в нем в определен-
ную цепочку значений. Игра этой цепочки представляет-
ся систематической. Но в данном случае такая система не
является просто системой интенций определенного авто-
ра, известного под именем Платона. Эта система исходно
Стелы, на которых Хор изображался попирающим крокодилов.
«Mddecine» — во французском значит не только «медицина», но и «ле-
карство», «лекарственное средство», «снадобье».
ЕЮ Жак Деррида. Диссеминация
не является системой значения, желания-сказать*. В ней
благодаря игре языка устанавливаются определенные свя-
зи между различными функциями одного слова, а в са-
мом этом слове — между различными отложениями или
различными областями культуры. Платон иногда может
объявлять эти связи, эти коридоры смысла, прояснять их,
«добровольно» играя с ними, однако само это слово мы
вынуждены заключить в кавычки, поскольку оно, остава-
ясь в пределах этих оппозиций, указывает лишь на один
определенный способ «подчинения» ограничениям дан-
ного «языка». Ни одно из этих понятий не могло бы выра-
зить то отношение, которое мы пытаемся здесь уловить.
Также Платон в отдельных случаях может не видеть свя-
зей, оставлять их в тени или обрывать их. Однако же эти
связи работают сами по себе. Несмотря на него? Благода-
ря ему? В его тексте? Вне его текста? Но тогда где? Между
его текстом и языком? Для какого читателя? В какой мо-
мент? Постепенно мы выясним, что принципиальный и
общий ответ на такие вопросы невозможен; а это наведет
нас на мысль, что сам вопрос в чем-то неверен, что суще-
ствует какой-то изъян в каждом из этих понятий, в каж-
дой из утверждаемых этими вопросами оппозиций. Все-
гда можно решить, что Платон не осуществил некоторые
переходы, даже оборвал их только потому, что он их заме-
тил, но не стал использовать. Такая формулировка возмож-
на только в том случае, если нам удастся уклониться от
любого обращения к различию сознания и бессознатель-
ного, произвольного и непроизвольного — различия, ко-
торое оказывается слишком грубым инструментом, ког-
да речь заходит о рассмотрении отношения к языку. То
же самое можно было бы сказать о противопоставлении
речи — или письма — языку, если бы такое противопо-
ставление, как это часто бывает, обязательно отсылало
к этим категориям.
«Желание-сказать» — «vouloir dire», устойчивый термин Деррида, про-
изводный от выражений типа «$а veut dire» — «это значит». Истолко-
вание «значения» как «желания-сказать» вводится Деррида в работе
«Голос и феномен» в качестве перевода гуссерлевского «значения».
ККВ Фармация Платона
Уже одна эта причина должна была бы помешать нам
восстановить всю цепочку значений pharmacon а. Ника-
кая абсолютная привилегия не позволяет нам получить
абсолютную власть над его текстуальной системой. Тем не
менее этот предел может и должен смещаться — в неко-
торой степени. Возможности такого смещения, смещаю-
щие силы обладают различной природой; вместо того
чтобы перечислять здесь их названия, попытаемся на ходу
произвести некоторые из их эффектов, исследуя плато-
новскую проблематику письма78.
Мы проследили соответствие между фигурой Тота
в египетской мифологии и определенной организацией
понятий, философем, метафор и мифем, выделенных на
основе того, что называют платоновским текстом. Сло-
во pharmacon показалось нам вполне способным связать
в этом тексте все нити этого соответствия. Перечитаем
теперь следующую фразу из «Федра» (в переводе Робе-
на): «Вот, о царь, — сказал Тевт, — знание (to mathema),
которое сделает египтян более образованными (sophote-
rous) и повысит их способность к запоминанию (тпето-
nikoterous): память, как и образование, нашли свое лекар-
ство (pharmacon)».
Общепринятая традиция переводить pharmacon как
«лекарство»*, то есть как благотворное снадобье, конечно,
не является неточной. Дело не только в том, что pharmacon
мог означать «лекарство» и на определенном уровне сво-
ей работы стирать двойственность своего смысла. Оче-
видно и другое — поскольку Тевт стремится получить
высокую оценку своего произведения, он поворачивает
слово вокруг его странной невидимой оси, представляет
его так, что виден только один — наиболее успокоитель-
ный — из его полюсов. Это снадобье благодетельно, оно
производит и исправляет, накапливает и лечит, увеличи-
вает знание и уменьшает забвение. Тем не менее перевод
термином «лекарство» при выходе за пределы греческого
В русском издании рассматриваемого отрывка pharmacon переведен
как «средство».
КШ Жак Деррида. Диссеминация
языка стирает другой скрытый полюс слова pharmacon.
Такой перевод устраняет источник двусмысленности и
усложняет — если вообще не делает невозможным —
понимание контекста. В отличие от «зелья» и даже «сна-
добья», «лекарство» обозначает прозрачную рациональ-
ность науки, техники и терапевтической причинности,
исключая, таким образом, из текста обращение к маги-
ческой потенции силы, действия которой с трудом подда-
ются управлению, некоей dynamis, всегда вызывающей
удивление у того, кто попытался бы вести себя с ней как
господин со слугой.
Итак, с одной стороны, Платон стремится предста-
вить письмо как тайную и, следовательно, подозритель-
ную силу. Силу, подобную живописи, с которой он вско-
ре сравнит ее, подобную приманке и техникам mimesis
в целом. Известно также его недоверие по отношению
к прорицанию, магам, волшебникам, учителям чародей-
ства79. В частности, в «Законах» для всех них он преду-
сматривает ужасные наказания. Выполняя определенную
операцию, о которой позже нам еще придется вспомнить,
он рекомендует исключить их из социального простран-
ства или отделить их от него, то есть необходимо сделать
это дважды — посредством тюрьмы, в которой к ним не
будут приходить свободные люди, а только рабы, прино-
сящие им пищу, а затем — посредством лишения гроб-
ницы: «В случае смерти его следует выкинуть за пределы
территории, не предоставляя гробницы; свободный же
человек, который поспособствует его захоронению, бу-
дет преследоваться на основании своей нечистоты лю-
бым, кто решит возбудить против него судебный про-
цесс» (X 909b—с).
С другой стороны, ответ царя предполагает, что дей-
ственность pharmacon а может обернуться своей проти-
воположностью — pharmacon может усугубить болезнь,
а не вылечить ее. Скорее даже ответ царя означает, что
Тевт благодаря хитрости и/или наивности показал лишь
изнанку истинного действия письма. Чтобы получить
высокую оценку своего изобретения, Тевт, таким обра-
КШ Фармация Платона
зом, как будто исказил природу* pharmacona, сказал про-
тивоположное (tounantion) тому, на что письмо способ-
но. Он выдал яд за лекарство. Поэтому, переводя phar-
macon как «лекарство», мы, несомненно, сохраняем не
столько то, что хочет сказать Тевт и даже Платон, сколь-
ко то, что, по словам царя, сказал Тевт, обманывая таким
образом царя или самого себя. Итак, раз текст Платона
представляет ответ царя как истину творения Тевта, а его
речь — как истину письма, перевод посредством «лекар-
ства» подчеркивает наивность или мошенничество Тев-
та, причем с точки зрения солнца. С этой точки зрения
Тевт, несомненно, сыграл на слове, оборвав, когда ему это
понадобилось, связь между двумя противоположными
значениями. Однако царь восстанавливает ее, что не под-
тверждается переводом. Так или иначе, оба собеседника
все время остаются, что бы они ни делали, в единстве
одного и того же означающего, хотят они того или нет.
Их речь играет на этом единстве, но во французском язы-
ке такая игра не видна. «Лекарство» — в большей степе-
ни, нежели возможное «зелье» или «снадобье» — стира-
ет виртуальную, динамическую отсылку к другим вари-
антам использования того же слова в греческом языке.
Что еще более важно, такой перевод разрушает то, что
позже мы назовем анаграмматическим письмом Плато-
на, прерывая отношения, которые ткутся в нем между
различными функциями одного и того же слова в раз-
личных местах, отношения потенциально, но и необхо-
димо являющиеся «цитационными». Когда некое слово
записывается как цитата некоего другого смысла того же
самого слова, когда текстуальная авансцена слова pharma-
con, продолжая означать «лекарство», цитирует, рецити-
рует и позволяет прочесть то, что в том же слове в ка-
ком-то другом месте и на другом уровне сцены означает
«яд» (уже потому, что pharmacon означает и другие вещи),
выбор переводчиком одного-единственного из этих
«Dd-naturd» — глагол «ddnaturer» обычно переводится как «искажать»,
«извращать», однако в данном случае подчеркивается именно букваль-
ное значение — искажение природы.
КЕШ Жак Деррида. Диссеминация
французских слов своим первым следствием имеет ней-
трализацию цитационной игры, «анаграммы», в конечном
счете — самой текстуальности переведенного текста. Не-
сомненно, можно было бы показать, как мы попытаемся
сделать в подходящий момент, что подобный разрыв пе-
рехода между двумя противоположными значениями сам
по себе уже является следствием «платонизма», результа-
том определенной работы, которая начиналась в самом
переводимом тексте, в отношении «Платона» к своему
«языку». Между этим тезисом и предыдущим нет ника-
кого противоречия. Поскольку текстуальность конститу-
ируется различиями и различиями различий, она по при-
роде абсолютно гетерогенна, причем она постоянно сло-
жена с силами, которые стремятся отменить ее.
Итак, необходимо будет принять, проследить и про-
анализировать сложение двух этих сил или двух этих же-
стов. В каком-то смысле это сложение является един-
ственной темой этого эссе. С одной стороны, Платон вы-
двигает постановление некоей логики, нетерпимой по
отношению к этому переходу между двумя противопо-
ложными смыслами одного и того же слова, тем более
что такой переход окажется чем-то весьма отличным от
простого смешения, чередования или диалектики про-
тивоположностей. Однако же, с другой стороны, pharma-
con, если наше прочтение подтвердится, задает исходную
среду такого решения — стихию, которая предшествует
ему, включает его в себя, выходит за его границы, никогда
не дает свести себя к нему и не отделяется от определен-
ного уникального слова (или означающего аппарата), дей-
ствующего в греческом <языке> и платоновском тексте.
Поэтому все переводы на языки-наследники и языки-хра-
нители западной метафизики производят на pharmacon
аналитическое воздействие, которое насильственно его
разрушает, сводит к одному из этих простых элементов,
парадоксальным образом интерпретируя его на основе тех
следствий, которые он сделал возможными. Такой интер-
претативный перевод, следовательно, насколько насиль-
ственен, настолько же и бессилен — он разрушает phar-
KED Фармация Платона
тасоп и в то же самое время запрещает себе притронуть-
ся к нему, оставляя его нетронутым в его заповедной об-
ласти.
Следовательно, нельзя ни просто принять, ни про-
сто отвергнуть перевод «лекарство». Даже если бы мы хо-
тели спасти таким образом «рациональный» полюс и
стремление его похвалить, идею правильного использо-
вания науки или искусства врача, все равно оставалась
бы немалая вероятность того, что нас обманет язык. Со-
гласно Платону, письмо может в равной степени рассмат-
риваться и как лекарство и как яд. Еще до того, как Тамус
проронит свой обвинительный приговор, лекарство само
по себе уже является беспокоящим. Действительно, не-
обходимо подчеркнуть, что Платон подозревает pharma-
con в целом, даже когда речь идет о снадобьях, использу-
емых исключительно в терапевтических целях, даже если
они применяются с благими намерениями и даже если
они как таковые вполне действенны. Не существует без-
обидного лекарства. Pharmacon никогда не может быть
однозначно благодетельным.
Не может он быть таким по двум причинам и на двух
различных уровнях. Во-первых, потому что благотвор-
ная сущность или сила pharmacon а не мешает ему быть
болезненным. «Протагор» размещает pharmaca среди ве-
щей, которые могут быть одновременно хорошими
(agatha) и болезненными (aniara) (354а). Pharmacon все-
гда входит в смесь (summeikton), о которой также гово-
рит «Филеб» (46а) — например, в ту ubris, то страстное и
чрезмерное излишество в удовольствии, которое застав-
ляет кричать неуравновешенных людей как безумных
(45е); и в «облегчение, которое больным чесоткой дает
расчесывание или какие-то схожие действия, так что дру-
гие лекарства им вовсе не нужны (ouk alles demeona phar-
maxeds)». Такое болезненное наслаждение, связанное как
с болезнью, так и с ее отступлением, — это сам pharmacon.
Это наслаждение причастно одновременно и добру и злу»
и приятному и неприятному. Скорее, именно в его тол-
ще вырисовываются эти противопоставления.
КШ Жак Деррида. Диссеминация
Помимо этого, на более глубоком уровне и без отно-
шения к боли фармацевтическое лекарство является по
существу вредным, поскольку оно искусственно. В этом
Платон следует греческой традиции, а точнее, традиции
врачей острова Кос. Pharmacon противен естественной
жизни — не только той жизни, которую не терзает ника-
кая болезнь, но и больной жизни или, скорее, жизни са-
мой болезни. Ведь Платон верит в естественную жизнь и
в нормальное, если так можно сказать, развитие болез-
ни. В «Тимее» естественная болезнь сравнивается, как
logos в «Федре» (об этом мы уже говорили), с живым орга-
низмом, которому надо позволить развиваться согласно
его собственным нормам и его собственным формам,
свойственным ему ритмам и периодам. Следовательно,
pharmacon, сбивая нормальное и естественное разверты-
вание болезни, оказывается врагом живого вообще, не-
зависимо от того, больно оно или нет. Необходимо по-
мнить об этом тогда, когда письмо предстает как
pharmacon, и Платон сам побуждает нас к этому. Как про-
тивоположность жизни, письмо — или, если угодно,
pharmacon — лишь смещает и даже раздражает зло.
Именно таким будет возражение царя, выписанное в его
логической схеме — под предлогом замещения памяти
письмо делает еще более забывчивым; ни в коей мере не
увеличивая познания, оно его уменьшает. Оно не отве-
чает потребностям памяти, оно уводит в сторону, укреп-
ляет не тпётё, а лишь hypomnesis. Следовательно, оно
действует как любой другой pharmacon. И если формаль-
ная структура аргументации тождественна в обоих тек-
стах, которыми мы теперь займемся, если в обоих случа-
ях то, что должно было производить нечто положитель-
ное и уничтожать негативное, в действительности лишь
смещает и одновременно приумножает негативные по-
следствия, приводя к расширению того недостатка, про-
тив которого оно было направлено, подобная закономер-
ность вписана в знак pharmacon, который Робен (вместе
с другими) расчленяет, оставляя в одном месте только
лекарство, а в другом — яд. Мы говорим «знак pharma-
Ю1 Фармация Платона
сои», желая тем самым отметить, что речь неразрывным
образом идет об определенном означающем и об означа-
емом понятии.
А) В «Тимее», который с самых первых страниц раз-
мещается в промежутке между Египтом и Грецией, то
есть между письмом и речью («Вы, греки, другие, вы все-
гда остаетесь детьми: грек никогда не бывает стариком»,
тогда как в Египте «все записано с самых древних вре-
мен»: panta gegrammena)> Платон доказывает, что среди
всех движений тела самым лучшим является естествен-
ное движение, которое самопроизвольно, изнутри «рож-
дается в нем благодаря его собственному действию»:
Итак, среди всех движений тела самым лучшим явля-
ется то, которое рождается в нем благодаря его соб-
ственному действию, поскольку такое движение наи-
более точно соответствует движениям Ума и движению
Целого. То, которое вызвано какой-то иной причиной,
хуже; но самым плохим из всех является движение, ко-
торое посредством действия чуждой причины частич-
но движет тело, которое покоится или отдыхает. Следо-
вательно, из всех средств очистить и подготовить тело
лучшим является то, которое дается гимнастическими
упражнениями. Второе средство после этого состоит
в ритмическом покачивании, которое мы можем испы-
тать на корабле или же когда нас каким-то образом ве-
зут или несут, так что мы сами не устаем. Третья фор-
ма, которая иногда может оказаться весьма полезной,
если мы вынуждены применить ее, хотя здравомысля-
щий человек никогда не должен обращаться к ней без
необходимости, — это лечение при помощи очисти-
тельных лекарств (tes pharmakeutikes katharseds). Ибо не
нужно раздражать болезни лекарствами (ouk erethisteon
pharmakeiais), если болезни не представляют большой
опасности. В самом деле, строение (sustasis) болезни
в определенном смысле напоминает природу живого (te
ton zoon physei). А строение живого существа каждого
КВЗ Жак Деррида. Диссеминация
вида предполагает заданный срок жизни. Каждое жи-
вое существо рождается, неся в себе определенную
длительность существования, назначенную судьбой,
если отвлечься от случайностей... То же самое отно-
сится к строению болезней. Если при помощи снадо-
бий (pharmakeiais) мы обрываем болезнь до ее задан-
ного срока, из легких болезней обычно рождаются бо-
лее тяжелые, а из малочисленных болезней — более
многочисленные. Вот почему все случаи такого рода
должны управляться особым режимом, насколько для
него есть досуг, однако нельзя, потчуя себя лекарства-
ми (pharmakeuonta), раздражать неустойчивую болезнь
(89а—d).
В этом отрывке стоит отметить, что:
1. Вредоносность pharmacon а подчеркивается в тот
самый момент, когда, как кажется, весь контекст указы-
вает на необходимость его перевода термином «лекар-
ство», а не «яд».
2. Естественная болезнь живого по своей сущности
определяется как аллергия, реакция на вторжение чуже-
родного элемента. Необходимо, чтобы наиболее общим
понятием болезни была аллергия, поскольку естествен-
ная жизнь тела должна подчиняться лишь его собствен-
ным эндогенным движениям.
3. Точно так же как здоровье является авто-номным
и авто-матным, «нормальная» болезнь проявляет свою
автаркию, противопоставляя фармацевтическим атакам
метастатические реакции, которые смещают место бо-
лезни, зачастую усиливая и умножая точки сопротивле-
ния. «Нормальная» болезнь защищается. Уклоняясь та-
ким образом от дополнительных ограничений, от доба-
вочной патогенности pharmacon'a, болезнь продолжает
идти своим путем.
4. Эта схема предполагает, что живое (и его болезни)
является конечным, то есть оно может иметь отноше-
ние к своему другому в аллергическом заболевании, что
оно имеет ограниченную длительность, что смерть уже
КЕВ Фармация Платона
вписана, предписана в его структуре, в его «образующих
треугольниках». («В самом деле, образующие треуголь-
ники каждого вида изначально сформированы так, что
их должно хватить до окончания данного периода —
периода, больше которого жизнь не может продлить-
ся». — Ibid.) Бессмертие и совершенство живого состо-
ят в отсутствии какого-либо отношения к внешнему. Это
верно для Бога (см.: Государство II 381b—с). У Бога нет
аллергии. Здоровье и добродетель (ugieia kai arete), часто
соотносимые друг с другом, если речь идет о теле и, по
аналогии, о душе (см.: Горгий 479b), всегда действуют
изнутри. Pharmacon, приходя всегда извне, действуя
в форме внешнего как такового, никогда не будет иметь
собственной и определимой добродетели. Но как изгнать
этого дополнительного паразита, удерживая предел или,
скажем, треугольник?
В) Система этих четырех черт восстанавливается тог-
да, когда в «Федре» царь принижает и обесценивает
pharmacon письма, так что само слово pharmacon нельзя
здесь снова поспешно принимать за метафору, иначе
придется всю его загадочную силу приписать одной лишь
метафорической возможности.
Быть может, теперь мы можем прочесть ответ Тамуса:
И царь ответил: «О несравненный мастер искусств Тевт
(О tekhnokdtati Theuth), один человек способен осно-
вать новое искусство, а другой способен оценить, ка-
кой вред и какую пользу это искусство несет тем лю-
дям, которые должны будут пользоваться им. Сейчас
же ты, будучи отцом символов письма (pater on gram-
maton), из любезности к ним приписал им качества,
противоположные (tounantion) их действительному
действию! Ведь следствием этого знания для тех, кто
приобретет его, станет забывчивость их душ, посколь-
ку они перестанут упражнять свою память (lethen теп
еп psuchais parexei mn£mes amtletesid): в самом деле,
доверившись написанному, извне, благодаря чуждым
КШ Жак Деррида. Диссеминация
отпечаткам (diapistingraphes exothen up’allotrion tupon),
а не изнутри и благодаря самим себе, будут они вспо-
минать вещи (ouk endothen autous uph'autdn anamimnes-
komenous). Ты открыл лекарство не для памяти, а для
припоминания (oukoun mn£mes> alia upomneseds, phar-
macon cures). Что касается образования (Sophias d^)^
своим ученикам ты дашь его подобие (doxan), а не дей-
ствительность (aletheian): когда в самом деле они бла-
годаря твоей помощи будут переполнены знаниями,
не получив наставления, будет казаться, что они спо-
собны судить о тысячи вещей, в то время как в боль-
шинстве случаев они будут лишены всякого суждения;
кроме того, они станут невыносимыми, поскольку они
будут лишь похожи на образованных людей (doxo-
sophoi), а не действительно образованными людьми
(anti sophdn)\» (274е—275b).
Царь, отец речи, таким образом доказал свою власть
над отцом письма. Он сделал это со всей суровостью, не
проявив по отношению к тому, кто занимает место его
сына, той снисходительной любезности, которая связы-
вала Тевта с его собственными детьми, с его «символа-
ми». Тамус торопится, увеличивает число высказываемых
сомнений и, по видимости, не хочет оставлять Тевту ни-
какой надежды.
Для того чтобы письмо, как он говорит, могло про-
извести действие, «обратное» по отношению к тому, что
можно было бы от него ожидать, чтобы pharmacon при
использовании обнаруживал свою вредоносность, необ-
ходимо, чтобы его действенность, его сила, его dynamis
была двойственной. Это утверждается о pharmacon'e
в «Протагоре», «Филебе», «Тимее». Итак, устами царя Пла-
тон стремится справиться с этой двойственностью, при-
вести ее определение к простой и строгой оппозиции —
добра и зла, внутреннего и внешнего, истинного и лож-
ного, сущности и явления. Достаточно прочитать моти-
вировочную часть обвинений царя, и мы найдем в ней
всю эту серию оппозиций. Причем эта серия организо-
КШ Фармация Платона
вана таким образом, что pharmacon — или, если угодно,
письмо — может лишь вращаться в ней по кругу: по ви-
димости, письмо благотворно для памяти, помогая ей
изнутри, благодаря своему собственному движению, по-
знавать истину. Но на самом деле письмо, по существу,
вредно, оно является внешним по отношению к памяти,
оно производит не науку, а мнение, не истину, а види-
мость. Pharmacon производит игру видимости, благода-
ря которой он выдает себя за истину, и т. д.
Однако, — в то время как в «Филебе» и «Протагоре»
pharmacon, причиняя боль, казался плохим, тогда как на
деле он благотворен, — в данном случае, в «Федре», как и
в «Тимее», он выдает себя за благодетельное лекарство,
тогда как на самом деле он вредоносен. Дурная двой-
ственность, следовательно, противопоставлена хорошей
двойственности, намерение обмануть — простой види-
мости. Случай письма — серьезный.
Недостаточно сказать, что письмо мыслится исходя
из таких-то или таких-то оппозиций, организованных
в серию. Платон мыслит его, старается понять и спра-
виться с ним исходя из оппозиции как таковой. Для того
чтобы все эти противоположные значения (добро/зло,
истинное/ложное, сущность/явление, внутри/снаружи
и т. д.) могли противопоставляться друг другу, необходи-
мо, чтобы каждый из этих терминов был попросту вне-
шен по отношению к другому, то есть необходимо, чтобы
одна из оппозиций (внутри/снаружи) уже была утверж-
дена в качестве матрицы любой возможной оппозиции.
Необходимо, чтобы один из элементов системы (или се-
рии) также имел значение и как общая возможность си-
стематичности или серийности. И если бы мы решились
думать, что такая вещь, как pharmacon или письмо, ни
в коей мере не подчиняясь подобным оппозициям, от-
крывает их возможность, не позволяя им связать себя;
если бы мы решились думать, что только исходя из та-
кой вещи, как письмо или pharmacon, может быть обо-
значено странное различие между «внутри» и «снару-
жи»; если бы, следовательно, мы решились думать, что
КВЗ Жак Деррида. Диссеминация
письмо как pharmacon не поддается указанию ему на его
место в том, что оно само делает уместным, не позволяет
подвести себя под понятия, которые определяются исхо-
дя из него, оставляет лишь свой фантом той логике, кото-
рая может стремиться к господству над ним <письмом>
лишь при условии, что она также будет действовать через
него, в этом случае нужно было бы приспособить к весьма
странным движениям то, что мы более не могли бы даже
называть логикой или дискурсом. Тем более что назван-
ное нами здесь фантомом не может отныне с прежней уве-
ренностью отличаться от истины, реальности, живой пло-
ти и т. д. Нужно признать, что на этот раз оставить свой
фантом — уже не значит что-то спасти.
Этого небольшого упражнения будет, несомненно,
достаточно, чтобы предупредить читателя: то объясне-
ние с Платоном, которое намечается в этом тексте, уже
отделено от общепризнанных моделей комментария, ге-
неалогического или структурного восстановления систе-
мы, которую оно собирается закрепить или опровергнуть,
подтвердить или «перевернуть», выполнить возвраще-
ние-к — Платону — или же «отправить его на прогулку»
в прежнем платонизирующем стиле kharein. Здесь речь
идет совсем о другом. Чтобы устранить сомнения, можно
перечитать предыдущий абзац. В определенном пункте
в нем выводятся из себя, получают определенный избы-
ток* все модели классического прочтения, а именно —
в том пункте, в каком все они принадлежат к внутренне-
му серии. При условии, что избыток не является простым
выходом за пределы серии, поскольку мы знаем, что по-
добный жест подпадал бы под определенную категорию
серии. Избыток (правда, можно ли его так назвать?) явля-
ется определенным смещением серии. И определенным из-
гибом — позже мы назовем его ремаркой — в серии оппо-
«...Выводятся из себя, получают определенный избыток...» — бук-
вально «sont excldles», что можно было бы перевести и как «оставле-
ны позади» или «превзойдены». Двойной перевод введен для демон-
страции связи со значимым термином «Гехсёз», «избыток», задейство-
ванном в разных моментах текста Деррида.
КВО Фармация Платона
зиции, даже в ее диалектике. Мы еще не можем указать на
его качества, назвать его, схватить его посредством про-
стого понятия, не упустив его тотчас. Это функциональ-
ное смещение, которое касается не столько понятийных
тождеств, сколько различий (и, как мы увидим, «симуляк-
ров»), — его нужно выполнить. Оно пишется. Следова-
тельно, сначала его нужно прочитать.
Тот факт, что, согласно царю и солнцу, письмо про-
изводит действия, обратные тем, которые ему приписы-
ваются, что pharmacon несет гибель, объясняется тем, что
он, как в «Тимее», — не отсюда. Он приходит издалека,
он является внешним или чужим — чужим живому, ко-
торое уместно внутри, чужим logos'y, которому он наме-
ревается помочь и который он собирается дополнить.
Отпечатки (typoi) на этот раз не вписываются, как в ги-
потезе «Теэтета» (191 и далее), в пустые промежутки воска
души, отвечая таким образом на самопроизвольные, ав-
тохтонные движения психической жизни. Зная, что он
может закрепить или оставить свои мысли снаружи,
сдать их на хранение физическим, пространственным и
поверхностным пометкам, которые наносят на плоскую
поверхность таблички, тот, кто овладеет tekhnu письма,
только им одним и ограничится. Он будет знать, что он
может отлучиться, а его typoi не перестанут быть здесь,
что он может забыть их, а они не оставят свою службу.
Они будут представлять его, даже если он их забудет,
они будут нести его слово, даже если его не будет ря-
дом, чтобы оживить его. Даже если он умрет — ведь
только pharmacon может обладать такой властью: несом-
ненно, над смертью, но и властью в сговоре с ней. Сле-
довательно, pharmacon и письмо — это всегда вопрос
жизни и смерти.
Можно ли, не допуская понятийного анахронизма и,
следовательно, серьезной ошибки в прочтении, сказать,
что typoi — это физические представления или заместите-
ли отсутствующего психического? Но скорее нам нужно
было бы решить, что письменные следы не относятся уже
и к порядку physis, поскольку они не являются живыми.
5-6705
Ш9 Жак Деррида. Диссеминация
Они не растут — так же как и то, что можно посеять, как
через мгновение заметит Сократ, при помощи тростинки
(kalamos). Они причиняют насилие естественной автоном-
ной организации тпётё, в которой physis и psych# не про-
тивопоставлены друг другу. Если письмо и принадлежит
physis, то, быть может, такому моменту physis, такому не-
обходимому движению, благодаря которому производство
ее явления любит, как говорит Гераклит, скрываться
в крипте*? «Криптограмма» сгущает в одном слове выра-
жение определенного плеоназма.
Если поверить царю на слово, именно эту жизнь па-
мяти pharmacon письма может загипнотизировать, со-
блазняя ее, заставляя ее выйти из себя и погружая ее
в сон в памятнике. Доверяя устойчивости и независимо-
сти этих типов** (typoi), память уснет, не будет больше
держаться, не будет больше держаться за собственную
выдержку, за присутствие в непосредственной близости
к истине сущего. Введенная в оцепенение своими стра-
жами, своими собственными знаками, типами, предназ-
наченными для сохранения знания и надзора за ним, она
даст Лете поглотить себя, завладеть собой забвению и
незнанию80. Здесь нельзя разделять истину и память.
Движение aletheia от начала и до конца является развер-
тыванием тпётё. Развертыванием живой памяти, памя-
ти как психической жизни, представляющейся самой
себе. Силы Леты расширяют одновременно регионы
смерти, не-истины и не-знания. Вот почему письмо — по
крайней мере, поскольку оно делает «души забывчивы-
ми» — поворачивает нас в сторону неодушевленного и
в сторону не-знания. Но мы не можем сказать, что его сущ-
ность просто и на самом деле смешивает его со смертью
и не-истиной. Ведь у письма нет собственной истины
«La production de son apparaitre aime & s’abriter en sa crypte». Рассмат-
риваемое изречение Гераклита (фрагмент 123 по Дильсу — Кранцу)
в русском переводе звучит так: «Природа любит прятаться» (Фрагмен-
ты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989, с. 192).
«Le type» — не только «тип», но и «отпечаток», «штамп», «оттиск», что
соответствует греческому значению термина.
IED Фармация Платона
или собственного значения, будь они позитивными или
негативными. Оно разыгрывается в симулякре. В своем
типе оно подражает памяти, знанию, истине и т. п. Вот
почему люди письма, на взгляд бога, представляются
в действительности не учеными (sophoi), а только вы-
дающими себя за ученых или так называемыми учены-
ми (doxosophoi).
Это определение софиста по Платону. Ведь весь этот
обвинительный список против письма в первую очередь
обвиняет софистику; его можно включить в возбужден-
ный Платоном против софистов незавершенный про-
цесс, получивший название философии. Человек, кото-
рый довольствуется письмом, который хвалится властью
и знаниями, которые оно ему дает, этот разоблаченный
Тамусом притворщик обладает всеми чертами софиста:
«подражатель того, кто знает», как говорится в «Софи-
сте» (miinet£s tou sophou, 268с). Тот, кого мы могли бы на-
звать графократом, как брат похож на софиста Гиппия —
того самого, что был пойман в «Гиппии меньшем»: он
хвалился, что все знает и все умеет. И в первую очередь
он лучше всех разбирается в мнемонике, или мнемотех-
нике, — и именно об этом, иронично притворяясь, Со-
крат дважды, в двух диалогах, как будто забывает вспом-
нить при перечислении достоинств Гиппия. Это как раз
та способность, которой Гиппий более всего дорожит:
СОКРАТ. Следовательно, и в астрономии один и тот
же человек говорит истину и обманывает?
ГИППИЙ. Это, кажется, верно.
СОКРАТ. Отлично, Гиппий, на досуге рассмотри
в том же порядке все науки, чтобы узнать, не так ли
обстоит дело со всеми ними. Ведь ты самый знающий
(sophotatos) из людей во всех них, причем в равной
мере. Разве я не слышал, как ты однажды на городской
площади, рядом с меняльной лавкой, хвалился, пере-
числяя и в самом деле завидное множество своих спо-
собностей? [...] Кроме того, ты заявил, что сочиняешь
поэмы, эпопеи, трагедии, дифирамбы, я ничего не
5
1Ш Жак Деррида. Диссеминация
забыл? Множество речей в прозе самого разного толка.
По поводу наук, о которых я только что говорил, ты
добавил, что разбираешься в них лучше всех осталь-
ных, так же как и в ритмах, музыкальных гармониях,
грамматике и во множестве других вещей, насколько
я припоминаю. Да! Я, кажется, забыл о мнемотехнике,
которую ты больше всего ценишь; а сколько еще, не-
сомненно, всего другого, чего я не могу припомнить!
Но вот что я хочу сказать: скажи мне, можешь ли ты
после того, что мы вместе установили, найти во всех
науках (столь многочисленных!), которыми ты владе-
ешь, — ив остальных тоже — хотя бы одну, в которой
тот, кто говорит истину, отличался бы от того, кто об-
манывает, — или же это один и тот же человек? Итак,
изучи все формы хитрости, все подвохи, все, что тебе
угодно, и ты, мой друг, не найдешь такой науки, пото-
му что ее нет. А если она есть, назови ее.
ГИППИЙ. Сейчас, Сократ, я не думаю, чтобы та-
кая наука была.
СОКРАТ. И никогда не подумаешь, по моему мне-
нию. Если же я говорю верно, вспомни, Гиппий,то, что
следует из нашего исследования.
ГИППИЙ. Не могу понять, Сократ, что ты име-
ешь в виду.
СОКРАТ. Видимо, ты не пользуешься своей мне-
мотехникой... (368а—d).
Итак, софист продает знаки и эмблемы науки — не
саму память (тпётё)* а только памятники {hypomnematd),
инвентари, архивы, цитаты, копии, рассказы, списки, за-
метки, снимки, хроники, генеалогии, ссылки. Не память,
а мемуары*. Так он отвечает на запросы богатых молодых
людей, они-то и расточают ему похвалы. Признав, что его
«Non pas la mdmoire, mais les md moi res*. «La mlmoire* — «память*, «les
mdmoires* — «мемуары». Поскольку «les mlmoires* — множествен-
ное число le mdmoire (не путать c la mdmoire!), данное предложение
можно было бы — выбирая из множества вариантов — перевести и
как «не память, а записки».
КШ Фармация Платона
молодые почитатели не могли не слышать его рассужде-
ний о самой прекрасной части его науки (Гиппий боль-
ший 285d), софист вынужден все рассказать Сократу:
СОКРАТ. Теперь скажи мне сам, каковы темы тех тво-
их речей, которые они слушают с удовольствием и
восторгами, поскольку сам я не могу догадаться.
ГИППИЙ. Это генеалогии, Сократ; генеалогии ге-
роев и людей; рассказы, относящиеся к основанию
городов в древности; вообще все, что относится к древ-
ности; я ведь из-за них вынужден был выучить и про-
работать все эти вопросы.
СОКРАТ. Тебе, Гиппий, повезло, что они не заинте-
ресовались списком архонтов, начиная с Солона, по-
скольку в противном случае тебе пришлось бы изряд-
но потрудиться над тем, чтобы уложить его в голову.
ГИППИЙ. Почему же, Сократ? Мне нужно всего
лишь раз услышать последовательность из пятидеся-
ти имен, чтобы все их запомнить.
СОКРАТ. И правда, я забыл, что мнемотехника —
твой конек... (285d—е).
На самом деле софист лишь притворяется, что знает
все, его «полиматия»* (Софист 232а) никогда не является
чем-то большим видимости. Следовательно, письмо, по-
скольку оно протягивает руку гипомнезии**, а не живой
памяти, оказывается столь же чуждым настоящей науке,
анамнезу в его собственном психическом движении, ис-
тине в процессе ее презентации (и презентации вообще),
диалектике. Письмо может только подражать. (Можно
было бы показать — здесь мы пропустим развертывание
этой темы, — что проблематика, которая сегодня — в том
числе и здесь — связывает письмо с вопросом истины —
и его постановкой — а также с вопросом мысли и речи,
подчиненных истине, по необходимости должна извлечь
* Полиматия — многознание (др.-грсч.).
* * Т. е. hypomndsis, припоминанию, которому служи г письмо
IEQ Жак Деррида. Диссеминация
на свет, ни в коей степени не ограничиваясь этим, поня-
тийные памятники, останки с поля боя, вешки, отмечаю-
щие места противостояния софистики и философии, как
и, в более общем смысле, все укрепления, возведенные
платонизмом. Во многих отношениях и с определенной
точки зрения — которая, однако, не охватывает все про-
странство — сегодня мы живем в канун платонизма. Но
его вполне естественно можно мыслить как следующий
день после гегельянства. В этом пункте philosophic epist£me
вовсе не «переворачиваются», им не «отказано», они не
«усмиряются» и т. д. во имя чего-то вроде письма; все
совсем наоборот. В соответствии с отношением, которое
философия назвала бы симулякром, в соответствии с не-
уловимым избытком истины они принимаются такими,
какие они есть, и в то же время они смещаются в совсем
иное пространство, в котором мы все еще сможем «под-
ражать абсолютному знанию» — но не более, — соглас-
но формулировке Батая, имя которого избавляет нас
здесь от необходимости приводить целый рой ссылок.)
Линия фронта, которая насильственно вписывается
между платонизмом и его самым близким другим, изве-
стным под видом софистики, не может быть единой, не-
прерывной, как будто бы протянутой между двумя го-
могенными участками пространства. Ее рисунок таков,
что — благодаря систематической нерешительности —
отдельные части и партии зачастую меняются друг с дру-
гом местами, подражают формам противника и заим-
ствуют его методы. Итак, такие взаимозамены возмож-
ны, и, если они должны фиксироваться на общей терри-
тории, разногласие, несомненно, продолжает оставаться
внутренним, оно оттесняет в абсолютную тень некоего
абсолютно другого софистики и платонизма, некий со-
противляющийся элемент, не имеющий общего знаме-
нателя со всей этой системой перестановок.
Вопреки той мысли, которую мы уже могли внушить
читателю, существуют не менее основательные причи-
ны решить, что обвинительный список против письма
не нацелен в первую очередь против софистики. Напро-
KES Фармация Платона
тив, кажется» что он ею пользуется. Упражнять память
вместо того» чтобы отдавать следы на откуп внешнего» —
разве это не классическая и наиболее настоятельная ре-
комендация софистов? Следовательно» Платон в данном
пункте присваивает» как он часто делал» аргументацию
софистов. И здесь же он пытается обратить ее против них.
Позже, после царского приговора, вся речь Сократа» каж-
дую петельку которой мы проанализируем отдельно» ока-
жется сотканной из схем и понятий» берущих начало
в софистике.
Итак, необходимо будет тщательно проследить этот
переход через границу. Понимая при этом» что данное
прочтение Платона ни в одном из своих моментов не
руководствуется лозунгом или приказом вроде «возвра-
щения-к-софистам».
Таким образом» в обоих случаях, на обеих сторонах,
письмо вызывает подозрения, при этом предписывает-
ся поддерживать тренированную бдительность памяти.
Следовательно, в софистике Платон метит не в обраще-
ние к памяти, а в заключающуюся в самом таком обра-
щении замену живой памяти вспомогательной, орга-
на — протезом» то есть в извращение, которое состоит
в замещении члена вещью, в данном случае — в замене
настоящего воспроизводства памяти механическим и
пассивным «выучиванием наизусть», свойственным на-
сильственной реанимации знания. Граница (между внут-
ренним и внешним, живым и не-живым) отделяет не
просто речь от письма, но память как (воспроизводя-
щее открытие присутствия и при-поминание как повто-
рение памятника: истину и ее знак» сущее и тип. «Внеш-
нее» начинается не с сопряжения того» что мы сегодня
называем психическим и физическим, а в той точке,
в которой тпётё, вместо того чтобы присутствовать для
себя в своей собственной жизни в форме движения
истины» позволяет укоротить себя архивом, позволяет
вытеснить себя знаком при-поминания и поминания.
Пространство письма» пространство как письмо откры-
вается в насильственном движении такого замещения,
IEQ Жак Деррида. Диссеминация
в различии между тпётё и hypomnesis. Внешнее уже
в работе памяти. Зло проникает в отношение памяти
к самой себе, в общую организацию мнезийной деятель-
ности. Память по своей сущности является конечной.
Платон признает это, приписывая ей жизнь. Как и лю-
бому другому живому организму (об этом речь шла
выше), он приписывает ей пределы. Действительно, па-
мять без предела вообще была бы не памятью, а беско-
нечностью присутствия для самого .себя. Память поэто-
му всегда заранее нуждается в знаках, чтобы вспомнить
то не-присутствующее, к которому она по необходимо-
сти имеет отношение. Об этом свидетельствует движе-
ние диалектики. Таким образом, память позволяет зара-
зить себя своим первым внешним, своим первым замес-
тителем — hypomnesis'ом. Но то, о чем мечтает* Пла-
тон, — это память без знака. То есть без дополнения.
Мпётё без hypormrfsis, без pharmacon'a. Причем в тот са-
мый момент и по той же самой причине, по которой он
называет сном смешение гипотетического и ангипоте-
тического** в порядке математической интеллигибель-
ности (Государство VII 533b).
Почему дополнение опасно? Оно не опасно само по
себе, если так можно сказать, не опасно в том, что в нем
могло бы представляться в качестве некоей вещи, присут-
ствующего-сущего. В подобном случае оно было бы как
раз успокаивающим. Но на деле дополнение не есть, оно
не есть сущее (on). Но оно также не является и простым
не-сущим (тё on). Его сдвиг уводит его от простой аль-
тернативы присутствия и отсутствия. В этом-то и заклю-
чается опасность. То, что всегда позволяет типу — оттис-
ку — сойти за оригинал. С того момента, как открыто
внешнее дополнения, его структура предполагает, что оно
само может «копироваться», «типизироваться», замещать-
ся своим двойником, так что дополнение дополнения
«Rfiver», то есть еще и «видит сны».
Ан гипотетическое — противоположность гипотетического. В русском
переводе указанного текста речь идет о «предположениях».
KEQ Фармация Платона
является возможным и необходимым. Необходимым по-
тому» что это движение не является просто чувственным
и «эмпирическим» привходящим событием» оно связано
с идеальностью eidos'a как возможности повторения тож-
дественного. А письмо представляется Платону (а за
ним — всей философии» которая как таковая создается
именно в этом жесте) в виде рокового увлечения удвоени-
ем: дополнение дополнения, означающее означающего»
представитель представителя. (Пока еще нет необходимо-
сти подрывать первый термин этой серии или, скорее» ее
первую структуру и показывать неустранимость самой
серии, хотя позже мы это и сделаем.) Само собой разуме-
ется» что структура и история фонетического письма сыг-
рали решающую роль в определении письма как удвое-
ния знака» как знака знака. Означающего фонетического
означающего. Тогда как последнее удерживается в одушев-
ленной среде» в живом присутствии тпётё или psychd, гра-
фическое означающее» которое воспроизводит его или
подражает ему, отдаляется от него на еще одну ступень,
отпадает от жизни» увлекает жизнь за пределы жизни и
погружает ее в сон в ее двойнике-оттиске. Здесь берут на-
чало два злодейства pharmacon'a: он погружает память
в оцепенение, а если он и бывает полезным, то не для
тпётё) а для hypomwsis. Вместо того чтобы пробуждать
жизнь в ее исходном виде» «лично», самое большее» на что
он способен» — это восстановить памятники. Яд» отупля-
ющий память, лекарство или восстановитель для ее вне-
шних знаков» для ее симптомов — со всеми коннотация-
ми, которые это слово несет в греческом языке: эмпири-
ческого» случайного и поверхностного события, в общем
случае — падения или обвала, отличающегося как при-
знак от того» к чему он отсылает. Твое письмо лечит лишь
симптом, как уже сказал царь, от него мы узнаём о не-
устранимом различии между сущностью симптома и
сущностью означаемого» как и о том, что письмо отно-
сится к порядку и внешнему пространству симптома.
Итак» хотя письмо внешне для (внутренней) памяти,
хотя гипомнезия не является памятью, письмо тревожит
ШЭ Жак Деррида. Диссеминация
и гипнотизирует память изнутри ее самой. Таково дей-
ствие pharmacon а. Однако, будучи внешним, письмо не
должно было бы касаться внутренней глубины или самой
целостности психической памяти. Тем не менее подобно
тому, как поступят Руссо и Соссюр, Платон, уступая од-
ной и той же общей необходимости и, во всяком случае,
не обнаруживая в ней другие отношения между внутрен-
ней глубиной и чужеродностью, сохраняет и внешность
письма, и его способность к злодейскому вторжению, ко-
торое в силе аффектировать или инфицировать самую
неприступную глубину. Pharmacon — это такое опасное
дополнение, которое посредством взлома проникает
именно в то, что хотело бы иметь возможность обойтись
без него и что одновременно позволяет прокладывать че-
рез себя трассу, насиловать себя, восполнять и замещать
себя тем самым следом, настоящее время* которого до-
полняется, исчезая в таком дополнении.
Если бы вместо того, чтобы обдумать структуру, ко-
торая делает возможным подобную дополнительность,
и, самое главное, обдумать ту редукцию, посредством ко-
торой «Платон-Руссо-Соссюр» тщетно пытаются усми-
рить эту структуру в некоем странном «рассуждении», мы
удовлетворились бы обнаружением его «логического про-
тиворечия», тогда в нем следовало бы признать знамени-
тое «рассуждение о котелке», то самое, о котором Фрейд
вспоминает в «Толковании сновидений», чтобы дать ил-
люстрацию логики сновидений. Человек, защищающий
свою правоту и желающий привести все возможные до-
воды, собирает противоречивые аргументы: 1. Котелок, ко-
торый я вам возвращаю, — новый. 2. Дыры в нем были
уже тогда, когда вы мне его одалживали. 3. Вы вообще
никогда не одалживали мне котелок. Здесь то же самое:
1. Письмо остается строго внешним и нижестоящим по
отношению к живой памяти и живой речи, которые, сле-
«Настоящее время» — «1е present»: Деррида развертывает стандарт-
ную для себя игру вокруг «prdsent» как «присутствующего» и как «на-
стоящего времени».
lEQ Фармация Платона
довательно, никак от него не страдают. 2. Оно вредно для
них» потому что оно их усыпляет и заражает их в их соб-
ственной жизни, которая без него оставалась бы в цело-
сти и сохранности. Если бы не письмо, в памяти и речи не
было бы дыр. 3. Впрочем, если мы обращаемся к гипомне-
зии и письму, то вовсе не из-за их собственной ценности,
а потому что живая память является конечной, потому
что дыры были в ней еще до того, как в ней оставило свои
следы письмо. Письмо никак не действует на память.
Итак, оппозиция тпётё и hypomnesis должна управ-
лять смыслом письма. Скоро нам станет ясно, что эта
оппозиция образует систему вместе со всеми важнейши-
ми структурными оппозициями платонизма. Следова-
тельно, на границе этих двух понятий разыгрывается не
что иное, как главное решение философии, то самое ре-
шение, посредством которого она учреждается, поддер-
живается и заключает в себя противоположное ей осно-
вание.
Граница между тпётё и hyponvwsis, между памятью
и ее дополнением, оказывается более чем тонкой, не про-
сто проницаемой. И с той и с другой стороны от этой
границы речь идет о повторении. Живая память повто-
ряет присутствие eidos'a, а истина также является воз-
можностью повторения в воспоминании. Истина откры-
вает eidos или ontos on, то есть то, что может быть сыми-
тировано, воспроизведено, повторено в своем тождестве.
Но в анамнезийном движении истины то, что повторяет-
ся, должно в повторении представляться в собственном
виде, как то, чем оно является. Истинное повторяется, оно
есть повторенное в повторении, представленное, присут-
ствующее в представлении. Оно не есть повторяющее по-
вторения, означающее означивания. Истинное — это при-
сутствие означаемого eidos'a.
Так же как диалектика, развертывание анамнеза, так
и софистика, развертывание гипомнеза, предполагает
возможность повторения. Но на этот раз оно оказыва-
ется на другой стороне, на другой поверхности, если так
можно сказать, повторения. И означивания. Повторяется
ШЭ Жак Деррида. Диссеминация
именно повторяющее, подражающее, означающее, пред-
ставляющее, при случае — в отсутствие самой вещи, кото-
рую они, как кажется, повторяют, причем без психическо-
го или мнезийного одушевления, без живого напряжения
диалектики. Итак, письмо должно оказаться данной оз-
начающему возможностью повторять только самого себя,
машинально, без души, которая живет, чтобы поддержи-
вать его и опекать его в его повторении, то есть повторять
так, что истина уже нигде не представляется. Следователь-
но, софистика, гипомнезия, письмо могут отделяться от
философии, диалектики, анамнеза и живого слова только
невидимым, почти ничтожным слоем некоего листа меж-
ду означающим и означаемым; листа — отметим эту зна-
чащую метафору, скорее даже заимствованную у означа-
ющей поверхности, поскольку лист, имеющий лицевую и
обратную стороны, первоначально определяется как по-
верхность и субстрат письма. Но в то же самое время не
является ли единство этого листа, системы этого разли-
чия означаемого и означающего, также и неразделимос-
тью софистики и философии? Несомненно, различие
между означаемым и означающим является ведущей схе-
мой, исходя из которой платонизм основывается и опре-
деляет свою противоположность софистике. Учреждаясь
таким образом, философия и диалектика определяют себя,
определяя своего другого.
У этого глубинного сговора через разобщенность
есть одно, первое среди выделяемых нами, следствие:
в «Федре» аргументация против письма может позаим-
ствовать все свои средства у Исократа или Алкидаманта
в тот момент, когда, «перемещая»81 их, она поворачивает
против софистики ее же оружие. Платон подражает под-
ражателям, чтобы восстановить истину того, чему они
подражают, то есть саму истину. В действительности
только истина как присутствие (ousia) присутствующе-
го (on) является здесь отличительным элементом. Но его
отличительная способность, которая управляет различи-
ем означаемого и означающего или, если угодно, управ-
ляется им, в любом случае остается системно неотдели-
KED Фармация Платона
мой от этого различия. Итак, такое отличение само бес-
конечно уточняется, в конечном счете всегда отделяя
лишь самость от себя, от своего совершенного и почти
неотличимого двойника. Это движение, которое целиком
и полностью производится в структуре двойственности
и обратимости pharmacon'a.
Как же диалектик симулирует того, кого он разобла-
чает как симулянта, как человека симулякра? Ведь и со-
фисты, подобно Платону, советовали упражнять память.
Но как мы видели, только для того, чтобы иметь возмож-
ность говорить, ничего не зная, чтобы цитировать без
вынесения суждения, без заботы об истине, чтобы давать
знаки. Или, скорее, чтобы их продавать. Из-за этой эконо-
мии знаков софисты, естественно, оказываются людьми
письма в тот самый момент, когда они от него отрекают-
ся. Но не оказывается ли благодаря последствиям некоего
симметричного обращения и Платон подобным челове-
ком письма? И* не только потому, что он писатель (этот
банальный аргумент мы уточним позже), так что он ни
фактически, ни теоретически не может объяснить, что же
такое диалектика, не обращаясь к письму; не только пото-
му, что он считает, что повторение тождественного необ-
ходимо в анамнезе, но и потому, что он считает необходи-
мым для такого повторения вписывание в тип, оттиск.
(Стоит заметить, что typos с равной значимостью отно-
сится как к графическому отпечатку, так и к eidos'y как
модели. Из множества примеров можно привести Госу-
дарство III 402d.) Такая необходимость первоначально
принадлежит порядку закона, она постулирована в «За-
конах». В этом случае непоколебимая и окаменевшая
тождественность письма не добавляется к означаемому
закону или предписанному правилу подобно немому и глу-
пому симулякру, напротив, она дает гарантию их посто-
янства и тождественности подобно бдительному стражу.
Письмо как еще один страж законов предоставляет нам
возможность столько раз, сколько будет нужно, возвра-
щаться на досуге к тому идеальному объекту, каковым яв-
ляется закон. Благодаря письму мы сможем внимательно
ИВ Жак Деррида. Диссеминация
изучать его» спрашивать его» справляться с ним, давать ему
слово» не искажая его тождественность. Здесь обнаружи-
вается изнанка, другая сторона речи Сократа из «Федра»,
использующая те же самые слова (а именно, boetheia):
КЛИНИЙ. Впрочем, разумное законодательство
(nomothesia) не могло бы найти более надежной поддер-
жки (boetheia), поскольку предписания (prostagmata) за-
кона» если их однажды доверить письму (ей grammasi
tethenta) будут, таким образом, в любые будущие вре-
мена готовы дать объяснение, поскольку они не будут
никак меняться. Поэтому, даже если поначалу их слож-
но будет понимать, не стоит пугаться этого, поскольку
даже не самый сообразительный человек сможет по не-
скольку раз возвращаться к ним, изучать их, а если они
полезны, их пространность ни в малейшей степени не
может оправдать то, что, по моему мнению, является
нечестивым для любого человека: уклоняться от того,
чтобы оказать этому доказательству всю помощь (to те
ои boethein toutois logo is), на которую он только спосо-
бен. (X 891а. Я по-прежнему привожу цитаты по авто-
ритетному переводу Диеса <Di£s>, вставляя, когда это
нам необходимо, значимые греческие слова, позволяя
читателю оценить обычные последствия перевода. Об
отношениях между не-писаными законами и записан-
ными законами смотри, в частности: VII 793b—-с.)
Выделенные греческие слова демонстрируют следую-
щее: простагмы (предписания) закона могут быть положе-
ны лишь в письме (еп grammasi tethenta). Номотезия явля-
ется энграмматической. Законодатель — это писатель.
А судья — читатель. Перейдем к книге XII: «Не должен от-
рывать от них свой взгляд тот судья, который стремится
чтить беспристрастную справедливость; он должен полу-
чить их запись (grammata), чтобы изучить их; в самом деле»
из всех наук той, которая в наибольшей степени возвыша-
ет ум, упражняющийся в ней, является наука законов, глав-
ное, чтобы законы были хорошо сделаны» (957с).
IKE] Фармация Платона
И обратно (или симметрично), риторам не нужно
было дожидаться Платона, чтобы перевести письмо в суж-
дение. Для Исократа82 и Алкидаманта logos также является
живым существом (zdon), богатство, напор, гибкость и
ловкость которого ограничиваются и снижаются трупным
окоченением письменного знака. Тип — оттиск — несов-
местим с той изобретательностью, которая требуется ме-
няющимися характеристиками фактической ситуации,
несовместим с тем, что в ней каждый раз оказывается уни-
кальным и незаменимым. Если присутствие — это общая
форма сущего, то присутствующее* — всегда другое. Итак,
запись, поскольку в своем типе она только повторяется и
остается тождественной себе, не может изгибаться в раз-
ных направлениях, не может приноравливаться к разли-
чию между настоящими моментами, к изменчивым, те-
кучим, мимолетным нуждам психогогии. Напротив, тот,
кто говорит, не подчиняется никакой предустановленной
схеме; он лучше ведет свои знаки; он присутствует здесь,
чтобы выделить их, повернуть их нужной стороной, задер-
жать их или бросить, согласуясь с потребностью момента,
природой искомого воздействия или контраргументом,
предложенным противником. Опекая свои знаки в их ра-
боте, тот, кто действует посредством голоса, с меньшими
усилиями проникает в душу ученика, дабы оказать на нее
действие, всегда остающееся уникальным, ориентируя ее в
нужном направлении так, как будто бы он находился в ней
самой. Следовательно, софисты упрекают письмо не в зло-
дейском насилии, а в предельном бессилии. Такому слепо-
му слуге, его неловким и колеблющимся движениям атти-
ческая школа (Горгий, Исократ, Алкидамант) противопос-
тавляет силу живого togos’a, великого господина, великой
силы: logos dynastes megas estin <ибо слово — величайший
владыка>, как говорит Горгий в «Похвале Елене». Династия
речи может быть сильнее династии письма, ее сила взлома
оказывается более глубокой, более проникающей, более
многообразной, более надежной. В письме укрывается лишь
* *Le present» — см. предыдущую сноску.
IDS Жак Деррида. Диссеминация
тот, кто умеет говорить не лучше первого встречного. Ал-
кидамант напоминает об этом в своем трактате «О тех, кто
пишет речи» и «О софистах». Письмо как утешение, ком-
пенсация, лекарство для тщедушной речи.
Несмотря на все эти сходства, у риторов осуждение
письма организуется не так, как в «Федре». Письмо прези-
рается не потому, что оно является pharmacon ом, который
подтачивает память и истину. Причина презрения в том,
что logos — это более действенный pharmacon. Так его назы-
вает Горгий. Будучи pharmacon ом, logos одновременно и плох
и хорош; первоначально он не управляется благом или ис-
тиной. Только внутри этой амбивалентности и этой таин-
ственной неопределенности logos'а и только после ее при-
знания Горгий определяет истину как мир, упорядоченную
структуру, сочлененность (kosmos) logos'а. Тем самым Гор-
гий, конечно, выполняет жест, предваряющий платонов-
ский. Но до такого определения мы находимся в амбива-
лентном и неопределенном пространстве pharmacon'a, того,
что в logos'е остается потенцией, что еще не является про-
зрачным языком знания. Если можно было бы описать эту
ситуацию в более поздних категориях, которые в действи-
тельности сами зависят от открытой таким образом исто-
рии, в категориях после решения, здесь следовало бы ска-
зать об «иррациональности» живого logos'a, о его способ-
ности околдовывать, о силе гипнотизирующего очарования,
о потенции алхимических преобразований, которые род-
нят его с колдовством и магией. Колдовство (goeteia), пси-
хогогия — вот «дела и поступки» речи, самого страшного
pharmacon'a. Горгий в своей «Похвале Елене» пользуется
этими словами, чтобы определить силу речи:
Восторги, внушенные богами посредством речей (aigar
entheoi dia logdn epoidai), обещают удовольствие, но
приводят к скорбям. Составляя единство с тем, что ду-
мает душа, сила восторга соблазняет ее (ethelxe), убеж-
дает и изменяет посредством очарования (goeteiai). Два
искусства, магии и очарования, были открыты, чтобы
запутать душу и обмануть мнение. [...] Что же, следова-
IES Фармация Платона
тельно, препятствует тому, чтобы какие-то чары (urnnos)
могли охватить Елену, которая уже не была молода,
с той же силой, что и действительные объятия?.. Речь,
та, что убеждает душу, та, в которой она убедила себя,
принуждает ее подчиниться услышанному и согласить-
ся с происходящим. Следовательно, виновен убеждаю-
щий, поскольку он принуждает, а убежденная, посколь-
ку она была принуждена словом, не отвечает за то зло,
которое ей приписывается!w
Убеждающее красноречие (peitho) — способность
взлома, очарования, внутреннего соблазна, невидимого
восхищения. Это сама сила похищения. Но показывая,
что Елена уступила силе речи (могла ли она сдаться бук-
ве?), оправдывая эту невинную жертву, Горгий осуждает
в logos'e его способность ко лжи. Он стремится «прида-
вая речи (toi logoi) разумность (logismon), одновременно
и покончить с обвинением оболганной женщины, и, до-
казывая, что ее хулители заблуждаются, то есть показы-
вая истину, положить конец невежеству».
Но logos — до того, как он будет подчинен, укрощен
kosmos'oM и порядком истины — остается неким неприру-
ченным животным, некоей двусмысленной животной при-
родой. Его магическая, «фармацевтическая» сила связана
с этой амбивалентностью, и это объясняет, почему она не
соответствует той ничтожной вещи, которой является речь:
И если ее убедила и обманула ее душу речь, нам уже
несложно на этом основании защитить ее и отменить
обвинение, заметив следующее: речь может обладать
великой силой, она, будучи чем-то ничтожным, что мы
вообще не можем увидеть, осуществляет божествен-
ные дела. Поскольку она может успокоить и умень-
шить горе, породить радость или усилить печаль...
«Убеждение, входящее в душу посредством речи» —
это и есть pharmacon, и именно этим словом пользуется
Горгий:
ШЗ Жак Деррида. Диссеминация
Сила речи (tou logou dynamis) имеет то же отношение
(ton auton dt logon) к состоянию души (pros ten tespsyches
taxin), что и состав лекарственных средств (ton pharma-
con taxis) к природе тел (ten ton somatdn physin). Как не-
которые лекарства выводят из тела некоторые жидко-
сти, каждое — соответствующее ему, одни останавли-
вают болезнь, а другие — жизнь, так и некоторые речи
печалят, а другие радуют, некоторые устрашают, а дру-
гие отупляют слушателей; иные же посредством лож-
ных убеждений одурманивают душу и заколдовывают
ее (ten psychen epharmakeusan kai exegoeteusan).
Попутно можно заметить, что отношение (аналогия)
между отношениями logos/душа и pharmacon/тело само
обозначено как logos. Название отношения то же, что и
название одного из элементов. Pharmacon включен в струк-
туру logo s'а. Такое включение является определенным под-
чинением и определенным решением.
5. Pharmakeus
Если бы нас на самом деле не мучила ни-
какая болезнь, нам больше не нужна
была бы никакая помощь и тогда стало
бы ясно, что именно зло делало благо
(tagathon) ценным и дорогим, посколь-
ку благо было лекарством от болезни, ко-
торой и было зло, но когда болезнь про-
шла, лекарство остается без применения
(ouden dei pharmacon). Так ли обстоит
дело с благом?..
— Похоже, — сказал он, — что исти-
на такова.
Лисид 220c-d
Но в таком случае, если logos уже является проника-
ющим вглубь дополнением, не оказывается ли и Сократ,
BED Фармация Платона
«тот, кто не пишет», мастером pharmacon а? И не похож
ли он поэтому на софиста настолько, что его легко с ним
спутать? Не похож ли он на pharmakeus'ai На мага, кол-
дуна, даже на отравителя? Или на тех самых обманщи-
ков, разоблаченных Горгием? Нити всех этих вероятных
заговоров распутать почти невозможно.
В диалогах Платона Сократ часто выглядит как phar-
makeus. Это имя дается Эроту Диотимой. Но в портрете
Эрота нельзя не распознать черты Сократа, как будто бы
Диотима, смотря на Сократа, предложила ему его порт-
рет (203с—е). Эрот, который не является ни богатым, ни
красивым, ни возвышенным, проводит свою жизнь в за-
нятиях философией (philosophon dia pantos tou biou)\ это
ужасный колдун (deinos goes), маг (pharmakeus), софист
(sophistes). Это индивид, для которого никакая «логика»
не могла бы придумать непротиворечивого определения,
индивид демонического вида, ни человек, ни бог, ни смер-
тный, ни бессмертный, ни живой, ни мертвый, он обла-
дает силой «направлять как всевозможные гадания {man-
tike pasa), так и искусство жрецов во всем, что касается
жертвоприношений и посвящений, а также заклинаний,
пророчеств и магии в целом (thusias-teletas-epodas-
manteian)» (202е).
В том же диалоге Агафон обвинял Сократа в том, что
тот хочет его околдовать, напустить на него порчу (Phar-
mattein bulei me, d Socrates, 194a). Портрет Эрота, выпол-
ненный Диотимой, размещен между этим обращением
и портретом Сократа, сделанным Алкивиадом.
Последний напоминает о том, что магия Сократа
действует посредством лишенного каких бы то ни было
приспособлений logos'a, посредством голоса без вспомо-
гательных средств, без флейты сатира Марсия:
«Но я же не играю на флейте!» — скажешь ты. Однако
у тебя есть флейта бесконечно более чудесная, нежели
у того, о ком мы говорим. Он, как тебе известно, нуж-
дался в инструментах, чтобы очаровывать людей си-
лой, которая исходила из его уст. [...] Его мелодии [...]
ШЭ Жак Деррида. Диссеминация
одни могут ввести в состояние одержимости, они по-
зволяют найти людей, которые испытывают потреб-
ность в богах и посвящениях, поскольку эти мелодии
сами божественны. Что же касается тебя, ты отлича-
ешься от него лишь тем, что производишь то же са-
мое действие без инструментов (апеи organon), речью
без сопровождения (psilois logoisM)... (215с—d).
От этого голоса, простого, без органа, можно защи-
титься лишь закрыв уши, подобно Одиссею, спасающе-
муся от сирен (216а).
Pharmacon Сократа также действует как яд, как от-
рава, как укус гадюки (217—218). Причем укус Сократа
хуже укуса гадюки, потому что след от него проникает
в душу. Во всяком случае, у речи Сократа и отравленного
напитка есть общее свойство — они проникают в самую
сокровенную глубину души и тела, чтобы завладеть ею.
Демоническая речь этого чудотворца увлекает к фило-
софской mania* и дионисийскому исступлению (218b).
А если оно не действует подобно яду гадюки, фармацев-
тическое колдовство Сократа вызывает что-то вроде нар-
коза, оно приводит к оцепенению и параличу в апории
подобно разряду электрического ската (пагкё):
МЕНОН. Сократ, еще до того как я тебя встретил, по
слухам я знал, что ты занимаешься только тем, что
везде находишь затруднения и заставляешь других
находить их. И сейчас, как я понимаю, каким-то неиз-
вестным мне колдовством и какими-то снадобьями
или заклинаниями ты так хорошо заколдовал меня, что
моя голова полна сомнений (goeteueis те kai pharmatteis
kai atekhnds katapadeis, oste meston aporias gegonenai
[Здесь мы цитируем перевод Бюде.]). Осмелюсь ска-
зать, если ты разрешишь мне небольшую шутку, что
мне ты и своим внешним видом (eido$)t и всем осталь-
В русском варианте рассматриваемого текста mania переводится как
«неистовство».
КЕЕ1 Фармация Платона
ным напоминаешь ту большую морскую рыбу, кото-
рую называют скатом (пагкё). Она погружает в оцепе-
нение любого, кто приблизится к ней и тронет ее; ты
заставил меня испытать подобное воздействие [ты
ввел меня в оцепенение]. Да-да, у меня оцепенели и
душа, и тело, я не могу тебе ничем ответить. [...] По-
верь мне, ты прав в том, что не стремишься отправить-
ся в плавание или путешествовать в другие земли:
в чужом городе, поступая подобным образом, ты был
бы очень скоро задержан как колдун (goes) (80а—Ь).
Сократ задержан как колдун (goes или pharmakeus) —
задержимся и мы.
Как обстоит дело с этой аналогией, которая посто-
янно соотносит сократовский pharmacon с софистиче-
ским pharmacon'oM, соизмеряя их друг с другом и застав-
ляя нас постоянно переходить от одного к другому? Как
различить их?
Ирония заключается не в том, чтобы разорвать софи-
стические чары, разложить магическую субстанцию или
силу посредством анализа и вопрошания. Она не заклю-
чается в развенчании шарлатанских гарантий некоего
pharmakeus"а, осуществляемом с неприступной позиции
прозрачного рассуждения и невинного logos'a. Сократов-
ская ирония сталкивает один pharmacon с другим pharma-
con ом. Или, скорее, она оборачивает силу pharmacon а про-
тив самой себя и выворачивает наизнанку его поверх-
ность85. Вступая таким образом в действие, назначив
встречу и путем классификации составив протокол того
факта, что собственное качество pharmacon а состоит в оп-
ределенной несогласованности, в некоторой несвойствен-
ности, в той самой несамотождественности, которая все-
гда дает ему возможность обернуться против себя.
В таком оборачивании речь идет о науке и смерти.
А они ссылаются друг на друга в одном и том же оттиске
структуры pharmacon'a — в уникальном названии того
напитка, которого нужно дождаться. Который нужно, как
это сделал Сократ, заслужить.
II
Сократовское использование pharmacon'a не может быть
нацелено на подтверждение силы pharmakeus9а. При слу-
чае техника взлома или парализации может даже повер-
нуться против него» хотя всегда необходимо, поступая
в соответствии с симптомологическим методом Ницше»
диагностировать экономию, инвестирование и отсрочен-
ную прибыль, скрытые за знаком чистого отказа, за бес-
корыстным закланием жертвы.
Нагота pharmacon'a, открытый голос (psilos logos) вво-
дит в диалог определенную форму господства» но лишь
при условии, что Сократ заявляет об отказе от своих при-
былей» от знания как власти, от страсти, от наслаждения.
Одним словом» при условии» что он согласен принять
смерть. Во всяком случае, смерть тела: именно этой це-
ной оплачиваются aletheia и epistemi, которые также яв-
ляются формами власти.
Страх смерти делает нас добычей всевозможных чар»
всевозможных таинственных средств. Pharmakeus дела-
ет ставку на этот страх. Поэтому, стремясь освободить
нас от него» сократовская фармация соответствует акту
экзорцизма» акту в том виде» как он может рассматри-
ваться и осуществляться со стороны бога» с божествен-
ной точки зрения. Задавшись вопросом о том, дал ли ка-
кой-либо бог людям средство» чтобы вызывать страх
KED Фармация Платона
(phobou pharmacon), Афинянин в «Законах» отвергает та-
кую гипотезу: «Вернемся к нашему законодателю, чтобы
сказать ему: “Законодатель, мы считаем, что никакой бог,
несомненно, не давал людям средство (pharmacon), чтобы
вызывать страх, и сами мы не изобретали ничего подоб-
ного — ведь среди наших гостей не сыщешь колдунов
(goetas); но существует ли напиток, чтобы вызывать от-
сутствие страха или чрезмерную и буйную храбрость, ко-
гда она не нужна, или же у нас какое-то другое мнение?”»
(649а).
Боится только ребенок внутри нас. Не будет шарла-
танов тогда, когда ребенок, который «сохраняется в нас»,
не будет больше бояться смерти как какого-то mormolu-
keion, пугала, которым пугают детей, буки. Каждый день
нужно будет многократно повторять заклинания, чтобы
освободить ребенка от этого фантазма: «Кебет: “Так по-
старайся же разубедить этого ребенка, чтобы он не боял-
ся смерти, словно какого-то буки!” — “Но тогда, — сказал
Сократ, — нужно будет каждый день повторять заклина-
ние, пока оно не освободит его!” — “Где же нам, Сократ,
найти опытного чародея (epodon) против таких страхов,
если, — сказал он, — ты собираешься нас оставить?”» (Фе-
дон 77е). В «Критоне» Сократ также отказывается усту-
пать толпе, которая старается «устрашить нас как детей,
умножая количество пугал, вереща об отравлениях, пыт-
ках, отъеме имущества» (46с).
Противозаклятие, экзорцизм, антидот — вот что та-
кое диалектика. На просьбу Кебета Сократ отвечает, что
нужно не только искать чародея, но и заниматься диалек-
тикой, что будет самым верным заклинанием: «...не тратьте
на поиски такого чародея ни средств, ни труда, сказав себе,
что нет ничего, на что вы могли бы с пользой потратить
свои средства! Вместо этого сами займитесь, ведь это необ-
ходимо, взаимным исследованием; поскольку, вероятно, вам
будет сложно найти людей, которые окажутся более вас
пригодны к выполнению этой задачи!» (Федон 78а—Ь).
Приниматься за взаимное исследование, пытаться по-
знать самого себя посредством увертки языка другого —
IEE1 Жак Деррида. Диссеминация
таково действие, которое Сократ, напоминая о том, что
переводчиком выражено как «Дельфийский завет» (tou
Delphicou grammatos), представляет Алкивиаду как анти-
дот (alexipharmacon), противоядие (Алкивиад 132b).
В тексте «Законов», цитату из которого мы уже привели,
после обоснования необходимости буквы, интроекция,
интериоризация grammata в душу судьи как в наиболее
надежное для них место также предписывается в каче-
стве антидота. Продолжим эту цитату:
Не должен отрывать от них свой взгляд тот судья, ко-
торый стремится чтить беспристрастную справед-
ливость; он должен получить их запись (grammata),
чтобы изучить их; в самом деле, из всех наук той, кото-
рая в наибольшей степени возвышает ум, упражняю-
щийся в ней, является наука законов, главное, чтобы
законы были хорошо сделаны; если у этой науки нет та-
кого достоинства, значит, мы напрасно дали божествен-
ному и восхитительному закону название, которое по-
хоже на название ума [ногио$/иои$]. С другой стороны,
все остальное, включая поэмы, создаваемые для хвалы
или порицания, простую прозу, записанные речи, сво-
бодные ежедневные беседы, в которых перемежаются
упрямая несговорчивость и зачастую слишком легко по-
лучаемое согласие, — все это должно найти свой самый
надежный пробный камень в записях законодателя (ta
tou nomothetou grammata). Именно в своей душе хороший
судья должен их хранить (a dei kektemenon еп auto) как
антидоты (alexipharmaca) против других речей-, толь-
ко так он может гарантировать свою правоту и спра-
ведливость города, давая честным людям защиту и воз-
можность соблюдения их прав, а нечестивцам — всю
возможную помощь, чтобы они отвратились от своего
безумия, от своего распутства, от своей трусости, од-
ним словом, от всей своей несправедливости, если толь-
ко их ошибки еще исправимы; что же касается тех, чьи
заблуждения вплетены в их судьбу, если подобным ду-
шам судьи назначат в качестве лекарства (iama) смерть,
ШЗ Фармация Платона
такие судьи или руководители судей, мы можем повто-
рить это с полной уверенностью, заслужат похвал всех
жителей города (XII 957с—958а. Курсив мой. — Ж. Д.).
Анамнезийная диалектика как повторение eidos'a не
может отличаться от знания себя и самообладания. А та-
кое знание и такое самообладание — это лучшие формы
экзорцизма, которые можно было бы противопоставить
детскому страху смерти и шарлатанству пугал. Философия
заключается в успокоении детей. То есть, как можно было
бы дополнить, ее задача в том, чтобы изгнать детей из дет-
ства, забыть ребенка или же — в обратном и в то же вре-
мя одновременном движении — с самого начала говорить
за него, научить его говорить, вести диалог, смещая его
страх или его желание.
Двигаясь по ткани «Политика» (280а и далее), мож-
но было бы поиграть с классификацией того вида защи-
ты (amunteriori), который получил название диалектики
и который оценивается в качестве противоядия. Среди
всех сущих, которые могут быть названы искусственны-
ми (произведенными или приобретенными), Чужеземец
выделяет средства действия (направленные на poiein) и
формы защиты (amunteria), позволяющие избежать
страдания или воздействия (tou те paskhein). Последние
можно разделить на 1) антидоты (alexipharmaca), кото-
рые могут быть либо человеческими, либо божествен-
ными (с этой точки зрения диалектика оказывается об-
щим бытием-в-качестве-антидота антидота, так что та-
кой антидот еще нельзя отнести к области божественного
или человеческого. Диалектика — это переход между дву-
мя такими областями), и 2) проблемы (problemata)* — не-
что, что мы имеем перед собой: препятствие, укрытие,
доспехи, щит, броню. Оставив путь антидотов, Чужезе-
мец осуществляет разделение problemata, которые могут
В русском варианте текста problemata переведено как «охранные сред-
ства». Поскольку Деррида делает кальку «проблемы», она оставлена и
в нашем переводе.
КШ Жак Деррида. Диссеминация
действовать как различные виды брони или как ограды.
Ограды (phragmata) — это обивка или защиты (alexeteria)
от холода и жары; защитами являются крыши и покры-
вала; покрывала могут быть растягиваемыми (как ков-
ры) или облегающими и т. д. Деление продолжается даль-
ше, проходя через различные техники производства об-
легающих покрывал, и достигает, наконец, тканной
одежды и искусства ткачества, оказывающегося пробле-
матическим искусством защиты. Итак, если придержи-
ваться буквального хода деления, это искусство исклю-
чает обращение к антидотам; следовательно, и обраще-
ние к тому типу антидота или обращенного pharmacon а,
который образует диалектика. Текст исключает диалек-
тику. Однако в будущем нам придется различить две тек-
стуры, когда речь будет идти о том, что диалектика так-
же является ткацким искусством, наукой symploke.
Диалектическое обращение pharmacon’a или опасно-
го дополнения делает, таким образом, смерть одновре-
менно приемлемой и ничтожной. Приемлемой, потому
что уничтоженной. Принимая ее с радостью, бессмертие
души, действующее как антитело, рассеивает ее пугаю-
щий фантазм. Обращенный pharmacon, распугивающий
пугала, является не чем иным, как началом epistemt, от-
крытостью истине как возможности повторения и под-
чинения «неистовства жизни» (epithumein гёп, Критон
53е) закону (невидимым благу, отцу, царю, главе, капита-
лу, солнцу). В «Критоне» сами законы предлагают «не
поддаваться этому неистовству жизни, которое проти-
вится самым важным законам».
Что же говорит Сократ, когда Кебет и Симмий про-
сят его найти для них чародея? Он призывает их к фило-
софскому диалогу и к его самому достойному объекту —
истине eidos’a как того, что тождественно себе, всегда
остается тождественным себе и, следовательно, простым,
не-составным (a-syntheton), неразложимым, неисказимым
(78с—е). Eidos — это то, что всегда может быть повторено
как то же самое. Идеальность и невидимость eidos'a — это
его способность-быть-повторенным. Следовательно,
IEE1 Фармация Платона
закон всегда является законом повторения, а повторение
всегда является подчинением закону. Наконец, смерть от-
крывает нас eidos’y как закону-повторению. В «Критоне»,
когда Законы получают персонификацию, они призыва-
ют Сократа принять одновременно и смерть и закон. Он
должен признать себя в качестве отпрыска, сына и пред-
ставителя (ekgonos) и даже раба (doulos) закона, который,
объединяя его отца и его мать, сделал возможным его
рождение. Поэтому проступок оказывается более тяж-
ким, когда он совершается против закона матери/роди-
ны, чем когда он ранит отца и мать (51с). Вот почему,
напоминают ему Законы, Сократ должен умереть в со-
ответствии с законом, в пределах города, из которого он
(почти) никогда не хотел уезжать:
Но разве твоя мудрость позволит тебе обмануться
в том, что почитать свою родину нужно больше, чем
мать, больше, чем отца, больше, чем всех предков, что
она более почитаема, более священна, что она, по мне-
нию богов и самых разумных людей, обладает более
высоким рангом. [...] Что же до проступка, разве не яв-
ляется он тяжким тогда, когда совершается против ма-
тери, против отца, и еще в большей степени — когда он
совершается против родины? [...] Сократ, есть веские
доказательства, что мы были тебе по нраву, мы и госу-
дарство (polls). Ты не стал бы держаться за этот город
(polls) более любого другого афинянина, если бы он не
подходил тебе больше всего, ведь ты был привязан
к нему до такой степени, что никогда не покидал его
ни для того, чтобы отправиться на праздник, исклю-
чая истмийский праздник, где ты был один раз, ни для
того, чтобы поехать в какой-нибудь чужой край, если
только это не был военный поход, — ты никогда не
отправлялся в путешествия, как делают другие люди,
не испытывал даже никакого желания познакомиться
с другим городом и с другими законами, будучи пол-
ностью удовлетворенным нами и этим государством
(polis), И в той мере,.в какой ты предпочитал нас всему
KES Жак Деррида. Диссеминация
остальному, ты открыто соглашался жить под нашей
властью (51а—52с).
Речь Сократа держится в постоянном местопребы-
вании, дома, под защитой — в родном месте, в городе,
в законе, под неотступным присмотром его языка. Этот
момент обретет свое полное значение позднее, когда
письмо будет описано как само блуждание и как безот-
ветная открытость любому нападению. Письмо нигде не
задерживается.
Eidos, истина, закон или episte тё> диалектика, фило-
софия — вот другие имена pharmacon а, который нужно
противопоставить pharmacony софистов и леденящему
страху смерти. Pharmakeus против pharmakeus'a, pharmacon
против pharmacon'a. Вот почему Сократ слышит Законы
так, как если бы своим голосом они подчиняли его неким
чарам инициации, следовательно, звуковым чарам или
скорее даже фонетическим — чарам, которые проникают
в душу и целиком захватывают ее. «Знай же, мой дорогой
Критон, что мне кажется, будто я слышу так, как посвя-
щенные во фригийские мистерии, по их словам, слышат
флейты; да, звук этих речей (ё ёкё teuton ton logon) шумит
у меня в ушах и мешает мне слышать что-то еще» (54d).
Фригийских жрецов и флейты Алкивиад упоминает в «Пи-
ре», чтобы дать представление о воздействии сократов-
ской речи: «Ведь когда я слышу его, сердце у меня бьется
сильнее, чем у фригийцев во время их исступлений» (215е).
Философский и эпистемный порядок logos'a как ан-
тидота, как силы, вписанной во всеобщую а-логическую эко-
номию pharmacon'a^ — мы не стремимся выдвинуть этот
тезис в качестве рискованного толкования платонизма.
Лучше прочитаем молитву, которая открывает «Критий»:
«Будем же просить бога о том, чтобы он даровал нам
самый совершенный настой (pharmacon teleotan), самый
лучший из всех настоев (ariston pharmacon) — знание
(epistemen)». Также можно было бы рассмотреть удиви-
тельную мизансцену первого акта в «Хармиде». Ее нуж-
но было бы изучить во всех подробностях. Сократ,
KEQ Фармация Платона
ослепленный красотой Хармида, сначала хочет обнажить
душу этого юноши, который любит философию. За Хар-
мидом отправляется человек, чтобы привести его к вра-
чу (Сократу), который может излечить его от головной
боли и слабости. Сократ и в самом деле соглашается
с тем, что он является обладателем лекарства от голов-
ной боли. Здесь, как и в «Федре», организуется памятная
нам сцена с «плащом» и очередным pharmacon"ом:
Затем, когда Критий сказал ему, что я владею лекар-
ством (о to pharmacon epistamenos), он бросил на меня
заставший меня врасплох взгляд и двинулся так, как
будто собирался меня о чем-то спросить, когда же все
присутствующие собрались вокруг нас, тогда-то, мой
друг, я заметил через прорезь в его плаще такую кра-
соту, которая воспламенила меня, и я потерял голову.
[...] Когда же он спросил меня, действительно ли мне
известно лекарство от головной боли (to tes kephales
pharmacon),.. я ответил ему, что это одно растение, ко-
торое нужно дополнить заклинанием (epod£ tis epi
to pharmacon причем присоединение заклинания к ле-
карству делает его весьма сильным, тогда как без него
оно не действует. «Я запишу, — сказал он мне, — за-
клинание под твою диктовку» (155d— 156а. См. также:
175—176)
Но нельзя лечить отдельно одну голову. Хорошие вра-
чи лечат «всё», ведь «только исцеляя всё вместе, им удает-
ся исцелить и вылечить больную часть». Затем, утверж-
дая, что он следует методу некоего фракийского врача,
«одного из тех учеников Залмоксида, которые, как расска-
зывают, умеют делать людей бессмертными», Сократ до-
казывает, что тело в целом может быть излечено лишь
в источнике всех своих благ и бед — в душе. «Но лекар-
ство души — это определенные заклинания (epodais tisiri).
Они заключаются в прекрасных речах, которые порожда-
ют в душе мудрость (sophrosunen). Когда же душа приоб-
ретет мудрость и будет сохранять ее, несложно будет
ШЭ Жак Деррида. Диссеминация
добиться здоровья и для головы, и для всего тела» (157а).
После этого осуществляется переход к сущности мудро-
сти, лучшему pharmacon у. самому сильному лекарству.
Итак, философия противопоставляет своему друго-
му это превращение снадобья в лекарство, яда в проти-
воядие. Такая операция не была бы возможной, если бы
pharmaco-logos не таил в себе подобный сговор противо-
положных значений и если бы pharmacon до всякого его
разграничения* вообще не был бы тем, что, выдавая себя
за лекарство, может искажать(ся) в яд, или тем, что, вы-
давая себя за яд, может оказаться лекарством, может
впоследствии оправдаться в своей истине лекарства.
«Сущность» pharmacon'a состоит в том, что, не имея ни-
какой устойчивой сущности, никакого «собственного»
качества, он не является некоей субстанцией, в каком бы
смысле (метафизическом, физическом, химическом или
алхимическом) ни понимать это слово. Pharmacon не об-
ладает никакой идеальной тождественностью, он явля-
ется анэйдетическим, и в первую очередь потому, что он
не является моноэйдетическим (в том смысле, в каком
«Федон» говорит об eidos'e как о чем-то простом, то-
пе ides). Эта «медицина» не является чем-то простым. Но
в то же время это не что-то составное, чувственное или
эмпирическое syntheton, причастное к нескольким про-
стым сущностям. Скорее, это предшествующая среда,
в которой осуществляется сама дифференциация, как и
оппозиция между eidos'oM и его другим; эта среда явля-
ется аналогичной по отношению к тому, что позже, по-
сле и в соответствии с философским решением, будет
закреплено за трансцендентальным воображением, тем
«скрытым в глубинах души искусством», которое не мо-
жет быть однозначно возведено ни к чувственному, ни
к умопостигаемому, ни к пассивности, ни к активности.
«Разграничение» — «discrimination»: Деррида обыгрывает несколько
значений этого термина, указывающего и на различение, отграниче-
ние, и на умаление, принижение. Таким образом, «дискриминация» —
это различение, организуемое как отнятие, уменьшение.
KEQ Фармация Платона
Среда-стихия* всегда будет аналогичной среде-смеси.
В каком-то смысле Платон продумал и даже сформули-
ровал такую амбивалентность. Но сделал он это мимо-
ходом, между прочим, украдкой, — высказавшись по по-
воду единства противоположностей в добродетели, а не
единства добродетели и ее противоположности:
ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Только в тех душах, которым благород-
ство врождено и в которых оно поддерживается обу-
чением, законы смогут ее породить**; именно для них
искусство создало это лекарство (pharmacon); оно, как
мы говорили, поистине божественная связь, которая
соединяет между собой части добродетели, сколь бы
отличны друг от друга они ни были по своей природе
и сколь бы противоположны ни могли быть их стрем-
ления (Политик 310а).
Такая фармацевтическая не-субстанция не поддается
абсолютно безопасному управлению — ни сама по себе,
в ее собственном бытии***, поскольку у нее его нет, ни
в своих эффектах, смысл которых может беспрестанно
меняться. Так, письмо, объявленное Тевтом лекарством,
благотворным снадобьем, впоследствии оборачивается и
разоблачается царем — а затем и Сократом, занимающим
место царя — как пагубная субстанция и настой забве-
ния. И наоборот, хотя этот пример и не так легко прочи-
тать, — цикута, напиток, который в «Федоне» фигуриру-
ет под одним-единственным названием pharmacon’a 87,
предлагается Сократу в качестве яда, однако под действи-
ем сократовского logos'а и философского доказательства
«Milieu-dldment» можно было бы перевести и как «среда-элемент», что
подчеркивало бы соединимость несоединимого в pharmacon*?. Дер-
рида систематически использует значения термина «dldment» («эле-
мент», «стихия», «начало», «буква»).
* * Имеется в виду, что законы смогут породить «связь» между людьми.
* ** «Ни сама по себе, в ее собственном бытии» — «ni dans son ctre»: двой-
ной перевод введен для сохранения «dtre» как «существа» и как «бы-
тия».
13d Жак Деррида. Диссеминация
«Федона» превращается в средство избавления, возмож-
ность спасения и в катарсическую силу. Цикута облада-
ет онтологическим действием: она ведет к созерцанию
eidos'a и к бессмертию души88. Сократ принимает ее как
она есть.
Нет ли в таком перекрестном сближении какой-то
игры или чего-то надуманного? Дело в том, что именно
игра наличествует в таком движении и этот хиазм по-
зволен и даже предписан амбивалентностью pharmacon а.
Не только полярной противоположностью добра/зла, но
и двойной причастностью к различенным областям
души и тела, невидимого и видимого. Такая двойная при-
частность, повторим это еще раз, не смешивает два пред-
варительно отделенных друг от друга элемента, она от-
сылает к тому же самому, которое не является тожде-
ственным, к общей стихии, к среде всякого возможного
рассоединения. Так, письмо дается в качестве чувствен-
ного, видимого, пространственного заместителя тпётё;
позднее оказывается, что оно вредно для невидимого
нутра души, для памяти и истины, что оно вводит их
в оцепенение. И наоборот, цикута дается как пагубный и
вводящий тело в оцепенение яд. Позднее же обнаружи-
вается, что она полезна для души, что она избавляет от
тела и пробуждает к истине eidos'a. И если pharmacon ам-
бивалентен, то лишь затем, следовательно, чтобы создать
среду, в которой противопоставляются противополож-
ности, чтобы создать движение и игру, которые соотно-
сят противоположности друг с другом, переворачивают
их и заставляют их переходить одну в другую (душа/тело,
добро/зло, внутри/снаружи, память/забвение, речь/пись-
мо и т. д.). Именно исходя из этой игры или этого движе-
ния противоположности или различия останавливают-
ся^ Платоном. Pharmacon — это движение, место и игра
(производство) различия. Он является различанием**
«Останавливаются» — «аггСсё5»:тоесть еще и «задерживаются», «аре-
стовываются».
Словом «различание» здесь переводится известный термин Деррида
ia differance.
ЕЕП Фармация Платона
различия. В запасе*, в своих неопределенных тенях и ка-
нунах, он держит различия и распри, которые разграни-
чение в будущем выделит в нем. Противоречия и пары
противопоставлений выделяются на фоне этого диакри-
тического и различающего запаса. Поэтому этот запас,
уже являющийся различающим и откладывающимся на
потом, чтобы «предшествовать» оппозиции различных
следствий, чтобы предшествовать различиям как след-
ствиям, не может быть точечной простотой coincidentia
oppositorum. Из этого фонда диалектика будет черпать
свои философемы. Pharmacon, который сам по себе во-
обще ничем не является, всегда превосходит их как их
бездонный фонд. Он всегда удерживается в запасе, хотя
у него нет ни глубины основания, ни какого-то предель-
ного места. Мы увидим, что он бесконечно обещает себя,
ускользает благодаря потайным дверям, блестящим как
зеркала и открывающимся в лабиринт. Этот запас спря-
танного на заднем фоне мы также называем фармацией.
6. Pharmacos
К правилу этой игры относится то, что она, как кажется,
останавливается. В этом случае pharmacon, который стар-
ше любых противоположностей, «схватывается» филосо-
фией, «платонизмом», конституирующимся в таком за-
хвате, как смесь двух чистых и гетерогенных терминов.
Слово pharmacon можно было бы использовать в качестве
направляющей нити для всей платоновской проблемати-
ки смесей. Pharmacon, схватываемый как смесь и нечис-
тота, действует при этом посредством взлома и нападе-
ния, он угрожает внутренней чистоте и внутренней без-
опасности. Такое определение носит всеобщий характер,
«Запас» — «rdserve»: reserve является одним из важнейших терминов
Деррида, не поддающихся однозначному переводу. Кроме ведущего
значения «осторожность», «запас», «откладывание», «оговорки», Дер-
рида задействует и такие значения, как «сдержанность», «скрытность»,
«заповедная область» и т. д.
6-6705
КОЕЭ Жак Деррида. Диссеминация
оно подтверждается даже в том случае, когда подобные
способности pharmacon'a получают положительную оцен-
ку, — то есть в том случае, когда сократовская ирония как
хорошее лекарство начинает тревожить замкнутую орга-
низацию самодовольства. Чистота внутреннего поэтому
может быть восстановлена лишь путем обвинения внеш-
него как некоего дополнения, несущественного и в то же
время пагубного для сущности, как некоего излишка, ко-
торый никогда не должен был бы добавляться к нетрону-
той полноте внутреннего. Следовательно, возвращение
внутренней чистоты должно восстановить, рассказать
наизусть — а это и есть суть мифа, суть, например, ми-
фологии некоего logos'а, рассказывающего о своем проис-
хождении и восходящего к кануну любого фармацевти-
ческого нападения — то, к чему pharmacon не должен был
бы добавляться, тогда как на деле начинает буквально па-
разитировать на нем: буква закрепляется внутри живого
организма, чтобы отобрать у него его питание и смешать
чистую звуковую форму голоса. Таковы отношения меж-
ду дополнением письма и logos-zdon. Чтобы излечить по-
следнего и изгнать паразита, нужно, следовательно, вер-
нуть внешнее на его место. Внешнее нужно держать сна-
ружи. А это и есть первоначальный жест самой «логики»,
здравого «смысла», который обязательно связан с само-
тождественностью того, что есть: сущее есть то, что оно
есть, внешнее — это внешнее, а внутреннее ~ это внут-
реннее. Следовательно, письмо должно снова стать тем,
чем оно никогда не должно было бы переставать быть, —
вспомогательным инструментом, непредвиденным случа-
ем, избытком.
Итак, лечение посредством logos'a, экзорцизм, катар-
сис будут уничтожать избыток. Но поскольку само это
уничтожение обладает терапевтической природой, оно
должно призвать к тому, что оно, собственно, и изгоня-
ет, к тому излишку, который оно выставляет наружу.
Необходимо, чтобы фармацевтическая операция исклю-
чалась из самой себя.
Как это сказать? Или написать?
ESI Фармация Платона
Платон не демонстрирует в явном виде ту цепочку
значений, которую мы пытаемся постепенно высвобо-
дить. Мы не могли бы сказать, в какой степени он рабо-
тает с ней намеренно или сознательно — ив какой он
просто подчиняется тем ограничениям, которые накла-
дываются на его дискурс благодаря «языку», если бы здесь
и имело смысл задаваться подобным вопросом, который
мы как раз не одобряем. Слово «язык», поскольку оно
связано со всем тем, что здесь мы пытаемся поставить
под вопрос, не может оказать нам никакой существен-
ной помощи, так что выполнение ограничений языка еще
не исключает того, что Платон мог с ними играть, даже
если эта игра им не задумывалась и не была намеренной.
Ведь все эти текстуальные «операции» осуществляются
в чулане, в сумерках аптечной лавки, до установления
оппозиций сознания и бессознательного, свободы и не-
обходимости, произвольного и непроизвольного, речи и
языка.
Кажется, что Платон никак не подчеркивает значи-
мость слова pharmacon в тот самый момент, когда дей-
ствие письма превращается из положительного в отри-
цательное, когда под взглядом царя яд обнаруживается
как истина лекарства. Он не говорит, что pharmacon яв-
ляется местом, обеспечением и оператором такого пре-
вращения. Далее мы рассмотрим случай, когда Платон,
специально занявшись сравнением письма и живописи,
опять же не будет в явной форме связывать осуждение
живописи с тем фактом, что в другом тексте он называет
ее pharmacon'oM. Дело в том, что в греческом языке
pharmacon означает еще и живопись — не естественный
цвет, а искусственную окраску, химическую краску, ко-
торая имитирует цвета, данные в вещах.
Тем не менее все эти значения и, если говорить более
точно, все эти слова обнаружимы в тексте «Платона».
Сама цепочка остается скрытой, автор, если он вообще
существует, не может оценить ее полностью. Однако
можно сказать, что все эти «фармацевтические» сло-
ва, которые мы выделили, действительно «обнаружили
6*
КЕО Жак Деррида. Диссеминация
присутствие»*, если так можно выразиться, в текстах
Платона. Но есть и другое слово, которое, насколько нам
известно, никогда не использовалось им. Если мы соеди-
ним «го с серией pharmakeia — pharmacon — pharmakeus,
мы не сможем больше довольствоваться восстановлени-
ем цепочки, которая, оставаясь тайной для самого Пла-
тона, будучи незамеченной им, тем не менее проходила
через определимые точки присутствия в тексте. Слово,
к рассмотрению которого мы обращаемся, присутствуя
в языке, отсылая к опыту греческой культуры, современ-
ником которого был и Платон, в то же время, как пред-
ставляется, отсутствует в самом «платоновском тексте».
Но что могут значить здесь термины «присутствует»
или «отсутствует»? Как и любой другой текст, текст «Пла-
тона» не мог бы существовать без отношения, пусть и вир-
туального, динамичного, косвенного, ко всем словам, со-
ставляющим систему греческого языка. Силы ассоциации,
действуя с разной напряженностью, на разных расстояни-
ях и разными путями, соединяют слова, «действительно
присутствующие» в дискурсе, со всеми другими словами
лексической системы, независимо от того, обнаруживают-
ся ли они как «слова», то есть относительные вербальные
единицы, в том или ином дискурсе. Эти силы взаимодей-
ствуют со всей совокупностью лексики посредством син-
таксической игры и, по крайней мере, посредством тех со-
ставных единиц, из которых складывается то, что образует
так называемое слово. Например, «pharmacon» уже состоит
в связи не только со всеми словами из того же самого гнез-
да слов, но и со всеми значениями, образованными на
основе того же самого корня. Текстуальная цепочка, кото-
рую нам теперь следует выявить, не является поэтому по-
просту «внутренней» по отношению к платоновской лек-
сике. Но, выходя за пределы этой лексики, мы хотим не
столько нарушить — законно или по праву — какие-то
пределы, сколько навлечь подозрение на само право эти пре-
Деррида использует оборот «faire acte de presence» — «явиться из веж-
ливости» (буквальное значение — «сделать акт присутствия»).
IEE1 Фармация Платона
делы устанавливать. Одним словом, мы не считаем, что су-
ществует строго определенный платоновский текст, замк-
нутый сам на себя, обладающий своим внутренним и сво-
им внешним. Конечно, это еще не означает, что он расплы-
вается во все стороны и что его можно было бы полностью
растворить в недифференцированной общности его сти-
хии. Однако при условии, что связи определяются строго
и осторожно, мы должны получить возможность высво-
бодить скрытые силы притяжения, связывающие присут-
ствующее в тексте Платона слово со словом, отсутствую-
щим в нем. Подобная сила, если принять во внимание си-
стему языка, не могла не воздействовать на письмо и на
чтение этого текста. При рассмотрении такого воздействия
упомянутое «присутствие» той относительной вербальной
единицы, которой является слово, не являясь, конечно, аб-
солютной случайностью, не заслуживает никакого внима-
ния, то есть не образует предельный критерий исследова-
ния и конечную точку отсчета.
Предлагаемый нами поворот, с другой стороны, тем
более прост и тем более законен, что он ведет к тому сло-
ву, которое, если учесть одну из его сторон, можно рас-
сматривать в качестве синонима и даже рмонима слова,
которым Платон «действительно» пользовался. Речь идет
о слове pharmacos (колдун, маг, отравитель), синониме
pharmakeus'a (используемого Платоном), оригинальное
свойство которого в том, что это слово в греческой культу-
ре сверхдетерминировано, дополнительно нагружено еще
одной функцией. Другой — причем ужасной — ролью.
Фигуру pharmacos'a сравнивали с козлом отпущения.
Зло и внешнее, исключение зла, его исключение из тела го-
рода (и за его пределы) — вот два важнейших значения этой
фигуры и соответствующей ей ритуальной практики.
Гарпократион описывает их так, комментируя слово
pharmacos*9: «В Афинах изгоняли двух человек, чтобы
очистить город. Это случалось в фаргелион, изгонялись
один мужчина и одна женщина». В общем, pharmacoi*
* «Pharmacoi» — множественное число слова «pharmacos».
ШЭ Жак Деррида. Диссеминация
обрекались на смерть. Но, как представляется, она не
была главной целью действия90. Чаще всего смерть на-
ступала как вторичное следствие чрезмерного избиения
плетьми. В первую очередь избиению подвергались по-
ловые органы91. Pharmacoi уже были отрезаны от про-
странства города, а удары92 должны были изгнать или
оттянуть зло за пределы его тела. Сжигали ли их затем
для очищения (katharmos)l В своей «Тысяче историй»,
ссылаясь на некоторые фрагменты сатирического поэта
Гиппонакта, Цец так описывает церемонию: «(Ритуал)
pharmacos был одной из древних практик очищения. Если
город страдал от какого-то бедствия, выражающего гнев
богов, от голода, чумы или какого-то иного несчастья, они
брали для жертвоприношения самого некрасивого че-
ловека, чтобы очиститься и как бы найти лекарство от
страданий города. К жертвоприношению они приступа-
ли в определенном месте, своими руками давали [pharma-
cos'у] сыр, ячменный пирог и фиги, затем его семь раз
били луковицами порея, дикими фигами и другими не-
окультуренными растениями. В конце концов его сжи-
гали на ветвях дикорастущих деревьев, а пепел развеи-
вали по морю и по ветру, чтобы, как я сказал, очистить
город от страданий».
Итак, собственное тело города восстанавливает свое
единство, замыкается на безопасности своей неприступ-
ной глубины, возвращает себе слово, которое связывает
его с ним самим в пределах агоры, насильственно изго-
няя со своей территории представителя угрозы или внеш-
ней агрессии. Такой представитель, несомненно, изобра-
жает инаковость зла, которое начинает аффектировать и
инфицировать внутреннее, непредвиденно вторгаясь
в него. Но в то же время представитель внешнего созда-
ется, регулярно ставится на свое место сообществом, из-
бирается, если так можно сказать, в его недрах, опекается
им, вскармливается и т. д. Паразиты, как это обычно слу-
чается, были приручены живым организмом, который
дает им кров за свой собственный счет. «Афиняне посто-
янно содержали за счет государства определенное число
1Ш Фармация Платона
падших и бесполезных индивидуумов; а когда город стал-
кивался с таким несчастьем, как чума, засуха или голод,
двух людей из этой группы отверженных приносили
в жертву как козлов отпущения»93.
Итак, церемония pharmacos'a разыгрывается на гра-
нице внутреннего и внешнего, причем ее функция как раз
и заключается в том, чтобы постоянно проводить и под-
тверждать эту границу. Intra muros/extra muros <в стенах /
вне стен (лдги.)>. Как начало различия и разделения,
pharmacos представляет интроецированное и проециро-
ванное зло. Поскольку он лечит, он благодетелен — на деле
его окружают заботами, поскольку же он воплощает силы
зла, он способен к злодеяниям — и поэтому его опасают-
ся, его окружают предохранительными мерами. Он тре-
вожит и успокаивает. Он освящен и проклят. Эта конъ-
юнкция, coincidentia oppositorum, постоянно распадается
благодаря переходу, решению, кризису. Исторжение зла и
безумия восстанавливает sophrosune <здравый смысл, рас-
судительность>.
Такое исторжение имело место в критические момен-
ты (засуха, чума, голод). Тогда решение повторялось. Но
овладение критической точкой требует, чтобы неожидан-
ность была предусмотрена — правилом, законом, регу-
лярностью повторения, заранее назначенной датой. Ри-
туальная практика, имевшая место в Абдере, Фракии,
Массалии и т. д., воспроизводилась каждый год в Афи-
нах. И в V веке Аристофан и Лисий дают ясные указания
на этот счет. Причем Платон не мог об этом не знать.
Замечательна дата церемонии — шестое фаргелио-
на. Это день, когда родился тот, кого обрекли на смерть
способом, похожим на то, чему подвергали pharmacos'a,
изгоняемого изнутри, и не только потому, что непосред-
ственной причиной этой смерти стал pharmacon, то есть
это день рождения Сократа.
Сократ, в диалогах Платона часто именуемый phar-
tnakeus'oM, Сократ, который в ответ на брошенное про-
тив него обвинение (graphd) отказался защищаться, от-
клонил логографическое подношение Лисия, «самого
IE3 Жак Деррида. Диссеминация
ловкого из современных писателей», предложившего ему
подготовить оправдательную речь в письменном виде,
Сократ родился в шестой день фаргелиона. Об этом сви-
детельствует Диоген Лаэртский: «Он родился шестого
фаргелиона, когда афиняне очищали город».
7. Ингредиенты:
румяна, фантазм, праздник
Ритуал pharmacos'a: зло и смерть, повторение и ис-
ключение.
Сократ объединяет в систему все эти пункты обви-
нения против pharmacon а письма в тот самый момент,
когда он берет на себя ответственность за божественную,
царскую, отеческую и солнечную речь, основополагаю-
щий приговор Тамуса, чтобы поддержать, объяснить и
истолковать его. В этой речи уже были предсказаны худ-
шие из последствий письма. Не будучи доказательной,
эта речь не высказывала какого-то знания, она высказы-
вала сама себя. Объявляя, она предсказывала и решала.
Это, по словам Сократа (275с), manteia*. И речь Сократа
отныне будет стремиться перевести это manteia в фило-
софию, перевести этот капитал в наличность, извлечь из
него выгоду, дать отчет о нем, предоставить счета и
объяснения, признать правоту этого базилео-патро-ге-
лио-теологического** сказа. Преобразовать mythos в logos.
Каким может быть первый упрек, адресуемый презри-
тельным богом тому, что, как представляется, ускользает
от его действительной власти? Само собой разумеется, это
недейственность, непроизводительность, одна лишь вне-
шняя производительность, которая просто повторяет
то, что поистине уже присутствует. Вот почему — и это
первый аргумент Сократа — письмо не является хоро-
шим tekhnUy то есть искусством, способным порождать,
Manteia в русском переводе передано как «прорицание».
«Царско-отеческо-солнечно-богословского».
КЕШ Фармация Платона
производить, проявлять — ясное, достоверное, устойчи-
вое (saphes kai bebaion). Другими словами, саму aletheia
eidos'a, истину сущего в его подлинном облике, в его
«идее», в его нечувственной видимости, в его умопости-
гаемой невидимости. Истину того, что есть — письмо
буквально ничего в ней не видит*. Скорее, оно должно
ослеплять(ся) в ней. Так что тот, кто думал бы, будто по-
средством графемы он произвел истину, лишь доказал
бы свою несусветную глупость (eutheia). Если сократиче-
ский мудрец знает, что он ничего не знает, подобный глу-
пец не знает, что он уже знает — то, что, как он считает, он
узнал из письма и что он просто перекладывает себе
в память посредством отпечатков. Он не вспоминает бла-
годаря анамнезу eidos, созерцаемый до падения души
в тело, но гипомнезийным образом припоминает то, о чем
у него уже есть мнезийное знание. Письменный logos —
лишь вспомогательное средство для того, кто уже знает
(ton eidota), как припоминать (hypomnesai) вещи, о кото-
рых рассказывает письмо (ta gegrammena) (275d). Следова-
тельно, письмо вступает в игру лишь в тот момент, когда
обладатель определенного знания уже располагает озна-
чаемыми, которые письмо может лишь зафиксировать.
Таким образом, Сократ поддерживает главную — и ре-
шающую — оппозицию, которая определяла всю структу-
ру manteia Тамуса: mneme/hypomnesis. Хитрую оппозицию
знания как памяти и не-знания как припоминания, оппо-
зицию двух форм и двух моментов повторения. Повторе-
ния истины (aletheia), которое показывает и представляет
eidos, и повторения смерти и забвения (lethd), которое скры-
вает и отвращает, поскольку оно представляет не eidos,
а повторно представляет само представление, повторяет по-
вторение94.
Гипомнезия, на основе которой здесь определяется и
мыслится письмо, не только не совпадает с памятью, но
«Ничего в ней не видит» — «п*а rien й у voir»: Деррида обыгрывает
оборот n’avoir rien й voir, «не иметь отношения», «не иметь дела», бук-
вально значащий «не иметь ничего, что видеть».
Ш!1 Жак Деррида. Диссеминация
и конструируется лишь как что-то зависящее от памяти.
Следовательно — от представления истины. В тот момент,
когда письмо вызывают на прием к отцовской инстанции,
оно определятся внутри некоей проблематики знания-
памяти; таким образом, оно лишается всех своих атрибу-
тов и всех способностей самостоятельно размечать путь*.
Сила его разметки обрезается не самим повторением,
а злом повторения, тем, что в повторении раздваивается,
удваивается, повторяет повторение и — поступая так и
отделяясь от «хорошего» повторения (того, что представ-
ляет и собирает сущее в живой памяти) — всегда может,
будучи предоставленным самому себе, больше не повто-
риться. Письмо, таким образом, оказывается чистым по-
вторением, то есть мертвым повторением, которое всегда
может ничего не повторить или же потерять способность
спонтанно повторить само себя — другими словами, оно
может повторить лишь само себя, пустое и забытое всеми
повторение.
Следовательно, такое чистое повторение, такое «дур-
ное» переиздание было бы тавтологическим. Письмен-
ные logoi характеризуются так: «Можно было бы поду-
мать, что какая-то мысль оживляет то, что они говорят;
но, если обратиться к ним с речью, пытаясь прояснить
для себя сказанное ими, обнаружится, что они доволь-
ствуются обозначением одной постоянной вещи, всегда
одной и той же (еп ti semainei топоп tauton aei)» (275d).
Чистое повторение, абсолютное повторение себя, одна-
ко же такого «себя», которое уже является отсылкой и
повторением, повторение означающего, ничтожное и
уничтожающее повторение, повторение смерти — все это
одно. Письмо не является живым повторением живого.
А это роднит его с живописью. Точно так же как «Го-
сударство» при осуждении подражательных искусств
сближает живопись и поэзию, как «Поэтика» Аристотеля
«Способности размечать путь» — «les pouvoirs de frayage». Le frayage
(прокладывание пути, разметка пути, провешивание) — термин, у Дер-
рида близкий к la dijferance, продуктивной игре различения.
ЕШ Фармация Платона
позже будет объединять их в одном понятии mimesis'a,
в нашем случае Сократ сравнивает написанное с порт-
ретом, graph£me с zograph£me. «В самом деле, ужасным
в письме я, Федр, считаю то, что оно и вправду так сильно
напоминает живопись {homoion zographia). А ведь вещи,
порождаемые ею, похожи на живые существа {os zonta),
но если задать им какой-нибудь вопрос, они будут безмол-
вствовать, сохраняя свое достоинство {semnos)l Так же об-
стоит дело и с письменами...» (275d).
Неспособность ответить за себя, безответственность
письма. Сократ подчеркивает ее и в «Протагоре». Пло-
хие политические ораторы, которые не могут ответить
на «дополнительный вопрос», «подобны книгам, которые
не умеют ни отвечать, ни спрашивать» (329а). Вот поче-
му, как говорится в «Письме VII», «ни один разумный
человек не рискнет доверить свои мысли этому посред-
нику, особенно если он обездвижен так, как письменные
знаки» (343а; см. также: Законы XII 968d).
Каковы же те черты сходства, которые, скрываясь
в глубине высказываний Сократа, делают из письма по-
добие живописи? На каком горизонте обнаруживается
их общее молчание, эта упрямая немота, эта маска тор-
жественной и неприступной серьезности, которая столь
слабо скрывает неизлечимую афазию, непробиваемую
глухоту, закрытость, отвечающую на запрос logos'a неис-
правимым слабоумием? Письмо и живопись вызывают-
ся вместе, они должны предстать перед судом logos'a со
связанными руками именно потому, что они оба оказы-
ваются допрашиваемыми: допрашиваемыми в качестве
предполагаемых представителей речи, в качестве способ-
ных к речи, в качестве обладателей или даже укрывате-
лей слов, которые мы хотим у них вырвать. Поскольку
они не показывают себя на высоте вербального процес-
са, обнаруживают свою неспособность достойно пред-
ставлять живую речь, быть ее толкователем или носите-
лем, поддерживать беседу, отвечать на устные вопросы,
они сразу же обесцениваются. Это лишь статуэтки, мас-
ки, симулякры.
Ш1 Жак Деррида. Диссеминация
Не будем забывать о том, что живопись передается
здесь термином «зография»*, обозначающим письмен-
ное представление, рисунок живого, портрет одушевлен-
ной модели. Модель такой живописи — это представля-
ющая живопись, соответствующая живой модели. Сло-
во zographdma часто даже сокращается до gramma (Кратил
430е и 431с). Так же и письмо должно было бы изобра-
жать живую речь. Следовательно, оно похоже на живо-
пись в той мере, в какой оно во всей этой платоновской
проблематике (если уж называть одним словом это раз-
ностороннее и фундаментальное определение) мыслит-
ся исходя из той частной модели, каковой является фо-
нетическое письмо, безраздельно царствовавшее в гре-
ческой культуре. Знаки письма функционировали в той
системе, в которой они должны были представлять зна-
ки голоса. Знаки знаков.
Таким образом, так же, как модель живописи или
письма — это верность модели, сходство живописи и
письма — это само сходство, то есть операция письма
и операция живописи прежде всего должны быть нацеле-
ны на подобие. И письмо и живопись оцениваются в ка-
честве миметических техник, поскольку само искусство
первоначально определятся как mimesis.
Несмотря на это сходство сходств, случай письма —
более серьезный. Подобно любому подражательному ис-
кусству живопись и поэзия, конечно, удалены от исти-
ны (Государство X 603b). Но у них есть смягчающие об-
стоятельства. Поэзия подражает, но голосу и голосом.
Живопись, как и скульптура, хранит молчание, но и ее
модель ничего не говорит. Живопись и скульптура — это
искусство молчания. Сократу хорошо это известно, ведь
он сын скульптора и сначала хотел заняться ремеслом сво-
его отца. Он знает об этом и говорит об этом в «Горгии»
Французское слово la pein t иге У «живопись», в отличие от русского, не
соответствует по своей этимологии и составу греческой «зографии»
(«живописание»). Lapeinture имеет один корень — тот же, что и в сло-
вах peindre («красить», «окрашивать», «рисовать», «румянить») и /е
peintre («художник»).
НЕ! Фармация Платона
(450с—d). Молчание живописного или скульптурного
пространства является» если так можно выразиться, нор-
мальным. Но оно уже не нормально в порядке письма»
поскольку письмо выдает себя за образ речи. Поэтому
оно более серьезно извращает то» чему оно» согласно его
же претензии, подражает. Оно даже не заменяет модель
ее образом» оно вписывает в пространство молчания и
в молчание пространства живое время голоса. Оно ото-
двигает свою модель, не дает никакого ее образа» насиль-
но отрывает одушевленное внутреннее состояние голо-
са от его родной стихии. Поступая так, письмо безнадеж-
но удаляется от истины самой вещи, от истины речи и
истины» которая открывается речи.
Следовательно, истины царя.
Вспомним знаменитый обвинительный список про-
тив живописного подражания из «Государства» (X 597)93.
Во-первых, здесь речь идет о том» что нужно изгнать по-
эзию из города, причем на этот раз, в отличие от происхо-
дящего в книгах II и III, по причинам, которые, в сущно-
сти, связаны с ее миметической природой. Трагические
поэты, когда они практикуют подражание, нав.лекают беду
на рассудок слушающих их (tes ton akouonton dianoias),
если у них нет антидота (pharmacon, 595а). Такое противо-
ядие — это «знание, чем вещи являются на самом деле»
(to eidenai auta oia tunkenai onta). Если вспомнить о том,
что позже подражатели и мастера обмана будут представ-
лены как шарлатаны и чародеи (602d), то есть разновид-
ности рода pharmakeus, онтологическое знание снова пред-
станет в качестве одной фармацевтической силы, проти-
вопоставленной другой. Порядок знания — это не
прозрачный порядок форм и идей, как можно было бы
ретроспективно его проинтерпретировать, это антидот.
Задолго до разделения на оккультную силу и точное зна-
ние стихия pharmacon а оказывается полем битвы фило-
софии и ее другого. Стихией, которая сама по себе, если
так можно выразиться» является неразрешимой.
Итак, чтобы определить подражательную поэзию,
нужно определить подражание вообще. А это хорошо
КШ Жак Деррида. Диссеминация
знакомый* — один из многих — пример происхождения
кровати. Здесь мы не можем задаться вопросом о той не-
обходимости, которая заставляет выбрать именно этот
пример, и о том сдвиге, который в тексте заставляет со-
вершить почти неощутимый переход от стола к кровати.
К уже сделанной кровати. Во всяком случае, Бог — подлин-
ный отец кровати, клинического eidos'a. Плотник является
ее «демиургом». Художник, который здесь снова называет-
ся «зоографом», не является ни ее породителем (phytour-
gos — автором physis как истины кровати), ни ее демиур-
гом. Он лишь ее подражатель. Следовательно, он на три сту-
пени удален от исходной истины» от physis кровати.
И, следовательно, от царя.
«Вот чем окажется трагический поэт, поскольку он яв-
ляется подражателем, — естественно, он тремя рангами ни-
же царя и истины, как и все остальные подражатели» (597е).
Что же до изложения в письменном виде этого
eidolon а, этого образа, которым уже является поэтичес-
кое подражание, то оно должно было бы оказаться удале-
нием такого образа на четыре ступени от царя или, ско-
рее, безмерным отвлечением от него, осуществляющим-
ся посредством изменения порядка или стихии, если бы
Платон в другом месте уже не заявил, говоря о подража-
тельном поэте вообще, «что он всегда бесконечно удален
от истины (tou de alethos porro panu aphestota)» (605c). Ведь
в отличие от живописи письмо даже не создает фантазма.
Художник, как известно, производит не истинно-сущее,
а кажимость, фантазм (598 Ь), то есть то, что уже симули-
рует копию. Обычно phantasma (копия копии) переводят
как «призрак»**, «симулякр»96. Тот, кто пишет знаками
алфавита» уже даже не подражает. Несомненно, потому что
в каком-то смысле он подражает совершенно. У него боль-
ше возможностей воспроизвести голос, потому что
фонетическое письмо лучше раскладывает и превраща-
ет его в абстрактные пространственные элементы. Такое
«Familier», то есть «семейный».
Деррида использует термин «simulacre». соответствующий француз-
скому переводу Платона.
KEQ Фармация Платона
разложение голоса оказывается тем, что в самой большой
степени сохраняет его и одновременно в самой большой
степени теряет. Подражает ему совершенным образом» по-
тому что уже не подражает вовсе. Ведь подражание утвер-
ждает и подчеркивает свою сущность, стирая себя. Его
сущность — это его не-сущность. И никакая диалектика
не может снять такую самонетождественность. Совершен-
ное подражание уже не является подражанием. Подража-
ющее станет абсолютно иным — другим сущим, которое
уже не относится к подряжаемому, если уничтожить ма-
лое отличие, которое, отделяя его от того, чему оно подра-
жает, тем самым отсылает к подряжаемому97. Подража-
ние соответствует своей сущности, оно остается тем, что
оно есть, — подражанием, лишь оставаясь в каком-то от-
ношении ущербным или, скорее, недостаточным. Оно дур-
но по своей сущности. Оно может быть хорошим, лишь
будучи дурным. Поскольку в него вписан провал, у него
нет природы, оно не имеет ничего собственного. Будучи
амбивалентным, играющим с самим собой, ускользаю-
щим от самого себя, выполняясь лишь в опустошении, яв-
ляясь одновременно хорошим и дурным, mimesis нераз-
решимым образом роднится с pharmacon ом. Никакая «ло-
гика» и никакая «диалектика» не могут поглотить их запас,
ведь они сами должны непрестанно обращаться к нему и
в нем находить подтверждение.
В самом деле, техника подражания, так же как и про-
изводство симулякра, с точки зрения Платона, всегда
оставалась магическим, чародейским проявлением:
Одни и те же объекты кажутся изогнутыми или пря-
мыми в зависимости от того, как на них смотреть —
через воду или на воздухе, а также вогнутыми или
выпуклыми в соответствии с другой оптической ил-
люзией, производимой цветами; очевидно, что все это
приводит душу в смущение. Именно к такому изъяну
нашей природы обращаются и к нему приспособлены
все магические инструменты (thaumatopoia) затенен-
ной живописи (skiagraphia), искусство колдуна (goiteia)
U3 Жак Деррида. Диссеминация
и сотни других изобретений того же рода (Государство
X 602с—d; см. также: 607 с.)98.
Антидот — снова еpiste тё. А так как hybris — это по
существу не что иное, как безмерное влечение, которое
уносит бытие в область призрака, маски и праздника, не
может быть никакого другого антидота, кроме того, что
позволяет соблюдать меру. Alexipharmacon ом будет на-
ука меры, во всех смыслах этого термина. Прочитаем
продолжение текста:
Разве не против этой иллюзии были изобретены та-
кие хорошие средства, как измерение (metre in), счет
(arithmein) и взвешивание (istanai), так что в нас по-
беждает не переменчивая кажимость (phenomenon)
величины или малости, количества или веса, а способ-
ность, которая посчитала, измерила, взвесила?.. Итак,
все эти операции можно рассмотреть как дело разума
(tou logistikou ergon), которое осуществляется в нашей
душе. (Шамбри <Chambry> переводит здесь как «сред-
ство» то слово» которое в «Федре» обозначает попече-
ние, помощь (boetheia), которую отец живой речи дол-
жен был бы всегда оказывать письму и которой оно
по своей собственной воле лишилось.)
Иллюзионист, мастер приманки, художник, писатель,
pharmakeus. Эта связь была, конечно, отмечена: «...разве сло-
во pharmacon, которое обозначает “цвет”, не то же, что при-
меняется к зельям колдунов и врачей? Разве те, кто насыла-
ют порчу, в своих злодеяниях не пользуются восковыми фи-
гурками?» 99 Околдовывание всегда связано с представлением,
живописным или скульптурным» схватывающим» запира-
ющим в ловушку форму другого, особенно если представ-
ляется его лицо, облик» слово и взгляд» рот и глаза» нос и
уши — vultus <черты лица, выражение лица (лат.)>.
Слово pharmacon обозначает» таким образом» также и
краску художника» материю, в которую вписывается
zographeme. Просмотрим. «Кратил». В своем споре с Гер-
могеном Сократ оценивает гипотезу» согласно которой
КШ Фармация Платона
слова подражают сущности вещей. Он сравнивает, чтобы
разделить, музыкальное и живописное подражание» с од-
ной стороны, и подражание при помощи имен — с дру-
гой. При этом его жест интересует нас не только тем, что
он обращается к pharmacony, но и тем, что на него накла-
дывается другое ограничение, которое отныне мы будем
пытаться постепенно прояснять, а именно — в момент,
когда он обращается к дифференциальным элементам
языка, он вынужден подвесить инстанцию голоса как зву-
ка, подражающего звукам (такова подражающая музыка),
и точно так же будет вынужден поступить Соссюр. Если
голос и именует, то только посредством различия и отно-
шения, которые завязываются между stoikheia. элемента-
ми или буквами (grammata). Одно и то же слово (stoikheia)
обозначает и элементы и буквы. Также нужно будет про-
думать то, что кажется простой конвенциональной или
педагогической необходимостью: фонемы в целом, глас-
ные — phoneenta100 — и согласные, обозначаются буква-
ми, которыми они записываются.
СОКРАТ. ...Но как определить то, что служит отправной
точкой для подражания подражателя? Поскольку подра-
жание сущности осуществляется благодаря слогам и бук-
вам, не поступим ли мы самым верным образом» если
сначала различим элементы? Так делают те, кто изучают
ритмы; они начинают с различения значения элементов
(stoikheifin), затем различают значение слогов, и только
потом они приступают к изучению ритмов.
ГЕРМОГЕН. Хорошо.
СОКРАТ. Не должны ли мы также первоначально
различить гласные (phoneenta)-, затем во всем остальном
разделить по видам элементы, которые не содержат ни
звука, ни шума (aphona kai aphtonga), ведь так говорят те,
кто хорошо разбирается в этом предмете; затем перей-
ти к элементам, которые» не являясь гласными, в то же
время не являются и немыми, а также выделить разные
виды среди самих гласных? Покончив со всеми этими
различиями, нам после этого нужно будет правильно
1Ш Жак Деррида. Диссеминация
разделить все сущие, которые должны получить имена,
выясняя, существуют ли категории, к которым все они
сводятся и посредством которых можно не только ви-
деть их, но и узнать, существуют ли в них такие же виды
как в элементах. После глубокого изучения всех этих
вопросов мы сможем назначить каждый из элементов
согласно его подобию» при этом иногда нужно назна-
чать один элемент одному предмету, а иногда — сме-
шивать несколько элементов для од ного-единственно-
го предмета. Так же и художники, чтобы добиться сход-
ства, иногда накладывают один простой пурпурный
цвет,а иногда какой-то другой цвет (allo ton pharmacon);
порой они смешивают по нескольку цветов — например»
когда они подготавливают телесный цвет или что-то
в этом роде в соответствии с тем» что» насколько я пред-
ставляю» каждый портрет, по-видимому» требует своего
особенного цвета (pharmacon). Точно так же мы приме-
ним элементы к вещам» назначая для одной-единствен-
ной вещи либо один элемент, либо» в случае необходимо-
сти, несколько сразу» образуя то» что называют слогами;
затем мы соберем слоги, которые служат для образова-
ния имен и глаголов, и уж затем вместе с именами и глаго-
лами мы примемся строить большое и прекрасное целое,
подобно тому как живое существо (zdon) воспроизводится
живописью (t£ graphite) (424b—425а).
И далее:
СОКРАТ. Ты прав. Итак, чтобы имя было подобно
предмету, элементы, из которых будут сделаны исход-
ные имена, должны по необходимости естественным
образом уподобляться предметам? Объяснюсь: раз-
ве можно было бы когда-нибудь составить схожую
с действительностью картину, о которой мы только что
говорили» если бы сама природа не дала нужные для
составления картин цвета (pharmakeia), подобные
предметам» которым подражает живопись? Разве это
было бы возможным? (434а—Ь).
Ш1 Фармация Платона
В «Государстве» краски художника также называют-
ся pharmaca (420 с). Следовательно, магия письма и жи-
вописи — это магия румян, которые скрывают мертве-
ца под видимостью жизни. Pharmacon вводит смерть и
дает ей кров. Он наделяет труп хорошей миной, маской
и гримом. Ароматом его сущности, как сказано у Эсхи-
ла. Pharmacon обозначает также и аромат. Аромат без
сущности*, как раньше мы говорили о снадобье без суб-
станции. Он превращает порядок в украшение, космос —
в косметику. Смерть, маска, румяна — все это праздник,
который подрывает порядок города, тот порядок, кото-
рый должен был бы управляться диалектиком и наукой
о бытии. Как мы увидим, Платон не замедлит отожде-
ствить письмо с праздником. И игрой. Определенным
праздником и определенной игрой.
8. Наследство pharmacon'а:
семейная сцена
Итак, мы достигли другого уровня платоновского запа-
са. Эта фармация, как мы уже почувствовали, является
еще и театром. Само театральное в нем не может быть
сведено к слову — здесь существуют силы, пространство,
закон, родство, человеческое и божественное, игра, смерть,
праздник. Поэтому открывающийся нам уровень по не-
обходимости будет еще одной сценой или, скорее, дру-
гой картиной в пьесе письма. Итак, после представления
pharmacon а отцу, унижения Тевта, Сократ берет на себя
ответственность за речь. Кажется, что он хочет заменить
миф logos'oM, театр — рассуждением, иллюстрацию —
доказательством. Однако через все его объяснения мед-
ленно продвигается вперед, постепенно обнаруживаясь»
«Аромат без сущности» — «parfum sans essence»: выражение можно
было бы перевести и как «аромат без эссенции», то есть «аромат» без
того, что удерживает и фиксирует запах. Деррида использует много-
значность современного французского слова «I’essence» (сущность,
эссенция, основа).
КЕН Жак Деррида. Диссеминация
другая сцена, не столь легко обозримая, как предыду-
щая, — но, прячась в безмолвной скрытности, она ока-
зывается не менее напряженной и не менее страстной»
нежели первая, ведь на замкнутом фармацевтическом про-
странстве она составляет с ней живую и вместе с тем на-
учную организацию фигур, сдвигов и повторений.
Эта сцена никогда не читалась в качестве того, чем
она первоначально является» скрываясь и одновремен-
но обнаруживаясь в своих метафорах, то есть в качестве
семейной сцены. Речь идет об отце и сыне, о незаконно-
рожденном, который не пользуется даже общественным
попечением» о законном и славном сыне, о наследстве»
о семени и бесплодности. Мать обойдена молчанием, од-
нако не стоит упрекать нас в этом. Ведь если хорошенько
ее поискать, как ищут в шарадах, быть может, мы уви-
дим ее неясный образ» нарисованный на оборотной сто-
роне, в листве, в глубине некоего сада, eis Addnidos kepous.
В садах Адониса (276Ь).
Сократ сравнивал отпрыски (ekgona) живописи с от-
прысками письма. Он высмеял их полную несамодоста-
точность, однотонную и напыщенную тавтологию отве-
тов, которыми они нам отвечают всякий раз, когда мы
их спрашиваем. Он продолжает:
Еще и другое: любая речь, когда она записана раз и на-
всегда» начинает слоняться то там, то здесь, попадая
как к тем, кто разбирается в ней, так и к тем, к кому
она не имеет никакого отношения, ведь она не знает»
к кому она должна обращаться, а к кому — нет. Если
же, с другой стороны, по ее теме выскажут какие-то
возражения или же она будет несправедливо оклеве-
тана, ей обязательно понадобится помощь ее отца: сама
по себе она на самом деле не может ни защититься, ни
помочь себе (275е).
Антропоморфистская и даже анимистская метафо-
ра объясняется, несомненно, тем, что запись — это за-
писанная речь (logos gegrammenos). Будучи живым, logos
QsD Фармация Платона
исходит от отца. Следовательно, для Платона не суще-
ствует письменной вещи. Существует только logos, более
или менее живой» более или менее близкий к самому себе.
Письмо не является независимым порядком значения»
это ослабленная речь, но не просто нечто мертвое — это
нечто полуживое-полумертвое, отсроченная смерть, от-
ложенная жизнь, подобие дыхания; фантом, фантазм»
призрак (eidolon, 276а) живой речи не является неоду-
шевленным» не является он и незначащим» просто он
мало значит и всегда одно и то же. Это незначительное
означающее» эта речь без взрослого поручителя подобна
всем остальным фантомам — она блуждает. Она скита-
ется (kulindeitai) здесь и там» подобно тому, кто не знает,
куда он идет, сбившись с правильного пути, потеряв вер-
ное направление» правило прямолинейности, норму; но
также и подобно тому, кто потерял свои права — как че-
ловек вне закона» как отщепенец, плохой мальчик, хули-
ган или авантюрист. Скитаясь по улицам, речь не знает,
кто она такая, каково ее тождество, если оно вообще су-
ществует, и каково ее имя, то есть имя ее отца. Она по-
вторяет одно и то же на все вопросы, задаваемые в раз-
ных закоулках, но она уже не может повторить свое нача-
ло. Для речи без поручителя не знать, откуда идешь и куда
направляешься, — значит не уметь говорить, то есть это
состояние младенчества*. Это почти ничего не значащее
«Состояние младенчества» — «I'dtat d'infance». Слово «Pinfance» не
встречается в таком авторитетном словаре французского языка, как
Emile Littгё, Dictionnaire de la langue fran^aise, а также в современном сло-
варе Тгё$ог de la langue fran^aise du XIXe et du XXe sidcle (1789—1960),
Editions du centre national de la recherche scientifique, Paris, 1983. Очевид-
но, Деррида стремится акцентировать этимологию обычного слова «Геп-
fance» («детство»). Согласно словарю Dauzat A., Dubois J., Mitterand Н.
Nouveau dictionnaire ttimologique et historique (Rdfdrences Larousse, 1989),
слово «enfant» («ребенок») появляется к концу XI века как производ-
ное от «infans» (народная латынь). «Infans» содержит привативное «in»
и корень, производный от глагола «fari», («говорить»), то есть infans —
это просто тот, кто не говорит. Первоначально «enfant» — это только
такой ребенок, который не умеет говорить, то есть примерно не стар-
ше трех лет. Затем «enfant» и «infans» вытесняют латинское «риег» («ре-
бенок», «мальчик») и начинают обозначать ребенка до семи лет, а затем
и просто ребенка в противопоставлении взрослому.
IES Жак Деррида. Диссеминация
означающее, потерявшее корни, анонимное, без связей
со своей страной и своим домом, оно отдается всему свету
сразу101 — как знатокам» так и невеждам, тем, кто пони-
мает его и разбирается в нем (tois epaiousin), и тем, кото-
рых оно вообще никак не касается и которые, поскольку
они в нем ничего не понимают, могут оскорбить его все-
возможными дерзостями.
Не оказывается ли письмо» находящееся в распоря-
жении всех и каждого, предлагаемое на улицах, по свое-
му существу демократическим? Процесс письма можно
было бы сравнить с процессом демократии (и процес-
сом над ней), как он организуется в «Государстве». В де-
мократическом обществе никто не заботится о компе-
тенции, ответственные посты отдаются кому угодно. По
жребию выбирают судей (557а). Уравниваются в своих
правах равные и неравные (558с). Отсутствие меры, анар-
хия; демократический человек, вообще не заботящийся
об иерархии, «устанавливает равенство между различ-
ными удовольствиями», а управление своей душой до-
веряет первому попавшемуся желанию, «как будто этот
вопрос решается жребием, а после того, как это жела-
ние ему наскучит, он переходит к другому, и, не оста-
навливаясь ни на одном, он всех их считает равными...
Что же до разума (logon) и истины (aleth£), — продол-
жал я, — он отстраняет их и не впускает в свой лагерь.
Если же сказать ему, что такие-то удовольствия проис-
ходят от добрых и благородных желаний, а другие — от
извращенных» что нужно взращивать и уважать первые,
а вторые — подавлять и укрощать, на все это он ответит
презрительной гримасой, ведь он полагает, что все они
одной природы, так что всех их нужно почитать одина-
ково» (561b—с).
Такой демократ, блуждающий как желание или как
освобожденное от logos'a означающее, такой индивид,
который даже не обладает каким-то устойчивым извра-
щением, который готов на все» который расположен ко
всем, который в равной мере предается всем удовольстви-
ям, всем занятиям, по случаю даже политике и филосо-
КЕВ Фармация Платона
фии («иногда можно решить, что он погрузился в фило-
софию; в другой раз он представляется государственным
деятелем, и, запрыгивая на трибуну, он говорит и делает
все, что приходит ему в голову», 561d), этот авантюрист,
подобный герою «Федра», наугад симулирует все без раз-
бору, а на самом деле он вообще никто и ничто. Отдаю-
щийся всем течениям, он всегда теряет сам себя, у него
нет ни сущности, ни истины, ни родового имени, ни соб-
ственного устава. Демократия так же не обладает ника-
кой собственной конституцией, как демократический че-
ловек не обладает никакими собственными качествами:
«Также я показал, что, по моему мнению, — продолжил
я, — он объединяет в себе всевозможные формы и каче-
ства сотни видов, что он является вычурным и пестрым
(poikilon) человеком, который похож на демократическое
государство. Поэтому многие люди обоих полов желают
такого рода существования, в котором обнаруживаются
почти все модели управления и нравов» (561е). Демо-
кратия — это оргия, разврат, торг, блошиный рынок, «яр-
марка (pantopolion) конституций, на которой можно вы-
брать модель, которую хочется повторить» (557d).
Независимо от того, как рассматривать подобное вы-
рождение — как графическое, политическое или же, по-
добно тому как его рассматривали во Франции XVIII века,
и особенно Руссо, как политико-графическое, — его все-
гда можно объяснить на основе дурного отношения отца
к сыну (см.: 559а—560b). Желания, говорит Платон, долж-
ны воспитываться как сыновья.
Письмо — это недостойный сын. Отверженный*. Тон
Сократа то обвиняющий и категорический, разоблачаю-
щий сына, отщепенца и бунтаря, его излишества и из-
вращенность, то жалостливый и снисходительный, опла-
кивающий беззащитное живое существо, сына, брошен-
ного своим отцом. Так или иначе, это потерянный сын.
А его бессилие — это бессилие сироты102, как, впрочем,
«Недостойный, отверженный» — Деррида обыгрывает значение при-
лагательного «miserable» и его субстантивированную форму.
КЕО Жак Деррида. Диссеминация
и преследуемого, особенно несправедливо, отцеубийцы.
В своем сострадании Сократ заходит довольно далеко —
если есть живые речи, преследуемые и лишенные помо-
щи логографа (а это как раз и был случай сократовской
речи), существуют также и полумертвые речи, то есть
записи, преследуемые, потому что им не хватает речи
уже умершего отца. Поэтому любой может напасть на
письмо, обратиться к нему с несправедливыми упрека-
ми (ouk еп dike loidoretheis), отразить которые мог бы толь-
ко отец, опекающий своего сына, если бы сын его как раз
не убил.
Дело в том, что смерть отца открывает эпоху наси-
лия. Выбирая насилие, а именно об этом идет речь с само-
го начала, насилие против отца, сын — или отцеубийствен-
ное письмо — обязательно сам подвергается насилию. Все
это делается для того, чтобы мертвый отец, первая жерт-
ва и предельный исток, больше не был здесь. Бытие-
здесь — это всегда бытие отеческой речи. И место отече-
ства.
Письмо, человек вне закона, потерянный сын. Здесь
следует напомнить о том, что Платон всегда связывает
речь и закон, logos и nomos. Законы говорят. В персони-
фикации «Критона» они сами обращаются к Сократу. Во
второй книге «Государства» они говорят с отцом, кото-
рый потерял своего сына, они утешают его, приказыва-
ют ему сохранять стойкость:
Тогда мы сказали, — продолжал я, — что человек сдер-
жанного характера, с которым случилось какое-либо
несчастье, например потеря сына или чего-то еще
очень дорогого ему, перенесет его легче, чем дру-
гой человек. [... ] А раз так, разве сохранять стойкость
приказывают ему не разум и закон (logos kai nomos) и
разве к удрученности его склоняет не само страда-
ние (auto to pathos)? [...] Закон говорит (Legei рои
о nomos), что нет ничего более прекрасного, чем сохра-
нение наибольшего спокойствия в несчастье... (бОЗе—
604а—Ь).
IES Фармация Платона
«Что такое отец?» — спрашивали мы раньше. Отец
есть. Отец есть (потерянный сын). Письмо, потерянный
сын, не отвечает на этот вопрос, оно пишет(ся): (что) отец
не есть, то есть не присутствует. Когда оно уже перестало
быть отпавшей речью отца, оно подвешивает вопрос «Что
это такое?», который тавтологически всегда оказывается
вопросом «Что такое отец?», а ответом на него будет: «Отец
есть то, что он есть». Тогда-то и осуществляется такое
продвижение вперед, которое уже не поддается осмыс-
лению согласно общей оппозиции отца и сына, речи и
письма.
Пришел момент напомнить, что в диалогах Сократ
играет роль отца, представляет отца. Или старшего бра-
та. Через мгновение мы увидим, как обстоят дела с этим
старшим братом. Сократ же напоминает афинянам как
отец детям, что, убивая его, они нанесут вред прежде всего
самим себе. Послушаем его тюремную речь. Его хитрость
беспредельна, следовательно, наивна и ничтожна (сохра-
ните мне жизнь, потому что я уже мертв — для вас):
А теперь, афиняне, не прерывайте меня. [... ] Я заявляю
вам, что, если вы меня осудите на смерть, больше всего
ущерба вы причините самим себе, а не мне, если по-
нять, кто я. [... ] Подумайте о том, что, если вы застави-
те меня умереть, вы не сможете так просто найти дру-
гого человека (я говорю это, рискуя вызвать смех), дру-
гого человека, привязанного к вам волей богов, чтобы
подхлестывать вас подобно оводу, который подталки-
вает большую и чистопородную лошадь, которая не-
много ленива именно по причине своей величины и ко-
торая нуждается в том, чтобы ее подхлестывали. Это
дело — то самое, для которого, как мне представляется,
бог привязал меня к вашему городу, вот почему я не
перестаю подхлестывать вас, подталкивать вас, докучать
каждому из вас, преследуя его повсюду с утра до вечера.
Нет, судьи, вам нелегко будет найти подобного мне; по-
этому, если вы мне поверите, вы будете заботливо обе-
регать меня. Только может случиться так, что вы не
ШВ Жак Деррида. Диссеминация
стерпите и, подобно дремлющим людям, которых
только что разбудили, вы, поддавшись порыву гнева,
необдуманно заставите меня умереть. А после этого
вы проведете остаток своей жизни во сне, если только
бог, озаботившись вами, не пошлет вам кого-нибудь,
кто заменит меня (epipemseie).
В любом случае вы можете убедиться в том, что
я — человек, данный городу божеством: спросите себя
сами, в силах ли человек пренебречь, как это делал я,
всеми своими частными интересами, переносить в те-
чение уже стольких лет последствия этого пренебреже-
ния, и все это только для того, чтобы заняться вами,
играя роль отца или старшего брата (osper patera ё
adelphon presbuteron) для каждого из вас, дабы заставить
его трудиться над тем, чтобы стать лучше (Апология
30с—31b).
Особый голос подталкивает Сократа к тому, чтобы
заменить отца или старшего брата всех афинян, причем
на эту роль вместо него может прийти и кто-то другой.
Этот голос, впрочем, только запрещает, а не повелевает,
этому голосу самопроизвольно подчиняешься, подобно
хорошо вышколенному коню из «Федра», для которого
достаточно приказов голоса, logos'a:
Это связано, как вы уже много раз и в разных местах
слышали от меня, с неким обнаруживающимся во мне
проявлением определенного божества, божественно-
го духа, из чего Мелет как раз и сделал предмет своего
обвинения, посмеявшись над ним ([рИопё] о Лё kai еп
£гаркё epikomoddn Meletos egraspato). Это началось
уже в моем детстве, какой-то голос (рИопё), который,
когда он обнаруживал себя, всегда отвращал меня от
того, что я собирался сделать, никогда не подталкивая
меня к действию (31с—d).
Будучи носителем такого божественного знака (to tou
thtou semeion, 40b—c; to daimonion semeion, Государство
КЕН Фармация Платона
VI 496с), Сократ, следовательно, удерживает голос отца,
он оказывается глашатаем отца. А Платон пишет исходя
из его смерти. Все платоновское письмо — здесь мы не
говорим о том, что оно хочет сказать, о его означаемом
содержании, которое сводится к необходимости реаби-
литации отца и зачеркиванию того graphs посредством
которого было принято решение о его смерти, — оказы-
вается, таким образом, если читать его исходя из смерти
Сократа, в положении письма, обвиняемого в «Федре».
Взаимное вложение сцен продолжается до бесконечнос-
ти. У фармации не обнаруживается дна.
Как же обстоят дела с этим обвиненным? До этого
момента письмо — записанная речь — не имело ника-
кого другого статуса (если о нем вообще можно гово-
рить), кроме статуса сироты или агонизирующего отце-
убийцы. Если по мере развертывания своей истории оно
извращается, порывая со своим началом, то ранее ничто
не говорило в пользу того, что само начало уже было дур-
ным. Однако теперь обнаруживается, что записанная
речь — записанная в «собственном» смысле, вписанная
в чувственное пространство — имеет врожденные по-
роки. У нее нет хороших врожденных задатков — она не
только, как мы уже видели, не совсем жизнеспособна, она
вообще не имеет благородного происхождения, закон-
ного рождения. Она не является gnesios. Это даже не про-
столюдин, это незаконнорожденный. Она не может быть
объявлена голосом отца, не может быть признана им.
Она вне закона. После одобрения Федра Сократ продол-
жает:
СОКРАТ. Что же сказать? Должны ли мы рассмотреть
относительно другой речи, сестры предшествующей
[письменной речи], то есть законной речи (adelphon
gnesion), то, в каких условиях она имеет место и на-
сколько она превосходит письменную речь своим ка-
чеством и своей внутренней силой?
ФЕДР. Что же это за речь, о которой ты говоришь,
и в каких условиях она, по-твоему, имеет место?
КЕШ Жак Деррида. Диссеминация
СОКРАТ. Это та речь, которая, сопровождаясь зна-
нием, записывается в душе человека, который изучает
что-либо (Os met* epistemes graphetai en te tou mantha-
nontos psuchd), та, которая может защитить себя (dunatos
men amunai eauto) и которая, с другой стороны, умеет
как хорошо говорить, так и молчать, в зависимости от
того, с кем она имеет дело.
ФЕДР. Ты хочешь сказать — речь того, кто знает
(tou eiditis logon), живая и одушевленная речь (zonta
kai empsuchon), по отношению к которой, как можно
совершенно справедливо заметить, письменная речь
• является призраком (eidolon)?
СОКРАТ. Да, ты совершенно прав (276а).
Эта реплика по своему содержанию ничуть не ори-
гинальна, Алкидамант утверждал примерно то же са-
мое 103. Однако она отмечает определенный переворот
в самом функционировании аргументации. Представляя
письмо в качестве ложного брата, то есть одновременно
предателя, отступника и призрака, Сократ в первый раз
доходит до того, что он начинает рассматривать брата
этого брата, то есть законного брата, в качестве какого-
то другого письма — не только в качестве знающей, жи-
вой и одушевленной речи, но в качестве записывания ис-
тины в душу. Несомненно, обычно в данном пункте по-
является ощущение, что мы имеем дело с «метафорой».
Платон, быть может, и сам — почему бы и нет, да и какое
это имеет значение? — думал так в тот самый момент,
когда ввязывался в историю некоей «метафоры» или
даже начинал ее (метафоры записи, впечатления, меты
и т. д., в воске мозга или души), метафоры, без которой
философия уже не сможет обойтись, сколь бы критиче-
ски она ни пыталась к ней отнестись. Так или иначе, нельзя
не заметить, что так называемая живая речь вдруг опи-
сывается посредством «метафоры», позаимствованной
у того порядка, который мы хотели из нее исключить,
порядка неистинного подобия. Это заимствование стало
необходимым благодаря тому, что структурно связывает
KEQ Фармация Платона
умопостигаемое с его повторением в копии, поэтому язык,
описывающий диалектику, не может избежать упомина-
ния такой необходимости.
Согласно определенной схеме, которая будет господ-
ствовать во всей западной философии, хорошее письмо
(естественное, живое, знающее, умопостигаемое, внутрен-
нее, говорящее) противопоставлено плохому письму (ис-
кусственному, агонизирующему, невежественному, чув-
ственному, внешнему, немому). Однако хорошее письмо
можно обозначить только посредством метафоры плохо-
го. Метафоричность — это логика заражения и зараже-
ние логики. Плохое письмо относится к хорошему как
модель лингвистического обозначения и как симулякр
сущности. Если же сеть оппозиций предикатов, которые
соотносят одно письмо с другим, держит в своих тенетах
все понятийные оппозиции «платонизма», а он принима-
ется здесь за господствующую в истории метафизики
структуру, то можно сказать, что философия была разыг-
рана в игре этих двух видов письма. Тогда как сама она
хотела различать лишь речь и письмо.
Так мы получаем подтверждение, что заключение
«Федра» является не столько осуждением письма во имя
присутствующей речи, сколько предпочтением одного
письма другому, плодотворного следа бесплодному, по-
рождающего семени (порождающего потому, что оно
помещено внутри) семени, впустую растрачиваемому
снаружи, то есть опасности рассеяния семени*. По край-
ней мере, одно предполагается другим. Прежде чем на-
чать поиски причин такого предпочтения в общей струк-
туре платонизма, проследим за этим движением.
Открытие сцены pharmacon а, развитие магических
сил, сравнение с живописью, политико-семейное наси-
лие и извращение, упоминание румян, маски, призра-
ков — все это не могло не дать повода к игре и празднику,
которые никогда не происходят без некоей неотложности
или прилива семени.
[Рассеяние семени» — «1а dissemination», диссеминация.
Шй Жак Деррида. Диссеминация
Мы получим все подтверждения этим тезисам, если
рассмотрим определенный ритм текста и не будем счи-
тать риторическими случайностями термины аналогии,
предложенной Сократом.
Аналогия: отношение письма-симулякра к тому, что
оно представляет, то есть к истинному письму (истинно-
му, поскольку оно истинно, подлинно, соответствует сво-
ей ценности, сообразно своей сущности, поскольку это
письмо находится в душе того, кто обладает epistem£)y —
это отношение аналогично отношению семян сильных,
плодородных, порождающих сообразное закону потом-
ство, устойчивых и питающих (плодоносных семян) к се-
менам слабым, быстро истощающимся, нестойким, даю-
щим рождение эфемерному потомству (цветоносным се-
менам). С одной стороны — терпеливый и разумный
земледелец (О noun екдп georgos), с другой — садовник
броской роскоши, несдержанный и игривый. С одной сто-
роны — серьезность (spoude), с другой — игра (paidia) и
праздник (eorti). С одной стороны — культура и агрикуль-
тура, знание, экономия, с другой — наслаждение и безу-
держная растрата.
СОКРАТ. ...А теперь скажи мне, неужели разумный зем-
леделец |<м, если у него есть семена, о которых он забо-
тится (on spermaton kedoito), и если он хочет, чтобы они
принесли плоды, начнет в разгар лета сеять их в садах
Адониса,05, чтобы удовлетвориться тем, что сад через
восемь дней покроется великолепными цветами? А если
он и поступит так, то разве не просто ради развлечения
(paidias)'0* или же из-за праздника (eort£s)l Но если
у него на самом деле есть семена, которые ему важны,
он использует все свое искусство земледельца, чтобы
посеять их на пригодном участке земли, и он, конечно,
поздравит себя, если через восемь месяцев все посеян-
ные им семена принесут плоды. [...] И неужели мы дол-
жны утверждать, что человек, обладающий знанием
справедливого, знанием прекрасного и знанием блага,
не так разумен, как земледелец по отношению к своим
ЕЕП Фармация Платона
собственным семенам? [...] Таким образом,ты видишь,
что не всерьез (spoude) он будет писать по воде (en udati
grapsei — поговорка, эквивалентная выражению «пи-
сать по песку»*) чернилами эти вещи, используя трос-
тинку для посева речей (melani speiron dia kalamou meta
logon), которые не только не способны помочь самим
себе (boethein) словом, но и должным образом научить
истине (276а—с).
Семя, вода, чернила, живопись, ароматизированная
краска — pharmacon всегда проникает как жидкость, он
пьется, поглощается, протекает внутрь, сначала помечая
нутро жесткостью оттиска, а затем захватывая его и за-
топляя его своим зельем, своим питьем, своим пойлом,
своим настоем, своим ядом.
В жидкости противоположности с большей легко-
стью переходят друг в друга. Жидкость — это стихия
pharmacon а. А вода, жидкая чистота, проще всего подда-
ется пропитке (наиболее опасной в данном случае)
pharmacon'oM, а затем — и заражению pharmacon ом, с ко-
торым она смешивается и в скором времени соединяет-
ся. Отсюда проистекает тот закон, включенный в состав
законов, которые должны управлять обществом, что тре-
бует строгой охраны воды. Охраны, прежде всего, от phar-
macon'а:
Вода, несомненно, является самым питательным эле-
ментом из всех, нужных для садоводства, но ее легко
испортить — в самом деле, ни землю, ни солнце, ни ве-
тер, питающие растения, нельзя повредить посредством
ядов (pharmakeusesin), их нельзя отвести или украсть,
тогда как вода по самой своей природе подвержена всем
этим посягательствам» поэтому-то необходим закон для
ее охраны. Вот этот закон: любой, кто намеренно по-
сягает на воду другого человека, ключевую воду или
Русский вариант — «писать вилами по воде».
КШ Жак Деррида. Диссеминация
собранную в емкость, отравив ее (pharmakeiais), оста-
новив в запруде или же украв, вызывается пострадав-
шим к астиномам, а величина ущерба должна быть из-
ложена в письменном виде. Тот, кто будет уличен в ущер-
бе, причиненном ядами (pharmakeiais), должен будет не
только заплатить штраф, но и, кроме того, очистить
источники воды или емкость в соответствии с прави-
лами такого очищения, сформулированными в качестве
непререкаемых повелений толкователями, учитываю-
щими данные обстоятельства и данных лиц (Законы
VIII 845d—е).
Итак, письмо и речь теперь оказались двумя видами
следа, двумя значениями следа, причем письмо — это
потерянный след, нежизнеспособное семя, все то, что
в семени расходуется без какой-либо отдачи, сила, зате-
рявшаяся за пределами поля жизни, неспособная порож-
дать, продолжать себя в следующем поколении и восста-
навливаться. И наоборот, живая речь заставляет капитал
приносить плоды, она не склоняет семенную потенцию
к наслаждению, не завершающемуся отцовством. Во вре-
мя своего семинара* она сообразуется с законом. В ней
также отмечается единство logos'a и nomos'a. Какого зако-
на? Афинянин выражает его следующим образом:
.. .Это я как раз и имел в виду, когда говорил о способе
заставить выполнять закон, который требует, чтобы
люди повиновались природе в соитии, предназначен-
ном для рождения детей; чтобы оставили мужской пол;
чтобы не губили намеренно человеческий род; чтобы
не разбрасывали семя среди скал и гальки, где оно
никогда не сможет укорениться, чтобы воспроизве-
сти свой собственный род; чтобы и имея дела с жен-
щинами воздерживались от всех действий, которые
Слово «семинар» («1е sdminaire») имеет общий корень с такими сло-
вами, как «slminale» («семенной») или «laslmence» («семя»,«сперма»),
что и обыгрывается Деррида. Одно из значений «1е slminaire» — «пи-
томник», «рассадник».
1Ш Фармация Платона
намеренно избегают оплодотворения. Если этот закон
обретет силу постоянного действия, такую же силу, ка-
кой сегодня обладает закон, запрещающий всякие сно-
шения между отцами и детьми, и если в соответствии
со своим значением он добьется такой же победы и
в области всех остальных подобных сношений, он по-
действует удивительно благотворным образом. В са-
мом деле, его соответствие природе является его пер-
вым достоинством; кроме того, он отвратит мужчин
от любовного пыла и безумия, от всех случайных лю-
бовных связей, от всех излишеств в еде и питье и за-
ставит их любить своих собственных жен; наконец, как
только этот закон получит безусловное признание, мы
получим множество иных благ. Но быть может, про-
тив нас выступит какой-нибудь молодой и сильный
мужчина, переполненный изобильным семенем (pollou
spermatos mestos), который, услышав, как объявляется
этот закон, обрушится на нас, его авторов, с упреками,
считая, что мы предлагаем глупые и невозможные за-
коны, и оглушит всех своими криками... (Законы VIII
838е—839b).
Здесь можно было бы вызвать на совместный допрос
письмо и педерастию одного молодого человека по име-
ни Платон. Как и его двойственное отношение к отцов-
скому дополнению — чтобы загладить его смерть, он пре-
ступил закон. Он повторил смерть отца. Два этих жеста
отменяют друг друга или противоречат друг другу. Идет
ли речь о семени или письме, преступление закона зара-
нее подчинено закону преступления. Такой закон пред-
ставим не в классической логике, но только в графике до-
полнения или pharmacon г. Того pharmacon а, который
может послужить как семени жизни, так и семени смер-
ти, как родам, так и выкидышу. Сократ хорошо знал об
этом:
СОКРАТ. Ведь повитухи умеют при помощи своих сна-
добий (pharmakia) и заклинаний по своему желанию
7-6705
1Ш Жак Деррида. Диссеминация
вызвать боли или уменьшить их, довести до конца
сложные роды или вызвать выкидыш в том случае,
если они сочтут нужным абортировать еще не зрелый
плод, не так ли? (Теэтет 149с—d).
Сцена усложняется: обвиняя письмо как потерянно-
го сына или сына-отцеубийцу, Платон ведет себя как сын,
пишущий такое обвинение, заглаживая и утверждая та-
ким образом смерть Сократа. Но на этой сцене, на кото-
рой, как мы уже отметили, мать — по крайней мере,
внешне — не присутствует, Сократ не является отцом,
он лишь заместитель отца. Этот акушер, сын повитухи,
этот ходатай, этот сводник не является ни отцом, хотя
он и занимает место отца, ни сыном, хотя он и является
товарищем или братом сынов и хотя он подчиняется от-
цовскому голосу бога. Сократ — это отношение допол-
нения отца к сыну. Когда мы говорим, что Платон пишет
исходя из смерти отца, мы думаем не только о некоем
событии, обозначенном как «смерть Сократа», при ко-
тором Платон, как рассказывают, не присутствовал (Фе-
дон 59b: «Платон, я думаю, был болен»), но и, в первую
очередь, о бесплодности сократовского семени, предос-
тавленного самому себе. Сократ знает, что никогда ему
не быть ни отцом, ни сыном, ни матерью. Искусство свод-
ника должно было бы быть тождественным искусству по-
витухи («в ведении одного и того же искусства находит-
ся уход и сбор плодов земли и знание о том, в какую зем-
лю нужно бросать то или иное семя или сажать то или
иное растение»), если бы проституция и преступление
закона не разделили их. И если искусство Сократа все же
выше искусства сводника, то, несомненно, лишь по той
причине, что он должен отличать призрачный, или лож-
ный (eidolon kai pseudos), плод от плода живого и истин-
ного (gonimon te kai alethes), однако Сократ разделяет об-
щую участь повитух — бесплодность. «У меня и в самом
деле то же бессилие, что и у повитух... Принимать роды
других — это обязанность, вмененная мне богом; порож-
дать детей — это способность, которой он меня лишил».
ШЭ Фармация Платона
Вспомним и о двойственности сократовского pharmacon'a,
возбуждающего тревогу и успокоительного: «ведь мое
искусство способно возбуждать эти боли и их успокаи-
вать» (Теэтет 150а—151е).
Итак» семя должно подчиняться logos'y. То есть при-
нуждать себя силой» поскольку естественное стремление
семени противопоставляет его закону logos'a: «Этот-то
мозг* мы раньше в своей речи назвали семенем. У него
есть душа» и он дышит. Отверстие» через которое он ды-
шит, сообщает ему неукротимое влечение выйти нару-
жу. Вот как этот мозг произвел любовь» ведущую к дето-
рождению. Отсюда следует» что все» что у самцов отно-
сится к природе срамных частей» оказывается неуемным
и самовластным» чем-то вроде животного» противяще-
гося рассуждению (tou logou), животного, которое под
воздействием своих страстных желаний стремится все
себе подчинить» (Тимей 91b).
Необходимо обратить внимание на следующее —
в тот самый момент» когда Платон» как кажется» восста-
навливает права письма, делая из живой речи некую пси-
хическую запись» он выполняет эту процедуру внутри про-
блематики истины. Письмо еп ti psuchi <в самой душе>
является не письмом разметки пути» а лишь письмом на-
учения» передачи» доказательства» в лучшем случае — от-
крытия» письмом aletheia. Его порядок — это порядок ди-
дактики или майевтики, во всяком случае — стиля вы-
сказывания. Порядок диалектики. Такое письмо должно
быть способно поддержать само себя в диалоге и, глав-
ное» должным образом учить истине — истине» которая
уже выполнена.
Эта власть истины, диалектики» серьезности, присут-
ствия не будет отменена и в завершении этой процеду-
ры, когда Платон» в определенном отношении присвоив
письмо, доводит свою иронию — и серьезность — до ре-
абилитации некоей игры. По сравнению с другими игра-
ми игровое и гипомнезийное письмо второго порядка
Имеется в виду спинной мозг, «1а moelle».
7
КЕШ Жак Деррида. Диссеминация
имеет преимущества, оно должно «выступить вперед».
По сравнению с другими своими братьями, поскольку
в этой семье есть и похуже. Поэтому-то диалектик иног-
да может забавляться письмом, собиранием воспомина-
ний, hypomnemata. Но он поступает так, поставив их на
службу диалектике, а также для того, чтобы оставить след
(ichnos) тому, кто позже пойдет вслед за ним, направля-
ясь по пути истины. Граница теперь проходит не столько
между присутствием и следом, сколько диалектическим
следом и недиалектическим следом, между игрой в «хо-
рошем» смысле и игрой в «дурном» смысле слова.
СОКРАТ. Напротив, по всей видимости, только ради
развлечения (paidias karin) он засеет эти сады пись-
менными символами и будет писать; но, когда ему слу-
чается писать, он создает для себя бесценный запас вос-
поминаний (hupomnemata), который пригодится ему
в том случае, если он доживет до забывчивой старо-
сти, а также и любому другому, кто пойдет по тому же
следу (tauton ikhnos). Тогда он получит удовольствие,
наблюдая, как прорастают его нежные посевы; другие
будут использовать другие развлечения, напиваясь и
предаваясь другим подобным удовольствиям, тогда
как он, скорее всего, предпочтет им те, о которых я
говорю и которые являются единственным развлече-
нием в его жизни!
ФЕДР. Насколько же превосходит развлечение,
о котором ты, Сократ, говоришь, низость всех осталь-
ных — это развлечение человека, способного забав-
ляться сочинением (еп logo is). выдумывая прекрасные
речи о Справедливости и о других предметах, о кото-
рых ты рассуждаешь!
СОКРАТ. Это и в самом деле так, мой дорогой
Федр. Однако я считаю, что гораздо более достойно
было бы серьезно (spoude) потрудиться над достиже-
нием этой цели — так, когда, используя диалектиче-
ское искусство и взяв в руки пригодную душу, сажают
и сеют в ней речи, сопровождаемые знанием (phuteut
КЕН Фармация Платона
te kai speire met' epistemes logous)\ речи, которые спо-
собны помочь (boethein) как самим себе, так и тому,
кто их посеял, которые, не являясь бесплодными, не-
сут в себе семя, из которого в других душах (en alios
ethesi) взрастут другие речи; такие речи всегда сохра-
няют такую способность, а того, кто обладает ими, они
могут наделить самым большим счастьем, которое
только возможно для человека! (276d—277а).
9. Игра: от pharmacon’a к букве
и от ослепления к дополнению
Kai t& tes spoudes adelphd paidia*.
Письмо VI 323d
Logos de g£ en ё t£s ses diaphorotetos
ermeneia**.
Теэтет 209a
Можно было подумать, что Платон просто осуждает игру.
И одновременно искусство mimesis'а, который является
лишь одним из ее видов107. Но когда речь идет об игре и ее
«противоположности», «логика» по необходимости ока-
зывается сбивчивой. Платон теряет игру и искусство, спа-
сая их, и тогда его логос подчиняется неслыханному тре-
бованию, которое мы даже не можем больше называть
«логикой». Платон хорошо говорит об игре. Он произно-
сит хвалу игре. Но лишь игре «в лучшем смысле слова»,
если можно так сказать, не отменяя игру успокоительной
глупостью подобной оговорки. Лучший смысл игры — это
игра, контролируемая и оберегаемая предохранительны-
ми установлениями этики и политики. Это игра, понятая
И с игрой {в русском переводе — шуткой], сестрой серьезности
(др.-греч.).
А объяснение твоего отличительного признака и было логосом
(др.-греч.).
ШЗ Жак Деррида. Диссеминация
благодаря невинной и безобидной категории «забавного».
Или категории развлечения — распространенный пере-
вод paidia как «развлечения», сколь бы косноязычным он
ни был, несомненно, лишь усиливает платоновское подав-
ление игры.
Оппозиция spoude/paidia никогда не характеризует-
ся простой симметрией. Либо игра ничем не является (это
ее единственный шанс), не может дать места для какой
бы то ни было деятельности, какой бы то ни было речи,
достойной такого наименования, то есть речи, нагружен-
ной истиной или по крайней мере смыслом. В этом слу-
чае она alogos или atopos. Либо игра начинает быть чем-
то, и само ее присутствие дает повод для некоей диалек-
тической конфискации. Она получает смысл и работает
на серьезность, истину, онтологию. Только logoi peri onton
<речи о сущем> могут приниматься всерьез. Как только
она приходит к бытию и языку, игра как таковая стира-
ется. Так же как письмо должно как таковое стираться
перед истиной и т. д. Дело в том, что письма и игры как
таковых не существует. Не имея сущности, вводя разли-
чие как условие присутствия сущности, открывая воз-
можность двойника, копии, подражания, симулякра, игра
и графия действуют при непрестанном исчезновении. Они
не могут утверждаться в классической форме утвержде-
ния, не отрицаясь тем самым.
Платон, таким образом, играет в то, что принимает
игру всерьез. Выше это мы назвали его прекрасной иг-
рой. Не только его сочинения определены в качестве
игр10®, но и все дела людей в целом, согласно Платону, не
должны приниматься всерьез. Хорошо известен соответ-
ствующий текст из «Законов». Но все равно перечитаем
его, чтобы проследить в нем теологическое успокоение
одной игры в играх, постепенную нейтрализацию сингу-
лярности игры:
Несомненно, человеческие дела не стоят того, чтобы
принимать их слишком серьезно (megales men spodes ouk
axia); однако мы вынуждены принимать их всерьез,
IEEI Фармация Платона
и в этом наше несчастье. Поскольку же мы там, где мы
есть, направлять на какую-либо цель это неизбежное
рвение — вот, быть может, задача, которая в наших си-
лах (emin summetron). [...] Я хочу сказать, что нужно се-
рьезно трудиться над тем, что серьезно, а не над тем,
что несерьезно; что по самой своей природе Бог заслу-
живает нашей блаженной серьезности (makariou
spo tides), но человек, как мы уже сказали109, создан лишь
для того, чтобы быть игрушкой (paignon) в руках бога,
и в этом на самом деле его лучшая участь. Следователь-
но, вот с какой ролью во время всей своей жизни долж-
ны сообразовываться каждый мужчина и каждая жен-
щина, играя в самые прекрасные из игр, которые толь-
ко бывают, но совсем не по тем соображениям, которые
есть у них сегодня. [...] Сегодня в целом считают, что
серьезные вещи нужно делать ради игр — так, полага-
ют, что военные дела, которые являются серьезными,
должны правильно решаться только ради мира. В дей-
ствительности же война никогда не могла дать нам ни
осуществления, ни обещания подлинной игры или же
наставления, достойного такого наименования, а толь-
ко они, по нашему мнению, являются, как мы утверж-
даем, единственной серьезной вещью. Поэтому жить
нужно в мире, в как можно более полном мире и как
можно большую часть своей жизни. Где же тогда пря-
мой путь? Жить играя, играя в такие игры, как жерт-
воприношения, песнопения, танцы, которые наделяют
нас способностью снискать расположение богов, отра-
зить нападения наших врагов и победить их в битве...
(8ОЗЬ).
Игра всегда теряется, спасая себя в играх. Мы уже про-
следили в другом тексте, как такое «исчезновение» игры
в играх осуществлялось в «эпоху Руссо»110. Эта (не)логика
игры и письма позволяет понять то, чему так много удив-
лялись, — почему, подчиняя или осуждая письмо, Пла-
тон так много написал, представляя исходя из смерти Со-
крата свои сочинения в качестве игр и обвиняя письмо
ИИ Жак Деррида. Диссеминация
в письменном виде, подавая на него ту жалобу (graph#),
которая продолжает звучать вплоть до нашего времени?
Какой закон управляет этим «противоречием», этой
противоположностью самому себе того сказанного про-
тив письма, которое высказывается против себя, как толь-
ко оно записывается, как только оно записывает свое
тождество и изымает свою собственность из этого фон-
да письма? Такое противоречие, которое является не чем
иным, как отношением дикции* к самой себе, противо-
поставляющейся скрипции, гонящей саму себя в пресле-
довании того, что является ее собственной приманкой, —
такое противоречие не является случайным. Чтобы со-
гласиться с этим, достаточно было бы отметить, что мо-
мент, открываемый в западной литературе вместе с Пла-
тоном, будет снова и снова повторяться — по крайней
мере у Руссо, а затем и у Соссюра. В трех этих случаях,
в трех этих «эпохах» повторения платонизма, которые по-
зволяют нам проследить новую нить и определить дру-
гие узлы в истории philosophia или epistem#, исключение
и принижение письма должны в какой-то момент в сво-
ем собственном заявлении соединиться с
1. всеобщим письмом и в нем с
2. «противоречием» — письменным выражением ло-
гоцентризма; одновременным утверждением внешнего
бытия внешнего и его пагубного внедрения во внутреннее;
3. созданием «литературного» произведения. До «Ана-
грамм» Соссюра уже были «анаграммы» Руссо; и произве-
дения Платона могут быть прочитаны вне и независимо от
их «логоцентричного» содержания, которое в таком случае
является не более чем вписанной в них «функцией» в своей
анаграмматической структуре.
Именно таким образом «лингвистика», разработан-
ная Платоном, Руссо и Соссюром, должна одновременно
выставлять письмо наружу и тем не менее по существен-
ным причинам заимствовать у него все свои теоретиче-
ские и доказательные ресурсы. Этот тезис в отношении
* «La diction» — дикция, манера выражаться,слог (фр.).
031 Фармация Платона
«Женевской школы» мы попытались обосновать в дру-
гом месте. Случай Платона по крайней мере столь же про-
зрачен.
Известно, что Платон часто объясняется с буквами ал-
фавита. Он объясняется с ними, то есть кажется» что он
пользуется ими, чтобы объяснить диалектику, а не «объяс-
ниться» с письмом, которым он пользуется. В этом случае
его намерения представляются дидактическими, то есть он
как будто просто использует аналогию. Но намерения эти
подчиняются постоянному ограничению, которое никогда
не тематизируется в качестве такового, — ограничению,
обнаруживающему закон различия, неуничтожимость
структуры и отношения, пропорциональности, аналогии.
Выше мы уже отметили, что tupos мог, что немало-
важно, отсылать как к графическому символу, так и к эй-
детической модели. В «Государстве», прежде чем восполь-
зоваться словом tupos в смысле формы-модели (eidos),
Платон должен был обратиться, как всегда в сугубо пе-
дагогических целях, к примеру буквы как модели, кото-
рую нужно знать до признания ее копий, отражений
в воде или зеркале:
Когда мы учились читать, решить, что мы уже научи-
лись, можно было только тогда, когда мы умели раз-
личать буквы, которых, впрочем, немного, в какие бы
соединения они ни входили, не пропуская ни одну из
них как недостойную нашего внимания, какое бы мес-
то — большое или малое — она ни занимала, но, на-
против, стремясь различать их в любых условиях, по-
скольку, с нашей точки зрения, это был единственный
спосрб стать хорошими читателями. [...] И если обра-
зы букв (eikonas grammaton) представлены в воде или
в зеркале, мы не сможем узнать их, пока не выучим
сами буквы, ведь все это предмет одного и того же ис-
кусства и одного и того же исследования (402а—Ь).
Естественно, мы уже предупреждены «Тимеем» — во
всех этих сравнениях с письмом нельзя принимать буквы
И*Я Жак Деррида. Диссеминация
буквально. Stoikheia tou pantos, элементы (или буквы) це-
лого не слагаются друг с другом, подобно слогам (48с).
«Нельзя даже сравнивать их со слогами, стремясь добиться
правдоподобия, как бы ни были ограничены наши воз-
можности»111. Однако же в «Тимее» не только вся матема-
тическая игра пропорций отсылает к некоему logos'y, ко-
торый может обойтись без голоса, поскольку божествен-
ный счет (logismos theou, 34а) может выражаться в науке
цифр; кроме всего этого, введение иного и смеси (35а), про-
блематика блуждающей причины и места как неотмени-
мого третьего рода, дуальность парадигм (49а) — все это
«принуждает» (49а) определить начало мира в качестве
следа, то есть в качестве записи форм, схем, в матрицу*,
вместилище. В матрицу или вместилище, которых нигде
нет и которые никогда не даются в форме присутствия
или в присутствии формы, поскольку и то и другое уже
предполагает запись в основу**. Здесь, во всяком случае,
обороты, которые обычно с некоторыми колебаниями на-
зывают «метафорами Платона», оказываются исключи-
тельно и по необходимости скриптуральными***. Выде-
лим для начала один из признаков подобных колебаний
в предисловии к «Тимею»: «Чтобы помыслить место, все-
гда необходимо посредством практически невыполнимой
абстракции отделить, оторвать предметы от “места”, ко-
торое они занимают. Однако такую абстракцию выпол-
нить необходимо по причине самого факта движения, по-
скольку два различных предмета не могут сосуществовать
в одном и том же месте и поскольку, не меняя места, опре-
деленный предмет может стать “иным”. Следовательно,
само “место” мы не можем себе представить иначе как
посредством некоторых метафор. Платон использовал
«La matrice» — прежде всего «матка».
«Запись в основу» — «1’inscription dans la тёге»: буквально «запись
в мать», имеется в виду все та же «матрица» как «основа», но не «осно-
вание».
*** Латинизм «скриптуральные» оставлен, поскольку выражение «письмен-
ные метафоры» или даже «метафоры письма» может иметь несколько
иное значение.
EES Фармация Платона
несколько различных метафор, которые ставят в тупик со-
временных читателей. “Место”, “расположение”, “то, в чем”
являются вещи, “то, на чем” они проявляются, “вмести-
лище”, “матрица”, “кормилица” — все эти формулировки
заставляют нас думать о пространстве, которое содержит
вещи. Но далее речь идет о “носителе отпечатков”, “эксци-
пиенте”, предельно дезодорированной субстанции, в ко-
торой парфюмеры фиксируют запахи, о золоте, из кото-
рого ювелир может создать множество различных фигур»
(Rivaud, £d. Bud£, р. 66). Вот как осуществляется выход за
пределы «платонизма» к апории изначальной записи:
...Тогда мы различили два рода бытия. Теперь же нам
нужно открыть третий его род. В самом деле, двух пер-
вых родов хватало для нашего прежнего изложения.
Один из них, как мы предположили, является неким
видом Модели (paradeigmatos), умопостигаемым и не-
изменным видом; второй же, копия Модели, подчинен
рождению и видим. Тогда мы не выделили третий, по-
скольку решили, что двух нам будет достаточно. Но те-
перь продолжение нашего расследования, как представ-
ляется, принуждает нас попытаться в наших речах пред-
ставить этот третий вид, трудный и темный. Какие же
качества его природы мы должны предположить? Преж-
де всего, следующее: он является поддержкой и как будто
кормилицей (upodokhen auten oion tithenen) любого рож-
дения (pasesgeneseds). [...] (Этой кормилице) всегда сле-
дует давать одно и то же имя. Ведь никогда она уже не
сможет полностью потерять свои качества. Действи-
тельно, она всегда принимает все вещи и ни при каких
обстоятельствах она никогда ни в чем не уподобляется
какому бы то ни было образу из тех, что входят в нее.
Ведь по своей природе она является носителем отпе-
чатков (ekmageion) для всех вещей. Она приводится
в движение и разделяется на образы предметами, про-
никающими в нее, и благодаря их воздействию она
представляется то в одном облике, то в другом. Что же
до образов, которые входят в нее и ее покидают, это
Жак Деррида. Диссеминация
подражания вечным сущностям (ton onton aei mime-
mata), которые эти сущности отпечатывают в ней (tupd-
thenta) тем чудесным способом, который сложно выра-
зить и описание которого мы пока отложим. Сейчас же
достаточно будет запомнить эти три рода бытия: то, что
рождается, то, в чем оно рождается, и то, по чьему по-
добию развивается то, что рождается. Стоит сравнить
вместилище с матерью, а модель — с отцом, а природу,
что посередине между ними, — с ребенком. Кроме того,
нужно хорошо понимать вот что: поскольку отпечатки
должны быть очень разными и представлять на вид
огромное разнообразие, то, в чем формируются эти
отпечатки, не могло бы принимать их, если бы оно не
было абсолютно свободно от всех образов, которые оно
должно получить извне. [...] Поэтому мы не будем го-
ворить, что мать, которая является вместилищем все-
го, что рождается, всего видимого вообще, есть воздух,
огонь или какая-либо из вещей, которые из них рожда-
ются и из которых они рождаются. Но если мы скажем,
что она есть некий невидимый и бесформенный род,
который принимает все и причастен умопостигаемому
смутным и трудно постижимым образом, мы не со-
лжем» (48е—51е; Khdra беременна всем тем семенем,
которое здесь рассеивается. Мы проникнем в нее в дру-
гом месте).
Отсюда берет начало обращение ко сну, осуществля-
емое немного далее, — как в известном тексте «Государ-
ства» (533b), где речь идет о следующем: нужно «видеть»
то, что не удается помыслить в оппозиции чувственного
и умопостигаемого, гипотетического и ангипотетическо-
го, то есть некое незаконное рождение, понятие (nothos)
о котором, не исключено, было знакомо Демокриту
(Rivaud, le РгоЫёте du devenir et la Notion de la matiere...,
p. 310, n. 744):
...Всегда есть третий род, а именно род связи: он не мо-
жет умереть и он дает помещение всем рождающимся
ОШ! Фармация Платона
предметам. Сам он воспринимается лишь благодаря не-
коему смешанному рассуждению (logismo tini notho —
незаконнорожденному рассуждению), которое никогда
не сопровождает ощущение и в которое едва можно
поверить. Именно его мы воспринимаем как будто во
сне, когда утверждаем, что всякое сущее обязательно
существует в каком-то месте, где-то, что оно занимает
определенное место, так что сущее, которого нет ни
на земле, ни где-то на небе, не существует вовсе. Но
что касается всех этих и им подобных наблюдений, от-
носящихся к самой природе этого бытия, как оно есть
по истине и вне сна, часто при пробуждении мы не
способны ясно различить их по причине самого со-
стояния сна и сказать, что же истинно (52b—с).
Следовательно, производство сына — это в то же вре-
мя задание структурности. Связь между структурны-
ми отношениями пропорциональности и самим быти-
ем букв обнаруживается не только в космогоническом
рассуждении. Также и в политическом и лингвистиче-
ском.
В области политики структура — это письмо. В мо-
мент предельного затруднения, когда нельзя обратиться
ни к какому другому педагогическому ресурсу, когда тео-
ретическая речь больше не может никак иначе определять
порядок, мир, cosmos политики, мы обращаемся к грам-
матической «метафоре»: так, проводится аналогия «боль-
ших букв» и «малых букв» в известном тексте «Государ-
ства» (368с—е) в том самом пункте, где требуется «про-
никающий взгляд» и где «такого проникновения нам не
хватает». Структура прочитывается как письмо в услови-
ях, когда созерцания присутствия, чувственного или умо-
постигаемого, оказывается недостаточно.
Тот же жест осуществляется в поле лингвистики. Как
и в случае «Курса общей лингвистики», отсылка к письму
оказывается абсолютно необходимой тогда, когда речь
идет об объяснении различия и диакритичности в целом
как условия значения. Так объясняется второе появление
ВШ1 Жак Деррида. Диссеминация
Тевта на платоновской сцене. В «Федре» изобретатель
pharmacon а лично брал слово и представлял свои буквы
на суд царя. Другое его вмешательство, не такое долгое,
более косвенное и мимолетное, в философском отноше-
нии представляется не менее значимым. Оно осущест-
вляется уже не во имя изобретения графии, а во имя
изобретения грамматики, грамматической науки как на-
уки различий. Это вмешательство происходит в начале
«Филеба» — здесь открывается спор об отношениях удо-
вольствия (khairein) и мудрости или осторожности (phro-
nein) (lid). Спорящие сталкиваются с проблемой предела.
Следовательно, как и в «Тимее», проблемой соединения
тождественного и иного, единого и многого, конечного и
бесконечного. «...Древние, которые были лучше нас и ко-
торые жили ближе к богам, передали нам учение, соглас-
но которому все, что может быть названо существующим,
сделано из единого и многого и содержит в себе изначаль-
но соединенные (en autois sumphuton) предел и бесконеч-
ность (peras de kai apeirian)». Диалектика — это искусство
соблюдать такие промежутки (ta mesa) (16с—17а); Сократ
противопоставляет ее эвристике, спешащей перейти к бес-
конечности. На этот раз, в отличие от того, что происхо-
дит в «Федре», буквы должны внести ясность (sapheneia)
в рассуждение:
ПРОТАРХ. В том, что ты, Сократ, говоришь, есть вещи,
которые я, по-моему, понимаю, и другие вещи, кото-
рые мне еще нужно дополнительно прояснить.
СОКРАТ. Такую ясность тебе, Протарх, дадут бук-
вы; попроси ее у тех самых букв, которые ты учил
в детстве.
ПРОТАРХ. Каким образом?
СОКРАТ. Звук (phon$), который мы издаем ртом,
один и тот же у всех нас и у каждого, и в то же время
он может быть бесконечно различным.
ПРОТАРХ. Конечно.
СОКРАТ. И ни того ни другого недостаточно, что-
бы сделать нас учеными, то есть ни знания звука как
ЕШ Фармация Платона
бесконечного, ни знания его как единого; только зна-
ние того, какое количество у него есть и какие разли-
чия, — вот что делает каждого из нас грамматиком
(17а—Ь).
После обходного движения через пример музыкаль-
ных интервалов (diastematd) спорящие возвращаются
к буквам, чтобы объяснить фонические диастемы и раз-
личие:
СОКРАТ. ...Обратимся же к буквам, чтобы прояснить
то, что мы говорим. (...) Когда была осмыслена беско-
нечность голоса — богом или каким-то божественным
человеком, — тогда-то, как повествует египетская тра-
диция, именно Тевт первым понял, что в этой беско-
нечности гласные (ta phoneenta) являются не единым,
но многим и что, кроме того, существуют и другие
формы речения, которые, не обладая звуком, тем не
менее имеют определенный шум, причем их тоже оп-
ределенное количество; в сторону он отложил как не-
кий третий род то, что сегодня мы называем немыми
(aphond)\ после этого он последовательно разделил все
те немые, которые не обладают ни шумом, ни звуком
(aphtonga kai aphona), а затем тем же самым образом
поступил с гласными и промежуточными и, наконец,
определил их число и дал каждой из букв название эле-
мента (stoikheion). Определив таким образом, что ни
один из нас не способен выучить какую-либо из них
отдельно от всей их совокупности, он счел такую вза-
имозависимость (desmon) особой связью, которая де-
лает из всех них определенное единство, и назначил
им особую науку, которую он назвал грамматическим
искусством (18b—d).
Итак, скриптуральная «метафора» вступает в дело
всякий раз, когда обнаруживается нередуцируемость раз-
личия и отношения, когда инаковость вводит само опре-
деление и организует движение всей системы. Эту игру
ЕШЗ Жак Деррида. Диссеминация
иного в бытии Платон вынужден определить как письмо
в речи, которая хотела бы высказываться в своей собствен-
ной сущности, в своей истине и которая тем не менее за-
писывается. Если же записывается она исходя из смерти
Сократа, то, несомненно, по весьма существенной при-
чине. Исходя из смерти Сократа в данном случае значит и
исходя из отцеубийства в «Софисте». Письмо и его игра
не стали бы необходимыми без насильственного вторже-
ния, осуществленного против беззащитной отцовской
фигуры Парменида, против его тезиса о единстве бытия,
без вторгающегося внедрения иного и не-бытия, не-бы-
тия как иного в единстве бытия. Письмо — это отцеубий-
ство. И разве может быть случайным то, что для Чуже-
земца из «Софиста» необходимость, роковой характер от-
цеубийства, «очевидный, как говорится, даже для слепца
(tuphld)» (нужно было бы сказать — «особенно» для слеп-
ца), является условием возможности речи о ложном, от-
ражении, образе, подражании, фантазме, а также о «тех
искусствах, которые заняты всем этим»? Следовательно,
условием возможности письма? В этом месте письмо само
не упоминается, однако такой пропуск ничуть не мешает
и даже способствует тому, что связь понятия письма со
всеми перечисленными понятиями остается системати-
ческой, и именно таковой мы ее и признали:
ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Чтобы защититься, нам будет необхо-
димо поставить под вопрос положение нашего отца
Парменида (ton tou patros Parmenidou logon) и обяза-
тельно установить, что небытие (тё on) в некотором
отношении есть, а бытие (on) в свою очередь каким-
то образом не есть.
ТЕЭТЕТ. Очевидно, именно сюда стоит направить
все силы нашего спора (phainetai to toiouton diamakhe-
teon en tois logois).
ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Как же это могло бы не быть оче-
видным — очевидным, как говорится, даже для слеп-
ца? Пока не будет выполнено ни это опровержение, ни
это доказательство, мы вообще не сможем говорить
ESQ Фармация Платона
ни о ложных речах, ни о ложных мнениях, ни об обра-
зах, ни о копиях, ни о подражаниях или призраках; да,
впрочем, и ни об одном из искусств, которые заняты
всем этим, не впутавшись по необходимости в смеш-
ные противоречия.
ТЕЭТЕТ. Это верно.
ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Вот почему пришел час атаковать
отеческое положение (td patrico logo) или же безвозв-
ратно уступить ему поле в том случае, если от первого
способа действий нас удержит какое-то препятствие.
ТЕЭТЕТ. Что до этого, пусть ничто нас не удер-
живает (24 Id—242а).
Такое отцеубийство, открывающее игру различия и
письма, — это ужасающее решение. Даже для безымян-
ного Чужеземца. Для такого решения нужны сверхчело-
веческие усилия. Нужно пойти на безумие или на то, что
тебя сочтут безумцем в мудром и благоразумном обще-
стве почтительных сыновей112. Поэтому Чужеземец тоже
боится, что ему не хватит сил, что он, естественно, будет
похож на безумца, боится и того, что ему придется на
самом деле высказывать речь, у которой не будет ни го-
ловы, ни хвоста; он, если угодно, боится пойти по такому
пути, по которому можно пройти только на голове.
В любом случае это отцеубийство будет не менее решаю-
щим, не менее окончательным и ужасным, чем казнь
через обезглавливание. Без надежды на возврат. Он рис-
кует здесь не только головой, но и одновременно гла-
вой, если можно дать ей такое название. Поэтому, безо
всякой надежды попросив Теэтета не считать его отце-
убийцей (patraloian)y Чужеземец высказывает еще одну
просьбу:
ЧУЖЕЗЕМЕЦ. И в третий раз я должен будут попро-
сить тебя о небольшом одолжении.
ТЕЭТЕТ. Говори же.
ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Я, кажется, только что намеренно
признался, что подобное опровержение всегда было
BOB] Жак Деррида. Диссеминация
выше моих сил, да и сейчас оно наверняка их превос-
ходит.
ТЕЭТЕТ. Да, ты признался в этом.
ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Я боюсь, как бы сказанное мной
не навело тебя на мысль, будто я сумасшедший, кото-
рый неожиданно встает с ног на голову (para poda mata-
balon emauton and kai kato) (242a—b).
Теперь-то и начинается речь*. Отеческий logos пере-
ворачивается вверх тормашками. И случайно ли, если, как
только бытие обнаруживается в качестве triton ti, треть-
его, несводимого к дуализмам классической онтологии,
нужно снова обратиться к примеру грамматической на-
уки и отношений между буквами для объяснения пере-
плетения, ткущего систему различий (единства-исклю-
чения) родов и форм, sumploki ton eidon, благодаря ко-
торому «нам врожден рассудок (a logos gegonen emin)»
(959с)? Sumploke также сущего и не-сущего (240с). Для
правила согласия и несогласия, единства и исключения
различных элементов, правила этого sumploke, «верным
было примерно то же, что и для букв» (253а; см. «Поли-
тика», в котором «парадигма» sumploki также является
буквенной, 278а—Ь)113.
Несомненно, грамматическая наука — это не диалек-
тика. Платон стремится подчинить первую второй
(235b—с). Само это различие для него самоочевидно,
однако что в конечном счете может оправдать его?
И грамматика и диалектика в некотором смысле являют-
ся науками о языке. Ведь диалектика — это также и наука,
которая проводит нас «dia ton logon», через речи и аргу-
менты (253b). В данном пункте то, что отличает ее от грам-
матики, представляется двойственным — с одной сторо-
ны, языковые единицы, которыми она занимается, круп-
нее слова (Кратил 385а—393d); с другой стороны, она
В выражении «начинается речь», «1е discours est entamd», Деррида ис-
пользует один из своих излюбленных глаголов «entamer» — одновре-
менно и «повреждать, ранить, отрезать, подрывать», и «начинать»,
«открывать», и «проникать, портить, въедаться».
HD Фармация Платона
всегда направляется нацеленностью на истину*, осуще-
ствить ее может одно лишь присутствие eidos'a, кото-
рый здесь оказывается и означаемым и референтом, то
есть самой вещью. Следовательно, различие между ди-
алектикой и грамматикой может быть со всей строго-
стью установлено только в том пункте, в котором исти-
на полностью присутствует и наполняет собой logos"4.
Итак, отцеубийство «Софиста» устанавливает не только
невозможность полного и абсолютного присутствия суще-
го (невозможность самого «сущего» присутствующего-
сущим — блага или солнца, на которые нельзя смотреть
прямо), невозможность полного созерцания (самой) ис-
тины, но и то, что условие речи, будь она истинной или
ложной, — это диакритический принцип sumploku. Если
истина — это присутствие eidos'a, она всегда должна свя-
зываться с отношением, не-присутствием и, следователь-
но, не-истиной, иначе ей грозит смертельно опасное
ослепление огнем солнца. Из этого следует, что абсолют-
ное условие строгого различия грамматики и диалектики
(или онтологии) в принципе не может быть выполнено.
Или, по крайней мере, оно может быть выполнено в прин-
ципе, в пункте архи-сущего и архи-истины, но этот пункт
был зачеркнут необходимостью отцеубийства. То есть са-
мой необходимостью logos'а. Именно различие наклады-
вает запрет на то, чтобы на самом деле было различие грам-
матики и онтологии.
Но что же такое невозможность истины или полно-
го присутствия сущего, полностью-сущего? И наоборот,
если такая истина — это абсолютная смерть ослепления,
что такое смерть как истина? Но не «что такое?», ведь
форма этого вопроса произведена тем самым, что он
спрашивает; но как же тогда записывается, как вписыва-
ется невозможная полнота абсолютного присутствия
ontos on? Как предписывается необходимость многооб-
разия родов и идей, отношения и различия? Как прочер-
чивается диалектика?
Абсолютная невидимость начала видимого, блага—
солнца—отца—капитала, сокрытие формы присутствия
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
или сущности сущего — весь этот избыток, который
Платон обозначает как epekeina tes ousias (по ту сторону
от сущности сущего или присутствия), дает место, если
еще можно так выразиться, такой структуре замещения,
что все инстанции присутствия окажутся дополнения-
ми, замещающими отсутствующее начало, а все разли-
чия окажутся в системе присутствий неуничтожимым
последствием того, что остается epekeina tes ousias.
Так же как Сократ, как мы видели, замещает отца, ди-
алектика замещает невозможный noesis, запрещенное со-
зерцание лица отца (блага—солнца—капитала). Отступ-
ление от лица одновременно открывает и ограничивает
применение диалектики. Оно безвозвратно скрепляет ее
с теми, кто «ниже» ее, — с миметическими искусствами,
игрой, грамматикой, письмом и т. д. Исчезновение ли-
ца — это движение различения, которое насильственным
образом открывает письмо или, если угодно, которое от-
крывается письму и которое открывается письмом. Все
эти движения во всех этих «направлениях» принадле-
жат одной и той же системе. Одной и той системе при-
надлежат предложение из «Государства», описывающее
в ненасильственных терминах недоступность отца epe-
keina tes ousias, и отцеубийственное предложение, кото-
рое, исходя от Чужеземца, угрожает отцовскому logos'y.
Одновременно угрожая домашнему иерархизированно-
му внутреннему пространству фармации, правильно-
му порядку и правильному обороту, правильному на-
значению ее контролируемых, классифицируемых, до-
зируемых, снабженных этикетками препаратов, строго
поделенных на лекарства и яды, семена жизни и семена
смерти, хорошие и дурные следы. Единству метафизи-
ки, техники, компьютерной двоичной системы. Это фи-
лософское и диалектическое мастерство pharmaca, ко-
торое следовало бы передавать от законного отца закон-
норожденному сыну, постоянно ставится под сомнение
семейной сценой, одновременно образующей и разры-
вающей переход, который связывает фармацию с до-
мом. «Платонизм» — это одновременно и генеральная
НН Фармация Платона
репетиция* этой семейной сцены, и наибольшее усилие,
направленное на ее подчинение, на погашение ее шума,
на ее сокрытие посредством опускания занавеса на рас-
свете Запада. Можем ли мы отправиться на поиски ка-
кой-то иной защиты, если фармацевтическая «система»
ограничивает в одном и том же движении не только сце-
ну «Федра», сцену «Государства» и сцену «Софиста», пла-
тоновскую логику, диалектику и мифологию, но, как
представляется, также и некоторые негреческие струк-
туры мифологии? А если нет никакой гарантии того, что
существует нечто вроде негреческой «мифологии», по-
скольку оппозиция mythos/logos могла войти в оборот
только после Платона, к какой общей и неименуемой не-
обходимости мы возвращаемся? Другими словами, что
означает платонизм как повторение?
Повторим. Итак, исчезновение блага—отца—капи-
тала—солнца — это условие речи, понимаемой на этот
раз в качестве момента, а не в качестве принципа всеоб-
щего письма. Это письмо (есть) epekeina tes ousias. Исчез-
новение истины как присутствия, сокрытие присутству-
ющего начала присутствия является условием любой
истины (и ее проявления). He-истина есть истина. Не-
присутствие есть присутствие. Различение, исчезновение
исходного присутствия — это одновременно условие воз-
можности и условие невозможности истины. Одновре-
менно. «Одновременно» означает, что сущее-присутству-
ющее (on) в своей истине, в присутствии своего тожде-
ства и в тождестве своего присутствия, удваивается, как
только оно является, как только оно представляется. Оно
в своей сущности является как возможность своего соб-
ственного удвоения. То есть, если говорить в платоновс-
ких терминах, своей самой собственной не-истины, сво-
ей псевдо-истины, отраженной в образе, фантазме или
симулякре. Оно есть то, что оно есть, тождественное и
самотождественное, единственное, лишь добавляя себе
возможность быть повторенным в качестве такового. Его
* «La rdpdtition» — также и «повторение».
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
тождество опустошается этой добавкой, скрывается в
дополнении, которое его представляет.
Следовательно, исчезновение лица или структура по-
вторения не могут управляться ценностью истины. На-
против, противоположность истинного и неистинного
полностью заключена, вписана в эту структуру и это все-
общее письмо. Истинное и неистинное — это виды по-
вторения. Возможное повторение существует только
в графике дополнительности, добавляющей к нехватке
полной единицы другую единицу, которая должна ее за-
местить, будучи одновременно и достаточно той же, и до-
статочно иной, чтобы замещать, добавляясь. Таким об-
разом, с одной стороны, повторение — это то, без чего
не было бы истины: истина сущего в умопостигаемой
форме идеальности открывает в eidos'e то, что может
повторяться, будучи тем же самым, ясным, устойчивым,
отождествляемым в своем равенстве себе. И только eidos
может дать место повторению как анамнезу или майев-
тике, диалектике или дидактике. Здесь повторение дает-
ся как повторение жизни. Тавтология — это жизнь, вы-
ходящая из себя лишь для того, чтобы вернуться к себе.
Удерживаясь при себе в тпётё, в logos'e и phone. Но
с другой стороны, повторение — это само движение не-
истины: в нем присутствие сущего теряется, рассеивает-
ся и размножается посредством копий, образов, фантаз-
мов, симулякров и т. д. И посредством феноменов. Такое
повторение — это возможность чувственного становле-
ния, не-идеальность. Сторона не-философии, плохой
памяти, гипомнеза, письма. Здесь тавтология оказыва-
ется безвозвратным выходом жизни из себя. Повторе-
нием смерти. Безудержной тратой. Неуничтожимым из-
бытком, вводимым игрой дополнения, избытком всякой
близости живого, блага и истинного к самому себе.
Два этих повторения соотносятся друг с другом со-
гласно графике дополнительности. Это значит, что боль-
ше мы не можем «отделять» одно от другого, мыслить их
отдельно друг от друга, давать им разные «этикетки», что
в фармации нельзя отделить лекарство от яда, благо от
ЕПЭ Фармация Платона
зла» истинное от ложного» внутреннее от внешнего, жиз-
ненное от смертельного, первое от второго и т. д. Phar-
macon, мыслимый согласно этой исходной обратимости,
является как раз одним и тем же, поскольку он не обла-
дает тождеством. Одно и то же (есть) в дополнении. Или
в различении. В письме. Если бы он что-то хотел-сказать,
это что-то должно было стать речью Тевта, преподнося-
щего царю письмо как pharmacon в качестве странного
дара.
Но Тевт, что самое важное, не взял слова.
Приговор великого бога остался без ответа.
Закрыв фармацию, Платон ушел под защиту солн-
ца. Он сделал несколько шагов в тень, в глубину запасни-
ка, согнулся над рЬагтасоп'ом, решил проанализировать.
В жидкой гуще, подрагивающей у дна сосуда со сна-
добьем, отражалась вся фармация, повторяя бездну его
фантазма.
В этом случае аналитик умеет различать — между
двумя повторениями.
Он хотел отделить хорошее от дурного, истинное от
ложного.
Он снова склоняется — они повторяют друг друга.
Держа pharmacon в одной руке, а тростинку для пись-
ма — в другой, Платон, нашептывая, переписывает игру
формул. Замкнутое пространство фармации невероят-
но усиливает отзвуки монолога. Замурованная речь на-
талкивается на углы, слова отделяются друг от друга, об-
рывки фраз разлетаются в разные стороны, рассоединен-
ные члены переходят из коридора в коридор, определяют
время пробега, переводятся друг в друга, связываются
новыми способами, усиливают друг друга, противоречат
друг другу, создают истории, возвращаются как ответы,
организуют обмены, защищаются, устанавливают внут-
ренние сношения, принимают себя за диалог. Полный
смысла. Целая история. Вся философия.
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
«Ё ёк ё ton logon... звук этих речей шумит у меня
в ушах и мешает мне слышать что-то еще»*.
В этом невнятном гудении, в переходе такого фило-
логического ритма, постепенно различается то, что так
плохо слышно: logos любит сам себя... pharmacon означает
удар... «так что pharmacon должен был бы означать “то, что
относится к дьявольскому наваждению или что исполь-
зуется в качестве лекарства от подобного наваждения”»**...
переворот... одиночный выстрел... трюк... но удар на ко-
пейку... пшик... еп udati grapsei Списать по воде>... и удар
судьбы. Тевт, который изобрел письмо... календарь... ко-
сти... kubeia <игра в кости>... смену календаря... внезап-
ную развязку... сбой почерка... бросок костей... двойной
удар***... kolaphos... gluph... colpus... удар... глиф... скаль-
пель... скальп... хриз... хризолит... хризологию.
Платон затыкает себе уши, чтобы лучше слышать,
как он говорит, чтобы лучше видеть, лучше анализиро-
вать.
Он умеет различать — между двумя повторениями.
Он ищет золото. Pollakis de legomena kai aei akouono-
mena... «Необходимы повторения, продолжительные уро-
ки, долгие годы, только так, да и то едва ли, с огромными
усилиями удается очистить их, как очищают золото...»****
И философский камень. «Золотое руководство».
Критон 54d (эта и последующая цитаты уже использовались в тексте
«Фармации Платона»).
* * Boisacq Е. Dictionnaire Jtymologique de la langue grecque, Heidelberg,
1950, p. 1015. Словом «наваждение» передано французское «coup»,
встроенное здесь в определенную игру.
* *• «Переворот... двойной удар»: Деррида обыгрывает различные обороты
со словом «1е coup» («удар»). Перевод,естественно, не сохраняет игры и
не может быть признан однозначным. Переворот — un coup de force
(буквально — «удар силы»);одиночный выстрел — un coup tird («оття-
нутый удар»); трюк — un coup montd («поднятый удар»); удар на ко-
пейку — un coup pour rien («удар на ничто»); пшик («удар по воде») —
un coup dans Геаи; удар судьбы — un coup du sort; смена календаря — un
coup du calendrier («удар календаря»); внезапная развязка — un coup de
thdfitre («удар театра»); сбой почерка — un coup de I’dcriture («удар пись-
ма»); бросок костей — un coup des dds; двойной удар — un coup double.
* *** Политик 303d—e.
EID Фармация Платона
Нужно было бы различить — между двумя повто-
рениями.
— Но они повторяют друг друга, снова, они заменя-
ют друг друга.
— Но нет, они не замещают друг друга, поскольку
они добавляются друг к другу.
— Верно...
Следует отметить еще это. И закончить это Второе
Письмо.
«...Итак, подумай об этом и позаботься о том, как бы
потом не раскаиваться в том, что сегодня ты распыля-
ешь себя в недостойных речах. Самое надежное сред-
ство — вообще не писать, а выучивать наизусть... to тё
graphein airekmanthanein... Поскольку невозможно, чтобы
записи не стали однажды достоянием публики. Поэтому
я сам вообще никогда ничего не писал по этим вопросам...
oud'estin sungramma Platonos ouden oud'estai, не существует
сочинения Платона и никогда не будет существовать. То,
что в настоящее время обозначают таким именем, Socratos
estin kalou neou gegonotos... принадлежит Сократу времен
его прекрасной молодости. Прощай и повинуйся мне. Как
только ты прочтешь и перечтешь это письмо, сожги его...»*
— Я надеюсь, что это письмо не затеряется. Быстро,
копия... графит... копирка... письмо повторно прочита-
но... сожги его. Вот и пепел. И теперь нужно было бы раз-
личить — между двумя повторениями.
Ночь проходит. Утром раздаются удары в дверь. Ка-
жется, что на этот раз они, удары, идут извне.
Два удара... четыре...
— Но, быть может, это остаток, сон, обрывок сна, от-
голосок ночи... этот другой театр, эти удары извне...
Письмо II 314b—с.
ТРАНСПРЕДЕЛЕНИЕ (1)
По вопросу природы существует общее мнение, что философия
должна познавать ее так, как она есть, что если философский
камень (der Stein der Weisen) и скрыт в каком-то месте, то только
в самой природе, что она содержит в самой себе свое собствен-
ное основание. [...] Нравственный мир (Die sittliche Welt), напро-
тив, Государство...
Невинно только отсутствие действия, бытие некоего камня
(Das Sein eines Steines), а вовсе не бытие ребенка.
Гегель
Братья Моравы убивали щекоткой. Мы применили примерно
такую же пытку к женщинам — их оскверняли до смерти. [...]
— Восхитительный философ! — вскричал я, запрыгивая на
шею Браши, — никто никогда не мог так хорошо объяснить этот
весьма важный вопрос...
— Поедем, уже поздно, разве вы сами не говорили, что не
нужно, чтобы рассвет застал нас на месте наших злодеяний?..
Мы перешли в церковь.
Сад
...Гонимая бичом глупость богохульства, эта черная мирская мес-
са распространяется, естественно, и на литературу, на объект
изучения или критики.
Лучшая дань почтения затухшей лаборатории великого
произведения состояла бы в том, чтобы без горелки принять-
ся за старые манипуляции, яды, не застывшие в камень, чтобы
продолжить дело простым умом. Поскольку для умственного
исследования существует только два пути, на которые всегда
раздваиваются наши потребности, а именно эстетика, с од-
ной стороны, и политическая экономия: собственно, именно
по отношению к последнему направлению, что самое важное,
алхимия была славным, поспешным и смутным предшествен-
ником. Все, что было в голом, чистом, лишенном смысла виде,
до собственно явления, сегодняшнего, толпы, должно быть
возвращено в общественную область. Ничтожный камень,
мечтающий о золоте, так называемый фило-
продолжение на с. 347
Двойной сеанс
Первая версия опубликована в журнале Tel Quel (41 и 42),
1970. Редакция снабдила публикацию примечанием, кото-
рое мы здесь воспроизводим:
«Заглавие предложено редакцией журнала. По причи-
нам, которые будут ясны из самого текста, он был предло-
жен вообще без заглавия. Он был зачитан в качестве до-
клада на двух заседаниях “Группы Теоретических Иссле-
дований” 26 февраля и 5 марта 1969 г. Необходимо также
напомнить, что на тот момент была опубликована только
первая часть “Диссеминации” (Critique, fdvrier 1969, № 261).
У каждого участника в распоряжении был лист бу-
маги с отрывком из “Филеба” Платона (38е—39е, фр. пе-
ревод Диеса) и “Мимикой” Малларме (ed. de la P16iade,
p. 310). Здесь мы сохраняем типографические и топогра-
фические особенности этого листа. Нужно ли напоминать
о том, что грифельная доска была покрыта цитатами, про-
нумерованными и заключенными в рамки? Как и о том,
что зал освещался громоздкой и устаревшей люстрой? —
Примечание редакции».
СОКРАТ: И если бы кто-то был с ним и он развил в слова, обращенные к своему спутнику, мысли,
которые он говорил лишь самому себе, он вслух высказал бы те же самые утверждения, и то, что мы
только что назвали мнением (ddgav), стало бы уже речью (Аёуо^)? — ПРОТАРХ: Несомненно. —
СОКРАТ: Но если, напротив, он один и только наедине с собой составляет такие размышления, иног-
да он тратит много времени на то, чтобы прожевать их все внутри себя. — ПРОТАРХ: Именно так. —
СОКРАТ: Итак! Думаешь ли так же, как и я, о том, что случается в таких обстоятельствах? — ПРО-
ГА РХ: Что именно? — СОКРАТ: Мне представляется, что наша душа в таком случае походит на книгу
(Дохе? pot тёте pcovi} фих?| 0t0At<5 tiv\ icpoaeotxlvai). — ПРОТАРХ: Как это? —
СОКРАТ: Память в своей встрече с чувствами и размышления, которые вызываются этой встре-
чей, как мне кажется, записывают, если только так можно сказать, речи в наших душах (ypdtpetv
T]p(bv dv так; фихаН тёте Аёуоис), и когда такое размышление записывает истинные вещи,
в итоге в нас будет истинное мнение, н истинные речи. Но когда этот писатель, который в нас.
записывает ложные вещи (феиёт) fi'6rav о тоюитос nap’f|pTv ураццатебс урёфе), итог
будет противоположен истине. — ПРОТАРХ: Я именно так и считаю, я допускаю это сравне-
ние. — СОКРАТ: Допусти в таком случае и то, что в этот момент в нашей душе трудится и другой
мастер (6epioupydv). — ПРОТАРХ: Который? — СОКРАТ: Художник (Zcoypdtpov), который при-
ходит после писателя и рисует в душе образы, соответствующие речам. — ПРОТАРХ: Как же,
по нашему мнению, будет он действовать и при каких обстоятельствах? — СОКРАТ: Когда, отделяя
от непосредственного зрения (ёфсом;) или
какого-то другого чувства мнения и речи,
которыми оно сопровождалось, каким-
то способом замечаешь в себе образы
(e(x<5v8C) вещей, так мыслимых и выска-
зываемых. Разве такое с нами нс случает-
ся? — ПРОТАРХ: 11 очень часто. — СО-
КРАТ: Следовательно, образы истинных
мнений и речей сами истинны, а ложны об-
разы мнений и речей ложных? — IIPOTAPX:
Именно так. — СОКРАТ: И если все, что мы
сказали до этого, справедливо, остается еще
один вопрос, который нужно изучить. —
ПРОТАРХ; Какой? - СОКРАТ: Сопровожда-
ют ли такие впечатления в нас по необходи-
мости только представление настоящего
(tgjv ovujv) и прошлого (nov yeyov6r<*>v),
но ие представление будущего (t<5v
peAAdvrcov). — ПРОТАРХ: Нет, представ-
ление всех времен без исключения. — СО-
КРАТ: Но не сказали ли мы раньше, что удо-
вольствия и страдания, обязанные одной
.только душе, могут предшествовать удоволь-
ствиям и страданиям, которые приходят че-
рез тело, так что мы, случается, получаем
предчувствуемые удовольствия и страдания
в том, что относится к будущему? — ПРО-
ТАРХ: Именно так. — СОКРАТ: Так что же
эти буквы и эти образы (у рёццатё те xai
С<оура<р1^рата), которые, как мы только
что установили, производятся в наших ду-
шах, существуют ли они в таком случае толь-
ко для настоящего и прошлого, но не для бу-
дущего? — ПРОТАРХ: Как раз наоборот. —
СОКРАТ: Ты говоришь «как раз*, потому что
все это лишь надежды на будущие времена,
а всю свою жизнь мы всегда полны на-
дежд? — ПРОТАРХ: Именно так. — СОКРАТ:
Отлично, тогда в качестве дополнения ко
всему тому, что мы сказали, ответь иа сле-
дующий вопрос
МИМИКА
Молчание, единственная роскошь после рифм,
оркестр со всем своим золотом, шелестом мыс-
лей и вечера лишь оттеняет его значение, рав-
ное убитой оде, которую пристало выразить по-
эту, смятенному этим вызовом! Молчание после
полудня музыки; я обретаю его, с удовлетворе-
нием, и благодаря по-прежнему неожиданному
появлению Пьеро или горестного и элегантного
мима Поля Маргеритта.
Итак, этот «Пьеро, убийца своей жены*, сложен-
ный и составленный им самим, немой монолог,
который держит в своей душе жестами и лицом
призрак, белый как еще не написанная страни-
ца. Вырывается вихрь наивных или новых дово-
дов, который он хотел бы схватить, получив уве-
ренность: эстетика жанра, который ближе к ис-
токам, чем любой другой! Ничто в этой обители
каприза не противится непосредственному ин-
стинкту упрощения... Вот — «Сцена иллюстри-
рует только идею, а не настоящее действие, в ги-
мене (из которого берется феза), порочном, но
священном, между желанием и выполнением,
совершением и воспоминанием: здесь опережая,
там вспоминая, в будущем, в прошлом, а ложном
явлении настоящего. Так действует Мим, игра
которого ограничивается постоянным намеком,
никогда не разбивая стекла: так он закрепляет
среду, чистую, вымысла*. Меньшая, чем на ты-
сячу строк, роль, что его читает, сразу же пони-
мает правила, как будто оказавшись перед под-
мостками, их мрачным распорядителем. Неожи-
данность, сопровождающая исполнение ремесла
фиксации чувств вовсе не произнесенными фра-
зами — что, быть может, только в этом един-
ственном случае, в подлинном виде, между лис-
тами и взглядом, царит еще тишина, условие и
наслаждение чтения.
«вышедшая «
посередине заседания я притворяюсь, будто уношу с собой | где, как кажется
160 — пьеса — соотносит ее и не переставляет ее — Такой двойной сеанс» |192 (А)]
в картотеки «... То, что
в обратном направлении которым снова стала книга» так даст два сеанса» 191 (А)]
II
IV
«Если кому-то, кого поражает размах, нравится вменять вину... Это будет Язык, вот его проделка.
— Слова, сами собой, воспламеняются многочисленными гранями, редко замечаемыми, или полу-
чают значение для духа, центра вибрирующего подвеса; который воспринимает их независимо от
обычной последовательности, спроецированными, па стенки грота, пока длится их движение или
принцип, к.1к то сущее, 'гто не говорится речью: до топ» как потухнуть, они все готовы к взаимно-
сти удаленных огней, представленной вкось как случайность.
Грамматикам остается спорить о том, что необходимая усредненная очевидность уклоняется в по-
дробности». (О. С., р. 386).
• Короче
I вместо листа, которым обладал бы каждый — • у него его не будет
у меня все...» 1131 (А)| -тождество | значит ли это начинать с конца? |
места и листа сеанса и тома...» (р. 138) 194(A)]
«Он ступил своей ногой в пещеру и извлек бренные останки» (О. С., р. 407.)
«Напротив, какая неизбежная измена в самом факте одного из вечеров нашей жизни, потерянного
в этой пещере из картона и раскрашенного полотна, в пещере Гения — в Театре! — если ничто не
способствует тому, чтобы мы обратили на него внимание... Самое близкое торжество, единствен-
ное — поместить нож из слоновой кости в тень, составляемую двумя склеенными страницами тома:
и другое, роскошное, горделивое и по-особому парижское — “Премьера" в каком угодно месте...»
(QC., рр. 717—718).
V •Он оказывается в одном месте — Городе — где Те Подвиг, который должен был принести ему славу время на этой Операции;»... 1169 (А)] • операция — Герой освобождает — Гйми из которого он сделал праздник — (свадьбу) Др это преступление: ои останавливается на
(материнский), который творит его, н возвращается в Те, которым была — » |4(А) |
Эти цитаты в таблицах нужны, чтобы в молчании пока-
зывать на них пальцем. И чтобы, читая уже написанный
текст, черное на белом, я мог полагаться на некий указа-
тель, который всегда за мной, белое на черном. На месте
этих пересечений всегда будет замечаться определенное
письмо пробела.
Двойной сеанс (таблица I), по поводу которого мне
никогда не достанет смелости или наглости сказать, что
он предназначен для вопроса «Что такое литература?»,
поскольку этот вопрос отныне должен уже восприни-
маться как цитата, в которой определенному смещению
подвергается само место вопроса «Что?», как и предпо-
лагаемая власть, благодаря которой что угодно, и особен-
но литература, может быть подчинено его форме; этот
двойной сеанс, заявить о котором, будто он затронут воп-
росом «Что такое литература?», у меня никогда не хватит
воинствующей невинности, — он найдет свой угол
МЕЖДУ литературой и истиной, между литературой и
тем, что необходимо ответить на вопрос «Что?».
Этот двойной сеанс сам будет зажат в угол, посереди-
не или в зазоре двух частей одного текста, из которых ви-
дима только одна, только одна часть читаема, поскольку
она по крайней мере была опубликована, а весь текст при-
вит к «Числам», с которыми нужно будет считаться. Для
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
некоторых ссылка на этот наполовину отсутствующий
текст будет очевидной. Во всяком случае, само собой ра-
зумеется, что сеанс и текст ни абсолютно отличны, ни про-
сто неразделимы.
Интересное место, этот угол между литературой и
истиной образует, следовательно, определенное расхож-
дение. У него будет облик некоего изгиба, угла, образо-
ванного складкой.
Теперь у нас есть вопрос заглавия.
Это один из наиболее важных вопросов, весьма глу-
бокий вопрос, поднятый Гу, рассуждающего о «еще не
продуманной мысли сети» о многоузловой и не-предста-
вительной организации, о мысли текста... текста, кото-
рый ничто не могло бы озаглавить. Текста без заглавия и
глав. Без головы и престола»116.
Малларме знал об этом. Ведь он как раз и сконстру-
ировал этот вопрос или, скорее, разрушил его двуглавым
ответом, устраняющим сам вопрос, смещающим его
к сущностной нерешенности, которая подвешивает в воз-
духе свои собственные заглавия.
Так мы можем влезть в угол, который нас интересует —
с одной стороны, Малларме предписывает подвешивание за-
главия, которое, подобно голове, престолу, прорицателю,
слишком выдается вперед, говорит слишком громко, при-
чем одновременно и потому, что оно повышает голос, заглу-
шая следующий за ним текст, и потому, что оно занимает
верхнюю часть страницы, которая становится бросающим-
ся в глаза центром, началом, заветом, начальствованием, ар-
хонтом. Таким образом, Малларме требует утихомирить
заглавие. Скромный приказ, в раскате действующего фраг-
мента, на резком и режущем гребне. Мы удержим лишь
один определенный гимен, который доказывается в нем,
к которому позже нас приведет нерешенность:
В ответ на атаку я предпочитаю оборониться, отве-
тив, что современники не умеют читать —
Если только это не газета; она, конечно же, дает
преимущество не беспокоить хор привычных занятий.
BED Двойной сеанс
Читать —
Эта практика —
Полагаться, согласно странице, на пробел, кото-
рый открывает ее в ее невинности, для себя, забываю-
щую даже и о заглавии, которое говорило бы слишком
громко, — а когда в разломе, пусть самом мельчайшем,
рассеянном, выровнялся случай, слово за слово побеж-
денный, пробел возвращается как ни в чем не бывало,
совершенно даром, достаточный теперь для того, что-
бы заключить, что нет ничего по ту сторону молча-
ния и ничего более подлинного, чем молчание —
Девственность, которая в одиночестве, перед про-
зрачностью совпадающего с ней взгляда, сама как будто
разделилась на свои нежные фрагменты, на один и дру-
гой, причем оба являются брачными свидетельствами
Идеи.
Мелодия или песнь под текстом, ведущим прорица-
ние отсюда туда, прилагает к нему свой мотив в фор-
ме невидимой буквицы и невидимой виньетки (р. 386).
Власти и напыщенности заглавия, наглости главен-
ства сопротивляется не только невидимая виньетка, ко-
торая в своем крайнем варианте — и если следовать ее
определению в качестве полиграфического термина —
«служит для заполнения пробела на странице». Упоря-
доченное вмешательство пробела, мера и порядок дис-
семинации, закон опространствования, фивцдс"1 (час-
тота и черта письма), «пунктуация, которая, расположи
ее на белой бумаге, уже наделяется значением» (р. 655), —
вот что разрушает «набожную прописную букву» загла-
вия и работает над отсечением главы текста. Неизбеж-
ное возвращение, упорядоченная периодичность пробела
в тексте («пробел возвращается как ни в чем не бывало...»)
повторно отмечает <re-marque> себя в «девственности»,
«нежности», «брачных свидетельствах Идеи». Благодаря
этим словам, а также белизне некоего покрывала, протя-
нутого или разорванного, мы уже проникли, сами того
не заметив, в тот самый угол, который нас интересует.
8-6705
ЕНЭ Жак Деррида. Диссеминация
Подвесить заглавие нужно, следовательно, учитывая
то, над чем заглавие господствует.
Но функция заглавия не сводится к иерархии. Загла-
вие» которое следует подвесить, уже подвешено в силу
самого места, занимаемого им, оно в подвесе или в по-
висании. Над текстом, от которого оно ожидает и полу-
чает все — или ничего. Как роль среди других ролей, это
повисание связано, стало быть, с тем местом, в котором
Малларме расположил люстру, бесчисленные люстры,
над сценой своих текстов.
Следовательно, озаглавленное не указывает на престол
письма, оно обеспечивает его подвес, а также его контур,
окоем, обрамление. Оно образует первую складку и выри-
совывает вокруг текста некую маточную белизну. Отсюда
проистекает не только беспредельная тщательность в под-
боре заголовков (некоторые ее примеры мы еще рассмот-
рим), но и — если речь идет об отсечении главы текста —
«семантическое переворачивание» ||8, закон нерешенно-
сти которого мы определим. Итак, Малларме предписы-
вает наложить на заглавие печать молчания и в то же вре-
мя черпать в нем как источнике некоего зародышевого или
семенного пробела. Ранее уже была изучена роль фраз-за-
головков или порождающих фраз у Малларме. Робер Г. Кон
<Robert G. Cohn> посвящает им две главы, рассматривая
пример «Броска костей» ”9. Обращаясь к Морису Гийемо
<Maurice Guillemot:^20, Малларме описывает подвешива-
ющую силу заглавия или, если говорить более точно, той
пустоты, которую он отмечает в верхней части страницы.
Это письмо может оказаться интересным для нас и по
другим мотивам — например, благодаря мотиву стран-
ной практики описания, которое оказывается не чем иным,
как представлением, а именно: когда речь, как кажется, идет
о декоре, о мебели и об атмосфере (описание относится
к описывающему себя письму, расписывающему себя по
своим траекториям, углам и «завихрениям» или «репри-
зам», возвращающим его к нему самому, так что никогда
оно не является просто описанием вещей); также и благо-
даря одному слову, которое я больше нигде не встречал»
ЕЕП Двойной сеанс
даже у Малларме, — слову «синтаксик» <syntaxier>. «В Вер-
сале есть деревянные панели с вязью, красивые до слез; рако-
вины, завихрения, кривые, репризы мотива. Такой исходно
представляется мне фраза, которую я бросаю на бумагу,
в общем рисунке, которую я затем повторно просматри-
ваю, очищаю, сокращаю, синтезирую. Если подчиниться
приглашению этого большого белого пространства, с умыс-
лом оставленного в верхней части страницы, как будто бы
для того, чтобы отделить от всего, уже прочитанного
в другом месте, если удастся подойти с девственной, об-
новленной душой, можно заметить, что я являюсь глубо-
ким и скрупулезным синтаксиком, что мое письмо лишено
какой бы то ни было темноты, что моя фраза есть то,
чем она должна быть, быть навеки...»
Итак, заглавие останется подвешенным в провиса-
нии, в воздухе, но оно будет сверкать, как театральная
люстра, множество граней которой (таблица II) так и не
будет ни сосчитано, ни уменьшено: «Один и тот же прин-
цип! И точно так же, как вспыхивает люстра, то есть
оно само, живое представление во всех своих гранях, пред-
ставление чего бы то ни было и само наше блистающее
как алмаз зрение, драматическое произведение показыва-
ет последовательность внешних друг для друга частей
акта, так что никакой момент не сохраняет реальность
и в конечном счете вообще ничего не происходит... Вечное
подвешивание слезы, которая никогда не сможет ни пол-
ностью оформиться, ни упасть, (и снова как люстра)
сверкает в тысяче взглядов...» (р. 296).
Поскольку позже нам придется выделить материю
этому отсутствию события, видимой и оформленной
неотвратимости его не-местности («так что никакой мо-
мент не сохраняет реальность й в конечном счете вооб-
ще ничего не происходит») в синтаксисе занавеса, экра-
на, покрывала, напомним также о включенном в «Служ-
бы» <Offices> «Священном удовольствии» <Plaisir sacre>.
Смычок или указка главы — оркестра, ожидающая, за-
висшая, как поднятое перо, также загорается при подоб-
ном подвешивании или сиянии люстры:
8*
EQ3 Жак Деррида. Диссеминация
...Когда занавес вот-вот поднимется, открывая пус-
тынное великолепие осени. Близкое распыление свето-
носной аппликатуры, которое подвешивает листва,
в этот момент отражается в рядом расположенной
оркестровой яме.
Дирижерская палочка ожидает сигнала.
Никогда не опустился бы самовластный смычок,
отмеряющий первый такт, если бы нужно было, что-
бы в это особое мгновение года люстра, расположен-
ная в зале, своими многочисленными гранями представ-
ляла бы просветленность публики относительно того,
зачем она пришла (р. 388).
Быть может, над этим двойным сеансом можно под-
весить заголовок, разбитый на грани следующим обра-
зом:
[произносить, не записывая,] ПЕЩЕРА МАЛЛАРМЕ
[три раза121 cL’ANTRE DE MALLARME>
иначе говоря «МЕЖДУ» МАЛЛАРМЕ
<L’«ENTRE» DE MALLARME>
иначе говоря МЕЖ «ДВУХ» МАЛЛАРМЕ
<L’ENTRE-DEUX MALLARME>
Пишется, как произносится.
И первый из двух подзаголовков был бы подвешен
в двух точках — в соответствии с синтаксисом, который
выписывается следующим образом:
[на этот раз писать,] Гимен: МЕЖДУ Платоном и
[не произнося Малларме
<ENTRE Platon et Ма11агтё>
«Собеседник садится»
На листе, который есть у каждого (таблица III), не-
большой текст Малларме, «Мимика», втиснут в угол, раз-
деляя его или дополняя, в отрывок из «Филеба», кото-
рый, не упоминая само слово mimesis^ иллюстрирует его
033 Двойной сеанс
систему и даже определяет ее, пусть и благодаря» так ска-
зать» предвосхищению, в качестве системы иллюстрации.
Зачем размещать здесь два этих текста и размещать
их именно таким образом, при открытии вопроса о том,
что проходит (происходит) или не проходит (не проис-
ходит) между литературой и истиной, — вопроса, кото-
рый останется, подобно этим двум текстам и этой пан-
томиме, неким эпиграфом к будущему развитию, озаг-
лавленным текстом, свысока наблюдающим за событием,
которое (как нам нужно будет к концу следующего вече-
ра установить) еще не произошло.
Благодаря определенному изгибу, который мы выпи-
шем, эти тексты и их связь друг с другом в конечном счете
выходят за пределы любого исчерпывающего описания.
Тем не менее мы можем начать крупными мазками отме-
чать присутствующие в них в определенном количестве
мотивы. Эти мазки могли бы сформировать что-то вроде
рамки, ограждения, окаймления некоей истории, которая
как раз и была бы историей определенной игры между
литературой и истиной. История этого отношения ока-
залась бы организованной» быть может, вовсе и не
mimesis'ом — причем не стоит спешить с переводом это-
го понятия (особенно с «подражанием» <imitation>), —
а определенной интерпретацией mimesis'а. Подобная ин-
терпретация не была действием или спекулятивным ре-
шением некоего автора, состоявшимся в тот или иной
момент, ведь если реконструировать ее систему, она по-
кроет всю историю в целом. Между Платоном и Маллар-
ме, собственные имена которых здесь являются не ре-
альными референциями, а принятыми ради удобства
обозначениями и опорными точками нашего анализа,
имела место определенная история. Эта история также
была историей литературы, если допускать» что литерату-
ра в ней родилась и умерла, а свидетельство о ее рождении
и наделении именем совпадает с ее исчезновением соглас-
но некоей логике, определить которую нам поможет
гимен. Вся эта история, если она имеет какой-то смысл,
полностью упорядочена значением истины» а также
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
определенным отношением между литературой и исти-
ной, вписанным в упомянутый гимен. Говоря «эта исто-
рия, если она имеет какой-то смысл», мы делаем вид, буд-
то допускаем, что она могла бы его и не иметь. Стало быть,
мы могли бы, пойди мы до конца этого анализа, увидеть,
что не только история имеет определенный смысл, но и
что само понятие истории жило лишь возможностью
смысла, прошлого, настоящего или обетованного присут-
ствия смысла, истины истории. Вне этой системы к поня-
тию истории можно было бы обратиться, лишь вписывая
его куда-то еще, следуя при этом особой систематической
стратегии.
Истинная история, история смысла рассказана в «Фи-
лебе». Если перечитать сцену, которая у вас перед глазами,
вы заметите четыре черты.
1. Книга — это некий диалог или диалектика. По
крайней мере, она должна была бы быть ею. Сравнение
души с книгой (biblid) внедряется таким образом, что
книга в нем представляется всего лишь видом или ин-
станцией речи (logos), то есть молчащей речью, молча-
ливой, внутренней — не «убитой одой» или «молчанием
после полудня музыки», как говорится в «Мимике», не
«умолкнувшим голосом», как в «Музыке и словесности»,
а затаенной речью. То есть, одним словом, мыслью, как
она определяется в «Теэтете» и «Софисте»: «Итак, мысль
и речь — это одно и то же; только такое название —
мысль — мы дали этому внутреннему и молчаливому
диалогу души с самой собой» (Софист 263е). «“Что ты
называешь этим именем [dianoeisthaift” — “Речь, кото-
рую душа все время держит перед самой собой о пред-
метах, которые она изучает. Я представляю тебе все это
в качестве человека, который совсем в этом не сведущ.
В самом деле, именно так я представляю себе душу, когда
она мыслит; ведь для нее мыслить — это не что иное, как
вести диалог, задавать самой себе вопросы и давать от-
веты, переходя от утверждения к отрицанию» (Теэтет
189е, перев. А. Диеса). В соответствии с аргументацией
SD Двойной сеанс
«Филеба» первоначально существовала doxa — мнение,
чувство, оценка, которая самопроизвольно оформлялась
во мне и которая относилась к кажимости или правдо-
подобию, не вступая в какую-либо коммуникацию и не
выражаясь в какой-либо речи. Затем, когда я высказы-
вал эту doxa вслух, то есть какому-то определенному, здесь
присутствующему собеседнику, она становилась речью
(logos). Но уже с того момента, когда logos смог сформи-
роваться, когда диалог стал возможным, может случить-
ся так, что в силу какого-то фактического обстоятельства
у меня не будет партнера — в одиночестве я буду адресо-
вать речь в некотором смысле самому себе, я займусь
внутренней беседой с самим собой. При этом я продол-
жаю держать речь, но она беззвучна, это некий частный
logos, то есть отлученный — в том числе и от своего соб-
ственного органа, от своего голоса. Следовательно, имен-
но когда поднимается тема этого ущербного logos'a, это-
го бесцветного голоса, этого усеченного диалога, от ко-
торого оторвали как его орган, так и его собеседника,
Сократу представляется необходимым обратиться к «ме-
тафоре» книги. В этом случае наша душа напоминает
книгу, потому что это, конечно, некий logos и некий диа-
лог (таким образом, книга — это лишь один из видов рода
«диалог»), но и потому — и это главное, — что такая со-
кращенная или нашептанная беседа остается фальши-
вым диалогом, малым разговором, равноценным потере
голоса. В этом диалоге до потери голоса необходимость
в книге и в записи в душе появлялась бы только из-за
нехватки присутствия другого, когда голос не находит
места своего применения — в этом случае мы путем за-
мещения пытаемся восстановить присутствие другого и
одновременно исправить орган голоса. Таким образом,
метафорическая книга наделена всеми теми качествами»
которые всегда, вплоть до Малларме, будут приписывать-
ся книге, какие бы опровержения ни приносила сама
литературная практика. Следовательно, это книга как за-
мещение само собой разумеющегося диалога, называю-
щего себя, само собой разумеется, живым.
SB Жак Деррида. Диссеминация
2. Истина книги разрешима. Этот фальшивый диалог,
которым является книга, не обязательно является ложным
диалогом. Психический volumen, книга в душе может быть
истинной или ложной в зависимости от того, какие вещи,
истинные или ложные, говорит и (в непосредственном
следствии говорения) записывает писатель, который су-
ществует в нас (par emin grammateus). Ценность книги как
распластованного logos'a находится в соответствии, зави-
симости (которая также обозначается как logos) от его ис-
тины, эта ценность пропорциональна ей. «Но когда этот
писатель, который в нас, записывает ложные вещи, итог
будет противоположен истине». В конечном счете психи-
ческое письмо должно предстать перед трибуналом диа-
лектики, онтологии. Оно стоит лишь того, сколько в нем
чистого веса истины, такова его единственная мера. Об-
ращение к истине того, что есть, к истине самих вещей,
всегда позволяет решить — в положительном или отри-
цательном смысле, — является ли письмо истинным, со-
ответствует ли оно истинному или «противоположно» ему.
3. Ценность книги (истина/ложь) не является ее внут-
ренней ценностью. Само по себе выписанное простран-
ство ничего не стоит, оно не является ни плохим, ни хоро-
шим, ни истинным, ни ложным. Это утверждение ней-
тральности (ни/ни), если его экспортировать за пределы
платоновского контекста, могло бы, как мы вскоре уви-
дим, иметь удивительные следствия. Но истина или лож-
ность этой платоновской книги сообщаются ей только
в то мгновение, когда писатель переписывает затаенное
слово, когда он копирует в книгу речь, которая уже состо-
ялась, которая удерживается в том или ином отношении
истины (подобия) или ложности (непохожести) к самим
вещам. Если не следовать за метафорическим использо-
ванием книги, можно было бы сказать, что писатель пере-
писывает во внешнюю книгу, в книгу в «собственном»
смысле, то, что до этого он уже нацарапал на оболочке
души. Решать, где истина, а где ложь, нам придется отно-
сительно этой первой царапины. Книга, которая копиру-
ет, воспроизводит, подражает живой речи, стоит лишь
ЕШ Двойной сеанс
того, чего стоит эта речь. Она может стоить меньше —
в той мере, в какой она отделена от жизни logos'а, но она не
может стоить больше. Тем самым письмо вообще истол-
ковывается как подражание, двойник живого голоса и
присутствующего logos'a. Письмо вообще — это, конеч-
но, не литературное письмо. Но в других текстах, напри-
мер в «Государстве», поэт сначала осуждается, а потом
обвиняется именно в качестве подражателя, мима, кото-
рый не практикует «простое повествование». Специфи-
ческое место поэта может как таковое оцениваться в со-
ответствии с тем, обращается ли он к миметической фор-
ме122 и каким именно образом. Поэзию» разбирательство
по делу которой открывается таким образом, нельзя,
естественно, смешивать с тем, что мы называем «лите-
ратурой». Если даже, как мы попытались представить, ли-
тература — это мертворожденный, появившийся на свет
в сравнительно недавнем разрыве, тем не менее вся ис-
тория словесности перемещалась, преобразовывалась
внутри различных логических возможностей, открытых
понятием mimesis'а. Эти возможности довольно много-
численны, парадоксальны, рассогласованны, и именно
поэтому они высвободили весьма богатую комбинато-
рику. Здесь мы не будем доказывать этот тезис. Остано-
вимся только на схематике, которая задала границы всей
речи Платона — иногда ему нужно было осуждать mi-
mesis сам по себе, как процесс удвоения, независимо от
того, каков его образец, а иногда — обесценивать его
лишь в зависимости от «имитируемого» образца, тогда
как сама миметическая операция оказывается нейтраль-
ной и даже рекомендуемой. Но в обоих случаях mimesis
подчинен истине — он или вредит открытию самой
вещи, заменяя сущее его копией, его двойником, или слу-
жит истине посредством схожести двойника (homoiosos).
Logos, сам имитируемый письмом, имеет значение лишь
как истина; именно в таком качестве он всегда исследу-
ется Платоном.
4. И наконец, четвертая черта, нужная, чтобы за-
ключить весь текст в рамку, — исходным элементом так
SQ Жак Деррида. Диссеминация
охарактеризованной книги оказывается образ как тако-
вой (икона или фантазм), воображаемое или имагиналь-
ное <imaginal>. Сократ может сравнивать с книгой мол-
чаливое отношение души к самой себе, ограниченное
«немым монологом» («Мимика»), только потому, что
книга подражает душе или душа подражает книге, одна
является похожим образом другой (у слова «образ»
<«image»> тот же корень, что и у слова «подражать»
<«imitari»>). И то и другое из этих подобий — сами по
себе, еще до того, как уподобиться друг другу, — были по
своей сущности воспроизводящими, подражательными,
изобразительными, то есть представляющими. В самом
деле, logos должен выверяться по образцу eidos'a|23, книга
воспроизводит logosy и все, таким образом, организуется
в соответствии с отношением повторения, подобия (ho-
moiosis)y удвоения, раздвоения, то есть благодаря опреде-
ленной зеркальности и процессу зеркального отражения,
в котором вещи (pnta)y речь и письмо начинают отражать
друг друга.
Тем самым предписывается, становится абсолютно не-
избежным появление художника. Его расквартировка
была подготовлена в сцене «Филеба». Этот другой «деми-
ург», zographom приходит после grammateus'a: «Художник,
который приходит после писателя и рисует в душе обра-
зы, соответствующие речам». Как известно, этот сговор
между живописью (zographia) и письмом носит постоян-
ный характер. У Платона и после него. Итак, живопись и
письмо могут быть образами друг друга только в той мере,
в какой они оба истолковываются как образы, репродук-
ции, представления, повторения живого — живой речи
в одном случае и живой фигуры в другом (zographia). Рас-
суждение об отношении между литературой и истиной
всегда наталкивается на загадочную возможность повто-
рения в рамках портрета.
Что же здесь делает художник? Он рисует — конеч-
но, метафорически, в душе, как и grammateus. Но он при-
ходит после него, проходит вслед за ним, следует его от-
меткам и его следам. Он иллюстрирует книгу, уже напи-
tSEl Двойной сеанс
санную к тому моменту, когда он приходит. Он «рисует
в душе образы, соответствующие речам». Рисунок, кар-
тина, искусство пространства, практика опространство-
вания, вписывание во внешнее (внешнее книги) — все
они лишь прибавляются к книге внутренней речи мыш-
ления, чтобы проиллюстрировать ее, представить ее, при-
украсить. Живопись, которая образует образы, — это
портрет речи; она стоит того, чего стоит речь, которую
она обездвиживает и замораживает на своей поверхно-
сти. Следовательно, она стоит лишь того, чего стоит logos,
способный ее истолковать, ее прочитать, сказать то, что
она хочет сказать и что на самом деле он заставляет ее
сказать, оживляя ее, чтобы заставить ее говорить.
Но живопись — вырожденное и в некотором отно-
шении избыточное выражение, дополнительное украше-
ние дискурсивной мысли, узор dianoia и logos'a — также
играет роль, которая кажется противоположной. Она
действует как чистый проявитель сущности мысли и
речи, определенных в качестве образов, представлений,
повторений. Если logos исходно является верным обра-
зом eidos'a (фигуры умопостигаемой видимости) суще-
го, он производится как первая живопись, глубинная и
невидимая. Поэтому живопись в общепринятом смыс-
ле этого слова, живопись художника, оказывается всего
лишь живописью живописи. Только так она может от-
крыть сущностную изобразительность logos'a, его пред-
ставляющий характер. Именно такую задачу Сократ
в «Филебе» предписывает zographon-demiourgon'y: «“Как
же он будет действовать?” — спрашивает Протарх. Со-
крат: “Когда, отделяя от непосредственного зрения (opseds)
или какого-то другого чувства мнения и речи, которыми
оно сопровождалось, каким-то способом замечаешь в себе
образы вещей, так мыслимых и высказываемых”». Худож-
ник, работающий после писателя, согласно его указа-
ниям, рабочий, который приходит за ним, ремесленник,
следующий мастеру, оказывается способным благодаря
использованию анализа, отделения и обеднения очис-
тить изобразительную, подражательную и имагинальную
ES3 Жак Деррида. Диссеминация
сущность мысли. В таком случае художник может вос-
становить голый образ вещи» вещи в том виде, как она
дается простому созерцанию, как она дается зрению, —
в ее умопостигаемом eidos'e или чувственном oratone. Ху-
дожник совлекает с нее весь этот прибавленный к ней
язык, всю эту легенду, которая на этот раз получает ста-
тус комментария, оболочки вокруг ядра, эпидермиче-
ского слоя.
В конечном счете в психическом письме zographia и
logos (или dianoia) обладают таким странным отношени-
ем друг к другу — одно всегда является дополнением
другого. В первой части сцены мысль, которая непосред-
ственно фиксировала сущность вещей, по своей сущно-
сти не нуждалась в том иллюстративном украшении,
которым являются письмо и живопись. Мысль души
была по существу своему едина лишь с logos'oM (и с об-
наружившим себя или сдержавшимся голосом). И наобо-
рот, чуть далее живопись (естественно, как метафора
психической живописи — точно так же до этого шла речь
о психическом письме) дает нам образ самой вещи, обес-
печивает нас ее созерцанием, прямым взглядом на нее,
освобожденным от речи, которая сопровождала его и
даже мешала ему. Несомненно, и я на этом особенно на-
стаиваю, речь все время идет о метафоре живописи и
письма, соотносимых друг с другом — известно, что,
с другой стороны, за пределами этой метафоры Платон
всегда отказывает в созерцании самой вещи письму и жи-
вописи в «собственном» смысле этих терминов, посколь-
ку они имеют дело лишь с копиями и копиями копий.
И если речь и надпись (письмо-живопись) поочеред-
но представляются в качестве полезных завершений или
бесполезных дополнений друг друга — иногда полезных,
иногда бесполезных, иногда в одном смысле, иногда
в другом, — то лишь потому, что они удерживаются вме-
сте паутиной, состоящей из следующих сцеплений или
заговоров:
1. Обе они (речь и надпись) измеряются той исти-
ной, на которую они способны.
BQ Двойной сеанс
2. Они являются образами друг друга, вот почему
одна может дополнять другую в случае отсутствия этой
другой.
3. Их общая структура вынуждает их иметь отноше-
ние к тпётё и mimesis у> к тпётё, потому что к mimesis у.
В движении mimeisthai отношение мима к подражаемому,
воспроизводящего к воспроизводимому всегда является
отношением к прошлому настоящему <pr£sent passe>.
Подражаемое существует до подражающего. Отсюда по-
является проблема времени, которая и в самом деле не-
замедлительно ставится — Сократ спрашивает себя, ис-
ключен ли тот вариант, когда grammata и zograpfwmata
имели бы отношение к будущему. Сложно помыслить
такое положение дел, когда подражаемое должно прий-
ти после своего подражающего, когда образ предшествует
образцу, а двойное — простому. Возможности «надеж-
ды» (elpis), анамнез (будущее как прошлое настоящее,
которое должно прийти), предисловие, будущее предше-
ствующее начинают перестраивать всю ситуацию124.
Именно в данном пункте труднее всего управлять
значением mimesis'а. В самом деле, в платоновском тек-
сте осуществляется особое движение, которое не следу-
ет поспешно объявлять противоречивым. С одной сто-
роны, как мы только что убедились, сложно отделить
тпётё от mimesis'a. Но с другой стороны, хотя Платон
часто обесценивает mimesis и почти всегда — подража-
тельные искусства, он никогда не отделяет раскрытие ис-
тины, aletheia, от движения анамнеза (отличенного, как
мы видели, от гипомнеза <hypomndse>).
Таким образом, здесь обнаруживается внутреннее
разделение mimesis'a, некое самоудвоение самого повто-
рения — бесконечно повторяемое, поскольку такое дви-
жение поддерживает его собственное распространение.
Быть может, поэтому всегда есть больше одного-един-
ственного mimesis'a-, быть может, именно в этом стран-
ном зеркале, которое не только отражает, но и смещает и
искажает один mimesis в другом, как если бы его судьбой
было подражание самому себе, маскировка от самого
EES Жак Деррида. Диссеминация
себя, умещается история — литературы — как целост-
ность ее интерпретации. Вся игра здесь ведется на пара-
доксах дополнительного двойника — того, что, добавля-
ясь к простому и единому, замещает их и их копирует,
оказываясь одновременно подобным и отличным; отлич-
ным, потому что — в качестве подобного — подобным,
тем же самым и иным того самого, что он удваивает. Итак,
что же решает и что утверждает «платонизм», то есть —
более или менее непосредственно — вся история запад-
ной философии, включая в нее и различные варианты
антиплатонизма, которые связаны с ней согласно опре-
деленным правилам? Что решается и что утверждается
в онтологии или диалектике, несмотря на все изменения
или революции, которые в них произошли? Именно само
онтологическое — предполагаемая возможность речи
о том, что есть, возможность решающего и разрешимо-
го logos'a самого on (сущего-присутствующего <6tant-
present>) и о нем. То, что есть, сущее-присутствующее
(матричная форма субстанции, реальности, оппозиций
формы и материи, сущности и существования, объек-
тивности и субъективности), отличается от кажимости,
образа, феномена и т. д., — то есть от того, что, представ-
ляя его в качестве сущего-присутствующего, удваивает
его, ре-презентирует и поэтому замещает и де-презен-
тирует. Итак, есть 1 и 2, простое и дубль. Дубль приходит
после простого, он удваивает его впоследствии. Отсюда
следует, извиняюсь за напоминание, что образ добавля-
ется к реальности, репрезентация — к присутствующе-
му в своей презентации, подражание — к вещи, подра-
жающее — к подражаемому. Сначала есть то, что есть,
«реальность», сама вещь из плоти и крови, как говорят
феноменологи, а уж затем — подражающее, то есть жи-
вопись, портрет, зографема, надпись или перепись самой
вещи. Различимость (по крайней мере, по номеру) меж-
ду подражающим и подражаемым — вот общий поря-
док. И самой собой разумеется, что, согласно самой «ло-
гике», согласно глубинной синонимии, подражаемое яв-
ляется более реальным, более существенным, более
ШЗ Двойной сеанс
истинным и т. д., нежели подражающее. Оно является
предшествующим и превосходящим. Здесь стоит вспом-
нить и уже никогда больше не забывать о клинической
парадигме mimesis'а, о порядке трех кроватей, кровати ху-
дожника, плотника и Бога, представленном в «Государ-
стве» (X 596а и далее).
Несомненно, может показаться, что этот порядок бу-
дет оспорен и даже перевернут в дальнейшей истории,
причем многократно. Однако никогда абсолютная раз-
личимость подражаемого и подражающего, как и пред-
шествование первого по отношению ко второму, не бу-
дут смещены ни одной метафизической системой. В об-
ласти «критики» или поэтического искусства часто
подчеркивалось, что искусство, будучи подражанием
(представлением, описанием, выражением, воображени-
ем и т. д.), не должно быть «рабским» (эта формулиров-
ка проходит через все двадцать веков поэзии) и что, сле-
довательно, в той свободе, которую получает искусство
по отношению к природе, оно может творить, создавать
произведения, которые более ценны, чем то, чему они
подражают. Однако все эти производные оппозиции воз-
вращают нас к тому же источнику. Избыточная ценность
или избыточное бытие делают искусство более богатой,
более свободной, более благостной, более творческой
природой, то есть более природной природой. В момент
фундаментальной систематизации классического учения
о подражании Демаре <Desmaret> высказывает в своем
«Искусстве поэзии» <Art de la podsie> мысль, к тому вре-
мени уже ставшую общепринятой:
Искусство восхищает нас больше, чем природа,
Невзлюбив образец, мы полюбили образ.
Независимо от того, чему именно отдается предпо-
чтение (хотя можно было бы легко показать, что —
под влиянием отношения подражаемое/подражающее —
предпочтение, что бы там ни говорили, не может не
SB Жак Деррида. Диссеминация
отдаваться подражаемому), в сущности, философской и
критической интерпретацией «литературы», если не са-
мой операцией литературного письма, управляет именно
такой порядок выхода на сцену <ordre d’apparition> —
пред-шествование подражаемого. Этот порядок выхода —
порядок самого явления <ordre de Tapparition>, сам про-
цесс явления в общем. Это порядок истины. «Истина»
всегда означала две вещи, так что история сущности ис-
тины, истина истины является всего лишь зазором и связ-
кой между двумя этими интерпретациями или процесса-
ми. Упрощая выкладки Хайдеггера, но не считая необхо-
димым принимать порядок следования, который, как
кажется, признает Хайдеггер, можно было бы зафиксиро-
вать, что процесс истины — это, с одной стороны^ раскры-
тие того, что удерживается скрытым в забвении (aletheia),
приподнимание, совлечение покрывала с самой вещи,
с того, что есть, как оно есть, как оно представляется, про-
изводится, необходимо существуя как определимая дыра
бытия; с другой стороны (однако этот другой процесс
предписан в первом, в двусмысленности или двойствен-
ности присутствия присутствующего, его явления — ока-
зывающегося и тем, что является, и самим явлением, —
в складке причастия настоящего времени), истина — это
согласие (homoiosis или adaequatio), отношение подобия
или равенства между ре-презентацией и вещью (откры-
тым присутствующим), в известных случаях постулируе-
мое в высказывании суждения.
Итак, mimesis на протяжении всей истории его ин-
терпретации всегда выстраивается в соответствии с про-
цессом истины:
1) или он еще до того, как появляется возможность
переводить его «подражанием», обозначает презентацию
самой вещи, природы, physis, которая производит себя,
порождает себя и являет(ся) такой, какая она есть, в при-
сутствии своего образа, в своем видимом обличье, в сво-
ем лике — театральная маска, будучи существенным мо-
ментом mimeisthai, как открывает, так и скрывает. В этом
случае mimesis — это движение physis, движение в каком-
ЕШ Двойной сеанс
то (непроизводном) смысле естественное, посредством
которого physis, не имея ни иного по отношению к себе»
ни внешнего, должна удваиваться, чтобы являться, являть-
ся), производить(ся), открывать(ся), чтобы выйти из той
крипты, в которой она любит скрываться, чтобы блистать
в своей aletheia. В этом смысле тпётё и mimesis идут рука
об руку, следовательно, тпётё также является несокры-
тостью (не-забвением), aletheia;
2) или же mimesis устанавливает отношение homoiosis
или adaequatio между двумя (терминами). В этом случае
он с большей легкостью поддается переводу словом «под-
ражание». Такой перевод означает (или, скорее, истори-
чески производит) мысль такого отношения. Две сторо-
ны разделяются, становясь друг напротив друга, — под-
ражающее и подражаемое, причем последнее является не
чем иным, как вещью или смыслом самой вещи, ее при-
сутствием или проявлением. Хорошим подражанием
будет истинное подражание, подражание верное, подоб-
ное или правдоподобное, подходящее или соответству-
ющее physis (сущности или жизни) подражаемого; оно
стирает само себя, свободно — то есть вживе — восста-
навливая свободу истинного присутствия.
И в том и в другом случае mimesis должен следовать
процессу истины. Его норма, его порядок, его закон —
это присутствие присутствующего. Именно во имя ис-
тины, его единственной ссылки — референции — он оце-
нивается, запрещается или предписывается согласно упо-
рядоченному определенным образом чередованию.
Неизменная черта подобной референции описыва-
ет пределы метафизики — не как границы, окружающие
однородное пространство, но по какой-то иной фигуре,
отличной от круга. Но эта референция неявно — но аб-
солютно — смещена в операции определенного синтак-
сиса, когда письмо отмечает и удваивает мету некоей не-
разрешимой черты. Такая двойная мета уклоняется от
владычества или власти истины — не переворачивая ее,
а вписывая ее в качестве отдельной детали или функции
в свою собственную игру. Это смещение не имеет места,
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
оно не состоялось когда-то один раз, как событие. У него
нет простого места. У него нет места в отдельном пись-
ме. Такое вымещение (есть то, что себя) пишет. Приме-
рами этого удвоения меты, которое одновременно явля-
ется формальным разрывом и формальным обобщени-
ем, может быть текст Малларме, и особенно «лист»,
который у вас перед глазами (однако, само собой разуме-
ется, что каждое слово в этом предложении должно быть
тут же смещено или взято под подозрение).
Перечитаем «Мимику». Почти в самом центре нахо-
дится фраза в кавычках. Это, как мы увидим, не цитата,
а симулякр цитаты или объяснения — «Сцена иллюстри-
рует только идею, а не настоящее действие...»
Здесь ловушка — легко было бы поддаться искуше-
нию истолковать эту фразу и всю последовательность
фраз, которой она управляет, самым что ни на есть клас-
сическим образом» то есть как «идеалистическое» пере-
вертывание традиционной миметологик. В этом случае
мы бы сказали: конечно, мим не подражает какой-то на-
стоящей вещи или настоящему действию; реальности,
данной в мире, существующем до и вне его собственно-
го пространства; он не должен сообразовываться, стре-
мясь к правдоподобию, с какой-то реальной или внеш-
ней моделью, с какой-то природой, с натурой в наиболее
позднем из смыслов этого слова. Однако отношение под-
ражания и значение соответствия при этом остаются
нетронутыми, поскольку теперь нужно было бы подра-
жать идее, представлять и «иллюстрировать» ее. «А что
такое идея?» — спросили бы мы потом. Если это и не ontos
on в форме самой вещи, это — скажем как посткартези-
анцы — копия внутри меня, мысленная репрезентация
вещи, идеальность сущего для субъекта. В этом смысле
идея (независимо от того, как ее мыслить — в «картези-
анском» или «гегельянском» стиле) является присутстви-
ем сущего, так что мы никоим образом не покидаем пре-
делов платонизма. Речь по-прежнему идет о том, чтобы
подражать eidos'y или idea (выражать, описывать, пред-
ставлять и иллюстрировать их), будь они образом самой
ЕШ Двойной сеанс
вещи, как у Платона, субъективным представлением, как
у Декарта, или же и тем и другим, как у Гегеля.
Конечно, все так. Можно и так прочитать текст Мал-
ларме и свести его к блистательному литературному иде-
ализму. Частое использование слова «Идея», зачастую
преувеличенного и явно возвышенного прописной бук-
вой, история предполагаемого гегельянства автора, как
кажется, с полным правом приглашают нас к такому про-
чтению. Мало тех, кто не отвечал на это приглашение.
Но чтение здесь не должно больше действовать как про-
стое изыскание понятий или слов, как статическая или
статистическая пунктуация. Нужно восстановить всю
цепочку в движении, все эффекты сети и игру синтакси-
са. В этом случае «Мимика» читается совсем не так, как
некий неоидеализм или неомиметологизм. Система ил-
люстрации в ней совсем не та, что в «Филебе». Вместе со
всеми значениями, которые необходимо с ней связать,
люстра вписана в совсем другое место.
Подражания не существует. Мим ничему не подра-
жает. Исходно он вообще не подражает. Нет ничего до
письма его жестов. Никакое присутствующее не может
предшествовать прочерчиванию его письма или надзи-
рать за ним. Его движения формируют фигуру, которую
никакое слово не предвидит и не сопровождает. Они не
привязаны к logos'y тем или иным порядком следования.
«Итак, этот “Пьеро, убийца своей жены” сложенный и
составленный им самим, немой монолог,.,»
«Сложенный и составленный им самим,,,» Здесь мы
вступаем в лабиринт, выстланный зеркалами. Мим не
следует никакому предустановленному либретто, ника-
кой программе, пришедшей извне. Не то что он импро-
визирует или предается самопроизвольности — он про-
сто не подчиняется никакому словесному приказу; его
жесты, его письмо жестов (мы знаем, с какой настойчи-
востью Малларме описывает упорядоченный жест танца
или пантомимы в качестве иероглифического письма) не
диктуются ему какой-то словесной речью, не навязыва-
ются тем или иным устным слогом. Мим учреждает,
BQ Жак Деррида. Диссеминация
зачинает <entame> некую белую страницу: «...немой мо-
нолог, который держит в своей душе жестами и лицом
призрак, белый, как еще не написанная страница».
Пробел — другая сторона этого двойного сеанса за-
являет здесь о своем цвете — простирается между нежной
девственностью {«нежные фрагменты», «брачные свиде-
тельства идеи») неж-но-белой {candida) страницы и бе-
лой пудрой бледного Пьеро, который в призрачном дви-
жении пишет на месиве своих белил, на странице, кото-
рая суть он сам. Пройдя сквозь все наложенные друг на
друга поверхности белого на белом, между всеми слоями
белил Малларме всегда можно было бы посредством ана-
лиза найти субстанцию «утопленных белил» <fard поуё>
(«Наказанный паяц»). Поэтому можно было бы прочесть
одного в другом Пьеро «Мимики» и «дурного Гамлета»
«Наказанного паяца» {«Глаза, озера, полные простого опь-
яненья возродиться / Не тем шутом, который жестом за-
клинал / Как перо мерзкую сажу фонарей,./ Я продырявил
в полотняной стене окно»). Пьеро — это брат всех Гамле-
тов, которые преследуют текст Малларме. Учитывая пре-
ступление, инцест и самоубийство, в которые оба они ока-
зались вовлечены, призрак острия, пера или обломанной
пики заостряет свою угрозу во всех I и А. Чтобы доказать
это, нужно пройти через ряд промежуточных этапов, в том
числе и связанных с означающими, заканчивающимися
на «IQUE», что мы непременно сделаем.
Мим не подчинен власти той или иной книги — та-
кая строгость Малларме тем более странна, что текст
«Мимика» первоначально является откликом на чтение.
Малларме попалось в руки либретто пантомимы, пона-
чалу он комментирует именно этот труд. Мы знаем об
этом, потому что первую версию этого текста, но без за-
головка Малларме опубликовал в журнале «La Revue inde-
pendente» в ноябре 1886 г. В частности, на месте того, что
должно было стать первым абзацем «Мимики», можно
было прочесть следующие строки: «Роскошью, не усту-
пающей торжественным спектаклям этого предатель-
ского сезона, постоянно влекущего вовне, представляется
EES Двойной сеанс
мне уединение под настольной лампой» домашний вечер»
созданный для чтения. Наводящая на размышления и по-
настоящему редкая книжечка, которая открывается у меня
в руках, — это, на сей момент, не что иное, как либретто
пантомимы “Пьеро, убийца своей жены”...» (издана Са1-
mann-L6vi, новое издание — 1886)125.
Следовательно, именно в либретто, на странице» Мал-
ларме должен был прочитать о стирании либретто перед
жестовым начинанием Мима. В этом заключена структур-
ная необходимость, отмеченная в тексте «Мимики». И если
в тот или иной день Малларме мог к тому же видеть «спек-
такль» — дело не в том, что этот факт трудно проверить,
а в том, что он безразличен для организации текста.
Следовательно, то, что Малларме прочитал в этом
либретто» — это предписание, стирающее само себя, от-
данный Миму приказ не подражать ничему, что каким
бы то ни было образом предшествует его действию —
ни делу («сцена иллюстрирует только идею, а не настоя-
щее действие..,»), ни слову («убитая ода... немой монолог,
который держит в своей душе жестами и лицом призрак,
белый, как еще не написанная страница...»).
В начале этого мима не было ни дела, ни слова. Миму
предписывается (это слово мы определим через мгнове-
ние) не позволять предписывать себе ничего, кроме соб-
ственного письма, не воспроизводить подражанием ка-
кое-либо действие (pragma: дело, вещь, акт), какое-либо
слово (logos: глагол, голос, речь). Мим должен лишь пи-
сать себя на белой странице, которая суть он сам, он дол-
жен вписывать сам себя в жесты и игру мимики. Как стра-
ница и перо, Пьеро одновременно активен и пассивен»
материя и форма, автор, инструмент и тесто своей пан-
томимы. Здесь производится шут. В этом самом месте:
«Правдивый шут, я был таким сам по себе!» (р. 495).
Прежде чем рассмотреть этот тезис, обратимся к тому,
что Малларме делает в «Мимике». Мы читаем «Мимику».
Малларме (тот, кто выполняет функцию «автора») пишет
на белой странице исходя из текста, который он читает и
в котором написано, что нужно писать на белой странице.
ОШ! Жак Деррида. Диссеминация
В таком случае мы могли бы заметить, что, если референ-
том, который имеет в виду Малларме, и не является ре-
ально просмотренный им спектакль, это все же вполне
«реальный» объект под названием «либретто», восприни-
маемый Малларме, то есть книжечка, которая у него пе-
ред глазами или в его руках (он же сам говорит об этом! —
«Наводящая на размышления и по-настоящему редкая кни-
жечка, которая открывается у меня в руках»), сохраня-
емая в своей несомненной самотождественности.
Рассмотрим же эту книжечку, ведь ее нужно видеть.
В руках у Малларме было второе издание, вышедшее в свет
через четыре года после первого, через пять лет после са-
мого спектакля. В нем «Примечание» автора было постав-
лено на место «Предисловия» некоего Фернана Беисье
<Fernand Beissier>. Последний описывал то, что он ви-
дел, — состоявшуюся в сарае одной старой фермы в ок-
ружении рабочих и крестьян (бесплатную) пантомиму,
схему которой он дает после долгого описания помеще-
ния. Пьеро, пьяный, «бледный, высокий, исхудавший»,
входит со служащим похоронного бюро. «И началась дра-
ма. Поскольку на самом деле мы присутствовали именно
на драме, драме жесткой, странной, воспламеняющей мозг
подобно какой-нибудь фантастической сказке Гофмана,
драме, местами душераздирающей и заставляющей стра-
дать так же, как настоящий кошмар. Пьеро, оставшийся
в одиночестве, рассказывал о том, как он убил Коломбину,
которая его обманывала; он только что похоронил ее, при-
чем никто не знал о его преступлении. Когда она спала, он
привязал ее к кровати, а затем стал щекотать ей ступни,
пока из раскатов ее вынужденного смеха не исторглась
страшная, ужасающая смерть. Только этому длинному,
бледному Пьеро с лицом трупного цвета могла прийти
в голову мысль о такой ужасной пытке. Подражая дей-
ствию, он представил нам всю эту сцену, попеременно
изображая то жертву, то убийцу».
Беисье описывает реакцию публики и спрашивает
себя, как приняли бы в Париже этого «странного, из-
мученного, исхудавшего Пьеро, как будто бы больного
SB Двойной сеанс
неврозом» («Это представление разрушало все мои идеи
о легендарном Пьеро, который некогда заставлял ме-
ня смеяться...»). На следующий день, как рассказывает
Беисье, он встречает Мима, «вновь ставшего обычным
мирским человеком», — это Поль Маргеритт, брат Вик-
тора Маргеритта, сына генерала и кузена Малларме. Он
просит Беисье написать предисловие к книге «Пьеро,
убийца своей жены», которую он, Поль Маргеритт, со-
бирается написать и издать. Так и было сделано. В «Пре-
дисловии» стоит указание на место и дату его заверше-
ния — Вальвен <Valvins>, 15 сентября 1882 г.: следова-
тельно, не исключено, что Малларме благодаря всем этим
связям присутствовал на спектакле и читал либретто
в первом издании.
Итак, на данный момент темпоральная и текстуаль-
ная структура «вещи» (а как еще ее назвать?) обозначает-
ся следующим образом — «имеет место» некая пантоми-
ма, жестуальное письмо без либретто, предисловие пла-
нируется, а затем и пишется после «события», чтобы
предшествовать либретто, написанному впоследствии,
либретто, отражающему пантомиму, а не командующему
ею. Четырьмя годами позже это «Предисловие» заменя-
ется «Примечанием» самого автора, некоей припиской без
определенного положения.
Таков объект, который должен был послужить пред-
полагаемым «референтом» Малларме. Что же было у него
в руках, перед глазами? В какой точке, в каком настоя-
щем? На какой строчке?
Мы еще не открывали «самого» либретто. Текстуаль-
ная машинерия усложняется в нем с самого начала уже
потому, что это либретто, то есть вербальный текст, со-
членяющий слова и фразы, является вторичным описа-
нием молчаливой последовательности одних только же-
стов, утверждения телесного письма. Этот разрыв, эта
разнородность означающего отмечаются Маргериттом
в одном из примечаний «Nota Вепе». После психологи-
ческого портрета Пьеро, в котором доминирует белый
цвет («белого плаща», «голова и руки, белые как гипс»,
SQ Жак Деррида. Диссеминация
«белая головная повязка», «руки, опять же гипсовые»),
читаем: «N. В. — Кажется, что Пьеро говорит? — Это
чисто литературный вымысел! — Пьеро нем, вся эта дра-
ма от начала и до конца — изображается <mime>». Все
эти слова — «чистый», «вымысел», «немой» — будут ис-
пользованы Малларме.
В этом литературном вымысле, вербальное письмо
которого добавляется после действия другого письма,
последнее — то есть жестуальное исполнение пантоми-
мы — описывается как анамнез. Это уже воспоминание
о некоем прошлом. Преступление уже произошло к тому
моменту, когда Пьеро изображает его. Он изображает —
«в настоящем», «в ложном явлении настоящего» — осу-
ществленное преступление. Но изображая в настоящем
прошлое, он восстанавливает — в этом «настоящем» —
размышление, которое подготовило убийство, поскольку,
когда он спрашивал сам себя о средствах, которые нужно
будет использовать, он имел дело с будущим преступ-
лением, со смертью, которую нужно привести в исполне-
ние. Пьеро выгнал сотрудника похоронной службы, он
закрепляет портрет Коломбины и «с таинственным видом
показывает на него пальцем». «Я помню... Закроем ставни!
Я не осмеливаюсь... (Он возвращается, пятясь, и, держа руки за
спиной, вслепую задергивает шторы. Его губы дрожат, и в этот
момент непреодолимая сила вырывает у Пьеро его тайну, комком
застрявшую у него в горле. МУЗЫКА останавливается, выжидая.)
И вот [курсив, крупный шрифт — речь немого мима]:
Коломбина, моя чаровница, моя жена, Коломбина
с этого портрета, спала. Она спала там, в большой крова-
ти: я убил ее. Почему?.. Ах, да! Она бросалась моим золо-
том; мое лучшее вино — его она пила; моя спина — ее
она била, и сильно; что же до моего лба — его она укра-
сила. Да, она сделала меня рогоносцем, и не раз, но разве
это имеет значение? Я убил ее, потому что мне так хоте-
лось, я хозяин, и кто может на это возразить? Убить ее...
да, мне это по душе. Но как это сделать? (Дело в том, что
Пьеро воспроизводит свое преступление как сомнамбула, поэто-
му в его бреду прошлое становится настоящим.)
SE1 Двойной сеанс
[Сомнамбула: все происходит, если еще стоит об этом
говорить, между бодрствованием и сном, восприятием
и мечтой; слова “прошлое" и “настоящее" выделены са-
мим автором; потом мы обнаружим их в “Мимике”, где
они выделены иначе. Итак, в видимо-настоящем своего
письма автор либретто, который является не кем иным,
как самим Мимом, описывает словами прошедшее-на-
стоящее некоей пантомимы, которая сама в своем соб-
ственном видимо-настоящем в молчании изображала
некое событие — преступление — прошедшее-настоя-
щее, но именно такое, что его настоящее никогда не за-
нимало сцены; никогда никем не воспринималось, и даже,
как мы увидим, никогда на самом деле не совершалось.
Никогда и нигде — даже если учесть театральный вы-
мысел. Либретто напоминает о том, что мим “воспроиз-
водит” свое преступление, изображая свое воспомина-
ние, поэтому-то он сначала должен был в настоящем
изобразить прошлое размышление о преступлении, ко-
торое еще предстояло совершить.]
Есть веревка, стоит затянуть ее, и все, дело сделано!
Да, но вывалившийся язык, искаженное лицо, нет, не
пойдет. Нож? Или, может, сабля, большая сабля? Вжик!
Удар в сердце... Да, но кровь, кровь течет потоком, как
ручей. Черт, что же делать!.. Яд? Совсем незаметная кап-
ля, она проглотит ее, а затем... Нет, еще будут судороги,
боли, мучения, это ужасно (впрочем, посмотрим). Есть,
конечно, ружье, бах! Но выстрел могут услышать. Ниче-
го не могу придумать. (Он медленно вышагивает и думает.
Случайно он спотыкается.) Ай, больно! (Он гладит свою ногу.)
Черт, как больно! Ладно, пройдет. (Он все еще гладит свою
ступню и щекочет ее.) О, ха-ха! Смешно! Ха-ха-ха! Нет, как
смешно! Ха-ха! (Внезапно он отпускает свою ногу. Он хлопает
себя по лбу.) Понял! (Коварно:) Понял! Я защекочу свою
жену до смерти, вот и все!»
Затем Пьеро в своей пантомиме доводит веселящее
наслаждение до момента «предельного спазма». Пре-
ступление, оргазм изображаются дважды — Мим по-
очередно играет роли Пьеро и Коломбины. Вот простой
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
описательный отрывок (взятый в скобки и напечатанный
антиквой), в котором преступление и оргазм, абсолют-
ный смех (Батай называет его возможностью «помереть
со смеху» и «посмеяться над смертью») имеют место так,
что в конечном счете вообще ничего не происходит, нет
никакого насилия, никаких стигматов, никакого следа;
совершенное преступление может смешиваться только
с наслаждением, которым сопровождается особая спе-
куляция. Его автор на самом деле исчезает, поскольку
Пьеро — это (он играет) еще и Коломбина(у), а в конце
сцены он тоже умирает перед картиной, на которой Ко-
ломбина внезапно оживает и, глядя со своего портрета,
взрывается смехом. Итак, вот видимое производство
спазма и, скажем сразу, гимена: «“А теперь приступим
к щекотке. Коломбина, ты заплатишь за это” (Обезумев, он
щекочет, он щекочет все сильнее, не останавливаясь, без передыш-
ки, затем бросается на кровать и превращается в Коломбину. Она
(он) извивается в приступах ужасающего веселья. Одна из ее рук
освобождается и освобождает другую руку, две эти руки в бреду
проклинают Пьеро. Она (он) взрывается самым правдивым, прон-
зительным, убийственным смехом; приподнимается и хочет спрыг-
нуть с постели; а ее ноги по-прежнему пляшут, извиваются в эпи-
лептических движениях, мучимые щекоткой. Это агония. Она (он)
приподнимается раз или два — предельный спазм! — открывает
рот для последнего проклятия; а затем откидывается назад, падает
с постели, голова и ноги повисают в разные стороны. Пьеро снова
становится Пьеро. Он стоит возле кровати и продолжает совер-
шать щекочущие движения, измотанный, задыхающийся, но одер-
жавший победу...)».
Поздравив себя с тем, что благодаря этому ненасиль-
ственному преступлению, своеобразному мастурбацион-
ному самоубийству он спас свою голову от «удара резака»
гильотины («я умываю руки, вы понимаете»), андрогин
без всякого внешнего принуждения охватывается «щекот-
кой Коломбины как заразной и мстительной болезнью».
Он пытается избавиться от нее при помощи того, что он
называет «лекарством», — бутылки, благодаря которой
еще одна эротическая сцена завершается «спазмом» и «об-
ЕВП Двойной сеанс
мороком». После того как он повторно падает, в бреду ему
предстает Коломбина, ожившая на своем портрете, захо-
дящаяся от смеха. Пьеро охватывает судорога и приступ
щекотки, наконец он умирает у ног «своей нарисованной
жертвы, которая продолжает смеяться».
Подобная организация разных писем со всеми эти-
ми двойными фонами, разрывами, обманками не могла
стать простым дотекстуальным референтом для «Мими-
ки» Малларме. Однако, несмотря на всю сложность
(структурную, темпоральную, топологическую и тексту-
альную) этого объекта-либретто, мы могли бы поддать-
ся искушению рассматривать его в качестве закрытой
системы, замкнутой на отношение — пусть и весьма за-
путанное — между, скажем так, «актом» пантомимы (тем
актом, о котором Малларме говорит, что он пишется на
белой странице) и последействием либретто. В таком слу-
чае текстовая отсылка Малларме могла бы найти в этом
объекте конечный пункт привязки.
Но дело обстоит как раз не так. Это письмо, которое
отсылает лишь к самому себе, одновременно, неопреде-
ленно долго и систематично, переносит нас к какому-то
другому письму. Одновременно — вот что нужно объяс-
нить. Письмо, которое отсылает только к самому себе, и
письмо, которое неопределенно долго отсылает к како-
му-то другому письму, — возможно, между ними не об-
наружится никакого противоречия: отражающий экран
всегда схватывает какую-то долю письма, без остановки,
неопределенно долго, а отсылка ограничивает нас сти-
хией отсылки. Конечно, все так. Однако сложность как
раз и заключается в отношении между средой письма и
определением каждой текстуальной единицы. Необходи-
мо, чтобы при каждой отсылке к какому-то другому тек-
сту, к другой определенной системе, каждый организм
отсылал лишь к самому себе как определенной структу-
ре — одновременно открытой и закрытой.
«Мимика», которая предлагает сама себя для прочте-
ния и обходится без какого-то внешнего повода, также
преследуется неким призраком, или же можно сказать, что
S3 Жак Деррида. Диссеминация
она привита в крону другого текста. Который в ней объяс-
няется так, будто он описывает письмо жестов, которое
ничем не продиктовано и которое отсылает только к сво-
ей собственной изначальности, и т. д. Следовательно, либ-
ретто Маргеритта для «Мимики» — это одновременно и
некий эпиграф, приписка, и зародыш, засев: то и другое
одновременно, что, несомненно, можно представить толь-
ко как операцию прививки. Нужно было бы повергнуть
систематическому исследованию не только то, что выда-
ется за простое этимологическое единство прививки
<greffe> и графы <graphe> (от graphion: тростинка для
письма), но и аналогию между текстуальными прививка-
ми и прививками растений или — что встречается все
чаще — животных. Нельзя удовлетвориться энциклопе-
дическим каталогом прививок (прививка глазка одного
дерева к другому, прививка перевязыванием, прививка
ветками или черенками, прививка в расщеп, прививка за
кору, прививка почками или в прививочный щиток, при-
вивка дающим побег или спящим глазком, прививка в ряд,
скошенная прививка, кольцевая прививка, прививка
в сгиб и т. д.), необходимо создать систематический обзор
текстуальной прививки. Он, кроме всего прочего, помог
бы нам понять функционирование, к примеру, постранич-
ных сносок, а также какого-нибудь эпиграфа, ведь они для
умеющего читать значат порой больше, чем так называе-
мый основной или главный текст. Когда же основной за-
головок сам становится привоем, нам уже не нужно вы-
бирать между присутствием и отсутствием заголовка126.
Мы описали практически все структурные элемен-
ты либретто Маргеритта. Мы знаем его заголовок и темы.
Чего же не хватает? На титульном листе, между именем
автора и заглавием с одной стороны и именем автора
предисловия — с другой, как раз и находится эпиграф
вместе с третьим именем собственным. Это цитата из
Теофиля Готье:
История Пьеро, защекотавшего жену
И заставившего ее, смеющуюся, отдать душу.
EES Двойной сеанс
Теперь мы знаем — вся эта пантомима благодаря
срезу, обозначенному в эпиграфе, отсылает к другому
тексту. Именно так, что бы там ни говорил Маргеритт
в своем «Примечании». Прививка глазком и текст, веду-
щий к потере зрения.
К потере зрения — вы медленно возвращаетесь к ги-
мену и диссеминации — поскольку мы проявили бы не-
осторожность, решив, что наконец-то можно остановить-
ся на этом текстуальном ростке, на начале жизни, отсы-
лающем лишь к самому себе, — на «Посмертном Пьеро»
Теофиля Готье’27. В нем отмечен зазор, который снова вы-
водит на другой текст и практикует другое чтение. Их ана-
лиз мог бы быть бесконечным. Арлекин дарит Коломбине
мышь под тем предлогом, что «женщина — это кошка, нас
держит ее коготок»; / «Так что мышь — подходящий по-
дарок». На что Коломбина отвечает: «Один ларец мне по-
нравился бы больше, чем тридцать мышеловок». В этот
момент о смерти Пьеро в Алжире объявляет Арлекин
(«Смотри-ка! Никаких сомнений: его свидетельство
о смерти, / На первой странице всех известий, / Черным
по белому и со всеми печатями, / Под каким-то Пьеро, под-
вешенным на виселице»). Пьеро возвращается, и его при-
глашают засвидетельствовать свою собственную смерть:
«Никогда больше у меня не будет счастья видеть самого
себя», он блуждает как призрак, ошибается в тот момент,
когда принимает воскрешающее зелье, проглатывает
мышь, которую Арлекин хитрым способом засунул в бу-
тылку, его охватывает волнение и смех «как безумца»
(«Если б я мог в свою утробу запустить кота!»), наконец, он
решает убить себя. А во время монолога, размышляя над
способами свести счеты с жизнью, он вспоминает о том,
что читал раньше: «“Убью себя, но раз и навсегда. / По-
смотрим. Быть может, взять веревку. / Нет, пенька мне не
по вкусу... / Не спрыгнуть ли с моста? Нет, еще простыну от
холодной воды... / Не задушить ли себя перьевой подуш-
кой? / Фу, я слишком бел, чтоб подражать Отелло... / Итак,
ни веревка, ни перо, ни вода... / Вот, я понял: я читал в од-
ной старинной сказке, / Историю Пьеро, защекотавшего
QiS Жак Деррида. Диссеминация
жену / И заставившего ее, смеющуюся, отдать душу... / ...Он
щекочет себя. Ой, я вот-вот запрыгаю как козочка, / Если
бы я не мешал себе... Продолжим... Я смеюсь. / Я разрыва-
юсь! Теперь перейдем к ногам. — Я изнемогаю, / Я весь
в мурашках, я в огне! / Хи-хи! Вселенная открывается моим
вылезшим из орбит глазам / Хо-хо! Я больше не могу,
я погибаю”. Коломбина: “Что это за дурак, который щип-
лет себя, чтоб смеяться?” Пьеро: “Это мертвец, который
себя убивает”. Коломбина: “Попробуй только сказать это
еще один раз”».
После других эпизодов (сцены отравления, изображе-
ние Пьеро как вампира и т. д.) Пьеро обращается к пуб-
лике. На этот раз это уже не Мим-либреттист, который
определяет как вымысел либретто из слов, заменившее
немую мимику. Это Пьеро, который, говоря со сцены, про-
сит прощения за то, что он так поступает, причем все дей-
ствие заключено в письме либретто: «Простите Пьеро за
то, что он взял слово. / Обычно свою роль я изображаю
мимикой и гримасами / И иду молча, как бледный при-
зрак, / Всегда обманутый, всегда побитый, всегда дрожа-
щий, / Через интриги, планы которых / Набрасываются
смелой рукой старинной Комедии, / Той, что называли
Comedia dell'arte, IИ которые актер развивает по собствен-
ному усмот-рению».
Можно было бы еще долго продолжать, чтобы вы-
яснить, где же Пьеро прочитал эту парадигматическую
историю мужа, защекотавшего жену и заставившего ее,
смеющуюся, отдать душу. Исследуя все эти нити comedia
dell* arte, мы попали бы в сеть, у которой нет конца’28. Биб-
лиографические изыскания, изучение источников, архе-
ология всех Пьеро стали бы одновременно бесконечны-
ми и бесполезными — по крайней мере по отношению
к тому, что нас в данном случае интересует, поскольку про-
цесс отсылки и прививки отменен в тексте Малларме, ко-
торый, следовательно, имеет нечто внутреннее не в боль-
шей степени, чем является собственностью Малларме.
Когда мы, как казалось, покидали этот текст, мы оста-
новились на предложении, которое я напомню — само-
Двойной сеанс
стоятельно слагая и составляя свой монолог, вычерчивая
его на белой странице, которая суть он сам, Мим не по-
зволяет, чтобы ему диктовали его текст из какого-то внеш-
него источника. Он ничего не представляет, ничему не
подражает, ему не нужно сообразовываться с каким-то
предшествующим референтом, преследуя цель соответ-
ствия или правдоподобия.
Можно предвидеть возражение: поскольку он ниче-
му не подражает, ничего не воспроизводит, поскольку он
изначально открывает то, что выписывает, присутствую-
щее или произведенное, значит, он есть само движение
истины. Конечно, уже не истины соответствия представ-
ления присутствию самой вещи или же подражающего
подражаемому, но истины как настоящего раскрытия при-
сутствия — как показа, проявления, производства, aletheia.
Мим производит, то есть заставляет явиться в присут-
ствие, сам проявляет смысл того, что он в настоящее вре-
мя пишет, — того, что он осуществляет, представляя
<performe>. Он дарует восприятию вещь в ее подлин-
ном облике, в ее собственном лице. Если последовать за
логикой этого рассуждения, мы бы пришли, превзойдя
подражание, к более «изначальному» смыслу aletheia и
mimeisthai. Таким образом, мы получили бы один из наи-
более типичных и наиболее привлекательных вариантов
метафизического присвоения письма — вариант, который
всегда может выполняться в самых разных контекстах.
В самом деле, можно было бы привести Малларме
к самой «изначальной» метафизике истины, если бы как
раз исчезла вся мимика, если бы она стерлась в скрипту-
ральном производстве истины.
Но так не происходит. Существует мимика. Маллар-
ме придает ей значение, как и симулякру (пантомиме, те-
атру и танцу — все эти темы перекрещиваются в том чис-
ле и в тексте «Рихард Вагнер. Греза французского поэта»,
который мы держим в руках и исподтишка комментиру-
ем). Мы стоим перед мимикой, которая ничего не имити-
рует, перед, если угодно, двойником, который не удваива-
ет ничего простого, которому ничего не предшествует, —
BS3 Жак Деррида. Диссеминация
во всяком случае, ничего, что уже не было бы двойником.
Никакой простой референции. Вот почему действие мима
осуществляет намек, но это намек на ничто, намек, не раз-
бивающий стекла, намек без Зазеркалья. «Так действует
Мим, игра которого ограничивается постоянным намеком,
никогда не разбивая стекла». Такое зеркало* не отражает
никакой реальности, оно производит лишь «эффекты ре-
альности». Для того двойника, который заставляет часто
вспоминать о Гофмане (цитируемом Беисье в его «Пре-
дисловии»), реальность — это смерть. Обнаружится, что
она достижима не иначе как посредством симулякра, как
вымышленная простота предельного спазма или гиме-
на. В этом зеркале <speculum> без реальности, в этом зер-
кале зеркала Cmiroir de miroir> существует различие, диа-
да, поскольку существует мим и фантом. Но это различие
без референции или, скорее, референция без референта,
без первого или последнего единства, то есть призрак, ко-
торый не является призраком какой-то плоти, блуждаю-
щий призрак, без прошлого, без смерти, без рождения и
присутствия.
Итак, Малларме поддерживает различительную струк-
туру мимики или mimesis’a, однако без платонической или
метафизической интерпретации, которая предполагает,
что где-то есть бытие сущего, которому подражают. Мал-
ларме поддерживает даже (и удерживается в ней) струк-
туру именно того фантазма, который был определен Пла-
тоном в следующем виде — призрак как копия копии.
С тем лишь отличием, что больше нет образца, то есть ко-
пии, так что эта структура (которая охватывает весь текст
Платона, включая и попытку выйти из нее, в нем пред-
принимаемую) отныне не ссылается на какую-либо он-
тологию или даже диалектику. Желая опрокинуть миме-
тологизм или же собираясь одним махом ускользнуть от
него, прыгая просто-напросто со связанными ногами,
наверняка упадешь снова и несомненно в ту же самую
систему — двойника уничтожают или диалектизируют,
Speculum (лат.) — также «образ», «подобие».
ESQ Двойной сеанс
а затем обретают восприятие самой вещи, производство
ее присутствия, ее истину как идею, форму или материю.
По отношению к платоновскому или гегелевскому идеа-
лизму то смещение, которое мы здесь условно называем
смещением «Малларме», является и более тонким, и бо-
лее осторожным, более скромным и действенным. Это си-
мулякр платонизма и гегельянства, который отделен от
того, что он симулирует, лишь едва прозрачным покры-
валом, о котором можно с не меньшей уверенностью ска-
зать, что оно уже проходит — пусть и незаметно — меж-
ду платонизмом и платонизмом, между гегельянством и
гегельянством. Между текстом Малларме и текстом Мал-
ларме. Поэтому не будет просто ложью то утверждение,
будто Малларме — платоник или гегельянец. Но не будет,
что главное, и истиной129.
И наоборот.
Здесь нас интересуют не столько эти философские по
своей форме предложения, сколько способ их переписы-
вания в тексте «Мимики». В нем отмечается именно то,
что, поскольку у этого подражающего нет подражаемого
в последней инстанции, поскольку у этого означающего
нет означаемого в последней инстанции, их действие бо-
лее не включено в процесс истины, — напротив, оно его
охватывает, ведь сам мотив предельной инстанции неот-
делим от метафизики как поиска arkh£y eskhatona и telos'a.
И все это отмечается в «Мимике» вовсе не только
в чекане письма, в незаурядном формальном или синтак-
сическом успехе, но и в том, что в этом тексте, как кажет-
ся, описывается в качестве тематического содержания или
же имитируемого события, что в конечном счете, несмот-
ря на эффект содержания, является не чем иным, как про-
странством письма: в таком «событии», гимене, преступ-
лении, самоубийстве, спазме (смеха или наслаждения),
в которых ничего не происходит, в которых симулякр ока-
зывается трансгрессией, а трансгрессия — симулякром, —
все в них описывает саму структуру текста и реализует его
возможность. Вот по крайней мере то, что требуется те-
перь доказать.
9-6705
Жак Деррида. Диссеминация
Действие, которое больше не принадлежит системе
истины, не выявляет, не производит, не открывает ника-
кого присутствия; оно также и не образует сообразнос-
ти подобия или соответствия присутствия и представ-
ления. Однако это не какое-то единство, а множествен-
ная игра сцены, которая, не иллюстрируя чего бы то ни
было, что существует за ее пределами, ни слова, ни дела,
не иллюстрирует вообще ничего. Ничего, кроме разби-
той на отдельные грани множественности люстры, ко-
торая сама по себе является ничем вне своего разбитого
на фрагменты света. Ничего, кроме идеи, которая суть
ничто. Идеальность идеи в данном случае для Малларме
является именем, пусть и по-прежнему метафизическим,
но все же необходимым, чтобы отметить не-сущее, не-
реальное или не-присутствующее; эта мета указывает,
дает намек, не разбивая стекла, на то, что по ту сторону
сущего, на epekeina tes ousias — вот гимен (близость и по-
крывало) между солнцем Платона и люстрой Малларме.
Этот «материализм идеи» является не чем иным, как те-
атральной постановкой, театром, видимостью ничто или
самости. Постановка, которая ничего не иллюстрирует^
которая иллюстрирует ничто> освещает пространство,
отмечает опространствование как ничто, как пробел —
белый, как еще не написанная страница или как разница
между чертами. «Я здесь — не для иллюстрации... [...]»130
Рисунок этой цепочки, Театр—Идея—Мим—Драма,
мы можем найти в одном из фрагментов неизданных
набросков «Книги».
Резюме театра
как Идея и гимн
отсюда театр = Идея
И немного далее, в стороне:
Театр V Идея
Драма
Герой Гимн
мим танец
SQ Двойной сеанс
Итак, сцена не иллюстрирует ничего, кроме сцены,
равнозначности театра и идеи, пусть это будет, как ука-
зывается двумя этими терминами, видимость (исключа-
ющая себя) из видимого, которое осуществляется на ней.
Она иллюстрирует в тексте одного гимена — более, чем
анаграммы гимна — «в гимене (из которого берется Гре-
за), порочном, но священном, между желанием и выполне-
нием, совершением и воспоминанием: здесь опережая, там
вспоминая, в будущем, в прошлом, в ложном явлении на-
стоящего».
«Гимен» (слово, причем единственное, которое напо-
минает, что речь идет о «предельном спазме») в первую
очередь указывает на слияние, осуществление брака, отож-
дествление двух, смешение между двумя. Между двумя
больше нет различия, но только тождество. В этом слия-
нии больше нет зазора между желанием (ожиданием пол-
ного присутствия, которое должно прийти, чтобы запол-
нить его, выполнить его) и осуществлением присутствия,
между зазором и не-зазором; больше нет отличия жела-
ния от удовлетворения. Уничтожено не только различие
(между желанием и осуществлением), но и различие меж-
ду различием и не-различием. Не-присутствие, открытая
пустота желания, и желание, полнота наслаждения, отны-
не сводятся к одному и тому же. Одновременно, если так
можно сказать, больше нет текстуального различия меж-
ду образом и вещью, пустым означающим и полным оз-
начаемым, подражающим и подряжаемым и т. д. Отсюда
не следует, что из-за этого гимена смешения остается все-
го лишь один термин, один из различных терминов; то есть
отсюда не следует, что остается одна лишь полнота озна-
чаемого, подряжаемого или самой вещи в ее собственном
присутствии, просто присутствующего. Однако различие
между двумя терминами больше не работает. Смешение
или прожигание гимена подавляет разнородность двух
мест в «предельном спазме» или в смерти со смеху; в том
же жесте оно подавляет внешнее положение или предше-
ствование, независимость подражаемого, означаемого или
вещи. Выполнение осуществляется в желании, желание
9*
ЕШ£1 Жак Деррида. Диссеминация
есть (опережает) выполнение, которое навсегда остается
изображаемым желанием, «не разбивая стекла».
Таким образом, снимается не различие, но различ-
ное, отличные термины, определимая внешность различ-
ных терминов друг для друга. Именно благодаря смеше-
нию или слитности гимена, а не вопреки ей вписывается
определенное (чистое и нечистое) различие без опреде-
лимых полюсов, без независимых и необратимых тер-
минов. Такое различие без присутствия является или,
скорее, разыгрывает явление, смещая время, упорядочен-
ное центром настоящего. Настоящее больше не являет-
ся материнской формой, вокруг которой различаются и
собираются будущее (настоящее) и прошлое (настоя-
щее). В этом гимене между будущим (желанием) и на-
стоящим (выполнением), между прошлым (воспомина-
нием) и настоящим (проникновением), между потенци-
ей и актом и т. д. отмечены лишь темпоральные различия
без центрального настоящего — без того настоящего,
простыми модификациями которого были бы прошлое
и будущее. Но можно ли в таком случае все еще говорить
о времени и о темпоральных различиях?
Центр присутствия всегда должен был бы даваться
тому, что называют восприятием или, в целом, созерца-
нием. Но в «Мимике» больше нет восприятия, больше
нет реальности, которая сама по себе в настоящем пред-
лагает себя восприятию. Физиономические игры, жесто-
вые следы не являются сами по себе настоящими, по-
скольку они отсылают, постоянно намекают, представ-
ляют. Но они не представляют ничего из того, что
когда-то было присутствующим настоящим или могло
бы им стать, — ничего из того, что до или после панто-
мимы; а в самой пантомиме осуществляется преступле-
ние-оргазм, который, хотя он и не был никогда совер-
шен, оборачивается самоубийством, не встречающимся
ни с каким затруднением и не проявляющим насилия,
и т. д. Означающий намек не проходит сквозь зеркало —
«постоянным намеком, никогда не разбивая стекла» — хо-
лодное, прозрачное и отражающее стекло («никогда не
В31 Двойной сеанс
разбивая стекла» — это приписка, появляющаяся в тре-
тьем варианте текста), не продырявливая полотна или по-
крывала, не разрывая муара. Пещера Малларме, театр его
глоссария — в этом подвесе, «центре вибрирующего под-
вешивания», между стенками грота, в голосовой щели
друг от друга отражаются слова, которыми чеканятся
такие рифмы, как «наследник» <hoir>, «вечер» <soir>,
«черный» <noire>, «зеркало» <miroir>, «каракули»
<grimoire>, «ящик» <armoire> и т. д. (таблицы II и IV).
Если гимен иллюстрирует подвешивание различаю-
щихся терминов, что же остается? Больше ничего, кроме
Грезы <Reve>. Прописная буква призвана подчеркнуть
неизвестность понятия, которое отныне не подчиняется
старой оппозиции, — Греза, будучи одновременно вос-
приятием, воспоминанием и предвидением (желанием),
и тем, и другим, и третьим в каждом из этих терминов,
на деле не является ни тем, ни другим, ни третьим. Она
объявляет о «вымысле», «среде, чистой, вымысла» (запя-
тые тоже появляются в третьем варианте), о присутствии
одновременно воспринятом и не воспринятом, образе и
образце, то есть образе без образца, который есть ни об-
раз, ни образец, а среда (посередине — между, ни/ни;
и среда — стихия, эфир, общность, посредник). После
того как мы совершим определенный поворот в нашем
чтении, мы перейдем на ту сторону люстры, на которой
сверкает «среда». Поскольку референт снят, но референ-
ция осталась, больше нет ничего, кроме письма Грезы,
вымысла без воображаемого, мимики без подражания,
без правдоподобия, без истины или лжи, — ничего, кроме
письма явления без скрытой реальности, без подкладки
мира, то есть без явления: «ложное явление...». Остаются
только следы, объявления или напоминания, предчув-
ствия или последействия, которым не предшествует и за
которыми не следует никакое настоящее, которые нельзя
упорядочить по прямой, разместив их вокруг определен-
ной точки, след — «здесь опережая, там вспоминая, в бу-
дущем, в прошлом, в ложном явлении настоящего». Мал-
ларме подчеркивает (начиная со второго варианта, то есть
fe&l Жак Деррида. Диссеминация
того, что входит в «Страницы» <Pages>) и усиливает мо-
мент размышления, изображаемого в «Пьеро» Маргерит-
та: в момент — прошлый — вопроса, открытого в буду-
щее («Но как это сделать?»), автор либретто говорит вам
в скобках и в настоящем времени «(Дело в том, что Пье-
ро воспроизводит свое преступление как сомнамбула,
поэтому в его бреду прошлое становится настоящим)»
(курсив автора). Историчная двусмысленность слова «яв-
ление» (одновременно появление или проявление суще-
го-присутствующего и скрытие сущего-присутствующе-
го за своим явлением) наделяет своим неопределенным
изгибом эту последовательность, которая не является ни
синтетической, ни избыточной — «в ложном явлении на-
стоящего». В выделении этого обстоятельственного до-
полнения отмечается смещение платонизма и всего его
наследия без его переворачивания. Это смещение всегда
является эффектом языка или письма, синтаксиса, и ни-
когда — простым диалектическим обращением понятия
(означаемого). Сам мотив диалектики, который открыл
и завершил философию, как бы его ни определять и ка-
ковы бы ни были ресурсы, которые он в ней самой под-
держивает вопреки ей, — это, несомненно, то, что Мал-
ларме синтаксически отметил в точке бесплодия этого
мотива или, скорее, того, что вскоре назовется (времен-
но и по аналогии) неразрешимым.
Или гименом.
Девственность «еще не написанной страницы» от-
крывает нам это пространство. Есть еще слова, которые
не проиллюстрированы: оппозиция порочный!священ-
ный («в гимене (из которого берется Греза), порочном, но
священном» — скобки появились во втором варианте,
чтобы лучше соотнести прилагательные с «гименом»),
оппозиция желание/совершение и особенно синкатегоре-
ма «между».
Напоминание: гимен, смешение между присутству-
ющим и не-присутствующим вместе со всеми управля-
емыми им неразличенностями между всеми последова-
тельностями противоположностей (восприятие/не-вос-
QsEl Двойной сеанс
приятие, воспоминание/образ, воспоминание/желание
и т. д.) производит эффект среды (среды как стихии,
охватывающей разом два термина, — и среды, удержива-
ющейся между двух терминов). Действие, которое «одно-
временно» осуществляет смешение между двух терминов
и удерживается между противоположностями. Значимо
здесь это «между», «меж двух» гимена. Гимен имеет мес-
то между, в опространствовании между желанием и вы-
полнением, совершением и воспоминанием. Но эта сре-
да между <entre> не имеет никакого отношения к цент-
ру <centre>.
Гимен входит <entre>, в пещеру <antre>. Между
<entre> также может писаться с «а» (таблицы II и IV). Не
суть ли два между <(e)antres> — одно и то же? Литтре:
«ПЕЩЕРА <ANTRE>, ж. р. 1. Углубление, естественный
грот, темный и глубокий. “Эти пещеры, эти треноги, ко-
торые рождают оракулов” (Вольтер, “Эдип” <Voltaire,
(Edipe>, II, 5). 2. перен. Застенки полиции, следственных
органов. 3. анат. Такое название имеют некоторые кост-
ные полости. — Синоним. Пещера, каверна, грот. Кавер-
на, пустое, впалое место в форме арки, — это родовой
термин; однако пещера — это глубокая, темная, черная ка-
верна; грот — это живописная каверна, созданная приро-
дой или руками человека. Этим. Antrum, avxpov; санскр.
antara, щель, каверна. Antara в собственном смысле озна-
чает интервал, связываясь таким образом с латинским
предлогом inter (давшем entre <между>). Прованс. antre\
исп. и итал. antro». Статья ВХОДИТЬ <ENTRER> завер-
шается той же самой этимологической ссылкой. Интер-
вал «между», «меж двух» гимена было бы заманчиво рас-
смотреть в качестве пласта в долине (vallis), без которой
не было бы горы, в долине, подобной ложбине между дву-
мя гребнями Парнаса, местопребывания Муз и Поэзии;
однако intervallum образован из inter (между) и vallus (кол),
что дает не один кол меж двух, а пространство меж двух
частоколов. Согласно Литтре.
Таким образом, мы переходим от логики частоко-
ла, которая всегда будет полна, к логике гимена. Гимен,
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
уничтожение различных терминов» слитность и смеше-
ние коитуса» брак» смешивается с тем» из чего он» как ка-
жется» происходит, — с гименом как защитным экраном,
ларцом девственности» девственной плевой» очень тон-
ким и невидимым покрывалом, которое перед истерией
сохраняется между внутренним и внешним женщины»
следовательно» между желанием и выполнением. Он —
ни желание, ни удовольствие» но между ними двумя. Ни
будущее, ни настоящее» но между ними двумя. Именно
гимен желание как раз и мечтает пронзить, прорвать
в насильственном действии» которое есть одновременно
(или между) любовь(ю) или убийство(м). Если бы то или
иное имело место, гимена бы не было. Но он бы не был и
неуместен. Благодаря всей неразрешимости своего смыс-
ла гимен имеет место только тогда» когда он не имеет
места, когда на самом деле ничего не происходит, когда
есть уничтожение без насилия или насилие без удара»
а может — удар без отметины, мета без меты (поле стра-
ницы) и т. д.» когда покрывало разрывается» не разрыва-
ясь, когда» например, заставляют умереть со смеху или
смеяться до упада.
*Yp,T]V обозначает пленку» тонкую мембрану» кото-
рая обволакивает некоторые органы тела, например, по
утверждению Аристотеля» сердце или кишечник. Это
также хрящ некоторых рыб, крыло некоторых насекомых
(пчел, ос и муравьев — то есть перепончатокрылых, ги-
меноптеров), перепонка на лапах некоторых птиц (ги-
меноподов), белая пленка» которая покрывает глаза не-
которых видов птиц, оболочка, которая скрывает семя
или зерно растений. Ткань, на которой записывается
столько метафор тела.
Существуют трактаты о мембранах» или гименоло-
гии, описания мембран» или гименографии. Этимологиче-
ски слово «гимен» — неизвестно» верно ли — возводят
к корню и» который можно найти в латинском suo, suere
(«шить») и в uphos («ткань»). Гимен — это как будто не-
большая связка (syuman) (syuntah — «сшитый», siula —
«игла»; schuh — «шить»; suo). Та же самая гипотеза, ино-
EES Двойной сеанс
гда оспариваемая, выдвигается и в отношении «гимна»,
который, следовательно, не является всего лишь анаграм-
мой гимена (таблица V). Два этих слова, как утверждает-
ся, имеют отношение к слову uphaind («ткать», «плести
паутину», «замышлять»), а также к uphos («ткань», «пау-
тина», «рыболовная сеть», текст какого-либо произведе-
ния, согласно Лонжену <Longin>) и к umnos («уток», за-
тем «мотив песни», в расширительном смысле — «сва-
дебная или траурная песня»). Литтре: «...по Куртиусу
<Curtius>, в слове vjavoc; тот же корень, что и в vcpdo),
“ткать”, и в исрт], и<ро<;, “ткань”; в доисторические време-
на, когда письмо было еще неизвестно, большинство слов,
которые служат для обозначения стихосложения, заим-
ствовались у ремесла ткача или строителя...».
Итак, гимен — это род ткани. Его нити нужно было
бы сплести со всеми газами, покрывалами, полотнами,
материями, муарами, крыльями, перьями, со всеми за-
навесами и веерами, которые своими складками охва-
тывают весь — почти весь — корпус Малларме. На это
мы могли бы потратить всю ночь. Слово «гимен» встре-
чается не один раз, не только в «Мимике». Вместе со все-
ми теми же, более или менее систематически прорабо-
танными синтаксическими ресурсами оно обнаружи-
вается в «Кантате к первому причастию» <Cantate pour
la Premiere Communion>, сочиненной Малларме в 16 лет
(«В этом таинственном гимене / Силы и слабости»),
в «Послеполуденном отдыхе Фавна» <l’Apres-Midi d’un
Faune> («Слишком гимен желанный того, кто ищет ее»),
во «Многих подношениях Фавна» <Offrandes a divers du
Faune> («Фавн возмечтал о гимене и кольце целомуд-
рия») и особенно в «Рихарде Вагнере. Грезе француз-
ского поэта» <Richard Wagner, Reverie d’un Podte fran£ais>,
где на двух страницах (р. 543—545) приводятся все эле-
менты этого созвездия: Мим, гимен, девственное, тайное,
проникновение и оболочка, театр, гимн, «складка ткани»,
такт, который ничего не изменяет, «песня, рожденная из
разрыва», «слияние этих разобщенных форм удоволь-
ствия».
1ШЁ1 Жак Деррида. Диссеминация
Еще одна складка — гимен, «среда, чистая, вымысла»,
удерживается между двумя настоящими актами, которые
не имеют места. Акт, актуальность, активность неотдели-
мы от значения присутствия. Имеет место только меж-
ду — место, опространствование, которое ничем не явля-
ется, идеальность (как небытие) идеи. Следовательно, ни
один акт не совершается {«гимене... совершением и воспо-
минанием»), не допускается как преступление. Воспоми-
нание о преступлении, которое никогда не было совер-
шено, — и не только потому, что мы никогда не видели,
чтобы оно присутствовало на сцене (Мим вспоминает),
но и потому, что не было совершено никакого насиль-
ственного действия (сначала «преступник» заставил уме-
реть со смеху, а затем он, весельчак, был искуплен своею
собственной смертью), так что это преступление явля-
ется своей собственной противоположностью — любов-
ным актом. Который сам не имел места. Совершать <рег-
petrer> — в его рассчитанном созвучии с «проникать»
<pendtrer> — значит прорвать (но лишь в вымысле) ги-
мен, никогда не преодолеваемый порог. Даже делая шаг,
Пьеро остается возле дверей, «одинокий пленник поро-
га» («Для вашей дорогой покойницы» <Pour votre chere
morte>).
Прорвать гимен или порвать себе веко (которое
у птиц называется гименом), потерять зрение или жизнь,
не видеть больше белого света — вот участь всех Пьеро.
Подчиняется ей и «Посмертный Пьеро» Готье, еще до
Пьеро Маргеритта. Участь призрака. Он применяет свое
средство к самому себе, делает вид, будто он умер, про-
глотив мышь, а затем — щекоча себя, в предельном спаз-
ме бесконечной мастурбации. Быть может, гимен этого
Пьеро не обладал утонченной прозрачностью, невиди-
мой несостоятельностью гимена Малларме. Но именно
потому, что гимен остается хрупким или ненадежным,
он предает себя смерти или выдает себя за мертвеца. Ре-
шив, что, уже будучи мертвым для других, он не сможет
быть на высоте требуемого гимена (брака) — истинного
гимена! — между ним и Коломбиной, посмертный Пьеро
ВёВ Двойной сеанс
симулирует самоубийство: «Я убил бы Арлекина, и снова
получил бы жену... / Но как? Чем? Ведь я всего лишь дух, /
Вымышленное, абсолютно нематериальное существо; / Ги-
мен же требует чего-то ощутимого, существенного... / Ка-
кая незадача! Чтобы разрешить все эти сомнения, / Убью
себя, но раз и навсегда»131. Но поскольку самоубийство
тоже относится к роду гимена, он так и не перестанет себя
убивать, а «раз и навсегда» означает, что гимен всегда об-
ращается насмешкой — тем, благодаря чему мы всегда
будем взрываться от хохота.
В тексте «К книге» <Quant au Livre> завязаны воеди-
но структуры гимена, времени и самоубийства. «Само-
убийство или воздержание, ничего не делать, почему? —
Единственный раз в мире, поскольку в силу события, ко-
торое я всегда буду выведывать, не бывает Настоящего,
нет — настоящее не существует... Проступок, которым
объявляет себя Толпа, за неимением — всего... Плохо
осведомлен тот, кто открыто назвал бы себя своим соб-
ственным современником, уклоняющимся, узурпирую-
щим, с равным бесстыдством, когда прошлое прекрати-
лось, а будущее медлит, или оба они сплелись и запута-
лись друг в друге, чтобы замаскировать зазор» (р. 372).
Замаскированный зазор — неощутимый и несуще-
ственный, вставленный, засунутый — «между» гимена
отражается в экране, не проникая в него. Гимен остается
в гимене. Один — покрывало девственности, с которым
еще ничего не происходит, — остается в другом — осу-
ществлении, трате и проникновении в полость.
И наоборот.
Не перешагнуть через зеркало и не разбить стекло
вовеки. До пределов бытия.
На границе бытия посредник гимена никогда не ста-
новится опосредованием или работой негативности, он
разыгрывает все онтологии, все философемы, диалекти-
ки всех границ. Он их разыгрывает и — будучи к тому
же средой и тканью — обволакивает их, обворачивает и
вписывает. Как не-проникновение, не-совершение (кото-
рое не является просто негативным, удерживаясь между
ВЗД Жак Деррида. Диссеминация
двумя), этот подвес полости, в которой задерживается
сопроникновение <perp6ndtration>, оказывается, по сло-
вам Малларме, «постоянным»: «Так действует Мим, игра
которого ограничивается постоянным намеком, никогда
не разбивая стекла: так он закрепляет среду, чистую,
вымысла». (Вся игра множественных запятых (virgula)
устанавливается только в последнем варианте, распреде-
ляя паузы и задавая ритм, пробелы и передышки, впи-
санные в континуум всей последовательности132.) Посто-
янное движение гимена — из пещеры Малларме нельзя
выйти, в отличие от пещеры Платона. Его скудный руд-
ник требует совсем иной спелеологии, которая уже не
стремится проникнуть за вычищенное до блеска явле-
ние, исключая «ту сторону», «агента», «двигатель», «глав-
ную и ничтожную деталь» «литературного механизма»
(«Музыка и Словесность» <La Musique et les Lettres>,p.647).
«...Настолько, насколько это необходимо для иллю-
страции одного из аспектов и этой жилы языка» (р. 406).
«Так действует Мим» — каждый раз, когда Маллар-
ме пользуется словом «действие», не происходит ничего,
что могло бы быть воспринято в качестве настоящего
события, реальности, деятельности и т. д. Мим ничего не
делает, нет ни акта (акта убийства или полового акта),
ни действующего субъекта, ни страдающего. Ничего не
есть. Слово «есть» <est> встречается в «Мимике» всего
один раз, хотя оно и склоняется в настоящем, «в ложном
явлении настоящего», однако в той форме, которая не
является формой утверждения о существовании и едва
ли является формой простой предикативной связки
(«...которую пристало выразить поэту, смятенному этим
вызовом!» <c’est au podte, suscitd par un ddfi, de traduire!>).
Исследователями уже отмечался постоянный эллипсис
глагола «быть» у Малларме133. Этот эллипсис дополняет
частое употребление слова «игра»; сама же практика
«игры» в письме Малларме входит в сговор с устранени-
ем «бытия». Устранение <mise a l’6cart> бытия опреде-
ляется и буквально отпечатывается в диссеминации, как
диссеминацйя.
EDBI Двойной сеанс
Игра гимена является одновременно порочной и свя-
щенной, «порочной, но священной». Поэтому она ни та ни
другая, ведь ничего не происходит, а гимен остается под-
вешенным между, вне и в пещере. Нет ничего более по-
рочного, чем этот подвес, это разыгранное устранение,
нет ничего более извращенного, чем это разрывающее
проникновение, которое оставляет утробу девственной.
Но ничто не имеет больших знаков священного, чем все
эти покрывала Малларме, нет ничего более замкнутого,
неприкосновенного, запечатанного, невредимого. В дан-
ном пункте нужно было бы снова разобрать аналогию
между «сценарием» «Мимики» и тем сценарием, кото-
рый пунктиром проходит через фрагменты «Книги». Вот
некоторые из них:
еДО Жак Деррида. Диссеминация
19 А
С другой стороны, одновременно
будущей и прошлой
(одна рука опущена, другая поднята,
поза танцовщицы)
Таково то, что имело видимое
место, от него устранилось
20 А
открыть на середину* 1 (одинокую
в себе —2 это простирается
до таинственной авансцены, как
фон — подготовка к празднику
антракт*
слияние двух
с прерыванием открытого фона
или = **
действие
на фоне
— продолжающееся
когда его покидают
перед одним *антракт
и увеличивающийся
из середины
поднять занавес — падение [sic]
соответствует фону
и таинственная авансцена — соответствует
и тому, что скрывает фон (полотну и т. д.) делает из него
тайну —
фон = зал ** с люстрами
1. на второй фон.
2. единственный праздник в себе — праздник.
ВО Двойной сеанс
21 А
электрическая арабеска
зажигается позади — и два
полотна
— что-то вроде священного разрыва
покрывала, написанного там — или разрывает —
и два существа, одновременно птица
и аромат, — похожий на двух
с кресла
высокий (балкон) ком
яйцо
церковь
22 А
Вот все, что говорит эхо —
двойное и лживое, если его спросит
путешествующий дух (ветра)
24 А
— За это время — диорамный
занавес ушел вглубь [sic] — тень
все более и более плотная, как будто углубленная
ей самой — тайной —
Занавеса аннулирована...
169 А[в углу страницы]
Действие*
преступление клятва?
*который не есть ни. ни
50 В
люстра с 5 петл.
QB Жак Деррида. Диссеминация
Мим играет постольку, поскольку он не сверяется ни
с каким действительным действием и не стремится ни
к какому правдоподобию. Игра всегда разыгрывает раз-
личие без референции или, скорее, без референта, без аб-
солютной внешности, то есть тем самым без внутренне-
го. Мим изображает мимикой референцию. Но это не под-
ражатель, ведь мимикой он подражает подражанию <il
mime l’imitation>. Гимен вклинивается между мимикой и
mimesis или, скорее, между mimesis и mimesis. Копия копии,
симулякр, который симулирует платоновский симулякр,
копия платоновской копии, а также гегелевский зана-
вес134, — здесь они потеряли манящую силу референта, те-
перь они потеряны для диалектики и для онтологии, по-
теряны для абсолютного знания. А последнее, согласно
буквальному выражению желания Батая, также «изобра-
жается мимикой» <mimd>. В этой постоянной аллюзии
на глубину «между», которое не имеет глубины, мы ни-
когда не знаем, на что аллюзия делает аллюзию, если толь-
ко по ходу осуществления аллюзии она не делает ее на саму
себя, сплетая свой гимен и фабрикуя свой текст. И в этом
аллюзия — это, конечно, игра, которая сообразуется толь-
ко со своими формальными правилами. Как указывает
само это слово, аллюзия <allusion> играет. Но если эта игра
и независима от истины в последней инстанции, это не
значит, что она ложна, что она заблуждается, что она об-
манчива или иллюзорна. Малларме пишет «намек», «ал-
люзия», а не «иллюзия». Аллюзия, или «внушение», как
Малларме говорит в другом тексте, — это операция, кото-
рую здесь мы по аналогии называем неразрешимой. Не-
разрешимая пропозиция — это та, возможность которой
Гедель доказал в 1931 г.: в данной системе аксиом, которые
управляют определенным набором предложений, такая
пропозиция не является аналитическим или дедуктивным
следствием этих аксиом, и в то же время она не противо-
речит им, то есть с их точки зрения она не истинна и не
ложна. Tertium datur, без синтеза.
В данном случае «неразрешимость» не связана с ка-
кой-то загадочной двусмысленностью, «историчной» мно-
EES Двойной сеанс
гозначностью, с поэтической тайной слова «гимен»» с не-
исчерпаемой амбивалентностью некоего отдельного сло-
ва естественного «языка»» и еще меньше — с неким «Gegen-
sinn der Urworte» <противоположным смыслом праслова>
(Абель)135. Здесь речь не идет о том, чтобы по поводу «ги-
мена» повторить то, что Гегель сделал с такими немецки-
ми словами» как Aufhebung, Urteil, Meinen, Beispiel и т. д.»
воодушевляясь той счастливой случайностью» которая
установила отдельный естественный язык в стихии спе-
кулятивной диалектики. Здесь имеет значение не лекси-
ческое богатство, семантическая неисчерпаемость опре-
деленного слова или понятия» его глубина или плотность»
разграничение в нем двух противоречивых значений (не-
прерывность и прерывистость, внутреннее и внешнее»
тождество и различие и т. д.). Здесь имеет значение только
формальная или синтаксическая практика» которая сла-
гает или разлагает это слово. Мы сделали вид» что все сво-
дим к слову «гимен». Но само качество незаменимого озна-
чающего» которое» казалось бы, ему обеспечено, было на
деле представлено только в качестве ловушки. Это слово,
этот силлепсис136, не является необходимым, филология и
этимология интересуют нас лишь во вторую очередь» так
что потеря «гимена» не была бы для «Мимики» невосста-
новимой. Первоначально его эффект производится син-
таксисом» который размещает «между» таким образом» что
подвешивание оказывается связанным только с местом,
но никак не с содержанием слов. Посредством «гимена»
мы всего лишь повторно отмечаем то, что уже отмечает
место слова «между» и что оно отмечало бы и в том слу-
чае» если бы слово «гимен» вообще не присутствовало.
Если бы слово «гимен» было заменено словом «свадьба»
или «преступление», «тождество» или «различие», эффект
был бы тот же» исключая определенное сгущение или эко-
номическое накопление» на что мы и обратили внимание.
Слово «между», идет ли речь о смешении или об интер-
вале между, стало быть» само несет всю силу операции.
Нужно определить гимен исходя из «между», а не наобо-
рот. Гимен в тексте (преступление, половой акт, инцест,
Ш9 Жак Деррида. Диссеминация
самоубийство, симулякр) позволяет вписывать себя ост-
рием этой нерешительности. Это острие выдается вперед
в соответствии с неуничтожимым избытком синтаксиса
по отношению к семантике. Слово «между» не обладает
никаким смыслом, который был бы полным сам по себе.
Открытое между — это синтаксический шкив, не катего-
рема, а синкатегорема, то есть то, что философы со Сред-
них веков до «Логических исследований» Гуссерля назы-
вают «неполным значением». То, что верно для «гимена»,
mutatis mutandis верно для всех знаков, которые наподо-
бие pharmacon а, дополнения,различения <differance> и не-
которых других обладают двойным, противоречивым,
неразрешимым значением, которое всегда связано с их
синтаксисом — независимо от того, является ли он «внут-
ренним», то есть связывающим и сочленяющим в одной
упряжке, uph'еп, два несовместимых значения, или же «вне-
шним», зависящим от кода, в котором заставляют рабо-
тать данное слово. Впрочем, синтаксическое соединение
или разъединение некоего знака выводит из оборота саму
альтернативу внутреннего и внешнего. Мы просто имеем
дело с более или менее крупными рабочими синтаксиче-
скими единицами, с экономическими различиями сгуще-
ния. Ни в коем случае не отождествляя такие места не-
определенного вращения вокруг собственной оси друг
с другом (напротив, их всегда нужно различать), можно
заметить определенный закон серии, присущий им, — они
отмечают пункты того, что не поддается опосредствова-
нию, управлению, снятию или диалектизации посред-
ством Erinnerung’a или Aufhebung’a. Случайно ли, что все
эти эффекты игры, все эти «слова», уклоняющиеся от фи-
лософского управления, во всех своих контекстах, исто-
рически весьма различных, имеют особое отношение
к письму? Эти «слова» в своей игре допускают противоре-
чивость и непротиворечивость (а также противоречи-
вость и непротиворечивость между противоречивостью
и непротиворечивостью). Оставаясь без диалектическо-
го снятия, они постоянно соотносятся с сознанием и бес-
сознательным, о котором Фрейд сказал, что оно терпимо
ЕШ Двойной сеанс
или даже вовсе нечувствительно по отношению к проти-
воречию. Поскольку же текст зависит от них, склоняется
к ним, он разыгрывает двойную сцену. Он действует на двух
совершенно различных местах, даже если они разделены
всего лишь занавесом, одновременно проницаемым и не-
проницаемым, приоткрытым. Такую двойную науку, мес-
то для которой должны дать два этих театра, Платон по
причине этой неразрешимости и неустойчивости назвал
бы doxa, а не epist£md. А «Пьеро, убийца своей жены» на-
помнил бы ему загадку евнуха, который убивает летучих
мышей137.
Всё разыгрывается, всё и всё остальное, то есть игра
разыгрывается в «между», о котором автор «Эссе о при-
близительном познании» <Essai sur la connaissance appro-
ch ёе>, разбиравшийся и в пещерах13’, говорит, что это
«математическое понятие» (р. 32). Когда письмо намеча-
ет и повторно отмечает <re-marque> эту неразреши-
мость, его формализующая сила, даже если она кажется
«литературной» или, по видимости, обязанной естествен-
ному языку, оказывается большей, чем сила пропозиции
логико-математического вида, которая удерживается по
эту сторону от подобной меты. Если даже предполагать,
что остающееся метафизическим различие естественных
и искусственных языков обладает строгостью (а здесь мы
на самом деле касаемся предела его действенности),
существуют тексты на так называемом естественном
языке, формализующая сила которых окажется выше
той формализующей силы, которой наделяются некото-
рые способы обозначений, представляющиеся формаль-
ными.
Теперь мы уже не имеем права попросту сказать, что
«между» является чисто синтаксическим элементом. За
пределами своей синтаксической функции оно при по-
средстве повторной меты своей семантической пустоты
принимается означать139. Его семантическая пустота озна-
чает, но именно опространствование и артикуляцию;
в качестве смысла оно обладает возможностью синтак-
сиса и упорядочивает игру смысла. Не будучи ни чисто
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
синтаксическим, ни чисто семантическим, оно отмечает
артикулированное открытие этой оппозиции.
И наконец, все из этого раскола повторяется или при-
открывается в некоем «прочитанном» <lit>, которое бу-
дет тщательно подготовлено «Мимикой». При прибли-
жении к концу синтагма «прочитанное» воспроизводит
стратегему гимена.
Прежде чем перейти к ней, я напомню, что в этой «Ми-
мике», по-ученому помещенной между двумя момента-
ми молчания, которые в ней прорываются («Молчание,
единственная роскошь после рифм... еще царит молчание,
условие и наслаждение чтения»), — как «проделка» и «спор»
языка (таблица II), речь всегда будет идти только о письме
и чтении. Ее можно было бы прочитать как краткий трак-
тат о литературе. И не только потому, что метафора пись-
ма часто применяется в ней («призрак, белый, как еще не
написанная страница») — это как раз и есть вариант «Фи-
леба», — но и потому, что необходимость этой метафо-
ры, которой ничто не избегает, делает из нее нечто от-
личное от частной фигуры речи. В ней осуществляется
абсолютное расширение понятия письма-чтения, текста,
гимена, так что ничто из того, что есть, не может ока-
заться за границей этого понятия. «Мимика» описывает
сцену письма в сцене письма — и так без конца, чему при-
чиной структурная необходимость, отмечаемая в тексте.
Мим как «телесное письмо» («Балеты» <Ballets>) изоб-
ражает мимикой письмо и позволяет записать себя
в письме. Все отражается в среде или зеркале этого чте-
ния-письма, «неразбивая стекла». Существует письмо без
либретто, отточие которого каждый раз, в каждое мгно-
вение шествует по девственному листу без прошлого; но
одновременно существует и бесконечность множества
либретто, которые включают друг друга, нанизываются
друг на друга и выходят наружу лишь посредством при-
вивки, извлечения, цитат, эпиграфов, ссылок и т. п. Ли-
тература отменяется в своей иллюминации. Если бы этот
краткий трактат о литературе хотел что-то сказать,
ВВ Двойной сеанс
а теперь у нас есть причины сомневаться в этом, в пер-
вую очередь он бы предполагал, что не существует — или
почти не существует — литературы и, во всяком случае,
не существует сущности литературы, истины литерату-
ры, бытия-литературой литературы. И что очарование
таким «существует» или вопросом «что», содержащим-
ся в вопросе «Что такое литература?», имеет ту же силу,
что и гимен, а это вовсе не ничто, когда, к примеру, он
заставляет умирать со смеху. Что ни в коем случае не дол-
жно препятствовать — дело обстоит прямо противопо-
ложным образом — работе по изучению того, что и по-
чему представлялось и определялось этим названием —
«литература».
Малларме читает. Он пишет читая. Читая текст, на-
писанный Мимом; который сам читает, чтобы писать, —
например, он читает «Пьеро посмертного», чтобы выпи-
сать его жестами мимику, которая ничем ему не обяза-
на, затем он читает таким образом созданную мимику,
чтобы впоследствии написать либретто, которое читает
Малларме.
Но читает ли Мим свою роль, чтобы написать свою
мимику или свое либретто? Обладает ли он инициати-
вой чтения? Является ли он тем действующим субъек-
том, который умеет читать то, что он должен написать?
В самом деле, можно было бы подумать, что, если он пас-
сивен в чтении, он хотя бы обладает активной свободой
начать чтение; или же что вы сами, как некий читатель,
сохраняете инициативу чтения всех этих текстов, вклю-
чая и текст Малларме, и в этой мере, занимая это место,
вы присутствуете при нем, решаете, управляете им.
Ничто не может быть менее определенным. Синтак-
сис «Мимики» запечатлевает движение симулякра (не-
платонического), в котором «прочитанное» <1е lit> в сво-
ей функции усложняется до такой степени, что в итоге
допускается множественность подлежащих, в которой вы
вовсе не обязательно обнаружите себя. Клиническая па-
радигма Платона больше не действует.
Вопрос текста есть — для того, кто (что) его читает.
Е£Е1 Жак Деррида. Диссеминация
Среди многих возможностей есть и следующая —
Мим не читает свою роль, ведь он прочитан ею. По край-
ней мере, он одновременно и прочитан, и читает, напи-
сан и пишет, он в промежутке, в подвесе гимена, он эк-
ран и зеркало. Как только мы вставляем зеркало, простая
оппозиция активности и пассивности, как и оппозиция
производства и произведенного, а также всех причастий
настоящего времени и причастий прошедшего времени
(подражающее/подражаемое, означающее/означаемое,
структурирующее/структурированное и т. д.), становится
бесполезной и в формальном отношении слишком сла-
бой, чтобы управлять графикой гимена, его паутиной и
игрой его век.
Такая невозможность установить путь, свойственный
букве текста, указать определенное место субъекту-под-
лежащему и локализовать элементарный исток — она-то
и закрепляется, фабрикуется тем, кто сам себя называет
«глубоким и скрупулезным синтаксиком». В следующей
фразе синтаксис — как и весь расчет пунктуации — не
дает нам решить, является ли подлежащим, относящим-
ся к «читает» <lit>, именно «роль» («меньшая, чем на
тысячу строк, роль, что его читает...» <“moins qu’un
millier de lignes, le role, qui le lit...”>) или же какой-то произ-
вольный читатель («роль, кто ее читает, сразу же пони-
мает правила, как будто оказавшись перед подмостками...»
<“le role, qui le lit, tout de suite comprends les rdgles, comme
р1асё devant un tr6teaux...”>). Кто этот «что/кто» <qui>?
«Кто» — это, возможно, неопределенное местоимение
«любой» <quiconque>, выполняющее здесь функцию под-
лежащего. Это наиболее простое прочтение — любой, кто
читает роль, сразу же понимает правила. Эмпирическая
статистика показала бы, что так называемое «чувство язы-
ка» чаще всего задает именно такое прочтение.
Но ничто в самом грамматическом коде не превра-
щает эту фразу в неправильную, если, ничего в ней не
меняя, мы прочитаем это «что/кто» (подлежащее этого
«читает») как относительное местоимение, относящееся
к предшествующему слову «роль». При таком прочтении
ESS Двойной сеанс
по цепочке начинает распространяться последователь-
ность синтаксических и семантических трансформаций,
затрагивающих функцию слов «роль», «его/ее», «оказав-
шись», а также смысл слова «понимает». Итак: «Меньшая,
чем на тысячу строк, роль (подлежащее, а не дополне-
ние), что (местоимение, относящееся к слову “роль”) его
(местоимение, замещающее “Мима”, подлежащее преды-
дущей фразы, расположенное совсем рядом) читает,
сразу же понимает (схватывает, включает в себя, упоря-
дочивает, организует — читает) правила, как будто ока-
завшись перед подмостками (роль помещена перед сце-
ной — или как автор-композитор, или как зритель-чи-
татель, в позиции “любого” первой гипотезы), их мрачным
распорядителем».
Такое прочтение вполне возможно, оно «нормально»
и с синтаксической и с семантической точки зрения. Но
насколько же искусственно такое ухищрение! Разве вы
в самом деле думаете, скажут нам, что Малларме созна-
тельно выстроил свою фразу так, чтобы она могла читать-
ся в обоих смыслах, так что каждое подлежащее может
стать в ней дополнением и наоборот, а мы никогда не мо-
жем прекратить это движение? Никогда не сможем в этой
«вуали альтернатив» решить, «склоняется ли к тому или
другому краю» <репсЬё de Tun ои 1’autre bord> («Бросок
костей») этот текст? Два полюса чтения не могут присут-
ствовать в равной степени — по крайней мере, синтаксис
справился с эффектом неопределенного колебания двух
вариантов.
То, что могло происходить в голове Малларме, в его
сознании или бессознательном, нас здесь не интересует,
и теперь понятно почему. Во всяком случае, это совер-
шенно неважно для прочтения текста — его основа, как
мы уже убедились, навита так, чтобы обойтись без каких
бы то ни было референций, чтобы все их обрезать. Так
или иначе, тем, кого интересует сам Стефан Малларме и
кто хотел бы узнать, что он думал и что хотел сделать,
написав такую фразу, мы зададим один-единственный
вопрос. Но наш вопрос относится к текстам, причем
ИШ1 Жак Деррида. Диссеминация
опубликованным: как объяснить, что указанная синтак-
сическая альтернатива высвобождается только в третьей
версии данного текста? Как объяснить, что только бла-
годаря перемещению некоторых слов, удалению других,
преобразованному времени, добавленной запятой, —
только благодаря всему этому прочтение с единственным
смыслом, единственное, которое можно было бы осуще-
ствить, имея дело с первыми двумя версиями, начинает
в итоге колебаться, уже никогда не достигая состояния
покоя? Не достигая определяемой референции? Почему,
написав следующую вполне недвусмысленную фразу:
«Кто прочитает, как я только что поступил сам, этот
чудесный пустяк, меньший тысячи строк, поймет веч-
ные правила, как будто оказавшись перед подмостками,
их мрачным распорядителем» (1886),
а затем другую:
«Эта роль, меньшая, чем на тысячу строк, кто ее чи-
тает, поймет правила, как будто оказавшись перед под-
мостками, их мрачным распорядителем» (1891),
в конечном счете он пишет следующую фразу, обла-
дающую всей возможной двусмысленностью:
«Меньшая, чем на тысячу строк, роль, что <кто> его
<ее> читает, сразу же понимает правила, как будто бы
оказавшись перед подмостками, их мрачным распоряди-
телем» (1897)?
Быть может, он не ведал, что творил? Быть может, он
сделал это бессознательно? Быть может, в таком случае
он не был до конца автором того, что само написалось?
В самой «Мимике», в глубине пещеры, раздается раскат
смеха — ответ на все эти вопросы. Все они могут быть
сформулированы лишь при обращении к оппозициям,
при предположении возможностей решения, значимость
которых была в самом строгом смысле опрокинута са-
мим текстом, который они хотели бы допросить. То есть
этим гименом, как текстом, который всегда подсчитыва-
ет и подвешивает (таблица I) дополнение «неожиданно-
сти» и «наслаждения». «Неожиданность, сопровождающая
исполнение ремесла фиксации чувств вовсе не произнесен-
ОЭД Двойной сеанс
ными фразами — что, быть может, только в этом един-
ственном случае, в подлинном виде, между листами и
взглядом, царит еще тишина, условие и наслаждение чте-
ния». Дополнение, принцип и надбавка. Обескуражива-
ющая экономия соблазна,
вступает... тишина.
«Поскольку каждый сеанс или пьеса является игрой,
фрагментарным представлением, которому, однако, хва-
тает этого...»
[«Книга», 93 (А)]
II
Так же как и у «Мимики» — у двойного сеанса нет сере-
дины. Он распределяется на две половины140 л ишь по вы-
мыслу ложного изгиба. Каждый сеанс, не менее целый
сам по себе, но не симметричный, станет репликой или
приложением другого, его игрой или упражнением. Вме-
сте они и больше и меньше, чем два полутропа, в итоге
никогда не давая завершенного тома. Никогда нет пол-
ного оборота, за неимением представления.
ЕЗ Двойной сеанс
Малларме напомнил о «Книге», вернувшейся к «необходимости сги-
баться»:
читать снизу
и чтобы книга
представлялась так
и
.V V.
.VV.
необходимость сгибаться
[77(B)]
конец
возврат
того же самого — но почти другого [78(B)]
отрывка
складка с каждой стороны
и по этой причине
вернувшись, к расщепу добавление одного
листа в противоположном на-
правлении против
| смерти
возрождения?
для +
никогда не обнаружить
складку в противоположном
направлении — есть другой лист
чтобы ответить на возможность
этого другого направления.
складку, которая только
одной стороной —
останавливает взгляд —
и скрывает
последовательность складок
позолота —
картон
в (как некогда в переплете)
[44(A)]
Жак Деррида. Диссеминация
Необходимость согнуть лист гимена не навязывает-
ся впоследствии, как вторичная процедура. Вам не придет-
ся пригибать к самой себе поверхность, которая первона-
чально была гладкой и плоской. Гимен, «в расщепе», не при-
обретает — в том или другом месте — дополнительный
изгиб, оставаясь безразличным к тому, чем вы его надели-
те или в чем ему откажете. В морге Пьеро вы сможете про-
честь, что фальцовка отмечалась в самом гимене, в углу
или в расщепе, в промежутке, посредством которого, раз-
деляясь, он относился сам к себе. Складка, но уже не на
покрывале или чистом тексте, а в подкладке, которой и
является гимен сам по себе. Не являясь, будучи складкой
подкладки, согласно которой он есть, вне себя, в себе, од-
новременно свое собственное внешнее и свое собствен-
ное внутреннее; между внешним и внутренним, застав-
ляя внешнее свернуться вовнутрь и выворачивая полость
<l’antre> или иное <l’autre> на свою поверхность, гимен
никогда не оказывается чистым или собственным, у него
нет собственной жизни, собственного имени. Он, откры-
тый собственной анаграммой, кажется всегда разорван-
ным, в складке, которой он воодушевляется и убивается.
На необнаружимой линии этой складки гимен ни-
когда не представляется, он никогда не есть — в настоя-
щем, он не имеет собственного смысла, он больше не
относится к смыслу как таковому, то есть, если говорить
о последней инстанции, к смыслу бытия. Складка умно-
жается), но (не есть) не одна (одно).
На месте заглавия этого сеанса, подвешивая СКЛАД-
КУ, вы могли бы найти место применения следующего
эпиграфа:
«Но отделять себя от идеи бытия — значит ли это
делать себя одним с ним или же навеки удерживаться вов-
не? Я думаю, это значит держаться снаружи внутри <еп
dehors dedans>, будучи там, и быть там — не держаться
выше Зла, но внутри и быть самим Злом, Злом, состоя-
щим в том, что есть Бог, которого нужно насытить, ги-
мен Морга, который в том, что складка никогда не была
одной складкой...»141.
033 Двойной сеанс
Как в «Убийстве на улице Морг», начинающемся с те-
ории игр и хвалы — заслуживающей полного прочте-
ния — «аналитику», который «обожает загадки, ребусы,
иероглифы», речь идет — в складке — об искаженном осу-
ществлении последней цитаты рассказа: «отрицать то, что
есть, и объяснять то, чего нет». Эдгар По — «абсолютный
образец литературы», по словам Малларме. Это также
единственное собственное имя, которое, как представля-
ется, можно найти в заметках, которые подготавливали
«Книгу». Может, это не имеет значения? На листе142, все
слова которого вычеркнуты:
закончить
сознание
И труды +
+
улица
+
детство
двойное
их
толпа +
+ одно — преступление — водосток
И на следующем листе:
Я чту мнение По, никакого остатка
философии
этики или метафизики не будет видно;
добавлю, что она нужна — включенная [$хс] и скрытая.
Далее, на том же листе:
Интеллектуальный остов
поэмы, скрывается и — имеет место — состоит
в пространстве, которое отделяет строфы и
между белизной бумаги; значимое молчание, сочинять которое
не менее прекрасно, чем
стихи.
ESQ Жак Деррида. Диссеминация
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет, — та-
кое действие не может быть сведено здесь к какой бы то
ни было диалектической операции, самое большее —
к диалектике в форме собственной ужимки. Антракт или
межсезонье гимена не дают времени — ни времени как
наличного существования понятия (Гегель), ни потерян-
ного времени, ни обретенного времени, еще в меньшей
степени — мгновения или вечности. На самом деле в них
не представляется никакое настоящее, пусть хотя бы и для
того, чтобы скрыться в нем. Под видом настоящего (тем-
порального или вечного) гимен разыгрывает саму гаран-
тию господства. Критическое желание — то есть также и
философское — не может, оставаясь собой, не попытать-
ся свести гимен к такой гарантии. Это желание будет по-
очередно прочитывать гимен в том или ином виде при-
сутствия — как работу письма против времени или же
работу письма посредством времени.
Против времени. Согласно Жаку Шереру <Jacques
Scherer>, «ложное явление настоящего» должно было бы
наделить большим присутствием или реальностью бу-
дущее настоящее или прошлое настоящее — или даже
вечное настоящее:
Другой важный элемент драматургии, от которого от-
казывается Малларме, — это время. Он хвалит панто-
миму такими странными словами: «Сцена иллюстри-
рует только идею» а не настоящее действие, в гимене
(из которого берется Греза), порочном, но священном,
между желанием и выполнением, совершением и вос-
поминанием: здесь опережая, там вспоминая, в буду-
щем, в прошлом, в ложном явлении настоящего». Его
отказ от действия по необходимости влечет отказ от
времени, отрицая же темпоральную реальность теат-
ра, которую он называет ложным явлением, он прихо-
дит к тому, что парадоксальным образом наделяет бу-
дущее или прошлое менее иллюзорной реальностью.
В другом тексте в качестве героя вневременного теат-
ра ему представляется Вилье де Л иль-Адан < Villiers de
ЕШ Двойной сеанс
l’Isle-Adam>. Малларме так описывает воздействие
этого знаменитого рассказчика, Вилье: «Полночи, с рав-
нодушием потраченные на предсмертное бдение чело-
века возле самого себя, в эти ночи, время отменяло
само себя». Итак, благодаря своему таланту Вилье от-
меняет не только свое собственное существование, но
и само время — театр выводит нас из потока времени,
вводя нас в обретенное время, то есть в вечность143.
Посредством времени. Если промежуток гимена от-
стоит от настоящего, от прошлого, будущего или вечно-
го настоящего, его лист не имеет ни внутреннего, ни
внешнего, он не относится ни к оригиналу, ни к пред-
ставлению, ни к реальности, ни к воображаемому. Син-
таксис его складки запрещает останавливать его игру или
нерешенность на одном из терминов — например, как
делает Ришар, на ментальном или воображаемом. Подоб-
ная остановка должна была бы подчинить «Мимику»
философской или критической (платоно-гегелевской)
интерпретации mimesis'^. Она не смогла бы объяснить
этого избытка синтаксиса по отношению к смыслу (удво-
енного избытком «между» по отношению к оппозиции
синтаксис/семантика), то есть повторно отмеченной тек-
стуальности. Однако на этот раз именно самому времени,
а не безвременности Ришар приписывает работу по дере-
ализации, которая должна была бы вернуть письмо в его
собственную стихию — в ментальное или воображаемое.
Вот его слова:
Если мы будем искать еще более совершенного призра-
ка, мы встретим мима — это «призрак, белый, как еще
не написанная страница», гладкая и неподвижная фи-
гура, которая в качестве своего единственного выраже-
ния избрала молчание. Ни в коей мере не вклиниваясь
между реальным и ментальным, его абсолютно негатив-
ное тело послужит свободным полем для воображае-
мой записи. Здесь больше нет предписанных знаков —
это лицо на самом деле лишь наполовину здесь, оно
ЕШО Жак Деррида. Диссеминация
остается нейтральным, податливым, гипотетичным.
Этому лицу, непрозрачному, что помешало бы парению
вымысла, в совершенстве удается быть одновременно
и здесь и там, сейчас и раньше: «в гимене (из которого
берется Греза), порочном, но священном, между жела-
нием и выполнением, совершением и воспоминанием:
здесь опережая, там вспоминая, в будущем, в прошлом,
в ложном явлении настоящего». В каждом из своих тво-
рений Театр стремится уничтожить не что иное, как ак-
туальность вместе с материальностью. Работа по дере-
ализации и сублимации отныне вменяется самому вре-
мени — подобно женщине из «Будущего феномена»
<Phdnomdne futur> и множеству других созданий Мал-
ларме, мим колеблется между двумя сторонами вооб-
ражаемого призыва будущего и прошлого144.
Это доказательство продолжается и далее, получая до-
полнительные подтверждения: работа темпорального вы-
мысла, «вымышленный переход интервала», эта «ложь» —
все они стремятся «сыграть... воображаемое бытие», «обре-
сти трансцендентность иного мира», чтобы «мы могли
эстетически воссоединиться с нашей собственной трансцен-
дентальной истиной...».
Стекло также выворачивает наизнанку свою функцию
грезы — раньше оно утверждало болезненную недости-
жимость бытия, теперь же оно служит тому, чтобы сыг-
рать недостижимое, но в то же время реальное бытие,
то есть воображаемое бытие. Исходя из здесь и сейчас,
объективированных в плоти одновременно непрозрач-
ной и случайной, театр и мим намереваются обрести
трансцендентность иного мира. |...] Следовательно,те-
атральный мир имеет лишь ментальное существова-
ние — поэтому-то получить к нему доступ можно лишь
благодаря отсоединению от повседневного мира, то есть
посредством вымышленного перехода интервала. Этот
интервал, то есть театральное тело, белое лицо мима,
туманные завесы музыки, естественным образом при-
EES Двойной сеанс
нимает для себя в качестве образца парадигму, при-
меняемую Малларме к любому интервалу, — оконное
стекло. Итак, все обращено, но все остается подобным.
Ранее прозрачность означала лазурь, запрещая ее. Те-
перь же она дает больше, она заставляет жить и вне-
дряет в вещи новую мечту о Красоте. Но эта красота,
как мы видели, является не более чем славной ложью,
одним лишь созданием нашего духа. Эту-то ложь ис-
кусство и пытается сделать истиной, и для этого оно
должно положить ее — театрально или художествен-
но — под стекло. Таким образом, отныне стекло задает
чувственное поле иллюзии, оно заставляет нас сколь-
зить по нему, призывает нас к миражу. Из препятствия
прозрачность теперь превращается в инструмент — бог,
на которого она указывает, отныне в нас самих, а не вне
нас, на далеком небе, хотя для воображения это не слиш-
ком большое отличие. Театр застекляет своих персо-
нажей, искусство делает мир прозрачным, литература
стремится отбелить и выпарить предмет посредством
языка — и все это только для того, чтобы с их по-
мощью мы могли эстетически воссоединиться с нашей
собственной трансцендентальной истиной, то есть, по-
просту, чтобы вложить в них необходимое измерение
потусторонности (р. 407—408. Курсив автора).
Структура «под стеклом» такова, что мы не можем ее
описать, но только проинтерпретировать. Это, по край-
ней мере, и есть та интерпретация, которая будет отныне
нас занимать — от одного перехода к другому, но без оста-
новки.
«Работа по дереализации и сублимации», идеализация
«актуальности» и «материальности» — кто бы мог отри-
цать их очевидное выполнение в тексте Малларме? И все-
таки нужно прочитать его через лупу. Все-таки нужно
учесть остекление, не сбрасывая со счета «производство»
стекла. Это «производство» — так же, как и производство
гимена — не состоит всего лишь в разоблачении, в выве-
дении в явление, в представлении; но не состоит оно и
10-6705
ВДВ Жак Деррида. Диссеминация
в простом уничтожении — или в создании, водружении,
изобретении. Если структура стекла имеет какое-то отно-
шение к структуре гимена, она сдвигает все эти оппози-
ции. Стекло должно читаться как текст или, как раньше
мы могли бы сказать, в качестве неразрешимого «озна-
чающего». Далее мы докажем, что эффект стеклянного
означающего <signifiant de verre> почти отождествляется
с эффектом стиха <vers>.
Да, для Малларме театральный мир является миром
ментальным, — кто мог бы отрицать эту очевидную
истину? И все-таки нужно прочесть ее через лупу. Мал-
ларме действительно говорит об «умственной среде, отож-
дествляющей сцену и зал» (р. 298). В самом деле, не явля-
ется ли книга внутренним представлением самого театра,
внутренней сценой? В подобном «идеальном представле-
нии», «театре, внутренне присущем духу, любой, кто бро-
сил один-единственный взгляд на природу, уносит ее
с собой в виде сводки отпечатков и соответствий; так же
как друг с другом сталкивает их том, открывающийся на
параллельных страницах» (р. 328). Эти тезисы — и обшир-
ная цепочка их эквивалентов145 — изображают <miment>
интериоризацию театра в книге и книги — в «умствен-
ной среде». Изображаемая операция не заключает наруж-
ное внутри, она не устанавливает сцену, ограничиваемую
закутком ума, она не сводит пространство к воображае-
мому. Напротив, вставляя опространствование во внут-
реннюю полость, она больше не позволяет этому внут-
реннему замыкаться в самом себе, отождествляться с са-
мим собой. Книга, конечно, составляет «единое целое»,
«блок», однако это целое из листьев. «Кубическое совер-
шенство», открытое146. Эта невозможность закрыться на
себе, это растрескивание книги Малларме, как и «внутрен-
него» театра, составляют саму практику, а вовсе не редук-
цию опространствования. Эта практика разыгрывается
при ее наложении на структуру складки и дополнитель-
ности.
Поэтому необходимо вернуть ей движение, букваль-
но процитировать. Писать вставку <insertion>, слово,
Ш1 Двойной сеанс
которое действует здесь со всей своей силой и во всех
своих возможных вариантах («Ставить в. Засовывать
привой за кору... В расширительном смысле — вводить
в текст, в список» — Литтре), чтобы отметить проник-
новение театра в книгу, пространства во внутреннее про-
странство, отметить, что мимика вписывает свою при-
вивку в угол, держа его полость открытой, поддерживая
ее «в расщепе», в близости тома, завернутого на самого
себя и с этого момента вспоротого «введением руки или
перочинного ножа», то есть отстраненного от самого се-
бя, — это буквально цитировать: «И другое — искусство
г-на Метерлинка, который также вставил театр в книгу!»
(р. 329). Писать открытую полость сцены посредством
книги — это буквально цитировать: «...Теперь книга по-
пытается самостоятельно приоткрыть внутреннюю сце-
ну и пересказать ее отзвуки» (р. 328). Писать, что такое
движение разыгрывается согласно структуре дополни-
тельности, добавки или заместительства, — это букваль-
но цитировать: «Двумя страницами и стихами на них
я замещаю — становясь сам сопровождением всего —
мир! Или воспринимаю в них, со скромностью, драму»
(ibid.). Дополнительность уже не является здесь, как по
видимости или декларативно у Руссо, односторонним
движением, которое, отпадая вовне, теряет в простран-
стве и жизнь, и теплоту речи; здесь это избыток означа-
ющего, которое изнутри себя дополняет пространство и
повторяет открытие. Книга в таком случае — это не воз-
мещение, а повторение опространствования, того, что
в нем разыгрывается, в нем теряется и выигрывается. Это
буквально цитировать: «Одна книга в наших руках, если
она высказывает какую-то величественную идею, заме-
щает все театры — но не забвением, которое она вызы-
вает, а, напротив, властно напоминая о них» (р. 334). Ни
в коей мере не заменяя сцены и не меняя лаз простран-
ства на контролируемую внутреннюю полость, такое
дополнение неумолимо удерживает и повторяет сцену
в книге. Таково отношение «Наборов и листьев» <Planches
et feuillets> N7.
10
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
Конечно, у нас не было бы недостатка в ссылках и
документах, доказывающих, что театральный мир —
это воображаемый мир или даже воображаемое пред-
ставление. И все-таки необходимо, цитируя такой те-
зис, вернуть ему движение. Все-таки нужно разложить
его, чтобы развернуть скрытые посылки, сместить его
и заставить его крутиться вокруг самого себя, чтобы вы-
явить его ось: ментальный мир — это такая же сцена;
внутреннее пространство mens, точно так же, как и за-
вернутая на себя укромность книги, имеет структуру
опространствования. Простор письма, если принять
в расчет гимен мимики, запрещает подводить вымысел
Малларме под категорию воображаемого. В действи-
тельности эта категория построена на основе онтоло-
гической интерпретации mimesis'г — такое утверждение
мы могли бы получить в результате другого сеанса. Но
по той же самой причине нельзя значения ментального
или воображаемого заменять значениями актуальности,
реальности или даже материальности; по крайней мере,
если такая замена осуществляется как симметричное об-
ращение или же как простое переворачивание былой
асимметрии.
Вся эта цепочка («вымысел», «гимен», «простор» и т. д.),
сама пространная и подвижная, сцепляется во всей онто-
логической машине, но лишь для того, чтобы ее сломать.
Она сдвигает все ее оппозиции. Она увлекает их в движе-
ние,‘отпечатывает на них игру, которая распространяется
на все элементы текста, постоянно — более или менее по-
следовательно, но абсолютно неумолимо — смещая их бла-
годаря разрывам, неравновесным сдвигам, внезапным за-
медлениям или ускорениям, стратегическим последстви-
ям преувеличения или эллипсиса. Вот каким образом —
и это наиболее впечатляющие примеры этой великой сце-
ны — «Книга», «Дух», «Идея» начинают функционировать
в качестве отвязанных, выбитых, оторванных от своей ис-
торической полярности означающих. «Книга, полное рас-
ширение буквы, должна непосредственно из нее извлечь
некую подвижность и, будучи простором, установить,
OS Двойной сеанс
благодаря соответствиям, какую-то неизвестную игру, ко-
торая утверждает вымысел.
Ничего случайного, там, где, как представляется, идея
в воле случая, аппарат остается тем же: следовательно, не
нужно судить эти предложения, производственные или
имеющие отношение к материальности, — фабрикация
книги в ее целостности, которая уйдет в никуда, начина-
ется с одной фразы. Беспамятен поэт на месте этого сти-
ха, в сонете, который записывается для духа или на чис-
том пространстве» (р. 380).
Теперь мы должны рассмотреть эту букву и то, что
простор из нее извлекает посредством складок, изгибов,
разворотов, расширения, — рассмотреть, распознать, то
есть очертить ее рисунок. Мы должны определить струк-
туру опространствования Малларме, подсчитать ее след-
ствия и извлечь из нее критические выводы. Вращение
предложения вокруг своей оси («ментальный мир — это
такая же сцена») не освобождает, а, напротив, принуж-
дает нас поставить следующий вопрос: «когда», «как»,
«почему» эта сцена разыгрывается снаружи, вне духа, как
«театр» или «литература»? Чтобы развернуть этот во-
прос вместе со всеми его строго различенными предпо-
сылками (соответствующими классическим разделениям
«исторического», «экономического», «психоаналитиче-
ского», «политического» и т. д.), сначала нужно сформу-
лировать особый закон такого «театрального» или «ли-
тературного» эффекта. Именно такой граничный во-
прос удерживает нас здесь. Итак, этот вопрос уже был
в явной форме заявлен как вопрос границы. Поскольку
же он — по крайней мере, в той форме, в какой он здесь
рассматривается — вовлекает и будоражит связкой сво-
их понятий синтаксис своих парных оппозиций, всю
основу своих предпосылок, весь дискурс, в котором мог
бы оформиться вопрос о поле и целостности (вопрос
как таковой, то есть как дискурс, если предполагать, что
у него есть реальные поля <marges r6elles>), уже есть
предчувствие, что кризис открыт в самом первом ходе
<marche>.
E&Q Жак Деррида. Диссеминация
Критические выводы — выводы, которые должны ка-
саться критики Малларме, как и критики в целом, связан-
ной, как показывает сам этот термин, с возможностью раз-
решать, с xpvveiv <отделять, судить, решать>; но также и
критическое воздействие, которое некое повторное при-
мечание или вторичная закалка опространствования про-
изводят на литературную операцию, на «литературу», ко-
торая с этого момента вступает в кризис.
«Кризис стиха» позволяет нам прочесть, пересечь то,
что пробелы этого опространствования и кризис литера-
туры не чужды переписыванию некоего гимена, притвор-
ству вуали в ее вымышленном разрыве или складке. Этот
текст, современность которого можно было бы счесть не-
своевременной, ставит точки над /. Подвесив точку, i каж-
дый раз прокалывает и разрывает — почти — покрыва-
ло, разрешает вопрос — почти — о тексте, как множество
иных i Малларме; например, так:
«Наша фаза, недавно начавшись, если не приходит
к завершению, то останавливается или начинает понимать
сама себя — определенная доля внимательности позво-
ляет выявить творческую и обладающую определенной
решимостью волю.
Даже пресса, переписывающая новости двадцатилет-
ней давности, неожиданно занялась этой темой, вовремя.
Литература сейчас переживает изысканный кризис,
в самой своей основе.
Тот, кто припишет этой роли какое-то место, и даже
первое, признает в этом сам факт актуальности: мы при-
сутствуем, подойдя к концу века, не так, как это было
в прошлом веке, при потрясениях; но — вне публичного
пространства, при беспокойстве покрывала храма, скла-
дывающегося многозначительными складками и как буд-
то чуть разорванного» (р. 360).
Своим критическим, заточенным, вытянутым остри-
ем i здесь подписывает изысканный кризис, переживае-
мый «литературой» с многозначительными складками,
которые, как и гимен, ее разрывают, но «как будто чуть»,
не разрывая, закрепляя ткань. В вымышленном отказе
BS1 Двойной сеанс
своей самой высокой точки, подвешенной в воздухе <air>
(г — другая семенная буква «Кризиса стиха» <Crise de
vers>), как будто бы отрезанной от нее самой, i вытягива-
ет свою черту, прилагает свое перо или крыло, свое длин-
ное перо, подкалывает и подшивает, предписывает кри-
тике ее место в складке письма, «литературного» письма
или письма танца, балета, театра, так часто называемого
иероглифическим.
Сделаем вид, что мы оставляем «Кризис стиха», что-
бы прочитать два других текста, — прочитать лишь за-
тем, чтобы, не имея бесконечного времени, которым нуж-
но было бы располагать (однако мы попытаемся форма-
лизовать эту необходимость бесконечного процесса),
просто отметить все i, относящиеся к «теме».
Они входят в «Наброски для театра» <Стауоппё аи
theatre>, они разделены одной страницей (назовем их
«Реплика I» и «Реплика II»).
Реплика I. «Критика, во всей своей целокупности, есть
Поэзия, коей следует выполнить благородное дополни-
тельное действие, она имеет ее ценность и почти может
с ней сравняться, лишь рассматривая — непосредствен-
но и гордо — сами феномены или вселенную: однако, во-
преки этому, возможно, как первичный инстинкт, поме-
щенный в закоулки нашей души (некий болезненный
демон), она уступает притягательности театра, который
показывает только представление <repr6sentation>, для тех,
кому нет нужды смотреть вещам прямо в глаза! Притяга-
тельности пьесы, записанной в небесном томе, которую
жестами своей страсти изображает Человек» (р. 294).
Вызовом для критики всегда будет этот эффект двой-
ной дополнительности, всегда остающаяся дополнитель-
ной реплика, излишние — и именно поэтому недостаточ-
ные — ответ или представление. «Реплика» <repli>: складка
<pli> Малларме всегда будет не только сгибанием ткани,
но и повторением для самого себя сложенного таким об-
разом текста, дополнительной повторной метой складки.
«Ре-презентацией»: театр не представляет вещи «прямо
вШ1 Жак Деррида. Диссеминация
в глаза», он их больше не представляет, он показывает
представление, показывает себя в качестве вымысла, то
есть не столько показывает вещи или их образы, сколько
сооружает определенную машину.
Реплика II. Подсчитайте теперь точки, проследите за
тонкой иглой всех i и ique, которая быстро опускается на
ткань, подталкиваемую с другой стороны, и вы, быть мо-
жет, увидите, как в быстром и упорядоченном движении
машины шьется идея Малларме, некий казус i и некий бро-
сок костей:
«Балет дает немногое — это искусство воображения.
Когда для взгляда обособляется знак уплотненной общей
красоты, как-то: цветок, волна, облако или украшение, если
для нас единственный способ его познания состоит в на-
ложении его внешнего вида на нашу незамутненную ду-
ховную способность, дабы она почувствовала его подоб-
ным и приспособила его к себе в некоем изысканном сме-
шении себя с этой воздушной формой, — так что все
происходит лишь при участии ритуала, выражающего
идею, разве не представляется танцовщица наполовину рас-
сматриваемой стихией, наполовину самой человеческой
природой, готовой смешаться с ней в парении мечты?»
«Парение», между текстами: парение, подвешенность
в воздухе покрывала, взвесь дымки или газа (который за-
писывается на полях текста «Применение газа в еврей-
ских лампах в Голландии» <ГAdaptation du gaz aux lampes
juives de Hollande>,4R) развивается по законам гимена. Сло-
во «парение» <flottaison>, всякий раз, когда оно появля-
ется, внушает суггестию Малларме, едва приоткрывает,
тотчас приготовляясь исчезнуть, нерешительность того,
что остается в подвесе, ни то ни се, между этим и тем, сле-
довательно, между этим текстом и тем другим, в их до-
полнительном эфире, «газе... невидимом и присутствую-
щем» (р. 736). Между этим и тем летает перо, «танцовщи-
ца наполовину рассматриваемой стихией, наполовину
самой человеческой природой, готовой смешаться с ней...».
Между двумя, смешение и различие («изысканное смеше-
ние»), гимен, танец пера, полет Идеи, «изысканное смеше-
ВШ Двойной сеанс
ние ее <сГе11е> [крыла <d’aile>] с этой воздушной фор-
мой, — так что все происходит лишь при участии ритуа-
ла, выражающего идею, разве не представляется танцов-
щица наполовину рассматриваемой стихией, наполовину
самой человеческой природой, готовой смешаться с ней
в парении мечты». Парение, меж текста, некое «множество
нерешенных парений идеи, покидающих случайность...»
(р. 289). Колебание «покрывала», «полета», «вольтижиров-
ки», целиком и полностью сосредоточенное в пуантах
танцовщицы или идеи (здесь стоило бы перечитать вступ-
ление к «Наброскам для театра»), всегда пишет (описы-
вает), кроме всего прочего^ структуру литературной ткани,
само движение надписи, «колебание», становящееся пись-
мом. Таким образом, текст, склоняя референцию к само-
му себе, отстраняет <6carte> ее, ставит ее буквой V, зазо-
ром <6cart>, вольтижирующим на своих пуантах, танцов-
щицей, стеблем цветка или Идеей. «Один разглагольствует
о своих прозрениях, теоретически и, быть может, впустую,
как по расписанию, — он знает, что те внушения, которые
касаются литературного искусства, должны предостав-
ляться в твердом виде. Однако колебание, открывая вне-
запно то, чего еще нет, ткет, благодаря скромности и ко
всеобщему удивлению, покрывало.
Перед чтением обратим на грезы то внимание, кото-
рое, если мы в партере, вызывает какая-нибудь белая ба-
бочка — она повсюду и нигде, и вот ее уже нет, она исчез-
ла; не без особой остроты и наивности, к которым я свел
тему, только что она промелькнула, проявив настойчи-
вость, перед моим удивленном взором» (р. 382).
Всегда отмечая порог, из этого колебания, внушения,
парения, из заостренного небытия операция сошьет —
гимен. Подшитый текст — вот к чему, во всех i и ique «Ми-
мики» <Mimique>, свелась тема:
«...В парении мечты? Операция или поэзия по пре-
имуществу и театр. Непосредственно балет воздействует
аллегорией: он сплетет столько, сколько оживит, дабы от-
метить каждый из ритмов, все соответствия или Музыку,
сперва сокрытые, между его позами и многочисленными
Жак Деррида. Диссеминация
характерами, так что изобразительное представление
земных вспомогательных средств Танцем заключает
в себе опыт, относящийся к их эстетической степени, не-
кое посвящение осуществляется в них как доказатель-
ство наших богатств. Отсюда выводимое философское
положение, на котором покоится безличность танцовщи-
цы, заключенной между своим женским явлением и
изображаемым объектом, ради некоего гимена: она под-
калывает его своими твердыми пуантами, расставляет
его; затем развертывает наше убеждение в шифр пируэ-
тов, продленный до другого мотива...»
Остановим на мгновение кинематографическую
вольтижировку в этой точке. Весь этот абзац развернут,
как ткань, плотное покрывало, как просторная и гибкая
материя, которую разворачивают, при этом подкалывая
ее в определенном порядке. В игре этой наметки есть толь-
ко текст; гистологическая операция обращается с тканью
при помощи острия портняжного инструмента, кото-
рый одновременно продырявливает и шьет, нанизывает.
Текст — ради некоего гимена — одновременно пронзает-
ся и собирается. «Шифр пируэтов, продленный до друго-
го мотива», как и весь текст в целом, зашифрован дваж-
ды. Он повторно отмечается в своем шифре тем, что, обо-
значая пируэт танцовщицы в качестве шифра или
иероглифа, он также зашифровывает зна>< «пируэта», ко-
торый он заставляет выполнять пируэты или крутиться
вокруг своей оси как волчок, чтобы на этот раз обозна-
чить уже движение самого знака. Шифр пируэтов — это
также пируэт как шифр, как движение означающего, ко-
торое отсылает сквозь вымысел такого видимого пируэта
танцовщицы к другому постоянно выполняющему пиру-
эты означающему, к другому «пируэту». Таким образом,
как пуанты танцовщицы, пируэт всегда готов вот-вот про-
рвать знаком, неким заостренным небытием страницу
книги или девственную нетронутость велени*. И в этом
В отличие от пергамента велень изготавливали не из овечьей шкуры,
а из цельной кожи шкур телят, коз и ягнят.
ВШ1 Двойной сеанс
танец означающего не удерживается лишь внутри книги
или воображаемого. «Жанр или современники»: «...Эти
плохо скрытые и тотчас загорающиеся газовые рожки,
отображая многочисленные обобщенные позы прелюбо-
деяния или кражи, неосторожные исполнители этого при-
вычного святотатства.
Я понимаю.
Только танец, в силу своего развития, вместе с мимом,
как мне кажется, по необходимости создают реальное про-
странство, или сцену.
Строго говоря, одного листа хватает, чтобы вызвать
в памяти любую пьесу — пользуясь помощью своей мно-
жественной личности, каждый может разыграть ее для
себя внутри, что не может быть верным в случае пируэ-
тов» (р. 315). Как пируэт, танец иероглифа не может цели-
ком разыгрываться внутри. Не только по причине «реаль-
ного пространства, или сцены», не только по причине
пуантов, которые продырявливают страницу или набор
книги, но и — что главное — по причине некоего боково-
го смещения: беспрестанно вращаясь на своих пуантах,
иероглиф, знак, шифр оставляет свое «здесь», как будто
в насмешке, будучи здесь всегда в переходе отсюда туда, от
одного «здесь» к другому, вписывая в stigme <укол, точку>
своего «здесь» другую точку, к которой он постоянно рвет-
ся, другой пируэт, который постоянно отмечается в каж-
дом прыжке, в перехлесте каждой ткани. Каждый пируэт
в таком случае является в своем кручении всего лишь ме-
той какого-то другого пируэта, совсем другого и того же
самого. «Шифр пируэтов, продленный до другого моти-
ва», таким образом, наводит на мысль о черте — объеди-
нения и опространствования — между двумя «словами»
или «означающими»; например, между двумя вхожде-
ниями означающего «пируэт», которые от одного текста
к другому и в первую очередь в пробеле между текстами
увлекаются друг за другом, шифруют друг друга, двигают
друг друга как силуэты, подобно черным теням, выделен-
ным на белом фоне, профилям без лиц, последователь-
ности набросков, представляющейся всегда лишь вкось,
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
вращающейся вокруг вала колеса, вокруг этой невидимой
оси письма, на гончарном круге, который сам постоянно
срывается. Это немое письмо, как письмо кружащей пти-
цы, взмывает, изымает свое острие в тот самый момент,
когда оно прокалывает. Обратив взор к «Мимике», Мал-
ларме называет «Танец... этой девственно чистой, как мус-
лин, темой...». Он говорит о «живых складках». Быть мо-
жет, нигде больше графика гимена не получит большей
поддержки: «Остов, который не принадлежит никакой
частной женщине, из которого сочится нестойкость,
сквозь покрывало всеобщности, влечет к тому откровен-
ному фрагменту формы и черпает в нем отблеск, который
его обожествляет; или, наоборот, изрыгает, посредством
колебания тканей, порхающего, трепещущего, просторно-
го, это изнеможение. Да, подвес Танца, противоречивая
боязнь или желание видеть слишком много и все-таки
недостаточно, требует прозрачного продолжения [...] для
духовной акробатики, приказывающей следовать малей-
шему письменному намеку, существует, пусть и невиди-
мо, в чистом движении и молчании, смещенном вольти-
жировкой. Почти полная нагота, исключая кратковремен-
ное лучение юбки, иной раз чтобы смягчить падение, иной
раз, наоборот, чтобы еще выше подняться на пуантах, по-
казывает всем ноги — в каком-то ином, не личном, значе-
нии, в качестве непосредственного инструмента идеи».
Если литература, басня, театр, драма, балет, танец, ми-
мическое искусство и являются видами письма, подчинен-
ными закону гимена, эти письма не образуют одного-един-
ственного тождественного текста. Существуют разные
письма, формы и жанры, несводимые друг к другу. Мал-
ларме создал набросок их системы. Общее этих писем нам
удалось определить в виде правила, обозначенного име-
нем отстраненной референции, бытия в отстранении
<etre & l’ecart>, или гимена. Дифференциация этого об-
щего правила наиболее полно могла проявиться в «Двух
голубях» <Deux pigeons>. В этом тексте Малларме уста-
навливает различия между Драмой, Балетом, Мимикой.
Но лишь после того, как было напомнено о всеобщности
ESD Двойной сеанс
письма — о гимене, референции, отстраненной различи-
ем (двойной игрой и половым различием), игре оперения
(птицы, крыла, пера, клюва и т. д.), метафорическом про-
изводстве, запускаемом отстранением бытия. Причем эта
всеобщность письма — не что иное, как производство
посредством письма всеобщности; тканье, выполняемое
по канве этого отстранения референта, того «покрывала
всеобщности», «которое не принадлежит никакой част-
ной женщине». Здесь, в «Двух голубях», мы сталкиваемся
с синтаксисом точки и шага:
«Такова взаимность, из которой берется не-индиви-
дуальность, как у солистки, так и в ансамбле, танцующего
существа, никогда не закрепляемого чьей-то эмблемой...
Суждение или аксиома, которую нужно утвердить
в действительности балета!
А именно, танцовщица — это не женщина, которая
танцует, причина чему в двух наложенных друг на друга
мотивах: в том, что она является не женщиной, а метафо-
рой, выражающей один из первичных аспектов нашей
формы — меч, кубок, цветок и т. д., и в том, что она не
танцует, внушая, посредством чудес ракурси* или прыж-
ков, в телесном письме то, для выражения чего потребо-
валось бы отредактировать множество прозаических аб-
зацев с описаниями и диалогами, — настоящую поэму,
освобожденную от всех орудий писца. [...] Танец — это
крылья, речь идет о птицах и об отправлении в неизвест-
ное, о возвращениях, вибрирующих, как стрела. [...] Один
из любовников сначала показывает их другому, затем са-
мому себе, в исходном языке, сравнении. Так мало-пома-
лу способы движения пары перенимают под влиянием го-
лубятни клевание или подпрыгивание, обмороки, когда
становится видно, как на нее соскальзывает эта захвачен-
ность воздушной похотливостью, с безумными подобия-
ми. Дети, вот они и птицы, или, наоборот, птицы стали
детьми, в зависимости от того, как понимать обмен, двой-
ную игру которого он и она отныне и навсегда должны
Ракурси — в хореографии — позиция с согнутой ногой в воздухе.
Е&& Жак Деррида. Диссеминация
были бы выражать — быть может, эта двойная игра и
есть все приключение полового различия! [...] Со встав-
кой праздника, к которому во время грозы все обратит-
ся, когда разорванные, прощающие и непостоянные,
объединятся — будет так... Вы слышите финальный три-
умфальный гимн танца, в котором сужается до истока
их пьяного веселья пространство, проложенное между
обрученными необходимостью путешествия!»
В этой круговерти каждая пара всегда будет отсылать
к какой-то другой, обозначая кроме того операцию озна-
чивания, «в исходном языке, сравнении», «двойную игру»
означающего и «половое различие», неопределенным об-
разом предлагающих себя друг другу в качестве примера.
Этим танцовщица «выражает в единой форме тему — бла-
годаря своему пророчеству, смешанному с животной при-
родой смутности и чистоты, свойственной всем предло-
жениям, не доводящим до своего завершения свои наме-
ки, так же как до того, как сделать шаг, она приглашает,
двумя пальцами собирая складку на юбке, и изображает
нетерпение пера по отношению к идее. [...] Тогда-то, бла-
годаря сговору, секрет которого, как кажется, выдает ее
улыбка, не мешкая она передает тебе через последнее по-
крывало, которое всегда остается, наготу твоих понятий,
приступая к молчаливой записи твоего созерцания в ка-
честве некоего Знака, который суть она».
Поскольку такое различие открывает общую игру
письма, мы больше не можем и не должны стирать стро-
гое различие жанров. Одно «трюкачество» уже было ра-
зоблачено — перенос в Балет Басни: «За исключением
замеченного во всей ясности отношения между обыч-
ным движением полета и многочисленными хореогра-
фическими приемами, включающими, не без некоторо-
го трюкачества, перенос в Балет Басни, остается какая-
то любовная история [,..]»149.
Все «жанры» этого всеобщего письма, включая и Бас-
ню, которая высказывает историю, различаются эффек-
тами следа, структура которых уникальна для каждого слу-
чая. Например, никогда не смешиваются друг с другом раз-
ЕШ Двойной сеанс
ные формы «молчания». «Одно искусство владеет сценой,
историческое в Драме и другое, эмблематическое, в Бале-
те. Союз, но не смешение; не нужно исходно и посредством
некоего общего рассмотрения объединять ревнивые позы
их относящегося друг к другу молчания, мимику и танец,
мгновенно проявляющие враждебность при попытке
сблизить их друг с другом. Пример для иллюстрации это-
го положения — не вообразили ли мы только что, чтобы
произвести тождественную, у обоих толкователей, сущ-
ность, то есть сущность птицы, что нужно выбрать мима
рядом с танцовщицей, то есть столкнуть слишком много
различий! [...] Такая отличительная черта каждого из те-
атральных жанров, если ее привести в соприкосновение
или противопоставить, как обнаруживается, управляет
произведением, которое в своем собственном строении
использует несоответствие, — так что осталось бы найти
способ сообщения. Либреттист обычно не ведает о том,
что танцовщица, которая выражается шагами, не признает
другого красноречия, даже жестов» (р. 306). «Театр с неко-
ей частной или литературной точки зрения всегда иска-
жает искусства, которые он принимает в себя — музыка
участвует в нем, всегда теряя свою глубину и оттенки, как
и песня, бывшая одинокой молнией, и, собственно гово-
ря, можно было бы и не признавать за Балетом имя Танца,
который, если угодно, сам по себе является иероглифи-
ческим» (р. 312).
Жанры, не сплавляясь в тотальное искусство (отсюда
слабо выраженное, однако ироническое и непреодолимое
недоверие Малларме к Вагнеру), тем не менее обменива-
ются друг с другом согласно фигуре бесконечного круго-
ворота метафоры письма, оставаясь сходными в том, что
они не показывают все, что угодно, и связываются узами
вокруг отсутствующего очага — нашей люстры из «Реп-
лики II». «...Ради некоего гимена — она подкалывает его
своими твердыми пуантами, расставляет его; затем раз-
вертывает наше убеждение в шифр пируэтов, продлен-
ный до другого мотива, в ожидании того, что в развитии,
которым она иллюстрирует смысл наших восторгов и
ВШ Жак Деррида. Диссеминация
триумфов» дробь которых подчеркивается оркестром, все
окажется — как того хочет само искусство, в театре —
вымышленным или мгновенным.
Один и тот же принцип! И точно так же, как вспыхи-
вает люстра, то есть оно само, живое представление во всех
своих гранях, представление чего бы то ни было и само
наше блистающее как алмаз зрение, драматическое про-
изведение показывает последовательность внешних друг
для друга частей акта, так что никакой момент не сохра-
няет реальность и в конечном счете вообще ничего не
происходит.
Старинная мелодрама, занимающая сцену совместно
с Танцем и подчиняясь правилу поэта, удовлетворяет это-
му закону. Обездоленное, вечное подвешивание слезы, ко-
торая никогда не сможет ни полностью оформиться, ни
упасть (и снова как люстра) сверкает в тысяче взглядов,
являя теперь двусмысленную усмешку [...]».
Итак, кризис литературы отмечен именно таким об-
разом, но сможет ли критика — та или иная, или вообще
в целом — противостоять ему7. Сможет ли она претендо-
вать на свой объект7. Разве сам проект этого xp^vsiv не
исходит из того, что подвергается угрозе и ставится под
вопрос в точке литературной плавки или, если употребить
слово, более близкое Малларме, вторичной закалки
<retrempe>? Разве литературная критика в целом не при-
надлежит тому, что мы выделили в качестве онтологиче-
ской интерпретации мимезиса или в качестве метафизи-
ческого миметологизма?
Теперь мы будем заниматься именно таким от-меже-
ванием критики.
Сегодня, учитывая значимые исторические разрывы
и связки, признают то, что в тексте Малларме повторно
отмечало «критические» пределы. Но это признание мо-
жет иметь значение в качестве только одного фактора,
в какой-то момент вступающего в игру. Оно также долж-
но быть чем-то отличным от простого признания, оно
должно включать в себя, определенное, правильно выве-
ренное повторение. Можно сказать, что «современная кри-
ESS Двойной сеанс
тика» сейчас признала» изучила» взяла в оборот, темати-
зировала определенное количество означаемых» которые
долгое время оставались незамеченными или, по крайней
мере, не рассматривались систематически сами по себе на
протяжении более полувека критики Малларме. С другой
стороны, эта критика проанализировала всю формальную
работу письма Малларме. Но, как представляется, нико-
гда изучение частного устройства текста не налагало за-
прет на доступ к тематике как таковой или, если говорить
в целом, к смыслу или означаемому как таковому. Нико-
гда та или иная система смысла и даже структурная семан-
тика» как представляется, не чувствовали никакой угрозы
со стороны самого хода текста Малларме, в чем как раз и
распознается некий закон. Этот закон не является просто
законом текста «Малларме», хотя последний и «иллюстри-
рует» его в соответствии с «исторической» необходимо-
стью, все поле которой еще придется выписать и которую
его иллюстрация предлагает прочесть в его целостности.
Итак, именно о возможности тематической критики
пойдет у нас речь — на примере современной критики,
работающей всякий раз, когда стремятся определить
смысл в некоем тексте» решить вопрос о смысле, решить,
что есть один смысл и что это именно смысл, смысл поло-
женный» полагаемый и переносимый в своей неизменно-
сти» то есть как тема.
Понятно — и наше положение подтвердится в даль-
нейшем, — что» если мы работаем с примерами «пробе-
ла» или «складки», это не случайно. Причина одновре-
менно и в их особом действии в тексте Малларме, и —
главное — в том» что они систематически признавались
современной критикой в качестве тем. Итак, если мы смо-
жем понять, что «пробелом» или «складкой» нельзя овла-
деть в качестве темы или смысла» если именно в складке
или пустом месте некоего гимена повторно отмечается
текстуальность текста» мы наметим основные пределы те-
матической критики.
Нужно ли напоминать о том, что «Воображаемая все-
ленная Малларме» <L’Univers imaginaire de Ма11агтё>
ЕШЗ Жак Деррида. Диссеминация
(1961) остается самым сильным трудом в области тема-
тической критики? Эта книга систематически покрывает
всю тотальность текстуального поля Малларме; или, ско-
рее, покрывала бы ее, если бы структура некоей пересе-
ченной борозды (пробела складки или складки пробела)
не превращала тотальность в слишком многое или слиш-
ком малое текста. И наоборот. Итак, повторим, покрывала
бы всю тотальность текстуального поля Малларме.
По уже проясненной причине вопросы, которые мы
зададим этому тексту, не будут нацелены на некую его «то-
тальность», то есть на воображаемое текста. Они адресо-
ваны к строго определенной части работы, которая вы-
полняется в нем, и особенно к теоретической и методоло-
гической формулировке ее проекта — к ее тематизму.
И поэтому мы будем заниматься этой книгой по-прежне-
му чересчур тематически. Но обратить против нас нашу
же критику в конце этого рассуждения можно будет, лишь
подтверждая ее права и ее основания.
В момент своей декларации, в «Предисловии» книги,
теоретический проект объясняется при помощи двух при-
меров. Хотя они предлагаются как просто два примера из
многих других, хотя их образцовость или исключитель-
ность не рассматриваются с должной строгостью Риша-
ром, они даются вовсе не без оснований. Речь идет о все
тех же «темах» «пробелу» и «складки». Мы должны при-
вести в качестве цитаты прекрасный отрывок длиной
в страницу из этого «Предисловия». Задаваясь вопросом
о «самом понятии “темы”, на котором основано все [наше]
предприятие»150, Ришар минутой раньше отмечает «стра-
тегическую ценность» и «топологическое качество» темы.
«Таким образом, любая тематика относится как к кибер-
нетике, так и к систематике. Внутри этой действующей
системы темы будут испытывать стремление организо-
ваться так же, как в любых живых структурах, — они объ-
единятся в гибкие совокупности, управляемые законом
изоморфизма и поиском наилучшего возможного равно-
весия. Хотя само понятие равновесия первоначально за-
родилось в физических науках, К. Леви-Стросс и Ж. Пиа-
ВШ Двойной сеанс
же доказали его крайнюю важность в социологии и пси-
хологии, поэтому нам представляется, что оно может быть
плодотворно использовано в исследовании воображаемых
областей. В самом деле, можно заметить, как темы в этих
областях выстраиваются антитетическими парами или же
более сложным образом, в виде множества уравновеши-
вающих друг друга систем. Например, в своих грезах об
идее Малларме, как нам показалось, колеблется между
желанием открытия (разорвавшаяся идея, сублимирован-
ная в суггестию или молчание) и потребностью в закры-
тии (суммированная идея, сведенная к контуру или опре-
делению). Закрытое и открытое, четкое и мимолетное, по-
средствующее и непосредственное — вот некоторые из тех
ментальных пар, присутствие которых мы, как представ-
ляется, обнаружили на весьма различных уровнях опыта
Малларме. В таком случае важно определить, как эти оп-
позиции разрешаются друг в друге, как усмиряется их на-
пряжение в новых синтетических понятиях или же в кон-
кретных формах, в которых овеществляется удовлетво-
рительное равновесие. Противопоставление закрытого и
открытого доходит, таким образом, до неких благодетель-
ных фигур, внутри которых две эти противоречивые по-
требности находят для себя удовлетворение — последо-
вательно или поочередно: например, такими фигурами
оказываются веер, книга, танцовщица... Сущности удаст-
ся одновременно суммироваться и сублимироваться
в синтетическом феномене — музыке. В другие моменты
будет устанавливаться статическое равновесие — благо-
даря игре сил, точно подогнанных друг к другу так, что
полное их погашение приведет к эйфории “подвеса”
Именно так, как мы знаем, сам Малларме представляет
себе внутреннюю реальность поэмы и идеальную архи-
тектуру предметов, которые поэма должна упорядочить
в себе, — в форме грота, алмаза, паутины, витража, бесед-
ки, раковины, то есть во множестве образов, которые вы-
дают желание привести природу в полное соответствие
самой себе, желание совершенного уравнивания вещей.
В таком случае дух замышляется в качестве фундамента
ЕХШ1 Жак Деррида. Диссеминация
всей этой архитектуры — это абсолютный центр, через
который все сообщается со всем, все уравновешивается
со всем, нейтрализуется (Малларме добавляет — “упразд-
няется”..). Итак, тематика Малларме сама дает нам ин-
струменты для своего прояснения: узнать, как глубинным
стремлениям грезы удается преодолеть свой конфликт
в некоем счастливом равновесии, — вот в чем состояла
наша задача. Для ее решения, впрочем, нужно было лишь
перечитать несколько прекраснейших поэм, в которых это
равновесие устанавливается самопроизвольно и без ка-
кого бы то ни было усилия, ведь поэтическое счастье —
которое называют еще “счастьем выражения” — являет-
ся, несомненно, не чем иным, как отражением пережито-
го счастья, то есть некоего состояния, в котором удается
удовлетворить все самые противоречивые потребности
существования, и даже одни посредством других, в сотво-
ренной гармонии связи, выравнивания или слияния»
(р. 26—27).
Прервем на мгновение эту цитату. Не для того, чтобы
спросить себя, что же это за «прекраснейшие поэмы, в ко-
торых это равновесие устанавливается самопроизвольно
и без какого бы то ни было усилия», хотя Ришар ни разу
в своей книге не задается таким вопросом. Прервем
цитату, чтобы выписать связанную группу понятий —
«живые структуры», «закон изоморфизма», «наилучшее
возможное равновесие», «ментальные пары», «благоде-
тельные фигуры», «синтетический феномен», «эйфория
подвеса», «полное соответствие природы самой себе»,
«счастливое равновесие», «счастье выражения», «отраже-
ние пережитого счастья» и т. д. Эти понятия относятся
к критическому «психологизму». Их переходный «по от-
ношению к поэтическому объекту Малларме» характер,
как и постулаты «сенсуалистического» и «эвдемонисти-
ческого» толка, проанализировал Жерар Женетт’5’. Благо-
даря этому понятию «отражения» («пережитого счастья»),
столь нагруженному исторически и метафизически, по-
добный репрезентативный психологизм превращает текст
в выражение, сводит его к его означаемой теме’52, сохра-
БЕШ Двойной сеанс
няя все черты миметологизма. И в частности, диалектич-
кость, которая по своей сути остается неотделимой от этой
метафизики, от Платона до Гегеля153: мы уже показали, на-
сколько она неспособна объяснить графику гимена, бу-
дучи включена и вписана в нее, почти смешиваясь с ней,
отделяясь от нее ею самой, простым покровом, который
сам образует то, что пытается ее отменить, — желание.
Эта диалектическая интенция пронизывает весь те-
матизм Ришара, полностью раскрываясь в главе «Идея» и
в ее подразделе «К диалектике тотальности». Эта диалек-
тика тотальности работает в продолжении «Предисловия»,
особенно на примерах «пробела» и «складки»: «Не стоит
ли рассмотреть психологическую реальность темы с дру-
гой точки зрения? Ее можно было бы схватить при помо-
щи реальности другого продукта функции воображе-
ния — символа. В недавно вышедшем в свет исследова-
нии, посвященном работам М. Элиаде, Поль Рикер дал
замечательный анализ различных модусов пониманий, ко-
торыми мы располагаем, имея дело с символическим ми-
ром, его замечания можно бы без существенных измене-
ний применить и к феноменологии темы. Ведь тема тоже
“дает подумать”. Понимать тему — тоже значит “развер-
тывать (ее) многочисленные валентности”, то есть, напри-
мер, видеть, как греза Малларме о пробеле может иногда
воплощать наслаждение девственностью, иногда — боль,
вызванную препятствием или холодностью, иногда —
счастье открытия, свободы, размышления: иными сло-
вами, соотносить в пределах одного и того же комплекса
различные смысловые нюансы. Также мы можем в соот-
ветствии с мнением Рикера понять одну тему благодаря
другой, согласно “интенциональному закону аналогии”
постепенно перейти ко всем темам, связанным с отправ-
ной отношением родства — так, например, мы можем
перейти от лазури к стеклу, белой бумаге, леднику, снеж-
ному пику, лебедю, крылу, потолку, причем нельзя забы-
вать и о побочных ответвлениях, образующихся на каж-
дом этапе такого перехода (от ледника к холодной во-
де, прозрачному взгляду и любовной купели; от белой
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
бумаги к черноте» которая ее покрывает и расщепляет; от
потолка к могиле, священнику» сильфу*, мандоле**. В конце
мы сможем показать, как одна и та же тема “объединяет
несколько уровней опыта и представления — внешнее и
внутреннее, жизненное и спекулятивное”. Например, при-
надлежащая Малларме фигура складки позволит нам со-
единить эротическое с чувственным, а затем и с рефлек-
сивным, с метафизикой, с литературой, поскольку склад-
ка одновременно является полом, листвой, зеркалом,
книгой, могилой и всеми остальными предметами, кото-
рые она собирает вместе в абсолютно уникальной грезе
интимности» (р. 27—28).
Этот отрывок (каждая коннотация которого заслужи-
вала бы отдельного анализа) находится между двух корот-
ких примечаний. Как мне кажется, под ними нельзя под-
писаться, если не признавать в них принципиальных воз-
ражений феноменологическому, герменевтическому или
тематическому проекту тематизма. Первое примечание
напоминает о дифференциальном или диакритическом
характере языка: «Затем возникает еще одно затрудне-
ние — создать частотную лексику можно только на осно-
ве предположения, что при переходе от одного примера
к другому значение слов остается постоянным. Но на са-
мом деле этот смысл меняется; он меняется и сам по себе»
и в соответствии с горизонтом смыслов, которые его окру-
жают, поддерживают и заставляют его существовать. Язы-
ки, как нам теперь известно, являются диакритическими
сущностями; отдельный элемент в них не так важен» как
расстояние <6cart>, которое отделяет его от других эле-
ментов. (...) Ни математическое исследование» ни даже
полная сводка тем не смогут поэтому объяснить их ин-
тенцию и их богатство; главное же в том, что такие объяс-
нения отбрасывают в сторону исходную выразительность
Сильфы — духи воздуха, вместе с гномами (духами земли), саламан-
драми (духами огня) и ундинами (духами воды) образующие алхи-
мический квартет.
Мандола — итальянский струнный щипковый музыкальный инстру-
мент, разновидность лютни.
ЕШ Двойной сеанс
их системы» (р. 25). Из этой диакритичности, схему ко-
торой нужно было бы несколько усложнить, в будущем
мы извлечем еще одно следствие, а именно — определен-
ную неисчерпаемость, не имеющую отношения к богат-
ству, горизонту или интенциональности, неисчерпае-
мость, форму которой нельзя будет однозначно признать
чуждой математическому порядку. Так или иначе, с точки
зрения самого Ришара, диакритичность уже налагает за-
прет на то, чтобы одна тема была одной темой, то есть яд-
ром некоего смысла, положенного здесь, перед взглядом,
присутствующего вне своего означающего и отсылающе-
го в конечном счете только к самому себе, даже если его
тождество означаемого вычленяется только в горизонте
бесконечной перспективы. Либо диакритичность враща-
ется вокруг этого ядра и обращение к ней остается доста-
точно поверхностным, чтобы не поставить под вопрос те-
матическое как таковое, либо же она проходит через весь
текст, так что в нем нет тематического ядра, а только эф-
фекты тем, которые выдают себя за саму вещь или сам
смысл. Если существует текстуальная система, одна тема
не существует («...Нет — настоящее не существует...»).
А если и существует, она всегда будет нечитаемой. В то
же время Ришар признает такое несуществование темы
в тексте, не-присутствие или не-тождественность смыс-
ла тексту — во втором из упомянутых примечаний, со-
ставившем сноску, посвященную проблемам порядка и
классификации тем. Эти проблемы не являются второ-
степенными: «Однако этот порядок остается, что мы от
себя вовсе не скрываем, малоудовлетворительным. Ведь
на самом деле именно множество побочных отношений
создает в данном случае сущность смысла. Одна тема —
это не что иное, как сумма или же перспективный на-
бросок ее различных преобразований» (р. 28. Аналогич-
ное примечание — р. 555).
Эта уступка все еще позволяет мечтать, «грезить»
о подведении суммы или высвобождении перспекти-
вы, хотя бы и бесконечных. Подобная сумма или перспек-
тива дали бы нам возможность определить отдельные
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
вхождения какой-то одной темы, ограничить их и создать
их классификацию.
На это мы ответим следующими гипотезами — сум-
мирование невозможно, но не потому, что оно запреще-
но неким бесконечным богатством смыслового содержа-
ния или значения; перспектива функционирует, насколь-
ко хватает глаз, но не обладая глубиной смыслового
горизонта, к которому или в который мы никогда не пре-
кратили бы продвигаться. Учитывая эту мимоходом при-
знанную «латеральность» и пытаясь определить ее закон,
мы дадим другое определение предела — посредством угла
и перекрестья некоей повторной меты, сгибающей текст
к нему самому без какой бы то ни было возможности по-
крытия или соответствия, без редукции опространство-
вания.
Итак, складка и пробел — именно они запретят нам
искать одну тему или один смысл по ту сторону тексту-
альных инстанций в некоем воображаемом, интенцио-
нальности или опыте. Ришар видит в «пробеле» и «склад-
ке» темы с особенно плодовитой или даже избыточной
поливалентностью. Однако во всем изобилии собранных
им материалов нельзя заметить, что эти текстуальные эф-
фекты богаты бедностью — я бы даже сказал, особой и
по-особому упорядоченной монотонностью. Этот факт
нельзя заметить потому, что темы, как думают, видят
в том месте, где не-тема — то, что не может стать темой,
то самое, что не имеет смысла — беспрестанно повтор-
но отмечает само себя, то есть исчезает.
В веерном движении. Полисемия «пробелов» и «скла-
док» сворачивается и разворачивается веером. Однако чи-
тать веер Малларме — не значит лишь составлять инвен-
тарь вхождений «веера» (несколько сотен, то есть число
большое, но конечное, если ограничиваться самим этим
словом, и неопределенная бесконечность, если признать
в нем фрагментарный облик крыльев, бумаги, покрывал,
складок, перьев, скипетров и т. д., беспрестанно восста-
навливающийся в дуновении открытия и/или закрытия),
не значит лишь описывать феноменологическую струк-
ШЗ Двойной сеанс
туру» сложность которой также является вызовом, — это
значит замечать» что веер повторно отмечает сам себя: не-
сомненно» он указывает на эмпирический объект, кото-
рый» как мы считаем, известен нам под этим наименова-
нием; затем» в движении тропов (аналогии» метафоры»
метонимии), он обращается ко всем семным единствам,
которые мы смогли отождествить (крыло, складка, перо,
страница» касание, полет, танцовщица, покрывало и т. д. —
все они сами складываются, открываясь/закрываясь» как
веер), открывает и, конечно, ограничивает это движение,
но и вписывает в него дополнительно движение и струк-
туру веера как текста, развертывание и свертывание всех
его валентностей, опространствование, складку и гимен
между всеми этими смысловыми эффектами, письмо, вво-
дящее в них отношение различия и подобия. Этот избы-
ток меты, это поле смысла Cmarge de sens> не является
еще одной дополнительной валентностью, подобной дру-
гим валентностям серии, хотя оно вставляется и в эту
серию. Оно должно в нее вставляться, поскольку оно не
находится вне текста и не обладает никакой трансценден-
тальной привилегией; вот почему оно всегда представля-
ется метафорой или метонимией (страница, перо, склад-
ка). Но, принадлежа серии валентностей, оно всегда ока-
зывается в позиции дополнительной валентности, или же,
скорее, оно отмечает структурно необходимую позицию
дополнительной надписи, которую всегда можно добавить
серии или отнять у нее. Эта позиция дополнительной
меты, как мы постараемся доказать, строго говоря» не яв-
ляется ни метафорой, ни метонимией, хотя она всегда
представляется одним лишним или одним недостающим
тропом.
Разложим же веер, эпиграф с краю доказательства.
Сначала «пробел» предлагается феноменологическо-
му или тематическому прочтению в качестве неисчерпае-
мой тотальности семантических валентностей, которые
находятся с ним (но с кем — с ним?) в определенном род-
стве, обеспечиваемом тропами. Но благодаря всегда пред-
ставленной репликации «пробел» вставляет (говорит,
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
указывает, отмечает, выражает — как угодно, причем все
равно будет нужно другое «слово») пробел как пробел
между валентностями, гимен, который их объединяет и
различает в серии, опространствование «пробелов», ко-
торые «берут на себя все значение». Пробел теперь (есть)
тотальность, пусть и бесконечная, полисемической серии
плюс опространствованная приоткрытость, веер, который
делает из этой тотальности текст. Этот «плюс» <plus> —
это не дополнительная валентность, не еще один смысл,
который обогатил бы полисемическую серию. Поскольку
он не обладает смыслом, он не является чистым пробе-
лом, трансцендентальным началом серии; вот почему, раз
он не может быть означенным или представленным смыс-
лом, в классическом дискурсе можно было бы выдвинуть
утверждение, что он всегда имеет делегата, представителя
в серии: поскольку пробел — это полисемическая тоталь-
ность пробелов плюс место письма (гимен, опростран-
ствование и т. д.), в котором производится эта тотальность,
этот плюс будет, к примеру, иметь в белизне страницы
или поля страницы одного из своих представителей без
представляемого. Но все по тем же причинам, которые
мы только что обозначили, не может быть и речи о том,
чтобы сделать из такого представителя — например, из
белизны страницы — фундаментальное означаемое или
означающее серии. Означающие «письмо», «гимен»,
складка», «ткань», «текст» и т. д. не избегают этого обще-
го закона, и только концептуальная стратегия может на
мгновение отдать им привилегию как определенным озна-
чающим и даже как просто означающим^ которыми они
буквально больше не являются.
Этот не-смысл или не-тема опространствования, ко-
торая вводит смыслы в отношение друг к другу (смыслы
«белого», и не только), препятствуя им при этом когда-
либо воссоединиться, не могут быть учтены никаким опи-
санием. Отсюда, во-первых, следует, что не существует опи-
сания, особенно у Малларме — на нескольких примерах
мы доказали, что Малларме притворяется, будто описы-
вает «нечто», когда на деле он дополнительно описывает
ЕП9 Двойной сеанс
саму операцию письма («В Версале есть деревянные па-
нели с вязью...»). Во-вторых, семантическое описание
«тем», особенно у Малларме, всегда терпит поражение на
границе «плюса» или «минуса» темы, которые задают тот
факт, что «существует» один текст, который можно назвать
читаемостью без означаемого (и который, отступив в стра-
хе, могут окрестить нечитаемостью), — то, что невозмож-
но желать и что отсылает желание к самому себе.
Следовательно, полисемия оказывается бесконечной,
а мы не можем овладеть ею как таковой — не потому,
что конечное чтение или конечное письмо остаются не-
способны исчерпать изобилие смысла. Если только не
сместить само философское понятие конечности, пере-
строив его в согласии с законом и структурой текста, пред-
полагающей, что пробел — то есть тот же гимен — все-
гда вторично отмечает себя как исчезновение, стирание,
бес-смыслицу. В таком случае конечность становится бес-
конечностью, но благодаря негегелевскому тождеству —
благодаря вмешательству, которое подвешивает равенство
меты и смысла, «пробел» отмечает каждую белизну (то
есть этот пробел вместе с любым другим), девственность,
снег, покрывало, крыло лебедя, пену, бумагу и т. д. плюс
пробел, который разрешает мету, обеспечивает ее про-
странство приемки и производства. Этот «последний»
пробел (который также и «первый» пробел) не существу-
ет ни до, ни после серии. Его, конечно, можно также
отнять от серии (в этом случае его определили бы как
нехватку, которую следует обойти молчанием) или же до-
бавить как излишек к числу, пусть и бесконечному, вален-
тностей «белого», то есть или как привходящий пробел,
нестойкий отброс, устойчивость которого с большей оче-
видностью обнаружится в дальнейшем, или как еще одну
тему, которую открытая серия должна либерально при-
нять, или, наконец, как трансцендентальное простран-
ство надписи. Играя в этой дифференциально-дополни-
тельной структуре, все меты должны ей подчиняться, по-
лучать эту складку или принимать этот пробел. Пробел
складывается, он есть (отмечен одной) складка(ой). Он
ЕЮ Жак Деррида. Диссеминация
никогда не подчинятся сшивке встык. Поскольку складка
не в большей степени является (означаемой) темой, не-
жели пробел, и, если учитывать эффекты цепочки и раз-
рыва, которые распространяются ими по всему тексту,
ничто больше не имеет просто ценности одной темы.
Существует больше <11 у a plus>. Дополнительный
«пробел» вмешивается не только в полисемическую серию
«пробелов», но и между семами любой серии, как и между
всеми семантическими сериями. Таким образом, он меша-
ет любой семантической сериальности сформироваться,
просто открыться или просто закрыться. Не то чтобы он
создавал для них препятствие, ведь он же и освобождает
эффекты серии, заставляет принимать, отмежевывая
себя, отдельные агломераты — за субстанции. И если те-
матизм не может это объяснить, то причина только в том,
что он переоценивает «слово» и ограничивает «латераль-
ность».
В таксономии «пробелов» Ришар в действительности
выделял главные валентности, обозначаемые абстрактны-
ми понятиями или названиями общих сущностей («на-
слаждение девственностью, боль, вызванная препятстви-
ем или холодностью, счастье открытия, свободы, размыш-
ления»), и побочные валентности, примеры которых даны
чувственными вещами, позволяющими «переходить от
лазури к стеклу, белой бумаге, леднику» снежному нику, ле-
бедю, крылу, потолку, причем нельзя забывать и о побоч-
ных ответвлениях... (от ледника к холодной воде, прозрач-
ному взгляду и любовной купели; от белой бумаги к чер-
ноте, которая ее покрывает и расщепляет; от потолка
к могиле, священнику, сильфу, мандоле)». Тем самым пред-
полагается, что определенная иерархия подчиняет побоч-
ные темы главным, причем первые являются всего лишь
чувственными представлениями (метафорами или мето-
нимиями) вторых, которые как раз и можно было бы по-
нимать по существу, то есть в их собственном смысле. Но,
даже не обращаясь снова к общему закону текстуальной
дополнительности, которая сдвигает любое собственное
качество, мы могли бы удовлетвориться, противопоста-
ЕШ Двойной сеанс
вив этой иерархии одно из побочных примечаний Риша-
ра («Именно множество побочных отношений создает
в данном случае сущность смысла», сноска, р. 28). Посколь-
ку же текстуально всегда присутствует только силуэт, лю-
бому лобовому восприятию темы можно противопоста-
вить косину <1е biais> письма Малларме, постоянно отме-
чаемую двусторонность его двойной игры. И еще один раз:
«...Это будет язык, вот его проделка.
Слова сами собой воспламеняются многочисленны-
ми гранями, редко замечаемыми, или получают значе-
ние для духа, центра вибрирующего подвеса, который
воспринимает их независимо от обычной последователь-
ности спроецированными на стенки грота, пока длится
их движение или принцип, как то сущее, что не говорит-
ся речью, — до того как потухнуть, они все готовы к вза-
имности удаленных огней, представленной вкось как слу-
чайность.
Грамматикам остается спорить о том, что необходи-
мая усредненная очевидность уклоняется в подробности».
И в другом месте выражение того же: «Существует дву-
стороннее молчание» (р. 210).
Грамматика косины и случайности уже не занимает-
ся только побочными ассоциациями разных тем, сем —
сформированное, усмиренное и сглаженное единство ко-
торых в качестве своего означающего имело бы форму
слова. В самом деле, «отношение родства», интересующее
тематика, связывает семы, означающая сторона которых
всегда обладает размерностью слова или группы слов, свя-
занных смыслом (то есть означаемым понятием). Тема-
тизм по необходимости оставляет за пределами своего
рассмотрения те формальные, фонетические или графи-
ческие формы «родства», которые не отчеканены в сло-
ве, которые не обладают успокоительным единством вер-
бального знака. Поэтому он, если остается тематизмом,
по необходимости пропускает игру, которая расчленяет
слово, разбивает его на обрывки, заставляет его частицы
работать «вкось как случайность». Малларме, несомнен-
но, был очарован возможностями слова, что справедливо
К1Ш Жак Деррида. Диссеминация
подчеркивается Ришаром (р. 528), однако эти возмож-
ности не являются изначально и по преимуществу воз-
можностями собственного тела, единства плоти, «живо-
го создания» (р. 529), чудесным образом объединяюще-
го смысл и чувственное в некоем vox <голосе>; напротив,
это игра связок, расщепляющая слово и вписывающая
его в том числе и в те последовательности, которыми оно
больше не управляет. Вот почему мы не стали бы гово-
рить о слове, что у него есть «своя собственная жизнь»
(ibid.)\ Малларме интересовался рассечением слова не
в меньшей степени, чем целостностью его жизни. Рассе-
чением, требуемым как согласной, так и гласной, чистым
словом; дифференциальным костяком не в меньшей сте-
пени, чем полнотой дыхания. На столе, на странице, Мал-
ларме обращается со словом как с мертвым, но и в той
же мере как с живым. И как отделить то, что он говорит
о науке языка в «Английских словах», от того, что в дру-
гом тексте он делает:
«Слова в словаре покоятся, похожие друг на друга или
относящиеся к разным временам, подобно отложениям —
попросту я назвал бы их слоями. [...] Будучи родственным
всей природе в целом и приближаясь таким образом
к организму, обладающему жизнью, Слово своими глас-
ными и дифтонгами представляет как бы плоть; а соглас-
ными — как бы хрупкий костяк, который можно рассечь...
Если жизнь питается своим собственным прошлым, или
продолжающейся смертью, Наука найдет тот же самый
факт в языке — он, отличая человека от остатка вещей,
все же изобразит его как нечто, в сущности, не менее на-
пускное, чем природное; задуманное не менее, чем роко-
вое; добровольное не менее, чем слепое» (р. 901).
Вот почему сложно подписаться под тем коммента-
рием, который дается Ришаром на эту фразу из «Англий-
ских слов» («представляет... можно рассечь») в тот самый
момент, когда он признает, что тематизм останавливает-
ся перед формальной работой Малларме, то есть, в дан-
ном случае, фонетической работой: «Чтобы в полной
мере описать глубинные стремления поэта, нужно было
ЕШ Двойной сеанс
бы> быть может, создать фонетическую феноменологию
этих ключевых слов. Поскольку это исследование не про-
ведено, остается признать в слове тайну плоти, связан-
ную со счастьем структуры, — единение, которого впол-
не достаточно, чтобы сделать из слова завершенную за-
крытую систему, некий микрокосм» (р. 529). Под этим
комментарием трудно подписаться 1) потому что фоне-
тическая феноменология должна была бы всегда, будучи
феноменологией, приводить к полноте отдельных смыс-
лов или к данным в созерцании предметностям, а не
к фонетическим различиям; 2) потому что слово не мо-
жет быть ни завершенной системой, ни собственным те-
лом; 3) потому что, как мы постарались доказать, не бы-
вает ключевых слов; 4) потому что текст Малларме рабо-
тает как с графическими (в узком, то есть общепринятом
смысле этого термина) различиями, так и с фонетиче-
скими.
Игра рифмы является, несомненно, одним — хотя
далеко не единственным — из наиболее замечательных
примеров производства нового знака, смысла и формы,
посредством «наложения» (см. Richard, op. cit.> passim) и
намагничивания двух означающих; производства и на-
магничивания, необходимость которых выступает про-
тив случайности, произвола, семантической или, скорее,
семиологической вольности. Подобной операцией явля-
ется операция стиха, понятие которой, к чему мы еще вер-
немся, Малларме обобщает, так что она не ограничивает-
ся рифмой. («Стих, который из многих слов выделывает
полное слово, новое и чуждое языку, подобное заклина-
нию, завершает это отделение речи — отрицая своим вы-
сочайшим указанием случай, сохранившийся в терминах
несмотря на их обработку путем поочередной закалки
в смысле и в звуковой основе [...]», р. 858). Косина Мал-
ларме работает еще и напильником <h la lime>154. «Полное
слово, новое и чуждое языку» — благодаря такому (зна-
чащему) отличию оно оказывается следствием преобра-
зования или определенного смещения кода, сформиро-
ванной таксономии («новое и чуждое языку»); в своей
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
новизне, в своей инаковости оно сформировано из ча-
стей, позаимствованных у языка (древнего, если угод-
но), — частей, к которым оно не сводится («полное сло-
во»). Однако никакое восхищение этим поэтическим про-
изводством нового смысла не должно скрывать от нас тот
факт, в достаточной мере обнаруженный чтением Мал-
ларме, что полное слово, новое и чуждое языку, работая
по языку, тотчас в него, этот язык, и возвращается, обра-
зует с ним новые сети различий, снова поддается разбие-
нию и т. д., то есть оно не становится словом-господином,
наконец-то достигнутой целостностью смысла или исти-
ны’55. «Эффект» (в том смысле, который придается этому
слову Малларме: «Изображать, но не вещь, а производи-
мый ею эффект») полноты и новизны не отстраняет сло-
во от различия и дополнения; он не освобождает его от
закона косины, дабы представить его нам в фас, как свое
собственное слово, единственное’56.
В нагромождении «пробелов» место семического со-
держания остается почти пустым — местом «белого»
смысла, такого, что ссылается на бес-смыслицу опростран-
ствования, на место, в котором имеет место только место.
Однако такое «место» повсюду, это не какое-то устойчи-
вое и определенное вместилище — и, как мы уже отмети-
ли, не только по той причине, что означающее опростран-
ствование должно все время воспроизводиться («пробел
возвращается как ни в чем не бывало»), но и потому, что
семическое, метафорическое и тематическое, если угодно,
родство между «белым» содержанием и содержанием «пу-
стым» (опространствование, между и т. д.) обеспечивает
то, что каждый пробел серии, каждый «полный» пробел
серии (снег, лебедь, бумага, девственность и т. д.) является
тропом «пустого» пробела. И наоборот. Диссеминация
пробелов (но не будем говорить о белизне) производит
тропологическую структуру, которая неопределенно дол-
го вращается вокруг себя благодаря беспрестанному до-
бавлению избыточного оборота — больше (нет) <plus de>
метафоры, больше (нет) метонимии. Если все становится
метафорическим, больше нет собственного смысла и, еле-
ЕШ Двойной сеанс
довательно, метафоры. Если все становится метонимиче-
ским, поскольку часть оказывается всякий раз больше,
чем целое, а целое — меньше, чем часть, как остановить
ту или иную метонимию или синекдоху? Как остановить
поля отдельной риторики?
Нет ни полного смысла, ни собственного смысла
именно потому, что пробел складывается. Складка — это
не привходящее пробела. Поскольку пробел (есть) про-
бел, отбеливает(ся), поскольку (он) имеет(ся) какое-то
отношение (в безотносительности) к мете (мета — это
<по-французски> то же слово, что поле <marge> и ход
<marche>), независимо от того, отмечает(ся) ли пробел
(снег, лебедь, девственность, бумага и т. д.) или же от-ме-
жевывает(ся) (между, пустота, опространствование и
т. д.), он отмечает себя повторно, отмечает два раза. Он
складывается вокруг этого странного предела. Складка
не достигает его извне, она является одновременно его
внутренним и внешним, запутыванием, согласно кото-
рому дополнительная мета пробела (асемическое опро-
странствование) прилагается к совокупности пробелов
(семических полнот), как и к себе, как изгиб покрывала
к самому себе, изгиб ткани или текста. По причине тако-
го прикладывания, которому ничего не предшествует, ни-
когда не будет Пробела с большой буквы или же теоло-
гии Текста'57. И в то же время структурное место этой
теологической приманки задано — это дополнение меты,
произведенное текстуальной работой, отпадающее вне
текста как независимый объект, не имеющий начала ни
в чем, кроме себя, как след, вновь ставший присутствием
(или знаком), неотделим от желания (присвоения или
представления). Или, скорее, такой след порождает его и
поддерживает его, от него отделяясь.
Складка складывает(ся): ее смысл расставляется двой-
ной метой, в проеме которой складывается пробел. Склад-
ка — это одновременно девственность, то, что ее наруша-
ет, и складка, которая не была ни тем ни другим, неразре-
шимая, она остается как текст несводимой к тому или
другому из своих смыслов. «Сгибание [...] к большому
11-6705 ’
БКЫ Жак Деррида. Диссеминация
отпечатанному листу», «вмешательство сгибания или
ритм, первичная причина того, что закрытый лист хра-
нит секрет, в нем сохраняется молчание», «сворачивания
бумаги и закоулков, ею образуемых, пространная тень из
черных букв» (р. 379), «девственное сворачивание книги»
(р. 381)158 — такова закрытая женская форма книги, хра-
нящей секрет своего гимена, «хрупкую несокрушимость»,
от «проникновения руки или перочинного ножа, устроя-
ющего захват владений», от «посягательства, которое со-
вершено». Мы никогда еще не были настолько близки
к «Мимике», ведь женственность девственной книги, не-
сомненно, возникает благодаря месту и форме глагола «от-
даваться» <prete>, готового к тому, чтобы представить себя
в качестве прилагательного для предполагаемой связки
(«Девственное сворачивание книги все же отдается <prete,
готово к> жертвоприношению, от которого сочились кро-
вью красные обрезы старых томов»). Опрокидывание
мужского на женское, все приключение полового разли-
чия. Секретный угол сгибания также является «мельчай-
шей могилой».
Но в том же самом движении, если так можно ска-
зать, складка прерывает ту девственность, которую она от-
мечает в качестве девственности. Свернувшись к своему
секрету (секрет — это нечто, что всегда в себе остается
самым нетронутым и девственным и в то же время са-
мым оскорбленным и разрушенным), она теряет гладкую
простоту своей поверхности. Девственность отличается
от себя еще до того, как перочинный нож раздвинет губы
книги159. Она отделяется от самой себя, как гимен. Но и
впоследствии она остается тем, чем она была, нетронутой;
тем, чем она была до того, как начали размахивать ножом
(«Вот, в этом реальном случае, столкнувшись, однако,
с вопросом брошюр, которые нужно прочесть в соответ-
ствии с их обычным употреблением, я размахивал ножом,
как повар, собравшийся потрошить птицу»). После совер-
шения, став более, чем когда бы то ни было, свернутой,
она преобразует совершенный акт в симуляцию, в «вар-
варский симулякр». Неприкосновенное отмечается метой,
ESI Двойной сеанс
которая остается неприкосновенной, незапятнанным тек-
стом, на пределе поля: «Складки будут умножать мету, не-
прикосновенную, которая способна открыть и закрыть
лист по-господски» (р. 381).
Постоянное повторяемое надругательство всегда уже
случилось, и тем не менее оно никогда не будет соверше-
но. То есть оно всегда будет охвачено складкой некоего по-
крова, в которой разыгрывается вся истина.
В самом деле: если все «пробелы» добавляют к себе
пробел как опространствование письма, «пробелы», ко-
торые собирают значение, это всегда происходит только
благодаря означающему посреднику полотна или белого
покрывала, сгибаемой и протыкаемой ткани, поверхно-
сти наложения всякой меты, бумажной странице, по ко-
торой распространяется перо или крыло («Наша древняя
забава триумфа тарабарщины, / Иероглифы, которыми
воодушевляется тысяча / Распространяя крылом зимнюю
дрожь!», р. 71). Пробелы всегда прямо или косвенно на-
лагаются на какую-то ткань, это «пустая забота о нашем
полотне» («Спасение» <Salut>), «банальная белизна зана-
весов» («Окна» <les Fenetres>), белизна «Альбомов»
<Albums> (где «белый отблеск» creflet Ыапс> рифмуется
с подобием <semblant>) и вееров («...лен / ...белое стадо»),
простыни или смертного одра, саван (растянутый в мно-
гочисленных текстах между «единственной складкой») из
«Посвящения (Рихарду Вагнеру)» и велень из «Увертю-
ры» к «Иродиаде» («Она напевала, бессвязно, знак / Безу-
тешный! Кровать страниц велени, / Не то что бесполез-
ная и монашеская постель! / Которая в складках грез не
обладает больше бесценными письменами, / Ни гробовым
покрывалом со скромным узором»), в которую заворачи-
вается книга («Прекрасная бумага моего призрака / Вме-
сте гробница и саван / Дрожь бессмертия, том / Чтобы раз-
вернуться для одного», р. 179) или Поэт («Блеск меча, или
бледный мечтатель, у него облаченье [...] Данте, с горьким
лавром, заворачивается в саван, / Один только саван...»,
р. 21), оледенелый, как бумага, холодный <frigide>, что
рифмуется с Жидом <Gide> в следующем посвящении:
11*
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
«Ожидая, что она вложит свое / В ваши листы холодной
бумаги / Воодушевите меня, музыкант» («Для вниматель-
ной души Жида», р. 151). Все эти покрывала, полотна, стра-
ницы одновременно являются фоном <fond> и формой,
фоном и фигурой, переходя от одного к другому, оказы-
ваясь то примером, изображающим белое пространство
их надписи, того, что на нем выделяется, то безосновную
основу, на которой они поднимаются. Белым по белому.
Пробел окрашивается дополнительным белым, излиш-
ним пробелом, который становится, как в «Числах», от-
крытым в квадрате пробелом — пробелом, который пи-
шется, зачерняется сам собой, ложно-истинным белым
смыслом, без пробелов, который, не позволяя подсчиты-
вать себя или суммировать, одновременно рассчитывает-
ся и списывается со счетов, бесконечно сдвигает поле и
разыгрывает то, что Ришар называет «объединительным
стремлением к смыслу» (р. 542) или «достоверным откро-
вением смысла» (р. 546). Белый покров, который прони-
кает между пробелами, опространствование, которое обес-
печивает отстранение и соприкосновение, несомненно,
позволяет видеть пробелы, определяет их. Поэтому оно
не могло бы подняться, не ослепляя нас до смерти, то есть
не закрываясь или не лопаясь. Но и наоборот, если бы оно
не поднималось, гимен остался бы запечатанным, глаз ни-
когда бы больше не открылся. Следовательно, гимен не
является истиной несокрытости. Нет aletheia, только мор-
гание гимена. Ритмичное падение. Склоненная каденция.
«Достоверное откровение смысла», мечту о котором
представляет нам «Воображаемая вселенная Малларме»,
должно было бы стать гименом без складки, чистым раз-
ворачиванием без излома, «счастьем выражения» или бра-
ком без различия. Но существовало бы еще в этом сча-
стье, которое не создает складок, «выражение», не говоря
уже о тексте? Разве не было бы в нем ничего, кроме пару-
син смысла? Дело не в том, что, отпав от такой парусин,
литература оказалась несчастьем выражения, романтиче-
ским несоответствием смысла и выражения. Несомнен-
но, здесь не стоит вопрос о счастье или несчастье выра-
ЕВЗ Двойной сеанс
жения, поскольку нет больше никакого выражения, по
крайней мере в расхожем значении этого слова. Несом-
ненно, гимен также является одной из этих «благодетель-
ных фигур», до которых «доходит противопоставление
закрытого и открытого» и внутри которых «две эти про-
тиворечивые потребности находят для себя удовлетворе-
ние — последовательно или поочередно: такими фигура-
ми, например, оказываются веер, книга, танцовщица...»
(р. 26—27). Однако подобное диалектическое счастье ни-
когда не объяснит ни одного текста. Если существует текст,
если гимен образует собой текстуальный след, если он
остается, тогда причина такого положения дел лишь в том,
что его неразрешимость отрезает его (мешает ему зави-
сеть) от каждого, то есть любого означаемого, будь оно
антитетическим или синтетическим. Его текстуальность
не была бы неотменимой, если бы в силу своего собствен-
ного функционирования он не обходился (лишение и/или
независимость: гимен — это структура и/или, между
и/или) без собственной перезарядки означаемого, осуще-
ствляемой в движении, когда он перепрыгивает от одно-
го к другому. В каковом движении, strictu senso сстрого го-
воря>, это уже не знак и не означающее. А поскольку все
то, что становится следом, обязано собой расширяющей-
ся структуре гимена, текст никогда не будет сделан из «зна-
ков» или «означающих». (Что, конечно, не мешает нам для
удобства использовать термин «означающее» при обозна-
чении в старом коде того, что в следе отрезается от смыс-
ла или означаемого.)
Теперь нам нужно попытаться написать слово «дис-
семинация».
И объяснить, почему, столкнувшись с текстом Мал-
ларме, всегда сложно за ним последовать.
Итак, если не существует тематического единства или
полного смысла, который можно было бы присвоить по ту
сторону от текстуальных инстанций, в воображаемом, в ин-
тенциональности или опыте, текст больше не является
выражением или представлением (счастливым или несча-
стным) некоей истины, которая могла бы расщепляться
ЕВЗ Жак Деррида. Диссеминация
или вновь собираться в полисемичной литературе. Поэто-
му это понятие полисемии следовало бы заменить поня-
тием диссеминации.
Согласно структуре дополнительности, то, что добав-
ляется, всегда будет пробелом или складкой — добавле-
ние уступает этот пробел некоему разделению или мно-
жащемуся изъятию, которое обогащается нулями, исчер-
пываясь к бесконечности, поскольку избыток и недостаток
разделены/объединены всего лишь личтожной погреш-
ностью, почти полным небытием гимена. Эту игру целой
единицы, наращивающейся нулями, «суммы, сотнями и
дальше», Малларме доказывает в заглавии «Золота» <Ог>
(как знаток связывания чувственных, фонетических, гра-
фических, логических, синтаксических, экономических ка-
честв в буквенной алхимии подобного ироничного и цен-
ного означающего, камня, на котором сходятся («Магия»
<Magie>) «два пути, на которые всегда раздваиваются
наши потребности, а именно эстетика, с одной стороны,
и политическая экономия», р. 399; см. также р. 656):
«ЗОЛОТО <OR>
[...] Денежные средства,прибор ужасной точности, про-
зрачный для сознания, вплоть до потери своего смысла.
[...] Понятие того, чем могут быть суммы, сотнями и
дальше. [...] Неспособность цифр, многоречивых, к вы-
ражению здесь происходит из особенности случая; при по-
средстве этого знака мы исследуем, действительно ли чис-
ло увеличивается и отступает, к невероятному, и вписы-
вает в себя больше нулей — означающих, что его сумма
в духовном отношении приравнивается к ничто, почти»160.
Почему же это почти-ничто теряет сверкание фено-
мена? Почему не бывает феноменологии гимена? Потому
что полость <antre>, в которую он складывается, но не для
того, чтобы скрываться в ней или обнажаться, является
еще и пропастью <abime>. В замыкании пробела на про-
бел пробел окрашивает сам себя, становится сам для себя,
сам собой, бесконечно воздействуя на себя, своим соб-
ственным бесцветным фоном, все более и более невиди-
мым. Не то что он удаляется как феноменологический
ЕЕП Двойной сеанс
горизонт восприятия — бесконечно долго вписываясь сам
в себя, как мета на мете, он приумножает и усложняет свой
текст, текст в тексте, мету в поле, одно в другом в беско-
нечном повторении — то есть пропасть.
Итак — не является ли практика пропащего письма
как раз тем, в чем тематическая критика — и критика как
таковая в целом — буквально никогда не сможет отчи-
таться? Пропасть никогда не получит сияния феномена,
потому что становится черной. Или белой. Одно и/или
другое в квадрате письма. Она отбеливает(ся) в склоне-
нии «Броска костей».
НШ Жак Деррида. Диссеминация
КОГДА БЫ ДАЖЕ БРОШЕННЫЕ В
ВЕЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ИЗ ГЛУБИНЫ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ
ТОЛИ
Пропасть
побелевшая
расстилает
гневаясь
под наклонением
парящей безнадежности
крыла
свою
заранее упавшая от неспособности подняться в полет
и покрывающая брызги
срезающая по уровню прыжков
в самом нутре укрощает
тень запрятанную в глубине этим запасным парусом
вплоть до приспособления
к размаху
ее зияющей глубины как корпус
корабля
накреняемого то на один борт» то на другой...
Воссозданный в каждой из своих петель, гимен по-
прежнему со всех сторон получает отклик. Отражая, на-
пример, стихотворение A la пие accablante tu. Если повто-
рить некоторые фрагменты, если услышать то, что пере-
катывает откликом от одного края к другому, если под-
считать все А, белые как пена, быть может, выяснится, что
гимен всегда будет рассеивать («брошенные в...») не что
иное» как СПЕРМУ, жгучую лаву, молоко, пену или слюну
семенной жидкости. Я выделю несколько букв, оставляя
А и Tu, как и саму форму сонета, до другого опыта чтения:
A la NUE accablante tu
Basse de basalte et de laves
A meme des tchos esclaves
Par une trompe sans vertu
ЕШ Двойной сеанс
Quel sepulcral naufrage (tu
Le sais, ecume, mais у baves)
Supreme une entre les dpaves
Abolit le mat ddvetu
Ou cela que furibond faute
De quelque perdition haute
Tout Vabtme vain ёр1оуё
Dans le si blanc cheveu qui traine
Avarement aura поуё
Le flanc enfant d’une sirhie
<Ha удручающем ОБЛАКЕ ты
Риф из базальта и лав
На уровне рабских отзвуков
Издаваемых рожком без добродетели
Какое могильное кораблекрушение (ты
Знаешь его, пена, но пускаешь на него слюну),
Верховная одна между обломков судна
Отменяет раздетую мачту'
Или то, что неистовая вина
Какой-то высшей утраты -
Вся пропасть тщетно расправляла крылья
В столь белом волосе, который волочится
Жадно затопит
Обессилевшего ребенка сирены
В переводе Р. Дубровкина*:
Тяжелых облаков серей
Слои базальта или лавы
Безмолвья рабские расплавы
Над усыпальницей морей
Цит. по: Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М.» 1995.
Е&Ш Жак Деррида. Диссеминация
Ты рассказала бы (согрей
Тебя, о пена, бронза славы)
Как вздыбил шторм тысячеглавый
Обломки обнаженных рей
Или утратой бесполезной
Над жадной помутневшей бездной
Расплылись волосы когда
Насытясь жертвою смиренной
Сомкнулась темная вода
Над утонувшею сиреной>
Этот сонет формирует одновременно сценографию
и слоговую структуру двойного сеанса, нисколько не ис-
черпываясь в них, как, впрочем, и утверждение любого
текста. Двойной сеанс сгущается в нем и сдвигается на
неопределенное время, гораздо большее того, что требо-
валось бы потратить на «комментарий». Диссеминация
достаточно вспенивает в нем полет семени, белую и тщет-
ную потерю, в которой мачта, для того, кто читает, по-
гружается в пучину утраты паруса и ребенка. A/bo/lit.
«Столь белый».
В доказательстве, не оставляющем никаких сомнений,
Р. Г. Кон сумел восстановить всю цепочку, которая связы-
вает пробел с семенем — посредством ли прямого при-
писывания атрибутов, посредством семической ассоциа-
ции молока, сока, звезд <6toiles> (а они часто рифмуются
с покрывалом или парусом <voile>) или же благодаря тому
млечному пути, которым затоплен весь «корпус» Маллар-
ме 161. Что, если еще раз прочесть это: «Полагаться, соглас-
но странице, на пробел, который открывает ее в ее невин-
ности. [...] А когда в разломе, пусть самом мельчайшем,
рассеянном, выровнялся случай, слово за слово побежден-
ный, пробел возвращается как ни в чем не бывало. [...] Дев-
ственность [...] сама как будто разделилась на свои нежные
фрагменты, на один и другой, причем оба они являются
брачными свидетельствами Идеи» (р. 387). Что, если еще
ЕЕП Двойной сеанс
раз прочитать и эти строки из письма к Казалису (1864):
«...Со страхом, поскольку я изобретаю язык, который дол-
жен обязательно родиться из совершенно новой поэти-
ки», которые чуть ниже продолжены так: «Я никогда бы
больше не прикоснулся к своему перу, если бы был сра-
жен. [...] Увы! Даже дитя может меня прервать. Так меня
уже раз прервало посещение нашей доброй подруги, ко-
торой я высказал много колкостей, как будто движимый
демоном противоречия. — Затем были эти мрачные и се-
рые дни, когда
Утопленный поэт мечтает о непристойных стихах.
Я даже написал такие стихи, но тебе их не отправлю,
поскольку ночные потери поэта всегда должны быть
млечными путями, а моя потеря — всего лишь мерзкое
пятно».
И в письме Ренье (сентябрь 1893 г.): «Я поправляю
свои оставшиеся дела и отбеливаю, потребляя молоко,
свою внутреннюю келью».
Несмотря на то что так может показаться, бесконеч-
ная работа сгущения и смещения не приводит в конце кон-
цов к диссеминации как своему собственному предель-
ному смыслу или своей первой истине. Испускается в дан-
ном случае — не сообщение: такова разрозненность
<l’epars> Малларме. В соответствии со схемой, которую
мы испытали на примере «между», квази-«смысл» диссе-
минации — это невозможный возврат к воссоединенно-
му единству, повторное подключение смысла, прегражден-
ный путь самой этой рефлексии. Является ли поэтому дис-
семинация потерей такой истины, негативным запретом
на доступ к такому означаемому? Ни в коей мере не по-
зволяя предположить, будто ей предшествует или ее кон-
тролирует некая девственная субстанция, диссеминация
утверждает всегда уже разделенное порождение смыс-
ла ,62. Она — заранее дает ему упасть.
Итак, мы не сможем вернуться к диссеминации как
к центру полотна. Лишь как к складке гимена, к мрачной
белизне пещеры или утробы, к черному на белом живота163,
к месту ее разрозненного испускания и ее необратимых
Ий Жак Деррида. Диссеминация
случайностей, месту ее отстранения. Мы не сможем до
конца вытянуть «паутинную нить».
После того как на всех рассеянных полотнах будет за-
мечена складка гимена вместе со всем тем, из чего отныне
сплетается это дополнение, мы прочтем не только «Туман-
ные складки» из «Надгробия Верлена», но и бесконечное ум-
ножение складок, изгибов, сворачиваний, фальцовки, рас-
правления, раскрывания. Каждая определенная складка
складывается, изображая другую (от листа к простыне, от
простыни к савану, от кровати к книге, от льна к велени
<du lin au vdlin>, от крыла к вееру, от покрывала к танцов-
щице, к перу, к листу и т. д.) и повторно отмечая это скла-
дывание письма на самого себя. На примере полисемии
складки можно было бы легко еще раз провести наше пре-
жнее доказательство: под принудительным воздействием
дифференциально-дополнительной структуры, всегда до-
бавляющей еще одну складку к серии и изымающей ее из
нее, ни одна тема складки не может сформировать систему
ее смысла или же представить единство ее множества. Без
складки, или, скорее, если бы складка в каком-то месте име-
ла предел, отличный от нее самой как меты, поля или хода
(порога, границы, предела), не было бы текста. Итак, если
текст буквально и не существует, быть может, текст имеет-
ся. На ходу. Текст, с которым нужно прокладывать путь.
Без текста, быть может, существовало бы невообра-
зимое «счастье выражения», но, несомненно, больше не
было бы литературы. Если литература — то есть то, что
выступает под этим именем и у Малларме, хотя и нужно
учесть все то, что иной раз отводится на долю «литера-
турности» (сущности или истины литературы) — вовле-
кается в эту складку складки, значит, она уже не является
одной из областей складывания, она может дать свое имя
всему тому, что в пределах данной нам истории сопротив-
ляется чистому и простому стиранию складки. Тому, что
делает — из нее — пример:
Например, принадлежащая Малларме фигура склад-
ки позволит нам соединить эротическое с чувствен-
EES Двойной сеанс
ным, а затем и с рефлексивным, с метафизикой, с ли-
тературой, поскольку складка одновременно является
полом, листвой, зеркалом, книгой, могилой и всеми
остальными предметами, которые она собирает вме-
сте в абсолютно уникальной грезе интимности (Ришар,
op. cit.y р. 27—28).
Итак, складка не является рефлексивностью. Если
под последней понимать то движение сознания или при-
сутствия для самого себя, которое играет столь важную
роль в диалектике и в спекулятивной логике Гегеля, в дви-
жении снятия (Aufhebung) и негативности (сущность —
это рефлексия, как гласит «Наука логики»), то можно сде-
лать вывод: рефлексия является лишь одним из следствий
складки как текста. В главе под названием «Рефлексив-
ность» Ришар анализирует складку в соответствии с диа-
лектическими, тотализирующими и эвдемонистическими
мотивами, которыми мы уже занимались. Он разворачи-
вает, если так можно выразиться, складку в одном-един-
ственном направлении «абсолютно уникальной грезы
интимности», то есть к замкнувшемуся на себя, защищен-
ному, «стыдливому» внутреннему миру самосознания
(«сознавая саму себя, интимность становится рефлексив-
ностью»):
Интеллектуально рефлектировать — уже значит ухо-
дить в себя. (...) Уход в себя также оберегает тайное
измерение предмета, он сберегает внутреннее состоя-
ние бытия. (...) Складка в таком случае совершенна,
поскольку интимность тут живет одновременно в бе-
зопасности и равенстве, обеспечиваемых точным со-
ответствием двух тождеству и в дрожи, в действую-
щем сознании, рождающимся из встречи двух иных.
Каждое «я» в ней обладает самим собой в другом,
о котором оно, однако, знает, что это другое «я». На
пределе нарциссизма Иродиады, у Малларме, возмож-
но, встречается особое искушение, абсолютно ум-
ственное, тем, что в другой обстановке можно было
EES Жак Деррида. Диссеминация
бы назвать «гомосексуальностью», — искушение, ко-
торое, несомненно, совершеннее указанного нарциссиз-
ма, поскольку оно внедряет в рефлексивную круговерть
возбуждающее присутствие псевдо-инаковости. [...]
В ушедшем в себя предмете — в книге, в постели, в кры-
ле птицы — интимное пространство в конечном счете
упраздняется в силу самой интимности: в ней, как в зер-
кале, никакой зазор больше не отделяет «я» от его об-
раза (р. 177—178).
Если даже предполагать, что зеркало соединяет «я»
с его образом, этот анализ, который на самом деле не ли-
шен оснований, намеренно закрывает складку одной ее
стороной, истолковывает ее как совпадение с собой, пре-
вращает открытие в условие соответствия себе, то есть
устраняет все то, что в складке отмечает еще и растрески-
вание, диссеминацию, опространствование, темпорализа-
цию и т. д. Такой анализ закрепляет классическое прочте-
ние Малларме и погружает его текст в атмосферу интим-
ности, символизма и неогегельянства.
Диссеминация в гимене, уходящем в себя, — такова
«операция». Для нее нет метода — ни один путь не воз-
вращается по кругу к первому шагу, не направляется от
простого к сложному, не ведет от началу к концу («Книга
не начинается и не заканчивается, самое большее — она
делает вид» («Книга» 181 (А)). «Любой метод — это вы-
мысел» (1869, р. 851).
Нет метода — это не исключает определенного хода,
за которым нужно проследовать.
Этот ход не пройдет, если не вложить в него кое-какое
перо <реппе>164, рискуя его при этом потерять. Если —
как сложенное покрывало, нежная ткань, лист — гимен
всегда открывает том письма, он вкладывает перо. Вместе
со всем веером своих родственников (крыло, птица, клюв,
укол, веер, заостренная на i форма всех окончаний, танцов-
щица, лебедь, бабочка и т. д.) перо вводит то, что в опера-
ции гимена царапает или прививает поверхность письма,
EES Двойной сеанс
наводит на нее складку, прокалывает ее, прикладывает
и раздваивает. «Твой акт всегда применяется к бумаге»
(р. 369). Нельзя пересчитать все сменные перья Маллар-
ме, начиная с «фетровой шляпы с пером» из «Рока» <Guig-
non>, пера паяца, который в «Наказанном паяце» «про-
дырявил в полотняной стене окно» («Как перо [...] я про-
дырявил»), пера шляпы Гамлета (р. 302), всех перьев, кры-
льев, плюмажей, ветвей «Иродиады», «перьевой мягкости»
«Послеполуденного отдыха Фавна», «плюмажа инструмен-
тов» «Святой» <Sainte> и заканчивая «одиноким обезу-
мевшим пером» из «Броска костей», единственным, за ис-
ключением «если только не», на странице, лицом к ней, ее
слова мы выпишем в строчку, опрокидывая топографи-
ческий синтаксис («Одинокое обезумевшее перо / если
только не / встречает его или слегка касается убор ночи /
и обездвиживает / бархатом, скомканным взрывом мрач-
ного смеха / эта онемевшая белизна / смешная / в проти-
вопоставлении небу / слишком / чтобы не отмечать / скуд-
но / какого-то князя подводной банки / увлекается этим
как героическим / неодолимым, но содержимым / своим
малым мужественным рассудком / в молнии») на лезвие
мечей, всевозможных крыльев, шпаг, стебельков и т. д.165
Нужно было бы перечитать то, что в этих краях собирает
из письма «Одна из них» <Une d’elles> (р. 42). Одно: муж-
ское/женское.
В «Примечаниях и документах», следующих за главой
«К диалектике тотальности», Ришар на нескольких пре-
красных страницах разворачивает веер перьев (к которым
нужно добавить и сам веер), простирающийся от ангель-
ского (серафимного) до «сатанинского или, по крайней
мере, прометеевского значения» (р. 445). Почти в самом
конце этой длинной сноски (занимающей около четырех
страниц), после замечания в скобках о «фаллической ал-
люзии», которую Кон «видит в пере», некое чрезмерное
расширение самого полисематизма внушает Ришару те-
перь уже недоверие. Вот оправдание этого недоверия: «По-
скольку слово перо было также понято в качестве пера пи-
сателя, именно на этой аналогии Р. Г. Кон основал все свое
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
толкование. Но это отношение, хотя и возможное, пред-
ставляется нам недоказанным — такая аналогия кажет-
ся нам излишне надуманной по самому своему проис-
хождению и, особенно, по своим следствиям. Мы счита-
ем, что читать “Бросок костей” как какую-то буквальную
аллегорию не только сложно, такое чтение противоречит
самому гению Малларме (даже если эта аллегория нагру-
жается, как считает Кон, самопроизвольными отзвуками
и более или менее осознанными двусмысленностями)».
Однако для понимания двойного смысла пера можно было
бы привести следующий текст 1866 г.: «...Я очень утомлен
работой; ночные перья, которые я по утрам отрываю от
себя, чтобы писать свои поэмы, к послеполуденному вре-
мени еще не отрастают» (Согг., р. 219).
Почему же «буквальная аллегория» противоположна
«гению Малларме»? И что такое гений Малларме? Или
«буквальная аллегория» предполагает некую моносемию,
сводящую все перья к перу писателя? Кон выполняет со-
всем другую процедуру, он устанавливает сеть, которая
проходит — в том числе — и через «фаллическую аллю-
зию». (Можно заметить, что Ришар, несмотря на всю бли-
зость ссылок, выносит «фаллическую аллюзию» в скобки
и к тому же отделяет от такой «аллюзии» критический
абзац, который мы только что процитировали.) Затем —
что такое «слишком надуманная аналогия»? Почему то, что
«возможно», является «невероятным»? К какому роду от-
носится доказательство тематического родства? Даже не
цитируя всей массы текстов, из которых Кон создает сеть
(такое цитирование могло бы дать почти полное доказа-
тельство, если бы только обращение к подобным нормам
работы что-то еще здесь значило), можно спросить: поче-
му текст, цитируемый под грифом «однако», текст, кото-
рый по крайней мере один раз уже доказывает возмож-
ность166, почему он не позволяет решить, что перо писате-
ля всегда, пусть и совершенно виртуально, уже вложено
в материю, крыло, ткань любого иного пера? Это письмо
1866 г. (Обанелю <Aubanel>), близкое к письму Казалису,
неминуемо производит какие-то из эффектов грота. «Ноч-
ЕЕВ Двойной сеанс
ные потери», «ночные перья», одинокое перо и (есть) по-
теряно в подобии млечного пути. Действие (1 + 0 + 0), в ко-
тором оно до исчерпания увеличивает свою тождествен-
ность.
Эффекты грота чаще всего являются эффектами го-
лосовой щели, следами, оставленными эхом, отпечатком
одного фонетического означающего на другом, производ-
ством смысла в перекатах звука между двумя стенами. Два
без одного. Один всегда лишний, пусть его и не хватает.
Решающая и неразрешимая двусмысленность синтагмы
«больше (нет)» <plus de> (дополнения и вакантности).
Опустим ли мы перо?
В последнем абзаце той же самой сноски, абзаце,
столь же оторванном от того, что мы процитировали, от-
деленном от него длинным рассуждением, Ришар дает
«фонетическое» уточнение. Все наводит на мысль, что он
сам рассматривает его как нечто просто любопытное и
скорее добавочное: «Наконец, в фонетическом отноше-
нии “перо” должно было бы привести Малларме к игре,
весьма богатой на воображаемые ассоциации. Несколько
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
примечаний, изданных Боннио как приложение к “Иги-
тур” (Paris, N.R.F., 1925), показывают, что одно это слово
было связано с фантазиями о личных местоимениях (свя-
зывающими их с фантазией о субъективности) и с род-
ственным образом биения струи (“plus je <плюс я> —
plume <перо> — plume je <перо я> — plume jet <перо
струя>”). Перо также является двоюродным братом паль-
мы <ра!те>» (р. 446); примечания Боннио цитируются и
Коном (р. 253).
Мы воспроизводим эту страницу167. Если даже пред-
полагать — но от такого предположения мы воздержим-
ся, — что «самопроизвольным отзвукам» и «более или
менее осознанным двусмысленностям» нужно уделять
всего лишь второстепенное и сравнительно небольшое
внимание, много ли их найдешь в этой игре пера?
Напомню также строку «перо... я продырявил» из «На-
казанного паяца», а также это сгруппированное вхожде-
ние всех у, струи <jet>, откликов, избытка пера и крыла,
крутящегося подобно чайке, увлеченной игрой бриза:
«Son lac amdricain ой Niagara brise»
L’algue blanche d’dcume, a gdmi sous la brise:
«La mirerons-nous plus, comme aux hivers passds?
Car, comme la mouette, aux flots qu’elle a rasds
Jette un dcho joyeux, une plume de Taile,
Elie donna partout un doux souvenir d’elle!
De tout que reste-t-il? Que nous peut-on montrer?
Un nom!...» (Sa fosse est fermte, 1859, p. 8)
<Ee американское озеро, где разбивается Ниагара,
Белая водоросль пены простонала под бризом:
Нацелимся еще на нее, как в прошлые зимы?
Ведь как чайка у вод, которые она срезает,
Бросает веселый отклик, перо из крыла,
Она повсюду оставила нежное воспоминание о себе!
Что от всего остается: Что нам покажут?
Одно имя!..,6в(«Ее могила закрыта»)>
ЕШ Двойной сеанс
Такие игры («пера», «бриза» и т. д.) оказываются край-
ностью, оскорблением для любого лексикологического
суммирования, любой таксономии темы, любой расшиф-
ровки смысла. Следовательно, кризис стиха, «изысканный
кризис, в самой своей основе», отмечен в уголке этого из-
бытка. (Фигура угла, которую мы задали, чтобы начать,
могла бы дать тому свидетельство благодаря всем пере-
плавкам и переделкам, которые вовлекли ее в движе-
ние, — угол, открытое углубление, складка, гимен, металл,
означающее денег, печать, наложение мет. Угол-между.)
И кризис этот первоначально относится к стиху именно
потому, что формальная структура текста, называемая
«стихом» благодаря выполняемой Малларме последова-
тельной процедуре обобщения, как раз и организует по-
добную историческую крайность в пропуске автора (боль-
ше — нет — я). Часто отмечалось, что Малларме, не со-
здав чего-то принципиально нового в этой области, по
крайней мере внешне, всю свою литературную практику
основывал на необходимости стиха и рифмы, то есть, раз
уж эти понятия подверглись обобщению и преобразова-
нию, на взаимном усилении означающих, которое не под-
дается диктовке и управлению со стороны какого-либо
присутствия темы. Рифма — общий закон текстуального
эффекта — склоняет тождество и различие друг к другу.
Ее материалом уже не является всего лишь звучание окон-
чаний слов — все «субстанции» (фонетические, графиче-
ские) и все «формы» могут связываться друг с другом на
любом расстоянии и в любом виде, производя новые со-
держания в том, «что не говорится речью». Поскольку раз-
личие — это по крайней мере необходимый интервал, под-
вешенность между двумя сроками исполнения, «проме-
жуток» между двумя бросками, двумя падениями, двумя
удачами. Нет никакой возможности заранее решить во-
прос о пределах подобного распространения, которое каж-
дый раз производит воздействие иное и, следовательно,
каждый раз «новое», каждый раз юное — воздействие все-
гда новой игры, всегда нового огня, причем и игра и огонь
никогда не умирают. Гераклит и Ницше уже сказали об
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
этом, об игре случая с необходимостью, игре случайности
с законом. Гимен между удачей и правилом. То, что пред-
ставляется как случайность и случай в настоящем време-
ни языка (вопрос из «Английских слов»: «Первым де-
лом — определить этот пункт: Настоящее время языка»,
р. 1049), закрепляется, закаливается печатью необходимо-
сти в уникальности текстуальной конфигурации. Напри-
мер, дуэль, устроенная между муаром <moird> и памятью
<mdmoire>, между тарабарщиной <grimoire> и ящиком
<armoire>, исполняемая в пределах срока, выделенного
«Посвящением Вагнеру», внутри частного устройства это-
го текста, тем не менее остается открытой всей виртуаль-
ной цепочке, проходящей через зеркало <miroire>, наслед-
ника <hoire>, вечер <soir>, черное <noir> и т. д.
Это опространствование и усиление утверждаются
Малларме одновременно и как случайность («взаимность
удаленных огней, представленная вкось как случайность»),
и как «побежденный случай»169, то есть как сплетение — ре-
ализованное в стихе — необходимого и произвольного.
Это — возвращение к пункту отправления — «Кризис сти-
ха» («А значит, роковой сюжет»...): «Чистое произведение
предполагает исчезновение поэта в высказывании. [...] Упо-
рядоченность книги стихов, выношенная в нем, исключа-
ет случай; и также она нужна, чтобы не досталось места ав-
тору; а значит, роковой сюжет предполагает, среди совокуп-
ности отрывков, такое согласие относительно места в томе,
которое соответствует. Восприимчивость, порождаемую
тем, что у крика есть отклик, — мотивы одной и той же
игры уравновесятся, сопоставленные на расстоянии, но не
в возвышенной бессвязности романтической постановки
страницы и не в том искусственном единстве, которое не-
когда отмерялось книгой как чем-то целым. Все становит-
ся подвесом, фрагментарным расположением, сочетающим
очередность и противопоставление, участвующим в общем
ритме, которым как раз и должна стать немая поэма, поэма
в пробелах [...]» (р. 366—367).
Ни произвольность, ни естественная необходимость
знака, и то и другое, — это случай написания. Его нужно
ЕШ Двойной сеанс
писать. Но иногда Язык в своих проделках сам предлагает
этот случай повторной мете поэта «или даже знающего
прозаика» (р. 921). Незадолго до вопроса «Не уступит ли
строгое соблюдение принципов современной лингвисти-
ки тому, что мы называем литературной точкой зрения?..»
Малларме прописывает введение в проблему аллитерации:
«Связь между значением и формой слова, столь совершен-
ная, что она, как кажется, доставляет уху и разуму только
одно впечатление, впечатление удачи, такая связь встре-
чается часто; но особенно в том, что называют ОНОМА-
ТОПЕЕЙ. Считается обычно так — такие слова, восхити-
тельные и весьма удачно найденные, находятся по отно-
шению к другим словам языка (исключим такие слова, как
ТО WRITE, писать. подражающего скрипу пера уже в гот-
ском варианте WRITH) в низшем состоянии» (р. 920).
С этого момента практика составления стихов смеши-
вается с литературой, которая «выходит за пределы жанра»
(р. 386), превосходя как в своем воздействии, так и в своем
основании вульгарное противопоставление прозы и по-
эзии: «...Форма, именуемая стихом, сама является просто
литературой; как только появляется стих, появляются и
ударения в слоге, ритм, как и стиль» (р. 361). «...В Стихе,
растратчике, распорядителе игры страниц, хозяине книги.
Пусть предельно ясно обнаружится его цельность, между
полями и пробелом; или пусть он скроется, и назовите его
Прозой, все равно это он, если остается какой-то тайный
отголосок музыки, в запаснике Речи» (р. 375).
Кризис стиха (как еще говорит Малларме, «ритма»),
таким образом, касается всей литературы. Кризис ryth-
mos’a170, разбитого бытием (эту тему мы слегка затрону-
ли в самом начале, в сноске, отослав к Демокриту), — это
кризис «в самой своей основе». Он сотрясает сами осно-
вания литературы, лишает ее в своей игре любого осно-
вания, которое было бы вне ее. Литература одновре-
менно обеспечивается и ставится под угрозу тем, что она
покоится сама на себе, в воздухе, совсем одна, в отстра-
нении от бытия, «и, если угодно, она одна, за исключени-
ем всего».
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
Ритм, склоненная последовательность, склонение, де-
каданс, падение и возврат: «С тех пор как нет больше бело-
курого создания, странным образом я возлюбил только
то, что сводится к одному слову — падение. Так, мое лю-
бимое время года — это истомленные последние дни лета,
перед самой осенью, а днем я гуляю только тогда, когда
солнце замирает на горизонте, готовое вот-вот раство-
риться в никуда, полыхая на серых стенах лучами желтой
меди, а на оконных стеклах — красной. И так же литера-
тура, у которой мой дух требует высшего наслаждения, —
для меня это умирающая поэзия последних мгновений
Рима, когда она еще не почувствовала приближение вар-
варов и не начала лепетать на младенческой латыни пер-
вой христианской прозы» («Осенняя жалоба» <Plainte
d’Automne>, р. 270).
Литература, в одиночестве, в своем изысканном кри-
зисе, трепещет и бьет своим крылом, проходит, дрожа,
сквозь великое обнажение зимы. Сперва я задался во-
просом, что могло навести автора на такое странное на-
звание, как «Кризис стиха». Чувствуя, что в нем могут
скрываться какие-то неизвестные ассоциации, я начал
видоизменять и по-всякому крутить некоторые его эле-
менты. У меня всегда получались (иг: «нервный кри-
зис» <crise de nerfs> (истерия), «северный зимний ветер»
<bise d’hiver>, «зимний ветерок» <brise d*hiver> (вместе
со всей игрой «бриза» и «зимы» из «Ее могила закры-
та») — и все они дополняются «обломками стекла» <bris
de verre>, заключающими в себе взрыв множества «раз-
биений» <brisure> Малларме, отражающими «обломок
тайны» <bris de mystere> («Да, без сворачивания бумаги
и закоулков, ею образуемых, пространная тень из чер-
ных букв не представляла бы никакого основания рас-
пространяться в качестве обломка тайны, по поверхно-
сти, в плоскости растопыренных пальцев», р. 379—380).
Эти ассоциации, во-первых, созвучны первому аб-
зацу «Кризиса стиха». Как и «Мимика», как «Итак», он
начинается с картины без референта, с некоего притвор-
ного описания. Но во всех трех случаях музыка, которая
Epi Двойной сеанс
скрывается в таком начале, является подготовкой фина-
ла: вечер «Мимики» («Молчание, единственная роскошь
после рифм, оркестр со всем своим золотом, шелестом
мыслей и вечера...»), «закаты Солнца» в «Итак» и, нако-
нец, зимнее послеполуденное время в «Кризисе стиха»,
время застекленной библиотеки, закрытой библиотеки,
все книги которой прочитаны, старая литература, «игра
теней на брошюрах» в зимней атмосфере оледеневшей
бумаги, открытой могилы, в грозе, которую видать через
стекло — оконного проема, но и в буре, видимой внутри
стакана: «Только что, без движений, в усталости, какая
бывает из-за обезнадеживающей плохой погоды, повто-
ряющейся изо дня в день после полудня, я сбросил, но без
любопытства, как будто читал это вот уже двадцать лет,
низка многоцветных жемчужин, которая накладывает
дополнительные дождинки на игру теней брошюр в биб-
лиотеке. Множество томов за стеклянными створками
рядились в свой ровный блеск — люблю как будто в туч-
ном небе следить, прижавшись к стеклу, за всполохами
молний» (р. 360). Обманка, блеск, игра теней: вы сможете
заметить, во время вспышки молнии, какое блистание
его охватит — его, который, как кажется, все прочитал.
Лишь бы только пошел дождь.
Как «Мимика» (1866—1891 —1897) и «Итак», «Кри-
зис стиха» осуществляет все эти трансформации на про-
тяжении трех этапов (1886—1892—1896). Между тремя
послеполуденными периодами ткань остается очень плот-
ной. В «Страницах» (1891) то, что станет первым абзацем
«Мимики», следует за двумя другими абзацами, которые
начинаются так:
«Зима для прозы.
С осенней грозой кончается стих. [...] Молчание, един-
ственная роскошь после рифм. [...]» (р. 340).
В этой атмосфере конца истории исчерпанная биб-
лиотека играет, играя тенями, свои гаммы, в потопе, уно-
симая потопом, но и сберегаемая от него прозрачной стен-
кой из стекла, разыгрывает шанс стиха или гимена, кото-
рый может быть разорван изнутри171, — библиотека,
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
одновременно соприкасающаяся с бурей и отделенная от
нее стеклом, стеклом, которое отражает все окна и все зер-
кала Малларме, позволяя увидеть — там, снаружи — «мно-
жество томов за стеклянными створками». Стекляшки
<verroterie> — маленькие предметы из стекла <verre>
(стихов <vers>), тщательно отточенные, как хрупкие по-
эмы, «многоцветные жемчужины», «низка» которых по-
добно томам «рядилась в свой ровный блеск». Упразднен-
ные безделушки <abolis bibelots> библиотек. Птикс*.
Изымание перьев (и) стекла в «Последней моде», на-
целенное на то, чтобы повторно закалить играющий те-
нями союз зимы и стекла: «Латы, оковы, все это снаряже-
ние, чарующее и защищающее, издавна примешанное
к женскому одеянию, не позволит гагату изойти своим
стальным блеском; как и самой стали. Всю роскошь от-
давая перьям — натуральным, петушиным, павлиньим,
перьям фазана, а также выкрашенным то в голубой, то
в розовый цвета перьям страуса, до сего момента мы ду-
мали (и здесь наши предсказания отличаются от замеча-
ний других), что блестки, стекло или металл просуще-
ствуют столько же, сколько и зима» (р. 832).
Вся эта интимность маскируется только для того, что-
бы отметить некую историческую грозу — кризис — пре-
дельную тщету того, чего больше никогда не будет. Конец
и повторение года, цикла, кольца. Возвращение ритма: «Хи-
мера, подумав об этом, свидетельствует, блеском своих че-
шуй, насколько теперешний цикл или последняя четверть
века переживает некий абсолютный всплеск света — рас-
трепанные волны его, ложащиеся на окна, стирают соча-
щуюся тревогу, освещая вот что — все книги, в большей
или меньшей степени, содержат слияние нескольких пе-
ресчитанных пересказов: быть может, есть только одна
книга — закон для мира — библия, которой подражают
разные племена» (р. 367).
Итак, я принужден был разукрасить кризис стиха
звездами битого стекла, шума стекла, «обломка тайны»,
Искусственное слово, введенное Малларме в «Сонете ‘‘на икс”».
ЕШ Двойной сеанс
бриза или северного ветра (бриза без г cbrise — bise>)
зимы <hiver>, hi/ver ever — червь>, которая отражает, уси-
ливает, сгущает ту оппозицию, в которой она сама и за-
ключена (I/R), функцию описательного фона, время от
времени становящегося элементом пропасти, убор, со-
зданный, чтобы увлечься повторением, чтобы вовлечь
в него всю совокупность библиотеки, всю вчерашнюю ли-
тературу, удаленное V гимена.
Но чтобы поставить на место библиотеку «Кризиса
стиха», «автор» предложил ее «библиографию». Библио-
графия в «Отступлениях» <Divagations> дает такое уточ-
нение: «Кризис стиха», статья в National Observer, в ко-
торой были использованы некоторые отрывки текста,
опущенные в «Вариациях» <Variations> — фрагмент «Же-
лание, в котором нельзя отказать моему времени» обосо-
бился в «Страницах» <Pages>. Издатели же уточняют:
«“Кризис стиха” в своих первых трех абзацах воспроиз-
водит: 1) одну из “Вариаций на тему” eVariations sur un
sujet>, вышедшую в La Revue blanche от 1 сентября 1895 г.
под названием “VIII, Ливни, или Критика” <VIII, Averses
ои Critique> [...]».
Слово «Ливни» <Averses> действует, таким образом,
в качестве скрытой черты, связывающей кризис литера-
туры с кризисом «Критики», с дождем, с зимой, с грозой,
с закатом золотого века. Цикл и время времени года. Хро-
ника зимы <faits d’hiver>. Малларме не мог не заметить
пролива, соединяющего averse и английский стих (verse).
Причем не только потому, что эта вторая идиома всегда
накладывается на его синтаксис и лексику172, но и пото-
му, что «Кризис стиха» сначала был размещен в журна-
ле National Observer. Как и «Серьезные происшествия»
<Grands Faits Divers> (среди которых и «Итак»).
Кризис оппозиции альтернатив, кризис versus'a, сле-
довательно, вписан в атмосферу смерти и возрождения,
одновременно мрачную и веселую. Момент бодрствова-
ния, бдения у постели умирающего и наблюдения за ро-
дами, гимен между вчерашним, бдением и завтрашним
днем, в канун — смягченный173— нашего дня. Между
EU3 Жак Деррида. Диссеминация
этими моментами балансирует и «Посвящение Вагнеру».
На этот раз роль бренных останков отведена Виктору
Гюго. Но в обоих текстах — одна и та же структура, те же
слова, те же складки и покрывала, «как будто чуть разор-
ванные». Та же испещренная следами, изъезженная, вы-
вернутая наружу, зарифмованная, разнородная изнанка.
Как гимен в самом стихе, по-прежнему белом, гимен
необходимости и случая, сопрягающий в единой фигуре
покрывало, складку и перо, письмо приготовляется к при-
ему семенной струи броска костей. Если бы — она была,
литература удерживалась бы — собой в том подвешива-
нии, в котором каждая из шести сторон костяшки еще не
потеряла свой шанс, хотя он и предписан, признан после
броска в качестве самого себя. Случай, заданный генети-
ческой программой. Костяшка ограничена своими повер-
хностями. Избегая какой бы то ни было глубины, каждая
из этих сторон после броска как раз и оказывается всей
костяшкой. Кризис литературы имеет место, когда ниче-
го не имеет места, кроме места, в пункте, в котором нет
никого, кто бы знал.
Никого — знающего — до броска — который в свой
срок разыгрывает — какая* из шести сторон костяшки —
выпадает.
ТРАНСПРЕДЕЛЕНИЕ (2)
софский <philosophale> камень: но в области финансов он пред-
вещает будущий кредит, предшествуя капиталу или низводя его
до ничтожности монеты! В каком же беспорядке все это иссле-
дуется в нашем обществе и как мало это понимается! Мне почти
стыдно высказывать эти истины, предполагающие подобную яс-
ность, чудесную передачу снов, осуществляющуюся так — вто-
ропях и с потерями.
Малларме
Слова Арлекина, вводящего самого себя, таковы:
«Я ИДУ
ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ
ИЗ СЕБЯ ФИЛОСОФСКИЙ
<philosophale>
КАМЕНЬ»
Увеличивая промежутки молчания
после каждого куска фразы...
Небольшой промежуток после «я
иду», длинный после «из
себя», еще более длинный и
отмеченный задержкой
жестов на «ский» <phale>.
Арто
Диссеминация
Первая версия опубликована в журнале Critique (261—262), 1969.
Редакция снабдила публикацию примечанием, которое мы здесь
воспроизводим: «“Настоящее” эссе — не более чем ткань из “ци-
тат”. Некоторые из них взяты в кавычки. В целом они не вызыва-
ют сомнений своей точностью; все без исключений цитаты из
“Чисел” Филиппа Соллерса взяты в кавычки и выделены курси-
вом. — Примечание редакции».
D
пока
оно не перечислит
на какой-то высшей незанятой поверхности
последовательное столкновение
в звездах
полного счета на стадии оформления
Это иное перечисление, выписанное абсолютно открыто
<carrdment>, в то же время осталось бы нерасшифровы-
ваемым.
Это вопрос, который мы ставим, зная, что он, пусть
уже и повторяется давно и издалека, остается нечитаемым,
камнем, ожидающим закладки. Камнем крайнего угла,
о чем мы сможем при удаче и повторах узнать из несколь-
ких оставленных мет.
кШ Жак Деррида. Диссеминация
1. Развязывание
РАЗВЯЗЫВАНИЕ <DECLENCHEMENT,
сущ. м.р.> 1. Автоматический запуск оп-
ределенного механизма. 2. Любое устрой-
ство, которое благодаря своему положе-
нию останавливает или запускает движе-
ние определенной машины. 3. Действие,
состоящее в приведении этого устрой-
ства в такое положение, которое позво-
ляет машине работать.
РАЗВЯЗАТЬ <DECLENCHER, активный
глагол> 1. Откинуть щеколду двери, что-
бы открыть ее... 2. Осуществить развя-
зывание. Примечание. Этот глагол ино-
гда пишется как declancher, что является
ошибкой, поскольку он происходит от
clenche <щеколда>. В нижней Нормандии
он употребляется в народной речи как си-
ноним глагола «говорить». Например,
«он просидел целый час, не развязав язы-
ка <sans ddclencher> (не разжав зубы)».
Литтре
«Числа» перечисляются, пишутся и читаются. Сами себя,
сами по себе. И этим они тотчас отмечают сами себя, по-
скольку их программа должна быть подписана совершен-
но новой метой чтения.
Текст замечателен тем, что (в особенности и здесь) чи-
татель никогда не сможет найти в нем свое место, как и
зритель. Во всяком случае, он не может удержать место
против этого текста, вне его, в месте, где он мог бы осво-
бодиться от обязанности писать то, что как будто уже дано
в прошлом для его чтения, в котором он расположился бы
перед уже сделанной записью. Подвязываясь на постанов-
ку, он уже участвует в мизансцене, он выводит себя на сце-
ЕЕЕ1 Диссеминация
ну. Рассказ поэтому обращается к телу читателя, который
вещами поставлен на сцену, на саму сцену. «Итак», запи-
сываясь, зритель волен менее чем когда бы то ни было
раньше выбирать свое место. Эта невозможность — и эта
сила записывающего себя читателя — всегда прорабаты-
вала текст как таковой. Открываясь здесь, ограничивая и
располагая каждое чтение (ваше, мое), вот она, наконец на
этот разу показана — в собственном виде. Показана бла-
годаря особому наложению обращенных поверхностей.
Благодаря точной материальной мизансцене.
Или же, поскольку показ здесь и «собственный вид»
феномена уже не являются последней правящей инстан-
цией, поскольку они преобразованы в особый вписанный
вымысел и зависимую деталь, вот она наконец на этот
раз — но не показана, а собрана. В неумолимую машину,
с «выверенными предосторожностями и согласно неумо-
лимой логике».
Собрана — но не в машину, которая наконец на этот
раз стала видимой, а в текстуальный аппарат, создающий
пространство, дающий лишь в одной из своих четырех
серий поверхностей место моменту видимости, поверх-
ности как взгляду в упор, присутствию как столкновению
лицом к лицу, высчитывая, таким образом, открытие, про-
изводя перепись феномена, личного бытия, бытия-в-пло-
ти-и-крови в театре, который подсчитывает этот раз вме-
сте с не-репрезентируемым и
«Чтен. <Lect.>
или
каждый срок
скрывающий и показывающий
страницы] Театр...
что во благо Книге
Абсолютно осовремененной...
согласно Драме...», который не исчерпывается ни
в презентации, ни в репрезентации чего бы то ни было,
хотя он задействует их возможность и к тому же выражает
12-6705
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
их теорию. В одном и том же и все же весьма отличном,
уникальном движении.
Наконец на этот раз. «Наконец на этот раз» не означа-
ет, что наконец-то, внезапно и разом, одним взмахом пера
или броском костей, выполняется то, что впотьмах нащу-
пывалось с давних-давних времен. Для любой эсхатоло-
гии — особенно эсхатологии литературы или эсхатоло-
гии, выполняемой литературой, — нет ничего более чуж-
дого, нежели связка «конечное — бесконечное» этих чисел.
Напротив, в них мы сталкиваемся с обобщенным зака-
вычиванием литературы, текста, называемого литератур-
ным, оказывающегося симулякром, в котором в том же
самом движении литература вводится в игру и выходит
на сцену.
«Этот раз», как мы уже могли это сказать, дается не-
пременно как множественность — абсолютно внутрен-
няя — некоего события, которое уже не является одним
событием, поскольку с самого начала игры его единствен-
ность раздваивается, размножается, разделяется и отсчи-
тывается, скрываясь тотчас в непонятном «двойном дне»
не-присутствия, в то самое мгновение, когда оно, как ка-
жется, вот-вот случится, то есть представится.
Такое событие, поскольку оно начинается с повторе-
ния себя, первоначально имеет форму рассказа. Его пер-
вый раз имеет место много раз. Из которых один, среди
остальных, — последний. Этот первый раз, многочислен-
ный? множественный в каждой точке (точке сюжета, точ-
ке объекта, точке вещи), уже не оказывается местным,
у него нет этого «здесь», он рушит уговор принадлежнос-
ти, который связывает нас с нашим жилищем, с нашей
культурой, с нашими простыми корнями. «В нашей стра-
не, — говорит Алиса, — за раз случается только один день».
Нужно думать, что чуждое располагается в повторении.
«I. ...Воздух //Благодаря слову, сказанному на другом язы-
ке, слову выделенному, повторенному, пропетому —
и тотчас забытому — я знал, что был развязан какой-
то новый рассказ. Сколько раз такое случалось?»
EES Диссеминация
Рассказ, который, как кажется, развязывается таким
образом — в первый, но бессчетный раз, — начинает при
этом функционировать в режимах, которые сближают
смерть с текстуальной машиной (и/или ее метафорой),
в которой в конце концов
«4.92. (...все стирается перед этим томом» этим
функционированием без прошлого» без тела... Все поте-
ряно» и ничего не потеряно» вы обретете сами себя ни
с чем» но более сильными» окрепшими» вычищенными» на-
поенными» измененными и более мертвыми...)»
Родившись в свой первый раз из повторения («сло-
ву... повторенному...»)» текст машинально, смертельно вос-
производит в каждый «более мертвый» и «более сильный»
раз процесс своего развязывания. Никто не проникнет
в эти места, если он боится машин и если он все еще счи-
тает, что литература и, быть может, мысль должны изгнать
машину, поскольку они к ней не имеют никакого отноше-
ния. В данном случае технологическая «метафора», тех-
ничность как метафора, переводящая смерть в жизнь, не
прибавляется к живой силе письма как нечто привходя-
щее, как излишек, простая добавка. По крайней мере сле-
дует дать себе отчет в возможности того, что начинает
здесь вписываться поверх описи, — того, что, не выпадая
за пределы жизни и, если угодно, впадая в нее, вызывает
«Числа», развертывает «живую силу», разделяя ее, выде-
ляя ей ее место и слово. Подключает ее и развязывает:
«3.....и эта игра давала мне роль как одной фигуре
среди других... Операцию» объектом которой был я...»
«4. (...текст прерывается» складывается» позво-
ляет голосам возвращаться как бесконечная звукоза-
пись —...»
«2.10. ...так же я знал» что что-то начало рабо-
тать» и я уже не смог бы это остановить...»
«4.12. (поскольку» как только первые предложения
введены в механизм» как только минимальная проблема
12
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
определена и подключена к вам, ничто не останется без
движенья, ничто не будет сохранено, обойдено, скрыто...
Все повторяется и возвращается, повторяется и снова
возвращается, и вы вовлечены в эту цепочку из земли и
воздуха, огня, крови и камня, вы захвачены — в един-
ственном или множественном числе — этими неупоря-
доченными изменениями...) —»
«4.16. (...Очевидно, вот то, что механизм пыта-
ется сказать, что машина хочет выразить своим из-
менением, хотя и не нужно расшифровывать никакой
рассказ, толкование, которое этим механизмом еже-
секундно и раз и навсегда отменяется в самом способе
его существования... Функционирование, которое слож-
но понять во всех его пробуксовках, размыканиях, уста-
новлениях связи, в его отсутствии центра и конца,
в его разветвленной ткани законов) — »
«2.18. ...Достаточно было бы подключиться туда
через нее...»
«4.20. (...Вершиной развязанного воздействия, ко-
гда, отграничив три оживленные поверхности, вы об-
ращаетесь к четвертой, оказывается, следовательно,
приумноженное насилие...) —»
«3.43....Ничто не могло сопротивляться развя-
занной таким образом истории...»
«2.46. То, что открывалось при посредстве меня,
таким образом, оставалось безымянным, оно было под
угрозой и однако же во все большей безопасности, вы-
талкивая или развязывая страх внутри страха и в то
же время удаляя его, как всемирное переиначивание...
Вопрошая, обретая на плоскости времени живые сроки
как множество зародышей, имелась, следовательно, хло-
пающая оболочка, и я был на ее краю одним мертвецом
среди прочих мертвых, предназначающих свою смерть
всем телам, отделенным на живой поверхности, на ко-
торой записывается смерть... Это указание могло быть
представлено в простой форме: “для будущего, обход
через имперфект” — но речь, главное, шла об одной
стрелке, тусклом луче, проходящем прямо через каждый
EEQ Диссеминация
орган там, где он по необходимости привязан к своему
собственному взрыву, который сам напрямую захвачен
внешним...»
«2.62. ...Те среди нас, кто исчезли, однако же пода-
вали друг другу знаки отдачей, сохраняли свое активное
и неотчетливое место, и это была именно политиче-
ская реальность развязанной операции, — сторона, на
которой ничего не должно было изолироваться, не имея
при этом возможности выйти за запахнутый отво-
рот...»
«4.64. (...Восток, скользящий так по странице, рас-
полагаясь там, в начале... Вы сами охвачены ротацией,
которую можно назвать исторической, вы отосланы
к появлению отношений, сведенных на странице и, од-
нако, немедленно развязывающих свое скрытие в фоне,
прибытие новых сил, которые, на самом деле, несут
в себе причину неравенства развития...) — »
«4.76. (...Все это, подуманное, исходя из все более
активного, темного отступления без мыслей, без меч-
ты, выдвигающееся из глубины ткани, в которой каж-
дое лицо представляется непосредственно подключен-
ным к использованию томов, в суммарно обобщенном
тигле...)»
И так далее — ведь все в этом тексте суммарно обоб-
щено. Развязывание (которое разжимает зубы речи, зуб-
цы машины, дает слово лицу, притворяется, что представ-
ляет это лицо спереди, .лицом к лицу, тогда как на деле оно
одновременно вовлекает его в перечисление, связывая его,
как вы поймете, с древом чисел и переплетенных корней)
случается гораздо чаще, на самых многочисленных ста-
диях. Зачастую — скажем об этом здесь — в углублении
некоего немого невидимого угла, о котором еще пойдет
речь, вы должны будете резюмировать, измерить в стати-
стическом накоплении «цитат» высчитанные и выстро-
енные в соответствии с правильным ритмом эффекты
определенного возвращения. Поскольку ограничение это-
го угла, это накопление будет единственным средством,
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
способным не представить, а сделать вид, что представля-
ется текст, который более чем какой-либо другой пишет-
ся и читается, сам представляет свое собственное прочте-
ние, представляет свое собственное представление и де-
лает вычет из этой непрерывной операции. Итак, мы будем
вписывать — одновременно — в углы «Чисел», в них и
вне их, на камне, который ждет вас, вопросы, касающиеся
«вот этого» текста, статуса его отношения к «Числам», того,
что он притворно добавляет к ним, чтобы изобразить его
представление, ре-презентацию и отданный отчет. По-
скольку, если «Числа» отдают себе отчет в самих себе, «вот
этот» текст — как и все, что его касается — уже или еще
является и «тем самым текстом». И как «Числа» высчиты-
вают и притворно осуществляют свое собственное пред-
ставление, в целом вписывают присутствие в игру, точно
так же то, что иронично называлось по старинке «вот
этим» текстом, изображает представление, комментарий,
интерпретацию, отданный отчет или опись «Чисел». Как
обобщенный симулякр, это письмо, которое движется
«здесь» в пробеле между двумя вымыслами, между так
называемым первоисточником и его комментарием, есть
химера, как сказал бы исчезающий автор той самой «Ми-
мики», «идея» которой, несомненно, не то, во что верят,
но и не иллюстрация такой веры: «Сцена иллюстрирует
только идею, а не настоящее действие, в гимене (из кото-
рого берется Греза), порочном, но священном, между же-
ланием и выполнением, совершением и воспоминани-
ем: здесь опережая, там вспоминая, в будущем, в про-
шлом, в ложном явлении настоящего. Так действует Мим,
игра которого ограничивается постоянным намеком, ни-
когда не разбивая стекла: так он закрепляет среду, чис-
тую, вымысла».
Зеркало — то зеркало, которое вас увидит, в котором
читаются «Числа», — несомненно, будет разбито, однако
оно отразит разбиение в нетронутом и неразрывном вы-
мысле.
Если «вот этот» момент вымысла соотносится с со-
бой, вопрошает себя о своей собственной власти и стре-
ESI Диссеминация
мится перейти к другому — все это, стало быть, он сдела-
ет, лишь сжавшись в углу поверхностей «Чисел», на ли-
нии открытия/закрытия, поскольку угол одновременно и
закрывает и открывает, в межповерхностном промежут-
ке наполненных и предписанных «Числами» пространств.
В месте сочленения одной поверхности с другой, то есть
одного времени с другим. Не то чтобы угол сочленения
являлся некоей отсутствующей или невидимой темой.
В «Числах» он настойчиво выделяется синькой, синим цве-
том, невидимым по ту сторону специально воссозданной
системы цветов. Это «ночь», которая «была не чем иным,
как этим настойчивым, синим переходом одного времени
в другое, например скручиванием, в котором настоящее
и имперфект сообщаются друг с другом, не отмечая друг
друга...» (1.5).
Наши добавленные записи, увлеченные этой ночью,
зажатые в углах, которые напрямую связывают три по-
верхности имперфекта с единственной поверхностью
настоящего, лишь повторно отметят переход к собствен-
ному настоянию, повторяя квадрат закрытием угла, в вы-
мысле разжижая строгость текста открытием другой по-
верхности письма, которое еще должно прийти, в развя-
занной игре кардинального числа или петельного крюка
(cardo). Письмо угла — выступающего, вогнутого, угла
отражения? Поскольку мы еще не знаем, что это будет
значить, выдвинем «вот это» письмо как повторную мету
угла, когда вся линия изломана.
Таким образом, мы отмечаем, что то статистическое
чтение, о начале которого идет речь, получит авторские
права от самого этого текста: «Числа» с любой требуемой
частотой утверждают себя в качестве современников и
жителей «городов — в которых немые машины отныне уме-
ют читать, расшифровывать, считать, писать и вспо-
минать — ...». «Мы живем в этом городе (этой книге)»
(«Драма»).
Чтобы заявить об этой книге повторения, соотнося-
щейся с собой и от себя ускользающей, чтобы обозначить
странную логику, которая в какой-то момент будет в ней
ЕХШ1 Жак Деррида. Диссеминация
сформулирована, «наконец на этот раз» обозначает, таким
образом, не только единственное конечное исполнение, но
и определенное смещение и определенный разрыв, откры-
тую систему повторения разрывов.
Отсюда берется и невозможность выбрать место
и, главное, найти себя в этом месте. Но мы не только не
предлагаем ее созерцанию, мы уже не удовлетворяемся
и тем, чтобы просто высказать так собранную невозмож-
ность. Она не озвучивается в качестве просто теоремы,
даже если иной раз под видом повторно включенных
в список логико-математических высказываний (Гиль-
берт, Фреге, Витгенштейн, Бурбаки и т. д.) ее скрытое по-
ложение приоткрывается сквозь огромное и проклятое
поле нашей домашней библиотеки («Дао-Дэ цзин», «Зо-
гар», мексиканские, индийские и исламские мифологии,
Эмпедокл, Николай Кузанский, Бруно, Маркс, Ницше, Ле-
нин, Арто, Мао Цзэдун, Батай и т. д.; и сквозь другое поле,
более внутреннее или менее видимое, стертое — Лукре-
ций, Данте, Паскаль, Лейбниц, Гегель, Бодлер, Рембо и
некоторые другие). Она практикуется.
Как обстоят дела с этой практикой? Если произво-
дить — это выводить на свет, выносить под солнечные
лучи, открывать, выявлять, значит, эта «практика» не до-
вольствуется деланием или производством. Она не позво-
ляет мотиву истины управлять собой, мотиву истины, го-
ризонт которого она заключает в рамку, поскольку она
по всей строгости отвечает и за не-производство, за опе-
рации отмены, за вычет и за определенный текстуальный
нуль.
2. Устройство или рамка
Все эти гири и меры, эти рамки, эти ме-
ридианы и искусственные горизонты
уже в силу самого своего создания обла-
дают всеобщей, абсолютно математиче-
ской непреложностью.
ESI Диссеминация
В системе этой странной расчетной практики последним
ответственным лицом, единственным ответчиком будет
не кто иной, как читатель и даже автор, которым вы не
сможете дать имена. «Числа», в которых запрещена та са-
мая слабость, которая состоит в именовании, которым вы
только что согрешили, называя авторов и произведения,
исходно ставят имя подписавшегося в тень, «в колонне чи-
сел, имена в тени» (4.52). Не отвечает более ни перед кем
та неоправдываемая театральная организация, в которой
старинные призраки, именуемые автором, читателем, по-
становщиком, рабочим сцены, актером, статистами, зри-
телем и т. д., располагают одним местом, уникальным и
заранее определенным (залом, сценами, кулисами и т. д.),
назначенным ими самими самим себе, — но лишь в том
представлении, в котором они играют эти роли и которое
нужно объяснить. Именно здесь будет иметь место, если
у нее есть место, история, именно здесь кое-что будет про-
жито, рассказано, выведено в качестве смысла или пред-
ставимой основы книги.
Но «Числа» разбирают это представление, разбира-
ют его так, как деконструируют некий механизм или как
разоблачают уверенность той или иной претензии. Но
при этом в том же самом жесте они назначают ему опре-
деленное место, относительное положение в общем дви-
жении устройства. Если говорить на классическом язы-
ке, это место должно быть местом заблуждения и иллю-
зии, того самого заблуждения и той самой иллюзии,
относительно которых Спиноза и Кант, пусть их пути и
были совершенно различны, построили доказательство:
недостаточно их осознать, чтобы они перестали действо-
вать. Осознание — лишь определенный сценический эф-
фект. При некоторой осторожности эту аналогию мож-
но было бы и продлить, сказав, что речь идет о необхо-
димой иллюзии восприятия, о структуре чувственного
представления или же о трансцендентальной иллюзии,
разыгрывающейся в самом законе конституирования
объекта, представления вещи как объекта, как бытия-на-
против-меня.
SE1 Жак Деррида. Диссеминация
В рамках текста одна из сторон квадрата, одна из по-
верхностей куба будет представлять это неэмпирическое
заблуждение, эту трансцендентальную иллюзию. Если
проще, то она будет просто представлять, она будет от-
крытием классической сцены представления. Представляя
представление, она отразит его и объяснит в особом зер-
кале. Она выскажет его, выразит его речь каким-то «сжа-
тым ртом», «забвением, закрытым рамкой».
Вам нужно будет всегда считаться со структурной ил-
люзией. Обратите внимание только на то, что она не по-
является как ошибка восприятия, как неконтролируемое
заблуждение или как капризная превратность желания.
Напротив, она по необходимости должна быть вписан-
ной in situ <на своем месте (лат.)>, в общую организа-
цию и просчитываемое функционирование мест, чтобы
театр наконец получил жесткое обобщение, чтобы от него
не ускользала никакая не-уместность, чтобы никакое чи-
стое первоначало (начало творения, мира, речи, опыта,
всего того, что вообще присутствует) не наблюдало за сце-
ной с неприступной точки абсолютного открытия. Если
введенное в рамку, то, что дается как открытое, как эле-
мент или событие открытия, отныне является лишь то-
пологически предсказуемым эффектом открытия, значит,
ничто не будет иметь места, кроме места.
Вовне. Любая попытка возврата к нетронутой и соб-
ственной интимности некоего присутствия или присут-
ствия для самого себя разыгрывается в иллюзии. Пото-
му что, как указывает сам этот термин, иллюзия всегда
является эффектом игры; и потому, что она располагает
театром, в котором завязывается определенное отноше-
ние непредставимого к представлению. И наконец, по-
тому, что тотальность текста, как «Драма», в каждом из
своих пунктов вовлечена в игру, всеми силами выстраи-
вая квадратную горизонтальность страницы, «шашечни-
цы, изображающей время», «невидимой шахматной доски»
в театральном объеме некоего куба. В пределах этого сро-
ка с многочисленными остановками тот, кто говорит «я»
в настоящем времени, в так называемом положительном
EEQ Диссеминация
событии своей речи, может располагать лишь иллюзией
господства. Именно тогда, когда он считает, будто руко-
водит действиями, в каждое мгновение и вопреки ему
самому его место — открытость к настоящему того, кто
(например, вы — здесь, сейчас) считает себя в силах ска-
зать «я», «я мыслю», «я существую», «я вижу», «я чув-
ствую», «я говорю», — определяется в броске костей, слу-
чайность которого затем неумолимо развертывает закон.
Развязывание: открытие, в общем случае — двери, откры-
вание замка, висячего замка, ключами, о которых вы
больше не должны забывать; и рамка: вписывание в квад-
рат, то есть включенное и отраженное в четырехуголь-
ник открытие, открытие в квадрате, некое непонятное
зеркало, которое ждет вас. И еще город с его дверьми и
зеркалами, лабиринт:
«1.17. ...И как ночью приближаешься к оживленному го-
роду, вокруг которого как будто ничего нет, как волей
броска костей оказываешься в одной из неудачных кле-
точек забытой игры, как комбинация выбранных на-
угад цифр открывает ту или другую дверь сейфа — так
и я вернулся в свою собственную форму, не сумев предви-
деть то, что меня ожидало... Рамку, в которой я очу-
тился, естественно, было невозможно заполнить, если
только напомнить о миллиардах рассказов, которые го-
товы вот-вот развернуться... Миллиардах сказанных,
переданных или мимолетно задержавшихся в создавае-
мом произведении фраз... Это была новая пытка во
второй степени, она охватывала всех живых обитате-
лей этого времени, открывала возможность их глаз и
их речей...»
И чтобы вы не теряли ни след ключа, ни след некоей
застежки, к которой вы пришли, застежки за одним «чер-
ным зеркалом»:
«3.15. ...Говоря так: “У замка пятьдесят дверей. Со-
рок девять из них открываются по четырем сторонам.
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
Последняя дверь не находится ни на одной из сторон,
причем неизвестно, куда она открывается — вверх или
вниз... У всех дверей один и тот же замок, для ключа
есть только небольшое отверстие, которое отмечено
следом ключа..”'»
«3.35. ...и снова я нашел ключ, и каждый раз одной и
той же неожиданностью было открыть, как это дела-
ется и как это умеют делать...»
Итак, иллюзия — иначе говоря, истина — того, что,
как кажется, представляется вещью напротив меня, вещью
в абсолютно «естественной» и беспрестанно самовозрож-
дающейся открытости моего лица или сцены, окажется
лишь эффектом того, что часто называют «устройством»
(«деформирующее, постоянно работающее устройство»,
3.43).
«...Этим аппаратом был я, это он только что напи-
сал эту фразу». Не то чтобы он был какой-то самостью
или принадлежал ей, напротив, он поставлен на мое ме-
сто, так что «я» — лишь дифференцированная структура
этой организации, структура абсолютно естественная и
чисто искусственная, структура достаточно дифференци-
рованная, чтобы учесть в себе момент или место автарки-
ческой иллюзии и суверенного субъекта.
Это устройство объясняется. Оно объясняется, что
не означает, что его можно объяснить, что оно может
быть понято неким наблюдателем — оно объясняется
само собой и (включая в себя) любого возможного на-
блюдателя. Оно эксплицируется, мультиплицируясь, «сги-
бая и разгибая корни своих мельчайших знаков» (ibid.).
«Числа» объясняются именно так — отсюда та гримаса,
которая рождается вашим усилием процарапать, привить
какое-то дополнение к углу, — до определенного преде-
ла, который не ограничивает извне все потенции текста,
но, напротив, обуславливает их благодаря определенно-
му сгибанию или внутреннему углу поверхностей, свер-
тыванию и развертыванию в конечной/бесконечной
структуре устройства.
В90 Диссеминация
Последнее не только объясняется, оно еще и читает
свое объяснение, которое не является речью, пришедшей
со стороны, которое, останься оно вне текста, должно
было бы начинать, истолковывать, расшифровывать —
теперь вы начинаете понимать, почему текст является не-
расшифровываемым, — то есть обучать всем техничес-
ким секретам его работы или сообщать о них. Объясни-
тельные речи регулярно возникают, порождаются в пос-
ледовательностях, которые сами принадлежат квадратуре
текста, а именно одной из его четырех сторон — той сто-
роне, которая кажется открытой восприятию зрелища,
открытой настоящему моменту сознания, взирающего
на свой предмет, настоящему времени речи, то есть, од-
ним словом, лицу как встрече лицом к лицу, рассматри-
ваемой поверхности присутствия. Эта сторона — frons
scenae <стена в глубине сцены> классического театра —
созерцается также как изначальная, непосредственная,
безусловная открытость явления, однако она объясня-
ется как видимое открытие, как обусловленный продукт,
поверхностный эффект. Объяснение «иллюзии» пред-
лагается вам в «настоящем времени», во времени отра-
женной таким образом «иллюзии»; и оно всегда остает-
ся частичным, всегда требующим повторного начина-
ния, продолжения, связывания; оно более важно из-за
тех толчков, которыми оно воздействует на текст вооб-
ще, чем из-за «истины», которую оно призвано откры-
вать, оно важно своими информациями и своими де-
формациями. Хотя это объяснение выдает себя за сбор,
центр собирания общей истории, оно само обладает
частной историей, как каждая из других поверхностей.
Нужно проследить за ее особым способом связывания.
Каждый термин <terme>, каждый зародыш <germe>
в каждое мгновение зависит от своего места, давая се-
бя вовлечь, подобно любой иной из деталей машины,
в упорядоченную серию смещений, пробуксовок, пре-
образований, возвратов, добавляющих или убирающих
тот или иной член каждого предшествующего предло-
жения.
ЕШЯ Жак Деррида. Диссеминация
3. Купюра
...всегда это поле, эта купюра, неуловимая
скрытая безмерность...
Он пишет:
“Никогда проблема сама по себе... Общая
организация функционирует так, чтобы
помешать нам ее поднять...”
«Драма»
Девственное сворачивание книги все же
отдается жертвоприношению, от которо-
го сочились кровью красные обрезы ста-
рых томов; введение руки или перочин-
ного ножа, дабы вступить во владение.
Насколько более личным было сознание
ранее, до этого варварского призрака:
когда оно сделает себя участником кни-
ги, взятой отсюда, оттуда, рассыпанной
по воздуху, разгадываемой как загадка —
и почти полностью завершенной в себе
самой. Складки продолжат мету...
«Есть нож, о котором я не забываю»
Отделите один пример, ведь вы не можете, да и не долж-
ны понимать бесконечный комментарий, который в каж-
дый момент, как кажется, должен сцепляться и сразу же
отменяться, то есть в свою очередь поддаваться прочте-
нию через само устройство.
Давайте же займемся купюрой, произвольной и насиль-
ственной, напомнив о том, что «Числа» предписывают ку-
пюру, предписывают, что они должны с нее «начинаться».
Всегда вымышленное начало и купюра, нисколько не явля-
ясь неким учредителем, навязана, если исключить иллюзию,
которую следует вычесть, отсутствием какого-либо ре-
шающего начала, чистого события, которое не разделяет-
ся, не повторяется и уже не отсылает к другому «началу»,
к другому «событию», ведь единичность любого события
SsQ Диссеминация
в порядке речи оказывается как никогда мифической.
Нужно делать купюру, срезать, потому что (или вследствие
того, что — как вам угодно) начало скрывается и разделя-
ется, сгибается к себе и умножается, начинает с того, что
оно уже многочисленно. «1.9. ...Итак, в начале было то,
что я обязан называть “прыжком”, купюрой, по которой
можно пройти лишь прыжками...»
В том, что вы на протяжении какого-то промежутка
времени будете называть за отсутствием другого назва-
ния общей полисемией «Чисел», «купюра» <coupure>, не-
сомненно, отмечает прерывание текста («когда текст пре-
рывается, загибается...»), а также произвол перочинного
ножа, который может открыть чтение то здесь, то там,
острие письма, которое начинает с чтения здесь или там
обрезанной фразы, случайное и необходимое повторение
уже-бывшего (другого) текста, лезвие решения в целом,
решительное решение, то есть решение как претерпевае-
мое, так и решающее («3.11. ...И вот теперь на меня обру-
шилось великое решение, и страх стал грызть каждый из
знаков...»), переход от ничто к «здесь», от здесь к «там»,
«взрыв и осколки, в которых телом стреляют как снаря-
дом из отсутствия протяженности», насильственное ре-
шение, которое залпом выбрасывает тело-снаряд, тело не
менее острое, чем нож («она стонала, содрогалась, как буд-
то ночь била струей из ее горла, как будто бы она уже не
была этим истечением ночи, выход для которого открыт
ножом в переполненном веществе послеполуденного време-
ни, сохраняя эту темноту во рту...»).
Такое решение является кастрацией — по крайней
мере разыгранной, притворной, кастрацией обрезания.
Всегда остается таким и нож, который с навязчивой на-
стойчивостью подрезает дерево «Чисел», затачивается как
угроза фаллоса(у) — ведь последний является инструмен-
том угрозы, угрожающей ему самому. «Операция» чтения/
письма проходит по «лезвию красного ножа».
Нужно читать то, как введенная в игру кастрация сме-
шивается со взрывом или с залпом снаряда. Аллитерирую-
щая и преобразующая ассоциация «термин/зародыш»
EES Жак Деррида. Диссеминация
<terme/germe> (2.46) или «более мертвый/более сильный»
<plus mort/plus fort> (4.92), которую мы уже отмечали, все-
гда задает не оппозицию, но наиболее внутреннюю и аб-
солютно неустранимую импликацию. Угроза перочинно-
го ножа, от которого кровоточит красный срез, открыва-
ет или водружает, одним росчерком зачинает решение
о своем присутствии; только под этой угрозой зубы раз-
жимаются, а рот расшивается:
«1.29. однако я нашел, что мое тело покалечено, и мне
бы могли сказать, что плоть была изборождена шра-
мами, а член был зашит и поднят как окоченевший и
закрытый шип, и я смотрел на этот первый образец до
падения, закрытый в тесную оболочку, через которую
проникало солнце... Этот первый раненый, но с более вы-
раженными половыми признаками экземпляр... Это был
я, я уверен, я ожидал свой сон... И там я вышел из земли,
я вернулся обезображенным, но говорящим, отлученным,
но достаточно сильным, чтобы идти до конца, в яйцо...
Если точнее, нас было теперь двое: тот, нетронутую
кожу которого можно было показать всем, тот, чья
оболочка не сразу вызывала ужас, и другой, изрешечен-
ный прорезями и дырами, пронизывающими живую
плоть — всю в ссадинах и подтеках, освежеванный как
бык...»
Отрезанная голова: «Числа» пишутся в красном цве-
те наступающей революции. «Мы танцуем на вулкане»
(1.29), — так сказал на одном балу, состоявшемся накану-
не революции, герцог Орлеанский королю Неаполя.
В «Числах» эту анонимную цитату нужно сопоставить
с упорядоченным падением, с ритмом отрезанной голо-
вы, «операции»:
«1.5. ...Было эхо или, скорее, надрез, или, скорее, спад, свя-
занный с этой единицей — "сделано”: кровь не сразу на-
чинает булькать..^ Я видел отрезанную, но все еще жи-
вую голову, с ртом, открытым на единственном слове,
БЗЗ Диссеминация
которое не получалось произнести или схватить... Зат-
рагивая эту последовательность, я понимал» что посто-
янно осуществлялось одно-единственное убийство» что
мы дошли до того» чтобы вернуться к нему через весь
этот окольный путь...»
«...2.14. ...Подобный теперь тому граверу» который
столетием раньше изобразил казнь топором» когда еще
не был изготовлен механизм... Я в свою очередь мог бы-
стро вернуться к этой сцене... Шум механизма» кото-
рый заглушает голос до того» как лезвие освободит орган
этого голоса» сбросив его в корзину» — не без того»
чтобы потрясти этой головой как доказательством ко-
щунственного» грязного отречения... Уникальный акт»
равными которому могут быть только наконец-то раз-
решенные убийства священников или все та же прогул-
ка этой освежеванной головы на острие пики сквозь кри-
ки —»
Вы начинаете следовать за отношением некоего бря-
цающего собой возвышения и некоей отрезанной головы
или обрезанного слова, ведь знамя или пика поднимаются
в манифестации купюры, имея возможность представить
себя лишь в игре, в самом смехе, который показывает за-
остренные зубы — купюры. Представить себя, то есть вы-
прямиться во весь рост. Такое выпрямление-себя всегда
заранее объявляет о том, что беспрестанно осуществля-
ется одно-единственное убийство.
«2.66. ...Она» выпрямляясь» — смех — губы» изгибаемые
и показывающие то» что выталкивает зубы... Видно»
что голова отрезана» и она ее уносит» а я — я сбиваю ее
с толка» сжимаю ее» топчась на месте» я толкаю ее
к финишной черте и прыгаю —»
Кастрация — в вечной игре — и присутствие для са-
мого себя настоящего. Чистое присутствующее <1е present
pur> должно было бы быть ничем не потревоженной пол-
нотой, девственной непрерывностью не-купюры, томом,
Ш] Жак Деррида. Диссеминация
который в силу того, что он не представил свитка своего
письма перочинному ножу читателя, просто не был бы еще
написан, остался бы накануне игры. Однако перо, если вы
проследуете за ним до конца, станет ножом. Присутствую-
щее представляется самим собой только относясь к себе,
оно говорится как таковое, целит в себя как в таковое, лишь
разделяясь, сгибаясь к себе под углом, в разломе <brisure>
(разлом <brisure>: «трещина» <faille> и «сочленение»
<articulation>, шарнирное соединение в механизме зам-
ка. — Литтре). В развязывании. Присутствие никогда не
присутствует. Возможность — или сила — присутству-
ющего является его собственным пределом, его внутрен-
ней складкой, его невозможностью — или его бессили-
ем. Таким будет отношение ставки-в-игре кастрации и
присутствия. То, что высказывается здесь о присутствии,
значимо также и в случае «истории», «формы», формы
истории и т. д., как и в случае всех остальных значений,
которые в языке метафизики неотделимы от значения
«присутствия».
Присутствие присутствующего создает поверхность,
выходит прямиком на сцену, проникает лицом к лицу —
в настоящем — развязывает язык — настоящую речь —
разжимает ее зубы только в игре этой купюры.
«4.44. (...тогда история приобретает такую форму:
поднимающийся мускул, показывающий свою вздутую
красную головку, а его рука крепко лежит на нем, его губы
сближены с его кровью, зубы мягко хватают то, что
называют настоящим) —»
«То, что называют настоящим», что возвышается, сво-
бодно распрямляется, являя себя, прямо передо мной,
в непосредственной близи, дается в таком именно виде —
как чистое возникновение, не нуждающееся в отчетах, —
лишь в той мифической речи, в которой различие было
бы стерто. Присутствующее (настоящее) не является про-
сто присутствующим, если учитывать то, что его отделя-
ет, его отрезает и его изгибает в самом его развязывании.
Диссеминация
Оно теперь может именоваться «присутствующим», «на-
стоящим» лишь в непрямой речи, в кавычках цитаты,
рассказа, вымысла. Оно проникает в язык лишь благода-
ря особому рикошету. Этот рикошет, ставший уже по-
стоянным средством, наделяет значением отступления,
косвенности, угла все так называемые простые и есте-
ственные очевидности собственного присутствия. Уже
«Драма» ограничивала такими кавычками «мою жизнь»,
«в жизни», «мою жизнь до моего рождения»; «краткое
молчание “я живу, ты живешь, мы живем”»; и в другом
месте: «“жить” — это значит делать так...»; и еще: «“Его
жизнь”, приходящая к нему через фасады, с пустынных
тротуаров, — проходящая рядом с ним, слегка касающа-
яся его, удаляющаяся от него... Через несколько секунд
под дождем город становится другим городом, более про-
сторным, парящим... Как будто бы еще ничего не нача-
лось...». «Числа»: «1.29. ...Не только “я” и “вся моя жизнь”...
Не только это» но и вся совокупность» в которой я был»
в которой я буду» не зная» что я такое на самом деле» —
в точности как в тот момент» когда “я есть” не обозна-
чает ничего определенного... Совокупность» долгое безог-
лядное накопление» вес того» что построено» что двига-
ется» фабрикует» передает, перемещает» преобразует и
разрушает». «2.94. ...то» что еще называют жизнью...».
Эти избранные примеры образуют органическую се-
рию. Присутствие и жизнь, присутствие присутствующего
и жизнь живого — здесь это одно и то же. Выход за преде-
лы «первичного» и мифического единства (всегда восста-
навливаемого с задержкой и уже после купюры), купюра,
решение — решающее и решенное — то есть удар рас-
пределяет семя, разбрасывая его. Этот выход вписывает
различие в жизнь («это то самое различие [“это неумоли-
мое различие”], которое является условием их операции.
Ни одна вещь сама по себе не завершена, она может за-
вершиться лишь тем, чего ей не хватает. Но то, чего не
хватает каждой отдельной вещи, является бесконечным;
мы не можем заранее знать того дополнения, которого она
требует. Следовательно, лишь благодаря непреложности
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
факта и тайной способности нашей души мы догадыва-
емся, когда найдена настоящая гармония, материнское
различие, существенное и порождающее... Одно разли-
чие — радикальная причина только в этом. Оно ни в коей
мере не положительно, оно не включено в субъект. Оно
есть то, чего ему по существу не хватает»), поскольку чис-
ленное многообразие не возникает как смертельная опас-
ность для зародыша, ранее составлявшего с собой единое
целое. Оно, напротив, прокладывает путь для «самого»
семени, которое, следовательно, производит(ся), продви-
гается лишь в множественном числе. В единственном
множественном числе, которому никогда не предшество-
вало никакое единственное начало. Зарождение, диссеми-
нация. Не существует первого осеменения. Семя перво-
начально роится. «Первое» осеменение — это диссемина-
ция. След, прививка, след которой теряется. Идет ли речь
о том, что называют «языком» (речь, текст и т. д.), или
о «реальном» посеве, каждый термин все равно оказыва-
ется неким зародышем, а зародыш — термином, то есть
сроком. Термин, атомарный элемент, порождает разделяя
себя, прививая себя, разветвляясь. Это семя, а не абсолют-
ный термин. Но у каждого зародыша свой собственный
срок, он есть этот свой срок, который не вне его, но в нем
самом как его внутренний предел, образующий угол с его
собственной смертью. Можно было бы воссоздать ту сеть,
которая протаскивает «Числа» через отсылки к многочис-
ленным атомистским теориям, которые были также и тео-
риями семени. Пусть в «Числах» через весь словарь зарож-
дения и диссеминации вас ведет слово «группа» — рас-
сеиваемое множество — Рой. «Числа» охвачены некоей
математико-генетической теорией групп.
И если этим они хотели что-то сказать, то лишь то,
что нет ничего до группы, нет никакого простого или из-
начального единства до того разделения, посредством ко-
торого жизнь начинает видеть саму себя, а семя с самого
начала игры умножается; нет ничего до добавления, в ко-
тором семя начинает с собственного вычитания, нет ни-
чего до того, что в «Драме» называлось «размножением,
ЕШ Диссеминация
которое никогда не начиналось», до того, что «Логики»
описывают в качестве роя ос, в качестве разделения за
работой: «Язык становится этим начальным состояни-
ем, высказываемым отовсюду, чьи беззвучные эффекты
сразу же наталкиваются на шарнир и ось языка — то есть
на сравнение. Так осы в храме Дендеры...»
Размножение, причина которого еще и в исчезнове-
нии или, скорее, в замене единства, добавляющегося к себе
и стирающего себя — себя высчитывающего, — в развя-
зывании. «1.41. (...мы участвовали в исчислении, которое
нас стирало и заменяло —)...» «4.84. (...“указка, которую
он держит в руке, представляет центральный квадрат,
единицу, которая не считается, при этом имея значение и
задавая все множество, — распределитель, ось” / “единица
не добавляется, но просто производит определенное пре-
образование и смешивается с целым, суммой, в которую
вложены эти преобразования”/ ...и так же атом “я”...—)»
порождает одним махом число и неисчислимое. «Зароды-
ши, семена в бесчисленном числе...» «Seminaque innumero
numero summaque profunda»*.
Вымышленное начало, ложный выход, ложный вход,
письмо в бесчисленном числе — все это вы должны буде-
те прочитать еще раз.
Сделать это позволяет и даже предписывает вам за-
кон купюры, поэтому выделите один пример и расчлени-
те такой текст:
«4. (но поскольку есть эта купюра, это отступление,
беспрестанно настоящие и участвующие в работе; по-
скольку строки рассеиваются и углубляются, прежде чем
объявиться, вернувшись на мертвую поверхность, на ко-
торой вы их видите, имперфект дает им движение и не-
достижимое двойное дно — и все умирает и снова ожи-
вает в мысли, которая с самого начала на самом деле ни-
кому не принадлежит, в прозрачной колонне, в которой
«...Всячески тут семена в этой бездне несутся, в неисчислимом чис-
ле...». Лукреций. О природе вещей / Ред. латинского текста и перевод
Ф. А. Петровского. T. 1. М. — Л., 1945. Кн. 2, стих 1054.
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
имеющее место остается подвешенным на большей или
меньшей высоте и, просыпаясь, вы говорите сами себе:
“смотри-ка я был там” но ничто не может объяснить
эту фразу, она сама пялится на вас... Эта колонна не
отстает от вас ни на шаг, она сторожит вас, когда вы
спите, она проскальзывает между вами и вами сами-
ми... Все менее и менее замечаемая все менее и менее вспо-
минаемая там, где вы шагаете, не видя меня... Однако,
только для нас ночь поворачивает и простирается над
городами — в которых немые машины отныне умеют
читать, расшифровывать, считать, писать и вспоми-
нать — и мы замечаем как прерывается разговор, как
жесты остаются на месте — здесь, среди тканей, со-
бранных предметов, “что-то не было сказано” Они
теперь говорят, но что-то из их молчания остается,
они представлены здесь туманом, отражением, “но нет,
как раз напротив”, “я на самом деле думаю, что это
можно с уверенностью утверждать”: действительно,
я пишу то, что происходит — и, конечно нельзя быть
во всем в целом это можно сделать только косвенно,
без остановок — но наконец мы вместе, нет никакой
причины ждать или останавливаться —
сложно принять этот интервал этот нетрону-
тый пробел; однако очень сложно подтверждать без
этого забвения, которое возвращается и подталкива-
ет под руку, — когда текст прерывается складывает-
ся позволяет голосам возвращаться как бесконечная
звукозапись —
каждый раз необходимо не слушать друг друга,
“о чем вы говорите”, “уточните” —
поскольку они берутся из последовательности
сгнивших и в то же время накопленных, вычищенных,
обожженных, отмененных элементов, тогда как до это-
го другие уже ищут свою смерть, они заглушат то, что
сегодня здесь говорится — а я как они, один из них, один
из вас, в операции в числе, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 — —)*
Вот и 4.
ЕШ Диссеминация
4. Двойное дно
более-чем-настоящего
I Книга |
Четыре тома — это одна 11 одно и то же,
представленное два раза как две свои половины,
первая одного и вторая другого наложены
на вторую первого и первую второго — и мало-помалу
из них выросло единство, при помощи этой работы
сравнения
I показывающих, что получается целое
в двух различных смыслах], в качестве пятой
части» образованной совокупностью этих четырех
фрагментов,
явных или два раза повторенных:
итак, это будет 5 раз
или 20 фрагментов, сгруппированных
в 2(3) по 10, признанных тождественными
I...]
[...J
так мы получаем 4 тома, 5 раз
т. е. один раз (квадрига) 4 или начать
первые тома с середины
вместе, четыре
книги, каждая (sic) из которых
в пяти томах — и так далее
как
вчетверо большая Деталь наложена
на пять актов, вплоть до исчер-
пания всего. Тогда как выясняется, что это четыре
книги (из четырех совместных)
каждая из 2(5) томов...
Собирая формулу 14-24-34-4=10 (если она дается в сво-
ей фонетической транскрипции), вы только что замети-
ли китайскую идеограмму «4». Была разыграна карта тек-
ста, она начала прорисовывать свои края.
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
Вы не сделали срез непонятно чего и непонятно где.
Вырезанная последовательность — это «первая» из се-
рии 25 последовательностей, содержащих цифру 4. Это
четвертая последовательность из множества, в котором
их 100, — «операция», как называет ее исчезающий автор
этого приведенного выше в качестве эпиграфа текста,
операция чтения-письма, операция без субъекта и объек-
та, но с книгой.
Будет разыграна хартия текста. Она выразит настоя-
щее как купюру, как прерывание текста, возвращенное
в игру в тексте. Но именно в настоящем она выскажет на-
стоящее купюры. Поскольку, как представляется, ничто
не выражает лучше настоящее, чем имеется <11 у а>. Но
то, что имеется, — это купюра («имеется эта купюра»),
а то, что «непрестанно присутствует и действует», — это
«отступление».
Которое нужно понимать и как отведение руки с ог-
нем, и как возможность развязывания.
Как и все последовательности с цифрой 4, та, что вы
только что прочли, располагается между двух скобок, ее
время — настоящее, она обращается к «вам». Образуя одну
из сторон 25 дважды пронумерованных квадратов — пе-
риодически с 1 до 4 и в ряду с 1 до 100, — она является
отрезанным выходом, выполнимым в форме непосред-
ственно наблюдаемой сцены, обращающейся к зрителю-
читателю — к «вам». Читая вас. Видя вас. Говоря с вами.
«Числа», читая вас, видя вас, говоря с вами, в процессе чте-
ния, видения, говорения; «в процессе» <en train> означает
здесь «в момент, когда в настоящее время» вы читаете, ви-
дите, говорите и т. д. Вы живете в настоящем, в «том, что
называют настоящим», в сознании, вы присутствуете при
том, что, как кажется, представлено напрямую вам, при
том, что выступает вперед, выпрямляется перед вами, по
направлению к вам, при том, что вычленяется на самом
горизонте мира, извлекается из фона, обретает облик пе-
ред вами, так что в него можно упереться вашими глаза-
ми, вашим лбом, вашими губами, вашими руками. Вы
получаете или поддерживаете определенную речь в фор-
ESB Диссеминация
ме того, что называют настоящим, то есть в соответствии
с сознанием и восприятием.
Эта открытость присутствия — это четвертая поверх-
ность. Называемая изначальной, дикой и такой же неист-
ребимой, как беспрерывное и вечно девственное возник-
новение мира, такая открытость обладает определенной
«историей» или, скорее, сама погружается этой «истори-
ей» в беспредельное время, которое не является ни «на-
стоящим», ни «историей». История этого настоящего
сближает четвертую поверхность со сценой старого, даю-
щего представления театра. Поэтому-то эта поверхность
оказывается «мертвой поверхностью»: она мертва как
структура этого старого театра, мертва еще и потому, что
сознание-зритель, потребитель представленного настоя-
щего или представленного — «вам» — смысла считает
себя наделенным свободой чистого явления, когда на деле
оно, сознание, оказывается всего лишь производным, уси-
ленным, обращенным, искаженным, спроецированным
эффектом, коркой или корой, отпадающей от некой силы,
«жизни», которая не представляет себя, которая никогда
не представлена. Невидимое этой сцены видимости — это
ее отношение к семенному зашифрованному производ-
ству, которое ее организует.
«4. ...поскольку строки рассеиваются и углубляются,
прежде чем объявиться, вернувшись на мертвую поверх-
ность, на которой вы их видите...»
Эта купюра, эта открытость, эта чистая кажимость яв-
ления, благодаря которой настоящее, как кажется, осво-
бождается от текстуальной машины («истории», чисел, то-
пологии, диссеминации и т. д.), — на деле все это в каждое
мгновение разоблачается. Операция возвращает «иллю-
зию» в игру как эффект или продукт. Присутствие или
производство — это лишь продукт. Производное ариф-
метической операции. Явная непосредственность того,
что, как кажется, дается настоящему восприятию в своей
первоначальной наготе, в своей природе, уже выпадает как
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
эффект — под ударом машинной структуры, которая не
поддается настоящему, ведь последнее не имеет с ней ни-
чего общего.
Ибо имперфект, время трех других серий последова-
тельностей (1, 2, 3), не должен прочитываться как некое
другое настоящее, как модифицированное настоящее, как
прошедшее настоящее, расположенное на какой-то дру-
гой поверхности, которую некогда мы могли видеть под-
нимающейся непосредственно перед нами и которую все
еще можно где-то увидеть, вернувшись к началу театраль-
ной постановки или же обойдя кругом память, театр па-
мяти (в плотном тексте «Чисел» стоило бы выделить слой
отложений всех мнемонических искусств, всех «театров
памяти», всех планов, которые для них были составлены —
от Ad Herennium* до Ars memoriae <«Искусство памяти»>
Роберта Флудда <Robert Fludd>, а между ними — Джулио
Камилло <Giulio Camillo>, Джордано Бруно и т. д.). Сле-
довательно, имперфект — это не другое настоящее, по-
этому у него нет сущности. Вот почему он «дает им дви-
жение и недостижимое двойное дно».
Настоящее представляется в качестве простоты ос-
новы. Прошедшее время, которое отмечало бы лишь дру-
гое настоящее, утверждалось бы на простом основании,
скрытом за поверхностью присутствующей в настоящем
кажимости. Но двойное дно имперфекта — по крайней
мере, здесь — указывает на время без основания и без
предела, время, которое, если говорить в целом, уже не
было бы «одним из» времен, время без настоящего, в ко-
тором полный счет лишает квадрат основания, подве-
шивая его в воздухе. Как только появляется двойное дно,
больше нет всеобщего дна оформления как такового,
и этот закон будет находить все больше и больше под-
тверждений.
Имперфект будет приводить в движение. Что же до
иллюзии настоящего, которая, играя на мертвой поверх-
Rhetorica ad Herennium («Риторика к Герению»), — старейшая из со-
хранившихся латинских книг, посвященных риторике.
ЕШ Диссеминация
ности, заставляет нас верить в надежное основание пер-
воначального дарения смысла, вы видите, как разоблача-
ется эта иллюзия и как она возвращается в движение под
ударами кнута из «стальных веревок». Однако это разоб-
лачение имеет место в последовательности, которая сама
написана в настоящем.
Как обстоит дело с этим новым настоящим? Почему,
как четвертая последовательность оказывается одновре-
менно «представлением» и, если угодно, критическим дис-
курсом, запросом, обращенным к вам относительно это-
го представления? Почему эта запрашивающая интерпре-
тация, беспрерывно отсылающая к имперфекту, сама
остается в настоящем? И каково ее отношение к импер-
фекту, который дает движение?
Быть может, речь идет о каком-то неизвестном зер-
кале. Вы начинаете испытывать жар при приближении
к этому стеклу и к ключу от какой-то застежки.
Это новое настоящее лучше понимается из увертю-
ры «Драмы». Ее рассказ, по-видимому, был написан в на-
стоящем. Конечно. Но тем самым обнаруживается, что он
повторно прикреплен, привит, повторно процитирован
в более обширном ансамбле и более сложной темпораль-
ности «Чисел» — со всеми теми эффектами текстуаль-
ной трансформации, которые этим подразумеваются.
У вас еще будет возможность убедиться в этом. Однако
настоящее «Драмы» никогда не было простым. В струк-
туре «И цзин», на шахматной доске, между настоящим
вне кавычек и настоящим того, что «оно записывает»,
внедряется разрыв, двойственность, в которой пропада-
ет основополагающее настоящее, то, что называют на-
стоящим. В соответствии с этой «дуальностью, развязан-
ной письмом» на той же самой странице уже существует
простое настоящее, эффект, произведенный тем, что дает
движение, и настоящее, которое выражает или разобла-
чает его отношение к другим временам в «научной» речи,
в речи «научного» доклада, проговаривающего в настоя-
щем истину (истины как наивного настоящего). Как
в четвертой последовательности «Чисел».
ЕВЭ Жак Деррида. Диссеминация
Это полное и дифференцированное, двусмысленное
настоящее, которое, следовательно, ни в коем случае нельзя
сближать с простым настоящим, возвращаемым им на-
сильственным образом в игру; это структурированное на-
стоящее без основы, связанное с двойным дном, которое
охватывает настоящее и в то же время не является им, —
это настоящее в «Драме» именуется «более-чем-настоя-
щим» <plus-que-pr6sent>.
Хотя оно и не является, строго говоря, ни имперфек-
том «Чисел», ни двойным или диалоговым настоящим чет-
вертого запроса, более-чем-настоящее подготовит и то и
другое; благодаря некоему будущему предшествующему
оно уместится и в том и в другом или, скорее, в том самом
обмене, в котором они как раз и должны были «повторно
отмечать» друг друга. Такое будущее предшествующее,
если оно и заставляет беспрестанно переходить один текст
в другой, исключает любую эсхатологию уже тем, что оно
является будущим предшествующим бесчисленного им-
перфекта, неопределенного прошлого, которое никогда не
было настоящим.
Следующая связка скобок из «Драмы», предшеству-
ющая подтверждениям других скобок, заставит вас поду-
мать о ней:
«...Но на стороне “речь” он открывает отсутствие
пределов — это может описываться без конца, это
может описываться без конца в процессе самоописания
и т. д. (Знак “и т. д.” здесь, впрочем, выглядит смешным;
нужно было бы изобрести такой, который обозначал бы
непрекращающееся, бесчисленное, что-то вроде встав-
ленного в общий словарь сокращения головокружения.)
Его метод, однако, позволяет в любой момент получать
доступ к совокупности склонений, соответствий, фигур,
лиц — то есть, скажем так, брать их с тыльной стороны.
Рассказ мысли в словах и наоборот. Абсолютный твори-
тельный падеж. Это происходит не во времени, но на
странице, на которой расставляют времена. Странице, на-
ходящейся в более-чем-настоящем. “Прошлое не за нами,
но под нашими ногами”. Белая страница, хотя и испи-
ЕШ Диссеминация
санная издавна, белая благодаря забвению того, что было
написано, благодаря стиранию текста, на фоне которого
записано все, что пишется. И, однако, ничто на самом деле
не написано, это может измениться в любой момент, это
все еще и беспредельно долго первый раз (нужно было
бы писать “в первый раз”)- (Он снова видит себя видя-
щим море в первый раз — что-то серое в конце улицы,
никакого впечатления. Затем ему показалось лишь то, что
на берегу оно сразу же представляло свой шум и, следо-
вательно, объяснение горизонта, который существует и
не существует.) Вот как он берется за дело — он обраща-
ется к простой возможности образа, к предшествующей
отдельной речи в той стране с неопределенными коор-
динатами, которая одновременно является тем, что он
видит, думает, что он видел или о чем мечтал, что он мог
бы подумать или увидеть и т. д., в стране без границ, не-
занятой стране, создающей экран».
Благодаря этой цитате, этому мотиву из «Драмы» вы
только что получили вид на этот «горизонт, который су-
ществует и не существует», а затем и на какой-то «экран».
Вы почти проникли в него.
Итак, нужно будет изобрести «такой горизонт, кото-
рый обозначал бы непрекращающееся, бесчисленное».
Изобрести, конечно, в интервале. Изобрести знак для этого
«бытия-в-процессе», этого движения, одновременно пре-
рванного и изломанного, для непрерывности разрывов,
которая, однако, не может распластаться по поверхности
очевидного и однородного настоящего. Наш язык всегда
берет это движение в форме становления-настоящим: ста-
новление-настоящее, настоящее в становлении, становле-
ние настоящего, поправка движения письма во времени
«живой» речи — в так называемом настоящем без следа.
Следовательно, нужно было обратиться по ту сторону на-
шего языка, чтобы обозначить это беспрестанное вне-на-
стоящее. И по ту сторону речи как таковой. Два китай-
ских символа указывают на «нечто постоянно оживляе-
мое и неспокойное — (1.37), это беспрестанное движе-
ние «бытия в процессе, а именно — (2.62).
ESQ Жак Деррида. Диссеминация
Следовательно, более-чем-настоящее четвертой по-
следовательности одновременно обволакивает настоящее
(«пережитое» для вас в «иллюзии» того, кто живет, чита-
ет, говорит в настоящем, приковав взгляд к классической
сцене) и его насильственное переписывание в арифмети-
ческой и театральной машине: в «Числах», читающих вас,
видящих вас, говорящих с вами, в процессе чтения вас,
видения вас, говорения с вами, причем «в процессе» озна-
чает здесь — в тот момент, когда в не-настоящем вы чита-
етесь, вы видитесь, вы проговариваетесь и т. д. Это пере-
писывание имеет место, имеется его насилие. Это «име-
ется» «имения места» оказывается в настоящем только
в «иллюзии» высказывания или предложения. Содержа-
ние и акт этого языка тотчас открываются на вне-настоя-
щее. То, что имеет место, что имеется, — это письмо, то
есть махинация, настоящее которого — не более чем вол-
чок. Так «Драма» сможет поставить настоящее на его мес-
то в письме, в имение-места места, в эксцентричную ком-
позицию более-чем-настоящего: «Его история — это уже
не его история, но просто это утверждение: нечто имеет
место. Он пытается стать центром этого нового молча-
ния, а на самом деле поблизости от него все начинает ко-
лебаться и терять равновесие... Слова, жесты (рядом с ним,
вне его) обретают свои геометрические корни — он вхо-
дит в обобщенную графику».
В «Числах» махинация с временами смешивается
с распределением лиц. Например (что вы могли бы делать
здесь еще, если не вытаскивать пример из бессчетного,
если не тянуть жребий?), фигура «мы» уже не будет од-
ним лицом среди прочих, как и имперфект не будет про-
стым прошлым настоящим. «Мы» — это не-настоящий,
не-личный, имперфектный, безграничный элемент, в ко-
тором личное настоящее, собственность лиц, вы, я, он, мы
отрезаем, отрезаемся. «Мы» — это лишь место переста-
новки лиц. И именно так этот элемент имеет место как
«необходимое изъявление некоего нигде не расположен-
ного — необнаружимого — присутствия, которое сохра-
няется и неумолимо восстанавливает само себя. Несом-
S-EI Диссеминация
ненно, нет никого, однако роли меняются друг на друга...».
Вот почему другие лица представляются, скажем так, в фас,
на них можно посмотреть в упор, их можно подсчитать и
перечислить; а «мы» никогда не представляется в фас —
это имперфект или более-чем-присутствующее: «1. ...Од-
нако имелось какое-то “мы”. Это “мы” терялось, возвра-
щалось, дрожало и снова возвращалось...». Следовательно,
все «началось» с него, хотя оно никогда и не может быть
представлено с переднего края сцены. Оно в качестве кос-
венной силы вовлечено в войну без фронта, подобную той
бесчисленной группе... «1.81. ...“Конечное и бесконечное
неразделимы”. / ...Возвращаясь из замены и останавливаясь
на мгновение на знаке “мы”, вписанном в нас профилем...
Принимая, таким образом, форму целого народа, оживлен-
ного и собранного вокруг своих сочленении, своего голоса пола
и обмена, становясь движущей силой переводов и разлук...
Все это теперь двигается посредством нас и через нас; ка-
жется, что возникает из ускорения сна, выходит из пото-
ка и оставляет посредством нас и через нас свои будущие
и прошлые ростки... Собранные и рассеянные зародыши...»
«Посредством нас» и «через нас». Функция личного
агента в «нас» открывается, она перечеркивается какой-
то анонимной силой, трудолюбивым и роящимся импер-
фектом.
Теперь края карты представляются вам более отчет-
ливо. «Вот как снова находит он поворотный круг своего
настоящего — там, где он расставляет времена, лица, гла-
голы (он снова просматривает карты), в процессе некоей
навигации, перелета...» («Драма»).
Сделаем еще один срез в «Числах» и перепрыгнем ко
второй из четвертых последовательностей. В ней делает-
ся вид, будто машина представляется вся целиком, начи-
ная с ее самого первого винтика:
«4.8. (а поскольку нельзя сообщить тем, кто жил рань-
ше или в другом месте, что операция разворачивается
в одно и то же время на земле, по которой они пере-
мещаются, и в глубине, которую они обязательно бы
E1*£J Жак Деррида. Диссеминация
заметили, если бы только открыли глаза, вся конст-
рукция представляется в следующем виде: три видимые
стороны, три, если угодно, стены, на которых на самом
деле записываются последовательности — связки,
сочленения, интервалы, слова, — и отсутствие сторо-
ны или стены, определенно?* тремя другими, которое
в то же время позволяет наблюдать за ними с их точки
зрения.
Эта четвертая поверхность в каком-то смысле
подвешена в воздухе, она позволяет словам быть услы-
шанными, телам — быть увиденными, следовательно,
о ней легко забывают, в чем как раз и состоит иллюзия
или ошибка. В самом деле, то, что с такой легкостью
принимают за открытость сцены, все-таки оказыва-
ется искажающей завесой, невидимым и неощутимым
плотным полотном, которое по отношению к трем
другим сторонам выполняет функцию зеркала или от-
ражателя, а по отношению ко внешнему (то есть по
отношению к возможному и тем самым всегда отбро-
шенному, множественному зрителю) — роль негатив-
ного проявителя, на котором надписи, производимые
одновременно на других поверхностях, проявляются
в перевернутом, вытянутом, зафиксированном виде.
Как если бы вероятные актеры набрасывали и произно-
сили с обратной стороны, по направлению к вам, свой
текст, а вы не имели бы об этом никакого представле-
ния — как и они сами — в силу действия рассматрива-
емого устройства. Отсюда впечатление присутствия
при проекции, когда в конечном счете речь идет всего
ESS Диссеминация
лишь о самом явлении продукта поверхности — тем-
ной комнаты, преобразованной на поверхности. Отсю-
да выдумка, будто что-то происходит в некоем трех-
мерном пространстве, когда, с самого начала и до кон-
ца, есть только два измерения — нет ни зала, ни сцены,
но лишь обволакивающая и зал и сцену одна-единствен-
ная пелена, способная дать ощущение одновременно
объема, представления и отражения: на сей момент зна-
ком такой пелены является страница — ее наиболее
очевидная оболочка, — для того, что является, и для
того, кому это что-то является, она осуществляет сам
переход времени на тела. Но нужно добавить вот еще
что: эта оболочка является самой плоскостью и самой
глубиной, во всех своих пунктах она соответствует ва-
шей жизни во всех ее мельчайших подробностях, она
является основанием пространства в его множестве
зерен, падающих в ночи, с этого момента она покры-
вает всю совокупность ваших актов, она в точности
является тем, что здесь подает вам знак, быть мо-
жет, скромно, без обмана и без истины, но с определен-
ным желанием разрушить вас и жить в сердце этой
черты) —»
Хартия, обрисованная в этой «второй» из четвертых
последовательностей (4.8), отныне будет постоянно напол-
няться, усложняться, двигаться в каком-то порядке, по-
средством преобразования, за которым вы могли бы про-
следить, которое само время от времени, от четверти к чет-
верти, себя объясняет, иногда фиксируя свои изменения,
свои перевертывания в новой схеме (4.52; 4.58...).
13-6705
1ШШ Жак Деррида. Диссеминация
5. Написанное, экран, ларец*
Но что же! Совершенная запись отка-
зывается от самого мельчайшего при-
ключения» чтобы блаженствовать в сво-
ем невинном призвании» на зеркальной
амальгаме воспоминаний» как и тот не-
обычайный образ, одновременно веч-
ный призрак и дуновение! Когда не про-
исходит ничего непосредственного и
вовне» в настоящем» которое играет на
стирание» чтобы прикрыть самую запу-
танную подоплеку. И если наше вне-
шнее оживление шокирует — на экране
отпечатанных листов и с еще большим
основанием на полках» ставших матери-
альностью» водруженной в безвозмезд-
ном отлучении. Да» книги или этой
монографии, которой она становится
в печати (взаимоналожении страниц
в форме некоего ларца, защищающего
от грубого пространства нежную и бес-
конечную близость к самому себе и
углубленность в себя бытия как таково-
го), достаточно вместе с многочисленны-
ми новыми методами, близкими по ред-
кости» для всех тонкостей, которые есть
у жизни.
Скобка. На поле. Пробел. Заголовок. Кон-
такт... Достаточно любой из этих кратких
постановок, которые производят впечат-
ление» будто они действуют сами по себе»
чтобы привести меня сюда» к краю... Эта
вуаль проходит через созерцание всего —
белое бельмо, которое прикрывает глаза
СЁспТ, ГёсгАп, I’dcrlN — выделенные буквы составляют слово TAIN —
амальгама для зеркал.
ЕЕВ Диссеминация
еще теплых и уже окоченевших птиц —
со смущением и колебанием» слегка под-
крашенными отвращением...
«Драма»
Итак, то, что наделяет структурной необходимостью «ил-
люзию», «заблуждение» и «забвение», — это странная «от-
крытость» нашего четырехугольника, его отсутствующая
сторона. Открытость уже проходит незамеченной имен-
но как открытость (как зияние, открытый звук), как про-
зрачный элемент, обеспечивающий непосредственность
перехода к тому, что представляется. Проявляя внимание
к тому, что представляется, будучи очарованы и привя-
заны им, мы не можем видеть самое его присутствие, ко-
торое, как и следовало ожидать, само не представляется,
как не можем мы воспринимать и видимость видимого,
слышимость слышимого, среду, «воздух», который таким
образом исчезает, позволяя появляться.
Но для того, чтобы стереть забвение, иллюзию, за-
блуждение, недостаточно напомнить о присутствии, про-
явить сам воздух, даже если бы это было возможно. Ведь
дело не только в том, что воздух не является простой сре-
дой — да и «воздух» <air> не является однозначным зна-
чением, о чем нам еще придется вспомнить, поскольку мы
можем лишь высказать его, но не увидеть, — но и в том,
что выполняемая в нем открытость оказывается также
некоей закрытой открытостью, ни полностью открытой,
ни полностью закрытой. Это ложный выход. То есть не-
кое зеркало.
Но это не просто какое угодно зеркало. Необходимо
добавить, что это зеркало всегда будет развернуто в глу-
бину сцены, «к трем другим сторонам», так что вы можете
видеть только его амальгаму и больше ничего.
Это (не) было бы ничего, если бы амальгама не была
еще и прозрачной — скорее, можно сказать, что она пре-
образует то, чему она позволяет просвечивать. Следо-
вательно, амальгама этого зеркала отражает — в несо-
вершенном виде <imparfaitement> — то, что к нему
13*
Е1Ш1 Жак Деррида. Диссеминация
приходит — в несовершенном виде — с трех других стен,
и дает этому пришедшему — в настоящем времени <ргё-
sentement> — пройти в качестве призрака, тени, иска-
женной и преображенной в соответствии с образом того,
что называют настоящим — в соответствии с распрям-
ленной неподвижностью того, что стоит прямо передо
мной; «надписи... проявляются в перевернутом, вытяну-
том, зафиксированном виде».
После напоминания об эфире, присутствии присут-
ствующего, необходимо отметить, что более-чем-насто-
ящее — это не только присутствие, но и деформация, не
сводимая ни к одной из форм, то есть ни к чему присут-
ствующему в настоящем, некая трансформация без пер-
вой формы, без материи, которая создавала бы первич-
ную основу. Отметить это — значит повторно отметить,
что предполагаемая простота открытости, зияния, позво-
ление-быть, истина, которая снимает покрывало-экран,
уже подчиняется зеркалу и, что главное, некоему зеркалу
без зеркальной амальгамы, во всяком случае, зеркалу,
амальгама которого пропускает «образы» и «лица», на-
деляя их особым признаком трансформаций и искаже-
ний.
Именно так закалены «Числа» — в эту амальгаму
подмешаны чернила, это что-то вроде металла, покры-
того жидкой ртутью (десятка, 10 = 1 + 2 + 3 + 4, число
буквы в Каббале, «Сфинкса» в картах Таро, также оказы-
вается и числом Меркурия в астрологии; а «Числа», пол-
ные «почти звездных истоков», могли бы быть прочита-
ны, да так именно они скоро и будут читаться, как некое
астрографическое созвездие). Ртуть, амальгама этих чер-
нил образует экран. Он дает приют и скрывает. Держит
про запас и показывает. Экран — одновременно види-
мая поверхность, на которую проецируются картинки,
и то, что не дает увидеть другую сторону. Структура та-
кого зеркала-экрана, этой амальгамы, «двойной запутан-
ной изнанки из метала» (4.100), предполагает, что это зер-
кало представляется — и это дело «Чисел» — как то, что
должно было разбито, через что нужно пройти, достиг-
ЕЕЁ1 Диссеминация
нув истинного источника, приманкой которого оно вас
смущает, поскольку
«3.95.... / «Зеркало — это не источник» /...»
Зеркало имеет место — попробуйте помыслить име-
ние-места зеркала — как то, что должно быть разбито.
«Поскольку я притворяюсь, будто не знаю, что мой взгляд
может даровать смерть даже планетам, вращающимся
в космосе, не ошибется тот, кто будет утверждать, что
у меня отсутствует способность вспоминать. Остается сде-
лать одно — разбить вдребезги это стекло» (цитируется
в «Логиках»).
Сложно понять, является ли подобное зеркало про-
странством классической сцены или пространством во-
обще, пространством не сводимым ни к чему иному и
более-чем-настоящим, в которое вписывают, в котором
разбирают и разоблачают старый театр. Эта неопреде-
ленность не нуждается в собственном устранении. Зер-
кало и Зазеркалье, вложение и выход вместе предписаны
структурой этого неопределенного speculum’a Оеркала
(лат.)>. Таково обязательство, которое будет рассмот-
рено «Числами».
«2.70. ...Обязанный, следовательно, снова разорвать по-
крывало и снова пойти в атаку на план сновидений,
вновь разрывая экран, разбивая зеркало, заблуждение...»
«3.79. ...Итак, она была обязана искать поддерж-
ку в том, что делало ее еще одной стоимостью среди
остальных, нервом постоянной сети, вынуждающим
постоянно к познанию, она была вынуждена продавать
в одной из точек свой ритм, свои жесты — в поисках
зеркала, по необходимости вызывая противополож-
ность того, что умирало во всех зеркалах...»
Вы не начнете, никогда не сумев закончить, схваты-
вать вышеприведенную отсылку к «стоимости» иначе, как
1ШШ Жак Деррида. Диссеминация
в том зеркале, в котором мы в свою очередь цитируем от-
рывок из «Чисел». Перед пунктом 3.79, в 3.67, вы уже про-
чли, например, следующее: «По причине стоимостного от-
ношения естественная форма товара В становится фор-
мой стоимости товара А, или же тело В становится для
А зеркалом его стоимости...».
Ни один атом «Чисел» не ускользает от этой игры воз-
вратов — мы уже догадываемся об этом, и мы можем по-
лучать все новые и новые подтверждения этого факта, все
более точные. Ни одно суждение не может скрыться, по-
добно какому-то фетишу, товару с вложенной стоимо-
стью, пусть и наделенному «научной» ценностью, от тех
зеркальных эффектов, благодаря которым текст цитиру-
ет, цитирует себя, начинает двигаться в обобщенной гра-
фике, разыгрывающей любую достоверность, опирающу-
юся на противоположность стоимости и не-стоимости,
уважаемого и не-уважаемого, истинного и ложного, вы-
сокого и низкого, внутреннего и внешнего, целого и час-
ти. Все эти оппозиции нарушены уже простым фактом
«имения-места» зеркала. Каждый’термин захватывает
другой и исключается из него, каждый зародыш становит-
ся более сильным и более мертвым, чем он сам. Элемент
охватывает и вычитается из того, что он охватывает. Мир
включает в себя зеркало, которое захватывает его, и на-
оборот. Всем тем, что она захватывает, поскольку она мо-
жет схватить все, каждая часть зеркала больше целого и
в то же время она меньше самой себя. Четвертая поверх-
ность оказывается парадигмой отношения, в которое она
тем не менее сама и включена — как отсвечивающий
эффект целого, как настоящее, она реформирует в не-
определенности более-чем-настоящего все деформации.
«3.35. ...Поскольку текст здесь был раскатан по плоско-
сти, и в каждый момент все могло быть ниже каждой из
его частей...»
Поскольку же ничто не предшествовало зеркалу, по-
скольку все начинается в складке цитаты (позже вы уз-
наете, как прочесть это слово), внутреннее текста всегда
должно быть вне его, в том, что, как кажется, служит
EED Диссеминация
«средствами» для «произведения». Такое «взаимное зара-
жение произведения и средств» отравляет внутреннее,
собственное тело того, что называют «произведением»,
и также оно отравляет тексты, в цитатах собираемые вме-
сте, которые хотелось бы удержать от такой насильствен-
ной экспатриации, от такой лишающей корней абстрак-
ции, которая отрывает их от безопасности их оригиналь-
ного контекста. Итак, «Числа» настаивают на яде. Ртуть
их амальгамы — это яд. Он получает особое наименова-
ние, частое упоминание которого вы сами могли бы заме-
тить: «сухой яд», «более тонкий яд», «методический яд»,
«более тайная, более ядовитая проделка», «яд, который я
заметил в своих жилах», «позволяющий вернуться проти-
воположности металла, чему-то отравленному и запоздав-
шему», «восток... преобразованный западом и при этом не
оставивший последнего в целости и сохранности, проса-
чивающийся в него и отравляющий его в его фразе» и т. д.
Следовательно, отношение между противоположны-
ми терминами, между противоположными зародыша-
ми — это ядовитая амальгама. Известно, что металлы мо-
гут быть «ядовитыми», их так и называют.
Сопротивление изъятию текстуального члена из ка-
кого-либо контекста означает не что иное, как желание
укрыться от действия этого яда письма. То есть это же-
лание любой ценой сохранить границу между внешним
и внутренним некоего контекста. Это законное призна-
ние относительной независимости каждого текста, совме-
щенное с верой в то, что любая система письма существу-
ет в себе, является отношением внутреннего к самому себе,
особенно когда это «настоящая» система. И главное, это
наложение строго классических пределов на общую тек-
стуальность. То есть разрыв сопротивления и протекцио-
низма.
Итак, все «начинается» с цитаты, в ложных складках
некоего покрывала, некоего блестящего экрана. Образец
сам не выпадает из правила. Например, в описании строе-
ния зеркал, экранов и стен, общей структуры машины
в «Числах», мы уже находимся в цитате или предписании
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
другой «книги», которая при этом повторно вписывается
в «Числа», не позволяя им замкнуться на своем собствен-
ном продолжении. Зеркало зеркала. Давайте рассмотрим
описание, которое уже было в «Драме», и отметим в па-
мяти все эти детали, например столбы белого дыма, под-
нимающиеся над заводами. Позже вы уже прочитаете:
«Здесь скрывается спокойствие ложных и ничего не
значащих слов, застывшее вращение, в котором как во сне
я проживаю свое исчезновение (и я сожалею, я настаи-
ваю — полное разложение моей руки; разложение, кото-
рое оказывается абсолютно симметричным разложению
твоих глаз и моих). На странице... Белый экран, вылезший
из завода, который находится вдали от города, посреди
леса, в котором почти каждый год пылают пожары, заво-
да с удушающим дымом (мы проезжаем быстро, на ма-
шине, закрыв окна), который образует вокруг себя серую
территорию, завода, леса рядом с которым превратились
в настоящую бумагу... Иногда пожар подступает к воро-
там города, день перестает быть днем, люди живут в ка-
кой-то сухой грозе, медленно падает пепел, случайно опус-
кая в тарелку какой-нибудь поджаренный обрывок папо-
ротника, принесенный в город ветром... Черные полдни,
красные вечера... Все это есть в слове “папоротник”, если
только правильно о нем подумать... И проблема вот в чем:
как же проследить за толчками, обращениями, быстрыми
диагональными просмотрами (“папоротник” — это еще
и присутствие скрытого солнца, ковер из солнечных пя-
тен, на котором отпечатываются все осени сразу), если не
посредством такой системы отражения и заключения
в рамку, которая заставляет существовать все остальное
и оставляет его на воле, повторяя себя и закрывая себя?
Быть может, посредством такой системы: “последователь-
ность пересекающихся и при этом всегда параллельных
линий, возвращающихся к себе под прямым углом”. Что
определяет и одновременно открывает каждую из фре-
сок, отделяет ее, позволяет ей иметь место и быть наблю-
даемой и в то же время ограничивает ее, отменяет или,
скорее, напоминает о ее происхождении и ее конце... (Мне
ESS Диссеминация
кажется, я пишу так, что это можно будет прочесть?) Сте-
на и зеркало. (А если ты пишешь возле стекла, твоя пра-
вая рука пишет ничуть не меньше, чем левая, что напро-
тив, что с того, что причина такого удивительного эффекта
очевидна, он продолжает действовать на тебя с непонят-
ным для тебя самого и каждый раз новым опозданием.)»
• Вы допустили бы ошибку, решив, что матрица «Чи-
сел» лишь начерно набросана в «Драме» этим «экраном»,
этими «диагоналями», этой «системой отражения и за-
ключения в рамку, которая заставляет существовать все
остальное и оставляет его на воле, повторяя себя», этим
«прямым углом», этой «стеной», этим «зеркалом», этим
«опозданием». Вы допустили бы ошибку, решив, что она
набросана только в «Драме» и только один раз, «в пер-
вый раз»: «Тогда занавес поднимается, он обретает зре-
ние, убегает, смотрит, как он борется со зрелищем, кото-
рое ни внутри, ни снаружи. Тогда он в первый раз выхо-
дит на сцену. И вот театр — все снова начинается». В уже
цитировавшемся отрывке, когда речь шла о «странице,
предшествующей в более-чем-настоящем» и о «первом
разе», метод был также уже записан. Напомним: «Вот как
он берется за дело — он обращается к простой возмож-
ности образа, к предшествующей отдельной речи в той
стране с неопределенными координатами, которая одно-
временно является тем, что он видит, думает, что он ви-
дел или о чем мечтал, что он мог бы подумать или уви-
деть и т. д., в стране без границ, незанятой стране, создаю-
щей экран».
Экран, без которого не было бы письма, является ме-
тодом, средством, описанным в самом письме. Метод
письма отражен в написанном.
Другой экран, «временный экран», другая матрица
«операции», заключенная в другой текстуальный отсвет
«Драмы», другая цитата, которую вы прочтете вплоть до
цитирования другого зеркала: «Он живет в этой стране,
в этом городе... Подняв лицо, он чувствует, что он все боль-
ше чем-то замещается, все более расширяется ночью,
он пытается стать ее зеркалом и непосредственным
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
отражением... Медленно глаза снова начинают жить сво-
ей жизнью и, как будто наполняясь слезами, заставляют
родиться, производят протяженность, переход к ней и
в нее бесследным, безграничным истечением... Однако,
зрение не пострадало, оно осталось таким же живым, точ-
ным (все лучше и лучше различающим посев звезд, как
будто увеличивая его, доводя его до холодного каления»
до исчисления, законы и принципы которого были ему
неизвестны), но теперь оно выделяет свою собственную
среду, в которой расстояния уравниваются, теряются —
в которой одновременно обнаруживается и схватывает-
ся отсутствие направления (смысла)... Он в ночи, кото-
рая он сам и есть. Он держит ее в своеобразном миниму-
ме, перед глазами — но он сам в ней исчез (в целом, он
подтверждает, что “субъекта” не существует — как и этой
страницы). Так, стоя порой без движений перед лентой
желтого неба, которое овеществляет горизонт, он точно
ощущает свое положение, свой предел. Самая удаленная
точка, которую он способен увидеть или вообразить, со-
впадает с самой “глубинной” (виртуальное пространство,
которое представляет также и будущее), — а между ними
находится этот временный экран, операция которого за-
висит... Подвешенная, свободная сфера преобразуется
в молчание, через которое ее наполовину видно... Слово,
которое он может здесь произнести, также окажется са-
мой далекой вещью, а самая близкая вещь будет словом
существующим, но отсутствующим... “Кроме того, любая
субстанция подобна всему миру и зеркалу всего уни-
версума, который она выражает каждая по-своему, при-
мерно так же, как город представляется по-разному в за-
висимости от различных положений того, кто его наблю-
дает”...».
Так же, как этот последний город отсылает к тому, что
вы в будущем обязательно откажетесь называть «темати-
кой» города («Мы живем в этом городе (этой книге)...»),
которая пересекает и виртуально собирает в себе всю ар-
хитектуру «Драмы» и «Чисел», их общий и отличный план;
так же, как это последнее зеркало захватывает в своей «ци-
EEQ Диссеминация
тате» самую мощную, самую аритмологическую мысль,
мысль зеркала и эха как универсальной характеристики;
так же, как «посев звезд», доведенный до «холодного кале-
ния, до исчисления, законы и принципы которого были
ему неизвестны», создает заговор целого текстуального со-
звездия (и снова «Драма»: «Тогда как куча звезд овладева-
ет ночной пустотой....Всегда одна и та же застывшая
в .бесконечном процессе падения звезда у самой кромки
прищура глаз...»), целое магнитное поле, от которого вы
здесь стремитесь отделить этот алмаз, немыслимо разби-
тый на отдельные участки произвольной силой абстрак-
ции, алмаз, который сравним с другим, недавно извлечен-
ным из сундучка грезы и письма, молчания и смерти или,
если вам угодно, из под застежки или ларца, который ждет
вас ниже:
после «Меньшим количеством звезд небо не усевает
свою тень» («Ее могила закрыта»)
будет
«ЕСЛИ ЭТО БЫЛО
вышедшее из звезд
ЭТО БЫЛО БЫ
хуже
ни
больше ни меньше
безразлично но пока
НИЧТО
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
на высоте
БЫТЬ МОЖЕТ
столь же далекое как место
число
СУЩЕСТВОВАЛО ЛИ ОНО
или это только бессвязная галлюцинация агонии
НАЧАЛОСЬ ЛИ ОНО И ЗАКОНЧИТСЯ ЛИ
происходя при отрицании и закрываясь при явлении
наконец
неким изобилием, расширяющимся в редкость
ПИСАЛОСЬ ЛИ ОНО ЦИФРОЙ
очевидность суммы, для которой достаточно, чтобы
ОНО ЗАСВЕРКАЛО
СЛУЧАЙ
НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТА
КРОМЕ МЕСТА
сливается с той стороной
вне корысти
дав ему сигнал
в общем
согласно такому наклону по пологости
огня
по направлению
это должна быть
Северная Семерка
СОЗВЕЗДИЕ
холодное от забвения и обветшалости
пока
оно не перечислит
на какой-то высшей незанятой поверхности
последовательное столкновение
в звездах
полного счета на стадии оформления»
ЕЁШ Жак Деррида. Диссеминация
пока оно не перечислит:
Созвездие не настолько холодное, чтобы не пода-
вать никаких признаков жизни в числе звезд, которые
его слагают; этот смысл непрерывной плодовитости
коренной породы <site-mere> (андрогинное смешение
звезд и неба — соп и st в constellation <созвездии>) под-
держивается элементами «мать», «она», концовкой «пока
оно не перечислит», связкой «рожденное», тогда как эле-
мент «голый» напоминает о наготе рождения (как в фи-
зическом плане, так и в ментальном), что согласуется
с другим значением слова «мать» <тёге>: «прил. ж. р.,
чистая» (Лярусс). Элемент «мать» используется осознан-
но, о чем свидетельствует рифма «перечислять-мать»
<ёпитёге-тёге> («Здесь находят виды счастья, что я пе-
речисляю / Большое море с небольшим ложем <тёге>» —
«На галечнике Онфлера» <Sur des galets d’Honfleur>),
а выражение «Муза голая и чистая <тёге>» (предисло-
вие к «Синим и серым ягодам винограда» <Raisins bleus
et gris>) дает великолепное указание относительно одно-
го из уровней значений... Роды, конечный «Бросок костей»
берется из андрогинного прародителя — природы, све-
денной к созвездию; ее производные — последующие
стадии ее самой, получающие символизацию в гирлянде
отдельных звезд Большой Медведицы; эти производные
являются двусмысленными — они и мужские (сперма),
и женские (яйца), то есть и то и другое вместе — дети,
причем все эти три идеи объединены в слове «семя»:
буква «т» в глаголе «ёпитёге» <перечисляет> является
хорошим примером той М, которая «выражает возмож-
ность что-то сделать, следовательно, радость, самца и ма-
теринство... число...» («Английские слова»)... Представ-
ление о звездах как семени традиционно для поэзии,
ср.: «Твоя болтовня сеет камни в мою внутреннюю
зиму» (письмо Казалису от 4 декабря 1868 г.). Семена-
звезды будут сближены с мужским и женским моло-
ком, соединенным с млечным путем, см. ниже последо-
вательно...
EfiSI Диссеминация
последовательное столкновение
Сама «высшая игра», акт и его потомство, его дети,
звезды созвездия на стадии оформления в виду полного
счета.
Это эротическое столкновение» нацеленное на слия-
ние, вполне подтверждено такой цитатой: «машинальное
приветствие, навязываемое столкновением инструмента,
беспрестанно, по направлению к Целому» («Споры» <Соп-
frontation>), особенно если мы вспомним «эту половую
лопатку и этот половой совок, металл которых, собирая
в себя всю чистую силу труженика, оплодотворяет почву»
(«Конфликты» <Conflits>). «Диссеминационное» значение
знака «s» здесь как нельзя более присвоено, ведь знак стал
последовательным <successif> в буквальном смысле дис-
семинации — сеяния семян: обратите внимание на «бес-
престанно» <incessamment> в отрывке, который мы толь-
ко что процитировали, и «беспрестанный» <incessant>
в «последовательном беспрестанном движении туда и об-
ратно» («К книге»)...
Так же, следовательно, любая текстовая последователь-
ность, благодаря этому воздействию дающего ростки и ис-
кажающего зеркала, каждый раз включает в себя какой-
то другой текст, который тоже включает ее в себя, так что
в одной из этих частей, которые меньше самих себя и боль-
ше, чем то целое, которое они отражают, приготовлено
место для теоретического выражения этого закона. Впро-
чем, это выражение само не смогло бы уклониться от за-
кона возврата и метафорического смещения (оказываю-
щихся одновременно пределом и средой), в которых оно
в их стихийном действии отчуждается от самого себя:
«Драма»:
«...Но оно выделяет свою собственную среду....Он
в ночи, которая он сам и есть...»
«Числа»: «3.19. ...Все более и более дифференцированная
материя» кислота» не переставая разъедающая свой соб-
ственный огонь — »
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
«1.17. ...Однако я мог преобразовать то» что про-
исходило, поскольку уже не оставался на одной-един-
ственной поверхности» а видел организмы» которые бес-
прерывно функционировали на множестве уровней сра-
зу» как наложенные друг на друга листы» перезаряжаемые
как батареи» погруженные в их собственную отрабо-
танную или нейтрализованную кислоту» они проника-
ли и сами проникались» они преобразовывали и сами пре-
образовывались...»
Не стоит вам упражняться в темпоральных «созер-
цаниях» или же невыполнимых вариациях; быть может,
вы сможете лучше просклонять этот имперфект двойно-
го дна и более-чем-присутствующего, нарисовав фигуру
четырехугольника, дополненную структурой того самого
необычного зеркала. Зеркала, которое способно, несмот-
ря на вышеприведенную невозможность, быть источни-
ком, то есть структурой некоего эха, которое в каком-то
смысле предшествует тому истоку, которому оно, как ка-
жется, отвечает, поскольку «реальное», «изначальное»,
«истинное», «настоящее» выстроены лишь в возвратном
движении, идущем от удвоения, в котором только они и
могут возникнуть.
Вот почему «эхо» — это «надрез» (1.5). «Следствие» ста-
новится причиной. Одно слово, которое никогда бы боль-
ше не повторилось, например один уникальный знак, про-
сто не был бы «одним». Он становится тем, что он есть,
только в возможности своего переиздания.
«1.77. ...Каждое слово находило эхо» которое было его при-
чиной».
И где же тут теперь настоящее? Прошлое настоящее?
Будущее настоящее? «Вы»? «Я»? «Мы» непременно будет
в имперфекте этого эха.
QsD Диссеминация
6. Речь попечения
...Гулкая коробка, незанятое простран-
ство напротив сцены: полное отсутствие,
из которого устраняется попечение и ко-
торое не может преодолеть персонаж...
Пусть критик дежурит возле зияющей
сцены!
Представьте себе платоновскую пещеру, но не просто пе-
ревернутую, благодаря какому-то философскому движе-
нию, а ставшую во всей своей целостности лишь неким
местоположением, вписанным в другую, абсолютно иную
структуру, в некую несоизмеримо более сложную и не-
ожиданную машину. Представьте себе, что зеркала не на-
ходятся в мире, в простой совокупности onta и их обра-
зов, а, наоборот, все «присутствующие» существуют в них.
Представьте себе, что зеркала (тени, отражения, фантаз-
мы и т. д.) уже не включены в структуру онтологии и мифа
о пещере — который дает место также экрану и зеркалу, —
а сами обволакивают эту структуру, производя в том или
ином месте строго определенные, частные эффекты. Вся
иерархия, которая описывается «Государством» в его пе-
щере и в его строках, как будто заново разыгрывается
в театре «Чисел».
«Платонический» момент живет на четвертой из по-
верхностей, не занимая ее целиком. Однако, как вам уже
понятно, эта поверхность охватывает еще и ту речь, кото-
рая дезорганизует «платонический» порядок присутствия
(присутствующего слова, ведущего к видимости феноме-
на, видимости eidos'a, сущего в его истине, по ту сторону
от покрывала и экрана и т. д.).
Давайте назовем речью попечения <discours d’assi-
stance> то, что — более чем присутствуя — на этой сцене
провозглашает себя в настоящем, дабы деконструировать
«иллюзию» или «заблуждение» настоящего. Эта речь объ-
единяет мотивы присутствия (присутствия, настоятель-
ного воздействия окликающего слова, которое говорит
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
вам «вы», обращаясь таким образом к присутствию зрите-
ля-читателя, присутствующего при действительном свер-
шении зрелища или речи) и дополнительной помощи (вспо-
могательная речь, речь неустанной предупредительно-
сти, бдительного предупреждения, платоновской boethaia,
поддерживающей своим — «присутствующим» — сло-
вом неустойчивую и страшащуюся ущербность efcgonos’a,
обезоруженного сына, потерянного потомка, семя, отдан-
ное на откуп козням письма, — то есть вас).
Речь попечения — постоянно множащаяся здесь —
обращается к зрителю (присутствующему на зрелище и
опекаемому в самом своем присутствии), она помогает
ему прочесть подвижную структуру всей пьесы в целом,
во всех четырех ее аспектах, в ее общем письме и в ее сче-
те, находящемся на стадии формирования.
Но кто обращается к вам? Поскольку это не «автор»,
не «рассказчик» и не «бог из машины», значит, это какое-
то «я», которое оказывается частью одновременно и зре-
лища, и попечения, которое, немного напоминая «вас»,
присутствует (претерпевает) при своем собственном бес-
престанном насильственном вписывании в арифметичес-
кую машинерию; это «я», которое, оказываясь чистым
местом перехода, предоставленным операциям замеще-
ния, больше не является уникальным и незаменимым су-
ществованием, неким субъектом, «жизнью», ведь ино все-
гда между жизнью и смертью, между реальностью и вы-
мыслом — просто функция или фантом. Термин или
зародыш, термин, который рассеивается, зародыш, кото-
рый несет в самом себе срок своей смерти. Укрепляясь
в своей смерти. Сперма: крепка <Le sperme: ferme>.
«3.11. ...становясь как вы: не зная того, кто я есть. Но
сохраняя то, что позволяет мне сказать “я* в этом
скачке, в этой нехватке односложных слов, возникаю-
щей в мгновение, когда они уже тут как тут... Я про-
снулся тогда, когда что-то говорил, как если бы вспыш-
ка соскользнула в почерневший водоворот слов, следова-
тельно, я говорил всегда, задолго до того, как оказался
ЕШ Диссеминация
среди вас... В кровоточащем узле пространства я и все
те, кто могли сказать “я”, все мы были охвачены этим
неумолимым перечислением — живые и мертвые, рас-
тянутые, подвешенные над потоками, над холодным го-
ловокружением воды и оконного стекла, все мы, крутя-
щиеся таким манером в клетке, наделенные новыми и
заученными изменениями, беспрерывно оказывающиеся
в положениях эха, вместе с этими буквами, которые при-
ближаются лишь тогда, когда обрушивают крик, почу-
янный с высоты...»
Крутясь в рамке, в клетке, в парке, «я» получает —
в двух следующих последовательностях, поступающих
с противоположной стены, — искаженный отзвук своего
языка. Он захвачен этим отзвуком, внезапным насилием,
начинающимся с удвоенного чекана:
«/.13. ...Рассказ начался внезапно, когда я решил сменить
язык в том же самом языке... Когда повторения захва-
тили их черты... Однако ничего из раздвоения... В конце
операции, в которой я прошел через обезображенную
плоть, говорящую, но без кожи, через рвоту, через бро-
жение нервов и крови, ставших оторванными и поте-
рянными в обмене цифрами, я становился этим вывер-
тыванием наизнанку... Я открывал глаза, я смотрел, как
ко мне приходит то, что в целом вынуждало меня ска-
зать “я”..»
Будучи всего лишь «вывертыванием наизнанку», уси-
ленным отражением звука, подчиненным силе удара и
«операции», проходным местом изменений, такое «я», вы-
нужденное в целом к высказанности, присутствующее при
вас и вам помогающее, помогает вашему присутствию
и само пользуется его попечением.
«4.28. (...Вы открываете глаза, вы перечисляете то, что
проходит перед вами... У вас всегда есть то, что мож-
но видеть, что-то, что заполняет день, в котором вы
DSD Жак Деррида. Диссеминация
оказались» или ночь» когда вы думаете» что спите и за-
бываете о себе... И здесь я прохожу как то» что отмеча-
ет и чеканит этот продолжающийся рассказ» сам факт
его выведения из себя, что дает ему это головокруже-
ние» в котором вы родились...)»
Это имя всей той силы письма, которая одним махом
развязывает рассказ и удерживает его развитие; но это
также, что главное, симулякр — нужно понять, что си-
мулякр является определенной силой, — беспрестанно
смещаемого, разбалтываемого тождества, отсылаемого за
его собственные пределы не чем иным, как насильствен-
ным письмом.
«3.47. ...но “я”» все больше и больше теряющееся в тек-
сте» размещаемое и останавливаемое в углу текста»
реально не занятое больше ничем» кроме прохождения»
все еще повсюду и во всем испытывающее меня» но лишь
до предела, за которым все темнело в движении его
силы...»
Темная комната этой силы письма, в которой мы раз-
вивали образы, простыми негативами которых всегда бу-
дут оставаться «я» и «вы». Итак, симулякр попечения же-
лает, чтобы речь от «я» (опекающая вас и присутствую-
щая при вашем попечении) была в своей записи отличной
от того, чем она на собственных словах является — назы-
вая себя «истинной», вместо того, чтобы высказывать ис-
тину продолжающегося рассказа, она симулирует и обма-
нывает «вас», притворяясь, будто в каждом пункте преоб-
разует имперфект в настоящее посредством операции,
о невозможности которой ей известно (4.48). В этой двой-
ственности, развязанной письмом, она притворяется, буд-
то дает вам отчет в том, что вы видите, и объясняет вам
это видимое вами, она делает вид, будто высказывает вам
присутствие вашего настоящего, тогда как на деле ее при-
творство является составной частью процесса письма. То
есть де-презентации или экспроприации. И она увлекает
ВЗЗ Диссеминация
вас в другое головокружение: в чем же состоит настоящее?
Состоит ли оно вообще, если в попечении оно так разде-
ляется? Что значит ставиться на сцене для того, что не со-
стоятельно в себе?
Пока она притворяется, будто говорит с вами, опе-
кает вас, проходящее «я», оставаясь незанятой поверх-
ностью самости, само обладает потребностью быть до-
полненным в симулякре самого этого попечения. Она
хитрит и подстрекает к жестокой экспроприации, по-
средством которой вы будете вовлечены в письмо крас-
ного рассказа. Подготавливая новые отношения для
красного момента («3.83. ...Я, однако, был там, я дышал
в глубине... Подготавливая новые отношения для красного
момента... Желая массового подъема запада, востока, на-
конец-то вынужденного показать свой цвет...»), «я» под-
стрекает против вас; подстрекает, то есть подготавлива-
ет некую субстанцию, ощущаемую в качестве вредонос-
ной, — некий яд — все больше и больше окрашивающий
рассказ в красное, вовлекающий вас в его экспроприирую-
щее движение письма, пока не будет достигнут пункт си-
мулякра, в котором он сможет одновременно окрасить
ткань и притвориться, будто говорит вам об этом по прав-
де, согласно форме попечения или, соответственно, фор-
ме безрассудно грозной провокации, уничтожения. Почи-
тайте еще, каждый раз обращая внимание на то, что уже
заставляет вас повернуть голову, на то, что каждый фраг-
мент становится читаемым только в рассчитанной игре
весьма многочисленных возвращений и бесчисленной
полисемии. В данном случае можно, например, говорить
по крайней мере о тех возвращениях и полисемии, кото-
рые затрагивают слова «колонна», «кадры», «удар», «отрав-
ленный», «продукты», «квадраты», «красный» и т. д. и ко-
торые на всем протяжении «Чисел» трансформируют эти
слова наиболее необходимым и одновременно наиболее
обескураживающим, самым удивительным и самым на-
вязчивым образом. Итак, вы видите, как цитируется «дан-
ный» отрывок, как если бы он отсылал только к самому
себе:
8ШВ Жак Деррида. Диссеминация
«4.40. (...Однако здесь рассказ продолжается, он как пус-
тая колонна, последовательность пустых кадров, уви-
денных, чтобы помочь затаившемуся врагу, чтобы на-
нести вам еще один удар, более тайный, более отрав-
ленный, нацеленный на то, чтобы отнять у вас право
пользования вашими продуктами, мастерство вашей
речи, призванной все замаскировать, все выстроить
в приглаженных и упорядоченных формулах.,. Как если
бы вы переходили с закрытыми глазами от одного квад-
рата к другому, от приукрашенной земли к взорванной
земле, по отношению к которой вы уже начинаете по-
ворачивать... Красный рассказ...) — »
Подобный симулякр попечения действует только
между скобок. Двадцать пять четвертых последователь-
ностей взяты в скобки, что со всей двойственностью
означает одновременно:
1. что (присутствующая в настоящем) речь претен-
дует на нечто, что вне текста, на прерывание (написанно-
го) рассказа прямотой откровенного слова и разъяснени-
ем условностей, как если бы речь, которую держат в на-
стоящем, не должна была бы отдавать никакого отчета
в своем непосредственном лобовом возникновении, удер-
живаясь сама собой и сама по себе в сознании безо вся-
кой истории;
2. что тем не менее она обращается к письму, что по
необходимости графическая функция скобок принадле-
жит общей основе текста, так что сама претензия на вне-
текстуальное, на закулисное доверие разоблачается голо-
сом попечения; впрочем, скорее можно сказать, что она
возвращается к своей маске и к своей театральной дей-
ствительности:
«4. (...сложно принять этот интервал, этот нетро-
нутый пробел; однако очень сложно подтверждать без
этого забвения, которое возвращается и подталки-
ESB Диссеминация
вает под руку — когда текст прерывается, складыва-
ется, позволяет голосам возвращаться как бесконеч-
ная звукозапись —...)»
Если нет того, что вне текста, то лишь потому, что
обобщенная графика всегда уже началась, она всегда при-
вита к «предшествующему» письму. Вы действительно
читаете «привита», в здешнем посеве аллюзии на привив-
ку, на трансплантацию, на эмфитевзис*, вам нужно зара-
нее продумать, как будет выглядеть почкование, что про-
изойдет позже и в другом месте.
Нет ничего до текста, не существует предлога <ргё-
texte>, который уже не был бы текстом. Поэтому в момент,
когда повреждается поверхность попечения, когда откры-
вается увертюра и представляется представление, сцена
уже была.
В имперфекте. Уже была в месте, хотя и невидимом
в настоящем, была в работе, не давая на себя посмотреть,
не давая себя высказать каким бы то ни было настоящим
высказыванием, была до самого «первого» акта. «Это было/
вышедшее из звезд/число». Итак, «Числа» не имеют соб-
ственного источника, источника единого и присутствую-
щего; никто не может без маски или симулякра некоего
весьма ловкого псевдонима присвоить себе титул владель-
ца или авторское право... Авторство и владение остаются
своеобразными претензиями речи попечения и эффек-
тами мертвой поверхности. Хотя, если учесть две эмбле-
мы, собственное имя автора, постоянно исчезающего
в двусмысленном движении смерти и спасения, воскре-
шения, только и делает, что прячется, скрываясь за экра-
ном, за «умножением экранов как эмблем этого нового пра-
вила» (1.25), или сохраняясь, не переставая блистать, как
почка без воздуха в глубине книги, застежкой, ларцом, бла-
годаря «письму с примешанными к нему змеями, перьями,
и эмблеме орла, отсылающей к сжатой силе солнца, — дра-
гоценному камню, до которого нужно добраться, если
Эмфитевзис — долгосрочное вещное право пользования недвижи-
мостью, от греч. emphiteuo — насаждать.
ESQ Жак Деррида. Диссеминация
желаешь дойти до того, что за солнцем» (2.34), за смертью.
Собственное имя, то есть такое имя, которое было набро-
сано в театре, «всегда готовое спохватиться. Нетронутая
несчастьем драгоценность». Для броска этого камня вам
будет достаточно пройти чуть дальше, зайти за цитату сол-
нечного светила (Солнце = смерть = зеркало), чтобы за-
метить перстень с ядом. А затем и противоядие, ключ. Ко-
торые не отличаются друг от друга.
То, что уже началось к любому моменту времени ра-
зыгрываться в имперфекте (или в некотором а-ористе*,
в некоей беспредельности, в которой теряется сам гори-
зонт, которая смешивается с будущим, а-ористе, который
никогда не будет настоящим — «2.26. ...Как будто бы я смог
в какой-то момент схватить себя из пустого, безгранич-
ного будущего (0), как будто бы пьеса, толпа, небо, заклю-
ченные теперь в настоящем — как и я в нем — приходили
из прошлого, которое мне еще предстояло пройти...»), то,
что будет вписано, что перейдет из будущего предшест-
вующего или будущего прошлого предшествующего в «не-
достижимое двойное дно», которое само не является ни
прошлым, ни будущим, ни предшествующим, ни после-
дующим, то, что беспрестанно возвращается к этому им-
перфекту, не принадлежит. Но не потому, что оно было
оторвано от какого-то присутствия или первичной при-
надлежности. Речь здесь не идет о чем-то — «реальности»
или «смысле», — что просто поступало бы к записи через
посредников, после своего первоначального производства
и последующего вовлечения в товарооборот. Такая не-при-
надлежность — то есть сама текстуальность — вмешива-
ется, то есть прерывает с самого «первого» следа, который
уже отмечен удвоением, эхом, зеркалом, который уже
в каком-то отношении представляется в качестве «следа
своего отражения» («Драма»), всегда сгруппированного по
меньшей мере из двух частей, каждая из которых больше
целого.
Аорист — от грен, aoristos — неограниченный, не определенный гра-
ницами, неопределенный.
ЕШ1 Диссеминация
только благодаря двум повторенным
текстам мы можем наслаждаться
целой частью
или благодаря
обращению
того же самого текста
— во второразрядном
перечитывании
которое позволяет обладать
всем
последовательно.
Вплоть до того самого момента
тянуть по прекрасной бумаге
или издавать частями —
искать —
II
7. Генеральная репетиция
первого раза d’avant-premiere fois>
...Во всяком случае, кто-то чего-то
убил, это ясно... «Ах нет! — подумала
Алиса, внезапно подпрыгнув, — если
я не потороплюсь, придется вернуть-
ся через Зеркало обратно, а я еще не
все видела! Сначала нужно сходить
в парк!»
Вы возвращаетесь по своим следам. Оставшиеся следы
увлекают вас вглубь парка, вы идете, пятясь туда, к его
заповедным местам. «Треугольник с острым углом вни-
зу, нижняя часть печати Соломона — это традиционный
символ женского начала, часто используемый в ‘‘Помин-
ках по Финнегану”. Само собой разумеется, что значение
буквы “v” более точно обнаруживается в пространной и
запутанной группе ассоциаций. Классический для Мал-
ларме пример можно найти в “Иродиаде”...».
Все оппозиции, которые зависят от различия исход-
ного и производного, простого и повторения, первого и
второго и т. д., теряют свою значимость, если все «начина-
ется» с того, что следует оставшемуся следу. То есть опре-
ЕШ Диссеминация
деленному повторению или тексту. Лучше всего вы смо-
жете понять это, читая «Числа».
Все в них удерживается по ту сторону от оппозиций,
среди которых оппозиция между одним и двумя, все в них
разыгрывается вопреки или против различия восприя-
тия и сна, восприятия и воспоминания, сознания и бес-
сознательного, реального и воображаемого, истории и
речи и т. п. По ту сторону от этих оппозиций или между
этими терминами, но не в смешении. В другом распреде-
лении. Два — это уже не привходящее единого, как и еди-
ница — уже не вторичная добавка к нулю (или наобо-
рот), если только не пересмотреть сами значения при-
входящего, вторичности, прибавки: это единственное
условие для возможности рассмотрения текста в движе-
нии его созвездия, которое всегда работает с числами.
Обыгранные арифметическим театром оппозиции,
ни в коем случае не будучи просто стертыми, сразу же
разыгрываются им, но на этот раз уже как следствия,
а не правила игры. Поскольку след отпечатывается толь-
ко тогда, когда отсылает к другому, то есть уже к другому
следу («отражение следа»), когда позволяет себя обойти,
забыть, его производительная сила находится в необхо-
димом отношении к энергии его стирания. Сила экспроп-
риации никогда не производится как таковая, и всегда
только в искажении эффектов собственности. Экспро-
приация не признается на четвертой исторической по-
верхности, причем по необходимости («4.52. ...Есть закон
этого непризнания»), она принудительно конфискуется
домашней организацией и представительной экономи-
ей собственности. Сочетаясь с желанием (собственного),
считаясь с противоречиями его сил (поскольку собствен-
ное ограничивает разрывание, охраняет от смерти, но и
вожделеет ее; абсолютная собственность, неразличенная
близость самости к самой себе — это другое название
смерти; именно поэтому пространство собственности
как раз и совпадает с «мертвой поверхностью»), текст
заставляет сцену разворачиваться под прямым углом.
Экспроприация действует посредством насильственной
□В Жак Деррида. Диссеминация
революции. Письмо обнажает то, что «умирает и снова
оживает в мысли, которая с самого начала на самом деле
никому не принадлежит» (4 и 4.100), видоизменяет экс-
проприацию, повторяет ее, упорядоченным образом ее
смещает, неустанно перечисляет ее, «...и я был метой
среди других мет... [...] Но никто больше не был мной,
то, что должно было произойти, не происходило ни для
кого, была лишь эта последовательность цифр, сосчи-
тывающая, регистрирующая и отменяющая все внеш-
нее —» (3.7).
Другие солнца, другая революция, другая арифмети-
ка: «Что-то считает во мне, прибавляет 1, достигает кри-
тического числа, которого ждут колесницы солнца, чтобы
подхватить сбрую. Я знаю, что я был сконструирован для
измерений...».
Экспроприация отмечается не только цифрой чис-
ла, чья не-фонетическая операция, подвешивающая го-
лос, расшатывает близость с собой, живое присутствие,
которое слышит самого себя в представлении речью. Со-
гласно «Музыке и словесности», «буквенная запись ме-
лодии убивает» — это насильственная смерть читающе-
го или пишущего субъекта в немом замещении «Чисел»,
в грезе их застежки, в их тихом ларце. То есть в вашем.
(«7.5. ...Затрагивая эту последовательность, я понимал,
что постоянно осуществлялось одно-единственное убий-
ство, что мы дошли до того, чтобы вернуться к нему
через весь этот окольный путь...») Но буквенная запись
является мелодической, пение отчеканивает тактами все
меты «Чисел». Это ритм, во всех смыслах этого слова,
и ему вы должны следовать.
«Ода убита» в «Мимике», но это означает лишь кон-
чину определенного голоса, частной функции речи, пред-
ставления, голоса читателя или автора, который обнару-
живает себя лишь для того, чтобы представить сюжет
в его внутреннем замысле, чтобы указать, высказать, вы-
разить истину — или присутствие — некоего означаемо-
го, чтобы отразить ее в верном зеркале, чтобы дать ей воз-
можность беспрепятственного проникновения или же
ШО Диссеминация
просто смешаться с ней. Без экрана, без покрывала или на
хорошей амальгаме. Но смерть этого представляющего
голоса, этого уже мертвого голоса, не приводит к абсолют-
ному молчанию, создающему наконец-то место для неко-
ей мифической чистоты письма, для какой-то в конечном
счете единственной графемы. Скорее, она дает место го-
лосу без автора, фоническому прочерчиванию, которое
в своей чувственной чеканке не покрывается без остат-
ка никаким идеальным означаемым, никакой «мыслью».
Множащаяся дробь подчиняет воздействию своего рит-
ма все представляющие проявления; сама же она упо-
рядочивается правильным, жестоким развертыванием,
театральной аритмографией некоего текста, который «на-
писан» не в большей степени, чем «проговорен» — в смыс-
ле «отныне ставшего для нас ветхим алфавита» (2.22).
Исчезновение «авторского голоса» («Текст в нем говорит
сам от себя и без авторского голоса», как было доверено
Верлену) развязывает силу вписывания, но уже не вербаль-
ную, а фоническую. Полифоническую. Значения вокаль-
ного опространствования в таком случае задаются поряд-
ком этого голоса без амальгамы, но не авторитетом слова
или понятийного означаемого, которым текст в конечном
счете не преминет воспользоваться по своему усмотре-
нию.
Будучи «немой поэмой», если следовать «Вариаци-
ям на тему» («Все становится подвесом, фрагментарным
расположением, сочетающим очередность и противопо-
ставление, участвующим в общем ритме, которым как
раз и должна стать немая поэма, поэма в пробелах»),
«Числа» также являются и очень громкой поэмой. По-
пробуйте сами. Они читаются в настоящем грохоте, гул-
ком и управляемом, сдержанном, напористом и дрожа-
щем шуме. В пении, выводящем на сцену гласную, и ар-
тикуляции, предшествующее эхо которой отбрасывается
пением на поверхности стен, отражаясь от одного экра-
на к другому, при случае отскакивая и повторяясь по сот-
не раз. Каждый раз в каком-то другом металле, скульп-
туре из другой жидкости, переправе через неслыханную
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
материю. Голос без автора, письмо сильного дыхания,
пение до потери голоса:
«3. ...и голос говорил теперь это, это был и в самом деле
мой голос, поднимающийся из цветового видения или,
скорее, из горящего фона цветов, мой голос, который,
как я слышал, напевал неуловимое, настоятельное за-
клинание, в котором следовали друг за другом, связы-
вались гласные, которые, казалось, прилагались к тек-
сту через мое дыхание. Их последовательность дей-
ствовала непосредственно на каждую подробность,
отбрасывала враждебные элементы, образовывала рит-
мическую цепочку, некий спектр, собиравший и распре-
делявший роли, факты, и эта игра давала мне роль как
одной фигуре среди других, для нее я был просто припод-
нятым, брошенным зерном... Вокальное выделение букв,
вставленных в отделенную запись, которая без них
оставалась бы неподвижной, непрозрачной, нерасшиф-
ровываемой; деятельность этих атомов, которые по-
зволяли мне таким образом вмешиваться, выворачивая
наизнанку операцию, объектом которой был я, излу-
чение и проекцию, дискретную силу которых я пере-
направил в полете, все это открывало даль, внешнее —
и я снова вижу, как звуки проходят сквозь фиолетовое
небо в самые глаза. Формула могла бы выражаться так:
I-O-U-I-A-I — при условии, что на нее тотчас накла-
дывается некое постоянное колебание, что-то пьяно
шатающееся... [...] — И вот как мой голос меня поки-
дал... [...]»
Потеря голоса поется и в других местах в преобра-
зованном возвращении одной и той же последователь-
ности, повторяя «стенку воды», «солнце, которое подни-
мается, чтобы спалить его», «и был этот момент перед
крушением, этот момент, который переходит в пение:
настоятельное заклинание, в котором следовали друг за
другом, обменивались гласные; формула, которая могла бы
выражаться I-O-U-I-A — при условии, что на нее тот-
ЕШ Диссеминация
час накладывается некое постоянное колебание» что-то
пьяно шатающееся» стремительное...» (3.55). Вы легко
определите ритм и — во втором варианте — выпадение
крайнего I, «последней долго удерживаемой ноты» перво-
го варианта; и в этом вы могли бы разглядеть, если толь-
ко вы повернетесь, чтобы посмотреть, предвестие неко-
его расчленения, свершающегося как раз перед помет-
кой, согласно которой орган «моего голоса меня покидал».
«...Красное I и т. д. ...Очевидно, нельзя наделить цве-
том согласную. Но разве не очевидно, что каждая из них,
что каждая буква вообще обладает своим особым дина-
мизмом, что она работает каким-то своим особым обра-
зом, что ее можно сравнить с двигателем, который в од-
ном и том же исполнении может применяться в самых
разных делах?.. И в самом конце я читал в книге... что бук-
ва D, “дельта”, по свидетельству Платона, является первой
и самой совершенной из всех букв алфавита, той буквой,
из которой рождаются все остальные, поскольку она со-
ставлена из равных линий и углов. Еще в этой книге ут-
верждается, что, согласно Закону, Спаситель пришел не для
того, чтобы удалить эту точку, апекс, который расположен
над I».
Таким образом, экспроприация действует не только
посредством цифрового подвешивания голоса, посред-
ством опространствования, которое расставляет в нем
знаки препинания или, скорее, проводит через него и по
нему свою черту; она является ко всему прочему и опера-
цией в голосе. Главное, что мысль изначально никому не
принадлежит, а «обезличивание» изначально именно по-
тому, что текст никогда не начинается. Дело не в том, что
разрывы в нем стираются или «положительные» втор-
жения в нем сглаживают друг друга, сплавляются во все-
гда-уже-присутствующий континуум. Просто дело в том,
что разрывы в нем никогда не являются первоначалами,
они каждый раз берутся, чтобы трансформировать некий
предшествующий текст. Следовательно, с того момен-
та, с какого «Числа» начинают читаться, любая их архео-
логия становится невозможной. Вы бесконечно долго
8Ш Жак Деррида. Диссеминация
отсылаетесь к бездонному, бесконечному связыванию и
к бесконечно долгому артикулированному отступлению
запрещенного начала — запрещенного не в меньшей сте-
пени, нежели археология, эсхатология или герменевти-
ческая телеология. Запрет одним махом. «Новый текст
без начала и конца» (3.99) не позволяет поддерживать или
сдерживать себя за застежкой книги. Текст до потери зре-
ния, когда он принудил сам горизонт заключиться в рам-
ку его собственной сцены, чтобы «суметь с большим раз-
махом охватить горизонт настоящего времени».
Возьмем следующий пример: кажется, что «Числа», ко-
нечно же, начинаются со своего начала — с единицы (1)
первой последовательности. Но накануне этой увертюры:
1. открывающая фразу прописная буква подвешена
предшествующим ей троеточием, начало подвешено за-
ранее умноженной пунктуацией, так что вы сразу же
углубляетесь в прожигание, истребление огнем другого
текста, который уже поставил этот текст, исходя из своего
двойного дна, в своем собственном движении. Цитата, ин-
хоативное <лингв. «начинательное»> побуждение, кото-
рое дает движение организации каждого процитирован-
ного отрывка;
2. не был ли уже этот процитированный текст, это
предшествующее прошлое, которое еще должно прийти,
не просто истребленным, но и осуществленным высказы-
ванием истребления* Его, так сказать, теоретическим вы-
ражением? И весьма квалифицированным при этом? При-
мер: «начало» «Чисел» — не что иное, как распростране-
ние того же скрученного пламени, последней обжигающей
страницы «Драмы». Прочитаем: «1. ...бумага жгла, и во-
прос был во всех вещах, нарисованных и спроецированных
в красках таким регулярно искажающим образом, тогда как
одна фраза гласила: “вот внешняя сторона". Перед взгля-
дом или как будто отстранясь от него — эта страница
или коричневатая деревянная поверхность, сгибающаяся,
истребляемая огнем».
ЕШ Диссеминация
«Последняя» страница «Драмы»:
«думая, что он еще должен будет писать:
мы должны обратить внимание на то, что книга тер-
пит поражение здесь — (горит) (стирается) (в мысли,
у которой нет последней мысли, — “более многочислен-
ной, чем трава” — “ловкой, самой быстрой из всех, опи-
рающейся на сердце”) —».
Письмо, огонь, стирание, «без конца», «число», бесчис-
ленное, трава — все это цитаты и процитированные вы-
ражения необходимости этих цитационных эффектов.
Последние не описывают линию простого отношения
между двумя текстами или двумя прожиганиями, они
увлекают вас в смещение созвездия или лабиринта. Они
не задерживаются «в рамке этого листа бумаги». Отсылки
не просто бесконечны, они заставляют вас вращаться меж-
ду гетерогенными текстами и структурами отсылки. Так,
цитаты часто оказываются «цитатами» «цитат» (вам по-
прежнему придется читать это слово в окружении кавы-
чек, пока оно не будет в подходящий момент подвергнуто
исследованию), отсылками побочными или прямыми, го-
ризонтальными или вертикальными, почти всегда удво-
енными, причем чаще всего не напрямую. Пример чис-
ла — огонь этой бумаги не просто переходит из «Драмы»
в «Числа», у него есть свой очаг, скорее виртуальный, чем
реальный, в другой «обжигающей бумаге», горящей на
восходе, в бумаге, которая сама в свою очередь истребля-
ется — «цитируется» — («символические фигуры, про-
черчиваемые на горящей бумаге подобно множеству та-
инственных символов, живущих скрытым дыханием»)
в «Логиках», ведь последние в режиме, который, уже не
являясь просто теоретическим, скорее, быть может, удва-
ивает поверхность попечения тетралогии («Парк», «Дра-
ма», «Числа», «Логики»), выражают «трансфинитное» дви-
жение письма: «обобщенное закавычивание языка», ко-
торый «по отношению к тексту, в нем... становится
целиком и полностью дотационным».
Следовательно, не рассказывается ни о каком со-
бытии, все происходит в пространстве между текстами,
14-6705
ШЭ Жак Деррида. Диссеминация
поскольку соблюдается один-единственный принцип —
лишь бы «не случилось в конечном счете ничего». Всегда
какая-то другая книга уже начнет воспламеняться в тот
момент, когда «он закрывает книгу — задувает свечу сво-
им дыханием, в котором содержался случай: и, скрещи-
вая руки, ложится на прах своих предков».
Таким образом, дуальность оригинального текста и
цитаты устраняется. Во вписывании в квадрат. И начиная
со второго квадрата вы получаете предупреждение: «1.5.
...что-то начиналось, но это начало, в свою очередь, скры-
вало некий более глубокий слой начала, не было более ни до,
ни после, было невозможно повернуться назад... — ».
Высказывания о репетиции начала, о вымысле исто-
ка, о неопределенности семенного имперфекта, в который
погружается более-чем-настоящее недатируемого собы-
тия, беспамятного рождения («что-то началось...»), сами
не в состоянии уклониться от того правила, которое они
высказывают. Они цитируют сами себя, возвращая вас, на-
пример, к исходной изгороди «Парка»: «...Прочитать на-
чало фразы: “Открытая тетрадь на столе”, увериться в том,
что она не имеет ничего общего с тем, чем я хотел ее наде-
лить (ничего, что могло бы послужить сравнению с ис-
ходным планом), в том, что одного слова недостаточно,
чтобы спасти все остальное, что нужно было, конечно,
разрушить это успокоительное, парализующее продолже-
ние; разорвать, разорвать, бросить, очистить место, снова
создать пространство, которое постепенно расширится,
которое разбежится во всех направлениях».
Это «начало фразы» возбуждает силы притяжения
между этим листом и этой «коричневатой деревянной
поверхностью», на которой будут расставлены «Числа».
Но в «Парке» они уже идут по отмеченному выше пути:
«Открытая страница, слегка освещенная лампой, лежит
на столе из коричневого дерева. Обложка уже немного
порвалась, тогда как страницы, одна за одной покрытые
изящными, сжатыми записями, выполненными черны-
ми с синевой чернилами, медленно следуют друг за дру-
гом, продвигаясь вперед по белому квадратному листу
ЕШ Диссеминация
бумаги, причем невозможно вернуться обратно, снова
начать этот кропотливый и бесполезный труд, который
требует, чтобы его выполнили до конца; до самой послед-
ней, пока еще далекой страницы, на которой он некогда
прекратится сам собой».
Подобно квадратной тетради «Парка», шахматная
доска «Драмы» с самого начала заключает в собственную
клетку невозможность начать, которая также является не-
возможностью «повернуться назад» («Числа»), «вернуть-
ся обратно» («Парк»): «Все заражено, все обладает значе-
нием. Никакое начало не дает необходимых гарантий не-
причастности». Это заражение первоначал в «Числах»
будет обозначено как «яд».
Рассмотрите с того места, где вы находитесь, из угла
клетчатой материи («Парк»), клетки шахматной доски
(«Драма»), квадратов или кубов («Числа»), само это откры-
тие, выполняемое как закрытие, играющее своей проти-
воположностью. Необходимый выход создает осадное по-
ложение, он закрывает текст на неопределенный срок, хотя
и несовершенно, в имперфекте, в отсылке — в выходе —
к другому тексту. Ложный выход с потерей зрения. Зерка-
ло поставлено в дверь. В квадрат. Изгородь — или решет-
ка — «Парка», «Драмы», «Чисел» обладает формой откры-
тия, небольшого отверстия, в которое вкладывается ключ,
бессчетного отверстия, которое оказывается не чем иным,
как решетчатой структурой (отношением линий или уг-
лов сети). Следовательно, это одновременно необходимое
и невозможное открытие. Срочное и невыполнимое, бук-
вально навязчивое — что выясняется и закладывается
в запасник уже в «Парке»: «Лежа на животе, уткнув лицо
в подушку, нужно снова попробовать осуществить экс-
перимент. С какого-то момента все элементы стали, по мо-
ему желанию, известными; я знаю, я могу знать; я мог бы
выйти, найти незаметную щель, выход, который до меня
не был никем опробован».
Далее, оставаясь в «Парке», вам придется потревожить
многочисленные травы «Драмы» и «Чисел», углубляясь
в Зазеркалье, которое определило всю геометрию будущего
14*
ЕЕВ Жак Деррида. Диссеминация
текста: «Совсем рядом, позади меня, за зеркалом, в кото-
ром я, если опущу глаза, увижу самого себя, сидящего на
этом стуле, прорастает свежая трава — вопреки галеч-
нику, мертвым листьям и сучкам; вопреки зиме и холо-
ду; неизменно зеленая трава, хотя и не такая уж зеленая».
Этот текст, полный ключей, не скрывает никакого сек-
рета. В итоге <en somme>, не нужно ничего расшифро-
вывать, кроме той суммы, которой он является. Ничего,
что за зеркалом. Навязчивый поиск выхода зависит толь-
ко от структуры текста, исключая при этом любую иную
мотивацию, в том числе и мотивацию некоего «автора»
как такового. Он зависит только от этого оставшегося хво-
стика, с которым вы не знаете что делать. Навязчивое со-
стояние всегда будет иметь текстуальный характер. «Он
сказал, что меня нужно было привязать к жерди». Тексту-
альность имеет осадную природу. Неразрешимый процесс
закрытия/открытия, беспрестанно переоформляющийся.
По порядку и в порядке (arithmos).
Нам выскажут возражение, пусть при ближайшем
рассмотрении и не самое очевидное, что эта кропотливая
и бесполезная, преследуемая навязчивыми состояниями,
неустанная композиция из равных квадратов, которая не
означает, не показывает ничего, кроме их упорядоченной
неупорядоченности, кроме их рамки и цветов, — все это,
дескать, не образует полнокровного мира. Быть может, но
речь здесь не идет ни о психологии, ни о мире автора или
его «мировоззрении», как, впрочем, и о вашем мировоз-
зрении, ни об «эксперименте», который нужно выполнить,
ни об описываемом или пересказываемом зрелище. Здесь
не на что смотреть.
Именно в таком виде предстанет жердь нерасшиф-
ровываемого текста. Текста, взятого в решетку зеркала. Су-
ществуют и другие рисунки частокола, приспособленные,
чтобы разыграть расшифровку и запутать вас в системе
переключения стрелок. У геометрии его просветов есть
то, за счет чего она может сама по себе и сама в себе рас-
ширяться, безмерно усложняться, каждый раз занимая
место в множестве, которое само ее охватывает, ее разме-
ЕЕП Диссеминация
щает, в соответствии с определенным правилом выходит
за ее пределы, предварительно отразившись в ней. Исто-
рия его геометрий — это история повторных вписыва-
ния или обобщений, которые не подлежат опровержению.
Еще один пример, один из множества других — «Парк»
начинался так, в этой синеве, которая затем просветляется:
«Небо над длинными сверкающими улицами темно-синее».
В том сгибании, в котором сжигается том «Чисел», вы про-
читаете: «3.15. ...Говоря так: “У замка пятьдесят дверей. Со-
рок девять из них открываются по четырем сторонам. Пос-
ледняя дверь не находится ни на одной из сторон, причем
неизвестно, куда она открывается — вверх или вниз... У всех
дверей один и тот же замок, для ключа есть только неболь-
шое отверстие, которое отмечено следом ключа... Оно со-
держит, открывает и закрывает шесть направлений про-
странства”. ...Понимая теперь, что нам нужно было бы прой-
ти через множество серий, прежде чем напрямую выйти
к черному ходу архитектуры в той среде, из которой она
вышла... Со своими террасами, своими куполами, своими са-
дами, своими жителями, своими церемониями... “Небо над
длинными сверкающими улицами темно-синее” — вот в об-
щем та фраза, из которой я исходил — ».
Точно так же «первая» фраза «Драмы» восстанавли-
вается в одной из четвертых последовательностей «Чисел»,
где вы теперь, в настоящем, можете ее прочитать, не отда-
вая отчета в том, откуда она пришла: «4.32 (...“Сначала
(первое состояние, линии, гравюры, игра начинается) это,
быть может, самый устойчивый элемент, который кон-
центрируется за глазами и лбом...”... )». Подбитый таким
образом (то есть скрученный, согнутый внутрь) текст —
в своей игре ключей — всегда возвращает вас к связке.
3. Первая последовательность «Чисел» не только стар-
ше самой себя, оказываясь некоей бороздой прошлого тек-
ста (который сам в свою очередь — ну и так далее); она
сама непосредственно оказывается множественной, разде-
ленной или размноженной именно посредством своей силы
зародышеобразования или семенной дифференциации,
EES Жак Деррида. Диссеминация
которая отныне будет постоянно порождать, проводить
к жизни целую цепочку других фраз, одновременно схо-
жих и отличных, отражающихся друг в друге и преобра-
зующихся упорядоченно неупорядоченным образом, про-
ходящих по всей поверхности будущего текста, каждый
раз разделенных метой или полем небольшого отличия.
Например, в 4.12 первая последовательность модифици-
рована посредством вставки «как если бы». «Большое про-
странство, уже уклоняющееся от измерений» стало, сме-
нив регистр, «большим аккордом, уже уклоняющимся от
измерений». «Большой наложенный разорванный пред-
мет» определился в виде «большого наложенного разо-
рванного тома». Можно было бы бесконечно долго пере-
числять эти «рассчитанные повторения».
То, что вы, таким образом, устанавливаете относитель-
но «первых» или «последних» фраз, вы также могли бы про-
верить на материале тех генерально-репетиционных
<avant-premiers> слов текста, которыми являются посвя-
щения и эпиграфы, все эти внетекстовые вымышленные
вставки, которые также подвергаются насильственному пе-
реписыванию в «Числах». Эпиграф, представляющий со-
бой фразу из Лукреция (цитируемого на его иноземном
языке: Seminaque innumero numero summaque profunda) пе-
рестает быть цитатой, когда ее прикалывают или приклеи-
вают к передней поверхности, когда она начинает прораба-
тываться во всем корпусе текста и сама прорабатывает его:
«4.80. (.../ “Первым появилось желание, блуждающее надо всем
остальным. Оно существовало уже до зародыша мысли”. /
...Зародыши, семена в бессчетном количестве, сумма кото-
рых прикасается к той глубине, на которой слово “вы” и
мысль “вы ” пробивает себе сквозь случай путь к вам) -»; «1.81.
...Будущие или прошлые зародыши... Сгруппированные и рас-
сеянные зародыши, все более производные формулы...».
Следовательно, эпиграф не является внешней добав-
кой. Как и посвящение, которое, однако, представляется
в качестве имени собственного (подчеркиваемого как
письмо инородного происхождения, письмо, пришедшее
с Востока, как китайские иероглифы), а его гласные обра-
ESI Диссеминация
зуют идеограмматическую формулу, которая в «Числах»
благодаря анаграмматической экспроприации и повтор-
ному присвоению подвергается разностороннему разло-
жению, перестановке, наложению постоянного колебания,
так что она, формула, переводится, преобразуется в имя
нарицательное, обыгрывающее гласные, из которых она
сделана (отсюда «4.32 (..“Согласные можно услышать толь-
ко в воздухе, который создает голос или гласную” /) — »),
отмечающее цвет каждой из этих гласных, настаивающее
на I, красном как в этом сонете западной литературы и
красном как «красном моменте истории». Но все эти эф-
фекты письма, которые мы теперь будем называть пара-
грамматическими, гораздо более многочисленны, чем
можно понять по приведенным примерам.
4. Итак, «первая» последовательность не является
речью, высказыванием в настоящем времени (в начале
было число, а не речь или — что в конечном счете озна-
чало бы то же самое — акт); скорее же внешне «настоя-
щее» высказывание не является в ней высказыванием
некоего настоящего времени, как, впрочем, и прошлого
настоящего, некоего прошлого, определенного в качестве
того, что имело место, в качестве некогда бывшего на-
стоящим. Отдалившись от любой сущности, вы сразу же
посредством имперфекта погружаетесь в уже повреж-
денную толщу другого текста. При этом то, что сказано
или написано («означаемое»), уже оказывается практи-
кой начинающего повреждения, выполняемого в графи-
ческой субстанции, удерживающей и искажающей все-
возможные следы — формы, рисунки, цвета, наполови-
ну молчащие идеограммы, речевые высказывания и т. д.:
«1. ...бумага жгла, и вопрос был во всех вещах, нарисован-
ных и спроецированных в красках таким регулярно иска-
жающим образом, тогда как одна фраза гласила: “вот
внешняя сторона”. Перед взглядом или как будто отстра-
нясь от него — эта страница или коричневатая дере-
вянная поверхность, сгибающаяся, истребляемая огнем».
BZfil Жак Деррида. Диссеминация
Как и в «Парке», общая среда, в которой пишется
книга (комната, постоянно появляющаяся заново —
«старая комната», стол, тетрадь, чернила, перо и т. д.), не-
престанно вписывается заново, вводится в игру в «Дра-
ме» и «Числах». И каждый раз это появление письма как
исчезновение, отступление, стирание, уход, свертывание
на себя, истребление. «Парк» закрывается так (здесь вы
можете найти отражение следа ключа): «...Темная; тогда
как на другой день тетрадь располагается на столе под
солнцем или же в этот же вечер вынимается из ящика,
ключ от которого хранит она одна, в какой-то момент
она будет прочитана, а затем снова закрыта; тетрадь
с оранжевой обложкой, терпеливо заполненная, перегру-
женная правильным почерком и доведенная до этой
страницы, этой фразы, этой точки старым пером, кото-
рое часто и машинально обмакивали в темно-синие чер-
нила».
Остается эта чернильная графа, колонка, идущая по-
сле, до конечной точки. В машинальном обмакивании она
готова зачинить совсем другой текст.
Драма, которая заканчивается там, где начинаются
«Числа», тем не менее начинается в той же самой точке
(«и мы можем сказать, что она в самом деле начинается
там же, где и заканчивается»), с уже-существования неко-
его текста, который также расчерчивает пространство не-
коей игры: «Сначала (первое состояние, линии, гравюры,
игра начинается)...».
8. Колонна
Что же до текстуального движения (под-
держивающего всю совокупность «Пе-
сен»), оно становится «ускоренным дви-
жением равномерного вращения в пло-
скости, параллельной оси колонны»
«Логики»
ЕШ Диссеминация
Его посетил сон, чтобы напомнить, что
он должен построить обелиски, некие
солнечные лучи из камня, и выбить на
них буквы, которые называют египет-
скими.
Знаешь ли ты, что, согласно Аристоте-
лю, быть раздавленным колонной — это
вовсе не трагическая смерть? Вот поче-
му тебе грозит не трагическая смерть.
Нужно было найти образование для ис-
пользования масс, и таковое образова-
ние нашлось в колонне.
Три вещи — столбик <colonne> кала, пе-
нис и ребенок — являются твердыми те-
лами, которые при своем входе или вы-
ходе, двигаясь, возбуждают слизистую
оболочку.
Таким образом, в неопределенности прошлого, которое
никогда не было настоящим, в момент, когда купюра раз-
вязывает игру и зачинает текст, «говорила одна фраза».
И далее: «3.11. ...Я проснулся тогда, когда что-то говорил,
как если бы вспышка соскользнула в почерневший водово-
рот слов...». Немного ранее идет эта: «7.9. ...Несомненно,
я проснулся; но это пробуждение было лишь отложенным
эффектом, неким зародышеобразованием...».
Речь всегда идет о пробуждении и никогда о бдении.
Определенный язык предшествовал моему присутствию
для меня самого. «Вас» всегда ждала одна фраза, более
древняя, чем сознание, чем зритель; предшествующая
любому попечению, она смотрит на вас, наблюдает за
вами, следит за вами, касается вас со всех сторон сразу.
Одна фраза всегда уже запечатана в каком-то месте, ко-
торое вас ожидает и в котором вы, по вашему собствен-
ному мнению, впервые прокладываете путь, «4. (— и все
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
умирает и снова оживает в мысли, которая с самого на-
чала на самом деле никому не принадлежит, в прозрач-
ной колонне, в которой имеющее место остается подве-
шенным на большей или меньшей высоте, и, просыпаясь,
вы говорите сами себе: “смотри-ка, я был там", но ни-
что не может объяснить эту фразу, она сама пялится
на вас...) —».
Этот текст занимает место передо «мной», он смот-
рит на меня, вкладывается в меня, объявляет мне о мне
самом, надзирает за сговором, который я поддерживаю
с моим самым тайным настоящим, присматривает за
моей внутренней сущностью — на самом деле являю-
щейся целым городом или лабиринтом, — как будто бы
с некоей сторожевой башни, расположенной внутри меня
подобно «прозрачной колонне», которая, не имея нутра,
сама погружена в меня как чистое внешнее, погружена
в то, что предпочло бы замкнуться на себе. Колонна вво-
дит пространство во время и разделяет твердость тела.
Ее прозрачность обладает также свойством отражать.
Представьте себе, что вы проглотили некое цилиндри-
ческое зеркало. Вытянутое зеркало, которое по размеру
больше вас: «4. (...эта колонна не отстает от вас ни на
шаг, она сторожит вас, когда вы спите, она проскальзы-
вает между вами и вами самими... Все менее и менее за-
метная, все менее и менее удерживаемая в памяти там,
где вы идете, не видя меня...)».
Эта стеклянная колонна пронзает, управляет, упоря-
дочивает и отражает в своей многочисленной полисемии
все множество квадратов.
Вавилонская башня, в которой многочисленные язы-
ки и письмена сталкиваются или переходят друг в друга,
преобразуются и порождают друг друга в своей абсолют-
но непримиримой инаковости, которая в то же время
утверждена в наибольшей степени, поскольку множе-
ственность в данном случае не имеет основания, она не
проживается как негативность, в ностальгии потерянно-
го единства. Напротив, она ведет к письму и песне.
«1. ...Воздух // Благодаря слову, сказанному на другом языке,
EED Диссеминация
слову выделенному, повторенному, пропетому — и тот-
час забытому — я знал, что был развязан какой-то но-
вый рассказ» (см. также 2.90).
Вавилонская башня, этот позвоночный столб языка,
также оказывается фаллической колонной, созданной как
особое устройство на нитках. «Вместо фаллосов, — рас-
сказывает Геродот, — они придумали снабженные бечев-
кой приспособления длиною в локоть; такие приспособ-
ления носились женщинами, которые, дергая за бечевку,
поднимали в воздух эти устройства, служившие копией
мужского полового органа, причем по величине они были
почти равны остальному телу».
«4.56. (...Исходя из этого ритма, вы можете медленно
выбирать, собирать свое полотнище пространства, по-
чувствовать, как костяная колонна размягчается в вас,
а руки находят свои пальцы...) —; 2.6. ...Поскольку та-
кое односложное слово не существует нив одном извест-
ном языке... Тогда я был почти на вершине цилиндра,
расширением которого я не управлял, поскольку его
основание укореняется в самых тяжелых металлах. Так
мы поднимались тысячами к белому просвету...; 1.49.
...Не постигая причину этого проникновения через зер-
кало, этого двойного отъема, не понимая того, почему
все это происходило именно с ней, ее глаза, выдергива-
ние ниток, шпага, скрытая в колонне, которая ее окру-
жала...»
«Прозрачный цилиндр, пронзающий миры и их вре-
мена» (2.38) — разве это не неощутимый воздушный
столб из «Зогара»? («3.43. ...Он обрабатывал резцом боль-
шие неощутимые колонны из воздуха /...»)? Колонны-зер-
кала, ртутный столбик, «физические и атмосферные
столбы» (1.85) на самом деле уходят в Каббалу именно
потому, что все они, кроме всего прочего, являются и «ко-
лоннами чисел» (4.52). «1.45. ...в рассеивании без образов,
без земли прыжок из выделенной и накопленной боли —
впрочем, светоносный, сухой, отчетливый, с увязанными
ESI Жак Деррида. Диссеминация
доказательствами (“минимальное число рядов — линий
или колонн, — содержащее все нули матрицы, равно мак-
симальному числу нулей, расположенных на различных
линиях или колоннах”)...», а колонны чисел сами являют-
ся к тому же деревьями (1.45 и «3.75. ...Если отложить
в сторону четыре голых стены и дерево, которое проходи-
ло через комнату, не было, таким образом, ничего иного,
кроме этого неощутимого и краснеющего дыхания спря-
танного внешнего...»). А это вкупе с авторитетом числа 10
(1 + 2 + 3 + 4) могло бы — если бы подобная привилегия
не была бы слишком полисемичной, чтобы ею можно
было овладеть за один раз — вывести на сцену древо де-
сяти сефирот, соответствующих десяти архетипическим
именам или категориям. «Сафар» означает «считать», по-
этому «сефироты» иногда переводятся как «перечисле-
ния». Древо сефирот, целиком покрытое надписями, кор-
нями уходит в Эн-Соф, «корень всех корней»; эту струк-
туру во всех ее пунктах можно обнаружить и в «Числах».
И это лишь одна из многочисленных текстуальных при-
вивок, посредством которых Каббала отпечатывается
в них; многочисленных — одновременно множествен-
ных, рассеянных, а также ритмичных, мерных, упорядо-
ченных, высчитанных, отмеченных на «полном нотном
стане» (2.74), отпадающих по тактам, как головы под ре-
заком, как бесконечная запись голосов, в «неподвижном
падении чисел» (1.33).
Марширующая колонна, колонна чисел, колонна-
зеркало, воздушный столб, ртутный столбик, золотая ко-
лонна: синтетическое золото, сплав высшей марки. «Мой
великолепный дворец построен из серебряных стен, из
золотых колонн...» Колонна — это ничто, сама по себе
она не имеет никакого смысла. Как опустошенный фал-
лос, отрезанный от самого себя и обезглавленный (i), она
обеспечивает бесчисленные переходы диссеминации и
разыгрываемое смещение полей. Она никогда не явля-
ется самой собой, но лишь письмом, которое бесконеч-
но меняет ее на нее саму, раздваивая ее с момента ее пер-
вого возведения: «Две опоры, которые было несложно и
ES3 Диссеминация
уж во всяком случае не невозможно принять за баоба-
бы, виднелись в долине, они были не больше двух була-
вок. На самом деле это были две огромные башни. И хотя
два баобаба на первый взгляд не похожи ни на две булав-
ки, ни на две башни, однако, ловко используя один осто-
рожный прием, можно утверждать, не боясь впасть в за-
блуждение (поскольку, если бы это утверждение сопро-
вождалось мельчайшей частицей страха, это уже не было
бы утверждение; хотя одно и то же название выражает
два состояния души, которые представляют собой до-
статочно отличные качества, чтобы их не смешивали так
запросто), что баобаб не так уж отличается от опоры, что
вполне можно принять сравнение этих двух архитектур-
ных форм... или геометрических... или и тех и других...
или ни тех ни других, а, скорее, возвышенных и массив-
ных форм. [...] Две огромные башни виднелись в доли-
не; я сказал это в начале. Если их умножить на два, в ре-
зультате бы получилось четыре... но я не очень хорошо
понимал необходимость этого арифметического дей-
ствия».
Также совершенно отдельное чтение могло бы раз-
вернуться в текстовых промежутках или параграммати-
ческой сети, которая освещает огонь истребления, встре-
чаемый повсюду — ив «Драме», и в «Числах» («горящая
сводка» города и книги, «бумага горела» и т. д.), — огня-
ми Торы, распаляя их друг другом; черный огонь и огонь
белый — белый огонь, текст, написанный пока еще не-
видимыми буквами, прочитывается в черном огне уст-
ной Торы, которая впоследствии начинает выписывать
в нем согласные и проставлять пунктуацию гласных:
«3.43. / ...Пролет черного огня, где я горел на белом огне...».
И хотя столько огней брошено, спроецировано текстом,
сам он не сделан в виде ссылки ни на какое «реальное»
истребление, о конечном достижении очага которого мож-
но было бы мечтать после исчерпания и перерастания всех
текстов. Огонь — это ничто вне такого «переноса» от од-
ного текста к другому. Это даже не «молчащий предмет».
Прожигание, истребление огнем (отношение смерти
ВЕШ Жак Деррида. Диссеминация
к солнцу, о котором — более «одного раза» — шла речь)
целиком и полностью, как и диссеминация, является тек-
стуальным («книга отменяет
время пепла»).
Но истребление тем самым не сводится (к своему
пеплу), наоборот, поджигается ваша мысль о тексте.
И хотя такое истребление, лишенное своего предельного
референта, «реального» референта, который при этом
удерживал бы огонь на безопасном расстоянии, как пред-
ставляется, пожирает лишь следы, пепел, не освещая ни-
чего, что было бы настоящим, это не мешает ему гореть.
К тому же нужно знать, что значит «гореть». Что такое
огонь как таковой! Из «Драмы»: «Ничто не отличает пла-
мя от огня, огонь ничем не больше пламени, то есть речь
идет о смысле слов, а не о вещах в словах. Бессмысленно
представлять себе какой-то огонь, какое-то пламя — то,
что они есть, не имеет ничего общего с тем, что мы ви-
дим». Как и преступление, истребление не имеет места «ре-
ально». Оно удерживается между желанием и выполнени-
ем, совершением и воспоминанием. Это то, что в «Мими-
ке» двойственно именуется гименом, «порочным, но
священным»; проникновение, осуществленный акт того,
что входит, сжигает и устанавливает смешение между
партнерами; но это также, в обратном и том же самом
движении, неосуществленный брак, вагинальная стенка,
девственный экран гимена, который удерживается меж-
ду наружным и внутренним, желанием и выполнением,
совершением и воспоминанием. Подвес «постоянного
намека» — как этот ПЬЕРО, УБИЙЦА СВОЕЙ ЖЕНЫ
(мим Маргеритта в этом гимене до потери зрения).
Каббала цитируется не только для того, чтобы пред-
стать в качестве аритмософии или науки буквенных пре-
вращений («2.42. ...Он утроил небо, удвоил землю и оперся
на числа»; «3.95. ...Наука комбинирования чисел — это
наука высшей внутренней логики /...»), она также участву-
ет в орфическом объяснении земли. Подобно «Драме»
(«В начале все присутствует, но ничего не существует. За-
тем созерцание создает свои последовательные экраны...
ЕШ Диссеминация
[...] ...Если я перепишу такой отрывок: “теперь я возвра-
щаюсь к тому времени, когда мир был совсем новым, ко-
гда земля была еще податливой”...»), первая последователь-
ность «Чисел» изображает нечто вроде космогонической
мифологии. Это повторение абсолютного присутствия не-
дифференцированного первоначала, но не в нуле четвер-
того предисловия, некоего воображаемого пункта 0.4, а уже
в (1.): «бумага горела» уже в начале мира.
Итак, благодаря месту, которое это орфическое
объяснение уделяет точке, воздуху и т. д., оно также опи-
сывает аналог плеромы, того исходного пространства,
пневматического слоя (техиру <tehiru>), в котором осу-
ществляется «цимцум» <zimzum>, кризис в Боге, «дра-
ма Бога», в которой Бог выходит из самого себя и полу-
чает определение. Это сжатие в одну точку, это отступле-
ние, за которым следует выход вне себя, из вечного эфира,
несомненно, отсылает к мифологии Лурьи <Louria>, но
последняя может также обозначаться именами «Гегеля»,
«Беме» и т. д. («2.54. ...“Он создал простую точку, кото-
рая превратилась в мысль, и в этой мысли он создал бес-
счетное количество набросков и выгравировал бессчетное
количество гравюр. Затем он выбил резцом искру, и она
была началом существующего и несуществующего произ-
ведения, началом глубоко скрытым и непознаваемым в сво-
ем имени...”..»).
Игра осеменения (или прививка), хотя она и поддер-
живает все эти избранные тексты, на деле разрушает центр
гегемонии, подрывает как их единство, так и авторитет.
Например, Каббала, сведенная к своей текстуальности,
к своей необъятной, абсолютно рассеянной многознач-
ности, возвращается к некоему атеизму, которым она, не-
сомненно, никогда не переставала быть, если только ее
прочитать определенным образом, то есть просто прочи-
тать: «...число, единственная вещь, в которую поверили
ваши так называемые атеисты...».
«Числа», каббалистика, в которой пробелы всегда
будут заполняться лишь временно, поскольку всегда
остается пустой одна сторона или клетка, открытая игре
Ehfei Жак Деррида. Диссеминация
преобразований, пробелы, едва-едва замеченные в каче-
стве таковых, (почти) чистое опространствование, чистое
навеки, а не в ожидании какого-то мессианского осуще-
ствления. Опространствование, которое лишь опекается.
Ведь существует, как известно, система интерпретаций
пробела, текстуального порождения и полисемии, связан-
ная с Торой. Полисемия — это возможность «новой Торы»,
которая может выйти из другой («Тора изойдет из меня»).
«Рабби Леви-Исаак из Бердичева: “Вот в чем дело: белиз-
на, пробелы в роли Торы в равной степени берутся из букв,
но мы не можем читать их так же, как черные буквы. Во
времена мессии Бог открыл белизну Торы, буквы которой
для нас сейчас невидимы, вот на какие соображения на-
водит термин «новая Тора»”».
Здесь же, наоборот, всегда будет возможен новый
текст, поскольку пробел открывает структуру неопреде-
ленно рассеянной трансформации. Белизна девственно
чистой бумаги или прозрачной колонны открывает не
столько нейтральность среды, сколько пространство игры
или игру пространства, в которых организуются эти транс-
формации и высказываются эти последовательности. Это
их воздух, «Белый воздух» (4.36).
Воздух <air>: эфир, в котором с самого начала орга-
низуется или возвышается «7...»: «7. ...Воздух / ... Воздух И
... Воздух ПП...».
Воздух — это также, по видимости (это сам вид воз-
духа cl’air de l’air>, воздух в квадрате: 1, 2, 4 черты), ми-
фически, недифференцированная атмосфера, в которой,
как кажется, уплотняется или выделяется первое присут-
ствующее, некое начало мира или чувственной достовер-
ности, изображенной «в ложном явлении настоящего»:
«7. ...Именно в этой точке больше нет места для ма-
лейшего слова. Сразу чувствуешь рот — полный, тем-
ный, с травой и глиной, ты внутри себя. Бесполезно во-
рошить, оборачиваться назад. Все заполнено и завер-
шено, никаких пробелов, интервалов, щелей. А дальше?
Это здесь. Иначе? Здесь».
БШ Диссеминация
Воздух, в который заключен квадрат мира (4.24), ды-
хание голоса (4.32), видимость (вид <air>) настоящего
(«4.8 {...Эта четвертая поверхность в каком-то смысле
подвешена в воздухе, она позволяет словам быть услышан-
ными, телам — быть видимыми, следовательно, о ней лег-
ко забывают, в чем как раз и состоит иллюзия или ошиб-
ка...)»), создает ритм мелодии.
«Белый воздух» — если он заключен в колонну, не яв-
ляется ли он также рабочей средой, средой как стихийной
пустотой и средой как доменной печью, размещенной
в центре завода (вы можете вспомнить о «разлагающемся
дыме» и «белом экране, вылезшем из завода», о которых
говорится в «Драме»)? Числа: «3.75. ...И думая о конкрет-
ной и жестокой работе, производимой последним усилием
в пустоте, и именно поэтому более конкретной и универ-
сальной, без того света, без ограничения, без призвания...
“Заводы и мостовые, которые вы видите на этих страни-
цах, могут быть сровнены с землей, столбы белого дыма
могут перестать подниматься в небо, но нельзя захватить
господство над этим портом” / “только народ является
автором всеобщей истории” /...».
Но прежде чем подобным образом стать рабочей сре-
дой и средой производства как прокладывания пути (1.24;
3.43), воздух является «напевом» <air>,To есть «цитатой».
Например, «Драмы»: «...Как будто бы он думал или меч-
тал о какой-то книге... Книге, в которой каждый элемент
(слова, фразы, страницы) оживлялся бы скрытым вра-
щением — таким, что мы бы решили, будто наблюдаем
за обращением некоей множественной сферы... Из та-
кой книги высвобождается не что иное, как воздух». Вы
могли бы таким путем восстановить цитационную сеть
«сфер», «вращений» и т. д....
Воздух, следовательно, не только «цитата», это пустая
среда текста как обобщенного цитирования, это цитата
цитаты, ее бытие-процитированной в ее призыве.
Этот сверхопределенный воздух (однако вне «иллю-
зии» изначального присутствия, расположенной на чет-
вертой стороне, всегда есть только сверхопределенность)
8EQ Жак Деррида. Диссеминация
порождает в себе, в тех или иных своих участках, обходя
«Физику» Гегеля, то есть всю философию, все тексты до-
сократических космогоний. Космогонию Анаксимандра.
И особенно космогонию Анаксимена, которая определя-
ет исходный apeiron (беспредельное, аорист, то есть, в це-
лом, имперфект) как воздух, разрежение которого долж-
но дать рождение огню. И земля, которая покоится на
воздухе, разве не является она для Анаксимандра «осно-
ванием колонны», «цилиндрической колонной» с высчи-
тываемыми пропорциями (диаметр основания равен
трети высоты), верхнее окончание которой расширено
и на нем мы как раз и живем? «Числа»: «2.6. ...Тогда я был
почти на вершине цилиндра, расширением которого я не
управлял, поскольку его основание укореняется в самых
тяжелых металлах...». Продолжение этой последователь-
ности притворяется описанием одной из «Райских сцен»
Босха, которые вы могли бы увидеть во Дворце Дожей
(Palazzo Ducale) в Венеции; оно заставляет «белый круг»,
размещенный в верхней правой части картины, открыть-
ся в направлении Пути «Дао-Дэ цзин» («Тигель, завод, на
котором мы вырабатывались друг по отношению к другу,
на самом деле в то же самое время был напоминанием и
развитием некоей формулы, предварительно вписанной
в белый круг, который был путем. Путь или, быть мо-
жет, наоборот, введение новой трассы, той же самой, но
ведущей в обратном направлении, той же самой, но зер-
кальной или, скорее, меняющей в зеркале того, кто толь-
ко что получил место; по которой мы все еще медленно
кружились, оказавшись по ту сторону от того, что не-
когда называлось отражением или зеркалом...»), посколь-
ку все «Числа», таким образом, обозначают свой вымыш-
ленный пункт отправления в толще этого множествен-
ного текста, смешивающего тело письма с письмом мифа,
сновидения, картины, со странной амальгамой того, что
мы уже не сможем назвать зеркалом.
Буквальный воздух (г) невозможно отделить от чис-
ла (элементарной графой которого он является) или от
спермы (термин/зародыш), которой он дает ход и место.
EES Диссеминация
Особенно можно отметить, что Анаксагор и Эмпедокл
систематически связывали их друг с другом. «Воздух и
эфир занимали все, поскольку оба они были бесконеч-
ными; ибо среди всех вещей эти две одерживают верх
своим числом и объемом... Во всех составных телах су-
ществуют многочисленные и разнообразные части, се-
мена (spermata) всех вещей, представляющие формы,
цвета и запахи каждого из видов». «Разделение», вводя-
щее различие в «совокупное целое», заставляет каждую
вещь «явиться» на свет. До этого, «в смешении до зерка-
ла» (3.31), «имелось большое количество земли и семена
в бесчисленном количестве, ничем не похожие друг на
друга». Нужно ли еще напоминать вам, что члены пифа-
горейской секты, которые также верили в то, что воздух
составляет среду мира, клялись тетрактисом (1 + 2 + 3 +
+ 4) и представляли числа точками, выбитыми на неких
костяшках домино? Вскоре вы узнаете об этом — в ил-
люзии этого будущего предшествующего, в которое вы
в настоящее время, все время рискуя провалиться, бес-
престанно уклоняетесь.
9. Перекресток «бытия»
<Le carrefour de F “est”>
...на восток <Est>? Мосты сломаны? Нет
карты?.. Достаточно было бы одной
ошибки произношения — и вот, гора? Вы
упрощаете, это несерьезно. Но восток?
Я спрашиваю вас, как идти на восток? От-
куда эти неопределенные и незавершен-
ные жесты? Восток <Est>? E.S.T? В общем,
справа на картине. Не стоит трудов вме-
сте отображаться на одной и той же кар-
тине, если люди отказываются переда-
вать друг другу сведения.
<Драма>
ШЗ Жак Деррида. Диссеминация
Перекресток <carrefour>, от quadrifurcus,
«имеющий четыре ответвления»... В од-
ном латинско-французском глоссарии
XII века слово «theatrum» переводится
как «carrefourc».
Литтре
Что же вы теперь будете делать с этими несколькими при-
мерами полисемической программы и текстуальной при-
вивки? Вы слышите, как часто вам говорят: это есть то;
а затем и это, и еще вот это. Воздух есть apeiron досокра-
тической фюсиологии, tehiru Каббалы, возможность при-
сутствия, видимости, явности, голоса и т. д. «Воздух»
означает это, а затем еще и это, и т. д. Также мы могли бы
сказать: квадрат есть
1. Бумага в клеточку или решетка «Парка», шахмат-
ная доска «Драмы», циферблат «Чисел», а* также тетрало-
гическая конфигурация, которая формируется в них при
участии «Логик» и четырежды четырех (IV х 4) пропози-
ций их «Программы»: «дана множественная тетралогия,
которая сама параллельно разворачивается в повторно на-
чинающийся цикл лет, считайте, что ее текст непогрешим
как закон — почти так!»;
2. «Четыре корня всех вещей» Эмпедокла или четвер-
тичный корень (4.32);
3. «Квадратное письмо», форма китайского письма
и той идеограммы, которая «означает» «писать» («3.23.
Однако нужно было выбирать между востоком и западом,
все было так, как будто нужно было решиться на прошлое
с ложным обликом будущего или на будущее, уже предна-
чертанное в прошлом... С одной стороны, неподвижная,
разлинованная безграничность, по которой пробегают
волны и образы, на которой черное и белое не обладают
одним и тем же значением, а пол и пол разделены, отсту-
пив друг от друга... С другой — вывернутая наизнанку
илистая земля, превратившаяся в телесную неразличен-
ную множественность, говорящая и вооруженная земля,
ЕШ Диссеминация
как будто бы пробуждающаяся из высчитанного сна... На
западе — опустошение красной земли, забытой под тон-
нами стали и железа. (...) ...На западе — толпа; на восто-
ке — народ. На западе — образ; на востоке — сцена. (...)
...Невидимая сила полных превращений, происходящих без
остатка, квадратное письмо, которое сотрясает самую
твердую почву...»);
4. Наконец, квадрат земли или мира. И никто не вой-
дет в этот театр, если он не умеет точно измерять землю.
(«4.24. (...Квадрат, который здесь мы пересекаем, — это
земля, но его четыре заполненные поверхности отсылают
к центру, который не находится здесь, который не идет
в счет, так что полная фигура
X
X X
(X)
включает пустую клетку для мгновения, которое не-
возможно прожить, жребия... И все-таки я углубляюсь
в этот лабиринт мертвецов. (...) Мы крутимся, преобра-
жаясь, в этом безвоздушном лабиринте, пробитом в возду-
хе...») И затем: «1.77. ...“Они проявляют их, пользуясь огнем
(высотой, небом), на нижней квадратной части (земле)
панциря*9 /...», так что квадрат письма одновременно об-
разует заполненные промежутки письма и пробелы этой
клетки или пустого листа, который из него получает не-
кое семя
EES Жак Деррида. Диссеминация
25-й отсутствующий лист
и я представляющийся 25-м
и берущий 24 — между которыми
я устанавливаю определенное отношение
и которые я связываю в один том
на котором
развернут этот отсутствующий листок
Сеансы идут 4 по 4
и так образуют целое
«пгепгра, отмечающая двойную полярность, выявля-
ется в “х” excepte <исключенного>, feux <огня>, а также
в круге согласно такому наклону по пологости, но еще бо-
лее отчетливо в образе Большой Медведицы, поскольку
mem <tet> на самом деле выражает результат соединения
креста с кругом, который является сущностью фразы-
заголовка и двойной полярности: “тет” <tet> [сосать
< teter>... головастик <tetard>... яичко <testicule>] — де-
вятая буква еврейского алфавита, соответствующая фран-
цузской Г, произносимой с выделением; (ее самая древняя
форма, обнаруживаемая в финикийском алфавите, — это
форма круга, описывающего крест. Это прототип грече-
ской теты. Предполагается, что раньше слово “teth” обо-
значало “змею”)» (Новый Лярусс). «Идея состоит в “вез-
десущей Линии, соединяющей каждую точку простран-
ства с любой другой” (648), в “змее Грехопадения, семени
(млечного пути), которое скручивается спиралью, как змей
Каббалы, вечно возвращающийся к себе, так же как
идеограмма, комета, хвост, кривая изменений; изгибается
к своей голове (своему началу), то есть к началу Поэмы.
Последний Бросок Костей — это потенциальный заро-
дыш (семя) всей Поэмы, он принимает первый Бросок
Костей”».
Итак, слово «квадрат» — это некое квадратное слово,
слово-перекресток. Благодаря своей пустой клетке или сво-
ей открытой стороне, вычтенному лицу, он не закрывает,
ЕЕШ Диссеминация
а, наоборот, осуществляет переход к перекрещиванию
смыслов. Квадрат размножается.
Но речь здесь не идет о том, чтобы восстановить ка-
кую-то мистику или поэтику числа. Мы больше не зада-
емся вопросом «какой поэт сложит песнь этому панпи-
фагореизму, этой синтетической арифметике, которая на-
чинает с того, что дает любому сущему его четыре меры,
его число из четырех цифр...», повсюду преследуя тет-
раграмму у как другие — тетрафармакон. Здесь больше нет
никакой глубины смысла.
Ведь если вы говорите «это есть то» или «“это” озна-
чает “то”» (не будем больше обращать внимание на наш
пример; квадрат, как это ни парадоксально, — лишь один
из таких примеров, то есть один из элементов, каковым
мог бы стать и любой другой из терминов текста, посколь-
ку свойство «Чисел» зависит от подобной силы замеще-
ния и формализующей абстракции), сама форма вашего
предложения, «бытие», привязанное к «желанию-сказать»,
эссенциализирует текст, субстанциализирует его, обез-
движивает. В этом случае все его движение сводится к се-
рии отдельных остановок, а его письмо — к тематическо-
му упражнению. Итак, нужно выбирать между текстом и
темой. Недостаточно установить многозначность темати-
ки, чтобы открыть беспредельное движение письма. По-
следнее не просто увязывает множество нитей в одном-
единственном термине, как если бы, потянув за эти нити,
мы могли бы в конечном счете вытащить все его «содер-
жания».
Вот почему, если говорить со всей строгостью, речь
здесь не идет о политематическом или полисемии. По-
следняя всегда предлагает свои множества, свои вариации
в некоем горизонте, который по меньшей мере является
горизонтом полного и не содержащего никакого абсолют-
ного разрыва прочтения, прочтения без неосмысленного
зазора, то есть горизонтом конечной парусии смысла —
смысла наконец-то расшифрованного, открытого, став-
шего присутствующим в накопленном богатстве своих
определений. Какое бы внимание им ни уделять и какое бы
КВ Жак Деррида. Диссеминация
значение за ними ни признавать, многозначность, интер-
претация, которая ею затребована, и история, которая
в ней отлагается, все равно переживаются как обходные
маневры, обогащающие и временные маневры страсти,
значимого мученичества, свидетельствующего о некоей
прошлой или будущей истине, о некоем смысле, присут-
ствие которого предначертано загадкой. Все моменты по-
лисемии являются, как указывает сам этот термин, момен-
тами смысла.
Стало быть, «Числа», будучи числами, не обладают ни-
каким смыслом, они попросту не имеют смысла, пусть и
многозначного. «Денежные средства <1е numdraire>, при-
бор ужасной точности, прозрачный для сознания, вплоть
до потери своего смысла...» В своем минусовом движении
(письмо в квадрате, письмо письма, которое проходит че-
рез четыре стороны и не является многозначным, много-
голосым <plurivoque> — уже по той причине, что оно, по
существу, не покоится в vox, в слове) «Числа» не обладают
никаким присутствующим или означенным содержани-
ем. A fortiori никаким абсолютным референтом. Вот поче-
му они ничего не показывают, ничего не рассказывают,
ничего не представляют, ничего не хотят сказать (3.31).
Если точнее, момент присутствующего смысла, их «содер-
жание» — это не более чем поверхностный эффект, иска-
женное отражение письма на четвертом щите, на кото-
рый вы постоянно натыкаетесь, поскольку вас влечет яв-
ление, смысл, сознание, присутствие в целом, опека
(человека в опасности). Значение «горизонта», чистая и
бесконечная открытость презентации присутствующего
внезапно заключается здесь в рамку. Она внезапно стано-
вится частью. Вот она отчасти. Она возвращается в игру.
Ее искажения уже не выполняются как отрицание какой-
то формы, которая сама является лишь другим названием
присутствия. Трансформации смысла отныне зависят не
от обогащения «истории» и «языка», но лишь от некоей
квадратуры текста, от перехода, вынуждаемого этой чет-
вертой стороной, от окольного пути пустой клетки, иду-
щего вокруг огненной колонны.
БЕП Диссеминация
Можно заключить» что понятие полисемии берется
из объяснения умножения смысла в настоящем времени.
Оно относится к речи попечения. Его стиль — это стиль
представительной поверхности. В нем забывается обрам-
ление его горизонта. Различие между полисемией речи и
текстуальной диссеминацией — это и есть различие, «не-
умолимое различие». Оно, несомненно, необходимо для
производства смысла (вот почему между полисемией и
диссеминацией различие настолько мало), но смысл, по-
скольку он представляется, собирается, высказывается,
удерживается здесь, стирает различие или отталкивает его.
Условием семантического является (дифференциальная)
структура, но само по себе, в себе, оно не структурно.
И напротив, семенное рассеивается, никогда не бывая са-
мим собой и никогда не возвращаясь к себе. Его вовлече-
ние в разделение, то есть в собственное умножение, веду-
щее к потере и смерти, устанавливает его как таковое,
в живом размножении. Оно существует в числе. В него,
конечно, вложено и семантическое, поскольку оно также
имеет отношение к смерти. Четвертая поверхность — это,
несомненно, поверхность смерти, мертвая поверхность
смерти. Семантическое, как момент желания, означает
присвоение семени в присутствии, удержание семенного
при нем самом в его ре-презентации. Семя при этом удер-
живается, чтобы сохранить себя, видеть себя, смотреть на
себя. Тем самым, следовательно, семантическое оказыва-
ется мечтой о смерти семенного. Застежкой <fermoire>
(и ее рифмами). В конечном устройстве циферблата по-
лисемическая фраза диссеминации воспроизводится бес-
конечно долго. Игра не в большей степени конечна, чем
бесконечна. «3.83.... / “Число, которое относится к поня-
тию «конечного числа», является бесконечным числом”/...».
Вот какова квадратная форма «Чисел» — вы не може-
те больше говорить «колонна в них есть это, это и то».
Колонна не есть, она есть ничто — кроме самого перехода
диссеминации. Колонна, прозрачная, как горящий воздух,
в котором текст прокладывает себе путь. Процесс проклад-
ки пути семенного текста. Да и «фаллическое» значение
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
колонны само является лишь семическим эффектом —
«тем, что называют настоящим» — отражением на чет-
вертой поверхности, осуществленным центром и пред-
ставленным овладением диссеминацией. Но этот центр,
надутый воздухом, всегда может быть чем-то заменен,
а именно — какой-то другой колонной, в пустой клетке,
в колонне чисел или замещаемых предметов.
Подобная необходимость, которая ограничивается
и успокаивается сооружением четвертой позиции и
смысла, не может не пугать. Смысл всегда является смыс-
лом бытия. «Есть», бытие как указание на присутствие,
доставляет подобный покой, это сознание идеального
господства, эту власть сознания в показе, указании, вос-
приятии или предсказании, в операции четвертой поверх-
ности. Речь которой говорит вам: колонна есть это, есть
здесь, колонна очевидная или скрытая за множеством
своих проявлений, она все равно есть. Но колонна не
обладает бытием, ни бытием-здесь, ни бытием там или
в каком-то ином месте. Она никому не принадлежит. Вы
никак не властны над ней, вы никак не можете контро-
лировать ее расширение. Вы не можете взять ее и поста-
вить из какого-то другого места сюда. Вы не можете при-
звать ее к явке. Поскольку эта колонна не является (су-
щим), поскольку она не падает под ударом «есть», вся
западная метафизика, живущая в гарантии этого «есть»,
крутилась вокруг этой колонны. И не то чтобы она ее не
видела — как раз наоборот, она думала, что видит ее. Она,
на самом деле, удостоверялась ею как центром, собствен-
ным местом, контурами ее крушения.
Подрыв того «есть», которое упрочивает для Запада
все его фантазмы господства (вплоть до господства над
своими фантазмами). В «Числах» силы «есть» не просто
отменены. Они перечислены. В них отдается отчет пу-
тем их размещения, их заключения в рамку. Как гори-
зонт. Как смысл бытия. Настоящее время изъявительного
наклонения глагола «быть», время больших скобок и чет-
вертой поверхности, таким образом, охватывается дей-
ствием, которое разделяет его на четыре. Собственно, его
OS Диссеминация
господство устраняется — то есть разыгрывается, чет-
вертуется тем, что отныне оно взято в рамку. Отныне вы
должны читать это «есть» в этом удалении или этом от-
ступлении, экарте <ecart> («геральдический термин. Чет-
верть четырехугольного щита, разделенного на четыре
части. Главный герб дома ставится в первый и четвер-
тый экарт, то есть в квадраты верхней части щита; в двух
оставшихся квадратах размещают гербы боковых линий
и материнской линии»), в котором весь Запад отделяет-
ся сам от себя.
Хотя он и является всего лишь треугольником, от-
крытым на своей четвертой стороне, удаленный квадрат
снимает осадное положение треугольника и круга, кото-
рые в своем троичном ритме (Эдип, Троица, Диалектика)
управляли метафизикой. Он разжимает их, то есть он их
от-граничивает, повторно вписывает, ре-цитирует («4.84.
(...это происходит оттого» что теперь линия больше не
замыкается ни в точку» ни в круг (“наука — это круг кру-
гов”) и больше не примыкает к своему повторению...) — »).
«Поскольку 4 является числом осуществления в аб-
стракции и креста в круге... круг, содержащий четверку,
командует ею через Триаду, которая является первой еди-
ницей измерения, первым отпечатком или первым обра-
зом разделения единства».
«Вот квадратура круга — необходимость объединить
в одной целостности мужской пол и женский, как объ-
единяют в одной фигуре или вписанный круг, или опи-
санный квадрат»; «...Тот же, кто идет за философами
через ветер и дождь, по необходимости должен был от-
правиться на поиски философского камня, квадратуры
круга...»
В «неосмысленных зазорах» «Драмы», в «почти звезд-
ных источниках» «Чисел», «подчиненных большим зазо-
рам»» метафизический треугольник, «самый верный фи-
лософский путь» больше не может замыкаться. Невиди-
мым остается именно четвертая сторона — причем как
раз по той причине, что она, как думают, видна, то есть
четверть, но не треть («как выпадающий из поля зрения
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
угол много размышляющих, хрупких журавлей. [...] Это,
быть может, треугольник, но нам не видно третьей сторо-
ны, которую образуют в пространстве эти любопытные
перелетные птицы»).
Следовательно, мы не можем успокаиваться на связ-
ке. Связывание — это зеркало. Зеркало пересекается само
из себя, то есть оно никогда не проходится насквозь. Пере-
сечение не настигает зеркало — и Запад — как нечто при-
входящее, оно вписано в его структуру. А это говорит
о том, что, всегда производясь, оно никогда не достигает
цели. Как горизонт.
И все же «есть», которое всегда означало «ту сторо-
ну» нарциссизма, охватывается зеркалом. Прочитанное
в удалении, оно никогда не достигает цели. Поскольку оно
повернуто к «есть», бытие отныне удерживается в этом
вычеркивании <rature> как квадратуре <quadrature>. Оно
записывается только через решетку четырех разветвлений.
Поэтому вместо неисчерпаемой аритмософской ли-
тературы, вместо того, чтобы добавлять к четырехуголь-
нику или священной четверке Пифагора, к четырем кар-
динальным точкам Каббалы, к Великой Четверице Экарт-
хаузена (четыре — это число силы, из него рождается 10
как универсальное число: «Умножение числа, извлечение
его корня, его умножение на самого себя и рассмотрение
отношения всех корней к их собственным корням — это
самая большая тайна учения о числах. Вот что можно най-
ти во всех тайных книгах под грифом “познание великой
четверицы”») цитаты из Сен-Мартена <Saint-Martin> или
Фабра д’Оливе <Fabre d’Olivet>, из «Луи Ламбера» или «Се-
рафиты» и т. д., — вместо всего этого выполним здесь при-
вивку одной эпохальной мысли, склоняя вас тем самым
к тому, чтобы определить меру удаленности от нее, то есть
зазор двух зазоров.
Например, исходя из следующего текста о другом тек-
сте, занятого преодолением линии («Ober die Linie», что
можно перевести как trans Нпеат <через линии» или de
tinea <о линии>): «В соответствии с чем пред-усмотрение
EES Диссеминация
мысли в этой области не может писать “Бытие”, хотя бы
даже и так: Такое перечеркивание крестом исход-
но не делает ничего, кроме как защищает, отстраняя,
а именно — оно отстраняет эту почти неистребимую при-
вычку представлять “Бытие” как нечто предстоящее, ко-
торое удерживается в себе и лишь впоследствии иногда
доходит до человека... Однако, знак перечеркивания кре-
стом после всего, что было сказано, не может свестись
к знаку, к простому негативному зачеркиванию. Скорее,
он указывает на четыре Области Четверицы (des Geviertes)
и их Собрание в Месте, где скрещивается этот крест... Мно-
жественность смыслов в сказе никоим образом не состо-
ит в простом накоплении случайно возникших значений.
Она покоится на Игре, которая остается в тем более жест-
ком контроле со стороны скрытого правила, чем в боль-
шем богатстве она разворачивается. Это правило требу-
ет, чтобы множественность смысла оставалась в равно-
весии, это уравновешивание как таковое, лишь изредка
мы можем испытать его или признать в его незамутнен-
ном виде».
Точно так же, чтобы поддержать удаление и дать ему
его шанс, введем в игру еще и следующее: «Четыре — зем-
ля и небо, боги и смертные — образуют целое, исходя из
изначальной Единицы... Присущую им простоту мы на-
зываем Четырехсторонностью [или четверицей — das
Geviert]. Каждый из Четырех по-своему отражает бытие
других. Каждый также по-своему отражает самого себя
в своем собственном бытии, возвращаясь к этому бы-
тию в лоне простоты Четырех. Это отражение не являет-
ся представлением образа. Освещая каждого из четырех,
отражение проявляет их собственное бытие и ведет его
в лоне простоты к взаимному присвоению одних други-
ми и наоборот... Отражение, которое освобождает, свя-
зывая, — это игра, которая вверяет каждого из Четырех
всем остальным, исходя из взаимного присвоения, ко-
торое удерживает их в своей складке... Это лишающее
собственности взаимное присвоение является зеркаль-
ной игрой Четырехсторонности... Мир, насколько он
EES Жак Деррида. Диссеминация
играет, есть эта игра. Это означает: игра мира не может ни
объясниться через что-то другое, ни пониматься в своей
глубине через что-то другое... Единица Четырехсторонно-
сти — это квадратура (die Vierung). Но Квадратура никог-
да не осуществляется так, чтобы она окружала Четырех,
поэтому, окружая их, она всего лишь прибавляется к ним
вторым шагом. Столь же невероятно, что Квадратура мо-
жет быть завершенной, когда Четыре, появившись и при-
сутствуя, просто удерживаются друг возле друга. Квад-
ратура есть (west) настолько, насколько она является зер-
кальной игрой, которая выводит на свет, игрой тех, что
вверены друг другу в простоте. Бытие Квадратуры — это
игра мира. Игра зеркала (Spiegel-Spiel) мира — это круг
достижения случания (der Reigen des Ereignens). Вот поче-
му круг — это кольцо (Ring), которое закручивается само
на себя, когда оно разыгрывает игру отражений. Застав-
ляя случаться, оно освещает Четырех светом их просто-
ты. Заставляя сверкать, вездесущее кольцо открыто при-
сваивает Четырех друг другу и приводит их к загадке их
бытия...».
«4.23 (и вот сторона, обращенная к вам, — то, что вы
понимаете под “природой”.) — ».
10. Прививки, возвращение
к перекидному шву <surjet>
Главное — заставить песню играть как
прививку, а не как смысл, произведение
или спектакль.
«Логики»
«Обратим же наши глаза, подобно набожной жительнице
Халдеи, к абсолютному небу, на котором светила в запу-
танном числе составили наше свидетельство о рождении
и держат прививку наших договоров и наших клятв. Но
в отсутствие полярной звезды, нужной, чтобы определить
ЕШ Диссеминация
местоположение, без планеты, чтобы определить высоту,
без секстанта и без видимого горизонта...»
Так пишется вещь. Писать значит прививать. Это одно
и то же слово. Сказ вещи возвращен ее бытию-привитым.
Прививка не примешивается извне к собственной при-
роде вещи. Вещь существует не в большей степени, неже-
ли оригинальный текст.
Поэтому все текстуальные выборки, которые разме-
чают «Числа», не создают места, как вы могли бы решить,
для «цитат», для «коллажей» или даже для «иллюстра-
ций». Они не прикрепляются к поверхности и не встав-
ляются в промежутки текста, который уже существовал
бы без них. Они сами читаются только в операции свое-
го повторного вписывания, в своей прививке. Снорови-
стое и скромное насилие невидимого надреза в толще
текста, рассчитанное осеменение разрастающимся ино-
родным телом, благодаря каковому разрастанию два тек-
ста трансформируются, деформируются друг посред-
ством друга, заражают друг друга своим содержанием,
порой пытаются отбросить друг друга, эллиптически
переходят друг в друга и снова порождаются один в дру-
гом в повторении, на краю перекидного шва. Каждый при-
витый текст продолжает переходить на место своего изы-
мания, но и преобразует его, захватывая новый участок.
Он определен (мыслим) в операции, и одновременно
он является определяющим (мыслящим) по отношению
к правилу и следствию операции. Например, по отноше-
нию к фону и форме: «1.33. ...(“Фон и форма изменились,
поскольку изменились условия и теперь никто не сможет
дать ничего, кроме своего труда99)... — » или по отноше-
нию к эллипсу: «2.98. ...“Его развитие, которое порождает
товар как двухстороннюю вещь, как потребительскую
стоимость и меновую, не уничтожает эти противоре-
чия, а создает форму, в которой они могут двигаться.
Впрочем, это единственный метод для разрешения реаль-
ных противоречий. Например, имеется противоречие
в том, что некое тело постоянно падает на другое тело
ЕЕЕ1 Жак Деррида. Диссеминация
и в то же время постоянно от него отдаляется. Эллипс —
это одна из форм движения, посредством которых это
противоречие одновременно разрешается и воплощает-
ся” / — ». Больше не забывайте об эллипсе.
Трансплантация множественна. «...Причина никог-
да не бывает той же самой, но операция осуществляется
как бы над суммой, которая возрастает...» «...Я брожу,
выдергивая то там, то здесь нравящиеся мне высказыва-
ния из книг, но не для того, чтобы их хранить, нет у меня
никаких хранилищ, а чтобы перенести их в эту книгу, где
они на самом деле будут моими не в большей мере, чем
на своем исходном месте». Прививаемый к разным мес-
там, изменяемый каждый раз в результате переноса, че-
ренок в итоге прививается сам на себя. Становится дере-
вом, у которого в конечном счете нет корней. Но в таком
дереве чисел и квадратных корней в то же время все яв-
ляется корнем, поскольку привои сами по себе состав-
ляют все собственное тело, все дерево, которое называ-
ют настоящим, — ложе сюжета.
Это возможно только в удалении, которое отделяет
текст от него самого, осуществляет купюру или дезарти-
куляцию молчащих моментов опространствования (по-
лос, черт, тире, цифр, точек, скобок, пробелов и т. д.). Раз-
нородность письма — это само письмо, прививка. Оно
исходно множественно, или его просто нет. Именно по-
этому фонетическое письмо «Чисел», как обнаружива-
ется, прививается к письменностям нефонетического
типа. В особенности к ткани так называемых китайских
идеограмм. Которыми оно как паразит питается. До сего
момента введение китайских графических форм — осо-
бенно нужно учесть «Фунт» <Pound> — могло приво-
дить, если выдвинуть худшую версию, к украшению тек-
ста или снабжению страницы дополнительным соблаз-
няющим воздействием, намеренному ее загромождению,
освобождающему поэтику от ограничений конкретной
системы лингвистического представления, или же, со-
гласно лучшей версии, к введению в игру сил рисунка
именно в той форме, в какой они могут непосредствен-
033 Диссеминация
но воздействовать на того, кто не знаком с правилами их
функционирования.
Но здесь операция состоит совсем в другом. Тяга
к экзотике в ней никак не задействована. Текст пронзает-
ся иначе, он извлекает другую силу из графии, захватыва-
ющей его, берущей его в рамку в своем упорядоченном,
навязчивом, все более и более массовом, неотвратимом,
приходящим извне — с Востока <de Г«Г> — действии,
действующей в самой так называемой фонетической по-
следовательности, обрабатывающей ее, переводящейся
в нее еще до момента своего появления, до момента сво-
его последующего признания, в момент, когда она выпа-
дает в концовку текста, как остаток или заключение. Ее
действенный перевод был втайне засеян, она издавна под-
рывала организм и историю вашего домашнего текста,
если она обозначает его конец точкой, подобной остав-
ленной метке завершения работы, всегда, однако же, про-
должающейся —
И сила этого труда связана не столько с отдельным
символом, сколько с «фразами», то есть уже с неким тек-
стом, с некоей цитатой. Никогда цитата не сможет столь
явно обозначить побуждение к движению (фреквентатив-
ную форму движения — ciere спобуждать, волновать>),
заводя речь о потрясении некоей культуры или истории
в их фундаментальном тексте, о сотрясении, то есть о дви-
жении, от которого трясется все сразу.
Таким образом, толща текста открывается на ту сто-
рону целого, на ничто или внешний абсолют. Благодаря
чему его глубина оказывается одновременно ничтожной
и бесконечной. Бесконечной потому, что каждый его слой
скрывает под собой еще один слой. Чтение в таком случае
напоминает радиографию, которая под внешним слоем
последнего слоя краски обнаруживает другую, скрытую
картину — неважно, того же художника или другого, ко-
торый за недостатком материалов или в поисках нового
эффекта использовал в качестве исходного материала ста-
рое полотно или же сохранил фрагмент первого эскиза.
А под этим слоем — другой слой и т. д. Учитывая, что,
15-6705
ШЭ Жак Деррида. Диссеминация
если потереть эту текстуальную материю, которая, как ка-
жется, сделана в данном случае из написанных или прого-
воренных слов, вы найдете во многих случаях описание
картины, выпавшей из своей рамки, заключенной в дру-
гую рамку, засунутой после своего похищения в некий че-
тырехугольник, который в свою очередь тоже разорван
с краю.
В него заключена вся вербальная ткань и вы вместе
с ней. Вы рисуете, вы пишете, читая, вы в картине. «Следо-
вательно, писатель, как и ткач, работает с изнанки». «4.36.
(...Теперь вы персонаж в картине, который смотрит в глу-
бину картины, — так что больше нет ни спины, ни, соб-
ственно, лица, вы пойманы “полотном” но если вы попро-
буете отметить это, вернется головокружение, черное
вращение, которое освещает отсутствие горизонта и
моря...) — ».
Благодаря этому постоянному движению замены со-
держаний обнаруживается, что обрамление картины —
это не то, через что нечто предлагало бы себя для видения,
представления, описания, показа. Была рамка, которая со-
бирается и разбирается, вот и все. При этом даже не пока-
зываясь такой, какой она есть, в последовательности за-
мещений она оформляется и трансформируется. И эта
операция, которая напоминает вам — в более-чем-насто-
ящем, — что была рамка с этим двойным дном, что она
открывалась, то есть закрывалась на зеркало, — вот то,
что неумолимо будет держать вас настороже.
На краю. Настороже на самом краю. Во внимании
к краю вращающегося циферблата вы будете держаться
на краю головокружения, потому что, смотря «в глубину
картины», на которой вы сами расположены, вы узнаете,
что ее бесконечная глубина к тому же была еще и бездон-
ной. Абсолютно поверхностной. У этого объема, этого
куба не было глубины. Вот почему вы могли бы произ-
вольно смешать его с плоским квадратом, с циферблатом
(солнечным — смертельным), нарисованным на земле,
скрывающим землю там, где воткнута его «стрелка»
(2.46), его «палочка» (4.84), его стебель («Солнечные часы,
EED Диссеминация
инструмент, который показывает время дня непосред-
ственно при помощи тени, отбрасываемой от прута, па-
раллельного земной оси и носящего название “указателя”
<style>». — Литтре). Вы будете бесконечно долго крутиться
вокруг него, в головокружении, всегда отбрасываясь вов-
не силой отсылки. Но вы не будете выставлены вовне, по-
скольку абсолютное внешнее не является внешним, оно
как таковое необитаемо; вы будете лишь постоянно из-
вергаться, всегда находиться под действием извержения,
выброса вне этой световой колонны посредством силы
вращения, при этом ею же вы будете и задерживаться. Бла-
годаря открытости четвертой стороны или благодаря пу-
стой клетке в центре четырех квадратов вы будете при-
влечены к еще незаконченной, незавершимой работе, вы
будете пришиты к ней перекидным швом. Квадрат или,
если вам угодно, куб не замкнется сам на себя. Нужно бу-
дет постоянно обрезать “v”, «подрезать пергаментные бо-
роды» или обрезать до четырехугольника, «4.100. ([...] Вы,
дойдя до камня, который не является камнем, до попереч-
ной множественности, прочитанной, заполненной, стер-
той, сгоревшей и отказывающейся замыкаться в своем кубе
и в своей глубине) — (1 + 2 + 3 + 4)2 = 100 — jc ^».
Вот вы рядом с первым камнем — ^расшифровы-
ваемым камнем, — который вовсе не одинок, который
есть все камни вместе, все остолбеневшие камни, драго-
ценные и нет, все, что отметили ваш путь, ведь он был
одним, но многочисленным. Calculus <камешек>. Булыж-
ник <cailloux>.
11. Перебор <Le surnombre>
Держа свой путь, я дошел до этих мест,
где, по твоим словам, погиб царь. Тебе,
женщина, я скажу все правду от начала и
до конца. Следуя по своему пути, когда я
приближался к этой развилке...
Эдип
15
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
Судьба царя была такая — умереть от
руки ребенка, который родится от меня
и от него. Но Лай, как все могут подтвер-
дить, был убит пришлыми разбойника-
ми — давным-давно, на развилке...
Иокаста
Когда он дошел до подножия пика, кото-
рый закреплен в земле многоступенча-
тым медным фундаментом, он остано-
вился на одной из многочисленных до-
рог, которые перекрещиваются в этом
месте, возле пустого кратера, в котором
записана клятва (...)
...Через мгновение мы обернулись:
Эдипа не было с нами, больше вообще
никого не было...
Посланник («Эдип Колонский»)
«Числа» определяются с многочисленными повторами,
в движении окольного пути. Благодаря чему они охваты-
вают все речи, которые вы могли бы держать по их пово-
ду. Избыточность подобных речей заранее потерпела бы
поражение, была бы сведена на нет. Тем самым «Числа»
отмечают сами себя. 10 включает XI. Их имперфект выхо-
дит за пределы вашего будущего предшествующего.
Так что после этого долгого поворота циферблата вы
снова вернулись к краеугольному камню, камню преткно-
вения, дойдя до камня, который не является камнем, а чем-
то, что будет заложено в форме граничного вопроса: поче-
му это совсем иное перечисление, записанное с подоб-
ной отчетливостью, сохранится как нечто нерасшифро-
вываемое?
Почему этот текст внешнего, драма, которая на этот
раз не имеет тайны
Тайн <Myst> дает Др <Dr>
Др дает Тайн
EES Диссеминация
Каждый текст Пр <Ое> дан два раза
| лишь одно и то же» обращенное [sic]
Тайн и Др, Др и тайн, и I представляя
одно вне то, что
другое хранит внутри [...]
«предполагая, что драма является чем-то отличным
от приманки или ловушки для нашего безмыслия, что она
вытесняет, скрывает и всегда сдерживает священный смех,
который ее развяжет... что загадка за занавесом существу-
ет разве что благодаря вращающейся гипотезе, постепен-
но разрешаемой здесь и там посредством ясности нашего
ума: что более, чем вспышка газового рожка или электри-
чества, ее увеличивает инструментальное сопровождение,
распределитель Тайны».
драма без тайны и, что главное, без ключа не может
расшифроваться, продемонстрировав свою точную и за-
ранее задуманную архитектуру?
В действительности это вопрос камня и архитектуры,
театра (сдгге/оигс), храма, колонн и Итепь и, как вы только
что отметили, вопрос pronaos'a: «Pronaos — так раньше
называлась отдельная предхрамовая площадь; часто она
образовывала довольно большое квадратное помещение,
ограничиваемое справа и слева стенами cella <придела>»
(Катр-мер де Квинси <Quatre-mere de Quincy>).
Вопрос на перекрестье дорог, вопрос разветвления
или разветвления в квадрате, вопрос перекрестка, на ко-
тором каждый путь, отмеченный камнем, становится
двойным, тройным, четверным. Парменидовское колеба-
ние или, если вам угодно, эдиповское. Прочитываемое уже
через кованую железную решетку «Парка»:
«Я полностью располагаю временем. И снова я вытя-
гиваю свои ноги, опираясь туфлями на кованую желез-
ную решетку. [...] Там маленький мальчик ударяет своей
ложкой по столу; все к нему поворачиваются, с ним начи-
нают говорить. Женщина, высокая шатенка, — возмож-
но, это она сидела напротив меня и тщательно выбирала
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
свои блюда; сидела слева от меня в большой комнате и
смотрела через остекленную бухту на темную воду, тем-
ную округу и внезапные вспышки фар, раз-два-три-че-
тыре — ничего — раз-два — ничего — раз-два-три-четы-
ре; поднося стакан к своим губам и направляя в мою сто-
рону вилку [...]». И далее: «Так, спрятавшись в старом клене,
в своей хижине или своей крепости (две доски, прикреп-
ленные к разветвляющейся ветке), он мог ребенком на-
блюдать, как люди ходят туда-сюда по саду; наблюдать за
входом внутрь дома, открытым окном или дверью; он мог
оценивать наличествующие силы, размещать войска, эки-
пажи, флаги; командовать, не подавая голоса...».
Теперь отойдем от решеток «Парка», от бессонницы
этого ребенка, от «кровати страниц велени». В последова-
тельности 1 уже была расставлена сеть: «2.46. ...учась, та-
ким образом, узнавать меня, и это была как будто бы не-
которая сеть, решетка, перекладины которой (стены, ли-
нии, слова) были наложены на мое лицо, у которого теперь
не было ни конца, ни покоя... Следовательно, никто не рас-
сказал свою историю [...]».
Литография этого вопроса о ^расшифровываемом,
рожденная в эллипсе его рождения, недостающего так, как
недостает буквы слову или слова фразе («4.88 [...] “что-
то не было сказано” [...] — »), и из убийственного ослепле-
ния, в ничего не скрывающей очевидности («1.5. [...]
Я понимал, что постоянно осуществлялось одно-един-
ственноеубийство, что мы дошли до того, чтобы вернуть-
ся к нему через весь этот окольный путь...»). Это было
эллиптическое предписание «Драмы»: «С другой стороны,
имеется . (Точка в пробеле, вот что это.) Я представляю
себе ловушку, которая работает именно тогда, когда я счи-
таю себя наиболее свободным. Поскольку я знаю и мог
бы знать другие языки, я мог бы пользоваться другим син-
таксисом — но, в сущности, ничего бы не изменилось [...]».
«Числа»: «1.13 ...Рассказ начался внезапно, когда я решил
сменить язык в том же самом языке...».
То, что вы только что прочитали по диагонали тетра-
логии, дает здесь отпечаток, по-прежнему загнанный в ка-
EES Диссеминация
мень. В древних следах некоего ножа и воздуха вы прочи-
таете между NATUS и NAOS эллипс рождения (некоего А,
которое приводит ко всем первоначалам) и замену U не-
ким закрытым О. Нерасшифровываемое дается здесь как
то, что проще всего понять:
«3.19. ...затем было перекрестье» развилка» и нужно было
выбирать между двумя дорогами; испытание же было
ясно обозначено надписями» выбитыми ножом на сте-
нах... Однако» начертанные фразы было одновременно
легко понять и невозможно прочитать» можно было
заранее знать» о чем они говорят» но проверять их было
запрещено. На одной из них» к примеру» можно было ра-
зобрать следующее:
NTOS
что не соответствовало никакому известному целому
слову... Можно было бы сказать» что со временем буквы
были наложены на эти огромные фасады» которые возвы-
шались там» без объяснений» в опаленном вечере
можно
было бы сказать» что они образуют картины в руинах
некоей исчезнувшей истории и что сам воздух надрезал
камень» чтобы разместить на нем мысли камня» кото-
рые камень не мог видеть...».
(Вы могли бы сравнить этот греческий Y с китайским
I последовательности 3, а затем с определенным V.) «Коль-
цо, его окружающее, в части, которая находится по сосед-
ству с нашим местоположением, отмечено продольным
разрезом, который в действительности, если смотреть на
него с нашей стороны, придает ему смутный облик за-
главной буквы Y... Мы можем сказать о нашем Солнце, что
оно определенно расположено в точке Y, в которой встре-
чаются три составляющие ее линии, и, представляя себе
EES Жак Деррида. Диссеминация
эту букву так, как если бы она обладала определенной плот-
ностью, определенной густотой, впрочем, совершенно
ничтожной по сравнению с ее длиной, мы можем сказать,
что наше место — в середине этой плотности. Представ-
ляя, что мы размещены именно здесь, мы больше не ис-
пытываем никакого затруднения в связи с объяснением
рассматриваемых вопросов, которые являются всего лишь
результатами перспективы».
«Числа» не расшифровываются именно потому, что
они всегда будут надписями на фасадах — но именно на
fa^adeS — во множественном числе (S рассеивает ваС,
«S, — утверждаю я, — это аналитическая буква; она как
ни одна другая растворяет и рассеивает... Здесь мне пред-
ставился случай за пределами как вербального значения,
так и чисто иероглифического, слова или неразборчивых
каракулей, обозначить существование некоего тайного
направления, смущенно указанного орфографией...»), от
которых будет отражаться ваше чтение, ускользая в ко-
нечном счете от самого себя. Как разрушенная колонна,
«Числа» неустанно извлекаются из крипты, в которой, как
вы могли бы решить, они заключены. Они не расшифро-
вываются потому, что только в вашем представлении они
могли бы взять на себя смелость криптограммы, скры-
вающей в себе тайну некоего смысла или некоего сооб-
щения. X — это не неизвестное, но хиазм. Текст не чита-
ем только потому, что он только читается. И по той же
причине он непереводим. То, что здесь вписывалось ост-
рием ножа, не сможет быть высказанным, переведенным,
переложенным в некую растолковывающую речь, по-
скольку ничто из этого вписанного не относится к по-
рядку речевого смысла или значения. Не-рас-шифровы-
ваемое, следовательно, оказывается таковым именно по-
тому, что
1. то, что привязывает текст к числу и его цифре (шиф-
ру) (к письму, которое больше ни о чем не говорит, ниче-
го не высказывает) не поддается разложению, раз-бору
<d6-faire>, распарыванию, расшифровке;
EEQ Диссеминация
2. что-то в нем» что-то» что ничем не является и что не
имеет места» больше не поддается повествованию» пере-
счету, исчислению, шифровке, расшифровке.
Два этих предложения поворачиваются друг против
друга» удваивают друг друга и противоречат друг другу.
Они образуют некий квадратный круг: «Числа» оказыва-
ются нерасшифровываемыми потому, что нечто в них
превосходит шифр; и в то же время они не расшифровы-
ваются именно потому» что все в них не зашифровано» но
само относится к шифру. Не расшифровываются, потому
что многочисленны, не расшифровываются, потому что
бесчисленны. Скрипция как контрадикция для повторно-
го прочтения. Круг квадратуры.
Исходно задается как будто бы наиболее простая для
понимания мысль — бесчисленное как большая «толпа»
ничем не чуждо природе числа. Можно без какого бы то
ни было противоречия помыслить бесчисленные числа.
«Числа» всегда сохраняют отношение с беспредельным
рассеянием — зародышей, толпы, народа и т. д. (само это
«и так далее» в той модификации, которая ранее уже была
ему сообщена, составляет первую идеограмму (qunzhong)
после идеограммы квадрата): «2.22. ..Миллионы сердец, го-
товых забиться, миллионы мыслей, готовых притворить-
ся, — и вот выход пространства, масс — yf д —». Бесчис-
ленное здесь — это большое число как сила, которая не
поддается ни перечислению, ни классификации, ни пред-
ставлению, ни управлению, сила, которая всегда превос-
ходит спекуляцию и порядок правящего класса» в том чис-
ле и свое собственное представление. «2.42. ...И я снова
видел площадь, затянутую туманом, собравшихся рабочих
с их флагами, оружием, а под белым туманом — красные
пятна полотнищ, которые развевались, отвечая так на
призыв... Бесчисленные на рассвете, бесчисленные и вытес-
ненные в настоящий момент на поле страницы, ограни-
ченные, слепые силой, которая проходит через них без удер-
жу, единственная надежда множественной, насильствен-
ной мысли... Я ослабил хватку...» В подчинении этой силе —
КЕШ Жак Деррида. Диссеминация
силе бесчисленного числа — численное число (закрытого
квадрата или не вычтенной четвертой поверхности) не
выдерживает напора. Оно играет реактивную роль, оно
противопоставляет свой порядок и свои рамки рассеива-
ющему блужданию. Оно исчерпывается, пытаясь прокон-
тролировать его, ломается в усилии ему помешать.
Но все это происходит между чисел. Бесчисленное, ко-
торое, как кажется, подрывает рамки или перепрыгивает
через планку, — это то, в чем вы всегда сможете дать от-
чет. Бесчисленное не просто начинает превосходить или
ограничивать численный порядок на его границах, огра-
ничивать извне. Оно прорабатывает его изнутри него
самого. Перебор в каком-то отношении принадлежит
колонне чисел, ее выступу. Число всегда по эту и по ту сто-
рону от самого себя, в «удалении», которое может прочи-
тываться машиной. Избыток и недостаток в нем умножа-
ются и обуславливают друг друга в дополнительном
сочленении одного с другим. «Избыток во всем — это не-
достаток». «3.75. ... / “Кто способен представить свою до-
бавку к тому, чего не хватает?” Точно так же след
оставляется лишь в стирании своего собственного «при-
сутствия», так что прочерчивание следа не является про-
сто-напросто иным или внешним стирания. Скрипция
контра-дикция <scription contra-diction>. Следовательно,
число, след, рамка являются самими собой и собственным
перехлестом. «Парк» уже разбивал на квадраты «молча-
ние, которое замыкает, не оставляя следов», молчание, ко-
торое при этом по необходимости подчинено «беспрерыв-
ным маршам». «Драма» также с большой регулярностью
описывает стирание и затуманивание следов, «истечение
без следов, без краев». Это отношение к отсутствию сле-
дов, к бесчисленному, которое также является и безымян-
ным, отмечается в «Числах» как отношение к тому, что на-
зывают моей смертью. Оно конститутивно для моего
«единства», то есть для моего вписывания и моего заме-
щения в серии чисел.
Условие возможности и невозможности трансценден-
тной субъективности. Расшифровываемое — нерасшиф-
EES Диссеминация
ровываемое единство: «2.10. ...Я должен был одновременно
отметить, что я был единицей среди других единиц, но при
этом единицей, которой нельзя дать цифру, единицей, по-
стоянно возбуждаемой своим собственным концом... На са-
мом деле моя смерть начала набухать в глубине, и чтобы
пойти дальше — ».
Перечисление, как и обозначение <dd-nomination>
собирает и разбирает, сочленяет и расчленяет одним и
тем же жестом число и имя, отграничивает их на грани-
цах, к которым постоянно подступает без-граничное,
перебор, прозвище <surnom>. Так открывается и снова
закрывается ларец. Чисел и слов не хватает для произ-
водства письма, в силу чего они в нем сотрудничают, при-
водя к перепроизводству (и прибавочной стоимости), без
которой никакая мета никогда не была бы оставлена.
«1.41. ...больше не было объяснения, которое могло бы ска-
зать, что со мной происходит... Я жил в развертывании
и раскручивании, и то, что объясняется здесь, на моем
месте, должно быть сказано иначе и разрушено... Я все так
же пялился в траншею, которую не охватишь взглядом,
которая не смогла бы в какой-то момент измениться
в следе и в числе, в сторону узла, сплетения, оврага, беспо-
лезности слов “узел” “сплетение”, “овраг”...»
Так же, как четвертая поверхность, которая, состав-
ляя часть квадрата, отражает его, искажает его, открывает
всю его выстроенную фигуру, позволяет видеть, остава-
ясь невидимой, так же как каждый угол квадрата не толь-
ко принадлежит целостности поверхности, но и умножа-
ет ее, пригибая ее к ней самой — ломая ее в месте, где ее
нужно искривить, отмечает ее, закрывает ее и разрубает
ее одним махом, всегда позволяя разместить на ней до-
полнительную поверхность попечения, множащуюся бо-
ковую плоскость, которая позволяет видеть то, что ниче-
го не имеет в виду, — так и перебор составляет часть чис-
ла и принадлежит к среде, которую он превосходит. В ней
он приумножает свой избыток в своей невидимой колон-
не. Таким образом, колонна слов, колонна чисел оказыва-
ется в избытке. Она есть избыточный элемент (срок и
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
эфир), чисел, — колонна, установленная (по)середине сол-
нечного циферблата, до потери зрения. «4.36. (...Следова-
тельно, этой мысли не найти: она приходит в массе, в ко-
торой, однако, гнев сдерживается как поток, измененный
и оформленный в колонну слов, она как раз и находится
в знаке, который избыточен —) — —» (dong — пенис).
Эта невидимая колонна, которую вы могли бы невер-
но отождествить с той «средой, в которой цифрам больше
нечего видеть —» (3.59), оказывается неразрешимым об-
разом, в той неразрешимости, которая распространяет
свое воздействие по цепочке, и уникальной, и бесчислен-
ной. Неуправляемой в своей высоте, неконтролируемой
в своем расширении. Она является уникальной и бесчис-
ленной как то, что называют настоящим. Уникальное —
то, что не повторяется — не обладает единством, потому
что оно не повторяется. Только то, что повторяется в сво-
ей тождественности, может обладать единством. Следо-
вательно, уникальное не есть это единство, не обладает им.
Уникальное в таком случае — это apeiron, безграничное,
пропасть, имперфект. И в то же время цепочка чисел сде-
лана из многих уникальных (uniqueS). Попытайтесь мыс-
лить уникальное как таковое во множественном числе,
«уникальное Число, которое не может быть другим». Вы
увидите, как рождаются «миллиарды рассказов», и вы пой-
мете, что один и тот же термин может дважды дать заро-
дыш — сдвоенную колонну — рассеиваясь в перепроиз-
водстве. «О перепутье, [...] О гимен, гимен (“порочный,
но священный”, устойчивый, но прорванный, как сверка-
ющий экран, как глаз (1.45)], ты дал мне жизнь, и, дав ее
мне, ты во второй раз создал зародыш из того же семени;
ты вывел на свет божий отцов, ставших братьями своих
детей, детей, ставших братьями своих отцов, жен, оказав-
шихся разом и женами, и матерями своих мужей, как и
все остальные мерзости, встречающиеся у людей». «...Бес-
численны ночи и дни, которые в своем движении порож-
дает бесчисленное время [« / “время в такой же степени
чуждо числу, в какой кони и люди отличны от чисел, кото-
ЕЕП Диссеминация
рыми они пересчитываются, и отличны друг от друга"/»],
дни и ночи, которые своим бегом, ударом копья, разру-
шат теперешнее дружеское согласие под самым необяза-
тельным предлогом. Тогда в своем сне мой холодный труп,
спрятанный под землей, удаленной рукой тайны, которую
она придерживает, вовсе не разыгрывая убеленного седи-
нами маньяка, выпьет, как придет время, их теплую кровь,
если Зевс еще остается Зевсом и если Феб, его сын, прав-
див. Но — ведь я не намерен открывать то, что не нужно
говорить, — позволь мне остановиться на том, с чего я
начал, и главное, помни о своем обещании, и никогда ты
не скажешь, что в лице Эдипа ты получил бесполезного
жителя этой страны, если только боги мне не лгут» («Эдип
Колонский»). Ведь «мир — это игра Зевса или, если гово-
рить в терминах физики, огня с самим собой. Единое яв-
ляется в то же время многим только в этом смысле». Огонь
всегда играет с огнем.
Поскольку «Числа» выстраиваются вокруг этой избы-
точной и невидимой колонны, то есть в ней, тот, кто не
имеет ничего общего (что видеть) со <n’a rien a voir avec>
всей этой операцией, законно выскажет жалобу, что ему
здесь не на что смотреть. И нечего взять. В самом деле. Он
пожалуется на это и здесь, и там, цепляясь за свой родной
язык, наблюдая, но оставаясь слепым по причине слепо-
ты к ослеплению, развертываемому в смятой колонке,
запрещающей чтение, с недели на неделю... «фельетон,
управляющий общностью колонок... колоннадами това-
ров...». «Но кто же умер?» — спросит он со всей наивно-
стью. «Симпатия относилась к газете, уклоняющейся от
такого рассмотрения: тем не менее ее влияние просто
ужасно, она навязывается организму, сложному, затре-
бованному литературой, божественной книжке, моно-
тонность — всегда невыносимая колонка, которую пред-
почитают распределить на протяжении страницы в сот-
нях и сотнях экземпляров».
«4.48. (...Теперь вы начинаете понимать, что этот
роман упорствует в науке собственного окольного
ВШЗ Жак Деррида. Диссеминация
пути, теперь вы знаете, что такое отказ от всякого
рождения, исчисление, которое заставляет вас с откры-
тыми глазами ввязываться в другие отношения) — »
Вы только начнете. Нужно было начать снова. «То, что
объясняется здесь, на моем месте, должно быть сказано ина-
че и разрушено» (1.14). «Чтения, что не имеют никакой
иной цели, кроме как продемонстрировать эти научные
отношения». Вы с открытыми глазами ввяжетесь в дру-
гие отношения — такова была мелодия перебора, пропе-
тая во всю глотку.
Пределы квадрата или куба, бесконечных зеркальных
развертываний и свертываний зрелища не будут иметь
пределов. То, что в них останавливалось, уже осуществ-
ляя некое открытие пространства своего повторного впи-
сывания, уже шло на вложения, охват другим многоуголь-
ником. Имелась какая-то иная геометрия, которая долж-
на еще прийти. Всегда другая. Та же самая.
Чтобы начать понимать, «нужно было, следовательно,
снова пройти через все точки кругооборота, через его од-
новременно скрытую и видимую сеть и попытаться в то
же мгновение оживить его память как память умирающе-
го, достигшего поворотного момента...» (3.87).
(1 + 2 +3 + 4)2 раз. По меньшей мере.
Примечания
1 См.: La differance* И Theorie d'ensemble, coll. «Tel Quel»,
1968, p. 58 sq.
2 Cm.: De Гёсопоттне restreinte a Гёсопоттне gen6rale H
L^criture et la Difference, coll. «Tel Quel», 1967**.
з О понятиях «вмешательство» и «палеонимия», о кон-
цептуальной операции переворачивания/смещения
(изъятии признака, номинальном сходстве, привив-
ке, расширении и реорганизации) см.: Positions И Рго-
messe, №30—31, р. 37***.
4 «La diff6rance», op. cit., p. 46 sq.
5 Aufheben (о данном переводе**** см.: Le puids et la
pyramide П Hegel et la pensee moderne, P.U.F., 1971).
Рус. пер.: Деррида Ж. Различение И Деррида Ж. Голос и феномен. СПб.,
1999.
Рус. пер.: Деррида Ж. От экономии ограниченной к экономии всеоб-
щей // Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000.
* ** Рус. пер.: Деррида Ж. Позиции И Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996.
* *** Тексты, используемые Деррида, были переведены с французского для
сохранения общей логики текста и оттенков смысла, которые были
бы утрачены при использовании классических русских переводов.
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
Движение, в котором Гегель определяет различие как
противоречие («Der Unterschied Uberhaupt ist schon
Wiederspruch am sich» — «Наука логики» II, 1, гл. 2,
С), как раз и нацелено на то, чтобы сделать возмож-
ным конечное (онто-тео-телео-логическое) снятие
различия. Различение, которое, следовательно, не яв-
ляется диалектическим противоречием в этом геге-
левском смысле, отмечает критический предел идеа-
лизирующих сил снятия во всех пунктах, где они мо-
гут прямо или косвенно действовать. Оно вписывает
противоречие или, скорее, поскольку различение все-
гда остается различающим и рассеивающим, многие
противоречия. Таким образом, отмечая «производя-
щее» (в смысле всеобщей экономии и с учетом поте-
ри присутствия) и различающее движение, экономи-
ческое «понятие» различения не сводит противоре-
чия к гомогенности одной-единственной модели.
А ведь такой риск возникает всегда, когда Гегель де-
лает из различия момент общего противоречия. По-
следнее в своей основе всегда остается онто-теоло-
гическим. Точно так же, как и сведение к различию
сложной всеобщей экономии различения <diff£-
гапсе>. (Примечание остаточное и для предисловия
запоздалое.)
6 Предисловие не выставляет лобовую или выступа-
ющую вперед переднюю сторону некоего простран-
ства. Оно не выставляет напоказ первую сторону или
поверхность <sur-face> определенного развертыва-
ния, которое таким образом поддавалось бы пред-
варительному просмотру и представлению. Преди-
словие — это предварение слова (praefatio, prae-fari).
Такое речевое предвосхищение протокол меняет на
памятник текста: первая страница, наклеенная на
увертюру — первую страницу — некоего регистра
или перечня актов. Во всех контекстах, в которых он
EES Примечания
участвует, протокол объединяет значения формулы
(или формуляра), первенства и письма — предписа-
ния. Благодаря же своему «наклеиванию», «коллажу»,
protocollon разделяет и разрушает претензию первой
страницы на первоочередность, как и претензию лю-
бого incipit. В таком случае все начинается — таков
закон диссеминации — с удвоения. Конечно, если бы
протокол сам сводился к наклеиванию простого пер-
вого листа (например, к наружной и оборотной сто-
роне знака), он снова стал бы предисловием в соот-
ветствии с порядком, в котором опознается большая
логика. От нее он ускользает только тогда, когда со-
ставляет блокнот, причем волшебный, то есть в со-
ответствии с «графикой» совсем иной структуры —
не глубины и не поверхности, не субстанции и не фе-
номена, не в-себя и не для-себя.
(Следовательно, «вне книги» должно было бы стать —
например — протокольным наброском косвенного
введения к двум замечательнейшим, постоянно заме-
чаемым трактатам — или, скорее, рассмотрениям,
оказывающимся удивительным образом современ-
ными — прежде всего, своей собственной практике —
о пред-писанном <ргё ecrit>: имеются в виду две му-
зыкальные машины, которыми являются, сколь бы
различными они ни были, «Луг» <1е Ргё> или «Фаб-
рика луга» <la Fabrique du ргё> Франсиса Понжа
<Francis Ponge> и «Фуга» <Fugue> Роже Лапорта
< Roger Laporte>).
7 «Необходимо, напротив, установить, что истина — это
не отчеканенная монета, которая как таковая уже го-
това к тому, чтобы ее тратили или сберегали. [...] Это
равенство, достигнутое становлением, и есть истина.
Однако это не истина в том смысле, который пред-
полагал бы удаление неравенства подобно тому, как
из чистого металла извлекается шлак; также истина
ЕШО Жак Деррида. Диссеминация
не является неким продуктом, в котором уже не най-
ти следа инструмента; однако неравенство по-прежне-
му непосредственно представлено в истинном как
таковом, оно налично (vorhanden) в нем как негатив-
ное, как Самость (Selbst)» (р. 34).
8 «Но это начало культуры (Bildung) вскоре уступит
место серьезности жизни во всей ее полноте, серьез-
ности, которая послужит введением в опыт самой
вещи (der in die Erfahrung der Sache selbst hmemfiihrt);
когда к тому же строгость понятия низойдет в глу-
бину вещи, этот род познания и оценки (Beurteilung)
сможет остаться на том месте, которое ему подходит
в беседе (Konversation)» (р. 8).
9 Здесь следовало бы очень внимательно перечитать от-
носящиеся к большой «Логике» «Предисловие», «Вве-
дение» и расположенную в первой книге и предше-
ствующую «Разделу первому» вставку, не имеющую
четкого статуса и называющуюся «С чего следует на-
чинать науку?». В цепочке спекулятивных понятий
метода, начала (абстрактного и конкретного), осно-
вания, результата и предпосылки отношения фено-
менологии духа и логики организуются в виде беско-
нечного круга. И феноменология и логика развивают
друг друга и предполагают друг друга — определен-
ный пример целого охватывает все это целое и т. д.
Например: а) «Это духовное движение, которое в сво-
ей простоте дает себе определенность и в ней равен-
ство самому себе, которое, следовательно, является
имманентным движением понятия, образует абсо-
лютный метод познания и в то же время имманент-
ную душу самого содержания. — Только на этом са-
мостоятельно строящемся пути (Auf diesem sich selbst
konstruierenden Wege) философия, как я полагаю, спо-
собна быть объективной, доказательной наукой. —
ЕШ Примечания
Именно таким образом я попытался представить
(darzustellen) сознание в “Феноменологии духа”. Со-
знание — это дух в форме конкретного знания, за-
ключенного, однако, во внешнее; однако продвиже-
ние этого предмета покоится, как и развитие всей
естественной и духовной жизни, только на чистых
формах сущностей, которые составляют содержание
логики. Сознание как являющийся дух, который на
своем пути освобождается от своей непосредствен-
ности и своей захваченности внешним, становит-
ся чистым знанием, которое дает себе в качестве
объекта эти чистые формы сущностей, как они есть
в себе и для себя. [...] Они суть чистые мысли, дух,
который мыслит свою сущность. Их само-движе-
ние — это их духовная жизнь, то, посредством чего
задается наука и представлением (Darstellung) чего
она является.
Так обозначено отношение науки, которую я назы-
ваю “Феноменологией духа”, к логике. Что касается
внешнего отношения, первая часть “Системы науки”,
которая содержит феноменологию, должна была
продолжаться во второй части, которая содержит
логику и две реальных (realen) науки философии, то
есть философию природы и философию духа, како-
выми частями система науки была бы завершена.
Однако необходимое расширение, которое должна
была получить логика, заставило меня выделить ее
в качестве специального предмета исследования; сле-
довательно, в более общем плане она образует непо-
средственное продолжение “Феноменологии духа”»
(«Предисловие к первому изданию»).
Ь) «В “Феноменологии духа” я представил (dargestellt)
сознание в его последовательном движении, начиная
с первой непосредственной противоположности
между ним и предметом и заканчивая абсолютным
знанием. Этот путь (Weg) проходит через все формы
ESQ Жак Деррида. Диссеминация
отношения сознания к предмету, его результатом
(Resultate) является понятие науки. Следовательно,
это понятие (если абстрагироваться от того, что оно
возникает, hervorgeht, внутри самой логики) не нуж-
дается здесь ни в каком оправдании, поскольку оно
содержит его в самом себе: оно не способно ни на
какое другое оправдание, кроме как на оправдание
этим возникновением (Hervorbringung) самого себя
в процессе сознания, в котором все его собственные
фигуры (eigenen Gestalten) разрешаются в одной-
единственной как в истине. — Оправдание или ре-
зонерствующее [rasonierende — именно этим словом
Гегель обычно определяет дискурсивную стилисти-
ку предисловий] объяснение понятия науки может
в лучшем случае произвести то следствие, что это по-
нятие станет предметом представления (vor die Vor-
stellung) и что будет выполнено его историческое по-
знание (historische Kenntnis)\ однако определение на-
уки или, более точно, логики получает свое доказа-
тельство только в этой необходимости своего воз-
никновения (Hervorgangs)» («Введение»).
с) «До этого момента философия еще не находила
своего метода; она с завистью взирала на системати-
ческое здание математики и заимствовала у нее, как
мы уже сказали, свой метод или же пользовалась ме-
тодом наук, которые являются лишь смешениями
данного материала (Stoffe), размышлений и эмпири-
ческих предположений, — если только она не отбра-
сывала в спешке всякий метод. Однако изложение
того, что только и может быть истинным методом
философской науки, относится к рассуждению са-
мой логики; поскольку метод — это сознание фор-
мы (Form) внутреннего само-движения ее содержа-
ния. В “Феноменологии духа” я дал образец этого
метода, занимаясь более конкретным предметом, со-
знанием» («Введение»).
SSI Примечания
io Формальное повторение без связи с содержанием,
чисто «риторическое» украшение — это то, что «хо-
рошая риторика» осуждала задолго до Гегеля. Такое
осуждение уже составляло topos. Но нужно было, что-
бы правило жанра было доведено до некоего техни-
ческого совершенства и до некоей абсурдности про-
цедуры. Римские писатели составляли предисловия,
каждое из которых могло служить введением к раз-
ным книгам. Цицерон сообщает Аттику, что у него
в запасе, на всякий случай, хранится собрание пре-
амбул.
Как же возможно такое повторение? Как существует
этот остаток (и как с ним дела)? Таков вопрос вне-
книги (вопрос вне книги).
11 На этот раз речь идет не только о пути Декарта. Дан-
ная критика нацелена и на Спинозу. Это уточняется
в «Введении» к «Логике» путем отсылки к «Преди-
словию» к «Феноменологии духа»: «Чистая матема-
тика также обладает своим методом, который под-
ходит к ее абстрактным предметам и к тому количе-
ственному определению, в котором она их только и
рассматривает. Об этом методе и в целом о подчи-
ненной роли научности, которая может найти место
в математике, главное я сказал в “Предисловии”
к “Феноменологии духа”; но те же самые вопросы бу-
дут более подробно рассматриваться внутри Логи-
ки. Спиноза, Вольф и другие впали в заблуждение,
применяя такие методы к философии и принимая
внешний путь количества без понятия (den ausser-
lichen Gang der begrifflosen Quantittif) за путь понятия,
что в себе и для себя противоречиво».
12 Издание 1831 г. В этом введении Гегель напоминает,
что, если Платон, как рассказывают, должен был семь
раз переделывать свое «Государство», современный
ШЭ Жак Деррида. Диссеминация
философ, занятый изучением гораздо более сложно-
го предмета, более глубокого принципа, более бога-
того материала, должен был бы переделывать свое
сочинение семьдесят семь раз. А это требует большо-
го досуга. «Однако автор также должен был бы, сооб-
разуясь с величиной своей задачи, довольствоваться
тем, что он сможет сделать под эмпирическим давле-
нием внешних нужд, несмотря на неизбежное рассе-
яние в значимости и сложности интересов его време-
ни». В нем Гегель также указывает на «оглушающую
болтовню», которая затуманивает работу познания.
Но он сам не был настолько рассеян, чтобы не заме-
тить некоторые следствия, в том числе и такое: «Они,
таким образом., нашли категорию, благодаря которой
могут отстранить философию, которая завоевывает
признание, и решительно с ней покончить. Они на-
зывают ее модной философией» (Lemons sur Phistoire
de la philosophic <«Лекции по истории философии»>,
tr. Gibelin, p. 69).
13 Трактовка палеонимии посредством объяснения и
осознания: «Отсюда следует, что ни одна наука не нуж-
дается в большей мере в том, чтобы ей предшество-
вало Введение, чем история философии, для которой
также необходимо определить предмет, история ко-
торого должна быть изложена. Ведь можно сказать,
как начинать изучение темы, название которой, прав-
да, является общераспространенным, однако мы не
знаем, чем она все-таки является. [...] Однако, когда
понятие философии было определено не произволь-
ным образом, а научно, трактат такого рода образует
саму науку философии; ведь характерным качеством
этой науки является то, что ее понятие (Begriff) лишь
по видимости составляет ее начало, тогда как только
полное рассмотрение этой науки является доказатель-
ством и даже, можно было бы сказать, открытием ее
ЕШ Примечания
понятия (Begriff), причем это понятие по своей сущ-
ности оказывается результатом рассмотрения. Так или
иначе, в целом, с этим Введением, которое должно от-
носиться только к истории философии, дела обстоят
так же, как с тем, о чем было сказано применительно
к самой философии. То, что может быть сказано в этом
Введении, не нуждается в предварительном обсужде-
нии, поскольку все это может быть доказано и оправ-
дано только самим изложением истории. По этой при-
чине эти предварительные объяснения не могут быть
подведены под категорию произвольных предпосы-
лок. Следовательно, их размещение в начале, раз они,
согласно своему оправданию, по сущности своей яв-
ляются результатами, не преследует никакого иного
интереса, кроме того, что может иметь предваритель-
ное указание наиболее общей материи некоей науки.
В то же время необходимо, чтобы оно устранило мно-
гие вопросы и условия, которые могут поставить ис-
тории такого рода вследствие привычных предрас-
судков» (Lemons sur Vhistoire de la philosophic <«Лекции
по истории философии»>, tr. Gibelin, p. 18—19). Cm.
также p. 77. Аналогичные рассуждения см.: Lemons sur
Vesthetique, Introduction <«Лекции по эстетике», «Вве-
дение»^ tr. fr., p. 11—15.
14 Быть может, китайскую аптеку, ту самую, что крити-
кует Мао Цзедун в совершенно гегелевском по своей
аргументации пассаже против формализма, то есть,
собственно, против «пятого партийного преступле-
ния стереотипного стиля» — «мании располагать все
рассматриваемые пункты в порядке циклических зна-
ков, как в китайской аптеке. Посмотрите на любую ки-
тайскую аптеку, и вы увидите шкафы с бесчисленны-
ми выдвижными ящичками, каждый из которых
снабжен отдельной этикеткой — лигустик, ремания,
ревень, мирабилит и все, что вам только захочется.
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
Такой метод был усвоен и нашими товарищами. В сво-
их статьях и речах, книгах и докладах они сперва
используют китайские цифры, написанные крупным
шрифтом, потом те же цифры, но мелким шрифтом,
затем циклические знаки и двенадцать китайских зо-
диакальных знаков, а затем еще большие буквы А, В,
С, D, маленькие буквы a, b, с, d — и я не знаю, что еще!
Наши предки и иные народы создали столько посту-
пивших в наше распоряжение символов, что мы мо-
жем без труда открыть китайскую аптеку! Статья, ко-
торая, будучи переполнена символами, не поднимает,
не анализирует и не решает никакой проблемы, не
высказывается ни за, ни против чего бы то ни было,
в конечном счете остается китайской аптекой, и у нее
нет определенного содержания. Я не говорю, что цик-
лические знаки и другие символы не должны исполь-
зоваться, я говорю лишь о том, что такой способ рас-
смотрения проблем является ложным. Многие наши
товарищи пристрастились к этому методу китайской
аптеки, который на самом деле является самым при-
земленным, самым наивным и самым вульгарным из
всех методов. Это формалистский метод, который
классифицирует вещи по их внешним признакам,
а не по их внутренним связям. Если, основываясь
только на внешних признаках вещей, создают статью»
речь или доклад с кучей понятий, которые не имеют
никаких внутренних связей друг с другом, в итоге по-
лучается всего лишь жонглирование понятиями, что
и других людей может подтолкнуть к тому же заня-
тию, к тому, чтобы довольствоваться перечислением
явлений в порядке циклических знаков, вместо того
чтобы использовать свои мозги для изучения про-
блем, для обдумывания самой сущности вещей. Что
такое проблема? Это противоречие, внутренне при-
сущее вещи. Везде, где противоречие не разрешено,
есть проблема» (Jicrits, coll. «Maspero», II, р. 142—143).
EES Примечания
15 В соответствии с логикой снятия послесловие — это
истина предисловия (высказываемого всегда во вто-
рую очередь) и дискурса (произведенного исходя из
абсолютного знания). Поэтому симулякр послесло-
вия заключался бы в притворном конечном снятии
смысла или работы определенного языка.
Такая операция могла бы организоваться в тяжелой
работе или же нетерпении, когда тот, кто написал,
прекращая писать, старается адекватно осмыслить
сам факт прошлого текста, дабы раскрыть его под-
линное действие или же всю полноту его истины. Это
усталость Джойса, составлявшего все свои преди-
словия в конце жизни, чтобы представить полное со-
брание своих сочинений. Это протесты Готье: «С дав-
них пор все только и кричат о бесполезности пре-
дисловий — однако они по-прежнему пишутся». Это
раздражение Флобера, который в своих «трех преди-
словиях» видел лишь непроизводительную пустоту
критики. Ведь верно, что предисловие в своем клас-
сическом понятии представляет критическую ин-
станцию текста всякий раз, когда оно вообще дей-
ствует («Как же мне не терпится покончить с “Бова-
ри”, “Анубисом” и своими тремя предисловиями,
чтобы открыть новый период жизни, чтобы предать-
ся “Чистой красоте”!» (письмо Луи Буйле <Louis
Bouilhet> от 23 августа 1853 г.). «Ах, как же мне не
терпится избавиться от “Бовари”, “Анубиса” и трех
моих предисловий (то есть от трех отдельных пре-
дисловий, из которых в итоге получится одно, в ко-
тором я напишу о критике)! Как же мне хочется по-
кончить со всем этим, чтобы с головой броситься
в сюжет просторный и чистый» (письмо Луизе Коле
<Louise Colet> от 26 августа 1853 г., приводимое
в Ргё/асе a la vie d’ecrivain <«Предисловии к жизни пи-
сателя»^ подборке писем, представленных Женевь-
евой Боллем <Genevifeve Во11ёте>).
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
Но симулякр может и разыгрываться: в этом случае,
делая вид, будто смотрят назад и возвращаются, сно-
ва запускают и добавляют текст, усложняют сцену,
практикуют открытие дополнительного отступления
в лабиринте, открытие ложного зеркала, которое за-
водит такое отступление в бесконечность своей изо-
бражаемой спекуляцией, то есть спекуляцией беско-
нечной. Текстуальное оставание <restance> некоей
операции, которая не чужда так называемому «глав-
ному» корпусу книги и не сводится к нему, предпо-
лагаемому референту послесловия, как и к своему
собственному семантическому наполнению. Диссе-
минация могла бы предложить некую теорию — если
бы здесь мы шли по давно проложенной дороге —
отступления, записываемого, к примеру, на полях
«Сказки бочки» <А Tale of a Tub> или же спекулирую-
щего на «ловушке» из «Второго предисловия» к «Но-
вой Элоизе».
Вне книги поэтому было бы — например — внема-
точным наброском весьма дифференцированного по
своей структуре приложения (диссеминация описы-
вает, иллюстрирует, если быть более точным, если
подвесить его за оба края) ко всем трактатам (скорее
рассмотрениям, которые удивительным образом со-
впадают со своей собственной практикой) постскрип-
тума — к «Как я написал некоторые из моих книг»,
к «Ессе Ното», к «Почему я пишу такие хорошие кни-
ги», тексту, который пересекает «запоздавшее преди-
словие» к «Заре» или же предисловие к «Веселой на-
уке» («Эта книга, быть может, требует не одного пре-
дисловия (nicht nur eine Vorrede); и в конечном счете
все равно останется сомнение, что кто-то, не пережив
(erlebt) нечто похожее (etwas Ahnliches), сможет при-
близиться к прожитому опыту (Erlebnisse) этой кни-
ги при помощи предисловий»), к «Заключительному
ненаучному послесловию к “Философским крохам”
ШЗ Примечания
(Мимико-патетико-диалектическое сочинение, экзи-
стенциальный отчет)» Йоханнеса Климакуса, к его
«Предисловию», а затем и к «Введению» («Быть мо-
жет, ты, дорогой мой читатель, вспомнишь, что в кон-
це “Философских крох” есть фраза, которая могла бы
походить на обещание продолжения. В качестве обе-
щания эта фраза (“Если когда-нибудь я добавлю
к этому труду еще одну главу”) была как нельзя более
неопределенной, как нельзя более далекой от обета.
[...] Вот почему нет ничего необычного в том, что она
сохранена в следующем произведении; при этом ав-
тора, если только во всем этом есть хоть что-то важ-
ное, никоим образом нельзя обвинять в том, что он,
по примеру женщин, самое главное сказал в пост-
скриптуме. [...] Поскольку на самом деле смешно счи-
тать, что все уже закончено, и потом сказать: не хва-
тает конца. Если в конце не хватает конца, значит его
не хватает и в начале. Следовательно, это можно было
бы сказать и в начале. Но если конца не хватает в на-
чале, значит, нет никакой системы. [...] Такова диалек-
тическая неустрашимость. Но диалектик еще не до-
стиг ее. [...] Ученое введение запутывает своей эру-
дицией... [...] Риторическое изложение запутывает,
смущая диалектика»), наконец, к его «Приложению»
(где объясняется, что «следовательно, книга избыточ-
на», что «она содержит не только конец, но и, сверх
того, отказ от своих слов. Однако нельзя ни заранее,
ни впоследствии требовать большего», а «написать
книгу и отречься от нее — это не то же самое, что
оставить ее ненаписанной») и к его «Первому и по-
следнему объяснению» (которое соотносит проблему
псевдонимии или палеонимии с проблемой «автора
предисловия книги»), к «Привеску» «Юбиляра» Жана-
Поля [нужно ли его специально называть мастером
двойничества?] (Prodromus Galeatus: «Предисловие
должно быть только более длинным заглавием. По
ЕНЗ Жак Деррида. Диссеминация
моему мнению, необходимо, чтобы это заглавие
ограничивалось прояснением слова “Привесок”».
«...Первый и древнейший Привесок, о котором упо-
минает история литературы, находится в конце моих
“Биографических увеселений”; он был написан, как
всем хорошо известно, самим создателем этого лите-
ратурного жанра, то есть мной самим. Второй При-
весок нашей литературы передан издателю в виде дан-
ного произведения, и он выйдет в свет после этого
послесловия. Теперь, после того как я дал пример При-
веска и стал в этой области как бы главным академи-
ком и всегда доступным образцом, задача эстетиков
проста; они могут извлекать существующие Приве-
ски и определять теорию, спасительный метод и прак-
тические принципы жанра, сообразуя свое законода-
тельство с моей творческой силой. [...] Отступление
в романе никогда не является существенным; а в При-
веске его нельзя рассматривать как нечто случайное;
там оно оказывается почему-то сохранившимся му-
сором, а здесь — вделанной в пол мозаикой, поэти-
ческим асаротоном; так Древние вставляли в свои
мозаики соломинки, кости и другие обманывающие
взгляд предметы; короче говоря, комната им была
нужна, чтобы оставлять в ней мусор».) И после этого
«быстротечного поэтического Привеска», который
также оказывается анализом экскрементов, после всех
этих «обещанных отступлений», к «Привеску к при-
веску, или Моей рождественской ночи» («Я не думаю,
чтобы автор писал что-то более охотно, нежели свое
предисловие или послесловие: ведь именно здесь он
может наконец на протяжении многих страниц гово-
рить только о себе, о том, что ему нравится, о своем
произведении, которое он обожает больше всего на
свете, — из тюрьмы, с галеры, которой является его
книга, он сбежал в два этих успокоительных места, на
эти площадки для игр... [...] Не по этой ли причине
ЕШ Примечания
переплетчики всегда оставляют два чистых листа —
один до предисловия, а другой после эпилога — на-
подобие обозначений незанятых мест, указывающих
на то, что соседний лист так же необитаем, что он от-
крыт для любого самого произвольного надругатель-
ства письмом? Однако такие пробелы, окружающие
сад книги, являются пустынями, отделяющими одну
книгу от другой, как большие незанятые простран-
ства отделяют царства Германцев или Северной Аме-
рики или солнечные системы. Поэтому никто не бу-
дет на меня в обиде, если я сберегу свои предпосылки
и свои заключения, — начиная с заголовка, я готов-
люсь к ним, оттачиваю себя под них — для других
времен, для утопических дней. [...] Я мог бы предо-
ставить убедительные аргументы, чтобы получить
подкрепление и защититься тем, что я приберег на-
стоящий Привесок к Привеску для первого дня празд-
ника, как плоды в погребе. В частности, можно было
бы понять, что я ждал Рождества, чтобы порадовать-
ся ему так, как будто я мой собственный сын...»).
16 См.: Kojeve, Introduction a la lecture de Hegel*, Rey J.-M.
Kojeve ou la fin de I’histoire // Critique, № 264 и C16mens
E. L’histoire (comme) inachdvement П R.M.M., 1971, № 2.
Уточним, что уже Фейербах изучал, используя термин
«письмо», вопрос гегелевской предпосылки и тексту-
ального остатка. Нужно было бы более систематиче-
ским и более дифференцированным образом зано-
во прочитать всю его работу «К критике философии
Гегеля» (1839): «Гегель — это самый совершенный
философский художник, его изложения, по крайней
мере частично, являются непревзойденными образ-
цами научного художественного чувства... [...] Изло-
жение не должно было ничего предполагать, то есть
Рус. пер.: Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.
EBB Жак Деррида. Диссеминация
оно не должно было оставлять в нас никакого остат-
ка, должно было полностью опустошить нас и исчер-
пать...» Поскольку такого не происходит, Фейербах —
в качестве, скажем так, мести — обращает против Ге-
геля обвинение в «спекулятивном эмпиризме» и фор-
мализме, даже в «притворстве» и «игре». Здесь нас ин-
тересует не столько каждый из этих терминов, сколь-
ко необходимость такого обмена и такой оппозиции.
«Но именно по этой причине и у Гегеля (если отло-
жить в сторону его научную строгость при развитии
темы) доказательство абсолютного по сущности и по
своему принципу имеет лишь формальное значение. Ге-
гелевская философия представляет нам с самого сво-
его начала и отправной точки противоречие, а имен-
но противоречие между мыслью и письмом. Формаль-
но абсолютная идея, несомненно, не предположена, но
в сущности она именно предположена. [...]Отчужде-
ние (Enttiusserung) является, так сказать, всего лишь
притворством; оно изображается, но не принимает-
ся всерьез; оно разыгрывается. Решающее доказатель-
ство — это начало Логики, начало которой должно
быть началом философии вообще. Начинать, как она,
с бытия — это просто чистый формализм, поскольку
бытие не является настоящим началом, настоящим
первым термином; точно так же можно было бы на-
чать с абсолютной идеи, поскольку еще до того, как
он начинает писать Логику, то есть придавать своим
идеям форму, пригодную для научной коммуникации,
абсолютная идея уже была для Гегеля достоверностью,
непосредственной истиной. [...] Абсолютная идея
была абсолютной достоверностью для мыслителя Ге-
геля, однако для писателя Гегеля она была формаль-
ной недостоверностью» (Manifestes philosophiques, tr.
L. Althusser, P.U.F., p. 27, 28, 34, 35. Курсив Фейербаха).
Что же запрещает — вот в чем вопрос — читать ге-
гелевский текст как огромную игру письма, как
ESI Примечания
мощный и поэтому неустранимый симулякр, пода-
ющий неразрешимые знаки собственного притвор-
ства, которые сам он мог бы прочесть только в под-
тексте, в подвешенной фабуле своих предисловий и
примечаний? Сам Гегель в конечном счете мог бы
подпасть под влияние этой игры, причем в самом
тексте от этого ничего бы не изменилось. Имея дело
с подобным обращением и хиазмом, Фейербах от-
талкивается от них и несвоевременно призывает
к серьезности философии и истории: «Необходимо,
чтобы философия ввела в текст философии часть
человека, который не философствует, который, бо-
лее того, против философии, который борется с аб-
страктным мышлением, то есть, следовательно, все
то, что Гегель выносит в примечания» (Theses provi-
soires pour la reforme de la philosophic ^Предваритель-
ные тезисы к реформе философии»>, ibid., р. 116.
Курсив Фейербаха).
17 См. начало «Теории бытия» в большой Логике. Об
этой проблеме и «внезапном переводе» этого резуль-
тата см. также: Heidegger, Identit£ et Difference*.
iв Больше известно продолжение этого текста (le Capital,
L., I. dd. soc., р. 27—29, перевод изменен). См. также
«Предуведомление» <Avertissement> Альтюссера
к изданию «Капитала» в издательстве Garnier-Flamma-
rion (1969), особенно р. 18—23, а также: Sollers, Ldnine
et le matdrialisme philosophique П Tel Quel, 43.
19 Об эмпиризме как философской форме или маске
гетерологического пути см., например: Ь'ЁсгНиге
et la Difference**, р. 224 sq., De la grammatologie***,
Рус. пер.: Хайдеггер M. Тождество и различие. M., 1997.
Рус. пер.: Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000.
Рус. пер.: Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.
ЕШО Жак Деррида. Диссеминация
«L’exorbitant», «Question de methode», p. 232 sq.,
и La Differance 11 Theorie d'ensemble, coll. «Tel Quel»,
p. 45.
20 Здесь, по всей видимости, смешивается вся схема
подчинения наук, а затем и региональных онтоло-
гий общей или фундаментальной онто-логике. См.:
De la grammatologie, р. 35.
21 «Работа, первый том которой я предлагаю обще-
ственности, представляет собой продолжение текста,
опубликованного в 1859 г. под заглавием “Критика
политической экономии”. Этот долгий промежуток
между двумя публикациями был обусловлен моей
многолетней болезнью.
Чтобы придать этой книге необходимую завершен-
ность, я ввел в нее текст, который ей предшествовал,
вкратце пересказав его в первой главе. Верно то, что
я считал должным в этом пересказе изменить свой
первый план изложения (Die Darstellung ist verbessert).
Большое количество вопросов, которые первона-
чально были только обозначены, здесь получили все-
стороннее развитие, тогда как другие, вначале пол-
ностью разработанные, здесь лишь обозначаются.
Например, была удалена “История теории стоимо-
сти и денег”; но, с другой стороны, читатель найдет
в примечаниях первой главы новые источники по
истории этой теории.
Во всех науках начинать тяжело (Aller Anfang istschwer,
gilt in jeder Wissenschaften)». (Tr. J. Roy, перевод авто-
ризован Марксом.)
22 Следующий текст Декарта можно сопоставить
с «Песнью шестой», но также и с различием способа
исследования и способа изложения, упоминаемым в по-
слесловии к «Капиталу»: «Способов доказательства
ЕШ Примечания
существует два: одно выполняется посредством ана-
лиза, а другое — посредством синтеза или сложения.
Анализ показывает верный путь, на котором нечто
было методически изобретено, и обнаруживает, как
следствия зависят от причин, так что читатель, ко-
торый пожелает проследовать по этому пути и вни-
мательно осмотреть все, что на нем предлагается,
столь же совершенным образом разберется в пред-
мете, доказанном таким образом, и сделает его сво-
им, как если бы он сам его и изобрел. Однако такой
способ доказательства не пригоден для завоевания
упрямых или не очень внимательных читателей, по-
скольку, если, не обратив на что-то внимание, упус-
тишь самую мельчайшую подробность этого дока-
зательства, необходимость его заключений будет не-
ясна. [...] Напротив, синтез ведет доказательство
совсем иным путем, как бы изучая причины по их
следствиям (хотя содержащееся в нем доказательство
часто идет и от причин к следствиям), и доподлинно
и со всей ясностью доказывает то, что имеется в его
заключениях, пользуется при этом длинной цепоч-
кой определений, вопросов, аксиом, теорем и про-
блем, чтобы в том случае, если будут отрицаться не-
которые из его следствий, можно было бы показать,
что они уже содержатся в предпосылках, так что та-
кое доказательство вырывает согласие у читателя,
каким бы упрямым и предосудительным он ни был;
однако такое доказательство, в противоположность
первому, не дает полного удовлетворения умам тех,
кто желает познавать, поскольку оно не сообщает
о методе, благодаря которому предмет был изобре-
тен» («Ответ на вторые возражения»).
Таким образом, синтетический путь, дидактическая
операция и второе предисловие оказываются нуж-
ны лишь для того, чтобы победить «предрассудки»,
«с которыми мы свыклись с самого детства» (ibid.).
16-6705
ЫШ1 Жак Деррида. Диссеминация
«вот почему я написал именно “Размышления” а не
диспуты или вопросы, как пишут философы, или же
теоремы или проблемы, как у геометров, дабы этим
свидетельствовать, что я писал только для тех, кто
захочет потратить силы на то, чтобы серьезно поду-
мать вместе со мной и внимательно рассмотреть все
предметы. [...] Тем не менее... здесь я попробую изоб-
разить синтез» (ibid.).
В противоположность «Размышлениям», «Первона-
чала», как известно, следуют синтетическому поряд-
ку. «Предисловие» к ним («Письмо автора к фран-
цузскому переводчику, уместное здесь как предисло-
вие») советует прочитать книгу «сначала целиком как
роман», причем три раза подряд.
23 «Александр Дюма-сын никогда, никогда в жизни, не
будет сочинять речей для лицейской церемонии вру-
чения наград. Он не знает, что такое мораль. Она не
идет на уступки. Но если бы он занялся таким делом,
сначала ему пришлось бы одним взмахом пера пере-
черкнуть все то, что он написал раньше, начиная с его
абсурдных “Предисловий”» («Стихотворения»).
24 Решетки: «По расположенной с восточной стороны
стене, которая отгораживала внутренний двор, были
скупо разбросаны различные отверстия, закрытые
решетчатыми дверцами». «Порой решетка дверцы
приподнималась со скрипом, как будто под действи-
ем направленного вверх усилия руки, насилующей
природу камня...» «...Тогда как его нога еще путалась
в хитросплетениях решетки...» «...Через несколько
мгновений я приблизился к дверце, решетка кото-
рой состояла из тесно сплетенных друг с другом пру-
тов. Я хотел посмотреть внутрь через это плотное
сито. Сначала я не мог ничего увидеть...» «...Иногда
он пробовал его и поднимал один из своих концов
EES Примечания
перед решеткой дверцы...» «...Мой глаз приклеился
к решетке с еще большей силой!» (Семь раз.) «Он
сказал, что меня нужно было привязать к жерди...»
И т. д.
Колонны: «Мой великолепный дворец построен из се-
ребряных стен, из золотых колонн...» «...Они порха-
ют вокруг колонн как плотные волны черной шеве-
люры». «...Не говорите о моем позвоночном столбе,
поскольку это меч». «...Я пожелаю человека колон-
ны». И т. д.
Квадраты: «Слюна моего квадратного рта». «...Одна-
ко окружающий вас порядок, представленный глав-
ным образом совершенной упорядоченностью квад-
рата, любимца Пифагора, еще более велик». «...Две
огромные башни виднелись в долине; я сказал это
в начале. Если их умножить на два, в результате бы
получилось четыре... Но я не очень хорошо понимал
необходимость этого арифметического действия».
«...Вот почему я больше не хожу по равнине, на ко-
торой возвышаются две единицы множимого!» «...Из
левой руки я вырвал весь мускул целиком, посколь-
ку я уже не понимал, что я делаю, настолько я был
взволнован этой несчастной четверицей. А ведь я
считал, что это было вещество испражнений». «...Это
ложе, притягивающее к себе силы умирающего, —
лишь могила, сложенная из отшлифованных еловых
досок... И наконец четыре огромных кола пригвож-
дают к матрасу все члены сразу». «...Квадраты обра-
зуются и тут же падают, чтобы больше не поднять-
ся». «...Не менее верно, что драпировка в форме ме-
сяца уже не получает выражения своей завершенной
симметрии в четверичном числе: смотрите сами, если
не хотите мне верить». И т. д.
Камни: «Камень хотел бы освободиться от законов при-
тяжения». «...Возьми же камень и убей ее». «...Я взял
большой камень... Камень подпрыгнул на высоту
16
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
шести церквей». «...Когда я слоняюсь... одинокий как
камень посреди дороги...» «...Когда пастух Давид за-
пустил в лоб великана Голиафа камнем из пращи...»
«...Камень, не имея больше возможности растрачи-
вать свои живые силы, сам собой бросается в воздух,
как будто под воздействием силы пороха, а затем па-
дает, загоняя самого себя в землю. Иногда мечтатель-
но настроенный крестьянин замечает, как такой аэро-
лит рассекает по вертикали пространство, устремля-
ясь вниз, к маисовому полю. Он не знает, откуда взялся
этот камень. Теперь у вас есть ясное и последователь-
ное объяснение этого явления». «...Он не покоряется,
он ищет на паперти убогой пагоды плоский камешек
с заостренными краями. Он с силой бросает его в воз-
дух... Цепь обрезана посередине, как пшеница серпом,
церемониальный инструмент падает на землю, про-
ливая заключавшееся в нем масло на плитку...» «...Пи-
ная ногой гранит, который не поддавался, я бросил
вызов смерти... и поспешил подобно мостовой в зев
пространства». «...С приходом ночи и ее подобающей
темноты они бросались с кратеров на порфировый
гребень подводных течений и оставляли далеко за
собой скалистый ночной горшок, на котором тужит-
ся сведенный запором анус людей-кактусов, до тех
пор, пока они не переставали различать нависший
силуэт мерзкой планеты». «...Голый как камень, он бро-
сился на тело девочки и сорвал с нее платье...» «Дети
преследовали ее, бросая камни, как будто бы это был
какой-то дрозд». «...Его усилия оказались бесполезны.
Стены были сделаны из тесаного камня, и я видел, что,
ударяя по стенке, он содрогался как стальное лезвие и
отскакивал как эластичный мячик». «...Его лицо, си-
лой обстоятельств осужденное на полное отсутствие
естественной мимики, походило на каменистый на-
рост сталактита». «...Остается сделать одно — разбить
вдребезги это стекло камнем...» «...Я уснул на прибреж-
ЕШЗ Примечания
ной скале...» «...Эта женщина... Чтобы протащить ее,
держа за эти пальчики, по долинам и дорогам, по ска-
лам и камням...» «...Знаете ли вы, что, когда мне снит-
ся стальное кольцо, спрятанное под камнем рукой ма-
ньяка, волосы под действием какой-то невидимой
силы встают у меня на голове?» «...Я должен был най-
ти кольцо, которое схоронил под камнем...» «...Если
смерть прервет невероятное исхудание двух длинных
рук, отходящих от моих плеч, измученных бесцель-
ным перемешиванием моего литературного гипса,
я все же хотел бы, чтобы оплакивающий меня чита-
тель мог сказать себе: “Нужно отдать ему должное. Он
здорово надул меня”». «...Утреннее явление ритмич-
ного перемешивания мешка-икосаэдра, ударяемого
об известковый парапет!» И т. д.
Яды: «...Пустынные болота этих темных и полных яда
страниц...» «...Мое дыхание сочится ядом...» «...При
помощи этого отравленного оружия, которое вы мне
одолжили, я сверг с его пьедестала, построенного тру-
состью человека, самого Создателя!» «...За недостат-
ком сока, одновременно удовлетворяющего услови-
ям питания и отсутствия ядовитых веществ...» «...Как
победитель, я отталкиваю от себя все происки лице-
мерного мака». «...Признание как яд проникло в серд-
це коронованного безумца!» И т. д.
И если бы затем мы захотели представить всю эту
сеть в форме «это есть то», мы потеряли бы почти
все, чтобы отдаться ожиданию того, что не может
быть ни преди-словием, ни пре-дикатом. Строитель-
ный камень, краеугольный камень, камень преткно-
вения уже на первом портике «Диссеминации» (но
и потом тоже) сложатся в западню, препятствующую
исследованиям оцепеневшего читателя. Столько кам-
ней! Но что такое камень, каменистость камня? Ка-
мень — это фаллос. Ответ ли это? Значит ли это хоть
что-то, если фаллос — это сокрытие вещи? Если, не
EES Жак Деррида. Диссеминация
занимая никакого центра, не имея никакого есте-
ственного места, не следуя ни по какому собственно-
му пути, он не обладает значением, ускользает от
любого возвышающего снятия (Aufhebung) и даже
отрывает движение означивания, отношение озна-
чающее/означаемое от любого Aufhebung, в том или
в другом смысле, ведь оба в конечном счете прихо-
дят к тому же самому? И если «допущение» или от-
рицание кастрации также странным образом возвра-
щается к одному и тому же, как мы можем это ут-
верждать? В таком случае оберег скрывает в себе
много сюрпризов. Предлог для повторного суммар-
ного прочтения предложения Фрейда и сцены пись-
ма, хода, который ее открывает и закрывает, значе-
ния фаллоса, небольшого анализа в Das Medusenhaupt
(«Обезглавить — кастрировать. Итак, страх Меду-
зы — это страх кастрации, поскольку она связана со
зрением». Фрейд при этом объясняет, что, в общем,
становящееся камнем, окаменевает перед отрезан-
ной головой Медузы и для нее, перед матерью и для
матери, поскольку она показывает свои половые
органы. «В искусстве волосам Медузы часто придают
облик змей, поскольку последние относятся к комп-
лексу кастрации, при этом замечательно то, что, хотя
они в какой-то мере и пугают сами по себе, они же и
успокаивают, поскольку они заменяют пенис, отсут-
ствие которого как раз и является причиной ужаса,
dessen Fehlen die Ursache des Grauens ist. Здесь находит
подтверждение такое техническое правило: умноже-
ние символов пениса означает кастрацию, Verviel-
faltigung der Penissymbole bedeutet Kastration. Вид го-
ловы Медузы заставляет окаменеть от ужаса, пре-
вращает зрителя в камень. Одно и то же начало в ком-
плексе кастрации и одно и то же аффективное пре-
вращение! Дело в том, что окаменение, das Starrwerden,
означает эрекцию и, следовательно, успокоение зри-
ESQ Примечания
теля в исходной ситуации. У него по-прежнему есть
пенис, он убеждается в этом, потому что он камене-
ет. [...] Если голова Медузы заменяет представление,
Darstellung, женских половых органов или если она,
скорее, отделяет ужасающее воздействие от воздей-
ствия, приводящего к наслаждению, можно вспом-
нить, что демонстрация половых органов хорошо из-
вестна в качестве, помимо всего прочего, отпугива-
ющего действия, оберега. Именно то, что вызывает
ужас, произведет подобное воздействие на врага, от
которого нужно укрыться. Так, у Рабле дьявол убега-
ет, когда женщина показывает ему свою вагину. Эре-
гированный мужской половой орган также работа-
ет в качестве средства устрашения, но благодаря ино-
му механизму. Демонстрация пениса — и всех его
заместителей — будет значить: “Я тебя не боюсь,
я бросаю тебе вызов, у меня есть пенис”. Поэтому это
еще один путь устрашения злого духа») и в других
местах. Будем лапидарны и заложим здесь бесконеч-
но открытую и обратимую цепочку следующих экви-
валентов: камень — падение — возвышение — око-
ченение — смерть и т. д. В ней диссеминация всегда
будет угрожать значению.
25 «В самом деле, функция письма теперь будет пред-
ставляться в качестве способной контролировать од-
новременно тело и внешнее, в котором это тело яв-
ляется; как представляется, она, напрямую заявляя
о возвратном и всеобщем воздействии “Стихотво-
рений”, будет непосредственно записываться в трех
измерениях тома, связанного с будущим (и сразу же
становиться тем, что она уже есть, — “предисловием
к будущей книге”, книгой, заброшенной в будущее
в качестве непрекращающегося предисловия, не-
книги, предшествующей любой, бесконечно долго
откладываемой, книге, окончательным выходом из
EES Жак Деррида. Диссеминация
книги, этой темницы речевой эпохи)». Sollers, «La
science de Lautr6amont» 11 Logiques, p. 279—280.
26 Вот почему в классической риторике принято разоб-
лачать предисловие, его самодовольство, самовлюб-
ленность, нарциссическое обожание отцом своего
сына. «Предисловия — это еще один подводный ка-
мень; я нужно ненавидеть, как говорил Паскаль. [...]
Ваша книга сама должна говорить за себя, если
посчастливится, и толпа ее прочтет» (Вольтер). Рас-
сматривая вопрос «Жанра дидактики», Кондильяк
в «Искусстве письма» описывает «Злоупотребление
предисловиями»: «Предисловия — еще один источ-
ник злоупотреблений. Именно в них автор может на-
чать кичиться, порой смехотворно преувеличивая
ценность рассматриваемых им вопросов. Весьма ра-
зумно показать тот этап, на котором писавшие до нас
оставили науку, на которую, мы, как нам представля-
ется, способны пролить какой-то свет. Однако расска-
зывать о своих работах, подготовительных исследо-
ваниях, препятствиях, которые пришлось преодолеть,
сообщать публике о всех имевшихся идеях; не доволь-
ствуясь одним предисловием, добавлять по преди-
словию к каждому новому изданию и даже к каждой
отдельной главе; пересказывать историю всех без-
успешных попыток; указывать для каждого из во-
просов множество средств его разрешения, когда тре-
буется одно-единственное, которым можно было бы
пользоваться, — все это лишь искусство сделать кни-
гу толще, утомив в итоге читателя. Если от подобных
работ отрезать все ненужное, от них почти ничего не
останется. Можно сказать, что такие авторы хотели
создать лишь предисловие к вопросам, которые они
обещали рассмотреть, — они заканчивают свои кни-
ги, когда они уже забыли о том, что нужно решить
вопросы, которые они подняли». Поэтому Кондильяк
ЕШ Примечания
предлагает «урезать» предисловия и вообще все сло-
ва, «без которых можно обойтись». Урезать, обрубать.
Хотя диссеминация тоже делает срез в тексте, цель со-
всем иная — произвести формы, которые зачастую
могли бы походить на те, что Кондильяк — вместе со
всей риторикой и философией, которую он в данном
случае представляет — хотел бы со всей суровостью
отрезать. И затем, как обстоят дела с этой цитацион-
ной прививкой в нашем французском саде? Запреще-
на ли она? Должна ли она плодиться? Должно ли уре-
зать topos? Не является ли классицизм в неведении от
самого себя всего лишь ветвью барокко? Кондильяк
повторяет Лабрюйера, который сам... «Если из мно-
гих трудов о нравах убрать “Предупреждение читате-
ля”, “Посвящение”, “Предисловие”, “Оглавление”,
“Одобрения”, едва ли останется достаточное количе-
ство страниц, чтобы назвать остаток книгой» (La
Bruyere, les Caractdres сЛабрюйер Ж., «Характеры»>,
«Des ouvrages de I’esprit»). И т. д.
27 Но еще лучше, и эти два желания не противоречат друг
другу, если речь оживляет сама себя, если рассужде-
ние само отвечает за себя, как говорится в «Федре».
В этом случае оно становится своим собственным
отцом, а предисловие отпадает за ненадобностью:
«Абсолютно бесполезно, если автор будет в своем
предисловии защищать книгу, которая сама не смо-
жет ответить перед общественностью» (Локк). Мы
видим, как существенный дидактизм классического
предисловия всегда поддерживает моральное рас-
суждение. «Моя единственная ошибка, — скажет за-
тем Бодлер, — была в том, что я рассчитывал на при-
сущие всем умственные способности и не написал
предисловия, где я мог бы изложить свои литератур-
ные принципы и освободить столь важный вопрос
от Морали».
ЕШО Жак Деррида. Диссеминация
28 Positions et Propositions, I, p. 206—207. Курсив Клоделя.
29 Encyclopedic des sciences philosophiques <«Энциклопе-
дия философских наук»>, ed. Gallimard, tr. M. de
Gandillac, p. 73,82—83. Тот же мотив воспроизводится
в начале «Малой логики»: предварительные понятия
(Vorbegriffe) имеют значение как «определения, извле-
ченные из созерцания целого и вторичные по отно-
шению к нему» (р. 93).
зо Жизнь, как существенное философское определение
понятия и духа, по необходимости описывается об-
щими признаками растительной или биологической
жизни, которая является частным объектом фило-
софии природы. Эта аналогия или метафоричность,
создающая огромные проблемы, возможна лишь как
следствие органичности энциклопедической логики.
С этой точки зрения можно будет прочесть все опи-
сания «возвращения к себе» «зародыша» (§ 347 и
§ 348), «внутренней случайности» («Животное обла-
дает случайным самодвижением, поскольку так же,
как свет — это идеальность, оторванная от силы при-
тяжения, субъективность животного — это свобод-
ное время, которое, поскольку оно отвлечено от ре-
альной внешности, определяется самопроизвольно на
своем месте в соответствии с внутренней случайно-
стью. С этим связывается тот факт, что у животного
есть голос, так что его субъективность как действи-
тельная идеальность (душа) есть господство над аб-
страктной идеальностью времени и пространства и
представляет свое самодвижение как акт, состоящий
в свободном содрогании в самом себе», § 351), «не-
хватки» и «сношения» (§ 369), а также силлогизма
жизни в целом, жизни духа как истины и смерти (за-
вершения) естественной жизни, которая в себе,
в своей конечности, несет «свою изначальную болезнь
EED Примечания
и врожденный зародыш смерти». «В идее жизни
субъективность есть понятие, она, таким образом,
есть возле самой себя абсолютное бытие-в-себе дей-
ствительности и универсальной конкретности; пре-
дельное бытие-одно-вне-другого природы снято
(aufgehoben), и понятие, которое в ней лишь возле-
себя, в субъективности стало для-себя» (§ 375 и § 376).
Является ли предисловие природой логоса? Есте-
ственной жизнью понятия?
31 Исходное распределение суждения-идеи (Das Sich-
Urteilen der Idee) производится (третий силлогизм)
как бытие-возле-себя и для-себя Идеи как абсолют-
ного духа. Эта идея «приводится в действие, порож-
дает себя и наслаждается собой» (sich... betatigt, erzeugt
und geniesst). Как бог Аристотеля, текст которого за-
вершает «Энциклопедию» своим эпиграфом (§ 577,
tr. М. de Gandillac, р. 500).
32 Логика того (относится к тому), что возвращается
к отцу (мертвому — больше чем когда бы то ни было)
как к закону и логосу — таково само снятие. Она ис-
тинна, и она задает истину самого логоцентризма.
Логоцентрической культуры и логоцентрического по-
нятия культуры. Я показал (Le Puits et la Pyramide,
Introduction a la semiologie de Hegel, 1968 // Hegel et la
pensee moderne, P.U.E, 1971), как в гегелевской диа-
лектике снятие организует отношение означающего
к означаемому, выполняясь в нем. Означающее сни-
мается (aufgehoben) в процессии смысла (означаемо-
го). Обращение этого Aufhebung в оппозицию означа-
ющее/означаемое оставило бы на месте или вернуло
бы на место истину фаллоцентрической диалекти-
ки — сам разум, который здесь мы ни в коей мере не
стараемся обвинить. Как и Фрейда, когда он столь глу-
бокомысленно заявляет, что либидо — одно (почему
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
бы и нет) и что поэтому оно мужского рода (но по-
чему же? Все ли дело в предпосылках здравого смыс-
ла?). По этому вопросу см.: Lacan J., Ecrits (passim и
особенно р. 554, 692—695, 732).
Что касается «женской сексуальности» (и не только
обозначаемого таким образом вопроса, его очевид-
ной связи с проблематикой фаллоцентризма и ме-
нее очевидной — с проблематикой метаязыка, кото-
рая снова становится возможной и снова получает
место благодаря забытому притворству, как только
определенное означающее видит в нем свою приви-
легию), диссеминация, если к ней наклониться, чи-
тается как некая матрица (сверх того еще и теорети-
ческая, направленная на видение). Немного в сторо-
не от этой анатомии предисловия мы, быть может,
сумеем разглядеть, что заключение Большой логи-
кой предисловия в скобки проработано тем же са-
мым отрицанием, что и заключение в скобки анато-
мии в психоаналитическим фаллоцентризме. Впол-
не определенный интерес продолжает вкладывать
в подобное отрицание и находить в нем то, без чего,
по утверждениям, можно обойтись.
зз Как объяснить то, что предисловия Гегеля — по-фи-
лософски и избыточные, и недостаточные — могут
повторяться, оставаться до определенного момен-
та читаемыми сами по себе, без логики, от которой,
как предполагается, они должны получить свой ста-
тус? Что бы произошло, если все предисловия Гегеля
собрать в отдельный том подобно всем предислови-
ям Джеймса в The art of the novel? А может, Гегель не
писал ничего, кроме предисловий? Что, если поста-
вить их не вне произведения, а в какое-то другое ме-
сто, например посередине (как предисловие «Три-
страма Шенди») Большой логики, между объектив-
ной логикой и субъективной логикой? Или вообще где
ЕШ Примечания
угодно? То, что при этом не вся читаемость будет
уничтожена, не все смысловые эффекты будут отме-
нены, «означает», среди прочего, то, что остающейся
структуре буквы, которая не имеет собственной тра-
ектории, пристало всегда иметь возможность про-
пустить собственное направление.
34 Фрагменты, опубликованные под заглавием FEncyclo-
pedie, tr. fr. М. de Gandillac, 6d. de Minuit, 1966 (coll.
«Arguments»).
35 «Поэзия — это часть философской техники. Фило-
софский предикат — повсюду выражает само-фина-
лизацию, причем косвенную само-финализацию»
(р. 312). «Философия — это, по существу, носталь-
гия — стремление повсюду быть как у себя дома»
(р. 65). Вот почему философия семени, представляе-
мая как обогащение в возврате к себе, всегда оказы-
вается субстанциалистской, зависимой при этом от
романтической метафоризации и мифа о семанти-
ческой глубине, от той идеологии, которую Башляр
анализирует (если только не поддается ей сам)
в «Формировании научного духа» <La Formation de
I'esprit scientifique>, разбирая вопрос спермы и золо-
та. (Семенное различение — это не только семя и
яйцо.) В диссеминации они подвергаются такой
трактовке, которая должна была бы порвать с лю-
бым мифологическим панспермизмом и с любой ал-
химической металлургией. Напротив, речь идет о том,
чтобы наметить связь с движением генетической
науки и с генетическим движением науки во всех
пунктах, где последняя должна считаться — и не
только метафорически — с проблемами письма и
различия, с семенным различением (см.: De la gram-
matologie, p. 19). Пропуская многое, приведем сле-
дующую цитату из Фрейда, хотя о ее направленности
ВШ Жак Деррида. Диссеминация
ни в коем случае нельзя забывать: «Все наши времен-
ные психологические концепции нужно будет в ка-
кой-то момент заменить учением, опирающимся на
базис органических процессов» («Pour introduire le
narcissisme» П La Vie sexuelle, P.U.F., p. 86).
36 В буквальном превращении, в котором здесь стоит
поупражняться, предавая ее огню. Это истребление
огнем, подобно таковому гимена, никогда не начи-
нается и не заканчивается. В нем рас-трачивается
<dd-pense> его тождество. «Можно сжечь александ-
рийскую библиотеку. Над папирусами и вне их есть
силы: на какое-то время у нас будет отнята способ-
ность находить эти силы; но их энергия не будет
уничтожена» (Artaud, (Euvres completes, t. IV, p. 14).
Праздник и фейерверк, трата, прожигание и симу-
лякр — было бы наивно наделять их (со страстью,
которая уже говорила бы за себя) невинностью, бес-
плодностью или бессилием некоей формы. Идет ли
речь в конце «Музыки и словесности», которая все-
гда возвращает литературу к празднику, о том, что-
бы каким-то образом возродить симулякр земли, или
же о том, чтобы превратить саму землю в симулякр?
Больше не было бы праздника, литературы или си-
мулякра, если бы мы могли со всей уверенностью это
знать: «Заложите порох в эти подвалы, если темнота
мешает обозреть их в перспективе, нет — подвесьте
фонарики, чтобы видеть: дело в том, что ваши мыс-
ли требуют от земли призрак».
И чтобы распространить:
«Чему это служит —
Одной игре.
Ввиду того, что высшее притяжение, идущее, как мы
можем верно заметить, из пустоты, вытягиваемой из
нас скукой по отношению к вещам, если они устанав-
ливаются со всей прочностью и неизбывностью, —
ЕШ Примечания
в безумии отрывает их, пока не наполнится ими и не
наделит их блистанием в пустом пространстве про-
извольных и одиноких праздников» (р. 647).
Примечания, выполненные как постскриптум к лек-
ции и даже к самому жанру лекции:
«...Ввиду того, что высшее притяжение...
Эта точка зрения, пиротехническая не в меньшей
степени, чем метафизическая; но фейерверк на вы-
соте и по примеру мысли распространяет идеальное
наслаждение» (р. 655).
Дополнительное чтение могло бы выявить следую-
щее: речь идет о работе, связанной с установлением
или, наоборот, демонтажом некоего эшафота, его
сцены. Эшафот понадобится, чтобы через какой-то
промежуток времени заменить солнце Платона лю-
строй Малларме.
Той стороной литературы — или ничем.
37 «...Это, да, только относительно самого этого слова,
это есть...» (Письмо Вьеле-Гриффену <Vi616-Griffin>,
8 августа 1891 г.). Повторим еще раз, чтобы смягчить
следующий удар: вопрос предисловия — это вопрос
бытия, выведенного на сцену эшафота или на «под-
мостки составителей предисловий» (р. 364). Вопрос
Книги-Природы как Логоса, круга эпилога и проле-
гомен. «Предисловие» к «Ватеку»: «...приводит к тому,
что о “Предисловии” вообще больше никто не захо-
чет ничего слышать, обратив все внимание к позна-
нию через самого себя. [...] Как абсолютно пустое,
я отрицаю это право. [...] Устремившись, по вашим
желаниям, к некоей остановке, которая, быть может,
станет натурализацией книги, очевидно полностью
отсутствовали бы все пролегомены, способные разве
что пустить пыль в глаза, если бы вы не дождались»
(р. 555). «Предисловие» к «Броску костей»: «Я хотел
бы, чтобы это Примечание вообще не читали, а если
СШЗ Жак Деррида. Диссеминация
бы и пробежали мельком, тотчас забыли; опытному
читателю оно расскажет мало вещей, которые были
бы за пределами его понимания, но оно может сму-
тить новичка, который должен припасть взглядом
к первым словам Поэмы, чтобы следующие, именно
в том порядке, в каком они идут друг за другом, при-
вели его к последним, и во всем только одно новше-
ство — разбивка чтения».
Как и «Игитур», «Бросок костей», стало быть, не бу-
дет книгой.
38 Пример: «Любовь до брака <hymen> походит на слиш-
ком короткое предисловие в начале бесконечной кни-
ги» (Пти-Сенн <Petit Senn>).
39 «Istos или, в собственном значении, поставленный
прямо предмет, откуда: I. мачта корабля. II. верти-
кальный валик у древних, а не горизонтальный, как
в настоящее время (исключая гобелены и индийские
мануфактуры), от которого отходят нити основы на
ткацкий станок, откуда 1. ткацкий станок; 2. соответ-
ственно, нить основы, закрепленная на ткацком стан-
ке, откуда уток; 3. ткань, полотно, кусок полотна;
4. по аналогии, паутина; или пчелиные соты. III. пал-
ка, прут. IV. по аналогии, кость ноги*.
40 «ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Если не использовать парадигму,
сложно будет, мой дорогой друг, рассмотреть какой
бы то ни было значимый вопрос удовлетворитель-
ным образом. Ведь можно было бы почти достовер-
но утверждать, что каждый из нас знает обо всем,
как будто во сне, обнаруживая в момент пробужде-
ния, что он ничего не знает. ЮНЫЙ СОКРАТ. Что
* Словарная статья «ютдс»: Bailly A., Dictionnaire grec-fran^ais, Librairie
Hachette, Paris, 1906, p. 983.
ЕШ Примечания
ты имеешь в виду? ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Как мне кажется,
очень странная встреча заставляет меня коснуться
того явления, которое в нас задается знанием.
ЮНЫЙ СОКРАТ. Что же это? ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Пара-
дигма, достойный юноша, сейчас мне нужна такая
парадигма, чтобы объяснить саму мою парадигму.
ЮНЫЙ СОКРАТ. Ну так говори же, не скрывая от
меня ничего! ЧУЖЕЗЕМЕЦ. Я скажу, поскольку я
вижу, что ты готов следовать за мной. Ведь, как
мне представляется, мы знаем, что дети, когда они
только-только познакомились с письмом... (otan arti
grammaton empeiroi gignontai...)» (277d—e, tr. Dies)
Описание сплетения (sumploke) в письме обнаружи-
вает необходимость обращения к парадигме в грам-
матическом опыте, а затем постепенно подводит нас
к использованию этого средства в его «царской» фор-
ме и к парадигме ткача.
41 Богатейшее описание истории интерпретаций «Фед-
ра» и обсуждение вопроса о его композиции можно
найти в работе: Robin L. La Theorie platonicienne
de Гатоиг. (P.U.F. 2е edit., 1964), а также во «Введе-
нии» того же автора к «Федру» в издании Бюде
<Bud6>.
42 Raeder Н. Platons philosophische Entwicklung, Leipzig,
1905. Э. Бурге <E. Bourguet> критикует этого автора
в своей статье: Sur la composition de Phidre 11 Revue de
la Methaphysique et la Morale, 1919, p. 335.
43 Frutiger P. Les Mythes de Platon, p. 233.
44 Здесь, когда речь идет о logos'Робен переводит tekhn£
как «искусство». Далее, в обвинении, то же самое сло-
во, относящееся на этот раз к письму, переводится
как «техническое знание» (275с).
EEZ3 Жак Деррида. Диссеминация
45 Если в «Курсе» Соссюра вопрос письма исключается
или упорядочивается в виде некоего предварительно-
го экскурса, остающегося вне произведения, в «Опы-
те о происхождении языков» глава, посвящаемая это-
му вопросу Руссо, также, несмотря на свою действи-
тельную значимость, предлагается в виде несколько
произвольного дополнения, вспомогательного крите-
рия, «другого способа сравнить языки и решить во-
прос их древности». Та же самая операция осуществ-
ляется в «Энциклопедии» Гегеля; см.: «Le Puits et la
Pyramide» (1—1968) 11 Hegel et la Pens£e moderne, P.U.F.,
1970, coll. «6pimdth6e».
45 Тамус у Платона, несомненно, выступает в качестве
другого имени бога Аммона, собственную фигуру
которого (солнечный бог и отец богов) нам нужно
будет выписать позднее. По этому вопросу и спору,
который он родил, см.: Frutiger, op. cit., р 233, n. 2 и
особенно Eisler, Platon und das agyptische Alphabet 11
Archiv ftlr Geschichte der Philosophic, 1922; Pauly-
Wissowa, Real Encyclopddie der classischen Altertums-
wissenschaft (статья Ammon); Roscher, Lexicon der
grichischen und romischen Mythologie (статья Tha-
mous).
47 Связка logos — zdon обнаруживается в речах Исокра-
та «Против софистов» и Алкидаманта «О софистах».
См. также книгу: Stiss W. Ethos, Studien zur alteren
grichieschen Rhetorik (Leipzig, 1910, S. 34 sq.), в кото-
рой автор осуществил построчное сравнение этих
двух речей с «Федром», а также: Dies A. Philosophic et
rh&oroque И Autour de Platon, I, p. 103.
48 Ast Fr. Lexique platonicien. См. также: Parain B. Essai sur
le logos platonicien, 1942, p. 211, а также Louis P. Les
Mtthaphores de Platon, 1945, p. 43—44.
ЕШ Примечания
49 Я заметил их благодаря весьма проницательной под-
сказке, любезно данной мне Франсин Маркович
<Francine Markovitz>. Естественно, этот текст необ-
ходимо сравнить с текстами из книг VI и VII «Госу-
дарства».
50 Здесь мы можем лишь отослать ко всем работам
о связях Греции с Востоком и Ближним Востоком.
Как известно, таких работ очень много. О Платоне,
его отношениях с Египтом, гипотезе его путешествия
в Гелиополь, свидетельствах Страбона и Диогена Ла-
эртского, указания и наиболее важную информацию
можно найти в работах: Festugifere, Revelation cTHermts
Trismegiste (t. I); Godel R. Platon a Heliapolis d^gypte,
а также: Sauneron S. Les Pretres de Vancienne Ёgypte.
51 Cm.: Vandier, Jacques. La Religion £gyptienne, P.U.E, 1949,
особенно p. 64—65.
52 Cm.: Morenz S. La Religion egyptienne, Payot, 1962, p. 58.
Такая формулировка, по мнению Моренца, весьма
примечательна присутствием первого лица. «Эта ред-
ко встречаемая черта кажется нам весьма примеча-
тельной, поскольку такие формулировки часто ис-
пользуются в сложенных на греческом языке гимнах,
в которых появляется Исида (“Я Исида” и т. д.); следо-
вательно, мы вправе задать себе вопрос, не выдает ли
эта черта неегипетское происхождение этих гимнов».
53 См.: Sauneron S., op. cit., р. 123: «Первый бог, чтобы
создавать, должен был лишь говорить; упоминаемые
существа и вещи рождались его голосом» (и далее).
54 См.: Morenz, op. cit., р. 46 и S. Sauneron, который по
этому вопросу дает следующее уточнение: «Нам
неизвестно, что в точности значит это имя. Однако
ЕХ!Ш Жак Деррида. Диссеминация
оно произносилось так же, как другое слово, кото-
рое означало “скрывать”, “скрываться”, а писцы обыг-
рали это созвучие, определив Амона как великого
бога, который скрывает от своих детей свой истин-
ный облик... Но некоторые не побоялись пойти еще
дальше: Гекатей Абдерский узнал о жреческой тра-
диции, согласно которой это имя (Амон) якобы яв-
ляется термином, используемым в Египте для того,
чтобы позвать кого-нибудь... Верно то, что слово
amoini означает “приди”, “приди ко мне”; фактом яв-
ляется и то, что некоторые гимны начинаются со слов
“Amoini Атоип”, “Приди ко мне, Амон”. Простое со-
звучие этих двух слов побудило жрецов к мысли, буд-
то между ними существует некая тайная связь, то
есть так они нашли объяснение имени бога: вот по-
чему, обращаясь к изначальному богу... как к невиди-
мому и скрытому существу, они приглашают и зазы-
вают его явиться им и открыть свой облик, называя
его Амоном» (op. cit., р. 127).
55 См.: Morenz, op. cit., р. 232—233. В абзаце, который
мы здесь обрываем, могло бы быть отмечено, что вся
эта фармация Платона увлекает за собой и текст Ба-
тая, вписывающий в историю яйца солнце прокля-
той доли. Ведь все наше эссе само по себе, как мы
вскоре поймем, — не что иное, как определенное про-
чтение «Поминок по Финнегану».
56 См.: Vandier, op. cit., р. 36: «два этих бога [Хор и Тот]
были связаны в творческом акте: Хор представляет
мысль, которая замышляет, а Тот — слово, которое
исполняет» (р. 64). См. также: Erman A. La Religion des
Egyptiens, Payot, p. 118.
57 Cm.: Morenz, op. cit., p. 46—47 и Fustigiere, op. cit.,
p. 70—73. Будучи посланником, Тот, следовательно,
EXsD Примечания
также является и толкователем, hermeneus. Это одна
из других весьма многочисленных черт его сходства
с Гермесом. Фестюжьер анализирует эту черту в гла-
ве IV своей книги.
58 Ж. Серни <J. Cerny> цитирует гимн Тоту, начинаю-
щийся с таких слов: «Приветствую тебя, Тот-Луна,
который сделал различными языки разных стран».
Серни сначала считал этот документ единственным,
однако вскоре выяснил, что Бойлен <Boylan> (Thot,
The Hermes of Egypt, London, 1922) цитировал (p. 184)
аналогичный папирус («ты, который различил [или
разделил] язык между одной страной и другой») вме-
сте с еще одним похожим папирусом (р. 197) («ты,
который отличил язык любой иноземной страны»).
См.: Cerny, Thot as Creator of languages 11 The Journal of
Egyptian Archeology, London, 1948, p. 121 sq.; Sauneron
S. La Differentiation des languages d’apres la tradition
egyptienne 11 Bulletin de 1’Institut fran^ais d’Archeologie
orientale de Caire, Le Caire, 1960.
59 Erman A., op. tit., p. 90—91.
во Ibid., p. 96.
61 Vandier J., op. tit., p. 51.
62 Ibid., p. 52.
63 Erman A., op. tit., p. 101.
64 Именно так бог письма может стать богом творяще-
го слова. Это структурная возможность, которая свя-
зана с его статусом дополнения и с логикой дополне-
ния. Такое становление можно также зафиксировать
в качестве факта эволюции в истории мифологии. Так
ЕШЗ Жак Деррида. Диссеминация
и поступает Фестюжьер: «Однако Тот не удовлетво-
ряется своим подчиненным статусом. В те времена,
когда жрецы Египта создавали космогонии, в кото-
рых каждый местный священник хотел дать главную
роль прославляемому им богу, теологи Гермополя, со-
ревнующиеся с теологами Дельты и Гелиополя, раз-
работали космогонию, в которой главное место от-
водилось Тоту. Так как Тот был колдуном, так как он
ведал силой звуков, которые при правильном про-
изнесении с необходимостью производят определен-
ное действие, именно посредством голоса, слова или,
скорее, заклинания, Тот должен был создать мир. Так
голос Тота становится творческим — он формирует
и творит; сгущаясь в самом себе, затвердевая в виде
материи, он становится бытием. Тот отождествляет-
ся со своим дыханием, испускание которого как раз
и рождает все вещи. Представляется возможным
обнаружить в этих спекуляциях жрецов Гермополя
определенные сходства с Logos греков — Логосом, ко-
торый был одновременно и Словом, и Разумом, и Де-
миургом, — а также с Sophia александрийских евреев;
не исключено, что еще до наступления эпохи христи-
анства жрецы Тота, строя свои космогонии, испыты-
вали влияние греческой мысли, однако утверждать это
наверняка мы не можем» (op. cit., р. 68).
65 Ibid., см. также: Vandier и Erman, op. cit., passim.
66 Erman A., op. cit., p. 81.
67 Ibid.
68 Vandier, op. cit., p. 182.
69 Vandier, op. cit., p. 136—137; Morenz, op. cit., p. 173;
Festugiere, op. cit., p. 68.
ESQ Примечания
70 Morenz, op. cit., p. 47—48.
71 Erman A., op. cit., p. 249.
72 Ibid., p. 250.
73 Ibid., p. 41.
74 Boylan, op. cit., p. 62—75; Vandier, op. cit., p. 65; Morenz,
op. cit., p. 54; Festugidre, op. cit., p. 67.
75 Morenz, op. cit., p. 95. Другая спутница Тота, Маат —
богиня истины. Она также является «дочерью Ра, хо-
зяйкой неба, которая управляет двусторонней стра-
ной, глазом Ра, у которого нет подобия». А. Эрман на
странице, посвященной Маат, в частности, отмечает
следующее: «...ей, неизвестно на каком основании,
приписывают в качестве отличительного знака перо
грифа» (р. 82).
76 Vandier, op. cit., р. 71 sq. См. также: Festugiere, op. cit.,
p. 287 sq. В этих работах собраны многочисленные тек-
сты о Тоте — изобретателе магии. Начало одного из
них представляет для нас немалый интерес: «Закли-
нание для прочтения перед солнцем: “Я — Тот, изобре-
татель и создатель настоев и букв”» (р. 292).
77 Vandier, op. cit., р. 230. Криптография, магическая ме-
дицина и фигура змеи переплетаются также в уди-
вительной народной сказке, изложенной Г. Масперо
<G. Maspero> в книге Les Contes populaires de l^gypte
ancienne. Это приключение Сатни Хаэмуаса с муми-
ями. Сатни Хаэмуас, сын царя, «проводил время
в метрополе Мемфиса, где читал книги, написанные
священным письмом, и книги “Двойного дома жиз-
ни”. Однажды один знатный человек посмеялся над
BED Жак Деррида. Диссеминация
ним. “Почему ты насмехаешься надо мной?” Знат-
ный человек ответил: “Я вовсе не насмехаюсь над
тобой; но как я могу удержаться от смеха, видя, что
ты расшифровываешь все эти письмена, у которых
нет никакой силы? Если ты в самом деле хочешь про-
честь действенную запись» пойдем со мной; я при-
веду тебя в место, где находится книга, написанная
собственной рукой Тота, которая мигом вознесет
тебя к богам. В ней записаны два заклинания. Если
ты прочитаешь первое, ты завладеешь небом, зем-
лей, миром ночи, горами, водами; ты сможешь по-
нимать то, что говорят все небесные птицы и все пре-
смыкающиеся, какие только ни есть на белом свете;
ты увидишь рыб, потому что божественная сила за-
ставит их подняться к поверхности моря. А если ты
прочитаешь второе заклинание, то, даже оказавшись
в могиле, ты сможешь обрести тот облик, кото-
рый был у тебя на земле; ты сможешь видеть солн-
це, встающее над горизонтом и совершающее ход,
и луну в тех ее формах, которые она принимает на
небосклоне”. Сатни сказал: “Клянусь жизнью, проси
чего хочешь, я все исполню, только отведи меня туда,
где находится эта книга!” Знатный человек сказал
Сатни: “Эта книга не моя. Она находится в центре
некрополя, в могиле Неноферкептаха, сына царя Ми-
небптаха... Не вздумай похищать ее у него, посколь-
ку он заставит тебя ее вернуть, явившись с вилами и
палкой в руках, с пылающим костром на голове...”
В глубине могилы из книги исходил свет. Рядом с ней
были двойники царя и членов его семьи, “благодаря
силам книги Тота”... Все это уже повторялось. Нено-
феркептах уже пережил историю Сатни. Жрец ска-
зал ему: “Эта книга находится посреди моря Копто-
са* в ларце из железа. Ларец из железа находится
Редкое древнеегипетское название Красного моря.
ЕШО Примечания
в бронзовом ларце, бронзовый ларец — в ларце из
коричного дерева, ларец из коричного дерева —
в ларце из слоновой кости и эбенового дерева. Ларец
из слоновой кости и эбенового дерева находится
в серебряном ларце. Серебряный ларец — в золотом
ларце, а в золотом ларце — книга. [Ошибка писца? Эта
ошибка была введена или закреплена в первом изда-
нии; в следующем издании книги Масперо она была
исправлена в сноске: «Писец здесь ошибся в перечис-
лении. Он должен был бы сказать: ларец из железа со-
держит и т. д.». (Отрывок оставлен для демонстра-
ции логики включения.)] Вокруг ларца с книгой один
схен [в птолемееву эпоху — примерно 12 000 царских
локтей по 0,52 м] змей, всевозможных скорпионов и
гадов, сам ларец держит в своих объятьях бессмерт-
ная змея”. После трех попыток герой убивает змею,
выпивает книгу, растворив ее в пиве, и таким обра-
зом приобретает безграничные знания. Тот жалуется
на него Ра и навлекает на него страшные кары».
Отметим напоследок, прежде чем расстаться с еги-
петским Тотом, что удивительно похожий на него
персонаж — это не только греческий Гермес, но и
Набу, сын Мардука. В вавилонской и ассирийской ми-
фологиях «Набу, по существу, является богом-сыном;
так же как Мардук затмевает своего отца Эйя, Набу,
как мы увидим, присвоит себе место Мардука»
(Dhorme Е. Les Religions de Babylonie et d'Assyrie. P.U.E,
1945, p. 150 sq.). Мардук, отец Набу, — это бог-солн-
це. Набу, «хозяин тростин для письма», «создатель
письма», «носитель табличек с записанными судьба-
ми богов», часто выходит на первый план, оставляя
отца за собой и заимствуя у него символический
инструмент, тагги. «Медный предмет для священ-
нодействий, обнаруженный в Сузе и представляю-
щий собой “змею, которая держит в пасти что-то
вроде лопасти”, был отмечен, — обращает внимание
EQS Жак Деррида. Диссеминация
Дорм, — надписью “ковш бога Набу”» (р. 155). См.
также: David М. Les Dieux et le Destin en Babylonie,
P.U.F., 1949, p. 86 sq.
Можно было бы последовательно перечислить все
черты сходства между Тотом и библейским Набу
(Небо).
78 Здесь я позволю себе в качестве предварительного и
общего пояснения отослать к «Вопросу о методе»
в «О грамматологии». С некоторыми оговорками
можно будет сказать, что в данном чтении Платона
pharmacon играет роль, аналогичную роли дополнения *
в чтении Руссо.
79 См., в частности: Государство II 364а и далее, Пись-
мо 7 ЗЗЗе. Эта проблема упоминается в работе
Moutsoupoulos Е. La Musique dans Vceuvre de Platon,
P.U.F., 1959 (p. 13 sq), в которой дается множество
весьма ценных ссылок.
80 Здесь мы позволим себе сделать отсылку к богатей-
шему по своему содержанию тексту Жана-Пьера Вер-
нана <Pierre Vernant> (который рассматривает эти
проблемы под совсем иным углом зрения) «Aspects
mythiques de la mdmoire et du temps» // Mythe et Pensee
chez les Grecs, Maspero, 1965. О слове Tupos, его отно-
шениях c perigraphe и paradeigma см.: Blumenthal А.
von. Tupos und Paradeigma, цитируется в: Schuhl P. M.
Platon et VArt de son temps 11 P.U.F., 1952, p. 18, n. 4.
81 Мы пользуемся здесь термином Диеса <Dies>, поэто-
му мы отошлем к его исследованию La Transposition
platonicienne, в частности к главе I «La Transposition
de la rh£torique» П Autour de Platon, t. II, p. 400.
Suppldment; в русском переводе H. А. Автономовой — «восполнение».
Примечания
Если вместе с Робеном <Robin> решить, что «Федр»,
несмотря на некоторые неясности, является «списком
обвинений, выдвинутых против риторики Исократа»
(Introduction au Phedre, 6d. Bude, p. CLXXIII), и что сам
Исократ, что бы он ни говорил, больше заботится
о doxa, чем об episteme (р. CLXVIII), мы, конечно, боль-
ше не будем удивляться названию его речи «Против
софистов». Как и тому, что в ней, например, можно
найти следующий отрывок, формальное подобие ко-
торого сократовской аргументации представляется
просто ошеломительным: «Необходимо критиковать
не только их, но и тех, кто обещает научить публич-
ному красноречию (tous politicous logous). Поскольку
такие люди, никоим образом не заботясь об истине,
считают, что наука состоит в том, как привлечь наи-
большее число людей, чтобы получить с них возна-
граждение... [Необходимо напомнить, что услуги
Исократа стоили очень дорого, так что можно пред-
ставить, какова была цена истины, когда она говори-
ла его устами. — Ж. Д.]... Будучи сами невежествен-
ными, таковыми они считают и остальных, а сочиняя
речи хуже, чем могли бы составить некоторые негра-
мотные люди, они в то же время обещают сделать из
своих учеников ораторов, ловкости которых хватит на
то, чтобы не упустить ни одного возможного аргумен-
та в делах. Получив такую власть, они не придают ни-
какого значения ни опыту, ни природным данным
ученика, они лишь говорят, что передают ему науку
речи (ten ton logon epistemen) так же, как науку пись-
ма... Я удивляюсь тому, что достойными иметь уче-
ников считают тех людей, которые, сами того не за-
мечая, в качестве примера творческого искусства при-
водят простой неизменный инструмент. В самом деле,
кто, кроме них, не знает, что буквы неизменны и что
они сохраняют одно и то же значение, так что мы все-
гда используем одни и те же буквы для одного и того
BS3 Жак Деррида. Диссеминация
же объекта, тогда как с речами все совсем иначе? То,
что сказал один человек, не принесет ту же пользу
тому, кто скажет то же после него; а самым ловким
в этом искусстве считают того, который изъясняет-
ся так, как того требует тема, имея при этом возмож-
ность найти выражения, совершенно отличные от
выражений других. Вот что лучше всего доказывает
несходство двух этих предметов: речи не могут быть
прекрасными, если они не согласуются с обстоятель-
ствами, если они не соответствуют теме и если они
лишены новизны; а ведь буквам ничего из вышепе-
речисленного не нужно». Заключение таково — при-
ходится платить, чтобы писать. А ведь следовало бы,
чтобы людям письма никогда не платили. Идеал: пусть
они сами всегда платят. Пусть они платят, потому что
они нуждаются в заботе со стороны мастеров logos'a.
«Таким образом, люди, которые используют подобные
примеры (paradeigma — буквы), скорее сами должны
были бы платить, а не получать деньги, поскольку они,
нуждаясь в том, чтобы о них внимательно заботились,
сами принимаются за обучение других» (Kata ton
sophistdn, XIII, 9,10,12,13).
вз Я цитирую перевод, опубликованный в La Revue de
la poisie («La Parole dite», n° 90, octobre 1964). Об этом
отрывке из «Похвалы», об отношениях thelgo и peitho,
чар и убеждения, об их использовании у Гомера, Эс-
хила и Платона см.: Dids, op. cit., р. 116—117.
84 «Голос голый, опустошенный» и т. д.; выражение
psilois logois также имеет значение абстрактного ар-
гумента или же простого и приведенного без дока-
зательств утверждения (см.: Теэтет 165а).
85 Сократовский pharmacon одновременно и/или попе-
ременно поражает и пробуждает, обезболивает и де-
ЕШО Примечания
лает более чувствительным, успокаивает и тревожит.
Сократ — это наркотизирующий скат, но также и
животное с жалом: вспомним пчелу из «Федона» (91с);
позднее нам придется открыть «Апологию» в том са-
мом месте, в котором Сократ сравнивает себя с ово-
дом. Следовательно, фигуры Сократа составляют не-
кий бестиарий. Может ли удивить то, что одержимый
демоном крестится в бестиарии? Только исходя из
этой зоофармацевтической амбивалентности и этой
другой сократовской аналогии определяются преде-
лы anthropos'a.
86 Можно заметить, что эта сцена является странным, об-
ратным и симметричным, ответом на сцену из «Фед-
ра». Обращение налицо: единство, которое позволяло
тексту под плащом переходить в pharmacon и наобо-
рот, заранее записано в «Федре» (pharmacon — это текст,
уже написанный «самым умелым из современных пи-
сателей»), и только предписано в «Хармиде» (рецепт
pharmacon'a, предписываемого Сократом, должен быть
записан под диктовку). Сократовское предписание
в данном случае является устным, а речь сопровожда-
ет pharmacon как условие его действенности. В глубине
и на каком-то отдаленном уровне этой сцены необхо-
димо разглядеть представленную в «Политике» крити-
ку письменного назначения лекарств, «hypomnemata
graphein», неизменность которого не сообразуется с ча-
стным случаем и развитием болезни — так иллюстри-
руется политическая проблема записанных законов.
Подобно врачу, навещающему больного, законодатель
должен иметь возможность изменять свои первые
предписания (294а—297b; см. также: 298d—е).
В7 Начало диалога: «ЭХЕКРАТ. Был ли ты сам рядом
с Сократом в тот день, когда он выпил яд (pharmacon)
в своей тюрьме?» (57а).
ЕЮ Жак Деррида. Диссеминация
Конец диалога: «СОКРАТ. ...Похоже, что лучше мне,
прежде чем выпить яд (pharmacon), вымыться само-
му, чтобы избавить женщин от забот по омовению
трупа» (115а). См. также: 117а.
88 Следовательно, цикуту можно было бы рассмотреть
и в качестве некоего pharmacon а бессмертия. На та-
кую мысль наводит уже сама ритуальная и церемо-
ниальная форма, завершающая «Федон» (116b—с).
В статье Le Festin d’immortalite (Esquisse (Tune 6tude
de mythologie comparee indoeuropeenne, 1924) Ж. Дю-
мезиль <G. Dumezil> указывает на «присутствующие
в Афинах следы тесейского цикла, связанные с фар-
гелионом*» (позже нам еще придется говорить о не-
коем отношении между фаргелионом, рождением и
смертью Сократа) и делает сноску: «Ни Ферекид, ни
Апполодор не описали ритуалы, которые в опреде-
ленном регионе Греции должны были соответство-
вать истории pharmacon а бессмертия, которым стра-
стно стремились овладеть Гиганты, а также истории
“искусственной Богини”, Афины, которая отняла
у Гигантов их бессмертие» (р. 89).
89 Главные источники, позволяющие описать ритуал
pharmacos'a, собраны в работе Mythologische Forschun-
gen (1884) В. Майнхардта (W. Mannhardt), которая
упоминается, в частности, Дж. Дж. Фрэзером в его
«Золотой ветви» (tr. fr. р. 380 sq.), в работах: Harri-
son J. Е. Prolegomena to the study of greek religion (1904,
p. 95 sq.), Themis, a study of the social origins of greek
religion (1925, p. 27), Nilsson, History of greek religion
(1925, p. 27), Schuhl P. M. Essai sur la formation de la
pensee grecque (1934, p. 36—37). Полезную информа-
Фаргелион — месяц древнегреческого календаря, соответствующий
нашим маю-июню.
ЕШ Примечания
цию можно найти в посвященной Эдипу главе ра-
боты Марии Делькур <Marie Delcourt> Legendes et
Cultes des heros en Grece (1942, p. 101) и в других кни-
гах того же автора: Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les
valeurs du feu dans les legendes helleniques (1965, p. 29) и
особенно CEdipe ou la legende du conquerant (1944,
p. 29—65).
Несомненно, здесь самое время отметить, раз уж речь
зашла о необходимом сближении фигуры Эдипа и
фигуры pharmacos'a, что, несмотря на определенные
сходства, наше исследование не является strictu senso
<в точном смысле слова (лат.)> психоаналитическим.
По крайней мере, в той степени, в какой мы обраще-
ны к текстуальному запасу (культуре, языку, трагедии,
греческой философии и т. д.), с обращения к которо-
му должен был начать и сам Фрейд, никогда не пере-
стававший отсылать к нему. Мы собираемся исследо-
вать этот запас. Это не означает, что отмеченная
таким образом дистанция по отношению к психоана-
литическому дискурсу, который может безо всякой
рефлексии двигаться в среде недостаточно расшиф-
рованного греческого текста, была бы того же типа,
что и дистанция, которую устанавливают, например,
М. Делькур (Delcourt М. Legendes, р. 109, 113, etc.) и
Ж.-П. Вернан (Vernant J.-P. CEdipe sans complexe H Raison
prtsente, 1967).
После первой публикации этого текста* вышло в свет
замечательное эссе Ж.-П. Вернана <J.-P. Vernant>
Ambigul'te et renversement, sur la structure £nigmatique
d’CEdipe-Roi 11 Echanges et Communications, mdlanges
offerts й Claude Levi-Strauss, Mouton, 1970. Здесь,
в частности, можно прочесть следующие строки, что,
как представляется, подтверждает нашу гипотезу
(см. примеч. 85 — к главе «Pharmakeus»): «Как Город
Имеется в виду издание в журнале Tel Quel, No 32,33,1968.
вш Жак Деррида. Диссеминация
мог принять в свою среду того, кто, подобно Эди-
пу, “бросил свою стрелу дальше любого другого че-
ловека” и стал isotheos <равным богам (др.-греч.)>?
Когда Город учреждает систему остракизма, он со-
здает институт, роль которого оказывается обратной
и симметричной по отношению к роли ритуала фар-
гелиона. В лице подвергнутого остракизму Город ис-
торгает то, что в нем самом оказывается слишком воз-
вышенным, что воплощает зло, которое может низ-
вергнуться на Город с небес. В институте pharmacos'a
Город исторгает то, что в нем есть наиболее низкого и
что воплощает зло, которое начинается снизу. Посред-
ством такого двойного и взаимодополняющего жес-
та отбрасывания Город ограничивает сам себя по от-
ношению к тому, что по ту сторону от него и что по
эту. Он устанавливает собственную меру человече-
ского, противопоставляемого, с одной стороны, бо-
жественному и героическому, а с другой — скотскому
и чудовищному» (р. 1275). См. также работы Вернана
и Детьена <D6tienne> (особенно по вопросу о poikilon,
о котором у нас еще будет разговор на странице 183):
la Metis d’Antiloque И Revue des £tudes grecques (janv.-
ddc. 1967) и la Metis du renard et du poulpe (ibid., juill.-
ddc. 1969). Другое подтверждение: в 1969 г. было изда-
но собрание сочинений <(Euvres> Мосса. Приведем
цитату:
«Впрочем, все эти представления имеют две сторо-
ны. В других индоевропейских языках неопределен-
ным является понятие яда. Клуге и другие этимоло-
ги с полным правом сравнили линию potio <питье,
напиток (лат.)>, poison <яд (фр.)> и линию gift-
gift <яд (нем.), дар (англ.)>. Также с интересом мож-
но прочитать веселое обсуждение этой темы у Авла
Геллия (Авл Геллий дает весьма ценные цитаты из
Гомера) о двойственности греческого pharmacon и
латинского venenum. Ведь Lex Cornelia de Sicariis et
EIB Примечания
veneficis*, «заучиваемый наизусть текст» которого
был, к счастью, сохранен для нас Цицероном, все еще
определяет venenum malum <злой яд, злое снадобье
(лат.)> (Pro Cluentio, 148. В «Дигестах» также пред-
писывается пояснять, о каком «venenum», «bonum
sive malum» <яде, добром или злом (лат.)>, идет
речь). Магический напиток, чудодейственный на-
стой — представляется вполне вероятной этимоло-
гия, которая сближает venenum (v. Walde, Lat. etym.
Wort., ad. verb.) c Venus и с санскритским van, vanati —
может быть как добрым, так и злым. Греческий
philtron также не обязательно обозначает нечто ужас-
ное, это может быть напиток дружбы или любви, ко-
торый становится опасным, если только того захо-
чет чародей» (Gift-gift (1924) И Extraits des Melanges
ojferts a Charles Andler par ses amis et ses el£ves, Istra,
Strasbourg // CEuvres 3, p. 50, 6d. de Minuit, 1969).
А это приводит нас к «Очерку о даре», который от-
сылает к только что процитированной статье:
«Gift-gift. Melanges Ch. Andler, Strasbourg, 1924. Нам
задали вопрос, почему мы не рассмотрели этимоло-
гию слова gift, перевода латинского dosis, которое само
является транскрипцией греческого ббок;, “доза”,
“доза яда”. Такая этимология предполагает, что диа-
лекты верхне- и нижненемецкого выбрали научное
название для вещи повседневного применения, что
не является общим семантическим законом. Кроме
того, нужно было бы также объяснить выбор слова
gift для такого перевода и обращенное лингвистичес-
кое табу, которое в некоторых германских языках
оказало воздействие на смысл “дар”, ранее присущий
этому слову. И наконец, латинское и, самое главное,
греческое использование слова dosis в смысле “яд”
«Закон Корнелия об убийцах и отравителях» — закон 81 г. до и. э.,
сохраненный в «Дигестах» Юстиниана.
17-6705
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
доказывает, что уже у древних существовала имен-
но та связь между идеями и моральными правила-
ми, которую мы здесь описываем.
Неопределенность смысла слова gift мы сблизили
с неопределенностью латинского venenum. а также
греческих (piArpov и (pdppa%ov; к этому нужно было
бы добавить сближение (см.: Brdal, Mtlanges de la
soci£t£ linguistique, t. Ill, p. 410), venia, venus, venenum
c vanati (на санскрите — “доставлять удовольствие”)
и с gewinneny win (выигрывать). Нужно также испра-
вить ошибку цитирования. Авл Геллий использует
в исследовании эти слова, однако Гомера (Odissee, VI,
р. 226) цитирует не он, а Гай, который сам является
юристом, в своей книге о “Двенадцати таблицах”
(Digeste, L. XVI, De verb, signif., 236)» (Sociologie et
antropologie, P.U.F., p. 255, n. 1).
90 Cm.: Harrison, op. cit.y p. 104.
91 «Точно так же намерение тех, кто бил козла отпуще-
ния по половым органам морским луком [травяни-
стое луковичное растение, иногда культивируется из-
за своих фармацевтических, в частности мочегон-
ных, свойств], состояло лишь в том, что они хотели
освободить свою способность к воспроизводству от
порчи и ограничений, наложенных демонами или
другими вредоносными существами...» (Frazer, Le
Войс emissaire, р. 230).
92 Напомним здесь предполагаемую этимологию слов
pharmacon/pharmacos. Приведем цитату из словаря:
Boisacq Е. Dictionnaire etymologique de la langue grecque
<Heidelberg, 1950, p. 1015>. «Pharmacon: чары, настой,
снадобье, лекарство, яд. Pharmacos: маг, колдун, отра-
витель, тот, кого приносят в жертву во искупление
грехов города» (см. Гиппонакта и Аристофана), от-
HEI Примечания
сюда — злодей, pharmasso: от аттического tto — об-
рабатывать или изменять при помощи снадобья.
Гаверс (Havers IF* XXV 375—392), отправляясь от ра-
rempharaktos — parakekommenos, выводит pharmacon
из pharma — «удар», a pharma из корня bher — бить
(ср. с литовским buriu), так что pharmacon должен был
бы означать «то, что относится к дьявольскому наваж-
дению или что используется в качестве лекарства от
подобного наваждения», если учитывать весьма рас-
пространенное народное верование, что болезни воз-
никают из-за воздействия демонов и лечатся ими же.
Кречмер (Kretschmer Glotta** III 388 sq.) возражает, что
«pharmacon в эпопее всегда обозначает некую субстан-
цию, траву, мазь, питье или какое-то иное вещество,
но никогда само действие исцеления, околдовывания,
отравления; этимология Гаверса просто добавляет еще
одну возможность к уже имеющимся, например воз-
можности выведения из pherd, pherma,uq\iod terra fert”
<что приносит земля (лат.)>».
См. также: Harrison, р. 108: «...pharmacos обозначает
просто “человека-мага”. Близкий термин в литовском
языке — это burin, магический; в латинском он обна-
руживается под видом forma — формула, магические
чары; наш “формуляр” еще хранит какой-то оста-
ток первоначальной коннотации. Pharmacon в гре-
ческом означает лечебное средство, яд, краску, но все-
гда в магическом смысле — в смысле черной магии
или белой».
В своей работе Anatomy of criticism Нортроп Фрай
<Northrop Frye> признает в фигуре pharmacos'a
постоянную и архетипическую структуру западной
IF — Indogermanische Forschungen, herausg. von К. Brugmann und
W. Streitberg. Strassburg, 1892 ff.
Glotta. Zeitschrift fUr griechische und lateinische Sprache, herausg. von
P. Kretschmer und Fr. Stkutsch. Gttttingen, 1907 ff.
17
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
литературы. Исключение pharmacos'a, который, по
словам Фрая, не является «ни невинным, ни винов-
ным» (р. 41), повторяется у Аристофана и Шекспи-
ра, оно затрагивает как Шейлока, так и Фальстафа,
как Тартюфа, так и Чарли* «Фигуру pharmacos'a мы
встречаем в Эстере Прин Готорна, Билли Бадде Мел-
вилла, в Тесс Харди, в Септимусе из “Миссис Дэлло-
уэй”**, в историях о преследовании евреев и черно-
кожих, в историях о художниках, чей гений превра-
щает их в Измайлов буржуазного общества» (р. 41,
см. также р. 45—48, р. 148—149).
93 Frazer, Le Bone emissaire, p. 228. См. также: Harrison,
p. 102.
94 Можно было бы показать, что вся феноменология Гус-
серля систематическим образом организована вокруг
аналогичной оппозиции презентации и репрезента-
ции (Gegenwartigung и Vergegenwartigung) и следующей
за ней оппозиции первичного воспоминания (явля-
ющегося частью фундаментального в «широком
смысле слова») и вторичного воспоминания. См.: La
Voix et le РИёпотёпе***.
* Chariot — имя классического героя Чарли Чаплина.
** Эстер Прин — героиня романа «Алая буква» американского писателя
Натаниела Готорна (1804— 1864): была осуждена за рождение внебрач-
ного ребенка, приговорена к позорному столбу и заклеймена позор-
ным знаком — алой буквой; Билли Бадд — заглавный герой повести
Германа Мелвилла (1819—1891): красивый молодой матрос, не выдер-
жал придирок боцмана и ударил его, за что был повешен; Тесс — ге-
роиня романа Томаса Харди (1840—1928) «Тесс из рода д’Эрбервил-
лей»: пошла на преступление ради своего счастья и была осуждена на
смерть; Септимус Уоррен-Смит — персонаж романа Вирджинии Вулф
(1882—1941) «Миссис Дэллоуэй»: вернулся с войны психически не-
здоровым и в страхе перед лечебницей для душевнобольных выбро-
сился из окна и разбился насмерть. Всех их, не совершивших тяжких
преступлений, общество обрекает на смерть как покусившихся на его
мораль и угрожающих его порядку и спокойствию.
*** Деррида Ж. Голос и феномен. СПб., 1999.
ЕШ Примечания
95 Этот отрывок я рассматриваю в готовящемся к пуб-
ликации тексте «Entre deux coups de des» <«Меж двух
бросков костей»>.
96 По вопросу о месте и эволюции понятия mimesis
в философии Платона мы в первую очередь отсыла-
ем к работе: Goldschmidt V. Essai sur le Cratyle (1940,
особенно p. 165 sq.). В ней, в частности, разъясняет-
ся, что Платон не всегда и не во всех случаях осуж-
дал mimesis. Отсюда можно сделать по крайней мере
следующее заключение: независимо от того, осуж-
дает он подражание или нет, Платон ставит вопрос
о поэзии, определяя ее как mimesis^ открывая таким
образом поле, в котором «Поэтикой» Аристотеля,
полностью управляемой этой категорией, будет вы-
работано понятие литературы, которое будет приня-
то вплоть до XIX столетия, исключая Канта и Гегеля
(исключая, однако, только в том случае, если перево-
дить mimesis как «подражание»).
С другой стороны, под именем фантазма или при-
зрака Платон осуждает то, что сегодня выдвигается
во всей радикальности своих требований как пись-
мо. По крайней мере, именно так можно именовать
внутри философии и «миметологии» то, что выхо-
дит за пределы понятийных оппозиций, посредством
которых Платон определяет фантазм. По ту сторону
этих оппозиций, по ту сторону истинностных или
не-истинностных значений этот избыток письма уже
не может, как несложно догадаться, квалифициро-
ваться попросту в качестве призрака или фантазма.
Ни в качестве письма в его классическом понима-
нии, что главное.
97 «Разве не было бы двух предметов (pragmata), то есть
Кратила и образа Кратила, если бы Бог, не доволь-
ствуясь, подобно художникам, воспроизведением
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
твоего цвета и твоей формы, кроме того изобразил
бы в полном соответствии внутренние качества тво-
ей личности, точно передавая качества мягкости и
теплоты, передав движение, душу и мысль в том виде,
в каком они есть в тебе, короче, все черты твоей лич-
ности, — разве он не поставил бы рядом с тобой твою
точную копию? Был бы тогда у нас Кратил и образ
Кратила или же два Кратила? КРАТИЛ. Два Кратила,
как мне кажется, Сократ» (432b—с).
98 По всем этим темам см.: Schuhl Р. М. Platon et VArt de
son temps.
99 P. M. Schuhl, op. cit. p. 22. См. также: L'Essai sur la
formation de la pens£e grecque, p. 39 sq.
loo См. также: Филеб 18a—b.
ioi Ж.-П. Вернан указывает на такую «демократизацию»
самого письма и демократизацию посредством пись-
ма в Древней Греции. «Подобной значимости, кото-
рой тогда наделяется речь, ставшая с тех пор глав-
ным инструментом политической жизни, соответ-
ствует также и изменение социального значения
письма. В царствах Ближнего Востока письмо было
вотчиной писцов и их особой Привилегией. Оно по-
зволяло царскому управляющему аппарату контро-
лировать экономическую и социальную жизнь го-
сударства, подсчитывая и учитывая ее. Оно требо-
вало создания архивов, которые, будучи более или
менее секретными, хранились в самом дворце...»
В классической Греции «вместо того чтобы быть при-
вилегией определенной касты, секретом класса пис-
цов, работающим на дворец царя, письмо становит-
ся “вещью, общей” для всех граждан, инструментом
публичности... Законы должны быть записаны...
ЕЮ Примечания
Следствия такой трансформации социального стату-
са письма будут иметь фундаментальное значение для
всей интеллектуальной истории». Op. at, р. 15—152
(см. также: р. 52, р. 78 и Origines de la pensee grecque,
p. 43—44). В таком случае нельзя ли сказать, что Пла-
тон продолжает мыслить письмо, отправляясь от по-
зиции царя, продолжает представлять его в пределах
структур basileia <царства>, в те времена уже отме-
ненных? Несомненно, он представляет его в мифемах,
которые в данном пункте оформляют его мысль. Но
с другой стороны, Платон считает необходимым за-
писывать законы, так что подозрение, адресованное
секретным способностям письма, скорее направлено
на «недемократическую» политику письма. Необхо-
димо распутать все эти нити и внимательно осмот-
реть различные уровни и разломы. В любом случае
развитие фонетического письма неотделимо от дви-
жения «демократизации».
Ю2 В тексте Платона (и не только) сирота всегда оказы-
вается образцом преследуемого. Вначале мы подчер-
кивали родство письма и mythos'a в их противопос-
тавлении logos'y. Сиротство является, быть может,
еще одной родственной чертой. У logos'а есть отец,
отца же мифа почти никогда невозможно найти, от-
сюда необходимость попечения (boetheia), о котором
говорит «Федр», сравнивая письмо с сиротой. О та-
ком попечении речь идет и в другом тексте:
«СОКРАТ. ...Таким образом были уничтожены и миф
Протагора, и в то же время твой миф, который отож-
дествляет науку и ощущение.
ТЕЭТЕТ. Видимо, да.
СОКРАТ. Но, как мне представляется, это не так, ведь,
если бы отец первого мифа был еще жив, он отра-
зил бы удары, но теперь здесь остался сирота, кото-
рого мы окатываем грязью. Тем более что те самые
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
наставники, которых Протагор оставил для него, от-
казывают ему в какой бы то ни было помощи (Ьое-
thein), и первый среди них — Феодор. Поэтому нам
придется рискнуть и ради восстановления справед-
ливости самим оказать ему помощь (boithein).
ФЕОДОР. ...Мы будем весьма признательны тебе, если
ты захочешь оказать помощь (boethes).
СОКРАТ. Хорошо сказано, Феодор. Теперь же смот-
ри, какую помощь (boitheian) я имею в виду...» (Теэ-
тет 164d—165а).
юз См.: Milne М. J. A study in Alcidamas and his relation to
contemporary sophistic, 1924, P. M. Schuhl, Platon et VArt
de son temps, p. 49.
Другое упоминание законных сынов — в 278а. По
вопросу оппозиции незаконнорожденных и законно-
рожденных (nothoi/ gnesioi), в частности, см.: «Государ-
ство» (496а: «в софизмах» нет никакого «gnesion» <за-
конного рождения>), «Политик» (293е: «подражания»
конституциям не являются «законнорожденными»).
См. также: Горгий 513b; Законы 74а и т. д.
Ю4 Аналогичная ссылка на земледельца имеется в «Теэ-
тете» (166а sq.), она включена в сходное обсуждение
посередине удивительной апологии Протагора, ко-
торого Сократ заставляет в числе прочего найти и
четыре его (не)истины, которые нам здесь в высшей
степени важны — именно в них пересекаются все
ходы рассматриваемой фармации.
«СОКРАТ. Итак, все, что мы сказали в его защиту, он
с полным презрением к нам выскажет против нас,
заявив: “Вот и смелый Сократ! Ребенок испугался,
когда его спросили, может ли один и тот же человек
одновременно вспомнить о чем-то и не знать об
этом? Ребенок испугался и сказал “нет”, поскольку он
не мог предвидеть последствий, а в качестве поеме-
BED Примечания
шища выставили меня, так как Сократ привел аргу-
менты, чтобы доказать это. [...] Ведь я утверждаю, что
истина такова, как я ее записал (os gegrapha): мерой
является каждый из нас — того, что есть, и того, чего
нет. Однако бесконечно различие между одним и дру-
гим (murion mentoi diapherein eteron eterou auto touto),
[...] Но и само это определение (logon) ты не должен
понимать буквально (to remati) — так, как оно вы-
сказано. Вот что заставит тебя более точно понять
то, что я хочу сказать. Вспомни, например, что мы
говорили до этого: больному блюдо кажется горьким
и в действительности для него есть горькое, а здоро-
вому человеку оно кажется и в действительности для
него существует прямо противоположным образом.
Нельзя делать одного из них более мудрым, да в дей-
ствительности это и невозможно сделать; так же
нельзя обвинять больного в невежестве по той при-
чине, что у него такие мнения, и объявлять мудре-
цом здорового, поскольку у него другие мнения.
Нужно только осуществить переход (metableteon) от
одного состояния к другому, поскольку одно из та-
ких состояний лучше другого. Точно так же и в обу-
чении одно состояние лучше другого, поэтому нуж-
но от одного перейти к другому: врач осуществляет
такой переход при помощи лекарств (pharmakois),
софист — посредством речей (logois). [...] Что же до
мудрецов (sophous), дорогой друг Сократ, я вовсе не
собираюсь искать их среди лягушек; для тела я най-
ду таких мудрецов среди врачей, для растений — сре-
ди земледельцев. [...] Таким образом, существуют
люди, которые мудрее (sophoteroi) других, хотя ни
у кого нет ложных мнений...”»
Ю5 «На праздники Адониса, — отмечает Робен, — в ка-
кой-нибудь раковине, корзине, вазе выгоняли, не со-
блюдая обычных сроков, растения, которые быстро
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
умирали, — это были подношения, которые симво-
лизировали преждевременную кончину возлюблен-
ного Афродиты». Адониса, рожденного из дерева,
в которое превратилась Мирра, полюбила, а затем
преследовала Венера, преследовал его и ревнивый
Марс, превратившийся в вепря и убивший Адониса,
ранив его бедро. В руках Венеры, которая нашла его
слишком поздно, он превратился в анемон, быстро
отцветающее весеннее растение. «Анемон» — это
«вздох».
С оппозицией земледельца/садовода (плодов/цве-
тов, длительного/быстротечного, терпения/спеш-
ки, серьезности/игры и т. д.) можно сблизить тему
двойного дара из «Законов»: «Что же до осенних
плодов, долю их следует выделить каждому следую-
щим образом. Сама богиня награждает нас двой-
ным даром: один из них — игрушка Диониса
(paidian Dionisiada), он не сохраняется, другой же по
своей природе предназначен для хранения. Примем
же в отношении осенних плодов следующий закон:
любой, кто вкусит сельских плодов, винограда или
фиг, прежде чем придет время сбора урожая, совпа-
дающее с восходом Арктура... должен будет запла-
тить Дионису пятьдесят священных драхм...» (VIII
844d—е).
В пространстве проблем, объединяющем письмо и
земледелие, противопоставляя их, можно было бы*
легко показать, что парадоксы дополнения как
pharmacon а и как письма, как гравюры и как неза-
конного рождения — те же, что парадоксы привив-
ки, операции по прививанию (то есть гравировки*,
операции садовника, осуществляющего прививку,
Французские глаголы «graver» («гравировать», «оставлять меты», «ца-
рапать») и «greffer» («прививать», «пересаживать») имеют общую эти-
мологию.
EEQ Примечания
секретаря суда, прививочного ножа и привоя*. Так-
же можно было бы показать, что все самые совре-
менные (биологические, психические, этические)
аспекты проблемы пересадки тканей, даже когда они
связаны с частями, считающимися важнейшими или
абсолютно «собственными» для того, кого называ-
ют индивидом (такие части, как разум или голова,
чувство или сердце, желание или почки), — все эти
аспекты охвачены и ограничены графикой дополне-
ния.
юв Алкидамант так же определял письмо как игру
(paidia). См.: Friedlander, Paul. Platon: Seinswarheit und
Lebenswirklichkeit, часть 1, гл. V, а также: A. Dids, op. cit.,
p. 427.
Ю7 См.: Государство 602b sq; Политик 288c—d; Софист
234b—с; Законы II 667e—668a; Послезаконие 975d
и т. д.
юв См.: Парменид 137b; Политик 268d; Тимей 59c—d.
О контексте и историческом содержании подобной
проблематики игры см., в частности: Schuhl Р. М.
Platon et VArt de son temps, p. 61—63.
109 См.: Законы I 644d—e: «Представим себе каждое из
тех живых существ, коими мы являемся, в качестве
своеобразной куклы (paignon), созданной богами;
было ли такое создание для них забавой (paignon) или
же чем-то серьезным (□$ spoudi) — мы не можем об
этом знать; мы знаем только, что наши состояния,
напоминающие сухожилия или бечевки, тянут нас,
[L’op£ration] du grcffeur («садовника, осуществляющего прививку»),
du greffier («секретаря суда», причем «greffier» имеет и другие значе-
ния, среди которых «кошка»),du greffoir («прививочного ножа») et du
greffe («привоя»).
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
а поскольку они противоположны друг другу, они ув-
лекают нас то в одном направлении, то в прямо про-
тивоположном к противоположным действиям, так
что мы все время находимся на границе порока и
добродетели. Как указывает рассуждение (logos), не-
обходимо, чтобы каждый всегда повиновался одно-
му-единственному из этих влечений, не оставлял его
никогда и сопротивлялся влечению других бечевок;
такое влечение — это золотое руководство, святое ру-
ководство разума (ten tou logismou agogen khrussen kai
ieran), которое называют общим законом города и
которое оказывается гибким, потому что оно из зо-
лота, тогда как остальные из железа, они жестки и
похожи на всевозможные модели...» Отныне нужно
держать в руках эту узду, названную khryse <золотом>
или хризологией.
но De la grammatologie, р. 443 sq.*
ш Что касается вопроса использования букв, а также
вопроса сравнения «Тимея» с «джафрой», исламской
наукой букв как наукой «превращения» см.: Corbin
Н. Histoire de la pholosophie islamique, NRF, p. 204 sq.
112 У нас есть полная возможность связать с этим ана-
лизом следующий отрывок из «Законов» (VIII 836b—
с), в котором речь идет о поиске pharmacon'a, необ-
ходимом, чтобы найти «средство (diaphugen) против
этой угрозы», то есть педерастии. Ни на что не наде-
ясь, Афинянин задается вопросом, что случилось бы,
«если бы на самом деле люди руководствовались при-
родой, издав закон, который царствовал до Лая (te
phusei theisei ton pro tou Laiou потоп) и в котором ука-
зывалось, что не позволяется использовать мужчин
Деррида Ж. О Грамматологии. М., 2000.
ЕЕВ Примечания
и мальчиков в качестве женщин...». Лай, которому
оракул предсказал, что он будет убит своим сыном,
был также приверженцем противоестественной
любви. См.: CEdipe II Delcourt М. Legendes et Cultes de
heros en Grece, p. 103.
Известно также, что, согласно «Законам», нет худше-
го преступления и худшего богохульства, нежели
убийство родителей — такой убийца «больше любо-
го иного заслуживал бы несколько смертей» (X 869b).
Он заслуживает кое-что посерьезней смерти, кото-
рая не является предельным наказанием. «Необхо-
димо, следовательно, чтобы наказания, налагаемые
на этих людей за подобные преступления еще во вре-
мя их жизни, по возможности ничем не уступали бы
наказаниям Аида» (881Ь).
из По вопросу о буквах алфавита и их рассмотрении
в «Политике» см.: Goldschmidt V. Le Paradigme dans la
dialectique platonicienne, P.U.E, 1947, p. 61—67.
114 Структура этой проблематики совершенно аналогич-
на таковой в «Логических исследованиях» Гуссерля.
См.: la Voix et le РИёпотёпе*. Здесь можно было бы по-
иному прочесть конец «Политика», раз уж речь за-
шла о sumplokt и pharmacon'e. В своей работе тканья
(sumplok#) царский ткач сумеет навить основу ткани,
увязывая противоположности, которые составляют
добродетель. Sumploki, тканье, буквально связывает-
(ся) сpharmacon ом: «Только в тех душах, которым бла-
городство врождено и в которых оно поддерживает-
ся обучением, законы смогут ее <связь> породить
(kata physin monois dia nomdn emphuestai); именно для
них искусство создало это лекарство (pharmacon);
оно, как мы говорили, поистине божественная связь,
Деррида Ж. Голос и феномен. СПб., 1999.
EBB Жак Деррида. Диссеминация
которая соединяет между собой части добродетели,
сколь бы отличны друг от друга они ни были по своей
природе и сколь бы противоположны ни могли быть
их стремления» (310а).
не Le «Livre» de Mallarme <«Книга» Малларме>, издание
Jacques Scherer <Жак Шерер>, Gallimard, р. 182. Эти
цитаты в том случае, если они не отсылают к «Пол-
ному собранию сочинений» (CEuvres competes, 6d. de
la Pldiade), извлечены из «Книги».
115 Goux, Jean-Joseph. Numismatique II 11 Tel Quel, 36,
p. 59.
117 О смысле и проблематике этого слова см.: Benveniste,
«La notion de “rythme” dans son expression linguistique»,
1951 // Problemes de la linguistique generate, Gallimard,
1966, p. 327, а также: Fritz, K. von. Philosophie und
Sprachlicher Ausdruck bei Demokrit, Plato und Aristoteles,
Darmstadt, 1963, S. 25 if.
не В другом контексте и по поводу совсем иных приме-
ров Жан-Пьер Ришар <Jean-Pierre Richard> анализи-
рует то, что он как раз и называет «семантическим пе-
реворачиванием» темы «отсечения главы» (L’Univers
imaginaire de Mallarme, p. 199).
HQ L'CEuvre de Mallamte, Un coup de des, Librairie des Lett res,
1951.
120 Цитируется в работе: Scherer, Jaques. ^Expression litte-
raire dans PCEuvre de Mallarnte, 1947, p. 79.
121 Здесь против нас будет выдвинуто поспешное опро-
вержение, дождавшееся своего триумфа, мобилизо-
ванное и пущенное в ход благодаря особому рвению:
ЕЕВ Примечания
«Смотрите-ка, — скажут нам, — вот игра означаю-
щего, которая не может обойтись без того, чтобы ее
не высказали вслух. Следовательно, она уже не удер-
живается всецело в стихии того письма, о котором
нам уже все уши прожужжали».
Тем, кто за недостатком чтения поспешно и в просто-
те душевной удовлетворился бы подобными упрека-
ми, вкратце напомним следующее — то, что просле-
живает себя начиная с этой люстры и что и в самом
деле в каком-то отношении должно резать ухо, это
определенное смещение письма, систематические
трансформация и обобщение его «понятия». Старая
оппозиция речи и письма больше не имеет никакого
значения для управления текстом, который намерен-
но ее деконструирует. Такой текст является не более
«устным», нежели «письменным», он не более против
речи, чем за письмо, если понимать эти слова в ме-
тафизическом смысле, также он и не за какой-то тре-
тий термин, особенно если имеется в виду некий ра-
дикализм начала или центра. Значения arche, telos'a —
а также зависящие от них значения истории и транс-
цендентальности — как раз и составляют главные
объекты деконструктивной критики. Повторим: «Вот
почему никогда не было речи о том, чтобы противо-
поставить некий графоцентризм некоему логоцент-
ризму или же вообще какой-то центр другому цент-
ру... Еще менее о реабилитации того, что всегда назы-
валось письмом. Речь не идет о том, чтобы вернуть
письму его права, его первенство или его достоин-
ство...» <«О грамматологии»>. И поэтому нужно под-
черкнуть: «...Это, естественно, ведет к переоформле-
нию понятия письма... Устный язык уже принадле-
жит этому [всеобщему] письму. Но тем самым
предположена модификация понятия письма... Фоно-
логизм не терпит никакого поражения, пока сохраня-
ются общепринятые понятия речи и письма, которые
Ш Жак Деррида. Диссеминация
как раз и составляют прочную ткань его аргументов.
Общепринятые понятия, повседневные и, кроме
того, — в чем нет никакого противоречия — освоен-
ные старой историей, понятия, ограниченные мало-
заметными границами, которые тем не менее остают-
ся весьма жесткими» <«О грамматологии»>.
Следовательно, именно старое слово и старое поня-
тие письма вместе со всем тем материалом, который
инвестируется в них, были, по предположению жур-
налов самого разного толка, обращены против нашей
критики, хотя благодаря определенной путанице у нее-
то они как раз и позаимствовали некоторые из своих
ресурсов. Все эти реакции носят очевидно симптома-
тический характер, они принадлежат определенному
типу. Фрейд рассказывает, что во времена, когда ему
с трудом удавалось убедить в возможности мужской
истерии, среди наиболее спонтанных форм сопротив-
ления, в которых обнаруживали себя далеко не толь-
ко глупость или необразованность, он столкнулся
с замечанием одного хирурга, который специально
сказал ему следующее: «Но, мой дорогой коллега, как
вы можете говорить такой вздор! Ведь “hysteron” (sic)
означает “матка” Как же мужчина может быть исте-
риком?»
Этот пример значим для нас. Но можно было бы при-
вести и другие: предполагаемое происхождение неко-
его понятия или воображаемую этимологию слова по-
стоянно противопоставляют процессу их трансфор-
мации, не замечая того, что имеют дело с наиболее
общепринятым знаком, нагруженным определенной
историей и бесознательными мотивациями.
Эта сноска, эта ссылка, выбор этого примера — все
это служит здесь лишь для объявления об опреде-
ленном смещении языка; таким образом, мы введе-
ны в то, что, как предполагается, удерживается за ги-
меном: в истерию (ъотера), которая обнаруживает
BED Примечания
себя только посредством переноса и симулякра, по-
средством мимики.
122 Мы не смогли бы здесь проанализировать чрезвы-
чайно сложную систему понятия mimesis у Платона.
В другом месте («Меж двух бросков костей» <«Entre
deux coups de dis»>) мы попытаемся проанализиро-
вать ее систему и логику, организованную вокруг
трех центров.
а. Двойное отцеубийство. Гомер, по отношению к ко-
торому Платон демонстрирует многочисленные зна-
ки уважения, признания и восхищения, изгоняется
из города, подобно любому другому миметическому
поэту, хотя он и может почитаться как человек «свя-
щенный и удивительный» (ieron kai thamaston, Госу-
дарство 398а), если только от Гомера не требуют «вы-
черкнуть» из своего текста все политически опасные
места (386с). Гомер, этот старый слепой отец, осужда-
ется потому, что он практикует мимезис (подража-
тельное повествование, а не простое). Другой отец,
Парменид, осуждается потому, что он игнорирует
мимезис. Руку на Парменида нужно поднять именно
потому, что его logos, «отцовский тезис», запрещал бы
размножение двойников («образов, икон, мимем,
фантазмов») и их объяснение. Необходимость это-
го отцеубийства, которое в этом отрывке (Софист
24Id—е) называется своим собственным именем,
должна быть очевидной даже слепцу (tuphld).
b. Двойная запись mimesis’a. Невозможно обездви-
жить mimesis посредством бинарной классификации
или — если говорить более точно — приписать одно-
единственное место techni mimetiki в «делении» «Со-
фиста» (в тот самый момент, когда ищется метод и
парадигма для организации охоты на софиста). Ми-
метика оказывается одновременно одной из трех форм
«производительного искусства» (techne poetiki) и —
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
на другом конце развилки — формой или инструмен-
том искусства приобретения (ktetiki) (не производи-
тельного и не поэтического искусства), используемо-
го софистом в своей охоте на богатых молодых лю-
дей (218d—233 и далее). Как «колдун и подражатель»,
софист может производить «мимемы и омонимы»
всевозможных сущих (234b—235а). Софист подража-
ет поэтическому, которое, однако, само содержит ми-
метическое, он производит двойника производства.
Но, уже почти попавшись, софист все равно избегает
ловушки, получив лазейку благодаря дополнительно-
му выделению двух форм миметики (235d) — эйка-
стики, которая воспроизводит верно, и фантасти-
ки, которая симулирует эйкастику, делает вид, что си-
мулирует верно и обманывает глаз призраком (фан-
тазмом), который составляет «весьма значительную
часть живописи (zographia) и миметики в целом». Та-
кова апория (236е) философа-охотника, останавлива-
ющегося на перепутье, неспособного далее преследо-
вать свою добычу и бесконечно долго гонимого сво-
ей дичью (которая, в свою очередь, оказывается
загонщиком), — ее после долгого обходного пути мы
снова обнаружим в «Мимике» Малларме. Эта панто-
мима и двойной сеанс, которому она должна дать мес-
то, будут иметь значение лишь для некоей вычеркну-
той истории отношений философии и софистики.
с. He-виновный mimesis. Если схватить mimesis «до» фи-
лософского «решения», можно заметить, что Платон,
ни в коей мере не связывая судьбу поэзии и искусства
со структурой mimesis'а (или, скорее, со структурой
всего того, что сегодня переводится как «представле-
ние», «подражание», «выражение», «репродукция»
и т. д. — опровергая все эти варианты), принижает
в mimesis'e все то, что «современность» как раз вы-
двигает вперед, — маску, исчезновение автора, симу-
лякр, анонимность, апокрифическую текстуальность.
ЕШ Примечания
Этот тезис можно подтвердить, перечитав отрывок
из «Государства» (393а и далее) о простом повество-
вании и mimesis'e. Для нас значима именно та «внут-
ренняя» двойственность mimeisthai, которую Платон
хочет поделить надвое, дабы отделить хороший
mimesis (тот, что воспроизводит верно и по истине,
хотя ему уже грозит простой факт присутствия в нем
удвоения) от плохого, который необходимо сдержи-
вать как безумие (396а) и (дурную) игру (396с).Схе-
ма этой «логики» такова: 1. Mimesis производит двой-
ника вещи. Если двойник верен и совершенно подо-
бен, никакое качественное отличие не отделяет его
от образца. Отсюда три следствия: а) двойник — под-
ражающее — это ничто, сам по себе он ничего не зна-
чит; Ь) подражающее имеет значение лишь благода-
ря своему образцу, оно оказывается хорошим, если
образец хорош, и плохим, если образец плох. Само
по себе оно нейтрально и прозрачно; с) если сам по
себе mimesis ничего не значит и ничем не является,
он есть отсутствие значимости и бытия, то есть он
в самом себе негативен, следовательно, он есть зло,
а подражание — это само по себе зло, а не только
когда подражают злу. 2. Подражающее, независимо
от того, подобно оно или нет, — это некое сущее, по-
скольку существует mimesis и мимемы. Это небытие
каким-то образом «существует» («Софист»). Отсю-
да: а) подражающее, добавляясь к образцу, начинает
дополнять его и перестает быть ничем и не-значи-
мостью; Ь) добавляясь к «сущему» образцу, подра-
жающее не является тем же самым, и будь оно абсо-
лютно подобным, оно все равно никогда не являет-
ся абсолютно подобным («Кратил»). То есть оно
никогда не является абсолютно истинным; с) буду-
чи дополнением образца, которое все равно не мо-
жет с ним сравняться, подражающее ниже его по
сущности даже в тот момент, когда оно может этот
EES Жак Деррида. Диссеминация
образец заменить и таким образом «выйти на пер-
вый план». Эта схема (два тезиса и шесть следствий)
задает некую логическую машину; она программи-
рует прототипы всех положений, вписанных в дис-
курс Платона и в дискурсы традиции. Действуя в со-
ответствии с неумолимым логическим законом, эта
машина распределяет все штампы критики, которой
еще только предстоит появиться.
123 Доказав в «Кратиле», что именование исключает mi-
mesis, что форма слова не могла бы уподобляться,
в противоположность подражательным искусствам,
форме вещи (423а и далее), Сократ тем не менее ут-
верждает, что некое иное — нечувственное — подо-
бие должно превращать истинное имя в образ вещи,
как она есть «по истине» (439а и далее). Этот тезис
остается неприкосновенным во всех иронических
рассуждениях и отступлениях «Кратила». Первич-
ность сущего в его истине по отношению к языку,
как и первичность образца по отношению к его об-
разу, обладает прочностью абсолютной достоверно-
сти. «Итак, если у нас есть возможность получить
сколь угодно совершенные знания вещей благодаря
именам и такая же возможность получить знания,
но благодаря самим вещам, какой из этих двух ви-
дов знания окажется наиболее точным и наиболее
прекрасным? Необходимо ли будет исходить из об-
раза (ек tes eikonos), чтобы, изучая его сам по себе,
узнать, хороша ли копия, и в то же время узнать ту
истину, образом которой она является? Или же исхо-
дить нужно из самой истины (ек tes alehteias), чтобы
познать ее саму по себе и понять, подобающим ли
образом было выполнено ее изображение?.. Не стоит
ли согласиться в том, что не следует исходить из слов,
а следует узнавать о вещах и исследовать их, исходя
из них самих, а не из их имен?»
ЕШ Примечания
124 Ничего в набросанной выше программе не изменит-
ся и тогда, когда после Аристотеля, и особенно в «клас-
сическую эпоху», образцами для подражания будет
уже не просто природа, а античные произведения и
их авторы, которые умели подражать природе. Тыся-
чи примеров этой программы можно было бы найти
вплоть до эпохи романтизма (включая ее саму и даже
более поздние периоды). Дидро — который, впрочем,
весьма существенным образом повредил миметоло-
гической машине, особенно в «Парадоксе комедиан-
та»* — при анализе того, что он называет «идеальной
воображаемой моделью» (являющейся, как он пред-
полагает, неплатонической моделью), подтверждает,
что все переворачивания вписаны в программу. От-
носительно будущего предшествующего: «Антуан
Койпель <Antoine Coypel>, несомненно, был весьма
остроумным человеком, раз он сказал художникам:
“Давайте делать так, чтобы образы наших картин ста-
ли живыми моделями античных статуй, а не эти ста-
туи — подлинниками рисуемых нами образов”. Тот
же самый совет можно дать и литераторам». («Pensdes
detachees sur la peinture» 11 CEuvres esthetiques, Garnier,
6d. Vernifcre, p. 816.)
125 Издатели «Полного собрания сочинений», вышедше-
го в «P16iade», не сочли необходимым отметить в со-
ставленных ими «Примечаниях и вариантах» <Notes
et Variantes>> что текст из журнала «La Revue indepen-
dente», включенный в намного более обширный кон-
текст, не имел заглавия «Мимика» и что за абзацем,
который мы только что процитировали, прервав его
в том же месте, что и издатели «Собрания сочине-
ний», следовал абзац, который и своей лексикой,
Paradoxe sur le Comddien — в русском переводе «Парадокс об ак-
тере».
EED Жак Деррида. Диссеминация
и своим синтаксисом совершенно отличается от
соответствующего абзаца «Мимики». В противопо-
ложность своему общему правилу, соблюденному
в случае других текстов, издатели не представили ва-
рианты второй версии, опубликованной в «Страни-
цах» (Pages, Bruxelles 1891) в главе «Жанр или совре-
менники» <le Genre ои des Modernes>, опять же без
заглавия. «Мимика» — это третья версия, опублико-
ванная под таким заглавием в «Отступлениях» (Diva-
gations, 1897), в разделе «Сгауоппё аи theatre». Хотя из-
датели «Pldiade», цитируя два абзаца из «La Revue ind£-
pendente» (до слов «Пьеро, убийца своей жены»), до-
бавляют: «Два этих абзаца в Pages (1891) составляли
часть (р. 135—.136) главы “Жанр или современники”.
Также они фигурировали в Divagations, р. 186», такое
уточнение является неполным и на самом деле не-
точным. Две предшествующие версии мы воспроиз-
ведем здесь именно потому, что трансформация каж-
дого из абзацев (некоторых слов, синтаксиса, пунк-
туации, игры скобок, подчеркивания) показывает
экономику «синтаксика» за работой; а также пото-
му, что позже мы извлечем из этой трансформации
кое-какие конкретные указания.
a. «La Revue independente» (1886) (после строк, про-
цитированных в основном тексте): «...Либретто пан-
томимы “Пьеро, убийца своей жены”, сложенной и
составленной г-ном Полем Маргериттом. Либретто
мономимы, сказал бы я вслед за автором, имея дело
с молчаливым монологом, который держит в своей
душе жестами и лицом призрак, белый, как еще не
написанная страница. Вырывается вихрь наивных
новых доводов, который я хотел бы схватить, полу-
чив уверенность, и высказать. Целая эстетика жан-
ра, который ближе к истокам, чем любой другой!
Ничто в этой обители фантазии не может противить-
ся прямому и упрощающему инстинкту. Вот: “Сце-
ЕШ Примечания
на иллюстрирует только идею, а не настоящее дей-
ствие, в гимене, из которого берется Греза, порочном,
но священном, между желанием и выполнением,
совершением и воспоминанием: здесь опережая, там
вспоминая, в будущем, в прошлом, в ложном явле-
нии настоящего. Так действует Мим, игра которого
ограничивается постоянным намеком: не иначе за-
крепляет он чистую среду вымысла” Кто прочитает,
как я только что поступил сам, этот чудесный пус-
тяк, меньше тысячи строк, поймет вечные правила,
как будто оказавшись перед подмостками, их мрач-
ным распорядителем. Неожиданность, столь же об-
ворожительная, причина которой в ремесле фик-
сации чувств вовсе не произнесенными фразами,
состоит в том, что, быть может, только в этом един-
ственном случае, между листами и взглядом, в под-
линном виде устанавливается тишина, наслаждение
чтения».
Ь. «Страницы» (Pages, 1891). «Молчание, единственная
роскошь после рифм, оркестр со всем своим золотом,
шелестом мыслей и вечера лишь оттеняет его значе-
ние, равное убитой оде, которую пристало выразить
поэту, смятенному этим вызовом! Молчание, которое
с каких-то пор я ищу после полудня музыки; я с удов-
летворением нашел его благодаря повторному и по-
прежнему неожиданному появлению Пьеро, то есть
аскетичного и мудрого мима Поля Леграна <Paul
Legrand>. [Этот абзац мы находим в Сгауоппё аи
theatre, О. С., р. 340.]
Итак, этот “Пьеро, убийца своей жены”, сложенный
и составленный г-ном Полем Маргериттом, молча-
ливый монолог, который держит для самого себя
жестами и лицом призрак, белый, как еще не напи-
санная страница. Вырывается вихрь наивных новых
доводов, который он хотел бы схватить, получив
уверенность, и высказать. Целая эстетика жанра,
SB Жак Деррида. Диссеминация
который ближе к истокам, чем любой другой! Нич-
то в этой обители фантазии не может противиться
прямому и упрощающему инстинкту. Вот — “Сце-
на иллюстрирует только идею, а не настоящее дей-
ствие, в гимене (из которого берется Греза), пороч-
ном, но священном, между желанием и выполнени-
ем, совершением и воспоминанием: здесь опережая,
там вспоминая, в будущем, в прошлом, в ложном
явлении настоящего. Так действует Мим, игра кото-
рого ограничивается постоянным намеком: не ина-
че закрепляет он чистую среду вымысла” Эта роль,
меньшая, чем на тысячу строк, кто ее читает, пой-
мет правила, как будто оказавшись перед подмост-
ками, их мрачным распорядителем. Неожиданность,
сопровождающая исполнение ремесла фиксации
чувств вовсе не произнесенными фразами, состоит
в том, что, быть может, только в этом единствен-
ном случае, в подлинном виде, между листами и
взглядом, устанавливается эта тишина, наслажде-
ние чтения».
Из сравнения трех этих версий можно извлечь пер-
вое следствие: закавыченная фраза является симу-
лякром цитаты — или, скорее, объяснения — без-
личным, плотным и торжественным высказывани-
ем, чем-то вроде знаменитого правила, безымянной
аксиомы или закона, происхождение которого не-
известно. Кроме того, что мы так и не смогли найти
источник этой «цитаты» (в частности, в различных
либретто, предисловиях и примечаниях), того фак-
та, что в этих трех версиях она претерпевает изме-
нение, достаточно, чтобы доказать, что в данном
случае мы имеем дело с вымыслом Малларме. К та-
кому же заключению подталкивает и ее синтаксис.
Не исключено, что несколькими годами ранее Мал-
ларме к тому же присутствовал на представлении
этого «Пьеро». Второе издание, «редкая книжечка»,
ЕЕВ Примечания
на которую отвечает «Мимика», в действительности
была снабжена следующим примечанием, подписан-
ным самим Полем Маргериттом: «В 1881 г. увлечен-
ность театральными представлениями на свежем
воздухе, непредвиденный успех в роли Пьеро, испол-
няемой в белой маске и костюме от Дебюро, заста-
вили меня внезапно влюбиться в пантомиму и среди
многих иных сценариев написать и сыграть “Пьеро,
убийцу своей жены”. Поскольку я не видел ни одно-
го мима, ни Поля Леграна, ни Руфля, поскольку я ни-
чего не читал об этом особом искусстве, я вообще
ничего не знал о каких бы то ни было традициях. По-
этому я выдумал своего собственного Пьеро, соот-
ветствующего моему характеру и моему эстетиче-
скому чувству. В том виде, в каком я его чувствовал
и выражал, он был, как кажется, существом совре-
менным, невротичным, трагическим и призрачным.
Нехватка акробатических площадок помешала мне
развить это эксцентрическое призвание, настоящее
безумие искусства, которое охватило меня и приве-
ло меня к потере многих качеств моей личности,
к странным нервическим ощущениям и даже к по-
хмельным симптомам, сходным с теми, что вызва-
ны употреблением гашиша. Будучи безвестным и са-
мым настоящим новичком, я сыграл несколько мо-
носпектаклей в салонах и на публике, не имея ни
статистов, ни Коломбины. Поэты и художники со-
чли мою попытку новой и любопытной — это гос-
пода Леон Клодель, Стефан Малларме, Ж. К. Гюис-
манс, а также господин Теодор де Банвиль, который
в письме, искрящемся остротой ума, разубеждал
меня, считая, что светская публика слишком... ду-
ховна, а прекрасные времена пантомимы прошли.
Аминь. И если что-то и осталось от моей мимиче-
ской попытки, так это литературная концепция со-
временного и наводящего на размышления Пьеро,
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
облачающегося по своему желанию то в просторный
классический костюм, то в черное трико и двигаю-
щегося под действием боли и страха. Эту идею, от-
меченную в маленькой пантомиме [Pierrot assassin de
sa femme, 1882, Schmidt, Imprimeur], я позже разовью
в одном романе [Tous Quatre, roman, 1885, Giraud,
dditeur], я надеюсь прикоснуться к ней снова в двух
готовящихся томах — в исследовании художествен-
ных ощущений и в сборнике пантомим. После этого
мне будет позволено уйти на покой. Мое дело невели-
ко, но это мое дело. Было бы несправедливо, если бы
показалось, что мои будущие книги вдохновлены ка-
кой-то иной книгой, а меня обвинили бы в подража-
нии или плагиате. Идеи принадлежат всем. Я уверен
в том, что только благодаря случайному стечению об-
стоятельств после “Пьеро, убийцы своей жены” по-
явилось произведение с похожим названием, а после
героя романа Поля Виоля <Paul Violas> “Все четыре”
<Tous Quatre> — еще один Пьеро, который похож
на него. Я лишь констатирую свое первенство и со-
храняю его за собой на будущее. Это означает, что
симпатия, испытываемая мною к прекрасному ис-
кусству пантомимы и ко всем Пьеро — Альбому де
Вийету < Album de Willette>, “Пьеро-скептику” <Pierrot
sceptique> Гюисманса и Энника <Hennique>, застав-
ляет меня рукоплескать любой попытке, которая вос-
кресит — на сцене или в книге — нашего доброго дру-
га Пьеро».
Эта длинная цитата могла бы быть интересна еще и
тем, что она отмечает историческую запутанность
текстуальной сети, в которую мы уже попали и в ко-
торой Маргеритт заявляет о своей предполагаемой
оригинальности.
126 По причинам, которые изложены здесь, это поня-
тие текстуальной прививки, несомненно, с трудом
ESQ Примечания
можно было бы ограничить областью «человечес-
кой психологии» воображения, как она определя-
ется Башляром в следующем великолепном отрыв-
ке из «Воды и грез»: «В человеке превыше всего мы
любим именно то, что о нем можно написать. Сто-
ит ли проживать то, что не может быть написано?
Поэтому мы вынуждены были довольствоваться
исследованием привитого материального вообра-
жения, причем, поскольку культура уже оставила
свою отметку на природе, мы почти всегда ограни-
чивались исследованием различных ветвей матери-
ализующего воображения, расположенных над при-
вивкой.
Впрочем, это для нас не просто метафора. Напро-
тив, прививка представляется нам понятием, суще-
ственным для понимания человеческой психологии.
По нашему мнению, это знак человеческого, знак,
необходимый для определения человеческого вооб-
ражения. С нашей точки зрения, воображающая
человеческая природа находится по ту сторону от
порождающей природы. Только прививка может
в действительности дать материальному воображе-
нию изобилие форм. Только прививка может пере-
дать формальному воображению богатство и плот-
ность материй. Она заставляет дичок цвести и дает
цветку материю. Если оставить все метафоры, для
производства поэтического произведения нужно
единство грезящей деятельности и идеативной дея-
тельности. Искусство относится к привитой при-
роде» (р. 14—15*, курсив автора). Эти утверждения
оспорены с «психокритической» точки зрения Мо-
роном <Mauron> (Des metaphores obsedantes au mythe
personnel, p. 26—27).
Ср. рус. изд.: Баш ля p Г. Вода и грезы. М.» 1998, с. 28—29.
EQSI Жак Деррида. Диссеминация
127 Это арлекинада в действиях и стихах (написанная
в соавторстве с П. Сироденом <Р. Siraudin>), первый
раз поставленная 4 октября 1847 г. в театре Водевиля.
Много позже Маргеритт уточнит: «Чтение одной тра-
гической сказки коменданта Ривьера, двух стихов Го-
тье, “Истории Пьеро, защекотавшего жену и заставив-
шего ее, смеющуюся, отдать душу”, стало решающим
для моей сатанинской, сверхромантической и в то же
время современной концепции — утонченный, невро-
тичный, жестокий и наивный Пьеро, объединяющий
в себе все противоположности, настоящий психичес-
кий Протей, немного садистский, охочий до выпивки
и совершеннейший негодяй. Таким образом, благода-
ря “Пьеро, убийце своей жены” — трагическому кош-
мару в стиле Гофмана или Эдгара По, в котором Пье-
ро заставляет свою жену умереть со смеху, щекоча ее
ступни, — я был предтечей возрождения пантоми-
мы, а сегодня, в 1881 г., я могу почти с полной уве-
ренностью сказать — единственным предтечей» (Nos
treteauX) 1910). Маргеритту, похоже, неизвестны все
кулисы и родословные этой сцены. Например, убий-
ство совершается при помощи щекотания ног и
в «Злоключениях Триальфа. Наш современник пе-
ред своим самоубийством» <les Roueries de Trialph,
Notre contemporain avantson suicide> Ласайи <Lasailly>
(1833); до смерти щекотали уже в «Белом дьяволе»
<The white devil> Вебстера <Webster> (1612): «Не
tickles you to death, make you die laughing» (V, iii) <Oh
защекочет тебя до смерти, заставит тебя помереть со
смеху>, а также на протяжении всего промежуточ-
ного периода между двумя этими датами и уже, так
сказать, на английском языке.
128 Среди множества иных пересечений можно было бы
найти «Пьеро мертвого и живого», «Пьеро, слугу смер-
ти» (с объяснением Нерваля, который объездил всю
ЕШ Примечания
Европу ради изучения пантомимы), «Пьеро повешен-
ного» (Шанфлери <Champflery>) за то, что он украл
какую-то книгу, Пьеро, который прикидывается мат-
расом, на котором его Коломбина более или менее
открыто занимается любовью с Арлекином; после
этого ткань матраса рвут, чешут лён, что заставляет
Теофиля Готье написать такие строки: «Мгновением
позже появляются чесальщицы, от которых бедный
Пьеро страдает в течение весьма неприятной четвер-
ти часа — быть вычесанным, вот это судьба! Того и
гляди, задохнешься. Простите мне эти каламбуры, ко-
торых не может быть в пантомиме, что доказывает
превосходство произведений этого рода над всеми
иными». В другом месте Готье отмечает, что «проис-
хождение Пьеро», «символа пролетария», не менее
«интересно», чем некоторые загадки, «которые вы-
звали любопытство... отца Кирхера <Kircher>, Шам-
польона <Champollion> и т. д.». Тропа открыта. Я вы-
ражаю благодарность Полю Тевенену <Paul Thevenin>,
который помог мне разобраться с этой библиотекой
Пьеро, которые все, включая Пьеро Маргеритта, од-
новременно живы и мертвы, живущие скорее мерт-
выми, чем живыми, между жизнью и смертью, если
учесть эти эффекты зеркального удвоения, на кото-
рые ссылается огромная литература эпохи Гофмана,
Нерваля и даже По.
129 Поскольку мотив нейтральности в ее негативной
форме открывает пространство для наиболее клас-
сических и наиболее подозрительных попыток по-
вторного присвоения, неосторожным действием
была бы отмена метафизических парных оппозиций,
их простое отграничение от любого текста (если
предположить, что это вообще возможно). Стра-
тегический анализ должен постоянно перестраи-
ваться. Например, деконструкция метафизических
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
парных оппозиций могла бы ослабить, нейтрализо-
вать текст Малларме и послужить интересам, задей-
ствованным в его традиционной и господствующей
интерпретации, то есть в той интерпретации, кото-
рая по сей день носит почти исключительно идеали-
стический характер. В этом контексте и против него
можно и нужно подчеркнуть «материализм идеи».
Это определение мы заимствуем у Жана Ипполита
<Jean Hyppolite>: «...В этом материализме идеи он во-
ображает различные возможности чтения текста...»
(«Le coup de dds de Stdphane МаИагтё et le message»
<«“Бросок костей” Стефана Малларме и послание»>
// Les £tudes philosophiques, 1958, № 4). Здесь мы стал-
киваемся с примером той стратегической асиммет-
рии, которая должна постоянно контролировать все
нейтрализующие моменты любой деконструкции.
Эта асимметрия должна быть тщательно рассчита-
на с учетом всех различий, вычленяемых в топогра-
фии того пространства, в котором она действует.
Впрочем, еще будет отмечено, что «логика гимена»,
которую мы будем здесь расшифровывать, не явля-
ется логикой негативной нейтральности, ни даже
просто логикой нейтральности. Подчеркнем также,
что «материализм идеи» указывает не на наиболее ве-
роятное содержание «философского» учения Мал-
ларме (мы как раз пытаемся определить, где именно
в его тексте нет «философии», или, скорее, как этот
текст рассчитывает себя, чтобы более не оставаться
в философии), а на форму того, что разыгрывается
в действии письма и «Чтения — Этой практики», во
вписывании «различных возможностей чтения тек-
ста».
130 Здесь следует восстановить контекст этой цитаты и
соотнести его с тем, что было предложено в начале
этого сеанса при разговоре о книге, о приписке, об
ЕШ Примечания
образе и иллюстрации; а затем и с теми связями, ко-
торые в следующем сеансе завяжутся между книгой
и движением сцены. Малларме отвечает на один во-
прос: «Я здесь — не для иллюстрации, поскольку все,
что вызывает книга, должно происходить в разуме
читателя; но если вы переходите на фотографию, по-
чему бы не перейти прямиком в кинематограф, ко-
торый в своем развертывании с большим преиму-
ществом сможет заменить и текст и картинки, мно-
жество их томов» (р. 878).
131 «Гимен», который часто пишется с большой буквы,
придающей аллегорическое значение, является не-
сомненной частью словаря всех этих Пьеро («Арле-
кин и Полишинель стремятся к славному гимену
Коломбины» — Готье), также он присутствует и
в «символистском» коде. Остается сказать — самое
важное, — что Малларме своей синтаксической иг-
рой отмечает его неразрешимую амбивалентность.
Событие (историческое, если угодно) имеет форму
повторения, меты, читаемой в силу своего удвоения,
форму квази-разрыва, растрескивания. «РАСТРЕС-
КИВАНИЕ <DEHISCENCE>, ср, р. Бот. Действие,
благодаря которому разные части одного закрытого
органа открываются без разрыва, вдоль шва, их объе-
диняющего. Строго определенный и рассчитанный
разрыв, который в намеченное время осуществля-
ется в закрытых органах, чтобы дать выход тому, что
в них содержится... Этим. лат. Dehiscere, приоткры-
ваться, от de и hiscere, фреквентативная форма hiare
(отсюда hiatus)» — Литтре.
132 «...Я бы сам предпочел иметь на белой странице раз-
битый на отдельные участки запятыми, точками и их
вторичными сочетаниями рисунок, изображающий
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
чистую мелодию, — с радостью предпочел бы тексту,
сколь угодно возвышенному, если бы он не был раз-
мечен знаками пунктуации» (р. 407).
133 См.: Scherer, Jacques. ^Expression litttraire dans (Euvre
de Mallarmt, p. 142 sq.
134 Что касается гимена между Гегелем и Малларме, не-
обходимо было бы в качестве примера проанализи-
ровать упоминаемое в «Феноменологии духа» подни-
мание занавеса, наблюдаемое с уникального места,
которое в этом тексте занимают «мы», то есть фило-
софское сознание и субъект абсолютного знания: «Две
крайности, чистого Внутреннего и Внутреннего, смот-
рящего в это чистое Внутреннее, теперь совпадают;
а поскольку они исчезли в качестве крайностей, так-
же исчез и средний термин как нечто, находящееся
между ними. Этот занавес (Vorhang), таким образом,
поднимается на Внутреннее, и представляется сам
акт, посредством которого Внутреннее смотрит во
Внутреннее; созерцание Омонима без различия, ко-
торый отталкивается сам от себя, полагается как от-
личенное Внутреннее, для которого, однако, также не-
посредственно представлена неразличенность двух
терминов, — это самосознание. Поэтому ясно, что за
занавесом, как обычно говорят, занавесом, который
должен прикрывать внутреннее, нечего смотреть,
если только мы сами не проникнем за него — как для
того, чтобы был кто-то, кто будет смотреть, так и для
того, чтобы было на что смотреть. Но в то же время
из этого следует, что нельзя прямо пройти через ку-
лисы, минуя все эти рассуждения» (tr. J. Hyppolite, 1.1,
p. 140—141). Я хочу выразить благодарность А. Бут-
рюшу <А. Boutruche>, который напомнил мне об этом
тексте.
ВШ Примечания
135 Здесь мы сделали бы ссылку не на текст Фрейда, вдох-
новленного Абелем (1910), а на текст «Жуткое» (Das
Unheimliche, 1919*), повторное чтение которого мы,
если говорить в целом, теперь как раз и открываем.
Мы будем снова и снова возвращаться к этому тек-
сту благодаря парадоксам двойника и повторения,
стирания границы между «воображением» и «реаль-
ностью», «символом» и «символизируемым» (фран-
цузский перевод — в сборнике Essais de psychanalyse
appliquee, p. 199), ссылкам на Гофмана и фантасти-
ческую литературу, анализу двойного смысла слова:
«Так, “heimlich” — это слово, смысл которого развер-
тывается с определенной амбивалентностью, так что
в конце концов оно встречается со своей противо-
положностью “unheimlich”. “Unheimlich” — это неко-
торым образом род “heimlich”» (tr. fr. р. 175). (Про-
должение следует.)
136 «Смешанные тропы, называемые силлепсисами, за-
ключаются в том, что одно и то же слово употреб-
ляется одновременно в двух разных смыслах, один из
которых исходный или считается таковым, по край-
ней мере считается собственным, а другой — фигу-
ральный или считается таковым, даже если он не яв-
ляется таковым на самом деле*, такие тропы могут
иметь место благодаря метонимии, благодаря синек-
дохе или же благодаря метафоре» (Fontanier, Р. Les
Figures du Discours, intr. Par G. Genette, Flammarion,
p. 105).
137 «“А разве двойные количества не могут быть рас-
смотрены одновременно и как половинные и как
двойные?” — “Да, это так”. — “А большие или малые
вещи, тяжелые или легкие, разве они заслуживают
Фрейд 3. Жуткое // Фрейд 3. Художник и фантазирование. М., I995.
18-6705
SS3 Жак Деррида. Диссеминация
именно таких обозначений, которые мы им даем,
а не противоположных?” — “Нет, — сказал он, — ведь
каждая из них заслуживает двух обозначений одно-
временно” — “И разве каждая их этих вещей в боль-
шей мере есть, чем не есть, то, что, как утверждается,
она есть?” — “Такие вещи, — сказал он, — походят
на эти двусмысленные застольные разговоры и на
детскую загадку о евнухе, убивающем летучих мы-
шей, когда нужно угадать, чем он по ним бьет и на
чем прихлопывает; ведь все эти вещи могут рассмат-
риваться в обоих смыслах и достоверно их нельзя
считать ни сущим, ни не сущим, ни чем-то, что яв-
ляется двумя вещами сразу, ни тем, что не является
ни тем ни другим... Но мы заранее условились, что,
если мы столкнемся с вещами такой природы, нуж-
но будет сказать, что они относятся к мнению, а не
к науке”» (Государство V 479b—d, перевод Бюдэ
<Вибё>).
138 Однако в главе «Земли и грез о покое»*, посвящен-
ной гроту и приводящей весьма богатый список
видов «литературных гротов», пещера Малларме не
упоминается. И если это имеет какое-то значение,
причина такого отсутствия, быть может, обнаружит-
ся позже, когда речь будет идти о «воображаемом»
Малларме.
139 С этого момента синкатегорема «между» получает
в качестве смыслового содержания некую семан-
тическую полупустоту, она обозначает отношение
опространствования, артикуляцию, интервал и т. д.
Она может поддаваться именованию, она может
стать квазикатегоремой, получить определенный
артикль и даже признак множественного числа. Мы
Башляр Г. Земля и грезы о покое. М., 2001.
ЕШ Примечания
уже говорили, что «между» во множественном числе
в определенном отношении оказывается «первич-
ным». «Между» в единственном числе не существует.
На иврите «между» может быть во множественном
числе: «В самом деле, это множественное число по-
зволяет познать не отношение одной отдельной вещи
к другой, а промежутки между вещами (loca aliis inter-
media) — см. по этому вопросу стих 2 главы X книги
Иезикииля; как я уже говорил, это множественное
число также является предлогом или абстрактно по-
нятым отношением» (Spinoza, Abrtge degrammaire
hebrafque. Vein. 1968, p. 108).
140 Вписывается — по необходимости — между двумя
сеансами такое письмо Филиппа Соллерса: «12 (пол-
ночь).
МИМИКА <MIMIQUE> или, скорее, mi+mi+que, то
есть дважды по половине плюс указание или сосла-
гательное предписание изображаемого придаточно-
го предложения: полу-но <mi-mais>? полу-кто <mi-
qui>? киска в очереди <rrfimi й queue>? старушечий
хвост <queue de тётё>?
Если забрасывает <1е si 1апсе> текст и бросает ему вы-
зов избытком как то, что следует — в том, что после
полусказанного <dans I’aprfcs mi-dit> — за повторе-
нием смеха в изображенном (зарифмованном) эхе,
поскольку вступление золота <ог> перво-наперво
является музыкой (ор-кестр), получается (si + or) =
вечер <soir> посередине между ролями и обманчи-
вой люстрой — убийственным синодом, убитой ти-
шиной —
(синодический — промежуток времени между двумя
следующими друг за другом фазами новой луны) —
пока они не обузданы —
И ДЕ Я < LIT DES> (есть те. кто где) (первичная сце-
на) (броски костей) — хвост, расплетающий идею —
18
ESH Жак Деррида. Диссеминация
сцена не делает знаменитым, под люстрой, что чита-
ют кости (желание) <1е d6s(ir)> —
порок ближе к небесам, чем греза, священная —
он творит, уступая грезе — помогая себе в грезе —
никакого подарка, ни (явного) презента —
белый призрак —
проводящий,
производящий —
бахрома дурака,
окаменение отца
(О, отец)
со / про
плевать будущее
прошлое
оледенелая опера —
мимера —
Имен —
МИМ (нейтральное) — это произведенное полу-я,
бесконечно ограниченное в его неповторимом чис-
том стойле какого угодно вымысла, полу-место и
полу-бог —
возвращение правил —
мим / среда = меньше / тысяча
(кто его в нем читает / кто там в нем <qu’y le lit / qui
le Гу>) (связывает <lie>)
слишком рано в запасе: молчать в нем
строки: фразы-точки, что / се <que / соп>), на-хватке
связке —
в цитируемые времена, роскошь подкованного молча-
ния: одно если бросает з(л)ато <un si lance en qu or> —
нарезные <ё’ЬёНсе> условия на постраничный взгляд:
гладкие кости <dds lisses>— »
141 Antonin Artaud (juin 1945).
142 Это первый лист.
ЕШ Примечания
143 Le «Livre» de Mallarme, p. 41. Цитируя Жака Шерера или,
парой строк ниже, Жана-Пьера Ришара, я считаю
нужным подчеркнуть то, что является само собой
разумеющимся: речь идет о том, что необходимо от-
метить предельную строгость критической операции,
а не разжечь полемику или, тем более, выразить недо-
верие — если бы это было возможно — по отноше-
нию к этим замечательным работам. Любой читатель
Малларме сегодня знает, чем он им обязан.
144 Op. cit., р. 406—407.
145 Здесь стоило бы процитировать все «Наброски для те-
атра» <Сгауоппё аи theatre>. Например, такие строки:
«Произведение такого рода, что мудро и смело взра-
щивается Теодором де Банвилем, по своей сущности
литературно, но оно не полностью замыкается на игре
самого важного умственного инструмента, книги!»
(р. 335). Или такие: «...Притягательная двусмыслен-
ность написанного и сыгранного, ни абсолютно того,
ни абсолютно другого, которая, почти отставив том
в сторону, щедро одаривает впечатлением, будто ты
не вполне перед рампой» (р. 342—344).
146 J.-P. Richard, op. cit., р. 565 sq.
147 Как мы попробуем доказать в другом месте, только
такая графика дополнительности может объяснить
отношения между понятиями Литературы и При-
роды, между «потусторонностью» или «небытием»
и тем, к чему оно добавляется, тотальностью суще-
го, природой. «Да, что Литература существует и, если
угодно, она одна, за исключением всего. [...] Мы,
пленники абсолютной формулы, знаем, что, конеч-
но, есть лишь то, что есть. Тотчас, под любым пред-
логом устранять обманку — вот что подчеркивает
Ш9 Жак Деррида. Диссеминация
нашу непоследовательность, отрицающую удоволь-
ствие, которое мы хотим получить: ведь его деяте-
лем является эта потусторонность, я бы даже ска-
зал “мотором”, если бы мне не внушала отвращения
задача заниматься на людях нечестивым разбором
вымысла и, следовательно, литературного механиз-
ма, чтобы вытащить на поверхность главную деталь
или ничто. [...]
Чему это служит —
Одной игре. [...]
Что же до меня, я не требую меньшего у письма и
собираюсь доказать этот постулат.
Природа имеется, и к этому нечего добавить [...]»
(«La Musique et les Lettres, p. 646—647). Интересую-
щихся прочтением этого текста, как и интерпрета-
цией всего письма Малларме, я отсылаю к Litterature
et Totalite <«Литературе и тотальности»> Филиппа
Соллерса (в Logiques) и к Poesie et Negativity <«Поэзии
и негативности»> Юлии Кристевой (в Sr|p,eiWTixq).
148 Эта страница, проникающая между строк всех
остальных, относится к тексту «Последняя мода» (La
Derniire Mode) (р. 736). Семантическое сгущение —
как указатель словаря, следующий притворству опи-
сания — организуется само собой, с несравненной
силой постоянного дополнения новыми способами
применения, то есть своей собственной складкой,
складкой письма, как бы ни стали называть его от-
ныне. И снова вопрос освещения — если люстра и
не упоминается, можно было бы проследить, в бес-
конечной дословности, ее «луч горизонтального
освещения», по отношению к которому нельзя ре-
шить, написан он или сказан, поскольку он исходит
из множества перьев и уст, из рожков («[...] шесть
медных рожков, каждый из которых испускает луч
горизонтального освещения; этот предмет, шесть
HOD Примечания
языков пламени, объединенных металлом, подвеши-
вает в воздухе забавную пентаграмму — нет, просто
звезду, поскольку на самом деле все иудейское риту-
альное впечатление исчезло». Среди «многочислен-
ных областей применения этого осветительного при-
бора», еще один раз иллюстрирующего письмо, —
«рабочий стол» или «рабочий кабинет [...], в кото-
ром допоздна засиживается его хозяин ранними сен-
тябрьскими вечерами»).
Итак, газ не переступает, если можно так сказать, по-
рог, остается, будучи скрытым, на ступеньках: «Газ
не проходит дальше, в наши жилища, оставаясь на
лестнице и чаще всего на лестничных площадках, —
он проникает через двери квартиры, чтобы осветить
прихожую, лишь в самом смутном, смягченном и
скрытом виде, пройдя через прозрачную бумагу ки-
тайского или японского фонаря».
Ришар также рассматривает, хотя и с другой точки
зрения (р. 502), тему электричества, «газа и солнца»
«Последней моды» (р. 825). О фаллическом симво-
лизме подвешиваемых ламп см.: Freud, Introduction
й la psychanalyse <«Введение в психоанализ»>, tr. fr.
р. 139.
149 Р. 305—307. См. также Richard, op. cit., р. 409—436.
150 Здесь я не буду углубляться в проблему, только ка-
жущуюся частной, которая возникает из-за перено-
са слова «тема» — того самого, чье определение Мал-
ларме воспроизводит в «Английских словах», пони-
мая его на этот раз в общепринятом техническом или
грамматическом смысле (р. 962). Разве нет никакой
сложности, причин которой можно назвать множе-
ство, в том, чтобы, «применяя его к областям, отлич-
ным от филологии» (Richard, р. 24), в то же время ссы-
латься на авторитет Малларме?
Е89 Жак Деррида. Диссеминация
151 Bonheur de МаИагтё? // Figures, р. 91 sq. Coll. «Tel Quel»,
Le Seuil, 1966*.
152 В другом месте мы попытаемся уточнить, что такой
тематизм по своему призванию является эвдемонис-
тическим или гедонистическим (или наоборот) и что
по своему принципу он совместим с фрейдовским
психоанализом произведения искусства — по край-
ней мере, представленным в том виде, в каком он
в тех или иных теоретических или частных тезисах
выражался в работах, написанных до Das Unheimliche
<«Жуткое»> (1919) и «По ту сторону принципа удо-
вольствия», то есть в Traumdeutung < «Толкование сно-
видений»> (1900), Der Witz... < «Остроумие и его от-
ношение к бессознательному»> (1905), Gradiva <«Гра-
дива»> (1906), Der Dichter und das Phantasieren <«Поэт
и фантазия»> (1907), во «Введении в психоанализ»
(1916). Фрейд признает, что в этих работах он выхо-
дит за формальные границы текста, направляясь
к теме (Stoff) или к автору, что создает определенный
эффект непоследовательности. Он анализирует про-
изведение в качестве средства на службе у единствен-
ного принципа удовольствия — средства между пред-
варительным удовольствием (Vorlust) или новизной
соблазна (Ver lock и ngsp ramie), создаваемыми формаль-
ным успехом, и конечным удовольствием, связанным
со спадом напряжения (Der Dichter <«Поэт и фанта-
зия»^ в конце). Эго не значит, что после 1919—1920 гг.
такие тезисы будут объявлены незрелыми; во всяком
случае, представляется, что они будут перемещены
в существенно преобразованное пространство.
Из многочисленных замечательных отрывков, биогра-
фических и не только, собранных Джонсом <Jones>
Рус. пер.: Женетт Ж. Счастье Малларме? // Женетт Ж. Фигуры. В 2-х то-
мах. Т. I. М., 1998.
8ES Примечания
по этой проблеме (la Vie et VCEuvre de Sigmund Freud,
P.U.E, tr. fr. I, p. 123, III, chap. XV ё XVI, особенно p. 472
и далее), я приведу только письмо 1914 г. Как может
показаться, на этот раз Фрейд переводит все удоволь-
ствие на сторону формы. При этом он выражает весь-
ма неожиданное раздражение по поводу тех, кого он
выделяет в чрезвычайно странную категорию «дер-
жателей принципа удовольствия»: «Фрейд как-то ска-
зал мне, описывая вечер, проведенный в компании
какого-то художника: “Для этих людей значение не
представляется чем-то важным; они интересуются
только линиями, формами, соответствием образов.
Это держатели Lustprinzip”» (III, р. 465).
По этому вопросу см. также: Sollers, La Science de
Lautr£amont 11 Logiques, а также: Baudry, Freud et la
Creation litteraire 11 Theorie d’ensemble.
153 Чтобы выявить специфику операции письма или тек-
стуального означающего (графику дополнительнос-
ти или гимена), нужно распространить критику на
понятие Aufhebung, или «снятие», которое в качестве
основной пружины диалектики остается наиболее со-
блазнительным, наиболее «снимающим» <relevant>
изъятием этой графики именно по той причине, что
оно в наибольшей степени на нее походит. Вот поче-
му нам нужно было назвать Aufhebung главной целью
(см.: De la grammatologie <«О грамматологии»>, р. 40).
Поскольку же тематизм представляет себя не только
в качестве диалектики, но и в качестве «феноменоло-
гии темы» (р. 27), на что он имеет полное основание,
напомним здесь по аналогии, что возможность «не-
разрешимых» предложений составила огромные
трудности для феноменологического дискурса. (См.:
Introduction a I'origine de la geometric, de Husserl ^Вве-
дение в “Начало геометрии” Гуссерля»>. P.U.F. 1962,
р. 39 sq.)
EEQ Жак Деррида. Диссеминация
154 «От лат. lima, связанного с limus, «косой», из-за на-
клонного положения или кривизны зубьев напиль-
ника» (Литтре; на этот раз мы осведомляемся у него
относительно всего лишь этимологии).
155 По крайней мере, исходя именно из этой гипотезы,
мы задали бы несколько вопросов относительно не-
которых формулировок, обнаруживаемых в замеча-
тельном исследовании, которое Ришар озаглавил
«Формы и средства литературы» <Formes et Moyens
de la litt£rature> (ch. X). Например, таких высказыва-
ний, также относящихся к «новому слову»: «это сло-
во является новым, потому что это полное слово, оно
кажется чуждым нашему языку именно потому, что
оно вернулось к изначальному языку, всего лишь ис-
каженным отзвуком которого является наш язык. [...]
Новое, вновь основанное в истоке, то есть, несомнен-
но, в самой вечности» (р. 537). «Итак, пессимизм сло-
ва замещается у Малларме удивительным оптимиз-
мом стиха и фразы, который на самом деле является
не чем иным, как верой в изобретающую или иску-
пительную потенцию духа» (р. 544). «Здесь, в форме
размытой материи, из приоткрытого ларца духа
на деле истекает достоверное откровение смысла»
(р. 546).
Поскольку значение девственности (новизны, цело-
стности) всегда носит отпечаток своей противопо-
ложности, нужно постоянно подвергать его — хотя
оно это и само делает — воздействию гимена. «При-
сутствие» слов «целостность», «природность», «наив-
ность» и т. д. в тексте Малларме не может быть про-
читано в качестве простой, однозначной положи-
тельной оценки. Все оценки (оптимизм/пессимизм)
сразу же переходят одна в другую согласно логике,
чрезвычайную сложность которой Ришар описы-
вает в других текстах — по крайней мере, до того
EES Примечания
момента, когда благодаря регулярно воспроизводимо-
му решению сама неразрешимость и неслыханность
этой «почти невыполнимой» (р. 552) логики или этой
поэтики не будут преобразованы в диалектическое
противоречие, которое нужно превзойти (р. 566),
которое сам Малларме как будто хотел превзойти
посредством «совершенной синтаксической формы
[Книги]» (р. 567), посредством утверждения полого
центра истины, посредством стремления к некоему
единству и истине, «счастью истины одновременно
деятельной и завершенной» (р. 573 sq.).
156 Письмо Казалису <Cazalis> (1864, Correspondance,
р. 137): «Наконец я начал свою “Иродиаду”. Со стра-
хом, поскольку я изобретаю язык, который должен
обязательно родиться из совершенно новой поэти-
ки, которую я мог бы обозначить в двух словах —
изображать, но не вещь, а производимый ею эффект.
Следовательно, стих в ней должен слагаться не из
слов, а из намерений, а все слова должны стираться
перед ощущением». В этот период первая интерпре-
тация «совершенно новой поэтики» формулирует-
ся на наивно сенсуалистском и субъективистском
языке. Однако исключение уже очевидно — поэти-
ческий язык не будет описанием, имитацией или
представлением самой вещи, некоего субстанциаль-
ного референта или некоей первопричины, он не
должен будет слагаться из слов как субстанциаль-
ных, атомических, то есть как раз неразложимых или
не-составных единиц. Во всяком случае, кажется, что
это письмо (которое, естественно, нужно было бы
интерпретировать с очень большой осторожностью,
не поддаваясь ретроспективной телеологии и приняв
ряд оговорок) ради новой поэтики устраняет ту воз-
можность, которая бы предполагала, что некая вещь
или причина являются конечными инстанциями,
ES3 Жак Деррида. Диссеминация
означаемыми текстом. («Не существует истинного
смысла вещи», — говорил Валери; и по поводу Мал-
ларме: «Но, напротив, мы видим, как здесь выража-
ется наиболее смелая и наиболее последовательная
из всех когда-либо сделанных попыток преодолеть
то, что я назвал бы наивным пониманием литерату-
ры».) Но, как нам возразят, разве «ощущение» и «на-
мерение» не занимают вакантного места референта,
который в таком случае нужно не столько описывать,
сколько выражать? Несомненно, это так, если толь-
ко не принимать во внимание, что, радикально про-
тивопоставляя ощущение и намерение вещи со все-
ми ее предикатами, дело Малларме, его дискурс и
практика, то есть его письмо смещают их в совсем
ином направлении.
Как почти все цитируемые мной тексты (и именно
поэтому я не делаю каждый раз отдельного приме-
чания), это письмо совершенно иначе комментиру-
ется Ришаром (р. 541).
157 Если пробел простирает одновременно и мету, и поле
текста, мы не должны отдавать привилегию белизне
того, что, как мы считаем, известно нам в собствен-
ном обличье под именем страницы или бумаги.
Вхождения этого последнего пробела менее много-
численны (например, в «Мимике», «Трауре» <Deuil>,
как и на страницах 38, 523, 872, 900 и т. д.), нежели
других, пробела всех тканей, взмахов крыла или
брызг пены, рыданий, струй воды, цветов, женщин,
наготы ночи, агонии и т. д. Пробел опространство-
вания проходит между всеми другими, он отмечает-
ся в слове «простор» <spacieux>, независимо от того,
внедряется ли оно напрямую («такие прыжки и на-
столько более просторные...», р. 312; «здесь внедря-
ется просторная иллюзия», р. 404; см. также р. 371,
404, 649, 859, 860, 868 и т. д.) или же фигурально.
ЕШ Примечания
158 Курсив мой. «Да, книги или этой монографии, кото-
рой она становится в печати (взаимоналожении
страниц в форме некоего ларца, защищающего от
грубого пространства нежную и бесконечную бли-
зость к самому себе и углубленность в себя бытия
как такового), достаточно вместе с многочисленны-
ми новыми методами, близкими по редкости, для
всех тонкостей, которые есть у жизни» (р. 318).
159 Об игре (анаграмматической, иероглифической) кни-
ги <livre> и губ <№vres> можно узнать из рассужде-
ния в «Набросках для театра» <Сгауоппё аи thedtre>,
открываемого темами Зала, Сцены и «отсутствующе-
го мима» (р. 334—335).
160 ЗОЛОТО <OR>, которое сгущается или отливается
бессчетными монетами в раскраске страницы. Озна-
чающее OR (O+R) распределено на ней, блистая круг-
лыми монетами всевозможных чеканок — «dehORs»
<внешнее^, «fantasmagORiques» <фантасмагоричес-
кие>, «TrdsOR» <богатство>, «hORizon» <горизонт>,
«majORe» <большая>, «hORs» <вне>, не перечисляя
уже всех О, зерО, как ничтожных обращений золота
OR, число закругленных и упорядоченным образом
устремленных «к невероятному» цифр. Притворно
ссылаясь на определенный факт — ведь все, как ка-
жется, вращается вокруг панамского скандала («Тако-
вы факты», — говорится в первом варианте, который
еще не успел стереть свой референт, «Кризис в Па-
наме». Эту работу по стиранию я проанализирую
в другой раз), — эта страница, в которой меньше трид-
цати трех строк, по крайней мере, видимо, сохраняет
золото в качестве главного означаемого, в качестве
общей темы. Но в результате всех проделанных из-
менений она начинает работать только с означаю-
щим, причем во всем многообразии его регистров,
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
иллюстрируемом Малларме то там, то здесь. Ведь
сама тема все равно добавляется, пусть она как тако-
вая и присутствует, к порядку означающего — то есть
не как металлическое вещество, сама вещь «золота
без фразы», но металл как денежный знак, как «де-
нежные средства», «означающие, что его сумма в ду-
ховном отношении приравнивается к ничто, почти»,
знак «вплоть до потери своего смысла» (р. 398).
Целый ансамбль, заключенный в картинную рамку,
притворяющийся описанием, вымышленный пей-
заж «фантасмагорических заходов Солнца», чья игра
света уже могла бы бесконечно долго задерживать
взгляд на тени своей позолоты. Такие «лавины золо-
та» (р. 33) методически бросают вызов любой фено-
менологии, любой семантике, любому психоанализу
материального воображения. Они систематически
разыгрывают оппозиции синтаксического и семан-
тического, формы и материи, материи и фигуры, фи-
гурального и собственного, метафоры и метонимии.
Доказательство этого нужно начать уже здесь, обра-
тившись к хризе и золотым нитям.
Итак <Ог>, предшественник «Игитур» cigitur — лат.
«итак»> логически идет до следствия, но уже отмеча-
ет его этимологическое происхождение, час <heure>
(hora> что дает прочтение многих «часов» и «злат»
«Игитур», как и всех «еще» <encor(es)> Малларме, не-
зависимо от того, рифмуются они или нет с золотом
<ог> — hanc horam <лат. в это время (года), в этот
час>):«.. .затмение солнца — итак, таков час, посколь-
ку вот Пьеро...» (р. 751). Итак <Ог>, имя существи-
тельное, наречие времени, логическая связка, бросок
костей языка, — мы знаем, как синтаксис Малларме
организует не только их полисемию, полиграфию и
оркестровую полифонию, но и, что самое важное,
вышедшую из строк эксцентричность и блистающее
подвешивание. Только три примера из множества
ЕШ Примечания
иных. В первом варианте: «итак <ог>, поскольку он
не понял бы» всегда нужно будет откладывать». «На-
броски для театра»: «Обездоленное» вечное подвеши-
вание слезы» которая никогда не сможет ни полнос-
тью оформиться» ни упасть (и снова как люстра) свер-
кает в тысяче взглядов, золото <ог>» двусмысленная
усмешка уст [... ] вдоль лабиринта тревоги» по кото-
рому ведет искусство — на деле не для того» чтобы
разбить меня так» словно бы это не моя судьба» судьба
зрителя праздника, но чтобы каким-то боком снова
погрузить меня в народ...» (р. 296). «К книге» (всегда
связанной» как мы увидим через какое-то мгновение»
с золотом): «Золото —
Сгибание есть» к большому отпечатанному листу»
знак...» (р. 379).
Предел тематизма» который можно было бы еще раз
проследить по тексту (чем я здесь уже не буду зани-
маться)» никогда не является настолько вопиющим»
как в случае «золота», причем не только потому, что
диссеминация подтверждается родством между се-
менем и этой столь ценной субстанцией, а рассея-
ние расходуется в Книге («пепел—золото—сумма»,
32 (А))» но в первую очередь потому, что это означа-
ющее «вплоть до потери смысла» дает себя таким об-
разом исчерпать, обесценить, подорвать. Больше нет
имени.
Другая жила (которую тоже стоит проследить): золо-
то окрашивает время всех закатов» по соседству с мно-
гочисленными «ложами» Малларме; и оно же изли-
вает всевозможную музыку — «золото заката» в «Ро-
мансе» <Petit Air>,«.. .золото / Гибнет по» быть может»
украшению / Единорогов... / Еще...» в «Сонете “на
икс”» <Sonnet en Yx> (в котором оно чередует склад-
ки своей рифмы со складками «птикса»), конец «пос-
ле полудня музыки», «оркестр со всем своим золотом»
шелестом мыслей и вечера» в «Мимике». Завершение
EQS Жак Деррида. Диссеминация
бега солнца, послеполуденное время, золото повторя-
ет и удваивает, после полуночи, восход <аигоге> и ужас
<horreur>. Оно всегда рифмуется (ритмизирует или
образует число) с ними. «Этот восход луны золото...»
(р. 109) всегда закрывает — ход. Книга: «О, золотые
застежки старинных требников! О, нетронутые иерог-
лифы папирусных свитков!» (р. 257). Рудник или мо-
гила: «...Перламутровой звезде их туманной науки,
удерживаемой в одной руке, и золотому блеску гераль-
дической застежки их тома от другого; от тома их но-
чей» (Igitur, р. 437).
Золото — нечистое — не оказывается однозначно ни
полноценной твердью чувственной материи (но му-
зыкой или же лучом, «вибрирующими золотыми чер-
тами», р. 334), ни прозрачным союзом логической
связки. Золото в слиянии. Золотое время, ни чув-
ственное, ни умопостигаемое, то есть, следователь-
но, и не знак, означающее или означаемое, оказыва-
ясь, по крайней мере, как «II Signor» <«господином»>,
«qui s’ignore» <«который себя не знает»> (рифмую-
щимся в Triolets с «signe, ог» <«знак, золото»>, р. 186),
так и с «signe-ог» <«знаком-золотом»>, всегда заго-
няется в двойной синтаксис, в соответствии с двой-
ным синтаксисом ювелирного искусства и часового,
в позолоченную голосовую щель <glotte> (слово
«glossa» могло означать слиток золота, причем Лит-
тре отмечает, что «старая этимология, которая возво-
дит “слиток” <lingot> к латинскому lingua, ссылаясь
на его, слитка, форму, остается все еще вероятной».
Слышать, видеть, читать: «Сотни афиш, поглощаю-
щих непонятое золото дней, предательство словесно-
сти...», р. 288).
Было ли уже отмечено («Запрятанное / Бесконечно ос-
лепленное в ученых пропастях / Неведомое золото...»,
р. 47), что первый абзац «Игитур» («Полночь») соеди-
няет слова «час» <heure>, «золото» <ог>, «ювелирные
ESD Примечания
украшения» <orfevrerie> и перечитывает «бесконеч-
ный случай связок»? «Несомненно, сохраняется
присутствие Полночи. Час не исчез через зеркало,
не погрузился в обои, напоминая об обстановке сво-
ей пустой звучностью. Я вспоминаю, что его золото
собиралось в пустоте изобразить ничтожное украше-
ние мечтаний, богатый и бесполезный пережиток.
Если только на морских и звездных завитках юве-
лирных украшений не читался бесконечный случай
связок.
Как откровение Полночи, тогда оно никогда не ука-
зывало на подобное сложение обстоятельств, ведь
вот тот час. [... ] Я был часом, который должен сде-
лать меня чистым».
«Без золота» <sans ог> подходит вплотную к «пустой
звучности» Cvacante sonorit6>. «Золоту» несколько
раз предпослано притяжательное местоимение «его»
<son>, что в итоге дает «звучание» <sonore>, благо-
даря боковому бессознательному давлению превра-
щает притяжательное местоимение в существитель-
ное, его золото <son ог>, и существительное в прила-
гательное — получая золотой звук <son ог>.
«Son ог» повторно отмечает означающее «ог» (фо-
нетическое означающее союза или существительно-
го, которое само является означающим субстанции
или же металлического означающего и т. д.), как и
музыку. Это само собой разумеется, поскольку му-
зыка у Малларме почти всегда из золота, так что
в этой игре золото сводится к пустой звучности —
к случайному украшению — означающего. Вот, на-
пример: «На полках, в пустом салоне: никакой птикс,
/ Упраздненная безделушка звучной глупости / (Ибо
Хозяин отправился черпать слезы в Стиксе / С тем
единственным предметом, чье небытие почитается).
/ Но близок путь на пустующий север, золото / Гиб-
нет по, быть может, украшению / Единорогов...», или
ESS Жак Деррида. Диссеминация
же в «Мимике»: «...оркестр со всем своим золотом,
шелестом мыслей и вечера лишь оттеняет его значе-
ние, равное убитой оде...».
Можно было бы сослаться и на различные виды «зо-
лота» из выступления, посвященного Вилье де Лиль-
Адану: «золотой герб» и «золотая основа» выстав-
лены в нем «при геральдическом закате солнца»,
странные связи перегружают в нем его «ювелирное
искусство» — «столь ребяческое золото и могуще-
ственная амальгама...» (р. 483), «вот золото, настоль-
ко избыточный груз смял его в палимпсест, или же,
должен сказать, износ стер его буквы, так что ничего
не возможно в нем прочитать» (р. 486, см. также
р. 497—500). То же и в «Прическе» <1а Chevelure>, за-
являющей «украшение глаза» и «подвиг / Посеять ру-
бин, / Но без золота вздыхать о том, что эта резвая
обнаженная...» (р. 53). Как категории классической
риторики могли бы объяснять все эти смещения?
Эдипову гимену, «бесконечному случаю связок» и
«сложению обстоятельств» в золоте «Игитур» отве-
чает «эта высшая связь с вероятностью» ЕСЛИ или
Как Если Бы из «Броска костей». И в этот момент —
если внедрить в это могущественное место ЕСЛИ
Малларме игры Золота и Итак — высвобождается
бесконечная фраза, она подвешивается между ЕСЛИ,
ЗОЛОТО, ИТАК, оборачивая, таким образом, поря-
док «Игитур» «Броском костей». (Можно ли в таком
случае заключить на манер Ж. Шерера [в той главе
из его диссертации, которая посвящается «связи», но
не упоминает ни об одном из этих трех «слов»], что
«связь лишь в незначительной степени будет притя-
гивать его внимание» (имеется в виду внимание
Малларме, op. cit.> р. 127) и что она «играет маловаж-
ную роль», р. 287.)
Золото — число единственное множественное, им
звенят часы и монетные весы Малларме.
ESI Примечания
161 Op. cit.. tr. fr.» особенно p. 137—139.
162 He в большей степени, чем кастрация, диссеминация,
которая ее влечет, «вписывает» и «запускает», не мо-
жет стать изначальным, центральным или конечным
означаемым, собственным местом истины. Напро-
тив, она представляет утверждение этого не-начала,
пустое и замечаемое место ста пробелов <cent
blancs>, которое нельзя наделить смыслом, место, ум-
ножающее дополнения меты и игры замещения до
бесконечности. Фрейд в работе Das Unheimliche. в ко-
торой он, как никогда раньше, внимателен к нераз-
решимой амбивалентности, к игре двойника, к бес-
конечному обмену фантастического и реального,
«символизируемого» и «символизирующего», к про-
цессу беспредельного замещения» может, не проти-
вореча этой игре, обратиться к страху кастрации,
за которым не скрывается никакой более глубокой
тайны (kein tieferes Bedeutung). и к отношению заме-
щения (Ersatzerziehung). например, между глазом и
мужским членом. Кастрация — это подобный не-
секрет семенного разделения, который открывает за-
мещение.
Не будем забывать и о том» что в Das Unheimliche
Фрейд, позаимствовав весь свой материал у литера-
туры» странным образом отстраняет литературный
вымысел» который охватывает все дополнительные
ресурсы Unheimlichkeit\ «Почти все примеры, кото-
рые противоречат тому, что мы ожидали найти, по-
заимствованы в области вымысла, поэзии. Поэтому
мы должны быть готовы к тому, что, возможно, не-
обходимо установить различие между тревожащей
чуждостью, встречаемой в жизни (das man erlebt).
и той, которая просто представляется {das man sich
bloss vorstellt) или вычитывается в книгах (von dem
man liest)» (tr. fr. p. 203). «То, что является тревожащей
ШУ Жак Деррида. Диссеминация
чуждостью в вымысле — воображении, поэзии (Das
Unheimliche der Fiktion — der Phantasie, der Dichtung) —
на самом деле заслуживает отдельного исследования»
(р. 206). «...Вымысел может создать новые формы чув-
ства тревожащей чуждости, которые не существуют
в реальной жизни (die Fiction neue Moglichkeiten des
unheimlichen GefUhls erschafft, die im Erleben wegfallen
wiirden). [...] Свобода автора и, как ее следствие, при-
вилегии вымысла в области провоцирования и сни-
жения чувства тревожащей чуждости, очевидно, не
могут полностью описываться предыдущими заме-
чаниями» (р. 209).
(продолжение следует)
«появляющаяся в ней тогда как половина полушар
две половины одного войска» — и глаз чудовища,
[ 17(A)] который глядит на них —
но чего-то им
не хватает» [18 (А)].
Как и Малларме (р. 308—382 и в других местах),
Фрейд столкнулся с загадкой бабочки. Зафиксируем
ее несколькими указаниями, чтобы перечитать, воз-
можно, позже. Вот строки из «Человека-волка»:
«Страх бабочки», «абсолютно аналогичный страху
волка — в обоих случаях речь шла о страхе кастра-
ции». «Еще он узнал, что в возрасте трех месяцев он
так тяжело болел [...] что для него уже приготовили
саван. [...] Мы помним: для него мир был обернут
каким-то покрывалом, а психоаналитическое учение
не позволяет нам думать, будто эти слова лишены
смысла или же выбраны наугад. Что странно, это
покрывало прорывалось только в одном случае —
когда после промывания кишечника у него через анус
отходили воды. В такое время он чувствовал себя
обновленным и мог ясно видеть мир — правда, весь-
ма недолгое время. Интерпретация этого покрыва-
ла была столь же трудна, как и интерпретация фо-
EES Примечания
бии бабочки. Впрочем» он не цеплялся за это покры-
вало» покрывало обычно растворялось в ощущении
сумерек» “t6ndbres” [по-французски в тексте самого
Фрейда], и других неосязаемых вещей. И лишь неза-
долго перед уходом мой пациент напомнил мне» что,
как ему рассказывали, он родился в “рубашке”
<coiffe>. [...] Итак, рубашка — это покрывало, кото-
рое скрывает его от мира и скрывает мир от него.
Его жалоба на этот счет по своей сущности является
фантазмом исполненного желания» он представляет
его вернувшимся в материнское тело. [...] Но что же
может обозначать разрывание этого символическо-
го покрывала» которое в свое время было вполне ре-
альным, разрывание» осуществляющееся в тот мо-
мент, когда внутренности после клизмы освободи-
лись от своего содержимого? [...] Когда покрывало
рождения разрывается» он видит мир и рождается
заново. [...] Условие этого второго рождения заклю-
чается в том, чтобы какой-нибудь мужчина поста-
вил ему клизму. [...] Следовательно, в данном случае
фантазм второго рождения был всего лишь обрезан-
ным и вымаранным цензурой переложением фантаз-
мов гомосексуального желания. [...] Разрывание по-
крывала аналогично открыванию глаз и открыванию
окна. [...] Быть рожденным от своего единственного
отца. [...] Дать ей ребенка ценой своей мужественно-
сти. [...] Гомосексуальность находит свое крайнее и
наиболее сокровенное выражение. [...]» и в сноске:
«Возможный дополнительный смысл, который пред-
полагает» что покрывало представляет девственную
плеву, гимен, которая разрывается во время отноше-
ний с мужчиной, не соответствовал бы условиям ле-
чения пациента, не имея отношения к его сексуаль-
ной жизни, поскольку девственность не имела для
него никакого значения». (Немного странное приме-
чание, если вспомнить» что речь идет о человеке,
ЕЕШ Жак Деррида. Диссеминация
о котором нам известно по крайней мере то, что он
хотел «вернуться в материнское тело».)
От крыла бабочки к гимену, пройдя через рубашку
<coiff£>. Пока же перенесемся к «покрывалу иллю-
зии», к «увлекается» <s’en coiffe> «Броска костей» —
и к другому, к «гимену» из текста «На гробницу Ана-
толя» (Pour un tombeau d'Anatole, ed. par Richard, Seuil,
1961): ко всем нитям «...нам I рръе, заключим I брак I
высший гимен / — и жизнь / остающуюся во мне / я
воспользуюсь ей чтобы — / итак, не мать / тогда?..»
(листы 39—40) «ребенок, семя / идеализация» (16)
«двойная сторона / мужчина женщина / то у глубо-
кого союза / один, у другого, откуда / и ты его сестра»
(56—57).
163 Проследите, например, за игрой «пальца» <doigt>
(костяшки <d6>, datum или digitum) в «Прозе дура-
ков» <Prose des fous> (Mysticis Umbraculis), пальца,
который «дрожал» возле «пупа»: «И его живот был
как будто из снега, на котором, / Луч золотит лес, /
Упало поросшее мхом гнездо веселого щегла» (р. 22).
164 Несомненно, нужно было бы уже раньше распутать
все нити этого пера, ведь это, как мы увидим, еще и
термин ткацкого дела. И снова Литтре, от которого
никогда, естественно, нельзя потребовать просто зна-
ний:
«ПЕРО <PENNE, сущ., ж.р.> 1. Название длинных
перьев крыла или хвоста птиц. Такие перья крыла
называются маховыми, а хвоста — рулевыми, по-
скольку они выполняют особую функцию — первые
осуществляют полет, а вторые задают направление.
[...] Термин соколиной охоты. Большие перья хищ-
ных птиц. 3. Морское перо, которое также называют
plume de тег. 4. Геральдический термин [...] Также так
называют перья, которые украшают стрелы. Эт. [...]
ЕШ Примечания
от лат. penna, “перо”, “крыло”. [...] Во французском
языке было другое слово penne, обозначающее ткань
и происходящее от лат. pannus.
II. ПЕРО <PENNE, сущ., ж.р.> 1. Ткацкий термин. На-
чало, головка основы. Перьевая нить — каждая из
нитей, которые остаются привязанными к навоям
ткачей после того, как сняли полотно. [...] 2. Боль-
шой моток льна, намотанный в виде кисти на конце
палки. Эт. нижнебретонское реп — “конец”, “го-
лова”.
III. ПЕРО <PENNE, сущ., ж. р.> 1. Название особого
типа брусьев. 2. Морской термин, одна из двух глав-
ных частей, из которых состоит рея или латинская
рея. Эт., вероятно, такая же, как у penne, 2. то есть от
кельтского реп, “голова”, “конец”».
К этому мы добавим определение не penis'a, но
«лобка»:
«лобок <p£nil, сущ., м.р.> Анатомический тер-
мин. Передняя часть лобковой кости и нижняя часть
живота. [...] Кость, которую по-латыни называют os
pubis, на французском называется лобковой костью
<os du p6nil> или лонной костью <os Ьаггё>» (Рагё,
IV, 34). На провансальском — penchenilh. Провансаль-
ское слово, очевидно, происходит от производной
формы лат. pectin, которое обозначало не только гре-
бешок, расческу, но и лобок (pubes). Однако форма
panil постоянно смешивалась с весьма распростра-
ненным словом panne или penne, которое обознача-
ло ткань или лоскут. Это заметно и в слове penilien,
которое обозначало одновременно и лобок, и вид
одежды. В Бретани слово рёпШе обозначало бахрому
одежды, которая с краю обносилась: отрежьте эту
бахрому <coupez-moi ces p6nilles>.
165 По вопросу полного перечня этих перьев и ана-
лиза этого плюмажа см.: R.G. Cohn, op. cit., р. 247 sq.
EES Жак Деррида. Диссеминация
Относительного того, что предполагается подняти-
ем пера, выделим только то, что оно всегда оказыва-
ется неотвратимостью или событием его падения.
Это «ужасная борьба с этим старым и злым плюма-
жем, разбитым, к счастью, Богом», о которой гово-
рится в знаменитом письме Казалису, это «предан-
ный плюмаж» из «Звонаря <Sonneur> («устав тщет-
но тянуть, / О Дьявол, я сниму камень и повешусь»),
это «геральдический плюмаж» и «черный плюмаж»
«Иродиады», замечаемый совсем рядом с «обнару-
женным золотом» и с «Рассветом» <Аигоге>, это «мои
два крыла без пера / — С риском упасть в это время
в вечность?» из «Окон», это «Черный, с кровоточащим
и бледным крьцюм, без пера, / Чрез стекло, напоенное
запахами и золотом, / Через витражи, увы, все еще
мрачные, / Восход набросился на ангельскую лампу /
Пальмы!...» из «Дара поэмы» <Don du Роёте>, это
«...плюмаж захвачен» из «Девственный, резвый...»
<Le vierge, le vivace...>, это шляпа «без перьев и по-
чти без лент» «моей бедной любимой бродяжки» из
«Трубки» <La pipe>, это «...ожидаемый промежуток,
боковыми стенками которого была двойная проти-
воположность створок, сзади же и спереди, если смот-
реть прямо, проем ничтожного сомнения, отражен-
ный продолжением гула створок- в котором терялись
перья, и раздвоенный исследованной двусмысли-
цей...» из «Игитур».
Противоположность черного и белого: гагат <jais>
(ворона <geai>, струя <jet>, я имею <fai>) — это
черный стеклообразный материал, который мож-
но покрасить в белый цвет. Вечернее платье задает-
ся пером и гагатом («Вечерние платья [...] украшен-
ные или газом, или вышитым тюлем, оборками из
белого гагата и перьев, бахромой из гагата, наконец,
всеми принадлежностями бальных платьев: это бу-
дет носиться в Театре, это — на большом приеме,
ESQ Примечания
это — на вечеринке, но всегда они открыты квадра-
том или под прямым углом, декольте здесь не най-
дешь» (р. 781, курсив Малларме), однако без пера
остается свадебное платье, у которого есть только
«вуаль всеобщности», напоминающая о гимене
танцовщицы («Реплика I»): «...античный обычай
главного женского наряда, белого и воздушного, то
есть такого, что одевают на Свадьбу. [...] Свадебный
наряд не бросается в глаза: его замечают, когда оно
просто появляется, в тайне, пусть оно и следует за
модой [...] со всеми новшествами, обернутыми все-
общностью как вуалью. [...] Вот наваждение тюля
и флердоранж, ловко сплетенный с волосами. Все
это, мирское и девственное. [...] С ваших завит-
ков кольца упадут в промежуток между двумя их
крыльями. Блистательная фантазия, не так ли?»
(р. 763—764).
166 Другие подобные примеры можно было бы найти
в Autobiographic (р. 661), в Biographic 1899 г. («иссле-
дования в поисках лучшего, как пробуют кончик
пера») и в других текстах.
167 Среди прочего она отображает и ограненный раз-
лом «Игитур». Последний более остальных текстов
сгущает анаграмматическое исчисление форм, за-
канчивающихся на URE (pliure <изгиб>» ctechirure
<разрыв>, reliure <переплет>). Скрип лезвия, кото-
рым подчищают текст. Вычеркивание <La rature>
принадлежит литературе <\itt£rature>, рифмуется
с нею (р. 73, 109, 119, 298), с «Игитур» (игра «здесь
покоится» <ci-git> с дверьми — кроме <fors>, вне
<hors>, Тйг Сдверь (нем.)>, door Сдверь (англ.)>,
«дверь склепа», засыпание могил и закрытость сна,
«суммы» <sommes>, «так отбивался такт, воспоми-
нание о котором достигло меня, продолжившись
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
шумом в коридоре времени, доносящимся из-за две-
ри в мой склеп, и в галлюцинации...» р. 439, причем
«Игитур» ведет подсчет таким словам, как «светонос-
ный разлом» clumineuse brisure>, «час» <heure>,
«предшествующий» <anterieure>, «блистательность»
<splendeur>, «чистый» <pur> — «Я был тем часом,
который должен меня очистить» — «обои» <tenture>,
«столкновение» <heurt> — по меньшей мере шесть
вхождений, — «обитель» <demeure>, «бледность»
<paleur>, «открытие» <ouverture>, «будущее»
<futur>, «свет» <lueur>, «высший» <sup6rieure>,
«пастбище» <pature> и т. д.). Анаграмматическая
галлюцинация, бред, безумие, анаграмма флакона
<fiole> («пустой флакон, безумие, все, что осталось
от замка»). Кризис флакона, но, как мы помним,
и флакон стиха («Греза погибала в этом стеклянном
флаконе...», р. 439). Семенная игра «кубков» (р. 27
и 178): флакон <fiole>, виола <viole> (р. 59), вуаль
<voile>, полет <vol>, ворот <со1> («Стала бы покры-
вать мою неприкрытую шею / Большим количе-
ством поцелуев, чем звезд / Чем звезд на небе!»). Ву-
аль—звезда—млечный путь—покрывало Cvoile —
6toile — voie lact6e — voile): мужское/женское. По-
золота.
168 «Бросает веселый отклик, перо из крыла, / ... воспо-
минание о ней!» Быть может, бесконечное разверты-
вание этой вольеры и этой вольтижировки. Чтобы
дать только Идею об этом «вызове крыльев» <d6fi
d’ailes> (р. 147): постоянное добавление недостаточ-
ного “d7.L7” (во всех падениях) или избыточного “17”
образует складку, «пространное письмо складывает
слишком большие крылья» (р. 859), поднимает в по-
лет «крылатое письмо» (р. 173), «Крыло, которое дик-
тует ему его стихи» (р. 173). Крыло, которое может
быть «кровоточащим» (чувство пробела) или «без
Примечания
пера» (р. 155), иногда держится как само перо («Хра-
ните мое крыло в своей руке», р. 58) — «в случае
угрозы написанному литературное Превосходство
обязуется поднять как крыло, взяв храбрость соро-
ка и объединив их в одном герое, вашу груду дрожа-
щих шпаг» (р. 420). И ниже связать союзом i и /. Те-
перь у него будут собраны все его силы. I: i -.
Здесь мы сделаем ссылку на две последние страни-
цы «К книге» (р. 386—387). Это по-настоящему не-
исчерпаемые страницы, их чтение может возобнов-
ляться бесконечно. Все пространные цитаты, кото-
рые были из них извлечены нами, теперь должны
были бы собраться вместе. Но мы еще не дали уви-
деть, услышать, прочитать следующее, то самое, что
ведет их всех: «Обрывы, высокие игры крыла, тоже
взглянут друг на друга — тот, кто ведет их, замечает
необычайную приспособленность структуры, про-
зрачной для первичных вспышек логики. Бормота-
ние, которым представляется фраза, вытесненное
здесь в роль многочисленных вводных предложений,
слагается и поднимается каким-то высшим равно-
весием к предусмотренному равнодействию обраще-
ний». И немного выше высказан закон вращения
вокруг оси или неразрешимости, «альтернативы, ко-
торая является законом». «Какая ось в этих контрас-
тах выявляется для меня как нечто интеллигибель-
ное? Нужна гарантия — Синтаксис — ».
Гарантировать интеллигибельность — это не значит
гарантировать однозначность. Напротив, нужно
благодаря простому синтаксическому сочленению
просчитать игру полета или неопределенно долгой
вольтижировки смысла. Случаи «между», «гимена»
и «прочитанного» ни в каком смысле не являются
единственными. Жак Шерер выделил слова, кото^
рые могут в одной и той же фразе выполнять разные
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
функции, выступая поочередно в качестве глагола или
прилагательного («continue» — <«непрерывность»
и «непрерывный»:*-), глагола или существительного
(«ойге» — <«предлагает» и «подношение»>) (op. cit.,
р. 114—116). Добавлю, что Малларме сформулиро-
вал закон такого метода. Сделал он это, рассуждая
о предмете междометий, воздействие которых он
всегда так тщательно просчитывал. Односложное
слово ог <итак, золото> — только один из приме-
ров подобных богатейших объединений. Отклады-
вая на потом исследование того, чем «Английские
слова» обязаны исторической лингвистике, выде-
лим следующую цитату: «Первичные законы. [...]
Итак. Арии, Семиты или Туранцы, библейское раз-
деление Языка, но другое разделение, то, что более
непосредственно выстраивает свои фазы в соот-
ветствии с развитием самих форм, выглядит так:
Моносиллабизм, пример — китайский язык, оче-
видно первичная стадия, затем Агглютинация, или
связывание, аналогичное тому, которое связывает
два Сложных Слова в одно или же присоединяет
Аффиксы к Телу Слова, которое при этом почти не
приобретает никаких искажений, и, наконец, Флек-
сия или стирание некоторых промежуточных и ко-
нечных букв в стяжениях или падежных оконча-
ниях. И полное и простое отделение неизменного
Слова, и слияние множества Слов, смысл которых
остается различимым, — все это, вплоть до самого
исчезновения смысла, оставляющего абстрактные
и ничтожные следы, давно усвоенные мыслью, —
не что иное, как сплав жизни и смерти, двойное
средство, надуманное и естественное одновремен-
но: итак, каждому из этих трех состояний, богатых
множеством своих последствий, может соответ-
ствовать Английский. Моносиллабическим остает-
ся он в своем исходном словнике, ставшем таковым
Примечания
на переходе от Англосаксонского к Королевскому
Английскому; он даже междометный, поскольку
одно и то же тождественное Слово часто служит
в нем и глаголом и существительным» (р. 1052—
1053).
Доводя таким образом до пределов философского и
критического внутренне связанный вопрос ритма,
рифмы и мима, следовало бы напомнить об околице
следующих ассоциаций: (1) определение литературы,
то есть стиха, через ритм («...Литературная игра по
преимуществу: ибо сам ритм книги, безличной и жи-
вой, в том числе и разбивка на страницы, накладыва-
ется на уравнения этой грезы или Оды», р. 663. «Стих
присутствует в каждом месте языка, где есть ритм,
везде, исключая афиши и четвертую страницу газет.
В жанре, именуемом прозой, встречаются стихи, по-
рой восхитительные и самых всевозможных ритмов.
Но на самом деле прозы не бывает: существует алфа-
вит, а после него — более или менее сжатые стихи...»,
р. 867); (2) отношение между каденцией — падежом —
ритмикой и всеми падениями, среди которых и мол-
чаливое падение пера («ритмичный памятный па-
деж», р. 328. «Падает / перо / ритмичный подвес не-
счастья / погребаться / в изначальной пене / еще не-
давно оттуда выплеснуло свой бред до вершины /
увядшей / тождественной непричастностью пропа-
сти / НИЧТО / памятного кризиса...», р. 473—474);
(3) игра между ритмическим подвесом и мимическим
подвесом, между ритмом и смехом («Итак, вот час,
приходит Пьеро. [...] Стих, который, шут, всегда изыс-
канный и звучный, притворяется при луне, доходя до
ушей, или нисходит на нее саму как на розовый бу-
тон, с улыбкой, со смехом, заключенным в его одно-
сложные слова, в уста Мимов, счастливых тем, что они
говорят; говорят в ритме», р. 751).
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
171 Оппозиция метафоры и метонимии, целиком при-
надлежа семантике, практически деконструируется
поверхностным, глубоким, то есть уводящим в про-
пасть, воздействием версификации (ver <червь> —
vers <стих> — смысл, направление — vers <к> —
versus, verre <стекло>), разбивающей на фрагменты
и вновь склеивающей (зима <hiver>, извращенец
<pervers>, изнанка <envers>, сквозь <travers>, голо-
вокружение <vertige>, сон <reve>). Все ее сгущения
и смещения опробованы в тексте «Господин Маллар-
ме. Извращенец <pervers> / Стремится убежать от
нас через лес / Мое письмо, иди по его следу к / Валь-
вену, через Авон, Сен-э-Марн» (р. 106). Ее сеть долж-
на была бы пройти через перевод «Червя-победите-
ля» По («Множество ангелов, одетых в крылья [...]
восседают в театре. [...] Мимы с формой всевышне-
го Бога [...] мимы становятся его добычей, и серафи-
мы рыдают, показывая свои червивые зубы, пропи-
танные человечьим багрянцем», р. 196), рифма сти-
ха <vers> сцепляется с извращенцем <pervers> (р. 20),
с изнанкой <envers> («...девственный стих / с изнан-
ки», р. 27), со сквозь <travers> (р. 29 и 152), с зимами
<hivers> (р. 128 и 750). Мы также могли бы просле-
дить это «удовольствие, существенное для версифи-
кации, когда местами оно распространяется и рас-
сеивается» (р. 327) в тексте «Возникший из кубка и
прыжка / Из эфемерной склянки /... / ...ни моя мать...»
и в «Отменено кружево /... / Пусть вечное отсутствие
постели /... / Такое, что к какому-то окну / Из ее ут-
робы и больше ничьей / Сыном мог бы явиться на
свет» (р. 74 и 333).
172 Это не только факт биографии. Вот признание са-
мого автора, относящееся к этой теме, сделанное по
ходу исследования теоретического вопроса: «И преж-
де всего, где расположены мы сами, французы, когда
ЕШ Примечания
начинаем изучать английский? [...] Сложность мест-
ных условий для того» кто не наделен универсальным
знанием» не являясь англичанином» что же делать?
Просто изучать английский из французского» ведь
нужно же где-то быть» чтобы бросить взгляд по ту
сторону; и тем не менее нужно предварительно про-
верить» насколько подходит это место для наблюде-
ния. [...] Читатель» у Вас перед глазами этот написан-
ный текст [...]» (Les Mots Anglais <«Английские сло-
ва»>, р. 902). «Заявленный в “Предварительных
сведениях” третий случай лингвистического образо-
вания» ни искусственный» ни абсолютно естествен-
ный» — вы уже познакомились с ним: это случай по-
чти сформированного языка» влитого в такой же
почти сформированный язык» совершенная смесь»
устанавливающаяся между обоими этими языками.
[...] Только прививка может послужить образом» ко-
торый представил бы этот новый феномен; да» фран-
цузский был привит к английскому; и оба растения»
по истечении срока некоего колебания» произвели на
одном и том же едином стебле великолепное брат-
ское потомство» (р. 915), рожденное из «нерастор-
жимого гимена» (р. 914).
173 Смягченный канун — вот и «Английские слова»» мы
дошли до них» чтобы перечитать все сначала. «Не
существует французской согласной или какого-то
более сложного элемента устной речи, который не
смог бы изобразить английский язык при помощи
одной буквы или нескольких» за исключением мяг-
кой L. Исказить произношение огромного числа на-
ших слов» проговаривая в них две LL как одну L,
которая сама по себе получает обычную свою ар-
тикуляцию? Слишком легкая увертка — ведь если
наше произношение предполагает модуляцию
невидимой и весьма слабой I после простой или
ЕШ Жак Деррида. Диссеминация
двойной LL, все дело в том, что указанная буква все-
гда пишется спереди. Прочитайте: eventa-i-l <веер>,
ve-i-lle <канун>, fam-i-lle <семья> и depou-i-lle <ос-
танки>. У чуждого организма есть три решения:
пропустить эту /, как в словах APPAREL, CORBEL,
COUNSEL и MARVEL, когда перед I идет Е; затем
MALL (un mail — “молот”), MEDAL, PORTAL,
RASCAL (“шутник”, от racaille), REPRESAL, когда пе-
ред I идет А; или же соединить его, образуя дифтонг,
с предыдущей гласной, как в словах DETAIL,
ENTRAILS и т. д. (произносится “эйл”). Но если один
язык уступает и соглашается подражать другому, это
проявляется как раз в смещении того же I с перво-
го места на второе, то есть в изображении нашего
произношения в том виде, в каком оно было про-
анализировано выше: MEDALLION, PALLIASSE (от
paillasse), PAVILION, VALIANT ё VERMILION. Пол-
ное безразличие в такой обработке к числу L — там,
да и у нас; вопрос, распространяющийся до мной
положенных границ, над I. Однако можно было бы
сказать в ущерб немой Е окончаний и всегда в пользу
этой фундаментальной I, что эта последняя буква
всегда сохраняется, тогда как первая исчезает: так,
простое IL <он> не остается без какого-то неясно-
го воспоминания о мягком звуке» (р. 981—982).
Вплотную к L, мягкому звуку, подходит М, двойная
перевернутая V («Читатель, у Вас перед глазами этот
написанный текст»), все примеры которой, безо вся-
кого исключения, подчиняются закону гимена и ми-
мики. Не будем цитировать эти примеры, приведем
лишь формулировку закона: «Буква, с которой,
предшествует ли она отдельным гласным или же,
что всем известно, целой гамме дифтонгов, начи-
нается множество английских слов, значимость ко-
торых несравнима ни с какими иными. М выража-
ет возможность что-то сделать, следовательно, ра-
ЕП Примечания
дость, самца и материнство; затем, в соответствии
со значением, дошедшим из глубокой древности,
меру и долг, число, встречу, слияние и средний тер-
мин, а благодаря обращению, не такому уж и не-
ожиданному, — низшее качество, слабость или гнев.
Все весьма точные смыслы, которые не образуют
вокруг m одного, пусть и расширенного, коммен-
тария» (р. 960).
Мы же, прерывая полет танцовщицы («Реплика II»),
подвесили в воздухе казус /. Казалось, что это риско-
ванно — а разве это было не так? — читать отрезан-
ную — отклеенную — от тела i точку, отделенную от
пронзающего танцующего острия, расположенную
вровень с обрезанным концом большой буквы. По-
скольку теперь мы можем догадываться о том, что
происходит (проходит) между пером и его головой,
его кончиком или концом (реп), пора уточнить эту
точку. Правило состоит в том, что, удерживая сеанс,
мы ничего не касаемся. Ведь речь идет об одном —
собственном теле.
Но не был ли сам Малларме слеп к тому, что отделя-
ет i от его собственного качества? Может быть, хотя
нужно было бы выразить ему благодарность за вни-
мание, проявившееся в вопросе о «пропуске этого Е»
и о «пользе этой фундаментальной I», «вопросе, рас-
пространяющемся до мной положенных границ».
Во всяком случае, он не мог не заметить обращения
этой фигуры — в точку, которая подписывает вос-
клицательный знак! Мы знаем, насколько активно
его синтаксис задействует этот знак, часто прерывая
слитное развертывание фразы этой странной паузой
и этим окликающим зазором. Этот вертикальный
знак он предпочитал отточию. Он видел в нем рит-
мичное волнение пера, поставленного с ног на го-
лову:
По поводу восклицательного знака.
1М705
ЕВЭ Жак Деррида. Диссеминация
«ЭТА ТОЧКА, ИЗ САДА, ЕЕ СТАВЯТ
ЧТОБЫ СЫМИТИРОВАТЬ ПЛЮМАЖ» (р. 168).
И наконец, большая буква I — разве это не англий-
ское Я, эго (эхо или стекло самости)? «Английские
слова»: «I, je <я>, лат. ego; лед, стекло...» (р. 925). До-
бавка к основному тексту «Игитур»: эхо — эго —
больше-я <plus-je> и т. д.
Большое I заранее рассеивает единство смысла.
Оно — его размножает, развертывает, раскрывает ра-
дугой означающего, расцвечивает его всеми цвета-
ми <irise>. Вместо того чтобы спрашивать себя, не
гипостазируется ли I Идеи на орбите Платона или
Гегеля, нужно принять в расчет его буквальную ири-
зацию («способность некоторых минералов воспро-
изводить на своей поверхности цвета радуги», Лит-
тре) (I + De <1 + игральная кость>).
Вопрос напильника: Идея немного рифмуется с ор-
хидеей, которая, в свою очередь, рифмуется с «решен-
ной» <decid6e> (р. 92 и 171). «Слава долгого жела-
ния, Идеи» <Gloire du long d6sir, Id6es> рифмуется
с «семейством ирисовых» <La famille des irid6es>
(p. 56). Ирис, цветок, которого не найдешь во всем
букете, — это также богиня радуги и мембрана глаза
(«Конъюнктивит распространяется через белок гла-
за на круг, называемый радужкой», Раге) и т. д.
Итак, что решает дело чтения?
Смещенное почти наугад — но таков закон: необходи-
мо письмо вместе с бредом — расстроенное, расчле-
ненное «слово» преобразуется и бесконечно связыва-
ется с самим собой. Игральная кость считывает идею,
балахон, небо над кроватью, потолок и могилу, играль-
ную кость для шитья всех тканей, покрывал, газов,
простыней и саванов со всех кроватей Малларме,
«кровати страниц велени», «вечного отсутствия кро-
вати» («пустая кровать» <lit vide>, «погребенная»,
«отмененная», «оспаривание» <litige>) и т. д. Он /
ЕШ Примечания
читает / кровать <il / lit>. Он / ли <11 / Г1>. Он обра-
щается в (прочитанную) кровать <(1е) lit>. Он отде-
ляется в Г1: «...Оттуда выплеснуло свой бред до вер-
шины / увядшей / тождественной непричастностью
пропасти / НИЧТО / памятного кризиса...»
Фармаконы
большие и малые
Дмитрий Кралечкин
Теоретический зуд
Упоминание слабой действенности любого описания де-
конструкции демонстрирует два момента, конститутив-
ные для отношения к ней: во-первых, такое упоминание
указывает на уже осуществленное прерывание рефлек-
сии, возможности которой под вопросом, а во-вторых,
оно всегда вводит деконструкцию как то, что бывает и
случается «где-то рядом», одновременно подчеркивая не-
способность проникнуть в это «рядом» и превращая де-
конструкцию в разновидность физического процесса.
В первом случае обычные способы философской апро-
приации оказываются не у дел, во втором они лишаются
дела с надеждой на возможность умыть руки.
Так или иначе, изображения деконструкции (к чис-
лу которых, вероятно, должен был бы относиться и этот
текст) определяют некую непристойность отношения
философии к Деррида и деконструкции. Эта непристой-
ность, несомненно, имеет достаточно известные парал-
лели в истории философии, хотя отдельного исследова-
ния заслуживает именно ее специфика в случае Деррида.
Так, непристойность гегелевской позиции по отношению
EEfl Послесловие
к философии заключалась в господском жесте, деструк-
ция которого, его разложение — как теоретическое, так
и эмпирическое — позволили создать веер философ-
ских содержаний, определивших современность. Пре-
имущество отношения философии к Гегелю после Геге-
ля (по сравнению с аналогичной задачей выстраивания
отношения философии к Деррида) заключалось в том,
что «время работало на философию»: само эмпириче-
ское развертывание истории демонстрировало расхож-
дения со спекулятивными содержаниями, в чем только
совсем правоверный гегельянец мог не увидеть нагляд-
ного опровержения тезиса об окончательном (выполнен-
ном персонально и социально) совпадении концепта с вре-
менем. В случае же Деррида ничего подобного ожидать
просто не приходится — хотя бы в силу принципиально
иной фигурации времени (и темпорализации) в декон-
струкции.
Во всех разнообразных способах задать код отноше-
ний к деконструкции сохраняется некий «непристой-
ный» зуд, который будет затронут далее и который, не-
сомненно, связан с некодифицируемостью вопросов вро-
де «Что делает, если делает, деконструкция Деррида?»,
«Что она сделала?» и «Что со всем этим делать?». Декон-
струкция остается наиболее значимой насмешкой над
теорией события, охватывающей, возможно, онтологиче-
ские построения от Плотина до Хайдеггера и Бадью. Не-
ясно, случилось ли с деконструкцией (и посредством нее)
что-то такое, что не дает нам спать, или же нет (и у нас
просто какая-то бессонница неизвестной этиологии)?
Наличие подобного зуда демонстрируется уже немалым
количеством постоянно издающихся введений в Дерри-
да, всевозможных истолкований, которые задаются целью
всего-навсего обеспечить «минимальный доступ» к его
«мышлению», начиная каждый раз как будто с азов. Даже
всевозможные попытки остановить эту текстуальную
машину заявлением, что исследуемый зуд — всего лишь
EXiEl Послесловие
следствие некой автоиммунной реакции и что никакой
внешней причины (то есть загадки Деррида) нет, не во-
зымели успеха, и, вероятно, не только потому, что иссле-
дования и автоиммунных реакций, и отношений с «вне-
шним», неизменно оказывающимся наиболее внутрен-
ним, как раз и составляют одну из линий деконструкции.
Чем более успешно мы могли бы убедить себя в том, что
«реакция» на деконструкцию — наших рук дело, то есть
чем больше мы понимаем, что зудит только потому, что
слишком сильно терли, тем в большей степени мы «за-
нимаемся» деконструкцией оппозиции внешнего и внут-
реннего, нас самих и других, еще в большей степени уси-
ливая желание «расквитаться с Деррида» как с камнем,
о который мы, пусть и по собственной вине, ударились.
Деконструкция стала абсолютным чревовещателем кук-
лы-философии — абсолютным настолько, что его несу-
ществование, вымышленность, симулятивность ничего
не решают.
Вопрос о «практике деконструкции», если он не сво-
дится к подразумеваемому вопросу «Как от этого отде-
латься?», несомненно, должен ставиться в качестве пред-
варительного в выстраивании отношений с деконструк-
цией, если только такое выстраивание представляется
важной теоретической задачей. В противном случае лег-
ко ограничиться более или менее полной «сводкой», опи-
сью результатов и положений деконструкции, которая,
естественно, также небесполезна. Изучение практики
деконструкции — отдельный вопрос (как и само объ-
единение двух не слишком родственных понятий в од-
ном выражении), здесь же можно предположить, что та-
кое изучение необходимо осуществлять в качестве экс-
периментов, например, экспериментальных прочтений,
в ходе которых, следуя за работой Деррида, необходимо
прояснять ту большую самой себя игру философской
теории, которая не всегда совпадает с горизонтами, вы-
черченными деконструкцией как учением. Результат —
ЕШЕ1 Послесловие
возможно расхождение — сам по себе не ожидается
в прицеле на мифическую деконструкцию деконструк-
ции, однако он необходим для того, чтобы деконструк-
ция все же не осталась чем-то более невозможным, чем
школьные изложения науки логики или деконструируе-
мое Деррида послесловие/предисловие к философии (ка-
кой бы она ни была — своей или чужой).
В данном тексте я ограничусь фиксацией одного не-
большого сопоставления, осуществляемого на базе от-
рывка из платоновского текста, используемого — фраг-
ментарно — Деррида, причем сама эта фрагментарность
и станет предметом рассмотрения. Это, как представля-
ется, позволит не только выяснить некоторые существен-
ные черты «процедуры» деконструкции, существенным
образом отличные от того, что мы могли бы выявить
в ее самоизложении, но и поставить вопрос об общих
концептуальных пределах и условиях действия деконст-
рукции и платонизма.
Несмешанное удовольствие
Обращение к «Филебу» оправдано тем, что этот диалог
достаточно часто используется Деррида в «Диссемина-
ции», чему способствует введение Платоном теории «тре-
тьего рода» — смеси предела и беспредельного как соб-
ственно территории мудрости, а также представление
о внутреннем живописце (выведенное в качестве эпиг-
рафа к «Двойному сеансу»). Именно «Филеб» как трак-
тат о смеси существенным образом связан с выявлени-
ем работы фармакона — выявлением, которое не огра-
ничивается определением значимости метафор «писца»
и «букв».
Платон в «Филебе» (47с и далее), задаваясь вопро-
сом о смеси удовольствия/страдания в самой душе,
выписывает позицию «зависти», которая оказывается
ШЗ Послесловие
проблемной для внутренней логики платонизма, обна-
руживая момент, образующий ее особый передаточный
механизм. Речь идет не столько о сопротивлении смеси
любым платоновским оппозициям (как то представля-
ется в теории фармакона), сколько о форме концепту-
альной работы, которая выписывается на фоне примера
удовольствия/смеси/злорадства, не являющегося класси-
ческой смесью, то есть смесью, которая неразложимым
образом содержит удовольствие и страдание, определяя
их оппозицию и позволяя играть на ее стирании, под-
вижной оппозиционности.
До интересующего нас момента Платоном в числе
прочего выясняется, что любое удовольствие функцио-
нирует в виде смеси со страданием (это, естественно, ста-
вит под вопрос его отнесение к несомненному благу, что
и составляет стратегическую цель диалога), причем сме-
си удовольствия/страдания бывают нескольких видов —
смеси, реализуемые телом; смеси, зависимые от связи
(смеси) тела и души; и смеси, реализуемые в пределах
одной только души. Именно последние ставят вопрос
о «зависти» (<pv6vo<;), которая рассматривается в каче-
стве образцовой смеси третьего типа.
Исходное определение зависти уже создает пробле-
матическую ситуацию, вряд ли сводимую к филологи-
ческому вопросу. Это определение вводится следующим
образом: «Сократ. Назовешь ли ты недавно упомянутую
нами зависть страданием души? Или нет? Протарх. На-
зову. Сократ. А между тем завистник радуется злоключе-
ниям ближнего» (48b). В качестве конъектуры, которую
я попытаюсь далее оправдать, замечу, что речь скорее
должна была бы идти о «злорадстве», потому что имен-
но злорадный радуется злоключениям ближнего, но все
же не завистник (по крайней мере, это не может высту-
пать в качестве его определения). Игра между завистью
и злорадством существенным образом влияет на распре-
деление позиций в тексте Платона.
ЕШ9 Послесловие
Важно, что злорадство, как постулируется Платоном,
является несомненным злом для носителя, однако оно
испытывается в качестве удовольствия, поскольку он ра-
дуется при созерцании зла, случающегося с другим. Соб-
ственно, Платон не вскрывает основание такой радости,
если такое основание вообще возможно. Более того, ему
важна как раз наиболее крайняя (и даже кажущаяся не-
реальной) позиция злорадства, которая с трудом подда-
ется логической реконструкции, являясь некоей «чистой
радостью».
Действительно, легко можно было бы логически ре-
конструировать такую ситуацию, сказав, что злорадство
возможно только в том случае, если зло приключается
с врагом. Иначе говоря, все, что идет во зло врагу, явля-
ется благом, если предполагать непосредственность вы-
полнения такой «натуральной логики». Рассмотрим этот
простейший случай злорадства, который отождествля-
ем с радостью по поводу несчастья врага и который на-
меренно оставляется Платоном без особого внимания.
Платон не отмечает существенного момента: характер ги-
потетического смешения в злорадстве отличен от харак-
тера смешения других удовольствий, которые рассмат-
риваются в тексте «Филеба» ранее. Одним из базовых
примеров является зуд — особая телесная смесь удоволь-
ствия и страдания, причем удовольствие обеспечивает-
ся неким постоянным уклонением тела от своего нор-
мального состояния и предвосхищением возвращения
в такое состояние, которое никогда не наступает. При
этом наиболее сложный вопрос — статус «чисто телес-
ных смесей» удовольствия/страдания, то есть сама воз-
можность отделить эти смеси от смесей, обусловленных
смешением души и тела. Можно предположить, что нет
никакого основания представлять зуд как чисто телесную
смесь — он никогда не свободен от «примеси» души.
В таком случае теория «зуда» является основанием са-
мой теории удовольствия: удовольствие возможно не
НШ1 Послесловие
только там, где тела существенно несовершенны, то есть
они не сохраняются в одном и том же состоянии, но и
прежде всего там, где у тела есть двойник — душа, ко-
торая не успевает изменяться столь же быстро и беспа-
мятно, как и тело (первоначально преимущества ума
над удовольствием объясняются Сократом уже тем, что
без элементов ума — памяти — любое удовольствие не-
возможно). Удовольствие в принципе патологично, од-
нако такая патология — патология смеси*, в которой
удовольствие обеспечивается страданием — отличает-
ся от патологии злорадства, предполагающего в своем
простейшем варианте «радости по поводу несчастного
врага», с одной стороны, несомненное, логическое удо-
вольствие (можно сказать, что это единственное удо-
вольствие от чистой логики — без какого бы то ни было
содержания непосредственного блага, которое было бы
опознаваемо каждым из носителей злорадства), а с дру-
гой — вред злорадства, которое носит гипотетический,
требующий доказательств, характер. То есть Платон,
естественно, только предполагает, что злорадство нано-
сит определенный вред душе, однако смешение этого
предполагаемого страдания с логическим удовольстви-
ем не является явным, то есть злорадство не реализуется
по принципу зуда, страдание не является основанием
удовольствия, если только не сделать дополнительное
предположение, согласно которому только некая ущерб-
ная душа способна злорадствовать, делая «неверное» умо-
заключение (то есть злорадство в таком случае является
не удовольствием души от чисто логического рассужде-
ния, а удовольствием от «неверного» рассуждения, что вы-
дает ее тайное страдание).
Естественно, здесь я не имею в виду каких-то жестких ссылок на кан-
товскую теорию «патологии», хотя история этого вопроса и могла бы
инициироваться таким образом. Под патологией здесь можно пони-
мать всего лишь невозможность конечного расщепления удоволь-
ствия/страдания на удовольствие и страдание.
ЕЕВ Послесловие
Итак, обычное удовольствие патологично в том
смысле, что оно является «не чистым», то есть удоволь-
ствие по Платону возможно не как нечто «благое» само
по себе, и даже не как противопоставление благого пло-
хому, а как возможность перехода от плохого к хороше-
му, как их смесь, в которой они играют друг на друге,
прививаются друг к другу. В самом деле, при чесотке воз-
буждение переносит путем антиципации удовольствие
на текущий зуд, то есть неудовольствие, но в то же время
и достигаемое удовольствие превращается в неудоволь-
ствие — например, вылеченный от чесотки не будет боль-
ше чесаться. Другими словами, лекарство лечит и от удо-
вольствия. В данном случае все как будто играет на
деконструктивистское прочтение фармакона: зуд оказы-
вается неразложимой смесью удовольствия и неудоволь-
ствия, то есть зуд, раздражение и удовольствие имеют
одну бесприродную природу (поэтому, для Платона, их
невозможно представить в качестве блага). Несомненно,
что теория фармакона могла бы получить расширение
за счет того, что Платон вводит определенную модель,
которая может объяснить фармакологическую структу-
ру удовольствия: эта модель является не менее чем разли-
чием души и тела (и, соответственно, означаемого и оз-
начающего в версии структурализма). Только душа по-
зволяет телу не присутствовать в самом себе, быть
немного впереди или немного позади, работать не как
вещь. В этом отношении расширяется не только теория
фармакона, но и наоборот — теория души получает до-
полнительное измерение, отличенное как от традицион-
ной мысли о душе в теле («Федон»), так и от аристоте-
левской теории души как формы.
Исключительность злорадства (и, соответственно,
всех удовольствий души) в том, что, как поначалу пред-
ставляется, фармакон здесь вообще не работает. Наибо-
лее просто эта ситуация описывается так: смесь обеспе-
чивается базовой смесью души и тела, однако в чистой
ЕШЗ Послесловие
душе душа не может действовать «в свою очередь» как
своеобразное тело (по Платону, тело всегда присутству-
ет в самом себе, поэтому оно в принципе не создает
условий для смеси удовольствия/страдания, всегда свя-
занного с памятью и предвосхищением), соответствен-
но, или есть душа души, создающая тот же эффект, что
душа для тела, или же душа способна создавать такой
эффект сама для себя, что неочевидно. Злорадство не-
посредственно никак не связано с неудовольствием, кото-
рое отсылало бы к удовольствию, хотя оно вполне могло
бы быть связано с некоторым нравственным уроном но-
сителю злорадства. Подобного морального основания
злорадства как чего-то смешанного Платону явно недо-
статочно, поскольку это подрывает всю теорию удоволь-
ствия*. С другой стороны, неудовольствие здесь есте-
ственно есть, однако оно имеет отношение к другому и
в этом смысле оно меня никак не касается, а потому оно и
не может быть определено как неудовольствие, — самое
большее, как некое объективное «зло». Не-удовольствие
само могло бы выявиться только в патологической связ-
ке, здесь же что-то плохое случается с другим (и у него,
естественно, может работать машина фармакона), тогда
как я нахожусь во внешней позиции и испытываю тем не
менее удовольствие, некую непатологическую радость.
Структура этой радости говорит в пользу того, что
(1) возможно, что различие души/тела реализуется
различием себя/другого, так что другой занимает поло-
жение тела, тогда как я — просто его душа, которая
Говоря о смешанности удовольствия/страдания, о том, что удоволь-
ствие связано со страданием, Платон вовсе не имеет в виду тот тезис,
что удовольствие — это само по себе какое-то зло или что оно неиз-
бежно связано с какими-то моральными или иными страданиями, об-
наруживаемыми в каком-то ином режиме рассмотрения. Напротив,
главная ставка рассуждения заключается в том, что удовольствие по
своему функционированию всегда зависимо от страдания, они объ-
единены общей, если угодно, «физикой» и «экономикой». Эта связь
не может быть «достраиваемой» или «умозрительной».
ED Послесловие
испытывает радость по своей природе: она всегда спо-
собна децентрировать тело, лишить его его настоящего
состояния. Таким образом, в этом варианте я в действи-
тельности радуюсь не «злосчастью» другого, я просто
радуюсь «за него» — именно потому, что я буквально не
могу радоваться с ним вместе, поскольку он оказался все-
го лишь телом. Злорадство зависимо не от содержания
«зла/страдания», а от его факта и той радикальной слу-
чайности, что «я — не он». В таком варианте злорадство
вряд ли можно назвать патологическим удовольствием,
скорее, это чистая радость или сама форма радости: это
радость не реализуется в какой-то конкретной смеси удо-
вольствия/страдания, она «радость как радость», по-
скольку она возможна только за счет различия души (сво-
ей) и тела (другого), тогда как для обычной смеси такое
различие являлось условием существования смеси удо-
вольствия/страдания. Можно было бы сказать, что усло-
вие здесь обнаруживает себя в наибольшей степени, но
именно это позволяет разнести инстанции предполагае-
мой смеси, что, конечно, приводит к оформлению «чис-
того удовольствия» там, где ему не стоило бы быть (да-
лее в «Филебе» Платон найдет образцы чистого удоволь-
ствия, но этот вопрос не относится напрямую к проблеме
злорадства);
(2) вероятно, Платон не может примириться с мыс-
лью о чистой радости — с чего бы ей обнаруживаться,
если речь не идет о созерцании (чистых форм) или о чем-
то в этом роде. Именно поэтому может появиться мо-
мент новой патологии злорадства: злорадство, восстанав-
ливая структуру патологии (фармакона), делит саму душу
в соответствии с делением душа/тело, так что Платон де-
лает вывод о некоем «выведенном», логически дедуци-
рованном ущербе для души. Однако такой вывод спосо-
бен дать обратное действие: может случиться, что вос-
становление структуры фармакона оказывается чересчур
искусственным, что небезопасно в плане теории: именно
ОШ Послесловие
исходный «смешанный» характер фармакона позволил бы
наверняка говорить о том, что в случае злорадства душа
подвергается некоторой опасности. При этом «фармакон»
перестает быть неким остаточным элементом платоновс-
кой экономии, напротив, он начинает работать в качестве
искусственного инструмента, который de facto существу-
ет сам по себе, внедряясь в те концептуально не прояс-
ненные пункты, которые нуждаются в устранении иллю-
зии чистоты. Фармакон всё больше оказывается «чистой
смесью», так что можно задаться вопросом «А не может
ли быть некоего “эйдоса фармакона”*». Дело не в том, что
существует некоторая «природа бесприродного», которая
нуждалась бы в эйдетическом присвоении, и мы сталки-
вались бы с традиционной проблемой «существования
идей» тех вещей, которые на это никак не могут претен-
довать (грязь и т. п.). Здесь ситуация принципиально иная:
существенно упростив ее, можно сказать, что грязь нуж-
на для использования, — но не столько в строительных
целях (то есть как материал), сколько для загрязнения,
некоей онтологической маскировки, восстановления гряз-
ного существования того, чему грязи не хватает. И для
таких целей «какая угодно грязь» явно не подойдет, Пла-
тону требуется грязь, которая будет делать свою грязную
работу — и ничего больше*,
(3) наиболее элементарная теория злорадства вводит
довольно необычную тему «логического удовольствия», то
есть неудовольствия от логики или некоего высшего сча-
стья, которое могло бы совпасть с самим умом, а, скорее,
удовольствия, которое обеспечено «только логикой», хотя
эта логика может быть и непрозрачной для самого удоволь-
ствия. Раз так, злорадство приводится к своему вскрыто-
му — логически выверенному — варианту, который пред-
ставляет собой некий протез патологии, в котором вся
патология реконструирована логически, и потому возни-
кает вопрос — а может ли она быть патологичной, может
ли она возбуждать «реальную» боль? Это одновременно и
ЕШ Послесловие
вопрос практики — может ли, например, Платон убедить
злорадного в том, что тот по причине своего злорадства
как-то страдает, что у него что-то болит именно в струк-
турной связке с его злорадством? В самом деле, смешение
удовольствия и неудовольствия, конститутивное для са-
мого удовольствия, в случае злорадства может быть пона-
чалу восстановлено только логически, как результат неко-
его дополнительного — например, теологического — ана-
лиза. Само по себе злорадство «живет» иначе. Однако
только так удается восстановить форму фармакона: она
уже является не столько патологической смесью как тако-
вой, сколько смесью — логической — патологического и
непатологического. Платон уже здесь деконструирует зло-
радство, однако делает это так, словно бы фармакон был
хорошо освоенной логической схемой, которая не позво-
ляет появляться чистым сущностям в мире смесей. Де-
конструкция, выполняемая Платоном, ведет к восстанов-
лению оппозиции только для того» чтобы получить смесь»
а не к тому, чтобы из смеси получить оппозиции. Дело еще
и в том, что две эти операции (равно деконструктивные)
оказываются в каком-то смысле эквивалентными, так что
главный вопрос как раз и состоит в этой эквиваленции —
равенстве или постоянстве деконструкции, кем бы она ни
выполнялась — Деррида или Платоном.
Замечание (1) показывает довольно необычную
структуру рассматриваемого Платоном удовольствия,
которую можно было бы определить как удовольствие
предельно чистое, то есть удовольствие, которое опреде-
лено только удачным отсутствием смеси там, где такая
смесь как будто бы не запрещена (так, не запрещено, что-
бы мы могли чувствовать страдание другого). Такое удо-
вольствие не является просто «удовольствием за друго-
го», заимствованным у другого, украденным и исполь-
зованным без всякого риска (с которым всегда связано
удовольствие). Наоборот, оно обусловлено лишь тем, что
Е&В Послесловие
возможное удовольствие другого, потенциально связан-
ное с самым большим несчастьем, просто неуловимо.
Удовольствие злорадства характеризуется тем, что ана-
лиз Платона не позволяет открыть в нем требуемой, а
не просто логически (и морально) реконструируемой па-
тологии.
Необычным образом радость оказывается «чистой»
только в том случае, если она — радость несчастью дру-
гого, а не его радости. Ведь в последнем случае (напри-
мер, совместная радость двух друзей) речь должна была
бы идти или о некоем взаимном мимезисе или просто
о нераздельности. Однако жить душа в душу, одним до-
мом — позиция, ничего не добавляющая к самой тео-
рии, она не позволяет открыть дополнительный момент
самого удовольствия. Этот момент, тревожный для тео-
рии Платона, можно выписать следующим образом, не
порывая с платонизмом, хотя и уходя в более произволь-
ное рассуждение. Какова бы ни была степень подобия,
люди остаются разными. Как эта разница определена он-
тологически — вопрос для платонизма во многом праз-
дный; в любом случае такая разница вряд ли существен-
на. Различие людей выступает в качестве следствия не-
возможности предельного совпадения с идеей человека.
Но как раз такая запятнанность идеи, позволяющая мно-
житься в слоях этого пятна разным отражениям, вызы-
вает обратный эффект — производит внутри самого па-
тологического нечто абсолютно чистое, некую карман-
ную идею. Если мы радуемся вместе, мы всего лишь
затемняем идею, тождество, заменяя его смесью удоволь-
ствия и неудовольствия, распространенного на двоих.
Если же я радуюсь один при несчастии другого, сама ра-
дость оказывается следствием — непредвиденного —
разнесения патологических инстанций, работающих ис-
ходно только вместе. То есть если радость и является си-
мулякром, то она подражает не какой-то идее благород-
ного свойства, а идее как таковой, она является точной
КШ Послесловие
копией идеи, но именно не своей, поскольку удовольствие
как таковое не может иметь никакой идеи*. Радость ока-
зывается точной копией идеи идей, которой, видимо, не
может быть. Если и говорить об идее идей в самом пла-
тонизме, им обычно выступает благо. Понятно, что
аутентичной копией блага может быть только радость
по поводу зла — не своего зла**.
Выписанные моменты структуры злорадства говорят
в пользу того, что Платон, недовольный такими послед-
ствиями и тем, что в не самом значимом участке патоло-
гического мира начинает маячить чистая копия блага, при-
меняет фармакон в виде логической процедуры, которая
выступает в виде своеобразной «заплаты»,patch*а, «исправ-
ления». Однако логическое введение фармакона не пред-
ставляется Платону адекватным, именно поэтому тема
злорадства по поводу злосчастья врага практически ис-
ключается. Для восстановления «смешанной» структуры
* Этот проблематичный пункт «отсутствия» идеи удовольствия можно
расшифровать в более общем контексте следующим образом. Удоволь-
ствие — не просто всегда удовольствие от чего-то (что может иметь
идею). Фактически, логика большинства платоновских текстов позво-
ляет сказать, что удовольствие — это то, что позволяет выйти к иде-
ям (мы получаем удовольствие от созерцания красивых тел или гео-
метрических фигур, от правильной музыки и т. п. — все эти «вещи» и
разговор вокруг них являются своеобразными case studies идеально-
го как такового). Но вопрос «идеи удовольствия» как раз по этой при-
чине не представляется имманентным для платоновского текста.
В известном смысле удовольствие всегда играет на наличии смесей
или разных природ (отсюда «Пир» и теория Эрота), оставаясь посред-
ником и одновременно оставляя вопрос «А так ли уж отличается по-
средник (тот, кто в принципе не имеет своей природы, как Эрот) от
фармакона, редуцируемого к pharmakos’y?».
Конечно, это рассуждение не находит прямой поддержки в тексте
Платона, то есть оно реализуется уже в режиме определенной герме-
невтики. Однако достаточно несложно показать, что радость злорад-
ства «имитирует» благо тем, что она сама — даже логически — ничем
не обеспечена и ни от чего не зависит. Попросту говоря, злорадный
не получает никакой выгоды и все равно может получать удоволь-
ствие, то есть последнее имеет «чистый характер», это удовольствие
как таковое, не связанное ни с работой смеси, ни с какой-то иной эко-
номией.
ESQ Послесловие
злорадства нужны более мощные фармаконы, чем те> что
может предоставить простая логическая реконструкция
или морализация. Именно поэтому после определения
злорадства Платон практически сразу — хотя и весьма
неожиданно — переходит к проблематике достаточно не-
обычной дружбы. Друзья должны спасти общую логику
теории соотношения блага и удовольствия. Но каким об-
разом?
Мой друг — фармакон
Центральная процедура Платона на данном (весьма не-
большом) участке «Филеба» состоит скорее не в логичес-
кой реконструкции злорадства, а во введении приема ис-
пользования мощных «фармацевтических препаратов»,
необходимых для реставрации требуемого теорией свой-
ства инстанций (например, злорадства), не реконструи-
руемых средствами логической экономии. Таким препа-
ратом оказывается обманывающийся относительно себя
друг, друг-дурак, нечто невозможное в платоновской фи-
лософии — и в то же время являющееся необходимым
для определенных целей образцом рассмотрения удо-
вольствия.
Друг-дурак появляется в контексте обсуждения сооб-
щества тех, кто вздумал бы вести себя антифилософски,
то есть выполняя воображаемую заповедь «Не познай са-
мого себя» вместо «Познай самого себя» (48d). Главной
проблемой здесь мог бы стать вопрос о возможности под-
разумеваемого ею приказа, то есть приказа, который —
согласно базовой логике самой философии в ее платонов-
ском виде — повелевает всего лишь повторить наличное
состояние. Традиционная логика фразы «познай самого
себя» предполагает, что существует определенная разни-
ца между естественным состоянием и философским. Фи-
лософия не занимается установлением того или иного
ЕШЗ Послесловие
закона, если предполагать, что этот закон выполняется сам
собой. Поэтому наказ Дельфийского оракула — это не
голос природы.
Обманывающийся относительно себя является ис-
полнителем антидельфийской заповеди, он неспособен
расслышать игру голосов в ней, то есть неспособен понять,
что оракул никогда бы такого не сказал (не перестав при
этом быть оракулом). Дурак возвращается к природе,
исполняя ее закон. (Чем могло бы быть воображаемое об-
щество дураков, как не сообществом тех, кто выполняет
физические законы так, как будто бы они не выполняют-
ся сами собой? Возможно, функция дурака заключается
в том, чтобы «помогать» природе, — например, как дела-
ют акушеры7.) Платоновский глупец является «обладате-
лем» ложных экономических представлений (он ошиба-
ется в отношении своей собственности^ своего внешнего
вида и своих познаний).
Предварительно Платон различает два типа тех, кто
выполняет антидельфийский закон и «не познает самих
себя». Только над одними из них — слабыми — можно
посмеяться, получить удовольствие, тогда как смеяться над
сильными и получать соответствующее удовольствие
опасно. В то же время достаточно очевидно, что это раз-
личие тяготеет к своему внутреннему смешению*, так же,
как невозможно получать удовольствие, не обладая зачат-
ками ума, вероятно, невозможно оставаться «в силе», если
последовательно выполнять антидельфийский закон и от-
чаянно обманываться относительно своей собственно-
сти, которая охватывает все «наличное» состояние — от
имущества в виде земель и рабов, до признания, почета и
собственных знаний (в том числе и о самом себе). Конеч-
но, Платону в данном тексте не нужно привязывать друг
к другу силу и знание, как если бы сильным оказывал-
ся именно выполняющий закон оракула, а не наоборот.
Все же неясно, как может быть сильным тот, кто предель-
но обманывается относительно своей собственности,
EES Послесловие
иными словами, как эта его сила не может быть редуци-
рована к его собственности — предположительно отсут-
ствующей. Легко было бы предположить, что Платон име-
ет в виду прежде всего неких безграмотных и невежествен-
ных правителей, которые страшны именно своей силой —
и только, — тогда как в отношении всего остального они
обманываются. Но если они обманываются и относитель-
но своей власти, которая является таким же видом «соб-
ственности», как и внешность, здоровье и т. п., то их сила
сама должна была бы потерпеть определенный ущерб.
В конечном счете Платон был бы вынужден неявно пред-
положить невозможность полного выполнения антидель-
фийского приказа и сохранения «силы», то есть полный
дурак был бы абсолютно беспомощным, он стал бы объек-
том насмешек, но не ненависти. Иными словами, разли-
чие обманывающихся-сильных и обманывающихся-сла-
бых стирается в пользу второго элемента — глупость по-
глощает силу, обманывающиеся в принципе оказываются
бессильными. Здесь-то и появляется «обманывающийся
относительно себя друг».
Известно, что платонизм сам может быть представ-
лен в качестве определенной теории и политики дружбы.
Настоящими друзьями могут быть только друзья-фило-
софы, которые всегда являются некими «друзьями по до-
веренности», поскольку дружат они при посредстве треть-
его — мудрости. Иными словами, они друзья друг другу
только потому, что они друзья богов. Здесь же Платон вы-
нужден ввести довольно необычную теорию друга, кото-
рый определяется тем, что он ничего не может сделать,
несмотря на насмешки. Если не отклоняться от текста «Фи-
леба», друг — пример бессильного, обманывающегося от-
носительно себя (и уже здесь неясно, зачем нужен такой
друг и как он вообще может быть другом, если друзья —
это тоже то, что у нас или есть, или нет). Сложности
с определением бессильности позволяют сделать этот при-
мер (по крайней мере на промежутке данного рассужде-
SB Послесловие
ния) ведущим: друг — не один из бессильных, он и есть
бессильный. Дело не в том, что среди друзей Платон обна-
руживает друзей-невежд, друзей-антифилософов, а в том,
что дружба накладывает запрет на силу, поэтому-то ее и
можно использовать для демонстрации удовольствия, свя-
занного со злорадством по поводу несчастья (глупости и
самообмана) другого. Дружба не может сделать своим за-
коном закон сильного, то есть в данном случае ее опреде-
ление состоит не более чем в исключении силы из отно-
шений: дружба — это все те отношения, которые заведо-
мо исключают отношения силы, не определяя тем не менее
собственного «позитивного» содержания (то есть друзья
еще не знают, как быть друзьями).
Введением необычного друга окупается искомое дока-
зательство того, что даже удовольствия души реализуют-
ся в виде смеси. То, что было бы логической реконструкци-
ей фармакона в случае злорадства по поводу несчастья
врага (где страдание души оставалось бы чересчур спеку-
лятивным или даже морализаторским, поэтому-то Пла-
тон и отвергает его), в случае смеха над глупым другом
становится более чем явным: нельзя не согласиться с тем,
что, злорадствуя по поводу несчастья друга, мы действуем
несправедливо, а несправедливость — очевидное зло. По
отношению к общей философской диспозиции дружбы
Платон вводит двойную «невозможность» (аналогичную
по структуре общей невозможности фармакона): мы име-
ем друга, который оказывается глупцом, и мы к тому же
смеемся над другом, получаем удовольствие из того, что
наш друг — дурак. Как несложно заметить, друг-дурак —
фармакон «большей мощности», поскольку он смешива-
ет порядки философской и нефилософской дружбы: он
демонстрирует, что «друг» — это всегда тот, кто и отно-
сится к философии, и противится ей, тем самым отважи-
вая самого (смеющегося) философа от философии (не
может быть у философа глупых друзей, принципиально
нацеленных на исполнение антидельфийской заповеди).
ЕВЕ! Послесловие
Нельзя иметь отношение к мудрости помимо друзей (хотя
дружба вторична по природе, для нас она является первым),
но в то же время друзья являются наиболее существенным
препятствием для нее*. Такая «дружба» повторяет струк-
туру фармакона (в том числе и предполагаемую ею кон-
фигурацию «условия возможности, которое является обя-
зательным условием невозможности»). Конечно, можно
было бы представить дело так, словно разделение друзей-
философов и друзей-обманывающихся-в-себе исходит из
фармакологического единства «друга», однако в данном
случае важен принципиально иной момент — намерен-
ное введение Платоном друга-фармакона, который ис-
пользуется для выполнения достаточно жестких задач, не
составляя «редуцируемого», «обрезаемого» края собствен-
но платонизма (как обычно предполагает Деррида). Ин-
струментальное использование фармакона в данном при-
мере отличается от предполагаемого деконструкцией
именно тем, что Платону нужен фармакон как фармакон,
in corpore, в его смешанности и текучести, поскольку он
Логика конъюнкции друга/мудрости и соответствующего определе-
ния философов в качестве «друзей богов» могла бы потребовать от-
дельного изучения. Значимость друга в платоновском определении
философии связана уже хотя бы с тем, что Сократ не является «про-
изводителем» мудрости, то есть традиционным мудрецом. Мудрость
всегда намечается благодаря правильно подобранному другу, который,
к примеру, способен участвовать в разговоре, отвечая на наводящие
вопросы. В любом случае неопределенность ситуации дружбы связа-
на с тем, что даже в условиях «вторичной» дружбы (философы дру-
жат только потому, что они «уже» друзья богов) дружба не элимини-
руется из определения. Иными словами, дружба при посредничестве
мудрости, дружба по доверенности никогда не может ни окончатель-
но проверить, ни закрыть «вексель дружбы». «Глупый друг» — всего
лишь возможность, вписанная в структуру этой ситуации. Вероятно,
можно было бы связать изучение этой структуры с традиционными
загадками отношения Сократа к своим друзьям — и не только в пунк-
те его часто замечаемого отвержения обычных дружеских отноше-
ний между греческими мужчинами, при том что друзей у него предо-
статочно, но и в итоговом отвержении помощи друзей, в возможно-
сти оценивать эту помощь независимо от того, кто ее предлагает —
друг или нет.
ВШ] Послесловие
работает именно как смесь, а не как вытесняемый на пе-
риферию запасник различий, использовать который мож-
но было бы разве что контрабандой. Платон заводит друж-
бу с другом-фармаконом, потому что такая дружба ока-
зывается выгодной в теоретическом плане.
Здесь уже можно попытаться дать оправдание, пусть
и умозрительное, а не научное (филологическое), предло-
женной мной конъектуры — чтения (puovoc; как злорад-
ства (фраза Сократа, повторюсь, выглядит как «А между
тем завистник радуется злоключениям ближнего»). Ко-
нечно, завистник не обязательно радуется злоключениям
ближнего, и уж тем более завистник не смеется над глу-
постью друга. Можно представить себе, что зависть — это
следствие уже примененной Платоном фармакологиче-
ской работы по восстановлению смеси, по реставрации сме-
шанной природы злорадства, поскольку зависть гораздо
проще определить в качестве несомненного страдания за-
вистника: завистник и сам способен понять, что, завидуя,
он страдает, что зависть усугубляет те страдания, которые
у него уже есть в силу его имущественной несостоятель-
ности. Иными словами, зависть на месте введенного тек-
стом злорадства — это как раз и есть «след» фармакона,
однако это вовсе не след в деконструктивистском смысле,
скорее, мы обнаруживаем стратегически значимое исполь-
зование фармакона, оставляющего именно «грязный след»
в форме зависти, а не теоретически сомнительного зло-
радства. Это след, который «и требовалось получить».
Фармакон нарасхват
В чем же существенная «новация Платона» по отноше-
нию к Деррида и какие последствия она может иметь?
Фармакон в «Филебе» охотится за призраком чистой
идеи, выступая все время в качестве некоторого «исправ-
ления-дополнения» того, что грозит обернуться наиболее
ШШ Послесловие
близким родственником блага в контексте, который это-
му совершенно не способствует. Этот момент показыва-
ет, что, в отличие от интерпретации Деррида, Платон
мог — «иногда» — и не руководствоваться своими «па-
радигмальными» решениями, которые будто нацелены
на запрет и «разнесение» фармакона, — при его «неяв-
ном», скрытном и контрабандном использовании как
ресурса различий. В «Филебе», если отвлекаться от не раз-
работанной Деррида апелляции к использованию мета-
фор букв и внутреннего живописца, ситуация принци-
пиально другая — Платон изобретает фармакон (пусть
и, в соответствии с деконструкцией, всегда ссылаясь на
уже задействованные фармаконы) как логический инст-
румент особого толка, как крайнее средство, вся стран-
ность которого связана именно с такой крайностью. Фар-
макон — это буквально force majeure. Иначе говоря, ло-
гическая невыполнимость и невозможность фармакона
обусловлена именно тем, что он должен решать нелогич-
ные задачи, замазывать дыры или, вернее, склеивать вме-
сте то, что не должно было расходиться. Это и в самом
деле не смесь «элементов», а смесь как таковая (что не-
возможно), инструмент смеси. Фармакон — робот Пла-
тона, работающий в условиях особо тяжелой онтологии,
то есть в условиях образовавшейся вакуумной чистоты.
Таким образом, можно предположить, что интерпрета-
ция Деррида в принципе зависима от «техники» Плато-
на — более развитой, нежели натурально выполненная
деконструкция, претендующая на выявление трансцен-
дентального края (marge) любого смыслополагания и
любого распределения онтологических инстанций.
Этот момент подтверждается и тем, что Платон ни-
когда не дает «общую картину», которая только и явля-
ется признаком «платонизма» (такой картиной как раз и
выступает идея, что стало особенно значимым после Хай-
деггера). Существенное отличие онтологической работы
Платона состоит в том, что она не боится «исправлений»,
KOiU Послесловие
постоянных «дополнений», которые представляются
проблематичными для деконструкции. Наиболее харак-
терный пример — Платон постоянно работает над вве-
дением дополнительных родов сущего: если не хватает
двух родов, можно ввести и третий, а затем и четвертый.
При этом любые дополнения могут вводиться в качестве
требуемого инструментария, позволяющего поддержи-
вать общее распределение главных родов — без представ-
ления о том, что введение дополнения выдает более об-
щую игру, которая как раз и является истиной дополняе-
мого. Деррида же, если продолжить введенную метафору,
принимает робота Платона, ползающего по его «косми-
ческому» кораблю* за единственное «живое» существо,
которое разбирает корабль на запчасти (тогда как на деле
робот просто чинит корабль, расходуя, естественно, свои
части). Естественно, так ставится вопрос об артефакте,
однако нетрудно решить, что для Платона это как раз не
вопрос — в противоположность Деррида. В отличие от
Деррида, Платон может не воспринимать «онтологиче-
скую проблему» в качестве провала всей системы, ведь —
согласно предпосылке деконструкции — такая «пробле-
ма», сам ее факт, говорит в пользу не только некогерент-
ности теории и фальсифицированности метафизики
(альтернативы которой все равно нет), но и указывает на
необходимость разработки фальсифицирующих момен-
тов в качестве более «общей» онтологической игры, по-
гружающей в себя ограниченные и заведомо цензуриро-
ванные логики философских идеальностей. Напротив,
Платон предполагает, что, если проблемы не слишком
Можно в качестве шутки (не большей, чем платоновская шутка о дру-
ге-дураке) сказать, что знаменитый «космос греков» — это не наш
космос и не «целое», а замкнутый космический корабль, не имеющий
никаких иллюминаторов, кроме сложных оптических устройств, не
позволяющих просто так «выглянуть наружу», — как невозможно
выглянуть «по ту сторону» идей. Легко заметить, что взгляд «по ту
сторону идей» как раз и является ставкой деконструкции — даже если
смотреть там уже не на что.
ESS Послесловие
велики, можно послать фармакон — он сделает «гряз-
ную работу». Деррида же принимает робота за свидетель-
ство определенной неудачи: его тут просто не могло быть.
То есть — весьма странным образом — такой робот вы-
глядит как свидетельство «жизни», которая полностью
отрицается онтологическим постулатом, согласно кото-
рому онтологическая теория должна выглядеть как без-
жизненный Марс — любое копошение, любые призна-
ки жизни сразу лишают онтологию ее онтологичности.
Заметим, что речь, естественно, не идет о простом тезисе,
будто онтология — это онтология «неживого». Напротив,
предполагается, что онтология — выступающая в каче-
стве мишени деконструкции — должна свидетельствовать
о себе отсутствием «искусственных» усилий, так что само
«онтологическое» заявляет о себе таким отсутствием,
проводя различие искусственного и неискусственного и
одновременно устанавливая бытийность онтологии. То
есть, если в «объекте» онтологической теории и могут
быть искусственные сущности и какие-либо «признаки
разума», они не могут действовать в плане самой теории.
В деконструкции такое действие говорит о принципиаль-
ной неустойчивости теории, которая принуждена ссы-
латься на некий тайный «запас».
Усложнение использования фармаконов у Деррида
и Платона не позволяет подвести какой-то общий счет
этой игры и даже определить количество набранных оч-
ков со всей очевидностью. Существенной проблемой
логики «дополнения», развиваемой Деррида, как пока-
зывает проанализированный отрывок, является как раз
тотализация дополнений, которые неизбежно оказыва-
ются истиной дополняемого. Дело не в том, что нужно
согласиться с Платоном и сказать, что дополнения —
всего лишь дополнения и поэтому не стоит о них слиш-
ком долго думать, проблема как раз в том, что позволя-
ет деконструкции сыграть на дополнении как радикаль-
ном контраргументе структурно-экономического толка.
ЕШ£1 Послесловие
Можно утверждать, что логика дополнений выполняет
деконструктивную работу только при поддержке претен-
зией «трансцендентальной полноты», предельностью он-
тологических механизмов (отсюда и постоянное обраще-
ние Деррида к теме «хоры»), на которую накладывается
общая спекулятивная теория невозможности частно-
стей: случайные, вытесненные, используемые только
в качестве временных средств инструменты неизбежно
в таком варианте деконструкции оказываются призна-
ками работы условий более «мощного» порядка. Посто-
янные апелляции Деррида к тому, что эти условия и их
истина уже не метафизического и не трансценденталь-
ного толка (и, следовательно, истиной она не является),
эквивалентны следующему элементарному марксистско-
му примеру: вытесненное положение рабочих в буржу-
азном государстве на деле является его (государства)
истиной, но реализованная истина рабочих (то есть ком-
мунизм) ни в коей мере не может быть выписана по за-
конам буржуазной истины (например, экономической
эффективности).
В конечном счете Деррида выполняет некоторую
внутреннюю возможность платонизма, играя на прин-
ципиальной недостаточности и «дополнительности»
метафизического инструментария, но при этом не ста-
вя под вопрос сам принцип платонизма (но, возможно,
не Платона): архе-(а)логический «размер» мира как
мира, в котором за одним органическим единством
может скрываться другое, реализованное совсем иначе,
но не менее органично. За деконструируемым един-
ством логоса-животного (и внутри него) может реали-
зовываться единство менее наглядное и в то же время
более эффективное, например единство «внешних» ви-
русов и «внутренних» обычных клеток. И в платониче-
ском варианте возможного описания «космоса», и в его
деконструкции при этом не отрицается онтология как
возможность редукции промежуточных элементов,
10Ш1 Послесловие
которые могут быть значимыми только для нас, но не по
природе. Другое дело, если некоторые моменты работы
Платона доказывают, что «малый» фармакон, применя-
емый ad hoc, оставаясь неким промежуточным, времен-
ным и неснимаемым элементом, не только подвешивает
работу «большого» фармакона деконструкции, но и ука-
зывает на моменты платоновской «онтологии», которые
были вычеркнуты собственно платонизмом. В числе этих
моментов — неприятие собственно экономических ар-
гументов (поддерживающих любую тотализацию), до-
статочная свобода при работе с родами сущего (вплоть до
изображения этой работы в «Филебе» в качестве произ-
вольного смешения, замешиваемого философами в виде
теста), состояние work in progress, которое в принципе не
может совпадать с платонизмом и метафизикой, как она
проецируется деконструкцией.
В конечном счете решение тяжбы деконструкции и
Платона возможно только при фиксации разных «декон-
струкций», предполагающих значительные различия в ра-
боте с инстанциями, которые приостанавливают действие
классических оппозиций. Поэтому необходима некая
«микроэкономика» философских теорий, позволяющая,
не возвращаясь к метафизике, задаться вопросом о том,
почему и как определенные «внешние эффекты» посто-
янно интерпретируются в деконструкции в качестве ис-
ходного материала «логики условий», позволяющей зада-
вать все более «крупные» философские логики, причем
способы оценки их размера и переход от одной к другой
остаются без внимания. В связи с этим, как показало чте-
ние «Филеба», наиболее значительными могут оказаться
деконструкции классических оппозиций природы/арте-
факта, а также временного/конечного и первого-для-нас/
первого-по-природе. При этом важно отказаться от по-
сылки, предполагающей, что деконструкция этих оппози-
ций должна выполняться примерно по той же схеме, с той
же установкой и с теми же результатами (пусть и in
ШО Послесловие
progress), что и деконструкция нескольких базовых оппози-
ций, выполненная в работах Деррида (оппозиций внешне-
го/внутреннего, письма/голоса, отсутствия/присутствия).
Именно этот пункт — возможность принципиальной
омонимии деконструкций каждой из «метафизических»
оппозиций — является, как можно заключить, «немыс-
лимым» для деконструкции, как и указанная выше иде-
альная возможность «временных» решений, инструмен-
тов, и дополнений/исправлений в онтологиях классиче-
ского типа, реализуемых вопреки своим собственным
декларациям, но — как выясняется в случае Платона —
без обнаружения того слоя «дескрипций», который за-
требован деконструкцией как «наименованием» филосо-
фии Жака Деррида.
Содержание
Рассеяние Деррида. Василий Кузнецов................ 5
ВНЕ КНИГИ. Предисловия............................. 9
ФАРМАЦИЯ ПЛАТОНА.................................. 71
I 76
1. Фармакея................................... 76
2. Отец логоса................................ 89
3. Надпись сынов: Тевт, Гермес, Тот, Набу, Небо. 103
4. Pharmacon................................. 115
5. Pharmakeus................................ 146
II ........................................... 150
6. Pharmacos................................. 161
7. Ингредиенты: румяна, фантазм, праздник.... 168
8. Наследство pharmacon а: семейная сцена.... 179
9. Игра: от pharmacon'a к букве и от ослепления
к дополнению................................. 197
ДВОЙНОЙ СЕАНС.................................... 219
I 223
II 282
ДИССЕМИНАЦИЯ..................................... 349
I 1. Развязывание................................ 352
2. Устройство или рамка...................... 360
3. Купюра..................................... 366
4. Двойное дно более-чем-настоящего........... 375
5. Написанное, экран, ларец.................... 386
6. Речь попечения............................. 401
II 7. Генеральная репетиция первого раза........... 410
8. Колонна.................................... 424
9. Перекресток «бытия» ....................... 435
10. Прививки, возвращение к перекидному шву.... 446
11. Перебор.................................... 451
Примечания......................................... 463
Фармаконы большие и малые. Дмитрий Кралечкин....... 580
Научно-популярное издание
Жак Деррида
ДИССЕМИНАЦИЯ
Ответственный за выпуск В. Харитонов
Редактор Н. Шевченко
Выпускающий редактор И. Харитонова
Художественный редактор С. Сакнынъ
Технический редактор Н. Овчинникова
Корректоры К. Норминский, Ю. Смирнова, М. Шарлай
Оператор компьютерной верстки Т. Упорова
Подписано в печать 16.05.07. Формат 84х108,/з2-
Гарнитура Minion Cyrilic. Усл. печ. л. 31,92.
Тираж 3 000 экз. Заказ № 6705.
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 - книги, брошюры
ООО <Агентство прав «У-Фактория»
620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 1а
Тел./факс 8 (343) 374-44-23
e-mail: uf@hifactory.ru
Издание осуществлено при техническом содействии
ООО «Издательство АСТ».
ОАО «Владимирская книжная типография».
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7.
Качество печати соответствует качеству
предоставленных диапозитивов