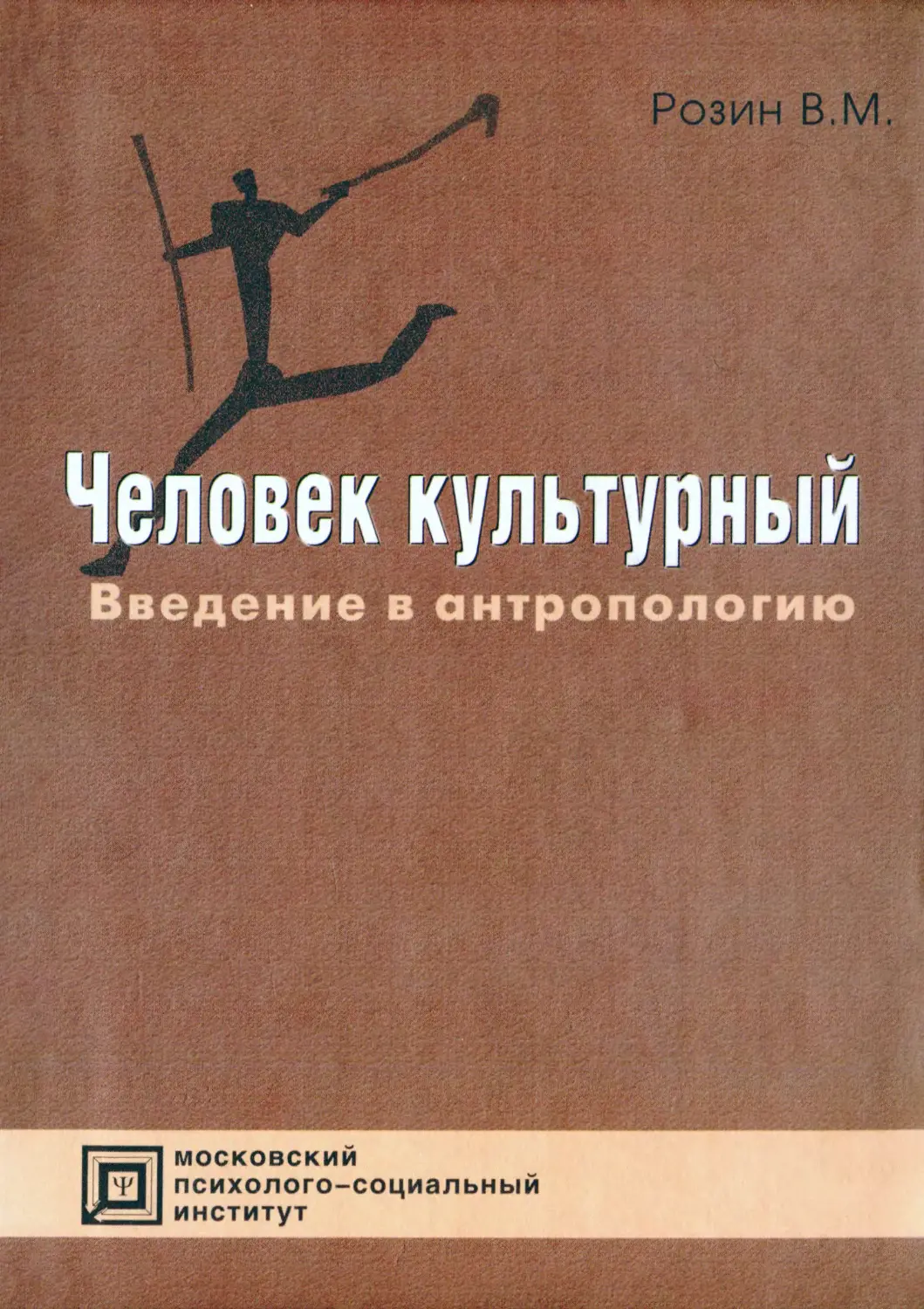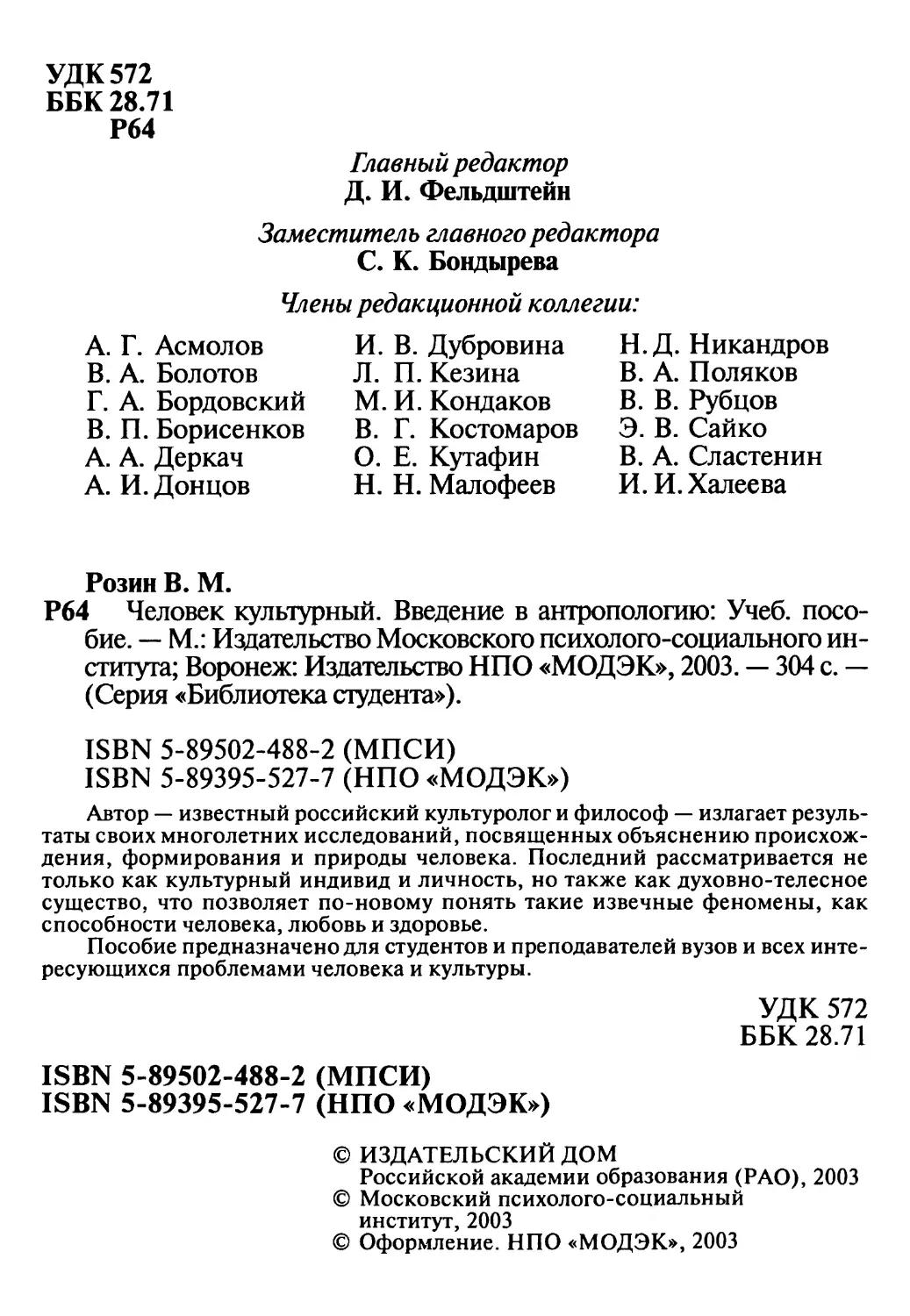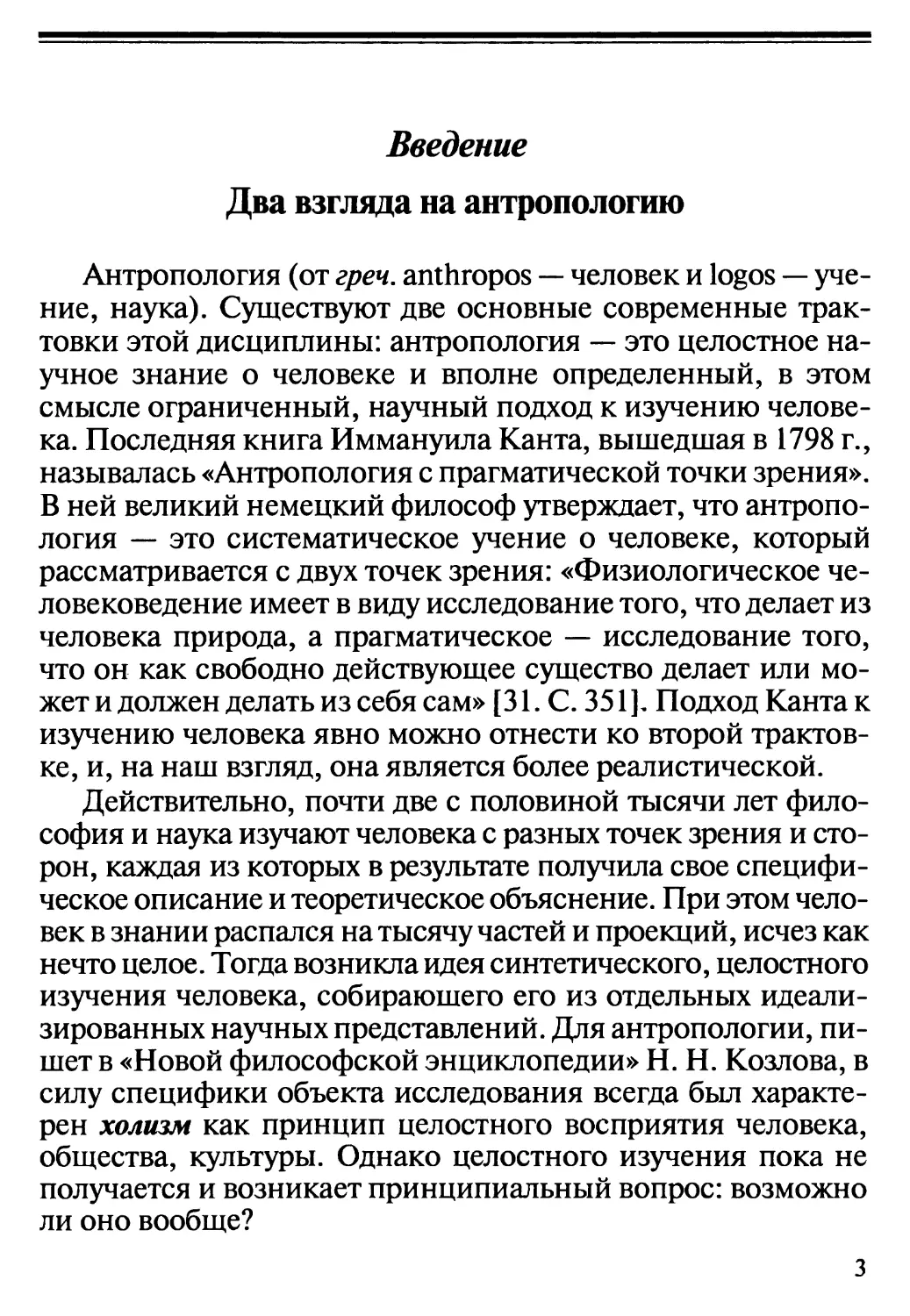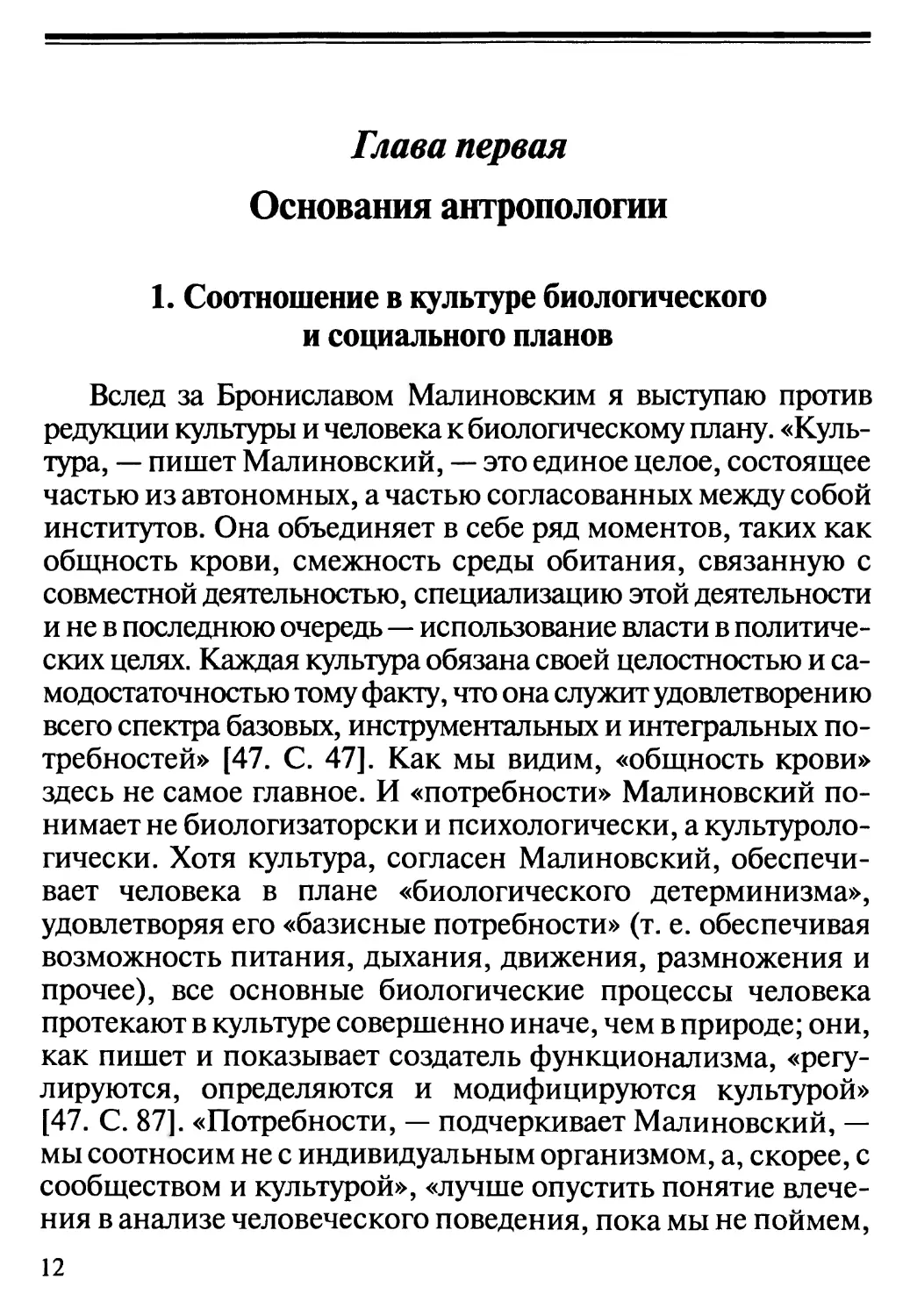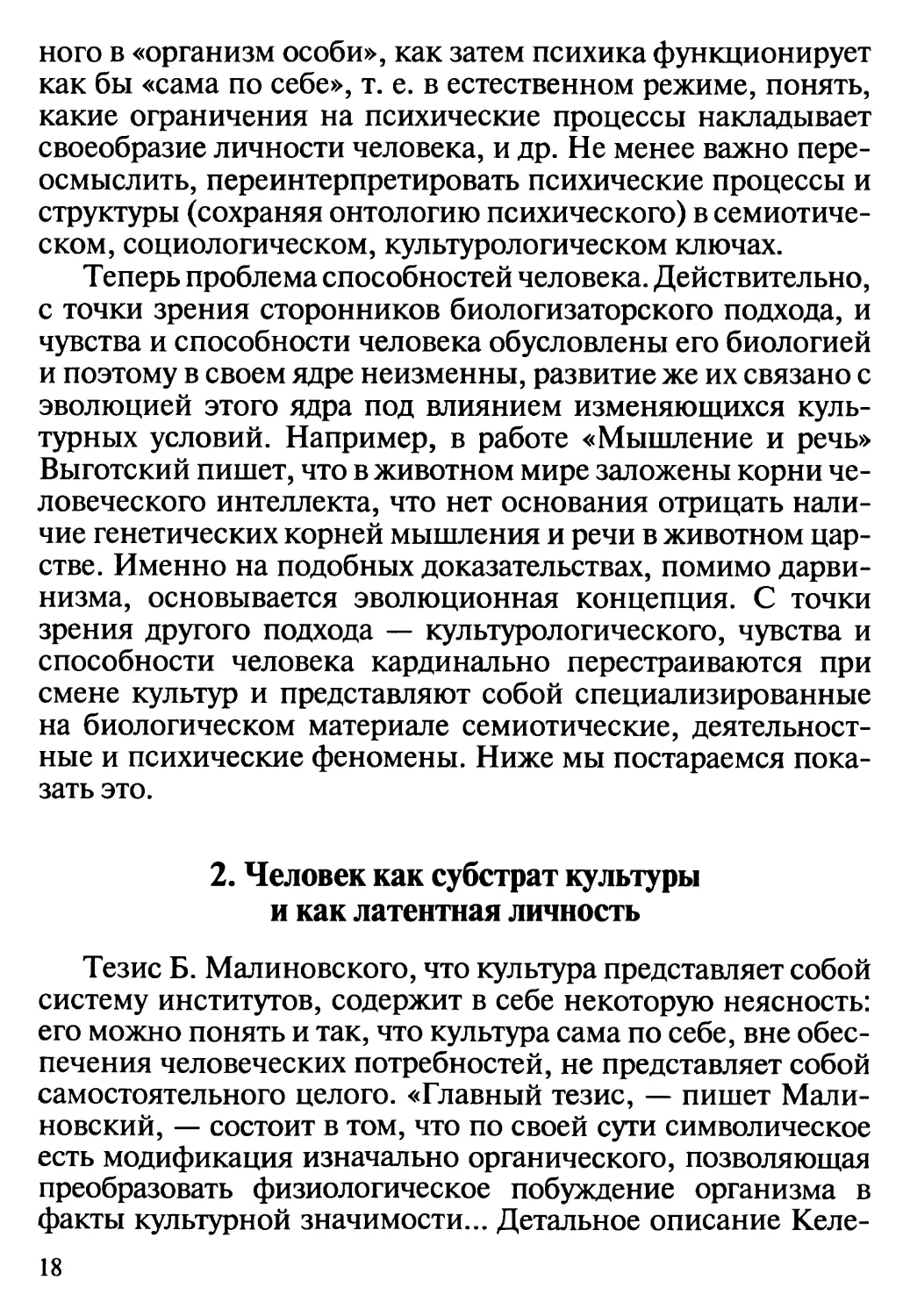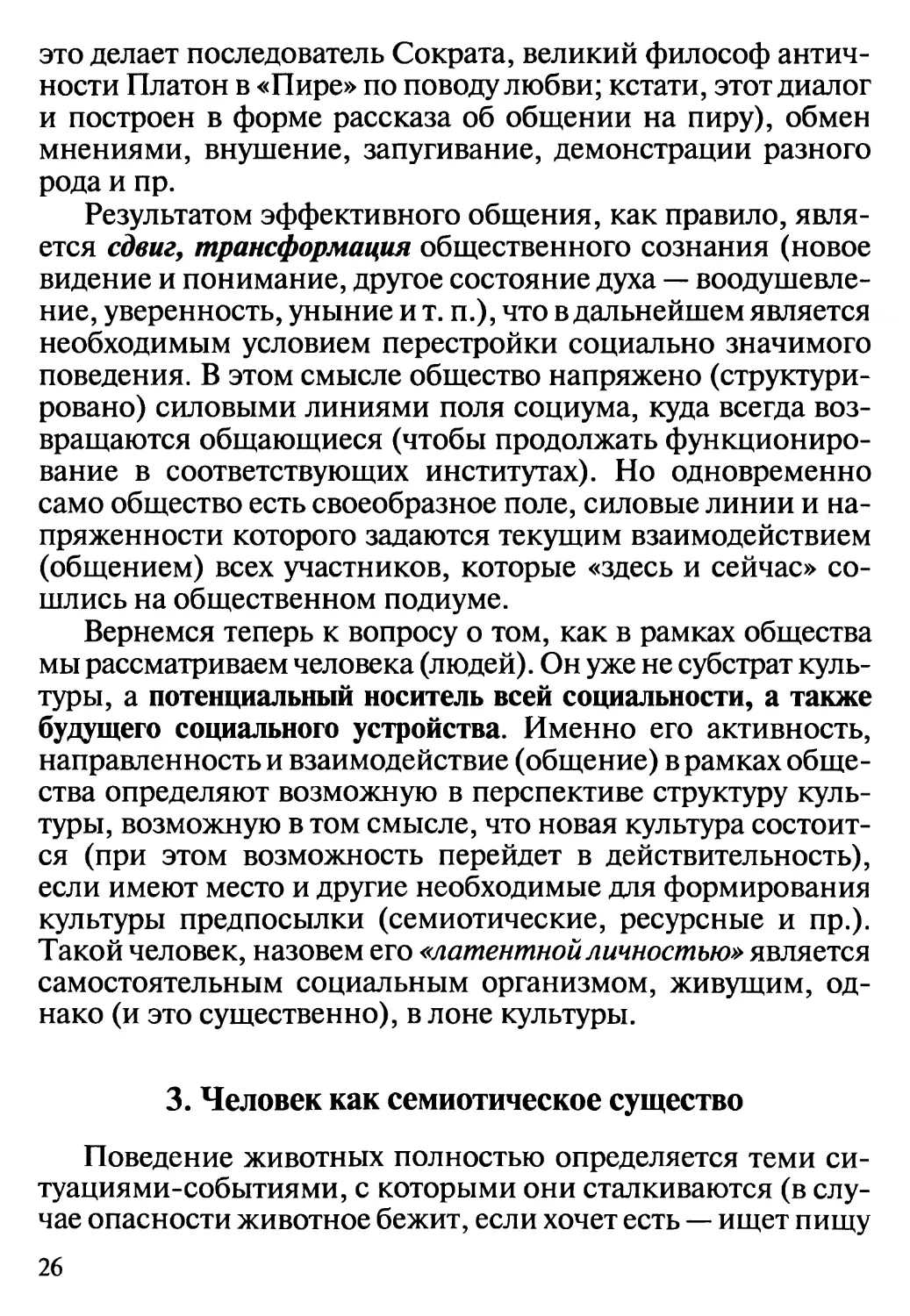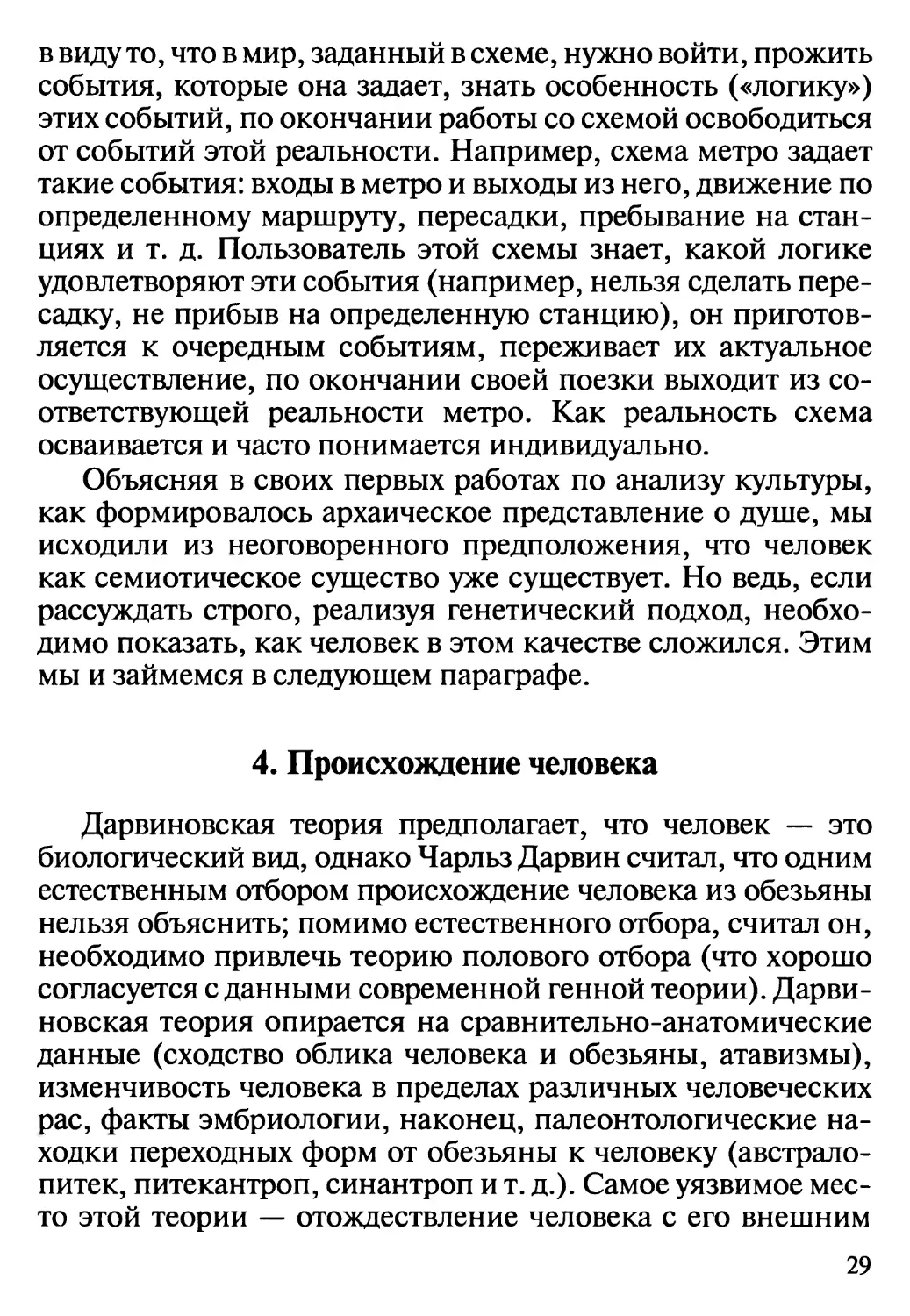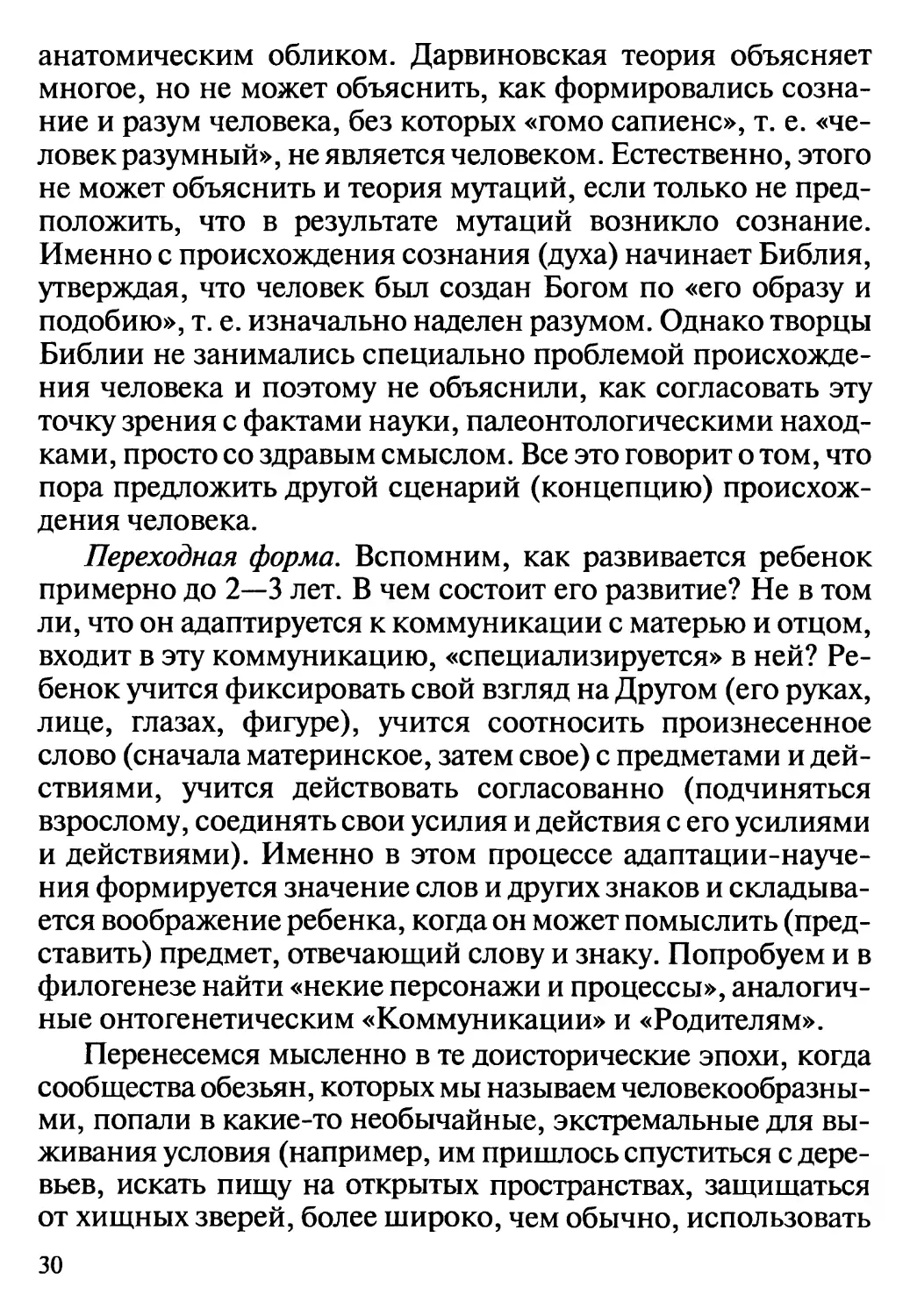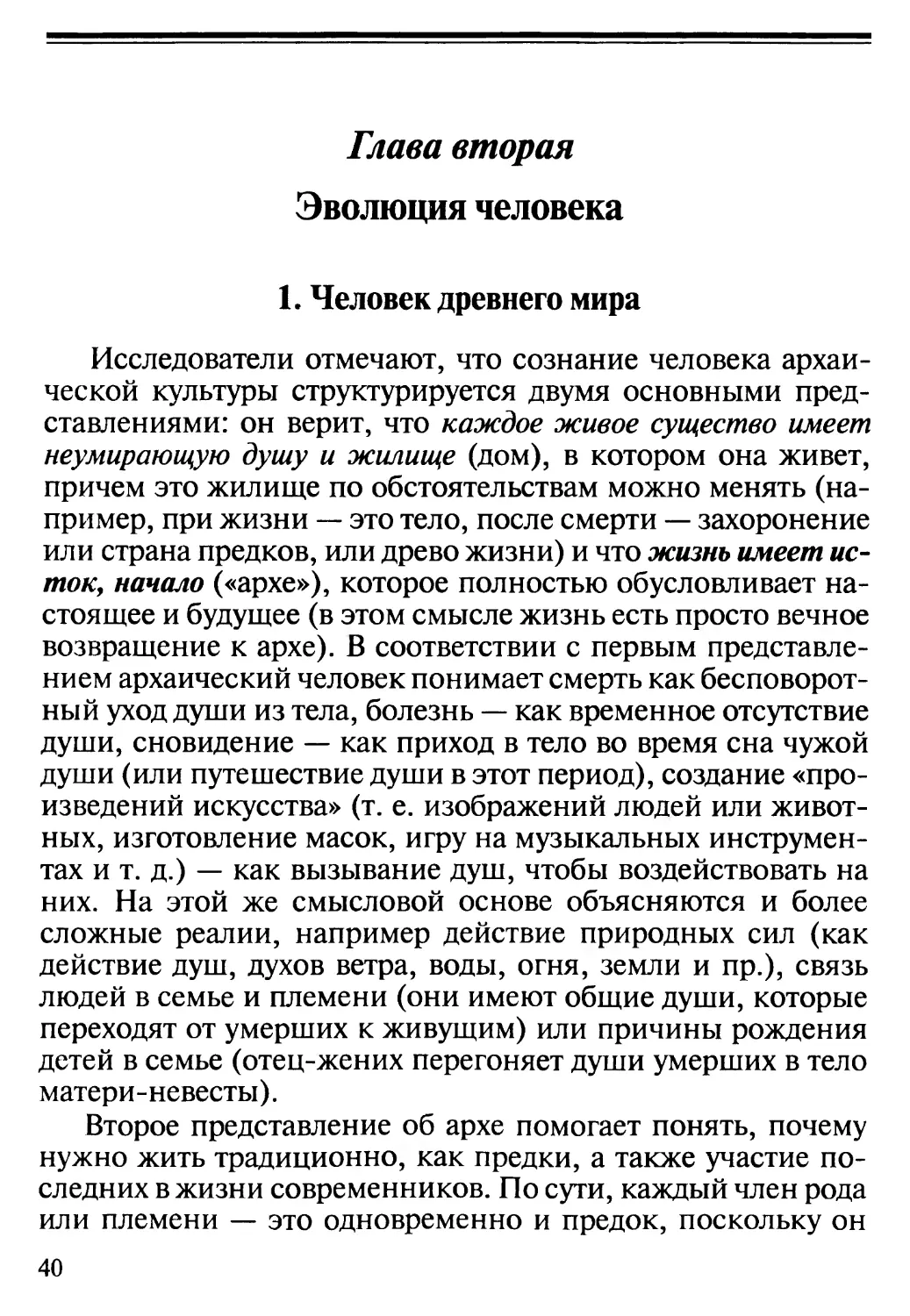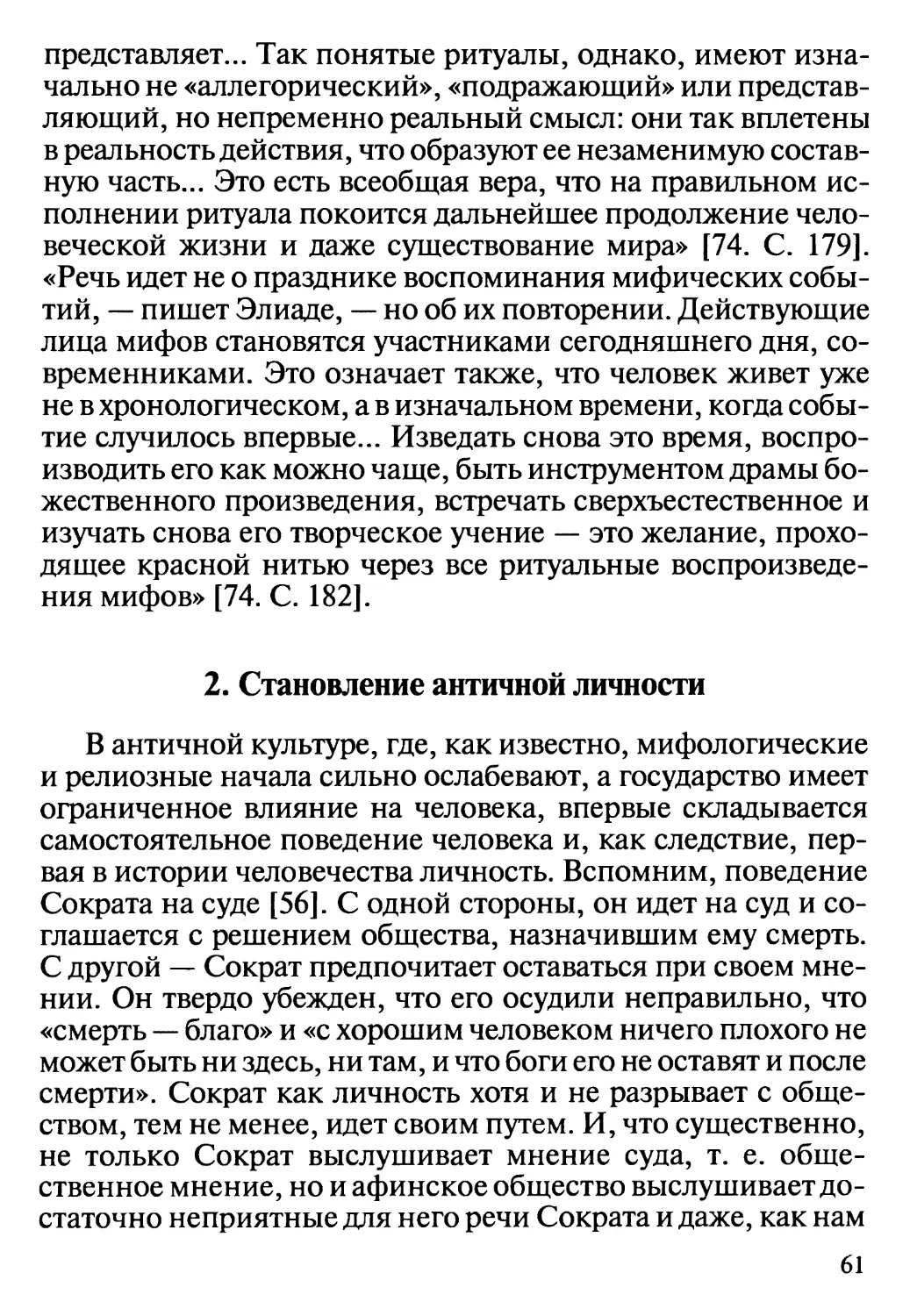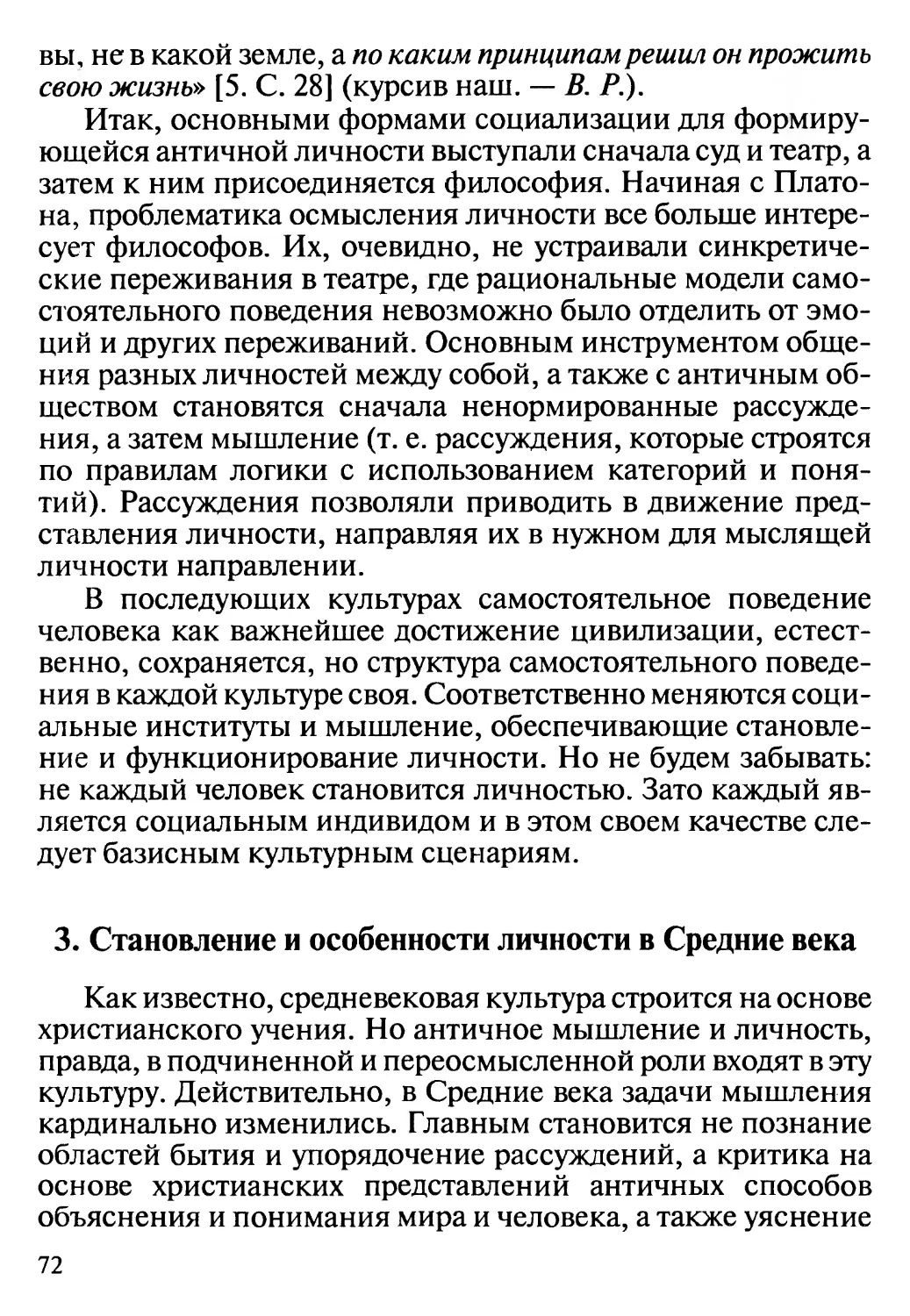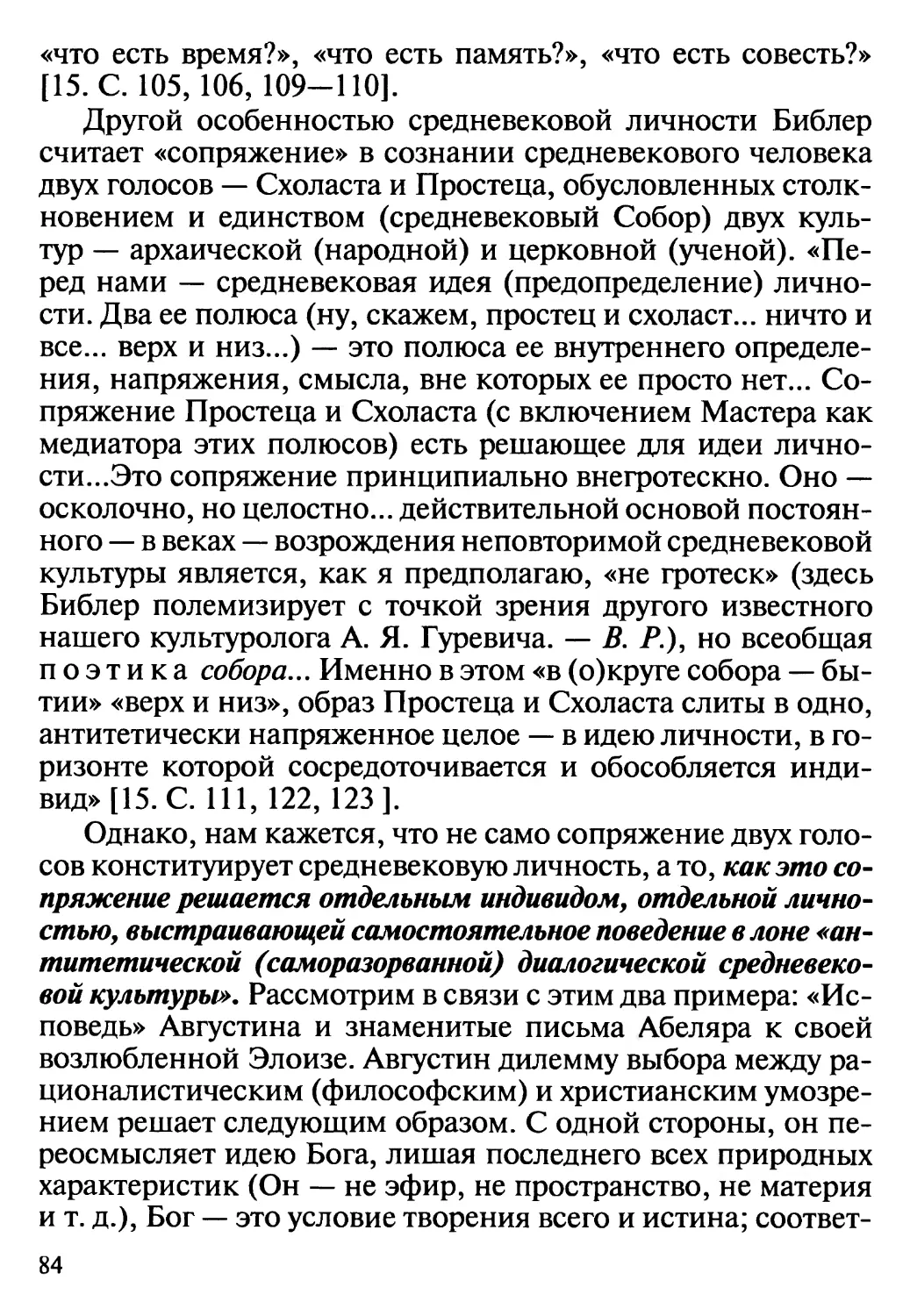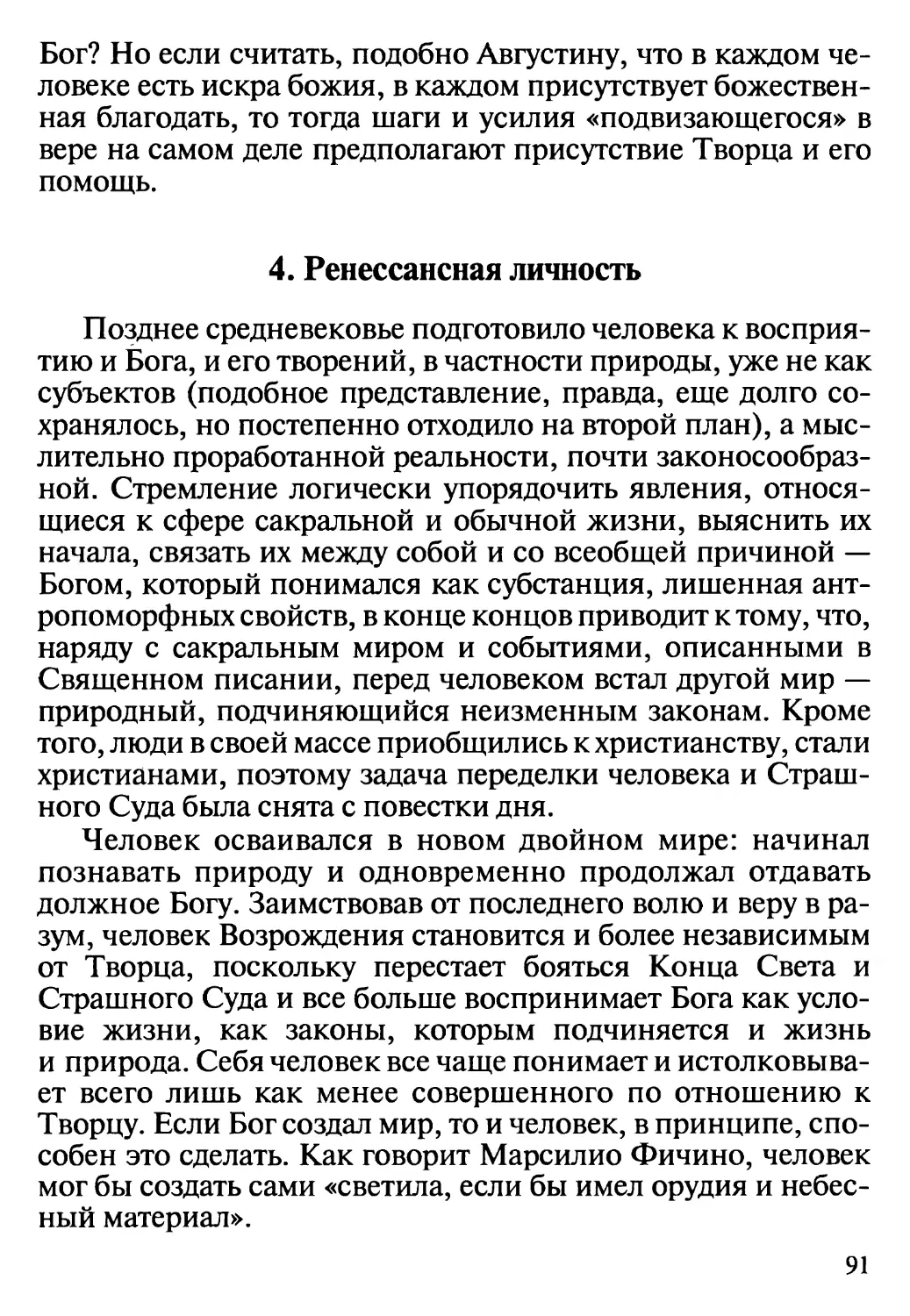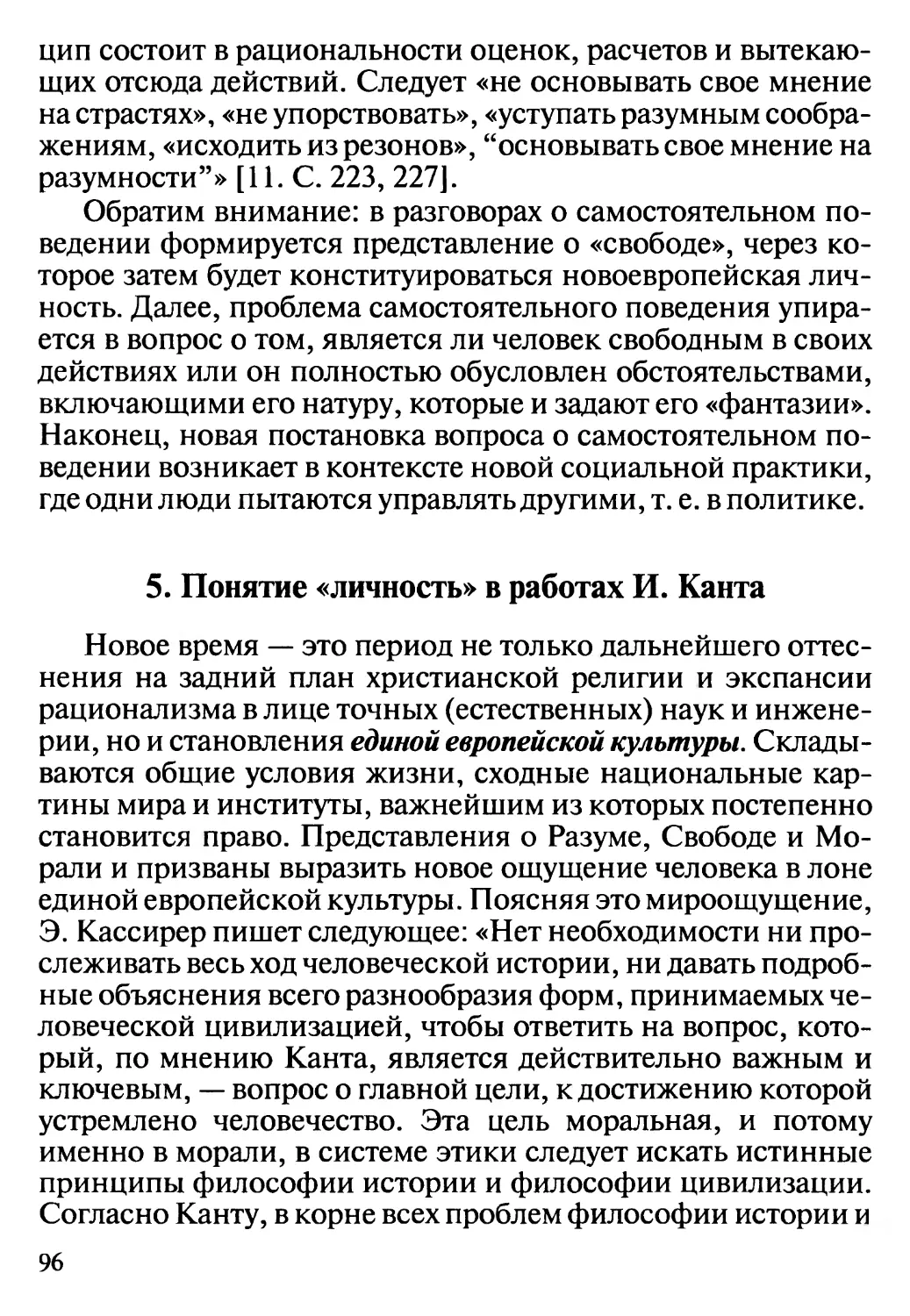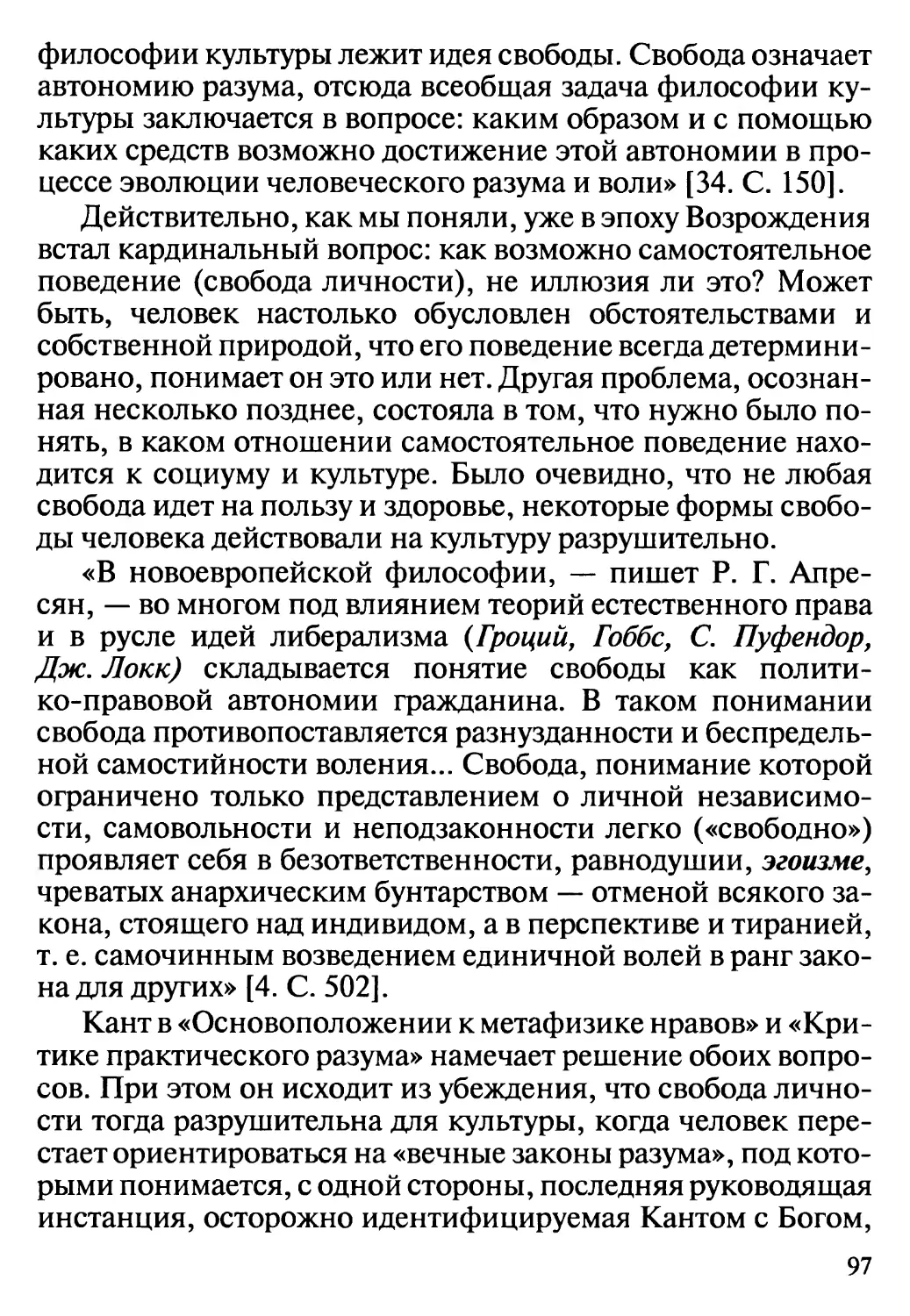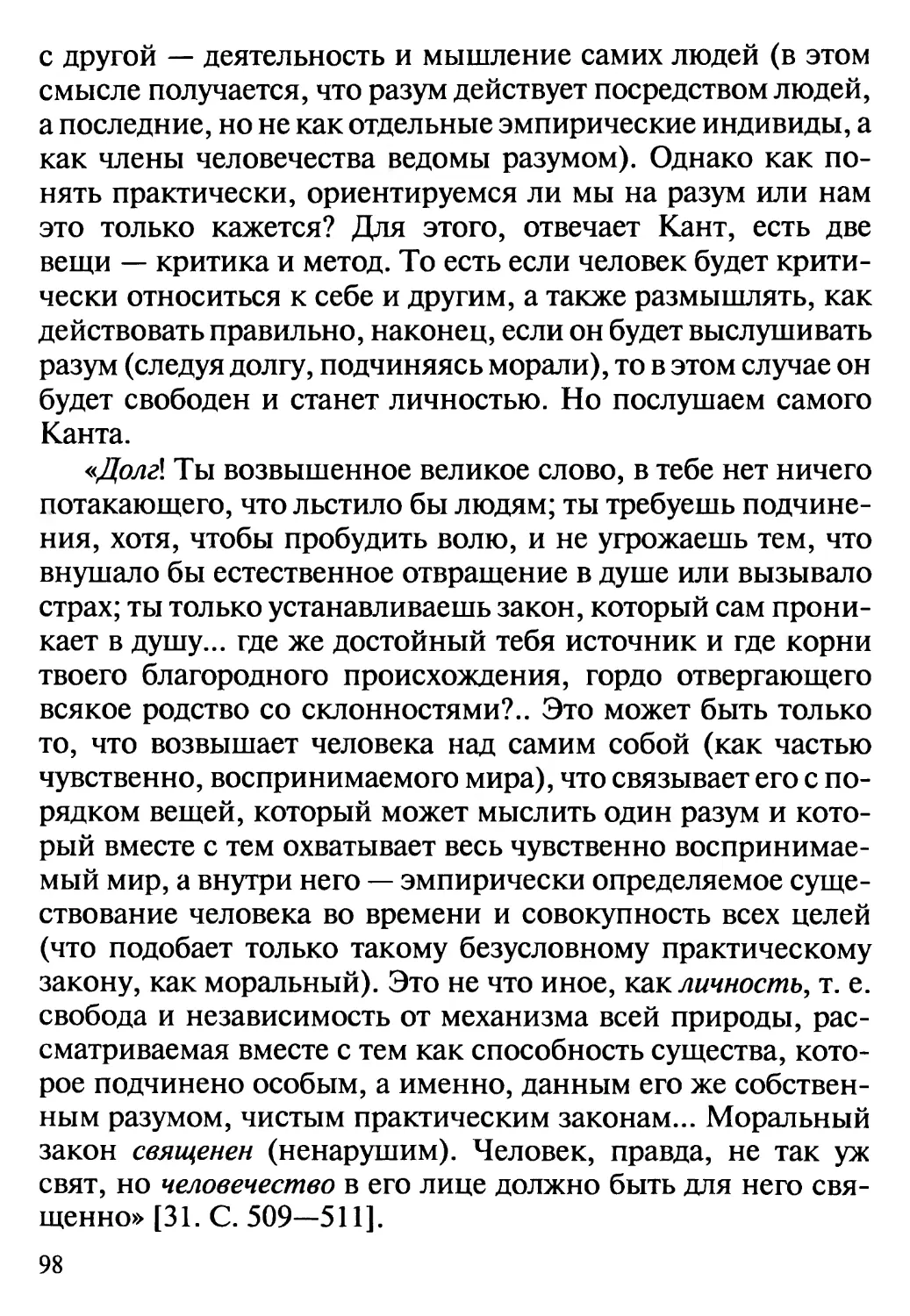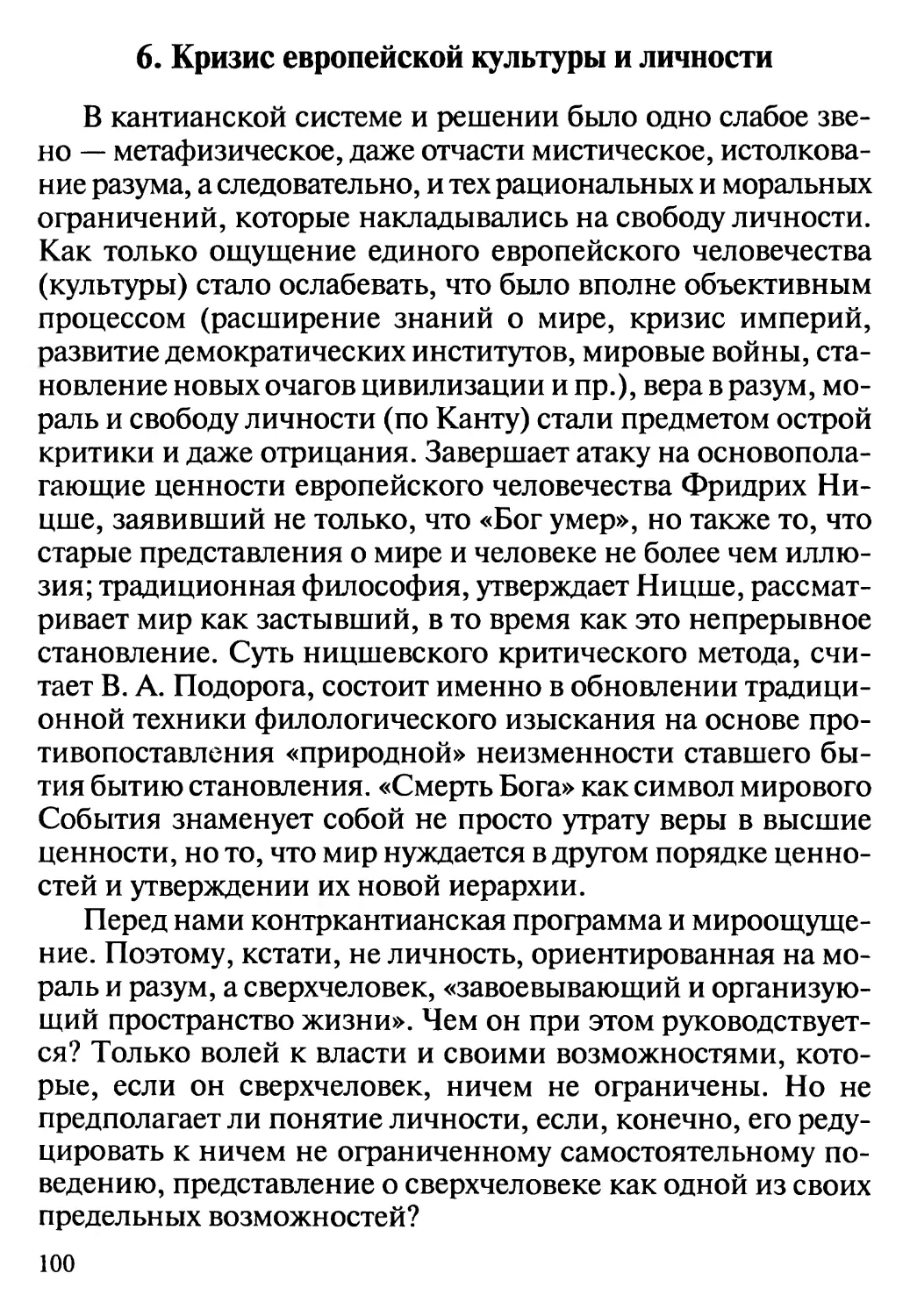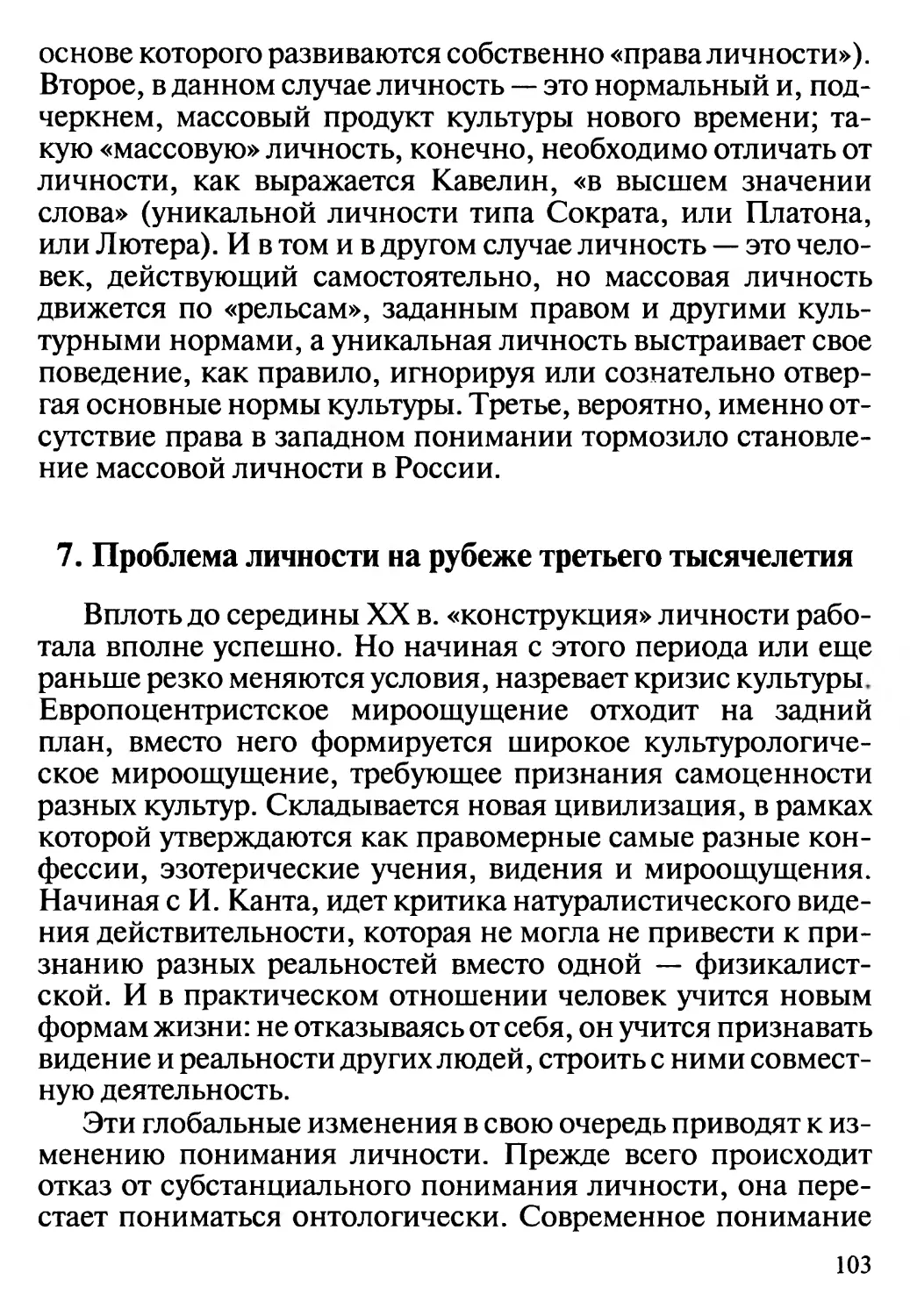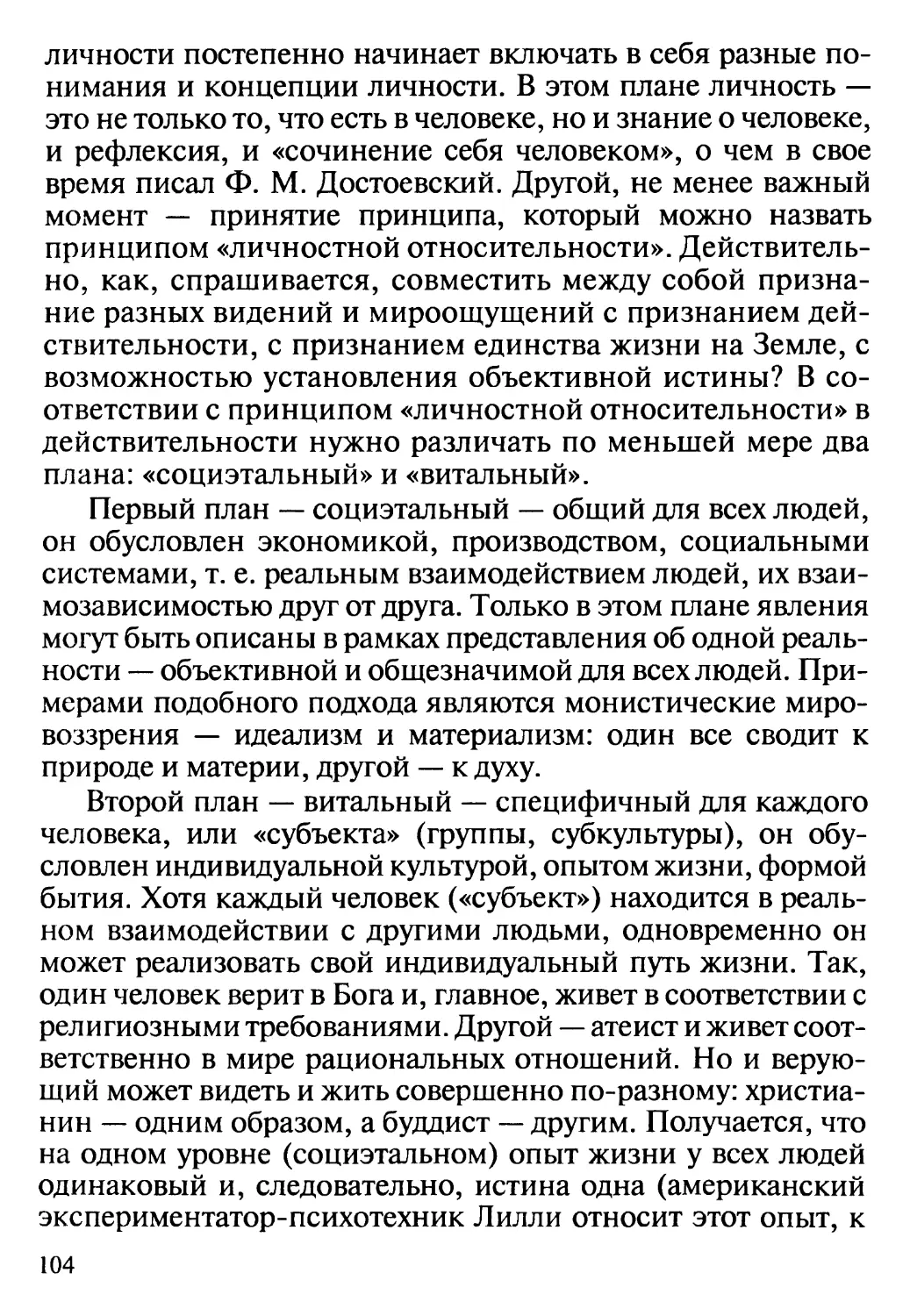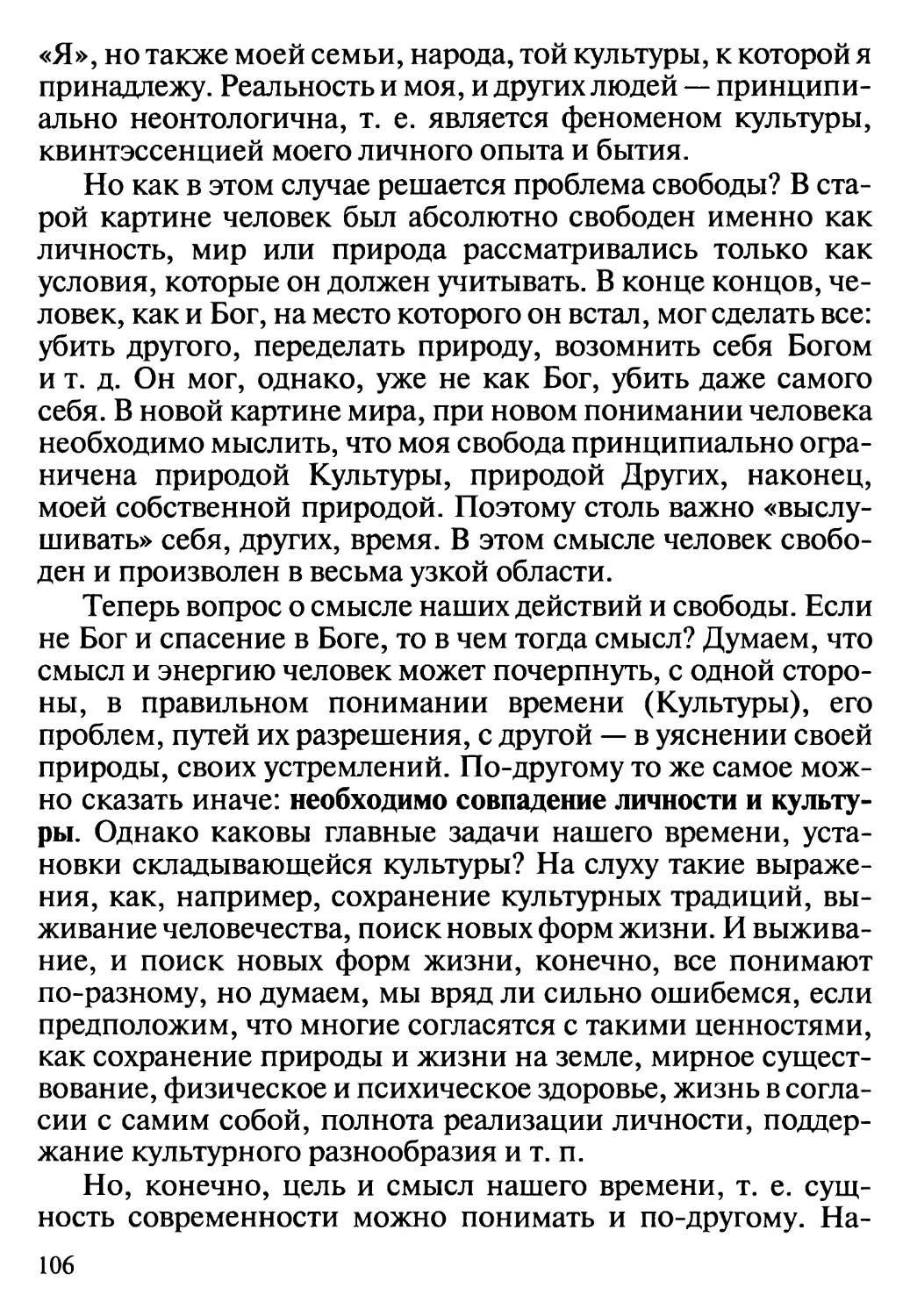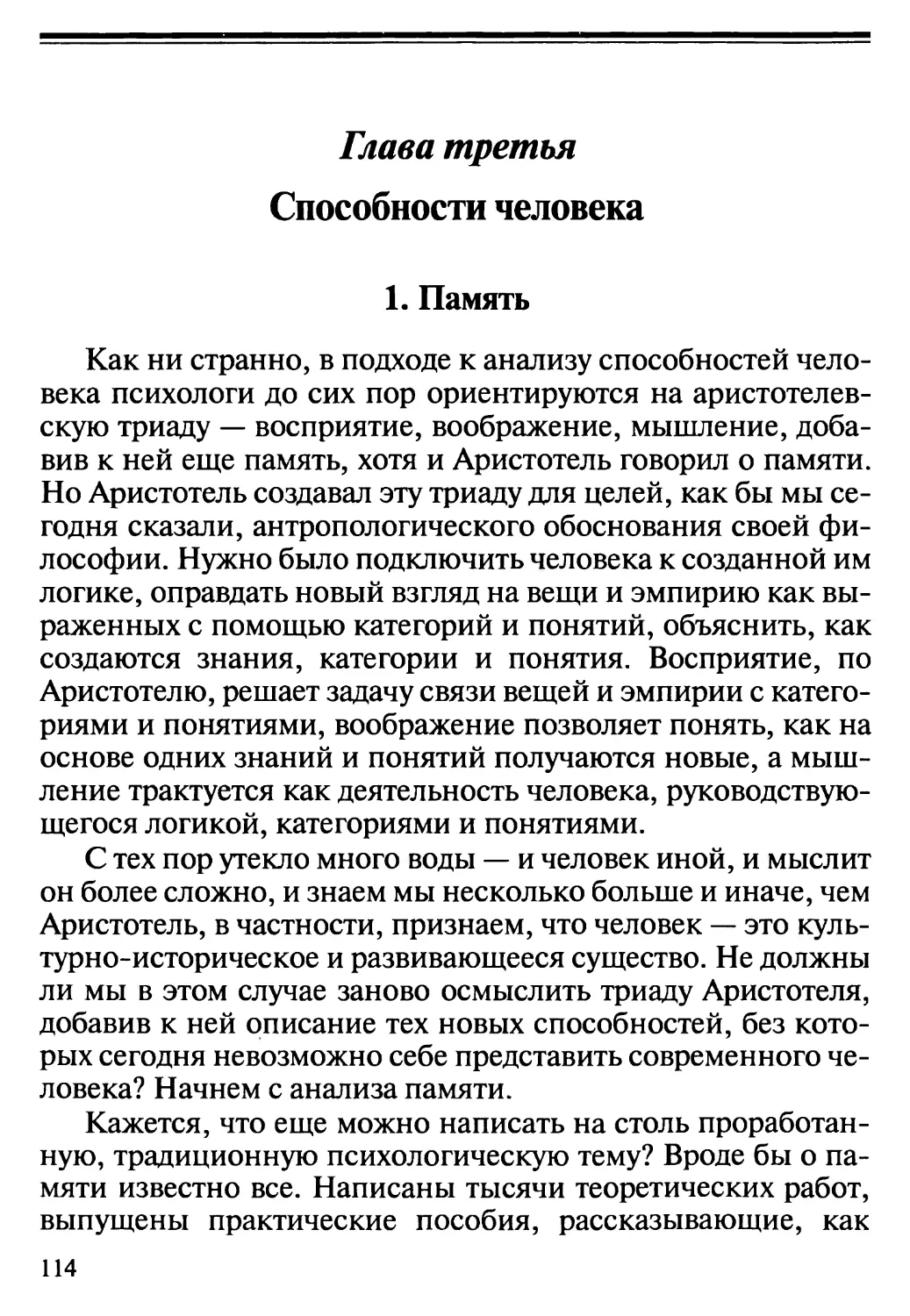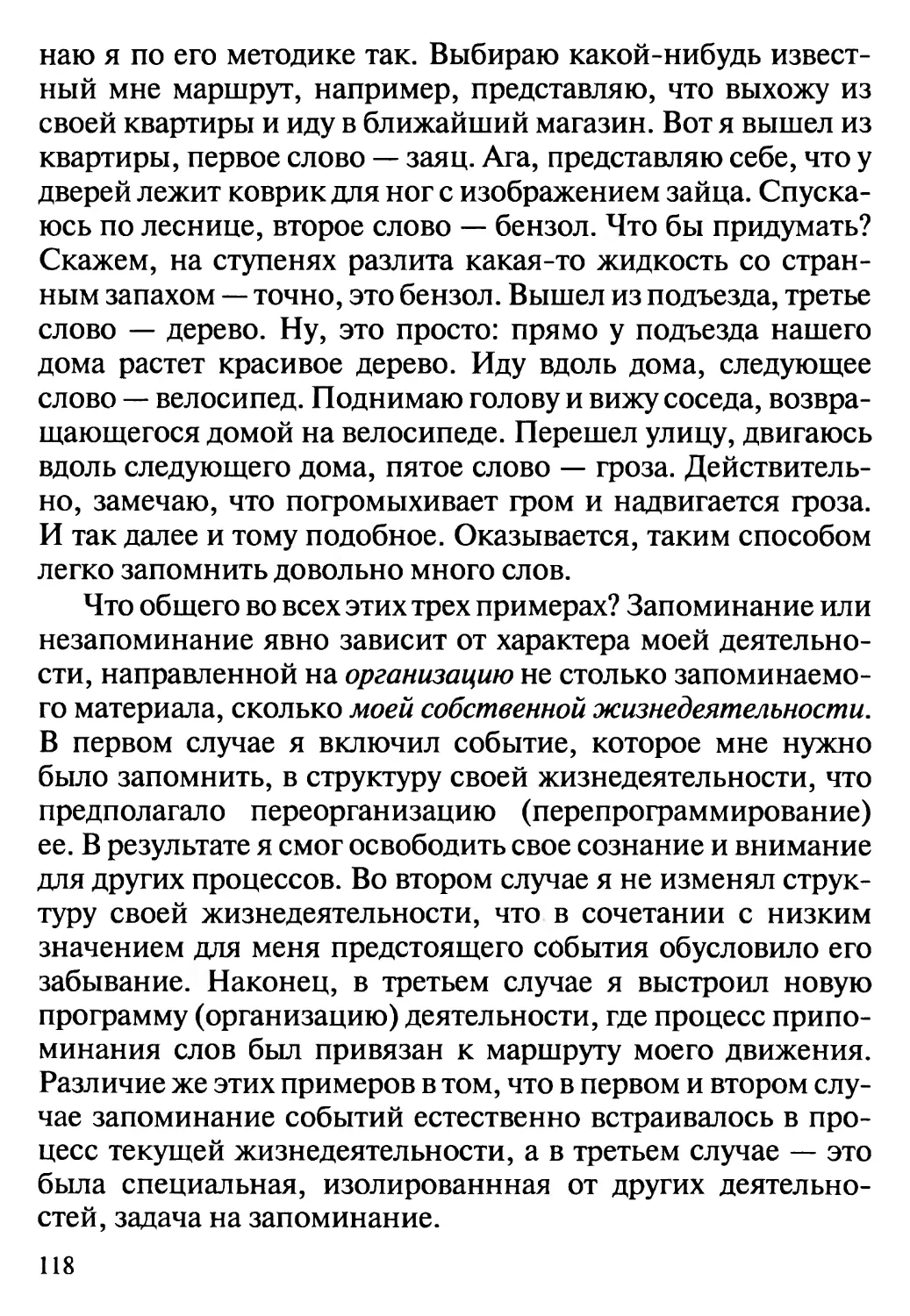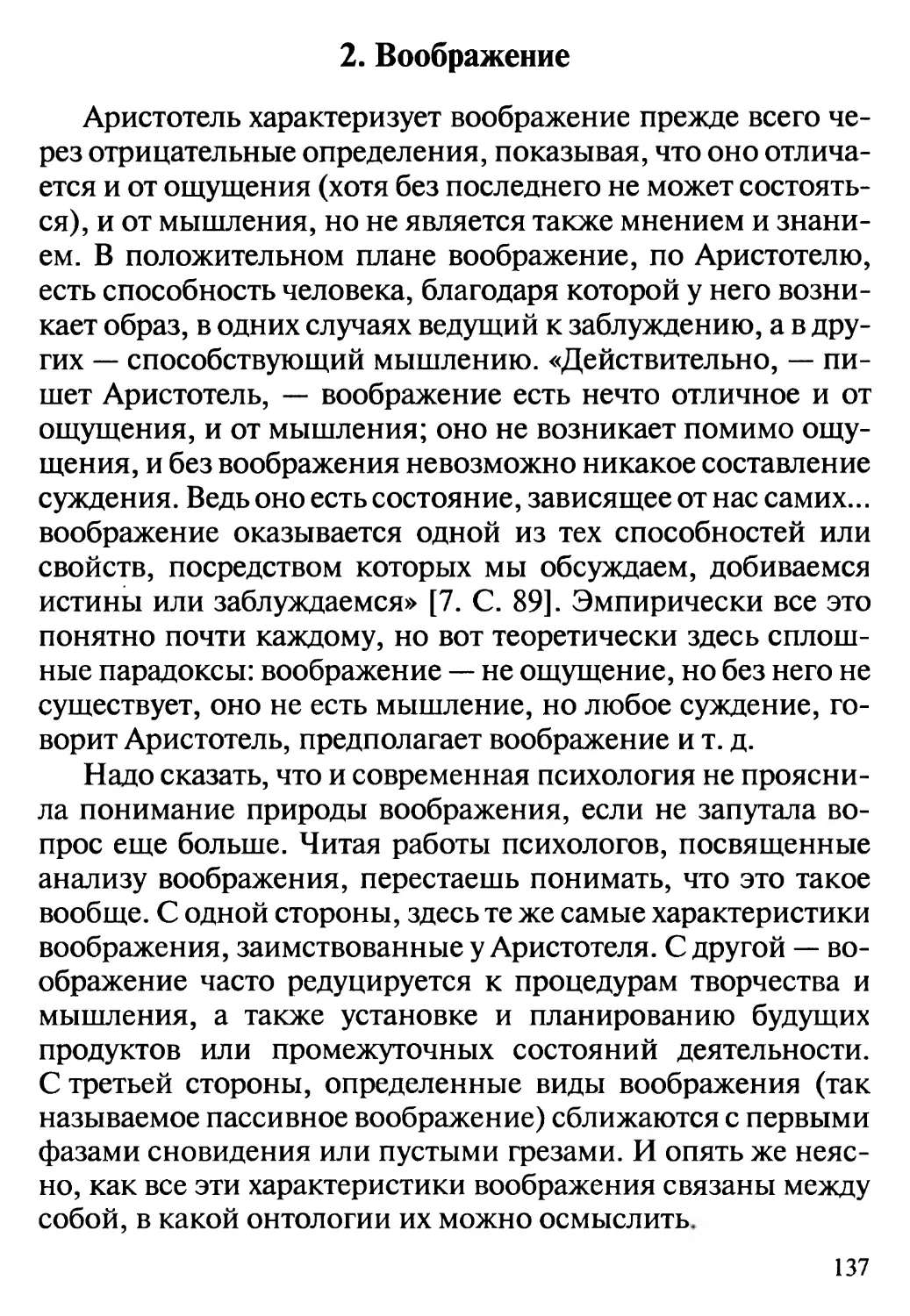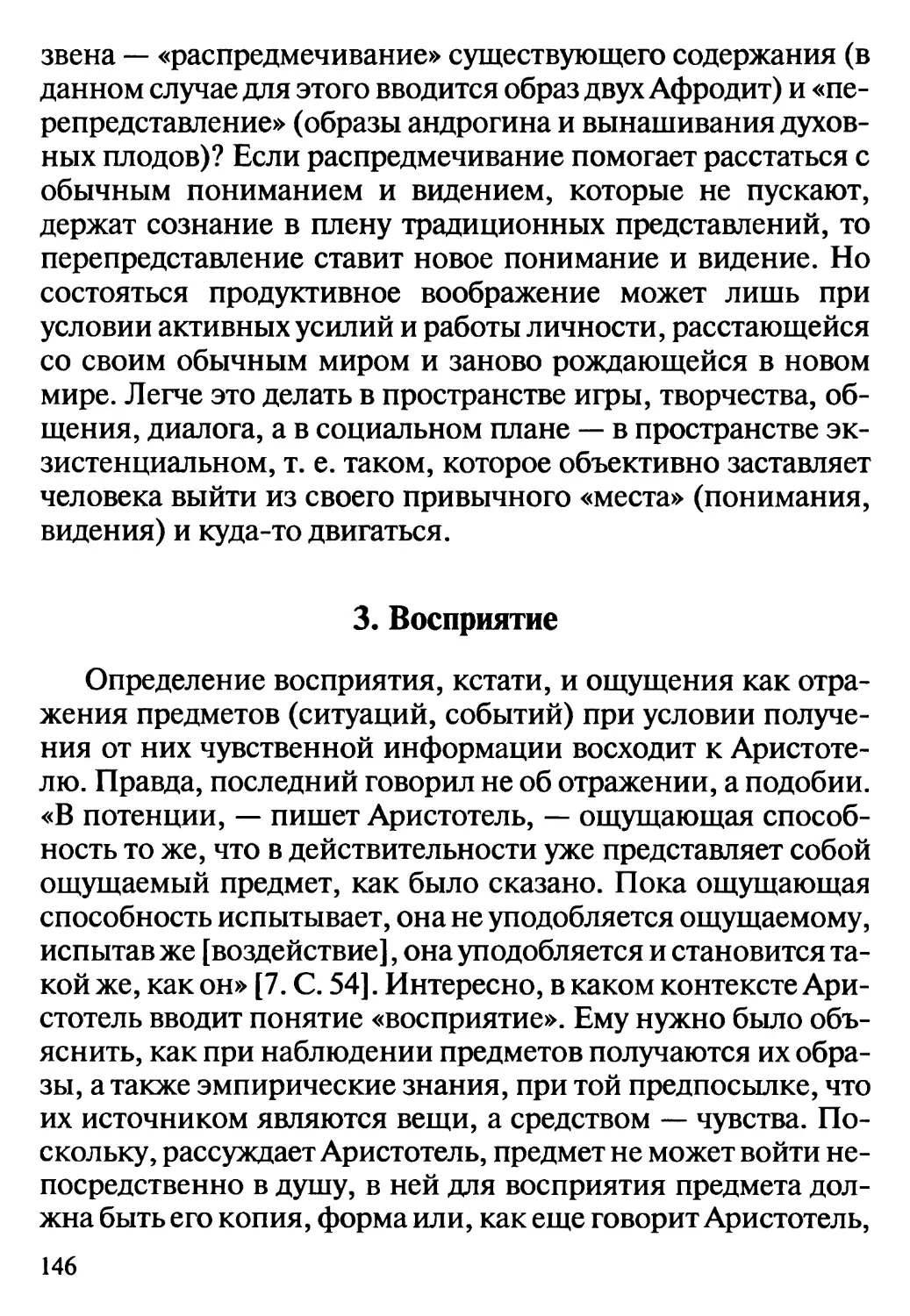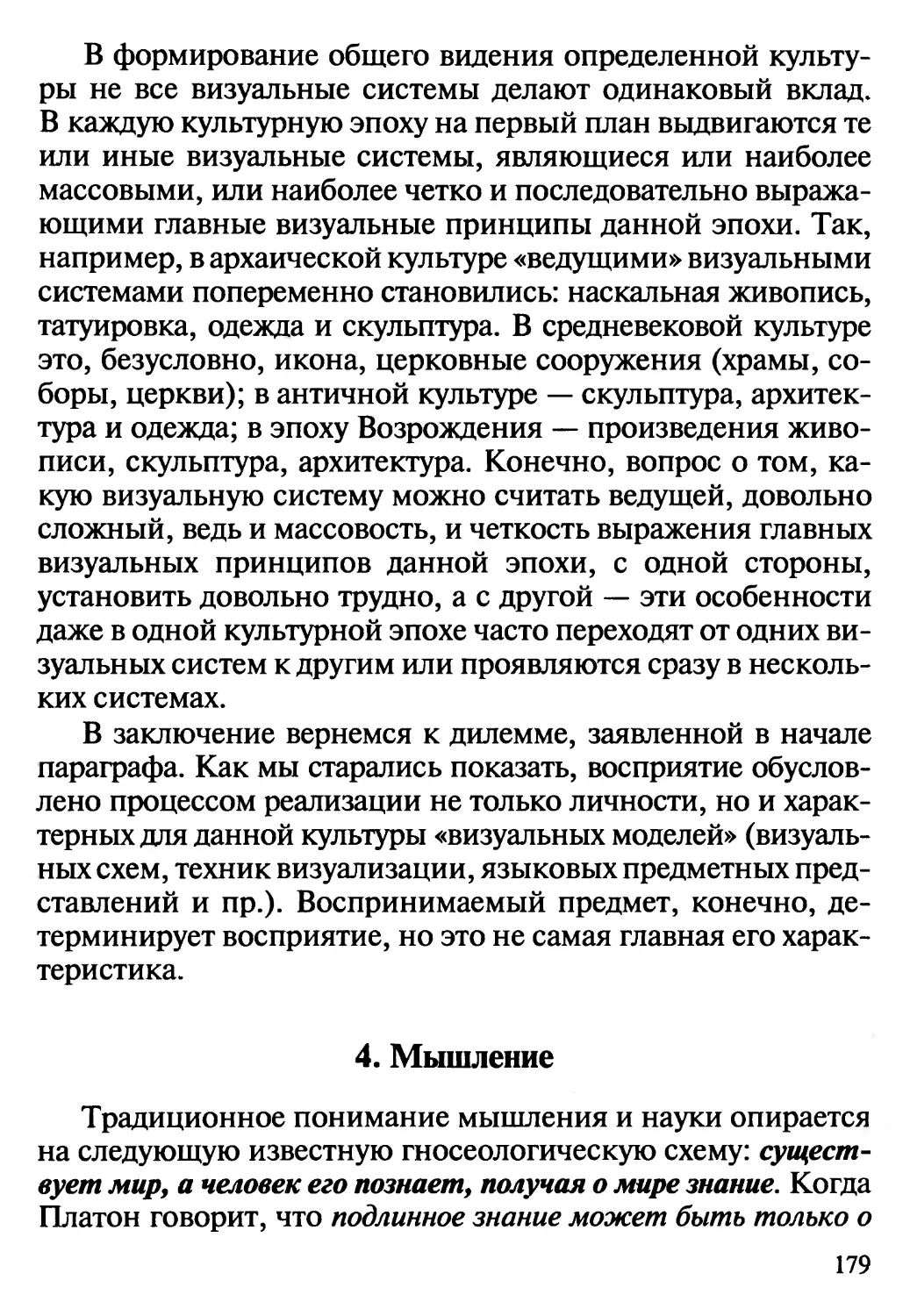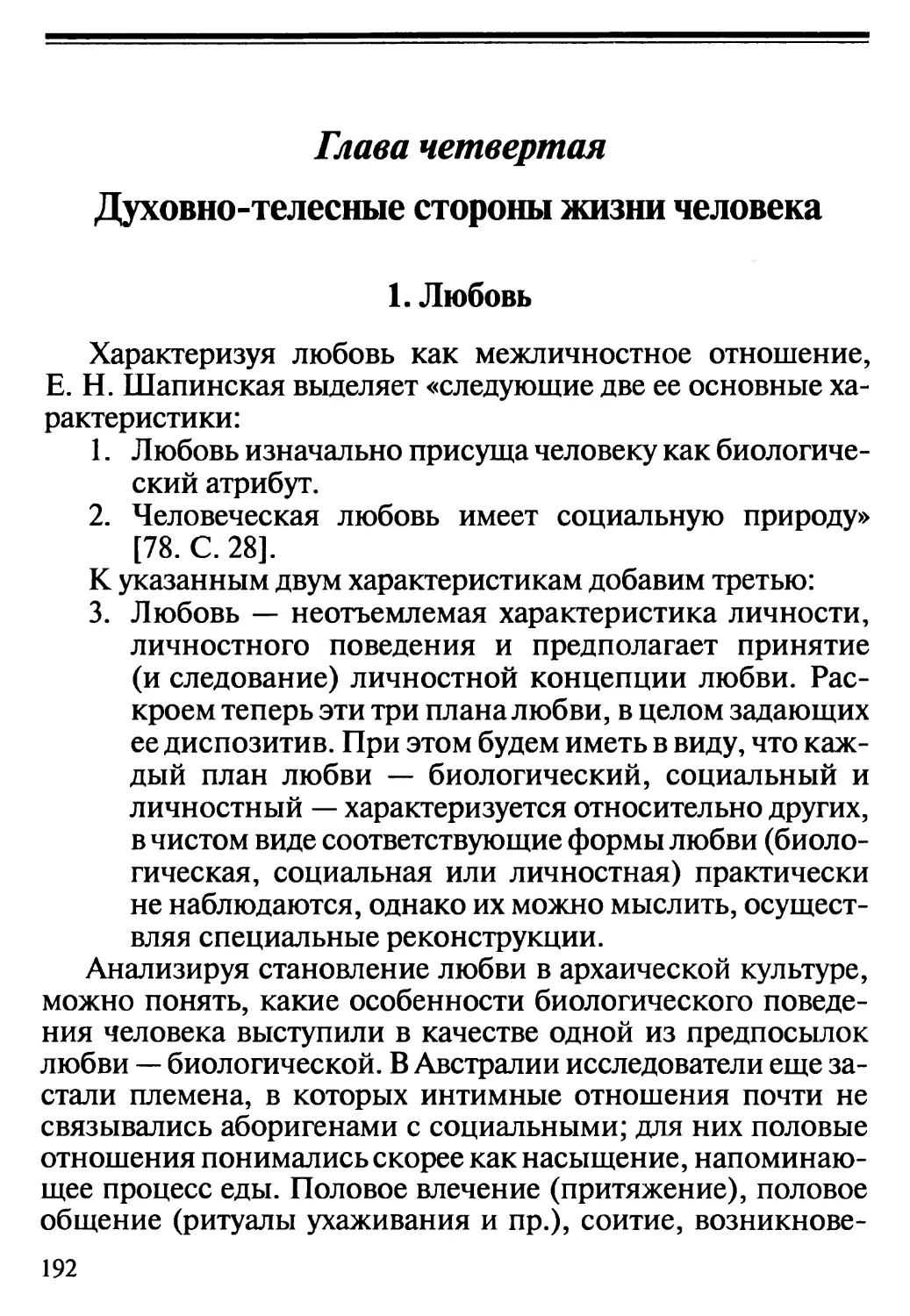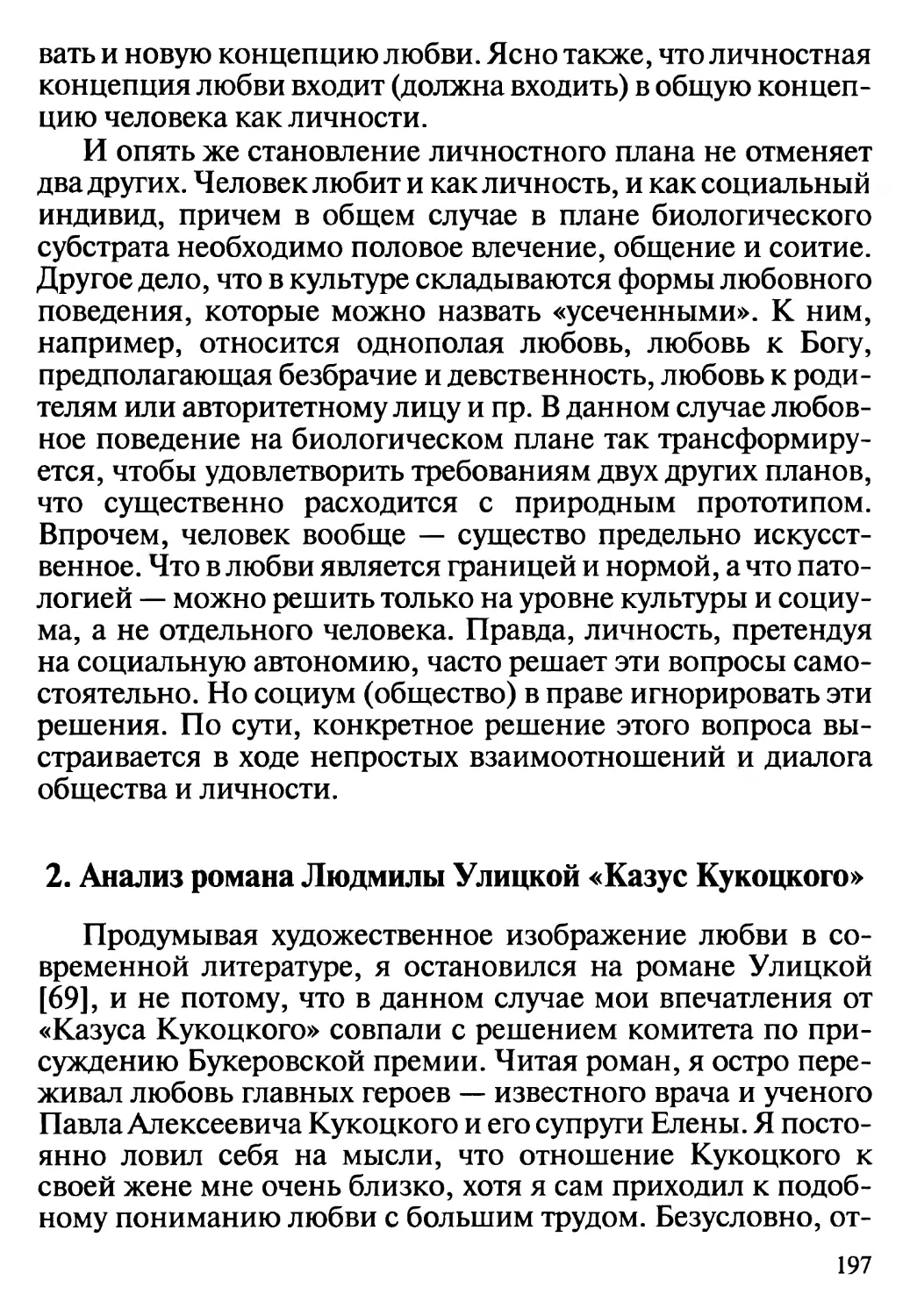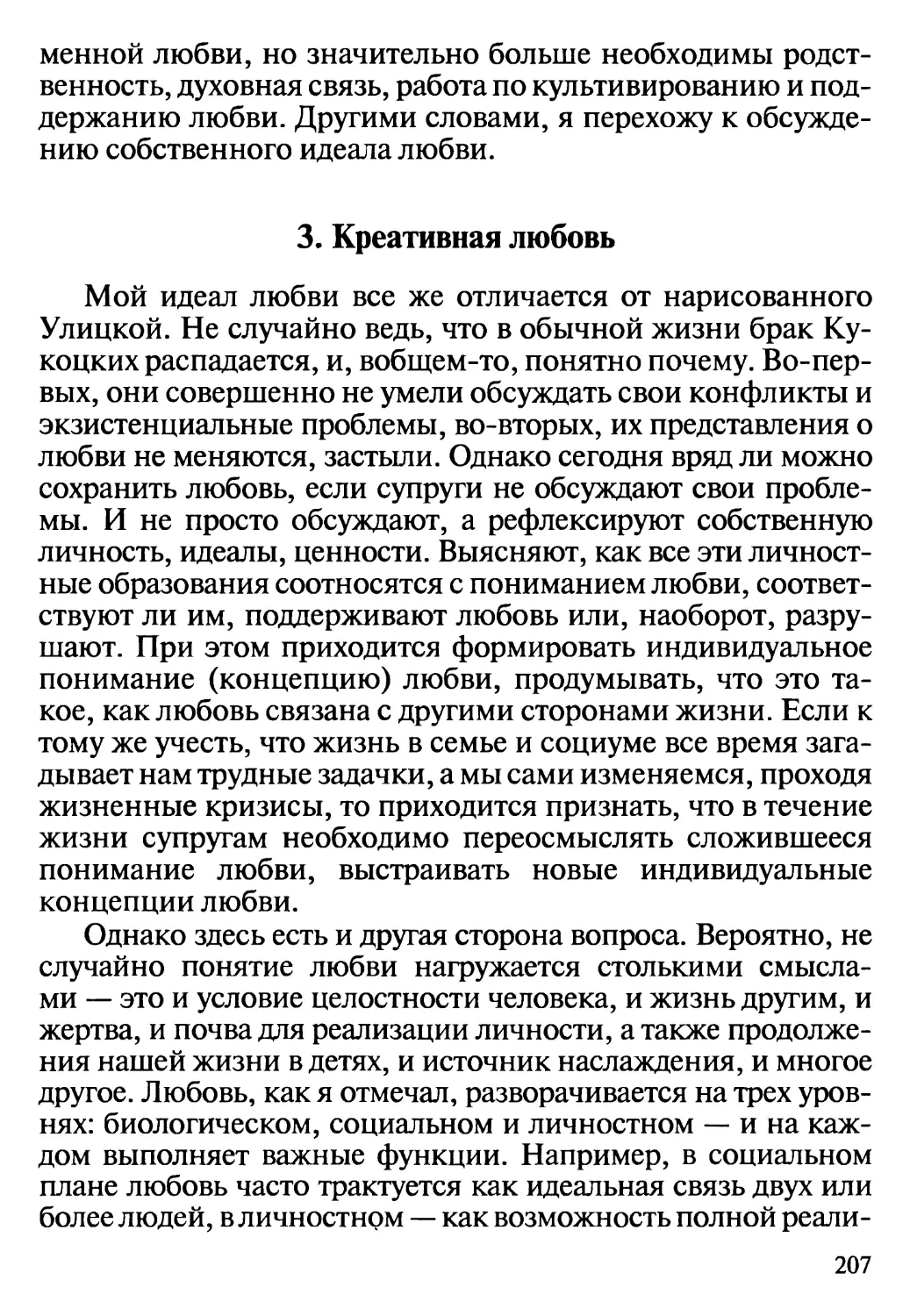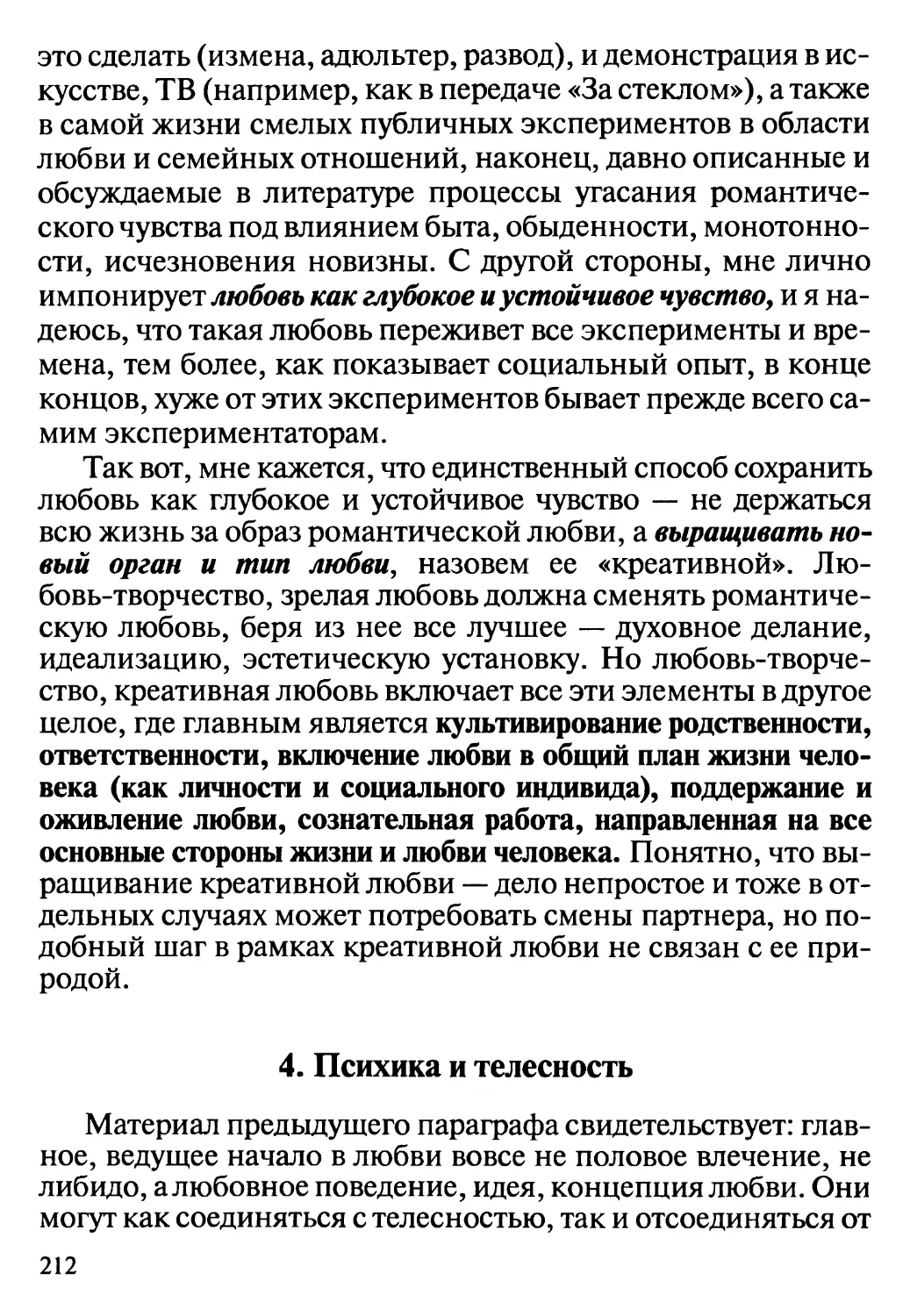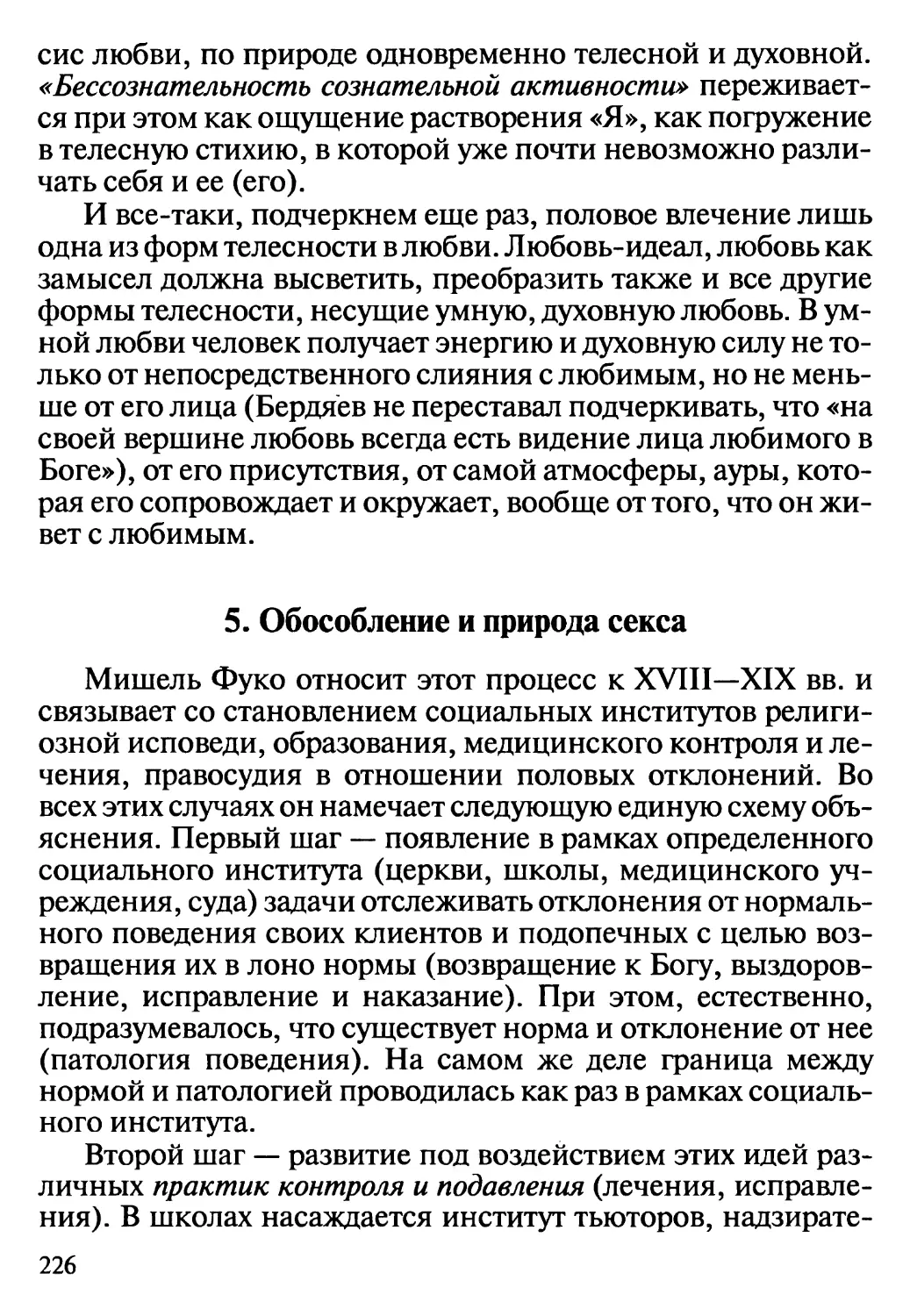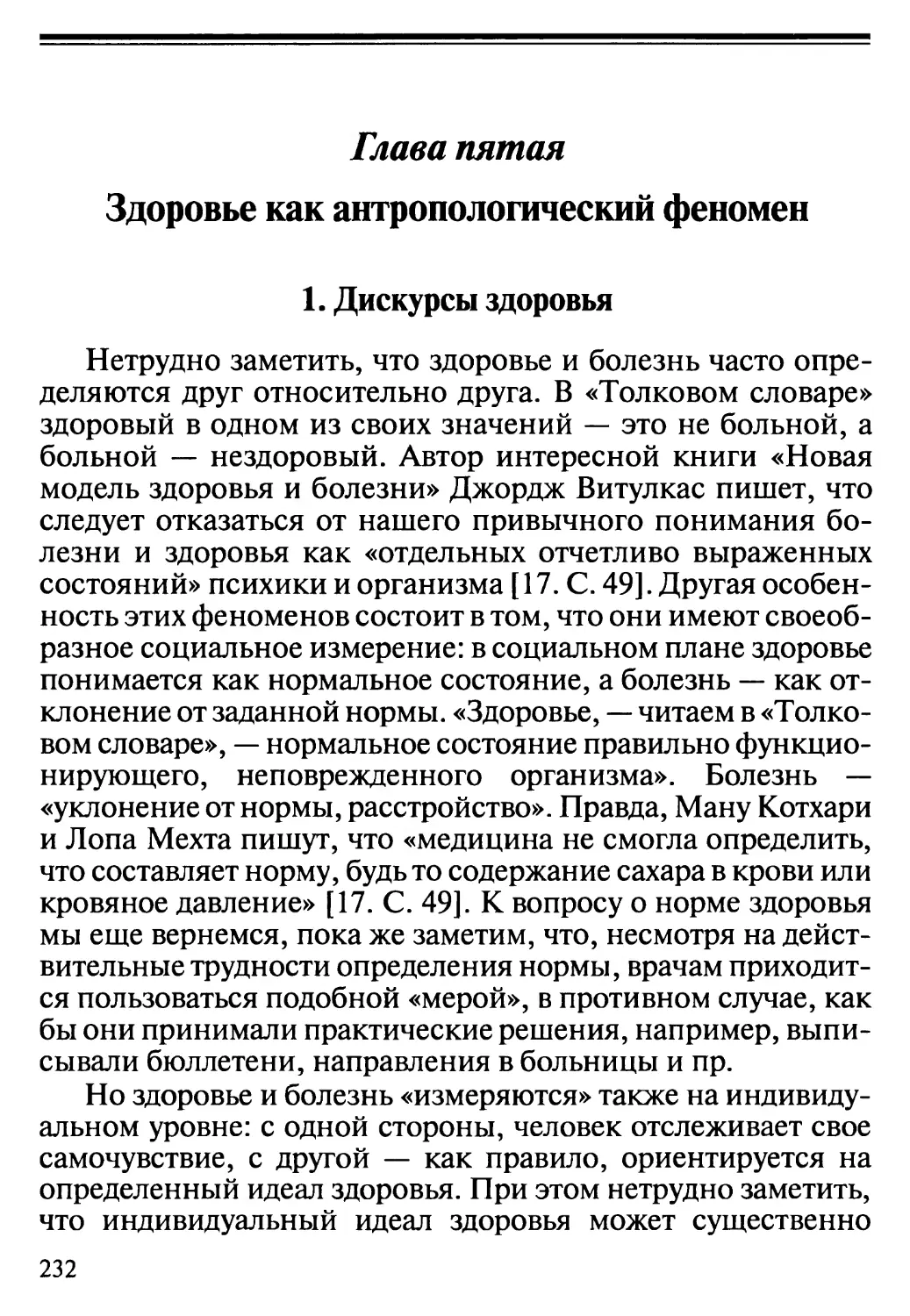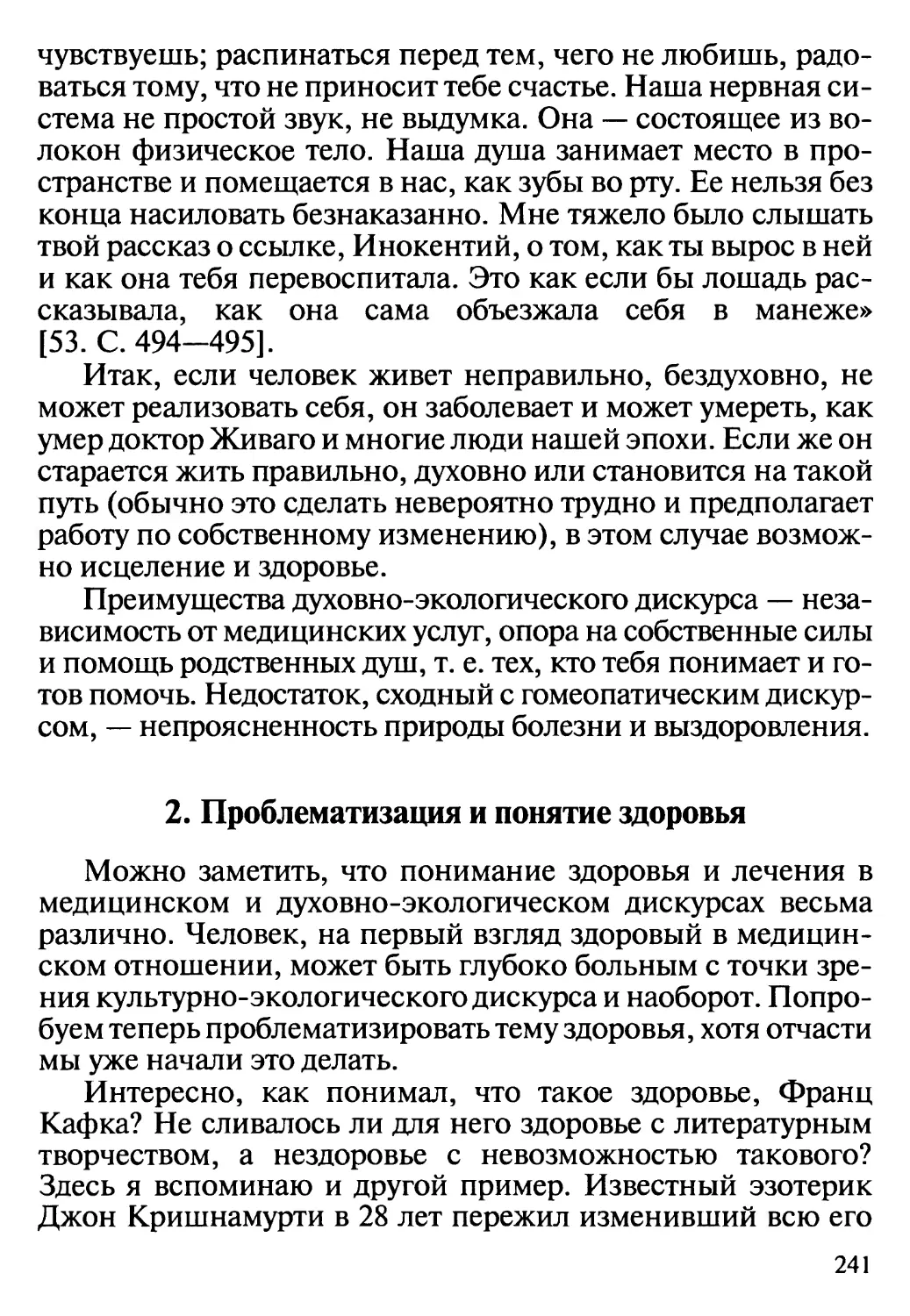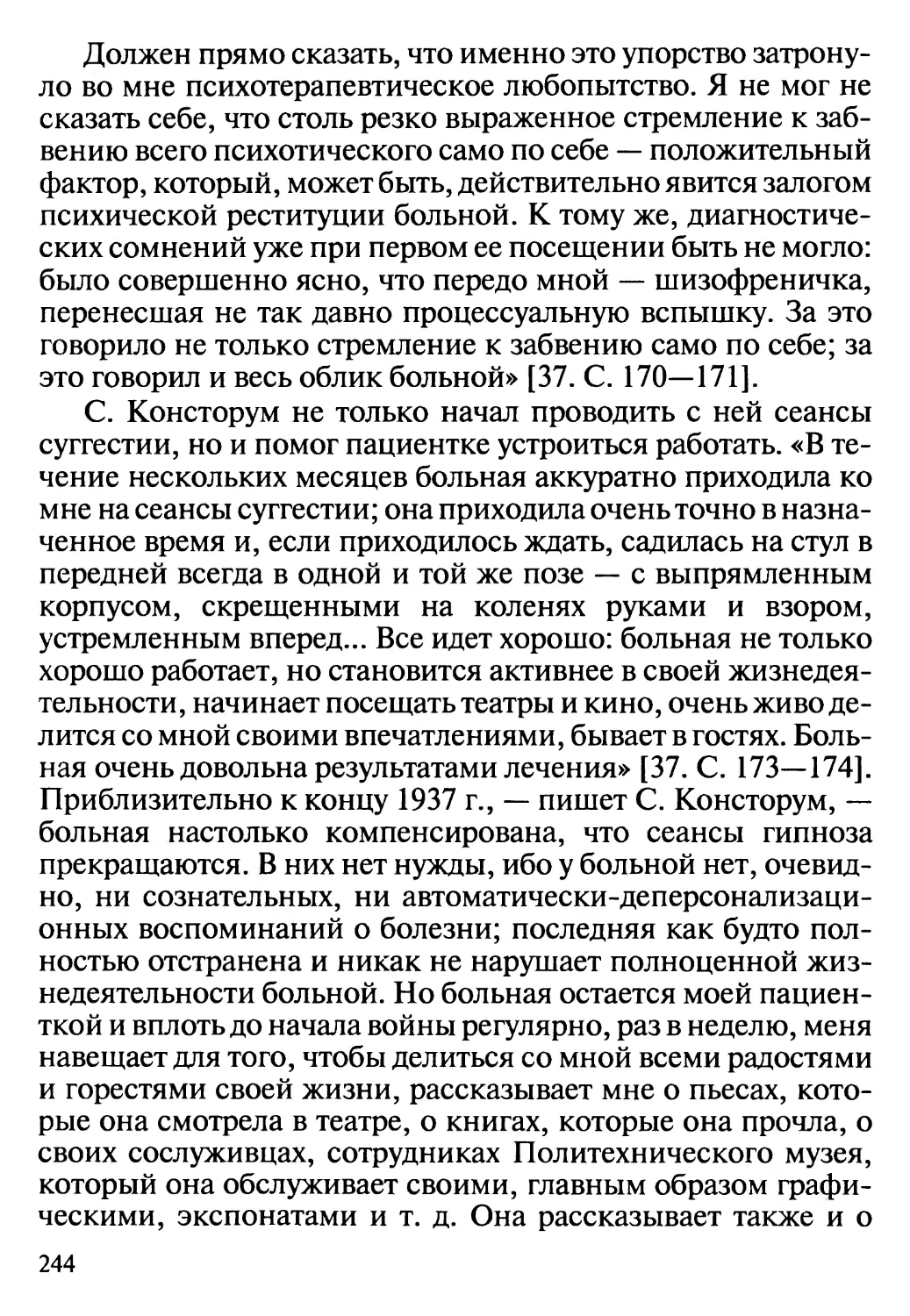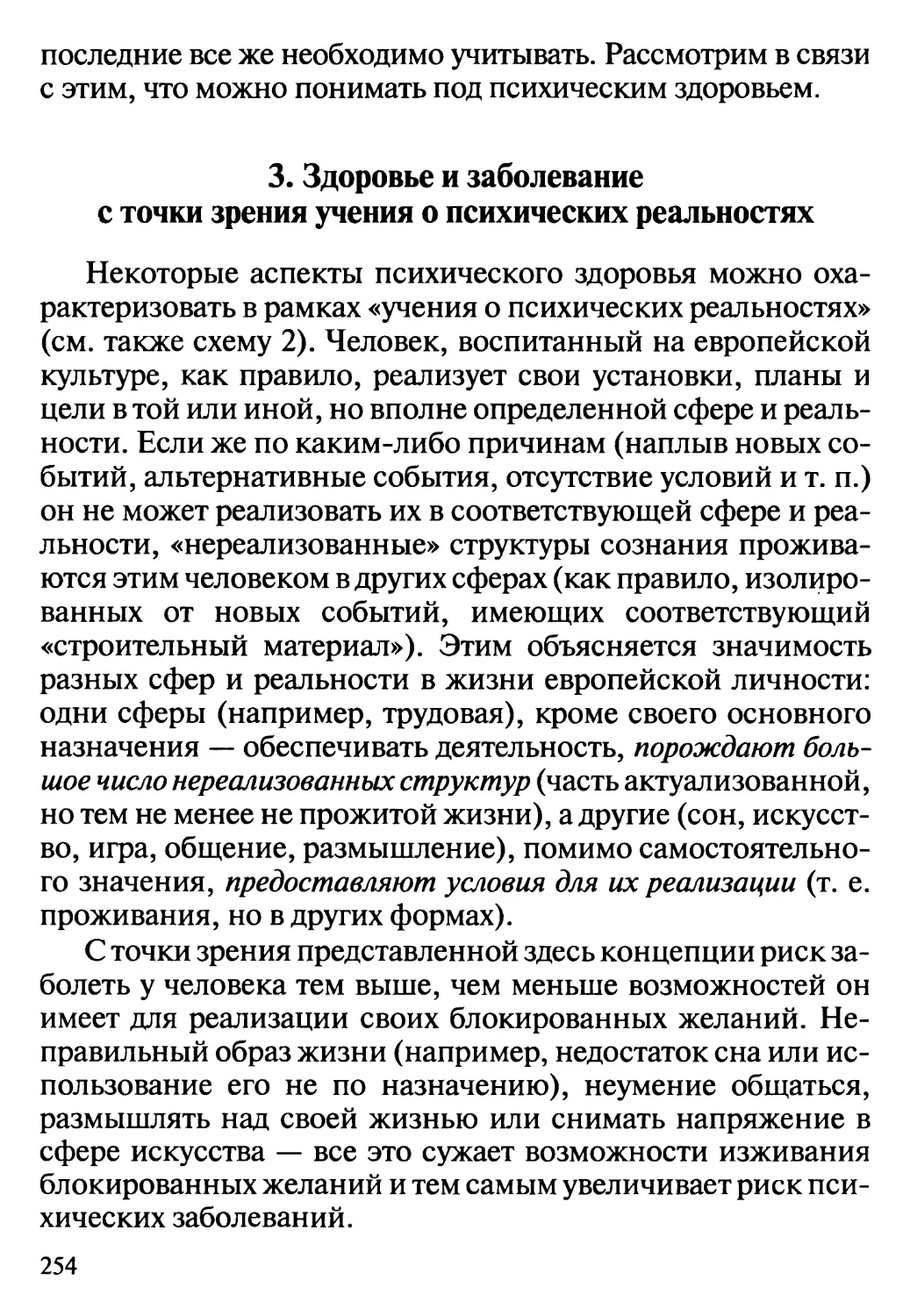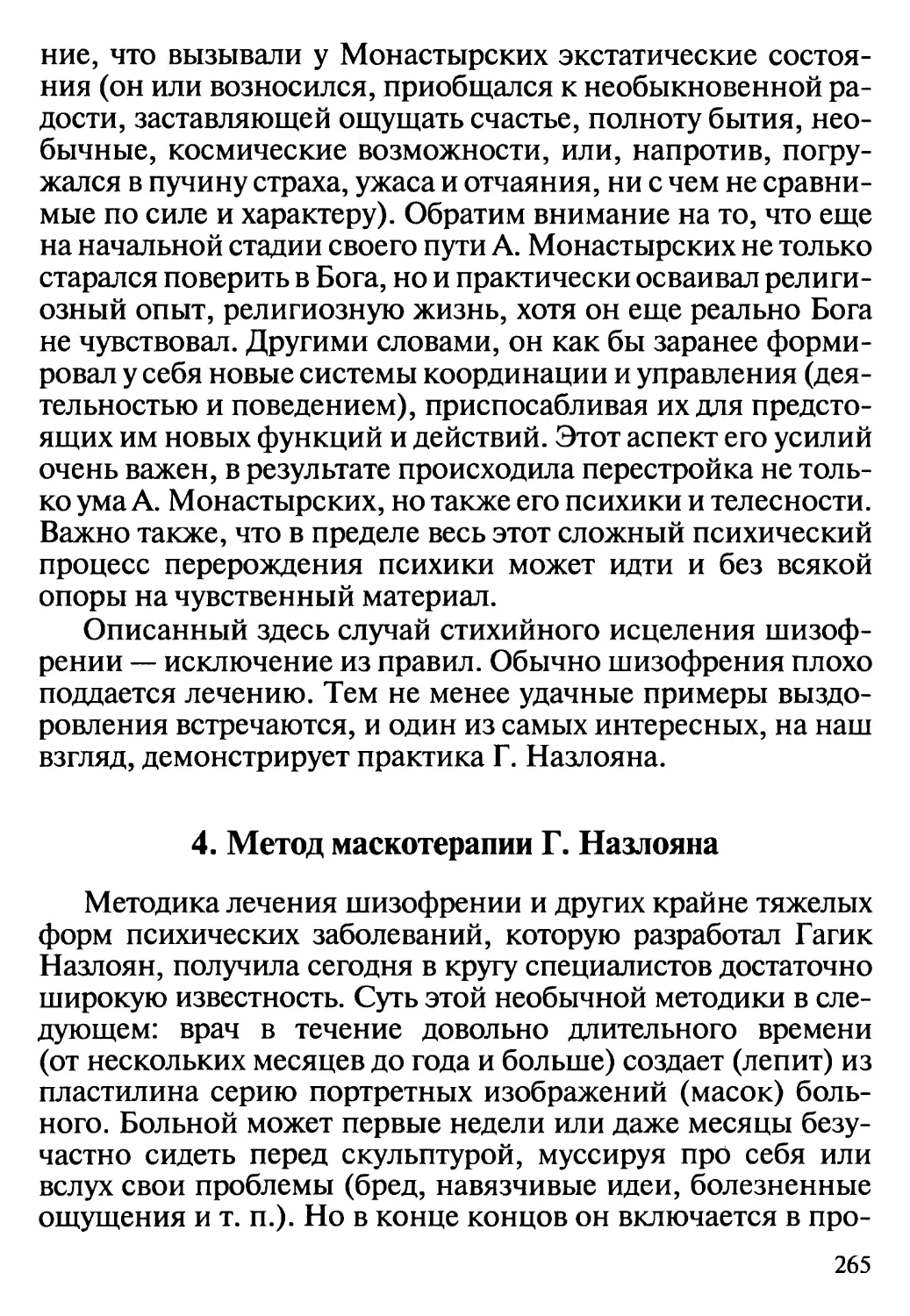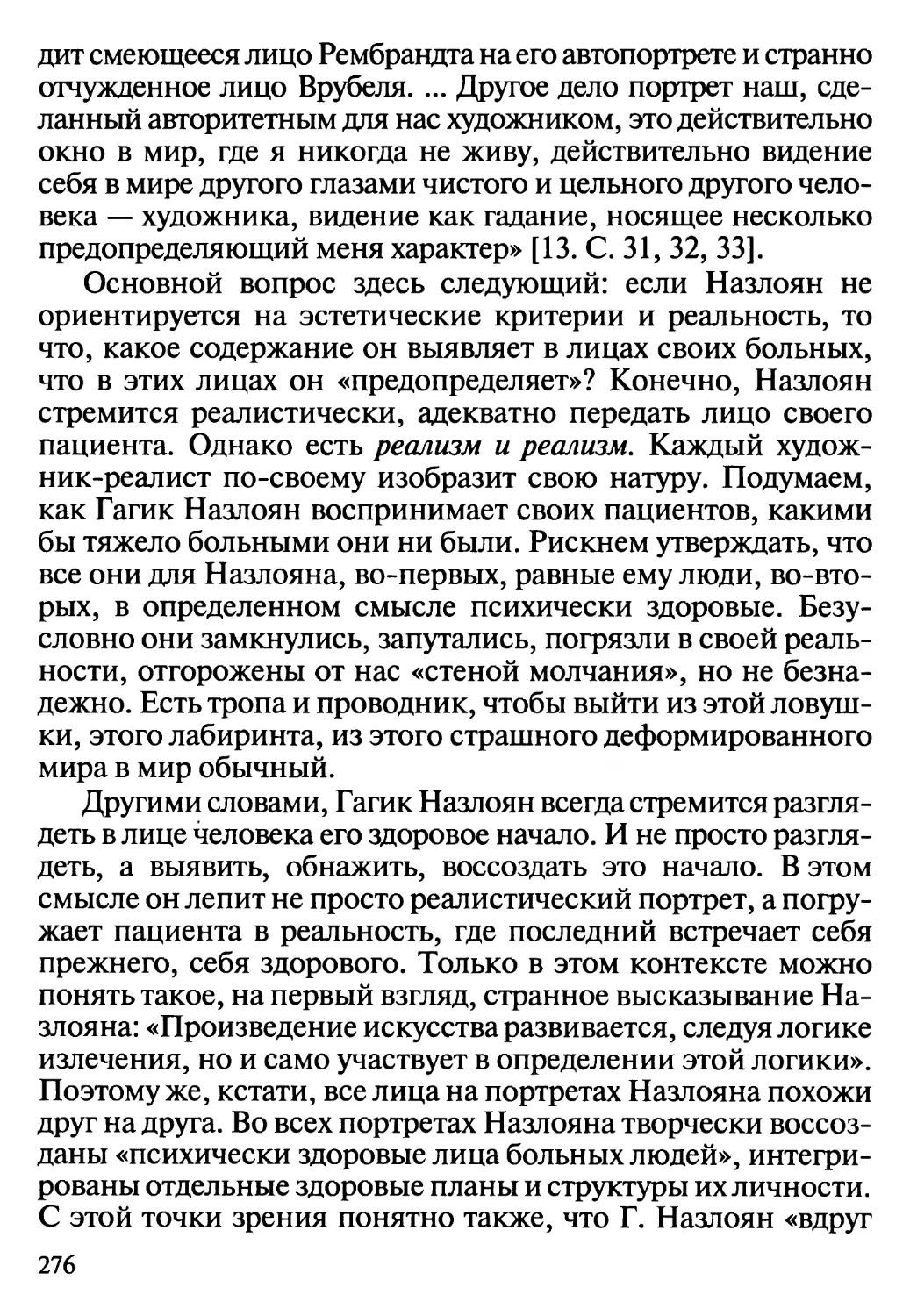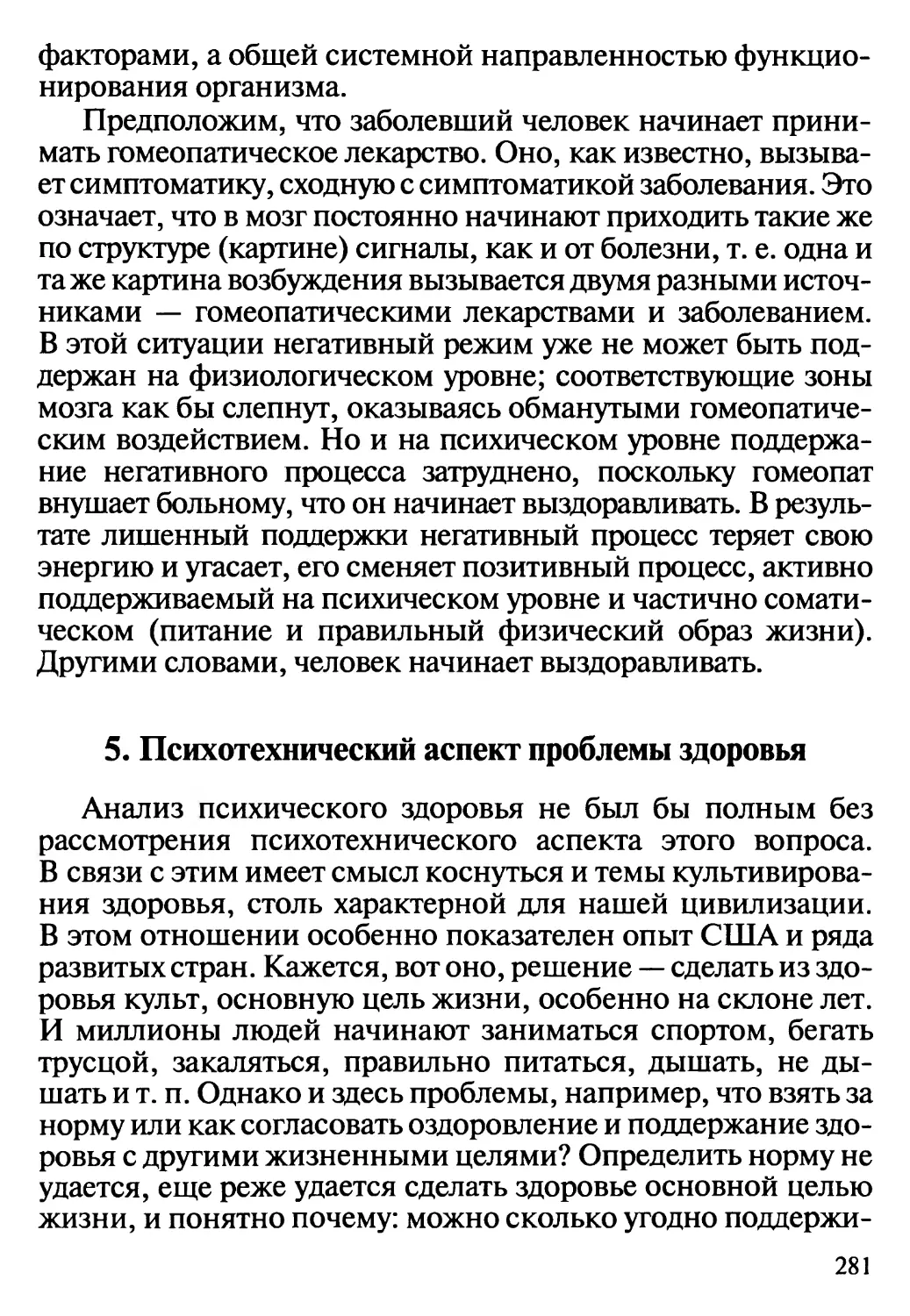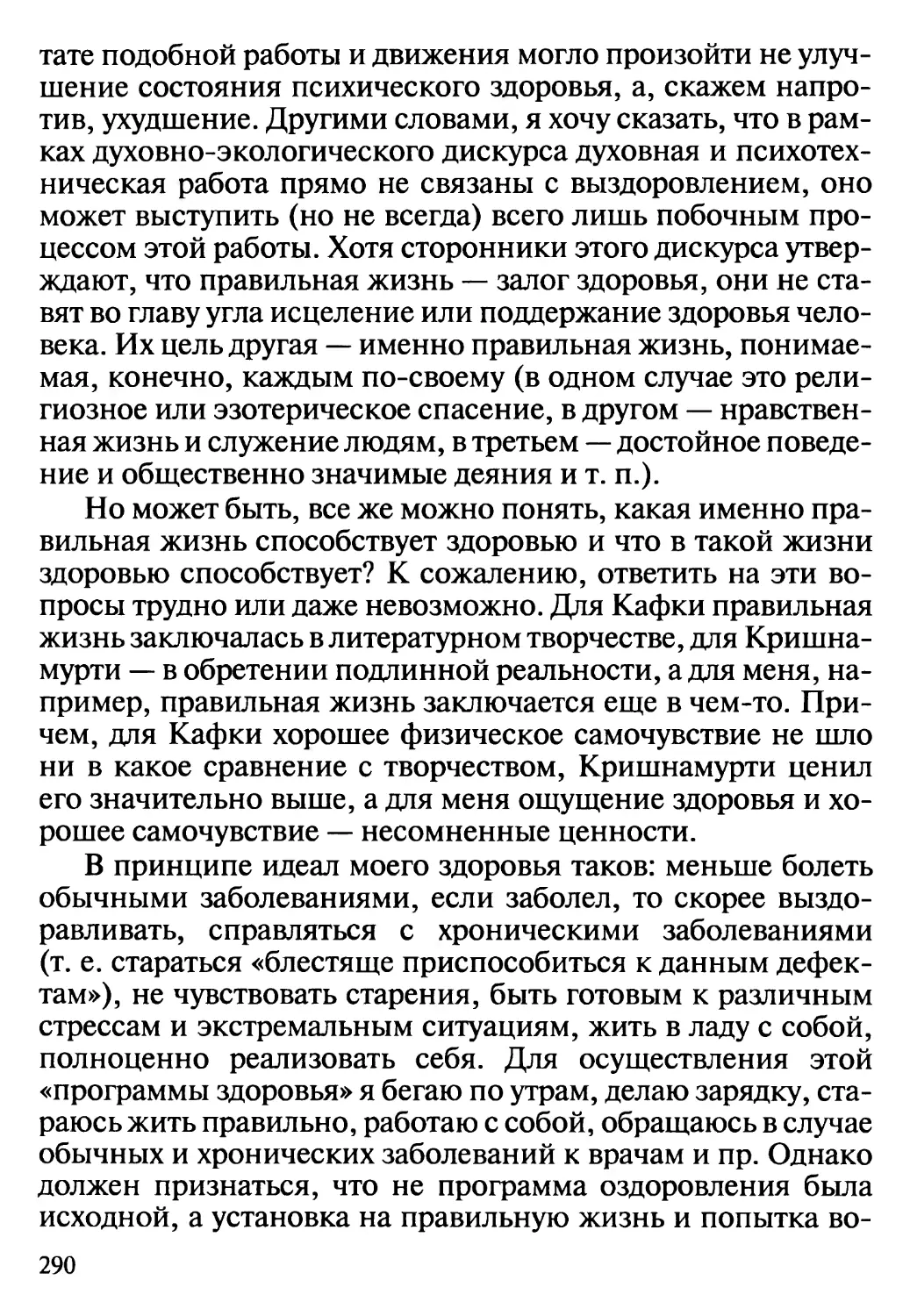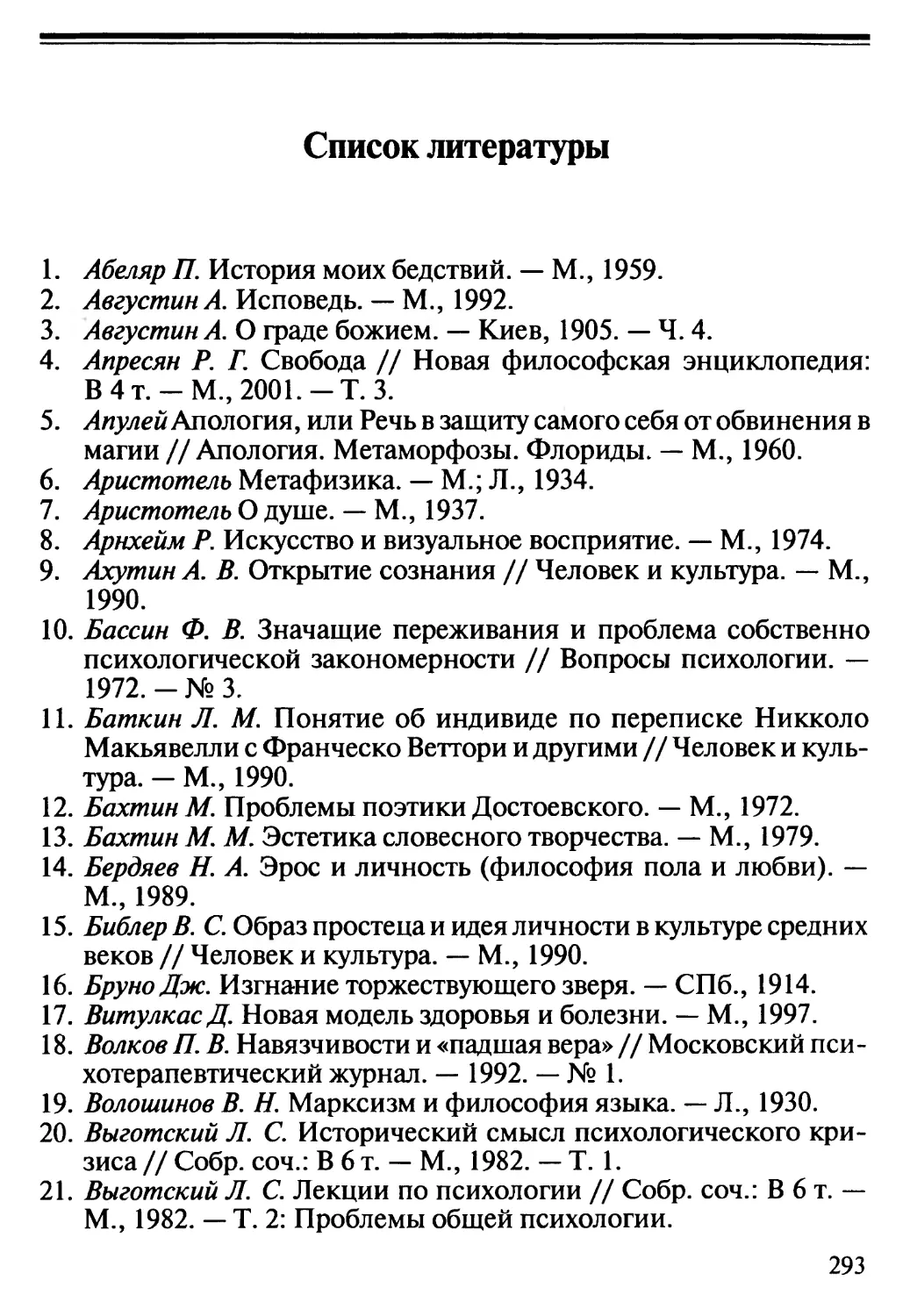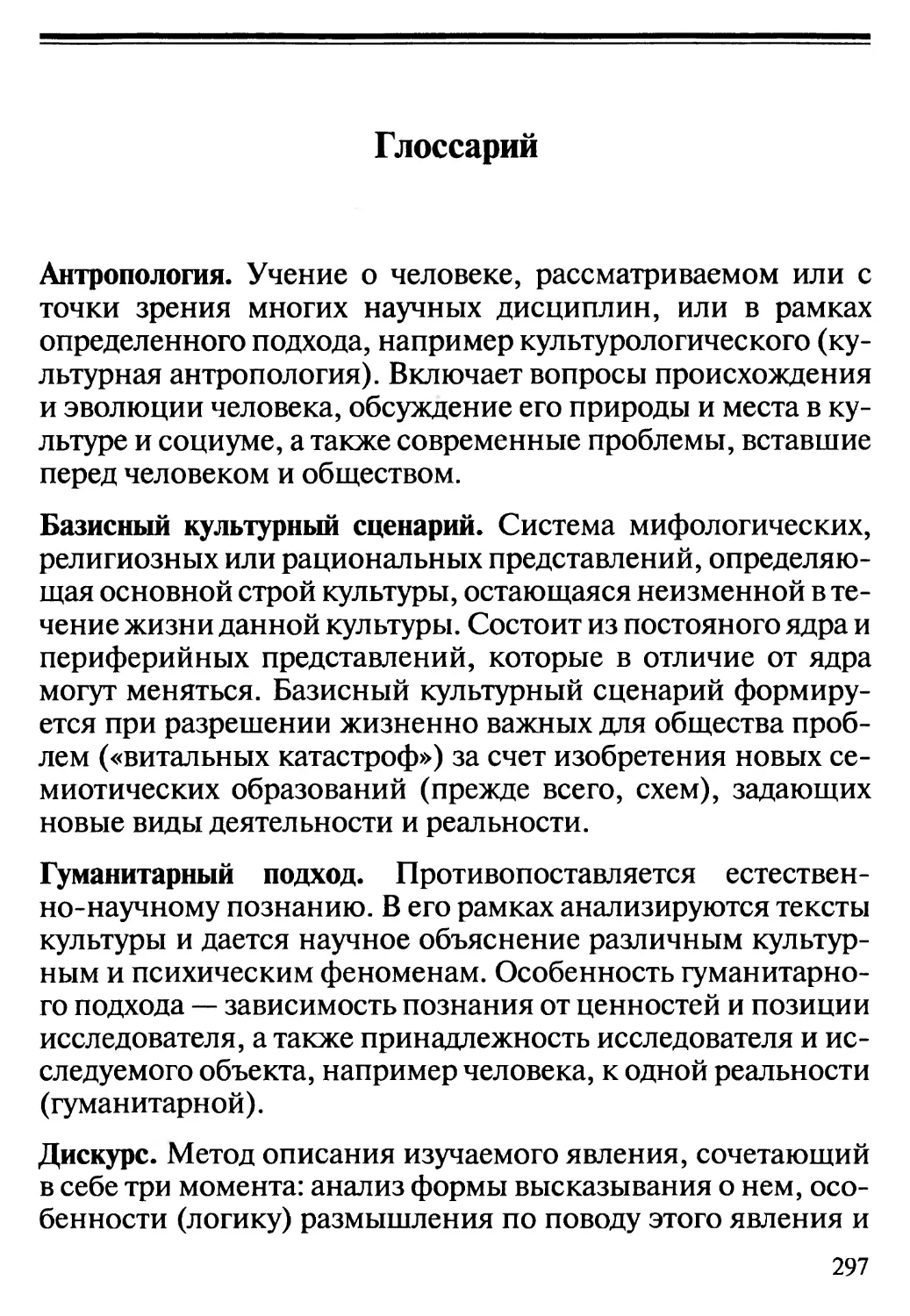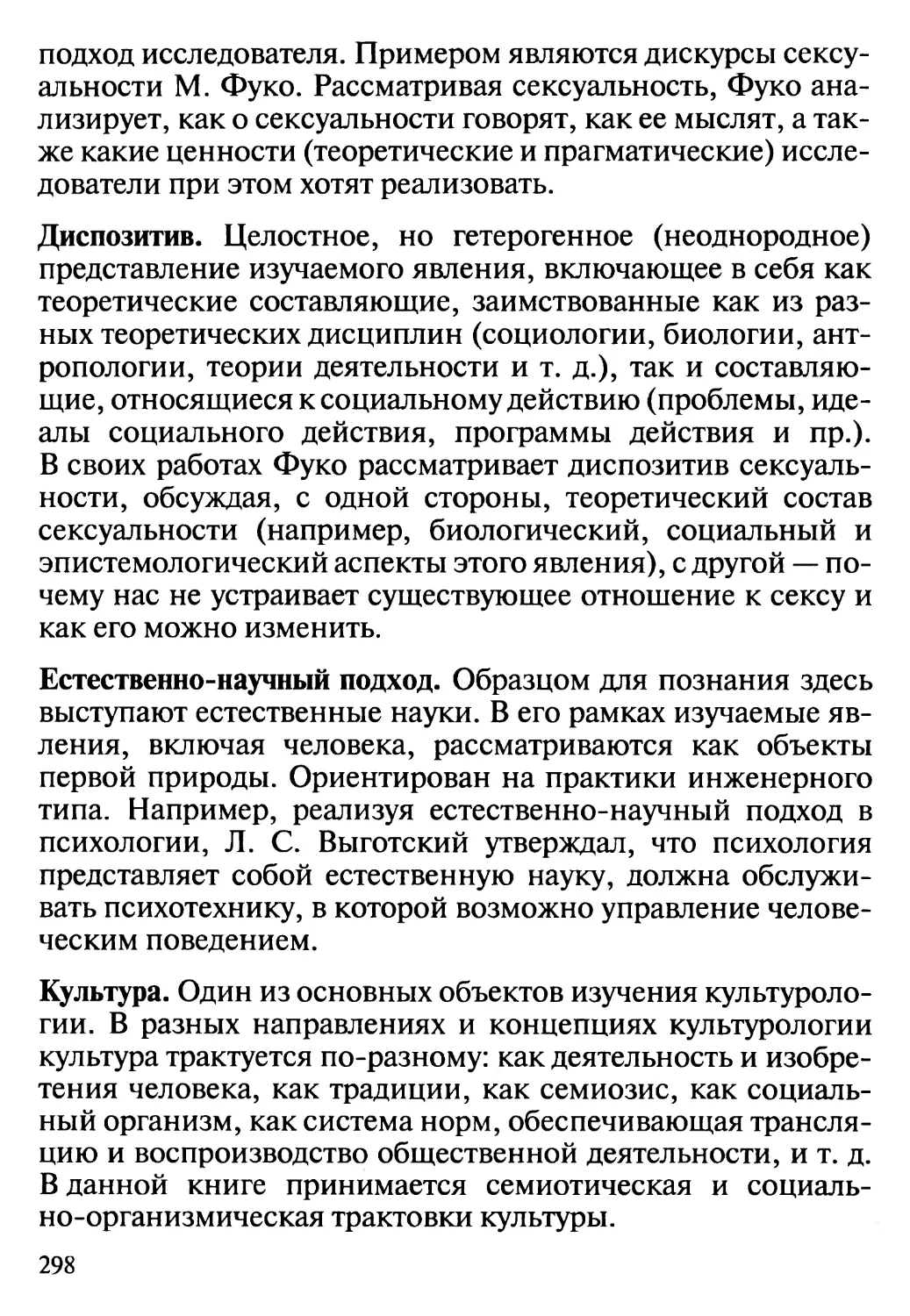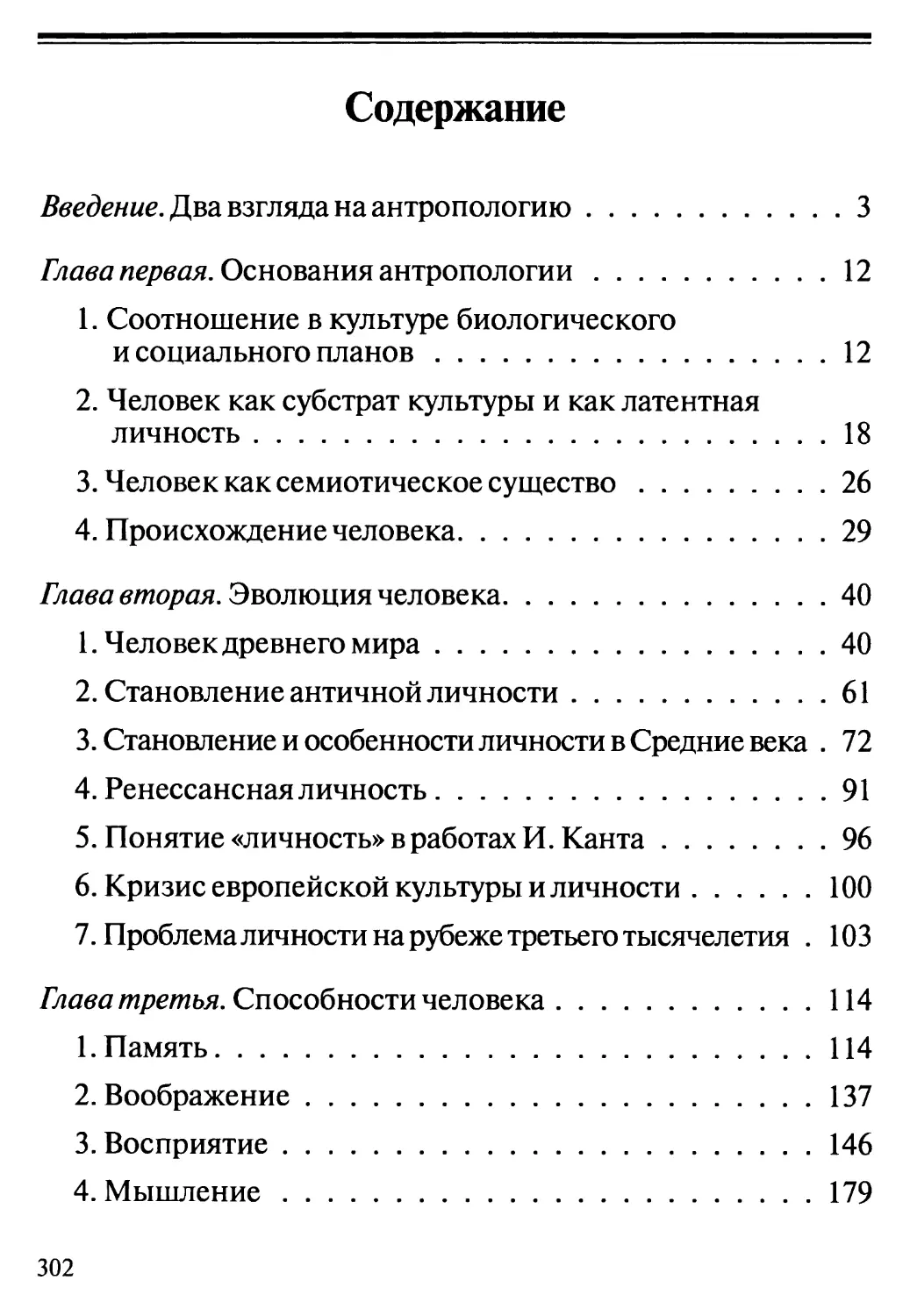Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
В. Μ. Розин
Человек культурный
Введение в антропологию
Рекомендовано Редакционно-издательским Советом Российской академии образования к использованию в качестве учебно-методического пособия
Москва — Воронеж
2003
УДК 572
ББК 28.71
Р64
Главный редактор
Д.И. Фельдштейн
Заместитель главного редактора
С.К. Бондырева
Члены редакционной коллегии:
A.Г. Асмолов
B.А. Болотов
Г.А. Борцовский
В.П. Борисенков
А.А. Деркач
А.И. Донцов
И.В. Дубровина
Л.П. Кезина
Μ.И. Кондаков
В.Г. Костомаров
О.Е. Кутафин
H.Н. Малофеев
Н.Д. Никандров
В.А. Поляков
В.В. Рубцов
Э.В. Сайко
В.А. Сластении
И.И. Халеева
Р64
Розин В. Μ.
Человек культурный. Введение в антропологию: Учеб. пособие. — Μ.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. — 304 с. — (Серия «Библиотека студента»).
ISBN 5-89502-488-2 (МПСИ)
ISBN 5-89395-527-7 (НПО «МОДЭК»)
Автор — известный российский культуролог и философ — излагает результаты своих многолетних исследований, посвященных объяснению происхождения, формирования и природы человека. Последний рассматривается не только как культурный индивид и личность, но также как духовно-телесное существо, что позволяет по-новому понять такие извечные феномены, как способности человека, любовь и здоровье.
Пособие предназначено для студентов и преподавателей вузов и всех интересующихся проблемами человека и культуры.
УДК 572
ББК 28.71
ISBN 5-89502-488-2 (МПСИ)
ISBN 5-89395-527-7 (НПО «МОДЭК»)
© ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ Российской академии образования (РАО), 2003
© Московский психолого-социальный институт, 2003
© Оформление. НПО «МОДЭК», 2003
Введение
Два взгляда на антропологию
Антропология (от греч. anthropos — человек и logos — учение, наука). Существуют две основные современные трактовки этой дисциплины: антропология — это целостное научное знание о человеке и вполне определенный, в этом смысле ограниченный, научный подход к изучению человека. Последняя книга Иммануила Канта, вышедшая в 1798 г., называлась «Антропология с прагматической точки зрения». В ней великий немецкий философ утверждает, что антропология — это систематическое учение о человеке, который рассматривается с двух точек зрения: «Физиологическое человековедение имеет в виду исследование того, что делает из человека природа, а прагматическое — исследование того, что он как свободно действующее существо делает или может и должен делать из себя сам» [31. С. 351 ]. Подход Канта к изучению человека явно можно отнести ко второй трактовке, и, на наш взгляд, она является более реалистической.
Действительно, почти две с половиной тысячи лет философия и наука изучают человека с разных точек зрения и сторон, каждая из которых в результате получила свое специфическое описание и теоретическое объяснение. При этом человек в знании распался на тысячу частей и проекций, исчез как нечто целое. Тогда возникла идея синтетического, целостного изучения человека, собирающего его из отдельных идеализированных научных представлений. Для антропологии, пишет в «Новой философской энциклопедии» H. Н. Козлова, в силу специфики объекта исследования всегда был характерен холизм как принцип целостного восприятия человека, общества, культуры. Однако целостного изучения пока не получается и возникает принципиальный вопрос: возможно ли оно вообще?
з
Так, известно, что научное познание всегда предполагает моделирование, идеализацию, упрощение (отвлечения от ряда реальных свойств и сторон изучаемого явления). В науке исследуются не индивидуальные, уникальные объекты во всем богатстве их проявлений и свойств (т. е. целостности), а типы и закономерности. А раз так, то целостность вроде бы исключается по самой природе научного познания. Мы имеем относительно удовлетворительные частичные теоретические описания человека в психологии, социологии, экономике, физиологии и т. д., а вот попытки выработать целостное представление о человеке, например, в философии или в психологических теориях личности вызывают затруднения. Рассмотрим для примера известную книгу «Теории личности» двух авторов Л. Хьелла и Д. Зиглера.
На первый взгляд, они сторонники естественно-научного дискурса, который в плане возможности целостного описания необходимо отвести сразу, поскольку человек в нем рассматривается не как целое, а с вполне определенной «использующей» точки зрения (дающей возможность предсказывать его поведение и полностью управлять им). «Современная психология личности, — пишут Л. Хьелл и Д. Зиглер, — являясь научной дисциплиной, трансформирует умозрительные рассуждения о природе человека в концепции, которые могут быть подтверждены экспериментально, а не полагаются на интуицию, фольклор или здравый смысл... Являясь объектом изучения, личность, кроме того, представляет собой абстрактное понятие (в современном языке науковедения — «идеальный объект». — В. Р.)... Тем не менее теория в целом принимается в научном мире как обоснованная и заслуживающая доверие в той степени, в какой результаты наблюдений за феноменом (обычно основанные на данных, полученных в конкретных экспериментах) согласуются с объяснением того же феномена, вытекающим из самой теории... Теория должна не только объяснять прошлые и настоящие события, но также и предсказывать будущие...Теории личности выполняют разные функции в психологии. Они дают нам возможность объяснить, что собой представ4
ляют люди, выявить относительно постоянные личностные характеристики и способ их взаимодействия, понять, каким образом эти характеристики развиваются во времени и почему люди ведут себя определенным образом» [75. С. 20, 22, 26, 27]. Как мы видим, налицо почти весь джентльменский набор естественно-научного дискурса: обобщение эмпирического материала с помощью абстрактных понятий и гипотез, установки на теорию, эксперимент, прогнозирование.
Но одновременно тут же мы встречаем характеристики науки, характерные прежде всего для гуманитарного дискурса. «Хотя персонологи, — пишут авторы рассматриваемой книги, — признают, что в способах поведения людей есть сходство (только в этом случае, вообще, возможна наука о поведении людей. — В. Р.), они прежде всего стремятся объяснить, как и почему люди отличаются друг от друга... Позиция, занимаемая персонологом в отношении свободы — детерминизма , сильно влияет на характер его теории и следующие из нее выводы о сущности человеческой природы. Это в равной степени верно и в отношении других основных положений. Теория личности отражает конфигурацию позиций, занимаемых теоретиком в отношении основных положений о природе человека» [75. С. 22]. Но последнее положение, кстати, выделенное самими авторами, — специфический признак гуманитарного дискурса, существенно отличающий его от естественно-научного.
Действительно, представители естественных наук, как мы подчеркивали, занимают относительно объекта изучения (природных феноменов) не разные позиции, а одну, позволяющую рассчитывать, прогнозировать и управлять природными явлениями. Для гуманитарного же познания характерны разные «заинтересованные» точки зрения. В гуманитарной науке познание предваряют ценностные отношения, связанные с разным пониманием природы изучаемого объекта. Каждый исследователь по-своему представляет изучаемый объект и выделяет соответствующие этому представлению стороны объекта и проблемы. Для гуманитарного познания важен и такой момент, как принятие ответственно5
сти за изучаемое явление (человека, культуру и т. д.). Ученый-гуманитарий своим познанием должен, как выражается А. А. Пузырей, «высвобождать место» для изучаемого явления, «предоставлять ему голос», не считать изучаемый объект «прозрачным» (в познавательном отношении). Безусловно, эти и другие особенности гуманитарных дисциплин позволяют достаточно адекватно изучать человека, однако не приближают к целостному его образу. Хотя гуманитарное познание вполне органично духовному опыту человека, оно, тем не менее тоже создает частичное, упрощенное представление о нем.
К недостаткам традиционных психологических теорий личности можно отнести и такой момент: по сути, они претендуют на научную строгость, которую не в состоянии реализовать. Это прежде всего относится к строгости психологической теории и требованию экспериментальной проверки. Чтобы не быть голословным, приведем оценки Л. Хьел- лом и Д. Зиглером соответствующих сторон трех известных психологических теорий.
«Основная ловушка для персонологов, заинтересованных в проверке теории Фрейда, заключается в невозможности воспроизведения клинических данных в контролируемом эксперименте. Вторая проблема в установлении валидности психоанализа связана с тем, что его положениям невозможно дать рабочие определения (т. е. теоретические концепции зачастую сформулированы таким образом, что трудно делать из них недвусмысленные выводы и проверяемые гипотезы). Когда получаемые результаты основаны на столь нечетких и неопределяемых умозаключениях, просто невозможно понять, согласуются ли они с теорией». «Несмотря на то, что персоноалогическая теория Олпорта имеет, несомененно, творческий характер, похоже, никто не дал себе труда и времени, чтобы проверить эмпирическую обоснованность ее концепций и соотвествующих утверждений. В такой эмпирической дисциплине, как психология, ни одна “теория не просуществует достаточно долго, если она не порождает доступных проверке прогнозов, основанных на ее 6
главных концепциях. Теория Олпорта в этом смысле не исключение». «К сожалению, другим аспектам теории Маслоу было посвящено крайне мало эмпирических исследований, во многом вследствие недостаточной строгости теоретических формулировок, затрудняющих проверку ее валидности» [75. С. 138,295,506].
Поскольку остальные психологические теории по критериям теоретической строгости и верифицируемости мало чем отличаются от трех данных, в том смысле, что тоже не соответствуют указанным критериям, Л. Хьелл и Д. Зиглер, заканчивая свою книгу, справедливо спрашивают: «Можно ли в принципе теоретические концепции проверять эмпирическим путем?» [75. С. 580]. Конечно нельзя. Только в естественных науках, к которым, на наш взгляд, психология не относится, теория обосновывается с помощью эксперимента, к тому же последний — это не эмпирия, а специально организованный опыт, выстроенный таким образом, чтобы соответствовать теории.
Сами по себе психологические теории личности могут быть интересными и схватывать важные особенности личности современного человека. Но, как правило, исходные гипотезы и концепции, на которых они построены, не от- рефлексированы с точки зрения предполагаемых областей употребления, не прояснены в плане своих границ и оснований. Кроме того, обычно в этих теориях человек истолковывается как существо, характеризуемое определенной структурой и организацией, независимой от культуры и времени. Конечно, психологи говорят о развитии психики и влиянии на развитие социальных условий, но понимают первое как развертывание исходной структуры, где в потенции все уже есть, а второе — как внешние факторы. Напротив, если по отношению к человеку реализовать культурологический и семиотический подходы, то нужно утверждать существование разных типов человека и психики, а не один. В этом случае нас уже не сможет удовлетворить психология, которая описывает психику вообще, как это имеет место сейчас; в ку7
льтурологически ориентированной психологии должны быть развернуты концепции разных типов психик.
Таким образом, вероятно, вторая трактовка антропологии является более реалистичной. Но если так, необходимо объяснить, какой частичный подход к изучению человека реализует автор. Этот подход можно назвать «генетическим» и «культурно-семиотическим». Основной метод — рациональная реконструкция истории изучамых явлений, в данном случае, человека. Последний при этом рассматривается двояко: с одной стороны, человек как социальный индивид входит в культуру и обусловлен ее реалиями, с другой — как личность опеределяет (обусловливает) сам себя и является поэтому самостоятельной формой социальной жизни. Для облегчения понимания последующих параграфов и рассуждений расскажу, как я приходил к своим представлениям.
Первоначально, объясняя, что такое культура и человек, я исходил из семиотического и деятельностного подходов, развитых в Московском методологическом кружке (ММК). В рамках их подходов культура — это семиотическое и деятельностное образование, а человек — субстрат деятельности и семиозиса. Развивается культура в результате разрешения ситуаций разрыва, т. е. снятия проблем, возникших в контексте воспроизводящейся деятельности. Разрешение ситуаций разрыва предполагает изобретение и формирование новых знаков и деятельности. Поясним, как в ММК понималась семиотика и семиозис.
«Решающим, — пишет создатель этого направления Г. П. Щедровицкий, — должен стать функциональный анализ знаковых образований как элементов социума. Это означает, что исследование надо будет начинать со связей и структур, «внешних» для рассматриваемых знаковых образований, и в них искать ключ для объяснения их «внутреннего» строения... Язык или какое-либо другое знаковое образование, взятое именно таким образом в системе социума, мы и будем называть «семиотическим образованием» (а я «семи- озисом». — В. Р.)» [80. С. 30]. В знаках в данном направлении выделяются такие элементы: знаковая форма, связь значе-
8
ния, объективное содержание. Знаковая форма, с одной стороны, рассматривается как представляющая объективное содержание, с другой — как объект, с которым можно действовать самостоятельно (как, например, мы действуем с числами в математике или словами в поэзии). Объективное содержание, с одной стороны, трактуется как представленное в знаковой форме, с другой — как фиксирующее сопоставление объектов с общественно значимыми эталонами (например, в определенном числе мы фиксируем сопоставление некоторой совокупности с натуральным рядом чисел). Связь значения соединяет оба названных элемента в одно целое — собственно знак. В данном направлении семиотики автору в середине 60-х г. удалось выделить следующие типы знаков: знаки-модели (когда действия со знаками и объектами сходны для некоторого контекста, например, такими знаками являлись числа-пальцы древних народов), знаки-символы (указанное сходство отсутствует, например, для арабских чисел), знаки-обозначения (это главным образом слова как знаки) и знаки-выделения (они впервые, как, например, сложный знак — представление архаического человека о душе, задают структуру объекта, обозначенного в знаке) [61; 64].
Позднее, в конце 90-х гг., не отказываясь от семиотической и деятельностной трактовки, я стал рассматривать культуру и человека (личность) как формы социальной жизни. Этот подход, назовем его «социовитальным», позволял еще в одном отношении (используя метафоры «жизни», «рождения», «развития» и «смерти») объяснить устойчивость отдельных культур и переход от одних к другим, а также включить в анализ такие социальные образования, как хозяйство, власть, общество, сообщества, личность и др.
В рамках социовитального подхода конкретные культуры (архаическая, культуры древних царств, античная, средневековая, Нового времени, российская и т. д.) удалось представить как социальные организмы. Отдельные культуры складываются в определенных исторических и социальных условиях, взаимодействуют с другими культурами, развива9
ются и усложняются, затем распадаются, уступая место другим культурам.
Одновременно в методологическом плане для меня возникла проблема понять, как связаны между собой семиоти- чески-деятельностная трактовка культуры с социовиталь- ной. Решение состояло во введении понятий базисного культурного сценария и схемы. Уже семиотически-деятельност- ный подход позволил выделить в отдельной культуре базисные представления (например, о душе человека для архаической культуры, о богах для культуры древних царств), которые являются центральными и сохраняются в течение жизни культуры. Более того, генезис культур показывает, что под их влиянием складываются и другие основные составляющие культуры (социальные институты, власть, общество, личность, сообщества). Действительно, в рамках базисных культурных сценариев формируются социальные институты, например, для культуры древних царств — это армия, жреческая и царская власть, хозяйство, образование, судопроизводство. Выполняя в социальном организме определенные функции (внешние или внутренние: защиты, управления, производства, воспроизводства, разрешения конфликтов), социальные институты одновременно строятся так, чтобы соответствовать базисным культурным сценариям. Например, армия в культуре древних царств возглавлялась не только полководцами, но прежде всего богами войны и народа, поэтому на нее распространялись все основные сакральные сценарии (необходимость жертвоприношений, уяснение воли и указаний богов, ориентировка в сложных отношениях между главными богами, а по сути, в отношениях с другими институтами). Общество и сообщества, а позднее (в античной культуре) личность тоже складываются в культуре под влиянием базисных культурных сценариев. Например, общество и сообщества культуры древних царств консолидировались, структурировались и действовали от имени соответствующих богов (каждая община и сообщество имели своего бога-покровителя и, когда вырабатывалось коллективное решение, его идея и побудительный мотив приписы10
вались богам). Наконец, и структура власти в культуре, понимаемая автором как инстанция, связывающая людей с системой социального управления, существенно обусловлена базисным культурным сценарием.
В свою очередь, базисные культурные сценарии формируются как семиотические схемы при разрешении «витальных катастроф», т. е. комплекса проблем, без решения которых новая культура как форма социальной жизни не могла бы сложиться (если понятие ситуации разрыва позволяет объяснить развитие деятельности, то понятие витальной катастрофы — становление новой культуры). В становящейся культуре схемы как семиотические образования выполняют две важные функции: обеспечивают организацию деятельности и задают новую социальную реальность. Но и обратно, социальная организация складывается именно при изобретении схем. Одновременно она есть необходимое условие становления культуры: в рамках социальной организации формируются социальные институты и другие социальные образования, например, те же власть, общество, сообщества, личность.
Привлекательной для меня является и позиция Канта, предлагающего рассматривать человека с двух точек зрения: как обусловленного различными обстоятельствами (культурой, образованием, собственной личностью и т. д.) и одновременно как существо активное, деятельное, рефлектирующее, изобретающее.
п
Глава первая
Основания антропологии
1. Соотношение в культуре биологического и социального планов
Вслед за Брониславом Малиновским я выступаю против редукции культуры и человека к биологическому плану. «Культура, — пишет Малиновский, — это единое целое, состоящее частью из автономных, а частью согласованных между собой институтов. Она объединяет в себе ряд моментов, таких как общность крови, смежность среды обитания, связанную с совместной деятельностью, специализацию этой деятельности и не в последнюю очередь — использование власти в политических целях. Каждая культура обязана своей целостностью и самодостаточностью тому факту, что она служит удовлетворению всего спектра базовых, инструментальных и интегральных потребностей» [47. С. 47]. Как мы видим, «общность крови» здесь не самое главное. И «потребности» Малиновский понимает не биологизаторски и психологически, а культурологически. Хотя культура, согласен Малиновский, обеспечивает человека в плане «биологического детерминизма», удовлетворяя его «базисные потребности» (т. е. обеспечивая возможность питания, дыхания, движения, размножения и прочее), все основные биологические процессы человека протекают в культуре совершенно иначе, чем в природе; они, как пишет и показывает создатель функционализма, «регулируются, определяются и модифицируются культурой» [47. С. 87]. «Потребности, — подчеркивает Малиновский, — мы соотносим не с индивидуальным организмом, а, скорее, с сообществом и культурой», «лучше опустить понятие влечения в анализе человеческого поведения, пока мы не поймем, 12
что мы должны пользоваться им иначе, чем зоопсихологи и физиологи» [47. С. 88—89].
Но сторонников биологизаторской трактовки культуры эта концепция не убеждает, они до сих пор находят прибежище своим взглядам в учении Дарвина и других новейших теориях эволюционизма. У некоторых читателей здесь могут возникнуть вполне законные вопросы: а разве человек не вышел из природы, разве он не биологическое существо и разве его базовые способности (память, восприятие, воображение, мышление) не такие же по сути, как у животных? Например, в этом, но также и в том, что психология должна быть естественной наукой, а психологическая практика — своеобразной инженерией («психотехникой»), был совершенно уверен создатель советской психологии Л. С. Выготский, о чем, помимо тезиса, что целью психологии является «подчинение и овладение психикой», свидетельствует и следующее его высказывание: «В этом смысле прав Павлов, называя нашу науку последней наукой о самом человеке. Она действительно будет последней в исторический период человечества наукой или в предыстории человечества. Новое общество создает нового человека. Когда говорят о переплавке человека, как о несомненной черте нового человечества, и об искусственном создании нового биологического типа, то это будет единственный и первый вид в биологии, который создаст сам себя. В будущем обществе психология действительно будет наукой о новом человеке. Без этого перспектива марксизма и истории науки была бы неполной» [20. С. 436].
Сегодня высказывания Выготского конца 30-х гг. выглядят полным анахронизмом, хотя создатель советской психологии всего лишь последовательно додумывает свою мысль до конца (любопытно, что современные психологи, следующие естественно-научной ориентации, стесняются делать выводы, которые смело сделал Выготский). В настоящее время сторонников эволюционной теории и биологизаторских трактовок человека не меньше, чем прежде. Вот совсем свежий пример — интересная работа известного сибирского философа Вячеслава Чешева «Человек как мыслящее суще13
ство». С одной стороны, он явно исходит из марксистской концепции происхождения человека, развитой А. Н. Леонтьевым в известной работе «Проблемы развития психики». С другой — опирается на эволюционную теорию, которую Леонтьев по отношению к данной проблеме решительно отвергает. Чтобы в этом убедиться, сравним высказывания упомянутых авторов.
{Леонтьев) «До сих пор еще широко распространено представление о филогенетическом развитии человека как непрерывно идущем процессе, управляемом действием законов биологической эволюции. Описания ископаемых людей, начиная с древнейших, создают на первый, поверхностный взгляд достаточно убедительную картину прогрессивных морфологических изменений, которые происходят вплоть до современного человека и будут продолжаться дальше, может быть, даже с перспективой появления нового вида людей — неких Hominum futugogum. Такое представление связано с убеждением, что эволюция человека, подчиняющаяся биологическим законам, распространяется на все этапы его филогенетического развития, включая и этап его развития в условиях общества; оно предполагает, что и в этих условиях продолжается отбор и наследование биологических особенностей, обеспечивающих дальнейшее приспособление человека к требованиям общества.
Современная передовая палеоантропология, однако, решительно противостоит этому представлению об антропогенезе, равно как и вытекающим из него грубо биологизатор- ским выводам...
Качественная грань, которая отделяет эти стадии от предшествующей подготовительной стадии, состоит в том, что у питекантропов возникает изготовление орудий и примитивная совместная деятельность с помощью орудий, т. е. формируются зачаточные формы труда и общества. А это меняет самый ход развития... возникает сфера исключительного действия совершенно новых, а именно социальных, общественно-исторических законов» [41. С. 357—359].
14
( Чешев) «Разумность человека и его общественная жизнь являются сторонами единого целого. Стремление всмотреться в природу разумного начала неотделимо от исследования эволюционного процесса становления человека и человеческого общества. По этой причине философская антропология не может оставить без внимания достижения естественно-научной антропологии, изучающей человека как биологический вид. Социальность как более высокая форма жизни сложилась на биологической основе, и антропологи до сих пор ведут дискуссию об эволюционных факторах, которые оказали решающее воздействие на становление биологической формы Homo sapiens... едва ли можно найти сомневающихся в том, что человека как разумное существо сформировал изменяющийся образ жизни, т. е. качественные изменения во взаимоотношениях организованного сообщества биологических особей и природной среды.
Фундаментальным эволюционным фактором, изменившим поведение и образ жизни гоминидного предка человека, стала предметно-орудийная активность или, иначе, предметная деятельность, т. е. использование им сначала естественных, а затем искусственных средств для обеспечения условий своего существования» [77. С. 38 ].
Однако ни А. Леонтьеву в рамках идеи смены законов развития с биологических на социальные, ни В. Чешеву в рамках концепции биологической эволюции не удается убедительно показать, как возник человек. Прежде всего, непонятно, зачем гоминидным предкам нужно было изготовлять орудия и как они могли это сделать, не обладая человеческим сознанием. Апелляция к совместному поведению человекообразных обезьян или эпизодическому использованию ими естественных орудий ничего здесь не доказывает. «В течение долгого времени, — пишет Д. Мак-Фарленд, — способность использовать орудия считали признаком, который отличает человека от других животных. Теперь, когда об использовании животными орудий мы знаем гораздо больше, этот вопрос не представляется нам столь ясным» [46. С. 464]. А вот еще более определенный вывод советского антрополога и 15
психолога Б. Ф. Поршнева: «Что из того, если какое-то животное не только «изготовляет орудия», но и «изготовляет орудия для изготовления орудий»? Мы не перешагнем на самом деле никакой грани, если мысленно будем возводить все то же самое в какую угодно степень... Весь этот технический подход к проблеме начала человеческой истории на самом деле подразумевает психологическую сторону дела» [58. С. 44].
С критикой Поршнева вполне можно согласиться, но и ему не удается убедительно показать, что переход к деятельности и изготовлению орудий связан с зарождением речи в процессах коммуникации; формирование речи, по Поршне- ву было обусловлено суггестивными процессами, на основе которых строились взаимоотношения между гоминидными предками человека [58]. Возможно, для 60-70-х гг. размышления А. Леонтьева и Б. Поршнева были убедительны, подобно тому, как сегодня для многих естественно-научно ориентированных ученых убедительны идеи социобиологии или эволюционной эпистемологии. Но для меня эти размышления и идеи неубедительны и недоказательны.
В 20-е гг. интересное решение той же самой проблемы происхождения и природы человека наметили В. Н. Воло- шинов (из круга Μ. Бахтина) и Л. Выготский. Эти исследователи в начале нашего века обратились к семиотике и культурологии. Идея состояла в том, что знак и культурные механизмы социализации индивида опосредуют связь психики с биологическим организомом и внешними для организма ситуациями (средой, деятельностью, другими особями). «Действительность внутренней психики, — писал Волошинов, — действительность знака. Вне знакового материала нет психики. .. психику нельзя анализировать как вещь, а можно лишь понимать и истолковывать как знак» [19. С. 29]. Не столько знак приспосабливается к нашему внутреннему миру, сколько этот мир приспосабливается к возможностям знакового обозначения и выражения [19. С. 92]. Отсюда естественно следовало утверждение о том, что «психика в организме — экстерриториальна. Это — социальное, проникшее в орга16
низм особи... знак, находящийся вне организма, должен войти во внутренний мир, чтобы осуществить свое знаковое значение» [ 19. С. 43]. Сходные идеи в это же самое время развивает Л. С. Выготский. Анализируя высшие психические функции, Выготский пишет, что в этих функциях «определяющим целым или фокусом всего процесса является знак и способ его употребления... характер употребляемого знака является тем основным моментом, в зависимости от которого конструируется весь остальной процесс» [22. С. 160]. Сам же знак и его значение формируется сначала во внешнем социальном контексте и лишь затем усваивается (интериори- зуется) во внутреннем плане психики [22. С. 197, 16].
Однако здесь возникают два вопроса: как эту точку зрения провести в жизнь и не сводится ли психическое непосредственно к семиотическому и социальному? Размышляя на эту тему, В. Давыдов и Л. Радзиховский склоняются к тому, чтобы ответить на второй вопрос утвердительно (тогда первый вопрос отпадает). «Суть решения Л. С. Выготским вопроса о единице анализа психики, — пишут они, — может быть выражена следующим образом. Генетически (онто- и филогенетически) исходной единицей, на основе структуры которой развертываются психические функции, является социальное действие (взаимодействие). На уровне собственно психического в роли единицы выступает знак. Структура знака есть свернутая и трансформированная структура социального действия» [27. С. 40]. Этот ход весьма интересен, но необходимое условие реализации его — психологическое истолкование самой семиотики и социологии (культурологии, физиологии и т. д.), с одной стороны, и семиотическое (социологическое, культурологическое, физиологическое и т. д.) истолкование психики — с другой. Вероятно, поэтому программа Волошинова — Выготского практически не была реализована. От программы до ее реализации, как известно, большой путь: нужно иметь специальное, психологически ориентированное учение о знаках (особый вариант семиотики), особую, психологически ориентированную социологию, понять, как происходит проникновение социаль17
ного в «организм особи», как затем психика функционирует как бы «сама по себе», т. е. в естественном режиме, понять, какие ограничения на психические процессы накладывает своеобразие личности человека, и др. Не менее важно переосмыслить, переинтерпретировать психические процессы и структуры (сохраняя онтологию психического) в семиотическом, социологическом, культурологическом ключах.
Теперь проблема способностей человека. Действительно, с точки зрения сторонников биологизаторского подхода, и чувства и способности человека обусловлены его биологией и поэтому в своем ядре неизменны, развитие же их связано с эволюцией этого ядра под влиянием изменяющихся культурных условий. Например, в работе «Мышление и речь» Выготский пишет, что в животном мире заложены корни человеческого интеллекта, что нет основания отрицать наличие генетических корней мышления и речи в животном царстве. Именно на подобных доказательствах, помимо дарвинизма, основывается эволюционная концепция. С точки зрения другого подхода — культурологического, чувства и способности человека кардинально перестраиваются при смене культур и представляют собой специализированные на биологическом материале семиотические, деятельностные и психические феномены. Ниже мы постараемся показать это.
2. Человек как субстрат культуры и как латентная личность
Тезис Б. Малиновского, что культура представляет собой систему институтов, содержит в себе некоторую неясность: его можно понять и так, что культура сама по себе, вне обеспечения человеческих потребностей, не представляет собой самостоятельного целого. «Главный тезис, — пишет Малиновский, — состоит в том, что по своей сути символическое есть модификация изначально органического, позволяющая преобразовать физиологическое побуждение организма в факты культурной значимости... Детальное описание Келе18
ром того, как его шимпанзе в условиях неволи были способны получать пищу и добиваться других желаемых целей, указывает на тот факт, что в природных условиях высшие предки человека были равным образом способны к отбору материальных объектов, выдумыванию определенных технологий и тем самым к вхождению в сферу орудийного, хотя все еще докультурного действия. Такие привычки могли сохраняться индивидами под действием механизмов подкрепления, т. е. в результате удовлетворения, неизменно следующего за инструментальным действием... Мы можем представить себе, что орудия, оружие, убежище и действенные способы ухаживания могли быть открыты индивидом, придуманы им и преобразованы в индивидуальные привычки» [47. С. 126-128].
Другими словами, человек сам придумывает, открывает технологии, а подкрепление есть только условие их закрепления. Получается, что культура потенциально заложена в человеке. Правда, тут же Малиновский замечает: «Бесплодно любое обсуждение сферы символического вне социологического контекста, подобно любому предположению о том, что культура могла возникнуть без одновременного появления артефактов, техник, организации и символического» [47. С. 129]. Но если последние были «придуманы», «открыты» человеком, пусть даже при этом подкрепление сыграло свою роль гениальной повивальной бабки, то все-таки культура основывается на способностях человека и не является самостоятельной формой жизни. Как можно решить эту дилемму — человек задается культурой и является ее носителем?
Первый ход здесь состоит в утверждении, что именно культура является самостоятельной формой жизни и организмом (социальным, а не биологическим), а биологический план (люди как биологический вид) зависит от этой формы жизни, находится у нее в подчинении. Другое дело, что одна из важных функций культуры — обеспечение базисных и производных потребностей людей как биологических существ. Но только одна, у культуры есть и другие функции: воспроизводства социального опыта, реализации базисных культурных 19
сценариев и других культурных смыслов, поддержание самой жизни культуры. Если это так, то отношения между культурой и человеком как биологическим существом можно изобразить в следующей схеме (здесь пунктиром обозначено отношение одного организма, социального, к другому, биологическому):
Схема 1
Теперь подумаем, как ввести культуру в качестве социального организма (напомним, что определенная культура рождается, живет и умирает, взаимодействует с другими культурами, а когда уходит со сцены истории, ее место занимает новая, молодая культура, т. е. культуры ведут себя как своеобразные организмы). Понятие организма предполагает принятие по меньшей мере нескольких представлений: определенной формы осознания действительности, позволяющей организму ориентироваться в среде и целенаправленно действовать, соответственно среды, систем жизнеобеспечения организма, наконец, способа воспроизводства себе подобных. Но социальный организм — это организм, содержащий и использующий другие организмы (биологические). Сознанием последних (т. е. сознанием людей) он и пользуется как субстратом собственного сознания,структура же его обусловливается прежде всего семиозисом.
Чтобы понять, как можно мыслить подобный социальный организм, обратимся к знаменитой работе Канта «Критика чистого разума», где разум наделяется антропоморфными свойствами, начиная напоминать Бога. Кантианский разум — это и мышление (творчество) людей, и действие самого разума, действующего посредством человека. Более того,
20
в творчестве Канта разум впервые осознает себя. Воспользуемся плодами работы Канта. Спросим, каким образом социум может осознавать окружающий мир и самого себя? Вероятно, посредством людей, но действующих не столько как биологические существа, сколько как обусловленные языком представители культуры. В теоретическом плане мы должны сказать иначе: обусловленные семиозисом и социальной организацией. Другими словами, когда человек мыслит и осознает культурными текстами, адресуясь к другим представителям культуры, удовлетворяя требованиям культурной коммуникации, через него (им) мыслит и сознает социум (культура).
Каково же содержание осознавания социума, о чем он, так сказать, думает, чем озабочен? Если мы учтем, что культура рождается, живет и умирает, а также взаимодействует с другими культурами, то можно предположить, что это и есть забота социума. Социум думает и осознает, как возникает (становится) мир, что он собой представляет, что собой представляют другие миры (сравни с разумом Аристотеля, который мыслит самого себя. «И жизнь без сомнения присуща ему; ибо деятельность разума есть жизнь, а он есть именно деятельность... разум мыслит самого себя, раз мы в нем имеем наилучшее, и мысль его есть мышление о мышлении» [6. С. 211, 215].
Почему мир, а не что-нибудь другое? Вероятно, потому, что мир (реальность) — это и есть самое общее представление для человека культуры, куда входит все, что его окружает, и он сам. Также и потому, что для человека, подключающегося к культуре, важно понять, чем он отличается от других людей, своей и чужой культуры (вспомним, как афористически говорил Μ. Бахтин: «Внутренней территории у культурной области нет, она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее»), а также как ориентироваться в открывающемся для него мире и что последний представляет собой.
Уже в мифах древнего мира можно увидеть, что тема становления и гибели мира является одной из ведущих. «Преобразование хаоса в космос, — пишет Мелетинский, — соот21
ветствует выделению культуры в ее противопоставлении п р и р о д е» [48. С. 212]. Остальные темы мифов в значительной степени посвящены освоению мира. Тема творения мира и его конца (Страшного Суда) в Средние века не менее важная, чем для предыдущей культуры — перехода хаоса в космос и наоборот. К тому же здесь намечается осознание космоса как социального организма, обладающего разумом, ведь представление о том, что Бог создал мир, в котором все совершается по его воле, а человек создан «по образу и подобию» Творца, подразумевает, что социум не только живое, но и разумное антропоморфное существо (субъект). У Канта мир и существует, и познается, и конституируется Богом через человека. Кантианская культура уже вполне может быть названа живой, творческой и разумной. Наконец, Гегель в идеях субъективного, объективного и абсолютного духа делает последний шаг в осознании социума и культуры как живого разумного организма.
Анализ общества как социальной подсистемы позволяет сделать второй шаг в разрешении сформулированной выше дилеммы, введя второе понимание человека. Первое понимание предполагает истолкование человека (людей) как субстрата культуры. Но в рамках общества человек выступает в другой ипостаси: он является условием развития культуры, выступает как носитель всей социальности (сравни с представлениями Б. Малиновского). Когда в «Политике» Аристотель пишет, что человек по своей природе есть существо общественное и политическое, он, по сути, говорит о том же. Чтобы пояснить это второе понимание человека, рассмотрим сначала одну иллюстрацию.
Образованию в XVв. империи ацтеков предшествовала следующая история. В начале XVв. мехики жили в небольшом государстве. После избрания королем Итцкоатла, около 1424 г., мехики оказались перед трагическим выбором: или признать власть Максила, тирана соседнего государства, или начать против него войну. Перед угрозой уничтожения король и мехи- канские господа решили полностью подчиниться тирану, говоря, что лучше отдаться всем в руки Максила, чтобы он сделал 22
с ними все, что пожелает, а быть может, Максил их простит и сохранит им жизнь. Именно тогда слово взял принц Тлакаэлель и сказал: « Что же это такое, мехиканцы? Что вы делаете? Вы потеряли рассудок! Неужели мы так трусливы, что должны отдаться жителям Ацкапутцалко? Король, обратитесь к народу, найдите способ для нашей защиты и чести, не отдадим себя так позорно нашим врагам».
Воодушивив короля и народ, принц Тлакаэлель получил в свою власть управление армией, укрепил и организовал ее, повел на врага и разбил тирана. Став после победы ближайшим советником короля и опираясь на мехиканских господ, Тлакаэлель начал ряд реформ. Сначала он осуществил идеологическую и религиозную реформы. Тлакаэлель приказал сжечь кодексы и книги побежденных текпанеков и самих мехиканцев, потому что в них народу ацтеков не придавалось никакого значения; параллельно были созданы новые версии истории и веры ацтеков, где этот народ объявлялся избранным, он должен был спасти мир, подчиняя для этой цели другие народы, чтобы питать кровью захваченных пленников Бога-Солнце. Подобно тому, как Тлакаэлель провел реформы в идеях и в религиозном культе, он преобразовал, как об этом говорит «История» Дурана, юридические нормы, службу царского дома, армию, организацию почте- ков (торговцев) и даже создал ботанический сад в Оахтепеке [40. С. 266-275].
Проинтерпретируем этот случай. Король и мехиканские господа образуют своеобразное общество: на собрании вопрос о судьбе страны они решали вне рамок государственных институтов, это было именно общественное собрание, где важно было убедить других (короля, жрецов, господ, народ — это все различные общественные образования, субъекты), склонить их к определенному решению и поступку. Но дальше формируется консолидированный субъект — король и принц Тлакаэлель, возглавившие мехиканских господ и армию и организовавшие поход против тирана. При этом важно, что социальное действие осуществляется уже в рамках и с помощью социальных институтов — армии и жрецов. Соответственно и реформы идут с помощью и в рамках соци23
альных институтов. Поясним теперь, что мы понимаем под обществом.
Общество состоит из «общественных образований» (например, партий, союзов, групп, отдельных влиятельных личностей и т. д), которые обладают способностью вести борьбу, формулировать самостоятельные цели, осуществлять движение по их реализации, осознавать свои действия. Общество образует некую целостность, обладает своеобразным сознанием, создает поле и давление, в рамках которых действуют общественные образования и социальные субъекты. В отличие от обществ культуры древнего мира гражданское общество, вероятно, складывается в следующей культуре — античной. Именно здесь формируется личность (т. е. человек, переходящий к самостоятельному поведению, создающий индивидуальный, не совпадающий с общественным культурный сценарий и картину мира) и на ее основе отдельные группы, союзы, сообщества, партии, преследующие самостоятельные цели. Имея общий «плацдарм жизни» и социальные ресурсы, общественные образования взаимодействуют друг с другом, пытаясь склонить других участников общественного процесса к нужным для себя результатам. В результате этого политического процесса и складываются общественное мнение и решения.
Если говорить об обществе в теоретической плоскости, то можно выделить следующие его характеристики. Общество имеет два основных режима — активный и пассивный. В пассивном — «общество спит» в том смысле, что, поскольку социуму ничего не угрожает, общество бездействует, кажется, что такой реальности нет вообще. Но в ситуации кризиса социума, его «заболевания», общество просыпается, становится активным, начинает определять отношение человека культуры к различным социальным реалиям и процессам.
Следующая характеристика — наличие у представителей культуры представления о взаимозависимости, а также социальном устройстве, понимаемые, конечно, в соответствии с культурными и индивидуальными возможностями сознания 24
отдельного человека. Каждый человек культуры в той или иной степени, кто больше, кто меньше, понимает, что он зависим от других, что культурная жизнь предполагает совместную деятельность, подчинение, взаимопомощь, что все эти отношения обеспечиваются общественными институтами (соответствующий аспект, план сознания назовем «общественным»).
Третья характеристика общества — общение. В ситуациях кризиса или заболевания социума люди переходят к общению, т. е. собираются вместе вне рамок социальных институтов и, главное, пытаются повлиять на общественное сознание друг друга с целью его изменения. Ю. Н. Давыдов, рассматривая в «Новой философской энциклопедии» понятие «общество», точно подмечает обе указанные здесь характеристики: «ОБЩЕСТВО (лат. societas — социум, социальность, социальное) в широком смысле: совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их всесторонняя зависимость друг от друга; в узком смысле: генетически и/или структурно определенный тип — род, вид, подвид и т. п. общения, предстающий как исторически определенная целостность либо как относительно самостоятельный элемент подобной целостности» [28. С. 132]. Вспомним историю Древней Греции, Сократа и то, как он вел себя на суде. Сократ не только и не столько доказывает свою невиновность в юридическом смысле, сколько пытается повлиять на сознание своих оппонентов, сторонников и судей. Для этого Сократ рассказывает о себе и своей жизни, обсуждает привычные убеждения людей, присутствующих на суде (понимание смерти, жизни, того, ради чего стоит жить), вводит новые представления, например, утверждает, что смерть есть благо, что жить надо ради истины и добродетели, а не ради славы и богатства, что лучше умереть, чем жить в бесчестии, что, где себя человек поставил, там он и должен стоять всю жизнь, невзирая на саму смерть. Общение всегда предполагает воздействие друг на друга, причем способы влияния могут быть самыми различными: задание новых представлений и схем (например, как 25
это делает последователь Сократа, великий философ античности Платон в «Пире» по поводу любви; кстати, этот диалог и построен в форме рассказа об общении на пиру), обмен мнениями, внушение, запугивание, демонстрации разного рода и пр.
Результатом эффективного общения, как правило, является сдвиг, трансформация общественного сознания (новое видение и понимание, другое состояние духа — воодушевление, уверенность, уныние и т. п.), что в дальнейшем является необходимым условием перестройки социально значимого поведения. В этом смысле общество напряжено (структурировано) силовыми линиями поля социума, куда всегда возвращаются общающиеся (чтобы продолжать функционирование в соответствующих институтах). Но одновременно само общество есть своеобразное поле, силовые линии и напряженности которого задаются текущим взаимодействием (общением) всех участников, которые «здесь и сейчас» сошлись на общественном подиуме.
Вернемся теперь к вопросу о том, как в рамках общества мы рассматриваем человека (людей). Он уже не субстрат культуры, а потенциальный носитель всей социальности, а также будущего социального устройства. Именно его активность, направленность и взаимодействие (общение) в рамках общества определяют возможную в перспективе структуру культуры, возможную в том смысле, что новая культура состоится (при этом возможность перейдет в действительность), если имеют место и другие необходимые для формирования культуры предпосылки (семиотические, ресурсные и пр.). Такой человек, назовем его «латентной личностью» является самостоятельным социальным организмом, живущим, однако (и это существенно), в лоне культуры.
3. Человек как семиотическое существо
Поведение животных полностью определяется теми ситуациями-событиями, с которыми они сталкиваются (в случае опасности животное бежит, если хочет есть — ищет пищу 26
и т. д.). Поведение человека и ситуация, в которой он оказался, задаются языком. Так, читая в данный момент (скажем, дома, на диване) эту книгу, вы проживаете не ситуацию домашнего времяпрепровождения — этот момент второстепенный, вы его можете даже не замечать; проживается ситуация совершенно другая — вы мыслите и воображаете, что такое человек, как его предлагает изучать автор, как человек формируется в культуре. Но каким образом, спрашивается, становится возможным проживать события, которых вроде бы нет актуально? В теоретическом плане, чтобы объяснить этот удивительный феномен, приходится обратиться к семиотике, истолковывая ее, однако, не традиционно, а по-новому: связывая семиозис, с одной стороны, с социальными отношениями и деятельностью человека, с другой — с представлениями человека о том, что существует.
С семиотической точки зрения человек является существом социальным и культурным. Прямое истолкование его как знака, на наш взгляд, непродуктивно. Поэтому нельзя согласиться с В. Канке, который пишет: «Выражение «человек-знак» вряд ли ласкает слух читателя, но, посути, оно верно выражает философско-семиотическое понимание человека», которое, как выяснилось к концу XX в., составляет сердцевину философии человека» [30. С. 8]. Семиотические образования, главными из которых являются знаки и схемы, если иметь в виду феномен человека, выполняют три основные функции: позволяют строить человеческую деятельность и поведение, задают события его сознания, определяют структуру его способностей.
Говоря о знаках, мы употребляем два ключевых слова: «обозначение» и «замещение», например, некоторое число как знак обозначает то-то (скажем, совокупность предметов), замещает такой-то предмет (эту совокупность) в плане количества. У схемы другие ключевые слова: «описание» и «средство» (средство организации деятельности и понимания). Например, мы говорим, что схема метро описывает пересадки и маршруты движения, помогает понять, как человеку эффективно действовать в метрополитене.
27
Знаки вводятся в ситуации, когда уже сформировалась некоторая объектная область, но по какой-либо причине человек не может действовать с объектами этой области (например, они разрушились, громоздки и пр.). Замещая эти объекты знаками и действуя с ними, вместо того, чтобы действовать с соответствующими объектами, человек получает возможность достигнуть нужного ему результата; при этом частично перестраивается и сама деятельность и по-новому (сквозь призму означения) понимаются исходные объекты.
Схемы тоже означают некоторую предметную область (например, схема души — состояния человека), но эта их функция не главная, а подчиненная; можно сказать, что она вообще находится на другом иерархическом уровне. Более важны две другие функции: организация деятельности и понимания, выявление новой реальности [64]. Здесь нет исходной объектной области, которая означается. Напротив, создается новая объектная и предметная область. До изобретения схемы души никаких душ не существовало. Схема вводится с целью организации новой деятельности, материалом которой выступают различные состояния человека, при этом душа — это не еще одно интегральное состояние, а новая антропологическая реальность.
Схему в силу ее означающих возможностей можно использовать не только в собственной функции, но и как знак. Например, схему метро можно использовать не для организации нашего поведения в метрополитене, а как знак-модель, чтобы определить, по какому маршруту можно быстрее добраться от одной станции до другой. И то в данном случае эта задача может быть рассмотрена как аспект нашего поведения в метро.
Следующая характеристика схемы, безусловно, сущностная: схема — это средство организации деятельности и поведения и связанного с ними понимания. В некотором отношении можно сказать, что как средство организации деятельности и поведения схема выступает в качестве их программы.
Не менее важная и другая характеристика схем: они задают определенную реальность. Говоря о реальности, мы имеем 28
в виду то, что в мир, заданный в схеме, нужно войти, прожить события, которые она задает, знать особенность («логику») этих событий, по окончании работы со схемой освободиться от событий этой реальности. Например, схема метро задает такие события: входы в метро и выходы из него, движение по определенному маршруту, пересадки, пребывание на станциях и т. д. Пользователь этой схемы знает, какой логике удовлетворяют эти события (например, нельзя сделать пересадку, не прибыв на определенную станцию), он приготовляется к очередным событиям, переживает их актуальное осуществление, по окончании своей поезки выходит из соответствующей реальности метро. Как реальность схема осваивается и часто понимается индивидуально.
Объясняя в своих первых работах по анализу культуры, как формировалось архаическое представление о душе, мы исходили из неоговоренного предположения, что человек как семиотическое существо уже существует. Но ведь, если рассуждать строго, реализуя генетический подход, необходимо показать, как человек в этом качестве сложился. Этим мы и займемся в следующем параграфе.
4. Происхождение человека
Дарвиновская теория предполагает, что человек — это биологический вид, однако Чарльз Дарвин считал, что одним естественным отбором происхождение человека из обезьяны нельзя объяснить; помимо естественного отбора, считал он, необходимо привлечь теорию полового отбора (что хорошо согласуется с данными современной генной теории). Дарвиновская теория опирается на сравнительно-анатомические данные (сходство облика человека и обезьяны, атавизмы), изменчивость человека в пределах различных человеческих рас, факты эмбриологии, наконец, палеонтологические находки переходных форм от обезьяны к человеку (австралопитек, питекантроп, синантроп и т. д.). Самое уязвимое место этой теории — отождествление человека с его внешним 29
анатомическим обликом. Дарвиновская теория объясняет многое, но не может объяснить, как формировались сознание и разум человека, без которых «гомо сапиенс», т. е. «человек разумный», не является человеком. Естественно, этого не может объяснить и теория мутаций, если только не предположить, что в результате мутаций возникло сознание. Именно с происхождения сознания (духа) начинает Библия, утверждая, что человек был создан Богом по «его образу и подобию», т. е. изначально наделен разумом. Однако творцы Библии не занимались специально проблемой происхождения человека и поэтому не объяснили, как согласовать эту точку зрения с фактами науки, палеонтологическими находками, просто со здравым смыслом. Все это говорит о том, что пора предложить другой сценарий (концепцию) происхождения человека.
Переходная форма. Вспомним, как развивается ребенок примерно до 2—3 лет. В чем состоит его развитие? Не в том ли, что он адаптируется к коммуникации с матерью и отцом, входит в эту коммуникацию, «специализируется» в ней? Ребенок учится фиксировать свой взгляд на Другом (его руках, лице, глазах, фигуре), учится соотносить произнесенное слово (сначала материнское, затем свое) с предметами и действиями, учится действовать согласованно (подчиняться взрослому, соединять свои усилия и действия с его усилиями и действиями). Именно в этом процессе адаптации-научения формируется значение слов и других знаков и складывается воображение ребенка, когда он может помыслить (представить) предмет, отвечающий слову и знаку. Попробуем и в филогенезе найти «некие персонажи и процессы», аналогичные онтогенетическим «Коммуникации» и «Родителям».
Перенесемся мысленно в те доисторические эпохи, когда сообщества обезьян, которых мы называем человекообразными, попали в какие-то необычайные, экстремальные для выживания условия (например, им пришлось спуститься с деревьев, искать пищу на открытых пространствах, защищаться от хищных зверей, более широко, чем обычно, использовать зо
палки и камни). Можно предположить, что в этих условиях выживали лишь те сообщества, которые переходили к «парадоксальному поведению». Чтобы пояснить, что это такое, обратимся к рассказу Э. Сетон-Томпсона «Тито» о маленькой смелой самке койота.
За Тито гнались борзые. «Через минуту собаки должны были настичь ее и разорвать. Но вдруг Тито остановилась, повернулась и пошла навстречу собакам, приветливо помахивая хвостом. Борзые — особенные собаки. Они готовы догнать и растерзать всякого, кто бежит от них. Но тот, кто не убегает и спокойно глядит им в глаза, сразу перестает быть для них врагом. Так случилось и теперь. Разогнавшись, борзые промчались мимо Тито, но сейчас же вернулись смущенные. Борзые отказывались нападать на зверя, который вилял хвостом и не желал убегать» [67. С. 271].
Представим себе теперь такую ситуацию. Сообщество человекообразных обезьян столкнулось с хищниками — тиграми, львами, пещерными медведями. Вожак обезьян замечает, что бежать некуда: справа и слева отвесные скалы, позади буйволы. И вот он, подобно Тито, на миг как бы «помешался»: вместо того чтобы подать сигнал (крик) тревоги и бегства, издает прямо противоположный — «все спокойно, не двигаемся». И, что странно, хищники, пораженные необычным поведением стаи обезьян, ретировались, ушли в поисках более «нормальной» пищи. Разберем эту ситуацию парадоксального поведения.
Почему обезьяны стоят, как это возможно, ведь опасность налицо? Возможно, в том случае, если сигнал «спокойствия» перестает быть сигналом, отсоединяется от своей родной ситуации. Кроме того, нужно, чтобы обезьяны сумели реально представить ситуацию опасности как спокойное событие, иначе они все равно побегут. Получается, что они должны сойти с ума: видя одно, воображать и видеть прямо противоположное, слыша одно, не верить своим ушам. Но ведь и мы, читатель, такие же, например, в данный момент находимся в каком-то помещении, но реально проживаем
31
совершенно другие события: путешествуем во времени, размышляем о происхождении человека и т. п. Разберем эту ситуацию парадоксального поведения.
В нормальном, обычном поведении сигналы являются частью (элементом) события. Сигнал тревоги вовсе не означает саму тревогу, это именно первая часть сложного поведения (события) животного. В парадоксальном же поведении в психике обезьян происходит сшибка двух событий: с одной стороны, они видят реальную опасность, с другой — вынуждены следовать сигналу вожака, сообщающему, что опасности нет. В подобных парадоксальных ситуациях, которые были в те времена массовыми, обычными, животное должно как бы «выйти из себя», представить привычное событие в форме другого, часто противоположного.
В результате сигнал перестает восприниматься как часть события, он соотносится теперь с новым поведением (ситуацией, предметом), сохраняя, однако, связь со старыми. Дистанция, напряженность между этими тремя элементами (сигналом, новой ситуацией и старыми ситуациями) в конце концов разрешается так, что появляется знак.
По механизму процесс формирования знака можно представить так. Должна возникнуть связь знаковой формы с определенным предметом (ситуацией), в данном случае сигнал «спокойно» вступает в связь с ситуаций опасности. Необходимость (и эффективность) такой связи выясняется задним числом. Важно, что эта связь не органическая (природная), а так сказать, «социальная»: она обусловлена коммуникацией и волей субъектов (властью вожака). В психологическом плане необходимое условие формирования связи между знаковой формой и предметом — активность субъекта, направленная на перепредставление ситуации (так, ситуацию опасности нужно было понять как спокойное, безопасное событие).
Сигнал теперь — не сигнал, а знак новой ситуации, он обозначает, выражает некоторое событие. И контекст у знака другой — не часть события, а коммуникация. Теперь члены 32
сообщества напряженно следят, какой сигнал-знак издаст вожак, а вожак всякую новую парадоксальную ситуацию означает как некоторое событие. Начиная с этого периода, сигнал-знак влечет за собой представление определенной ситуации, в которой назревает новое поведение. В коммуникации действительность удваивается: один раз она сообщается вожаком, издающим сигнал-знак, другой раз реализуется в конкретном означенном поведении.
Как же обезьяны сумели так удачно сойти с ума? Главным образом потому, что над ними довлела власть вожака, а также потому, что они соединили сигнал спокойствия с новой ситуацией, т. е. начали обозначать эту ситуацию, и наконец, потому, что им удалось ситуацию опасности представить как спокойное событие. То есть в ситуации парадоксального поведения на основе сигнала формируется знак. В отличие от сигнала знак не является пусковой частью ситуации, а именно обозначает ее. В отличие от сигнала, осмысленного в пространстве биологического поведения, знак начинает существовать в пространстве коммуникации, которая задается напряженным отношением между вожаком и остальными членами стаи.
Коммуникация конституируется не реальной ситуацией, в которой находится животное, а криком-знаком вожака, его властным воздействием, но также активностью, деятельностью членов коллектива, сумевших связать знак с определенной ситуацией за счет ее перепредставления. Одновременно вместе с формированием знака складываются первые социальные отношения и то, что можно назвать зародышами человеческой психики. Действительно, поведение обезьян, ориентирующихся на знаки и знаковую коммуникацию, — это фактически первые социальные отношения, а деятельность по перепредставлению на основе знаков одних ситуаций в другие — первые акты человеческой психики. На их основе рождается в дальнейшем воображение.
Интересно, что коллективные, совместные действия с естественными орудиями (камнями, палками, костями живот33
ных и т. д.) также являются парадоксальным поведением. Представим себе следующую вполне правдоподобную ситуацию, относящуюся к тому же времени. Стая человекообразных обезьян разбивает камнями какие-то плоды. Неожиданно из за кустов выскакивает тигр. Хотя вожак успевает издать какой-то сигнал, обезьяны в панике. Их действия бессмысленны, видны мелькающие лапы с камнями, но именно поэтому в голову тигра случайно попадают несколько камней. От боли и неожиданности тигр пугается и исчезает. Позднее в подобной же ситуации по сигналу вожака обезьяны уже довольно дружно кидают в хищников камни и палки. Эффект подобных действий для членов «сообщества» был неожиданным и странным: вместо одного события получалось другое: удавалось добыть пищу, прогнать хищников, изменить в благоприятную сторону угрожающую ситуацию. Можно предположить, что сигналы, запускавшие подобные совместные действия, тоже становились знаками, однако не только нового поведения, но и связанных с ним орудий-предметов.
Именно так, вероятно, и формируются коммуникация, знаки естественного языка (слова), воображение и память, помогающие создавать знаки и означать с их помощью различные ситуации и предметы. Чем чаще первобытные особи прибегали к парадоксальному поведению, тем больше сигналов превращалось в знаки и тем эффективнее становилось их поведение. В конце концов процесс логически приходит к своему завершению: парадоксальное поведение становится основным (так сказать, нормальным), полностью вытесняя старые формы сигнального поведения. Ситуации, действия или предметы, почему-либо не получающие означения, не существуют теперь для сообщества вообще. Система знакового поведения все время усложняется: формирование знаков и употребление их порождает необходимость в следующих знаках, эти — в других и т. д.
А что происходит с обезьянами, вставшими на путь парадоксального и знакового поведения? Они вынуждены адаптироваться к новым условиям, меняться. Выживают лишь те 34
особи, которые начинают ориентироваться не на сигналы и события, а на знаки, те особи, для которых «временное помешательство» на знаковой почве (т. е. воображение и представление) становятся нормой жизни, те, которые научаются работать со знаками (создавать их, понимать и т. д.). Именно адаптация к новым условиям резко меняет естественные процессы развития обезьян как биологического вида. Формируются новые типы движений конечностей, новые типы ощущений, новые действия и операции в психике. При этом можно предположить, что биологическая эволюция и становление вида Homo sapiens должны были идти, как и у всех обитателей нашей планеты, т. е. под влиянием обычных факторов микроэволюции: естественного отбора, мутаций генов, их комбинации и т. п.
Ряд исследователей предполагает, что в доисторический период, когда складывался человек, мутационный процесс мог быть ускорен повышенным радиационным фоном или какими-либо другими причинами. Впрочем, по современным данным, примерно каждый десятый индивидуум и так является носителем новой спонтанной мутации. Что же касается сдвигов в изменчивости поведения и условий естественного отбора, то изменчивость была обусловлена переходом к знаковому поведению, а отбор — сложными условиями жизни существ переходной формы и тем же переходом к знаковому поведению. Итак, формирование в связи со знаковым поведением новых телесных единиц влекло за собой и соответствующую биологическую трансформацию. Последняя преобразовывала буквально все стороны жизнедеятельности организма, начиная от моторных действий и представлений, кончая половым поведением. Судя по всему, вожак, используя свою новую роль организатора знакового поведения, навязывал женским особям половое общение не только в нормальном для такого общения биологическом периоде (течки), но и за его границами. Привыкшие действовать в реальной ситуации как воображаемой, особи женского пола идут на подобное нарушение, так сказать, в силу «системных 35
соображений». Возникшая при этом биологическая патология поведения закрепляется на мутационнной генетической основе (т. е. становится нормой), поскольку поддерживает общую тенденцию изменений организма в сторону семиотического поведения.
Таким образом, необходимость адаптироваться к коммуникации, работать со знаками и орудиями, действовать совместно трансформирует биологическую субстанцию обезьяны, создавая на ее основе «существо переходной формы». Это уже не обезьяна, но еще и не человек, а особое меняющееся, адаптирующееся существо, претерпевающее метаморфозы.
Судя по палеонтологическим исследованиям, к концу четвертичного периода адаптация существ переходной формы заканчивается, т. е. их телесность (физиология, органы тела, внешний облик, действия органов чувств) теперь полностью отвечает коммуникации, требованиям совместной деятельности, знаковому поведению.
Формирование Homo Sapiens. Точнее было бы сказать, что первый человек был не человеком разумным, а «человеком культурным», т. е. «Homo Kulturei». Завершение адаптации существа переходной формы расчистило почву для формирования культуры. Культура — это форма жизни, духа (ее можно назвать социальной), складывающаяся на субстрате жизни существ переходной формы, в которой главным является семиотический процесс (коммуникация, означение, формы знакового поведения). Особенность этого процесса в том, что он обеспечивает воспроизводство эффективных типов поведения, деятельности и жизни. Мифы, анимистические представления о душе и теле, архаические ритуалы — примеры семиотического процесса первой культуры в истории человечества, получившей название «архаической».
Среди знаков и знаковых систем (т. е. языков) архаической культуры важнейшее место занимали, в частности, такие, которые относились непосредственно к членам культуры. Это мифы о происхождении человека, а также анимисти36
ческие представления о душе и теле. Они обеспечивали устойчивые, эффективные формы коллективного поведения, направленного на отдельных членов культуры.
Итак, существо переходной формы становится архаическим (культурным) человеком только тогда, когда его поведение и деятельность начинают полностью отвечать культурным требованиям (правилам, представлениям, нормам), когда его психика и телесность полностью окультуриваются. Но, конечно, оба эти процесса идут одновременно: архаическая культура сама возникла тогда, когда возник (сложился) архаический человек. Теперь ответим на вопрос: что такое сознание человека? Это такой способ отображения окружающего человека мира (и самого себя), определяющий его поведение и деятельность, который, во-первых, удовлетворяет семиотическому процессу (например, фиксирует, «описывает» только означенные события), во-вторых, удовлетворяет требованиям культуры (т. е. культуросообразен, причем очень важно, что в число культурных представлений должны входить и представления о самом человеке). Другими словами, человеческое сознание — это сознание в языке, сознание культурное и сознание как «самосознание». Наконец, человеческое сознание предполагает и укоренение в телесности. Человек стал человеком, когда семиотический процесс и культурные реалии укоренились («оспособились») в функциях внимания и памяти, в механизмах распределения психической энергии, в работе воображения и представления, когда они стали реализовываться в форме чувственных образов или ментальных операций, в тех или иных телесных (моторных, мимических) движениях человека.
На мифы о происхождении архаического человека и анимистические представления можно взглянуть и иначе. С культурологической точки зрения это был своеобразный «проект», замысел человека, который реализовался в архаической культуре через механизмы социализации (ритуал, обучение, воздействие друг на друга), язык, институты семьи и брака. В этом смысле человек — существо не просто культур37
ное, но искусственное, а культура не только устойчивая форма социальной жизни, но и процесс социализации, окультуривания «человеческого материала», «человеческой субстанции», процесс формирования психики и телесности.
Дальнейшее развитие человека шло как в рамках отдельных культур (в плане совершенствования его психики и телесности, адаптирующихся к культуре), так и — что более существенно — при смене одной культуры другой. Каждая культура — древняя, античная, средневековая, Нового времени — открывалась своеобразным «проектом нового человека». Так, «Апология Сократа», диалоги Платона, работы Аристотеля задавали проект античного человека (вот кого, скорее, можно назвать Homo Sapiens); библейская версия происхождения человека и того, что с ним случилось, — проект «ветхого человека», строго следующего Закону; Новый Завет — проект «человека христианской веры», христианина; ряд трактатов эпохи Возрождения (например, «Речь о достоинстве человека» Пико делла Мирандолы) — проект «новоевропейского человека».
Поскольку в каждой культуре семиотический процесс существенно менялся (что не исключает переосмысленных заимствований из предыдущих культур), менялись и психика, и телесность человека. Заканчивая эту тему, можно уточнить постановку знаменательного вопроса: от кого все-таки произошел человек? Очевидно, подобная постановка вопроса вообще неверная, обусловленная традиционным способом естественно-научного мышления. Если отвечать на этот вопрос буквально, то ответ будет таков: тело человека произошло из тела обезьяны, но человек возник сам. Аналогично сами собой возникли культура, древний, античный, средневековый и современный человек.
Правильнее говорить о предпосылках человека культурного: ими были не только находящиеся на определенной стадии эволюции сообщества обезьян, но также экстремальные обстоятельства жизни, формирование парадоксального поведения, появление вместо сигналов знаков, коммуника38
ции, совместной деятельности с естественными орудиями, наконец, формирование культуры. Продолжая эту логику, можно говорить и о таких предпосылках происхождения, например, человека средневекового, как античный человек, нарождающаяся средневековая культура, проекты и замыслы «нового человека» (изложенные в различных вариантах Нового Завета и в другой раннехристианской литературе). Поскольку в предпосылки происхождения человека входят как учения о происхождении человека, так и замышления (проекты) человека, постольку оказываются верными (истинными), но для разных людей и соответствующие теории происхождения человека. Например, для человека верующего, христианина истинной является старозаветная версия божественного происхождения человека (от Бога), а также рождение христианского сознания после Голгофы, ведь именно эти откровения становятся одной из предпосылок его человеческой, христианской сущности.
Глава вторая Эволюция человека
1. Человек древнего мира
Исследователи отмечают, что сознание человека архаической культуры структурируется двумя основными представлениями: он верит, что каждое живое существо имеет неумирающую душу и жилище (дом), в котором она живет, причем это жилище по обстоятельствам можно менять (например, при жизни — это тело, после смерти — захоронение или страна предков, или древо жизни) и что жизнь имеет исток, начало («архе»), которое полностью обусловливает настоящее и будущее (в этом смысле жизнь есть просто вечное возвращение к архе). В соответствии с первым представлением архаический человек понимает смерть как бесповоротный уход души из тела, болезнь — как временное отсутствие души, сновидение — как приход в тело во время сна чужой души (или путешествие души в этот период), создание «произведений искусства» (т. е. изображений людей или животных, изготовление масок, игру на музыкальных инструментах и т. д.) — как вызывание душ, чтобы воздействовать на них. На этой же смысловой основе объясняются и более сложные реалии, например действие природных сил (как действие душ, духов ветра, воды, огня, земли и пр.), связь людей в семье и племени (они имеют общие души, которые переходят от умерших к живущим) или причины рождения детей в семье (отец-жених перегоняет души умерших в тело матери-невесты).
Второе представление об архе помогает понять, почему нужно жить традиционно, как предки, а также участие последних в жизни современников. По сути, каждый член рода или племени — это одновременно и предок, поскольку он 40
имеет с ним общую душу. Воспроизводятся первособытия прошлого не только подчинением (следованию) древним устоям жизни, но и путем буквального воссоздания их в ритуале, а также в «произведениях искусств», т. е. в живописи, танце, скульптуре, рассказе и т. п. «Во всех мифических дей- ствованиях, — пишет Кассирер, — существует момент, в котором происходит настоящая транссубстантивация — превращение субъекта этого действия в демона, которого он представляет... Так понятые ритуалы, однако, имеют изначально не «аллегорический», «подражающий» или представляющий, но непременно реальный смысл: они так вплетены в реальность действия, что образуют ее незаменимую составную часть... Это есть всеобщая вера, что на правильном исполнении ритуала покоится дальнейшее продолжение человеческой жизни и даже существование мира» [74. С. 179]. «Речь идет не о празднике воспоминания мифических событий, — пишет Элиаде, — но об их повторении. Действующие лица мифов становятся участниками сегодняшнего дня, современниками. Это означает также, что человек живет уже не в хронологическом, а в изначальном времени, когда событие случилось впервые...» [74. С. 182]. Но как возникло центральное для архаической культуры представление о душе человека (т. е. базисный культурный сценарий этой культуры)? Сточки зрения культурно-семиотической реконструкции примерно так.
Где-то на рубеже 100—50 тыс. лет до н. э. человек столкнулся с тем, что не знает, как действовать в случаях заболевания своих соплеменников, их смерти, когда он видел сны, изображения животных или людей, которые он сам же и создавал, а также в ряде других ситуаций, от которых зависело благополучие племени. Этимология слова «душа» показывает его связь со словами «птичка», «бабочка», «дыхание». Можно предположить, что представление о душе возникает примерно так.
Не зная, как действовать в случаях смерти, заболевания, обморока, сновидений, встречи с изображениями животных или людей, вождь племени случайно отождествляет состоя41
ния птички (она может вылететь из гнезда, вернуться в него, навсегда его покинуть и т. д.) с интересующими его состояниями человека (смертью, болезнью, выздоровлением и пр.) и дальше использует возникшую связь состояний как руководство в своих действиях. Например, если человек долго не просыпается и перестал дышать, это значит, что его «птичка-дыхание» улетела из тела навсегда. Чтобы улетевшая «птичка-дыхание» не осталась без дома, ей надо сделать новый, куда можно отнести и бездыханное тело. Именно это вождь и приказывает делать остальным членам племени, т. е., с нашей точки зрения, хоронить умершего.
Объясняя другим членам племени свои действия, вождь говорит, что у человека есть птичка-дыхание, которая живет в его теле или улетает навсегда, но иногда может вернуться. Пытаясь понять сказанное и тем самым оправдать приказы вождя и собственные действия, члены племени вынуждены представить состояния человека как состояния птички, в результате они обнаруживают новую реальность — душу человека. Если у вождя склейка состояний птички и человека возникла случайно (например, ему приснился такой сон, или, рассказывая о птичке, покинувшей гнездо, он случайно назвал ее именем умершего), то у членов племени, старающихся понять действия и слова вождя, эта склейка (означение) возникает в результате усилий понять сказанное вождем и осмыслить реальный результат новых действий. Необычные слова вождя, утверждающего, что у человека есть птичка-дыхание, помогают осуществить этот процесс понимания-осмысления.
Подобные языковые конструкции и являются первыми схемами, они выполняют несколько функций: помогают понять происходящее, организуют деятельность человека, собирают смыслы, до этого никак не связанные между собой, способствуют выявлению новой реальности [61; 64]. Необходимым условием формирования схем является означение, т. е. замещение в языке одних представлений другими (в данном случае необходимо было определенные состояния человека представить в качестве состояний птички-дыхания).
42
Изобретя представление о душе, человек смог действовать во всех указанных выше случаях; более того, можно предположить, что выжили только те племена, которые пришли к представлению о душе. На основе анимистических представлений формируются и первые социальные практики (захоронения умерших, лечения, толкования сновидений, вызывания душ и общения с ними), а также соответствующее понимание и видение мира (он был населен душами, которые помогали или вредили человеку).
И опять именно схемы помогали человеку распространить анимистические представления на новые случаи и ситуации. Например, как можно было понять, почему в семье и племени все люди похожи и связаны между собой? Двигаясь в схеме души: птичка могла переселиться из одного гнезда в другое, аналогично душа умершего могла вернуться в тело ребенка, родившегося в данной семье (племени). Получая новое знание, древний человек не рассуждал подобно современному: «Так как все люди имеют души, то и этот конкретный имярек имеет душу». Он просто опирался на «коллективную схему» души. Знание — «у этого человека душа» — представляет собой описание данного человека с помощью указанной схемы, эквивалентное утверждению, что «душа еще не покинула этого человека». Соответственно источником общих мифологических или религиозных представлений считался не человек, а духи. Они и сообщали эти представления избранным людям (шаманам). Абсолютно все знания должны были пройти испытание практикой социальной жизни, в противном случае они просто не закреплялись в культуре. Если говорить здесь о познании, то оно представляло собой освоение действительности (т. е. природных и социальных явлений и самого человека) в рамках сложившихся картин мира, задаваемых коллективными схемами и мифами; отметим также, что познание практически не осознавалось (было «нерефлексированным»). При этом знания наряду с другими «институциями» (картиной мира, властью, хозяйством, воспитанием, обществом) задавали и обеспечивали организацию общественной жизни, и в этом отношении зна43
нию можно приписать характеристику «прагматической адекватности» действительности. Решая одни проблемы, архаический человек порождал другие, третьи и так до тех пор, пока не удавалось выйти на понимание реальности (мира), обеспечивающей при сложившихся условиях устойчивую социальную жизнь.
Представления о душе и архе не просто коррелируют со структурой социальной организации в архаической культуре, но поддерживают и обеспечивают ее в семиотическом и смысловом отношении. Основные характеристики социальной организации архаической культуры следующие: деление на семью, рода, племена и тотемы, экзогамные и эндогамные отношения между полами, обменные отношения (женщинами, опытом, продуктами), организация хозяйства главным образом на основе охоты, скотоводства и собирательства. Из всех упорядочивающих факторов в архаической культуре, считает Е. Мелетинский, «на первом плане оказывается социальный, т. е. введение дуальной экзогамии и вытекающий отсюда запрет браков между членами одной «половины» (фратрии). Оборотной стороной введения экзогамии является запрещение кровосмешения (инцеста)... биологизатор- ская концепция происхождения социума в книге «Тотем и табу» Фрейда не может считаться удовлетворительной. Не чувство вины «сыновей» перед убитым «отцом» (тотемом), а открывшаяся с установлением экзогамии возможность обмена женщинами и материальными благами между двумя человеческими группами является предпосылкой возникновения общества» [48. С. 199—200].
Все указанные здесь аспекты социальной организации архаический человек осмыслял с помощью представлений о душе и архе. Например, деление на семью, род и племя связано с родством и неродством соответствующих душ, а на тотемы — с их различным происхождением в первоначальном мифическом времени (архе); нарушение социальных отношений, например запрета инцеста, понималось как влияние души человека, нарушившего табу, на другие души, что влекло за собой конфликты в обществе и космические трансфор44
мации. «В силу стихийного метафорического параллелизма различных мифологических кодов, — пишет Мелетин- ский, — нарушение экзогамии (или, наоборот, эндогамии, т. е. запрета слишком отдаленных браков) часто коррелирует в мифах с нарушениями ритуальной тишины, солнечными или лунными затмениями, ведет ко всяким нарушениям меры и катастрофам... Очень яркий пример в мифе муринба- та — сын радужного змея, своеобразный «австралийский Эдип», насилующий сестер и смертельно ранящий отца» [48. С. 201]. Даже развитие охоты и скотоводства или создание и распространение новых орудий в качестве одного из важнейших условий предполагало анимизм: действительно, научившись вызывать души и общаться с ними, человек начал активно этим пользоваться с целью привлечь нужных животных, заставить их подчиняться (процесс приручения и одомашнения животных) или склонить души, живущие в орудиях и оружии, действовать так, как это нужно было человеку.
При формировании архаической культуры человек с помощью представлений о душе и архе старался понять три основные вещи: явления и действия природы, основные социальные отношения (родства, обмена и др.), наконец, этапы жизненного пути (социализации) человека. В семиотическом плане такое понимание выражалось посредством мифов, в деятельностном отношении — в определенных ритуалах, например, «переходных» обрядах (инициациях). При этом, поскольку архаический человек не отделяет себя от коллектива (семьи, рода, племени, тотема), миф и ритуал тоже носят коллективный характер, например, происхождение мира и человека в мифе описывается как единый космический процесс. Миф, считает Мелетинский, «принципиально косми- чен и космическая модель составляет ядро мифологической «модели мира» в более широком смысле. Это нисколько не противоречит наличию антропоморфных элементов в модели космоса и в общей соотнесенности образа мира с положением в нем и интересами человека. Эта соотнесенность мира и человека имеет, безусловно, преимущественно социаль45
ный характер; мифы повествуют о создании из хаоса природного и социального космоса в их взаимопроникновении и частичном отождествлении; классические герои мифа олицетворяют род, племя или человечество в целом и как таковые соотнесены с природным космосом. Даже там, где речь идет не только о создании мира, но и его дальнейшей судьбе, например в эсхатологических мифах, судьба эта сугубо кос- мична и коллективна. В этом смысле миф антипсихологи- чен и нисколько не занят судьбами отдельных индивидов. И это вполне естественно для общества психологически и социально однородного, в котором как в действительной жизни, так и в сознании людей родовое начало решительно преобладает над индивидуальным, и потому коллектив с относительной легкостью обуздывает всякую личную строптивость» [48. С. 225].
Есть еще одна важная особенность архаического мифа и представлений об архе. Они выступают инструментом легитимизации социальных отношений, т. е. объясняют для архаического человека необходимость подчиняться этим отношениям и, в частности, следовать сценариям, заданным в самих мифах. Выполняли мифы и еще одну функцию — социального контроля. Хотя в архаической культуре не существовало личности в нашем понимании (не в качестве своеобразного, уникального существа, а человека, способного на самостоятельное поведение, социальный поступок, осознающего себя именно личностью), тем не менее человек — это активное и в ряде случаев экспериментирующее существо, кроме того, новые поколения, приходящие на смену предыдущим, иначе смотрят на жизнь и понимают традиционные устои. Тем самым хотим обратить внимание на наличие в жизни человека зоны свободы, на факт постоянного отклонения поведения отдельных индивидов от «социальной нормы». В архаической культуре это отклонение и свобода корректировались с помощью табу и нарративных мифологических конструкций, включающих наказания за нарушения социальной нормы.
46
Современные исследования показывают, что предпосылками возникновения культуры древних царств являются переход к масштабному земледелию, формирование городов (городского образа жизни), становление систем управления и власти. Известно, что все четыре великие цивилизации (Египет, Вавилон, Индия и Китай) сложились в процессе освоения воды и прилегающей земли великих рек. «В странах вечного бездорожья, — пишет Μ. А. Эртель, — вода — это все. Слишком слабое или слишком сильное половодье — горе и ужас целой страны... Нужны каналы, чтобы оросить иссохшие поля во время засухи, чтобы дать сток лишней воде во время паводка или наводнения. Но борьба с такими капризными и могучими реками, как Евфрат или Нил, не под силу отдельной деревне или волости, отдельному роду или племени. Победить и обуздать могучую реку может лишь совместная работа всех жителей большей части ее берегов, причем работа дружная, планомерная, направленная к одной цели и производящаяся по одному плану. Для этого приречным жителям необходимо объединиться в большие союзы или государства и выработать в них сильную и единую власть, которая могла бы собрать большое количество людей, руководить их совместной работой по одному плану и направлять их действия к одной цели. Так, в Египте и Вавилоне земельная теснота и плодородие посадили людей на землю, а необходимость бороться с могучими реками за свои жатвы, за свое имущество и саму жизнь (на которые посягали многочисленные кочевые племена и другие народы. — В. Р.) создали потребность в государственном быте и в знании... Было и еще одно обстоятельство, которое способствовало высокому развитию культуры в обеих вышеуказанных странах: обе они лежали на великих мировых торговых путях... Сначала мы видим Египет (подобная же картина была характерна для Шумера, Вавилонии, Индии и Китая, а позднее и Древней Греции. — В. Р), разделенный на множество мелких городских округов, так называемых номов; каждый ном тянет к своему главному городу, занят независимым племенем, во главе которого стоит князь-жрец... Затем эти мелкие го47
родские территории слились в два крупных государства: Верхнего и Нижнего Египта, которые впоследствии слились в одно» [81. С. 12—13 ].
Но всему этому предшествовал переход к разделению труда, которое в архаической культуре только складывается, и городскому образу жизни. Последний является предпосылкой власти и управления, а также выработки нового мировоззрения. Именно в городе становится возможной смена архаических социальных отношений и мироощущения на новые. Дворец царя или верховного жреца в городе символизирует центры власти и управления; кварталы царской (жреческой) администрации, воинов, ремесленников, крестьян и рабов — новую социальную организацию, основанную на разделении труда и управлении; места для торговли или городского собрания репрезентируют сферу социального общения (общество), городские стены для защиты от кочевников и других врагов очерчивают новые социальные границы и целое — царство, народ.
Осмысление истории формирования древних царств показывает, что они существовали в условиях непрерывных посягательств на жизнь и свободу со стороны диких народов (кочевников) и других государств. Выживали и расцветали лишь те народы и государства, в которых, с одной стороны, удавалось жестко нормировать и регулировать поведение отдельного человека, с другой — создать социальные мегамашины, т. е. организовать социальное поведение на основе четкого разделения труда и управления. Например, в древнеегипетском царстве «фараон — воплощение божества на земле, неограниченный государь обоих Египтов, верховный влады- ко, господин и распорядитель над жизнью и имуществом своих подданых». Он управляет посредством «писцов», которые группировались в особые учреждения — «дома», или палаты, ведавшие различными отраслями управления. «Управление округами и номами было организовано по образцу центрального. Регулярное войско, «стрелки», оберегало границы и поддерживало порядок внутри. Главным занятием жителей было земледелие, процветавшее на исключительно 48
плодородной почве долины Нила. Процветали также ремесла и внутренняя торговля... Свободные крестьяне обрабатывали землю; значительная часть продуктов их труда шла в казну и частью ссыпалась в запасные магазины на случай неурожая, частью тратилась на содержание чиновников и войска, на содержание жрецов и общественное богослужение, на возведение и поддержание различных общественных сооружений и, наконец, значительную часть фараон брал себе для своего семейства и двора» [81. С. 15—16].
Заметим, что так структуру хозяйства и распределения понимает современный историк. Сам же египтянин все видел иначе: продукты труда создавал не столько человек, сколько боги, точнее, это был результат совместной деятельности людей и богов, и отдавал человек (крестьянин или ремесленник) часть своего труда не просто другим людям (с какой стати?), а богам или их слугам, ведь, скажем, фараон был живым богом, а жрецы — посредниками между богами и людьми. Но здесь мы должны перейти к анализу сознания людей культуры древних царств.
Становление культуры древних царств начинается не только с формирования коллективного земледелия, городов, систем разделения труда и управления, но и с выработки новых представлений, прежде всего, о богах и их роли в сотворении мира и человека. Уже на излете архаической культуры в мифологии мы находим персонажи, внешне (но только внешне) похожие на богов. Это главные тотемные духи и культурные герои. «Мифы северных и юго-восточных племен Австралии, — пишет Мелетинский, — знают наряду с такими тотемными предками более обобщенные образы «надтотемных» мифических героев, принадлежащих сразу ко многим тотемам (например, каждой части его тела соответствует свой тотем). На юге-востоке это патриархальный образ всеобщего «отца», живущего на небе, патрона обрядов инициации и культурного героя: Нурундере, Койн, Нурелли, Бунд- жиль, Байаме, Дарамул... Перед нами зародыш небесной мифологии и следующая ступень в процессе обожествления. «Великий отец» не только ввел обряды инициации, но про49
должает ими в каком-то смысле руководить... на первый план в образе «отца» выступают черты культурного героя, отчасти и демиурга. Дарамул вместе со своей матерью (Эму) насадил деревья, дал людям законы и установил обряд инициации. Байаме пришел с северо-востока с двумя своими женами и создал людей из дерева и глины, а частью превратил их в зверей (тотемический мотив), дал им законы и обычаи» [48. С. 180].
Пока это еще великие духи и культурные герои, но они уже демиурги, создающие людей и животных, направляющие человека, дающие ему законы. Осталось совсем немного — понять, что это не духи и культурные герои, а какие-то другие, более могущественные существа. В отличие от духов и людей они создали и направляют человека,дают ему законы, никогда не умирают. Конечно, и душа человека не умирает, но она после смерти явно многое, если не все, теряет. Здесь уже явное отличие в понимании смерти от архаического мироощущения. Архаический человек считал, что после смерти его душа всего лишь меняет свое место пребывания (переходит из тела человека в страну мертвых или предков, где продолжает ту же самую жизнь — она охотится, общается, ест, спит). Кстати, поэтому он мало боялся смерти. Но начиная с VI—V тыс. до н. э. складывается убеждение, что после смерти человек уже не может отправлять свои обычные функции, т. е. жить. Вот например, как в «Эпосе о Гильгамеше» описан загробный мир, куда после смерти попадают души людей:
В дом мрака, в жилище Иркаллы,
В дом, откуда вошедший никогда не выходит, В путь, по которому не выйти обратно, В дом, где живущие лишаются света, Где их пища прах и еда их глина, А одеты, как птицы, одеждою крыльев, И света не видят, но во тьме обитают, А засовы и двери покрыты пылью!
[35. С. 186].
50
Достаточно трагично переживает смерть и грек гомеровской эпохи. Хотя умершие «и обладают памятью и пролетевшая жизнь стоит перед их глазами, но они лишены всякого сознания будущего и тем самым также и настоящего, определяемого будущим. Поэтому Одиссей видит умерших в подземном мире как тени, «печальные души», из которых ушло ожидание грядущего и тем самым жизнь...» И все же, согласно гомеровским представлениям, как подчеркивает В. Отто, умерший «еще здесь». Об этом же пишет и Кассирер: «Умерший все еще “существует”» [74. С. 211, 213].
Читатель, наверное, уже догадался, что великие духи и культурные герои были кардинально переосмыслены, вместо них появились боги. С этого периода уже вполне можно говорить о становлении культуры древних царств. С точки зрения современных исследований суть культуры древних царств (если реконструировать культурное сознание) составляет следующее мироощущение: есть два мира — людей и богов; боги создали и жизнь и людей, пожертвовав своей кровью или жизнью, в ответ люди должны подчиняться богам и вечно «платить по счетам» (отдавать богам, а фактически на содержание храмов и государства часть, и немалую, своего труда и имущества); буквально все, что человек делает, он делает совместно с богами, на собственные силы человек рассчитывать не может, успех, благополучие, богатство, счастье — только от богов, от них же и несчастья или бедность. Известный немецкий философ Курт Хюбнер в одной из своих последних книг «Истина мифа» трактует сущность мироощущения человека культуры древних царств как «ну- минозный опыт» (сущность).
«Едва ли, — пишет К. Хюбнер, — можно найти лучшее введение в интерпретацию мифа как нуминозного опыта, чем в этих словах У. фон Виламовиц-Моллендорфа: «Боги живы... Наше знание о том, что они живы, опирается на внутреннее или внешнее восприятие; не важно, воспринимается бог сам по себе или в в качестве того, что несет на себе его воздействие... Если мы перенесемся мыслью на тысячелетия назад, то общение богов и людей надлежит признать 51
едва ли не повседневным событием, по крайней мере, боги могут появиться в любой момент, и если они приглашаются на жертвоприношение и пир, то это следует принимать всерьез» [74. С. 67].
«Все, что человек предпринимает в сообществе, — пишет дальше К. Хюбнер, — прежде всего всякая его профессиональная практика, начинается с молитвы и жертвоприношения. Чему не способствует бог, чему не содействует его субстанция, возбуждая тимос или френ человека (тимос по-древнегречески — это голова, а френ — диафрагма. —
B. Р.), то не сопровождается успехом. Афина Эргана, к примеру, является богиней ремесла, гончарного дела, ткачества, колесного дела, маслоделия и т. п. Горшечники обращаются к ней в своей песне, чтобы она простерла свою длань над гончарной печью, и свидетельствуют о присутствии богини в мастерской...» [74. С. 117, 120]. Аналогично в Вавилоне был, например, бог кирпичей, функция которого — следить, чтобы кирпичи были правильной формы и быстро сохли [35. С. 116]. «Если люди должны принять решение, — пишет В. Отто, — то тому предшествует дискуссия между богами». Можно сказать и так: всякая такая дискуссия происходит в нуминозной сфере и разрешается при ее посредстве [74. С. 118]. Короче, все значимые для человека в культурном отношении действия, вплоть до интимных (так, личные боги в Вавилоне принимали непосредственное участие не только в воспитании, но и зачатии и рождении всех членов семьи [35.
C. 45]), совершались древним человеком вместе с богами, причем последние как раз обеспечивали правильность и успех этих действий.
С семиотической точки зрения боги Древнего Египта, Шумера, Вавилона, Древней Индии и Китая, как это ни удивительно на первый взгляд, тоже являюся схемами. Действительно, приглядимся к богам того времени. Главная особенность их в том, что они управляют человеком (обладают властью), любым, даже царем (фараоном). Другая особенность: каждая профессия и специальность имели своего бога-покровителя. Наконец, еще одно важное свойство языческих богов: они 52
всегда действуют совместно с человеком. Сеет ли он зерно в поле, строит ли свой дом, зачинает ли собственного сына или дочь — всегда вместе с ним действуют соответствующие боги, которые направляют человека и помогают ему [61]. Осмысляя перечисленные характеристики богов, можно предположить, что боги — это мифологическое осознание (конституирование) новой социальной реальности — разделения труда и систем управления (власти), соответственно отношения человека с богами выражали в мифологической форме участие человека в разделении труда и в системах управления и власти.
По механизму обнаружение реальности богов должно напоминать процесс, который привел к представлению о душе. Только здесь для сборки разных смыслов и выявления новой реальности потребовались более сложные схемы — мифы о том, как боги создали мир и человека, пожертвовав для этой цели своей жизнью. В религиозной реальности допустимы одни события и совершенно исключаются другие. Например, бог может создать все, что пожелает, вселиться в кого или что угодно, может, даже обязан, помогать человеку, если последний принес ему жертву или отдал часть произведенного им продукта, функция бога — направлять человека, другая, как говорили шумеры, — «закрывать дорогу демонам» (вот где последние появляются, но это уже не души, приносящие несчастья, а настоящие злодейские существа, находящиеся в сложных отношениях как с людьми, так и с богами) и т. д. Однако в религиозной реальности недопустим примат душ или духов (они, безусловно, должны подчиняться богам) или причинно-следственные связи, напоминающие природные, естественные отношения.
Новое мировоззрение, т. е. вера в разных богов, конечно, сложилось не сразу. Здесь можно наметить три основных этапа. Сначала конституируется само представление о богах и они, так сказать, «расселяются» в мире. Это первый этап. С одной стороны, боги, подобно духам предыдущей культуры, являются природными стихиями и явлениями — это солнце, луна, океан, небо, земля, огонь и т. д. Но с другой — 53
многие боги напоминают царей, правителей, верховных жрецов. Сходство богов этой эпохи с царями и правителями устанавливается родом их занятий, тем, что они делают. Как мы говорили, боги так же, как цари и правители или жрецы древних царств, отвечают за какие-то строго определенные области человеческой деятельности. Скажем, одни боги следили за судьбой всего народа, другие — за судьбой города, третьи — за судьбой какого-нибудь занятия или производства. «Судьба» (например, шумерское пат (tar) — «судьба», «рок», «ангел смерти») весьма важное понятие этого периода, оно закрепляет функции богов. «Своя судьба, — пишет наш исследователь шумеро-вавилонской культуры И. Клочков, — есть у всего на свете: у божеств, у любого природного или социального явления, у всякой вещи и, наконец, у каждого человека. Судьба божества определяет его функции, «сферу деятельности», степень могущества и место в иерархии богов: одному суждено ведать формами для изготовления кирпичей, другому быть богом солнца. Природные явления воспринимались как манифестация того или иного божества; судьба каждого из этих явлений, по-видимому, и была судьбой соответствующего божества («природа» грозы, например, воспринималась как судьба бога Адада и т. д.)» [35. С. 35].
Другое важное отличие от представлений архаической культуры в том, что боги и люди не только выполняют предназначенные для них роли, но и совместно поддерживают саму жизнь, мир, миропорядок. Архаический человек зависел от духов, но и только, он не отвечал вместе с духами за жизнь и порядок на земле и на небе. Теперь совершенно другая ситуация: боги должны следить за исполнением раз и навсегда установленных законов, а человек поддерживает богов. «В Вавилонской религии человек при всей его ничтожности (подчеркнуть которую, как отмечает И. Клочков, вавилоняне никогда не забывали. — В. Р.) тем не менее находился в центре внимания. «Великие боги», олицетворявшие космические силы, постоянно оказывались вовлеченными в повседневные дела людей: они словно только тем и занима54
лись, что карали, предостерегали, спасали и награждали своих ничтожных тварей» [35. С. 126]. Человек культуры древних царств уверен, что этот мир, порядок поддерживается судьбою, богами, жертвой, законом. Их живое олицетворение — фигура царя или верховного жреца, они связывают этот земной мир с миром божественным; царь и жрецы поддерживают закон, регулируют жертвоприношения. До тех пор, пока богам приносится жертва, соблюдаются установленные законы, оказываются почести царю и жрецам, беспрекословно подчиняются им, мир существует, если же хотя бы одно из этих звеньев разрывается — мир гибнет. Понятно, что в каждой древней культуре (Египте, Вавилоне, Индии, Китае) это мировоззрение принимало своеобразные, неповторимые формы.
На втором этапе создаются мифы, объясняющие, кик боги создали мир и почему человек должен им беспрекословно подчиняться. Их сценарий сводился к следующему: боги изготавливают не только мир, но и человека, заплатив за это своей жизнью или кровью, в благодарность люди должны жертвовать богам и исполнять установленные ими законы.
Наконец, третий этап (но начинаются эти процессы еще на первом и втором этапе) — формирование социальных институтов, хозяйства, власти, образования и профессиональных сообществ. О хозяйстве мы уже говорили: оно основывается на разделении труда, управлении, организованном государством, жрецами или знатными людьми, коллективном производстве, властном распределении продукта, произведенного крестьянами, ремесленниками и рабами, которое истолковывается в сакральном ключе. Хозяйственная и другие виды деятельности в культуре древних царств обеспечиваются социальными институтами, главными из которых были следующие: царь как живой бог, жрецы, выступавшие посредниками между людьми и богами (они общались с богами, от имени людей обращались к ним с просьбами, а также переводили на человеческий язык то, что боги хотели от людей), армия (защита от внешнего врага и поддержание внутреннего порядка), царская или жреческая администрация (ис55
полнители воли царя или верховных жрецов, начиная от их приближенных, кончая простыми писцами), производство (земледельческое, ремесленное и др.), судопроизводство, осуществлявшееся от имени царя или жрецами, семья.
На первый взгляд может показаться, что древний египтянин или шумер мало чем отличаются от современного человека, разве что меньшими знаниями о мире. Но это явно не так. Прежде всего, человек культуры древних царств был настолько жестко интегрирован в социальной структуре, что, даже когда самостоятельно принимал решения (а это было необходимо, особенно для руководителей — царей, верховных жрецов, знати, военачальников, их ближайших помощников), он понимал эти действия совершенно иначе, чем современный человек, а именно, как подсказанные богами. Например, когда полководцы составляли план предстоящего сражения, они были уверены, что предварительно этот план был выработан богами войны, а затем им внушен непосредственно или через жрецов.
В культуре древних царств человек зависел от большого числа богов: космических (Мардук, Иштар, Ра и т. д.), государственных (династических), богов города, богов квартала, богов, отвечающих за отдельные профессиональные занятия и даже отдельные стороны человеческой жизни. Например, в Вавилоне каждый человек имел «личного бога» и «личную богиню», а также двух духов-хранителей. Иметь личного бога — значит «быть удачливым, счастливым, процветать». Личный бог, считал вавилонянин, принимает участие во всех делах человека, хранит его жизнь и благополучие, определяет судьбу [35. С. 45].
Мой бог, господин мой, создавший мне «имя», Хранящий мне жизнь, дающий потомство... Суди же мне жизнь судьбою, Продли мои дни, жизнь даруй мне
[35. С. 45].
Из этого вавилонского текста мы видим, что личный бог дает потомство. И действительно, И. Клочков пишет, что, участвуя во всех делах человека, личный бог конечно же не 56
мог оставить его одного в ответственный момент зачатия потомства. «Из известного нам о месопотамских династиях видно, что у отца и сына были неизменно те же личные боги и богини. Из поколения в поколение бог переходил из тела отца в тело сына» [35. С. 45]. В связи со всем этим ощущения своей жизни и даже чувства человека культуры древних царств существенно отличались от современных.
С современным человеком мы связываем прежде всего осознание внутреннего мира, «Я». Наше «Я» — центр существования, оно противостоит «другим» и «миру» («не-Я»). Мы считаем, что наша жизнь проецируется в прошлое и будущее (я был, я буду), что источником наших состояний или успехов (соответственно неудач) являемся мы сами, что наша жизнь принадлежит нам. С поправками и оговорками с этим, вероятно, может согласиться современник, но вряд ли бы согласился человек культуры древних царств. И вот почему.
Внутренний мир, «Я» — эти вещи были незнакомы, например, еще даже человеку эпохи античности. Только в Средние века внутренняя жизнь человека (понимаемая не иначе, как борьба темных и светлых сил в душе человека) была открыта. С верой, пишет наш замечательный историк науки П. Гайденко, человек оказывается за пределами всего природно-космического, он непосредственно связан живыми личными узами с Творцом всего природного; личный бог предполагает и личное отношение к человеку, а отсюда изменившееся значение внутренней жизни человека, она становится теперь предметом глубокого внимания, приобретает первостепенную религиозную ценность.
Современный человек считает, что его жизнь, желания, воля принадлежат ему самому, обусловлены его телом и психикой. Ничего подобного, возразил бы ему древний человек: источником жизни, воли и желаний является не человек, а боги и демоны. Демоны пытаются проникнуть в человека и унести его жизнь (они же — источники болезней человека). Но на их пути стоят боги, правда, только если им не забывают принести жертвы или поклониться. Когда древний вавилонянин, пишет знаток шумеро-вавилонской культуры 57
С. Крамер, «чувствует себя прекрасно, полон жизни, наслаждается богатством и душевным покоем, он объясняет это завидное состояние ума и тела присутствием сверхъестественных сил, которые либо наполняют его тело, либо охраняют. Наоборот, всякого рода несчастья, болезни и неудачи объясняются отсутствием такой защиты» [61. С. 128]. Во всех древних культурах воля, ум, желания, да и сама жизнь считались привходящими, они овладевали душой человека независимо от его усилий. Сам человек мог лишь способствовать или сопротивляться этим силам, не более того.
Поскольку человек культуры древних царств обычно действовал по приказу (или своего непосредственного начальника, или богов) или считал, что так действует, он не был и личностью, как мы ее сегодня понимаем, т. е. не был человеком, способным к самостоятельному поведению. Он был уверен, что его собственные усилия не могли существенно повлиять на его судьбу, а могли лишь чуть-чуть ее смягчить или, напротив, усугубить. В совместном бытии, пишет Курт Хюбнер, «человек мифической эпохи находит корни своей жизни. Как единичное, как индивид и Я он ничего собой не представляет... Не иметь рода — значит быть лишенным ну- минозного Kydos и Olbos, в которых содержится даваемая богами идентичность рода, т. е. вообще не иметь своего лица... Человеку мифической эпохи абсолютно неизвестна область внутренне идеального в качестве Я. Он есть тот, кто он есть, занимая при этом место во всеобщей мифиче- ски-нуминозной субстанции, которая существует во многом, будь то люди, живые существа или «материальные» предметы, поэтому и человек живет во многом, и оно живет в нем» [74].
Таким образом, человек культуры древних царств вполне соответствовал базисным культурным сценариям того времени: он верит в богов, во всех своих действиях руководствуется их желаниями, в тех же сценариях осмысляет себя и все свои состояния. И не просто верит, он чувствует богов, воспринимает их как непосредственную реальность, как то, что непреложно существует. Подобное мироощущение достигалось 58
не само собой, а складывалось в лоне особой сакральной практики — в мистериях. Их предтечей, вероятно, являются обряды инициации предыдущей архаической культуры. «Важнейший и наиболее образцовый переходный обряд — инициация, отрывающая юношу, достигшего половой зрелости, от матери и сестер, от группы непосвященных женщин и детей, и переводящая его в группу взрослых мужчин-охотников с последующим правом женитьбы и т. д. Этот переход включает физические испытания на выносливость, мучительную посвятительную операцию и овладение основами племенной мудрости в форме мифов, инсценируемых перед посвящаемыми. Инициация включает также символическую временную смерть и контакт с духами, открывающий путь для оживления или, вернее, нового рождения в новом качестве. Символика временной смерти часто выражается в мотиве проглатывания его чудовищем, посещения царства мертвых или страны духов, борьбы с духами, добывания там ритуальных предметов и религиозных тайн» [48. С. 226].
Как мы видим, обряд инициации способствует тому, что юноша не только знакомится с основными положениями базисного культурного сценария, но и актуально, чувственно переживает события, заданные этим сценарием. В результате он убеждается в существовании мира, описанного в данном сценарии, поскольку побывал в нем и выдержал все встречающиеся в нем испытания. Аналогично и мистерии культуры древних царств не только знакомят человека с событиями, которые описаны в базисных культурных сценариях, но и позволяют актуально прожить эти события, тем самым подтвердив существование мира богов, демонов, необходимость исполнять божественные законы и пр. В принципе человек мог вызвать бога, ритуально произнося его имя, но, конечно, боги, являющиеся человеку в мистериях в форме сакральных танцев, живописных или скульптурных изображений, героев драмы, более убедительны и телесно воспринимаемы. «Не существует сценария и спектакля, — пишет Э. Кассирер, — которые лишь исполняет танцор, принимающий участие в мифической драме; танцор есть бог, он 59
становится богом... Что... происходит в большинстве мисте- риальных культур — это не голое представление, подражающее событию, но это — само событие и его непосредственное свершение» [74. С. 179].
Нетрудно сообразить, что именно мистерии выступали средством, позволявшим человеку культуры древних царств возращаться к истоку (архе) социальной жизни. То, что К. Хюбнер называет термином «архе», различая в связи с этим священное и профанное время, тесно связано с мироощущением человека культуры древних царств, по которому высшая ценность — прошлое, поскольку именно там боги создали человека и мир и установили законы, т. е. заложили все основы бытия. С точки зрения человека этой культуры (если за него отрефлектировать онтологию времени-бытия), будущее втекает в прошлое через настоящее, а настоящее служит постоянному воспроизведению прошлого и его пер- вособытий. «Архе, — пишет К. Хюбнер, — является, так сказать, парадигмой этой последовательности, повторяющейся бесчисленным и идентичным образом. Речь идет об идентичном повторении, так как это — одно и то же священное первособытие, которое повсеместно происходит. Это событие буквально вновь и вновь привлекается в мир, оно не является всякий раз новым вариантом или серийной имитацией некоего прототипа. Мысль о том, что бог станет делать то же самое бесчисленное количество раз, была бы несовместимой с представлением, которое сложилось о нем у людей, и именно повторение некоего прасобытия, его вечность в настоящем составляет его святость» [74. С. 128].
Таким образом, первособытия прошлого воспроизводятся не только путем подчинения (следования) законам и древним устоям жизни, но и буквального воссоздания их в культе и ритуале (как правило, в форме мистерии или богослужения), а также в «произведениях искусств»: в живописи, танце, скульптуре, драме. «Во всех мифических действовани- ях, — пишет Кассирер, — существует момент, в котором происходит настоящая транссубстантивация — превращение субъекта этого действия в бога или демона, которого он 60
представляет... Так понятые ритуалы, однако, имеют изначально не «аллегорический», «подражающий» или представляющий, но непременно реальный смысл: они так вплетены в реальность действия, что образуют ее незаменимую составную часть... Это есть всеобщая вера, что на правильном исполнении ритуала покоится дальнейшее продолжение человеческой жизни и даже существование мира» [74. С. 179]. «Речь идет не о празднике воспоминания мифических событий, — пишет Элиаде, — но об их повторении. Действующие лица мифов становятся участниками сегодняшнего дня, современниками. Это означает также, что человек живет уже не в хронологическом, а в изначальном времени, когда событие случилось впервые... Изведать снова это время, воспроизводить его как можно чаще, быть инструментом драмы божественного произведения, встречать сверхъестественное и изучать снова его творческое учение — это желание, проходящее красной нитью через все ритуальные воспроизведения мифов» [74. С. 182].
2. Становление античной личности
В античной культуре, где, как известно, мифологические и релиозные начала сильно ослабевают, а государство имеет ограниченное влияние на человека, впервые складывается самостоятельное поведение человека и, как следствие, первая в истории человечества личность. Вспомним, поведение Сократа на суде [56]. С одной стороны, он идет на суд и соглашается с решением общества, назначившим ему смерть. С другой — Сократ предпочитает оставаться при своем мнении. Он твердо убежден, что его осудили неправильно, что «смерть — благо» и «с хорошим человеком ничего плохого не может быть ни здесь, ни там, и что боги его не оставят и после смерти». Сократ как личность хотя и не разрывает с обществом, тем не менее, идет своим путем. И, что существенно, не только Сократ выслушивает мнение суда, т. е. общественное мнение, но и афинское общество выслушивает достаточно неприятные для него речи Сократа и даже, как нам
61
известно, через некоторое время начинает разделять его убеждения. Отчасти Сократ уже осознает свое новое положение в мире. Например, он говорит на суде, что ведь Сократ не простой человек, а также, где человек себя поставил, там и должен стоять, невзирая ни на что другое, и даже на смерть.
В теоретическом же плане речь идет о формировании самостоятельного поведения, которое невозможно без создания «приватных схем» (например, представлений, что Сократ не простой человек, что он сам ставит себя на определенное место в жизни и стоит там насмерть). Приватные схемы выполняли двоякую роль: с одной стороны, обеспечивали (организовывали) самостоятельное поведение, с другой — задавали новое видение действительности, включавшее в себя два важных элемента — индивидуальное видение мира и ощущение себя микрокосмом (уникальной личностью, «Я»).
Случайно ли, что по форме становление античной личности происходит на сцене суда? Думаем, что нет, так же, как не случайно распространение подобных сюжетов в античном театре. В произведениях Эсхила, Софокла, Еврипида и других известных греческих драматургов герои ставятся в ситуации, где они вынуждены принимать самостоятельные решения и при этом, как показывает А. Ахутин, обнаруживают свою личность. Античная личность складывается в попытке разрешить следующее противоречие: человек должен действовать в соответствии с традицией и не может этого сделать, поскольку нарушит традицию. В этой драматической ситуации герой вынужден принимать самостоятельное решение, также нарушающее традицию. Так вот суд и театр оказываются той единственной формой, в которой вынужденный самостоятельный поступок героя получает санкцию со стороны общества, одновременно формой становления личности и его сознания. Не то, чтобы общество оправдывает поступок героя, оно осмысляет этот поступок, переживает его, вынуждено согласиться, что у героя не было другого выхода.
«Зевс, — пишет Ахутин, анализируя «Орестею» Эсхила, — ставит Агамемнона в ситуацию чисто трагической амехании 62
(т. е. невозможности действовать в условиях необходимости действовать. — В. Р.). Услышав из уст Кальханта волю Артемиды, Агамемнон погружается в размышление: «Тяжкая пагуба — не послушаться; тяжкая пагуба и зарубить собственное свое дитя, украшение дома, запятнав отцовские руки потоками девичьей крови, пролитой на алтаре. Как же избегнуть бедствий?!» Именно это, а не хитросплетение судеб само по себе интересует трагического поэта и зрителей: как человек решает, толкует оракулы и знамения, приводит в действие божественную волю, что с ним при этом происходит и как он «впрягается в ярмо необходимости» [9. С. 25].
В сходной ситуации амехании оказывается и сам Орест, вынужденный убить собственную мать. «В этом месте, которое уже не будет пройдено, в эту минуту, которая уже не пройдет, все отступает от него: воли богов и космические махины судеб как бы ждут у порога его сознания, ждут его собственного решения, которое никакой бог не подскажет ему на ухо и которое приведет в действие все эти безмерно превосходящие его силы» [9. С. 35]. Решение убить свою мать «принимается Орестом потому, что только так он может вырваться из слепых обуяний — яростью ли гнева, паникой ли страха — в светлое поле сознания». «Он поступает так, как должно, — замечает Б. Отис, — но, поступая так, он не утверждает, что поступает хорошо, он не впрягается в ярмо необходимости. Он действует с открытыми глазами и бодрствующим сознанием» [9. С. 33].
В третьей части трилогии зритель входит в «мир разбирательства, осмысления, в мир «логоса»...амехания «не столько преодолевается, сколько обретает осмысленную форму суда, учрежденного навеки, иначе говоря, суда, раскрываемого как вековечное основание человеческого и космического бытия. Отныне ничто не может быть раз и навсегда таким-то. Все подсудно, подочетно, ответственно» [9. С. 39].
Наконец, Ахутин поясняет, почему в данном случае театр и суд. «Герой, попавший в ситуацию трагической амехании, как бы поворачивается, поворачивается к зрителю с вопросом. Зритель видит себя под взором героя и меняется с ним
63
местами. Театр и город взаимообратимы. Театр находится в городе, но весь город (а по сути, полис, античное общество. — В. Р.) сходится в театр, чтобы научиться жизни перед зрителем, при свидетеле, перед лицом. Этот взор возможного свидетеля и судьи, взор, под которым я не просто делаю что-то дурное или хорошее, а впервые могу предстать как герой, в эстетической завершенности тела, лица, судьбы — словом, в «кто», и есть взор сознания, от которого нельзя укрыться. Сознание — свидетель и судья — это зритель. Быть в сознании — значит быть на виду, на площади, на позоре» [9. С. 20-21].
Ахутин напирает на «открытие сознания», но я бы этот прекрасный материал использовал для объяснения того, как происходит «становление античной личности». Ведь что Ахутин показывает в своей реконструкции? Во-первых, что античные поэты воспроизводят в своих произведениях те ситуации, в которые в то время попадали многие. Их суть в том, что человек не может больше надеяться ни на богов, ни на традиции (обычаи) и поэтому вынужден действовать самостоятельно (сравни метания вавилонского горожанина в середине первого тясячелетия до нашей эры, когда он разочаровался и в богах, и в защите и всевластии царей). Во-вторых, в ситуациях амехании античный человек вынужден опираться только на самого себя, но в силу мифологического сознания еще истолковывает свое самостоятельное поведение в превращенной форме, а именно, как трагическое действие, выставленное на суд богов. Кстати, и Сократ на суде говорит, что «исследовал дело по указанию бога», что и после смерти «боги не перестают заботиться о его делах», что с детства «какой-то голос» (гений, личный бог? — В. Р.) отклоняет его от неправильных решений, а «склонять к чему-нибудь никогда не склоняет» (т. е. во всех остальных случаях Сократ действует самостоятельно) [56. С. 85—86]. В-третьих, именно театр и суд предъявляют для античного человека новые формы самостоятельного поведения, в лоне суда и театра происходит их осмысление и трансляция.
64
Мои психологические исследования показывают, что необходимое условие выработки самостоятельного поведения — обнаружение, открытие человеком своего «Я», оно неотделимо от формирования им «образа себя», приписывания «Я» определенных качеств: я такой-то, я жил раньше, буду жить, я видел себя во сне и т. д. По сути, «Я» человека парадоксально: это тот, кто советует, направляет, управляет, поддерживает, и тот, кому адресованы эти советы, управляющие воздействия, поддержка. «Я» и формирующаяся на его основе личность — это собственно такой тип организации и поведения человека, в котором ведущую роль приобретают «образы себя» и действия с ними: уподобление и регулирование естественного поведения со стороны «образов себя» — сознательное, волевое и целевое поведение; отождествление ранее построенных «образов себя» с теми, которые действуют в настоящее время — воспоминание о прошлой жизни; поддержание «образов себя» — реализация и самоактуализация и т. п. Сам человек обычно не осознает искусственно-семиотический план своего поведения, для него все эти действия с «образом себя» переживаются как естественные, природные состояния, как события, которые он претерпевает.
Еще одно необходимое условие самостоятельного поведения — формирование «психических реальностей» (о психических реальностях см. [60; 64]). Действительно, выработка самостоятельного поведения предполагает планирование и предвосхищение будущих действий и переживаний, смену одних способов деятельности и форм поведения на другие, причем человек сам должен это сделать. Первоначально человеку кажется, что подобные планы и предвосхищения, смены и переключения сознания и поведения подсказываются и идут со стороны, от богов, гения, других значимых людей. Но по мере того, как человек научается сам строить эти планы, предвосхищать будущие события и их логику, изменять в определенных ситуациях свои действия и поведение, подобные планы, предвосхищения и переключения становятся необходимыми условиями самостоятельного поведения, рассматриваются и осознаются человеком именно 65
как разные условия, в которых он действует, живет, т. е. эти планы будущей деятельности, знание ее логики, предвосхищения событий, способы переключения и другие образования превращаются в психические реальности.
Хотя самостоятельное поведение — это культурный тип поведения человека, одновременно это поведение, направляемое «индивидуальным семиозисом» (приватными схемами), и в то же время это поведение, согласованное в рамках культуры (для этого используется еще один тип схем — «согласующие» [61]). Формирование личности предполагает не только социальные практики, направленные на человека, но практику самостоятельного поведения, т. е. практику (управление, осмысление и др.), где человек включает себя в собственную деятельность, направляет ее на себя. Безусловно, личность может входить в противоречие с культурой, поскольку индивидуальный семиозис может быть не согласован частично или полностью с базисными культурными сценариями. Предельный вариант развития маргинальной личности дают некоторые направления эзотеризма. Здесь личность создает такой индивидуальный сценарий, в котором полностью отрицается культура, а также изобретает практики (психотехники), позволяющие проживать в психологическом плане события данного индивидуального сценария (подробнее см. наши работы по анализу эзотерических учений [63; 65]).
Анализ платоновской «Апологии Сократа» показывает, что античная личность «потянула» за собой и формирование ряда социальных субъектов (на их основе дальше формируются профессиональные сообщества). Так, в суде над Сократом участвуют, по меньшей мере, четыре разные группы: партия противников Сократа, партия его защитников и учеников, колеблющееся «болото», наконец, исполнительная власть, включающая судей. Социальные субъекты вырабатывали самостоятельные цели, действовали согласованно на политической сцене, пытались навязать остальным членам общества свое видение мира, понимание целей и способов их достижения.
66
Из той же «Апологии» можно понять, что собой представляло античное общество. Оно состояло из социальных субъектов и других граждан античного полиса, сходившихся на публичной сцене (суде, собрании, на площади города, в театре и т. д), где каждый мог высказать свое мнение и попытаться повлиять на других. В результате складывалось общественное мнение, принимались коллективные решения, исполнение которых поручалось уже властям. Общество — это и не самостоятельный субъект, но отчасти и субъект, поскольку обладает своеобразным сознанием, может формулировать цели и реализовывать их. Общество структурируется «здесь и сейчас» в ходе общения, но имеет также и постоянную основу: его члены связаны «слабыми взаимодействиями»; к их числу относятся общие условия жизни, принадлежность к единому этносу, разделяемые всеми культурные реалии.
Каким же образом античная личность и социальные субъекты взаимодействуют друг с другом, если учесть, что каждый из них видит все по-своему? Например, средний гражданин афинского общества думает, что жить надо ради славы и богатства, а Сократ на суде убеждает своих сограждан, что жить нужно ради истины и добродетели. Этот средний афинянин больше всего боится смерти, а Сократ доказывает, что смерть, скорее, есть благо. Мы видим, что основной «инструмент» Сократа — рассуждение, с его помощью Сократ приводит в движение представления своих оппонентов и слушателей, заставляя меняться их видение и понимание происходящего, мира и себя. Проанализируем под этим углом зрения материал формирования античного мышления.
До античной культуры мы не встречаем никаких рассуждений, да они и не были нужны, поскольку все представители культуры видели одинаково, имели одни и те же представления, заданные коллективными схемами (те же, кто почему-либо начинал видеть, отклоняясь от общей нормы, подвергались немедленному остракизму). Рассуждения понадобились и были изобретены только тогда, когда формируется античная личность и социальные субъекты. Структура их, как я показываю в своих работах, содержит такое важное зве67
но, как схему типа «А есть В» («Все есть вода», «люди — смертны», «боги бессмертны», «кровь есть жидкость» и т. п.), позволяющую переходить от одних представлений к другим (от А к В, от В к С, от С к Д и т. д.).
Собственно рассуждения появляются тогда, когда человек, во-первых, научается строить новые схемы типа «А есть В» на основе других схем типа «А есть В» с общими членами, пропуская эти общие члены (например, на основе схемы «А есть В» и «В есть С» создавать схему «А есть С»), во-вторых, истолковывает эти схемы как знания о мире, т. е. о том, что существует [61; 64]. Именно рассуждение позволяло приводить в движение представления другой личности (социального субъекта), направляя их в сторону рассуждающего. Так, Сократ сначала склоняет своих слушателей принять нужные ему знания типа «А есть В» (например, то, что смерть есть или сладкий сон, или общение с блаженными мудрецами), а затем с помощью рассуждения (т. е. рассуждая) приводит слушателей к представлениям о смерти как благе. Другими словами, рассуждения — это инструмент и способ согласования поведения индивидов при условии, что они стали личностями и социальными субъектами, и поэтому видят и понимают все по-своему.
Дальше, однако, возникли проблемы: рассуждать можно было по-разному (по-разному понимать исходные и общие члены рассуждения и различно их связывать между собой), к тому же каждый тянул одеяло на себя, т. е. старался сдвинуть представления других членов общества в направлении собственного видения. В результате, с одной стороны, парадоксы, с другой — вместо согласованного видения и поведения — множество разных представлений о действительности.
Возникшее затруднение, грозившее парализовать всю общественную жизнедеятельность греческого полиса, удалось преодолеть, согласившись с рядом идей, высказанных Платоном и Аристотелем. Эти философы предложили, во-первых, подчинить рассуждения законам (правилам), которые бы сделали невозможными противоречия и другие затруднения в мысли (например, рассуждения по кругу, перенос знаний 68
из одних областей в другие и др.), во-вторых, установить с помощью этих же правил контроль за процедурой построения мысли [64].
Дополнительно решались еще две задачи: правила мышления должны были способствовать получению в рассуждениях только таких знаний, которые можно было бы согласовать с обычными знаниями (т. е. вводился критерий опосредованной социальной проверки), и, кроме того, правила должны были быть понятными и приемлемыми для остальных членов античного общества. Другими словами, хотя Платон и Аристотель настаивали на приоритете общественной точки зрения (недаром Платон неоднократно подчеркивал, что жить надо в соответствии с волей богов, а Аристотель в «Метафизике» писал: «Нехорошо многовластие, один да властитель будет»), тем не менее они одновременно защищали свободу античной личности. Конкретно последнее требование приводило к формированию процедур разъяснения своих взглядов и обоснования предложенных построений.
Уже применение к реальным предметам простых арифметических правил требует специального представления материала (для этого, подсчитав предметы, нужно получить числа; в свою очередь, чтобы подсчитать предметы, необходимо хотя бы мысленно их сгруппировать, затем поочередно выделять отдельные предметы, устанавливая их соответствие определенным числам). Тем более это было необходимо сделать (т. е. особым образом представить предметный материал) для применения построенных Аристотелем правил мышления. Эти правила, как известно, в основном были сформулированы в «Аналитиках». Например, применение правила совершенного силлогизма к конкретному предмету, скажем, Сократу («Сократ человек, люди смертны, следовательно, Сократ смертен») предполагает возможность рассмотреть Сократа и людей как находящихся в определенном соотношении (Сократ является элементом рода людей, принадлежит им, но не наоборот).
Схематизируя подобные отношения, обеспечивающие применение созданных правил, Аристотель в «Метафизике» 69
и ряде других своих работ вводит категории: «род», «вид», «начало», «причина», «материя», «форма», «изменение», «способность» и др. С их помощью предметный материал представлялся таким образом, что по отношению к нему, точнее, объектам, заданным на основе категорий, можно было уже рассуждать по правилам. Схемы и описания, созданные с помощью категорий и одновременно фиксирующие основные свойства рассматриваемого предмета, причем такие, использование которых в рассуждении не приводило к противоречиям, получили название понятий. Например, в работе «О душе» Аристотель, анализируя существующие рассуждения о душе человека и ее состояниях, с помощью категорий создает ряд понятий: собственно души, ощущения, восприятия, мышления (последнее, например, определялось как «форма форм» и способность к логическим умозаключениям).
Создание правил мышления, категорий и понятий, позволяющих рассуждать без противоречий и других затруднений, получать знания, которые можно было согласовывать с обычными знаниями, обеспечивая тем самым социальный контроль, а также понимать и принимать все предложенные построения (правила, категории и понятия), венчает собой длительную работу по созданию мышления. С одной стороны, конечно, мыслит личность, выражая себя в форме и с помощью рассуждений (размышлений). С другой — мышление, безусловно, представляет собой общественный феномен, поскольку основывается на законах социальной коммуникации и включает в себя стабильную систему правил, категорий и понятий.
Уже в античной культуре сложились два основных взаимосвязанных способа использования мышления. С одной стороны, мысля и рассуждая, античный человек уяснял окружающие его природу, мир и самого себя, разрешал проблемы, возникающие, когда он не понимал, что происходило в действительности или как она устроена. С другой — мышление позволяло решать социальные задачи, касающиеся всех. Например, Аристотель и его школа осуществили настоящую реформу в сфере знания. Они поставили своей 70
задачей заново в правильном мышлении получить знания, созданные к этому времени по поводу различных предметных областей софистами и философами.
Попробуем теперь суммировать представления об античной личности. Ее становление было обусловлено переходом к самостоятельному поведению, что было бы невозможным без изобретения приватных схем и формирования новых представлений о своем «Я» как источнике самоуправления («Вот оно как бывает поистине, о мужи афиняне: где кто поставил себя, думая, что для него это самое лучшее место ...там и должен переносить опасность, не принимая в расчет ничего, кроме позора, — ни смерти, ни еще чего-нибудь» [56. С. 82]. Одновременно формируется оппозиция, внутреннее и внешнее, «Я» и мир, «Я» и другие. Античная личность конституирует себя, разрешая проблему отношения к существующей традиции, иначе она не могла бы существовать в культуре.
Самостоятельное поведение в данном случае строится как компромисс между необходимостью следовать традиции (мифам и обычаям) и преодолением этой традиции. Если на заре античной культуры Сократ решает этот компромисс фактически в пользу личности, предлагая афинскому обществу следовать за собой, то на излете культуры Апулей склоняется к взаимным уступкам и сотрудничеству. Обвиненный в сходных прегрешениях (ему инкриминировали необычный образ жизни, обман и занятия магией), Апулей с успехом защищается, причем главный его аргумент — я философ и путешественник, а следовательно, могу и жить не так, как все (чистить зубы, смотреться в зеркало и пр.), и заниматься наукой (магией); и, что важно, суд с ним соглашается. К тому же Апулей не лезет на рожон, как Сократ, не говорит суду: «Что бы вы ни делали, я все равно останусь верен себе, вы все живете неправильно, вместо того, чтобы стяжать истину и добродетель, обогащаетесь и лицемерите». И при всем том Апулей — личность, например, он говорит следующее: «Не на то надо смотреть, где человек родился, а каковы его нра71
вы, не в какой земле, а по каким принципам решил он прожить свою жизнь» [5. С. 28] (курсив наш. — В. Р.).
Итак, основными формами социализации для формирующейся античной личности выступали сначала суд и театр, а затем к ним присоединяется философия. Начиная с Платона, проблематика осмысления личности все больше интересует философов. Их, очевидно, не устраивали синкретические переживания в театре, где рациональные модели самостоятельного поведения невозможно было отделить от эмоций и других переживаний. Основным инструментом общения разных личностей между собой, а также с античным обществом становятся сначала ненормированные рассуждения, а затем мышление (т. е. рассуждения, которые строятся по правилам логики с использованием категорий и понятий). Рассуждения позволяли приводить в движение представления личности, направляя их в нужном для мыслящей личности направлении.
В последующих культурах самостоятельное поведение человека как важнейшее достижение цивилизации, естественно, сохраняется, но структура самостоятельного поведения в каждой культуре своя. Соответственно меняются социальные институты и мышление, обеспечивающие становление и функционирование личности. Но не будем забывать: не каждый человек становится личностью. Зато каждый является социальным индивидом и в этом своем качестве следует базисным культурным сценариям.
3. Становление и особенности личности в Средние века
Как известно, средневековая культура строится на основе христианского учения. Но античное мышление и личность, правда, в подчиненной и переосмысленной роли входят в эту культуру. Действительно, в Средние века задачи мышления кардинально изменились. Главным становится не познание областей бытия и упорядочение рассуждений, а критика на основе христианских представлений античных способов объяснения и понимания мира и человека, а также уяснение 72
и объяснение новой реальности, зафиксированной в текстах Священного писания. Обе эти задачи можно было решить только на основе мышления, поскольку формирующийся средневековый человек перенимает от античности привычку рассуждать и мыслить, а также потому, что новая реальность хотя и выглядела привлекательной и желанной, одновременно была достаточно непонятна. Что собой представлял Бог, как он мог из ничего создать мир и человека, почему он одновременно Святой Дух, Отец, и Сын, как Бог воплотился в человека Христа и что собой Христос являл — Бога, человека или их симбиоз, как понимать, что Христос воскрес — эти и другие сходные проблемы требовали своего разрешения именно в сфере мысли.
Конституирование средневековой личности в «Исповеди» св. Августина. Чтобы понять эту работу, остановимся сначала на времени, в котором Августин творил. После 312 года, когда был издан эдикт о веротерпимости, и Никейского собора в 325 г. христианство становится ведущим культурным фактором. Параллельно происходит отделение образованного клира от непосвященного мира и возникает «необходимость в догматическом оформлении церкви, которая столкнулась с трудностями, связанными с разным толкованием Троицы» [51. С. 114].
Другим важным фактором того времени являлось все более осознаваемое ощущение неподготовленности среднего человека к пониманию и усвоению христианского учения, в основных чертах уже выстроенного. Дело в том, что в христианство широким потоком стали вливаться язычники и античные люди. Новообращенный «ветхий» человек (неважно, кем он был — древним германцем или римлянином) традиционно считал, что его душа подобно стихии совершает кругооборот жизни и смерти, что в мире, который мыслится неизменным, правят множество богов, что судьба человека от него самого не зависит. Напротив, в христианском учении утверждалось, что душа человека находится в напряженных нравственных отношениях с Творцом, и оттого, чью сторону человек примет, полностью зависит его судьба. «Новый» че73
ловек рассматривал мир как созданный Богом и «преходящий». Сам Бог понимался не только как закон и бытие (Отец и Святой Дух), но и как нравственная личность (Христос). Мог ли ветхий человек, только что принявший христианство, при всем своем желании понять новое учение, если он видел все иначе? Очевидно, нет. Чтобы стать настоящим христианином, он должен был измениться, причем кардинально. Именно эту задачу решают идеологи и подвижники христианства и стараются помочь решить ее другим, обычным людям. «В середине 90-х гг. IV в. Паулин Ноланский обратился к другу Августина Алипию с просьбой написать о своем личном религиозном опыте, то есть о своем житии, тот переадресовал его к Августину, выполнившему и перевыполнившему просьбу, рассказав и об Алипии и о себе: «Исповедь» написана в 397—401 гг.» [51. С. 126].
Заметим, что Августин перевыполнил задание не только по объему, он, помимо изложения своего религиозного опыта и пути, был вынужден набросать описание нового человека, обсудить его сущность и отличие от человека ветхого. При этом опираться Августин мог только на самого себя, поскольку именно в себе он имел опыт преображения ветхого человека и рождения человека нового — христианина. Как писал еще Татиан: «Я не стараюсь, как обыкновенно делают многие, подтверждать свои мысли чужими мнениями, но излагаю то, что сам увидел и узнал. Потому-то я распростился и с римским высокомерием и с холодным афинским красноречием, с различными учениями и принял нашу варварскую философию» [51. С. 73]. Однако, каким образом, опираясь на себя, можно было создать, как бы мы сегодня сказали, новый антропологический образ человека, без которого были невозможны ни становление средневековой культуры, ни формирование средневекового мышления? Думаем, на основе эзотерического мирощущения.
В исторические периоды, подобные рассматриваемому, новый образ человека может быть создан только за счет усилий отдельных личностей, забегающих вперед во времени. Но эти личности должны на что-то опираться в своем движе74
нии вперед. Исследования последних десятилетий показывают, что, как правило, они воодушевлены эзотерическими идеями. Например, Платон, как известно, вслед за Пифагором считал, что цель человеческой жизни — обретение бессмертия (как он говорил, мудрый стремится «блаженно закончить свои дни»), которое возможно, поскольку душа человека, божественная по своей природе, может при определенных условиях (забота о себе, занятие философией и математикой) припомнить совершенный мир идей, где как раз место блаженной жизни. Эзотерик не только верит в подлинную реальность (например, мир идей или вечную жизнь в лоне Бога), но и активно познает ее, не столько ждет, когда он попадет в подлинную реальность, сколько всю свою жизнь направляет на обретение этой реальности. Один из важнейших эзотерических принципов — кардинальное изменение себя, без которого, как считают эзотерики, невозможно обретение подлинной реальности.
«Исповедь» Августина по многим параметрам может считаться не только философско-религиозным, но и эзотерическим текстом. Как правило, эзотерические учения начинаются с критики существующих форм жизни и культуры как неподлинных и иллюзорных. И в «Исповеди» немало места посвящено прямой или косвенной критике языческих форм жизни и философствования. Впрочем, здесь Августин всего лишь идет по стопам других христианских мыслителей, которые начиная со второго века критикуют многобожие, образ жизни граждан Империи, античные представления о душе человека и сущности мира и т. д.
Другой важный сюжет эзотерических учений — описание духовного переворота, происходящего с человеком, который, с одной стороны, осознает невозможность привычного существования в обычном мире, с другой — выходит на идею спасения, содержащую веру в существование подлинной реальности и жизни. Для Августина подлинная реальность — это христианский Бог, находящийся в напряженных нравственных отношениях с отдельным человеком. Обнаружению этой реальности предшествует тяжелая душевная борьба Ав75
густина с самим собой. «О, как желал и я достигнуть этого счастья, только не по сторонним побуждениям, а по собственной воле. А воля моя, к несчастью, была в то время не столько во власти моей, сколько во власти врага моего... Между тем во мне родилась новая воля — служить Тебе бескорыстно и наслаждаться Тобою, Боже мой, как единственным источником истинных наслаждений. Но эта воля была еще так слаба, что не могла победить той воли, которая уже господствовала во мне... Таким образом, две воли боролись во мне, ветхая и новая, плотская и духовная, и в этой борьбе раздиралась душа моя... Между тем я, служивший поприщем борьбы, был один и тот же... По своей же воле дошел я до того, что делал то, чего не хотелось делать... У меня не было никаких извинений. Я не мог сказать, что потому именно доселе не отрешился от мира и последовал Тебе, что не знаю истины; нет, истину я познал, но, привязанный к земле, отказывался воинствовать для Тебя... Я одобрял одно, а следовал другому» [2. С. 103—108; 26. С. 418].
Чтобы идти по эзотерическому пути, человек должен нащупать твердое основание жизни и мышления, независимое от принятых в культуре, общераспространенных устоев. В эзотеризме таким основанием обычно выступает личное бытие эзотерика, однако понятое уже в модусе подлинного существования. Для Августина — это «внутренний человек», непосредственно общающийся с Богом. Но как убедиться, что внутренний человек не является обманом чувств или воображения Августина, ведь другие мыслители отрицают подлинную реальность эзотерика, напротив, они утверждают, что существует нечто другое. Ответ эзотерика таков: критерий достоверности и истиности в моем существовании, в очевидности той подлинной реальности, которую я обретаю. Августин говорит: «Как я могу сомневаться в существовании Бога, если все мое существование подтверждает это, если я с Богом оказываюсь прямо в раю (т. е. в подлинной реальности)».
«И сами мы, — пишет Августин, — в себе узнаем образ Бога, т. е. сей высочайшей Троицы... Ибо и мы существуем, и знаем, что существуем, и любим это наше бытие и знание. 76
Относительно этих трех вещей мы не опасаемся обмануться какою-нибудь ложью, имеющей вид правдоподобия... Без всяких фантазий и без всякой игры призраков для меня в высшей степени достоверно, что я существую, что я это знаю, что я люблю. Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: “А что если ты обманываешься”? — “Если я обманываюсь, то поэтому уже существую, ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться”» [3. С. 216—217].
«Внутренний человек, — замечает Неретина, — начинается с любви к Богу, эта любовь порождается «неким светом и неким голосом, неким ароматом и некой пищей, и некими объятиями» [51. С. 133]. «Этот свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека, — читаем мы в «Исповеди», — там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего» [2. С. 132].
Но, может быть, все это метафоры и изящная словесность? Ни в коем случае. Эзотерик, достигший, наконец, подлинной реальности, не только ощущает ее вполне натурально, но и переживает самые интимные свои желания, оказывается захвачен событиями, о которых он мечтал много лет. Эзотерический характер переживаний Августина подтверждает еще одно наблюдение. Многие эзотерики подчеркивают мысль о том, что войти в подлинную реальность можно лишь при условии, если удастся полностью свернуть обычные чувства и мысли, если сознание человека будет активно, но молчать. Когда это произойдет, подлинная реальность придет сама и человек переживет настоящее счастье, поскольку прикоснется к спасению. Если, пишет Августин, «в человеке умолкнет волнение плоти, исчезнут представления о земле, воде и воздухе, умолкнет и сама душа, выйдя из себя, о себе не думая, если наступит полное молчание, то заговорит сам Бог, и услышим Слово Его не из плотских уст, не 77
в загадках и подобиях, как сейчас, когда мы вышли из себя и быстрой мыслью прикоснулись к Вечной Мудрости, над всем пребывающей. Если такое состояние могло бы продолжиться, если вечная жизнь такова, какой была эта минута постижения, то разве это не то, о чем сказано: “Войди в радость господина Твоего”» [2. С. 124]
Обретя в своей личности и подлинной реальности твердое основание, эзотерик начинает сложную двойную работу: с одной стороны, он познает приоткрывшуюся ему подлинную реальность, с другой — меняет, переделывает себя в направлении, позволяющем ему в конце концов попасть в эту реальность. Мои исследования эзотерических учений показывают, что устройство подлинной реальности эзотерика отвечает его идеалам и личности, другими словами, мы можем сказать, что, попадая в подлинную реальность, эзотерик «летит в самого себя» или, если осмыслять этот процесс рационально, что в форме эзотерических переживаний и познания он рефлексирует свою личность. Но одновременно в форме рефлексии своей личности эзотерик познает и окружающий его мир.
Все эти моменты можно проследить и в творчестве Августина. Действительно, он познает не только Бога, но и посредством Бога свою душу; познавая себя, Августин одновременно узнает, как устроен Бог и его творения. Мы начинаем понимать, почему вообще Августин считает возможным изучение Творца, а также почему изучение реальности в трудах Августина все время перетекает в изучение себя (души) и наоборот. Например, обсуждая, как Бог из ничего создал мир, Августин уподобляет акт божественного творения акту собственной мысли, в результате ему удается понять, как Творец мог реализовать свой замысел (ведь в ходе мышления в нашем сознании рождаются целые миры). Обсуждая природу времени, Августин приходит к мысли, что время есть не что иное, как «растяжение самой души».
«Логика Августина, — пишет Неретина, — парадоксальна. Она остается такой же и при попытках анализа «ничто». Для Августина очевидно, что не было ничего, из чего Бог мог 78
создать мир... Бог есть Мысль, Мысль же, как мы видели, всегда связана с направлением внимания на нечто и в соответствии с настоящим... «Ничто» — это не Бог и не сотворенное «почти ничто», т. е. небо и земля, а невидимое лежащее между ними; прыжок мысли, мгновенно претворяющейся в дело, что и есть собственно Начало, которое Августин отождествляет с мудростью» [51. С. 145—146].
При изучении души эзотерическая трактовка личности приводит Августина к выдвижению на первый план памяти-ума и воли. В памяти, говорит Августин, «встречаюсь я сам с собой», там же ум «принимает» все сложенное (т. е. то, что удалось запомнить) для последующей «переработки и обдумывания» [2. С. 136]. Но если вспомнить, что мысль обладает способностью творения, то получается вполне в соответствии с эзотерической логикой, что память и ум — это деятельностное условие подлинного существования, бытия. Размышляя и запоминая, эзотерик открывает подлинную реальность и входит в нее. Параллельно эзотерик должен изменять себя и поэтому измениться. Необходимое условие этого — воля человека. Но опять же человеческая воля осмысляется через волю Творца. Воля Бога («Да будет воля Твоя»), замечает П. Гайденко, — одна из центральных интуиций христианской религии, самое адекватное выражение христианского благочестия; определять Бога в понятиях воли, хотения — специфическая особенность христианской теологии.
И еще одно наблюдение подтверждает эзотерический характер усилий Августина. Эзотерик постоянно вынужден констатировать противоречия между своими идеальными устремлениями и реальными желаниями и привычками (по идее он всегда должен решительно становиться на сторону первых, однако не всегда это получается). Так, Августин, рассказывая о том, как он пришел к вере, вспоминает, что его душа отказывалась подчиняться самой себе, но это, по мнению Августина, не означает, что в человеке есть две разных души — добрая и злая. «Я одобрял одно, — сетует Августин, — а следовал другому... Тело охотнее подчинялось 79
душе, нежели душа сама себе в исполнении высшей воли своей, в одной и той же субстанции моей, тогда как, казалось, достаточно было бы одного хотения для того, чтобы воля привела его в действие... Но да исчезнут от лица Твоего, Боже... те, которые, видя две воли в борьбе духа нашего, утверждают, что в нем существуют два духовных начала противоположного естества, одно доброе, а другое злое. Питая такие нечестивые мысли, они сами признают себя злыми; между тем могли бы быть добрыми, если бы отказались от этих мыслей» [2. С. 108—109].
Но эзотеризм был формой, сущность же творчества Августина в нашей интерпретации сводится к построению схем и образов средневековой личности, ориентированной на Священное писание и работу по перестройке ветхого человека. Особенностью средневековой личности является конкретная диалектика свободы и необходимости, суть которой состояла в признании в рамках корпоративных отношений и веры в Бога личной свободы человека.
«Даже самые высокие права, — пишет X. Ортега-и-Гассет, — оказывались тем самым прямым следствием личной власти. Таким образом, древнеримское и нынешнее представление, что человек от роду наделен всеми правами, — полная противоположность германскому духу. Последний неизбежно нес на себе отпечаток выдающейся личности. Личности, а не какого-то «индивида». Сначала права требовалось завоевать, потом — отстоять» [38. С. 161]. «Противник идеи личности в средневековье, — комментирует это высказ- вание Неретина, — может воскликнуть: вот-де, по Ортеге получается, что личность зависит исключительно от себя, а как же Бог, в Котором человек всецело заключен? Но не стоит упрощать ни Ортегу, ни Августина. Человек осознает, что он всецело в руке божией, если сам, сам, исключительно сам, направит свою волю, душу, интеллект на самопознание, в результате которого он обнаруживает себя лицом к лицу с Богом и лишь в конце концов постигает, что он — в руке божией. Без этого самоначинания ни о каком истинном христианстве речи нет и не может быть, как не может быть сред80
невекового человека без свободы воли, о чем уверенно пишет Августин» [51. С. 163].
Наметив схемы и образы средневековой личности, Августин, с одной стороны, создал условия для конституирования и формирования этой личности, с другой — принципиальную возможность ее мыслить. Действительно, становление личности предполагает формирование самостоятельного, личностного поведения человека (как мы подчеркнули, в специфически средневековом смысле). В свою очередь, самостоятельное поведение невозможно без особой семиотики и представлений, задающих «образ себя». Схемы и образы средневековой личности, намеченные Августином, как раз и выполняют эту функцию, т. е. задают «образ себя», с помощью которого средневековый человек начинает строить самостоятельное поведение и устанавливать отношения с другими людьми и властью. На основе этих схем и образов средневековый человек также осознает себя и рассуждает по поводу себя, получая новые знания.
Анализ рассмотренного материала позволяет различить «становление» личности и ее «существование» (функционирование), а также обсудить особенности средневековой личности. В «Исповеди» Августин рассказывает, как он приходит к христианству, что мы можем охарактеризовать именно как «становление» личности. Августин вспоминает, что все его друзья и близкие, начиная с любимой матери, приходили к христианству, и это не могло не влиять, заставляя «верить в Бога еще до веры». Пытаясь поверить в Бога, Августин проделал огромную работу, переосмысляя свои обыденные представления. Он научился символически и аллегорически истолковывать тексты Священного писания, редуцировал образ Бога сначала к эфирному всепроникающему бесконечному существу, затем к бестелесному образу, условию творения всего, и истине («Я оглянулся, — пишет Августин, — на мир созданный и увидел, что Тебе обязан он существованием своим и в Тебе содержится, но по-иному, не так, словно в пространстве; Ты, Вседержитель, держишь в руке, в истине Твоей, ибо все существующее истинно, по81
скольку оно существует» [2. С. 94]). Нашел Августин и место злу, которое не от Бога, а есть то, что с Богом не согласуется. Перечитывая «Исповедь» не один раз, я прошел шаг за шагом вслед за Августином и понял, как идея Творца, сначала для него совершенно неприемлемая и неправдоподобная, постепенно становилась все более понятной и необходимой и, в конце концов, превратилась в реальность, в которой нельзя было усомниться.
Почему мы называем этот процесс становлением личности? А потому, что, обретая веру в мучительной работе и сомнениях, Августин не может опереться ни на кого, кроме себя самого, он действует самостоятельно, вырабатывая собственное понимание Бога и других реалий. Августин рассказывает, как, имея одни представления о мире и себе, в конце концов приходит к совершенно другим представлениям, т. е. открывает для себя новую реальность. Эта реальность (представление о боге, мире, сущности и месте человека) хотя и является общезначимой, в том смысле, что вписывается в христианскую средневековую культуру, тем не менее представляет собой уникальное понимание христианства Августином Аврелием. В нем много от рационального философского осмысления, от личности Августина, который предпочел любовь к Богу чувственной любви (поэтому, кстати, Августин понимает Бога как возлюбленного). Не совсем каноническое и понимание Августином Христа: «Я искал путь, на котором приобрел бы силу, необходимую, чтобы насладиться Тобой, и не находил его, пока не ухватился «за Посредника между Богом и людьми, за Человека Христа Иисуса», Который есть «сущий над всем Бог, благословенный вовеки» [2. С. 95].
В процессе становления христианской личности (что наш известный философ и культуролог В. С. Библер связывает с «преображением» средневекового человека) Августин вынужден был, так сказать, преодолеть в себе античную личность. Действительно, центральная проблема античной личности — отношение к традиции и полису. Для средневекового человека более важным является принятие образов Твор82
ца, Христа и поворот к ближнему, т. е. подчинение самостоятельного поведения идеям христианства, христианской любви, бескорыстной помощи. Важная особенность средневековой личности — совпадение ее становления (преображения) и существования, иначе говоря, именно становление личности образует суть средневековой личности. В античной культуре, например, это было не так: процесс становления не артикулируется и практически не осознается, артикулируется уже сложившееся самостоятельное поведение, противоположное (Сократ) или частично согласованное (Апулей) с общепринятым в полисе. «Без парадоксов преображения, — пишет Библер, рассматривая взаимоотношение в средневековой культуре двух культур («высокой» церковной, ученой и «низкой», народной), а также двух голосов («Схоласта» и «Простеца»), — тут никак не обойтись. Ни в реальной жизни средневековья, ни в исследовании этой жизни. Когда Цезарь Ареатский пишет: «Мы также должны заботиться о душе, как возделываем свои поля», когда он говорит о душе человеческой как о «поле Господа», то это не просто ориентация на то, что слушатели его «сельские жители Южной Галии». Это глубинный образ отношения человека Средних веков (соответственно — культуры Средних веков) к самому себе, к своему предельному полюсу: человек тогда самостоятелен, живет в горизонте личности, когда способен быть и простым, докультурным, как земля, и высоким, утонченным, как небо... Предполагаю, что как раз этот момент «преображения» решающе значим в средневековой культуре... предметом многих ключевых произведений «высокой» культуры Средних веков выступает как раз момент взаимообоснования «двух сознаний», момент, феноменологически исходный для источников, интересующих Гуревича. Однако там (в «высокой» литературе) само «сознание простеца» взято в момент преображения или в итоге преображения в горизонте личности. Понять в момент или в итоге преображения приходского или — еще глубже, вдаль веков — архаического простеца в простецов Евангелия...В простеца Августина Блаженного, недоуменно вопрошающего о таких извечных загадках, как 83
«что есть время?», «что есть память?», «что есть совесть?» [15. С. 105, 106, 109-110].
Другой особенностью средневековой личности Библер считает «сопряжение» в сознании средневекового человека двух голосов — Схоласта и Простеца, обусловленных столкновением и единством (средневековый Собор) двух культур — архаической (народной) и церковной (ученой). «Перед нами — средневековая идея (предопределение) личности. Два ее полюса (ну, скажем, простец и схоласт... ничто и все... верх и низ...) — это полюса ее внутреннего определения, напряжения, смысла, вне которых ее просто нет... Сопряжение Простеца и Схоласта (с включением Мастера как медиатора этих полюсов) есть решающее для идеи личности...Это сопряжение принципиально внегротескно. Оно — осколочно, но целостно... действительной основой постоянного — в веках — возрождения неповторимой средневековой культуры является, как я предполагаю, «не гротеск» (здесь Библер полемизирует с точкой зрения другого известного нашего культуролога А. Я. Гуревича. — В. Р.), но всеобщая поэтика собора... Именно в этом «в (о)круге собора — бытии» «верх и низ», образ Простеца и Схоласта слиты в одно, антитетически напряженное целое — в идею личности, в горизонте которой сосредоточивается и обособляется индивид» [15. С. 111, 122, 123].
Однако, нам кажется, что не само сопряжение двух голосов конституирует средневековую личность, а то, как это сопряжение решается отдельным индивидом, отдельной личностью, выстраивающей самостоятельное поведение в лоне «антитетической (саморазорванной) диалогической средневековой культуры». Рассмотрим в связи с этим два примера: «Исповедь» Августина и знаменитые письма Абеляра к своей возлюбленной Элоизе. Августин дилемму выбора между рационалистическим (философским) и христианским умозрением решает следующим образом. С одной стороны, он переосмысляет идею Бога, лишая последнего всех природных характеристик (Он — не эфир, не пространство, не материя и т. д.), Бог — это условие творения всего и истина; соответ84
ственно мир (космос) Августин трактует как Божественное произведение. С другой стороны, Бога Августин понимает предельно личностно, как Творца, заботливого Друга, Возлюбленного. Оба эти, на рациональный взгляд, несовместимые представления Бога удерживаются и про-живаются сознанием Августина, подобно тому, как сама христианская средневековая культура «держит» оба эти представления (в своих произведениях, (о)круге собора, организации и содержании всей средневековой жизни). Вот таким, личностным уникальным способом Августин разрешает дилемму двух культур и голосов; заметим: другие средневековые философы и мыслители разрешали ее иначе. Теперь пойдем к Абеляру и Элоизе.
Страстная любовь знаменитого французского философа магистра Абеляра и юной, обладающей редкими способностями к наукам, семнадцатилетней Элоизы, как известно, закончилась трагично. Дядя и родные Элоизы, решив, что Абеляр обесчестил Элоизу (хотя они тайно обвенчались, и дядя это знал), что он «грубо обманул их и посвятил Элоизу в монахини, желая совершенно от нее отделаться» (хотя он только укрыл Элоизу в женском монастыре Аржантейль), подкупили слугу Абеляра и подослали в его дом нескольких наемных палачей. Когда Абеляр спал, те проникли ночью в спальню магистра и оскопили его (как сам Абеляр пишет: «...отомстили мне самым жестоким и позорным способом, вызвавшим всеобщее изумление: они изуродовали те части моего тела, которыми я совершил то, на что они жаловались» [1. С. 31]). И вот, будучи оба в постриге (Абеляр — аббат в Бретани, Элоиза — настоятельница, аббатиса монастыря в Аржантейле), они через 26 лет начинают знаменитую переписку. Поводом к ней послужила прочитанная Элоизой «История моих бедствий». Чтение воспоминаний любимого ею человека оживили в душе Элоизы никогда не умиравшую любовь к Абеляру, но одновременно она глубоко задета: ей кажется, что Абеляр не уделяет ей внимания, занят своими проблемами и бедами и, похоже, уже давно не любит ее.
85
Об этом Элоиза прямо пишет Абеляру: «Тебя соединяла со мной не столько дружба, сколько вожделение, не столько любовь, сколько пыл страсти. И вот, когда прекратилось то, чего ты желал, одновременно исчезли и те чувства, которые ты выражал ради этих желаний. О возлюбленнейший, это догадка не столько моя, сколько всех, не столько личная, сколько общая, не столько частная, сколько общественная. О, если бы так казалось мне одной, о, если бы твоя любовь нашла что-нибудь извиняющее, от чего — пусть немного — успокоилась бы моя скорбь! О, если бы я могла придумать причины, которые, извиняя тебя, как-либо опровергли бы мое низкое предположение!» [1. С. 70].
В истории и переписке Элоизы есть два непонятных момента: первый — страстно любя Абеляра, Элоиза упорно отговаривала его от брака с нею; второй — неясно, что Элоиза хочет от Абеляра, ведь он уже не мужчина в обычном смысле слова. Элоиза пишет: «И хотя наименование супруги представляется более священным и прочным, мне всегда было приятнее называться твоей подругой, или, если ты не оскорбишься,— твоею сожительницей или любовницей. Я думала, что чем более я унижусь ради тебя, тем больше будет твоя любовь ко мне и тем меньше я могу повредить твоей выдающейся славе... ты не пренебрег изложить и некоторые доводы, при помощи которых я пыталась удержать тебя от нашего несчастного брака, хотя и умолчал о многих других, по которым я предпочитала браку любовь, а оковам — свободу» [1.С. 30].
Подтверждает эту установку своей возлюбленной и Абеляр. «Убеждая или отговаривая меня при помощи этих или подобных доводов, — пишет он, — и будучи не в состоянии победить мое недомыслие, но не желая в то же время оскорбить меня, она вздохнула, заплакала и закончила мольбы так: «В конце концов остается одно: скорбь о нашей погибели будет столь велика, сколь велика была наша любовь».
Когда же, замечает Абеляр, позже, после трагедии с ним все жалели и пугали Элоизу монастырской жизнью, она отвечала сквозь слезы и рыданья, повторяя жалобу Корнелии:
86
О величайший супруг мой!
Брак наш — позор для тебя. Ужели злой рок будет властен Даже над этой главой ? Нечестиво вступила в союз я, Горе принесши тебе. Так приму же и я наказанье!
Добровольно приму я его...»
[1.С. 32].
Но только ли потому Элоиза не хотела вступать в брак, что думала об Абеляре? Вряд ли. Вчитываясь в ее два письма к Абеляру, я вижу, что для нее более ценным была не любовь к Богу, не любовь в браке, освященном Богом, а любовь к Абеляру, любовь свободная, чувственная, любовь, позволяющая ей ощущать себя, как бы мы сегодня сказали, личностью, хотя признающей Бога, но и одновременно осознающей свое собственное достоинство. Действительно, Элоиза признает, что в монастырь она пошла только по воле Абеляра, из любви к нему, что воспоминания о чувственной любви к нему заполняют ее сознание даже во время богослужения, что она понимает свою греховность и слабость, но спокойно принимает свою судьбу.
«И в самом деле, — читаем мы, — любовные наслаждения, которым мы оба одинаково предавались, были тогда для меня настолько приятны, что они не могут ни утратить для меня прелесть, ни хоть сколько-нибудь изгладиться из моей памяти. Куда бы ни обратилась я, они повсюду являются моим очам и возбуждают во мне желания. Даже во сне не щадят меня эти мечтания. Даже во время торжественного богослужения, когда молитва должна быть особенно чистою, грешные видения этих наслаждений до такой степени овладевают моей несчастнейшей душой, что я более предаюсь этим гнусностям, чем молитве. И вместо того, чтобы сокрушаться о содеянном, я чаще вздыхаю о несовершившемся. Не только то, что мы с тобой делали, но даже места и минуты наших деяний, наравне с твоим образом так глубоко запечатлелись в моей душе, что я как бы вновь переживаю все это и даже во сне не имею покоя от этих воспоминаний» [1. С. 85-86].
87
Более того, Элоиза намекает, что самому Богу был неугоден их брак. «Ведь пока мы наслаждались радостями страстной любви, или — скажу грубее, но выразительней — пока мы предавались прелюбодеянию, гнев божий щадил нас. Когда же мы заменили незаконную связь законным союзом и искупили позорное прелюбодеяние честным браком, тогда гнев господень простер над нами свою тяжкую длань и поразил наше неоскверненное ложе, хоть ранее долго терпел оскверненное» [1. С. 83].
О достоинстве же Элоизы свидетельствуют следующие слова в конце второго письма: «Я не хочу, чтобы ты, уговаривая меня быть добродетельной и призывая меня бороться с искушениями, говорил: «Сила укрепляется в немощи» и «Не будет увенчан тот воин, кто сражался недобросовестно». Я не ищу венца победы. С меня довольно избежать опасности. Удалиться от нее вернее, чем вступить в войну. В каком бы уголке неба ни поместил бы меня бог, я буду довольна. Ведь там никто никому не будет завидовать, а каждый будет довольствоваться тем, что у него есть» [1. С. 88].
Где же Элоиза черпает силы и спокойствие духа, ведь она не может опираться на Бога, поскольку верит в него меньше, чем в любовь? И силы и спокойствие ей дает сама эта любовь и еще ощущение своей личности. Только так можно понять странные для верующего человека признания Элоизы:
«Во всю свою жизнь, что бы ни происходило, я больше боюсь обидеть тебя, чем Бога; больше жажду угодить тебе, чем ему. Я стала монахиней не ради божественной любви, а по твоей воле... Бог ведает, что я точно так же, ничуть не сомневаясь, по твоей воле последовала бы за тобой или упредила бы тебя, даже если бы ты поспешил во владения Вулкана, ибо душа моя была не со мной, а с тобой! Даже и теперь, если она не с тобой, то ее нет нигде: поистине без тебя моя душа никак существовать не может» [1. С. 70, 87].
Подобным образом рассуждает лишь человек, который поверил в свою любовь и индивидуальность, в котором проснулось достоинство, превышающее даже страх смерти. Теперь о том, что Элоиза хочет от оскопленного Абеляра. Ко88
нечно, любви, но любви, понимаемой по-новому. Такую любовь можно назвать «креативной», или «духовной», здесь на первый план выходят, подчиняя себе все остальное, включая обычную чувственность, родственность, духовная, почти мистическая связь (вспомним слова Элоизы: «Ибо моя душа была не со мной, а с тобой. Даже теперь, если она не с тобой, то ее нет нигде: поистине без тебя моя душа никак существовать не может»).
Вот каким образом Элоиза решает и проживает дилемму —любовь к Абеляру или любовь к Богу. Это решение уникально, личностно, в том смысле, что, именно потому, что Элоиза действует и мыслит самостоятельно, ей удается определить и конституировать новое отношение к любви.
Если в античной культуре становлению личности способствовали такие институциональные средства, как суд, театр, философия, то в Средние века на первый план выдвигаются церковь и церковные жанры «литературы», прежде всего исповедь. Действительно, что собой представляет исповедь? Это рассказ человека о своих поступках или жизненных перипетиях, жизненном пути, выстроенный и оцененный с точки зрения идеалов и норм христианского мировоззрения, обязательно включающий констатацию расхождений реальной жизни исповедующегося с христианскими идеалами и нормами, а также покаяние, т. е. признание греховности своего поведения и публичное раскаяние. Исповедь предназначена одинаково как для самого исповедующегося, так и остальных христиан (прихожан), «подвизающихся» на пути спасения. По отношению к автору исповедь призвана помочь уяснить меру его падения и направленные на спасение следующие шаги; по отношению к остальным христианам она должна помочь идти в правильном направлении и справляться с ошибками. Конкретно средневековая исповедь содержит три важные момента: оценочную (осуждающую) рефлексию жизни и поступков исповедующегося, актуализацию в нем божественного начала (искры божией, благодати, духа и т. п.; часто это предполагало указание на прямую помощь и поддержку со стороны Бога), установку на 89
преобразование (собирание заново) личности исповедующегося.
Например, в «Исповеди» Августина мы читаем: «Так говорил Понтициан. Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому: заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы. И я увидел и ужаснулся, и некуда было бежать от себя» [2. С. 106] (полужирным курсивом я выделил божественную благодать, обычным курсивом — рефлексию, а подчеркиванием — оценку и раскаяние). Или другой, не менее характерный фрагмент: «Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испорченность души моей не потому, что люблю их, но чтобы возлюбить Тебя, Боже мой. Из любви к любви Твоей делаю я это, в горькой печали воспоминания перебираю преступные пути свои. Обрадуй меня, Господи, Радость неложная, Радость счастья и безмятежности, собери меня, в рассеянии и раздробленности своей отвратившегося от Тебя, Единого, и потерявшегося во многом. Когда-то в юности горело сердце мое насытиться адом, не убоялась душа моя густо зарасти бурьяном темной любви, истаяла красота моя, и стал я гнилью пред очами Твоими, — нравясь себе и желая нравиться очам людским» [2. С. 22] (полужирным шрифтом выделена установка на построение нового человека из ветхого. — В. Р.).
Если вдуматься в эти цитаты, то становится понятным, что исповедь помогала человеку, ищущему спасение, так выстроить самостоятельное поведение, чтобы исповедующийся с необходимостью приходил к христианской вере. На это же направлен интересный прием, нащупанный в «Исповеди»: рассказывая о своем жизненном пути (детстве, юности, зрелых годах), когда он еще не был христианином, Августин одновременно объясняет, что при этом делал Бог, как он вел Августина, ждал, когда последний созреет для веры, наконец, решительно помог последнему «перейти свой рубикон». Кажется, если человек еще не обрел веру, то при чем здесь
90
Бог? Но если считать, подобно Августину, что в каждом человеке есть искра божия, в каждом присутствует божественная благодать, то тогда шаги и усилия «подвизающегося» в вере на самом деле предполагают присутствие Творца и его помощь.
4. Ренессансная личность
Позднее средневековье подготовило человека к восприятию и Бога, и его творений, в частности природы, уже не как субъектов (подобное представление, правда, еще долго сохранялось, но постепенно отходило на второй план), а мыслительно проработанной реальности, почти законосообразной. Стремление логически упорядочить явления, относящиеся к сфере сакральной и обычной жизни, выяснить их начала, связать их между собой и со всеобщей причиной — Богом, который понимался как субстанция, лишенная антропоморфных свойств, в конце концов приводит к тому, что, наряду с сакральным миром и событиями, описанными в Священном писании, перед человеком встал другой мир — природный, подчиняющийся неизменным законам. Кроме того, люди в своей массе приобщились к христианству, стали христианами, поэтому задача переделки человека и Страшного Суда была снята с повестки дня.
Человек осваивался в новом двойном мире: начинал познавать природу и одновременно продолжал отдавать должное Богу. Заимствовав от последнего волю и веру в разум, человек Возрождения становится и более независимым от Творца, поскольку перестает бояться Конца Света и Страшного Суда и все больше воспринимает Бога как условие жизни, как законы, которым подчиняется и жизнь и природа. Себя человек все чаще понимает и истолковывает всего лишь как менее совершенного по отношению к Творцу. Если Бог создал мир, то и человек, в принципе, способен это сделать. Как говорит Марсилио Фичино, человек мог бы создать сами «светила, если бы имел орудия и небесный материал».
91
Но на что при этом ренессансный человек мог опираться? На знания законов природы и, как это ни странно с точки зрения современной науки, на сакральные знания и откровения. Отсюда фигура «естественного мага», который, с одной стороны, творит, создает чудеса, с другой — изучает природу и ее законы, используя полученные знания в процессе творения. Согласно Пико делла Мирондоле, маг «вызывает на свет силы, как если бы из потаенных мест они сами распространялись и заполняли мир благодаря всеблагости божией... он вызывает на свет чудеса, скрытые в укромных уголках мира, в недрах природы, в запасниках и тайниках бога, как если бы сама природа творила эти чудеса» [86. С. 9—10]. Магия, вторит ему Дж. Бруно, «поскольку занимается сверхъестественными началами — божественна, а поскольку наблюдением природы, доискиваясь ее тайн, она — естественна, срединной и математической называется» [16. С. 162-167].
Пожалуй, эти два момента — принятие одновременно двух реальностей (природной и сакральной) и новая, более высокая степень самостоятельности человека, действующего как Бог, но с оглядкой на Бога, понимаемого уже как условие бытия и мышления, — и образуют сущность эпохи Возрождения и нового видения действительности. Лучше всего это видение было выражено в знаменитой речи Пико делла Мирандолы «Речи о достоинстве человека»; с нашей же точки зрения, в этом тексте были заданы схемы, определившие самосознание ренессансного человека и, следовательно, сделавшиеми возможным новое ренессансное мышление.
Как я уже отмечал, самосознание, открывающее, вводящее в новую культуру, не может не быть эзотерическим, поскольку в «точке прохода» в новое, еще небывалое, человек опирается только на самого себя, в самом себе должен обнаружить источники существования и энергии. Однако по форме, напротив, речь идет о подлинной реальности, что в эпоху Возрождения означало только одно — все определяет воля Творца, но и самого человека. Обратимся непосредственно к тексту. В нем Пико делла Мирандола утверждает ни больше ни мень92
ше, что человек стоит в центре мира, где в Средние века стоял Бог, и что он должен уподобиться, если и не самому Творцу, то уж во всяком случае херувимам (ангелам), чтобы стать столь же прекрасным и совершенным, как они.
«Тогда,— читаем мы в «Речи о достоинстве человека»,— принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: «...я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочитаешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные». О, высшая щедрость Бога-Отца! О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет!
... Но ведь, если необходимо строить нашу жизнь по образцу херувимов, то нужно видеть, как они живут и что делают. Но так как нам, плотским и имеющим вкус к мирским вещам, невозможно этого достичь, то обратимся к древним отцам, которые могут дать нам многочисленные верные свидетельства о подобных делах, так как они им близки и родственны. Посоветуемся с апостолом Павлом, ибо когда он был вознесен на третье небо, то увидел, что делало войско херувимов. Он ответит нам, что они очищаются, затем наполняются светом и, наконец, достигают совершенства, как передает Дионисий. Так и мы, подражая на земле жизни херувимов, подавляя наукой о морали порыв страстей и рассеивая спорами тьму разума, очищаем душу, смывая грязь невежества и пороков, чтобы страсти не бушевали необдуманно и не безумствовал иногда бесстыдный разум. Тогда мы наполним очищенную и хорошо приведенную в порядок душу светом естественной философии, чтобы затем совершенствовать ее познанием божественных вещей... Да, Моисей приказывает нам это, но, приказывая, убеждает нас и побуждает к тому, чтобы мы с помощью философии готовились к будущей небесной славе. Но в действительности же не только 93
христианские и моисеевские таинства, но и теология древних, о которой я намереваюсь спорить, раскрывает нам успехи и достоинство свободных искусств. Разве иного желают для себя посвященные в греческие таинства? Ведь первый из них, кто очистится с помощью морали и диалектики — очистительных занятий, как мы их называем, будет принят в мистерии! Но чем иным может быть это, если не разъяснением тайн природы посредством философии?» [55. С. 507, 509, 512].
Текст удивительный. Не Бог, а человек в центре мира. Правда, поставил его туда Бог. Именно человек — «славный мастер», творящий сам себя по своей воле и желанию (а в чем, спрашивается, тогда назначение Бога, прерогативу которого в плане творения и направления жизни перехватывает человек?). Человек не просто тварь и раб божий, но подобен херувиму, т. е. фактически ангел, причем достигает он этого небесного состояния опять же сам, с помощью эзотерической работы, включающей в себя моральное очищение, совершенствование личности, познание природы.
Но не нужно преувеличивать, все же пока человек зависит от Бога, и кроме того, подвержен страстям, даже иногда безумию. Как же Мирандола предлагает с ними бороться? Очень интересно: с помощью морали и естественной философии (диалектики), что позволит, по его мнению, привести в порядок и очистить душу. Получается, что ренессансная личность не только делает себя по собственному желанию, но и стремится приблизиться к идеалу человека, как тогда говорили, «универсальному человеку», под которым понимался человек, отчасти напоминающий Творца. Но к универсальному ренессансный человек шел от обычного человека, подверженного множеству страстей. Все три указанных момента (ренессансная личность как человек делающий сам себя по собственному желанию, как «универсальный человек» и как человек страстей) анализирует Л. Μ. Баткин в интересной статье «Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и другими». При этом он показывает, что в ренессансном человеке уживаются самые разные вещи: «высокое» и «низменное», вера и отрицание об94
щепринятой морали, стремление к универсальности и одно- временнно к самостоятельности и независимости, «фантазии» и расчет.
«И Веттори, считающий себя набожным, исправно по праздникам слушающий мессу, и Макьявелли, испытывающий откровенное отвращение к монахам и церковникам, — пишет Баткин, — оба они ведут себя так, словно традиционной морали никогда не существовало... нельзя не расслышать полемических интонаций в повторяющейся на разные лады формуле индивидуальной независимости: надо «жить свободно и без оглядки», «вести себя по-своему, не перенимая чужого», «вести себя на свой манер», «заниматься своими делами на собственный лад». За этим целая новая программа человеческого существования...Индивид должен сам решать, что ему подходит... Макьявелли пишет, что достойный и проверенный в серьезных вещах человек вправе «отпустить узду» (буквально: «расширить дух», дать ему волю и «жить весело»). О таком индивиде, совмещающем, перемежающем в себе «grave» и «lieto», говорят, что он — «универсальный»!.. но как сообразовать универсальность индивида с его же особенностью? То есть с тем, что у каждого индивида — своя «фантазия». И что каждый должен вести себя на собственный лад. Не оглядываясь на других. Именно таков «мудрый» человек. Но это не мешает Макьявелли одновременно утверждать, что «мудрый» человек универсален, и мы вправе поинтересоваться, чем же в таком случае один универсальный человек будет отличаться от другого универсального человека» [11. С. 218—219]. «Если «универсальность», — размышляет дальше Баткин, — вообще-то синоним душевной объемности, вольности, личностности поведения и т. п., то специфическая универсальность того же индивида в качестве политика ставит его в рациональную зависимость от обстоятельств... и, в сущности, обезличивает... Если «фантазия» и «способ поведения» восходят к античному понятию «Ingenium» и указывают на некую внерациональную заданность (индивид смотрит на вещи и ведет себя так, а не иначе, поскольку так уж он устроен), то противоположный прин-
95
цип состоит в рациональности оценок, расчетов и вытекающих отсюда действий. Следует «не основывать свое мнение на страстях», «не упорствовать», «уступать разумным соображениям, «исходить из резонов», “основывать свое мнение на разумности”» [11. С. 223, 227].
Обратим внимание: в разговорах о самостоятельном поведении формируется представление о «свободе», через которое затем будет конституироваться новоевропейская личность. Далее, проблема самостоятельного поведения упирается в вопрос о том, является ли человек свободным в своих действиях или он полностью обусловлен обстоятельствами, включающими его натуру, которые и задают его «фантазии». Наконец, новая постановка вопроса о самостоятельном поведении возникает в контексте новой социальной практики, где одни люди пытаются управлять другими, т. е. в политике.
5. Понятие «личность» в работах И. Канта
Новое время — это период не только дальнейшего оттеснения на задний план христианской религии и экспансии рационализма в лице точных (естественных) наук и инженерии, но и становления единой европейской культуры. Складываются общие условия жизни, сходные национальные картины мира и институты, важнейшим из которых постепенно становится право. Представления о Разуме, Свободе и Морали и призваны выразить новое ощущение человека в лоне единой европейской культуры. Поясняя это мироощущение, Э. Кассирер пишет следующее: «Нет необходимости ни прослеживать весь ход человеческой истории, ни давать подробные объяснения всего разнообразия форм, принимаемых человеческой цивилизацией, чтобы ответить на вопрос, который, по мнению Канта, является действительно важным и ключевым, — вопрос о главной цели, к достижению которой устремлено человечество. Эта цель моральная, и потому именно в морали, в системе этики следует искать истинные принципы философии истории и философии цивилизации. Согласно Канту, в корне всех проблем философии истории и 96
философии культуры лежит идея свободы. Свобода означает автономию разума, отсюда всеобщая задача философии культуры заключается в вопросе: каким образом и с помощью каких средств возможно достижение этой автономии в процессе эволюции человеческого разума и воли» [34. С. 150].
Действительно, как мы поняли, уже в эпоху Возрождения встал кардинальный вопрос: как возможно самостоятельное поведение (свобода личности), не иллюзия ли это? Может быть, человек настолько обусловлен обстоятельствами и собственной природой, что его поведение всегда детерминировано, понимает он это или нет. Другая проблема, осознанная несколько позднее, состояла в том, что нужно было понять, в каком отношении самостоятельное поведение находится к социуму и культуре. Было очевидно, что не любая свобода идет на пользу и здоровье, некоторые формы свободы человека действовали на культуру разрушительно.
«В новоевропейской философии, — пишет Р. Г. Апресян, — во многом под влиянием теорий естественного права и в русле идей либерализма (Гроций, Гоббс, С. Пуфендор, Дж. Локк) складывается понятие свободы как политико-правовой автономии гражданина. В таком понимании свобода противопоставляется разнузданности и беспредельной самостийности воления... Свобода, понимание которой ограничено только представлением о личной независимости, самовольности и неподзаконности легко («свободно») проявляет себя в безответственности, равнодушии, эгоизме, чреватых анархическим бунтарством — отменой всякого закона, стоящего над индивидом, а в перспективе и тиранией, т. е. самочинным возведением единичной волей в ранг закона для других» [4. С. 502].
Кант в «Основоположении к метафизике нравов» и «Критике практического разума» намечает решение обоих вопросов. При этом он исходит из убеждения, что свобода личности тогда разрушительна для культуры, когда человек перестает ориентироваться на «вечные законы разума», под которыми понимается, с одной стороны, последняя руководящая инстанция, осторожно идентифицируемая Кантом с Богом, 97
с другой — деятельность и мышление самих людей (в этом смысле получается, что разум действует посредством людей, а последние, но не как отдельные эмпирические индивиды, а как члены человечества ведомы разумом). Однако как понять практически, ориентируемся ли мы на разум или нам это только кажется? Для этого, отвечает Кант, есть две вещи — критика и метод. То есть если человек будет критически относиться к себе и другим, а также размышлять, как действовать правильно, наконец, если он будет выслушивать разум (следуя долгу, подчиняясь морали), то в этом случае он будет свободен и станет личностью. Но послушаем самого Канта.
«Долг\ Ты возвышенное великое слово, в тебе нет ничего потакающего, что льстило бы людям; ты требуешь подчинения, хотя, чтобы пробудить волю, и не угрожаешь тем, что внушало бы естественное отвращение в душе или вызывало страх; ты только устанавливаешь закон, который сам проникает в душу... где же достойный тебя источник и где корни твоего благородного происхождения, гордо отвергающего всякое родство со склонностями?.. Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой (как частью чувственно, воспринимаемого мира), что связывает его с порядком вещей, который может мыслить один разум и который вместе с тем охватывает весь чувственно воспринимаемый мир, а внутри него — эмпирически определяемое существование человека во времени и совокупность всех целей (что подобает только такому безусловному практическому закону, как моральный). Это не что иное, как личность, т. е. свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая вместе с тем как способность существа, которое подчинено особым, а именно, данным его же собственным разумом, чистым практическим законам... Моральный закон священен (ненарушим). Человек, правда, не так уж свят, но человечество в его лице должно быть для него священно» [31. С. 509—511].
98
И в самом конце — знаменитое заключение. «Две вещи, — пишет Кант, — наполняют душу всегда новым, тем более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне... Первое начинается с моего невидимого Я, с моей личности, и представляет меня в мире... бесконечно возвышает мою ценность как интеллигенции через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы... Мораль начала с благороднейшего свойства человеческой природы, развитие и культивирование которого обещало в будущем бесконечную пользу, и окончила — мечтательностью и суеверием... Но после того как была, хотя и поздно, пущена в ход максима — заранее хорошенько обдумывать все шаги, которые разум намерен сделать, и делать их, только руководствуясь заранее хорошо продуманным методом, суждение о мироздании получило совершенно другое направление и приводило к несравненно успешным результатам... Идти этим путем и в изучении моральных задатков нашей природы — в этом указанный пример может быть очень поучительным для нас и дать надежду на подобный же благой успех... Одним словом, наука (критически испытуемая и методически приуготовляемая) — это узкие врата, которые ведут к учению мудрости ...хранительницей науки всегда должна оставаться философия» [31. С. 729, 731, 733].
Как можно осмыслить это решение? Во-первых, Кант подтверждает, что понятие личности, которое он, по сути, впервые определяет, связано с самостоятельным поведением («свободой», «независимостью от механизма всей природы»). Во-вторых, личность, по Канту, это не только свобода, но и ограничение ее, т. е. подчинение самостоятельного поведения разуму и морали, за которыми просматриваются европейская философия, право и благополучие европейского человечества. Но человечество, разум и свободу Кант понимает как однозначные и единые, вполне в соответствии с ощущением единой европейской культуры.
99
6. Кризис европейской культуры и личности
В кантианской системе и решении было одно слабое звено — метафизическое, даже отчасти мистическое, истолкование разума, а следовательно, и тех рациональных и моральных ограничений, которые накладывались на свободу личности. Как только ощущение единого европейского человечества (культуры) стало ослабевать, что было вполне объективным процессом (расширение знаний о мире, кризис империй, развитие демократических институтов, мировые войны, становление новых очагов цивилизации и пр.), вера в разум, мораль и свободу личности (по Канту) стали предметом острой критики и даже отрицания. Завершает атаку на основополагающие ценности европейского человечества Фридрих Ницше, заявивший не только, что «Бог умер», но также то, что старые представления о мире и человеке не более чем иллюзия; традиционная философия, утверждает Ницше, рассматривает мир как застывший, в то время как это непрерывное становление. Суть ницшевского критического метода, считает В. А. Подорога, состоит именно в обновлении традиционной техники филологического изыскания на основе противопоставления «природной» неизменности ставшего бытия бытию становления. «Смерть Бога» как символ мирового События знаменует собой не просто утрату веры в высшие ценности, но то, что мир нуждается в другом порядке ценностей и утверждении их новой иерархии.
Перед нами контркантианская программа и мироощущение. Поэтому, кстати, не личность, ориентированная на мораль и разум, а сверхчеловек, «завоевывающий и организующий пространство жизни». Чем он при этом руководствуется? Только волей к власти и своими возможностями, которые, если он сверхчеловек, ничем не ограничены. Но не предполагает ли понятие личности, если, конечно, его редуцировать к ничем не ограниченному самостоятельному поведению, представление о сверхчеловеке как одной из своих предельных возможностей?
юо
Кстати, и характерный для более позднего времени естественно-научный подход в психологии и основанная на нем инженерная трактовка самостоятельного поведения приводят к не менее любопытным выводам. В статье «Исторический смысл психологического кризиса» Л. С. Выготский пишет: «Не Шекспир в понятиях, как для Дильтея, но психотехника — в одном слове, т. е. научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением». И дальше: «В этом смысле прав Павлов, называя нашу науку последней наукой о самом человеке. Она действительно будет последней в исторический период человечества наукой или в предыстории человечества. Когда говорят о переплавке человека, как о несомненной черте нового человечества, и об искусственном создании нового биологического типа, то это будет единственный и первый вид в биологии, который создаст сам себя... В будущем обществе психология действительно будет наукой о новом человеке. Без этого перспектива марксизма и истории науки была бы неполной» [20. С. 389, 436].
В данном случае Выготский рассуждает так: поскольку человек представляет собой личность, то он может направить самостоятельное поведение на самого себя, на свое улучшение и даже переделку, поскольку одновременно он — явление природы, то, познав в естественно-научной психологии законы психики, человек сможет управлять собой и даже создать под заданные цели новый тип человека.
Заметим, что идеи «жизнестроительства», из которых исходит Выготский, к сожалению, подпитывались такими исконно российскими традициями, как деспотизм властей и пренебрежение к праву и частной жизни отдельного человека.
«В отличие от Л. П. Карсавина и П. Μ. Бицилли, — пишут С. Неретина и А. Огурцов, — у которых «средний человек» — абстрактный, а в то же время почему-то культурный «монстр», Библер определяет его как «обычного человека своего времени», составляющего социум бюргера, «нормального человека», частного лица, что естественно для цивилизационных обществ, а применительно к России, действительно, есть 101
«конструкт», или «монстр»: в России такого частного человека, обладающего своими гражданскими правами, долго не было, а может быть, и нет. Отсутствие такого частного, обычного человека привело к тому, что, как пишет Библер, «индивидуализм развивался в России не столько в образе среднего человека, нормального индивида, для нас всегда глубоко неприятного, сколько в образе человека несчастного, униженного, оскорбленного, человека, выброшеннего из меловых кругов цивилизации». Смысл цивилизованности в обретении именно такого среднего человека, обычного и нормального, в долгое отсутствие которого возможно уничтожение самой культуры» [52. С. 259—260].
Сходные соображения высказывает и Владимир Кантор: «Сошлюсь хотя бы на К. Д. Кавелина, глубоко переживавшего «нравственное ничтожество у нас личности», писавшего: «Юридическая личность у нас, можно сказать, едва народилась и продолжает и теперь поражать своею пассивностью, отсутствием почина и грубейшим, полудиким реализмом. Во всех слоях нашего общества стихийные элементы подавляют индивидуальное развитие. Не говорю о нравственной личности в высшем значении слова: она везде и всегда была и есть плод развитой интеллектуальной жизни и всюду составляет исключение из общего правила. Нет, я беру личность в самом простом, обиходном смысле, как ясное сознание своего общественного положения и призвания, своих внешних прав и внешних обязанностей, как разумное поставление ближайших практических целей и такое разумное и настойчивое их преследование. И что же? Даже в этом простейшем смысле личность составляет у нас почтенное и, к сожалению, редкое изъятие из общего уровня крайней распущенности». По мысли Кавелина, на Западе, где личность всегда была выпукла, ярка, были разработаны теории, ограничивающие ее стремления, но эти теории имеют прямо иной смысл, попадая на русскую почву...» [33. С. 225].
Таким образом, можно сформулировать три положения. Первое — кантианская личность в качестве необходимого условия социализации предполагает европейское право (на 102
основе которого развиваются собственно «права личности»). Второе, в данном случае личность — это нормальный и, подчеркнем, массовый продукт культуры нового времени; такую «массовую» личность, конечно, необходимо отличать от личности, как выражается Кавелин, «в высшем значении слова» (уникальной личности типа Сократа, или Платона, или Лютера). И в том и в другом случае личность — это человек, действующий самостоятельно, но массовая личность движется по «рельсам», заданным правом и другими культурными нормами, а уникальная личность выстраивает свое поведение, как правило, игнорируя или сознательно отвергая основные нормы культуры. Третье, вероятно, именно отсутствие права в западном понимании тормозило становление массовой личности в России.
7. Проблема личности на рубеже третьего тысячелетия
Вплоть до середины XX в. «конструкция» личности работала вполне успешно. Но начиная с этого периода или еще раньше резко меняются условия, назревает кризис культуры. Европоцентристское мироощущение отходит на задний план, вместо него формируется широкое культурологическое мироощущение, требующее признания самоценности разных культур. Складывается новая цивилизация, в рамках которой утверждаются как правомерные самые разные конфессии, эзотерические учения, видения и мироощущения. Начиная с И. Канта, идет критика натуралистического видения действительности, которая не могла не привести к признанию разных реальностей вместо одной — физикалист- ской. И в практическом отношении человек учится новым формам жизни: не отказываясь от себя, он учится признавать видение и реальности других людей, строить с ними совместную деятельность.
Эти глобальные изменения в свою очередь приводят к изменению понимания личности. Прежде всего происходит отказ от субстанциального понимания личности, она перестает пониматься онтологически. Современное понимание юз
личности постепенно начинает включать в себя разные понимания и концепции личности. В этом плане личность — это не только то, что есть в человеке, но и знание о человеке, и рефлексия, и «сочинение себя человеком», о чем в свое время писал Ф. Μ. Достоевский. Другой, не менее важный момент — принятие принципа, который можно назвать принципом «личностной относительности». Действительно, как, спрашивается, совместить между собой признание разных видений и мироощущений с признанием действительности, с признанием единства жизни на Земле, с возможностью установления объективной истины? В соответствии с принципом «личностной относительности» в действительности нужно различать по меньшей мере два плана: «социэтальный» и «витальный».
Первый план — социэтальный — общий для всех людей, он обусловлен экономикой, производством, социальными системами, т. е. реальным взаимодействием людей, их взаимозависимостью друг от друга. Только в этом плане явления могут быть описаны в рамках представления об одной реальности — объективной и общезначимой для всех людей. Примерами подобного подхода являются монистические мировоззрения — идеализм и материализм: один все сводит к природе и материи, другой — к духу.
Второй план — витальный — специфичный для каждого человека, или «субъекта» (группы, субкультуры), он обусловлен индивидуальной культурой, опытом жизни, формой бытия. Хотя каждый человек («субъект») находится в реальном взаимодействии с другими людьми, одновременно он может реализовать свой индивидуальный путь жизни. Так, один человек верит в Бога и, главное, живет в соответствии с религиозными требованиями. Другой — атеист и живет соответственно в мире рациональных отношений. Но и верующий может видеть и жить совершенно по-разному: христианин — одним образом, а буддист — другим. Получается, что на одном уровне (социэтальном) опыт жизни у всех людей одинаковый и, следовательно, истина одна (американский экспериментатор-психотехник Лилли относит этот опыт, к 104
«согласованной реальности»), а на другом, витальном, сколько разных опытов жизни и сколько соответствующих истин, столько существует реальных, как правило, не совпадающих между собой форм жизни. На витальном уровне истина есть не просто принцип соответствия знания и действительности, но и способ реализации себя, способ самоорганизации своей жизни. Именно на витальном уровне, вероятно, справедлива формула, высказанная однажды Лилли: «В сфере ума то, что считаешь истинным, истинно или становится истинным в пределах, которые предстоит определить из опыта».
Принцип личностной относительности, конечно, нуждается в пояснении. В соответствии с ним наше видение и рель- ность — условны, но не в том смысле, что их нет. Они, конечно, существуют, однако если признаются другие реальности, не совпадающие с нашей, то необходимо признать, что наша реальность и видение (так же, кстати, как и другие) существуют не в социэтальном плане, а в витальном. Существуют они и в социэтальном плане, но не в форме наших преставлений и содержаний сознания, а как культурные и психические феномены. Другими словами, когда кто-то утверждает, что Бог есть, и живет в соответствии с этой верой, то для него Бог действительно есть, хотя для другого, не верящего в Бога, последнего нет. Тем не менее и первое видение (реальность Бога), и второе (реальность, где Бог отсутствует) — оба существуют как культурные и психические феномены.
Как же в этом случае необходимо мыслить личность? Ведь подрывается ее сущность: представление об онтологической природе личности, ее константности и имманентности. Вероятно, мы должны строить новый образ себя, который бы включал идею Культуры и Других как равноценные в отношении к идее «Я». В этом случае источник нашей жизни (соответственно наших желаний, воли, переживаний) не только в нас самих, но и в Других, а также в Культуре. «Центр мира» не один — в нас, совпадающий с нашим «Я», а размещается в своеобразном «треугольнике», вершины которого задаются Культурой, Другими и, наконец, нашим «Я». Моя история — это не только история моего
105
«Я», но также моей семьи, народа, той культуры, к которой я принадлежу. Реальность и моя, и других людей — принципиально неонтологична, т. е. является феноменом культуры, квинтэссенцией моего личного опыта и бытия.
Но как в этом случае решается проблема свободы? В старой картине человек был абсолютно свободен именно как личность, мир или природа рассматривались только как условия, которые он должен учитывать. В конце концов, человек, как и Бог, на место которого он встал, мог сделать все: убить другого, переделать природу, возомнить себя Богом и т. д. Он мог, однако, уже не как Бог, убить даже самого себя. В новой картине мира, при новом понимании человека необходимо мыслить, что моя свобода принципиально ограничена природой Культуры, природой Других, наконец, моей собственной природой. Поэтому столь важно «выслушивать» себя, других, время. В этом смысле человек свободен и произволен в весьма узкой области.
Теперь вопрос о смысле наших действий и свободы. Если не Бог и спасение в Боге, то в чем тогда смысл? Думаем, что смысл и энергию человек может почерпнуть, с одной стороны, в правильном понимании времени (Культуры), его проблем, путей их разрешения, с другой — в уяснении своей природы, своих устремлений. По-другому то же самое можно сказать иначе: необходимо совпадение личности и культуры. Однако каковы главные задачи нашего времени, установки складывающейся культуры? На слуху такие выражения, как, например, сохранение культурных традиций, выживание человечества, поиск новых форм жизни. И выживание, и поиск новых форм жизни, конечно, все понимают по-разному, но думаем, мы вряд ли сильно ошибемся, если предположим, что многие согласятся с такими ценностями, как сохранение природы и жизни на земле, мирное существование, физическое и психическое здоровье, жизнь в согласии с самим собой, полнота реализации личности, поддержание культурного разнообразия и т. п.
Но, конечно, цель и смысл нашего времени, т. е. сущность современности можно понимать и по-другому. На- 106
пример, Мишель Фуко в одной из последних своих статей связывает тему современности с определенным пониманием человека. Современный человек, по Фуко, это, во-первых, человек критически относящийся к себе, ко всему, что он делает, к тому, как он мыслит и чувствует, это человек постоянно себя воссоздающий, конституирующий себя, анализирующий и уясняющий свои границы. («Критика, — замечает Фуко, — собственно и есть анализ границ и рефлексия над ними» [73]). Здесь сразу по ассоциации вспоминаются и мысль Бахтина о том, что культура всегда лежит на границах, что в культуре граница проходит везде, и размышления Мираба Мамардашвили о том, что философствование — это продумывание (проживание) заново кардинальных философских вопросов существования и бытия. Но, с другой стороны, разве подобный человек, вечно выходящий из себя, потерявший свою определенность, постоянно собирающий себя из-под интеллектуальных обломков и развалин, не является химерой и не вызывает жалость?
Во-вторых, современный человек, о чем Мишель Фуко говорит уже не столь ясно, — это человек, предельно внимательно относящийся к Реальности, поскольку, судя по всему, он сформирован человеческими практиками (дискурсами), тем, «что люди делают, и то, какими способами они это делают». При этом, правда, остается непонятным, как первая сторона человека соотносится со второй, как перекидывается мостик от меня как свободной, даже эзотерической, личности (ведь требование «нашей собственной работы над нами как над существами, обладающими свободой», — есть, по сути дела, эзотерическая установка) ко мне как существу, предопределенному реальностью, обусловленному социальными и культурными дискурсами.
Некоторый ответ на решение этого вопроса проливает отказ Фуко разделять социально-инженерные ценности и, наоборот, его установка на экспериментальный и частный характер человеческих усилий, которые, однако, должны иметь какой-то социальный и исторический смысл. «Я хочу сказать, — пишет Фуко, — что эта работа, производимая с 107
нашими собственными пределами, должна, с одной стороны, открыть область исторического исследования, а с другой — начать изучение современной действительности, одновременно отслеживая точки, где изменения были бы возможны и желательны, и точно определяя, какую форму должны носить эти изменения. Иначе говоря, эта историческая онтология нас самих должна отказаться от всех проектов, претендующих на глобальность и радикальность. Ведь на опыте известно, что притязания вырваться из современной системы и дать программу нового общества, новой культуры, нового видения мира не приводят ни к чему, кроме возрождения наиболее опасных традиций» [73. С. 52]. Но нужно заметить, что установки Фуко на работу с самим собой, на критику как «на создание нас самих в нашей автономии» тоже могут выглядеть утопическими, если их понимать чересчур натурально и психотехнически.
Но оставим пока этот вопрос и вернемся к теме современности. Существуют эпохи, когда проблема современности может быть правильно поставлена только в проектном залоге, т. е., например, не что есть современный человек, а какой человек может считаться современным, какими качествами должен обладать такой человек? Другими словами, речь идет о замысле человека, о человеке, по выражению Μ. Мамардашвили, «возможном». Именно такой возможный и одновременно современный для античной культуры человек выступал в текстах Платона под именем Сократа; такой же возможный человек говорил устами Августина в «Исповеди» и «О граде божием»; в «Речи о достоинстве человека» известного гуманиста Пико делла Мирандолы опять же обсуждается не просто современный человек, а человек для Нового времени, которое только начиналось, возможный. По сути, каждая крупная культурная эпоха требует своего замысла возможного человека, осознаваемого, однако, философом или другим интеллектуальным провозвестником в «установке современности».
Нельзя ли сходно понять философскую задачу Мишеля Фуко? Его интересует человек, который бы отвечал совре108
менным реалиям: непрерывно меняющимся представлениям о мире, разным концепциям и истолкованиям Реальности, относительности познания, невозможности отличить культурную норму от патологии, уверенно провести черту между разумом и безумием, законом и преступлением, здоровьем и болезнью, определить место человеческой сексуальности, разрешить противоречия между установками Свободы и Власти и пр. Но возможно ли в одной конструкции человека совместить эти требования, из которых мы перечислили только меньшую часть? Вероятно, Фуко думает, что возможно. Главную надежду при этом он возлагает на две идеи: критики разума как особого способа распредмечивания его содержаний и одновременно способа «непрерывного создания нас самих в нашей автономии» и учет исторических дискурсов, которые «привели к конституированию нас самих и к нашему самосознанию субъектов того, что мы делаем, мыслим и говорим».
Здесь, однако, возникает принципиальный вопрос: как понимать и первое и второе, идет ли речь о способностях человека и условиях его формирования или об абстрактных ценностных установках? Критика — это критические способности человека или отношение, которое может быть реализовано не столько человеком, сколько «структурой деятельности», как, например, в Новое время эстетическое отношение было реализовано в форме практики и концепций искусства (на основе которых формировались и эстетические способности людей)? Дискурсы — это индивидуальные условия социализации и развития человека или опять же определенные внеиндивидуальные структуры деятельности? Создание нас самих — это индивидуальная деятельность, направленная сама на себя и ее носителя, или внеиндивидуальное отношение? Различие в ответах с очевидностью влечет за собой разные предположения о природе возможного человека. В одном случае человек — это физиологическое и психическое существо, которое всего лишь развивается, например, совершенствуя свои критические способности или способности рефлексии. В другом случае — новые способности человека,
109
характеризующие его современность, — это превращенные формы иных отношений: социальных, властных, семиотических, аксиологических и т. д. Идея дискурса вроде бы склоняет нас ко второму ответу, но общая антропологическая система понятий, которые Фуко использует, заставляет думать, что человека Фуко понимает еще достаточно традиционно. Чтобы уяснить это, обратимся к известному диалогу Платона о любви «Пир».
Поставим такой вопрос: существовала ли в природе любовь, заданная концепцией Платона? Что Платон описывает: существующие в его культуре формы любви и связанные с ними качества человека или...? Очевидно, что к моменту создания «Пира» платоновской любви и соответствующих психических свойств нового человека еще не было. Но они вскоре появились, поскольку концепция Платона не только приглянулась тем философствующим и просто образованным грекам, которые тянулись к новому, но и стала для них руководством в практике любви. Иначе говоря, мы можем предположить, что платоновская любовь как важный аспект современного платоновскому окружению нового человека была конституирована усилиями самого Платона и других участников нового дискурса. Средствами подобного конституирования выступили философские знания и концепции, диалоги типа «Пир», наконец, практические образцы новой платонической любви, распространившиеся в греческой жизни в пятом и четвертом веках до нашей эры. Безусловно, в практике военного воспитания и «эзотерического философствования» существовали предпосылки, облегчавшие формирование платонической любви, но не более того. В конце концов платоническую любовь нужно было именно изобрести, интеллектуально сконструировать, внедрить в практику жизни. В этом смысле можно утверждать, что Платон в своем диалоге не описывает некие психические свойства современного человека, которые только ему удалось увидеть (хотя он делает вид, что именно этим занимается), а замышляет, проектирует эти качества. При этом Платон реализует прежде всего себя, свои представления о современно
ном человеке, о его жизненном пути, ведущем, как был убежден великий философ, к уподоблению человека богам, к бессмертию. Важно и то, что, как показала дальнейшая история, замысел Платона в отношении любви (в отличие от платоновского замысла идеального общества и государства) удалось полностью реализовать, т. е., действительно, в античной культуре довольно быстро сложились черты нового человека, столь убедительно описанные в «Пире». Но вернемся к тезисам Фуко.
Не должны ли мы сегодня предположить, что и все другие психические и культурные качества человека не являются органическими, что они все в то или иное время были сформированы и конституированы в определенных дискурсах? В том числе и способности к критике и рефлексии, к мышлению и разуму. Но тогда проблема современного человека должна ставиться иначе. Какие, спрашивается, новые дискурсы уже не обеспечиваются традиционными антропологическими свойствами человека? Что мы сегодня делаем, мыслим, говорим, чувствуем настолько иначе, что это требует сочинения и изобретения новых качеств человека и каких?
Не знаю, как для Фуко, но для автора, существуют несколько таких ситуаций. Первую ситуацию можно охарактеризовать следующим образом. Современным выглядит такой подход, когда мы понимаем искусство и другие символические дискурсы (например, научное творчество, проектирование, инженерию, дизайн и т. п.) не просто как мимезис (подражание), а как самоценные и полноценные реальности, не менее подлинные, чем, например, физический мир. Свойство мимезиса необходимо рассматривать при этом как вторичное и необязательное.
Вторая ситуация. Современным является признание реальности и мира личности, соизмеримыми с реальностью Социума. Этот принцип предполагает, в частности, отказ от редукции индивидуального и личного к социальному (родовому). Как известно, в русской философии достаточно последовательно этот взгляд проводил Н. Бердяев, развивая идею несотворенной свободы.
111
Третья ситуация. Современным выглядит подход, когда человек, не отказываясь от своего мира и видения, признает другие реальности и учится жить и мыслить в сложном пространстве многих разных реальностей. При этом речь идет не о том, чтобы примириться с «интеллектуальной шизофренией» и относительностью, а о действительной революции человеческого мышления. Вероятно, должно измениться само понимание «существования-реальности», приняв в себя процедуры истолкования и серьезного признания других, не совпадающих с нашими подходов к действительности.
Четвертая ситуация. Современное поведение человека характеризуется таким важным понятием, как ответственность. Человек должен быть ответственным перед собой, другими, миром и тем, что невыразимо, но может быть названо то Реальностью, то Богом, то как-то иначе. Ответственность предполагает как внимание к Реальности, так и выбор, но также периодическое сознательное самограничение собственной свободы. В ценностном отношении ответственность отсылает нас к таким в общем-то традиционным идеалам, как сохранение жизни, терпимость, помощь и сотрудничество, уважение чужой точки зрения и собственности, и таким усилиям, как культивирование Любви, Красоты, Света, противостояние тенденциям, разрушающим культуру и т. п.
Совершенно особая проблема, какая конструкция человека может обеспечить требования, удовлетворяющие этим ситуациям. Конечно, не имеет смысла отказываться от идей Разума, автономии и определенности человеческого сознания («Я»), Критики и Рефлексии, работы личности над собой. Однако использовать их без переосмысления было бы ошибочно. Фуко не случайно говорит, что современный человек должен постоянно восстанавливать свою автономию и определенность. Но если понимать эту работу в традиционной антропологической модели, то, как уже отмечалось, речь идет всего лишь о еще одной способности, и всегда ее действие будет загадочно. Загадочно работает наш Разум, указывая выход из безвыходных ситуаций, загадочны Рефлексия и Критика, извлекающие новые содержания из ста112
рого материала, особенно загадочно наше «Я», обеспечивающее единство и определенность нашего сознания и жизни. Будет теперь еще одна загадочная способность человека — воссоздавать себя, выявляя свои границы, конституируя автономию и определенность своего индивидуального существования.
Но если, например, понять все, действительно, через идею дискурса, а также идеи, связанные с последней (идеи первичной семиотической обусловленности, идеи объективации и оестествления, идеи вторичное™ содержаний человеческого сознания и психики и ряда других), то в этом случае решение Фуко уже не будет казаться столь ясным. Да, современный человек вынужден себя постоянно воссоздавать в своей константности и автономии. Но что это означает, как это возможно, на что при этом человек может опираться? Кажется, что только на самого себя и Разум, однако именно они сами в современной культуре нуждаются в опоре и воссоздании.
Анализ показывает, что воссоздавая себя, мы реально опираемся на помощь других, на саму творческую работу (усилия) по воссозданию (в том смысле, что анализируем ее неудачи или же ее ограниченные возможности), что в этой работе мы изобретаем средства самой работы (знаки, приемы и т. д.), что наши усилия являются эффективными лишь в той мере, в которой они совпадают с общим ходом нашей эволюции (развития), а также поддерживаются извне ситуацией, в которой мы находимся. Другими словами, воссоздать себя — это значит не только работать над собой, изменять, преобразовывать себя, но и выслушивать Реальность, встроиться в дискурс, высвободить место для встречи с самим собой, высшими силами, Богом; вообще каждое свое усилие сверять с усилиями иных сил и Реальностей.
из
Глава третья
Способности человека
1. Память
Как ни странно, в подходе к анализу способностей человека психологи до сих пор ориентируются на аристотелевскую триаду — восприятие, воображение, мышление, добавив к ней еще память, хотя и Аристотель говорил о памяти. Но Аристотель создавал эту триаду для целей, как бы мы сегодня сказали, антропологического обоснования своей философии. Нужно было подключить человека к созданной им логике, оправдать новый взгляд на вещи и эмпирию как выраженных с помощью категорий и понятий, объяснить, как создаются знания, категории и понятия. Восприятие, по Аристотелю, решает задачу связи вещей и эмпирии с категориями и понятиями, воображение позволяет понять, как на основе одних знаний и понятий получаются новые, а мышление трактуется как деятельность человека, руководствующегося логикой, категориями и понятиями.
С тех пор утекло много воды — и человек иной, и мыслит он более сложно, и знаем мы несколько больше и иначе, чем Аристотель, в частности, признаем, что человек — это культурно-историческое и развивающееся существо. Не должны ли мы в этом случае заново осмыслить триаду Аристотеля, добавив к ней описание тех новых способностей, без которых сегодня невозможно себе представить современного человека? Начнем с анализа памяти.
Кажется, что еще можно написать на столь проработанную, традиционную психологическую тему? Вроде бы о памяти известно все. Написаны тысячи теоретических работ, выпущены практические пособия, рассказывающие, как 114
правильно формировать или улучшить нашу память. Тем не менее, мы рискнем обсудить природу памяти, помня, что каждый ею обладает и имеет под рукой эмпирический материал, а также, что периодически на те же самые проблемы мы можем и должны взглянуть по-новому. Но прежде заметим, что не все так уж ясно с объяснением природы памяти. До сих пор еще в психологической литературе можно встретить утверждения, что память — это функция мозга, заключающаяся в способности мозга сохранять следы внешних или внутренних воздействий. Однако при таком понимании трудно объяснить действие долговременной памяти или вполне установленный факт, что главное в работе памяти — это организация и осмысленная интерпретация нового материала, а также установление как можно большего количества связей между запоминаемым материалом и тем, что нам известно. Невозможно при таком понимании объяснить и роль различных мнемотехник или, например, ясное припоминание событий, вообще не имевших место (так называемая «парамнезия»).
На какие же вопросы должно ответить современное учение о памяти? Они достаточно известны, и все же повторим их, хотя бы для себя. Первый: как объяснить, почему в одних случаях человек запоминает нечто, а в других — нет? Одно и то же, на первый взгляд, событие мы помним или забываем. Но, возможно, эти события разные? Тогда в каком отношении?
Второй вопрос касается научного объяснения факта запоминания больших объемов информации (сведений). Спрашивается: каким образом человек может все это запомнить, если в кратковременной (оперативной) памяти может храниться лишь ограниченное количество информации — не более 7—9 единиц материала? Возможно, тогда память — это не биологический феномен, а психологический, деятельностный, семиотический, ведь недаром пишут, что успешный поиск в памяти информации возможен только при усло115
вии высокой степени ее организации, причем на многих уровнях.
Третий вопрос: как освобождаться от материала, подлежащего запоминанию? Дело в том, что если память истолковывать, как это принято в психологической литературе, а именно как процессы фиксации (запоминания), хранения и восстановления прошлого опыта, то в этом случае наша психика должна была бы заниматься только одним — обслуживать память, да и то непонятно, как бы она работала. При указанной трактовке устройство психики должно напоминать компьютер, обладающий практически бесконечным объемом памяти, что немыслимо. Но и без теоретических рассуждений каждый знает по себе, что зацикливание на ненужной в данный момент, но важной для других ситуаций информации полностью парализует нашу деятельность. С одной стороны, мы должны немедленно освобождаться от текущего материала и переживаний, с другой — сохранять эту информацию до лучших времен, когда она понадобится. Если это хранение — просто складирование информации, то спрашивается: какой величины «склад» для этого необходим?
Четвертый вопрос стоит в практической плоскости — как формировать или улучшать память, например, кто прав: те психологи, которые говорят, что главное здесь тренировка (заучивание стихов и пр.), или другие (скажем, Л. Венгер и В. Мухина), утверждающие, что память тренировке не поддается вообще. В плане традиционного объяснения памяти невозможно оценить и различные мнемотехники.
Чтобы продвинуться в интересующей нас проблематике, рассмотрим сначала один пример. Предположим, мне сообщают, что через две недели во вторник в 18 часов в такой-то аудитории состоится мой доклад на семинаре в МГУ. Я эту информацию запоминаю. Но что это означает? На мой взгляд, следующее. Узнав о докладе, я вынужден уточнять свои планы. Чтобы подготовиться к докладу, мне нужно, по меньшей мере, полдня. Следовательно, один из дней, ска116
жем, субботу, я отвожу для этой цели. Далее, мне нужно позвонить нескольким коллегам, заинтересованным в теме моего доклада, и я намечаю сделать эти звонки. Кроме того, во вторник присутственный день в Институте философии, но часам к 16 я обычно освобождаюсь. Однако, поскольку в этот день через два часа мне предстоит доклад, я не поеду домой, а планирую какие-то дополнительные дела в институте.
Теперь вопрос, нужно ли мне, проделав всю эту работу по уточнению своих планов на неделю, запоминать, что в среду у меня доклад? Думаю, что нет. Я уже эту информацию, даже если бы и захотел, не смогу забыть. При этом я периодически вспоминаю, что у меня во вторник доклад.
Второй пример. Я должен отправить в редакцию письмо с подписанным соглашением на расторжение договора на книгу. Письмо не очень важное, и несущественно, когда оно прибудет в издательство, но сделать это все равно надо. Я заклеиваю договор в конверт и решаю его бросить по пути на работу. Придя после работы домой, обнаруживаю, что забыл зайти на почту, чтобы опустить письмо. Тогда я решаю бросить письмо по дороге в магазин, но опять забываю. Так происходит еще два раза, пока, наконец, я решаю сначала специально пойти на почту, а уже затем делать свои остальные дела. Спрашивается, почему я четыре раза подряд забывал зайти на почту и бросить в ящик письмо? Может быть, потому, что мне не приходилось менять распорядок дел (ведь я хотел сделать это попутно), или потому, что не придавал отсылке письма большого значения (в отличие от доклада)?
Третий пример. Когда еще учился в институте, один наш аспирант демонстрировал нам возможность запоминания больших объемов информации. При этом рассказывал, как он это делает. Один мнемотехнический прием я решил освоить. Речь идет о быстром запоминании большого числа не связанных между собой, случайных слов. Например, мне предлагают быстро запомнить слова: заяц, бензол, дерево, велосипед, гроза и т. д., десятка так три, четыре, пять, а наш аспирант мог за один раз запомнить более ста слов. Запоми117
наю я по его методике так. Выбираю какой-нибудь известный мне маршрут, например, представляю, что выхожу из своей квартиры и иду в ближайший магазин. Вот я вышел из квартиры, первое слово — заяц. Ага, представляю себе, что у дверей лежит коврик для ноге изображением зайца. Спускаюсь по деснице, второе слово — бензол. Что бы придумать? Скажем, на ступенях разлита какая-то жидкость со странным запахом — точно, это бензол. Вышел из подъезда, третье слово — дерево. Ну, это просто: прямо у подъезда нашего дома растет красивое дерево. Иду вдоль дома, следующее слово — велосипед. Поднимаю голову и вижу соседа, возвращающегося домой на велосипеде. Перешел улицу, двигаюсь вдоль следующего дома, пятое слово — гроза. Действительно, замечаю, что погромыхивает гром и надвигается гроза. И так далее и тому подобное. Оказывается, таким способом легко запомнить довольно много слов.
Что общего во всех этих трех примерах? Запоминание или незапоминание явно зависит от характера моей деятельности, направленной на организацию не столько запоминаемого материала, сколько моей собственной жизнедеятельности. В первом случае я включил событие, которое мне нужно было запомнить, в структуру своей жизнедеятельности, что предполагало переорганизацию (перепрограммирование) ее. В результате я смог освободить свое сознание и внимание для других процессов. Во втором случае я не изменял структуру своей жизнедеятельности, что в сочетании с низким значением для меня предстоящего события обусловило его забывание. Наконец, в третьем случае я выстроил новую программу (организацию) деятельности, где процесс припоминания слов был привязан к маршруту моего движения. Различие же этих примеров в том, что в первом и втором случае запоминание событий естественно встраивалось в процесс текущей жизнедеятельности, а в третьем случае — это была специальная, изолированнная от других деятельностей, задача на запоминание.
118
Напрашивается предварительная гипотеза: запоминание — это не фиксация, хранение и воспроизведение прошлого опыта, а процесс переорганизации, перепрограммирования жизнедеятельности, позволяющий, во-первых, освободить сознание и внимание человека, во-вторых, в нужный момент сконструировать события, которые человек побочно опознает как воспоминание. В этом смысле припоминание событий не самый главный момент, более существенно создание такой организации деятельности, таких ее сценариев и программ, которые позволяют человеку функционировать с учетом событий, подлежащих так называемому запоминанию. Но, по сути, человек должен не «запомнить» (в смысле зафиксировать и хранить) событие, а перевести его в особый план организации своей деятельности и тем самым освободиться от него.
В теоретическом отношении высказанная гипотеза может быть осмыслена также в рамках развитого мной учения о психических реальностях [60; 64]. С точки зрения этого учения запоминание — это создание особой реальности, назовем ее «мнемонической». В мнемонической реальности события, подлежащие запоминанию, связаны или с текущими событиями человеческой жизнедеятельности, или со специальными события (самостоятельная задача на припоминание), причем такими, которые обусловлены запоминаемыми событиями, позволяя в нужный момент, действительно, припомнить их актуально.
Основные положения учения о психических реальностях. Наблюдения показывают, что наша жизнедеятельность разворачивается в рамках определенных реальностей. Психическая реальность — это события, подчиняющиеся определенной логике (сновидения, искусства, игры, научного познания, практической жизни и т. п.), которые человек про-живает и пере-живает. Войдя в некоторую реальность, человек знает, какие в принципе события должны в ней иметь место и как они связаны между собой. Это позволяет ему настроиться на события данной реальности и действо119
вать эффективно. Самой первой реальностью, заинтересовавшей меня еще в конце 60-х гг., были сновидения.
Теория сновидений. Объяснение природы сновидений можно начать с такого наблюдения: к сновидениям ведут определенные ситуации, возникающие днем, в бодрствующем состоянии, чаще всего те, где человек по каким-либо причинам не может осуществить жизненно важные, необходимые для него действия или желания. Например, человек стремится совершить несколько значимых для него действий, причем одни затрудняют или делают невозможными другие. Как правило, это происходит потому, что такие ситуации сознаются и переживаются человеком сразу в двух реальностях сознания, действующих друг против друга.
Другой пример — действия человека в условиях нескольких альтернатив. По условиям места и времени они не могут быть осуществлены одновременно; последовательно они также не могут быть осуществлены, поскольку непрерывно наплывают новые события и жизненные ситуации.
Во всех подобных случаях, при наличии «контрреальностей» сознания или альтернативных ситуаций, отсутствии средств деятельности, человек в бодрствующем состоянии может осуществить и прожить только небольшую часть своей активности (желаний). Основная же активность, вызванная к жизни его желаниями, затормаживается, блокируется. Приостановка процессов, направленных на осуществление возникших у человека желаний, вызывает в его психике напряжения. Сюда относятся не только неосуществленные желания, но также и неосуществленные нежелания, страхи, надежды и переживания, так или иначе связанные с программированием и настройкой организма и психики человека. Это определяется тем, что возникшая у человека активность, первоначально существующая в виде мотива деятельности, выстраивает в нашей психике сложные программы и планы будущей деятельности (поведения). Если деятельность может быть осуществлена сразу, эти программы и планы, выполнив свою роль, распадаются, а мотив угасает. Если 120
же активность блокируется, сформировавшиеся программы и планы деятельности давят на психику, поскольку стремятся реализоваться (что и создает напряжения).
Но эволюция нашла выход: когда деятельность блокируется, актуализированный мотив вытесняется из сознания, а сформированная им программа деятельности уходит на другой «горизонт» психики, где и реализуется в новых условиях, прежде всего в периоде «быстрого» сна. Для этого периода характерна изоляция психики: во время сна глаза закрыты, чувствительность слуха снижена, мышечная система отключена. Кроме того, происходит полное или частичное отключение сознания, поэтому отсутствует рассудочный контроль и возникает определенная свобода в конструировании событий. Указанные здесь условия позволяют строить любые события, необходимые для реализации программ и планов блокированной деятельности, в результате чего они распадаются. Именно этот процесс — построение событий, обеспечивающих реализацию блокированных желаний, — и образует материальную основу сновидений.
Но это еще не само сновидение. Дело в том, что, хотя процессы реализации подобных программ и планов играют исключительно важную роль для психического здоровья человека, они обычно не осознаются. Лишь иногда человек может «подглядеть» автоматическую работу своей психики. Например, в периоде сновидений психика может работать одновременно в двух режимах: реализации программ и планов блокированной деятельности, что и образует событийный ряд сновидений, и осознания (видения) их в определенной реальности (она принадлежит к ослабленному сном бодрствующему состоянию психики). Это предположение, правда, противоречит двум вроде бы естественным представлениям. Во-первых, считается, что если днем человеку не удалось осуществить определенные акты жизнедеятельности, то тем самым эти акты автоматически гасятся сознанием и проживаются (психически «исчерпываются»). Во-вторых, в качественном отношении жизнь во сне никогда не приравнивается 121
к жизни в бодрствующем состоянии: она рассматривается как активность, контролируемая не сознанием (разумом) и, главное, не жизнью в собственном смысле слова, а лишь ее иллюзией, бесплотным и, как правило, искаженным воспроизведением жизни в сознании.
При всей очевидности этих представлений в теоретическом отношении они, тем не менее, спорны. И вот почему. Прежде всего, данные обеих наук — и физиологии и психологии — говорят о том, что интенсивность и реальность нашей жизни во сне и бодрствующем состоянии равноценны (об этом свидетельствуют «вегетативные бури» в период быстрого сна, а также сила эмоциональных переживаний, испытываемых в период многих сновидений). Впрочем, и с методологической точки зрения трудно допустить, что в течение трети времени жизни организма у него отсутствует психическая активность.
Другое соображение: мы привыкли рассматривать человека и его деятельность (поведение) как целое. Соответственно и его активность трактуется как моноактивность, где каждое действие или отдельный акт подчиняются целому, его организации, опосредуются им. Конечно, подобная трактовка вполне оправдана с точки зрения биологической концепции сохранения или же философской идеи деятельности, обусловленной целью и воспроизведением. Однако эмпирически известно, что в сложных ситуациях человек, как правило, обуреваем множеством устремлений, в его сознании и психике кристаллизуется и проигрывается большое количество действий и поступков, пересекается и взаимодействует множество планов поведения, установок и образов. В конечном счете человек действует и ведет себя однозначно и определенно, однако ясно, что вызванные ситуацией актуализированные действия и акты поведения (установки, планы, образы) покрывают собой только часть его предыдущей активности. Человек, скорее, не моноактивен, а полиактивен, он есть не организация и единство, а интерференция, взаимодействие и взаимоотношение многих са122
модостаточных активностей. И все они рано или поздно реализуются, проживаются в форме сновидений.
Исследования показывают, что блокировка, связывание определенных элементов жизнедеятельности у взрослого человека, не снимает с повестки дня осуществление всей целостности жизнедеятельности (ведь окончание действия, или акта поведения, на самом деле есть лишь прелюдия к осуществлению других, связанных с данными, элементов жизнедеятельности и в конечном счете есть момент осуществления и развертывания всей целостности жизнедеятельности личности). Точно так же реализация других действий и актов поведения не заменяет для личности реализацию блокированных действий и актов; так называемое «замещение» неосуществленной деятельности другими — это, скорее, феномен реализации блокированной, связанной деятельности на чужой почве, в непривычных условиях, чем замена. В этом смысле возникшие затруднения и проблемы человек решает не только специфическим для их разрешения способом, но и всеми другими доступными (для жизни) способами: во сне, в фантазии, общении, искусстве, игре, размышлении. Поэтому, как только создаются подходящие условия (их создает и активность самой личности), задержанная в своем осуществлении жизнедеятельность с необходимостью себя реализует. Этот момент, правда, на почве бодрствования упоминал еще К. Левин. Первичным фактором, отмечал он, нужно считать напряжение потребностей. При достаточной силе оно ведет к преждевременному выявлению (прорыву) деятельности, если замедлилось наступление подходящего случая; к активному исканию подходящего случая, если он отсутствует; к возобновлению деятельности, если эта последняя была прервана до ее окончания. Конечно, здесь речь идет не о всех ситуациях, с которыми встречается человек, а лишь о жизненно-важных, активно переживаемых. В этих ситуациях человек не просто опредмечивает свою активность во множестве равнодушных возможностей, безразличных для него последствий, но субъективирует свою активность и лежащее в ней 123
содержание и, следовательно, вводит в игру множества отдельных «Я».
Рассмотрим теперь, что происходит, если человек не имеет условий для реализации блокированных программ и планов, например, несколько дней не спит? В его психике накапливаются нереализованные программы и планы, создающие напряжения, которые рано или поздно начинают определять все основные события, сознаваемые человеком. Именно поэтому, если человека будят, как только он начинает видеть сон, испытуемый быстро устает, становится раздражительным, затем входит в фазу устойчивых галлюцинаций («пробой» сновидений, выход их в сознание) и, наконец, оказывается на грани тяжелого психического расстройства. В этом случае психика строит такую реальность, события которой отвечают сразу двум требованиям: со стороны текущих ситуаций и впечатлений и со стороны блокированных желаний, которые настолько усилились, что захватывают управление психикой.
Итак, что же такое наши сновидения? Это, с одной стороны, реализация в период быстрого сна программ и планов блокированной деятельности, с другой — осознание (видение) этой реализации, переживаемое в виде событий определенной реальности (собственно сновидения). По этому поводу существуют высказывания, что «сновидения — это небывалая композиция бывалых впечатлений» (Сеченов) или «сновидения черпают свой материал из того, что человек пережил внешне или внутренне» (Гильдебрант). Для психики в период сна нет различия между тем, что есть, и тем, что было, между явью и воспоминаниями, между реальным и миражом, для нее «прожитый опыт» человека (образы предметов, осмысленные ощущения и т. п.) снова оживает как впечатления от внешнего мира, как актуальные действия и переживания. Психика соединяет прожитый опыт таким образом, чтобы приостановленные желания были реализованы, прожиты, хотя бы и во сне. Действительно, известно, что внутренний опыт может актуализироваться не только на основе 124
чувственных впечатлений от самого предмета, но и вообще без предмета (в период сновидения и галлюцинаций), а кроме того, даже в том случае, если чувственные впечатления от предмета искажаются или видоизменяются, например, в условиях плохого освещения, частичного экранирования (кусты, деревья) и т. д. Анализируя этот феномен, Гельмгольц писал: «Когда я нахожусь в знакомой комнате, освещенной ярким солнечным светом, мое восприятие сопровождается обилием очень интенсивных ощущений. В той же комнате в вечерних сумерках я могу различить лишь самые освещенные объекты, в частности окно, но то, что я вижу в действительности, сливается с образами моей памяти, относящимися к этой комнате, и это позволяет мне уверенно передвигаться в ней и находить нужные вещи, едва различимые в темноте... Мы видим, следовательно, что в подобных случаях прежний опыт и текущие, чувственные ощущения взаимодействуют друг с другом, образуя перцептивный образ. Он имеет такую непосредственную впечатляющую силу, что мы не можем осознать, в какой степени он зависит от памяти, а в какой — от непосредственного восприятия» [24. 70—71].
Итак, во сне психика использует внутренний опыт как своеобразный материал (кирпичики), из которых создаются события. Само же «здание сновидения» строится по чертежам реализации блокированных желаний. В искусстве, как я показываю в своих работах, механизм несколько иной. Здесь здание строится по чертежам произведения, которое создал художник. Действительно, сравним переживания произведений искусства со сновидениями. Для реализации эстетических желаний нужна не предметная среда, а семиотическая, точнее, произведение искусства (рисунок, картина, мелодия, скульптура и т. д.). Получение при его созерцании и осмыслении чувственных впечатлений является необходимым условием для актуализации внутреннего опыта, на основе которого и создаются события художественной реальности. Реализация, изживание этих событий приводит к удовлетворению (угасанию) эстетических желаний.
125
Представим теперь, что некоторое эстетическое желание сходно (с точки зрения актуализируемого внутреннего опыта) с определенным блокированным желанием, возникающим в обычной жизни. Другими словами, программы и события, задаваемые этими двумя событиями, могут быть реализованы на основе одного и того же прожитого опыта. Эту возможность готовит процедура означения: например, сначала мы узнаем человека только тогда, когда видим его самого, затем узнаем его на фото или в реалистическом портрете, затем даже в простом рисунке, наконец мы можем узнать этого человека и на карикатуре, хотя понятно, что в этом случае уже мало что остается общего с самим исходным прототипом. Именно означение (и в познании и художественное) сближает разные по строению предметы, позволяет реализовать в сходном внутреннем опыте желания (программы, события), имеющие минимальное сходство.
Проделаем теперь мысленный эксперимент. Пусть возникла возможность реализовать данное эстетическое желание (рассматривая картину, читая стихотворение, слушая музыку). Спрашивается, что произойдет с блокированным желанием (ведь оно может реализоваться на основе того же самого или сходного внутреннего опыта)? Можно предположить, что психика совместит на одном и том же материале художественного произведения реализацию обоих желаний (эстетического и блокированного). Но это означает, что эстетическое переживание на самом деле двухслойно: на волне эстетических переживаний разворачивается изживание блокированных жизненных желаний.
S1 S2 S3 Sn
(эстетические события)
( )
(текст произведения)
S1' S2' S3'....Sn'
(события, позволяющие изжить блокированные желания)
Очевидно, в этом секрет и сила воздействия произведений искусств; переживая их, мы одновременно изживаем свои определенные блокированные жизненные желания.
126
Какие? Те, сюжет и тематизмы которых сходны с эстетическим сюжетом и тематизмами. В этом смысле справедлива и концепция Пифагора, который лечил музыкой, и концепция катарсиса Аристотеля. На этом же основан эффект лечения искусством психических заболеваний и отклонений. Например, некоторые детские страхи и неврозы снимаются после того, как дети разыгрывают соответствующие сцены, рисуют определенные сюжеты. Возбуждения и разрешения, о которых говорят искусствоведы, анализируя структуру художественной реальности, служат сходным целям. Возбуждая и вызывая определенные эстетические желания и разрешая их, художник обеспечивает изживание сходных по структуре блокированных желаний. Повторы мотива или темы, разрешение одних и тех же структур на разных масштабных уровнях, которые так характерны для классического искусства, — это интуитивно найденный художниками психотерапевтический прием.
От искусства легко сделать следующий шаг — к фантазии и мечтам. Здесь человек сам создает для себя «художественные произведения» (собственно мечты, фантазии). Их особенность в том, что они, подобно снам, построены так, чтобы на их основе можно было реализовать блокированные желания личности. У человека, привыкшего к подобным мечтам и фантазированию, складываются соответствующие желания. Их реализация предполагает, с одной стороны, создание соответствующих индивидуальных, личностных «художественных произведений», с другой — реализацию блокированных желаний личности. Но если сходные блокированные желания возникают все вновь и вновь, мы имеем дело с навязчивыми мыслями и переживаниями. В этом случае фантазия и мечты совершенно необходимы как условие сохранения психического здоровья и постепенного исчерпывания возникающих желаний.
С точки зрения описанного здесь механизма игра, общение и размышления над своими проблемами мало чем отличаются от искусства. Различие в одном — в этих сферах дру-
127
гие семиотические структуры, другие желания («игровые», «ментальные», «коммуникационые»), другие события и реальности. Так, в ходе игры переживаются и изживаются события «игровой реальности» (желание победить, переиграть, общаться, пережить необычные ситуации и т. д.), в ходе общения — «события общения» (возможность высказаться, получить поддержку, понять другого, быть понятым самому и т. д.), в ходе размышлений — «ментальные, личностные события» (переживание проблем, событий, происходящих с человеком, обдумывание их, продумывание способов разрешения этих проблем и т. д.). Хотя все эти события в реальности не похожи друг на друга, у них есть то общее, что все они обеспечивают реализацию соответствующих блокированных желаний человека.
Простой пример. Подчиненного вызвал к себе начальник и незаслуженно его обвинил в нарушении трудовой дисциплины. В принципе подчиненный хотел бы возразить, но решил этого не делать, подумав, что «себе будет дороже». Это типичный случай блокированного желания. Оно может быть изжито разными способами. Во-первых, во сне, например, в виде следующего сюжета: снится начальник или кто-то другой, кому подчиненный говорит все, что он думает о своем начальнике, а именно, что подчиненный не виноват, что его начальник несправедлив и т. п. Во-вторых, в ходе общения на данную тему: подчиненный рассказывает, предположим, своему другу, что ему сказал начальник, что он хотел тому ответить, почему не ответил, какие чувства при этом испытывал.
В-третьих, это же блокированное желание может быть изжито в ходе размышления о случившемся, при этом мысленно проигрывается вся ситуация, переживания подчиненного и способы его поведения (как реальные, так и возможные или невозможные). Во втором и третьем случаях реализация блокированного желания осуществляется на волне протекания соответствующих событий (общения и размышления). В этих случаях одновременно на одном материале реализуются две программы — заданная блокированным же128
ланием и заданная общением или размышлением. Нужно специально обратить внимание, что обычно мы не замечаем, как вместе с эстетическими (ментальными, коммуникационными, игровыми) переживаниями изживаются наши блокированные желания. Однако при некоторой натренированности и рефлексии можно заметить, как меняется наше состояние (наступает облегчение, удовлетворение, происходит смена настроения), после общения с друзьями, прослушивания хорошей музыки, просмотра спектакля или кинофильма и т. д. В принципе изживание блокированных желаний в сферах искусства, игры, общения и размышления так же, как и в периоды сновидений, — это бессознательная активность психики; отрефлексировать можно лишь конечные или промежуточные состояния нашей психики (изменения настроения).
Рассмотрим теперь, как психические реальности формируются. Л. С. Выготский видел особенность человеческой психики в механизме опосредования ее процессов знаками. С помощью знаков, считал он, человек овладевает собственными психическими процессами, конституирует и направляет их. Необходимое условие этого, как неоднократно подчеркивал Выготский, — процесс социализации, в ходе которого происходит превращение с помощью знаков внешней социальной функции и деятельности во внутреннюю психическую. И действительно, социализация, вхождение в совместную деятельность, построение взаимоотношений с другими людьми, усвоение всего этого неотделимы от самоорганизации психики человека; при этом, вероятно, и формируются определенные психические реальности и отношения между ними.
Хотя каждая психическая реальность осознается человеком как замкнутый мир предметных событий, подчиняющихся определенной логике, во внешнем плане психические реальности человека регулируют каждую такую часть, устанавливают между частями различные отношения. Естественно, что психические реальности формируются не сразу, как не сразу осваивается и складывается у человека деятель129
ность. Так, совсем маленький ребенок практически не имеет разных психических реальностей, у него одна «прареаль- ность». Не появляются психические реальности и у дошкольника, хотя он уже четко различает родителей и себя, сновидения и визуальные впечатления бодрствующей жизни, обычную деятельность и игру и т. д. Дошкольник много может сказать о самом себе и даже в определенной мере осознавать и оценивать свои желания и возможности.
Психические реальности начинают формироваться только с принятием младшим школьником требований к самостоятельному поведению и реальной необходимости в таком поведении в школьной и внешкольной жизни. Если раньше родитель и взрослый подсказывали ребенку, что делать в новой для него или необычной ситуации, как себя вести, что можно хотеть, а что нельзя, поддерживали ребенка в трудные моменты жизни, управляли им, то с появлением требований к самостоятельности ребенок (обычно подросток) должен сам себе подсказывать, разрешать или запрещать, поддерживать себя, направлять и т. п. Необходимое условие выработки самостоятельного поведения — обнаружение, открытие подростком своего «Я», оно неотделимо от формирования им «образа себя», приписывание «Я» определенных качеств: я такой-то, я жил, буду жить, я видел себя во сне и т. д. По сути, «Я» человека парадоксально: это тот, кто советует, направляет, управляет, поддерживает, и тот, кому адресованы эти советы, управляющие воздействия, поддержка. Хотя содержание «образа себя», как правило, берется со стороны, при заимствовании внешних образцов, подростком оно рассматривается как присущее ему, как его способности, характер, потребности. «Я» и формирующаяся на его основе личность — это «собственно» такой тип организации и поведения человека, в котором ведущую роль приобретают «образы себя» и действия с ними: уподобление и регулирование естественного поведения со стороны «образов себя» — сознательное, волевое и целевое поведение; отождествление ранее построенных «образов себя» с теми, которые действуют в на130
стоящее время — воспоминание о прошлой жизни, поддержание «образов себя» — реализация и самоактуализация и т. п. Сам подросток обычно не осознает искусственно-семиотический план своего поведения, для него все эти действия с «образом себя» переживаются как естественные, природные состояния, как события, которые он претерпевает.
Еще одно необходимое условие самостоятельного поведения — формирование психических реальностей личности. Действительно, выработка самостоятельного поведения предполагает планирование и предвосхищение будущих действий и переживаний, смену одних способов деятельности и форм поведения на другие, причем подросток сам должен это сделать. Подобные планы и предвосхищения, смены и переключения сознания и поведения первоначально подсказываются и идут со стороны, от взрослого (здесь еще нет самостоятельного поведения). Но постепенно подросток сам обучается строить эти планы, предвосхищать будущие события и их логику, изменять в определенных ситуациях свои действия и поведение. Именно с этого периода, когда подобные планы, предвосхищения и переключения становятся необходимыми условиями самостоятельного поведения, рассматриваются и осознаются человеком именно как разные условия, в которых он действует, живет, эти планы будущей деятельности, знание ее логики, предвосхищения событий, способы переключения и другие образования превращаются в психические реальности.
Таким образом, психические реальности личности — это не только цепи событий, определяющих деятельность и ее логику, но также внешние и внутренние условия самостоятельного поведения. Подчеркнем, открытие, формирование «Я» человека и формирование психических реальностей — две стороны одной монеты. По мере усложнения дифференциации реальностей человека обогащается и дифференцируется его «Я» и наоборот. Но функции их различны: психические реальности характеризуют тот освоенный поведением мир, где человек строит самостоятельное поведение, а его 131
«Я» задает основные ориентиры и линии развертывания этого поведения. Несколько упрощая, можно сказать, что психические реальности — это проекции самостоятельного поведения на внешний и внутренний мир, а «Я» — осмысление самостоятельного поведения в качестве субъекта.
Особенности мнемонической реальности. В той мере, в которой человек научается запоминать события и осознает этот процесс в качестве самостоятельной сферы деятельности, можно говорить о мнемонической реальности. К событиям мнемонической реальности относятся следующие: события, подлежащие запоминанию (назовем их «исходными»), процедуры запоминания, позволяющие удалить из сознания исходные события, наконец, акты, конституирующие события, которые человек опознает как собственно воспоминания (к последнему в некоторых случаях относятся и усилия, направленные на то, чтобы вспомнить). Процесс опознания (воспоминания) событий в некоторых отношениях сходен с пере-живанием событий во сне. В обоих случаях происходит актуализация прошлого опыта, но в случае припоминания этот опыт обусловлен материалом бодрст- венного сознания, в котором конструируются события, опознаваемые как воспоминания. Если расположить мнемонические реальности по степени их сложности, то можно говорить о различных типах, из которых мы рассмотрим три основные.
Первый тип процедурно совпадает с актами означения, поэтому назовем его условно «знак». Примером его является запоминание в случае, скажем, такого задания: «Запомни конкретный предмет» (игральную карту, дерево, музыкальный тон, определенный звук и т. д.). Конечно, традиционный психолог сказал бы не мудрствуя лукаво что в данном случае мы имеем дело с запоминанием предмета в кратковременной или долговременной памяти и все. Но это мало что объясняет. Лучше обратим внимание на то, что именно означение («это туз пик», «это дерево», «это нота соль», «это звук колокола») позволяет человеку, во-первых, перестать держать в сознании данный предмет, освободиться от него, 132
во-вторых, в нужный момент вернуть его в сознание, т. е. вспомнить. При этом для возвращения опять необходимо означение. Другими словами, с точки зрения нашей трактовки мнемонической реальности акт означения является одновременно простейшим случаем запоминания. Нетрудно заметить, что все более сложные случаи запоминания включают в себя мнемонические реальности «знака». Например, я хочу запомнить телефон моего приятеля — 678 60 78. Делаю я это так, составляю следующую программу: начинается номер с цифры 6, затем идут два числа из натурального ряда, потом повторяется первое число с нулем (или 6 десятков), наконец, повторяются второе и третье число номера. Здесь к реальности «знак» относятся: запоминание первого числа, числа 78, необходимость взять число 6 десять раз, а также, возможно, сама ситуация, в которой номер приятеля оказался связанным с сочиненной программой.
Второй тип мнемонической реальности можно назвать «нарратив». Его, например, запускают следующие задания: «запомни, что ты делал», «запомни, что происходит». Припоминание обычно происходит в форме рассказа (нарратива), например, «сначала я делал то-то, потом то-то и так далее» или «сначала возьми число 6, потом два числа натурального ряда — 7 и 8, потом возьми шесть десятков и в конце повтори второе и третье число». Построение нарративов позволило человеку еще в древнем мире на несколько порядков увеличить возможности своей биологической памяти и создать первые образцы социальной долговременной памяти. Правда, потребовалось запоминать сами нарративы, что достигалось путем многократного их повторения. В романе Тура Хейердала «Аку-Аку» описывается случай, когда староста деревни вспомнил процедуру подъема гигантских идолов, которая практиковалась много сотен лет прежде. Староста рассказывал, что когда он был маленьким мальчиком, его дед и старый зять Пороту заставляли мальчика повторять все снова и снова, пока он не запомнил каждое слово.
133
Вряд ли, однако, все дело в повторении, думаю, чтобы запомнить нарратив, нужно создавать новые программы деятельности (другое дело, что в древнем мире они, очевидно, были проще, чем сейчас). Создавая и запоминая нарративы, человек может освободиться от запоминаемых событий, чтобы в нужный момент вернуться к ним.
Третий тип мнемонических реальностей я назову условно «программирование». Примеры я рассмотрел выше, рассказывая о запоминании времени своего доклада, большой группы случайных слов, номера телефона своего приятеля. В данном случае, чтобы запомнить события, человек должен или перестроить существующую программу жизнедеятельности, или создать совершенно новую. Например, видоизменяя расписание своей недели или «привязывая» к маршруту движения случайные слова, я перестраивал существующие программы. В случае с запоминанием номера телефона я создал новую программу. Почему создание программы позволяет освобождаться от запоминаемых событий и в нужный момент вернуться к ним? Во-первых, потому, что эти события предусматриваются в новой структуре программы. Во-вторых, их нельзя пропустить, поскольку мы все равно реализуем программу. Конечно, можно возразить, сказав, что иногда забывают саму программу. Такое случается, но вероятность подобного развития событий не очень велика, ведь человеку все равно приходится действовать по какой-то программе. Собственно память работает хорошо, если человек осваивает такие способы программирования жизнедеятельности, которые основаны на эффективных программах, например, тех, которые все равно приходится выполнять, или тех, которые очень значимы для человека, и он их не может игнорировать, в той или иной степени не может не задействовать.
Важно также обратить внимание, что новые программы, как правило, создаются на основе уже существующих программ, задающих определенные реальности. Например, ког134
да я «привязываю», скажем, к выходу из квартиры слово заяц, то обязан найти такое событие, которое бы удовлетворяло логике реальности моего маршрута. Действительно, коврик с изображением зайца вполне удовлетворяет такой логике: у выхода из квартиры часто лежит коврик для ног, а изображение на нем может быть в принципе любое. В результате подобной работы реальность не только не разрушается, но обогащается дополнительными возможностями — она начинает работать на память. Особым предельным типом мнемонической реальности является припоминание несуществующих событий.
Один из примеров подобной мнемонической реальности с мнимыми (виртуальными) исходными событиями демон- струют так называемые «вещие сны». Спрашивается, как объяснить, когда некто увидел наяву то, что до этого видел во сне? Обычно человек не просто воспринимает окружающий мир, он его осмысляет, интерпретирует, программирует, естественно, на основе сознания. Но иногда именно сновидения используются психикой в качестве схемы осмысления, интерпретации и программирования окружающего мира событий. В этих крайне редких случаях человек как бы узнает наяву то, что видел во сне. Эти сны «вещие» только в том смысле, что человек принимает свой внутренний мир сновидений за мир внешний, стоящий перед его глазами. Поясню свою мысль на примере.
Молодой человек не может встретиться с любимой девушкой, это типичный случай блокировки желания. При реализации этого желания сонная психика выстраивает следующий сюжет: молодому человеку снится, что он встречает свою любимую в доме друзей, причем они ссорятся; во время ссоры девушка роняет на пол хрустальную вазу с цветами, которую она хотела переставить с пианино на стол. Запомнился сон молодому человеку лишь в общих чертах, смутно. Через несколько дней он встречает девушку в консерватории. Когда она преподносит цветы пианисту, 135
молодой человек ясно вспоминает, что то же самое он видел во сне.
Но ведь на самом деле он видел нечто другое — была не консерватория, а квартира друзей, не концерт, а ссора и разбитая ваза. Однако здесь нет ничего удивительного. 3. Фейд прав, утверждая, что психика и желания человека нередко фальсифицируют впечатления собственной памяти. Совпадения были — и важные: встреча с любимой девушкой, цветы, пианино, неприятные переживания (в одном случае из-за ссоры и разбитой вазы, в другом из-за ревности к пианисту). Психика услужливо трансформировала воспоминания (тем более, что они были смутными), заменив дом друзей на зал консерватории, ссору и разбитую вазу — на отношение девушки к пианисту. В результате он и «узнал» сцену, которую видел во сне несколько дней тому назад.
Другой пример — длительное внушение или самовнушение, приводящее в некоторых случаях к тому, что человек припоминает события, никогда реально не имевшие место. Третий пример — припоминание человеком своей прежней жизни — относится уже к эзотерической действительности, которую я рассмотрел в книге «Путешествие в страну эзотерической реальности».
Заканчивая, замечу, что предложенный здесь подход заставляет пересмотреть многие привычные представления о памяти. Например, убеждение, что память чисто психологический феномен или что она мало менялась в разных культурах. Напротив, память — феномен культурно-исторический и семиотический. В психологическом же плане важно истолковать память как вид психотехники и психической реальности и понять, что даже самый простой тип запоминания является не только необходимым условием человеческой жизнедеятельности, но и выступает как способ конституирования человека, обустраивающегося и действующего в той или иной реальности.
136
2. Воображение
Аристотель характеризует воображение прежде всего через отрицательные определения, показывая, что оно отличается и от ощущения (хотя без последнего не может состояться), и от мышления, но не является также мнением и знанием. В положительном плане воображение, по Аристотелю, есть способность человека, благодаря которой у него возникает образ, в одних случаях ведущий к заблуждению, а в других — способствующий мышлению. «Действительно, — пишет Аристотель, — воображение есть нечто отличное и от ощущения, и от мышления; оно не возникает помимо ощущения, и без воображения невозможно никакое составление суждения. Ведь оно есть состояние, зависящее от нас самих... воображение оказывается одной из тех способностей или свойств, посредством которых мы обсуждаем, добиваемся истины или заблуждаемся» [7. С. 89]. Эмпирически все это понятно почти каждому, но вот теоретически здесь сплошные парадоксы: воображение — не ощущение, но без него не существует, оно не есть мышление, но любое суждение, говорит Аристотель, предполагает воображение и т. д.
Надо сказать, что и современная психология не прояснила понимание природы воображения, если не запутала вопрос еще больше. Читая работы психологов, посвященные анализу воображения, перестаешь понимать, что это такое вообще. С одной стороны, здесь те же самые характеристики воображения, заимствованные у Аристотеля. С другой — воображение часто редуцируется к процедурам творчества и мышления, а также установке и планированию будущих продуктов или промежуточных состояний деятельности. С третьей стороны, определенные виды воображения (так называемое пассивное воображение) сближаются с первыми фазами сновидения или пустыми грезами. И опять же неясно, как все эти характеристики воображения связаны между собой, в какой онтологии их можно осмыслить.
137
В предыдущем параграфе мы попытались наметить подход, опирающийся на идеи семиотики, деятельности и учения о психических реальностях, что позволило по-новому взглянуть на известный с античности феномен. Не будем же искать добра от добра и применим к воображению тот же подход. Рассмотрим сначала два примера, которые в дальнейшем мы будем использовать как модельные случаи.
Первый — известная всем с детства игра в лошадку. Ребенок садится на палочку, трясет головой, как лошадка, «ржет», «скачет», «ест траву» и при этом ощущает (воображает) себя лошадкой. Принципиальный вопрос: может ли ребенок вообразить себя лошадкой, если он не нащупает, не изобретет все эти процедуры и не начнет их актуально осуществлять? Думаем, что нет, думаем, что и взрослому человеку вообразить себя лошадью практически невозможно, если он не будет имитировать какие-то лошадиные действия. Мало того, ребенок должен не только вспомнить, что делает лошадка, и попробовать делать то же самое, но он никогда не представит себя лошадкой, если не отнесет к себе все эти действия, не начнет жить именно ими, т. е. питаться травой, резво скакать по сырой земле, не говорить, как человек, а ржать и т. д. и т. п. Результат этих усилий вполне определенный — ребенок может играть, может общаться с другими уже не только как человек, но и как любимая лошадка.
Не должны ли мы в таком случае предположить, что необходимым условием воображения является, с одной стороны, изобретение действий, создающих особую реальность и предметность (в данном случае «лошадное поведение»), с другой — усилия, направленные на то, чтобы войти в эту реальность и жить в ней. Действие воображения весьма продуктивно: оно позволяет человеку развернуть другие определенные реальности и действия — реальности игры, мышления, искусства и пр.
Второй пример. Вспомним отрывок из бессмертного произведения Александра Сергеевича Пушкина.
138
... Вообрази: я здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя...
Подумаем, как Онегин может вообразить то, о чем просит его Татьяна. Например, применив систему Станиславского. Во-первых, он должен найти в своей жизни ситуации, напоминающие те, о которых идет речь, — глухую провинцию, непонимание, полную невозможность себя реализовать, тоску и горечь, ощущение бессмысленности своей жизни. Во-вторых, Онегин должен перенести эти трагические переживания на другого человека — Татьяну. Но что это означает? Он должен на время как бы стать Татьяной, видеть ситуацию ее глазами, воспринимать, как она, мир и самого себя. Кстати, Пушкин показывает, что по своему эгоизму Онегин не в состоянии все это сделать, т. е. вообразить. Но если бы смог, то ему пришлось бы создать особую реальность (почувствовать всю прозу провинциальной жизни, ощутить себя Татьяной) и прожить эту реальность. Тогда бы, вероятно, Онегин не читал Тане холодную проповедь в ответ на ее письмо, а пришел бы к ней пусть и не с любовью, но с пониманием и сочувствием.
Вероятно, Аристотель спровоцировал понимание воображения (а также ощущения, мышления и памяти) как способностей души. Но особенно характерен этот подход для традиционной психологии. Воображение в ней определяется, например, как способность преобразования представлений памяти, обеспечивающая в конечном счете создание заведомо новой, ранее не возникавшей ситуации или как отражение реальной действительности в новых, непривычных, неожиданных сочетаниях и связях. Кажется, все правильно. Но воображение при таком понимании есть простой процесс комбинирования и перекомбинирования того, что человеку известно. Однако попробуйте, читатель, себя представить лошадью и реально почувствовать себя в теле и шкуре этого 139
прекрасного животного. Онегин не смог проделать и более простую операцию — вообразить себя провинциальной девушкой. Легко вообразить то, что тебе, по сути, известно, что лежит в плоскости комбинаторики прошлого опыта (но, возможно, это как раз и не воображение в собственном смысле слова); значительно труднее вообразить действительно новое и невозможное. Не таким ли является всякое продуктивное воображение? Чтобы убедиться в этом, вспомним реконструкцию ситуации формирования в доисторические времена человека и самых первых знаков, складывающихся на основе сигналов, которыми оперировали животные.
В нормальном, обычном поведении сигналы являются частью (элементом) события. Сигнал тревоги вовсе не означает саму тревогу, это именно первая часть сложного поведения животного. Но в парадоксальном поведении в психике человекообразных обезьян происходит сшибка двух событий: с одной стороны, они видят реальную опасность, с другой — вынуждены следовать сигналу вожака, сообщающему, что опасности нет. В подобных парадоксальных ситуациях, которые были в те времена массовыми, обычными, животное должно как бы «выйти из себя», представить привычное событие в форме другого, часто противоположного.
В результате сигнал перестает восприниматься как часть события, он соотносится теперь с новым поведением (ситуацией, предметом), сохраняя, однако, связь со старыми. Дистанция, напряженность между этими тремя элементами (сигналом, новой ситуацией и старыми ситуациями) в конце концов разрешается так, что появляется знак.
По механизму процесс формирования знака можно представить так. Должна возникнуть связь знаковой формы с определенным предметом (ситуацией), в данном случае сигнал «спокойно» вступает в связь с ситуацией опасности. Необходимость (и эффективность) такой связи выясняется задним числом. Важно, что эта связь не органическая (природная), а, так сказать, «социальная»: она обусловлена коммуникацией и волей субъектов (властью вожака). В психологи140
ческом плане необходимое условие формирования связи между знаковой формой и предметом — активность субъекта, направленная на перепредставление ситуации (так ситуацию опасности нужно было понять как спокойное, безопасное событие).
При формировании человека и первых знаков воображение, пусть еще в самой простой форме — как перепредставление ситуации, в которой находится животное, — выступало необходимым условием и представляло собой вовсе не простую операцию. Человекообразные обезьяны должны были в буквальном смысле слова родиться заново, уже не как животные, реагирующие на конкретную ситуацию, а как существа, действующие в воображаемой ситуации, обозначенной знаком. Этот поворот психики предполагал от них как необычные действия (нужно было изловчиться увидеть одно как другое), так и своеобразный самообман (жить в иллюзии как в реальности).
Однако, если воображение начало формироваться одновременно с языком и социальными отношениями, то почему оно было осознано только в античной культуре, не раньше V—IV вв. до н. э.? Кстати, мышление и память сознательно обсуждаются в это же время. Дело в том, что как раз в это время были изобретены рассуждения и формировалась античная личность. Во всей предыдущей истории, как отмечалось выше, человек был жестко интегрирован в социальные структуры и действовал, как все. Никакого самостоятельного поведения не предполагалось, а следовательно, и не было личности. Человек отождествлял себя с родом, семьей (позднее государством), считал свое поведение полностью детерминированным судьбой, которую задавали боги.
Но, начиная с VIII—VII вв. до н. э. складывается самостоятельное поведение и личность, а, как было показано выше, становление античной личности неотделимо от формирования рассуждений и схем. Однако, какое отношение все это имеет к формированию и осознанию воображения? Прямое. Пока воображение работало в рамках коллективного созна141
ния, когда все осваивали одни и те же приемы, «материя воображения» была не видна. Выход на историческую сцену рассуждений и личности создал совершенно новое качество: каждый человек рассуждал по-своему, а само рассуждение рождалось буквально на глазах. При этом воображение выступало как необходимый аспект построения рассуждений. Действительно, рассуждение среди прочего предполагает оперирование предметами (отождествление, установление отношений), которые заданы разными знаниями. Например, чтобы построить следующее рассуждение: «Сократ — человек. Люди — смертны. Следовательно, Сократ смертен», необходимо установить определенное отношение между Сократом и людьми, что в общем случае не просто, ведь люди — это обобщенная характеристика рода, а Сократ вполне конкретный человек.
Вот здесь и нужно или воображение, или специальные средства — категории (в данном случае — рода и вида; Сократ — вид по отношению к роду людей). Воображение вышло на поверхность сознания, стало видно, когда индивиды стали рассуждать и воображать различно, и эти процессы разворачивались прямо перед глазами исследователя, здесь и сейчас (их можно было уже описывать и сравнивать). Стоит также заметить, что необходимым условием мышления является не только воображение, но и память. Она позволяет помнить как отдельные компоненты рассуждения, так и способы их связи, например, понятия, правила логики, образцы рассуждения. Наиболее интересный пример применения в античности воображения в целях мышления мы находим, пожалуй, в диалоге Платона «Пир». Этот пример интересен не только тем, что сам Платон демонстрирует богатое воображение, создавая удивительные образы, но и тем, что он помогает слушателям диалога вообразить нужное.
В «Пире» мы встречаем несколько интересных образов. Во-первых, это образ двух Афродит. Один из участников диалога Павсий, а диалог, как мы помним, формально посвящен прославлению бога любви, говорит, что нужно раз142
личать двух разных Эротов, богов любви, соответствующих двум Афродитам — Афродите простонародной (пошлой) и Афродите возвышенной (небесной), и что только последняя полна всяческих достоинств.
Во-вторых, образ андрогина и его метаморфоз. Другой участник диалога, Аристофан, рассказывает историю, в соответствии с которой каждый мужчина и женщина ищут свою половину, поскольку они произошли от единого андрогинного существа, рассеченного Зевсом в доисторические времена на две половины. «Итак, — говорит Аристофан, — каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей того, двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудо- деи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины (андрогина женского пола. — В. Р.), к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно этой природе... Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. Беременные же духовно, ведь есть и такие, беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели... каждый, пожалуй, предпочтет иметь таких детей, чем обычных» [57. С. 119—120].
Понятно, что эти образы предполагали богатое воображение. Но для чего они создавались? Реконструкция позволяет ответить на этот вопрос. Судя по всему, Платона не устраивало обычное понимание любви, столь красочно описанное в античной мифологии? Такая любовь понималась как состояние, вызываемое богами любви и поэтому не зависящее от воли и желаний человека. Платон, однако, считал, 143
что одно из главных достоинств философа (как и вообще человека) — как раз сознательное участие в собственной судьбе (мироощущение, сформулированное Платоном в концепции «epimelia», — буквально: «заботы о себе») [72]. Кроме того, обычно любовь понималась как страсть, охватывающая человека в тот момент, когда боги любви входили в него, как сильный аффект, полностью исключающий разумное поведение. Платон, напротив, призывал человека следовать не страстям, а действовать разумно. Разумное построение жизни, по Платону, это работа над собой, направляющая человека в совершенный мир идей, где душа пребывала до рождения человека.
Зная Платона, нетрудно предположить, что когда он утвердился в новом понимании любви (любовь — это не страсть, а разумное чувство, оно предполагает совершенствование человека и ведет его к бессмертию), то стал излагать свое новое видение окружающим его слушателям. Но они ведь еще не пришли к новому видению любви и поэтому не понимали Платона. Более того, слушатели возражали Платону, ловя его на противоречиях и указывая на различные затруднения (проблемы), возникающие, если принять новое понимание. Так, они могли показать Платону, что он рассуждает противоречиво: любовь — это страсть, а Платон приписывает любви разум, следовательно, любовь — это не страсть. Кроме того, могли возразить слушатели, цели любви — телесное наслаждение и деторождение, почему же Платон ничего об этом не говорит. И уж совсем непонятно, зачем пристегивать любовь к таким серьезным делам, как работа над собой или «стремление блаженно закончить свои дни» (т. е. достигнуть бессмертия). Наконец, разве любовь дело рук человека, а не богов?
В ответ на все эти, вообщем-то справедливые возражения Платон начинает сложную работу (кстати, вместе со своими оппонентами). С одной стороны, он выстраивает «логическую аргументацию», с другой — чтобы облегчить понимание (точнее, сделать его впервые возможным), изобретает 144
схемы-образы, вводящие слушателей в новую для них реальность. Так, Платон, чтобы избежать противоречия в рассуждении, вспоминает о существовании в народной мифологии разных богинь любви и настаивает на принципиальном делении Эрота на два разных типа. В этом случае, рассуждая о любви, нельзя качества одной Афродиты (Эрота) переносить на другую. (Здесь невольно вспоминается правило Аристотеля, запрещающее перенос знаний из одного рода в другой.) Весьма тонко Платон выводит любовь из-под действия богов. Сочиняя историю про андрогинов, он, с одной стороны, санкционирует новое понимание любви актом самого Зевса, с другой — задает естественный процесс (стремление рассеченных половинок к соединению), относимый только к компетенции человека. Поистине гениальной находкой Платона является аналогия плода, вынашиваемого женщиной, с духовным плодом, т. е. работой человека над собой в направлении разумной жизни, совершенствования, стремления блаженно закончить свои дни.
Весьма изобретательно Платон помогает слушателям вообразить все эти необычные для них вещи. Он вкладывает новые знания о любви в уста участников диалога (с них как бы меньше спрос) и придает диалогу внешне несерьезный характер, по сути же, строит диалог как игру. Вспомним, с чего он начинается. Собираются для беседы участники диалога и говорят, что хорошо бы сегодня не напиваться и что неплохо бы взять в качестве темы беседы прославление бога любви. Затем начинается беседа, где каждый, беря слово, или предлагает относиться к его речам не столь уж серьезно, или вообще делает вид, что рассказывает почти сказку. Естественно, что в такой обстановке читатель расслабляется, забывает возражать, легко проглатывает невидимый крючок. Кроме того, Платон показывает, что образ андрогина объясняет все основные случаи, встречающиеся в практике (обычную любовь, мужскую и лесбийскую).
Не подсказывает ли этот материал следующую гипотезу: чтобы помочь воображению, нужно по меньшей мере два 145
звена — «распредмечивание» существующего содержания (в данном случае для этого вводится образ двух Афродит) и «пе- репредставление» (образы андрогина и вынашивания духовных плодов)? Если распредмечивание помогает расстаться с обычным пониманием и видением, которые не пускают, держат сознание в плену традиционных представлений, то перепредставление ставит новое понимание и видение. Но состояться продуктивное воображение может лишь при условии активных усилий и работы личности, расстающейся со своим обычным миром и заново рождающейся в новом мире. Легче это делать в пространстве игры, творчества, общения, диалога, а в социальном плане — в пространстве экзистенциальном, т. е. таком, которое объективно заставляет человека выйти из своего привычного «места» (понимания, видения) и куда-то двигаться.
3. Восприятие
Определение восприятия, кстати, и ощущения как отражения предметов (ситуаций, событий) при условии получения от них чувственной информации восходит к Аристотелю. Правда, последний говорил не об отражении, а подобии. «В потенции, — пишет Аристотель, — ощущающая способность то же, что в действительности уже представляет собой ощущаемый предмет, как было сказано. Пока ощущающая способность испытывает, она не уподобляется ощущаемому, испытав же [воздействие], она уподобляется и становится такой же, как он» [7. С. 54]. Интересно, в каком контексте Аристотель вводит понятие «восприятие». Ему нужно было объяснить, как при наблюдении предметов получаются их образы, а также эмпирические знания, при той предпосылке, что их источником являются вещи, а средством — чувства. Поскольку, рассуждает Аристотель, предмет не может войти непосредственно в душу, в ней для восприятия предмета должна быть его копия, форма или, как еще говорит Аристотель, 146
предмет «потенциально», в «возможности». «Ведь осуществление каждой вещи происходит по своей природе в том, чем эта вещь является потенциально, т. е. в свойственной ей материи. Из предшествующего ясно, что душа есть известное осуществление и осмысление того, что обладает возможностью быть... Ясно, что ощущающая способность не есть нечто действительное, но только возможное... Душа должна быть или этими предметами, или формами их; но самые предметы отпадают, — ведь камень в душе не находится, а только форма его... ощущение же — форма чувственно воспринимаемых качеств» [7. С. 42, 50, 102 ].
Аристотель не различает восприятия и ощущения как его элементарного вида, это деление возникло только в Новое время при формировании научной психологии; в XX в., начиная с работ Бюлера, Выготского и гештальтпсихологов, оно опять уходит со сцены. И вот почему. Указанные психологи истолковывают восприятие по-новому: как детерминированное не только со стороны предмета, но и личности. Например, Л. Выготский подчеркивает связь восприятия не только с языком (осмыслением) и мышлением (категоризацией), но и развитием личности. «Эта тенденция к осмысливанию всякого восприятия, — пишет Выготский, — была экспериментально использована как средство для анализа осмысленности нашего развитого восприятия. Он показал: в такой же мере, как восприятие в развитом виде является устойчивым, постоянным, оно является осмысленным, или категориальным, восприятием... Эксперименты показали, с одной стороны, что осмысленность — свойство восприятия взрослого, не присуще ребенку, что она возникает на известной ступени, является продуктом развития, а не дана с самого начала» [21. С. 373, 375].
В лекциях по психологии Выготский приходит к важному выводу, что восприятие представляет собой всего лишь элемент (подсистему) развивающейся функционально системы психики. Восприятие, подобно памяти или мышлению, работает не само по себе, а «внутри других функций, как их со147
ставная часть» [21. С. 375]. «Мы видим на каждом шагу, — пишет Выготский, — что всюду имеются эти межфункциональные связи и что между восприятием и другими функциями возникают важнейшие изменения, важнейшие отличительные свойства развитого взрослого восприятия, которые необъяснимы, если рассматривать эволюцию восприятия в изолированном виде, не как части сложного развития созна- ниявцелом» [21. С. 380]. Но при таком понимании, действительно, восприятие и ощущение, в лучшем случае, могут различаться лишь как стадии развития, но, по сути, потребность в подобном различении вообще снимается, что мы и наблюдаем в психологической практике. Зато возникает другая, более сложная проблема: каким образом совместить трактовку восприятия как отражения (подобия и потенции предмета) и как воздействия личности (как осмысления и категоризации предмета)? Дальше попробуем вслед за рядом психологов разрешить эту проблему на частном случае визуального восприятия.
Визуальное восприятие. Если человек не является специалистом в психологии, для него, вероятно, покажется странным утверждение, что видение есть деятельность. Нам привычны выражения: трудовая деятельность, мыслительная деятельность, ориентировочная деятельность, но выражение «зрительная деятельность» несколько режет слух. Оно противоречит и пониманию видения как формы отражения, если его понимать физикалистски. Если же отражение трактовать не как нечто пассивное, а как активный процесс, то первый шаг к необычной формуле — видение есть деятельность — будет сделан. О том, что глаз совершает сложные движения, известно достаточно давно. Но что это за движения и какую роль они выполняют, стало ясным сравнительно недавно. Еще великий русский ученый И. Μ. Сеченов вслед за Пифагором сравнивал глаз со «щупалом», предполагая, что видение предмета связано с его зрительным ощущением. В наше время в психологии эту точку зрения подробно развила психолог Ю. Б. Гиппенрейтер; она исходила из того, 148
что глаз является полноценным зрительным органом. Подобно другим органам тела, «глаз имеет представительство в схеме тела человека»: концентрируясь на предмете, как на цели видения, он вводит этот предмет и в сознание, и в схему тела человека [26]. Оказалось, что остановившийся в своем движении глаз просто не может видеть. Известный советский психофизиологА. Л. Ярбус с помощью изящных экспериментов доказал, что если глаз совершенно перестает двигаться относительно изображения, оно перестает восприниматься; человек, хотя и смотрит на предмет, но не видит его, он видит «пустое поле». Но, помимо мельчайших движений, глаз совершает и относительно крупные движения — скачкообразные и плавные. Есть основания считать, пишет А. Р. Лурия, что эти движения позволяют «последовательно выделять наиболее информативные точки (признаки предмета), сличать их друг с другом и синтезировать окончательный комплекс признаков, необходимых для опознания предмета» [44. С. 76].
Уже исследования движения глаза показали, что видение является активным, целенаправленным процессом, процессом, ориентированным на предмет, его опознание, выделение, осмысление. Все эти особенности видения: активный характер, целенаправленность, предметность, осмысленность и ряд других — хорошо объясняются в деятельностной концепции психики, которую, как известно, развивали и развивают ряд советских психологов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, В. В. Давыдов, Л. Я. Гальперин и др.).
С точки зрения психологической теории деятельности видение — это «перцептивная» деятельность. Побуждается и направляется она мотивами и целями. Как писал еще Песта- лоцци, «глаз хочет смотреть». Однако, чтобы чувственные данные приобрели предметное значение, необходимо, как показывает А. Н. Леонтьев, взаимодействие в образе предмета («перцептивном» образе) трех основных компонентов: «чувственной ткани», «значения» и «личностного смысла». 149
Чувственная ткань делает восприятие предмета реальным, т. е. относит его к реальности внешнего мира — существующей объективно, данной нашему чувственному восприятию. Значение приводит это восприятие к общественно фиксируемой норме (обычно выраженной в языке — слове, понятии), личностный смысл придает восприятию личностную определенность, окрашенность, выраженность (в частности, в речевой и мотивационной сфере).
Деятельностная трактовка визуального восприятия получила подтверждение в серии интересных психологических экспериментов, проведенных учениками А. Н. Леонтьева — В. Сталиным, А. Логвиненко, В. Петренко, А. Пузырей, а также еще раньше, в 1940 г., Б. И. Компанейским. Исследователи повторили ряд известных классических опытов зарубежных психологов (Μ. Стрэттона, П. Эверта, Дж. Пэтер- сона, И. Колера, И. Рока, X. Уиткина, К. Келлера, Μ. Гаффрон) и поставили ряд самостоятельных оригинальных экспериментов. Они работали с псевдоскопами и инвертоскопами — оптическими устройствами, позволяющими создавать у испытуемых на сетчатке обращенные, зеркальные и перевернутые «вверх ногами» изображения объекта. При этом не только искажались предметы и пространство: близкое становилось далеким и наоборот, изменилось расположение предметов в пространстве относительно друг друга, верх находился внизу, а низ — вверху (т. е. мир для испытуемого виделся перевернутым). Что не менее существенно, нарушалась сама зрительная реальность, возникали зрительные иллюзии и различные зрительные эффекты. Так, некоторые предметы не искажались вообще (хотя теоретически должны были бы искажаться), другие искажались только частично, третьи не узнавались и воспринимались как совершенно другие предметы. Приведем несколько иллюстраций.
В эксперименте Б. Компанейского наблюдатель смотрит в псевдоскоп на человеческое лицо. Благодаря оптическим трансформациям испытуемый должен был бы видеть «обратный рельеф лица с провалившимся носом, вогнутыми глаза150
ми и т. д.», но он видит обычное лицо без каких-бы то ни было изменений. Если же лицо этого человека оплести жгутами, скрученными из папиросной бумаги, оставив окошки, то в «окно» будут видны неправильной формы пузыри, нос провалится, от человеческого лица не останется ничего, что бы его напоминало [36. С. 151,161]. В экспериментах В. Сто- лина и В. Петренко перед испытуемым становится миска с подкрашенной жидкостью. В псевдоскопе форма миски и жидкости виделись измененными — жидкость оказывалась сверху вывернутой поверхности и воспринималась она теперь то как желе, то как пластмасса, то как студень, то как металл. Изменились и другие характеристики, например, разные цвета миски и воды сливались в один — металлический [66. С. 186; 54 ]. В дневниках Стрэттона, одним из первых надевшим на глаза инвертоскоп (первый раз Стрэттон не снимал прибор трое суток, а второй — восемь), отмечалось, что он не мог в большинстве случаев узнать местность, которая в обычных условиях была ему хорошо знакома. Аналогично И. Келлер подтверждает, что в условиях инверсии (т. е. перевернутого изображения) не узнается даже знакомое лицо. Позднее Μ. Гаффрон показала, что видимый в ин- вертоскопе пейзаж местности, изображенный на картине или фотографии, не узнавался испытуемыми, воспринимался ими как что-то неоформленное и бессюжетное.
Крайне интересны также эксперименты с инвертоско- пом, демонстрирующие самопроизвольное изменение изображения (видов предмета), когда оно соединяется с другими изображениями или включается в систему предметно-пространственной ориентации (верх, низ, справа, слева, соотнесение с элементами комнаты и т. п.). Например, в эксперименте И. Келера испытуемый смотрит на предмет и видит его, как и положено, перевернутым «вверх ногами». Но, если испытуемый прикасается к предмету, тот сразу же «переворачивается», т. е. кажется правильно ориентированным в пространстве. Еще пример: нить с грузом, взятая в руки, переворачивается в пространстве с головы на ноги и видится 151
правильно; одновременно становится адекватным и восприятие более удаленных предметов. В другом эксперименте И. Келера перевернутая свеча возвращалась в нормальное состояние (фитилем вверх), как только ее зажигали. В опытах А. Логвиненко испытуемая также видела в темноте горящую свечу в нормальном положении. Но если в поле зрения входило человеческое лицо, изображение переворачивалось [43. С. 246-247].
Что же показали эти эксперименты? Во-первых, то, что видимый человеком мир не совпадает с теми чувственными данными, которые воспринимает глаз (как известно, Дж. Гибсон назвал их в отличие от видимого мира «видимым полем»). Видимый мир всегда осмыслен и опредмечен, а видимое поле есть такой образ, порождаемый предметом, который не выражает отношения реального мира. Хотя глаз человека и в первом и во втором случае видит одну и ту же свечу, т. е. воспринимает определенное видимое поле, но в первом случае он видит один предмет (в прямой ориентации), а во втором — другой (в обратной ориентации). Это происходит потому, что предметы принадлежат не к видимому полю, а к видимому миру (хотя начинается зрительное восприятие с видимого поля, но осуществляется оно феноменально, в восприятии в форме видимого мира).
Во-вторых, эксперименты показали, что процесс опредмечивания видимого поля, т. е. создание на его основе видимого мира, регулируется системой значений и отчасти напоминает построение высказывания в языке [54. С. 290]. Как только у испытуемых меняется значение одного из элементов наблюдаемой в прибор ситуации, меняются и значения всех других элементов, связанных с данным (жидкость переходит в пластмассу или металл). При этом семантический (лингвистический) анализ высказываний испытуемых показал, что эти связи являются одновременно предметными и языковыми, т. е. в образе предмета действительно взаимодействуют элементы чувственной ткани и значения предмета.
152
В-третьих, и это очень важный результат, выяснилось, что испытуемые, не снимающие инвертоскоп много дней подряд, только в том случае восстанавливают способность правильно ориентироваться в предметно-пространственной среде (переставая замечать перевернутый мир, полностью осваиваясь в нем, воспринимая его как мир нормально ориентированный), если им удается соотнести видимые в инвертоскоп предметы со схемой своего тела и с общим представлением мира (обычно это происходит через 2—3 недели непрерывного эксперимента). Другими словами, оказалось, что зрительная реальность (видимый мир) держится не только на текущем визуальном восприятии, но и на общей смысловой картине человеческого сознания, куда входят как образы его тела, так и отношения окружающего мира. Именно поэтому в эксперименте Компанейского не трансформируется лицо человека, а в опытах Келера включение предметов в схему тела человека восстанавливало нормальную ориентацию предметов (оказывается, схема тела человека и общее представление его о мире являются такой мощной организующей силой, которая в состоянии существенно поправлять даже отчетливые, противоречащие образу предмета зрительные впечатления).
В-четвертых, было показано, что и отдельные псевдоско- пические эффекты, и сложная перестройка видения в многодневных опытах с инвертоскопом детерминируются природой и особенностями перцептивной деятельности и входящими в нее действиями и операциями. «Именно благодаря этим операциям, — пишет А. Н. Леонтьев, — и достигается согласованность инвертированных зрительных фрагментов мира с миром, как он существует независимо от тех сенсорных модальностей, в которых он субъективно отражается. Иными словами, происходит согласование зрительных впечатлений с той «амодальной схемой» объективного мира, которая необходимо формируется у субъекта так же, как у него формируется и «схема тела» [42. С. 26].
153
Наконец, в качестве еще одного результата можно назвать выделение детерминант, превращающих одно и то же зрительное поле (одну наблюдаемую ситуацию) в разные предметы, разные видимые миры. Таких детерминант оказалось три: система установок, ожиданий человека (как известно, под названием «готовности категорий» эта детерминанта была исследована Брунером, Постменом и другими психологами); система предметных значений, которыми человек владеет; и, так сказать, «визуальная задача», которую человек должен решить (опознать предмет, сравнить его с другими, эстетически пережить и т. д.). Изменение одной из этих детерминант или всех их вместе влекло за собой соответствующее изменение видимого предмета (его переориентацию, искажение, замену другим предметом и т. д.).
Взгляд на видение как на сложную перцептивную деятельность, конечно, не совсем привычен. Человек обычно не замечает ни мотивов, ни целей этой деятельности так же, как не замечает отдельные составляющие ее элементы — действия и операции. И вот почему. Во-первых, в видении один акт деятельности непрерывно следует за другим, во-вторых, глубокая специализация человека в области видения привела к автоматизированности этих деятельностей (они совершаются как бы без усилий сознания, быстро, почти «на лету»). На самом деле, как показали психологические эксперименты, когда удается затормозить скорость протекания процессов видения (или же «фотографировать» их ускоренной съемкой), обнаруживается ясная деятельностная природа видения со всеми присущими ей характеристиками и особенностями. Теперь перейдем к рассмотрению вопроса о роли в восприятии информации, идущей от предмета.
Для того, кто не занимается специально психологией зрительного восприятия, естественна точка зрения, что вся необходимая для видения визуальная информация содержится в рассматриваемом глазом предмете (пространстве), роль человеческой психики состоит лишь в переработке этой информации после того, как она проходит через глаз. Впро154
чем, есть психологи, причем хорошо известные в области визуального восприятия, которые также разделяют подобную точку зрения. Так, Дж. Дж. Гибсон и Э. Дж. Гибсон утверждают, что глаз человека получает о предмете всю необходимую информацию (визуальный стимул на входе, говорят они, содержит все, что имеется в визуальном образе). Другое дело, что в одних случаях глаз способен освоить всю эту сенсорную информацию, а в других он теряет значительную часть ее в силу неэффективности своей деятельности, неразвитости зрительных способностей различения, дифференцирования и т. д.
Ученые, разделяющие это убеждение, пытаются также учесть (но получается это значительно хуже) механизмы переработки визуальной информации — константность формы и величины предмета (если предмет не очень удален, то человек узнает его в любом положении и освещении и не замечает «видимые» сокращения его размеров), а также взаимовлияние одних видимых элементов на другие (что обусловливает, например, различные зрительные иллюзии).
Другая, противоположная, точка зрения была намечена еще в конце прошлого века Г. Гельмгольцем и затем углублена современными психологами-экспериментаторами. Кратко ее суть в том, что от предмета приходит только часть визуальной информации, другая же (причем иного характера) привносится самим человеком. То, что человек видит, есть результат слияния визуальных впечатлений от предмета и встречной активности человека, посылающей навстречу этой информации сгустки прошлого опыта, означенного и осмысленного, интегрированного в общей структуре сознания человека. Гибсоны этот подход называют эмпиризмом, в соответствии с ним все знание приходит из опыта, причем прошлый опыт определенным образом соединяется с настоящим. К эмпирической точке зрения исследователей привели различные наблюдения над визуальным восприятием, а также специально поставленные эксперименты. Эксперименты, в частности, показывают, что в условиях неясного 155
видения (плохое освещение, удаленный предмет и т. п.) или особого строения визуального материала (в котором представлены равноценные для глаза визуальные интерпретации: шахматная доска, узоры обоев, двусмысленные изображения, где то одна, то другая часть изображения может выступать в качестве фигуры или фона) визуальное восприятие воссоздает не один предмет, а два или больше, и человек в этих условиях видит их поочередно. Впрочем, с этим явлением знаком каждый. Вспомните, что вы видите, приближаясь к удаленным объектам, прежде вам незнакомым, или же приближаясь к ним при слабом освещении, например, при лунном свете? Разнообразные формы, очертания, объекты, которые то возникают, то исчезают, так как плохо подкреплены чувственным опытом.
Вместе с тем известно, что при наличии сильной ведущей установки, ориентированности на определенный предмет, человек отчетливо видит его даже в плохих визуальных условиях, при этом практически не видя других предметов, хорошо доступных зрению, и из всех имеющихся визуальных интерпретаций выбирает ту, которая соответствует имеющейся у него установке. Анализируя действие зрительной установки и привычных норм зрительного восприятия, Ф. X. Ол- порт отмечает, что они влияют как на выбор объектов, которые воспринимаются, так и на степень готовности к их восприятию. Последнее проявляется в том, что человек видит объекты более ярко и живо. Сама же установка действует либо в ситуациях выбора, поиска определенных объектов, либо в неопределенных ситуациях, когда их хотят переосмыслить в определенном плане. Установки или состояние готовности в свою очередь вызываются различными жизненными ситуациями и способом их осмысления. Попадая в определенные ситуации, человек оказывается в их власти. Как часто, замечает Олпорт, надгробная плита ночью на кладбище принималась за призрак [83]? Как можно объяснить эти наблюдения?
156
Прежде всего обратим внимание на факт, подмеченный многими исследователями — после почти мгновенного или более продолжительного периода «проб и ошибок» предмет узнается (видится) сразу. Нельзя сказать, считает Ф. Олпорт, что это только цветовые впечатления или только конфигурация. Хотя в объекте можно выделить и фактуру, и организацию, и контур, и воспринимается он как фигура на фоне, тем не менее объект представляется как нечто большее, нежели каждое из этих свойств; перед нами не просто качества, свойства или формы, «но именно вещи и события». Олпорт считает, что главным фундаментальным свойством воспринимаемого предмета является то, что он обладает значением. Само же значение — это не только то, что связано с конфигурацией или целостностью объекта или с его величиной, яркостью и т. п. Это также и опыт в отношении данного объекта.
Таким образом, визуальный материал предмета (т. е. его видимая форма, поверхность, положение, характеристика и т. д.) только одно из условий видения. Другое исходит от самого человека, его визуального опыта и сознания. Гельмгольц подчеркивал, что в визуальном восприятии прежний опыт и текущие чувственные ощущения взаимодействуют друг с другом, образуя перцептивный образ. Часть чувственного восприятия, отложившаяся в виде опыта человека, утверждал исследователь, действует не менее сильно, чем другая, зависимая от текущих ощущений. Гельмгольц полагал также, что первый шаг визуального восприятия имеет процессуальную природу, представляя собой деятельность по обследованию визуального предмета. С точки зрения Гельмгольца, человек не просто пассивно отдается потоку впечатлений, но и активно действует, настраивает свои чувства так, чтобы видеть с максимальной точностью [24; 84]. Второй шаг связан с конструированием, сознаванием видимого предмета. Он отражает интеллектуальную сторону видения. Но не является ли визуальный материал тем, что выше называлось «видимым полем», не связан ли акт конструирования видимого предмета со «значением» его, и не совпадает ли види157
мый мир просто с тем, что видится? Безусловно, связь между этими представлениями существует, но она не прямая. Так, видимое поле — это не сам визуальный материал, а его перцептивный образ, как бы отделенный от остальных предметных отношений. Значение предмета — это один из важнейших моментов выделения и существования предмета, хотя есть и ряд других. Видимый мир — это не просто то, что видится, но и то, что в видении определено общей смысловой картиной мира человека.
Сразу необходимо подчеркнуть разную природу и источники этих двух сторон видения: обследование визуального материала (ориентирование в визуальном материале) предполагает сложное движение в нем, фиксацию внимания на его характерных информативных параметрах (точка, линия, граница, поворот, световое пятно, замкнутый контур, простая фигура, круг, прямоугольник, треугольник и т. п.), изменение траектории движения, ощупывание, смену точек зрения и другие визуальные операции. Обследование визуального материала протекает во времени, оно жестко связано со структурой этого материала. В то же время акт конструирования в сознании видимого предмета осуществляется вне времени и носит не моторно-ориентировочный, а интеллектуальный характер. Этот акт предполагает выделение и полагание объекта, осуществление процедур отождествления и разотожде- ствления, а также сопоставление объекта с фиксированными в обществе сенсорными эталонами. Наконец, это акт языкового обозначения предмета, т. е. обнаружения и существования предмета в языке.
Временной характер обследования материала и вневременной — конструирования предмета — означает, что видение распадается на отдельные относительно самостоятельные фазы, включающие предварительные ориентировочные действия. Каждая такая фаза завершается выделением определенного предмета или определенного состояния этого предмета (т. е. предмета, фиксированного во времени) и параллельной кристаллизацией визуальных действий (обсле158
дования, ориентирования), обеспечивающих на уровне визуального материала акт конструирования предмета.
Анализируя визуальное восприятие, В. Столин показывает, что акт, который мы называем конструированием предмета, включает в себя четыре относительно самостоятельные группы операций и отношений: а) реализацию в видении системы значений предмета; б) опредмечивание зрительного материала, обследуемого глазом; в) контрольное сопоставление порожденного предметного образа и зрительного материала, служащего его основой («образ должен быть непротиворечив в отношении к структуре зрительного материала», иначе он воспринимается как иллюзия); г) опережающая, предвосхищающая настройка видения и его состояний [66. С. 195—197]. Ранее проведенные исследования ряда ведущих советских психологов (А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, А. В. Запорожца, В. П. Зинченко) показывают, что акт визуального конструирования предмета еще более сложен. Так, он определяется: во-первых, более широким контекстом (самой деятельностью с предметом, визуальной задачей, значимостью признаков предмета), во-вторых, необходимостью адекватного перцептивного «уподобления» («моделирования») видимой ситуации, в-третьих, своим собственным генезисом (где формируются операции обнаружения и выделения перцептивного содержания, операции ознакомления с этим содержанием, процесс построения образа (эталона) объекта и, наконец, само опознавательное действие).
Наличие в видении двух разных, хотя и взаимосвязанных сторон и источников (обследование визуального материала и конструирование предмета) позволяет в первом приближении объяснить два фундаментальных визуальных феномена: во-первых, рассмотренную выше неоднозначность предметного видения, когда один визуальный материал позволяет видеть совершенно разные предметы (этот феномен известный психолог В. Иттельсон назвал принципом «эквивалентной конфигурации»: он считает, что существует большое число физических конфигураций, каждая из которых явля-
159
ется источником одинаковых зрительных признаков); во-вторых, такой феномен, как константность формы и величины видимых предметов. Но сначала уточним, как в процессе видения происходит конструирование предмета. Роль визуального материала в видении одновременно и переоценивается и недооценивается. Переоценивается в том отношении, что считается, будто предмет непрерывно отражается в визуальном восприятии человека. На самом же деле, как показывают психологические эксперименты, механизм визуального восприятия действует иначе: глаз лишь периодически, дискретно обращается к визуальному материалу, как бы проверяя и опровергая в нем свои гипотезы. Конструктивная активность видения развертывается прежде всего изнутри, она направляется различными психическими факторами личности — потребностями, мотивами, установками, целями, ходом текущего психического процесса и т. п. Визуальный же материал используется психикой для периодического подтверждения и поддержания разворачивающейся визуальной активности, для ориентировки ее в предметной реальности. В этом смысле в отношении видения справедлива гипотеза «выбрасывания масок» (маска — это воспринимаемый феномен, предмет, конструируемый психикой как бы независимо от различия того или иного визуального материала). Психика «выбрасывает» маску и сверяет ее с «лицом» или «ролью», функцию которых выполняет осмысленный визуальный материал. Если одна маска не подходит, подыскивается другая (этот процесс, естественно, включает в себя гипотезы, пробы, поправки, конструирование и другие акты визуальной деятельности).
Недооценивают же визуальный материал в том отношении, что его рассматривают обычно как нечто, данное видению извне: это то, что видят, а не то, что принадлежит самому видению. Однако для визуальной активности психики визуальный материал не просто внешне данное ему образование, которое эта активность отражает и ассимилирует. Для зрительного восприятия визуальный материал есть необхо160
димое материально-предметное условие его актуализации: только реализуя себя на визуальном материале, в визуальном материале, видение может себя осуществить, может кристаллизоваться и развернуться. В этом отношении осмысленный визуальный материал может быть, вероятно, охарактеризован, по выражению немецкого философа Шеллинга, как «организованность» визуального восприятия, т. е. такой элемент, который, с одной стороны, дан видению как внешний объект, с другой — как предмет (феномен) самого видения, сконструированный видением и удовлетворяющий всем его актуализированным в данный момент установкам.
Но процесс конструирования видимого предмета сложен и в другом отношении: это не один акт, а множество связанных между собой. Почему, спрашивается, мы узнаем предмет в разных положениях, условиях освещения, на разных расстояниях от глаза и т. д.? С одной стороны, потому, что ряд операций познания предмета не зависит от определенных его характеристик, например, опознание формы в определенных пределах не зависит от его размеров и освещенности, опознание цвета — от формы и положения и т. д. С другой — потому, что в онтогенезе человек научается замещать предметы знаками, при этом выделяются содержания, инвариантные относительно многих свойств предмета. Например, знаковое изображение предмета облегчает его опознание в разных меняющихся условиях восприятия. Но также и потому, что человек в ходе своего формирования устанавливает между признаками предмета сложные отношения. Так, он узнает, что «удаляясь, предмет сокращается в размерах», что «повернутый предмет видится иначе, чем неповерну- тый» и т. д. Следовательно, в генетическом отношении факт константности видения выражает то обстоятельство, что в видении определенного предмета свернут, кристаллизован сложный онтогенетический процесс.
Необходимыми условиями формирования этого процесса выступают: отдельные акты восприятия данного предмета, принимающего разное положение в пространстве, имею161
щего разные ракурсы, по-разному освещенного, включенного в разные трудовые или познавательные деятельности; выделение инвариантных характеристик этого предмета в этих разных, меняющихся условиях; фиксация характерных состояний данного предмета, находящегося в разных условиях; сознавание ситуаций и условностей, в которых рассматриваемый предмет воспринимается; синтезирование в языке и мышлении всех состояний данного предмета, всех инвариантных его характеристик. Вся эта пирамида процессов и актов в конечном счете свертывается в процессе онтогенеза человека в одном сложном иерархически организованном процессе и акте видения предмета. Можно сообразить, что визуальный материал предмета представляет собой лишь один из факторов, действующих в указанной пирамиде (этот материал предопределяет выбор, конституирование предмета в данный момент времени, в данном месте пространства, в определенных условиях деятельности). Поскольку в процессе видения происходит проецирование на данный визуальный материал всей пирамиды процессов, он, визуальный материал, вступает во все те отношения с другими предметами и смыслами сознания, которые заданы в данной пирамиде процессов. Поэтому визуальное восприятие как бы восполняет все другие состояния этого предмета (трансформируя одновременно воспринимаемое состояние), но не как визуальные состояния данного предмета, а как присущие ему отношения, или, точнее, смыслы. Такие отношения, или смыслы, позволяют сознанию «проектировать» (приготовлять) веер возможных (предстоящих) операций и действий с видимым предметом, а также приготавливаться к переживанию различных состояний, которые будут стимулированы подобными действиями.
Намеченные здесь представления, на наш взгляд, и объясняют феномен константности видения: хотя визуальный материал предмета задает лишь одно из возможных его состояний, визуальная активность, стимулируемая этим материалом, конструирует целиком весь предмет, всю пирамиду 162
процессов, с ним связанных. Неоднозначность видения одного и того же предмета в принципе объясняется тем, что визуальный материал не определяет целиком видимый предмет. Вычленяя в визуальном материале разные признаки и их организацию, визуальная активность проецирует в разных условиях разные пирамиды процессов. Иными словами, на основе одного визуального материала в зависимости от разных мотивов, установок и прошлого опыта визуальная активность создает разные предметы.
Кстати, этот феномен в определенной мере позволяет объяснить, почему элементы изображения вступают друг с другом во взаимоотношения и возникают различные иллюзии. Например, прямые линии искривляются вблизи криволинейных или на фоне специальной штриховки. Подобные визуальные феномены возникают, очевидно, именно потому, что визуальный материал допускает не одну, а множество интерпретаций. Кроме того, как мы уже отмечали, видение состоит из отдельных последовательных фаз, завершающихся конструированием целостного предмета. В случае, когда предыдущая и последующая фазы видения имеют дело с одним и тем же визуальным материалом (что и происходит при разглядывании предмета), каждый последующий акт конструирования и сознавания предмета оказывается зависящим от предыдущего, вступает с ним в органическую предметную связь.
Визуальное восприятие вынуждено в каждой фазе воссоздавать предмет, удовлетворяющий не только данной фазе, но также характеристикам, относящимся к предыдущей фазе. Не учесть же их (т. е. не суммировать текущие и предшествующие характеристики) оно не может. И вот почему. При равноценных предметных интерпретациях и общем визуальном материале самостоятельные предметы, выделенные в каждой фазе, есть, по сути дела, один и тот же рассматриваемый предмет (изображение). Особенность же визуального материала, вызывающего, так сказать, «сильные» (замечаемые при сравнении) взаимодействия, в том,
163
что суммирование предметных характеристик в каждой фазе визуального восприятия приводит к трансформации визуальных впечатлений, которые глаз получает в случае изолированного предмета.
Например, суммирование зрительных впечатлений от материала, включающего прямую линию и криволинейные, порождает на месте прямой линии кривую. Как организованность восприятия визуальный материал должен удовлетворять всем актам и процессам конструирования предметов и, следовательно, представлять собой структуру поля, где действуют разнообразные силы и отношения, вызванные соответствующими актами и процессами. В другом отношении тот же феномен можно охарактеризовать иначе: визуальному восприятию присущ предметно-конструктивный характер, поэтому оно удовлетворяет разнообразным (иногда противоречивым) требованиям, возникающим в каждой самостоятельной фазе видения.
Особенности визуальной психической реальности. На визуальные явления можно посмотреть также с точки зрения учения о психических реальностях. Психическая реальность — это система событий, которые проживает и переживает человек; события реальности связаны определенной логикой; с точки зрения учения о психических реальностях все психические процессы протекают в той или другой психической реальности; в психике реальности определенным образом организованы. Опознание предмета для взрослого человека, очевидно, хотя и простая, но самостоятельная визуальная задача, требующая от него некоторого усилия, определяемого желанием узнать, какой предмет перед ним. Следовательно, у человека кристаллизуется вполне определенный визуальный мотив и предмет (визуальное желание), которые и побуждают деятельность видения. Именно реализация этого желания предполагает актуализацию для сознания определенной визуальной реальности. Но какой? Очевидно, той, которая во всяком случае не противоречит визуальным дан- 164
ным, подкрепляется ими и, кроме того, более актуальна в данный момент для человека.
Рассмотрим под этим углом случай восприятия многозначного материала. Здесь визуальные впечатления должны меняться в силу ориентировочного характера активности глаза и самой визуальной организации предмета. Главное значение приобретают такие моменты, как несознаваемое человеком желание реализовать вполне определенные мотивы (опредмечиваясь, мотив умножается) или же стереотип выбора определенной визуальной реальности. В результате человек из альтернативных визуальных впечатлений автоматически отбирает одну группу, с опорой на нее происходит реализация мотива и определенной визуальной реальности, т. е. восприятие и узнавание предмета. Но после того, как предмет опознан, складывается новая ситуация: поскольку один мотив угас, исчерпан, возникает возможность для кристаллизации другого под альтернативную группу визуальных впечатлений. Однако состоится ли акт восприятия нового предмета, зависит от того, в какой мере человек может реализовать соответствующую новую визуальную реальность (иногда это сделать легко, иногда — трудно).
Почему в эксперименте Б. Компанейского лицо человека, видимого в псевдоскоп, не искажалось, несмотря на искаженные, противоречащие человеческому образу визуальные данные? Вряд ли глаз человека не фиксирует искаженный образ лица. Вероятно, фиксирует, но этот образ вступает в противоречие с нормальным образом человеческого лица, принадлежащим хорошо известной всем визуальной реальности (она формируется не только в ходе общения с живыми людьми, но и средствами искусства — рисунок лица, портретная живопись, фото, кино, телевидение, описание лиц людей в художественной литературе и т. д.). Борьба двух визуальных реальностей — нормальной и «искаженной» (хотя сами по себе ее события вполне жизненны) — заканчивается поражением второй и, следовательно, видение, с ней связанное, решительно блокируется психикой (точнее, 165
блокируются программы деятельности, определяющие такое видение). Но взамен психика реализует нормальную реальность (т. е. человек видит неискаженное лицо), хотя визуальный материал поддерживает ее весьма незначительно. Заметим, что еще меньше поддерживают видение схематические рисунки лиц, тем не менее человек узнает лицо. Очевидно, знаковые замещения приучают глаз опираться в своей деятельности буквально на незначительные структурные фрагменты (следы, проекции, схемы) полноценного визуального материала. Интересно было бы проанализировать сновидения испытуемых; теоретически весьма вероятно, что во сне (сразу или через несколько дней после эксперимента) они видели уродливые или страшные лица людей (т. е. блокированные, искаженные псевдоскопом образы должны воспроизводиться в условиях сферы сновидений). Это предположение можно объяснить так: блокированные, искаженные образы (программы) переходят на другой горизонт психики, где они, вероятнее всего, реализуются в период сновидений. Впрочем, они могут реализоваться, как правило, неосознанно и в сфере искусства (например, переживания страшной живописи).
Если же высказанное предположение не подтвердится, можно предложить другое, более простое объяснение: нормальный образ (реальность) задают вполне определенные события и их последовательность, что, в свою очередь, определяет характер обследования и осмысления визуального материала. В рамках такой реальности структурные свойства визуального материала, ответственные за искажение образа, просто не прочитываются, пропускаются сознанием, т. е. не видятся. Свойства же визуального материала, необходимые для нормального образа, но реально отсутствующие, сознание восполняет само (по принципу: «вижу, что хочу увидеть»).
Когда же лицо испытуемого обматывалось жгутами папиросной бумаги, борьба нормальной и «искаженной» реальностей заканчивалась победой именно «искаженной» 166
реальности. И вот почему. С одной стороны, жгуты существенно сокращали те небольшие островки визуального материала (форма лица и его элементов, цвет, фактура кожи, волос и т. д.), которые все-таки поддерживали нормальную визуальную реальность; с другой — жгуты как предмет мертвый, чуждый образу человека, утверждали, усиливали события «искаженной» реальности (в сформированной реальности одни события как бы влекут за собой другие, а те, в свою очередь, укрепляют и поддерживают предыдущие события). В результате блокируется видение, отвечающее нормальной реальности, зато реализуется реальность «искаженная».
Теперь о том, почему в экспериментах с инвертоскопом зажженная свеча виделась нормально ориентированной в пространстве, в то время как погасшая — перевернутой (аналогично, почему перевертывался груз, взятый в руки и т. д.). Пока свеча не горела, визуальная реальность была одна, вполне отвечающая визуальным данным (ведь в жизни свеча на самом деле может быть перевернута «вверх ногами»). Однако, когда свеча была зажжена, актуализованная ранее визуальная реальность пришла в противоречие с нормальной визуальной реальностью, в которой пламя всегда ориентировано вверх, а не вниз (относительно схемы тела человека или расположения стен, потолка и пола комнаты). Далее работал тот же механизм блокировки более «слабой» визуальной реальности и актуализации нормальной реальности, хотя она только частично была подкреплена визуальными впечатлениями.
Несколько слов о том, как человек восстанавливает нормальную ориентацию в пространстве в экспериментах с многодневным ношением инвертоскопа. В начале эксперимента и поведение и восприятие испытуемых полностью дезорганизовано (без посторонней помощи испытуемые не могут даже ходить и есть), и понятно почему. Сталкиваются, борются между собой по меньшей мере три психические реальности (две визуальные и одна амодальная): искаженная 167
(перевернутая) картина видимого мира, нормальная картина мира, а также реальности внешнего мира и «Я-реальность» (восприятие самого себя, своего тела и т. д.). При этом возникают различные визуальные эффекты, наподобие рассмотренных выше. После нескольких дней эксперимента испытуемый научается ориентироваться в новом искаженном мире, т. е. он перестраивает свои ориентировочные действия, с одной стороны, удовлетворяя новым визуальным впечатлениям, с другой — соотнося эти действия со схемой своего тела и амодальной картиной мира. Но полностью испытуемые осваиваются в новом мире, перестают замечать его странности и правильно в нем ориентируются только после того, как им удается перекодировать, переосмыслить видимый, искаженный мир.
Вот один из подобных моментов, зафиксированных в эксперименте (четвертый день ношения инвертоскопа). Испытуемая сидит на низенькой кушетке напротив другой, стоящей у стены. «Вижу кушетку правильно, — говорит она. — То есть я вижу как будто на противоположной стороне от того места, где я сижу в действительности... Я как бы нахожусь немного повыше, так, как если бы я в поезде смотрела с верхней полки на нижнюю» [43. С. 249].
Другими словами, только после того, как испытуемой удалось особым образом переосмыслить видимую ситуацию (смотреть на предмет как бы с противоположной стороны, чем испытуемая смотрит на самом деле, и сверху, как бы с полки поезда), предметная ситуация стала видеться абсолютно нормально. Это говорит о том, что подобное переосмысление, поддержанное новой ориентацией в пространстве, вероятно, работает как механизм ввода искаженной реальности в нормальную, а также в «Я-реальность» и реальность внешнего мира. При таком переосмыслении искажений видимый мир перестает восприниматься как самостоятельная реальность; он функционально превращается в новый визуальный материал, обеспечивающий реализацию нормального видения.
168
Психологический механизм здесь следующий. Пока не сформировалась новая ориентация человека в искаженном мире, пока испытуемый не научился ходить, есть, брать предметы, не соотнес новые визуальные впечатления со старыми представлениями, его нормальные реальности не могли быть реализованы при поступлении искаженных инвер- тоскопом чувственных данных. Но, по мере формирования деятельности, позволяющей испытуемому ориентироваться в искаженном мире, деятельности, привычной в плане ранее сложившейся нормальной жизнедеятельности, старые реальности нормального видения начинают заявлять о себе (восстанавливающаяся деятельность предполагает реализацию именно нормальных реальностей). В то же время зрительные данные противоречат этим нормальным реальностям.
Взаимодействие этих зрительных данных с условиями опредмечивания действительности, которые задают нормальные визуальные реальности, в конце концов, разрешается в построении особой реальности, удовлетворяющей как искаженным зрительным данным, так и зрительным впечатлениям от нормальных реальностей. Таким образом и появляется «визуальный наблюдатель», созерцающий кушетку с противоположной стороны и сверху. Таков механизм превращения искаженной визуальной реальности в материал нормальной реальности. Но одновременно нормальное видение может быть задействовано и в старом визуальном материале (не искаженном инвертоскопом), это обнаруживается после окончания эксперимента. Испытуемый, снявший инверто- скоп, сразу видит обычный, неискаженный мир, ему не нужно снова учиться видеть мир правильно (подобно тому, как не нужно переучиваться на обычное видение после того, как мы долго смотрели на художественные картины).
Эволюция и природа визуального восприятия. Когда, например, Р. Арнхейм сводит эволюцию художественного видения к созреванию нервных и физиологических структур, подобное объяснение, в общем-то, понятно, поскольку мы имеем представление о том, что такое физиологические и 169
нервные структуры, хотя и не знаем пока точно в научном плане их работу и этапы созревания [8]. Однако я утверждаю и показываю в своей книге «Визуальная культура и восприятие», что эволюция художественного видения идет под влиянием прежде всего культурных изменений. Но что при этом эволюционирует, если не физиологические и нервные структуры, ведь видит человек все же глазами?
Да, я не отрицаю — человек видит глазами, но глаза не только и не столько физиология, сколько психика. Особенности и эволюция видения объясняются именно на уровне психики человека. Несколько усиливая в полемических целях тезис, можно даже сказать следующее: человек видит психикой (хотя и не без помощи физиологии зрения), эволюционирует именно психика и соответствующие визуальные структуры психики.
В свою очередь, психика эволюционирует вместе и «рука об руку» с эволюцией культуры. Поэтому, продолжая парадоксальные утверждения, можно сказать, что человек видит не только глазами и психикой, но и культурой. Культура, формируя психику человека, одновременно предопределяет основные структуры видения человека и зоны его ближайшего развития. Именно смена культуры приводит к смене видения.
Например, художественное видение, как я показываю в своей книге, предопределено культурной целостностью, характерным для культуры уровнем сознавания, наличными и различными в культуре объектами (сущностями). В каждой культуре, будь то примитивная культура или античная, средневековая или новая, очевидно, формируется специфическое художественное видение, не совпадающее с другими «культуровидениями», да и само искусство имеет смысл и назначение, характерные для данной культуры. Поэтому о развитии видения имеет смысл говорить лишь в рамках целостной культуры, «культурного цикла существования».
Действительно, переход от одной культуры к другой влечет за собой формирование нового художественного виде170
ния. Однако в рамках одной культуры наблюдается развитие тех или иных структур художественного видения. Так, например, в искусстве архаической культуры явно имело место развитие видения, формировавшегося на основе способа суммирования изображения из целостных видов и проекций (достаточно сравнить полные, откровенные развертки предмета по четырем и более проекциям с более поздними способами изображения, снимающими с предмета меньше самостоятельных видов и проекций, и, главное, иначе их объединяющими в целое) [60. С. 109—113]. В античном искусстве, в искусстве Возрождения и Нового времени развивалось видение, формировавшееся на основе другого способа — художественного моделирования предметов с помощью элементов, не являющихся самостоятельными видами; в частности, ряд исследователей (И. Данилова, Т. Знамеровская и др.) показали, как в искусстве XV—XVII вв. развивалось художественное видение и изображение пространства: сначала пространство представлялось в виде двух слоев, параллельных зрителю, где каждый слой подчинялся принципу прямой перспективы, затем количество слоев увеличилось, а условие параллельности их стало нарушаться, наконец, слои распались на отдельные зоны (предметы), а связи между ними трансформировались в пространственные отношения между отдельными предметами или их сторонами [60. С. 119—143].
Общий момент для обоих примеров, позволяющий говорить именно о развитии, — наличие в художественном видении целостной структуры (изображения и выражения), сохраняющейся неизменной, пока существует культура, и в то же время на каждом этапе непрерывно совершенствующейся. Я не случайно употребил здесь термин «совершенствование»: развитие состоит именно в том, что характерный для данной культуры способ изображения постепенно «избавляется» от других, чуждых ему моментов и приемов и ведет к такой организации визуального материала, формы и содержания, когда действие его было бы наиболее полным. Другими словами, уж если в живописи Возрождения победила своего 171
рода «естественно-научная» художественная позиция, то это с неизбежностью ведет к элиминированию моментов примитивного и религиозного видения, характерного для искусства Средних веков, и, кроме того, к поискам таких художественных средств и приемов, которые бы наиболее полно раскрывали принятые позиции и установки.
В этом смысле слова о развитии видения можно говорить лишь в рамках культурного цикла существования, при смене культур складывается новое видение. Но смена культуры, как правило, способствует эволюции видения. С этой точки зрения видение может не развиваться, а эволюционировать от одной эпохи к другой, от одной культурной целостности к другой. Противопоставляя эволюцию развитию, я связываю с эволюцией несколько моментов: заимствование в следующей культуре отдельных составляющих предшествующего видения или определяющих его способов изображения, «возвращение» в новой культуре к различным особенностям и структурам видения, имевшего место в других культурах и эпохах, частичное снятие и осознание в новой культуре видения предшествующих культур.
Действительно, каким бы революционным ни был переворот культур, как бы следующая культура ни отличалась от предыдущей, всегда какие-то образования из предшествующей культуры переходят в последующую. Другое дело, что, попав в новые условия существования, войдя в новую целостность, они начинают иначе жить и функционировать. Так, в античном искусстве из искусства древних народов были заимствованы способы изображения отдельных видов и раскраски, некоторые особенности визуального выражения и ряд других моментов; все эти моменты, однако, были переосмыслены и переплавлены в специфическом для античного искусства способе художественного моделирования.
Аналогично античный принцип и способ художественного моделирования, правда, в стертом и частичном виде был заимствован в искусстве Средних веков. Поскольку культура Средних веков повторяла также отдельные моменты разви172
тия примитивной и древней культур, постольку средневековое искусство вновь, но иначе переоткрыло ряд структур изображения и особенностей видения, имевших место в искусстве древних народов (синтез отдельных видов и проекций предмета, а также отдельные моменты художественной моделировки). Аналогично в искусстве Возрождения и Нового времени на новой основе были переоткрыты принципы и способы художественного моделирования явлений; при этом новое видение формировалось не просто путем отрицания предшествующего средневекового видения и заимствования античного, а в ходе их изучения (осознания), что и означало частичное их снятие [60].
В своей книге я показываю, что, помимо эволюции культуры, важным фактором, обусловливающим развитие художественного восприятия, является «техника художественной визуализации», в которую входят характерные для данной культуры способы построения изображения или выражения (суммирование проекций и видов, художественное и светотеневое моделирование, обратная и прямая перспектива и т. п.), а также средства, с помощью которых они создаются (контур, раскраска, линия, цветовое пятно, освещенное или затемненное место, фон, тон, масштабы, организация живописного пространства, пропорции, сокращение или трансформация целостного вида и т. п.). Принятая «техника художественной визуализации», подобно фильтру, выявляет для видения одни характеристики и моменты явления (предмета) и отсекает другие; поэтому она в значительной мере ответственна за видимую глазу форму и структуру предмета [60].
Но техника художественной визуализации связана не только с данной глазу формой явления, но и с его содержательными характеристиками и представлениями. Говоря о содержании искусства, нельзя обойти обсуждение знаковой функции и природы искусства. Хотя любое художественное произведение, художественная форма строятся в рамках существующей «техники художественной визуализации», по173
лученная «визуальная конструкция» является художественным изображением (визуальным выражением) лишь в той мере, в которой она обозначает определенные явления (предметы). С моей точки зрения, даже орнамент и абстрактная живопись не лишены функции обозначения, только их денотат (т. е. обозначаемый предмет) не может быть локализован среди обычных предметов природы, его определение, действительно, трудная проблема, однако не неразрешимая.
Если тот или иной визуально воспринимаемый материал: краски, линии, камень, бумага, пластмасса, светящиеся трубки и т. п. — не соотносятся сознанием с какими-нибудь значимыми для человека явлениями жизни и бытования, то они выступают как предметы среди других предметов, окружающих человека. Впрочем, как правило, подобная отстраненная точка зрения не характерна для человеческого сознания, в норме человек может осмыслить, понять и прочувствовать (пережить) явление, лишь сопоставив его с другими явлениями, уже освоенными сознанием и выраженными в той или иной мере в языке. Следовательно, «семиотизация» явления — процесс скорее естественный и автоматический (непосредственный), чем искусственный, требующий усилия и определенной установки сознания.
Другое дело, какой характер и направление принимает семиотизация визуально воспринимаемой формы — нужные художнику (обществу) или нет. К примеру, произведение абстрактной живописи может восприниматься определенным зрителем, скажем, как нечто отдаленно напоминающее клубок змей или игру света и теней в темных облаках, в то время как художник имел в виду совсем иное — чистую оркестровку цвета и линий, не связанную никакой образностью. Усилий, собственно говоря, требует не просто процесс семиоти- зации, а семиотизация, удовлетворяющая требованиям коммуникации: чтобы стать коммуникабельной, визуальная форма должна быть построена с учетом определенных соображений, например, знания аудитории, особенностей человеческого восприятия и мышления и т. п.
174
В отношении большинства других визуальных систем (скульптуры, архитектуры, визуализированной одежды и т. д.) можно сказать многое из того, что я утверждал относительно живописи [60]. Так, визуальные произведения в каждой системе создаются на основе специфической техники визуализации, выражают или изображают определенную группу культурных идей, осмысляются и понимаются в рамках определенной условности. Например, создание одежды предполагает знание способов «моделирования», учитывающего ведущие символы эпохи, иерархию сословий, положение в этой иерархии заказчика, его личный вкус, телосложение, силуэт фигуры, фактуру кожи, манеры поведения и т. п. Все эти требования необходимо удовлетворить, исходя из возможности визуального материала (ткани, меха, кожи, окраски, рисунка и т. п.), а также характерной для одежды реальности (то, с чем имеют дело закройщик и портной — виды одежды, элементы одежды, украшения, покрои, фасоны и т. п.). В каждую культурную эпоху одежда, как известно, несла определенную информацию, выражала определенные представления, символизировала ряд культурных идей. Так, она указывала на принадлежность человека к определенной культурной группе, на его имущественное положение, отношение к богу и культу, личные симпатии и антипатии, вкус и другие моменты. Все это легко воспринималось современниками, которые хорошо ориентировались в реальности и условности одежды.
Таким образом, большинство визуальных систем задают специфическое видение, каждому из которых можно приписать такие же сущностные характеристики, как и видению в живописи: каждое из этих видений точно так же, как и видение в живописи, было предопределено культурной целостностью и изменялось при смене культур. В целом же можно говорить, по меньшей мере, о трех видениях: «обыденном видении», которое складывается в опыте предметно-практической и отчасти познавательной деятельности, «частном видении», развивающемся на почве отдельных визуальных 175
систем, и «общем видении», складывающейся в ходе взаимодействия «частных видений» между собой и с обыденным видением.
Действительно, одни из рассмотренных мной сущностных признаков визуальных систем и видения — визуальный материал, техника визуализации, визуальная условность — явно специфичны для каждой визуальной системы и соответствующего ей частного видения, а другие — например культурная предопределенность, общие для всех частных и обыденного видений определенной культуры. Но не только это указывает на наличие в целостной культуре «общего видения», о том же свидетельствует взаимодействие визуальных систем и частных видений. Само это взаимодействие носит довольно сложный характер.
Во-первых, связь между визуальными системами и частными видениями осуществляется на уровне восприятия и сознания, где формируется реальность видения. Во-вторых, ряд визуальных систем влияют друг на друга, поскольку в определенных условиях восприятия и осмысления начинают переходить друг в друга (выступают как предельные случаи друг друга); такие визуальные системы можно называть «сопряженными». Например, круглая скульптура при определенных ограничениях (фиксированная точка зрения, далевой образ, наличие фона и т. д.), которые подробно анализирует Гильдебранд, может быть рассмотрена как частный случай барельефа, а барельеф — как частный случай рисунка. И это не просто теоретический прием, сведение; связь скульптуры, барельефа и рисунка, действительно, во все времена была достаточно глубокой: рисунок оказал влияние на развитие скульптуры так же, как скульптура — на рисунок.
Так, я показал, как плоскостной рисунок зверя времен неолита получился в результате обвода объемной фигуры зверя [60. С. 105—109]. Позднее (в Египте, атакже на острове Пасха) рисунок использовался для создания скульптуры. В свою очередь, развитие скульптуры оказало существенное влияние на 176
формирование живописи и рисунка в античном искусстве (появление ракурсов изображения лишь один из примеров плодотворного влияния на рисунок античной скульптуры). Этот процесс попеременного воздействия скульптуры и рисунка проходил в Средние века, в Возрождении и естественно продолжается до сих пор.
В общем виде во всех подобных случаях взаимодействие идет не только в плане восприятия (совпадения в определенных условиях образов), но также в плане построения визуальных произведений. Так, например, рисунок периодически выступает в качестве средств (плана, схемы, изображения) отдельных сторон (проекций) скульптуры или же схемы синтеза этих сторон. В свою очередь, скульптура часто выступает в качестве средства, обеспечивающего компановку и конфигурирование отдельных видов, или элементов живописного изображения.
Другой характер носит взаимодействие визуальных систем и частных видений в «синтетических» искусствах и визуальных системах, т. е. тех, где по определенным законам соединяются элементы разных визуальных систем и видений. Собственно говоря, большинство визуальных систем и частных видений являются синтетическими. Действительно, в примитивном, античном и средневековом искусстве скульптура раскрашивается или делается из материала разного цвета, архитектурные сооружения не только раскрашиваются, но и сопровождаются произведениями живописи (фреска, панно, мозаика и т. п.) и скульптурами. Одежда во все времена обладала не только определенной формой (покроем), но и специально окрашивалась и орнаментовалась (позднее, как известно, на одежде появился рисунок и живописное изображение).
Во всех подобных случаях элементы разных визуальных систем вступают в интенсивное взаимодействие — взаимно усиливают или ослабляют эффект друг друга, контрастируют друг с другом, создают впечатление противоречия, иногда полностью выключая тот или иной элемент, перерас177
пределяют центры восприятия и т. д. При этом, как правило, выявляется новое, общее для таких элементов содержание — границы, ритм, пропорции, распределения и группировки и т. п. Во всех подобных случаях элементы визуальных систем (принадлежат ли они к сходным реальностям или же являются сопряженными) функционируют не независимо друг от друга. Все указанные здесь моменты и ведут к общему видению той или иной культурной эпохи.
Нужно заметить, что противоречие между обыденным, частным и общим видением возникает только в теории, особенно при объяснении генезиса визуальных систем (например, искусства), сознание же отдельного человека свободно от таких противоречий. У человека нет обыденного, частного или общего видения, индивидуальное видение одно, целостное и неразложимое. Человеку не надо делать специальные усилия, чтобы перенести художественные впечатления в обыденную жизнь или, наоборот, использовать свой жизненный опыт при восприятии художественного произведения. Такой перенос происходит автоматически. Созерцание художественных произведений незаметно изменяет наше обыденное видение, точно так же, как визуально значимые принципы и идеи, показавшиеся нам привлекательными, оказывают воздействие на определенные стороны нашего видения. Соответственно мы непрерывно привлекаем опыт нашей обыденной жизни при осмыслении визуально значимых принципов и идей, а также восприятии художественных произведений. Противоречие между обыденным, частным и общим видением проявляется лишь в особые кризисные или революционные периоды культурного развития, в период критики произведений старой визуальной культуры или осмысления произведений новой визуальной культуры. В этих случаях люди занимают разные позиции относительно произведений новой и старой визуальных культур, выступая идеологами обыденного, частного или общего видения.
178
В формирование общего видения определенной культуры не все визуальные системы делают одинаковый вклад. В каждую культурную эпоху на первый план выдвигаются те или иные визуальные системы, являющиеся или наиболее массовыми, или наиболее четко и последовательно выражающими главные визуальные принципы данной эпохи. Так, например, в архаической культуре «ведущими» визуальными системами попеременно становились: наскальная живопись, татуировка, одежда и скульптура. В средневековой культуре это, безусловно, икона, церковные сооружения (храмы, соборы, церкви); в античной культуре — скульптура, архитектура и одежда; в эпоху Возрождения — произведения живописи, скульптура, архитектура. Конечно, вопрос о том, какую визуальную систему можно считать ведущей, довольно сложный, ведь и массовость, и четкость выражения главных визуальных принципов данной эпохи, с одной стороны, установить довольно трудно, а с другой — эти особенности даже в одной культурной эпохе часто переходят от одних визуальных систем к другим или проявляются сразу в нескольких системах.
В заключение вернемся к дилемме, заявленной в начале параграфа. Как мы старались показать, восприятие обусловлено процессом реализации не только личности, но и характерных для данной культуры «визуальных моделей» (визуальных схем, техник визуализации, языковых предметных представлений и пр.). Воспринимаемый предмет, конечно, детерминирует восприятие, но это не самая главная его характеристика.
4. Мышление
Традиционное понимание мышления и науки опирается на следующую известную гносеологическую схему: существует мир, а человек его познает, получая о мире знание. Когда Платон говорит, что подлинное знание может быть только о 179
мире идей, а Аристотель — что нет знания о том, чего не существует, они устанавливают именно этот взгляд на природу вещей, который Гуссерль считал «первородным грехом» традиционной философии и назвал «натуралистической позицией». Подобное понимание познания обосновывается и в антропологическом отношении. Например, в работе Аристотеля «О душе» мышление — как раз та способность человека, которая обслуживает философское и научное познание; у Канта возможность познания обеспечивает трансцендентальный субъект. «Синтетическое единство апперцепции, — пишет Кант, — есть высший пункт, с которым следует связывать все применение рассудка, даже всю логику и вслед за ней трансцендентальную философию; более того, эта способность и есть сам рассудок» [32. С. 193].
Однако сегодня становится очевидным, что познание — это не отображение существующего мира с помощью трас- цендентальной инстанции, а органический момент жизни культуры и личности. В рамках этой жизни как ее необходимое условие конституируются как мышление, так и представления о мире и других реальностях. Для пояснения можно обратиться к истории науки.
До античной культуры знания, как отмечалось в главе второй, создавались не в рассуждениях и обязательно проверялись в практике хозяйственной и социальной жизни.
Рассуждения появляются только в античной культуре, и этому, помимо прочего, способствовали два важных обстоятельства. Первое — формирование того, что условно можно назвать «античной личностью», второе — социального устройства, допускающего наряду с общественным также и личные убеждения. В древнем мире (архаической культуре и культуре древних царств) человек был достаточно основательно интегрирован в социальной системе, в принципе, никакой самостоятельности от него не требовалось, да и она не допускалась. В античной культуре, где мифологические и религиозные начала ослабевают, а государство имеет ограниченное влияние, впервые складывается самостоятельное по180
ведение человека^, как следствие, первая в истории человечества личность.
Выше также отмечалось, что рассуждения — это инструмент и способ согласования поведения индивидов при условии, что они стали личностями и поэтому видят и понимают все по-своему. Параллельно рассуждения вводят в оборот и определенные схемы и знания (утверждения о действительности), которые по своей социальной роли должны обладать свойством прагматической адекватности. То есть рассуждения должны выполнять три функции: давать знания, адекватно отображающие действительность (в качестве социальной реальности), обеспечивать реализацию личности как в отношении ее самой (персональная реальность), так в отношении других и социума (еще один аспект социальной реальности, который мы сегодня относим к коммуникации).
Но рассуждать можно было по-разному (различно понимать исходные и общие члены рассуждения, по-разному их связывать между собой), к тому же каждый старался сдвинуть представления других членов общества в направлении собственного видения действительности. В результате, вместо согласованного видения и поведения — множество разных представлений о действительности, а также парадоксы.
Мы говорим, что возникшее затруднение удалось преодолеть, согласившись с рядом идей, высказанных Сократом, Платоном и Аристотелем. Эти мыслители предложили, во-первых, подчинить рассуждения законам (правилам), которые бы сделали невозможными противоречия и другие затруднения в мысли (например, рассуждения по кругу, перенос знаний из одних областей в другие и др.), во-вторых, установить с помощью этих же правил контроль за процедурой построения мысли. Необходимым условием применения правил было создание категорий и понятий.
Параллельно с формированием правил, категорий, понятий и отдельных наук как необходимое условие этого про181
цесса складывается и психологическая сторона философско-научного мышления. Прежде всего формируется установка на выявление за видимыми явлениями того, что есть на самом деле, в другой интерпретации установка на выявление сущего или созерцание категорий — кирпичиков, из которых состоит подлинный мир. Проницательность, пишет Аристотель в «Аналитиках», есть способность быстро найти средний термин. Другая установка научного мышления — способность удивляться и изумляться полученному знанию или выясненной причине (началу). Это удивление и изумление как момент мудрости носило во многом сакральный характер. Открытие знания или причины было делом божественного разума и поэтому вызывало изумление. С этим же тесно связана способность искать доказательство и рассуждение, дающие знание или позволяющие уяснить причину. Поскольку для построения доказательства или рассуждения, как правило, необходимо построить цепочку связанных между собой рассуждений, формировалась также способность поиска правильного действия в сфере идеальных объектов и теоретических знаний, без опоры на эмпирические знания.
Важной способностью и ценностью становится и желание рассуждать правильно, следовать правилам истинного мышления, избегать противоречий, а если они возникали, — снять их. На основе перечисленных установок и связанных с ними переживаний, которые рассматривались как наслаждение («Если поэтому так хорошо, как нам — иногда, богу — всегда, то это — изумительно...»), а также самой деятельности мышления (получение в рассуждении и доказательстве новых знаний, уяснение причин, следование правилам мышления и т. д.) постепенно складывается античная наука. Ее характер определяется осознанием научного мышления (ума, разума, науки) как особого явления среди других. Один аспект такого осознания — построение оппозиций: мышление и чувственное восприятие, наука и искусство («техне»), 182
знание и мнение, софизмы и доказательства и т. д. Другой — непосредственная рефлексия мышления.
Наиболее обстоятельно о мышлении Аристотель говорит в книге «О душе». «Что касается мышления, — пишет Аристотель, — так как оно, по-видимому, есть отличное от чувственных восприятий и кажется, что, с одной стороны, ему свойственно воображение, с другой — составление суждений... мышление должно быть непричастно страданию, воспринимая формы и отождествляясь с ними потенциально, но не будучи ими, и подобно тому, как чувственная способность относится к чувственным качествам, так ум относится к предметам мысли. И поскольку ум мыслит обо всем, ему необходимо быть ни с чем не смешанным... Таким образом, природа ума заключается ни в чем ином, как только в возможности... Мышление о неделимом относится к той области, где не может быть лжи. А то, где встречается и ложь и истина, представляет собой соединение понятий... Ошибка заключается именно в сочетании... А соединяет эти отдельные [представления] в единство ум... Таким образом, душа представляет собой словно руку. Ведь рука есть орудие орудий, а ум — форма форм, ощущение же — форма чувственно воспринимаемых качеств» [7. С. 90, 94, 97—98, 102—103].
Что собой представляют эти характеристики мышления? Конечно, не эмпирически наблюдаемые особенности ума. Это своеобразное, как бы мы сегодня сказали, антропологически ориентированное осмысление и обоснование аристотелевского органона: например, фиксация независимости правил и категорий от мыслящего и конкретных суждений (поэтому мышление непричастно страданию) или деятельностной природы мышления (мышление соединяет представления и может выступать источником ошибок). Непротиворечиво описав мышление как важнейшую способность души, задав его как начало, Аристотель не только открыл научное обсуждение мышления как психологического феномена, но и создал возможность помыслить (схватить) мышление как логико-семиотический и социальный феномен. 183
Иначе говоря, рефлексия мышления возникает на пересечении аристотелевской логики и онтологии с антропологическим обоснованием последних. Мышлением не являются сами правила, категории или организиция начал, хотя это необходимая основа мышления. Точно так же ум как способность правильно рассуждать сам по себе, вне контекста правил, категорий и организации начал, тоже не мышление. Лишь взаимно проецируясь друг в друга, что и обеспечивается фигурой рефлексии мышления, эти две сферы образуют представление о мышлении.
По отношению к обычному непроясненному миру реальность, заданная в мышлении (научном знании) с помощью категорий, выступала как подлинный, ясный мир, выявленный в познании (науке) с помощью мышления. Вот здесь и началась история множественного истолкования действительности: каждый крупный философ, реализуя себя как личность и одновременно выполняя свое профессиональное назначение (нормировать и организовывать мышление), порождал индивидуальную персональную реальность, которую он воспринимал в качестве реальности как таковой, т. е. социальной реальности.
Осознание того, что мышление распалось на отдельные сферы и области, на взаимоисключающие способы истолкования действительности, как бы последние ни называть — логиками, или типами рациональности, произошло, конечно, не в конце XX в. Еще в начале Средних веков Татиан спрашивал: «Кроме того, как почитать тех, у кого величайшее разногласие во мнениях?» В Новое время сходную ситуацию Юм и Кант обсуждают как давно текущий скандал. Философы, писал Юм, «считают позором для всей науки то, что философия до сих пор еще не установила непререкаемых основ нравственности, мышления и критицизма и без конца толкует об истине и лжи, пороке и добродетели, красоте и безобразии, не будучи в состоянии указать источник данных различений» [82. С. 6].
184
Кант, очевидно, полностью согласен с Юмом, поскольку в «Критике чистого разума» пишет, что неоспоримые и неизбежные при догматическом методе противоречия разума с самим собой давно уже лишили авторитета всю существовавшую до сих пор метафизику; с какой стати, спрашивает он, разум, высшее судилище для всех споров, вынужден вступать в спор с самим собой [32. С. 618]. С той стати, ответили постмодернисты в XX в., что мышление — это не всеобщий разум, это не демиург, творящий и одновременно отображающий мир, не метанарративы, а языковые игры, локальные дискурсы, где каждый играющий как суверенная личность назначает и придумывает собственные правила.
Обратим внимание, что позиции и задачи Канта и постмодернистов различны. Первый ставит своей целью обосновать возможность научного мышления и создать новые нормы науки (задача, аналогичная аристотелевской); вторые — осуществить критику традиционного научного мышления и отстоять свободу мышления в контексте научной коммуникации. Другими словами, необходимо различать ситуации «функционирования», когда мышление работает как «машина», т. е. нормы мышления закрепляются, и с их позиции осмысляется новый материал и ситуации «становления» (критики традиционных форм и выдвижения новых идей). В первых ситуациях правы Аристотель и Кант, во второй, причем частично, постмодернисты.
Анализ показывает, что смена типов культуры (например, переход от античности к Средним векам и далее к Возрождению, а затем и к Новому времени) обусловливает не только смену машин мышления, но и формирование ситуаций становления мышления. Например, в Средние века задачи мышления кардинально изменились. Главным теперь становится не познание областей бытия и упорядочение рассуждений, что было характерно для античности, а критика на основе христианских представлений античных способов объяснения и понимания мира и человека, а также уяснение и объяснение новой реальности, зафиксированной в текстах 185
Священного писания. Обе эти задачи можно было решить только на основе мышления, поскольку формирующийся средневековый человек перенимает от античности привычку рассуждать и мыслить, а также потому, что новая реальность хотя и выглядела привлекательной и желанной, но одновременно была достаточно непонятна. Что собой представлял Бог, как он мог из ничего создать мир и человека, почему он одновременно Святой Дух, Отец и Сын, как Бог воплотился в человека Христа и что собой Христос являл — Бога, человека или их симбиоз, как понимать, что Христос воскрес, — эти и другие сходные проблемы требовали своего разрешения именно в сфере мысли. Чтобы создать новую машину мышления и вообще осуществлять индивидуальную и социальную жизнь, средневековые мыслители, начиная от отцов церкви и философов, размышляют подобно Августину, Боэцию, Абеляру, создавая мыслительное пространство и поле, в котором только и может разворачиваться средневековая жизнь (неверующие приходят к Богу, начинают действовать в соответствии с требованиями христианства, готовятся к Страшному суду и встрече с Творцом и пр.).
Переход к средним векам знаменует собой также переструктурирование коммуникаций и самостоятельного поведения: человек ориентируется теперь не только и не столько на себя, но не меньше — на другого человека, бескорыстную помощь (любовь к ближнему), а также на целое (общину, государство, Град Божий). Этическая нагруженность (например, та же идея христианской любви) и двуосмысленность средневековой мысли как раз и обеспечивают этот новый тип коммуникации и личности. Аналогично и в последующих культурах: меняются личность, коммуникация, мышление.
Действительно, в новое время потребовалась естественно-научная и инженерная мысль, чтобы передать власть новоевропейской личности, основывающей свои действия и жизнь на вере в законы первой природы. Потребовалась гуманитарная мысль, чтобы дать слово личности, по Бахтину 186
(«Рядом с самосознанием героя, вобравшем в себя весь предметный мир, в той же плоскости может быть лишь другое сознание» [12. С. 83].) Необходима была социально-психологическая мысль, чтобы создать условия для личности и коммуникации, по Шебутани, основанных на идее согласованного поведения и экспектациях (когда все основные структуры личности — «Я-образы», ценнности, мотивация и прочее — формируются в ответ на требования и ожидания других). Наконец, постмодернистская мысль и деконструкция, чтобы возвести вокруг личности стену до небес, а также блокировать претензии других на власть.
Сегодня формируются новая коммуникация и личность: помимо задач приведения другого к себе и самовыражения, все более настоятельны требования приведения себя к другому (встречи-события), а также ориентация самостоятельного поведения человека на других, сохранение природы, культурного разнообразия, безопасное развитие человечества. Существенно меняется структура мысли, когда формулируются и начинают осуществляться новые «социальные проекты». Одним из первых социальных проектов можно считать задачу Аристотеля и его школы: нормировать рассуждения и доказательства и затем заново, опираясь на построенные нормы, получить знания об отдельных областях бытия (решение этой задачи вылилось в построение первых наук). Второй проект — перестройка античного органона и мировоззрения на основе текстов Священного писания. Третий, относящийся к XVI—XVII вв., не менее грандиозный — овладение силами природы, создание новых наук о природе и новой практики (инженерной). Четвертый, складывающийся уже в настоящее время, — перевод цивилизации на путь контролируемого и безопасного развития. Сакраментальный вопрос: удастся ли этот проект реализовать без прохождения «точки Конца Света»?
Распад существующей культуры или становление новой создают широкое поле для становления мышления. Как правило, в этот период необходима критика традиционных
187
способов мышления и представлений и формирование новых подходов. Например, современные исследования все больше подводят нас к пониманию, что картина, в которой человек и мир разделены, неверна. Сегодня мир — это созданные нами технологии, сети, города, искусственная среда, которые в свою очередь создают нас самих. Говоря о работе человека над собой, мы имеем в виду одновременно и работу, направленную на изменение нашей деятельности и жизни, что невозможно без изменения культуры и социума как таковых.
Другая современная ситуация, требующая критической рефлексии, — неразличение персональной и социальной реальности, а также знаний в функции продуктов и средств мышления и как задающих реальность. Гипертрофированное и эгоцентрическое развитие современной личности и понимание реальности как существующей безотносительно к культуре деятельности и познанию, обусловливают толкование персональной реальности в качестве социальной. Дальше, поскольку персональных реальностей столько, сколько мыслящих личностей, социальную реальность приходится редуцировать к языковым играм и локальным (персональным) дискурсам.
Подведем итог. Мышление как момент жизни культуры и личности может быть охарактеризовано следующим образом:
— Это одновременно способ познания действительности, обеспечивающий становление и функционирование культуры (здесь создаются общезначимые знания, схемы, теории), и необходимое условие реализации личности, разрешающей в коммуникации несовпадение общепринятых и собственных представлений о мире и о себе. В первом случае познание — это освоение действительности в рамках существующих картин мира (что мы отнесли к социальной реальности), во втором — прежде всего, реализация личности (соответственно отнесли к персональной реальности).
— Мышление — такой способ приведения в движение (смены, изменения) представлений о действительности, ко- 188
торый, помимо знаний о действительности и реализации личности, выступает условием согласованного социального поведения. Вырожденный случай — распадение этого единства на три сферы: мышление в чисто утилитарной функции (например, прикладные и технические науки), мышление как чистую реализацию личности и мышление как коммуникацию. Если прагматическая концепция мышления имеет в виду первый случай, то постмодернистская — второй и частично третий, т. е. мышление рассматривается как феномен культуры общения и необходимое условие реализации современной личности.
— Мыслительная активность становится мышлением только в том случае, если эта активность нормирована (мышление как «рефлексированная рациональность», как «типы рациональности»), задает самостоятельную реальность (второй, идеальный и конструктивный мир относительно обычного). Именно эта реальность является тем миром, в котором реализуется мыслящая личность и разворачивается жизнь культуры, начиная с античности. Нормирование мышления обеспечивает возможность, с одной стороны, строить знания без противоречий и других затруднений, с другой — получать знания, которым можно приписать свойство прагматической адекватности.
— Необходимым условием реализации самого мышления является приписывание действительности определенного строения. Так рождаются картины мира и представления личности о себе (антропологические представления). В рамках этих картин и представлений осуществляется познание действительности и самопознание. Особенностью традиционного понимания действительности является неразличение трех указанных функций мышления (в отношении социальной и персональной реальности, а также коммуникации) и примат его социальной роли. Постмодернистская идеология, напротив, настаивает на приоритете личности и персональной реальности.
189
— В ситуациях становления новой культуры или решения социальных задач, а также ситуациях становления и кризиса личности мышление — это новый опыт жизни, хозяйственный, религиозный, эзотерический, при этом мышление перестраивается. В ситуациях функционирования культуры и личности мышление работает как машина.
— Кризис современной жизни (глобальные проблемы, гипертрофированное развитие личности, обособление отдельных сторон самого мышления и пр.) обусловливает необходимость современного этапа конституирования мышления.
Сюда входит, во-первых, переориентация мышления на решение нового социального проекта — сохранение жизни на земле, безопасное развитие, поддержание природного, культурного и личностного разнообразия (многообразия) и сотрудничества, способствование становлению новой цивилизации, в рамках которой складываются метакультуры, новая нравственность, новые формы жизни и мышления.
Во-вторых, восстановление равновесия между социальным и личностным планами мышления. В свою очередь, это предполагает ограничение своеволия современного человека, принятие им новых уровней ответственности, более решительный поворот к нуждам общества.
В-третьих, сюда же относится работа по созданию новых норм мышления', не только образцов, правил, категорий, но и методологии. Именно методология позволяет, с одной стороны, направить и конституировать мысль, с другой — обеспечить ее разнообразие.
Конкуренция разных норм мышления и разных систем мышления не только допустима, но, вероятно, является необходимым условием становления эффективной современной цивилизации. Иное дело, картины мира и другие институции, обеспечивающие ее выживание и дальнейшее развитие. Они должны быть согласованными, образуя единый социальный организм. Но мышление — это всего лишь одна из подсистем социума, к тому же часто на личностном уровне 190
обособляющаяся в самостоятельную идеальную реальность. При таком обособлении, а также в качестве условия реализации отдельной личности, если, правда, не обращать внимание на последствия ее жизни для культуры, идеология постмодернизма сохраняет свое значение.
Но она перестает работать, если речь идет о становлении новой социальной реальности. В последнем случае конституирование мышления предполагает не только формирование новых типов коммуникации, включающих рефлексию самого мышления, а также поиск коммуникационного консенсуса (приемлемых для многих представлений действительности), но и такую организацию социальной жизни и дела, которые объективно будут объединять людей, делая их зависимыми друг от друга. Вряд ли без этих усилий по организации совместной жизни нашу цивилизацию ожидает оптимистическая перспектива.
Глава четвертая
Духовно-телесные стороны жизни человека
1. Любовь
Характеризуя любовь как межличностное отношение, Е. Н. Шапинская выделяет «следующие две ее основные характеристики:
1. Любовь изначально присуща человеку как биологический атрибут.
2. Человеческая любовь имеет социальную природу» [78. С. 28].
К указанным двум характеристикам добавим третью:
3. Любовь — неотъемлемая характеристика личности, личностного поведения и предполагает принятие (и следование) личностной концепции любви. Раскроем теперь эти три плана любви, в целом задающих ее диспозитив. При этом будем иметь в виду, что каждый план любви — биологический, социальный и личностный — характеризуется относительно других, в чистом виде соответствующие формы любви (биологическая, социальная или личностная) практически не наблюдаются, однако их можно мыслить, осуществляя специальные реконструкции.
Анализируя становление любви в архаической культуре, можно понять, какие особенности биологического поведения человека выступили в качестве одной из предпосылок любви — биологической. В Австралии исследователи еще застали племена, в которых интимные отношения почти не связывались аборигенами с социальными; для них половые отношения понимались скорее как насыщение, напоминающее процесс еды. Половое влечение (притяжение), половое общение (ритуалы ухаживания и пр.), соитие, возникнове192
ние через определенный промежуток времени нового влечения — вот основные элементы биологического плана любви, еще не преображенного социальными и личностными отношениями. Подчеркиваем, в чистом виде такого поведения у человека (в отличие от животного) мы наблюдать не можем, это теоретическая конструкция.
Маргарет Мид описывает два типа социальных отношений, так сказать, мало благоприятных для зарождения любви: когда отношения между супругами в семье антагонистические (они в прямом смысле боятся друг друга) и, наоборот, предельно родственные, как в племени арапешей, где будущий муж воспитывает свою будущую супругу в собственной семье; в результате между ними складываются теплые родственные отношения, но не возникает дистанция и напряжение, столь необходимые для возникновения любви [49]. Но именно в архаической культуре складывается такая социальная организация (деление племени на фратрии и правила заключения брака), которая создает нужную дистанцию полов и напряжение между ними, способствующие зарождению любви.
На основе представлений о взаимоотношениях душ и духов с человеком, задающих картину мира архаического человека, последний осмыслял интимные и брачные отношения. Например, он понимал их как охоту, позволяющую жениху-охотнику перегонять души умерших предков в тела матери и будущего ребенка. Важно, что подобное осмысление брачных отношений, обусловленное вовсе не биологическими потребностями человека, а представлениями о душе, т. е. семиотическим изобретением, решительно повлияло на понимание и практику этих отношений. Брачные отношения теперь истолковываются не только и не столько как удовлетворение полового чувства или средство деторождения, но главным образом как общение с душами и единственный способ воспроизводства рода. Поэтому, кстати, во многих племенах первые брачные отношения поручаются не жениху, а шаману как специалисту по общению с душами, а девушки в период менструации рассматриваются как опасные 193
для племени и изолируются (ведь кровь означает врага, а девушка еще не живет с мужчиной, следовательно, она вступила в отношение с чужим, опасным духом). Другой яркий пример, приводимый Μ. Мид — брачные отношения в семье арапе- шей: поскольку родители считают, что ребенок образуется из семени отца и крови матери, то до беременности матери супруги стараются совершить как можно больше актов соития, но затем полностью прекращают половые сношения.
Понимание брачных отношений как охоты или, как у арапешей, поручение первых отношений шаману, изоляция девушек в период менструации — не биологические потребности человека, а «жизнь архаической культуры», реализация ее смыслов, но осуществляемые посредством человека в механизме становления так называемых «производных» потребностей. Иначе говоря, производные, т. е. социальные, потребности складываются под прямым воздействием культуры. При этом социальные отношения (план) решительно трансформируют биологический план, не только обеспечивая его (создавая необходимые условия для полового влечения, общения и соития), но и подчиняют его себе. В отличие от полового влечения, общения и соития, любовь как социальный, точнее, социокультурный феномен — это влечение (влюбленность), общение и соединение, совместная жизнь, опосредованные культурными сценариями (дискурсами), например, понимаемые как связь с другими фратриями, как способ воспроизводства рода, как сакральная охота, как контакт с душами. Биологический план при этом не исчезает, а претворяется, преображается; он обеспечивает социальный план, не «забывая», так сказать, и самого себя. Теперь половое влечение, общение и соитие полностью осуществляются в лоне социальных и культурных отношений. И не всегда здесь имеет место гармония. Например, поручение первых брачных отношений шаману или полное прекращение сношений супругов у арапешей противоречат «логике» биологических отношений, но совершенно необходимы в плане социального архаического понимания любви.
194
Тонкий анализ соотношения указанных двух планов любви, осознаваемых как «кама» и «шрингара», на материале средневековой индийской культуры дает Е. Шапинская. «Таким образом, — пишет она, — философско-эстетический дискурс любви выстраивает иерархию любовных переживаний и отношений, где высшее место отводится трансцендентальному чувству слияния с божественным, которое манифестируется в эстетическом переживании «шрингара». Чувственная любовь «кама», которой отводится вполне значительное место в человеческой жизни, характеризуется темпораль- ностью... Сама разведенность понятий «шрингара» и «кама», с одной стороны, снимает оппозицию между «идеальной» и «плотской» любовью, т. к. помещает их в разные сферы человеческого опыта, с другой — в соответствии с традиционным пониманием жизни как инстанции в цепи перерождений постоянно напоминает о превосходстве духовного опыта. Понятие «кама» не исключается из «шрингара», поскольку само эстетическое переживание возможно лишь через сферу чувственного. Сама семантика слова «кама», в широком смысле означающего все удовольствия и наслаждения, которые человек может испытывать при помощи органов чувств, указывает на принадлежность любви к сфере чувственности» [78. С. 216—217]. Анализируя несколькими страницами дальше структуру классического древнеиндийского трактата «Кама сутра», Шапинская делает вывод, что в то время сексуальная жизнь была «теснейшим образом связана со всей матрицей социальных отношений, в которую вписывается жизнь индивида в соответствии с его кастовым, возрастным, имущественным статусом»; любовь, «будучи связанной практически со всеми аспектами жизнедеятельности, занимала полноправное место в социокультурной жизни и подвергалась регуляции со стороны государства, как и экономика, законодательство и другие стороны жизни»; «вопреки расхожему мнению, индийские трактаты об искусстве любви являются не столько восхвалением плосткого наслаждения и сексуального удовлетворения, сколько способом интегра195
ции этих присущих человеку стремлений в социальную структуру» [78. С. 228, 229, 231].
С формированием, начиная с античности, личности, т. е. человека, переходящего к самостоятельному поведению и создающего поэтому индивидуальные представления о мире и самом себе (вспомним Сократа и Платона), возникает необходимость в третьем плане любви. Здесь вырабатываются первые личностные концепции любви (любовь как страсть и дело богов, платоническая любовь, одухотворенная любовь в семье и браке и др.), которые ставятся в связь с социальными представлениями о любви. Например, в своих исследованиях мы реконструировали первую личностную концепцию любви, разработанную Платоном в «Пире». Концепция любви, понимаемой как стремление к целостности личности, как поиск своей половины, как вынашивание духовных плодов, как стремление к благу, красоте и бессмертию, не только подготавливает новые формы социальных отношений, в которых большую роль будет играть античная личность, но и позволяет реализоваться эзотерической личности самого Платона. Затем в истории европейской культуры были созданы другие личностные концепции любви — родственная любовь в браке (для личности типа Плутарха), любовь к Богу (для такой личности, как Августин), куртуазная любовь (для личностей типа Абеляра и Элоизы), любовь как ничем не сдерживаемые страсть и наслаждение (от Гая Калигулы к маркизу де Саду и дальше), любовь как моральное занятие (Кант и Фихте), романтическая любовь, американский вариант любви (Т. Драйзер), любовь-секс, и этими примерами ряд не заканчивается [65].
Личностная концепция любви должна в какой-то мере соотноситься с социальными представлениями о любви, в противном случае личность не сможет не только любить, но и жить в обществе. Но все же главная функция личностной концепции — создать условия для реализации идеалов и ценностей в области любви самого человека как личности. Понятно поэтому, что, если человек кардинально меняется (именно как личность, а не вообще), он должен вырабаты196
вать и новую концепцию любви. Ясно также, что личностная концепция любви входит (должна входить) в общую концепцию человека как личности.
И опять же становление личностного плана не отменяет два других. Человек любит и как личность, и как социальный индивид, причем в общем случае в плане биологического субстрата необходимо половое влечение, общение и соитие. Другое дело, что в культуре складываются формы любовного поведения, которые можно назвать «усеченными». К ним, например, относится однополая любовь, любовь к Богу, предполагающая безбрачие и девственность, любовь к родителям или авторитетному лицу и пр. В данном случае любовное поведение на биологическом плане так трансформируется, чтобы удовлетворить требованиям двух других планов, что существенно расходится с природным прототипом. Впрочем, человек вообще — существо предельно искусственное. Что в любви является границей и нормой, а что патологией — можно решить только на уровне культуры и социума, а не отдельного человека. Правда, личность, претендуя на социальную автономию, часто решает эти вопросы самостоятельно. Но социум (общество) в праве игнорировать эти решения. По сути, конкретное решение этого вопроса выстраивается в ходе непростых взаимоотношений и диалога общества и личности.
2. Анализ романа Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого»
Продумывая художественное изображение любви в современной литературе, я остановился на романе Улицкой [69], и не потому, что в данном случае мои впечатления от «Казуса Кукоцкого» совпали с решением комитета по присуждению Букеровской премии. Читая роман, я остро переживал любовь главных героев — известного врача и ученого Павла Алексеевича Кукоцкого и его супруги Елены. Я постоянно ловил себя на мысли, что отношение Кукоцкого к своей жене мне очень близко, хотя я сам приходил к подобному пониманию любви с большим трудом. Безусловно, ότι 97
ношения Кукоцкого и Елены могут быть охарактеризованы как романтическая любовь. Их любовь начинается бурно, с высокого чувства и страсти и основывается не только на уважении супругов друг к другу, на признании их личности, но также идеализации и возвышении. Однако это не просто романтическая любовь, как ее понимали в XIX в. — противоположная браку, это любовь в семье и любовь родственная. Супруги Кукоцкие осознают друг друга как родственные и родные души («душа моей души», «единственная предназначавшаяся ему женщина»).
Уже самая первая встреча Павла Алексеевича со своей будущей женой, которую он спасает от смерти на операционном столе, поражает его осознанием чувства родственности к совершенно ему незнакомой молодой женщине.
«Он видел — и никто бы не мог понять этого, никому не смог бы он объяснить этого странного ощущения — совершенно родное тело. Даже затемнение у верхушки правого легкого, след перенесенного в детстве туберкулеза, казалось ему милым и знакомым... Посмотреть на лицо этой молодой и столь прекрасно устроенной изнутри женщины было как-то неловко, но он все-таки бросил быстрый взгляд поверх белой простыни, покрывающей ее до подбородка».
Симптоматично, что Кукоцкий сначала увидел красоту не лица, а родного тела. Потом оказалось, что Елена прекрасна и внешне. Но романтическая любовь предполагает не только переживание прекрасного лица и тела своего любимого (любимой), но и возвышение, идеализацию, жертву, тайну, требующую раскрытия, и никогда до конца не раскрываемую.
«Павлу Алексеевичу исполнилось сорок три года. Елене было двадцать восемь. Она была первой и единственной женщиной в его жизни, которая не отгоняла его дара (ясновидения, Кукоцкий обладал удивительной способностью видеть своих больных изнутри, все их органы и болезни. — В. Р.). После того, как она впервые провела ночь в его комнате, он, проснувшись в предутренней тьме, со щекотной косой, рассыпанной по его предплечью, сказал себе: «И хватит! Пусть я никогда не 198
увижу ничего сверх того, что видят все другие врачи. Я не хочу ее отпускать...» (жертва? — В. Р.').
Дар его, хоть и был женоненавистником, для Елены, как ни странно, сделал исключение. Во всяком случае Павел Алексеевич видел, как прежде, цветовое мерцание, скрытую жизнь внутри тел».
В своем дневнике Елена пишет дочери:
«Влюбилась я в ПА (Павла Алексеевича. — В. Р.) даже не с первого взгляда, а так, как будто я его любила еще до своего рождения, и только вспомнила заново старую любовь (как у Платона, до рождения души на свет? — В. Р.). Антона же забыла, как будто он был просто сосед, или одноклассник, или сослуживец. Даже не родственник. А прожила с ним ни много ни мало — пять лет. Отец моей единственной дочери. Твой отец, Танечка. Ничего не вижу в тебе ни от Антона, ни от его породы. Ты действительно похожа на ПА...
Вообще, я уверена, что ПА для Тани значит больше, чем я. Так ведь и для меня он тоже значит больше, чем я сама. Даже теперь, когда все между нами так безнадежно испорчено, надо по справедливости признать, что человека благородней, умней, добрей я не встречала».
Но и Елена обладала особым даром — будучи прекрасной чертежницей, она видела «чертежную» сущность вещей. Павел Алексеевич любил выспрашивать Елену по поводу смысла ее работы, противопоставляя «искусственному» «естественное». Однако даже в этом споре проявлялась высокая любовь.
«Павел Алексеевич ловил эту минуту, когда менялось ее обыкновенно кроткое выражение...
— Я имею в виду, что там все механическое, никакой тайны нет, — он выставлял перед ней указательный палец. — Водном человеческом пальце больше тайны, чем во всех ваших чертежах.
Она забирала в горсть его палец:
— Может, это только в твоем пальце есть какая-то тайна. А в других нет. Может, в чертежах не тайна, а правда содержится. Самая необходимая правда. Ну пусть не вся, а 199
часть. Одна десятая или одна тысячная. Вообще-то я знаю, что у каждой вещи есть и другое содержание, не чертежное... Я сказать не умею, — и она отпускала его руку.
— Уже до тебя сказали, — усмехался Павел Алексеевич. — Платон сказал. Называется эйдос. Идея вещи. Ее божественное содержание. Божественный шаблон, по которому все наши земные изделия отливают...
Павел Алексеевич смотрел на нее с горделивой нежностью: вот какая у него жена — тихая, молчаливая, говорит только по необходимости, но если уж принудить ее высказываться, суждения ее умны и тонки, и глубокое понимание...
Елене иногда хотелось бы высказать мужу свои соображения о «чертежности» мира, о снах, которые снились ей время от времени — с чертежами всего на свете: слов, болезней, даже музыки...Но нет, нет, описать это невозможно...
Два тайновидца жили рядом. Ему была прозрачна живая материя, ей открывалась отчасти прозрачность какого-то иного, не материального мира. Но друг от друга они скрывались не от недоверия, а из целомудрия и оградительного запрета, который лежит, вероятно, на всяком тайном знании, вне зависимости от того, каким образом оно получено».
Зрелая романтическая любовь предполагает и понимание личности любимого супруга (любимой жены). Кукоцкие прекрасно понимали друг друга. Зарабатывая по меркам того времени большие деньги (как врач и большой ученый), Павел Алексеевич помогал всем, кого они с женой намечали. Делали это они единодушно и естественно, как один человек.
И вдруг, прожив счастливо десять лет, буквально в один день, Кукоцкие перестают не только понимать друг друга, но и любить, во всяком случае интимные отношения после этого дня прекращаются, и попытки Павла Алексеевича восстановить брак ничего не дают.
«Счастливый период их брака окончился. Теперь остался просто брак, каку всех, и даже, может быть, лучше, чему других. Ведь многие живут кое-как, изо дня в день, из года в год, не зная ни радости, ни счастья, а лишь одну механическую привычку».
200
Спрашивается, почему, при такой-то любви? Улицкая выстраивает следующую сюжетную линию. Елена воспитывалась отцом в толстовской коммуне, где и усвоила принципы ненасилия и благоговения перед любыми формами жизни. Павел же Алексеевич по роду своих занятий боролся за разрешение абортов, запрещенных в те годы законом. В тот злополучный день Павел Алексеевич не смог спасти от смерти Лизавету Полосухину, мать одной из подруг его дочери Тани, она умерла в результате кровотечения, вызванного подпольным абортом. Между супругами состоялся такой разговор:
«— Теперь ты понимаешь, почему я столько лет трачу на это разрешение?
— На какое ? — переспросила рассеянно Елена, погруженная в свои мысли. Дети Полосухины не давали ей покоя.
— На разрешение абортов...
— Ужасно, ужасно, — опустила голову на руки Елена.
— Что ужасно ?—раздражился Павел Алексеевич.
— Да все ужасно. И что Лизавета эта умерла. И то, что ты говоришь. Нет, нет, никогда с этим не могу согласиться. Разрешенное детоубийство. Это преступление хуже убийства взрослого человека. Беззащитное, маленькое... Как же можно такое узаконивать ?
— Ну, конечно, пошло толстовство, вегетарианство и трезвость...
Она неожиданно обиделась за толстовство:
— Да при чем тут вегетарианство? Толстой не это имел в виду. Там в Танечкиной комнате три таких существа спят (дети Полосухиной. — В.Р.). Если бы аборты были разрешены, их тоже бы убили. Они Лизавете не оченъ-то нужны были.
— Ты что, слабоумная, Лена ? Может, их бы и не было на свете. Не было бы теперь трех несчастных сирот, обреченных на нищету, голод и тюрьму...
— Не знаю. Я только знаю, что убивать их нельзя, — впервые слова мужа вызывали в ней чувство несогласия, а сам он — протест и раздражение.
201
— Ты подумай о женщинах! — прикрикнул Павел Алексеевич.
—А почему надо о них думать ? Они преступницы, собственных детей убивают, — поджала губы Елена.
Лицо Павла Алексеевича окаменело, и Елена поняла, почему его так боятся подчиненные. Таким она его никогда не видела.
— У тебя нет права голоса. У тебя нет этого органа. Ты не женщина. Раз ты не можешь забеременеть, не смеешь судить, — хмуро сказал он (дело в том, что, спасая в свое время, десять лет тому назад, жизнь Елены, Павел Алексеевич удалил ей матку, и она, действительно, больше не могла рожать. — В. Р.).
Все семейное счастье, легкое, ненатужное, их избранность и близость, безграничное доверие — все рухнуло в один миг. Но он, кажется, не понял».
В дневнике Елена пишет по поводу ПА и того дня сходное.
«И никто на божьем свете не сможет мне объяснить, почему лучший из всех людей служил столько лет самому последнему злу, которое только существует на свете. И как в нем это совмещается ? Все предчувствовала, все знала моя душа — еще в эвакуации, когда он Ромашкиных котят унес. Теперь уж верю всему. Ведь смог же он одной фразой перечеркнуть всю любовь, все наши счастливые десять лет. Все уничтожил. И меня уничтожил. Жестокость ? Не понимаю».
Обсуждая со своей женой эту историю, я говорил, что не понимаю Елены. Мне казалось, что поступок Елены, разорвавшей их счастливый брак, не аргументирован. Да мало ли кто когда в сердцах что скажет. Настоящая любовь выдержит и не такие испытания, тем более ведь Павел Алексеевич продолжал любить свою жену и, несмотря на ее болезнь (полная амнезия), беззаветно служил ей до самого своего конца.
Но потом, поразмыслив, я понял, почему Улицкая так драматично повернула события. Вероятно, нельзя быть счастливыми, когда вокруг все несчастны, если сажают твоих лучших друзей и коллег (это были годы сталинских репрессий), когда сама Елена, встретив Павла Алексеевича, мгновенно забывает своего первого мужа, пропавшего на войне. 202
Да и разное видение проблем «жизни и смерти», например, отношение к тем же абортам, со счетов не скинешь. Наконец, если любовь умерла, то не нужно ломать голову — выдержит ли романтическая любовь старость и болезни супругов. Не последнюю роль сыграло и то обстоятельство, что, как подчеркивает Улицкая, Кукоцкие, особенно Елена, не умели обсуждать свою личную жизнь и коллизии.
«Оба страдали, хотели бы объясниться, но повиниться было не в чем — каждый чувствовал себя правым и несправедливо обиженным. Объяснение между ними были не приняты, да и обсуждать интимные стороны жизни они не умели и не хотели. Отчуждение только возрастало».
Не сумев быть счастливыми на фоне неустройства социальной жизни и разрешить личные проблемы и обиды, Кукоцкие укрываются: один — в безумии и амнезии (Елена), другой — в алкоголе (Павел Алексеевич). Заметим, что оба поступка вполне вписываются в российскую традицию.
Кажется, что еще можно сказать осемейной жизни Ку- коцких. Но, оказывается, главное только начинается: их взаимоотношения и любовь продолжаются и достигают кульминации в другом, эзотерическом, мире. Интересно, что эзотерическая часть встроена в середину романа, после нее с Ку- коцкими происходят еще много событий в обычном мире, но главные относятся к жизни их дочери, Тани. Тем самым Улицкая намекает читателям, что эзотерический мир — это не какой-то там другой, изолированный от обычного мира, а мир, проходящий через нас «здесь и сейчас», только чтобы понимать, что наша жизнь разворачивается и там, нужно быть внимательным к своей духовной жизни.
Эзотерический мир, в который попадает Елена, изо всех сил пытающаяся вспомнить себя, — это мир духовной работы, помощи, сочувствия, мир испытаний, мир, где сначала не узнаваемый Павел Алексеевич, подобно Моисею, ведет через странную пустыню таких же, как Елена, мир, в котором возвращается ее память, постепенно приходит понимание, совершается преображение. Преображение духовное и 203
в любви. Преображение всех телесных органов, и слияние любимых в одно телесно-духовное существо.
«Свет двух прожекторов — воскресшего во всех деталях прошлого и совершенного утра освещал это мгновение. Долгая мука неразрешимых вопросов — где я ? Кто я ? Зачем ? — окончилась в одно мгновение. Это она, Елена Георгиевна Кукоцкая, но совсем новая, да, новенькая, но теперь ей хотелось собрать воедино все то, что она знала когда-то, забыла, то, чего никогда не знала, но как будто вспомнила.
Она сделала несколько шагов по траве и удивилась богатству впечатлений, полученных через прикосновение голой стопы к земле: чувствовала каждую травинку, взаимное расположение стеблей, и даже влагалищные соединения узких листьев. Как будто слепая прозрела. Нечто подобное происходило со зрением, слухом, обонянием...
— Елена, — услышала она свое родное имя и обернулась. Перед ней стоял ее муж Павел — не старый и не молодой, а ровно такой, с каким она познакомилась — сорокатрехлетний.
— Пашенька, наконец-то — она уткнулась лицом в самое родной место, где сходятся ключицы.
Он ощущал, как очертания ее влажного худого тела точнейшим образом соответствуют пробитой в нем самом бреши, как затягивается пожизненная рана, которую нес он в себе от рождения, мучился и страдал тоской и неудовлетворенностью, даже не догадываясь, в какой дыре они гнездились.
Елене же, всему ее существу, того только и хотелось, чтобы укрыться в нем целиком, уйти в него навсегда, отдав ему и свою ущербную память, и бледное, ни в чем не уверенное «Я», блуждающее в расщепленных снах и постоянно теряющее свои неопределенные границы.
Это не он по-супружески входил в нее, заполняя узкий, никуда не ведущий проем, входила она и заполняла полое ядро, неизвестную ему самому сердцевину, которую он неожиданно в себе обнаружил.
—Душа моей души, — шепнул он в мокрые завитки над ухом и крепко прижал ее к себе.
204
Там, где кожа соприкасалась, она плавилась от счастья. Это было достижение того недостижимого, что заставляет любящих соединяться вновь и вновь в брачных объятиях, годами, десятилетиями, в неосознаваемом стремлении достичь освобождения от телесной зависимости, но бедное человеческое совокупление оканчивается неизбежным оргазмом, дальше которого в телесной близости пройти нельзя. Потому что самими же телами и положен предел...
Сними же происходило небывалое. Но из того, что было еще в пределах человеческого разумения, оставалось чувствование тел, своего и чужого, однако то, что в земной жизни называлось взаимопроникновением, в здешнем мире расширилось необозримо. В этой заново образующейся цельности, совместном выходе на орбиту иного мира, открывалась новая стереоскопичность, способность видеть сразу многое и думать одновременно многие мысли...
При последнем всплеске внутривидения замечено было, что две извилистых веточки яичников укромно лежат на положенных местах, изъятая в сорок третьем году матка находится на прежнем месте, а от шва поперек живота не осталось и следа.
Но это вовсе не значит, что бывшее сделалось небывшим, — догадались они, мужчина и женщина. Это значит, что преображению подлежит все: мысли и чувства, тела и души. И также те маленькие, почти никто, прозрачные проекты несосто- явшихся тел, волею тяжелых обстоятельств корявой и кровавой жизни прервавших земное путешествие...
Когда они расположились друг в друге вольно и счастливо, душа в душу, рука в руку, буква к букве, оказалось, что между ними есть Третий. Женщина узнала его первой. Мужчина — мгновение спустя.
— Так это был Ты ? — спросил он.
— Я, — последовал ответ».
Кто же это третий. Невольно вспоминается Евангелие от Матфея: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них».
Сцена преображения Кукоцких написана блистательно, и как было бы хорошо, когда бы истинно любящие так закан205
чивали свой земной путь! Но если даже наша жизнь завершается не так, изображение любви в романе Улицкой имеет большой смысл. Вероятно, это идеал любви самой Улицкой, да и мне он весьма симпатичен. Я тоже уверен, что настоящая любовь предполагает духовные усилия и путь и, может быть, даже эзотерическую жизнь. Причем духовная и эзотерическая работа (жизнь) должны совершаться не потом, когда мы все умрем или когда после долгих лет подвижничества попадем в другую реальность, а здесь и сейчас. На мой взгляд, духовность — не другая реальность, а неотъемлемая сторона обычной жизни, постоянно преображающая ее. Так же, как и Улицкая, я думаю, что трудно, невозможно быть счастливым, когда многие несчастны и сама жизнь пошатнулась. В отличие от А. Гидденса, истолковывающего любовь функционально и рационально, думаю, что подлинная любовь держится на идеальных и отчасти мистических представлениях.
Как показывает Е. Шапинская, с точки зрения А. Гидденса, сегодня на первый план «выдвигается новый вид любви — «любовь-слияние», порывающий с установкой романтической любви на «вечность», «единственность» отношений, которая, по мнению Гидденса, привела к «разделяющему и разводящему» обществу. Любовь-слияние предполагает равенство в эмоциональной связи, что освобождает от лежащих в основе романтической любви патриархально-властных принципов. В этом виде любви снимается оппозиция мужского и женского начал, т. к. она основана не на дифференциации полов, а на «чистом» отношении, главным для которого является понимание черт характера другого человека. Таким образом, утверждает Гидденс, любовь-слияние — это идеальная модель для современного общества с его акцентом на рефлексивность, самоактуализацию, достижение аутентичности, с отказом от моногамной гетеросексуальной модели как единственно приемлемой для семейных отношений» [78. С. 40—42]. Безусловно, «понимание черт характера другого человека», «рефлексивность» и «самоактуализация» необходимы для современного человека и совре206
менной любви, но значительно больше необходимы родственность, духовная связь, работа по культивированию и поддержанию любви. Другими словами, я перехожу к обсуждению собственного идеала любви.
3. Креативная любовь
Мой идеал любви все же отличается от нарисованного Улицкой. Не случайно ведь, что в обычной жизни брак Ку- коцких распадается, и, вобщем-то, понятно почему. Во-первых, они совершенно не умели обсуждать свои конфликты и экзистенциальные проблемы, во-вторых, их представления о любви не меняются, застыли. Однако сегодня вряд ли можно сохранить любовь, если супруги не обсуждают свои проблемы. И не просто обсуждают, а рефлексируют собственную личность, идеалы, ценности. Выясняют, как все эти личностные образования соотносятся с пониманием любви, соответствуют ли им, поддерживают любовь или, наоборот, разрушают. При этом приходится формировать индивидуальное понимание (концепцию) любви, продумывать, что это такое, как любовь связана с другими сторонами жизни. Если к тому же учесть, что жизнь в семье и социуме все время загадывает нам трудные задачки, а мы сами изменяемся, проходя жизненные кризисы, то приходится признать, что в течение жизни супругам необходимо переосмыслять сложившееся понимание любви, выстраивать новые индивидуальные концепции любви.
Однако здесь есть и другая сторона вопроса. Вероятно, не случайно понятие любви нагружается столькими смыслами — это и условие целостности человека, и жизнь другим, и жертва, и почва для реализации личности, а также продолжения нашей жизни в детях, и источник наслаждения, и многое другое. Любовь, как я отмечал, разворачивается на трех уровнях: биологическом, социальном и личностном — и на каждом выполняет важные функции. Например, в социальном плане любовь часто трактуется как идеальная связь двух или более людей, в личностном — как возможность полной реали207
зации личности на/в другом человеке и одновременно превращение себя в условие для реализации другого. Спрашивается, как все это множество смыслов любви удержать и объединить? Одной рефлексии и знания здесь недостаточно — любовь приходится трактовать духовно и отчасти мистически.
Вернемся еще раз к Кукоцким. И Павел Алексеевич и Елена понимают любовь как возможность жить с человеком, предназначенным только для них, они любят единственного, созданного для них человека. Дальше, любовь для них — родственность душ (душа моей души), некоторая духовная связь, рассказать о которой невозможно, это можно только почувствовать и пережить. Наконец, преображение как мистический сакральный акт (метаморфоз души и тела) — это одновременно и кульминация их любви. Все эти три момента — единственность любимого (любимой), родственность душ, преображение человека — задают любовь как мистический и духовный процесс. Без такого полагания любовь вряд ли может существовать, другое дело, на основе каких идей этот процесс задается: Платон говорит о благе, красоте, дружбе и бессмертии, а Улицкая — о единственности, родственности и преображении. То, что социолог или философ истолковывает как функции и сущность любви, для любящих существует в форме духовной и мистической, и никакой рациональный анализ для них не может исчерпать эту форму.
Другое дело философ или ученый, они все время стремятся рационально исчерпать форму, в которой любовь задается и существует. Например, могут утверждать, подобно мне, что единственность — это один из важнейших способов личностного конституирования любви; родственность — способ социального конституирования (любовь как социальный идеал связи); преображение в любви — не менее важный способ духовной работы любящих над собой, сближающий любимых друг с другом, а также с идеалом человека (Христом, святым или, скажем, Альбертом Швейцером). В эзотерической пустыне у Павла Алексеевича состоялся такой разговор с Иудеем:
208
«— У тебя путь медленный. Но верный. А что думаешь, легко ли быть святым ?
Бритоголовый (Павел Алексеевич в эзотерическом мире. — В. Р.) хмыкнул:
— Кто это здесь святой ?
— Как кто? — совершенно серьезно ответил Иудей. — Ты, да я, да все остальные...
— Что ты говоришь ? Ия, неверующий ?..
— Ты торопишься. Не торопись».
Итак, мой идеал любви, который я предлагаю на обсуждение всем желающим, включает в себя:
— три уровня существования (биологический, социальный и личностный);
— необходимость выстраивать индивидуальную концепцию любви и пересматривать ее по мере того, как жизнь кардинально меняется;
— работу, направленную на культивирование и поддержание любви, что предполагает иногда и собственное изменение (т. е. работу в отношении своей личности);
— понимание, что любовь и жизнь органично связаны между собой, поэтому нельзя быть счастливым в любви, не стремясь жить в ладу с самим собой, не стараясь жить правильно (перефразируя известное выражение, можно сказать: «Каков человек, как он живет, такова его и любовь»);
— стремление культивировать родственность и духовность и удерживать все стороны и планы любви, не исключая и биологический.
Последний момент несколько юмористически представлен в разговоре со Львом Николаевичем Толстым, которого Павел Алексеевич встретил перед преображением в эзотерическом мире.
«— Наес egoflngebam, — возгласил Лев Николаевич, — плотская любовь разрешена человекам! Я заблуждался вместе со всем нашим так называемым христианством. Все страдали, огнем горели от ложного понимания любви, от деления ее на плотскую, низкую, и умозрительную какую-то, философскую, возвышен209
ную, от стыда за родное, невинное, богом данное тело, которому соединяться с другим безвинно, и блаженно, и благостно!
— Так и сомнения в этом нет никакого, Лев Николаевич, — вставил Павел Алексеевич, заглядывая через плечо в схему, нарисованную красным и синим карандашом. Там была грубо изображенная яйцеклетка и сперматозоид.
— Влечение это лежит в основе мироздания, и греки, и индусы, и китайцы это постигли. Один только Василий Васильевич, несимпатичный, в сущности, господин, что-то прозрел. Воспитание наше, болезни времени, большая ложь, идущая от древних еще монахов-жизнененавистников, привели к тому, что мы не постигли любви. А кто не постиг любви к жизни, не может постигнуть и любви к богу, — он замолчал и понурился... Главного о главном не написал. В любви ничего не понял».
Впрочем, нельзя шарахаться и в противоположную сторону: мистифицирование и культивирование в настоящее время секса не менее пагубно для любви, чем толстовские гонения на чувственную любовь. В любви все важно!
Последний сюжет касается понимания природы любви как естественно-искусственного образования. Обычная распространенная в народе трактовка любви основывается на истолковании ее как природного, естественного феномена, поэтому, кстати, многие люди считают, что в любви все неизменно («Как люблю, так и люблю», — говорят они). Противоположная, реже встречающаяся, почти научная точка зрения — любовь, подобно другим культурным явлениям, — это артефакт, ее можно и необходимо строить. На мой взгляд, истина где-то посередине. Да, любовь коренится в природе человека, и поэтому необходимо выслушивать себя, рефлексировать любовь, действовать (любить), встраиваясь в «логику» жизни человека, чутко улавливая трещины и точки излома, тенденции изменения и напряжения. Но природа человека задается не только и не столько биологическим планом, а прежде всего социальным и личностным. Последние же основываются на свободе и семиотическом конструировании, с одной стороны, и реальном опыте жизни — с 210
другой. В результате в современной культуре отношения между деятельностью и природой человека непростые.
Мы постоянно делаем себя и любовь, осмысляя происходящее, выстраивая какие-то концепции любви, занимая определенные позиции в культурной коммуникации. Но необходимое условие такого делания — изучение себя, рефлексия, выслушивание происходящего. Не получается ли здесь круга? Да, если не поймем, что мы — это не только то, что сложилось, но и наша деятельность, усилия, конституирование себя. В каждый конкретный момент нашей жизни возникает равновесие, мы устанавливаем баланс между тем, что сложилось, тем, что мы хотим, и тем, что мы можем, т. е. делаем. Например, до того злополучного дня Елена уравновешивала усилиями любви свои страхи и сомнения, касающиеся проблем жизни и занятий мужа, после этого дня ее сил не хватило, а понять, что произошло, и перестроиться она была не в состоянии. Но если человек в ответ на кризис жизни-любви может понять, что произошло, перестроиться, выйти на новую концепцию любви, то именно эти усилия наряду с тем, что сложилось до того, начинают определять его природу. В этом смысле, мне кажется, что в настоящее время складывается новое решение вопроса — «естествен- ное-искусственное»: это баланс и равновесие, которое мы устанавливаем между тем, что в нас уже сложилось, тем, что мы хотим, тем, что можем, тем, как мы осознаем все это и действуем практически.
Наконец, я не предлагаю рецепты для всех. Если любовь существует и в личностном плане, а не только в биологическом и социальном, то не может быть общих решений. Речь идет о перспективе любви для людей моего типа. С одной стороны, я признаю тенденции современной массовой культуры, полностью уклониться от которых невозможно, а также влияние структур обыденности. Здесь и культивирование секса, и рекламные, усредненные и часто примитивизиро- ванные образы любви, и внушение современному человеку через СМИ представлений, по которым всегда можно сменить партнера в любви, и реальная социальная возможность 211
это сделать (измена, адюльтер, развод), и демонстрация в искусстве, ТВ (например, как в передаче «За стеклом»), а также в самой жизни смелых публичных экспериментов в области любви и семейных отношений, наконец, давно описанные и обсуждаемые в литературе процессы угасания романтического чувства под влиянием быта, обыденности, монотонности, исчезновения новизны. С другой стороны, мне лично импонирует любовь как глубокое и устойчивое чувство, и я надеюсь, что такая любовь переживет все эксперименты и времена, тем более, как показывает социальный опыт, в конце концов, хуже от этих экспериментов бывает прежде всего самим экспериментаторам.
Так вот, мне кажется, что единственный способ сохранить любовь как глубокое и устойчивое чувство — не держаться всю жизнь за образ романтической любви, а выращивать новый орган и тип любви, назовем ее «креативной». Любовь-творчество, зрелая любовь должна сменять романтическую любовь, беря из нее все лучшее — духовное делание, идеализацию, эстетическую установку. Но любовь-творчество, креативная любовь включает все эти элементы в другое целое, где главным является культивирование родственности, ответственности, включение любви в общий план жизни человека (как личности и социального индивида), поддержание и оживление любви, сознательная работа, направленная на все основные стороны жизни и любви человека. Понятно, что выращивание креативной любви — дело непростое и тоже в отдельных случаях может потребовать смены партнера, но подобный шаг в рамках креативной любви не связан с ее природой.
4. Психика и телесность
Материал предыдущего параграфа свидетельствует: главное, ведущее начало в любви вовсе не половое влечение, не либидо, алюбовное поведение, идея, концепция любви. Они могут как соединяться с телесностью, так и отсоединяться от 212
нее. Можно даже высказать более сильное предположение: именно любовное поведение, идея, концепция любви, проецируясь на избранную телесность, формируют, лепят ее.
Что такое телесность в отличие от тела? Говоря о теле, мы имеем в виду или естественно-научный взгляд (тело как биологический и физиологический организм), или эстетический, или, наконец, практический (обыденное понимание тела). В психологии рассматривается не само тело, а определенные изменения сознания, связанного с телом, например, нарушение схемы, границ или ощущений тела.
Категория телесности стала вводиться в психологию, с одной стороны, под влиянием культурологии и семиотики, где обнаружили, что в разных культурах тело понимается и ощущается по-разному, с другой стороны, в результате нового понимания понятий «болезнь», «боль», «организм» и др. (оказалось, что это не столько естественные состояния тела, сколько присваиваемые (формируемые) и переживаемые человеком культурные и ментальные концепции). Все эти исследования заставляют развести понятия тела и телесности, связав с последней психические процессы, понимаемые в культурно-семиотическом и психотехническом залоге. Телесность — это новообразование, вызванное новой формой поведения, то, без чего это поведение не могло бы состояться, это реализация определенной культурной и семиотической схемы (концепта), наконец, это именно телесность, т. е. модус тела. Чтобы сделать понятным данное утверждение, рассмотрим одну иллюстрацию — формирование в рамках романтической концепции любви поцелуя.
Сначала заметим, что с обычной точки зрения поцелуй — это реализация желания, мотива. Однако с культурологической точки зрения поцелуй представляет собой загадку, он формируется только в некоторых культурах, имеет в разных обществах и эпохах разные социальное и личностное значения, при этом совершенно не ясна его функция и роль. Сказать, что влюбленные начинают целоваться, потому что возникает естественное желание, — не сказать ничего. Спрашивается, откуда взялось это желание, зачем оно?
213
Естественно предположить, что роль поцелуя нужно искать во взаимоотношении полов и в контексте любви. При этом можно обнаружить одну интересную особенность: историческое и культурное развитие человека вело к образованию особого механизма взаимодействия людей разного пола. Устанавливались запреты на обнаженное тело, правила бракосочетания, общения, разные модели воспитания для женщины и мужчины и т. д. Одна из особенностей этого взаимодействия — дистанцирование, различие полов, придание противоположному полу качества закрытости (иногда тайны). Другая — культивирование у существа другого пола притягательности (например, красота и обаяние у женщины, сила, ум и мужественность у мужчины и т. п.).
Но параллельно формировался другой культурный механизм: сближение полов, преодоление дистанции, разделяющей влюбленных, стремление к соединению и слиянию двух существ противоположного пола. Как же снимается, особенно на первых этапах любви, дистанция, разделяющая мужчину и женщину, просто двух людей, как делаются первые шаги к сближению при условии воспитанной закрытости, тайны и своеобразной «запретности» существа противоположного пола? Известно как: сначала общение на расстоянии, возникновение симпатии, взгляды, руки, наконец, поцелуй.
Но почему поцелуй? Ведь рот, губы, язык — органы питания и речи. Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим внимание на то, что поцелуй не является естественным атрибутом тела или поведения человека. Это явно культурное изобретение, не менее гениальное в своей области, чем, скажем, изобретение колеса или книги [62]. Далее, поцелую нужно научиться, и здесь есть свои учителя, правда, не в виде школьного дидакта, а в виде изустной или письменной культуры (рассказы о любви, книги, картины и т. д.), а также наблюдений за другими людьми. Но чему, спрашивается, мы здесь учимся? Не только «технике поцелуя», кстати, отличной от техники питания и речи.
214
Осваивая поцелуй, влюбленный прежде всего строит новые взаимоотношения: преодолевает свой страх, вызванный запретом и тайной существа другого пола, учится делать первые шаги по сближению и слиянию с ним, давать и отдавать, разрешать и запрещать, пропускать в себя или нет, если пропускать, то до какого предела, вести любовную игру (уступать и отступать, разрешать и запрещать, мучить и неожиданно одаривать и т. д.). Но почему все-таки поцелуй? А потому, что все остальное пока еще запрещено, находится в недоступной зоне. Потому что рот — не только орган питания, он несет важную символическую нагрузку: это граница между внешним и внутренним (между нашим «Я» и миром; недаром дети проходят период, когда все познают ртом, все в него тащат). Целуя, человек как бы вводит другого внутрь себя, позволяет ему слиться с собой. Потому также, что рот (язык) — орган речи и общения, а в поцелуе человек учится «говорить» без слов, одними движениями губ, лица, языка. Наконец, возможно, рот, губы, язык еще «помнят» самый первый опыт соединения и слияния двух самых близких людей, а именно: матери и ребенка.
Продумаем теперь рассмотренный здесь материал. Единицей анализа в данном случае является формирование и развитие. Складывается новая психическая структура (процесс), а именно — желание и его удовлетворение, и новый орган — собственно поцелуй. Если исключить из рассмотрения открытие поцелуя как формы телесности и встать на традиционно психологические рельсы, то объяснить возникновение новой психической структуры будет совершенно невозможно. Дело в том, что поцелуй как желание, т. е. мотив, не может развиться из пищевой и речевой функций. Появление поцелуя было обусловлено по меньшей мере четырьмя обстоятельствами: социокультурной ситуацией (культурно-историческое разделение полов, механизмы дистанцирования и преодоления дистанции и т. д.); наличием в культуре определенных концепций и образцов (концепция романтической любви, изустные, письменные и визуальные примеры любви и т. п.); психотехнической работой (освоение тех215
ники поцелуя, овладение новыми взаимоотношениями); наконец, открытием новой единицы телесности (формы, органа). Важно подчеркнуть, что отсутствие любого из перечисленных четырех обстоятельств сделало бы невозможным формирование новой психической структуры.
Здесь, естественно, может возникнуть подозрение: можно ли так обобщать? Не эксплуатирует ли автор всего один тощий пример? Действительно, если, предположим, желание поцелуя вряд ли могло бы состояться без открытия поцелуя как «гештальта телесности», то можно ли то же самое утверждать относительно, например, мышления или памяти? А почему нет?
Вспомним выражения, которыми мы стимулируем себя или других для мышления или воспоминания. Мы говорим: сосредоточься, напряги память, размышляй, ищи, рассуждай, покопайся в своей памяти, активно думай, запоминай и т. д. Не выдают ли подобные выражения именно телесной работы, действия единиц телесности, не требуют ли мышление и память (запоминание и воспоминание) пространственных перемещений (имитируемых образно, а часто и реально, на бумаге), а также реальных телесных действий (энергетического напряжения, «отодвигания» в сторону мешающих мыслей, образов и переживаний, телесных переживаний)? Мы привыкли к тому, что мысль и воспоминание осуществляются внутри нас, так сказать, таинственно рождаются из нашего сокровенного «Я». Не иллюзия ли это? Напротив, интересные реконструкции мышления и памяти все время обнаруживают, что новая мысль или, скажем, новое запоминание не состоялись бы без открытия форм телесности. В одном случае для запоминания нужно было в определенном порядке расставить слова, в другом — связать их с образами, в одном случае для открытия нового научного положения нужно было расщеплять исходную задачу на подзадачи, увязать в непротиворечивую конструкцию все аргументы и доказательства, в другом — имитировать различные природные явления с помощью технических конструкций. И во всех случаях работа мышления и памяти требует сосредоточения, 216
энергетического усилия, изоляции от других, мешающих желаний и процессов, определенной динамики тела (иногда нужно сидеть, иногда — встать и походить, иногда — временно сменить образ действий, переключиться на другую работу и т. п.). Конечно, все эти аргументы лишь намек, обещание более строгого анализа, в частности необходимости соответствующей культурно-исторической и онтогенетической реконструкции мышления и памяти.
Возвращаясь к сделанным обобщениям, заметим еще, что если наша гипотеза верна, то в отличие от тела, которое лишь растет и затем стареет, телесность претерпевает самые необычные изменения. Органы телесности могут в течение жизни рождаться и отмирать (в соответствии со сменой и жизнью психических структур и функций), пространственно они могут накладываться друг на друга и проникать друг в друга (например, рот как телесная основа для поцелуя, речи, питания и как элемент эстетического образа лица). У человека могут складываться (рождаться, жить и отмирать) и более крупные образования телесности — тела, например «тело любви», «тело мышления», «тело общения», «эмоциональное тело», «тело летчика», «тело композитора», «тело каратиста», «тело танцора» и т. д. В этом смысле уже не кажутся неправдоподобными и такие выражения, как «ментальное тело», «эфирное тело», «астральное тело». Вероятно, и духовная, эзотерическая практика предполагает открытие соответствующих «тел», включающее изобретение, реализацию эзотерической идеи, концепции, а также психотехническую работу, направленную на выращивание соответствующих тел.
Что же следует из всего сказанного в отношении любви и сексуальности? Прежде всего, то, что любовное поведение и сексуальность (как технология, как форма телесности) — две стороны одной монеты. Формирование в культуре новых форм любовного поведения невозможно без выращивания и открытия новых форм сексуальности. Рассмотрим теперь внимательнее структуру сексуальности именно как форму телесности. Первое, и это, естественно, бросается в глаза каждому, — в сексуальность делает вклад половое влечение. 217
Более того, Фрейд утверждал, что сексуальность целиком основана на половом влечении (энергии либидо). С этим, однако, трудно согласиться. Да, естественной, природной, т. е. биологической, основой сексуальности является половое влечение, но культурной — не только оно. Например, Платон указал на работу глаза (созерцающего прекрасное тело, прекрасное вообще), работу воображения, мысли, на воспитание и общение (все это позволяет человеку стать совершенным). Куртуазная любовь связала сексуальность с любованием лицом любимой, со страданием, томлением, ожиданием, бурным воображением. Христианская любовь ввела в сексуальность греховность и запрет. Романтическая — идеализацию.
Здесь можно задаться вопросом: а может ли существовать любовное поведение, вовсе оторванное от полового влечения? Безусловно, и культура все время демонстрирует нам этот феномен. Всего два примера: любовная культура арапе- шей и любовь-жалость русской женщины, о которой писал Георгий Гачев. Так как будущие жены арапешей воспитываются в семье мужа, в частности и самим мужем, судя по всему, они впоследствии практически не имеют полового влечения к своему супругу. Вот наблюдения Μ. Мид: «Женщины арапешей не получают в половом общении даже простой релаксации и описывали свои ощущения после полового акта как некую неопределенную теплоту и чувство облегчения» [49. С. 298]. Естественно, по другим причинам любят своих мужей, но не испытывают к ним полового влечения некоторые русские (да и не только русские) женщины. Наблюдения показывают, что любовное поведение, не основанное на половом влечении, имеет другую структуру. Оно менее процессуально, не содержит резких кульминаций и спадов, а главное — питается совсем из других источников (и энергетически и психически).
Но и половое влечение не обязательно реализуется в рамках любовного поведения. Когда оно только созревает, то не реализуется нигде; отсюда беспокойство подростка, обнаружившего в себе непонятные силы и напряжения. Далее, по218
ловое влечение может быть реализовано не в любовном поведении, а в других типах поведения, одни из которых просто снимают напряжение и дают разрядку, а другие несут и удовлетворение (наслаждение). Речь идет, например, о мастурбации или о сексе в том случае, когда партнеры не вкладывают в соитие и не извлекают из «любви» никаких чувств, кроме телесных наслаждений. К. Льюис писал: «Как неудачна фраза: «Ему нужна женщина». Строго говоря, именно женщина «ему» не нужна. Ему нужно удовольствие, мало возможное без женщины. О том, как он ее ценит, можно судить по его поведению через пять минут. Влюбленному же нужна даже не женщина вообще, а именно эта женщина. Ему нужна его возлюбленная, а не наслаждение, которое она может дать. Никто не прикидывает в уме, что объятья любимой женщины приятнее всех прочих... Я знаю только одного человека, совершавшего такой подсчет, — Лукреция, и влюблен он при этом не был. А ответил он так: влюбленность мешает наслаждению, чувства отвлекают, трудно со знанием дела смаковать удовольствие (поэт он хороший, но, Господи, что же эти римляне были за люди!)» [45. С. 209]. В принципе, как показывают преступления, половое влечение может быть реализовано в любом поведении, даже таком, как садизм или убийство.
Особый случай эксплуатации полового влечения вне контекста обычного любовного поведения мы имеем в эзотерических практиках, например в даосизме. По даосизму сексуальное сближение укрепляет ян и инь обоих полов. «В этот момент мужчина собирает из уст и грудей женщины выделяемую ею энергию инь. Во время оргазма поток энергии протекает из глубины тела женщины к половому органу мужчины, а из тела мужчины во влагалище женщины, результатом оргазма является полный обмен энергией между любовниками, а инь и ян становятся едиными, объединяются. Это соединение обеспечивает жизнеспособность и долговечность... Сексуальная жизнь является необходимым элементом медитации... К познанию дао приходят путем сосредоточенного размышления о своем внутреннем духовном мире.
219
Целью медитации является соединение внутреннего и внешнего. Человек преодолевает границу между ними и становится бессмертным... Потребность в сборе (в процессе медитации) как можно большего количества энергии инь и ян приводит к тому, что тот, кто желает быть совершенным, стремится вызвать и продлить оргазм как можно у большего числа партнеров, стараясь одновременно сохранить собственную энергию, т. е. сдержать свой оргазм» [39. С. 152].
Если бы дело происходило на европейской почве, то в даосистской любви мы могли бы усмотреть аналогии и с платонической любовью, и с любовью-наслаждением, и с сексом, а в целом мы здесь имеем дело с использованием полового влечения для эзотерических целей.
Но вернемся к нашей теме. Все-таки чаще в здоровом обществе и культуре половое влечение, как правило, реализуется именно в любовном поведении.
Но здесь мы должны вспомнить, во-первых, что любовное поведение может быть весьма различным, во-вторых, что любовное поведение и половое влечение весьма несходны. Половое влечение есть биологический периодический процесс, имеющий свое начало и конец, сопровождающийся концентрацией энергии и ее разрядкой, а также рядом более или менее приятных ощущений. Любовное же поведение в той или иной степени затрагивает человека целиком, предполагает моменты общения, воображения, мышления: оно связано с кристаллизацией довольно сложных желаний — видеть, общаться, любить, находиться вместе, жить с любимым (любимой) и т. п. В общем виде можно говорить, что любовное поведение не процессуально, точнее, содержит в себе много разных процессов; это именно поведение, жизнедеятельность, реализация разных по природе психических структур. Как же половое влечение становится телесностью для любовного поведения? И не прав ли здесь Фрейд, утверждавший, что половое влечение, как только оно удовлетворено, по сути, расстается с любовным поведением, как бы отрицает, гасит его.
220
Наблюдение Фрейда верное, особенно если речь идет о сексе, но он сам отмечал, что в культуре есть механизм, постоянно «подающий кислород для любовного огня». Таким механизмом, как уже говорилось, является дистанцирование (различие) полов: чтобы осуществлять совместную деятельность, а также реализовать другие культурные нормы и правила (некоторые из них мы уже рассмотрели на примере архаической, античной и средневековой культур), люди разных полов получают разное воспитание (мужское и женское), тело скрывается одеждой, устанавливаются различные запреты и табу (брачные, моральные, а также в сфере общения и поведения). В рамках этого механизма складываются чувство стыда, стремление оградить свою личную территорию, защитить от посторонних взглядов свой внутренний мир и определенные части тела. Именно дистанцирование полов определяет необходимость противоположного культурного поведения — преодоление дистанции, осуществление шагов, ведущих к интимной близости или образованию семьи; любовное поведение возникает, собственно, из решения этой задачи.
Чем более сложные препятствия приходится преодолевать влюбленному, тем больше любовных событий он при этом переживает, тем сильнее его желание. В любви, особенно возвышенной, 99,9 % держится на тайне, границах, дистанции, противоположности. Любовное поведение открывает человеку целый мир. Будущие влюбленные знакомятся, узнают друг друга, общаются, поверяют свои тайны и мысли, осваивают любовную игру, постепенно сокращают дистанцию, получают душевное и чувственное удовлетворение, выращивают в своей телесности новые органы любви (ласка, поцелуй, нежные чувства, соитие и т. п.) и много чего еще, у каждого свое. Этот мир любви и события, в нем происходящие, настолько захватывают культурного человека, что он стремится повторить все вновь и вновь. Но именно в этом пункте его подстерегает серьезная опасность.
Когда любовная цель достигнута и все начинает повторяться вновь и вновь, когда дистанция, противоположность 221
(инаковость), границы и тайна исчезают, исчезают и условия для любовного поведения, а следовательно, снижается сексуальное влечение.
«Легко доказать,— пишет 3. Фрейд,— что психическая ценность любовной потребности понижается тотчас же, как только удовлетворение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие; и там, где естественные сопротивления удовлетворению оказываются недостаточными, там люди всех времен создавали условные препятствия, чтобы быть в состоянии наслаждаться любовью. Это относится как к отдельным индивидам, так и к народам. Во времена, когда удовлетворение любви не встречало затруднений, как, например, в период падения античной культуры, любовь была обесценена, жизнь пуста. Нужны были сильные «реактивные образования», чтобы создать необходимые эффективные ценности. Все это дает основание утверждать, что аскетические течения христианства дали любви психическую ценность, которой ей никогда не могла дать языческая древность. Наивысшего значения любовь достигла у аскетических монахов, вся жизнь которых была наполнена исключительно борьбой с либидинозными искушениями» [71. С. 72].
Но дело, собственно, не в самом падении сопротивления, а, как мы сказали, в исчезновении условий для разворачивания полноценного любовного поведения, особенно в рамках романтической концепции любви, пришедшей на смену средневековым и возрожденческим идеалам любви. Романтическая концепция любви в современном ее варианте (и американском и европейском) не только интегрировала в себя на новой основе куртуазную, чувственную и возвышенную любовь, но и связала любовь с браком и личными индивидуальными началами супругов. Как говорит Н. Бренден: «Любить человека — это значит любить его (или ее) личность». Однако именно личность и семья (брак) в наше время часто лишают любовное поведение условий для реализации, поскольку брак создает рутину, ведет к снижению идеальных начал, столь необходимых для возвышенной 222
любви, а личности супругов, как правило, в семье не совпадают, и поэтому супруги часто конфликтуют друг с другом.
В рамках романтической любви и христианской традиции, которые долгое время не могли состыковаться, разворачивалась и линия философского осмысления сексуальности. Основные противоречия, возникшие в таком осмыслении, зафиксировал Н. Бердяев. Бердяев прав, утверждая, что «пол есть стихия, разлитая во всем существе человека, а не дифференцированная его функция», что «любовь есть сила, преобразующая мир», что в любви нет никаких «естественных норм» (нормы всегда «сверхъестественны»), что «без мистического влечения к женственности, без влюбленности в вечную женственность мужчина ничего не сотворил бы в истории мира, не было бы мировой культуры» [14. С. 62,48,44,39]. И одновременно трудно согласиться с Бердяевым, что человек (мужчина и женщина) не целостен, что он всего лишь половинка, ищущая для восстановления целостности другую свою половину, что с пола начинает «тлеть и распадаться личность человека, отыматься от вечности», что «нельзя быть личностью в сексуальном акте», что в этом акте «нет ничего индивидуального, нет ничего даже специфически человеческого» [14. С. 70].
Если половое влечение, владеющее человеком, рассматривать как чисто биологический процесс (введем на время такую идеализацию), то он дробен, периодичен и, реализуясь в половом акте, на время полностью исчезает. В этом своем качестве он, действительно, служит лишь продолжению рода, о чем и пишет Бердяев. Но половое влечение, включенное в любовь и взаимоотношения людей, столько же биологический процесс, сколько и психический. А как психический процесс любовное поведение, о чем мы уже говорили, — это довольно сложная и в ряде случаев духовная форма жизни, не один психологический процесс, а много разных. Здесь и сладострастное томление, о чем пишет Бердяев, и мистическая влюбленность в женский образ (Богородицу, Марию, Софию), и желание давно ушедшей материнской любви и помощи, и стремление найти понимающую
223
тебя душу, и многое другое. Когда Бердяев говорит, что человек не целостен, то он прав, но не прав, сводя эту нецелост- ность только к половой недостаточности, человек нецелостен по самой своей социальной природе: он нецелостен без семьи, без любви, без понимания, без поддержки, без возможности заботиться о другом и т. д.
Итак, половое влечение у культурного человека — это много разных процессов и желаний. Даже телесная подоснова у них не одна: помимо собственно полового влечения любовь предполагает работу почти всех телесных компонентов человека. Уже в архаической модели (где брачные отношения отождествлялись с охотой) любовное поведение черпало не только из полового влечения, но также из ритуалов (сакральные пляски, пение и т. д.), направленных на поддержание жизни племени. В античной любви-страсти Афродита и Эрот были вполне равноправными партнерами. Платоническая любовь подключалась к почти бесконечному источнику энергии, сил — работе мышления, воображения, очищения (делания) себя; это, как мы показываем, заставило Платона сменить гештальт телесности — им вместо женщины стал прекрасный юноша. В куртуазной любви на женщину падал божественный свет Мадонны, и мужчина любил их обеих. Короче, любовное поведение всегда, во всех культурах телесно основывается не только на половом влечении.
Дискретный, конечный характер сексуального акта может, конечно, приходить в противоречие со сложной психической природой любви и личности человека, но лишь в том случае, если любовь и взаимоотношения мужчины и женщины отождествляются с половым актом, а сам сексуальный акт фетишизируется. Хотя окончание сексуального акта приводит к резкому падению психической и телесной энергии, а также исчезновению на время полового желания (здесь Фрейд прав), другие процессы любви и общения (эстетические, эмпатии, благодарности, родственной близости и т. д.) этим не заканчиваются, а, напротив, иногда только набирают силу. Именно эти процессы создают тот мощный напор и поток энергии, который несет влюбленных (любя224
щих). И именно здесь одна из проблем интимной жизни: как добиться слияния полового влечения с любовью, со взаимоотношениями любящих друг друга мужчины и женщины, как сделать, чтобы эти взаимоотношения, имеющие не дискретный, а скорее, непрерывный и часто идеальный характер, гармонизировались с дискретным и капризным или грубым половым влечением. Говоря о теле, К. Льюис заметил, что «на таком громоздком инструменте не сыграешь небесной мелодии, но мы можем обыграть и полюбить саму его громоздкость. Высшее не стоит без низшего. Конечно, бывают минуты, когда и тело исполнено поэзии, но непоэтичного в нем гораздо больше. Лучше взглянуть на это прямо, как на комическую интермедию, чем делать вид, что мы этого не замечаем. Интермедия нужна нам. Наслаждение, доведенное до предела, мучительно, как боль. От счастливой любви плачут, как от горя. Страсть не всегда приходит в таком обличье, но часто бывает так, и поэтому мы не должны забывать о смехе» [45. С. 211].
И другая проблема: как сложный психический процесс любви и взаимоотношений воплощать, концентрировать в своей кульминации — сексуальном акте? «Даже высшая форма любви,— писал Бердяев,— не есть любовь бесполая, бесплотная, не есть высушенный долг и моральная отвлеченность, в основе ее лежит мистическая чувственность, непосредственная радость касания и соединения» [14. С. 141] (курсив наш. — В. В.). Чисто телесное половое влечение и сексуальный акт бессознательны, но они должны слиться в своем процессе и кульминации с сознательными и разными по природе психическими процессами — с переживанием чувств родственности, благодарности, красоты, радости, с общением и т. д. В свою очередь, эти процессы должны в сфере интимной жизни слиться с половым переживанием, структурироваться в соответствии с его напряженностью, ритмом и кульминацией, в идеале сделаться бессознательными, так сказать, полететь на волне либидо. Именно в этом случае реализация всех желаний синхронизируется, гармонизируется, а все процессы сольются в один поток — катар225
сис любви, по природе одновременно телесной и духовной. «Бессознательность сознательной активности» переживается при этом как ощущение растворения «Я», как погружение в телесную стихию, в которой уже почти невозможно различать себя и ее (его).
И все-таки, подчеркнем еще раз, половое влечение лишь одна из форм телесности в любви. Любовь-идеал, любовь как замысел должна высветить, преобразить также и все другие формы телесности, несущие умную, духовную любовь. В умной любви человек получает энергию и духовную силу не только от непосредственного слияния с любимым, но не меньше от его лица (Бердяев не переставал подчеркивать, что «на своей вершине любовь всегда есть видение лица любимого в Боге»), от его присутствия, от самой атмосферы, ауры, которая его сопровождает и окружает, вообще от того, что он живет с любимым.
5. Обособление и природа секса
Мишель Фуко относит этот процесс к XVIII—XIX вв. и связывает со становлением социальных институтов религиозной исповеди, образования, медицинского контроля и лечения, правосудия в отношении половых отклонений. Во всех этих случаях он намечает следующую единую схему объяснения. Первый шаг — появление в рамках определенного социального института (церкви, школы, медицинского учреждения, суда) задачи отслеживать отклонения от нормального поведения своих клиентов и подопечных с целью возвращения их в лоно нормы (возвращение к Богу, выздоровление, исправление и наказание). При этом, естественно, подразумевалось, что существует норма и отклонение от нее (патология поведения). На самом же деле граница между нормой и патологией проводилась как раз в рамках социального института.
Второй шаг — развитие под воздействием этих идей различных практик контроля и подавления (лечения, исправления). В школах насаждается институт тьюторов, надзирате226
лей, классных дам, которым предписано следить и наказывать. В медицинских учреждениях разрабатываются техники обследования, контроля и лечения. В пенитенциарных учреждениях сочиняются многочисленные правила и запрещения, за строгим исполнением которых следят надзиратели и т.д. Причем содержанием всех этих практик являются формы поведения, относящиеся к интимной, половой стороне жизни человека, ранее не замечавшиеся, а теперь понимаемые как сексуальные нарушения.
Третий шаг — реакция индивида на воздействие новых практик контроля и подавления. Все, что с ними связано, начинает рассматриваться со вниманием и толкуется как запретное и от того часто как притягательное. Индивид, особенно под влиянием науки (физиологи и психологии), ищет и находит причину и источник своих проблем и девиантного поведения. Это и есть секс. Под «власть» народившегося и быстро окрепшего секса постепенно переходят интимные органы и формы поведения человека: гениталии, все привлекательные и притягательные части тела, над которыми в течение трех-четырех веков основательно потрудилось искусство Нового времени (грудь, живот, ноги, шея и т. д.), кокетство, эротика и т. д. Фуко пишет: «Понятие секса позволило, во-первых, перегруппировать в соответствии с некоторым искусственным единством анатомические элементы, биологические функции, поведения, ощущения и удовольствия, а во-вторых, — позволило этому фиктивному единству функционировать в качестве каузального принципа, вездесущего смысла, повсюду требующей обнаружения тайны: секс, таким образом, смог функционировать как единственное означающее и как универсальное означаемое» [72. С. 262].
Существенную роль в формировании секса сыграли формы рефлексии, сначала в искусстве, затем — в науке. Многие писатели романтизировали и поэтизировали не только возвышенные формы любви, но и простое любовное наслаждение. При этом они уловили, что наслаждение или сладострастие в любви может выделяться в самостоятельный процесс. Например, Мопассан в рассказе «Ласки» пишет: «Природа 227
научила нас ласкам, чтобы скрыть свою хитрость, чтобы заставить поневоле, без конца плодить новые поколения. Так давайте похитим у нее сладострастие, присвоим его, преобразим, сделаем утонченным, идеальным, если хотите! Обманем в свою очередь эту обманщицу Природу? Сделаем больше, чем она хотела, больше того, чему она могла или осмелилась нас научить. Сладострастие — словно необработанный драгоценный камень, добытый в недрах земли: возьмем его и станем шлифовать, чтобы придать ему красоту, не заботясь о первоначальных намерениях, о тайной воле того, кого вы зовете богом».
Второй по значимости шаг в направлении к сексу сделали ученые, особенно Фрейд. Именно последний объявил сексуальное влечение и энергию (либидо) источником и причиной не только и не столько полового влечения, сколько развития всей личности человека. При одном направлении развития либидо личность тяготеет к творчеству, при другом — к психическому заболеванию, при третьем — имеют место оговорки, юмор, сексуально окрашенные сновидения. Психоанализ с его почти детективными процедурами выявления блокированных бессознательных сексуальных влечений сделал сексуальность тайной, подлежащей раскрытию, и тем, что определяет саму личность. «Секс, — пишет Фуко, — эта инстанция, господствующая, как нам представляется, над нами; эта тайна, которая кажется нам лежащей подо всем, чем мы являемся; эта точка, завораживающая нас властью... желание секса — желание его иметь, желание получить к нему доступ, его открывать, его освобождать, артикулировать его в дискурсе, формулировать его в виде истины» [72. С. 265, 273—274].
Здесь Фуко точно указывает на первоначальный исток сексуальности — свободу человека в отношении своих желаний. Вспомним «Речь о достоинстве человека» эпохи Возрождения. «О высшее и восхитительное счастье человека, — писал Пико делла Мирандола, — которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет!» Второй по значимости момент (на него Фуко тоже обращает внимание, но меньше) — рациональные формы осмысления, трактовка челове228
ка в естественно-научной онтологии, приписывание природе человека конечных причин, объединяющих все его желания и поведение. По Фуко получается, что секс в отличие от любви всегда запретен и патологичен. Вряд ли. Помимо той линии формирования, которую проанализировал Μ. Фуко, можно указать еще две области факторов, определивших становление секса.
Первая область — действие СМИ, рекламы, дизайна, искусства, пропагандирующих секс, обнаженное тело, сексуализированные формы жизни и общения. За всем этим стоят вполне практичные интересы (т. е. опять-таки особые практики): заставить купить, приобрести предметы и атрибуты, необходимые и для секса и для любви, повлиять на стандарты поведения, расширить зону удовольствий и наслаждений, повысить интерес к интимной жизни и т.п. Известно, что действие и влияние индустрии секса и любви в нашей культуре значительны и постоянно расширяются.
Особенно велика здесь была (и есть) роль таких видов искусства, как кино и телевидение, а также рекламы. Кинооператоры и сценаристы, подхватив достижения живописи в культивировании и разработке тела, сделали в этом направлении очередной прорыв. Техники «наплыва», «крупного плана», «перебивки планов», сама возможность изобразить «движение тела» позволили наделить интересом и сексуальной энергией буквально каждый значимый элемент тела, многие до того вполне невинные его движения. Когда же кинематограф стал изображать соитие и шагнул в область порнографии, последние преграды пали и зритель оказался в реальности, которую кроме как сексуальной и действительно патологической не назовешь. Если для Н. Бердяева именно лицо любимой (любимого) символизирует любовь, то для известного режиссера и кинооператора Тинго Брасса, одного из создателей «Калигулы», секс символизирует «женская попка», а для современного американского писателя Генри Миллера, пожалуй, женское лоно и гениталии.
Вторая область факторов, определяющих формирование секса, уже нормального, там, где он рассматривается, с од229
ной стороны, как источник удовольствий и наслаждений, с другой — как условие психического здоровья и телесной гигиены. Это направление сексуальности поддерживается как СМИ, так и специальными практиками (психологические группы и тренинги, участники которых делятся своим сексуальным опытом и неудачами, консультации психологов и сексологов, образовательные курсы полового воспитания и пр.). Цель подобных практик — нормальное развитие сексуальных желаний, правильное использование секса в семье и во взаимоотношениях, смягчение коллизий и конфликтов, складывающихся в интимной жизни, и т. п.
Если учитывать эти две области, то в целом можно говорить об амбивалентной природе современного секса. С одной стороны, секс воспринимается как тайна, патология и интимная сущность человека, с другой — как обычная техника («технология любви»), норма и всего лишь как один из планов жизни человека, где он может получать удовольствие и поддерживать свое физическое и психическое здоровье.
Любовь и секс не только противоположны (первая ориентирована на сложные формы культурные жизни, на общение и родственность, включая, естественно, и интимные отношения, вторая — только на наслаждение), но и связаны друг с другом. Секс постоянно «крадет» у любви, использует ее ауру, эксплуатирует ее разнообразные жизненные формы. Любовь пользуется более скромными плодами: заимствует, и то в своих пределах, технологию секса и связанные с сексуальностью внешние формы.
Но секс не только крадет у любви, он ее разрушает, причем весьма успешно. К каким последствиям может привести культивирование секса и создание индустрии сексуальных удовольствий? Ну, во-первых, к дальнейшему кризису и разрушению романтической концепции любви, которая и так уже серьезно пострадала от современного быта и низкой личной культуры супругов. Во-вторых, что не менее и даже более важно, к провоцированию разнообразных сексуальных отклонений, к расшатыванию естественной связи психического, любовного поведения с его телесной основой, в 230
конечном счете к снижению сексуальных потенций населения. Нужно заметить, что сама концепция любви-секса, поддержанная средствами массовой коммуникации, деформирует естественные связи любовного поведения с телесностью. Содержание и образы сексуальных фильмов, произведений, изображений построены так, чтобы разрушать нормальные культурные сценарии любовного поведения. В погоне за острыми ощущениями и переживаниями отрицаются любые границы, запреты, тайна, т. е. убивается сама культурная основа любви, любовного поведения (а ведь в любви, особенно возвышенной, как уже отмечалось, все держится на тайне, границах, дистанции, противоположности). Есть в концепции любви-секса и демоническое начало. Культивирование (разглядывание) гениталий, а также эксперименты с ними и телом только ради острых чувственных ощущений рано или поздно вступают в противоречие и конфликт с духовностью и нравственностью человека. Нужно учесть и то обстоятельство, что пол и тело человека наряду с нравственностью, семьей, личностью являются универсалиями, определившими развитие человеческого духа и культуры. Как универсалии они не могут быть существенно трансформированы или тем более элиминированы. Сегодня, однако, наблюдается опасная тенденция экспериментирования с этими универсалиями (генная инженерия, эксперименты в области пола и секса, эксперименты с психикой и т. п.). Вероятно, необходимы не призывы к свободе в области пола и сексуальных потребностей, а серьезная политика в сфере сексуальной, а точнее, любовной культуры.
231
Глава пятая
Здоровье как антропологический феномен
1. Дискурсы здоровья
Нетрудно заметить, что здоровье и болезнь часто определяются друг относительно друга. В «Толковом словаре» здоровый в одном из своих значений — это не больной, а больной — нездоровый. Автор интересной книги «Новая модель здоровья и болезни» Джордж Витулкас пишет, что следует отказаться от нашего привычного понимания болезни и здоровья как «отдельных отчетливо выраженных состояний» психики и организма [17. С. 49]. Другая особенность этих феноменов состоит в том, что они имеют своеобразное социальное измерение: в социальном плане здоровье понимается как нормальное состояние, а болезнь — как отклонение от заданной нормы. «Здоровье, — читаем в «Толковом словаре», — нормальное состояние правильно функционирующего, неповрежденного организма». Болезнь — «уклонение от нормы, расстройство». Правда, Ману Котхари и Лопа Мехта пишут, что «медицина не смогла определить, что составляет норму, будь то содержание сахара в крови или кровяное давление» [17. С. 49]. К вопросу о норме здоровья мы еще вернемся, пока же заметим, что, несмотря на действительные трудности определения нормы, врачам приходится пользоваться подобной «мерой», в противном случае, как бы они принимали практические решения, например, выписывали бюллетени, направления в больницы и пр.
Но здоровье и болезнь «измеряются» также на индивидуальном уровне: с одной стороны, человек отслеживает свое самочувствие, с другой — как правило, ориентируется на определенный идеал здоровья. При этом нетрудно заметить, что индивидуальный идеал здоровья может существенно 232
расходиться с социальной нормой, причем в обе стороны. Человек может считать себя нездоровым в тех случаях, когда общество уверено в его здоровье, и, наоборот, думать, что он здоров, в то время, когда общество относит его в разряд больных. Вообще, с точки зрения социальной нормы здоровья многие нездоровые люди ведут себя весьма странно. Известно, например, что еще в ранней молодости Франца Кафку преследовала бессонница, но он всегда отказывался следовать советам врачей. «В некоторой степени, — пишет исследователь творчества Кафки Кирилл Фараджев, — дело проясняется после знакомства с высказываниями Кафки о том, что для него бессонница нерасторжимо сопряжена с творческим процессом. Не раз Кафка повторял: не будь этих страшных ночей, он бы вообще не занимался литературой. Вероятно, в обыденной ситуации Кафка не мог достигнуть той степени отстраненности, которая его устраивала, и был способен на это, лишь оказываясь на грани саморазрушения... Бессонница вызывала у Кафки постоянные головные боли, по ощущению похожие на «внутреннюю проказу». «Бессонница сплошная: измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподобающем материале» [70. С. 496].
Указанным двум уровням измерения здоровья (социальному и индивидуальному) отчасти можно поставить в соответствие и два основных дискурса здоровья — «медицинский» и «духовно-экологический». Представление о дискурсах сегодня является достаточно распространенным в философии и социологии, но разные авторы вкладывают в это понятие разное содержание. Поэтому поясним, что мы имеем в виду, говоря о дискурсе. Для нас дискурс — это, во-первых, указание на определенный подход изучения, во-вторых, выражение в языке интересующего исследователя явления (в данном случае, речь пойдет о том, каким образом мы говорим о здоровье), в-третьих, анализ дискурса позволяет понять, как исследователь считает возможным воздействовать (влиять) на рассматриваемое им явление. Приведем один пример: определение «технодискурса» Д. Жанико. «Техно233
дискурс есть такой дискурс, который не является ни строго техническим, ни автономным; паразитный язык, замкнутый на технике, способствующий ее распространению или за неимением лучшего делающий почти невозможным — любое радикальное отступление, любой пересмотр вопроса о современном техническом феномене в его специфике. Любая техника имеет свой словарь, свои коды, свои «листинги», свои случаи, свои проблемы и оперативные сценарии. Технодискурс — добрая часть функционализации языка, реализуемой через аудиовизуальные средства; технодискурс — реклама. Технодискурс — технократическая мысль. Технодискурс — весь политико-идеолого-аудиовизуальный соус о мировом соревновании, производительности и т. д. Если эти дискурсы размножаются, то не значит ли это, что они выполняют определенную функцию в техническом мире и через него? У них, без всякого сомнения, имеются социальные и даже технические функции: достаточно представить на мгновение, что будет с техническим миром на Западе без рекламы. Отражая технизацию общества, эти технодискурсы ее стимулируют, захватывают. Они играют роль информационного реле, улучшающего и ускоряющего планетарную технизацию. Эти дискурсы блокируют доступ к пониманию научно-технического развития, имеется операция самосимво- лизации, стремящаяся перекодировать совокупность реального в информационный ледник» [59. С. 119—120].
Обратим внимание, технодискурс — это определенный способ рассмотрения и изучения техники (в данном случае подход, сочетающий социологические, семиотические и социально-инженерные представления), это разные типы языков (языков техники и по поводу техники), это технократическая мысль, наконец, это понимание того, как можно воздействовать на технические явления (нужно создавать условия, способствующие всеобщей технизации, блокировать процессы, например адекватного осознания, препятствующие технизации).
Медицинский дискурс. Это не обязательно понимание здоровья и болезни в рамках научной и современной медицины, 234
хотя сегодня с медицинским дискурсом мы сталкиваемся преимущественно в медицинской литературе и учреждениях. Например, к самому первому медицинскому дискурсу можно отнести анимистическое представление о болезни и лечении. Архаические люди считали, что человек и все живое обладают душой, а болезнь — это временный уход души из тела. Чтобы человек выздоровел (т. е. его душа вернулась на свое место), нужно, думали они, создать для души комфортные условия (согреть тело, если душа вышла потому, что замезла, охладить — если душе сделалось жарко, дать любимую еду — лекарство, упросить — заклинание и пр.). Вот всего лишь один из примеров, описанный Э. Тэйлором. «Карены в Бирме бегают вокруг больного, желая поймать его блуждающую душу, «его бабочку», как говорят они, подобно древним грекам и славянам, и, наконец, как бы бросают ему ее на голову... Это «ла», т. е. душа, дух, гений, может быть отделено от тела, которому принадлежит. Вследствие этого карен очень усердно старается удержать его при себе, призывая его, предлагая ему пищу и т. д. Душа выходит и отправляется бродить преимущественно в то время, когда тело спит. Если она будет задержана дольше известного времени, человек заболеет, а если навсегда, то обладатель ее умрет... Когда карен начинает болеть, тосковать и хиреть вследствие того, что душа его отлетела, друзья его исполняют известный обряд над одеждой больного при помощи вареной курицы с рисом и заклинают духа известными молитвами снова вернуться к больному» [68. С. 270—271].
Характерно, что анимистическое представление болезни и современное научное понимаются сходно — как отклонение от нормального состояния, которое и определяется как «здоровье». Соответственно выздоровление — это возвращение к нормальному состоянию, осуществляемое с помощью «специалиста», неважно, кто выступает в его качестве — шаман, жрец или дипломированный врач. При этом «медицинская помощь» подразумевает применение особой технологии — лечения, направленной на тело или психику (душу) больного. Предполагается, что последний должен прежде 235
всего не мешать врачу, который подобно автомеханику ищет в машине поломку. Д. Витулкас, цитируя Блюма (1960) и Карлсона (1975), формулирует этот подход так:
— «Больной рассматривается как пассивный объект вмешательства, желательно без помех или сопротивления, поскольку доктору лучше знать».
— «Больной рассматривается как отказавший механизм, и работа клиники или больницы заключается в том, чтобы «классифицировать, ограничить и сделать неподвижным «больного» [17. С. 38—39].
Нетрудно указать на достоинства медицинского дискурса. Это прежде всего — рациональное объяснение заболевания и возможность выработать стратегию лечения. Говоря в данном случае о рациональном объяснении, мы имеем в виду любой тип рациональности, а не только научную рациональность. В рамках архаической культуры анимистическое осмысление явлений было не менее рациональным (как бы выразился Макс Вебер, позволяло «расколдовывать мир»), чем в нашей культуре научное. Медицинский дискурс опирается на знания (магические, опытные, научные), позволяющие врачу видеть человека насквозь. Другими словами, медицинские знания делают пациента, так сказать, «прозрачным», естественно не в оптическом отношении, а познавательном (назовем эту установку «принципом прозрачности»). На примере психоанализа, К. Ясперс формулирует этот принцип так: «Психоанализ считает возможным постигнуть последние основы душевных импульсов, психотехника считает возможным направить их действие по желательному пути, Фрейд так же осваивает душу, как Эдисон — мертвую природу» [85. С. 215]. Наконец, медицинский дискурс дает возможность широко использовать не только знания (науку), но и технику (технику как средство лечения и протезирования — очки, искусственные органы и пр.). В определенном отношении технология — душа медицинского дискурса.
Однако медицинский дискурс не свободен от недостатков, причем достаточно серьезных. Основные из них следующие. Человек все больше становится зависимым от меди236
цинских услуг. Медицинское лечение не всегда эффективно: как правило, возникают незапланированные негативные последствия, довольно часто врач не достигает намеченной цели, его действия могут привести даже к смерти больного. Еще в самом начале XIX в. создатель гомеопатии Самуэль Ганеман выступил с резкой критикой медицинского дискурса.
«Она (старая школа), — писал он, — считает наружные поражения исключительно местными, существующими независимо и напрасно полагает, что излечивает их, устраняя эти поражения при помощи наружных средств таким образом, что вынуждает внутреннее поражение проявиться в какой-либо более значимой и важной части тела... Кажется, что безнравственные мероприятия старой медицинской школы (аллопатии) направлены на то, чтобы сделать неизлечимыми большинство болезней, своим невежеством перевести их в хронические, постоянно ослабляя и мучая и так уже истощенного пациента добавлением новых разрушительных лекарственных болезней... И тем не менее, всем этим вредным процедурам обычный врач старой школы может найти объяснение, хотя они и обосновываются только на далеко идущих выводах его книг и учителей или на авторитете того или иного признанного врача старой школы» [23. С. 14]. А вот что уже в наше время только относительно применяемых медиками лекарств пишут Д. Витулкас, Е. Мартин, С. Марти и Μ. Вейтз.
«Обычно происходило так, что предположения исследователя относительно лекарственного препарата оставались в силе только до тех пор, пока не обнаруживалось, что либо это лекарство является настоящей катастрофой, либо что в долгосрочной перспективе его побочные действия хуже, чем та болезнь, для лечения которой оно предназначалось первоначально».
«Только в США примерно 1 500 000 из 30 000 000 ежегодно госпитализируемых пациентов госпитализируются из-за отрицательной реакции на лекарства. В некоторых больницах до 20 % пациентов госпитализируются из-за болезней, вызванных лекарствами, а в течение года с 1 июля 1965 г. в 237
Главном военном госпитале Монреаля 25 % смертельных исходов среди военнослужащих медицинской службы произошли в результате отрицательной реакции на лекарства».
«По меньшей мере двое из каждых пяти пациентов, получающих лекарства от своих докторов, страдают от побочных действий» и «одна из каждых двенадцати госпитализаций обусловлена побочными действиями лечения» [17. С. 47].
Гомеопатический дискурс. С. Ганеман, как известно, не ограничился только критикой медицинского дискурса. Он намечает совершенно другой подход, предлагая рассматривать заболевание не как патологическое отклонение от нормального состояния организма, а как «изменения в состоянии здоровья здорового индивидуума». Хотя Ганеман и предлагает определенное объяснение гомеопатического принципа лечения, он одновременно подчеркивает, что здесь важнее опыт, чем «научное объяснение», другими словами, фактически отказывается от «принципа прозрачности».
Способ гомеопатического исцеления, по Ганеману, обусловлен стимуляцией (своеобразной настройкой, которую Ганеман называет «искусственной болезнью») человека в целом (т. е., включая приведение в особое состояние его духа, «духовного двигателя»); обусловленное такой стимуляцией движение (жизнедеятельность) и приводит к исцелению.
«Внутри человека, — пишет Ганеман в знаменитом «Органоне врачебного искусства», — нет ничего патологического, что подлежало бы лечению, и не существует видимых болезненных изменений, подлежащих лечению, кроме тех, которые открываются внимательному наблюдающему врачу через болезненные признаки и симптомы... поскольку болезни являются не чем иным, как изменениями в состоянии здоровья здорового индивидуума, проявляющимися болезненными признаками, а исцеление возможно также только благодаря изменению состояния здоровья больного индивидуума на здоровое состояние, совершенно очевидно, что лекарства никогда не смогли бы излечивать болезни, если бы обладали силой изменять состояние здоровья человека... Так как этот естественный закон лечения проявляется в каждом 238
чистом эксперименте и при каждом верном наблюдении везде в мире и факт его существования, следовательно, установлен, то не имеет большого значения, каким могло быть научное объяснение того, как все это происходит, и я не придаю большого значения попыткам объяснить это... Для того, чтобы они (гомеопатические лекарства. — В. Р.) могли привести к исцелению, необходимо, прежде всего, чтобы они могли вызывать в теле человека искусственную болезнь, насколько возможно подобную заболеванию, подлежащему лечению. Искусственная болезнь, обладающая большой силой, переводит болезненное состояние инстинктивного жизненного принципа, не способного самого по себе ни к отражению, ни к запоминанию, в состояние чрезвычайно сходное. Она не только затеняет, но и подавляет и тем самым уничтожает нарушение, вызванное естественным заболеванием» [23. С. 54, 55, 58, 60].
Как врач Ганеман считал, что состояние человека, ведущее к исцелению, вызывается именно действием гомеопатических доз лекарства. «Гомеопатия знает, что исцеление может быть обусловлено только реакцией жизненной силы, направленной против правильно выбранного и назначенного внутрь лекарства, а скорость и надежность исцеления пропорциональны тому, в какой мере жизненная сила сохранилась у больного» [23. С. 15]. При этом Ганиман считал, что вызванная гомеопатическим лекарством «искусственная болезнь» по своему эффекту сильнее обычного исходного заболевания. Но вряд ли это так, ведь процедура приготовления гомеопатического лекарства такова, что в лекарственном разведении не удается обнаружить даже молекулу основного лекарственного вещества. Поэтому стали говорить, что гомеопатическое лекарство — это только информация, а не лекарственное вещество, но информация вряд ли может вызывать заболевание сильнее исходного. Остается предположить, что эффект гомеопатического лечения, включающего часто специальную диету, объясняется именно тем, что оно помогает организму самому справиться с заболеванием. Но каков механизм излечения, почему важно подобие, подобие ли это 239
симптомов или гомеопатического лекарства со структурой личности (есть и такое направление гомеопатии)? Внятного ответа на все эти вопросы пока не существует.
Хотя в гомеопатическом лечении роль больного возрастает (он должен верить в гомеопата и свое исцеление), тем не менее больной остается достаточно пассивным объектом деятельности гомеопата. В этом отношении гомеопатический дискурс сближается с аллопатическим. Недостаток гомеопатического дискурса — непрозрачность (в плане понимания) природы болезни и исцеления, негарантированность последнего.
Духовно-экологический дискурс. Еще в античной культуре Платон связывал здоровье и выздоровление не с действием лекарств, а с правильной, духовной жизнью и работой человека, направленной на самого себя. В «Тимее», объясняя природу болезней и способ их исцеления, Платон пишет, что первое целительное средство, и самое важное, — жить сообразно с божественным исчисляющим разумом и сообразно природе поддерживать равновесие между внутренними и внешними движениями. Насколько такое понимание болезни и здоровья устойчиво, можно понять, открыв книгу Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В конце романа Живаго беседует со своим другом Гордоном, выпущенным из лагеря.
— «Вот и я уйду, Гордоша. Мы достаточно поговорили. Благодарю вас за заботу обо мне, дорогие товарищи. Это ведь не блажь с моей стороны. Это болезнь, склероз сердечных сосудов. Стенки сердечной мышцы изнашиваются, истончаются и в один прекрасный день могут прорваться, лопнуть. А ведь мне нет сорока еще. Я не пропойца, не прожигатель жизни.
— Рано себе поешь отходную. Глупости. Поживешь еще.
— В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя вопреки тому, что 240
чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что не приносит тебе счастье. Наша нервная система не простой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Инокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже» [53. С. 494-495].
Итак, если человек живет неправильно, бездуховно, не может реализовать себя, он заболевает и может умереть, как умер доктор Живаго и многие люди нашей эпохи. Если же он старается жить правильно, духовно или становится на такой путь (обычно это сделать невероятно трудно и предполагает работу по собственному изменению), в этом случае возможно исцеление и здоровье.
Преимущества духовно-экологического дискурса — независимость от медицинских услуг, опора на собственные силы и помощь родственных душ, т. е. тех, кто тебя понимает и готов помочь. Недостаток, сходный с гомеопатическим дискурсом, — непроясненность природы болезни и выздоровления.
2. Проблематизация и понятие здоровья
Можно заметить, что понимание здоровья и лечения в медицинском и духовно-экологическом дискурсах весьма различно. Человек, на первый взгляд здоровый в медицинском отношении, может быть глубоко больным с точки зрения культурно-экологического дискурса и наоборот. Попробуем теперь проблематизировать тему здоровья, хотя отчасти мы уже начали это делать.
Интересно, как понимал, что такое здоровье, Франц Кафка? Не сливалось ли для него здоровье с литературным творчеством, а нездоровье с невозможностью такового? Здесь я вспоминаю и другой пример. Известный эзотерик Джон Кришнамурти в 28 лет пережил изменивший всю его 241
жизнь духовный и физический опыт, после которого он периодически испытывал сильнейшие боли в голове и позвоночнике. Однако, несмотря на это, Кришнамурти не принимал никаких лекарств и не прибегал к наркотикам. Одновременно он был вегетарианцем, не пил, не курил, заботился о теле и духе. Почему же Кришнамурти не лечился, не старался избавиться от боли? Не потому ли, что на ее фоне Кришнамурти проходил, прорывался в другие, подлинные реальности? «Неожиданно, — пишет он в своих дневниках, — произошла вспышка этого недоступного с мощью и силой, вызвавшими физическое потрясение. Тело застыло в неподвижности, и пришлось закрыть глаза, чтобы не случился обморок. Это было абсолютно потрясающе, и все существовавшее, казалось, перестало существовать. И неподвижность этой силы, и пришедшая с ней разрушительная энергия выжгли все ограничения зрения и звука. Это было нечто неописуемо величественное, его размеры и глубина были за пределами постижения» [63. С. 280—281]. Продолжим проблема- тизирующие вопросы.
Можно ли считать здоровым человека,, напоминающего доктора Живаго? То есть человека, который живет не в ладу с собой, не может себя реализовать, не видит перспективы своей дальнейшей жизни, вынужден постоянно врать, изворачиваться или всего боится. Кстати, сегодня в России чуть ли не каждый второй попадает в такую компанию.
Можно ли считать здоровым человека, совершенно неготового к смерти (а кто к ней, честно говоря, готов?) или менее неотвратимым и чаще встречающимся вещам — насилию, разводу, смерти близких, увольнению с работы, несправедливости и т. п.? Повседневный опыт показывает, что такая неготовность с большой вероятностью ведет к психическим или обычным заболеваниям.
Является ли здоровым человек стареющий, и поэтому теряющий зубы, зрение, силы, энергию, все чаще болеющий? С одной стороны, старение, старость являются делом обычным, естественным и в этом смысле — не болезнь, с другой — 242
ухудшающееся самочувствие и нарастающие заболевания — типичный признак нездоровья.
Является ли здоровым человек, страдающий хроническими заболеваниями — язвой желудка, гипертонией, шизофренией и пр.? На первый взгляд сам вопрос кажется странным: о каком здоровье может идти речь, если человек болен хронически? Однако вот я много лет в тяжелой форме страдал от язвы желудка и уже готовился идти на операцию. Но лет двадцать тому назад мне посоветовали попробовать новое лекарство («ранисан»). Теперь я принимаю одну таблетку на ночь, и практически здоров — все ем, у меня нет обострений, хорошо себя чувствую. Тем не менее достаточно мне не принять это лекарство два, три дня, как начинается обострение. Так, здоров я или нет? А вот другой пример, уже из области психотерапии.
Основоположник отечественной клинической психиатрии С. И. Консторум описал следующий интересный случай. «В конце 1935 года, — пишет он, — ко мне на квартиру явилась гр-ка Н., 1907 года рождения. Она пришла ко мне с тем, чтобы я ее загипнотизировал и заставил ее таким образом забыть о том, что с ней произошло. Оказалось, что в августе-сентябре 1935 года она лежала в Донской лечебнице, после этого обращалась к ряду московских психиатров с той же просьбой, что и ко мне... Больная довольно обстоятельно и толково дала мне анамнестические сведения, сообщила о родне, о своей жизни до болезни, вскользь упомянула о неудачном замужестве, но категорически отказалась дать какие-либо сведения о душевном расстройстве, которое привело ее в Донскую лечебницу, заявив при этом: «Я пришла к вам для того, чтобы обо всем этом забыть, а вы заставляете меня обо всем этом рассказывать». Все мои старания убедить ее в том, что это совершенно необходимо, что, не зная сущности ее болезни, я, очевидно, не смогу ей помочь и т. д., — все это ни к чему не привело. Больная упрямо, прямолинейно, несколько по-инфантильному отвергала все мои доводы и ничего, буквально ничего, не сообщила о характере своего душевного расстройства, о причинах стационирования.
243
Должен прямо сказать, что именно это упорство затронуло во мне психотерапевтическое любопытство. Я не мог не сказать себе, что столь резко выраженное стремление к забвению всего психотического само по себе — положительный фактор, который, может быть, действительно явится залогом психической реституции больной. К тому же, диагностических сомнений уже при первом ее посещении быть не могло: было совершенно ясно, что передо мной — шизофреничка, перенесшая не так давно процессуальную вспышку. За это говорило не только стремление к забвению само по себе; за это говорил и весь облик больной» [37. С. 170—171].
С. Консторум не только начал проводить с ней сеансы суггестии, но и помог пациентке устроиться работать. «В течение нескольких месяцев больная аккуратно приходила ко мне на сеансы суггестии; она приходила очень точно в назначенное время и, если приходилось ждать, садилась на стул в передней всегда в одной и той же позе — с выпрямленным корпусом, скрещенными на коленях руками и взором, устремленным вперед... Все идет хорошо: больная не только хорошо работает, но становится активнее в своей жизнедеятельности, начинает посещать театры и кино, очень живо делится со мной своими впечатлениями, бывает в гостях. Больная очень довольна результатами лечения» [37. С. 173—174]. Приблизительно к концу 1937 г., — пишет С. Консторум, — больная настолько компенсирована, что сеансы гипноза прекращаются. В них нет нужды, ибо у больной нет, очевидно, ни сознательных, ни автоматически-деперсонализаци- онных воспоминаний о болезни; последняя как будто полностью отстранена и никак не нарушает полноценной жизнедеятельности больной. Но больная остается моей пациенткой и вплоть до начала войны регулярно, раз в неделю, меня навещает для того, чтобы делиться со мной всеми радостями и горестями своей жизни, рассказывает мне о пьесах, которые она смотрела в театре, о книгах, которые она прочла, о своих сослуживцах, сотрудниках Политехнического музея, который она обслуживает своими, главным образом графическими, экспонатами и т. д. Она рассказывает также и о 244
своих поклонниках, с которыми она не прочь пофлиртовать, но и только пофлиртовать. И каждый раз, когда я полусерьезно, полушутливо спрашиваю ее: «Ниночка, почему бы вам не выйти замуж?», она неизменно отвечает: «А мама? Как же я ее брошу, ведь мы не можем жить втроем в одной комнате, а от нее я никуда не переселюсь» [37. С. 177].
И вдруг в конце 1946 г. Ниночка исчезает. «В феврале 1947 года, — пишет С. Консторум, — заинтригованный столь длительным ее отсутствием, я наконец звоню по телефону ее соседям по квартире и узнаю следующее: на днях только умерла мать больной. В тот же день Ниночка ушла из дому, и вот уже скоро неделя, как ее нет... И вот теперь она пришла ко мне с тем, чтобы в лоб поставить вопрос — как ей быть дальше, без матери она жить не может. После смерти матери я самый близкий ей человек. От меня она ждет ответа, я обязан дать ей ответ. Все это произносится в совершенно категорической, ультимативной форме... Она ясно дает мне понять, что помочь ей ничем нельзя, что ей нужно от меня только одно — ответ на вопрос о возможности общения с матерью. Однажды в ответ на какую-то мою горячую тираду она бросает фразу: «Разве я все эти двенадцать лет не была больна, разве моя любовь к матери не была болезнью, разве кого-нибудь, кроме нее, я любила, разве я жила не только для нее одной?» [37. С. 180—185].
Дальше события развернулись так: Ниночка попадает в Преображенскую больницу, у нее тяжелое состояние: сильные головные боли, голоса, «ее компания — Иосиф Виссарионович, Мери Пикфорд, известные писатели и художники. В основном фантастические высказывания больной идут в трех направлениях: во-первых, она может всех лечить гипнозом даже от рака; во-вторых, она общается с умершими, в-третьих, она собирается замуж за Иосифа Виссарионовича» [37. С. 186]. После курса инсулинотерапии происходит незначительное улучшение состояния, однако дальше болезнь усиливается и Ниночка после сильного отравления (люминалом или вероналом) умирает в Ростокинской больнице.
245
Заканчивается статья С. Консторума попыткой разобраться в случившемся. «Основной, главный вопрос, возникающий в отношении нашей больной в психотерапевтическом аспекте, надо так формулировать: что, собственно говоря, имело место на протяжении двенадцати лет ее почти полноценной — а в социальном смысле, абсолютно полноценной — жизнедеятельности: компенсация или реституция? Речь идет при этом, как мне кажется, именно о ее эмоциональной сфере, ибо интеллект ее, в узком смысле, ни с какой стороны, безусловно, не пострадал... Мать была единственным эмоционально-окрашенным стимулом в жизни, мать была единственным экраном, на котором все проецировалось. Все было для матери и через мать. Покуда мать была жива, можно было делать вид, обманывать себя и меня насчет хороших стихов, симпатичных или смешных людей и т. д. Но когда матери не стало, то чего ради делать вид, чего ради обманывать. Я не могу иначе трактовать эту ироническую улыбку на ее лице, когда я заводил речь о ее возвращении к жизни, как напоминание о том, что все эти двенадцать лет ее полного, казалось бы, здоровья, я все же был для нее психиатр, а она — сумасшедшая. Стало быть, скорее все же это было какой-то своеобразной компенсацией, а не реституцией. Или, проще говоря, это было приспособлением к дефекту и, надо прямо сказать, приспособлением совершенно блестящим» [37. С. 190—193].
Итак, «блестящее приспособление к дефекту», не правда ли, удивительная формула! Оказывается, человек может приспособиться к такому дефекту, как шизофрения, прекрасно жить с ним двенадцать лет, успешно творить, и всего-то нужно пройти курс суггестии. Поэтому, может быть, человек, страдающий хроническими заболеваниями, но блестяще приспособившийся к своим дефектам, — все же здоров?
Но, может быть, тогда и обычные заболевания, например простуда, грипп, воспаление легких, перелом ноги или руки и пр., не являются показателями нездоровья?
Конечно, что понимать под здоровьем. С точки зрения медицинского дискурса сегодня в России фактически вооб- 246
ще нет здоровых людей! Достаточно послушать, как медики оценивают здоровье наших детей или призывников. С точки же зрения духовно-экологического дискурса большинство из этих людей здоровы или, если и больны, то не в медицинском смысле, они неправильно живут. Но нужно учесть еще одно обстоятельство, а именно — доступность медицинских услуг. Я здоров, пока могу купить необходимое лекарство. Ниночка была здорова, поскольку ей помогал Консторум. Борис Николаевич Ельцин относительно здоров до тех пор, пока на него работает целая клиника, оборудованная новейшей медицинской аппаратурой.
С последней темой тесно связан вопрос о здоровье населения и отдельного человека. Дело в том, что сегодня за здоровье отвечают два разных субъекта: сам человек и государство в лице института здравоохранения. При этом их интересы, да и критерии здоровья и болезни не всегда совпадают. Государство рассматривает здоровье как ресурс хозяйственной деятельности, как функциональную характеристику человеческого материала. Его не интересуют отдельные случаи, а только средняя, статистическая картина. Напротив, человек думает только о собственном здоровье, здоровье всего населения его волнует мало. Для государства характерно нормативное понимание и истолкование здоровья и болезни, для отдельного человека нормативный взгляд часто является совершенно неприемлемым.
Диспозитив здоровья. Чтобы осмыслить дискурсы здоровья и выработать отношение к заданным вопросам, рассмотрим на уровне идей природу здоровья. При этом мы будем стремиться к построению того, что Мишель Фуко называет «диспозитивом» (буквально, «распределение», «устройство», «структура»). Для нас диспозитив здоровья — это схематические представления о здоровье, рассматриваемом как идеальный объект (это необходимое условие любого научно-философского мышления) и как объект возможный (т. е. меня интересует не только существующий феномен здоровья, но и тот, который может сформироваться, если мы выработаем к здоровью правильное отношение). При по247
строении диспозитива мы постараемся учесть как свои интуитивные (Кант бы сказал, априорные) представления о здоровье, так и анализ дискурсов здоровья и его проблематиза- цию. В свою очередь, на основе диспозитива здоровья можно построить новую дисциплину (назовем ее соответственно «диспозитивной»). Диспозитивная дисциплина здоровья, с одной стороны, должна описывать и объяснять современный феномен здоровья, с другой — содержать схемы и представления, которые можно использовать в особых практиках, например, для выработки современного понимания здоровья или правильной политики в отношении здоровья.
Обычно, говоря о здоровье, подразумевают, что здоровье — это естественный феномен, т. е. особое состояние данного природой организма или психики. Но вспомним медицинский дискурс здоровья. Во-первых, сохранение, поддержание и восстановление здоровья и в архаической культуре, и сегодня обязательно предполагают медицинские услуги и технологии (лечение, оздоровление, профилактику и пр.). Во-вторых, нормы здоровья, на которые ориентированы медицинские технологии, тоже не естественный феномен, а скорее искусственный. Действительно, с социальной точки зрения (а именно на нее ориентирован медицинский дискурс) здоровый — это тот, кто эффективно функционирует. Когда, например, в наше время летчик или военный проходят обязательный медицинский осмотр (не потому, что они плохо себя почувствовали, а потому, что они обязаны быть здоровыми), мы, обдумывая этот факт, начинаем понимать, что здоровье специалиста определяется не относительно естественного, природного состояния человека, а относительно социальных требований к его функционированию в том или ином производстве. Но и обычное понимание здоровья — ребенка, женщины, мужчины — с социальной точки зрения несет на себе печать этого же функционального отношения. В медицине здоровье ребенка определяется не относительно его идеальных природных характеристик, а относительно будущих требований к его социальному функционированию: когда ребенок пойдет в школу, он должен эф248
фективно учиться, потом, когда подрастет, — эффективно служить в армии, когда создаст семью, — родить и воспитать здоровых детей, когда пойдет работать, — эффективно выполнять свои функции как специалист и т. п.
Вывод, на наш взгляд, очевиден: здоровье не является естественным феноменом, это социальный артефакт, неразрывно связанный с социальными (медицинскими) технологиями. Но осознается этот артефакт обычно в превращенной форме (как естественный феномен), последнее объясняется необходимостью оправдать медицинские технологии «природой человека». Однако, что такое природа человека, не является ли она сама артефактом? Подтверждает наш вывод и то обстоятельство, что человек и его здоровье так же, как и нездоровье, задаются в рамках культурных семиотических представлений (картин мира). Действительно, в архаической культуре человек и его здоровье (соответственно — нездоровье и выздоровление) осмысляются в рамках анимистической картины: человек — это тот, кто обладает душой, нездоровье — временный выход души из тела, а выздоровление — наоборот, ее возвращение. Сегодня мы осмысляем человека и его здоровье главным образом в рамках научных картин мира. Но на «культурной периферии» сохраняются картины мира, трактовки человека и здоровья, во многом сходные с анимистическими, античными и средневековыми (например, магические представления — порча, сглаз, представления о здоровье в народной медицине, астрологические представления и др.).
От медицинских технологий необходимо отличать медицинские и другие «практики», в рамках которых складывается понимание здоровья и болезни. Например, сегодня понимание здоровья и болезни формируется в контексте таких практик, как собственно медицина, гигиеническая практика, профилактическая, адаптационная, реабилитационная, социальной работы, инженерная (генная инженерия, протезы, поддержание и улучшение качества среды обитания и питания), психотехническая (зарядка, бег, специальное дыхание, питание и т. п.) и др. В рамках этих практик здоровье и 249
болезнь все больше выступают в качестве искусственных социальных образований и своеобразных технических изделий. Но осознаются они большей частью по-прежнему: как естественные феномены, как состояния, присущие человеку.
Правда, сегодня становится понятным, что и социальная действительность представляет собой не только артефакты и искуственное, но и особую «вторую природу». Например, если здоровье и болезнь рассматривать как массовые явления (т. е. статистически), а также как обусловленные стандартными социальными практиками и тем, что Б. Кудрин, называет «документами» (нормативы здоровья, нормативные описания диагностики, лечения, реабилитации, разного рода медицинские и экологические стандарты и т. п.), то в этом случае здоровье и болезни выявляют свою естественную природу, а именно, ведут себя как ценозы [38]. При таком подходе, предполагая константность данных социальных практик и документов, можно говорить не только о биоценозах или техноценозах, но и «валиоценозах»; понимая эти ограничения, можно изучать «законы» вал иоценозов, на основе таких законов прогнозировать развитие заболеваний и выздоровлений, пытаться управлять стихией болезни и здоровья. Но при этом нужно не забывать, что достаточно измениться социальной практике, как старые законы уйдут или трансформируются, и возникнут новые законы.
Но как понимать индивидуальные медицинские представления и идеалы здоровья? Может быть, это совершенно другой феномен? И да и нет. С одной стороны, индивидуальное медицинское представление о здоровье — это тот же самый социальный дискурс, но перенесенный в индивидуальный план. С формированием новоевропейской личности складывается и представление о том, что медицинское лечение направлено на изменение состояния человека, на восстановление его здоровья. С другой стороны, поскольку личность имеет свои собственные, нередко отличные от социальных представления и ценности, она на основе социальных представлений о здоровье, существенно их трансформируя, часто вырабатывает индивидуальные, адаптированные к ней 250
самой, концепции здоровья. Здесь как раз начинают расходиться социальная норма здоровья и индивидуальный идеал здоровья. Дело в том, что для личности здоровье — это не только и не столько возможность эффективно действовать в социальном плане, сколько хорошо себя чувствовать и полноценно реализоваться. Именно поэтому речь идет об идеале здоровья: это то состояние человека, к которому последний стремится и которое, в чем он уверен, позволяет ему чувствовать себя здоровым, быть в ладу с собой. Однако в рамках медицинского дискурса человек связывает достижение этого состояния прежде всего с медицинскими услугами.
В связи со сказанным вернемся еще раз к принципу прозрачности. Кажется, что медицина дает нам истинное знание о лечении и восстановлении здоровья, поскольку врач, опирающийся на медицинскую науку, знает, как устроены человек и болезнь. Несмотря на очевидность этого убеждения, имеет смысл его проблематизировать. Что собой представляют медицинские знания и теории? На первый взгляд — это наука наподобие естественной, поэтому и медицина должна быть столь же эффективной, как деятельность инженера. Но на самом деле анализ показывает, что только небольшая часть медицинских знаний основывается на точной науке. Основная же часть имеет опытное происхождение. К тому же известно, что разные медицинские школы часто опираются на разный медицинский опыт.
Но и в случае с точными медицинскими знаниями (физиологическими, биохимическими и т. п.) нельзя говорить о полной прозрачности. Во-первых, потому, что в медицине существуют разные конкурирующие научные школы, во-вторых, потому, что медицинские научные теории описывают только некоторые процессы функционирования, вычлененные в более широком целом — биологическом организме или психике. Однако и это не все.
Сегодня медицина рассматривает человека, по меньшей мере, на четырех уровнях — социального функционирования (например, когда речь идет об инфекционных или техногенных заболеваниях и эпидемиях), биологического организма, 251
психики и личности. При этом современная медицинская наука не в состоянии точно ответить на вопросы: как связаны между собой эти уровни и как характер связей между уровнями должен сказываться при разработке медицинских технологий (в этом направлении делаются только первые шаги). Например, неясно, какие конкретно факторы техногенной цивилизации способствуют разрушению здоровья, как психика влияет на соматику человека и, наоборот, как установки личности и образ жизни человека предопределяют состояние психики и т. д. Конечно, многие из этих вопросов в настоящее время обсуждаются, но больше на уровне гипотез, в целом же можно говорить только о преднаучном состоянии знания в этой области. Но даже и не зная, как точно связаны указанные планы, можно предположить, что здоровье, представленное в них, не может быть рассмотрено как замкнутая система. Здоровье — система открытая: меняются социальные условия и требования к здоровью, постоянно создаются новые медицинские технологии и услуги, меняется образ жизни людей, могут измениться и представления отдельного человека о здоровье или его месте в жизни.
Если суммировать сказанное, то можно утверждать, что медицинская наука — это вовсе не точное знание, а сложный коктейль, точнее, смесь из самых разных типов медицинских знаний, прежде всего опытных, во вторую очередь — научных. Поэтому ни о какой прозрачности человека и его болезней не может быть речи. Это иллюзия, порожденная медицинским дискурсом.
Анализ показывает, что именно культивирование принципа прозрачности и опытный характер медицинских знаний обусловливают незапланированные негативные последствия медицинских технологий. Но не меньшая ответственность за возникновение этого негативного эффекта лежит на общецивилизационном технократическом дискурсе, частью которого является медицинский дискурс. Исходной предпосылкой технократического дискурса, как известно, выступает убеждение в том, что современный мир — это мир технический (поэтому нашу цивилизацию часто называют «техно252
генной») и что техника представляет собой систему средств, позволяющих решать основные цивилизационные проблемы и задачи, не исключая и тех, которые порождены самой техникой. В рамках технократического дискурса «технически» истолковываются все основные сферы человеческой деятельности: наука, инженерия, проектирование, производство, образование, институт власти. В. Рачков в книге, посвященной анализу технократического дискурса, показывает, что частью технократического дискурса техники является, как это ни странно, гуманистический дискурс, в рамках которого утверждается, что техника работает на благо человека и культуры, хотя с помощью подобных утверждений на самом деле «прикрывается», «скрывается», как сказал бы Фуко, истинное положение дел. «В реальном мире, — пишет Рачков, — дела обстоят совсем не так, как в гуманистическом дискурсе, в любом из его аспектов... Спрашивается, при чем здесь техника?.. Конечно, техника не является прямой и немедленной причиной мирового зла. Но именно она сделала возможным расширение поля действия катастроф, а с другой стороны, индуцировала такие, а не другие политические решения» [59. С. 122—123, 130].
По мнению В. Рачкова, важным негативным следствием технического развития является трансформация сознания, погружающая современного человека в мир мечты, иллюзий, игры, развлечений. Даже медицина, считает В. Рачков, в современной культуре может быть рассмотрена как вид развлечения, и такой ее облик выступил на полотне, образованном современными медицинскими технологиями. Но конечно, важнее то, что именно технократический дискурс заставляет современного человека решать проблемы, связанные со здоровьем, прежде всего на медицинском пути, а также все неотвратимее затягивает его в воронку медицинского потребления.
Вернемся еще раз к указанным четырем уровням описания человека — социальному, биологическому, психическому и личностному. Хотя связи между ними пока до конца не ясны, 253
последние все же необходимо учитывать. Рассмотрим в связи с этим, что можно понимать под психическим здоровьем.
3. Здоровье и заболевание
с точки зрения учения о психических реальностях
Некоторые аспекты психического здоровья можно охарактеризовать в рамках «учения о психических реальностях» (см. также схему 2). Человек, воспитанный на европейской культуре, как правило, реализует свои установки, планы и цели в той или иной, но вполне определенной сфере и реальности. Если же по каким-либо причинам (наплыв новых событий, альтернативные события, отсутствие условий и т. п.) он не может реализовать их в соответствующей сфере и реальности, «нереализованные» структуры сознания проживаются этим человеком в других сферах (как правило, изолированных от новых событий, имеющих соответствующий «строительный материал»). Этим объясняется значимость разных сфер и реальности в жизни европейской личности: одни сферы (например, трудовая), кроме своего основного назначения — обеспечивать деятельность, порождают большое число нереализованных структур (часть актуализованной, но тем не менее не прожитой жизни), а другие (сон, искусство, игра, общение, размышление), помимо самостоятельного значения, предоставляют условия для их реализации (т. е. проживания, но в других формах).
С точки зрения представленной здесь концепции риск заболеть у человека тем выше, чем меньше возможностей он имеет для реализации своих блокированных желаний. Неправильный образ жизни (например, недостаток сна или использование его не по назначению), неумение общаться, размышлять над своей жизнью или снимать напряжение в сфере искусства — все это сужает возможности изживания блокированных желаний и тем самым увеличивает риск психических заболеваний.
254
Схема 2
Но к самим заболеваниям, а также их излечению ведут другие процессы, которые можно рассмотреть на примере алкоголизма и шизофрении и одного удачного метода лечения шизофрении.
Формирование психических заболеваний. Чтобы объяснить, как могут складываться указанные реальности, введем еще ряд понятий, характеризующих основные типы психических реальностей. Логически очевидно, и наблюдения это подтверждают, что объектом самостоятельного поведения (у кого раньше, у кого позже) может стать сам человек, его самостоятельное поведение. Этому способствуют наблюдения за собственным поведением (рефлексия), обнаружение в нем противоречий или странностей, неудовлетворенность своей жизнью, желание изменить ее, стремление к совершенствованию и т. д. Распространение самостоятельного поведения на само это поведение ведет к расщеплению «Я» на несколько относительно самостоятельных «Я»: «Я-идеальное» (каким я должен быть и хочу быть) и «Я-реальное» (эмпирически наблюдаемое), «Я-рефлексируемое» и «Я-рефлексирую- щее», «Я-волящее», Я-действующее» и «Я-сопротивляющееся» («инертное»), «противоположные Я» и т. п.
255
На основе «взаимоотношений» этих «Я» и самоопределения человека относительно них (с каким «Я» я сам солидаризуюсь, а какое отвергаю или не замечаю) складывается и особая реальность — «Я-реальность», играющая в жизни современного человека исключительно важную роль. Развитая личность в нашей культуре, как правило, регулирует свое самостоятельное поведение именно на основе «Я-реальности». Например, человек должен осуществить ценностный выбор между двумя несовместимыми альтернативами — остаться честным и порядочным, но потерять свое место или же добиться положения ценою компромисса со своей совестью. Выбирая, человек актуализирует в «Я-реальности» два своих противоположных «Я»: «я остаюсь честным человеком, и из этого следует то-то и то-то — живу в ладу со своей совестью, меня уважают друзья» и т. д. и «я добился положения, но перестал уважать самого себя, потерял старых друзей» и т. п. Борьба этих двух «Я», к которой подключаются и другие «Я-личности», прежде всего «Я-нормативное» и «Я-волящее», и есть главный момент самоопределения человека, склоняющегося в конце концов к одной из альтернатив (но, естественно, бывают случаи, когда человек в подобных ситуациях не может самоопределиться и мечется от одного «Я» к другому).
Помимо «Я-реальности» важную роль в жизни современного человека играют еще три типа реальностей: «непосредственные», «производные» и «контрреальности» (организацию в личности всех этих реальностей я назвал «пирамидой реальностей»).
Непосредственные реальности осознаются человеком как то, что существует на самом деле, безусловно. Для религиозного человека — это Бог, для атеиста — природа и ее законы, для подростка — его «Я», для взрослого — «Я» и Другие и т. д. В отличие от непосредственной реальности «производные» реальности (сновидения, фантазии, миры искусства, игры и т. д.) условны, существуют в особом смысле, их события относятся к человеку только через план осознания. Например, то, что приснилось человеку, принимается им, если он верит в сны, и отвергается, если не верит. Бог же ни в 256
каких случаях не может быть отвергнут религиозным сознанием, это значило бы отвергнуть само бытие и самого себя.
Производные психические реальности получают свое значение, смысл от непосредственных и поэтому существуют во многом как бы для них. Именно непосредственные психические реальности поддерживают всю «пирамиду» производных реальностей. Подобно тому, как смерть Кощея Бессмертного находилась на кончике иглы, скрытой в яйце, которое было в утке, спрятанной в сундуке, висевшем на дубе. Пока непосредственные психические реальности «в порядке», человек полон сил и энергии, активен и бодр. Если же по какой-либо причине такие реальности выходят из строя, парализуются, все для него теряет смысл.
Две реальности находятся в контротношениях (т. е. это контрреальности), если при одновременной их актуализации в некоторой жизненной ситуации сталкиваются противоположные мотивы, другими словами, реализация мотивов в одной реальности блокирует деятельность в другой и наоборот (см., например, рассмотренный выше случай личностного самоопределения человека). Борьба контрреальностей приводит не только к постоянной блокировке деятельности, но и нередко порождает у человека разнообразные проблемы и резкие противоположные колебания в поведении и настроении. Наблюдения показывают, что психические контрреальности часто формируются в детстве (страх перед новыми ситуациями и людьми, неуверенность в собственных силах, стремление к защите и т. п.), однако они могут появляться в более зрелом возрасте. Прейдем теперь к анализу алкогольной реальности.
Алкогольная реальность представляет собой, с одной стороны, мир, в котором оказывается выпивший человек, с другой — события, переживаемые в этом мире и связанные определенной логикой («алкогольной»). Именно в алкогольной реальности кристаллизуются и разрешаются «алкогольные желания» (влечения), причем необходимым условием их протекания является переживание определенных событий. Например, в качестве событий алкогольной реальности 257
выступают переживания самого алкогольного влечения, запаха и вида спиртного, мест распития и алкогольного общения, эйфории и других приятных и неприятных ощущений после выпивки и т. д. Нетрудно заметить, что эти события разворачиваются в определенной последовательности и связаны определенной логикой. Например, в алкогольной реальности многие события нельзя поменять местами (скажем, сначала испытать эйфорию, а затем выпить), осуществление событий предполагает создание специальной атмосферы (как известно, последнее дело — пить в одиночку), принятие излишней дозы влечет за собой тяжелые состояния и т. п.
Многочисленные исследования алкоголизма показали, что в алкогольной реальности человек ведет себя иначе, чем в обычной жизни. В частности, он совершает ряд поступков, которых обычно избегает по разным причинам (стесняется, боится выглядеть смешным, не подозревает, что он на это способен, и пр.), а также испытывает необычные ощущения и состояния. Если взглянуть на эти наблюдения с точки зрения учения о психических реальностях, то напрашивается предположение об определенном сходстве реальности сновидения и алкогольной. Действительно, в обеих реальностях человек реализует желания, которые он по ряду причин обычно не может осуществить (так называемые «блокированные желания»); и там и там сознание человека значительно ослаблено и изменено; для реализации блокированных желаний в обоих случаях психика выстраивает в сознании необходимые для этого события, которые человек переживает; в обоих случаях имеет место необычная логика «жизни» (в первом случае логика сновидений, во втором — логика алкогольных переживаний). Подобно тому, как после сновидений человек просыпается в другом (обычном) мире, причем часто он совершенно не помнит, что ему снилось, после опьянения человек также без особых последствий приходит в себя.
Однако человек в период сновидения обычно не может контролировать свою сновидческую активность (например, реализовать определенные блокированные желания, заказывая тем самым определенное сновидение); в этом смысле 258
деятельность сновидений является вполне спонтанной и автоматической. Иначе дело обстоит в случае алкогольной реальности. Здесь человек именно как бы заказывает определенные переживания: приятные, эйфорические, грустные, драматические и т. п. По сути, и обычный здоровый человек, и пьяница, и потенциальный преступник, собираясь выпить, настраиваются на определенный сценарий переживаний: собираются испытать радость или горе, подозревать кого-то в измене, жалеть себя или каяться в грехах, требовать от окружающих признания или уважения (чего стоит знаменитый вопрос: «Аты меня уважаешь?»), наконец, нацеливаются на преступление.
Но разве алкогольные переживания не являются тоже автоматическими и не обусловлены нашими физиологическими процессами? Так обычно считается. Но психологические исследования последних 2—3 десятилетий показали, что при отсутствии установки на определенный сценарий алкогольных переживаний (испытуемым говорили, что им вводят в кровь глюкозу, хотя вводили алкоголь) введение алкоголя вызывает только неопределенные по содержанию ощущения, напротив, если человек настроился на определенный сценарий алкогольных переживаний, то они возникают даже при отсутствии в организме алкоголя (в эксперименте ему вводили в кровь плацебо). Конечно, в конце концов у пьющего устанавливается связь между связанными с алкоголем физиологическими процессами организма и определенными психическими переживаниями, но, судя по всему, эта связь вторичная.
Итак, события алкогольной реальности только напоминают события сновидений, скорее они подчиняются логике «сноподобных состояний» (реальностей), совмещающих особенности сновидений и бодрственной деятельности. Основное психологическое и смысловое назначение алкогольной сноподобной реальности — реализация с помощью алкоголя вполне определенных (сценарно осознаваемых) блокированных желаний личности, которые он по разным причинам не может осуществить в своей обычной жизни.
259
Теперь два слова о том, как формируется алкогольная реальность.
Начинается все с того, что человек, имеющий проблемы (а у кого, спрашивается, их нет; в языке реальностей — это блокированные желания), обнаруживает, что выпивка и сопутствующая ей атмосфера (общение с друзьями, ритуалы распития, переживания состояний, вызванных алкоголем) помогают ему справиться с проблемами, реализоваться, пережить новые необычные ощущения. Конечно, решение проблем и реализация личности разворачиваются больше в символическом плане, чем в практическом поведении и жизни, но для психики никакой разницы нет. Естественно, что человек начинает стремиться в новый открывшийся ему мир, чтобы снова и снова ощутить полноту и радость жизни. Конечно, многие знают, что это опасно, но чаще всего надеются не переступить грани, отделяющей удовольствие от алкогольной зависимости. Другие же люди вообще не считают этот мир стоящим того, чтобы отказаться от пребывания в реальности, где они чувствуют себя на высоте. В повести Елены Долгопят «1880—1995. Черная дыра» мы читаем: «Очень ему стало неуютно в мире, одиноко. Недоступны ему стали другие люди, как прошлое. И все-таки он нашел способ к ним проникать. Пропуск. Водка пропускала к ним. Они действительно оказывались рядом, если он напивался. Он чувствовал тогда такую близость ко всем, точно сам был любым из них. Поразительное ощущение... Так что, когда врач говорил ему в светлом кабинете, — жена ждала-плакала в коридоре, — что водка — бегство от действительности, он отвечал: — Вход» [29].
Почему происходит привыкание к уже освоенной дозе спиртного (т. е. нарастание толерантности)? И по физиологическим и по психологическим причинам: с одной стороны, организм начинает адаптироваться к усвоению алкоголя, с другой — психологически требуются все новые и новые впечатления, которые уже не могут быть обеспечены на основе старой дозы. В результате доза спиртного постоянно увеличивается и увеличивается частота приема. Человек все 260
больше вживается в мир событий алкогольной реальности, нащупывает и открывает новые сюжеты и тематизмы алкогольных переживаний (см. замечательный роман В. Ерофеева «Москва — Петушки»), ловит от всего этого кайф. Но в результате (чего он, как правило, не замечает) начинает сужаться и закрываться поле нормальной жизнедеятельности, она блокируется.
Логика развития этого процесса в конце концов приводит к опасной метаморфозе: постоянное употребление алкоголя приводит к формированию соматической подосновы, включающей циклические физиологические процессы, которые нуждаются для своего поддержания в постоянном употреблении алкоголя. Складывается уже на физиологическом уровне алкогольная жажда, которая обеспечивается и поддерживается в психике с помощью алкогольного влечения. Человек вступает в фазу алкогольного заболевания. В психологическом плане с этого периода разворачиваются два прямо противоположных процесса: все возрастающее желание не покидать алкогольный мир, жить в нем и день и ночь и противоположное желание освободиться от алкогольной зависимости, поскольку начинают нарастать неприятные и болезненные состояния тела и психики, вызванные как алкогольным отравлением, так и различными социальными напряжениями (например, неприятности на работе и в семье становятся нормой жизни). Со временем жизнь пьющего становится настолько невыносимой, что для него ценности нормального, свободного от алкогольной зависимости, образа жизни начинают решительно перевешивать все достоинства алкогольного мира и его переживаний. Алкоголик уже готов бросить пить, но не в состоянии этого сделать, т. к. алкогольное заболевание сделало его бессильным, лишило собственной воли. Но, конечно, это всего л ишь один, хотя и достаточно распространенный сценарий развития событий, многое, естественно, зависит от личности и физического здоровья человека.
Теперь один из сценариев формирования шизофрении. В учении о психических реальностях зарождение психиче261
ского заболевания и его развитие объясняется сменой одной непосредственной реальности («согласованной», конвенциальной) на другую, непосредственную реальность («несогласованную», деформированную), а также борьбой их друг с другом. Непосредственные реальности осознаются человеком как то, что существует на самом деле, безусловно. Важная особенность непосредственных реальностей в том, что они задают для человека основной способ осмысления и переживания всего чувственно-данного, т. е. того, что человек видит, слышит, ощущает. Это связано с тем, что чувственные впечатления, которые человек получает от предметов, образуются из двух разных источников — внутреннего опыта человека, который как раз основывается на непосредственных реальностях, и восприятия этих предметов (их визуального, сонорного, тактильного обследования). При смене непосредственных реальностей (это имеет место в эзотерической практике, в подростковом возрасте, при переворотах сознания, ряде психических заболеваний и в ряде других случаев) парализуется вся старая система чувственного восприятия и осмысления и складывается новая (человек открывает для себя новый мир и буквально начинает по-другому и другое видеть, слышать, ощущать). И понятно почему, ведь меняется вся система внутреннего опыта и его организация. Необходимое условие такой смены и попадания человека в новый мир — формирование новых способов восприятия чувственно данных предметов, такого, который согласуется с новым внутренним опытом и новой его организацией.
В свою очередь, одно из необходимых (но недостаточных) условий смены непосредственной реальности — попытки человека разрешить свои проблемы и неблагополучие, которые обусловливаются особенностями его воспитания и личности, образом его жизни. Как правило, такой человек имеет много контрреальностей (т. е. реальностей, парализующих друг друга) и часто ищет выход из своих затруднений в идеальном мире (он берется напрокат или придумывается), т. е. выход ищется в одной из производных реально262
стей. По генезису первоначально это просто объяснение своего неблагополучия. Например, человек выходит на идею, что его проблемы объясняются тем-то и тем-то. Но постепенно это объяснение из простой идеи превращается в очевидную реальность. С ее точки зрения человек начинает переосмыслять свою жизнь и окружающее, и оказывается, что да, действительно, все подтверждает исходное объяснение. Причина здесь, во-первых, в том, что он настроен на данное объяснение, во-вторых, культивирует подобную реальность, поддерживая ее своим поведением и деятельностью, в-третьих, подавляет те реальности, которые ей противоречат. Подавление, или, по Фрейду, вытеснение, нельзя понимать натуралистически, например, как силовое подавление или пространственное перемещение. Если одна реальность (деформированная) отрицает другую и более значима для личности, то ее реализация делает невозможной реализацию второй реальности. Это и есть феномен подавления.
События, если они заходят достаточно далеко, могут принять такой оборот, что все реальности, поддерживающие согласованную непосредственную реальность, оказываются подавленными, т. е. все их деятельности блокируются (этот процесс часто сопровождается нарушением восприятия, вплоть до галлюцинаций). В результате может произойти подавление и самой непосредственной реальности, на место которой становится получившая всю «власть» производная реальность, т. е. реальность деформированная. Происходит и перерождение психики человека: на основе деформированной реальности разворачиваются новые производные реальности, складывается новое (оцениваемое другими как болезненное) поведение человека. Однако «старые», бывшие раньше основными, реальности тоже дают о себе знать: они реализуются как в обычных сферах психики, так и контрабандным путем в деформированной реальности. Дальнейшее развитие и течение психического заболевания определяется взаимодействием трех основных моментов: реализацией сюжетов деформированной реальности (эти сюжеты конечны), искажением таких процессов под влиянием реа263
лизации «старых» реальностей, подтверждением или неподтвержденном ожиданий личности в новом деформированном мире. Если ожидания личности в деформированном мире не подтверждаются, снова могут возникнуть проблемы, и весь процесс может пойти в обратном порядке (стихийное выздоровление), что бывает, впрочем, достаточно редко.
Один из примеров подобного редкого феномена описан в известном в авангардной культуре тексте «Каширское шоссе», А. Монастырских. А. Монастырских описывает в нем, что с ним произошло в течение примерно двух лет. Он был неверующим человеком, но страстно хотел обрести веру в Бога и потому стал посещать церковь, читать христианскую литературу, жить интересами христианской религии. В результате с определенного момента его сознание и ощущения стали быстро трансформироваться; закончился этот процесс изменений так, что Андрей в буквальном смысле «попал» в мир своих желаний: имел возможность наблюдать ангелов, святых, Бога, страдал от демонов, боролся в самом себе с нечистыми силами. Примерно через год после этого необычный мир потускнел и затем быстро распался, так закончилось приобщение Андрея к христианской вере.
Интересно, что смене непосредственной реальности у А. Монастырских предшествовал прорыв в сознание отдельных образов из «религиозного мира», а также трансформация обычного ощущения и восприятия (необычность, странность восприятия, потеря ряда ориентиров, нарушение схемы тела, появление «голосов» или «видов»). Любопытно и явление трансформации ощущений, имевшее место при смене непосредственной реальности: например, Монастырских описывает, как звуковые впечатления трансформировались в световые, звуки и визуальные сигналы обычной или даже небольшой силы воспринимались как сверхсильные (громоподобные, яркие, сверкающие), неожиданно, т. е. объективно немотивированно, менялись сила и характер ощущений. Описывает А. Монастырских и эффект, напоминающий катарсис, т. е. события, которые он переживал, периодически достигали такой силы, имели такое значе264
ние, что вызывали у Монастырских экстатические состояния (он или возносился, приобщался к необыкновенной радости, заставляющей ощущать счастье, полноту бытия, необычные, космические возможности, или, напротив, погружался в пучину страха, ужаса и отчаяния, ни с чем не сравнимые по силе и характеру). Обратим внимание на то, что еще на начальной стадии своего пути А. Монастырских не только старался поверить в Бога, но и практически осваивал религиозный опыт, религиозную жизнь, хотя он еще реально Бога не чувствовал. Другими словами, он как бы заранее формировал у себя новые системы координации и управления (деятельностью и поведением), приспосабливая их для предстоящих им новых функций и действий. Этот аспект его усилий очень важен, в результате происходила перестройка не только ума А. Монастырских, но также его психики и телесности. Важно также, что в пределе весь этот сложный психический процесс перерождения психики может идти и без всякой опоры на чувственный материал.
Описанный здесь случай стихийного исцеления шизофрении — исключение из правил. Обычно шизофрения плохо поддается лечению. Тем не менее удачные примеры выздоровления встречаются, и один из самых интересных, на наш взгляд, демонстрирует практика Г. Назлояна.
4. Метод маскотерапии Г. Назлояна
Методика лечения шизофрении и других крайне тяжелых форм психических заболеваний, которую разработал Гагик Назлоян, получила сегодня в кругу специалистов достаточно широкую известность. Суть этой необычной методики в следующем: врач в течение довольно длительного времени (от нескольких месяцев до года и больше) создает (лепит) из пластилина серию портретных изображений (масок) больного. Больной может первые недели или даже месяцы безучастно сидеть перед скульптурой, муссируя про себя или вслух свои проблемы (бред, навязчивые идеи, болезненные ощущения и т. п.). Но в конце концов он включается в про265
цесс создания своих масок, начинает общаться с врачом (и по поводу своих портретов, и на другие темы). Ничто, казалось бы, в течение длительного хода сотворчества и общения врача с пациентом не может предвещать излечения, но вдруг оно приходит, причем, как правило, сопровождается довольно бурной, напоминающей катарсис реакцией. «В течение многих лет работы над портретами больных, — пишет Гагик Назлоян, — не помню ни одного случая, когда бы не наблюдался катарсис. Эти эмоционально интенсивные состояния неожиданно наступают, приобретая самые причудливые формы. То это «взрывы» смеха или плача, длящиеся несколько часов, то различные проявления психомоторного возбуждения, агрессивность, грубое сексуальное поведение и т. п. Важно, что больные полностью или частично амнези- руют эти состояния, а в завершении катарсиса возникает яркое, наверное, мало с чем сравнимое ощущение своего выздоровления, желанного избавления» [48. С. 47].
Получается так, что создание портретов больного заканчивается вместе с его излечением. В связи с этим Г. Назлоян оперирует таким понятием, как «портретное время». «Поскольку у скульптурного портрета, — читаем мы, — есть начало, этапы создания и завершения, то итогом начавшегося и поэтапно проводимого лечения должно быть не частичное улучшение состояния, а полное выздоровление больного. Внутри «портретного времени», а не вне его делается все возможное, чтобы избавить пациента от болезненных переживаний» [50. С. 44]. По истечении портретного времени пациенту сообщается, что он полностью здоров и даже, если иногда, через какое-то время случаются рецидивы, врач предлагает бывшему пациенту рассматривать их не более как остаточные хвосты у вполне здорового человека.
Эффект методики Назлояна налицо, и он постоянно подтверждается все новыми случаями излечения тяжелых больных, от которых ранее отказались другие психиатры и психотерапевты. Но загадка в том, что с научной точки зрения во- общем-то непонятно, почему происходит излечение пациентов Назлояна. Сам Назлоян пытается объяснить свой ме266
тод таким образом, что в результате осознания и творчества происходит преодоление феномена отчуждения. Он пишет: «“Мишенью” для терапевтического применения портретного искусства являются различные формы отчуждения. Именно это явление выдвигается на первый план портретной психотерапии, остальные же отступают на периферию, не подлежат обсуждению, хотя и сохраняют свое значение... Критерием же излечения портретированием является выход пациента из аутистического состояния, восстановление или развитие его творческих способностей. Достигая истинного осознания своих переживаний как болезненных, человек обретает мощные защитные механизмы, появляется своеобразная мудрость в болезни» [50. С. 39,45].
Часто Назлоян говорит интересные фразы типа «болезнь ушла в объем», «портрет — место, куда уходит болезнь» [50. С. 20], которые, по-видимому, с точки зрения техники лечения точны, но мало что проясняют в теоретическом отношении. Почему спрашивается, создание портрета больного способствует излечению тяжелых психических заболеваний, каков механизм такого излечения, нельзя ли предположить, что создание масок больного только фон, а на самом деле большее значение играют какие-то другие факторы, например, общение с больным или влияние личности самого Назлояна. Кстати, к такому предположению могут подтолкнуть и собственные размышления Назлояна.
«Однако, — пишет он, — после того, как наступает момент отождествления с портретом (рано или поздно это происходит), с каждым сеансом повышается результативность психотерапии. Возникает и развивается ситуация сопричастности, соучастия и творческого сотрудничества. Возможно, еще далеко до выздоровления, но на пути к нему процесс отождествления очень важен. Кстати, в него невольно включаются и все присутствующие (даже случайные). Так прокладывается тропа осознания своей болезни... В процессе создания скульптурного портрета общение с больным протекает в атмосфере предельной раскованности — оно не имеет скрытого плана, подтекста, не нуждается в особых приемах, в «арти267
стизме» врача, изощренном его «притворстве», известном тем, кто работает в психиатрических учреждениях. Напряжение больного снижается уже потому, что ему ясна причина его присутствия в кабинете врача: это не требует ни специальных познаний в области изобразительного искусства, ни особого уровня интеллектуального развития... Терапевтический азарт невозможно остановить, пока врач не пробьет «брешь» в аутизме, пока не начнется свободное, действительно духовное общение. Период скованности в начале работы, самоуглубленности больного, которую можно бы интерпретировать как еще больший уход в себя, на самом деле часто оказывается мучительным поиском контакта больного с врачом» [50. С. 24,17, 25]. В ответ на поставленные нами вопросы можно сказать, что многие методы в психиатрии, например, основанные на суггестии, также непонятны, мы не знаем их механизм, но успешно применяем. Тем не менее, вероятно, нужно стремиться понять эти методы, тем более столь парадоксальные и эффективные, каким является подход Назлояна.
Какая исходная проблема стоит перед психотерапевтом, имеющим дело с тяжелым психическим заболеванием? Заставить пациента хотя бы на время выйти из реальности (мира), в котором он находится (назовем эту реальность «деформированной»). Весьма образно Г. Назлоян обозначает эту проблему, начиная свою статью с характерного подзаголовка — «Пробиться сквозь стену молчания» [50. С. 15]. Но как это сделать, если именно события деформированной реальности являются для пациента основными, тем, что для него существует, а обычные события и мир, столь значимые для нас, — периферийными. Хотя пациент и видит эти периферийные события, но они для него, подобно теням, мало значимы. Кроме того, он все факты, с нашей точки зрения опровергающие или ставящие под сомнение существование деформированной реальности, переосмысляет так, что они только подтверждают деформированную реальность, ее существование. Простой пример: к больному дисморфобией, которому кажется, что от него пахнет мочой, на постель са268
дятся врач и хорошенькая медсестра. Врач говорит: «Вот видите, мы сели к Вам прямо на постель, если бы от Вас чем-нибудь пахло, то мы бы этого не сделали». Больной, хитро сощурившись, отвечает: «Я видел, что Вы, доктор, только что курили в коридоре с медсестрой. Это для того, чтобы не чувствовать запаха мочи, отбить его табаком. А сели на мою постель Вы специально. От меня пахнет, да еще как, а Вы терпите, чтобы меня переубедить. Но на самом деле все Ваши уловки шиты белыми нитками».
Итак, что для здорового человека — блажь и мираж, для больного — реальность. Внутри своей деформированной реальности пациент все факты и события периферийного мира видит и понимает соответственно искаженно. И так может продолжаться довольно долго, даже в мастерской Гагика Назлояна, который уже давно лепит портрет пациента.
И все же пациент наконец замечает, что врач лепит его портрет. Однако занимает пациента не занятие врача, а события и перипетии деформированного мира, в котором пациент живет. Поэтому он продолжает про свое: про свои страхи, переживания, про свою реальность. Но Назлоян этот разговор решительно не поддерживает, может даже сказать что-нибудь такое: «Прекратите бред, не мешайте работать». Тогда пациент или снова, как улитка, вползает в свой мир (впрочем, он из него и не выходил), или все же начинает осознавать, что доктор лепит не что-то там, а портрет именно его, пациента. А портрет, как известно, должен быть похож на свой оригинал. В своей статье Г. Назлоян неоднократно подчеркивает необходимость портретного сходства маски пациента. Совершенно необходимо, чтобы это сходство заметил и сам пациент; если последнее не происходит, то приходится специально обращать внимание пациента на факт сходства его портрета и лица. Для этого используется зеркало, массаж, самопортретирование, обсуждение портрета и т. п. «В профессиональном искусстве, где имеют право на жизнь различные интерпретации портрета — вплоть до полного несходства, — разговоры на тему «похож — не похож» — признак плохого тона. Иное дело — лечебный портрет. По269
степенное возникновение реалистической оценки своего лица порождает сильные переживания, разрушающие привычный ход мышления больного, «привязывающие» его к своему зарождающемуся образу, заставляющие часто (иногда «тайно») подходить к зеркалу для изучения отдельных деталей лица, искать сходство с портретом» [50. С. 21].
Вроде бы очевидное положение о сходстве портрета и лица пациента нуждается, однако, в серьезном уточнении и осмыслении. В ранней, но весьма тонкой в психологическом отношении работе Михаила Бахтина, она называется «Автор и герой в эстетической деятельности», Μ. Бахтин обсуждает такой интересный вопрос: а может ли человек, который, предположим, намеревается сделать свой автопортрет, увидеть себя в зеркале объективно, не предвзято. И приходит к выводу, что это невозможно, что в зеркале мы видим себя как бы с позиции другого (других), с точки зрения того, как мы считаем, мы должны выглядеть. Только реальный чужой взгляд другого, связанного, по Бахтину, с позицией «вненахо- димости» (которая самому человеку принципиально не дана), позволяет увидеть нас и наше лицо более объективно [13].
Используя эти наблюдения Μ. Бахтина, предлагаем ввести различение трех портретов человека: одного внутреннего и двух внешних. «Внутренний портрет» — это наше интегральное ощущение себя, т. е. каким я себя в данное время представляю (сильным, молодым, энергичным, красивым или слабым, неуверенным, но духовным и т. д. и т. п.). Этот портрет может не иметь ничего общего с объективным положением дела, однако в нем объективируется относимая нами к себе система образов, переживаний, ценностей самосознания.
Первый внешний портрет, с которым обычно имеет дело человек, можно назвать «представительным». Это как раз то, как мы видим себя в зеркале и с точки зрения (но не глазами) других. Второй портрет будем называть «объективным». Объективный он не в том смысле, что это и есть наш настоящий, истинный портрет. Объективный он потому, что увидеть его можно лишь в позиции вненаходимости, т. е. через других, через произведения искусства (картину, скульптуру, 270
танец, через запись нашего лица или поведения на видеокамере и т. д.).
Самое интересное здесь в том, что представительный портрет, в общем, должен находиться в определенном соответствии с портретом внутренним, хотя на первый взгляд это неочевидно. Мало ли как я себя представляю, почему, спрашивается, этот мой довольно сложный образ должен отвечать моему представительному портрету. Однако задумаемся, что такое вообще психологический портрет человека.
В новоевропейской культуре, где и внешняя реальность, и внутренний мир человека тесно связаны с его личностью, портрет — это не просто мой внешний или внутренний образ, а основа, центр моей идентификации, моего поведения, моей ценностной ориентации. Если, например, я себя ощущаю молодым, сильным, энергичным, а в зеркале вижу старого человека с потухшим взором, то вряд ли я смогу остаться спокойным. Более вероятно, что у меня в этом случае возникнут вопросы, недоумения, сильные переживания: «Я ли это или кто-то другой? А если я, то почему я такой, каким себя не ощущаю?»
По мере взросления каждый человек проходит отдельные стадии своего развития, точки психических переживаний, метаморфоз. Вот он еще похож на «гусеницу», т. е. маленький ребенок. Вот уже куколка, т. е. подросток. А вот и бабочка, т. е. молодой человек, и т. д. И каждое такое психологическое существо оставляет нам свой внутренний мир, выраженный внутренним портретом, а также свои представительные портреты, некоторые из которых мы запомнили или успели запечатлеть фотокамерой. В нашем внутреннем взоре и памяти на наш взрослый представительный портрет спроецированы ряд других генетически предшествующих портретов, отсылающих нас к нашему детству, отрочеству, юности или предшествующим стадиям взросления.
А какой, интересно, представительный портрет имеют пациенты Назлояна? Вероятно, тот, который отвечает внутреннему портрету больного, целиком заданному деформированной реальностью. Если, например, у пациента бред,
271
мания преследования, то и видит он себя соответственно, как преследуемого со всех сторон день и ночь. Он видит на своем лице страх, видит тени преследователей, физически ощущает давление таинственных лучей, направленных на него с целью его уничтожения. Г. Назлоян, естественно, не мог не заметить странного восприятия пациентами своего лица. Но объяснить причины этой странности он не мог.
«Иногда, — пишет Г. Назлоян, — больных удивляет форма своего уха, носа, рисунок глаз, губ, подбородка. Это и есть первый выход из аутистического плена, первый взгляд на себя со стороны, первая попытка сравнить себя с другими людьми без порочной мифологизации и дисморфофобиче- ских установок, искажающих видение мира вообще и мира человеческих отношений в частности. Сергей В., для которого лоб был «полигоном», поверхность носа — «стартовой площадкой», а рот — «пещерой», в конце концов вспоминал об этом с иронической улыбкой, как, впрочем, и развитую бредовую систему и неадекватные поступки, связанные с тем, что он — Пришелец из Будущего. Другой больной, Владимир У., лечить которого еще предстоит, «лепит» из своих щек лошадей, кошек и других животных, а затем «стирает» их. Что за всем этим скрыто?» [50. С. 23]. Мы могли бы ответить. Видение больными своего лица полностью определяется особенностями деформированной реальности. Так, именно потому, что Сергей В. считает себя пришельцем из будущего и, следовательно, космонавтом, он воспринимает свой нос как «стартовую площадку», а лоб как «космический полигон».
Но вдруг (хотя это вдруг, как мы отмечали, может быть довольно растянуто во времени) пациент замечает, что врач, создающий из пластилина его портрет, лепит кого-то другого, кого-то, хотя похожего на него, но другого. На периферии своего мира пациент вынужден признать, что портрет похож на него, но, с другой стороны, совсем не похож. Этот портрет не отражает ощущение пациента от себя.
Другими словами, врач именно за счет позиции «внена- ходимости», средствами искусства создает объективный 272
портрет пациента, тем самым ввергая последнего в сложные переживания. Пациент чувствует, что создаваемый Назлоя- ном портрет — это его портрет, но оказывается: этот портрет не совпадает с тем портретом, к которому уже давно, во время болезни, привык пациент. Однако почему пациент не может отмахнуться от портрета, создаваемого Назлояном, как бы не заметить его? Вероятно, вначале он так и делает. Но Гагик упорно продолжает лепить лицо больного, и пациент это видит, он не может игнорировать то, что возникающий портрет пишется с него, пишется честно. И вот тогда пациент включается в игру, в общение. Он пытается сказать, что на самом деле, все не так, что его преследуют, травят, что мир вовсе не такой, каким его рисует Назлоян. Говорит-то он эти слова, а имеет в виду другое, а именно, что врач лепит не то, видит все неправильно. Но Назлоян отмахивается от его слов как от назойливой мухи: «Оставьте ваш бред, не мешайте работать».
«Что же происходит с тем содержанием переживаний пациента, — спрашивает себя Назлоян, — которое находится как бы на периферии общения создателя портрета с его моделью? Собеседники будто бы игнорируют такие «мелочи», как бред, галлюцинации, навязчивость. А ведь именно на этих переживаниях фиксируется внимание больного на первых сеансах, именно на них уходит больше всего сил. Во-первых, иллюзия «вечности» общения создает у больного уверенность, что к своим основным «вопросам» он может вернуться в любое время, когда только пожелает. Во-вторых, в каждой болезни существует весьма ограниченный набор переживаний, к которым приковано сознание пациента. За время лечения портретируемый успевает многократно повториться в своих проявлениях — это вызывает недовольство присутствующих, а у врача — откровенную иронию и даже некоторую «агрессию», т. к. подобные надоедливые повороты мешают сосредоточенности скульптора, необходимой в его работе, особенно над деталями лица.
Со временем больной научится терпеть «пренебрежительное» отношение к его «неординарным» мыслям и чувст273
вам и, чтобы вернуть свой прежний статус, пойдет на компромиссы, пытаясь приспособиться к вкусам авторитетного для него круга — придется вести беседы на темы, которые с момента заболевания стали трудно даваться ему» [50. С. 27].
Один из возможных вариантов дальнейшего развития событий следующий. В попытке разрешить мучительный конфликт между внутренним, представительным и объективным портретами пациент вспоминает (или заново воспроизводит) один из представительных образов своей прежней здоровой жизни. Он вдруг узнает в портрете Назлояна какие-то свои черты, узнает себя. Араз узнал, то оказывается пойманным своим внутренним портретом, частью своего здорового «Я», здорового ядра своей личности. Ухватившись за маску своего портрета, часть здорового ядра личности пациента как бы всплывает на поверхность психики и сознания, а деформированная личность, скрипя зубами, вынуждена уступить ей под солнцем немного места.
«Выделение здорового, — пишет Назлоян, — и больного начал (давно уже забытое в клинической психиатрии и находящееся «по ту сторону» определения диагноза) — главный принцип лечения рассматриваемым методом. Портрет — место, куда уходит болезнь, что одинаково воспринимается и врачом и пациентом. При этом последний не знает, куда уйдет болезнь, а врачу это известно. Если портрет является местом изгнания недуга, то возникает необходимость осознания идеи пути, который воплощается в изготовление скульптуры, имеющей объем (ср. архаические представления: болезнь уходит в море, камень, растение, в сверхъестественное существо и т. п.). Происхождение этого пути и есть лечение: сначала врач двигается вместе с больным, затем подходит все ближе к нему, наконец, как бы совмещается с ним, замещает его, опираясь на то здоровое начало, которое в нем живо» [50. С. 20].
В этом пункте нашего рассуждения может возникнуть следующий вопрос: каким образом портрет пациента помогает последнему воссоздать свое здоровое начало? Обратим внимание, что в своей статье Назлоян несколько раз пишет 274
примерно следующее: «Вдруг я понял, что портрет готов». Например, в истории больной Б. С. Назлоян пишет: «После упомянутых двух этапов я стал ощущать, что больная и сама фиксирует улучшение своего состояния. Я посмотрел на скульптуру и вдруг увидел, что в главном она уже закончена, остаются лишь технические детали» [50. С. 58].
Спрашивается, что Назлоян увидел в портрете, по каким признакам он решил, что процесс портретирования больного подошел к своему завершению? Явно, здесь не имелись в виду эстетические критерии, поскольку Назлоян обращает внимание, что портреты пациентов не создаются в рамках эстетической реальности. Учтем еще одно наблюдение: в портретном воплощении лица всех пациентов Назлояна чем-то схожи. И вовсе не тем, что мы в лицах пациентов Назлояна видим психические и патологические изменения. Напротив, перед нами хотя иногда и напряженные черты (и то не всегда), но вполне здоровые. Сходство в чем-то другом, неуловимом, в какой-то общей идеальности, отрешенности, умиротворенности этих лиц.
Чтобы ответить на поставленные здесь вопросы, вернемся еще раз к замечательной работе Μ. Бахтина. В ней он, в частности, различает восприятие нашего лица в зеркале, в автопортрете и в портрете художника. «Совершенно особым случаем видения своей наружности, — пишет Μ. Бахтин, — является смотрение на себя в зеркало. По-видимому, здесь мы видим себя непосредственно. Но это не так; мы остаемся в себе самих и видим только свое отражение, которое не может стать непосредственным моментом нашего видения и переживания мира: мы видим отражение своей наружности, наружность не обнимает меня всего, я перед зеркалом, а не в нем; зеркало может дать лишь материал для самообъектива- ции, и притом даже не в чистом виде. В самом деле, наше положение перед зеркалом всегда несколько фальшиво: так как у нас нет подхода к себе самому... Автопортрет всегда можно отличить от портрета по какому-то несколько призрачному характеру лица, оно как бы не объемлет полного человека, всего до конца: на меня почти жуткое впечатление произво275
дит смеющееся лицо Рембрандта на его автопортрете и странно отчужденное лицо Врубеля. ... Другое дело портрет наш, сделанный авторитетным для нас художником, это действительно окно в мир, где я никогда не живу, действительно видение себя в мире другого глазами чистого и цельного другого человека — художника, видение как гадание, носящее несколько предопределяющий меня характер» [13. С. 31, 32, 33].
Основной вопрос здесь следующий: если Назлоян не ориентируется на эстетические критерии и реальность, то что, какое содержание он выявляет в лицах своих больных, что в этих лицах он «предопределяет»? Конечно, Назлоян стремится реалистически, адекватно передать лицо своего пациента. Однако есть реализм и реализм. Каждый художник-реалист по-своему изобразит свою натуру. Подумаем, как Гагик Назлоян воспринимает своих пациентов, какими бы тяжело больными они ни были. Рискнем утверждать, что все они для Назлояна, во-первых, равные ему люди, во-вторых, в определенном смысле психически здоровые. Безусловно они замкнулись, запутались, погрязли в своей реальности, отгорожены от нас «стеной молчания», но не безнадежно. Есть тропа и проводник, чтобы выйти из этой ловушки, этого лабиринта, из этого страшного деформированного мира в мир обычный.
Другими словами, Гагик Назлоян всегда стремится разглядеть в лице человека его здоровое начало. И не просто разглядеть, а выявить, обнажить, воссоздать это начало. В этом смысле он лепит не просто реалистический портрет, а погружает пациента в реальность, где последний встречает себя прежнего, себя здорового. Только в этом контексте можно понять такое, на первый взгляд, странное высказывание Назлояна: «Произведение искусства развивается, следуя логике излечения, но и само участвует в определении этой логики». Поэтому же, кстати, все лица на портретах Назлояна похожи друг на друга. Во всех портретах Назлояна творчески воссозданы «психически здоровые лица больных людей», интегрированы отдельные здоровые планы и структуры их личности. С этой точки зрения понятно также, что Г. Назлоян «вдруг 276
видит» в готовом портрете. На самом деле он смотрит не только на портрет больного, но и на оригинал и видит, что здоровая личность пациента уже выявлена и воссоздана, уже интегрирована из отдельных, нащупанных на предыдущих этапах лечения-сотворчества фрагментов.
Однако необходимо понимать, что появление здоровой части психики пациента создает конфликт, напряжение, но еще значительней конфликт, вызванный столкновением портретов личности, грозящий человеку полной потерей ориентации и осмысленного существования в этом мире. Именно здесь, вероятно, Назлоян заканчивает очередную маску портрета своего пациента и приступает к следующей. И опять пациент не узнает и узнает свой образ, возникающий под пальцами Назлояна. И опять его психика, вынужденная разрешать конфликт трех портретов пациента, извлекает из недр его подсознания и памяти вытесненные ранее представительный и внутренний портреты здоровой его личности, которая занимает место рядом с его больной личностью. Работа продолжается неделя за неделей, месяц за месяцем, одна маска заменяет другую, и постепенно рядом с больной личностью пациента вырастает и выстраивается (по сути, заново) здоровая его личность. Г. Назлоян в своей статье отмечает, что необходимым условием воссоздания здоровой личности пациента является не только узнавание себя в прошлом, но и возвращение к оставленным в начале заболевания жизненным планам, прежним делам и творчеству, а также познание себя в новом качестве. «За время работы над портретом, — пишет Назлоян, — больные как бы наверстывают упущенное в течение многих лет своего развития; они скорее узнают, нежели возвращают утраченное» [50. С. 40].
Но посмотрим, как наступает решительный перелом. Все сильнее нарастает напряжение, конфликт обеих личностей. Однако здоровая личность наливается жизненными силами и соками, поддерживается на плаву уже готовыми портретами, которые постепенно заполняют мастерскую, а больная — не получает «пищу» для своего существования и дыхания. Врач по-прежнему отказывается общаться с пациентом 277
по поводу тем деформированной личности, а пациент уже оказался втянутым во вполне здоровое и далекое от событий деформированной реальности занятие — сотворчество и обсуждение процесса изготовления своего портрета. И вот в один прекрасный и, действительно, удивительный момент, как в финале пьесы Пушкина «Дон Жуан», больная, деформированная личность «проваливается» в подсознание, т. е., говоря языком психоанализа, вытесняется. В сознание теперь получает доступ только здоровая личность. Другими словами, наступает выздоровление (схема 3).
С точки зрения представлений о психических реальностях создание портрета больного — это погружение его в эстетическую реальность. Особенность этой реальности в том, что на волне эстетических событий пациент входит еще в одну реальность — реальность его здоровой личности. Другими словами, реальность портрета включают в себя две достаточно самостоятельные реальности — эстетическую и еще одну, назовем ее условно «психотерапевтической». В психотерапевтической реальности события разворачиваются по следующему сценарию. Пациент начинает узнавать себя, но узнаваемый, так сказать, здоровый образ пациента, противоречит другому, который сформировался во время болезни; он, как мы говорили, целиком обусловлен деформированной реальностью.
Конфликт двух образов пациента разрешается в пользу здорового образа пациента именно потому, что последующие события психотерапевтической реальности усиливают и подкрепляют здоровый образ и, напротив, нивелируют и ослабляют образ, отвечающий деформированной реальности. Важную роль в этом процессе играют: нежелание врача обсуждать темы деформированной реальности, нормальная, небольничная обстановка мастерской, характер общения пациента с врачом и людьми, присутствующими на сеансах. Следовательно, психотерапевтическая реальность — это не только реальность портрета, но и реальность общения, реальность коммуникации. Было бы неправильно пре278
уменьшать и роль эстетического плана: через эстетическую реальность больной незаметно для себя проходит психотерапевтическую и далее движется в ней в определенном направлении, к выздоровлению. Проживая события эстетической реальности, он одновременно проживает и события психотерапевтической реальности.
Схема 3
Можно предположить, что эффективность лечения по методу Г. Назлояна будет тем выше, чем точнее будут соблюдены ряд условий. Во-первых, пациент должен уже достаточно остро переживать неблагополучие в деформированном мире, хотя вначале этот мир влечет его как надежда на разрешение всех его проблем. Во-вторых, больной должен быть не чужд магии искусства, хотя бы в том отношении, чтобы поддаваться «первичной иллюзии» произведений искусства, узнавая в портрете себя. В-третьих, выздоровление пойдет быстрее, если пациент Назлояна способен не только вспомнить себя прежнего, но и, не осознавая того, сочинить, придумать, создать себя заново. Когда пациенты Назлояна говорят, что они рождаются заново, они довольно точно выражают суть происходящего.
279
Подводя итог этого фрагмента исследования психического здоровья, заметим, что психическое здоровье — это не органическое состояние психики, а тип жизни и организации личности. Соответственно психическое заболевание представляет собой определенный процесс перестройки и переорганизации жизни человека. Второе соображение касается взаимосвязи разных планов анализа: хотя мы рассматривали план психики, нам пришлось обращаться и к другим планам — прежде всего к биологическому и личностному.
Осмысление метода Назлояна позволяет вернуться и к обсуждению гомеопатического дискурса. Одна из его идей — опора на здоровые силы организма. Но только в данном случае организму помогают не портреты, а гомеопатические лекарства. Фактически же не только лекарства, но и установка на выздоровление, а также иногда и диета. Чтобы понять, что здесь происходит, рассмотрим сначала, что собой представляет хроническое заболевание, например язва желудка. С одной стороны, это соматический процесс (в данном случае нарушение слизистой оболочки желудка и разъедание его желудочным соком), с другой — психический процесс (осознание заболевания, нарастание боли и плохого самочувствия и т. п.). Важно то, что оба эти процесса разворачиваются в определенном направлении, которое мы и связываем с заболеванием (обострением язвенной болезни). Будем такое направление развития событий называть «негативным режимом» функционирования организма, а противоположный случай развития событий (т. е. выздоровление) — «позитивным режимом». Можно предположить, что оба режима поддерживаются на физиологическом уровне с помощью нервной системы. Например, когда начинается заболевание, то на определенные участки (зоны) мозга приходят соответствующие сигналы, если же набирает силу позитивный режим, то картина сигналов меняется. Второе предположение состоит в том, что оба режима организма, если уже они определились, идут сами собой, в том смысле, что хотя они могут быть поддержаны какими-то средствами (питание или образ жизни), тем не менее основные процессы обусловлены не этими 280
факторами, а общей системной направленностью функционирования организма.
Предположим, что заболевший человек начинает принимать гомеопатическое лекарство. Оно, как известно, вызывает симптоматику, сходную с симптоматикой заболевания. Это означает, что в мозг постоянно начинают приходить такие же по структуре (картине) сигналы, как и от болезни, т. е. одна и та же картина возбуждения вызывается двумя разными источниками — гомеопатическими лекарствами и заболеванием. В этой ситуации негативный режим уже не может быть поддержан на физиологическом уровне; соответствующие зоны мозга как бы слепнут, оказываясь обманутыми гомеопатическим воздействием. Но и на психическом уровне поддержание негативного процесса затруднено, поскольку гомеопат внушает больному, что он начинает выздоравливать. В результате лишенный поддержки негативный процесс теряет свою энергию и угасает, его сменяет позитивный процесс, активно поддерживаемый на психическом уровне и частично соматическом (питание и правильный физический образ жизни). Другими словами, человек начинает выздоравливать.
5. Психотехнический аспект проблемы здоровья
Анализ психического здоровья не был бы полным без рассмотрения психотехнического аспекта этого вопроса. В связи с этим имеет смысл коснуться и темы культивирования здоровья, столь характерной для нашей цивилизации. В этом отношении особенно показателен опыт США и ряда развитых стран. Кажется, вот оно, решение — сделать из здоровья культ, основную цель жизни, особенно на склоне лет. И миллионы людей начинают заниматься спортом, бегать трусцой, закаляться, правильно питаться, дышать, не дышать и т. п. Однако и здесь проблемы, например, что взять за норму или как согласовать оздоровление и поддержание здоровья с другими жизненными целями? Определить норму не удается, еще реже удается сделать здоровье основной целью жизни, и понятно почему: можно сколько угодно поддержи281
вать свое драгоценное здоровье, но оставаться при этом неудовлетворенным, находиться не в ладу с собой, мучаться совестью, считать, что жизнь прошла зря и пр.
Вообще, наивно думать, что человек может произвольно ставить себе цели (быть счастливым, здоровым или даже правильно жить) и, главное, эффективно реализовать их. Но как же, разве я сам вслед за некоторыми другими философами не говорю о психотехнике и возможности работы, направленной на изменение самого себя? Чтобы с этим разобраться, рассмотрим, что такое психотехника.
Идея психотехники в настоящее время, действительно, является весьма популярной, особенно среди людей, занятых самосовершенствованием, поисками истины, спасения или экспериментаторством в отношении самих себя. Этимология этого слова указывает, с одной стороны, на момент техники, квазиинженерного подхода к себе самому, с другой — на «психэ», душу, именно на нее направлена данная техника. Традиционно подобное отношение, действительно, ближе всего к идее самосовершенствования, но сегодня оно нагружено и другими смыслами — сознательным регулированием и изменением своих психических, эмоциональных состояний (наиболее известный пример — практика аутотренинга) и кардинальным изменением самого себя, которое, например, практикуется в эзотерических школах.
Если оставаться на почве рационального мышления, возникает вопрос: возможна ли в принципе психотехника? В основе психотехнического подхода лежит идея, что человек без посторонней помощи, без давления внешних обстоятельств может воздействовать сам на себя и кардинально изменяться. Но можно ли измениться самому, справиться с самим собой, если речь идет о реальных, сильных, жизненных проблемах и желаниях? Сегодня нередко иронизируют по поводу форм самовнушения: «я спокоен, я уверен» и т. д.; по сути, все эти формулы разлетаются, как дым, как только человек сталкивается с реальными проблемами. Выясняется, что человек абсолютно ничего не может себе внушить, не может ввести себя произвольно в нужное ему состояние. Есть 282
более мощная сила — его натура, которая влечет человека по проторенному пути.
В теоретическом отношении не очень понятно, как возможно кардинальное изменение, ведь для изменения нужно найти своего рода точку опоры вне человека. Но что значит найти точку опоры вне человека, если психотехника — это воздействие человека на самого себя? Где найти эту точку, ту опору, опираясь на которую человек сам себя будет переделывать? Эта опора, она что — вне человека? Разве она не подчиняется законам психики?
Не внушает ли себе человек, что он спокоен, уравновешен, добр, может себя изменить и т. д., хотя реально он этого сделать не в состоянии, однако может притвориться, что он это делает. Не является ли психотехника некоей игрой в идеал, т. е. игрой психики? Может быть, на самом деле все это превращенная форма поведения европейского человека в связи с тем, что он верит в возможность самоизменения. Одновременно можно согласиться, что эта игра имеет определенную адаптивную, сохранительную функцию, скажем, символическое изживание нереализованных идеалов личности.
Отметим общие моменты, характерные почти для всех видов и направлений психотехники. Во-первых, любая психотехническая работа предполагает ряд, так сказать, психотехнических, установок и ценностей: на изменение личности, работу над собой, преодоление себя, изменение своих состояний, переход в эзотерическую реальность и т. п., естественно, специфичные в каждом направлении психотехники. Второй момент — это усилия, направленные на подавление, отказ, снижение значимости и т. п., отрицательные действия в отношении определенных желаний, естественных потенций и устремлений личности, определенных планов ее поведения. Как правило, борьба ведется с теми естественными структурами личности человека, которые не отвечают психотехническим установкам и ценностям, идеалам совершенной личности. Третий момент, в определенном смысле противоположный предыдущему, — это культивирование, развитие тех желаний, устремлений, планов личности, кото283
рые отвечают эзотерическим установкам, ценностям и идеалам. Еще один общий момент, хотя он может проявляться совершенно по-разному, связан с формированием способности произвольно входить в определенные эмоциональные, духовные или психические состояния, начиная от простых чувственных ощущений и восприятий (вызывание у себя ощущений тепла, холода, тяжести, видения определенных цветов, фонов и т. п.) вплоть до сложных переживаний, иногда даже высшего порядка («восприятия» абстрактных идей, образов, сцен, психодрам и т. д.).
Уточним в связи со сказанным, что можно понимать под психотехникой. Психотехника есть осмысленная работа над собой (своим телом, психикой, душой), направленная на изменение своих естественных состояний (т. е. тех, которые реализуются сами собой). Психотехническая работа предполагает преодоление сопротивлений, возникающих в ответ на психотехническую работу, а также определенную планомерность такой работы (замысел, план, сценарий и т. п.). Психотехническая работа может опираться как на научные данные, например, психологии, так и на психотехнический опыт (светский или эзотерический).
Теперь главное: что такое совершенствование человека с психологической точки зрения? Можно предположить, что это реализация особых желаний. Эти желания относятся или к реальности жизненного пути человека, которая формируется, начиная с подросткового возраста, или к реальности нашего «Я» (личности). Когда психологи говорят о «Я-кон- цепции» или «Я-образах», о скриптах, о жизненных и личностных ценностях, они фактически указывают на две данные реальности. Совершенствование человека предполагает актуализацию «образа себя» и дифференциацию себя на две персоны: ту, которая подвергается изменению (совершенствованию), и ту, которая должна произвести подобное изменение (иногда вторая персона осмысляется как воля, а первая как естественная природа человека). Для нашей проблематики особое значение имеют случаи, когда совершенствование не идет, не получается (человек подавляет в себе опре284
деленные желания, а они прорываются снова и снова, он пытается жить правильно, но это не получается). В чем тут дело?
Во-первых, нужно признать, что личность в целом не совпадает с человеком, что личность, хотя и важная, но все же часть психики человека. В западноевропейской культуре личность формировалась как такой план и механизм психики человека, которые обеспечивали самостоятельность его поведения, а также понимание отдельным человеком своего бытия как центрального относительно природы и общества. С «институтом личности» (если можно употребить такое словосочетание) связаны не только возможность самостоятельной (не общинной, не соборной, а приватной, в гражданском обществе) жизнедеятельности человека, но также особое «личностное мировоззрение». Например, убеждение, что личность имеет прошлое, настоящее и будущее; что жизнь человека и его «Я» совпадают, поэтому именно «Я» рассматривается как источник жизни человека; что личность самоценна и тождественна (в смысле понимания внешнего мира, через мир внутренний).
И при всем том сама личность может пониматься как много разных «Я» (разных субъектов в одном человеке): «Я-идеальное» и «Я-реальное», «Я-волящее» и «Я-пассив- ное», несколько «Я», реализующих противоположные или просто несовпадающие устремления и планы человека и т. д. Самонаблюдение показывает, что каждое такое «Я» нашей личности часто претендует на представительство всей личности в целом (манифестирует личность в целом), что разные «Я-личности» взаимодействуют или даже борются друг с другом, что равновесие или согласие разных наших «Я» не всегда достижимо. Но ситуация еще сложнее: помимо личности, в человеке действуют и другие начала. Например, телесность (чувство боли, половое чувство, чувство голода или насыщения, физические силы, энергетические потенциалы организма и т. д.), родовая сущность человека (совпадение его с группой, сообществом, культурой), его духовная сущность (человек как воплощение духа и культа). Опять же на285
блюдения убеждают нас, что личность нередко вступает в конфликт с телесностью (например, подавляет ее; противоположная ситуация — культивирование телесности), что родовая сущность человека может влиять на личность, даже управлять ею (пример, «затмение разума» на почве религиозных или национальных раздоров), что эгоистическое начало в личности может конфликтовать с его духовной сущностью.
Но если это так, если в человеке действуют несколько равноценних сил и начал (разные «Я», телесность, родовая и духовная сущности), то можно предположить, что психотехнические устремления и усилия, если они не совпадают с общим движением (развитием) и ориентацией других начал, будут или успешно гаситься или парализоваться. В этом случае, действительно, психотехническая деятельность будет действовать вхолостую, не приведет к каким-либо изменениям в человеке, хотя вполне может обеспечивать компенсаторные функции личности, например, создавать условия для символической реализации устремлений человека к совершенствованию себя.
Если же, напротив, общая ориентация и движение начал и сил человека направлены именно к совершенствованию личности, то в этом случае психотехническая деятельность, направленная на подобное совершенствование, вольется в общий поток изменений, усиливая и поддерживая его. Но это значит, что в данном случае помимо психотехнических целей и усилий человек реализует и другие (личностные, родовые, духовные): он совершенствует свою личность, работает над собой, участвует в жизни общества и культуры. Следовательно, в этом случае психотехническая работа осмысленна и эффективна именно потому, что существует и разворачивается в более широком личностном и культурном контексте. Означает ли сказанное, что человек вообще не может изменить себя и что психотехническая работа ничего не дает? Вероятно, нет, я хотел обратить внимание на другое: насколько этот процесс сложный и негарантированный. Еще одна сторона этой проблемы состоит в том, что для того чтобы работа в отношении себя стала возможной и реально 286
помогла, человек, вероятно, должен пережить глубокий кризис, преодоление которого невозможно без внутреннего духовного переворота и часто помощи других людей.
В этом пункте естественно перейти к рассмотрению понимания здоровья, обусловленного уже духовно-экологическим дискурсом. Но сначала рассмотрим один пример. В статье «Навязчивости и “падшая вера”» психотерапевт П. В. Волков описывает удачный опыт помощи своему пациенту, страдавшему тревожностью и ритуалами навязчивости (например, он не мог начать никакого дела, не сделав предварительно что-либо три раза), на основе метода, который он называет «аналитической вершиной психотерапии». «Для целебного эффекта, — пишет П. Волков, — нужно было что-то более глубокое: душевное изменение в пациенте, изменение целостное, затрагивающее всю душу, а не только разум» [18. С. 69]. Начал работу П. Волков достаточно традиционно: он анализирует симптомы своего пациента и его личность. «Пациент, — пишет П. Волков, — мучился сложным психопатическим расстройством, страдая неотступной тревожностью по поводу различных жизненных обстоятельств». Но одновременно П. Волков отказывается от обычной психотерапевтической позиции знающего и направляющего, решив, что он будет рассматривать и обсуждать проблемы пациента вместе с ним самим. «Терапевт должен выступать для пациента партнером по бытию, «сопутчиком», в какие-то моменты сталкером. Для этого желательно, чтобы и сам терапевт был духовно близок к этому типу пациентов» [18. С. 61-62].
Начав совместное движение, П. Волков вместе с пациентом скоро приходят к выводу, что хотя ритуалы навязчивости для пациента инородны, но все же некий смысл имеют: после их осуществления на душе у пациента становится спокойнее. Этому выводу предшествовало, например, обсуждение числа три как важного символа культуры и условия поведения личности. Интересно, что подобное переосмысление представления о навязчивом ритуале, по убеждению П. Волкова, только начало пути, не затрагивающее личность и душу
287
пациента. Нужен был следующий шаг осмысления, относящийся уже именно к личности и ее мироощущению. Нужно было за что-то ухватиться, чтобы подобраться к вершинным сущностям пациента.
Такой нитью, кончиком, позволившим размотать весь клубок, П. Волков сделал идею тревоги пациента. Следующий шаг — поиск идей, знаний, мировоззрения, позволяющих выйти к новому мироощущению, в рамках которого преодолевались тревога и неуверенность. «Мы стали раздумывать о первоосновах бытия. Обратившись к дзенбуддиз- му, пациент несколько раз испытал чудесное, в словах мало- описуемое состояние интуитивного проникновения в сущность бытия. Ему стало ясно, что в своем символико-магическом отношении к бытию он проходил мимо этих первооснов, что его склонность к Вере вырождалась в суеверие. Такая философски-аналитическая прояснительная работа и оказалась психотерапевтически целебной. В новом состоянии сознания, в новом мировоззрении, к которому пациент бессознательно тянулся и которое искал, уже легко было отказаться от символико-магических ритуальных заклинаний, как им противопоставлялось отношение глубинно-проникновенного доверия к жизненным первоосновам. В итоге пациент нашел в себе духовную решимость отставить в сторону ритуалы. Вместо них в душе жило другое, более подлинное, глубокое, сложное и проникновенное религиозное отношение. Ощущая свою свободу от навязчивостей, он испытывал радость избавления от пут, радость, что оказался способным к духовному освободительному повороту, и это только усиливало новое состояние сознания.
Он испытывал неизъяснимое наслаждение, что нашел более свободное отношение к жизни. Свобода всегда была меккой его желаний, и если бы не его глубокое, философическое стремление к Свободе, то, я полагаю, не произошло бы в нем этого поворота. Ведь ради желанного чувства духовной Свободы он и отставил в сторону ритуалы, порвал навязчивые путы. Большое значение тут имеет и побуждающе-вдох- новляющее философическое соучастие психотерапевта. Та288
ким образом, лечебное воздействие этого мировоззренческого поворота я бы отнес к сфере аналитической — но не глубинной, а вершинной — психотерапии, апеллирующей к самосознанию и перестраивающей вершины личности» [18. С. 68-70].
Прокомментируем опыт, описанный П. Волковым. Какой тип содержания подлежал осмыслению в данном случае? Его довольно трудно охарактеризовать, но это во всяком случае не процессы и структуры психики или отдельные реальности, как в случае психоанализа. Можно предположить, что переосмыслению подверглись фундаментальные смыслы и ценности, определяющие структуру личности. Неслучайно замечание, сделанное П. Волковым в самом конце статьи. «Насколько эффективной,— спрашивает он,— окажется эта психотерапия для пациента в дальнейшем? Пока он будет сохранять новое мировоззрение, ритуалов не будет. Если будут «откаты» назад, то ритуалы возобновятся. Не исключено, что это мировоззрение подвергнется кризису, что оно омрачится какими-то тучами, но того, что сделано, не отменить, хотя этого и может оказаться недостаточно» [18. С. 70].
П. Волковым была использована философская и культурологическая концепция, включающая в себя и ряд других представлений — психологических, семиотических, аксиологических. С этой точки зрения психологическая помощь в варианте П. Волкова, как, кстати, и В. Франкла, обращена не к психике, а к душе или личности человека. И весьма существенны поэтому требования «целостного изменения, затрагивающего всю душу», «изменения мировоззрения и мирочув- ствования».
Ясно, что выздоровление в данном случае не предполагало знаний о том, как устроен пациент и что собой представляет его заболевание (т. е. П. Волков, вероятно, не признает принцип прозрачности). Выздоровление произошло как бы случайно (выступило в качестве побочного процесса совместного движения), и даже, как ни странно, выздоровление не было основной целью работы П. Волкова. В принципе, хотя вероятность такого исхода весьма мала, в резуль289
тате подобной работы и движения могло произойти не улучшение состояния психического здоровья, а, скажем напротив, ухудшение. Другими словами, я хочу сказать, что в рамках духовно-экологического дискурса духовная и психотехническая работа прямо не связаны с выздоровлением, оно может выступить (но не всегда) всего лишь побочным процессом этой работы. Хотя сторонники этого дискурса утверждают, что правильная жизнь — залог здоровья, они не ставят во главу угла исцеление или поддержание здоровья человека. Их цель другая — именно правильная жизнь, понимаемая, конечно, каждым по-своему (в одном случае это религиозное или эзотерическое спасение, в другом — нравственная жизнь и служение людям, в третьем — достойное поведение и общественно значимые деяния и т. п.).
Но может быть, все же можно понять, какая именно правильная жизнь способствует здоровью и что в такой жизни здоровью способствует? К сожалению, ответить на эти вопросы трудно или даже невозможно. Для Кафки правильная жизнь заключалась в литературном творчестве, для Кришнамурти — в обретении подлинной реальности, а для меня, например, правильная жизнь заключается еще в чем-то. Причем, для Кафки хорошее физическое самочувствие не шло ни в какое сравнение с творчеством, Кришнамурти ценил его значительно выше, а для меня ощущение здоровья и хорошее самочувствие — несомненные ценности.
В принципе идеал моего здоровья таков: меньше болеть обычными заболеваниями, если заболел, то скорее выздоравливать, справляться с хроническими заболеваниями (т. е. стараться «блестяще приспособиться к данным дефектам»), не чувствовать старения, быть готовым к различным стрессам и экстремальным ситуациям, жить в ладу с собой, полноценно реализовать себя. Для осуществления этой «программы здоровья» я бегаю по утрам, делаю зарядку, стараюсь жить правильно, работаю с собой, обращаюсь в случае обычных и хронических заболеваний к врачам и пр. Однако должен признаться, что не программа оздоровления была исходной, а установка на правильную жизнь и попытка во290
плотить ее в жизнь. Реализуя установку на правильную жизнь (так, где-то после тридцати я встал на путь духовной работы, начал заниматься карате и до сих поддерживаю физическую форму), вскоре заметил, что и мое здоровье постепенно стало улучшаться. Проанализировав, что я делаю и куда двигаюсь, я сформулировал свою программу здоровья.
В принципе она опирается на следующую классификацию заболеваний и лечения. Есть, так сказать, «поломки» организма и психики — неизлечимые или хронические заболевания (психические, гипертония, порок сердца, ухудшение зрения и т. д). Для их «лечения» необходимы лекарства, технические протезы (очки, слуховые аппараты, искусственные стимуляторы и т. п.), более широко, то, что я назвал «блестящим приспособлением к дефектам». Второй класс заболеваний — это «трансформации процессов функционирования». Это обычные или хронические заболевания, которые поддаются лечению и излечиваются именно за счет перевода организма и психики на другие режимы функционирования. Сюда относится, например, и лечение обычного гриппа, и гомеопатическое лечение, но в пределе, и лечение по методу Назлояна. К третьему классу относятся «заболевания», которые поддаются излечению, только если человек работает со своим сознанием и меняет образ жизни.
Но ведь очевидно, что если кто-то другой встанет на путь правильной жизни, то он будет понимать, что собой представляет правильная жизнь и здоровье, иначе, чем я. И если этот некто захочет включить в свою правильную жизнь программу здоровья и проанализирует для этого свой опыт, он, вероятно, тоже сможет, как и я, сформулировать собственный идеал и программу здоровья. И они явно будут отличаться от моих. Однако в любом случае нельзя пойти с другого конца, т. е. ставить правильную жизнь в зависимость от своего оздоровления. Тогда не стоит ожидать ни правильной жизни, ни здоровья. В обратном же случае, вероятнее всего, здоровье рано или поздно придет. Более того, если вы болеете, то это один из показателей (но только один) того, что вы живете все еще неправильно.
291
Каков сценарий дальнейшего развития событий? Останется ли человек заложником технократического и медицинского дискурсов или же начнет жить в соответствии с духовно-экологическим дискурсом, подчинив медицинские и другие технологии контексту правильной жизни? Основной вопрос здесь таков: сможет ли средний человек (отдельные личности делают это и сейчас) совершить подобный кардинальный поворот в рамках существующей техногенной цивилизации и сложившегося образа жизни? Второй вопрос: существует ли такой демиург, которому под силу изменить цивилизацию? Оба эти вопроса, естественно, требуют серьезного обсуждения, и они обсуждаются в философии. Мое же мнение таково. Каждый человек, осознавший тупики нашей цивилизации и принявший ответственность за себя, своих близких и отчасти будущие поколения, может стать таким демиургом. Новая цивилизация начинается с поступков отдельных людей, способных ответственно осознавать происходящее и изменять собственную жизнь. Согласен, это сделать неимоверно трудно (смотри выше размышления о психотехнике), но, я думаю, другого пути у современного человека, если, конечно, он хочет остаться человеком, нет.
Список литературы
1. Абеляр П. История моих бедствий. — Μ., 1959.
2. Августин А. Исповедь. — Μ., 1992.
3. Августин А. О граде божием. — Киев, 1905. — Ч. 4.
4. Апресян Р. Г. Свобода // Новая философская энциклопедия: В 4 т. — Μ., 2001. -Т. 3.
5. Апулей Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии //Апология. Метаморфозы. Флориды. — Μ., 1960.
6. Аристотель Метафизика. — Μ.; Л., 1934.
7. Аристотель О душе. — Μ., 1937.
8. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — Μ., 1974.
9. Ахутин А. В. Открытие сознания // Человек и культура. — Μ., 1990.
10. Бассин Ф. В. Значащие переживания и проблема собственно психологической закономерности // Вопросы психологии. — 1972. - № 3.
11. Баткин Л. Μ. Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и другими // Человек и культура. — Μ., 1990.
12. Бахтин Μ. Проблемы поэтики Достоевского. — Μ., 1972.
13. Бахтин Μ. Μ. Эстетика словесного творчества. — Μ., 1979.
14. Бердяев Н. А. Эрос и личность (философия пола и любви). — Μ., 1989.
15. Библер В. С. Образ простеца и идея личности в культуре средних веков // Человек и культура. — Μ., 1990.
16. Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. — СПб., 1914.
17. ВитулкасД. Новая модель здоровья и болезни. — Μ., 1997.
18. Волков П. В. Навязчивости и «падшая вера» // Московский психотерапевтический журнал. — 1992. — № 1.
19. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. — Л., 1930.
20. Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса // Собр. соч.: В 6 т. — Μ., 1982. — T. 1.
21. Выготский Л. С. Лекции по психологии // Собр. соч.: В 6 т. — Μ., 1982. — Т. 2: Проблемы общей психологии.
293
22. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. — Μ., 1960.
23. Ганеман С. Органон врачебного искусства. — Μ.: Фирма «Атлас», 1992.
24. Гельмгольц Г О восприятиях вообще // Хрестоматия по ощущению и восприятию. — Μ., 1975.
25. Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. — Μ., 1999.
26. Гиппенрейтер Ю. Б. Глаз как двигательный орган // Восприятие и деятельность. — Μ., 1967.
27. Давыдов В. В. Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология / В. В. Давыдов, Л. А. Радзиховский // Современная высшая школа. — 1984. — № 3(47).
28. Давыдов Ю. Общество // Новая философская энциклопедия: В 4 т. - Μ., 2001.-Т. 3.
29. Долгопят Е. Черная дыра // Юность. — 1995. — № 11.
30. Канке В. А. Семиотическая философия. — Обнинск, 1997.
31. Кант И. Критика практического разума // Соч.: В 4 т. — Μ., 1997.-Т.З.
32. Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. — Μ., 1964. — Т. 3.
33. Кантор В. В поисках личности: опыт русской классики. — Μ., 1994.
34. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре // Культурология XX век: Антология. — Μ., 1995.
35. Клочков И. С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. — Μ., 1983.
36. Компанейский С. Л. Псевдоскопические эффекты // Ученые записки. - Л., 1940. - T. XXXIV.
37. Консторум С. Катамнез одного случая шизофрении // Московский психотерапевтический журнал. — 1992. — № 1.
38. Кудрин Б. И. Разговор технария и гуманитария в поезде «Лена — Москва» о философии техники и не только о ней / Б. И. Кудрин, В. Μ. Розин. — Μ., 1999.
39. Лев-Старович 3. Секс в культурах мира. — Μ., 1991.
40. Леон-Портилья Μ. Философия нагуа. — Μ., 1961.
41. Леонтьев А. Я. Проблемы развития психики. — Μ., 1972.
42. Леонтьев А. Н. О путях исследования восприятия // Восприятие и деятельность. — Μ., 1976.
294
43. Логвиненко А. Д. Перцептивная деятельность при инверсии сетчатого образа // Восприятие и деятельность. — Μ., 1976.
44. Лурия А. Р. Ощущения и восприятие. — Μ., 1975.
45. Льюис К. Любовь // Мир и Эрос. — Μ., 1991.
46. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. — Μ., 1988.
47. Малиновский Б. Научная теория культуры. — Μ., 1998.
48. Мелетинский Е. Μ. Поэтика мифа. — Μ., 1976.
49. Mud Μ. Культура и мир. — Μ., 1988.
50. Назлоян Г. Μ. Зеркальный двойник. Утрата и обретение. Психотерапия методом скульптурного портретирования. — Μ., 1994.
51. Неретина С. С. Верующий разум. К истории средневековой философии. — Архангельск, 1995.
52. Неретина С. С. Время культуры / С. С. Неретина, А. П. Огурцов. — СПб., 2000.
53. Пастернак Б. Доктор Живаго. — University of Michigan Press, United States of America, 1958—1959.
54. Петренко В. Ф. К вопросу о семантическом анализе чувственного образа // Восприятие и деятельность. — Μ., 1976.
55. Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // История эстетики. — Μ., 1962. — Т.1.
56. Платон Апология Сократа // Собр. соч.: В 4 т. — Μ., 1994. — Т. 1.
57. Платон Пир // Соч.: В 4 т. — Μ., 1993. — Т. 2.
58. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. — Μ., 1974.
59. Рачков В. П. Техника и ее роль в судьбах человечества. — Свердловск 1991.
60. Розин В. Μ. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. — Μ., 1996.
61. Розин В. Μ. Культурология. — Μ., 1998—2002.
62. Розин В. Μ. Любовь и сексуальность в культуре, семье и во взглядах на половое воспитание. — Μ., 1999.
63. Розин В. Μ. Путешествие в страну эзотерической реальности. Избранные эзотерические учения. — Μ., 1998.
64. Розин В. Μ. Семиотические исследования. — Μ., 2001.
65. Розин В. МЭзотерический мир. Семантика сакрального текста. — Μ., 2002.
66. Столин В. В. Исследование порождения зрительного пространственного образа // Восприятие и деятельность. — Μ., 1976.
67. Сэтон-Томсон Э. Рассказы о животных. — Μ., 1983.
68. Тэйлор Э. Первобытная культура. — Μ., 1939.
295
69. Улицкая Л. Казус Кукоцкого. — Μ., 2001.
70. Фараджев К. В. Отчаяние и надежды Франца Кафки // Человек. — 1998. — № 6.
71. Фрейд 3. Очерки по психологии сексуальности. — Μ., 1989.
72. Фуко Μ. Воля к истине. — Μ., 1966.
73. Фуко Μ. Что такое Просвещение // Вопросы методологии. —
1996. - № 1-2.
74. Хюбнер К. Истина мифа. — Μ., 1966.
75. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хъелл, Д. Зингер. — Μ.; Л.; Харьков, 1997.
76. Цапкин В. Н. Единство и многообразие психотерапевтического опыта// МПЖ. - 1992. - № 2.
77. Чешев В. В. Человек как мыслящее существо. — Томск, 1999.
78. Шапинская Е. И. Дискурс любви. Любовь как социальное отношение и ее репрезентация в литературном дискурсе. — Μ.,
1997.
79. Шерток Л. Гипноз — это толпа не двоих // Человек. — 1990. — № 1.
80. Щедровицкий Г. П. О методе семиотического исследования знаковых систем // Семиотика и восточные языки. — Μ., 1967.
81. Эртель Μ. А. Древний Восток // Очерки всеобщей истории. — Μ.: Польза., 1910.
82. ЮмД. Исследование о человеческом разумении. — Μ., 1995.
83. Allport Fx. Theories of Perception and the concept of structure. — N. J.: Weling, 1955.
84. Helmholtz H. Von. Handbuch der Physiologiscen Optik. — Hamburg and Zeiprig, 1910. — Bd. 3.
85. Jaspers K. Philosophie. — Berlin: Gottingen: Heidelberg, 1956. — Bd. I.
86. Rattansi P. The social interpretation of science in seventeen Centura // Science and societi, 1600—1900. — L., 1972.
296
Глоссарий
Антропология. Учение о человеке, рассматриваемом или с точки зрения многих научных дисциплин, или в рамках определенного подхода, например культурологического (культурная антропология). Включает вопросы происхождения и эволюции человека, обсуждение его природы и места в культуре и социуме, а также современные проблемы, вставшие перед человеком и обществом.
Базисный культурный сценарий. Система мифологических, религиозных или рациональных представлений, определяющая основной строй культуры, остающаяся неизменной в течение жизни данной культуры. Состоит из постояного ядра и периферийных представлений, которые в отличие от ядра могут меняться. Базисный культурный сценарий формируется при разрешении жизненно важных для общества проблем («витальных катастроф») за счет изобретения новых семиотических образований (прежде всего, схем), задающих новые виды деятельности и реальности.
Гуманитарный подход. Противопоставляется естественно-научному познанию. В его рамках анализируются тексты культуры и дается научное объяснение различным культурным и психическим феноменам. Особенность гуманитарного подхода — зависимость познания от ценностей и позиции исследователя, а также принадлежность исследователя и исследуемого объекта, например человека, к одной реальности (гуманитарной).
Дискурс. Метод описания изучаемого явления, сочетающий в себе три момента: анализ формы высказывания о нем, особенности (логику) размышления по поводу этого явления и 297
подход исследователя. Примером являются дискурсы сексуальности Μ. Фуко. Рассматривая сексуальность, Фуко анализирует, как о сексуальности говорят, как ее мыслят, а также какие ценности (теоретические и прагматические) исследователи при этом хотят реализовать.
Диспозитив. Целостное, но гетерогенное (неоднородное) представление изучаемого явления, включающее в себя как теоретические составляющие, заимствованные как из разных теоретических дисциплин (социологии, биологии, антропологии, теории деятельности и т. д.), так и составляющие, относящиеся к социальному действию (проблемы, идеалы социального действия, программы действия и пр.). В своих работах Фуко рассматривает диспозитив сексуальности, обсуждая, с одной стороны, теоретический состав сексуальности (например, биологический, социальный и эпистемологический аспекты этого явления), с другой — почему нас не устраивает существующее отношение к сексу и как его можно изменить.
Естественно-научный подход. Образцом для познания здесь выступают естественные науки. В его рамках изучаемые явления, включая человека, рассматриваются как объекты первой природы. Ориентирован на практики инженерного типа. Например, реализуя естественно-научный подход в психологии, Л. С. Выготский утверждал, что психология представляет собой естественную науку, должна обслуживать психотехнику, в которой возможно управление человеческим поведением.
Культура. Один из основных объектов изучения культурологии. В разных направлениях и концепциях культурологии культура трактуется по-разному: как деятельность и изобретения человека, как традиции, как семиозис, как социальный организм, как система норм, обеспечивающая трансляцию и воспроизводство общественной деятельности, и т. д. В данной книге принимается семиотическая и социаль- но-организмическая трактовки культуры.
298
Личность. Человек, хотя и входящий в культуру, тем не менее действующий самостоятельно, вырабатывающий собственные представления о мире и самом себе. Личность формируется, начиная с античной культуры, но только в культуре Нового времени становится массовым явлением. В социальном отношении современная личность поддерживается такими институтами, как право, философия, наука, искусство, в психологическом — рациональными и художественными концепциями человека, а также рядом способностей (самосознания, рефлексии, планирования, самооценки и др.).
Психическая реальность. Система про-живаемых и пе- ре-живаемых человеком событий, связанная определенной логикой и условностью. Человек осуществляет свою жизнедеятельность в определенной реальности (сновидений, искусства, игры, познания и др.); выйдя из одной реальности, переходит в другую. Психические реальности формируются, начиная с подросткового возраста (в филогенезе, начиная с античной культуры), когда человек учится строить самостоятельное поведение, учитывая различия внешних и внутренних условий.
Психотехника. Направленная на человека практика воздействий или изменений. В той или иной степени использует знания о человеке (психологические, биологические, социальные, антропологические). К психотехнике можно отнести и педагогику, и психологические практики, и самосовершенствование, и эзотерические техники кардинальной переделки себя.
Семиозис. Семиотически представленные тексты культуры, образующие единство с точки зрения человека или культуры в целом.
Семиотика. Наука о знаках и других семиотических образованиях (схемах, знаниях, символах). Семиотика анализирует происхождение и функционирование семиотических обра299
зований и основные их типы, например знаки-модели, знаки-символы, знаки-обозначения, приватные схемы, коллективные схемы, онтологические схемы, направляющие схемы и др. Семиотика помогает понять, как человек действует и открывает новую реальность, как он связан с культурой.
Телесность. План человека, в котором сходятся психические и биологические закономерности. Под влиянием психики и семиозиса биологические структуры и процессы человека организуются на новой телесной основе. Если тело как биологический организм — одно, и в течение жизни оно развивается и затем стареет, то телесных структур у одного человека может быть много (тело музыканта, врача, мужчины, любимого и т. д.), и они меняются вслед за изменением образа жизни и психики.
Социальный индивид. Человек, принадлежащий определенной культуре и действующий в соответствии с основными ее реалиями (социальными институтами, базисными культурными сценариями, традициями и обычаями). В отличие от личности не имеет отличных от принятых в данной культуре собственных представлений и самостоятельного поведения.
Социум. Предельное представление социальной действительности, дополнительное к понятию культуры. В данной книге социум синонимичен социальной жизни, а отдельные культуры понимаются как конкретные формы социальной жизни.
Способности. Психологически — это субъективные условия успешного осуществления определенного вида деятельности и поведения человека. В данной работе под способностями понимаются структуры деятельности и семиозиса, присвоенные человеком и истолкованные как его натуральные свойства. Поскольку в очередной культуре одни деятельности и семиозисы уходят, а другие складываются (те же, кото300
рые переходят в новую культуру, видоизменяются), не остаются неизменными и способности человека. Одни ушли в вечность (например, способности, необходимые для общения с духами и богами), другие возникли (например, способность рефлексии), третьи видоизменились, причем неоднократно (память, воображение, восприятие, мышление).
Содержание
Введение. Два взгляда на антропологию 3
Глава первая. Основания антропологии 12
1. Соотношение в культуре биологического и социального планов 12
2. Человек как субстрат культуры и как латентная личность 18
3. Человек как семиотическое существо 26
4. Происхождение человека 29
Глава вторая. Эволюция человека 40
1. Человек древнего мира 40
2. Становление античной личности 61
3. Становление и особенности личности в Средние века 72
4. Ренессансная личность 91
5. Понятие «личность» в работах И. Канта 96
6. Кризис европейской культуры и личности 100
7. Проблема личности на рубеже третьего тысячелетия 103
Глава третья. Способности человека 114
1. Память 114
2. Воображение 137
3. Восприятие 146
4. Мышление 179
302
Глава четвертая. Духовно-телесные стороны жизни человека 192
1. Любовь 192
2. Анализ романа Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» 197
3. Креативная любовь 207
4. Психика и телесность 212
5. Обособление и природа секса 226
Глава пятая. Здоровье как антропологический феномен 232
1. Дискурсы здоровья 232
2. Проблематизация и понятие здоровья 241
3. Здоровье и заболевание с точки зрения учения о психических реальностях 254
4. Метод маскотерапии Г. Назлояна 265
5. Психотехнический аспект проблемы здоровья 281
Список литературы 293
Глоссарий 297
Учебное издание
Розин Вадим Маркович
Человек культурный
Введение в антропологию
Технический редактор
И.Л. Карюков
Корректоры
И.И. Шевцова
Е.П. Колтакова
Компьютерная верстка
Е.А. Микерова
Сдано в печать 16.05.2003. Бумага офсетная. Формат 60×84/16. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,73. Уч.-изд. л. 14,27. Тираж 5000 экз. Заказ №4164.
Издательство Московского психолого-социального института
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а. Тел.: (095) 234-43-15, 958-17-74, доб. 111, 117
E-mail: publish@col.ru
Издательство НПО «МОДЭК»
394000, Воронеж, а/я 179. Тел.: (073-2) 49-87-35
E-mail: modek@modek.vsi.ru
Отпечатано с компьютерного набора в ФГУП «Издательско-полиграфическая фирма “Воронеж”» 394000, Воронеж, пр-т Революции, 39