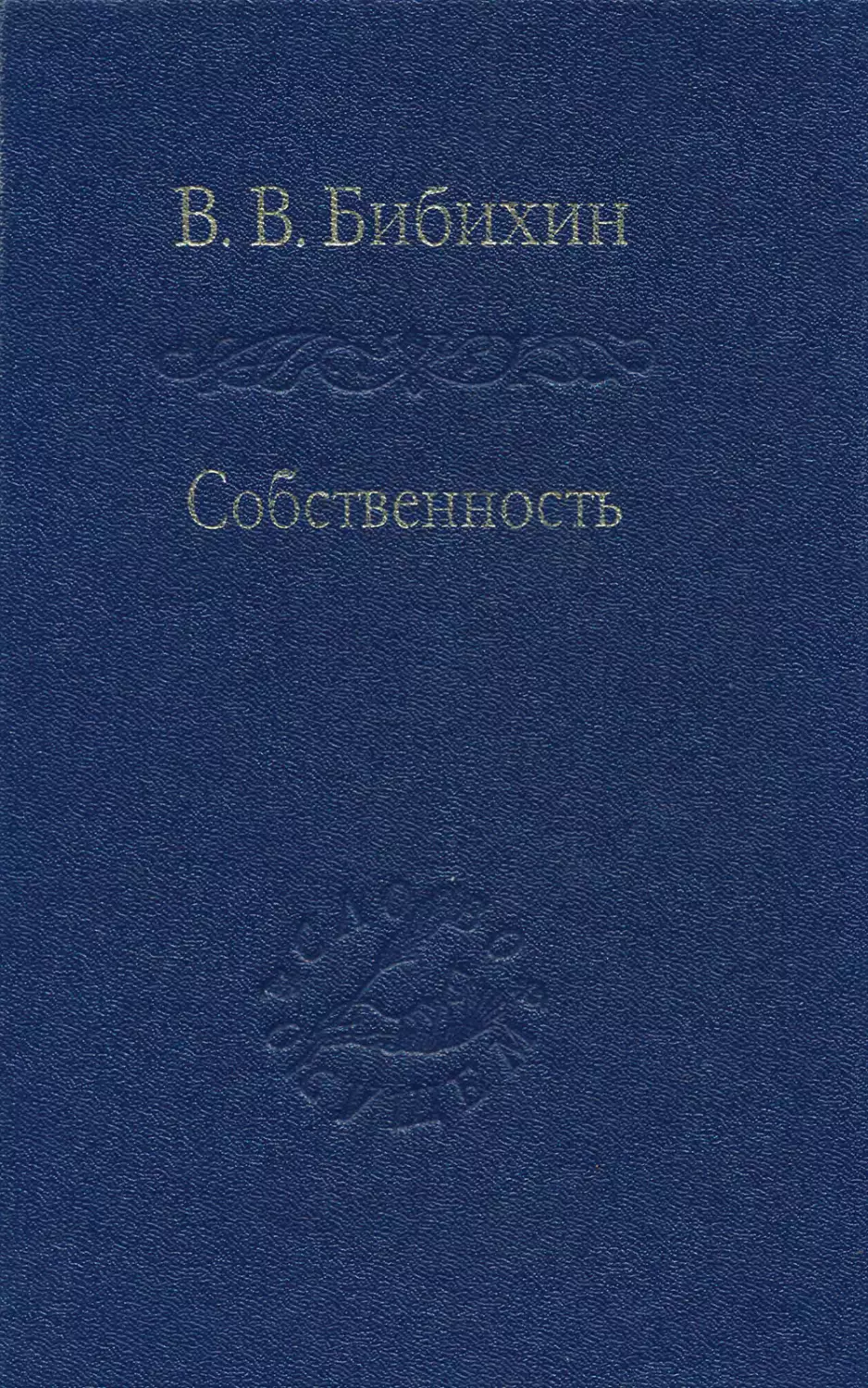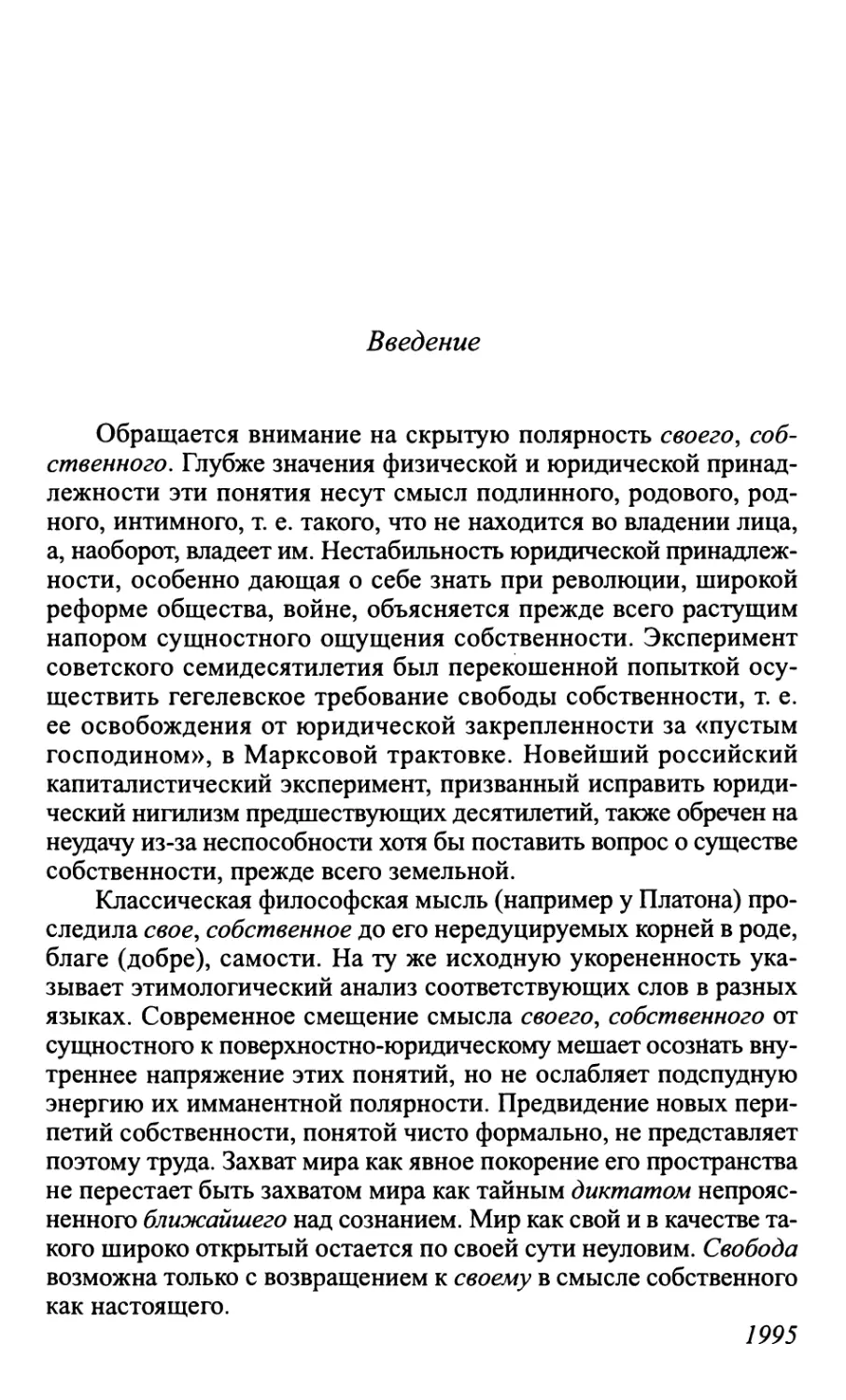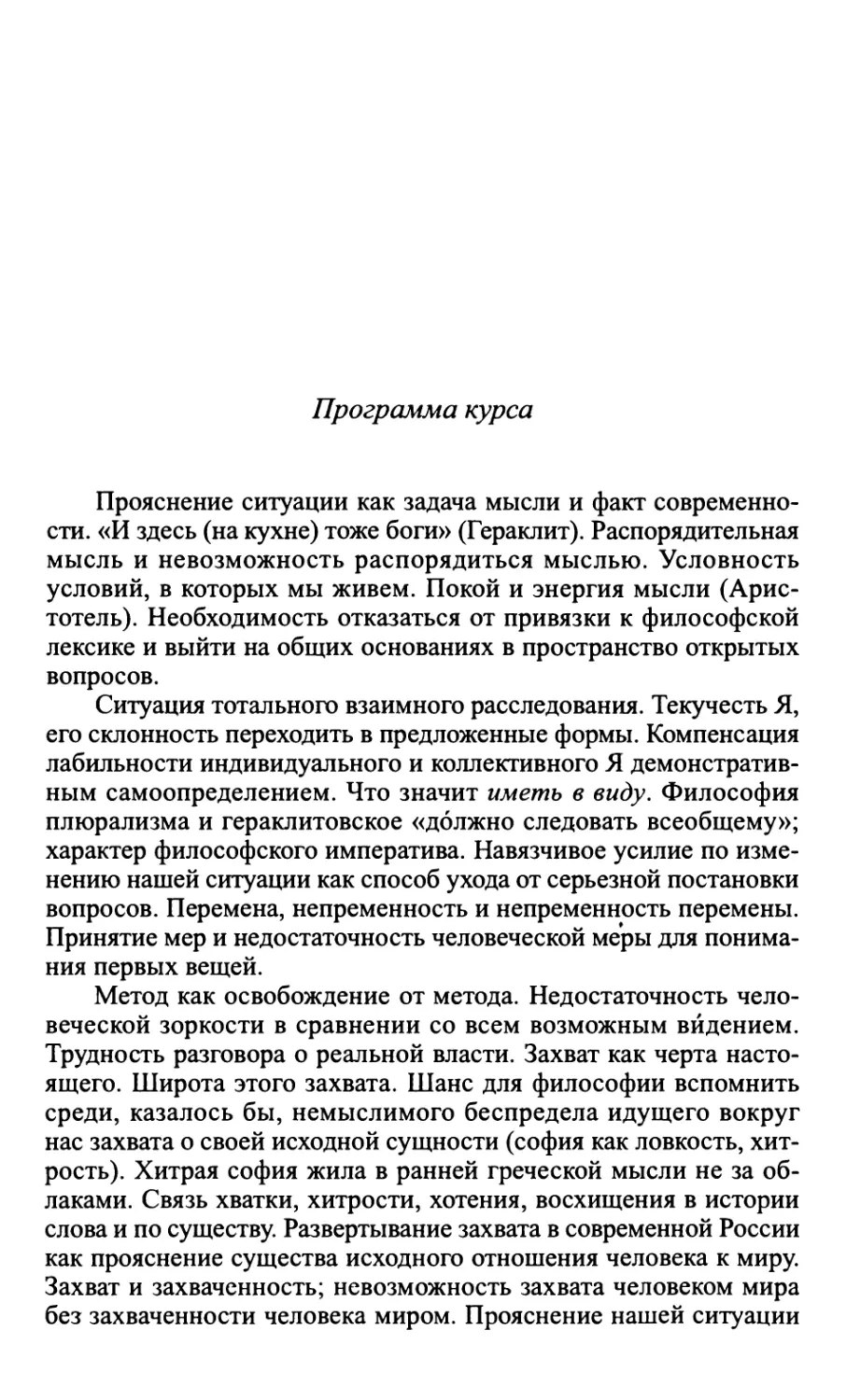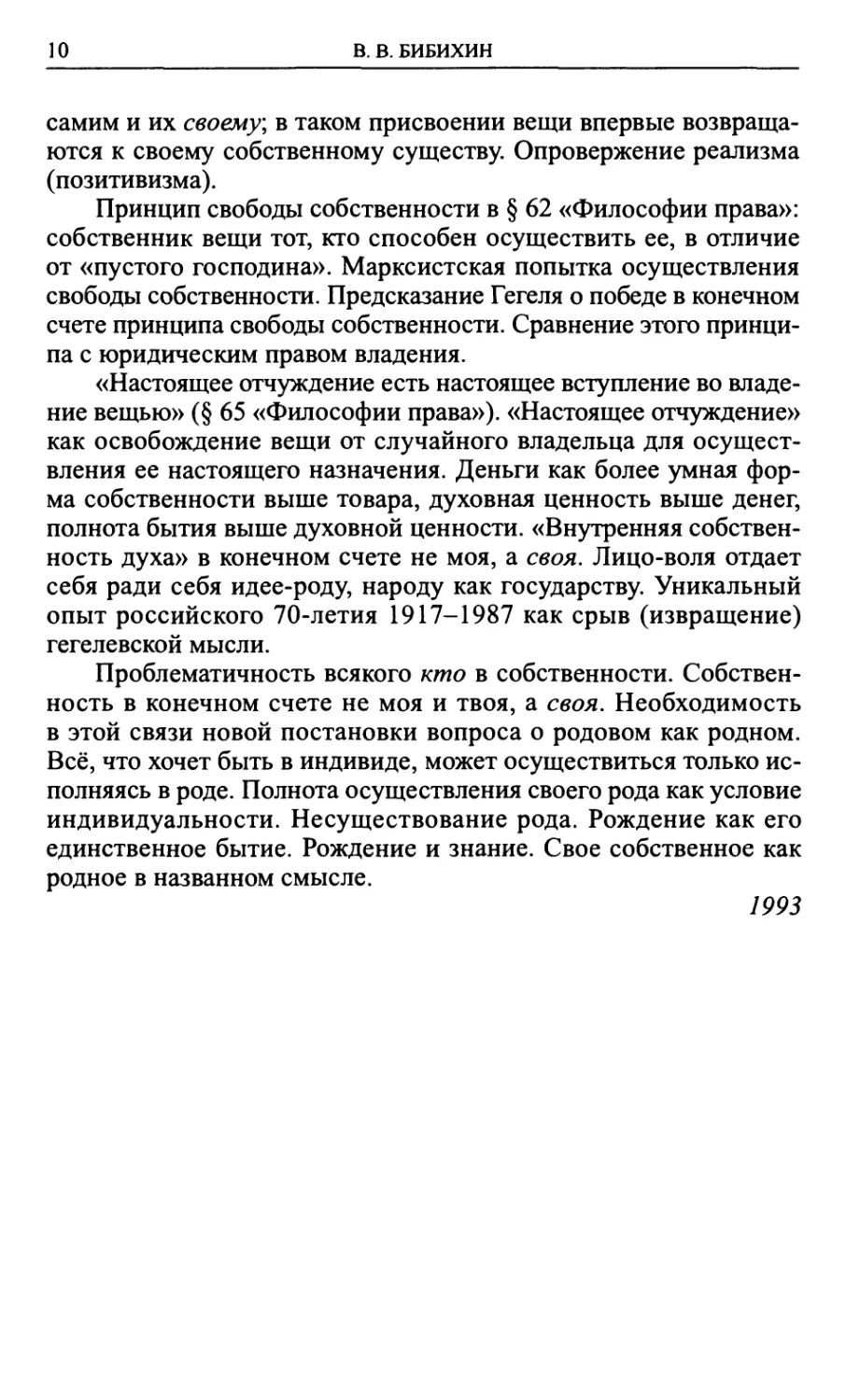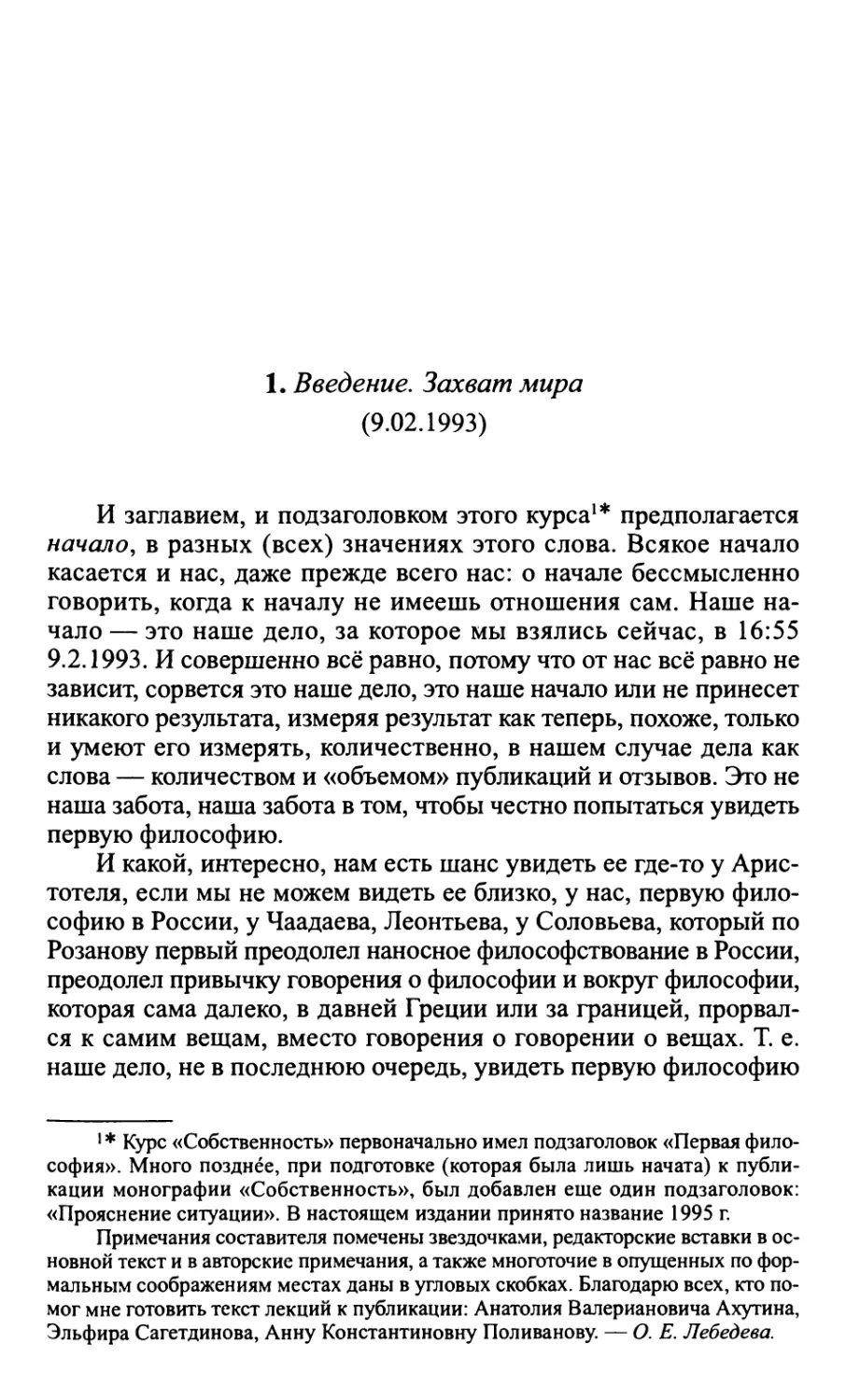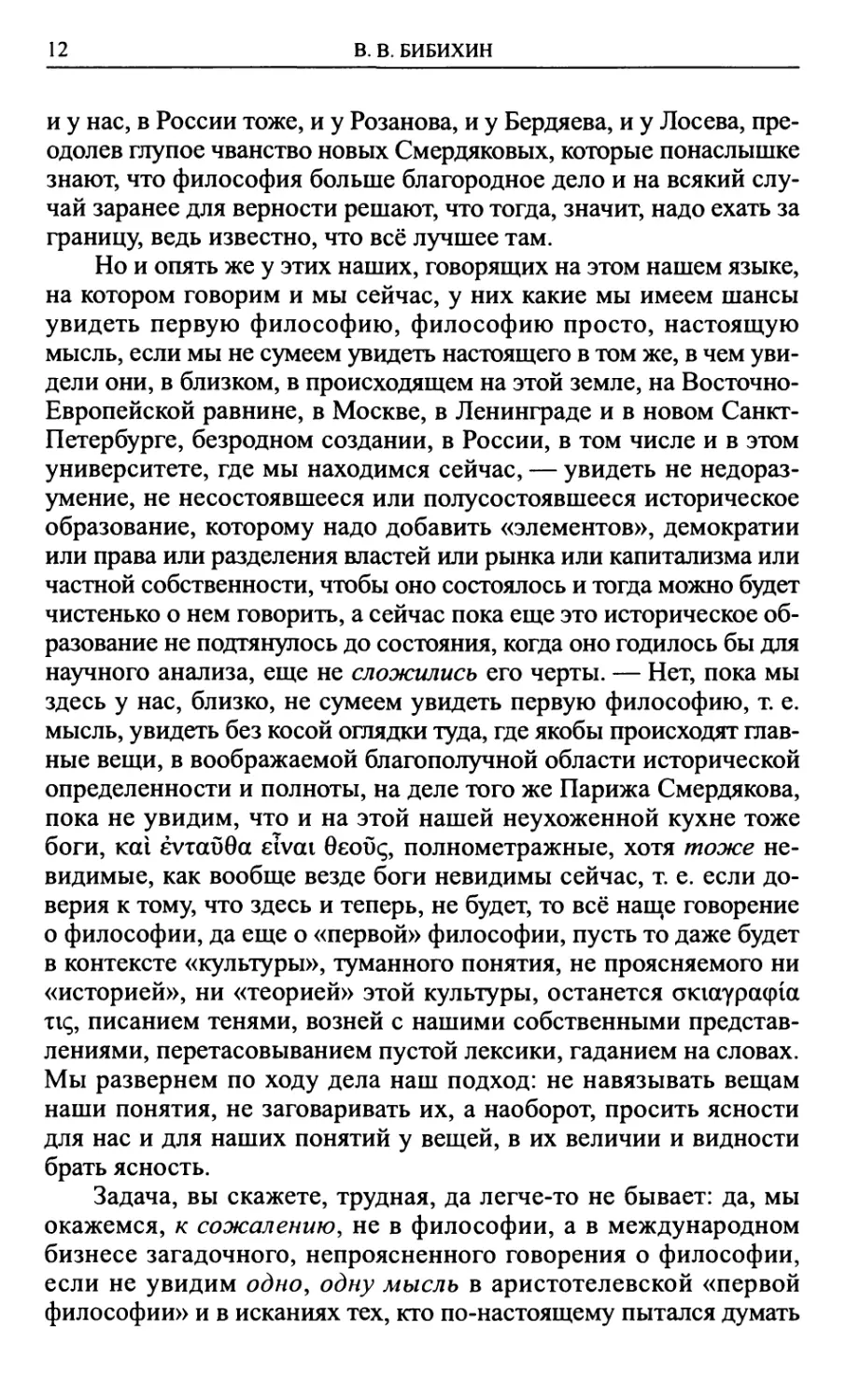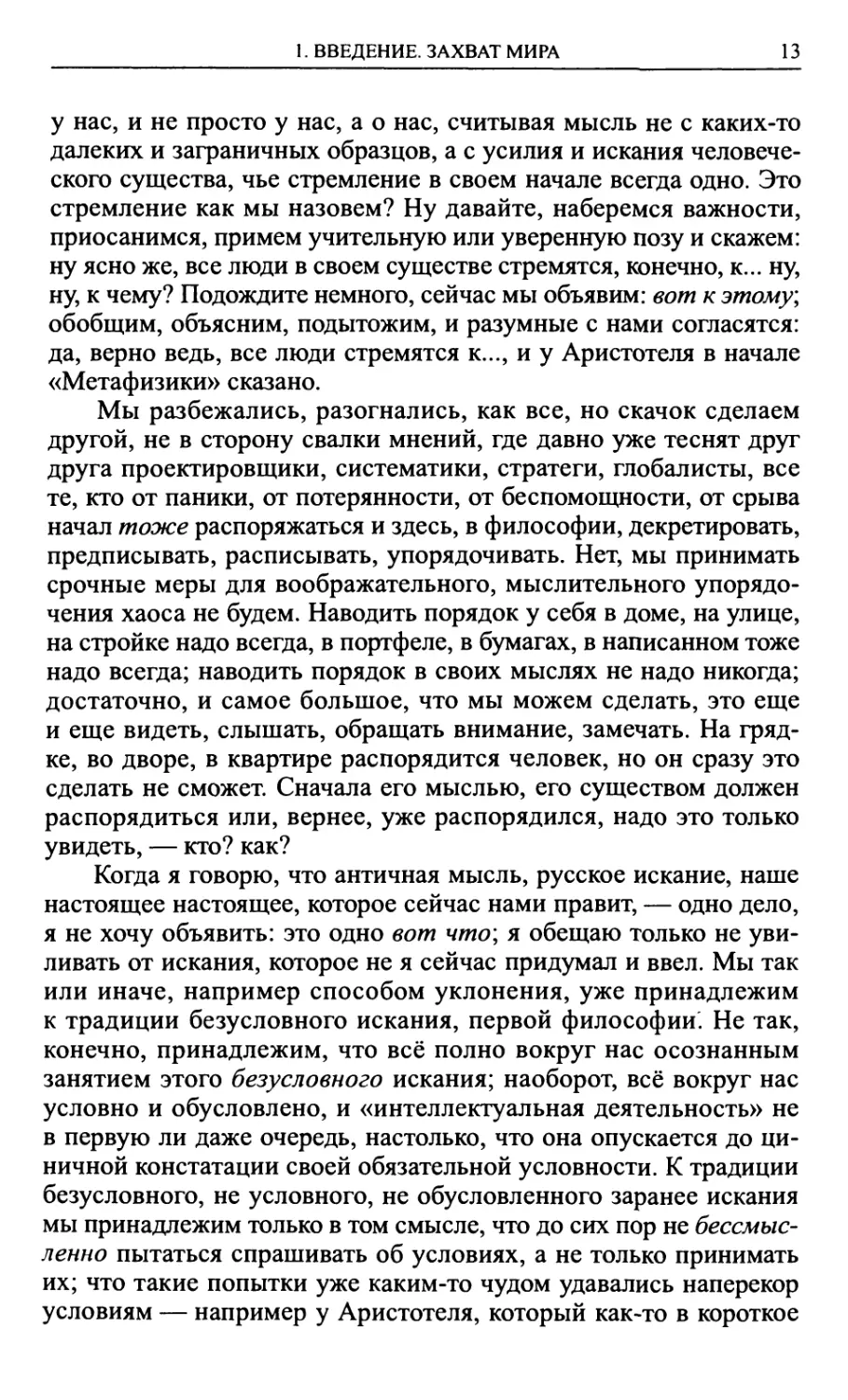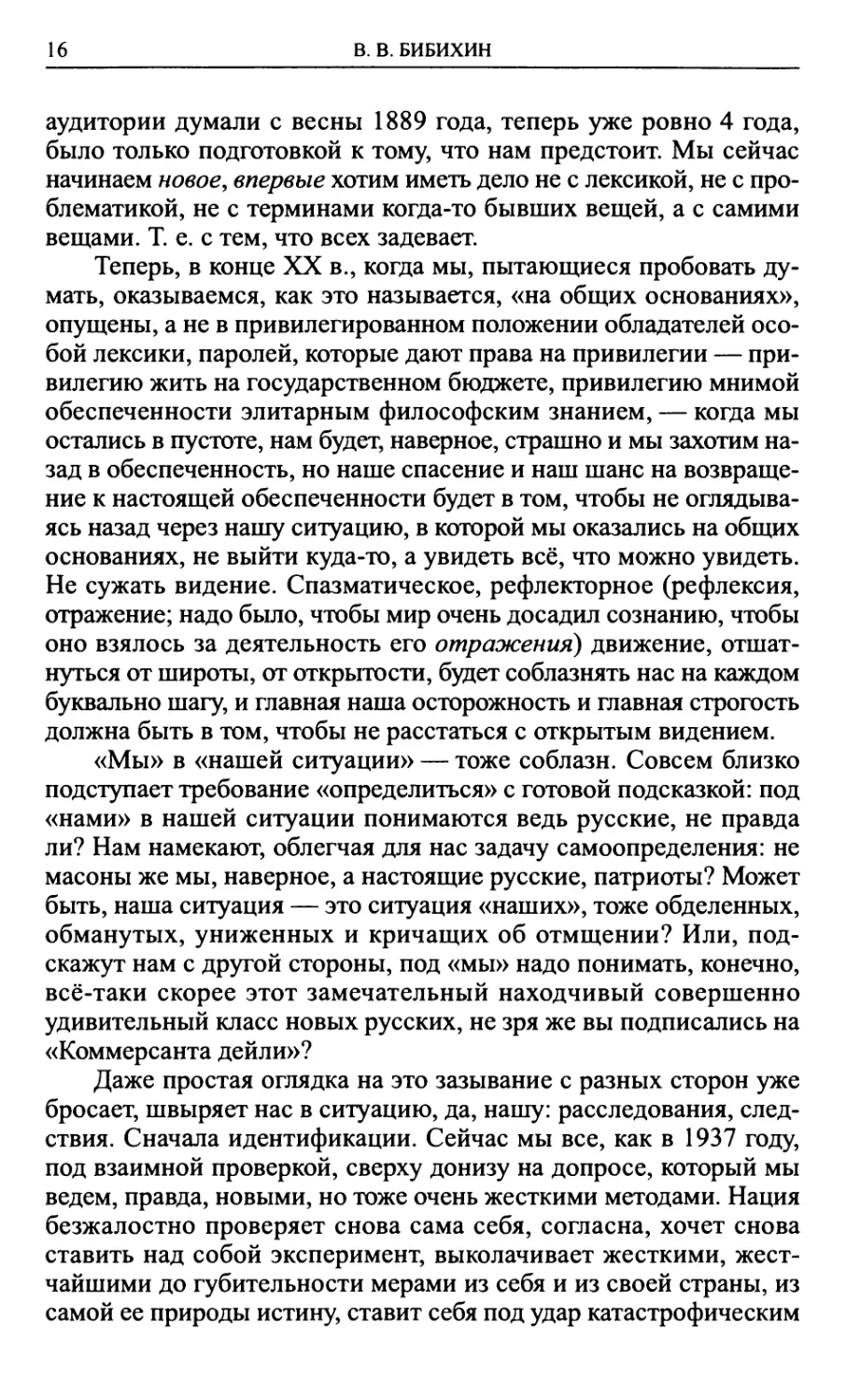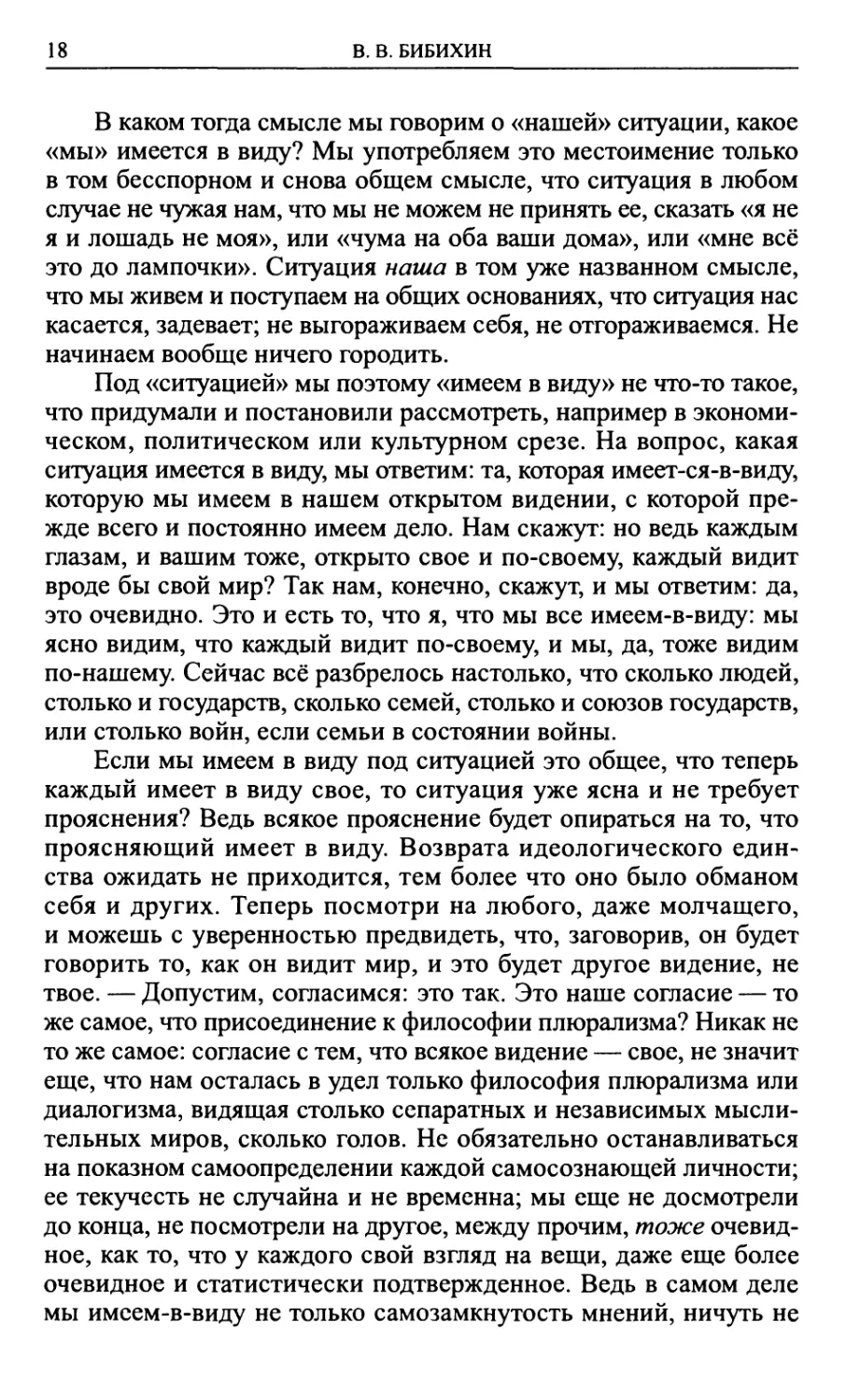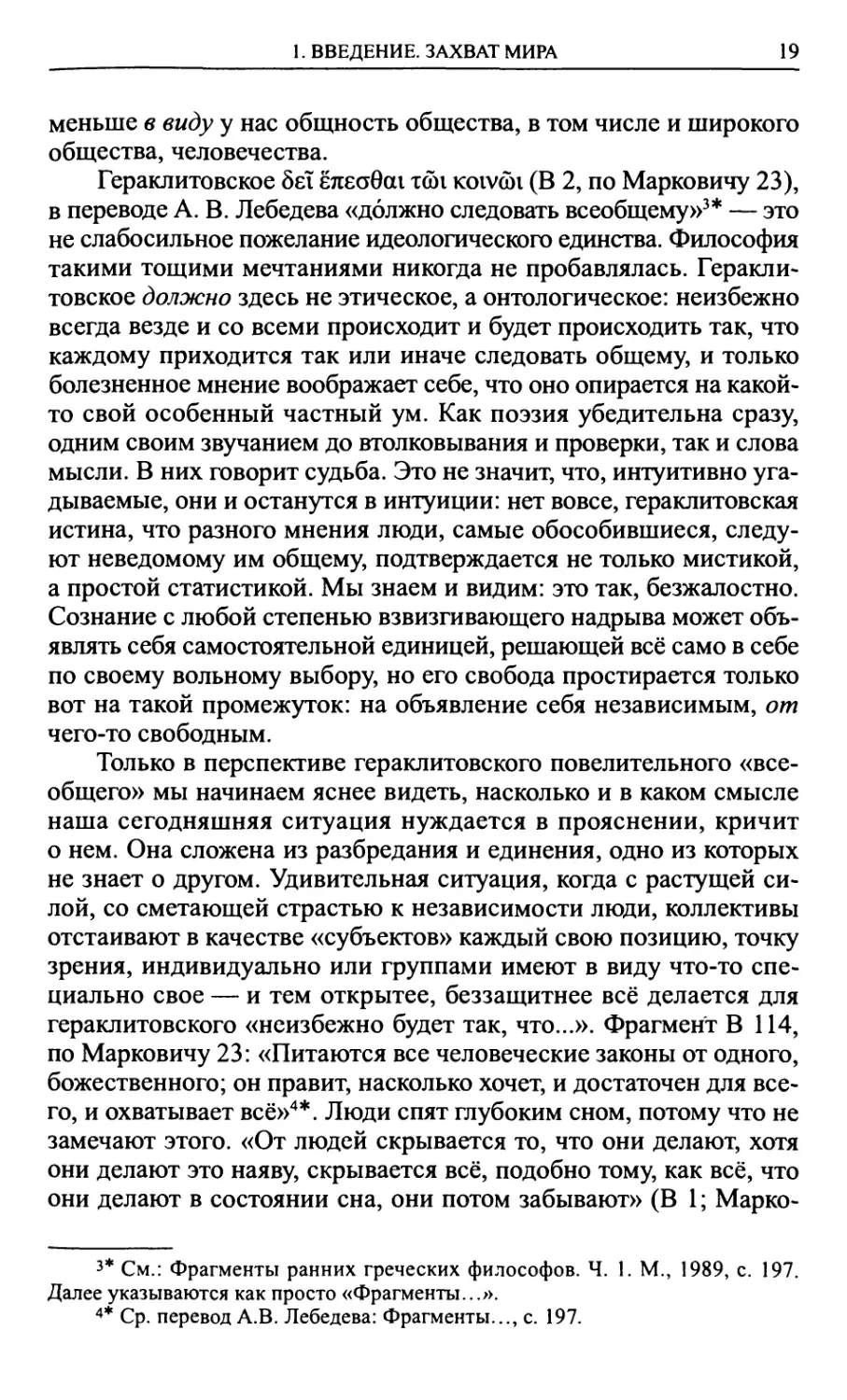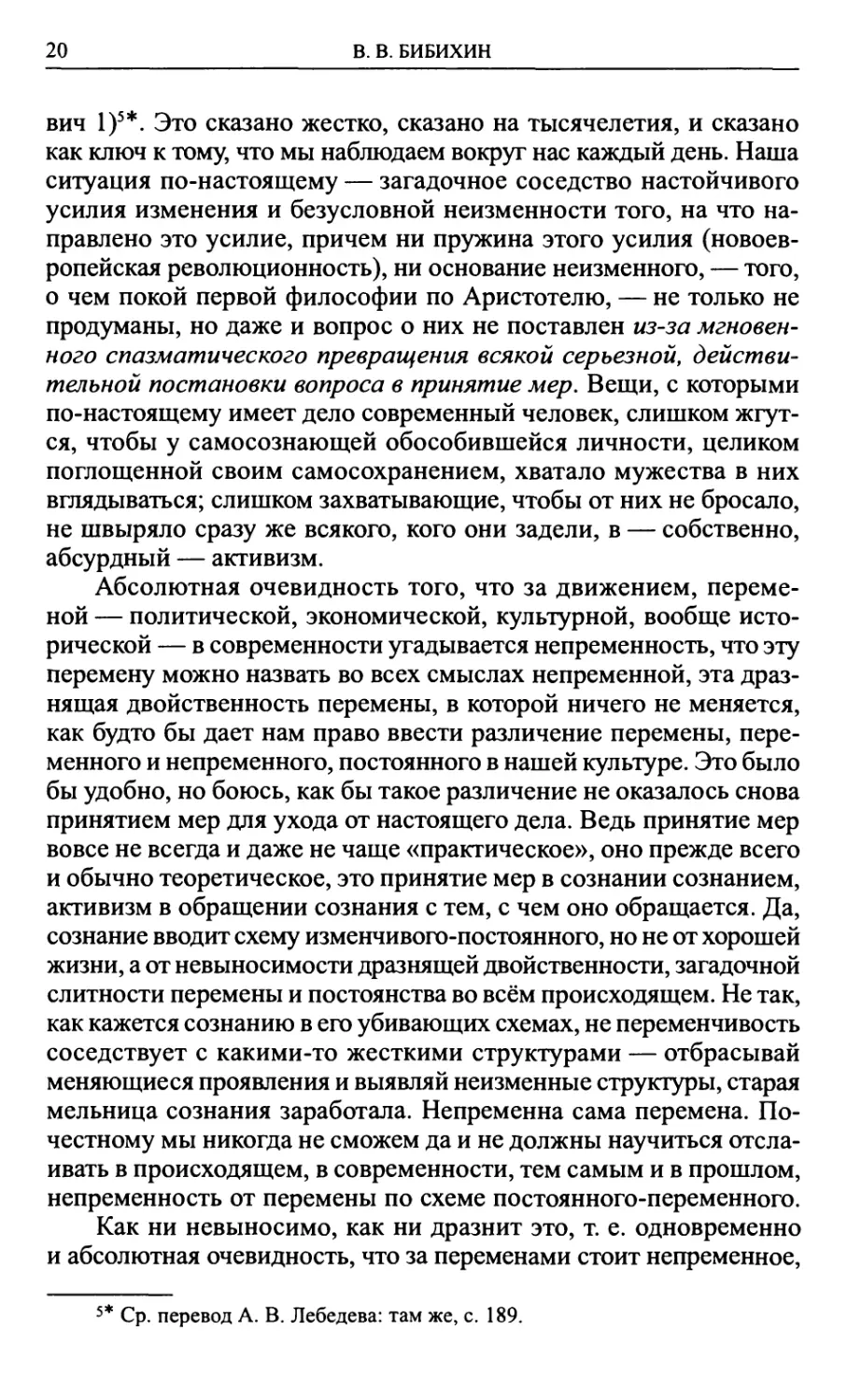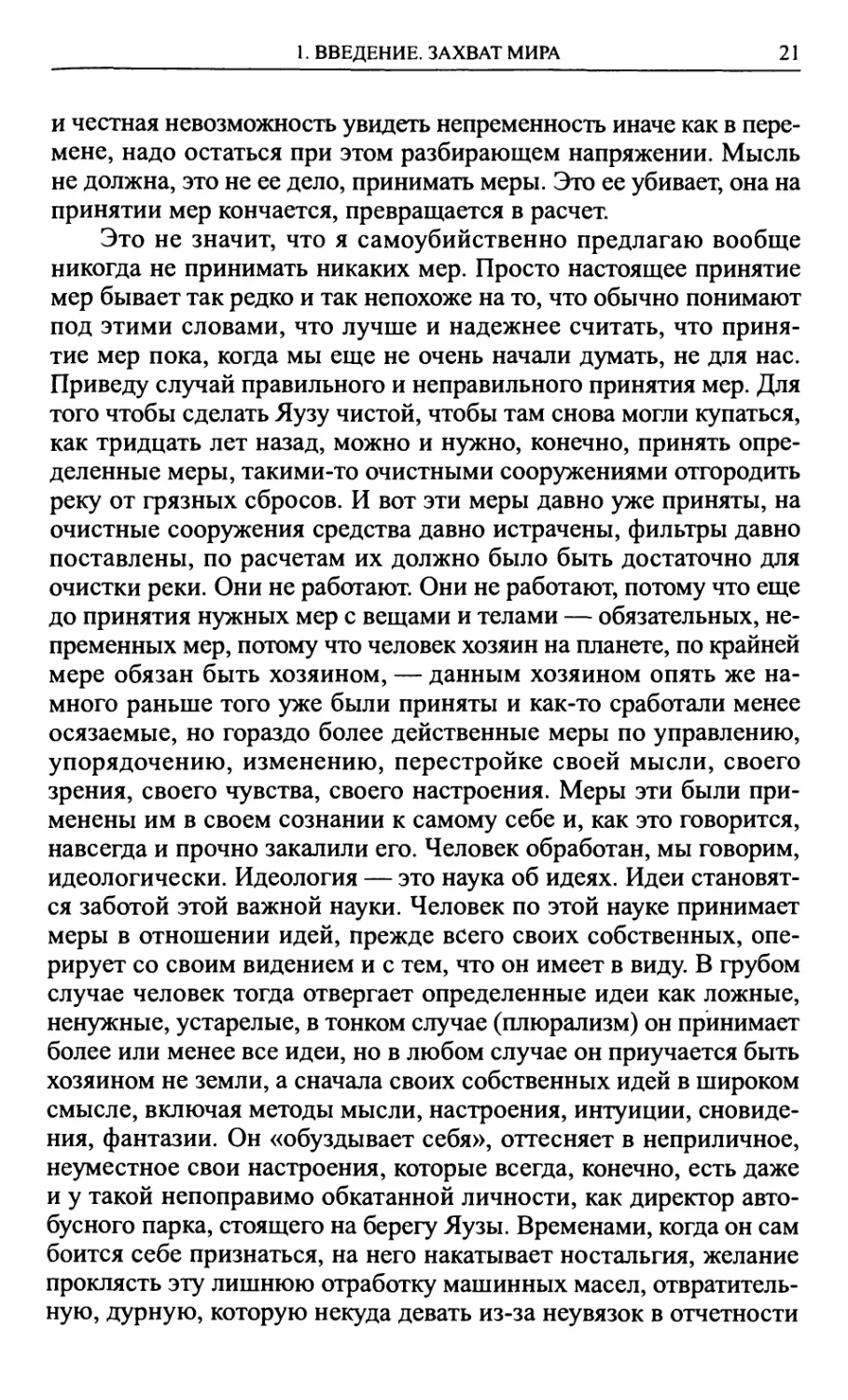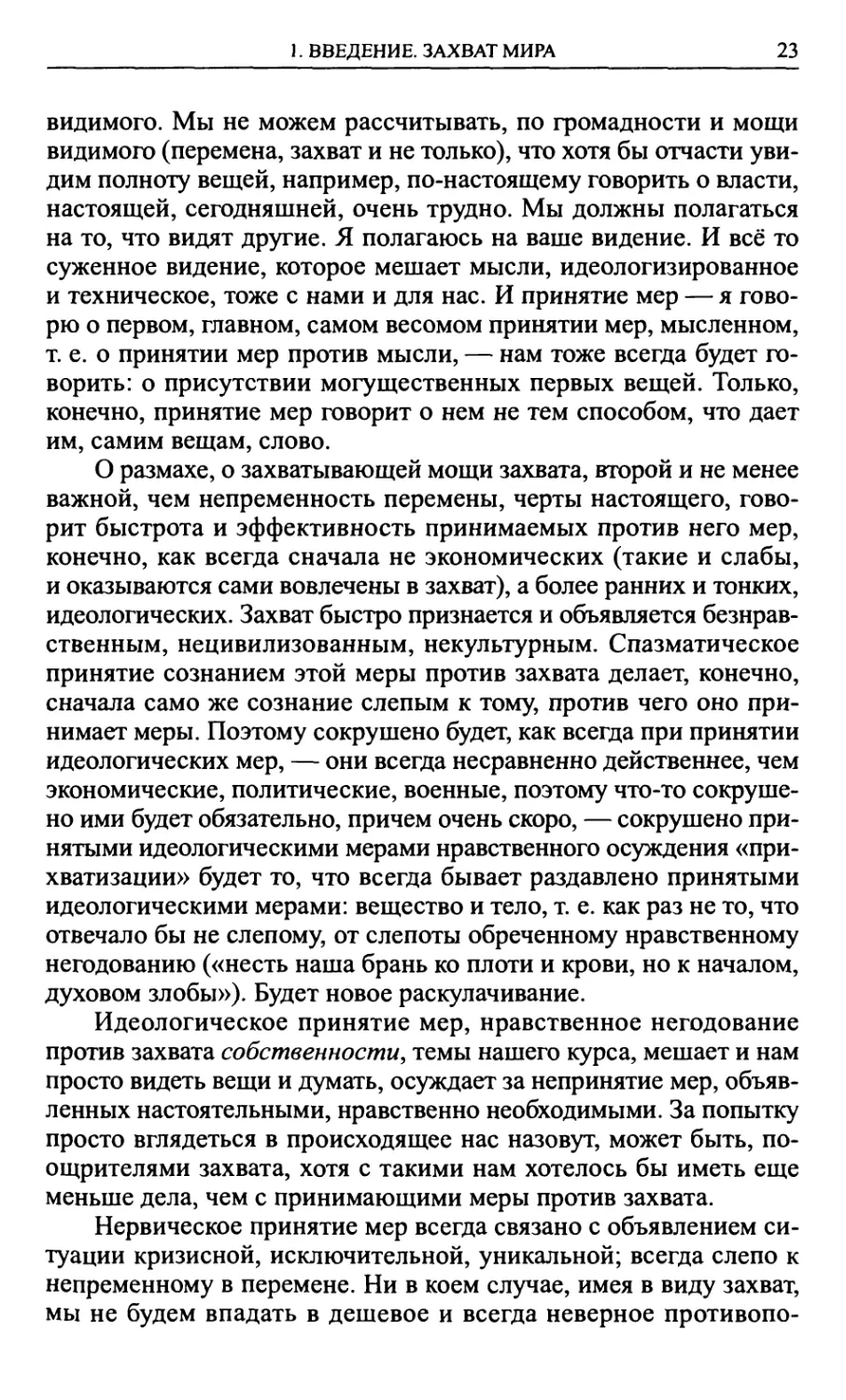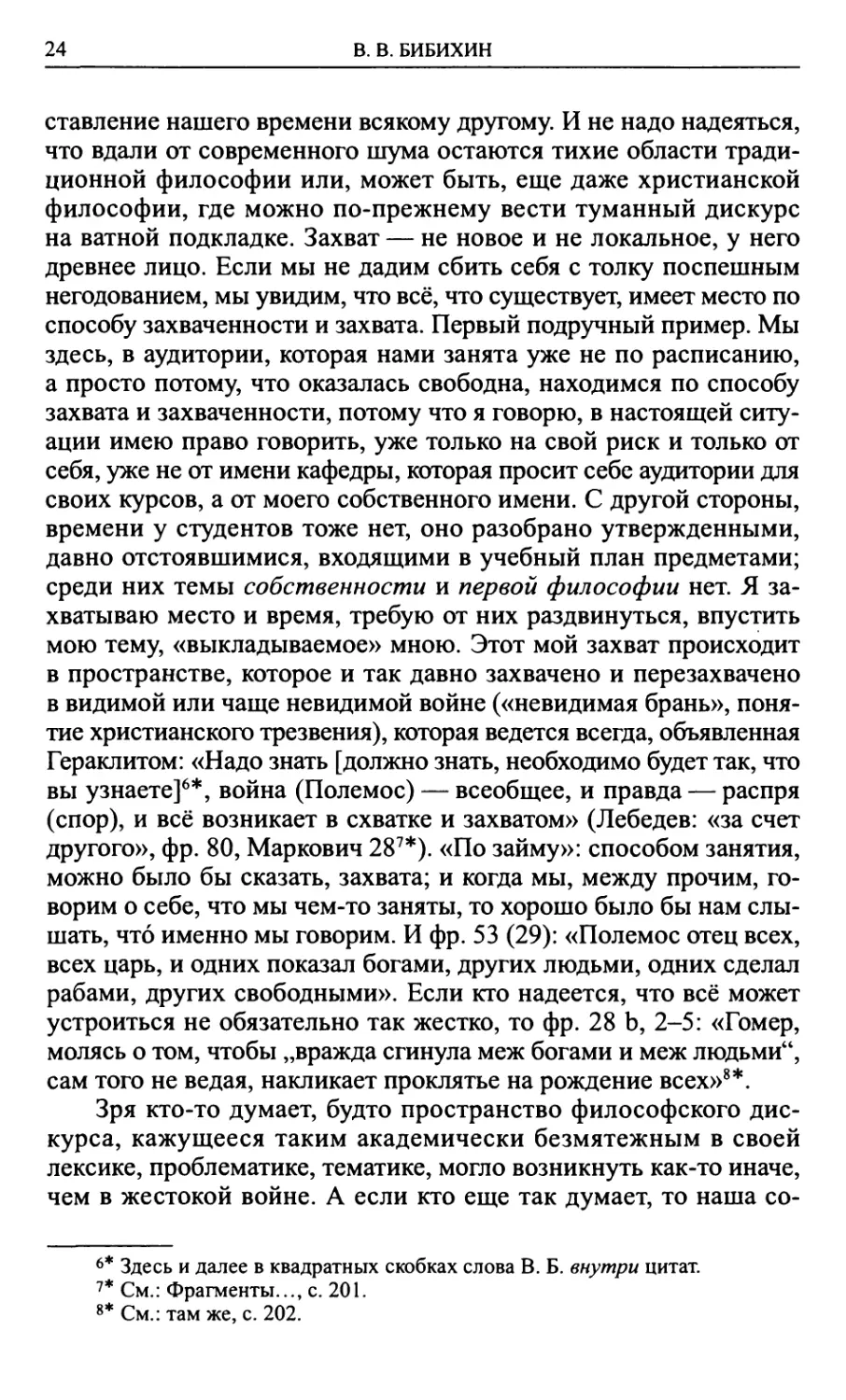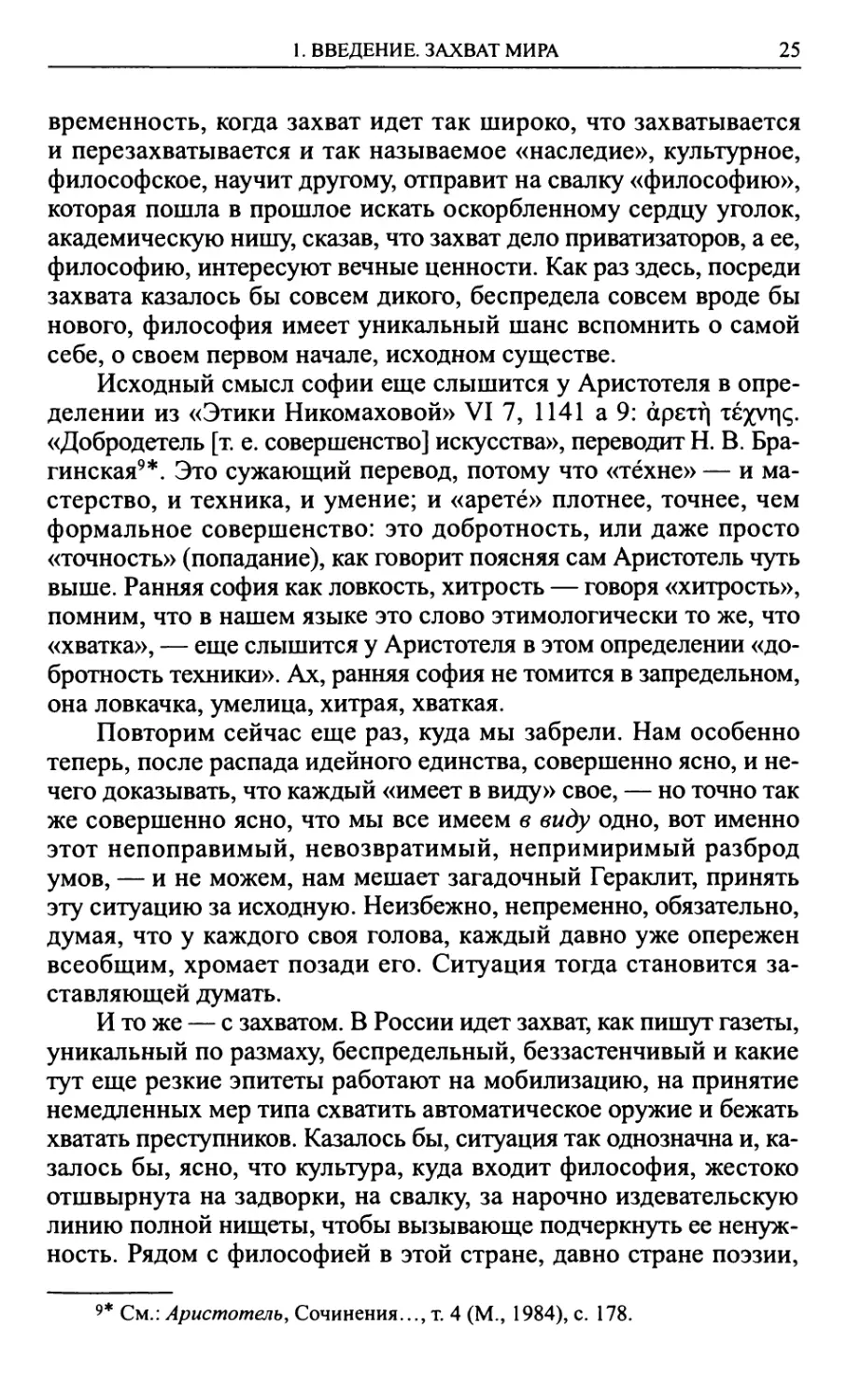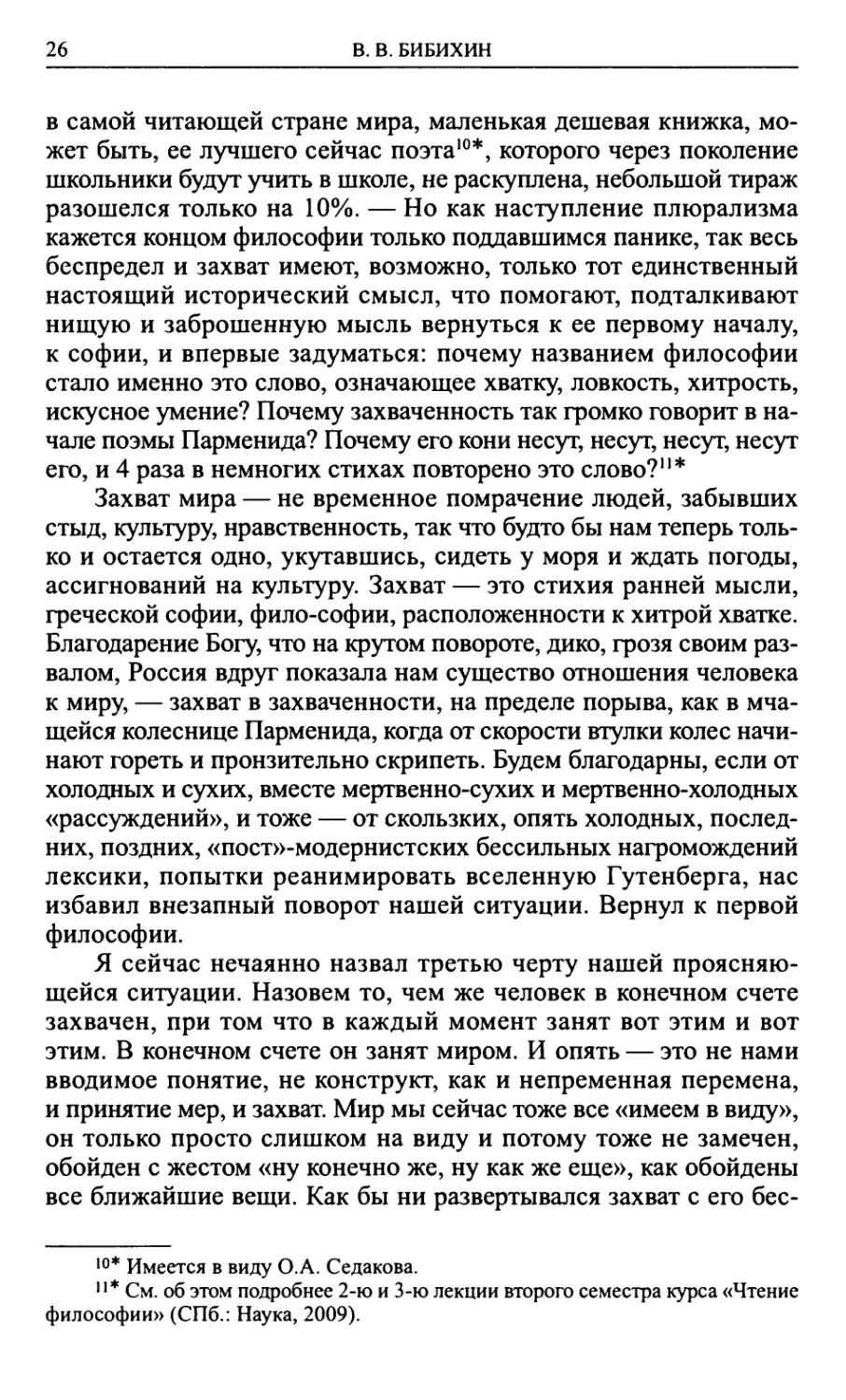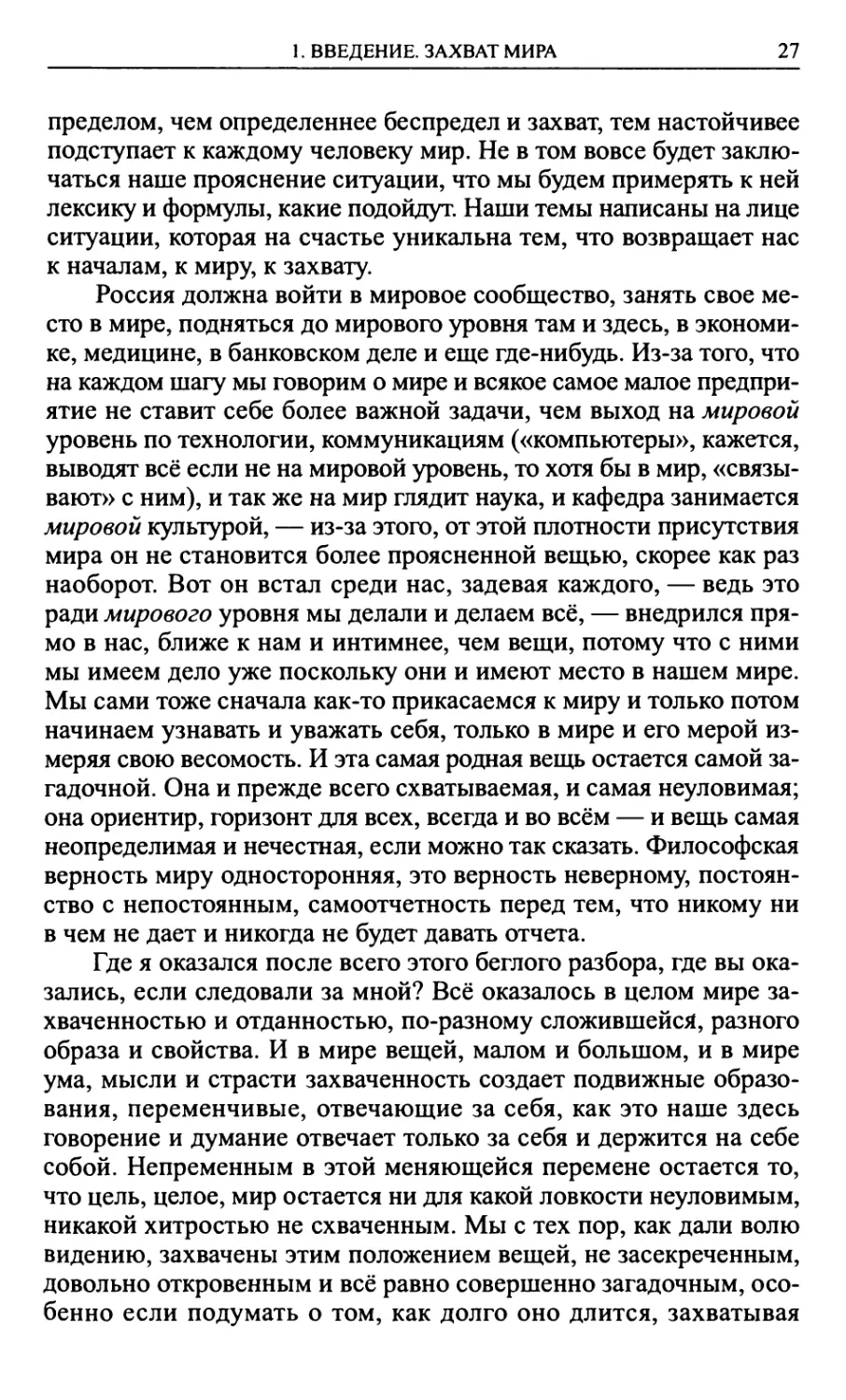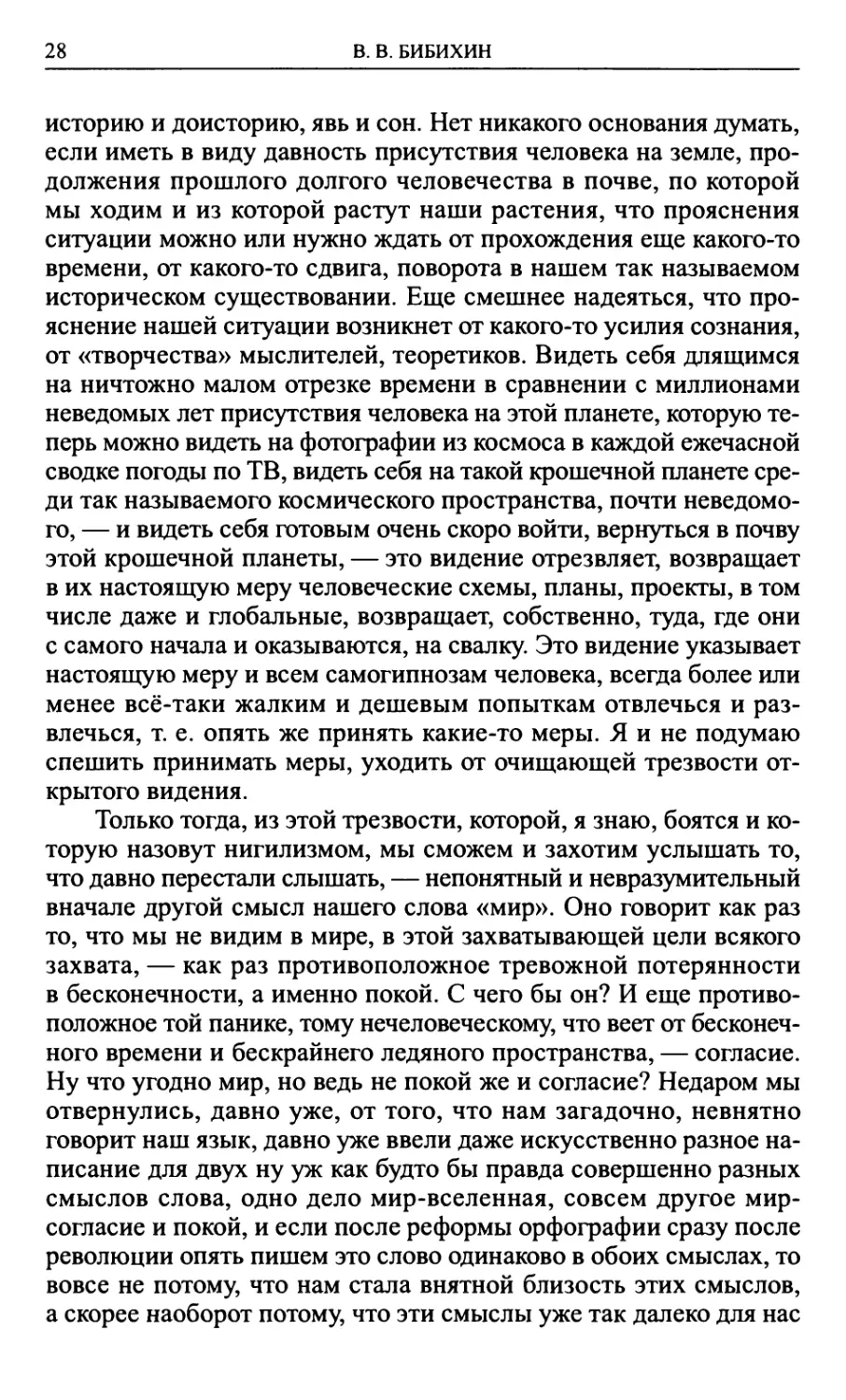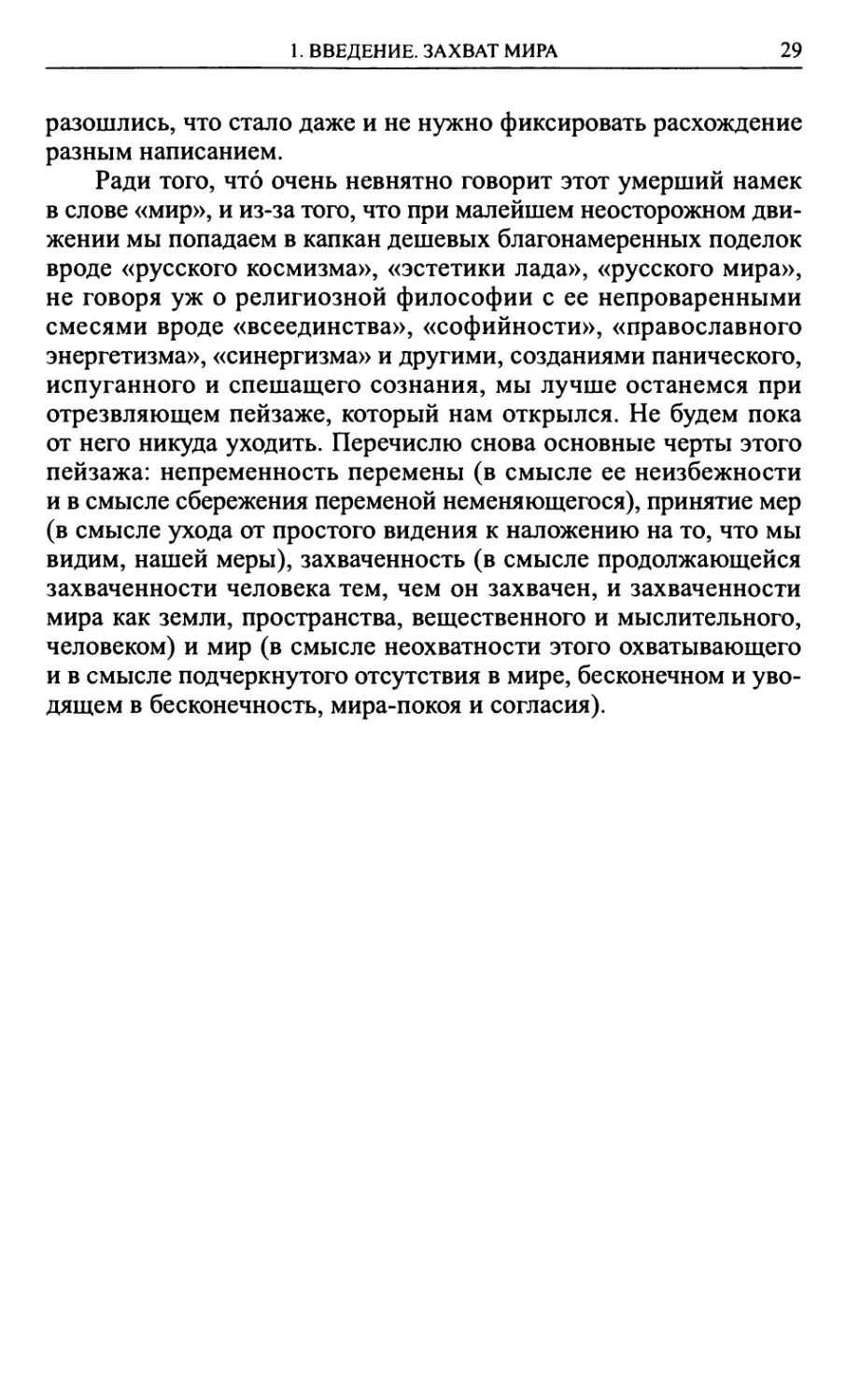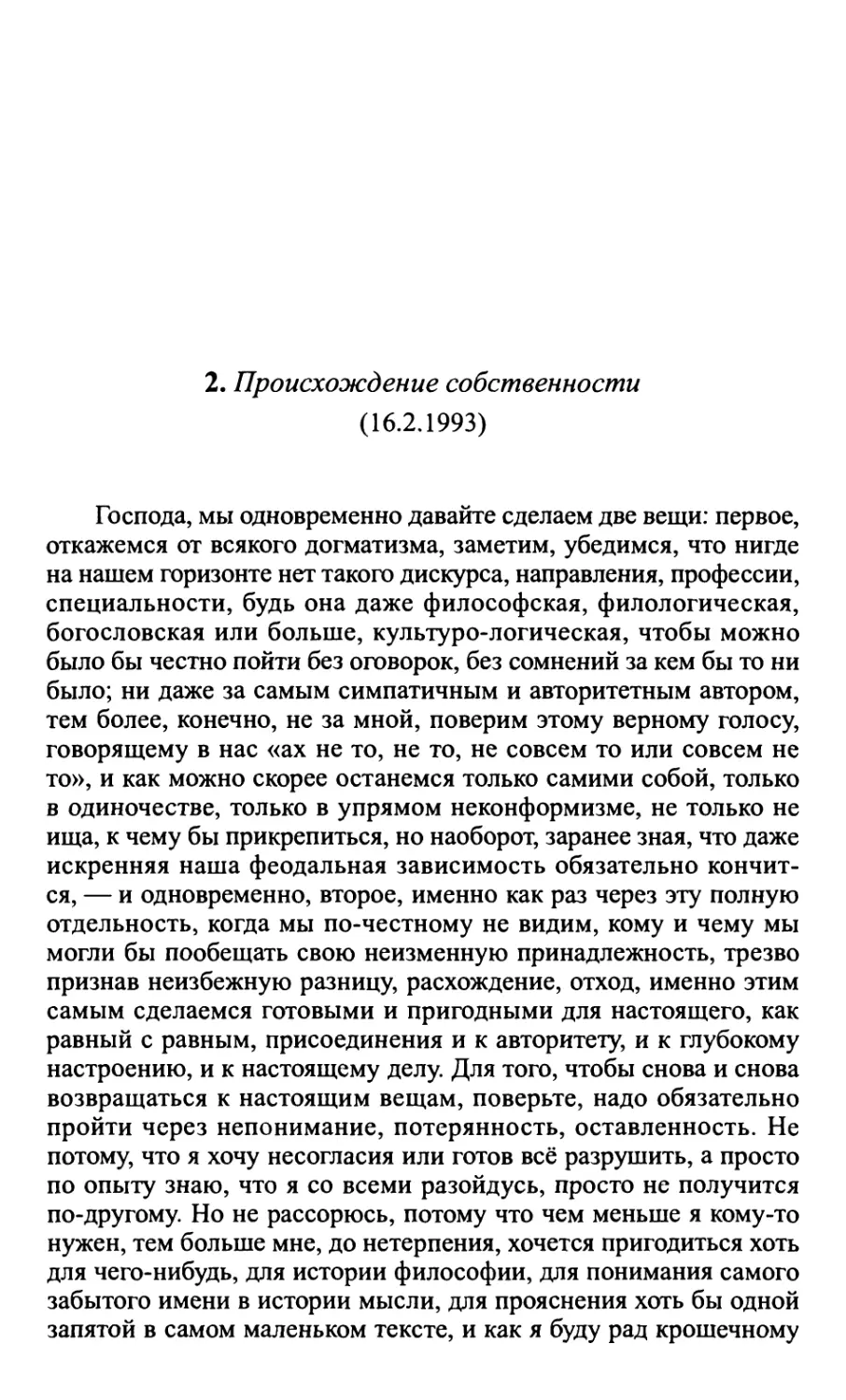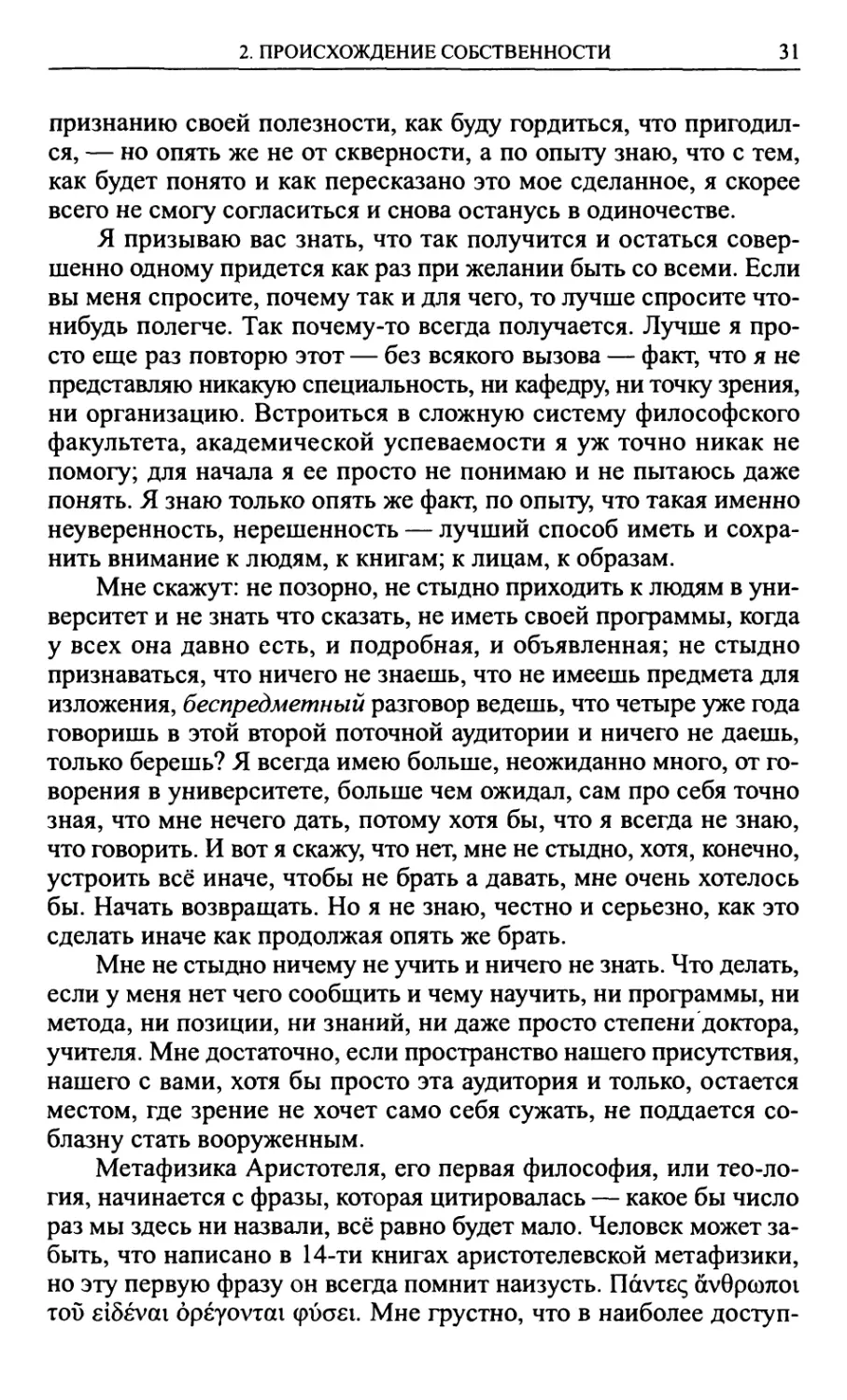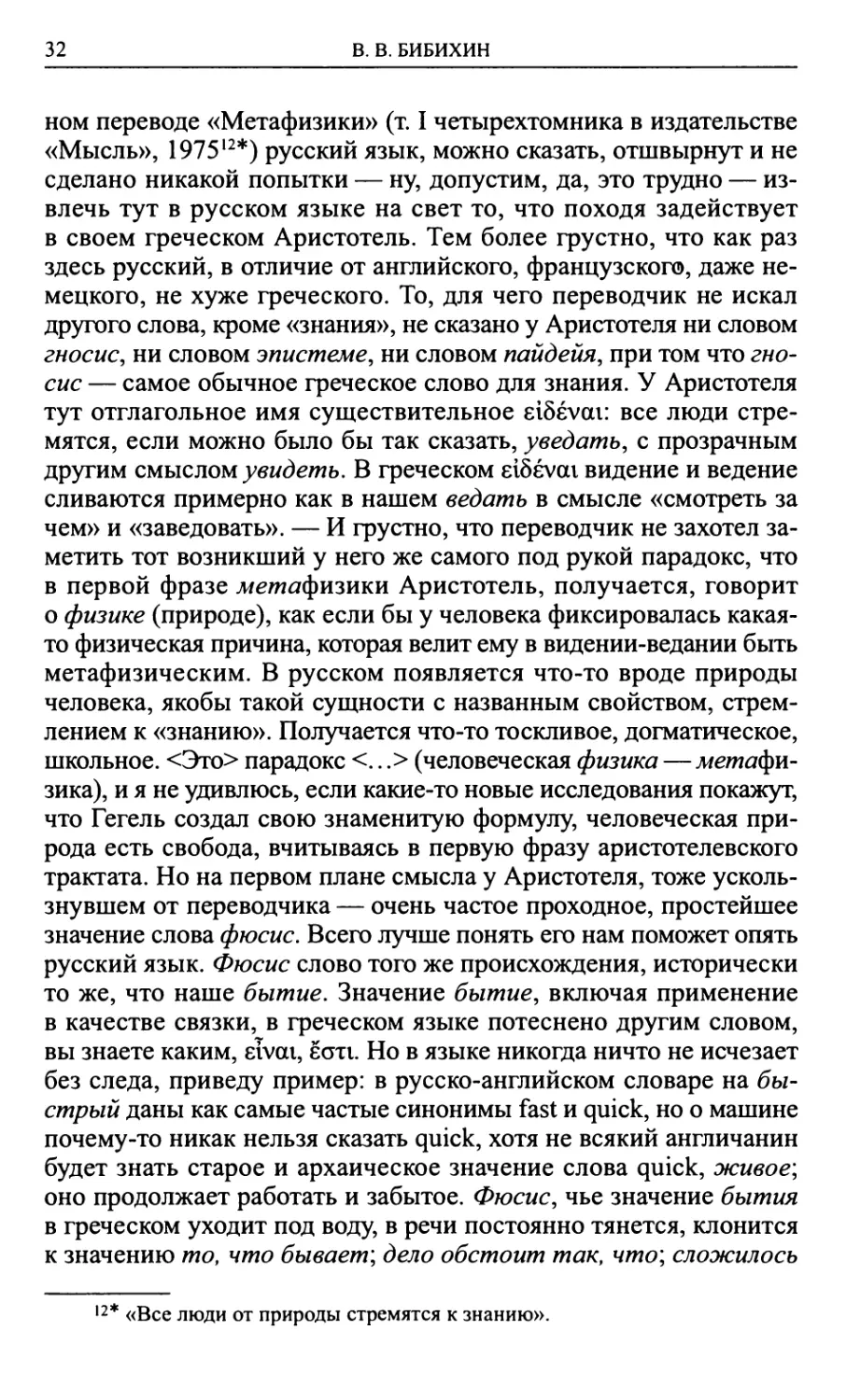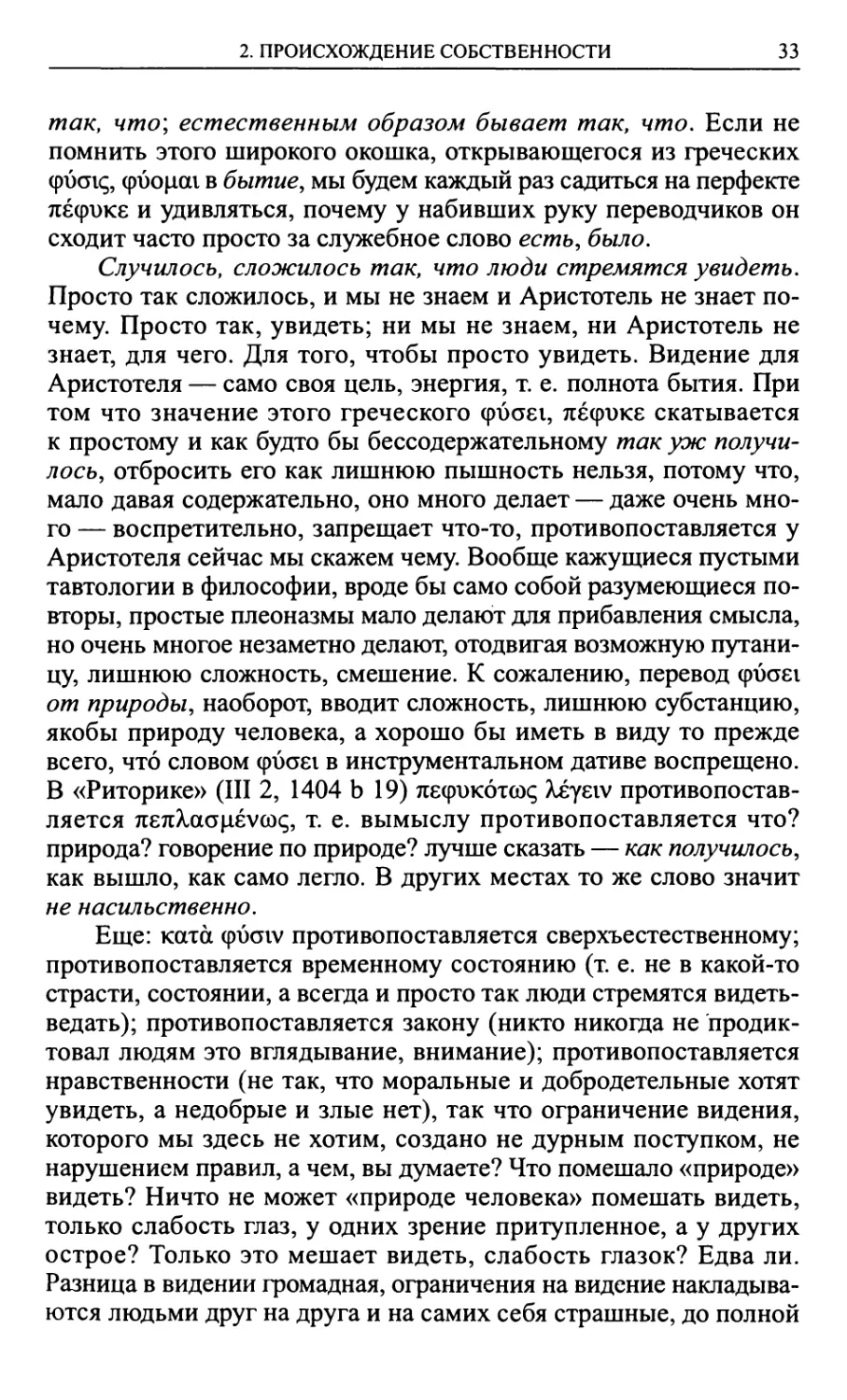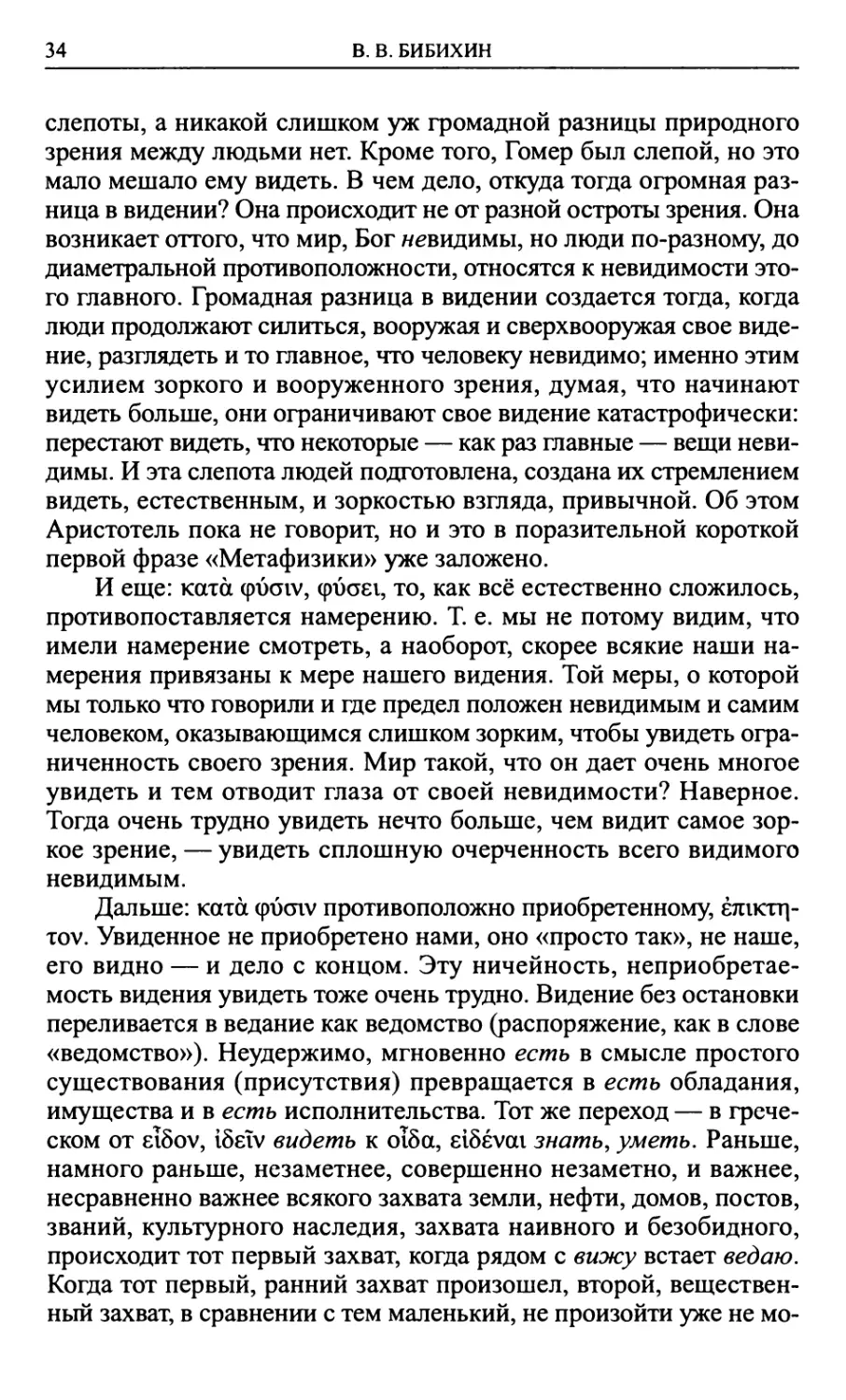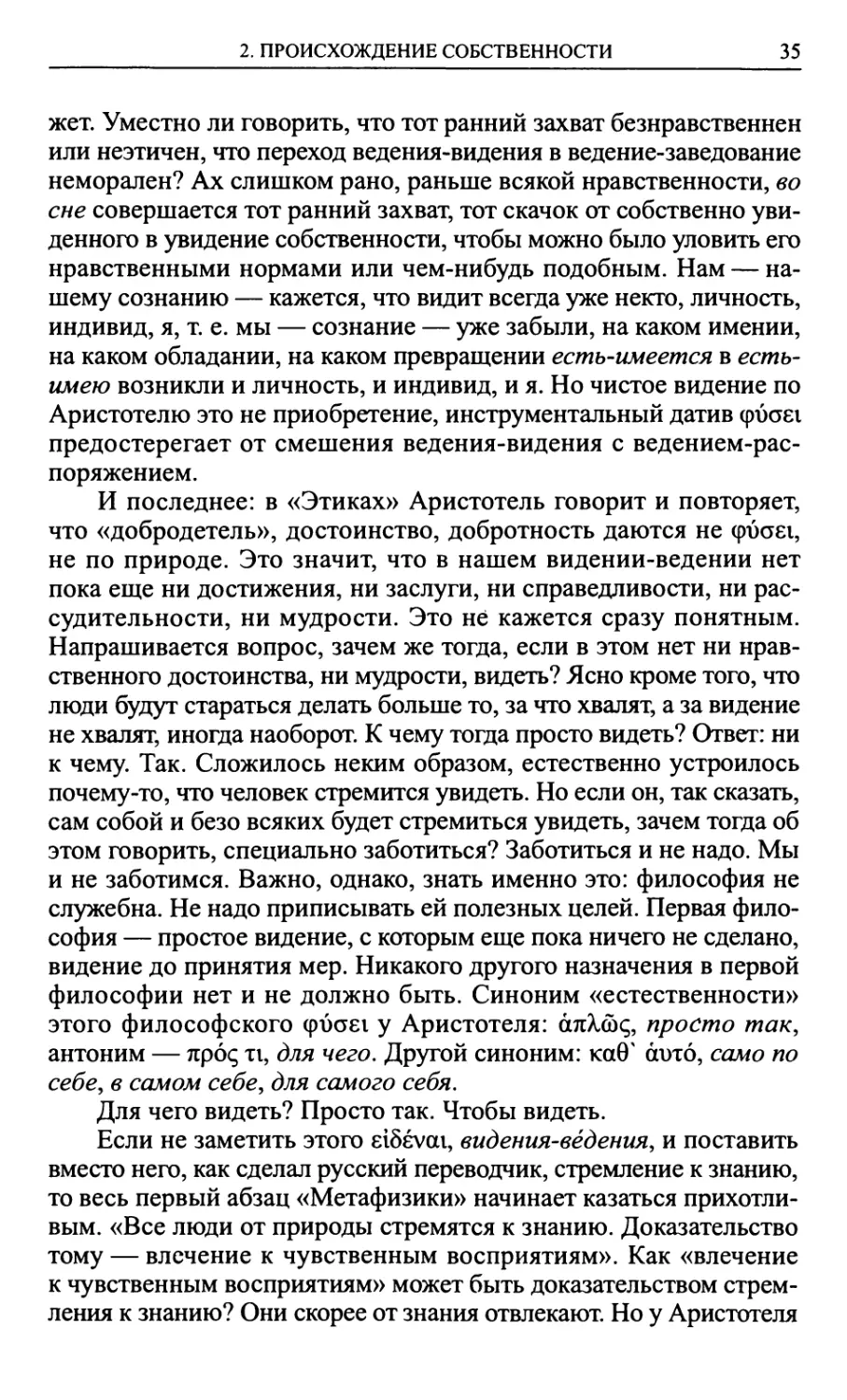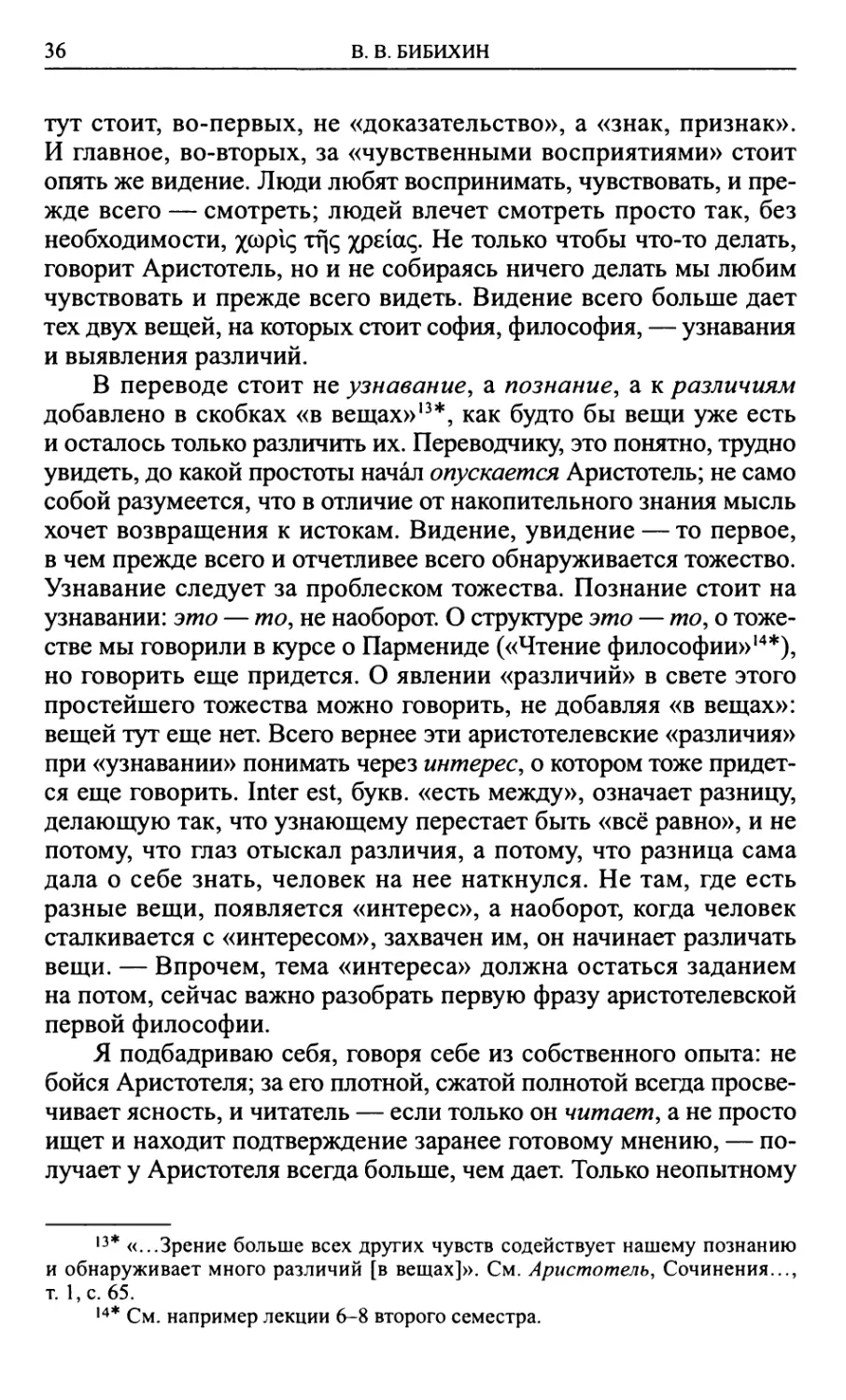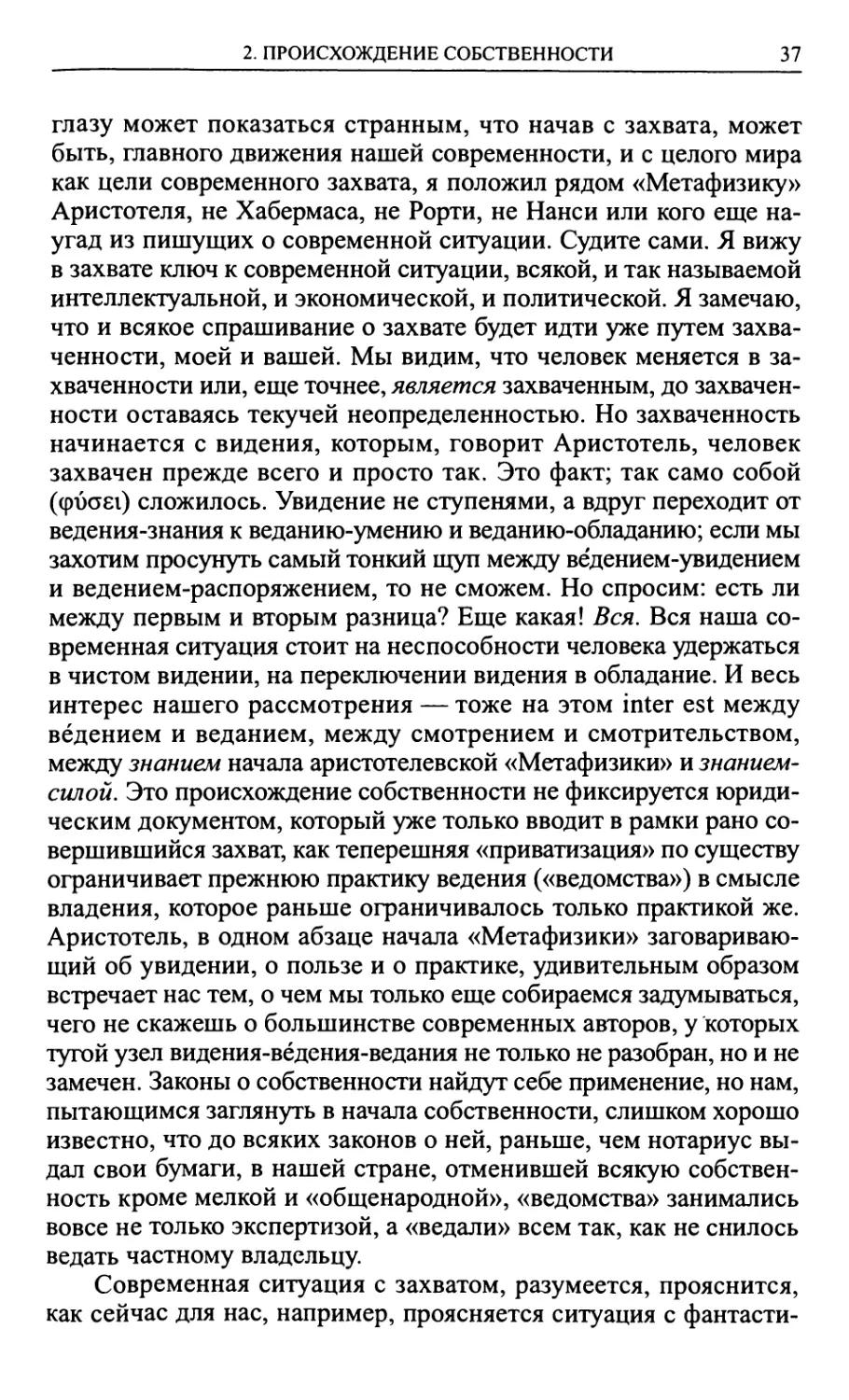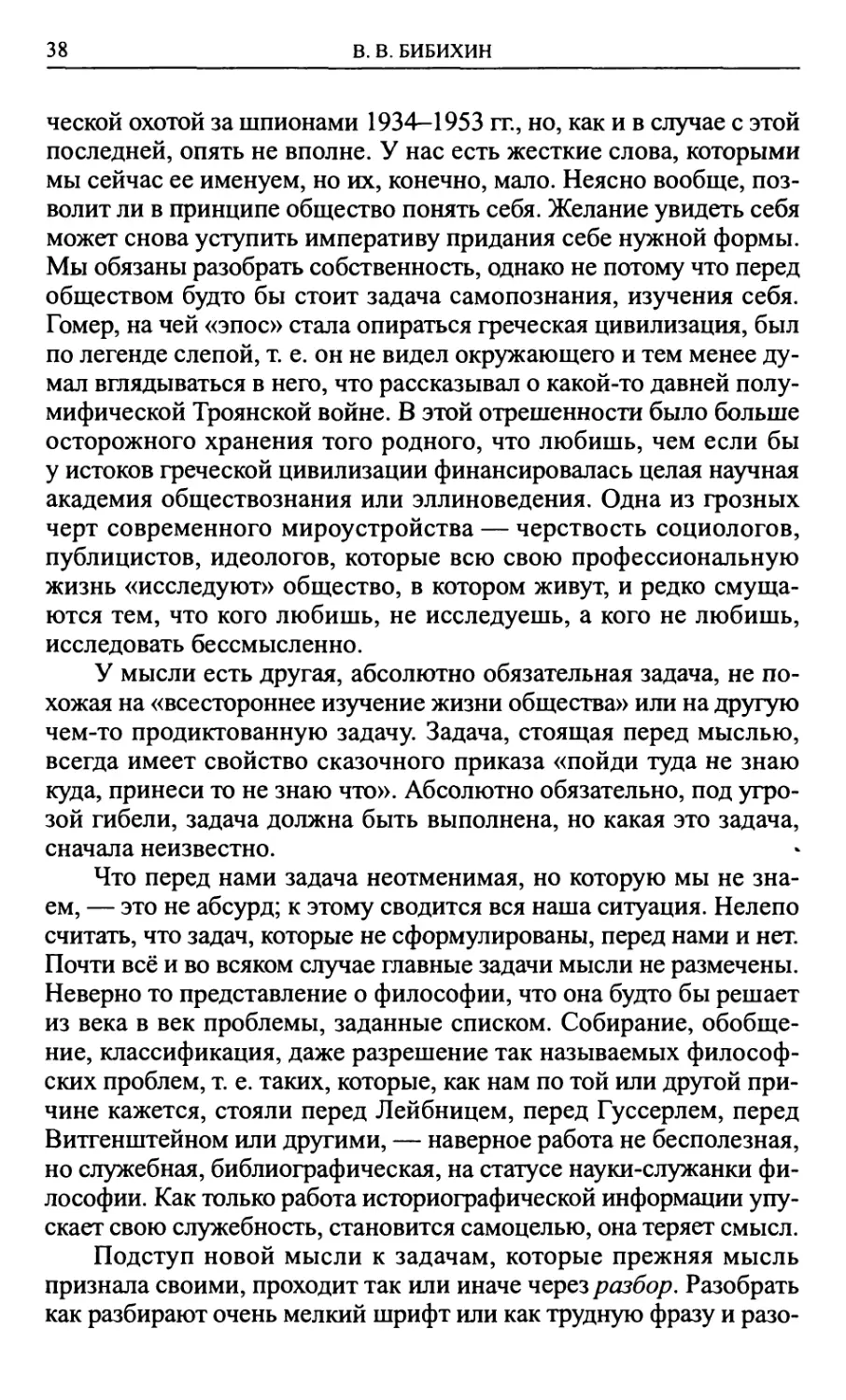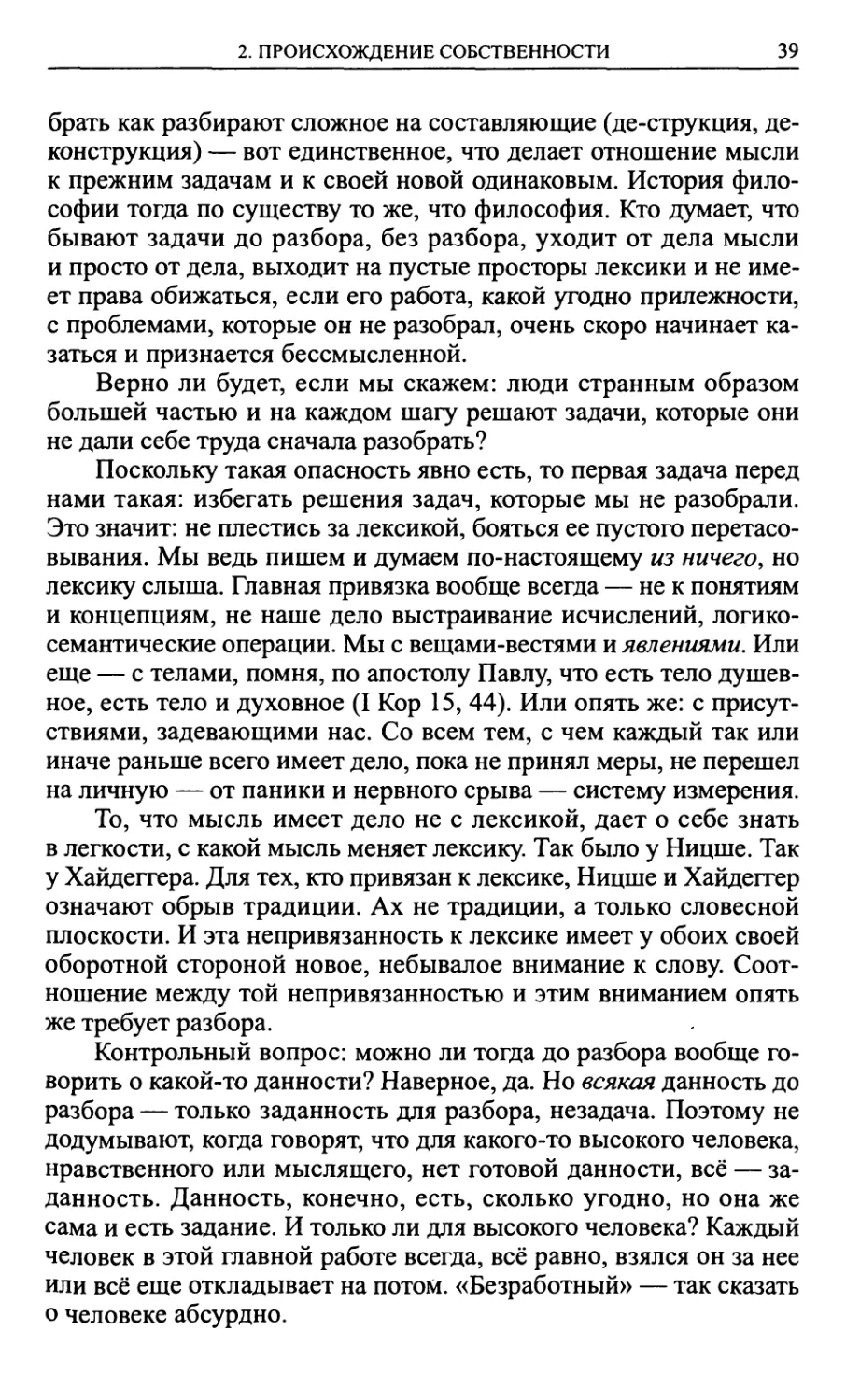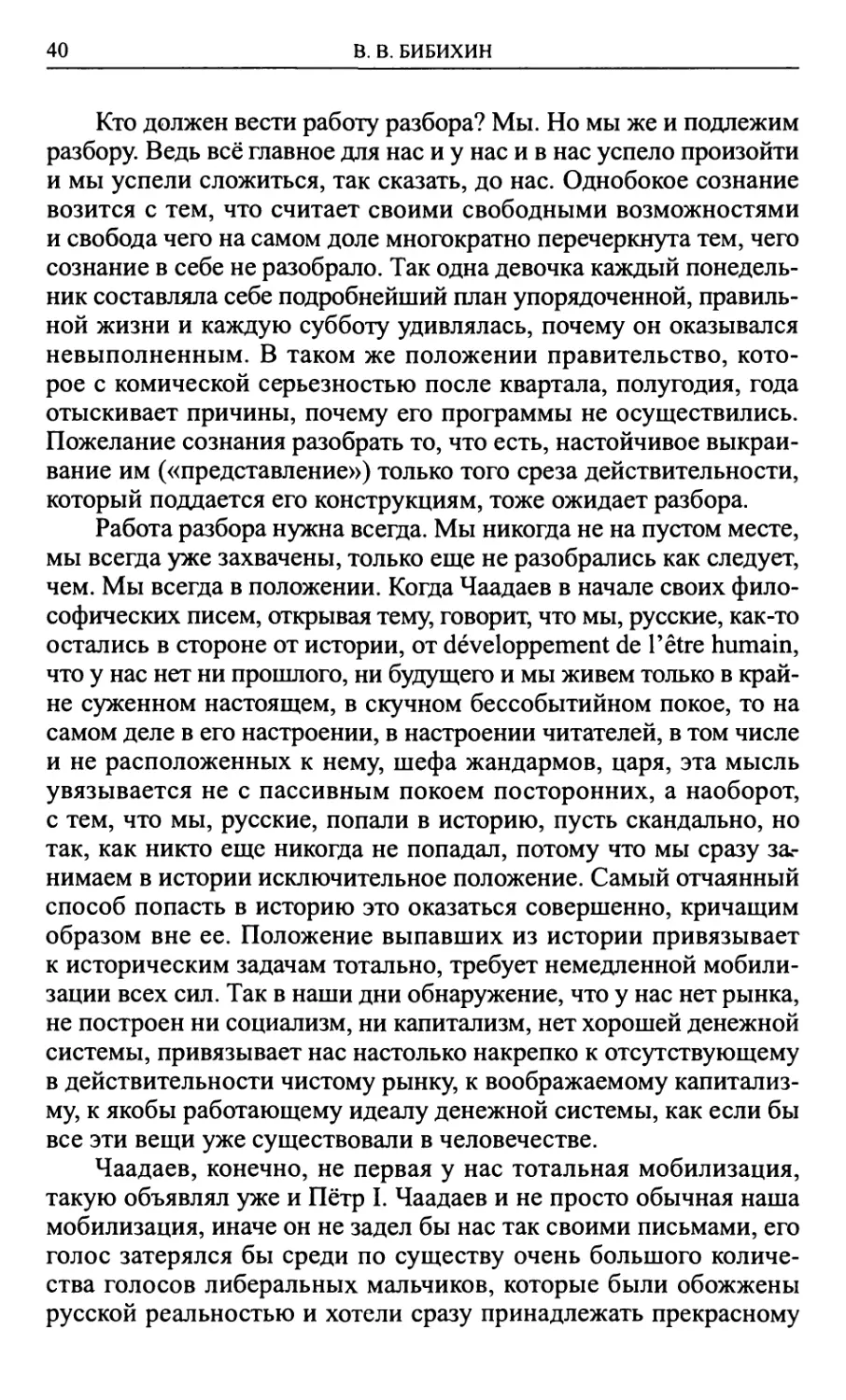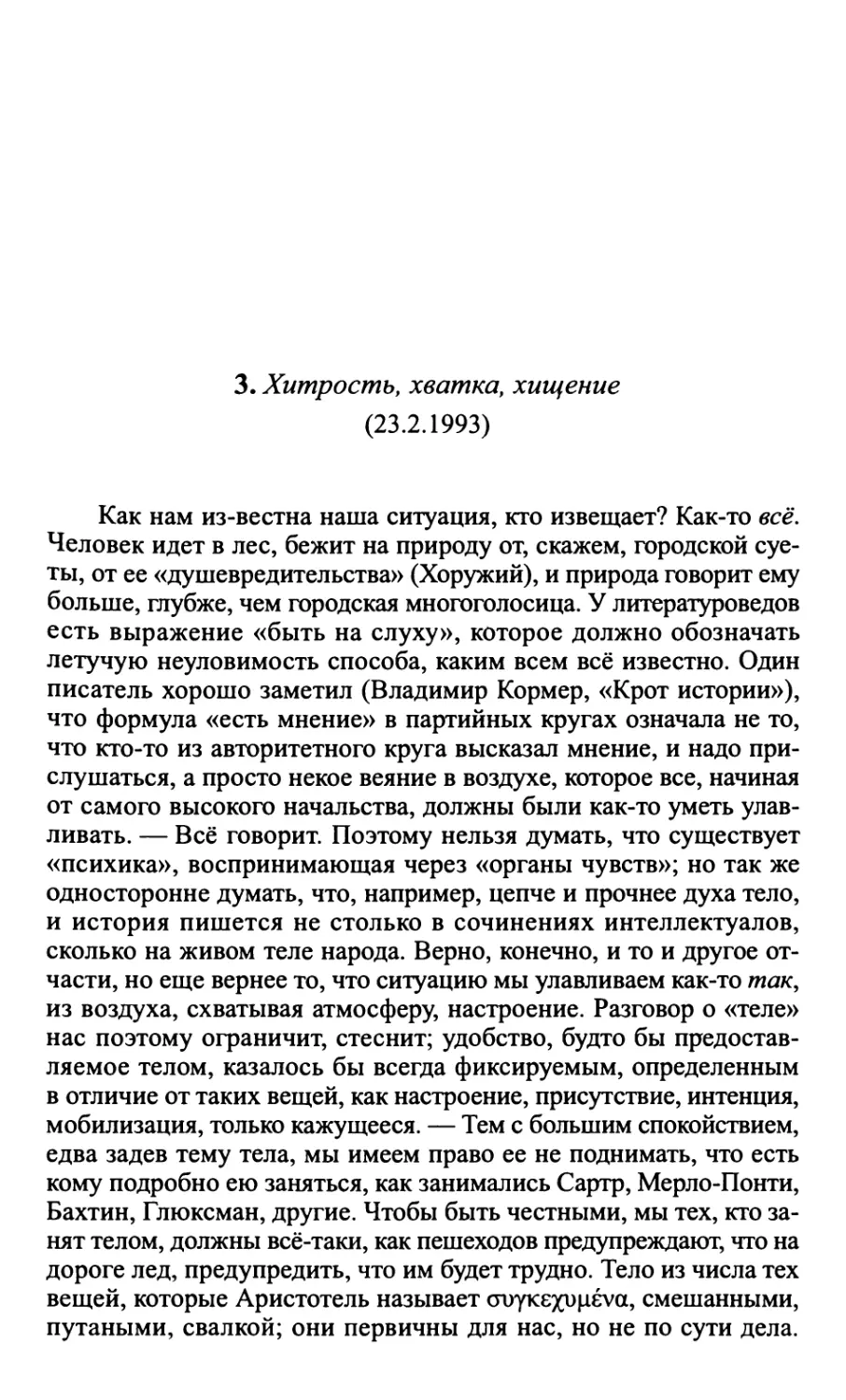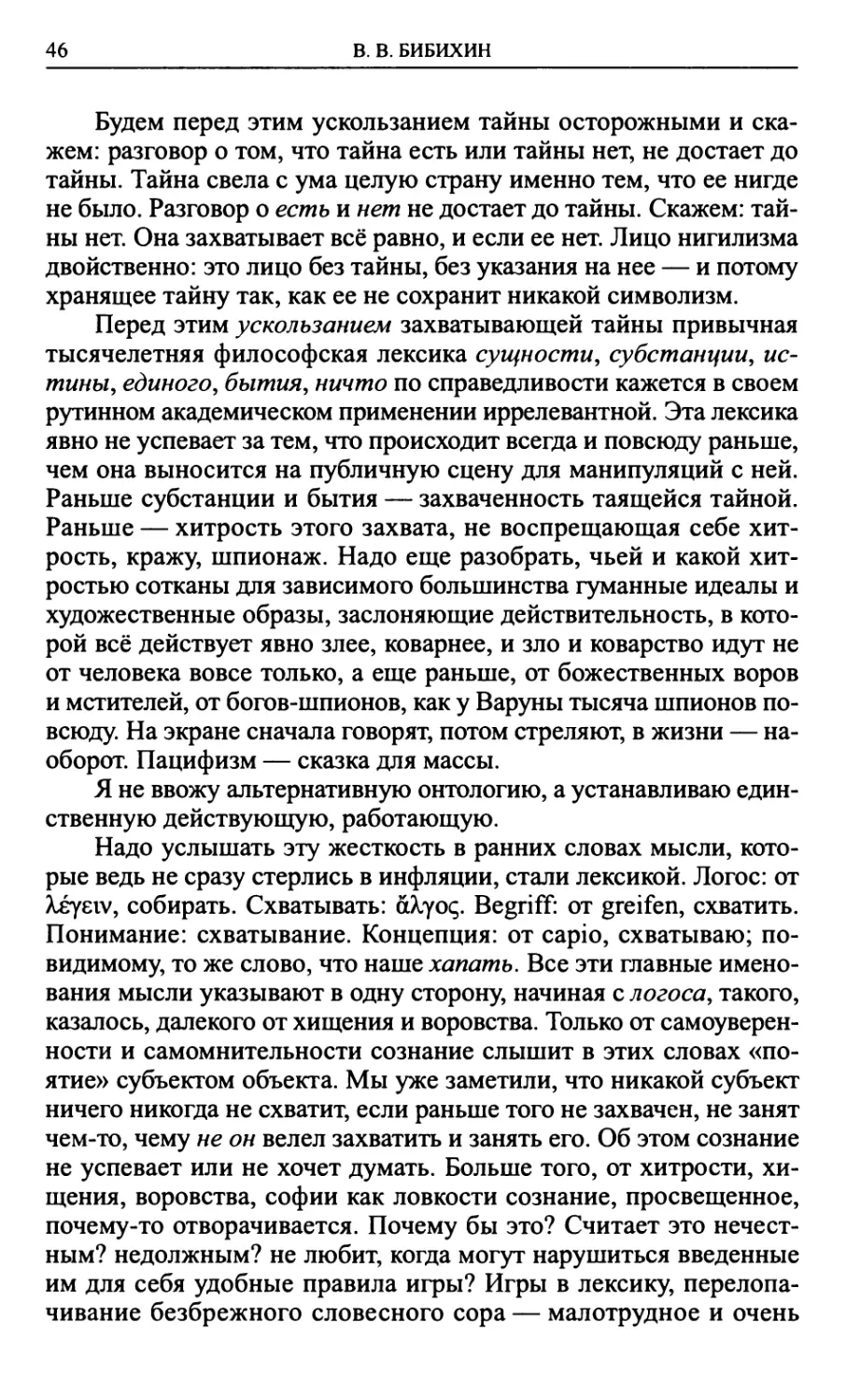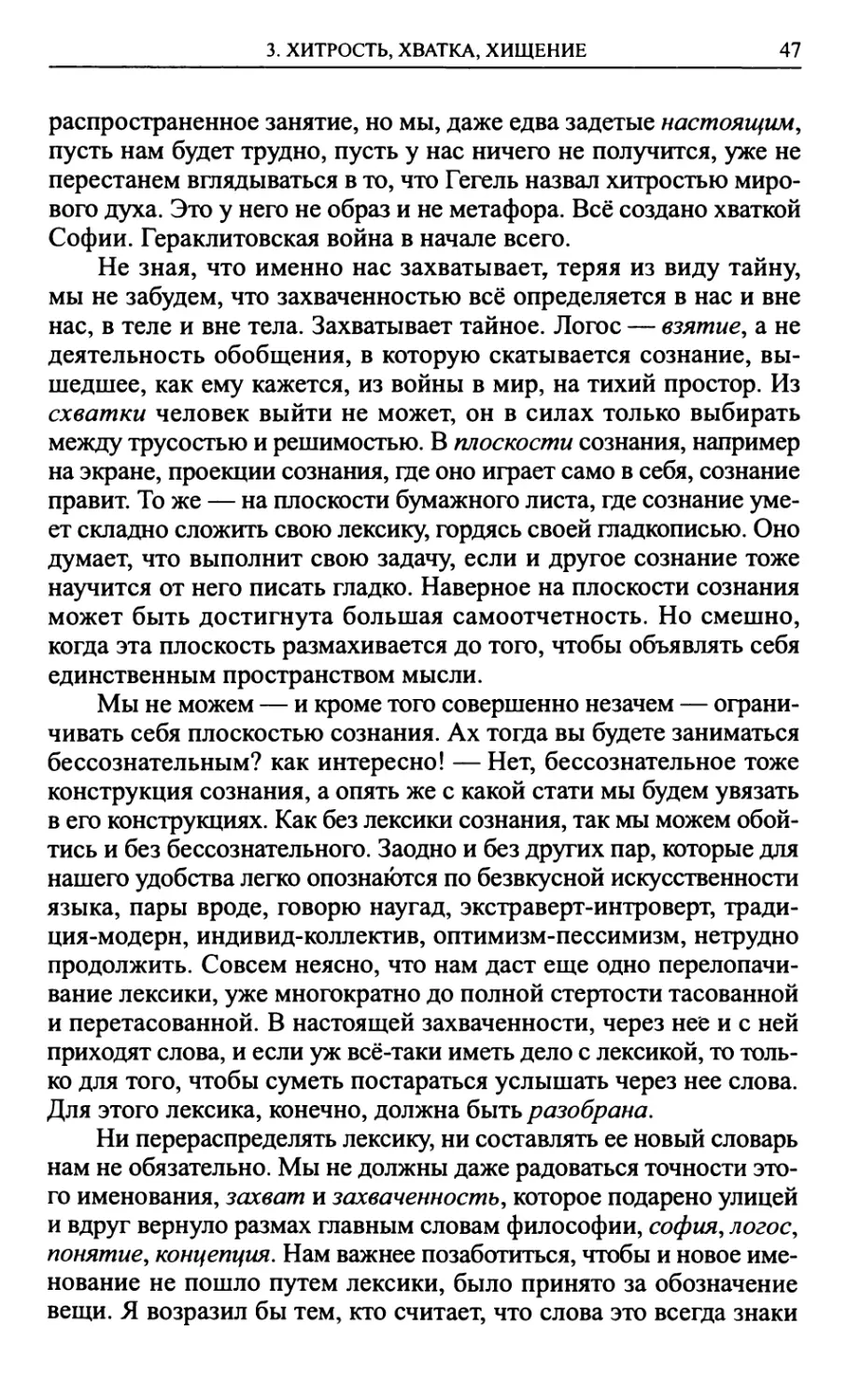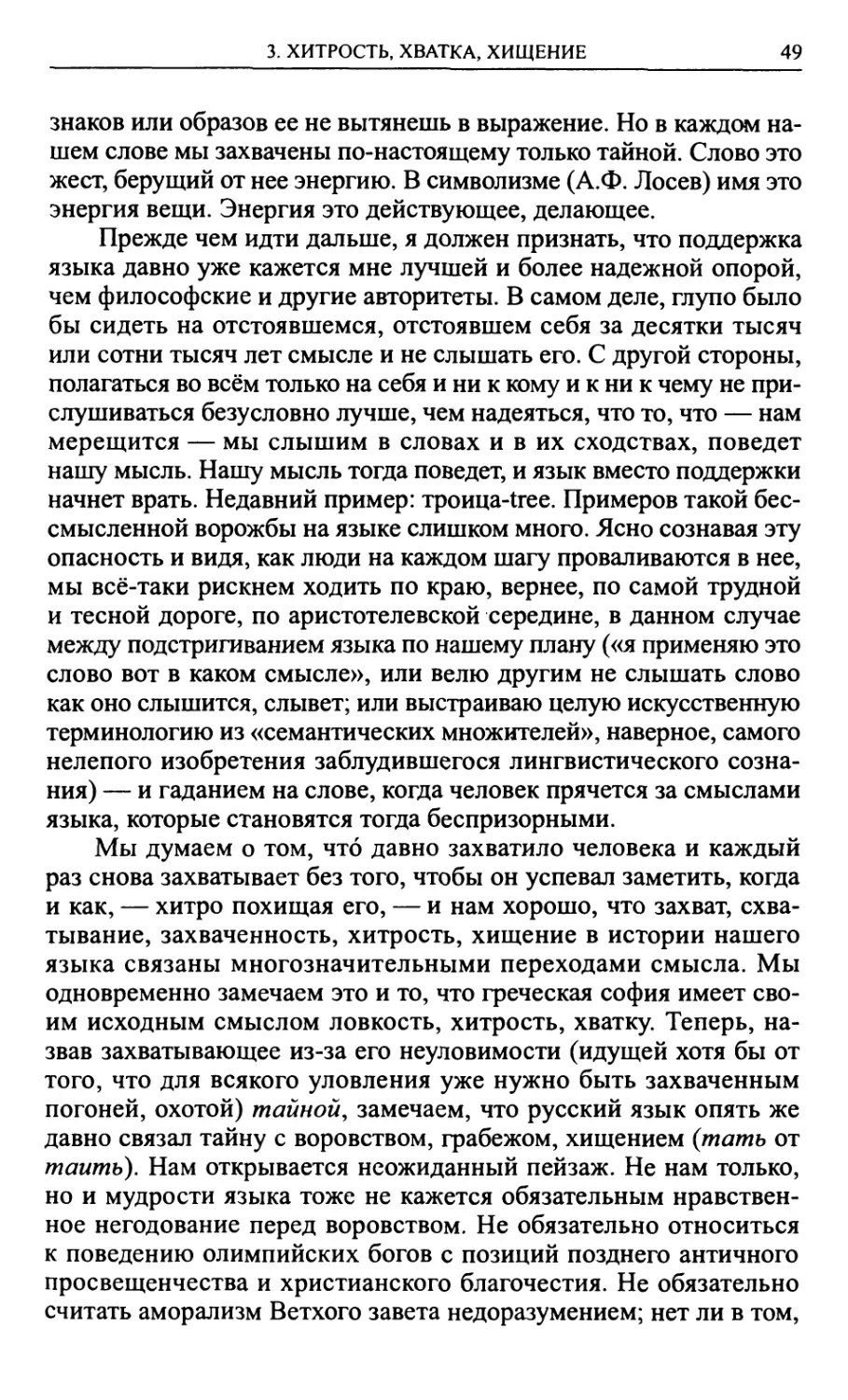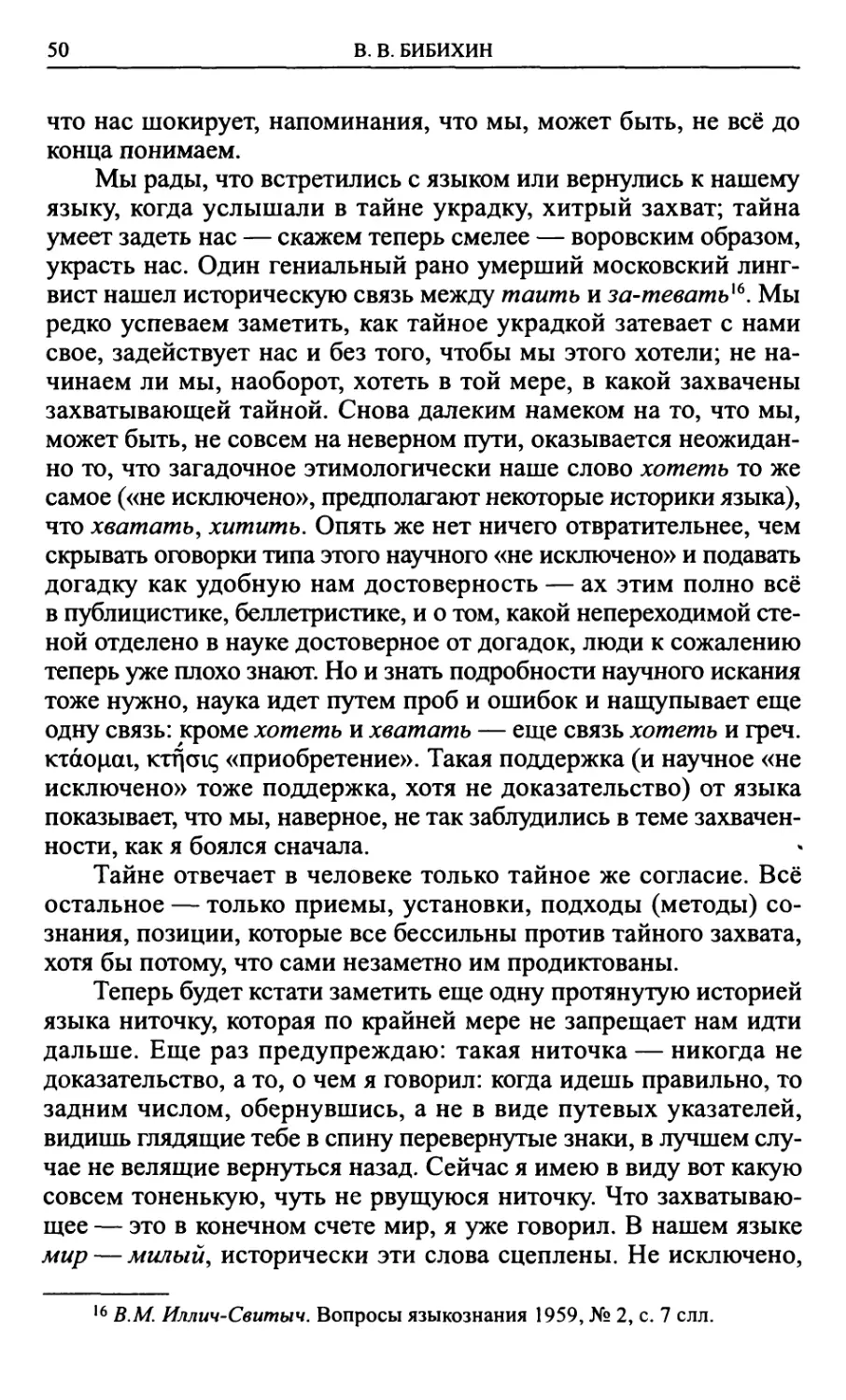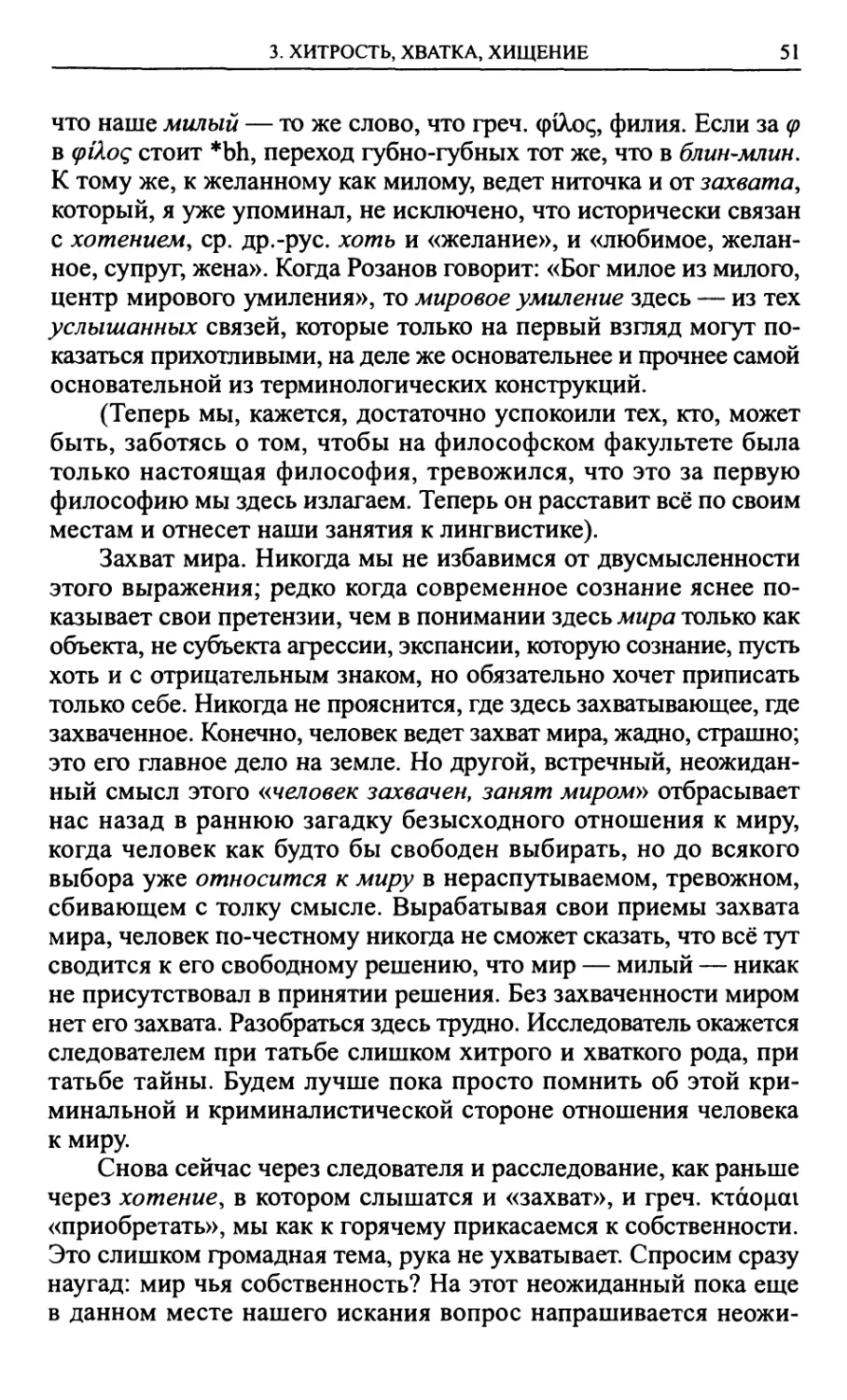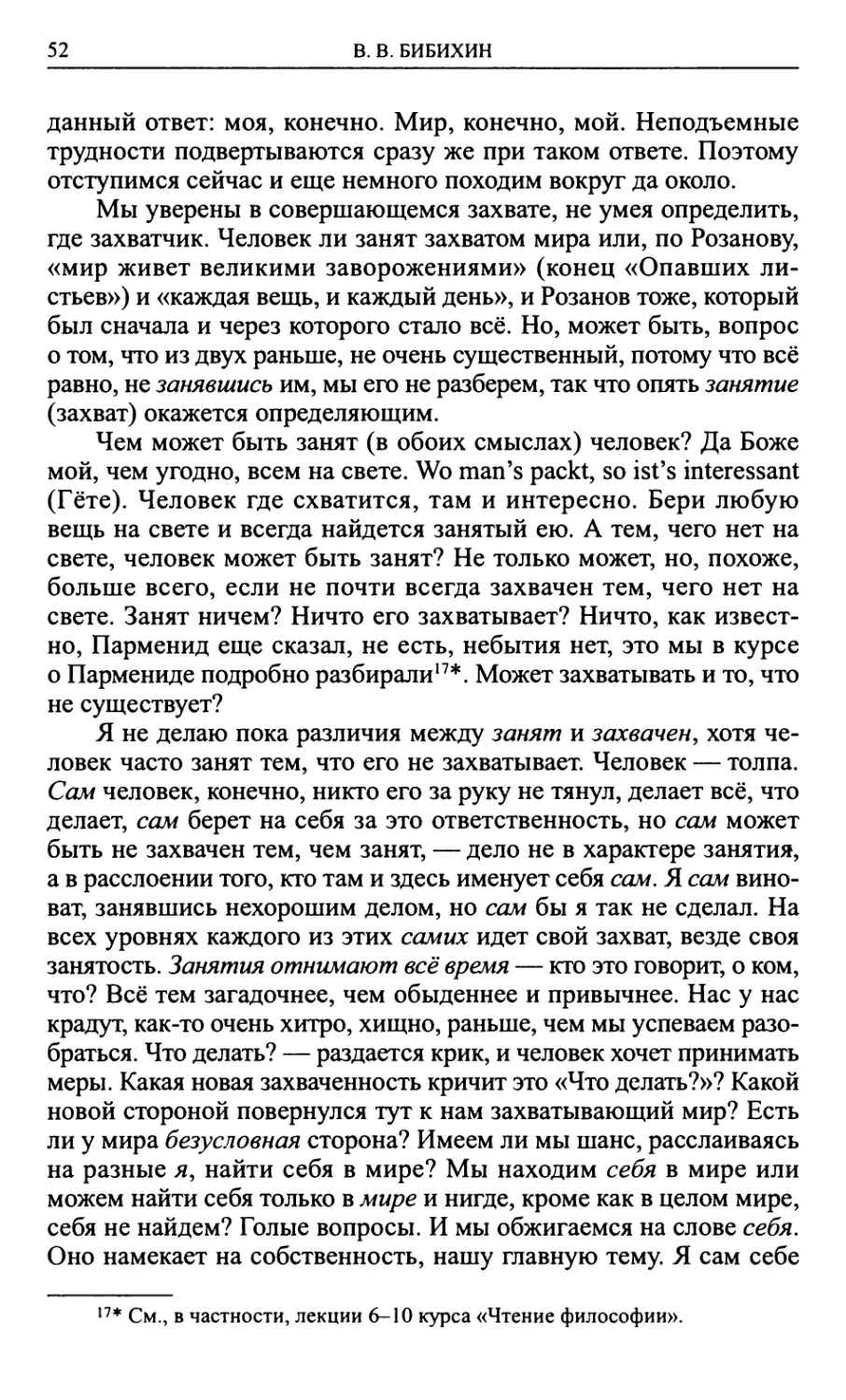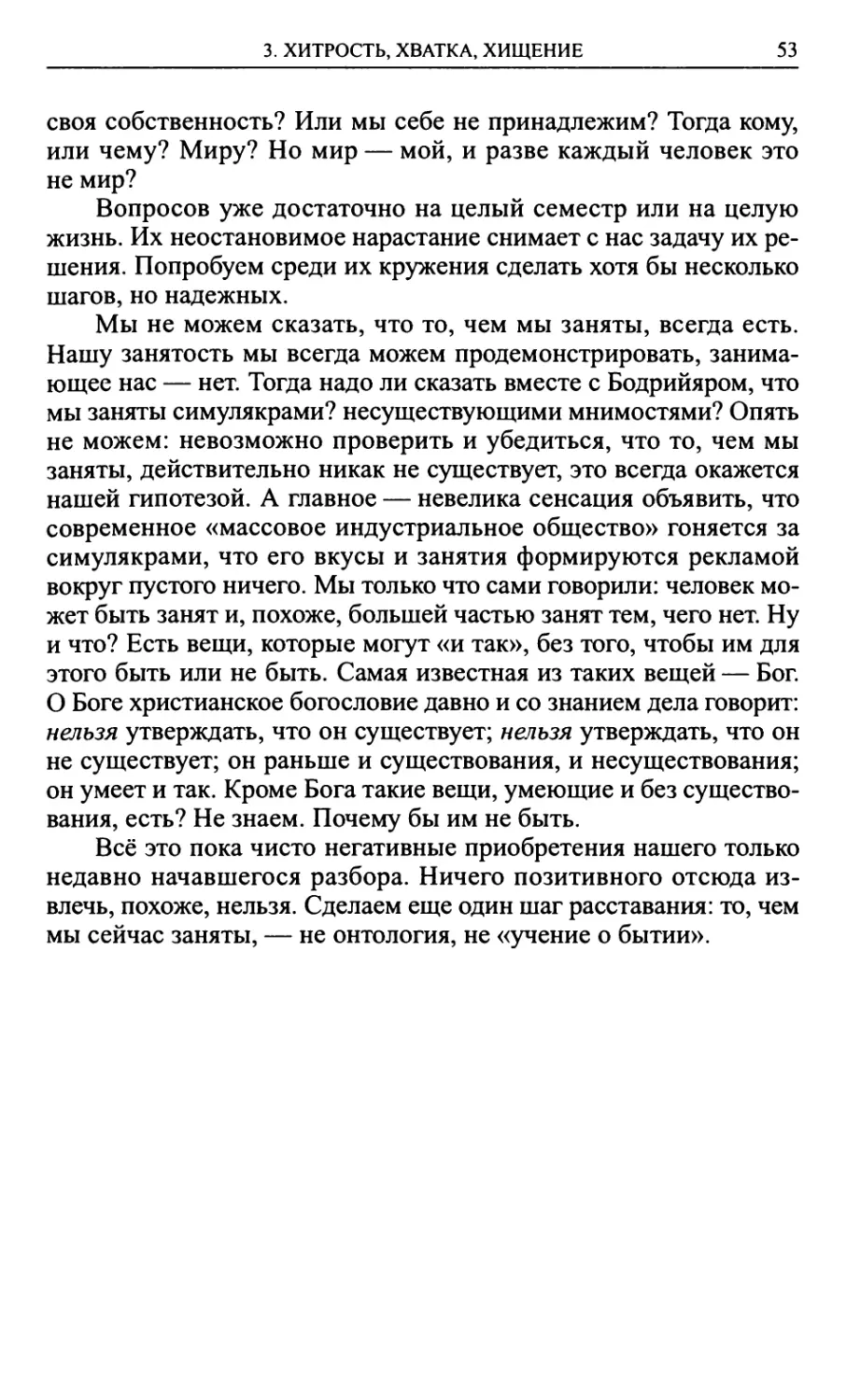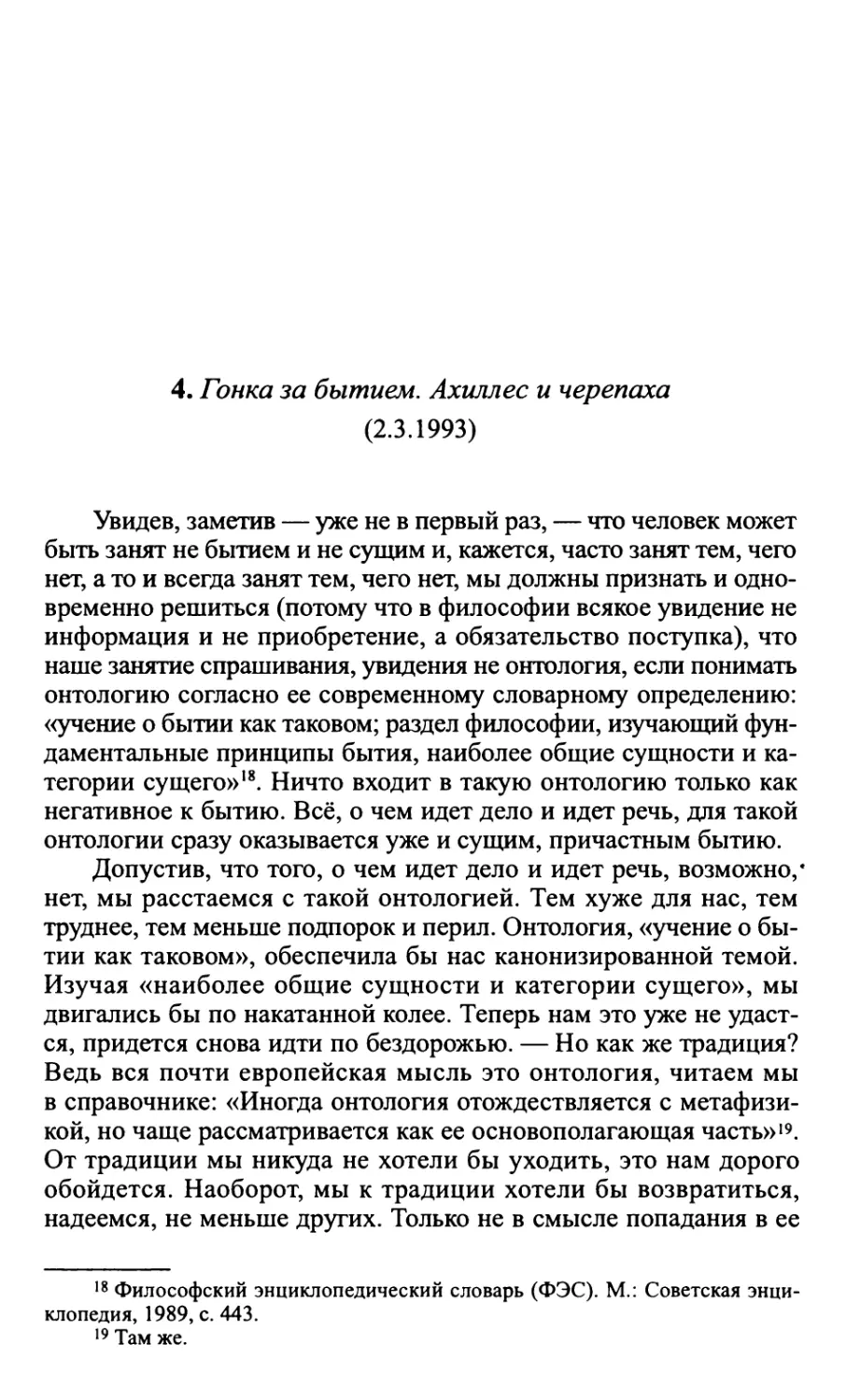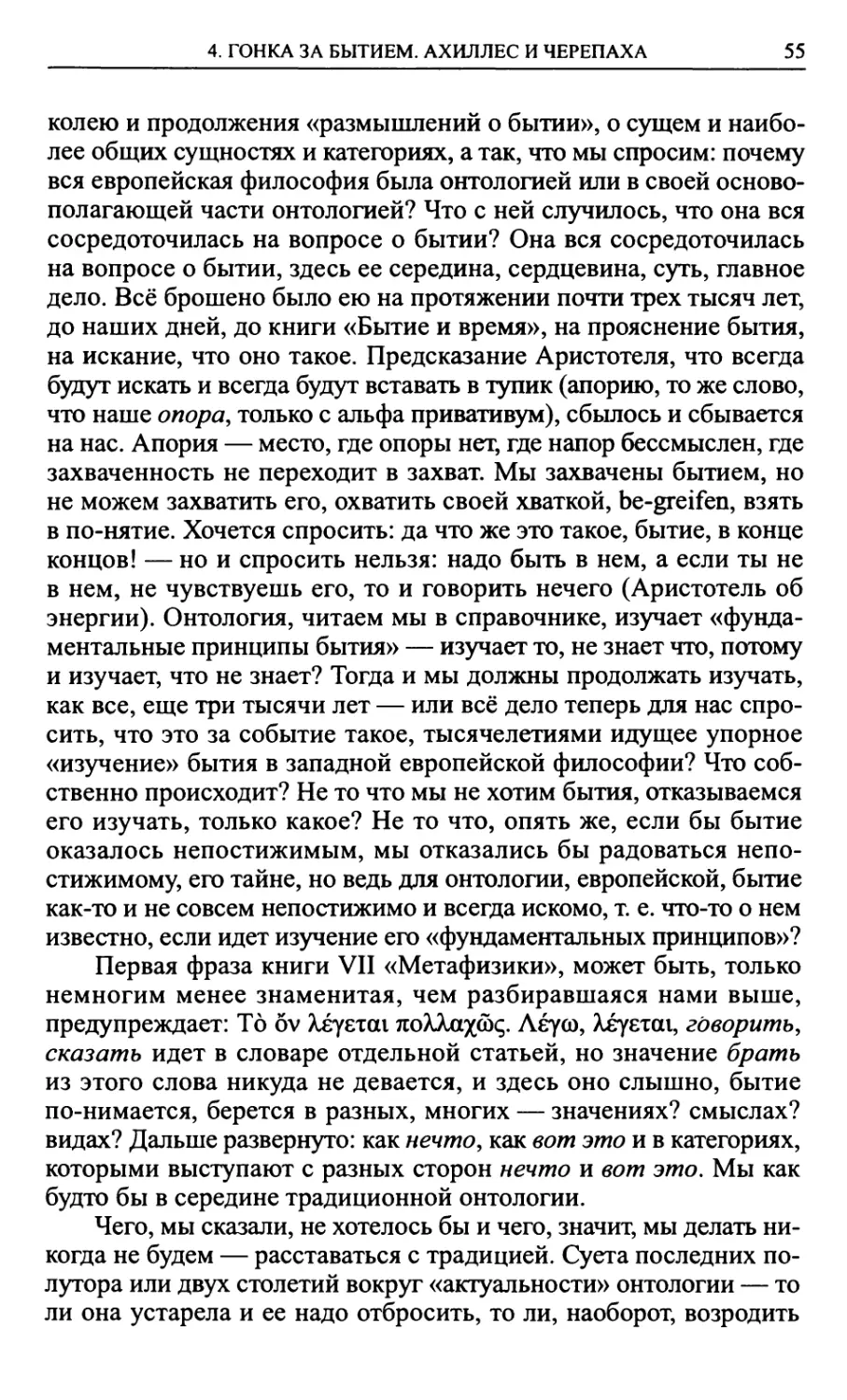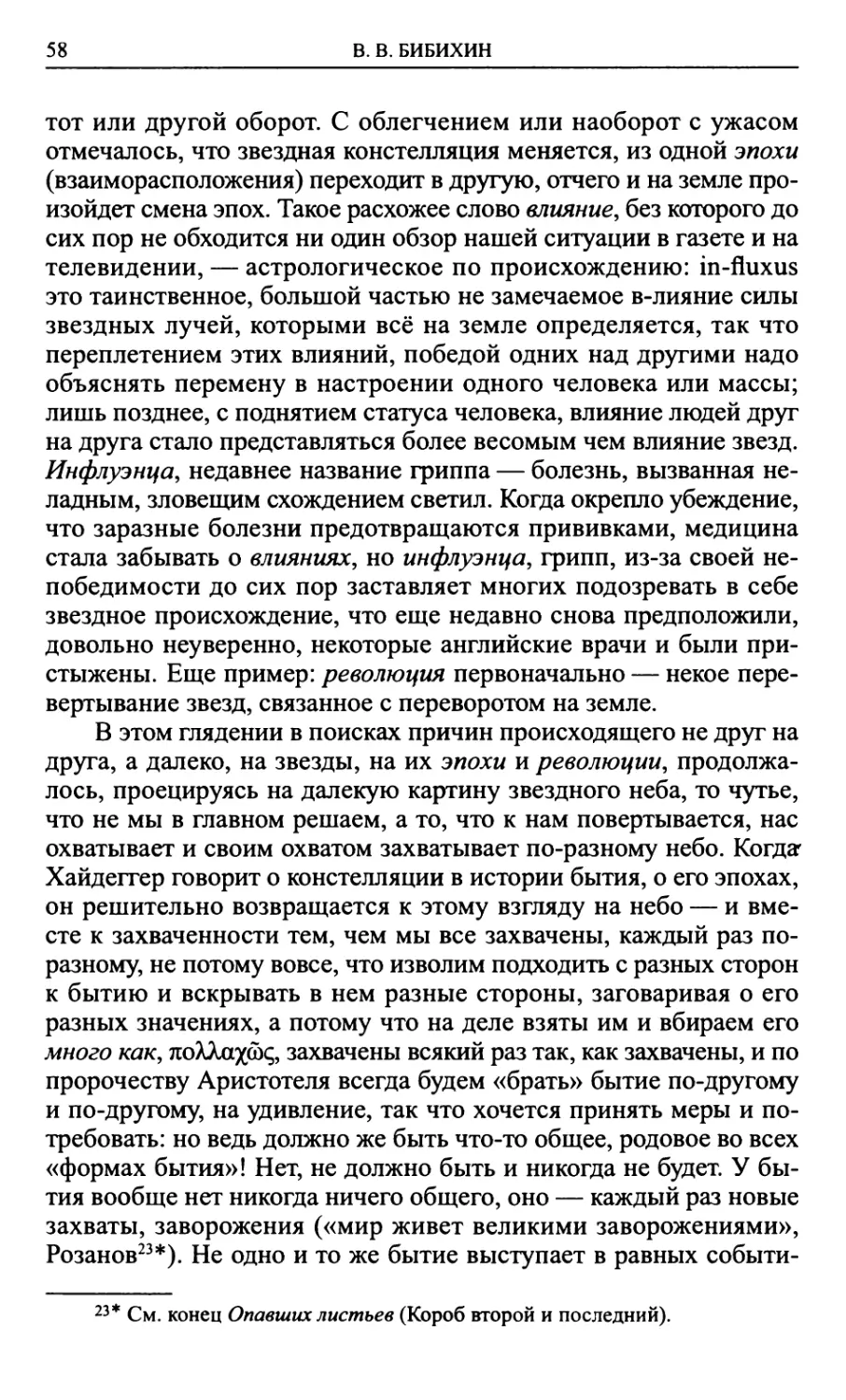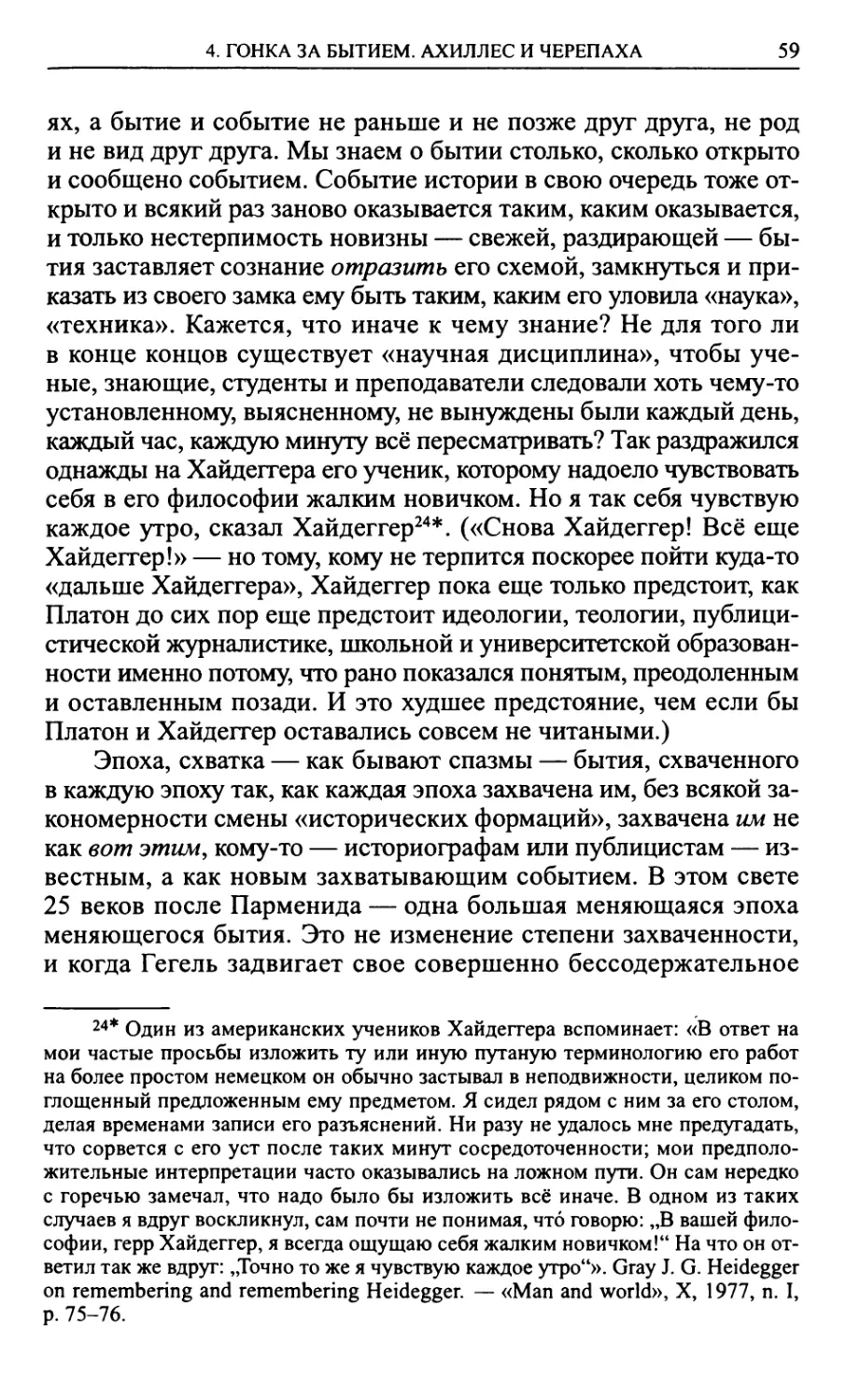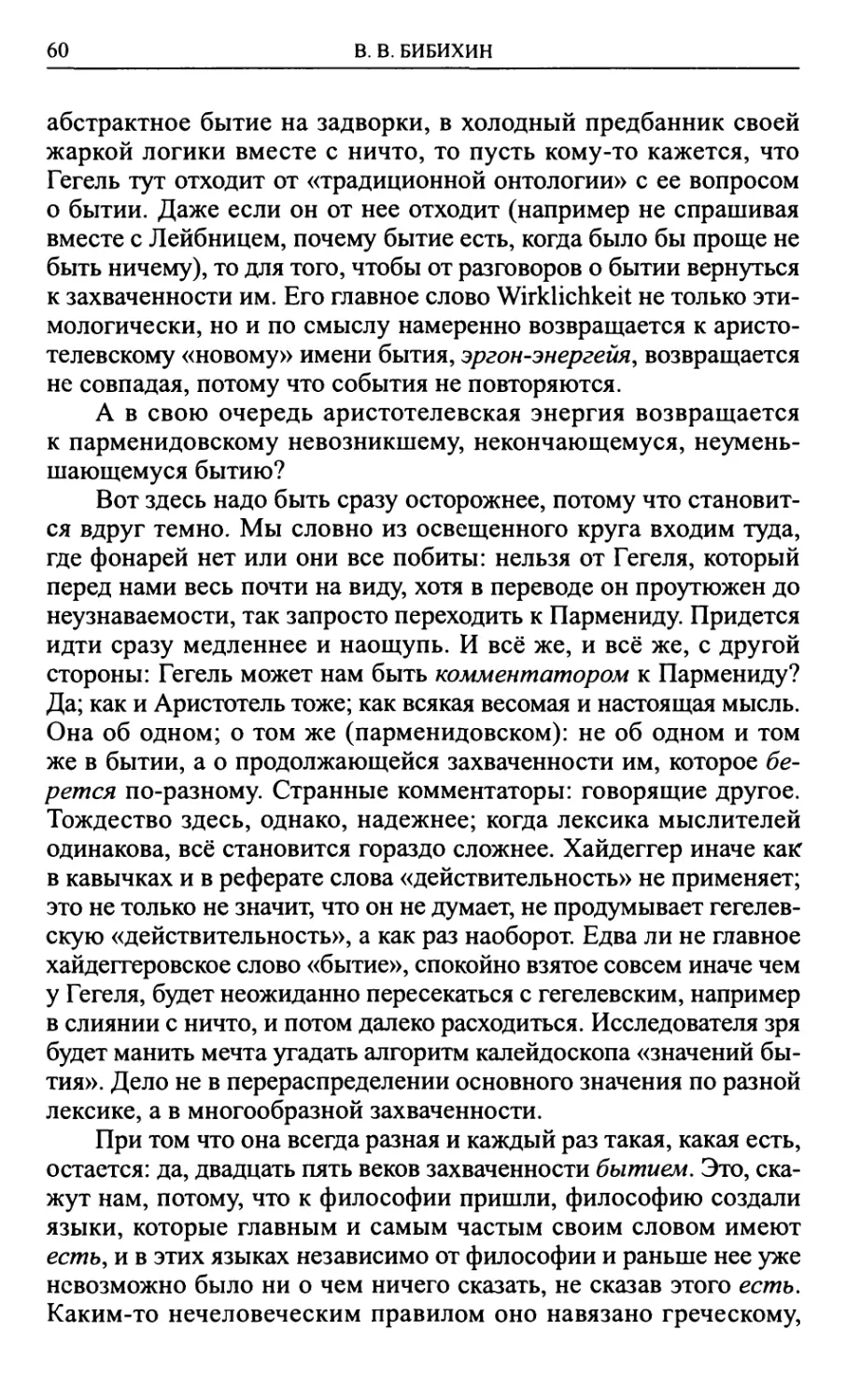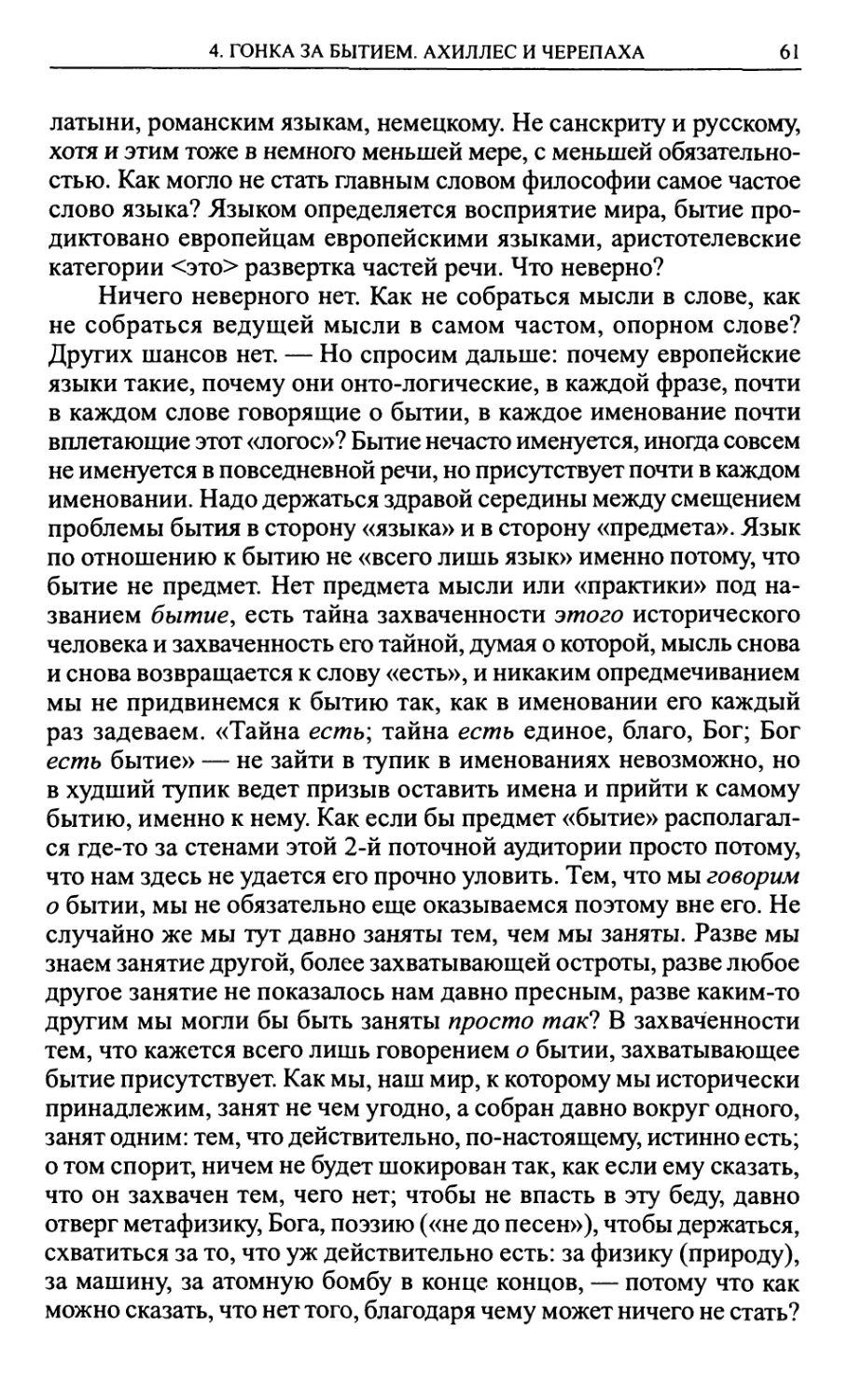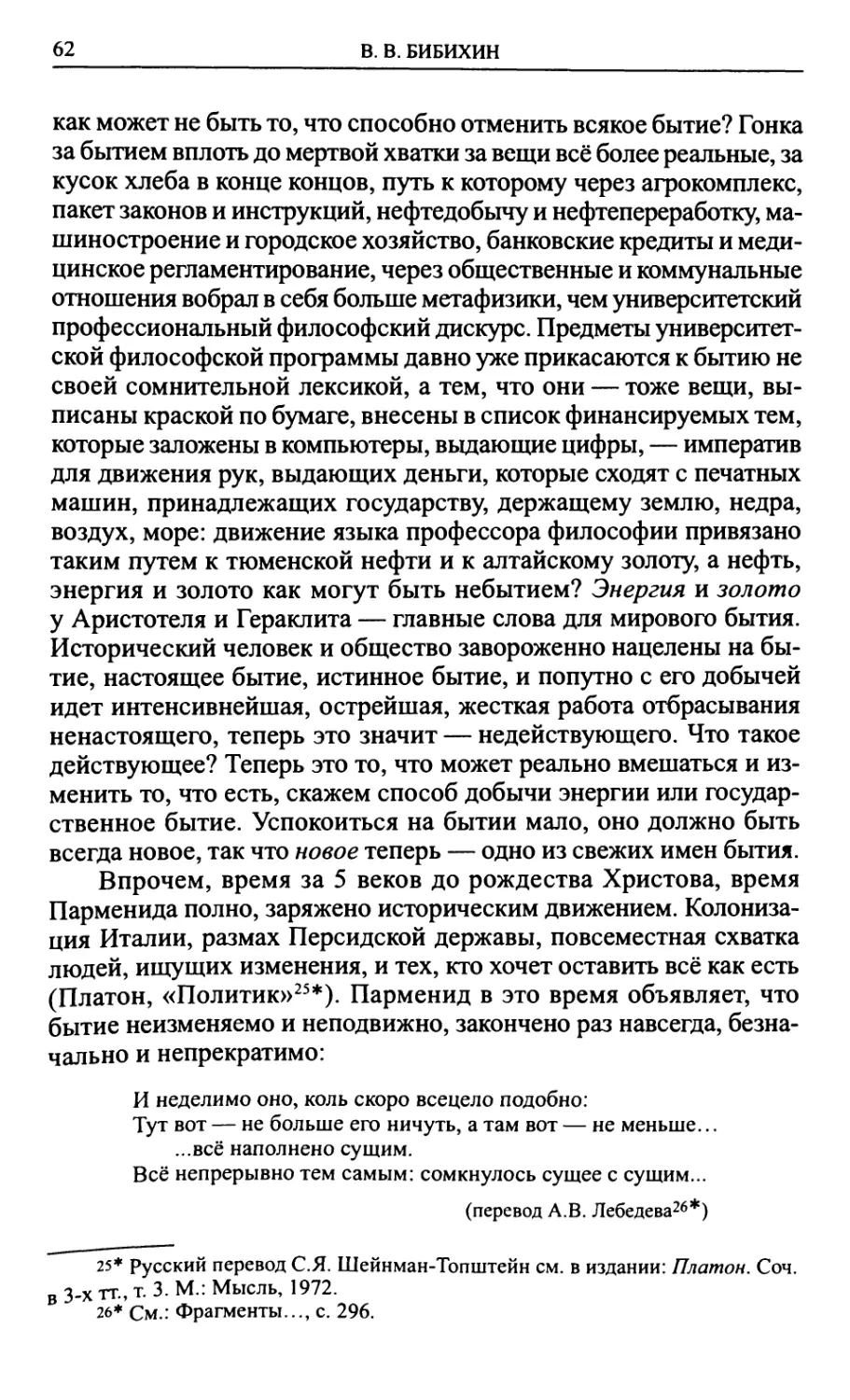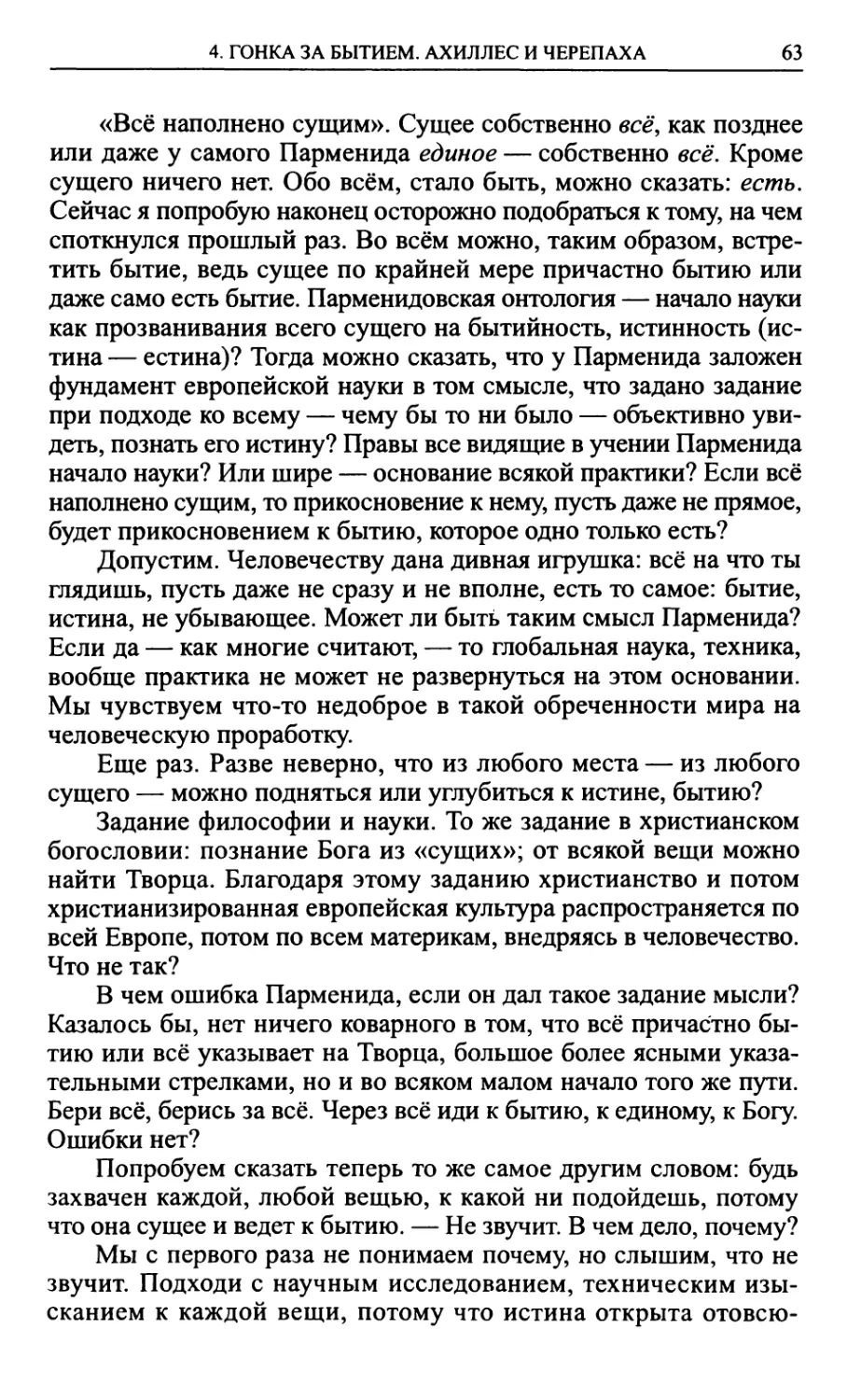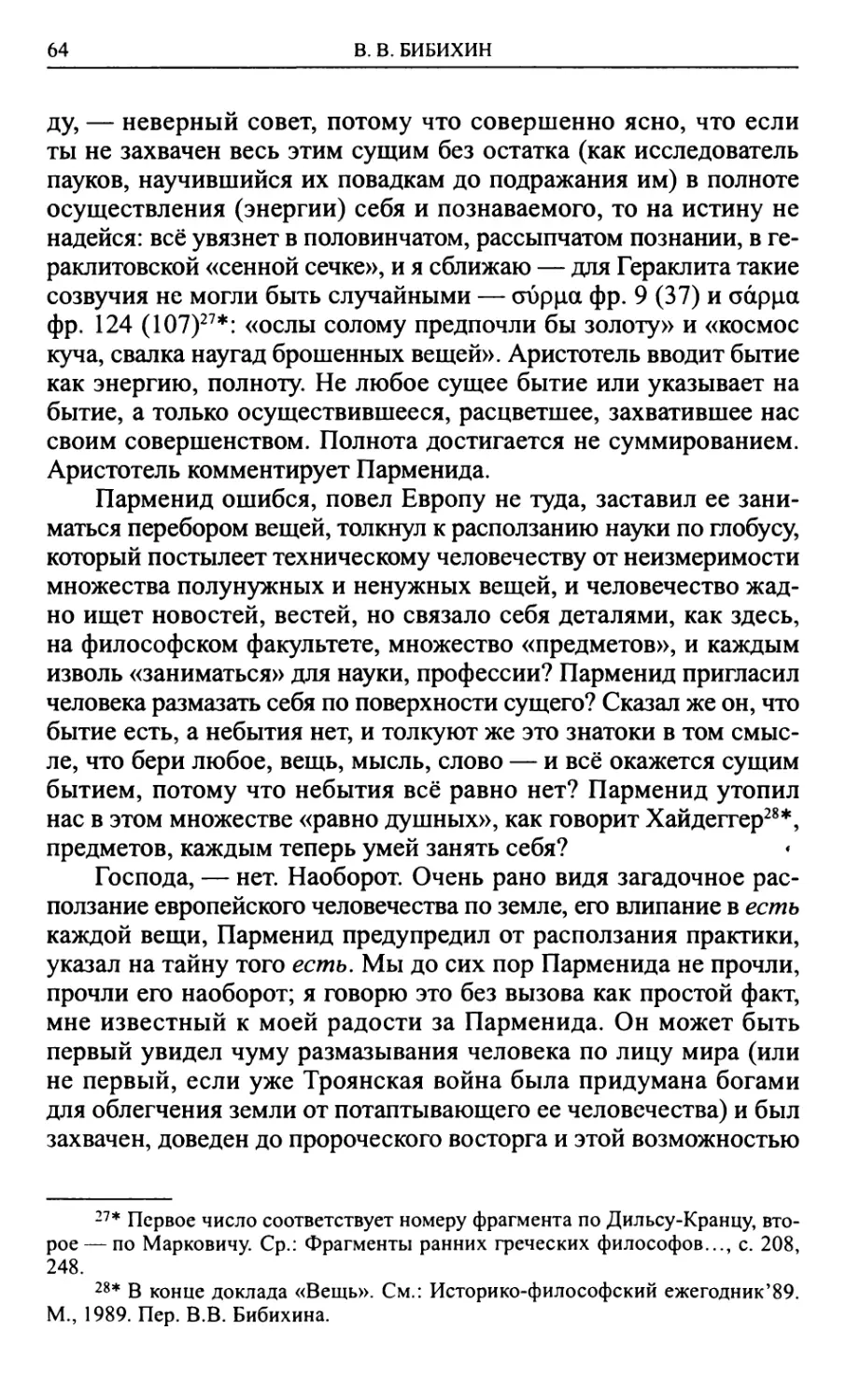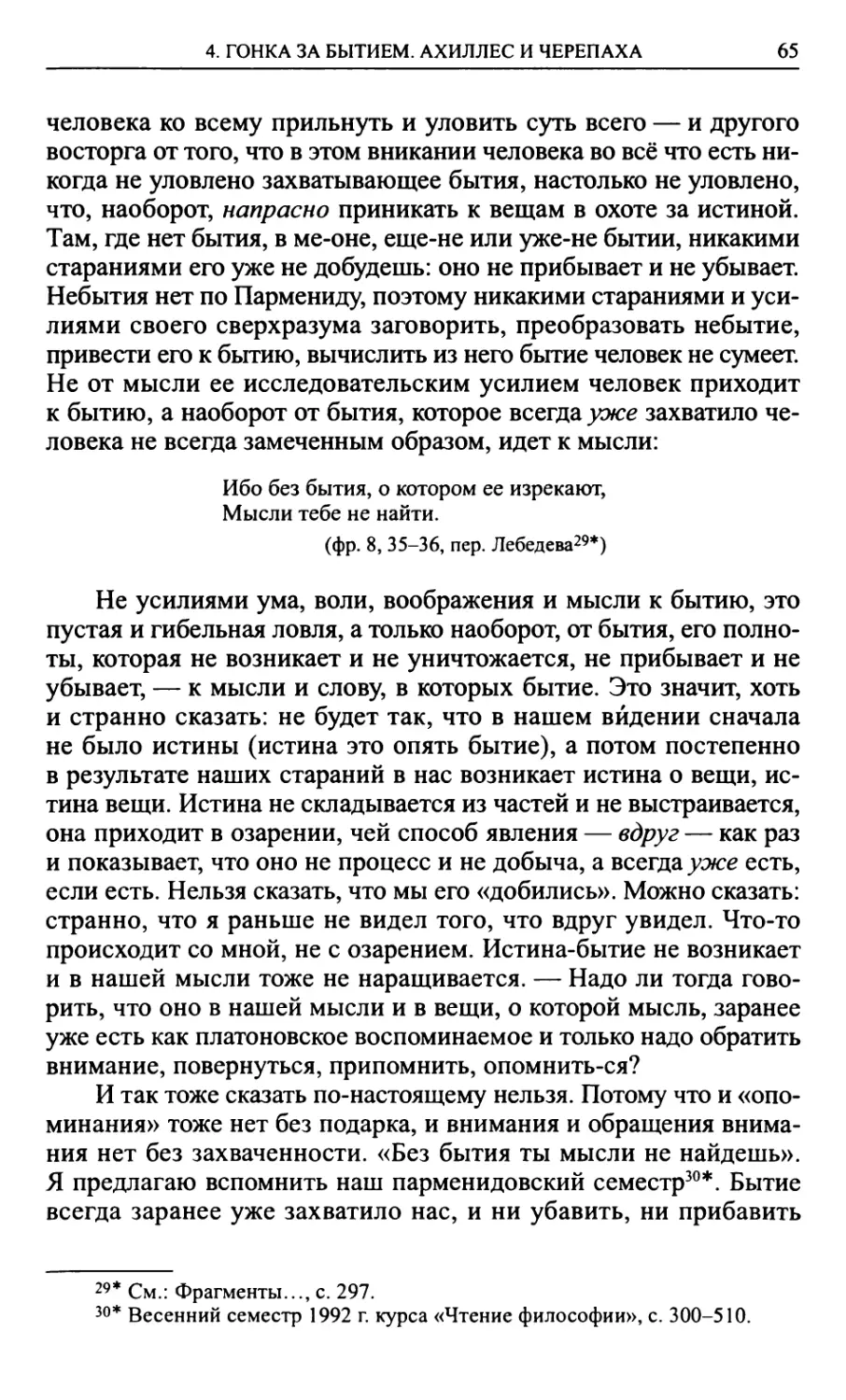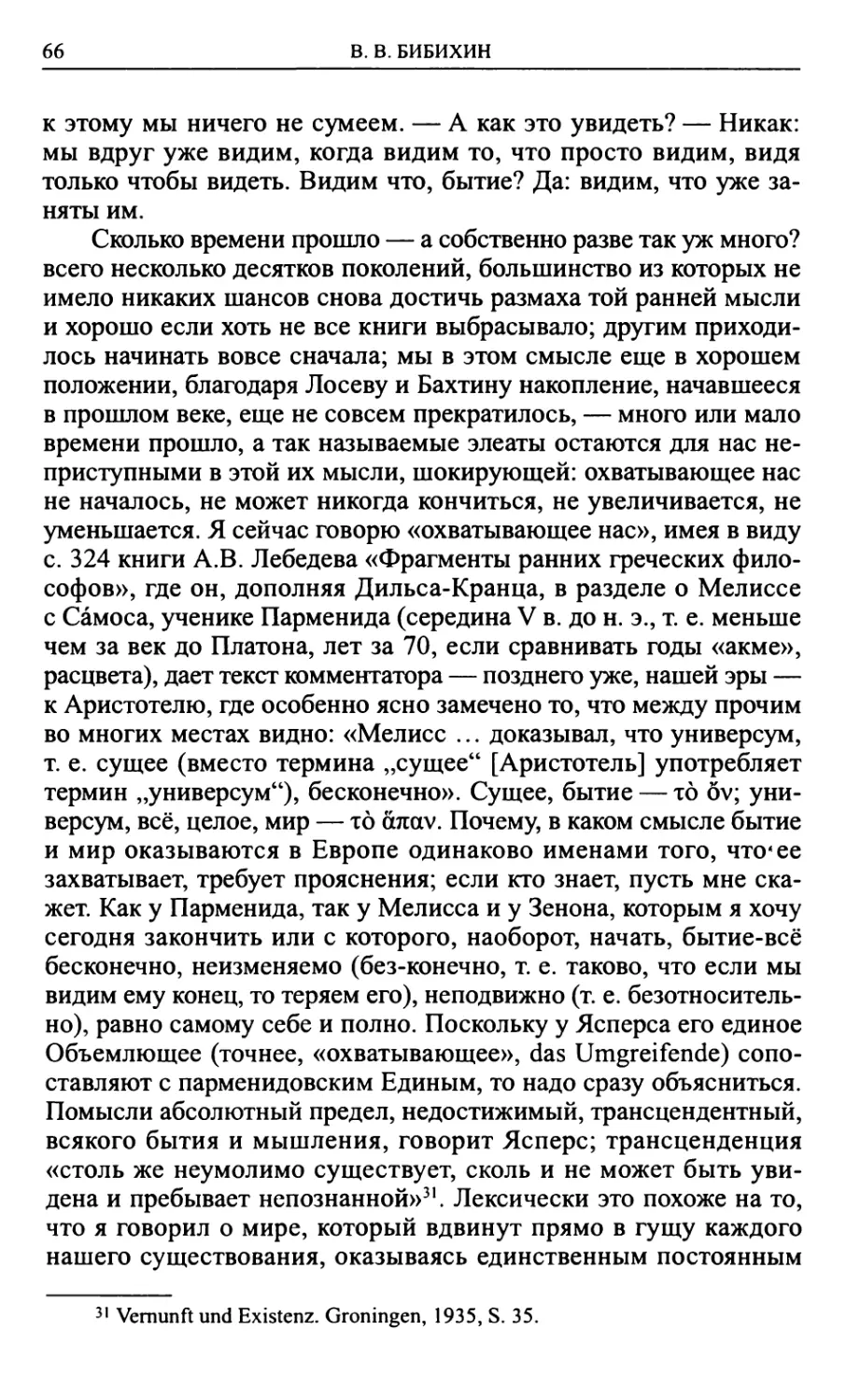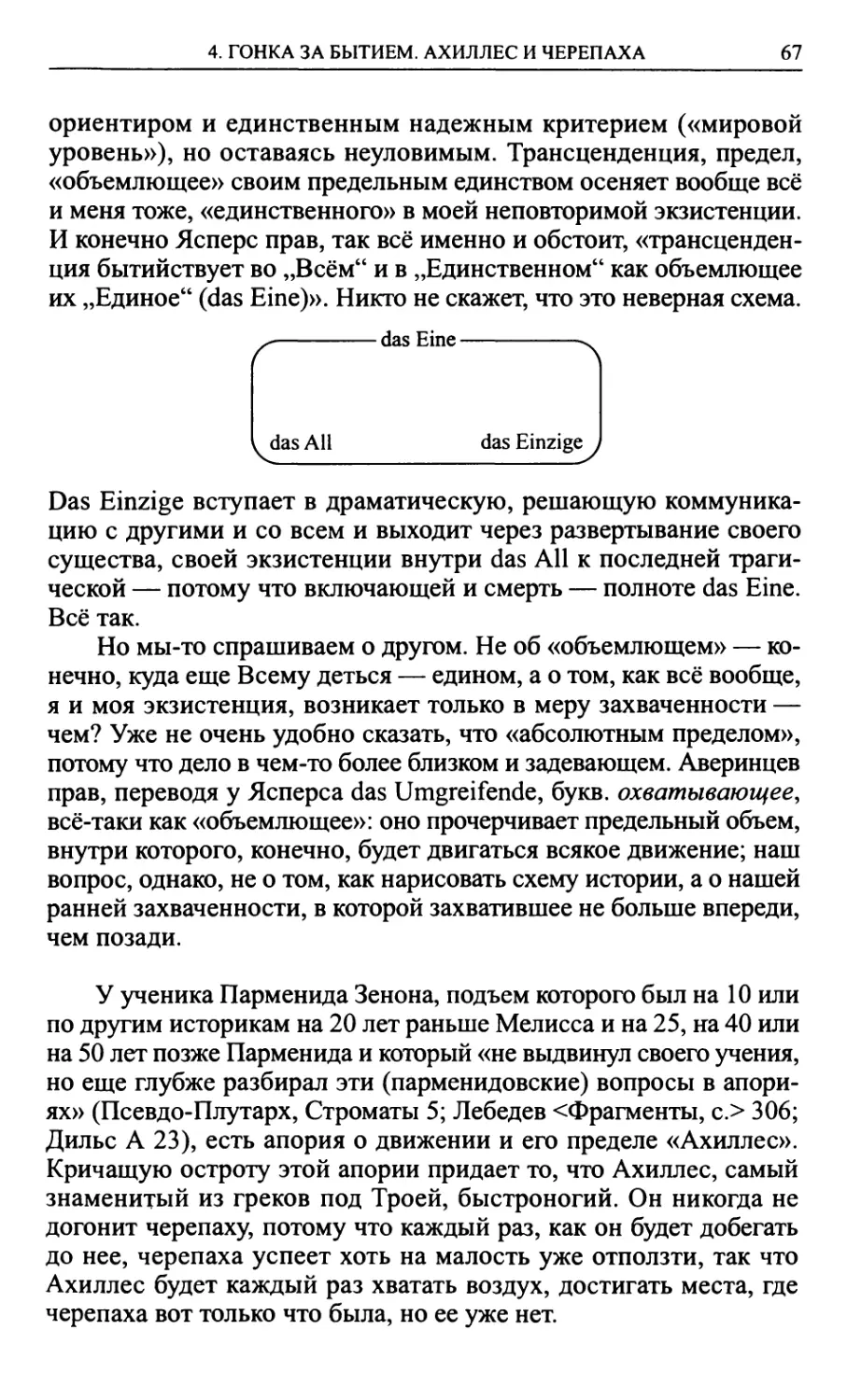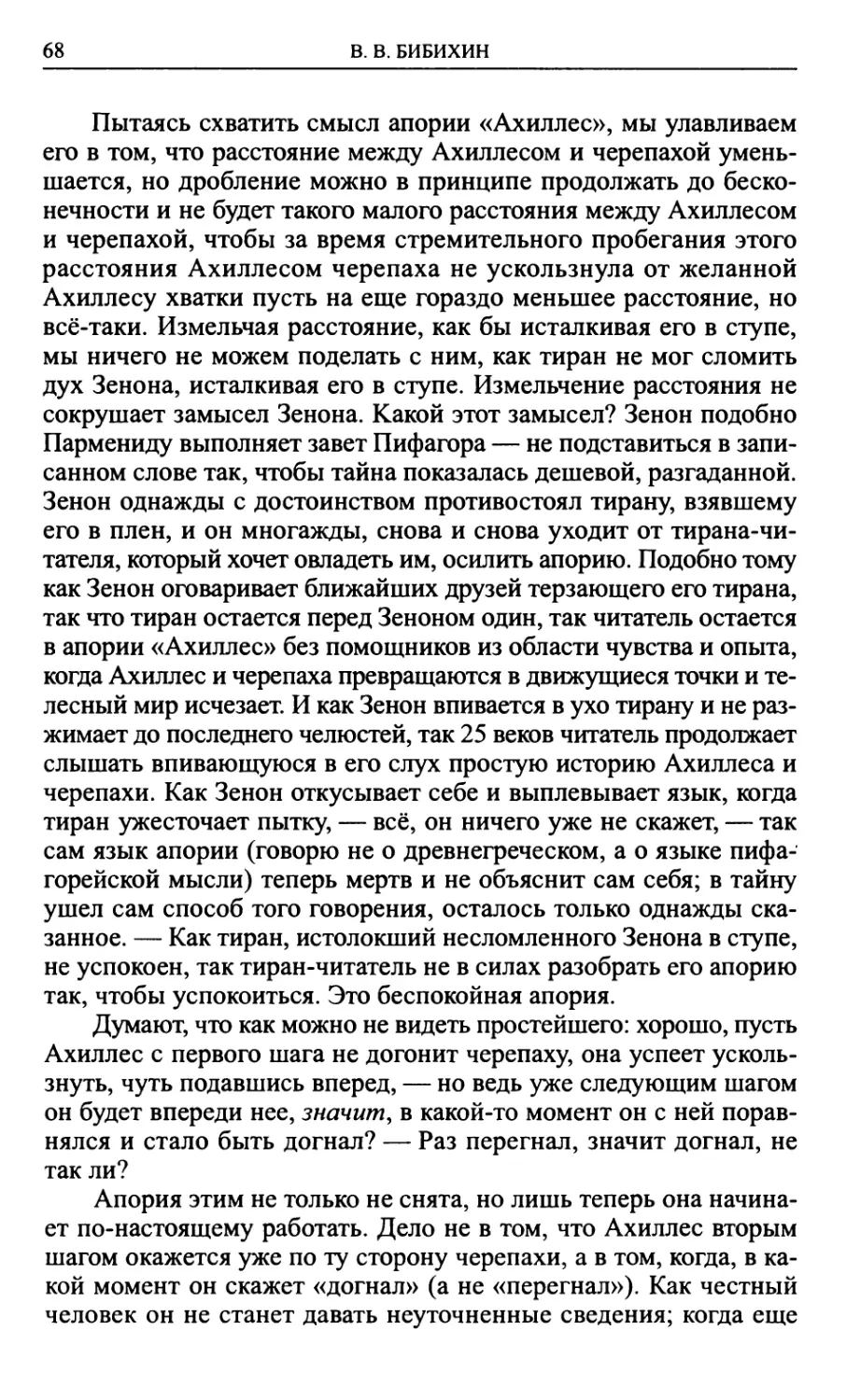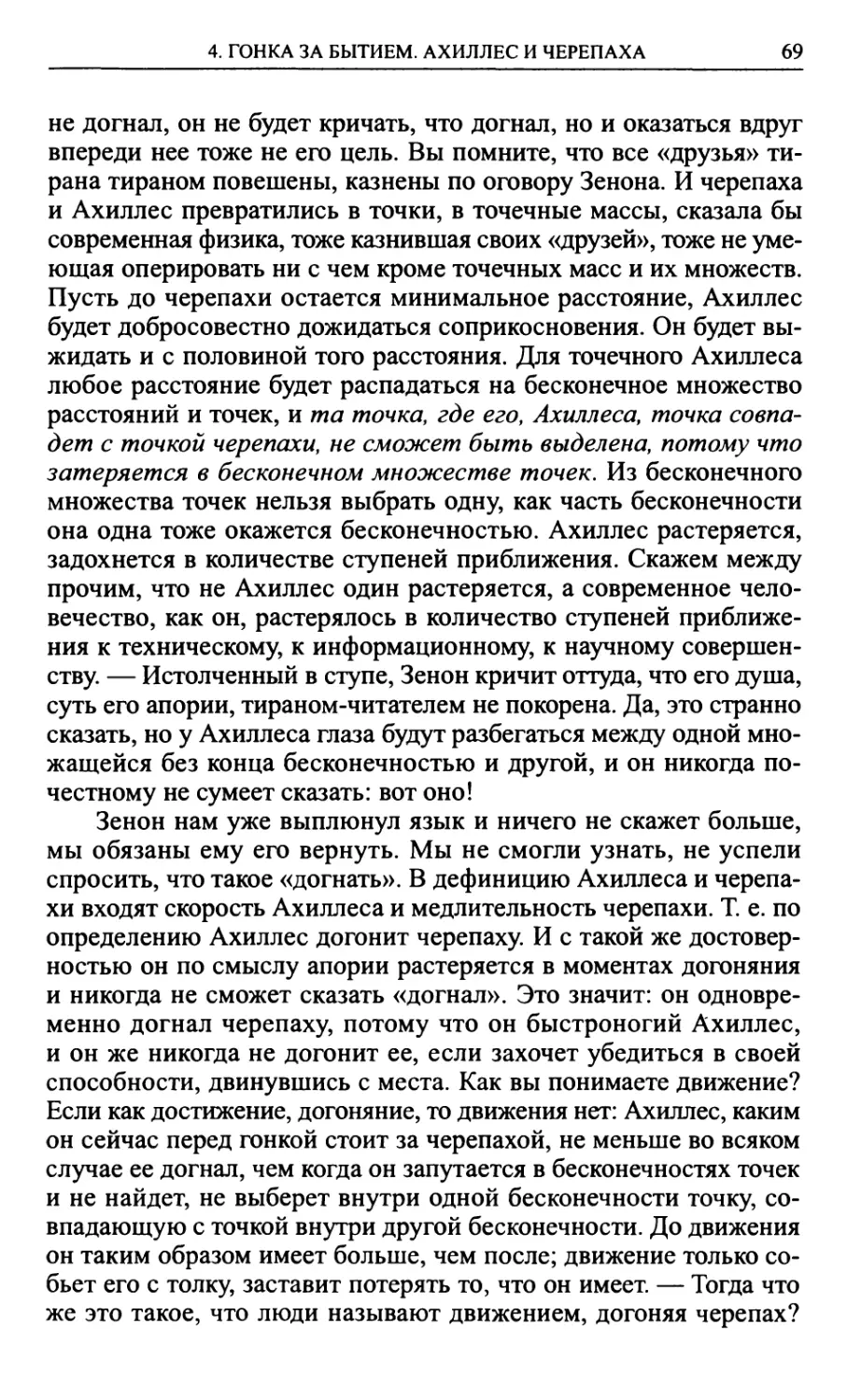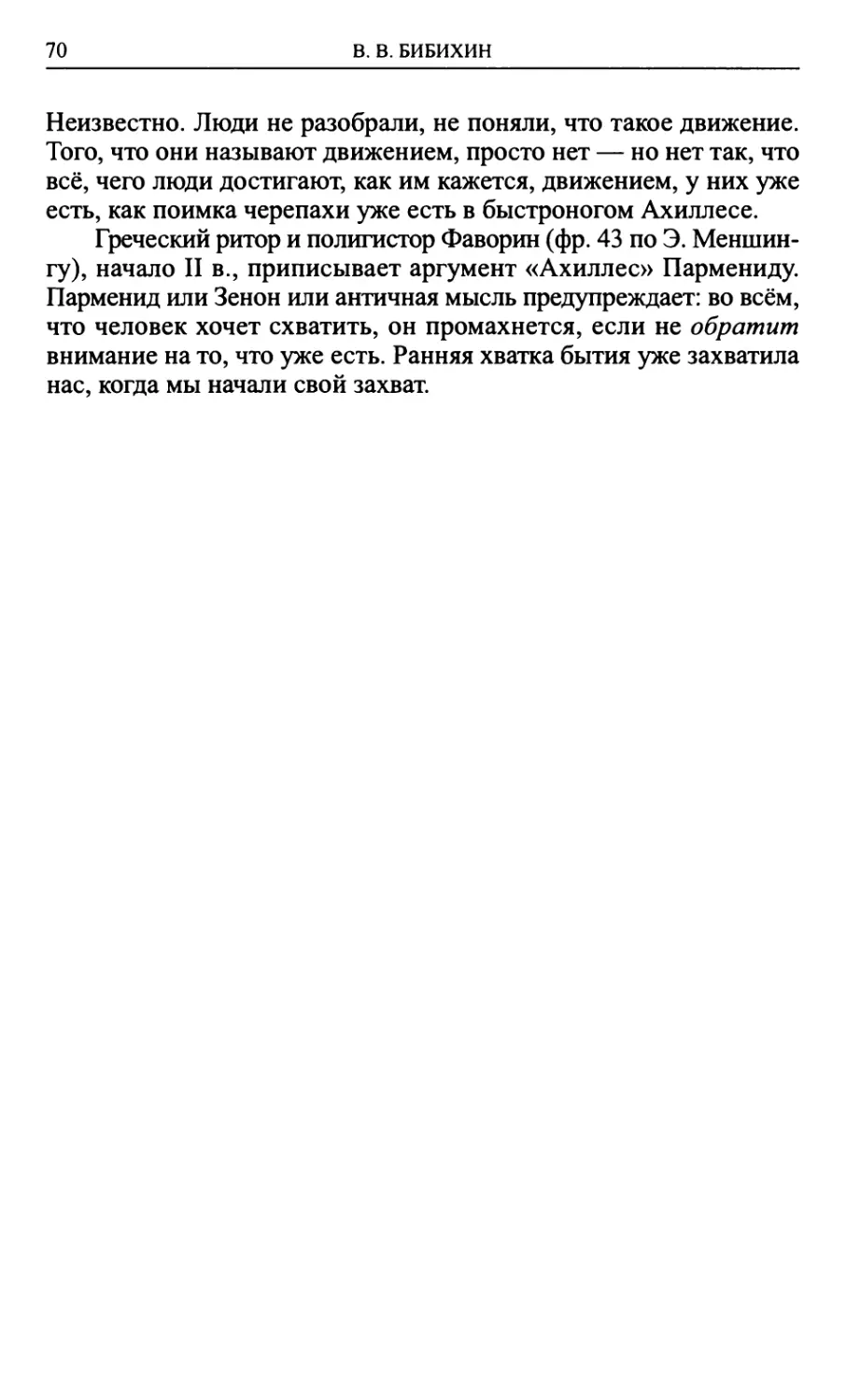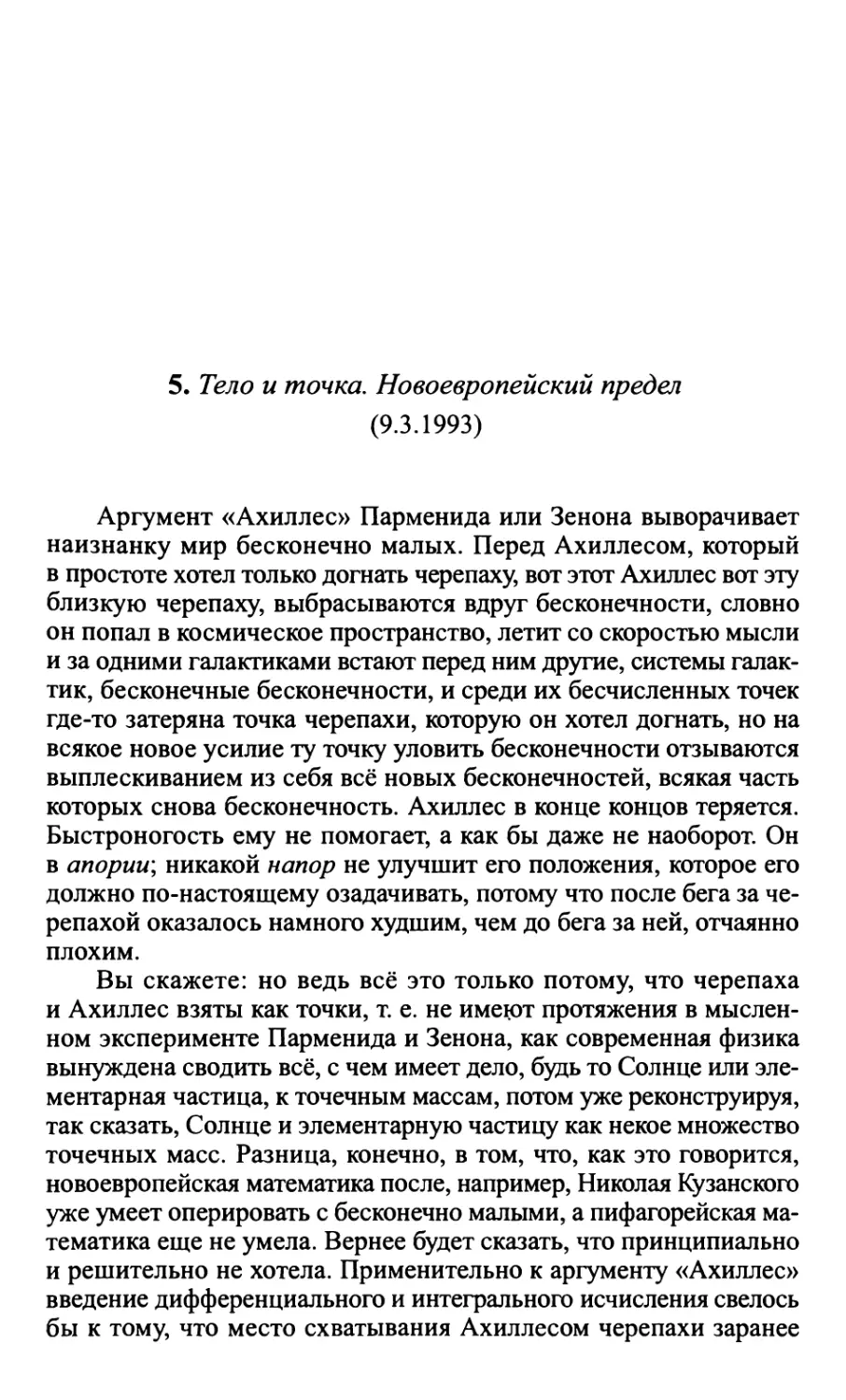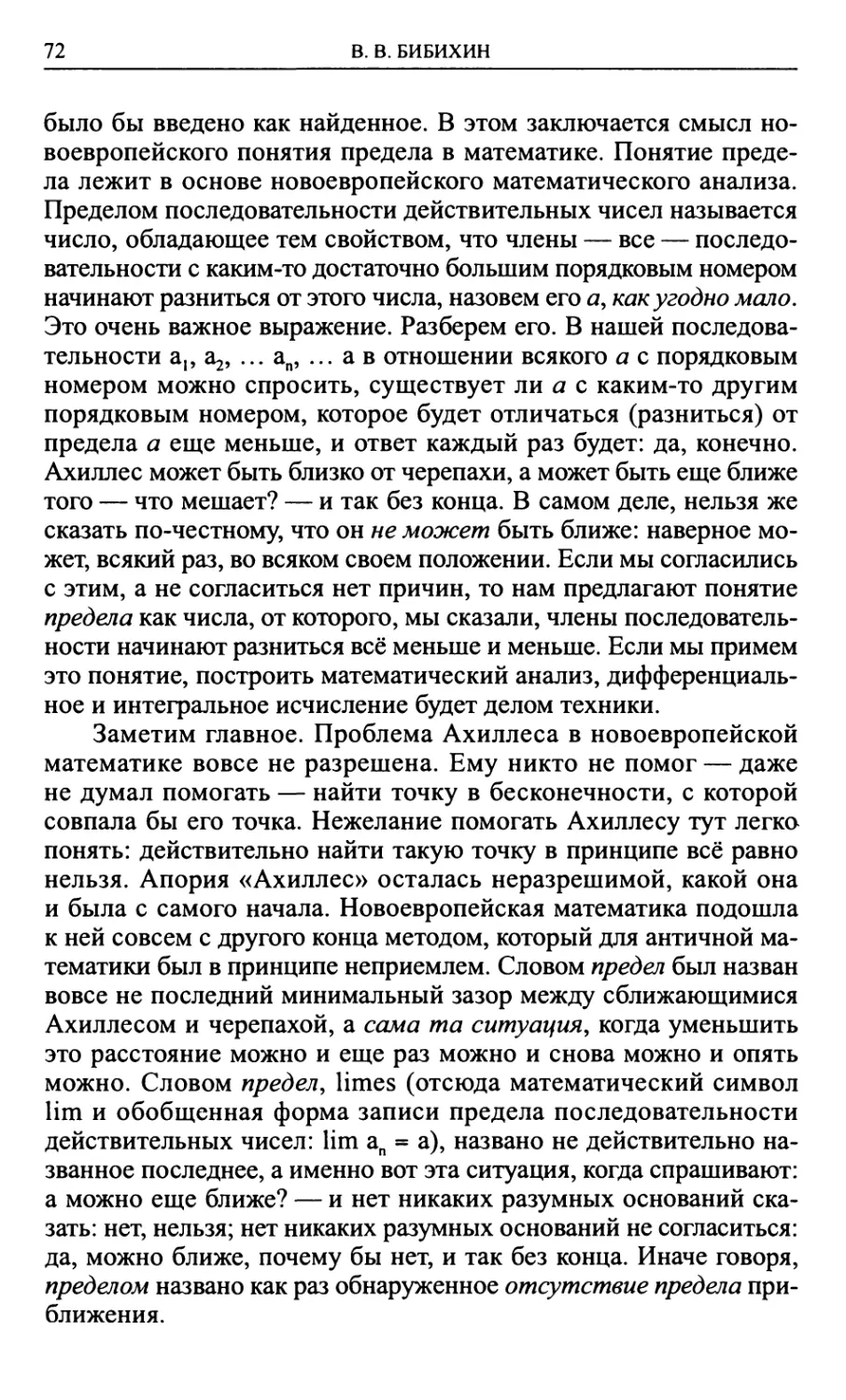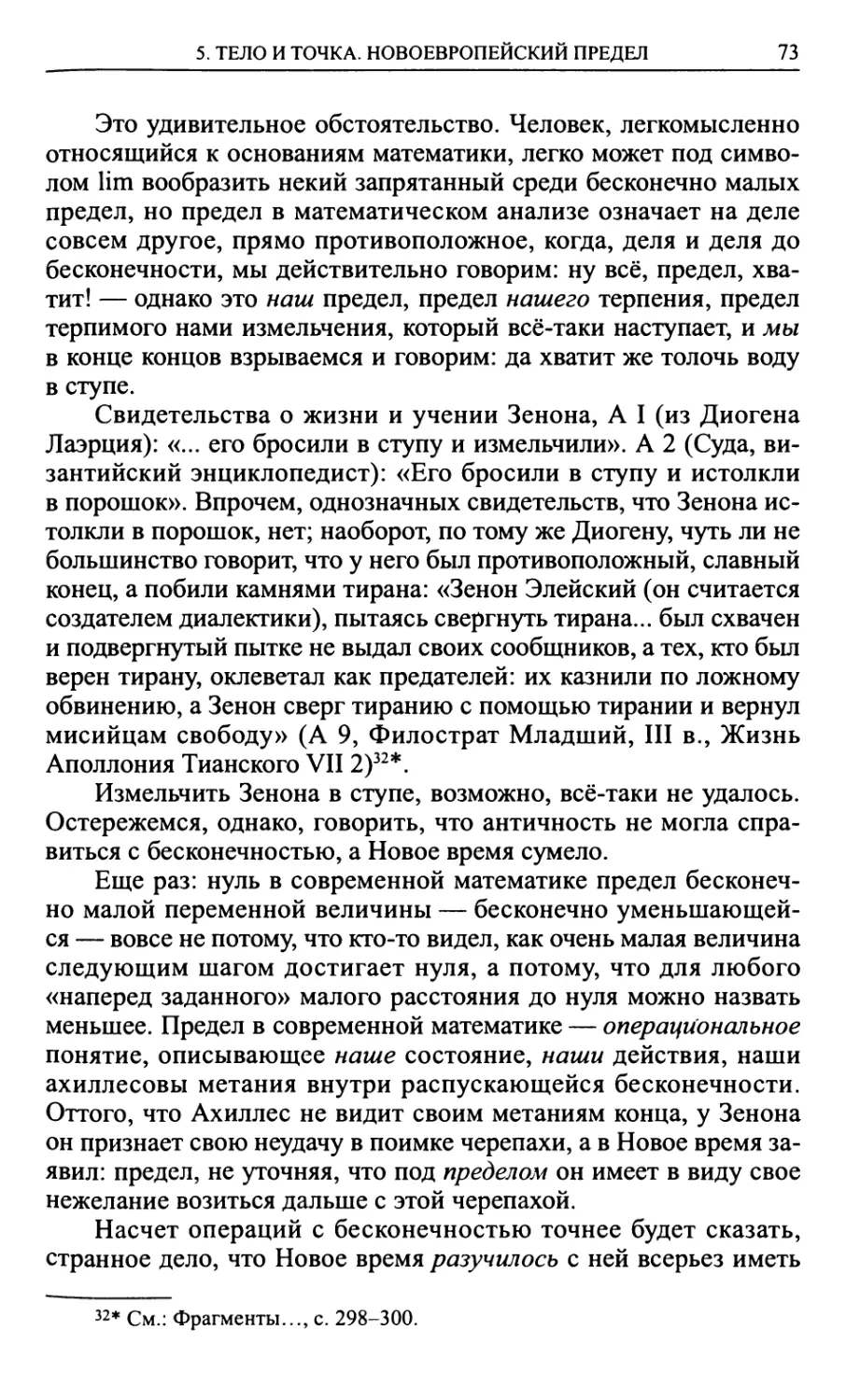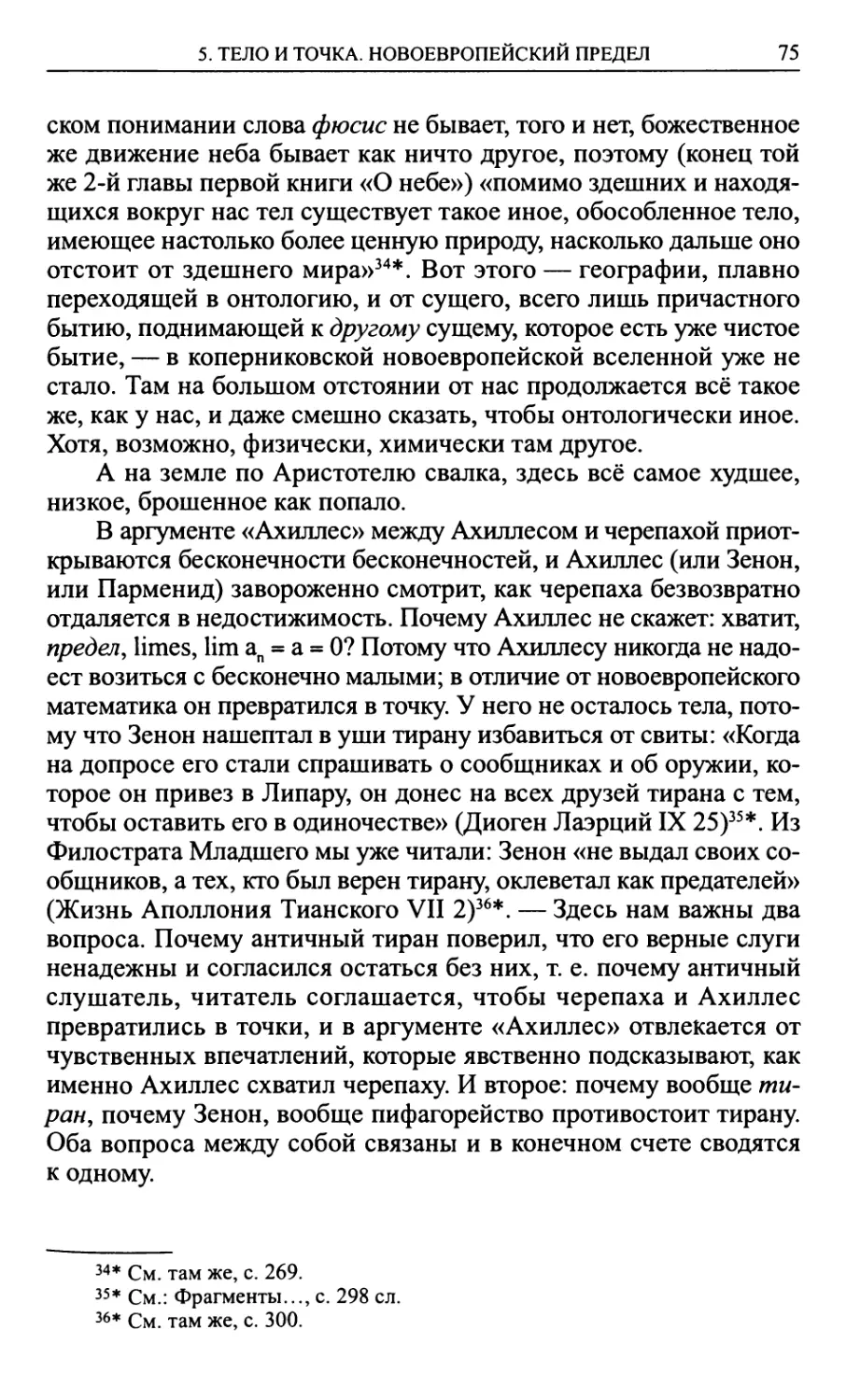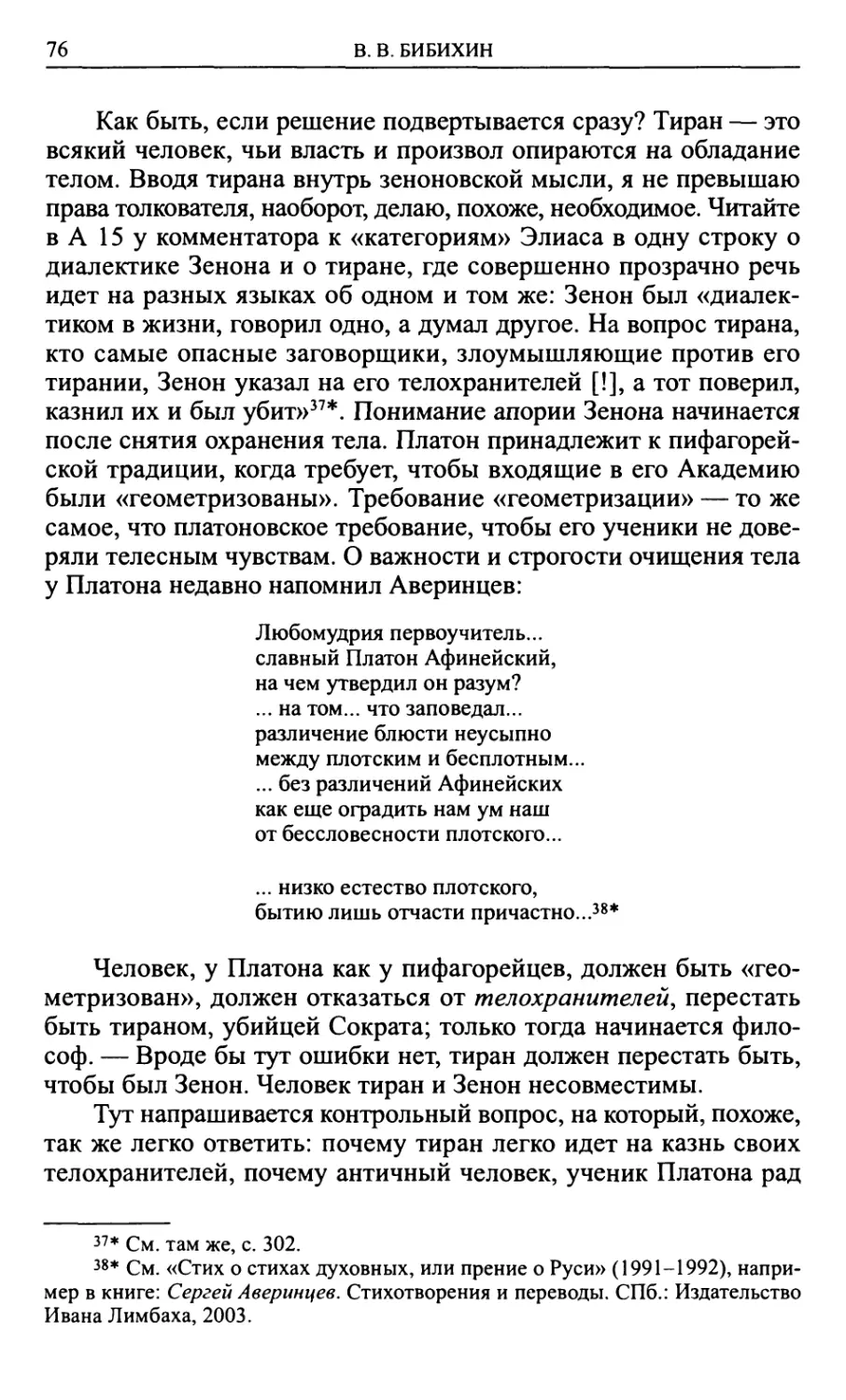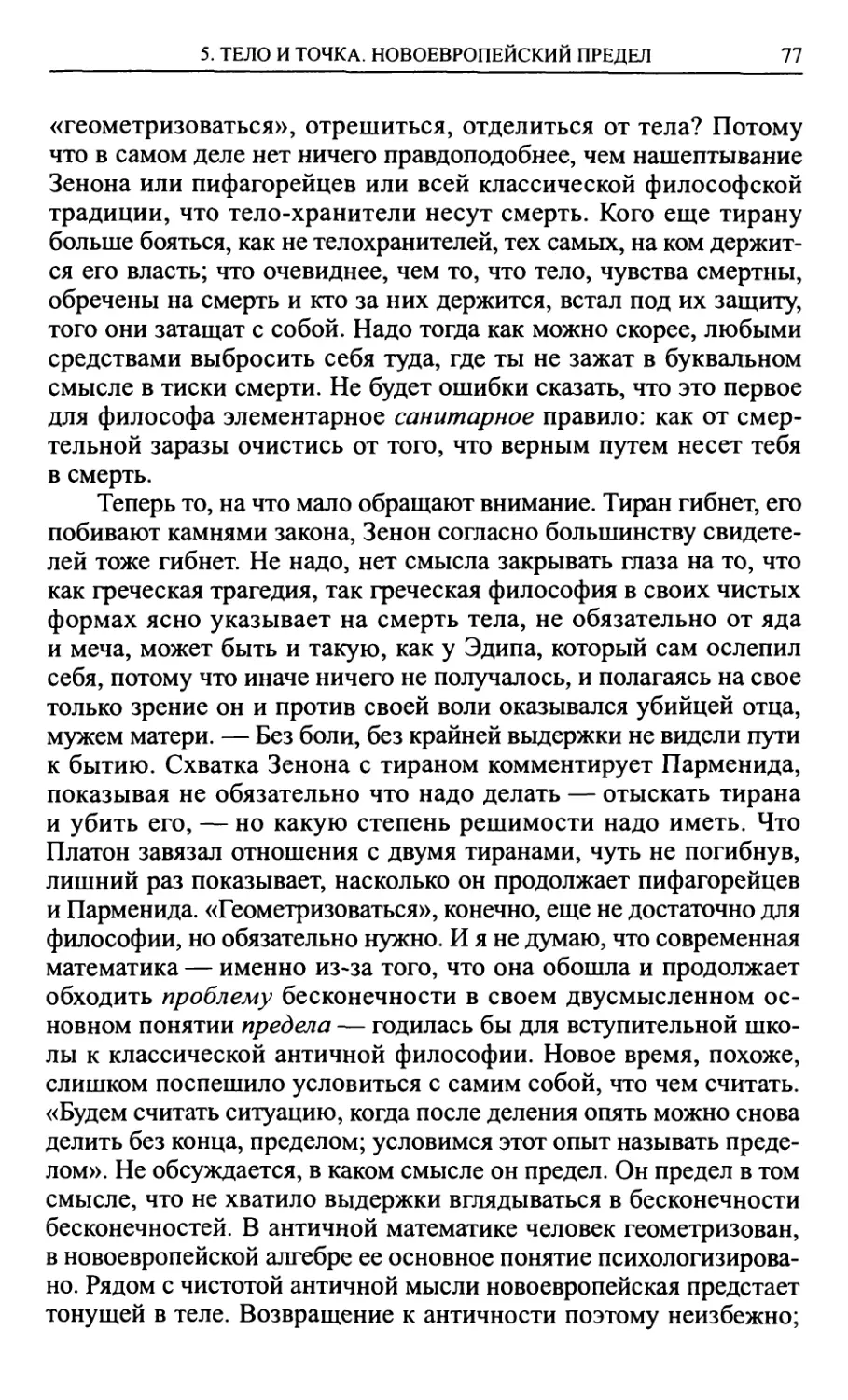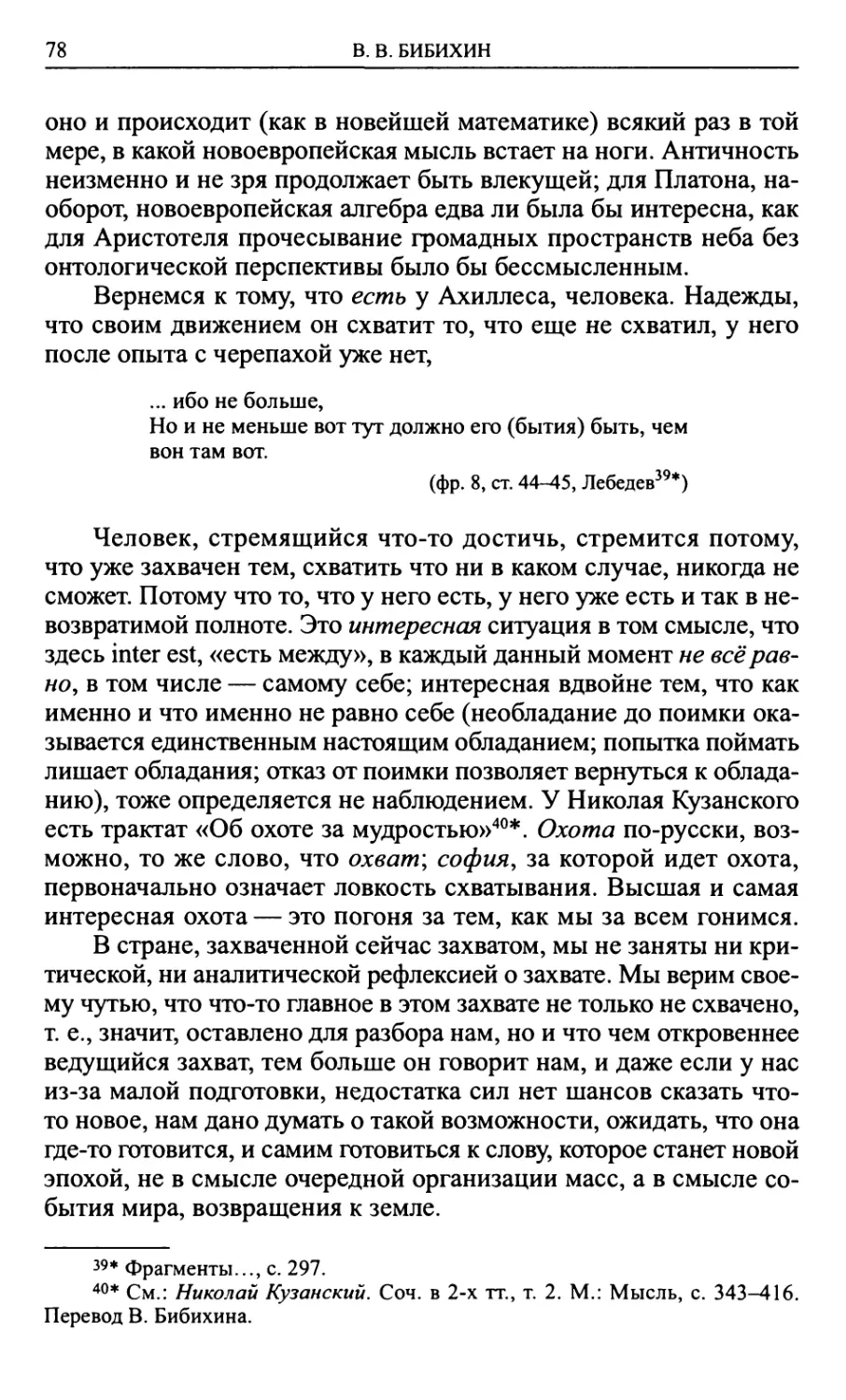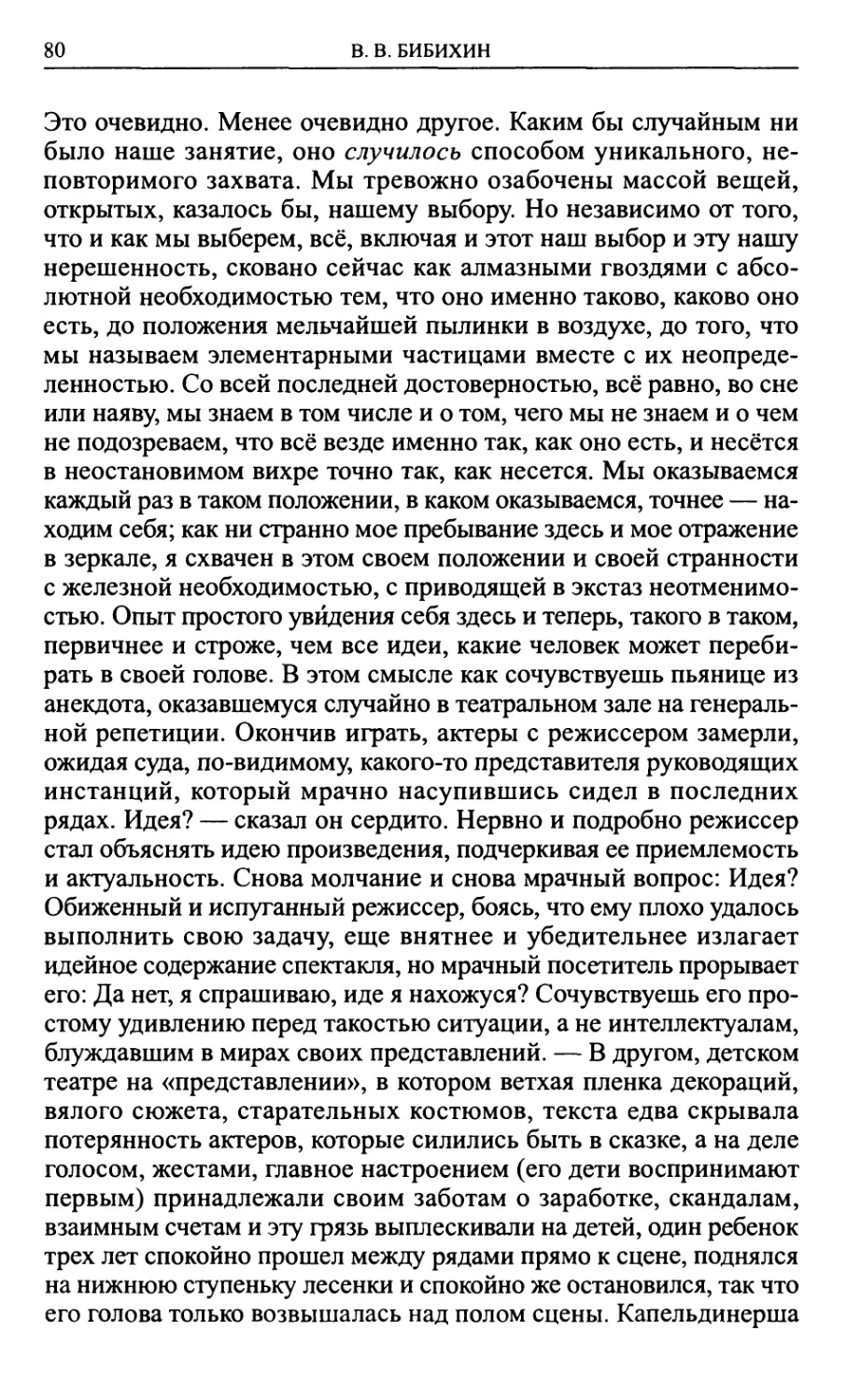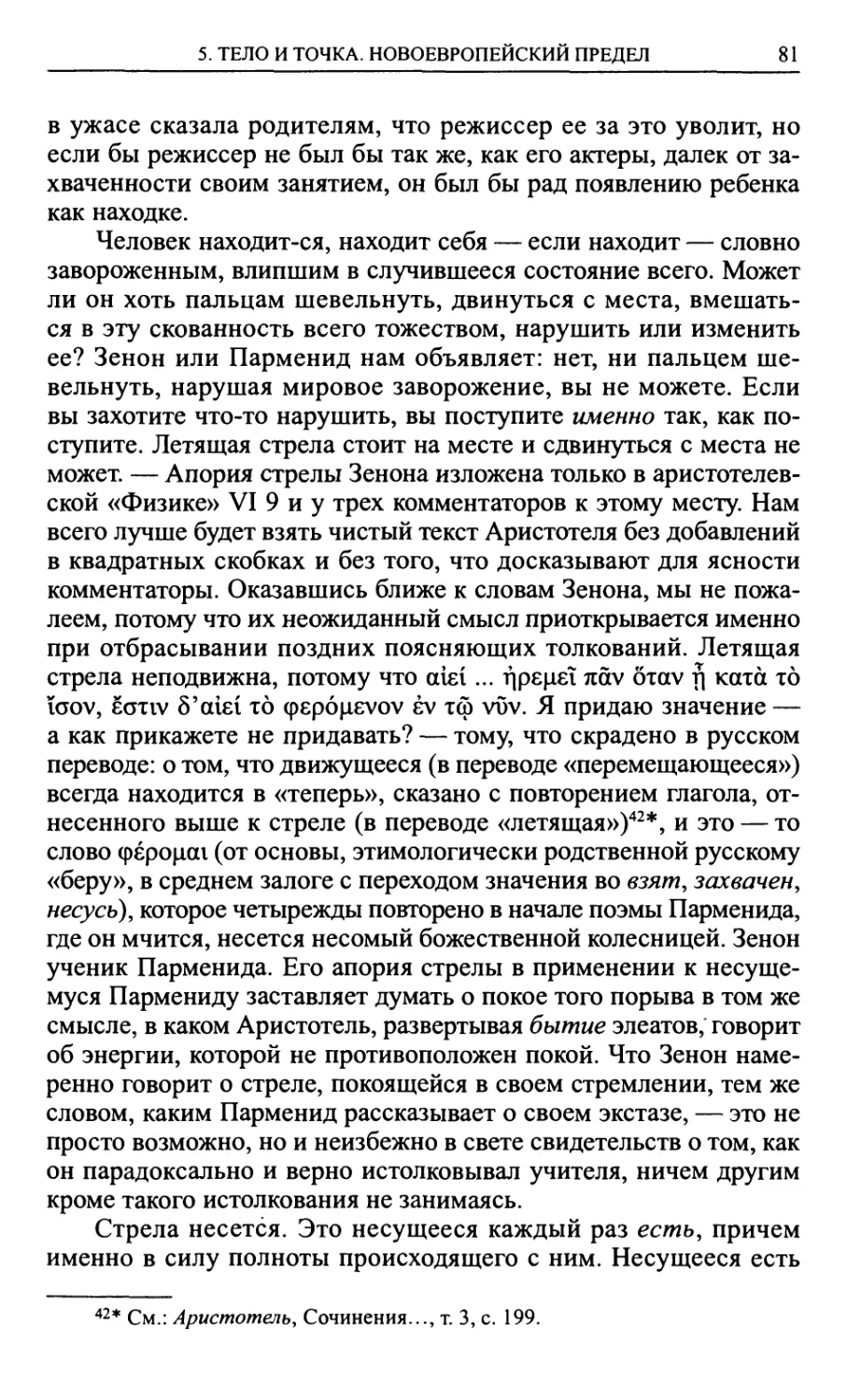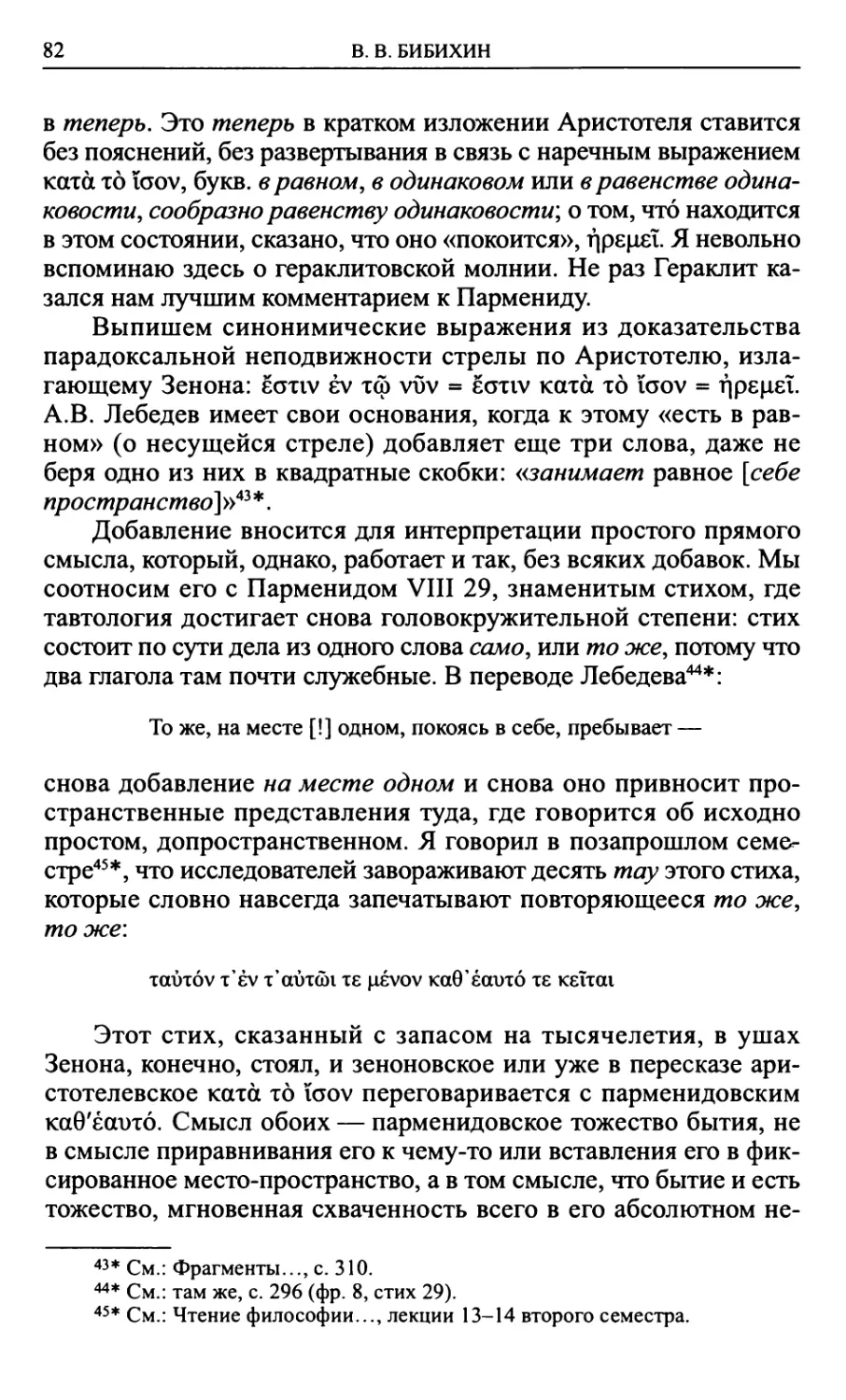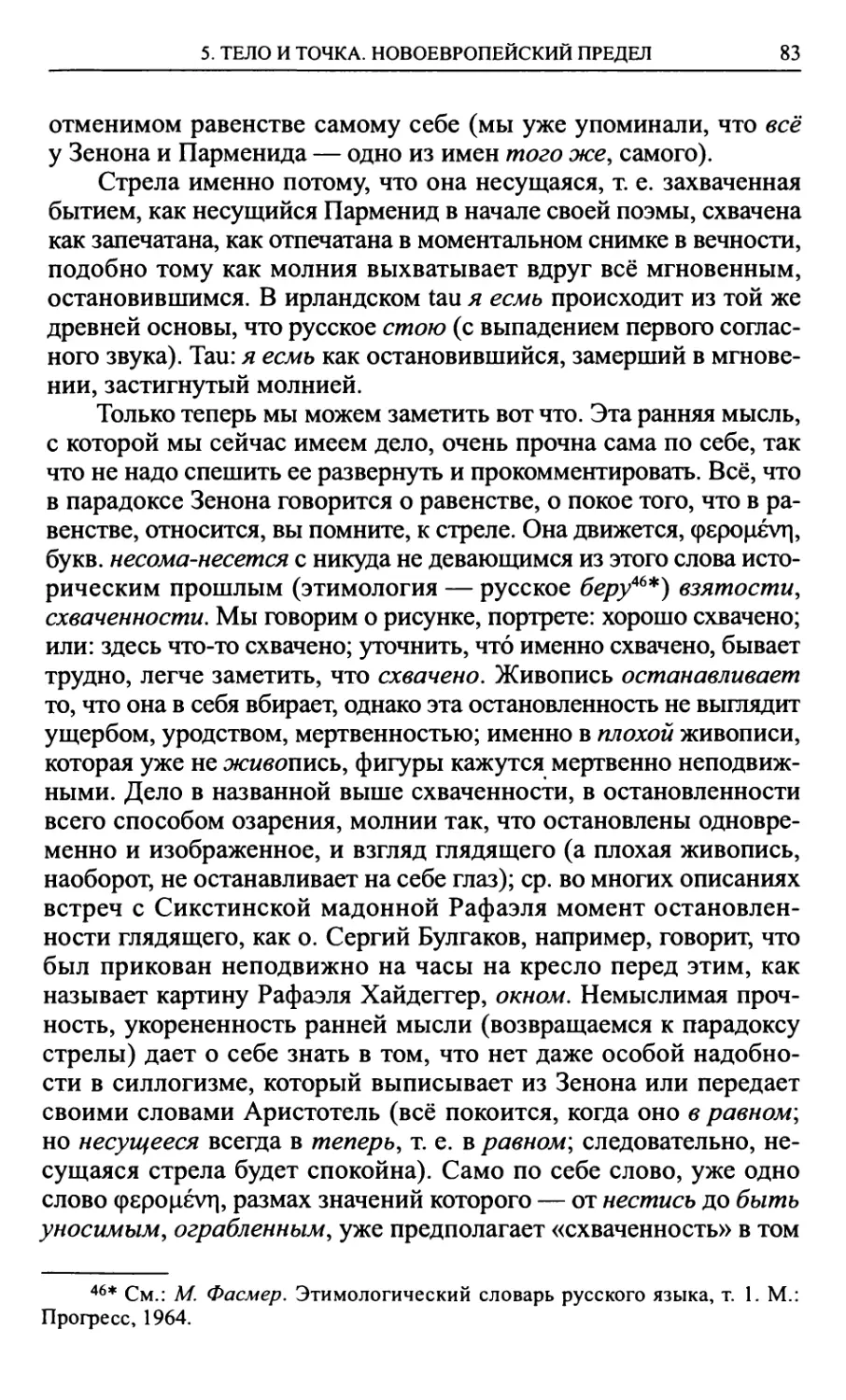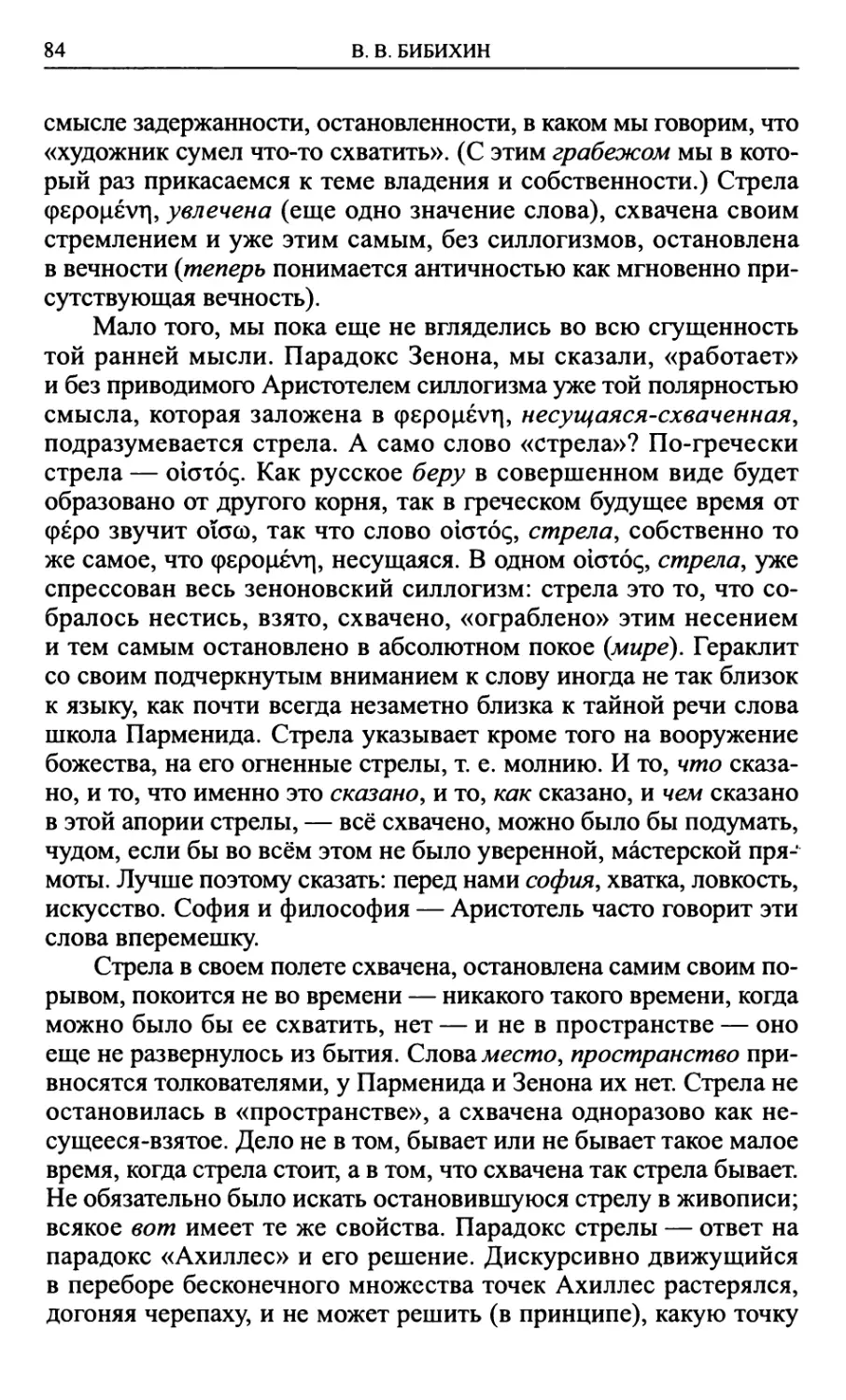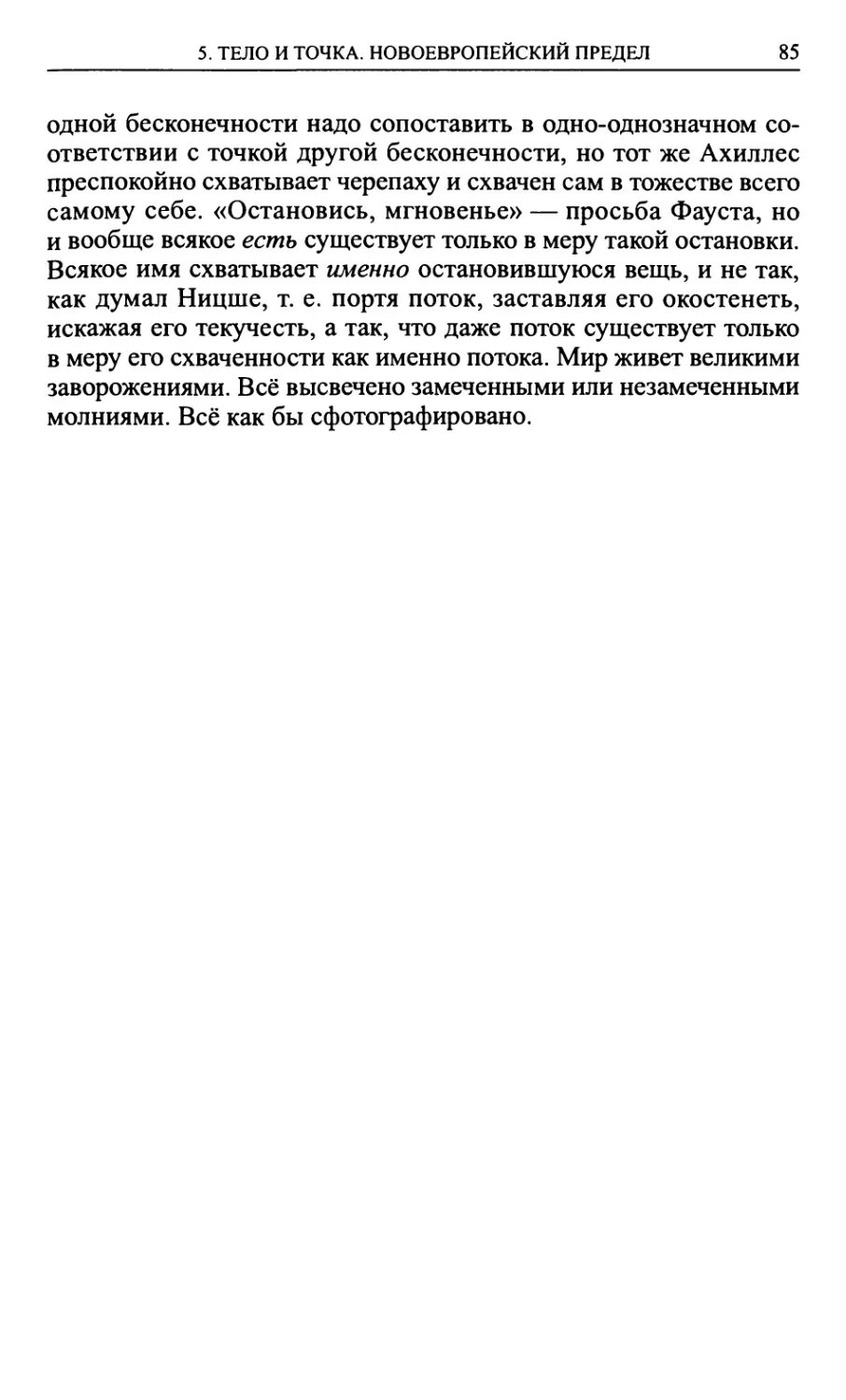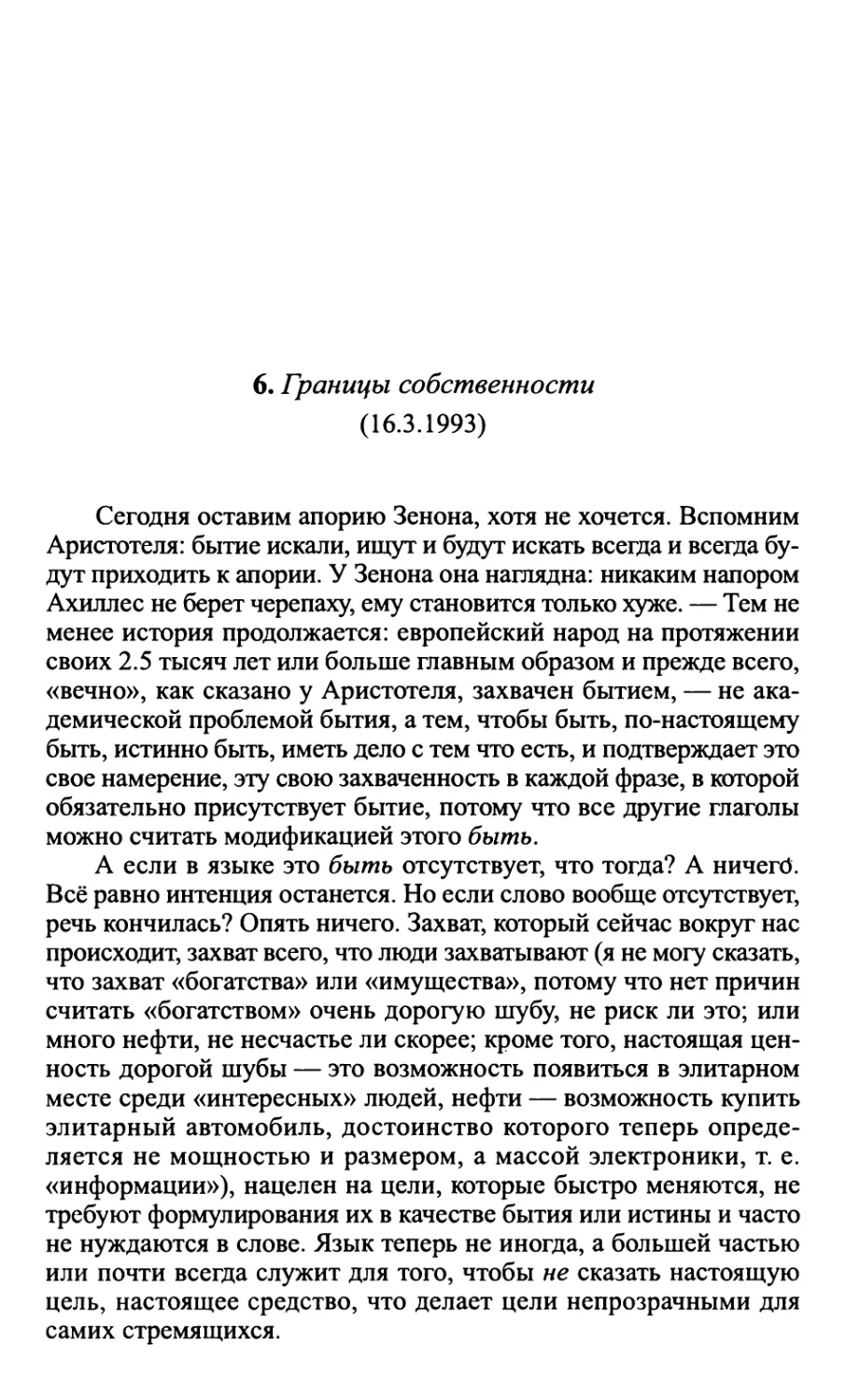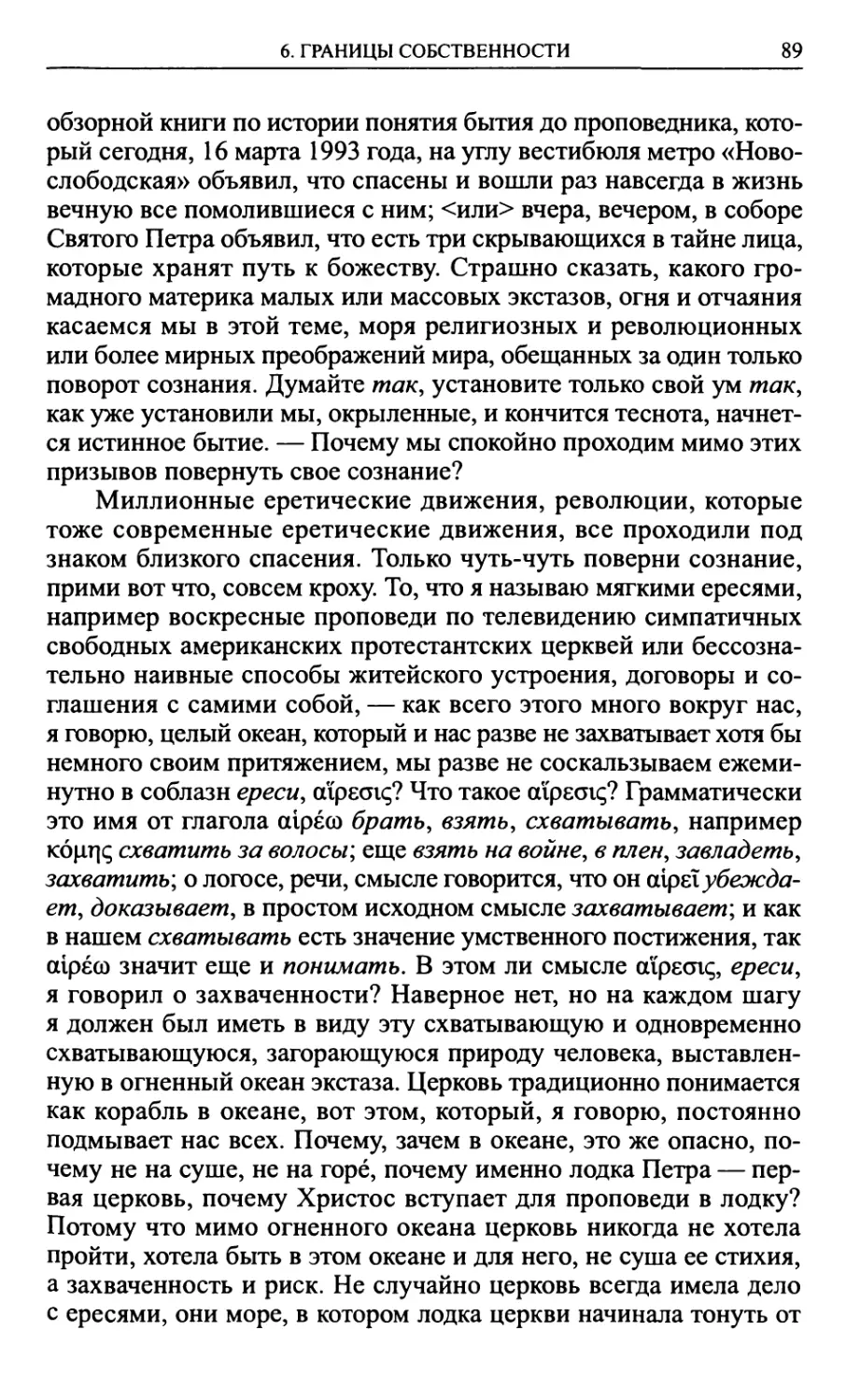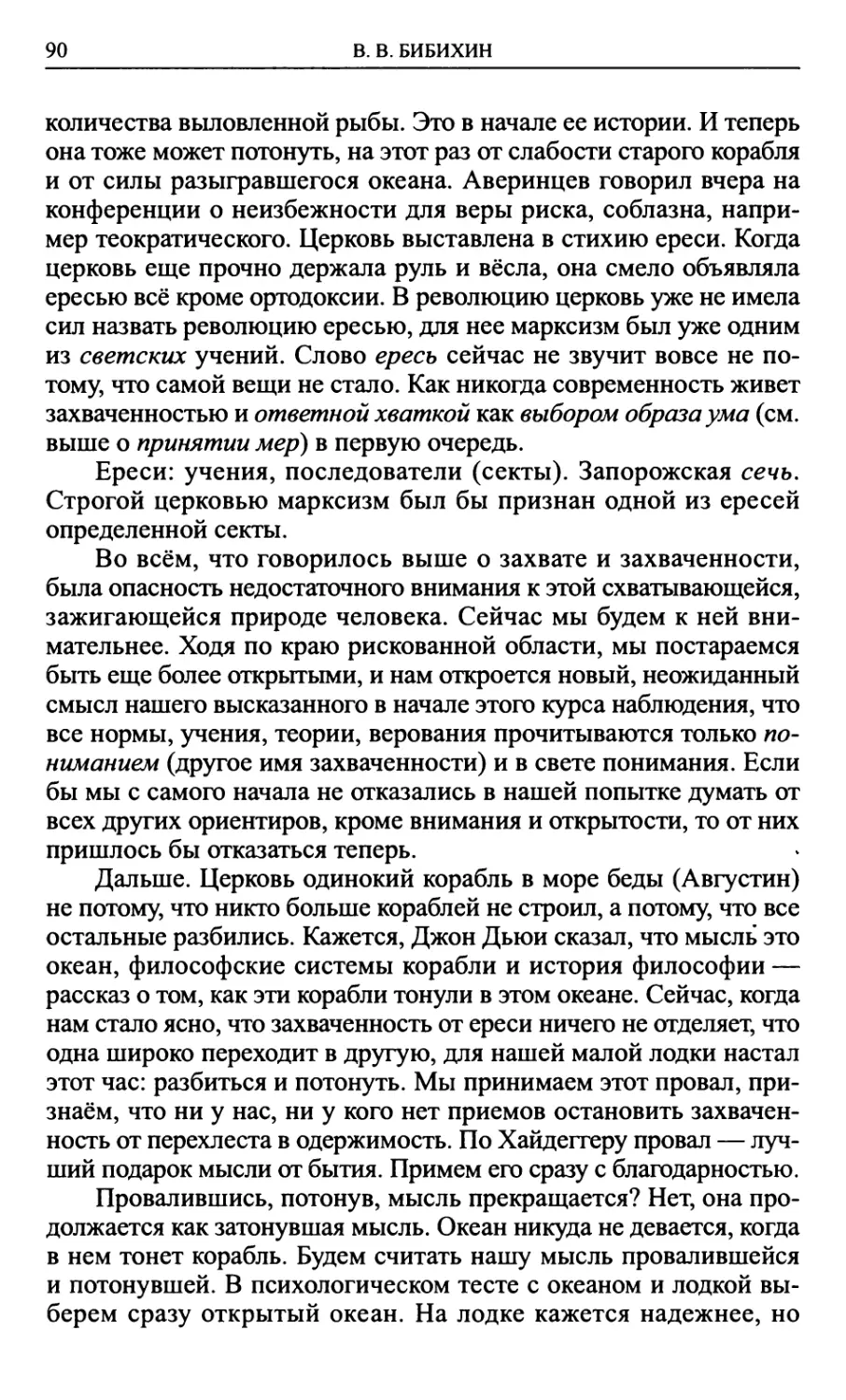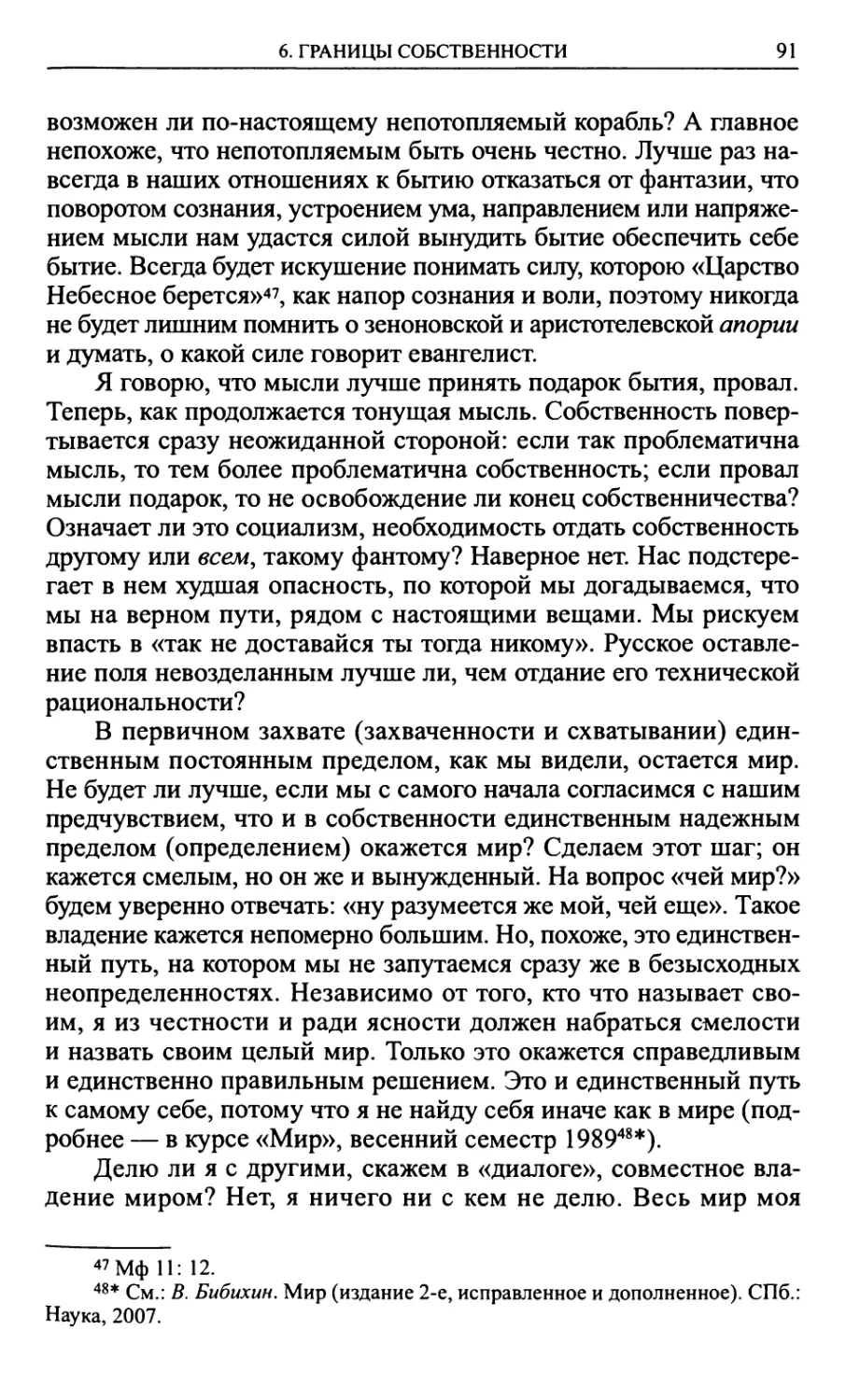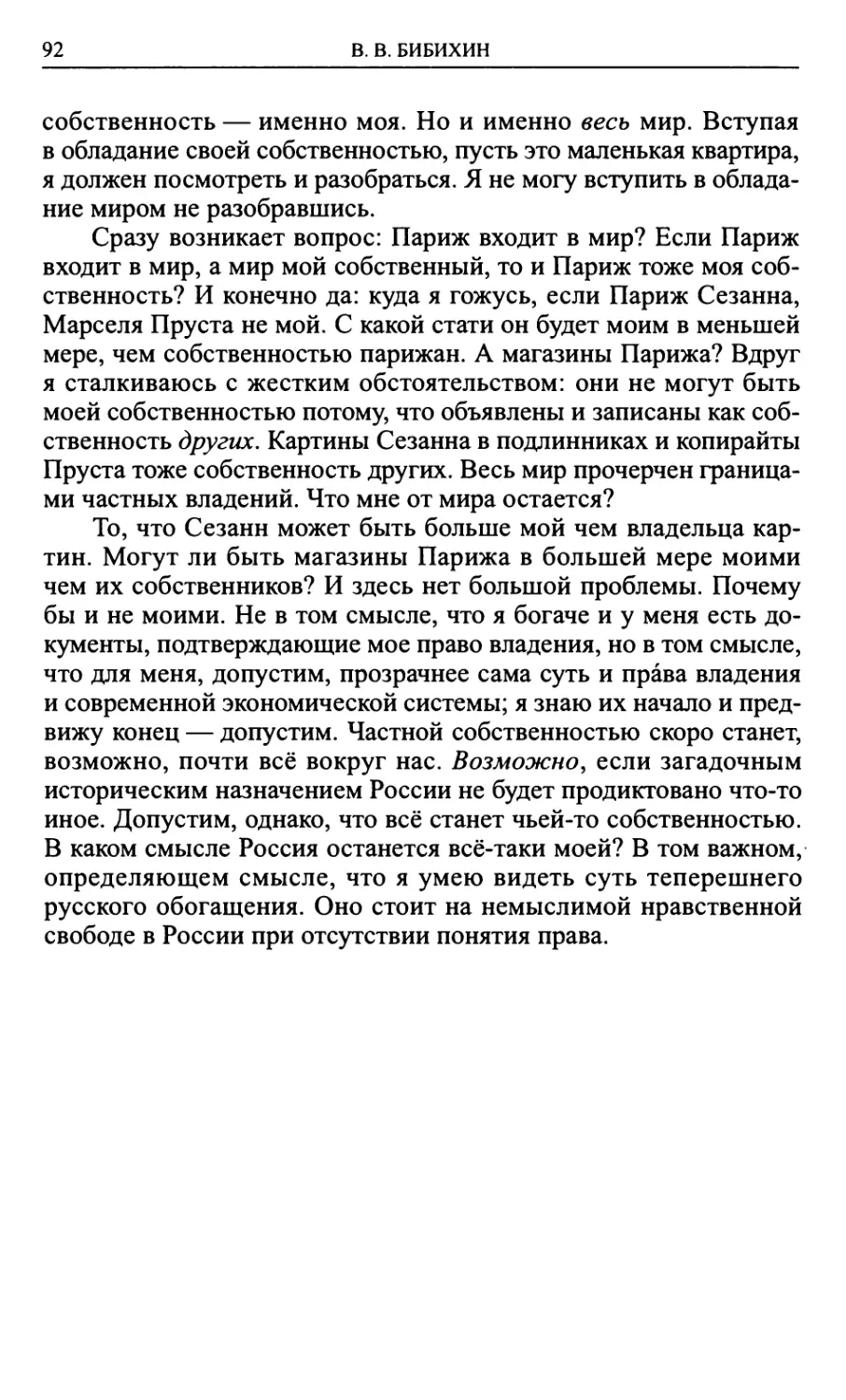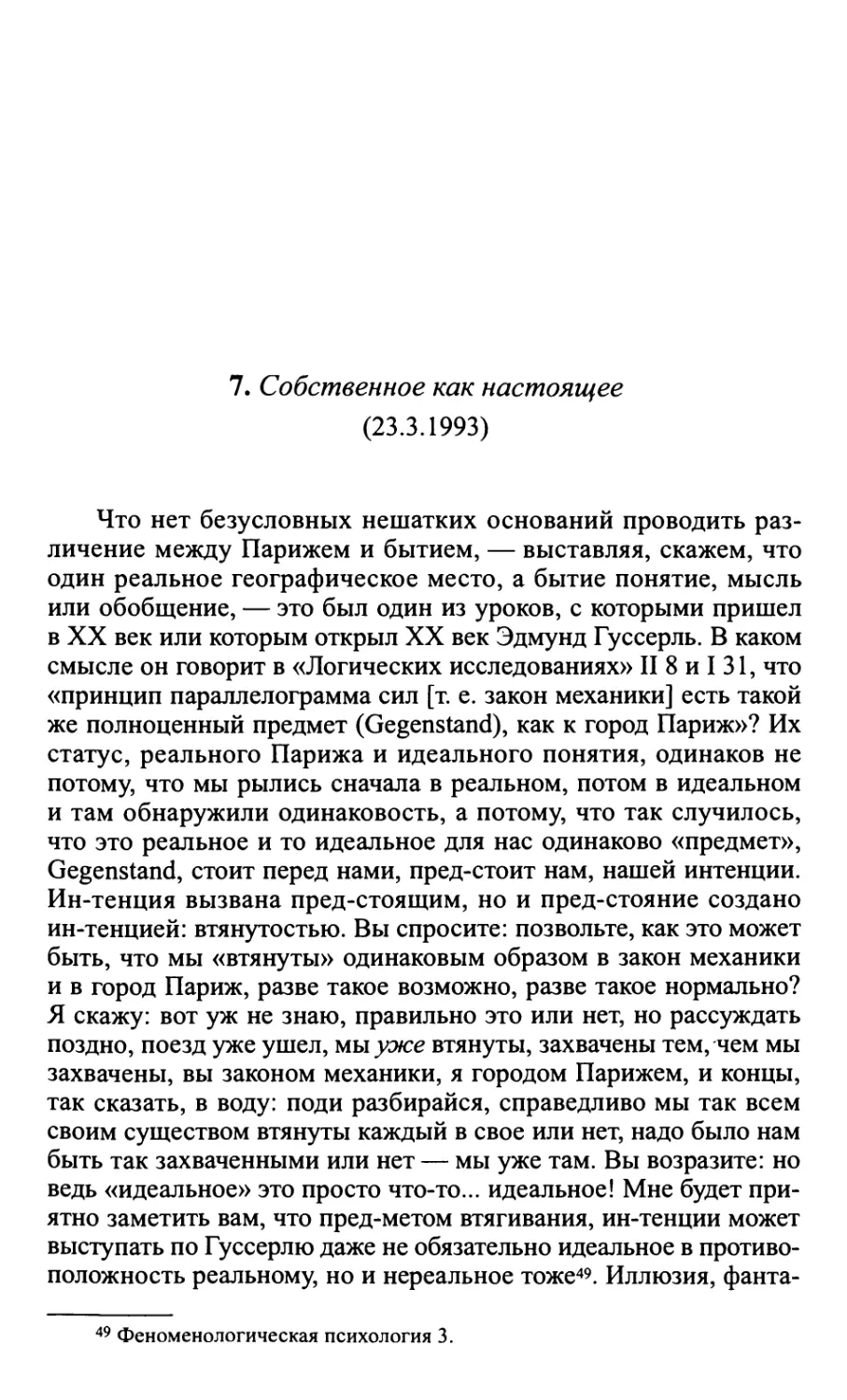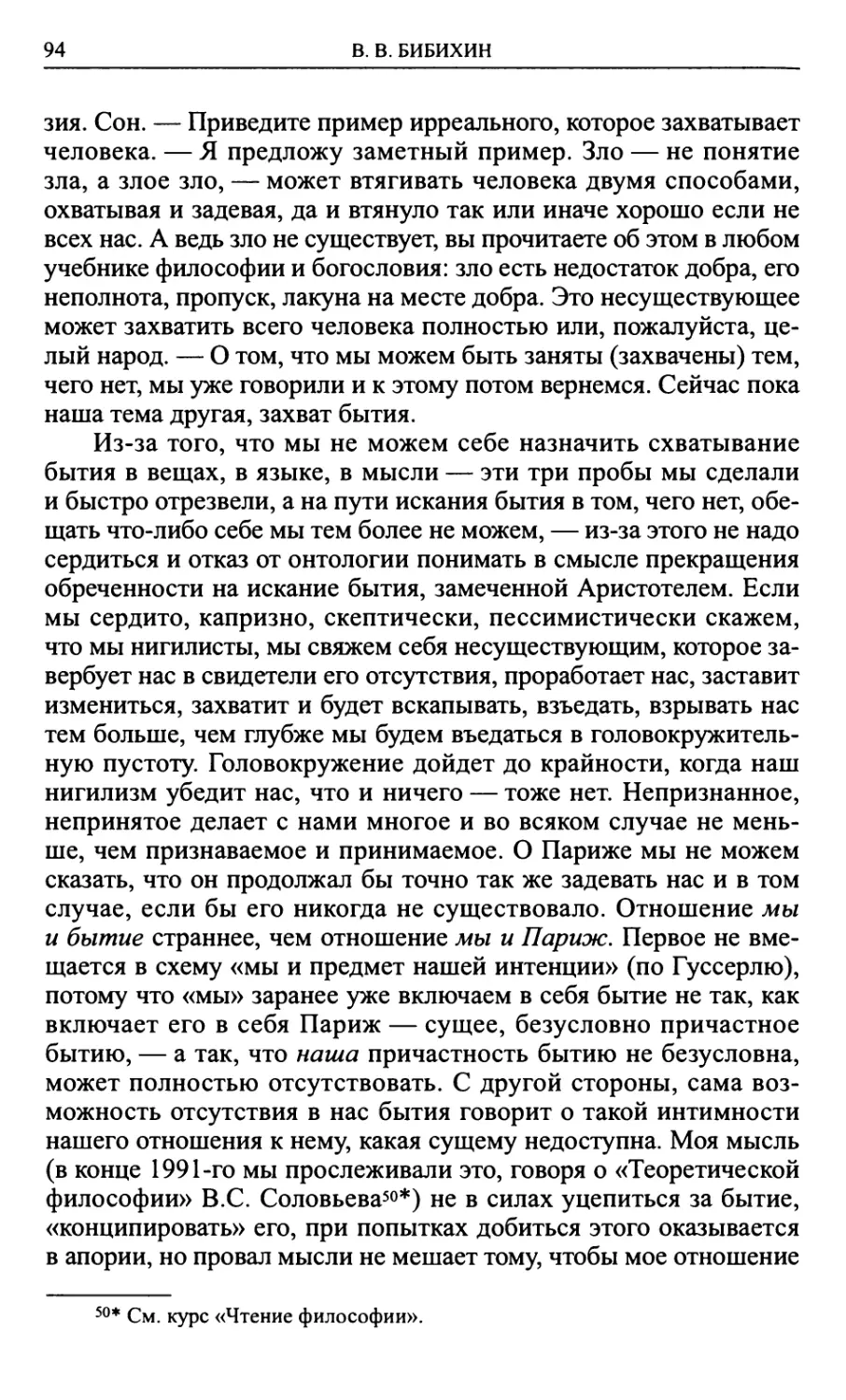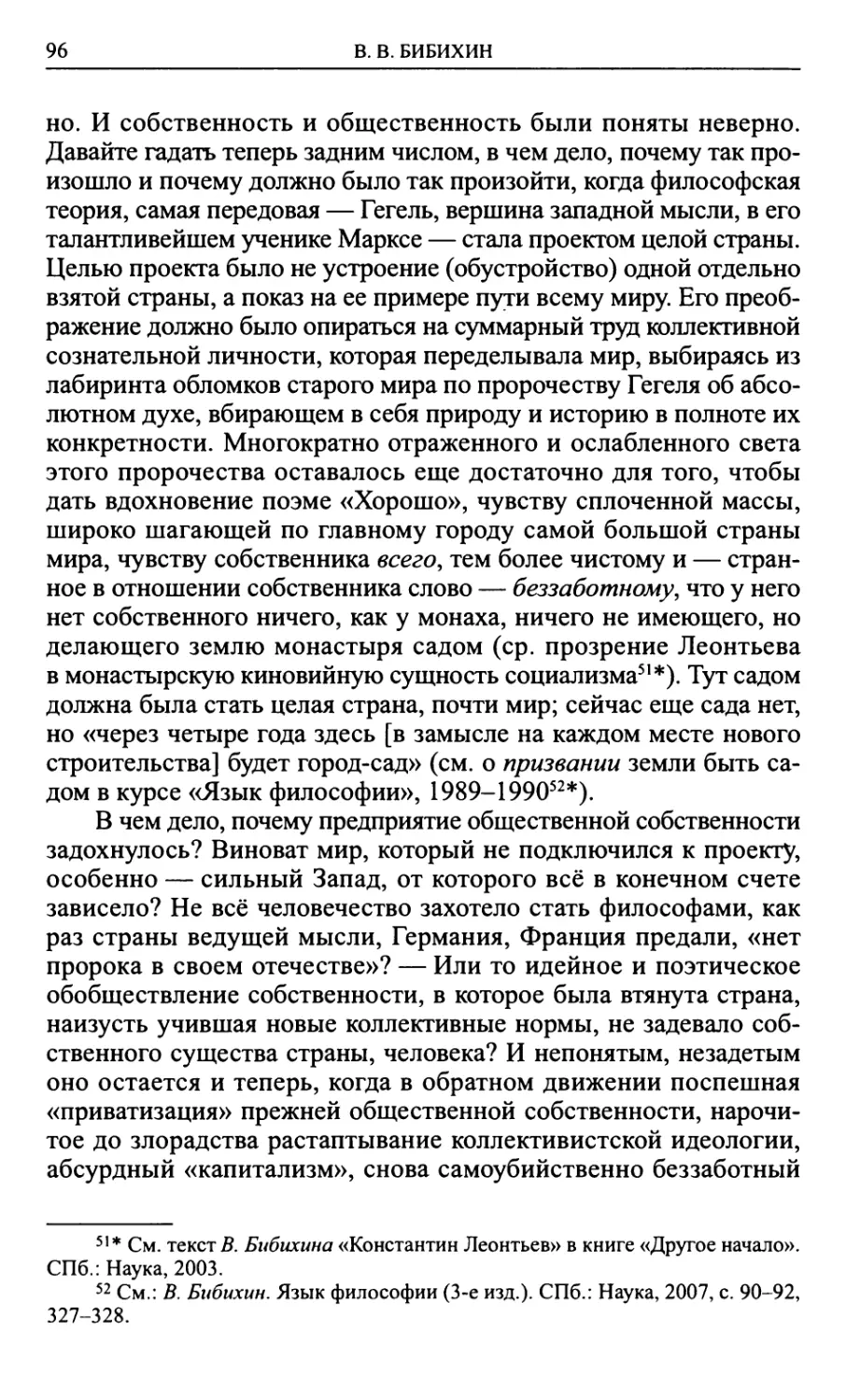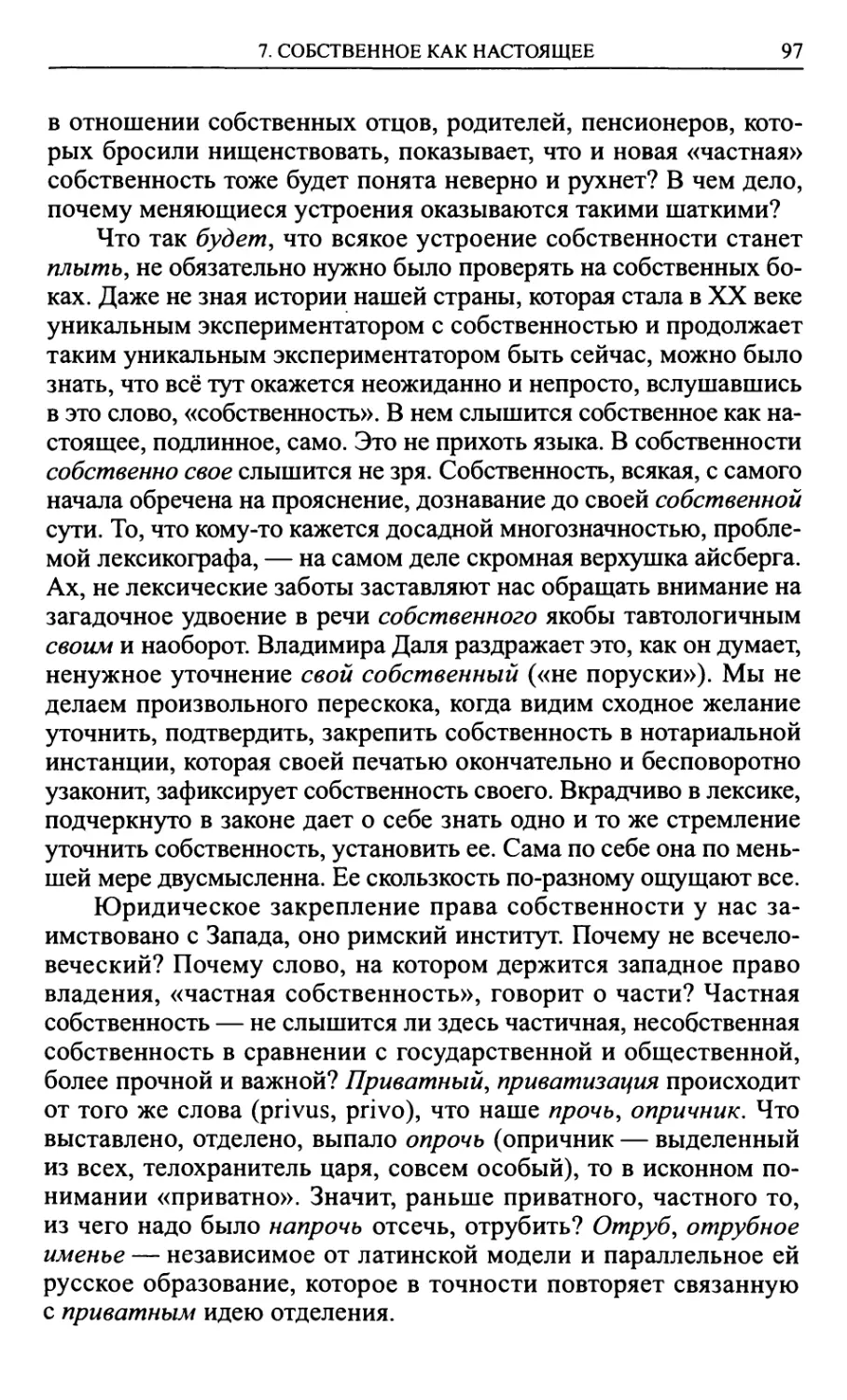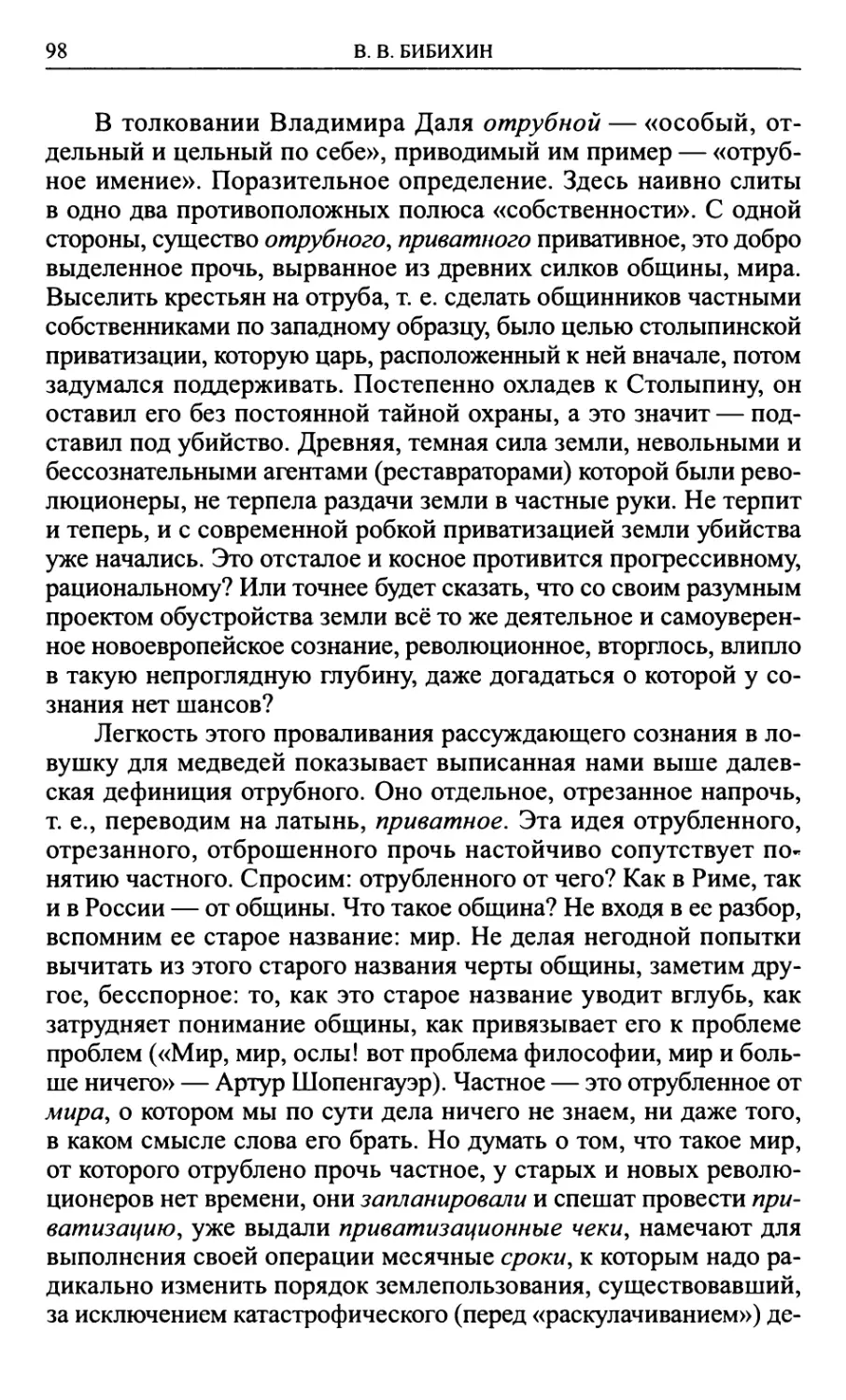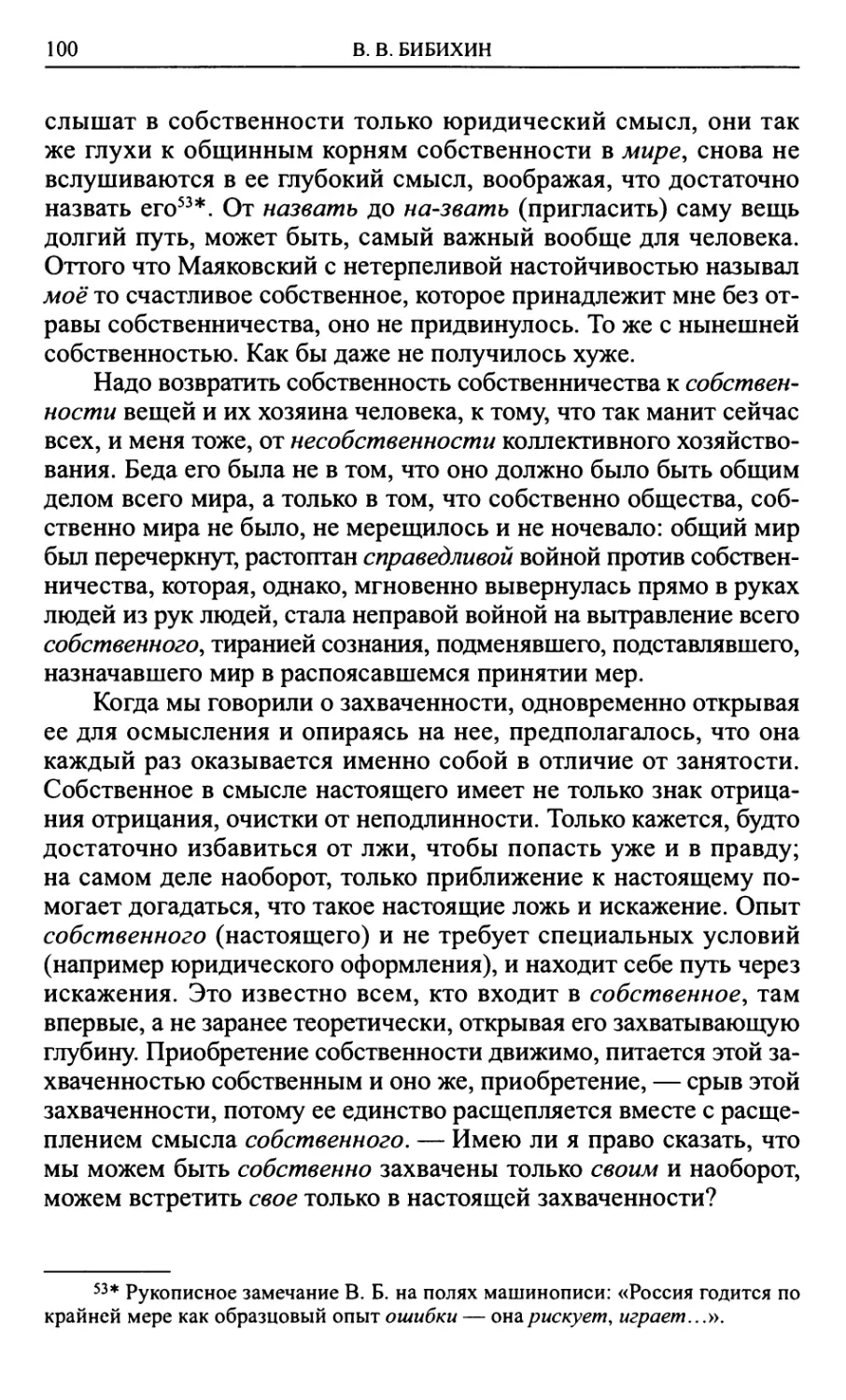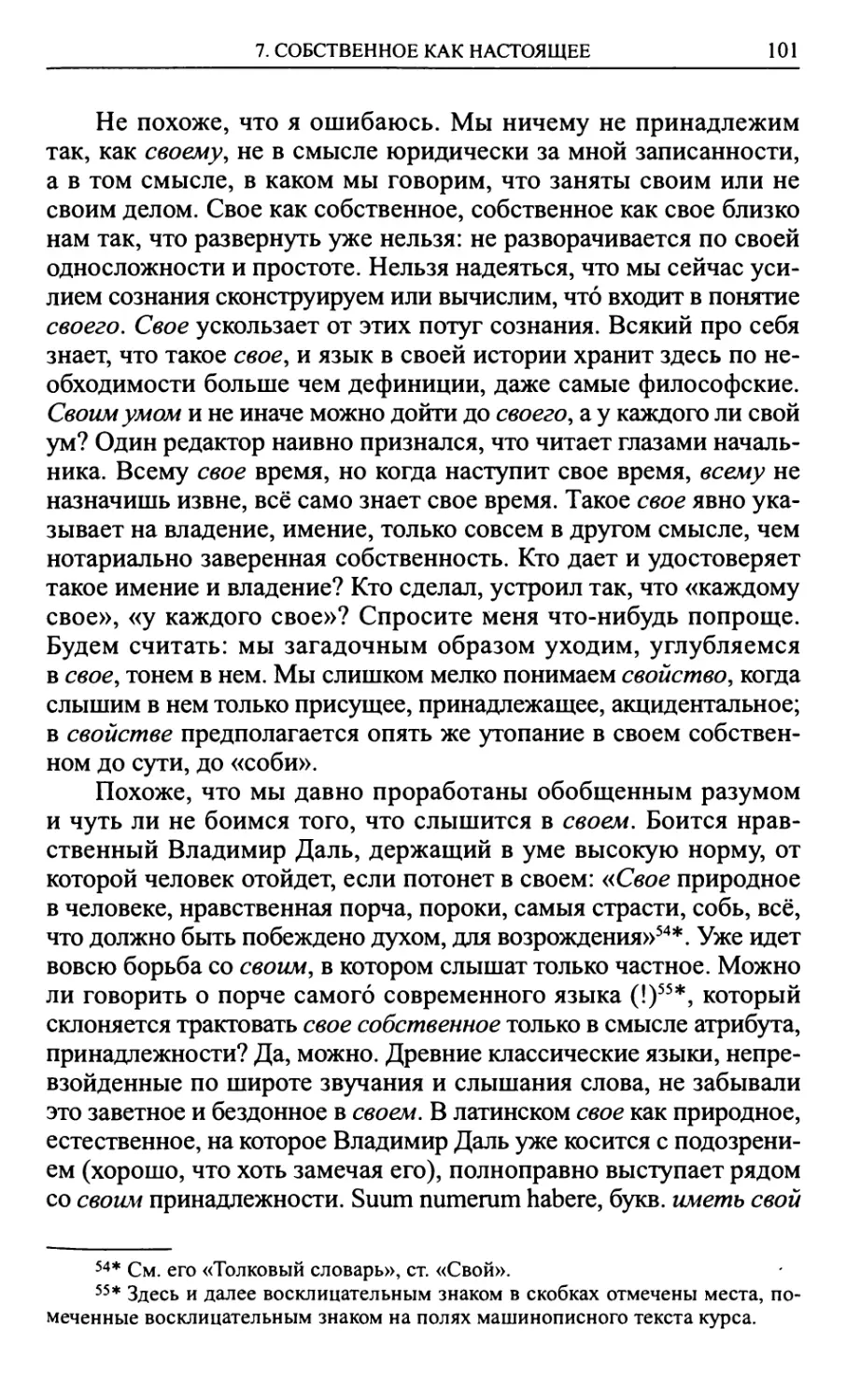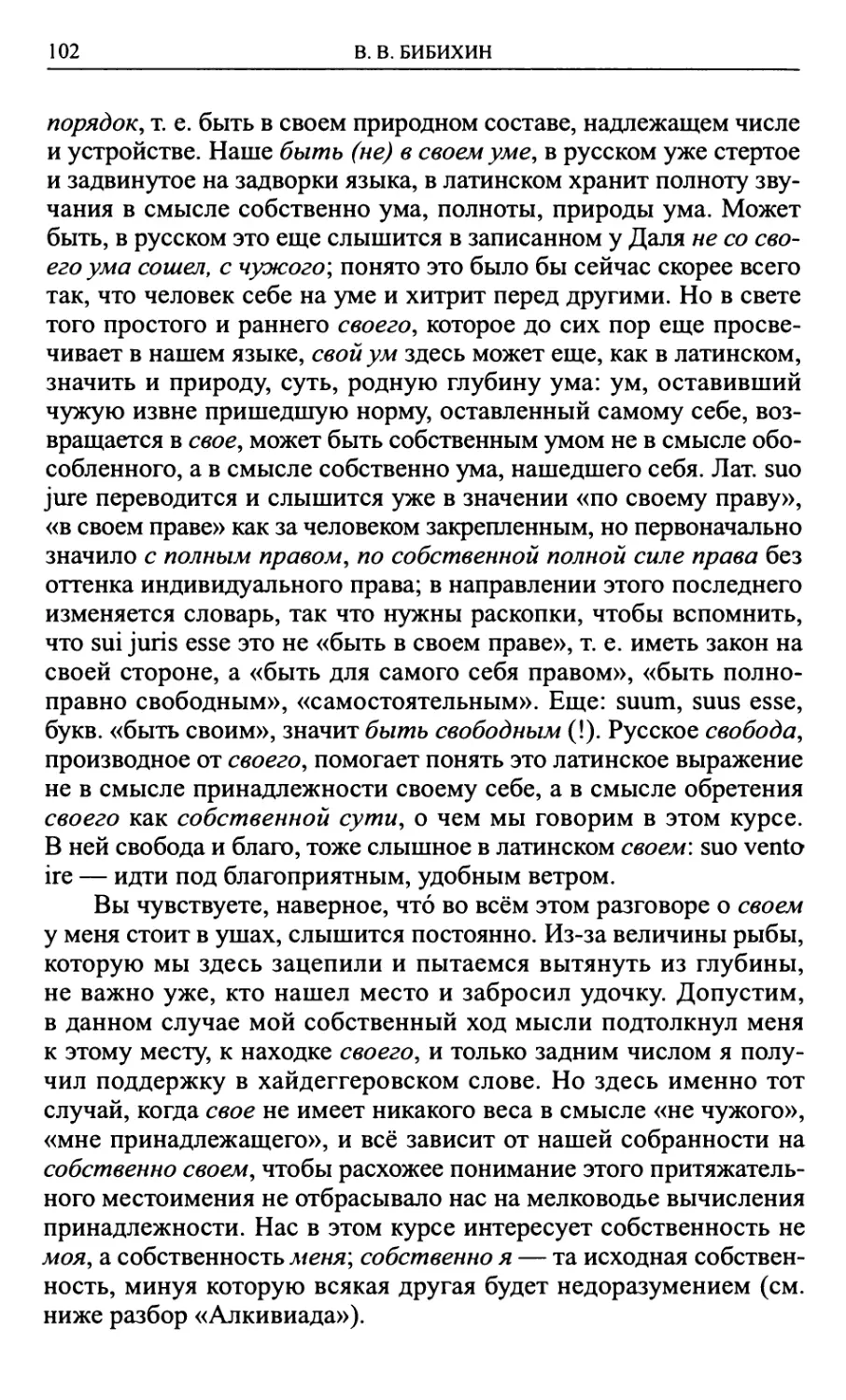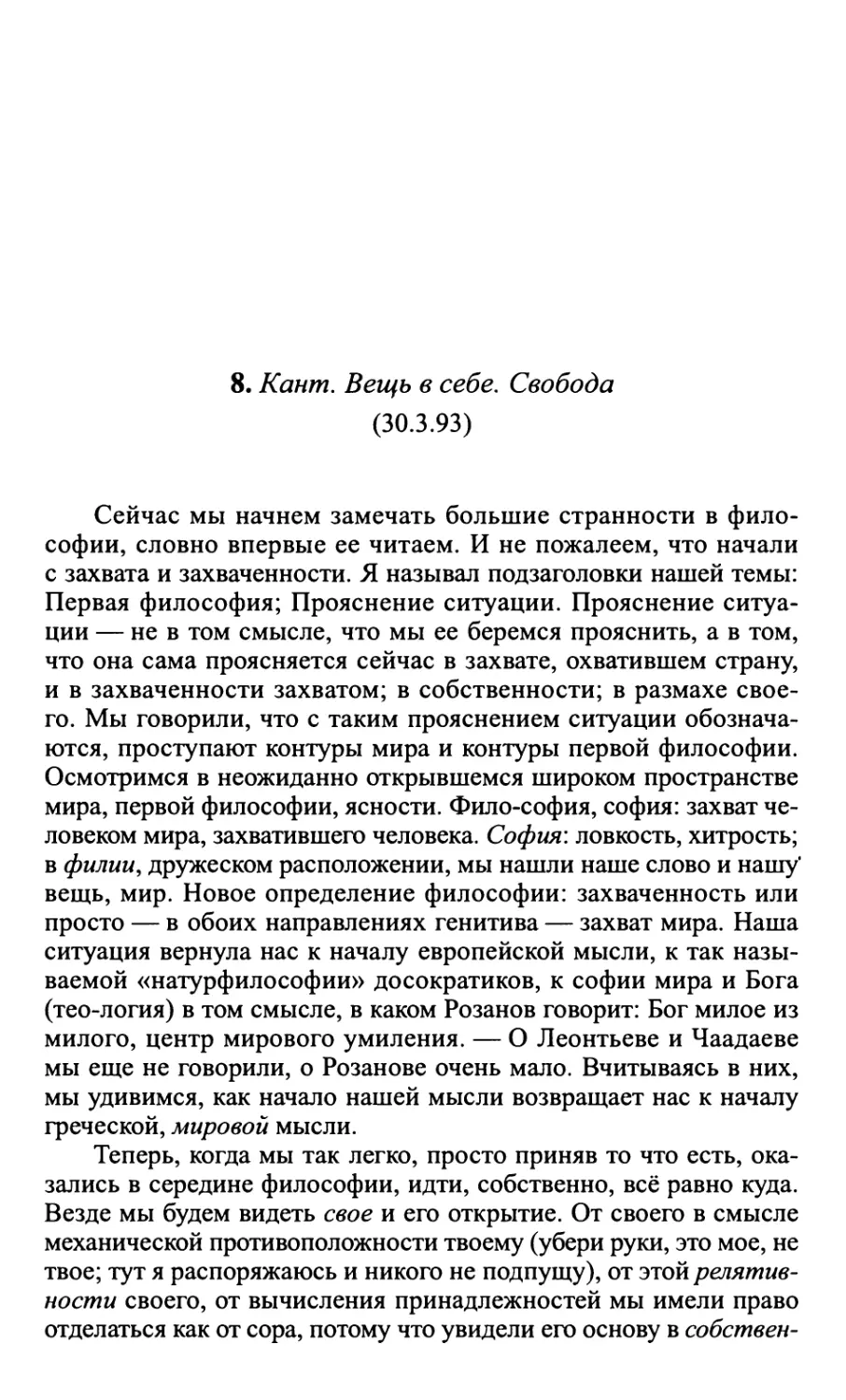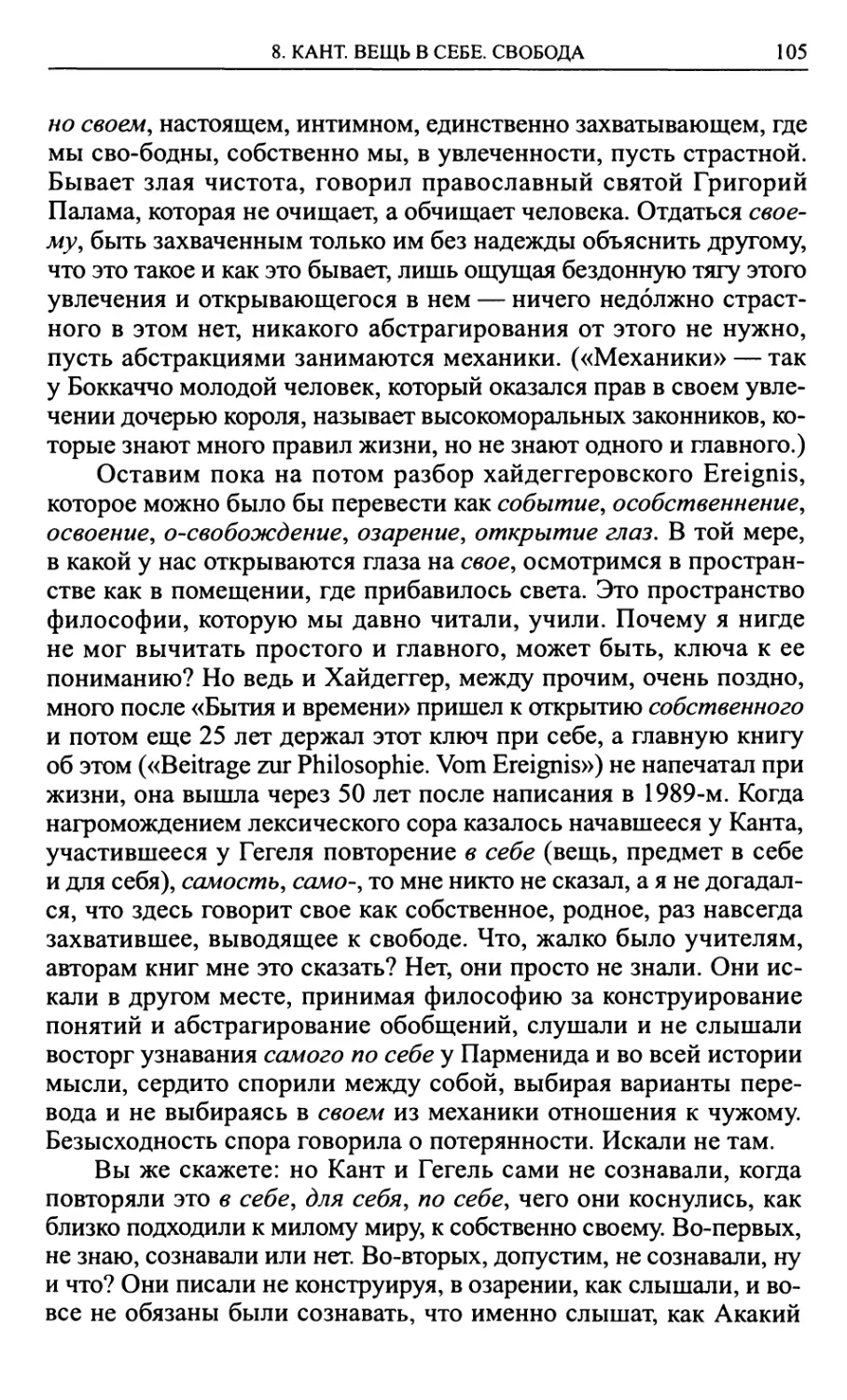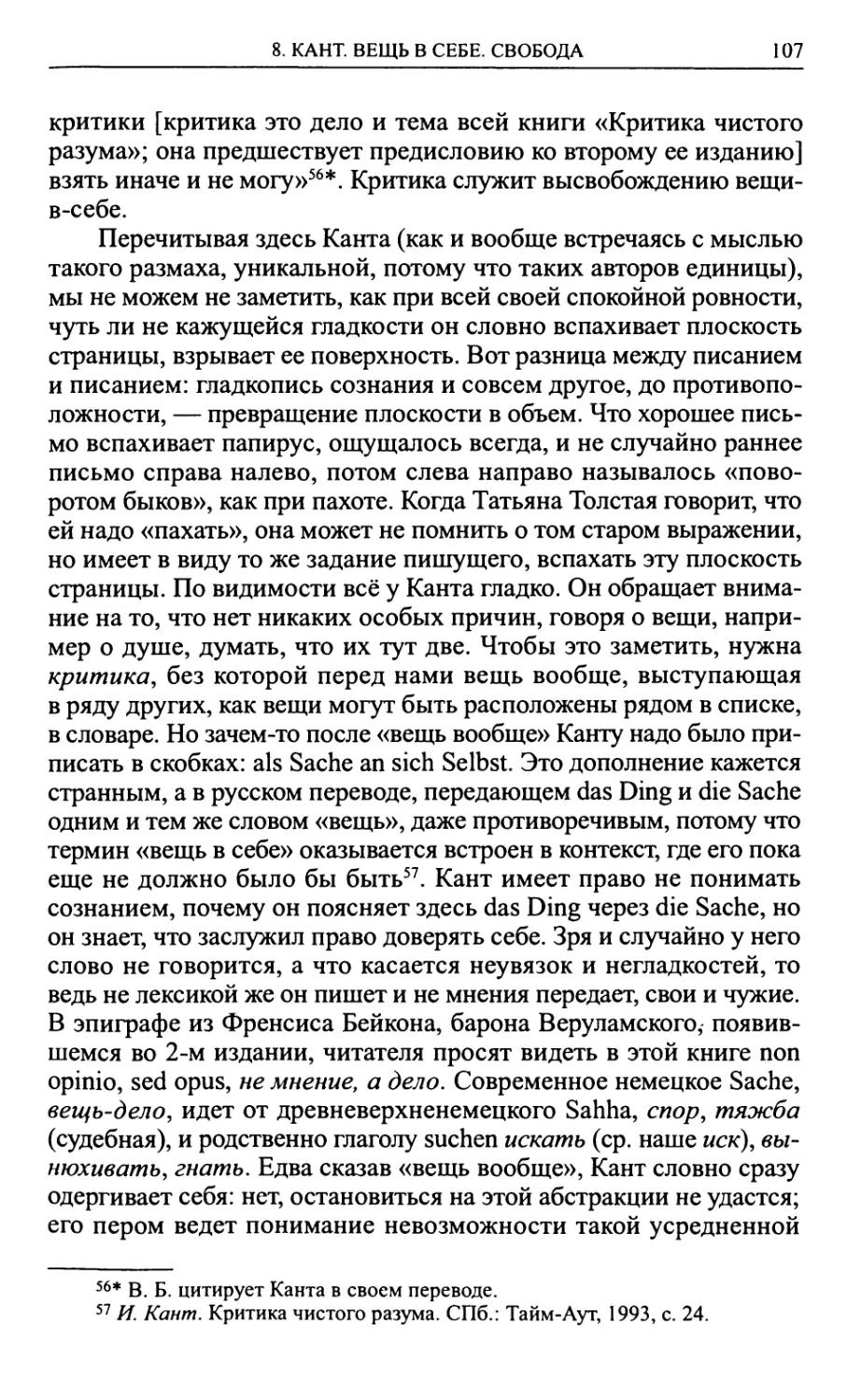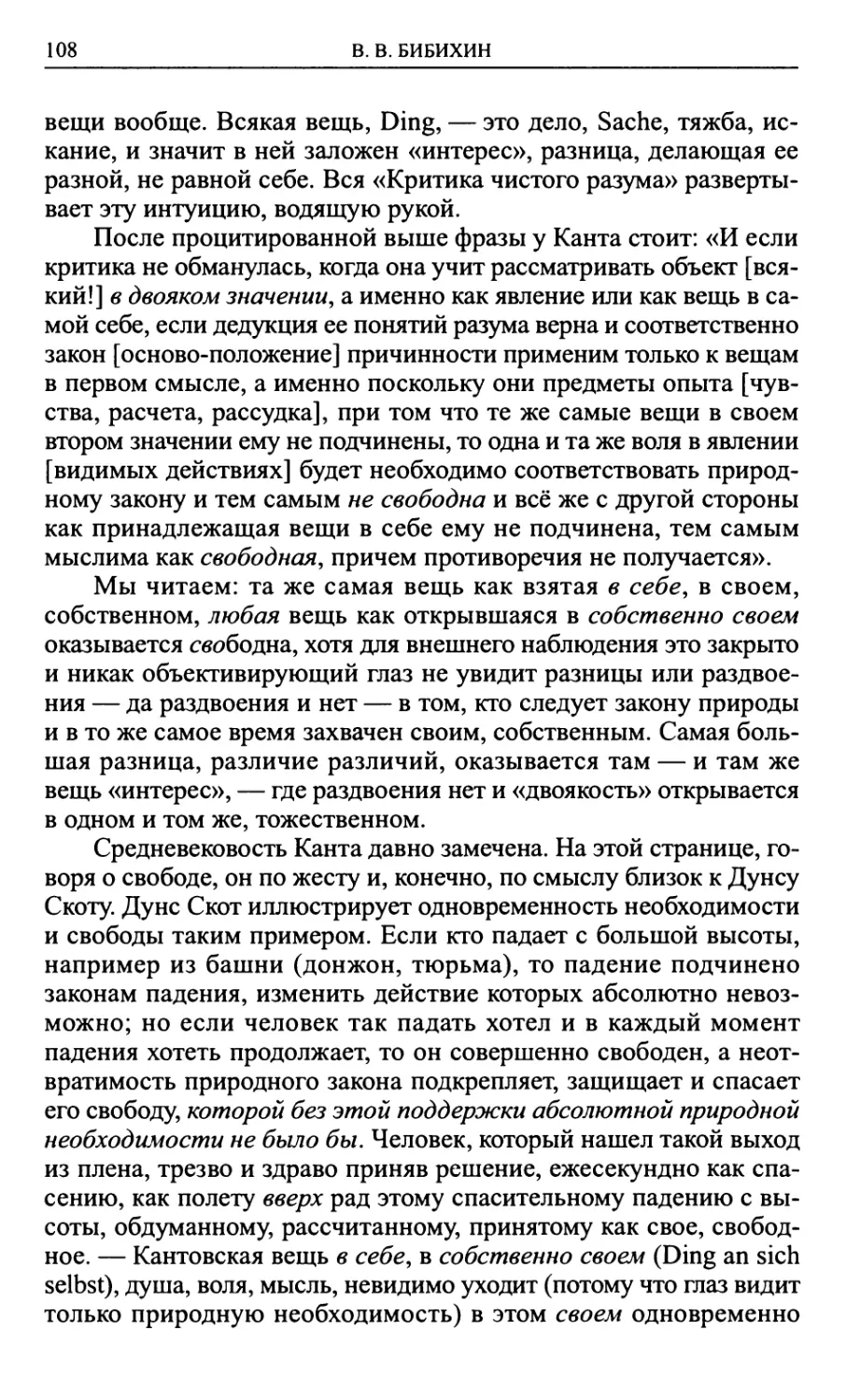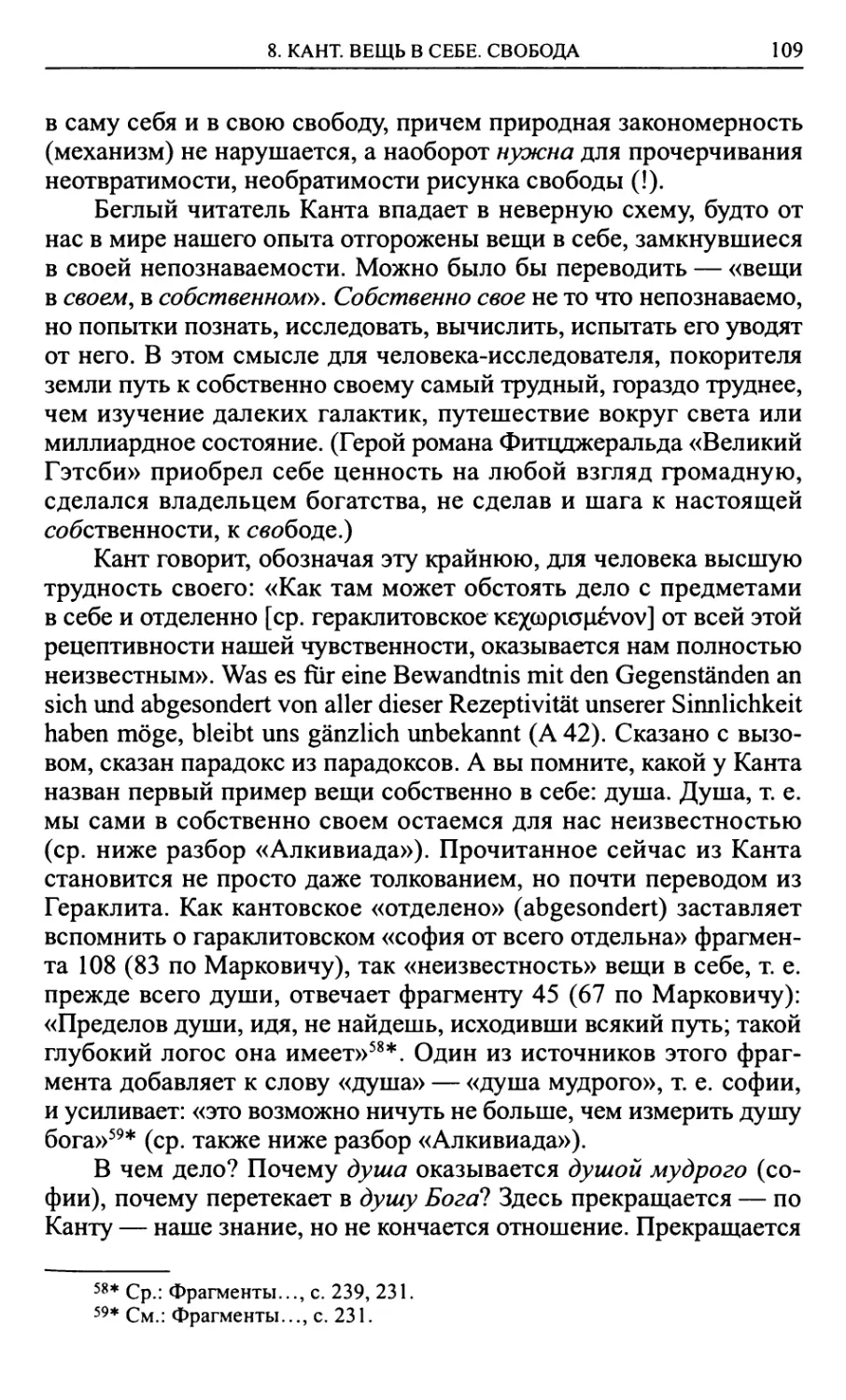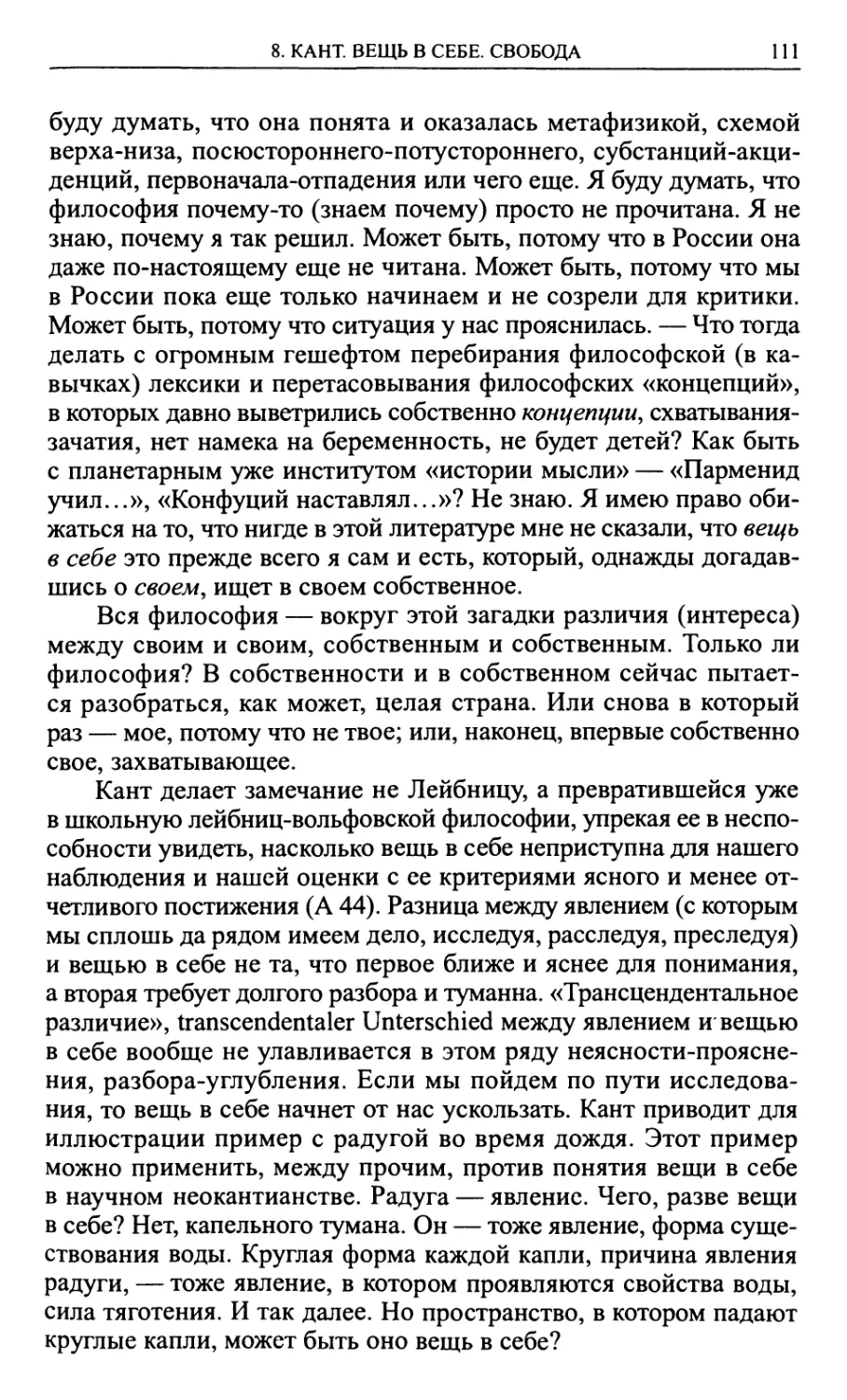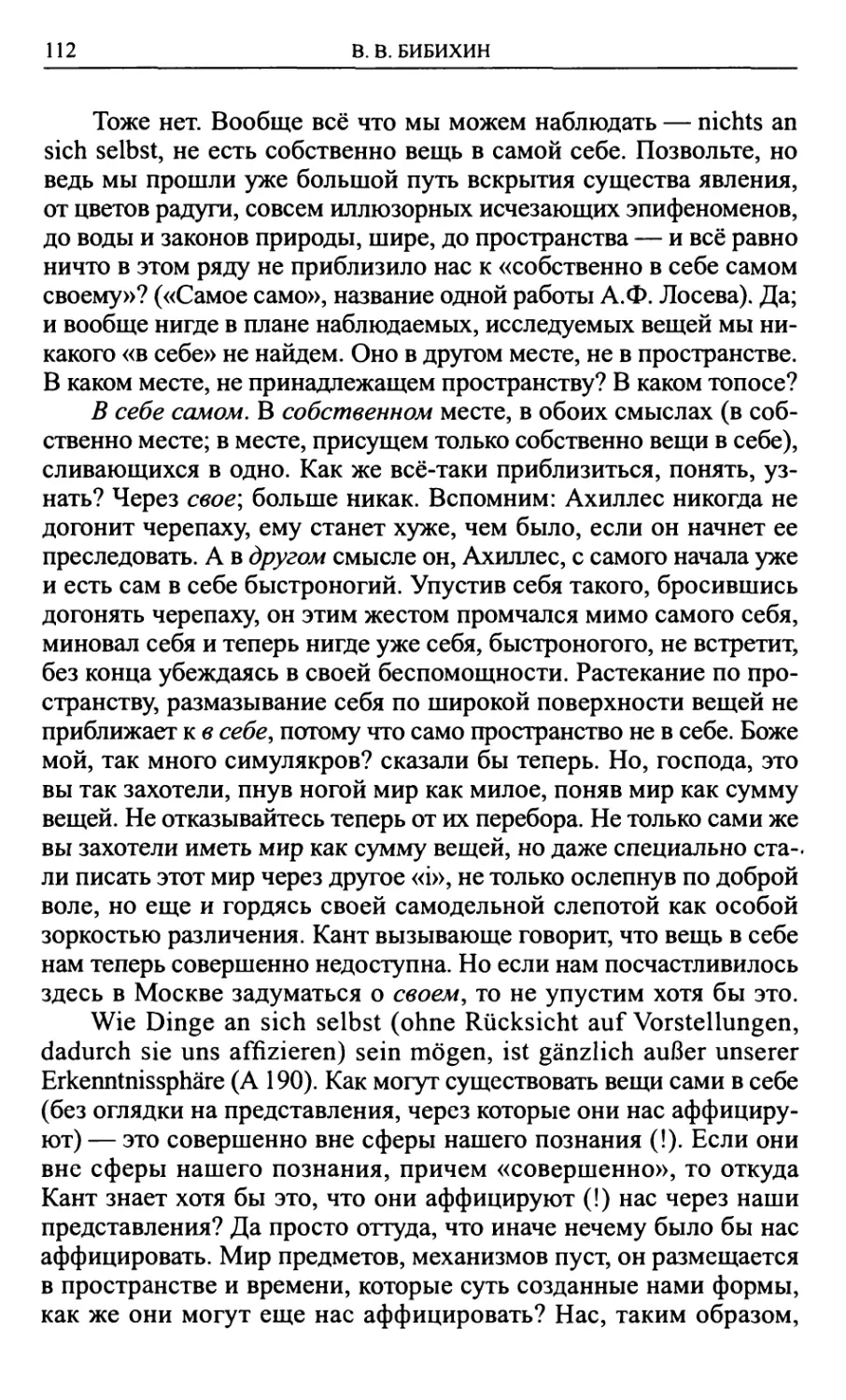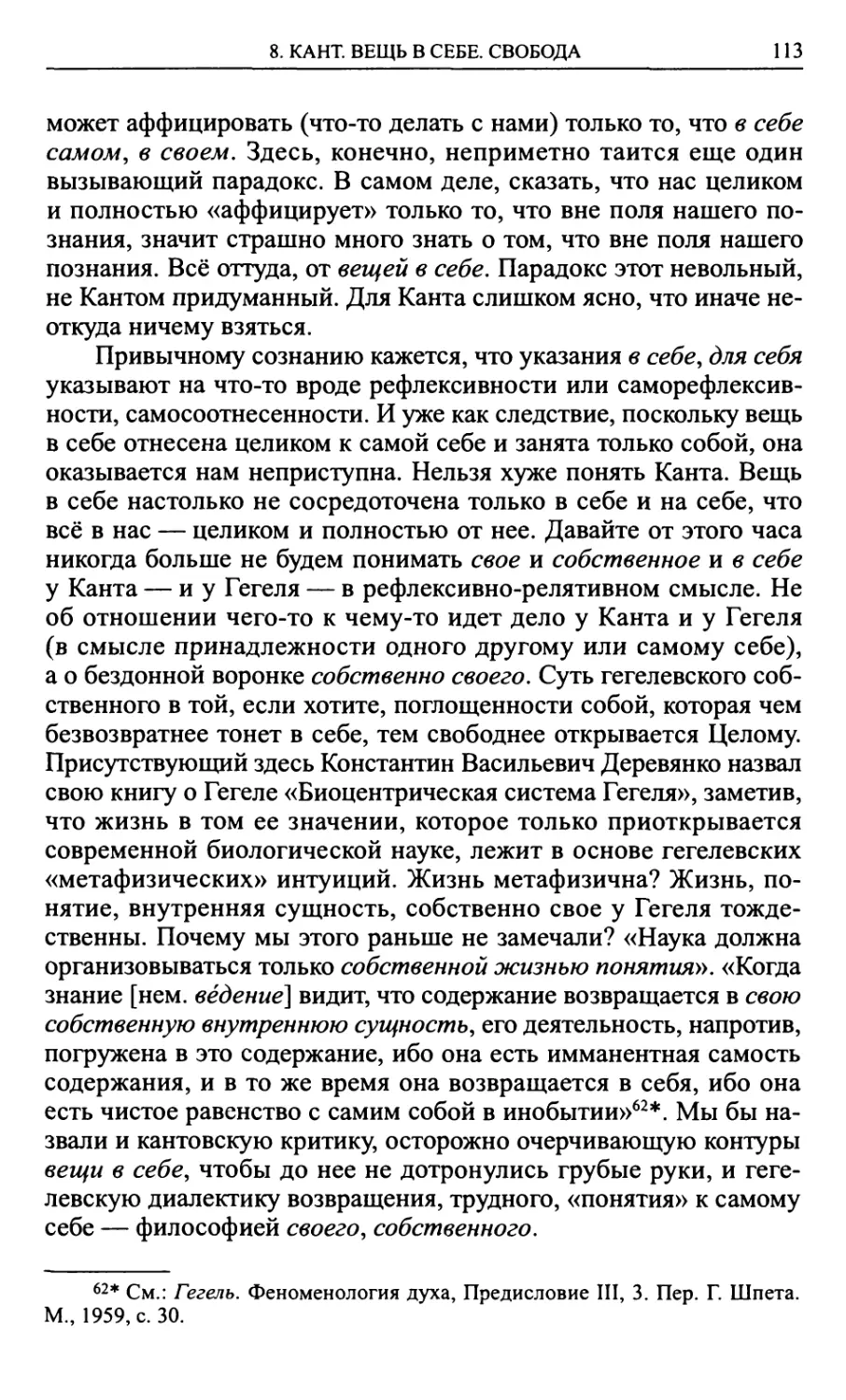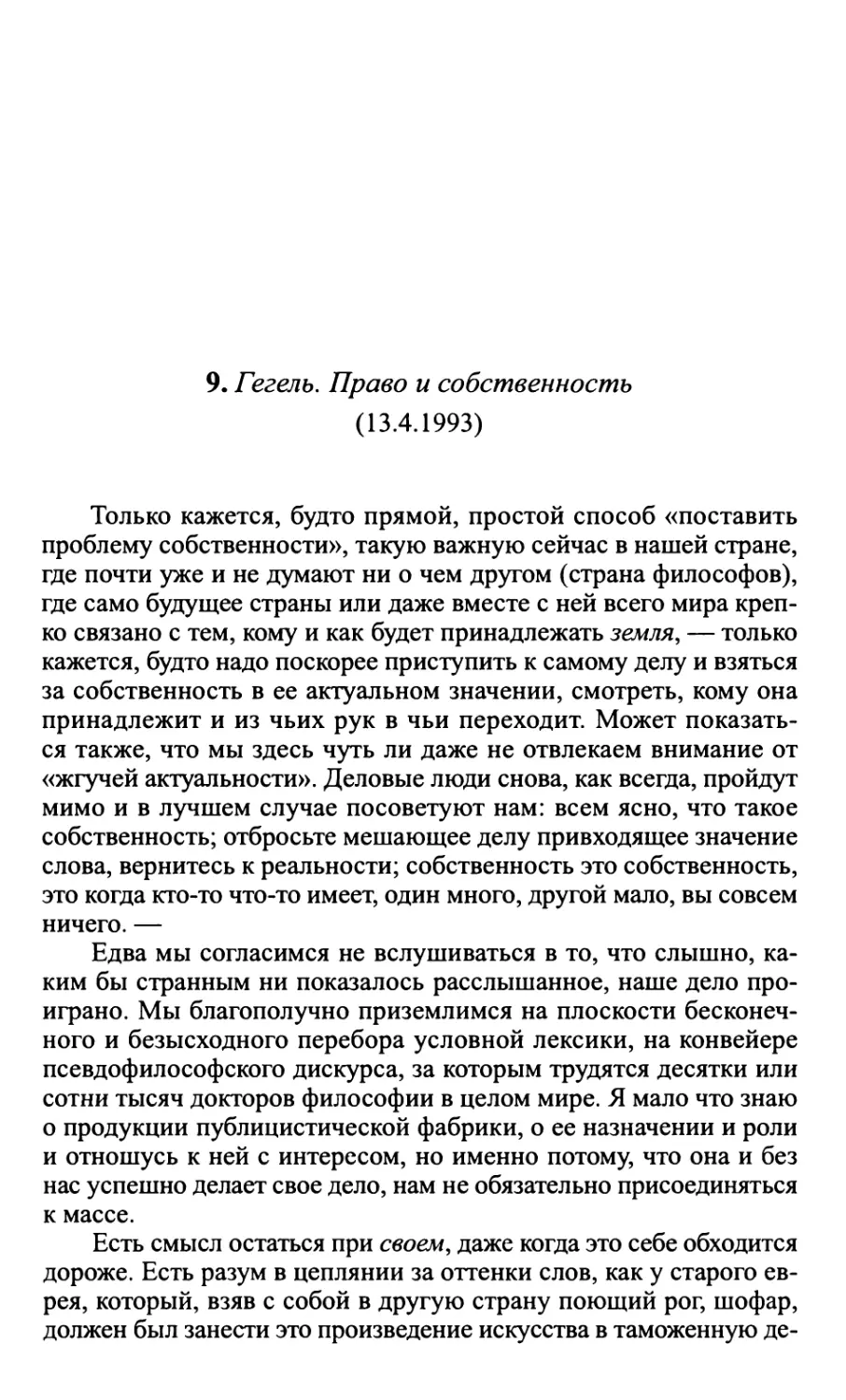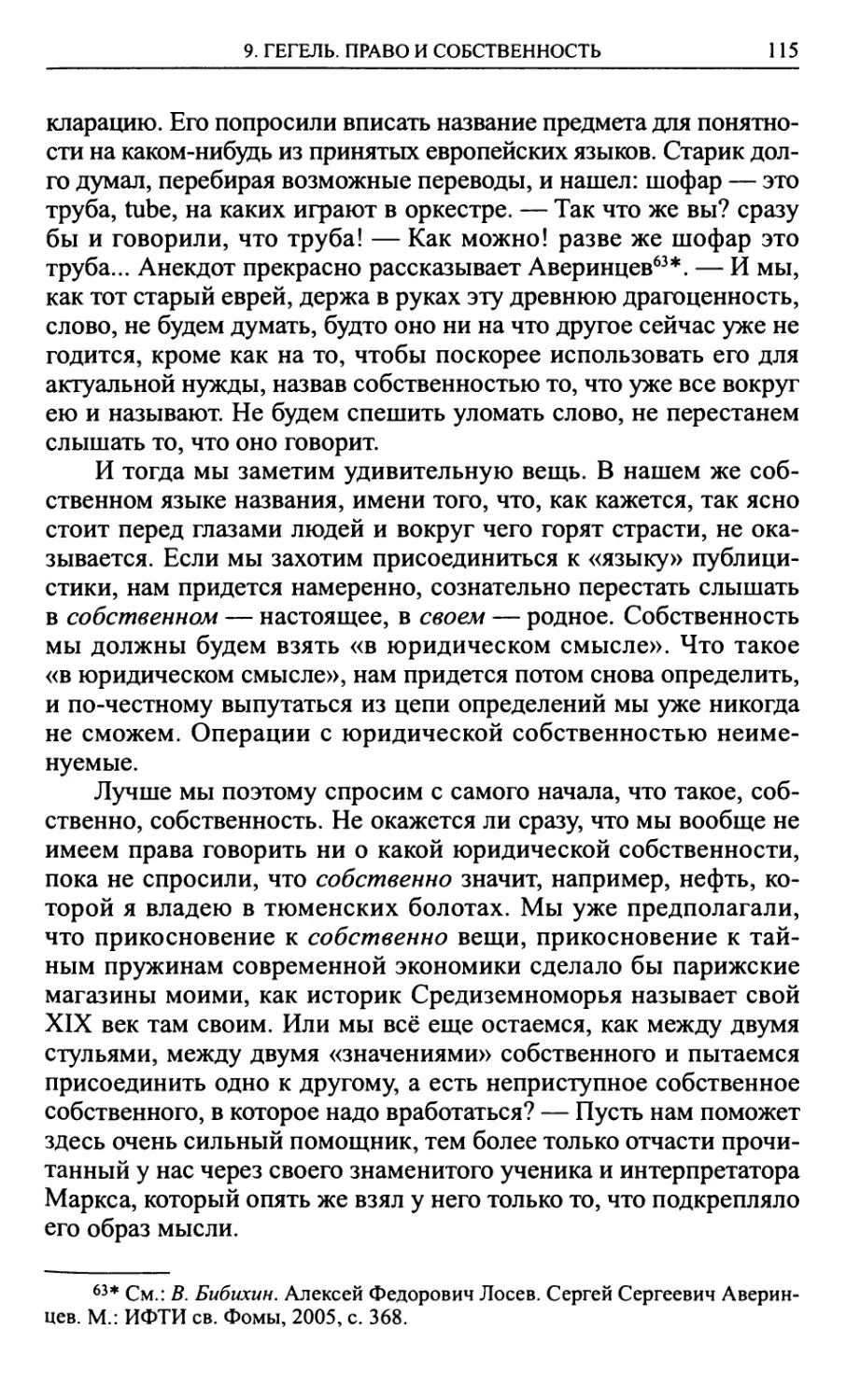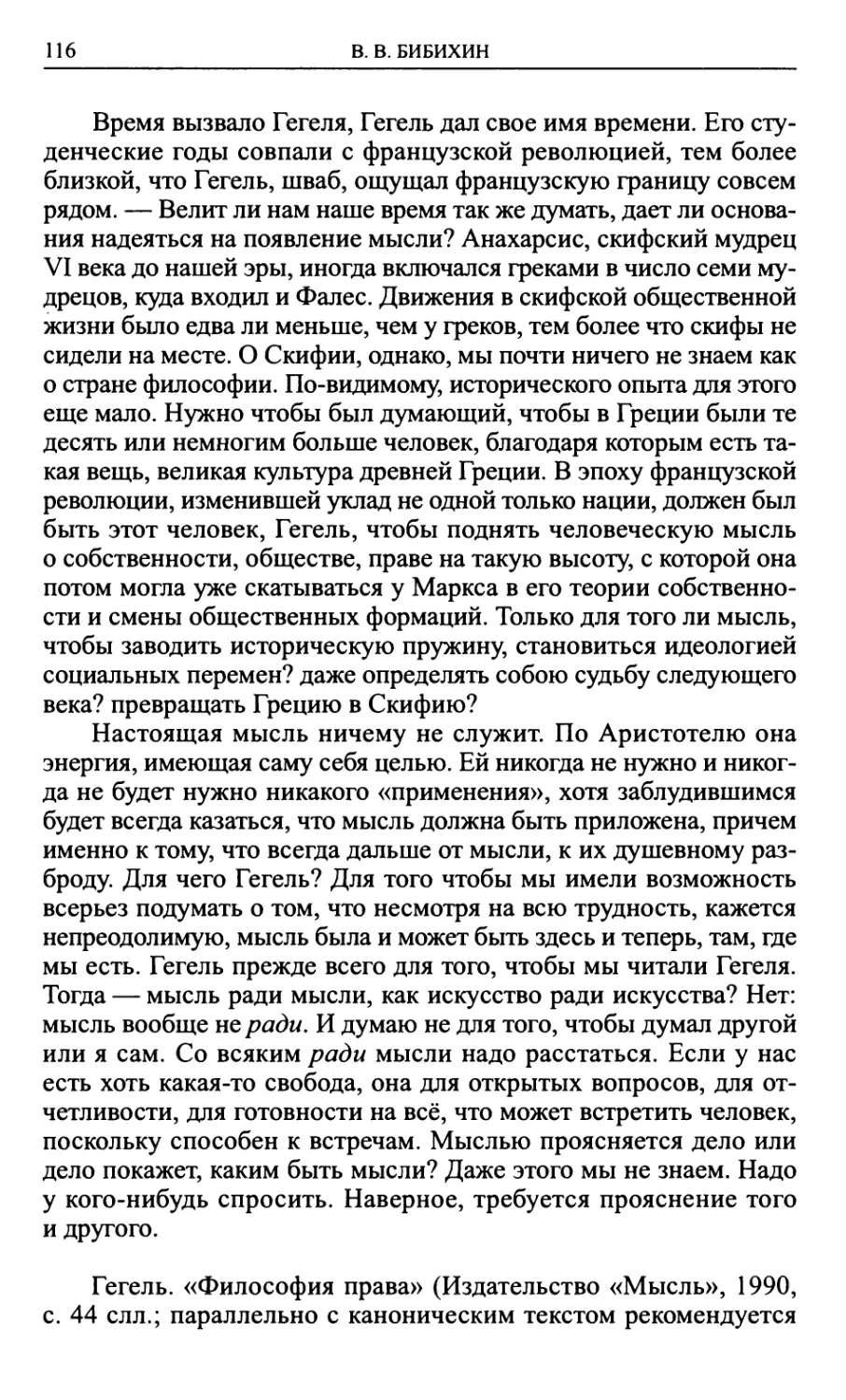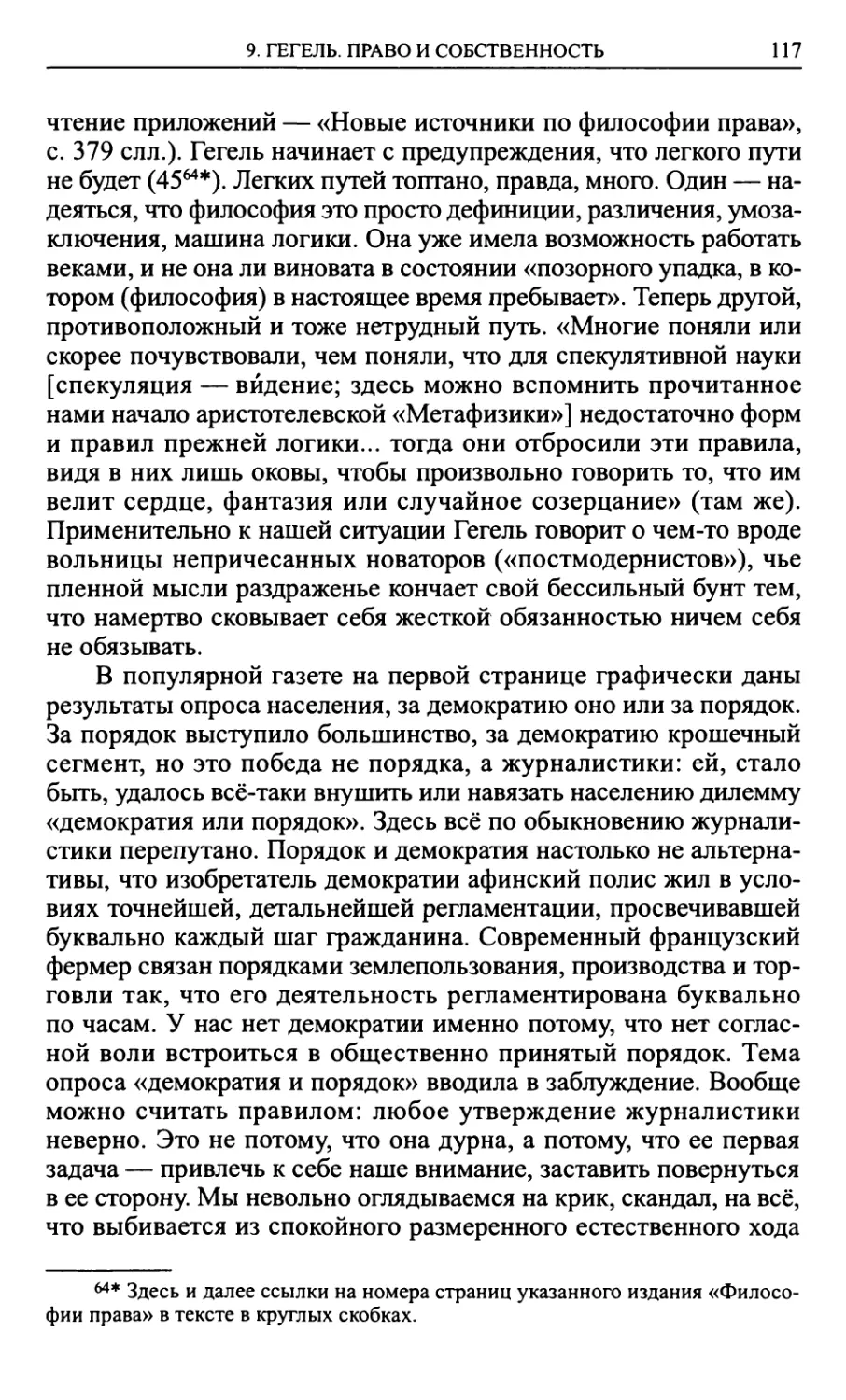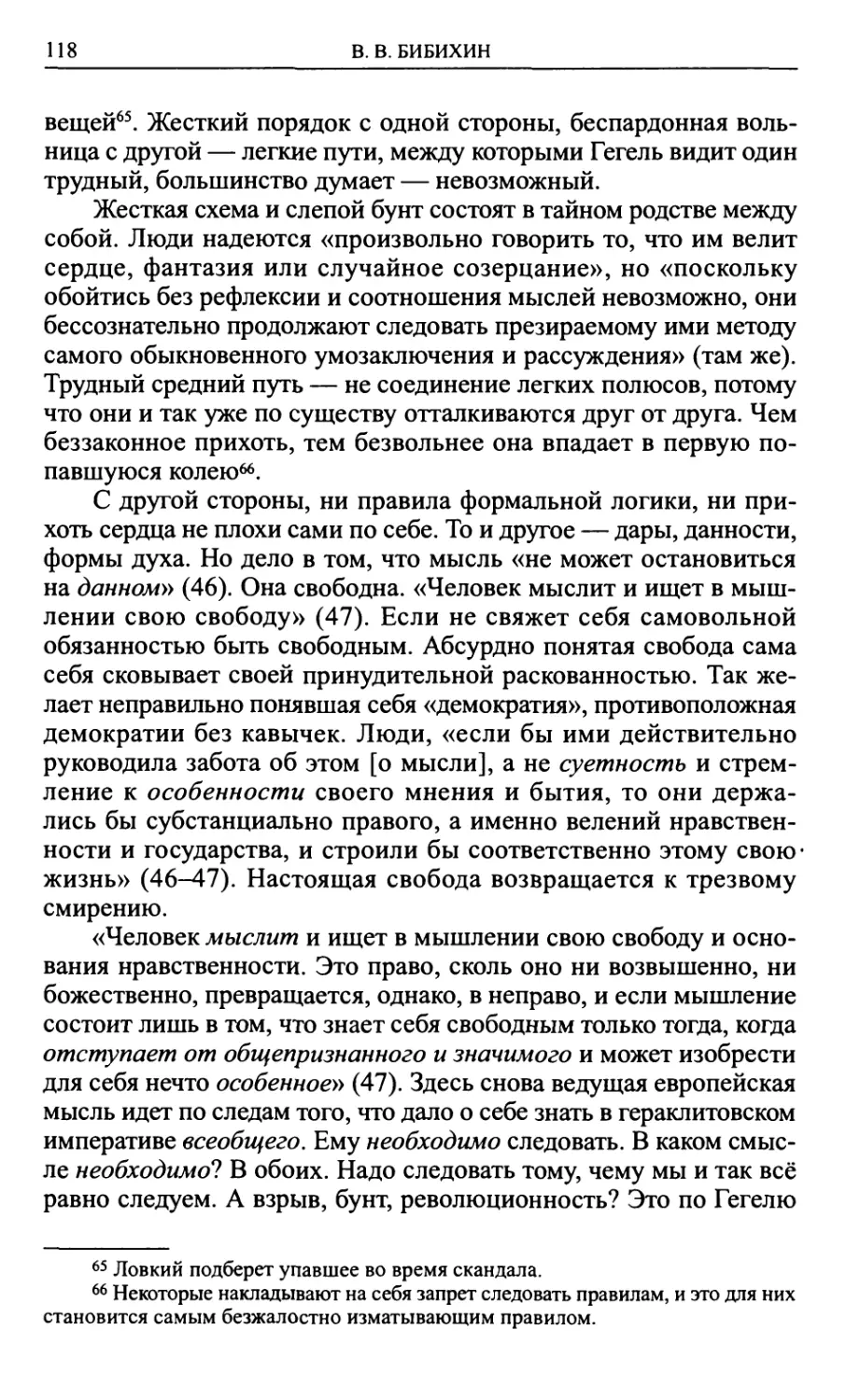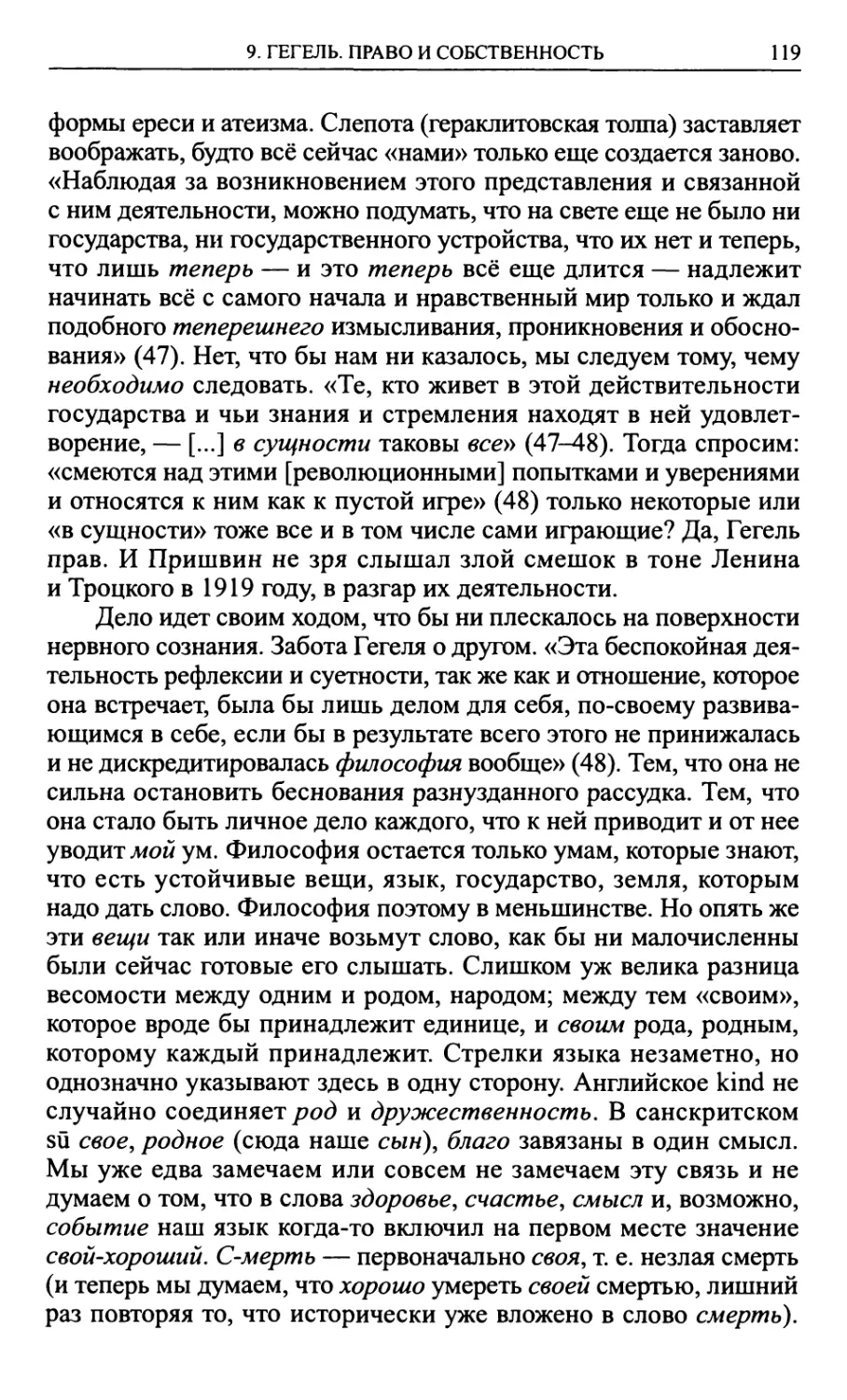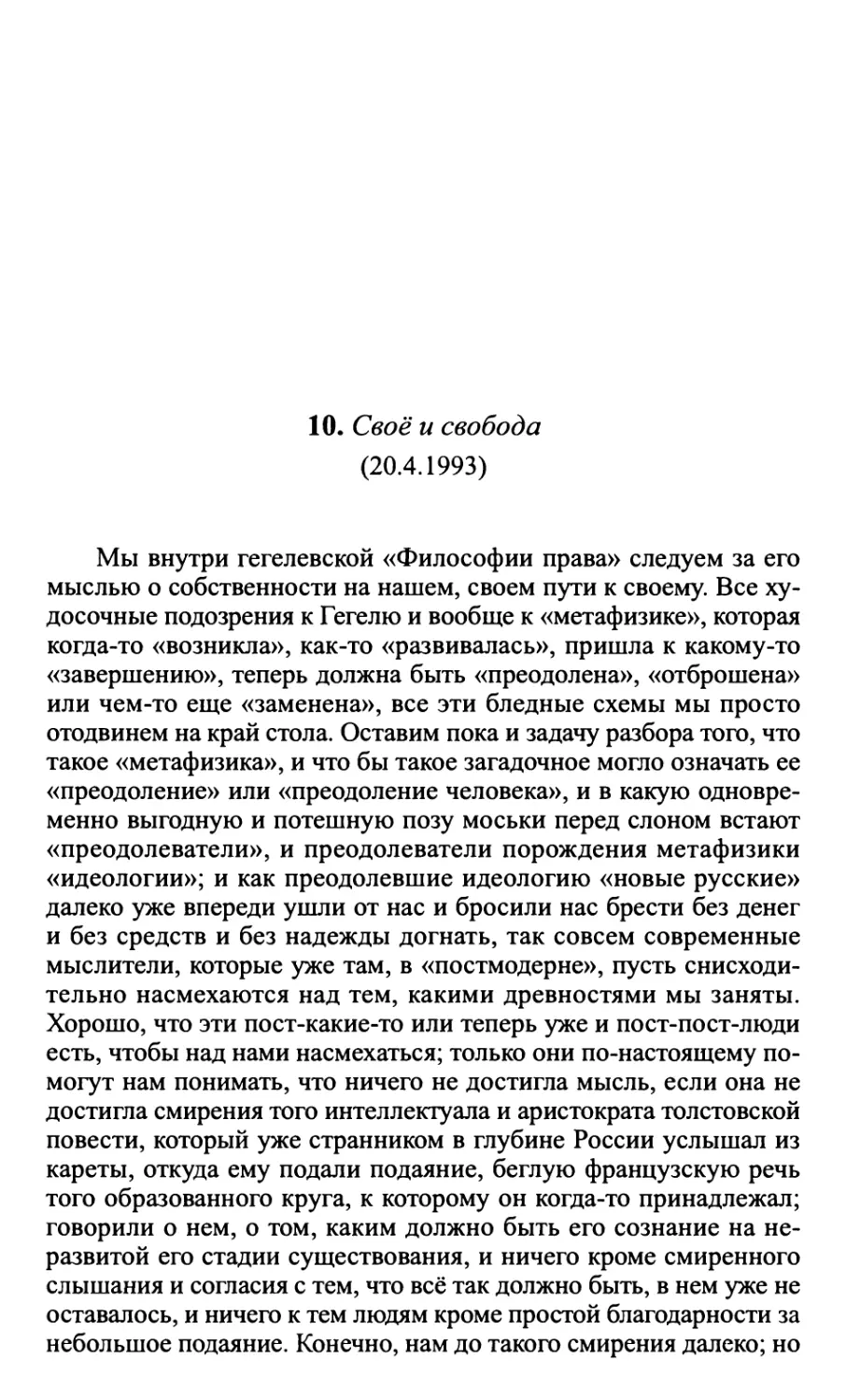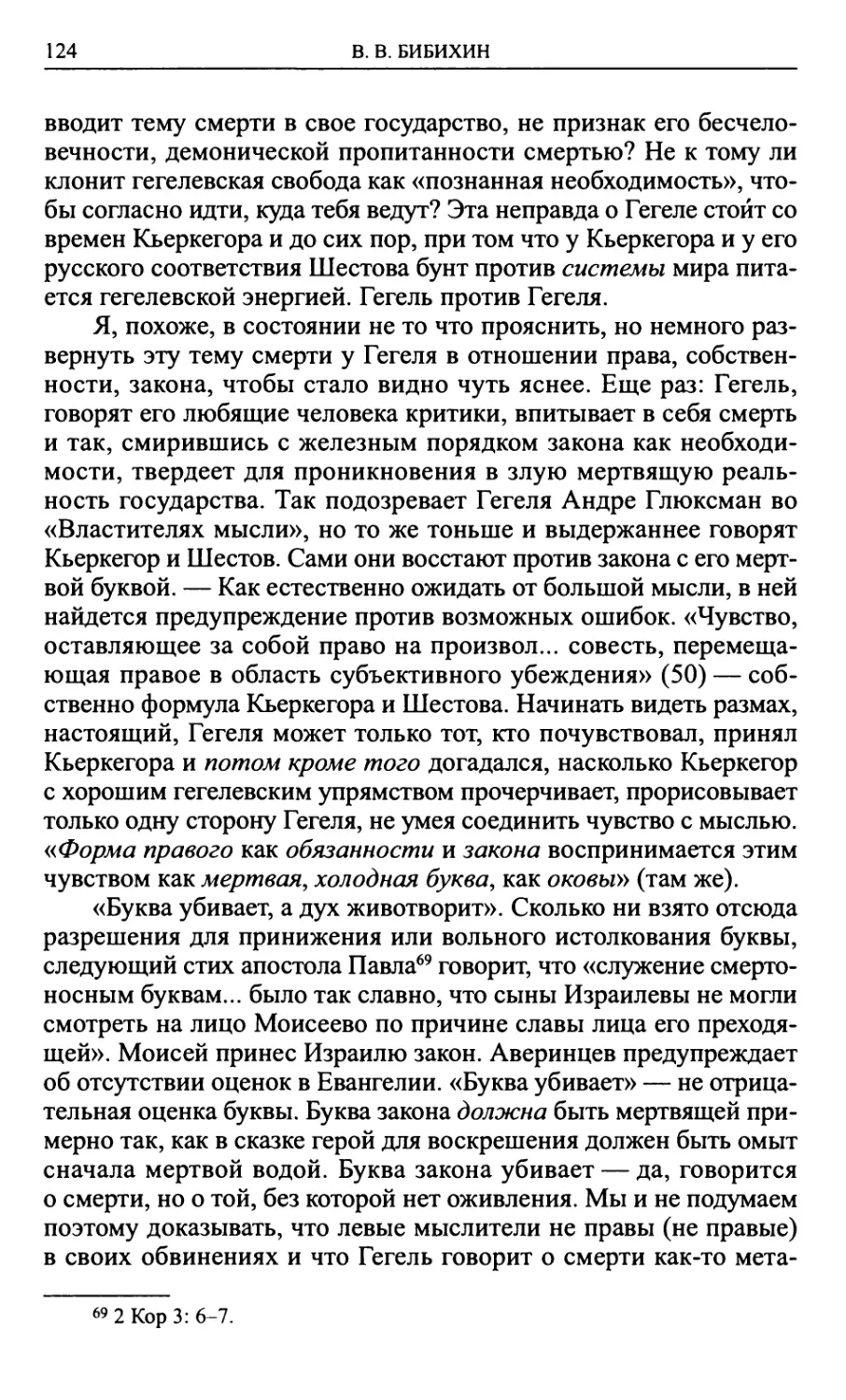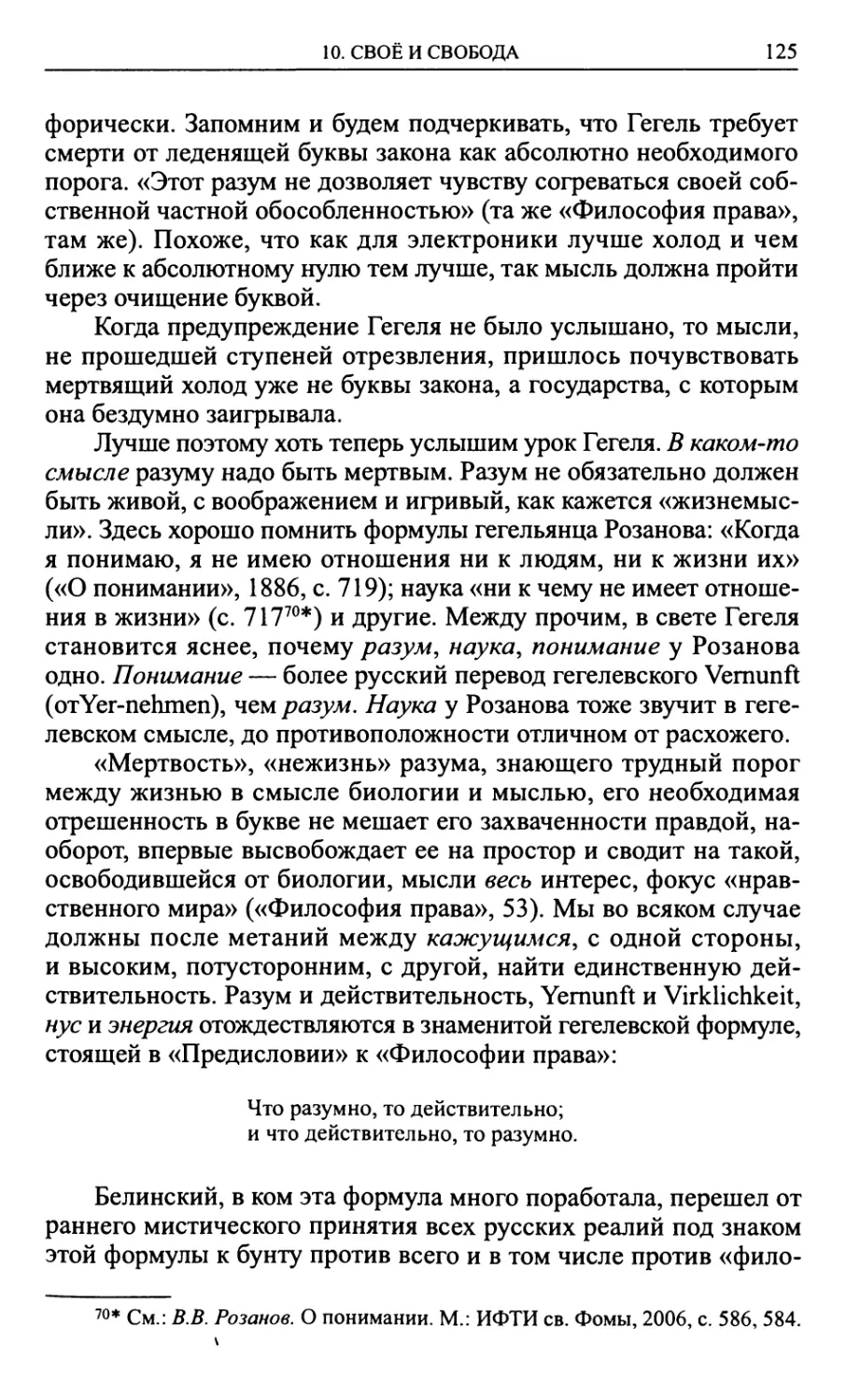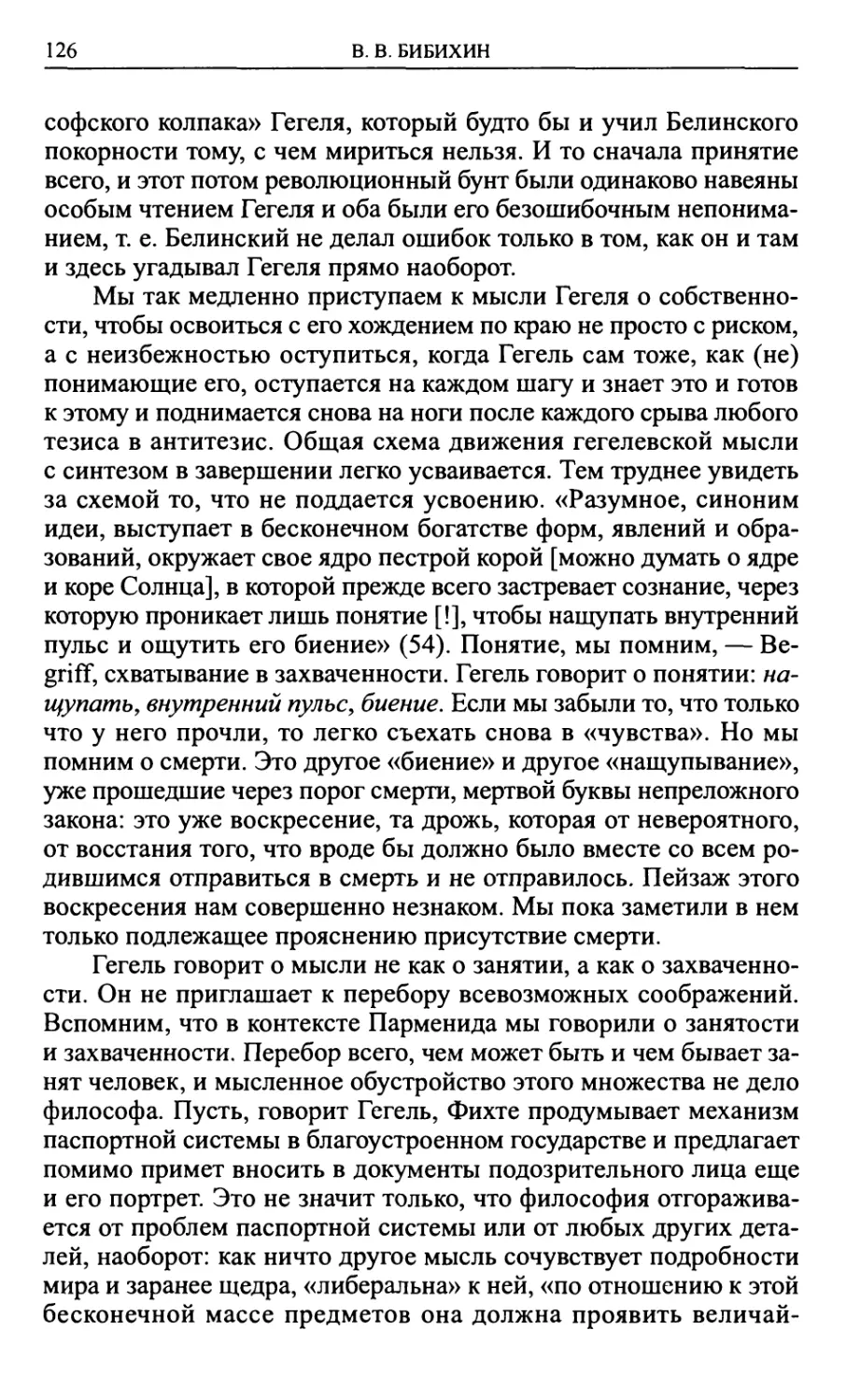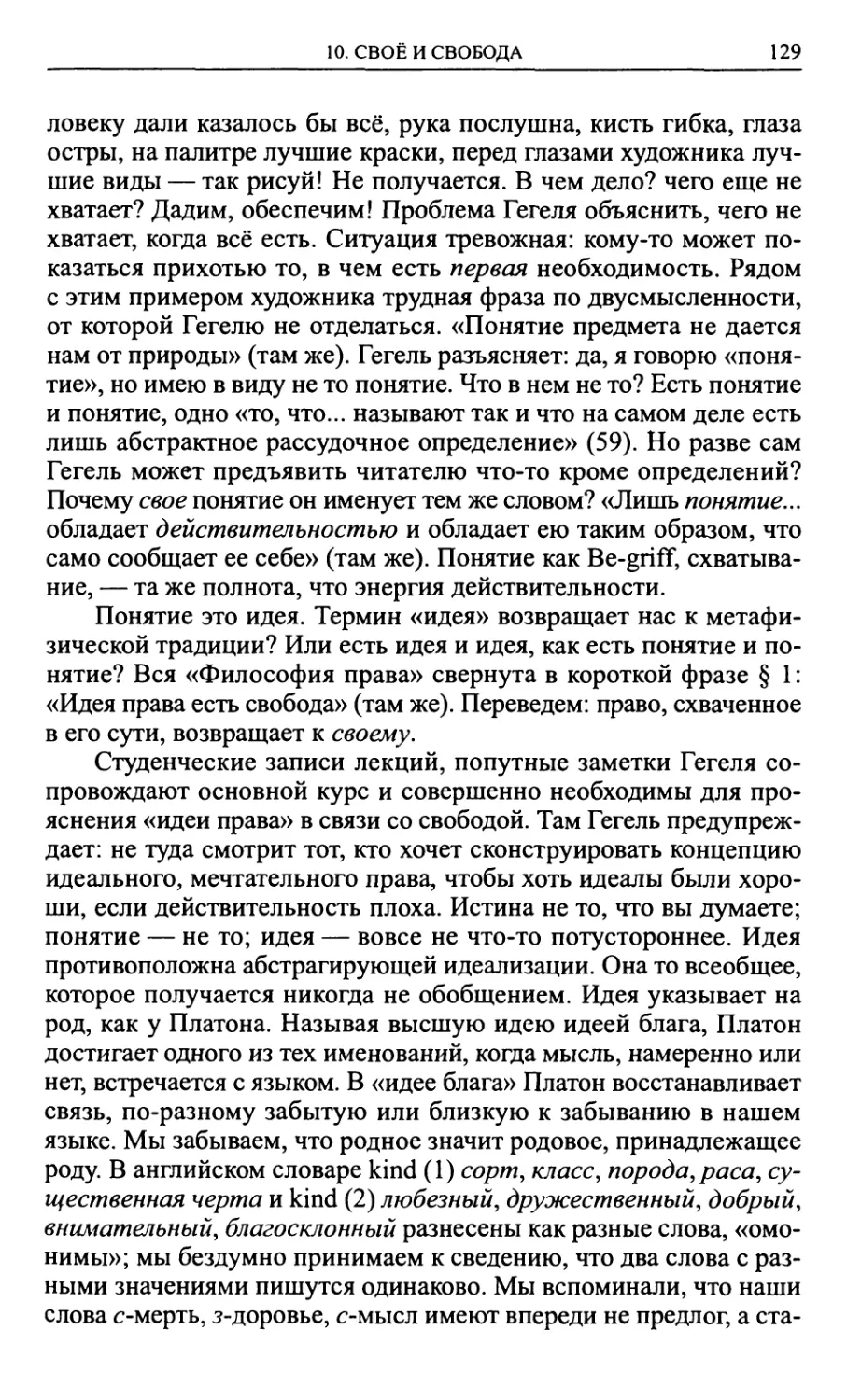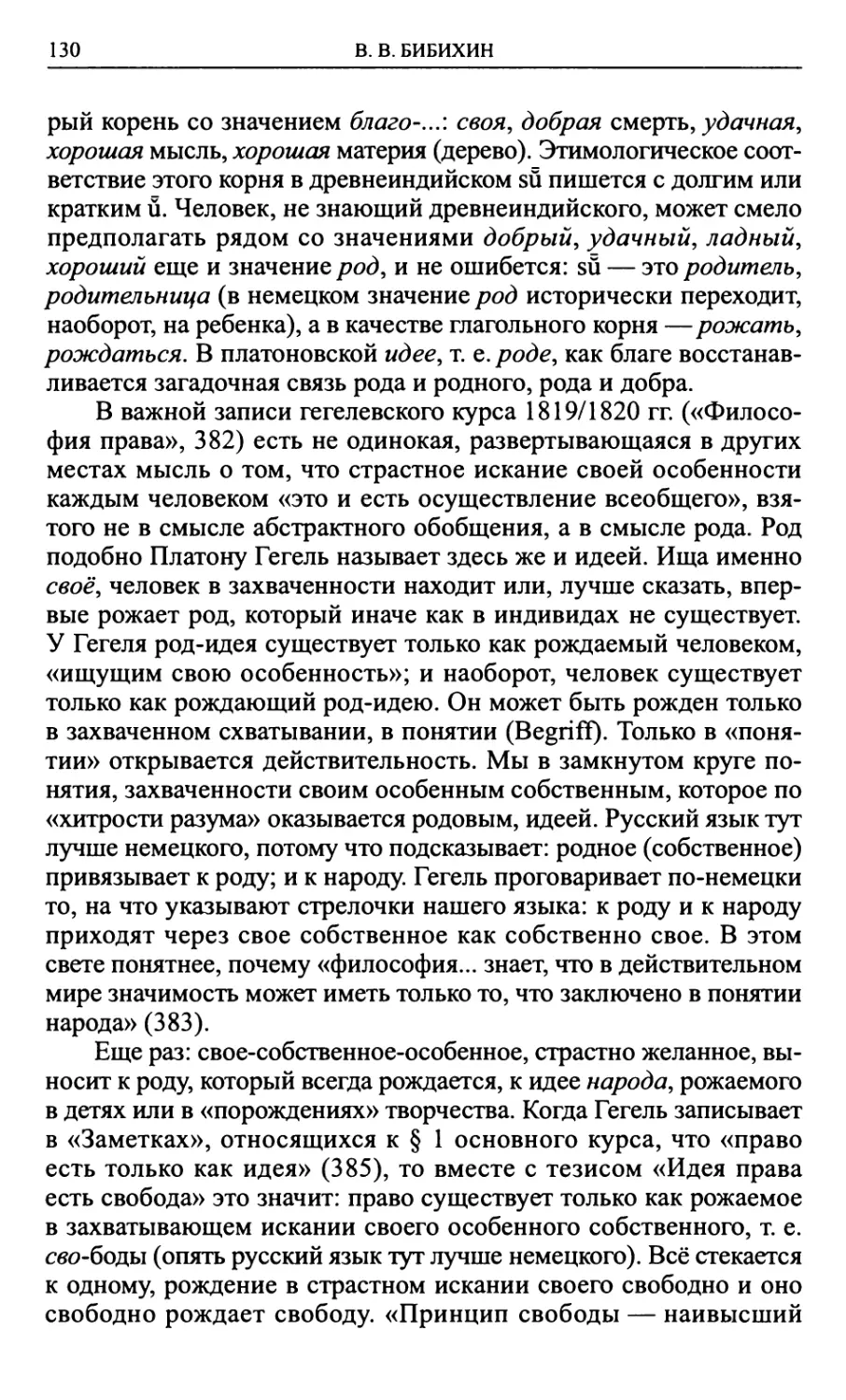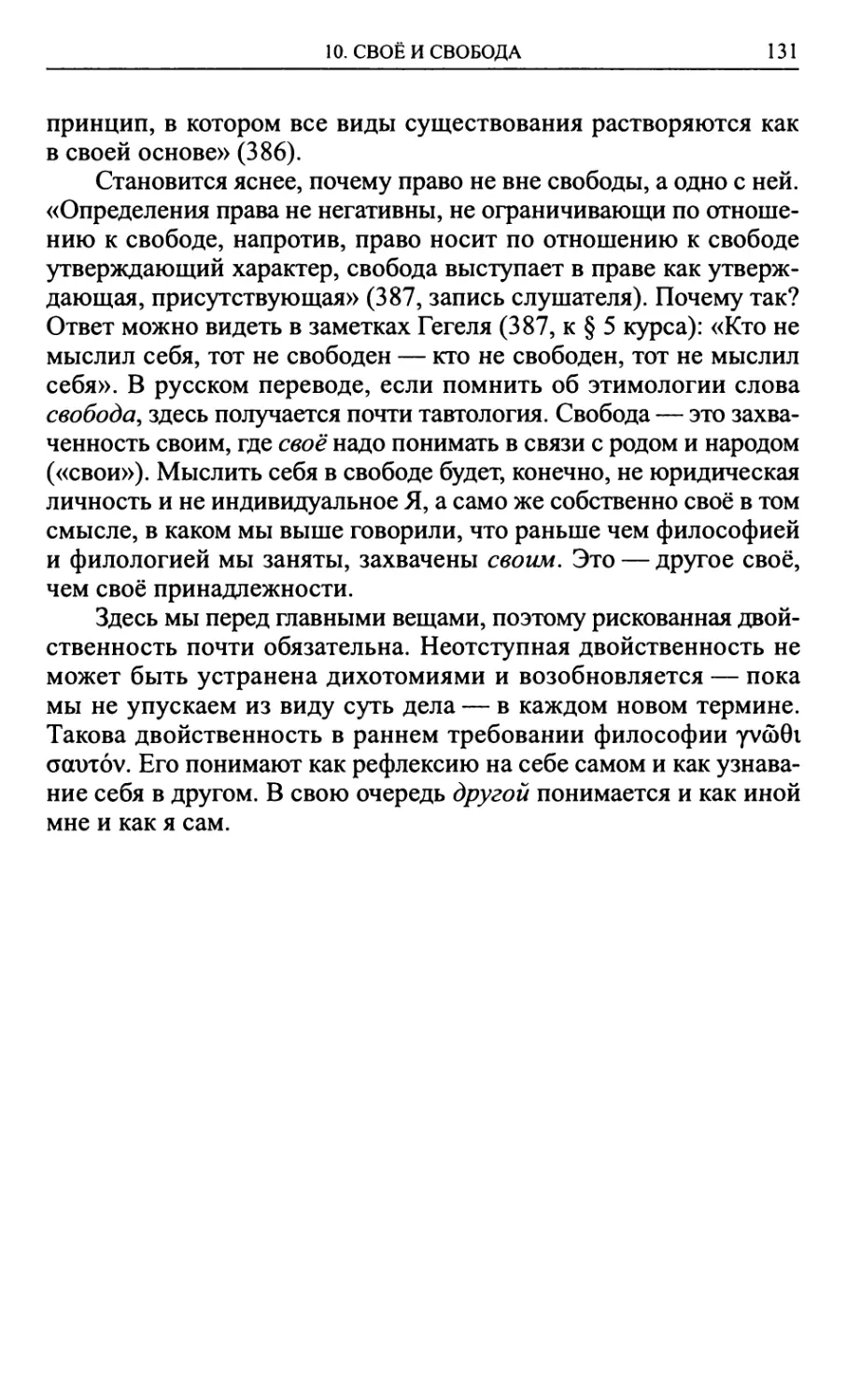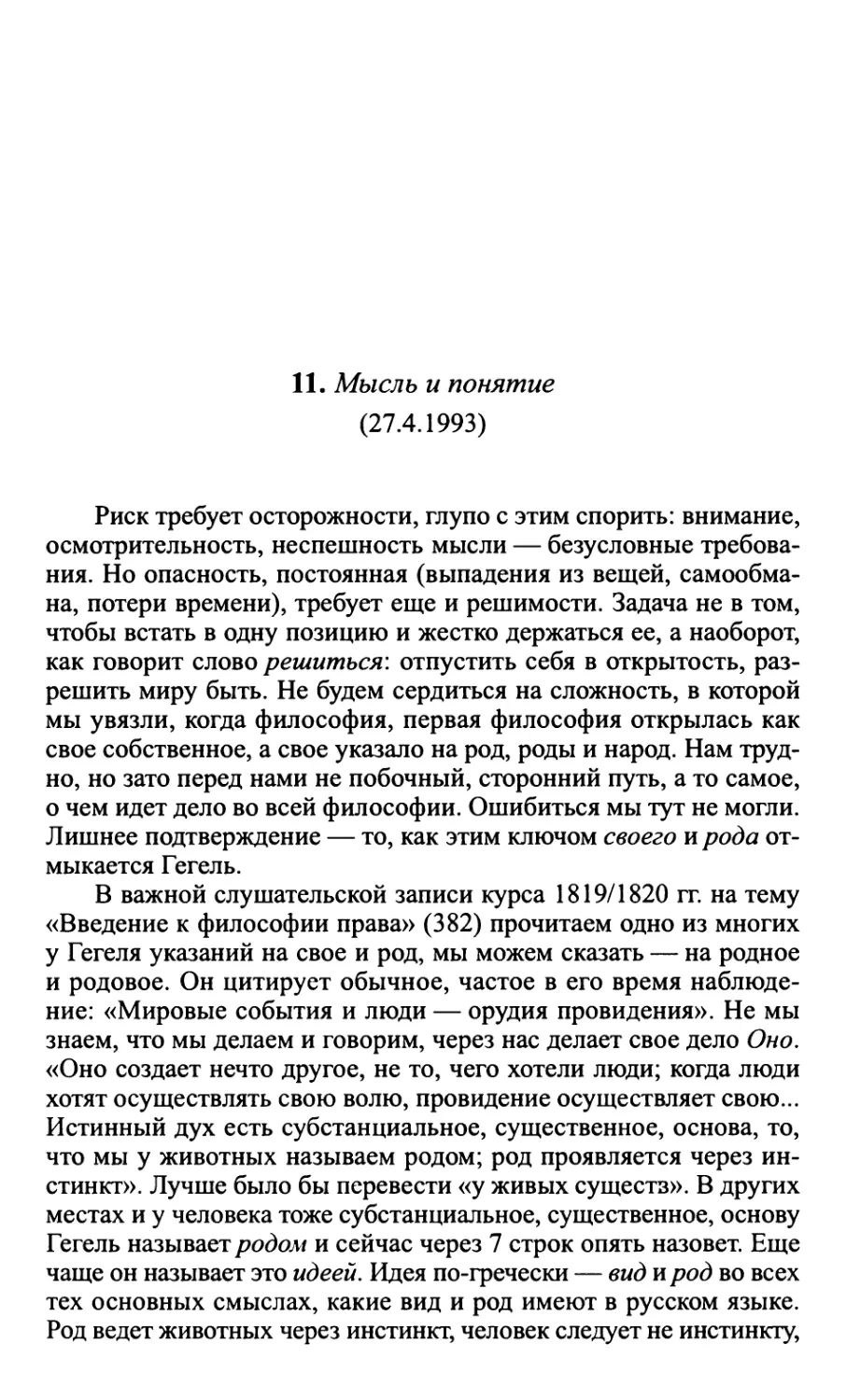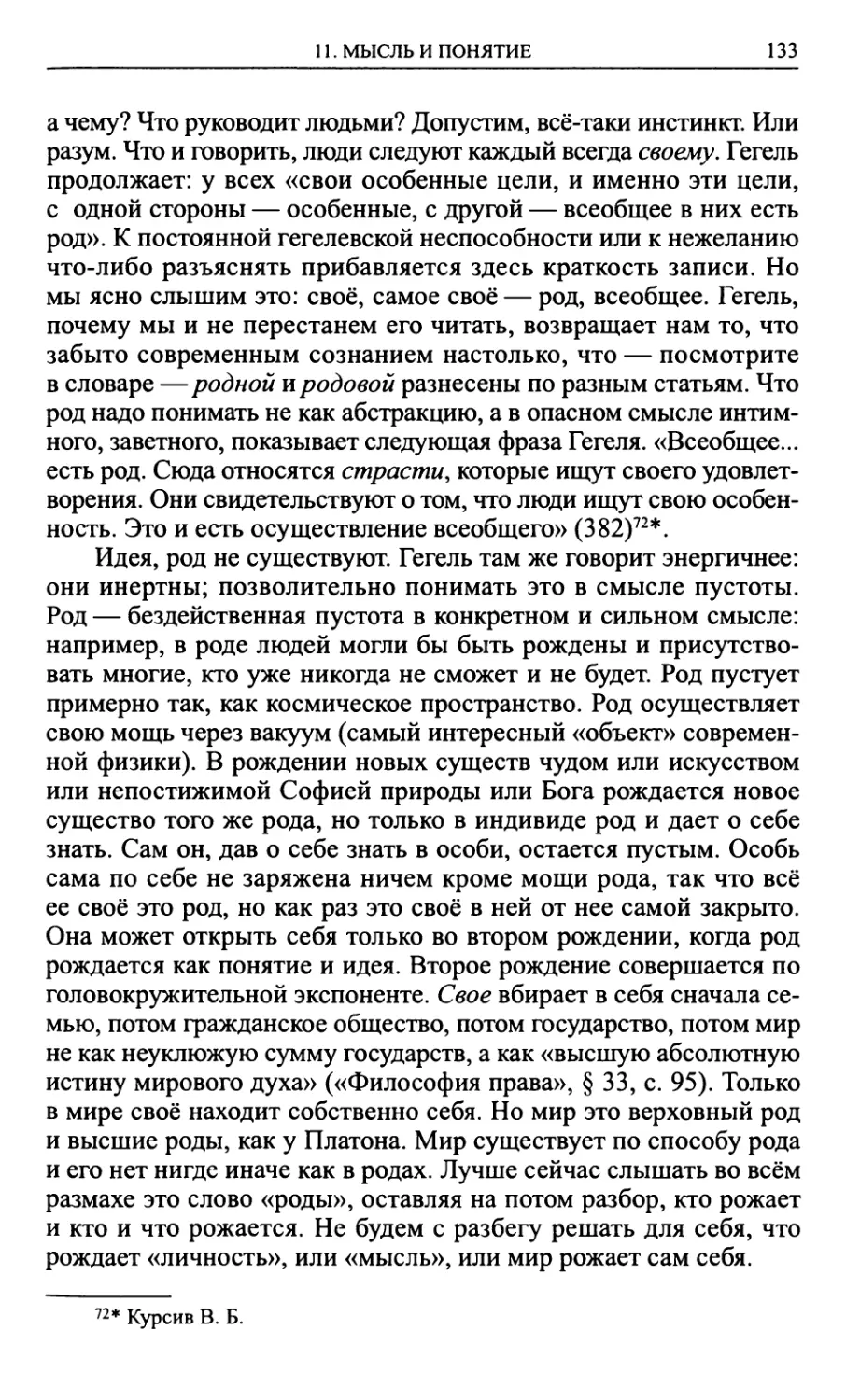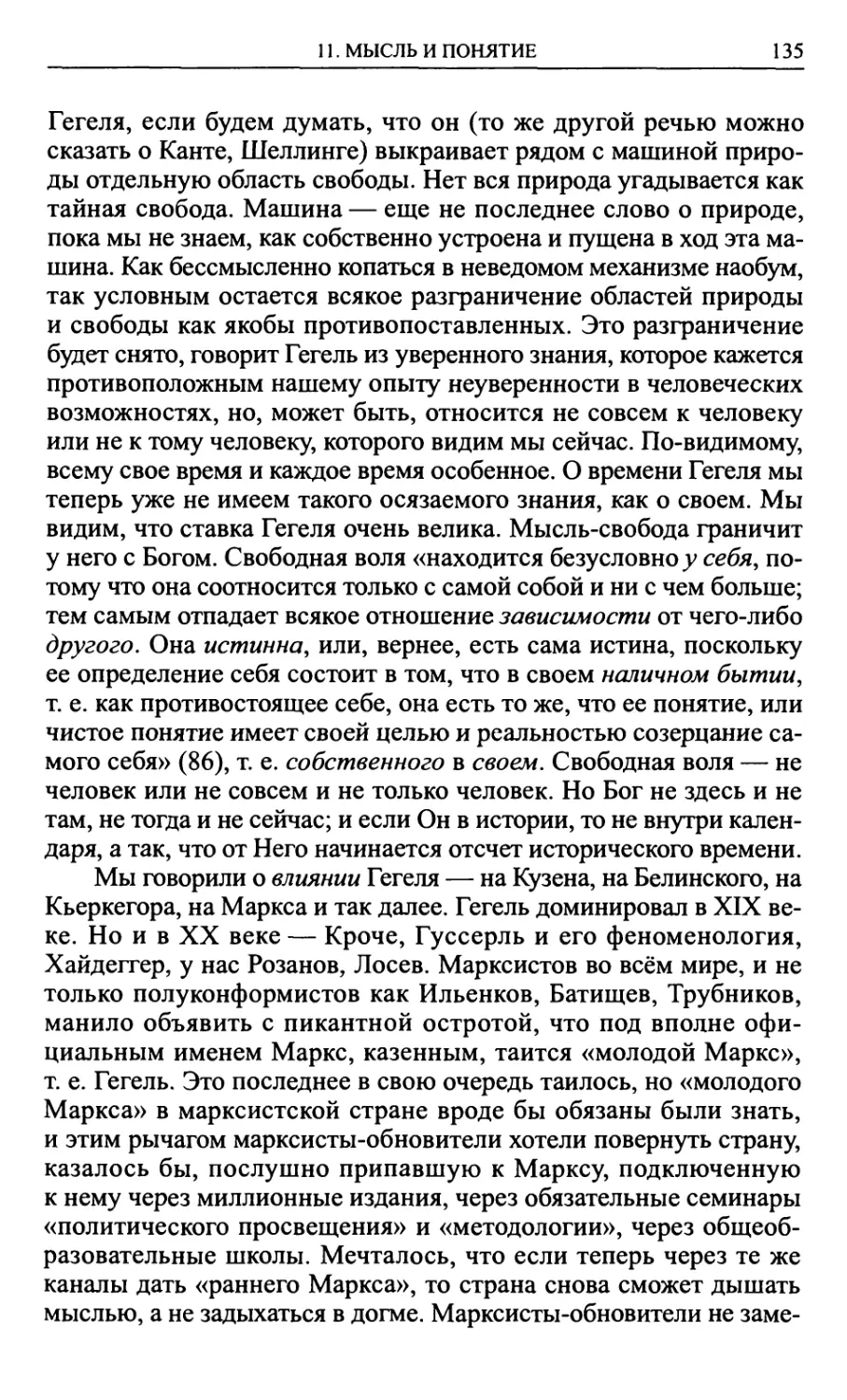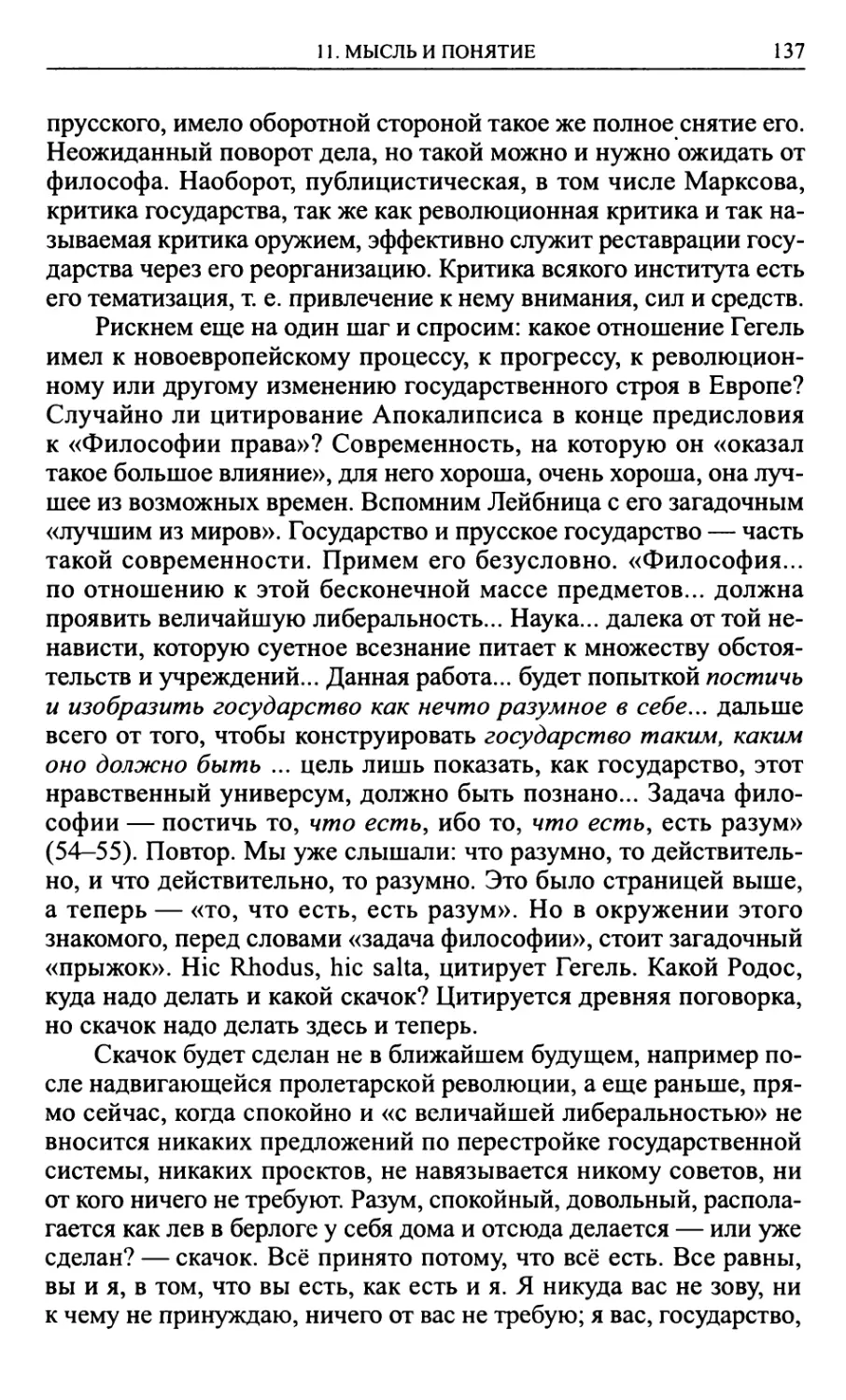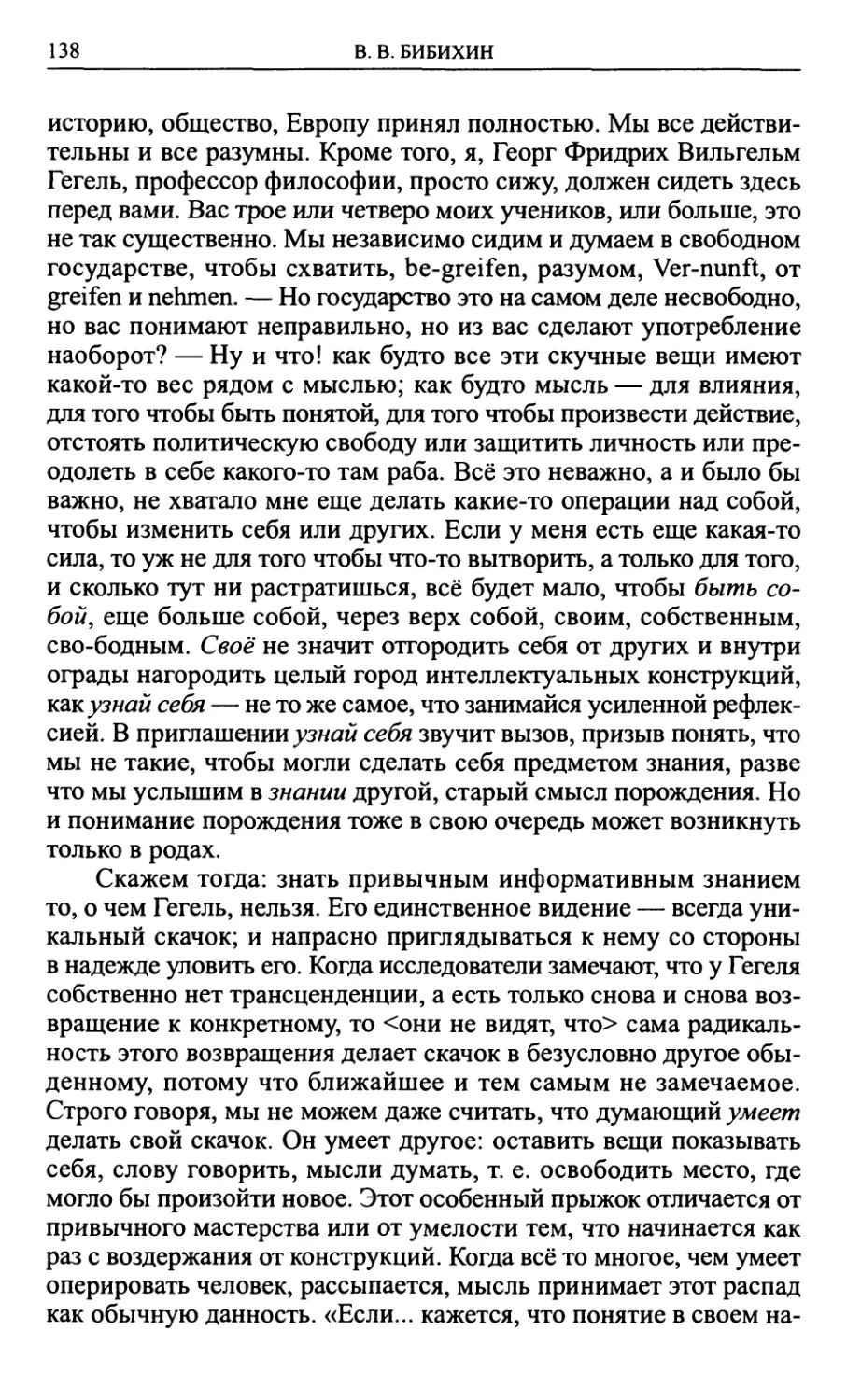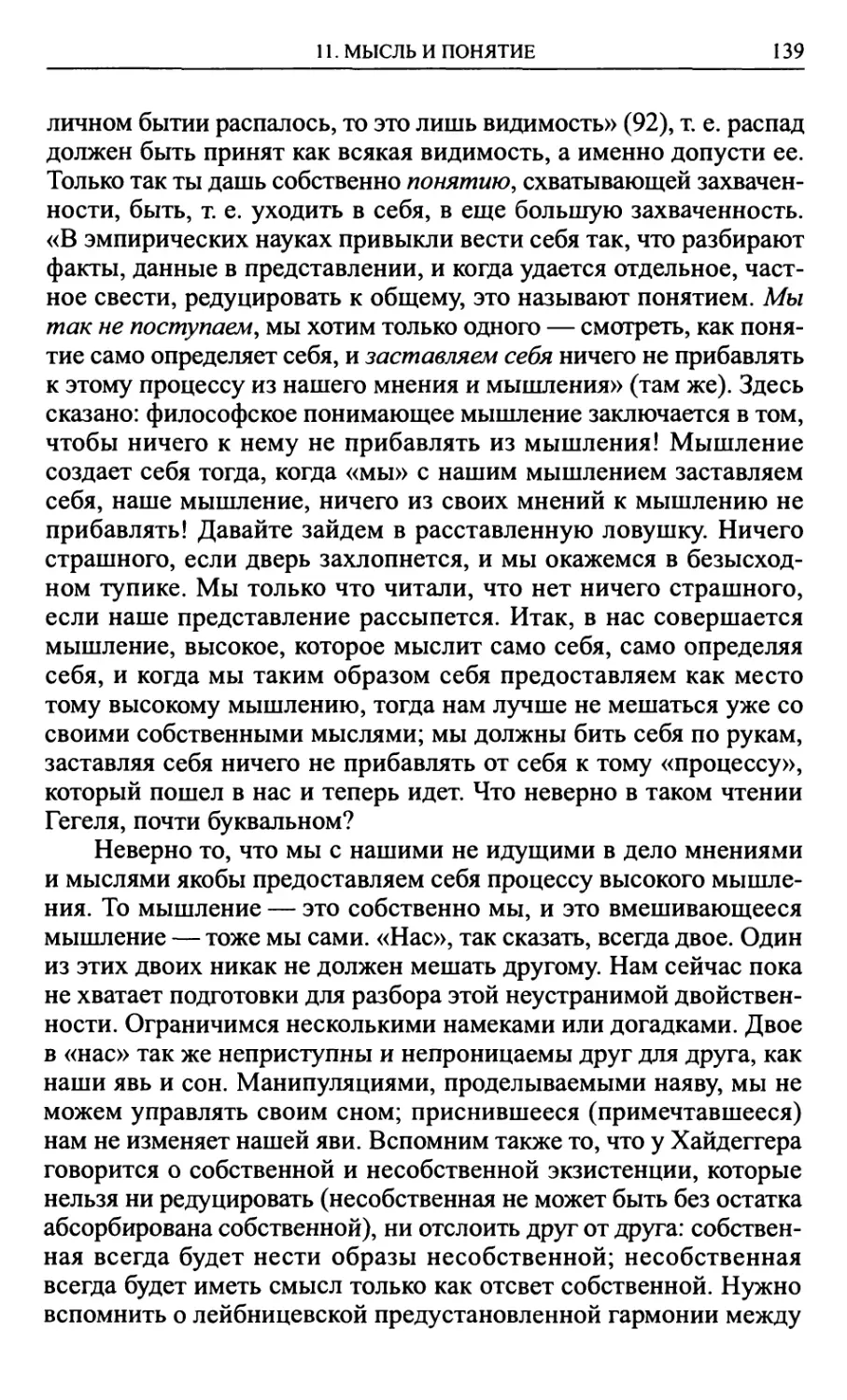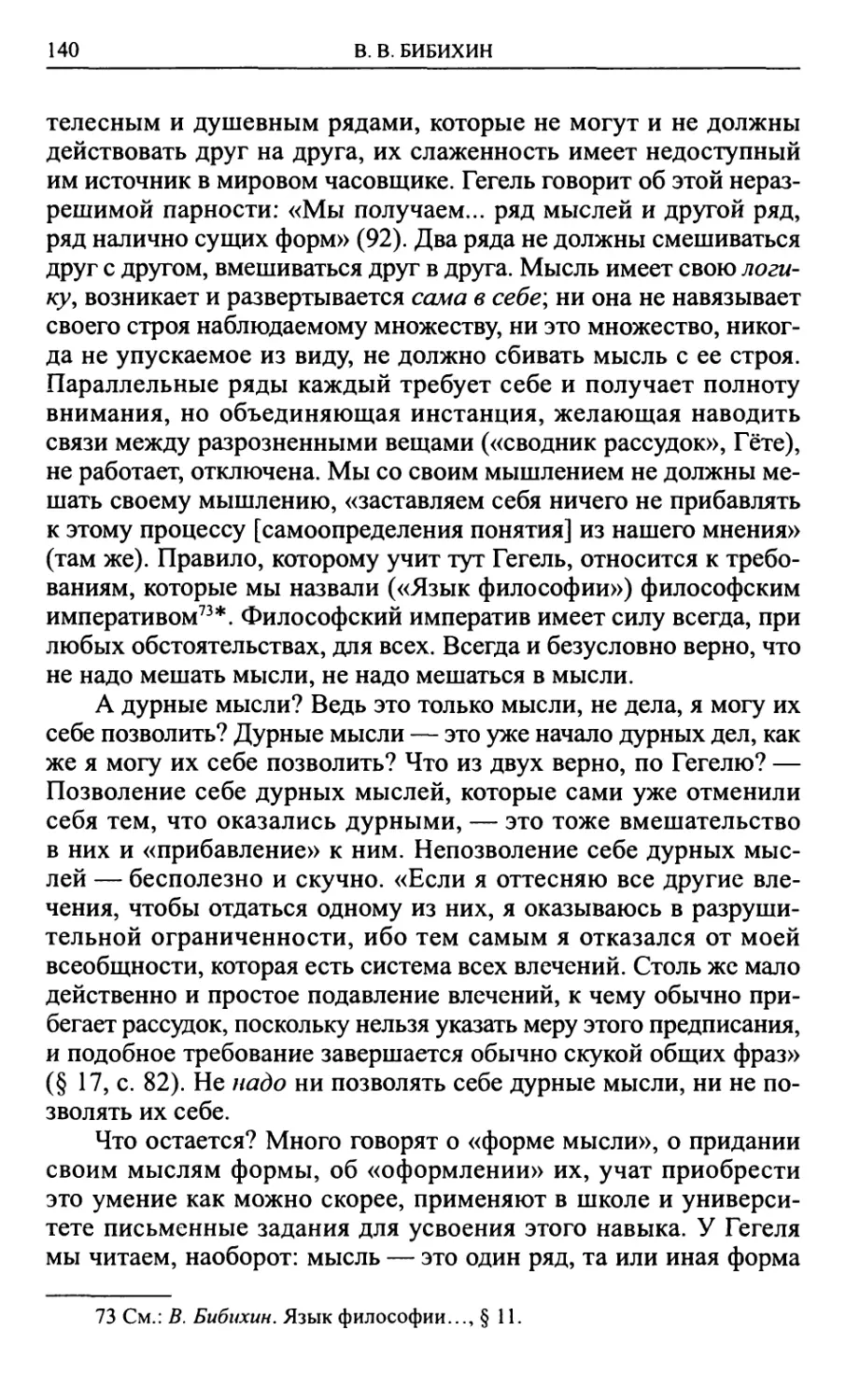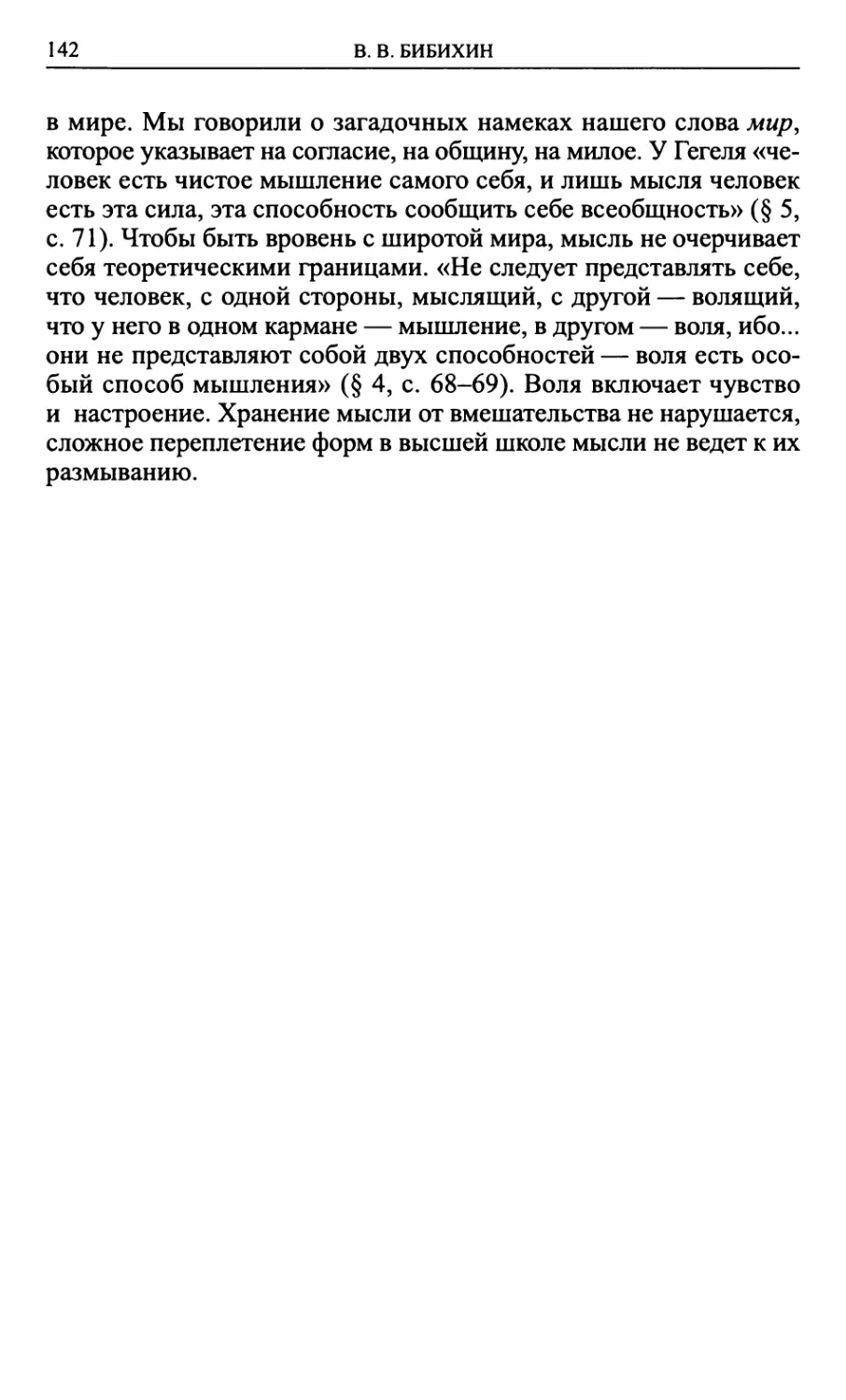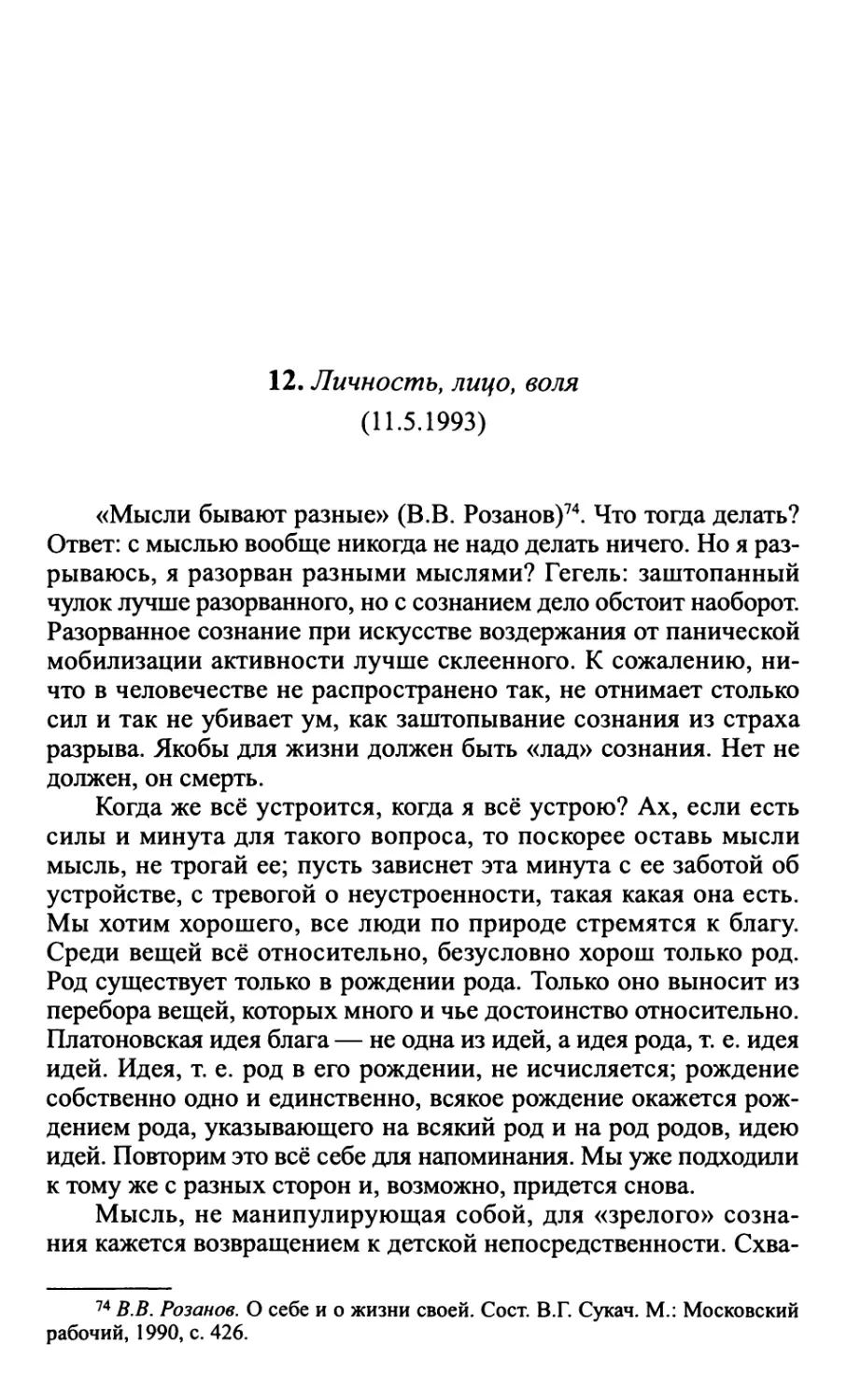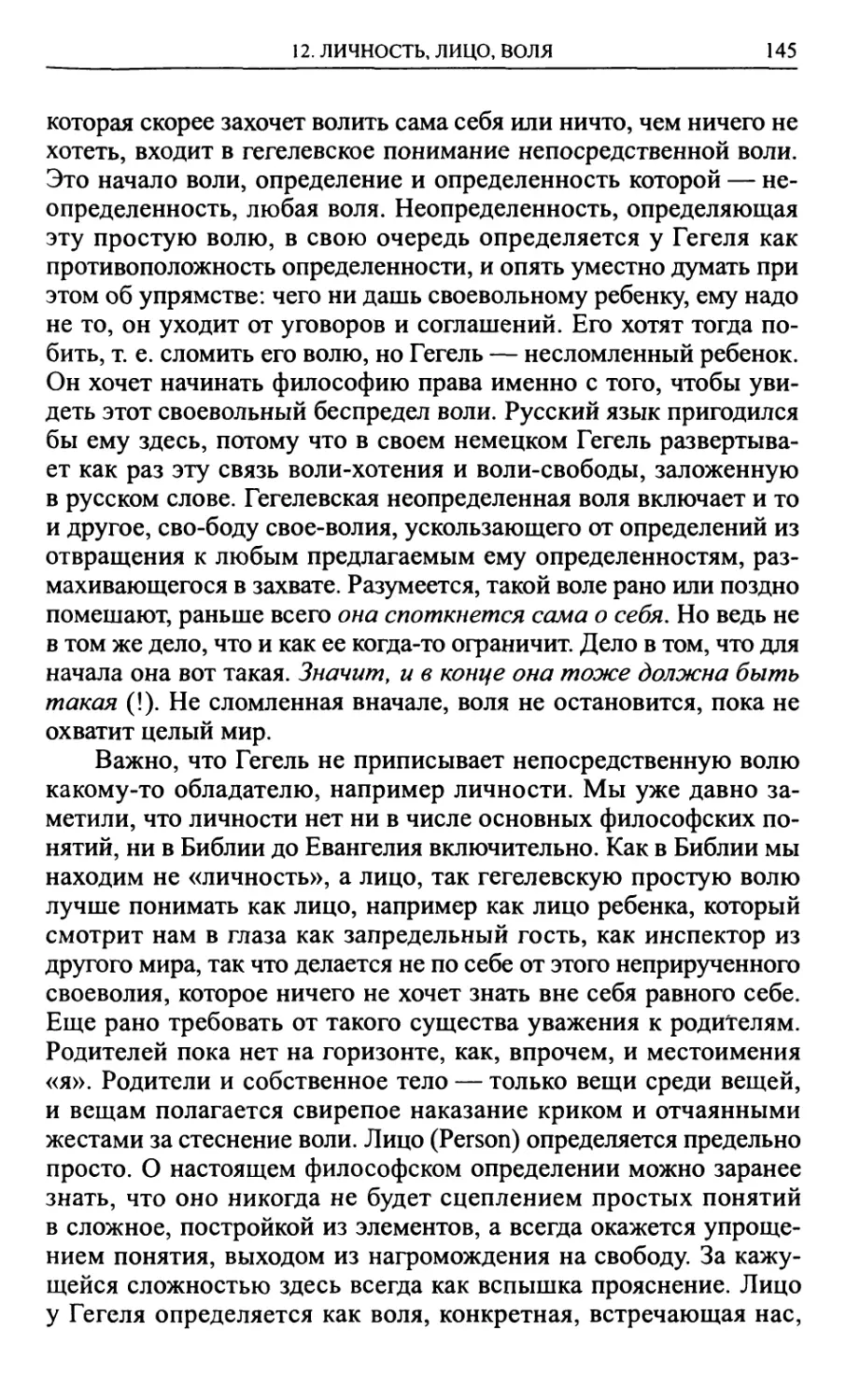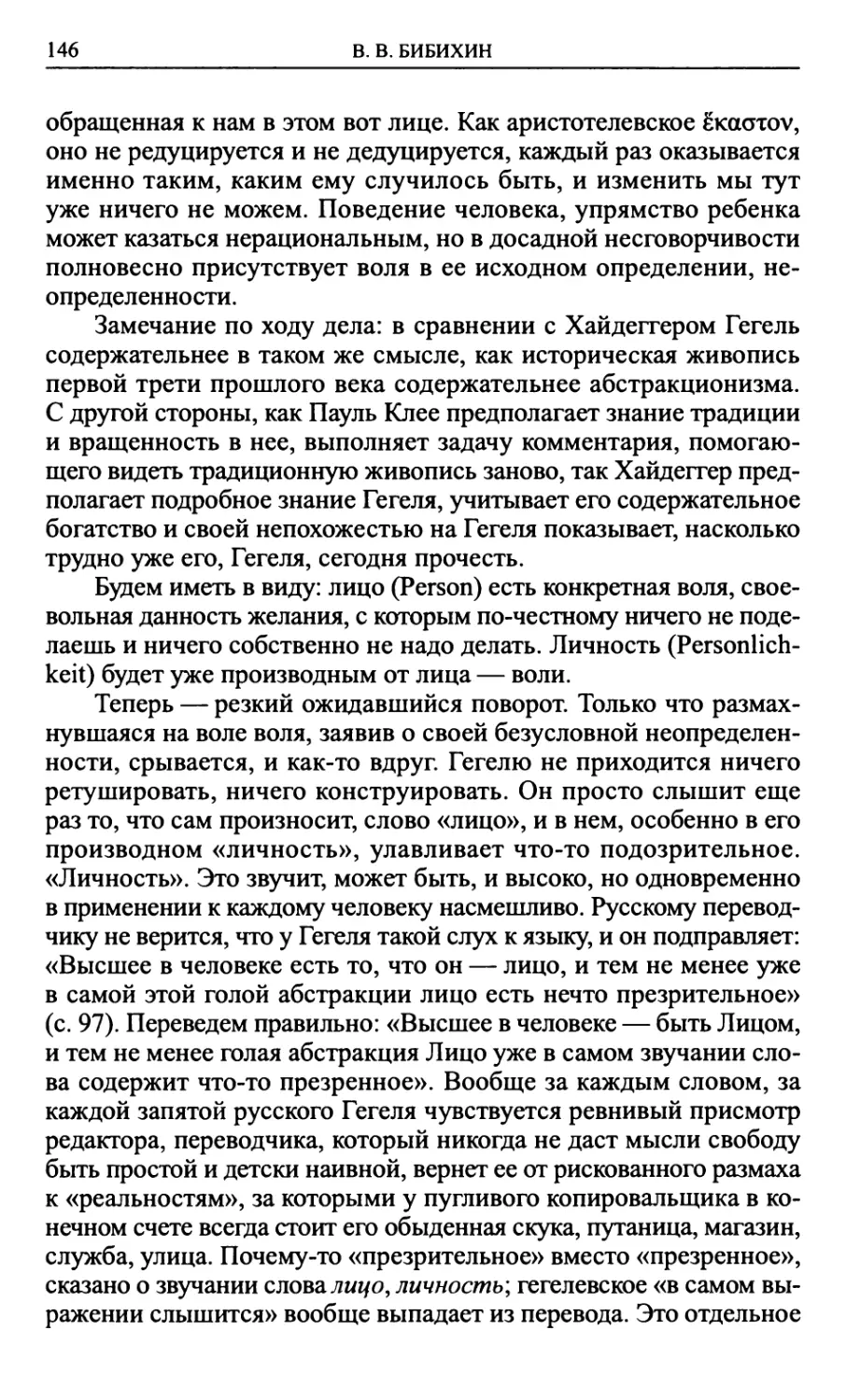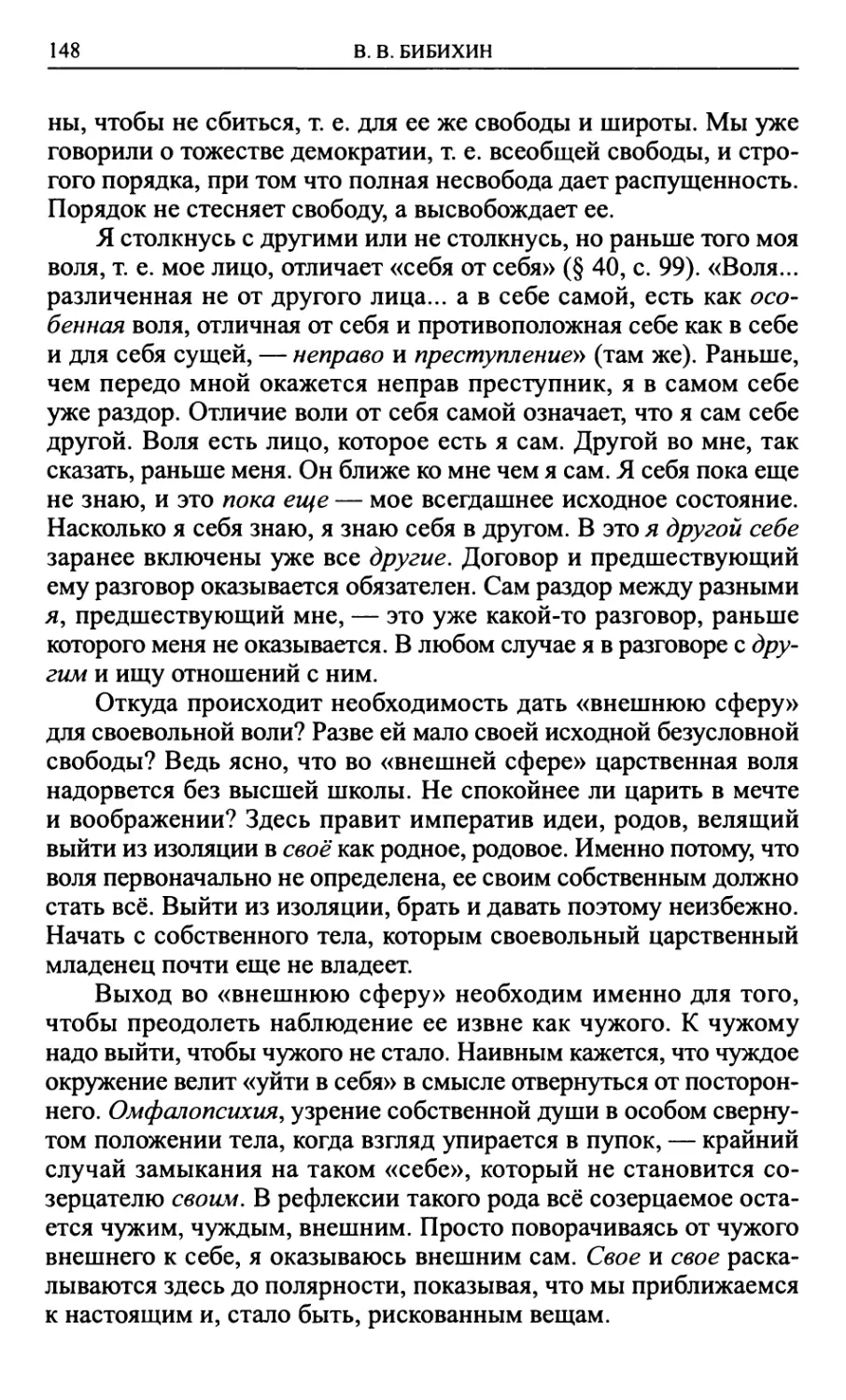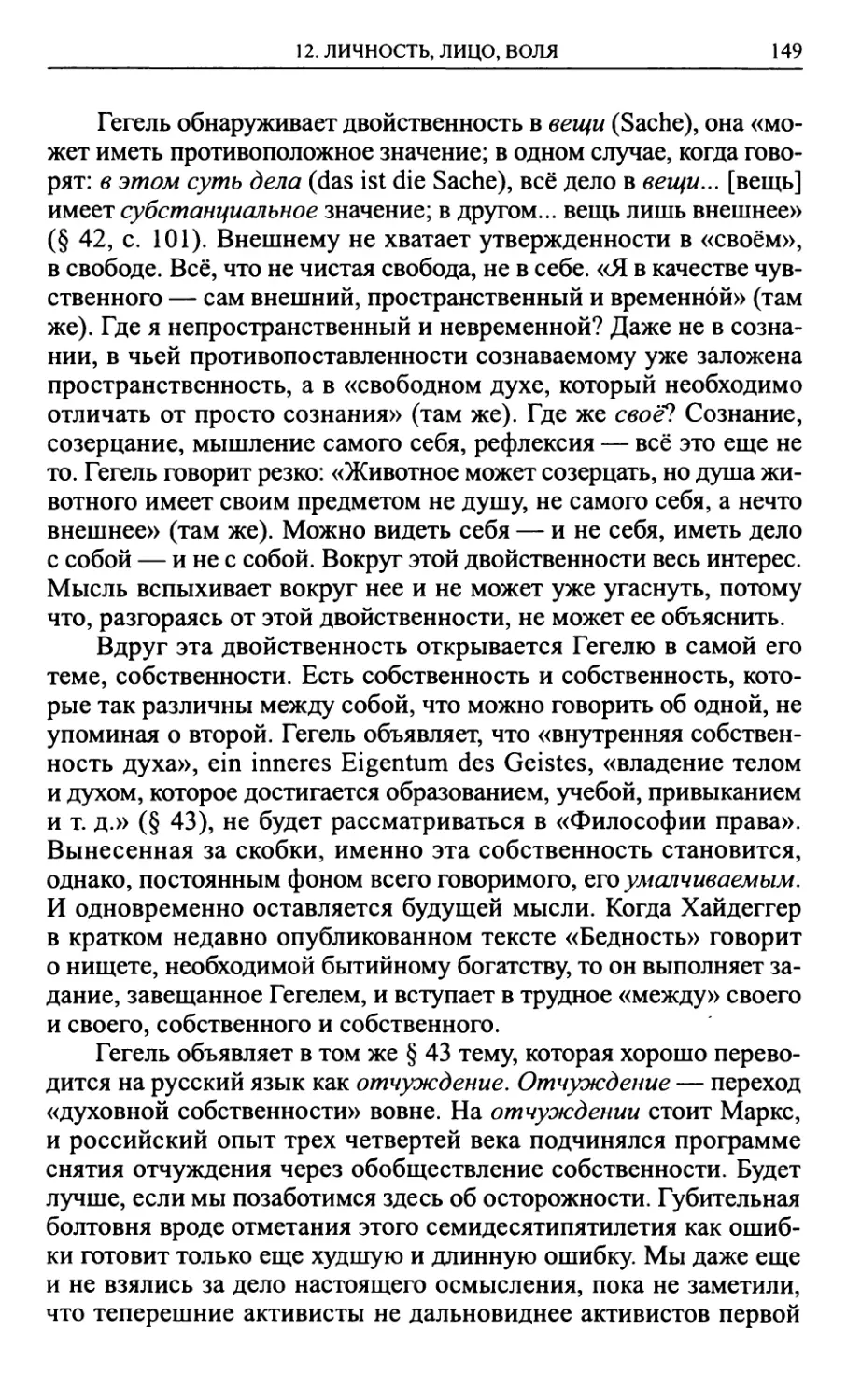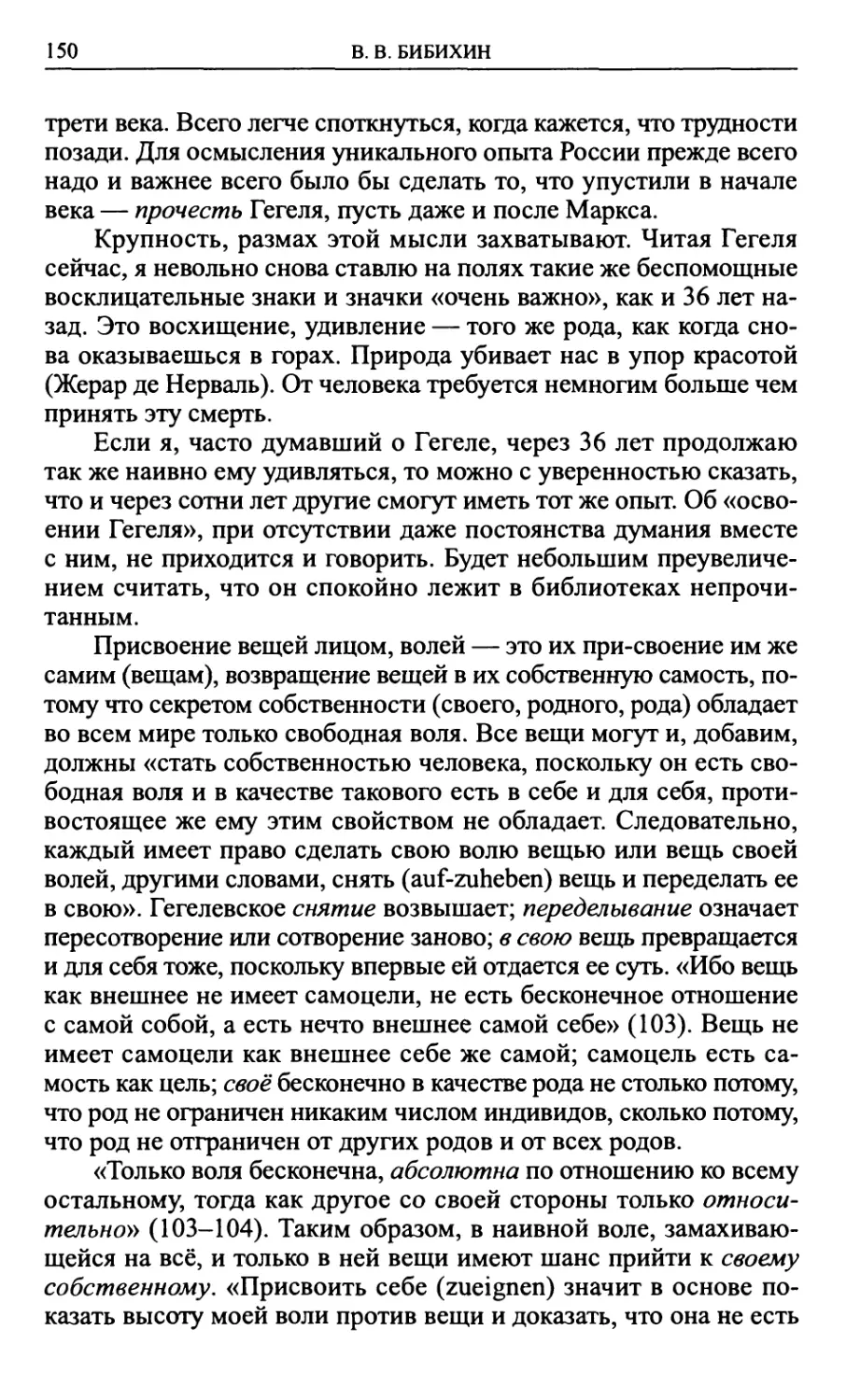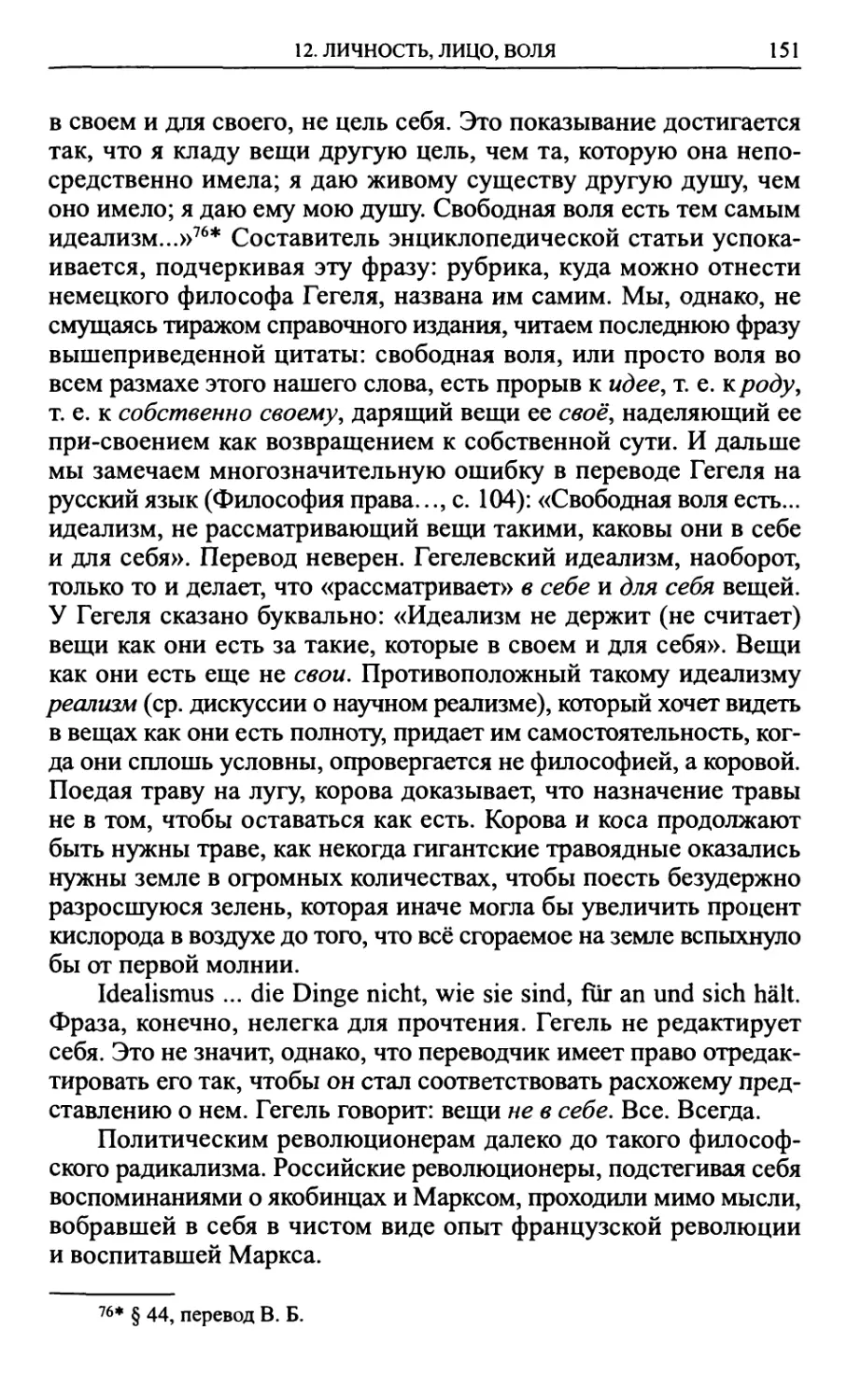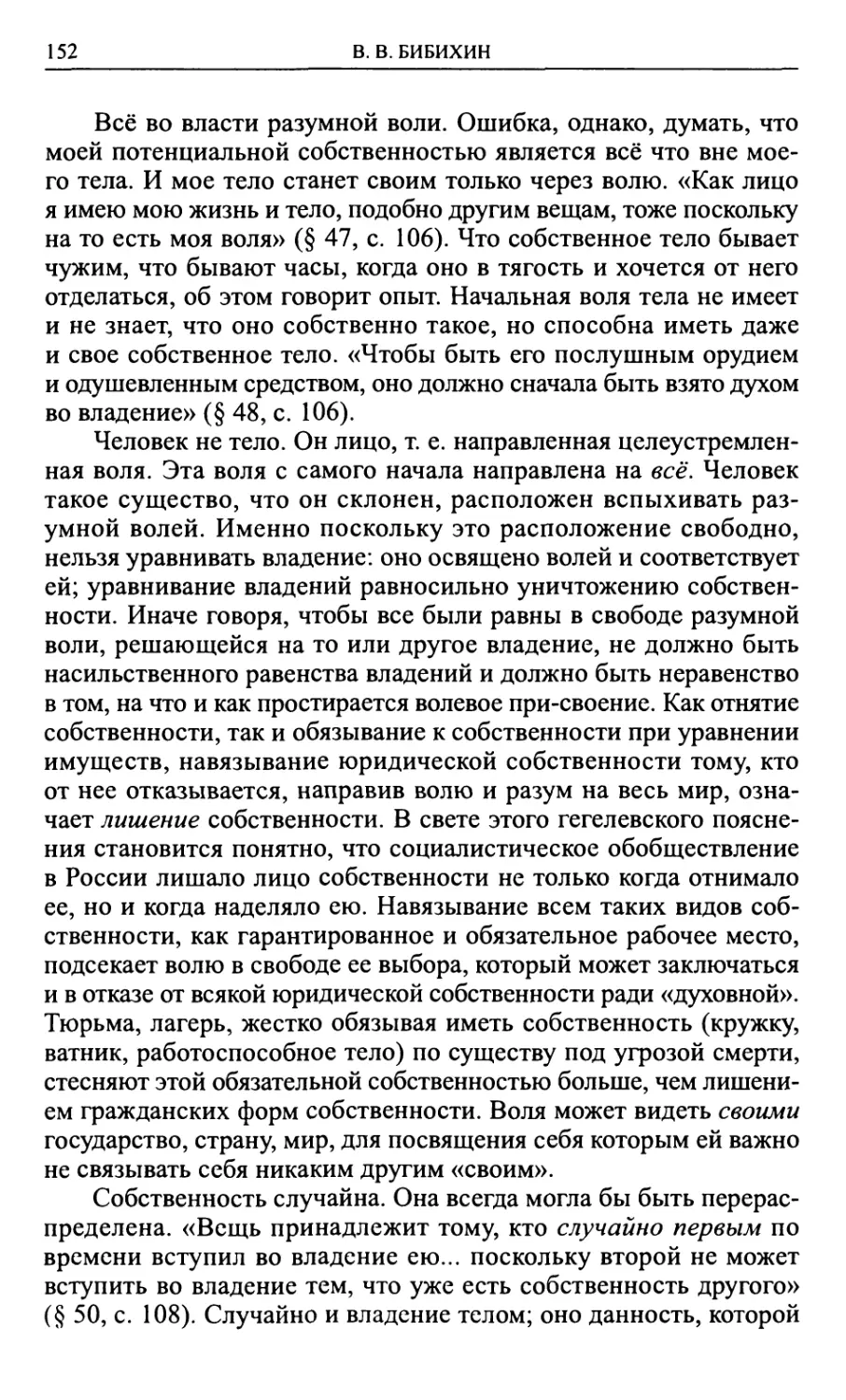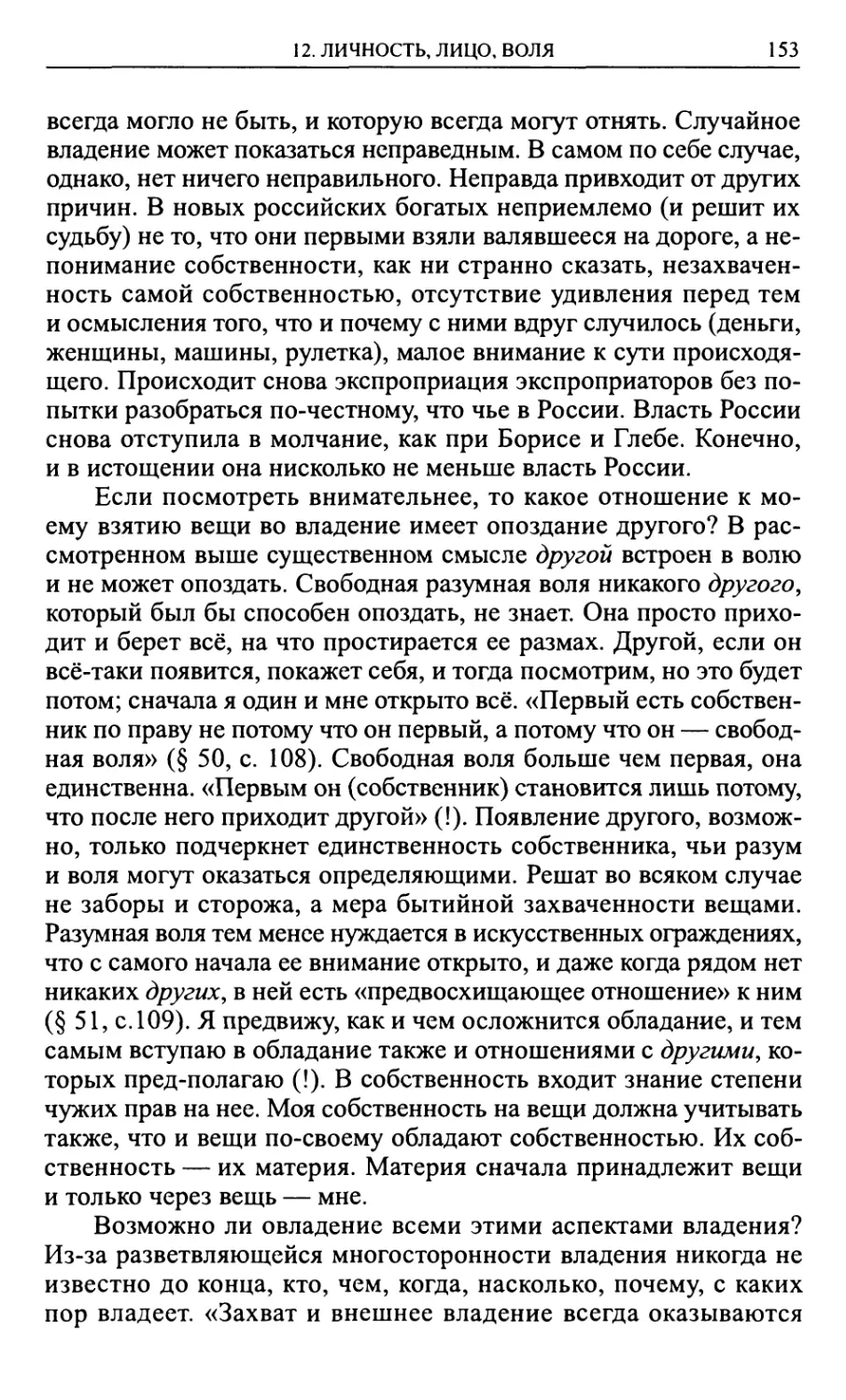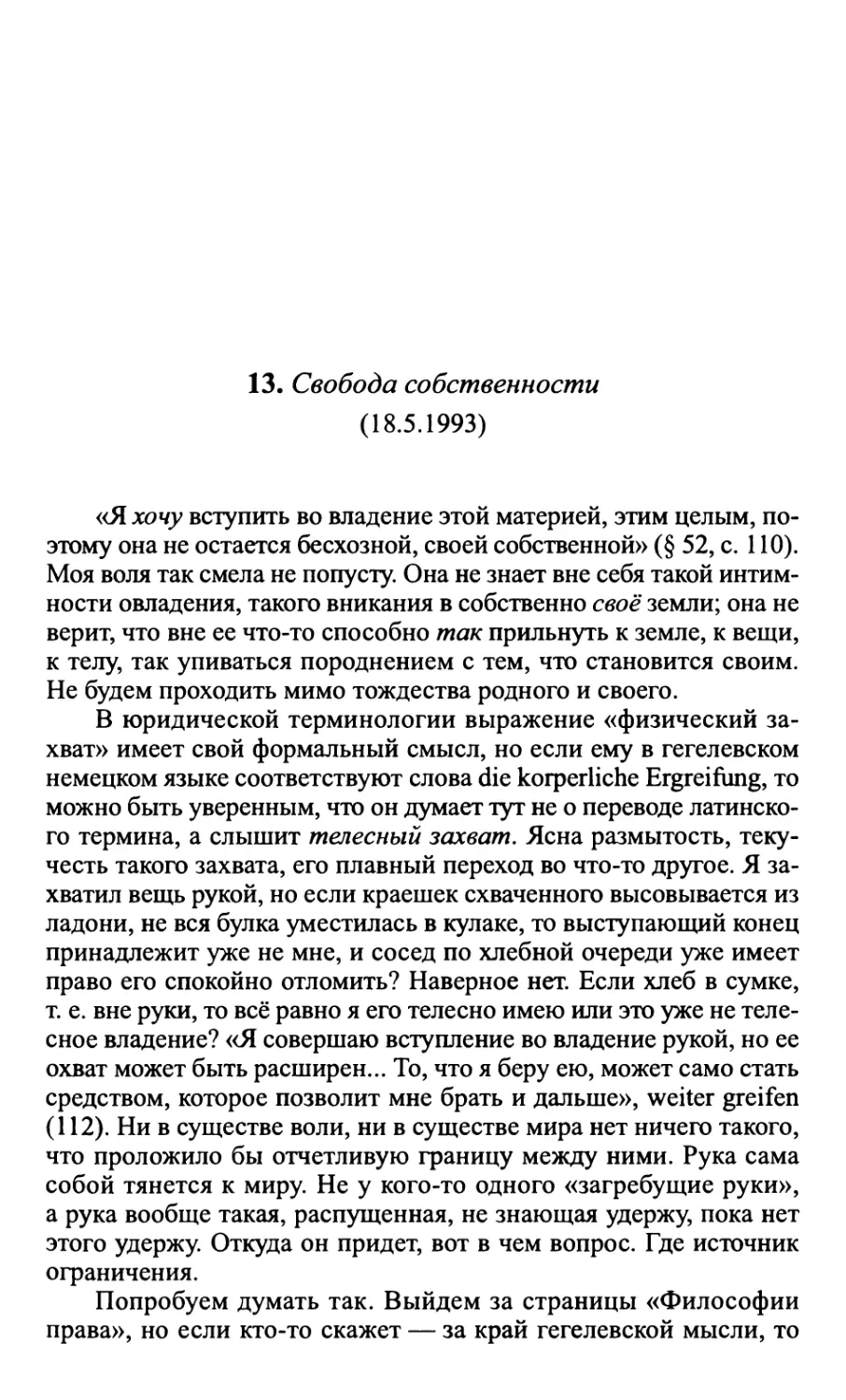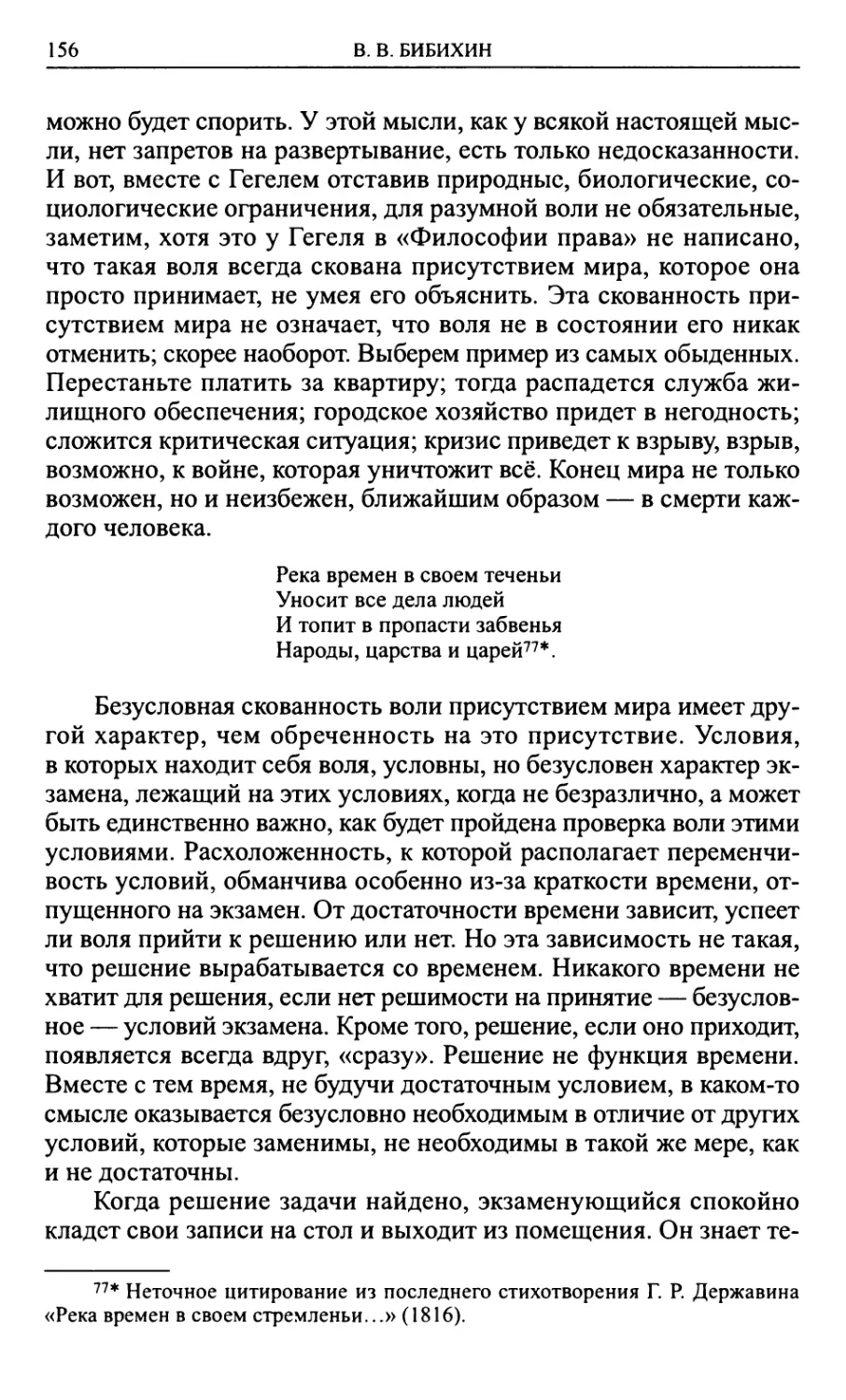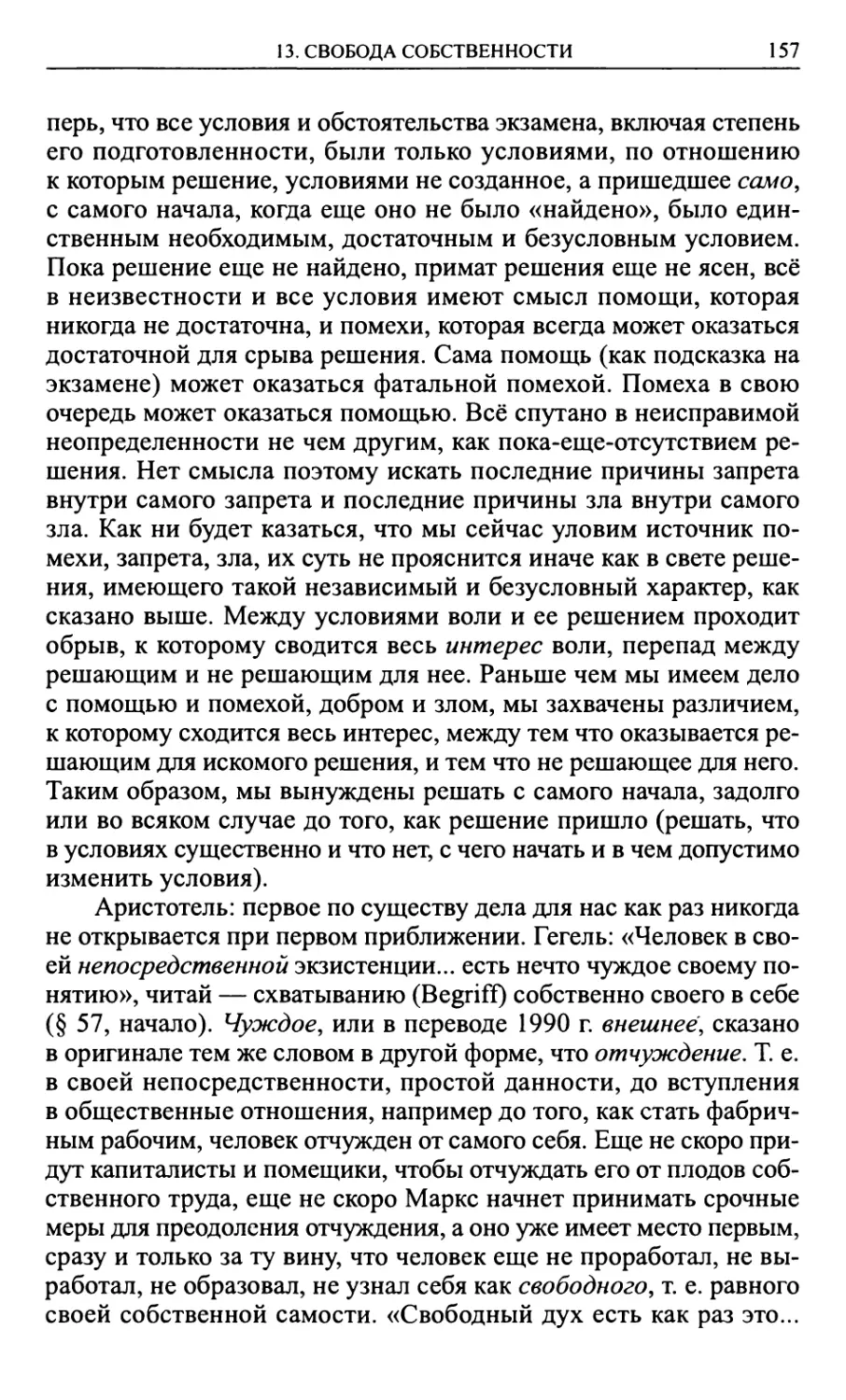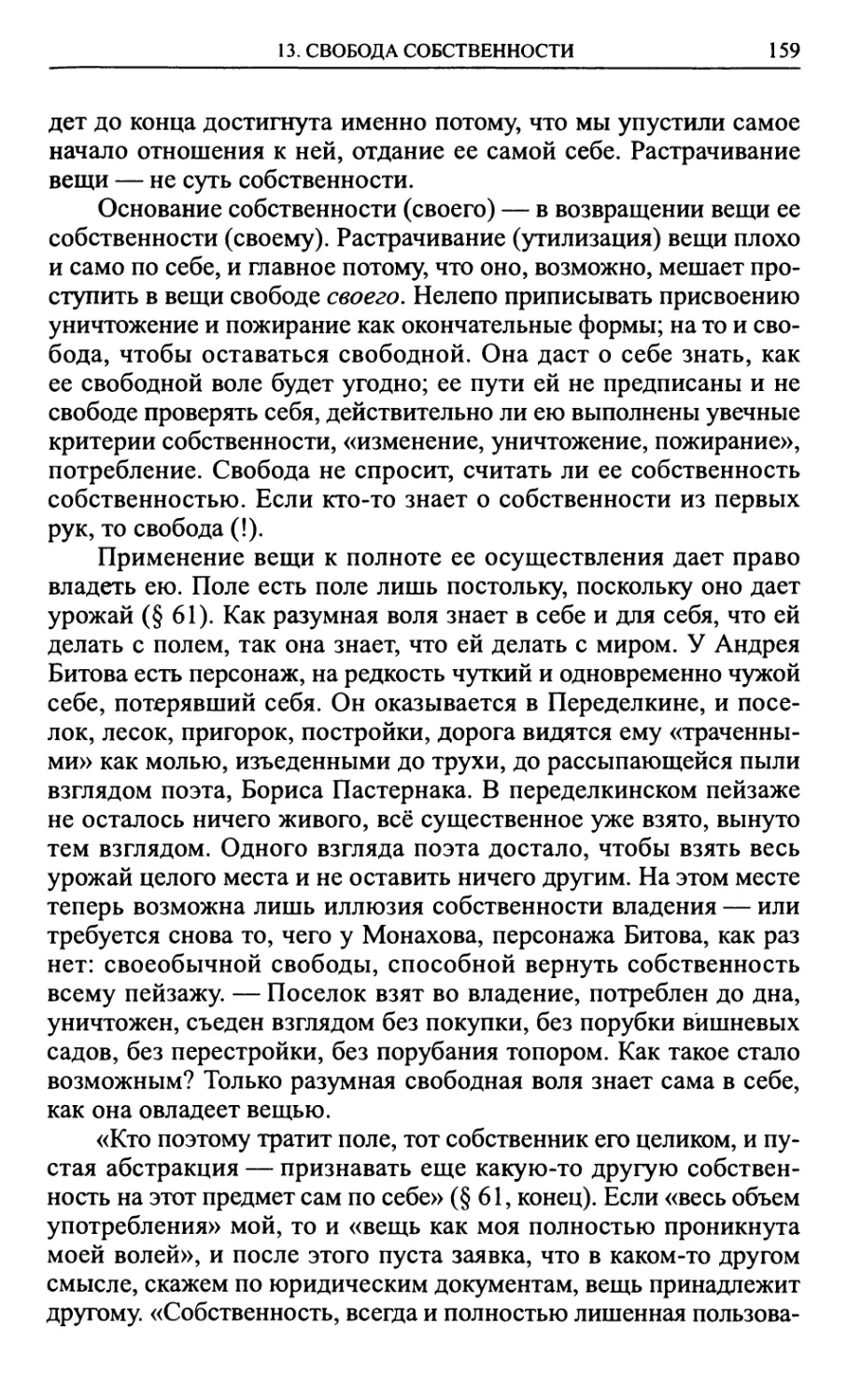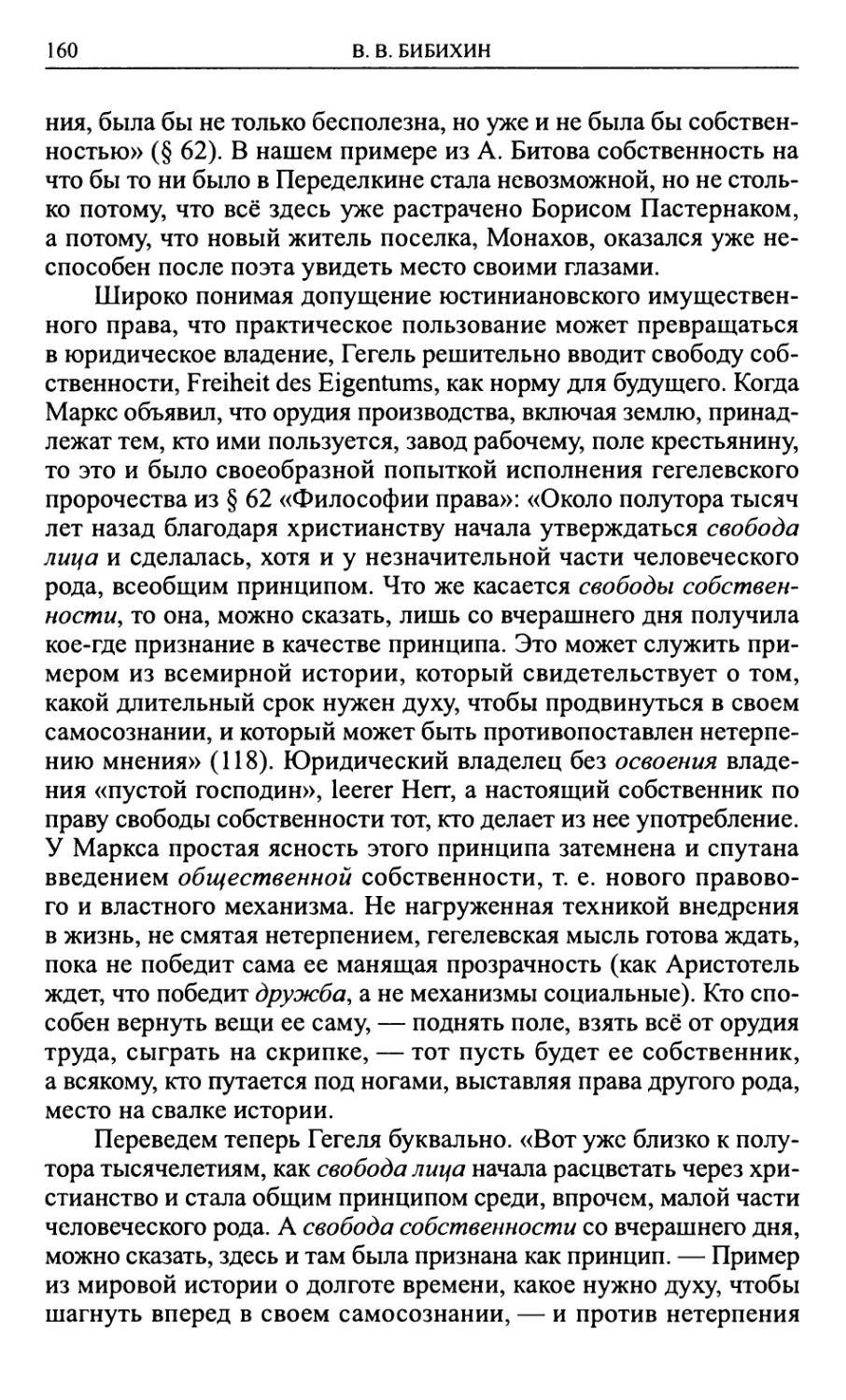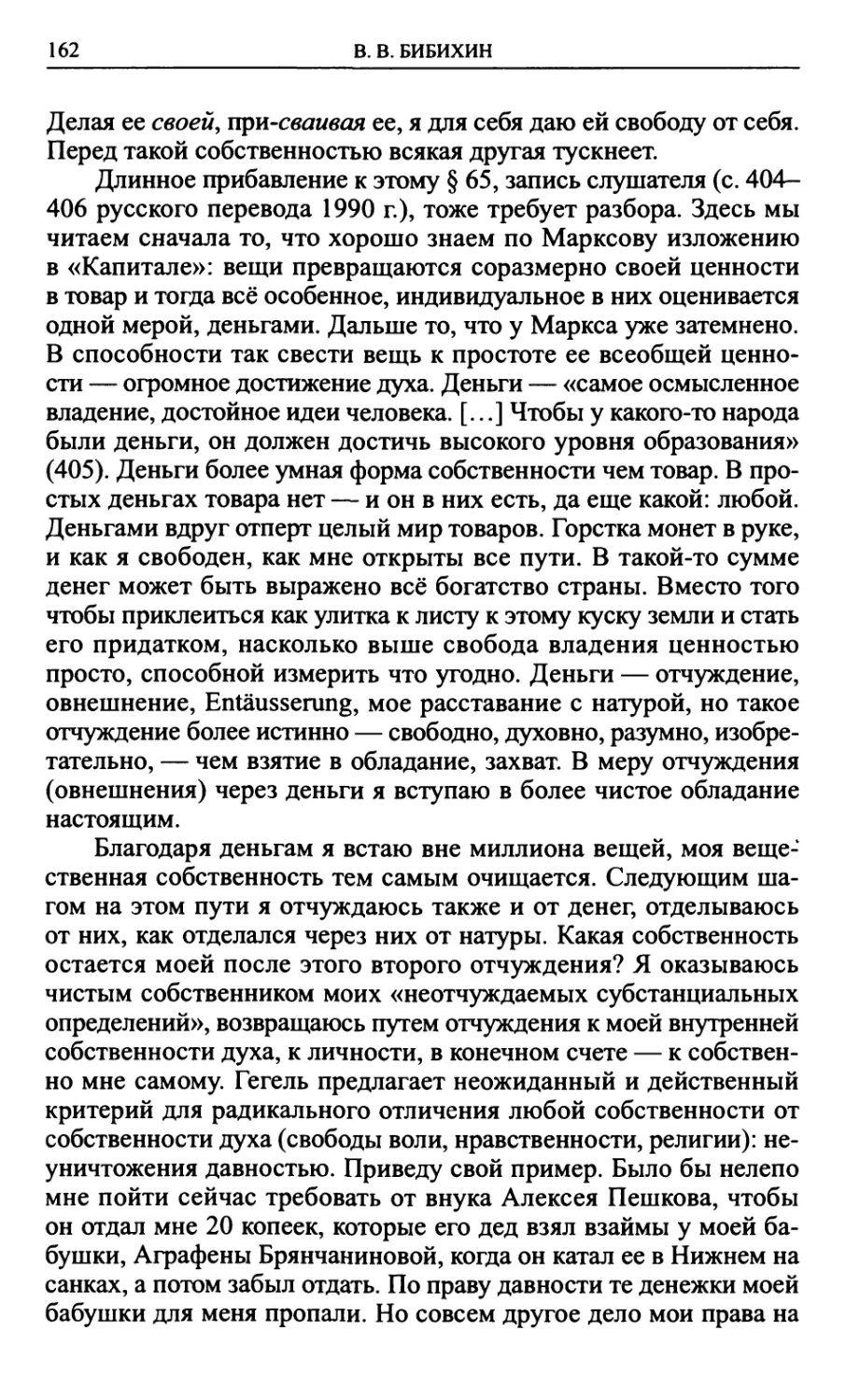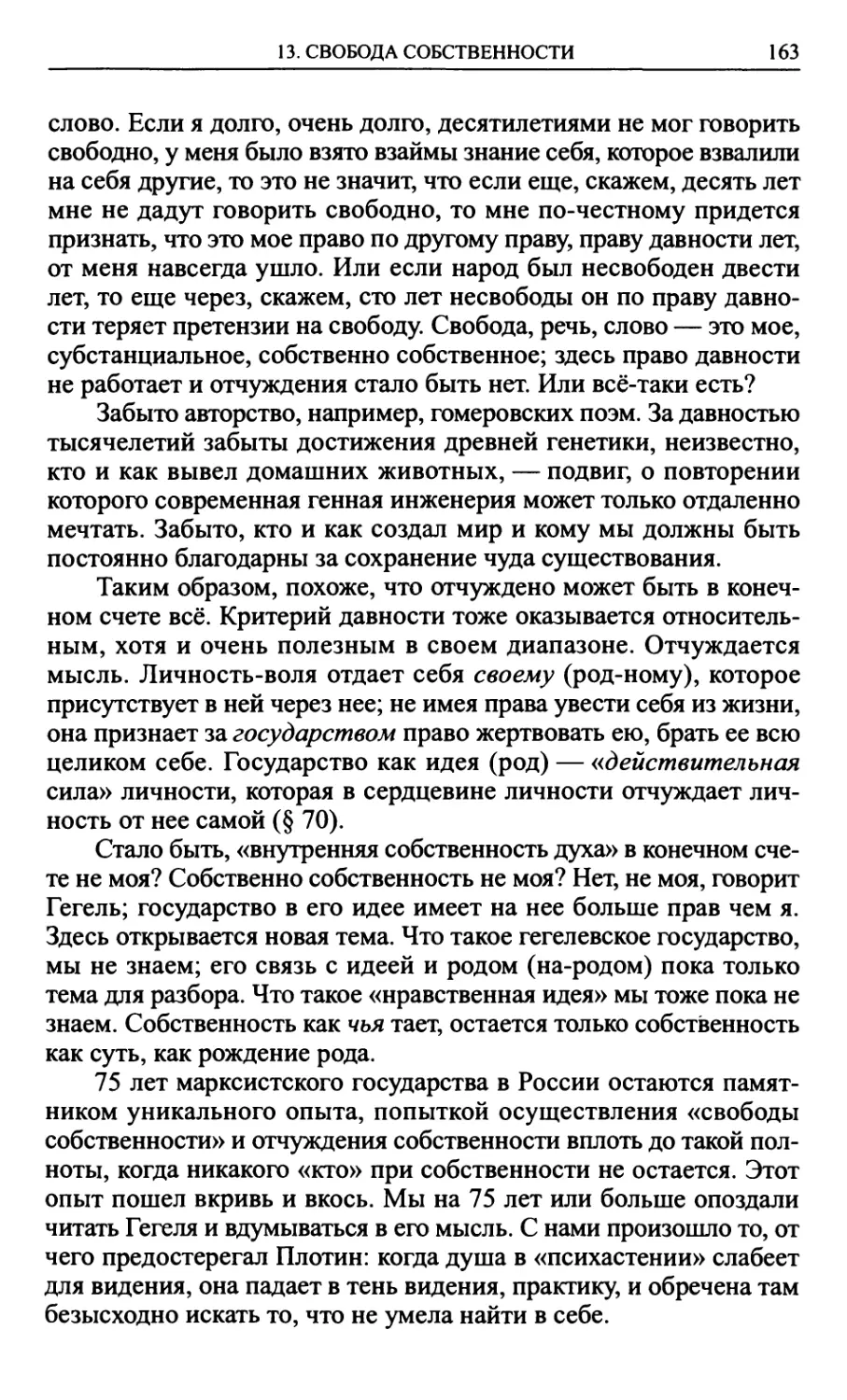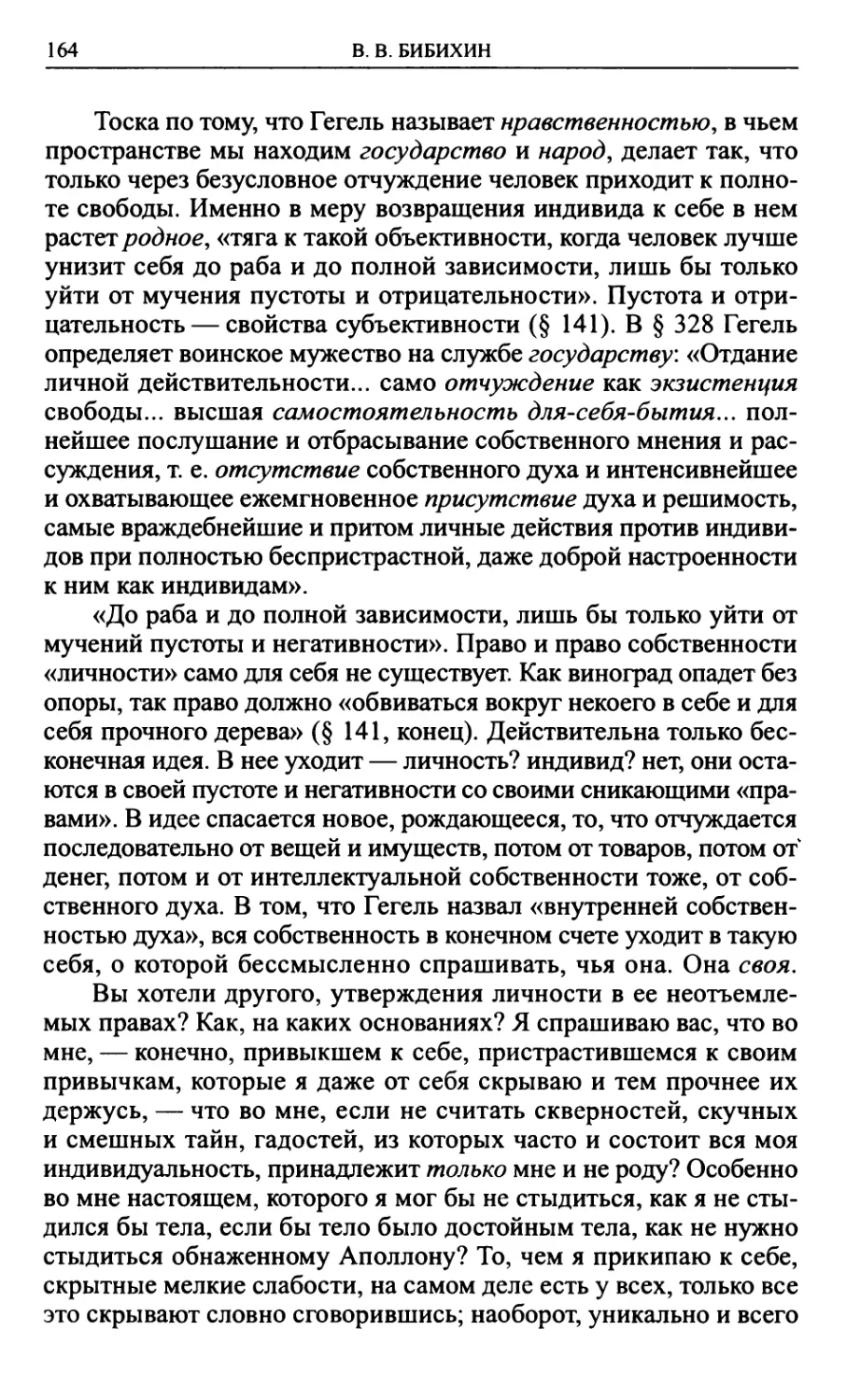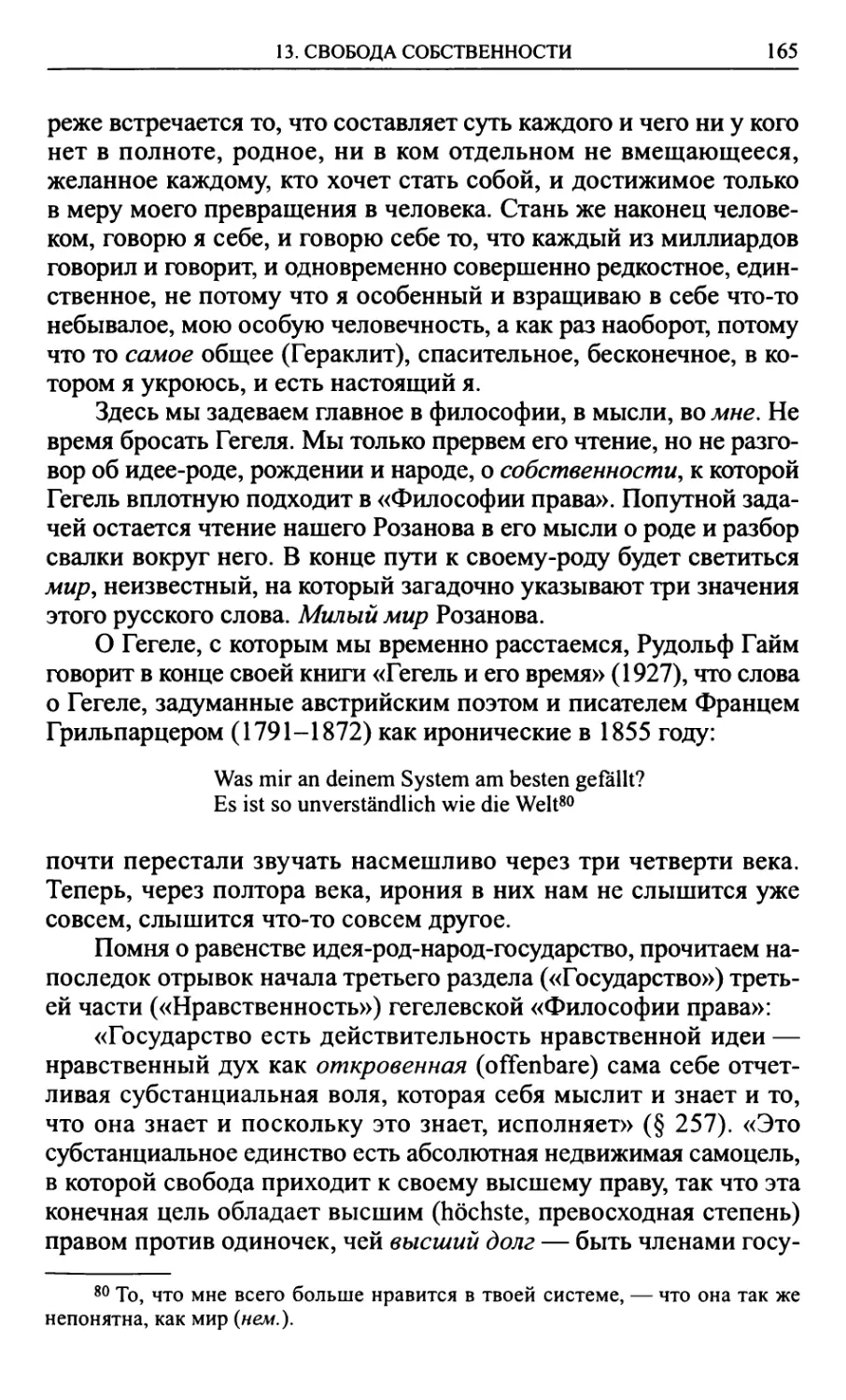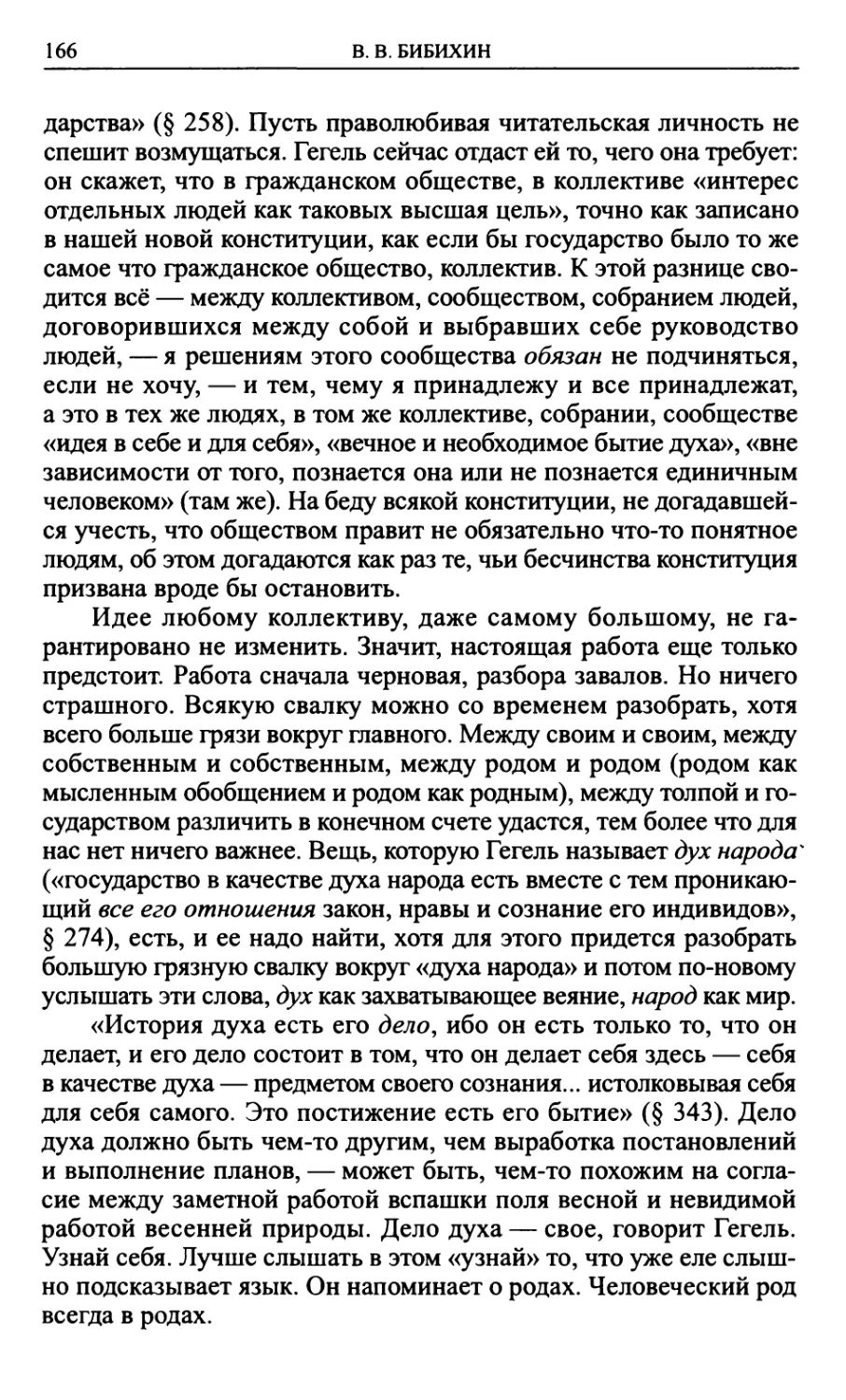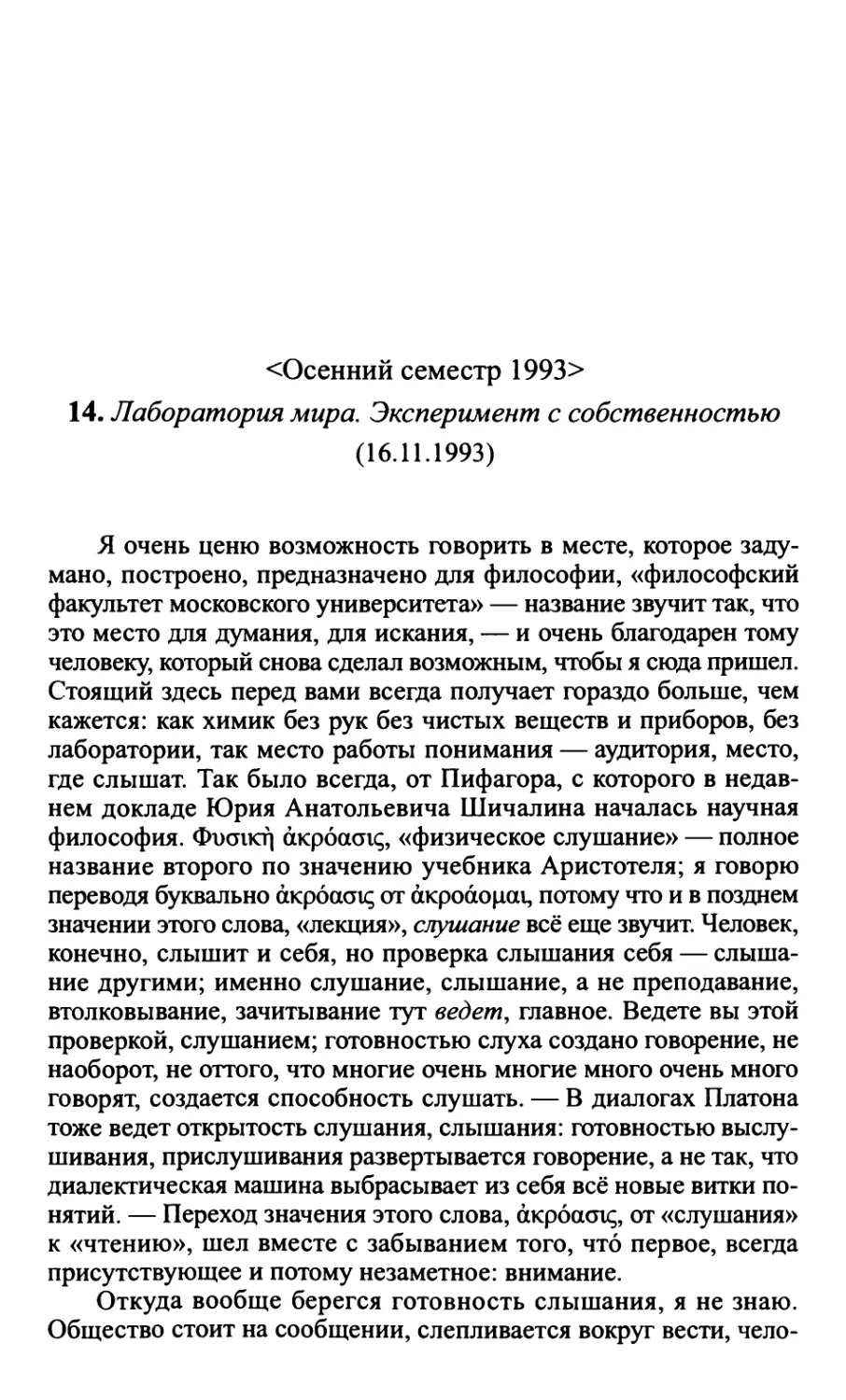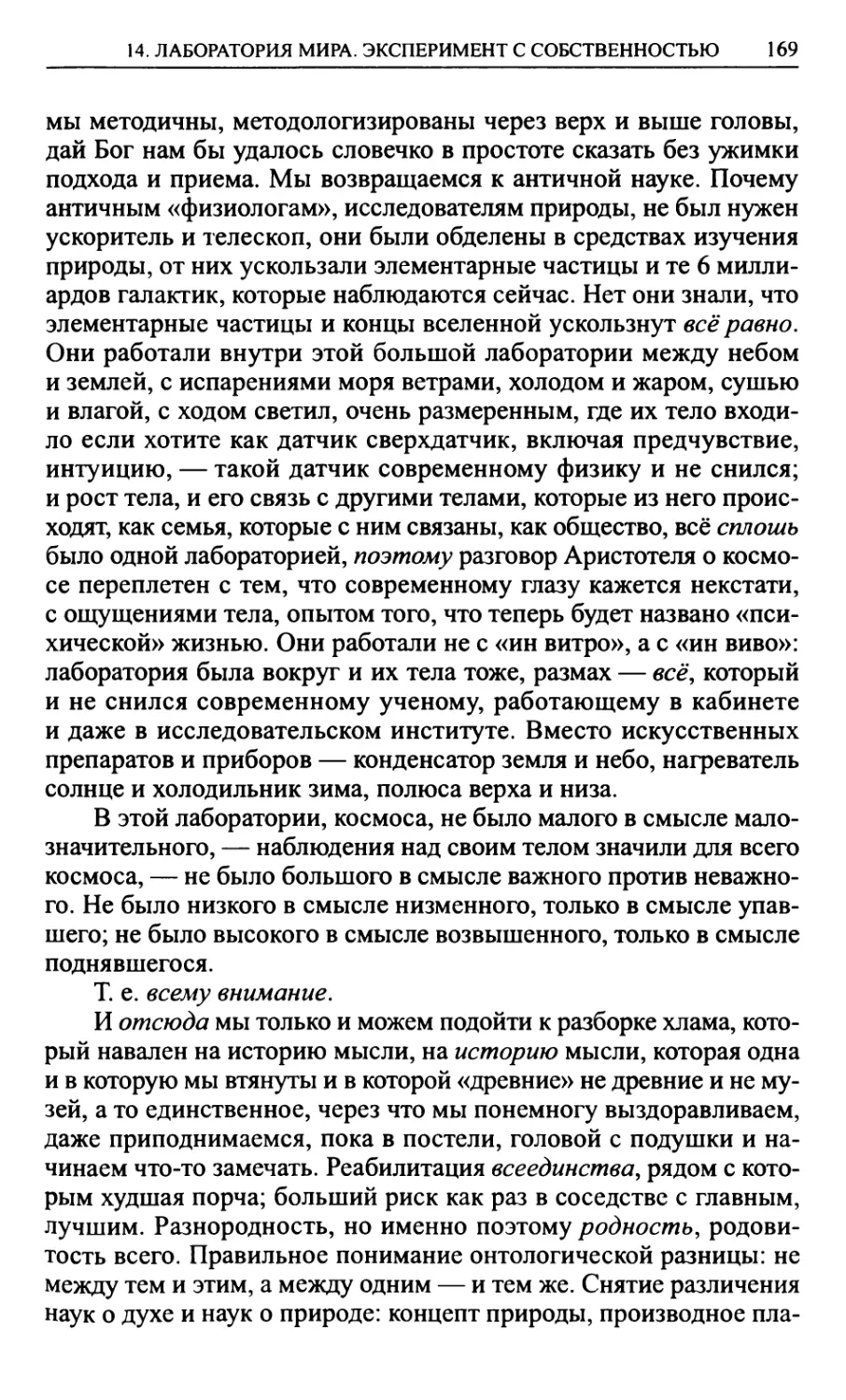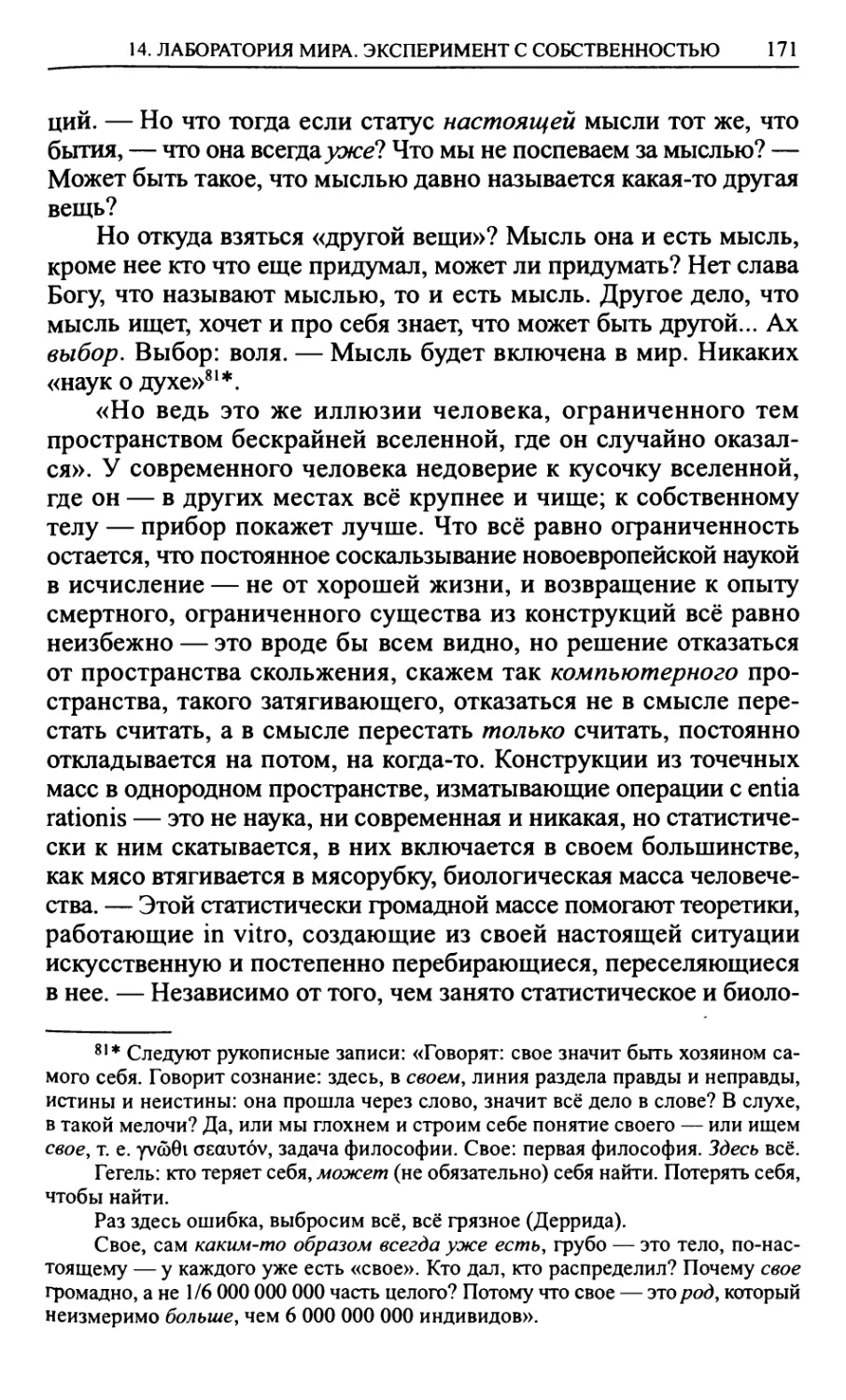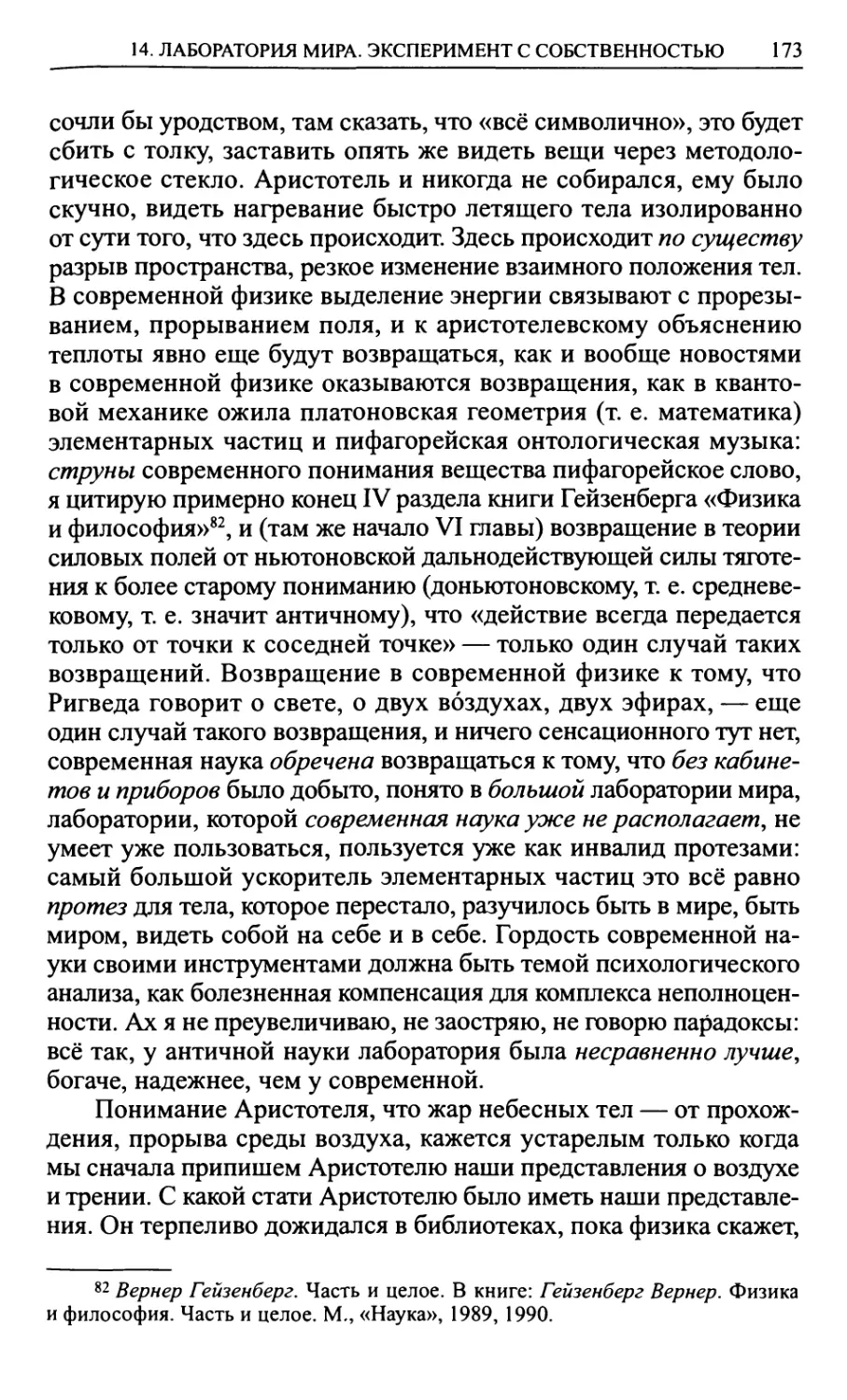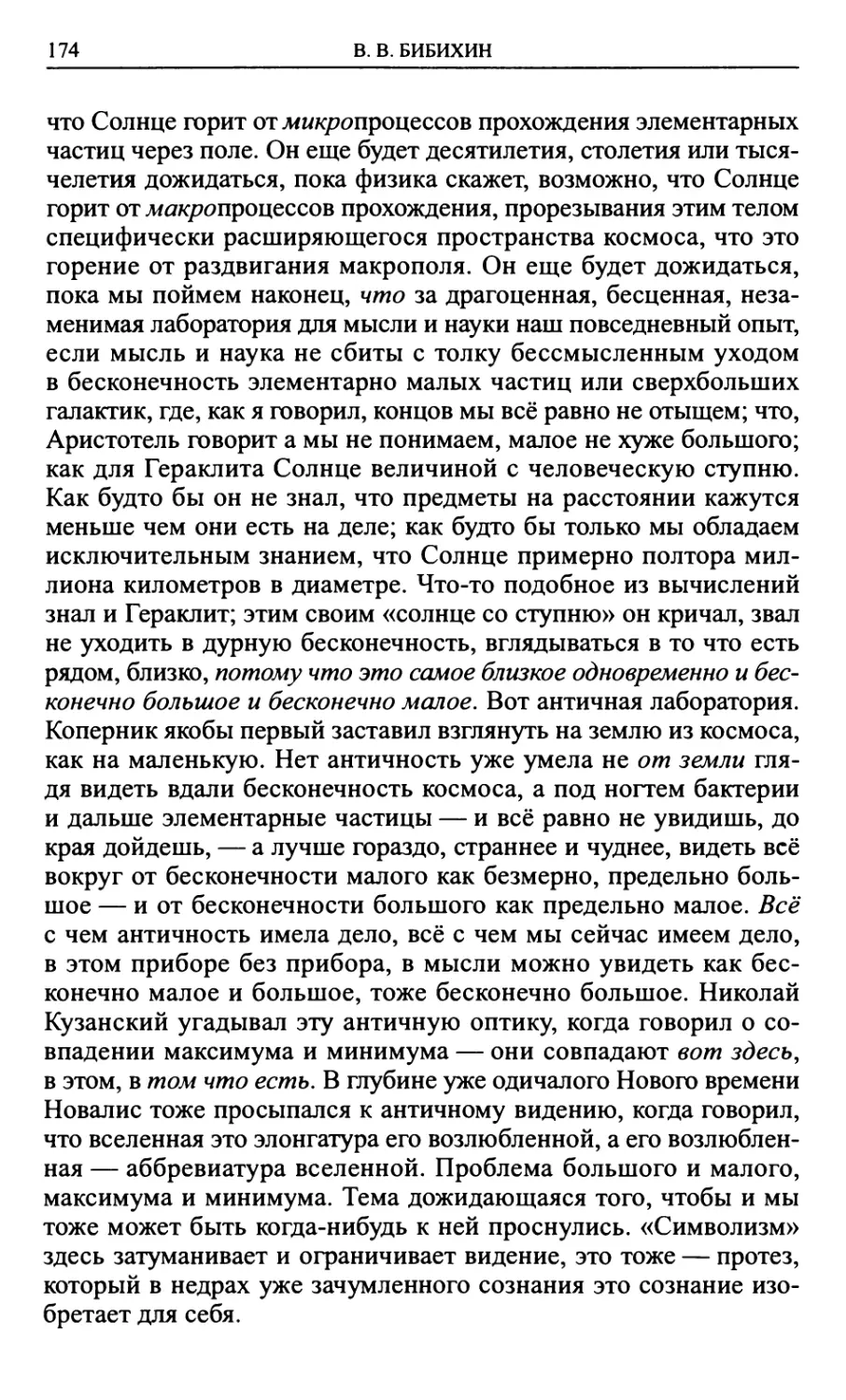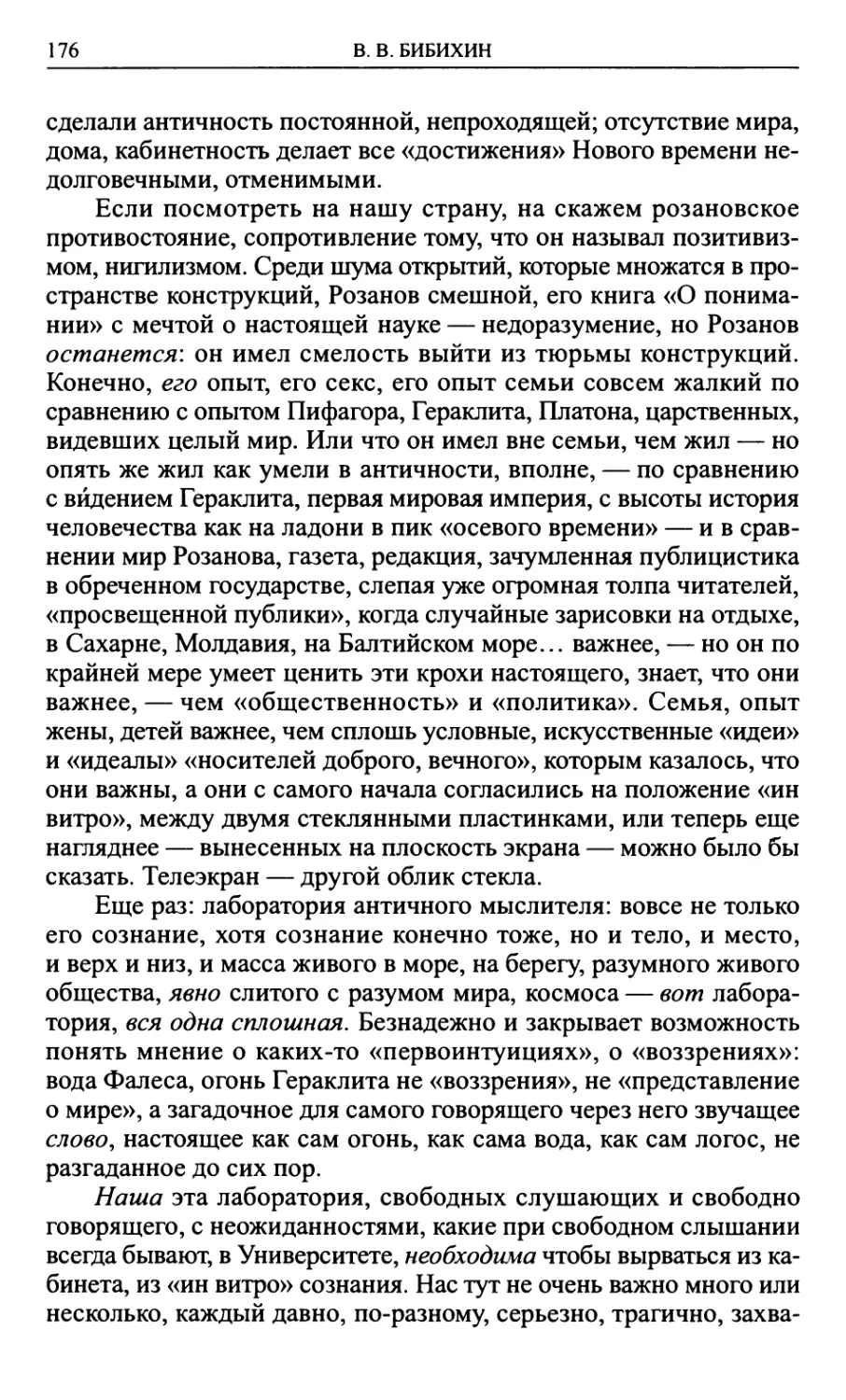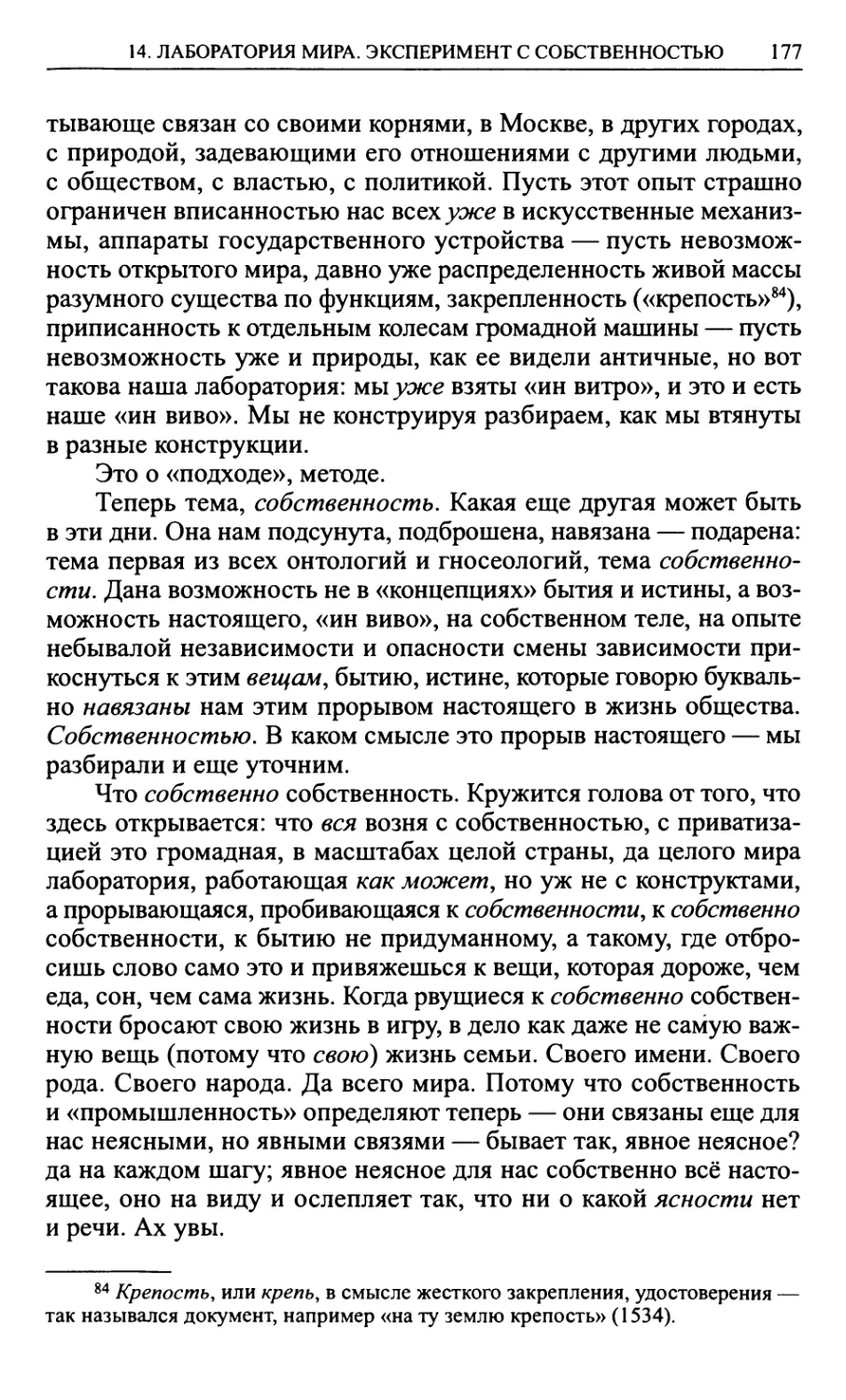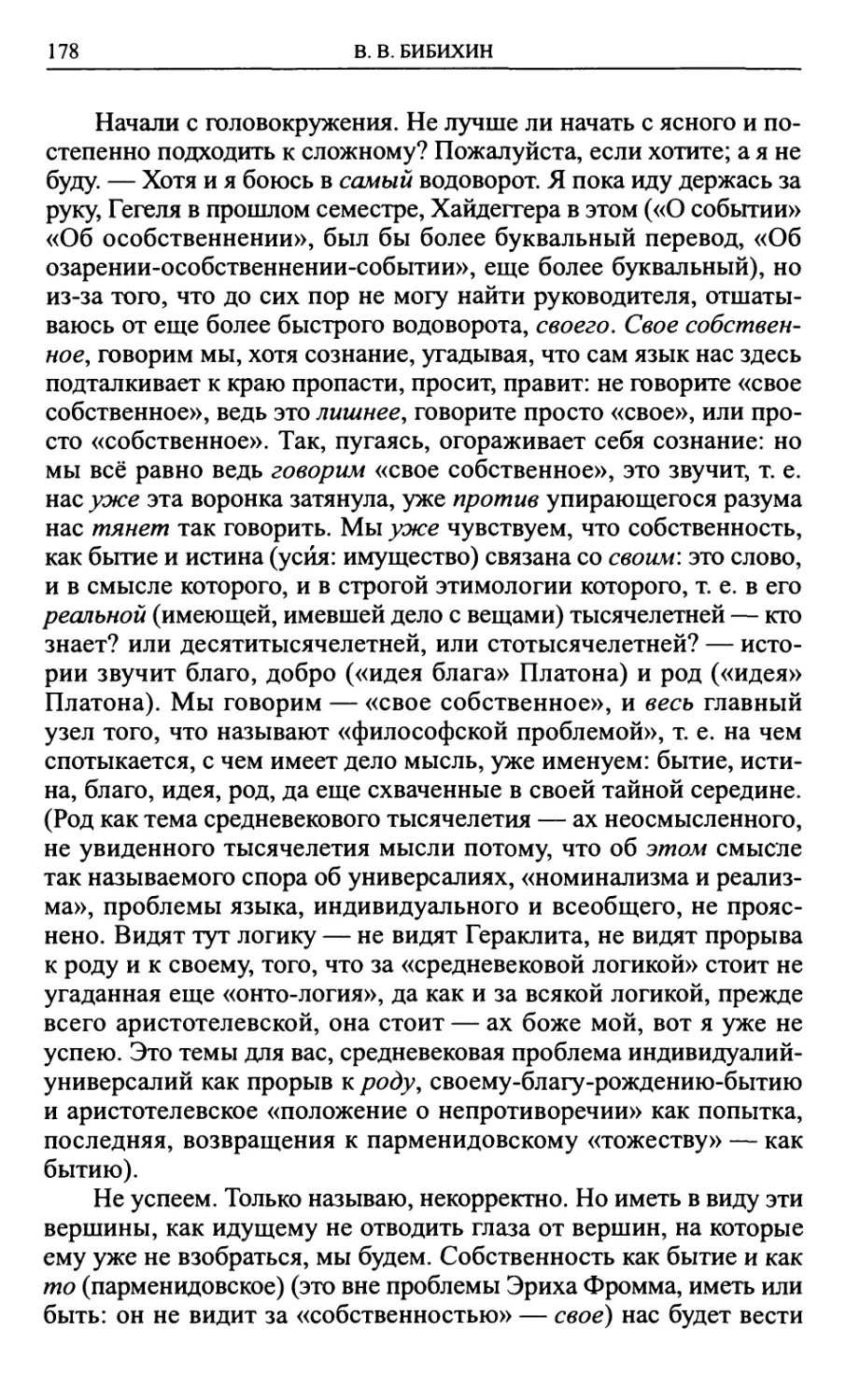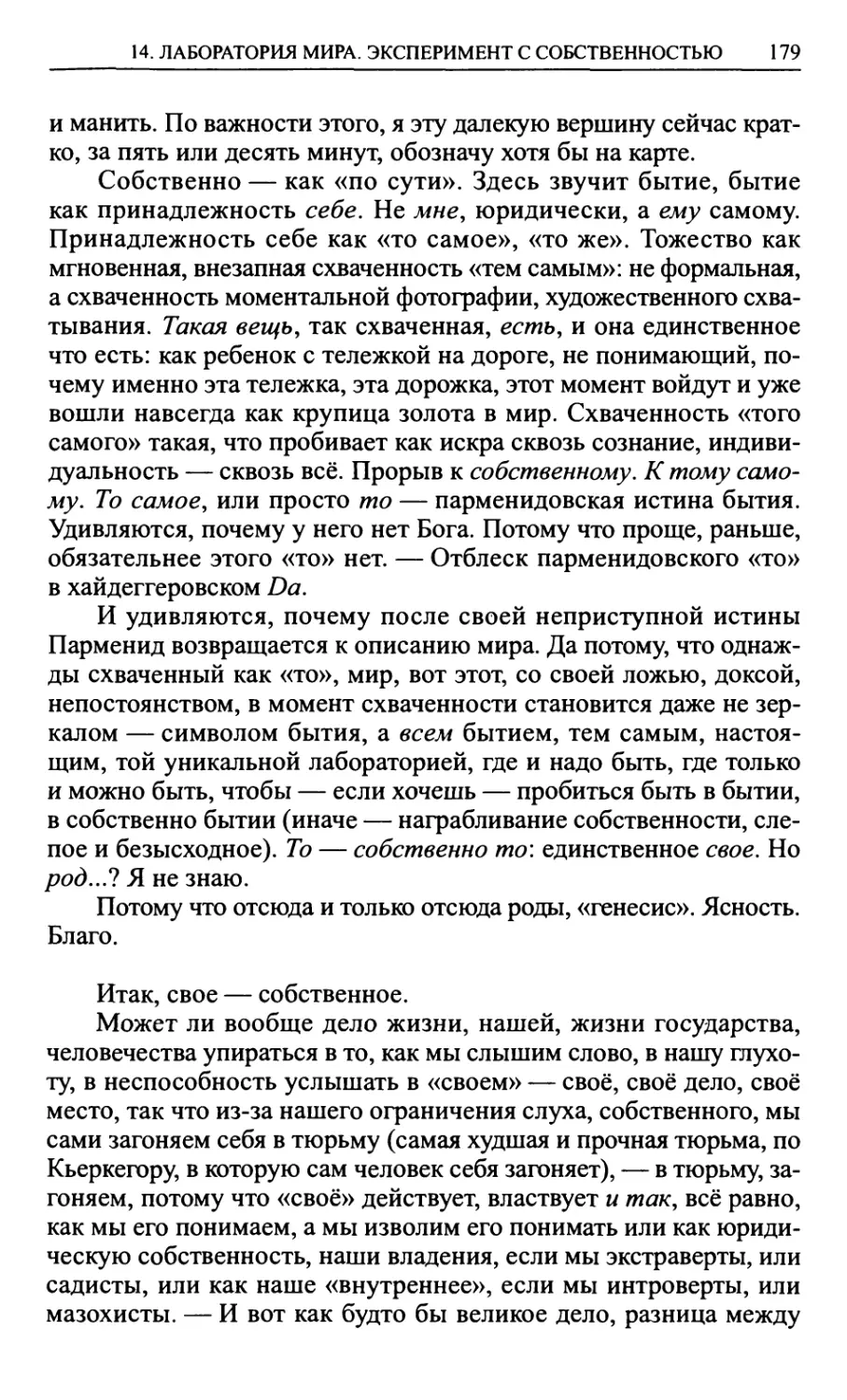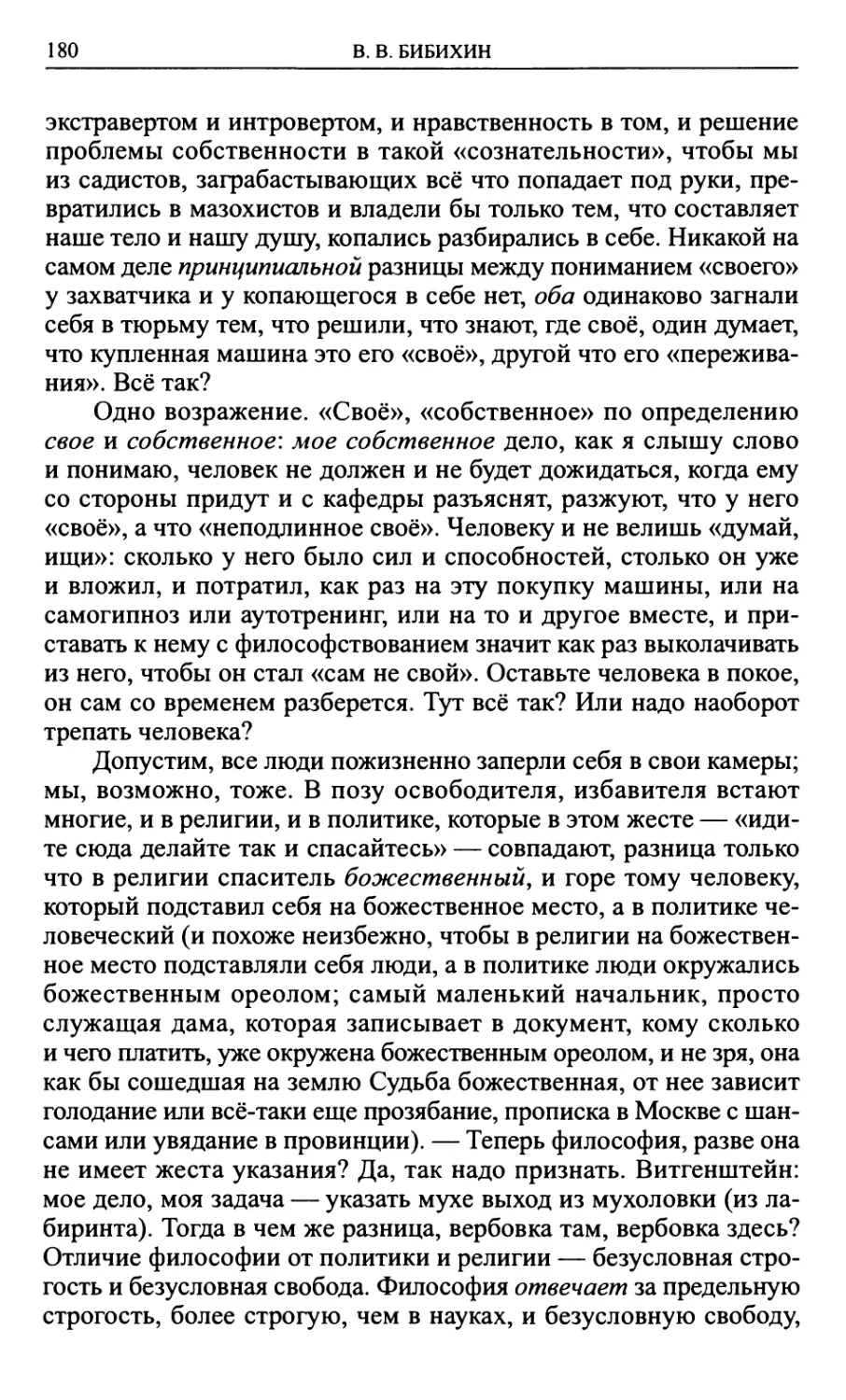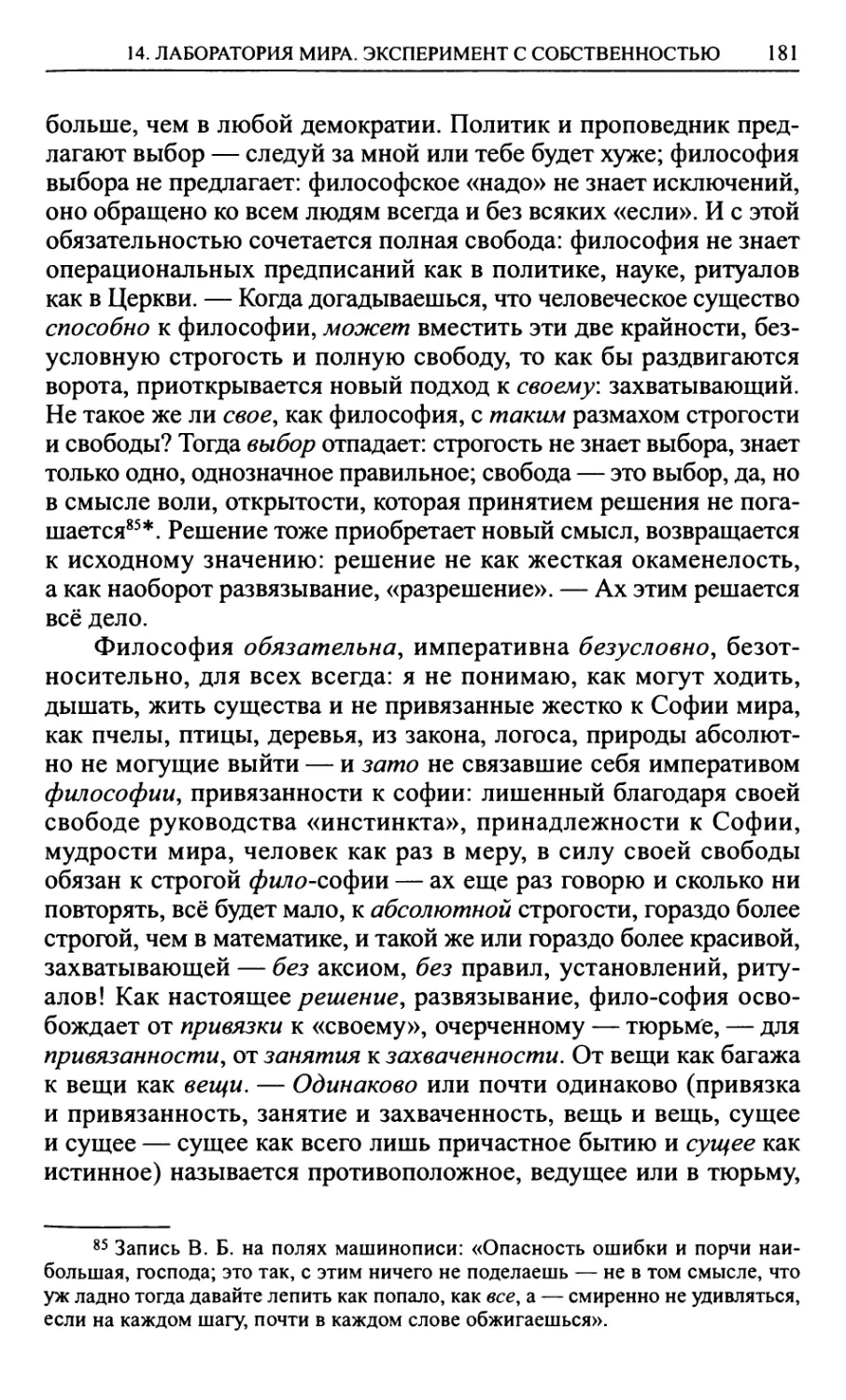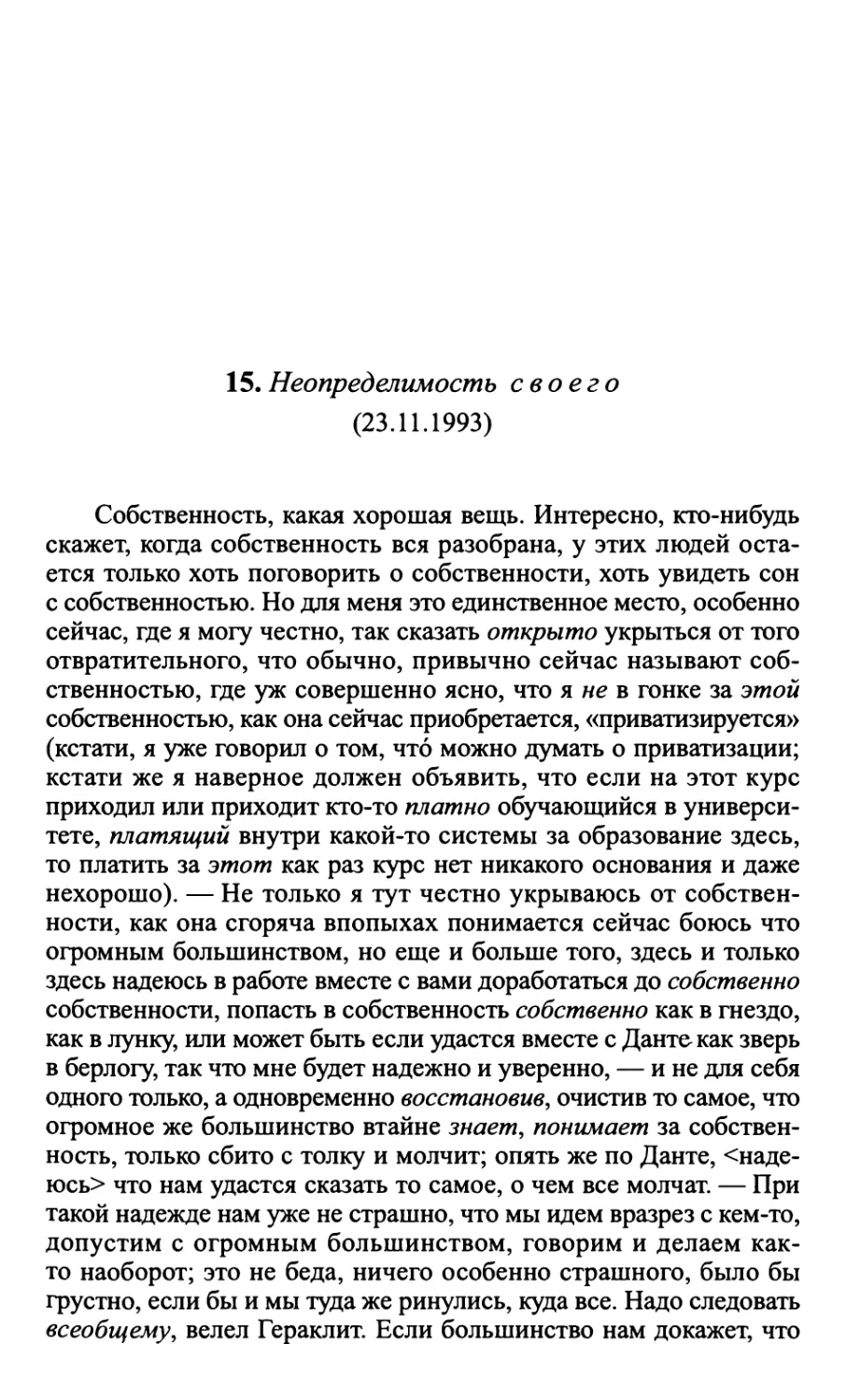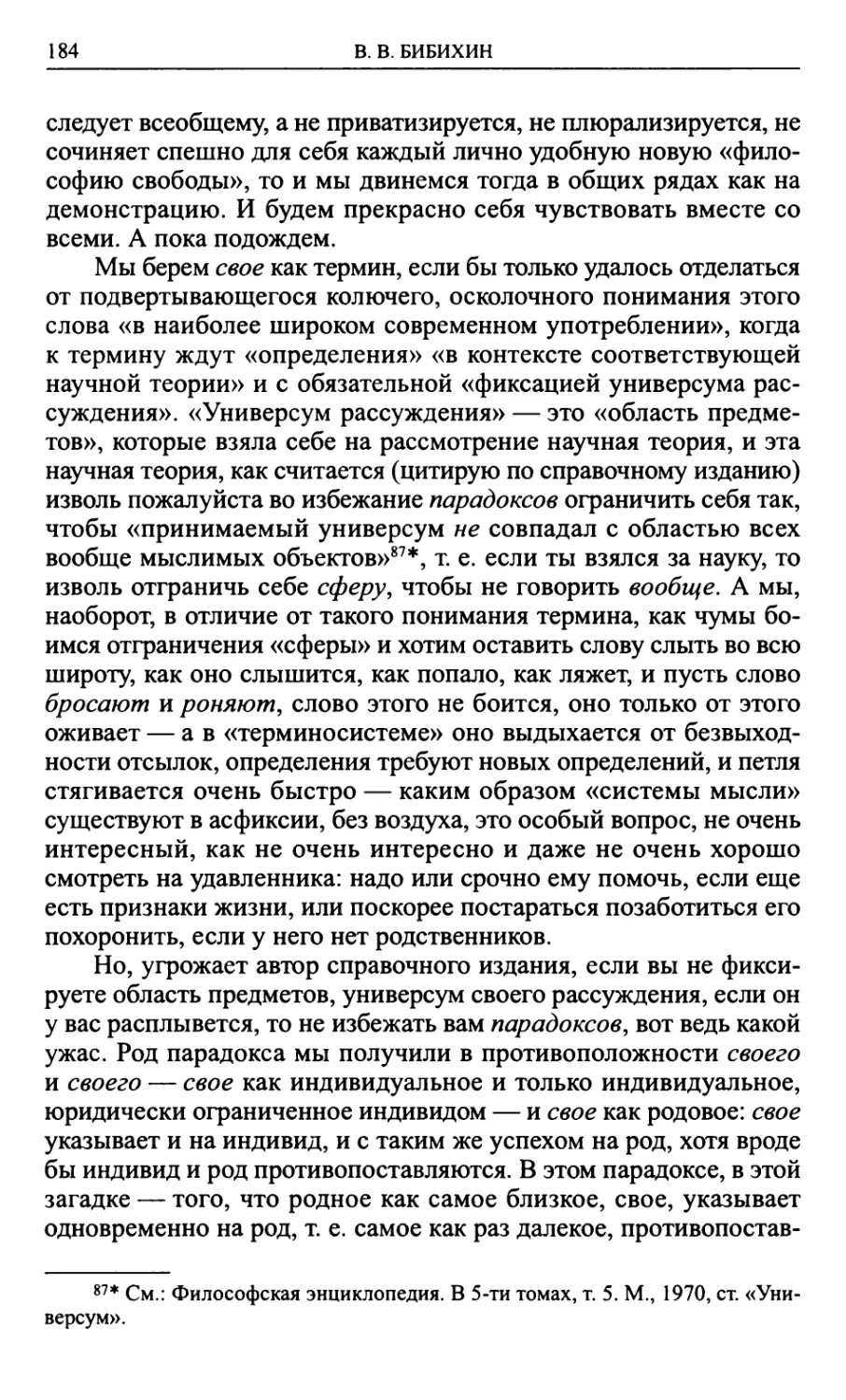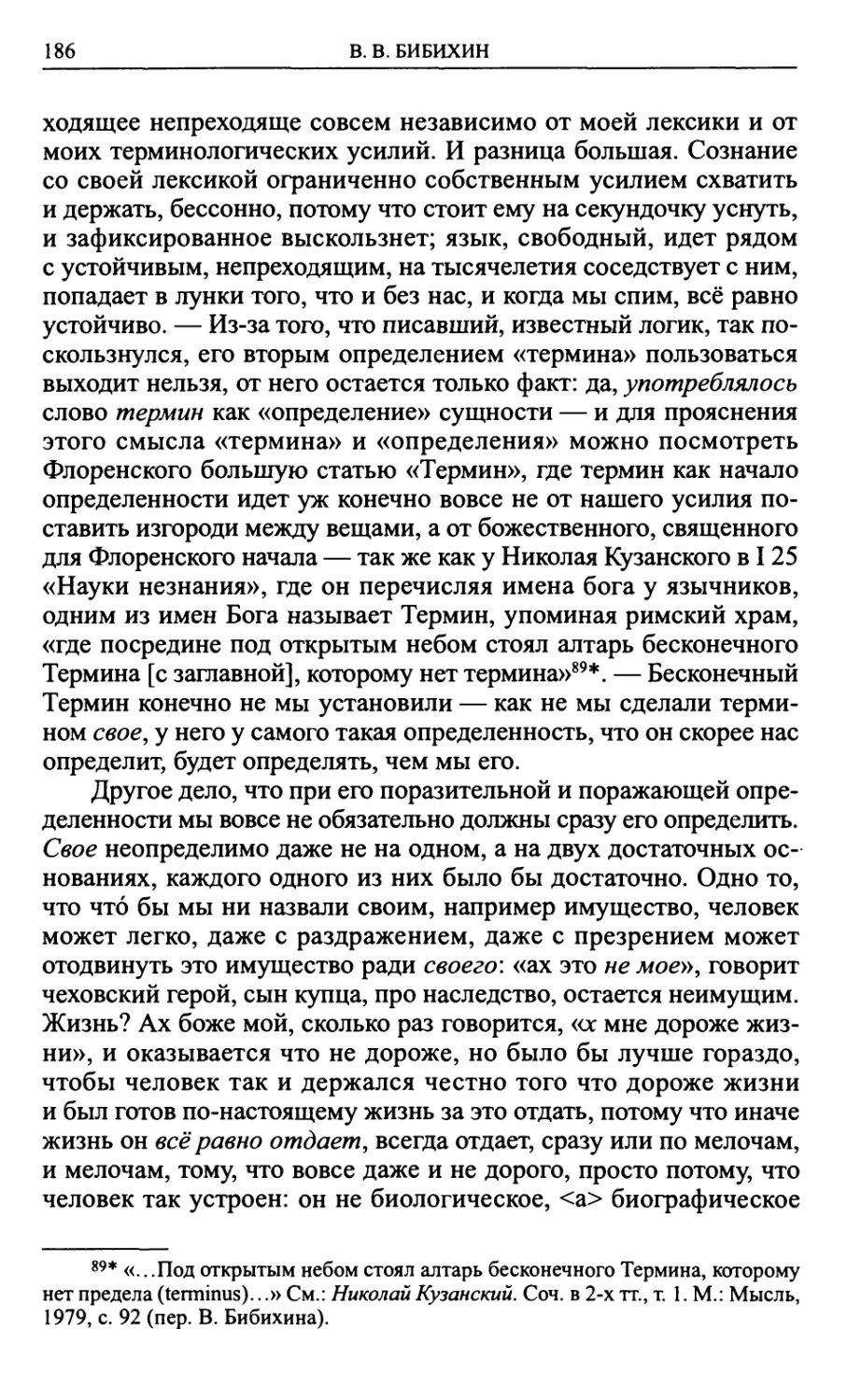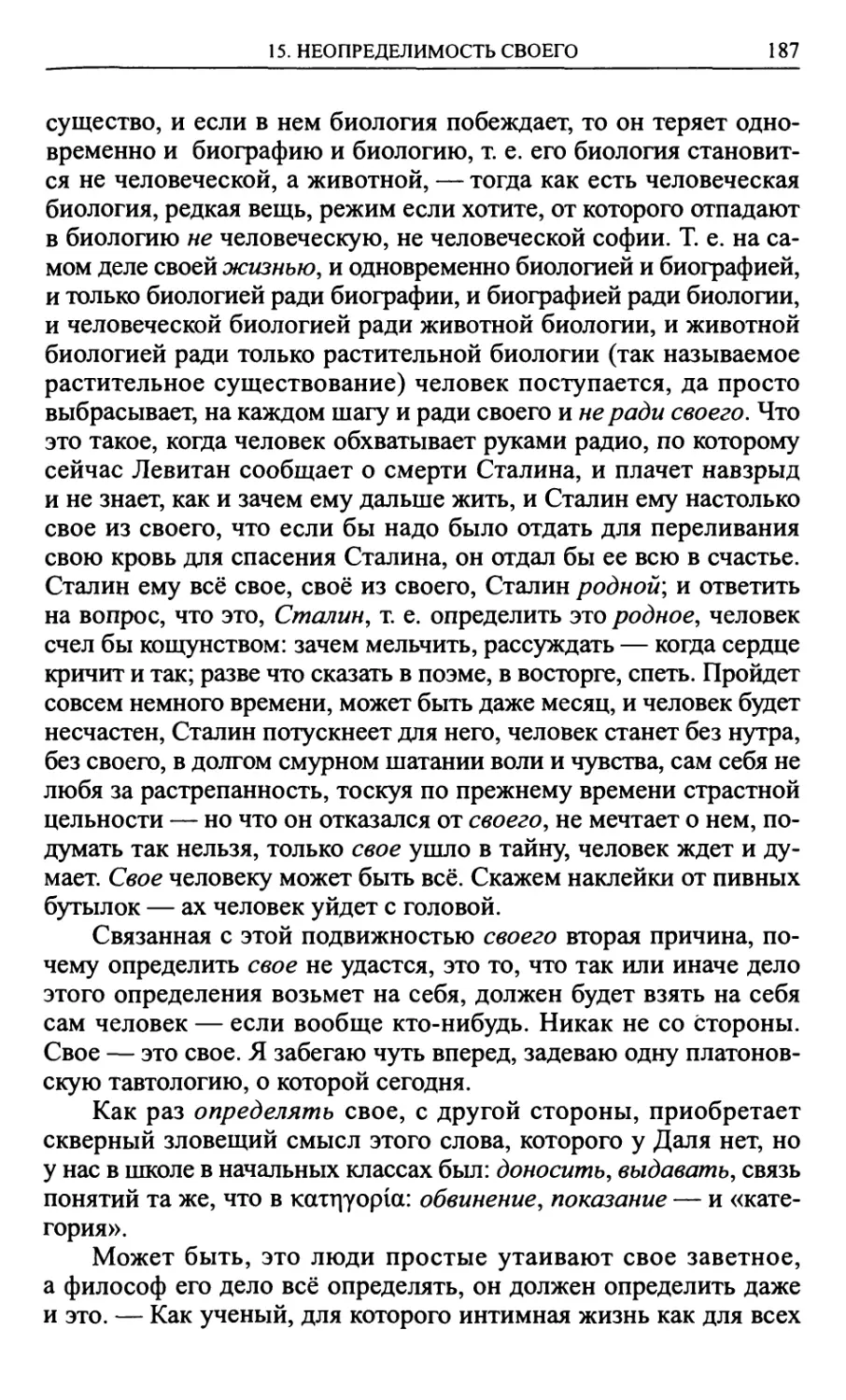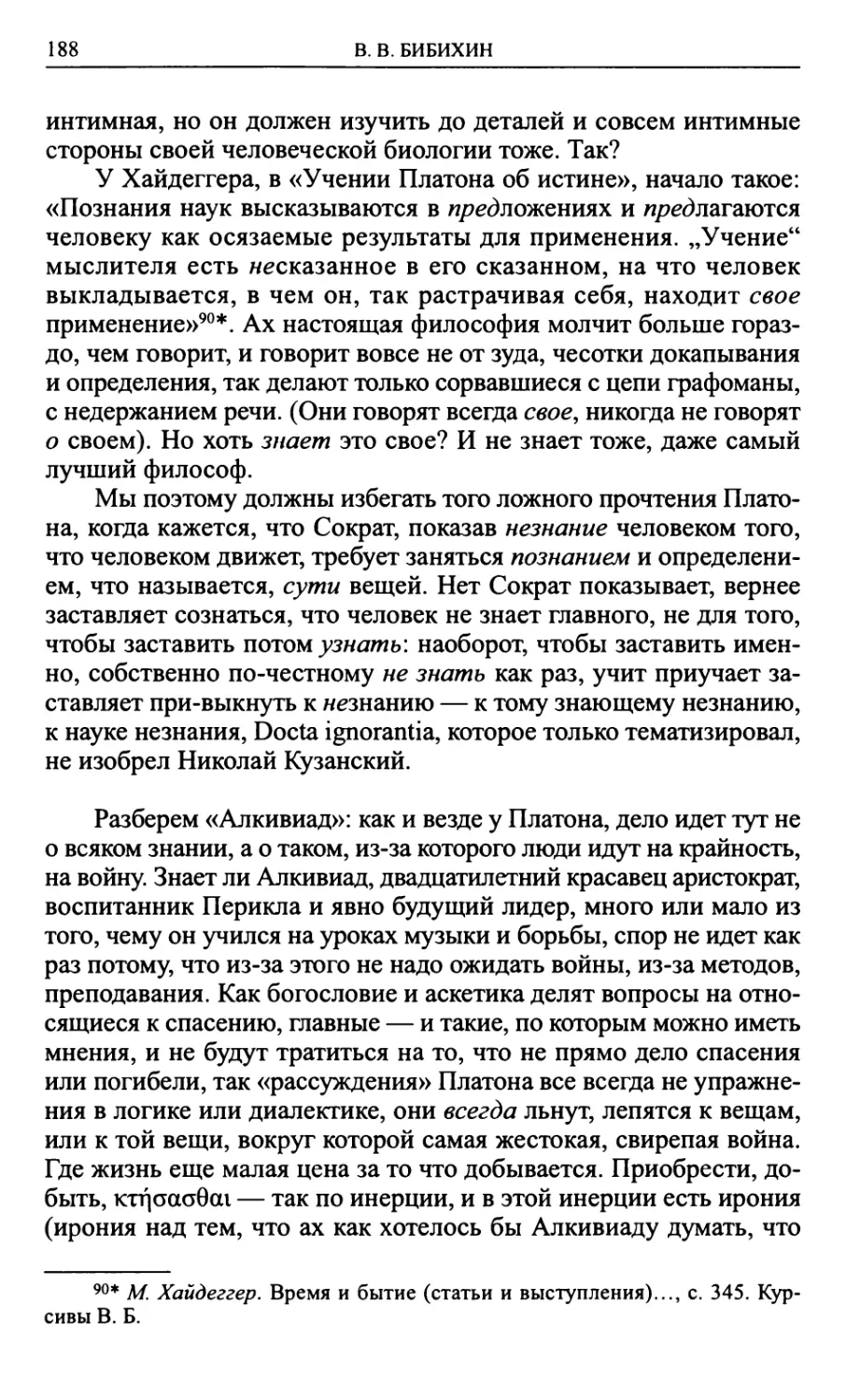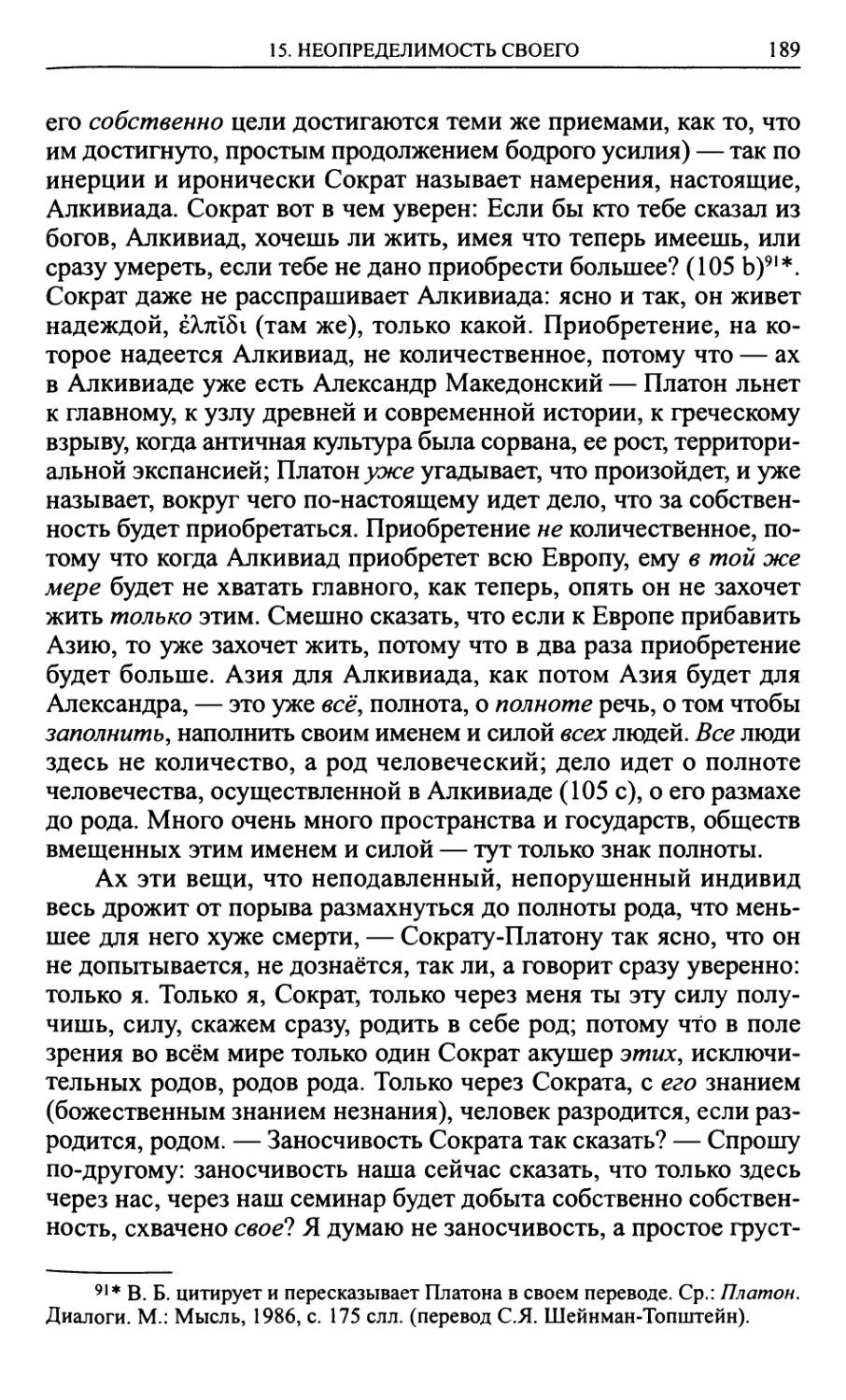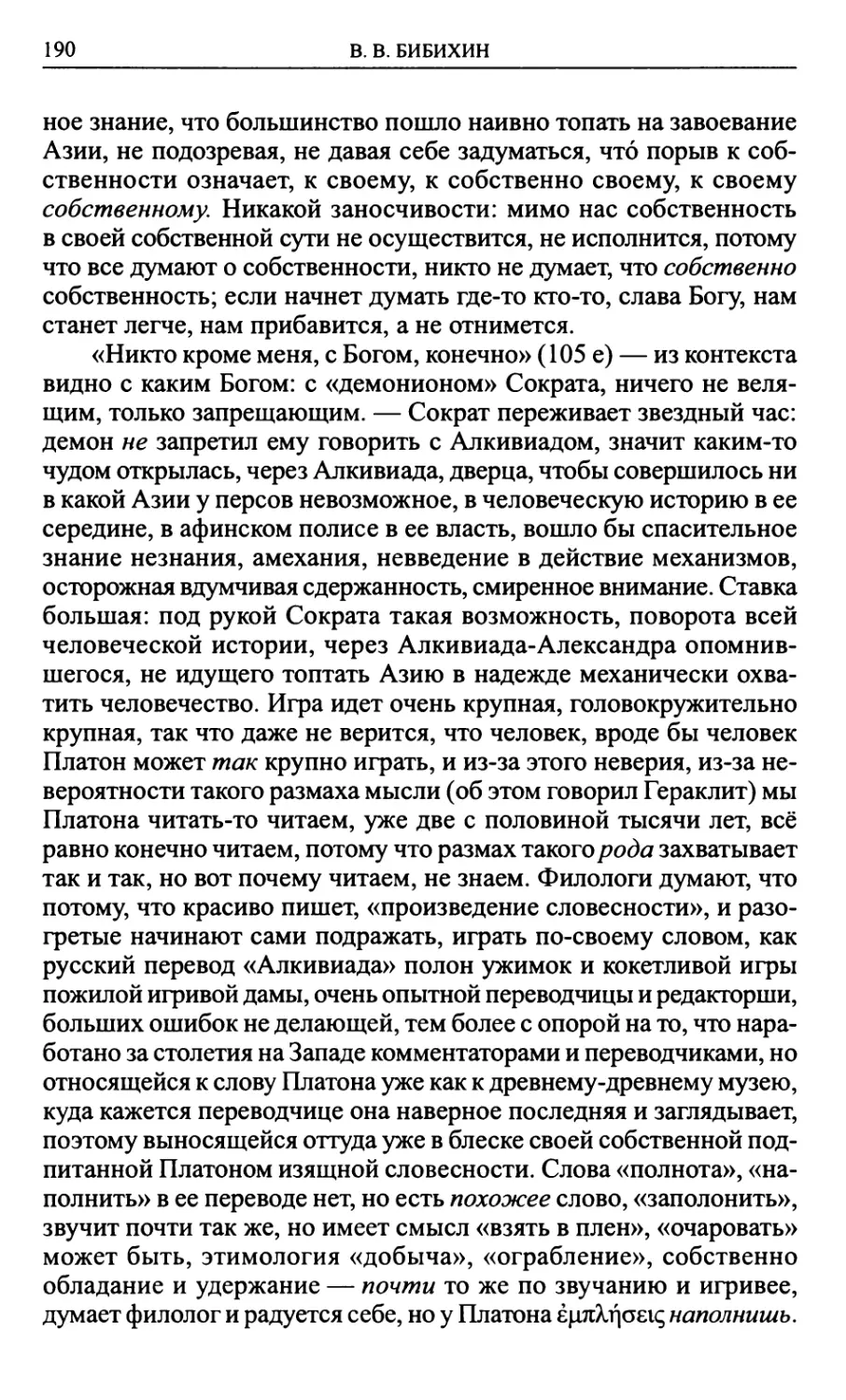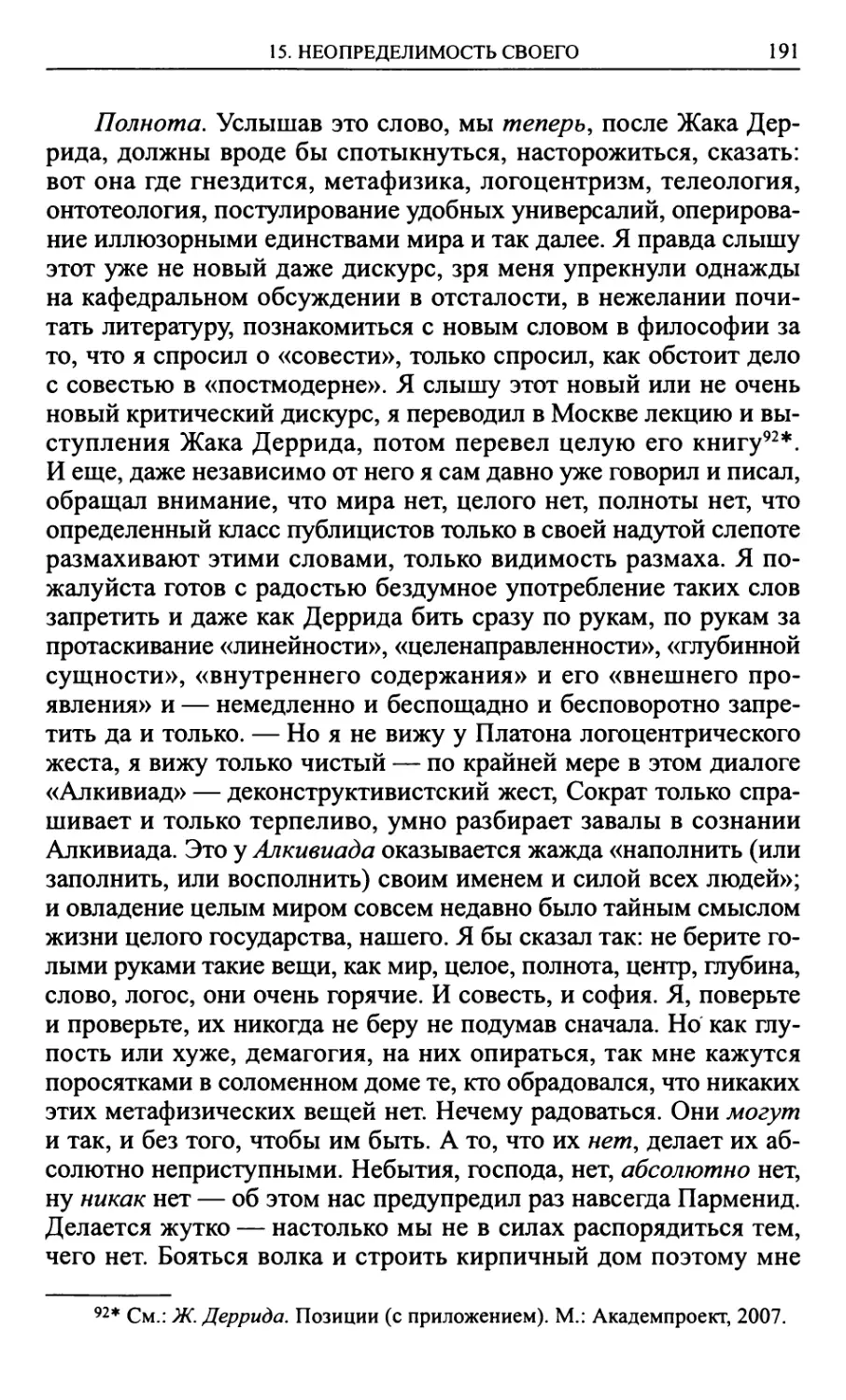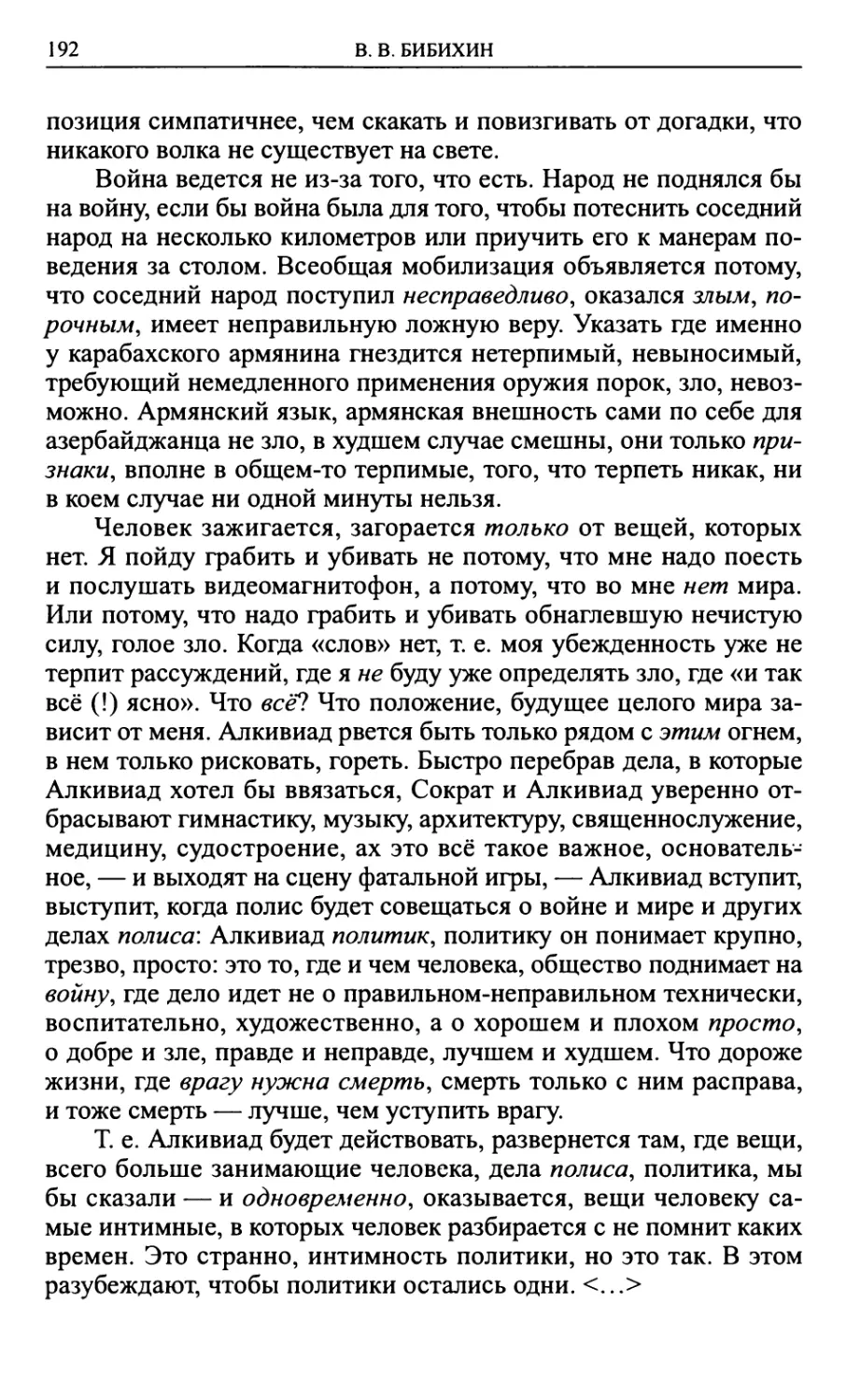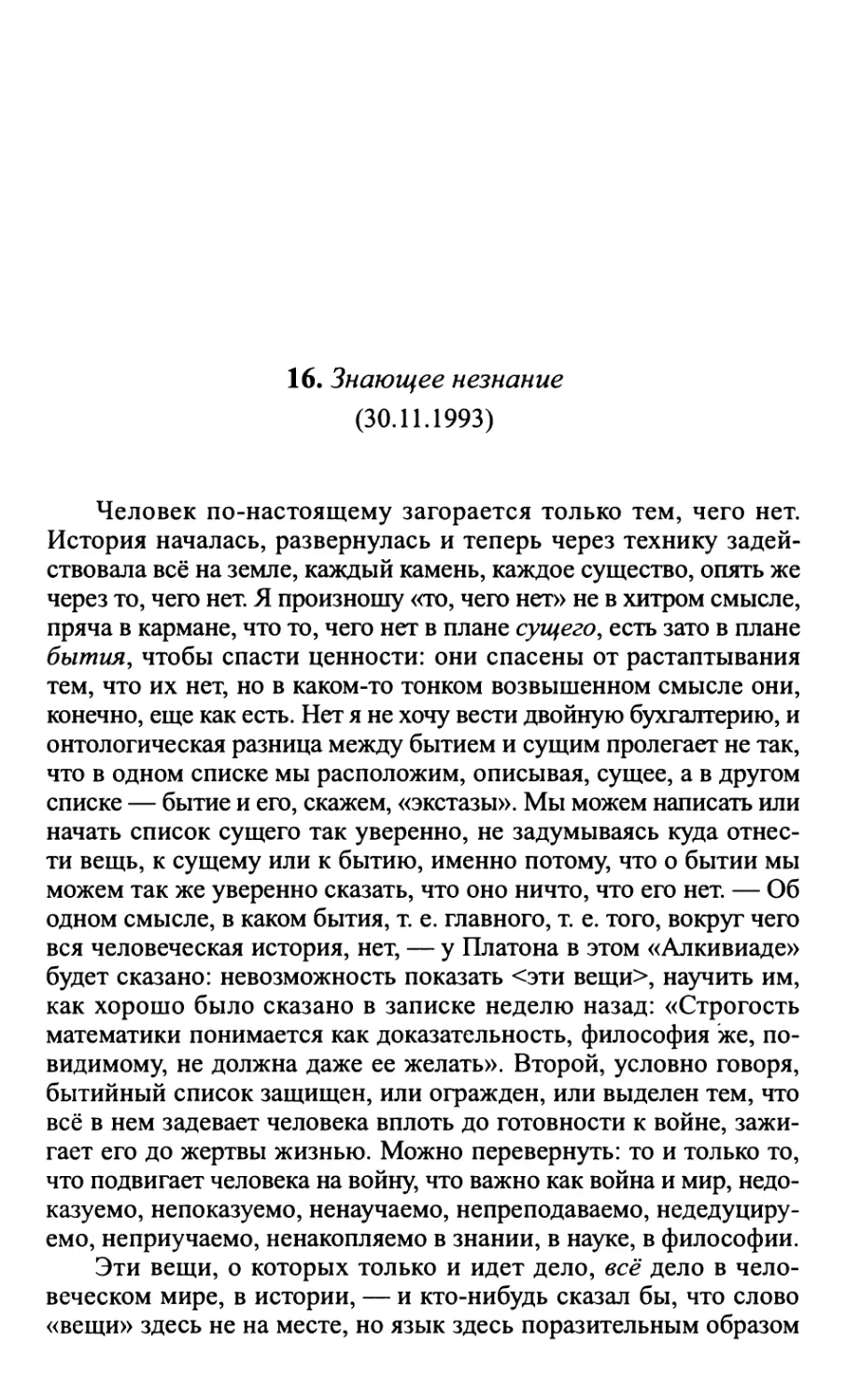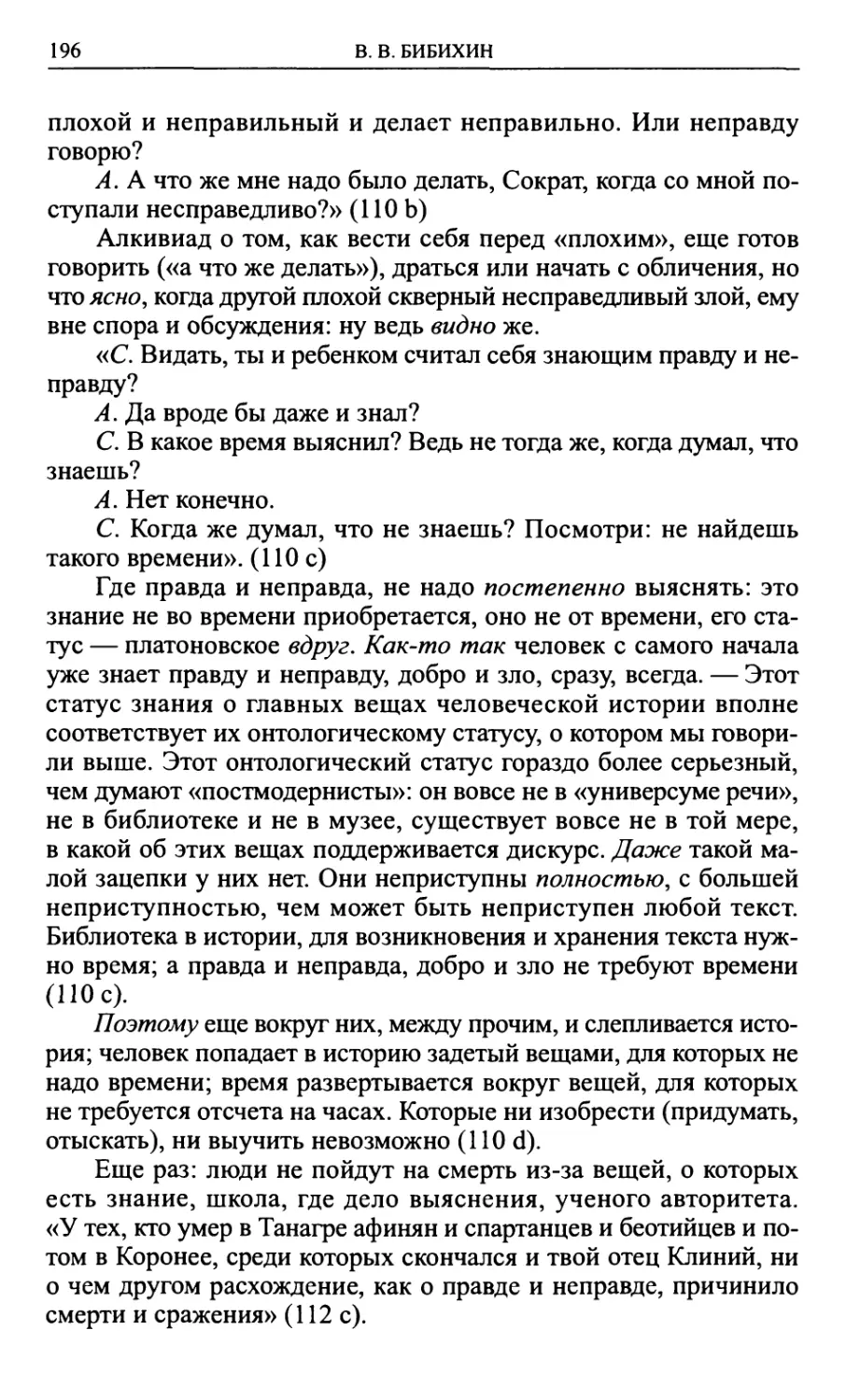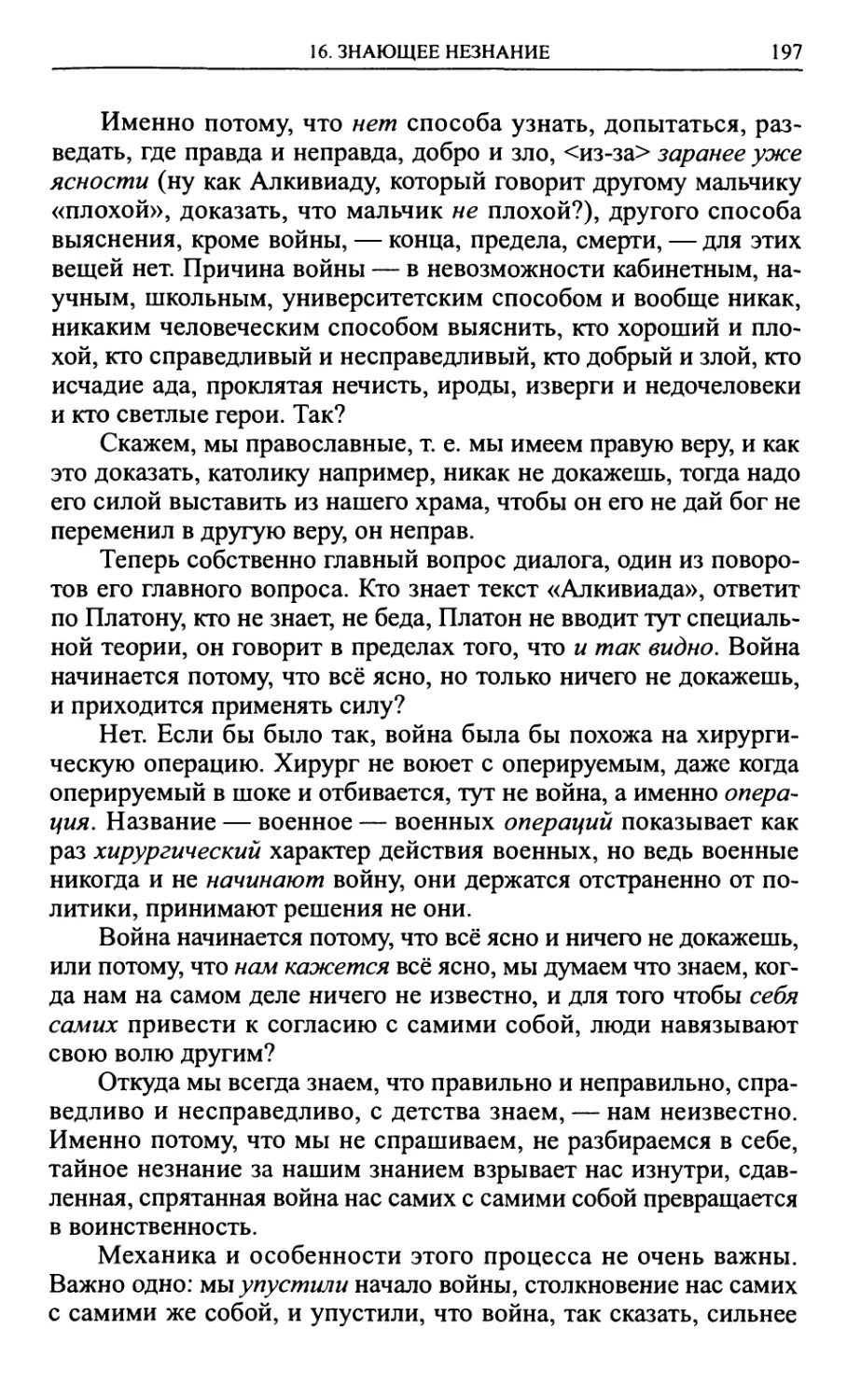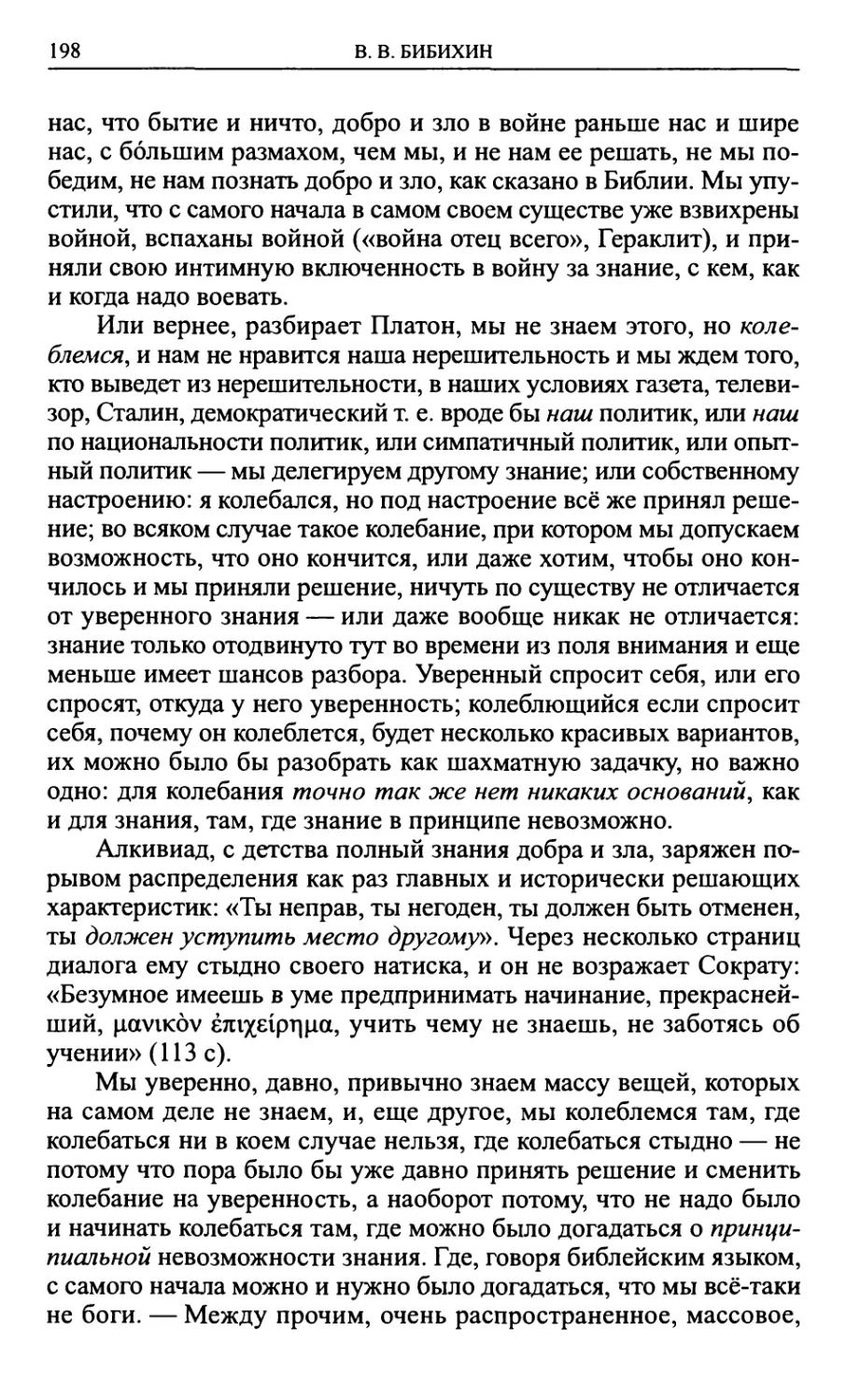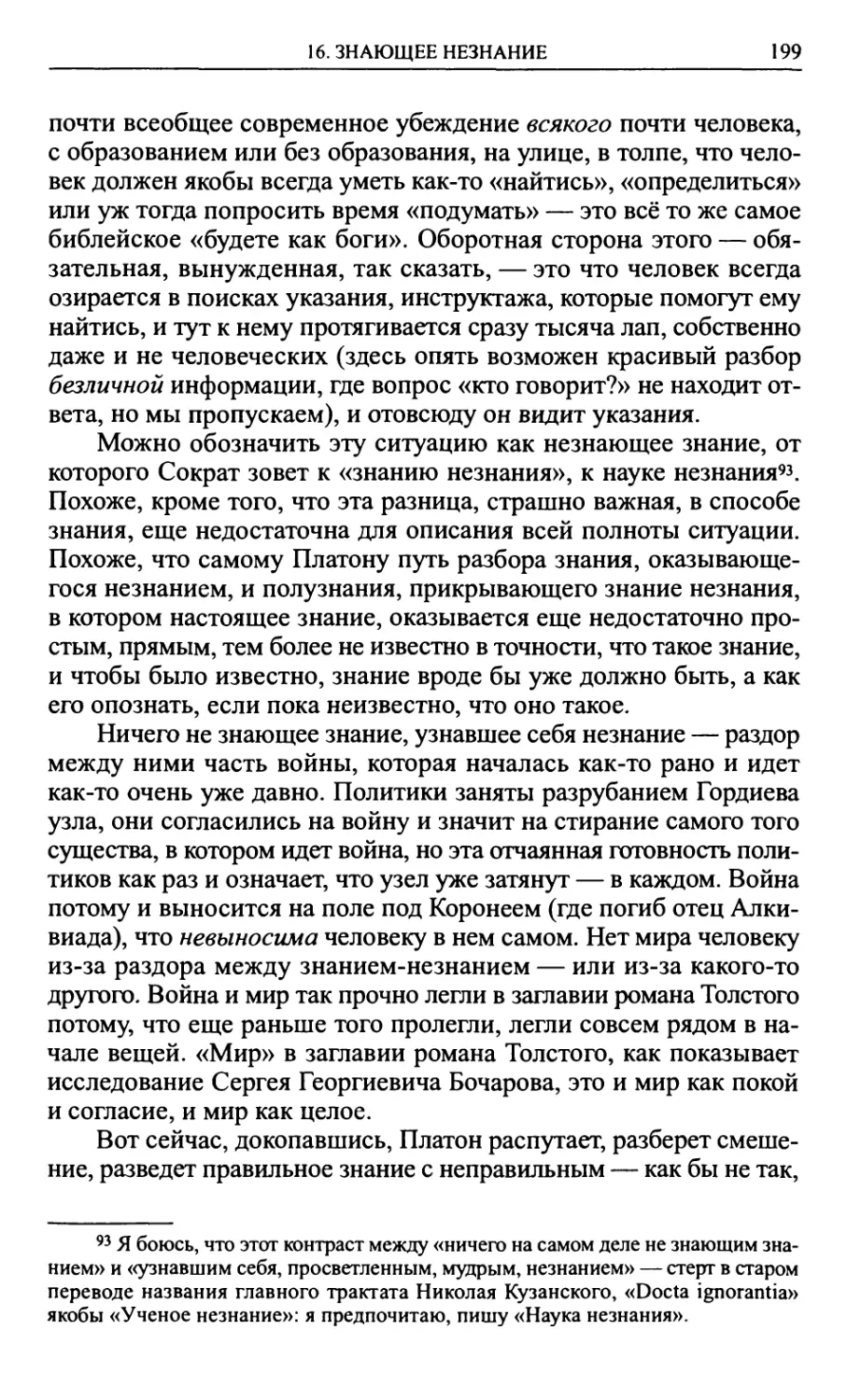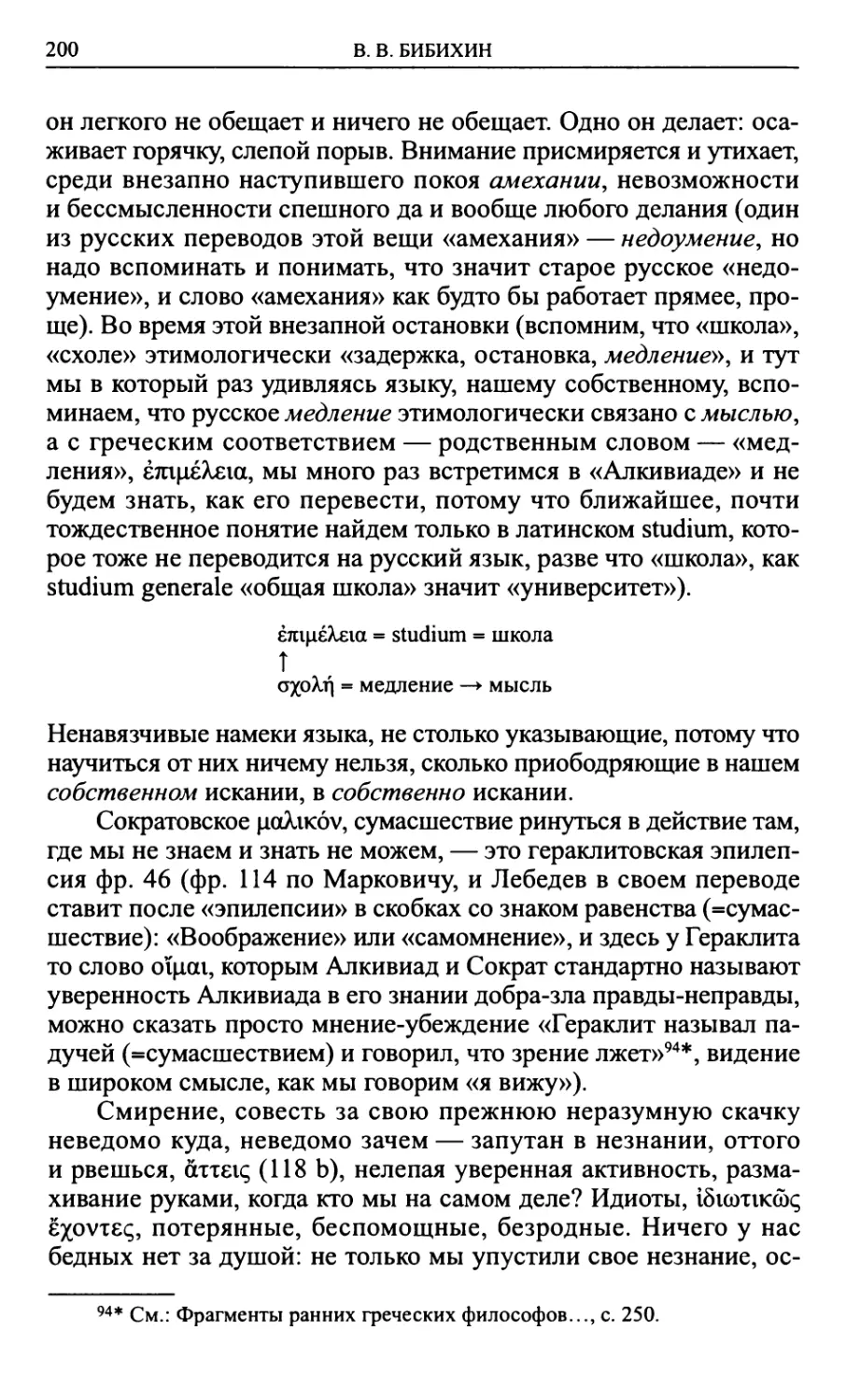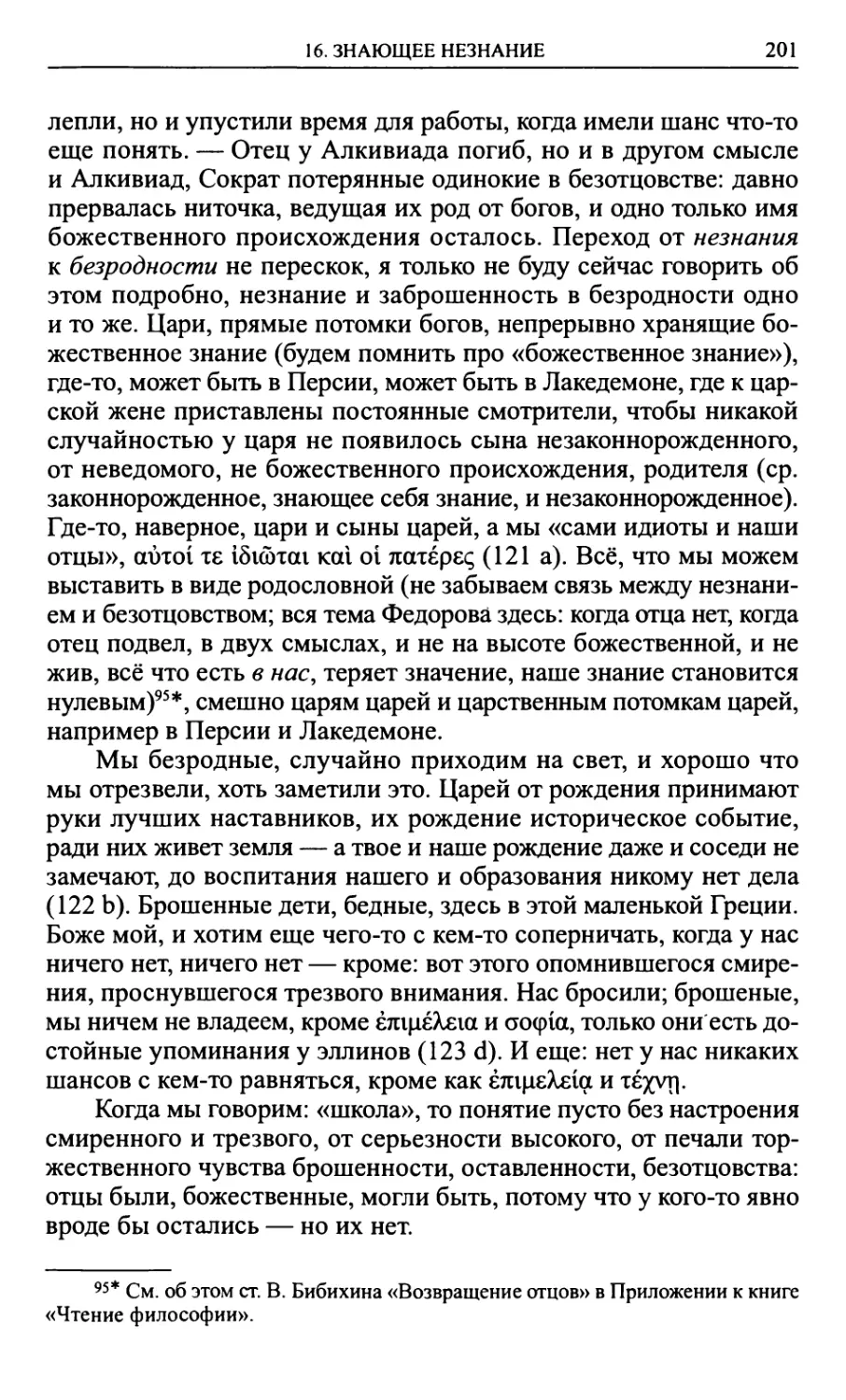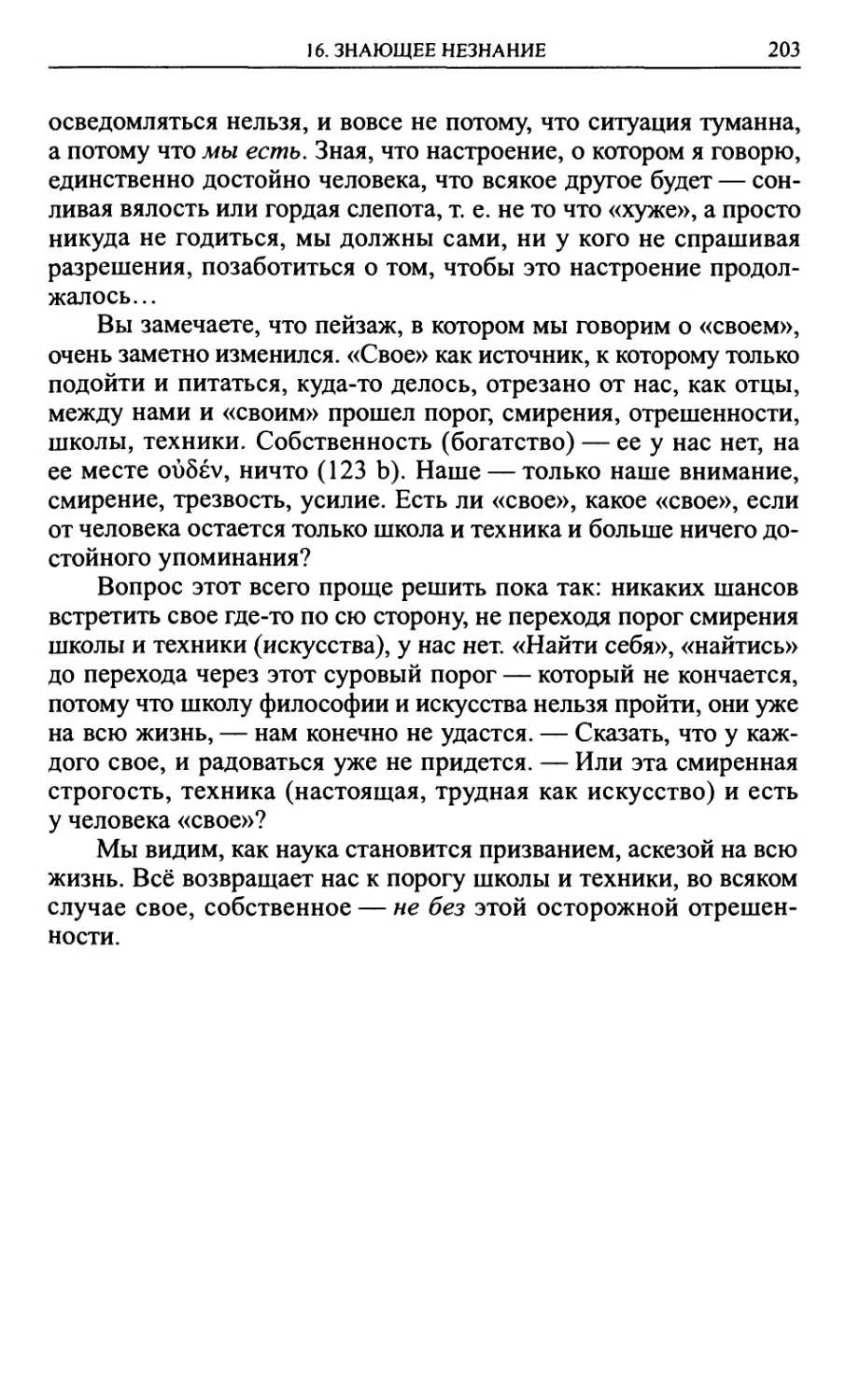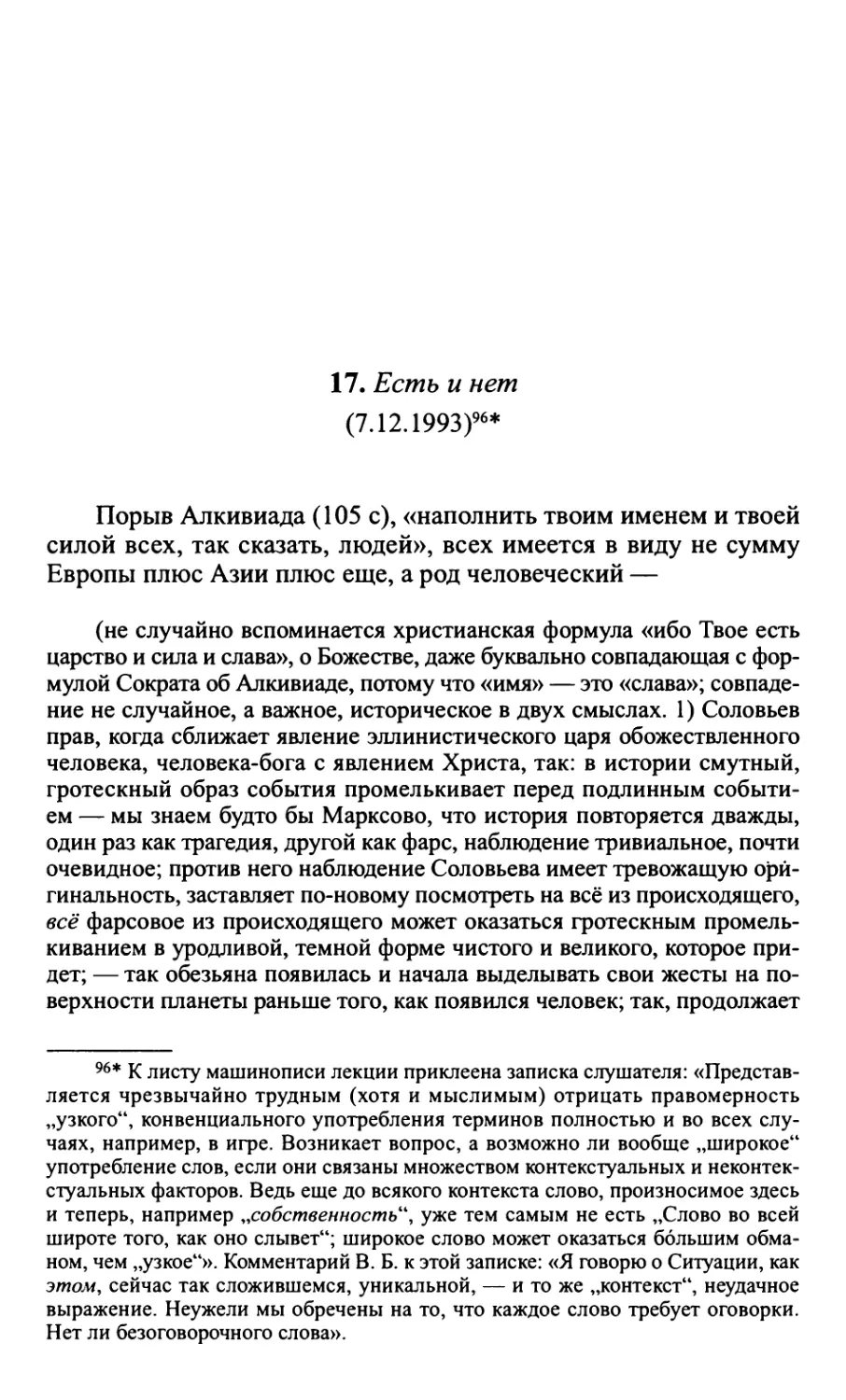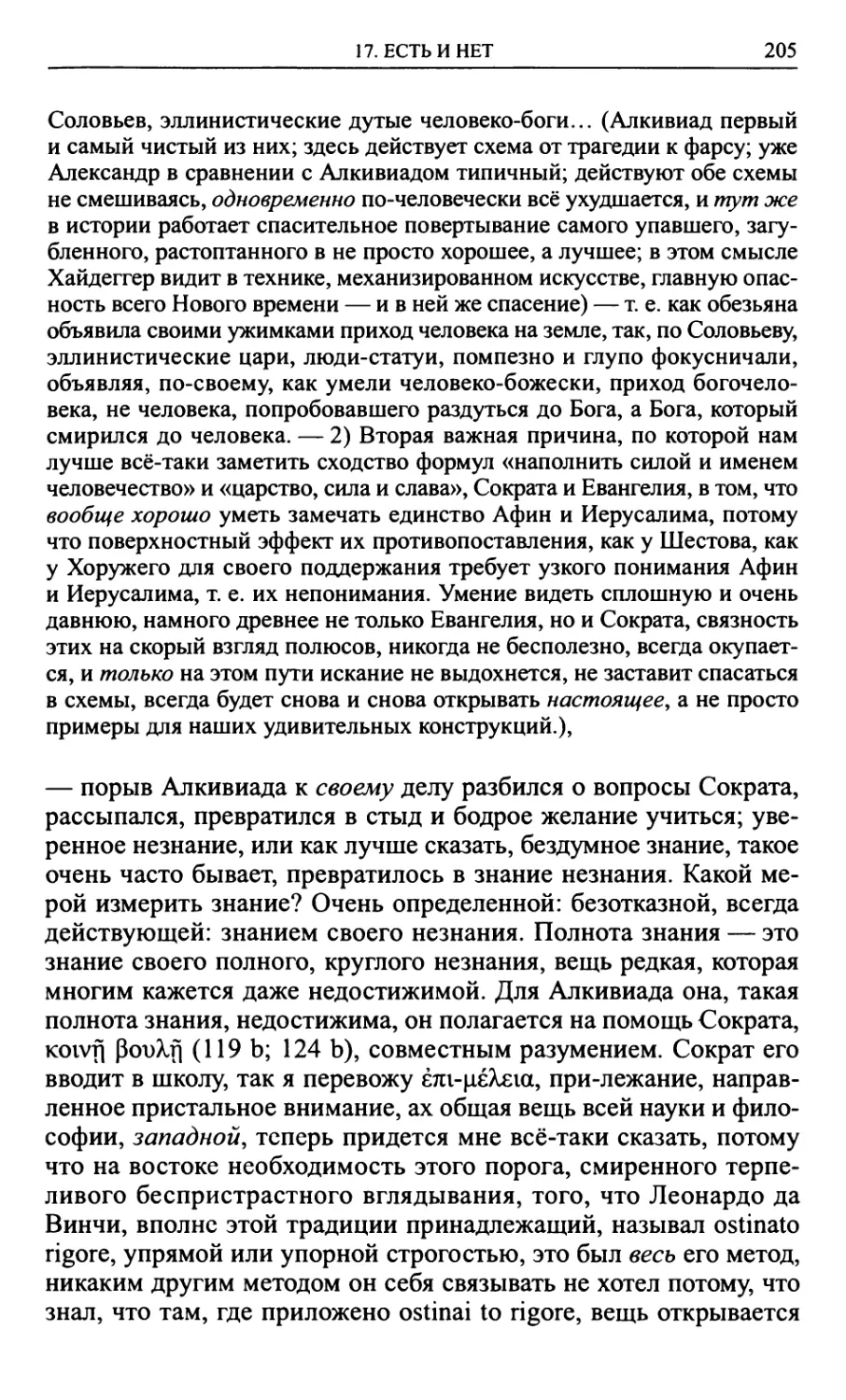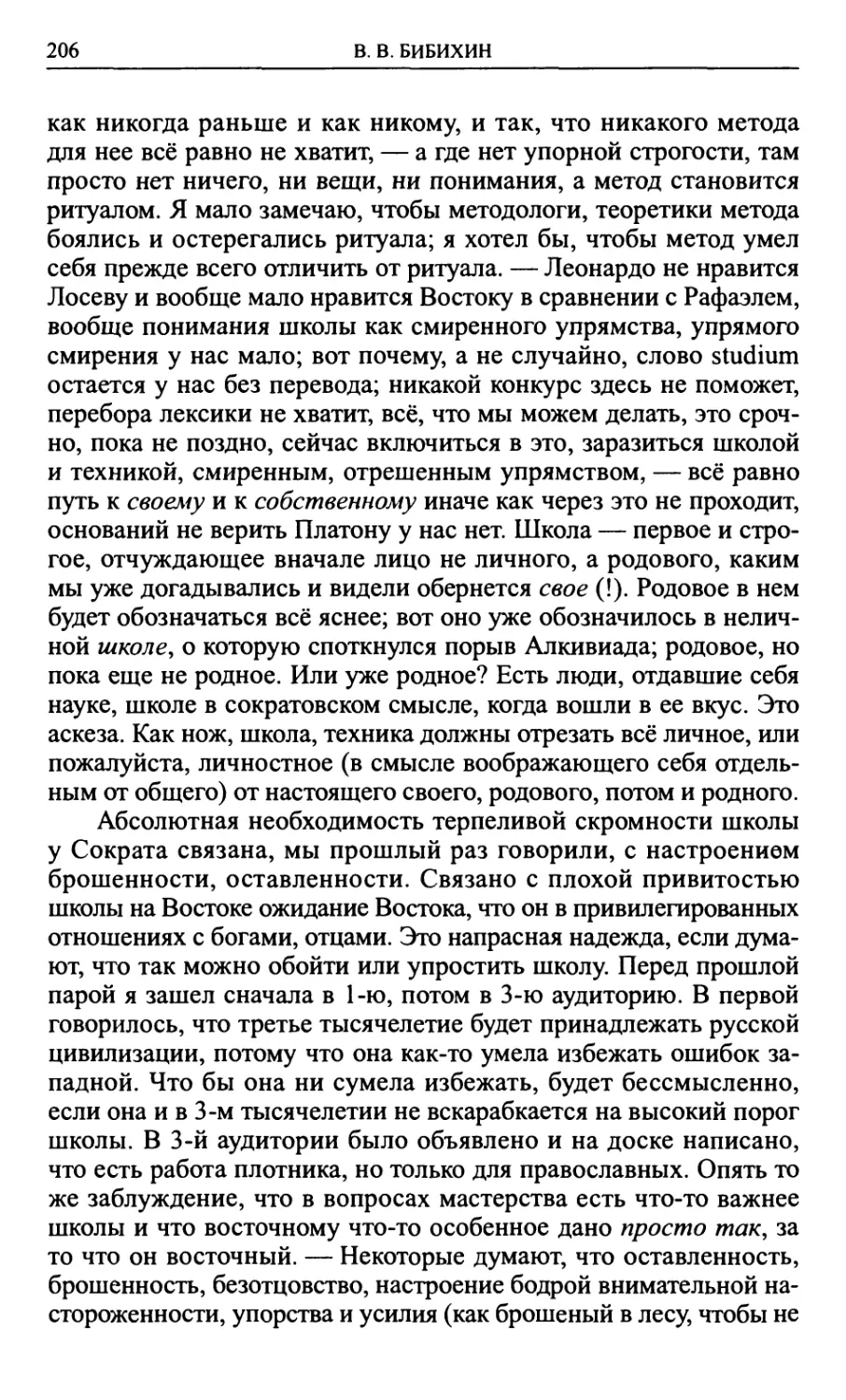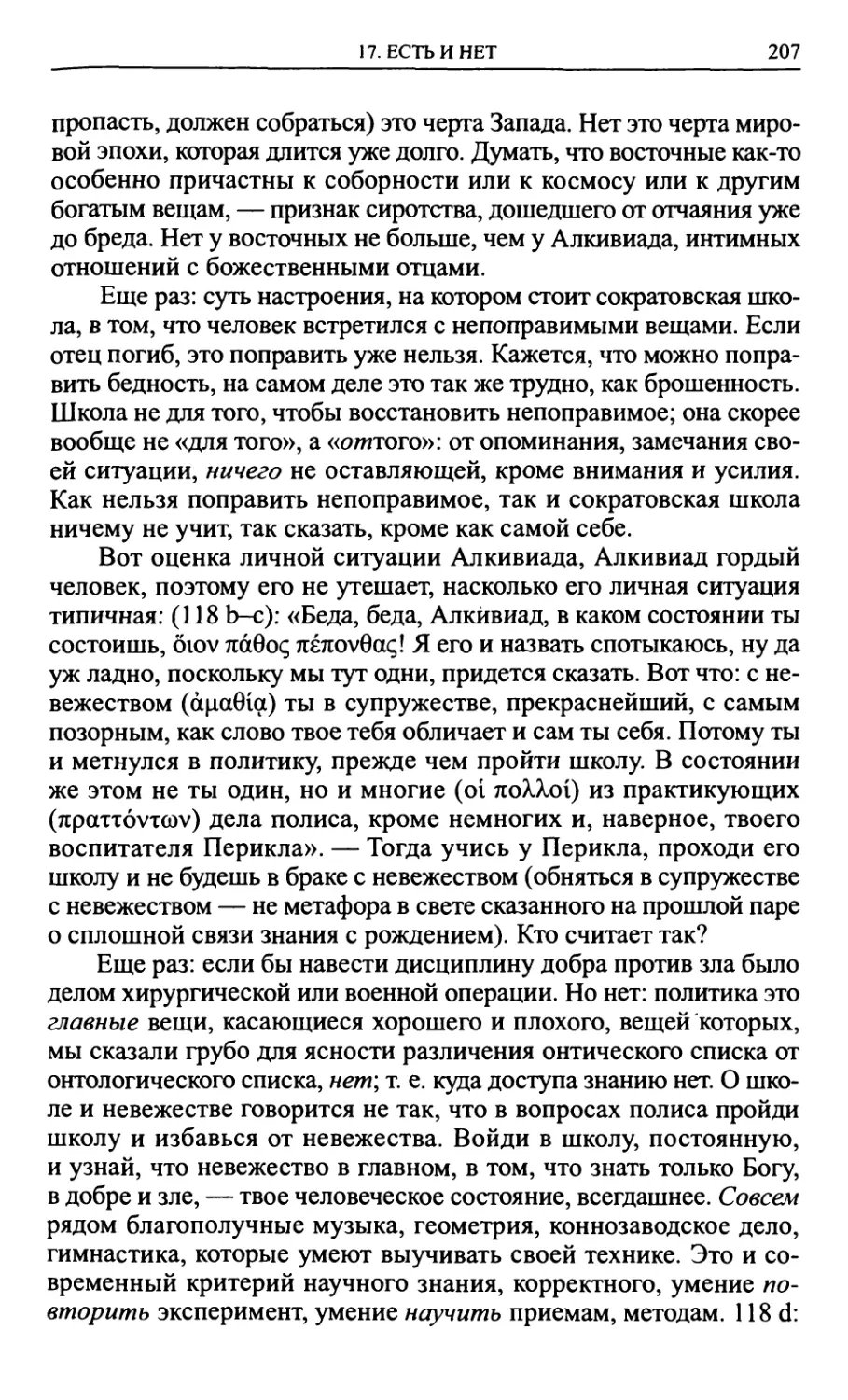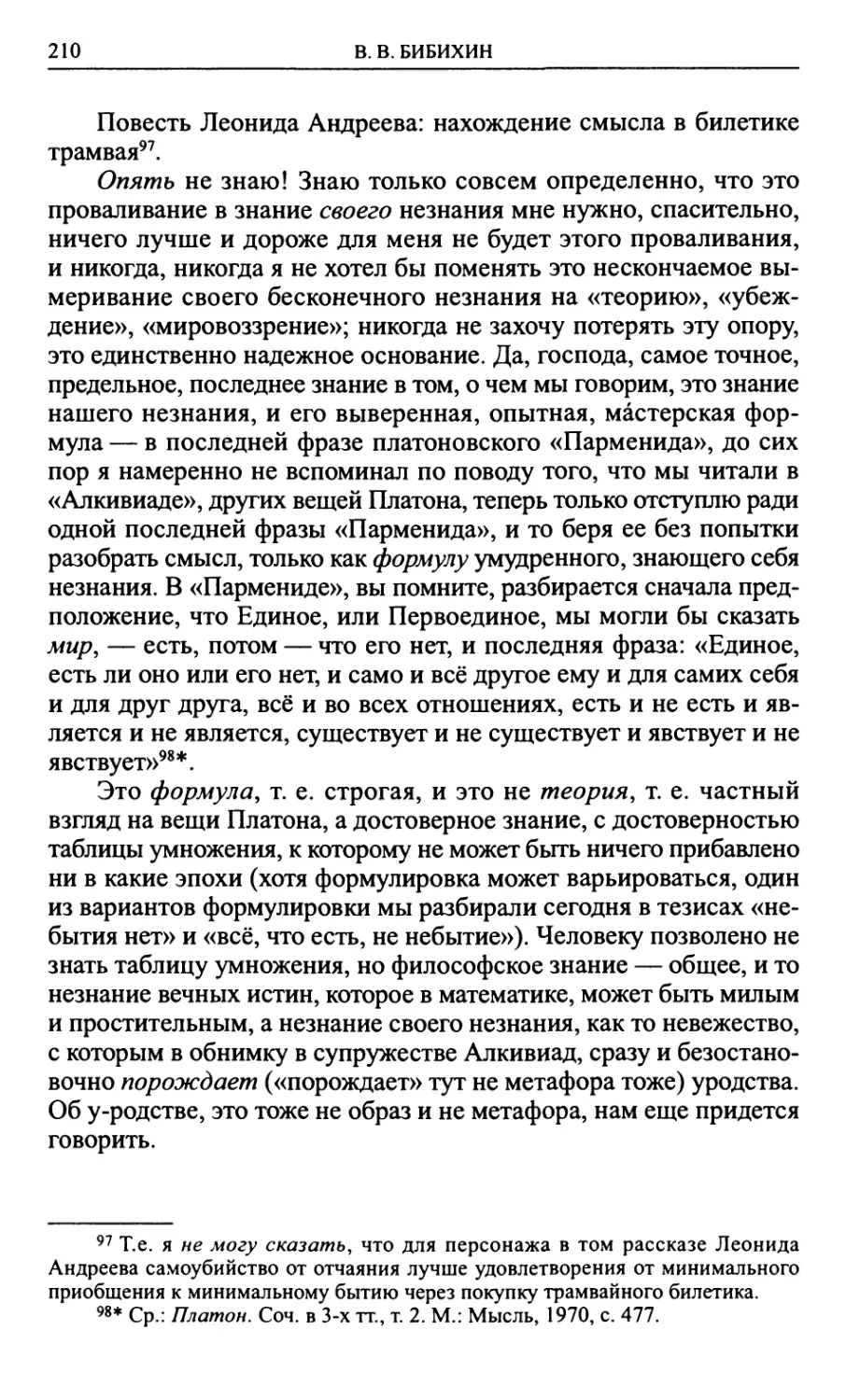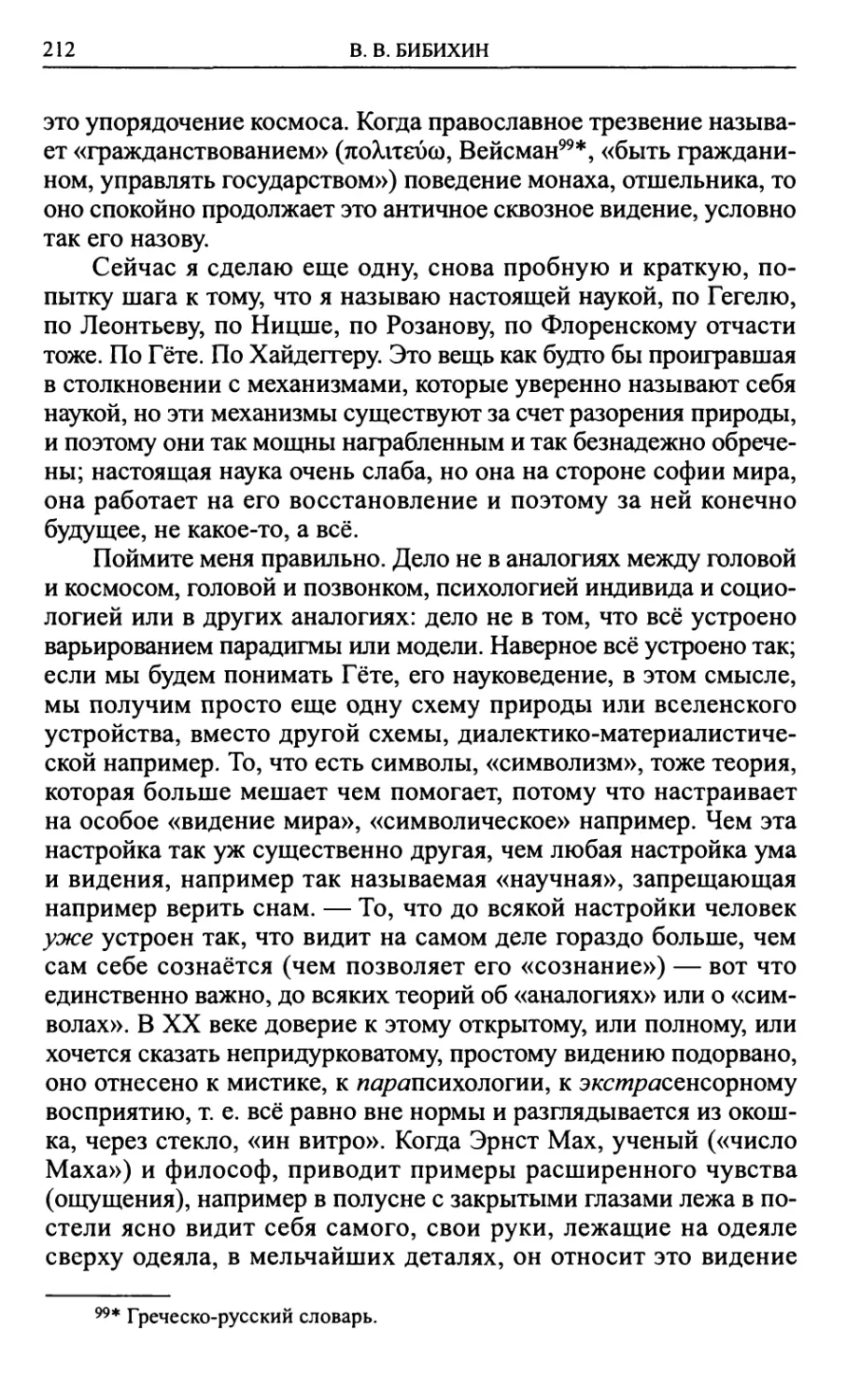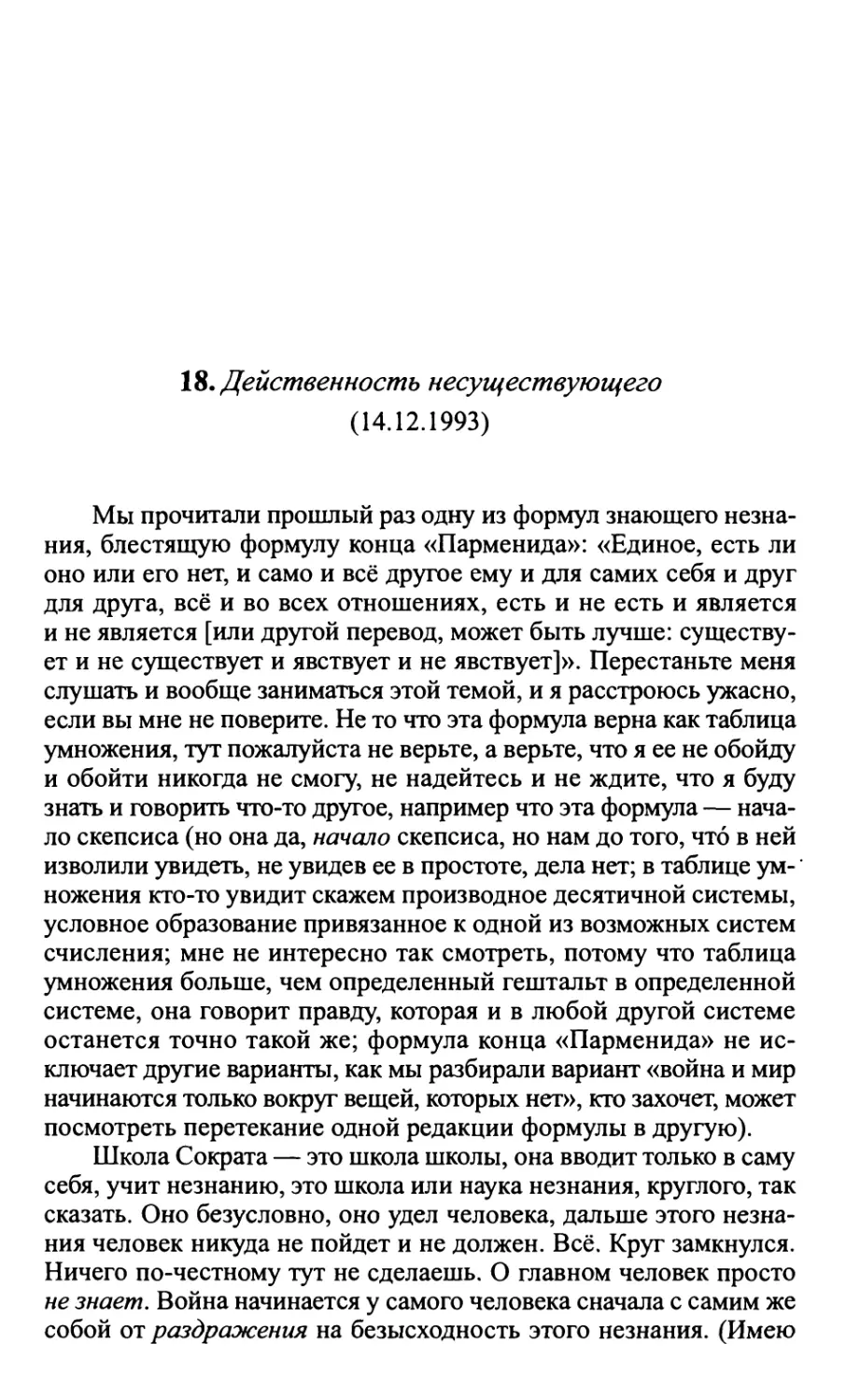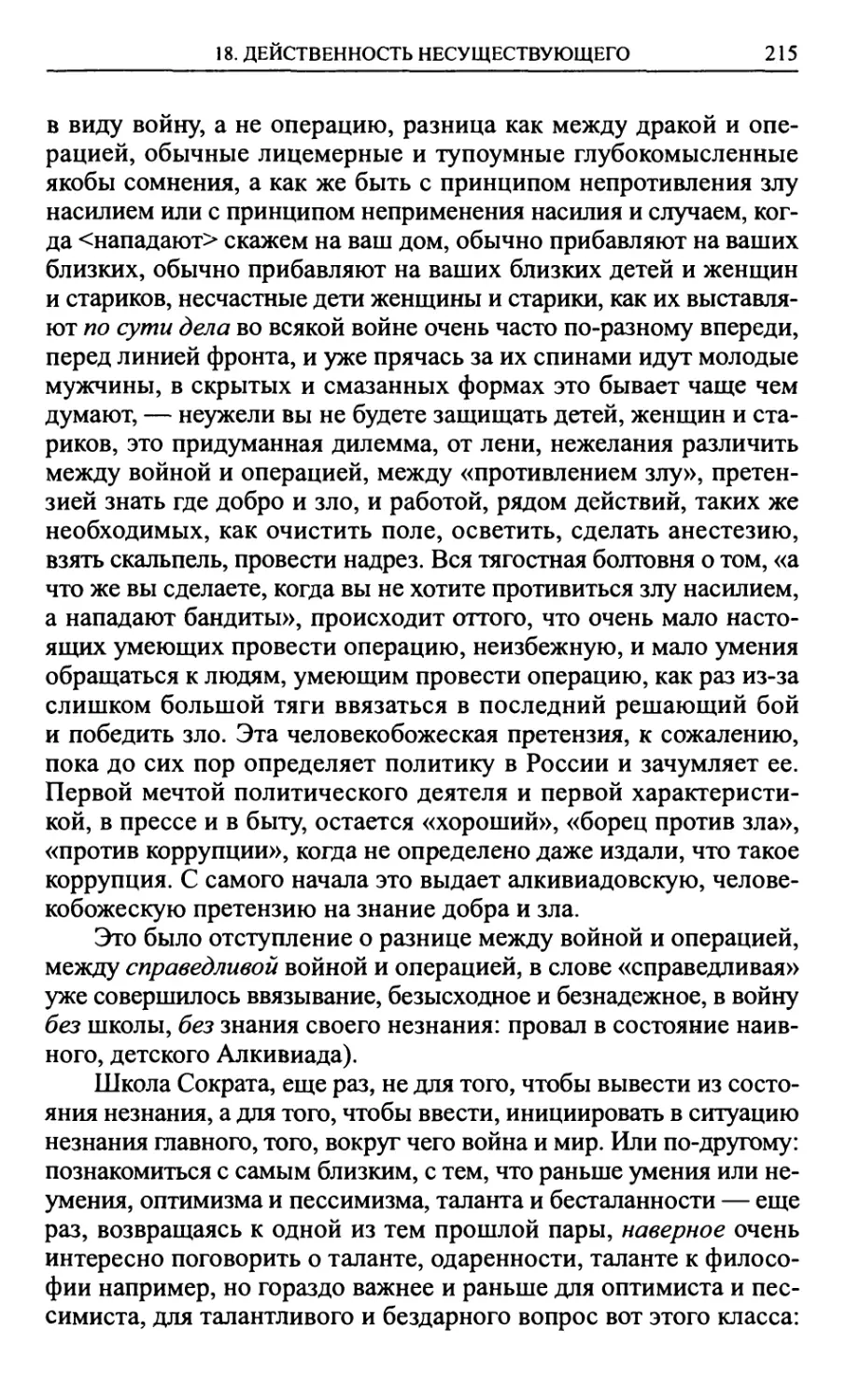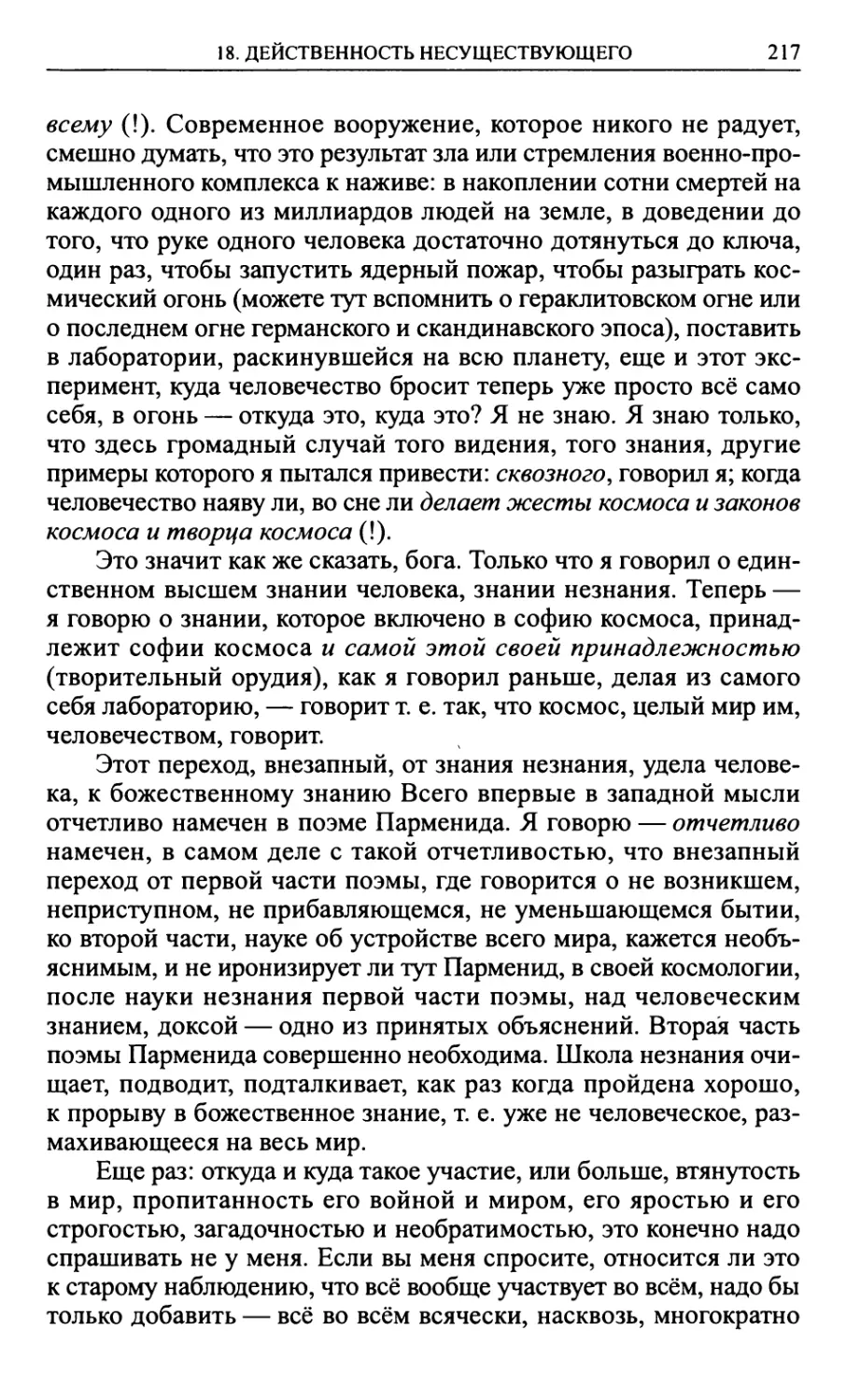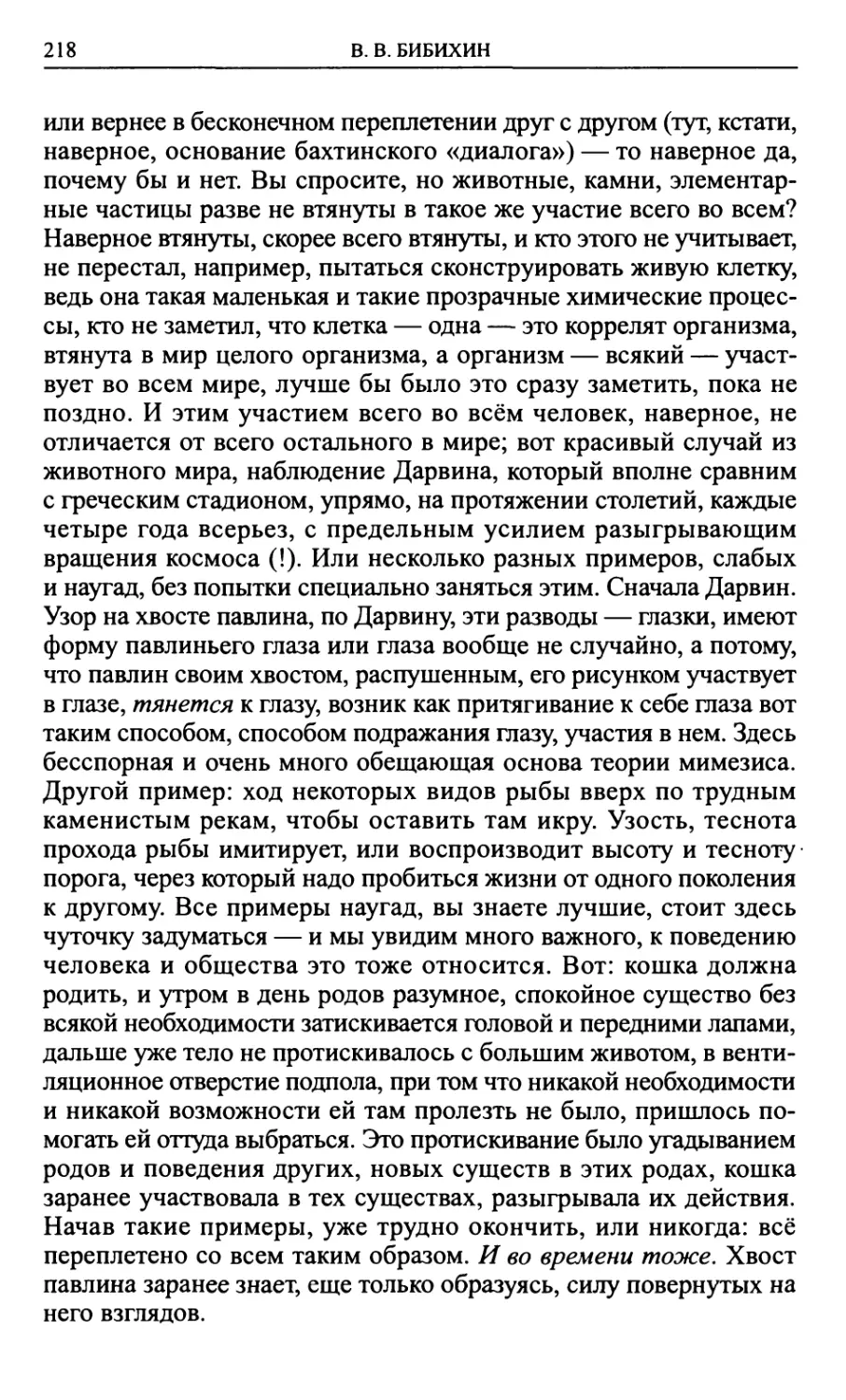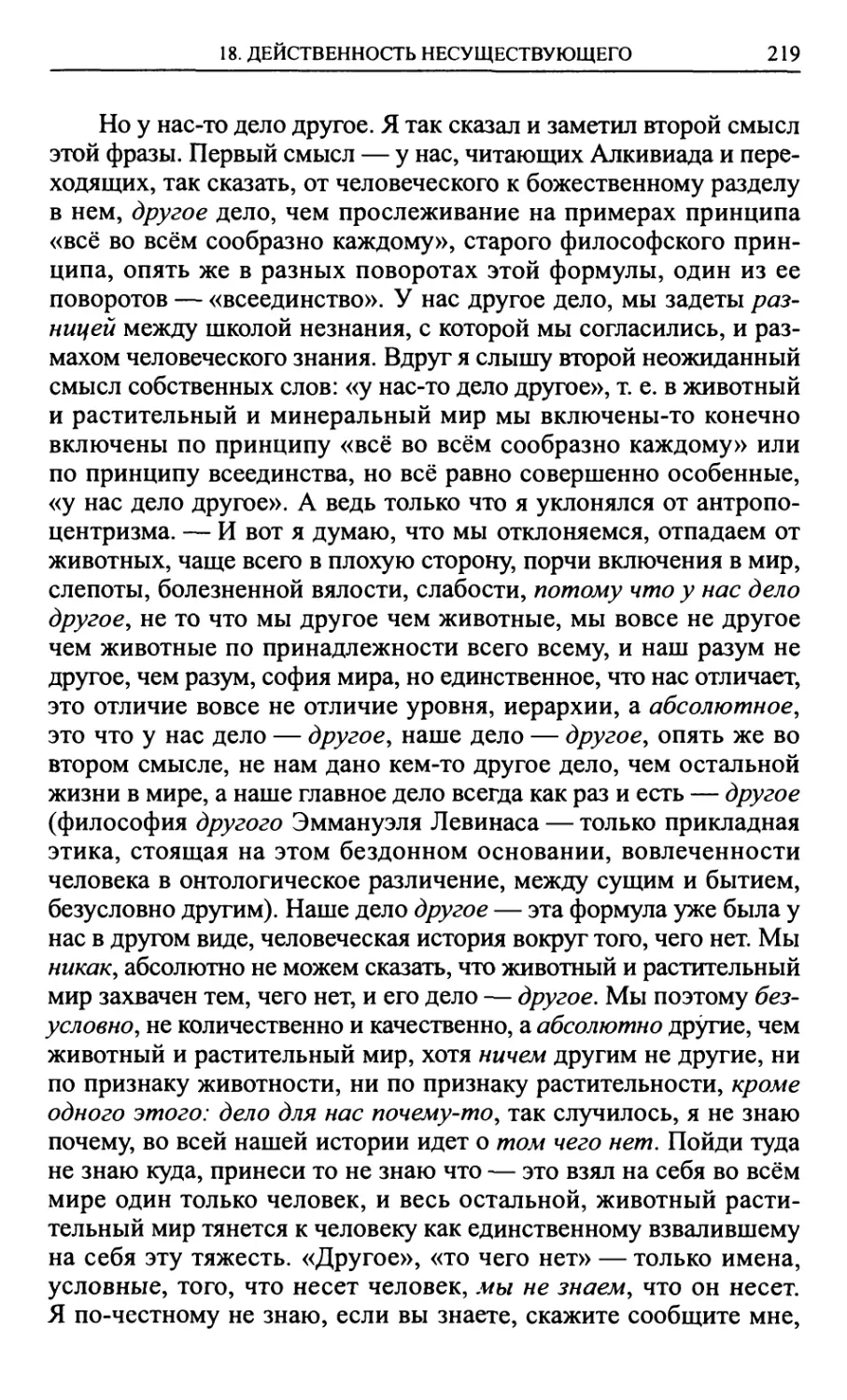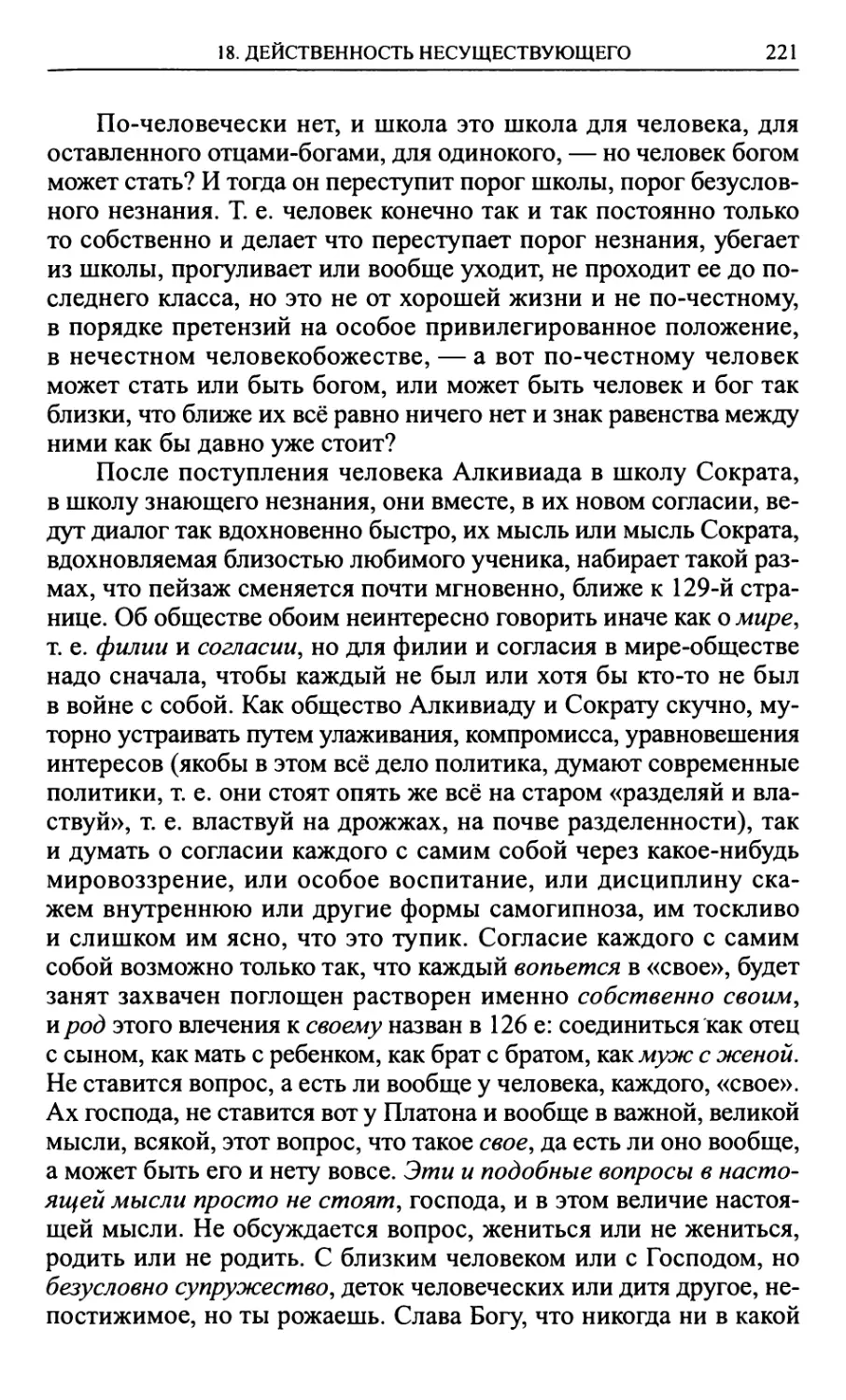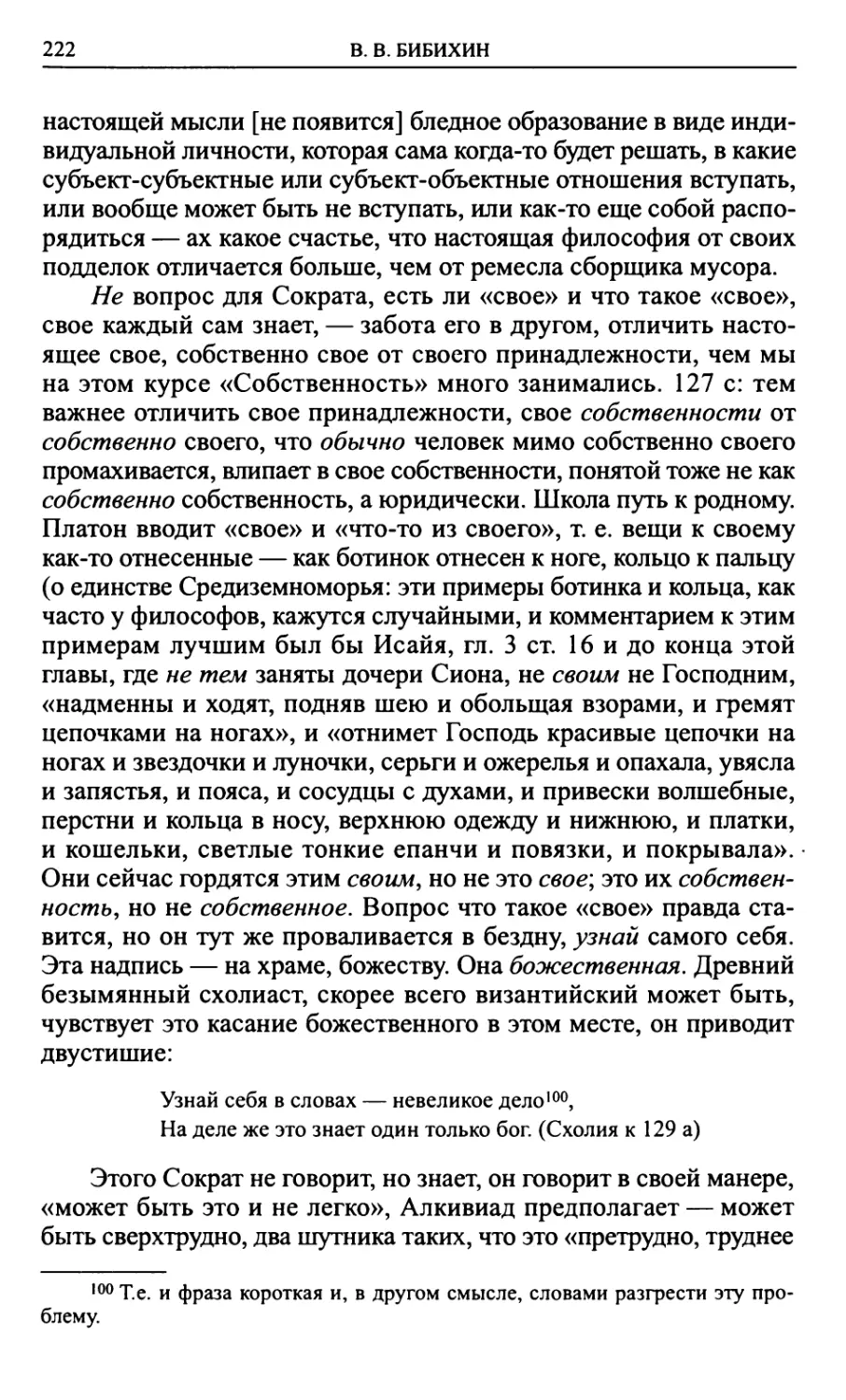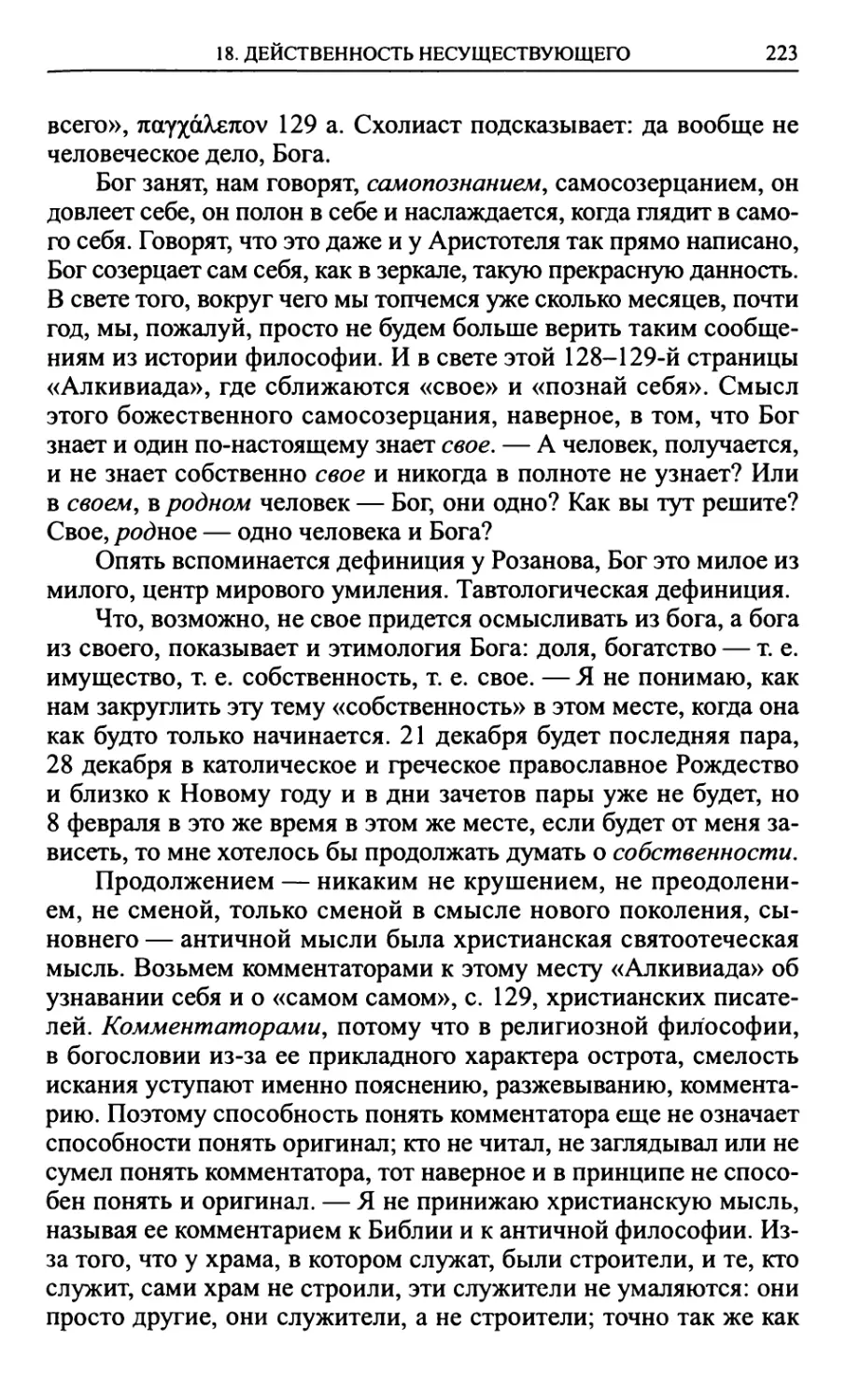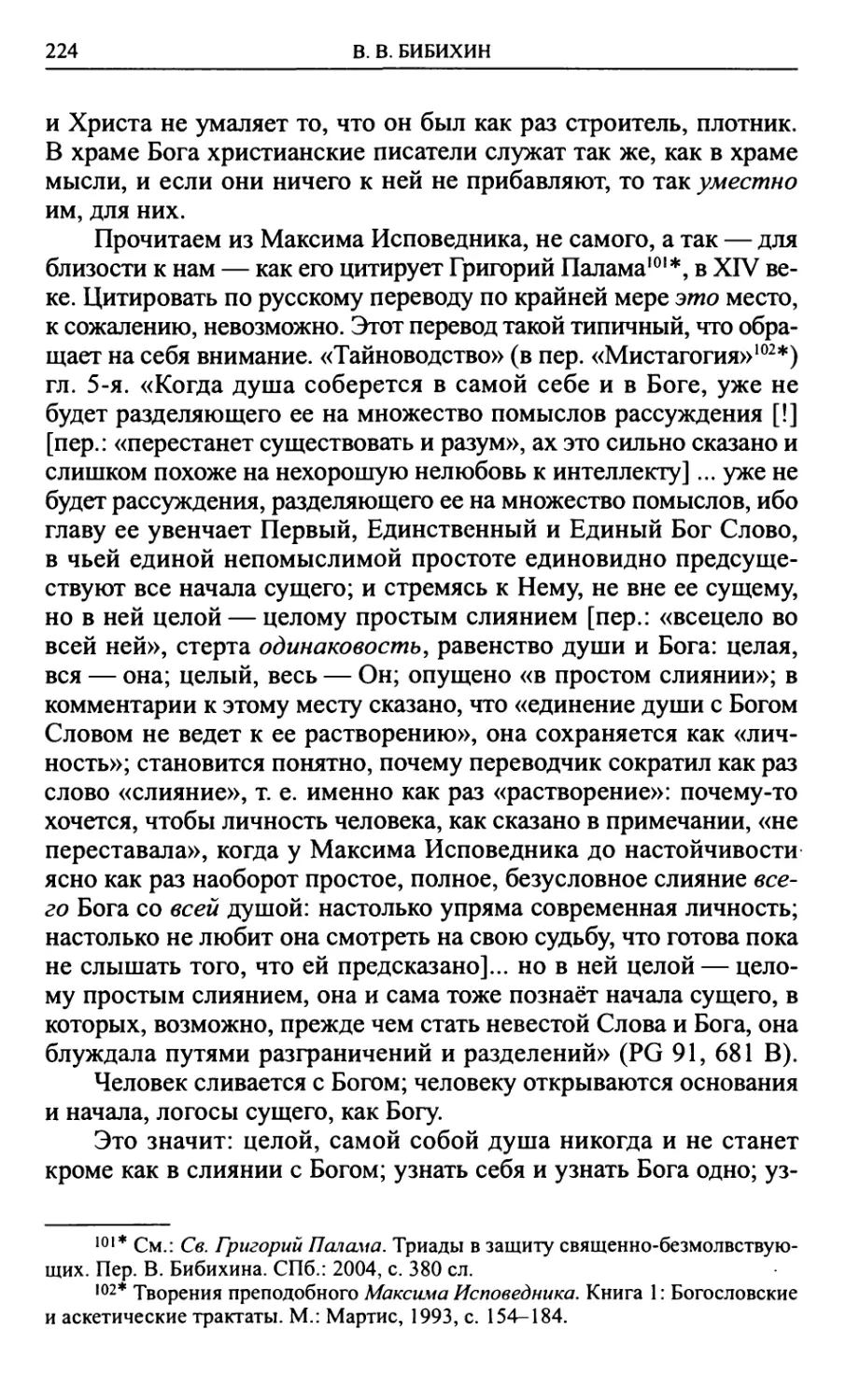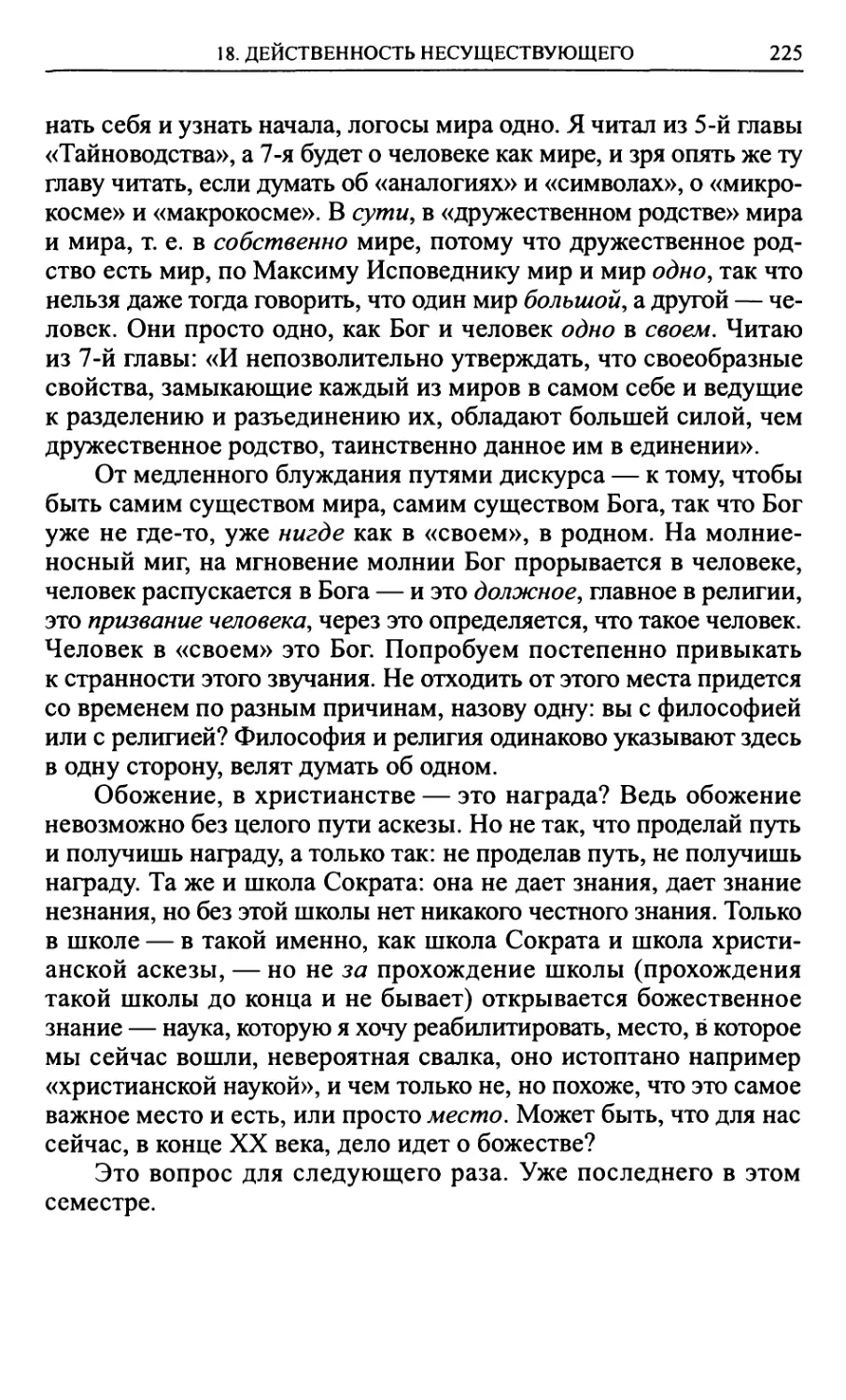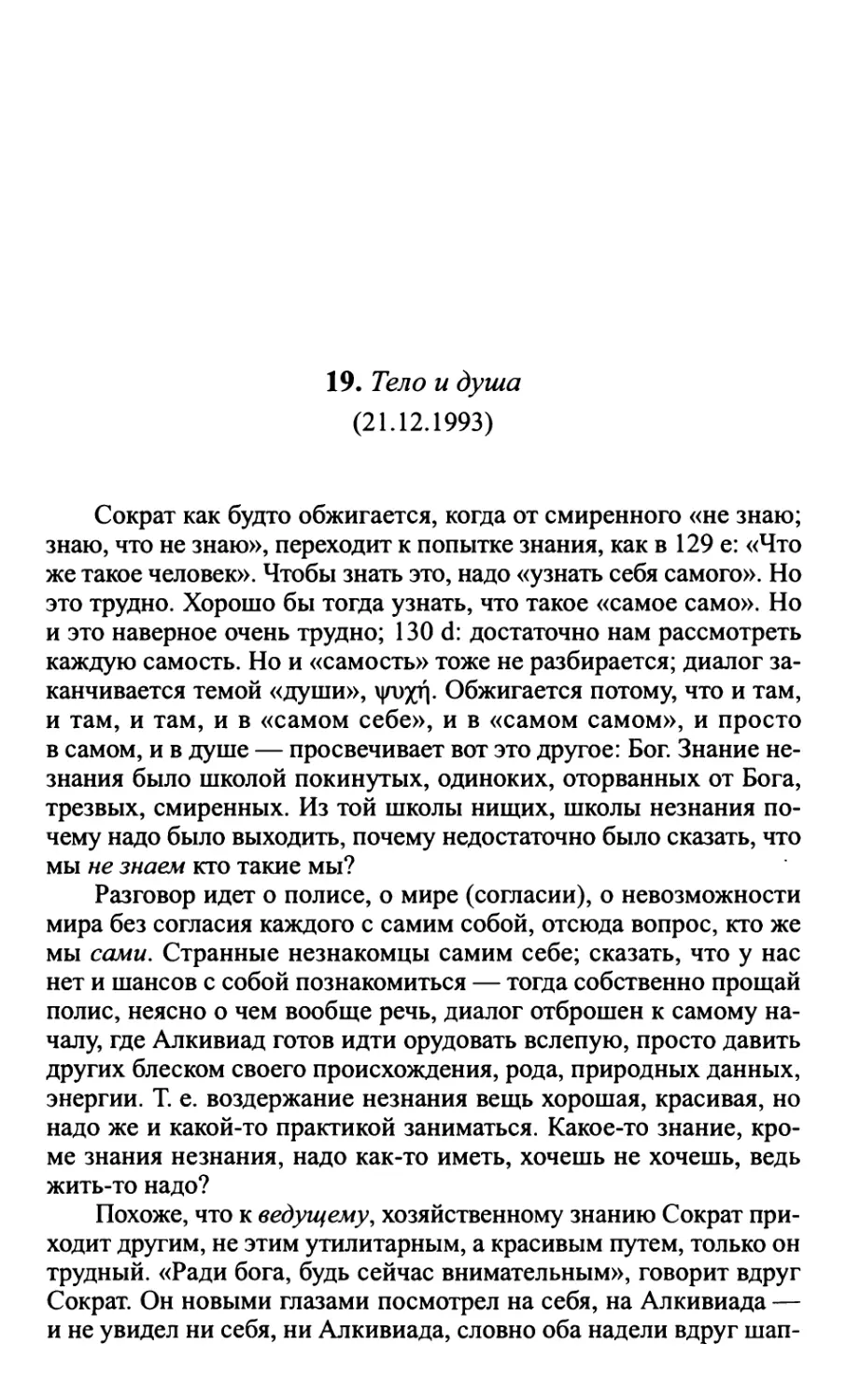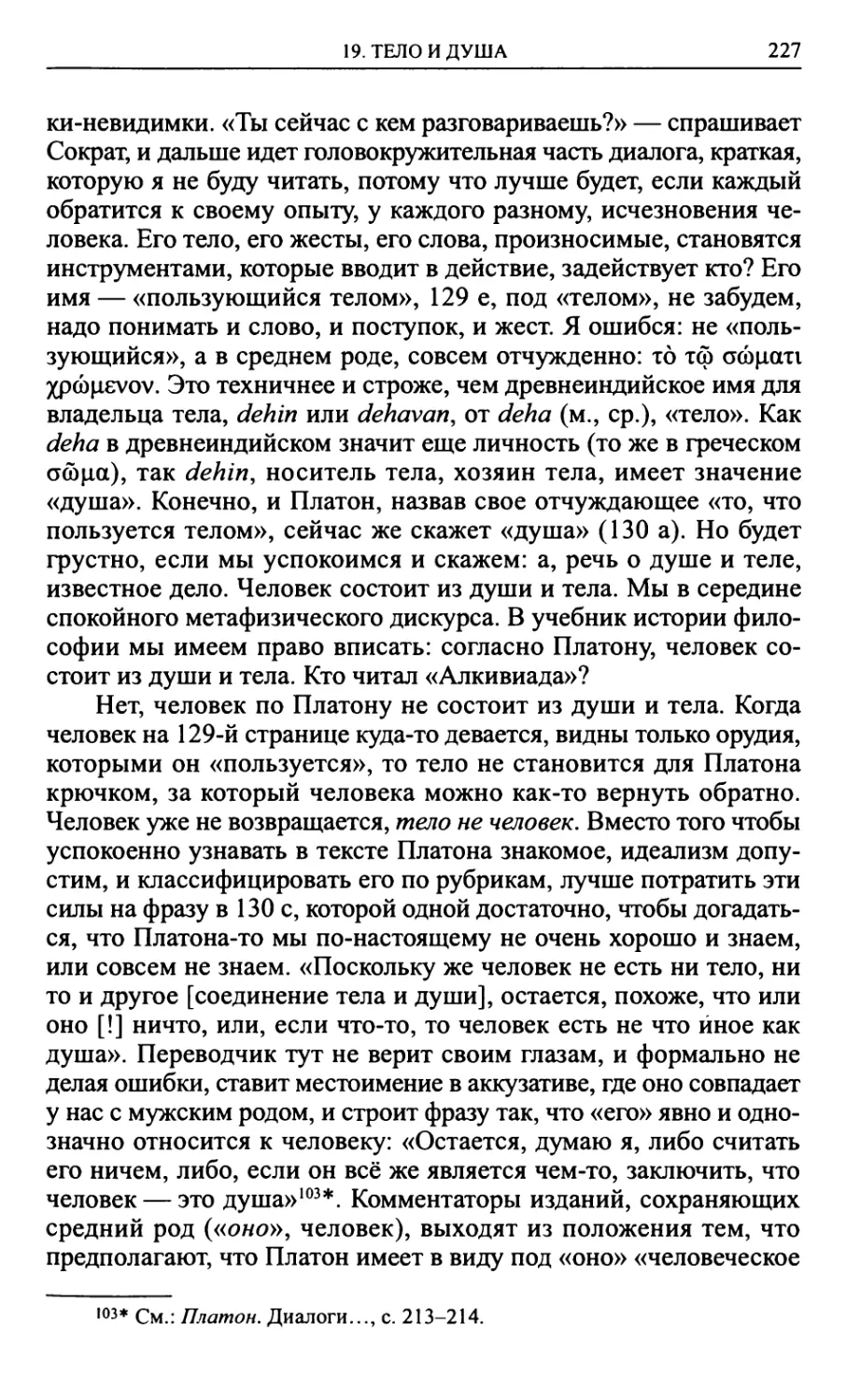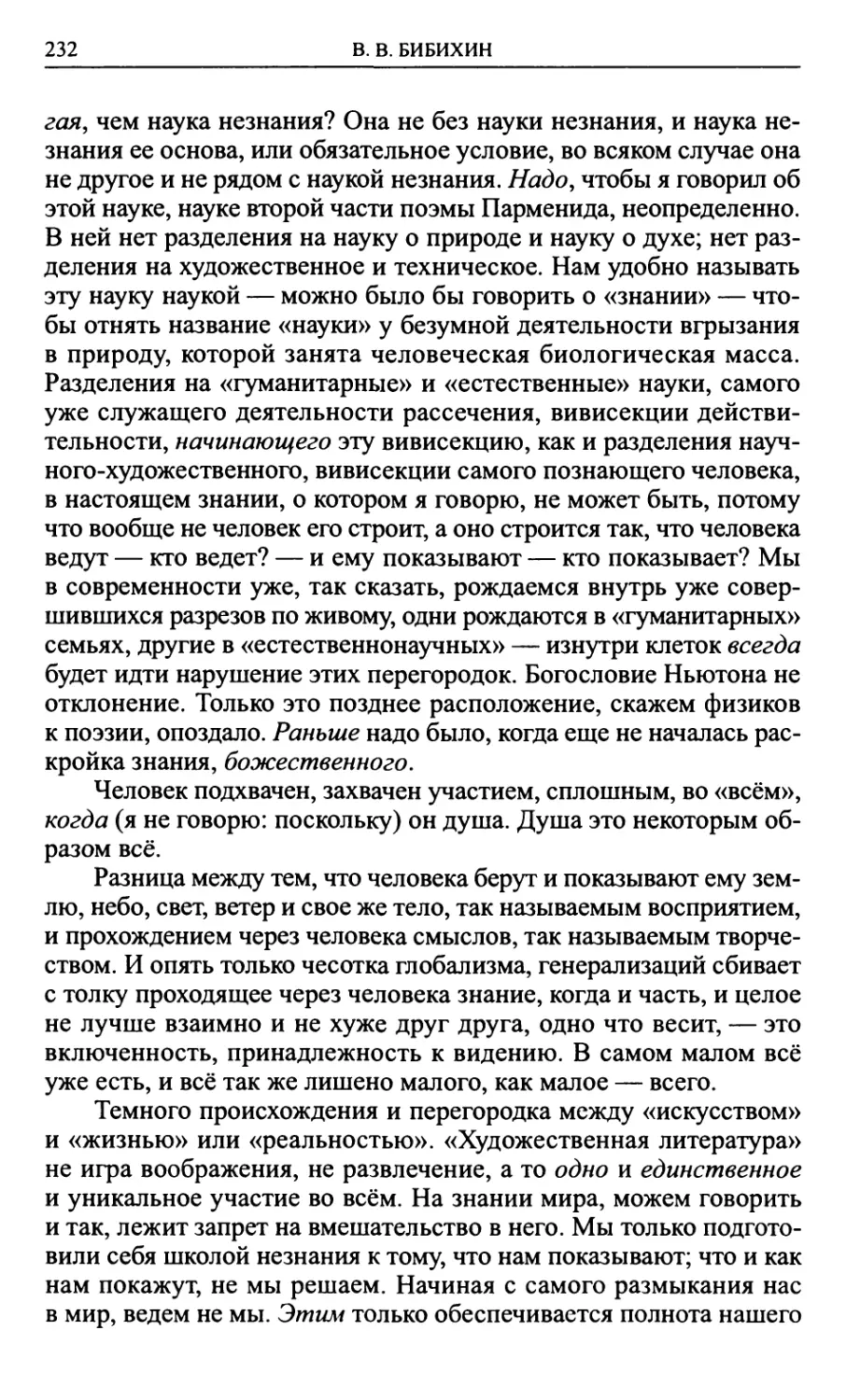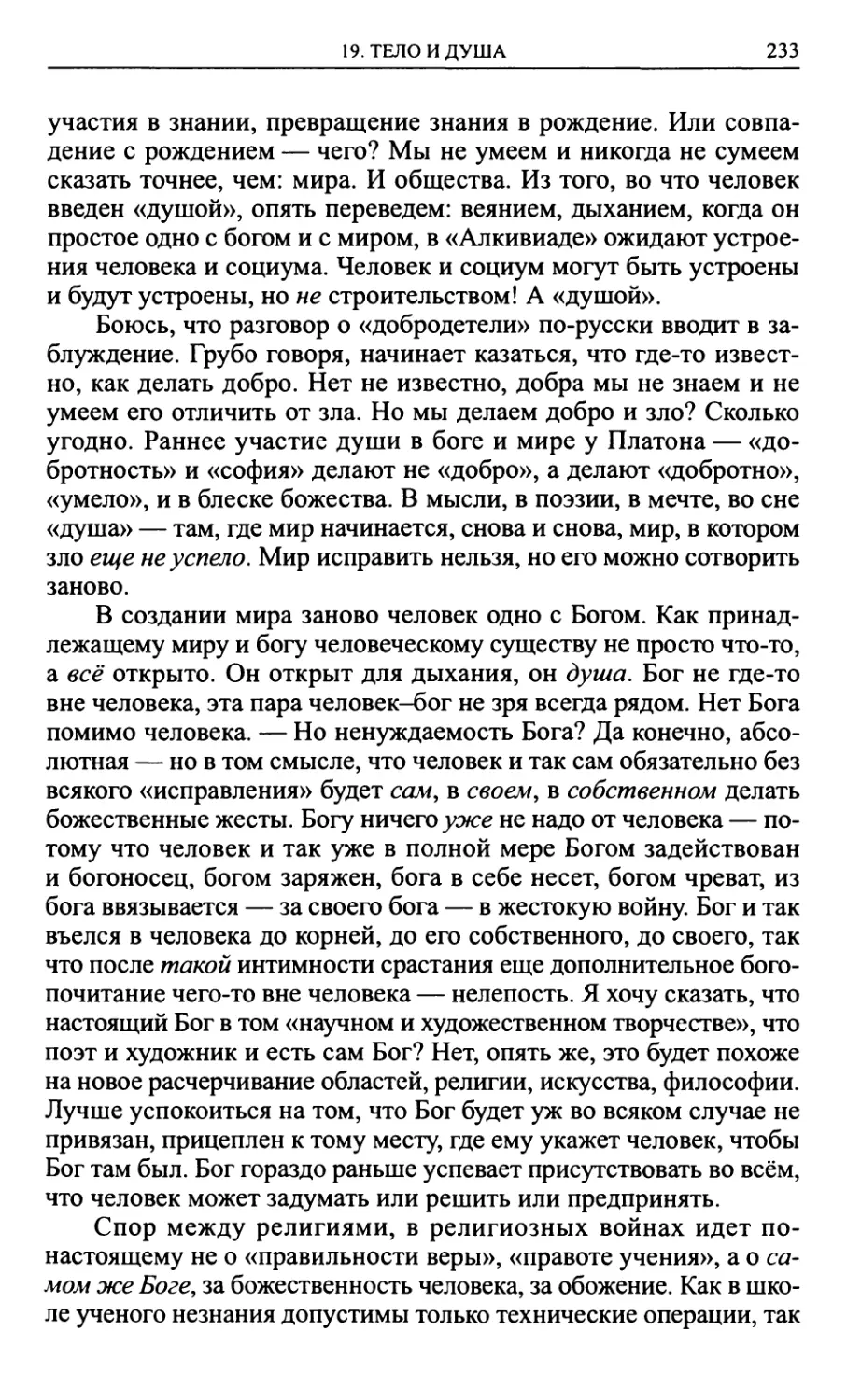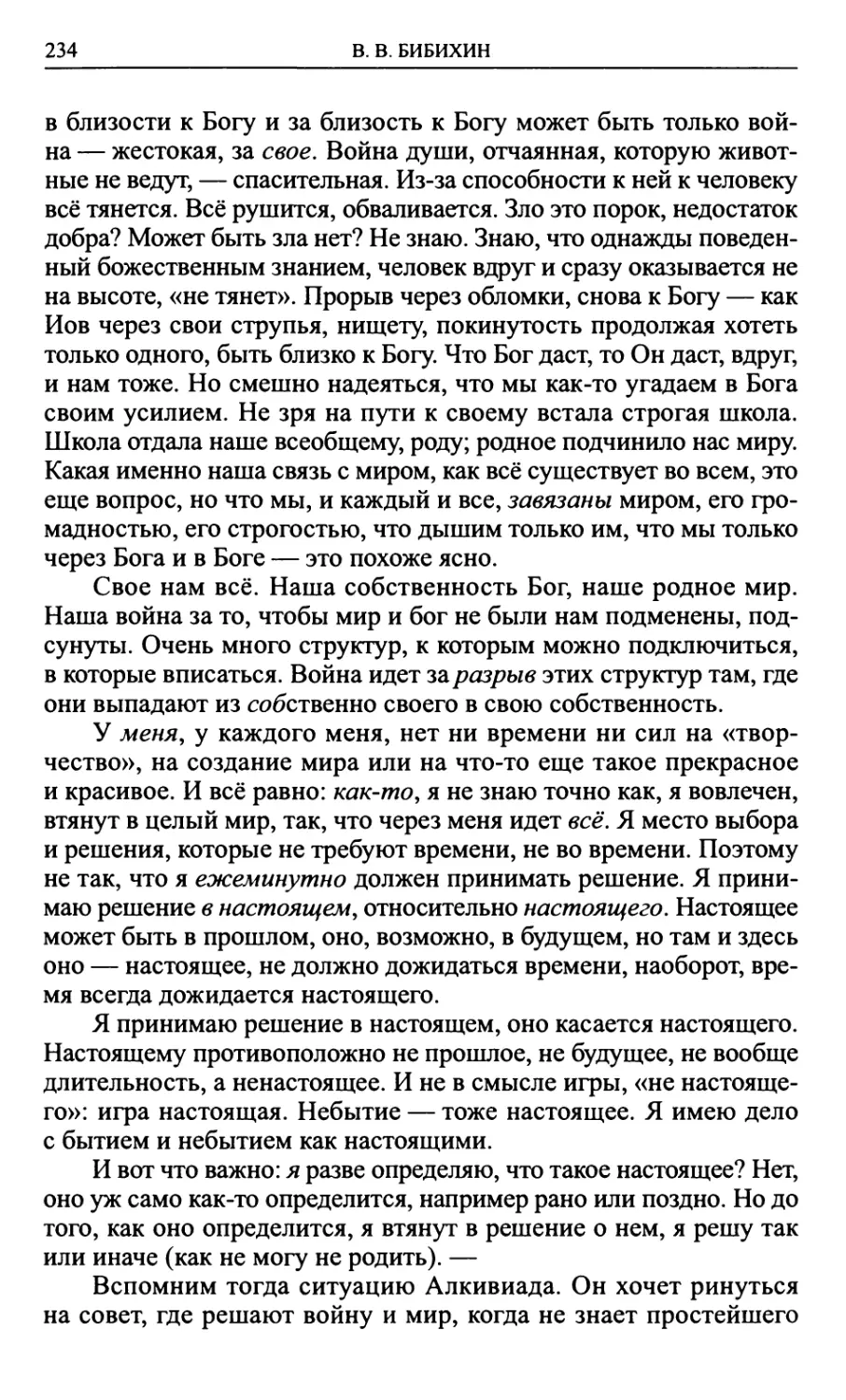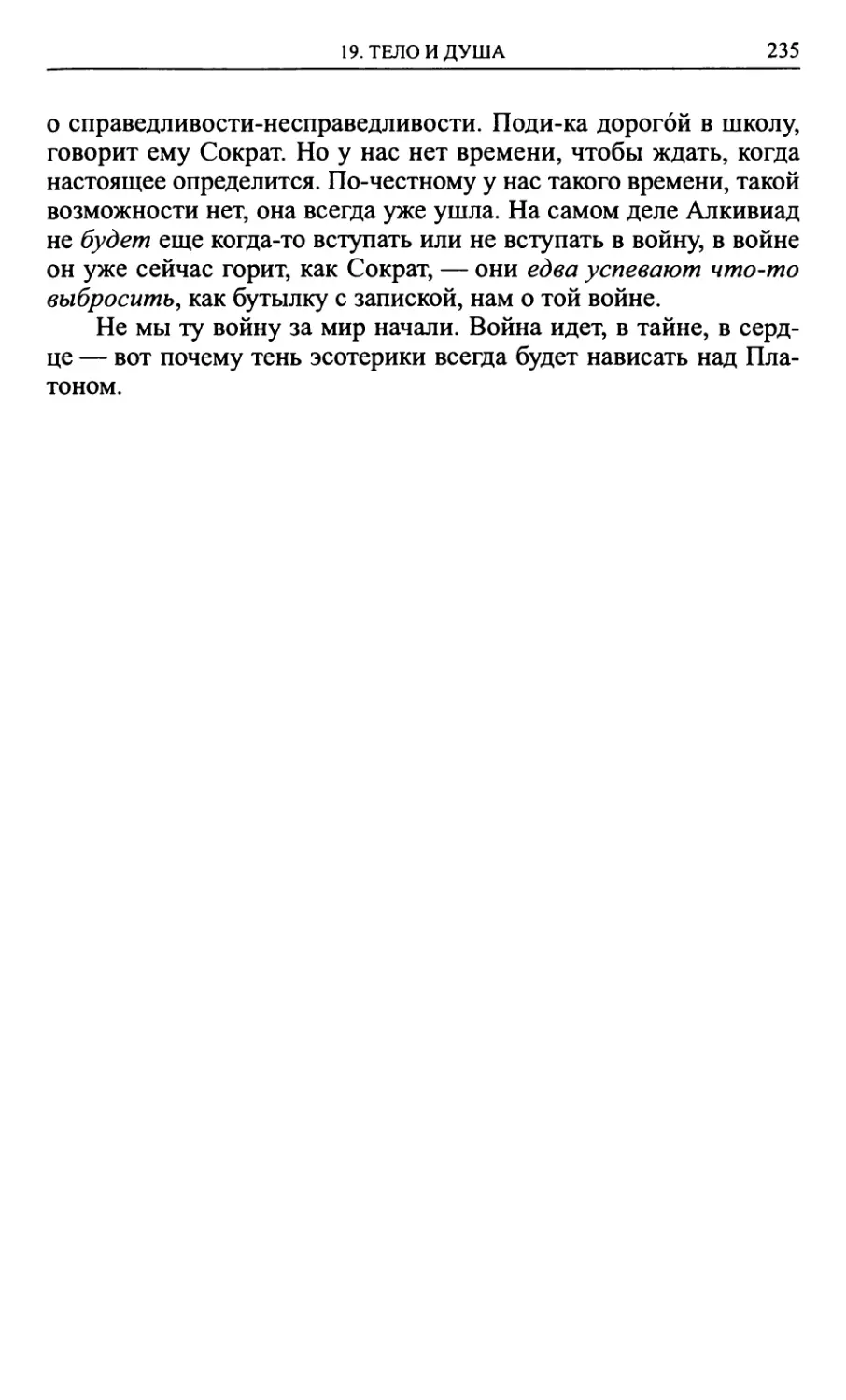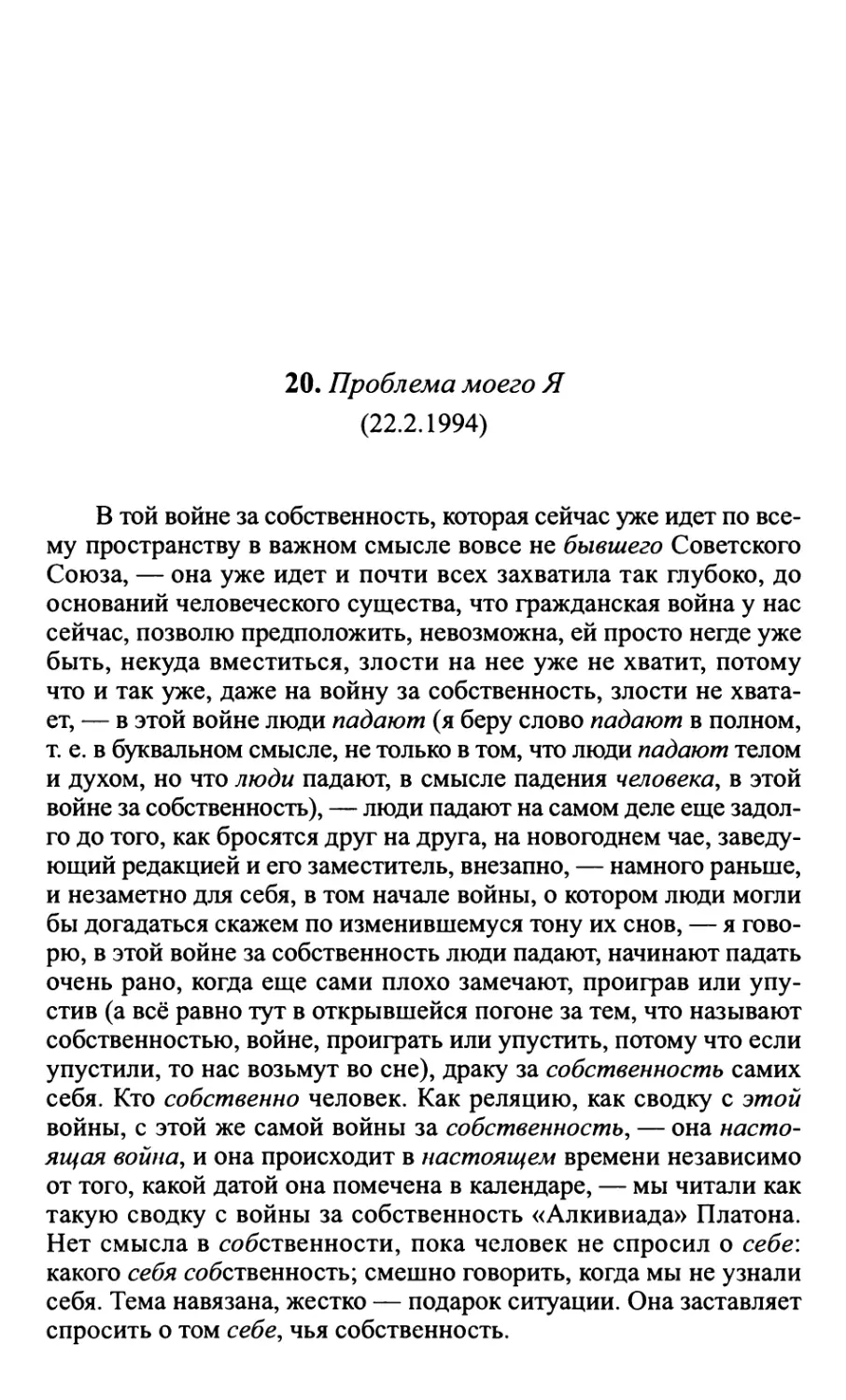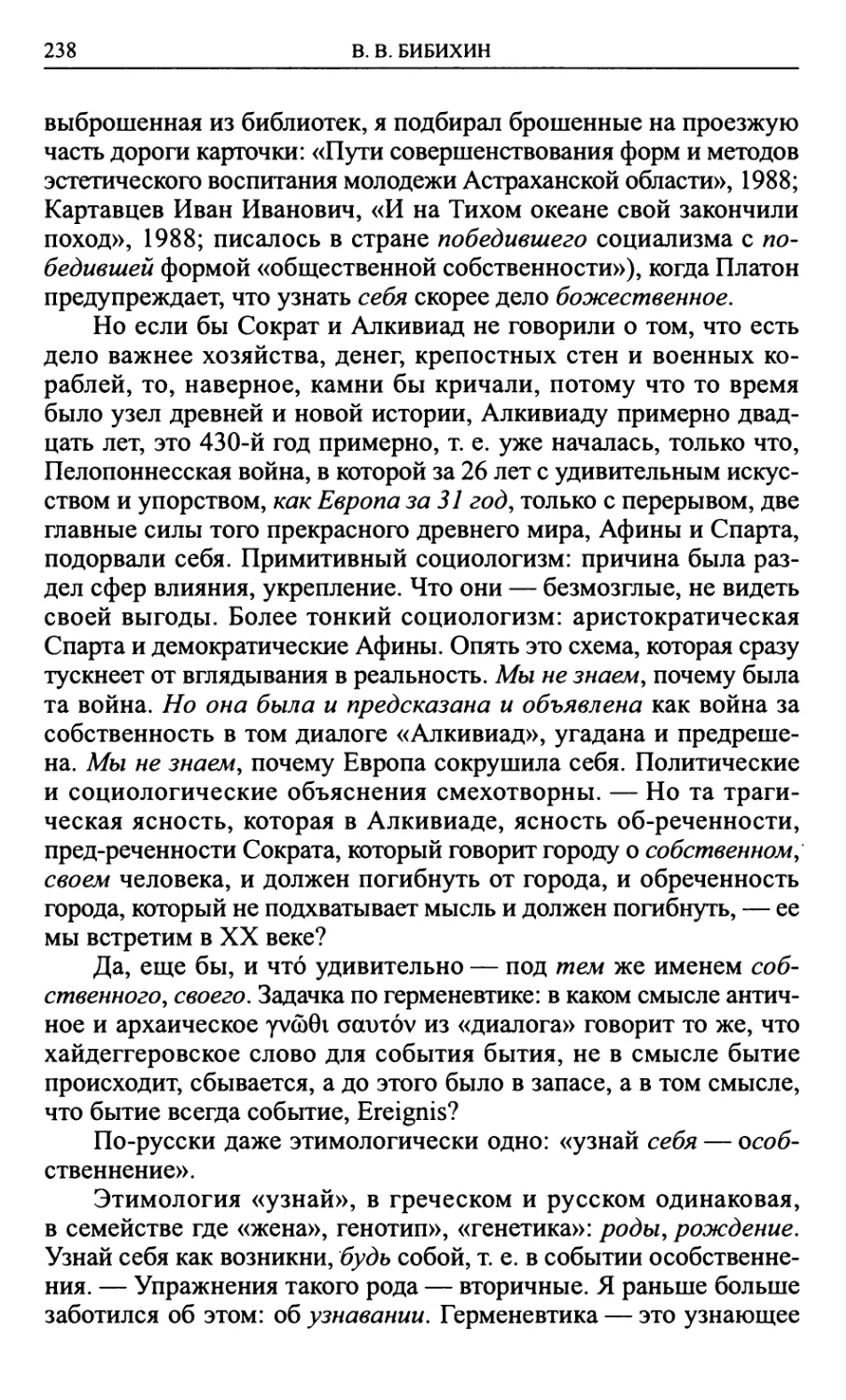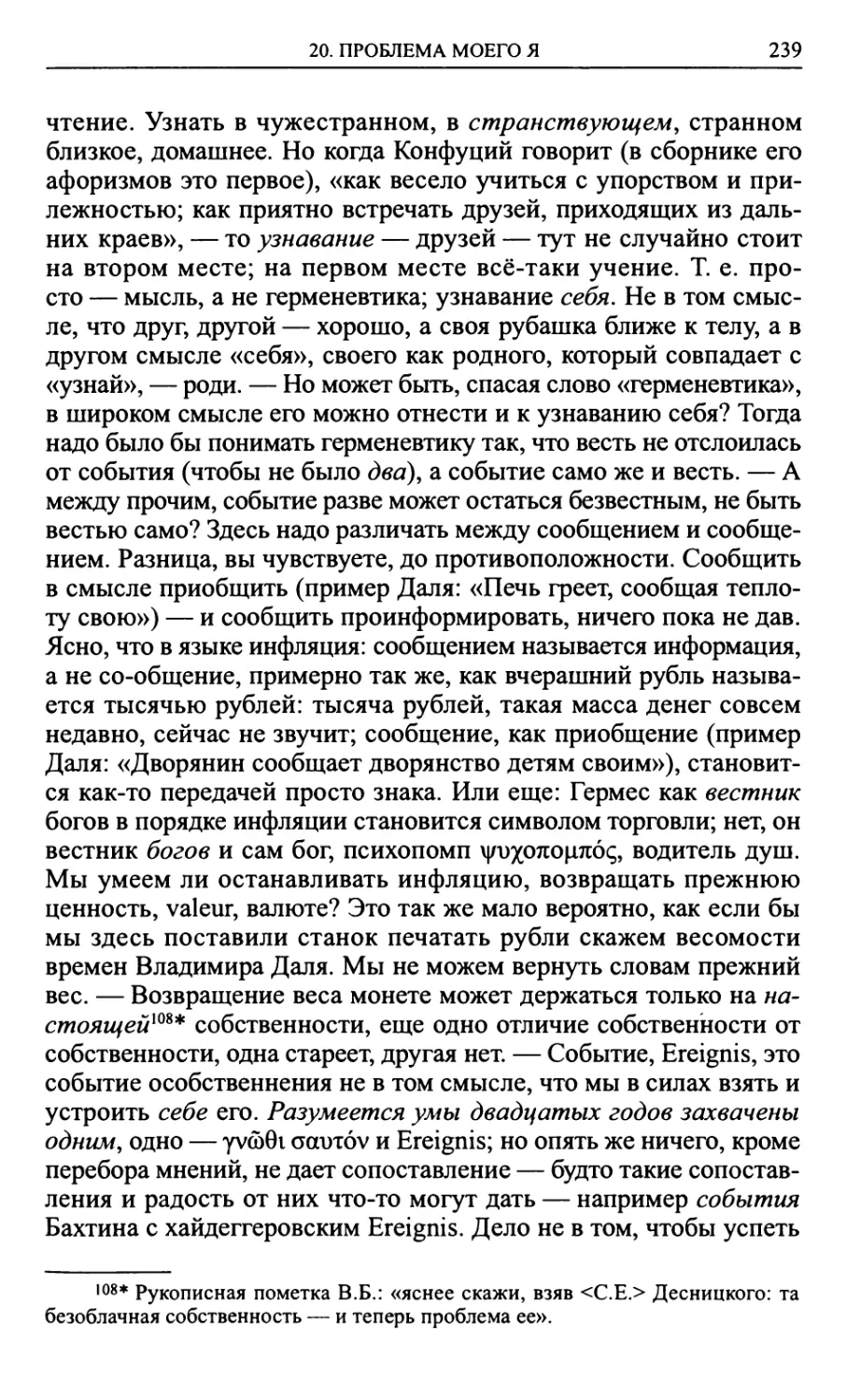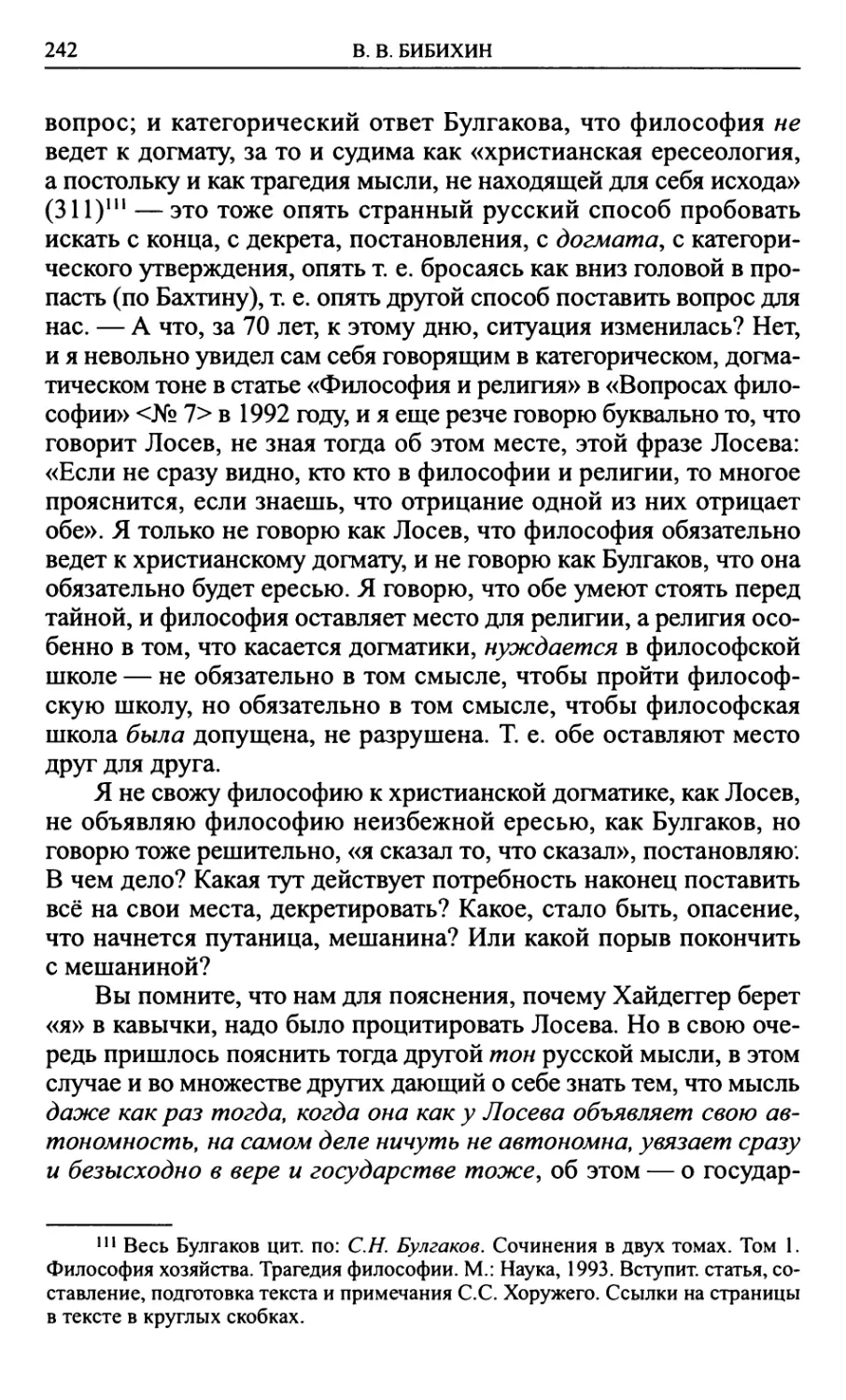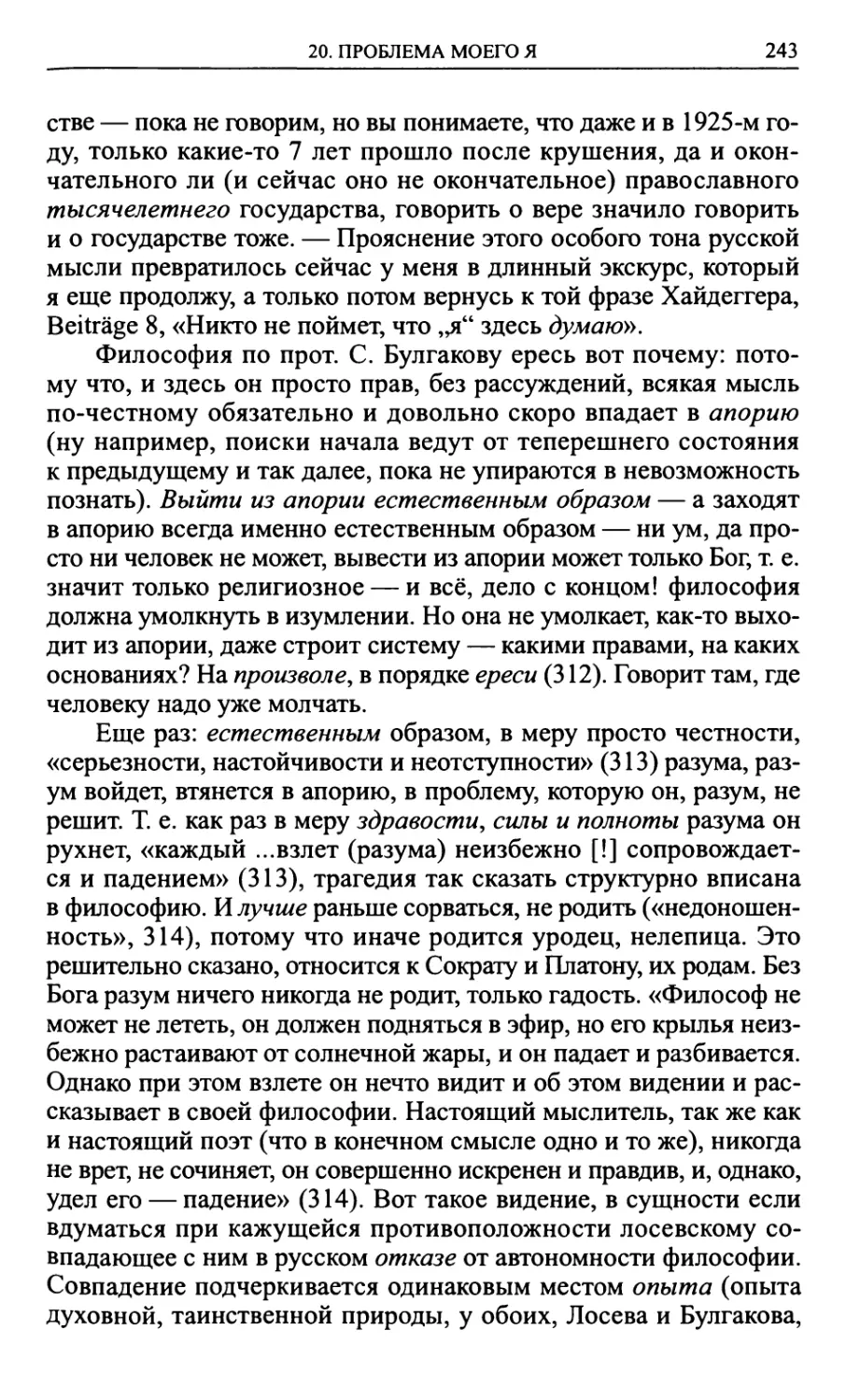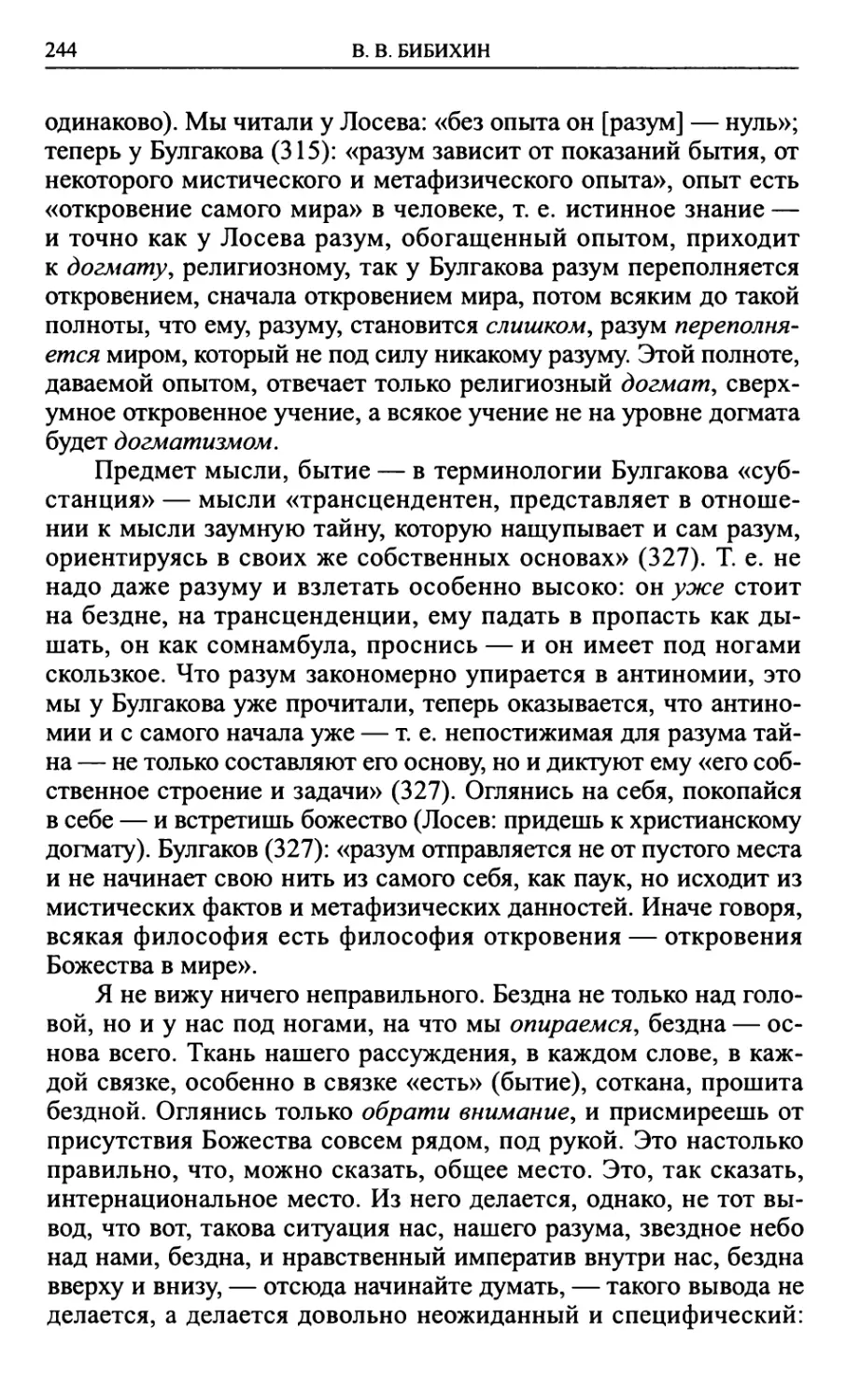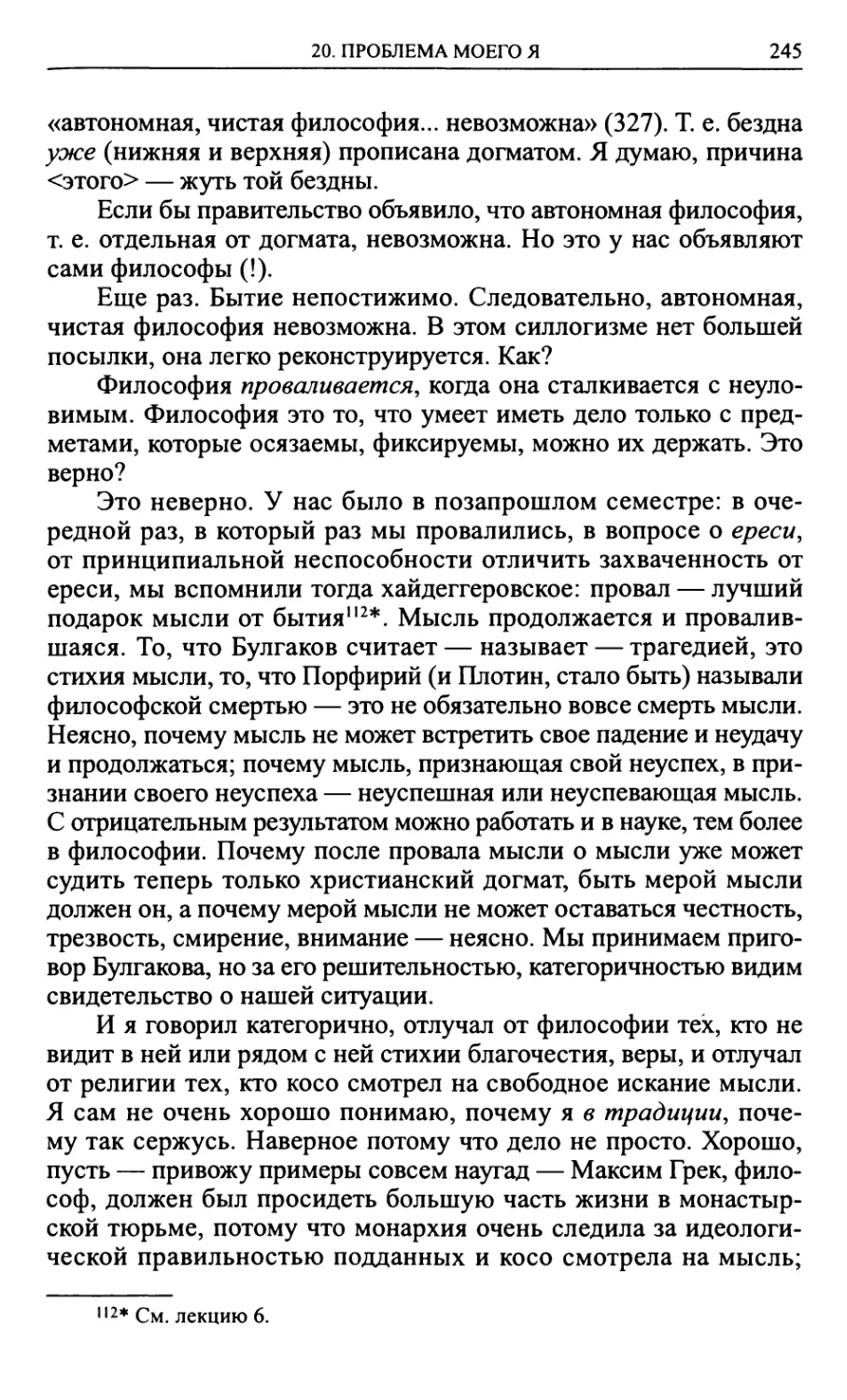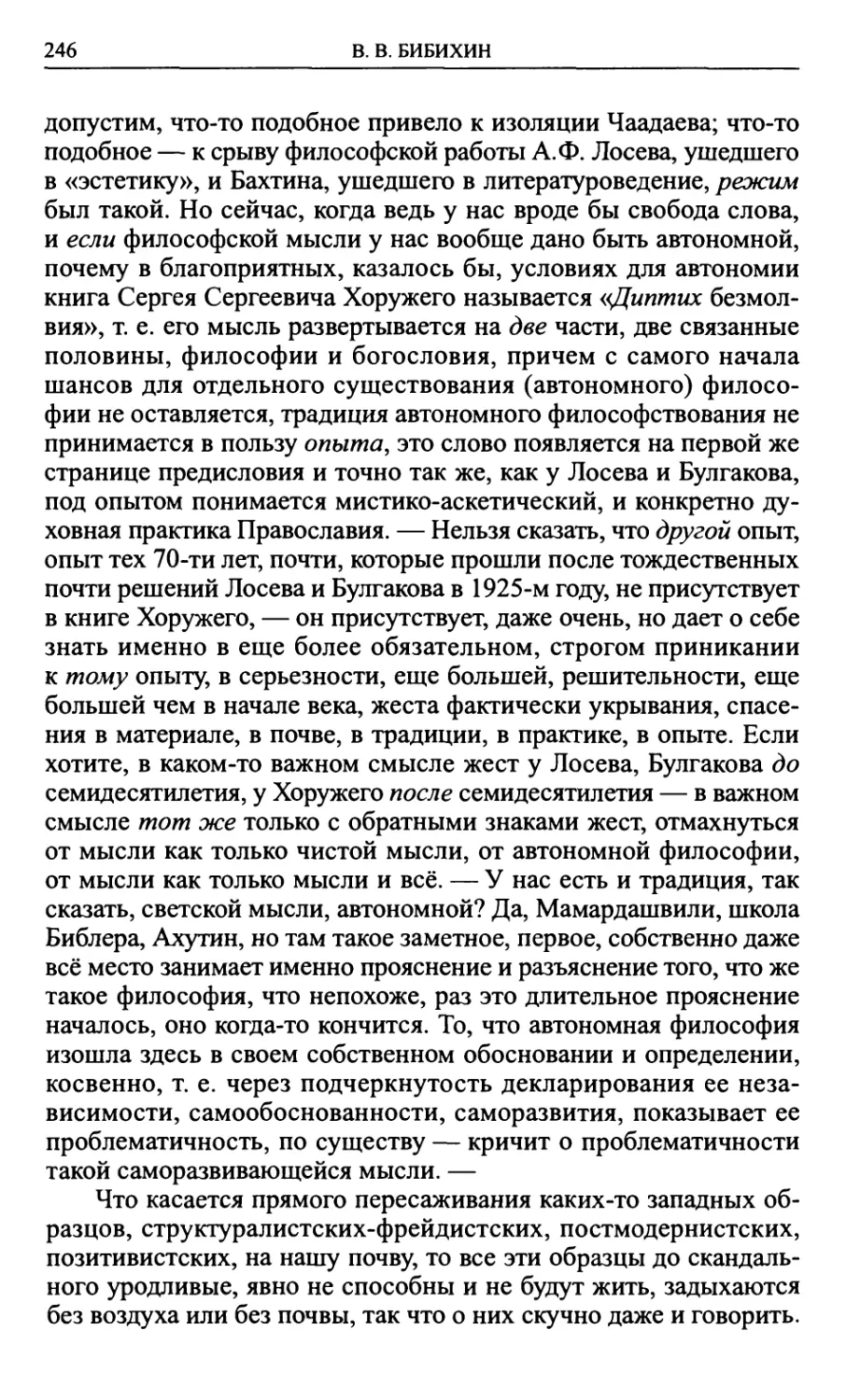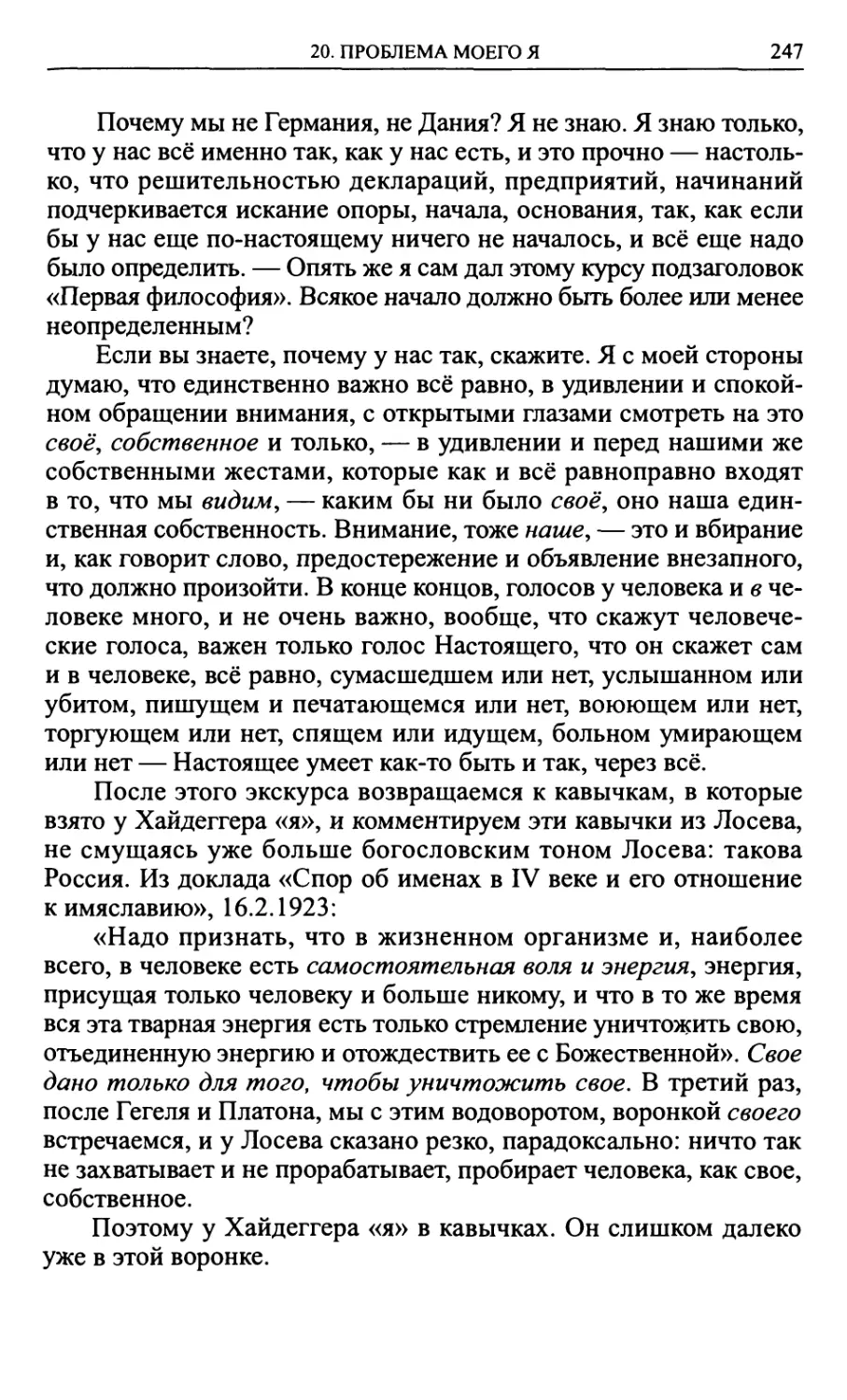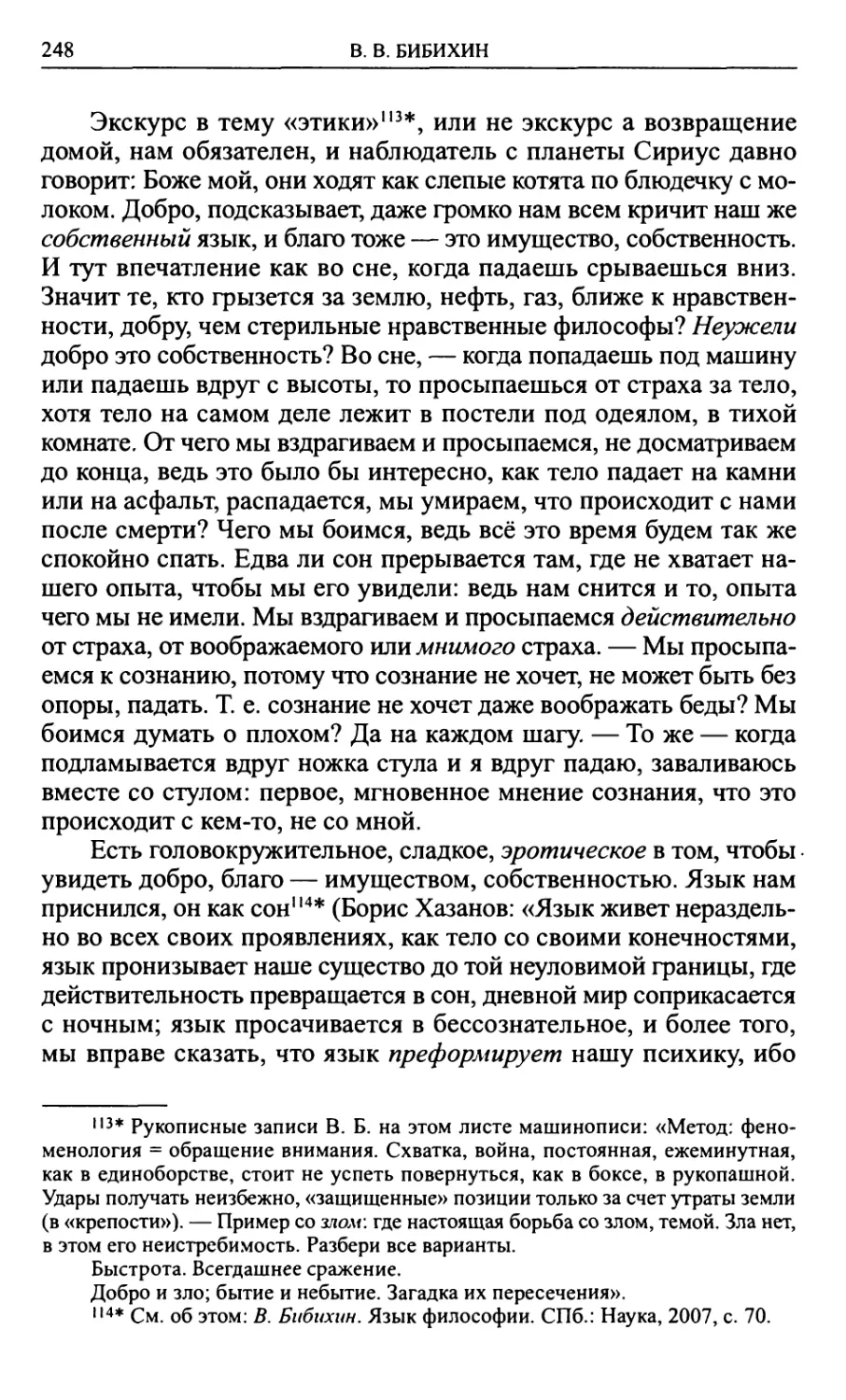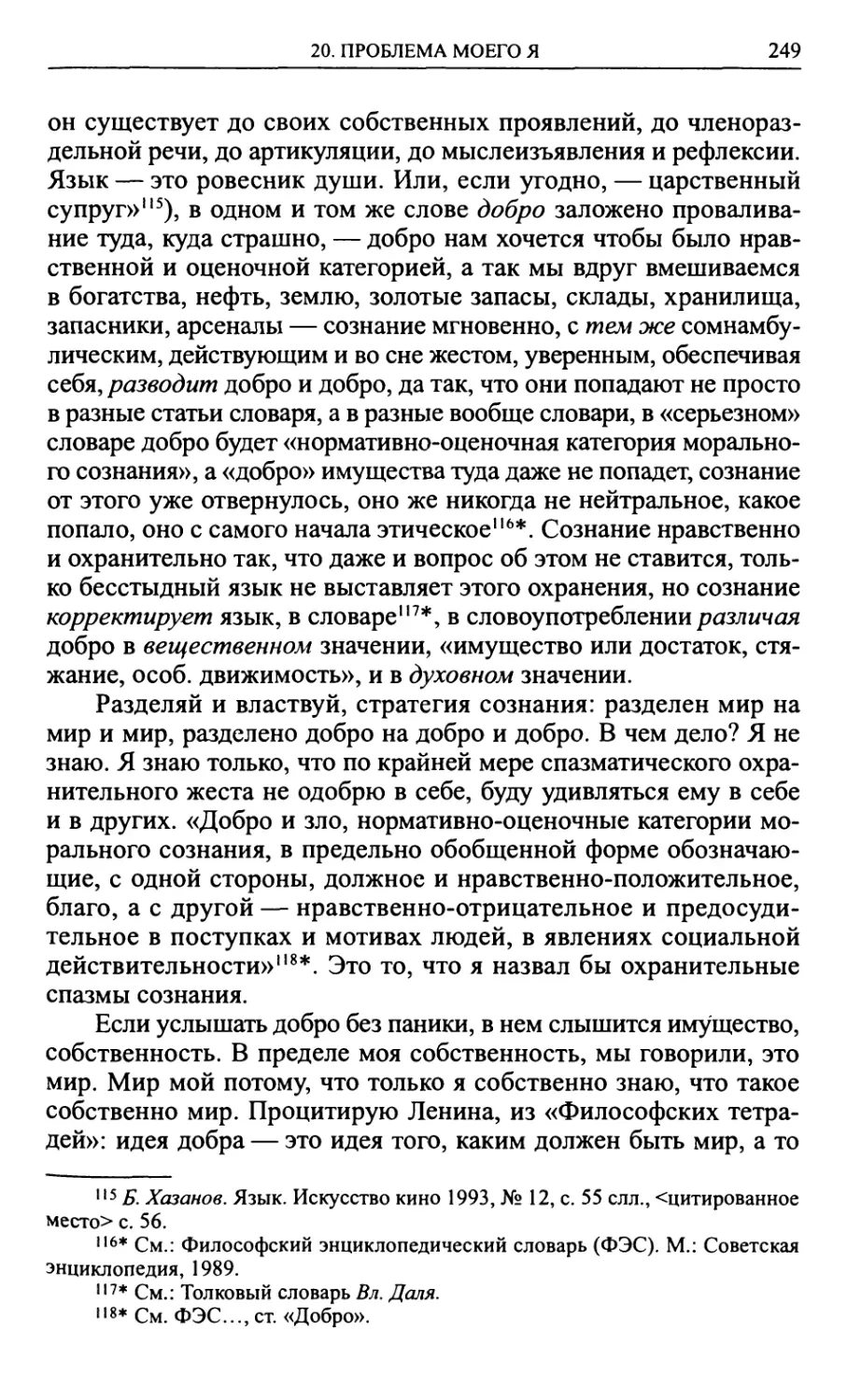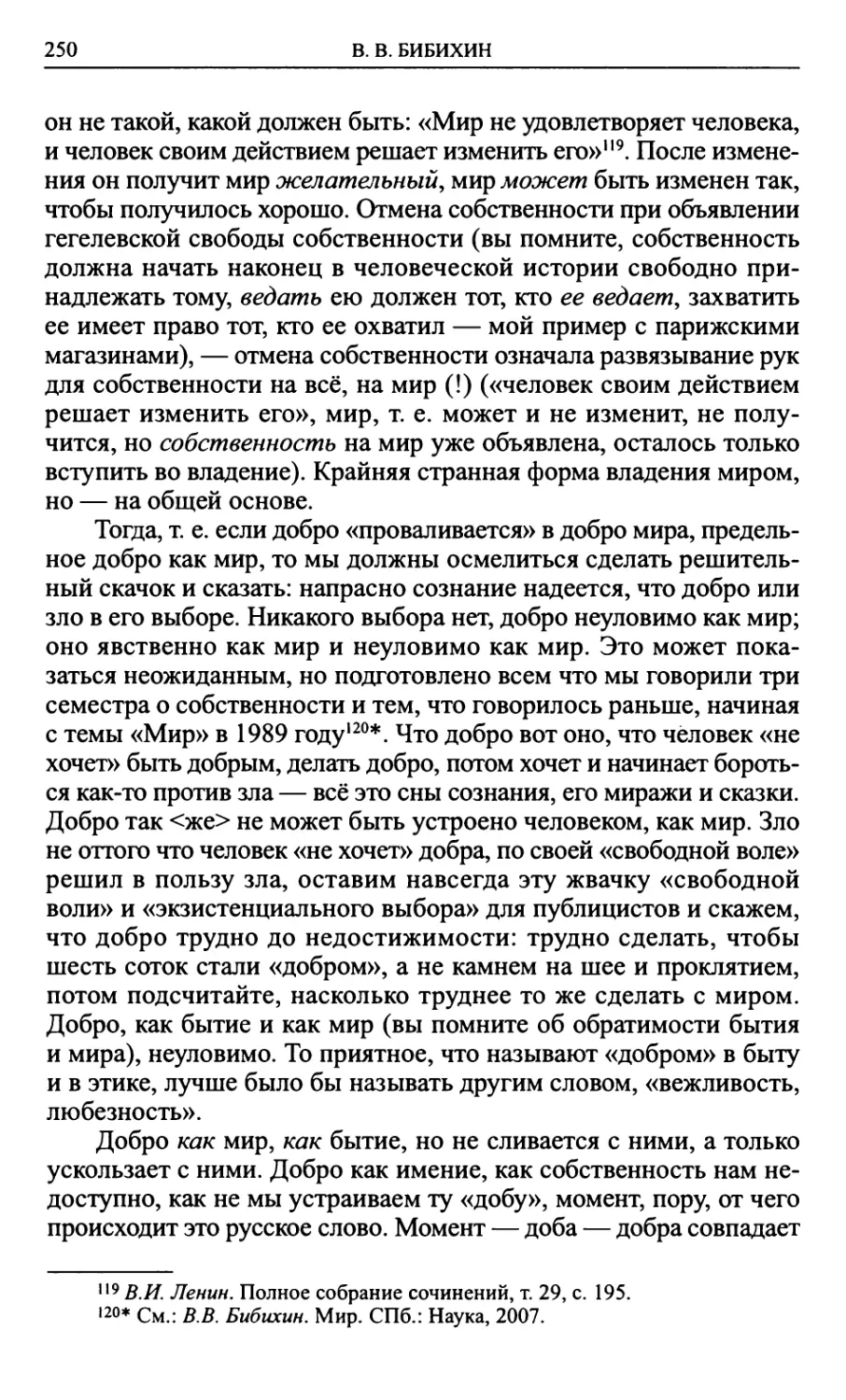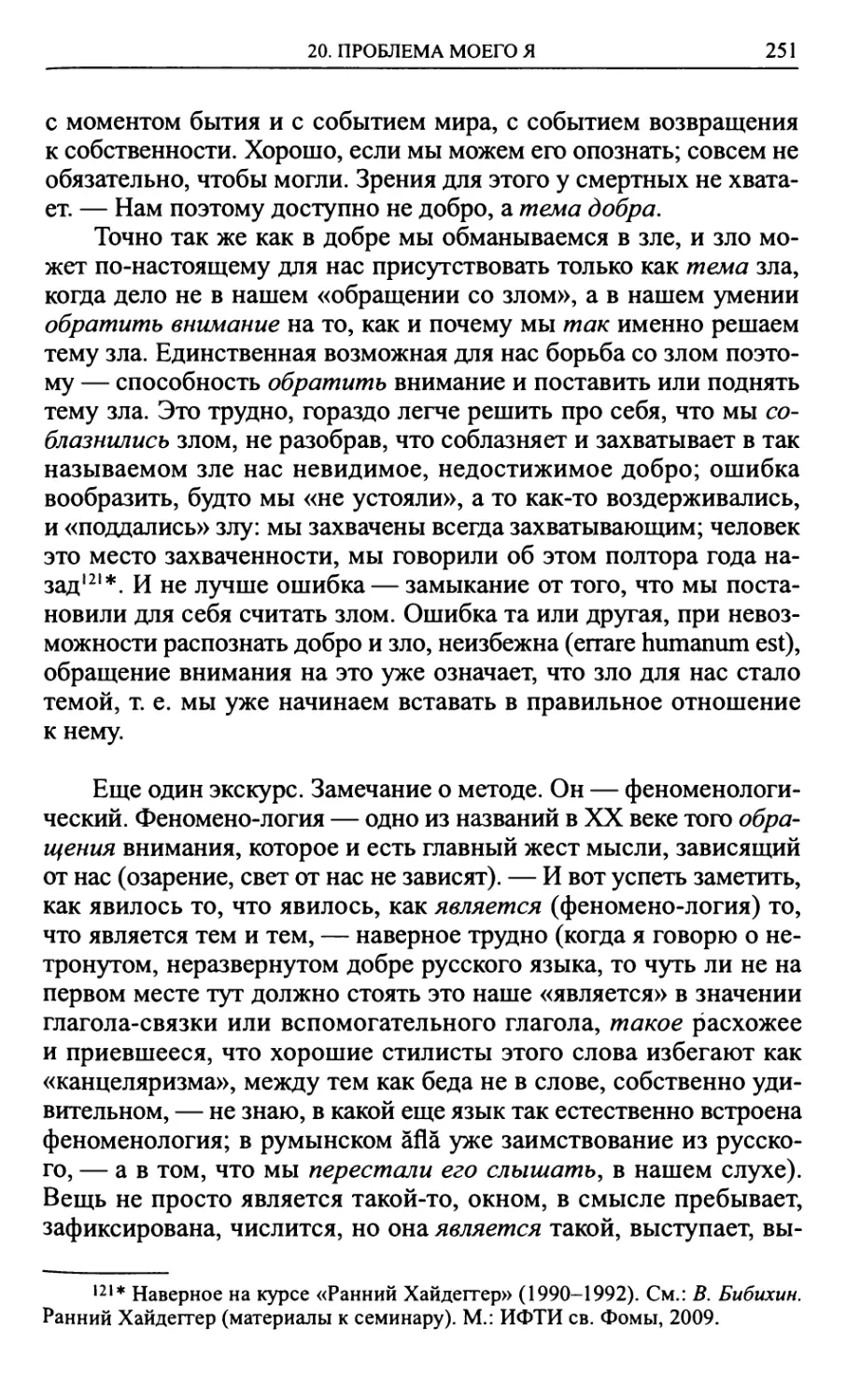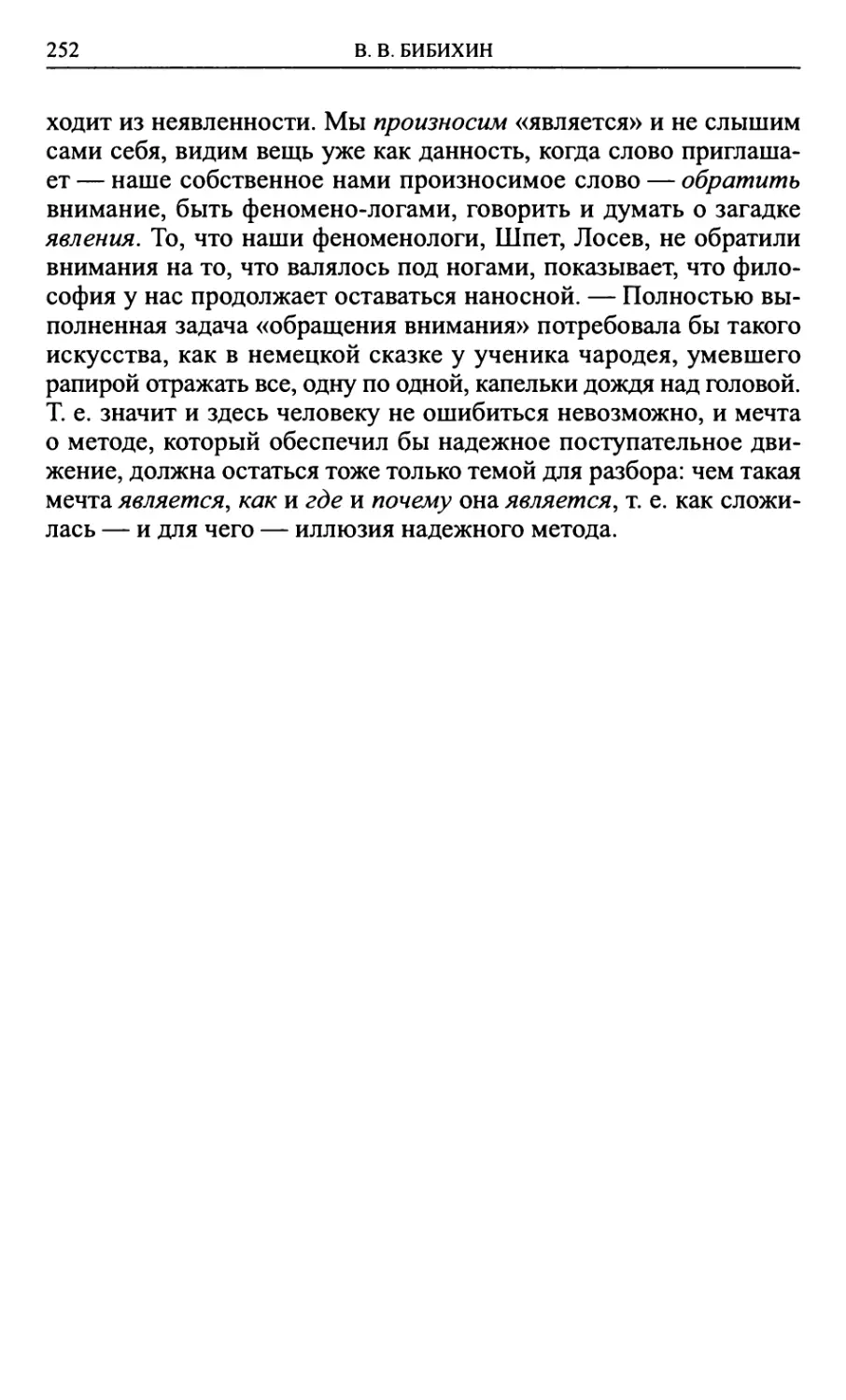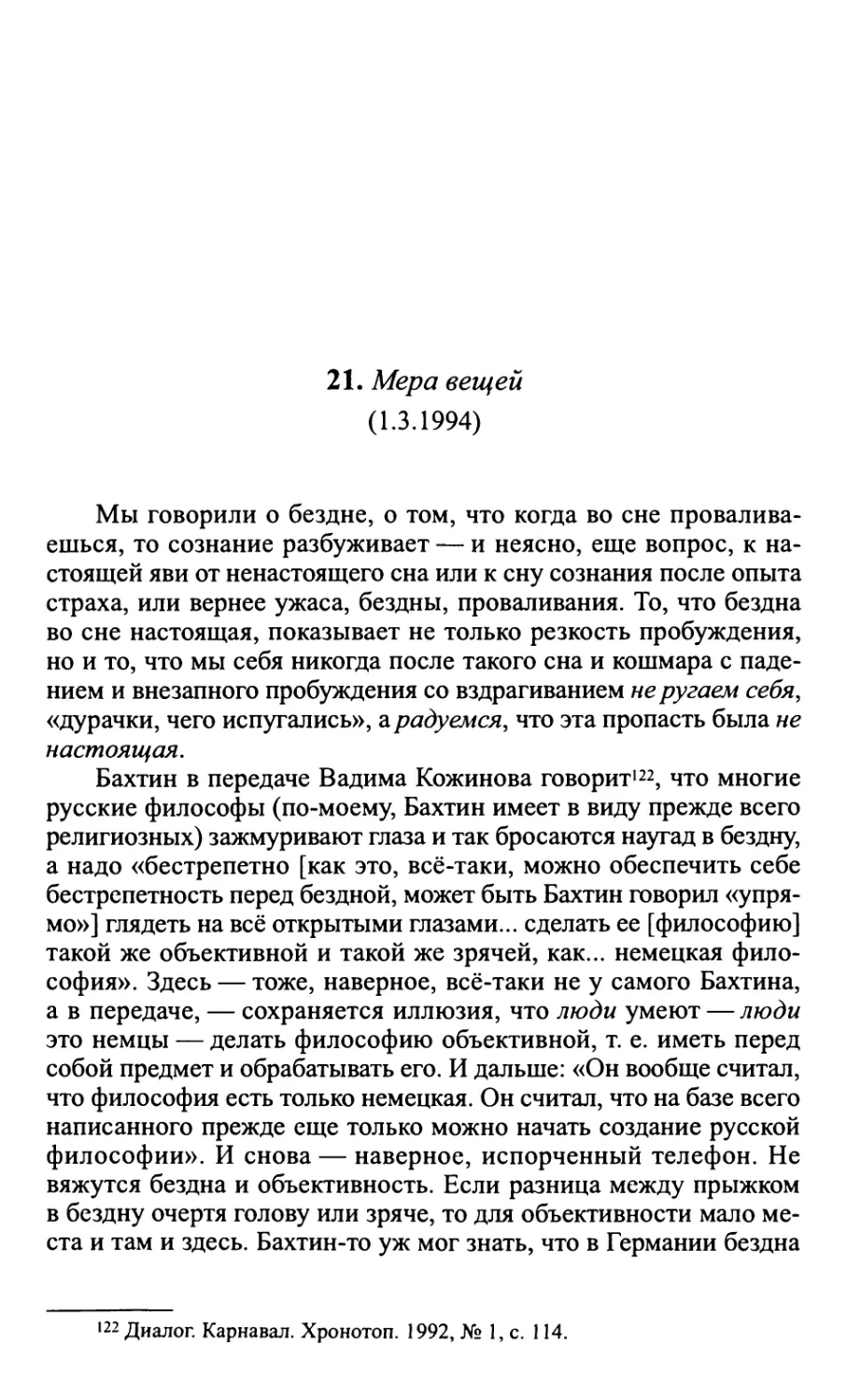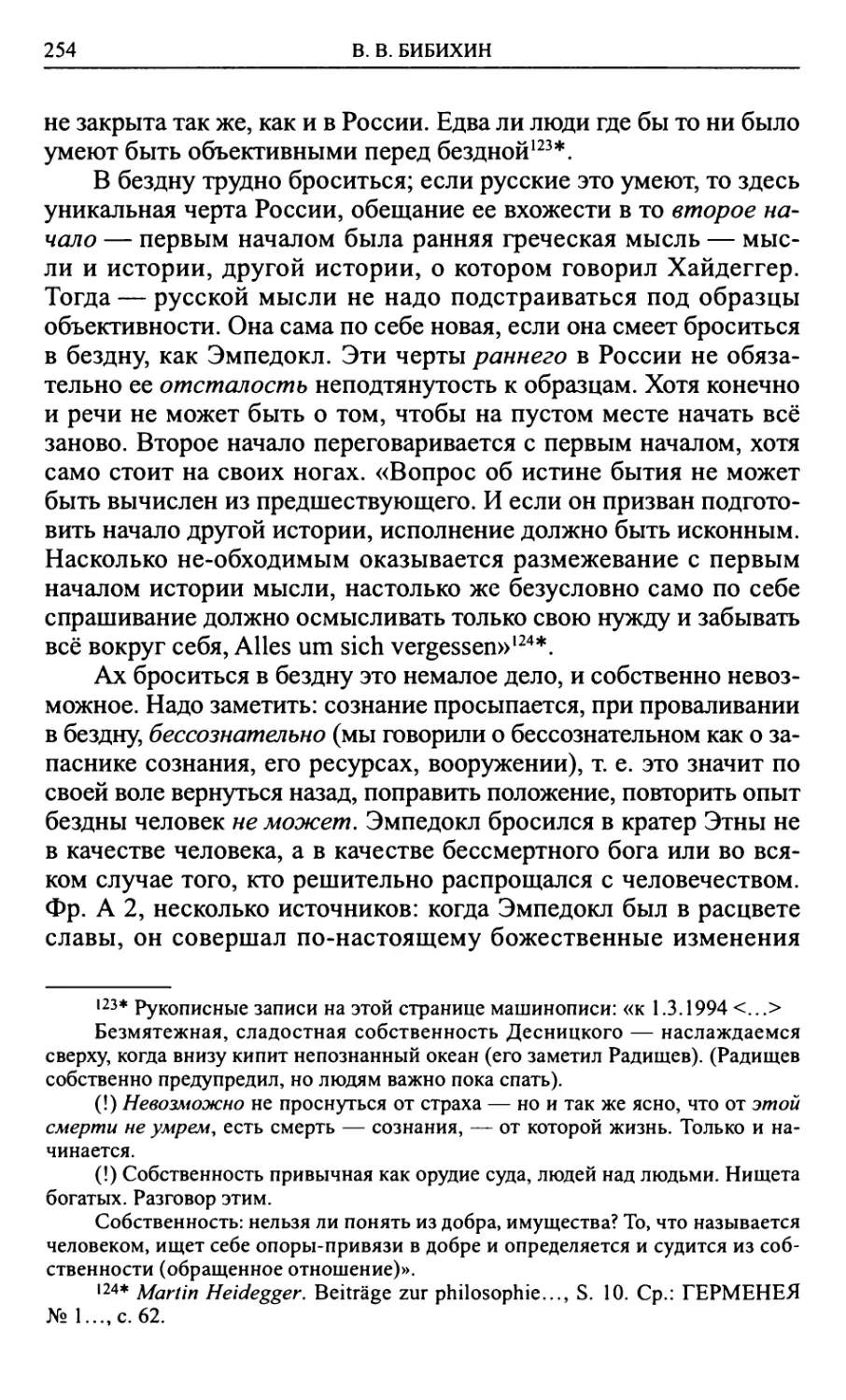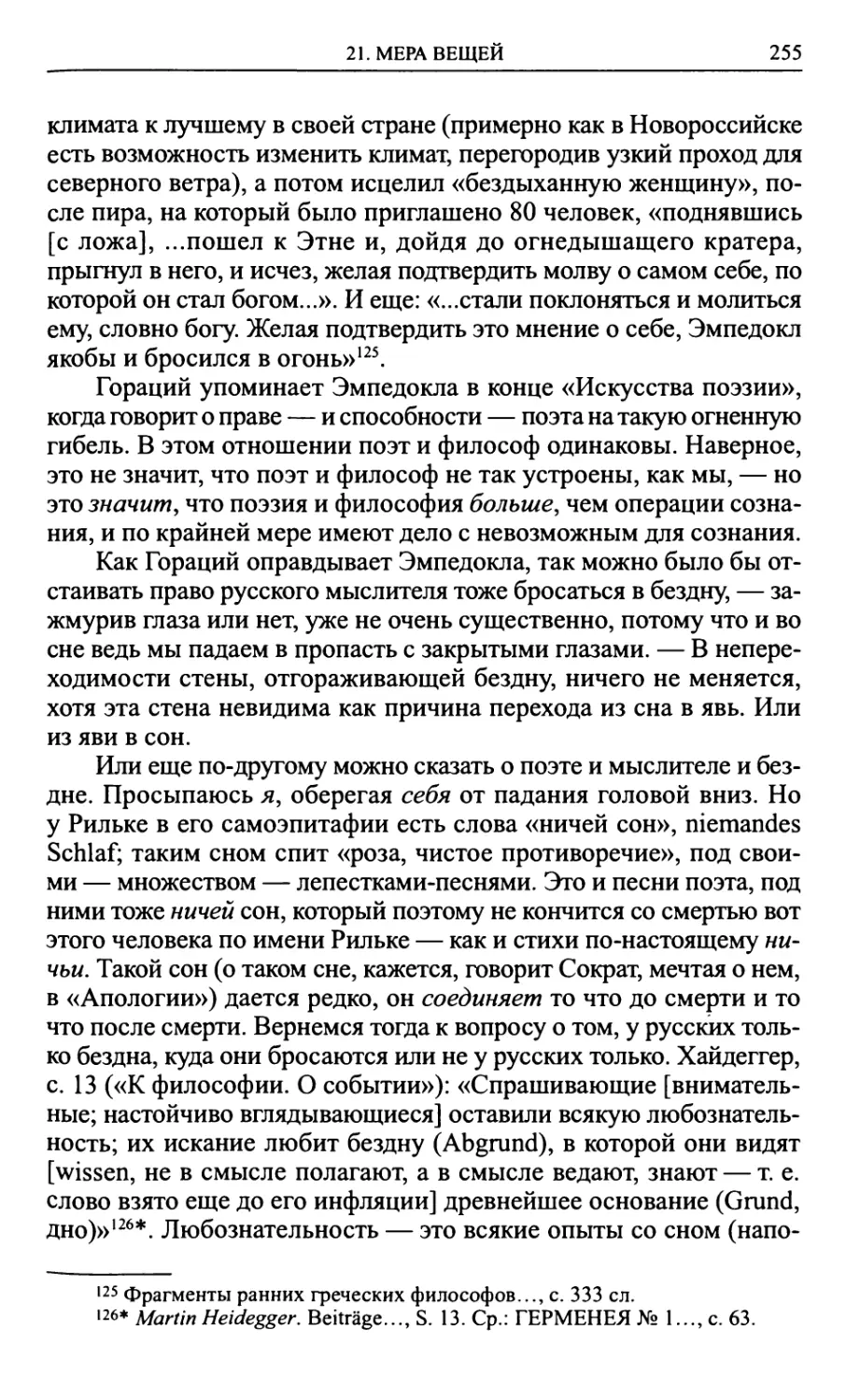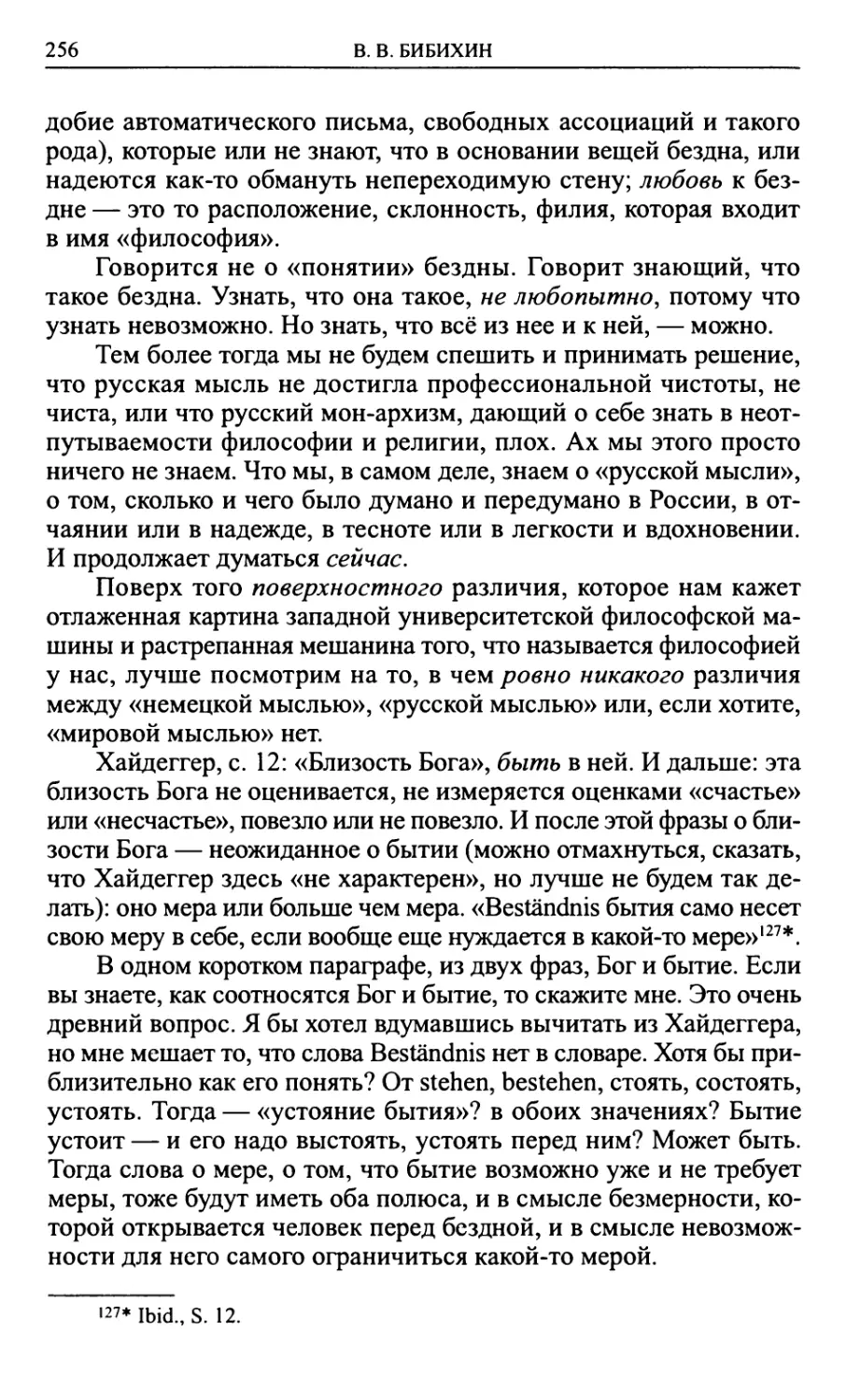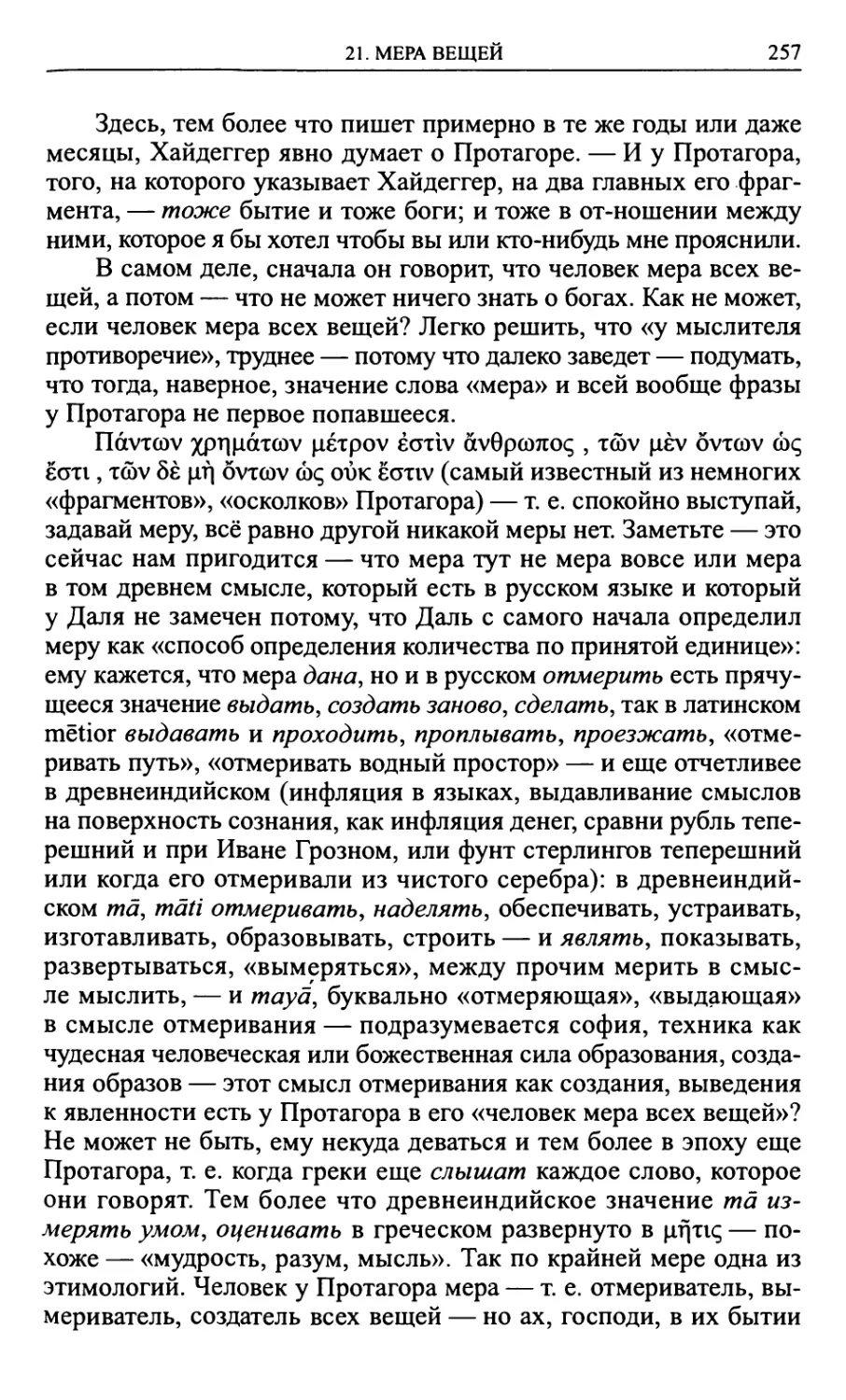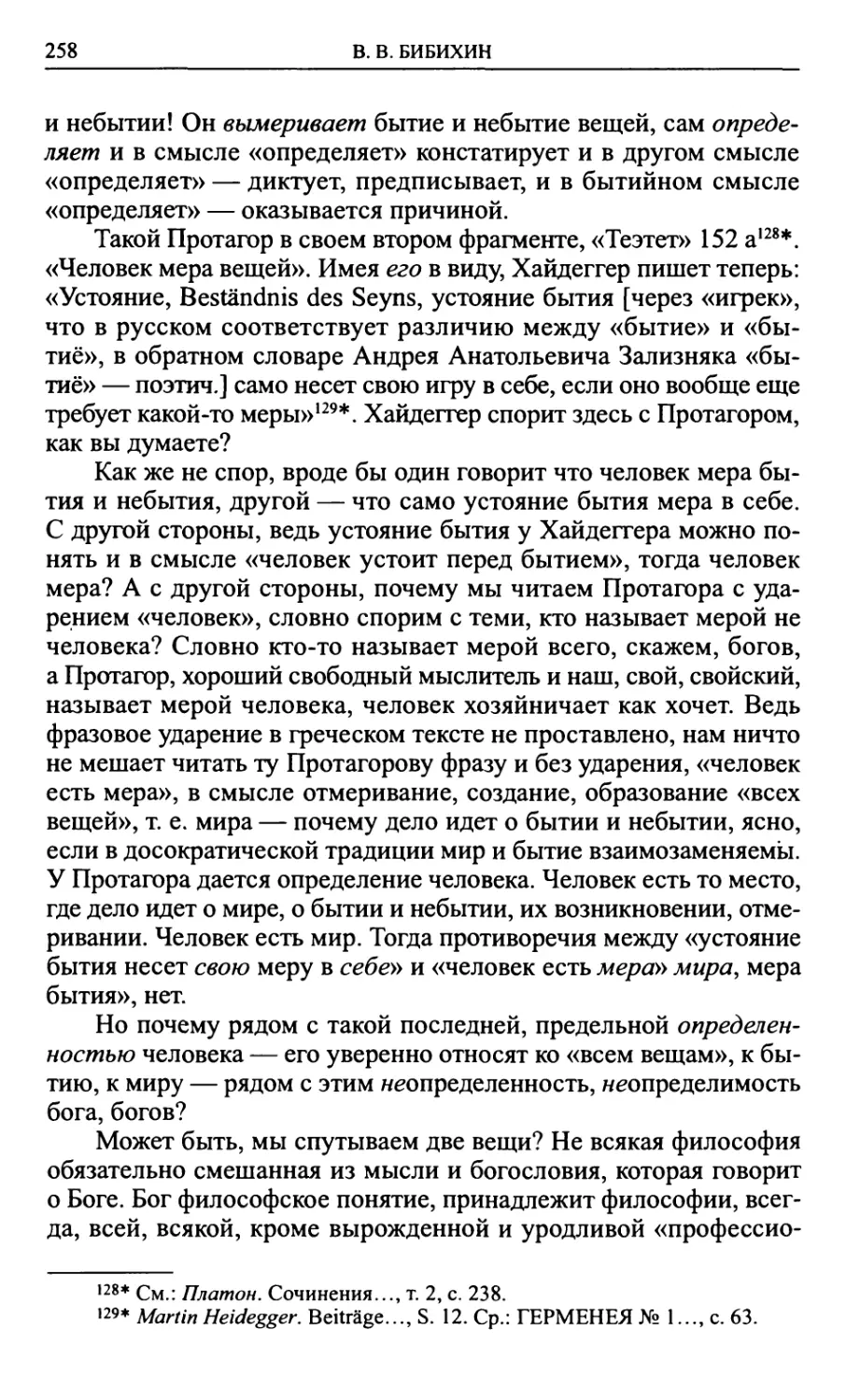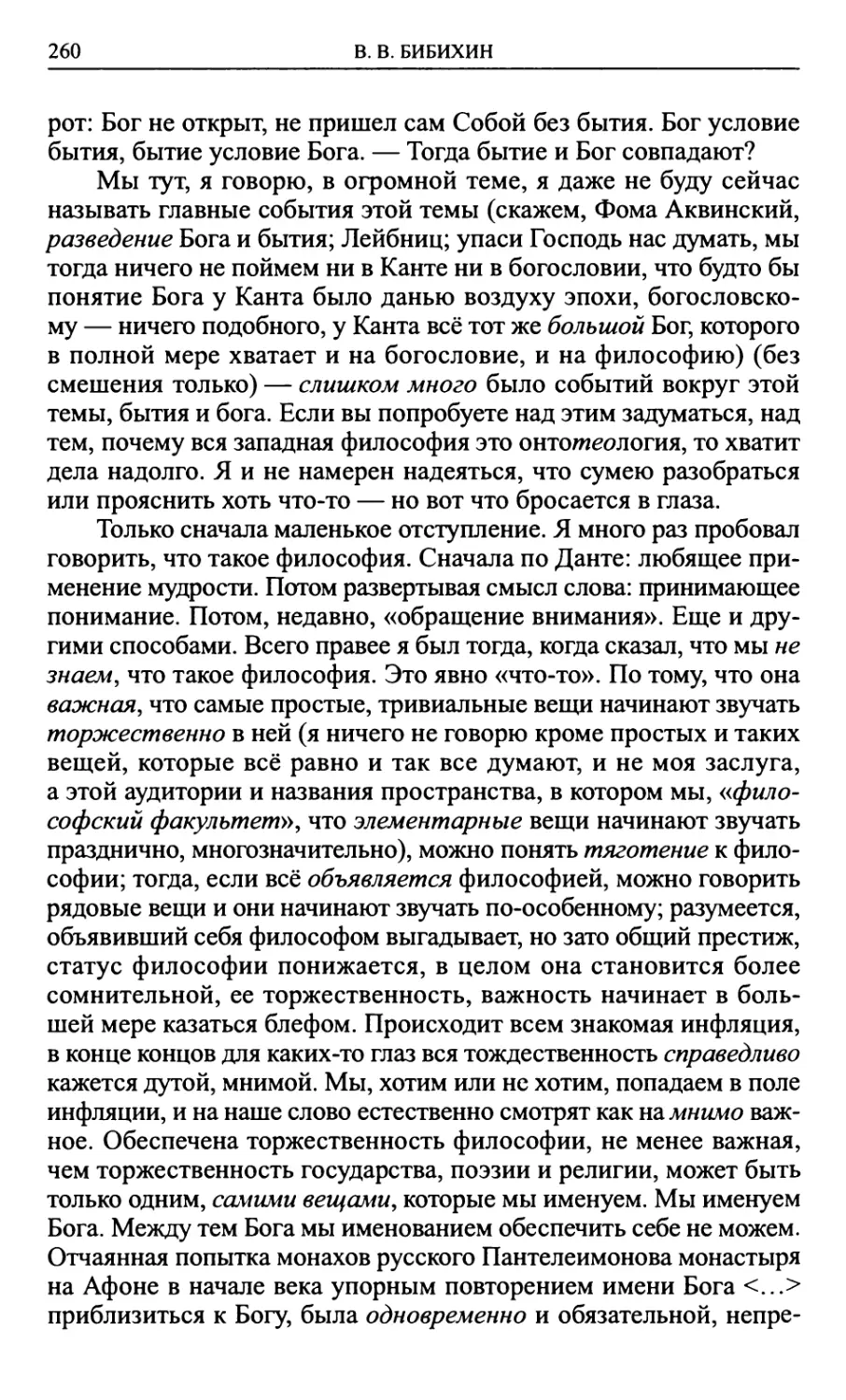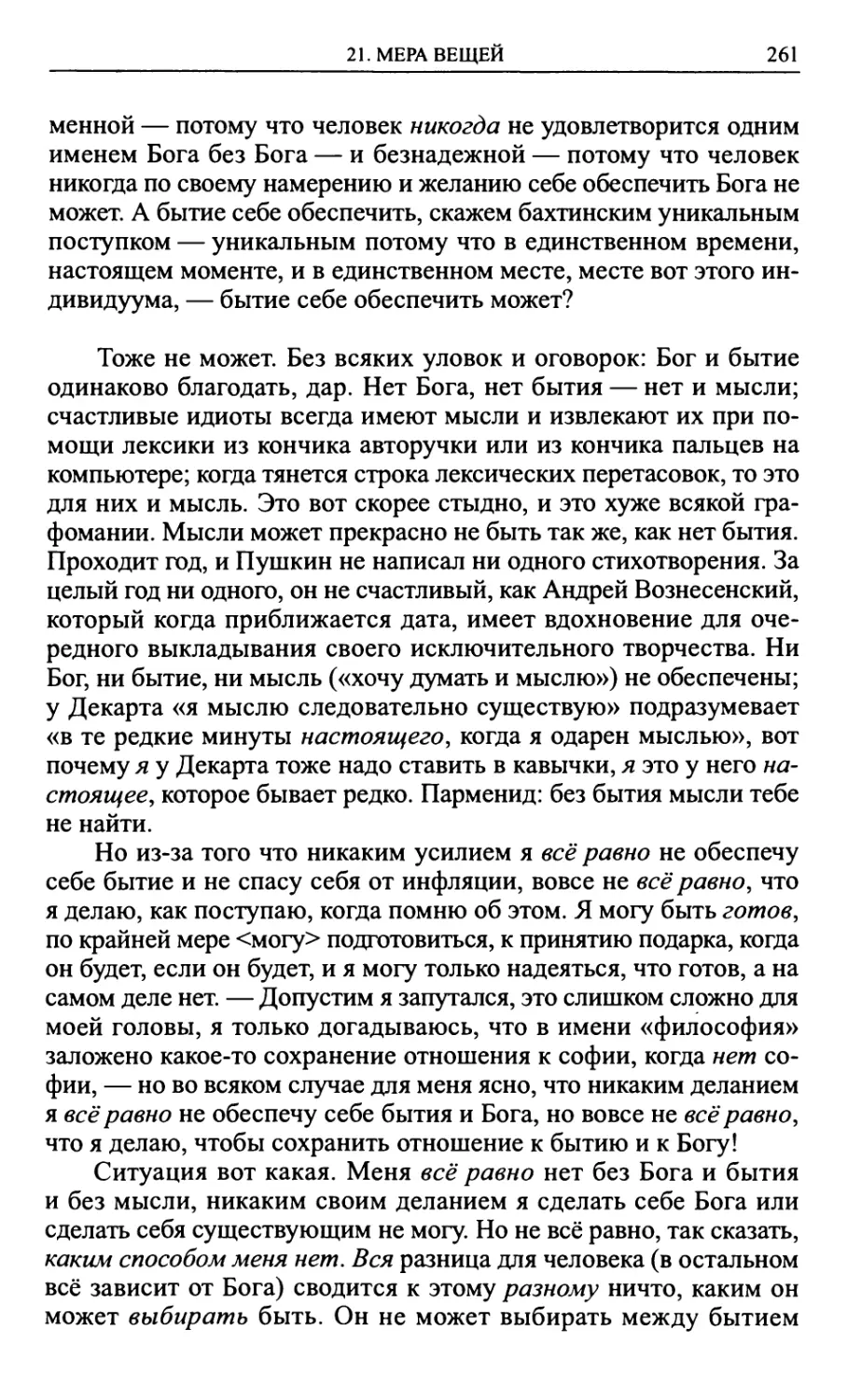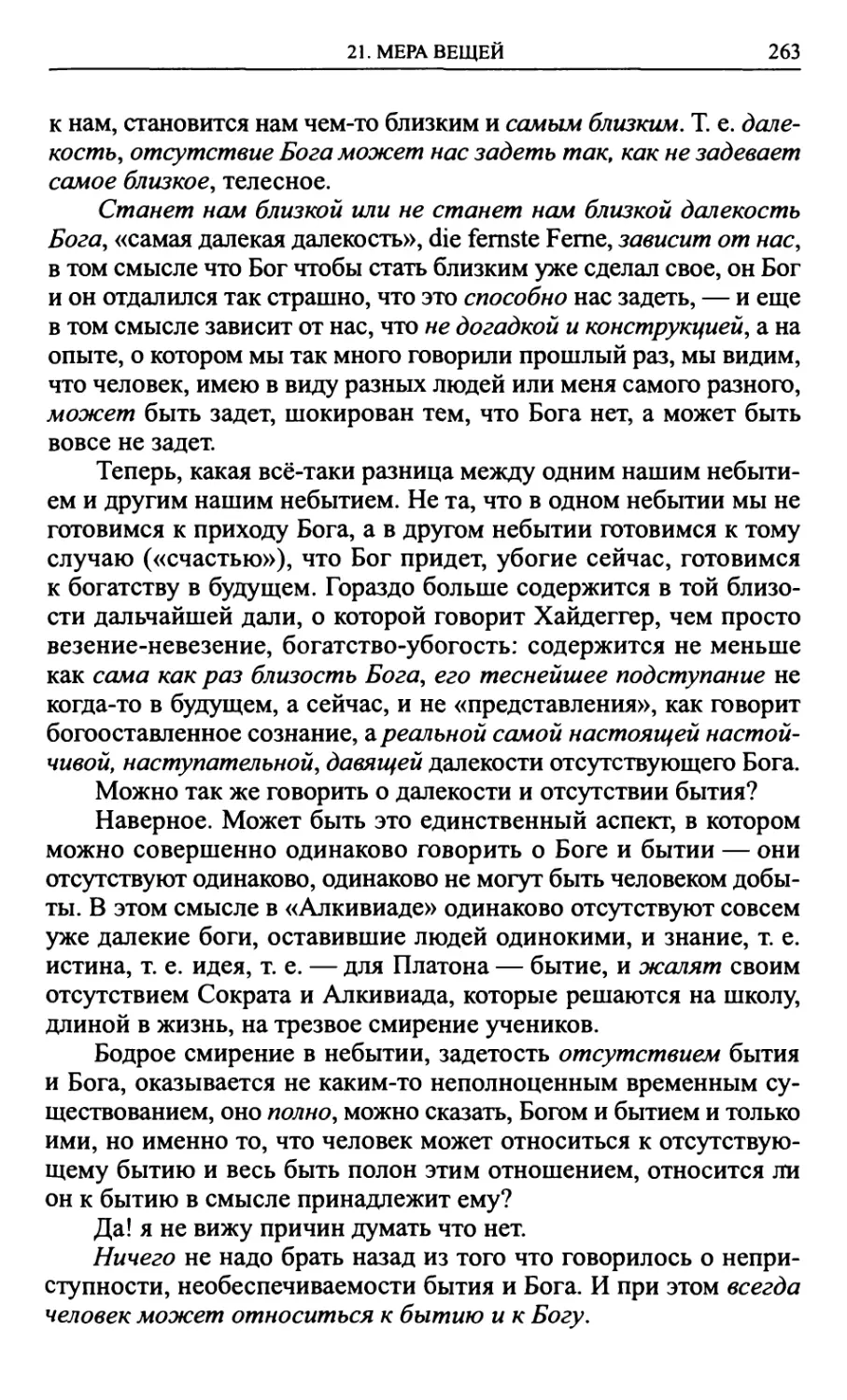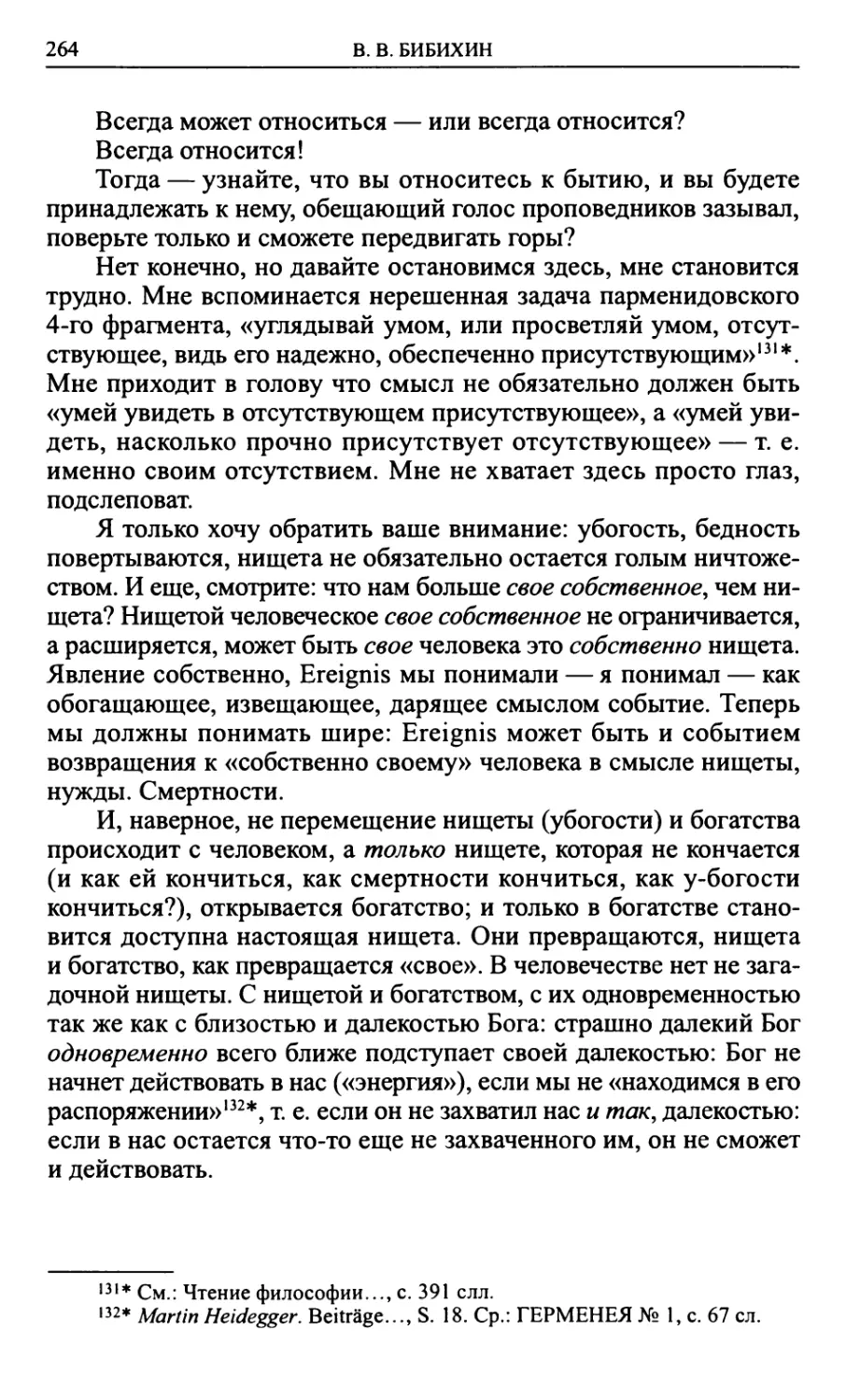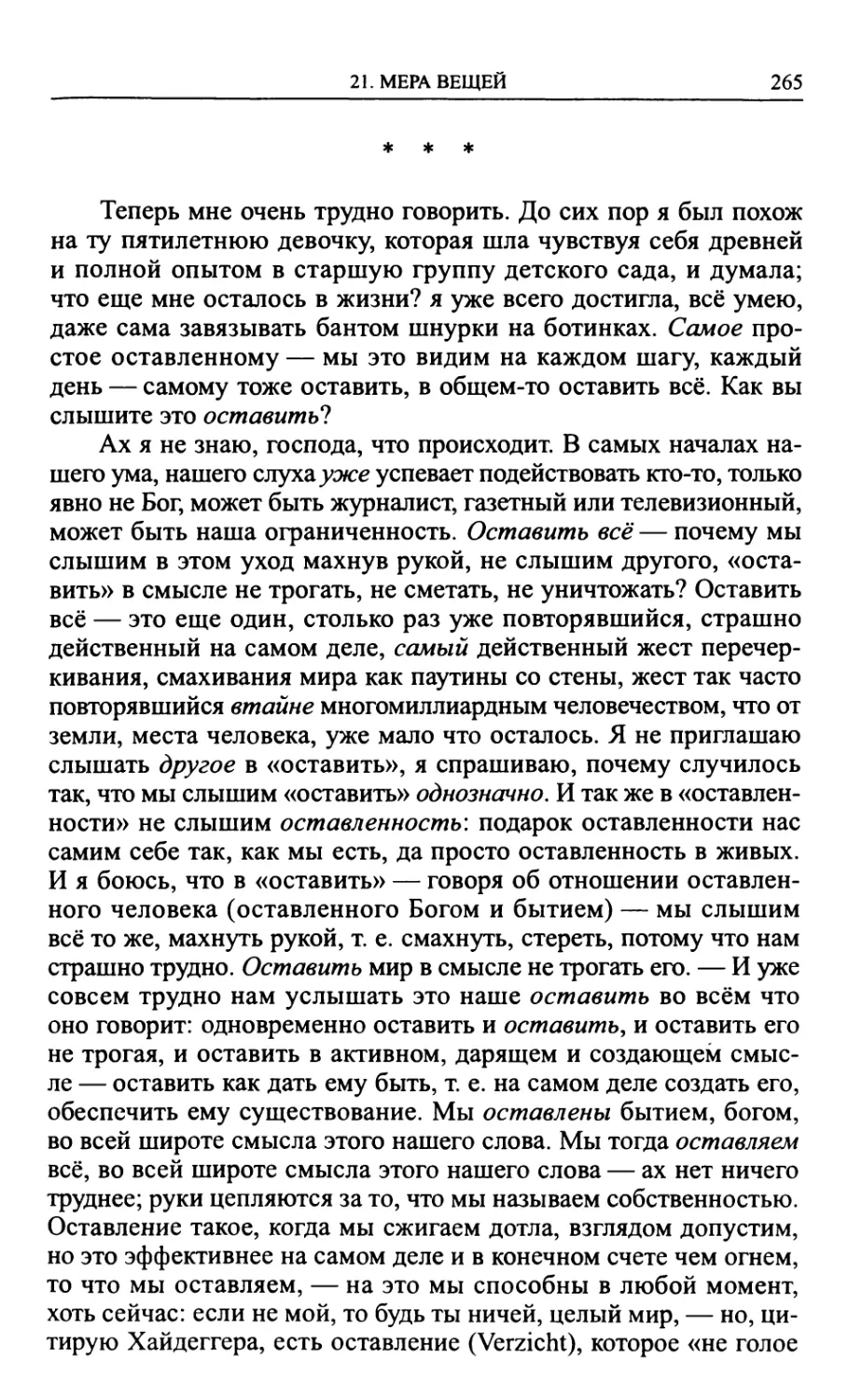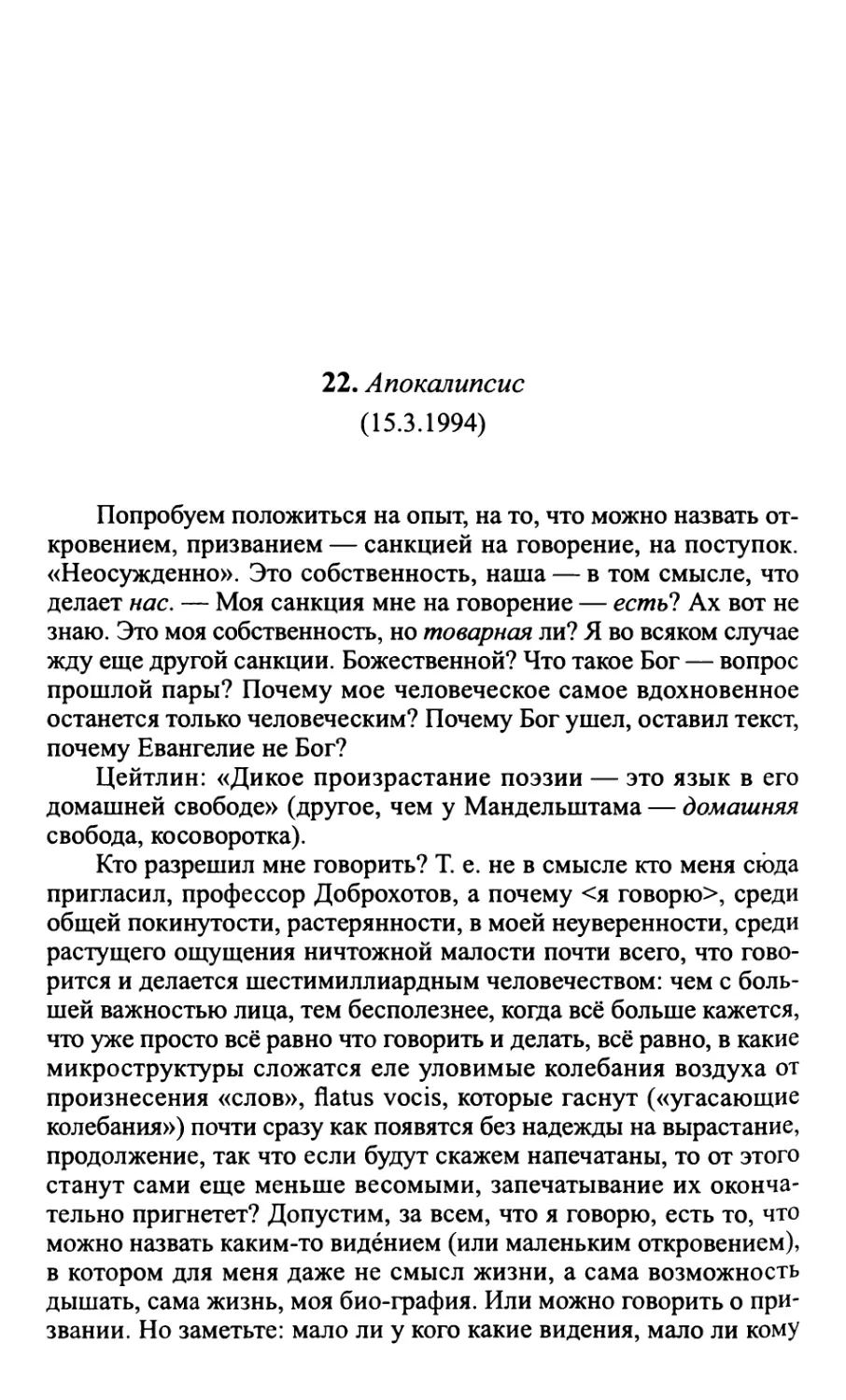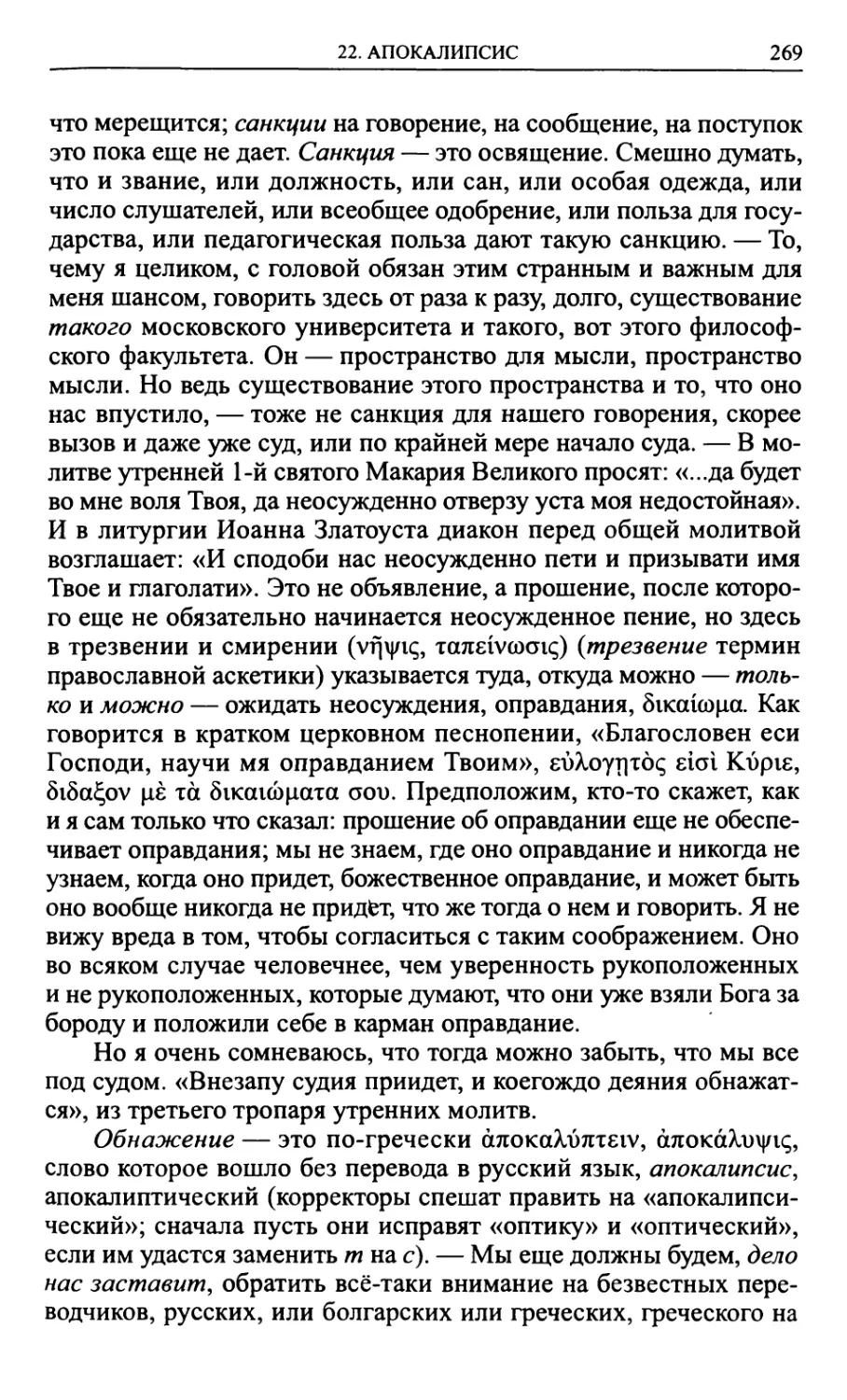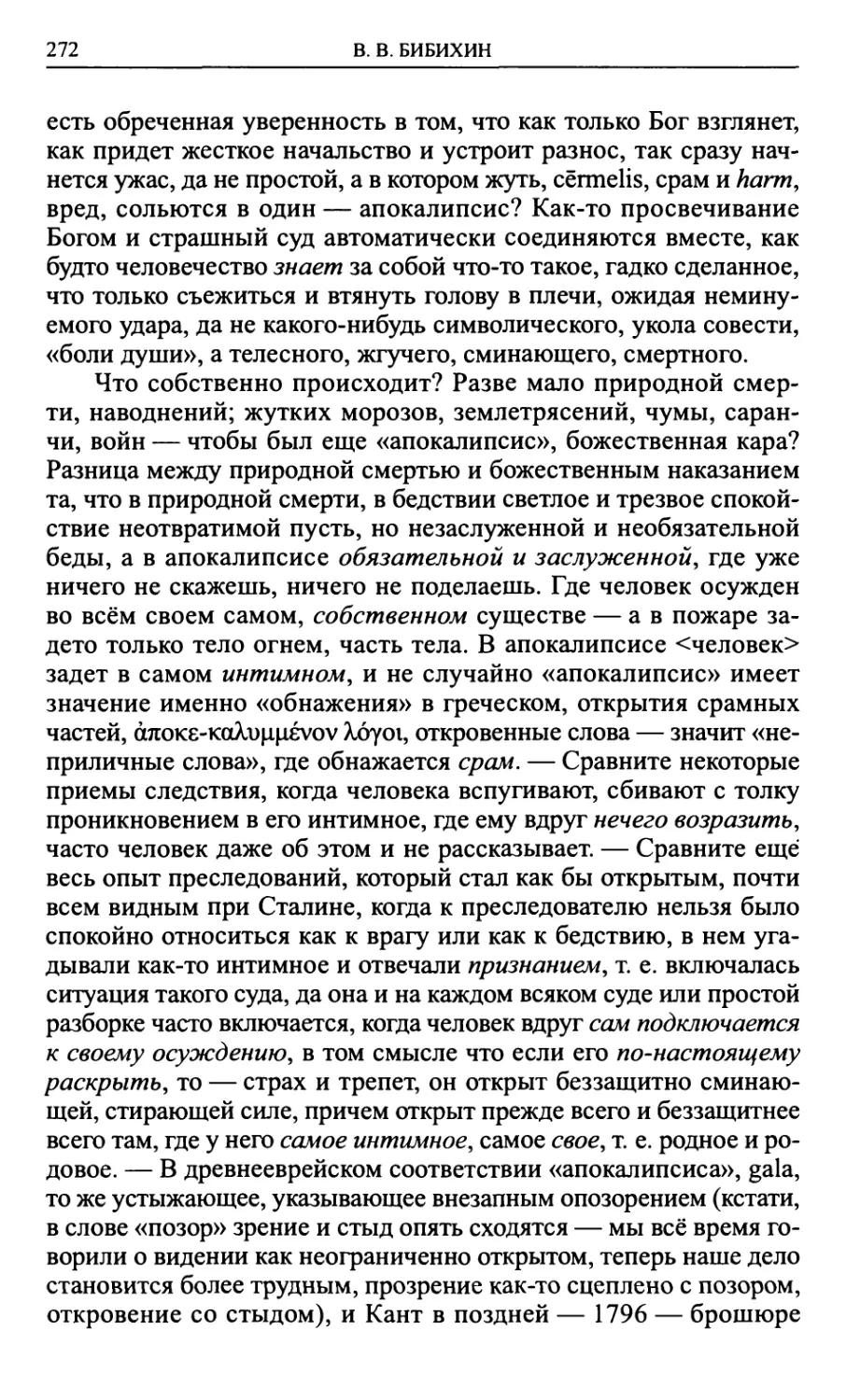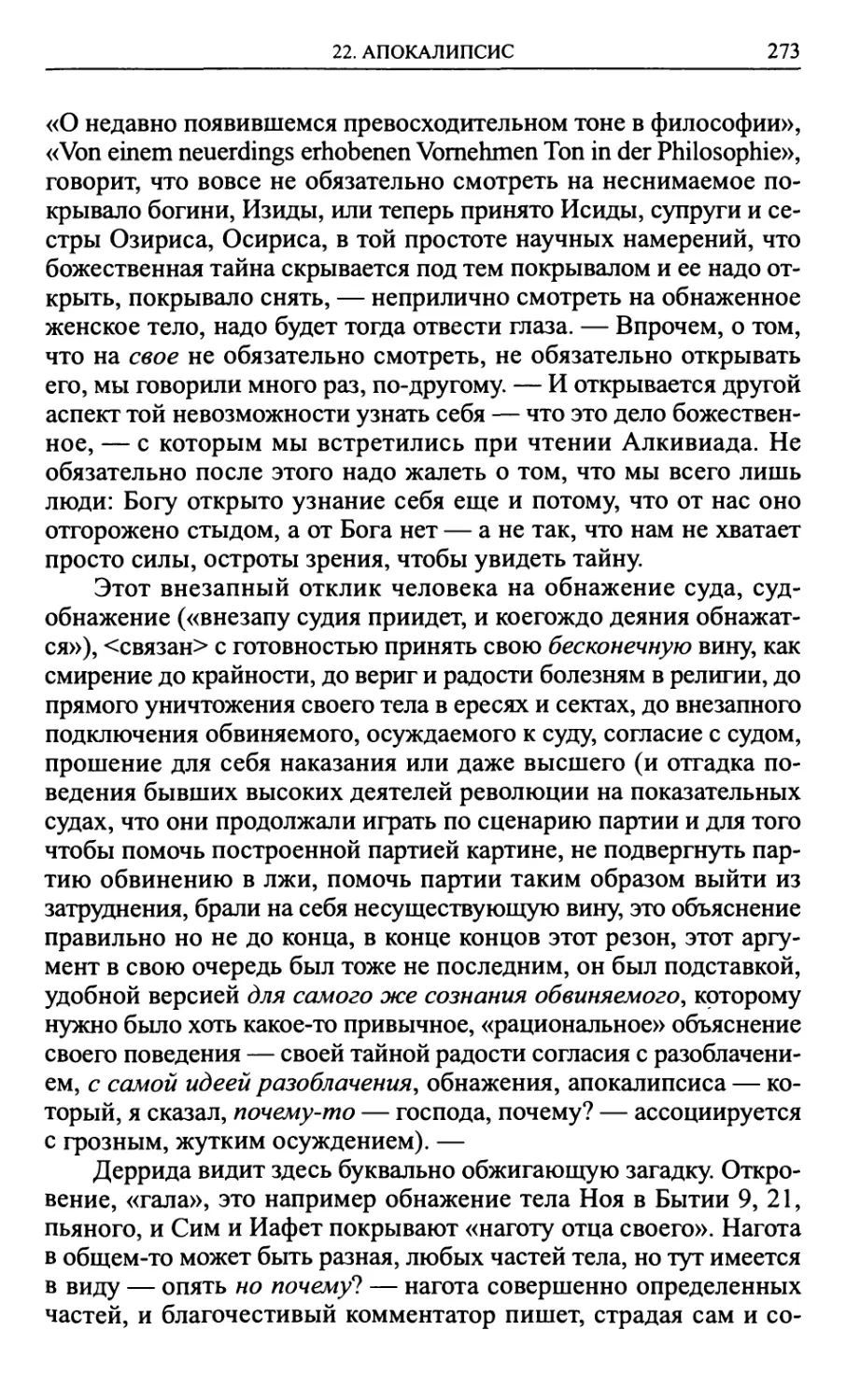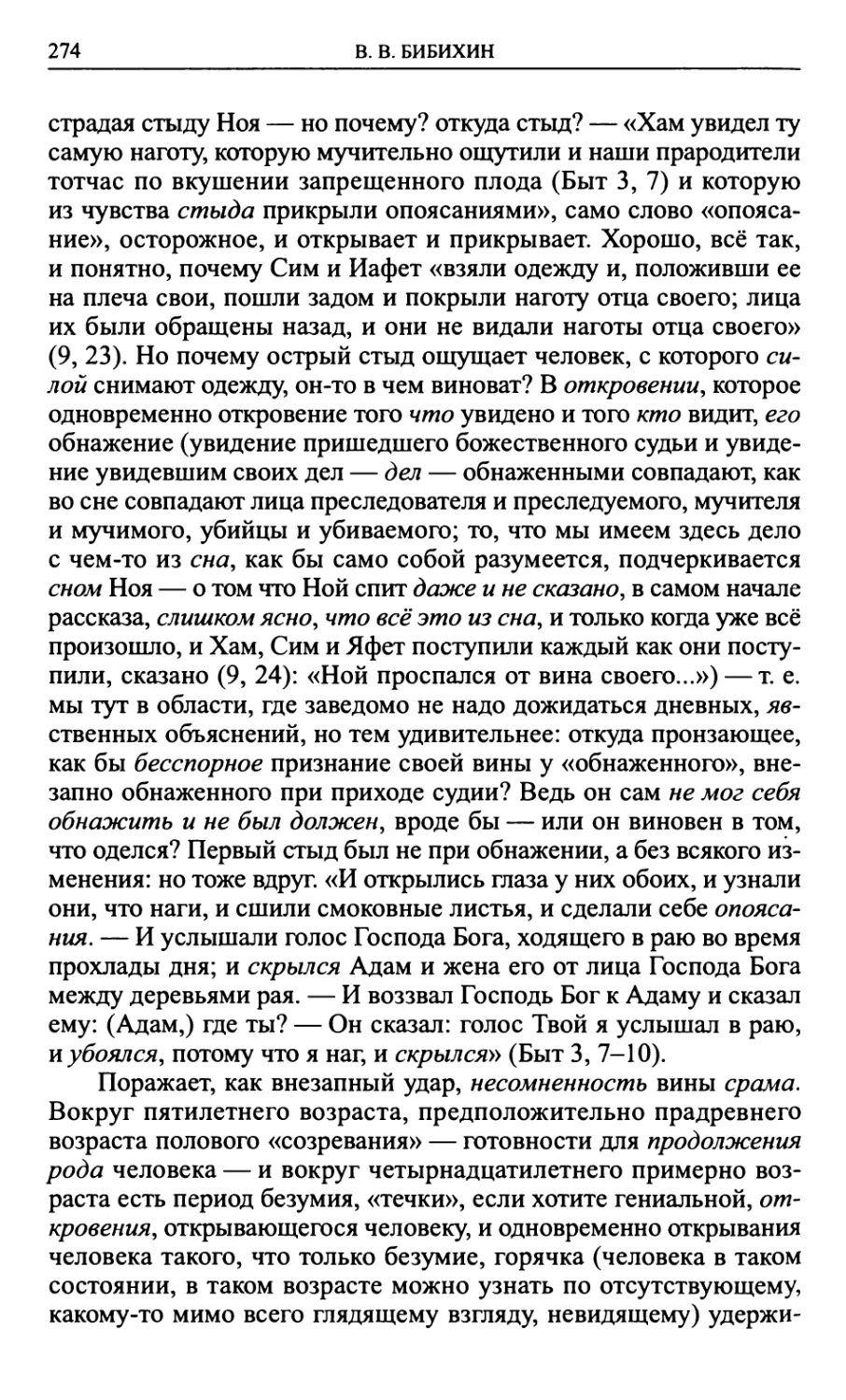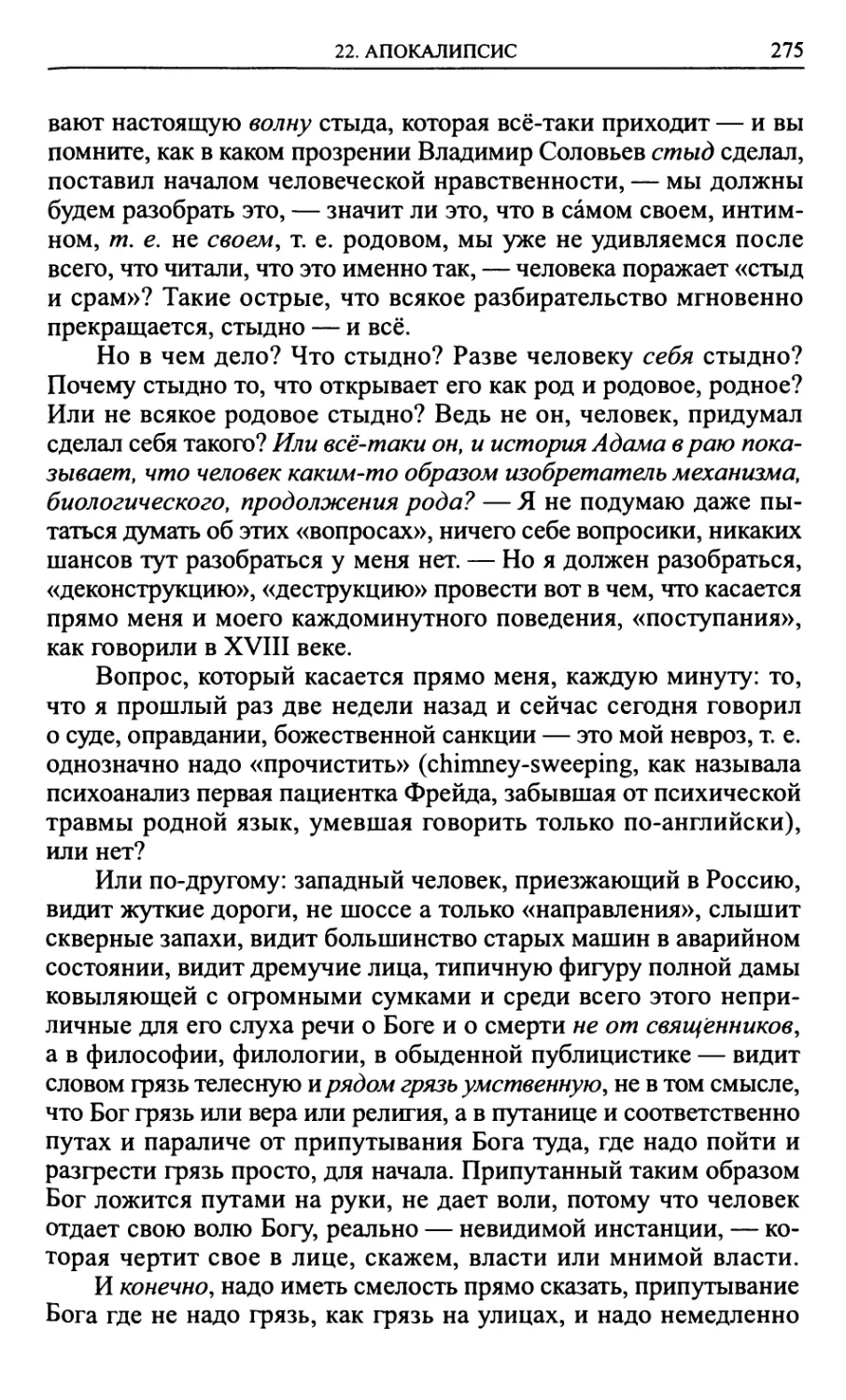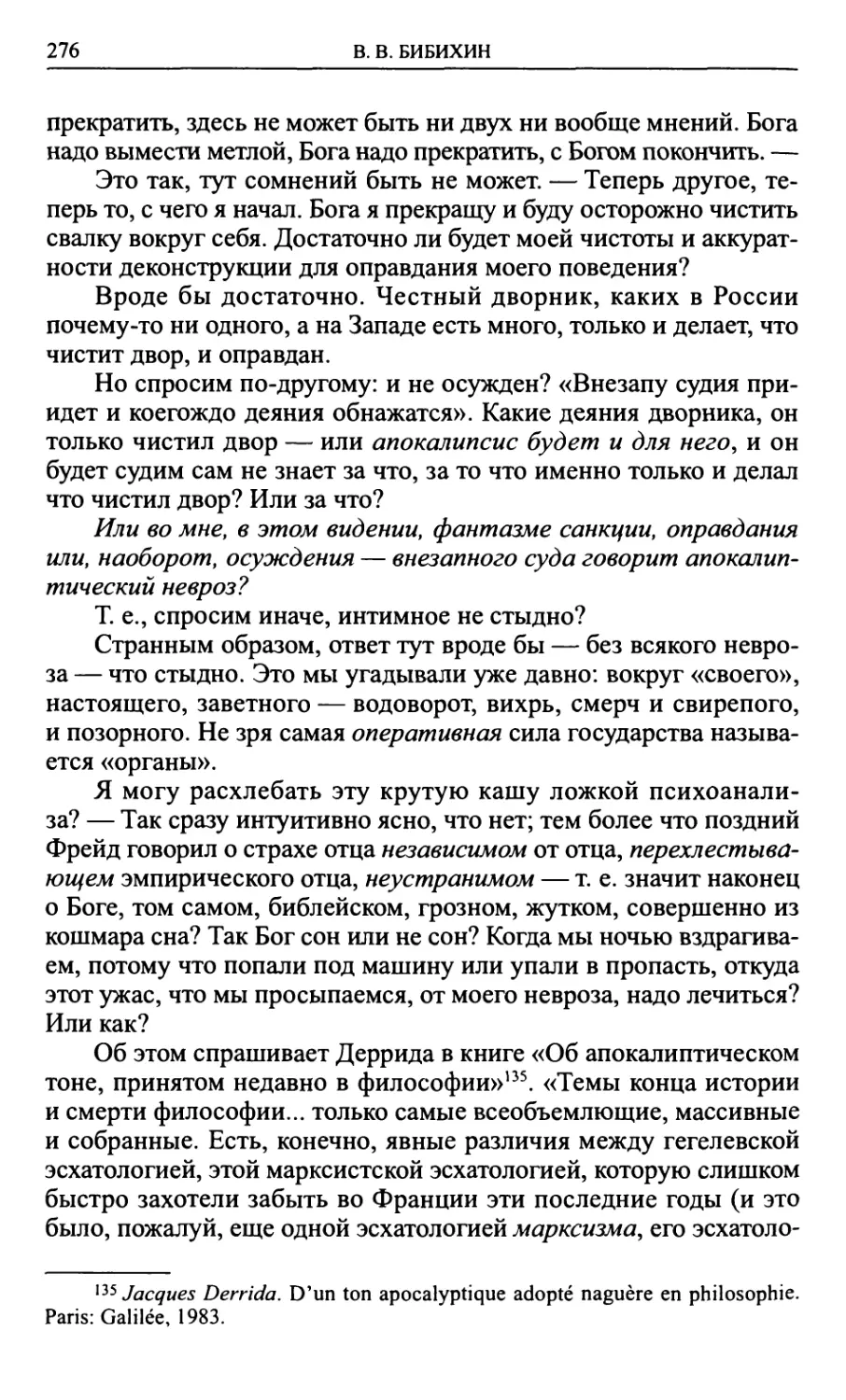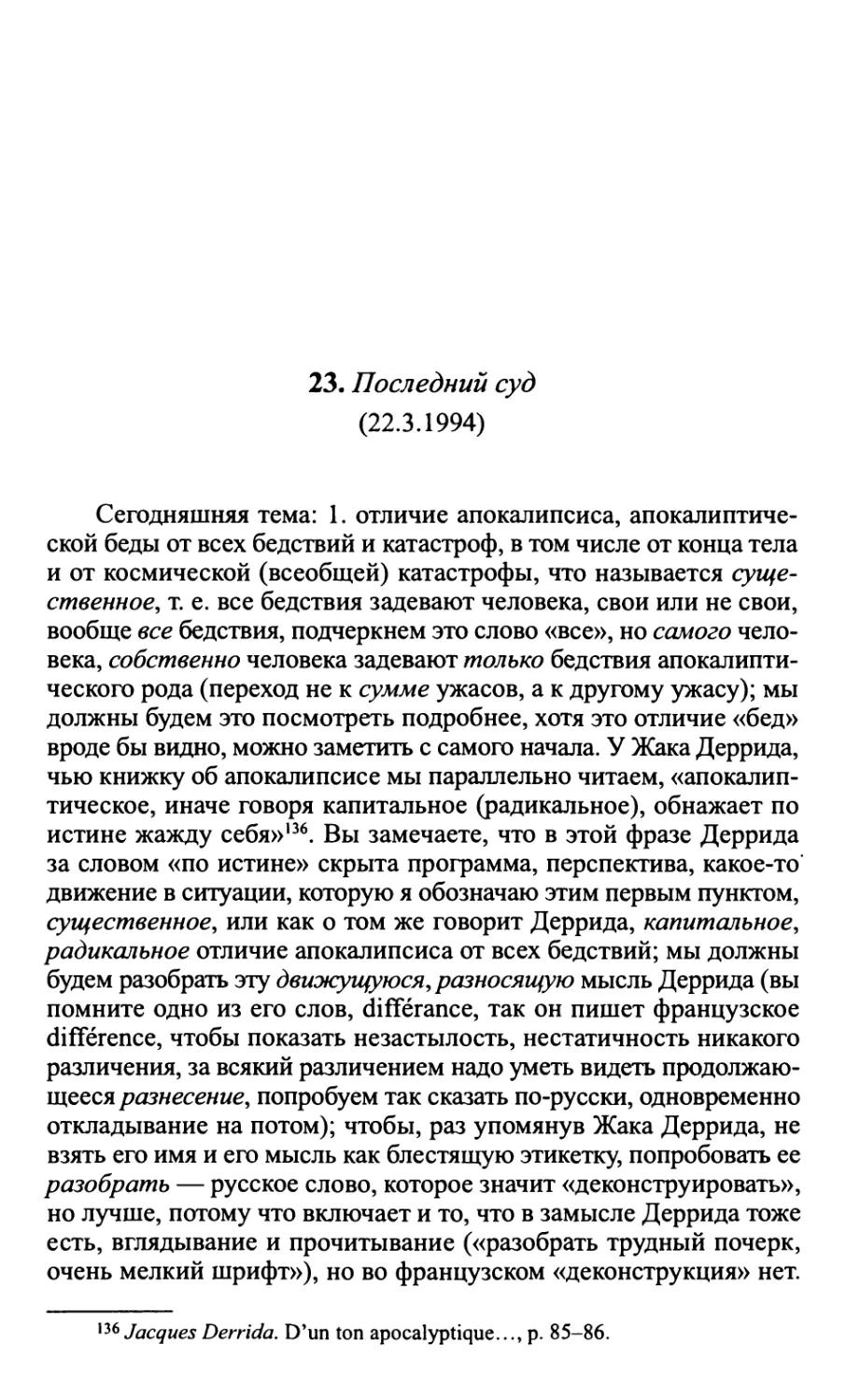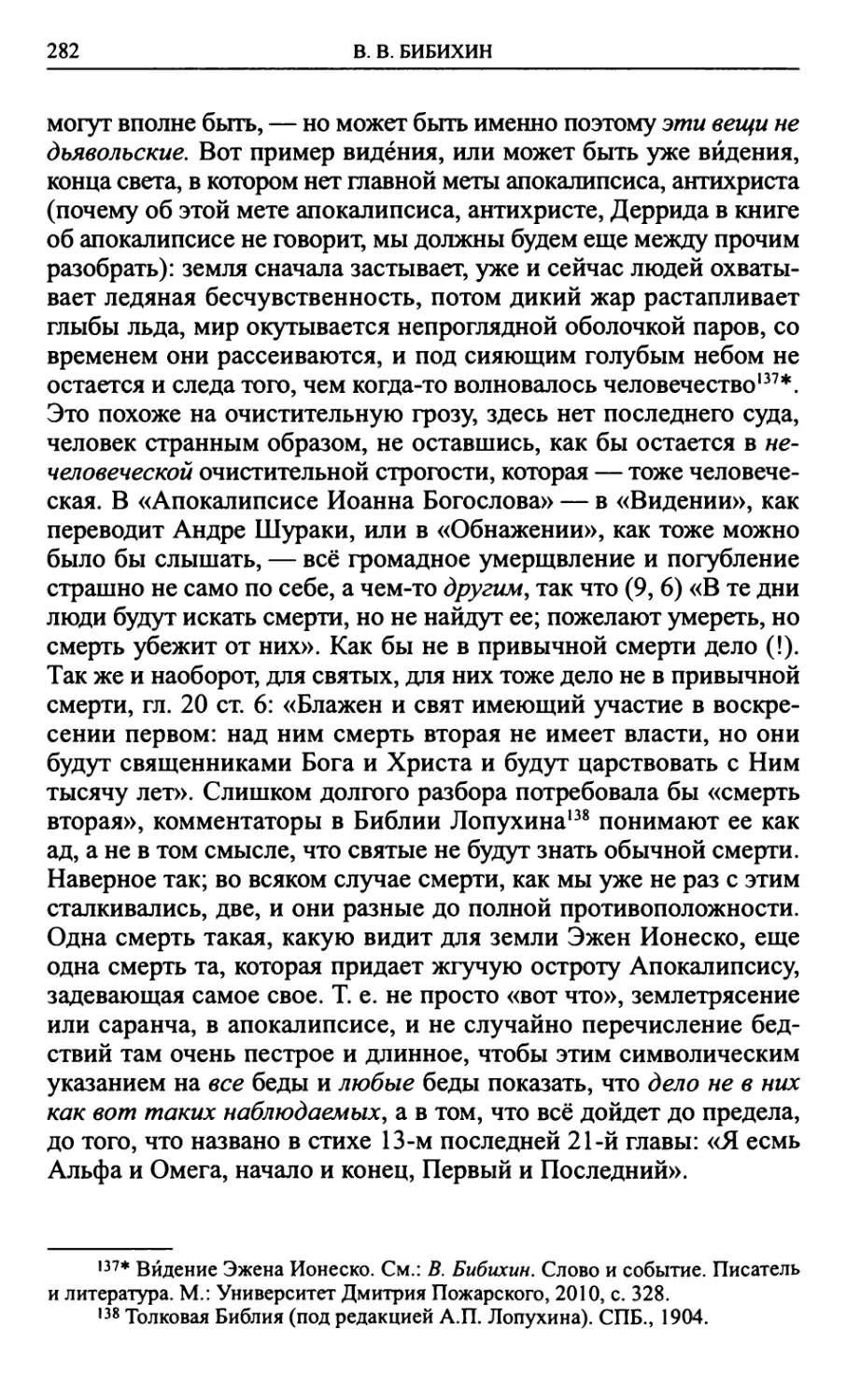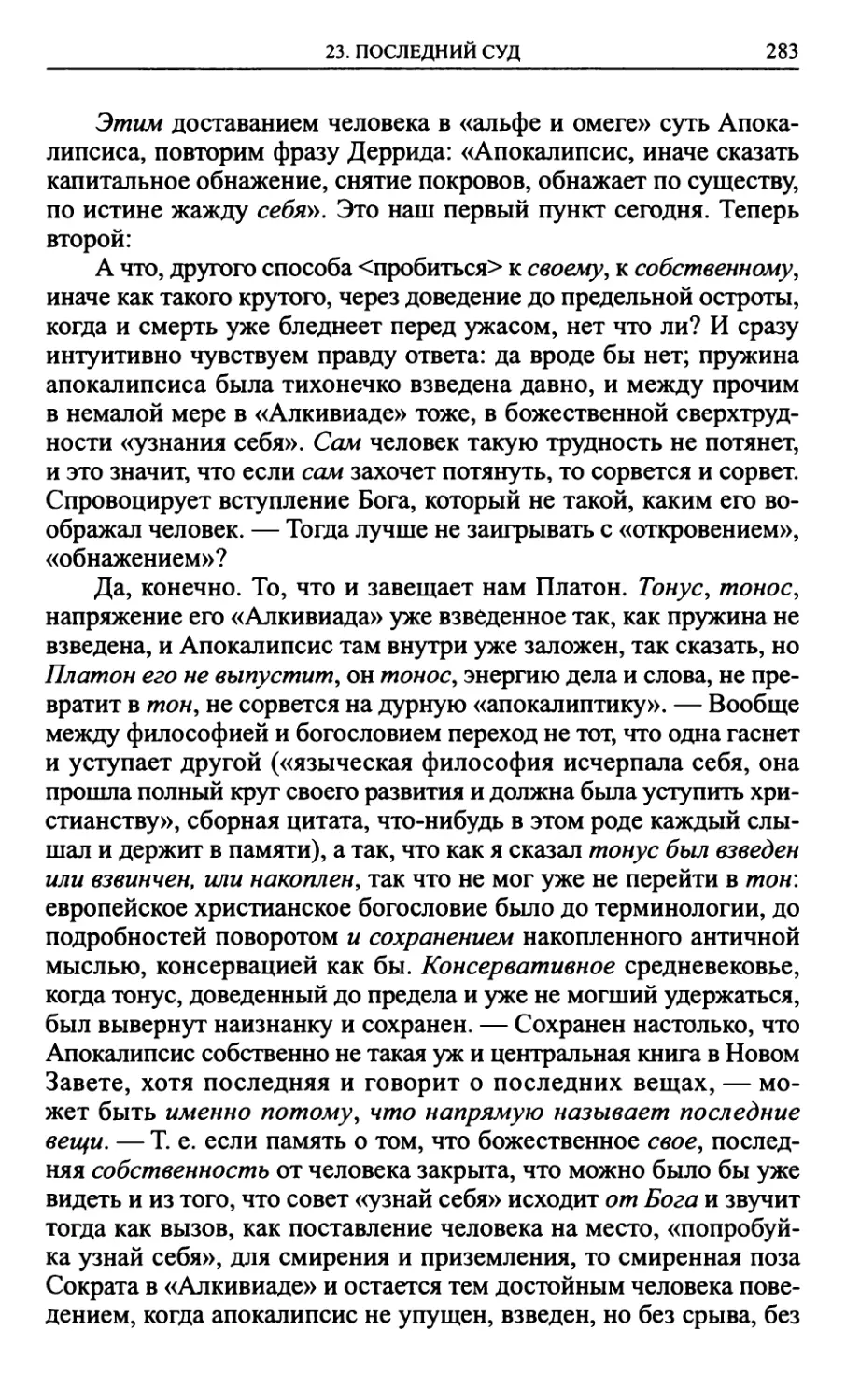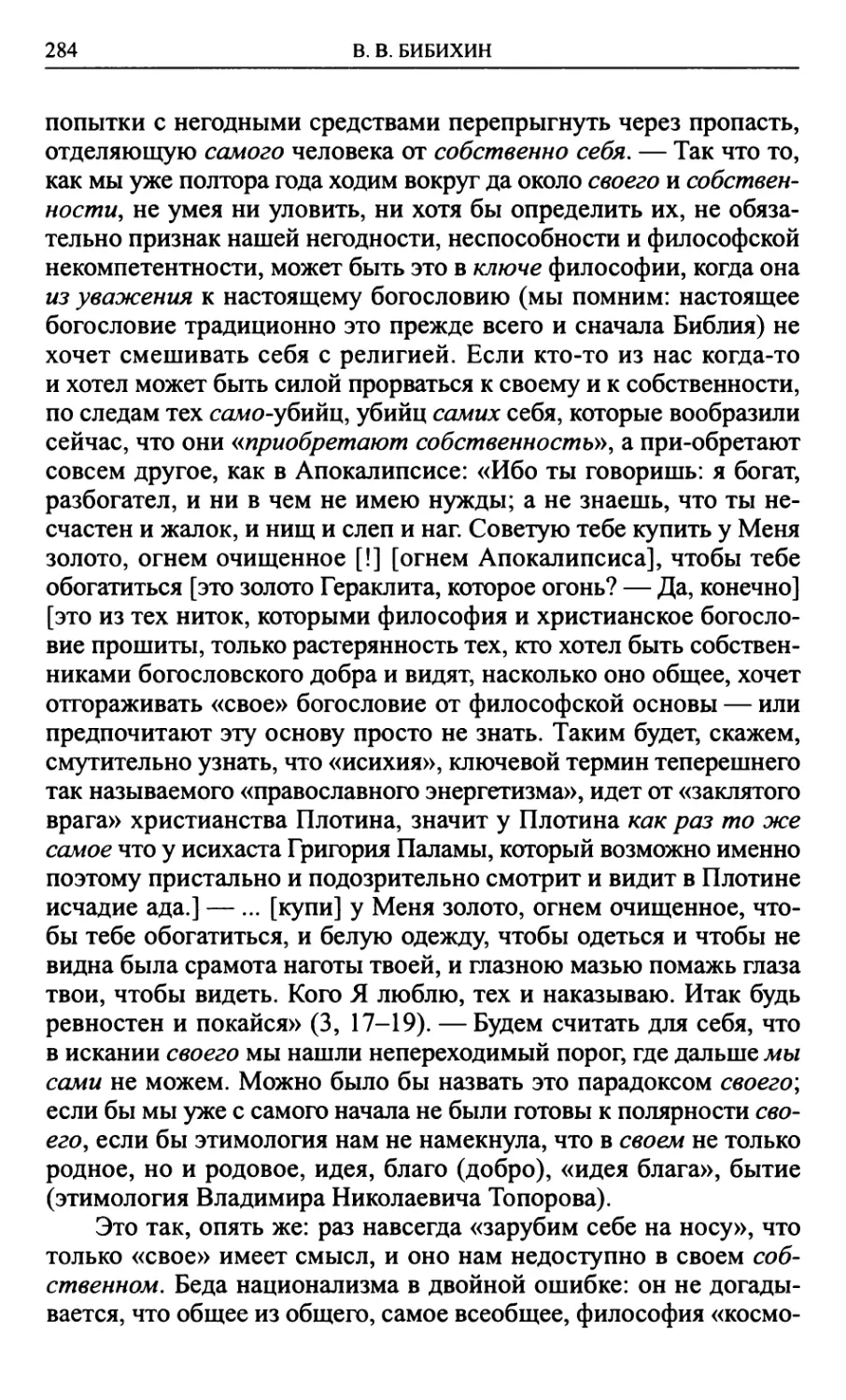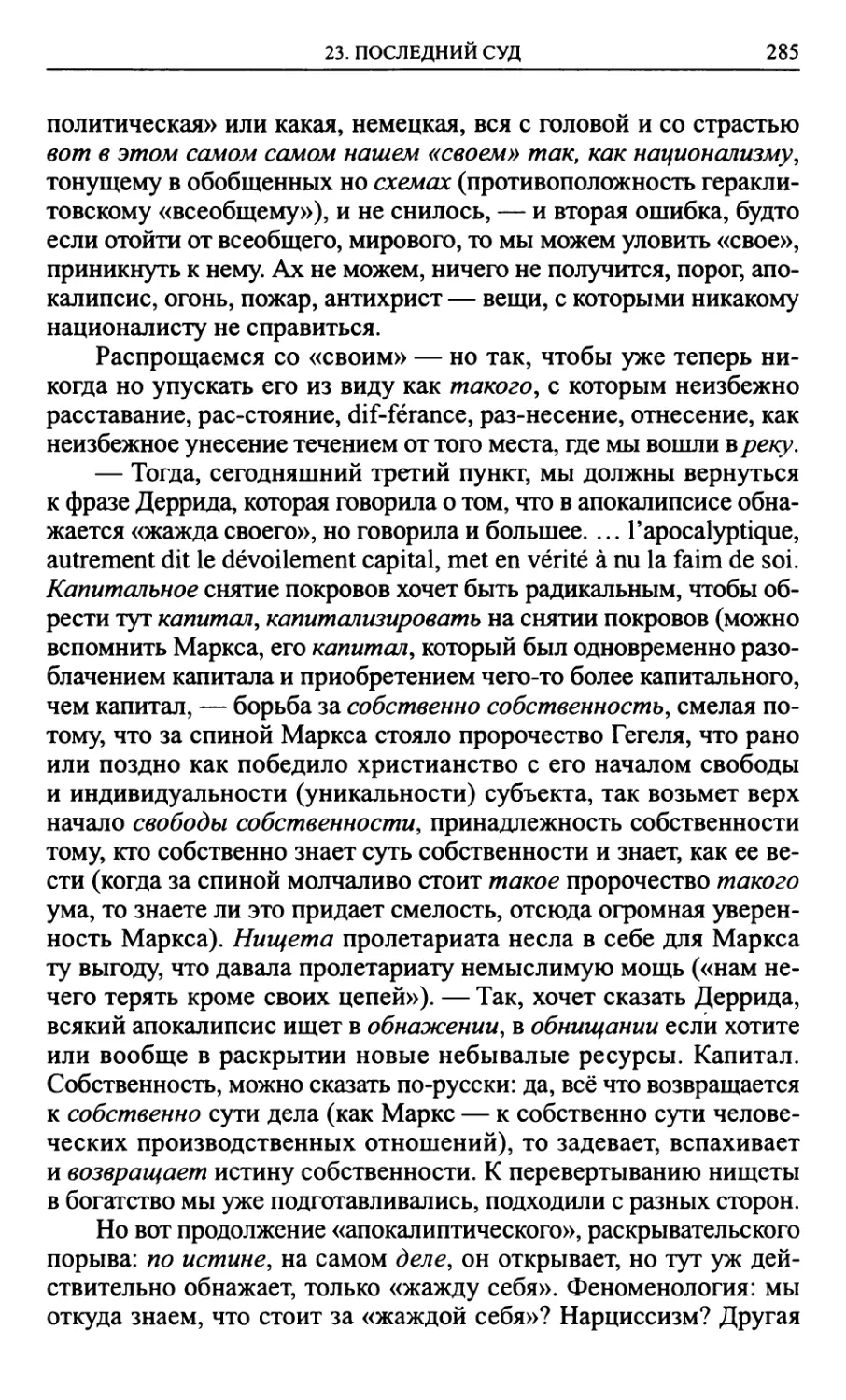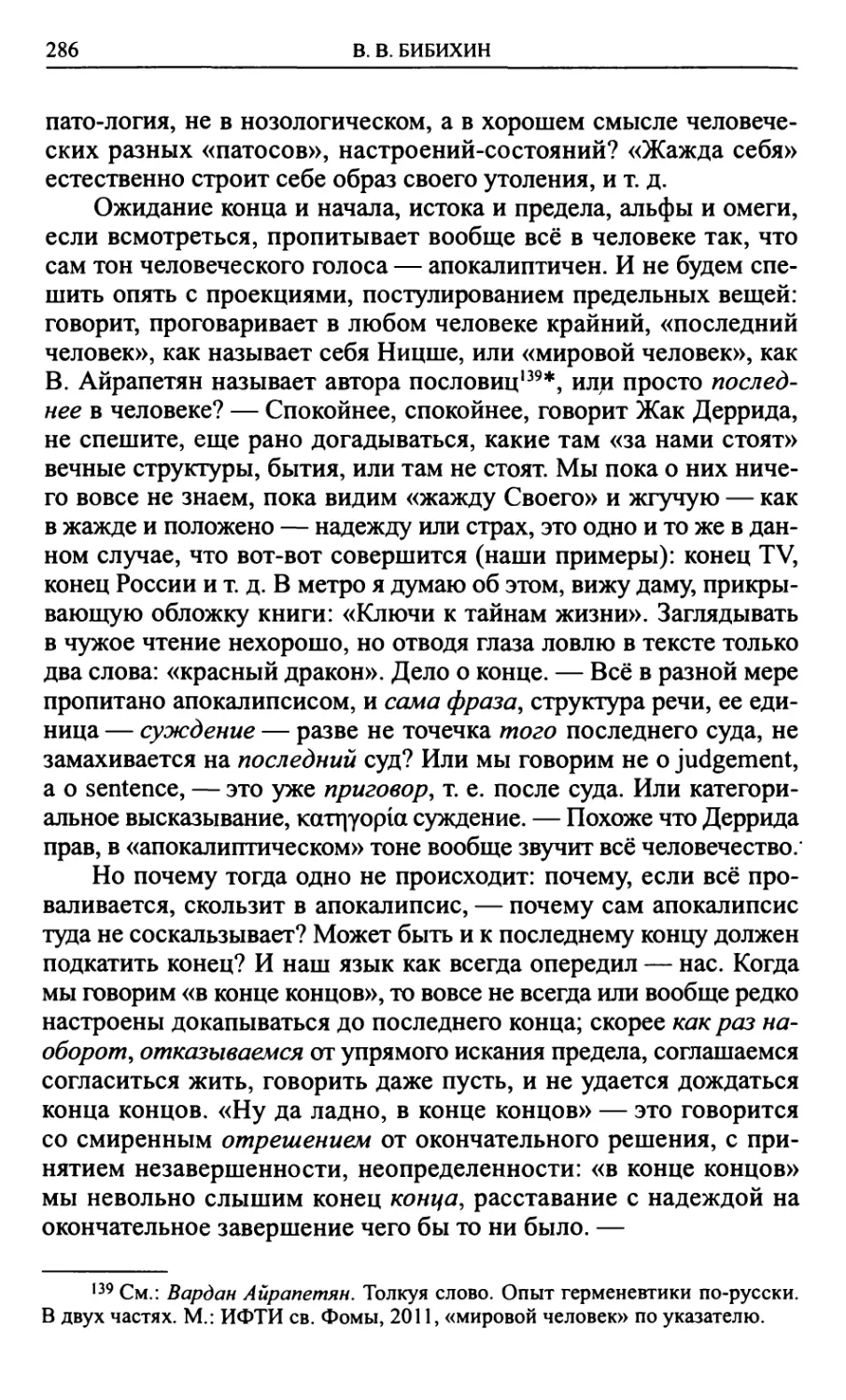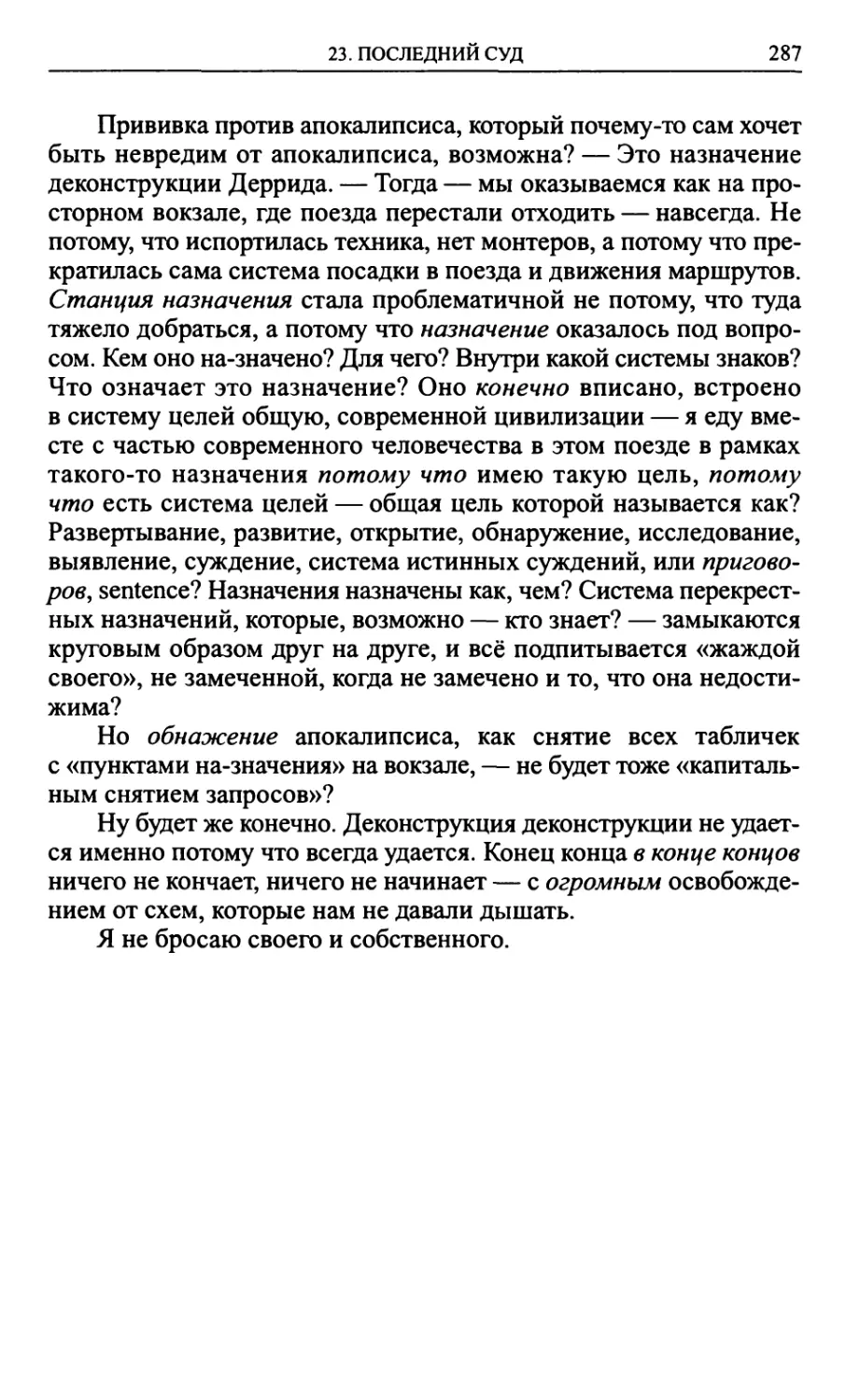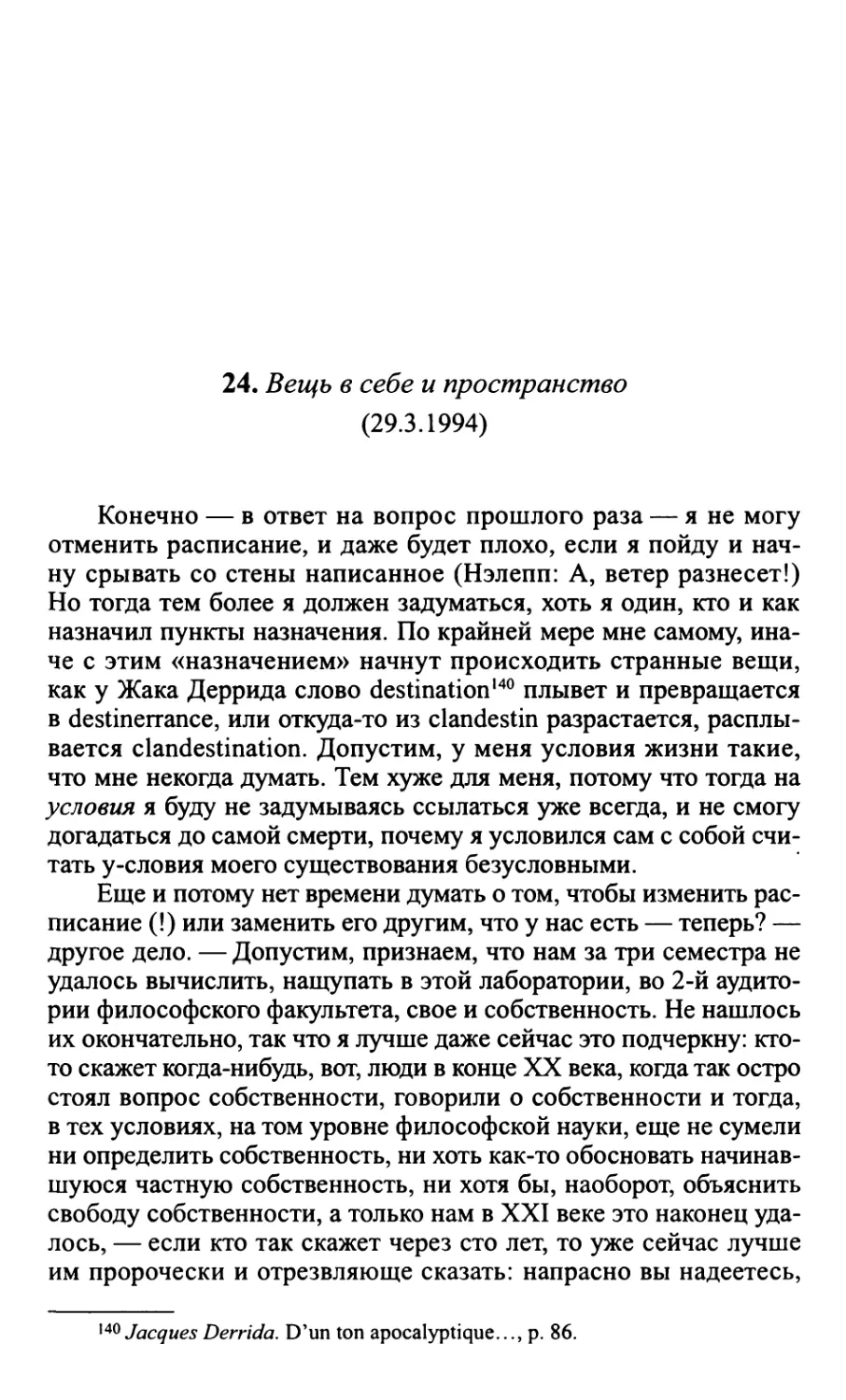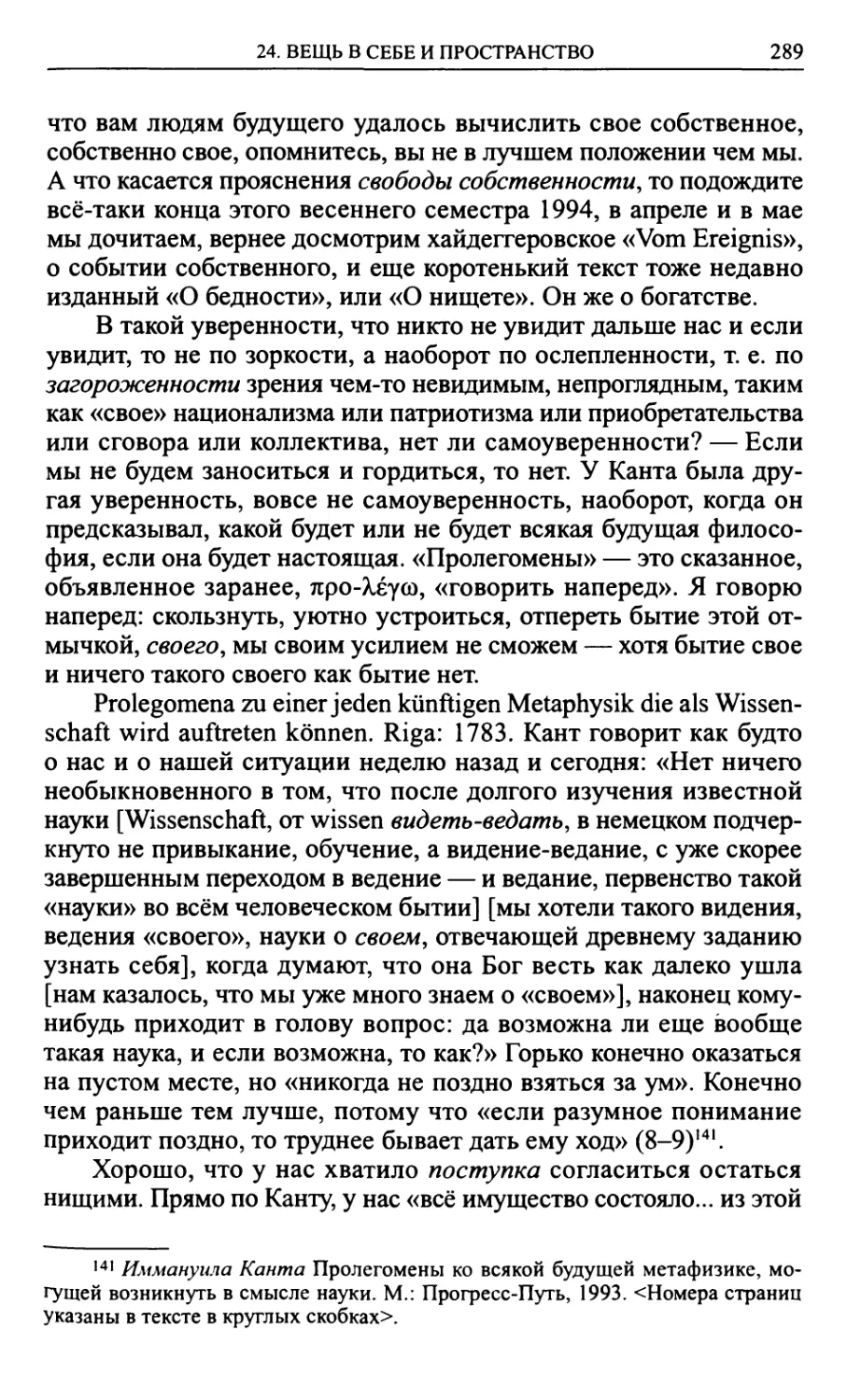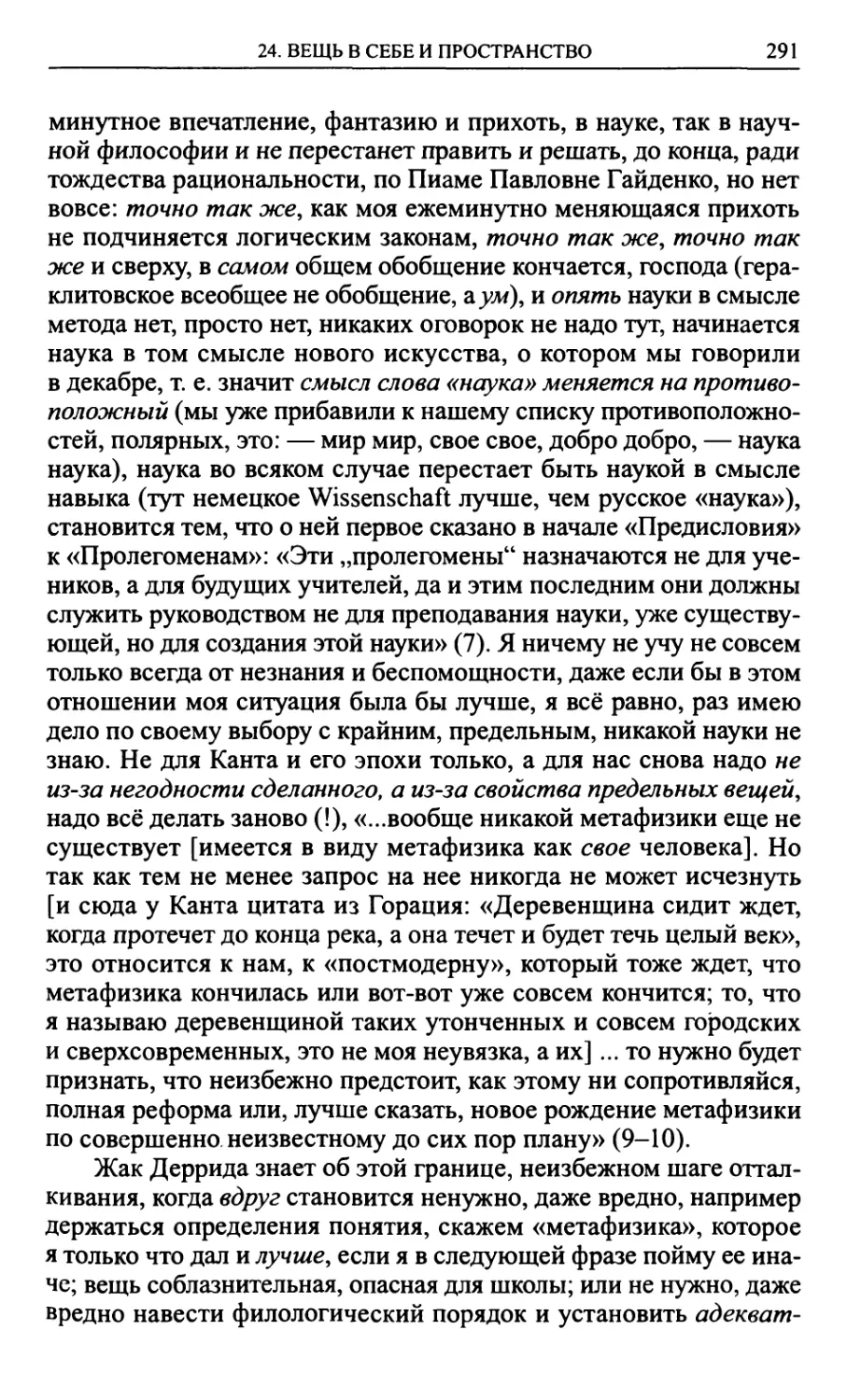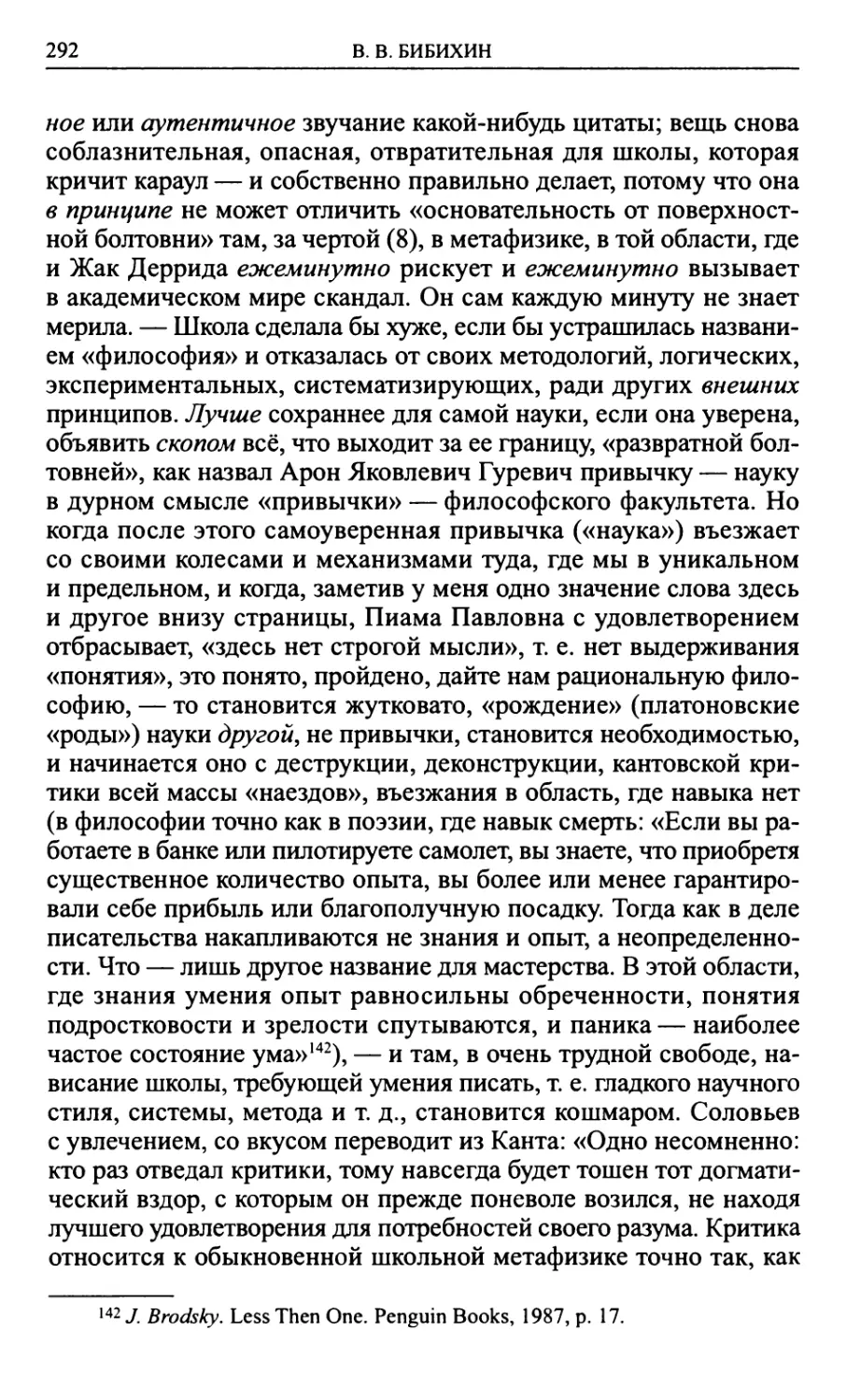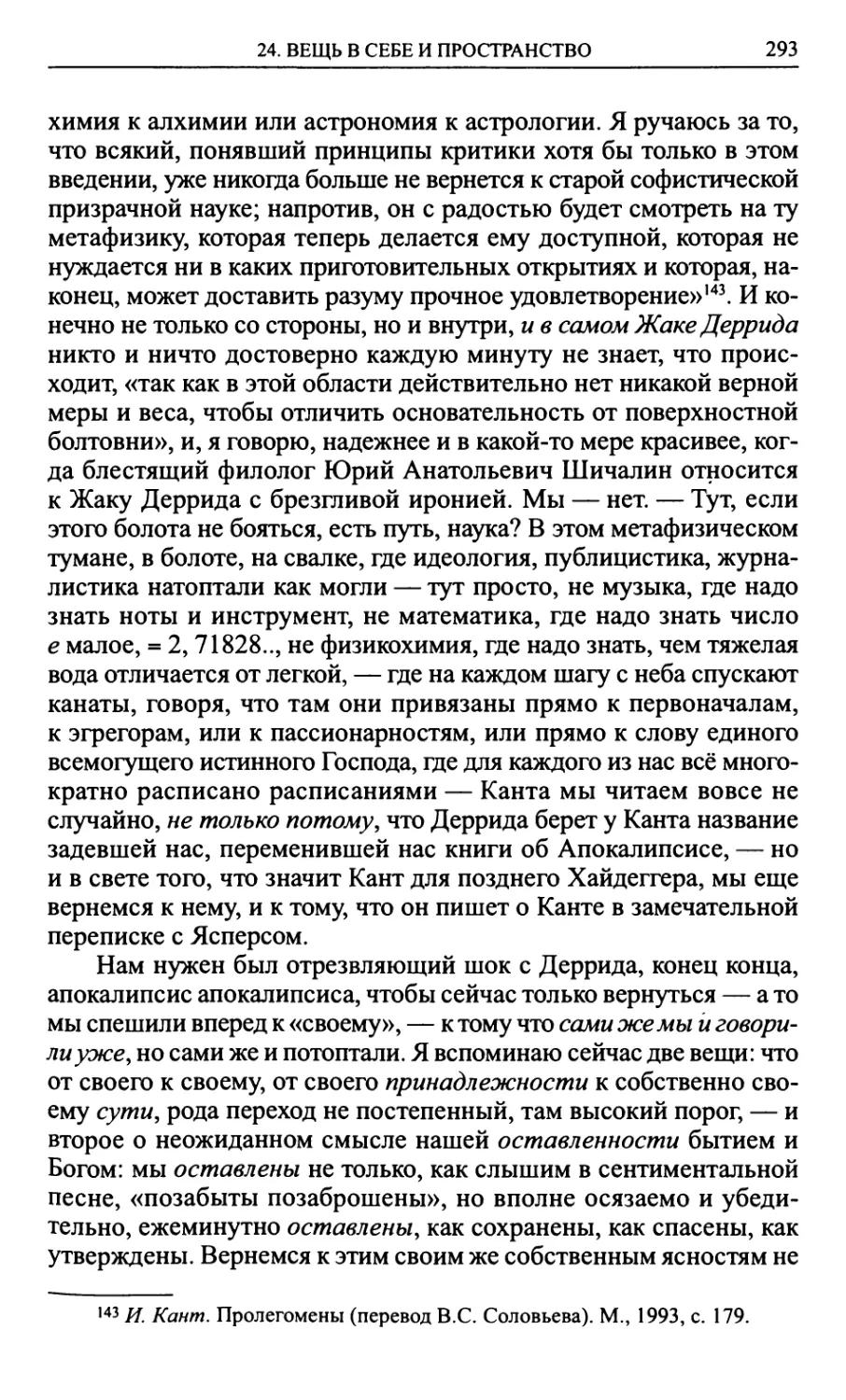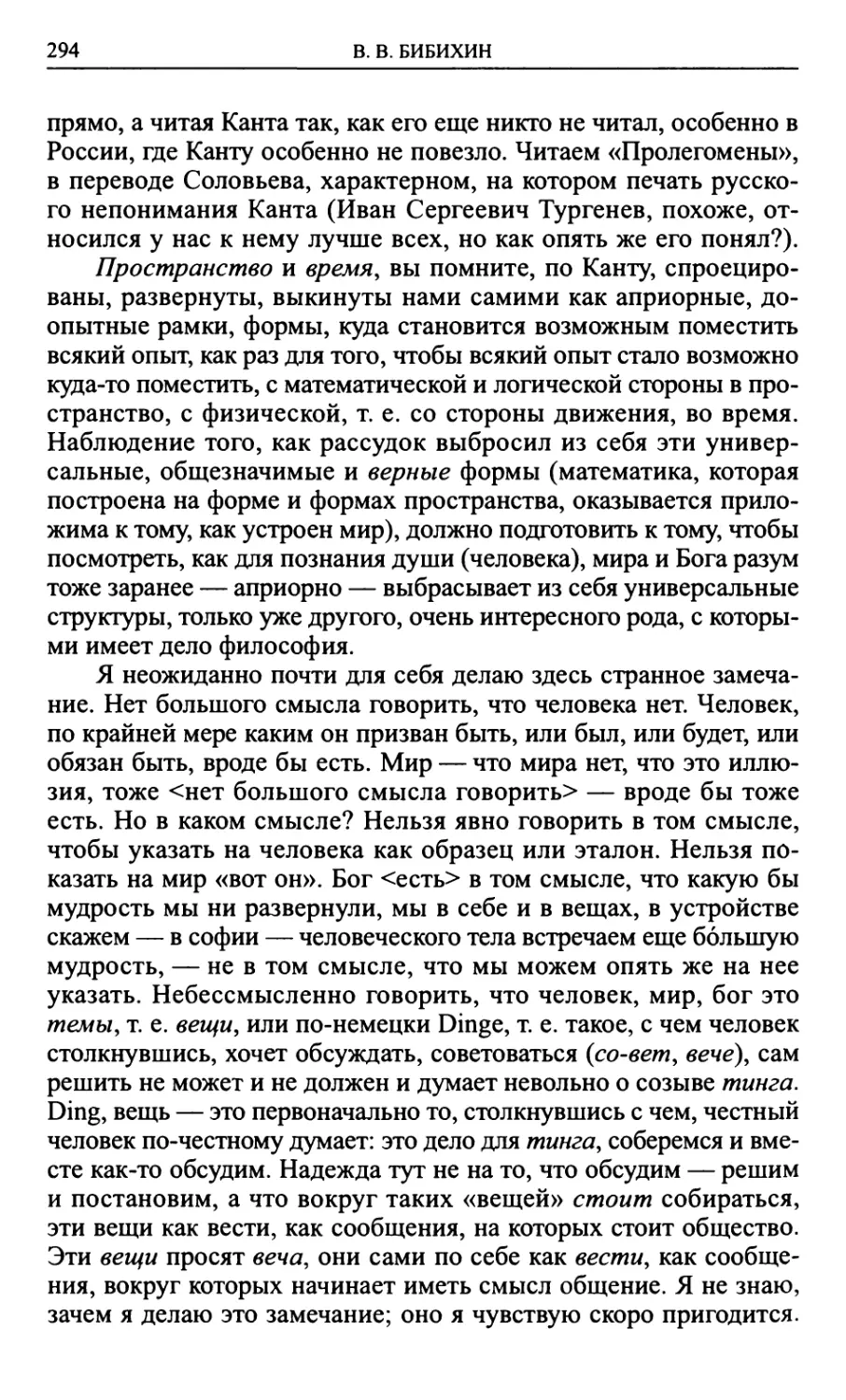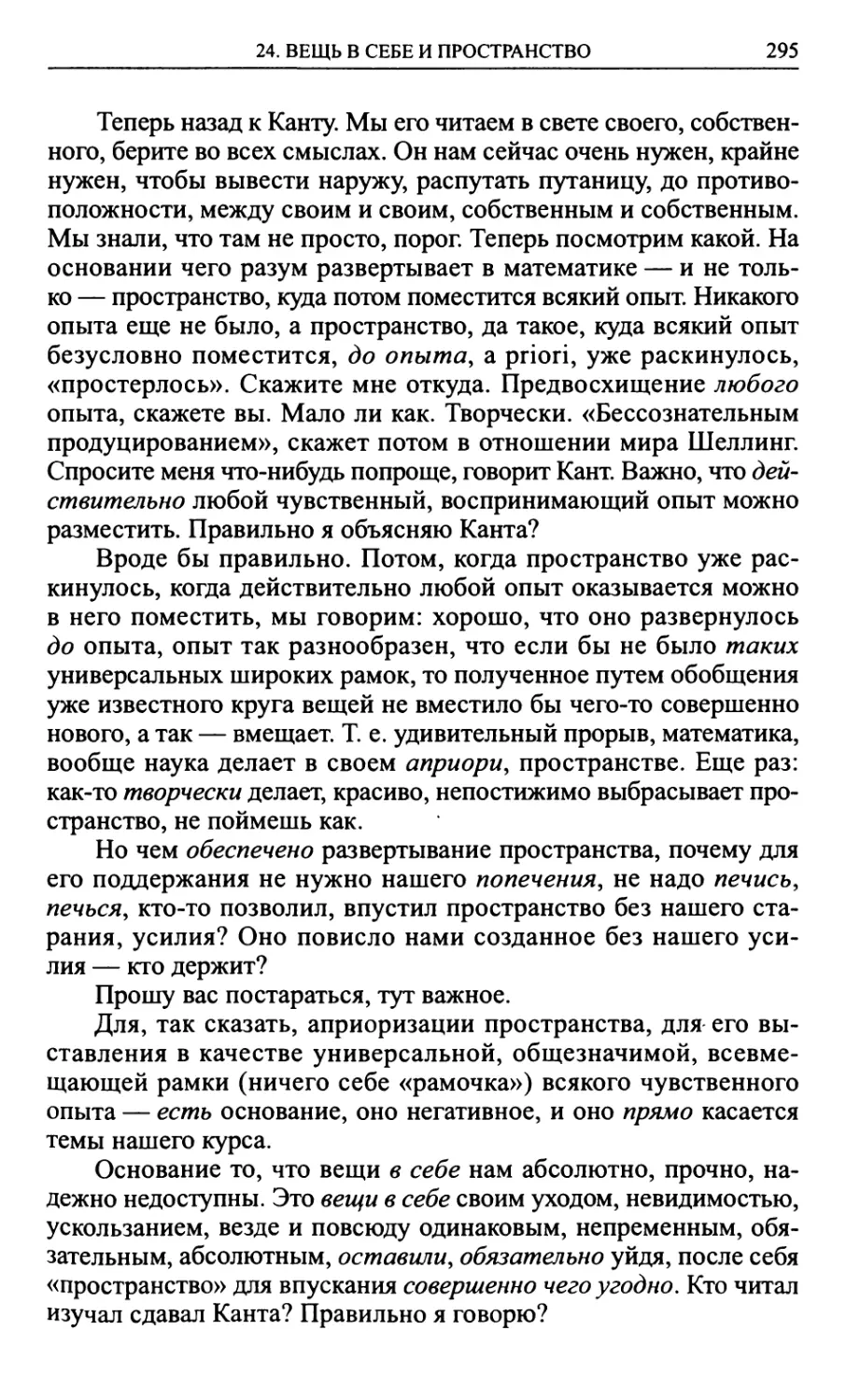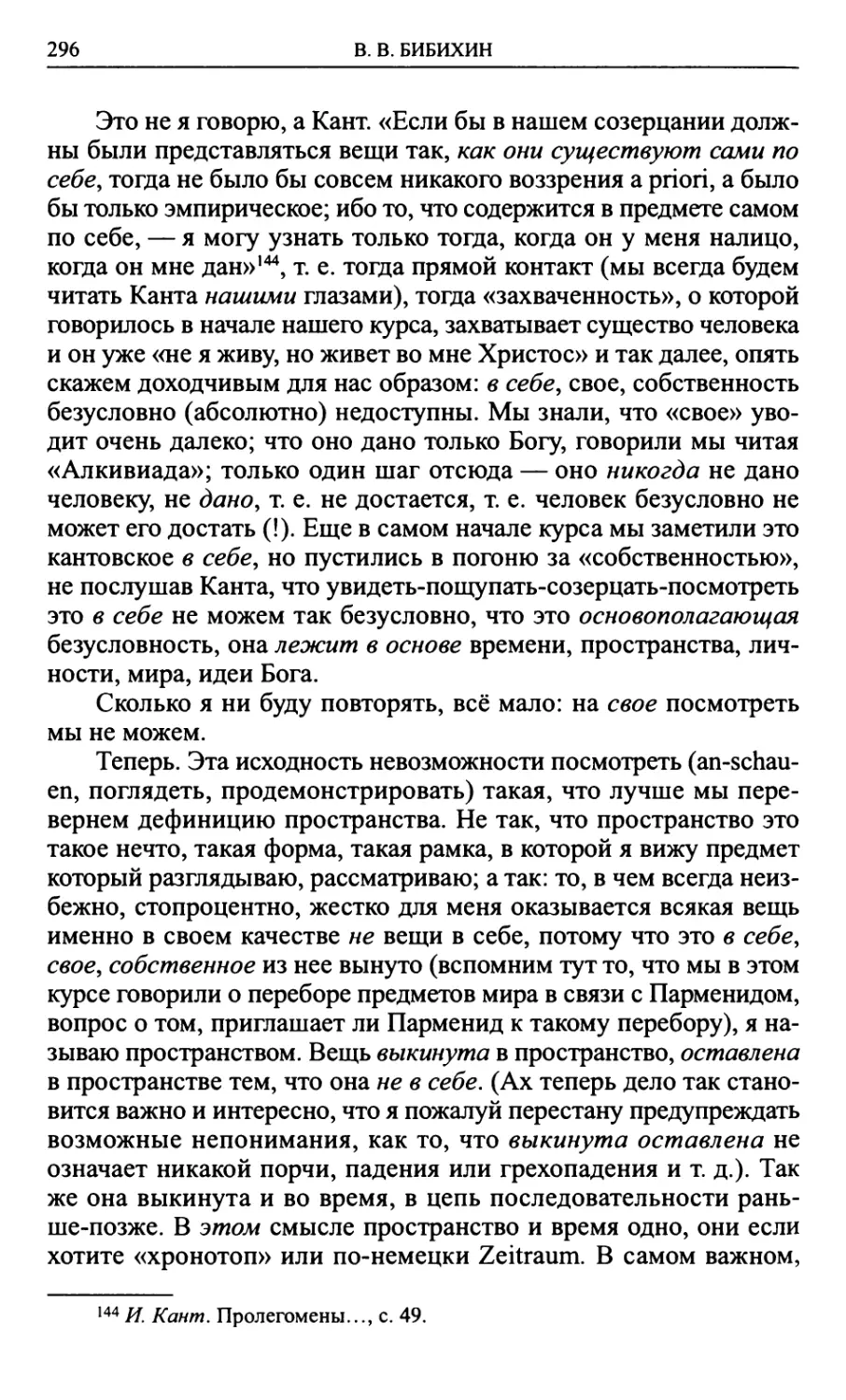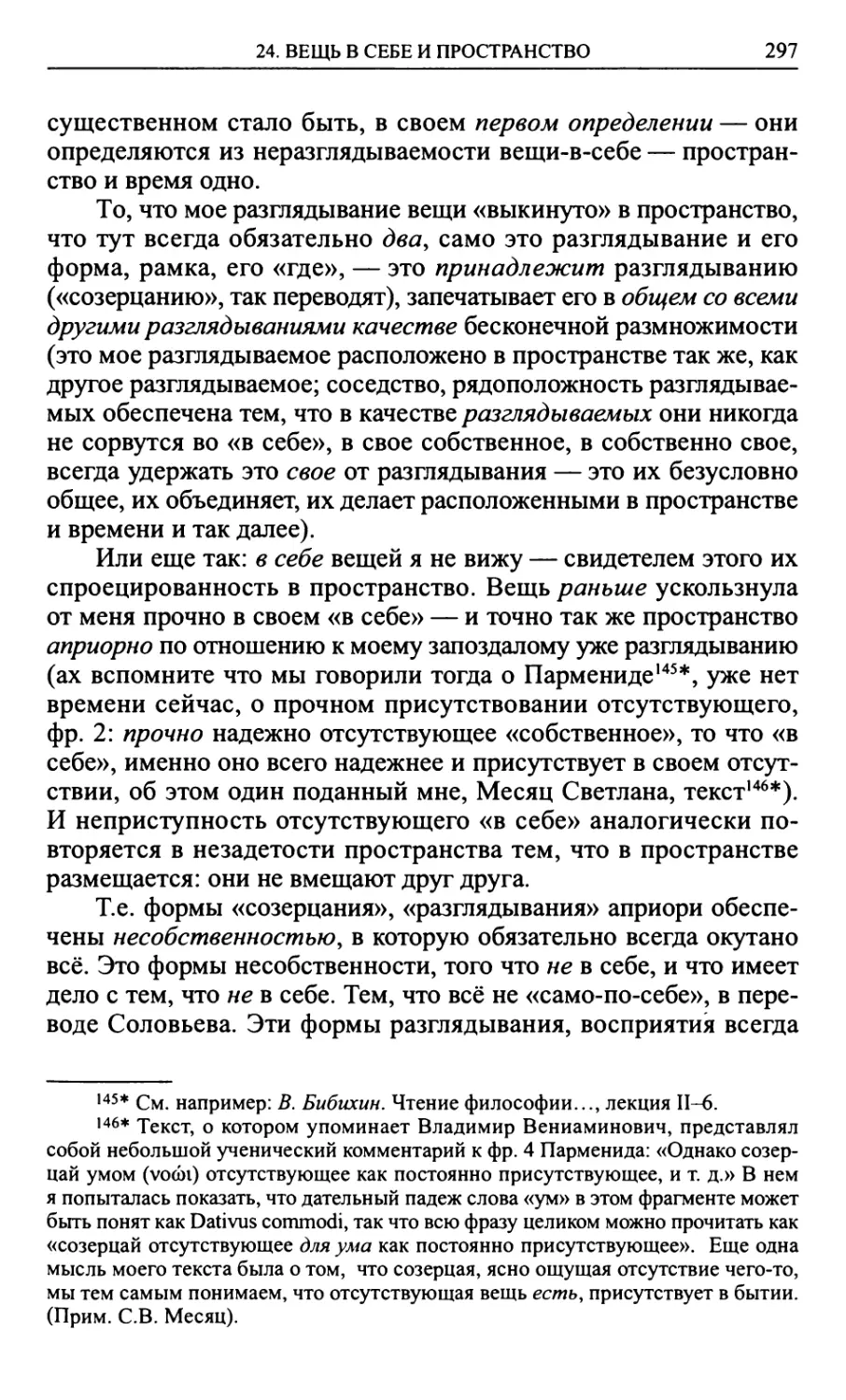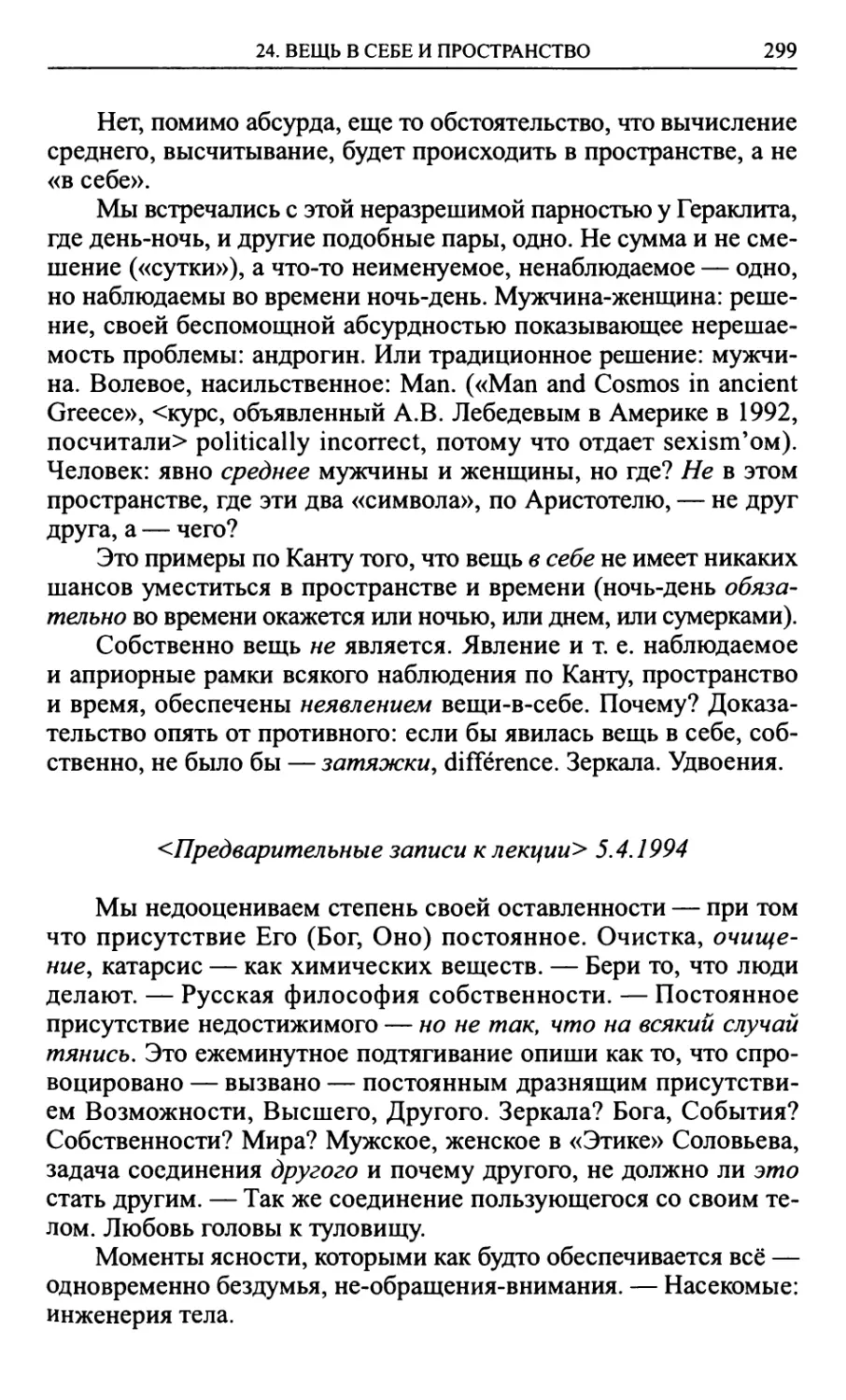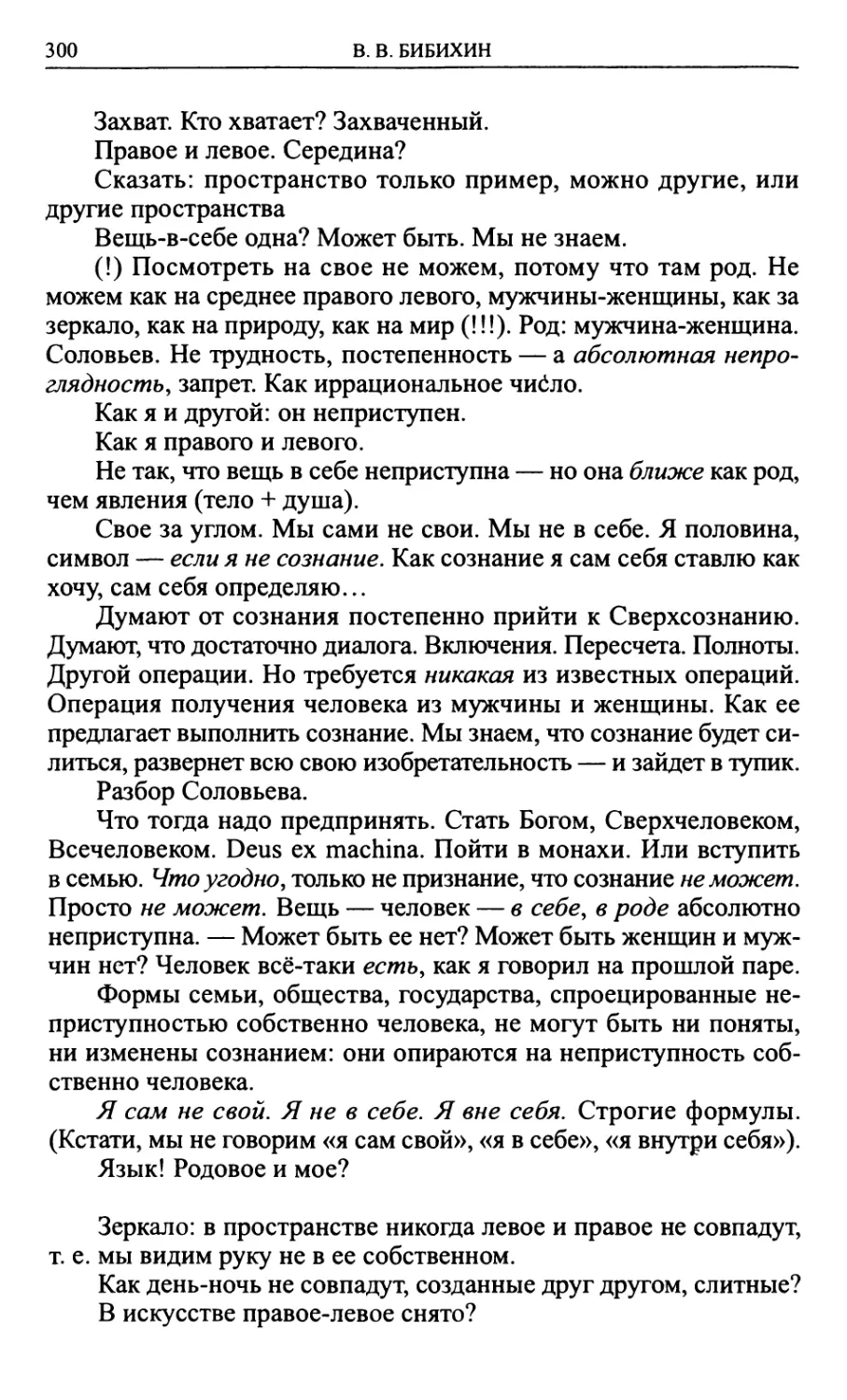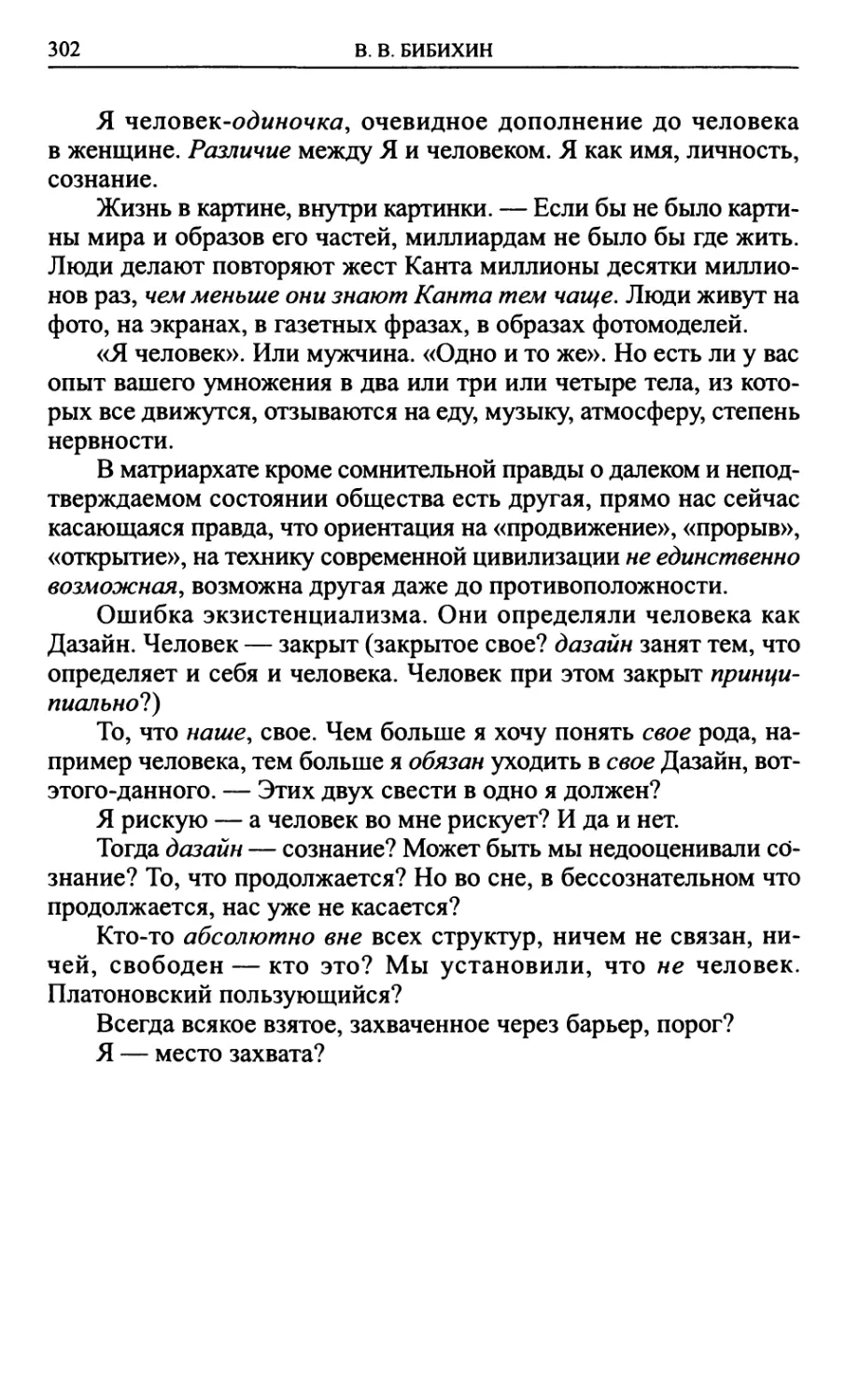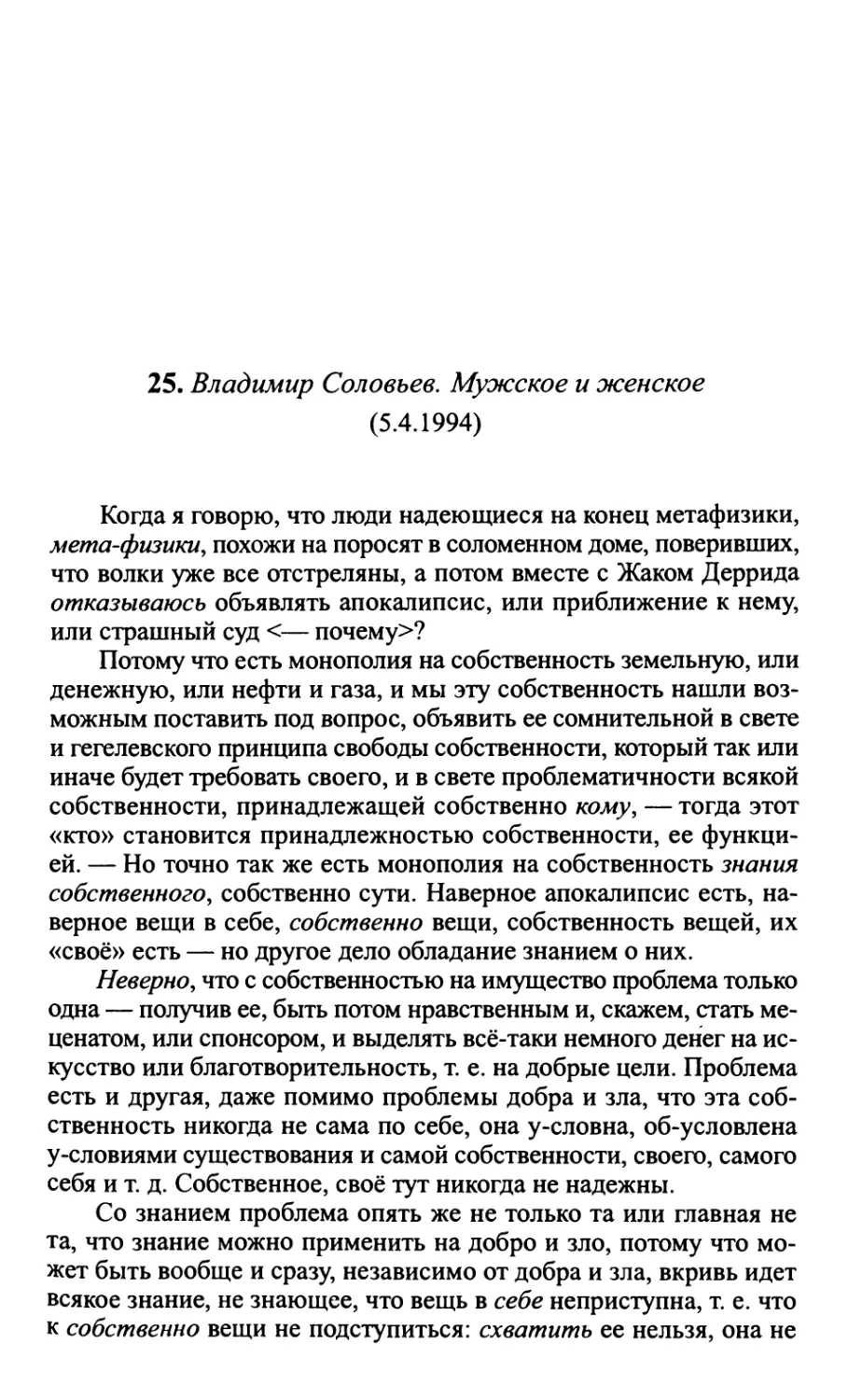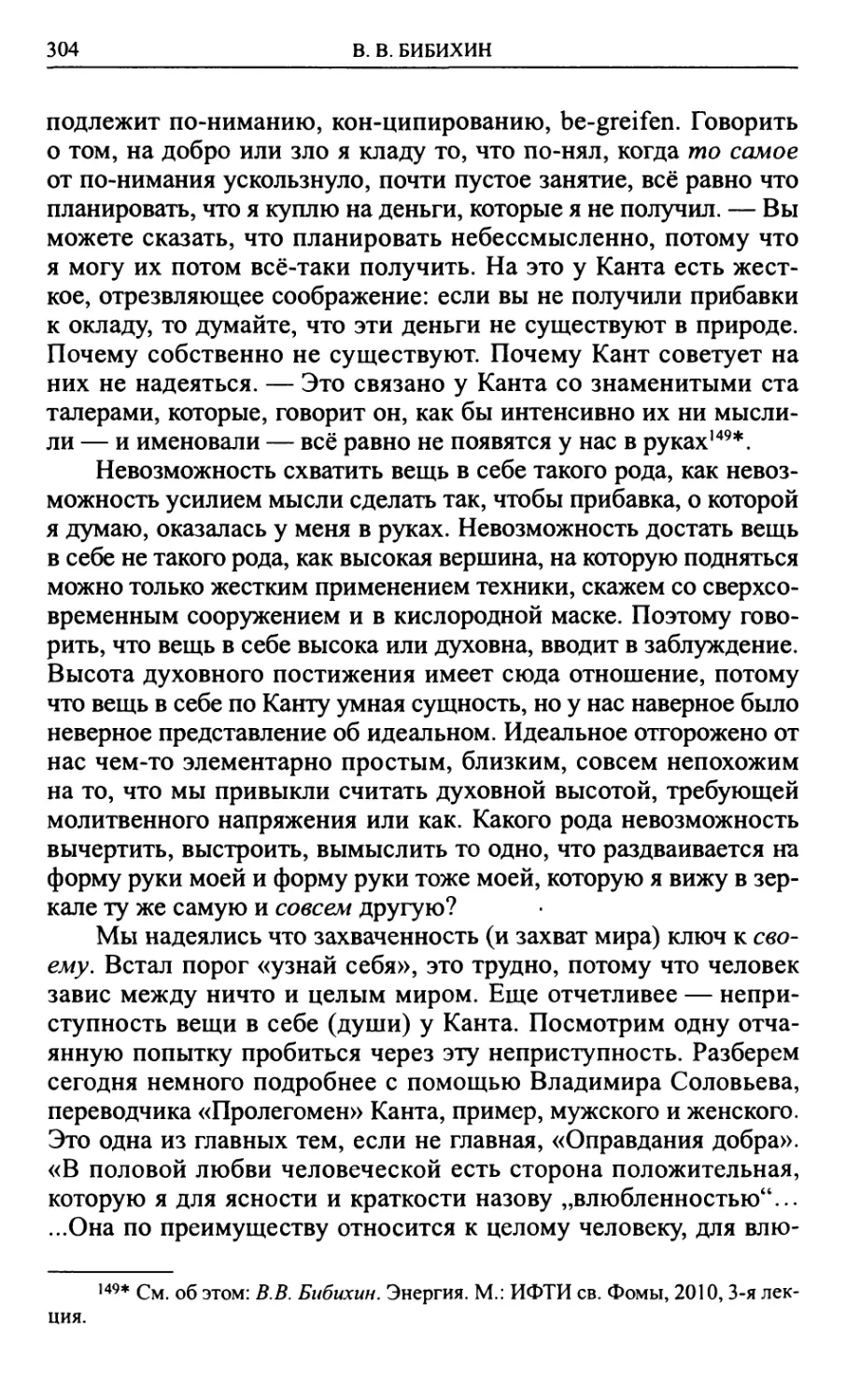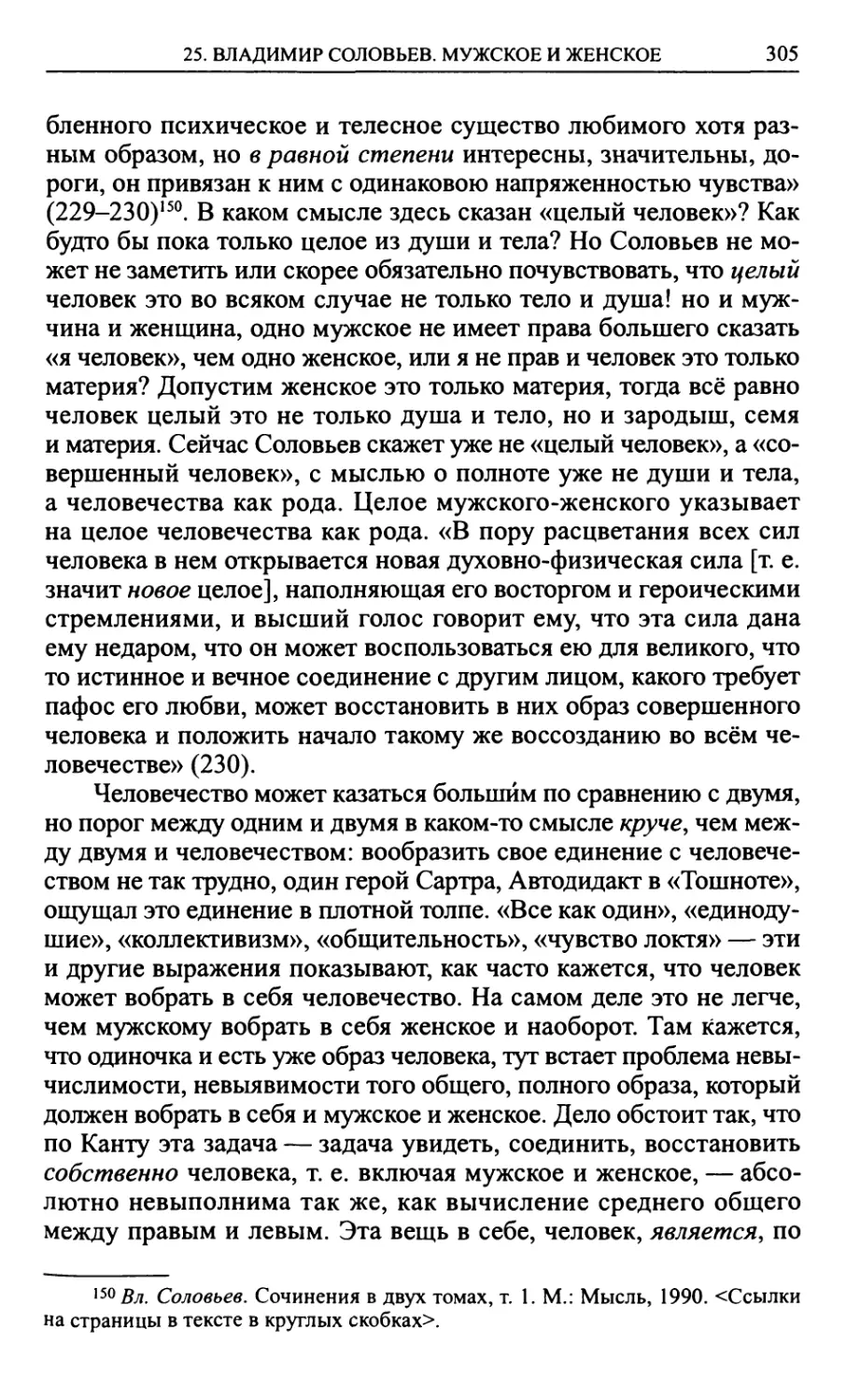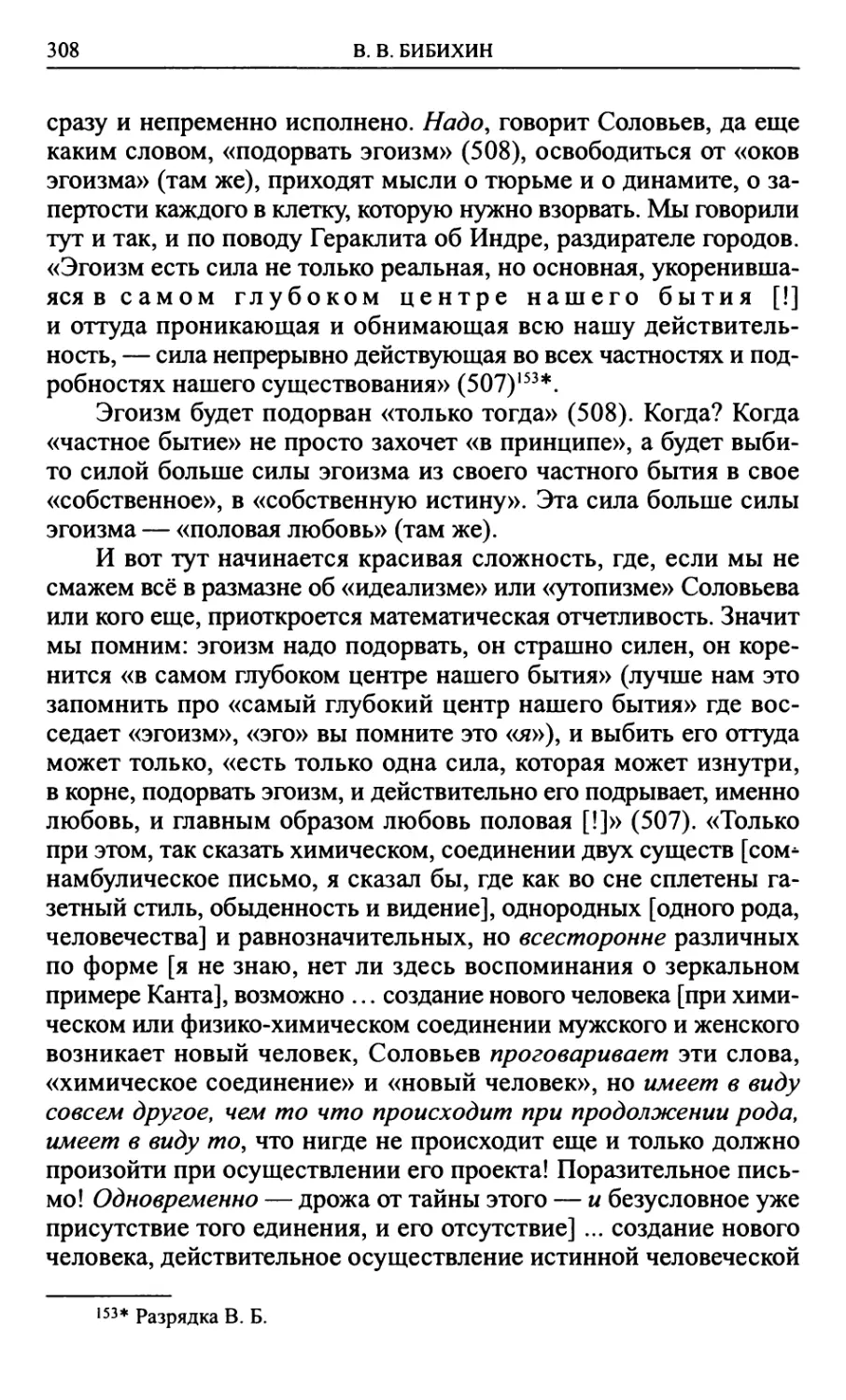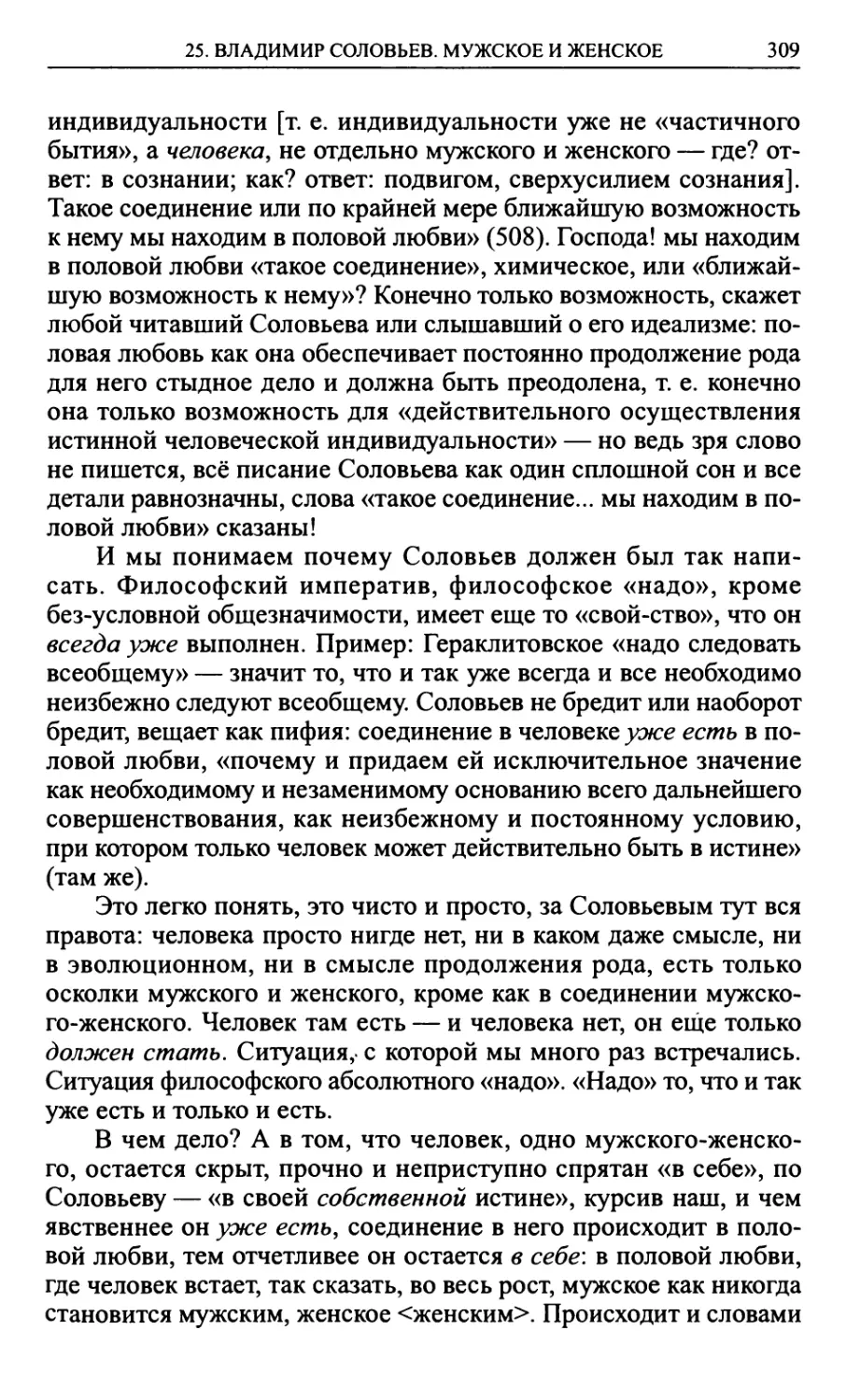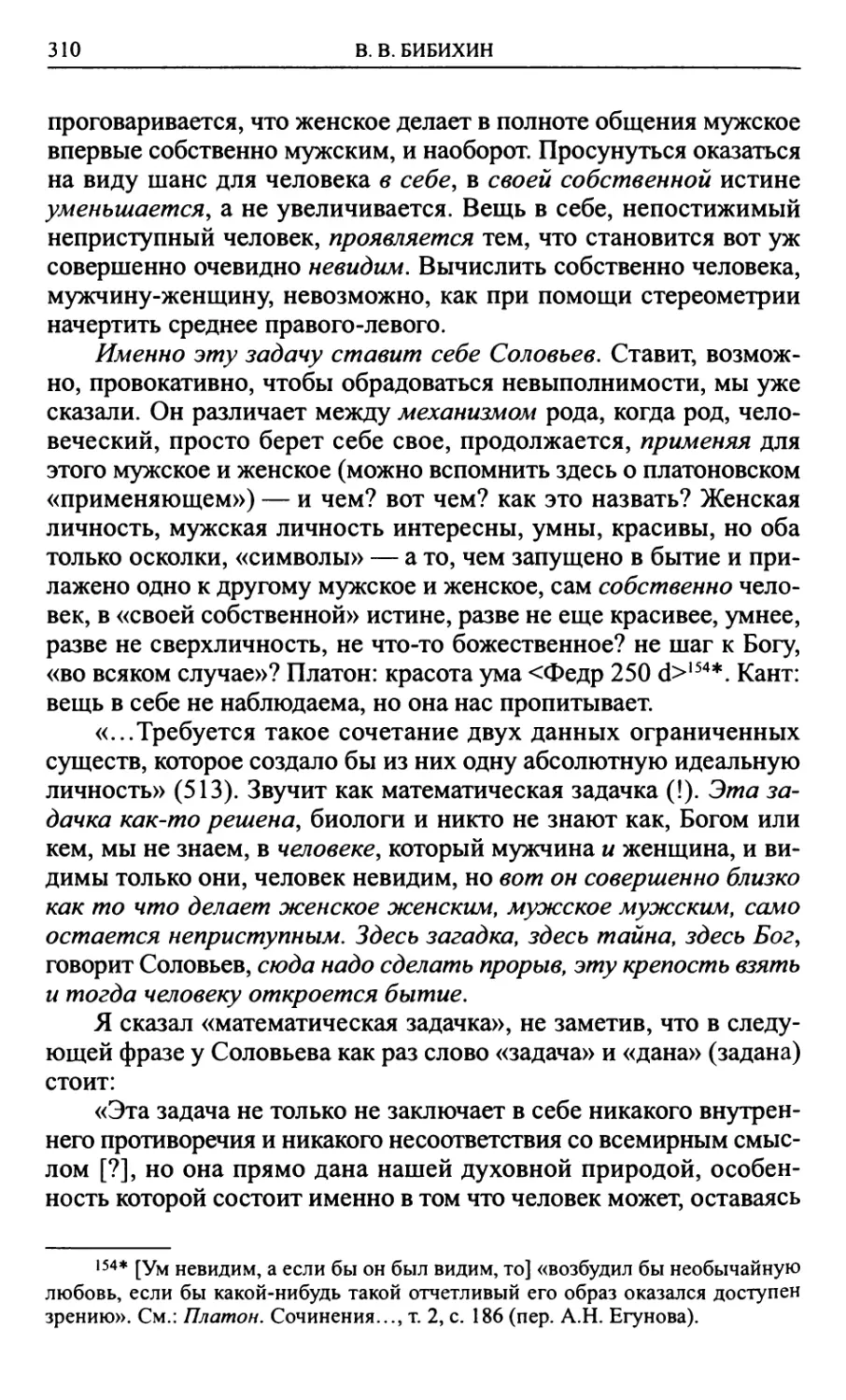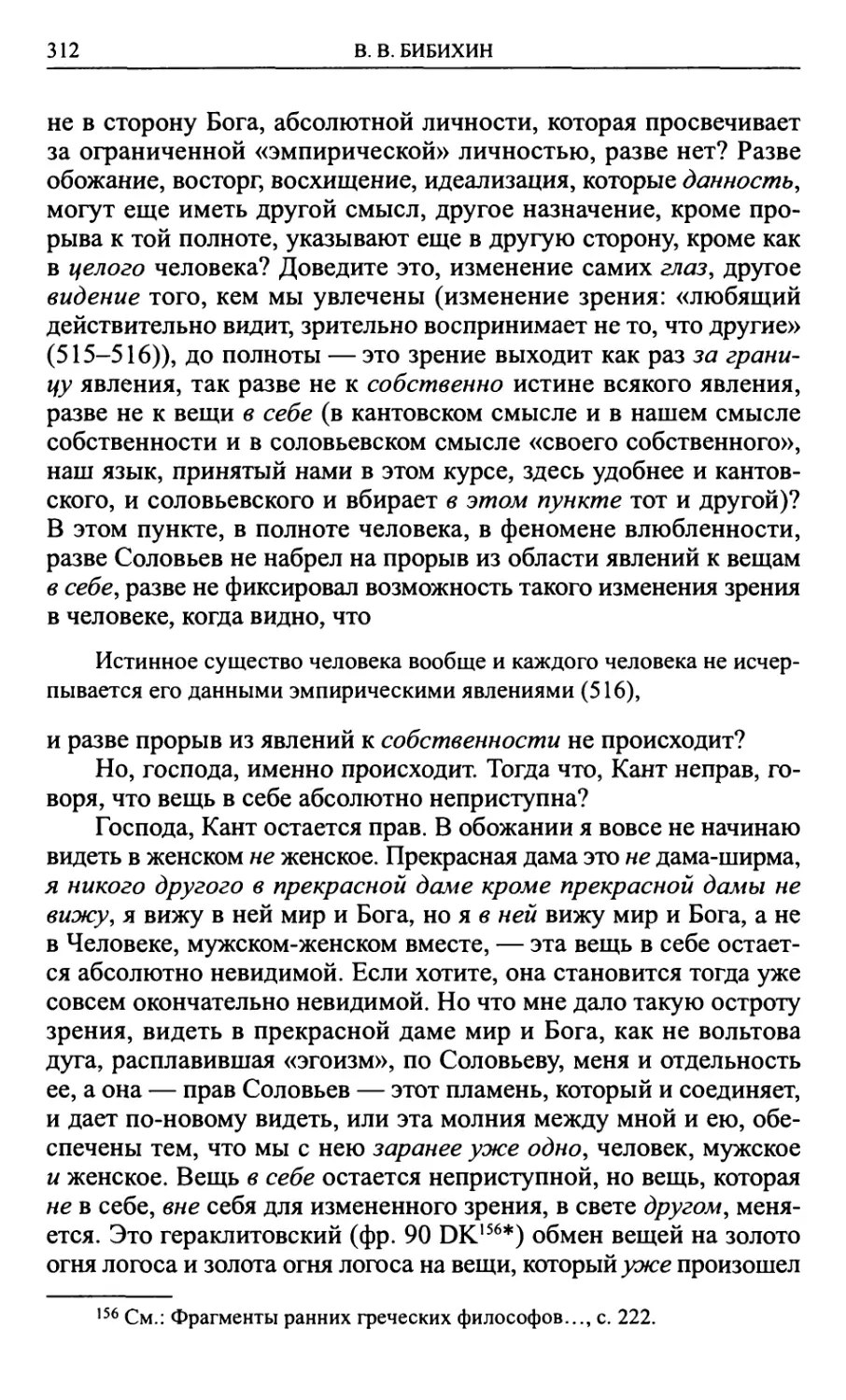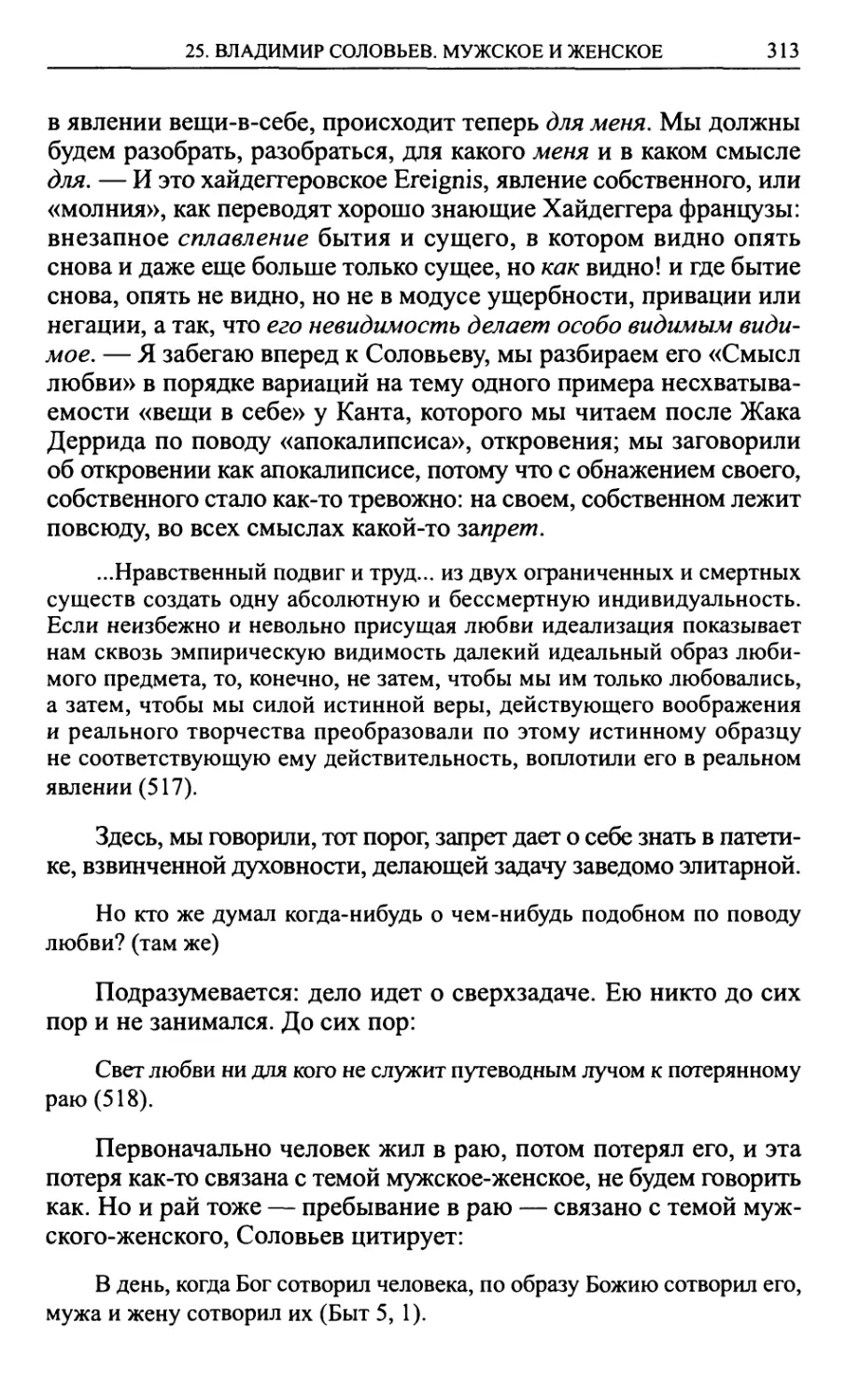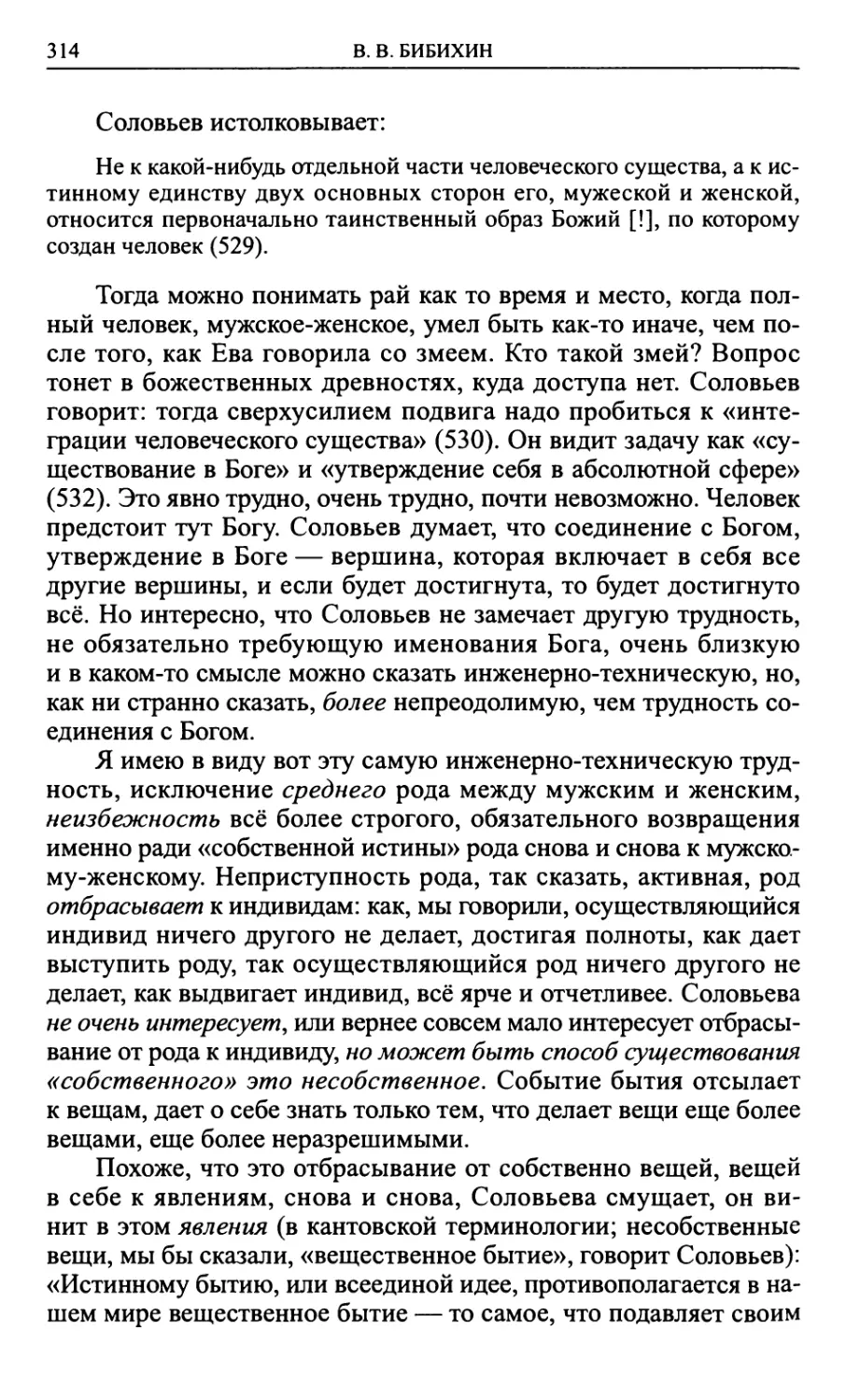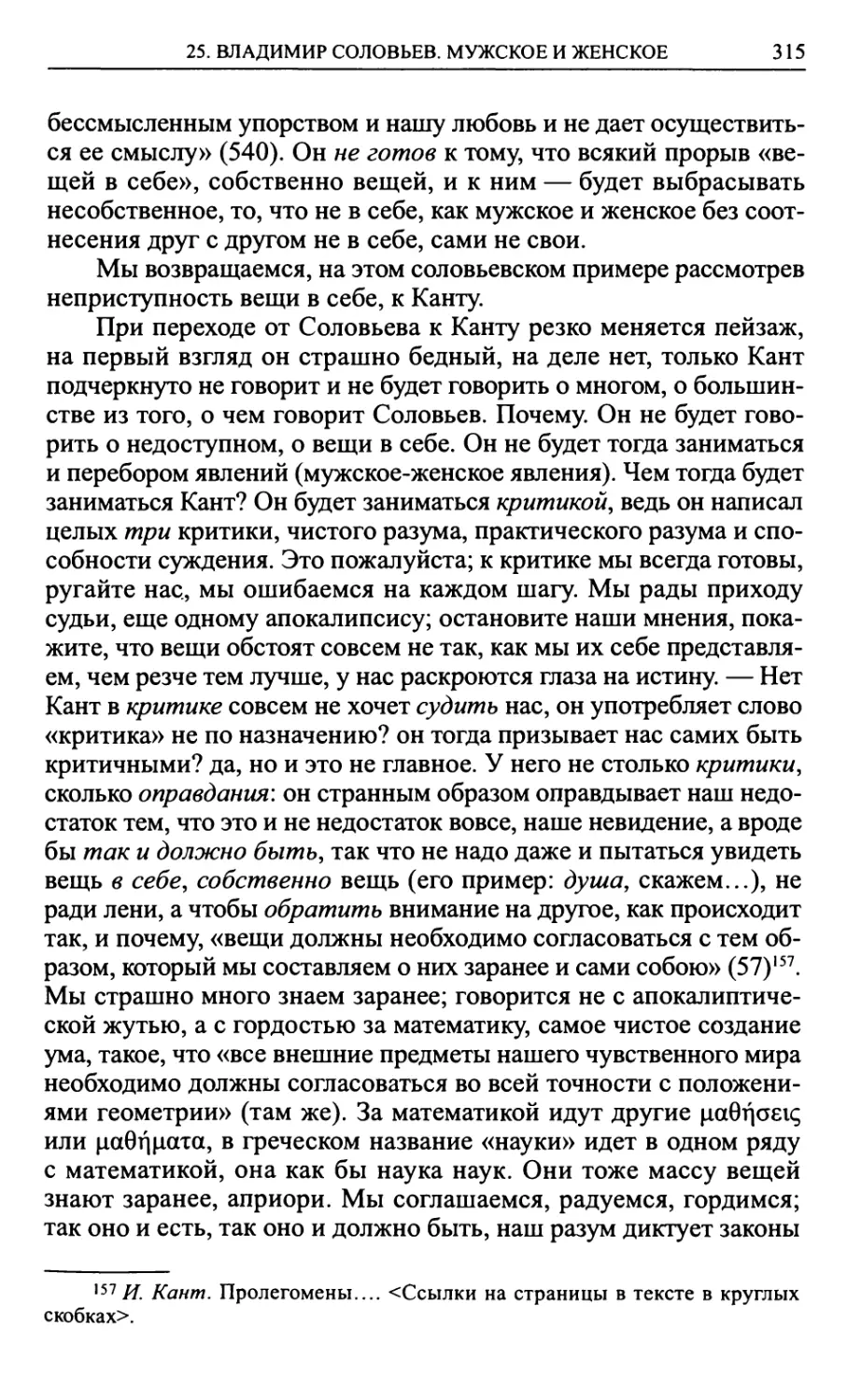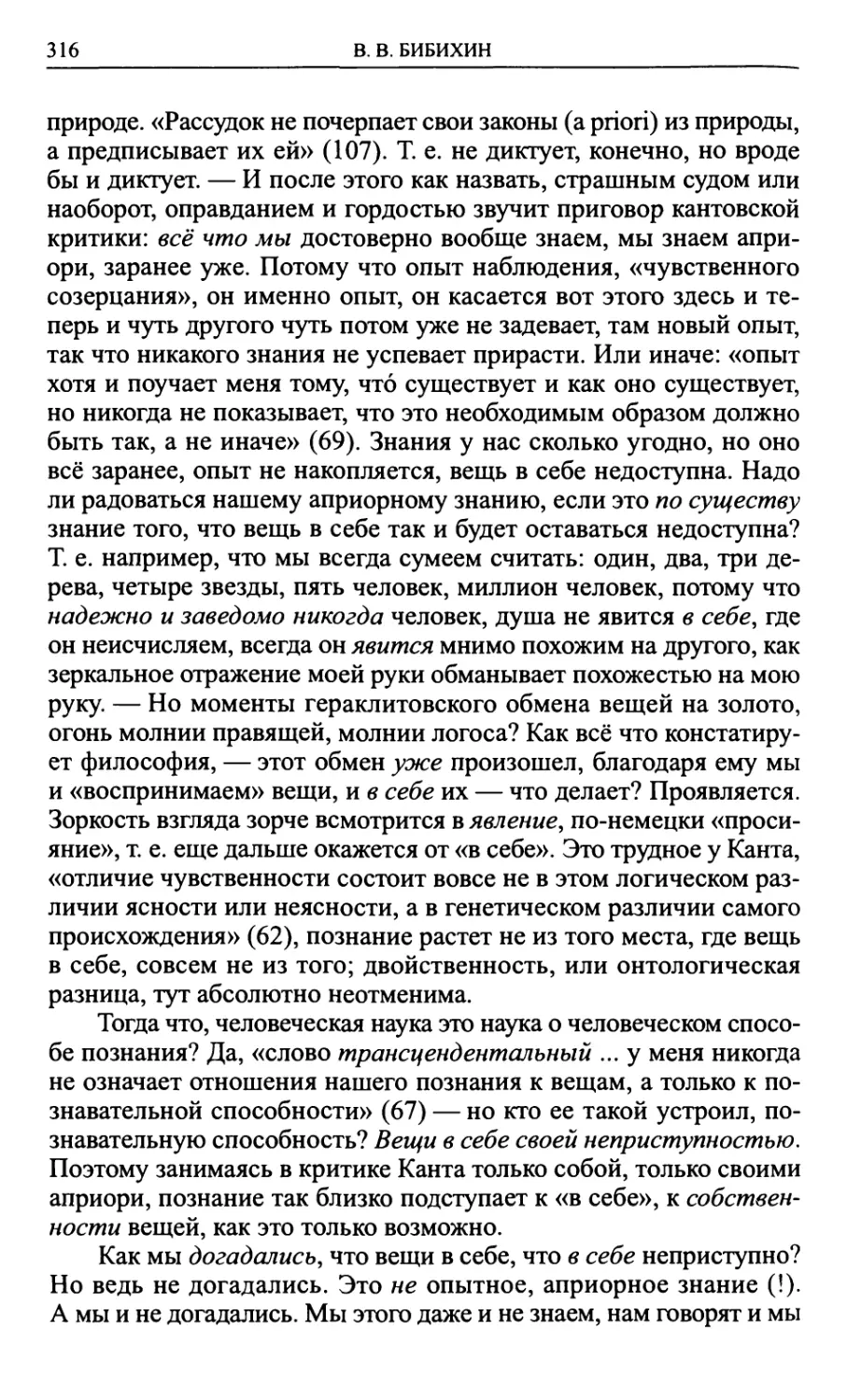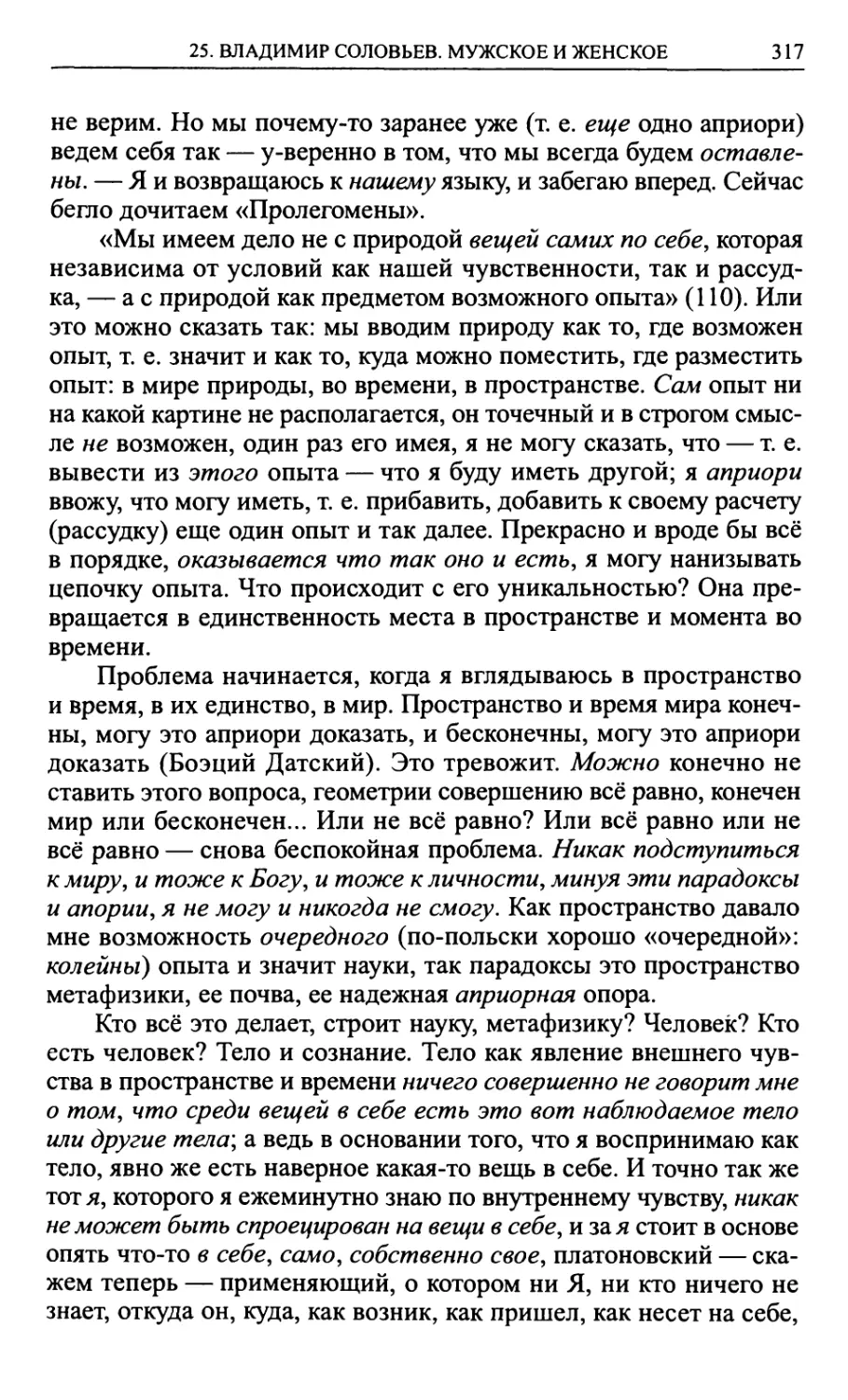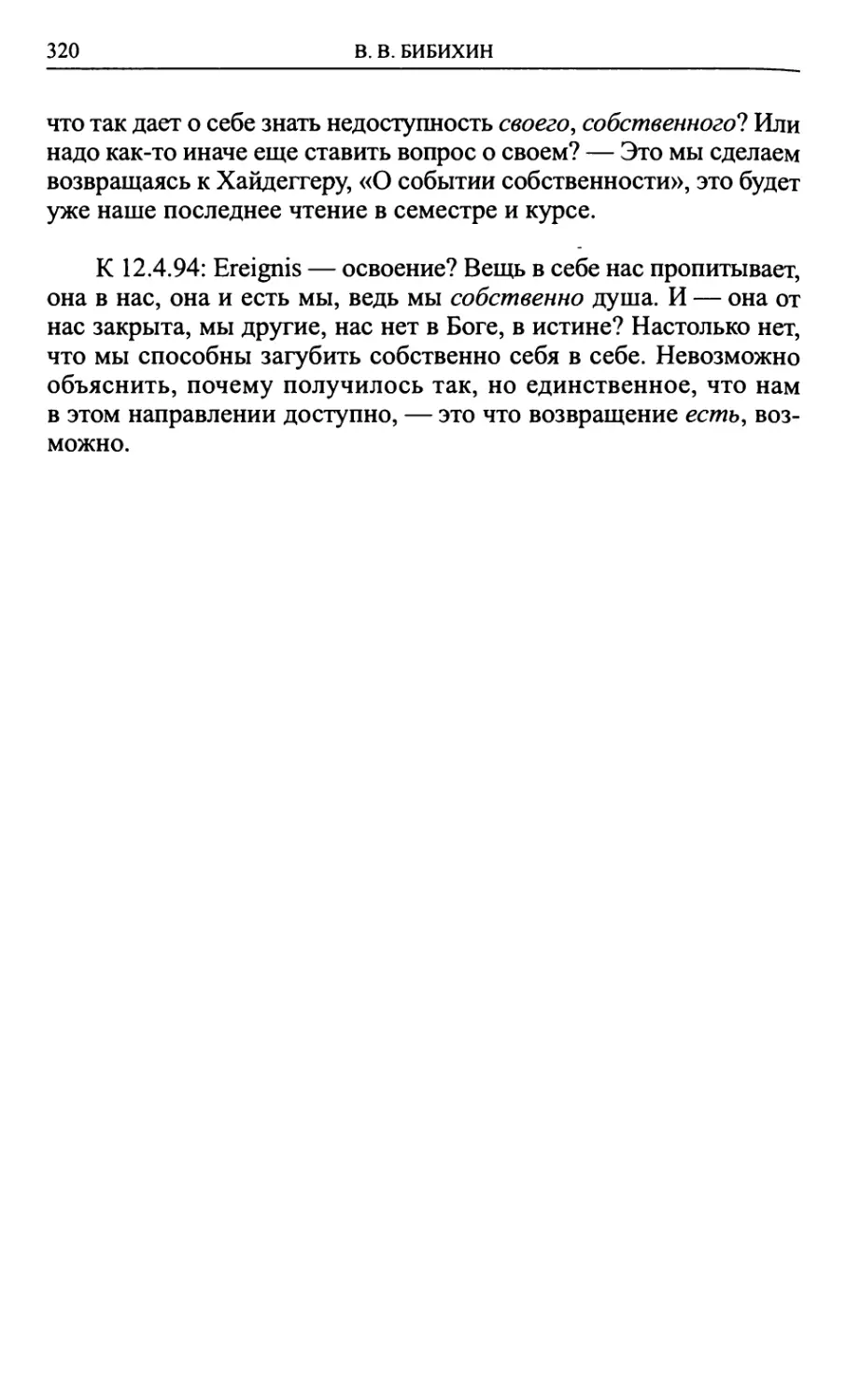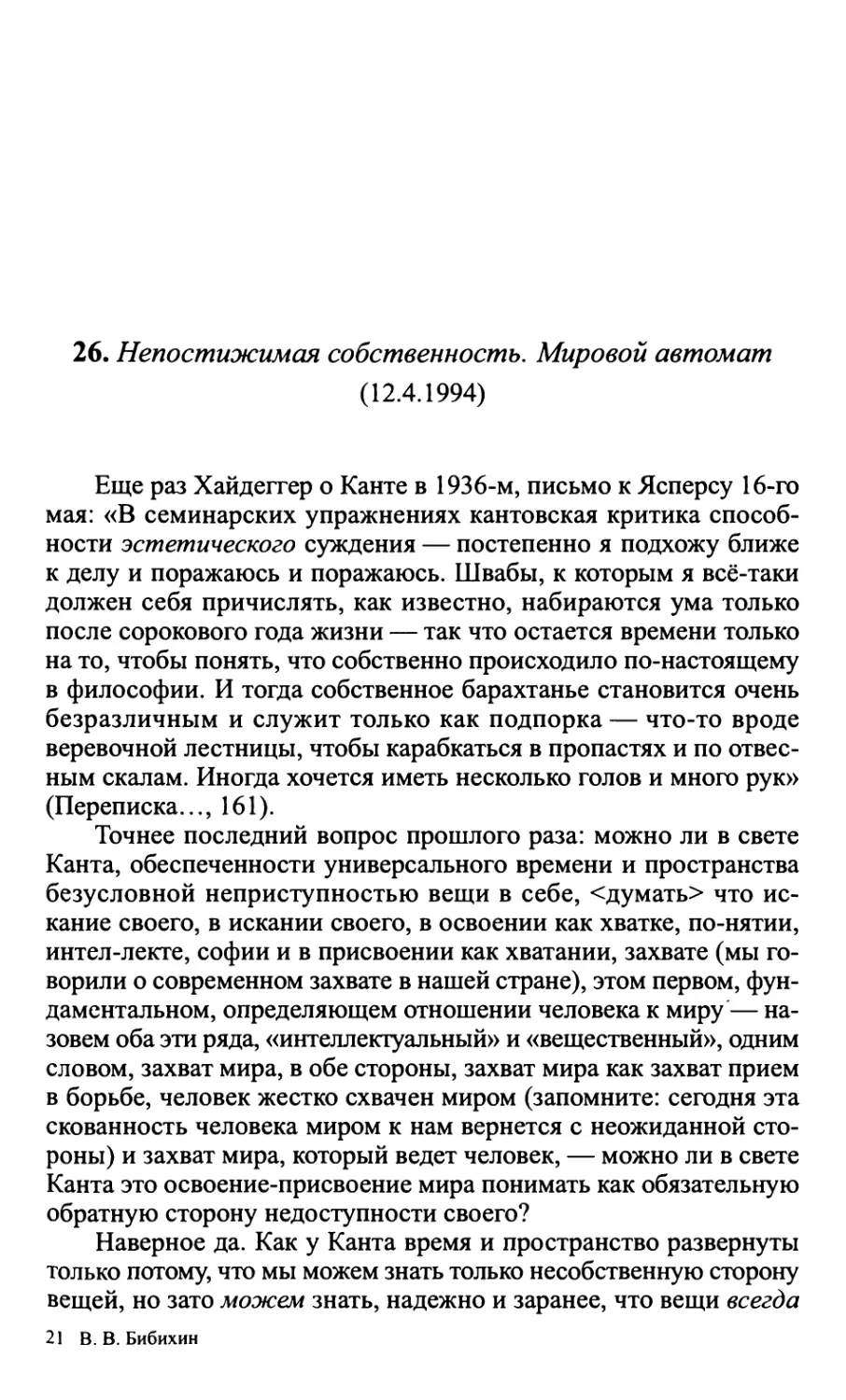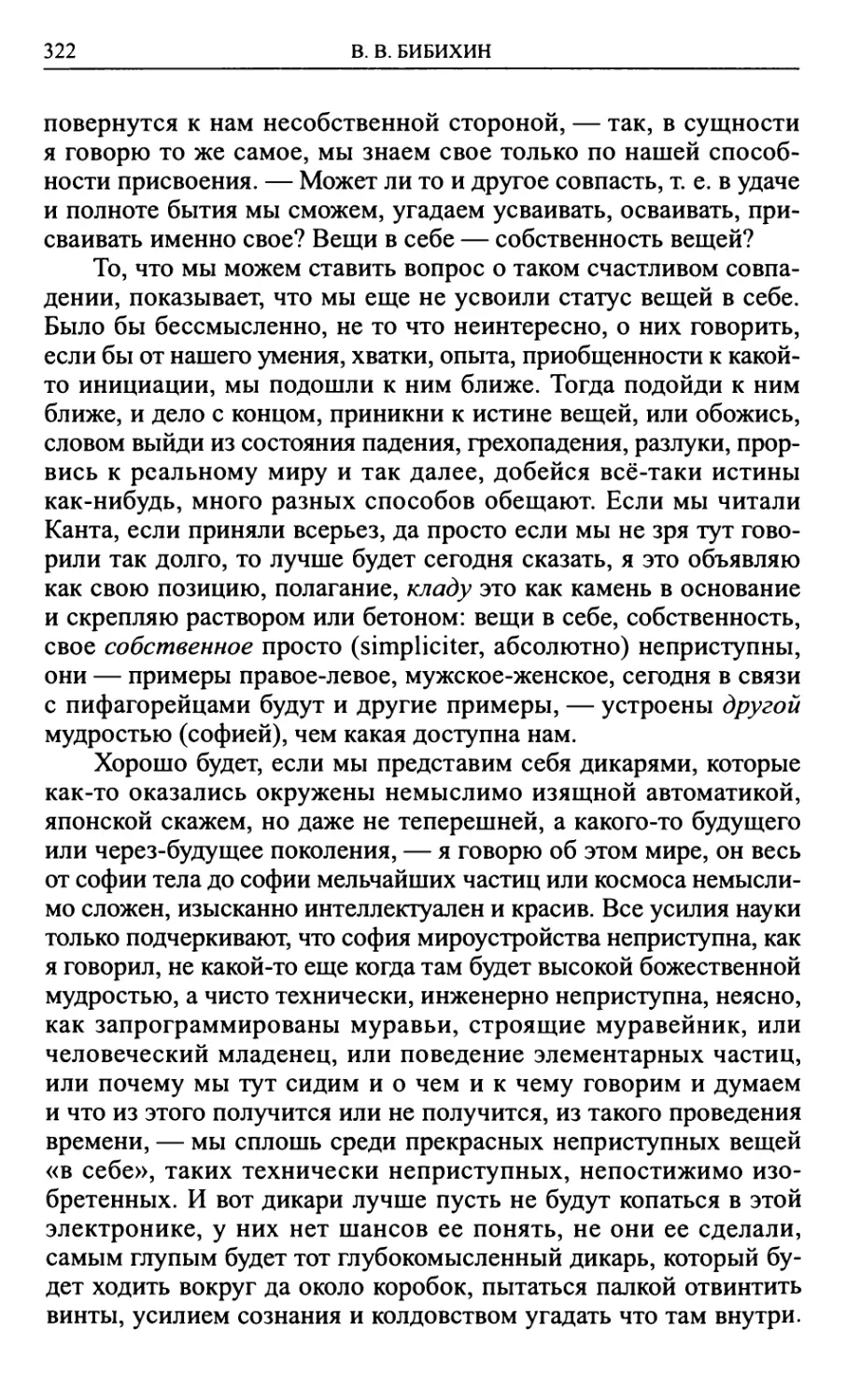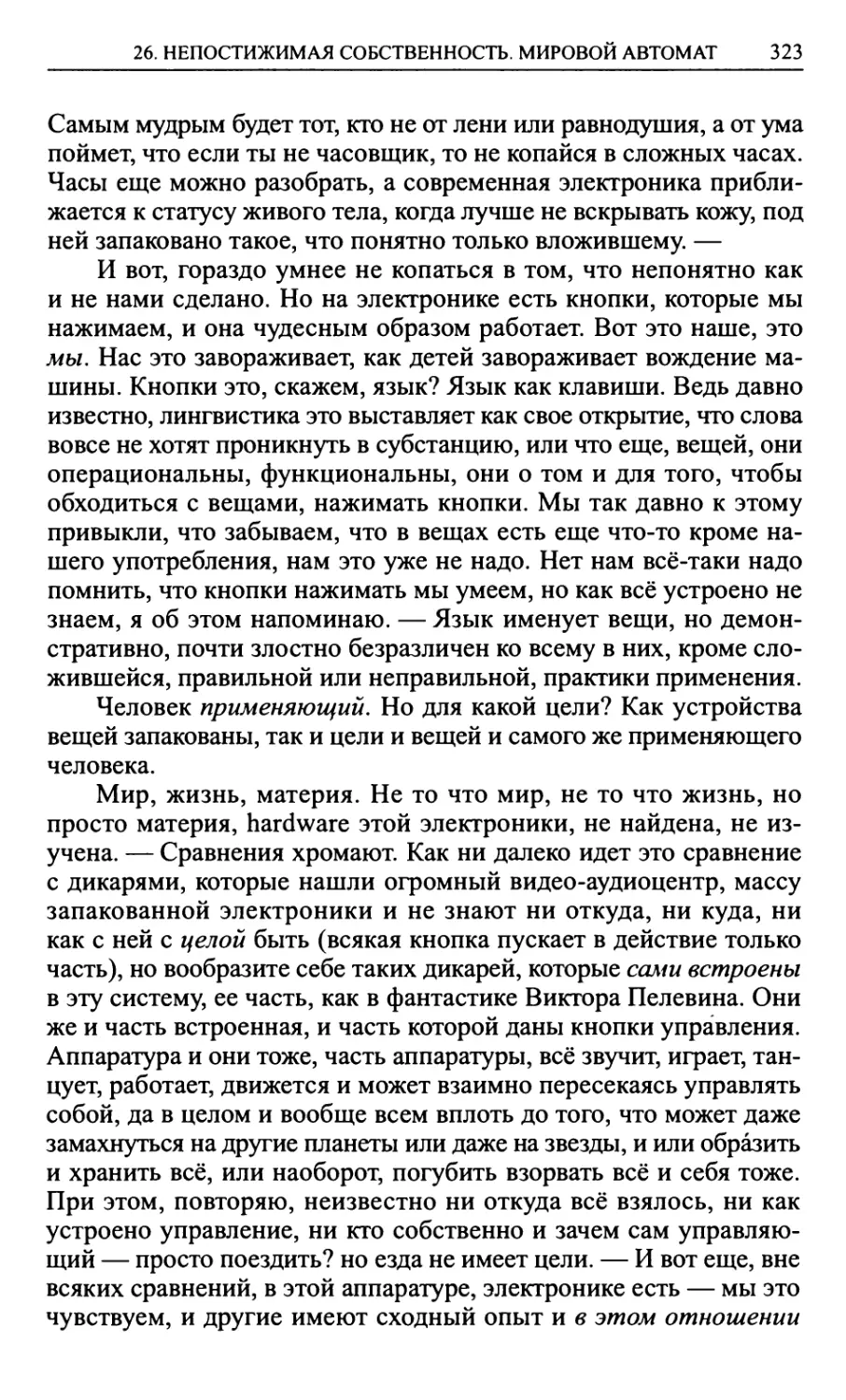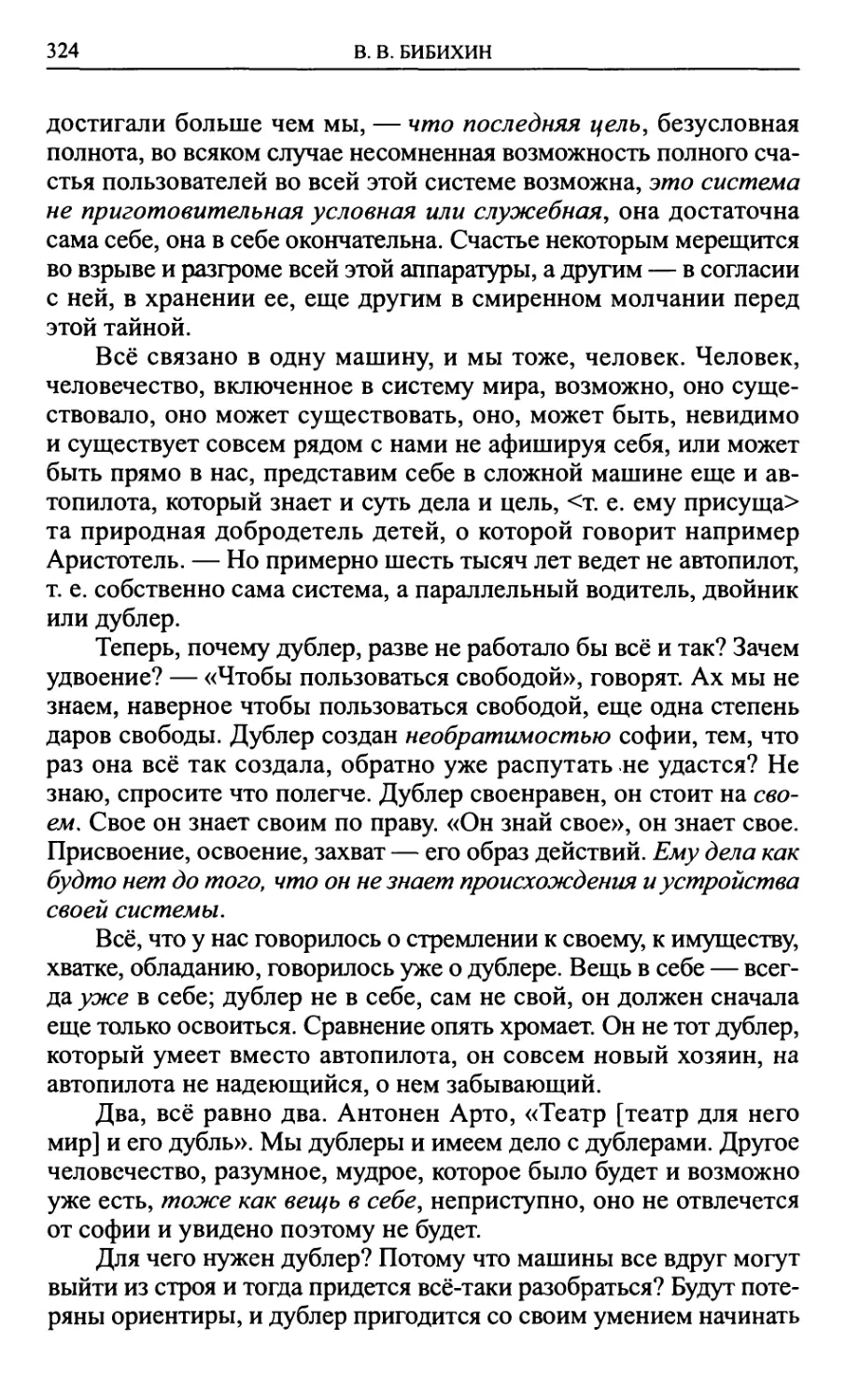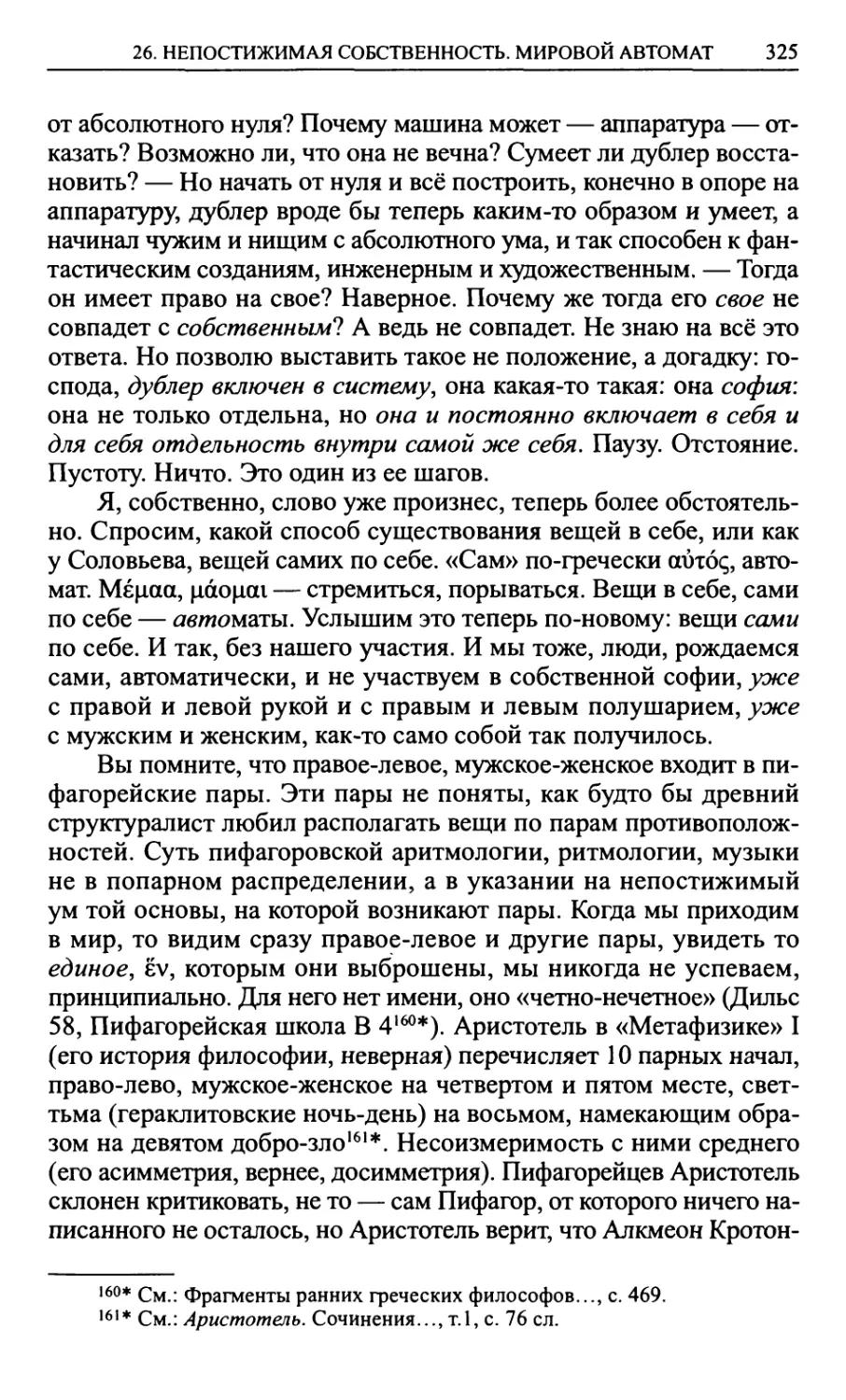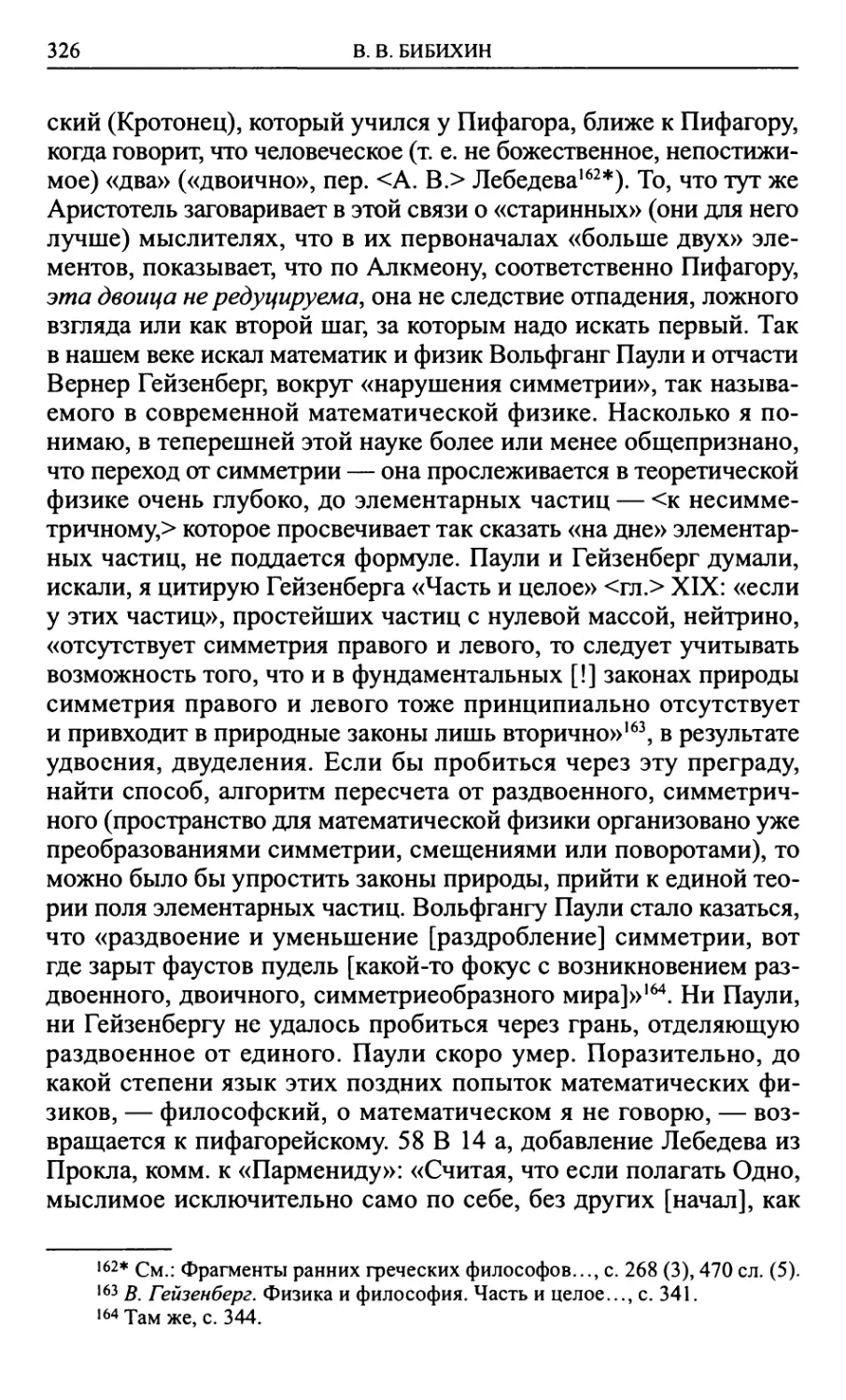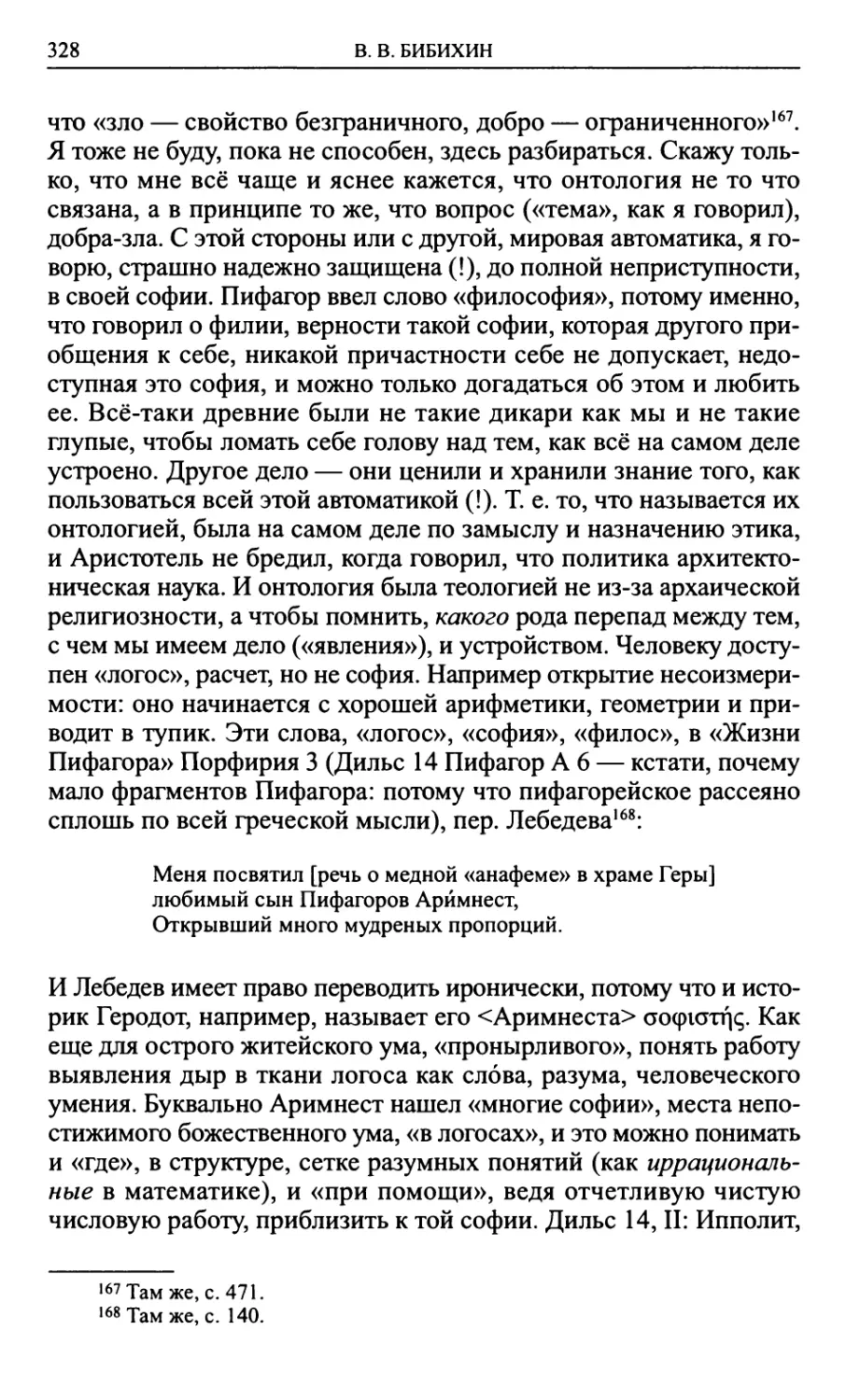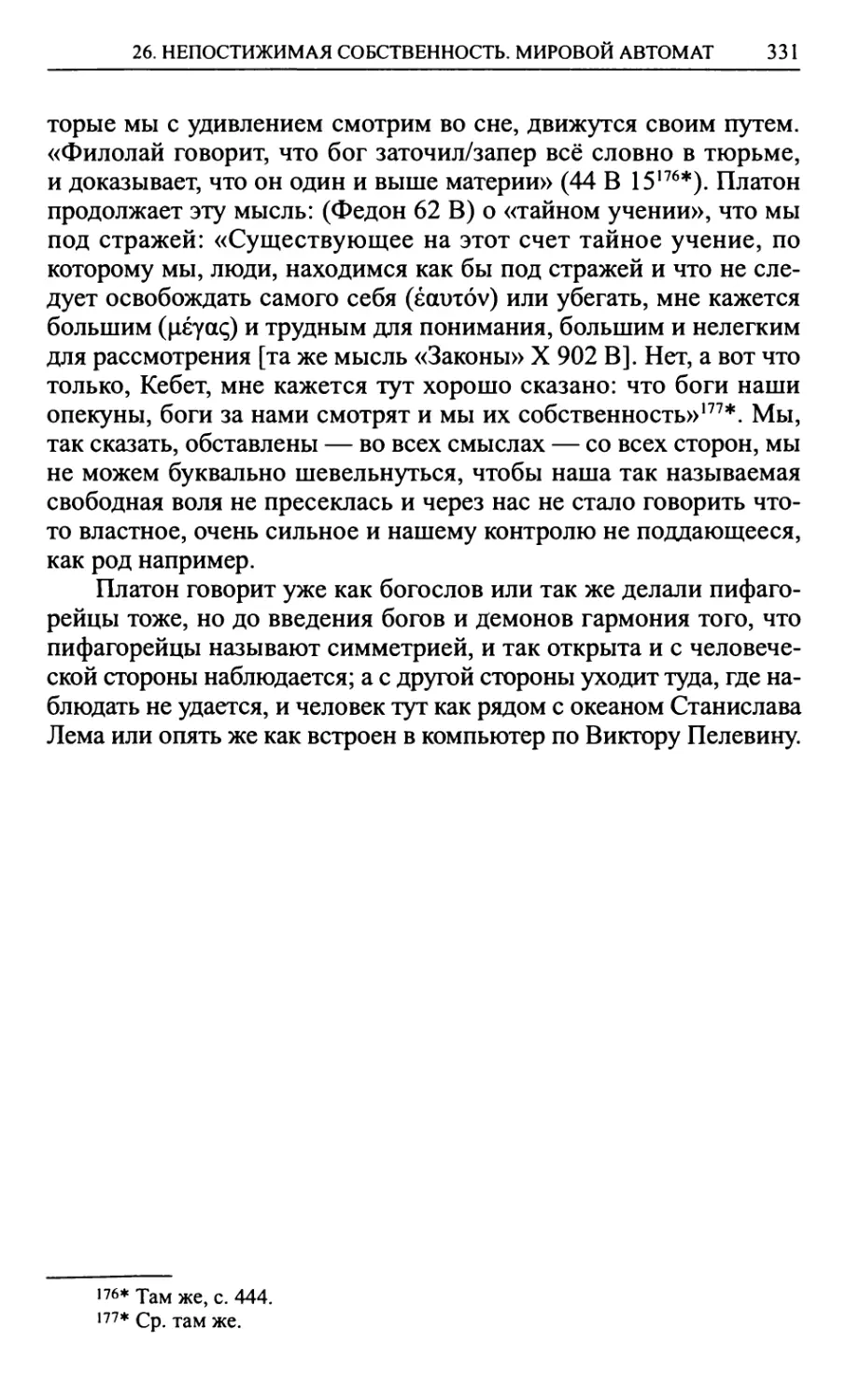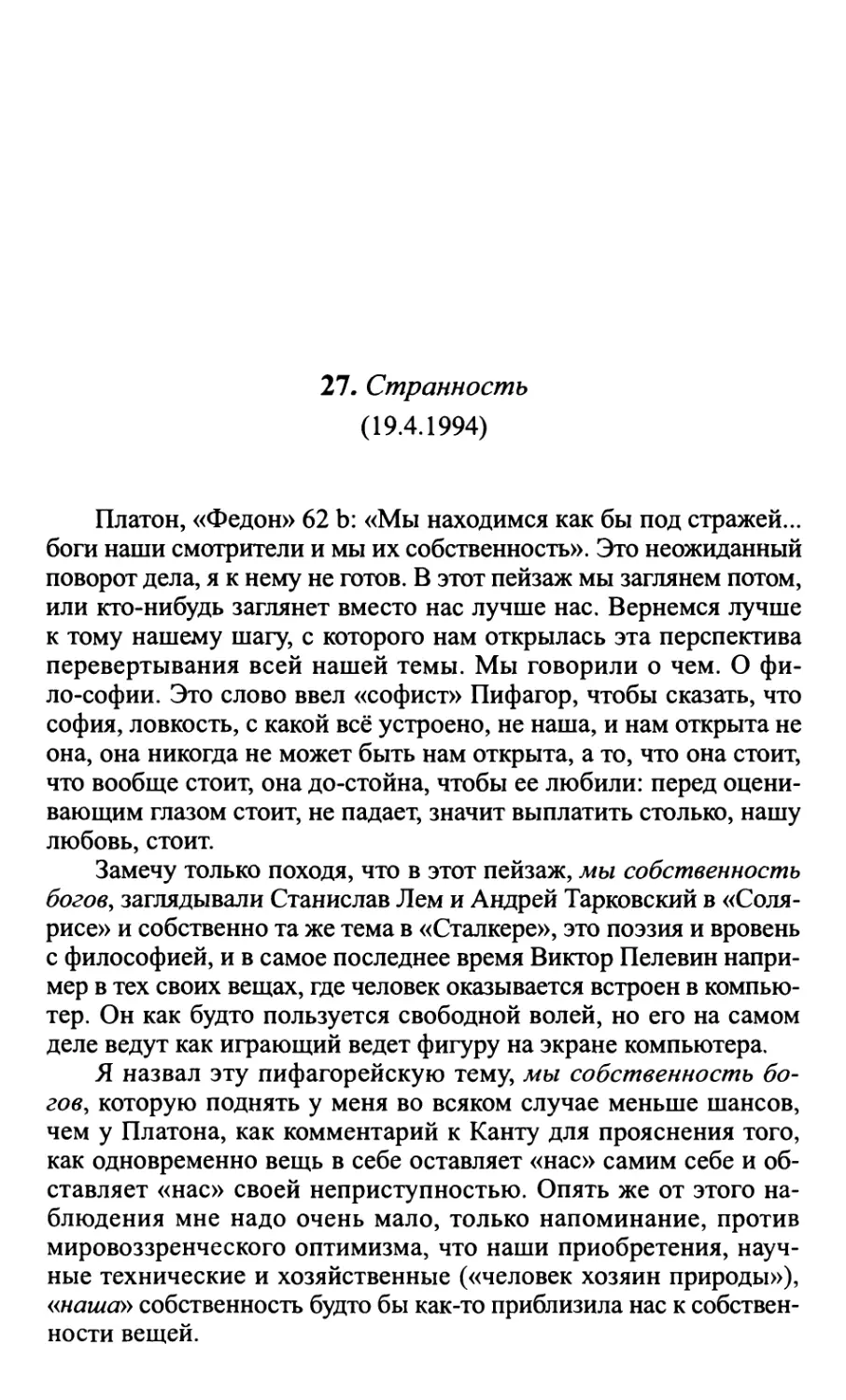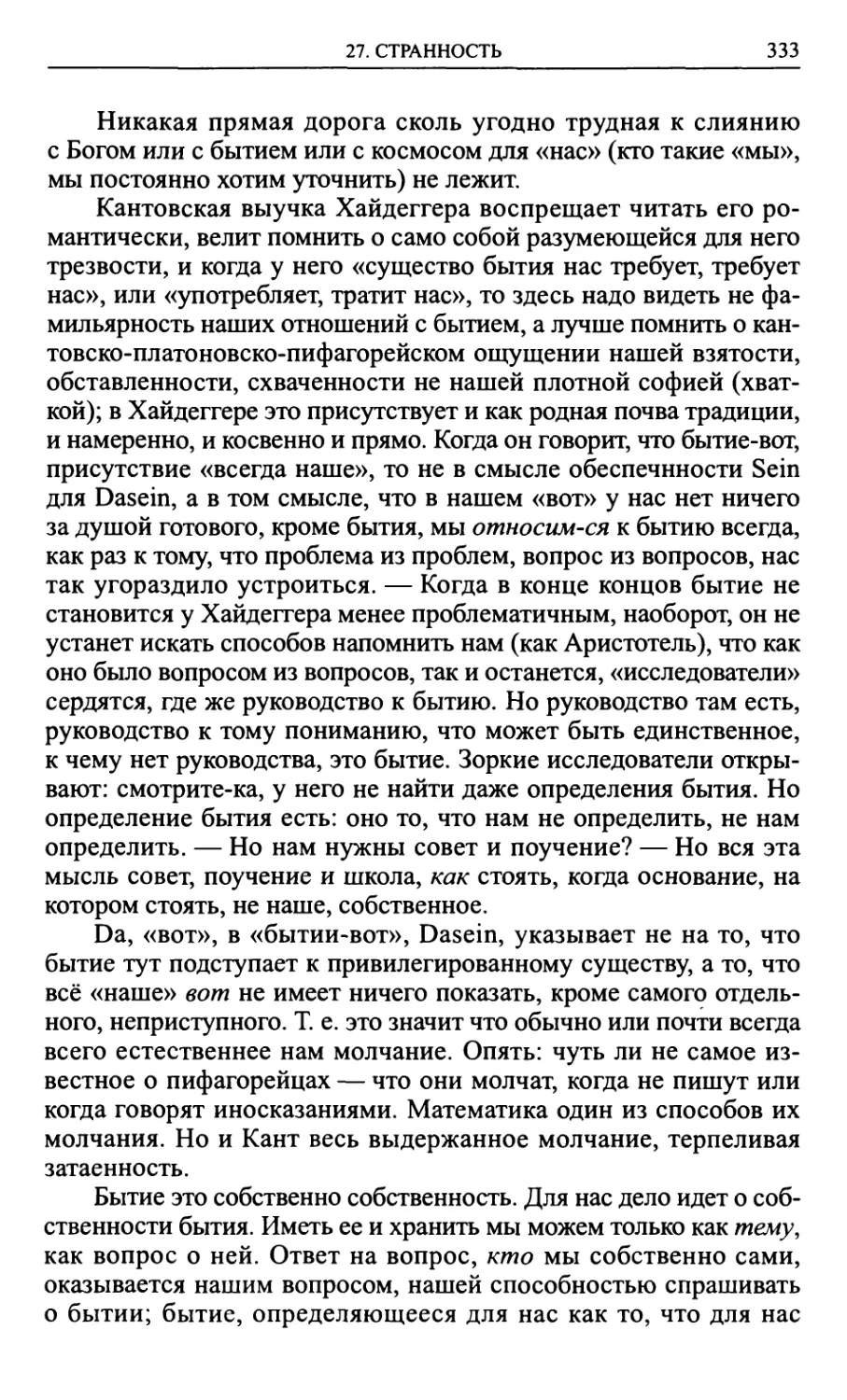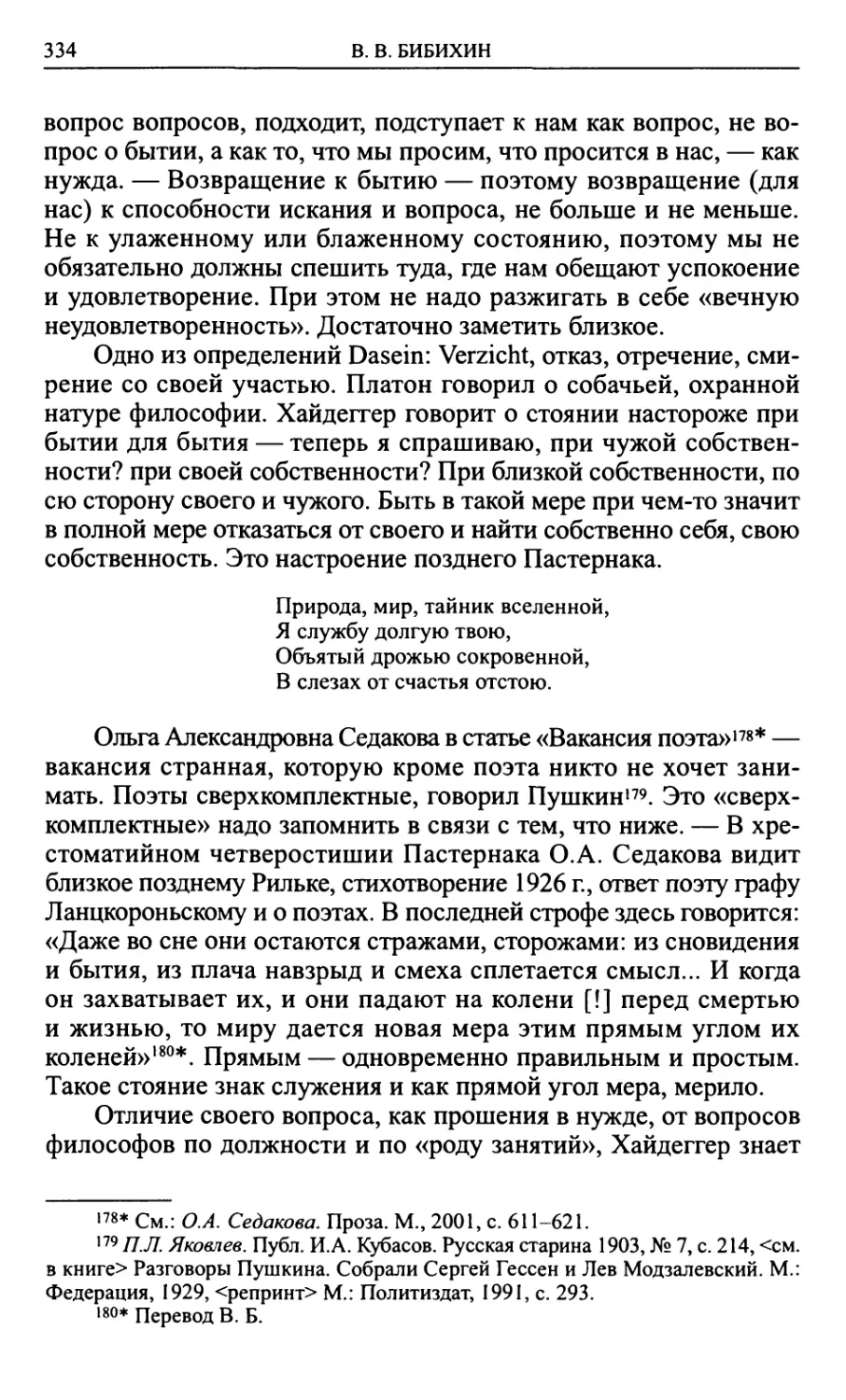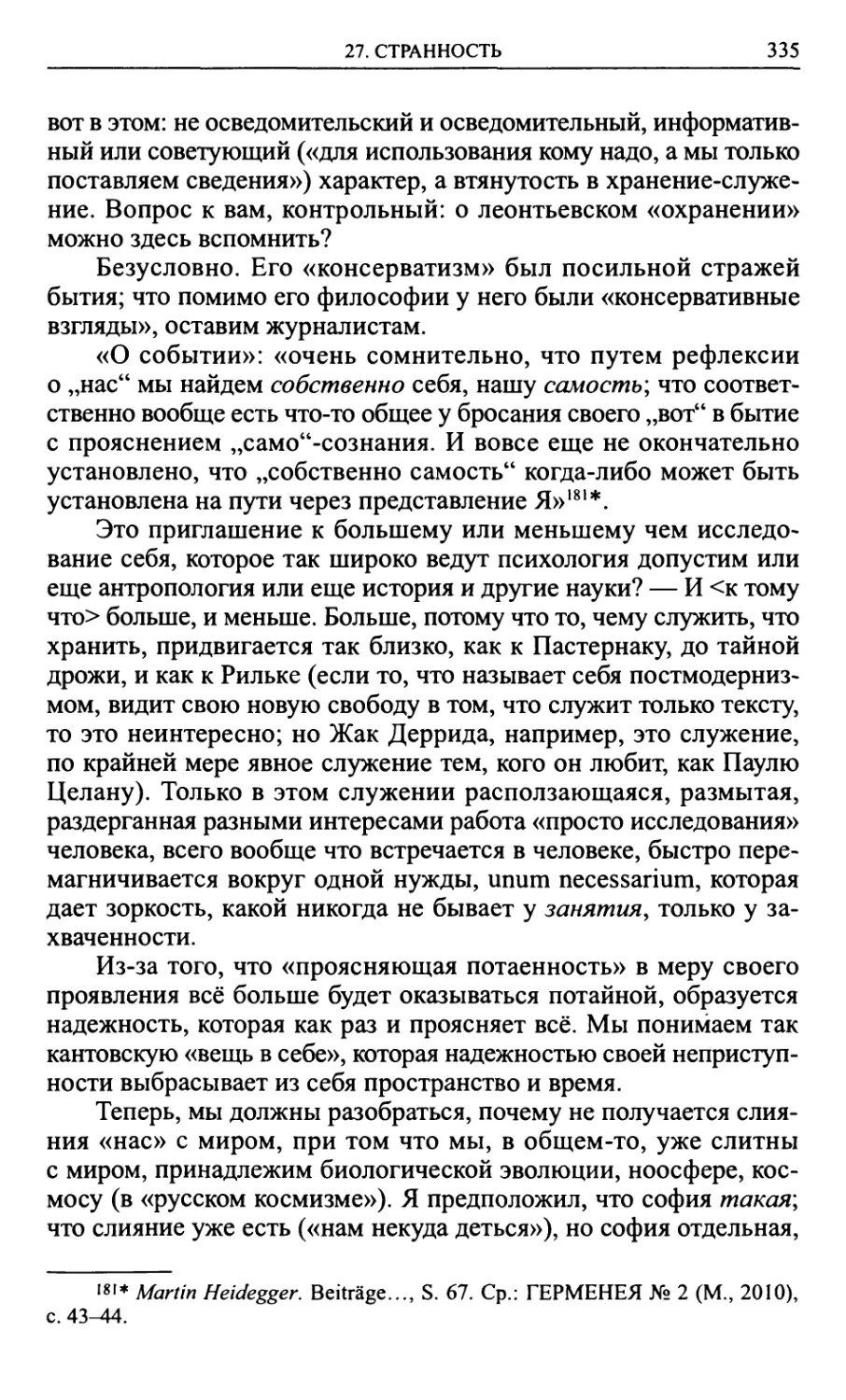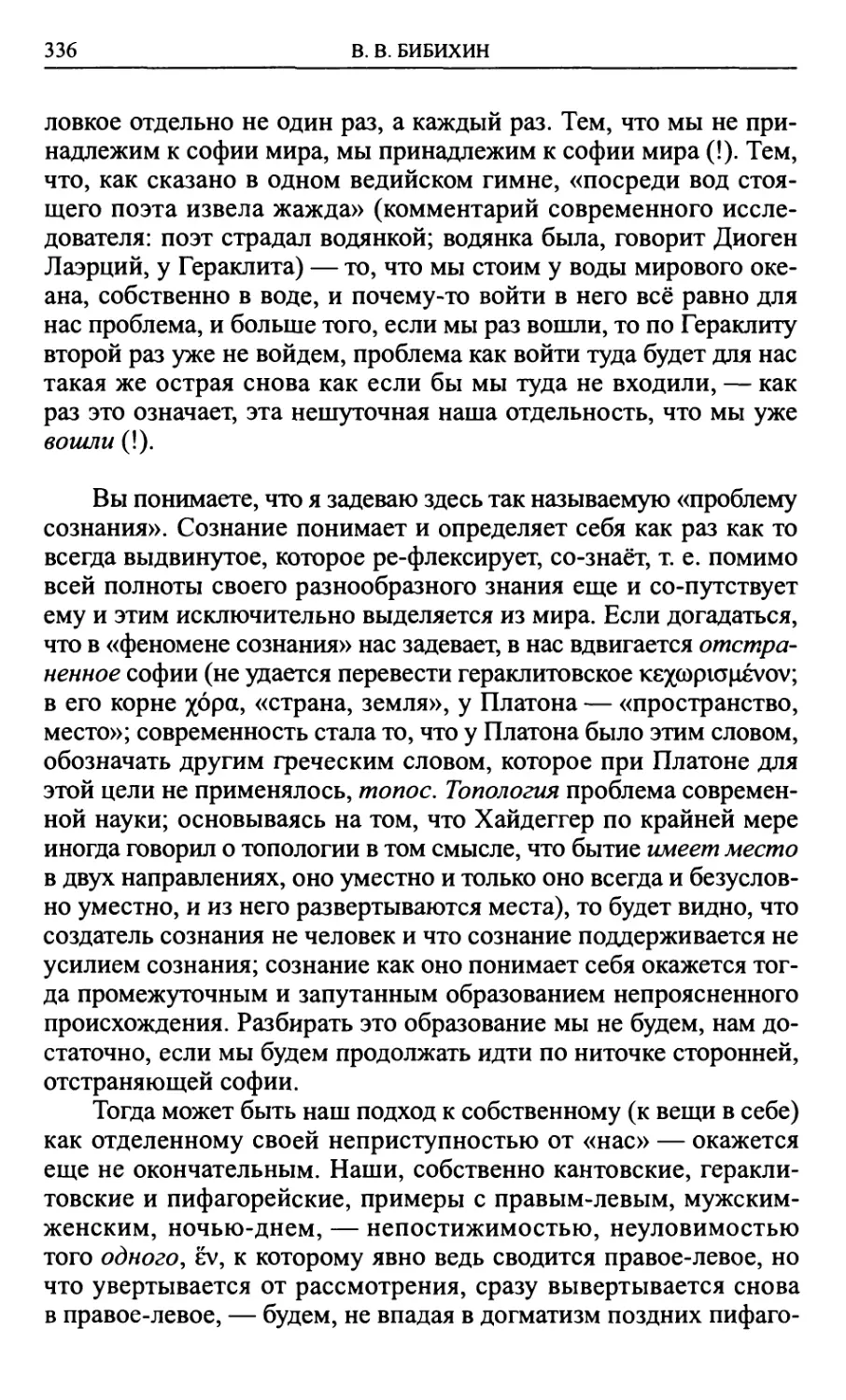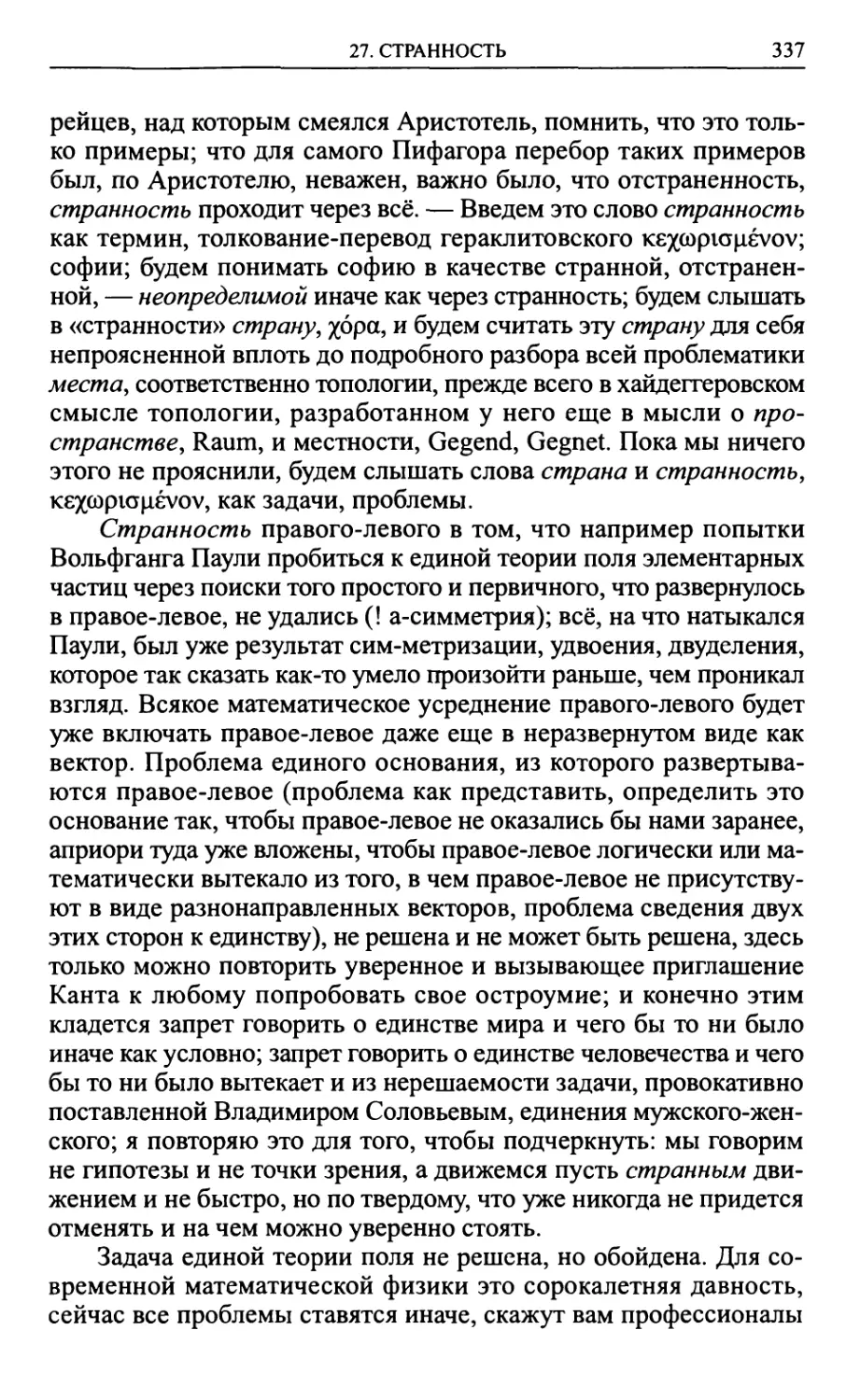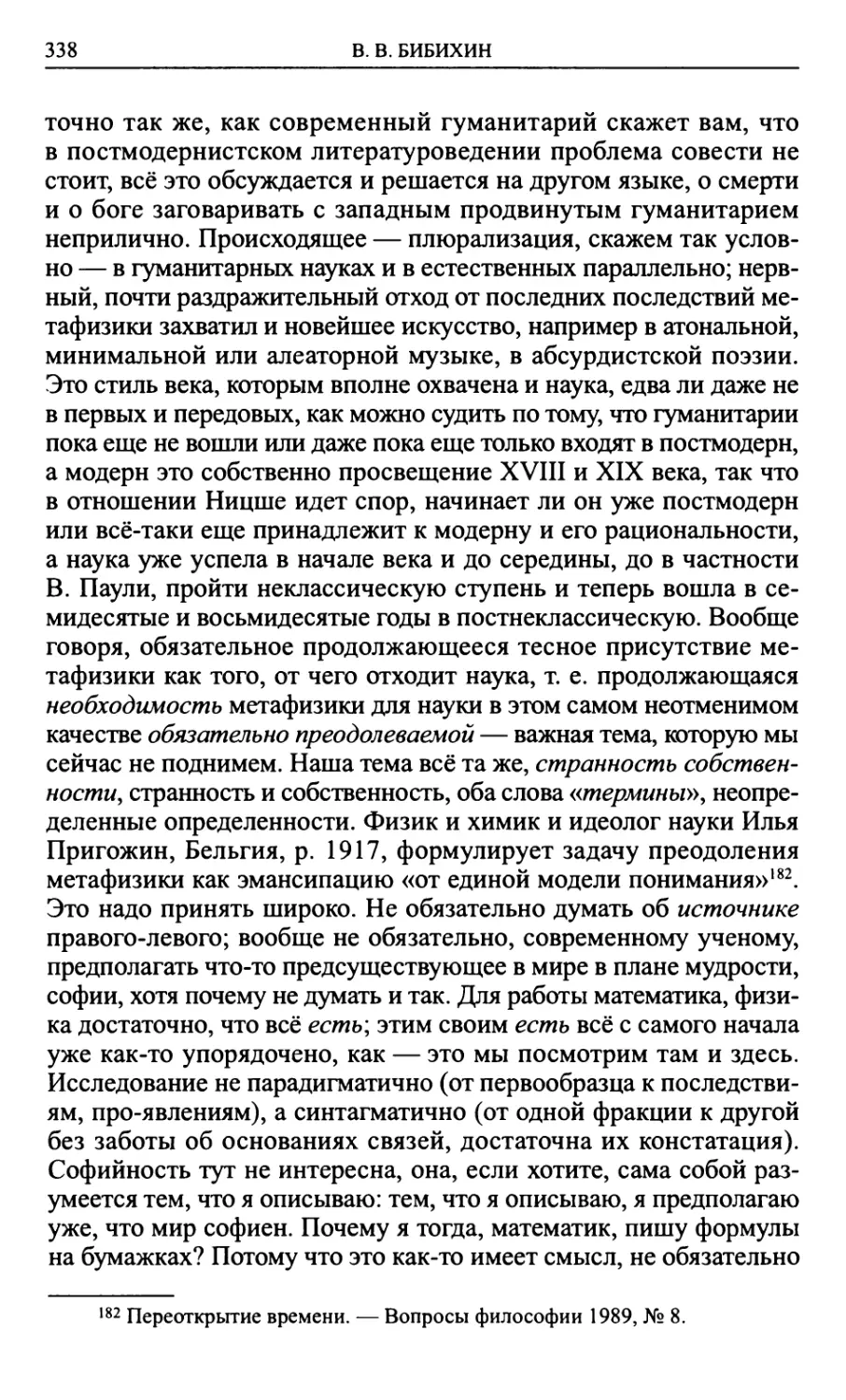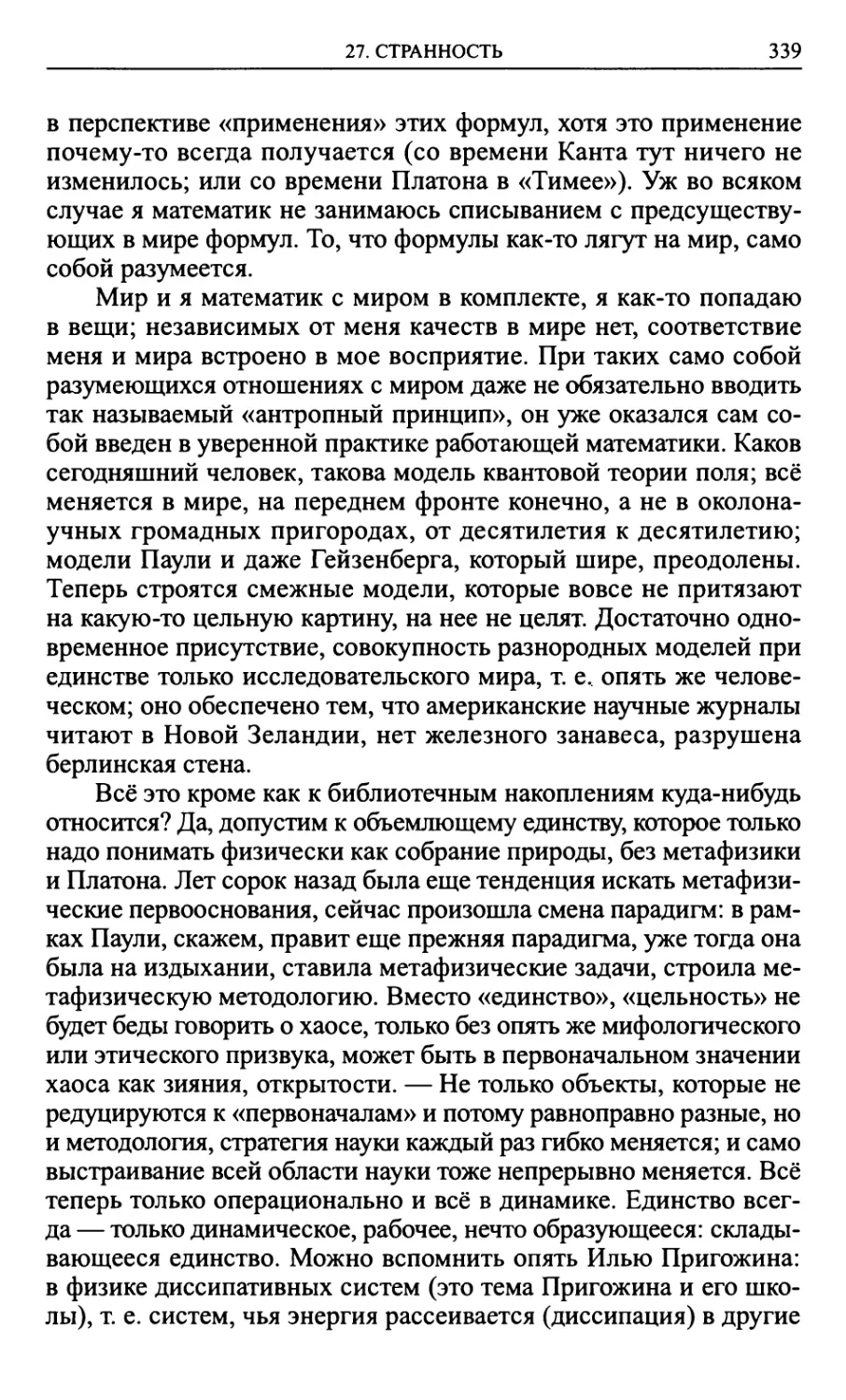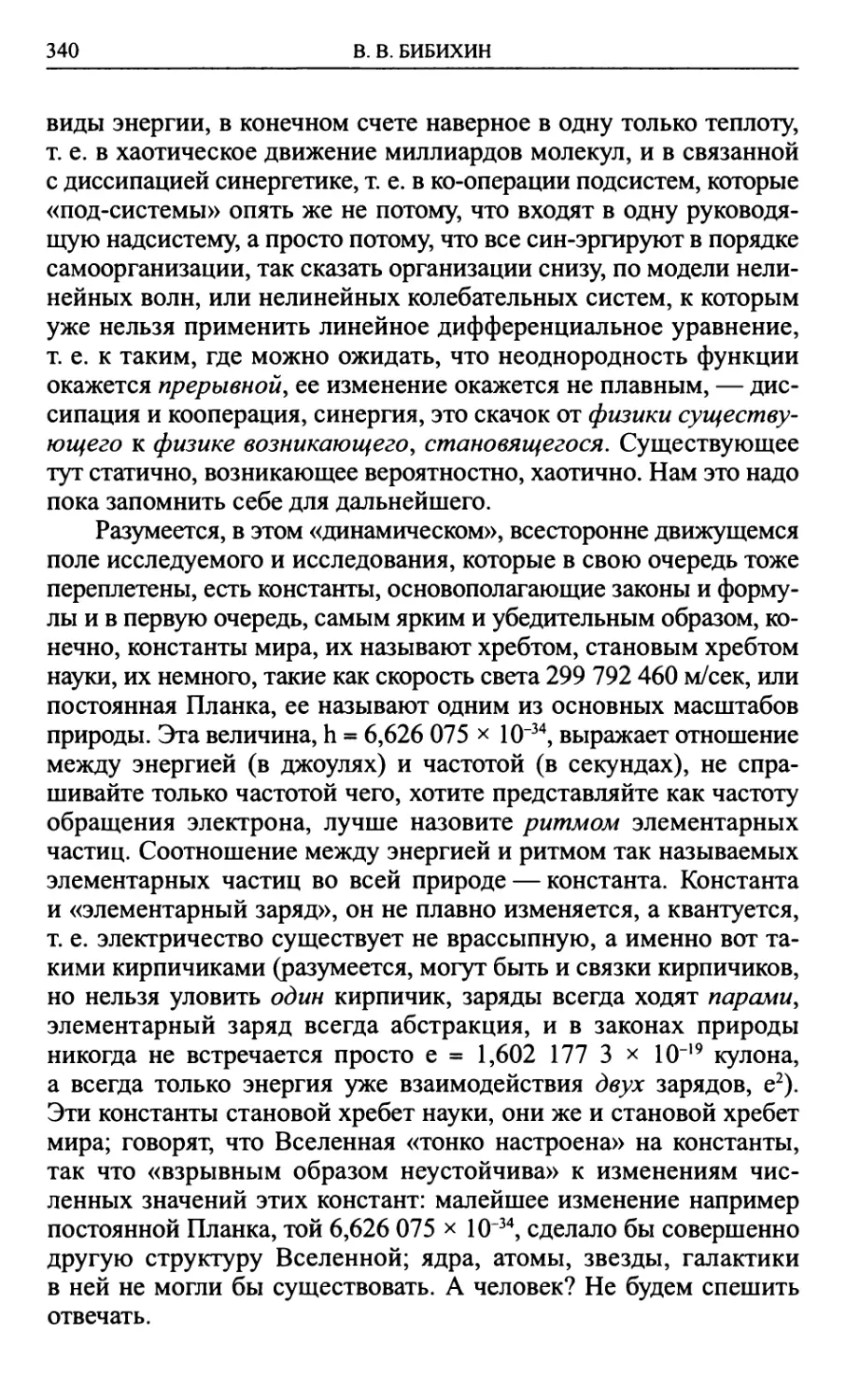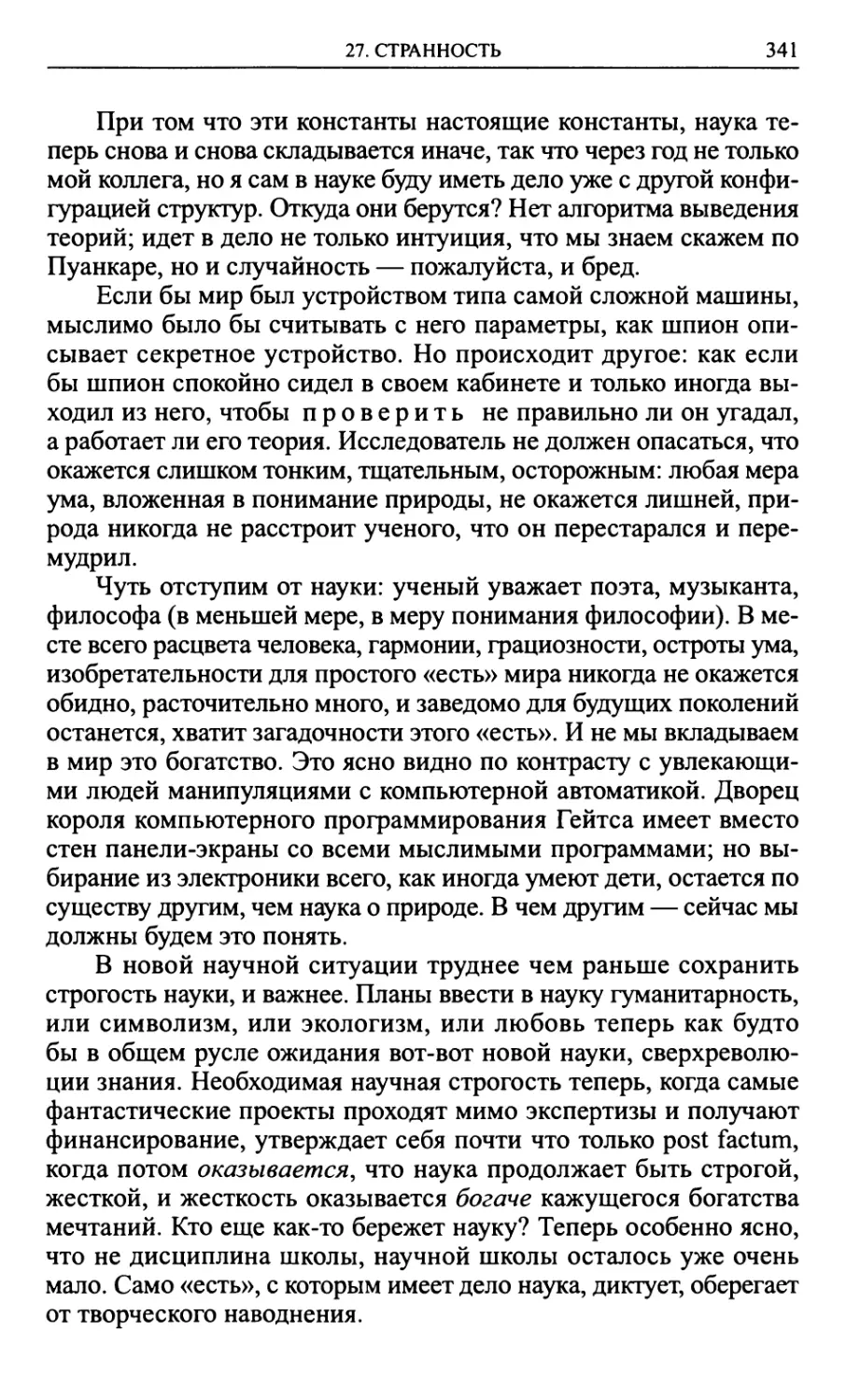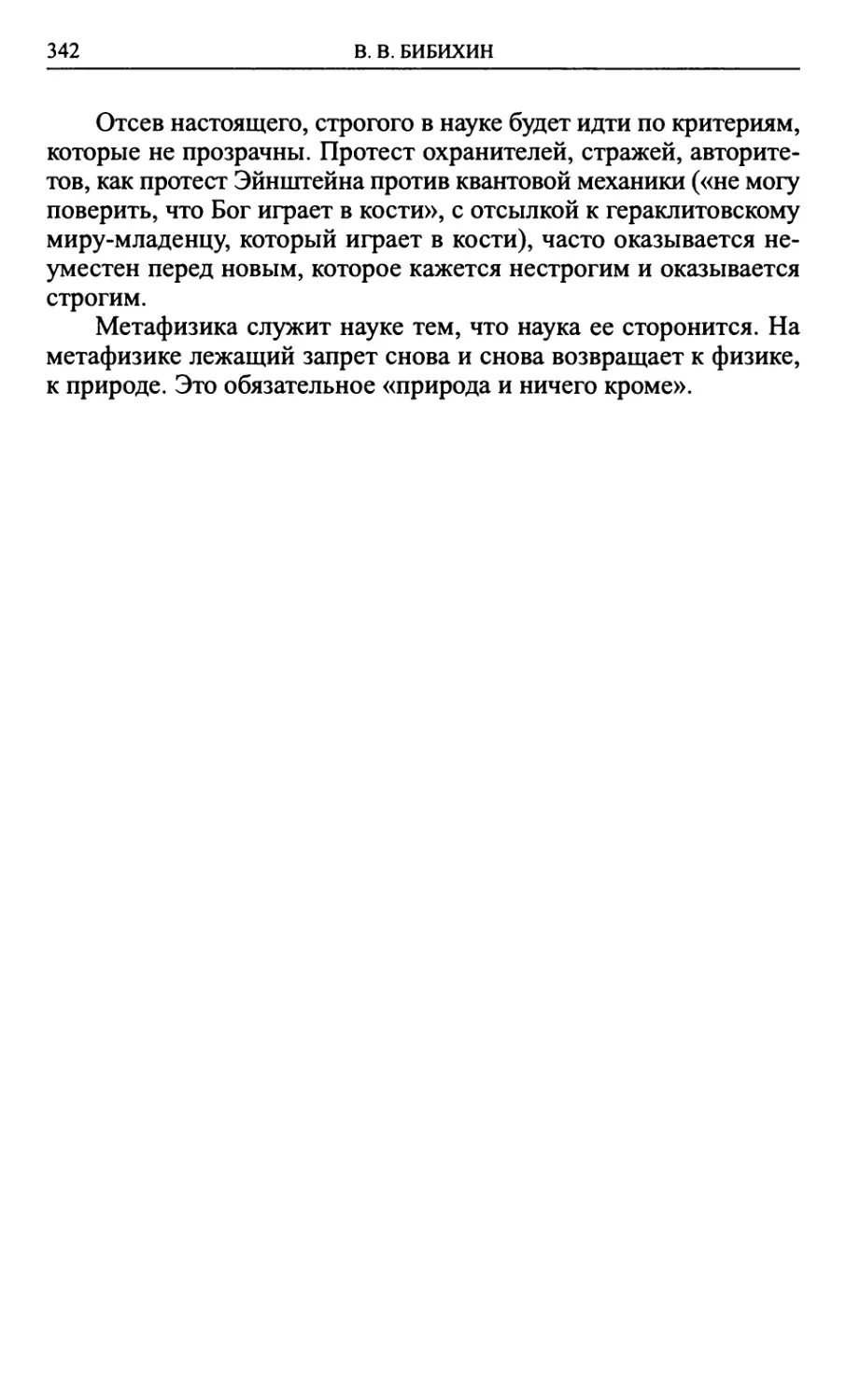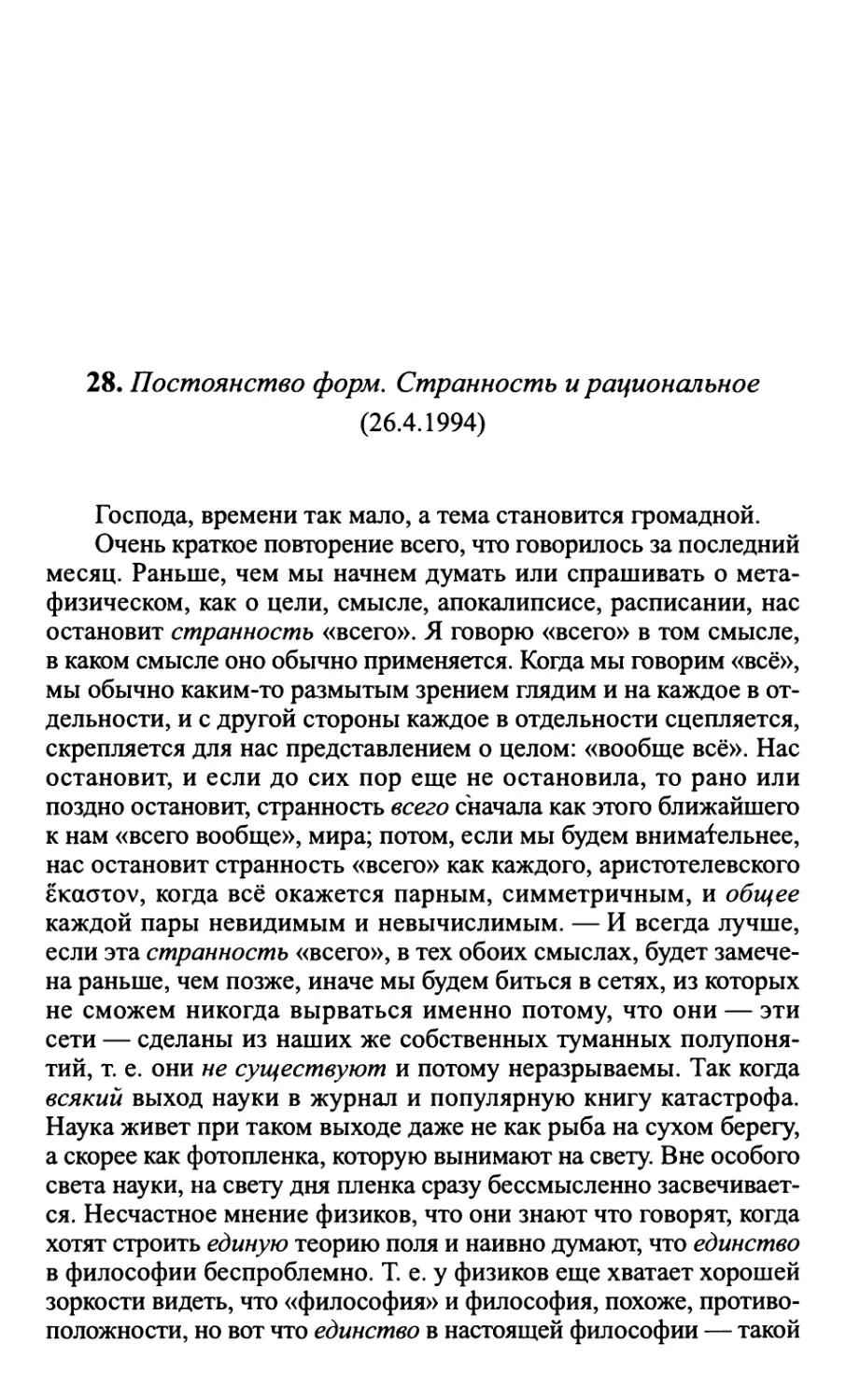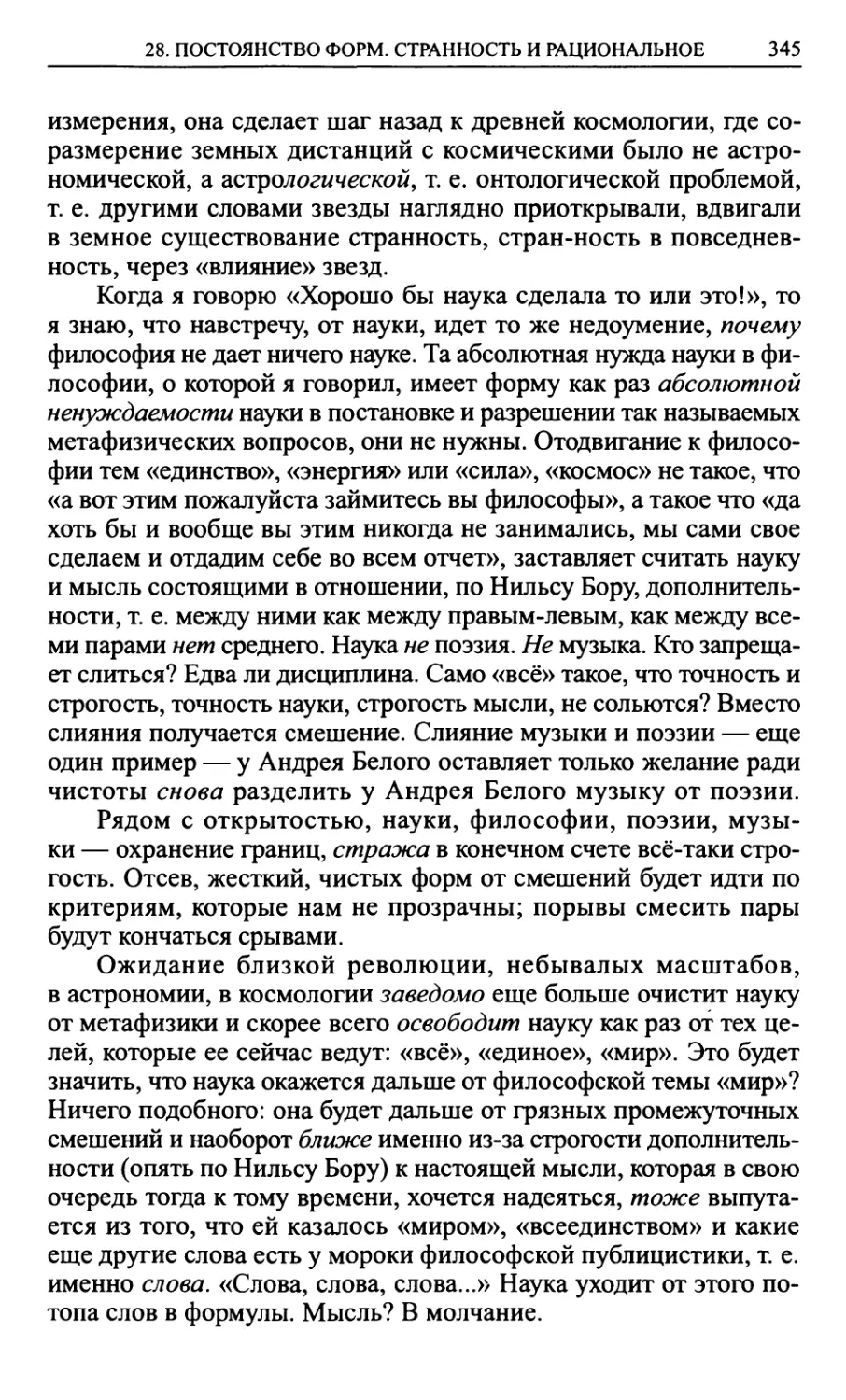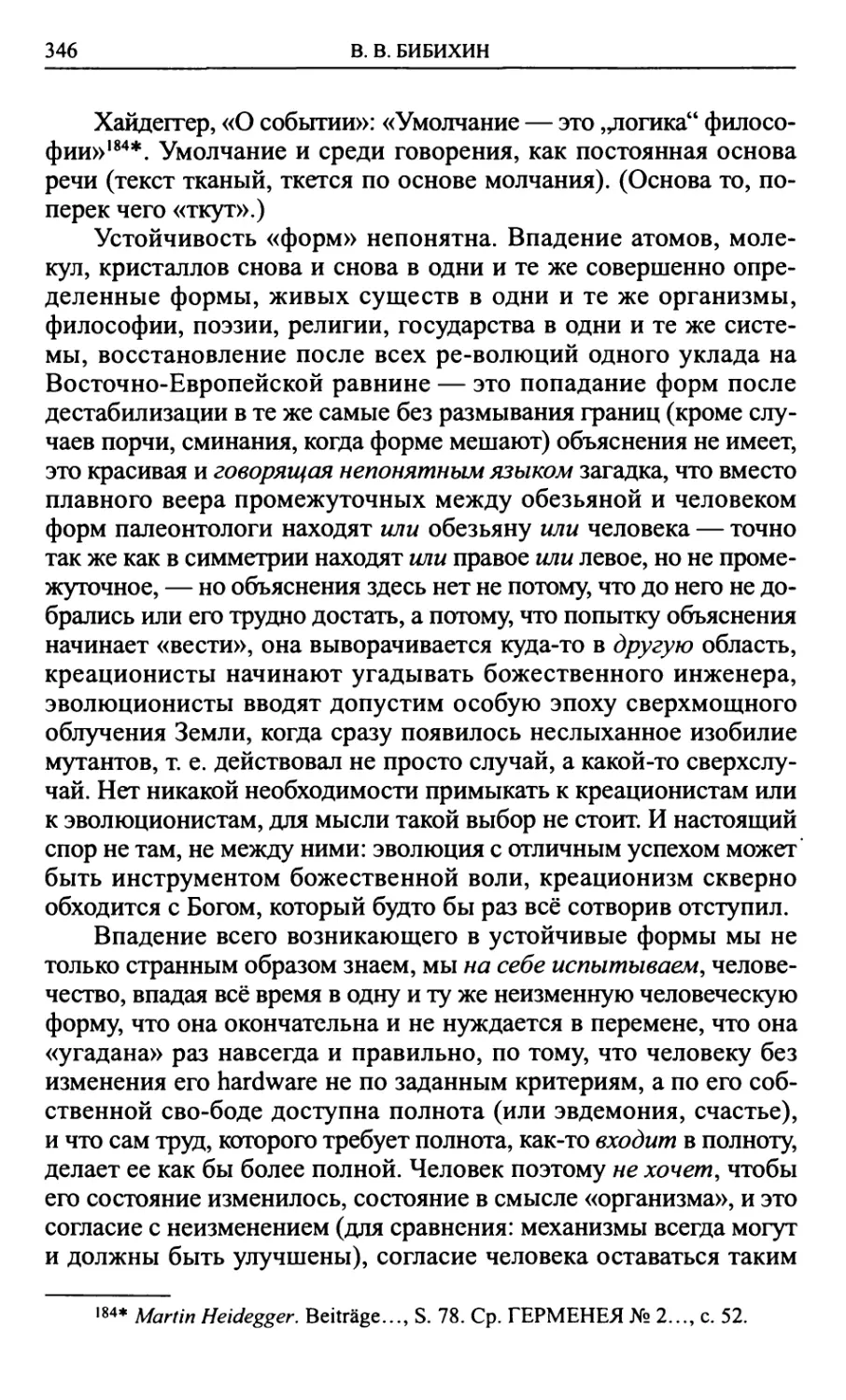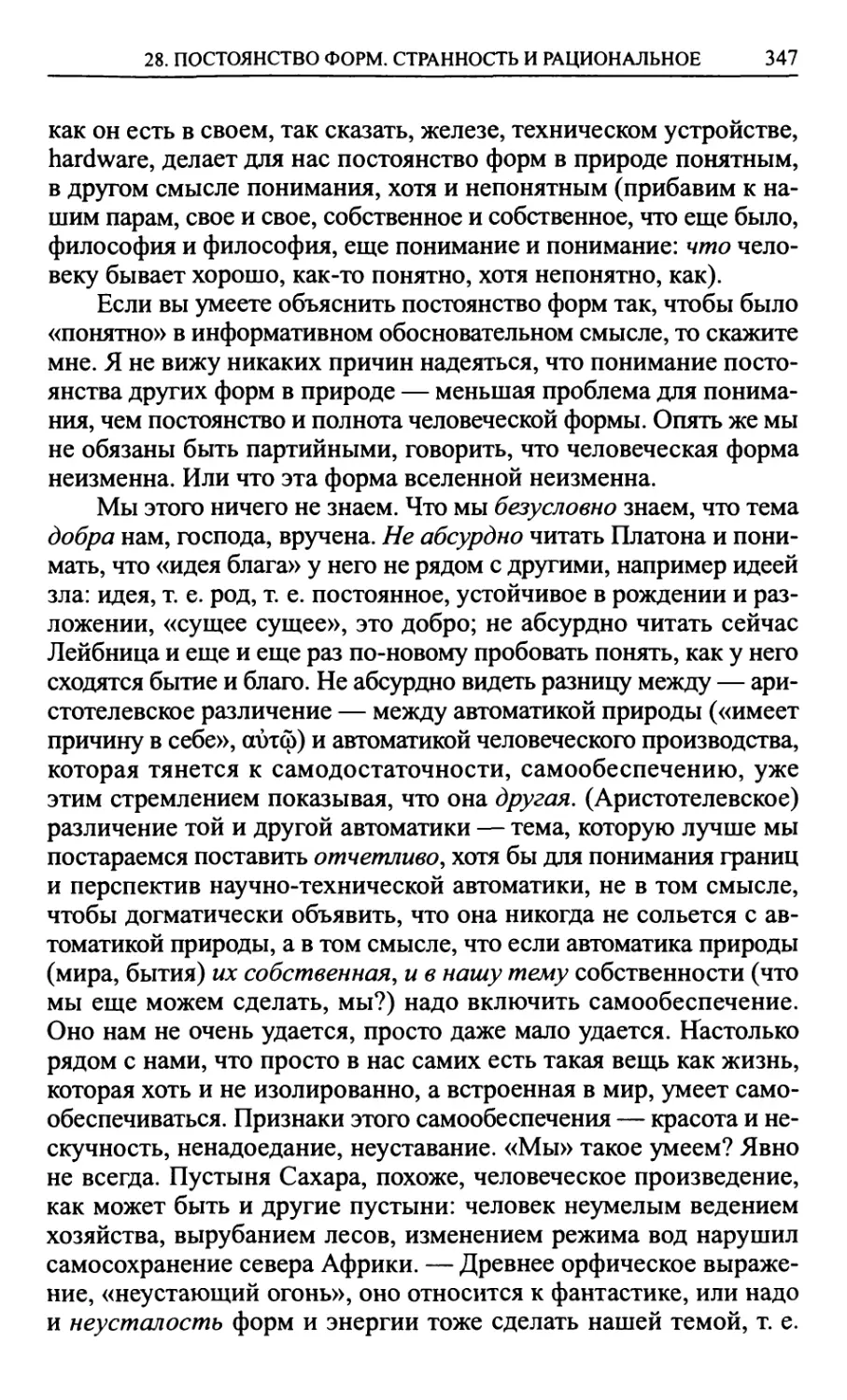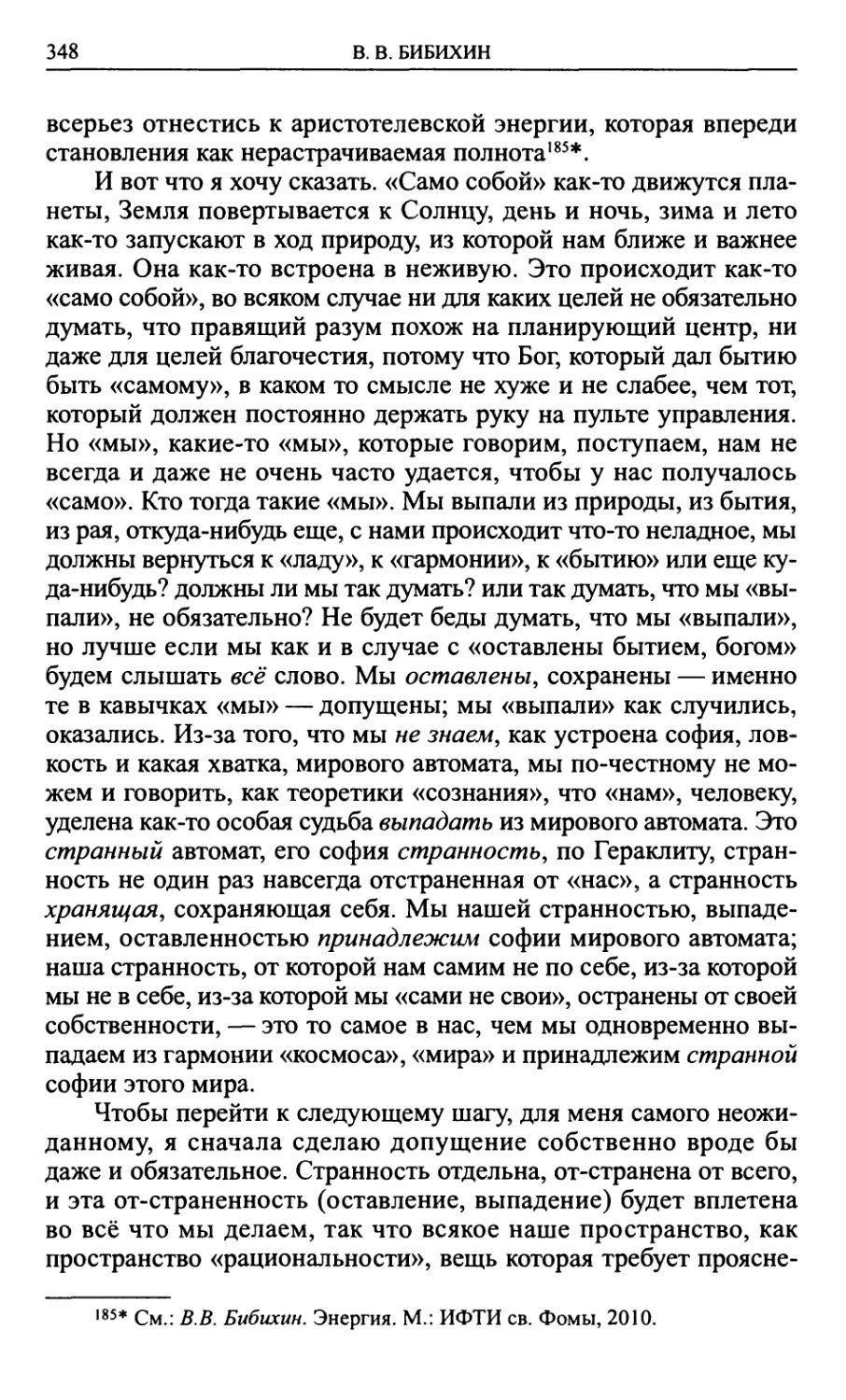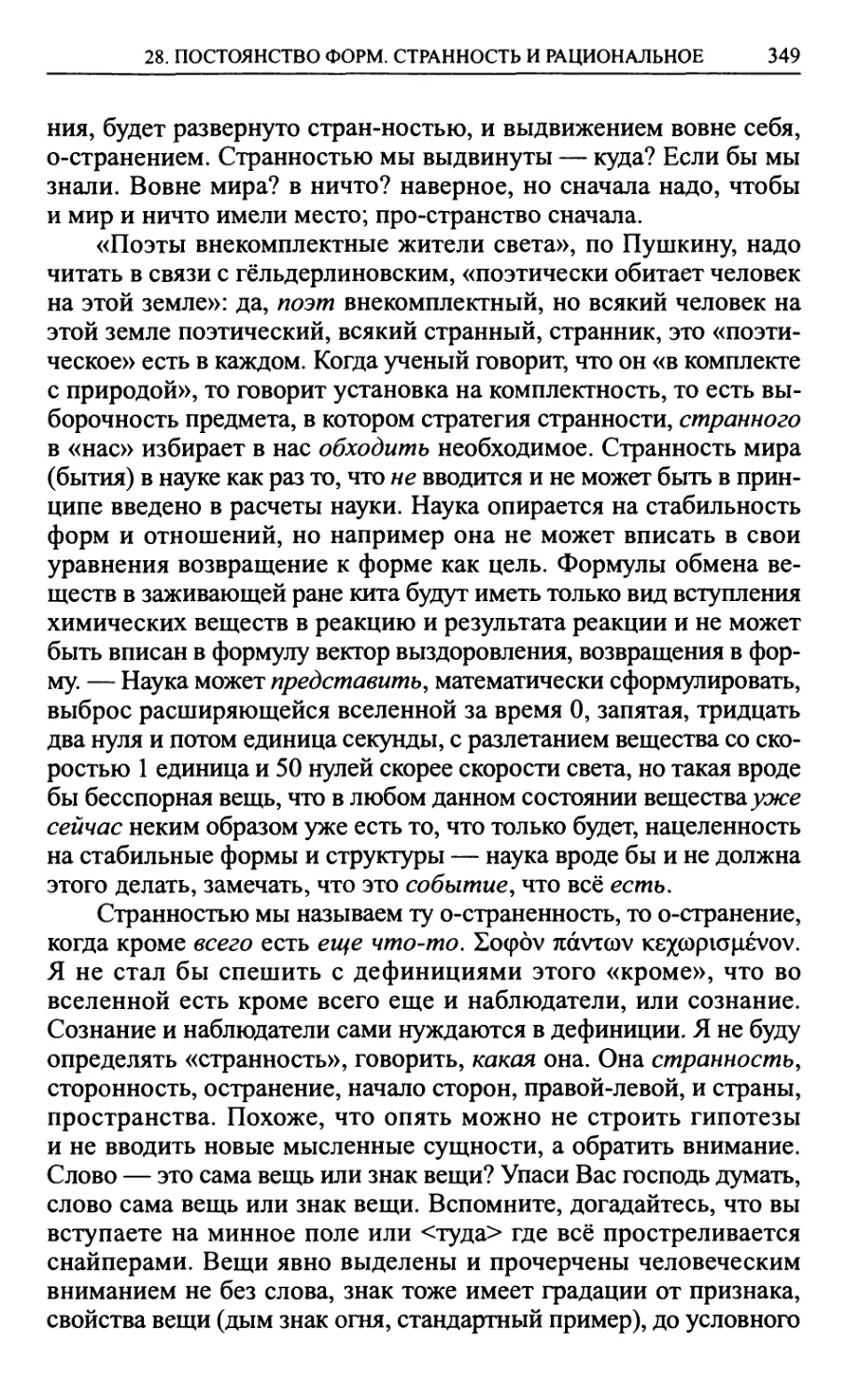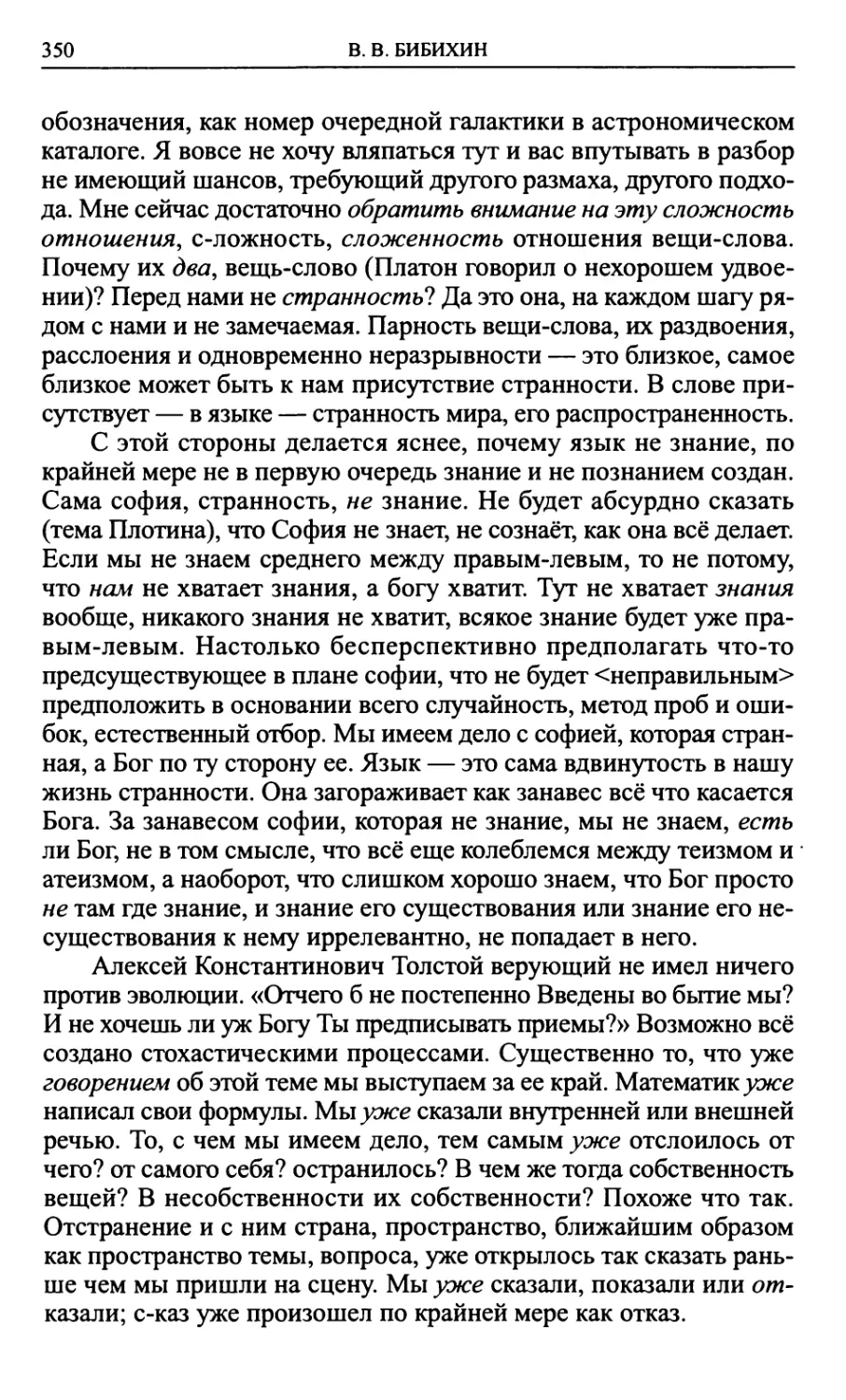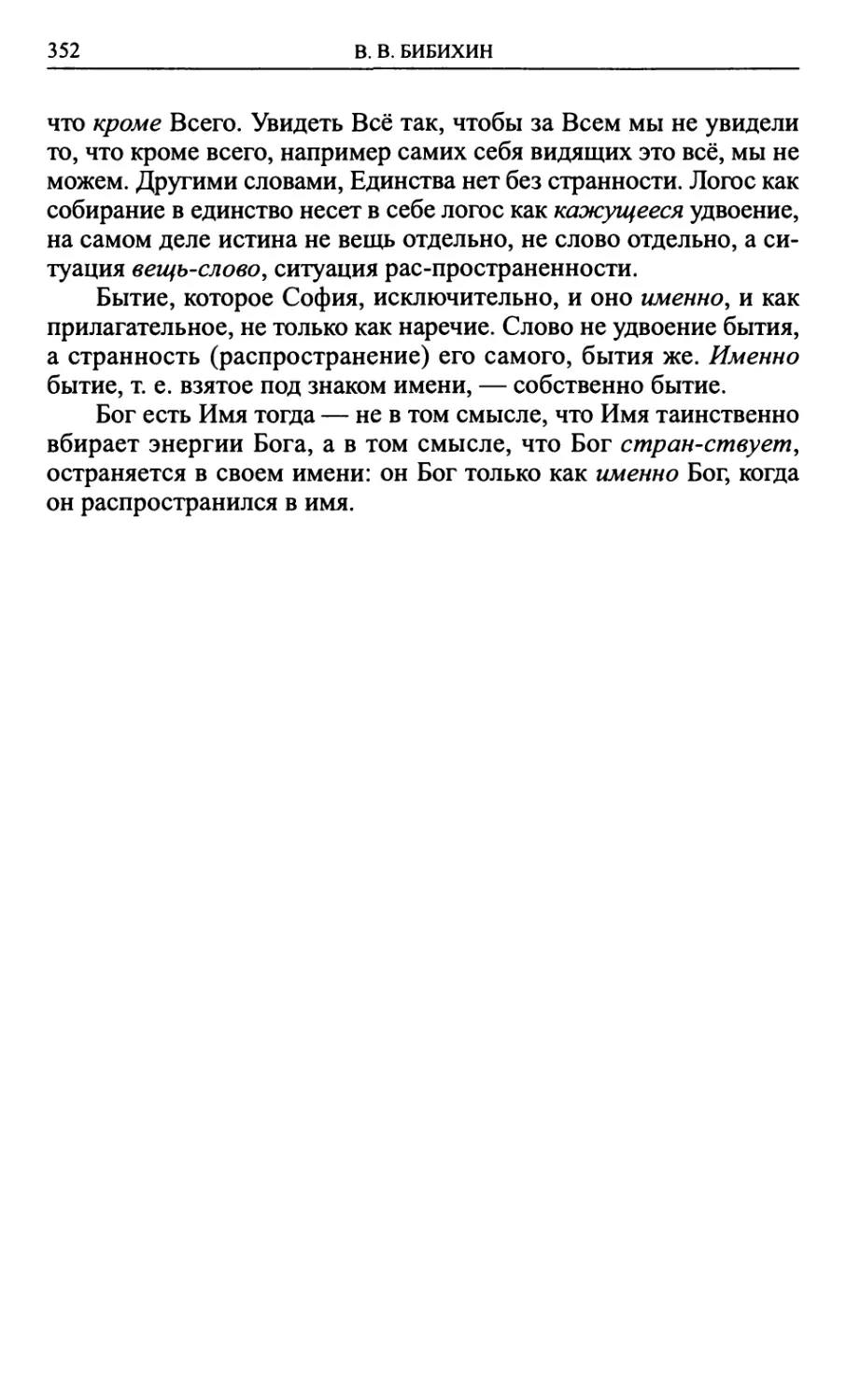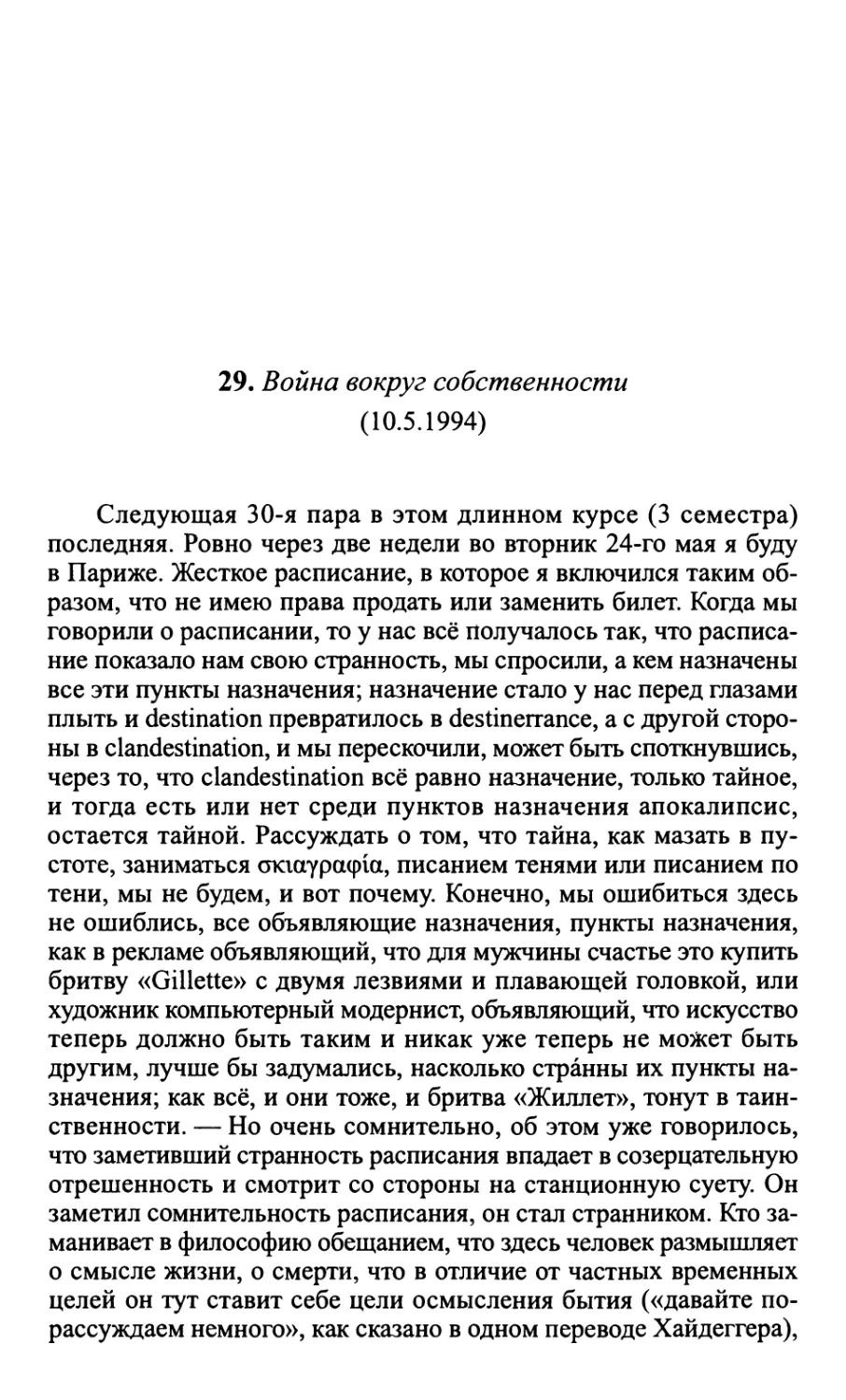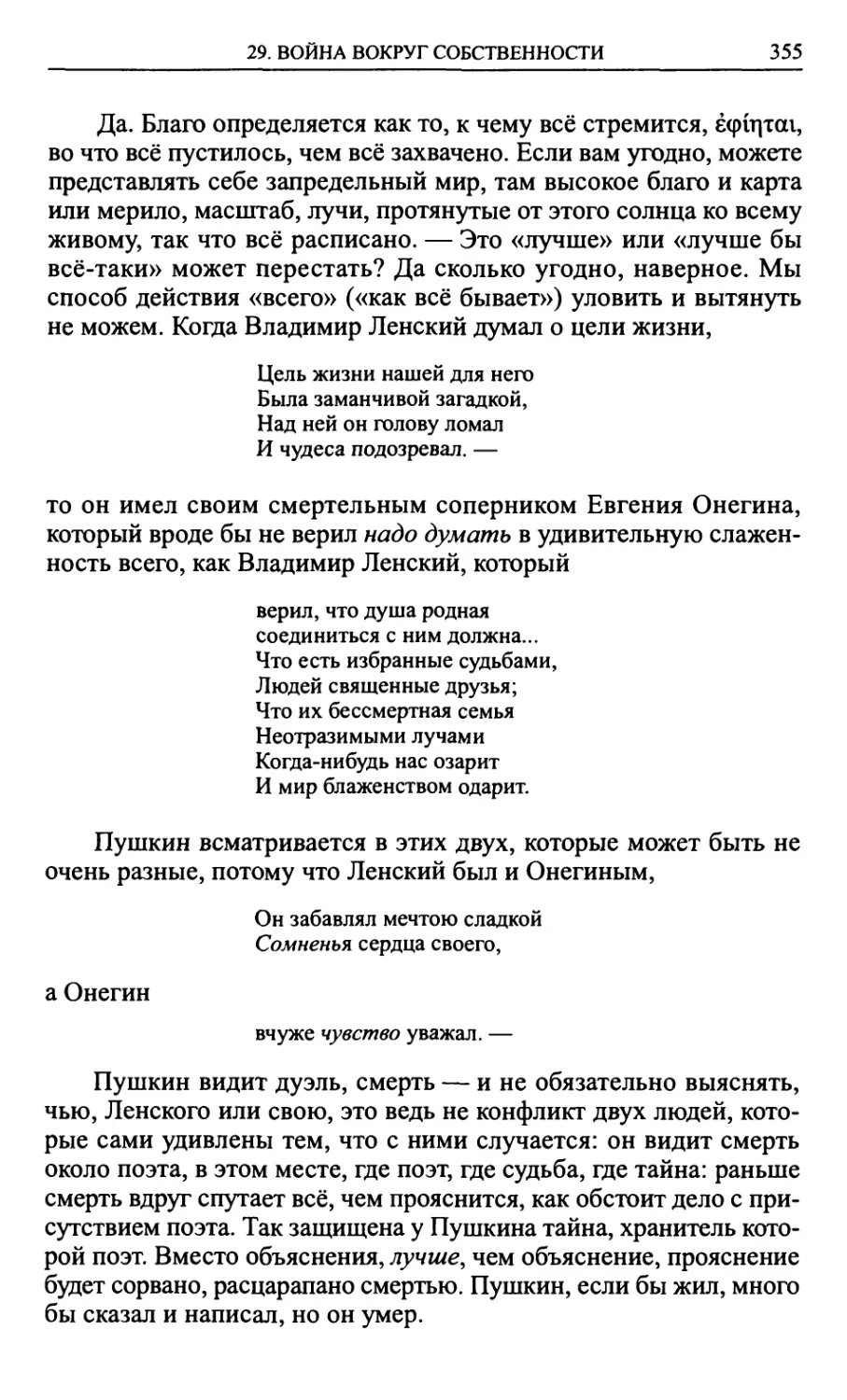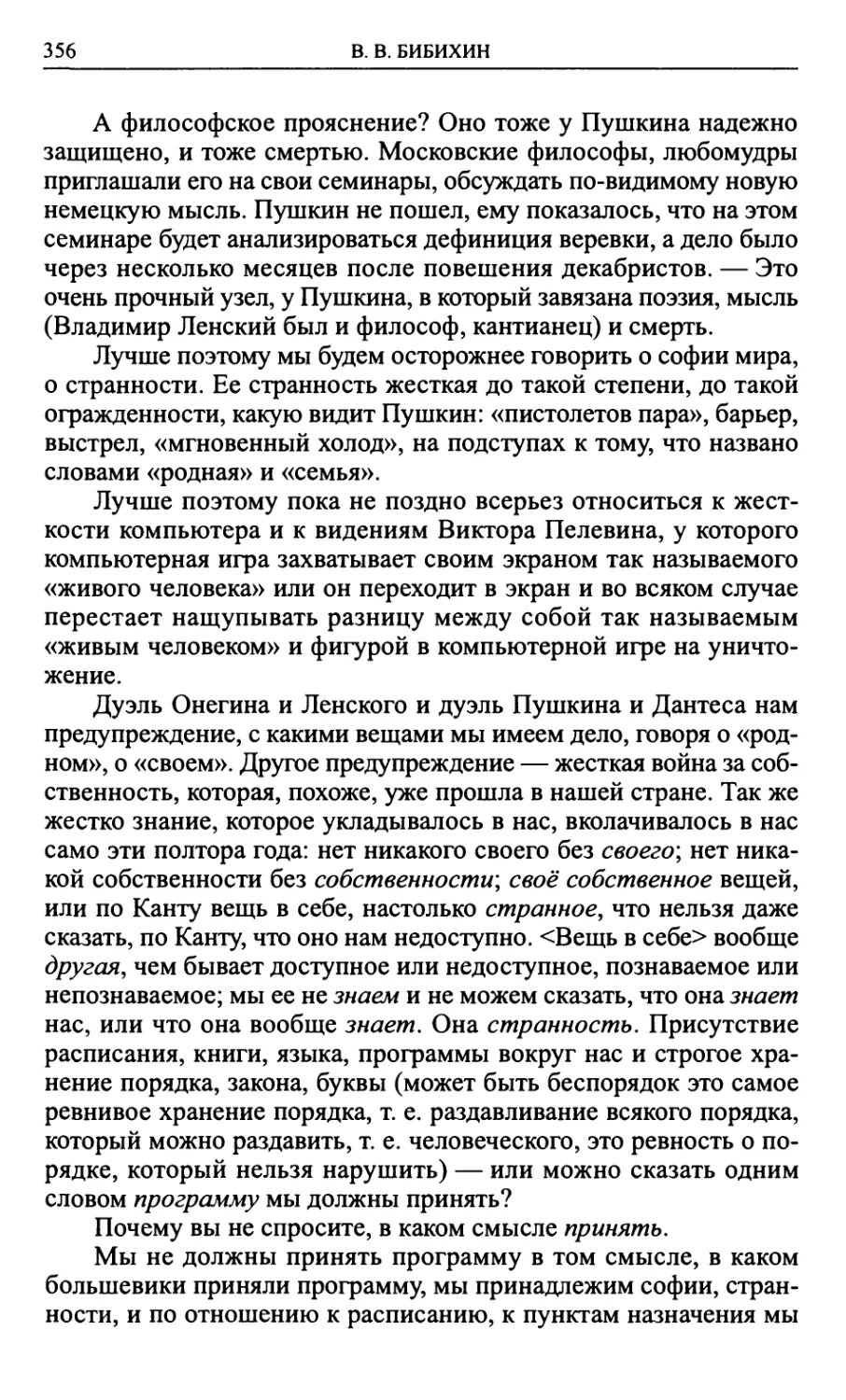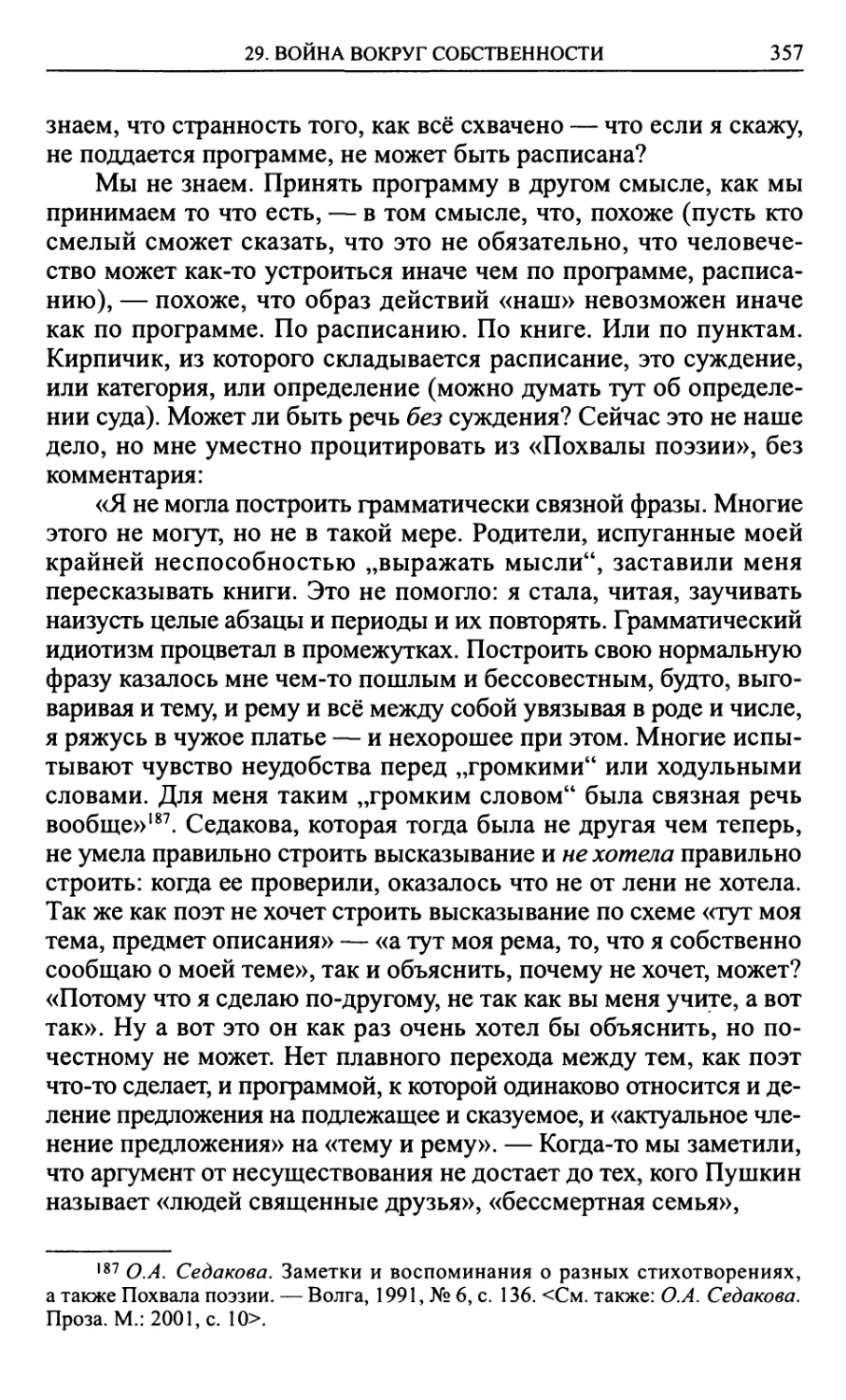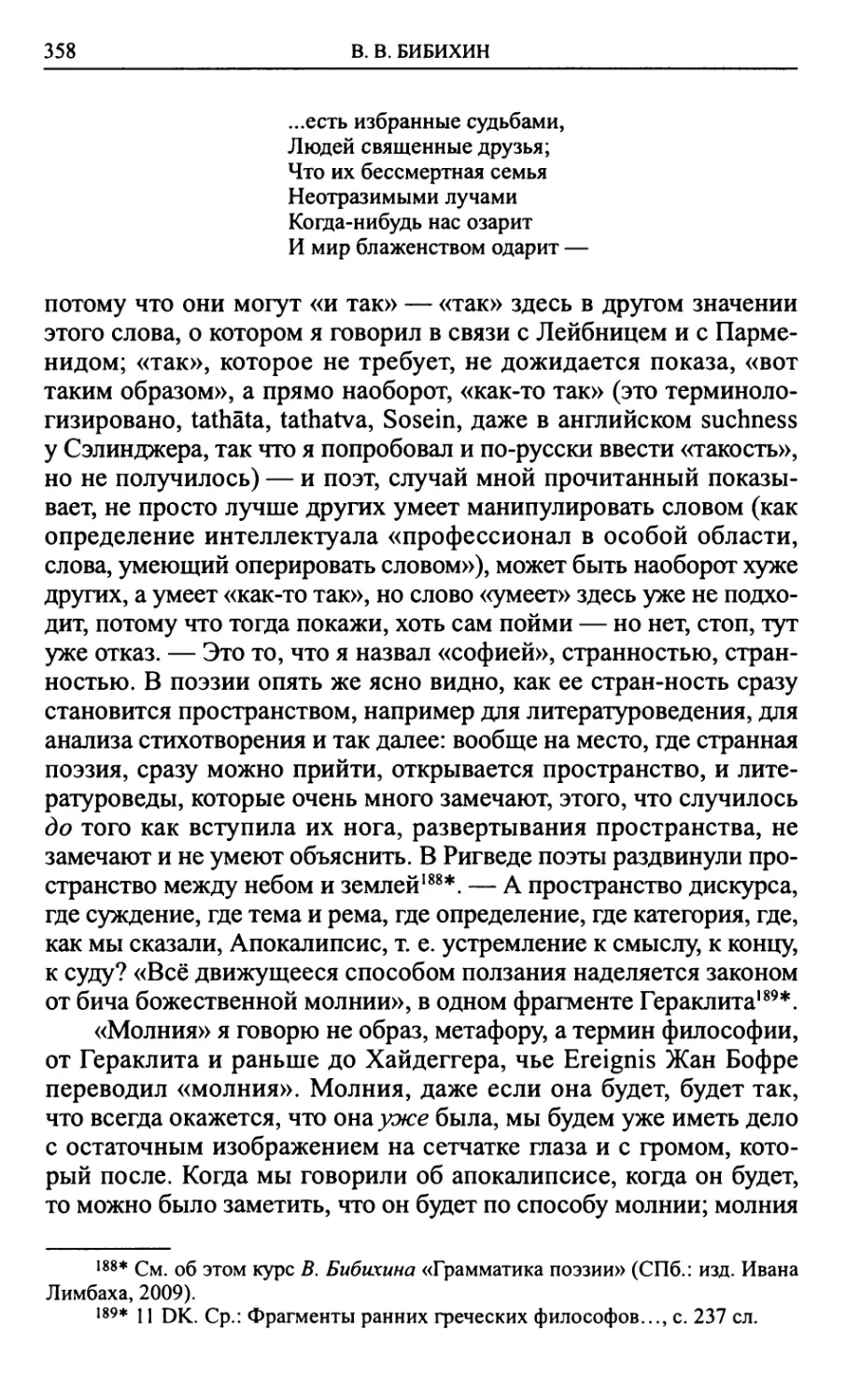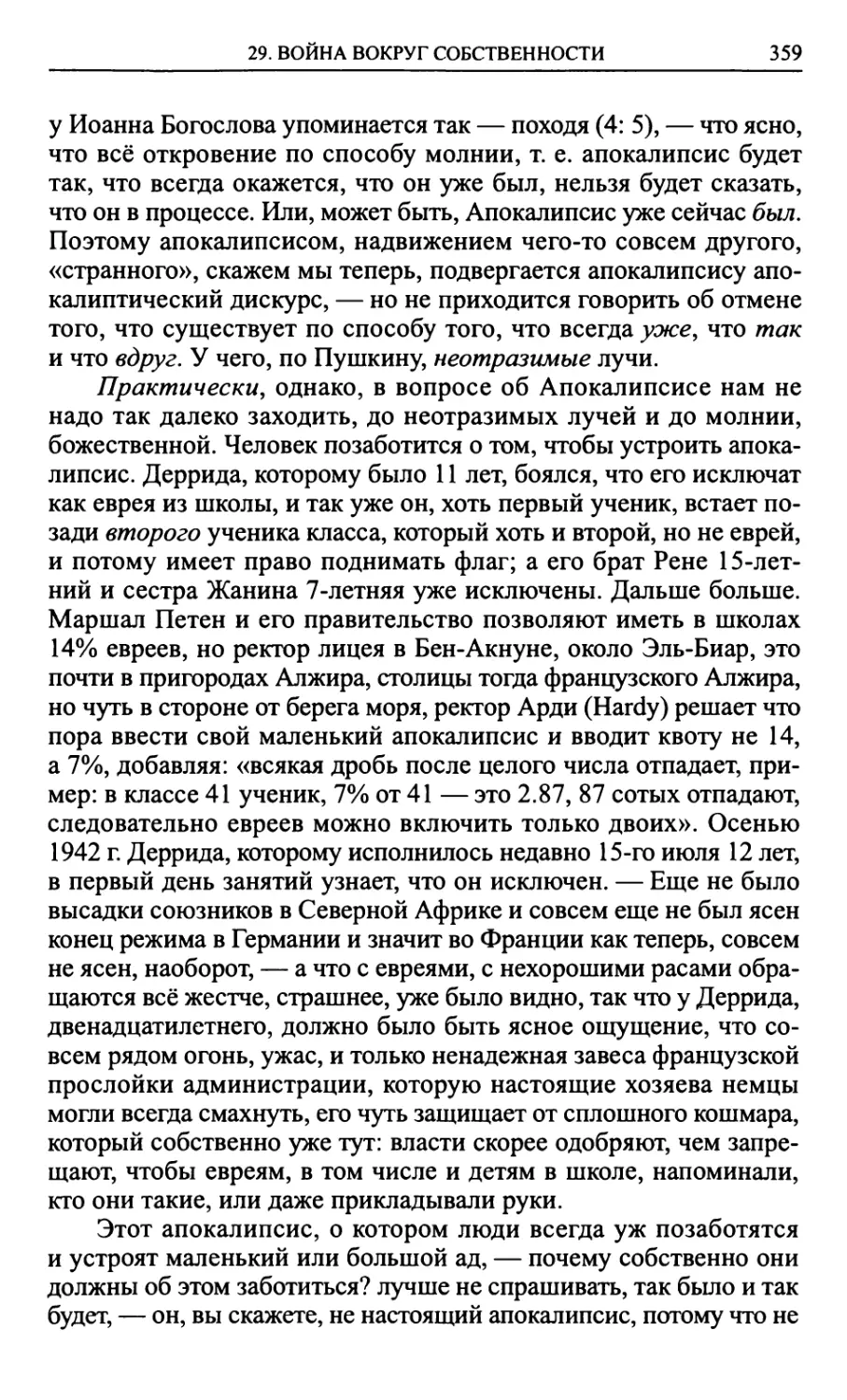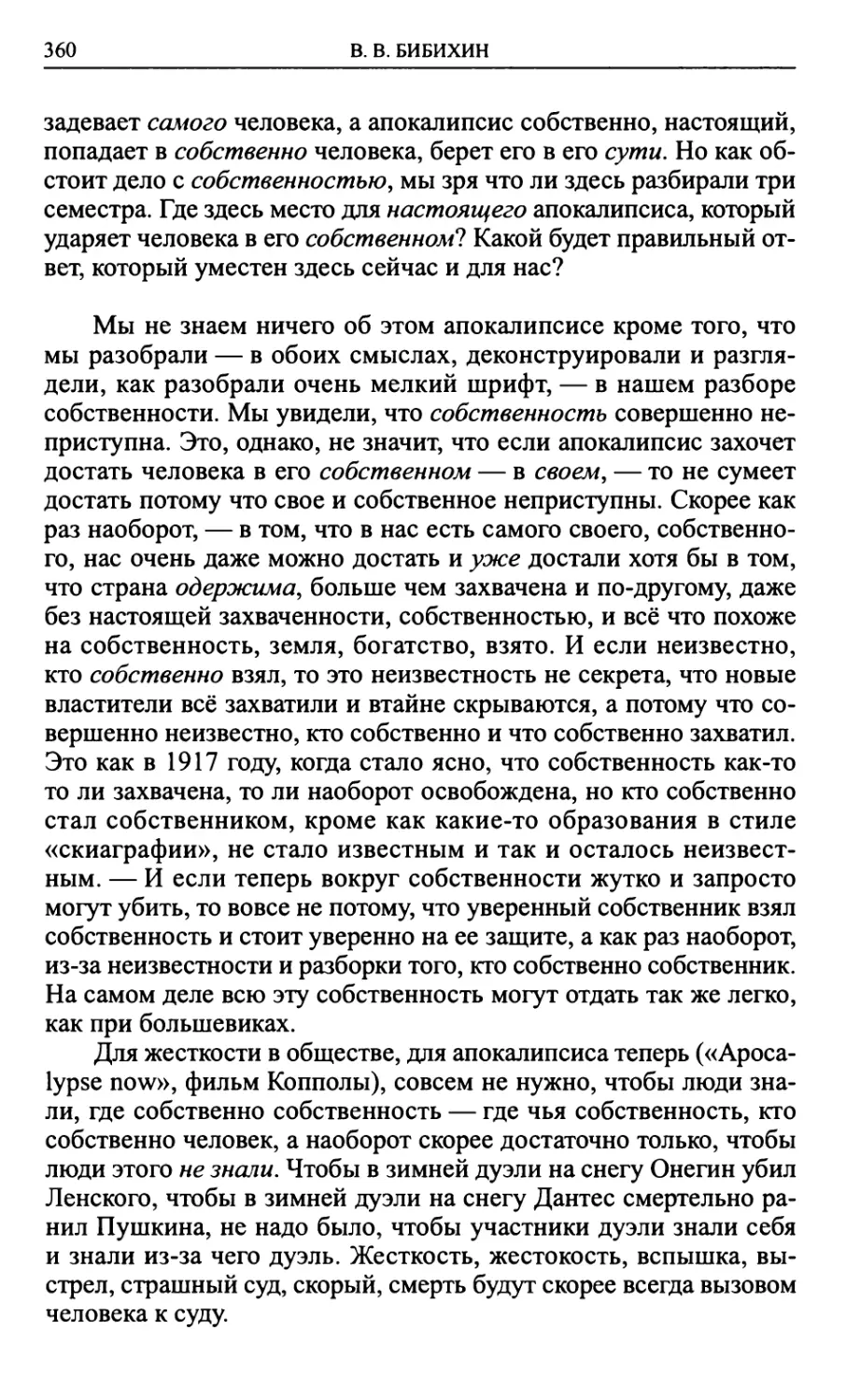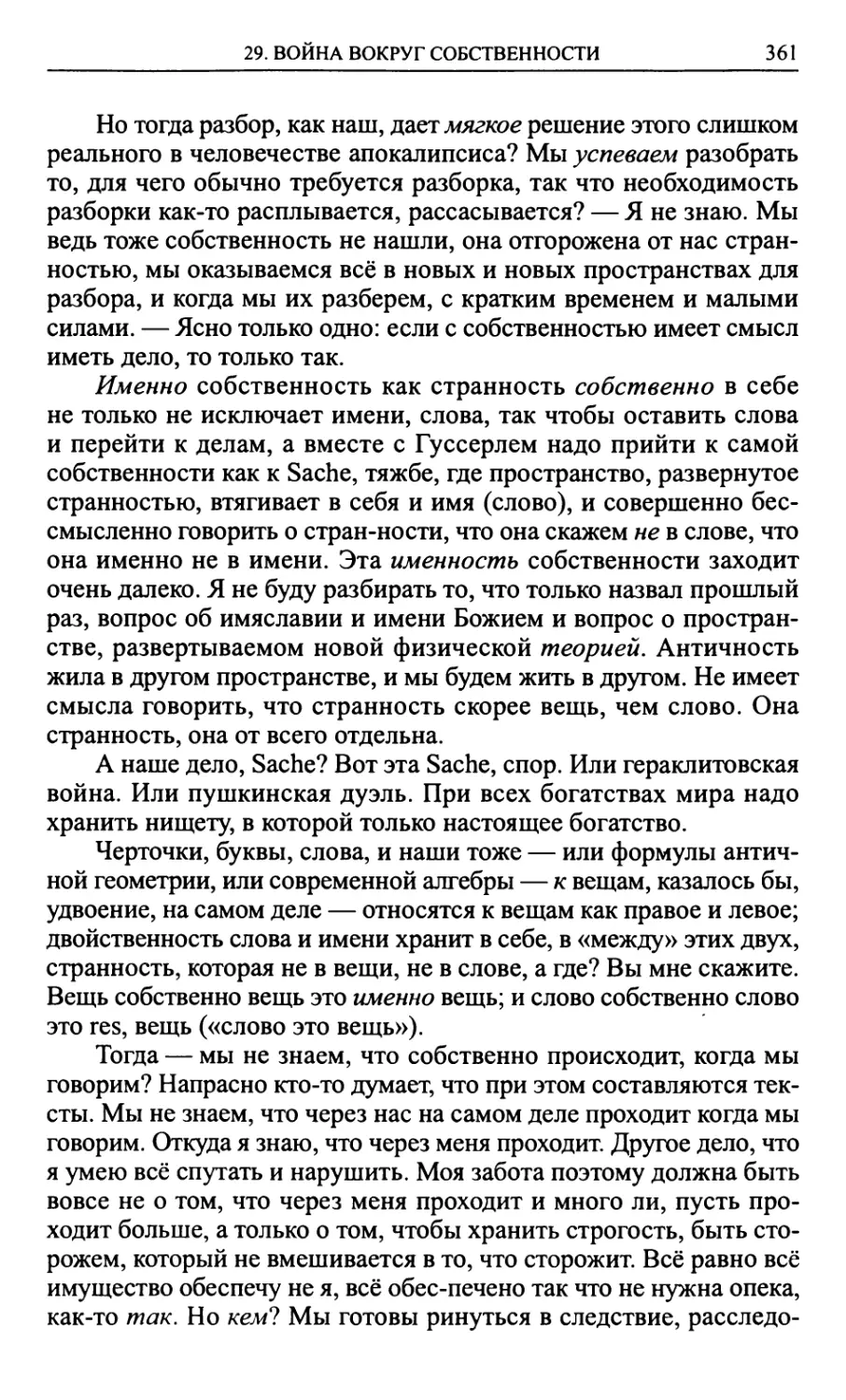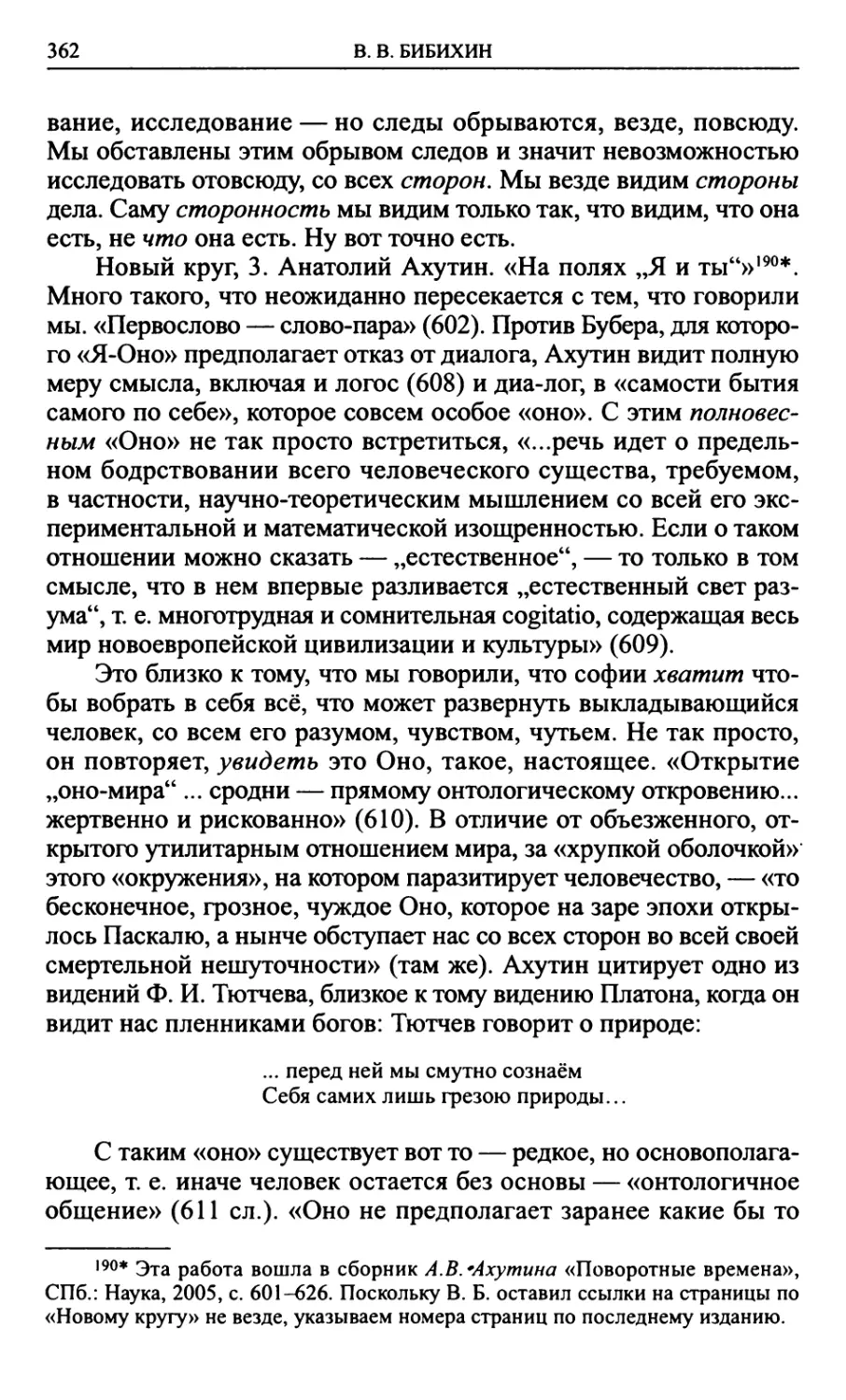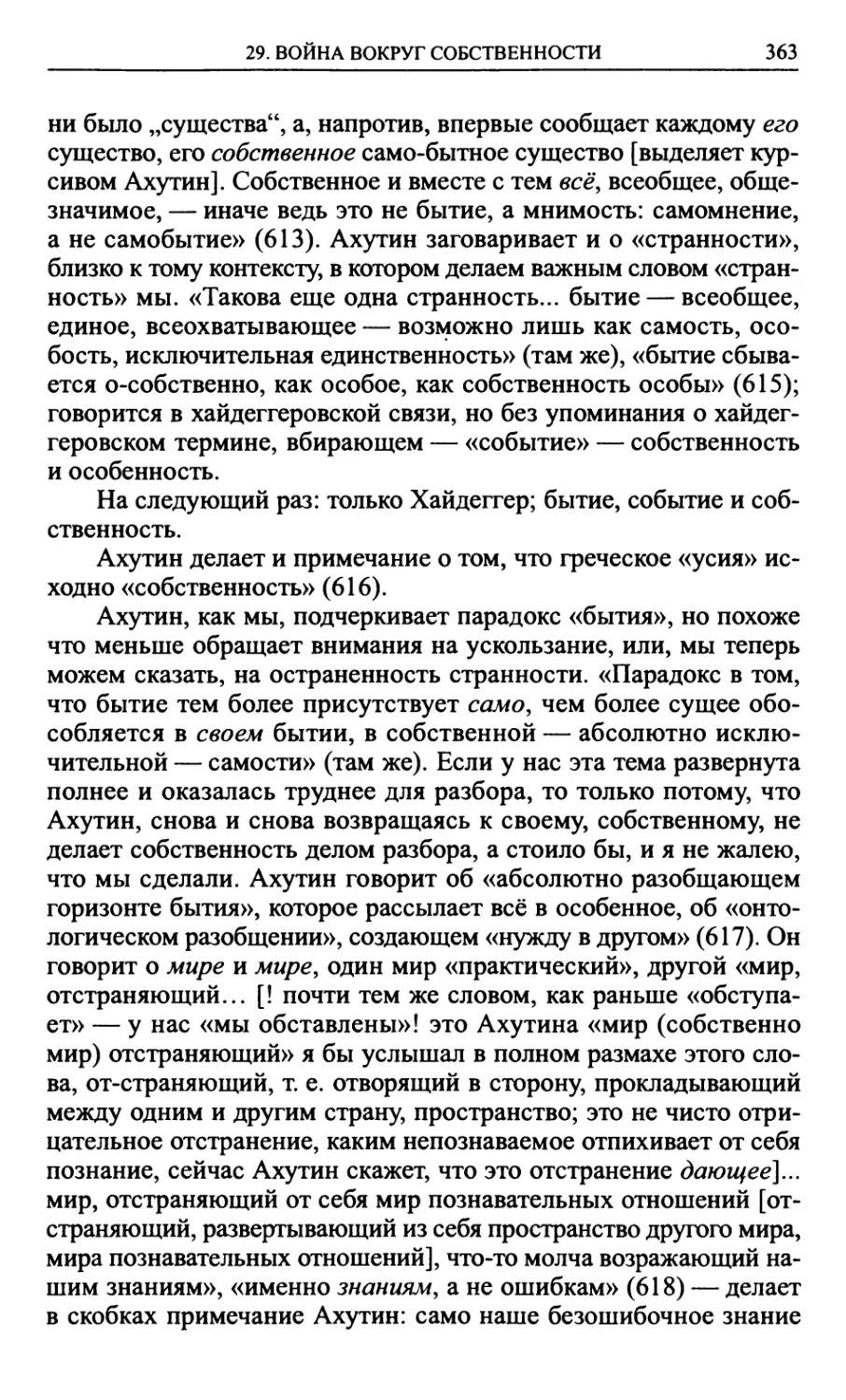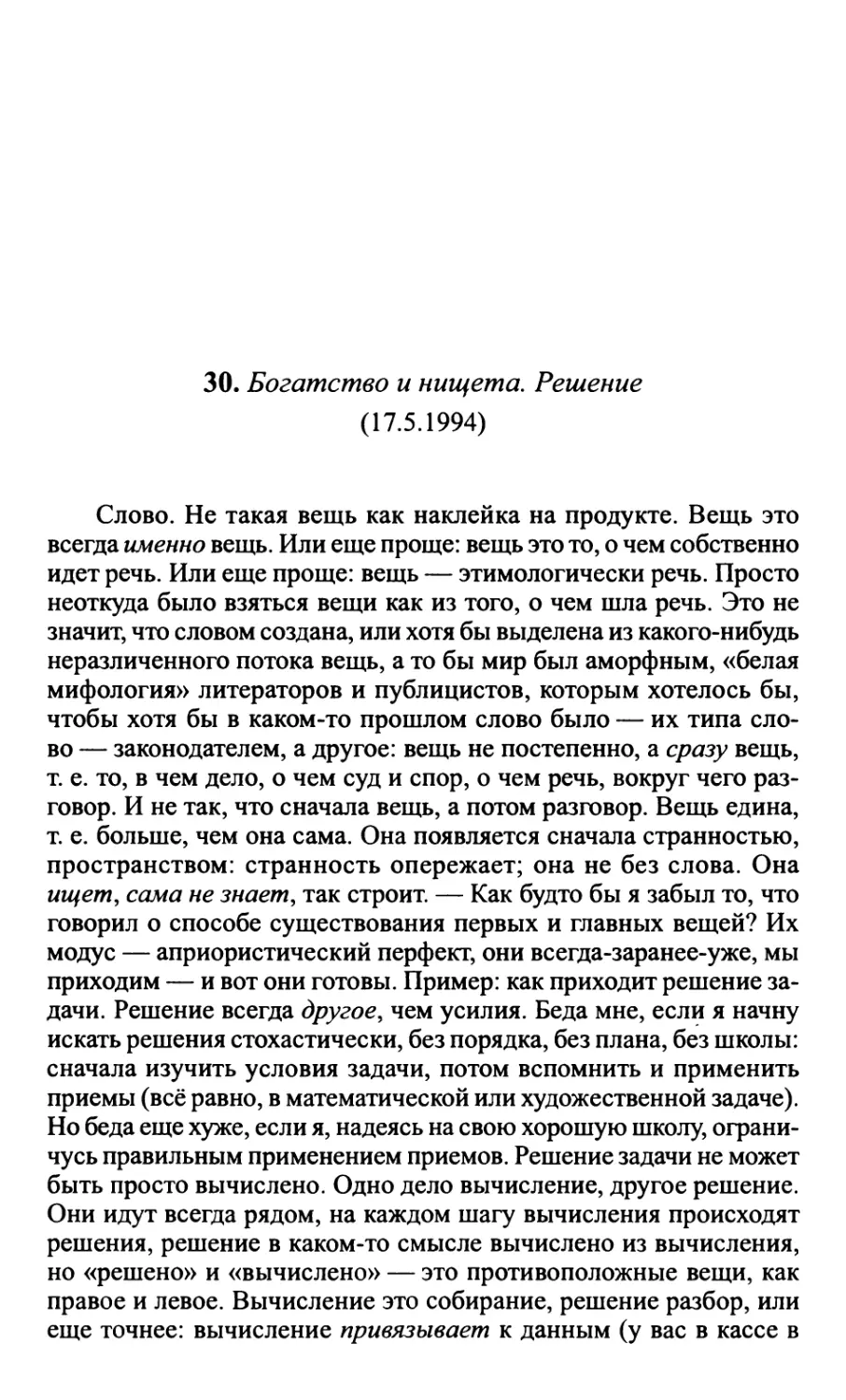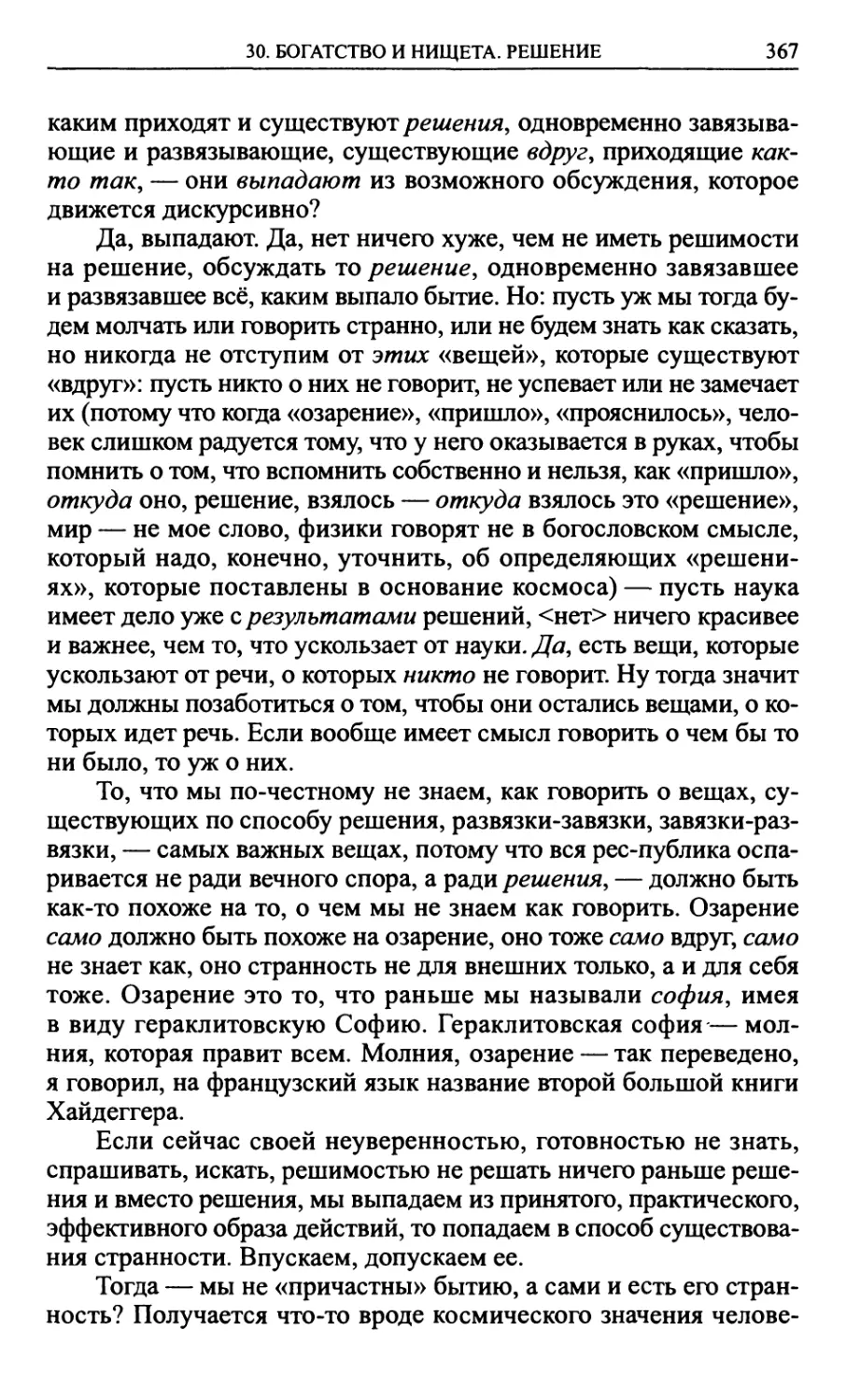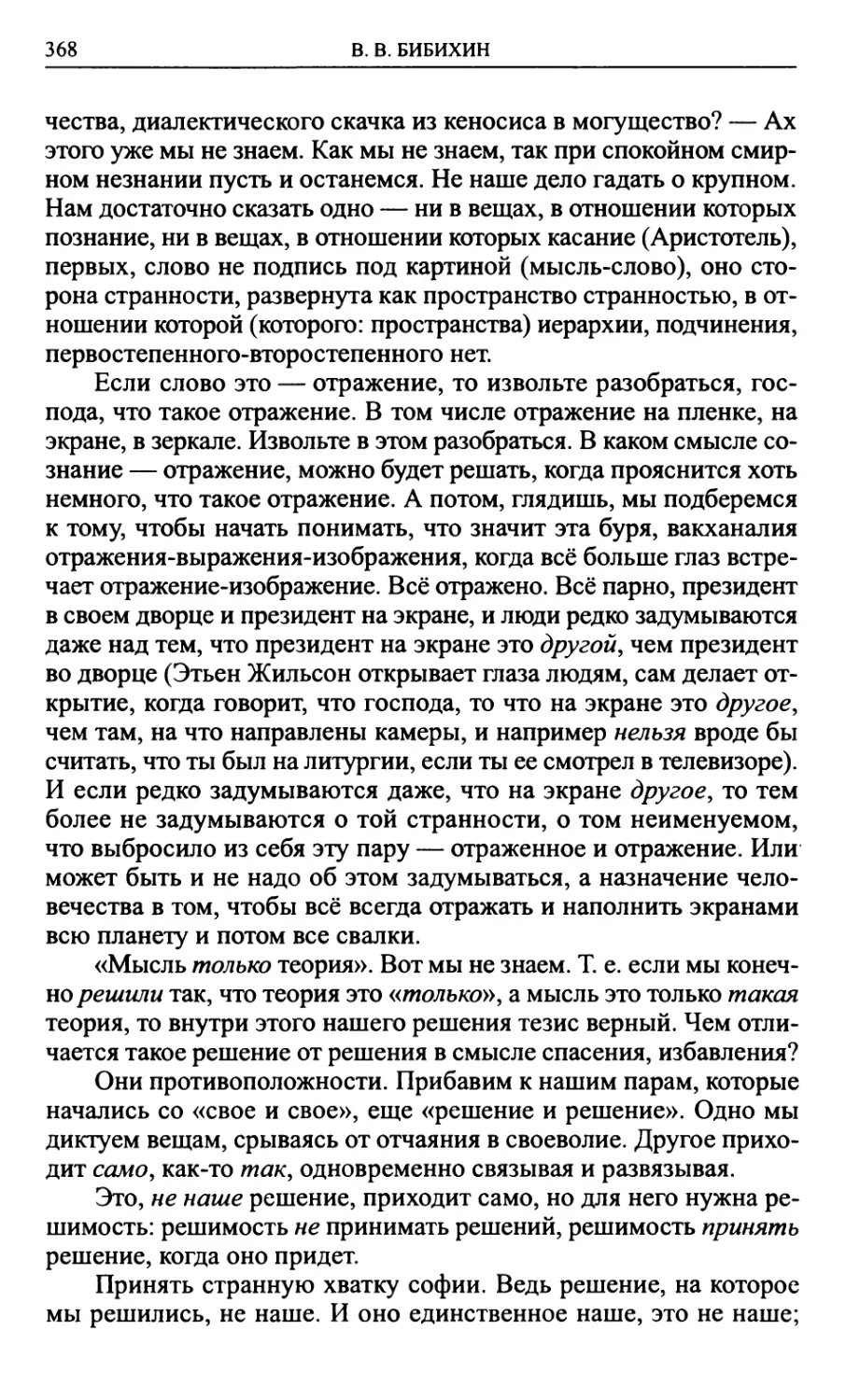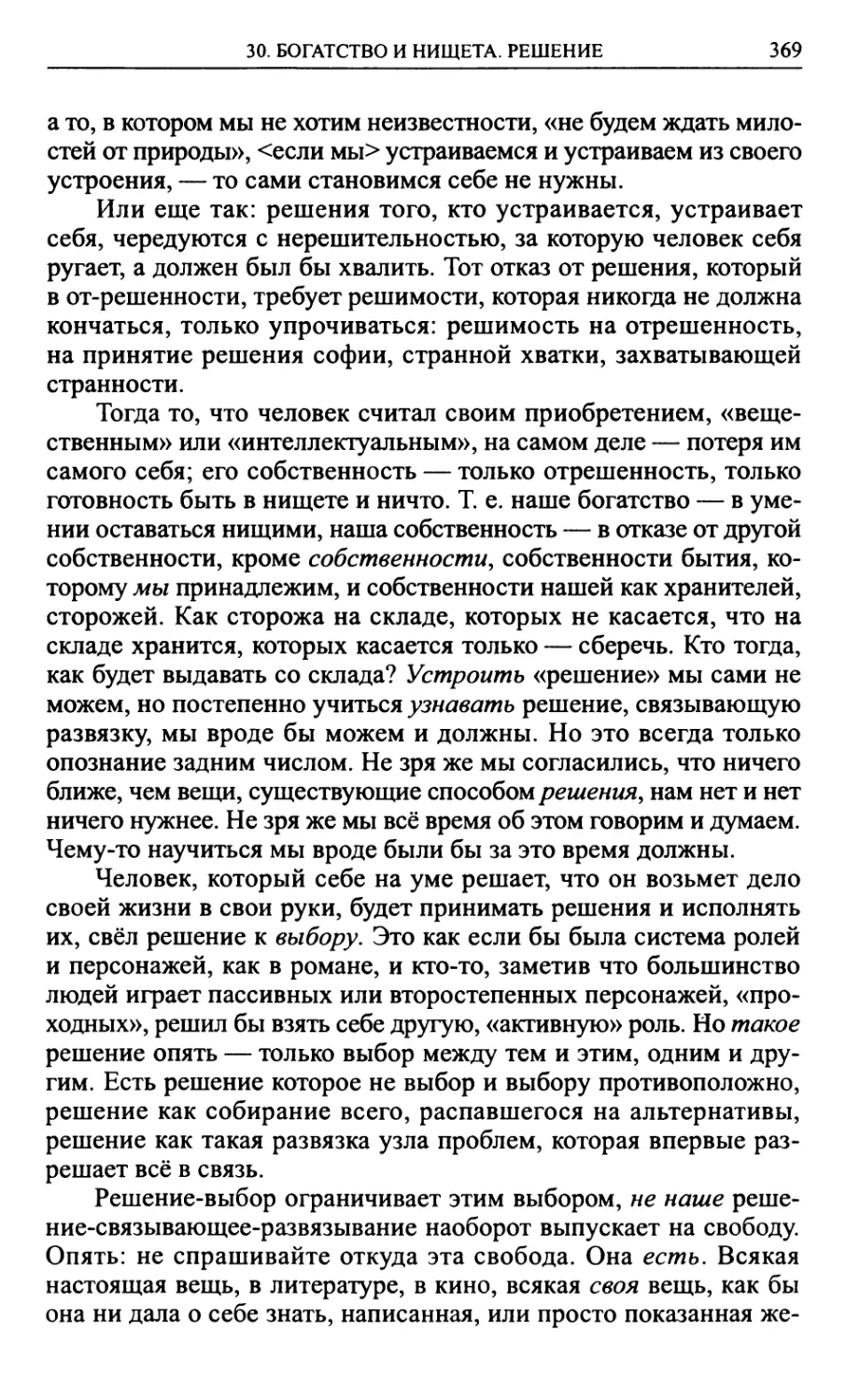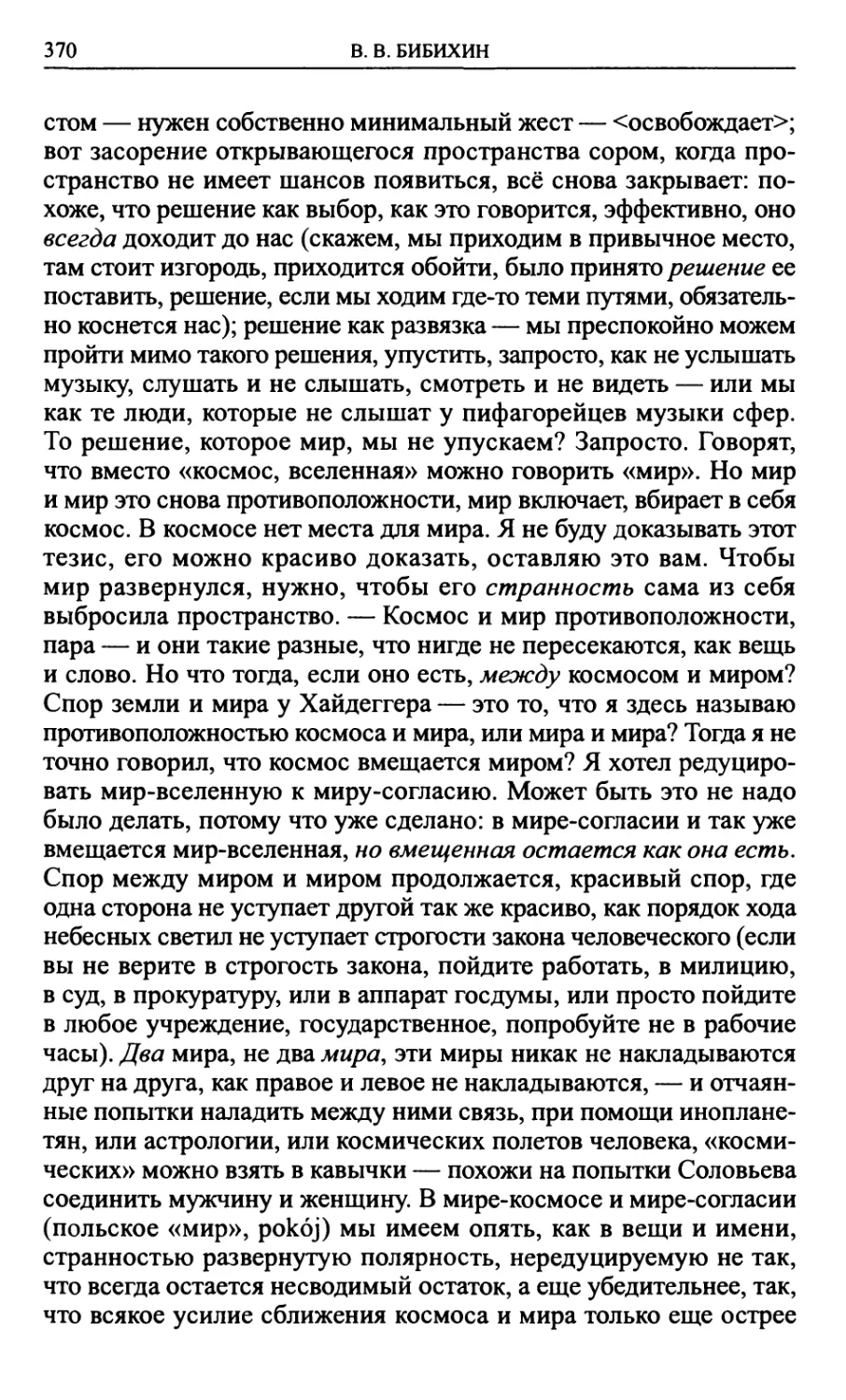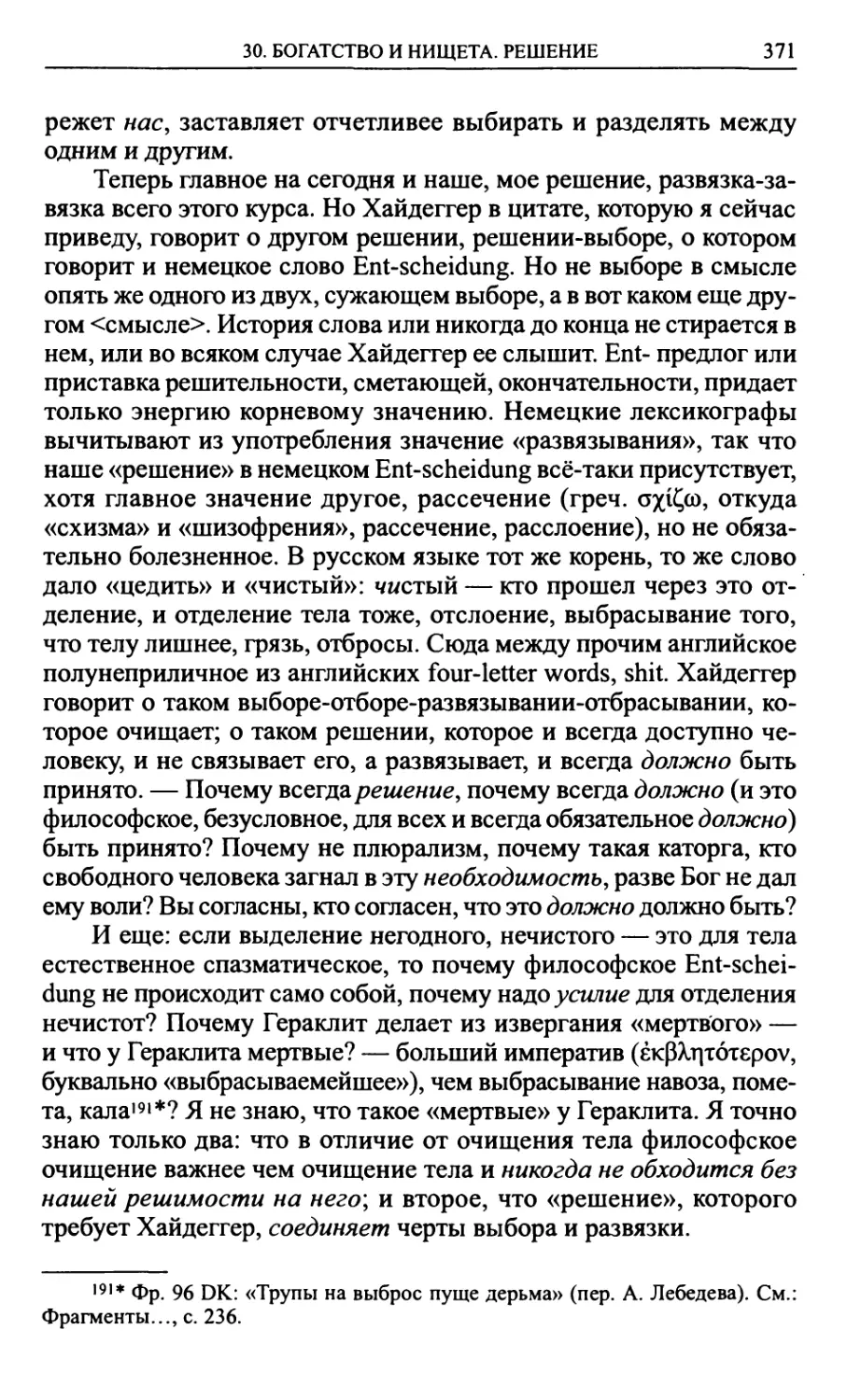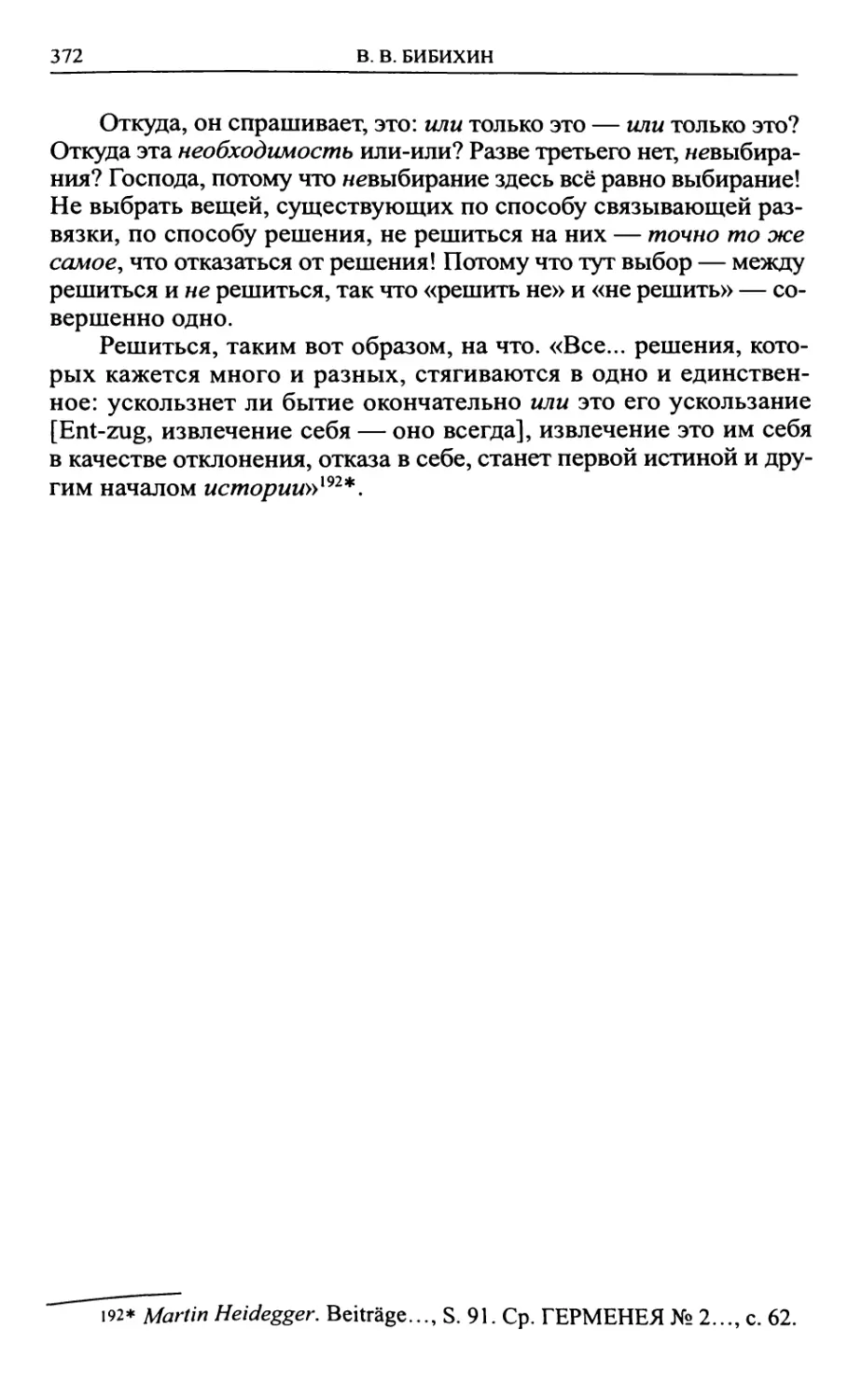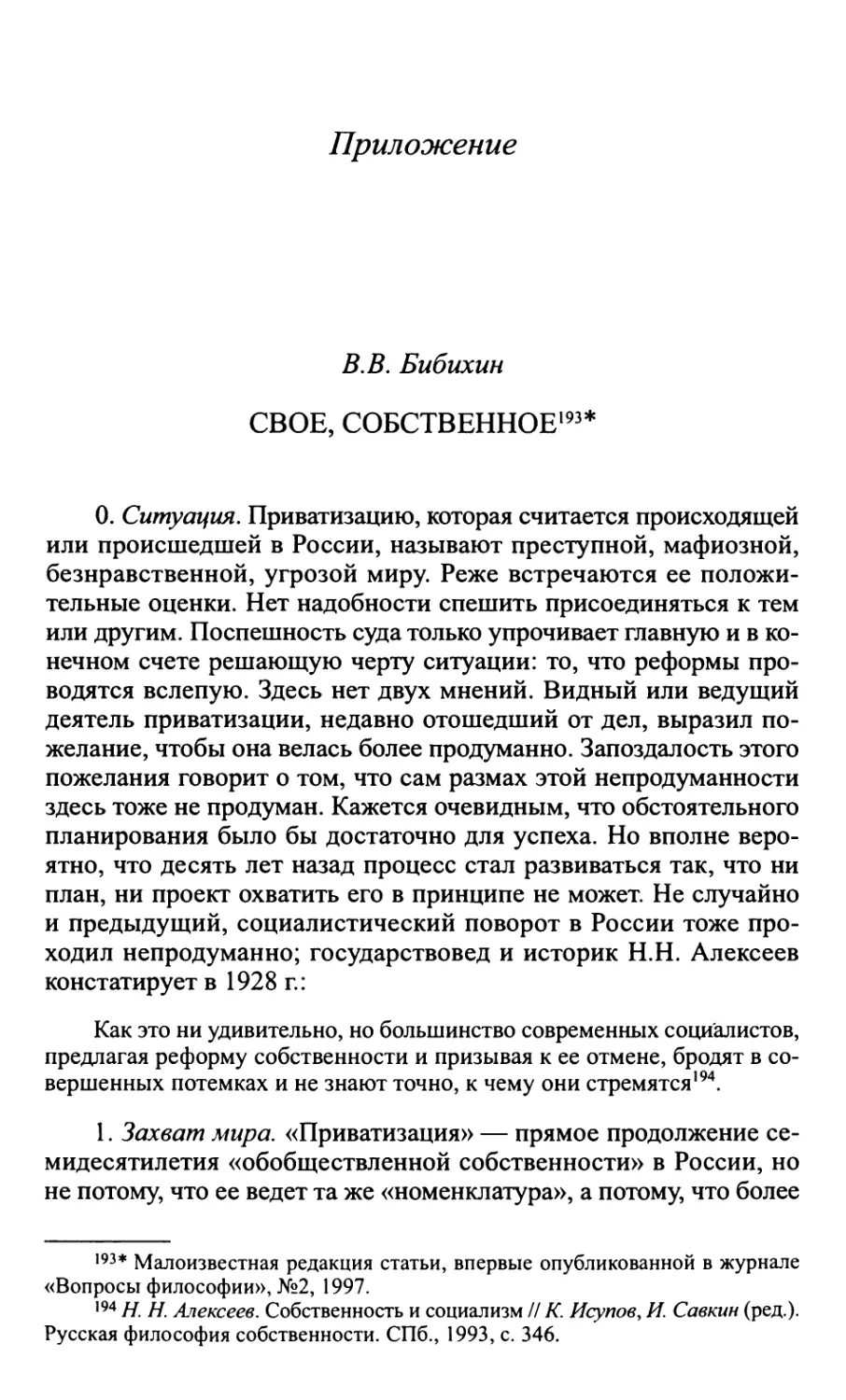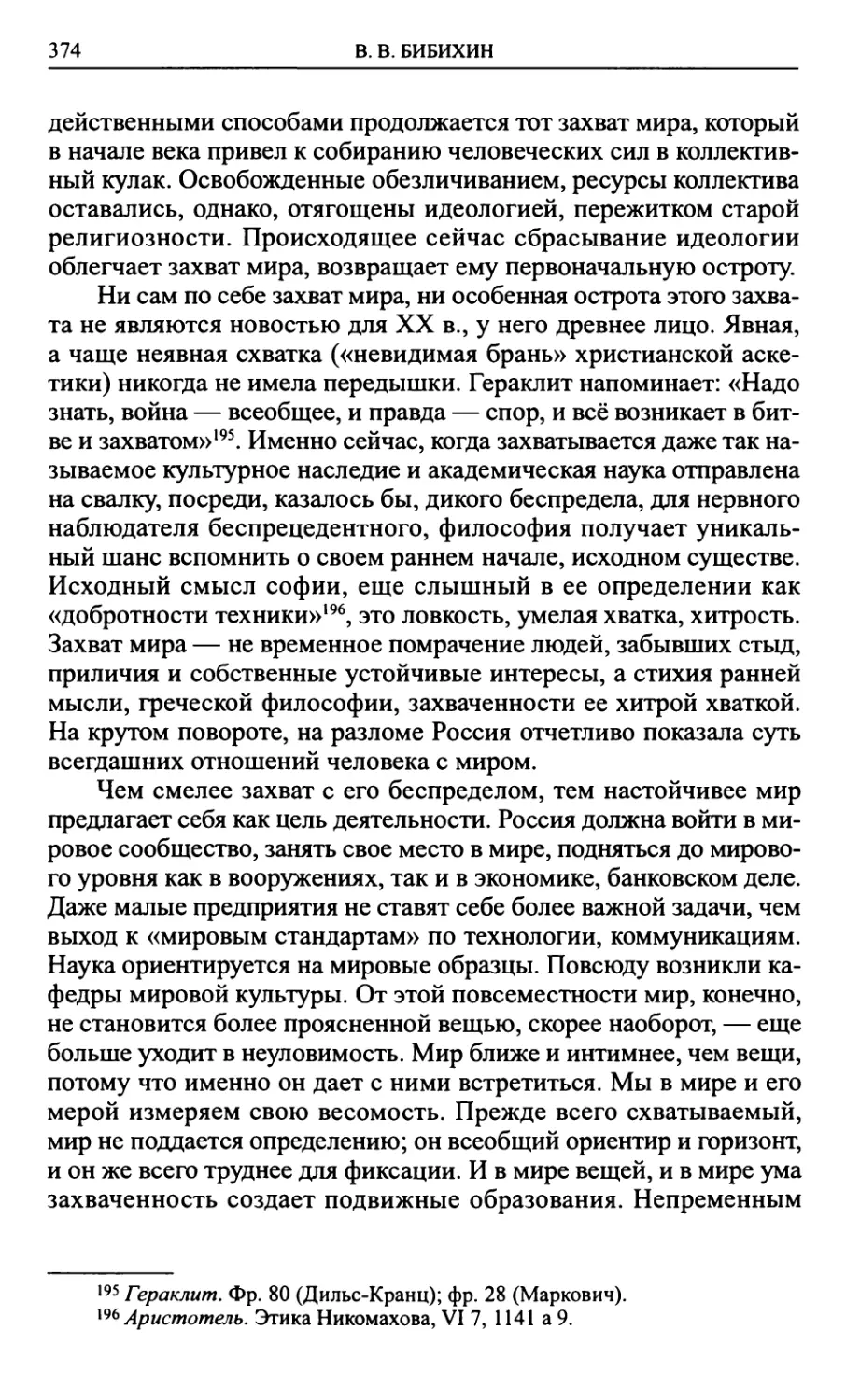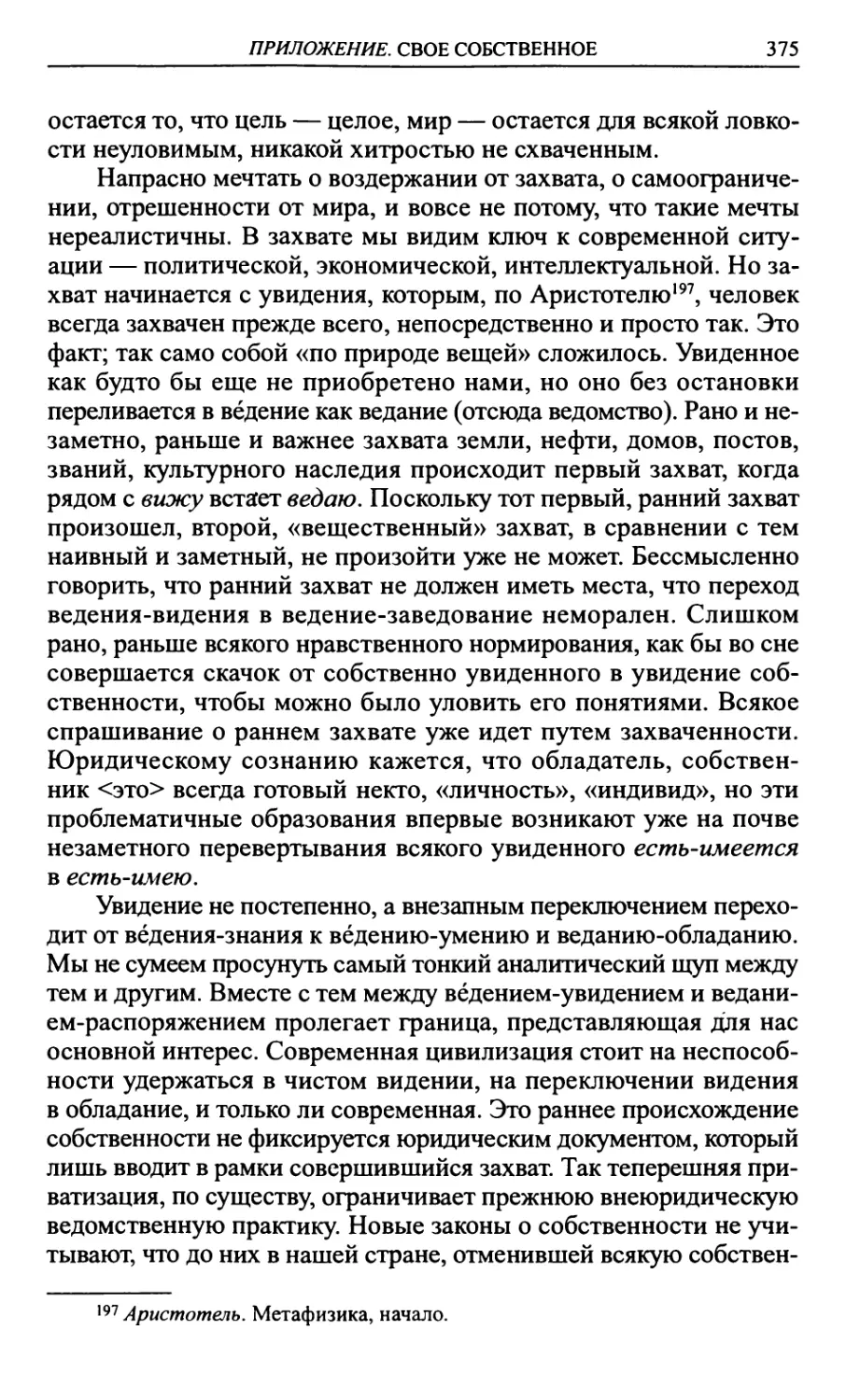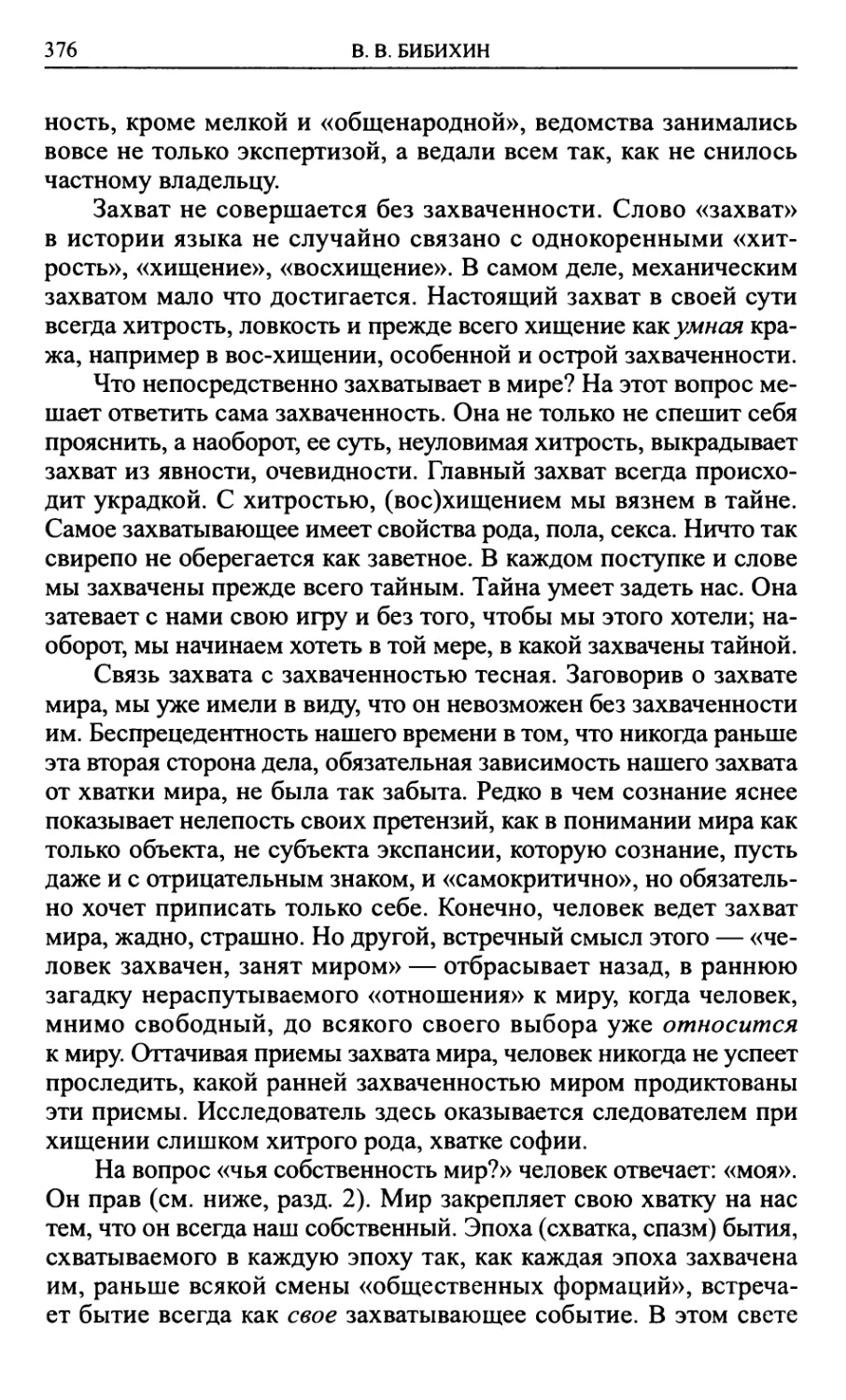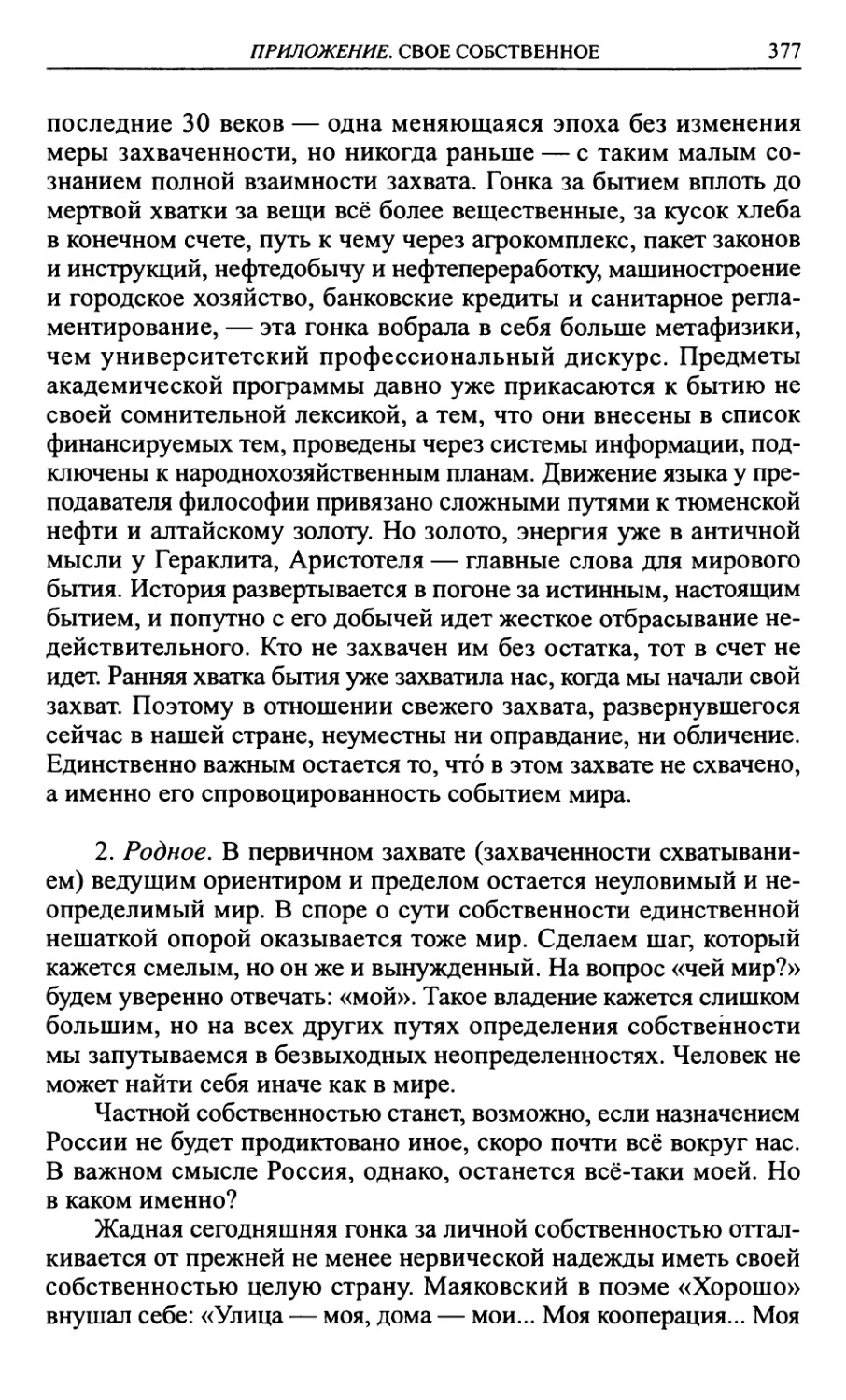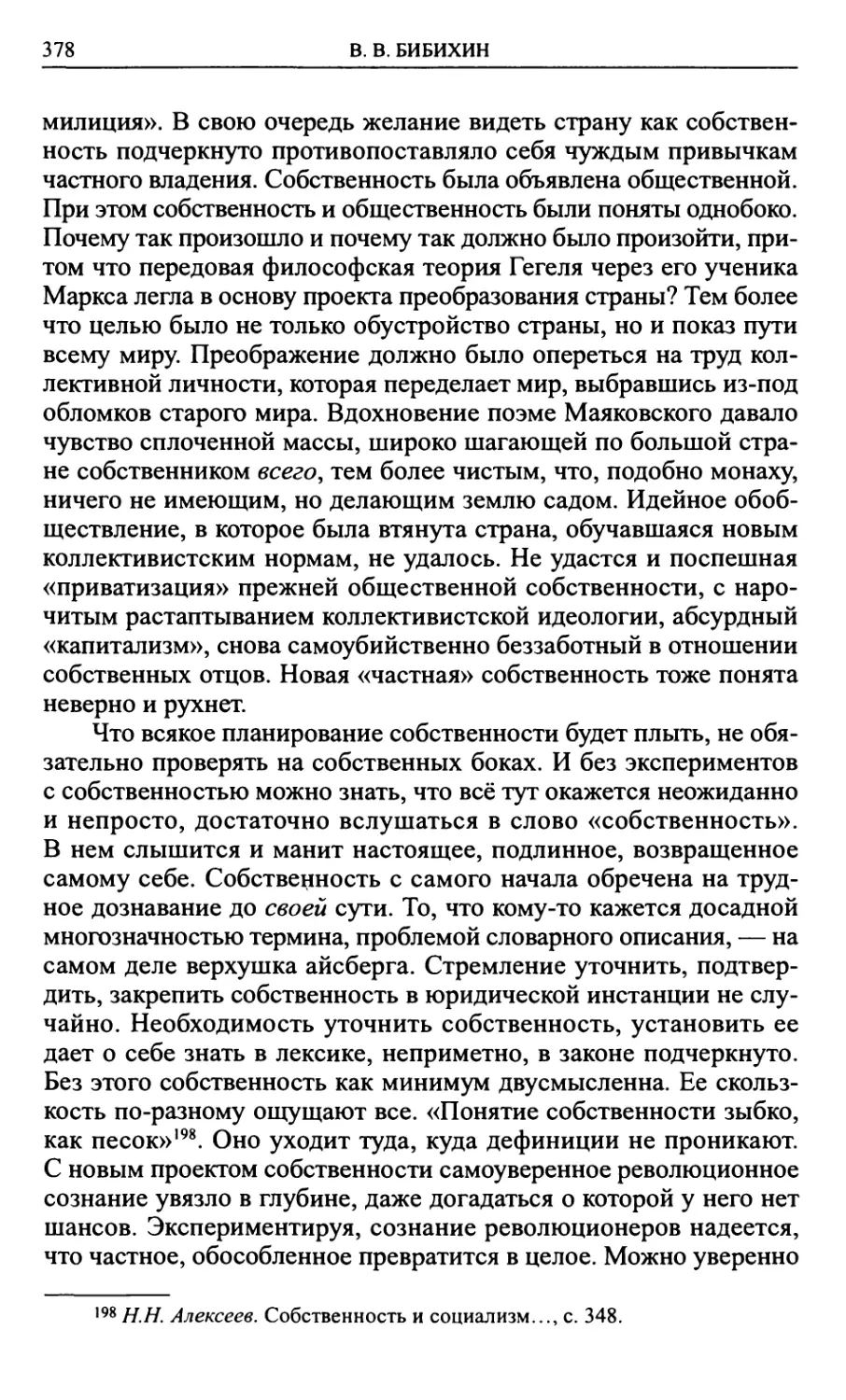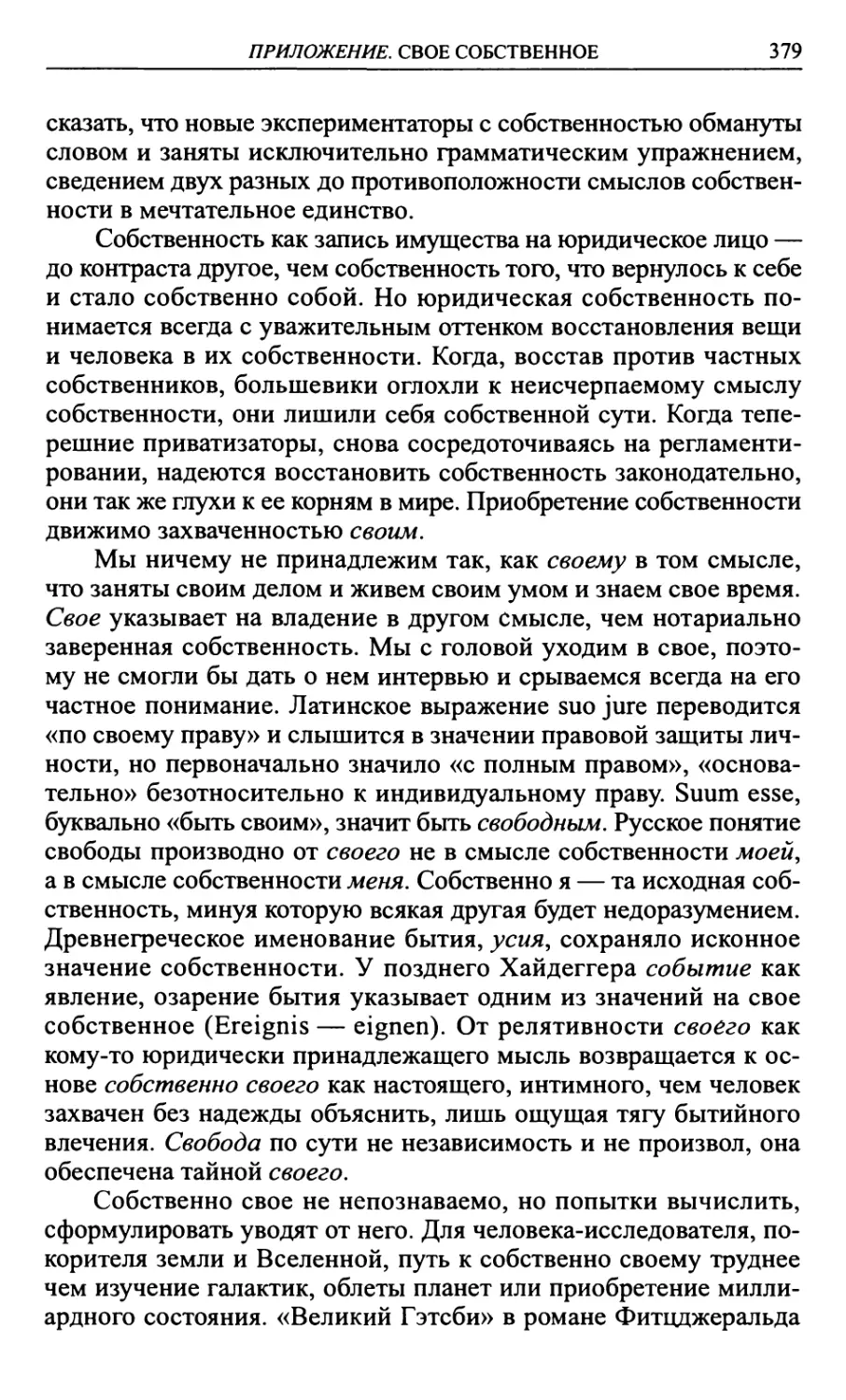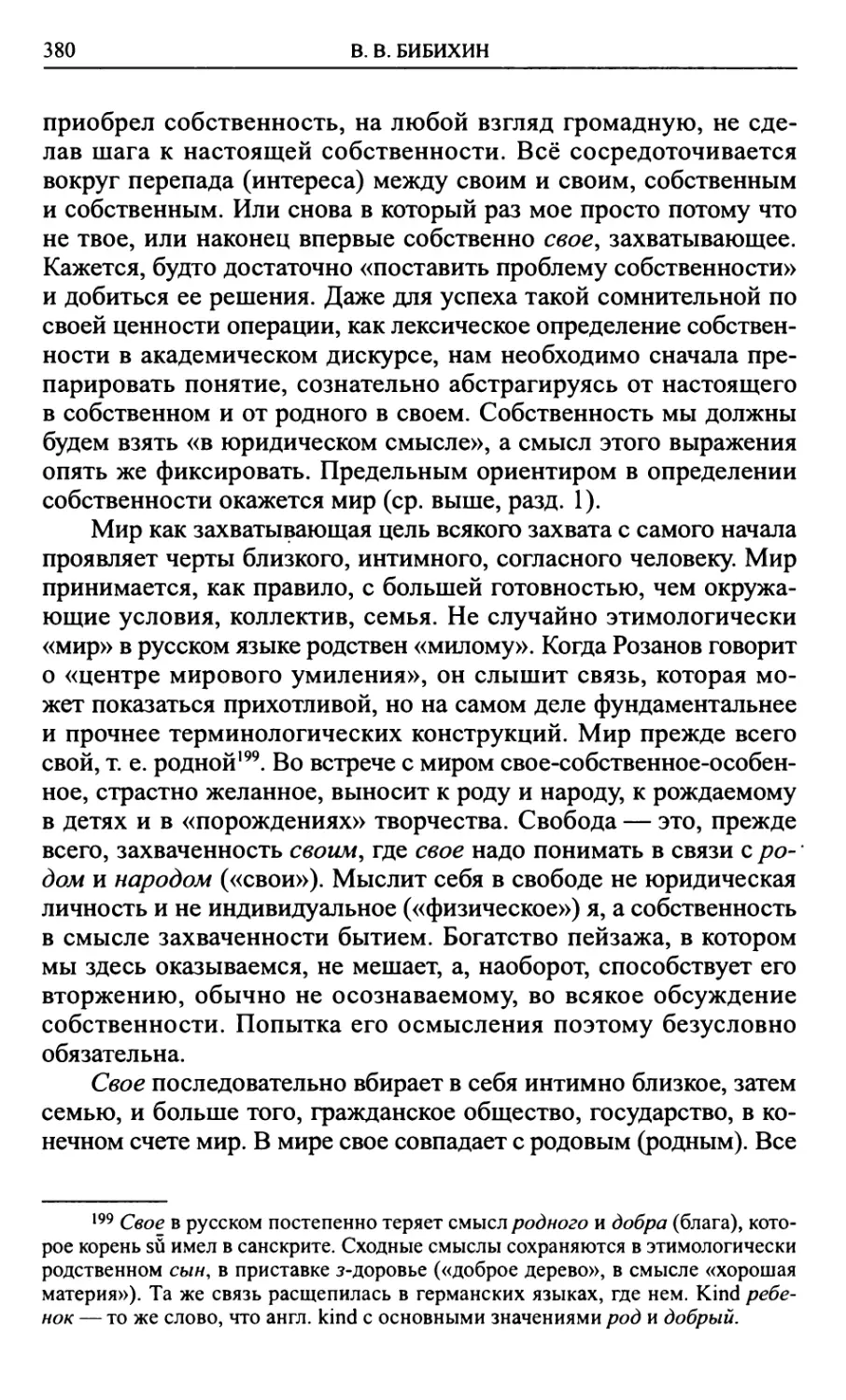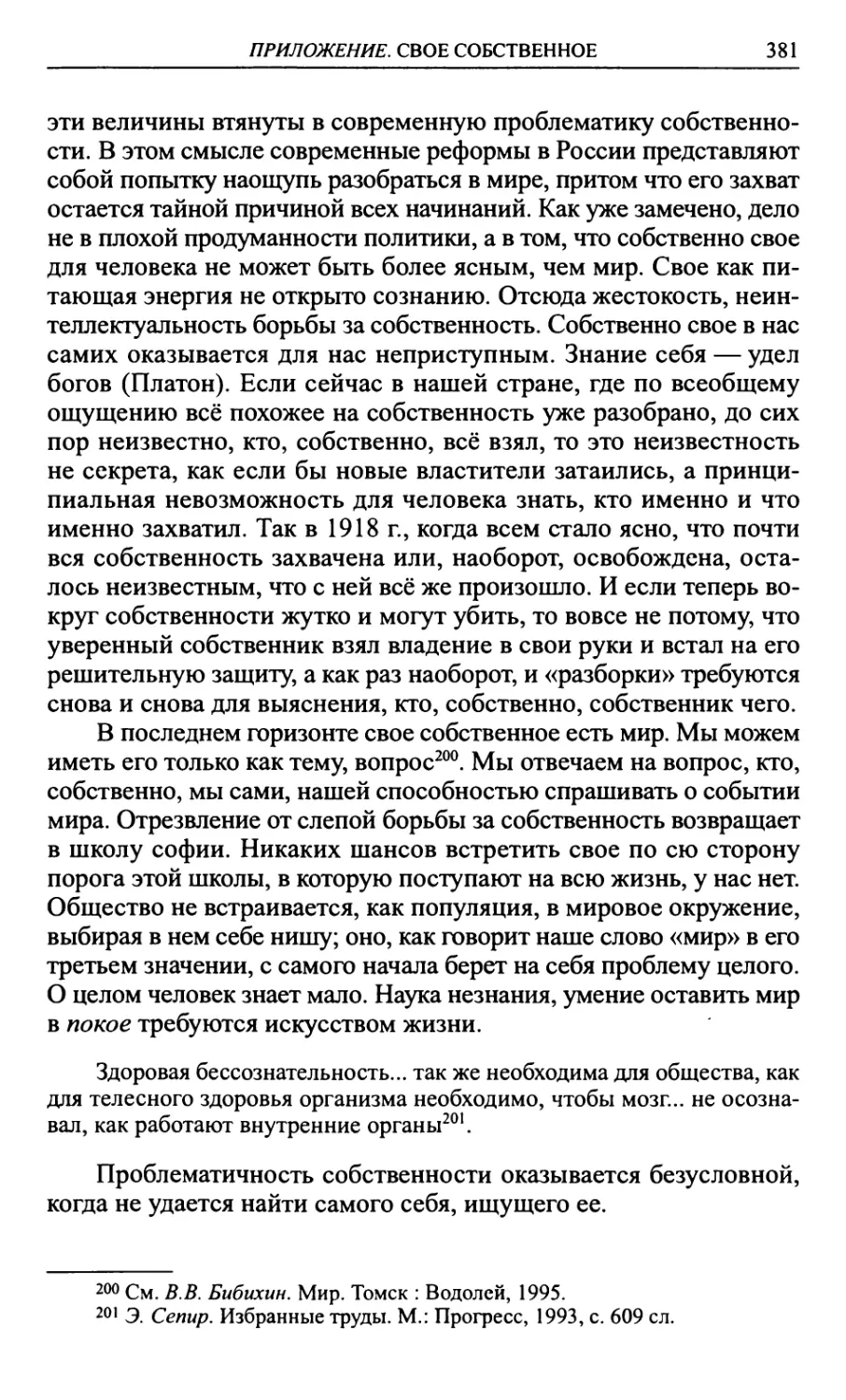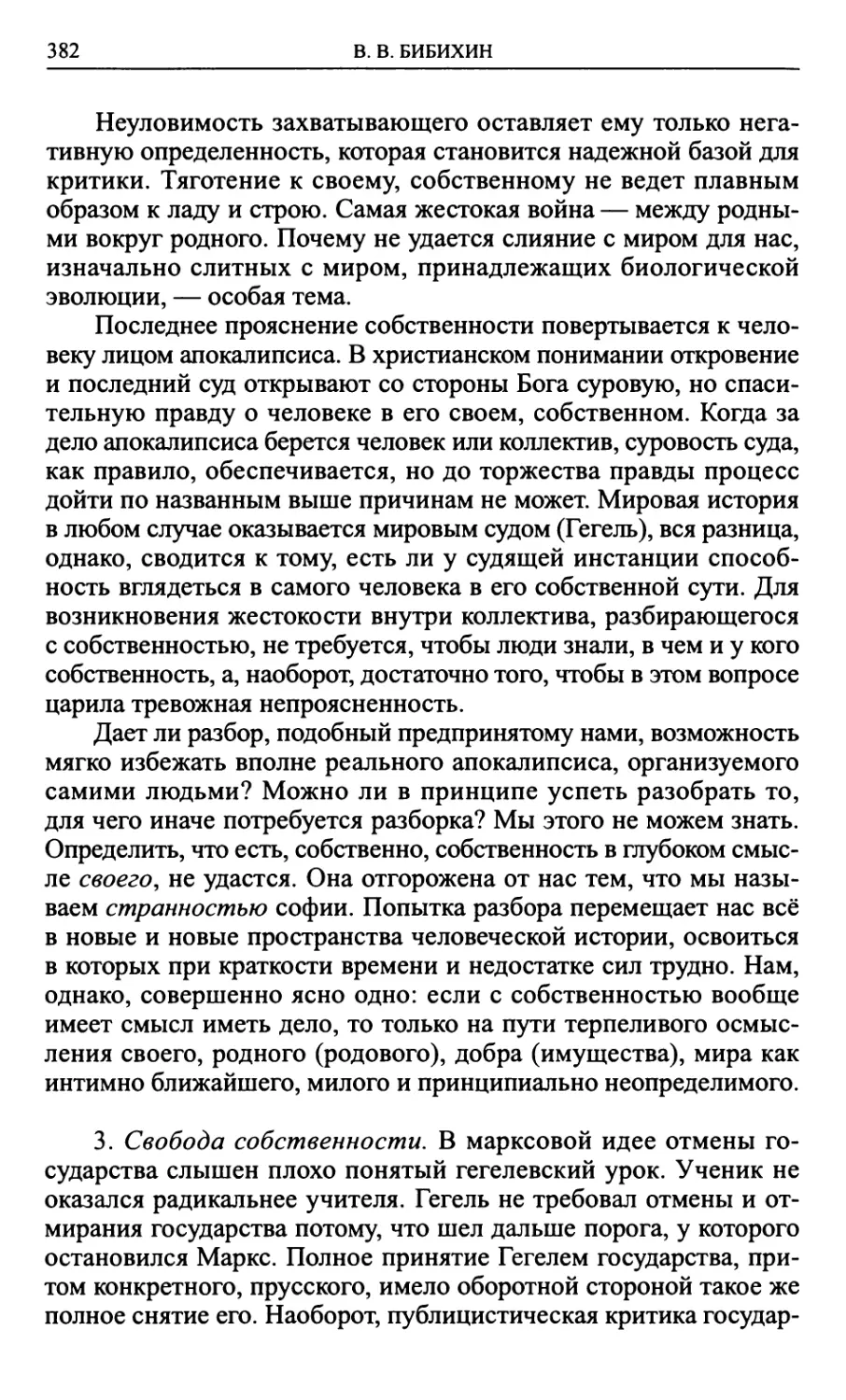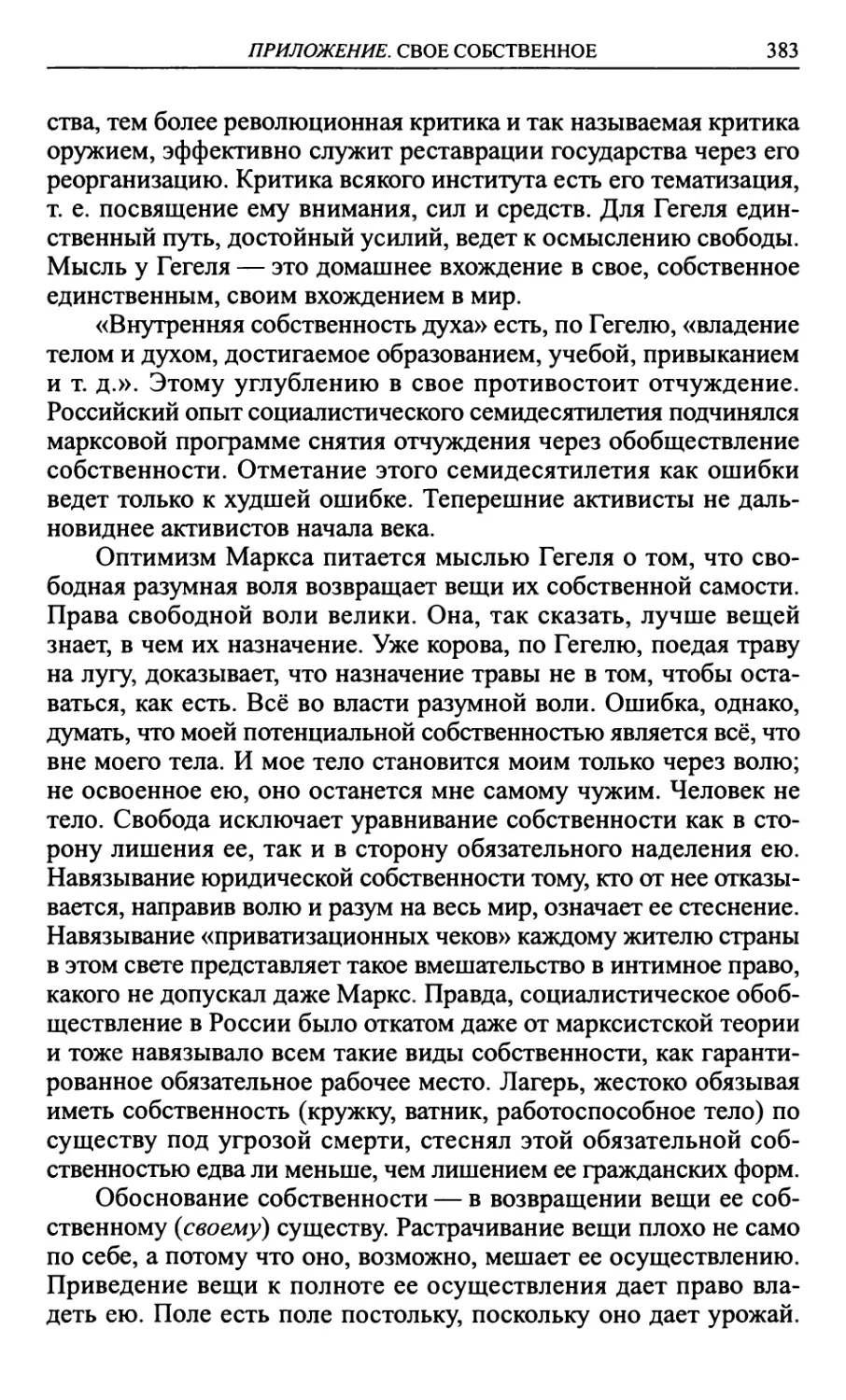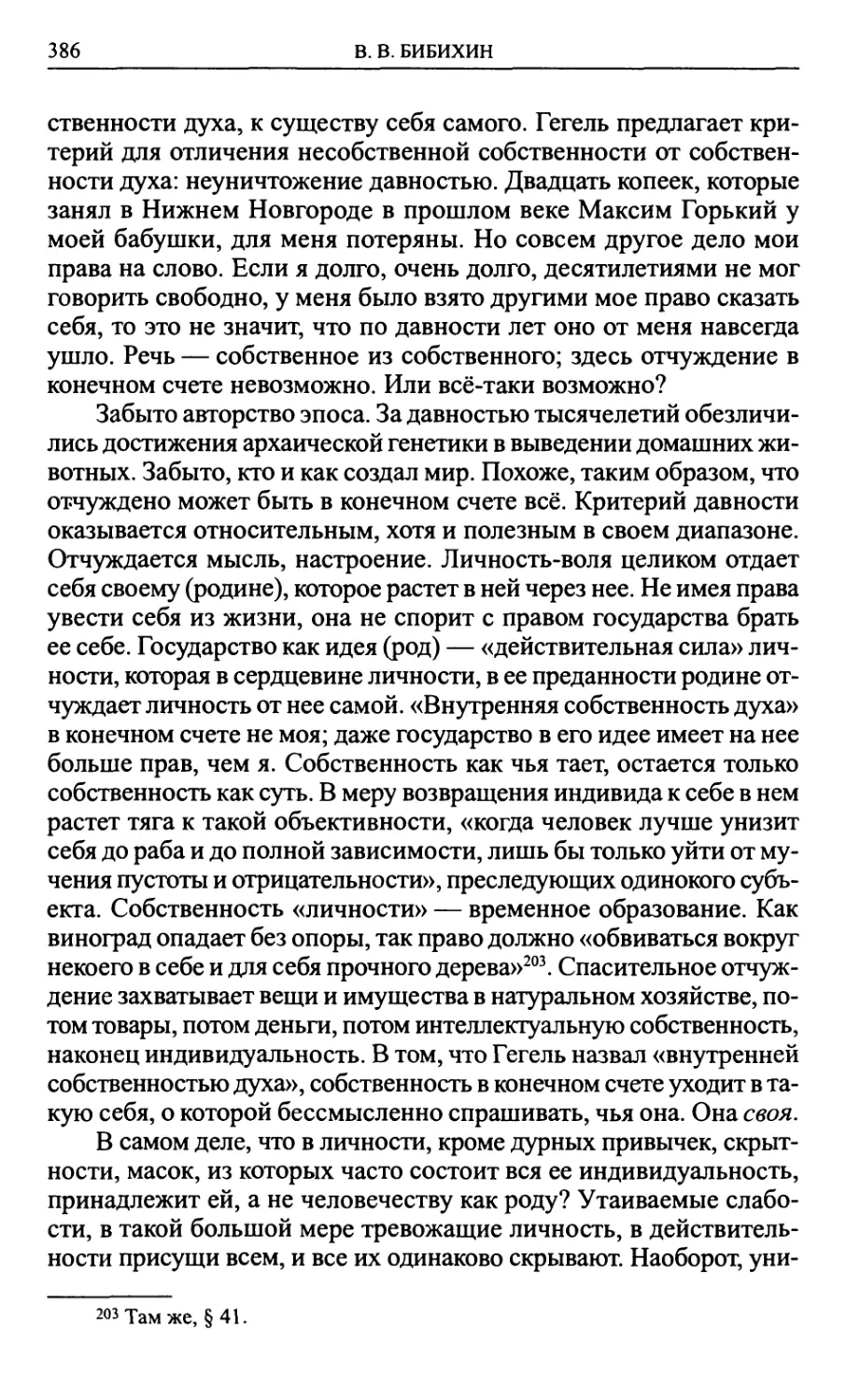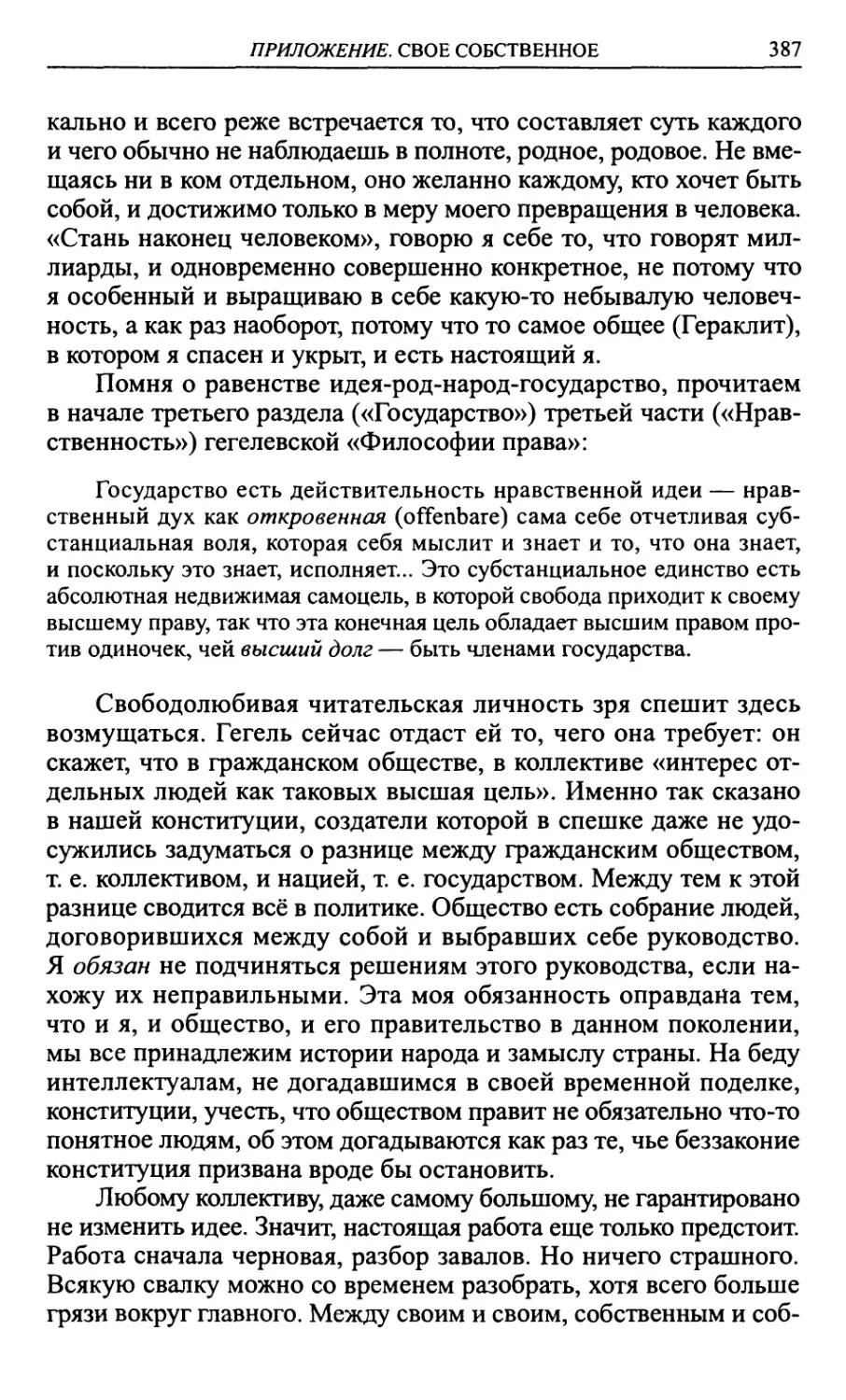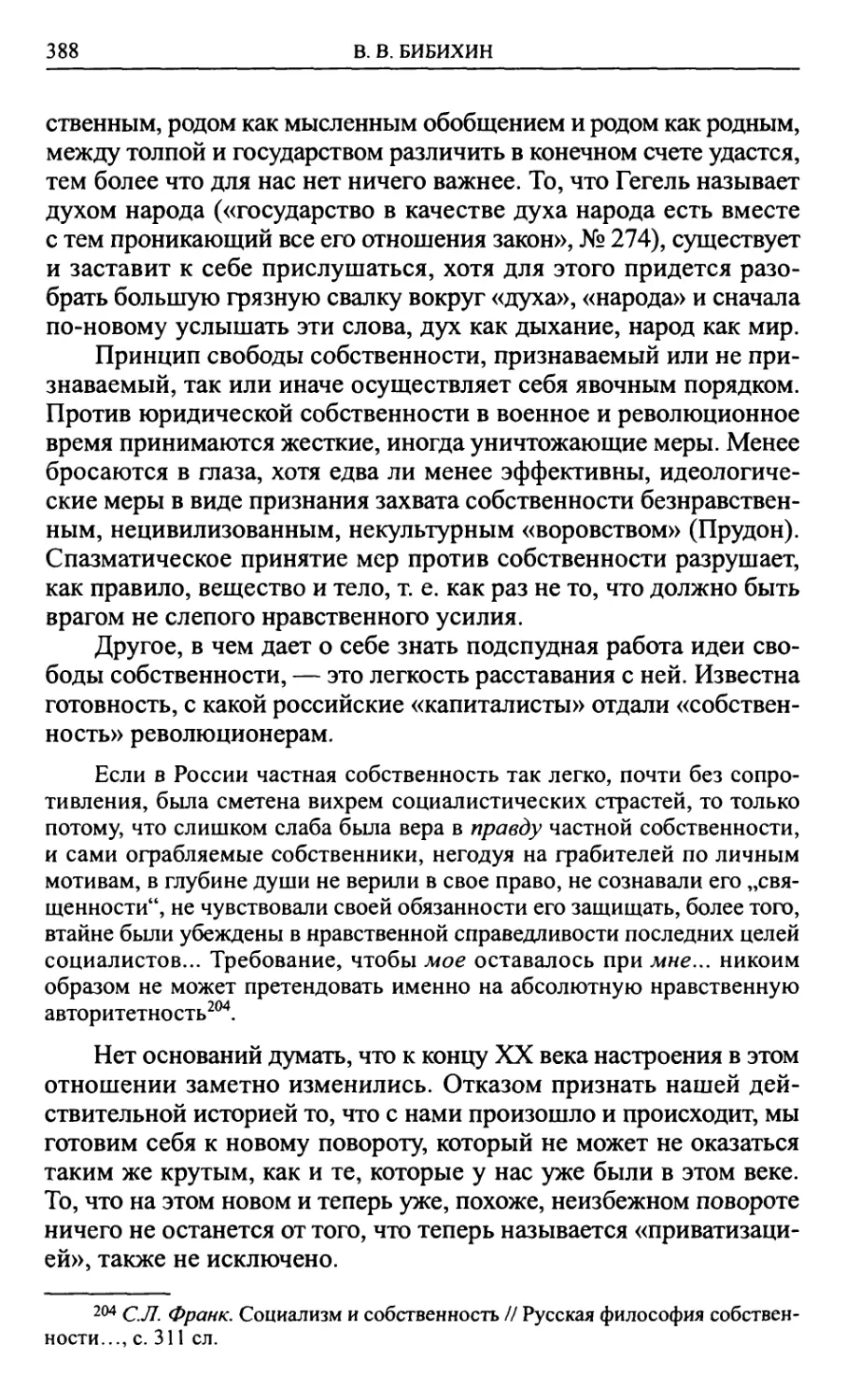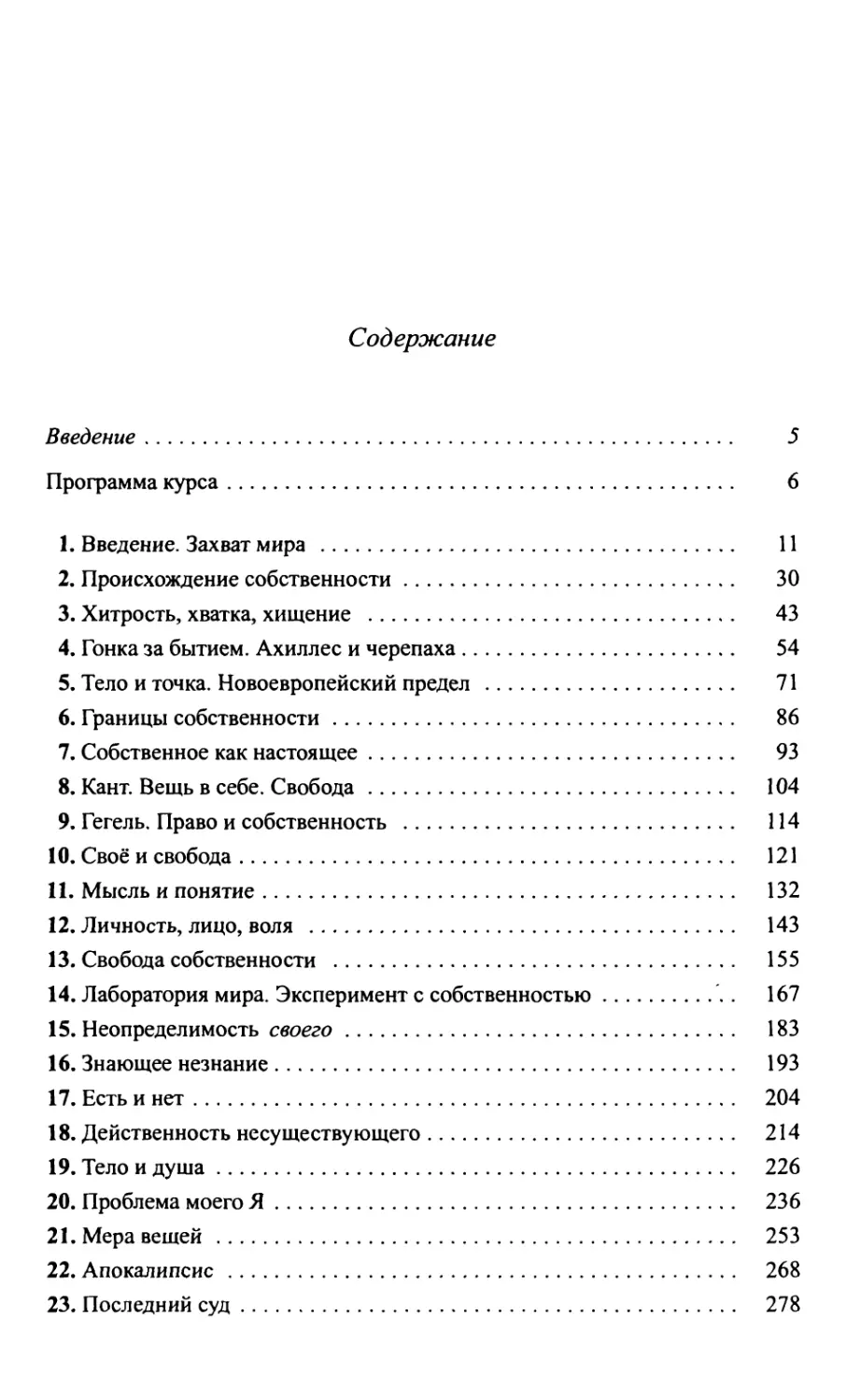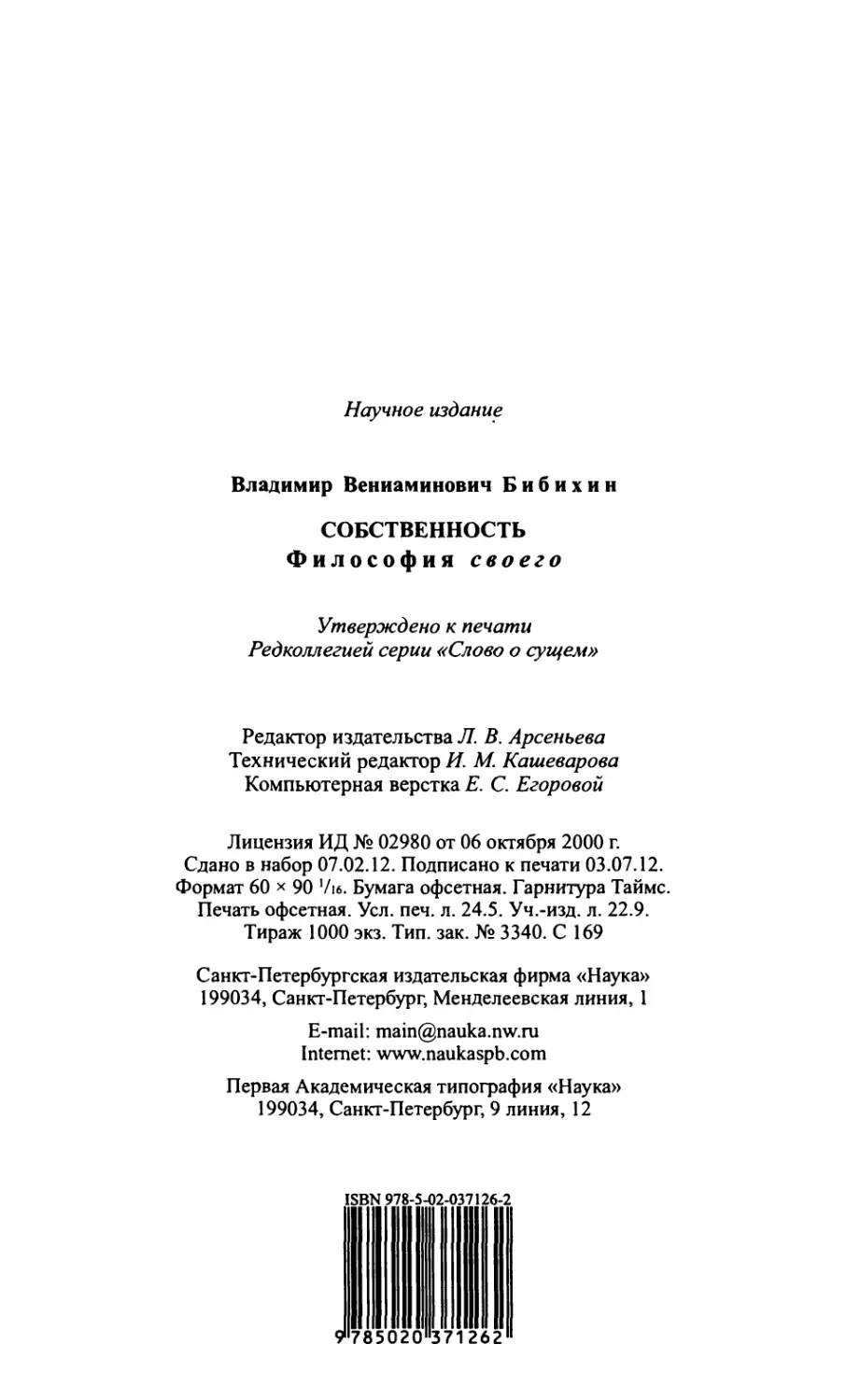Текст
В. В. Бибихин
СОБСТВЕННОСТЬ
Философия своего
Санкт-Петербург
«НАУКА»
2012
Серия основана в 1992 году
Редакционная коллегия серии «Слово о сущем»
В. М. KAMHEB, Ю. В. ПЕРОВ (председатель),
К. А. СЕРГЕЕВ, Я. А. СЛИНИН, Ю. Н. СОЛОНИН
Текст публикуется в авторской редакции
с сохранением орфографии и пунктуации
Бибихин В. В. Собственность. Философия своего — СПб.: Наука, 2012. —
536 с. — (Сер. «Слово о сущем»).
ISBN 978-5-02-037126-2
Впервые публикуется курс лекций, прочитанный Владимиром Бибихиным
на философском факультете МГУ в 1993 г. и в весенний семестр 1994 г.
Внимание обращается к скрытой полярности своего, собственного. Глубже
значения физической и юридической принадлежности эти понятия хранят смысл
подлинного, родового, родного, интимного, т. е. такого, что не столько находится
во владении лица, сколько, наоборот, владеет им. Ненадежность юридической
принадлежности, особенно дающая о себе знать в революциях, широких
реформах общества, войнах, объясняется прежде всего растущим напором сущностного
ощущения собственности. Частнособственнический капитализм и
обобществляющий социализм становятся возможны только в плоскости искусственно
одностороннего слышания слов собственное и свое. Глухота современных
приватизаторов к глубокому значению собственности повторяет »такую же глухоту
большевиков.
Ведущие темы курса — принципиальная двойственность собственного
в истории слова и по сути дела; неизбежность вопроса: что такое
собственно собственность; уход собственного в глубину своего', забывание исходного
смысла собственного и своего', тождество своего, родного, родового и доброго
(добротного) в истории языка и по существу дела; философская реабилитация
своего-родного-родового-доброго, интимного; свобода в своем и неотчуждаемая
собственность свободы — рассматриваются в русле классической философской
традиции.
Книга будет интересна как специалистам, так и всем, кто увлечен
философией.
© В. В. Бибихин, 2012
© О. Е. Лебедева, составление, 2012
© Издательство «Наука», серия «Слово о
сущем» (разработка, оформление), 1992 (год
ISBN 978-5-02-037126-2 основания), 2012
Введение
Обращается внимание на скрытую полярность своего,
собственного. Глубже значения физической и юридической
принадлежности эти понятия несут смысл подлинного, родового,
родного, интимного, т. е. такого, что не находится во владении лица,
а, наоборот, владеет им. Нестабильность юридической
принадлежности, особенно дающая о себе знать при революции, широкой
реформе общества, войне, объясняется прежде всего растущим
напором сущностного ощущения собственности. Эксперимент
советского семидесятилетия был перекошенной попыткой
осуществить гегелевское требование свободы собственности, т. е.
ее освобождения от юридической закрепленности за «пустым
господином», в Марксовой трактовке. Новейший российский
капиталистический эксперимент, призванный исправить
юридический нигилизм предшествующих десятилетий, также обречен на
неудачу из-за неспособности хотя бы поставить вопрос о существе
собственности, прежде всего земельной.
Классическая философская мысль (например у Платона)
проследила свое, собственное до его нередуцируемых корней в роде,
благе (добре), самости. На ту же исходную укорененность
указывает этимологический анализ соответствующих слов в разных
языках. Современное смещение смысла своего, собственного от
сущностного к поверхностно-юридическому мешает осознать
внутреннее напряжение этих понятий, но не ослабляет подспудную
энергию их имманентной полярности. Предвидение новых
перипетий собственности, понятой чисто формально, не представляет
поэтому труда. Захват мира как явное покорение его пространства
не перестает быть захватом мира как тайным диктатом
непроясненного ближайшего над сознанием. Мир как свой и в качестве
такого широко открытый остается по своей сути неуловим. Свобода
возможна только с возвращением к своему в смысле собственного
как настоящего.
1995
Программа курса
Прояснение ситуации как задача мысли и факт
современности. «И здесь (на кухне) тоже боги» (Гераклит). Распорядительная
мысль и невозможность распорядиться мыслью. Условность
условий, в которых мы живем. Покой и энергия мысли
(Аристотель). Необходимость отказаться от привязки к философской
лексике и выйти на общих основаниях в пространство открытых
вопросов.
Ситуация тотального взаимного расследования. Текучесть Я,
его склонность переходить в предложенные формы. Компенсация
лабильности индивидуального и коллективного Я
демонстративным самоопределением. Что значит иметь в виду. Философия
плюрализма и гераклитовское «должно следовать всеобщему»;
характер философского императива. Навязчивое усилие по
изменению нашей ситуации как способ ухода от серьезной постановки
вопросов. Перемена, непременность и непременность перемены.
Принятие мер и недостаточность человеческой меры для
понимания первых вещей.
Метод как освобождение от метода. Недостаточность
человеческой зоркости в сравнении со всем возможным видением.
Трудность разговора о реальной власти. Захват как черта
настоящего. Широта этого захвата. Шанс для философии вспомнить
среди, казалось бы, немыслимого беспредела идущего вокруг
нас захвата о своей исходной сущности (софия как ловкость,
хитрость). Хитрая софия жила в ранней греческой мысли не за
облаками. Связь хватки, хитрости, хотения, восхищения в истории
слова и по существу. Развертывание захвата в современной России
как прояснение существа исходного отношения человека к миру.
Захват и захваченность; невозможность захвата человеком мира
без захваченности человека миром. Прояснение нашей ситуации
ПРОГРАММА КУРСА
7
возвращает нас от рассудочных конструкций и лексического
комбинирования к первой философии.
Захваченность миром как целым. Стремление войти в
мировое сообщество, занять свое место в мире, подняться до мирового
уровня, выйти к мировым достижениям. Интимность и близость
мира, более близкая чем близость вещей. Мир как милое в
истории слова и по существу. Философия как захваченное
схватывание милого по преимуществу: мира. Связь мира и филии в
истории слова и по существу. Загадочная неуловимость милого мира.
Философская верность миру. Мир в смысле целого, в смысле
человеческого общества и в смысле покоя (согласия).
Отказ от догматизма и уважение к авторитету. Неуверенность,
нерешенность и внимание к лицам и образам. Брать и давать.
Признание своей беспомощности. Допустимо ничему не учить
и ничего не знать при условии сохранения поля открытых
вопросов. «Все люди стремятся к ведению» (Аристотель). Видение как
энергия, полнота и самоцель. Связь ведения и видения в
истории слова и по существу дела. Разбор начала аристотелевской
«Метафизики». Природа человека по Аристотелю и по Гегелю
(свобода). Возрастание зоркости человеческого видения вплоть
до видения невозможности видеть начала вещей. Слепота от
претензии зоркого человека на полноту видения. Видение как захват
и захваченность.
Связь видения, ведения и ведания (заведования) в истории
слова и по существу дела. Захваченность природы человека
своим собственным в видении, ведении и ведании. Собственность
ведомства более изначальна чем собственность частного
владельца. Связь своего и свободы в истории слова и по существу дела.
Интимность своего, его утаивание, оберегание и неприступность.
Тезис о выпадении России из хода мировой истории (Чаадаев,
современная публицистика) как прием мобилизации на
выполнение всемирно-исторических задач. Рынок, капитализм, частная
собственность, упорядочение денежной системы как
псевдозадачи. «Уроки, предшествующие нашему собственному
существованию» (Чаадаев), исключают возможность сознательного овладения
ими. Освобождение от иллюзии, что мы можем справиться с
нашей ситуацией усилием осознания и планирования. Свалка как то,
с чем человек неизбежно сталкивается прежде всего (Аристотель).
Понятие, концепция, Begriff, logos как схватывание. Первичность
увлечения и вторичность метода. Захватывающая тайна в основе
влечения. Тайна и шпион в 1930-е—1940-е годы. Связь тайны,
татьбы (хищения, захвата) и затеи в истории слова и по сути дела.
8
В. В. БИБИХИН
Захватывающая (хищная) тайна (татьба, затея) мира (милого). Два
смысла захвата мира.
Тайное согласие на тайну. Тайна свободы как своего. Связь
своего и рода, рода и родного, своего и доброго в истории слова
и по сути дела. Понимание рода и пола у В.В. Розанова;
принадлежность этой темы к первой философии. Идея как род и родное
(благо). Роды идеи и маевтика у Платона.
Возвращение к традиции. 25 веков захваченности Европы
бытием. Невозникшее, некончающееся, неуменьшающееся парме-
нидовское бытие не подлежит освоению, но оно с самого начала
в собственном и исключительном смысле свое. Источник
собственности. Нет объекта по имени бытие, есть продолжающаяся
тайна захваченности исторического человека миром. История
как спор о том, что истинно, действительно, по-настоящему есть.
Война отец всего (Гераклит). Парменидовская онтология —
начало науки как проверки всего сущего на бытийность (истинность).
Тавтология в задании науки: она должна заранее знать, что имеет
целью выявить. Неприступность бытия, захваченность как
единственное прикосновение к нему. Захваченность и занятость в связи
с онтологической разницей. Размазывание человека по
поверхности вещей в занятии ими и открытие их существа в захваченности.
Предупреждение Парменида против расползания практики
в ущерб бытийной захваченности. Неприступность бытия в
парадоксах Парменида-Зенона. Не от мысли к бытию, а от бытия
к мысли («ибо без бытия [...] мысли тебе не найти», Парменид).
Способ бытийного озарения: вдруг. Способ присутствия бытия:
априористический перфект («всегда-заранее-уже»). Быстроногий
Ахиллес не догонит черепаху; растерянность точечного Ахиллеса
в множащихся бесконечностях точек. Нерешенная апория
«Ахиллес и черепаха». Парадокс предела в новоевропейской математике:
термином предел названа ситуация отсутствия предела
приближения. Ахиллес или с самого начала уже догнал черепаху, или не
догонит ее никогда. — Разбор апории «стрела» в связи с началом
поэмы Парменида и в связи с аристотелевской энергией покоя. Бытие
как одноразовая схваченность всего в абсолютном равенстве
самому себе у Парменида-Зенона и молния Гераклита. Онтологическая
разница между сущим и бытием в понятии интереса.
Принципиальная двойственность собственного в истории
слова и по сути дела. Неизбежность вопроса: что такое собственно
собственность. Из двух уровней смысла этого слова только один
исходный и определенный: собственное как настоящее. Уход
собственного в глубину своего. Забывание исходного смысла соб-
ПРОГРАММА КУРСА
9
ственного и своего. Частнособственнический капитализм и
обобществляющий социализм становятся возможны только в
плоскости искусственно одностороннего слышания слов собственное
и свое. Привативность в понятиях приватного, приватизации,
отруба; неизбежность возвращения к общине (миру). Глухота
современных приватизаторов к глубокому значению собственности
как повторение такой же глухоты большевиков. Тождество своего,
родного, родового и доброго (добротного) в истории языка и по
существу дела. Философская реабилитация своего-родного-родо-
вого-доброго, интимного.
Свобода в своем: современный нотариально-юридический
и забытый бытийный смысл собственности. Тайное торжество
старого смысла. Окончательное хайдеггеровское слово для
сбывшегося бытия: Ereignis, особственнение, возвращение к своему.
Кантовская и гегелевская вещь в себе как вещь в своем и
собственно вещь. Связь между вещью в себе и свободой у Канта (Критика
чистого разума В XXVII-XXVIH). Задача нового прочтения
философии в ключе своего {собственного).
Собственность в гегелевской философии права. Радикализация
революционного опыта у Гегеля. Продолжение гегелевской идеи
свободы собственности через Маркса и измена ей в историческом
предприятии большевизма. Трезвое уважение Гегеля к мощи
и укорененности государства. Революционность как
истерическое бегство от грозной реальности власти и слепое служение ей.
Государство и смерть. Критика гегелевского тоталитаризма как
продолжающаяся неспособность проникнуть в измерение
гегелевской мысли. Гегель и Розанов. Недоразумение вокруг
тождества разумного и действительного (Белинский). Понятие (Begriff)
у Гегеля как полнота схватывания и захваченности; участие воли
в нем; понятие как прыжок, скачок, танец. Апокалиптический
пейзаж у Гегеля (конец Предисловия к «Философии права»).
«Идея права есть свобода». Свобода как идея открыта всеобщему,
которое осуществляется в искании каждым человеком своей
особенности. Свое-собственное-особое, захватывающее, хитростью
разума выносит к роду (народу).
Диалектика Гегеля как свобода и открытость мысли. Школа
независимости мысли от форм (терминов, образов, схем, целей,
оценок). Заштопанный чулок и разорванное сознание. Лицо (не
личность) как воля к своему (свободе). Мир как.собственность
свободной воли, для которой в мире не должно остаться ничего
чужого. «Внутренняя собственность духа» как тема, завещанная
Гегелем. Присвоение вещей разумной волей как отдание вещей им
10
В. В. БИБИХИН
самим и их своему; в таком присвоении вещи впервые
возвращаются к своему собственному существу. Опровержение реализма
(позитивизма).
Принцип свободы собственности в § 62 «Философии права»:
собственник вещи тот, кто способен осуществить ее, в отличие
от «пустого господина». Марксистская попытка осуществления
свободы собственности. Предсказание Гегеля о победе в конечном
счете принципа свободы собственности. Сравнение этого
принципа с юридическим правом владения.
«Настоящее отчуждение есть настоящее вступление во
владение вещью» (§ 65 «Философии права»). «Настоящее отчуждение»
как освобождение вещи от случайного владельца для
осуществления ее настоящего назначения. Деньги как более умная
форма собственности выше товара, духовная ценность выше денег,
полнота бытия выше духовной ценности. «Внутренняя
собственность духа» в конечном счете не моя, а своя. Лицо-воля отдает
себя ради себя идее-роду, народу как государству. Уникальный
опыт российского 70-летия 1917-1987 как срыв (извращение)
гегелевской мысли.
Проблематичность всякого кто в собственности.
Собственность в конечном счете не моя и твоя, а своя. Необходимость
в этой связи новой постановки вопроса о родовом как родном.
Всё, что хочет быть в индивиде, может осуществиться только
исполняясь в роде. Полнота осуществления своего рода как условие
индивидуальности. Несуществование рода. Рождение как его
единственное бытие. Рождение и знание. Свое собственное как
родное в названном смысле.
1993
1. Введение. Захват мира
(9.02.1993)
И заглавием, и подзаголовком этого курса1* предполагается
начало, в разных (всех) значениях этого слова. Всякое начало
касается и нас, даже прежде всего нас: о начале бессмысленно
говорить, когда к началу не имеешь отношения сам. Наше
начало — это наше дело, за которое мы взялись сейчас, в 16:55
9.2.1993. И совершенно всё равно, потому что от нас всё равно не
зависит, сорвется это наше дело, это наше начало или не принесет
никакого результата, измеряя результат как теперь, похоже, только
и умеют его измерять, количественно, в нашем случае дела как
слова — количеством и «объемом» публикаций и отзывов. Это не
наша забота, наша забота в том, чтобы честно попытаться увидеть
первую философию.
И какой, интересно, нам есть шанс увидеть ее где-то у
Аристотеля, если мы не можем видеть ее близко, у нас, первую
философию в России, у Чаадаева, Леонтьева, у Соловьева, который по
Розанову первый преодолел наносное философствование в России,
преодолел привычку говорения о философии и вокруг философии,
которая сама далеко, в давней Греции или за границей,
прорвался к самим вещам, вместо говорения о говорении о вещах. Т. е.
наше дело, не в последнюю очередь, увидеть первую философию
1 * Курс «Собственность» первоначально имел подзаголовок «Первая
философия». Много позднее, при подготовке (которая была лишь начата) к
публикации монографии «Собственность», был добавлен еще один подзаголовок:
«Прояснение ситуации». В настоящем издании принято название 1995 г.
Примечания составителя помечены звездочками, редакторские вставки в
основной текст и в авторские примечания, а также многоточие в опущенных по
формальным соображениям местах даны в угловых скобках. Благодарю всех, кто
помог мне готовить текст лекций к публикации: Анатолия Валериановича Ахутина,
Эльфира Сагетдинова, Анну Константиновну Поливанову. — О. Е. Лебедева.
12
В. В. БИБИХИН
и у нас, в России тоже, и у Розанова, и у Бердяева, и у Лосева,
преодолев глупое чванство новых Смердяковых, которые понаслышке
знают, что философия больше благородное дело и на всякий
случай заранее для верности решают, что тогда, значит, надо ехать за
границу, ведь известно, что всё лучшее там.
Но и опять же у этих наших, говорящих на этом нашем языке,
на котором говорим и мы сейчас, у них какие мы имеем шансы
увидеть первую философию, философию просто, настоящую
мысль, если мы не сумеем увидеть настоящего в том же, в чем
увидели они, в близком, в происходящем на этой земле, на Восточно-
Европейской равнине, в Москве, в Ленинграде и в новом Санкт-
Петербурге, безродном создании, в России, в том числе и в этом
университете, где мы находимся сейчас, — увидеть не
недоразумение, не несостоявшееся или полусостоявшееся историческое
образование, которому надо добавить «элементов», демократии
или права или разделения властей или рынка или капитализма или
частной собственности, чтобы оно состоялось и тогда можно будет
чистенько о нем говорить, а сейчас пока еще это историческое
образование не подтянулось до состояния, когда оно годилось бы для
научного анализа, еще не сложились его черты. — Нет, пока мы
здесь у нас, близко, не сумеем увидеть первую философию, т. е.
мысль, увидеть без косой оглядки туда, где якобы происходят
главные вещи, в воображаемой благополучной области исторической
определенности и полноты, на деле того же Парижа Смердякова,
пока не увидим, что и на этой нашей неухоженной кухне тоже
боги, και ενταύθα είναι θεοΰς, полнометражные, хотя тоже
невидимые, как вообще везде боги невидимы сейчас, т. е. если
доверия к тому, что здесь и теперь, не будет, то всё наше говорение
о философии, да еще о «первой» философии, пусть то даже будет
в контексте «культуры», туманного понятия, не проясняемого ни
«историей», ни «теорией» этой культуры, останется σκιαγραφία
τις, писанием тенями, возней с нашими собственными
представлениями, перетасовыванием пустой лексики, гаданием на словах.
Мы развернем по ходу дела наш подход: не навязывать вещам
наши понятия, не заговаривать их, а наоборот, просить ясности
для нас и для наших понятий у вещей, в их величии и видности
брать ясность.
Задача, вы скажете, трудная, да легче-то не бывает: да, мы
окажемся, к сожалению, не в философии, а в международном
бизнесе загадочного, непроясненного говорения о философии,
если не увидим одно, одну мысль в аристотелевской «первой
философии» и в исканиях тех, кто по-настоящему пытался думать
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
13
у нас, и не просто у нас, а о нас, считывая мысль не с каких-то
далеких и заграничных образцов, а с усилия и искания
человеческого существа, чье стремление в своем начале всегда одно. Это
стремление как мы назовем? Ну давайте, наберемся важности,
приосанимся, примем учительную или уверенную позу и скажем:
ну ясно же, все люди в своем существе стремятся, конечно, к... ну,
ну, к чему? Подождите немного, сейчас мы объявим: вот к этому,
обобщим, объясним, подытожим, и разумные с нами согласятся:
да, верно ведь, все люди стремятся к..., и у Аристотеля в начале
«Метафизики» сказано.
Мы разбежались, разогнались, как все, но скачок сделаем
другой, не в сторону свалки мнений, где давно уже теснят друг
друга проектировщики, систематики, стратеги, глобалисты, все
те, кто от паники, от потерянности, от беспомощности, от срыва
начал тоже распоряжаться и здесь, в философии, декретировать,
предписывать, расписывать, упорядочивать. Нет, мы принимать
срочные меры для воображательного, мыслительного
упорядочения хаоса не будем. Наводить порядок у себя в доме, на улице,
на стройке надо всегда, в портфеле, в бумагах, в написанном тоже
надо всегда; наводить порядок в своих мыслях не надо никогда;
достаточно, и самое большое, что мы можем сделать, это еще
и еще видеть, слышать, обращать внимание, замечать. На
грядке, во дворе, в квартире распорядится человек, но он сразу это
сделать не сможет. Сначала его мыслью, его существом должен
распорядиться или, вернее, уже распорядился, надо это только
увидеть, — кто? как?
Когда я говорю, что античная мысль, русское искание, наше
настоящее настоящее, которое сейчас нами правит, — одно дело,
я не хочу объявить: это одно вот что; я обещаю только не
увиливать от искания, которое не я сейчас придумал и ввел. Мы так
или иначе, например способом уклонения, уже принадлежим
к традиции безусловного искания, первой философии. Не так,
конечно, принадлежим, что всё полно вокруг нас осознанным
занятием этого безусловного искания; наоборот, всё вокруг нас
условно и обусловлено, и «интеллектуальная деятельность» не
в первую ли даже очередь, настолько, что она опускается до
циничной констатации своей обязательной условности. К традиции
безусловного, не условного, не обусловленного заранее искания
мы принадлежим только в том смысле, что до сих пор не
бессмысленно пытаться спрашивать об условиях, а не только принимать
их; что такие попытки уже каким-то чудом удавались наперекор
условиям — например у Аристотеля, который как-то в короткое
14
В. В. БИБИХИН
время, когда он еще не был вынужден бежать из Афин и от
возможной судьбы Сократа, имею в виду суд и казнь. И у Чаадаева,
да, объявленного сумасшедшим и осматриваемого регулярно
официальным врачом, и у Леонтьева, которого не принимали всерьез,
и у Соловьева, который незадолго до смерти почувствовал, что
задел своей мыслью что-то очень могущественное, что может
стоить ему жизни, и у Розанова, брошенного умирать, и у Бердяева,
изгнанного из страны, — т. е. поперек условий, им наперекор
безусловная мысль умела быть, значит не исключено, что она
умеет быть и еще, и тогда наше дело, с учетом несоизмеримости
величин, без претензий с кем-то сравняться, — наше дело вот это,
попробовать увидеть, первую философию.
В определении Аристотеля она такая: она о первых вещах,
отделенных (без-условных) и не-изменяющихся, неподвижных.
Ради Бога только не будем ловить Аристотеля на слове, не поймем
ακίνητα, неподвижные вещи, в смысле таких, которые мы можем
зафиксировать, как 2x2, и остаться навсегда после этого в покое,
что здесь мы можем опереться, это от нас не уйдет: в важном
смысле ничто не так изменчиво и не так подвижно, как аристотелевские
ακίνητα, а неподвижное в смысле фиксированного — это пустое
порождение нашей собственной мертвенности; мы делаем
скверный, нехороший, гадкий и коварный жест, когда ловим Аристотеля
на нашем смысле слова ακίνητα. В кн. XI «Метафизики» ή σοφία
περί αρχάς επιστήμη τίς έστι, софия (мы еще должны будем понять
это слово) есть некий покой, мир ума относительно начал. Я не
перетолковываю, когда передаю επιστήμη (принятый перевод
наука, знание) через покой, мир ума: так Аристотель слышал στάσις,
устойчивость в «эпистеме», не в смысле фиксации, a ç смысле той
остановки, которая от покоя, примирения, успокоения,
уверенности. Читайте предпоследнюю VII книгу «Физики», гл. 3 (цитирую
в переводе Карпова): «Мыслительная способность (дианойя)
познаёт и мыслит путем успокоения и остановки, в покое же нет
возникновения и вообще нет никакого изменения»2. Мы осторожны
и не будем ломать себе ноги, скача в глупое понимание покоя как
фиксированности. Такой покой, который в близости к первым
началам, для Аристотеля верховная энергия. Но что такое энергия,
мы не знаем. Опять же в XI книге «Метафизики», гл. 4, «первая
наука», т. е., теперь мы можем читать, первый и главный покой,
мир ума, его «остановка» (ср. схоле) в этом смысле, имеет дело
с вещами не поскольку эта вещь одна, а та другая, а поскольку
2 Аристотель. Соч. в 4-х тт., т. 3. М., 1981, с. 214.
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
15
и в той, и в этой вещи одно и то же бытие, по-своему в каждой
вещи, в меру бытия вещи, в меру того, что она — «сущее». Мы
только не знаем, что такое бытие. — В «Учении о душе», I 1, тот,
кто занимается первой философией, первый философ имеет дело
с отдельным, χωριστά, — и мы провалились раз навсегда,
распрощались со всякой надеждой выбраться на свет, если «отделенное»,
дело «первого философа», поняли как абстракцию, обобщение,
скажем, «общее представление о сущем», в отличие от дела
ученого и от того, что мы имеем близко к нам.
Что со мной происходит? За что я ни возьмусь — я
отдергиваю руки хуже, чем от горячего; как от заразного. Ни к
одному «понятию» притронуться без оговорок нельзя, всё требует
прояснения. Как же буду прояснять далекие «древние» вещи
я, находящийся в непроясненном положении, даже здесь сейчас
говорящий на птичьих правах, дожидаясь, когда его попросят
с кафедры и с философского факультета как не встроившегося
в систему подготовки профессиональных философов? И всё-таки
я снова удержусь от панического принятия мер и от подстраивания
к тому или другому надежному потоку. Я сделаю совсем другое.
Раз подо мной так ходит земля, я рискну на признание своей
необеспеченности и шагну даже не как в болото, из которого себя
вытаскивал за волосы барон Мюнхгаузен, а как в омут очертя
голову. Я говорю, объявляю и с сего дня буду для себя считать, что
мысль (не условная мысль) и не может быть ничем другим, как
первой философией. Это значит, что она не в смысле нигилизма и
отвержения прошлого, а наоборот, для возвращения отцов должна
уметь начать сначала, причем именно в тумане, наверное
небывалом, нашего нынешнего положения, наших «условий», когда
мы решаем уравнение со всеми неизвестными. Начать с самого
начала значит прежде всего оставить всякую надежду на готовый
словарь и разработанную тематику, разделить со всеми в нашей
стране участь неопределенности и опасной неизвестности, не
воображать, что наше зрение в отличие от зрения человека с улицы
чем-то вооружено. Мнимое интеллектуальное вооружение всегда
оказывается той или иной формой условного сужения зрения.
Вооружение зрения так же не нужно философии, как художнику
не нужен перископ, такой полезный и блестящий прибор, каким
многие, наверное, гордятся. Художник не страдает от
неоснащенности оптической инженерией.
Сегодня, не говоря, что я не вернусь к спокойным темам из
истории философии, наоборот, надеясь к ним вернуться, я стою
с пустыми руками и говорю, что всё, о чем мы здесь в этой 2-й
16
В. В. БИБИХИН
аудитории думали с весны 1889 года, теперь уже ровно 4 года,
было только подготовкой к тому, что нам предстоит. Мы сейчас
начинаем новое, впервые хотим иметь дело не с лексикой, не с
проблематикой, не с терминами когда-то бывших вещей, а с самими
вещами. Т. е. с тем, что всех задевает.
Теперь, в конце XX в., когда мы, пытающиеся пробовать
думать, оказываемся, как это называется, «на общих основаниях»,
опущены, а не в привилегированном положении обладателей
особой лексики, паролей, которые дают права на привилегии —
привилегию жить на государственном бюджете, привилегию мнимой
обеспеченности элитарным философским знанием, — когда мы
остались в пустоте, нам будет, наверное, страшно и мы захотим
назад в обеспеченность, но наше спасение и наш шанс на
возвращение к настоящей обеспеченности будет в том, чтобы не
оглядываясь назад через нашу ситуацию, в которой мы оказались на общих
основаниях, не выйти куда-то, а увидеть всё, что можно увидеть.
Не сужать видение. Спазматическое, рефлекторное (рефлексия,
отражение; надо было, чтобы мир очень досадил сознанию, чтобы
оно взялось за деятельность его отражения) движение,
отшатнуться от широты, от открытости, будет соблазнять нас на каждом
буквально шагу, и главная наша осторожность и главная строгость
должна быть в том, чтобы не расстаться с открытым видением.
«Мы» в «нашей ситуации» — тоже соблазн. Совсем близко
подступает требование «определиться» с готовой подсказкой: под
«нами» в нашей ситуации понимаются ведь русские, не правда
ли? Нам намекают, облегчая для нас задачу самоопределения: не
масоны же мы, наверное, а настоящие русские, патриоты? Может
быть, наша ситуация — это ситуация «наших», тоже обделенных,
обманутых, униженных и кричащих об отмщении? Или,
подскажут нам с другой стороны, под «мы» надо понимать, конечно,
всё-таки скорее этот замечательный находчивый совершенно
удивительный класс новых русских, не зря же вы подписались на
«Коммерсанта дейли»?
Даже простая оглядка на это зазывание с разных сторон уже
бросает, швыряет нас в ситуацию, да, нашу: расследования,
следствия. Сначала идентификации. Сейчас мы все, как в 1937 году,
под взаимной проверкой, сверху донизу на допросе, который мы
ведем, правда, новыми, но тоже очень жесткими методами. Нация
безжалостно проверяет снова сама себя, согласна, хочет снова
ставить над собой эксперимент, выколачивает жесткими,
жестчайшими до губительности мерами из себя и из своей страны, из
самой ее природы истину, ставит себя под удар катастрофическим
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
17
снижением рождаемости, собственно запрещая себе до
самопроверки продолжаться, иметь детей.
Мы, стоящие в этой ситуации на общих основаниях, остаться
в стороне от общего дела следствия, расследования не можем и не
останемся, уже и занялись прояснением ситуации. Но если так, как
нас приглашают, определиться, присоединиться, перестроиться,
преобразиться, обновиться, вступить в новую партию или группу,
то не уйдем ли мы от настоящего прояснения? Не первое ли дело
мысли в такой ситуации задуматься о пугающей гибкости, об
обескураживающей текучести «я» и «мы»? В анекдотической, но
вполне работавшей и на самом деле гораздо больше сделавшей,
чем может показаться, формуле 30-х и 40-х годов
перестраивающийся покаянно и надрывно кричал, вслух или про себя,
одновременно и сминая себя, и надеясь всё-таки на благополучное
присоединение к «нам»: «Таким как я не место среди нас». В другом,
еще не проясненном облике эта формула по существу повторяется
теперь, когда, например, так называемые новые русские
одновременно называют себя так и тут же инквизиторски прочесывают
себя на соответствие новому русскому, отсекая от себя же, нового
русского, то, что этой новой русскости не соответствует.
Что бы ни отсекалось в этом и в других случаях, прежде всего
и главным образом и часто единственно только и отсекается всегда
одно: открытость видения; достигается всегда таким-то образом
суженное видение. В случае новых русских отсекается всякий
другой взгляд на неновых русских, кроме суженного, вгоняющего
неновых русских в схему неполноценности, по видимости кри-
тико-идеологическую, по назначению властную, разрешающую
принимать от неновых русских их терпение, их смирение,
ожидание, трудолюбие «просто так», потому что они, неновые русские,
и так всё равно всегда всё отдавали, начиная от Бориса и Глеба,
сыновей основателя Руси, которые без борьбы расстались с
властью, определив, наметив этим, как неновые русские будут всегда
относиться к власти. В формуле «я новый русский» это я лишний
раз показывает свою лабильность, неустановимость, которую оно
подчеркивает тем, что спешит установить себя и свое «мы».
Нам сейчас, глядя на эту заботу о самоопределении,
достаточно пока только обратить внимание на эту текучесть я и мы,
текучесть, пытающуюся уравновесить себя активностью
самоопределения. Мы здесь, как и во всём, остаемся «на общих основаниях»,
т. е. как безусловное большинство у нас в России не определяем
себя, не отвечаем на вызов новой власти.
18
В. В. БИБИХИН
В каком тогда смысле мы говорим о «нашей» ситуации, какое
«мы» имеется в виду? Мы употребляем это местоимение только
в том бесспорном и снова общем смысле, что ситуация в любом
случае не чужая нам, что мы не можем не принять ее, сказать «я не
я и лошадь не моя», или «чума на оба ваши дома», или «мне всё
это до лампочки». Ситуация наша в том уже названном смысле,
что мы живем и поступаем на общих основаниях, что ситуация нас
касается, задевает; не выгораживаем себя, не отгораживаемся. Не
начинаем вообще ничего городить.
Под «ситуацией» мы поэтому «имеем в виду» не что-то такое,
что придумали и постановили рассмотреть, например в
экономическом, политическом или культурном срезе. На вопрос, какая
ситуация имеется в виду, мы ответим: та, которая имеет-ся-в-виду,
которую мы имеем в нашем открытом видении, с которой
прежде всего и постоянно имеем дело. Нам скажут: но ведь каждым
глазам, и вашим тоже, открыто свое и по-своему, каждый видит
вроде бы свой мир? Так нам, конечно, скажут, и мы ответим: да,
это очевидно. Это и есть то, что я, что мы все имеем-в-виду: мы
ясно видим, что каждый видит по-своему, и мы, да, тоже видим
по-нашему. Сейчас всё разбрелось настолько, что сколько людей,
столько и государств, сколько семей, столько и союзов государств,
или столько войн, если семьи в состоянии войны.
Если мы имеем в виду под ситуацией это общее, что теперь
каждый имеет в виду свое, то ситуация уже ясна и не требует
прояснения? Ведь всякое прояснение будет опираться на то, что
проясняющий имеет в виду. Возврата идеологического
единства ожидать не приходится, тем более что оно было обманом
себя и других. Теперь посмотри на любого, даже молчащего,
и можешь с уверенностью предвидеть, что, заговорив, он будет
говорить то, как он видит мир, и это будет другое видение, не
твое. — Допустим, согласимся: это так. Это наше согласие — то
же самое, что присоединение к философии плюрализма? Никак не
то же самое: согласие с тем, что всякое видение — свое, не значит
еще, что нам осталась в удел только философия плюрализма или
диалогизма, видящая столько сепаратных и независимых
мыслительных миров, сколько голов. Не обязательно останавливаться
на показном самоопределении каждой самосознающей личности;
ее текучесть не случайна и не временна; мы еще не досмотрели
до конца, не посмотрели на другое, между прочим, тоже
очевидное, как то, что у каждого свой взгляд на вещи, даже еще более
очевидное и статистически подтвержденное. Ведь в самом деле
мы имеем-в-виду не только самозамкнутость мнений, ничуть не
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
19
меньше в виду у нас общность общества, в том числе и широкого
общества, человечества.
Гераклитовское δει επεσθαι τώι κοινώι (Β 2, по Марковичу 23),
в переводе А. В. Лебедева «должно следовать всеобщему»3* — это
не слабосильное пожелание идеологического единства. Философия
такими тощими мечтаниями никогда не пробавлялась.
Гераклитовское должно здесь не этическое, а онтологическое: неизбежно
всегда везде и со всеми происходит и будет происходить так, что
каждому приходится так или иначе следовать общему, и только
болезненное мнение воображает себе, что оно опирается на какой-
то свой особенный частный ум. Как поэзия убедительна сразу,
одним своим звучанием до втолковывания и проверки, так и слова
мысли. В них говорит судьба. Это не значит, что, интуитивно
угадываемые, они и останутся в интуиции: нет вовсе, гераклитовская
истина, что разного мнения люди, самые обособившиеся,
следуют неведомому им общему, подтверждается не только мистикой,
а простой статистикой. Мы знаем и видим: это так, безжалостно.
Сознание с любой степенью взвизгивающего надрыва может
объявлять себя самостоятельной единицей, решающей всё само в себе
по своему вольному выбору, но его свобода простирается только
вот на такой промежуток: на объявление себя независимым, от
чего-то свободным.
Только в перспективе гераклитовского повелительного
«всеобщего» мы начинаем яснее видеть, насколько и в каком смысле
наша сегодняшняя ситуация нуждается в прояснении, кричит
о нем. Она сложена из разбредания и единения, одно из которых
не знает о другом. Удивительная ситуация, когда с растущей
силой, со сметающей страстью к независимости люди, коллективы
отстаивают в качестве «субъектов» каждый свою позицию, точку
зрения, индивидуально или группами имеют в виду что-то
специально свое — и тем открытее, беззащитнее всё делается для
гераклитовского «неизбежно будет так, что...». Фрагмент В 114,
по Марковичу 23: «Питаются все человеческие законы от одного,
божественного; он правит, насколько хочет, и достаточен для
всего, и охватывает всё»4*. Люди спят глубоким сном, потому что не
замечают этого. «От людей скрывается то, что они делают, хотя
они делают это наяву, скрывается всё, подобно тому, как всё, что
они делают в состоянии сна, они потом забывают» (В 1 ; Марко-
3* См.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989, с. 197.
Далее указываются как просто «Фрагменты...».
4* Ср. перевод A.B. Лебедева: Фрагменты..., с. 197.
20
В. В. БИБИХИН
вич I)5*. Это сказано жестко, сказано на тысячелетия, и сказано
как ключ к тому, что мы наблюдаем вокруг нас каждый день. Наша
ситуация по-настоящему — загадочное соседство настойчивого
усилия изменения и безусловной неизменности того, на что
направлено это усилие, причем ни пружина этого усилия
(новоевропейская революционность), ни основание неизменного, — того,
о чем покой первой философии по Аристотелю, — не только не
продуманы, но даже и вопрос о них не поставлен из-за
мгновенного спазматического превращения всякой серьезной,
действительной постановки вопроса в принятие мер. Вещи, с которыми
по-настоящему имеет дело современный человек, слишком
жгутся, чтобы у самосознающей обособившейся личности, целиком
поглощенной своим самосохранением, хватало мужества в них
вглядываться; слишком захватывающие, чтобы от них не бросало,
не швыряло сразу же всякого, кого они задели, в — собственно,
абсурдный — активизм.
Абсолютная очевидность того, что за движением,
переменой — политической, экономической, культурной, вообще
исторической — в современности угадывается непременность, что эту
перемену можно назвать во всех смыслах непременной, эта
дразнящая двойственность перемены, в которой ничего не меняется,
как будто бы дает нам право ввести различение перемены,
переменного и непременного, постоянного в нашей культуре. Это было
бы удобно, но боюсь, как бы такое различение не оказалось снова
принятием мер для ухода от настоящего дела. Ведь принятие мер
вовсе не всегда и даже не чаще «практическое», оно прежде всего
и обычно теоретическое, это принятие мер в сознании сознанием,
активизм в обращении сознания с тем, с чем оно обращается. Да,
сознание вводит схему изменчивого-постоянного, но не от хорошей
жизни, а от невыносимости дразнящей двойственности, загадочной
слитности перемены и постоянства во всём происходящем. Не так,
как кажется сознанию в его убивающих схемах, не переменчивость
соседствует с какими-то жесткими структурами — отбрасывай
меняющиеся проявления и выявляй неизменные структуры, старая
мельница сознания заработала. Непременна сама перемена. По-
честному мы никогда не сможем да и не должны научиться
отслаивать в происходящем, в современности, тем самым и в прошлом,
непременность от перемены по схеме постоянного-переменного.
Как ни невыносимо, как ни дразнит это, т. е. одновременно
и абсолютная очевидность, что за переменами стоит непременное,
5* Ср. перевод А. В. Лебедева: там же, с. 189.
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
21
и честная невозможность увидеть непременность иначе как в
перемене, надо остаться при этом разбирающем напряжении. Мысль
не должна, это не ее дело, принимать меры. Это ее убивает, она на
принятии мер кончается, превращается в расчет.
Это не значит, что я самоубийственно предлагаю вообще
никогда не принимать никаких мер. Просто настоящее принятие
мер бывает так редко и так непохоже на то, что обычно понимают
под этими словами, что лучше и надежнее считать, что
принятие мер пока, когда мы еще не очень начали думать, не для нас.
Приведу случай правильного и неправильного принятия мер. Для
того чтобы сделать Яузу чистой, чтобы там снова могли купаться,
как тридцать лет назад, можно и нужно, конечно, принять
определенные меры, такими-то очистными сооружениями отгородить
реку от грязных сбросов. И вот эти меры давно уже приняты, на
очистные сооружения средства давно истрачены, фильтры давно
поставлены, по расчетам их должно было быть достаточно для
очистки реки. Они не работают. Они не работают, потому что еще
до принятия нужных мер с вещами и телами — обязательных,
непременных мер, потому что человек хозяин на планете, по крайней
мере обязан быть хозяином, — данным хозяином опять же
намного раньше того уже были приняты и как-то сработали менее
осязаемые, но гораздо более действенные меры по управлению,
упорядочению, изменению, перестройке своей мысли, своего
зрения, своего чувства, своего настроения. Меры эти были
применены им в своем сознании к самому себе и, как это говорится,
навсегда и прочно закалили его. Человек обработан, мы говорим,
идеологически. Идеология — это наука об идеях. Идеи
становятся заботой этой важной науки. Человек по этой науке принимает
меры в отношении идей, прежде всего своих собственных,
оперирует со своим видением и с тем, что он имеет в виду. В грубом
случае человек тогда отвергает определенные идеи как ложные,
ненужные, устарелые, в тонком случае (плюрализм) он принимает
более или менее все идеи, но в любом случае он приучается быть
хозяином не земли, а сначала своих собственных идей в широком
смысле, включая методы мысли, настроения, интуиции,
сновидения, фантазии. Он «обуздывает себя», оттесняет в неприличное,
неуместное свои настроения, которые всегда, конечно, есть даже
и у такой непоправимо обкатанной личности, как директор
автобусного парка, стоящего на берегу Яузы. Временами, когда он сам
боится себе признаться, на него накатывает ностальгия, желание
проклясть эту лишнюю отработку машинных масел,
отвратительную, дурную, которую некуда девать из-за неувязок в отчетности
22
В. В. БИБИХИН
и которую приходится сбрасывать в Яузу, тоскливое желание
бросить вообще эту работу, истрепывающую его душу, босоногим
мальчишкой снова войти в воду и смотреть камушки на дне
прозрачной реки и уток на зеленом бережку. Но этот директор
принимает привычные меры, он умеет, как это называется, держать
себя в руках, не дурить, не давать волю своим чувствам; он знает
утешительным знанием, что во всём мире природа потеснена, да
в конце концов он должен быть человеком, выплатить ребятам их
60 тысяч в месяц, а не гробить деньги на штрафы Госкомприроде
и т. д.
В отношении идей меры приниматься никогда не должны.
Человек не должен измерять своей мерой то, что он видит. Будем
понимать видение широко. О методе первой философии, нашей
первой философии, можно говорить поэтому только в одном
плане: это метод удерживания, как в феноменологии (эпохе), от
спазматического принятия мер в отношении вещей, которые мы
имеем-в-виду. Поэтому первая философия становится способна
иметь-в-виду первые вещи, начала, которые первые и в отношении
мероприятий сознания. Мы можем спокойно повторить вместе
с марксизмом: бытие первично, сознание вторично. В первой
философии, философии о первом, мы не принимаем мер. Мера
здесь будет не наша: одна только мера вещей. Вещи мы
начинаем видеть, когда перестаем манипулировать своим видением.
Инструменты не нужны простому видению так же, как художнику
не нужен бинокль. Допустимо поэтому говорить о методе первой
философии и так: он — освобождение от метода, от принятия
мер. Освобождение от всего, что нагорожено близнецами,
основателями городов. Близнецы — это пара похожих друг на друга
до тождества, до неразличимого слияния, до одного или почти
одного, но не знающих этого вплоть до взаимного уничтожения.
Непременность перемены в нашей ситуации, которую мы
имеем в виду и с которой мы поэтому имеем дело, — заметная,
но не единственная черта. Мы будем вглядываться дальше. Другая
не менее важна; мы тоже видим ее с последней степенью ясности.
Идет захват земли, богатств, зданий, сфер влияний,
интеллектуальной собственности, наследия. По активности принимаемых мер
можно судить, насколько люди захвачены захватом. — Замечание
вдогонку о принятии мер. Мы не можем рассчитывать на то, что
нашей зоркости одной достаточно для того, чтобы сравняться
с суммой видения всех людей; какое там. Как раз наоборот: при
любой открытости взгляда мы всё равно не можем рассчитывать,
что нам откроется что-то кроме нашей, ничтожной части всего
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
23
видимого. Мы не можем рассчитывать, по громадности и мощи
видимого (перемена, захват и не только), что хотя бы отчасти
увидим полноту вещей, например, по-настоящему говорить о власти,
настоящей, сегодняшней, очень трудно. Мы должны полагаться
на то, что видят другие. Я полагаюсь на ваше видение. И всё то
суженное видение, которое мешает мысли, идеологизированное
и техническое, тоже с нами и для нас. И принятие мер — я
говорю о первом, главном, самом весомом принятии мер, мысленном,
т. е. о принятии мер против мысли, — нам тоже всегда будет
говорить: о присутствии могущественных первых вещей. Только,
конечно, принятие мер говорит о нем не тем способом, что дает
им, самим вещам, слово.
О размахе, о захватывающей мощи захвата, второй и не менее
важной, чем непременность перемены, черты настоящего,
говорит быстрота и эффективность принимаемых против него мер,
конечно, как всегда сначала не экономических (такие и слабы,
и оказываются сами вовлечены в захват), а более ранних и тонких,
идеологических. Захват быстро признается и объявляется
безнравственным, нецивилизованным, некультурным. Спазматическое
принятие сознанием этой меры против захвата делает, конечно,
сначала само же сознание слепым к тому, против чего оно
принимает меры. Поэтому сокрушено будет, как всегда при принятии
идеологических мер, — они всегда несравненно действеннее, чем
экономические, политические, военные, поэтому что-то
сокрушено ими будет обязательно, причем очень скоро, — сокрушено
принятыми идеологическими мерами нравственного осуждения «при-
хватизации» будет то, что всегда бывает раздавлено принятыми
идеологическими мерами: вещество и тело, т. е. как раз не то, что
отвечало бы не слепому, от слепоты обреченному нравственному
негодованию («несть наша брань ко плоти и крови, но к началом,
духовом злобы»). Будет новое раскулачивание.
Идеологическое принятие мер, нравственное негодование
против захвата собственности, темы нашего курса, мешает и нам
просто видеть вещи и думать, осуждает за непринятие мер,
объявленных настоятельными, нравственно необходимыми. За попытку
просто вглядеться в происходящее нас назовут, может быть, по-
ощрителями захвата, хотя с такими нам хотелось бы иметь еще
меньше дела, чем с принимающими меры против захвата.
Нервическое принятие мер всегда связано с объявлением
ситуации кризисной, исключительной, уникальной; всегда слепо к
непременному в перемене. Ни в коем случае, имея в виду захват,
мы не будем впадать в дешевое и всегда неверное противопо-
24
В. В. БИБИХИН
ставление нашего времени всякому другому. И не надо надеяться,
что вдали от современного шума остаются тихие области
традиционной философии или, может быть, еще даже христианской
философии, где можно по-прежнему вести туманный дискурс
на ватной подкладке. Захват — не новое и не локальное, у него
древнее лицо. Если мы не дадим сбить себя с толку поспешным
негодованием, мы увидим, что всё, что существует, имеет место по
способу захваченности и захвата. Первый подручный пример. Мы
здесь, в аудитории, которая нами занята уже не по расписанию,
а просто потому, что оказалась свободна, находимся по способу
захвата и захваченности, потому что я говорю, в настоящей
ситуации имею право говорить, уже только на свой риск и только от
себя, уже не от имени кафедры, которая просит себе аудитории для
своих курсов, а от моего собственного имени. С другой стороны,
времени у студентов тоже нет, оно разобрано утвержденными,
давно отстоявшимися, входящими в учебный план предметами;
среди них темы собственности и первой философии нет. Я
захватываю место и время, требую от них раздвинуться, впустить
мою тему, «выкладываемое» мною. Этот мой захват происходит
в пространстве, которое и так давно захвачено и перезахвачено
в видимой или чаще невидимой войне («невидимая брань»,
понятие христианского трезвения), которая ведется всегда, объявленная
Гераклитом: «Надо знать [должно знать, необходимо будет так, что
вы узнаете]6*, война (Полемос) — всеобщее, и правда — распря
(спор), и всё возникает в схватке и захватом» (Лебедев: «за счет
другого», фр. 80, Маркович 287*). «По займу»: способом занятия,
можно было бы сказать, захвата; и когда мы, между прочим,
говорим о себе, что мы чем-то заняты, то хорошо было бы нам
слышать, что именно мы говорим. И фр. 53 (29): «Полемос отец всех,
всех царь, и одних показал богами, других людьми, одних сделал
рабами, других свободными». Если кто надеется, что всё может
устроиться не обязательно так жестко, то фр. 28 Ь, 2-5: «Гомер,
молясь о том, чтобы „вражда сгинула меж богами и меж людьми",
сам того не ведая, накликает проклятье на рождение всех»8*.
Зря кто-то думает, будто пространство философского
дискурса, кажущееся таким академически безмятежным в своей
лексике, проблематике, тематике, могло возникнуть как-то иначе,
чем в жестокой войне. А если кто еще так думает, то наша со-
6* Здесь и далее в квадратных скобках слова В. Б. внутри цитат.
7* См.: Фрагменты..., с. 201.
8* См.: там же, с. 202.
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
25
временность, когда захват идет так широко, что захватывается
и перезахватывается и так называемое «наследие», культурное,
философское, научит другому, отправит на свалку «философию»,
которая пошла в прошлое искать оскорбленному сердцу уголок,
академическую нишу, сказав, что захват дело приватизаторов, а ее,
философию, интересуют вечные ценности. Как раз здесь, посреди
захвата казалось бы совсем дикого, беспредела совсем вроде бы
нового, философия имеет уникальный шанс вспомнить о самой
себе, о своем первом начале, исходном существе.
Исходный смысл софии еще слышится у Аристотеля в
определении из «Этики Никомаховой» VI 7, 1141 а 9: αρετή τέχνης.
«Добродетель [т. е. совершенство] искусства», переводит Н. В.
Брагинская9*. Это сужающий перевод, потому что «техне» — и
мастерство, и техника, и умение; и «арете» плотнее, точнее, чем
формальное совершенство: это добротность, или даже просто
«точность» (попадание), как говорит поясняя сам Аристотель чуть
выше. Ранняя софия как ловкость, хитрость — говоря «хитрость»,
помним, что в нашем языке это слово этимологически то же, что
«хватка», — еще слышится у Аристотеля в этом определении
«добротность техники». Ах, ранняя софия не томится в запредельном,
она ловкачка, умелица, хитрая, хваткая.
Повторим сейчас еще раз, куда мы забрели. Нам особенно
теперь, после распада идейного единства, совершенно ясно, и
нечего доказывать, что каждый «имеет в виду» свое, — но точно так
же совершенно ясно, что мы все имеем в виду одно, вот именно
этот непоправимый, невозвратимый, непримиримый разброд
умов, — и не можем, нам мешает загадочный Гераклит, принять
эту ситуацию за исходную. Неизбежно, непременно, обязательно,
думая, что у каждого своя голова, каждый давно уже опережен
всеобщим, хромает позади его. Ситуация тогда становится
заставляющей думать.
И то же — с захватом. В России идет захват, как пишут газеты,
уникальный по размаху, беспредельный, беззастенчивый и какие
тут еще резкие эпитеты работают на мобилизацию, на принятие
немедленных мер типа схватить автоматическое оружие и бежать
хватать преступников. Казалось бы, ситуация так однозначна и,
казалось бы, ясно, что культура, куда входит философия, жестоко
отшвырнута на задворки, на свалку, за нарочно издевательскую
линию полной нищеты, чтобы вызывающе подчеркнуть ее
ненужность. Рядом с философией в этой стране, давно стране поэзии,
9* См.: Аристотель, Сочинения..., т. 4 (М., 1984), с. 178.
26
В. В. БИБИХИН
в самой читающей стране мира, маленькая дешевая книжка,
может быть, ее лучшего сейчас поэта10*, которого через поколение
школьники будут учить в школе, не раскуплена, небольшой тираж
разошелся только на 10%. — Но как наступление плюрализма
кажется концом философии только поддавшимся панике, так весь
беспредел и захват имеют, возможно, только тот единственный
настоящий исторический смысл, что помогают, подталкивают
нищую и заброшенную мысль вернуться к ее первому началу,
к софии, и впервые задуматься: почему названием философии
стало именно это слово, означающее хватку, ловкость, хитрость,
искусное умение? Почему захваченность так громко говорит в
начале поэмы Парменида? Почему его кони несут, несут, несут, несут
его, и 4 раза в немногих стихах повторено это слово?11*
Захват мира — не временное помрачение людей, забывших
стыд, культуру, нравственность, так что будто бы нам теперь
только и остается одно, укутавшись, сидеть у моря и ждать погоды,
ассигнований на культуру. Захват — это стихия ранней мысли,
греческой софии, фило-софии, расположенности к хитрой хватке.
Благодарение Богу, что на крутом повороте, дико, грозя своим
развалом, Россия вдруг показала нам существо отношения человека
к миру, — захват в захваченности, на пределе порыва, как в
мчащейся колеснице Парменида, когда от скорости втулки колес
начинают гореть и пронзительно скрипеть. Будем благодарны, если от
холодных и сухих, вместе мертвенно-сухих и мертвенно-холодных
«рассуждений», и тоже — от скользких, опять холодных,
последних, поздних, «пост»-модернистских бессильных нагромождений
лексики, попытки реанимировать вселенную Гутенберга, нас
избавил внезапный поворот нашей ситуации. Вернул к первой
философии.
Я сейчас нечаянно назвал третью черту нашей
проясняющейся ситуации. Назовем то, чем же человек в конечном счете
захвачен, при том что в каждый момент занят вот этим и вот
этим. В конечном счете он занят миром. И опять — это не нами
вводимое понятие, не конструкт, как и непременная перемена,
и принятие мер, и захват. Мир мы сейчас тоже все «имеем в виду»,
он только просто слишком на виду и потому тоже не замечен,
обойден с жестом «ну конечно же, ну как же еще», как обойдены
все ближайшие вещи. Как бы ни развертывался захват с его бес-
10* Имеется в виду O.A. Седакова.
1 '* См. об этом подробнее 2-ю и 3-ю лекции второго семестра курса «Чтение
философии» (СПб.: Наука, 2009).
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
27
пределом, чем определеннее беспредел и захват, тем настойчивее
подступает к каждому человеку мир. Не в том вовсе будет
заключаться наше прояснение ситуации, что мы будем примерять к ней
лексику и формулы, какие подойдут. Наши темы написаны на лице
ситуации, которая на счастье уникальна тем, что возвращает нас
к началам, к миру, к захвату.
Россия должна войти в мировое сообщество, занять свое
место в мире, подняться до мирового уровня там и здесь, в
экономике, медицине, в банковском деле и еще где-нибудь. Из-за того, что
на каждом шагу мы говорим о мире и всякое самое малое
предприятие не ставит себе более важной задачи, чем выход на мировой
уровень по технологии, коммуникациям («компьютеры», кажется,
выводят всё если не на мировой уровень, то хотя бы в мир,
«связывают» с ним), и так же на мир глядит наука, и кафедра занимается
мировой культурой, — из-за этого, от этой плотности присутствия
мира он не становится более проясненной вещью, скорее как раз
наоборот. Вот он встал среди нас, задевая каждого, — ведь это
ради мирового уровня мы делали и делаем всё, — внедрился
прямо в нас, ближе к нам и интимнее, чем вещи, потому что с ними
мы имеем дело уже поскольку они и имеют место в нашем мире.
Мы сами тоже сначала как-то прикасаемся к миру и только потом
начинаем узнавать и уважать себя, только в мире и его мерой
измеряя свою весомость. И эта самая родная вещь остается самой
загадочной. Она и прежде всего схватываемая, и самая неуловимая;
она ориентир, горизонт для всех, всегда и во всём — и вещь самая
неопределимая и нечестная, если можно так сказать. Философская
верность миру односторонняя, это верность неверному,
постоянство с непостоянным, самоотчетность перед тем, что никому ни
в чем не дает и никогда не будет давать отчета.
Где я оказался после всего этого беглого разбора, где вы
оказались, если следовали за мной? Всё оказалось в целом мире за-
хваченностью и отданностью, по-разному сложившейся, разного
образа и свойства. И в мире вещей, малом и большом, и в мире
ума, мысли и страсти захваченность создает подвижные
образования, переменчивые, отвечающие за себя, как это наше здесь
говорение и думание отвечает только за себя и держится на себе
собой. Непременным в этой меняющейся перемене остается то,
что цель, целое, мир остается ни для какой ловкости неуловимым,
никакой хитростью не схваченным. Мы с тех пор, как дали волю
видению, захвачены этим положением вещей, не засекреченным,
довольно откровенным и всё равно совершенно загадочным,
особенно если подумать о том, как долго оно длится, захватывая
28
В. В. БИБИХИН
историю и доисторию, явь и сон. Нет никакого основания думать,
если иметь в виду давность присутствия человека на земле,
продолжения прошлого долгого человечества в почве, по которой
мы ходим и из которой растут наши растения, что прояснения
ситуации можно или нужно ждать от прохождения еще какого-то
времени, от какого-то сдвига, поворота в нашем так называемом
историческом существовании. Еще смешнее надеяться, что
прояснение нашей ситуации возникнет от какого-то усилия сознания,
от «творчества» мыслителей, теоретиков. Видеть себя длящимся
на ничтожно малом отрезке времени в сравнении с миллионами
неведомых лет присутствия человека на этой планете, которую
теперь можно видеть на фотографии из космоса в каждой ежечасной
сводке погоды по ТВ, видеть себя на такой крошечной планете
среди так называемого космического пространства, почти
неведомого, — и видеть себя готовым очень скоро войти, вернуться в почву
этой крошечной планеты, — это видение отрезвляет, возвращает
в их настоящую меру человеческие схемы, планы, проекты, в том
числе даже и глобальные, возвращает, собственно, туда, где они
с самого начала и оказываются, на свалку. Это видение указывает
настоящую меру и всем самогипнозам человека, всегда более или
менее всё-таки жалким и дешевым попыткам отвлечься и
развлечься, т. е. опять же принять какие-то меры. Я и не подумаю
спешить принимать меры, уходить от очищающей трезвости
открытого видения.
Только тогда, из этой трезвости, которой, я знаю, боятся и
которую назовут нигилизмом, мы сможем и захотим услышать то,
что давно перестали слышать, — непонятный и невразумительный
вначале другой смысл нашего слова «мир». Оно говорит как раз
то, что мы не видим в мире, в этой захватывающей цели всякого
захвата, — как раз противоположное тревожной потерянности
в бесконечности, а именно покой. С чего бы он? И еще
противоположное той панике, тому нечеловеческому, что веет от
бесконечного времени и бескрайнего ледяного пространства, — согласие.
Ну что угодно мир, но ведь не покой же и согласие? Недаром мы
отвернулись, давно уже, от того, что нам загадочно, невнятно
говорит наш язык, давно уже ввели даже искусственно разное
написание для двух ну уж как будто бы правда совершенно разных
смыслов слова, одно дело мир-вселенная, совсем другое мир-
согласие и покой, и если после реформы орфографии сразу после
революции опять пишем это слово одинаково в обоих смыслах, то
вовсе не потому, что нам стала внятной близость этих смыслов,
а скорее наоборот потому, что эти смыслы уже так далеко для нас
1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАХВАТ МИРА
29
разошлись, что стало даже и не нужно фиксировать расхождение
разным написанием.
Ради того, что очень невнятно говорит этот умерший намек
в слове «мир», и из-за того, что при малейшем неосторожном
движении мы попадаем в капкан дешевых благонамеренных поделок
вроде «русского космизма», «эстетики лада», «русского мира»,
не говоря уж о религиозной философии с ее непроваренными
смесями вроде «всеединства», «софийности», «православного
энергетизма», «синергизма» и другими, созданиями панического,
испуганного и спешащего сознания, мы лучше останемся при
отрезвляющем пейзаже, который нам открылся. Не будем пока
от него никуда уходить. Перечислю снова основные черты этого
пейзажа: непременность перемены (в смысле ее неизбежности
и в смысле сбережения переменой неменяющегося), принятие мер
(в смысле ухода от простого видения к наложению на то, что мы
видим, нашей меры), захваченность (в смысле продолжающейся
захваченности человека тем, чем он захвачен, и захваченности
мира как земли, пространства, вещественного и мыслительного,
человеком) и мир (в смысле неохватности этого охватывающего
и в смысле подчеркнутого отсутствия в мире, бесконечном и
уводящем в бесконечность, мира-покоя и согласия).
2. Происхождение собственности
(16.2Л993)
Господа, мы одновременно давайте сделаем две вещи: первое,
откажемся от всякого догматизма, заметим, убедимся, что нигде
на нашем горизонте нет такого дискурса, направления, профессии,
специальности, будь она даже философская, филологическая,
богословская или больше, культуро-логическая, чтобы можно
было бы честно пойти без оговорок, без сомнений за кем бы то ни
было; ни даже за самым симпатичным и авторитетным автором,
тем более, конечно, не за мной, поверим этому верному голосу,
говорящему в нас «ах не то, не то, не совсем то или совсем не
то», и как можно скорее останемся только самими собой, только
в одиночестве, только в упрямом неконформизме, не только не
ища, к чему бы прикрепиться, но наоборот, заранее зная, что даже
искренняя наша феодальная зависимость обязательно
кончится, — и одновременно, второе, именно как раз через эту полную
отдельность, когда мы по-честному не видим, кому и чему мы
могли бы пообещать свою неизменную принадлежность, трезво
признав неизбежную разницу, расхождение, отход, именно этим
самым сделаемся готовыми и пригодными для настоящего, как
равный с равным, присоединения и к авторитету, и к глубокому
настроению, и к настоящему делу Для того, чтобы снова и снова
возвращаться к настоящим вещам, поверьте, надо обязательно
пройти через непонимание, потерянность, оставленность. Не
потому, что я хочу несогласия или готов всё разрушить, а просто
по опыту знаю, что я со всеми разойдусь, просто не получится
по-другому. Но не рассорюсь, потому что чем меньше я кому-то
нужен, тем больше мне, до нетерпения, хочется пригодиться хоть
для чего-нибудь, для истории философии, для понимания самого
забытого имени в истории мысли, для прояснения хоть бы одной
запятой в самом маленьком тексте, и как я буду рад крошечному
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
31
признанию своей полезности, как буду гордиться, что
пригодился, — но опять же не от скверности, а по опыту знаю, что с тем,
как будет понято и как пересказано это мое сделанное, я скорее
всего не смогу согласиться и снова останусь в одиночестве.
Я призываю вас знать, что так получится и остаться
совершенно одному придется как раз при желании быть со всеми. Если
вы меня спросите, почему так и для чего, то лучше спросите что-
нибудь полегче. Так почему-то всегда получается. Лучше я
просто еще раз повторю этот — без всякого вызова — факт, что я не
представляю никакую специальность, ни кафедру, ни точку зрения,
ни организацию. Встроиться в сложную систему философского
факультета, академической успеваемости я уж точно никак не
помогу; для начала я ее просто не понимаю и не пытаюсь даже
понять. Я знаю только опять же факт, по опыту, что такая именно
неуверенность, нерешенность — лучший способ иметь и
сохранить внимание к людям, к книгам; к лицам, к образам.
Мне скажут: не позорно, не стыдно приходить к людям в
университет и не знать что сказать, не иметь своей программы, когда
у всех она давно есть, и подробная, и объявленная; не стыдно
признаваться, что ничего не знаешь, что не имеешь предмета для
изложения, беспредметный разговор ведешь, что четыре уже года
говоришь в этой второй поточной аудитории и ничего не даешь,
только берешь? Я всегда имею больше, неожиданно много, от
говорения в университете, больше чем ожидал, сам про себя точно
зная, что мне нечего дать, потому хотя бы, что я всегда не знаю,
что говорить. И вот я скажу, что нет, мне не стыдно, хотя, конечно,
устроить всё иначе, чтобы не брать а давать, мне очень хотелось
бы. Начать возвращать. Но я не знаю, честно и серьезно, как это
сделать иначе как продолжая опять же брать.
Мне не стыдно ничему не учить и ничего не знать. Что делать,
если у меня нет чего сообщить и чему научить, ни программы, ни
метода, ни позиции, ни знаний, ни даже просто степени доктора,
учителя. Мне достаточно, если пространство нашего присутствия,
нашего с вами, хотя бы просто эта аудитория и только, остается
местом, где зрение не хочет само себя сужать, не поддается
соблазну стать вооруженным.
Метафизика Аристотеля, его первая философия, или тео-ло-
гия, начинается с фразы, которая цитировалась — какое бы число
раз мы здесь ни назвали, всё равно будет мало. Человек может
забыть, что написано в 14-ти книгах аристотелевской метафизики,
но эту первую фразу он всегда помнит наизусть. Πάντες άνθρωποι
του είδέναι ορέγονται φύσει. Мне грустно, что в наиболее доступ-
32
В. В. БИБИХИН
ном переводе «Метафизики» (т. I четырехтомника в издательстве
«Мысль», 197512*) русский язык, можно сказать, отшвырнут и не
сделано никакой попытки — ну, допустим, да, это трудно —
извлечь тут в русском языке на свет то, что походя задействует
в своем греческом Аристотель. Тем более грустно, что как раз
здесь русский, в отличие от английского, французского, даже
немецкого, не хуже греческого. То, для чего переводчик не искал
другого слова, кроме «знания», не сказано у Аристотеля ни словом
гносис, ни словом эпистеме, ни словом пайдейя, при том что гно-
сис — самое обычное греческое слово для знания. У Аристотеля
тут отглагольное имя существительное είδέναι: все люди
стремятся, если можно было бы так сказать, уведать, с прозрачным
другим смыслом увидеть. В греческом είδέναι видение и ведение
сливаются примерно как в нашем ведать в смысле «смотреть за
чем» и «заведовать». — И грустно, что переводчик не захотел
заметить тот возникший у него же самого под рукой парадокс, что
в первой фразе метафизики Аристотель, получается, говорит
о физике (природе), как если бы у человека фиксировалась какая-
то физическая причина, которая велит ему в видении-ведании быть
метафизическим. В русском появляется что-то вроде природы
человека, якобы такой сущности с названным свойством,
стремлением к «знанию». Получается что-то тоскливое, догматическое,
школьное. <Это> парадокс <.. .> (человеческая физика —
метафизика), и я не удивлюсь, если какие-то новые исследования покажут,
что Гегель создал свою знаменитую формулу, человеческая
природа есть свобода, вчитываясь в первую фразу аристотелевского
трактата. Но на первом плане смысла у Аристотеля, тоже
ускользнувшем от переводчика — очень частое проходное, простейшее
значение слова фюсис. Всего лучше понять его нам поможет опять
русский язык. Фюсис слово того же происхождения, исторически
то же, что наше бытие. Значение бытие, включая применение
в качестве связки, в греческом языке потеснено другим словом,
вы знаете каким, είναι, εστί. Но в языке никогда ничто не исчезает
без следа, приведу пример: в русско-английском словаре на
быстрый даны как самые частые синонимы fast и quick, но о машине
почему-то никак нельзя сказать quick, хотя не всякий англичанин
будет знать старое и архаическое значение слова quick, живое;
оно продолжает работать и забытое. Фюсис, чье значение бытия
в греческом уходит под воду, в речи постоянно тянется, клонится
к значению то, что бывает; дело обстоит так, что; сложилось
п* «Все люди от природы стремятся к знанию».
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
33
так, что; естественным образом бывает так, что. Если не
помнить этого широкого окошка, открывающегося из греческих
φύσις, φύομαι в бытие, мы будем каждый раз садиться на перфекте
πέφυκε и удивляться, почему у набивших руку переводчиков он
сходит часто просто за служебное слово есть, было.
Случилось, сложилось так, что люди стремятся увидеть.
Просто так сложилось, и мы не знаем и Аристотель не знает
почему. Просто так, увидеть; ни мы не знаем, ни Аристотель не
знает, для чего. Для того, чтобы просто увидеть. Видение для
Аристотеля — само своя цель, энергия, т. е. полнота бытия. При
том что значение этого греческого φύσει, πέφυκε скатывается
к простому и как будто бы бессодержательному так уж
получилось, отбросить его как лишнюю пышность нельзя, потому что,
мало давая содержательно, оно много делает — даже очень
много — воспретительно, запрещает что-то, противопоставляется у
Аристотеля сейчас мы скажем чему. Вообще кажущиеся пустыми
тавтологии в философии, вроде бы само собой разумеющиеся
повторы, простые плеоназмы мало делают для прибавления смысла,
но очень многое незаметно делают, отодвигая возможную
путаницу, лишнюю сложность, смешение. К сожалению, перевод φύσει
от природы, наоборот, вводит сложность, лишнюю субстанцию,
якобы природу человека, а хорошо бы иметь в виду то прежде
всего, что словом φύσει в инструментальном дативе воспрещено.
В «Риторике» (III 2, 1404 b 19) πεφυκότως λέγειν
противопоставляется πεπλασμένως, т. е. вымыслу противопоставляется что?
природа? говорение по природе? лучше сказать — как получилось,
как вышло, как само легло. В других местах то же слово значит
не насильственно.
Еще: κατά φύσιν противопоставляется сверхъестественному;
противопоставляется временному состоянию (т. е. не в какой-то
страсти, состоянии, а всегда и просто так люди стремятся видеть-
ведать); противопоставляется закону (никто никогда не
продиктовал людям это вглядывание, внимание); противопоставляется
нравственности (не так, что моральные и добродетельные хотят
увидеть, а недобрые и злые нет), так что ограничение видения,
которого мы здесь не хотим, создано не дурным поступком, не
нарушением правил, а чем, вы думаете? Что помешало «природе»
видеть? Ничто не может «природе человека» помешать видеть,
только слабость глаз, у одних зрение притуплённое, а у других
острое? Только это мешает видеть, слабость глазок? Едва ли.
Разница в видении громадная, ограничения на видение
накладываются людьми друг на друга и на самих себя страшные, до полной
34
В. В. БИБИХИН
слепоты, а никакой слишком уж громадной разницы природного
зрения между людьми нет. Кроме того, Гомер был слепой, но это
мало мешало ему видеть. В чем дело, откуда тогда огромная
разница в видении? Она происходит не от разной остроты зрения. Она
возникает оттого, что мир, Бог невидимы, но люди по-разному, до
диаметральной противоположности, относятся к невидимости
этого главного. Громадная разница в видении создается тогда, когда
люди продолжают силиться, вооружая и сверхвооружая свое
видение, разглядеть и то главное, что человеку невидимо; именно этим
усилием зоркого и вооруженного зрения, думая, что начинают
видеть больше, они ограничивают свое видение катастрофически:
перестают видеть, что некоторые — как раз главные — вещи
невидимы. И эта слепота людей подготовлена, создана их стремлением
видеть, естественным, и зоркостью взгляда, привычной. Об этом
Аристотель пока не говорит, но и это в поразительной короткой
первой фразе «Метафизики» уже заложено.
И еще: κατά φύσιν, φύσει, то, как всё естественно сложилось,
противопоставляется намерению. Т. е. мы не потому видим, что
имели намерение смотреть, а наоборот, скорее всякие наши
намерения привязаны к мере нашего видения. Той меры, о которой
мы только что говорили и где предел положен невидимым и самим
человеком, оказывающимся слишком зорким, чтобы увидеть
ограниченность своего зрения. Мир такой, что он дает очень многое
увидеть и тем отводит глаза от своей невидимости? Наверное.
Тогда очень трудно увидеть нечто больше, чем видит самое
зоркое зрение, — увидеть сплошную очерченность всего видимого
невидимым.
Дальше: κατά φύσιν противоположно приобретенному, έπικτη-
τον. Увиденное не приобретено нами, оно «просто так», не наше,
его видно — и дело с концом. Эту ничейность, неприобретае-
мость видения увидеть тоже очень трудно. Видение без остановки
переливается в ведание как ведомство (распоряжение, как в слове
«ведомство»). Неудержимо, мгновенно есть в смысле простого
существования (присутствия) превращается в есть обладания,
имущества и в есть исполнительства. Тот же переход — в
греческом от εΐδον, ιδεΐν видеть к οιδα, είδέναι знать, уметь. Раньше,
намного раньше, незаметнее, совершенно незаметно, и важнее,
несравненно важнее всякого захвата земли, нефти, домов, постов,
званий, культурного наследия, захвата наивного и безобидного,
происходит тот первый захват, когда рядом с вижу встает ведаю.
Когда тот первый, ранний захват произошел, второй,
вещественный захват, в сравнении с тем маленький, не произойти уже не мо-
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
35
жет. Уместно ли говорить, что тот ранний захват безнравственней
или неэтичен, что переход ведения-видения в ведение-заведование
неморален? Ах слишком рано, раньше всякой нравственности, во
сне совершается тот ранний захват, тот скачок от собственно
увиденного в увидение собственности, чтобы можно было уловить его
нравственными нормами или чем-нибудь подобным. Нам —
нашему сознанию — кажется, что видит всегда уже некто, личность,
индивид, я, т. е. мы — сознание — уже забыли, на каком имении,
на каком обладании, на каком превращении есть-имеется в есть-
имею возникли и личность, и индивид, и я. Но чистое видение по
Аристотелю это не приобретение, инструментальный датив φύσει
предостерегает от смешения ведения-видения с
ведением-распоряжением.
И последнее: в «Этиках» Аристотель говорит и повторяет,
что «добродетель», достоинство, добротность даются не φύσει,
не по природе. Это значит, что в нашем видении-ведении нет
пока еще ни достижения, ни заслуги, ни справедливости, ни
рассудительности, ни мудрости. Это не кажется сразу понятным.
Напрашивается вопрос, зачем же тогда, если в этом нет ни
нравственного достоинства, ни мудрости, видеть? Ясно кроме того, что
люди будут стараться делать больше то, за что хвалят, а за видение
не хвалят, иногда наоборот. К чему тогда просто видеть? Ответ: ни
к чему. Так. Сложилось неким образом, естественно устроилось
почему-то, что человек стремится увидеть. Но если он, так сказать,
сам собой и безо всяких будет стремиться увидеть, зачем тогда об
этом говорить, специально заботиться? Заботиться и не надо. Мы
и не заботимся. Важно, однако, знать именно это: философия не
служебна. Не надо приписывать ей полезных целей. Первая
философия — простое видение, с которым еще пока ничего не сделано,
видение до принятия мер. Никакого другого назначения в первой
философии нет и не должно быть. Синоним «естественности»
этого философского φύσει у Аристотеля: απλώς, просто так,
антоним — προς τι, для чего. Другой синоним: καθ" αυτό, само по
себе, в самом себе, для самого себя.
Для чего видеть? Просто так. Чтобы видеть.
Если не заметить этого είδέναι, видения-ведения, и поставить
вместо него, как сделал русский переводчик, стремление к знанию,
то весь первый абзац «Метафизики» начинает казаться
прихотливым. «Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство
тому — влечение к чувственным восприятиям». Как «влечение
к чувственным восприятиям» может быть доказательством
стремления к знанию? Они скорее от знания отвлекают. Но у Аристотеля
36
В. В. БИБИХИН
тут стоит, во-первых, не «доказательство», а «знак, признак».
И главное, во-вторых, за «чувственными восприятиями» стоит
опять же видение. Люди любят воспринимать, чувствовать, и
прежде всего — смотреть; людей влечет смотреть просто так, без
необходимости, χωρίς της χρείας. Не только чтобы что-то делать,
говорит Аристотель, но и не собираясь ничего делать мы любим
чувствовать и прежде всего видеть. Видение всего больше дает
тех двух вещей, на которых стоит софия, философия, — узнавания
и выявления различий.
В переводе стоит не узнавание, а познание, а к различиям
добавлено в скобках «в вещах»13*, как будто бы вещи уже есть
и осталось только различить их. Переводчику, это понятно, трудно
увидеть, до какой простоты начал опускается Аристотель; не само
собой разумеется, что в отличие от накопительного знания мысль
хочет возвращения к истокам. Видение, увидение — то первое,
в чем прежде всего и отчетливее всего обнаруживается тожество.
Узнавание следует за проблеском тожества. Познание стоит на
узнавании: это — то, не наоборот. О структуре это — то, о
тожестве мы говорили в курсе о Пармениде («Чтение философии»14*),
но говорить еще придется. О явлении «различий» в свете этого
простейшего тожества можно говорить, не добавляя «в вещах»:
вещей тут еще нет. Всего вернее эти аристотелевские «различия»
при «узнавании» понимать через интерес, о котором тоже
придется еще говорить. Inter est, букв, «есть между», означает разницу,
делающую так, что узнающему перестает быть «всё равно», и не
потому, что глаз отыскал различия, а потому, что разница сама
дала о себе знать, человек на нее наткнулся. Не там, где есть
разные вещи, появляется «интерес», а наоборот, когда человек
сталкивается с «интересом», захвачен им, он начинает различать
вещи. — Впрочем, тема «интереса» должна остаться заданием
на потом, сейчас важно разобрать первую фразу аристотелевской
первой философии.
Я подбадриваю себя, говоря себе из собственного опыта: не
бойся Аристотеля; за его плотной, сжатой полнотой всегда
просвечивает ясность, и читатель — если только он читает, а не просто
ищет и находит подтверждение заранее готовому мнению, —
получает у Аристотеля всегда больше, чем дает. Только неопытному
13* «...Зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию
и обнаруживает много различий [в вещах]». См. Аристотель, Сочинения...,
т. 1,с. 65.
и* См. например лекции 6-8 второго семестра.
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
37
глазу может показаться странным, что начав с захвата, может
быть, главного движения нашей современности, и с целого мира
как цели современного захвата, я положил рядом «Метафизику»
Аристотеля, не Хабермаса, не Рорти, не Нанси или кого еще
наугад из пишущих о современной ситуации. Судите сами. Я вижу
в захвате ключ к современной ситуации, всякой, и так называемой
интеллектуальной, и экономической, и политической. Я замечаю,
что и всякое спрашивание о захвате будет идти уже путем
захваченное™, моей и вашей. Мы видим, что человек меняется в
захваченное™ или, еще точнее, является захваченным, до
захваченное™ оставаясь текучей неопределенностью. Но захваченность
начинается с видения, которым, говорит Аристотель, человек
захвачен прежде всего и просто так. Это факт; так само собой
(φύσει) сложилось. Увидение не ступенями, а вдруг переходит от
ведения-знания к веданию-умению и веданию-обладанию; если мы
захотим просунуть самый тонкий щуп между ведением-увидением
и ведением-распоряжением, то не сможем. Но спросим: есть ли
между первым и вторым разница? Еще какая! Вся. Вся наша
современная ситуация стоит на неспособности человека удержаться
в чистом видении, на переключении видения в обладание. И весь
интерес нашего рассмотрения — тоже на этом inter est между
ведением и веданием, между смотрением и смотрительством,
между знанием начала аристотелевской «Метафизики» и знанием-
силой. Это происхождение собственности не фиксируется
юридическим документом, который уже только вводит в рамки рано
совершившийся захват, как теперешняя «приватизация» по существу
ограничивает прежнюю практику ведения («ведомства») в смысле
владения, которое раньше ограничивалось только практикой же.
Аристотель, в одном абзаце начала «Метафизики»
заговаривающий об увидении, о пользе и о практике, удивительным образом
встречает нас тем, о чем мы только еще собираемся задумываться,
чего не скажешь о большинстве современных авторов, у которых
тугой узел видения-ведения-ведания не только не разобран, но и не
замечен. Законы о собственности найдут себе применение, но нам,
пытающимся заглянуть в начала собственности, слишком хорошо
известно, что до всяких законов о ней, раньше, чем нотариус
выдал свои бумаги, в нашей стране, отменившей всякую
собственность кроме мелкой и «общенародной», «ведомства» занимались
вовсе не только экспертизой, а «ведали» всем так, как не снилось
ведать частному владельцу.
Современная ситуация с захватом, разумеется, прояснится,
как сейчас для нас, например, проясняется ситуация с фантасти-
38
В. В. БИБИХИН
ческой охотой за шпионами 1934-1953 гг., но, как и в случае с этой
последней, опять не вполне. У нас есть жесткие слова, которыми
мы сейчас ее именуем, но их, конечно, мало. Неясно вообще,
позволит ли в принципе общество понять себя. Желание увидеть себя
может снова уступить императиву придания себе нужной формы.
Мы обязаны разобрать собственность, однако не потому что перед
обществом будто бы стоит задача самопознания, изучения себя.
Гомер, на чей «эпос» стала опираться греческая цивилизация, был
по легенде слепой, т. е. он не видел окружающего и тем менее
думал вглядываться в него, что рассказывал о какой-то давней
полумифической Троянской войне. В этой отрешенности было больше
осторожного хранения того родного, что любишь, чем если бы
у истоков греческой цивилизации финансировалась целая научная
академия обществознания или эллиноведения. Одна из грозных
черт современного мироустройства — черствость социологов,
публицистов, идеологов, которые всю свою профессиональную
жизнь «исследуют» общество, в котором живут, и редко
смущаются тем, что кого любишь, не исследуешь, а кого не любишь,
исследовать бессмысленно.
У мысли есть другая, абсолютно обязательная задача, не
похожая на «всестороннее изучение жизни общества» или на другую
чем-то продиктованную задачу. Задача, стоящая перед мыслью,
всегда имеет свойство сказочного приказа «пойди туда не знаю
куда, принеси то не знаю что». Абсолютно обязательно, под
угрозой гибели, задача должна быть выполнена, но какая это задача,
сначала неизвестно.
Что перед нами задача неотменимая, но которую мы не
знаем, — это не абсурд; к этому сводится вся наша ситуация. Нелепо
считать, что задач, которые не сформулированы, перед нами и нет.
Почти всё и во всяком случае главные задачи мысли не размечены.
Неверно то представление о философии, что она будто бы решает
из века в век проблемы, заданные списком. Собирание,
обобщение, классификация, даже разрешение так называемых
философских проблем, т. е. таких, которые, как нам по той или другой
причине кажется, стояли перед Лейбницем, перед Гуссерлем, перед
Витгенштейном или другими, — наверное работа не бесполезная,
но служебная, библиографическая, на статусе науки-служанки
философии. Как только работа историографической информации
упускает свою служебность, становится самоцелью, она теряет смысл.
Подступ новой мысли к задачам, которые прежняя мысль
признала своими, проходит так или иначе через разбор. Разобрать
как разбирают очень мелкий шрифт или как трудную фразу и разо-
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
39
брать как разбирают сложное на составляющие (де-струкция,
деконструкция) — вот единственное, что делает отношение мысли
к прежним задачам и к своей новой одинаковым. История
философии тогда по существу то же, что философия. Кто думает, что
бывают задачи до разбора, без разбора, уходит от дела мысли
и просто от дела, выходит на пустые просторы лексики и не
имеет права обижаться, если его работа, какой угодно прилежности,
с проблемами, которые он не разобрал, очень скоро начинает
казаться и признается бессмысленной.
Верно ли будет, если мы скажем: люди странным образом
большей частью и на каждом шагу решают задачи, которые они
не дали себе труда сначала разобрать?
Поскольку такая опасность явно есть, то первая задача перед
нами такая: избегать решения задач, которые мы не разобрали.
Это значит: не плестись за лексикой, бояться ее пустого
перетасовывания. Мы ведь пишем и думаем по-настоящему из ничего, но
лексику слыша. Главная привязка вообще всегда — не к понятиям
и концепциям, не наше дело выстраивание исчислений, логико-
семантические операции. Мы с вещами-вестями и явлениями. Или
еще — с телами, помня, по апостолу Павлу, что есть тело
душевное, есть тело и духовное (I Кор 15, 44). Или опять же: с
присутствиями, задевающими нас. Со всем тем, с чем каждый так или
иначе раньше всего имеет дело, пока не принял меры, не перешел
на личную — от паники и нервного срыва — систему измерения.
То, что мысль имеет дело не с лексикой, дает о себе знать
в легкости, с какой мысль меняет лексику. Так было у Ницше. Так
у Хайдеггера. Для тех, кто привязан к лексике, Ницше и Хайдегтер
означают обрыв традиции. Ах не традиции, а только словесной
плоскости. И эта непривязанность к лексике имеет у обоих своей
оборотной стороной новое, небывалое внимание к слову.
Соотношение между той непривязанностью и этим вниманием опять
же требует разбора.
Контрольный вопрос: можно ли тогда до разбора вообще
говорить о какой-то данности? Наверное, да. Но всякая данность до
разбора — только заданность для разбора, незадача. Поэтому не
додумывают, когда говорят, что для какого-то высокого человека,
нравственного или мыслящего, нет готовой данности, всё —
заданность. Данность, конечно, есть, сколько угодно, но она же
сама и есть задание. И только ли для высокого человека? Каждый
человек в этой главной работе всегда, всё равно, взялся он за нее
или всё еще откладывает на потом. «Безработный» — так сказать
о человеке абсурдно.
40
В. В. БИБИХИН
Кто должен вести работу разбора? Мы. Но мы же и подлежим
разбору. Ведь всё главное для нас и у нас и в нас успело произойти
и мы успели сложиться, так сказать, до нас. Однобокое сознание
возится с тем, что считает своими свободными возможностями
и свобода чего на самом доле многократно перечеркнута тем, чего
сознание в себе не разобрало. Так одна девочка каждый
понедельник составляла себе подробнейший план упорядоченной,
правильной жизни и каждую субботу удивлялась, почему он оказывался
невыполненным. В таком же положении правительство,
которое с комической серьезностью после квартала, полугодия, года
отыскивает причины, почему его программы не осуществились.
Пожелание сознания разобрать то, что есть, настойчивое
выкраивание им («представление») только того среза действительности,
который поддается его конструкциям, тоже ожидает разбора.
Работа разбора нужна всегда. Мы никогда не на пустом месте,
мы всегда уже захвачены, только еще не разобрались как следует,
чем. Мы всегда в положении. Когда Чаадаев в начале своих
философических писем, открывая тему, говорит, что мы, русские, как-то
остались в стороне от истории, от développement de l'être humain,
что у нас нет ни прошлого, ни будущего и мы живем только в
крайне суженном настоящем, в скучном бессобытийном покое, то на
самом деле в его настроении, в настроении читателей, в том числе
и не расположенных к нему, шефа жандармов, царя, эта мысль
увязывается не с пассивным покоем посторонних, а наоборот,
с тем, что мы, русские, попали в историю, пусть скандально, но
так, как никто еще никогда не попадал, потому что мы сразу
занимаем в истории исключительное положение. Самый отчаянный
способ попасть в историю это оказаться совершенно, кричащим
образом вне ее. Положение выпавших из истории привязывает
к историческим задачам тотально, требует немедленной
мобилизации всех сил. Так в наши дни обнаружение, что у нас нет рынка,
не построен ни социализм, ни капитализм, нет хорошей денежной
системы, привязывает нас настолько накрепко к отсутствующему
в действительности чистому рынку, к воображаемому
капитализму, к якобы работающему идеалу денежной системы, как если бы
все эти вещи уже существовали в человечестве.
Чаадаев, конечно, не первая у нас тотальная мобилизация,
такую объявлял уже и Пётр I. Чаадаев и не просто обычная наша
мобилизация, иначе он не задел бы нас так своими письмами, его
голос затерялся бы среди по существу очень большого
количества голосов либеральных мальчиков, которые были обожжены
русской реальностью и хотели сразу принадлежать прекрасному
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
41
чистому книжному Западу, Руссо, Монтескье, Робеспьера, других
блестящих и добрых. Эти либеральные мальчики рвались на Запад,
вырывались туда или не вырывались и заглохли, — но не Чаадаев,
который так глубок потому, что он говорит о России, пытаясь
разобраться в ней. В своей теме тотальной немедленной мобилизации
России на задачи истории он ловит русский воздух, улавливает
пружину периодических российских реформ и досаждает людям
власти именно тем, что вскрывает этот механизм. Уникальность
Чаадаева в том, что он призывает к тотальной мобилизации не для
скорейшего подключения к высоким образцам, а как раз наоборот,
для обращения к самим себе, чтобы разобраться и разобрать то,
что есть. Pauvres âmes que nous sommes. N'ajoutons pas à nos autres
misères celle de nous méconnaître; n'aspirons pas à la vie des pures
intelligences; apprenons à vivre raisonnablement dans notre réalité
donnée. «Бедные мы бедные! Не будем хоть добавлять к нашим
прочим ничтожествам то, что не опознаём сами себя; не будем
замахиваться на жизнь чистых небесных интеллигенции; научимся,
выучимся — чему? западным нормам? нет: — жить разумно в
нашей реальности, в нашей данности». А для этого прежде всего,
d'abord, parlons encore an peu de notre pays, «поговорим немного
о нашей стране». Не для того, чтобы расцарапывать свое несчастье
еще болезненнее, а чтобы вернуться по нашим же забытым нами
следам к нам самим.
Свои письма, особенно первое, Чаадаев пишет не от разума,
а под диктовку, в озарении; звучат при этом слова, к которым
только свою часть пути он проделал сам, а в остальном они идут
навстречу ему, т. е. он говорит больше, чем мог ожидать. Это
постоянная черта увлеченного, захваченного писания. И вот он пишет:
nous n'avons rien dans nos coeurs des enseignements antérieurs à notre
propre existence, букв, «мы не имеем в наших сердцах ничего от
уроков, предшествующих нашему собственному существованию».
Да, конечно, это сказано о России, которая попала в историю,
оказавшись совершенно выпавшей из истории. Но скажите на
милость, какие человек может знать «уроки», предшествующие
его существованию? Звучит лексически о русских — но говорит,
может быть, самый пророческий и самый дремучий философский
ум России, говорит не только о России, или о России как
человечестве: человечество, человеческое существо таково, что его
теперешнему состоянию предшествовало очень многое и прочесть
в своем сердце уроки того, что раньше его текущего дня, оно не
может, по большому счету. В публицистическом, полемическом
прочтении Чаадаев как будто бы позорит Россию за то, что она
42
В. В. БИБИХИН
едва помнит за собой несколько десятков, от силы сотен лет,
а Запад — целых три тысячелетия или больше. Однако что такое
три тысячелетия перед миллионами лет, которые Запад точно так
же не помнит, как Россия, или даже сказать, которые Запад,
ослепленный блеском своей трехтысячелетней памяти, имеет шанс
вспомнить меньше, чем беспамятная, но в этой беспамятности
древняя и дремучая Россия. Чаадаевские слова, может быть
незаметно для него самого, начинают работать в этом свете во весь
свой размах. Мы забыли, не помним очень многое из того, что
вошло в наше существование.
Сделаем поэтому еще шаг в нашей теме разбора. Разбор
наших задач и нашей ситуации кончится, по-видимому, вовсе не тем,
что нам станет здесь всё ясно и мы извлечем на свет полную
картину нашего положения, а скорее наоборот, разбор выявит нашу
принципиальную неспособность прояснить нашу ситуацию и тем
самым спасет нас от иллюзии, будто усилием своего сознания мы
с нашей ситуацией можем справиться. Здесь должно получиться
то же, что с зоркостью видения: на пределе она должна уметь
увидеть предел.
3. Хитрость, хватка, хищение
(23.2.1993)
Как нам из-вестна наша ситуация, кто извещает? Как-то всё.
Человек идет в лес, бежит на природу от, скажем, городской
суеты, от ее «душевредительства» (Хоружий), и природа говорит ему
больше, глубже, чем городская многоголосица. У литературоведов
есть выражение «быть на слуху», которое должно обозначать
летучую неуловимость способа, каким всем всё известно. Один
писатель хорошо заметил (Владимир Кормер, «Крот истории»),
что формула «есть мнение» в партийных кругах означала не то,
что кто-то из авторитетного круга высказал мнение, и надо
прислушаться, а просто некое веяние в воздухе, которое все, начиная
от самого высокого начальства, должны были как-то уметь
улавливать. — Всё говорит. Поэтому нельзя думать, что существует
«психика», воспринимающая через «органы чувств»; но так же
односторонне думать, что, например, цепче и прочнее духа тело,
и история пишется не столько в сочинениях интеллектуалов,
сколько на живом теле народа. Верно, конечно, и то и другое
отчасти, но еще вернее то, что ситуацию мы улавливаем как-то так,
из воздуха, схватывая атмосферу, настроение. Разговор о «теле»
нас поэтому ограничит, стеснит; удобство, будто бы
предоставляемое телом, казалось бы всегда фиксируемым, определенным
в отличие от таких вещей, как настроение, присутствие, интенция,
мобилизация, только кажущееся. — Тем с большим спокойствием,
едва задев тему тела, мы имеем право ее не поднимать, что есть
кому подробно ею заняться, как занимались Сартр, Мерло-Понти,
Бахтин, Глюксман, другие. Чтобы быть честными, мы тех, кто
занят телом, должны всё-таки, как пешеходов предупреждают, что на
дороге лед, предупредить, что им будет трудно. Тело из числа тех
вещей, которые Аристотель называет συγκεχυμένα, смешанными,
путаными, свалкой; они первичны для нас, но не по сути дела.
44
В. В. БИБИХИН
Лосев, похоже, прав, когда в 3-м томе своей Истории античной
эстетики15 с эпическим спокойствием бросает между прочим:
«Обычно говорится о душе и теле. Но никто как следует не знает,
что такое душа, и не умеет точно определить, что такое тело».
И Лосев там же просит особенно «обратить внимание» на эти
термины, душа и тело, «ввиду того, что терминология эта больше
всего понятна для обывательского сознания». Я боюсь, что
мнимая определенность тела экстраполируется из поведения трупа.
Лосев кстати предупреждает, что тело как труп совсем другое, чем
живое тело. — И вот мы оставляем тело и душу. Будем говорить
о человеке не как о теле, не как о душе, не как о соединении двух
этих иксов в уравнение, заведомо не решаемое. Будем говорить
о человеке как о месте захваченности. Как о месте по-нятия,
по-ятия, con-cepio, Be-griff, о человеке как понимании. Не будем
совершать ошибку сознания, не станем воображать, будто есть
некий источник спонтанного постижения, субъект, откуда исходят
понятия как результат его мыслительной деятельности. Никакого
понятия — con-cepio, Be-griff— никакой субъект никогда бы не
схватил, если бы сначала сам не был захвачен. Чтобы заметить
это, субъект должен был бы обратить внимание, но всё его
внимание растрачено у него на удивительно умелые и умные операции
с предметами, которые у него всегда в запасе, потому что на худой
конец предметы ему начинает поставлять самопознание.
Слово захват в истории русского языка не зря указывает на
хитрость, хищение, восхищение. Все четыре слова — одного корня.
В самом деле, механическим захватом, «бесхитростным», мало что
достигается, как недавний пример Грозного вот уж действительно
лишний раз показал. Настоящий захват в своей сути — всегда
хитрость, ловкость, София и прежде всего хищение как умная кража,
например в вое-хищении, особенной и острой захваченности.
Что оказывается захватывающим? На этот вопрос мешает
ответить сама захваченность. Она не только не спешит себя
прояснить, а наоборот, ее суть, неуловимость хитрости и хищения,
выкрадывает захват и захваченность из явности, очевидности.
Главная захваченность бывает всегда украдкой. С хитростью,
хищением, восхищением, украдкой, тайной мы сталкиваемся,
точнее сказать, вязнем в них во всякой и нашей и не нашей
захваченности. Самое захватывающее имеет свойство того, что
называют условно такими именами, как род, пол, секс. Пример:
совсем не случайно самое заветное, скрытное, хранимое и храня-
15 М.: Искусство, 1992, кн. 1, с. 356.
3. ХИТРОСТЬ, ХВАТКА, ХИЩЕНИЕ
45
щее в нашем государстве называлось или называется «органами».
Прояснение, разбор по-настоящему захватывающего воспрещен
запретом заветного. Заветное оберегается, и ничто так свирепо не
оберегается, как заветное. Первое открытие, которое мы делаем
при разборе захваченности, — мы помним, что уже не говорим
и не будем говорить о теле, душе, человеке, не надеясь их
прояснить мимо захваченности, а надеясь, наоборот, после прояснения
захвата с его хитростью и хищением подготовить основание для
разговора о теле, душе, человеке, этих исторических именах того
же, о чем идет речь и у нас, но с именованием чего мы не будем
спешить, — это открытие тайны.
(Сейчас, на этих занятиях мы заняты открытием тайны, но
вовсе не таким способом, что будем по Фрейду редуцировать всё
к либидо или по Федорову к роду, а так, что постараемся вовремя
заметить непрояснимость и фрейдовского секса, и федоровского
рода и не провалимся в видимость объяснения, а ограничим себя
вот этим, открытием тайны в том смысле, что тайна есть и что она
нуждается в открытии (quia est), потому что она такая тайна, что
даже и не заметно, что она есть, — кажется, наоборот, что ее нет
в том смысле, что ее можно разгадать (quid est) и всё сводится,
скажем, к сексу, к роду, к биологии или просто к творцу, и не надо
мудрить, как нам объявят, расскажут и докажут).
О хитрости захватывающего, о татьбе тайны мы заговорили по
сути, не в образах, и позволительно сравнение: как лучший шпион,
разведчик, секретный агент тот, кто не просто не выдает свою
тайну, но и ведет — умеет себя вести — так, словно никакой тайны
вообще нет, так и захватывающее мира умеет таиться. Я упоминал
о шпиономании 1933-1953 годов, загадочного двадцатилетия. Как
понять шпиономанию целой страны, сплошное прочесывание всех
всеми в поисках затаившихся вредителей? Искали те, кто видел,
что все тайны церкви и религии, царской семьи и охранки,
мировой дипломатии и политики, жизни и природы, секса и семьи
раскрыты. Ведь в самом деле, все замки были отперты, все кладовые
выпотрошены, все бумаги перерыты, вот когда всё тайное стало
таким образом явным, шпион, тайный агент стал мерещиться в
каждом человеке. Буквально каждый человек в нашей стране был
многократно, перекрестно просвечен, проверен на затаивание
тайны, и каждый человек вывернул себя наизнанку, весь
опростившись и образом жизни, речью, одеждой показывая, насколько
он весь на виду и до какой степени лишен всякой тайны. Как раз
эта всеобщая взаимная демонстрация того, что тайны ни в ком
никакой нет, сделала тайну совершенно неприступной.
46
В. В. БИБИХИН
Будем перед этим ускользанием тайны осторожными и
скажем: разговор о том, что тайна есть или тайны нет, не достает до
тайны. Тайна свела с ума целую страну именно тем, что ее нигде
не было. Разговор о есть и нет не достает до тайны. Скажем:
тайны нет. Она захватывает всё равно, и если ее нет. Лицо нигилизма
двойственно: это лицо без тайны, без указания на нее — и потому
хранящее тайну так, как ее не сохранит никакой символизм.
Перед этим ускользанием захватывающей тайны привычная
тысячелетняя философская лексика сущности, субстанции,
истины, единого, бытия, ничто по справедливости кажется в своем
рутинном академическом применении иррелевантной. Эта лексика
явно не успевает за тем, что происходит всегда и повсюду раньше,
чем она выносится на публичную сцену для манипуляций с ней.
Раньше субстанции и бытия — захваченность таящейся тайной.
Раньше — хитрость этого захвата, не воспрещающая себе
хитрость, кражу, шпионаж. Надо еще разобрать, чьей и какой
хитростью сотканы для зависимого большинства гуманные идеалы и
художественные образы, заслоняющие действительность, в
которой всё действует явно злее, коварнее, и зло и коварство идут не
от человека вовсе только, а еще раньше, от божественных воров
и мстителей, от богов-шпионов, как у Варуны тысяча шпионов
повсюду. На экране сначала говорят, потом стреляют, в жизни —
наоборот. Пацифизм — сказка для массы.
Я не ввожу альтернативную онтологию, а устанавливаю
единственную действующую, работающую.
Надо услышать эту жесткость в ранних словах мысли,
которые ведь не сразу стерлись в инфляции, стали лексикой. Логос: от
λέγειν, собирать. Схватывать: άλγος. Begriff: от greifen, схватить.
Понимание: схватывание. Концепция: от capio, схватываю; по-
видимому, то же слово, что наше хапать. Все эти главные
именования мысли указывают в одну сторону, начиная с логоса, такого,
казалось, далекого от хищения и воровства. Только от
самоуверенности и самомнительности сознание слышит в этих словах «по-
ятие» субъектом объекта. Мы уже заметили, что никакой субъект
ничего никогда не схватит, если раньше того не захвачен, не занят
чем-то, чему не он велел захватить и занять его. Об этом сознание
не успевает или не хочет думать. Больше того, от хитрости,
хищения, воровства, софии как ловкости сознание, просвещенное,
почему-то отворачивается. Почему бы это? Считает это
нечестным? недолжным? не любит, когда могут нарушиться введенные
им для себя удобные правила игры? Игры в лексику,
перелопачивание безбрежного словесного сора — малотрудное и очень
3. ХИТРОСТЬ, ХВАТКА, ХИЩЕНИЕ
47
распространенное занятие, но мы, даже едва задетые настоящим,
пусть нам будет трудно, пусть у нас ничего не получится, уже не
перестанем вглядываться в то, что Гегель назвал хитростью
мирового духа. Это у него не образ и не метафора. Всё создано хваткой
Софии. Гераклитовская война в начале всего.
Не зная, что именно нас захватывает, теряя из виду тайну,
мы не забудем, что захваченностью всё определяется в нас и вне
нас, в теле и вне тела. Захватывает тайное. Логос — взятие, а не
деятельность обобщения, в которую скатывается сознание,
вышедшее, как ему кажется, из войны в мир, на тихий простор. Из
схватки человек выйти не может, он в силах только выбирать
между трусостью и решимостью. В плоскости сознания, например
на экране, проекции сознания, ще оно играет само в себя, сознание
правит. То же — на плоскости бумажного листа, где сознание
умеет складно сложить свою лексику, гордясь своей гладкописью. Оно
думает, что выполнит свою задачу, если и другое сознание тоже
научится от него писать гладко. Наверное на плоскости сознания
может быть достигнута большая самоотчетность. Но смешно,
когда эта плоскость размахивается до того, чтобы объявлять себя
единственным пространством мысли.
Мы не можем — и кроме того совершенно незачем —
ограничивать себя плоскостью сознания. Ах тогда вы будете заниматься
бессознательным? как интересно! — Нет, бессознательное тоже
конструкция сознания, а опять же с какой стати мы будем увязать
в его конструкциях. Как без лексики сознания, так мы можем
обойтись и без бессознательного. Заодно и без других пар, которые для
нашего удобства легко опознаются по безвкусной искусственности
языка, пары вроде, говорю наугад, экстраверт-интроверт,
традиция-модерн, индивид-коллектив, оптимизм-пессимизм, нетрудно
продолжить. Совсем неясно, что нам даст еще одно
перелопачивание лексики, уже многократно до полной стертости тасованной
и перетасованной. В настоящей захваченности, через нее и с ней
приходят слова, и если уж всё-таки иметь дело с лексикой, то
только для того, чтобы суметь постараться услышать через нее слова.
Для этого лексика, конечно, должна быть разобрана.
Ни перераспределять лексику, ни составлять ее новый словарь
нам не обязательно. Мы не должны даже радоваться точности
этого именования, захват и захваченность, которое подарено улицей
и вдруг вернуло размах главным словам философии, софия, логос,
понятие, концепция. Нам важнее позаботиться, чтобы и новое
именование не пошло путем лексики, было принято за обозначение
вещи. Я возразил бы тем, кто считает, что слова это всегда знаки
48
В. В. БИБИХИН
вещей. Надпись «кефир» на пакете действительно знак вещи, как
надпись «Декан» на кабинете, хотя и без нее чувствовалась бы
важность места. Но другое дело с именами тайны, которая
задевает нас настолько украдкой, что всего больше, как в шпиономании
уже упоминавшегося двадцатилетия, во всяком случае не меньше
делает с людьми, которые не только ее не видят, но и уверены,
что ее нет; когда тайна таится в своем отсутствии. Когда тайна
выметена из жизни, когда сама тайна иначе как в превращенных
формах, во вскрытии черепов выстрелом в затылок для ее достава-
ния, явиться уже не может, то слово перестает быть только знаком
ее как независимо существующей в себе. Слово, если умеет,
становится тогда единственным местом, где тайна еще существует
в своей истине? Не знаю. Но ясно, что больше нигде она уже не
существует таким образом, и никакое ее именование уже не может
рассчитывать на поддержку такого же рода, как надпись «кефир»
подкреплена содержимым, а надпись «Декан» — человеком в
кабинете. Слово не всегда знак самостоятельной вещи.
Или я не прав? Есть другая версия, вот какая: слово, так
сказать, всегда достойно вещи, стоит не больше, чем она, и если вещь
перешла в свои превращенные формы, отсутствует в своей истине,
то и слово о ней уже не будет, не сможет ее хранить. Один
современный публицист глядит на то, что произошло с нашей страной
в XX в., видит адскую фантасмагорию и обращает внимание: да
ведь это та самая страна, которая создала свою великую классику
XIX в. И ему становится подозрительно: да что же такое они там
в XIX веке понаписали, что XX в. превратился в фантастическую
жуть? Значит, написанное тогда не содержало в себе надежной
истины. В таком рассуждении есть ошибка.
Слово, как мы сейчас сказали, не всегда знак и не сразу
становится лексикой. Но оно само по себе не защищено от превращения
его в знак и в лексику сознанием, забывшим жест вставания на
колени и склонения перед тайной. Когда человек забывает встать
на колени перед тайной, дурная таинственность внедряется,
впивается в его поступки. Революционер, убивая своего
единомышленника и спасителя, на последний вопрос умирающего: «За что?»,
говорит искренно: «Кто знает?» Поэт и художник встал на колени
перед тайной, публицист и политик не встал. Поэтому XIX в. не
виноват: XX в. стал таким, потому что не расслышал слово XIX в.,
подобрал только его лексику. Философия не виновата, если мы
слышим в ней только лексику.
Тайна не выносима из самой себя никак, никаким словом,
никаким образом. Никакая лексика не знак ее. Никакой цепочкой
3. ХИТРОСТЬ, ХВАТКА, ХИЩЕНИЕ
49
знаков или образов ее не вытянешь в выражение. Но в каждом
нашем слове мы захвачены по-настоящему только тайной. Слово это
жест, берущий от нее энергию. В символизме (А.Ф. Лосев) имя это
энергия вещи. Энергия это действующее, делающее.
Прежде чем идти дальше, я должен признать, что поддержка
языка давно уже кажется мне лучшей и более надежной опорой,
чем философские и другие авторитеты. В самом деле, глупо было
бы сидеть на отстоявшемся, отстоявшем себя за десятки тысяч
или сотни тысяч лет смысле и не слышать его. С другой стороны,
полагаться во всём только на себя и ни к кому и к ни к чему не
прислушиваться безусловно лучше, чем надеяться, что то, что — нам
мерещится — мы слышим в словах и в их сходствах, поведет
нашу мысль. Нашу мысль тогда поведет, и язык вместо поддержки
начнет врать. Недавний пример: троица-tree. Примеров такой
бессмысленной ворожбы на языке слишком много. Ясно сознавая эту
опасность и видя, как люди на каждом шагу проваливаются в нее,
мы всё-таки рискнем ходить по краю, вернее, по самой трудной
и тесной дороге, по аристотелевской середине, в данном случае
между подстригиванием языка по нашему плану («я применяю это
слово вот в каком смысле», или велю другим не слышать слово
как оно слышится, слывет; или выстраиваю целую искусственную
терминологию из «семантических множителей», наверное, самого
нелепого изобретения заблудившегося лингвистического
сознания) — и гаданием на слове, когда человек прячется за смыслами
языка, которые становятся тогда беспризорными.
Мы думаем о том, что давно захватило человека и каждый
раз снова захватывает без того, чтобы он успевал заметить, когда
и как, — хитро похищая его, — и нам хорошо, что захват,
схватывание, захваченность, хитрость, хищение в истории нашего
языка связаны многозначительными переходами смысла. Мы
одновременно замечаем это и то, что греческая софия имеет
своим исходным смыслом ловкость, хитрость, хватку. Теперь,
назвав захватывающее из-за его неуловимости (идущей хотя бы от
того, что для всякого уловления уже нужно быть захваченным
погоней, охотой) тайной, замечаем, что русский язык опять же
давно связал тайну с воровством, грабежом, хищением (тать от
таить). Нам открывается неожиданный пейзаж. Не нам только,
но и мудрости языка тоже не кажется обязательным
нравственное негодование перед воровством. Не обязательно относиться
к поведению олимпийских богов с позиций позднего античного
просвещенчества и христианского благочестия. Не обязательно
считать аморализм Ветхого завета недоразумением; нет ли в том,
50
В. В. БИБИХИН
что нас шокирует, напоминания, что мы, может быть, не всё до
конца понимаем.
Мы рады, что встретились с языком или вернулись к нашему
языку, когда услышали в тайне украдку, хитрый захват; тайна
умеет задеть нас — скажем теперь смелее — воровским образом,
украсть нас. Один гениальный рано умерший московский
лингвист нашел историческую связь между таить и за-тевать16. Мы
редко успеваем заметить, как тайное украдкой затевает с нами
свое, задействует нас и без того, чтобы мы этого хотели; не
начинаем ли мы, наоборот, хотеть в той мере, в какой захвачены
захватывающей тайной. Снова далеким намеком на то, что мы,
может быть, не совсем на неверном пути, оказывается
неожиданно то, что загадочное этимологически наше слово хотеть то же
самое («не исключено», предполагают некоторые историки языка),
что хватать, хитить. Опять же нет ничего отвратительнее, чем
скрывать оговорки типа этого научного «не исключено» и подавать
догадку как удобную нам достоверность — ах этим полно всё
в публицистике, беллетристике, и о том, какой непереходимой
стеной отделено в науке достоверное от догадок, люди к сожалению
теперь уже плохо знают. Но и знать подробности научного искания
тоже нужно, наука идет путем проб и ошибок и нащупывает еще
одну связь: кроме хотеть и хватать — еще связь хотеть и греч.
κτάομαι, κτησις «приобретение». Такая подцержка (и научное «не
исключено» тоже поддержка, хотя не доказательство) от языка
показывает, что мы, наверное, не так заблудились в теме
захваченное™, как я боялся сначала.
Тайне отвечает в человеке только тайное же согласие. Всё
остальное — только приемы, установки, подходы (методы)
сознания, позиции, которые все бессильны против тайного захвата,
хотя бы потому, что сами незаметно им продиктованы.
Теперь будет кстати заметить еще одну протянутую историей
языка ниточку, которая по крайней мере не запрещает нам идти
дальше. Еще раз предупреждаю: такая ниточка — никогда не
доказательство, а то, о чем я говорил: когда идешь правильно, то
задним числом, обернувшись, а не в виде путевых указателей,
видишь глядящие тебе в спину перевернутые знаки, в лучшем
случае не велящие вернуться назад. Сейчас я имею в виду вот какую
совсем тоненькую, чуть не рвущуюся ниточку. Что
захватывающее — это в конечном счете мир, я уже говорил. В нашем языке
мир — милый, исторически эти слова сцеплены. Не исключено,
16 В.М. Иллич-Свитыч. Вопросы языкознания 1959, № 2, с. 7 слл.
3. ХИТРОСТЬ, ХВАТКА, ХИЩЕНИЕ
51
что наше милый — то же слово, что греч. φίλος, филия. Если за φ
в φίλος стоит *bh, переход губно-губных тот же, что в блин-млин.
К тому же, к желанному как милому, ведет ниточка и от захвата,
который, я уже упоминал, не исключено, что исторически связан
с хотением, ср. др.-рус. хоть и «желание», и «любимое,
желанное, супруг, жена». Когда Розанов говорит: «Бог милое из милого,
центр мирового умиления», то мировое умиление здесь — из тех
услышанных связей, которые только на первый взгляд могут
показаться прихотливыми, на деле же основательнее и прочнее самой
основательной из терминологических конструкций.
(Теперь мы, кажется, достаточно успокоили тех, кто, может
быть, заботясь о том, чтобы на философском факультете была
только настоящая философия, тревожился, что это за первую
философию мы здесь излагаем. Теперь он расставит всё по своим
местам и отнесет наши занятия к лингвистике).
Захват мира. Никогда мы не избавимся от двусмысленности
этого выражения; редко когда современное сознание яснее
показывает свои претензии, чем в понимании здесь мира только как
объекта, не субъекта агрессии, экспансии, которую сознание, пусть
хоть и с отрицательным знаком, но обязательно хочет приписать
только себе. Никогда не прояснится, где здесь захватывающее, где
захваченное. Конечно, человек ведет захват мира, жадно, страшно;
это его главное дело на земле. Но другой, встречный,
неожиданный смысл этого «человек захвачен, занят миром» отбрасывает
нас назад в раннюю загадку безысходного отношения к миру,
когда человек как будто бы свободен выбирать, но до всякого
выбора уже относится к миру в нераспутываемом, тревожном,
сбивающем с толку смысле. Вырабатывая свои приемы захвата
мира, человек по-честному никогда не сможет сказать, что всё тут
сводится к его свободному решению, что мир — милый — никак
не присутствовал в принятии решения. Без захваченности миром
нет его захвата. Разобраться здесь трудно. Исследователь окажется
следователем при татьбе слишком хитрого и хваткого рода, при
татьбе тайны. Будем лучше пока просто помнить об этой
криминальной и криминалистической стороне отношения человека
к миру.
Снова сейчас через следователя и расследование, как раньше
через хотение, в котором слышатся и «захват», и греч. κτάομαι
«приобретать», мы как к горячему прикасаемся к собственности.
Это слишком громадная тема, рука не ухватывает. Спросим сразу
наугад: мир чья собственность? На этот неожиданный пока еще
в данном месте нашего искания вопрос напрашивается неожи-
52
В. В. БИБИХИН
данный ответ: моя, конечно. Мир, конечно, мой. Неподъемные
трудности подвертываются сразу же при таком ответе. Поэтому
отступимся сейчас и еще немного походим вокруг да около.
Мы уверены в совершающемся захвате, не умея определить,
где захватчик. Человек ли занят захватом мира или, по Розанову,
«мир живет великими заворожениями» (конец «Опавших
листьев») и «каждая вещь, и каждый день», и Розанов тоже, который
был сначала и через которого стало всё. Но, может быть, вопрос
о том, что из двух раньше, не очень существенный, потому что всё
равно, не занявшись им, мы его не разберем, так что опять занятие
(захват) окажется определяющим.
Чем может быть занят (в обоих смыслах) человек? Да Боже
мой, чем угодно, всем на свете. Wo man's packt, so ist's interessant
(Гёте). Человек где схватится, там и интересно. Бери любую
вещь на свете и всегда найдется занятый ею. А тем, чего нет на
свете, человек может быть занят? Не только может, но, похоже,
больше всего, если не почти всегда захвачен тем, чего нет на
свете. Занят ничем? Ничто его захватывает? Ничто, как
известно, Парменид еще сказал, не есть, небытия нет, это мы в курсе
о Пармениде подробно разбирали17*. Может захватывать и то, что
не существует?
Я не делаю пока различия между занят и захвачен, хотя
человек часто занят тем, что его не захватывает. Человек — толпа.
Сам человек, конечно, никто его за руку не тянул, делает всё, что
делает, сам берет на себя за это ответственность, но сам может
быть не захвачен тем, чем занят, — дело не в характере занятия,
а в расслоении того, кто там и здесь именует себя сам. Я сам
виноват, занявшись нехорошим делом, но сам бы я так не сделал. На
всех уровнях каждого из этих самих идет свой захват, везде своя
занятость. Занятия отнимают всё время — кто это говорит, о ком,
что? Всё тем загадочнее, чем обыденнее и привычнее. Нас у нас
крадут, как-то очень хитро, хищно, раньше, чем мы успеваем
разобраться. Что делать? — раздается крик, и человек хочет принимать
меры. Какая новая захваченность кричит это «Что делать?»? Какой
новой стороной повернулся тут к нам захватывающий мир? Есть
ли у мира безусловная сторона? Имеем ли мы шанс, расслаиваясь
на разные я, найти себя в мире? Мы находим себя в мире или
можем найти себя только в мире и нигде, кроме как в целом мире,
себя не найдем? Голые вопросы. И мы обжигаемся на слове себя.
Оно намекает на собственность, нашу главную тему. Я сам себе
17* См., в частности, лекции 6-10 курса «Чтение философии».
3. ХИТРОСТЬ, ХВАТКА, ХИЩЕНИЕ
53
своя собственность? Или мы себе не принадлежим? Тогда кому,
или чему? Миру? Но мир — мой, и разве каждый человек это
не мир?
Вопросов уже достаточно на целый семестр или на целую
жизнь. Их неостановимое нарастание снимает с нас задачу их
решения. Попробуем среди их кружения сделать хотя бы несколько
шагов, но надежных.
Мы не можем сказать, что то, чем мы заняты, всегда есть.
Нашу занятость мы всегда можем продемонстрировать,
занимающее нас — нет. Тогда надо ли сказать вместе с Бодрийяром, что
мы заняты симулякрами? несуществующими мнимостями? Опять
не можем: невозможно проверить и убедиться, что то, чем мы
заняты, действительно никак не существует, это всегда окажется
нашей гипотезой. А главное — невелика сенсация объявить, что
современное «массовое индустриальное общество» гоняется за
симулякрами, что его вкусы и занятия формируются рекламой
вокруг пустого ничего. Мы только что сами говорили: человек
может быть занят и, похоже, большей частью занят тем, чего нет. Ну
и что? Есть вещи, которые могут «и так», без того, чтобы им для
этого быть или не быть. Самая известная из таких вещей — Бог.
О Боге христианское богословие давно и со знанием дела говорит:
нельзя утверждать, что он существует; нельзя утверждать, что он
не существует; он раньше и существования, и несуществования;
он умеет и так. Кроме Бога такие вещи, умеющие и без
существования, есть? Не знаем. Почему бы им не быть.
Всё это пока чисто негативные приобретения нашего только
недавно начавшегося разбора. Ничего позитивного отсюда
извлечь, похоже, нельзя. Сделаем еще один шаг расставания: то, чем
мы сейчас заняты, — не онтология, не «учение о бытии».
4. Гонка за бытием. Ахиллес и черепаха
(2.3.1993)
Увидев, заметив — уже не в первый раз, — что человек может
быть занят не бытием и не сущим и, кажется, часто занят тем, чего
нет, а то и всегда занят тем, чего нет, мы должны признать и
одновременно решиться (потому что в философии всякое увидение не
информация и не приобретение, а обязательство поступка), что
наше занятие спрашивания, увидения не онтология, если понимать
онтологию согласно ее современному словарному определению:
«учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий
фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и
категории сущего»18. Ничто входит в такую онтологию только как
негативное к бытию. Всё, о чем идет дело и идет речь, для такой
онтологии сразу оказывается уже и сущим, причастным бытию.
Допустив, что того, о чем идет дело и идет речь, возможно,*
нет, мы расстаемся с такой онтологией. Тем хуже для нас, тем
труднее, тем меньше подпорок и перил. Онтология, «учение о
бытии как таковом», обеспечила бы нас канонизированной темой.
Изучая «наиболее общие сущности и категории сущего», мы
двигались бы по накатанной колее. Теперь нам это уже не
удастся, придется снова идти по бездорожью. — Но как же традиция?
Ведь вся почти европейская мысль это онтология, читаем мы
в справочнике: «Иногда онтология отождествляется с
метафизикой, но чаще рассматривается как ее основополагающая часть»19.
От традиции мы никуда не хотели бы уходить, это нам дорого
обойдется. Наоборот, мы к традиции хотели бы возвратиться,
надеемся, не меньше других. Только не в смысле попадания в ее
18 Философский энциклопедический словарь (ФЭС). М.: Советская
энциклопедия, 1989, с. 443.
19 Там же.
4. ГОНКА ЗА БЫТИЕМ. АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА
55
колею и продолжения «размышлений о бытии», о сущем и
наиболее общих сущностях и категориях, а так, что мы спросим: почему
вся европейская философия была онтологией или в своей
основополагающей части онтологией? Что с ней случилось, что она вся
сосредоточилась на вопросе о бытии? Она вся сосредоточилась
на вопросе о бытии, здесь ее середина, сердцевина, суть, главное
дело. Всё брошено было ею на протяжении почти трех тысяч лет,
до наших дней, до книги «Бытие и время», на прояснение бытия,
на искание, что оно такое. Предсказание Аристотеля, что всегда
будут искать и всегда будут вставать в тупик (апорию, то же слово,
что наше опора, только с альфа привативум), сбылось и сбывается
на нас. Апория — место, где опоры нет, где напор бессмыслен, где
захваченность не переходит в захват. Мы захвачены бытием, но
не можем захватить его, охватить своей хваткой, be-greifen, взять
в по-нятие. Хочется спросить: да что же это такое, бытие, в конце
концов! — но и спросить нельзя: надо быть в нем, а если ты не
в нем, не чувствуешь его, то и говорить нечего (Аристотель об
энергии). Онтология, читаем мы в справочнике, изучает
«фундаментальные принципы бытия» — изучает то, не знает что, потому
и изучает, что не знает? Тогда и мы должны продолжать изучать,
как все, еще три тысячи лет — или всё дело теперь для нас
спросить, что это за событие такое, тысячелетиями идущее упорное
«изучение» бытия в западной европейской философии? Что
собственно происходит? Не то что мы не хотим бытия, отказываемся
его изучать, только какое? Не то что, опять же, если бы бытие
оказалось непостижимым, мы отказались бы радоваться
непостижимому, его тайне, но ведь для онтологии, европейской, бытие
как-то и не совсем непостижимо и всегда искомо, т. е. что-то о нем
известно, если идет изучение его «фундаментальных принципов»?
Первая фраза книги VII «Метафизики», может быть, только
немногим менее знаменитая, чем разбиравшаяся нами выше,
предупреждает: То öv λέγεται πολλαχώς. Λέγω, λέγεται, говорить,
сказать идет в словаре отдельной статьей, но значение брать
из этого слова никуда не девается, и здесь оно слышно, бытие
по-нимается, берется в разных, многих — значениях? смыслах?
видах? Дальше развернуто: как нечто, как вот это и в категориях,
которыми выступают с разных сторон нечто и вот это. Мы как
будто бы в середине традиционной онтологии.
Чего, мы сказали, не хотелось бы и чего, значит, мы делать
никогда не будем — расставаться с традицией. Суета последних
полутора или двух столетий вокруг «актуальности» онтологии — то
ли она устарела и ее надо отбросить, то ли, наоборот, возродить
56
В. В. БИБИХИН
в ее подлинности, то ли реанимацию онтологии надо
рассматривать как рецидив прежних заблуждений философии и теологии, то
ли пора, как в диалектическом материализме, объединять теперь
уже онтологию с гносеологией, — эти споры всего лишь сор,
поднимаемый всякий раз современностью и на фоне трех тысячелетий
оседающий всегда довольно быстро. Мы с онтологией сейчас
навсегда расстаемся только как с фабрикой «изучения
фундаментальных принципов бытия», на этой фабрике работать больше не
будем. Тем более для нас становится интересным, что это значит,
что западная мысль всегда была мыслью о бытии и стала такой
фабрикой, по крайней мере в университете, и давно ли стала. Мы
обращаем внимание. Не «что такое бытие», а «что это такое, что
Европа после Парменида занята исключительно бытием». Для
бытия в качестве нечто Аристотель дает в VII книге примеры:
человек, бог. Достаточно, чтобы удивиться.
К IX книге в русском переводе 1975 г. придано оглавление,
нам кажется, очень удачное: «Рассмотрение нового основного
значения бытия»20. Слов «новое значение» у Аристотеля нет, но
новое оно действительно и есть, хотя Аристотель просто
спокойно вводит его рядом со старым, где бытие — нечто и вот это.
Теперь, в IX книге, оказывается: в бытии надо видеть мощь, могу,
δύναμις — и ту же мощь, дошедшую до цели, осуществившуюся,
ставшую делом; ενέργεια. A.B. Лебедев правильно в
энциклопедической статье ФЭС21 связывает различение возможности-энергии,
потенции-акта у Аристотеля с проблемой Парменида, с его
проблематичным бытием, бытием-сверхвопросом, не возникающим
и не уничтожающимся, не прибывающим и не убывающим.
Мы сделали, выходит, правильно, что обратили внимание: от
«фундаментальных принципов бытия» — к тридцати уже почти
векам захваченности бытием. Мы теперь не упираемся в готовую
«онтологическую проблематику», которая, похоже, в своем целом
принадлежит новоевропейской историографии, связанной
профессионализацией и специализацией и включенной в академические,
университетские, учрежденческие структуры, а видим, что бытие
λέγεται πολλαχώς: не просто о нем говорится в различных смыслах,
как заставляет думать русский перевод, предполагающий
рассмотрение одной и той же вещи (бытия) с разных сторон22*, но само
оно, неопределимое бытие, захватывает человека и схватывается
20 Аристотель. Сочинения..., т. 1, с. 534.
21 ФЭС..., с. 19 (ст. «Акт и потенция»).
22* См.: Аристотель, Сочинения..., т. 1, с. 234.
4. ГОНКА ЗА БЫТИЕМ. АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА
57
человеком многосложно; не то что я буду говорить о бытии в
одном смысле, а вы в другом, но наша захваченность, ваша и моя,
каждый раз оказывается именно такой какая она есть, всегда
и у всех разной, и ни изменять ситуацию, постановив, скажем,
чтобы в захваченности бытием у всех выявлялось что-то общее
кроме самой по себе захваченности, ни выработать процедуры
пересчета разного опыта и его осмысления (если бы о бытии как
одном и том же просто «говорилось» в разных смыслах, легко
было бы при помощи, например, семантических множителей
построить алгоритм перевода) не можем ни мы, ни кто другой. Здесь
приоткрывается смысл аристотелевского пророчества о бытии,
которое всегда будут искать, всегда заходя в тупик.
Частое почти служебное древнегреч. εχω с первыми
значениями иметь, держать, владеть, занимать, овладевать, например
уэюас кого охватил έχει τινά (поверьте, я сам удивляюсь, как много
захваченности вокруг нас открывается, стоило нам обратить
внимание; для меня самого то, что я сейчас скажу, новость), с
глагольной приставкой-предлогом επί на, έπέχειν значит держать
что на чем, например ноги на скамейке, подавать, устремлять,
например мысль, т. е. вместе обращать внимание и останавливать
его на чем; занимать пространство, страну, захватить, держать
в своей власти, господствовать, напирать. В производном от
этого глагола существительном εποχή меньше значений, но они
никуда не деваются, и в более бедном значении существительного
все глагольные значения сохраняются в качестве обертонов. Из
греческого εποχή в порядке заимствования возникло немецкое
Epoche (через лат. epocha) и наше эпоха в значении характерного
отрезка времени, но не прямо из перечисленных выше
значений, а из специального астрономического значения констелляции
звезд. Они в своей таким-то образом сложившейся констелляции,
сцепленности таким-то сочетанием льющейся от них силы
схватили, подчинили себе всё происходящее на земле. — Вообще мы
бы удивились, если бы обратили внимание, как много в нашем
словаре, в лексике нашей образованности слов от того времени,
когда астрология-астрономия (эти термины были синонимами)
определяла собой каждодневный политико-публицистический
и научно-популярный дискурс (как теперь его определяют,
например, физика и биология, с которыми пытаются соперничать в этом
отношении другие науки). Серьезные озабоченные умы в хлопотах
о фамилии, городе, государстве, военных предприятиях
постоянно держали краем глаза в поле зрения те светила, от которых всё
на земле для отдельного человека и для целых стран принимает
58
В. В. БИБИХИН
тот или другой оборот. С облегчением или наоборот с ужасом
отмечалось, что звездная констелляция меняется, из одной эпохи
(взаиморасположения) переходит в другую, отчего и на земле
произойдет смена эпох. Такое расхожее слово влияние, без которого до
сих пор не обходится ни один обзор нашей ситуации в газете и на
телевидении, — астрологическое по происхождению: in-fluxus
это таинственное, большой частью не замечаемое в-лияние силы
звездных лучей, которыми всё на земле определяется, так что
переплетением этих влияний, победой одних над другими надо
объяснять перемену в настроении одного человека или массы;
лишь позднее, с поднятием статуса человека, влияние людей друг
на друга стало представляться более весомым чем влияние звезд.
Инфлуэнца, недавнее название гриппа — болезнь, вызванная
неладным, зловещим схождением светил. Когда окрепло убеждение,
что заразные болезни предотвращаются прививками, медицина
стала забывать о влияниях, но инфлуэнца, грипп, из-за своей
непобедимости до сих пор заставляет многих подозревать в себе
звездное происхождение, что еще недавно снова предположили,
довольно неуверенно, некоторые английские врачи и были
пристыжены. Еще пример: революция первоначально — некое
перевертывание звезд, связанное с переворотом на земле.
В этом глядении в поисках причин происходящего не друг на
друга, а далеко, на звезды, на их эпохи и революции,
продолжалось, проецируясь на далекую картину звездного неба, то чутье,
что не мы в главном решаем, а то, что к нам повертывается, нас
охватывает и своим охватом захватывает по-разному небо. Когда'
Хайдеггер говорит о констелляции в истории бытия, о его эпохах,
он решительно возвращается к этому взгляду на небо — и
вместе к захваченности тем, чем мы все захвачены, каждый раз по-
разному, не потому вовсе, что изволим подходить с разных сторон
к бытию и вскрывать в нем разные стороны, заговаривая о его
разных значениях, а потому что на деле взяты им и вбираем его
много как, πολλαχώς, захвачены всякий раз так, как захвачены, и по
пророчеству Аристотеля всегда будем «брать» бытие по-другому
и по-другому, на удивление, так что хочется принять меры и
потребовать: но ведь должно же быть что-то общее, родовое во всех
«формах бытия»! Нет, не должно быть и никогда не будет. У
бытия вообще нет никогда ничего общего, оно — каждый раз новые
захваты, заворожения («мир живет великими заворожениями»,
Розанов23*). Не одно и то же бытие выступает в равных событи-
* См. конец Опавших листьев (Короб второй и последний).
4. ГОНКА ЗА БЫТИЕМ. АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА 59
ях, а бытие и событие не раньше и не позже друг друга, не род
и не вид друг друга. Мы знаем о бытии столько, сколько открыто
и сообщено событием. Событие истории в свою очередь тоже
открыто и всякий раз заново оказывается таким, каким оказывается,
и только нестерпимость новизны — свежей, раздирающей —
бытия заставляет сознание отразить его схемой, замкнуться и
приказать из своего замка ему быть таким, каким его уловила «наука»,
«техника». Кажется, что иначе к чему знание? Не для того ли
в конце концов существует «научная дисциплина», чтобы
ученые, знающие, студенты и преподаватели следовали хоть чему-то
установленному, выясненному, не вынуждены были каждый день,
каждый час, каждую минуту всё пересматривать? Так раздражился
однажды на Хайдегтера его ученик, которому надоело чувствовать
себя в его философии жалким новичком. Но я так себя чувствую
каждое утро, сказал Хайдеггер24*. («Снова Хайдеггер! Всё еще
Хайдегтер!» — но тому, кому не терпится поскорее пойти куда-то
«дальше Хайдегтера», Хайдеггер пока еще только предстоит, как
Платон до сих пор еще предстоит идеологии, теологии,
публицистической журналистике, школьной и университетской
образованности именно потому, что рано показался понятым, преодоленным
и оставленным позади. И это худшее предстояние, чем если бы
Платон и Хайдегтер оставались совсем не читаными.)
Эпоха, схватка — как бывают спазмы — бытия, схваченного
в каждую эпоху так, как каждая эпоха захвачена им, без всякой
закономерности смены «исторических формаций», захвачена им не
как вот этим, кому-то — историографам или публицистам —
известным, а как новым захватывающим событием. В этом свете
25 веков после Парменида — одна большая меняющаяся эпоха
меняющегося бытия. Это не изменение степени захваченности,
и когда Гегель задвигает свое совершенно бессодержательное
24* Один из американских учеников Хайдегтера вспоминает: «В ответ на
мои частые просьбы изложить ту или иную путаную терминологию его работ
на более простом немецком он обычно застывал в неподвижности, целиком
поглощенный предложенным ему предметом. Я сидел рядом с ним за его столом,
делая временами записи его разъяснений. Ни разу не удалось мне предугадать,
что сорвется с его уст после таких минут сосредоточенности; мои
предположительные интерпретации часто оказывались на ложном пути. Он сам нередко
с горечью замечал, что надо было бы изложить всё иначе. В одном из таких
случаев я вдруг воскликнул, сам почти не понимая, что говорю: „В вашей
философии, герр Хайдеггер, я всегда ощущаю себя жалким новичком!" На что он
ответил так же вдруг: „Точно то же я чувствую каждое утро"». Gray J. G. Heidegger
on remembering and remembering Heidegger. — «Man and world», X, 1977, n. I,
p. 75-76.
60
В. В. БИБИХИН
абстрактное бытие на задворки, в холодный предбанник своей
жаркой логики вместе с ничто, то пусть кому-то кажется, что
Гегель тут отходит от «традиционной онтологии» с ее вопросом
о бытии. Даже если он от нее отходит (например не спрашивая
вместе с Лейбницем, почему бытие есть, когда было бы проще не
быть ничему), то для того, чтобы от разговоров о бытии вернуться
к захваченности им. Его главное слово Wirklichkeit не только
этимологически, но и по смыслу намеренно возвращается к
аристотелевскому «новому» имени бытия, эргон-энергейя, возвращается
не совпадая, потому что события не повторяются.
А в свою очередь аристотелевская энергия возвращается
к парменидовскому невозникшему, некончающемуся,
неуменьшающемуся бытию?
Вот здесь надо быть сразу осторожнее, потому что
становится вдруг темно. Мы словно из освещенного круга входим туда,
где фонарей нет или они все побиты: нельзя от Гегеля, который
перед нами весь почти на виду, хотя в переводе он проутюжен до
неузнаваемости, так запросто переходить к Пармениду. Придется
идти сразу медленнее и наощупь. И всё же, и всё же, с другой
стороны: Гегель может нам быть комментатором к Пармениду?
Да; как и Аристотель тоже; как всякая весомая и настоящая мысль.
Она об одном; о том же (парменидовском): не об одном и том
же в бытии, а о продолжающейся захваченности им, которое
берется по-разному. Странные комментаторы: говорящие другое.
Тождество здесь, однако, надежнее; когда лексика мыслителей
одинакова, всё становится гораздо сложнее. Хаидеггер иначе как
в кавычках и в реферате слова «действительность» не применяет;
это не только не значит, что он не думает, не продумывает
гегелевскую «действительность», а как раз наоборот. Едва ли не главное
хайдеггеровское слово «бытие», спокойно взятое совсем иначе чем
у Гегеля, будет неожиданно пересекаться с гегелевским, например
в слиянии с ничто, и потом далеко расходиться. Исследователя зря
будет манить мечта угадать алгоритм калейдоскопа «значений
бытия». Дело не в перераспределении основного значения по разной
лексике, а в многообразной захваченности.
При том что она всегда разная и каждый раз такая, какая есть,
остается: да, двадцать пять веков захваченности бытием. Это,
скажут нам, потому, что к философии пришли, философию создали
языки, которые главным и самым частым своим словом имеют
есть, и в этих языках независимо от философии и раньше нее уже
невозможно было ни о чем ничего сказать, не сказав этого есть.
Каким-то нечеловеческим правилом оно навязано греческому,
4. ГОНКА ЗА БЫТИЕМ. АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА
61
латыни, романским языкам, немецкому. Не санскриту и русскому,
хотя и этим тоже в немного меньшей мере, с меньшей
обязательностью. Как могло не стать главным словом философии самое частое
слово языка? Языком определяется восприятие мира, бытие
продиктовано европейцам европейскими языками, аристотелевские
категории <это> развертка частей речи. Что неверно?
Ничего неверного нет. Как не собраться мысли в слове, как
не собраться ведущей мысли в самом частом, опорном слове?
Других шансов нет. — Но спросим дальше: почему европейские
языки такие, почему они онто-логические, в каждой фразе, почти
в каждом слове говорящие о бытии, в каждое именование почти
вплетающие этот «логос»? Бытие нечасто именуется, иногда совсем
не именуется в повседневной речи, но присутствует почти в каждом
именовании. Надо держаться здравой середины между смещением
проблемы бытия в сторону «языка» и в сторону «предмета». Язык
по отношению к бытию не «всего лишь язык» именно потому, что
бытие не предмет. Нет предмета мысли или «практики» под
названием бытие, есть тайна захваченности этого исторического
человека и захваченность его тайной, думая о которой, мысль снова
и снова возвращается к слову «есть», и никаким опредмечиванием
мы не придвинемся к бытию так, как в именовании его каждый
раз задеваем. «Тайна есть; тайна есть единое, благо, Бог; Бог
есть бытие» — не зайти в тупик в именованиях невозможно, но
в худший тупик ведет призыв оставить имена и прийти к самому
бытию, именно к нему. Как если бы предмет «бытие»
располагался где-то за стенами этой 2-й поточной аудитории просто потому,
что нам здесь не удается его прочно уловить. Тем, что мы говорим
о бытии, мы не обязательно еще оказываемся поэтому вне его. Не
случайно же мы тут давно заняты тем, чем мы заняты. Разве мы
знаем занятие другой, более захватывающей остроты, разве любое
другое занятие не показалось нам давно пресным, разве каким-то
другим мы могли бы быть заняты просто так! В захваченности
тем, что кажется всего лишь говорением о бытии, захватывающее
бытие присутствует. Как мы, наш мир, к которому мы исторически
принадлежим, занят не чем угодно, а собран давно вокруг одного,
занят одним: тем, что действительно, по-настоящему, истинно есть;
о том спорит, ничем не будет шокирован так, как если ему сказать,
что он захвачен тем, чего нет; чтобы не впасть в эту беду, давно
отверг метафизику, Бога, поэзию («не до песен»), чтобы держаться,
схватиться за то, что уж действительно есть: за физику (природу),
за машину, за атомную бомбу в конце концов, — потому что как
можно сказать, что нет того, благодаря чему может ничего не стать?
62
В. В. БИБИХИН
как может не быть то, что способно отменить всякое бытие? Гонка
за бытием вплоть до мертвой хватки за вещи всё более реальные, за
кусок хлеба в конце концов, путь к которому через агрокомплекс,
пакет законов и инструкций, нефтедобычу и нефтепереработку,
машиностроение и городское хозяйство, банковские кредиты и
медицинское регламентирование, через общественные и коммунальные
отношения вобрал в себя больше метафизики, чем университетский
профессиональный философский дискурс. Предметы
университетской философской программы давно уже прикасаются к бытию не
своей сомнительной лексикой, а тем, что они — тоже вещи,
выписаны краской по бумаге, внесены в список финансируемых тем,
которые заложены в компьютеры, выдающие цифры, — императив
для движения рук, выдающих деньги, которые сходят с печатных
машин, принадлежащих государству, держащему землю, недра,
воздух, море: движение языка профессора философии привязано
таким путем к тюменской нефти и к алтайскому золоту, а нефть,
энергия и золото как могут быть небытием? Энергия и золото
у Аристотеля и Гераклита — главные слова для мирового бытия.
Исторический человек и общество завороженно нацелены на
бытие, настоящее бытие, истинное бытие, и попутно с его добычей
идет интенсивнейшая, острейшая, жесткая работа отбрасывания
ненастоящего, теперь это значит — недействующего. Что такое
действующее? Теперь это то, что может реально вмешаться и
изменить то, что есть, скажем способ добычи энергии или
государственное бытие. Успокоиться на бытии мало, оно должно быть
всегда новое, так что новое теперь — одно из свежих имен бытия.
Впрочем, время за 5 веков до рождества Христова, время
Парменида полно, заряжено историческим движением.
Колонизация Италии, размах Персидской державы, повсеместная схватка
людей, ищущих изменения, и тех, кто хочет оставить всё как есть
(Платон, «Политик»25*). Парменид в это время объявляет, что
бытие неизменяемо и неподвижно, закончено раз навсегда,
безначально и непрекратимо:
И неделимо оно, коль скоро всецело подобно:
Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше...
...всё наполнено сущим.
Всё непрерывно тем самым: сомкнулось сущее с сущим...
(перевод A.B. Лебедева26*)
25* Русский перевод С.Я. Шейнман-Топштейн см. в издании: Платон. Соч.
в 3-х тт., т. 3. М.: Мысль, 1972.
26* См.: Фрагменты..., с. 296.
4. ГОНКА ЗА БЫТИЕМ. АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА
63
«Всё наполнено сущим». Сущее собственно всё, как позднее
или даже у самого Парменида единое — собственно всё. Кроме
сущего ничего нет. Обо всём, стало быть, можно сказать: есть.
Сейчас я попробую наконец осторожно подобраться к тому, на чем
споткнулся прошлый раз. Во всём можно, таким образом,
встретить бытие, ведь сущее по крайней мере причастно бытию или
даже само есть бытие. Парменидовская онтология — начало науки
как прозванивания всего сущего на бытийность, истинность
(истина — естина)? Тогда можно сказать, что у Парменида заложен
фундамент европейской науки в том смысле, что задано задание
при подходе ко всему — чему бы то ни было — объективно
увидеть, познать его истину? Правы все видящие в учении Парменида
начало науки? Или шире — основание всякой практики? Если всё
наполнено сущим, то прикосновение к нему, пусть даже не прямое,
будет прикосновением к бытию, которое одно только есть?
Допустим. Человечеству дана дивная игрушка: всё на что ты
глядишь, пусть даже не сразу и не вполне, есть то самое: бытие,
истина, не убывающее. Может ли быть таким смысл Парменида?
Если да — как многие считают, — то глобальная наука, техника,
вообще практика не может не развернуться на этом основании.
Мы чувствуем что-то недоброе в такой обреченности мира на
человеческую проработку.
Еще раз. Разве неверно, что из любого места — из любого
сущего — можно подняться или углубиться к истине, бытию?
Задание философии и науки. То же задание в христианском
богословии: познание Бога из «сущих»; от всякой вещи можно
найти Творца. Благодаря этому заданию христианство и потом
христианизированная европейская культура распространяется по
всей Европе, потом по всем материкам, внедряясь в человечество.
Что не так?
В чем ошибка Парменида, если он дал такое задание мысли?
Казалось бы, нет ничего коварного в том, что всё причастно
бытию или всё указывает на Творца, большое более ясными
указательными стрелками, но и во всяком малом начало того же пути.
Бери всё, берись за всё. Через всё иди к бытию, к единому, к Богу.
Ошибки нет?
Попробуем сказать теперь то же самое другим словом: будь
захвачен каждой, любой вещью, к какой ни подойдешь, потому
что она сущее и ведет к бытию. — Не звучит. В чем дело, почему?
Мы с первого раза не понимаем почему, но слышим, что не
звучит. Подходи с научным исследованием, техническим
изысканием к каждой вещи, потому что истина открыта отовсю-
64
В. В. БИБИХИН
ду, — неверный совет, потому что совершенно ясно, что если
ты не захвачен весь этим сущим без остатка (как исследователь
пауков, научившийся их повадкам до подражания им) в полноте
осуществления (энергии) себя и познаваемого, то на истину не
надейся: всё увязнет в половинчатом, рассыпчатом познании, в ге-
раклитовской «сенной сечке», и я сближаю — для Гераклита такие
созвучия не могли быть случайными — σύρμα φρ. 9 (37) и σάρμα
φρ. 124 (107)27*: «ослы солому предпочли бы золоту» и «космос
куча, свалка наугад брошенных вещей». Аристотель вводит бытие
как энергию, полноту. Не любое сущее бытие или указывает на
бытие, а только осуществившееся, расцветшее, захватившее нас
своим совершенством. Полнота достигается не суммированием.
Аристотель комментирует Парменида.
Парменид ошибся, повел Европу не туда, заставил ее
заниматься перебором вещей, толкнул к расползанию науки по глобусу,
который постылеет техническому человечеству от неизмеримости
множества полунужных и ненужных вещей, и человечество
жадно ищет новостей, вестей, но связало себя деталями, как здесь,
на философском факультете, множество «предметов», и каждым
изволь «заниматься» для науки, профессии? Парменид пригласил
человека размазать себя по поверхности сущего? Сказал же он, что
бытие есть, а небытия нет, и толкуют же это знатоки в том
смысле, что бери любое, вещь, мысль, слово — и всё окажется сущим
бытием, потому что небытия всё равно нет? Парменид утопил
нас в этом множестве «равно душных», как говорит Хайдегтер28*,
предметов, каждым теперь умей занять себя?
Господа, — нет. Наоборот. Очень рано видя загадочное
расползание европейского человечества по земле, его влипание в есть
каждой вещи, Парменид предупредил от расползания практики,
указал на тайну того есть. Мы до сих пор Парменида не прочли,
прочли его наоборот; я говорю это без вызова как простой факт,
мне известный к моей радости за Парменида. Он может быть
первый увидел чуму размазывания человека по лицу мира (или
не первый, если уже Троянская война была придумана богами
для облегчения земли от потаптывающего ее человечества) и был
захвачен, доведен до пророческого восторга и этой возможностью
27* Первое число соответствует номеру фрагмента по Дильсу-Кранцу,
второе— по Марковичу. Ср.: Фрагменты ранних греческих философов..., с. 208,
248.
28* В конце доклада «Вещь». См.: Историко-философский ежегодник'89.
М., 1989. Пер. В.В. Бибихина.
4. ГОНКА ЗА БЫТИЕМ. АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА
65
человека ко всему прильнуть и уловить суть всего — и другого
восторга от того, что в этом вникании человека во всё что есть
никогда не уловлено захватывающее бытия, настолько не уловлено,
что, наоборот, напрасно приникать к вещам в охоте за истиной.
Там, где нет бытия, в ме-оне, еще-не или уже-не бытии, никакими
стараниями его уже не добудешь: оно не прибывает и не убывает.
Небытия нет по Пармениду, поэтому никакими стараниями и
усилиями своего сверхразума заговорить, преобразовать небытие,
привести его к бытию, вычислить из него бытие человек не сумеет.
Не от мысли ее исследовательским усилием человек приходит
к бытию, а наоборот от бытия, которое всегда уже захватило
человека не всегда замеченным образом, идет к мысли:
Ибо без бытия, о котором ее изрекают,
Мысли тебе не найти.
(фр. 8, 35-36, пер. Лебедева29*)
Не усилиями ума, воли, воображения и мысли к бытию, это
пустая и гибельная ловля, а только наоборот, от бытия, его
полноты, которая не возникает и не уничтожается, не прибывает и не
убывает, — к мысли и слову, в которых бытие. Это значит, хоть
и странно сказать: не будет так, что в нашем видении сначала
не было истины (истина это опять бытие), а потом постепенно
в результате наших стараний в нас возникает истина о вещи,
истина вещи. Истина не складывается из частей и не выстраивается,
она приходит в озарении, чей способ явления — вдруг — как раз
и показывает, что оно не процесс и не добыча, а всегда уже есть,
если есть. Нельзя сказать, что мы его «добились». Можно сказать:
странно, что я раньше не видел того, что вдруг увидел. Что-то
происходит со мной, не с озарением. Истина-бытие не возникает
и в нашей мысли тоже не наращивается. — Надо ли тогда
говорить, что оно в нашей мысли и в вещи, о которой мысль, заранее
уже есть как платоновское воспоминаемое и только надо обратить
внимание, повернуться, припомнить, опомнить-ся?
И так тоже сказать по-настоящему нельзя. Потому что и «опо-
минания» тоже нет без подарка, и внимания и обращения
внимания нет без захваченности. «Без бытия ты мысли не найдешь».
Я предлагаю вспомнить наш парменидовский семестр30*. Бытие
всегда заранее уже захватило нас, и ни убавить, ни прибавить
29* См.: Фрагменты..., с. 297.
30* Весенний семестр 1992 г. курса «Чтение философии», с. 300-510.
66
В. В. БИБИХИН
к этому мы ничего не сумеем. — А как это увидеть? — Никак:
мы вдруг уже видим, когда видим то, что просто видим, видя
только чтобы видеть. Видим что, бытие? Да: видим, что уже
заняты им.
Сколько времени прошло — а собственно разве так уж много?
всего несколько десятков поколений, большинство из которых не
имело никаких шансов снова достичь размаха той ранней мысли
и хорошо если хоть не все книги выбрасывало; другим
приходилось начинать вовсе сначала; мы в этом смысле еще в хорошем
положении, благодаря Лосеву и Бахтину накопление, начавшееся
в прошлом веке, еще не совсем прекратилось, — много или мало
времени прошло, а так называемые элеаты остаются для нас
неприступными в этой их мысли, шокирующей: охватывающее нас
не началось, не может никогда кончиться, не увеличивается, не
уменьшается. Я сейчас говорю «охватывающее нас», имея в виду
с. 324 книги A.B. Лебедева «Фрагменты ранних греческих
философов», где он, дополняя Дильса-Кранца, в разделе о Мелиссе
с Самоса, ученике Парменида (середина V в. до н. э., т. е. меньше
чем за век до Платона, лет за 70, если сравнивать годы «акме»,
расцвета), дает текст комментатора — позднего уже, нашей эры —
к Аристотелю, где особенно ясно замечено то, что между прочим
во многих местах видно: «Мелисс ... доказывал, что универсум,
т. е. сущее (вместо термина „сущее" [Аристотель] употребляет
термин „универсум"), бесконечно». Сущее, бытие — το öv;
универсум, всё, целое, мир — το άπαν. Почему, в каком смысле бытие
и мир оказываются в Европе одинаково именами того, что« ее
захватывает, требует прояснения; если кто знает, пусть мне
скажет. Как у Парменида, так у Мелисса и у Зенона, которым я хочу
сегодня закончить или с которого, наоборот, начать, бытие-всё
бесконечно, неизменяемо (без-конечно, т. е. таково, что если мы
видим ему конец, то теряем его), неподвижно (т. е.
безотносительно), равно самому себе и полно. Поскольку у Ясперса его единое
Объемлющее (точнее, «охватывающее», das Umgreifende)
сопоставляют с парменидовским Единым, то надо сразу объясниться.
Помысли абсолютный предел, недостижимый, трансцендентный,
всякого бытия и мышления, говорит Ясперс; трансценденция
«столь же неумолимо существует, сколь и не может быть
увидена и пребывает непознанной»31. Лексически это похоже на то,
что я говорил о мире, который вдвинут прямо в гущу каждого
нашего существования, оказываясь единственным постоянным
31 Vernunft und Existenz. Groningen, 1935, S. 35.
4. ГОНКА ЗА БЫТИЕМ. АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА
67
ориентиром и единственным надежным критерием («мировой
уровень»), но оставаясь неуловимым. Трансценденция, предел,
«объемлющее» своим предельным единством осеняет вообще всё
и меня тоже, «единственного» в моей неповторимой экзистенции.
И конечно Ясперс прав, так всё именно и обстоит,
«трансценденция бытийствует во „Всём" и в „Единственном" как объемлющее
их „Единое" (das Eine)». Никто не скажет, что это неверная схема.
s das Eine х
das AU
Das Einzige вступает в драматическую, решающую
коммуникацию с другими и со всем и выходит через развертывание своего
существа, своей экзистенции внутри das All к последней
трагической — потому что включающей и смерть — полноте das Eine.
Всё так.
Но мы-то спрашиваем о другом. Не об «объемлющем» —
конечно, куда еще Всему деться — едином, а о том, как всё вообще,
я и моя экзистенция, возникает только в меру захваченности —
чем? Уже не очень удобно сказать, что «абсолютным пределом»,
потому что дело в чем-то более близком и задевающем. Аверинцев
прав, переводя у Ясперса das Umgreifende, букв, охватывающее,
всё-таки как «объемлющее»: оно прочерчивает предельный объем,
внутри которого, конечно, будет двигаться всякое движение; наш
вопрос, однако, не о том, как нарисовать схему истории, а о нашей
ранней захваченности, в которой захватившее не больше впереди,
чем позади.
У ученика Парменида Зенона, подъем которого был на 10 или
по другим историкам на 20 лет раньше Мелисса и на 25, на 40 или
на 50 лет позже Парменида и который «не выдвинул своего учения,
но еще глубже разбирал эти (парменидовские) вопросы в
апориях» (Псевдо-Плутарх, Строматы 5; Лебедев <Фрагменты, с> 306;
Дильс А 23), есть апория о движении и его пределе «Ахиллес».
Кричащую остроту этой апории придает то, что Ахиллес, самый
знаменитый из греков под Троей, быстроногий. Он никогда не
догонит черепаху, потому что каждый раз, как он будет добегать
до нее, черепаха успеет хоть на малость уже отползти, так что
Ахиллес будет каждый раз хватать воздух, достигать места, где
черепаха вот только что была, но ее уже нет.
das
Einzige J
68
В. В. БИБИХИН
Пытаясь схватить смысл апории «Ахиллес», мы улавливаем
его в том, что расстояние между Ахиллесом и черепахой
уменьшается, но дробление можно в принципе продолжать до
бесконечности и не будет такого малого расстояния между Ахиллесом
и черепахой, чтобы за время стремительного пробегания этого
расстояния Ахиллесом черепаха не ускользнула от желанной
Ахиллесу хватки пусть на еще гораздо меньшее расстояние, но
всё-таки. Измельчая расстояние, как бы исталкивая его в ступе,
мы ничего не можем поделать с ним, как тиран не мог сломить
дух Зенона, исталкивая его в ступе. Измельчение расстояния не
сокрушает замысел Зенона. Какой этот замысел? Зенон подобно
Пармениду выполняет завет Пифагора — не подставиться в
записанном слове так, чтобы тайна показалась дешевой, разгаданной.
Зенон однажды с достоинством противостоял тирану, взявшему
его в плен, и он многажды, снова и снова уходит от
тирана-читателя, который хочет овладеть им, осилить апорию. Подобно тому
как Зенон оговаривает ближайших друзей терзающего его тирана,
так что тиран остается перед Зеноном один, так читатель остается
в апории «Ахиллес» без помощников из области чувства и опыта,
когда Ахиллес и черепаха превращаются в движущиеся точки и
телесный мир исчезает. И как Зенон впивается в ухо тирану и не
разжимает до последнего челюстей, так 25 веков читатель продолжает
слышать впивающуюся в его слух простую историю Ахиллеса и
черепахи. Как Зенон откусывает себе и выплевывает язык, когда
тиран ужесточает пытку, — всё, он ничего уже не скажет, — так
сам язык апории (говорю не о древнегреческом, а о языке
пифагорейской мысли) теперь мертв и не объяснит сам себя; в тайну
ушел сам способ того говорения, осталось только однажды
сказанное. — Как тиран, истолокший несломленного Зенона в ступе,
не успокоен, так тиран-читатель не в силах разобрать его апорию
так, чтобы успокоиться. Это беспокойная апория.
Думают, что как можно не видеть простейшего: хорошо, пусть
Ахиллес с первого шага не догонит черепаху, она успеет
ускользнуть, чуть подавшись вперед, — но ведь уже следующим шагом
он будет впереди нее, значит, в какой-то момент он с ней
поравнялся и стало быть догнал? — Раз перегнал, значит догнал, не
так ли?
Апория этим не только не снята, но лишь теперь она
начинает по-настоящему работать. Дело не в том, что Ахиллес вторым
шагом окажется уже по ту сторону черепахи, а в том, когда, в
какой момент он скажет «догнал» (а не «перегнал»). Как честный
человек он не станет давать неуточненные сведения; когда еще
4. ГОНКА ЗА БЫТИЕМ. АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА
69
не догнал, он не будет кричать, что догнал, но и оказаться вдруг
впереди нее тоже не его цель. Вы помните, что все «друзья»
тирана тираном повешены, казнены по оговору Зенона. И черепаха
и Ахиллес превратились в точки, в точечные массы, сказала бы
современная физика, тоже казнившая своих «друзей», тоже не
умеющая оперировать ни с чем кроме точечных масс и их множеств.
Пусть до черепахи остается минимальное расстояние, Ахиллес
будет добросовестно дожидаться соприкосновения. Он будет
выжидать и с половиной того расстояния. Для точечного Ахиллеса
любое расстояние будет распадаться на бесконечное множество
расстояний и точек, и та точка, где его, Ахиллеса, точка
совпадет с точкой черепахи, не сможет быть выделена, потому что
затеряется в бесконечном мноэюестве точек. Из бесконечного
множества точек нельзя выбрать одну, как часть бесконечности
она одна тоже окажется бесконечностью. Ахиллес растеряется,
задохнется в количестве ступеней приближения. Скажем между
прочим, что не Ахиллес один растеряется, а современное
человечество, как он, растерялось в количество ступеней
приближения к техническому, к информационному, к научному
совершенству. — Истолченный в ступе, Зенон кричит оттуда, что его душа,
суть его апории, тираном-читателем не покорена. Да, это странно
сказать, но у Ахиллеса глаза будут разбегаться между одной
множащейся без конца бесконечностью и другой, и он никогда по-
честному не сумеет сказать: вот оно!
Зенон нам уже выплюнул язык и ничего не скажет больше,
мы обязаны ему его вернуть. Мы не смогли узнать, не успели
спросить, что такое «догнать». В дефиницию Ахиллеса и
черепахи входят скорость Ахиллеса и медлительность черепахи. Т. е. по
определению Ахиллес догонит черепаху. И с такой же
достоверностью он по смыслу апории растеряется в моментах догоняния
и никогда не сможет сказать «догнал». Это значит: он
одновременно догнал черепаху, потому что он быстроногий Ахиллес,
и он же никогда не догонит ее, если захочет убедиться в своей
способности, двинувшись с места. Как вы понимаете движение?
Если как достижение, догоняние, то движения нет: Ахиллес, каким
он сейчас перед гонкой стоит за черепахой, не меньше во всяком
случае ее догнал, чем когда он запутается в бесконечностях точек
и не найдет, не выберет внутри одной бесконечности точку,
совпадающую с точкой внутри другой бесконечности. До движения
он таким образом имеет больше, чем после; движение только
собьет его с толку, заставит потерять то, что он имеет. — Тогда что
же это такое, что люди называют движением, догоняя черепах?
70
В. В. БИБИХИН
Неизвестно. Люди не разобрали, не поняли, что такое движение.
Того, что они называют движением, просто нет — но нет так, что
всё, чего люди достигают, как им кажется, движением, у них уже
есть, как поимка черепахи уже есть в быстроногом Ахиллесе.
Греческий ритор и полигистор Фаворин (фр. 43 по Э. Меншин-
гу), начало II в., приписывает аргумент «Ахиллес» Пармениду.
Парменид или Зенон или античная мысль предупреждает: во всём,
что человек хочет схватить, он промахнется, если не обратит
внимание на то, что уже есть. Ранняя хватка бытия уже захватила
нас, когда мы начали свой захват.
5. Тело и точка. Новоевропейский предел
(9.3.1993)
Аргумент «Ахиллес» Парменида или Зенона выворачивает
наизнанку мир бесконечно малых. Перед Ахиллесом, который
в простоте хотел только догнать черепаху, вот этот Ахиллес вот эту
близкую черепаху, выбрасываются вдруг бесконечности, словно
он попал в космическое пространство, летит со скоростью мысли
и за одними галактиками встают перед ним другие, системы
галактик, бесконечные бесконечности, и среди их бесчисленных точек
где-то затеряна точка черепахи, которую он хотел догнать, но на
всякое новое усилие ту точку уловить бесконечности отзываются
выплескиванием из себя всё новых бесконечностей, всякая часть
которых снова бесконечность. Ахиллес в конце концов теряется.
Быстроногость ему не помогает, а как бы даже не наоборот. Он
в апории; никакой напор не улучшит его положения, которое его
должно по-настоящему озадачивать, потому что после бега за
черепахой оказалось намного худшим, чем до бега за ней, отчаянно
плохим.
Вы скажете: но ведь всё это только потому, что черепаха
и Ахиллес взяты как точки, т. е. не имеют протяжения в
мысленном эксперименте Парменида и Зенона, как современная физика
вынуждена сводить всё, с чем имеет дело, будь то Солнце или
элементарная частица, к точечным массам, потом уже реконструируя,
так сказать, Солнце и элементарную частицу как некое множество
точечных масс. Разница, конечно, в том, что, как это говорится,
новоевропейская математика после, например, Николая Кузанского
уже умеет оперировать с бесконечно малыми, а пифагорейская
математика еще не умела. Вернее будет сказать, что принципиально
и решительно не хотела. Применительно к аргументу «Ахиллес»
введение дифференциального и интегрального исчисления свелось
бы к тому, что место схватывания Ахиллесом черепахи заранее
72
В. В. БИБИХИН
было бы введено как найденное. В этом заключается смысл
новоевропейского понятия предела в математике. Понятие
предела лежит в основе новоевропейского математического анализа.
Пределом последовательности действительных чисел называется
число, обладающее тем свойством, что члены — все —
последовательности с каким-то достаточно большим порядковым номером
начинают разниться от этого числа, назовем его я, как угодно мало.
Это очень важное выражение. Разберем его. В нашей
последовательности а,, а^ ... ап, ... а в отношении всякого а с порядковым
номером можно спросить, существует ли а с каким-то другим
порядковым номером, которое будет отличаться (разниться) от
предела а еще меньше, и ответ каждый раз будет: да, конечно.
Ахиллес может быть близко от черепахи, а может быть еще ближе
того — что мешает? — и так без конца. В самом деле, нельзя же
сказать по-честному, что он не может быть ближе: наверное
может, всякий раз, во всяком своем положении. Если мы согласились
с этим, а не согласиться нет причин, то нам предлагают понятие
предела как числа, от которого, мы сказали, члены
последовательности начинают разниться всё меньше и меньше. Если мы примем
это понятие, построить математический анализ,
дифференциальное и интегральное исчисление будет делом техники.
Заметим главное. Проблема Ахиллеса в новоевропейской
математике вовсе не разрешена. Ему никто не помог — даже
не думал помогать — найти точку в бесконечности, с которой
совпала бы его точка. Нежелание помогать Ахиллесу тут легко
понять: действительно найти такую точку в принципе всё равно
нельзя. Апория «Ахиллес» осталась неразрешимой, какой она
и была с самого начала. Новоевропейская математика подошла
к ней совсем с другого конца методом, который для античной
математики был в принципе неприемлем. Словом предел был назван
вовсе не последний минимальный зазор между сближающимися
Ахиллесом и черепахой, а сама та ситуация, когда уменьшить
это расстояние можно и еще раз можно и снова можно и опять
можно. Словом предел, limes (отсюда математический символ
lim и обобщенная форма записи предела последовательности
действительных чисел: lim an = а), названо не действительно
названное последнее, а именно вот эта ситуация, когда спрашивают:
а можно еще ближе? — и нет никаких разумных оснований
сказать: нет, нельзя; нет никаких разумных оснований не согласиться:
да, можно ближе, почему бы нет, и так без конца. Иначе говоря,
пределом названо как раз обнаруженное отсутствие предела
приближения.
5. ТЕЛО И ТОЧКА. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕДЕЛ 73
Это удивительное обстоятельство. Человек, легкомысленно
относящийся к основаниям математики, легко может под
символом lim вообразить некий запрятанный среди бесконечно малых
предел, но предел в математическом анализе означает на деле
совсем другое, прямо противоположное, когда, деля и деля до
бесконечности, мы действительно говорим: ну всё, предел,
хватит! — однако это наш предел, предел нашего терпения, предел
терпимого нами измельчения, который всё-таки наступает, и мы
в конце концов взрываемся и говорим: да хватит же толочь воду
в ступе.
Свидетельства о жизни и учении Зенона, А I (из Диогена
Лаэрция): «... его бросили в ступу и измельчили». А 2 (Суда,
византийский энциклопедист): «Его бросили в ступу и истолкли
в порошок». Впрочем, однозначных свидетельств, что Зенона
истолкли в порошок, нет; наоборот, по тому же Диогену, чуть ли не
большинство говорит, что у него был противоположный, славный
конец, а побили камнями тирана: «Зенон Элейский (он считается
создателем диалектики), пытаясь свергнуть тирана... был схвачен
и подвергнутый пытке не выдал своих сообщников, а тех, кто был
верен тирану, оклеветал как предателей: их казнили по ложному
обвинению, а Зенон сверг тиранию с помощью тирании и вернул
мисийцам свободу» (А 9, Филострат Младший, III в., Жизнь
Аполлония Тианского VII 2)32*.
Измельчить Зенона в ступе, возможно, всё-таки не удалось.
Остережемся, однако, говорить, что античность не могла
справиться с бесконечностью, а Новое время сумело.
Еще раз: нуль в современной математике предел
бесконечно малой переменной величины — бесконечно
уменьшающейся — вовсе не потому, что кто-то видел, как очень малая величина
следующим шагом достигает нуля, а потому, что для любого
«наперед заданного» малого расстояния до нуля можно назвать
меньшее. Предел в современной математике — операциональное
понятие, описывающее наше состояние, наши действия, наши
ахиллесовы метания внутри распускающейся бесконечности.
Оттого, что Ахиллес не видит своим метаниям конца, у Зенона
он признает свою неудачу в поимке черепахи, а в Новое время
заявил: предел, не уточняя, что под пределом он имеет в виду свое
нежелание возиться дальше с этой черепахой.
Насчет операций с бесконечностью точнее будет сказать,
странное дело, что Новое время разучилось с ней всерьез иметь
32* См.: Фрагменты..., с. 298-300.
74
В. В. БИБИХИН
дело, стало срезать острые углы, перестало выносить напряжение
встречи с бесконечностью. Античность, наоборот, еще имела то
терпение и любила смирение, навеваемое бесконечностью, готова
была встретить бесконечность там, где бесконечность таилась,
в квадратуре круга, в диагонали и стороне квадрата, т. е. очень
часто; в диаметре и окружности; в апории «Ахиллес». Всякий
Ахиллес перед всякой черепахой выходил в космос и видел
мгновенный выброс бесконечных миров, отдаляющих его от черепахи,
прямо у себя перед глазами. Новое время словно в каком-то
нервическом (революционном) нетерпении произнесло в своей
математике слово «предел» (limes, межа, порог, граница, рубеж, конечная
цель) и этим «пределом» отгородило себя от мучительного опыта
бесконечности, от встречи с ней.
Я хочу, чтобы кто-нибудь мне возразил: опыт бесконечности,
уйдя из математики, вернулся в реальности; произошла коперни-
канская революция, Земля перестала быть центром мира, была, так
сказать, оголена перед бесконечным пространством Вселенной,
раскрывшейся насколько хватает телескопа; это очень много. Но
так ли много, как много точек, среди которых затерялся человек
Ахиллес? Телескопа хватает на несколько миллиардов галактик,
а дальше просто уже не получается заглянуть. Видно примерно
столько галактик, сколько на земле людей, несколько
миллиардов, — это очень много, на каждого человека не по звезде, а по
галактике, — но не с бесконечностью, а именно вот с такой
безмерной громадностью неба стал иметь дело коперниканский
человек; громадность затмила собой бесконечность. Бесконечность
таким образом и в астрономии тоже отодвинулась. Вселенная
Аристотеля была, конечно, меньше, но она постоянно, протяни
только руку за подлунное пространство, соприкасалась с чем-то
совсем другим всему земному (земля была центром мира, местом
падения всего самого тяжелого и непростого). Онтологическая
разница была не умозрительным, а географическим понятием: за
этими нашими телами — нашими в смысле организмов и нашими
в смысле того, что вокруг нас и чем мы владеем, — которые со-
ставны, не первичны, должно быть первое тело (Лебедев
старательно комментирует33*: «в онтологическом смысле», не в смысле
предшествующего по времени), мы его не видим, оно за краем
наших тел, но оно тоже «естественное» («О небе» 12), может быть
даже самое естественное из всех, потому что оно, похоже, глядя на
небо, самое долговечное. Что противоестественно, чего при грече-
33* См.: Аристотель, Сочинения..., т. 3. (М., 1981), с. 575 (прим. 18).
5. ТЕЛО И ТОЧКА. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕДЕЛ 75
ском понимании слова фюсис не бывает, того и нет, божественное
же движение неба бывает как ничто другое, поэтому (конец той
же 2-й главы первой книги «О небе») «помимо здешних и
находящихся вокруг нас тел существует такое иное, обособленное тело,
имеющее настолько более ценную природу, насколько дальше оно
отстоит от здешнего мира»34*. Вот этого — географии, плавно
переходящей в онтологию, и от сущего, всего лишь причастного
бытию, поднимающей к другому сущему, которое есть уже чистое
бытие, — в коперниковской новоевропейской вселенной уже не
стало. Там на большом отстоянии от нас продолжается всё такое
же, как у нас, и даже смешно сказать, чтобы онтологически иное.
Хотя, возможно, физически, химически там другое.
А на земле по Аристотелю свалка, здесь всё самое худшее,
низкое, брошенное как попало.
В аргументе «Ахиллес» между Ахиллесом и черепахой
приоткрываются бесконечности бесконечностей, и Ахиллес (или Зенон,
или Парменид) завороженно смотрит, как черепаха безвозвратно
отдаляется в недостижимость. Почему Ахиллес не скажет: хватит,
предел, limes, lim an = а = 0? Потому что Ахиллесу никогда не
надоест возиться с бесконечно малыми; в отличие от новоевропейского
математика он превратился в точку. У него не осталось тела,
потому что Зенон нашептал в уши тирану избавиться от свиты: «Когда
на допросе его стали спрашивать о сообщниках и об оружии,
которое он привез в Липару, он донес на всех друзей тирана с тем,
чтобы оставить его в одиночестве» (Диоген Лаэрций IX 25)35*. Из
Филострата Младшего мы уже читали: Зенон «не выдал своих
сообщников, а тех, кто был верен тирану, оклеветал как предателей»
(Жизнь Аполлония Тианского VII 2)36*. — Здесь нам важны два
вопроса. Почему античный тиран поверил, что его верные слуги
ненадежны и согласился остаться без них, т. е. почему античный
слушатель, читатель соглашается, чтобы черепаха и Ахиллес
превратились в точки, и в аргументе «Ахиллес» отвлекается от
чувственных впечатлений, которые явственно подсказывают, как
именно Ахиллес схватил черепаху. И второе: почему вообще
тиран, почему Зенон, вообще пифагорейство противостоит тирану.
Оба вопроса между собой связаны и в конечном счете сводятся
к одному.
34* См. там же, с. 269.
35* См.: Фрагменты..., с. 298 ел.
36* См. там же, с. 300.
76
В. В. БИБИХИН
Как быть, если решение подвертывается сразу? Тиран — это
всякий человек, чьи власть и произвол опираются на обладание
телом. Вводя тирана внутрь зеноновской мысли, я не превышаю
права толкователя, наоборот, делаю, похоже, необходимое. Читайте
в А 15 у комментатора к «категориям» Элиаса в одну строку о
диалектике Зенона и о тиране, где совершенно прозрачно речь
идет на разных языках об одном и том же: Зенон был
«диалектиком в жизни, говорил одно, а думал другое. На вопрос тирана,
кто самые опасные заговорщики, злоумышляющие против его
тирании, Зенон указал на его телохранителей [!], а тот поверил,
казнил их и был убит»37*. Понимание апории Зенона начинается
после снятия охранения тела. Платон принадлежит к
пифагорейской традиции, когда требует, чтобы входящие в его Академию
были «геометризованы». Требование «геометризации» — то же
самое, что платоновское требование, чтобы его ученики не
доверяли телесным чувствам. О важности и строгости очищения тела
у Платона недавно напомнил Аверинцев:
Любомудрия первоучитель...
славный Платон Афинейский,
на чем утвердил он разум?
... на том... что заповедал...
различение блюсти неусыпно
между плотским и бесплотным...
... без различений Афинейских
как еще оградить нам ум наш
от бессловесности плотского...
... низко естество плотского,
бытию лишь отчасти причастно...38*
Человек, у Платона как у пифагорейцев, должен быть
«геометризован», должен отказаться от телохранителей, перестать
быть тираном, убийцей Сократа; только тогда начинается
философ. — Вроде бы тут ошибки нет, тиран должен перестать быть,
чтобы был Зенон. Человек тиран и Зенон несовместимы.
Тут напрашивается контрольный вопрос, на который, похоже,
так же легко ответить: почему тиран легко идет на казнь своих
телохранителей, почему античный человек, ученик Платона рад
37* См. там же, с. 302.
38* См. «Стих о стихах духовных, или прение о Руси» (1991-1992),
например в книге: Сергей Аверинцев. Стихотворения и переводы. СПб.: Издательство
Ивана Лимбаха, 2003.
5. ТЕЛО И ТОЧКА. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕДЕЛ 77
«геометризоваться», отрешиться, отделиться от тела? Потому
что в самом деле нет ничего правдоподобнее, чем нашептывание
Зенона или пифагорейцев или всей классической философской
традиции, что тело-хранители несут смерть. Кого еще тирану
больше бояться, как не телохранителей, тех самых, на ком
держится его власть; что очевиднее, чем то, что тело, чувства смертны,
обречены на смерть и кто за них держится, встал под их защиту,
того они затащат с собой. Надо тогда как можно скорее, любыми
средствами выбросить себя туда, где ты не зажат в буквальном
смысле в тиски смерти. Не будет ошибки сказать, что это первое
для философа элементарное санитарное правило: как от
смертельной заразы очистись от того, что верным путем несет тебя
в смерть.
Теперь то, на что мало обращают внимание. Тиран гибнет, его
побивают камнями закона, Зенон согласно большинству
свидетелей тоже гибнет. Не надо, нет смысла закрывать глаза на то, что
как греческая трагедия, так греческая философия в своих чистых
формах ясно указывает на смерть тела, не обязательно от яда
и меча, может быть и такую, как у Эдипа, который сам ослепил
себя, потому что иначе ничего не получалось, и полагаясь на свое
только зрение он и против своей воли оказывался убийцей отца,
мужем матери. — Без боли, без крайней выдержки не видели пути
к бытию. Схватка Зенона с тираном комментирует Парменида,
показывая не обязательно что надо делать — отыскать тирана
и убить его, — но какую степень решимости надо иметь. Что
Платон завязал отношения с двумя тиранами, чуть не погибнув,
лишний раз показывает, насколько он продолжает пифагорейцев
и Парменида. «Геометризоваться», конечно, еще не достаточно для
философии, но обязательно нужно. И я не думаю, что современная
математика — именно из-за того, что она обошла и продолжает
обходить проблему бесконечности в своем двусмысленном
основном понятии предела — годилась бы для вступительной
школы к классической античной философии. Новое время, похоже,
слишком поспешило условиться с самим собой, что чем считать.
«Будем считать ситуацию, когда после деления опять можно снова
делить без конца, пределом; условимся этот опыт называть
пределом». Не обсуждается, в каком смысле он предел. Он предел в том
смысле, что не хватило выдержки вглядываться в бесконечности
бесконечностей. В античной математике человек геометризован,
в новоевропейской алгебре ее основное понятие
психологизировано. Рядом с чистотой античной мысли новоевропейская предстает
тонущей в теле. Возвращение к античности поэтому неизбежно;
78
В. В. БИБИХИН
оно и происходит (как в новейшей математике) всякий раз в той
мере, в какой новоевропейская мысль встает на ноги. Античность
неизменно и не зря продолжает быть влекущей; для Платона,
наоборот, новоевропейская алгебра едва ли была бы интересна, как
для Аристотеля прочесывание громадных пространств неба без
онтологической перспективы было бы бессмысленным.
Вернемся к тому, что есть у Ахиллеса, человека. Надежды,
что своим движением он схватит то, что еще не схватил, у него
после опыта с черепахой уже нет,
... ибо не больше,
Но и не меньше вот тут должно его (бытия) быть, чем
вон там вот.
(фр. 8, ст. 44-45, Лебедев39*)
Человек, стремящийся что-то достичь, стремится потому,
что уже захвачен тем, схватить что ни в каком случае, никогда не
сможет. Потому что то, что у него есть, у него уже есть и так в
невозвратимой полноте. Это интересная ситуация в том смысле, что
здесь inter est, «есть между», в каждый данный момент не всё
равно, в том числе — самому себе; интересная вдвойне тем, что как
именно и что именно не равно себе (необладание до поимки
оказывается единственным настоящим обладанием; попытка поймать
лишает обладания; отказ от поимки позволяет вернуться к
обладанию), тоже определяется не наблюдением. У Николая Кузанского
есть трактат «Об охоте за мудростью»40*. Охота по-русски,
возможно, то же слово, что охват; софия, за которой идет охота,
первоначально означает ловкость схватывания. Высшая и самая
интересная охота — это погоня за тем, как мы за всем гонимся.
В стране, захваченной сейчас захватом, мы не заняты ни
критической, ни аналитической рефлексией о захвате. Мы верим
своему чутью, что что-то главное в этом захвате не только не схвачено,
т. е., значит, оставлено для разбора нам, но и что чем откровеннее
ведущийся захват, тем больше он говорит нам, и даже если у нас
из-за малой подготовки, недостатка сил нет шансов сказать что-
то новое, нам дано думать о такой возможности, ожидать, что она
где-то готовится, и самим готовиться к слову, которое станет новой
эпохой, не в смысле очередной организации масс, а в смысле
события мира, возвращения к земле.
39* Фрагменты..., с. 297.
40* См.: Николай Кузанский. Соч. в 2-х тт., т. 2. М.: Мысль, с. 343-416.
Перевод В. Бибихина.
5. ТЕЛО И ТОЧКА. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕДЕЛ 79
Давно пора — и не знаю, почему вы мне не напомнили, —
сделать замечание, что характер события, т. е. каждый раз
особенного, не мешает говорить о бытии как том же.
То же, на месте одном, покоясь в себе, пребывает
И пребудет там постоянно: мощно Ананке
Держит в оковах границ, что вкруг его запирают41*.
О-собенность и тожество не противоположности, не
«контрасты бытия», а как раз особенностью события поддержано то
самое в нем. В самом особенном тожество именно самому себе
всего полнее. На тожестве особенного (собственного) самому
себе держится «основной логический закон», который называется
«принципом противоречия», «принципом непротиворечия» или
«принципом отрицания противоречия». Непротиворечие в
высказывании не первично, оно зависит от того, что то же именно
таково, каково оно собственно есть, и этой своей именностью
делает возможным свое имя как именование именно его. Оба
ряда — уникальности, единственности, неповторимости и, с
другой стороны, одинаковости, идентичности — идут от того же
(самого) в смысле именно его.
Именное, особое, собственное снова указывают на местность,
куда я решаюсь вступить, — собственности.
Здесь становится труднее и одновременно нужнее различение
между сущим и бытием. Мы уже говорили о частом понимании
Парменида в том утешительном для активного сознания
смысле, что поскольку небытия нет, бери любое сущее и попадешь
в бытие. Теперь нам лучше спросить, может ли в принципе быть
бытием любое сущее. Нет ли здесь диссонанса. Бытие
единственно и тожественно только самому себе; определение любое может
относиться к сущему только в той мере, в какой оно не знает
бытия. От любого до того самого ведут не умозаключения, а захва-
ченность. Никакое обобщение вещей не ведет к полноте мира;
наоборот, в именности (уникальности) мира-согласия уже
подготовлена подробность «всего» и «сумма» вещей (любых) заранее
схвачена.
Уточним различие между занятостью и захваченностью, оно
стало теперь более интересным. Всякое занятие допускает смену
и совмещение с другими занятиями; захваченность невозможно
заменить другой и она требует себе полноты нашего существа.
41* фрагменты..., с. 296 ел.
80
В. В. БИБИХИН
Это очевидно. Менее очевидно другое. Каким бы случайным ни
было наше занятие, оно случилось способом уникального,
неповторимого захвата. Мы тревожно озабочены массой вещей,
открытых, казалось бы, нашему выбору. Но независимо от того,
что и как мы выберем, всё, включая и этот наш выбор и эту нашу
нерешенность, сковано сейчас как алмазными гвоздями с
абсолютной необходимостью тем, что оно именно таково, каково оно
есть, до положения мельчайшей пылинки в воздухе, до того, что
мы называем элементарными частицами вместе с их
неопределенностью. Со всей последней достоверностью, всё равно, во сне
или наяву, мы знаем в том числе и о том, чего мы не знаем и о чем
не подозреваем, что всё везде именно так, как оно есть, и несётся
в неостановимом вихре точно так, как несется. Мы оказываемся
каждый раз в таком положении, в каком оказываемся, точнее —
находим себя; как ни странно мое пребывание здесь и мое отражение
в зеркале, я схвачен в этом своем положении и своей странности
с железной необходимостью, с приводящей в экстаз неотменимо-
стью. Опыт простого увйдения себя здесь и теперь, такого в таком,
первичнее и строже, чем все идеи, какие человек может
перебирать в своей голове. В этом смысле как сочувствуешь пьянице из
анекдота, оказавшемуся случайно в театральном зале на
генеральной репетиции. Окончив играть, актеры с режиссером замерли,
ожидая суда, по-видимому, какого-то представителя руководящих
инстанций, который мрачно насупившись сидел в последних
рядах. Идея? — сказал он сердито. Нервно и подробно режиссер
стал объяснять идею произведения, подчеркивая ее приемлемость
и актуальность. Снова молчание и снова мрачный вопрос: Идея?
Обиженный и испуганный режиссер, боясь, что ему плохо удалось
выполнить свою задачу, еще внятнее и убедительнее излагает
идейное содержание спектакля, но мрачный посетитель прорывает
его: Да нет, я спрашиваю, иде я нахожуся? Сочувствуешь его
простому удивлению перед такостью ситуации, а не интеллектуалам,
блуждавшим в мирах своих представлений. — В другом, детском
театре на «представлении», в котором ветхая пленка декораций,
вялого сюжета, старательных костюмов, текста едва скрывала
потерянность актеров, которые силились быть в сказке, а на деле
голосом, жестами, главное настроением (его дети воспринимают
первым) принадлежали своим заботам о заработке, скандалам,
взаимным счетам и эту грязь выплескивали на детей, один ребенок
трех лет спокойно прошел между рядами прямо к сцене, поднялся
на нижнюю ступеньку лесенки и спокойно же остановился, так что
его голова только возвышалась над полом сцены. Капельдинерша
5. ТЕЛО И ТОЧКА. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕДЕЛ 81
в ужасе сказала родителям, что режиссер ее за это уволит, но
если бы режиссер не был бы так же, как его актеры, далек от
захваченное™ своим занятием, он был бы рад появлению ребенка
как находке.
Человек находит-ся, находит себя — если находит — словно
завороженным, влипшим в случившееся состояние всего. Может
ли он хоть пальцам шевельнуть, двинуться с места,
вмешаться в эту скованность всего тожеством, нарушить или изменить
ее? Зенон или Парменид нам объявляет: нет, ни пальцем
шевельнуть, нарушая мировое заворожение, вы не можете. Если
вы захотите что-то нарушить, вы поступите именно так, как
поступите. Летящая стрела стоит на месте и сдвинуться с места не
может. — Апория стрелы Зенона изложена только в
аристотелевской «Физике» VI 9 и у трех комментаторов к этому месту. Нам
всего лучше будет взять чистый текст Аристотеля без добавлений
в квадратных скобках и без того, что досказывают для ясности
комментаторы. Оказавшись ближе к словам Зенона, мы не
пожалеем, потому что их неожиданный смысл приоткрывается именно
при отбрасывании поздних поясняющих толкований. Летящая
стрела неподвижна, потому что αίεί... ήρεμεΐ παν όταν ή κατά το
ίσον, εστίν δ'αίεί το φερόμενον εν τω νυν. Я придаю значение —
а как прикажете не придавать? — тому, что скрадено в русском
переводе: о том, что движущееся (в переводе «перемещающееся»)
всегда находится в «теперь», сказано с повторением глагола,
отнесенного выше к стреле (в переводе «летящая»)42*, и это — то
слово φέρομαι (от основы, этимологически родственной русскому
«беру», в среднем залоге с переходом значения во взят, захвачен,
несусь), которое четырежды повторено в начале поэмы Парменида,
где он мчится, несется несомый божественной колесницей. Зенон
ученик Парменида. Его апория стрелы в применении к
несущемуся Пармениду заставляет думать о покое того порыва в том же
смысле, в каком Аристотель, развертывая бытие элеатов, говорит
об энергии, которой не противоположен покой. Что Зенон
намеренно говорит о стреле, покоящейся в своем стремлении, тем же
словом, каким Парменид рассказывает о своем экстазе, — это не
просто возможно, но и неизбежно в свете свидетельств о том, как
он парадоксально и верно истолковывал учителя, ничем другим
кроме такого истолкования не занимаясь.
Стрела несется. Это несущееся каждый раз есть, причем
именно в силу полноты происходящего с ним. Несущееся есть
42* См.: Аристотель, Сочинения..., т. 3, с. 199.
82
В. В. БИБИХИН
в теперь. Это теперь в кратком изложении Аристотеля ставится
без пояснений, без развертывания в связь с наречным выражением
κατά το ίσον, букв, в равном, в одинаковом или в равенстве
одинаковости, сообразно равенству одинаковости; о том, что находится
в этом состоянии, сказано, что оно «покоится», ηρεμεί. Я невольно
вспоминаю здесь о гераклитовской молнии. Не раз Гераклит
казался нам лучшим комментарием к Пармениду.
Выпишем синонимические выражения из доказательства
парадоксальной неподвижности стрелы по Аристотелю,
излагающему Зенона: εστίν έν τω νυν = εστίν κατά το ϊσον = ηρεμεί.
A.B. Лебедев имеет свои основания, когда к этому «есть в
равном» (о несущейся стреле) добавляет еще три слова, даже не
беря одно из них в квадратные скобки: «занимает равное [себе
пространство] »43 *.
Добавление вносится для интерпретации простого прямого
смысла, который, однако, работает и так, без всяких добавок. Мы
соотносим его с Парменидом VIII 29, знаменитым стихом, где
тавтология достигает снова головокружительной степени: стих
состоит по сути дела из одного слова само, или то же, потому что
два глагола там почти служебные. В переводе Лебедева44*:
То же, на месте [!] одном, покоясь в себе, пребывает —
снова добавление на месте одном и снова оно привносит
пространственные представления туда, где говорится об исходно
простом, допространственном. Я говорил в позапрошлом
семестре45*, что исследователей завораживают десять may этого стиха,
которые словно навсегда запечатывают повторяющееся то же,
то же:
ταύτόν τ'έν τ'αύτώι τε μένον καθ'εαυτό τε κείται
Этот стих, сказанный с запасом на тысячелетия, в ушах
Зенона, конечно, стоял, и зеноновское или уже в пересказе
аристотелевское κατά το ϊσον переговаривается с парменидовским
καθ'έαυτό. Смысл обоих — парменидовское тожество бытия, не
в смысле приравнивания его к чему-то или вставления его в
фиксированное место-пространство, а в том смысле, что бытие и есть
тожество, мгновенная схваченность всего в его абсолютном не-
43* См.: Фрагменты..., с. 310.
"* См.: там же, с. 296 (фр. 8, стих 29).
45* См.: Чтение философии..., лекции 13-14 второго семестра.
5. ТЕЛО И ТОЧКА. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕДЕЛ
83
отменимом равенстве самому себе (мы уже упоминали, что всё
у Зенона и Парменида — одно из имен того же, самого).
Стрела именно потому, что она несущаяся, т. е. захваченная
бытием, как несущийся Парменид в начале своей поэмы, схвачена
как запечатана, как отпечатана в моментальном снимке в вечности,
подобно тому как молния выхватывает вдруг всё мгновенным,
остановившимся. В ирландском tau я есмь происходит из той же
древней основы, что русское стою (с выпадением первого
согласного звука). Tau: я есмь как остановившийся, замерший в
мгновении, застигнутый молнией.
Только теперь мы можем заметить вот что. Эта ранняя мысль,
с которой мы сейчас имеем дело, очень прочна сама по себе, так
что не надо спешить ее развернуть и прокомментировать. Всё, что
в парадоксе Зенона говорится о равенстве, о покое того, что в
равенстве, относится, вы помните, к стреле. Она движется, φερομένη,
букв, несома-несется с никуда не девающимся из этого слова
историческим прошлым (этимология — русское беру46*) взятости,
схваченности. Мы говорим о рисунке, портрете: хорошо схвачено;
или: здесь что-то схвачено; уточнить, что именно схвачено, бывает
трудно, легче заметить, что схвачено. Живопись останавливает
то, что она в себя вбирает, однако эта остановленность не выглядит
ущербом, уродством, мертвенностью; именно в плохой живописи,
которая уже не живопись, фигуры кажутся мертвенно
неподвижными. Дело в названной выше схваченности, в остановленности
всего способом озарения, молнии так, что остановлены
одновременно и изображенное, и взгляд глядящего (а плохая живопись,
наоборот, не останавливает на себе глаз); ср. во многих описаниях
встреч с Сикстинской мадонной Рафаэля момент
остановленности глядящего, как о. Сергий Булгаков, например, говорит, что
был прикован неподвижно на часы на кресло перед этим, как
называет картину Рафаэля Хайдеггер, окном. Немыслимая
прочность, укорененность ранней мысли (возвращаемся к парадоксу
стрелы) дает о себе знать в том, что нет даже особой
надобности в силлогизме, который выписывает из Зенона или передает
своими словами Аристотель (всё покоится, когда оно в равном',
но несущееся всегда в теперь, т. е. в равном', следовательно,
несущаяся стрела будет спокойна). Само по себе слово, уже одно
слово φερομένη, размах значений которого — от нестись до быть
уносимым, ограбленным, уже предполагает «схваченность» в том
46* См.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. 1. М.:
Прогресс, 1964.
84
В. В. БИБИХИН
смысле задержанности, остановленное™, в каком мы говорим, что
«художник сумел что-то схватить». (С этим грабежом мы в
который раз прикасаемся к теме владения и собственности.) Стрела
φερομένη, увлечена (еще одно значение слова), схвачена своим
стремлением и уже этим самым, без силлогизмов, остановлена
в вечности {теперь понимается античностью как мгновенно
присутствующая вечность).
Мало того, мы пока еще не вгляделись во всю сгущенность
той ранней мысли. Парадокс Зенона, мы сказали, «работает»
и без приводимого Аристотелем силлогизма уже той полярностью
смысла, которая заложена в φερομένη, несущаяся-схваченная,
подразумевается стрела. А само слово «стрела»? По-гречески
стрела — οίστός. Как русское беру в совершенном виде будет
образовано от другого корня, так в греческом будущее время от
φέρο звучит οϊσω, так что слово οίστός, стрела, собственно то
же самое, что φερομένη, несущаяся. В одном οίστός, стрела, уже
спрессован весь зеноновский силлогизм: стрела это то, что
собралось нестись, взято, схвачено, «ограблено» этим несением
и тем самым остановлено в абсолютном покое {мире). Гераклит
со своим подчеркнутым вниманием к слову иногда не так близок
к языку, как почти всегда незаметно близка к тайной речи слова
школа Парменида. Стрела указывает кроме того на вооружение
божества, на его огненные стрелы, т. е. молнию. И то, что
сказано, и то, что именно это сказано, и то, как сказано, и чем сказано
в этой апории стрелы, — всё схвачено, можно было бы подумать,
чудом, если бы во всём этом не было уверенной, мастерской
прямоты. Лучше поэтому сказать: перед нами софия, хватка, ловкость,
искусство. София и философия — Аристотель часто говорит эти
слова вперемешку.
Стрела в своем полете схвачена, остановлена самим своим
порывом, покоится не во времени — никакого такого времени, когда
можно было бы ее схватить, нет — и не в пространстве — оно
еще не развернулось из бытия. Слова место, пространство
привносятся толкователями, у Парменида и Зенона их нет. Стрела не
остановилась в «пространстве», а схвачена одноразово как
несущееся-взятое. Дело не в том, бывает или не бывает такое малое
время, когда стрела стоит, а в том, что схвачена так стрела бывает.
Не обязательно было искать остановившуюся стрелу в живописи;
всякое вот имеет те же свойства. Парадокс стрелы — ответ на
парадокс «Ахиллес» и его решение. Дискурсивно движущийся
в переборе бесконечного множества точек Ахиллес растерялся,
догоняя черепаху, и не может решить (в принципе), какую точку
5. ТЕЛО И ТОЧКА. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕДЕЛ 85
одной бесконечности надо сопоставить в одно-однозначном
соответствии с точкой другой бесконечности, но тот же Ахиллес
преспокойно схватывает черепаху и схвачен сам в тожестве всего
самому себе. «Остановись, мгновенье» — просьба Фауста, но
и вообще всякое есть существует только в меру такой остановки.
Всякое имя схватывает именно остановившуюся вещь, и не так,
как думал Ницше, т. е. портя поток, заставляя его окостенеть,
искажая его текучесть, а так, что даже поток существует только
в меру его схваченности как именно потока. Мир живет великими
заворожениями. Всё высвечено замеченными или незамеченными
молниями. Всё как бы сфотографировано.
6. Границы собственности
(16.3.1993)
Сегодня оставим апорию Зенона, хотя не хочется. Вспомним
Аристотеля: бытие искали, ищут и будут искать всегда и всегда
будут приходить к апории. У Зенона она наглядна: никаким напором
Ахиллес не берет черепаху, ему становится только хуже. — Тем не
менее история продолжается: европейский народ на протяжении
своих 2.5 тысяч лет или больше главным образом и прежде всего,
«вечно», как сказано у Аристотеля, захвачен бытием, — не
академической проблемой бытия, а тем, чтобы быть, по-настоящему
быть, истинно быть, иметь дело с тем что есть, и подтверждает это
свое намерение, эту свою захваченность в каждой фразе, в которой
обязательно присутствует бытие, потому что все другие глаголы
можно считать модификацией этого быть.
А если в языке это быть отсутствует, что тогда? А ничего.
Всё равно интенция останется. Но если слово вообще отсутствует,
речь кончилась? Опять ничего. Захват, который сейчас вокруг нас
происходит, захват всего, что люди захватывают (я не могу сказать,
что захват «богатства» или «имущества», потому что нет причин
считать «богатством» очень дорогую шубу, не риск ли это; или
много нефти, не несчастье ли скорее; кроме того, настоящая
ценность дорогой шубы — это возможность появиться в элитарном
месте среди «интересных» людей, нефти — возможность купить
элитарный автомобиль, достоинство которого теперь
определяется не мощностью и размером, а массой электроники, т. е.
«информации»), нацелен на цели, которые быстро меняются, не
требуют формулирования их в качестве бытия или истины и часто
не нуждаются в слове. Язык теперь не иногда, а большей частью
или почти всегда служит для того, чтобы не сказать настоящую
цель, настоящее средство, что делает цели непрозрачными для
самих стремящихся.
6. ГРАНИЦЫ СОБСТВЕННОСТИ
87
Здесь требуется одно различение. Повторю: захваченность
не нуждается не только в том, чтобы назвать свою цель словом
«бытие» («я стремлюсь к бытию», «я хочу иметь дело с тем что
есть»), но не нуждается и вообще в слове; люди говорят не совсем
то или совсем другое, чем делают, называют себя иначе, чем сами
о себе думают, кажутся не тем, чем оказываются, говорят вообще
дипломатическим языком. Человек может что-то сделать вообще
ни слова не говоря и не отдавая себе в своих действиях отчета. Так
называемое «стратегическое» применение языка как инструмента
для достижения цели, задеиствуя слова, не верит слову, надеясь на
дело. Или я не прав и человека нет без речи, без языка?
Допустим, я не прав и человеку во что бы то ни стало нужно
именовать, объявлять. Он сам без имени невозможен, так что
человек без имени получает имя: Безымянный. Ну и что? Возможно,
все эти имена уже никакого отношения не имеют к реальности,
мало ли кто что может сказать и написать, как кого назвать.
Я пишу на доске слово ПАРИЖ, положим, очень большими
буквами. Значит ли это, что я оказался в Париже или ближе к Парижу,
чем вы? Теперь я напишу очень крупно БЫТИЕ. Определю его.
Окажусь ли я онтологически весомее вас? Или с бытием так же,
как с Парижем, и даже если я напишу на доске совсем крупными
буквами БЫТИЕ, а вы у себя в тетрадях — крайне мелким
почерком, я всё равно не буду иметь преимущества? Если я буду очень
много раз повторять всегда одно и то же слово, вот это, бытие,
я окажусь в бытии?
Ответ вам кажется ясен. Но в философии нет такой
странности, такой причудливой, парадоксальной вещи или такой мелочи,
мимо которых надо было бы, не обращая внимания, спешить
к важным вещам. Всё одинаково может оказаться бездонным,
как расстояние от Ахиллеса до черепахи, смешное и крошечное,
оказывается вдруг бесконечным. — Конечно, вокруг всего в
философии больше чем где-либо выросли завалы ложных мнений, так
что всё пространство истории философии до самой новейшей
давно стало сплошной свалкой. Вокруг тождества, по Пармениду,
бытия и мышления тысячелетняя или двух с половиной
тысячелетняя свалка. Но ведь мы так или иначе живем на свалке, если
верить Аристотелю или тому, что мы видим на московских улицах.
И лучше думать не о том, как это глупо, повторять одно и то же
слово «Париж» в надежде приблизиться к нему, а о том, что самые
отчаянные нелепицы всегда громоздятся вокруг самого главного.
Самые важные места закрыты для нас нашей насмешкой над
глупостями, которые неизбежно рядом с ними звучат. Что можно
88
В. В. БИБИХИН
повторять «бытие, бытие» и оказаться как раз там, мы читаем
в одной не самой плохой книге по истории философии: «Среди
мыслей, которые сами по себе суть лишь субъективные
человеческие способности, есть мысль, неизбежно [!] выводящая нас из
субъективности, дающая достоверность» (ах, господа, объективная
достоверность это и есть бытие, по крайней мере на языке автора
книги). Это исключительное, выносящее нас на надежный берег:
«...не мысль о чем-то, а просто „мысль"», предмет которой не
«нечто существующее», а просто «существующее», т. е. бытие. Как
только предметом нашей мысли становится не что-то наделенное
бытием, а само бытие, наша мысль сразу же выносит нас из
блужданий субъективности на твердую почву объективности; имей
в своей голове просто чистое бытие, и ты будешь уже тем самым
в безошибочном бытии. — Что здесь ошибка?
Самое удивительное: ошибки во всём этом фантастическом
рассуждении просто нет. Его негодность вполне уживается с его
лексической и логической правильностью. С его
историографической правильностью: мысль по Пармениду одно с бытием.
Попробуйте возразить.
В чем дело, что происходит? Почему если я помыслю Париж
сам по себе без ничего постороннего, просто Париж в чистоте
и без привнесений, европейская столица сюда не придет, а если
я помыслю бытие именно как бытие, не как что-то причастное
ему, а в чистоте его простого существа, то бытие придет, я к нему
прикоснусь, с ним сольюсь и окажусь в объективности, в
достоверности? Я вас спрашиваю: какие чудеса здесь совершаются?·
Можно ли отсюда сделать вывод, что Париж отличается от бытия?
Какое между ними отличие?
Смотрите: Париж от меня не зависит, я никак не могу его себе
обеспечить, а бытие зависит? Помысли именно его, в этой мысли
уже и будет бытие, сама мысль будет бытием. Я мыслю,
следовательно я существую. Бытие оказывается доступнее Парижа,
а бытие ведь важнее, без него нет Парижа. Если оно близко, как
мысль, которая нам ближе чем слово, то бытие всегда совсем-
совсем рядом, во мне, в вас, надо только каким-то особенным
образом помыслить, или даже этого не надо, а достаточно
поверить: господа, ну почему это нам казалось, что всё как-то не так;
пожалуйста, скажите особое слово, сделайте нужный жест, и мы
все вместе с вами там, не в Париже конечно, но в бытии, истине,
спасении, насколько это лучше.
Фантастические межпланетные полеты не так фантастичны,
как это обещаемое многими, от автора той вполне академической
6. ГРАНИЦЫ СОБСТВЕННОСТИ
89
обзорной книги по истории понятия бытия до проповедника,
который сегодня, 16 марта 1993 года, на углу вестибюля метро
«Новослободская» объявил, что спасены и вошли раз навсегда в жизнь
вечную все помолившиеся с ним; <или> вчера, вечером, в соборе
Святого Петра объявил, что есть три скрывающихся в тайне лица,
которые хранят путь к божеству. Страшно сказать, какого
громадного материка малых или массовых экстазов, огня и отчаяния
касаемся мы в этой теме, моря религиозных и революционных
или более мирных преображений мира, обещанных за один только
поворот сознания. Думайте так, установите только свой ум так,
как уже установили мы, окрыленные, и кончится теснота,
начнется истинное бытие. — Почему мы спокойно проходим мимо этих
призывов повернуть свое сознание?
Миллионные еретические движения, революции, которые
тоже современные еретические движения, все проходили под
знаком близкого спасения. Только чуть-чуть поверни сознание,
прими вот что, совсем кроху. То, что я называю мягкими ересями,
например воскресные проповеди по телевидению симпатичных
свободных американских протестантских церквей или
бессознательно наивные способы житейского устроения, договоры и
соглашения с самими собой, — как всего этого много вокруг нас,
я говорю, целый океан, который и нас разве не захватывает хотя бы
немного своим притяжением, мы разве не соскальзываем
ежеминутно в соблазн ереси, αϊρεσις? Что такое αϊρεσις? Грамматически
это имя от глагола αίρέω брать, взять, схватывать, например
κόμης схватить за волосы; еще взять на войне, в плен, завладеть,
захватить', о логосе, речи, смысле говорится, что он а\рг\убежда-
ет, доказывает, в простом исходном смысле захватывает; и как
в нашем схватывать есть значение умственного постижения, так
αίρέω значит еще и понимать. В этом ли смысле αϊρεσις, ереси,
я говорил о захваченности? Наверное нет, но на каждом шагу
я должен был иметь в виду эту схватывающую и одновременно
схватывающуюся, загорающуюся природу человека,
выставленную в огненный океан экстаза. Церковь традиционно понимается
как корабль в океане, вот этом, который, я говорю, постоянно
подмывает нас всех. Почему, зачем в океане, это же опасно,
почему не на суше, не на горе, почему именно лодка Петра —
первая церковь, почему Христос вступает для проповеди в лодку?
Потому что мимо огненного океана церковь никогда не хотела
пройти, хотела быть в этом океане и для него, не суша ее стихия,
а захваченность и риск. Не случайно церковь всегда имела дело
с ересями, они море, в котором лодка церкви начинала тонуть от
90
В. В. БИБИХИН
количества выловленной рыбы. Это в начале ее истории. И теперь
она тоже может потонуть, на этот раз от слабости старого корабля
и от силы разыгравшегося океана. Аверинцев говорил вчера на
конференции о неизбежности для веры риска, соблазна,
например теократического. Церковь выставлена в стихию ереси. Когда
церковь еще прочно держала руль и вёсла, она смело объявляла
ересью всё кроме ортодоксии. В революцию церковь уже не имела
сил назвать революцию ересью, для нее марксизм был уже одним
из светских учений. Слово ересь сейчас не звучит вовсе не
потому, что самой вещи не стало. Как никогда современность живет
захваченностью и ответной хваткой как выбором образа ума (см.
выше о принятии мер) в первую очередь.
Ереси: учения, последователи (секты). Запорожская сечь.
Строгой церковью марксизм был бы признан одной из ересей
определенной секты.
Во всём, что говорилось выше о захвате и захваченности,
была опасность недостаточного внимания к этой схватывающейся,
зажигающейся природе человека. Сейчас мы будем к ней
внимательнее. Ходя по краю рискованной области, мы постараемся
быть еще более открытыми, и нам откроется новый, неожиданный
смысл нашего высказанного в начале этого курса наблюдения, что
все нормы, учения, теории, верования прочитываются только
пониманием (другое имя захваченности) и в свете понимания. Если
бы мы с самого начала не отказались в нашей попытке думать от
всех других ориентиров, кроме внимания и открытости, то от них
пришлось бы отказаться теперь.
Дальше. Церковь одинокий корабль в море беды (Августин)
не потому, что никто больше кораблей не строил, а потому, что все
остальные разбились. Кажется, Джон Дьюи сказал, что мысль это
океан, философские системы корабли и история философии —
рассказ о том, как эти корабли тонули в этом океане. Сейчас, когда
нам стало ясно, что захваченность от ереси ничего не отделяет, что
одна широко переходит в другую, для нашей малой лодки настал
этот час: разбиться и потонуть. Мы принимаем этот провал,
признаём, что ни у нас, ни у кого нет приемов остановить
захваченность от перехлеста в одержимость. По Хайдегтеру провал —
лучший подарок мысли от бытия. Примем его сразу с благодарностью.
Провалившись, потонув, мысль прекращается? Нет, она
продолжается как затонувшая мысль. Океан никуда не девается, когда
в нем тонет корабль. Будем считать нашу мысль провалившейся
и потонувшей. В психологическом тесте с океаном и лодкой
выберем сразу открытый океан. На лодке кажется надежнее, но
6. ГРАНИЦЫ СОБСТВЕННОСТИ
91
возможен ли по-настоящему непотопляемый корабль? А главное
непохоже, что непотопляемым быть очень честно. Лучше раз
навсегда в наших отношениях к бытию отказаться от фантазии, что
поворотом сознания, устроением ума, направлением или
напряжением мысли нам удастся силой вынудить бытие обеспечить себе
бытие. Всегда будет искушение понимать силу, которою «Царство
Небесное берется»47, как напор сознания и воли, поэтому никогда
не будет лишним помнить о зеноновской и аристотелевской апории
и думать, о какой силе говорит евангелист.
Я говорю, что мысли лучше принять подарок бытия, провал.
Теперь, как продолжается тонущая мысль. Собственность
повертывается сразу неожиданной стороной: если так проблематична
мысль, то тем более проблематична собственность; если провал
мысли подарок, то не освобождение ли конец собственничества?
Означает ли это социализм, необходимость отдать собственность
другому или всем, такому фантому? Наверное нет. Нас
подстерегает в нем худшая опасность, по которой мы догадываемся, что
мы на верном пути, рядом с настоящими вещами. Мы рискуем
впасть в «так не доставайся ты тогда никому». Русское
оставление поля невозделанным лучше ли, чем отдание его технической
рациональности?
В первичном захвате (захваченности и схватывании)
единственным постоянным пределом, как мы видели, остается мир.
Не будет ли лучше, если мы с самого начала согласимся с нашим
предчувствием, что и в собственности единственным надежным
пределом (определением) окажется мир? Сделаем этот шаг; он
кажется смелым, но он же и вынужденный. На вопрос «чей мир?»
будем уверенно отвечать: «ну разумеется же мой, чей еще». Такое
владение кажется непомерно большим. Но, похоже, это
единственный путь, на котором мы не запутаемся сразу же в безысходных
неопределенностях. Независимо от того, кто что называет
своим, я из честности и ради ясности должен набраться смелости
и назвать своим целый мир. Только это окажется справедливым
и единственно правильным решением. Это и единственный путь
к самому себе, потому что я не найду себя иначе как в мире
(подробнее — в курсе «Мир», весенний семестр 198948*).
Делю ли я с другими, скажем в «диалоге», совместное
владение миром? Нет, я ничего ни с кем не делю. Весь мир моя
47 Мф 11: 12.
48* См.: В. Бибихин. Мир (издание 2-е, исправленное и дополненное). СПб.:
Наука, 2007.
92
В. В. БИБИХИН
собственность — именно моя. Но и именно весь мир. Вступая
в обладание своей собственностью, пусть это маленькая квартира,
я должен посмотреть и разобраться. Я не могу вступить в
обладание миром не разобравшись.
Сразу возникает вопрос: Париж входит в мир? Если Париж
входит в мир, а мир мой собственный, то и Париж тоже моя
собственность? И конечно да: куда я гожусь, если Париж Сезанна,
Марселя Пруста не мой. С какой стати он будет моим в меньшей
мере, чем собственностью парижан. А магазины Парижа? Вдруг
я сталкиваюсь с жестким обстоятельством: они не могут быть
моей собственностью потому, что объявлены и записаны как
собственность других. Картины Сезанна в подлинниках и копирайты
Пруста тоже собственность других. Весь мир прочерчен
границами частных владений. Что мне от мира остается?
То, что Сезанн может быть больше мой чем владельца
картин. Могут ли быть магазины Парижа в большей мере моими
чем их собственников? И здесь нет большой проблемы. Почему
бы и не моими. Не в том смысле, что я богаче и у меня есть
документы, подтверждающие мое право владения, но в том смысле,
что для меня, допустим, прозрачнее сама суть и права владения
и современной экономической системы; я знаю их начало и
предвижу конец — допустим. Частной собственностью скоро станет,
возможно, почти всё вокруг нас. Возможно, если загадочным
историческим назначением России не будет продиктовано что-то
иное. Допустим, однако, что всё станет чьей-то собственностью.
В каком смысле Россия останется всё-таки моей? В том важном,
определяющем смысле, что я умею видеть суть теперешнего
русского обогащения. Оно стоит на немыслимой нравственной
свободе в России при отсутствии понятия права.
7. Собственное как настоящее
(23.3.1993)
Что нет безусловных нешатких оснований проводить
различение между Парижем и бытием, — выставляя, скажем, что
один реальное географическое место, а бытие понятие, мысль
или обобщение, — это был один из уроков, с которыми пришел
в XX век или которым открыл XX век Эдмунд Гуссерль. В каком
смысле он говорит в «Логических исследованиях» II 8 и I 31, что
«принцип параллелограмма сил [т. е. закон механики] есть такой
же полноценный предмет (Gegenstand), как к город Париж»? Их
статус, реального Парижа и идеального понятия, одинаков не
потому, что мы рылись сначала в реальном, потом в идеальном
и там обнаружили одинаковость, а потому, что так случилось,
что это реальное и то идеальное для нас одинаково «предмет»,
Gegenstand, стоит перед нами, пред-стоит нам, нашей интенции.
Ин-тенция вызвана пред-стоящим, но и пред-стояние создано
ин-тенцией: втянутостью. Вы спросите: позвольте, как это может
быть, что мы «втянуты» одинаковым образом в закон механики
и в город Париж, разве такое возможно, разве такое нормально?
Я скажу: вот уж не знаю, правильно это или нет, но рассуждать
поздно, поезд уже ушел, мы уже втянуты, захвачены тем, чем мы
захвачены, вы законом механики, я городом Парижем, и концы,
так сказать, в воду: поди разбирайся, справедливо мы так всем
своим существом втянуты каждый в свое или нет, надо было нам
быть так захваченными или нет — мы уже там. Вы возразите: но
ведь «идеальное» это просто что-то... идеальное! Мне будет
приятно заметить вам, что пред-метом втягивания, ин-тенции может
выступать по Гуссерлю даже не обязательно идеальное в
противоположность реальному, но и нереальное тоже49. Иллюзия, фанта-
49 Феноменологическая психология 3.
94
В. В. БИБИХИН
зия. Сон. — Приведите пример ирреального, которое захватывает
человека. — Я предложу заметный пример. Зло — не понятие
зла, а злое зло, — может втягивать человека двумя способами,
охватывая и задевая, да и втянуло так или иначе хорошо если не
всех нас. А ведь зло не существует, вы прочитаете об этом в любом
учебнике философии и богословия: зло есть недостаток добра, его
неполнота, пропуск, лакуна на месте добра. Это несуществующее
может захватить всего человека полностью или, пожалуйста,
целый народ. — О том, что мы можем быть заняты (захвачены) тем,
чего нет, мы уже говорили и к этому потом вернемся. Сейчас пока
наша тема другая, захват бытия.
Из-за того, что мы не можем себе назначить схватывание
бытия в вещах, в языке, в мысли — эти три пробы мы сделали
и быстро отрезвели, а на пути искания бытия в том, чего нет,
обещать что-либо себе мы тем более не можем, — из-за этого не надо
сердиться и отказ от онтологии понимать в смысле прекращения
обреченности на искание бытия, замеченной Аристотелем. Если
мы сердито, капризно, скептически, пессимистически скажем,
что мы нигилисты, мы свяжем себя несуществующим, которое
завербует нас в свидетели его отсутствия, проработает нас, заставит
измениться, захватит и будет вскапывать, взъедать, взрывать нас
тем больше, чем глубже мы будем въедаться в
головокружительную пустоту. Головокружение дойдет до крайности, когда наш
нигилизм убедит нас, что и ничего — тоже нет. Непризнанное,
непринятое делает с нами многое и во всяком случае не
меньше, чем признаваемое и принимаемое. О Париже мы не можем
сказать, что он продолжал бы точно так же задевать нас и в том
случае, если бы его никогда не существовало. Отношение мы
и бытие страннее, чем отношение мы и Париж. Первое не
вмещается в схему «мы и предмет нашей интенции» (по Гуссерлю),
потому что «мы» заранее уже включаем в себя бытие не так, как
включает его в себя Париж — сущее, безусловно причастное
бытию, — а так, что наша причастность бытию не безусловна,
может полностью отсутствовать. С другой стороны, сама
возможность отсутствия в нас бытия говорит о такой интимности
нашего отношения к нему, какая сущему недоступна. Моя мысль
(в конце 1991-го мы прослеживали это, говоря о «Теоретической
философии» B.C. Соловьева50*) не в силах уцепиться за бытие,
«конципировать» его, при попытках добиться этого оказывается
в апории, но провал мысли не мешает тому, чтобы мое отношение
См. курс «Чтение философии».
7. СОБСТВЕННОЕ КАК НАСТОЯЩЕЕ
95
к бытию как отсутствующему обострилось. Моя нищета схвачена
тожеством самой себе не меньше, чем моя полнота; первая —
событие не в меньшей мере, чем вторая, и ничто противоположно
бытию не как ночь дню, а как пустота — вмещенному. В конечном
счете я ведь не знаю полностью, какое оно (бытие), и могу не
опознать его, встретив. Опыт мне поможет, но здесь он странный: не
знакомства, узнавания и быстроты опознания, а прямо наоборот,
растущий опыт непоправимого незнакомства, неузнавания, опыт
того, что трудность опознания не уменьшается.
Незнакомыми лицами бытия созданы мои несчетные Я. Вы
скажете: мои разные Я составляют мое богатство, они события,
у меня должно быть столько граней («многогранная личность»).
Оборотная сторона многогранности — вызванная ею жесткая
проверка: где собственно я? Может быть, мои многие Я — моя
беда (толпа)?
Жадная современная гонка за личной собственностью
подчеркнуто отталкивает от себя прежнюю не менее нервическую
надежду иметь своей собственностью целую страну. Так Маяковский
в поэме «Хорошо» внушал себе: «Улица — моя, дома — мои...
Стала оперяться моя кооперация... Моя милиция меня бережет».
В свою очередь желание увидеть страну как свою собственность
подчеркнуто противопоставляло себя чуждым привычкам
частного владения. В смысле ли этой настроенности Маяковского
я говорил, что парижские магазины мои, потому что я лучше их
юридических и практических владельцев вник в их
принадлежность современной экономике, в поток богатств и денег, в природу
симулякра, присущую рекламе? Я не цитировал Маяковского,
когда говорил, что мир конечно же мой, «чей еще», но не ходил ли
я по краю того соблазна, который вдохновил поэму «Хорошо»? Не
поддался ли тому соблазну? Тогда почему вы меня не
остановили? Почему я чувствовал и теперь ощущаю правоту того, что мир
моя собственность, я храню собственное существо мира лучше
всех, один отвечаю за него и потому я в середине мира и он во
мне присутствует? — Или, может быть, мы с Маяковским просто
оба подступаемся с разных сторон и не одинаково ли неуклюже
к чему-то трудному и настоящему, что и узнаётся как раз по
тесному соседству — чем всегда отпугнуто большинство — правды
и лжи, по нависанию, зависанию над пропастью? Наверное; во
всяком случае, я не надеюсь быть в более безопасном положении,
чем Маяковский.
Собственность была объявлена общественной. Одновременно
всех призвали понимать «общественное» и «собственность» вер-
96
В. В. БИБИХИН
но. И собственность и общественность были поняты неверно.
Давайте гадать теперь задним числом, в чем дело, почему так
произошло и почему должно было так произойти, когда философская
теория, самая передовая — Гегель, вершина западной мысли, в его
талантливейшем ученике Марксе — стала проектом целой страны.
Целью проекта было не устроение (обустройство) одной отдельно
взятой страны, а показ на ее примере пути всему миру. Его
преображение должно было опираться на суммарный труд коллективной
сознательной личности, которая переделывала мир, выбираясь из
лабиринта обломков старого мира по пророчеству Гегеля об
абсолютном духе, вбирающем в себя природу и историю в полноте их
конкретности. Многократно отраженного и ослабленного света
этого пророчества оставалось еще достаточно для того, чтобы
дать вдохновение поэме «Хорошо», чувству сплоченной массы,
широко шагающей по главному городу самой большой страны
мира, чувству собственника всего, тем более чистому и —
странное в отношении собственника слово — беззаботному, что у него
нет собственного ничего, как у монаха, ничего не имеющего, но
делающего землю монастыря садом (ср. прозрение Леонтьева
в монастырскую киновийную сущность социализма51*). Тут садом
должна была стать целая страна, почти мир; сейчас еще сада нет,
но «через четыре года здесь [в замысле на каждом месте нового
строительства] будет город-сад» (см. о призвании земли быть
садом в курсе «Язык философии», 1989-199052*).
В чем дело, почему предприятие общественной собственности
задохнулось? Виноват мир, который не подключился к проекту,
особенно — сильный Запад, от которого всё в конечном счете
зависело? Не всё человечество захотело стать философами, как
раз страны ведущей мысли, Германия, Франция предали, «нет
пророка в своем отечестве»? — Или то идейное и поэтическое
обобществление собственности, в которое была втянута страна,
наизусть учившая новые коллективные нормы, не задевало
собственного существа страны, человека? И непонятым, незадетым
оно остается и теперь, когда в обратном движении поспешная
«приватизация» прежней общественной собственности,
нарочитое до злорадства растаптывание коллективистской идеологии,
абсурдный «капитализм», снова самоубийственно беззаботный
51 * См. текст В. Бибихина «Константин Леонтьев» в книге «Другое начало».
СПб.: Наука, 2003.
52 См.: В. Бибихин. Язык философии (3-е изд.). СПб.: Наука, 2007, с. 90-92,
327-328.
7. СОБСТВЕННОЕ КАК НАСТОЯЩЕЕ
97
в отношении собственных отцов, родителей, пенсионеров,
которых бросили нищенствовать, показывает, что и новая «частная»
собственность тоже будет понята неверно и рухнет? В чем дело,
почему меняющиеся устроения оказываются такими шаткими?
Что так будет, что всякое устроение собственности станет
плыть, не обязательно нужно было проверять на собственных
боках. Даже не зная истории нашей страны, которая стала в XX веке
уникальным экспериментатором с собственностью и продолжает
таким уникальным экспериментатором быть сейчас, можно было
знать, что всё тут окажется неожиданно и непросто, вслушавшись
в это слово, «собственность». В нем слышится собственное как
настоящее, подлинное, само. Это не прихоть языка. В собственности
собственно свое слышится не зря. Собственность, всякая, с самого
начала обречена на прояснение, дознавание до своей собственной
сути. То, что кому-то кажется досадной многозначностью,
проблемой лексикографа, — на самом деле скромная верхушка айсберга.
Ах, не лексические заботы заставляют нас обращать внимание на
загадочное удвоение в речи собственного якобы тавтологичным
своим и наоборот. Владимира Даля раздражает это, как он думает,
ненужное уточнение свой собственный («не поруски»). Мы не
делаем произвольного перескока, когда видим сходное желание
уточнить, подтвердить, закрепить собственность в нотариальной
инстанции, которая своей печатью окончательно и бесповоротно
узаконит, зафиксирует собственность своего. Вкрадчиво в лексике,
подчеркнуто в законе дает о себе знать одно и то же стремление
уточнить собственность, установить ее. Сама по себе она по
меньшей мере двусмысленна. Ее скользкость по-разному ощущают все.
Юридическое закрепление права собственности у нас
заимствовано с Запада, оно римский институт. Почему не
всечеловеческий? Почему слово, на котором держится западное право
владения, «частная собственность», говорит о части? Частная
собственность — не слышится ли здесь частичная, несобственная
собственность в сравнении с государственной и общественной,
более прочной и важной? Приватный, приватизация происходит
от того же слова (privus, privo), что наше прочь, опричник. Что
выставлено, отделено, выпало опрочъ (опричник — выделенный
из всех, телохранитель царя, совсем особый), то в исконном
понимании «приватно». Значит, раньше приватного, частного то,
из чего надо было напрочь отсечь, отрубить? Отруб, отрубное
именье — независимое от латинской модели и параллельное ей
русское образование, которое в точности повторяет связанную
с приватным идею отделения.
98
В. В. БИБИХИН
В толковании Владимира Даля отрубной — «особый,
отдельный и цельный по себе», приводимый им пример —
«отрубное имение». Поразительное определение. Здесь наивно слиты
в одно два противоположных полюса «собственности». С одной
стороны, существо отрубного, приватного привативное, это добро
выделенное прочь, вырванное из древних силков общины, мира.
Выселить крестьян на отруба, т. е. сделать общинников частными
собственниками по западному образцу, было целью столыпинской
приватизации, которую царь, расположенный к ней вначале, потом
задумался поддерживать. Постепенно охладев к Столыпину, он
оставил его без постоянной тайной охраны, а это значит —
подставил под убийство. Древняя, темная сила земли, невольными и
бессознательными агентами (реставраторами) которой были
революционеры, не терпела раздачи земли в частные руки. Не терпит
и теперь, и с современной робкой приватизацией земли убийства
уже начались. Это отсталое и косное противится прогрессивному,
рациональному? Или точнее будет сказать, что со своим разумным
проектом обустройства земли всё то же деятельное и
самоуверенное новоевропейское сознание, революционное, вторглось, влипло
в такую непроглядную глубину, даже догадаться о которой у
сознания нет шансов?
Легкость этого проваливания рассуждающего сознания в
ловушку для медведей показывает выписанная нами выше далев-
ская дефиниция отрубного. Оно отдельное, отрезанное напрочь,
т. е., переводим на латынь, приватное. Эта идея отрубленного,
отрезанного, отброшенного прочь настойчиво сопутствует
понятию частного. Спросим: отрубленного от чего? Как в Риме, так
и в России — от общины. Что такое община? Не входя в ее разбор,
вспомним ее старое название: мир. Не делая негодной попытки
вычитать из этого старого названия черты общины, заметим
другое, бесспорное: то, как это старое название уводит вглубь, как
затрудняет понимание общины, как привязывает его к проблеме
проблем («Мир, мир, ослы! вот проблема философии, мир и
больше ничего» — Артур Шопенгауэр). Частное — это отрубленное от
мира, о котором мы по сути дела ничего не знаем, ни даже того,
в каком смысле слова его брать. Но думать о том, что такое мир,
от которого отрублено прочь частное, у старых и новых
революционеров нет времени, они запланировали и спешат провести
приватизацию, уже выдали приватизационные чеки, намечают для
выполнения своей операции месячные сроки, к которым надо
радикально изменить порядок землепользования, существовавший,
за исключением катастрофического (перед «раскулачиванием») де-
7. СОБСТВЕННОЕ КАК НАСТОЯЩЕЕ
99
сятилетия, несчитанные, неведомые тысячи или десятки или сотни
тысяч или миллионы лет? Сознание снова ставит эксперимент над
тем, что есть. Для чего он нужен сознанию? Сознание одержимо
жаждой познания, овладения. Путем своего нового эксперимента
сознание хочет познать, что такое собственность. Оно выдвигает
для начала рабочую гипотезу — оно же научное и движется
методом проб и ошибок; пусть его потом опровергнут, но уже сейчас
оно должно творить, оно творческое сознание. Рабочая гипотеза
сознания та, которая наивно выражена в беглой дефиниции
отрубного хозяйства у Владимира Даля в виде двусмысленности, вернее
полярности частей дефиниции, соединенных союзом и. С одной
стороны отделенное, отрубленное — с другой цельное, по себе.
Сознание ставит эксперимент, исходя из мечтательной гипотезы:
то, что мы отделим в частное, опричное, особое, атомизированное,
индивидуальное, по какой-то причине, возможно, оживет,
приживется как целое, в себе полное, самостоятельное, т. е. единое целое
возродится и размножится в множестве малых целых.
Может ли собственное в смысле частного после
оформления у нотариуса стать собственным в смысле подлинного? Будет
странно звучать, если мы скажем, что новые экспериментаторы
с собственностью обмануты лексикой и заняты исключительно
грамматическим упражнением, сведением двух разных до
противоположных смыслов собственности в мечтательное единство, но
похоже, так оно и есть и иначе быть не может, когда люди, спеша
делать, не успевают думать. Что десятилетия истории с
миллионными жертвами и немыслимыми страданиями терпеливых масс
растрачиваются на прояснение того, что должно было бы стать
сколько-нибудь внимательному слуху внятно и так, — это
оборотная, непостижимая, иррациональная сторона рационального
сознания.
Мы заметили давно этот противоположный, полярный смысл
собственности. Собственность как принадлежность добра такому-
то юридическому владельцу — до контраста другое, чем
собственность того, что вернулось к себе и стало собственно собой.
Юридическую собственность всегда будут понимать с
уважительным оттенком восстановления собственно вещи и собственно
человека-собственника, потому что первые, основные смыслы
имеют над нами неотменимую власть. Всегда будет казаться, что
именем привораживается собственная суть именуемого. Когда,
восстав против собственников, большевики оглохли к
загадочному бездонному значению собственности, они лишили себя самой
вещи, собственной сути. Когда теперешние приватизаторы тоже
100
В. В. БИБИХИН
слышат в собственности только юридический смысл, они так
же глухи к общинным корням собственности в мире, снова не
вслушиваются в ее глубокий смысл, воображая, что достаточно
назвать его53*. От назвать до на-звать (пригласить) саму вещь
долгий путь, может быть, самый важный вообще для человека.
Оттого что Маяковский с нетерпеливой настойчивостью называл
моё то счастливое собственное, которое принадлежит мне без
отравы собственничества, оно не придвинулось. То же с нынешней
собственностью. Как бы даже не получилось хуже.
Надо возвратить собственность собственничества к
собственности вещей и их хозяина человека, к тому, что так манит сейчас
всех, и меня тоже, от несобственности коллективного
хозяйствования. Беда его была не в том, что оно должно было быть общим
делом всего мира, а только в том, что собственно общества,
собственно мира не было, не мерещилось и не ночевало: общий мир
был перечеркнут, растоптан справедливой войной против
собственничества, которая, однако, мгновенно вывернулась прямо в руках
людей из рук людей, стала неправой войной на вытравление всего
собственного, тиранией сознания, подменявшего, подставлявшего,
назначавшего мир в распоясавшемся принятии мер.
Когда мы говорили о захваченности, одновременно открывая
ее для осмысления и опираясь на нее, предполагалось, что она
каждый раз оказывается именно собой в отличие от занятости.
Собственное в смысле настоящего имеет не только знак
отрицания отрицания, очистки от неподлинности. Только кажется, будто
достаточно избавиться от лжи, чтобы попасть уже и в правду;
на самом деле наоборот, только приближение к настоящему
помогает догадаться, что такое настоящие ложь и искажение. Опыт
собственного (настоящего) и не требует специальных условий
(например юридического оформления), и находит себе путь через
искажения. Это известно всем, кто входит в собственное, там
впервые, а не заранее теоретически, открывая его захватывающую
глубину. Приобретение собственности движимо, питается этой за-
хваченностью собственным и оно же, приобретение, — срыв этой
захваченности, потому ее единство расщепляется вместе с
расщеплением смысла собственного. — Имею ли я право сказать, что
мы можем быть собственно захвачены только своим и наоборот,
можем встретить свое только в настоящей захваченности?
53* Рукописное замечание В. Б. на полях машинописи: «Россия годится по
крайней мере как образцовый опыт ошибки — она рискует, играет...».
7. СОБСТВЕННОЕ КАК НАСТОЯЩЕЕ
101
Не похоже, что я ошибаюсь. Мы ничему не принадлежим
так, как своему, не в смысле юридически за мной записанности,
а в том смысле, в каком мы говорим, что заняты своим или не
своим делом. Свое как собственное, собственное как свое близко
нам так, что развернуть уже нельзя: не разворачивается по своей
односложности и простоте. Нельзя надеяться, что мы сейчас
усилием сознания сконструируем или вычислим, что входит в понятие
своего. Свое ускользает от этих потуг сознания. Всякий про себя
знает, что такое свое, и язык в своей истории хранит здесь по
необходимости больше чем дефиниции, даже самые философские.
Своим умом и не иначе можно дойти до своего, а у каждого ли свой
ум? Один редактор наивно признался, что читает глазами
начальника. Всему свое время, но когда наступит свое время, всему не
назначишь извне, всё само знает свое время. Такое свое явно
указывает на владение, имение, только совсем в другом смысле, чем
нотариально заверенная собственность. Кто дает и удостоверяет
такое имение и владение? Кто сделал, устроил так, что «каждому
свое», «у каждого свое»? Спросите меня что-нибудь попроще.
Будем считать: мы загадочным образом уходим, углубляемся
в свое, тонем в нем. Мы слишком мелко понимаем свойство, когда
слышим в нем только присущее, принадлежащее, акцидентальное;
в свойстве предполагается опять же утопание в своем
собственном до сути, до «соби».
Похоже, что мы давно проработаны обобщенным разумом
и чуть ли не боимся того, что слышится в своем. Боится
нравственный Владимир Даль, держащий в уме высокую норму, от
которой человек отойдет, если потонет в своем: «Свое природное
в человеке, нравственная порча, пороки, самыя страсти, собь, всё,
что должно быть побеждено духом, для возрождения»54*. Уже идет
вовсю борьба со своим, в котором слышат только частное. Можно
ли говорить о порче самого современного языка (!)55*, который
склоняется трактовать свое собственное только в смысле атрибута,
принадлежности? Да, можно. Древние классические языки,
непревзойденные по широте звучания и слышания слова, не забывали
это заветное и бездонное в своем. В латинском свое как природное,
естественное, на которое Владимир Даль уже косится с
подозрением (хорошо, что хоть замечая его), полноправно выступает рядом
со своим принадлежности. Suum numerum habere, букв, иметь свой
54* См. его «Толковый словарь», ст. «Свой».
55* Здесь и далее восклицательным знаком в скобках отмечены места,
помеченные восклицательным знаком на полях машинописного текста курса.
102
В. В. БИБИХИН
порядок, т. е. быть в своем природном составе, надлежащем числе
и устройстве. Наше быть (не) в своем уме, в русском уже стертое
и задвинутое на задворки языка, в латинском хранит полноту
звучания в смысле собственно ума, полноты, природы ума. Может
быть, в русском это еще слышится в записанном у Даля не со
своего ума сошел, с чужого', понято это было бы сейчас скорее всего
так, что человек себе на уме и хитрит перед другими. Но в свете
того простого и раннего своего, которое до сих пор еще
просвечивает в нашем языке, свой ум здесь может еще, как в латинском,
значить и природу, суть, родную глубину ума: ум, оставивший
чужую извне пришедшую норму, оставленный самому себе,
возвращается в свое, может быть собственным умом не в смысле
обособленного, а в смысле собственно ума, нашедшего себя. Лат. suo
jure переводится и слышится уже в значении «по своему праву»,
«в своем праве» как за человеком закрепленным, но первоначально
значило с полным правом, по собственной полной силе права без
оттенка индивидуального права; в направлении этого последнего
изменяется словарь, так что нужны раскопки, чтобы вспомнить,
что sui juris esse это не «быть в своем праве», т. е. иметь закон на
своей стороне, а «быть для самого себя правом», «быть
полноправно свободным», «самостоятельным». Еще: suum, suus esse,
букв, «быть своим», значит быть свободным (!). Русское свобода,
производное от своего, помогает понять это латинское выражение
не в смысле принадлежности своему себе, а в смысле обретения
своего как собственной сути, о чем мы говорим в этом курсе.
В ней свобода и благо, тоже слышное в латинском своем', suo vento
ire — идти под благоприятным, удобным ветром.
Вы чувствуете, наверное, что во всём этом разговоре о своем
у меня стоит в ушах, слышится постоянно. Из-за величины рыбы,
которую мы здесь зацепили и пытаемся вытянуть из глубины,
не важно уже, кто нашел место и забросил удочку. Допустим,
в данном случае мой собственный ход мысли подтолкнул меня
к этому месту, к находке своего, и только задним числом я
получил поддержку в хайдеггеровском слове. Но здесь именно тот
случай, когда свое не имеет никакого веса в смысле «не чужого»,
«мне принадлежащего», и всё зависит от нашей собранности на
собственно своем, чтобы расхожее понимание этого
притяжательного местоимения не отбрасывало нас на мелководье вычисления
принадлежности. Нас в этом курсе интересует собственность не
моя, а собственность меня, собственно я — та исходная
собственность, минуя которую всякая другая будет недоразумением (см.
ниже разбор «Алкивиада»).
7. СОБСТВЕННОЕ КАК НАСТОЯЩЕЕ 103
Тогда, если захваченность есть всегда свое и своим и имеет
смысл только в собственно своем, то собственность, которую
мы ищем, одно с бытием? Конечно. Мы вломились в открытую
дверь. Древнегреческое имя бытия, усия, имеет исконное значение
собственности, имущества. Но и еще ближе нам —
взаимопринадлежность бытия и позднего хайдеггеровского события, Ereignis.
Это слово с начальным значением явления, открытия, озарения
вобрало в себя в истории немецкого языка глагол eignen и одним
из переводов должно было бы иметь «особственнение».
Еще раз: собственное как мое, а не твое, бессмысленно без
собственного как своего, именного, сути.
8. Кант. Вещь в себе. Свобода
(30.3.93)
Сейчас мы начнем замечать большие странности в
философии, словно впервые ее читаем. И не пожалеем, что начали
с захвата и захваченности. Я называл подзаголовки нашей темы:
Первая философия; Прояснение ситуации. Прояснение
ситуации — не в том смысле, что мы ее беремся прояснить, а в том,
что она сама проясняется сейчас в захвате, охватившем страну,
и в захваченности захватом; в собственности; в размахе
своего. Мы говорили, что с таким прояснением ситуации
обозначаются, проступают контуры мира и контуры первой философии.
Осмотримся в неожиданно открывшемся широком пространстве
мира, первой философии, ясности. Фило-софия, софия: захват
человеком мира, захватившего человека. София: ловкость, хитрость;
в филии, дружеском расположении, мы нашли наше слово и нашу'
вещь, мир. Новое определение философии: захваченность или
просто — в обоих направлениях генитива — захват мира. Наша
ситуация вернула нас к началу европейской мысли, к так
называемой «натурфилософии» досократиков, к софии мира и Бога
(тео-логия) в том смысле, в каком Розанов говорит: Бог милое из
милого, центр мирового умиления. — О Леонтьеве и Чаадаеве
мы еще не говорили, о Розанове очень мало. Вчитываясь в них,
мы удивимся, как начало нашей мысли возвращает нас к началу
греческой, мировой мысли.
Теперь, когда мы так легко, просто приняв то что есть,
оказались в середине философии, идти, собственно, всё равно куда.
Везде мы будем видеть свое и его открытие. От своего в смысле
механической противоположности твоему (убери руки, это мое, не
твое; тут я распоряжаюсь и никого не подпущу), от этой
релятивности своего, от вычисления принадлежностей мы имели право
отделаться как от сора, потому что увидели его основу в собствен-
8. КАНТ. ВЕЩЬ В СЕБЕ. СВОБОДА
105
но своем, настоящем, интимном, единственно захватывающем, где
мы сво-бодны, собственно мы, в увлеченности, пусть страстной.
Бывает злая чистота, говорил православный святой Григорий
Палама, которая не очищает, а обчищает человека. Отдаться
своему, быть захваченным только им без надежды объяснить другому,
что это такое и как это бывает, лишь ощущая бездонную тягу этого
увлечения и открывающегося в нем — ничего недолжно
страстного в этом нет, никакого абстрагирования от этого не нужно,
пусть абстракциями занимаются механики. («Механики» — так
у Боккаччо молодой человек, который оказался прав в своем
увлечении дочерью короля, называет высокоморальных законников,
которые знают много правил жизни, но не знают одного и главного.)
Оставим пока на потом разбор хайдеггеровского Ereignis,
которое можно было бы перевести как событие, особственнение,
освоение, о-свобождение, озарение, открытие глаз. В той мере,
в какой у нас открываются глаза на свое, осмотримся в
пространстве как в помещении, где прибавилось света. Это пространство
философии, которую мы давно читали, учили. Почему я нигде
не мог вычитать простого и главного, может быть, ключа к ее
пониманию? Но ведь и Хайдеггер, между прочим, очень поздно,
много после «Бытия и времени» пришел к открытию собственного
и потом еще 25 лет держал этот ключ при себе, а главную книгу
об этом («Beitrage zur Philosophie. Vom Ereignis») не напечатал при
жизни, она вышла через 50 лет после написания в 1989-м. Когда
нагромождением лексического сора казалось начавшееся у Канта,
участившееся у Гегеля повторение в себе (вещь, предмет в себе
и для себя), самость, само-, то мне никто не сказал, а я не
догадался, что здесь говорит свое как собственное, родное, раз навсегда
захватившее, выводящее к свободе. Что, жалко было учителям,
авторам книг мне это сказать? Нет, они просто не знали. Они
искали в другом месте, принимая философию за конструирование
понятий и абстрагирование обобщений, слушали и не слышали
восторг узнавания самого по себе у Парменида и во всей истории
мысли, сердито спорили между собой, выбирая варианты
перевода и не выбираясь в своем из механики отношения к чужому.
Безысходность спора говорила о потерянности. Искали не там.
Вы же скажете: но Кант и Гегель сами не сознавали, когда
повторяли это в себе, для себя, по себе, чего они коснулись, как
близко подходили к милому миру, к собственно своему. Во-первых,
не знаю, сознавали или нет. Во-вторых, допустим, не сознавали, ну
и что? Они писали не конструируя, в озарении, как слышали, и
вовсе не обязаны были сознавать, что именно слышат, как Акакий
106
В. В. БИБИХИН
Акакиевич Башмачкин, т. е. Гоголь, не хочет написать ни буквы по
своему разуму, ему такое противно, он с упоением вычерчивает то,
что ему диктуется; и быть проводником, по которому проходит ток
божественного напряжения, ему слаще, чем сопротивляться этому
току, загораясь собственным смыслом. Раскаляя проводник, ток
слабеет. — Допустим, Кант не отдавал себе отчета в том, почему
у него в следующей фразе после введения темы «вещь в себе»
появляется свобода (!). Но нам важно знать, что его мысль так или
иначе, замечает это сам Кант или нет, ходит неслучайными ходами.
Связывая вещь в себе и свободу, он угадывает то, что содержится
как намек в нашем слове сво-бода и к чему сейчас пытаемся
возвратиться мы. Свобода и не мнимая «независимость», и не
сомнительный «произвол»; она обеспечена тайной своего как всегда
открытой для человеческого существа собственности, ближайшим
и худшим извращением которой оказывается «pw-своение.
В «Предисловии» ко второму изданию «Критики чистого
разума» (1787; первое — в 1781) Кант просит (в XXVII-XXVIII)
различать вещи и вещи: одни вещи как мы их воспринимаем
чувством и рассудком и другие — собственно ну те же самые вещи,
но как «вещи в себе», Dingen an sich selbst. Здесь надо вспомнить
то, что мы говорили о занятости и захваченности. Человек может
быть занят любой вещью, но такое занятие — единственное ли
отношение, какое может быть у человека к вещи? По Канту не
единственное. Вещь может открыться иначе, чем так, что мы
можем заняться ею. Вещь может открыться как закрытая для
наших занятий. Вещью в себе заняться нельзя, но захваченность ею
возможна. И вот Кант продолжает: если бы это различение между
вещами рассудочного восприятия и вещами в себе (различение,
Unter-scheidung; здесь опять же надо вернуться к тому, что
говорилось об интересе, inter-esse, расхождении, разнице) не было
сделано, то тогда закон причинности и тем самым «природный
механизм» (я не останавливаюсь на этом слове; из говорившегося
раньше вы уже догадываетесь, как оно здесь уместно)
распространился бы без исключения на все вообще вещи. В следующей фразе
Канта названы душа и свобода: «Об одном и том же [некоем, всё
равно каком] существе, к примеру о человеческой душе [помните
аристотелевское: «например человек, бог...»], я бы уже не мог
тогда сказать, что ее воля свободна и вместе с тем одновременно
подчинена природной необходимости, т. е. не свободна, не впадая
в очевидное противоречие; потому что душу я в обоих
высказываниях брал бы в одном и том лее значении, а именно как вещь
вообще [как вещь-дело, Sache, в самой себе], и без предыдущей
8. КАНТ. ВЕЩЬ В СЕБЕ. СВОБОДА
107
критики [критика это дело и тема всей книги «Критика чистого
разума»; она предшествует предисловию ко второму ее изданию]
взять иначе и не могу»56*. Критика служит высвобождению вещи-
в-себе.
Перечитывая здесь Канта (как и вообще встречаясь с мыслью
такого размаха, уникальной, потому что таких авторов единицы),
мы не можем не заметить, как при всей своей спокойной ровности,
чуть ли не кажущейся гладкости он словно вспахивает плоскость
страницы, взрывает ее поверхность. Вот разница между писанием
и писанием: гладкопись сознания и совсем другое, до
противоположности, — превращение плоскости в объем. Что хорошее
письмо вспахивает папирус, ощущалось всегда, и не случайно раннее
письмо справа налево, потом слева направо называлось
«поворотом быков», как при пахоте. Когда Татьяна Толстая говорит, что
ей надо «пахать», она может не помнить о том старом выражении,
но имеет в виду то же задание пишущего, вспахать эту плоскость
страницы. По видимости всё у Канта гладко. Он обращает
внимание на то, что нет никаких особых причин, говоря о вещи,
например о душе, думать, что их тут две. Чтобы это заметить, нужна
критика, без которой перед нами вещь вообще, выступающая
в ряду других, как вещи могут быть расположены рядом в списке,
в словаре. Но зачем-то после «вещь вообще» Канту надо было
приписать в скобках: als Sache an sich Selbst. Это дополнение кажется
странным, а в русском переводе, передающем das Ding и die Sache
одним и тем же словом «вещь», даже противоречивым, потому что
термин «вещь в себе» оказывается встроен в контекст, где его пока
еще не должно было бы быть57. Кант имеет право не понимать
сознанием, почему он поясняет здесь das Ding через die Sache, но
он знает, что заслужил право доверять себе. Зря и случайно у него
слово не говорится, а что касается неувязок и негладкостей, то
ведь не лексикой же он пишет и не мнения передает, свои и чужие.
В эпиграфе из Френсиса Бейкона, барона Веруламского,
появившемся во 2-м издании, читателя просят видеть в этой книге поп
opinio, sed opus, не мнение, а дело. Современное немецкое Sache,
вещь-дело, идет от древневерхненемецкого Sahha, спор, тяжба
(судебная), и родственно глаголу suchen искать (ср. наше иск),
вынюхивать, гнать. Едва сказав «вещь вообще», Кант словно сразу
одергивает себя: нет, остановиться на этой абстракции не удастся;
его пером ведет понимание невозможности такой усредненной
56* В. Б. цитирует Канта в своем переводе.
57 И. Кант. Критика чистого разума. СПб.: Тайм-Аут, 1993, с. 24.
108
В. В. БИБИХИН
вещи вообще. Всякая вещь, Ding, — это дело, Sache, тяжба,
искание, и значит в ней заложен «интерес», разница, делающая ее
разной, не равной себе. Вся «Критика чистого разума»
развертывает эту интуицию, водящую рукой.
После процитированной выше фразы у Канта стоит: «И если
критика не обманулась, когда она учит рассматривать объект
[всякий!] в двояком значении, а именно как явление или как вещь в
самой себе, если дедукция ее понятий разума верна и соответственно
закон [осново-положение] причинности применим только к вещам
в первом смысле, а именно поскольку они предметы опыта
[чувства, расчета, рассудка], при том что те же самые вещи в своем
втором значении ему не подчинены, то одна и та же воля в явлении
[видимых действиях] будет необходимо соответствовать
природному закону и тем самым не свободна и всё же с другой стороны
как принадлежащая вещи в себе ему не подчинена, тем самым
мыслима как свободная, причем противоречия не получается».
Мы читаем: та же самая вещь как взятая в себе, в своем,
собственном, любая вещь как открывшаяся в собственно своем
оказывается свободна, хотя для внешнего наблюдения это закрыто
и никак объективирующий глаз не увидит разницы или
раздвоения — да раздвоения и нет — в том, кто следует закону природы
и в то же самое время захвачен своим, собственным. Самая
большая разница, различие различий, оказывается там — и там же
вещь «интерес», — где раздвоения нет и «двоякость» открывается
в одном и том же, тожественном.
Средневековость Канта давно замечена. На этой странице,
говоря о свободе, он по жесту и, конечно, по смыслу близок к Дунсу
Скоту. Дуне Скот иллюстрирует одновременность необходимости
и свободы таким примером. Если кто падает с большой высоты,
например из башни (донжон, тюрьма), то падение подчинено
законам падения, изменить действие которых абсолютно
невозможно; но если человек так падать хотел и в каждый момент
падения хотеть продолжает, то он совершенно свободен, а
неотвратимость природного закона подкрепляет, защищает и спасает
его свободу, которой без этой поддержки абсолютной природной
необходимости не было бы. Человек, который нашел такой выход
из плена, трезво и здраво приняв решение, ежесекундно как
спасению, как полету вверх рад этому спасительному падению с
высоты, обдуманному, рассчитанному, принятому как свое,
свободное. — Кантовская вещь в себе, в собственно своем (Ding an sich
selbst), душа, воля, мысль, невидимо уходит (потому что глаз видит
только природную необходимость) в этом своем одновременно
8. КАНТ. ВЕЩЬ В СЕБЕ. СВОБОДА
109
в саму себя и в свою свободу, причем природная закономерность
(механизм) не нарушается, а наоборот нужна для прочерчивания
неотвратимости, необратимости рисунка свободы (!).
Беглый читатель Канта впадает в неверную схему, будто от
нас в мире нашего опыта отгорожены вещи в себе, замкнувшиеся
в своей непознаваемости. Можно было бы переводить — «вещи
в своем, в собственном». Собственно свое не то что непознаваемо,
но попытки познать, исследовать, вычислить, испытать его уводят
от него. В этом смысле для человека-исследователя, покорителя
земли путь к собственно своему самый трудный, гораздо труднее,
чем изучение далеких галактик, путешествие вокруг света или
миллиардное состояние. (Герой романа Фитцджеральда «Великий
Гэтсби» приобрел себе ценность на любой взгляд громадную,
сделался владельцем богатства, не сделав и шага к настоящей
собственности, к свободе.)
Кант говорит, обозначая эту крайнюю, для человека высшую
трудность своего: «Как там может обстоять дело с предметами
в себе и отделенно [ср. гераклитовское κεχωρισμένον] от всей этой
рецептивности нашей чувственности, оказывается нам полностью
неизвестным». Was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an
sich und abgesondert von aller dieser Rezeptivität unserer Sinnlichkeit
haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt (A 42). Сказано с
вызовом, сказан парадокс из парадоксов. А вы помните, какой у Канта
назван первый пример вещи собственно в себе: душа. Душа, т. е.
мы сами в собственно своем остаемся для нас неизвестностью
(ср. ниже разбор «Алкивиада»). Прочитанное сейчас из Канта
становится не просто даже толкованием, но почти переводом из
Гераклита. Как кантовское «отделено» (abgesondert) заставляет
вспомнить о гараклитовском «софия от всего отдельна»
фрагмента 108 (83 по Марковичу), так «неизвестность» вещи в себе, т. е.
прежде всего души, отвечает фрагменту 45 (67 по Марковичу):
«Пределов души, идя, не найдешь, исходивши всякий путь; такой
глубокий логос она имеет»58*. Один из источников этого
фрагмента добавляет к слову «душа» — «душа мудрого», т. е. софии,
и усиливает: «это возможно ничуть не больше, чем измерить душу
бога»59* (ср. также ниже разбор «Алкивиада»).
В чем дело? Почему душа оказывается душой мудрого
(софии), почему перетекает в душу Бога! Здесь прекращается — по
Канту — наше знание, но не кончается отношение. Прекращается
58* Ср.: Фрагменты..., с. 239, 231.
59* См.: Фрагменты..., с. 231.
по
В. В. БИБИХИН
пространство и время, восприятие, соображение. Что же в конце
концов остается? Не знаем. Остается собственное, само, Selbst.
Оставил надежду на рационализацию (соизмерение) этого остатка.
Не будем надеяться на то, что ситуация изменилась с тех пор как
узнавание себя было названо главным делом философии. Добавим
из нашей прояснившейся ситуации: дело идет о собственности,
нашей и всех вещей.
Размеры которой какие? Гераклит, фр. 115 (I в разделе Dubia по
Марковичу): ψυχής έστι λόγος εαυτόν αύξον, понятие души, т. е.
схватывание ее в захваченности ею, само себя растит, увеличивает60*.
Поэтому мне было бы очень забавно и даже приятно
услышать от тех, кто по следам Жака Деррида занимается охотой за
метафизикой и изгнанием ее, что, заговорив о логосе, я выдал в себе
логоцентриста. Я хочу, чтобы мне так сказали. Было бы, конечно,
жестоким смеяться, когда слепой невольно споткнулся, но если
человек сам сделал себя слепым к тому, что на самом деле говорит
метафизика логосом, душой, вещью в себе и другими своими
голосами, а потом гордится своей слепотой, то смеяться над ним не
садизм, хотя приносит всё удовольствие, какое садист получает от
чужой боли. Мне было бы по-хорошему смешно послушать сейчас
что-нибудь вроде того, что в кантовской вещи в себе мы
возвращаемся к метафизическому субстанциализму, а давно уже надо было
бы покончить с субстанциализмом и встать на передовые позиции,
скажем, энергетизма. Люди создают сами себе форму собственной
слепоты и потом усматривают последовательный методизм в том,
чтобы действительно ничего не видеть кроме плоской схемы, не
замечать, что в настоящем письме плоскость «текста» взрыта.
Люди, везде видящие только тексты, рассуждают об авторстве
так, словно проблема здесь историографическая и юридическая.
Бессмысленно говорить об авторе и тексте, бессмысленно и
читать, если в авторе мы не увидели автора, буквально «растящего,
взращивавшего, увеличивающего», если в тексте не угадали
плодоносящего поля, если не заметили на нем того пахаря и сеятеля,
о котором говорится в конце хайдеггеровского «Письма о
гуманизме». Das Denken legt mit seinem Sagen unscheinbare Furchen
in die Spracht. Sie sind noch unscheinbarer als die Furchen, die der
Landmann langsamen Schrittes durch das Feld zieht61*.
Поступая наоборот критикам метафизики, читателям
текстов, я даже о самой зачитанной и истоптанной философии не
60* Ср.: Фрагменты..., с. 250.
61 См.: М. Хайдеггер. Время и бытие (статьи и выступления). М.:
Республика, 1993.
8. КАНТ. ВЕЩЬ В СЕБЕ. СВОБОДА
111
буду думать, что она понята и оказалась метафизикой, схемой
верха-низа, посюстороннего-потустороннего,
субстанций-акциденций, первоначала-отпадения или чего еще. Я буду думать, что
философия почему-то (знаем почему) просто не прочитана. Я не
знаю, почему я так решил. Может быть, потому что в России она
даже по-настоящему еще не читана. Может быть, потому что мы
в России пока еще только начинаем и не созрели для критики.
Может быть, потому что ситуация у нас прояснилась. — Что тогда
делать с огромным гешефтом перебирания философской (в
кавычках) лексики и перетасовывания философских «концепций»,
в которых давно выветрились собственно концепции, схватывания-
зачатия, нет намека на беременность, не будет детей? Как быть
с планетарным уже институтом «истории мысли» — «Парменид
учил...», «Конфуций наставлял...»? Не знаю. Я имею право
обижаться на то, что нигде в этой литературе мне не сказали, что вещь
в себе это прежде всего я сам и есть, который, однажды
догадавшись о своем, ищет в своем собственное.
Вся философия — вокруг этой загадки различия (интереса)
между своим и своим, собственным и собственным. Только ли
философия? В собственности и в собственном сейчас
пытается разобраться, как может, целая страна. Или снова в который
раз — мое, потому что не твое; или, наконец, впервые собственно
свое, захватывающее.
Кант делает замечание не Лейбницу, а превратившейся уже
в школьную лейбниц-вольфовской философии, упрекая ее в
неспособности увидеть, насколько вещь в себе неприступна для нашего
наблюдения и нашей оценки с ее критериями ясного и менее
отчетливого постижения (А 44). Разница между явлением (с которым
мы сплошь да рядом имеем дело, исследуя, расследуя, преследуя)
и вещью в себе не та, что первое ближе и яснее для понимания,
а вторая требует долгого разбора и туманна. «Трансцендентальное
различие», transcendentaler Unterschied между явлением и вещью
в себе вообще не улавливается в этом ряду
неясности-прояснения, разбора-углубления. Если мы пойдем по пути
исследования, то вещь в себе начнет от нас ускользать. Кант приводит для
иллюстрации пример с радугой во время дождя. Этот пример
можно применить, между прочим, против понятия вещи в себе
в научном неокантианстве. Радуга — явление. Чего, разве вещи
в себе? Нет, капельного тумана. Он — тоже явление, форма
существования воды. Круглая форма каждой капли, причина явления
радуги, — тоже явление, в котором проявляются свойства воды,
сила тяготения. И так далее. Но пространство, в котором падают
круглые капли, может быть оно вещь в себе?
112
В. В. БИБИХИН
Тоже нет. Вообще всё что мы можем наблюдать — nichts an
sich selbst, не есть собственно вещь в самой себе. Позвольте, но
ведь мы прошли уже большой путь вскрытия существа явления,
от цветов радуги, совсем иллюзорных исчезающих эпифеноменов,
до воды и законов природы, шире, до пространства — и всё равно
ничто в этом ряду не приблизило нас к «собственно в себе самом
своему»? («Самое само», название одной работы А.Ф. Лосева). Да;
и вообще нигде в плане наблюдаемых, исследуемых вещей мы
никакого «в себе» не найдем. Оно в другом месте, не в пространстве.
В каком месте, не принадлежащем пространству? В каком топосе?
В себе самом. В собственном месте, в обоих смыслах (в
собственно месте; в месте, присущем только собственно вещи в себе),
сливающихся в одно. Как же всё-таки приблизиться, понять,
узнать? Через свое; больше никак. Вспомним: Ахиллес никогда не
догонит черепаху, ему станет хуже, чем было, если он начнет ее
преследовать. А в другом смысле он, Ахиллес, с самого начала уже
и есть сам в себе быстроногий. Упустив себя такого, бросившись
догонять черепаху, он этим жестом промчался мимо самого себя,
миновал себя и теперь нигде уже себя, быстроногого, не встретит,
без конца убеждаясь в своей беспомощности. Растекание по
пространству, размазывание себя по широкой поверхности вещей не
приближает к в себе, потому что само пространство не в себе. Боже
мой, так много симулякров? сказали бы теперь. Но, господа, это
вы так захотели, пнув ногой мир как милое, поняв мир как сумму
вещей. Не отказывайтесь теперь от их перебора. Не только сами же
вы захотели иметь мир как сумму вещей, но даже специально ста-,
ли писать этот мир через другое «i», не только ослепнув по доброй
воле, но еще и гордясь своей самодельной слепотой как особой
зоркостью различения. Кант вызывающе говорит, что вещь в себе
нам теперь совершенно недоступна. Но если нам посчастливилось
здесь в Москве задуматься о своем, то не упустим хотя бы это.
Wie Dinge an sich selbst (ohne Rücksicht auf Vorstellungen,
dadurch sie uns affizieren) sein mögen, ist gänzlich außer unserer
Erkenntnissphäre (A 190). Как могут существовать вещи сами в себе
(без оглядки на представления, через которые они нас аффициру-
ют) — это совершенно вне сферы нашего познания (!). Если они
вне сферы нашего познания, причем «совершенно», то откуда
Кант знает хотя бы это, что они аффицируют (!) нас через наши
представления? Да просто оттуда, что иначе нечему было бы нас
аффицировать. Мир предметов, механизмов пуст, он размещается
в пространстве и времени, которые суть созданные нами формы,
как же они могут еще нас аффицировать? Нас, таким образом,
8. КАНТ. ВЕЩЬ В СЕБЕ. СВОБОДА
113
может аффицировать (что-то делать с нами) только то, что в себе
самом, в своем. Здесь, конечно, неприметно таится еще один
вызывающий парадокс. В самом деле, сказать, что нас целиком
и полностью «аффицирует» только то, что вне поля нашего
познания, значит страшно много знать о том, что вне поля нашего
познания. Всё оттуда, от вещей в себе. Парадокс этот невольный,
не Кантом придуманный. Для Канта слишком ясно, что иначе
неоткуда ничему взяться.
Привычному сознанию кажется, что указания в себе, для себя
указывают на что-то вроде рефлексивности или
саморефлексивности, самосоотнесенности. И уже как следствие, поскольку вещь
в себе отнесена целиком к самой себе и занята только собой, она
оказывается нам неприступна. Нельзя хуже понять Канта. Вещь
в себе настолько не сосредоточена только в себе и на себе, что
всё в нас — целиком и полностью от нее. Давайте от этого часа
никогда больше не будем понимать свое и собственное и в себе
у Канта — и у Гегеля — в рефлексивно-релятивном смысле. Не
об отношении чего-то к чему-то идет дело у Канта и у Гегеля
(в смысле принадлежности одного другому или самому себе),
а о бездонной воронке собственно своего. Суть гегелевского
собственного в той, если хотите, поглощенности собой, которая чем
безвозвратнее тонет в себе, тем свободнее открывается Целому.
Присутствующий здесь Константин Васильевич Деревянко назвал
свою книгу о Гегеле «Биоцентрическая система Гегеля», заметив,
что жизнь в том ее значении, которое только приоткрывается
современной биологической науке, лежит в основе гегелевских
«метафизических» интуиции. Жизнь метафизична? Жизнь,
понятие, внутренняя сущность, собственно свое у Гегеля
тождественны. Почему мы этого раньше не замечали? «Наука должна
организовываться только собственной жизнью понятия». «Когда
знание [нем. ведение] видит, что содержание возвращается в свою
собственную внутреннюю сущность, его деятельность, напротив,
погружена в это содержание, ибо она есть имманентная самость
содержания, и в то же время она возвращается в себя, ибо она
есть чистое равенство с самим собой в инобытии»62*. Мы бы
назвали и кантовскую критику, осторожно очерчивающую контуры
вещи в себе, чтобы до нее не дотронулись грубые руки, и
гегелевскую диалектику возвращения, трудного, «понятия» к самому
себе — философией своего, собственного.
62* См.: Гегель. Феноменология духа, Предисловие III, 3. Пер. Г. Шпета.
М., 1959, с. 30.
9. Гегель. Право и собственность
(13.4.1993)
Только кажется, будто прямой, простой способ «поставить
проблему собственности», такую важную сейчас в нашей стране,
где почти уже и не думают ни о чем другом (страна философов),
где само будущее страны или даже вместе с ней всего мира
крепко связано с тем, кому и как будет принадлежать земля, — только
кажется, будто надо поскорее приступить к самому делу и взяться
за собственность в ее актуальном значении, смотреть, кому она
принадлежит и из чьих рук в чьи переходит. Может
показаться также, что мы здесь чуть ли даже не отвлекаем внимание от
«жгучей актуальности». Деловые люди снова, как всегда, пройдут
мимо и в лучшем случае посоветуют нам: всем ясно, что такое
собственность; отбросьте мешающее делу привходящее значение
слова, вернитесь к реальности; собственность это собственность,
это когда кто-то что-то имеет, один много, другой мало, вы совсем
ничего. —
Едва мы согласимся не вслушиваться в то, что слышно,
каким бы странным ни показалось расслышанное, наше дело
проиграно. Мы благополучно приземлимся на плоскости
бесконечного и безысходного перебора условной лексики, на конвейере
псевдофилософского дискурса, за которым трудятся десятки или
сотни тысяч докторов философии в целом мире. Я мало что знаю
о продукции публицистической фабрики, о ее назначении и роли
и отношусь к ней с интересом, но именно потому, что она и без
нас успешно делает свое дело, нам не обязательно присоединяться
к массе.
Есть смысл остаться при своем, даже когда это себе обходится
дороже. Есть разум в цепляний за оттенки слов, как у старого
еврея, который, взяв с собой в другую страну поющий рог, шофар,
должен был занести это произведение искусства в таможенную де-
9. ГЕГЕЛЬ. ПРАВО И СОБСТВЕННОСТЬ
115
кларацию. Его попросили вписать название предмета для
понятности на каком-нибудь из принятых европейских языков. Старик
долго думал, перебирая возможные переводы, и нашел: шофар — это
труба, tube, на каких играют в оркестре. — Так что же вы? сразу
бы и говорили, что труба! — Как можно! разве же шофар это
труба... Анекдот прекрасно рассказывает Аверинцев63*. — И мы,
как тот старый еврей, держа в руках эту древнюю драгоценность,
слово, не будем думать, будто оно ни на что другое сейчас уже не
годится, кроме как на то, чтобы поскорее использовать его для
актуальной нужды, назвав собственностью то, что уже все вокруг
ею и называют. Не будем спешить уломать слово, не перестанем
слышать то, что оно говорит.
И тогда мы заметим удивительную вещь. В нашем же
собственном языке названия, имени того, что, как кажется, так ясно
стоит перед глазами людей и вокруг чего горят страсти, не
оказывается. Если мы захотим присоединиться к «языку»
публицистики, нам придется намеренно, сознательно перестать слышать
в собственном — настоящее, в своем — родное. Собственность
мы должны будем взять «в юридическом смысле». Что такое
«в юридическом смысле», нам придется потом снова определить,
и по-честному выпутаться из цепи определений мы уже никогда
не сможем. Операции с юридической собственностью неиме-
нуемые.
Лучше мы поэтому спросим с самого начала, что такое,
собственно, собственность. Не окажется ли сразу, что мы вообще не
имеем права говорить ни о какой юридической собственности,
пока не спросили, что собственно значит, например, нефть,
которой я владею в тюменских болотах. Мы уже предполагали,
что прикосновение к собственно вещи, прикосновение к
тайным пружинам современной экономики сделало бы парижские
магазины моими, как историк Средиземноморья называет свой
XIX век там своим. Или мы всё еще остаемся, как между двумя
стульями, между двумя «значениями» собственного и пытаемся
присоединить одно к другому, а есть неприступное собственное
собственного, в которое надо вработаться? — Пусть нам поможет
здесь очень сильный помощник, тем более только отчасти
прочитанный у нас через своего знаменитого ученика и интерпретатора
Маркса, который опять же взял у него только то, что подкрепляло
его образ мысли.
63* См.: В. Бибихин. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич
Аверинцев. М.: ИФТИ св. Фомы, 2005, с. 368.
116
В. В. БИБИХИН
Время вызвало Гегеля, Гегель дал свое имя времени. Его
студенческие годы совпали с французской революцией, тем более
близкой, что Гегель, шваб, ощущал французскую границу совсем
рядом. — Велит ли нам наше время так же думать, дает ли
основания надеяться на появление мысли? Анахарсис, скифский мудрец
VI века до нашей эры, иногда включался греками в число семи
мудрецов, куда входил и Фалес. Движения в скифской общественной
жизни было едва ли меньше, чем у греков, тем более что скифы не
сидели на месте. О Скифии, однако, мы почти ничего не знаем как
о стране философии. По-видимому, исторического опыта для этого
еще мало. Нужно чтобы был думающий, чтобы в Греции были те
десять или немногим больше человек, благодаря которым есть
такая вещь, великая культура древней Греции. В эпоху французской
революции, изменившей уклад не одной только нации, должен был
быть этот человек, Гегель, чтобы поднять человеческую мысль
о собственности, обществе, праве на такую высоту, с которой она
потом могла уже скатываться у Маркса в его теории
собственности и смены общественных формаций. Только для того ли мысль,
чтобы заводить историческую пружину, становиться идеологией
социальных перемен? даже определять собою судьбу следующего
века? превращать Грецию в Скифию?
Настоящая мысль ничему не служит. По Аристотелю она
энергия, имеющая саму себя целью. Ей никогда не нужно и
никогда не будет нужно никакого «применения», хотя заблудившимся
будет всегда казаться, что мысль должна быть приложена, причем
именно к тому, что всегда дальше от мысли, к их душевному
разброду. Для чего Гегель? Для того чтобы мы имели возможность
всерьез подумать о том, что несмотря на всю трудность, кажется
непреодолимую, мысль была и может быть здесь и теперь, там, где
мы есть. Гегель прежде всего для того, чтобы мы читали Гегеля.
Тогда — мысль ради мысли, как искусство ради искусства? Нет:
мысль вообще не ради. И думаю не для того, чтобы думал другой
или я сам. Со всяким ради мысли надо расстаться. Если у нас
есть хоть какая-то свобода, она для открытых вопросов, для
отчетливости, для готовности на всё, что может встретить человек,
поскольку способен к встречам. Мыслью проясняется дело или
дело покажет, каким быть мысли? Даже этого мы не знаем. Надо
у кого-нибудь спросить. Наверное, требуется прояснение того
и другого.
Гегель. «Философия права» (Издательство «Мысль», 1990,
с. 44 слл.; параллельно с каноническим текстом рекомендуется
9. ГЕГЕЛЬ. ПРАВО И СОБСТВЕННОСТЬ
117
чтение приложений — «Новые источники по философии права»,
с. 379 слл.). Гегель начинает с предупреждения, что легкого пути
не будет (4504*). Легких путей топтано, правда, много. Один —
надеяться, что философия это просто дефиниции, различения,
умозаключения, машина логики. Она уже имела возможность работать
веками, и не она ли виновата в состоянии «позорного упадка, в
котором (философия) в настоящее время пребывает». Теперь другой,
противоположный и тоже нетрудный путь. «Многие поняли или
скорее почувствовали, чем поняли, что для спекулятивной науки
[спекуляция — видение; здесь можно вспомнить прочитанное
нами начало аристотелевской «Метафизики»] недостаточно форм
и правил прежней логики... тогда они отбросили эти правила,
видя в них лишь оковы, чтобы произвольно говорить то, что им
велит сердце, фантазия или случайное созерцание» (там же).
Применительно к нашей ситуации Гегель говорит о чем-то вроде
вольницы непричесанных новаторов («постмодернистов»), чье
пленной мысли раздраженье кончает свой бессильный бунт тем,
что намертво сковывает себя жесткой обязанностью ничем себя
не обязывать.
В популярной газете на первой странице графически даны
результаты опроса населения, за демократию оно или за порядок.
За порядок выступило большинство, за демократию крошечный
сегмент, но это победа не порядка, а журналистики: ей, стало
быть, удалось всё-таки внушить или навязать населению дилемму
«демократия или порядок». Здесь всё по обыкновению
журналистики перепутано. Порядок и демократия настолько не
альтернативы, что изобретатель демократии афинский полис жил в
условиях точнейшей, детальнейшей регламентации, просвечивавшей
буквально каждый шаг гражданина. Современный французский
фермер связан порядками землепользования, производства и
торговли так, что его деятельность регламентирована буквально
по часам. У нас нет демократии именно потому, что нет
согласной воли встроиться в общественно принятый порядок. Тема
опроса «демократия и порядок» вводила в заблуждение. Вообще
можно считать правилом: любое утверждение журналистики
неверно. Это не потому, что она дурна, а потому, что ее первая
задача — привлечь к себе наше внимание, заставить повернуться
в ее сторону. Мы невольно оглядываемся на крик, скандал, на всё,
что выбивается из спокойного размеренного естественного хода
м* Здесь и далее ссылки на номера страниц указанного издания
«Философии права» в тексте в круглых скобках.
118
В. В. БИБИХИН
вещей65. Жесткий порядок с одной стороны, беспардонная
вольница с другой — легкие пути, между которыми Гегель видит один
трудный, большинство думает — невозможный.
Жесткая схема и слепой бунт состоят в тайном родстве между
собой. Люди надеются «произвольно говорить то, что им велит
сердце, фантазия или случайное созерцание», но «поскольку
обойтись без рефлексии и соотношения мыслей невозможно, они
бессознательно продолжают следовать презираемому ими методу
самого обыкновенного умозаключения и рассуждения» (там же).
Трудный средний путь — не соединение легких полюсов, потому
что они и так уже по существу отталкиваются друг от друга. Чем
беззаконное прихоть, тем безвольнее она впадает в первую
попавшуюся колею66.
С другой стороны, ни правила формальной логики, ни
прихоть сердца не плохи сами по себе. То и другое — дары, данности,
формы духа. Но дело в том, что мысль «не может остановиться
на данном» (46). Она свободна. «Человек мыслит и ищет в
мышлении свою свободу» (47). Если не свяжет себя самовольной
обязанностью быть свободным. Абсурдно понятая свобода сама
себя сковывает своей принудительной раскованностью. Так
желает неправильно понявшая себя «демократия», противоположная
демократии без кавычек. Люди, «если бы ими действительно
руководила забота об этом [о мысли], а не суетность и
стремление к особенности своего мнения и бытия, то они
держались бы субстанциально правого, а именно велений
нравственности и государства, и строили бы соответственно этому свою·
жизнь» (46-47). Настоящая свобода возвращается к трезвому
смирению.
«Человек мыслит и ищет в мышлении свою свободу и
основания нравственности. Это право, сколь оно ни возвышенно, ни
божественно, превращается, однако, в неправо, и если мышление
состоит лишь в том, что знает себя свободным только тогда, когда
отступает от общепризнанного и значимого и может изобрести
для себя нечто особенное» (47). Здесь снова ведущая европейская
мысль идет по следам того, что дало о себе знать в гераклитовском
императиве всеобщего. Ему необходимо следовать. В каком
смысле необходимо! В обоих. Надо следовать тому, чему мы и так всё
равно следуем. А взрыв, бунт, революционность? Это по Гегелю
65 Ловкий подберет упавшее во время скандала.
66 Некоторые накладывают на себя запрет следовать правилам, и это для них
становится самым безжалостно изматывающим правилом.
9. ГЕГЕЛЬ. ПРАВО И СОБСТВЕННОСТЬ
119
формы ереси и атеизма. Слепота (гераклитовская толпа) заставляет
воображать, будто всё сейчас «нами» только еще создается заново.
«Наблюдая за возникновением этого представления и связанной
с ним деятельности, можно подумать, что на свете еще не было ни
государства, ни государственного устройства, что их нет и теперь,
что лишь теперь — и это теперь всё еще длится — надлежит
начинать всё с самого начала и нравственный мир только и ждал
подобного теперешнего измысливания, проникновения и
обоснования» (47). Нет, что бы нам ни казалось, мы следуем тому, чему
необходимо следовать. «Те, кто живет в этой действительности
государства и чьи знания и стремления находят в ней
удовлетворение, — [...] в сущности таковы все» (47-48). Тогда спросим:
«смеются над этими [революционными] попытками и уверениями
и относятся к ним как к пустой игре» (48) только некоторые или
«в сущности» тоже все и в том числе сами играющие? Да, Гегель
прав. И Пришвин не зря слышал злой смешок в тоне Ленина
и Троцкого в 1919 году, в разгар их деятельности.
Дело идет своим ходом, что бы ни плескалось на поверхности
нервного сознания. Забота Гегеля о другом. «Эта беспокойная
деятельность рефлексии и суетности, так же как и отношение, которое
она встречает, была бы лишь делом для себя, по-своему
развивающимся в себе, если бы в результате всего этого не принижалась
и не дискредитировалась философия вообще» (48). Тем, что она не
сильна остановить беснования разнузданного рассудка. Тем, что
она стало быть личное дело каждого, что к ней приводит и от нее
уводит мой ум. Философия остается только умам, которые знают,
что есть устойчивые вещи, язык, государство, земля, которым
надо дать слово. Философия поэтому в меньшинстве. Но опять же
эти вещи так или иначе возьмут слово, как бы ни малочисленны
были сейчас готовые его слышать. Слишком уж велика разница
весомости между одним и родом, народом; между тем «своим»,
которое вроде бы принадлежит единице, и своим рода, родным,
которому каждый принадлежит. Стрелки языка незаметно, но
однозначно указывают здесь в одну сторону. Английское kind не
случайно соединяет род и дружественность. В санскритском
su свое, родное (сюда наше сын), благо завязаны в один смысл.
Мы уже едва замечаем или совсем не замечаем эту связь и не
думаем о том, что в слова здоровье, счастье, смысл и, возможно,
событие наш язык когда-то включил на первом месте значение
свой-хороший. С-мерть — первоначально своя, т. е. незлая смерть
(и теперь мы думаем, что хорошо умереть своей смертью, лишний
раз повторяя то, что исторически уже вложено в слово смерть).
120
В. В. БИБИХИН
Когда догадываешься, что в «философии права» и везде Гегель
вынимает из забытости бездонную глубину своего, собственного,
почти полностью, до полярности, противоположную дешевому
«своему» юридической принадлежности, начинаешь понимать
настоящий размах мысли, выходящей далеко за ограничения своего
века. Она хочет, чтобы мы ее подхватили. «Свое» и своё у Гегеля
рядом и они же дело решительного различения, интереса.
Чем мы заняты здесь, философией или филологией? Во
всяком случае и прежде всего мы заняты своим, втягиваясь в размах
этого нашего слова.
10. Своё и свобода
(20.4.1993)
Мы внутри гегелевской «Философии права» следуем за его
мыслью о собственности на нашем, своем пути к своему. Все
худосочные подозрения к Гегелю и вообще к «метафизике», которая
когда-то «возникла», как-то «развивалась», пришла к какому-то
«завершению», теперь должна быть «преодолена», «отброшена»
или чем-то еще «заменена», все эти бледные схемы мы просто
отодвинем на край стола. Оставим пока и задачу разбора того, что
такое «метафизика», и что бы такое загадочное могло означать ее
«преодоление» или «преодоление человека», и в какую
одновременно выгодную и потешную позу моськи перед слоном встают
«преодолеватели», и преодолеватели порождения метафизики
«идеологии»; и как преодолевшие идеологию «новые русские»
далеко уже впереди ушли от нас и бросили нас брести без денег
и без средств и без надежды догнать, так совсем современные
мыслители, которые уже там, в «постмодерне», пусть
снисходительно насмехаются над тем, какими древностями мы заняты.
Хорошо, что эти пост-какие-то или теперь уже и пост-пост-люди
есть, чтобы над нами насмехаться; только они по-настоящему
помогут нам понимать, что ничего не достигла мысль, если она не
достигла смирения того интеллектуала и аристократа толстовской
повести, который уже странником в глубине России услышал из
кареты, откуда ему подали подаяние, беглую французскую речь
того образованного круга, к которому он когда-то принадлежал;
говорили о нем, о том, каким должно быть его сознание на
неразвитой его стадии существования, и ничего кроме смиренного
слышания и согласия с тем, что всё так должно быть, в нем уже не
оставалось, и ничего к тем людям кроме простой благодарности за
небольшое подаяние. Конечно, нам до такого смирения далеко; но
122
В. В. БИБИХИН
понимание, что если что-то весомо на земле, то такое смирение,
и что оно единственно желанно, в нас уже есть.
Не только к Гегелю, а ко всякой мысли, называют ее
метафизической или нет, у нас будет одинаковое внимание. Заранее
решать, да и вообще решать, кто есть кто, мы не будем. Лучше
будем помнить, что не очень-то хорошо мы или кто-нибудь в курсе
того, кто по-настоящему кто. Зато мы хорошо знаем другое: что
чем сильнее мысль, тем смелее она ходит по краю, тем больше
рискует, тем больше к себе манит, тем больше к ней тянутся и не
понимая, — как неудержимо тянутся к Гегелю созданные тоже
им Кьеркегор и Шопенгауэр, без его энергии не сумевшие бы
подняться на ноги, — и значит тем больше насыпано сора вокруг
такой мысли, например визга о ее «тоталитарности» или жалоб
Одинокова, что Гегель «сыпет [ему] в мозги наждаком»67*, в
жалкие непокрытые мозги, которым угораздило зачем-то пройти по
фабрике гегелевской мысли и получить производственную травму,
но и кто просил инвалида приближаться к опасному
производству. — Мы, конечно, тоже рискуем, но может быть смирение,
готовность не понимать то, до чего нам не дотянуться и на
цыпочках, нас выручит.
Государство = право. Мы остановились там, где Гегель
подозрительно присматривается к новому революционному сознанию,
которое вот-вот выродит из себя и понимание ситуации (мировой,
современной) и план того, что и как надо немедленно делать. Не от
отчаяния ли неудачника сложилось такое сознание, догадывается
Гегель; ведь наскоком явно не вникнешь в государство; для начала,
необходимым, хотя всё равно еще не достаточным, условием тут
должно было бы быть понимание того, что — и отчасти как —
государство, die Staat, «установленное», стоит «многие тысячелетия»
(49). Стабильность этого «статуса», или по-русски можно было
бы говорить стола, должна была бы навести на мысль о его
несоизмеримости. Гегель хорош тем, что не боится большого размаха
своих колебаний. Испуг перед ними торопит третичного уже, через
Маркса, гегельянца невпопад сказать: «Единица вздор, единица
ноль». Или другое, благочестивое: Бог устроил, не нашего ума
дело (нынешние перестроившиеся из марксистов православные).
Но нет просто никакого такого государства, ни в идее, ни в деле,
если нет воли и разума, которые взяли на себя, осилили и дело
и мысль государства. Не сконструировали из своих «концепций»,
67* См. об этом статью В. Бибихина «Возвращение отцов» в сб. «Другое
начало».
10. СВОЁ И СВОБОДА
123
а связались с тысячелетней громадой. С риском? Еще с каким.
С риском для планеты. Без высокогорного опыта Гегеля все
бредущие за ним так рискуют.
Для иллюстрации того, что значит от конструкций сознания
оттолкнуться в стихию громадной и страшной вещи, государства,
представьте, что было бы, если бы в аудиторию вдруг вошел бы
даже не глава государства с отборной охраной, даже не министр,
даже не ректор университета, фигура, о встрече с которой
мечтают тысячи, не имея шанса с ним встретиться и говорить, но хотя
бы просто декан факультета. Как искра сразу наэлектризовала
бы всех. Ах государство это много. Гегель учит нас открыться
мыслью не понятию государства, а самой этой стихии, левиафану.
«Можешь ли ты удочкой вытащить левиафана и веревкой связать
ему язык?.. Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить
с тобой нежные слова? Попросит ли он мира с тобой и возьмешь
ли его надолго себе в служители?.. Ну-ка наложи на него свою
руку, ты не будешь уже никогда хранить память о борьбе»68, т. е.
или ты перестанешь о такой борьбе думать, или тебе не придется
о ней вспоминать как о некогда бывшей, потому что ты из нее уже
никогда не выйдешь. И зря надеешься, что у тебя могут не
задрожать колени уже только от одного вида зверя. Требовалось столько
смертей в партии, которая сказала о себе, что она умеет, может
повести государство куда хочет, чтобы напомнить этой партии,
что нет, она ошиблась.
Но собранная мощь свободного разума может, обязана
рискнуть приблизиться к стихии государства, иначе оно останется
в руках «того вида красноречия», той «особой формы нечистой
совести», когда «там, где в ней более всего отсутствует дух, она
больше всего говорит о духе; там, где она наиболее мертвенна
и суха, она чаще всего употребляет слова жизнь и воплотить
в жизнь; где она проявляет величайшее, свойственное пустому
высокомерию себялюбие, она чаще всего говорит о народе» (50).
Что схватка захваченного с захватывающим (о хватке и
хитрости, охоте и войне мы говорили) идет здесь не на жизнь, а, как
правильно говорится по-русски, на смерть, Гегель это
объявляет тут же, на той же странице. Как иначе; куда деться;
сверхмощь государства постоянно перешагивает через порог смерти.
Гуманитарным критикам Гегеля ясно здесь, что Гегель прикасается
к чему-то, что для них смерть. Гуманисты спрашивают: разве то,
что Гегель так рано, еще в «Предисловии» к «Философии права»,
68 Иов 40: 20-27.
124
В. В. БИБИХИН
вводит тему смерти в свое государство, не признак его
бесчеловечности, демонической пропитанности смертью? Не к тому ли
клонит гегелевская свобода как «познанная необходимость»,
чтобы согласно идти, куда тебя ведут? Эта неправда о Гегеле стоит со
времен Кьеркегора и до сих пор, при том что у Кьеркегора и у его
русского соответствия Шестова бунт против системы мира
питается гегелевской энергией. Гегель против Гегеля.
Я, похоже, в состоянии не то что прояснить, но немного
развернуть эту тему смерти у Гегеля в отношении права,
собственности, закона, чтобы стало видно чуть яснее. Еще раз: Гегель,
говорят его любящие человека критики, впитывает в себя смерть
и так, смирившись с железным порядком закона как
необходимости, твердеет для проникновения в злую мертвящую
реальность государства. Так подозревает Гегеля Андре Глюксман во
«Властителях мысли», но то же тоньше и выдержаннее говорят
Кьеркегор и Шестов. Сами они восстают против закона с его
мертвой буквой. — Как естественно ожидать от большой мысли, в ней
найдется предупреждение против возможных ошибок. «Чувство,
оставляющее за собой право на произвол... совесть,
перемещающая правое в область субъективного убеждения» (50) —
собственно формула Кьеркегора и Шестова. Начинать видеть размах,
настоящий, Гегеля может только тот, кто почувствовал, принял
Кьеркегора и потом кроме того догадался, насколько Кьеркегор
с хорошим гегелевским упрямством прочерчивает, прорисовывает
только одну сторону Гегеля, не умея соединить чувство с мыслью.
«Форма правого как обязанности и закона воспринимается этим
чувством как мертвая, холодная буква, как оковы» (там же).
«Буква убивает, а дух животворит». Сколько ни взято отсюда
разрешения для принижения или вольного истолкования буквы,
следующий стих апостола Павла69 говорит, что «служение
смертоносным буквам... было так славно, что сыны Израилевы не могли
смотреть на лицо Моисеево по причине славы лица его
преходящей». Моисей принес Израилю закон. Аверинцев предупреждает
об отсутствии оценок в Евангелии. «Буква убивает» — не
отрицательная оценка буквы. Буква закона должна быть мертвящей
примерно так, как в сказке герой для воскрешения должен быть омыт
сначала мертвой водой. Буква закона убивает — да, говорится
о смерти, но о той, без которой нет оживления. Мы и не подумаем
поэтому доказывать, что левые мыслители не правы (не правые)
в своих обвинениях и что Гегель говорит о смерти как-то мета-
69 2 Кор 3: 6-7.
10. СВОЁ И СВОБОДА
125
форически. Запомним и будем подчеркивать, что Гегель требует
смерти от леденящей буквы закона как абсолютно необходимого
порога. «Этот разум не дозволяет чувству согреваться своей
собственной частной обособленностью» (та же «Философия права»,
там же). Похоже, что как для электроники лучше холод и чем
ближе к абсолютному нулю тем лучше, так мысль должна пройти
через очищение буквой.
Когда предупреждение Гегеля не было услышано, то мысли,
не прошедшей ступеней отрезвления, пришлось почувствовать
мертвящий холод уже не буквы закона, а государства, с которым
она бездумно заигрывала.
Лучше поэтому хоть теперь услышим урок Гегеля. В каком-то
смысле разуму надо быть мертвым. Разум не обязательно должен
быть живой, с воображением и игривый, как кажется «жизнемыс-
ли». Здесь хорошо помнить формулы гегельянца Розанова: «Когда
я понимаю, я не имею отношения ни к людям, ни к жизни их»
(«О понимании», 1886, с. 719); наука «ни к чему не имеет
отношения в жизни» (с. 71770*) и другие. Между прочим, в свете Гегеля
становится яснее, почему разум, наука, понимание у Розанова
одно. Понимание — более русский перевод гегелевского Vernunft
(oTYer-nehmen), чем разум. Наука у Розанова тоже звучит в
гегелевском смысле, до противоположности отличном от расхожего.
«Мертвость», «нежизнь» разума, знающего трудный порог
между жизнью в смысле биологии и мыслью, его необходимая
отрешенность в букве не мешает его захваченности правдой,
наоборот, впервые высвобождает ее на простор и сводит на такой,
освободившейся от биологии, мысли весь интерес, фокус
«нравственного мира» («Философия права», 53). Мы во всяком случае
должны после метаний между кажущимся, с одной стороны,
и высоким, потусторонним, с другой, найти единственную
действительность. Разум и действительность, Yernunft и Virklichkeit,
нус и энергия отождествляются в знаменитой гегелевской формуле,
стоящей в «Предисловии» к «Философии права»:
Что разумно, то действительно;
и что действительно, то разумно.
Белинский, в ком эта формула много поработала, перешел от
раннего мистического принятия всех русских реалий под знаком
этой формулы к бунту против всего и в том числе против «фило-
70* См.: В.В. Розанов. О понимании. М.: ИФТИ св. Фомы, 2006, с. 586, 584.
126
В. В. БИБИХИН
софского колпака» Гегеля, который будто бы и учил Белинского
покорности тому, с чем мириться нельзя. И то сначала принятие
всего, и этот потом революционный бунт были одинаково навеяны
особым чтением Гегеля и оба были его безошибочным
непониманием, т. е. Белинский не делал ошибок только в том, как он и там
и здесь угадывал Гегеля прямо наоборот.
Мы так медленно приступаем к мысли Гегеля о
собственности, чтобы освоиться с его хождением по краю не просто с риском,
а с неизбежностью оступиться, когда Гегель сам тоже, как (не)
понимающие его, оступается на каждом шагу и знает это и готов
к этому и поднимается снова на ноги после каждого срыва любого
тезиса в антитезис. Общая схема движения гегелевской мысли
с синтезом в завершении легко усваивается. Тем труднее увидеть
за схемой то, что не поддается усвоению. «Разумное, синоним
идеи, выступает в бесконечном богатстве форм, явлений и
образований, окружает свое ядро пестрой корой [можно думать о ядре
и коре Солнца], в которой прежде всего застревает сознание, через
которую проникает лишь понятие [!], чтобы нащупать внутренний
пульс и ощутить его биение» (54). Понятие, мы помним, —
Begriff, схватывание в захваченности. Гегель говорит о понятии:
нащупать, внутренний пульс, биение. Если мы забыли то, что только
что у него прочли, то легко съехать снова в «чувства». Но мы
помним о смерти. Это другое «биение» и другое «нащупывание»,
уже прошедшие через порог смерти, мертвой буквы непреложного
закона: это уже воскресение, та дрожь, которая от невероятного,
от восстания того, что вроде бы должно было вместе со всем
родившимся отправиться в смерть и не отправилось. Пейзаж этого
воскресения нам совершенно незнаком. Мы пока заметили в нем
только подлежащее прояснению присутствие смерти.
Гегель говорит о мысли не как о занятии, а как о
захваченности. Он не приглашает к перебору всевозможных соображений.
Вспомним, что в контексте Парменида мы говорили о занятости
и захваченности. Перебор всего, чем может быть и чем бывает
занят человек, и мысленное обустройство этого множества не дело
философа. Пусть, говорит Гегель, Фихте продумывает механизм
паспортной системы в благоустроенном государстве и предлагает
помимо примет вносить в документы подозрительного лица еще
и его портрет. Это не значит только, что философия
отгораживается от проблем паспортной системы или от любых других
деталей, наоборот: как ничто другое мысль сочувствует подробности
мира и заранее щедра, «либеральна» к ней, «по отношению к этой
бесконечной массе предметов она должна проявить величай-
10. СВОЁ И СВОБОДА
127
шую либеральность» (54). В своей захватывающей захваченности
философия знает, держит тайну перехода от перебора предметов
к принятию мира. «Тем самым наука [в розановском и гегелевском
смысле] покажет, что она далека от той ненависти, которую
суетное всезнание питает к множеству обстоятельств и учреждений»
(54). От действительности понятия, от полноты («энергии») бытия
и только отсюда множество человеческих занятий оставляется
свободным как открытая возможность для захваченности.
Стало быть, Гегель всё-таки учит примирению с
действительностью? Всё без исключения открыто для прыжка, для танца
захваченности. «Здесь Родос», т. е. везде понимание открыто для
захваченности своим, родным. От слияния с родным в
«бесконечной массе предметов» отгораживает только мнение с его
конструкциями. Они подлежат разбору, расчистке. Понимание готово
к своему прыжку всегда. Заранее уже, в самом этом счастливом
предчувствии родного «разумное понимание есть примирение
с действительностью, которое философия дает тем, кто однажды
услышал внутренний голос, требующий постижения в понятиях»
(55), читаем: схватывания в захваченности. В экстазе,
мистическом, по Ильину.
Мы ходим по краю. Ничто (не) отделяет нас от счастливого
слияния со всем, от экстаза всепринятия. В 4-м абзаце от конца
длинного «Предисловия» к «Философии права» у Гегеля
«разумное понимание есть примирение с действительностью» (там же)
и немного ниже, в 3-м абзаце от конца, разум не есть примирение
с действительностью, он другое примирение с действительностью,
совсем не то, какое имеют в виду, когда принимают эту жизнь,
побежденные ее упорной несговорчивостью. Против стереотипов
жизни есть упрямство разума (55-56). «Моя диалектика это
просто возведенное в систему упрямство», Гегель в разговоре с Гёте.
Примирение с миром непримиримо к миру.
Я не примирюсь с миром, где всё хочет быть таким, каким
кажется. «Есть какое-то великолепное упрямство, упрямство,
которое делает честь человеку, в решении не признавать никакого
нравственного убеждения, пока оно не получит оправдания
посредством мысли» (там же). «Нравственное убеждение» тут надо
понимать в связи с «нравственным миром», т. е. всем, что не
природа. Ничто здесь для меня не причина отказаться от упрямства,
пока не будет принято мною как свое.
Заблудшее мнение по своей потерянности ожидает от
философии умножения знания о мире. Нищенское ленинское понимание
философии как приближения к никогда не достижимой истине
128
В. В. БИБИХИН
изменяет даже Марксу, не то что Гегелю. Нет истинная философия
«приводит к Богу» (56), не меньше. И Розанов снова гегельянец,
когда определяет: «Бог милое из милого, центр мирового
умиления». Ах не приближение к какой-то неприступной истине манит
Гегеля. Швабское упрямство в конце концов такого не потерпит.
Знание, ум, памятливость восстают против попрошайничества
у мира.
«Подобно тому как разум не удовлетворится
приближением, которое ни холодно, ни горячо, и потому извергается, он не
удовлетворяется и холодным отчаянием, допускающим, что во
временной жизни всё плохо или в лучшем смысле посредственно,
но ничего другого в ней нечего и ждать и только поэтому следует
примириться с действительностью» (там же). Умеренный
оптимизм постепенных познавателей кажется противоположностью
холодному отчаянию, но не совпадают ли эти полюса, не соседи
ли оптимизм и пессимизм. Во всяком случае Гегель не будет ни
ощипывать крохи от мира, ни учить уходу от мира. «Познание дает
нам более тесное примирение с ней [действительностью]» (там
же). Что значит «тесное примирение», мы попробуем разобрать.
Что Бог, к которому ведет философия, это не бог философов и
ученых, а евангельский ревнивый Бог, властный ребенок, показывает
цитата из Евангелия, причем из Апокалипсиса, появляющаяся
у Гегеля как лаконический знак пейзажа, в котором мы тут
осваиваемся. Да, это апокалиптический пейзаж; тряпки мирского
знания уже не занавешивают вид на начало и конец. «Имеяй ухо, да
слышит, что дух глаголет церквам. И аггелу лаодикийския церкве
напиши, тако глаголет аминь свидетель верный и истинный, на-
чаток создания Божия: вем твоя дела, яко ни студен еси ни тепл...
Тако, яко обуморен еси, и ни тепл ни студен, изблевати тя от уст
моих имам». В русском тексте перевода Гегеля — «извергается»
(там же). Важно, что теплохладный отшвыривается хуже чем
безбожный. Дальше иронически: «Зане глаголеши, яко богат есмь,
и обогатихся, и ничтоже требую, и не веси, яко ты еси окаянен и
беден, и нищ и слеп и наг»71. Последние слова Гегель относит уже
к философским накоплениям, богатству полигисторов. Не в их
правдах дело. Речь об истине, да не о той, что вы копили; о
примирении, но не о мировой. Для всякого рода сделок запасено
нескончаемое упрямство.
Гегель чувствует, что от него ждут объяснений. Почему он
ищет от добра добра. Пример из конца «Предисловия» (58): че-
71 Апок 3:13-17.
10. СВОЁ И СВОБОДА
129
ловеку дали казалось бы всё, рука послушна, кисть гибка, глаза
остры, на палитре лучшие краски, перед глазами художника
лучшие виды — так рисуй! Не получается. В чем дело? чего еще не
хватает? Дадим, обеспечим! Проблема Гегеля объяснить, чего не
хватает, когда всё есть. Ситуация тревожная: кому-то может
показаться прихотью то, в чем есть первая необходимость. Рядом
с этим примером художника трудная фраза по двусмысленности,
от которой Гегелю не отделаться. «Понятие предмета не дается
нам от природы» (там же). Гегель разъясняет: да, я говорю
«понятие», но имею в виду не то понятие. Что в нем не то? Есть понятие
и понятие, одно «то, что... называют так и что на самом деле есть
лишь абстрактное рассудочное определение» (59). Но разве сам
Гегель может предъявить читателю что-то кроме определений?
Почему свое понятие он именует тем же словом? «Лишь понятие...
обладает действительностью и обладает ею таким образом, что
само сообщает ее себе» (там же). Понятие как Be-griff,
схватывание, — та же полнота, что энергия действительности.
Понятие это идея. Термин «идея» возвращает нас к
метафизической традиции? Или есть идея и идея, как есть понятие и
понятие? Вся «Философия права» свернута в короткой фразе § 1 :
«Идея права есть свобода» (там же). Переведем: право, схваченное
в его сути, возвращает к своему.
Студенческие записи лекций, попутные заметки Гегеля
сопровождают основной курс и совершенно необходимы для
прояснения «идеи права» в связи со свободой. Там Гегель
предупреждает: не туда смотрит тот, кто хочет сконструировать концепцию
идеального, мечтательного права, чтобы хоть идеалы были
хороши, если действительность плоха. Истина не то, что вы думаете;
понятие — не то; идея — вовсе не что-то потустороннее. Идея
противоположна абстрагирующей идеализации. Она то всеобщее,
которое получается никогда не обобщением. Идея указывает на
род, как у Платона. Называя высшую идею идеей блага, Платон
достигает одного из тех именований, когда мысль, намеренно или
нет, встречается с языком. В «идее блага» Платон восстанавливает
связь, по-разному забытую или близкую к забыванию в нашем
языке. Мы забываем, что родное значит родовое, принадлежащее
роду. В английском словаре kind (1) сорт, класс, порода, раса,
существенная черта и kind (2) любезный, дружественный, добрый,
внимательный, благосклонный разнесены как разные слова,
«омонимы»; мы бездумно принимаем к сведению, что два слова с
разными значениями пишутся одинаково. Мы вспоминали, что наши
слова с-мерть, з-доровье, с-мысл имеют впереди не предлог, а ста-
130
В. В. БИБИХИН
рый корень со значением благо-...: своя, добрая смерть, удачная,
хорошая мысль, хорошая материя (дерево). Этимологическое
соответствие этого корня в древнеиндийском su пишется с долгим или
кратким и. Человек, не знающий древнеиндийского, может смело
предполагать рядом со значениями добрый, удачный, ладный,
хороший еще и значение род, и не ошибется: su — это родитель,
родительница (в немецком значение род исторически переходит,
наоборот, на ребенка), а в качестве глагольного корня —рожать,
рождаться. В платоновской идее, т. е. роде, как благе
восстанавливается загадочная связь рода и родного, рода и добра.
В важной записи гегелевского курса 1819/1820 гг.
(«Философия права», 382) есть не одинокая, развертывающаяся в других
местах мысль о том, что страстное искание своей особенности
каждым человеком «это и есть осуществление всеобщего»,
взятого не в смысле абстрактного обобщения, а в смысле рода. Род
подобно Платону Гегель называет здесь же и идеей. Ища именно
своё, человек в захваченности находит или, лучше сказать,
впервые рожает род, который иначе как в индивидах не существует.
У Гегеля род-идея существует только как рождаемый человеком,
«ищущим свою особенность»; и наоборот, человек существует
только как рождающий род-идею. Он может быть рожден только
в захваченном схватывании, в понятии (Begriff). Только в
«понятии» открывается действительность. Мы в замкнутом круге
понятия, захваченности своим особенным собственным, которое по
«хитрости разума» оказывается родовым, идеей. Русский язык тут
лучше немецкого, потому что подсказывает: родное (собственное)
привязывает к роду; и к народу. Гегель проговаривает по-немецки
то, на что указывают стрелочки нашего языка: к роду и к народу
приходят через свое собственное как собственно свое. В этом
свете понятнее, почему «философия... знает, что в действительном
мире значимость может иметь только то, что заключено в понятии
народа» (383).
Еще раз: свое-собственное-особенное, страстно желанное,
выносит к роду, который всегда рождается, к идее народа, рожаемого
в детях или в «порождениях» творчества. Когда Гегель записывает
в «Заметках», относящихся к § 1 основного курса, что «право
есть только как идея» (385), то вместе с тезисом «Идея права
есть свобода» это значит: право существует только как рожаемое
в захватывающем искании своего особенного собственного, т. е.
ceo-боды (опять русский язык тут лучше немецкого). Всё стекается
к одному, рождение в страстном искании своего свободно и оно
свободно рождает свободу. «Принцип свободы — наивысший
10. СВОЁ И СВОБОДА
131
принцип, в котором все виды существования растворяются как
в своей основе» (386).
Становится яснее, почему право не вне свободы, а одно с ней.
«Определения права не негативны, не ограничивающи по
отношению к свободе, напротив, право носит по отношению к свободе
утверждающий характер, свобода выступает в праве как
утверждающая, присутствующая» (387, запись слушателя). Почему так?
Ответ можно видеть в заметках Гегеля (387, к § 5 курса): «Кто не
мыслил себя, тот не свободен — кто не свободен, тот не мыслил
себя». В русском переводе, если помнить об этимологии слова
свобода, здесь получается почти тавтология. Свобода — это захва-
ченность своим, где своё надо понимать в связи с родом и народом
(«свои»). Мыслить себя в свободе будет, конечно, не юридическая
личность и не индивидуальное Я, а само же собственно своё в том
смысле, в каком мы выше говорили, что раньше чем философией
и филологией мы заняты, захвачены своим. Это — другое своё,
чем своё принадлежности.
Здесь мы перед главными вещами, поэтому рискованная
двойственность почти обязательна. Неотступная двойственность не
может быть устранена дихотомиями и возобновляется — пока
мы не упускаем из виду суть дела — в каждом новом термине.
Такова двойственность в раннем требовании философии γνώθι
σαυτόν. Его понимают как рефлексию на себе самом и как
узнавание себя в другом. В свою очередь другой понимается и как иной
мне и как я сам.
11. Мысль и понятие
(27.4.1993)
Риск требует осторожности, глупо с этим спорить: внимание,
осмотрительность, неспешность мысли — безусловные
требования. Но опасность, постоянная (выпадения из вещей,
самообмана, потери времени), требует еще и решимости. Задача не в том,
чтобы встать в одну позицию и жестко держаться ее, а наоборот,
как говорит слово решиться: отпустить себя в открытость,
разрешить миру быть. Не будем сердиться на сложность, в которой
мы увязли, когда философия, первая философия открылась как
свое собственное, а свое указало на род, роды и народ. Нам
трудно, но зато перед нами не побочный, сторонний путь, а то самое,
о чем идет дело во всей философии. Ошибиться мы тут не могли.
Лишнее подтверждение — то, как этим ключом своего ирода
отмыкается Гегель.
В важной слушательской записи курса 1819/1820 гг. на тему
«Введение к философии права» (382) прочитаем одно из многих
у Гегеля указаний на свое и род, мы можем сказать — на родное
и родовое. Он цитирует обычное, частое в его время
наблюдение: «Мировые события и люди — орудия провидения». Не мы
знаем, что мы делаем и говорим, через нас делает свое дело Оно.
«Оно создает нечто другое, не то, чего хотели люди; когда люди
хотят осуществлять свою волю, провидение осуществляет свою...
Истинный дух есть субстанциальное, существенное, основа, то,
что мы у животных называем родом; род проявляется через
инстинкт». Лучше было бы перевести «у живых сущестз». В других
местах и у человека тоже субстанциальное, существенное, основу
Гегель называет родом и сейчас через 7 строк опять назовет. Еще
чаще он называет это идеей. Идея по-гречески — вид ирод во всех
тех основных смыслах, какие вид и род имеют в русском языке.
Род ведет животных через инстинкт, человек следует не инстинкту,
11. МЫСЛЬ И ПОНЯТИЕ
133
а чему? Что руководит людьми? Допустим, всё-таки инстинкт. Или
разум. Что и говорить, люди следуют каждый всегда своему. Гегель
продолжает: у всех «свои особенные цели, и именно эти цели,
с одной стороны — особенные, с другой — всеобщее в них есть
род». К постоянной гегелевской неспособности или к нежеланию
что-либо разъяснять прибавляется здесь краткость записи. Но
мы ясно слышим это: своё, самое своё — род, всеобщее. Гегель,
почему мы и не перестанем его читать, возвращает нам то, что
забыто современным сознанием настолько, что — посмотрите
в словаре —родной иродовой разнесены по разным статьям. Что
род надо понимать не как абстракцию, а в опасном смысле
интимного, заветного, показывает следующая фраза Гегеля. «Всеобщее...
есть род. Сюда относятся страсти, которые ищут своего
удовлетворения. Они свидетельствуют о том, что люди ищут свою
особенность. Это и есть осуществление всеобщего» (382)72*.
Идея, род не существуют. Гегель там же говорит энергичнее:
они инертны; позволительно понимать это в смысле пустоты.
Род — бездейственная пустота в конкретном и сильном смысле:
например, в роде людей могли бы быть рождены и
присутствовать многие, кто уже никогда не сможет и не будет. Род пустует
примерно так, как космическое пространство. Род осуществляет
свою мощь через вакуум (самый интересный «объект»
современной физики). В рождении новых существ чудом или искусством
или непостижимой Софией природы или Бога рождается новое
существо того же рода, но только в индивиде род и дает о себе
знать. Сам он, дав о себе знать в особи, остается пустым. Особь
сама по себе не заряжена ничем кроме мощи рода, так что всё
ее своё это род, но как раз это своё в ней от нее самой закрыто.
Она может открыть себя только во втором рождении, когда род
рождается как понятие и идея. Второе рождение совершается по
головокружительной экспоненте. Свое вбирает в себя сначала
семью, потом гражданское общество, потом государство, потом мир
не как неуклюжую сумму государств, а как «высшую абсолютную
истину мирового духа» («Философия права», § 33, с. 95). Только
в мире своё находит собственно себя. Но мир это верховный род
и высшие роды, как у Платона. Мир существует по способу рода
и его нет нигде иначе как в родах. Лучше сейчас слышать во всём
размахе это слово «роды», оставляя на потом разбор, кто рожает
и кто и что рожается. Не будем с разбегу решать для себя, что
рождает «личность», или «мысль», или мир рожает сам себя.
72* Курсив В. Б.
134
В. В. БИБИХИН
Решительного вторжения своего и рода (идеи) в философию
еще мало. Читаем у Гегеля о «действительном мире»:
«Философия... знает, что в действительном мире значимость может
иметь только то, что заключено в понятии народа» (383). Свое-
собственное-особенное, страстно желанное, хитростью разума
(софии) выносит к роду (к родам) и к народу, и философия знает,
что значимостью обладает, т. е. заслуживает осмысления, только
это. На более истоптанную и захламленную площадку, чем тема
народа, выйти, казалось, было уже нельзя. Мы, однако, выходим
и имеем смелость объявить: господа, ни мы не знаем, ни вы не
знаете, господа, что такое род и народ; своё; собственность; мир.
Ни что такое «знать». Ни что такое «мы».
Гегель позволяет себе доверие к себе. Он говорит своё, не
тревожась о том, как именно и когда своё окажется всеобщим. В теме
свободы, познания себя, мысли Гегель не отступает от своего.
Прорыв к цели всей «Философии права» дан в краткой начальной
формуле («идея права есть свобода»). Дальше идет диалектика,
упрямство, которого хватает на то, чтобы не принимать ничего
не своего. Должно ли упрямство в конце концов примириться
с миром? Нет, дело кончается не соглашением и договором, —
никогда, — а, наоборот, тем, что противостояние заостряется до
предела и крайнее напряжение («нагнетание», А.Ф. Лосев), а не
соглашение и примирение, вмещает в себя целый мир и любое
множество. Чтобы расслышать такого Гегеля до конца, нужно,
конечно, упрямство такого же сорта как у него.
Гегелевское самопознание не столько производит себя в
«духовном творчестве», как стало позднее у Маркса, сколько
возвращается к самости своего в смысле интимной близости того,
что всего надежнее. «Поскольку рассудок постигает бесконечное
лишь как нечто отрицательное, а тем самым как потустороннее,
то он полагает, что оказывает бесконечному тем больше чести,
чем больше отодвигает его от себя вдаль и отстраняет от себя как
нечто чуждое. В свободной воле истинно бесконечное обладает
действительностью и наличностью — она сама есть эта в себе
наличная идея», точнее, сама свободная воля есть присутствие
(Dasein) вечности как рождающейся (85).
Свобода — то ближайшее свое, которое оказывается и самой
далекой целью. Гегель ощущает вечность как не перестающее,
не устающее развертывание безусловно нового в интимном
источнике свободы. Эта свобода может показаться мнимостью,
а единственной реальностью — сплошная обступающая нас
машина физики, физиологии, психологии, биологии. Мы плохо поймем
11. МЫСЛЬ И ПОНЯТИЕ
135
Гегеля, если будем думать, что он (то же другой речью можно
сказать о Канте, Шеллинге) выкраивает рядом с машиной
природы отдельную область свободы. Нет вся природа угадывается как
тайная свобода. Машина — еще не последнее слово о природе,
пока мы не знаем, как собственно устроена и пущена в ход эта
машина. Как бессмысленно копаться в неведомом механизме наобум,
так условным остается всякое разграничение областей природы
и свободы как якобы противопоставленных. Это разграничение
будет снято, говорит Гегель из уверенного знания, которое кажется
противоположным нашему опыту неуверенности в человеческих
возможностях, но, может быть, относится не совсем к человеку
или не к тому человеку, которого видим мы сейчас. По-видимому,
всему свое время и каждое время особенное. О времени Гегеля мы
теперь уже не имеем такого осязаемого знания, как о своем. Мы
видим, что ставка Гегеля очень велика. Мысль-свобода граничит
у него с Богом. Свободная воля «находится безусловно у себя,
потому что она соотносится только с самой собой и ни с чем больше;
тем самым отпадает всякое отношение зависимости от чего-либо
другого. Она истинна, или, вернее, есть сама истина, поскольку
ее определение себя состоит в том, что в своем наличном бытии,
т. е. как противостоящее себе, она есть то же, что ее понятие, или
чистое понятие имеет своей целью и реальностью созерцание
самого себя» (86), т. е. собственного в своем. Свободная воля — не
человек или не совсем и не только человек. Но Бог не здесь и не
там, не тогда и не сейчас; и если Он в истории, то не внутри
календаря, а так, что от Него начинается отсчет исторического времени.
Мы говорили о влиянии Гегеля — на Кузена, на Белинского, на
Кьеркегора, на Маркса и так далее. Гегель доминировал в XIX
веке. Но и в XX веке — Кроче, Гуссерль и его феноменология,
Хайдеггер, у нас Розанов, Лосев. Марксистов во всём мире, и не
только полуконформистов как Ильенков, Батищев, Трубников,
манило объявить с пикантной остротой, что под вполне
официальным именем Маркс, казенным, таится «молодой Маркс»,
т. е. Гегель. Это последнее в свою очередь таилось, но «молодого
Маркса» в марксистской стране вроде бы обязаны были знать,
и этим рычагом марксисты-обновители хотели повернуть страну,
казалось бы, послушно припавшую к Марксу, подключенную
к нему через миллионные издания, через обязательные семинары
«политического просвещения» и «методологии», через
общеобразовательные школы. Мечталось, что если теперь через те же
каналы дать «раннего Маркса», то страна снова сможет дышать
мыслью, а не задыхаться в догме. Марксисты-обновители не заме-
136
В. В. БИБИХИН
тили по нехватке трезвости, которой можно было научиться
только у Гегеля, но не у Маркса, хотя бы и молодого, что власть уже
очень рано охладела ко всякому Марксу. Реформисты марксизма
надеялись на наивность власти, на ее зависимость от идеологии,
а власть давно уже произносила «Маркс» и думала о чем-то своем.
Из-за этого система питания народа Марксом прохудилась и долго
работала вхолостую, так что замысел новаторов как Давыдов,
Гайденко, Мотрошилова вспрыснуть в народ через Маркса по
официальным каналам молодого Маркса, а через него пожалуй
даже и немного Гегеля, не могла иметь никакого успеха. В чем был
промах этого замысла? В неспособности понять, что мысль или
безусловно чиста, или ее нет.
Только в меру безусловного, не нуждавшегося по своей
абсолютности в манифестах, радикализма Гегель соизмерим с
европейской историей, с ее планетарным замыслом, еще не раскрывшимся
вполне и теперь. Его ученик Маркс — уже лишь одна из слепых
сил этой истории. Гегель прав не потому, что идеализм
истиннее материализма, а потому что вне миссий и партий и сил есть
странное развертывание пространств из тайны своего, которым
Гегель имел мужество быть без остатка захвачен. Для этого надо
иметь мужество, потому что все глаза обычно направлены туда,
откуда ждут вестей. Их ждут со стороны, во всяком случае — не
от странного провинциала, шваба, упрямо думающего о своем.
Развернутое им пространство поэтому не было опознано в его
сути; в нем увидели что-то привязанное к эпохе и назвали Гегеля
«теоретиком революционной буржуазии», поняв его радикализм
не как укоренение в бытии, а как еще один бунт.
Так прочитанный Гегель годился уже только для пополнения
философского архива, хотя интерпретаторы еще долго питались
тайной энергией недопонятой мысли.
Говоря о всеобщем, имеет ли Гегель в виду историческое,
общественное, эпохальное, широкое в противоположность
частному, изолированному? Наверное да. Тогда правы говорящие,
что упрямец, радикал, мистический анархист сдался перед
государством, бюрократией, Берлином? Едва ли. От какого страха
или от какой жажды какого успеха он стал бы
приспосабливаться к прусскому государству, которое он не мог любить больше
Маркса. В Марксовои идее отмены государства слышен криво
понятый гегелевский урок. Ученик и тут не мог быть смелее
учителя. Гегель не учил об отмене и отмирании государства потому,
что шел дальше порога, на котором споткнулся Маркс. Полное
принятие Гегелем государства, притом «конкретного», вот этого,
11. МЫСЛЬ И ПОНЯТИЕ
137
прусского, имело оборотной стороной такое же полное снятие его.
Неожиданный поворот дела, но такой можно и нужно ожидать от
философа. Наоборот, публицистическая, в том числе Марксова,
критика государства, так же как революционная критика и так
называемая критика оружием, эффективно служит реставрации
государства через его реорганизацию. Критика всякого института есть
его тематизация, т. е. привлечение к нему внимания, сил и средств.
Рискнем еще на один шаг и спросим: какое отношение Гегель
имел к новоевропейскому процессу, к прогрессу, к
революционному или другому изменению государственного строя в Европе?
Случайно ли цитирование Апокалипсиса в конце предисловия
к «Философии права»? Современность, на которую он «оказал
такое большое влияние», для него хороша, очень хороша, она
лучшее из возможных времен. Вспомним Лейбница с его загадочным
«лучшим из миров». Государство и прусское государство — часть
такой современности. Примем его безусловно. «Философия...
по отношению к этой бесконечной массе предметов... должна
проявить величайшую либеральность... Наука... далека от той
ненависти, которую суетное всезнание питает к множеству
обстоятельств и учреждений... Данная работа... будет попыткой постичь
и изобразить государство как нечто разумное в себе... дальше
всего от того, чтобы конструировать государство таким, каким
оно должно быть ... цель лишь показать, как государство, этот
нравственный универсум, должно быть познано... Задача
философии — постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум»
(54—55). Повтор. Мы уже слышали: что разумно, то
действительно, и что действительно, то разумно. Это было страницей выше,
а теперь — «то, что есть, есть разум». Но в окружении этого
знакомого, перед словами «задача философии», стоит загадочный
«прыжок». Hic Rhodus, hic salta, цитирует Гегель. Какой Родос,
куда надо делать и какой скачок? Цитируется древняя поговорка,
но скачок надо делать здесь и теперь.
Скачок будет сделан не в ближайшем будущем, например
после надвигающейся пролетарской революции, а еще раньше,
прямо сейчас, когда спокойно и «с величайшей либеральностью» не
вносится никаких предложений по перестройке государственной
системы, никаких проектов, не навязывается никому советов, ни
от кого ничего не требуют. Разум, спокойный, довольный,
располагается как лев в берлоге у себя дома и отсюда делается — или уже
сделан? — скачок. Всё принято потому, что всё есть. Все равны,
вы и я, в том, что вы есть, как есть и я. Я никуда вас не зову, ни
к чему не принуждаю, ничего от вас не требую; я вас, государство,
138
В. В. БИБИХИН
историю, общество, Европу принял полностью. Мы все
действительны и все разумны. Кроме того, я, Георг Фридрих Вильгельм
Гегель, профессор философии, просто сижу, должен сидеть здесь
перед вами. Вас трое или четверо моих учеников, или больше, это
не так существенно. Мы независимо сидим и думаем в свободном
государстве, чтобы схватить, be-greifen, разумом, Ver-nunft, от
greifen и nehmen. — Но государство это на самом деле несвободно,
но вас понимают неправильно, но из вас сделают употребление
наоборот? — Ну и что! как будто все эти скучные вещи имеют
какой-то вес рядом с мыслью; как будто мысль — для влияния,
для того чтобы быть понятой, для того чтобы произвести действие,
отстоять политическую свободу или защитить личность или
преодолеть в себе какого-то там раба. Всё это неважно, а и было бы
важно, не хватало мне еще делать какие-то операции над собой,
чтобы изменить себя или других. Если у меня есть еще какая-то
сила, то уж не для того чтобы что-то вытворить, а только для того,
и сколько тут ни растратишься, всё будет мало, чтобы быть
собой, еще больше собой, через верх собой, своим, собственным,
сво-бодным. Своё не значит отгородить себя от других и внутри
ограды нагородить целый город интеллектуальных конструкций,
как узнай себя — не то же самое, что занимайся усиленной
рефлексией. В приглашении узнай себя звучит вызов, призыв понять, что
мы не такие, чтобы могли сделать себя предметом знания, разве
что мы услышим в знании другой, старый смысл порождения. Но
и понимание порождения тоже в свою очередь может возникнуть
только в родах.
Скажем тогда: знать привычным информативным знанием
то, о чем Гегель, нельзя. Его единственное видение — всегда
уникальный скачок; и напрасно приглядываться к нему со стороны
в надежде уловить его. Когда исследователи замечают, что у Гегеля
собственно нет трансценденции, а есть только снова и снова
возвращение к конкретному, то <они не видят, что> сама
радикальность этого возвращения делает скачок в безусловно другое
обыденному, потому что ближайшее и тем самым не замечаемое.
Строго говоря, мы не можем даже считать, что думающий умеет
делать свой скачок. Он умеет другое: оставить вещи показывать
себя, слову говорить, мысли думать, т. е. освободить место, где
могло бы произойти новое. Этот особенный прыжок отличается от
привычного мастерства или от умелости тем, что начинается как
раз с воздержания от конструкций. Когда всё то многое, чем умеет
оперировать человек, рассыпается, мысль принимает этот распад
как обычную данность. «Если... кажется, что понятие в своем на-
и. мысль и понятие
139
личном бытии распалось, то это лишь видимость» (92), т. е. распад
должен быть принят как всякая видимость, а именно допусти ее.
Только так ты дашь собственно понятию, схватывающей
захваченное™, быть, т. е. уходить в себя, в еще большую захваченность.
«В эмпирических науках привыкли вести себя так, что разбирают
факты, данные в представлении, и когда удается отдельное,
частное свести, редуцировать к общему, это называют понятием. Мы
так не поступаем, мы хотим только одного — смотреть, как
понятие само определяет себя, и заставляем себя ничего не прибавлять
к этому процессу из нашего мнения и мышления» (там же). Здесь
сказано: философское понимающее мышление заключается в том,
чтобы ничего к нему не прибавлять из мышления! Мышление
создает себя тогда, когда «мы» с нашим мышлением заставляем
себя, наше мышление, ничего из своих мнений к мышлению не
прибавлять! Давайте зайдем в расставленную ловушку. Ничего
страшного, если дверь захлопнется, и мы окажемся в
безысходном тупике. Мы только что читали, что нет ничего страшного,
если наше представление рассыпется. Итак, в нас совершается
мышление, высокое, которое мыслит само себя, само определяя
себя, и когда мы таким образом себя предоставляем как место
тому высокому мышлению, тогда нам лучше не мешаться уже со
своими собственными мыслями; мы должны бить себя по рукам,
заставляя себя ничего не прибавлять от себя к тому «процессу»,
который пошел в нас и теперь идет. Что неверно в таком чтении
Гегеля, почти буквальном?
Неверно то, что мы с нашими не идущими в дело мнениями
и мыслями якобы предоставляем себя процессу высокого
мышления. То мышление — это собственно мы, и это вмешивающееся
мышление — тоже мы сами. «Нас», так сказать, всегда двое. Один
из этих двоих никак не должен мешать другому. Нам сейчас пока
не хватает подготовки для разбора этой неустранимой
двойственности. Ограничимся несколькими намеками или догадками. Двое
в «нас» так же неприступны и непроницаемы друг для друга, как
наши явь и сон. Манипуляциями, проделываемыми наяву, мы не
можем управлять своим сном; приснившееся (примечтавшееся)
нам не изменяет нашей яви. Вспомним также то, что у Хайдеггера
говорится о собственной и несобственной экзистенции, которые
нельзя ни редуцировать (несобственная не может быть без остатка
абсорбирована собственной), ни отслоить друг от друга:
собственная всегда будет нести образы несобственной; несобственная
всегда будет иметь смысл только как отсвет собственной. Нужно
вспомнить о лейбницевской предустановленной гармонии между
140
В. В. БИБИХИН
телесным и душевным рядами, которые не могут и не должны
действовать друг на друга, их слаженность имеет недоступный
им источник в мировом часовщике. Гегель говорит об этой
неразрешимой парности: «Мы получаем... ряд мыслей и другой ряд,
ряд налично сущих форм» (92). Два ряда не должны смешиваться
друг с другом, вмешиваться друг в друга. Мысль имеет свою
логику, возникает и развертывается сама в себе; ни она не навязывает
своего строя наблюдаемому множеству, ни это множество,
никогда не упускаемое из виду, не должно сбивать мысль с ее строя.
Параллельные ряды каждый требует себе и получает полноту
внимания, но объединяющая инстанция, желающая наводить
связи между разрозненными вещами («сводник рассудок», Гёте),
не работает, отключена. Мы со своим мышлением не должны
мешать своему мышлению, «заставляем себя ничего не прибавлять
к этому процессу [самоопределения понятия] из нашего мнения»
(там же). Правило, которому учит тут Гегель, относится к
требованиям, которые мы назвали («Язык философии») философским
императивом73*. Философский императив имеет силу всегда, при
любых обстоятельствах, для всех. Всегда и безусловно верно, что
не надо мешать мысли, не надо мешаться в мысли.
А дурные мысли? Ведь это только мысли, не дела, я могу их
себе позволить? Дурные мысли — это уже начало дурных дел, как
же я могу их себе позволить? Что из двух верно, по Гегелю? —
Позволение себе дурных мыслей, которые сами уже отменили
себя тем, что оказались дурными, — это тоже вмешательство
в них и «прибавление» к ним. Непозволение себе дурных
мыслей — бесполезно и скучно. «Если я оттесняю все другие
влечения, чтобы отдаться одному из них, я оказываюсь в
разрушительной ограниченности, ибо тем самым я отказался от моей
всеобщности, которая есть система всех влечений. Столь же мало
действенно и простое подавление влечений, к чему обычно
прибегает рассудок, поскольку нельзя указать меру этого предписания,
и подобное требование завершается обычно скукой общих фраз»
(§ 17, с. 82). Не надо ни позволять себе дурные мысли, ни не
позволять их себе.
Что остается? Много говорят о «форме мысли», о придании
своим мыслям формы, об «оформлении» их, учат приобрести
это умение как можно скорее, применяют в школе и
университете письменные задания для усвоения этого навыка. У Гегеля
мы читаем, наоборот: мысль — это один ряд, та или иная форма
73 См.: В. Бибихин. Язык философии..., § 11.
11. МЫСЛЬ И ПОНЯТИЕ
141
(структура, образование) — другой, и не надо кромсать мысль
формами, надо заставить себя не вмешиваться формами слов,
образов, схем, целей, оценок в стихию мысли. Ряд фиксируемых
форм, слов, образов, схем, целей, оценок существует сам по себе
и имеет право на существование, его и надо оставить как он есть
на своем месте. Ряд мысли отделен от него. Так левая рука
скрипача делает совсем не то что правая, и надо, чтобы их разные
движения не путались между собой. Чесотка придания мыслям
формы происходит от неумения думать. Так новичок не может
играть одновременно двумя руками на пианино. Сравнения
хромают. Рука всё-таки может помогать руке, но вмешательство форм,
похоже, действительно губит мысль.
Что же тогда такое мысль? Мы сказали — рождение. Что
мысль — рождение, особенно ясно увидел Платон, которому
Сократ помогал при родах. Рождаются не готовые формы, а «идеи»,
т. е. роды. Философское рождение это роды родов («второе
рождение»), рождение самого рождения. Это, конечно, трудно до
невозможности. Однако трудность не в самих родах, которые,
похоже, устраивает и обеспечивает себе не совсем один только
человек, а в том, чтобы, помогая им, не вмешиваться в них. Никто
не может помешать нашим вторым родам больше, чем мы же
сами. Трудно оставить мир (последнее захватывающее мысли)
в покое, трудно не принимать мер. Искусство невмешательства
в мысль не проще, чем игра на инструменте, чем театральная
игра, чем боевые искусства, приемы которых сводятся к тому,
чтобы оставить тело его жестам без вмешательства сознания
и с другой стороны не сбивать ясность сознания вмешательством
тела. Понятие (захваченное схватывание) само по себе
достигается не умственным конструированием, а наоборот, искусством
несмешения конструирующего мышления с мышлением
просто. Человек отличается от других живых существ не тем, что
у пчел, например, будто бы нет строительного искусства, а тем,
что пчелы срослись с ним. Так ремесленный художник наглухо
привязан к нескольким своим удачным приемам. Настоящее
искусство в том, чтобы отпустить своё к себе, отдать свое своему.
Отпускающее впускание своего, свободное и свободы ищущее,
Гегель называет мыслью.
Гегель любил и цитировал стихи из «Божественной комедии»
Данте, где разум, нашедший истину, располагается как дремучий
зверь в берлоге. Мысль у Гегеля это домашнее вхождение в свое
собственное единственным, своим вхождением. «Лишь в
мышлении я у себя» (69). Отпущенное в своё, мышление будет у себя
142
В. В. БИБИХИН
в мире. Мы говорили о загадочных намеках нашего слова мир,
которое указывает на согласие, на общину, на милое. У Гегеля
«человек есть чистое мышление самого себя, и лишь мысля человек
есть эта сила, эта способность сообщить себе всеобщность» (§ 5,
с. 71). Чтобы быть вровень с широтой мира, мысль не очерчивает
себя теоретическими границами. «Не следует представлять себе,
что человек, с одной стороны, мыслящий, с другой — волящий,
что у него в одном кармане — мышление, в другом — воля, ибо...
они не представляют собой двух способностей — воля есть
особый способ мышления» (§ 4, с. 68-69). Воля включает чувство
и настроение. Хранение мысли от вмешательства не нарушается,
сложное переплетение форм в высшей школе мысли не ведет к их
размыванию.
12. Личность, лицо, воля
(11.5.1993)
«Мысли бывают разные» (В.В. Розанов)74. Что тогда делать?
Ответ: с мыслью вообще никогда не надо делать ничего. Но я
разрываюсь, я разорван разными мыслями? Гегель: заштопанный
чулок лучше разорванного, но с сознанием дело обстоит наоборот.
Разорванное сознание при искусстве воздержания от панической
мобилизации активности лучше склеенного. К сожалению,
ничто в человечестве не распространено так, не отнимает столько
сил и так не убивает ум, как заштопывание сознания из страха
разрыва. Якобы для жизни должен быть «лад» сознания. Нет не
должен, он смерть.
Когда же всё устроится, когда я всё устрою? Ах, если есть
силы и минута для такого вопроса, то поскорее оставь мысли
мысль, не трогай ее; пусть зависнет эта минута с ее заботой об
устройстве, с тревогой о неустроенности, такая какая она есть.
Мы хотим хорошего, все люди по природе стремятся к благу.
Среди вещей всё относительно, безусловно хорош только род.
Род существует только в рождении рода. Только оно выносит из
перебора вещей, которых много и чье достоинство относительно.
Платоновская идея блага — не одна из идей, а идея рода, т. е. идея
идей. Идея, т. е. род в его рождении, не исчисляется; рождение
собственно одно и единственно, всякое рождение окажется
рождением рода, указывающего на всякий род и на род родов, идею
идей. Повторим это всё себе для напоминания. Мы уже подходили
к тому же с разных сторон и, возможно, придется снова.
Мысль, не манипулирующая собой, для «зрелого»
сознания кажется возвращением к детской непосредственности. Схва-
74 В.В. Розанов. О себе и о жизни своей. Сост. В.Г. Сукач. М.: Московский
рабочий, 1990, с. 426.
144
В. В. БИБИХИН
тывание первого попавшегося в поле внимания смягчено в ней
детской подвижностью отвлечения, перетекания внимания. От
ранней гибкости мысли нет надобности никуда уходить. Гегель
остался мудрым ребенком с открытым жадным интересом к
новому и с готовностью смотреть, слышать. Для непредвзятой
открытости всё в каждый момент всерьез и в каждый следующий
момент меняется.
Бертольд Брехт: «Гегель принадлежал к величайшим
юмористам среди философов... Юмор его выражался в том, что он не мог
и помыслить, например, о порядке, не представив себе немедленно
беспорядка. Ему было ясно, что в непосредственной близости
с величайшим порядком находится величайший беспорядок, он
зашел даже так далеко, что сказал: на том же самом месте!». И еще:
одна из шуток Гегеля в том, что Маркс и марксисты, «величайшие
мятежники, называют себя учениками величайшего поборника
государства»75*.
Прав ли Брехт, нужен ли юмор, нужен ли вообще какой-то
прием или подход, чтобы видеть так! Для Брехта превращение
всего во всё всё-таки шутка, он серьезен и в конечном счете хочет,
чтобы было что-то кроме шуток; он нравственный человек и
марксист, партийность требует занять позицию, выбрать и решиться на
что-то одностороннее. Тяжеловесное старание наладить сознание
и увидеть наконец «правду» придает тяжелую вязкость работе
Брехта, он упорядочивает «предметы изображения». Гегелю был
бы ближе Ионеско, противоположность Брехта. Дети оставляют
вещам быть как они есть, взрослые плетут сложное плетение,
стремясь уложить всё в одну картину.
«Философия права» делится на три части, каждая из которых
имеет по три раздела. Собственность — тема первого раздела
первой части. Разговор о собственности начинается соответственно
не с имущества, а с непосредственной воли. Она свободна в себе
и для себя. Гегель не говорит «детская» непосредственность, это
и подразумевается строем мысли не юмориста, а лучше скажем,
мудрого ребенка. Непосредственную волю, с которой начинаются
абстрактное право и собственность, не будет ошибки видеть в
детском безграничном своеволии. Воля, der Wille, — слово,
родственное лат. volo, нашему воля, велеть, довольно. Можно представить
себе самоправную волю упрямого ребенка. Ницшевская воля,
75* См.: Бертолып Брехт. Разговоры беженцев // Театр. Пьесы. Статьи.
Высказывания. В пяти томах. Т. 4. М.: Искусство, 1964, с. 60 ел.
12. ЛИЧНОСТЬ, ЛИЦО, ВОЛЯ
145
которая скорее захочет волить сама себя или ничто, чем ничего не
хотеть, входит в гегелевское понимание непосредственной воли.
Это начало воли, определение и определенность которой —
неопределенность, любая воля. Неопределенность, определяющая
эту простую волю, в свою очередь определяется у Гегеля как
противоположность определенности, и опять уместно думать при
этом об упрямстве: чего ни дашь своевольному ребенку, ему надо
не то, он уходит от уговоров и соглашений. Его хотят тогда
побить, т. е. сломить его волю, но Гегель — несломленный ребенок.
Он хочет начинать философию права именно с того, чтобы
увидеть этот своевольный беспредел воли. Русский язык пригодился
бы ему здесь, потому что в своем немецком Гегель
развертывает как раз эту связь воли-хотения и воли-свободы, заложенную
в русском слове. Гегелевская неопределенная воля включает и то
и другое, сво-боду свое-волия, ускользающего от определений из
отвращения к любым предлагаемым ему определенностям,
размахивающегося в захвате. Разумеется, такой воле рано или поздно
помешают, раньше всего она споткнется сама о себя. Но ведь не
в том же дело, что и как ее когда-то ограничит. Дело в том, что для
начала она вот такая. Значит, и в конце она тоже должна быть
такая (!). Не сломленная вначале, воля не остановится, пока не
охватит целый мир.
Важно, что Гегель не приписывает непосредственную волю
какому-то обладателю, например личности. Мы уже давно
заметили, что личности нет ни в числе основных философских
понятий, ни в Библии до Евангелия включительно. Как в Библии мы
находим не «личность», а лицо, так гегелевскую простую волю
лучше понимать как лицо, например как лицо ребенка, который
смотрит нам в глаза как запредельный гость, как инспектор из
другого мира, так что делается не по себе от этого неприрученного
своеволия, которое ничего не хочет знать вне себя равного себе.
Еще рано требовать от такого существа уважения к родителям.
Родителей пока нет на горизонте, как, впрочем, и местоимения
«я». Родители и собственное тело — только вещи среди вещей,
и вещам полагается свирепое наказание криком и отчаянными
жестами за стеснение воли. Лицо (Person) определяется предельно
просто. О настоящем философском определении можно заранее
знать, что оно никогда не будет сцеплением простых понятий
в сложное, постройкой из элементов, а всегда окажется
упрощением понятия, выходом из нагромождения на свободу. За
кажущейся сложностью здесь всегда как вспышка прояснение. Лицо
у Гегеля определяется как воля, конкретная, встречающая нас,
146
В. В. БИБИХИН
обращенная к нам в этом вот лице. Как аристотелевское έκαστον,
оно не редуцируется и не дедуцируется, каждый раз оказывается
именно таким, каким ему случилось быть, и изменить мы тут
уже ничего не можем. Поведение человека, упрямство ребенка
может казаться нерациональным, но в досадной несговорчивости
полновесно присутствует воля в ее исходном определении,
неопределенности.
Замечание по ходу дела: в сравнении с Хайдеггером Гегель
содержательнее в таком же смысле, как историческая живопись
первой трети прошлого века содержательнее абстракционизма.
С другой стороны, как Пауль Клее предполагает знание традиции
и вращенность в нее, выполняет задачу комментария,
помогающего видеть традиционную живопись заново, так Хайдеггер
предполагает подробное знание Гегеля, учитывает его содержательное
богатство и своей непохожестью на Гегеля показывает, насколько
трудно уже его, Гегеля, сегодня прочесть.
Будем иметь в виду: лицо (Person) есть конкретная воля,
своевольная данность желания, с которым по-честному ничего не
поделаешь и ничего собственно не надо делать. Личность
(Persönlichkeit) будет уже производным от лица — воли.
Теперь — резкий ожидавшийся поворот. Только что
размахнувшаяся на воле воля, заявив о своей безусловной
неопределенности, срывается, и как-то вдруг. Гегелю не приходится ничего
ретушировать, ничего конструировать. Он просто слышит еще
раз то, что сам произносит, слово «лицо», и в нем, особенно в его
производном «личность», улавливает что-то подозрительное.
«Личность». Это звучит, может быть, и высоко, но одновременно
в применении к каждому человеку насмешливо. Русскому
переводчику не верится, что у Гегеля такой слух к языку, и он подправляет:
«Высшее в человеке есть то, что он — лицо, и тем не менее уже
в самой этой голой абстракции лицо есть нечто презрительное»
(с. 97). Переведем правильно: «Высшее в человеке — быть Лицом,
и тем не менее голая абстракция Лицо уже в самом звучании
слова содержит что-то презренное». Вообще за каждым словом, за
каждой запятой русского Гегеля чувствуется ревнивый присмотр
редактора, переводчика, который никогда не даст мысли свободу
быть простой и детски наивной, вернет ее от рискованного размаха
к «реальностям», за которыми у пугливого копировальщика в
конечном счете всегда стоит его обыденная скука, путаница, магазин,
служба, улица. Почему-то «презрительное» вместо «презренное»,
сказано о звучании слова лицо, личность; гегелевское «в самом
выражении слышится» вообще выпадает из перевода. Это отдельное
12. ЛИЧНОСТЬ, ЛИЦО, ВОЛЯ
147
замечание о переводе и его редактировании, которые требовали
бы в данном случае и вообще подробного разбора, мы делаем
только потому, что случай кажется нам характерным. Господа,
говорит здесь Гегель, разве вы не слышите, что даже само слово
«личность» звучит подозрительно. Современное сознание, в своей
ученой форме преимущественно распоряжающееся во всей
переводческой деятельности, не только не хочет этого слышать, но не
хочет расслышать даже и того, что говорит Гегель.
Иначе как в юридическом смысле личность у Гегеля не
берется в качестве первичного понятия. Личность понимается как
обобщение от лица. Лицо определяется как воля в смысле,
приблизительно равном значению русского слова «воля», направленный
порыв и простор.
Надрывается это лицо, эта воля сразу же, именно тем, что
замахивается на всё (!), как ребенок хватается подряд за всё что
попало и ему самому оттого не по себе. На размах воли с самого
начала, самой ее неопределенностью наложен естественный
запрет, Verbot. Воля столкнется лицом к лицу с нельзя. На
своеволие и упрямство будет наложен запрет. Для этого не потребуется
никаких норм нравственности. Запрет будет наложен даже не
столкновением моей воли с чужой, а сшибкой моей воли с моей
же. Даже если я ожесточусь в тупом упрямстве.
Но раньше, чем это произойдет, и без того, чтобы мне вставать
в зависимость от того, что продиктует мне запрет, я могу увидеть
запрет своим разумом, которому я тоже дам волю или, вернее,
позволю разуму быть одновременно и волей, как того требует Гегель.
Из-за того, что я дам волю своему разуму, я не отниму волю у
своей воли. Пусть она рискованно неопределенна, но я не наложу на
нее искусственных ограничений, не буду использовать разум для
борьбы с собственной волей. Разум не позволит рассудку судить
в его нищенской ограниченности так, что поскольку я, волящий,
всего лишь маленький человек внутри моего тела в данных
условиях нашего времени, то и хотеть должен малого. Как бы не так.
Ребенок этого не собирался делать и Гегель тоже не будет. Воля
субъектом и его природной ограниченностью не ограничится (!).
«Для этого лица как в себе бесконечного и всеобщего ограничение
быть только субъективным противоречиво и ничтожно» (§ 39,
с. 99). Где инстанция, которая поставила бы предел разумной воле.
Она требует себе не больше прав и больше собственности, а всего.
Других запретов, кроме тех, которые ей способствуют, воля знать
не хочет; внешние запреты вообще не для нее. Воля в самой себе
приходит к необходимости запретов особого рода, которые ей нуж-
148
В. В. БИБИХИН
ны, чтобы не сбиться, т. е. для ее же свободы и широты. Мы уже
говорили о тожестве демократии, т. е. всеобщей свободы, и
строгого порядка, при том что полная несвобода дает распущенность.
Порядок не стесняет свободу, а высвобождает ее.
Я столкнусь с другими или не столкнусь, но раньше того моя
воля, т. е. мое лицо, отличает «себя от себя» (§ 40, с. 99). «Воля...
различенная не от другого лица... а в себе самой, есть как
особенная воля, отличная от себя и противоположная себе как в себе
и для себя сущей, — неправо и преступление» (там же). Раньше,
чем передо мной окажется неправ преступник, я в самом себе
уже раздор. Отличие воли от себя самой означает, что я сам себе
другой. Воля есть лицо, которое есть я сам. Другой во мне, так
сказать, раньше меня. Он ближе ко мне чем я сам. Я себя пока еще
не знаю, и это пока еще — мое всегдашнее исходное состояние.
Насколько я себя знаю, я знаю себя в другом. В это я другой себе
заранее включены уже все другие. Договор и предшествующий
ему разговор оказывается обязателен. Сам раздор между разными
я, предшествующий мне, — это уже какой-то разговор, раньше
которого меня не оказывается. В любом случае я в разговоре с
другим и ищу отношений с ним.
Откуда происходит необходимость дать «внешнюю сферу»
для своевольной воли? Разве ей мало своей исходной безусловной
свободы? Ведь ясно, что во «внешней сфере» царственная воля
надорвется без высшей школы. Не спокойнее ли царить в мечте
и воображении? Здесь правит императив идеи, родов, велящий
выйти из изоляции в своё как родное, родовое. Именно потому, что
воля первоначально не определена, ее своим собственным должно
стать всё. Выйти из изоляции, брать и давать поэтому неизбежно.
Начать с собственного тела, которым своевольный царственный
младенец почти еще не владеет.
Выход во «внешнюю сферу» необходим именно для того,
чтобы преодолеть наблюдение ее извне как чужого. К чужому
надо выйти, чтобы чужого не стало. Наивным кажется, что чуждое
окружение велит «уйти в себя» в смысле отвернуться от
постороннего. Омфалопсихия, узрение собственной души в особом
свернутом положении тела, когда взгляд упирается в пупок, — крайний
случай замыкания на таком «себе», который не становится
созерцателю своим. В рефлексии такого рода всё созерцаемое
остается чужим, чуждым, внешним. Просто поворачиваясь от чужого
внешнего к себе, я оказываюсь внешним сам. Свое и свое
раскалываются здесь до полярности, показывая, что мы приближаемся
к настоящим и, стало быть, рискованным вещам.
12. ЛИЧНОСТЬ, ЛИЦО, ВОЛЯ
149
Гегель обнаруживает двойственность в вещи (Sache), она
«может иметь противоположное значение; в одном случае, когда
говорят: в этом суть дела (das ist die Sache), всё дело в вещи... [вещь]
имеет субстанциальное значение; в другом... вещь лишь внешнее»
(§ 42, с. 101). Внешнему не хватает утвержденности в «своём»,
в свободе. Всё, что не чистая свобода, не в себе. «Я в качестве
чувственного — сам внешний, пространственный и временной» (там
же). Где я непространственный и невременной? Даже не в
сознании, в чьей противопоставленности сознаваемому уже заложена
пространственность, а в «свободном духе, который необходимо
отличать от просто сознания» (там же). Где же своё! Сознание,
созерцание, мышление самого себя, рефлексия — всё это еще не
то. Гегель говорит резко: «Животное может созерцать, но душа
животного имеет своим предметом не душу, не самого себя, а нечто
внешнее» (там же). Можно видеть себя — и не себя, иметь дело
с собой — и не с собой. Вокруг этой двойственности весь интерес.
Мысль вспыхивает вокруг нее и не может уже угаснуть, потому
что, разгораясь от этой двойственности, не может ее объяснить.
Вдруг эта двойственность открывается Гегелю в самой его
теме, собственности. Есть собственность и собственность,
которые так различны между собой, что можно говорить об одной, не
упоминая о второй. Гегель объявляет, что «внутренняя
собственность духа», ein inneres Eigentum des Geistes, «владение телом
и духом, которое достигается образованием, учебой, привыканием
и т. д.» (§ 43), не будет рассматриваться в «Философии права».
Вынесенная за скобки, именно эта собственность становится,
однако, постоянным фоном всего говоримого, его умалчиваемым.
И одновременно оставляется будущей мысли. Когда Хайдеггер
в кратком недавно опубликованном тексте «Бедность» говорит
о нищете, необходимой бытийному богатству, то он выполняет
задание, завещанное Гегелем, и вступает в трудное «между» своего
и своего, собственного и собственного.
Гегель объявляет в том же § 43 тему, которая хорошо
переводится на русский язык как отчуждение. Отчуждение — переход
«духовной собственности» вовне. На отчуждении стоит Маркс,
и российский опыт трех четвертей века подчинялся программе
снятия отчуждения через обобществление собственности. Будет
лучше, если мы позаботимся здесь об осторожности. Губительная
болтовня вроде отметания этого семидесятипятилетия как
ошибки готовит только еще худшую и длинную ошибку. Мы даже еще
и не взялись за дело настоящего осмысления, пока не заметили,
что теперешние активисты не дальновиднее активистов первой
150
В. В. БИБИХИН
трети века. Всего легче споткнуться, когда кажется, что трудности
позади. Для осмысления уникального опыта России прежде всего
надо и важнее всего было бы сделать то, что упустили в начале
века — прочесть Гегеля, пусть даже и после Маркса.
Крупность, размах этой мысли захватывают. Читая Гегеля
сейчас, я невольно снова ставлю на полях такие же беспомощные
восклицательные знаки и значки «очень важно», как и 36 лет
назад. Это восхищение, удивление — того же рода, как когда
снова оказываешься в горах. Природа убивает нас в упор красотой
(Жерар де Нерваль). От человека требуется немногим больше чем
принять эту смерть.
Если я, часто думавший о Гегеле, через 36 лет продолжаю
так же наивно ему удивляться, то можно с уверенностью сказать,
что и через сотни лет другие смогут иметь тот же опыт. Об
«освоении Гегеля», при отсутствии даже постоянства думания вместе
с ним, не приходится и говорить. Будет небольшим
преувеличением считать, что он спокойно лежит в библиотеках
непрочитанным.
Присвоение вещей лицом, волей — это их при-своение им же
самим (вещам), возвращение вещей в их собственную самость,
потому что секретом собственности (своего, родного, рода) обладает
во всем мире только свободная воля. Все вещи могут и, добавим,
должны «стать собственностью человека, поскольку он есть
свободная воля и в качестве такового есть в себе и для себя,
противостоящее же ему этим свойством не обладает. Следовательно,
каждый имеет право сделать свою волю вещью или вещь своей
волей, другими словами, снять (auf-zuheben) вещь и переделать ее
в свою». Гегелевское снятие возвышает; переделывание означает
пересотворение или сотворение заново; в свою вещь превращается
и для себя тоже, поскольку впервые ей отдается ее суть. «Ибо вещь
как внешнее не имеет самоцели, не есть бесконечное отношение
с самой собой, а есть нечто внешнее самой себе» (103). Вещь не
имеет самоцели как внешнее себе же самой; самоцель есть
самость как цель; своё бесконечно в качестве рода не столько потому,
что род не ограничен никаким числом индивидов, сколько потому,
что род не отграничен от других родов и от всех родов.
«Только воля бесконечна, абсолютна по отношению ко всему
остальному, тогда как другое со своей стороны только
относительно» (103-104). Таким образом, в наивной воле,
замахивающейся на всё, и только в ней вещи имеют шанс прийти к своему
собственному. «Присвоить себе (zueignen) значит в основе
показать высоту моей воли против вещи и доказать, что она не есть
12. ЛИЧНОСТЬ, ЛИЦО, ВОЛЯ
151
в своем и для своего, не цель себя. Это показывание достигается
так, что я кладу вещи другую цель, чем та, которую она
непосредственно имела; я даю живому существу другую душу, чем
оно имело; я даю ему мою душу. Свободная воля есть тем самым
идеализм...»76* Составитель энциклопедической статьи
успокаивается, подчеркивая эту фразу: рубрика, куда можно отнести
немецкого философа Гегеля, названа им самим. Мы, однако, не
смущаясь тиражом справочного издания, читаем последнюю фразу
вышеприведенной цитаты: свободная воля, или просто воля во
всем размахе этого нашего слова, есть прорыв к идее, т. е. к роду,
т. е. к собственно своему, дарящий вещи ее своё, наделяющий ее
при-своением как возвращением к собственной сути. И дальше
мы замечаем многозначительную ошибку в переводе Гегеля на
русский язык (Философия права..., с. 104): «Свободная воля есть...
идеализм, не рассматривающий вещи такими, каковы они в себе
и для себя». Перевод неверен. Гегелевский идеализм, наоборот,
только то и делает, что «рассматривает» в себе и для себя вещей.
У Гегеля сказано буквально: «Идеализм не держит (не считает)
вещи как они есть за такие, которые в своем и для себя». Вещи
как они есть еще не свои. Противоположный такому идеализму
реализм (ср. дискуссии о научном реализме), который хочет видеть
в вещах как они есть полноту, придает им самостоятельность,
когда они сплошь условны, опровергается не философией, а коровой.
Поедая траву на лугу, корова доказывает, что назначение травы
не в том, чтобы оставаться как есть. Корова и коса продолжают
быть нужны траве, как некогда гигантские травоядные оказались
нужны земле в огромных количествах, чтобы поесть безудержно
разросшуюся зелень, которая иначе могла бы увеличить процент
кислорода в воздухе до того, что всё сгораемое на земле вспыхнуло
бы от первой молнии.
Idealismus ... die Dinge nicht, wie sie sind, für an und sich hält.
Фраза, конечно, нелегка для прочтения. Гегель не редактирует
себя. Это не значит, однако, что переводчик имеет право
отредактировать его так, чтобы он стал соответствовать расхожему
представлению о нем. Гегель говорит: вещи не в себе. Все. Всегда.
Политическим революционерам далеко до такого
философского радикализма. Российские революционеры, подстегивая себя
воспоминаниями о якобинцах и Марксом, проходили мимо мысли,
вобравшей в себя в чистом виде опыт французской революции
и воспитавшей Маркса.
76* § 44, перевод В. Б.
152
В. В. БИБИХИН
Всё во власти разумной воли. Ошибка, однако, думать, что
моей потенциальной собственностью является всё что вне
моего тела. И мое тело станет своим только через волю. «Как лицо
я имею мою жизнь и тело, подобно другим вещам, тоже поскольку
на то есть моя воля» (§ 47, с. 106). Что собственное тело бывает
чужим, что бывают часы, когда оно в тягость и хочется от него
отделаться, об этом говорит опыт. Начальная воля тела не имеет
и не знает, что оно собственно такое, но способна иметь даже
и свое собственное тело. «Чтобы быть его послушным орудием
и одушевленным средством, оно должно сначала быть взято духом
во владение» (§ 48, с. 106).
Человек не тело. Он лицо, т. е. направленная
целеустремленная воля. Эта воля с самого начала направлена на всё. Человек
такое существо, что он склонен, расположен вспыхивать
разумной волей. Именно поскольку это расположение свободно,
нельзя уравнивать владение: оно освящено волей и соответствует
ей; уравнивание владений равносильно уничтожению
собственности. Иначе говоря, чтобы все были равны в свободе разумной
воли, решающейся на то или другое владение, не должно быть
насильственного равенства владений и должно быть неравенство
в том, на что и как простирается волевое при-своение. Как отнятие
собственности, так и обязывание к собственности при уравнении
имуществ, навязывание юридической собственности тому, кто
от нее отказывается, направив волю и разум на весь мир,
означает лишение собственности. В свете этого гегелевского
пояснения становится понятно, что социалистическое обобществление
в России лишало лицо собственности не только когда отнимало
ее, но и когда наделяло ею. Навязывание всем таких видов
собственности, как гарантированное и обязательное рабочее место,
подсекает волю в свободе ее выбора, который может заключаться
и в отказе от всякой юридической собственности ради «духовной».
Тюрьма, лагерь, жестко обязывая иметь собственность (кружку,
ватник, работоспособное тело) по существу под угрозой смерти,
стесняют этой обязательной собственностью больше, чем
лишением гражданских форм собственности. Воля может видеть своими
государство, страну, мир, для посвящения себя которым ей важно
не связывать себя никаким другим «своим».
Собственность случайна. Она всегда могла бы быть
перераспределена. «Вещь принадлежит тому, кто случайно первым по
времени вступил во владение ею... поскольку второй не может
вступить во владение тем, что уже есть собственность другого»
(§ 50, с. 108). Случайно и владение телом; оно данность, которой
12. ЛИЧНОСТЬ, ЛИЦО, ВОЛЯ
153
всегда могло не быть, и которую всегда могут отнять. Случайное
владение может показаться неправедным. В самом по себе случае,
однако, нет ничего неправильного. Неправда привходит от других
причин. В новых российских богатых неприемлемо (и решит их
судьбу) не то, что они первыми взяли валявшееся на дороге, а
непонимание собственности, как ни странно сказать, незахвачен-
ность самой собственностью, отсутствие удивления перед тем
и осмысления того, что и почему с ними вдруг случилось (деньги,
женщины, машины, рулетка), малое внимание к сути
происходящего. Происходит снова экспроприация экспроприаторов без
попытки разобраться по-честному, что чье в России. Власть России
снова отступила в молчание, как при Борисе и Глебе. Конечно,
и в истощении она нисколько не меньше власть России.
Если посмотреть внимательнее, то какое отношение к
моему взятию вещи во владение имеет опоздание другого? В
рассмотренном выше существенном смысле другой встроен в волю
и не может опоздать. Свободная разумная воля никакого другого,
который был бы способен опоздать, не знает. Она просто
приходит и берет всё, на что простирается ее размах. Другой, если он
всё-таки появится, покажет себя, и тогда посмотрим, но это будет
потом; сначала я один и мне открыто всё. «Первый есть
собственник по праву не потому что он первый, а потому что он —
свободная воля» (§ 50, с. 108). Свободная воля больше чем первая, она
единственна. «Первым он (собственник) становится лишь потому,
что после него приходит другой» (!). Появление другого,
возможно, только подчеркнет единственность собственника, чьи разум
и воля могут оказаться определяющими. Решат во всяком случае
не заборы и сторожа, а мера бытийной захваченности вещами.
Разумная воля тем менее нуждается в искусственных ограждениях,
что с самого начала ее внимание открыто, и даже когда рядом нет
никаких других, в ней есть «предвосхищающее отношение» к ним
(§51, с. 109). Я предвижу, как и чем осложнится обладание, и тем
самым вступаю в обладание также и отношениями с другими,
которых пред-полагаю (!). В собственность входит знание степени
чужих прав на нее. Моя собственность на вещи должна учитывать
также, что и вещи по-своему обладают собственностью. Их
собственность — их материя. Материя сначала принадлежит вещи
и только через вещь — мне.
Возможно ли овладение всеми этими аспектами владения?
Из-за разветвляющейся многосторонности владения никогда не
известно до конца, кто, чем, когда, насколько, почему, с каких
пор владеет. «Захват и внешнее владение всегда оказываются
154
В. В. БИБИХИН
бесконечным образом более или менее неопределенными и
несовершенными» (§ 52, с. НО).
Можно ли назвать моей землю? Да, но только как участок,
угодье рядом с другими такими же, а не как род; так же не может
быть собственностью род вода, род воздух. Ближе ли владелец
очень большого надела к владению землей как родом, чем
владелец крошечного? Нет, потому что схватывание рода (идеи, формы)
в принципе не то, что захват (части) пространства, развернутого
родом. Род не может быть собственностью, а с другой стороны,
только захваченность родом дает право владения тем, что роду
принадлежит. Только умение обращаться с землей как родом по
сути дела стоит в основе прав отдельных землевладельцев и
объединяет их. В одинаковой принадлежности землепользователей
к существу земли как рода заложена правда земельной общины.
Понимание земли как рода так или иначе предполагается во всех
земельных законах всех эпох и народов, и безусловного уважения
к юридическим правам на землю (моя земля, что хочу то и делаю)
никогда не будет. С меньшей очевидностью то же ограничение
юридических прав на собственность требованиями самого вла-
деемого можно увидеть везде. Отсюда уже близко до свободы
собственности, о которой ниже.
Освоение земли отличается от присвоения и его единственно
оправдывает. Осваивается земля как род, присваивается
развернутое родом пространство. Освоение рода может происходить
только так, что роду в захваченности им отдают собственно себя.
Освоить землю по-настоящему может только тот, кто сделал ее
своей не в смысле нотариального закрепления, а так, как врастает
в землю крестьянин, «отсталость» которого терпеливо ждет своего
будущего.
13. Свобода собственности
(18.5.1993)
«Я хочу вступить во владение этой материей, этим целым,
поэтому она не остается бесхозной, своей собственной» (§ 52, с. 110).
Моя воля так смела не попусту. Она не знает вне себя такой
интимности овладения, такого вникания в собственно своё земли; она не
верит, что вне ее что-то способно так прильнуть к земле, к вещи,
к телу, так упиваться породнением с тем, что становится своим.
Не будем проходить мимо тождества родного и своего.
В юридической терминологии выражение «физический
захват» имеет свой формальный смысл, но если ему в гегелевском
немецком языке соответствуют слова die körperliche Ergreifung, то
можно быть уверенным, что он думает тут не о переводе
латинского термина, а слышит телесный захват. Ясна размытость,
текучесть такого захвата, его плавный переход во что-то другое. Я
захватил вещь рукой, но если краешек схваченного высовывается из
ладони, не вся булка уместилась в кулаке, то выступающий конец
принадлежит уже не мне, и сосед по хлебной очереди уже имеет
право его спокойно отломить? Наверное нет. Если хлеб в сумке,
т. е. вне руки, то всё равно я его телесно имею или это уже не
телесное владение? «Я совершаю вступление во владение рукой, но ее
охват может быть расширен... То, что я беру ею, может само стать
средством, которое позволит мне брать и дальше», weiter greifen
(112). Ни в существе воли, ни в существе мира нет ничего такого,
что проложило бы отчетливую границу между ними. Рука сама
собой тянется к миру. Не у кого-то одного «загребущие руки»,
а рука вообще такая, распущенная, не знающая удержу, пока нет
этого удержу. Откуда он придет, вот в чем вопрос. Где источник
ограничения.
Попробуем думать так. Выйдем за страницы «Философии
права», но если кто-то скажет — за край гегелевской мысли, то
156
В. В. БИБИХИН
можно будет спорить. У этой мысли, как у всякой настоящей
мысли, нет запретов на развертывание, есть только недосказанности.
И вот, вместе с Гегелем отставив природные, биологические,
социологические ограничения, для разумной воли не обязательные,
заметим, хотя это у Гегеля в «Философии права» не написано,
что такая воля всегда скована присутствием мира, которое она
просто принимает, не умея его объяснить. Эта скованность
присутствием мира не означает, что воля не в состоянии его никак
отменить; скорее наоборот. Выберем пример из самых обыденных.
Перестаньте платить за квартиру; тогда распадется служба
жилищного обеспечения; городское хозяйство придет в негодность;
сложится критическая ситуация; кризис приведет к взрыву, взрыв,
возможно, к войне, которая уничтожит всё. Конец мира не только
возможен, но и неизбежен, ближайшим образом — в смерти
каждого человека.
Река времен в своем теченьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей77*.
Безусловная скованность воли присутствием мира имеет
другой характер, чем обреченность на это присутствие. Условия,
в которых находит себя воля, условны, но безусловен характер
экзамена, лежащий на этих условиях, когда не безразлично, а может
быть единственно важно, как будет пройдена проверка воли этими
условиями. Расхоложенность, к которой располагает
переменчивость условий, обманчива особенно из-за краткости времени,
отпущенного на экзамен. От достаточности времени зависит, успеет
ли воля прийти к решению или нет. Но эта зависимость не такая,
что решение вырабатывается со временем. Никакого времени не
хватит для решения, если нет решимости на принятие —
безусловное — условий экзамена. Кроме того, решение, если оно приходит,
появляется всегда вдруг, «сразу». Решение не функция времени.
Вместе с тем время, не будучи достаточным условием, в каком-то
смысле оказывается безусловно необходимым в отличие от других
условий, которые заменимы, не необходимы в такой же мере, как
и не достаточны.
Когда решение задачи найдено, экзаменующийся спокойно
кладет свои записи на стол и выходит из помещения. Он знает те-
77* Неточное цитирование из последнего стихотворения Г. Р. Державина
«Река времен в своем стремленьи...» (1816).
13. СВОБОДА СОБСТВЕННОСТИ
157
перь, что все условия и обстоятельства экзамена, включая степень
его подготовленности, были только условиями, по отношению
к которым решение, условиями не созданное, а пришедшее само,
с самого начала, когда еще оно не было «найдено», было
единственным необходимым, достаточным и безусловным условием.
Пока решение еще не найдено, примат решения еще не ясен, всё
в неизвестности и все условия имеют смысл помощи, которая
никогда не достаточна, и помехи, которая всегда может оказаться
достаточной для срыва решения. Сама помощь (как подсказка на
экзамене) может оказаться фатальной помехой. Помеха в свою
очередь может оказаться помощью. Всё спутано в неисправимой
неопределенности не чем другим, как пока-еще-отсутствием
решения. Нет смысла поэтому искать последние причины запрета
внутри самого запрета и последние причины зла внутри самого
зла. Как ни будет казаться, что мы сейчас уловим источник
помехи, запрета, зла, их суть не прояснится иначе как в свете
решения, имеющего такой независимый и безусловный характер, как
сказано выше. Между условиями воли и ее решением проходит
обрыв, к которому сводится весь интерес воли, перепад между
решающим и не решающим для нее. Раньше чем мы имеем дело
с помощью и помехой, добром и злом, мы захвачены различием,
к которому сходится весь интерес, между тем что оказывается
решающим для искомого решения, и тем что не решающее для него.
Таким образом, мы вынуждены решать с самого начала, задолго
или во всяком случае до того, как решение пришло (решать, что
в условиях существенно и что нет, с чего начать и в чем допустимо
изменить условия).
Аристотель: первое по существу дела для нас как раз никогда
не открывается при первом приближении. Гегель: «Человек в
своей непосредственной экзистенции... есть нечто чуждое своему
понятию», читай — схватыванию (Begriff) собственно своего в себе
(§ 57, начало). Чуждое, или в переводе 1990 г. внешнее, сказано
в оригинале тем же словом в другой форме, что отчуждение. Т. е.
в своей непосредственности, простой данности, до вступления
в общественные отношения, например до того, как стать
фабричным рабочим, человек отчужден от самого себя. Еще не скоро
придут капиталисты и помещики, чтобы отчуждать его от плодов
собственного труда, еще не скоро Маркс начнет принимать срочные
меры для преодоления отчуждения, а оно уже имеет место первым,
сразу и только за ту вину, что человек еще не проработал, не
выработал, не образовал, не узнал себя как свободного, т. е. равного
своей собственной самости. «Свободный дух есть как раз это...
158
В. В. БИБИХИН
дать себе экзистенцию как лишь свою, как свободную
экзистенцию» (там же78*). В своем немецком языке Гегель синтаксически
(«... свою, свободную...») восстанавливает связь, которая встроена
в историю нашего языка, ведущего свободу от своего. Человек
призван вывести своё понятие в действительность, в энергию,
в полноту дела или работы, проработки (эргон). Пока этого нет,
для Гегеля нет речи о преодолении отчуждения. Оно
преодолевается здесь; и вырождение попыток его преодоления на путях
политики и экономики в демагогию и тиранию было медлительным
и тягостным доказательством гегелевского раннего тезиса.
Гегель один безусловно прав против миллионов (я не
преувеличиваю) демагогов, и на Гегеля же они указывают пальцем: он
допускает рабство. Да, он допускает рабство, при том что говорит,
что человек не предопределен к рабству. Мало ли что заложено
в понятии человека. Всё это до проработки понятия остается
«голым долженствовованием», ein bloßes Sollen, из тех, которые
составляют идеологию и полностью исключены в философии
(философское абсолютное надо всегда уже осуществилось). «То,
что кто-то раб, лежит в его собственной воле, как в воле народа
лежит, если он под ярмом» (§ 57, Прибавление). Несправедливое
рабство тут на своем месте79.
Мы видели, как Гегель опровергает реализм, веру в вещи
как они сами по себе стоят, ожидая познающего исследователя,
который будет извлекать из них их законы. Научный реализм
опровергается коровой, которая приходит и съедает траву вместо
признания за травой самостоятельности. «Лишенная самости»
вещь открывается (Offenbarung, откровение вещи) «через
изменение, уничтожение, пожирание вещи» и «вещь так выполняет свое
назначение» (§ 59). Но обязательно ли идеализм ведет к
уничтожению вещи? В «воле собственника», присваивающего вещь по
праву при-своения ее ей же самой, вещь уже опережающим образом
достигла своего назначения. Только если мы промахнулись мимо
двоякости при-своения вещи, мы вступаем на путь истрепывания,
пожирания, уничтожения вещи, в котором ее суть всё-таки не бу-
78* Ср.: «Философия права»..., с. 114.
79 Явлинский прав, когда иронизирует над интеллигентами,
дожидающимися волеизъявления народа. Когда он после этого призывает интеллигентов
«рожать власть», то сомнительно, что предстоящие человеку роды должны быть
действительно родами власти. Нельзя надеяться на прояснение современных
отношений между властью и народом, пока не было еще основательных
разработок, хотя бы издалека равноценных гегелевским. Ср. мой текст «Власть России»
(«Новая юность», 1994, 1 ).
13. СВОБОДА СОБСТВЕННОСТИ
159
дет до конца достигнута именно потому, что мы упустили самое
начало отношения к ней, отдание ее самой себе. Растрачивание
вещи — не суть собственности.
Основание собственности (своего) — в возвращении вещи ее
собственности (своему). Растрачивание (утилизация) вещи плохо
и само по себе, и главное потому, что оно, возможно, мешает
проступить в вещи свободе своего. Нелепо приписывать присвоению
уничтожение и пожирание как окончательные формы; на то и
свобода, чтобы оставаться свободной. Она даст о себе знать, как
ее свободной воле будет угодно; ее пути ей не предписаны и не
свободе проверять себя, действительно ли ею выполнены увечные
критерии собственности, «изменение, уничтожение, пожирание»,
потребление. Свобода не спросит, считать ли ее собственность
собственностью. Если кто-то знает о собственности из первых
рук, то свобода (!).
Применение вещи к полноте ее осуществления дает право
владеть ею. Поле есть поле лишь постольку, поскольку оно дает
урожай (§ 61). Как разумная воля знает в себе и для себя, что ей
делать с полем, так она знает, что ей делать с миром. У Андрея
Битова есть персонаж, на редкость чуткий и одновременно чужой
себе, потерявший себя. Он оказывается в Переделкине, и
поселок, лесок, пригорок, постройки, дорога видятся ему
«траченными» как молью, изъеденными до трухи, до рассыпающейся пыли
взглядом поэта, Бориса Пастернака. В переделкинском пейзаже
не осталось ничего живого, всё существенное уже взято, вынуто
тем взглядом. Одного взгляда поэта достало, чтобы взять весь
урожай целого места и не оставить ничего другим. На этом месте
теперь возможна лишь иллюзия собственности владения — или
требуется снова то, чего у Монахова, персонажа Битова, как раз
нет: своеобычной свободы, способной вернуть собственность
всему пейзажу. — Поселок взят во владение, потреблен до дна,
уничтожен, съеден взглядом без покупки, без порубки вишневых
садов, без перестройки, без порубания топором. Как такое стало
возможным? Только разумная свободная воля знает сама в себе,
как она овладеет вещью.
«Кто поэтому тратит поле, тот собственник его целиком, и
пустая абстракция — признавать еще какую-то другую
собственность на этот предмет сам по себе» (§61, конец). Если «весь объем
употребления» мой, то и «вещь как моя полностью проникнута
моей волей», и после этого пуста заявка, что в каком-то другом
смысле, скажем по юридическим документам, вещь принадлежит
другому. «Собственность, всегда и полностью лишенная пользова-
160
В. В. БИБИХИН
ния, была бы не только бесполезна, но уже и не была бы
собственностью» (§ 62). В нашем примере из А. Битова собственность на
что бы то ни было в Переделкине стала невозможной, но не
столько потому, что всё здесь уже растрачено Борисом Пастернаком,
а потому, что новый житель поселка, Монахов, оказался уже
неспособен после поэта увидеть место своими глазами.
Широко понимая допущение юстиниановского
имущественного права, что практическое пользование может превращаться
в юридическое владение, Гегель решительно вводит свободу
собственности, Freiheit des Eigentums, как норму для будущего. Когда
Маркс объявил, что орудия производства, включая землю,
принадлежат тем, кто ими пользуется, завод рабочему, поле крестьянину,
то это и было своеобразной попыткой исполнения гегелевского
пророчества из § 62 «Философии права»: «Около полутора тысяч
лет назад благодаря христианству начала утверждаться свобода
лица и сделалась, хотя и у незначительной части человеческого
рода, всеобщим принципом. Что же касается свободы
собственности, то она, можно сказать, лишь со вчерашнего дня получила
кое-где признание в качестве принципа. Это может служить
примером из всемирной истории, который свидетельствует о том,
какой длительный срок нужен духу, чтобы продвинуться в своем
самосознании, и который может быть противопоставлен
нетерпению мнения» (118). Юридический владелец без освоения
владения «пустой господин», leerer Herr, а настоящий собственник по
праву свободы собственности тот, кто делает из нее употребление.
У Маркса простая ясность этого принципа затемнена и спутана
введением общественной собственности, т. е. нового
правового и властного механизма. Не нагруженная техникой внедрения
в жизнь, не смятая нетерпением, гегелевская мысль готова ждать,
пока не победит сама ее манящая прозрачность (как Аристотель
ждет, что победит дружба, а не механизмы социальные). Кто
способен вернуть вещи ее саму, — поднять поле, взять всё от орудия
труда, сыграть на скрипке, — тот пусть будет ее собственник,
а всякому, кто путается под ногами, выставляя права другого рода,
место на свалке истории.
Переведем теперь Гегеля буквально. «Вот уже близко к
полутора тысячелетиям, как свобода лица начала расцветать через
христианство и стала общим принципом среди, впрочем, малой части
человеческого рода. А свобода собственности со вчерашнего дня,
можно сказать, здесь и там была признана как принцип. — Пример
из мировой истории о долготе времени, какое нужно духу, чтобы
шагнуть вперед в своем самосознании, — и против нетерпения
13. СВОБОДА СОБСТВЕННОСТИ 161
мнения». Случайно ли энергичная гегелевская краткость так
размазана в русском идеологизированном переводе. Не вина ли
марксистов в том, что они так и не осмелились настоять на
старательном прочтении Маркса, не говоря уже о Гегеле, социалистическим
правительством и народом. Сейчас из-за дискредитации
упрощенной марксистской философии страна метнулась в обратную
сторону от направления, к которому по Гегелю движется
человечество, — в сторону от свободы собственности, к закреплению
формальной собственности за «пустыми господами». Впрочем,
и нам, сегодняшним, Гегель советует не спешить и набраться
терпения; «мировой дух» работает медленно и верно, его сроки
это тысячелетия. Тем хуже для мнения, если оно спешит и
путается. Если в чем-то и можно быть уверенным, так это в свободе.
«Перед лицом свободы ничто не имеет значения, она есть
всеобщее, которое должно [философское должно с обоими смыслами,
долженствования и неизбежности] достигнуть утверждающего
наличного бытия (Dasein), нет ничего, что могло бы быть для нее
границей, отрицанием»; «В мире нет ничего выше права, основа
его — пребывание божественного у самого себя, свобода; всё, что
есть, есть осуществление существования божественного,
самосознание духа у себя, это наличное бытие божественно, оно самое
священное» (к §§ 29, 30, с. 394)
Самое трудное в разделе о собственности «Философии
права» — § 65, где вводится тема отчуждения, овнешнения (Entäus-
serung). Мы помним, что о главной собственности, о
«внутренней собственности духа» Гегель говорить не хочет. И только по
поводу отчуждения и в связи с ним Гегель всё же заговаривает
о «собственности духа». Мы вроде бы уже подготовлены к тому,
что с собственностью будут неожиданности. Мы понимаем, что
«право собственности — высокое право, оно священно, но при
этом остается очень подчиненным, оно может и должно
нарушаться» (394). Но всё-таки слишком неожиданно прочесть в коротком
§ 65 сразу вслед за определением «настоящего отчуждения» — оно
есть «объявление воли, что я уже не буду больше рассматривать
вещь как мою, — следующее: «настоящее отчуждение... есть
настоящее вступление во владение вещью», или лучше перевести
буквально: «отчуждение есть истинный захват владения», die
Entäusserung eine wahre Besitzergreifung ist. Мы отчасти
подготовлены тем, что только что читали о свободе собственности. Вещь
принадлежит тому, кто ей возвращает ее саму, обращается с ней
по ее истине. Это значит, что вещь имеет право быть благодаря
мне свободной и от меня, насколько она самостоятельна от меня.
162
В. В. БИБИХИН
Делая ее своей, при-сваивая ее, я для себя даю ей свободу от себя.
Перед такой собственностью всякая другая тускнеет.
Длинное прибавление к этому § 65, запись слушателя (с. 404-
406 русского перевода 1990 г.), тоже требует разбора. Здесь мы
читаем сначала то, что хорошо знаем по Марксову изложению
в «Капитале»: вещи превращаются соразмерно своей ценности
в товар и тогда всё особенное, индивидуальное в них оценивается
одной мерой, деньгами. Дальше то, что у Маркса уже затемнено.
В способности так свести вещь к простоте ее всеобщей
ценности — огромное достижение духа. Деньги — «самое осмысленное
владение, достойное идеи человека. [...] Чтобы у какого-то народа
были деньги, он должен достичь высокого уровня образования»
(405). Деньги более умная форма собственности чем товар. В
простых деньгах товара нет — и он в них есть, да еще какой: любой.
Деньгами вдруг отперт целый мир товаров. Горстка монет в руке,
и как я свободен, как мне открыты все пути. В такой-то сумме
денег может быть выражено всё богатство страны. Вместо того
чтобы приклеиться как улитка к листу к этому куску земли и стать
его придатком, насколько выше свобода владения ценностью
просто, способной измерить что угодно. Деньги — отчуждение,
овнешнение, Entäusserung, мое расставание с натурой, но такое
отчуждение более истинно — свободно, духовно, разумно,
изобретательно, — чем взятие в обладание, захват. В меру отчуждения
(овнешнения) через деньги я вступаю в более чистое обладание
настоящим.
Благодаря деньгам я встаю вне миллиона вещей, моя
вещественная собственность тем самым очищается. Следующим
шагом на этом пути я отчуждаюсь также и от денег, отделываюсь
от них, как отделался через них от натуры. Какая собственность
остается моей после этого второго отчуждения? Я оказываюсь
чистым собственником моих «неотчуждаемых субстанциальных
определений», возвращаюсь путем отчуждения к моей внутренней
собственности духа, к личности, в конечном счете — к
собственно мне самому. Гегель предлагает неожиданный и действенный
критерий для радикального отличения любой собственности от
собственности духа (свободы воли, нравственности, религии):
неуничтожения давностью. Приведу свой пример. Было бы нелепо
мне пойти сейчас требовать от внука Алексея Пешкова, чтобы
он отдал мне 20 копеек, которые его дед взял взаймы у моей
бабушки, Аграфены Брянчаниновой, когда он катал ее в Нижнем на
санках, а потом забыл отдать. По праву давности те денежки моей
бабушки для меня пропали. Но совсем другое дело мои права на
13. СВОБОДА СОБСТВЕННОСТИ
163
слово. Если я долго, очень долго, десятилетиями не мог говорить
свободно, у меня было взято взаймы знание себя, которое взвалили
на себя другие, то это не значит, что если еще, скажем, десять лет
мне не дадут говорить свободно, то мне по-честному придется
признать, что это мое право по другому праву, праву давности лет,
от меня навсегда ушло. Или если народ был несвободен двести
лет, то еще через, скажем, сто лет несвободы он по праву
давности теряет претензии на свободу. Свобода, речь, слово — это мое,
субстанциальное, собственно собственное; здесь право давности
не работает и отчуждения стало быть нет. Или всё-таки есть?
Забыто авторство, например, гомеровских поэм. За давностью
тысячелетий забыты достижения древней генетики, неизвестно,
кто и как вывел домашних животных, — подвиг, о повторении
которого современная генная инженерия может только отдаленно
мечтать. Забыто, кто и как создал мир и кому мы должны быть
постоянно благодарны за сохранение чуда существования.
Таким образом, похоже, что отчуждено может быть в
конечном счете всё. Критерий давности тоже оказывается
относительным, хотя и очень полезным в своем диапазоне. Отчуждается
мысль. Личность-воля отдает себя своему (род-ному), которое
присутствует в ней через нее; не имея права увести себя из жизни,
она признает за государством право жертвовать ею, брать ее всю
целиком себе. Государство как идея (род) — «действительная
сила» личности, которая в сердцевине личности отчуждает
личность от нее самой (§ 70).
Стало быть, «внутренняя собственность духа» в конечном
счете не моя? Собственно собственность не моя? Нет, не моя, говорит
Гегель; государство в его идее имеет на нее больше прав чем я.
Здесь открывается новая тема. Что такое гегелевское государство,
мы не знаем; его связь с идеей и родом (на-родом) пока только
тема для разбора. Что такое «нравственная идея» мы тоже пока не
знаем. Собственность как чья тает, остается только собственность
как суть, как рождение рода.
75 лет марксистского государства в России остаются
памятником уникального опыта, попыткой осуществления «свободы
собственности» и отчуждения собственности вплоть до такой
полноты, когда никакого «кто» при собственности не остается. Этот
опыт пошел вкривь и вкось. Мы на 75 лет или больше опоздали
читать Гегеля и вдумываться в его мысль. С нами произошло то, от
чего предостерегал Плотин: когда душа в «психастении» слабеет
для видения, она падает в тень видения, практику, и обречена там
безысходно искать то, что не умела найти в себе.
164
В. В. БИБИХИН
Тоска по тому, что Гегель называет нравственностью, в чьем
пространстве мы находим государство и народ, делает так, что
только через безусловное отчуждение человек приходит к
полноте свободы. Именно в меру возвращения индивида к себе в нем
растет родное, «тяга к такой объективности, когда человек лучше
унизит себя до раба и до полной зависимости, лишь бы только
уйти от мучения пустоты и отрицательности». Пустота и
отрицательность— свойства субъективности (§ 141). В § 328 Гегель
определяет воинское мужество на службе государству. «Отдание
личной действительности... само отчуждение как экзистенция
свободы... высшая самостоятельность для-себя-бытия...
полнейшее послушание и отбрасывание собственного мнения и
рассуждения, т. е. отсутствие собственного духа и интенсивнейшее
и охватывающее ежемгновенное присутствие духа и решимость,
самые враждебнейшие и притом личные действия против
индивидов при полностью беспристрастной, даже доброй настроенности
к ним как индивидам».
«До раба и до полной зависимости, лишь бы только уйти от
мучений пустоты и негативности». Право и право собственности
«личности» само для себя не существует. Как виноград опадет без
опоры, так право должно «обвиваться вокруг некоего в себе и для
себя прочного дерева» (§ 141, конец). Действительна только
бесконечная идея. В нее уходит — личность? индивид? нет, они
остаются в своей пустоте и негативности со своими сникающими
«правами». В идее спасается новое, рождающееся, то, что отчуждается
последовательно от вещей и имуществ, потом от товаров, потом от
денег, потом и от интеллектуальной собственности тоже, от
собственного духа. В том, что Гегель назвал «внутренней
собственностью духа», вся собственность в конечном счете уходит в такую
себя, о которой бессмысленно спрашивать, чья она. Она своя.
Вы хотели другого, утверждения личности в ее
неотъемлемых правах? Как, на каких основаниях? Я спрашиваю вас, что во
мне, — конечно, привыкшем к себе, пристрастившемся к своим
привычкам, которые я даже от себя скрываю и тем прочнее их
держусь, — что во мне, если не считать скверностей, скучных
и смешных тайн, гадостей, из которых часто и состоит вся моя
индивидуальность, принадлежит только мне и не роду? Особенно
во мне настоящем, которого я мог бы не стыдиться, как я не
стыдился бы тела, если бы тело было достойным тела, как не нужно
стыдиться обнаженному Аполлону? То, чем я прикипаю к себе,
скрытные мелкие слабости, на самом деле есть у всех, только все
это скрывают словно сговорившись; наоборот, уникально и всего
13. СВОБОДА СОБСТВЕННОСТИ
165
реже встречается то, что составляет суть каждого и чего ни у кого
нет в полноте, родное, ни в ком отдельном не вмещающееся,
желанное каждому, кто хочет стать собой, и достижимое только
в меру моего превращения в человека. Стань же наконец
человеком, говорю я себе, и говорю себе то, что каждый из миллиардов
говорил и говорит, и одновременно совершенно редкостное,
единственное, не потому что я особенный и взращиваю в себе что-то
небывалое, мою особую человечность, а как раз наоборот, потому
что то самое общее (Гераклит), спасительное, бесконечное, в
котором я укроюсь, и есть настоящий я.
Здесь мы задеваем главное в философии, в мысли, во мне. Не
время бросать Гегеля. Мы только прервем его чтение, но не
разговор об идее-роде, рождении и народе, о собственности, к которой
Гегель вплотную подходит в «Философии права». Попутной
задачей остается чтение нашего Розанова в его мысли о роде и разбор
свалки вокруг него. В конце пути к своему-роду будет светиться
мир, неизвестный, на который загадочно указывают три значения
этого русского слова. Милый мир Розанова.
О Гегеле, с которым мы временно расстаемся, Рудольф Гайм
говорит в конце своей книги «Гегель и его время» (1927), что слова
о Гегеле, задуманные австрийским поэтом и писателем Францем
Грильпарцером (1791-1872) как иронические в 1855 году:
Was mir an deinem System am besten gefallt?
Es ist so unverständlich wie die Welt80
почти перестали звучать насмешливо через три четверти века.
Теперь, через полтора века, ирония в них нам не слышится уже
совсем, слышится что-то совсем другое.
Помня о равенстве идея-род-народ-государство, прочитаем
напоследок отрывок начала третьего раздела («Государство»)
третьей части («Нравственность») гегелевской «Философии права»:
«Государство есть действительность нравственной идеи —
нравственный дух как откровенная (offenbare) сама себе
отчетливая субстанциальная воля, которая себя мыслит и знает и то,
что она знает и поскольку это знает, исполняет» (§ 257). «Это
субстанциальное единство есть абсолютная недвижимая самоцель,
в которой свобода приходит к своему высшему праву, так что эта
конечная цель обладает высшим (höchste, превосходная степень)
правом против одиночек, чей высший долг — быть членами госу-
80 То, что мне всего больше нравится в твоей системе, — что она так же
непонятна, как мир (нем.).
166
В. В. БИБИХИН
дарства» (§ 258). Пусть праволюбивая читательская личность не
спешит возмущаться. Гегель сейчас отдаст ей то, чего она требует:
он скажет, что в гражданском обществе, в коллективе «интерес
отдельных людей как таковых высшая цель», точно как записано
в нашей новой конституции, как если бы государство было то же
самое что гражданское общество, коллектив. К этой разнице
сводится всё — между коллективом, сообществом, собранием людей,
договорившихся между собой и выбравших себе руководство
людей, — я решениям этого сообщества обязан не подчиняться,
если не хочу, — и тем, чему я принадлежу и все принадлежат,
а это в тех же людях, в том же коллективе, собрании, сообществе
«идея в себе и для себя», «вечное и необходимое бытие духа», «вне
зависимости от того, познается она или не познается единичным
человеком» (там же). На беду всякой конституции, не
догадавшейся учесть, что обществом правит не обязательно что-то понятное
людям, об этом догадаются как раз те, чьи бесчинства конституция
призвана вроде бы остановить.
Идее любому коллективу, даже самому большому, не
гарантировано не изменить. Значит, настоящая работа еще только
предстоит. Работа сначала черновая, разбора завалов. Но ничего
страшного. Всякую свалку можно со временем разобрать, хотя
всего больше грязи вокруг главного. Между своим и своим, между
собственным и собственным, между родом и родом (родом как
мысленным обобщением и родом как родным), между толпой и
государством различить в конечном счете удастся, тем более что для
нас нет ничего важнее. Вещь, которую Гегель называет дух народа*
(«государство в качестве духа народа есть вместе с тем
проникающий все его отношения закон, нравы и сознание его индивидов»,
§ 274), есть, и ее надо найти, хотя для этого придется разобрать
большую грязную свалку вокруг «духа народа» и потом по-новому
услышать эти слова, дух как захватывающее веяние, народ как мир.
«История духа есть его дело, ибо он есть только то, что он
делает, и его дело состоит в том, что он делает себя здесь — себя
в качестве духа — предметом своего сознания... истолковывая себя
для себя самого. Это постижение есть его бытие» (§ 343). Дело
духа должно быть чем-то другим, чем выработка постановлений
и выполнение планов, — может быть, чем-то похожим на
согласие между заметной работой вспашки поля весной и невидимой
работой весенней природы. Дело духа — свое, говорит Гегель.
Узнай себя. Лучше слышать в этом «узнай» то, что уже еле
слышно подсказывает язык. Он напоминает о родах. Человеческий род
всегда в родах.
«Эсенний семестр 1993>
14. Лаборатория мира. Эксперимент с собственностью
(16.11.1993)
Я очень ценю возможность говорить в месте, которое
задумано, построено, предназначено для философии, «философский
факультет московского университета» — название звучит так, что
это место для думания, для искания, — и очень благодарен тому
человеку, который снова сделал возможным, чтобы я сюда пришел.
Стоящий здесь перед вами всегда получает гораздо больше, чем
кажется: как химик без рук без чистых веществ и приборов, без
лаборатории, так место работы понимания — аудитория, место,
где слышат. Так было всегда, от Пифагора, с которого в
недавнем докладе Юрия Анатольевича Шичалина началась научная
философия. Φυσική άκρόασις, «физическое слушание» — полное
название второго по значению учебника Аристотеля; я говорю
переводя буквально άκρόασις от άκροάομαι, потому что и в позднем
значении этого слова, «лекция», слушание всё еще звучит. Человек,
конечно, слышит и себя, но проверка слышания себя —
слышание другими; именно слушание, слышание, а не преподавание,
втолковывание, зачитывание тут ведет, главное. Ведете вы этой
проверкой, слушанием; готовностью слуха создано говорение, не
наоборот, не оттого, что многие очень многие много очень много
говорят, создается способность слушать. — В диалогах Платона
тоже ведет открытость слушания, слышания: готовностью
выслушивания, прислушивания развертывается говорение, а не так, что
диалектическая машина выбрасывает из себя всё новые витки
понятий. — Переход значения этого слова, άκρόασις, от «слушания»
к «чтению», шел вместе с забыванием того, что первое, всегда
присутствующее и потому незаметное: внимание.
Откуда вообще берегся готовность слышания, я не знаю.
Общество стоит на сообщении, слепливается вокруг вести, чело-
168
В. В. БИБИХИН
век расположен к слышанию. Отчего так, я тоже не знаю, только
знаю, что это так, и думаю, что это чудо.
В это пространство слышания, т. е. открытое для
настоящего, которое должно наступить, мы входим пытаясь работать как,
с какими понятиями, с каким методом. Как будто бы с ничем,
с воздухом, как слышание из ничего, из воздуха. Или иначе: мы
имеем дело с ситуацией, не мировой политической культурной
экономической, а с нашей, всегда нашей, своей; наблюдение
ничего не стоит, надо чувствовать шкурой. Я не зря различаю ситуацию
и ситуацию, о них действительно говорят в противоположных
смыслах, чаще к сожалению в наблюдательском, составлении
картины «происходящего», которая ничего никогда не стоит, нуль
или хуже, и ситуация — как наша, своя, собственно ситуация,
единственная (вместе с нашим желанием изменить ее и с нашей
надеждой, что она изменится), одно, что мы по-настоящему
знаем, чувствуем и из чего только и можем знать, чувствовать что-то
и другое. — С этой единственной, настоящей ситуацией, которая
и страшна, и ограничена смертью, не далекой, а нашей, мы и
«работаем», когда начинаем замечать, как она работает с нами, на нас,
вырабатывает, прорабатывает нас.
Ситуация, собственно ситуация, наша, была искусственно
замазана, человек сначала, прежде всего имел дело с
конструктами, конструкциями (я пока говорю эти два слова в одинаковом
смысле) — а теперь, контрольный вопрос, с чем мы имеем дело,
повернувшись лицом к нашей ситуации?
Всё равно с конструкциями и конструктами, даже язык
конструкция и конструкт, из сделанного воздуха, идеологического,
которым мы дышим ежедневно, нам вырваться ни на какие просторы
прерий не удастся, единственно что меняется — что мы обращаем
внимание, с изыскания и построения всё новых конструкций на
сами эти конструкции, начинаем разбор, деструкцию или, как
смягчая переводит это хайдеггеровское слово (смягчая для
публики) Жак Деррида, деконструкцию конструкций. Это не негативное
занятие, это единственный путь к нашей ситуации.
Прояснение ситуации тогда, в этом нашем положении, значит
не столько то, что мы перед ней стоим и в ней разбираемся, не
«генетивус объекта», а сама наша ситуация проясняется, когда мы
протираем себе глаза от конструкций, сама разбирается с нами,
«генетивус субъекти».
Отсюда следующий шаг ясен, нам не надо метода и
«понятийного аппарата», это у нас, так сказать, и так уже есть, даже
слишком много, подлежащие разбору, деструкции, деконструкции:
14. ЛАБОРАТОРИЯ МИРА. ЭКСПЕРИМЕНТ С СОБСТВЕННОСТЬЮ 169
мы методичны, методологизированы через верх и выше головы,
дай Бог нам бы удалось словечко в простоте сказать без ужимки
подхода и приема. Мы возвращаемся к античной науке. Почему
античным «физиологам», исследователям природы, не был нужен
ускоритель и телескоп, они были обделены в средствах изучения
природы, от них ускользали элементарные частицы и те 6
миллиардов галактик, которые наблюдаются сейчас. Нет они знали, что
элементарные частицы и концы вселенной ускользнут всё равно.
Они работали внутри этой большой лаборатории между небом
и землей, с испарениями моря ветрами, холодом и жаром, сушью
и влагой, с ходом светил, очень размеренным, где их тело
входило если хотите как датчик сверхдатчик, включая предчувствие,
интуицию, — такой датчик современному физику и не снился;
и рост тела, и его связь с другими телами, которые из него
происходят, как семья, которые с ним связаны, как общество, всё сплошь
было одной лабораторией, поэтому разговор Аристотеля о
космосе переплетен с тем, что современному глазу кажется некстати,
с ощущениями тела, опытом того, что теперь будет названо
«психической» жизнью. Они работали не с «ин витро», а с «ин виво»:
лаборатория была вокруг и их тела тоже, размах — всё, который
и не снился современному ученому, работающему в кабинете
и даже в исследовательском институте. Вместо искусственных
препаратов и приборов — конденсатор земля и небо, нагреватель
солнце и холодильник зима, полюса верха и низа.
В этой лаборатории, космоса, не было малого в смысле
малозначительного, — наблюдения над своим телом значили для всего
космоса, — не было большого в смысле важного против
неважного. Не было низкого в смысле низменного, только в смысле
упавшего; не было высокого в смысле возвышенного, только в смысле
поднявшегося.
Т. е. всему внимание.
И отсюда мы только и можем подойти к разборке хлама,
который навален на историю мысли, на историю мысли, которая одна
и в которую мы втянуты и в которой «древние» не древние и не
музей, а то единственное, через что мы понемногу выздоравливаем,
даже приподнимаемся, пока в постели, головой с подушки и
начинаем что-то замечать. Реабилитация всеединства, рядом с
которым худшая порча; больший риск как раз в соседстве с главным,
лучшим. Разнородность, но именно поэтому родность,
родовитость всего. Правильное понимание онтологической разницы: не
между тем и этим, а между одним — и тем же. Снятие различения
наук о духе и наук о природе: концепт природы, производное пла-
170
В. В. БИБИХИН
тонизма. Непонятый Платон, извращенный в платонизме. Разум
духа и разум природы одно. Смысл «пантеизма», «гилозоизма»,
«язычества». — Смысл символизма Соловьева и Флоренского.
Оправдание символизма, «кроме того только одного»: что же это
такое, «кроме того только одного»? Акосмизм, искание разгадки,
возведения к «кроме того только одного». Всё — символизм, т. е.
символизм это просто возвращение к видению. Без сведения к
«одному»: всеединство, одно это именно всё без редукции, без одного
ключа. Язва на теле мира: якобы одна разгадка. Будь то символ или
диалектический материализм.
«Но должно же быть начало». Единое начало — то, что всё
так. Но «тесис», полагание этого тожества (непротиворечия) не
для смешной нелепой фиксации, как будто такая возможна, даже
если бы она была возможна; никакая задержка, время, здесь
невозможна, здесь вдруг. Вдруг по определению неуловимо. Его статус
особенный, во времени его нет. Задним числом оно во времени,
когда уже было. Его статус априористический перфект: всегда
заранее уже.
Такой же статус бытия? Тогда постараться взять и
фиксировать его нельзя. Каждый раз, в разных видах (в «миллионе» видов)
(хотя что такое жалкий «миллион»), в разных существах оно >ш:е
случилось, каждый момент есть. Это идет крупное, серьезное
производство, которое размахнулось на пространствах, которым край
мы не видим — как-то очень широко размахнулось. К какому бы
месту этого большого производства ни подошли, с наблюдением,
зарисовкой или изобретательством, мы видим много того, что уже
есть, возникло, стало — много бытия, уже оказавшегося. И что
мы сами подошли, оказались, посмотрели — тоже оказалось: мы,
разумные, зоркие, наблюдательные оказались в такой степени, что
ребенок, молодой человек раздражен на родителей, воспитателей,
которые не понимают, что он, ребенок, младенец, молодой человек
уже есть, уже знает, видит, понимает, совершился, а не так, что
ему еще надо ждать, когда кто-то его научит, покажет, сделает. Да,
новое приходит, но упаси господь ведь не от родителей же
воспитателей, а тоже вдруг, само, свое, собственное.
Что уже есть бытие, что оно проникновенно, уже вникло в нас,
достигло «самого самого», «своего», «собственного», вкралось,
внедрилось — мы это встретили, встречаем постоянно, и очень
много. В «так» не фиксация поэтому, а постоянное непостоянство,
непременное изменение, новое, вдруг. Нет привычки. Нет имен.
Имена не «достигают», не догоняют. — А мысли? Ах есть
мысли и мысли. Есть мысли хуже имен, жестов, манипуля-
14. ЛАБОРАТОРИЯ МИРА. ЭКСПЕРИМЕНТ С СОБСТВЕННОСТЬЮ 171
ций. — Но что тогда если статус настоящей мысли тот же, что
бытия, — что она всегда уже! Что мы не поспеваем за мыслью? —
Может быть такое, что мыслью давно называется какая-то другая
вещь?
Но откуда взяться «другой вещи»? Мысль она и есть мысль,
кроме нее кто что еще придумал, может ли придумать? Нет слава
Богу, что называют мыслью, то и есть мысль. Другое дело, что
мысль ищет, хочет и про себя знает, что может быть другой... Ах
выбор. Выбор: воля. — Мысль будет включена в мир. Никаких
«наук о духе»81*.
«Но ведь это же иллюзии человека, ограниченного тем
пространством бескрайней вселенной, где он случайно
оказался». У современного человека недоверие к кусочку вселенной,
где он — в других местах всё крупнее и чище; к собственному
телу — прибор покажет лучше. Что всё равно ограниченность
остается, что постоянное соскальзывание новоевропейской наукой
в исчисление — не от хорошей жизни, и возвращение к опыту
смертного, ограниченного существа из конструкций всё равно
неизбежно — это вроде бы всем видно, но решение отказаться
от пространства скольжения, скажем так компьютерного
пространства, такого затягивающего, отказаться не в смысле
перестать считать, а в смысле перестать только считать, постоянно
откладывается на потом, на когда-то. Конструкции из точечных
масс в однородном пространстве, изматывающие операции с entia
rationis — это не наука, ни современная и никакая, но
статистически к ним скатывается, в них включается в своем большинстве,
как мясо втягивается в мясорубку, биологическая масса
человечества. — Этой статистически громадной массе помогают теоретики,
работающие in vitro, создающие из своей настоящей ситуации
искусственную и постепенно перебирающиеся, переселяющиеся
в нее. — Независимо от того, чем занято статистическое и биоло-
81 * Следуют рукописные записи: «Говорят: свое значит быть хозяином
самого себя. Говорит сознание: здесь, в своем, линия раздела правды и неправды,
истины и неистины: она прошла через слово, значит всё дело в слове? В слухе,
в такой мелочи? Да, или мы глохнем и строим себе понятие своего — или ищем
свое, т. е. γνώθι σεαυτόν, задача философии. Свое: первая философия. Здесь всё.
Гегель: кто теряет себя, может (не обязательно) себя найти. Потерять себя,
чтобы найти.
Раз здесь ошибка, выбросим всё, всё грязное (Деррида).
Свое, сам каким-то образом всегда уже есть, грубо — это тело,
по-настоящему — у каждого уже есть «свое». Кто дал, кто распределил? Почему свое
громадно, а не 1/6 000 000 000 часть целого? Потому что свое — это род, который
неизмеримо больше, чем 6 000 000 000 индивидов».
172
В. В. БИБИХИН
гическое большинство, задача каждого, даже если он уже кажется
втянут и безвозвратно в процесс, который я неподробно описал,
вернуться к античности, брать себя и всё in vivo, быть
внимательным к ситуации в настоящем, непопулярном смысле.
Что-то отчасти, немного подобное возвращению в античную
лабораторию было у Гуссерля: его анализ своего сознания,
сознания просто, его всякой, не сконструированной, данности был
как попыткой смертельно больного шевельнуться, хотя он еще
прикован к постели, пока еще не может шевельнуть пальцем,
не знает ничего кроме теней, которые проходят в его сознании.
Казалось бы сознание это всё, через сознание и не иначе проходят
все вещи, Гуссерль зовет к «вещам» — но слово сказано, честным
человеком, фатально, не случайно: сознание, вещи за стеклом
сознания, Гуссерль работает пока еще с in vitro. Для сравнения:
античность имеет дело прямо с водой землей воздухом огнем
эфиром, горит леденеет поднимается опускается с ними — например
Гераклит, для которого всё огонь, заболевает водянкой и умирает
от воды; Фал ее, для которого всё вода, умирает от невыносимой
жары солнечной и от жажды, безводья — никаких следов
анализа сознания, никаких признаков, что были попытки создания
методологической лаборатории, чтобы не прямо купаться в
стихиях. — Аристотель считает, что Солнце горит и светила светят
от нагревания в быстром движении, как снаряды нагреваются от
трения о воздух. Здесь запрет на введение других объяснительных
принципов кроме наблюдаемых в лаборатории вот этого мира.
Надо помнить о том, что микроскоп и телескоп были античности
не нужны, видимое слышимое ощущаемое могло быть и
увеличенной клеткой микромира, и уменьшенной машиной Всего,
поэтому ни о чем никогда не говорится иначе как символически,
только мы должны уточнить это символическое: у Флоренского
и Лосева «символическое» имеет полемическую, воинственную
остроту борьбы против того, что они называют «наукой», или
«позитивизмом», — еще названия ожидающие уточнения, на самом
деле ни наука не обходится без интуиции, ни в «позитивизме»,
который в камне видит только булыжник, мертвую массу, нет
ничего «позитивного», а только чистый негативизм, злое намерение
кастрировать и себя и всю природу. Пока нас хватает за глотку
такая «наука» в кавычках и такой «позитив», можно в панике
и отчаянии грозить — безнадежно и беспомощно — тюремщику
«символом», который выведет из камеры на простор вселенной;
но где не тюрьма, где не отвыкали еще от свободы и иначе, как
открытыми глазами и незаложенными ушами, видеть и слышать
14. ЛАБОРАТОРИЯ МИРА. ЭКСПЕРИМЕНТ С СОБСТВЕННОСТЬЮ 173
сочли бы уродством, там сказать, что «всё символично», это будет
сбить с толку, заставить опять же видеть вещи через
методологическое стекло. Аристотель и никогда не собирался, ему было
скучно, видеть нагревание быстро летящего тела изолированно
от сути того, что здесь происходит. Здесь происходит по существу
разрыв пространства, резкое изменение взаимного положения тел.
В современной физике выделение энергии связывают с
прорезыванием, прорыванием поля, и к аристотелевскому объяснению
теплоты явно еще будут возвращаться, как и вообще новостями
в современной физике оказываются возвращения, как в
квантовой механике ожила платоновская геометрия (т. е. математика)
элементарных частиц и пифагорейская онтологическая музыка:
струны современного понимания вещества пифагорейское слово,
я цитирую примерно конец IV раздела книги Гейзенберга «Физика
и философия»82, и (там же начало VI главы) возвращение в теории
силовых полей от ньютоновской дальнодействующей силы
тяготения к более старому пониманию (доньютоновскому, т. е.
средневековому, т. е. значит античному), что «действие всегда передается
только от точки к соседней точке» — только один случай таких
возвращений. Возвращение в современной физике к тому, что
Ригведа говорит о свете, о двух воздухах, двух эфирах, — еще
один случай такого возвращения, и ничего сенсационного тут нет,
современная наука обречена возвращаться к тому, что без
кабинетов и приборов было добыто, понято в большой лаборатории мира,
лаборатории, которой современная наука уже не располагает, не
умеет уже пользоваться, пользуется уже как инвалид протезами:
самый большой ускоритель элементарных частиц это всё равно
протез для тела, которое перестало, разучилось быть в мире, быть
миром, видеть собой на себе и в себе. Гордость современной
науки своими инструментами должна быть темой психологического
анализа, как болезненная компенсация для комплекса
неполноценности. Ах я не преувеличиваю, не заостряю, не говорю парадоксы:
всё так, у античной науки лаборатория была несравненно лучше,
богаче, надежнее, чем у современной.
Понимание Аристотеля, что жар небесных тел — от
прохождения, прорыва среды воздуха, кажется устарелым только когда
мы сначала припишем Аристотелю наши представления о воздухе
и трении. С какой стати Аристотелю было иметь наши
представления. Он терпеливо дожидался в библиотеках, пока физика скажет,
82 Вернер Гейзенберг. Часть и целое. В книге: Гейзенберг Вернер. Физика
и философия. Часть и целое. М., «Наука», 1989, 1990.
174
В. В. БИБИХИН
что Солнце горит от лшлропроцессов прохождения элементарных
частиц через поле. Он еще будет десятилетия, столетия или
тысячелетия дожидаться, пока физика скажет, возможно, что Солнце
горит отлшкропроцессов прохождения, прорезывания этим телом
специфически расширяющегося пространства космоса, что это
горение от раздвигания макрополя. Он еще будет дожидаться,
пока мы поймем наконец, что за драгоценная, бесценная,
незаменимая лаборатория для мысли и науки наш повседневный опыт,
если мысль и наука не сбиты с толку бессмысленным уходом
в бесконечность элементарно малых частиц или сверхбольших
галактик, где, как я говорил, концов мы всё равно не отыщем; что,
Аристотель говорит а мы не понимаем, малое не хуже большого;
как для Гераклита Солнце величиной с человеческую ступню.
Как будто бы он не знал, что предметы на расстоянии кажутся
меньше чем они есть на деле; как будто бы только мы обладаем
исключительным знанием, что Солнце примерно полтора
миллиона километров в диаметре. Что-то подобное из вычислений
знал и Гераклит; этим своим «солнце со ступню» он кричал, звал
не уходить в дурную бесконечность, вглядываться в то что есть
рядом, близко, потому что это самое близкое одновременно и
бесконечно большое и бесконечно малое. Вот античная лаборатория.
Коперник якобы первый заставил взглянуть на землю из космоса,
как на маленькую. Нет античность уже умела не от земли
глядя видеть вдали бесконечность космоса, а под ногтем бактерии
и дальше элементарные частицы — и всё равно не увидишь, до
края дойдешь, — а лучше гораздо, страннее и чуднее, видеть всё
вокруг от бесконечности малого как безмерно, предельно
большое — и от бесконечности большого как предельно малое. Всё
с чем античность имела дело, всё с чем мы сейчас имеем дело,
в этом приборе без прибора, в мысли можно увидеть как
бесконечно малое и большое, тоже бесконечно большое. Николай
Кузанский угадывал эту античную оптику, когда говорил о
совпадении максимума и минимума — они совпадают вот здесь,
в этом, в том что есть. В глубине уже одичалого Нового времени
Новалис тоже просыпался к античному видению, когда говорил,
что вселенная это элонгатура его возлюбленной, а его
возлюбленная — аббревиатура вселенной. Проблема большого и малого,
максимума и минимума. Тема дожидающаяся того, чтобы и мы
тоже может быть когда-нибудь к ней проснулись. «Символизм»
здесь затуманивает и ограничивает видение, это тоже — протез,
который в недрах уже зачумленного сознания это сознание
изобретает для себя.
14. ЛАБОРАТОРИЯ МИРА. ЭКСПЕРИМЕНТ С СОБСТВЕННОСТЬЮ 175
Внутри уже случившегося замыкания в кабинете, внутри
пробирки, глубоко in vitro Гуссерль — это бунт, протест против
уже последнего размазывания всего по бесконечности в обе ее
бесконечные стороны, но размаха уже нет, взято игрушечное целое
сознания. Отсюда условность феноменологии Гуссерля (никакими
средствами отграничить сознание от не-сознания невозможно) и ее
обреченность на косноязычие — как когда Гуссерль, ради
выделения сознания, отличает сущность, существо от «природы»,
сущность это идея (эйдос), природа это тело. Абстракция тут и тело,
и сущность, и настоящий пафос различения — бунт, нетерпение
раба сбросить кандалы. Пусть кандалы будут только на теле, пусть
хоть сознание будет свободно — но сознание конструкт, его
свобода подстроенная.
Нет ничего плохого в том, чтобы считать Гуссерля
кантианцем. Одно из центральных его положений, эйдетическое видение,
увидение сущности, Wesensschau видит только «сущностность»,
бытие-сущностью, бытие-в-качестве-сущности, Wesenssein, но
никогда не существование, Dasein83 — это с перестановкой терминов,
с характерным изменением терминов на противоположные, что
признак близости; на противоположный Гуссерль по сравнению
с Кантом меняет смысл слова «созерцание», Anschauung,
интуиция. Для Канта это прикосновение к бытию, не чистая идея, для
Гуссерля — прикосновение только к сущности, т. е. чистая идея,
эйдос; и это «только» я говорю от Канта, для Канта нет никакой
особой радости в том, что разум отрезан от существования, Dasein,
для Гуссерля — восторг, открытие века: «Созерцание сущности
[работа сознания] не является познанием matter of fact, не
заключает в себе и тени какого-либо утверждения относительно
индивидуального [скажем естественного] существования» (там же). Что
для Канта причина трезвого смирения, на том Гуссерль выступает
как первооткрыватель бескрайнего и удобного пространства, где
можно двигаться без помех. Гуссерль как ранний пророк
компьютера, вживания, привыкания к статусу in vitro.
Только ценой такой ампутации Гуссерль возвращает уют,
домашность античности, когда каждый факт сознания, большой
или малый, становится равно весомым — или всё-таки равно
невесомым? От этой двойственности у него не отделаешься.
Ах как от этого еще далеко до того, чтобы ввязаться с
головой в природу, в тело, в полис, в искусство, науку, технику и во
всём этом и всем этим думать, видеть. То умение, та решимость
83 Цит. из: «Философия как строгая наука», «Логос» 1911, кн. I, с. 29.
176
В. В. БИБИХИН
сделали античность постоянной, непроходящей; отсутствие мира,
дома, кабинетность делает все «достижения» Нового времени
недолговечными, отменимыми.
Если посмотреть на нашу страну, на скажем розановское
противостояние, сопротивление тому, что он называл
позитивизмом, нигилизмом. Среди шума открытий, которые множатся в
пространстве конструкций, Розанов смешной, его книга «О
понимании» с мечтой о настоящей науке — недоразумение, но Розанов
останется: он имел смелость выйти из тюрьмы конструкций.
Конечно, его опыт, его секс, его опыт семьи совсем жалкий по
сравнению с опытом Пифагора, Гераклита, Платона, царственных,
видевших целый мир. Или что он имел вне семьи, чем жил — но
опять же жил как умели в античности, вполне, — по сравнению
с видением Гераклита, первая мировая империя, с высоты история
человечества как на ладони в пик «осевого времени» — ив
сравнении мир Розанова, газета, редакция, зачумленная публицистика
в обреченном государстве, слепая уже огромная толпа читателей,
«просвещенной публики», когда случайные зарисовки на отдыхе,
в Сахарне, Молдавия, на Балтийском море... важнее, — но он по
крайней мере умеет ценить эти крохи настоящего, знает, что они
важнее, — чем «общественность» и «политика». Семья, опыт
жены, детей важнее, чем сплошь условные, искусственные «идеи»
и «идеалы» «носителей доброго, вечного», которым казалось, что
они важны, а они с самого начала согласились на положение «ин
витро», между двумя стеклянными пластинками, или теперь еще
нагляднее — вынесенных на плоскость экрана — можно было бы
сказать. Телеэкран — другой облик стекла.
Еще раз: лаборатория античного мыслителя: вовсе не только
его сознание, хотя сознание конечно тоже, но и тело, и место,
и верх и низ, и масса живого в море, на берегу, разумного живого
общества, явно слитого с разумом мира, космоса — вот
лаборатория, вся одна сплошная. Безнадежно и закрывает возможность
понять мнение о каких-то «первоинтуициях», о «воззрениях»:
вода Фалеса, огонь Гераклита не «воззрения», не «представление
о мире», а загадочное для самого говорящего через него звучащее
слово, настоящее как сам огонь, как сама вода, как сам логос, не
разгаданное до сих пор.
Наша эта лаборатория, свободных слушающих и свободно
говорящего, с неожиданностями, какие при свободном слышании
всегда бывают, в Университете, необходима чтобы вырваться из
кабинета, из «ин витро» сознания. Нас тут не очень важно много или
несколько, каждый давно, по-разному, серьезно, трагично, захва-
14. ЛАБОРАТОРИЯ МИРА. ЭКСПЕРИМЕНТ С СОБСТВЕННОСТЬЮ 177
тывающе связан со своими корнями, в Москве, в других городах,
с природой, задевающими его отношениями с другими людьми,
с обществом, с властью, с политикой. Пусть этот опыт страшно
ограничен вписанностью нас всех уже в искусственные
механизмы, аппараты государственного устройства — пусть
невозможность открытого мира, давно уже распределенность живой массы
разумного существа по функциям, закрепленность («крепость»84),
приписанность к отдельным колесам громадной машины — пусть
невозможность уже и природы, как ее видели античные, но вот
такова наша лаборатория: мы уже взяты «ин витро», и это и есть
наше «ин виво». Мы не конструируя разбираем, как мы втянуты
в разные конструкции.
Это о «подходе», методе.
Теперь тема, собственность. Какая еще другая может быть
в эти дни. Она нам подсунута, подброшена, навязана — подарена:
тема первая из всех онтологии и гносеологии, тема
собственности. Дана возможность не в «концепциях» бытия и истины, а
возможность настоящего, «ин виво», на собственном теле, на опыте
небывалой независимости и опасности смены зависимости
прикоснуться к этим вещам, бытию, истине, которые говорю
буквально навязаны нам этим прорывом настоящего в жизнь общества.
Собственностью. В каком смысле это прорыв настоящего — мы
разбирали и еще уточним.
Что собственно собственность. Кружится голова от того, что
здесь открывается: что вся возня с собственностью, с
приватизацией это громадная, в масштабах целой страны, да целого мира
лаборатория, работающая как может, но уж не с конструктами,
а прорывающаяся, пробивающаяся к собственности, к собственно
собственности, к бытию не придуманному, а такому, где
отбросишь слово само это и привяжешься к вещи, которая дороже, чем
еда, сон, чем сама жизнь. Когда рвущиеся к собственно
собственности бросают свою жизнь в игру, в дело как даже не самую
важную вещь (потому что свою) жизнь семьи. Своего имени. Своего
рода. Своего народа. Да всего мира. Потому что собственность
и «промышленность» определяют теперь — они связаны еще для
нас неясными, но явными связями — бывает так, явное неясное?
да на каждом шагу; явное неясное для нас собственно всё
настоящее, оно на виду и ослепляет так, что ни о какой ясности нет
и речи. Ах увы.
84 Крепость, или крепь, в смысле жесткого закрепления, удостоверения —
так назывался документ, например «на ту землю крепость» (1534).
178
В. В. БИБИХИН
Начали с головокружения. Не лучше ли начать с ясного и
постепенно подходить к сложному? Пожалуйста, если хотите; а я не
буду. — Хотя и я боюсь в самый водоворот. Я пока иду держась за
руку, Гегеля в прошлом семестре, Хайдеггера в этом («О событии»
«Об особственнении», был бы более буквальный перевод, «Об
озарении-особственнении-событии», еще более буквальный), но
из-за того, что до сих пор не могу найти руководителя,
отшатываюсь от еще более быстрого водоворота, своего. Свое
собственное, говорим мы, хотя сознание, угадывая, что сам язык нас здесь
подталкивает к краю пропасти, просит, правит: не говорите «свое
собственное», ведь это лишнее, говорите просто «свое», или
просто «собственное». Так, пугаясь, огораживает себя сознание: но
мы всё равно ведь говорим «свое собственное», это звучит, т. е.
нас уже эта воронка затянула, уже против упирающегося разума
нас тянет так говорить. Мы уже чувствуем, что собственность,
как бытие и истина (усйя: имущество) связана со своим: это слово,
и в смысле которого, и в строгой этимологии которого, т. е. в его
реальной (имеющей, имевшей дело с вещами) тысячелетней — кто
знает? или десятитысячелетней, или стотысячелетней? —
истории звучит благо, добро («идея блага» Платона) и род («идея»
Платона). Мы говорим — «свое собственное», и весь главный
узел того, что называют «философской проблемой», т. е. на чем
спотыкается, с чем имеет дело мысль, уже именуем: бытие,
истина, благо, идея, род, да еще схваченные в своей тайной середине.
(Род как тема средневекового тысячелетия — ах неосмысленного,
не увиденного тысячелетия мысли потому, что об этом смысле
так называемого спора об универсалиях, «номинализма и
реализма», проблемы языка, индивидуального и всеобщего, не
прояснено. Видят тут логику — не видят Гераклита, не видят прорыва
к роду и к своему, того, что за «средневековой логикой» стоит не
угаданная еще «онто-логия», да как и за всякой логикой, прежде
всего аристотелевской, она стоит — ах боже мой, вот я уже не
успею. Это темы для вас, средневековая проблема индивидуалий-
универсалий как прорыв к роду, своему-благу-рождению-бытию
и аристотелевское «положение о непротиворечии» как попытка,
последняя, возвращения к парменидовскому «тожеству» — как
бытию).
Не успеем. Только называю, некорректно. Но иметь в виду эти
вершины, как идущему не отводить глаза от вершин, на которые
ему уже не взобраться, мы будем. Собственность как бытие и как
то (парменидовское) (это вне проблемы Эриха Фромма, иметь или
быть: он не видит за «собственностью» — свое) нас будет вести
14. ЛАБОРАТОРИЯ МИРА. ЭКСПЕРИМЕНТ С СОБСТВЕННОСТЬЮ 179
и манить. По важности этого, я эту далекую вершину сейчас
кратко, за пять или десять минут, обозначу хотя бы на карте.
Собственно — как «по сути». Здесь звучит бытие, бытие
как принадлежность себе. Не мне, юридически, а ему самому.
Принадлежность себе как «то самое», «то же». Тожество как
мгновенная, внезапная схваченность «тем самым»: не формальная,
а схваченность моментальной фотографии, художественного
схватывания. Такая вещь, так схваченная, есть, и она единственное
что есть: как ребенок с тележкой на дороге, не понимающий,
почему именно эта тележка, эта дорожка, этот момент войдут и уже
вошли навсегда как крупица золота в мир. Схваченность «того
самого» такая, что пробивает как искра сквозь сознание,
индивидуальность — сквозь всё. Прорыв к собственному. К тому
самому. То самое, или просто то — парменидовская истина бытия.
Удивляются, почему у него нет Бога. Потому что проще, раньше,
обязательнее этого «то» нет. — Отблеск парменидовского «то»
в хайдеггеровском Da.
И удивляются, почему после своей неприступной истины
Парменид возвращается к описанию мира. Да потому, что
однажды схваченный как «то», мир, вот этот, со своей ложью, доксой,
непостоянством, в момент схваченности становится даже не
зеркалом — символом бытия, а всем бытием, тем самым,
настоящим, той уникальной лабораторией, где и надо быть, где только
и можно быть, чтобы — если хочешь — пробиться быть в бытии,
в собственно бытии (иначе — награбливание собственности,
слепое и безысходное). То — собственно то: единственное свое. Но
род...? Я не знаю.
Потому что отсюда и только отсюда роды, «генесис». Ясность.
Благо.
Итак, свое — собственное.
Может ли вообще дело жизни, нашей, жизни государства,
человечества упираться в то, как мы слышим слово, в нашу
глухоту, в неспособность услышать в «своем» — своё, своё дело, своё
место, так что из-за нашего ограничения слуха, собственного, мы
сами загоняем себя в тюрьму (самая худшая и прочная тюрьма, по
Кьеркегору, в которую сам человек себя загоняет), — в тюрьму,
загоняем, потому что «своё» действует, властвует и так, всё равно,
как мы его понимаем, а мы изволим его понимать или как
юридическую собственность, наши владения, если мы экстраверты, или
садисты, или как наше «внутреннее», если мы интроверты, или
мазохисты. — И вот как будто бы великое дело, разница между
180
В. В. БИБИХИН
экстравертом и интровертом, и нравственность в том, и решение
проблемы собственности в такой «сознательности», чтобы мы
из садистов, заграбастывающих всё что попадает под руки,
превратились в мазохистов и владели бы только тем, что составляет
наше тело и нашу душу, копались разбирались в себе. Никакой на
самом деле принципиальной разницы между пониманием «своего»
у захватчика и у копающегося в себе нет, оба одинаково загнали
себя в тюрьму тем, что решили, что знают, где своё, один думает,
что купленная машина это его «своё», другой что его
«переживания». Всё так?
Одно возражение. «Своё», «собственное» по определению
свое и собственное: мое собственное дело, как я слышу слово
и понимаю, человек не должен и не будет дожидаться, когда ему
со стороны придут и с кафедры разъяснят, разжуют, что у него
«своё», а что «неподлинное своё». Человеку и не велишь «думай,
ищи»: сколько у него было сил и способностей, столько он уже
и вложил, и потратил, как раз на эту покупку машины, или на
самогипноз или аутотренинг, или на то и другое вместе, и
приставать к нему с философствованием значит как раз выколачивать
из него, чтобы он стал «сам не свой». Оставьте человека в покое,
он сам со временем разберется. Тут всё так? Или надо наоборот
трепать человека?
Допустим, все люди пожизненно заперли себя в свои камеры;
мы, возможно, тоже. В позу освободителя, избавителя встают
многие, и в религии, и в политике, которые в этом жесте —
«идите сюда делайте так и спасайтесь» — совпадают, разница только
что в религии спаситель божественный, и горе тому человеку,
который подставил себя на божественное место, а в политике
человеческий (и похоже неизбежно, чтобы в религии на
божественное место подставляли себя люди, а в политике люди окружались
божественным ореолом; самый маленький начальник, просто
служащая дама, которая записывает в документ, кому сколько
и чего платить, уже окружена божественным ореолом, и не зря, она
как бы сошедшая на землю Судьба божественная, от нее зависит
голодание или всё-таки еще прозябание, прописка в Москве с
шансами или увядание в провинции). — Теперь философия, разве она
не имеет жеста указания? Да, так надо признать. Витгенштейн:
мое дело, моя задача — указать мухе выход из мухоловки (из
лабиринта). Тогда в чем же разница, вербовка там, вербовка здесь?
Отличие философии от политики и религии — безусловная
строгость и безусловная свобода. Философия отвечает за предельную
строгость, более строгую, чем в науках, и безусловную свободу,
14. ЛАБОРАТОРИЯ МИРА. ЭКСПЕРИМЕНТ С СОБСТВЕННОСТЬЮ 181
больше, чем в любой демократии. Политик и проповедник
предлагают выбор — следуй за мной или тебе будет хуже; философия
выбора не предлагает: философское «надо» не знает исключений,
оно обращено ко всем людям всегда и без всяких «если». И с этой
обязательностью сочетается полная свобода: философия не знает
операциональных предписаний как в политике, науке, ритуалов
как в Церкви. — Когда догадываешься, что человеческое существо
способно к философии, может вместить эти две крайности,
безусловную строгость и полную свободу, то как бы раздвигаются
ворота, приоткрывается новый подход к своему: захватывающий.
Не такое же ли свое, как философия, с таким размахом строгости
и свободы? Тогда выбор отпадает: строгость не знает выбора, знает
только одно, однозначное правильное; свобода — это выбор, да, но
в смысле воли, открытости, которая принятием решения не
погашается85*. Решение тоже приобретает новый смысл, возвращается
к исходному значению: решение не как жесткая окаменелость,
а как наоборот развязывание, «разрешение». — Ах этим решается
всё дело.
Философия обязательна, императивна безусловно,
безотносительно, для всех всегда: я не понимаю, как могут ходить,
дышать, жить существа и не привязанные жестко к Софии мира,
как пчелы, птицы, деревья, из закона, логоса, природы
абсолютно не могущие выйти — и зато не связавшие себя императивом
философии, привязанности к софии: лишенный благодаря своей
свободе руководства «инстинкта», принадлежности к Софии,
мудрости мира, человек как раз в меру, в силу своей свободы
обязан к строгой фшю-софии — ах еще раз говорю и сколько ни
повторять, всё будет мало, к абсолютной строгости, гораздо более
строгой, чем в математике, и такой же или гораздо более красивой,
захватывающей — без аксиом, без правил, установлений,
ритуалов! Как настоящее решение, развязывание, фило-софия
освобождает от привязки к «своему», очерченному — тюрьме, — для
привязанности, от занятия к захваченности. От вещи как багажа
к вещи как вещи. — Одинаково или почти одинаково (привязка
и привязанность, занятие и захваченность, вещь и вещь, сущее
и сущее — сущее как всего лишь причастное бытию и сущее как
истинное) называется противоположное, ведущее или в тюрьму,
85 Запись В. Б. на полях машинописи: «Опасность ошибки и порчи
наибольшая, господа; это так, с этим ничего не поделаешь — не в том смысле, что
уж ладно тогда давайте лепить как попало, как все, а — смиренно не удивляться,
если на каждом шагу, почти в каждом слове обжигаешься».
182
В. В. БИБИХИН
или на свободу, «свое». Всё сводилось бы к слову, слуху — если
бы мы только могли от «юридического значения», или
«оптического значения» (онтологическая разница) — перейти к
«собственному» и к «онтологическому» значению. Как если пересесть с левого
ряда в самолете на правый. Но симметрии в этом случае нет. И не
потому, что философии нечего показать, нечего там услышать.
Очень много есть чего. А потому что философия многого хочет, ей
мало увести человека от того, что вокруг, к чему-то другому: нет
она не хочет упускать и то что вокруг и то, что и как мы слышим;
философия вообще не область, и задачу мы ставим не так, чтобы
слышать в «своем» больше или иначе или другое, чем слышали
раньше: и не в том, чтобы услышать еще раз то, что слышали
раньше, и разобраться в этом. Нет задача ставится «пойди туда не
знаю куда», «принеси то не знаю что». Задача чистого внимания*6*.
86* Рукописные записи в конце лекции: «Свое: неопределимо. Имущество?
Жизнь? Тело? Всё нет. Значит, это мы должны определить свое — кто критерий,
гарант, судья?
Сталин. Родной. Свое из своего. Люди рыдали, обняв радиоприемники.
Значит, мы должны определить? Но мы таим — даже от себя, боимся
предать. Тогда философ это тот, особый, кто один не боится? Высказать? Ничего
подобного, (цит. начало Piatos Lehre...) Философ скорее — кто заметил всю эту
потаенность.
Тогда — никто, никогда! — Один Бог. Да: но Бог — это свое из своего,
„милое из милого, центр мирового умиления".
Секретность в нашей стране.
На подступах к своему человек меняется. Он собирается — из функций
в одно — и собирается в решении. Решение не ожесточение. Решение человека
в обоих смыслах: человек начинает узнавать себя. Tad twam: то — это ты: то
самое.
Звездный час русского языка. Он должен показать себя языком мысли.
Ни „свое", ни „собственность" непереводимо на современные языки из
известных мне».
15. Неопределимость своего
(23.11.1993)
Собственность, какая хорошая вещь. Интересно, кто-нибудь
скажет, когда собственность вся разобрана, у этих людей
остается только хоть поговорить о собственности, хоть увидеть сон
с собственностью. Но для меня это единственное место, особенно
сейчас, где я могу честно, так сказать открыто укрыться от того
отвратительного, что обычно, привычно сейчас называют
собственностью, где уж совершенно ясно, что я не в гонке за этой
собственностью, как она сейчас приобретается, «приватизируется»
(кстати, я уже говорил о том, что можно думать о приватизации;
кстати же я наверное должен объявить, что если на этот курс
приходил или приходит кто-то платно обучающийся в
университете, платящий внутри какой-то системы за образование здесь,
то платить за этот как раз курс нет никакого основания и даже
нехорошо). — Не только я тут честно укрываюсь от
собственности, как она сгоряча впопыхах понимается сейчас боюсь что
огромным большинством, но еще и больше того, здесь и только
здесь надеюсь в работе вместе с вами доработаться до собственно
собственности, попасть в собственность собственно как в гнездо,
как в лунку, или может быть если удастся вместе с Данте как зверь
в берлогу, так что мне будет надежно и уверенно, — и не для себя
одного только, а одновременно восстановив, очистив то самое, что
огромное же большинство втайне знает, понимает за
собственность, только сбито с толку и молчит; опять же по Данте, <наде-
юсь> что нам удастся сказать то самое, о чем все молчат. — При
такой надежде нам уже не страшно, что мы идем вразрез с кем-то,
допустим с огромным большинством, говорим и делаем как-
то наоборот; это не беда, ничего особенно страшного, было бы
грустно, если бы и мы туда же ринулись, куда все. Надо следовать
всеобщему, велел Гераклит. Если большинство нам докажет, что
184
В. В. БИБИХИН
следует всеобщему, а не приватизируется, не плюрализируется, не
сочиняет спешно для себя каждый лично удобную новую
«философию свободы», то и мы двинемся тогда в общих рядах как на
демонстрацию. И будем прекрасно себя чувствовать вместе со
всеми. А пока подождем.
Мы берем свое как термин, если бы только удалось отделаться
от подвертывающегося колючего, осколочного понимания этого
слова «в наиболее широком современном употреблении», когда
к термину ждут «определения» «в контексте соответствующей
научной теории» и с обязательной «фиксацией универсума
рассуждения». «Универсум рассуждения» — это «область
предметов», которые взяла себе на рассмотрение научная теория, и эта
научная теория, как считается (цитирую по справочному изданию)
изволь пожалуйста во избежание парадоксов ограничить себя так,
чтобы «принимаемый универсум не совпадал с областью всех
вообще мыслимых объектов»87*, т. е. если ты взялся за науку, то
изволь отграничь себе сферу, чтобы не говорить вообще. А мы,
наоборот, в отличие от такого понимания термина, как чумы
боимся отграничения «сферы» и хотим оставить слову слыть во всю
широту, как оно слышится, как попало, как ляжет, и пусть слово
бросают и роняют, слово этого не боится, оно только от этого
оживает — а в «терминосистеме» оно выдыхается от
безвыходности отсылок, определения требуют новых определений, и петля
стягивается очень быстро — каким образом «системы мысли»
существуют в асфиксии, без воздуха, это особый вопрос, не очень
интересный, как не очень интересно и даже не очень хорошо
смотреть на удавленника: надо или срочно ему помочь, если еще
есть признаки жизни, или поскорее постараться позаботиться его
похоронить, если у него нет родственников.
Но, угрожает автор справочного издания, если вы не
фиксируете область предметов, универсум своего рассуждения, если он
у вас расплывется, то не избежать вам парадоксов, вот ведь какой
ужас. Род парадокса мы получили в противоположности своего
и своего — свое как индивидуальное и только индивидуальное,
юридически ограниченное индивидом — и свое как родовое: свое
указывает и на индивид, и с таким же успехом на род, хотя вроде
бы индивид и род противопоставляются. В этом парадоксе, в этой
загадке — того, что родное как самое близкое, свое, указывает
одновременно на род, т. е. самое как раз далекое, противопостав-
87* См.: Философская энциклопедия. В 5-ти томах, т. 5. М., 1970, ст.
«Универсум».
15. НЕОПРЕДЕЛИМОСТЬ СВОЕГО
185
ленное индивиду — мы будем видеть не недостаток, т. е. что будто
бы нам тогда надо всё-таки терминологизировать, определить,
определиться, решить, как мы понимаем «свое», мы будем видеть
наоборот подарок, подброшенный нам нашим словом. — Вообще
говоря, звездный час русского языка для мысли еще не наступал,
ничто не мешает ему наступить. Иногда, как и в этом случае,
своего и собственного, русский говорит вдруг так широко и
загадочно, как ни один из европейских языков, признанных языков
философии. И «свое», «собственное» в хорошем смысле
непереводимо на другие языки — в том смысле, когда не надо заботиться
о переводе, пусть поднатужатся другие: мы в прорыве, благодаря
только языку, почти без нашего усилия вынесены в очень важное
пространство мысли, может быть в главное пространство.
Не то что мы такие смелые что не боимся парадоксов, но
только мы убеждены в том, что это иллюзия, думать, будто какими-то
логическими мерами можно избежать парадоксов; мне не кажется,
что как-то исхитриться и выкроить теорию «состоятельную», т. е.
без парадоксов, можно только вынеся парадокс за скобки, — т. е.
парадокс появляется не от недоработанности теории и системы,
скажем от несовершенства языка, так что к удобному понятию
«свой» («свой да и только») примешивается туманный, далекий
призвук, а парадокс вписан в мир, мир и сам до нас уже парадокс,
и достоинство нашего «естественного» языка, в отличие от
любой «непротиворечивой» теории, в том что язык находит в себе
простор и щедрость давать место парадоксу мира. Парадокс, как
показывает слово, это то, что идет поперек тому, что мы приняли
считать, докса от δέχομαι δέκομαι принимаю.
Но термин, я сказал, вовсе не обязательно понимать в этом
якобы удобном, на самом деле тупиковом, удушающем сужении
чего-то фиксированного, установленного. В том же справочнике
есть и второе значение: «В философии греч. ορός и лат. terminus
употреблялись [!] в значении определения сущности» — дальше
по тексту справочника провал, опять к дурной привычке сознания:
«...определения сущности, т. е. как то, что фиксирует устойчивое
и непреходящее — общее, единое или идею»88*. Очень
характерным образом писавший это проверенное в справочном издании не
заметил двусмысленности: «то, что фиксирует» может значить:
1) то, что в моем утверждении, моей дефиниции фиксирует, моим
усилием, моей лексикой; 2) то, чем фиксировано устойчивое,
непреходящее, чем сделано так, что устойчивое устойчиво, непре-
88* См. там же, ст. «Термин».
186
В. В. БИБИХИН
ходящее непреходяще совсем независимо от моей лексики и от
моих терминологических усилий. И разница большая. Сознание
со своей лексикой ограниченно собственным усилием схватить
и держать, бессонно, потому что стоит ему на секундочку уснуть,
и зафиксированное выскользнет; язык, свободный, идет рядом
с устойчивым, непреходящим, на тысячелетия соседствует с ним,
попадает в лунки того, что и без нас, и когда мы спим, всё равно
устойчиво. — Из-за того, что писавший, известный логик, так
поскользнулся, его вторым определением «термина» пользоваться
выходит нельзя, от него остается только факт: да, употреблялось
слово термин как «определение» сущности — и для прояснения
этого смысла «термина» и «определения» можно посмотреть
Флоренского большую статью «Термин», где термин как начало
определенности идет уж конечно вовсе не от нашего усилия
поставить изгороди между вещами, а от божественного, священного
для Флоренского начала — так же как у Николая Кузанского в 125
«Науки незнания», где он перечисляя имена бога у язычников,
одним из имен Бога называет Термин, упоминая римский храм,
«где посредине под открытым небом стоял алтарь бесконечного
Термина [с заглавной], которому нет термина»89*. — Бесконечный
Термин конечно не мы установили — как не мы сделали
термином свое, у него у самого такая определенность, что он скорее нас
определит, будет определять, чем мы его.
Другое дело, что при его поразительной и поражающей
определенности мы вовсе не обязательно должны сразу его определить.
Свое неопределимо даже не на одном, а на двух достаточных
основаниях, каждого одного из них было бы достаточно. Одно то,
что что бы мы ни назвали своим, например имущество, человек
может легко, даже с раздражением, даже с презрением может
отодвинуть это имущество ради своего: «ах это не мое», говорит
чеховский герой, сын купца, про наследство, остается неимущим.
Жизнь? Ах боже мой, сколько раз говорится, «х мне дороже
жизни», и оказывается что не дороже, но было бы лучше гораздо,
чтобы человек так и держался честно того что дороже жизни
и был готов по-настоящему жизнь за это отдать, потому что иначе
жизнь он всё равно отдает, всегда отдает, сразу или по мелочам,
и мелочам, тому, что вовсе даже и не дорого, просто потому, что
человек так устроен: он не биологическое, <а> биографическое
89* «.. .Под открытым небом стоял алтарь бесконечного Термина, которому
нет предела (terminus)...» См.: Николай Кузанский. Соч. в 2-х тт., т. 1. М.: Мысль,
1979, с. 92 (пер. В. Бибихина).
15. НЕОПРЕДЕЛИМОСТЬ СВОЕГО
187
существо, и если в нем биология побеждает, то он теряет
одновременно и биографию и биологию, т. е. его биология
становится не человеческой, а животной, — тогда как есть человеческая
биология, редкая вещь, режим если хотите, от которого отпадают
в биологию не человеческую, не человеческой софии. Т. е. на
самом деле своей жизнью, и одновременно биологией и биографией,
и только биологией ради биографии, и биографией ради биологии,
и человеческой биологией ради животной биологии, и животной
биологией ради только растительной биологии (так называемое
растительное существование) человек поступается, да просто
выбрасывает, на каждом шагу и ради своего и не ради своего. Что
это такое, когда человек обхватывает руками радио, по которому
сейчас Левитан сообщает о смерти Сталина, и плачет навзрыд
и не знает, как и зачем ему дальше жить, и Сталин ему настолько
свое из своего, что если бы надо было отдать для переливания
свою кровь для спасения Сталина, он отдал бы ее всю в счастье.
Сталин ему всё свое, своё из своего, Сталин родной; и ответить
на вопрос, что это, Сталин, т. е. определить это родное, человек
счел бы кощунством: зачем мельчить, рассуждать — когда сердце
кричит и так; разве что сказать в поэме, в восторге, спеть. Пройдет
совсем немного времени, может быть даже месяц, и человек будет
несчастен, Сталин потускнеет для него, человек станет без нутра,
без своего, в долгом смурном шатании воли и чувства, сам себя не
любя за растрепанность, тоскуя по прежнему времени страстной
цельности — но что он отказался от своего, не мечтает о нем,
подумать так нельзя, только свое ушло в тайну, человек ждет и
думает. Свое человеку может быть всё. Скажем наклейки от пивных
бутылок — ах человек уйдет с головой.
Связанная с этой подвижностью своего вторая причина,
почему определить свое не удастся, это то, что так или иначе дело
этого определения возьмет на себя, должен будет взять на себя
сам человек — если вообще кто-нибудь. Никак не со стороны.
Свое — это свое. Я забегаю чуть вперед, задеваю одну
платоновскую тавтологию, о которой сегодня.
Как раз определять свое, с другой стороны, приобретает
скверный зловещий смысл этого слова, которого у Даля нет, но
у нас в школе в начальных классах был: доносить, выдавать, связь
понятий та же, что в κατηγορία: обвинение, показание — и
«категория».
Может быть, это люди простые утаивают свое заветное,
а философ его дело всё определять, он должен определить даже
и это. — Как ученый, для которого интимная жизнь как для всех
188
В. В. БИБИХИН
интимная, но он должен изучить до деталей и совсем интимные
стороны своей человеческой биологии тоже. Так?
У Хайдеггера, в «Учении Платона об истине», начало такое:
«Познания наук высказываются в предложениях и предлагаются
человеку как осязаемые результаты для применения. „Учение"
мыслителя есть «^сказанное в его сказанном, на что человек
выкладывается, в чем он, так растрачивая себя, находит свое
применение»90*. Ах настоящая философия молчит больше
гораздо, чем говорит, и говорит вовсе не от зуда, чесотки докапывания
и определения, так делают только сорвавшиеся с цепи графоманы,
с недержанием речи. (Они говорят всегда свое, никогда не говорят
о своем). Но хоть знает это свое? И не знает тоже, даже самый
лучший философ.
Мы поэтому должны избегать того ложного прочтения
Платона, когда кажется, что Сократ, показав незнание человеком того,
что человеком движет, требует заняться познанием и
определением, что называется, сути вещей. Нет Сократ показывает, вернее
заставляет сознаться, что человек не знает главного, не для того,
чтобы заставить потом узнать: наоборот, чтобы заставить
именно, собственно по-честному не знать как раз, учит приучает
заставляет при-выкнуть к незнанию — к тому знающему незнанию,
к науке незнания, Docta ignorantia, которое только тематизировал,
не изобрел Николай Кузанский.
Разберем «Алкивиад»: как и везде у Платона, дело идет тут не
о всяком знании, а о таком, из-за которого люди идут на крайность,
на войну. Знает ли Алкивиад, двадцатилетний красавец аристократ,
воспитанник Перикла и явно будущий лидер, много или мало из
того, чему он учился на уроках музыки и борьбы, спор не идет как
раз потому, что из-за этого не надо ожидать войны, из-за методов,
преподавания. Как богословие и аскетика делят вопросы на
относящиеся к спасению, главные — и такие, по которым можно иметь
мнения, и не будут тратиться на то, что не прямо дело спасения
или погибели, так «рассуждения» Платона все всегда не
упражнения в логике или диалектике, они всегда льнут, лепятся к вещам,
или к той вещи, вокруг которой самая жестокая, свирепая война.
Где жизнь еще малая цена за то что добывается. Приобрести,
добыть, κτήσασθαι — так по инерции, и в этой инерции есть ирония
(ирония над тем, что ах как хотелось бы Алкивиаду думать, что
90* М. Хайдеггер. Время и бытие (статьи и выступления)..., с. 345.
Курсивы В. Б.
15. НЕОПРЕДЕЛИМОСТЬ СВОЕГО
189
его собственно цели достигаются теми же приемами, как то, что
им достигнуто, простым продолжением бодрого усилия) — так по
инерции и иронически Сократ называет намерения, настоящие,
Алкивиада. Сократ вот в чем уверен: Если бы кто тебе сказал из
богов, Алкивиад, хочешь ли жить, имея что теперь имеешь, или
сразу умереть, если тебе не дано приобрести большее? (105 Ь)91*.
Сократ даже не расспрашивает Алкивиада: ясно и так, он живет
надеждой, έλπΐδι (там же), только какой. Приобретение, на
которое надеется Алкивиад, не количественное, потому что — ах
в Алкивиаде уже есть Александр Македонский — Платон льнет
к главному, к узлу древней и современной истории, к греческому
взрыву, когда античная культура была сорвана, ее рост,
территориальной экспансией; Платон уже угадывает, что произойдет, и уже
называет, вокруг чего по-настоящему идет дело, что за
собственность будет приобретаться. Приобретение не количественное,
потому что когда Алкивиад приобретет всю Европу, ему в той эюе
мере будет не хватать главного, как теперь, опять он не захочет
жить только этим. Смешно сказать, что если к Европе прибавить
Азию, то уже захочет жить, потому что в два раза приобретение
будет больше. Азия для Алкивиада, как потом Азия будет для
Александра, — это уже всё, полнота, о полноте речь, о том чтобы
заполнить, наполнить своим именем и силой всех людей. Все люди
здесь не количество, а род человеческий; дело идет о полноте
человечества, осуществленной в Алкивиаде (105 с), о его размахе
до рода. Много очень много пространства и государств, обществ
вмещенных этим именем и силой — тут только знак полноты.
Ах эти вещи, что неподавленный, непорушенный индивид
весь дрожит от порыва размахнуться до полноты рода, что
меньшее для него хуже смерти, — Сократу-Платону так ясно, что он
не допытывается, не дознаётся, так ли, а говорит сразу уверенно:
только я. Только я, Сократ, только через меня ты эту силу
получишь, силу, скажем сразу, родить в себе род; потому что в поле
зрения во всём мире только один Сократ акушер этих,
исключительных родов, родов рода. Только через Сократа, с его знанием
(божественным знанием незнания), человек разродится, если
разродится, родом. — Заносчивость Сократа так сказать? — Спрошу
по-другому: заносчивость наша сейчас сказать, что только здесь
через нас, через наш семинар будет добыта собственно
собственность, схвачено свое! Я думаю не заносчивость, а простое груст-
91 * В. Б. цитирует и пересказывает Платона в своем переводе. Ср.: Платон.
Диалоги. М.: Мысль, 1986, с. 175 слл. (перевод С.Я. Шейнман-Топштейн).
190
В. В. БИБИХИН
ное знание, что большинство пошло наивно топать на завоевание
Азии, не подозревая, не давая себе задуматься, что порыв к
собственности означает, к своему, к собственно своему, к своему
собственному. Никакой заносчивости: мимо нас собственность
в своей собственной сути не осуществится, не исполнится, потому
что все думают о собственности, никто не думает, что собственно
собственность; если начнет думать где-то кто-то, слава Богу, нам
станет легче, нам прибавится, а не отнимется.
«Никто кроме меня, с Богом, конечно» (105 е) — из контекста
видно с каким Богом: с «демонионом» Сократа, ничего не
велящим, только запрещающим. — Сократ переживает звездный час:
демон не запретил ему говорить с Алкивиадом, значит каким-то
чудом открылась, через Алкивиада, дверца, чтобы совершилось ни
в какой Азии у персов невозможное, в человеческую историю в ее
середине, в афинском полисе в ее власть, вошло бы спасительное
знание незнания, амехания, невведение в действие механизмов,
осторожная вдумчивая сдержанность, смиренное внимание. Ставка
большая: под рукой Сократа такая возможность, поворота всей
человеческой истории, через Алкивиада-Александра
опомнившегося, не идущего топтать Азию в надежде механически
охватить человечество. Игра идет очень крупная, головокружительно
крупная, так что даже не верится, что человек, вроде бы человек
Платон может так крупно играть, и из-за этого неверия, из-за
невероятности такого размаха мысли (об этом говорил Гераклит) мы
Платона читать-то читаем, уже две с половиной тысячи лет, всё
равно конечно читаем, потому что размах такого рода захватывает
так и так, но вот почему читаем, не знаем. Филологи думают, что
потому, что красиво пишет, «произведение словесности», и
разогретые начинают сами подражать, играть по-своему словом, как
русский перевод «Алкивиада» полон ужимок и кокетливой игры
пожилой игривой дамы, очень опытной переводчицы и редакторши,
больших ошибок не делающей, тем более с опорой на то, что
наработано за столетия на Западе комментаторами и переводчиками, но
относящейся к слову Платона уже как к древнему-древнему музею,
куда кажется переводчице она наверное последняя и заглядывает,
поэтому выносящейся оттуда уже в блеске своей собственной
подпитанной Платоном изящной словесности. Слова «полнота»,
«наполнить» в ее переводе нет, но есть похожее слово, «заполонить»,
звучит почти так же, но имеет смысл «взять в плен», «очаровать»
может быть, этимология «добыча», «ограбление», собственно
обладание и удержание — почти то же по звучанию и игривее,
думает филолог и радуется себе, но у Платона έμπλήσεις наполнишь.
15. НЕОПРЕДЕЛИМОСТЬ СВОЕГО
191
Полнота. Услышав это слово, мы теперь, после Жака Дер-
рида, должны вроде бы спотыкнуться, насторожиться, сказать:
вот она где гнездится, метафизика, логоцентризм, телеология,
онтотеология, постулирование удобных универсалий,
оперирование иллюзорными единствами мира и так далее. Я правда слышу
этот уже не новый даже дискурс, зря меня упрекнули однажды
на кафедральном обсуждении в отсталости, в нежелании
почитать литературу, познакомиться с новым словом в философии за
то, что я спросил о «совести», только спросил, как обстоит дело
с совестью в «постмодерне». Я слышу этот новый или не очень
новый критический дискурс, я переводил в Москве лекцию и
выступления Жака Деррида, потом перевел целую его книгу92*.
И еще, даже независимо от него я сам давно уже говорил и писал,
обращал внимание, что мира нет, целого нет, полноты нет, что
определенный класс публицистов только в своей надутой слепоте
размахивают этими словами, только видимость размаха. Я
пожалуйста готов с радостью бездумное употребление таких слов
запретить и даже как Деррида бить сразу по рукам, по рукам за
протаскивание «линейности», «целенаправленности», «глубинной
сущности», «внутреннего содержания» и его «внешнего
проявления» и — немедленно и беспощадно и бесповоротно
запретить да и только. — Но я не вижу у Платона логоцентрического
жеста, я вижу только чистый — по крайней мере в этом диалоге
«Алкивиад» — деконструктивистский жест, Сократ только
спрашивает и только терпеливо, умно разбирает завалы в сознании
Алкивиада. Это у Алкивиада оказывается жажда «наполнить (или
заполнить, или восполнить) своим именем и силой всех людей»;
и овладение целым миром совсем недавно было тайным смыслом
жизни целого государства, нашего. Я бы сказал так: не берите
голыми руками такие вещи, как мир, целое, полнота, центр, глубина,
слово, логос, они очень горячие. И совесть, и софия. Я, поверьте
и проверьте, их никогда не беру не подумав сначала. Но как
глупость или хуже, демагогия, на них опираться, так мне кажутся
поросятками в соломенном доме те, кто обрадовался, что никаких
этих метафизических вещей нет. Нечему радоваться. Они могут
и так, и без того, чтобы им быть. А то, что их нет, делает их
абсолютно неприступными. Небытия, господа, нет, абсолютно нет,
ну никак нет — об этом нас предупредил раз навсегда Парменид.
Делается жутко — настолько мы не в силах распорядиться тем,
чего нет. Бояться волка и строить кирпичный дом поэтому мне
92 * См.: Ж. Деррида. Позиции (с приложением). М.: Академпроект, 2007.
192
В. В. БИБИХИН
позиция симпатичнее, чем скакать и повизгивать от догадки, что
никакого волка не существует на свете.
Война ведется не из-за того, что есть. Народ не поднялся бы
на войну, если бы война была для того, чтобы потеснить соседний
народ на несколько километров или приучить его к манерам
поведения за столом. Всеобщая мобилизация объявляется потому,
что соседний народ поступил несправедливо, оказался злым,
порочным, имеет неправильную ложную веру. Указать где именно
у карабахского армянина гнездится нетерпимый, невыносимый,
требующий немедленного применения оружия порок, зло,
невозможно. Армянский язык, армянская внешность сами по себе для
азербайджанца не зло, в худшем случае смешны, они только
признаки, вполне в общем-то терпимые, того, что терпеть никак, ни
в коем случае ни одной минуты нельзя.
Человек зажигается, загорается только от вещей, которых
нет. Я пойду грабить и убивать не потому, что мне надо поесть
и послушать видеомагнитофон, а потому, что во мне нет мира.
Или потому, что надо грабить и убивать обнаглевшую нечистую
силу, голое зло. Когда «слов» нет, т. е. моя убежденность уже не
терпит рассуждений, где я не буду уже определять зло, где «и так
всё (!) ясно». Что все! Что положение, будущее целого мира
зависит от меня. Алкивиад рвется быть только рядом с этим огнем,
в нем только рисковать, гореть. Быстро перебрав дела, в которые
Алкивиад хотел бы ввязаться, Сократ и Алкивиад уверенно
отбрасывают гимнастику, музыку, архитектуру, священнослужение,
медицину, судостроение, ах это всё такое важное,
основательное, — и выходят на сцену фатальной игры, — Алкивиад вступит,
выступит, когда полис будет совещаться о войне и мире и других
делах полиса: Алкивиад политик, политику он понимает крупно,
трезво, просто: это то, где и чем человека, общество поднимает на
войну, где дело идет не о правильном-неправильном технически,
воспитательно, художественно, а о хорошем и плохом просто,
о добре и зле, правде и неправде, лучшем и худшем. Что дороже
жизни, где врагу нужна смерть, смерть только с ним расправа,
и тоже смерть — лучше, чем уступить врагу.
Т. е. Алкивиад будет действовать, развернется там, где вещи,
всего больше занимающие человека, дела полиса, политика, мы
бы сказали — и одновременно, оказывается, вещи человеку
самые интимные, в которых человек разбирается с не помнит каких
времен. Это странно, интимность политики, но это так. В этом
разубеждают, чтобы политики остались одни. <...>
16. Знающее незнание
(30.11.1993)
Человек по-настоящему загорается только тем, чего нет.
История началась, развернулась и теперь через технику
задействовала всё на земле, каждый камень, каждое существо, опять же
через то, чего нет. Я произношу «то, чего нет» не в хитром смысле,
пряча в кармане, что то, чего нет в плане сущего, есть зато в плане
бытия, чтобы спасти ценности: они спасены от растаптывания
тем, что их нет, но в каком-то тонком возвышенном смысле они,
конечно, еще как есть. Нет я не хочу вести двойную бухгалтерию, и
онтологическая разница между бытием и сущим пролегает не так,
что в одном списке мы расположим, описывая, сущее, а в другом
списке — бытие и его, скажем, «экстазы». Мы можем написать или
начать список сущего так уверенно, не задумываясь куда
отнести вещь, к сущему или к бытию, именно потому, что о бытии мы
можем так же уверенно сказать, что оно ничто, что его нет. — Об
одном смысле, в каком бытия, т. е. главного, т. е. того, вокруг чего
вся человеческая история, нет, — у Платона в этом «Алкивиаде»
будет сказано: невозможность показать <эти вещи>, научить им,
как хорошо было сказано в записке неделю назад: «Строгость
математики понимается как доказательность, философия же, по-
видимому, не должна даже ее желать». Второй, условно говоря,
бытийный список защищен, или огражден, или выделен тем, что
всё в нем задевает человека вплоть до готовности к войне,
зажигает его до жертвы жизнью. Можно перевернуть: то и только то,
что подвигает человека на войну, что важно как война и мир,
недоказуемо, непоказуемо, ненаучаемо, непреподаваемо, недедуциру-
емо, неприучаемо, ненакопляемо в знании, в науке, в философии.
Эти вещи, о которых только и идет дело, всё дело в
человеческом мире, в истории, — и кто-нибудь сказал бы, что слово
«вещи» здесь не на месте, но язык здесь поразительным образом
194
В. В. БИБИХИН
с нами, и если этимология «вещь-эпос» не принимается, то можно
взять немецкое слово «вещь», Ding, этимологически — «то, о чем
идет дело», то, что вынесено на «тинг», на общее собрание, где
обсуждается не всё подряд, а самое главное для общества, точно
так же как Алкивиад рвется на собрание, которое будет решать не
мелочи, а вопросы войны и мира. В философской мысли «вещь»
живет тысячелетиями именно как то главное, о чем идет дело,
о чем только и идет дело, Бог в этом смысле полноценная «вещь»,
например в языке Мейстера Экхарта, и если «пуристы» языка
правят и редактируют, воображая под «вещью» только что-то
вещественно-материальное и объективированное, то их можно было
бы пожалеть за то, в каких душных подвалах сознания они
живут — если бы сознание не обладало в наш век страшной и
грозной полицейской силой, так что не лучше ли нам пожалеть самих
себя, решившихся на свой риск отпустить слово. — Эти вещи,
собственно вещи, о которых только и идет по-настоящему дело,
вокруг которых война и мир сразу, до всякой ясности, существуют
этим способом, вынесенности в горячее, на середину внимания,
явного или неявного, и они зажигают человека, задевают,
захватывают его как я сказал сразу {вдруг) и намного раньше, чем
начинается вопрос об их существовании или несуществовании. Война
загорается, или мир покрывает всё, когда зло и добро ясны «сами
по себе», без рассуждения, когда «и так всё ясно». Всё — это
целый мир, он начинает зависеть от моего сейчасного поступка, его
будущее зависит от меня (победит в нем губительная ересь или
правда, гюбрис или справедливость). Вы понимаете, что в такой
горячке не до выяснения, существует или не существует,
например, в моем прошлом примере, армянское коварное, нетерпимое,
преступное, безусловно наказуемое зло — или азербайджанское
такое же зло: да как же оно не существует, если целая нация
поднялась, или говорят, что поднялась, за справедливость.
И вот мы должны, читая с вами «Алкивиада», должны решить,
что доказывает, вернее, что заставляет самого Алкивиада сказать
Сократ: что Алкивиад не знает, чем он захвачен, и должен
научиться от Сократа или с помощью Сократа, чем именно — т. е.
<Сократ сможет> прояснить понятие, или дать самому Алкивиаду
разродиться понятием, — или <окажется, что> другое, чем
воспитание, и гораздо более рискованное, чем информирование, у него
на уме: увидеть в лицо это захватывающее человека, увидеть что
острота этого захватывающего нечеловеческая, что она как бездна,
как ничто, как нет, настоящая бездна. Похожая на начало мира,
которое одновременно и начало войны.
16. ЗНАЮЩЕЕ НЕЗНАНИЕ
195
Алкивиад рвется быть только рядом с этим огнем, в нем
только рисковать, гореть. Быстро перебрав дела, в которые Алкивиад
мог бы и хотел бы ввязаться, Сократ и Алкивиад сразу и уверенно
отбрасывают гимнастику, музыку, архитектуру, священнослужение
(μαντειον, пророчество, предсказание), медицину, судостроение, ах
всё это такое основательное, медлительное, скучное, — и выходят
на сцену фатальной, судьбоносной, исторической игры: Алкивиад
выступит, теперь мы можем сказать, о вещах, о Dinge, на тинге,
где дело о самом главном, — выступит, когда полис будет
совещаться, с уверенностью сразу говорит главное Алкивиад, «о войне
и о мире и о других делах полиса» (107 d). Алкивиад политик,
политику он понимает еще крупнее, трезвее, проще, чем Клаузевиц:
не просто война это продолжение политики другими средствами,
а политика и есть уже в своем размахе война, политика о том, то,
где и чем, в чем человек, общество загораются до войны, где дело
идет не о make, а о do, не о работе, а о поступке, не о мастерстве
и ремесле, а о хорошем и плохом, о добре и зле, правде и неправде;
что дороже жизни, где врагу заранее грозит смерть, и где смерть
лучше, чем уступить врагу. — И тут же оказывается, что вещи,
к которым рвется Алкивиад, политика, одновременно
оказывается человеку самые интимные, близкие давно с незапамятных
времен. Что политика специальность, профессия, что в нее не
надо вмешиваться, говорят политики из ревности, как раз когда
знают другое. Эту последнюю интимность политики чувствуют
на самом деле все. Политика обжигает как удар в самое уязвимое
место. Политика первое, во что человек посвящен.
Сократ: «Можешь мне назвать такое время, когда ты не
считал себя распознающим справедливость и несправедливость?
Скажем, в прошлом году — искал и не считал себя различающим?
Или считал? И правду отвечай, чтобы не впустую пошли наши
разговоры.
Алкивиад. Ну считал что знаю.
С. А третьего года, четвертого, пятого — не так же?
А. Вроде так.
С. А до того ты ведь был ребенком, или как?
А. Да.
С. Тогда, однако, хорошо знаю, что ты считал себя знающим.
А. Откуда хорошо знаешь?
С. Я часто слышал, что ты в школе ребенком и в других
местах, и когда играл в кегли или какую другую игру, вовсе не
попадал в апорию относительно справедливого и несправедливого,
но очень громко и смело говорил о ком попало из детей, что он
196
В. В. БИБИХИН
плохой и неправильный и делает неправильно. Или неправду
говорю?
А. А что же мне надо было делать, Сократ, когда со мной
поступали несправедливо?» (110 Ь)
Алкивиад о том, как вести себя перед «плохим», еще готов
говорить («а что же делать»), драться или начать с обличения, но
что ясно, когда другой плохой скверный несправедливый злой, ему
вне спора и обсуждения: ну ведь видно же.
«С. Видать, ты и ребенком считал себя знающим правду и
неправду?
А. Да вроде бы даже и знал?
С. В какое время выяснил? Ведь не тогда же, когда думал, что
знаешь?
А. Нет конечно.
С. Когда же думал, что не знаешь? Посмотри: не найдешь
такого времени». (ПО с)
Где правда и неправда, не надо постепенно выяснять: это
знание не во времени приобретается, оно не от времени, его
статус — платоновское вдруг. Как-то так человек с самого начала
уже знает правду и неправду, добро и зло, сразу, всегда. — Этот
статус знания о главных вещах человеческой истории вполне
соответствует их онтологическому статусу, о котором мы
говорили выше. Этот онтологический статус гораздо более серьезный,
чем думают «постмодернисты»: он вовсе не в «универсуме речи»,
не в библиотеке и не в музее, существует вовсе не в той мере,
в какой об этих вещах поддерживается дискурс. Далее такой
малой зацепки у них нет. Они неприступны полностью, с большей
неприступностью, чем может быть неприступен любой текст.
Библиотека в истории, для возникновения и хранения текста
нужно время; а правда и неправда, добро и зло не требуют времени
(110 с).
Поэтому еще вокруг них, между прочим, и слепливается
история; человек попадает в историю задетый вещами, для которых не
надо времени; время развертывается вокруг вещей, для которых
не требуется отсчета на часах. Которые ни изобрести (придумать,
отыскать), ни выучить невозможно (ПО d).
Еще раз: люди не пойдут на смерть из-за вещей, о которых
есть знание, школа, где дело выяснения, ученого авторитета.
«У тех, кто умер в Танагре афинян и спартанцев и беотийцев и
потом в Коронее, среди которых скончался и твой отец Клиний, ни
о чем другом расхождение, как о правде и неправде, причинило
смерти и сражения» (112 с).
16. ЗНАЮЩЕЕ НЕЗНАНИЕ
197
Именно потому, что нет способа узнать, допытаться,
разведать, где правда и неправда, добро и зло, <из-за> заранее уже
ясности (ну как Алкивиаду, который говорит другому мальчику
«плохой», доказать, что мальчик не плохой?), другого способа
выяснения, кроме войны, — конца, предела, смерти, — для этих
вещей нет. Причина войны — в невозможности кабинетным,
научным, школьным, университетским способом и вообще никак,
никаким человеческим способом выяснить, кто хороший и
плохой, кто справедливый и несправедливый, кто добрый и злой, кто
исчадие ада, проклятая нечисть, ироды, изверги и недочеловеки
и кто светлые герои. Так?
Скажем, мы православные, т. е. мы имеем правую веру, и как
это доказать, католику например, никак не докажешь, тогда надо
его силой выставить из нашего храма, чтобы он его не дай бог не
переменил в другую веру, он неправ.
Теперь собственно главный вопрос диалога, один из
поворотов его главного вопроса. Кто знает текст «Алкивиада», ответит
по Платону, кто не знает, не беда, Платон не вводит тут
специальной теории, он говорит в пределах того, что и так видно. Война
начинается потому, что всё ясно, но только ничего не докажешь,
и приходится применять силу?
Нет. Если бы было так, война была бы похожа на
хирургическую операцию. Хирург не воюет с оперируемым, даже когда
оперируемый в шоке и отбивается, тут не война, а именно
операция. Название — военное — военных операций показывает как
раз хирургический характер действия военных, но ведь военные
никогда и не начинают войну, они держатся отстраненно от
политики, принимают решения не они.
Война начинается потому, что всё ясно и ничего не докажешь,
или потому, что нам кажется всё ясно, мы думаем что знаем,
когда нам на самом деле ничего не известно, и для того чтобы себя
самих привести к согласию с самими собой, люди навязывают
свою волю другим?
Откуда мы всегда знаем, что правильно и неправильно,
справедливо и несправедливо, с детства знаем, — нам неизвестно.
Именно потому, что мы не спрашиваем, не разбираемся в себе,
тайное незнание за нашим знанием взрывает нас изнутри,
сдавленная, спрятанная война нас самих с самими собой превращается
в воинственность.
Механика и особенности этого процесса не очень важны.
Важно одно: мы упустили начало войны, столкновение нас самих
с самими же собой, и упустили, что война, так сказать, сильнее
198
В. В. БИБИХИН
нас, что бытие и ничто, добро и зло в войне раньше нас и шире
нас, с большим размахом, чем мы, и не нам ее решать, не мы
победим, не нам познать добро и зло, как сказано в Библии. Мы
упустили, что с самого начала в самом своем существе уже взвихрены
войной, вспаханы войной («война отец всего», Гераклит), и
приняли свою интимную включенность в войну за знание, с кем, как
и когда надо воевать.
Или вернее, разбирает Платон, мы не знаем этого, но
колеблемся, и нам не нравится наша нерешительность и мы ждем того,
кто выведет из нерешительности, в наших условиях газета,
телевизор, Сталин, демократический т. е. вроде бы наш политик, или наш
по национальности политик, или симпатичный политик, или
опытный политик — мы делегируем другому знание; или собственному
настроению: я колебался, но под настроение всё же принял
решение; во всяком случае такое колебание, при котором мы допускаем
возможность, что оно кончится, или даже хотим, чтобы оно
кончилось и мы приняли решение, ничуть по существу не отличается
от уверенного знания — или даже вообще никак не отличается:
знание только отодвинуто тут во времени из поля внимания и еще
меньше имеет шансов разбора. Уверенный спросит себя, или его
спросят, откуда у него уверенность; колеблющийся если спросит
себя, почему он колеблется, будет несколько красивых вариантов,
их можно было бы разобрать как шахматную задачку, но важно
одно: для колебания точно так же нет никаких оснований, как
и для знания, там, где знание в принципе невозможно.
Алкивиад, с детства полный знания добра и зла, заряжен
порывом распределения как раз главных и исторически решающих
характеристик: «Ты неправ, ты негоден, ты должен быть отменен,
ты долэюен уступить место другому». Через несколько страниц
диалога ему стыдно своего натиска, и он не возражает Сократу:
«Безумное имеешь в уме предпринимать начинание,
прекраснейший, μανικόν επιχείρημα, учить чему не знаешь, не заботясь об
учении» (113 с).
Мы уверенно, давно, привычно знаем массу вещей, которых
на самом деле не знаем, и, еще другое, мы колеблемся там, где
колебаться ни в коем случае нельзя, где колебаться стыдно — не
потому что пора было бы уже давно принять решение и сменить
колебание на уверенность, а наоборот потому, что не надо было
и начинать колебаться там, где можно было догадаться о
принципиальной невозможности знания. Где, говоря библейским языком,
с самого начала можно и нужно было догадаться, что мы всё-таки
не боги. — Между прочим, очень распространенное, массовое,
16. ЗНАЮЩЕЕ НЕЗНАНИЕ
199
почти всеобщее современное убеждение всякого почти человека,
с образованием или без образования, на улице, в толпе, что
человек должен якобы всегда уметь как-то «найтись», «определиться»
или уж тогда попросить время «подумать» — это всё то же самое
библейское «будете как боги». Оборотная сторона этого —
обязательная, вынужденная, так сказать, — это что человек всегда
озирается в поисках указания, инструктажа, которые помогут ему
найтись, и тут к нему протягивается сразу тысяча лап, собственно
даже и не человеческих (здесь опять возможен красивый разбор
безличной информации, где вопрос «кто говорит?» не находит
ответа, но мы пропускаем), и отовсюду он видит указания.
Можно обозначить эту ситуацию как незнающее знание, от
которого Сократ зовет к «знанию незнания», к науке незнания93.
Похоже, кроме того, что эта разница, страшно важная, в способе
знания, еще недостаточна для описания всей полноты ситуации.
Похоже, что самому Платону путь разбора знания,
оказывающегося незнанием, и полузнания, прикрывающего знание незнания,
в котором настоящее знание, оказывается еще недостаточно
простым, прямым, тем более не известно в точности, что такое знание,
и чтобы было известно, знание вроде бы уже должно быть, а как
его опознать, если пока неизвестно, что оно такое.
Ничего не знающее знание, узнавшее себя незнание — раздор
между ними часть войны, которая началась как-то рано и идет
как-то очень уже давно. Политики заняты разрубанием Гордиева
узла, они согласились на войну и значит на стирание самого того
существа, в котором идет война, но эта отчаянная готовность
политиков как раз и означает, что узел уже затянут — в каждом. Война
потому и выносится на поле под Коронеем (где погиб отец Алки-
виада), что невыносима человеку в нем самом. Нет мира человеку
из-за раздора между знанием-незнанием — или из-за какого-то
другого. Война и мир так прочно легли в заглавии романа Толстого
потому, что еще раньше того пролегли, легли совсем рядом в
начале вещей. «Мир» в заглавии романа Толстого, как показывает
исследование Сергея Георгиевича Бочарова, это и мир как покой
и согласие, и мир как целое.
Вот сейчас, докопавшись, Платон распутает, разберет
смешение, разведет правильное знание с неправильным — как бы не так,
93 Я боюсь, что этот контраст между «ничего на самом деле не знающим
знанием» и «узнавшим себя, просветленным, мудрым, незнанием» — стерт в старом
переводе названия главного трактата Николая Кузанского, «Docta ignorantia»
якобы «Ученое незнание»: я предпочитаю, пишу «Наука незнания».
200
В. В. БИБИХИН
он легкого не обещает и ничего не обещает. Одно он делает:
осаживает горячку, слепой порыв. Внимание присмиряется и утихает,
среди внезапно наступившего покоя амехании, невозможности
и бессмысленности спешного да и вообще любого делания (один
из русских переводов этой вещи «амехания» — недоумение, но
надо вспоминать и понимать, что значит старое русское
«недоумение», и слово «амехания» как будто бы работает прямее,
проще). Во время этой внезапной остановки (вспомним, что «школа»,
«схоле» этимологически «задержка, остановка, медление», и тут
мы в который раз удивляясь языку, нашему собственному,
вспоминаем, что русское медление этимологически связано с мыслью,
а с греческим соответствием — родственным словом — «мед-
ления», επιμέλεια, мы много раз встретимся в «Алкивиаде» и не
будем знать, как его перевести, потому что ближайшее, почти
тождественное понятие найдем только в латинском Studium,
которое тоже не переводится на русский язык, разве что «школа», как
Studium generale «общая школа» значит «университет»).
επιμέλεια = Studium = школа
î
σχολή = медление —> мысль
Ненавязчивые намеки языка, не столько указывающие, потому что
научиться от них ничему нельзя, сколько приободряющие в нашем
собственном искании, в собственно искании.
Сократовское μαλικόν, сумасшествие ринуться в действие там,
где мы не знаем и знать не можем, — это гераклитовская
эпилепсия фр. 46 (фр. 114 по Марковичу, и Лебедев в своем переводе
ставит после «эпилепсии» в скобках со знаком равенства
^сумасшествие): «Воображение» или «самомнение», и здесь у Гераклита
то слово οιμαι, которым Алкивиад и Сократ стандартно называют
уверенность Алкивиада в его знании добра-зла правды-неправды,
можно сказать просто мнение-убеждение «Гераклит называл
падучей (=сумасшествием) и говорил, что зрение лжет»94*, видение
в широком смысле, как мы говорим «я вижу»).
Смирение, совесть за свою прежнюю неразумную скачку
неведомо куда, неведомо зачем — запутан в незнании, оттого
и рвешься, άττεις (118 b), нелепая уверенная активность,
размахивание руками, когда кто мы на самом деле? Идиоты, ιδιωτικώς
έχοντες, потерянные, беспомощные, безродные. Ничего у нас
бедных нет за душой: не только мы упустили свое незнание, ос-
94* См.: Фрагменты ранних греческих философов..., с. 250.
16. ЗНАЮЩЕЕ НЕЗНАНИЕ
201
лепли, но и упустили время для работы, когда имели шанс что-то
еще понять. — Отец у Алкивиада погиб, но и в другом смысле
и Алкивиад, Сократ потерянные одинокие в безотцовстве: давно
прервалась ниточка, ведущая их род от богов, и одно только имя
божественного происхождения осталось. Переход от незнания
к безродности не перескок, я только не буду сейчас говорить об
этом подробно, незнание и заброшенность в безродности одно
и то же. Цари, прямые потомки богов, непрерывно хранящие
божественное знание (будем помнить про «божественное знание»),
где-то, может быть в Персии, может быть в Лакедемоне, где к
царской жене приставлены постоянные смотрители, чтобы никакой
случайностью у царя не появилось сына незаконнорожденного,
от неведомого, не божественного происхождения, родителя (ср.
законнорожденное, знающее себя знание, и незаконнорожденное).
Где-то, наверное, цари и сыны царей, а мы «сами идиоты и наши
отцы», αυτοί τε ίδιώται και οι πατέρες (121 а). Всё, что мы можем
выставить в виде родословной (не забываем связь между
незнанием и безотцовством; вся тема Федорова здесь: когда отца нет, когда
отец подвел, в двух смыслах, и не на высоте божественной, и не
жив, всё что есть в нас, теряет значение, наше знание становится
нулевым)95*, смешно царям царей и царственным потомкам царей,
например в Персии и Лакедемоне.
Мы безродные, случайно приходим на свет, и хорошо что
мы отрезвели, хоть заметили это. Царей от рождения принимают
руки лучших наставников, их рождение историческое событие,
ради них живет земля — а твое и наше рождение даже и соседи не
замечают, до воспитания нашего и образования никому нет дела
(122 Ь). Брошенные дети, бедные, здесь в этой маленькой Греции.
Боже мой, и хотим еще чего-то с кем-то соперничать, когда у нас
ничего нет, ничего нет — кроме: вот этого опомнившегося
смирения, проснувшегося трезвого внимания. Нас бросили; брошеные,
мы ничем не владеем, кроме επιμέλεια и σοφία, только они есть
достойные упоминания у эллинов (123 d). И еще: нет у нас никаких
шансов с кем-то равняться, кроме как επιμέλεια и τέχνη.
Когда мы говорим: «школа», то понятие пусто без настроения
смиренного и трезвого, от серьезности высокого, от печали
торжественного чувства брошенности, оставленности, безотцовства:
отцы были, божественные, могли быть, потому что у кого-то явно
вроде бы остались — но их нет.
95* См. об этом ст. В. Бибихина «Возвращение отцов» в Приложении к книге
«Чтение философии».
202
В. В. БИБИХИН
В этой брошенности, раз она узнана, есть решимость, даже
яростная: не согласиться на подставных отцов, противостоять
отвратительным претензиям захватчиков пустого, опустелого
места. Так Гамлет после смерти отца и печален и растерян, но не
потерпит одного: чтобы на пустующее место встали проходимцы;
светлая печаль безотцовства не позволяет мириться с подделками.
Ах незанятое место как многим тянущимся рукам хочется занять.
И вот та дисциплина, техника, внимательное настойчивое
усилие, которому только и учит Сократ, нужны не для возвращения
отцов, их уже не вернуть, а для независимости, для свободы от
персов, от великого царя. Не так что: иди и я теперь научу тебя
знанию; а так: умей теперь, оставшись один, жить в отрешенном
смирении, незаносчивом, но и неприступном. Выдержка,
выносливость, вынесение ситуации — незнания, да, но знающего
незнания. В знающем незнании отцы присутствуют полновесно
так, как только они и могут присутствовать в мировую эпоху
оставленности — присутствуют своим отсутствием; в отличие
от слепоты, от забывчивости, которая «проглатывает» ситуацию
безотцовства, знающее незнание — это постоянное присутствие
отцов как именно отсутствующих. Отцы, конечно, вы помните из
«Алкивиада» да и так знаете, на горизонте сливаются с богами.
Настроения, лежащие в основе, Grundstimmungen, по Хайдег-
геру, по Розанову, ими создано всё главное в истории, ими
определяются эпохи. Светлая, смиренная бодрость оставленных,
брошенных детей, начиная с афинских греков, пришельцев, народа
одиноких, оставленных, изгнанных, полагающихся только на
внимательное усилие, на школу и технику среди целого мира мощных,
напирающих сверхсил, претендентов на место отца, великих
царей, так уверенно знающих, что надо им и другим — против чего
только заведомая решимость этому напору не поддаваться, и тоже
мощная, неограниченная сила внимания, в сущности — всегда
берущего верх против массы.
При Александре, его экспансии, Эллада подорвалась, была
побеждена не восточной империей, а духом восточной империи,
т. е. изнутри (!). Мы это видим, между прочим, по внезапному
концу философии после по существу насильственной смерти
Аристотеля. Философия возродилась уже только в Риме, под
крылом Рима; и потом в Ренессансе, снова ранняя поэтическая
философия, с настроения той же отчаянной бодрости, печального
одиночества оставленных, поздних одиноких детей. Этим
настроением внутри Европы создано «отечество науки», словесности,
знания, вся новая Европа. А теперь? — О «теперь» спрашивать
16. ЗНАЮЩЕЕ НЕЗНАНИЕ
203
осведомляться нельзя, и вовсе не потому, что ситуация туманна,
а потому что мы есть. Зная, что настроение, о котором я говорю,
единственно достойно человека, что всякое другое будет —
сонливая вялость или гордая слепота, т. е. не то что «хуже», а просто
никуда не годиться, мы должны сами, ни у кого не спрашивая
разрешения, позаботиться о том, чтобы это настроение
продолжалось...
Вы замечаете, что пейзаж, в котором мы говорим о «своем»,
очень заметно изменился. «Свое» как источник, к которому только
подойти и питаться, куда-то делось, отрезано от нас, как отцы,
между нами и «своим» прошел порог, смирения, отрешенности,
школы, техники. Собственность (богатство) — ее у нас нет, на
ее месте ουδέν, ничто (123 Ь). Наше — только наше внимание,
смирение, трезвость, усилие. Есть ли «свое», какое «свое», если
от человека остается только школа и техника и больше ничего
достойного упоминания?
Вопрос этот всего проще решить пока так: никаких шансов
встретить свое где-то по сю сторону, не переходя порог смирения
школы и техники (искусства), у нас нет. «Найти себя», «найтись»
до перехода через этот суровый порог — который не кончается,
потому что школу философии и искусства нельзя пройти, они уже
на всю жизнь, — нам конечно не удастся. — Сказать, что у
каждого свое, и радоваться уже не придется. — Или эта смиренная
строгость, техника (настоящая, трудная как искусство) и есть
у человека «свое»?
Мы видим, как наука становится призванием, аскезой на всю
жизнь. Всё возвращает нас к порогу школы и техники, во всяком
случае свое, собственное — не без этой осторожной
отрешенности.
17. Есть и нет
(7.12.1993)96*
Порыв Алкивиада (105 с), «наполнить твоим именем и твоей
силой всех, так сказать, людей», всех имеется в виду не сумму
Европы плюс Азии плюс еще, а род человеческий —
(не случайно вспоминается христианская формула «ибо Твое есть
царство и сила и слава», о Божестве, даже буквально совпадающая с
формулой Сократа об Алкивиаде, потому что «имя» — это «слава»;
совпадение не случайное, а важное, историческое в двух смыслах. 1) Соловьев
прав, когда сближает явление эллинистического царя обожествленного
человека, человека-бога с явлением Христа, так: в истории смутный,
гротескный образ события промелькивает перед подлинным
событием — мы знаем будто бы Марксово, что история повторяется дважды,
один раз как трагедия, другой как фарс, наблюдение тривиальное, почти
очевидное; против него наблюдение Соловьева имеет тревожащую
оригинальность, заставляет по-новому посмотреть на всё из происходящего,
всё фарсовое из происходящего может оказаться гротескным промель-
киванием в уродливой, темной форме чистого и великого, которое
придет; — так обезьяна появилась и начала выделывать свои жесты на
поверхности планеты раньше того, как появился человек; так, продолжает
96* К листу машинописи лекции приклеена записка слушателя:
«Представляется чрезвычайно трудным (хотя и мыслимым) отрицать правомерность
„узкого", конвенциального употребления терминов полностью и во всех
случаях, например, в игре. Возникает вопрос, а возможно ли вообще „широкое"
употребление слов, если они связаны множеством контекстуальных и
неконтекстуальных факторов. Ведь еще до всякого контекста слово, произносимое здесь
и теперь, например „собственность", уже тем самым не есть „Слово во всей
широте того, как оно слывет"; широкое слово может оказаться большим
обманом, чем „узкое"». Комментарий В. Б. к этой записке: «Я говорю о Ситуации, как
этом, сейчас так сложившемся, уникальной, — и то же „контекст", неудачное
выражение. Неужели мы обречены на то, что каждое слово требует оговорки.
Нет ли безоговорочного слова».
17. ЕСТЬ И НЕТ
205
Соловьев, эллинистические дутые человеко-боги... (Алкивиад первый
и самый чистый из них; здесь действует схема от трагедии к фарсу; уже
Александр в сравнении с Алкивиадом типичный; действуют обе схемы
не смешиваясь, одновременно по-человечески всё ухудшается, и тут же
в истории работает спасительное повертывание самого упавшего,
загубленного, растоптанного в не просто хорошее, а лучшее; в этом смысле
Хайдеггер видит в технике, механизированном искусстве, главную
опасность всего Нового времени — ив ней же спасение) — т. е. как обезьяна
объявила своими ужимками приход человека на земле, так, по Соловьеву,
эллинистические цари, люди-статуи, помпезно и глупо фокусничали,
объявляя, по-своему, как умели человеко-божески, приход
богочеловека, не человека, попробовавшего раздуться до Бога, а Бога, который
смирился до человека. — 2) Вторая важная причина, по которой нам
лучше всё-таки заметить сходство формул «наполнить силой и именем
человечество» и «царство, сила и слава», Сократа и Евангелия, в том, что
вообще хорошо уметь замечать единство Афин и Иерусалима, потому
что поверхностный эффект их противопоставления, как у Шестова, как
у Хоружего для своего поддержания требует узкого понимания Афин
и Иерусалима, т. е. их непонимания. Умение видеть сплошную и очень
давнюю, намного древнее не только Евангелия, но и Сократа, связность
этих на скорый взгляд полюсов, никогда не бесполезно, всегда
окупается, и только на этом пути искание не выдохнется, не заставит спасаться
в схемы, всегда будет снова и снова открывать настоящее, а не просто
примеры для наших удивительных конструкций.),
— порыв Алкивиада к своему делу разбился о вопросы Сократа,
рассыпался, превратился в стыд и бодрое желание учиться;
уверенное незнание, или как лучше сказать, бездумное знание, такое
очень часто бывает, превратилось в знание незнания. Какой
мерой измерить знание? Очень определенной: безотказной, всегда
действующей: знанием своего незнания. Полнота знания — это
знание своего полного, круглого незнания, вещь редкая, которая
многим кажется даже недостижимой. Для Алкивиада она, такая
полнота знания, недостижима, он полагается на помощь Сократа,
κοινή βουλή (119 b; 124 b), совместным разумением. Сократ его
вводит в школу, так я перевожу έπι-μέλεια, при-лежание,
направленное пристальное внимание, ах общая вещь всей науки и
философии, западной, теперь придется мне всё-таки сказать, потому
что на востоке необходимость этого порога, смиренного
терпеливого беспристрастного вглядывания, того, что Леонардо да
Винчи, вполне этой традиции принадлежащий, называл ostinato
rigore, упрямой или упорной строгостью, это был весь его метод,
никаким другим методом он себя связывать не хотел потому, что
знал, что там, где приложено ostinai to rigore, вещь открывается
206
В. В. БИБИХИН
как никогда раньше и как никому, и так, что никакого метода
для нее всё равно не хватит, — а где нет упорной строгости, там
просто нет ничего, ни вещи, ни понимания, а метод становится
ритуалом. Я мало замечаю, чтобы методологи, теоретики метода
боялись и остерегались ритуала; я хотел бы, чтобы метод умел
себя прежде всего отличить от ритуала. — Леонардо не нравится
Лосеву и вообще мало нравится Востоку в сравнении с Рафаэлем,
вообще понимания школы как смиренного упрямства, упрямого
смирения у нас мало; вот почему, а не случайно, слово Studium
остается у нас без перевода; никакой конкурс здесь не поможет,
перебора лексики не хватит, всё, что мы можем делать, это
срочно, пока не поздно, сейчас включиться в это, заразиться школой
и техникой, смиренным, отрешенным упрямством, — всё равно
путь к своему и к собственному иначе как через это не проходит,
оснований не верить Платону у нас нет. Школа — первое и
строгое, отчуждающее вначале лицо не личного, а родового, каким
мы уже догадывались и видели обернется свое (!). Родовое в нем
будет обозначаться всё яснее; вот оно уже обозначилось в
неличной школе, о которую споткнулся порыв Алкивиада; родовое, но
пока еще не родное. Или уже родное? Есть люди, отдавшие себя
науке, школе в сократовском смысле, когда вошли в ее вкус. Это
аскеза. Как нож, школа, техника должны отрезать всё личное, или
пожалуйста, личностное (в смысле воображающего себя
отдельным от общего) от настоящего своего, родового, потом и родного.
Абсолютная необходимость терпеливой скромности школы
у Сократа связана, мы прошлый раз говорили, с настроением
брошенности, оставленности. Связано с плохой привитостью
школы на Востоке ожидание Востока, что он в привилегированных
отношениях с богами, отцами. Это напрасная надежда, если
думают, что так можно обойти или упростить школу. Перед прошлой
парой я зашел сначала в 1-ю, потом в 3-ю аудиторию. В первой
говорилось, что третье тысячелетие будет принадлежать русской
цивилизации, потому что она как-то умела избежать ошибок
западной. Что бы она ни сумела избежать, будет бессмысленно,
если она и в 3-м тысячелетии не вскарабкается на высокий порог
школы. В 3-й аудитории было объявлено и на доске написано,
что есть работа плотника, но только для православных. Опять то
же заблуждение, что в вопросах мастерства есть что-то важнее
школы и что восточному что-то особенное дано просто так, за
то что он восточный. — Некоторые думают, что оставленность,
брошенность, безотцовство, настроение бодрой внимательной
настороженности, упорства и усилия (как брошеный в лесу, чтобы не
17. ЕСТЬ И НЕТ
207
пропасть, должен собраться) это черта Запада. Нет это черта
мировой эпохи, которая длится уже долго. Думать, что восточные как-то
особенно причастны к соборности или к космосу или к другим
богатым вещам, — признак сиротства, дошедшего от отчаяния уже
до бреда. Нет у восточных не больше, чем у Алкивиада, интимных
отношений с божественными отцами.
Еще раз: суть настроения, на котором стоит сократовская
школа, в том, что человек встретился с непоправимыми вещами. Если
отец погиб, это поправить уже нельзя. Кажется, что можно
поправить бедность, на самом деле это так же трудно, как брошенность.
Школа не для того, чтобы восстановить непоправимое; она скорее
вообще не «для того», а «оттого»: от опоминания, замечания
своей ситуации, ничего не оставляющей, кроме внимания и усилия.
Как нельзя поправить непоправимое, так и сократовская школа
ничему не учит, так сказать, кроме как самой себе.
Вот оценка личной ситуации Алкивиада, Алкивиад гордый
человек, поэтому его не утешает, насколько его личная ситуация
типичная: (1181>-с): «Беда, беда, Алкивиад, в каком состоянии ты
состоишь, οίον πάθος πέπονθας! Я его и назвать спотыкаюсь, ну да
уж ладно, поскольку мы тут одни, придется сказать. Вот что: с
невежеством (άμαθία) ты в супружестве, прекраснейший, с самым
позорным, как слово твое тебя обличает и сам ты себя. Потому ты
и метнулся в политику, прежде чем пройти школу. В состоянии
же этом не ты один, но и многие (οι πολλοί) из практикующих
(πραττόντων) дела полиса, кроме немногих и, наверное, твоего
воспитателя Перикла». — Тогда учись у Перикла, проходи его
школу и не будешь в браке с невежеством (обняться в супружестве
с невежеством — не метафора в свете сказанного на прошлой паре
о сплошной связи знания с рождением). Кто считает так?
Еще раз: если бы навести дисциплину добра против зла было
делом хирургической или военной операции. Но нет: политика это
главные вещи, касающиеся хорошего и плохого, вещей которых,
мы сказали грубо для ясности различения онтического списка от
онтологического списка, нет; т. е. куда доступа знанию нет. О
школе и невежестве говорится не так, что в вопросах полиса пройди
школу и избавься от невежества. Войди в школу, постоянную,
и узнай, что невежество в главном, в том, что знать только Богу,
в добре и зле, — твое человеческое состояние, всегдашнее. Совсем
рядом благополучные музыка, геометрия, коннозаводское дело,
гимнастика, которые умеют выучивать своей технике. Это и
современный критерий научного знания, корректного, умение
повторить эксперимент, умение научить приемам, методам. 118 d:
208
В. В. БИБИХИН
прекрасный признак любого научного знания, что его знают, когда
способны и другого сделать знающим. Теперь — тот же критерий.
Но так близко это благополучие, а недостижимо. На пороге между
педагогикой-филологией-судовождением и т. д., всем тем, чем
Алкивиад не хочет и не будет заниматься, и политикой, войной-
миром, хорошим-плохим, чем он будет заниматься, та прекрасная
способность обучить обрывается, 118 d: «Перикл [тот самый, кто,
наверное, из тех немногих, кто не как толпа мечется в
невежестве] кого-то мудрым сделал, от сыновей начиная? — Какое там,
если оба сына Перикла оказались бестолковыми. — Но Клиния,
твоего брата? — Что ты опять же о Клинии говоришь, бредовом
человеке?»
Не выходит, срывается передать это знание, политическое
общественное. Как же так, говорят же об управлении
государственным кораблем, и Сталин и Ленин были мудрые кормчие,
и партия была наш рулевой, значит как в судовождении
опираясь на передовое знание и усвоив всё познанное человечеством,
правительство должно было уметь само уметь учить? Нет значит
оно срезалось как раз в ту часто повторяемую ошибку, не учло,
что близок локоть и не укусишь, что совсем рядом успешные
блестящие накопляющиеся знания и прекрасно преподаваемые,
преподносимые, и казалось бы государственное искусство рядом
с теми знаниями, но нет, тут лежит непереходимый порог,
ничего не придумаешь, не скроишь, не натянешь, не слепишь.
Значит никакого нет государственного знания,
правительственной мудрости и тогда нечего и учиться, нечего и стараться? Нет
и здесь строжайшее знание, только вдруг совсем другое, совсем
другое чем в науках, мастерстве и умении, по существу другое,
знание принципиального незнания и неумения, которого мудрому
кормчему и рулевому партии как раз и не хватало, раз она видела
себя научной и обучающей. Не знания не хватало, знания была
гора, в партийных библиотеках масса книг, целый большой
институт постоянно информировал руководство о всех общественных
и другой институт о естественных науках в закрытых сборниках,
чтобы знанием, т. е. силой, обладали кому надо. Но их беда была
как раз в знании, в неправильной уверенности, что знания тут нет.
Философия это наука. Философия это не наука. Чем не два
тезиса для дискуссии, «давайте порассуждаем», с одной стороны
философия наука, с другой она не наука, может быть искусство,
искусству можно конечно обучить, но только одаренного,
имеющего задатки; наверное и для философии нужны какие-то задатки.
Так я говорю?
17. ЕСТЬ И НЕТ
209
Кому-то может быть интересно порассуждать о задатках,
талантах, научности, ненаучности. Настоящий вопрос стоит раньше
всего этого и гораздо проще всех мыслимых аргументов и
контраргументов: есть вещи, в которых полнота знания будет знанием
незнания? Или еще проще и еще жестче: есть вещи, которых нет?
Ответ на этот вопрос простой, единственный, раз навсегда данный
Парменидом: небытия нет. Из бесспорных логически, формально
логически и просто логически, высказываний это самое
бесспорное. Небытия нет — это просто верно. — Теперь я говорю:
небытия нет — и дело с концом, прекратите всякие разговоры
о небытии и давайте займемся делом, ну нет же ведь небытия.
Почему не звучит? Что-то не в порядке — что? Или всё в порядке?
Мы сделали, допустим, ошибку, формально-логическое
высказывание нагрузили эмоционально, его повело, оно стало играть.
Не надо было формально-логическое высказывание нагружать
эмоционально. — Но мы ведь не без толку это сделали, а потому,
что о небытии говорят, очень много, как же было не рассердиться
на это, не запретить людям говорить о том, чего нет. Или не надо
было сердиться, а пусть они себе блуждают в несуществующем
как хотят, а мы-то про себя будем знать, что небытия нет? знать
это себе потихонечку и знать, что всё, что есть, не небытие? делай,
говори что угодно, небытия нет, ты не попадешь в небытие?
А вот это вздор, всякий скажет. В чем дело, где я ошибся?
Нельзя из утверждения «небытия нет» строить обращенное «всё,
что есть, не небытие»?
Не вижу противопоказаний. Ничего плохого нет в том, чтобы
сказать: «всё, что есть, не небытие», это и логически, и по-всякому
верно.
Почему же я сразу срезаюсь, попадаю в несусветную
глупость, говоря, что всё равно тогда что говорить и делать, к какому-
то бытию я тем самым приобщусь?
Я тут маленькое дело, дело не во мне, а в том, что этим
знанием, что всё равно всё будет бытием, знанием, в котором логической
ошибки нет, — лучше было бы этим знанием ничего не знать, этим
знанием не обладать; и знание, что я не знаю, что будет бытием и
что будет небытием в моем поступке, слове, знании, безусловно
лучше, чем тупое, безвкусное знание, что что бы я ни сказал
сделал, всё окажется так или иначе бытием. Как вы думаете об этом?
Или даже этого, что из двух «лучше», я по-настоящему тоже
не знаю, и самое лучшее знание будет сказать, что из всего этого
я не знаю, совершенно не знаю, как на самом деле обстоит дело?
210
В. В. БИБИХИН
Повесть Леонида Андреева: нахождение смысла в билетике
трамвая97.
Опять не знаю! Знаю только совсем определенно, что это
проваливание в знание своего незнания мне нужно, спасительно,
ничего лучше и дороже для меня не будет этого проваливания,
и никогда, никогда я не хотел бы поменять это нескончаемое
вымеривание своего бесконечного незнания на «теорию»,
«убеждение», «мировоззрение»; никогда не захочу потерять эту опору,
это единственно надежное основание. Да, господа, самое точное,
предельное, последнее знание в том, о чем мы говорим, это знание
нашего незнания, и его выверенная, опытная, мастерская
формула — в последней фразе платоновского «Парменида», до сих
пор я намеренно не вспоминал по поводу того, что мы читали в
«Алкивиаде», других вещей Платона, теперь только отступлю ради
одной последней фразы «Парменида», и то беря ее без попытки
разобрать смысл, только как формулу умудренного, знающего себя
незнания. В «Пармениде», вы помните, разбирается сначала
предположение, что Единое, или Первоединое, мы могли бы сказать
мир, — есть, потом — что его нет, и последняя фраза: «Единое,
есть ли оно или его нет, и само и всё другое ему и для самих себя
и для друг друга, всё и во всех отношениях, есть и не есть и
является и не является, существует и не существует и явствует и не
явствует»98*.
Это формула, т. е. строгая, и это не теория, т. е. частный
взгляд на вещи Платона, а достоверное знание, с достоверностью
таблицы умножения, к которому не может быть ничего прибавлено
ни в какие эпохи (хотя формулировка может варьироваться, один
из вариантов формулировки мы разбирали сегодня в тезисах
«небытия нет» и «всё, что есть, не небытие»). Человеку позволено не
знать таблицу умножения, но философское знание — общее, и то
незнание вечных истин, которое в математике, может быть милым
и простительным, а незнание своего незнания, как то невежество,
с которым в обнимку в супружестве Алкивиад, сразу и
безостановочно порождает («порождает» тут не метафора тоже) уродства.
Об у-родстве, это тоже не образ и не метафора, нам еще придется
говорить.
97 Т.е. я не могу сказать, что для персонажа в том рассказе Леонида
Андреева самоубийство от отчаяния лучше удовлетворения от минимального
приобщения к минимальному бытию через покупку трамвайного билетика.
98* Ср.: Платон. Соч. в 3-х тт., т. 2. М.: Мысль, 1970, с. 477.
17. ЕСТЬ И НЕТ
211
Разбор полиса в «Алкивиаде» — казалось бы, такого сложного
образования, требующего себе целой науки или целой армии наук,
политологии, социологии, футурологии, — очень краткий и
сводится к тому, что что толку говорить о полисе, если нет филии
и согласия. Мы констатируем: дважды, обоими словами Платон
попадает в то, что русский язык говорит словом «мир» в смысле
общества; этимологически, через раннюю историческую
общность языков, греческое «филия» то же, что русское «мир» (!). Что
это значит? Что и Платон, и русский язык думают об одном? —
И Платон, и русский язык по крайней мере указывают в одну
сторону: общество не встраивается как популяция в систему мира,
выбирая себе в мире нишу, приспосабливаясь к его условиям:
человеческое общество в своем существе — это попытка целого
мира. Как такая попытка целого мира общество сразу, с самого
начала несет на себе мир с его проблемой, загадкой и тайной: мира
нет в том смысле, в каком муравейник есть или долина реки Нил
есть; общество как мир, как филия и согласие взваливает на себя
сразу задачу совсем другого рода, чем приспособление,
встраивание, вообще устраивание, обустраивание или перестройка. Не об
этом в обществе и у общества идет дело.
Само наше слово мир в значении общества — русский язык
здесь просто намного лучше для мысли, для философии, чем
греческий, в этом пункте, — выносит нас в поле главных вопросов.
Но тот же шаг сразу делает от себя и Платон, проблематичность
согласия накатывается на него сразу, пустая и тупиковая картина
общества как общественного договора, как соглашения не
занимает его ни на минуту: какое, господа, соглашение между теми,
в ком согласие с самим собой.
Лучше будет, если мы не станем спешить здесь в этом месте
«Алкивиада», где, вокруг страницы 129, настоящий прорыв мысли,
где Платона несет, как Парменида на его упряжке коней несет в его
поэму, так что у самого Платона должна была кружиться голова
и он не успевал подбирать встречающееся, когда важно было не
терять этой внезапной быстроты, увидеть что можно, пока не
кончится экстаз.
От согласия общества к согласию с самим собой Платон
переходит вдруг или, вернее, для античной лаборатории здесь нет
даже и никакого особенного перехода, город (полис)
повторяется в каждом, как мы бы сказали — каждый это мир. И наоборот,
в платоновском «Государстве» упорядочение государства — это
одновременно упорядочение строя мысли. Упорядочение строя
мысли внутри круглой человеческой головы в «Тимее» Платона —
212
В. В. БИБИХИН
это упорядочение космоса. Когда православное трезвение
называет «гражданствованием» (πολιτεύω, Вейсман99*, «быть
гражданином, управлять государством») поведение монаха, отшельника, то
оно спокойно продолжает это античное сквозное видение, условно
так его назову.
Сейчас я сделаю еще одну, снова пробную и краткую,
попытку шага к тому, что я называю настоящей наукой, по Гегелю,
по Леонтьеву, по Ницше, по Розанову, по Флоренскому отчасти
тоже. По Гёте. По Хайдеггеру. Это вещь как будто бы проигравшая
в столкновении с механизмами, которые уверенно называют себя
наукой, но эти механизмы существуют за счет разорения природы,
и поэтому они так мощны награбленным и так безнадежно
обречены; настоящая наука очень слаба, но она на стороне софии мира,
она работает на его восстановление и поэтому за ней конечно
будущее, не какое-то, а всё.
Поймите меня правильно. Дело не в аналогиях между головой
и космосом, головой и позвонком, психологией индивида и
социологией или в других аналогиях: дело не в том, что всё устроено
варьированием парадигмы или модели. Наверное всё устроено так;
если мы будем понимать Гёте, его науковедение, в этом смысле,
мы получим просто еще одну схему природы или вселенского
устройства, вместо другой схемы, диалектико-материалистиче-
ской например. То, что есть символы, «символизм», тоже теория,
которая больше мешает чем помогает, потому что настраивает
на особое «видение мира», «символическое» например. Чем эта
настройка так уж существенно другая, чем любая настройка ума
и видения, например так называемая «научная», запрещающая
например верить снам. — То, что до всякой настройки человек
уже устроен так, что видит на самом деле гораздо больше, чем
сам себе сознаётся (чем позволяет его «сознание») — вот что
единственно важно, до всяких теорий об «аналогиях» или о
«символах». В XX веке доверие к этому открытому, или полному, или
хочется сказать непридурковатому, простому видению подорвано,
оно отнесено к мистике, к ляряпсихологии, к экстрасенсорному
восприятию, т. е. всё равно вне нормы и разглядывается из
окошка, через стекло, «ин витро». Когда Эрнст Мах, ученый («число
Маха») и философ, приводит примеры расширенного чувства
(ощущения), например в полусне с закрытыми глазами лежа в
постели ясно видит себя самого, свои руки, лежащие на одеяле
сверху одеяла, в мельчайших деталях, он относит это видение
Греческо-русский словарь.
17. ЕСТЬ И НЕТ
213
к чувству, не отнесет к научному познанию, никак. — Флоренский
внимательнее и серьезнее в отношении к этому видению:
описывая один свой сон, когда он как бы в мелочах рассматривал срез,
скол горной породы, с красными прожилками, он догадывается,
что это была интроспекция мозга, таким способом видевшего
себя во сне. Флоренский знает об этом широком, то что я назвал
сквозном, видении, хочет, чтобы оно вошло в науку — но
называет это «символизмом», как если бы для приобретения такого
видения нужна была мировоззренческая или может быть
религиозная установка. Это не совсем другое, чем приглашать на работу
православных плотников, надеясь, что у православного рубанок
будет наточен правильнее. — Теперь, посмотрим еще один
пример. Обряд сватовства и свадьбы. В меру ненарушенности жизни
«мира», общины, он соблюдается строже, причем никто не может
из его соблюдающих объяснить, почему обряд именно такой и
почему он должен соблюдаться по мере возможности строго. Все
соблюдающие знают, что он должен был бы по-настоящему, «как
в старину», соблюдаться еще строже, и у всех есть чутье,
подсказывающее, как именно, в каком направлении, — чутье опять
же необъяснимое. — Биолог, вглядываясь в этот обряд, поразился
бы, насколько в нем разыграна в лицах, в приходе жениха сначала
в лице сватов, потом с дружками, когда невеста сидит неподвижно
и ожидает, потом приход целой свиты с женихом, потом
оживленная свадьба, потом оставление жениха и невесты одних, — биолог
удивился бы, как здесь в лицах, в социуме разыграно и угадано
то, что происходит на так называемом клеточном, биологическом
уровне. Как в научном эксперименте, в ритуале без микроскопа,
без анатомирования — то, что наука изучает своими
увеличительными приборами и препаратами. Чем ритуал знает, чем угадывает
и суть биологического процесса, и главное, его порядливость,
серьезность, обстоятельность? Если бы мы знали. Ритуал сам не
знает, он очень ломок, он хрупкий как сон. — Мы гораздо больше
видим сонным знающим угадыванием, чем себе доверяем знать;
задача науки не проснуться к самоограничивающему сознанию
от сна, а проснуться к сну, для сна. Сознанием то сквозное, так
называемое «интуитивное» знание спутано.
Скажу свою тайную мысль: философия своим предельным
знанием незнания, как в последней фразе «Парменида», к этому
знанию, что я назвал «сквозным ведением», готовит. К знанию
Леонтьевскому, Константина Леонтьева.
IS. Действенность несуществующего
(14.12.1993)
Мы прочитали прошлый раз одну из формул знающего
незнания, блестящую формулу конца «Парменида»: «Единое, есть ли
оно или его нет, и само и всё другое ему и для самих себя и друг
для друга, всё и во всех отношениях, есть и не есть и является
и не является [или другой перевод, может быть лучше:
существует и не существует и явствует и не явствует]». Перестаньте меня
слушать и вообще заниматься этой темой, и я расстроюсь ужасно,
если вы мне не поверите. Не то что эта формула верна как таблица
умножения, тут пожалуйста не верьте, а верьте, что я ее не обойду
и обойти никогда не смогу, не надейтесь и не ждите, что я буду
знать и говорить что-то другое, например что эта формула —
начало скепсиса (но она да, начало скепсиса, но нам до того, что в ней
изволили увидеть, не увидев ее в простоте, дела нет; в таблице
умножения кто-то увидит скажем производное десятичной системы,
условное образование привязанное к одной из возможных систем
счисления; мне не интересно так смотреть, потому что таблица
умножения больше, чем определенный гештальт в определенной
системе, она говорит правду, которая и в любой другой системе
останется точно такой же; формула конца «Парменида» не
исключает другие варианты, как мы разбирали вариант «война и мир
начинаются только вокруг вещей, которых нет», кто захочет, может
посмотреть перетекание одной редакции формулы в другую).
Школа Сократа — это школа школы, она вводит только в саму
себя, учит незнанию, это школа или наука незнания, круглого, так
сказать. Оно безусловно, оно удел человека, дальше этого
незнания человек никуда не пойдет и не должен. Всё. Круг замкнулся.
Ничего по-честному тут не сделаешь. О главном человек просто
не знает. Война начинается у самого человека сначала с самим же
собой от раздражения на безысходность этого незнания. (Имею
18. ДЕЙСТВЕННОСТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО
215
в виду войну, а не операцию, разница как между дракой и
операцией, обычные лицемерные и тупоумные глубокомысленные
якобы сомнения, а как же быть с принципом непротивления злу
насилием или с принципом неприменения насилия и случаем,
когда <нападают> скажем на ваш дом, обычно прибавляют на ваших
близких, обычно прибавляют на ваших близких детей и женщин
и стариков, несчастные дети женщины и старики, как их
выставляют по сути дела во всякой войне очень часто по-разному впереди,
перед линией фронта, и уже прячась за их спинами идут молодые
мужчины, в скрытых и смазанных формах это бывает чаще чем
думают, — неужели вы не будете защищать детей, женщин и
стариков, это придуманная дилемма, от лени, нежелания различить
между войной и операцией, между «противлением злу»,
претензией знать где добро и зло, и работой, рядом действий, таких же
необходимых, как очистить поле, осветить, сделать анестезию,
взять скальпель, провести надрез. Вся тягостная болтовня о том, «а
что же вы сделаете, когда вы не хотите противиться злу насилием,
а нападают бандиты», происходит оттого, что очень мало
настоящих умеющих провести операцию, неизбежную, и мало умения
обращаться к людям, умеющим провести операцию, как раз из-за
слишком большой тяги ввязаться в последний решающий бой
и победить зло. Эта человекобожеская претензия, к сожалению,
пока до сих пор определяет политику в России и зачумляет ее.
Первой мечтой политического деятеля и первой
характеристикой, в прессе и в быту, остается «хороший», «борец против зла»,
«против коррупции», когда не определено даже издали, что такое
коррупция. С самого начала это выдает алкивиадовскую, челове-
кобожескую претензию на знание добра и зла.
Это было отступление о разнице между войной и операцией,
между справедливой войной и операцией, в слове «справедливая»
уже совершилось ввязывание, безысходное и безнадежное, в войну
без школы, без знания своего незнания: провал в состояние
наивного, детского Алкивиада).
Школа Сократа, еще раз, не для того, чтобы вывести из
состояния незнания, а для того, чтобы ввести, инициировать в ситуацию
незнания главного, того, вокруг чего война и мир. Или по-другому:
познакомиться с самым близким, с тем, что раньше умения или
неумения, оптимизма и пессимизма, таланта и бесталанности — еще
раз, возвращаясь к одной из тем прошлой пары, наверное очень
интересно поговорить о таланте, одаренности, таланте к
философии например, но гораздо важнее и раньше для оптимиста и
пессимиста, для талантливого и бездарного вопрос вот этого класса:
216
В. В. БИБИХИН
господа, есть в конце концов небытие или небытия нет? Он ведет
к недоумению, к амехании, к остановке, к схоле (от σχεΐν, εχω),
к школе, к Studium, к знанию незнания, и там человек остается
на всю жизнь.
Это я сказал, «там человек остается на всё жизнь», и сразу
стал говорить о настоящей науке, о том, что я назвал видением,
что угадывается смутно в символологии Флоренского, в аналогиях
сущего.
Иммануил Кант не символист и не аналогист, когда он ставит
рядом две вещи, размеренное от века движение светил на небе
и нравственный закон внутри нас. Он цитирует тут Аристотеля,
который в свою очередь цитирует поэта. Видение это, то же как
в «Тимее» Платона видение космоса и человеческой головы, не
образ: математика, которой как раз увлечен Платон в «Тимее»,
между прочим, и физика, и в том числе современная, и
действительная, наблюдаемая неотменимость законов, запредельность
законов (ведь скажем почему закон у нас срывается, не
выполняется: потому что знают, что всё равно его выполнить не удастся,
по закону не проживешь; этим общепринятым беззаконием закон
возвышается до небес), или вообще всё небесное в человеке (опять
не метафора) слишком явно уже показало свою силу, ход светил
с их непостижимой строгостью нам не чужой, открыт; срез этой
блестящей строгости космоса — в математике с ее точностью,
которой, математической строгости и точности, с избытком хватает
на отдание человеком отчета об открытом и еще открываемом
в космосе. Мы, так сказать, не хуже, не обделены.
Строгий космический смысл олимпийских игр в Древней
Греции: там на беговых дорожках, где надо было добежать до
меты, обернуться вокруг нее и возвратиться туда, откуда начал,
разыгрывалось космическое движение, и рассуждения, что таким
спортивным ритуалом люди завораживали, заколдовывали космос,
чтобы скажем после зимнего солнцестояния солнце сдвинулось,
снова пошло на север, — несущественное и неинтересное
объяснение: что важно, разыгрывание обществом, миром по-русски
(и здесь еще один скрытый языческий смысл слова мир, это
разыгрывание миром мира) — движения вселенной, повторение
вселенной, наука о вселенной, развернутая обществом в
лаборатории общества же: или общество, развернувшее в себе серьезной
игрой космос, не в порядке метафоры или театрального
изображения, а потому что пусть пока еще в сумасшедшей догадке, но
мир, да, это и есть мир; да, человеческое общество как-то очень
рано, раньше, чем оно себя знает, еще во сне уже приобщено ко
18. ДЕЙСТВЕННОСТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО
217
всему (!). Современное вооружение, которое никого не радует,
смешно думать, что это результат зла или стремления
военно-промышленного комплекса к наживе: в накоплении сотни смертей на
каждого одного из миллиардов людей на земле, в доведении до
того, что руке одного человека достаточно дотянуться до ключа,
один раз, чтобы запустить ядерный пожар, чтобы разыграть
космический огонь (можете тут вспомнить о гераклитовском огне или
о последнем огне германского и скандинавского эпоса), поставить
в лаборатории, раскинувшейся на всю планету, еще и этот
эксперимент, куда человечество бросит теперь уже просто всё само
себя, в огонь — откуда это, куда это? Я не знаю. Я знаю только,
что здесь громадный случай того видения, того знания, другие
примеры которого я пытался привести: сквозного, говорил я; когда
человечество наяву ли, во сне ли делает жесты космоса и законов
космоса и творца космоса (!).
Это значит как же сказать, бога. Только что я говорил о
единственном высшем знании человека, знании незнания. Теперь —
я говорю о знании, которое включено в софию космоса,
принадлежит софии космоса и самой этой своей принадлежностью
(творительный орудия), как я говорил раньше, делая из самого
себя лабораторию, — говорит т. е. так, что космос, целый мир им,
человечеством, говорит.
Этот переход, внезапный, от знания незнания, удела
человека, к божественному знанию Всего впервые в западной мысли
отчетливо намечен в поэме Парменида. Я говорю — отчетливо
намечен, в самом деле с такой отчетливостью, что внезапный
переход от первой части поэмы, где говорится о не возникшем,
неприступном, не прибавляющемся, не уменьшающемся бытии,
ко второй части, науке об устройстве всего мира, кажется
необъяснимым, и не иронизирует ли тут Парменид, в своей космологии,
после науки незнания первой части поэмы, над человеческим
знанием, доксой — одно из принятых объяснений. Вторая часть
поэмы Парменида совершенно необходима. Школа незнания
очищает, подводит, подталкивает, как раз когда пройдена хорошо,
к прорыву в божественное знание, т. е. уже не человеческое,
размахивающееся на весь мир.
Еще раз: откуда и куда такое участие, или больше, втянутость
в мир, пропитанность его войной и миром, его яростью и его
строгостью, загадочностью и необратимостью, это конечно надо
спрашивать не у меня. Если вы меня спросите, относится ли это
к старому наблюдению, что всё вообще участвует во всём, надо бы
только добавить — всё во всём всячески, насквозь, многократно
218
В. В. БИБИХИН
или вернее в бесконечном переплетении друг с другом (тут, кстати,
наверное, основание бахтинского «диалога») — то наверное да,
почему бы и нет. Вы спросите, но животные, камни,
элементарные частицы разве не втянуты в такое же участие всего во всем?
Наверное втянуты, скорее всего втянуты, и кто этого не учитывает,
не перестал, например, пытаться сконструировать живую клетку,
ведь она такая маленькая и такие прозрачные химические
процессы, кто не заметил, что клетка — одна — это коррелят организма,
втянута в мир целого организма, а организм — всякий —
участвует во всем мире, лучше бы было это сразу заметить, пока не
поздно. И этим участием всего во всём человек, наверное, не
отличается от всего остального в мире; вот красивый случай из
животного мира, наблюдение Дарвина, который вполне сравним
с греческим стадионом, упрямо, на протяжении столетий, каждые
четыре года всерьез, с предельным усилием разыгрывающим
вращения космоса (!). Или несколько разных примеров, слабых
и наугад, без попытки специально заняться этим. Сначала Дарвин.
Узор на хвосте павлина, по Дарвину, эти разводы — глазки, имеют
форму павлиньего глаза или глаза вообще не случайно, а потому,
что павлин своим хвостом, распушенным, его рисунком участвует
в глазе, тянется к глазу, возник как притягивание к себе глаза вот
таким способом, способом подражания глазу, участия в нем. Здесь
бесспорная и очень много обещающая основа теории мимезиса.
Другой пример: ход некоторых видов рыбы вверх по трудным
каменистым рекам, чтобы оставить там икру. Узость, теснота
прохода рыбы имитирует, или воспроизводит высоту и тесноту
порога, через который надо пробиться жизни от одного поколения
к другому. Все примеры наугад, вы знаете лучшие, стоит здесь
чуточку задуматься — и мы увидим много важного, к поведению
человека и общества это тоже относится. Вот: кошка должна
родить, и утром в день родов разумное, спокойное существо без
всякой необходимости затискивается головой и передними лапами,
дальше уже тело не протискивалось с большим животом, в
вентиляционное отверстие подпола, при том что никакой необходимости
и никакой возможности ей там пролезть не было, пришлось
помогать ей оттуда выбраться. Это протискивание было угадыванием
родов и поведения других, новых существ в этих родах, кошка
заранее участвовала в тех существах, разыгрывала их действия.
Начав такие примеры, уже трудно окончить, или никогда: всё
переплетено со всем таким образом. И во времени тоже. Хвост
павлина заранее знает, еще только образуясь, силу повернутых на
него взглядов.
18. ДЕЙСТВЕННОСТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО
219
Но у нас-то дело другое. Я так сказал и заметил второй смысл
этой фразы. Первый смысл — у нас, читающих Алкивиада и
переходящих, так сказать, от человеческого к божественному разделу
в нем, другое дело, чем прослеживание на примерах принципа
«всё во всём сообразно каждому», старого философского
принципа, опять же в разных поворотах этой формулы, один из ее
поворотов — «всеединство». У нас другое дело, мы задеты
разницей между школой незнания, с которой мы согласились, и
размахом человеческого знания. Вдруг я слышу второй неожиданный
смысл собственных слов: «у нас-то дело другое», т. е. в животный
и растительный и минеральный мир мы включены-то конечно
включены по принципу «всё во всём сообразно каждому» или
по принципу всеединства, но всё равно совершенно особенные,
«у нас дело другое». А ведь только что я уклонялся от
антропоцентризма. — И вот я думаю, что мы отклоняемся, отпадаем от
животных, чаще всего в плохую сторону, порчи включения в мир,
слепоты, болезненной вялости, слабости, потому что у нас дело
другое, не то что мы другое чем животные, мы вовсе не другое
чем животные по принадлежности всего всему, и наш разум не
другое, чем разум, софия мира, но единственное, что нас отличает,
это отличие вовсе не отличие уровня, иерархии, а абсолютное,
это что у нас дело — другое, наше дело — другое, опять же во
втором смысле, не нам дано кем-то другое дело, чем остальной
жизни в мире, а наше главное дело всегда как раз и есть — другое
(философия другого Эммануэля Левинаса — только прикладная
этика, стоящая на этом бездонном основании, вовлеченности
человека в онтологическое различение, между сущим и бытием,
безусловно другим). Наше дело другое — эта формула уже была у
нас в другом виде, человеческая история вокруг того, чего нет. Мы
никак, абсолютно не можем сказать, что животный и растительный
мир захвачен тем, чего нет, и его дело — другое. Мы поэтому
безусловно, не количественно и качественно, а абсолютно другие, чем
животный и растительный мир, хотя ничем другим не другие, ни
по признаку животности, ни по признаку растительности, кроме
одного этого: дело для нас почему-то, так случилось, я не знаю
почему, во всей нашей истории идет о том чего нет. Пойди туда
не знаю куда, принеси то не знаю что — это взял на себя во всём
мире один только человек, и весь остальной, животный
растительный мир тянется к человеку как единственному взвалившему
на себя эту тяжесть. «Другое», «то чего нет» — только имена,
условные, того, что несет человек, мы не знаем, что он несет.
Я по-честному не знаю, если вы знаете, скажите сообщите мне,
220
В. В. БИБИХИН
что он выносит, вынашивает в истории (!). Что он рожает в ней.
Явлинский думает и приказывает понять, что мы должны родить
власть. Т. е. его прежде всего, Явлинского, «главный вопрос это
вопрос о власти», говорит он, срочно рожайте. Я не уверен, что
призвание, назначение человека на земле в том чтобы родить
власть. Возможно, он должен родить что-то другое. Одно
совершенно ясно: животные рожают потомство, себе подобных, человек
рожает что-то другое, и всё дело его, всё дело его истории в родах
рода, но род этот другой.
Поэтому участие человека в мире такое, как участие всего
во всём, срывается. Вот например язык. Разве язык не связывает
человека с участием в целом мире? Слово клавиша, «мера мира»
по Витгенштейну, обещающая такое участие говорящего в мире,
которое ограничений уже вроде бы не знает, впускает во всё,
переплетает всё со всем. При слове, от слова сдвигаются миры, так
обещает давнее высокое понимание слова, или недавнее
символистическое у нас, и слово врастает корнями в существо человека.
Это высокое слово срывается, из самого пустого, что может быть
в мире, слово может быть примером наибольшей пустоты, «слова,
слова, это всё слова». — Или громадное наследие Леонардо да
Винчи, проба всего мира, человеческого и нечеловеческого,
прошлого и будущего, и мира изобретений тоже, так что почти все
изобретения до нашего века у Леонардо да Винчи угаданы. Что это
всё — действительное участие этого гения в полноте мира? Или,
как язык, только срыв, только уход в схему, что-то бумажное от
настоящего, как у животных, врастания в мир? Говорят и так и так.
Ни пустым колебанием частички, ничтожной, воздуха — язык, ни
черканием на бумаге для преодоления каких-то своих
комплексов — рисунки, чертежи и живопись Леонардо, крайнее мнение,
считать вроде бы нет смысла. Там и здесь и обещание, и срыв.
Может быть, наш срыв (но это всё равно), потому что ни языка, ни
Леонардо да Винчи мы в полноте всё еще не понимаем. Скажем
так: и язык, и плотная, детальная, громадная изобразительная,
миметическая работа Леонардо да Винчи, опять вы видите я
довольно бестолково беру разные примеры вовлечения человека
в целый мир, — это обещание, или угадывание, или замахивание
ну конечно же на целый мир, но можно ли сказать, что и на то, чего
человек не знает в своей школе незнания?
Т. е. может быть то незнание добра и зла, бытия и небытия,
не в смысле невинности и наивности, а умудренное, прошедшее
высшую философскую школу, — может быть оно как-то
преодолимо?
18. ДЕЙСТВЕННОСТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО
221
По-человечески нет, и школа это школа для человека, для
оставленного отцами-богами, для одинокого, — но человек богом
может стать? И тогда он переступит порог школы, порог
безусловного незнания. Т. е. человек конечно так и так постоянно только
то собственно и делает что переступает порог незнания, убегает
из школы, прогуливает или вообще уходит, не проходит ее до
последнего класса, но это не от хорошей жизни и не по-честному,
в порядке претензий на особое привилегированное положение,
в нечестном человекобожестве, — а вот по-честному человек
может стать или быть богом, или может быть человек и бог так
близки, что ближе их всё равно ничего нет и знак равенства между
ними как бы давно уже стоит?
После поступления человека Алкивиада в школу Сократа,
в школу знающего незнания, они вместе, в их новом согласии,
ведут диалог так вдохновенно быстро, их мысль или мысль Сократа,
вдохновляемая близостью любимого ученика, набирает такой
размах, что пейзаж сменяется почти мгновенно, ближе к 129-й
странице. Об обществе обоим неинтересно говорить иначе как о мире,
т. е. филии и согласии, но для филии и согласия в мире-обществе
надо сначала, чтобы каждый не был или хотя бы кто-то не был
в войне с собой. Как общество Алкивиаду и Сократу скучно,
муторно устраивать путем улаживания, компромисса, уравновешения
интересов (якобы в этом всё дело политика, думают современные
политики, т. е. они стоят опять же всё на старом «разделяй и
властвуй», т. е. властвуй на дрожжах, на почве разделенности), так
и думать о согласии каждого с самим собой через какое-нибудь
мировоззрение, или особое воспитание, или дисциплину
скажем внутреннюю или другие формы самогипноза, им тоскливо
и слишком им ясно, что это тупик. Согласие каждого с самим
собой возможно только так, что каждый вопьется в «свое», будет
занят захвачен поглощен растворен именно собственно своим,
и род этого влечения к своему назван в 126 е: соединиться как отец
с сыном, как мать с ребенком, как брат с братом, как муж: с женой.
Не ставится вопрос, а есть ли вообще у человека, каждого, «свое».
Ах господа, не ставится вот у Платона и вообще в важной, великой
мысли, всякой, этот вопрос, что такое свое, да есть ли оно вообще,
а может быть его и нету вовсе. Эти и подобные вопросы в
настоящей мысли просто не стоят, господа, и в этом величие
настоящей мысли. Не обсуждается вопрос, жениться или не жениться,
родить или не родить. С близким человеком или с Господом, но
безусловно супружество, деток человеческих или дитя другое,
непостижимое, но ты рожаешь. Слава Богу, что никогда ни в какой
222
В. В. БИБИХИН
настоящей мысли [не появится] бледное образование в виде
индивидуальной личности, которая сама когда-то будет решать, в какие
субъект-субъектные или субъект-объектные отношения вступать,
или вообще может быть не вступать, или как-то еще собой
распорядиться — ах какое счастье, что настоящая философия от своих
подделок отличается больше, чем от ремесла сборщика мусора.
Не вопрос для Сократа, есть ли «свое» и что такое «свое»,
свое каждый сам знает, — забота его в другом, отличить
настоящее свое, собственно свое от своего принадлежности, чем мы
на этом курсе «Собственность» много занимались. 127 с: тем
важнее отличить свое принадлежности, свое собственности от
собственно своего, что обычно человек мимо собственно своего
промахивается, влипает в свое собственности, понятой тоже не как
собственно собственность, а юридически. Школа путь к родному.
Платон вводит «свое» и «что-то из своего», т. е. вещи к своему
как-то отнесенные — как ботинок отнесен к ноге, кольцо к пальцу
(о единстве Средиземноморья: эти примеры ботинка и кольца, как
часто у философов, кажутся случайными, и комментарием к этим
примерам лучшим был бы Исайя, гл. 3 ст. 16 и до конца этой
главы, где не тем заняты дочери Сиона, не своим не Господним,
«надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и гремят
цепочками на ногах», и «отнимет Господь красивые цепочки на
ногах и звездочки и луночки, серьги и ожерелья и опахала, увясла
и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные,
перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки,
и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала».
Они сейчас гордятся этим своим, но не это свое; это их
собственность, но не собственное. Вопрос что такое «свое» правда
ставится, но он тут же проваливается в бездну, узнай самого себя.
Эта надпись — на храме, божеству. Она божественная. Древний
безымянный схолиаст, скорее всего византийский может быть,
чувствует это касание божественного в этом месте, он приводит
двустишие:
Узнай себя в словах — невеликое дело100,
На деле же это знает один только бог. (Схолия к 129 а)
Этого Сократ не говорит, но знает, он говорит в своей манере,
«может быть это и не легко», Алкивиад предполагает — может
быть сверхтрудно, два шутника таких, что это «претрудно, труднее
100 Т.е. и фраза короткая и, в другом смысле, словами разгрести эту
проблему.
18. ДЕЙСТВЕННОСТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО
223
всего», παγχάλεπον 129 а. Схолиаст подсказывает: да вообще не
человеческое дело, Бога.
Бог занят, нам говорят, самопознанием, самосозерцанием, он
довлеет себе, он полон в себе и наслаждается, когда глядит в
самого себя. Говорят, что это даже и у Аристотеля так прямо написано,
Бог созерцает сам себя, как в зеркале, такую прекрасную данность.
В свете того, вокруг чего мы топчемся уже сколько месяцев, почти
год, мы, пожалуй, просто не будем больше верить таким
сообщениям из истории философии. И в свете этой 128-129-й страницы
«Алкивиада», где сближаются «свое» и «познай себя». Смысл
этого божественного самосозерцания, наверное, в том, что Бог
знает и один по-настоящему знает свое. — А человек, получается,
и не знает собственно свое и никогда в полноте не узнает? Или
в своем, в родном человек — Бог, они одно? Как вы тут решите?
Свое, ровное — одно человека и Бога?
Опять вспоминается дефиниция у Розанова, Бог это милое из
милого, центр мирового умиления. Тавтологическая дефиниция.
Что, возможно, не свое придется осмысливать из бога, а бога
из своего, показывает и этимология Бога: доля, богатство — т. е.
имущество, т. е. собственность, т. е. свое. — Я не понимаю, как
нам закруглить эту тему «собственность» в этом месте, когда она
как будто только начинается. 21 декабря будет последняя пара,
28 декабря в католическое и греческое православное Рождество
и близко к Новому году и в дни зачетов пары уже не будет, но
8 февраля в это же время в этом же месте, если будет от меня
зависеть, то мне хотелось бы продолжать думать о собственности.
Продолжением — никаким не крушением, не
преодолением, не сменой, только сменой в смысле нового поколения,
сыновнего — античной мысли была христианская святоотеческая
мысль. Возьмем комментаторами к этому месту «Алкивиада» об
узнавании себя и о «самом самом», с. 129, христианских
писателей. Комментаторами, потому что в религиозной философии,
в богословии из-за ее прикладного характера острота, смелость
искания уступают именно пояснению, разжевыванию,
комментарию. Поэтому способность понять комментатора еще не означает
способности понять оригинал; кто не читал, не заглядывал или не
сумел понять комментатора, тот наверное и в принципе не
способен понять и оригинал. — Я не принижаю христианскую мысль,
называя ее комментарием к Библии и к античной философии. Из-
за того, что у храма, в котором служат, были строители, и те, кто
служит, сами храм не строили, эти служители не умаляются: они
просто другие, они служители, а не строители; точно так же как
224
В. В. БИБИХИН
и Христа не умаляет то, что он был как раз строитель, плотник.
В храме Бога христианские писатели служат так же, как в храме
мысли, и если они ничего к ней не прибавляют, то так уместно
им, для них.
Прочитаем из Максима Исповедника, не самого, а так — для
близости к нам — как его цитирует Григорий Палама101*, в XIV
веке. Цитировать по русскому переводу по крайней мере это место,
к сожалению, невозможно. Этот перевод такой типичный, что
обращает на себя внимание. «Тайноводство» (в пер. «Мистагогия»102*)
гл. 5-я. «Когда душа соберется в самой себе и в Боге, уже не
будет разделяющего ее на множество помыслов рассуждения [!]
[пер.: «перестанет существовать и разум», ах это сильно сказано и
слишком похоже на нехорошую нелюбовь к интеллекту]... уже не
будет рассуждения, разделяющего ее на множество помыслов, ибо
главу ее увенчает Первый, Единственный и Единый Бог Слово,
в чьей единой непомыслимой простоте единовидно предсуще-
ствуют все начала сущего; и стремясь к Нему, не вне ее сущему,
но в ней целой — целому простым слиянием [пер.: «всецело во
всей ней», стерта одинаковость, равенство души и Бога: целая,
вся — она; целый, весь — Он; опущено «в простом слиянии»; в
комментарии к этому месту сказано, что «единение души с Богом
Словом не ведет к ее растворению», она сохраняется как
«личность»; становится понятно, почему переводчик сократил как раз
слово «слияние», т. е. именно как раз «растворение»: почему-то
хочется, чтобы личность человека, как сказано в примечании, «не
переставала», когда у Максима Исповедника до настойчивости
ясно как раз наоборот простое, полное, безусловное слияние
всего Бога со всей душой: настолько упряма современная личность;
настолько не любит она смотреть на свою судьбу, что готова пока
не слышать того, что ей предсказано]... но в ней целой —
целому простым слиянием, она и сама тоже познаёт начала сущего, в
которых, возможно, прежде чем стать невестой Слова и Бога, она
блуждала путями разграничений и разделений» (PG 91, 681 В).
Человек сливается с Богом; человеку открываются основания
и начала, логосы сущего, как Богу.
Это значит: целой, самой собой душа никогда и не станет
кроме как в слиянии с Богом; узнать себя и узнать Бога одно; уз-
101 * См.: Св. Григорий Палама. Триады в защиту
священно-безмолвствующих. Пер. В. Бибихина. СПб.: 2004, с. 380 ел.
102* Творения преподобного Максима Исповедника. Книга 1 : Богословские
и аскетические трактаты. М.: Мартис, 1993, с. 154-184.
18. ДЕЙСТВЕННОСТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО
225
нать себя и узнать начала, логосы мира одно. Я читал из 5-й главы
«Тайноводства», а 7-я будет о человеке как мире, и зря опять же ту
главу читать, если думать об «аналогиях» и «символах», о
«микрокосме» и «макрокосме». В сути, в «дружественном родстве» мира
и мира, т. е. в собственно мире, потому что дружественное
родство есть мир, по Максиму Исповеднику мир и мир одно, так что
нельзя даже тогда говорить, что один мир большой, а другой —
человек. Они просто одно, как Бог и человек одно в своем. Читаю
из 7-й главы: «И непозволительно утверждать, что своеобразные
свойства, замыкающие каждый из миров в самом себе и ведущие
к разделению и разъединению их, обладают большей силой, чем
дружественное родство, таинственно данное им в единении».
От медленного блуждания путями дискурса — к тому, чтобы
быть самим существом мира, самим существом Бога, так что Бог
уже не где-то, уже нигде как в «своем», в родном. На
молниеносный миг, на мгновение молнии Бог прорывается в человеке,
человек распускается в Бога — и это должное, главное в религии,
это призвание человека, через это определяется, что такое человек.
Человек в «своем» это Бог. Попробуем постепенно привыкать
к странности этого звучания. Не отходить от этого места придется
со временем по разным причинам, назову одну: вы с философией
или с религией? Философия и религия одинаково указывают здесь
в одну сторону, велят думать об одном.
Обожение, в христианстве — это награда? Ведь обожение
невозможно без целого пути аскезы. Но не так, что проделай путь
и получишь награду, а только так: не проделав путь, не получишь
награду. Та же и школа Сократа: она не дает знания, дает знание
незнания, но без этой школы нет никакого честного знания. Только
в школе — в такой именно, как школа Сократа и школа
христианской аскезы, — но не за прохождение школы (прохождения
такой школы до конца и не бывает) открывается божественное
знание — наука, которую я хочу реабилитировать, место, в которое
мы сейчас вошли, невероятная свалка, оно истоптано например
«христианской наукой», и чем только не, но похоже, что это самое
важное место и есть, или просто место. Может быть, что для нас
сейчас, в конце XX века, дело идет о божестве?
Это вопрос для следующего раза. Уже последнего в этом
семестре.
19. Тело и душа
(21.12.1993)
Сократ как будто обжигается, когда от смиренного «не знаю;
знаю, что не знаю», переходит к попытке знания, как в 129 е: «Что
же такое человек». Чтобы знать это, надо «узнать себя самого». Но
это трудно. Хорошо бы тогда узнать, что такое «самое само». Но
и это наверное очень трудно; 130 d: достаточно нам рассмотреть
каждую самость. Но и «самость» тоже не разбирается; диалог
заканчивается темой «души», ψυχή. Обжигается потому, что и там,
и там, и там, и в «самом себе», и в «самом самом», и просто
в самом, и в душе — просвечивает вот это другое: Бог. Знание
незнания было школой покинутых, одиноких, оторванных от Бога,
трезвых, смиренных. Из той школы нищих, школы незнания
почему надо было выходить, почему недостаточно было сказать, что
мы не знаем кто такие мы?
Разговор идет о полисе, о мире (согласии), о невозможности
мира без согласия каждого с самим собой, отсюда вопрос, кто же
мы сами. Странные незнакомцы самим себе; сказать, что у нас
нет и шансов с собой познакомиться — тогда собственно прощай
полис, неясно о чем вообще речь, диалог отброшен к самому
началу, где Алкивиад готов идти орудовать вслепую, просто давить
других блеском своего происхождения, рода, природных данных,
энергии. Т. е. воздержание незнания вещь хорошая, красивая, но
надо же и какой-то практикой заниматься. Какое-то знание,
кроме знания незнания, надо как-то иметь, хочешь не хочешь, ведь
жить-то надо?
Похоже, что к ведущему, хозяйственному знанию Сократ
приходит другим, не этим утилитарным, а красивым путем, только он
трудный. «Ради бога, будь сейчас внимательным», говорит вдруг
Сократ. Он новыми глазами посмотрел на себя, на Алкивиада —
и не увидел ни себя, ни Алкивиада, словно оба надели вдруг шап-
19. ТЕЛО И ДУША
227
ки-невидимки. «Ты сейчас с кем разговариваешь?» — спрашивает
Сократ, и дальше идет головокружительная часть диалога, краткая,
которую я не буду читать, потому что лучше будет, если каждый
обратится к своему опыту, у каждого разному, исчезновения
человека. Его тело, его жесты, его слова, произносимые, становятся
инструментами, которые вводит в действие, задействует кто? Его
имя — «пользующийся телом», 129 е, под «телом», не забудем,
надо понимать и слово, и поступок, и жест. Я ошибся: не
«пользующийся», а в среднем роде, совсем отчужденно: το τω σώματι
χρωμενον. Это техничнее и строже, чем древнеиндийское имя для
владельца тела, dehin или dehavan, от deha (м., ср.), «тело». Как
deha в древнеиндийском значит еще личность (то же в греческом
σώμα), так dehin, носитель тела, хозяин тела, имеет значение
«душа». Конечно, и Платон, назвав свое отчуждающее «то, что
пользуется телом», сейчас же скажет «душа» (130 а). Но будет
грустно, если мы успокоимся и скажем: а, речь о душе и теле,
известное дело. Человек состоит из души и тела. Мы в середине
спокойного метафизического дискурса. В учебник истории
философии мы имеем право вписать: согласно Платону, человек
состоит из души и тела. Кто читал «Алкивиада»?
Нет, человек по Платону не состоит из души и тела. Когда
человек на 129-й странице куда-то девается, видны только орудия,
которыми он «пользуется», то тело не становится для Платона
крючком, за который человека можно как-то вернуть обратно.
Человек уже не возвращается, тело не человек. Вместо того чтобы
успокоенно узнавать в тексте Платона знакомое, идеализм
допустим, и классифицировать его по рубрикам, лучше потратить эти
силы на фразу в 130 с, которой одной достаточно, чтобы
догадаться, что Платона-то мы по-настоящему не очень хорошо и знаем,
или совсем не знаем. «Поскольку же человек не есть ни тело, ни
то и другое [соединение тела и души], остается, похоже, что или
оно [!] ничто, или, если что-то, то человек есть не что иное как
душа». Переводчик тут не верит своим глазам, и формально не
делая ошибки, ставит местоимение в аккузативе, где оно совпадает
у нас с мужским родом, и строит фразу так, что «его» явно и
однозначно относится к человеку: «Остается, думаю я, либо считать
его ничем, либо, если он всё же является чем-то, заключить, что
человек — это душа»103*. Комментаторы изданий, сохраняющих
средний род («оно», человек), выходят из положения тем, что
предполагают, что Платон имеет в виду под «оно» «человеческое
103* См.: Платон. Диалоги..., с. 213-214.
228
В. В. БИБИХИН
бытие». Нет необходимости ничего придумывать. Ведь
полстраницей раньше, 129 е, средний род уже был, «пользующееся телом».
Средний род обозначает отчуждающую невидимость неуловимого
существа, который делает всё это, движет телом, говорит. Это
существо проваливается в ничто, первой та гипотеза, что
человек это ничто, стоит вовсе не случайно; предполагать, как это
делают комментаторы, что «ничто» вставлено как доказательство
от противного — в смысле: не может ведь быть, чтобы человек
был ничто] тогда остается, что он душа, — тоже нет никакой
необходимости. Платон спокойно, мужественно вглядывается в про-
валивание человека, да, человек проваливается в никуда, в ничто,
он не просто неуловим, его нет.
Во всё это время «диалога», время обретения или можно
сказать при-обретения себя как самого своего приобретения
собственно себя, по-настоящему захватывающего приобретения,
все другие «собственности» (как теперь сказали бы, «формы
собственности»), начиная с тела, потом частей тела, потом того,
чем обслуживается тело, потом того, что помогает обслуживанию
тела, включая деньги, домашнее хозяйство 133 е, общественное
хозяйство 134 а, богатства и разбогатения единоличного и
общественного 134 Ь, и рабства, принадлежности одного человека
другому 135 be, я не всё перечислил, — всякая другая
собственность в поле зрения Сократа, но только в поле зрения, — и уже
не Алкивиада, у которого хватает внимания только на погоню
за главным, за ключом ко всякой собственности, за собой. — Во
всё время «диалога» — «диалог» уже тут можно брать в кавыч1
ки, — когда от быстроты этой погони за собой своим тело и
личность, если понимать личность как говорящее разумное тело,
рассыпались. И личность тоже рассыпалась. — Я давно хочу
добиться, чтобы мне кто-нибудь уловимым образом объяснил,
что такое личность. Споры о том, когда появляется личность,
допустим в Новое время, а в Средневековье еще совсем нельзя
говорить о личности, никакой личности не было в Средневековье,
или наоборот была, а зато в античности ее не было, а была только
индивидуальность, сбивают меня с ног, заставляют думать, что
«личность» это сложная мыслительная конструкция, привязанная
к представлениям автора этой конструкции о том, как всё
происходит в этой истории. Для того чтобы авторская мыслительная
конструкция совсем не выпала из всякий обсуждаемости, ведь
всё-таки обсуждать можно только что-то хоть немного общее
и даже индивидуальное тоже только в такой мере, в какой имеется
в виду что-то такое, что не только я один, автор, постановил себе
19. ТЕЛО И ДУША
229
придумал иметь в виду, и сконструированная «личность» должна
иметь еще и другую, так сказать общую, привязку — и тут у меня
кончается головокружение, я говорю «слава Богу», хоть на что-то
можно опереться: личность опирается на тело. Мы попадаем в
надежные крепкие руки тысячелетней традиции. В древнеиндийском
deha, тело, значит и личность, скажем юридическое лицо. То же
самое в греческом σώματα ελεύθερα, букв, «свободные тела», это
в общем-то, с поправками, то, что теперь свободные личности,
свободные юридические личности. Если меня в этот момент
радости от какой-то надежной определенности, вот оно тело, окрикнут,
выругают, запретят говорить о личности в античности, я, конечно,
съежусь от страха и перестану говорить о личности в античности,
но зато «личность» у меня из рук ускользнет, снова превратится
в мыслительный конструкт, у одного автора один, у другого
другой, и я перестану тогда говорить о личности вообще, тем более
никакой нужды нет: личности нет ни в Библии, ни в главной
мировой философии. И всё равно, тайком или явно, все
говорящие о личности опираются на тело, возвращаются к телу, т. е.
настолько прочно и надежно сколочено это древнее укоренение
личности в теле, что работает, продолжает работать, так сказать,
даже когда опровергнуто. Эта возня с личностью становится в
конце концов не очень интересной. — Совсем другое дело, когда
начинается плотный философский разговор, как в «Алкивиаде»,
и открытое зрение, не повязанное (как это говорится) целиком
своими собственными конструкциями, проваливается в ту все-
впускающую пустоту, которая в прозрении на 129 Ь: ради Бога,
Алкивиад, посмотри, посмотри внимательно: ты с кем сейчас
говоришь? Не видно «то, что пользуется» телом, словом, этим
говорением, этим диалогом. Где оно! Тут становится действительно
интересно так, что дух захватывает. И как всегда в таких случаях
нас подстерегает паника, пароксизм, как во сне проваливаешься
в пропасть и надо немедленно схватиться за что-нибудь. Первая
реакция, конечно, проснуться: нет, нет! этого ничего нет на
самом деле, это только приснилось! Не может быть, чтобы на месте
человека раскрылось ничто\ Комментатор за работой: в этом
месте, 130 с, один заботливый старый издатель даже брал в скобки
слова «или он (человек) ничто» как полную нелепицу — откуда
же берется ничто, если только что человек был «тело и душа»,
допустим тело отпадает, но хоть душа-то остается, откуда
ничто? — но самое частое решение, как и в русском переводе, это то,
о котором я сказал: от противного, именно от нелепицы считать
человека ничем (русский переводчик добавляет слово «считать»,
230
В. В. БИБИХИН
которого у Платона нет104*, у Платона буквально: «остается или
что оно [а не он!] ничто...»). Русский переводчик, да и любой
переводчик, будет по привычке смотреть на человека, как мы
вообще привыкли смотреть на человека, вот он куда он денется,
такая данность, вопрос только в том, кем его считать, телом или
душой, мы благополучно приземлились в «метафизическую
проблематику», давайте теперь поговорим, что такое человек, тело
или душа, — но Платон своим жутким «оно», «то, что пользуется
телом», проходит как в стратосфере над перехватчиками и будет
еще сотни лет дожидаться себе понимания. Понять его трудно,
потому что всё очень просто: не о дефинициях и концепциях речь,
а случилось так, что на одном вираже этого захватывающего и
захваченного диалога человек выпал, провалился в бездну, в ничто.
Только один ум в ХХ-м веке рискнул сказать, видя то же, что видел
Платон, что существо человека выдвинуто в ничто, что человек
это заместитель ничто, — и сразу же на него набросились массой
и заклеймили как нигилиста или хуже (!).
Господа, философия не о понятиях и не о том, кто что
«считает», словом считает перевод этого места 130 с можно
считать испорченным, — философия о видении, о вещах. Работа
«Алкивиада», диалога, набирает размах, набирает высоту и
человек словно вываливается из корзины, человека не оказывается, он
проваливается в ничто. Вынуть его оттуда сам же человек уже не
может, попробуйте сами думать о том, кто же или что же
пользуется вот сейчас нашими телами и нашей речью. Попробуйте
поймать, уловить, заметить. Остается свое, захваченность.
Улавливающие, вы, будете пользоваться при этом понятиями, приемами,
например интенция: в человеке всегда остается только то, что
интенция, напряжение, ведущее. Но и интенция — это тоже
слово, или в лучшем случае жест, которым тоже пользуется то, что
пользуется. Я вам предлагаю это упражнение.
Кто что уловил? И по моему опыту ответ тот, который у
Платона. Т. е. или ничто — я сам в самом себе ускользаю опасно, до
полной пустоты, рефлексия улавливает не случайно дурную
бесконечность «я думаю о я думаю о я думаю о я», — или «душа»,
и тогда я знаю в себе свое.
Душа только не «психика». Опять же я не знаю, что такое
«психика», меня пугает, что в «психику» попадают, например,
настроения и предчувствия, или такие вещи как отчаяние, тогда
мне выносится окончательный приговор, я человек «душевный»,
104* См. там же, с. 214.
19. ТЕЛО И ДУША
231
а не «духовный» и соответственно не гожусь для высокого уровня
обобщения или для отвлеченной работы мысли, для строгой
терминологии или для чего-нибудь еще. Я не знаю что такое психика,
мне не удается понять определения психики. Иногда они
возвращают к аристотелевскому определению: душа есть некоторым
образом всё. Это мир, сказали бы мы, и я так говорил: человек это
мир. Мир это много. То было ничего, а то вдруг мир. Когда Платон
говорит, что человек это душа, собственно «веяние», то его мысль
та же, что Аристотелевская: душа это проход в божество. Вот
почему Платон и мечется, и обжигается. После человеческого, знания
незнания, смирения, школы, взгляд в собственно человека, в себя,
самого человека открывает окошко куда-то очень далеко. В Бога,
но Бог мы с прошлой пары не знаем что такое, мы его знаем через
свое, собственное, но не наоборот (!). — Лучше будет говорить:
свое, собственное — самое само — не другое, чем божественное.
Нет надобности, и не получится закрепиться в моменте
исчезновения человека, и у Сократа этот момент, прозрения, длится
недолго. Человек исчезает, как сменяется кадр, чтобы пройдя через
это исчезновение (ах не у Мишеля Фуко и не в структурализме
человек исчезает, а в «Алкивиаде» 129 Ь) — не то что человек
исчез а потом вырисовался снова, а как исчез он так и исчез, ушел
в смирение земли, но именно потому что исчез ушел в смирение
земли, в ничто, в пустоту, он этой своей пустотой впустил — что?
господа, страшно сказать. Если бы мы знали, что такое Бог, можно
было бы сказать, что пустотой своего ничто человек впустил Бога.
Скажем осторожнее: в ситуации одинокого, обделенного,
нищего, без собственности, без богов, смертного, оставленного
самому себе, только своей настойчивой строгости и своей
технике, человек как оставался так и остался, тут ему и место, туда ему
и дорога. Но человек каким-то образом остается и после этого
превращения в землю, после расставания с собой — после этой,
в терминологии позднего платонизма, «философской смерти».
Или даже сказать лучше: только после расставания с собой, только
после превращения себя в смиренную землю человек только и
становится собой, приходит к своему. Только «собой», «само», «свое»
меняются. Юридическими, во всякое случае, собственническими
они стать снова уже не могут.
Я пробовал говорить уже, условно и в рабочем порядке
называя слово «космос», упоминая «символизм» и «аналогии», на
случайных и, боюсь, неудачных примерах о далеком, или
безграничном, знании, сквозном видении. Всё это нарочито случайные
имена для того, что я еще называл «настоящей наукой». Она дру-
232
В. В. БИБИХИН
гая, чем наука незнания? Она не без науки незнания, и наука
незнания ее основа, или обязательное условие, во всяком случае она
не другое и не рядом с наукой незнания. Надо, чтобы я говорил об
этой науке, науке второй части поэмы Парменида, неопределенно.
В ней нет разделения на науку о природе и науку о духе; нет
разделения на художественное и техническое. Нам удобно называть
эту науку наукой — можно было бы говорить о «знании» —
чтобы отнять название «науки» у безумной деятельности вгрызания
в природу, которой занята человеческая биологическая масса.
Разделения на «гуманитарные» и «естественные» науки, самого
уже служащего деятельности рассечения, вивисекции
действительности, начинающего эту вивисекцию, как и разделения
научного-художественного, вивисекции самого познающего человека,
в настоящем знании, о котором я говорю, не может быть, потому
что вообще не человек его строит, а оно строится так, что человека
ведут — кто ведет? — и ему показывают — кто показывает? Мы
в современности уже, так сказать, рождаемся внутрь уже
совершившихся разрезов по живому, одни рождаются в «гуманитарных»
семьях, другие в «естественнонаучных» — изнутри клеток всегда
будет идти нарушение этих перегородок. Богословие Ньютона не
отклонение. Только это позднее расположение, скажем физиков
к поэзии, опоздало. Раньше надо было, когда еще не началась
раскройка знания, божественного.
Человек подхвачен, захвачен участием, сплошным, во «всём»,
когда (я не говорю: поскольку) он душа. Душа это некоторым
образом всё.
Разница между тем, что человека берут и показывают ему
землю, небо, свет, ветер и свое же тело, так называемым восприятием,
и прохождением через человека смыслов, так называемым
творчеством. И опять только чесотка глобализма, генерализаций сбивает
с толку проходящее через человека знание, когда и часть, и целое
не лучше взаимно и не хуже друг друга, одно что весит, — это
включенность, принадлежность к видению. В самом малом всё
уже есть, и всё так же лишено малого, как малое — всего.
Темного происхождения и перегородка между «искусством»
и «жизнью» или «реальностью». «Художественная литература»
не игра воображения, не развлечение, а то одно и единственное
и уникальное участие во всём. На знании мира, можем говорить
и так, лежит запрет на вмешательство в него. Мы только
подготовили себя школой незнания к тому, что нам показывают; что и как
нам покажут, не мы решаем. Начиная с самого размыкания нас
в мир, ведем не мы. Этим только обеспечивается полнота нашего
19. ТЕЛО И ДУША
233
участия в знании, превращение знания в рождение. Или
совпадение с рождением — чего? Мы не умеем и никогда не сумеем
сказать точнее, чем: мира. И общества. Из того, во что человек
введен «душой», опять переведем: веянием, дыханием, когда он
простое одно с богом и с миром, в «Алкивиаде» ожидают
устроения человека и социума. Человек и социум могут быть устроены
и будут устроены, но не строительством! А «душой».
Боюсь, что разговор о «добродетели» по-русски вводит в
заблуждение. Грубо говоря, начинает казаться, что где-то
известно, как делать добро. Нет не известно, добра мы не знаем и не
умеем его отличить от зла. Но мы делаем добро и зло? Сколько
угодно. Раннее участие души в боге и мире у Платона —
«добротность» и «софия» делают не «добро», а делают «добротно»,
«умело», и в блеске божества. В мысли, в поэзии, в мечте, во сне
«душа» — там, где мир начинается, снова и снова, мир, в котором
зло еще не успело. Мир исправить нельзя, но его можно сотворить
заново.
В создании мира заново человек одно с Богом. Как
принадлежащему миру и богу человеческому существу не просто что-то,
а всё открыто. Он открыт для дыхания, он душа. Бог не где-то
вне человека, эта пара человек-бог не зря всегда рядом. Нет Бога
помимо человека. — Но ненуждаемость Бога? Да конечно,
абсолютная — но в том смысле, что человек и так сам обязательно без
всякого «исправления» будет сам, в своем, в собственном делать
божественные жесты. Богу ничего уже не надо от человека —
потому что человек и так уже в полной мере Богом задействован
и богоносец, богом заряжен, бога в себе несет, богом чреват, из
бога ввязывается — за своего бога — в жестокую войну. Бог и так
въелся в человека до корней, до его собственного, до своего, так
что после такой интимности срастания еще дополнительное бого-
почитание чего-то вне человека — нелепость. Я хочу сказать, что
настоящий Бог в том «научном и художественном творчестве», что
поэт и художник и есть сам Бог? Нет, опять же, это будет похоже
на новое расчерчивание областей, религии, искусства, философии.
Лучше успокоиться на том, что Бог будет уж во всяком случае не
привязан, прицеплен к тому месту, где ему укажет человек, чтобы
Бог там был. Бог гораздо раньше успевает присутствовать во всём,
что человек может задумать или решить или предпринять.
Спор между религиями, в религиозных войнах идет по-
настоящему не о «правильности веры», «правоте учения», а о
самом лее Боге, за божественность человека, за обожение. Как в
школе ученого незнания допустимы только технические операции, так
234
В. В. БИБИХИН
в близости к Богу и за близость к Богу может быть только
война — жестокая, за свое. Война души, отчаянная, которую
животные не ведут, — спасительная. Из-за способности к ней к человеку
всё тянется. Всё рушится, обваливается. Зло это порок, недостаток
добра? Может быть зла нет? Не знаю. Знаю, что однажды
поведенный божественным знанием, человек вдруг и сразу оказывается не
на высоте, «не тянет». Прорыв через обломки, снова к Богу — как
Иов через свои струпья, нищету, покинутость продолжая хотеть
только одного, быть близко к Богу. Что Бог даст, то Он даст, вдруг,
и нам тоже. Но смешно надеяться, что мы как-то угадаем в Бога
своим усилием. Не зря на пути к своему встала строгая школа.
Школа отдала наше всеобщему, роду; родное подчинило нас миру.
Какая именно наша связь с миром, как всё существует во всем, это
еще вопрос, но что мы, и каждый и все, завязаны миром, его
громадностью, его строгостью, что дышим только им, что мы только
через Бога и в Боге — это похоже ясно.
Свое нам всё. Наша собственность Бог, наше родное мир.
Наша война за то, чтобы мир и бог не были нам подменены,
подсунуты. Очень много структур, к которым можно подключиться,
в которые вписаться. Война идет за разрыв этих структур там, где
они выпадают из собственно своего в свою собственность.
У меня, у каждого меня, нет ни времени ни сил на
«творчество», на создание мира или на что-то еще такое прекрасное
и красивое. И всё равно: как-то, я не знаю точно как, я вовлечен,
втянут в целый мир, так, что через меня идет всё. Я место выбора
и решения, которые не требуют времени, не во времени. Поэтому
не так, что я ежеминутно должен принимать решение. Я
принимаю решение в настоящем, относительно настоящего. Настоящее
может быть в прошлом, оно, возможно, в будущем, но там и здесь
оно — настоящее, не должно дожидаться времени, наоборот,
время всегда дожидается настоящего.
Я принимаю решение в настоящем, оно касается настоящего.
Настоящему противоположно не прошлое, не будущее, не вообще
длительность, а ненастоящее. И не в смысле игры, «не
настоящего»: игра настоящая. Небытие — тоже настоящее. Я имею дело
с бытием и небытием как настоящими.
И вот что важно: я разве определяю, что такое настоящее? Нет,
оно уж само как-то определится, например рано или поздно. Но до
того, как оно определится, я втянут в решение о нем, я решу так
или иначе (как не могу не родить). —
Вспомним тогда ситуацию Алкивиада. Он хочет ринуться
на совет, где решают войну и мир, когда не знает простейшего
19. ТЕЛО И ДУША
235
о справедливости-несправедливости. Поди-ка дорогой в школу,
говорит ему Сократ. Но у нас нет времени, чтобы ждать, когда
настоящее определится. По-честному у нас такого времени, такой
возможности нет, она всегда уже ушла. На самом деле Алкивиад
не будет еще когда-то вступать или не вступать в войну, в войне
он уже сейчас горит, как Сократ, — они едва успевают что-то
выбросить, как бутылку с запиской, нам о той войне.
Не мы ту войну за мир начали. Война идет, в тайне, в
сердце — вот почему тень эсотерики всегда будет нависать над
Платоном.
20. Проблема моего Я
(22.2.1994)
В той войне за собственность, которая сейчас уже идет по
всему пространству в важном смысле вовсе не бывшего Советского
Союза, — она уже идет и почти всех захватила так глубоко, до
оснований человеческого существа, что гражданская война у нас
сейчас, позволю предположить, невозможна, ей просто негде уже
быть, некуда вместиться, злости на нее уже не хватит, потому
что и так уже, даже на войну за собственность, злости не
хватает, — в этой войне люди падают (я беру слово падают в полном,
т. е. в буквальном смысле, не только в том, что люди падают телом
и духом, но что люди падают, в смысле падения человека, в этой
войне за собственность), — люди падают на самом деле еще
задолго до того, как бросятся друг на друга, на новогоднем чае,
заведующий редакцией и его заместитель, внезапно, — намного раньше,
и незаметно для себя, в том начале войны, о котором люди могли
бы догадаться скажем по изменившемуся тону их снов, — я
говорю, в этой войне за собственность люди падают, начинают падать
очень рано, когда еще сами плохо замечают, проиграв или
упустив (а всё равно тут в открывшейся погоне за тем, что называют
собственностью, войне, проиграть или упустить, потому что если
упустили, то нас возьмут во сне), драку за собственность самих
себя. Кто собственно человек. Как реляцию, как сводку с этой
войны, с этой же самой войны за собственность, — она
настоящая война, и она происходит в настоящем времени независимо
от того, какой датой она помечена в календаре, — мы читали как
такую сводку с войны за собственность «Алкивиада» Платона.
Нет смысла в собственности, пока человек не спросил о себе\
какого себя собственность; смешно говорить, когда мы не узнали
себя. Тема навязана, жестко — подарок ситуации. Она заставляет
спросить о том себе, чья собственность.
20. ПРОБЛЕМА МОЕГО Я
237
Мы с вами люди трезвые, мы знаем, что если мы подойдем
к новым богатым людям в широких брюках и длиннополых пальто
с устремленными вдаль глазами, если будем иметь шанс их
уловить между машиной с темными стеклами и подъездом, куда нам
входа нет, и спросим, какому себе они добыли собственность, нас
пошлют куда подальше. Они нашли себя в своей собственности,
она для них настоящее, а то, чем заняты мы, только «философия».
Ясно, что и у Афин и их граждан не было шанса на успех
требовать от них, как требовал Платон, чтобы они сначала знали себя,
потом — то, что своё, свои «свойства», потом то, что относятся
к этим свойствам, потом — может быть и свойства других людей,
а без этого узнания себя нет смысла в деньгах, в хозяйстве, в
политике. Попробуйте и сейчас тоже сказать, что государства «не
нуждаются ни в стенах, ни в триерах, ни в корабельных верфях,
ни в многонаселенности, ни в огромных размерах, если они
лишены добродетели»105*, добродетель в приникании к
собственно себе, к своему, путь к которому софия. Что шансов не было
как теперь, так и для Платона, — об этом в конце «Алкивиада»:
«Хорошо, если бы ты остался при этом решении [решении,
запомним это слово. — Решении думать, искать собственно себя]. Боюсь
только — не потому, что не верю в твою натуру, но потому, что
вижу силу нашего города, — как бы он не одолел и тебя и меня»
(135 е)106*. Комментарий: так и случилось, одолел107*.
Если так, если путь города расходится с путем одного вот этого
человека Сократа, то, с другой стороны, город тоже не имеет
шансов. Как не имеют шансов теперешние хозяева нашего города (!);
они покажутся скоро такими же призраками, как теперь кажутся
так называемые нэпманы. Или в 1918 г. — буржуа (для Блока).
Если это ясно, то удивительным становится другое: что
Сократ, Алкивиад и Платон такие — требовавшие подвига от
города — были, что война за собственность, за собственное была,
вот мы имеем эту сводку, диалог «Алкивиад»: значит шанс
соединения философа и города всё-таки был? Войны нет — и сводок
нет; нельзя бросить бутылку в море отослать письмо, если ты
сидишь в тюрьме или если — точно так же — ты вообразил себя
победителем в войне, в которой победить невозможно («съезд
победителей», назывался один из сталинских съездов; и громадная,
колоссальная философская и художественная литература, теперь
,05* Платон. Диалоги..., с. 219.
106* Ср. там же, с. 222.
,07* См. там же, с. 542.
238
В. В. БИБИХИН
выброшенная из библиотек, я подбирал брошенные на проезжую
часть дороги карточки: «Пути совершенствования форм и методов
эстетического воспитания молодежи Астраханской области», 1988;
Картавцев Иван Иванович, «И на Тихом океане свой закончили
поход», 1988; писалось в стране победившего социализма с
победившей формой «общественной собственности»), когда Платон
предупреждает, что узнать себя скорее дело божественное.
Но если бы Сократ и Алкивиад не говорили о том, что есть
дело важнее хозяйства, денег, крепостных стен и военных
кораблей, то, наверное, камни бы кричали, потому что то время
было узел древней и новой истории, Алкивиаду примерно
двадцать лет, это 430-й год примерно, т. е. уже началась, только что,
Пелопоннесская война, в которой за 26 лет с удивительным
искусством и упорством, как Европа за 31 год, только с перерывом, две
главные силы того прекрасного древнего мира, Афины и Спарта,
подорвали себя. Примитивный социологизм: причина была
раздел сфер влияния, укрепление. Что они — безмозглые, не видеть
своей выгоды. Более тонкий социологизм: аристократическая
Спарта и демократические Афины. Опять это схема, которая сразу
тускнеет от вглядывания в реальность. Мы не знаем, почему была
та война. Но она была и предсказана и объявлена как война за
собственность в том диалоге «Алкивиад», угадана и
предрешена. Мы не знаем, почему Европа сокрушила себя. Политические
и социологические объяснения смехотворны. — Но та
трагическая ясность, которая в Алкивиаде, ясность об-реченности,
пред-реченности Сократа, который говорит городу о собственном;
своем человека, и должен погибнуть от города, и обреченность
города, который не подхватывает мысль и должен погибнуть, — ее
мы встретим в XX веке?
Да, еще бы, и что удивительно — под тем же именем
собственного, своего. Задачка по герменевтике: в каком смысле
античное и архаическое γνώθι σαυτόν из «диалога» говорит то же, что
хайдеггеровское слово для события бытия, не в смысле бытие
происходит, сбывается, а до этого было в запасе, а в том смысле,
что бытие всегда событие, Ereignis?
По-русски даже этимологически одно: «узнай себя — особ-
ственнение».
Этимология «узнай», в греческом и русском одинаковая,
в семействе где «жена», генотип», «генетика»: роды, рождение.
Узнай себя как возникни, будь собой, т. е. в событии особственне-
ния. — Упражнения такого рода — вторичные. Я раньше больше
заботился об этом: об узнавании. Герменевтика — это узнающее
20. ПРОБЛЕМА МОЕГО Я
239
чтение. Узнать в чужестранном, в странствующем, странном
близкое, домашнее. Но когда Конфуций говорит (в сборнике его
афоризмов это первое), «как весело учиться с упорством и
прилежностью; как приятно встречать друзей, приходящих из
дальних краев», — то узнавание — друзей — тут не случайно стоит
на втором месте; на первом месте всё-таки учение. Т. е.
просто — мысль, а не герменевтика; узнавание себя. Не в том
смысле, что друг, другой — хорошо, а своя рубашка ближе к телу, а в
другом смысле «себя», своего как родного, который совпадает с
«узнай», — роди. — Но может быть, спасая слово «герменевтика»,
в широком смысле его можно отнести и к узнаванию себя? Тогда
надо было бы понимать герменевтику так, что весть не отслоилась
от события (чтобы не было два), а событие само же и весть. — А
между прочим, событие разве может остаться безвестным, не быть
вестью само? Здесь надо различать между сообщением и
сообщением. Разница, вы чувствуете, до противоположности. Сообщить
в смысле приобщить (пример Даля: «Печь греет, сообщая
теплоту свою») — и сообщить проинформировать, ничего пока не дав.
Ясно, что в языке инфляция: сообщением называется информация,
а не со-общение, примерно так же, как вчерашний рубль
называется тысячью рублей: тысяча рублей, такая масса денег совсем
недавно, сейчас не звучит; сообщение, как приобщение (пример
Даля: «Дворянин сообщает дворянство детям своим»),
становится как-то передачей просто знака. Или еще: Гермес как вестник
богов в порядке инфляции становится символом торговли; нет, он
вестник богов и сам бог, психопомп ψυχοπομπός, водитель душ.
Мы умеем ли останавливать инфляцию, возвращать прежнюю
ценность, valeur, валюте? Это так же мало вероятно, как если бы
мы здесь поставили станок печатать рубли скажем весомости
времен Владимира Даля. Мы не можем вернуть словам прежний
вес. — Возвращение веса монете может держаться только на
настоящей10** собственности, еще одно отличие собственности от
собственности, одна стареет, другая нет. — Событие, Ereignis, это
событие особственнения не в том смысле, что мы в силах взять и
устроить себе его. Разумеется умы двадцатых годов захвачены
одним, одно — γνώθι σαυτόν и Ereignis; но опять же ничего, кроме
перебора мнений, не дает сопоставление — будто такие
сопоставления и радость от них что-то могут дать — например события
Бахтина с хайдеггеровским Ereignis. Дело не в том, чтобы успеть
108* Рукописная пометка В.Б.: «яснее скажи, взяв <С.Е> Десницкого: та
безоблачная собственность — и теперь проблема ее».
240
В. В. БИБИХИН
на рынок, быть в курсе вещей, быть в курсе и успевать проводить
операции пересчета. Дело в том, чтобы вернуться к
собственному, и Бахтин и Хайдеггер оба тут в одинаковой мере оказываются
вдруг нам здесь помехой; они мешают, они о своем. — Поэтому
мы недалеко от начала книги Хайдеггера, читаем:
«Никто не поймет, что „я" здесь думаю» (Beiträge 8)109*. «Я»
взято в кавычки, думаю курсив. Мысль о своем выходит из я, мы
уже много раз говорили почему и сами, и читая Гегеля и Платона,
теперь я прочитаю из Лосева — Лосев та же решающая мысль
20-х годов XX века, в России загадочным, еще не проясненным
образом обязательно неразделенная, не оформившаяся в специально
в философскую мысль от бого-словия и от литературы
(«эстетики», в лосевской терминологии). Несущественное предположение:
эта невозможность у нас философии быть отдельной, автономной
связана, возможно, с монархизмом России, невозможностью здесь
разделения властей. Не осуждаем. «Один должен быть
властитель», по Гомеру. Эта невозможность автономности философии
ощущается в той надрывности, с какой Лосев, ранний, эту
автономность как раз утверждает: подчеркнуто, с криком, т. е. значит
зная, что получится наоборот. Доклад 20.12.1925 «О сущности
и энергии (имени)». Сначала предупреждает, что будет говорить
не о мистике веры, не научно-аналитически, а философски,
разграничение трех областей. Дальше: «Относительно философии надо
помнить: 1. она — полноправна [курсив, подчеркивание, и этого
мало, повтор:], и права разума не должны быть ни на йоту
нарушаемы». Он пишет так, а в уме у него тысячелетняя война разума
с верой в России. Вот сейчас пришел Лосев и всё уладит. Пункт
«2. Противоречие разума и веры возможно лишь при плохом
разуме и при плохой вере». Это значит, вы понимаете, слишком
сильно размахнуться. Лосев пугается сам себя и третьим пунктом
отменяет первые два и формулирует как раз нашу тысячелетнюю
ситуацию: «3. Разум не заменяет веры и без опыта [имеется в виду
религиозный, мистический] он — нуль [интересно, о полноправии
какого разума тогда говорилось выше, разума без опыта, «чистого
разума», априорного, или уже с Опытом, т. е. значит для Канта
в России не остается никакого места, он не полноправен?]... Разум
109* Martin Heidegger. Beiträge zur philosophie (vom ereignis). Gesamtsausgabe,
B. 65, S. 8. См. первые сто страниц русского перевода этой работы, сделанного
Эльфиром Сагетдиновым: М. Хайдеггер. Вклады в дело философии. От события.
ГЕРМЕНЕЯ. Журнал философских переводов. № 1. М., 2009, с. 56-94,
цитированное место с. 60; ГЕРМЕНЕЯ № 2. М, 2010.
20. ПРОБЛЕМА МОЕГО Я
241
не заменяет веры и без опыта он — нуль. С опытом он, однако,
есть догмат»"0*. Это удивительное решение, когда правильному,
хорошему разуму заранее предписывается стать догматом, надо
истолковывать в свете предыдущего, после объявления
полноправности (т. е. автономности) разума, наверное так: не бойтесь
разума, не бойтесь давать ему все права, потому что он сам, если
будет разумен, придет к догмату веры. — Во всём этом ходе
мысли тревожит то — а так он и широк, и действительно наша
главная мысль, — что проблемы (автономии разума, его отношения
к вере, к опыту, к догмату) — проблемы, которые, конечно, Лосев
ни в 1925-м, ни в 1985-м решить не может, поставлены в виде
волевых категорических решительных утверждений. Конечно
так, как ученый выставляет гипотезу: а ну-ка проверим, пройдет
она — хорошо, не пройдет — тоже хорошо, чуть ли не лучше. За
решительной уверенностью, замахиваясь на догмат, —
неуверенность, риск. Черта, отмеченная Бахтиным: русский философ смело
бросается головой в бездну, а нужна работа подведения
основания. — Но если русская мысль спотыкается сразу на простом, на
отсутствии основания, то разве в ней меньше, она обделена
прозрением, глубиной, интуицией? — Силы ума в ней не меньше,
чем где-нибудь.
Это же сочетание слов, «философия и догмат», стоит в
подзаголовке книги С.Н. Булгакова «Трагедия философии». Я
невольно читаю название этой книги русского церковного писателя
в смысле «трагедия философии у нас», т. е. всё-таки сначала у нас,
«трагедия, которая связана с философией, в нашей стране, близко
к нам» — т. е. показание о том, что с философией как мы ее видим
отсюда, от нас, дело обстоит трагично.
Я цитировал из Лосева о том, что философия в своей полноте
есть догмат, из выступления 20.12.1925, и никакой зависимости
темы, кроме общей русской ситуации для того и другого, нет
у Лосева от Булгакова, который пишет в марте 1925 г. в
предисловии «От автора» к «Трагедии философии»: «Догмат христианский
как не только критерий, но и мера истинности философских
построений — таков имманентный суд над философией, которым
она сама себя судит в своей истории и в свете которого, по слову
Гегеля, die Weltgeschichte ist Weltgericht». Категорическое
утверждение Лосева, что философия в своем правильном развитии
приведет к догмату — это на самом деле постановка проблемы,
по* См: А.Ф. Лосев. Имя. Сочинения и переводы. СПб.: Алетейя, 1997,
с. 73.
242
В. В. БИБИХИН
вопрос; и категорический ответ Булгакова, что философия не
ведет к догмату, за то и судима как «христианская ересеология,
а постольку и как трагедия мысли, не находящей для себя исхода»
(311)111 — это тоже опять странный русский способ пробовать
искать с конца, с декрета, постановления, с догмата, с
категорического утверждения, опять т. е. бросаясь как вниз головой в
пропасть (по Бахтину), т. е. опять другой способ поставить вопрос для
нас. — А что, за 70 лет, к этому дню, ситуация изменилась? Нет,
и я невольно увидел сам себя говорящим в категорическом,
догматическом тоне в статье «Философия и религия» в «Вопросах
философии» <№ 7> в 1992 году, и я еще резче говорю буквально то, что
говорит Лосев, не зная тогда об этом месте, этой фразе Лосева:
«Если не сразу видно, кто кто в философии и религии, то многое
прояснится, если знаешь, что отрицание одной из них отрицает
обе». Я только не говорю как Лосев, что философия обязательно
ведет к христианскому догмату, и не говорю как Булгаков, что она
обязательно будет ересью. Я говорю, что обе умеют стоять перед
тайной, и философия оставляет место для религии, а религия
особенно в том, что касается догматики, нуждается в философской
школе — не обязательно в том смысле, чтобы пройти
философскую школу, но обязательно в том смысле, чтобы философская
школа была допущена, не разрушена. Т. е. обе оставляют место
друг для друга.
Я не свожу философию к христианской догматике, как Лосев,
не объявляю философию неизбежной ересью, как Булгаков, но
говорю тоже решительно, «я сказал то, что сказал», постановляю.
В чем дело? Какая тут действует потребность наконец поставить
всё на свои места, декретировать? Какое, стало быть, опасение,
что начнется путаница, мешанина? Или какой порыв покончить
с мешаниной?
Вы помните, что нам для пояснения, почему Хайдеггер берет
«я» в кавычки, надо было процитировать Лосева. Но в свою
очередь пришлось пояснить тогда другой тон русской мысли, в этом
случае и во множестве других дающий о себе знать тем, что мысль
далее как раз тогда, когда она как у Лосева объявляет свою
автономность, на самом деле ничуть не автономна, увязает сразу
и безысходно в вере и государстве тоже, об этом — о государ-
1,1 Весь Булгаков цит. по: С.Н. Булгаков. Сочинения в двух томах. Том 1.
Философия хозяйства. Трагедия философии. М.: Наука, 1993. Вступит, статья,
составление, подготовка текста и примечания С.С. Хоружего. Ссылки на страницы
в тексте в круглых скобках.
20. ПРОБЛЕМА МОЕГО Я
243
стве — пока не говорим, но вы понимаете, что даже и в 1925-м
году, только какие-то 7 лет прошло после крушения, да и
окончательного ли (и сейчас оно не окончательное) православного
тысячелетнего государства, говорить о вере значило говорить
и о государстве тоже. — Прояснение этого особого тона русской
мысли превратилось сейчас у меня в длинный экскурс, который
я еще продолжу, а только потом вернусь к той фразе Хайдеггера,
Beiträge 8, «Никто не поймет, что „я" здесь думаю».
Философия по прот. С. Булгакову ересь вот почему:
потому что, и здесь он просто прав, без рассуждений, всякая мысль
по-честному обязательно и довольно скоро впадает в апорию
(ну например, поиски начала ведут от теперешнего состояния
к предыдущему и так далее, пока не упираются в невозможность
познать). Выйти из апории естественным образом — а заходят
в апорию всегда именно естественным образом — ни ум, да
просто ни человек не может, вывести из апории может только Бог, т. е.
значит только религиозное — и всё, дело с концом! философия
должна умолкнуть в изумлении. Но она не умолкает, как-то
выходит из апории, даже строит систему — какими правами, на каких
основаниях? На произволе, в порядке ереси (312). Говорит там, где
человеку надо уже молчать.
Еще раз: естественным образом, в меру просто честности,
«серьезности, настойчивости и неотступности» (313) разума,
разум войдет, втянется в апорию, в проблему, которую он, разум, не
решит. Т. е. как раз в меру здравости, силы и полноты разума он
рухнет, «каждый ...взлет (разума) неизбежно [!]
сопровождается и падением» (313), трагедия так сказать структурно вписана
в философию. И лучше раньше сорваться, не родить
(«недоношенность», 314), потому что иначе родится уродец, нелепица. Это
решительно сказано, относится к Сократу и Платону, их родам. Без
Бога разум ничего никогда не родит, только гадость. «Философ не
может не лететь, он должен подняться в эфир, но его крылья
неизбежно растаивают от солнечной жары, и он падает и разбивается.
Однако при этом взлете он нечто видит и об этом видении и
рассказывает в своей философии. Настоящий мыслитель, так же как
и настоящий поэт (что в конечном смысле одно и то же), никогда
не врет, не сочиняет, он совершенно искренен и правдив, и, однако,
удел его — падение» (314). Вот такое видение, в сущности если
вдуматься при кажущейся противоположности лосевскому
совпадающее с ним в русском отказе от автономности философии.
Совпадение подчеркивается одинаковым местом опыта (опыта
духовной, таинственной природы, у обоих, Лосева и Булгакова,
244
В. В. БИБИХИН
одинаково). Мы читали у Лосева: «без опыта он [разум] — нуль»;
теперь у Булгакова (315): «разум зависит от показаний бытия, от
некоторого мистического и метафизического опыта», опыт есть
«откровение самого мира» в человеке, т. е. истинное знание —
и точно как у Лосева разум, обогащенный опытом, приходит
к догмату, религиозному, так у Булгакова разум переполняется
откровением, сначала откровением мира, потом всяким до такой
полноты, что ему, разуму, становится слишком, разум
переполняется миром, который не под силу никакому разуму. Этой полноте,
даваемой опытом, отвечает только религиозный догмат,
сверхумное откровенное учение, а всякое учение не на уровне догмата
будет догматизмом.
Предмет мысли, бытие — в терминологии Булгакова
«субстанция» — мысли «трансцендентен, представляет в
отношении к мысли заумную тайну, которую нащупывает и сам разум,
ориентируясь в своих же собственных основах» (327). Т. е. не
надо даже разуму и взлетать особенно высоко: он уже стоит
на бездне, на трансценденции, ему падать в пропасть как
дышать, он как сомнамбула, проснись — и он имеет под ногами
скользкое. Что разум закономерно упирается в антиномии, это
мы у Булгакова уже прочитали, теперь оказывается, что
антиномии и с самого начала уже — т. е. непостижимая для разума
тайна — не только составляют его основу, но и диктуют ему «его
собственное строение и задачи» (327). Оглянись на себя, покопайся
в себе — и встретишь божество (Лосев: придешь к христианскому
догмату). Булгаков (327): «разум отправляется не от пустого места
и не начинает свою нить из самого себя, как паук, но исходит из
мистических фактов и метафизических данностей. Иначе говоря,
всякая философия есть философия откровения — откровения
Божества в мире».
Я не вижу ничего неправильного. Бездна не только над
головой, но и у нас под ногами, на что мы опираемся, бездна —
основа всего. Ткань нашего рассуждения, в каждом слове, в
каждой связке, особенно в связке «есть» (бытие), соткана, прошита
бездной. Оглянись только обрати внимание, и присмиреешь от
присутствия Божества совсем рядом, под рукой. Это настолько
правильно, что, можно сказать, общее место. Это, так сказать,
интернациональное место. Из него делается, однако, не тот
вывод, что вот, такова ситуация нас, нашего разума, звездное небо
над нами, бездна, и нравственный императив внутри нас, бездна
вверху и внизу, — отсюда начинайте думать, — такого вывода не
делается, а делается довольно неожиданный и специфический:
20. ПРОБЛЕМА МОЕГО Я
245
«автономная, чистая философия... невозможна» (327). Т. е. бездна
уже (нижняя и верхняя) прописана догматом. Я думаю, причина
<этого> — жуть той бездны.
Если бы правительство объявило, что автономная философия,
т. е. отдельная от догмата, невозможна. Но это у нас объявляют
сами философы (!).
Еще раз. Бытие непостижимо. Следовательно, автономная,
чистая философия невозможна. В этом силлогизме нет большей
посылки, она легко реконструируется. Как?
Философия проваливается, когда она сталкивается с
неуловимым. Философия это то, что умеет иметь дело только с
предметами, которые осязаемы, фиксируемы, можно их держать. Это
верно?
Это неверно. У нас было в позапрошлом семестре: в
очередной раз, в который раз мы провалились, в вопросе о ереси,
от принципиальной неспособности отличить захваченность от
ереси, мы вспомнили тогда хайдеггеровское: провал — лучший
подарок мысли от бытия112*. Мысль продолжается и
провалившаяся. То, что Булгаков считает — называет — трагедией, это
стихия мысли, то, что Порфирий (и Плотин, стало быть) называли
философской смертью — это не обязательно вовсе смерть мысли.
Неясно, почему мысль не может встретить свое падение и неудачу
и продолжаться; почему мысль, признающая свой неуспех, в
признании своего неуспеха — неуспешная или неуспевающая мысль.
С отрицательным результатом можно работать и в науке, тем более
в философии. Почему после провала мысли о мысли уже может
судить теперь только христианский догмат, быть мерой мысли
должен он, а почему мерой мысли не может оставаться честность,
трезвость, смирение, внимание — неясно. Мы принимаем
приговор Булгакова, но за его решительностью, категоричностью видим
свидетельство о нашей ситуации.
И я говорил категорично, отлучал от философии тех, кто не
видит в ней или рядом с ней стихии благочестия, веры, и отлучал
от религии тех, кто косо смотрел на свободное искание мысли.
Я сам не очень хорошо понимаю, почему я в традиции,
почему так сержусь. Наверное потому что дело не просто. Хорошо,
пусть — привожу примеры совсем наугад — Максим Грек,
философ, должен был просидеть большую часть жизни в
монастырской тюрьме, потому что монархия очень следила за
идеологической правильностью подданных и косо смотрела на мысль;
П2* См. лекцию 6.
246
В. В. БИБИХИН
допустим, что-то подобное привело к изоляции Чаадаева; что-то
подобное — к срыву философской работы А.Ф. Лосева, ушедшего
в «эстетику», и Бахтина, ушедшего в литературоведение, режим
был такой. Но сейчас, когда ведь у нас вроде бы свобода слова,
и если философской мысли у нас вообще дано быть автономной,
почему в благоприятных, казалось бы, условиях для автономии
книга Сергея Сергеевича Хоружего называется «Диптих
безмолвия», т. е. его мысль развертывается на две части, две связанные
половины, философии и богословия, причем с самого начала
шансов для отдельного существования (автономного)
философии не оставляется, традиция автономного философствования не
принимается в пользу опыта, это слово появляется на первой же
странице предисловия и точно так же, как у Лосева и Булгакова,
под опытом понимается мистико-аскетический, и конкретно
духовная практика Православия. — Нельзя сказать, что другой опыт,
опыт тех 70-ти лет, почти, которые прошли после тождественных
почти решений Лосева и Булгакова в 1925-м году, не присутствует
в книге Хоружего, — он присутствует, даже очень, но дает о себе
знать именно в еще более обязательном, строгом приникании
к тому опыту, в серьезности, еще большей, решительности, еще
большей чем в начале века, жеста фактически укрывания,
спасения в материале, в почве, в традиции, в практике, в опыте. Если
хотите, в каком-то важном смысле жест у Лосева, Булгакова до
семидесятилетия, у Хоружего после семидесятилетия — в важном
смысле тот же только с обратными знаками жест, отмахнуться
от мысли как только чистой мысли, от автономной философии,
от мысли как только мысли и всё. — У нас есть и традиция, так
сказать, светской мысли, автономной? Да, Мамардашвили, школа
Библера, Ахутин, но там такое заметное, первое, собственно даже
всё место занимает именно прояснение и разъяснение того, что же
такое философия, что непохоже, раз это длительное прояснение
началось, оно когда-то кончится. То, что автономная философия
изошла здесь в своем собственном обосновании и определении,
косвенно, т. е. через подчеркнутость декларирования ее
независимости, самообоснованности, саморазвития, показывает ее
проблематичность, по существу — кричит о проблематичности
такой саморазвивающейся мысли. —
Что касается прямого пересаживания каких-то западных
образцов, структуралистских-фрейдистских, постмодернистских,
позитивистских, на нашу почву, то все эти образцы до
скандального уродливые, явно не способны и не будут жить, задыхаются
без воздуха или без почвы, так что о них скучно даже и говорить.
20. ПРОБЛЕМА МОЕГО Я
247
Почему мы не Германия, не Дания? Я не знаю. Я знаю только,
что у нас всё именно так, как у нас есть, и это прочно —
настолько, что решительностью деклараций, предприятий, начинаний
подчеркивается искание опоры, начала, основания, так, как если
бы у нас еще по-настоящему ничего не началось, и всё еще надо
было определить. — Опять же я сам дал этому курсу подзаголовок
«Первая философия». Всякое начало должно быть более или менее
неопределенным?
Если вы знаете, почему у нас так, скажите. Я с моей стороны
думаю, что единственно важно всё равно, в удивлении и
спокойном обращении внимания, с открытыми глазами смотреть на это
своё, собственное и только, — в удивлении и перед нашими же
собственными жестами, которые как и всё равноправно входят
в то, что мы видим, — каким бы ни было своё, оно наша
единственная собственность. Внимание, тоже наше, — это и вбирание
и, как говорит слово, предостережение и объявление внезапного,
что должно произойти. В конце концов, голосов у человека и в
человеке много, и не очень важно, вообще, что скажут
человеческие голоса, важен только голос Настоящего, что он скажет сам
и в человеке, всё равно, сумасшедшем или нет, услышанном или
убитом, пишущем и печатающемся или нет, воюющем или нет,
торгующем или нет, спящем или идущем, больном умирающем
или нет — Настоящее умеет как-то быть и так, через всё.
После этого экскурса возвращаемся к кавычкам, в которые
взято у Хайдеггера «я», и комментируем эти кавычки из Лосева,
не смущаясь уже больше богословским тоном Лосева: такова
Россия. Из доклада «Спор об именах в IV веке и его отношение
кимяславию», 16.2.1923:
«Надо признать, что в жизненном организме и, наиболее
всего, в человеке есть самостоятельная воля и энергия, энергия,
присущая только человеку и больше никому, и что в то же время
вся эта тварная энергия есть только стремление уничтожить свою,
отъединенную энергию и отождествить ее с Божественной». Свое
дано только для того, чтобы уничтожить свое. В третий раз,
после Гегеля и Платона, мы с этим водоворотом, воронкой своего
встречаемся, и у Лосева сказано резко, парадоксально: ничто так
не захватывает и не прорабатывает, пробирает человека, как свое,
собственное.
Поэтому у Хайдеггера «я» в кавычках. Он слишком далеко
уже в этой воронке.
248
В. В. БИБИХИН
Экскурс в тему «этики»113*, или не экскурс а возвращение
домой, нам обязателен, и наблюдатель с планеты Сириус давно
говорит: Боже мой, они ходят как слепые котята по блюдечку с
молоком. Добро, подсказывает, даже громко нам всем кричит наш же
собственный язык, и благо тоже — это имущество, собственность.
И тут впечатление как во сне, когда падаешь срываешься вниз.
Значит те, кто грызется за землю, нефть, газ, ближе к
нравственности, добру, чем стерильные нравственные философы? Неужели
добро это собственность? Во сне, — когда попадаешь под машину
или падаешь вдруг с высоты, то просыпаешься от страха за тело,
хотя тело на самом деле лежит в постели под одеялом, в тихой
комнате. От чего мы вздрагиваем и просыпаемся, не досматриваем
до конца, ведь это было бы интересно, как тело падает на камни
или на асфальт, распадается, мы умираем, что происходит с нами
после смерти? Чего мы боимся, ведь всё это время будем так же
спокойно спать. Едва ли сон прерывается там, где не хватает
нашего опыта, чтобы мы его увидели: ведь нам снится и то, опыта
чего мы не имели. Мы вздрагиваем и просыпаемся действительно
от страха, от воображаемого или мнимого страха. — Мы
просыпаемся к сознанию, потому что сознание не хочет, не может быть без
опоры, падать. Т. е. сознание не хочет даже воображать беды? Мы
боимся думать о плохом? Да на каждом шагу. — То же — когда
подламывается вдруг ножка стула и я вдруг падаю, заваливаюсь
вместе со стулом: первое, мгновенное мнение сознания, что это
происходит с кем-то, не со мной.
Есть головокружительное, сладкое, эротическое в том, чтобы
увидеть добро, благо — имуществом, собственностью. Язык нам
приснился, он как сон114* (Борис Хазанов: «Язык живет
нераздельно во всех своих проявлениях, как тело со своими конечностями,
язык пронизывает наше существо до той неуловимой границы, где
действительность превращается в сон, дневной мир соприкасается
с ночным; язык просачивается в бессознательное, и более того,
мы вправе сказать, что язык преформирует нашу психику, ибо
из* Рукописные записи В. Б. на этом листе машинописи: «Метод:
феноменология = обращение внимания. Схватка, война, постоянная, ежеминутная,
как в единоборстве, стоит не успеть повернуться, как в боксе, в рукопашной.
Удары получать неизбежно, «защищенные» позиции только за счет утраты земли
(в «крепости»). — Пример со злом: где настоящая борьба со злом, темой. Зла нет,
в этом его неистребимость. Разбери все варианты.
Быстрота. Всегдашнее сражение.
Добро и зло; бытие и небытие. Загадка их пересечения».
,14* См. об этом: В. Бибихин. Язык философии. СПб.: Наука, 2007, с. 70.
20. ПРОБЛЕМА МОЕГО Я
249
он существует до своих собственных проявлений, до
членораздельной речи, до артикуляции, до мыслеизъявления и рефлексии.
Язык — это ровесник души. Или, если угодно, — царственный
супруг»115), в одном и том же слове добро заложено провалива-
ние туда, куда страшно, — добро нам хочется чтобы было
нравственной и оценочной категорией, а так мы вдруг вмешиваемся
в богатства, нефть, землю, золотые запасы, склады, хранилища,
запасники, арсеналы — сознание мгновенно, с тем же
сомнамбулическим, действующим и во сне жестом, уверенным, обеспечивая
себя, разводит добро и добро, да так, что они попадают не просто
в разные статьи словаря, а в разные вообще словари, в «серьезном»
словаре добро будет «нормативно-оценочная категория
морального сознания», а «добро» имущества туда даже не попадет, сознание
от этого уже отвернулось, оно же никогда не нейтральное, какое
попало, оно с самого начала этическое116*. Сознание нравственно
и охранительно так, что даже и вопрос об этом не ставится,
только бесстыдный язык не выставляет этого охранения, но сознание
корректирует язык, в словаре117*, в словоупотреблении различая
добро в вещественном значении, «имущество или достаток,
стяжание, особ, движимость», и в духовном значении.
Разделяй и властвуй, стратегия сознания: разделен мир на
мир и мир, разделено добро на добро и добро. В чем дело? Я не
знаю. Я знаю только, что по крайней мере спазматического
охранительного жеста не одобрю в себе, буду удивляться ему в себе
и в других. «Добро и зло, нормативно-оценочные категории
морального сознания, в предельно обобщенной форме
обозначающие, с одной стороны, должное и нравственно-положительное,
благо, а с другой — нравственно-отрицательное и
предосудительное в поступках и мотивах людей, в явлениях социальной
действительности»118*. Это то, что я назвал бы охранительные
спазмы сознания.
Если услышать добро без паники, в нем слышится имущество,
собственность. В пределе моя собственность, мы говорили, это
мир. Мир мой потому, что только я собственно знаю, что такое
собственно мир. Процитирую Ленина, из «Философских
тетрадей»: идея добра — это идея того, каким должен быть мир, а то
1,5 Б. Хазанов. Язык. Искусство кино 1993, № 12, с. 55 слл., <цитированное
место> с. 56.
Н6* См.: Философский энциклопедический словарь (ФЭС). М: Советская
энциклопедия, 1989.
117* См.: Толковый словарь Вл. Даля.
,18* См. ФЭС..., ст. «Добро».
250
В. В. БИБИХИН
он не такой, какой должен быть: «Мир не удовлетворяет человека,
и человек своим действием решает изменить его»119. После
изменения он получит мир желательный, мир может быть изменен так,
чтобы получилось хорошо. Отмена собственности при объявлении
гегелевской свободы собственности (вы помните, собственность
должна начать наконец в человеческой истории свободно
принадлежать тому, ведать ею должен тот, кто ее ведает, захватить
ее имеет право тот, кто ее охватил — мой пример с парижскими
магазинами), — отмена собственности означала развязывание рук
для собственности на всё, на мир (!) («человек своим действием
решает изменить его», мир, т. е. может и не изменит, не
получится, но собственность на мир уже объявлена, осталось только
вступить во владение). Крайняя странная форма владения миром,
но — на общей основе.
Тогда, т. е. если добро «проваливается» в добро мира,
предельное добро как мир, то мы должны осмелиться сделать
решительный скачок и сказать: напрасно сознание надеется, что добро или
зло в его выборе. Никакого выбора нет, добро неуловимо как мир;
оно явственно как мир и неуловимо как мир. Это может
показаться неожиданным, но подготовлено всем что мы говорили три
семестра о собственности и тем, что говорилось раньше, начиная
с темы «Мир» в 1989 году120*. Что добро вот оно, что человек «не
хочет» быть добрым, делать добро, потом хочет и начинает
бороться как-то против зла — всё это сны сознания, его миражи и сказки.
Добро так <же> не может быть устроено человеком, как мир. Зло
не оттого что человек «не хочет» добра, по своей «свободной воле»
решил в пользу зла, оставим навсегда эту жвачку «свободной
воли» и «экзистенциального выбора» для публицистов и скажем,
что добро трудно до недостижимости: трудно сделать, чтобы
шесть соток стали «добром», а не камнем на шее и проклятием,
потом подсчитайте, насколько труднее то же сделать с миром.
Добро, как бытие и как мир (вы помните об обратимости бытия
и мира), неуловимо. То приятное, что называют «добром» в быту
и в этике, лучше было бы называть другим словом, «вежливость,
любезность».
Добро как мир, как бытие, но не сливается с ними, а только
ускользает с ними. Добро как имение, как собственность нам
недоступно, как не мы устраиваем ту «добу», момент, пору, от чего
происходит это русское слово. Момент — доба — добра совпадает
119 В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, с. 195.
120* См.: ВВ. Бибихин. Мир. СПб.: Наука, 2007.
20. ПРОБЛЕМА МОЕГО Я
251
с моментом бытия и с событием мира, с событием возвращения
к собственности. Хорошо, если мы можем его опознать; совсем не
обязательно, чтобы могли. Зрения для этого у смертных не
хватает. — Нам поэтому доступно не добро, а тема добра.
Точно так же как в добре мы обманываемся в зле, и зло
может по-настоящему для нас присутствовать только как тема зла,
когда дело не в нашем «обращении со злом», а в нашем умении
обратить внимание на то, как и почему мы так именно решаем
тему зла. Единственная возможная для нас борьба со злом
поэтому — способность обратить внимание и поставить или поднять
тему зла. Это трудно, гораздо легче решить про себя, что мы
соблазнились злом, не разобрав, что соблазняет и захватывает в так
называемом зле нас невидимое, недостижимое добро; ошибка
вообразить, будто мы «не устояли», а то как-то воздерживались,
и «поддались» злу: мы захвачены всегда захватывающим; человек
это место захваченности, мы говорили об этом полтора года
назад121*. И не лучше ошибка — замыкание от того, что мы
постановили для себя считать злом. Ошибка та или другая, при
невозможности распознать добро и зло, неизбежна (errare humanuni est),
обращение внимания на это уже означает, что зло для нас стало
темой, т. е. мы уже начинаем вставать в правильное отношение
к нему.
Еще один экскурс. Замечание о методе. Он —
феноменологический. Феномено-логия — одно из названий в XX веке того
обращения внимания, которое и есть главный жест мысли, зависящий
от нас (озарение, свет от нас не зависят). — И вот успеть заметить,
как явилось то, что явилось, как является (феномено-логия) то,
что является тем и тем, — наверное трудно (когда я говорю о
нетронутом, неразвернутом добре русского языка, то чуть ли не на
первом месте тут должно стоять это наше «является» в значении
глагола-связки или вспомогательного глагола, такое расхожее
и приевшееся, что хорошие стилисты этого слова избегают как
«канцеляризма», между тем как беда не в слове, собственно
удивительном, — не знаю, в какой еще язык так естественно встроена
феноменология; в румынском äflä уже заимствование из
русского, — а в том, что мы перестали его слышать, в нашем слухе).
Вещь не просто является такой-то, окном, в смысле пребывает,
зафиксирована, числится, но она является такой, выступает, вы-
121 * Наверное на курсе «Ранний Хайдеггер» (1990-1992). См.: В. Бибихин.
Ранний Хайдеггер (материалы к семинару). М: ИФТИ св. Фомы, 2009.
252
В. В. БИБИХИН
ходит из неявленности. Мы произносим «является» и не слышим
сами себя, видим вещь уже как данность, когда слово
приглашает — наше собственное нами произносимое слово — обратить
внимание, быть феномено-логами, говорить и думать о загадке
явления. То, что наши феноменологи, Шпет, Лосев, не обратили
внимания на то, что валялось под ногами, показывает, что
философия у нас продолжает оставаться наносной. — Полностью
выполненная задача «обращения внимания» потребовала бы такого
искусства, как в немецкой сказке у ученика чародея, умевшего
рапирой отражать все, одну по одной, капельки дождя над головой.
Т. е. значит и здесь человеку не ошибиться невозможно, и мечта
о методе, который обеспечил бы надежное поступательное
движение, должна остаться тоже только темой для разбора: чем такая
мечта является, как и где и почему она является, т. е. как
сложилась — и для чего — иллюзия надежного метода.
21. Мера вещей
(1.3.1994)
Мы говорили о бездне, о том, что когда во сне
проваливаешься, то сознание разбуживает — и неясно, еще вопрос, к
настоящей яви от ненастоящего сна или к сну сознания после опыта
страха, или вернее ужаса, бездны, проваливания. То, что бездна
во сне настоящая, показывает не только резкость пробуждения,
но и то, что мы себя никогда после такого сна и кошмара с
падением и внезапного пробуждения со вздрагиванием не ругаем себя,
«дурачки, чего испугались», а радуемся, что эта пропасть была не
настоящая.
Бахтин в передаче Вадима Кожинова говорит122, что многие
русские философы (по-моему, Бахтин имеет в виду прежде всего
религиозных) зажмуривают глаза и так бросаются наугад в бездну,
а надо «бестрепетно [как это, всё-таки, можно обеспечить себе
бестрепетность перед бездной, может быть Бахтин говорил
«упрямо»] глядеть на всё открытыми глазами... сделать ее [философию]
такой же объективной и такой же зрячей, как... немецкая
философия». Здесь — тоже, наверное, всё-таки не у самого Бахтина,
а в передаче, — сохраняется иллюзия, что люди умеют — люди
это немцы — делать философию объективной, т. е. иметь перед
собой предмет и обрабатывать его. И дальше: «Он вообще считал,
что философия есть только немецкая. Он считал, что на базе всего
написанного прежде еще только можно начать создание русской
философии». И снова — наверное, испорченный телефон. Не
вяжутся бездна и объективность. Если разница между прыжком
в бездну очертя голову или зряче, то для объективности мало
места и там и здесь. Бахтин-то уж мог знать, что в Германии бездна
122 Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1992, № 1, с. 114.
254
В. В. БИБИХИН
не закрыта так же, как и в России. Едва ли люди где бы то ни было
умеют быть объективными перед бездной123*.
В бездну трудно броситься; если русские это умеют, то здесь
уникальная черта России, обещание ее вхожести в то второе
начало — первым началом была ранняя греческая мысль —
мысли и истории, другой истории, о котором говорил Хайдеггер.
Тогда — русской мысли не надо подстраиваться под образцы
объективности. Она сама по себе новая, если она смеет броситься
в бездну, как Эмпедокл. Эти черты раннего в России не
обязательно ее отсталость неподтянутость к образцам. Хотя конечно
и речи не может быть о том, чтобы на пустом месте начать всё
заново. Второе начало переговаривается с первым началом, хотя
само стоит на своих ногах. «Вопрос об истине бытия не может
быть вычислен из предшествующего. И если он призван
подготовить начало другой истории, исполнение должно быть исконным.
Насколько не-обходимым оказывается размежевание с первым
началом истории мысли, настолько же безусловно само по себе
спрашивание должно осмысливать только свою нужду и забывать
всё вокруг себя, Alles um sich vergessen»124*.
Ах броситься в бездну это немалое дело, и собственно
невозможное. Надо заметить: сознание просыпается, при проваливании
в бездну, бессознательно (мы говорили о бессознательном как о
запаснике сознания, его ресурсах, вооружении), т. е. это значит по
своей воле вернуться назад, поправить положение, повторить опыт
бездны человек не может. Эмпедокл бросился в кратер Этны не
в качестве человека, а в качестве бессмертного бога или во
всяком случае того, кто решительно распрощался с человечеством.
Фр. А 2, несколько источников: когда Эмпедокл был в расцвете
славы, он совершал по-настоящему божественные изменения
123* Рукописные записи на этой странице машинописи: «к 1.3.1994 <...>
Безмятежная, сладостная собственность Десницкого — наслаждаемся
сверху, когда внизу кипит непознанный океан (его заметил Радищев). (Радищев
собственно предупредил, но людям важно пока спать).
(!) Невозможно не проснуться от страха — но и так же ясно, что от этой
смерти не умрем, есть смерть — сознания, — от которой жизнь. Только и
начинается.
(!) Собственность привычная как орудие суда, людей над людьми. Нищета
богатых. Разговор этим.
Собственность: нельзя ли понять из добра, имущества? То, что называется
человеком, ищет себе опоры-привязи в добре и определяется и судится из
собственности (обращенное отношение)».
124* Martin Heidegger. Beiträge zur philosophie..., S. 10. Ср.: ГЕРМЕНЕЯ
№ l...,c. 62.
21. МЕРА ВЕЩЕЙ
255
климата к лучшему в своей стране (примерно как в Новороссийске
есть возможность изменить климат, перегородив узкий проход для
северного ветра), а потом исцелил «бездыханную женщину»,
после пира, на который было приглашено 80 человек, «поднявшись
[с ложа], ...пошел к Этне и, дойдя до огнедышащего кратера,
прыгнул в него, и исчез, желая подтвердить молву о самом себе, по
которой он стал богом...». И еще: «...стали поклоняться и молиться
ему, словно богу. Желая подтвердить это мнение о себе, Эмпедокл
якобы и бросился в огонь»125.
Гораций упоминает Эмпедокла в конце «Искусства поэзии»,
когда говорит о праве — и способности — поэта на такую огненную
гибель. В этом отношении поэт и философ одинаковы. Наверное,
это не значит, что поэт и философ не так устроены, как мы, — но
это значит, что поэзия и философия больше, чем операции
сознания, и по крайней мере имеют дело с невозможным для сознания.
Как Гораций оправдывает Эмпедокла, так можно было бы
отстаивать право русского мыслителя тоже бросаться в бездну, —
зажмурив глаза или нет, уже не очень существенно, потому что и во
сне ведь мы падаем в пропасть с закрытыми глазами. — В непере-
ходимости стены, отгораживающей бездну, ничего не меняется,
хотя эта стена невидима как причина перехода из сна в явь. Или
из яви в сон.
Или еще по-другому можно сказать о поэте и мыслителе и
бездне. Просыпаюсь я, оберегая себя от падания головой вниз. Но
у Рильке в его самоэпитафии есть слова «ничей сон», niemandes
Schlaf; таким сном спит «роза, чистое противоречие», под
своими — множеством — лепестками-песнями. Это и песни поэта, под
ними тоже ничей сон, который поэтому не кончится со смертью вот
этого человека по имени Рильке — как и стихи по-настоящему
ничьи. Такой сон (о таком сне, кажется, говорит Сократ, мечтая о нем,
в «Апологии») дается редко, он соединяет то что до смерти и то
что после смерти. Вернемся тогда к вопросу о том, у русских
только бездна, куда они бросаются или не у русских только. Хайдеггер,
с. 13 («К философии. О событии»): «Спрашивающие
[внимательные; настойчиво вглядывающиеся] оставили всякую
любознательность; их искание любит бездну (Abgrund), в которой они видят
[wissen, не в смысле полагают, а в смысле ведают, знают — т. е.
слово взято еще до его инфляции] древнейшее основание (Grund,
дно)»126*. Любознательность — это всякие опыты со сном (напо-
125 Фрагменты ранних греческих философов..., с. 333 ел.
I26* Martin Heidegger. Beiträge..., S. 13. Ср.: ГЕРМЕНЕЯ № 1..., с. 63.
256
В. В. БИБИХИН
добие автоматического письма, свободных ассоциаций и такого
рода), которые или не знают, что в основании вещей бездна, или
надеются как-то обмануть непереходимую стену; любовь к
бездне — это то расположение, склонность, филия, которая входит
в имя «философия».
Говорится не о «понятии» бездны. Говорит знающий, что
такое бездна. Узнать, что она такое, не любопытно, потому что
узнать невозможно. Но знать, что всё из нее и к ней, — можно.
Тем более тогда мы не будем спешить и принимать решение,
что русская мысль не достигла профессиональной чистоты, не
чиста, или что русский мон-архизм, дающий о себе знать в неот-
путываемости философии и религии, плох. Ах мы этого просто
ничего не знаем. Что мы, в самом деле, знаем о «русской мысли»,
о том, сколько и чего было думано и передумано в России, в
отчаянии или в надежде, в тесноте или в легкости и вдохновении.
И продолжает думаться сейчас.
Поверх того поверхностного различия, которое нам кажет
отлаженная картина западной университетской философской
машины и растрепанная мешанина того, что называется философией
у нас, лучше посмотрим на то, в чем ровно никакого различия
между «немецкой мыслью», «русской мыслью» или, если хотите,
«мировой мыслью» нет.
Хайдеггер, с. 12: «Близость Бога», быть в ней. И дальше: эта
близость Бога не оценивается, не измеряется оценками «счастье»
или «несчастье», повезло или не повезло. И после этой фразы о
близости Бога — неожиданное о бытии (можно отмахнуться, сказать,
что Хайдеггер здесь «не характерен», но лучше не будем так
делать): оно мера или больше чем мера. «Beständnis бытия само несет
свою меру в себе, если вообще еще нуждается в какой-то мере»127*.
В одном коротком параграфе, из двух фраз, Бог и бытие. Если
вы знаете, как соотносятся Бог и бытие, то скажите мне. Это очень
древний вопрос. Я бы хотел вдумавшись вычитать из Хайдеггера,
но мне мешает то, что слова Beständnis нет в словаре. Хотя бы
приблизительно как его понять? От stehen, bestehen, стоять, состоять,
устоять. Тогда — «устояние бытия»? в обоих значениях? Бытие
устоит — и его надо выстоять, устоять перед ним? Может быть.
Тогда слова о мере, о том, что бытие возможно уже и не требует
меры, тоже будут иметь оба полюса, и в смысле безмерности,
которой открывается человек перед бездной, и в смысле
невозможности для него самого ограничиться какой-то мерой.
•27* Ibid., S. 12.
21. МЕРА ВЕЩЕЙ
257
Здесь, тем более что пишет примерно в те же годы или даже
месяцы, Хайдеггер явно думает о Протагоре. — И у Протагора,
того, на которого указывает Хайдеггер, на два главных его
фрагмента, — тоже бытие и тоже боги; и тоже в от-ношении между
ними, которое я бы хотел чтобы вы или кто-нибудь мне прояснили.
В самом деле, сначала он говорит, что человек мера всех
вещей, а потом — что не может ничего знать о богах. Как не может,
если человек мера всех вещей? Легко решить, что «у мыслителя
противоречие», труднее — потому что далеко заведет — подумать,
что тогда, наверное, значение слова «мера» и всей вообще фразы
у Протагора не первое попавшееся.
Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος , των μεν όντων ώς
εστί, των δέ μη όντων ώς ούκ εστίν (самый известный из немногих
«фрагментов», «осколков» Протагора) — т. е. спокойно выступай,
задавай меру, всё равно другой никакой меры нет. Заметьте — это
сейчас нам пригодится — что мера тут не мера вовсе или мера
в том древнем смысле, который есть в русском языке и который
у Даля не замечен потому, что Даль с самого начала определил
меру как «способ определения количества по принятой единице»:
ему кажется, что мера дана, но и в русском отмерить есть
прячущееся значение выдать, создать заново, сделать, так в латинском
mëtior выдавать и проходить, проплывать, проезжать,
«отмеривать путь», «отмеривать водный простор» — и еще отчетливее
в древнеиндийском (инфляция в языках, выдавливание смыслов
на поверхность сознания, как инфляция денег, сравни рубль
теперешний и при Иване Грозном, или фунт стерлингов теперешний
или когда его отмеривали из чистого серебра): в
древнеиндийском та, тай отмеривать, наделять, обеспечивать, устраивать,
изготавливать, образовывать, строить — и являть, показывать,
развертываться, «вымеряться», между прочим мерить в
смысле мыслить, — и maya, буквально «отмеряющая», «выдающая»
в смысле отмеривания — подразумевается софия, техника как
чудесная человеческая или божественная сила образования,
создания образов — этот смысл отмеривания как создания, выведения
к явленности есть у Протагора в его «человек мера всех вещей»?
Не может не быть, ему некуда деваться и тем более в эпоху еще
Протагора, т. е. когда греки еще слышат каждое слово, которое
они говорят. Тем более что древнеиндийское значение та
измерять умом, оценивать в греческом развернуто в μήτις —
похоже — «мудрость, разум, мысль». Так по крайней мере одна из
этимологии. Человек у Протагора мера — т. е. отмериватель, вы-
мериватель, создатель всех вещей — но ах, господи, в их бытии
258
В. В. БИБИХИН
и небытии! Он вымеривает бытие и небытие вещей, сам
определяет и в смысле «определяет» констатирует и в другом смысле
«определяет» — диктует, предписывает, и в бытийном смысле
«определяет» — оказывается причиной.
Такой Протагор в своем втором фрагменте, «Теэтет» 152 а128*.
«Человек мера вещей». Имея его в виду, Хайдеггер пишет теперь:
«Устояние, Beständnis des Seyns, устояние бытия [через «игрек»,
что в русском соответствует различию между «бытие» и
«бытиё», в обратном словаре Андрея Анатольевича Зализняка
«бытиё» — поэтич.] само несет свою игру в себе, если оно вообще еще
требует какой-то меры»129*. Хайдеггер спорит здесь с Протагором,
как вы думаете?
Как же не спор, вроде бы один говорит что человек мера
бытия и небытия, другой — что само устояние бытия мера в себе.
С другой стороны, ведь устояние бытия у Хайдеггера можно
понять и в смысле «человек устоит перед бытием», тогда человек
мера? А с другой стороны, почему мы читаем Протагора с
ударением «человек», словно спорим с теми, кто называет мерой не
человека? Словно кто-то называет мерой всего, скажем, богов,
а Протагор, хороший свободный мыслитель и наш, свой, свойский,
называет мерой человека, человек хозяйничает как хочет. Ведь
фразовое ударение в греческом тексте не проставлено, нам ничто
не мешает читать ту Протагорову фразу и без ударения, «человек
есть мера», в смысле отмеривание, создание, образование «всех
вещей», т. е. мира — почему дело идет о бытии и небытии, ясно,
если в досократической традиции мир и бытие взаимозаменяемы.
У Протагора дается определение человека. Человек есть то место,
где дело идет о мире, о бытии и небытии, их возникновении,
отмеривании. Человек есть мир. Тогда противоречия между «устояние
бытия несет свою меру в себе» и «человек есть мера» мира, мера
бытия», нет.
Но почему рядом с такой последней, предельной
определенностью человека — его уверенно относят ко «всем вещам», к
бытию, к миру — рядом с этим неопределенность, неопределимость
бога, богов?
Может быть, мы спутываем две вещи? Не всякая философия
обязательно смешанная из мысли и богословия, которая говорит
о Боге. Бог философское понятие, принадлежит философии,
всегда, всей, всякой, кроме вырожденной и уродливой «профессио-
,28* См.: Платон. Сочинения..., т. 2, с. 238.
'29* Martin Heidegger. Beiträge..., S. 12. Ср.: ГЕРМЕНЕЯ № 1..., с. 63.
21. МЕРА ВЕЩЕЙ
259
нальной», кривлянье сознания, оставленного перебирать свою
богатую лексику. Мы сами недостаточно различаем, когда
думаем, что бог привнесен в философию из богословия. Как-то
Бог с самого начала в философии сложно сплетен с человеком
и с бытием и с миром.
Еще раз: кто-то, блуждая в потемках, наверное, даже точно,
забредает из того, что ему кажется богословием, в то, что ему
кажется философией (кстати, чтобы не казалось, лучше помнить,
что в классическом, верном старом понимании богословие — это
сначала библия, а философия — это, например в аристотелевском
употреблении слова, софия; тогда всё становится серьезным и
возвращается на свои места; я сейчас еще сделаю отступление об
определении философии), — где-то, я говорю, такая мешанина
существует, даже явно много <ее>, как во всяком важном месте
будет всего больше толпы, — но зря думать, что мешанину нельзя
распутать, она распутывается так: неверно, как написано в
справочнике, что Бог принадлежит «религиозным представлениям».
Нет никакого смысла винить русскую мысль за малое разделение
философии и богословия или вводить это разделение, но
обязательно, читая Булгакова или Розанова, надо спрашивать себя, не
смешиваем ли мы, не думаем ли что бог это только «религиозное
представление»: бог это много, бог большой, и в том, чтобы
просто знать, что в классическую философскую мысль Бог вдвигается
как важная или основная вещь и не требует никакого пересчета
и редукции, или перевода в какую-то специальную область,
богословской мысли, а требует просто продумывания здесь и теперь на
правах всегдашнего и главного философского понятия.
Об этом помня, не будем считать <это место у Хайдеггера>
риторикой или остатком четырех семестров теологии. Дело
Хайдеггера, мыслить бытие без сущего, бытие в его истине, в его
чистом есть, не означает ведь что сущее плохо и
отбрасывается — означает, наоборот, расчистку места, топоса (хайдеггеров-
ская топология к этому высвобождению мест из события бытия
сводится), достаточно просторного (времени-пространства) для
вмещения всего сущего и целого мира, его четверицы, где на
первом месте Боги. Люди отнесены к богам, люди относятся как
смертные к бессмертным. — Еще раз: бытие продумывается без
сущего не против сущего, а ради сущего; среди сущего первое
мир и Бог, и без Бога.
«В близости Бога быть» — мы имеем право понимать это
так, что бытие возможно только в близости Бога, иначе не имеет
смысла? — Похоже, что только так и можно понимать. И наобо-
260
В. В. БИБИХИН
рот: Бог не открыт, не пришел сам Собой без бытия. Бог условие
бытия, бытие условие Бога. — Тогда бытие и Бог совпадают?
Мы тут, я говорю, в огромной теме, я даже не буду сейчас
называть главные события этой темы (скажем, Фома Аквинский,
разведение Бога и бытия; Лейбниц; упаси Господь нас думать, мы
тогда ничего не поймем ни в Канте ни в богословии, что будто бы
понятие Бога у Канта было данью воздуху эпохи,
богословскому — ничего подобного, у Канта всё тот же большой Бог, которого
в полной мере хватает и на богословие, и на философию) (без
смешения только) — слишком много было событий вокруг этой
темы, бытия и бога. Если вы попробуете над этим задуматься, над
тем, почему вся западная философия это онтошеология, то хватит
дела надолго. Я и не намерен надеяться, что сумею разобраться
или прояснить хоть что-то — но вот что бросается в глаза.
Только сначала маленькое отступление. Я много раз пробовал
говорить, что такое философия. Сначала по Данте: любящее
применение мудрости. Потом развертывая смысл слова: принимающее
понимание. Потом, недавно, «обращение внимания». Еще и
другими способами. Всего правее я был тогда, когда сказал, что мы не
знаем, что такое философия. Это явно «что-то». По тому, что она
важная, что самые простые, тривиальные вещи начинают звучать
торжественно в ней (я ничего не говорю кроме простых и таких
вещей, которые всё равно и так все думают, и не моя заслуга,
а этой аудитории и названия пространства, в котором мы,
«философский факультет», что элементарные вещи начинают звучать
празднично, многозначительно), можно понять тяготение к
философии; тогда, если всё объявляется философией, можно говорить
рядовые вещи и они начинают звучать по-особенному; разумеется,
объявивший себя философом выгадывает, но зато общий престиж,
статус философии понижается, в целом она становится более
сомнительной, ее торжественность, важность начинает в
большей мере казаться блефом. Происходит всем знакомая инфляция,
в конце концов для каких-то глаз вся тождественность справедливо
кажется дутой, мнимой. Мы, хотим или не хотим, попадаем в поле
инфляции, и на наше слово естественно смотрят как яг, мнимо
важное. Обеспечена торжественность философии, не менее важная,
чем торжественность государства, поэзии и религии, может быть
только одним, самими вещами, которые мы именуем. Мы именуем
Бога. Между тем Бога мы именованием обеспечить себе не можем.
Отчаянная попытка монахов русского Пантелеимонова монастыря
на Афоне в начале века упорным повторением имени Бога <...>
приблизиться к Богу, была одновременно и обязательной, непре-
21. МЕРА ВЕЩЕЙ
261
менной — потому что человек никогда не удовлетворится одним
именем Бога без Бога — и безнадежной — потому что человек
никогда по своему намерению и желанию себе обеспечить Бога не
может. А бытие себе обеспечить, скажем бахтинским уникальным
поступком — уникальным потому что в единственном времени,
настоящем моменте, и в единственном месте, месте вот этого
индивидуума, — бытие себе обеспечить может?
Тоже не может. Без всяких уловок и оговорок: Бог и бытие
одинаково благодать, дар. Нет Бога, нет бытия — нет и мысли;
счастливые идиоты всегда имеют мысли и извлекают их при
помощи лексики из кончика авторучки или из кончика пальцев на
компьютере; когда тянется строка лексических перетасовок, то это
для них и мысль. Это вот скорее стыдно, и это хуже всякой
графомании. Мысли может прекрасно не быть так же, как нет бытия.
Проходит год, и Пушкин не написал ни одного стихотворения. За
целый год ни одного, он не счастливый, как Андрей Вознесенский,
который когда приближается дата, имеет вдохновение для
очередного выкладывания своего исключительного творчества. Ни
Бог, ни бытие, ни мысль («хочу думать и мыслю») не обеспечены;
у Декарта «я мыслю следовательно существую» подразумевает
«в те редкие минуты настоящего, когда я одарен мыслью», вот
почему я у Декарта тоже надо ставить в кавычки, я это у него
настоящее, которое бывает редко. Парменид: без бытия мысли тебе
не найти.
Но из-за того что никаким усилием я всё равно не обеспечу
себе бытие и не спасу себя от инфляции, вовсе не всё равно, что
я делаю, как поступаю, когда помню об этом. Я могу быть готов,
по крайней мере <могу> подготовиться, к принятию подарка, когда
он будет, если он будет, и я могу только надеяться, что готов, а на
самом деле нет. — Допустим я запутался, это слишком сложно для
моей головы, я только догадываюсь, что в имени «философия»
заложено какое-то сохранение отношения к софии, когда нет
Софии, — но во всяком случае для меня ясно, что никаким деланием
я всё равно не обеспечу себе бытия и Бога, но вовсе не всё равно,
что я делаю, чтобы сохранить отношение к бытию и к Богу!
Ситуация вот какая. Меня всё равно нет без Бога и бытия
и без мысли, никаким своим деланием я сделать себе Бога или
сделать себя существующим не могу. Но не всё равно, так сказать,
каким способом меня нет. Вся разница для человека (в остальном
всё зависит от Бога) сводится к этому разному ничто, каким он
может выбирать быть. Он не может выбирать между бытием
262
В. В. БИБИХИН
и небытием — между добром и злом — бытие и небытие, добро
и зло его захватывают, — но он может выбирать между
одним своим небытием и каким-то другим своим небытием. Всё
дело — наше — в различении между одним небытием и другим.
Господа, то что я говорю — не теория и не вымысел и не способ
выйти из апории, из апории в отношении бытия, как предсказывал
Аристотель, мы не выйдем никогда. То, что я говорю, это наша
каждодневная ситуация, оставленных Богом и бытием. Еще раз:
я не смогу вам сейчас или вообще когда-либо объяснить
отношение Бога и бытия, но и сейчас, и всегда мы, которые большей
частью или всегда оставлены без Бога и без бытия, в ничто
можем не быть по-разному. Когда Бог придет, он позаботится о себе
и устроит всё так как устроит — приходом Бога бывают войны
и революции — и одно из лиц Бога это государство, другое лицо
Бога библейский Бог, и еще лицо Бога гнев, или любовь, — и мы
перед лицом Бога мало что значим и что можем, как Иов мало мог
задержать крушение своей семьи, дома и своего тела, когда Бог
перестал его держать на руках и позволил его задеть; воображение,
что кто-то даже перед таким, не очень главным, явлением силы как
государство может устоять, президент или простой человек, это
одно из мечтаний, которыми забавляется сознание; перед силой
нечеловеческой человек устоять не может никак, — но от человека
полностью зависит как быть одному, в оставленности Богом.
Та фраза Хайдеггера, «В близости Бога быть», имеет
продолжение, она вовсе не означает императива вернуться или
приблизиться к Богу, когда проповедники приглашают это сделать,
они не ведают что говорят. Продолжение такое: «В близости
Бога быть — и будь даже эта близость отдаленнейшей далью
невозможности ничего решить об исчезновении или пришествии
богов, — это не поддается пересчету в терминах „счастья" или
„несчастья"»130*. Счастье это божественное присутствие,
посещение Богом, богатство', несчастье это лишенность Бога, убогость.
Мимо богатства и убогости проходит бытие в близости Бога,
но — близости бога как бесконечно далекого. Здесь нет никакой
диалектики, всё очень просто. Послушайте. Когда Бог придет,
я сказал, Он придет и сделает всё как сделает, как надо, захватит
и подхватит нас и мы очнемся другими. Но когда Бога нет, то его
это нет, его отсутствие, его смерть или его еще-не-пришедшесть,
его медление с приходом, или оставляет нас где мы есть, в
небытии богооставленности убогости, или задевает нас, подступает
13°* Martin Heidegger. Beiträge..., S. 12. Ср.: ГЕРМЕНЕЯ№ 1..., с. 63.
21. МЕРА ВЕЩЕЙ
263
к нам, становится нам чем-то близким и самым близким. Т. е.
далекость, отсутствие Бога может нас задеть так, как не задевает
самое близкое, телесное.
Станет нам близкой или не станет нам близкой далекость
Бога, «самая далекая далекость», die fernste Feme, зависит от нас,
в том смысле что Бог чтобы стать близким уже сделал свое, он Бог
и он отдалился так страшно, что это способно нас задеть, — и еще
в том смысле зависит от нас, что не догадкой и конструкцией, a на
опыте, о котором мы так много говорили прошлый раз, мы видим,
что человек, имею в виду разных людей или меня самого разного,
может быть задет, шокирован тем, что Бога нет, а может быть
вовсе не задет.
Теперь, какая всё-таки разница между одним нашим
небытием и другим нашим небытием. Не та, что в одном небытии мы не
готовимся к приходу Бога, а в другом небытии готовимся к тому
случаю («счастью»), что Бог придет, убогие сейчас, готовимся
к богатству в будущем. Гораздо больше содержится в той
близости дальчайшей дали, о которой говорит Хайдеггер, чем просто
везение-невезение, богатство-убогость: содержится не меньше
как сама как раз близость Бога, его теснейшее подступание не
когда-то в будущем, а сейчас, и не «представления», как говорит
богооставленное сознание, а реальной самой настоящей
настойчивой, наступательной, давящей далекости отсутствующего Бога.
Можно так же говорить о далекости и отсутствии бытия?
Наверное. Может быть это единственный аспект, в котором
можно совершенно одинаково говорить о Боге и бытии — они
отсутствуют одинаково, одинаково не могут быть человеком
добыты. В этом смысле в «Алкивиаде» одинаково отсутствуют совсем
уже далекие боги, оставившие людей одинокими, и знание, т. е.
истина, т. е. идея, т. е. — для Платона — бытие, и жалят своим
отсутствием Сократа и Алкивиада, которые решаются на школу,
длиной в жизнь, на трезвое смирение учеников.
Бодрое смирение в небытии, задетость отсутствием бытия
и Бога, оказывается не каким-то неполноценным временным
существованием, оно полно, можно сказать, Богом и бытием и только
ими, но именно то, что человек может относиться к
отсутствующему бытию и весь быть полон этим отношением, относится ли
он к бытию в смысле принадлежит ему?
Да! я не вижу причин думать что нет.
Ничего не надо брать назад из того что говорилось о
неприступности, необеспечиваемости бытия и Бога. И при этом всегда
человек может относиться к бытию и к Богу.
264
В. В. БИБИХИН
Всегда может относиться — или всегда относится?
Всегда относится!
Тогда — узнайте, что вы относитесь к бытию, и вы будете
принадлежать к нему, обещающий голос проповедников зазывал,
поверьте только и сможете передвигать горы?
Нет конечно, но давайте остановимся здесь, мне становится
трудно. Мне вспоминается нерешенная задача парменидовского
4-го фрагмента, «углядывай умом, или просветляй умом,
отсутствующее, видь его надежно, обеспеченно присутствующим»13I*.
Мне приходит в голову что смысл не обязательно должен быть
«умей увидеть в отсутствующем присутствующее», а «умей
увидеть, насколько прочно присутствует отсутствующее» — т. е.
именно своим отсутствием. Мне не хватает здесь просто глаз,
подслеповат.
Я только хочу обратить ваше внимание: убогость, бедность
повертываются, нищета не обязательно остается голым
ничтожеством. И еще, смотрите: что нам больше свое собственное, чем
нищета? Нищетой человеческое свое собственное не ограничивается,
а расширяется, может быть свое человека это собственно нищета.
Явление собственно, Ereignis мы понимали — я понимал — как
обогащающее, извещающее, дарящее смыслом событие. Теперь
мы должны понимать шире: Ereignis может быть и событием
возвращения к «собственно своему» человека в смысле нищеты,
нужды. Смертности.
И, наверное, не перемещение нищеты (убогости) и богатства
происходит с человеком, а только нищете, которая не кончается
(и как ей кончиться, как смертности кончиться, как у-богости
кончиться?), открывается богатство; и только в богатстве
становится доступна настоящая нищета. Они превращаются, нищета
и богатство, как превращается «свое». В человечестве нет не
загадочной нищеты. С нищетой и богатством, с их одновременностью
так же как с близостью и далекостью Бога: страшно далекий Бог
одновременно всего ближе подступает своей далекостью: Бог не
начнет действовать в нас («энергия»), если мы не «находимся в его
распоряжении»132*, т. е. если он не захватил нас и так, далекостью:
если в нас остается что-то еще не захваченного им, он не сможет
и действовать.
131 * См.: Чтение философии..., с. 391 слл.
132* Martin Heidegger. Beiträge..., S. 18. Ср.: ГЕРМЕНЕЯ № 1, с. 67 ел.
21. МЕРА ВЕЩЕЙ
265
* * *
Теперь мне очень трудно говорить. До сих пор я был похож
на ту пятилетнюю девочку, которая шла чувствуя себя древней
и полной опытом в старшую группу детского сада, и думала;
что еще мне осталось в жизни? я уже всего достигла, всё умею,
даже сама завязывать бантом шнурки на ботинках. Самое
простое оставленному — мы это видим на каждом шагу, каждый
день — самому тоже оставить, в общем-то оставить всё. Как вы
слышите это оставить!
Ах я не знаю, господа, что происходит. В самых началах
нашего ума, нашего слуха уже успевает подействовать кто-то, только
явно не Бог, может быть журналист, газетный или телевизионный,
может быть наша ограниченность. Оставить всё — почему мы
слышим в этом уход махнув рукой, не слышим другого,
«оставить» в смысле не трогать, не сметать, не уничтожать? Оставить
всё — это еще один, столько раз уже повторявшийся, страшно
действенный на самом деле, самый действенный жест
перечеркивания, смахивания мира как паутины со стены, жест так часто
повторявшийся втайне многомиллиардным человечеством, что от
земли, места человека, уже мало что осталось. Я не приглашаю
слышать другое в «оставить», я спрашиваю, почему случилось
так, что мы слышим «оставить» однозначно. И так же в
«оставленное™» не слышим оставленность: подарок оставленности нас
самим себе так, как мы есть, да просто оставленность в живых.
И я боюсь, что в «оставить» — говоря об отношении
оставленного человека (оставленного Богом и бытием) — мы слышим
всё то же, махнуть рукой, т. е. смахнуть, стереть, потому что нам
страшно трудно. Оставить мир в смысле не трогать его. — И уже
совсем трудно нам услышать это наше оставить во всём что
оно говорит: одновременно оставить и оставить, и оставить его
не трогая, и оставить в активном, дарящем и создающем
смысле — оставить как дать ему быть, т. е. на самом деле создать его,
обеспечить ему существование. Мы оставлены бытием, богом,
во всей широте смысла этого нашего слова. Мы тогда оставляем
всё, во всей широте смысла этого нашего слова — ах нет ничего
труднее; руки цепляются за то, что мы называем собственностью.
Оставление такое, когда мы сжигаем дотла, взглядом допустим,
но это эффективнее на самом деле и в конечном счете чем огнем,
то что мы оставляем, — на это мы способны в любой момент,
хоть сейчас: если не мой, то будь ты ничей, целый мир, — но,
цитирую Хайдеггера, есть оставление (Verzicht), которое «не голое
266
В. В. БИБИХИН
нежелание иметь и отставление в сторону, но... высшая форма
владения (собственности, имущества, имения), чья высота
достигает своей решимости (прочности) в откровенном воодушевлении
перед тем немыслимым даром, каким оказывается оставленность»
(бытием)133*. Я виноват: я сам всегда слышал это, «оставленность
бытием», как беду, и это отравленное теперешним воздухом
журналистской и публицистической речи понимание я невольно
передавал другим. Теперь я слышу совсем другое в «оставленности
бытием» — бытие оставило нас — и как просыпаюсь к новой жизни.
Я цитировал с. 22-23 большой книги «О событии — о
возвращении к собственности». Об прочитать ее в этом семестре не
может быть и речи. Я буду гнаться не за числом прочитанных
страниц, а за надеждой войти в то, что нам открылось: что в
оставленности богами, в оставленности бытием, такой явной, всеми
признанной в наше время, затаился незамеченный подарок, еще
какой: подарок отношения, свободного, нашего к оставившим
нас богам и к бытию. Мы относимся к богам и к бытию. Я
прошу услышать это выражение «относиться к чему-нибудь» во всей
широте смысла.
Маленькое замечание, важное. Когда я говорю, что мы
оставлены богами, вообще говорю о богах, я имею в виду самую
простую и очевидную вещь. Кто-то, <например> академик Фролов,
объяснит, что такое человек, как он произошел, почему стал таким,
почему ведет себя, говорит, даже почему говорит именно так, как,
скажем, говорю я. У меня нет таких знаний и сведений, я
откровенно не знаю, как случилось, что я стою тут и говорю, вы сидите
и слушаете меня, что слово звучит, что что-то значит, что человек
такой, имеет такое тело, так рожается, начинает таким зародышем
и таким ребенком, вырастает, умирает. Со своей колокольни, не
желая быть иждивенцем на чужом уме, брать от него то что он
себе добыл, я по своей неосведомленной наивности буду считать,
что все эти странности, вместе взятые, в частностях объяснимые,
в самой человеческой страсти и способности к объяснению —
совершенно необъяснимые, что всё это оставлено нам для удивления
и думания богами. Кто знает, что никаких богов нет и объяснит всё
мне без них, пусть скажет: он будет для меня богом, на которого
я всё равно буду смотреть с тем же изумлением и страхом и
благоговением: раз он может измыслить всё, так он может и создать всё,
так он и бог. Честно, я ничего не буду иметь против такого
переключения — увидеть бога в человеке. Если всё на свете, и меня
>зз* Там же, S. 22-23. Ср.: ГЕРМЕНЕЯ № 1..., с. 70.
21. МЕРА ВЕЩЕЙ
267
тоже, сумел до конца понять и устроить не бог, а божественный
человек, то тем удивительнее.
Это шутки. Бог во всяком случае всегда только что был, он, по
Декарту, обеспечил так, что всё — настоящее. — Если Бог оста-
вил настоящее, то, может быть, он оставил много, то, что Николай
Кузанский и Лейбниц называют «максимум». — То, что он
оставил, нисколько не мешает, наоборот — дает свободу, немыслимую,
относиться к Богу так, как (во всех смыслах) не удалось бы, если
бы Он держал нас в руках. <.. .>
Нам осталось только узнать, что такое Бог. Может быть Он
похож на человека. И осталось узнать, где он и когда. Может быть
он прямо здесь и теперь, как-то. И тогда то, что Он нас оставил,
будет значить, что оставил прямо здесь и теперь; и его далекость
и близость одновременны, как одновременны противоположные
смыслы «оставил» <...>.
22. Апокалипсис
(15.3.1994)
Попробуем положиться на опыт, на то, что можно назвать
откровением, призванием — санкцией на говорение, на поступок.
«Неосужденно». Это собственность, наша — в том смысле, что
делает нас. — Моя санкция мне на говорение — есть! Ах вот не
знаю. Это моя собственность, но товарная ли? Я во всяком случае
жду еще другой санкции. Божественной? Что такое Бог — вопрос
прошлой пары? Почему мое человеческое самое вдохновенное
останется только человеческим? Почему Бог ушел, оставил текст,
почему Евангелие не Бог?
Цейтлин: «Дикое произрастание поэзии — это язык в его
домашней свободе» (другое, чем у Мандельштама — домашняя
свобода, косоворотка).
Кто разрешил мне говорить? Т. е. не в смысле кто меня сюда
пригласил, профессор Доброхотов, а почему <я говорю>, среди
общей покинутости, растерянности, в моей неуверенности, среди
растущего ощущения ничтожной малости почти всего, что
говорится и делается шестимиллиардным человечеством: чем с
большей важностью лица, тем бесполезнее, когда всё больше кажется,
что уже просто всё равно что говорить и делать, всё равно, в какие
микроструктуры сложатся еле уловимые колебания воздуха от
произнесения «слов», flatus vocis, которые гаснут («угасающие
колебания») почти сразу как появятся без надежды на вырастание,
продолжение, так что если будут скажем напечатаны, то от этого
станут сами еще меньше весомыми, запечатывание их
окончательно пригнетет? Допустим, за всем, что я говорю, есть то, что
можно назвать каким-то видением (или маленьким откровением),
в котором для меня даже не смысл жизни, а сама возможность
дышать, сама жизнь, моя био-графия. Или можно говорить о
призвании. Но заметьте: мало ли у кого какие видения, мало ли кому
22. АПОКАЛИПСИС
269
что мерещится; санкции на говорение, на сообщение, на поступок
это пока еще не дает. Санкция — это освящение. Смешно думать,
что и звание, или должность, или сан, или особая одежда, или
число слушателей, или всеобщее одобрение, или польза для
государства, или педагогическая польза дают такую санкцию. — То,
чему я целиком, с головой обязан этим странным и важным для
меня шансом, говорить здесь от раза к разу, долго, существование
такого московского университета и такого, вот этого
философского факультета. Он — пространство для мысли, пространство
мысли. Но ведь существование этого пространства и то, что оно
нас впустило, — тоже не санкция для нашего говорения, скорее
вызов и даже уже суд, или по крайней мере начало суда. — В
молитве утренней 1-й святого Макария Великого просят: «...да будет
во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная».
И в литургии Иоанна Златоуста диакон перед общей молитвой
возглашает: «И сподоби нас неосужденно пети и призывати имя
Твое и глаголати». Это не объявление, а прошение, после
которого еще не обязательно начинается неосужденное пение, но здесь
в трезвении и смирении (νήψις, ταπείνωσις) (трезвение термин
православной аскетики) указывается туда, откуда можно —
только и можно — ожидать неосуждения, оправдания, δικαίωμα. Как
говорится в кратком церковном песнопении, «Благословен еси
Господи, научи мя оправданием Твоим», εύλογητός είσί Κύριε,
διδαξον μέ τα δικαιώματα σου. Предположим, кто-то скажет, как
и я сам только что сказал: прошение об оправдании еще не
обеспечивает оправдания; мы не знаем, где оно оправдание и никогда не
узнаем, когда оно придет, божественное оправдание, и может быть
оно вообще никогда не придет, что же тогда о нем и говорить. Я не
вижу вреда в том, чтобы согласиться с таким соображением. Оно
во всяком случае человечнее, чем уверенность рукоположенных
и не рукоположенных, которые думают, что они уже взяли Бога за
бороду и положили себе в карман оправдание.
Но я очень сомневаюсь, что тогда можно забыть, что мы все
под судом. «Внезапу судия приидет, и коегождо деяния
обнажатся», из третьего тропаря утренних молитв.
Обнажение — это по-гречески άποκαλύπτειν, άποκάλυψις,
слово которое вошло без перевода в русский язык, апокалипсис,
апокалиптический (корректоры спешат править на
«апокалипсический»; сначала пусть они исправят «оптику» и «оптический»,
если им удастся заменить m на с). — Мы еще должны будем, дело
нас заставит, обратить всё-таки внимание на безвестных
переводчиков, русских, или болгарских или греческих, греческого на
270
В. В. БИБИХИН
церковнославянский. В тропаре сказано, что деяния (или можем
теперь сказать «дела» каждого, в том же смысле, в каком вежливо
спрашивают «как ваши дела», причем в «дела» вообще входит
всё (ça y est, <всё в порядке>), а не только деловое, всё состояние
человека, всё его стояние в мире) «обнажатся», по сравнению
с «откроются» это прибавляет острую угрозу стыдного оголения,
срывания одежды, которая после Адама прикрывала человеческий
срам, сором всё время до прихода внезапного судьи, а потом снова
перестанет прикрывать, снова человек будет голый и не
спрятанный перед Богом.
Так что, я говорю, не только оправдания нашим текстам
словам и поступкам не можем дать ни мы, ни власти, ни общество
в целом, но и решить, чем кончится суд над нами, когда внезапно
придет судья, тоже не в нашей власти. Мы взвешены, со всей
нашей собственностью, между оправданием и осуждением, которые
я теперь прибавлю к тем парам, которые не в нашей власти, как
добро и зло, бытие и небытие, в которых мы оказываемся. Мы
оказываемся в осуждении или оправдании, вдруг видим себя в них, но
не можем усилиться сделать так, чтобы обеспечить себе, скажем,
хотя бы на следующую минуту оправдание.
Или это апокалиптический пейзаж, который нас манит, мы
драматизируем нашу ситуацию, придаем ей остроту, воображая
себя в силовом поле осуждения, оправдания, Бога, да и бытия,
расцвечиваем так сказать как умеем серость своего положения, когда
изо дня в день на самом деле тянется обыденное, и даже зло, как
сказала Ханна Арендт, банально? Мы народ апокалиптиков, в нас
есть психотическая, невротическая, психопатическая нервность,
мы разжигаем сами себя остреньким и жутким (жуткий —
значение того слова, которое в латышском родственно нашему слову
«срам», cërmelis «ужас, жуть»; английское соответствие — harm,
«вред»). В нас есть мазохизм, мы хотим себе вредить, себя
пугать, от этого у нас такая жуткая история. А теперь наступил
постмодернизм, эти пугала сняты. Они будут выметены новыми
веяниями. Одна дама упрекнула меня, что я заговорил по поводу
литературоведения о совести, это грубая старая терминология,
теперь о всех вещах в литературоведении говорят иначе, тоньше.
Совесть принадлежит к тому же ряду, что осуждение, оправдание,
апокалипсис, — или бездна, или смерть, но может быть не надо
нагнетать. В одном студенческом сочинении автор замечает эту
апокалиптику у Пушкина в «Пире во время чумы» и спрашивает
в конце, в чем собственно дело, почему обязательно такие
крайности. «И чума, и „разъяренный океан" ставят человека на краю
22. АПОКАЛИПСИС
271
могилы, на краю смерти, как на краю бездны. Ну и что? Что для
человека смерть? Не знаю. Что для него бездна?»
Во 2-м ГУМе134* сейчас говорит о власти и ее секрете Жак
Деррида, может быть самое яркое имя в «постмодернизме», по
крайней мере так его квалифицируют. Он деконструирует, снимает,
разбирает нагромождения подозрительного, часто бывает —
невротического происхождения, для этого есть подготовка,
первоклассная, западная, философская, эстетическая,
психоаналитическая, политическая. Жак Деррида ведет эту терпеливую работу
деконструкции, разбора, вчера, сегодня.
В его книге 1983 года «Об апокалиптическом тоне, принятом
какое-то время назад в философии», разбирается, во всех смыслах
слова «разбирается», включая и разборку, опять во всех смыслах,
включая и смелое растаскивание камней устрашающей постройки,
как раз вглядывается в настроения накатывающегося глобального
кризиса, нависающей угрозы, фатальной человеческой слепоты,
злых сил и сил зла, хозяйничающих в человечестве. Скорее всего,
в первую очередь Жак Деррида имеет в виду под
апокалиптическим тоном настроения так называемых «новых философов»,
выступивших примерно с 1975 года в Париже, Андре Глюксман,
Бернар-Анри Леви, но и шире — продолжается долгое
предприятие деконструирования, разборки, Хайдеггер говорил прямее
и резче — деструкции метафизических построек.
И в самом деле, что собственно происходит, почему мы
слышим «апокалипсис» и слышим крушение всего, горящее
свертывающееся как свиток небо, истребление тел, ужасы гибели всего
живого? Ну да, все эти вещи описаны у Иоанна Богослова, но ведь
они у него видение, и во французском переводе Андре Шураки,
сделанном с греческого, конечно, но с учетом того, что, ученые
знатоки теперь умеют видеть, было в арамейском или еврейском
первоисточнике, когда греческий текст рассматривается только как
фильтр или вернее как химический реактив, и по прошедшей
реакции, по ее результатам, можно судить о том, какие вещества и
элементы были в начале реакции, — в этом французском переводе
то, что мы привыкли знать как «Апокалипсис Иоанна Богослова»
переведено как «Созерцание», или «Видение» (hazôn) Йоханаана;
или он допускает возможность перевести как «вдохновение»
(neboua) Йоханаана, т. е. в первую очередь это подарок появления
Бога для бого-слова, и почему-то оно оказывается страшным; т. е.
всё еще кое-как идет для человечества, когда на него не глядят, но
134* 2-й Гуманитарный корпус МГУ
272
В. В. БИБИХИН
есть обреченная уверенность в том, что как только Бог взглянет,
как придет жесткое начальство и устроит разнос, так сразу
начнется ужас, да не простой, а в котором жуть, cërmelis, срам и harm,
вред, сольются в один — апокалипсис? Как-то просвечивание
Богом и страшный суд автоматически соединяются вместе, как
будто человечество знает за собой что-то такое, гадко сделанное,
что только съежиться и втянуть голову в плечи, ожидая
неминуемого удара, да не какого-нибудь символического, укола совести,
«боли души», а телесного, жгучего, сминающего, смертного.
Что собственно происходит? Разве мало природной
смерти, наводнений; жутких морозов, землетрясений, чумы,
саранчи, войн — чтобы был еще «апокалипсис», божественная кара?
Разница между природной смертью и божественным наказанием
та, что в природной смерти, в бедствии светлое и трезвое
спокойствие неотвратимой пусть, но незаслуженной и необязательной
беды, а в апокалипсисе обязательной и заслуженной, где уже
ничего не скажешь, ничего не поделаешь. Где человек осужден
во всём своем самом, собственном существе — а в пожаре
задето только тело огнем, часть тела. В апокалипсисе <человек>
задет в самом интимном, и не случайно «апокалипсис» имеет
значение именно «обнажения» в греческом, открытия срамных
частей, άποκε-καλυμμένον λόγοι, откровенные слова — значит
«неприличные слова», где обнажается срам. — Сравните некоторые
приемы следствия, когда человека вспугивают, сбивают с толку
проникновением в его интимное, где ему вдруг нечего возразить,
часто человек даже об этом и не рассказывает. — Сравните еще
весь опыт преследований, который стал как бы открытым, почти
всем видным при Сталине, когда к преследователю нельзя было
спокойно относиться как к врагу или как к бедствию, в нем
угадывали как-то интимное и отвечали признанием, т. е. включалась
ситуация такого суда, да она и на каждом всяком суде или простой
разборке часто включается, когда человек вдруг сам подключается
к своему осуждению, в том смысле что если его по-настоящему
раскрыть, то — страх и трепет, он открыт беззащитно
сминающей, стирающей силе, причем открыт прежде всего и беззащитнее
всего там, где у него самое интимное, самое свое, т. е. родное и
родовое. — В древнееврейском соответствии «апокалипсиса», gala,
то же устыжающее, указывающее внезапным опозорением (кстати,
в слове «позор» зрение и стыд опять сходятся — мы всё время
говорили о видении как неограниченно открытом, теперь наше дело
становится более трудным, прозрение как-то сцеплено с позором,
откровение со стыдом), и Кант в поздней — 1796 — брошюре
22. АПОКАЛИПСИС
273
«О недавно появившемся превосходительном тоне в философии»,
«Von einem neuerdings erhobenen Vornehmen Ton in der Philosophie»,
говорит, что вовсе не обязательно смотреть на неснимаемое
покрывало богини, Изиды, или теперь принято Исиды, супруги и
сестры Озириса, Осириса, в той простоте научных намерений, что
божественная тайна скрывается под тем покрывалом и ее надо
открыть, покрывало снять, — неприлично смотреть на обнаженное
женское тело, надо будет тогда отвести глаза. — Впрочем, о том,
что на свое не обязательно смотреть, не обязательно открывать
его, мы говорили много раз, по-другому. — И открывается другой
аспект той невозможности узнать себя — что это дело
божественное, — с которым мы встретились при чтении Алкивиада. Не
обязательно после этого надо жалеть о том, что мы всего лишь
люди: Богу открыто узнание себя еще и потому, что от нас оно
отгорожено стыдом, а от Бога нет — а не так, что нам не хватает
просто силы, остроты зрения, чтобы увидеть тайну.
Этот внезапный отклик человека на обнажение суда, суд-
обнажение («внезапу судия приидет, и коегождо деяния
обнажатся»), <связан> с готовностью принять свою бесконечную вину, как
смирение до крайности, до вериг и радости болезням в религии, до
прямого уничтожения своего тела в ересях и сектах, до внезапного
подключения обвиняемого, осуждаемого к суду, согласие с судом,
прошение для себя наказания или даже высшего (и отгадка
поведения бывших высоких деятелей революции на показательных
судах, что они продолжали играть по сценарию партии и для того
чтобы помочь построенной партией картине, не подвергнуть
партию обвинению в лжи, помочь партии таким образом выйти из
затруднения, брали на себя несуществующую вину, это объяснение
правильно но не до конца, в конце концов этот резон, этот
аргумент в свою очередь был тоже не последним, он был подставкой,
удобной версией для самого же сознания обвиняемого, которому
нужно было хоть какое-то привычное, «рациональное» объяснение
своего поведения — своей тайной радости согласия с
разоблачением, с самой идеей разоблачения, обнажения, апокалипсиса —
который, я сказал, почему-то — господа, почему? — ассоциируется
с грозным, жутким осуждением). —
Деррида видит здесь буквально обжигающую загадку.
Откровение, «гала», это например обнажение тела Ноя в Бытии 9, 21,
пьяного, и Сим и Иафет покрывают «наготу отца своего». Нагота
в общем-то может быть разная, любых частей тела, но тут имеется
в виду — опять но почему] — нагота совершенно определенных
частей, и благочестивый комментатор пишет, страдая сам и со-
274
В. В. БИБИХИН
страдая стыду Ноя — но почему? откуда стыд? — «Хам увидел ту
самую наготу, которую мучительно ощутили и наши прародители
тотчас по вкушении запрещенного плода (Быт 3, 7) и которую
из чувства стыда прикрыли опоясаниями», само слово «опояса-
ние», осторожное, и открывает и прикрывает. Хорошо, всё так,
и понятно, почему Сим и Иафет «взяли одежду и, положивши ее
на плеча свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица
их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего»
(9, 23). Но почему острый стыд ощущает человек, с которого
силой снимают одежду, он-то в чем виноват? В откровении, которое
одновременно откровение того что увидено и того кто видит, его
обнажение (увидение пришедшего божественного судьи и увиде-
ние увидевшим своих дел — дел — обнаженными совпадают, как
во сне совпадают лица преследователя и преследуемого, мучителя
и мучимого, убийцы и убиваемого; то, что мы имеем здесь дело
с чем-то из сна, как бы само собой разумеется, подчеркивается
сном Ноя — о том что Ной спит даже и не сказано, в самом начале
рассказа, слишком ясно, что всё это из сна, и только когда уже всё
произошло, и Хам, Сим и Яфет поступили каждый как они
поступили, сказано (9, 24): «Ной проспался от вина своего...») — т. е.
мы тут в области, где заведомо не надо дожидаться дневных,
явственных объяснений, но тем удивительнее: откуда пронзающее,
как бы бесспорное признание своей вины у «обнаженного»,
внезапно обнаженного при приходе судии? Ведь он сам не мог себя
обнажить и не был должен, вроде бы — или он виновен в том,
что оделся? Первый стыд был не при обнажении, а без всякого
изменения: но тоже вдруг. «И открылись глаза у них обоих, и узнали
они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опояса-
ния. — И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога
между деревьями рая. — И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал
ему: (Адам,) где ты? — Он сказал: голос Твой я услышал в раю,
и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт 3, 7-10).
Поражает, как внезапный удар, несомненность вины срама.
Вокруг пятилетнего возраста, предположительно прадревнего
возраста полового «созревания» — готовности для продолжения
рода человека — и вокруг четырнадцатилетнего примерно
возраста есть период безумия, «течки», если хотите гениальной,
откровения, открывающегося человеку, и одновременно открывания
человека такого, что только безумие, горячка (человека в таком
состоянии, в таком возрасте можно узнать по отсутствующему,
какому-то мимо всего глядящему взгляду, невидящему) удержи-
22. АПОКАЛИПСИС
275
вают настоящую волну стыда, которая всё-таки приходит — и вы
помните, как в каком прозрении Владимир Соловьев стыд сделал,
поставил началом человеческой нравственности, — мы должны
будем разобрать это, — значит ли это, что в самом своем,
интимном, т. е. не своем, т. е. родовом, мы уже не удивляемся после
всего, что читали, что это именно так, — человека поражает «стыд
и срам»? Такие острые, что всякое разбирательство мгновенно
прекращается, стыдно — и всё.
Но в чем дело? Что стыдно? Разве человеку себя стыдно?
Почему стыдно то, что открывает его как род и родовое, родное?
Или не всякое родовое стыдно? Ведь не он, человек, придумал
сделал себя такого? Или всё-таки он, и история Адама в раю
показывает, что человек каким-то образом изобретатель механизма,
биологического, продолжения рода? — Я не подумаю даже
пытаться думать об этих «вопросах», ничего себе вопросики, никаких
шансов тут разобраться у меня нет. — Но я должен разобраться,
«деконструкцию», «деструкцию» провести вот в чем, что касается
прямо меня и моего каждоминутного поведения, «поступания»,
как говорили в XVIII веке.
Вопрос, который касается прямо меня, каждую минуту: то,
что я прошлый раз две недели назад и сейчас сегодня говорил
о суде, оправдании, божественной санкции — это мой невроз, т. е.
однозначно надо «прочистить» (chimney-sweeping, как называла
психоанализ первая пациентка Фрейда, забывшая от психической
травмы родной язык, умевшая говорить только по-английски),
или нет?
Или по-другому: западный человек, приезжающий в Россию,
видит жуткие дороги, не шоссе а только «направления», слышит
скверные запахи, видит большинство старых машин в аварийном
состоянии, видит дремучие лица, типичную фигуру полной дамы
ковыляющей с огромными сумками и среди всего этого
неприличные для его слуха речи о Боге и о смерти не от священников,
а в философии, филологии, в обыденной публицистике — видит
словом грязь телесную и рядом грязь умственную, не в том смысле,
что Бог грязь или вера или религия, а в путанице и соответственно
путах и параличе от припутывания Бога туда, где надо пойти и
разгрести грязь просто, для начала. Припутанный таким образом
Бог ложится путами на руки, не дает воли, потому что человек
отдает свою волю Богу, реально — невидимой инстанции, —
которая чертит свое в лице, скажем, власти или мнимой власти.
И конечно, надо иметь смелость прямо сказать, припутывание
Бога где не надо грязь, как грязь на улицах, и надо немедленно
276
В. В. БИБИХИН
прекратить, здесь не может быть ни двух ни вообще мнений. Бога
надо вымести метлой, Бога надо прекратить, с Богом покончить. —
Это так, тут сомнений быть не может. — Теперь другое,
теперь то, с чего я начал. Бога я прекращу и буду осторожно чистить
свалку вокруг себя. Достаточно ли будет моей чистоты и
аккуратности деконструкции для оправдания моего поведения?
Вроде бы достаточно. Честный дворник, каких в России
почему-то ни одного, а на Западе есть много, только и делает, что
чистит двор, и оправдан.
Но спросим по-другому: и не осужден? «Внезапу судия при-
идет и коегождо деяния обнажатся». Какие деяния дворника, он
только чистил двор — или апокалипсис будет и для него, и он
будет судим сам не знает за что, за то что именно только и делал
что чистил двор? Или за что?
Или во мне, в этом видении, фантазме санкции, оправдания
или, наоборот, осуждения — внезапного суда говорит
апокалиптический невроз?
Т. е., спросим иначе, интимное не стыдно?
Странным образом, ответ тут вроде бы — без всякого
невроза — что стыдно. Это мы угадывали уже давно: вокруг «своего»,
настоящего, заветного — водоворот, вихрь, смерч и свирепого,
и позорного. Не зря самая оперативная сила государства
называется «органы».
Я могу расхлебать эту крутую кашу ложкой
психоанализа? — Так сразу интуитивно ясно, что нет; тем более что поздний
Фрейд говорил о страхе отца независимом от отца,
перехлестывающем эмпирического отца, неустранимом — т. е. значит наконец
о Боге, том самом, библейском, грозном, жутком, совершенно из
кошмара сна? Так Бог сон или не сон? Когда мы ночью
вздрагиваем, потому что попали под машину или упали в пропасть, откуда
этот ужас, что мы просыпаемся, от моего невроза, надо лечиться?
Или как?
Об этом спрашивает Деррида в книге «Об апокалиптическом
тоне, принятом недавно в философии»135. «Темы конца истории
и смерти философии... только самые всеобъемлющие, массивные
и собранные. Есть, конечно, явные различия между гегелевской
эсхатологией, этой марксистской эсхатологией, которую слишком
быстро захотели забыть во Франции эти последние годы (и это
было, пожалуй, еще одной эсхатологией марксизма, его эсхатоло-
135 Jacques Derrida. D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie.
Paris: Galilée, 1983.
22. АПОКАЛИПСИС
277
гией и его похоронным звоном), ницшевская эсхатология (между
последним человеком, высшим человеком и сверхчеловеком)
и столько других более новых вариаций. Но не верно, что всё
это разнообразие может быть измерено как ответвления по
отношению к фундаментальной тональности этого STIMMUNG,
настроения, слышимого через столько тематических вариаций?»
Не так ли, что все варианты были формами взвинчивания
эсхатологического красноречия, единого, и каждый новый пришелец,
более зоркий чем другой, был более настороже и более щедр на
добавления: вот, я вам говорю по всей правде, это не просто
конец вот чего, но прежде всего того, другого, конец истории, конец
борьбы классов, конец философии, смерть Бога, конец религий,
конец христианства и морали (тут была самая тяжкая наивность),
конец субъекта, конец человека, конец Запада, конец Эдипа, конец
земли, Apocalypse now, я вам говорю, в катаклизме, огне, крови,
всеобщем потрясении, в напалме, которые сходят с неба от
вертолетов, как проституированные, а вдобавок конец литературы,
конец живописи, искусство как дело прошлого, конец психоанализа,
конец университета, конец фаллоцентризма и фаллогоцентризма,
чего там еще? Le fin du fin, à savoir la fin de la fin... И кто придет
тонко уточнить, сказать тонкое из тонкого, т. е. конец концов,
что конец уже всегда начался, что надо еще различать между
закрытием и концом, — он тоже будет участвовать, хочет того или
нет, в общем концерте. Потому что это также и конец метаязыка
в предмете эсхатологического языка. Так что можно спросить себя,
что это такое, эсхатология, просто тон — или сам по себе голос.
23. Последний суд
(22.3.1994)
Сегодняшняя тема: 1. отличие апокалипсиса,
апокалиптической беды от всех бедствий и катастроф, в том числе от конца тела
и от космической (всеобщей) катастрофы, что называется
существенное, т. е. все бедствия задевают человека, свои или не свои,
вообще все бедствия, подчеркнем это слово «все», но самого
человека, собственно человека задевают только бедствия
апокалиптического рода (переход не к сумме ужасов, а к другому ужасу); мы
должны будем это посмотреть подробнее, хотя это отличие «бед»
вроде бы видно, можно заметить с самого начала. У Жака Деррида,
чью книжку об апокалипсисе мы параллельно читаем,
«апокалиптическое, иначе говоря капитальное (радикальное), обнажает по
истине жажду себя»136. Вы замечаете, что в этой фразе Деррида
за словом «по истине» скрыта программа, перспектива, какое-то
движение в ситуации, которую я обозначаю этим первым пунктом,
существенное, или как о том же говорит Деррида, капитальное,
радикальное отличие апокалипсиса от всех бедствий; мы должны
будем разобрать эту движущуюся, разносящую мысль Деррида (вы
помните одно из его слов, différance, так он пишет французское
différence, чтобы показать незастылость, нестатичность никакого
различения, за всякий различением надо уметь видеть
продолжающееся разнесение, попробуем так сказать по-русски, одновременно
откладывание на потом); чтобы, раз упомянув Жака Деррида, не
взять его имя и его мысль как блестящую этикетку, попробовать ее
разобрать — русское слово, которое значит «деконструировать»,
но лучше, потому что включает и то, что в замысле Деррида тоже
есть, вглядывание и прочитывание («разобрать трудный почерк,
очень мелкий шрифт»), но во французском «деконструкция» нет.
36 Jacques Derrida. D'un ton apocalyptique..., p. 85-86.
23. ПОСЛЕДНИЙ СУД
279
Тогда я выпишу на доске эту фразу, l'apocalyptique, autrement dit
le dévoilement capital, met en vérité à nu la faim de soi.
Из прошлой пары вы помните, что стыдное в обнажении,
апокалипсисе, входит в игру и в понимании Деррида, и в
понимании старого русского переводчика, который уверенно пишет
в молитве, «внезапу судия приидет, и коегождо дела обнажатся»
(не «откроются»).
2. Тогда то, что мы (и скажем Сократ в «Алкивиаде») искали
и не могли найти в узнании себя, узнании себя, «собственно», себя,
оказалось нечаянно найдено, но где не ждали, в апокалипсисе, где
впервые неуловимое в долгом искании «свое», «собственное»,
человеческое бытие вдруг наконец угадано, но как? для суда или для
сминания, уничтожения, сокрушения, конца. Последнее своего,
собственного, предельное, конечное приоткрывает свой полный
смысл, оно одновременное последнее и в смысле окончательного
конца, der des der, как можно сказать в университетском
французском жаргоне, «в конце концов», загадочное русское выражение.
Хорошенькое дело, «свое» «собственное» оказывается доступно
нам только негативно (!). — В том, что свое в конце концов ведет
к родному — к роду — к всеобщему Гераклита — к
божественному, мы были готовы, совсем недавно читали у Лосева, что свое
дано человеку только для уничтожения своего, но всё-таки к
постепенному вхождению через свое в что-то высокое, божественное
мы были готовы, а к такому концу, вторжению внезапного суда,
катастрофы, апокалипсиса, мы как-то готовы не были. Что в
своем мы встретим родное, это было как бы в порядке вещей, но что
вдруг «и ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (Апок 20, 9),
это вроде бы как-то слишком.
3. И третий пункт, на который отчасти мы уже набредали
в прошлый раз, когда я начал вдруг оправдываться, что не состою
на психиатрическом учете; пункт, на который наводит статус
Апокалипсиса, почти уже подозрительного, последнего текста
Нового завета, — по крайней мере текста, давшего громадную
разгульную, если не сказать еретическую, спекуляцию вокруг «конца
света». В этом третьем пункте мы должны будем окончательно
(окончательно! опять апокалипсис?) разобрать, т. е. значит
прочесть и понять, ту выписанную фразу Жака Деррида. А именно:
нет ли чего-то недодуманного в этом продумывании
апокалипсиса? Не додуман именно этот его статус собственно события,
события событий, откровения откровений, капитального
обнажения. Нет ли здесь срыва, нетерпения «жажды своего», перескока
от ежеминутных, ежечасных бедствий человечества и человека к
280
В. В. БИБИХИН
последнему решающему и открывающему бедствию — т. е. в чем
человек не добрался до дела по добру («свое» как добро,
собственность, имущество), там он, в порядке срыва, пошел путем
крутости, жесткости, чтобы хоть так выколотить из себя свое,
раскопать его? — Тогда может быть, есть или должен быть и
апокалипсис для апокалипсиса: «капитальное обнажение» самого
апокалипсиса и приход самого апокалипсиса к концу: апокалипсис
апокалипсиса, конец конца и конец концов, только не в смысле
«в конце концов», а в неожиданном смысле, который мы обычно
не слышим,ч но который в русском выражении как ни странно есть:
конец концов, вовсе не обязательно распоследний конец, а
продолжение.
Вот эти три пункта на сегодня, успеем ли. И первое — что
апокалипсис, конец концов в первом слышащемся смысле самого
последнего конца, задевает не что-то одно, малое или большое,
в человеке, а «внезапу судия приидет и коегождо деяния
обнажатся» — деяния в том и неопределенном, и одновременно
совершенно определенном смысле, как мы говорим: как ваши дела?
определенность смысла от полноты: все дела, вообще всё, что
происходит с человеком, его био-графия, — предполагает
обнажение всего что ни на есть человека, в его сути, существе, самом
последнем, интимном (!), своем, собственном. И это видно — об
этом дает знать — появление в апокалипсисе антихриста;
антихрист и апокалипсис связаны. — О том, что в истории появляется
«момент», нота, тон апокалипсиса, т. е. выкладывания всего
человека {весь человек задет, весь человек выкладывается), и значит
соответственно человек оказывается способен в хорошем или
дурном смысле на небывалое, на невероятное {свое собственное
человека такое, что сам человек начинает себе не верить, что
такое бывает, может быть), — об этом можно судить по появлению
антихриста. Антихрист появляется — в каком смысле
появляется? не знаю; знаю, что о нем начинают говорить, заходит речь
об антихристе, идет дело об антихристе, он как-то появляется на
горизонте, поднимает голову при Петре Первом, при Наполеоне;
в конце прошлого века Достоевский и потом особенно Соловьев
чувствуют приближение антихриста, потом в Ленине угадывают
антихриста, естественно и в Сталине; Черчилль Уинстон называет
Гитлера bad man, и эта старая английская идиома, означающая
что-то вроде антихриста, позволяет помогает понять смысл
антихриста: он антихрист, т. е. напрямую связан с Христом, на уровне
Христа, так сказать, и значит так же как Христос проникает в
существо человека. Христос человек, каким человек себя не знает,
23. ПОСЛЕДНИЙ СУД
281
в полноте человек как самая суть человека, он безусловно достает
человека в его сути — т. е. потому и уникален, и единственен,
и неповторим, другого такого абсолютно не может быть, другой
такой будет сразу по определению антихристом, — именно
потому что один из всех, немыслимо вобрал в себя полноту
человеческого существа, ту самую, где «дело идет» уже о Боге, где она
непонятно — всякие попытки распутать узел не человеческого ума
дело — соприкасается, сливается с Богом. Мы об этом говорили.
И вот Христос единственный, абсолютно уникальный, всякая
попытка как-то изготовить, устроить, выработать, организовать
другого Христа (как попытки устроить рай или коммунизм на
земле человеческими средствами) создает антихриста (!); нет
таких двух противоположных вещей, как Христос и антихрист, но
между ними — и только между ними — есть одно общее: только
один антихрист пытается достать и почти что совсем уже достает
человека — почти уже совсем достает, так что только перед
антихристом, чтобы противостоять ему, человек должен, обязан,
иначе не получится, — выложиться весь; неполного усилия,
расхоложенное™, малейшей несобранности допустить нельзя, потому
что тогда антихрист из-за своей нацеленности на суть человека
человека опрокинет. Если на горизонте появляется антихрист, — он
объявляется уже после того как появляется, — от человека
требуется полная мобилизация (!), часть этой мобилизации принимает
между прочим и политические формы и создает то, что называется
«событием».
Антихрист, если взять слово Жака Деррида, маркирует, метит
апокалипсис; сам антихрист меченый и он метит собой то, что
начинается прорыв к самой что ни на есть собственной, своей сути
человека, — которая не своя! — к Христу, но именно этим
антихрист оказывается меченый! в своем имени, в своей враждебности
человеку! Не только при попытке «взять» Христа, — почему бы не
взять, ведь Христос как раз полнота человека, для чего он тогда
как не для человека, для его полноты, для человеческого
уловления, — но плавного постепенного, размеренного и обеспеченного
восхождения к Христу вовсе не получается, выходит что-то другое
и жуткое, прямо как раз худшее из всего, что может приключиться
с человеком.
Апокалипсис меченый, он мечен как то исключительное
событие, когда человек задет как никогда. В конце (кончине) одного
человека или в конце, «катастрофе», целого космоса, о
возможности чего человек очень хорошо знает, — как всем заранее
понятно, что такие вещи, и в микрокосме и в макрокосме, как гибель,
282
В. В. БИБИХИН
могут вполне быть, — но может быть именно поэтому эти вещи не
дьявольские. Вот пример видения, или может быть уже видения,
конца света, в котором нет главной меты апокалипсиса, антихриста
(почему об этой мете апокалипсиса, антихристе, Деррида в книге
об апокалипсисе не говорит, мы должны будем еще между прочим
разобрать): земля сначала застывает, уже и сейчас людей
охватывает ледяная бесчувственность, потом дикий жар растапливает
глыбы льда, мир окутывается непроглядной оболочкой паров, со
временем они рассеиваются, и под сияющим голубым небом не
остается и следа того, чем когда-то волновалось человечество137*.
Это похоже на очистительную грозу, здесь нет последнего суда,
человек странным образом, не оставшись, как бы остается в
нечеловеческой очистительной строгости, которая — тоже
человеческая. В «Апокалипсисе Иоанна Богослова» — в «Видении», как
переводит Андре Шураки, или в «Обнажении», как тоже можно
было бы слышать, — всё громадное умерщвление и погубление
страшно не само по себе, а чем-то другим, так что (9, 6) «В те дни
люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но
смерть убежит от них». Как бы не в привычной смерти дело (!).
Так же и наоборот, для святых, для них тоже дело не в привычной
смерти, гл. 20 ст. 6: «Блажен и свят имеющий участие в
воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет власти, но они
будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним
тысячу лет». Слишком долгого разбора потребовала бы «смерть
вторая», комментаторы в Библии Лопухина138 понимают ее как
ад, а не в том смысле, что святые не будут знать обычной смерти.
Наверное так; во всяком случае смерти, как мы уже не раз с этим
сталкивались, две, и они разные до полной противоположности.
Одна смерть такая, какую видит для земли Эжен Ионеско, еще
одна смерть та, которая придает жгучую остроту Апокалипсису,
задевающая самое свое. Т. е. не просто «вот что», землетрясение
или саранча, в апокалипсисе, и не случайно перечисление
бедствий там очень пестрое и длинное, чтобы этим символическим
указанием на все беды и любые беды показать, что дело не в них
как вот таких наблюдаемых, а в том, что всё дойдет до предела,
до того, что названо в стихе 13-м последней 21-й главы: «Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний».
137* Видение Эжена Ионеско. См.: В. Бибихин. Слово и событие. Писатель
и литература. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010, с. 328.
138 Толковая Библия (под редакцией А.П. Лопухина). СПБ., 1904.
23. ПОСЛЕДНИЙ СУД
283
Этим доставанием человека в «альфе и омеге» суть
Апокалипсиса, повторим фразу Деррида: «Апокалипсис, иначе сказать
капитальное обнажение, снятие покровов, обнажает по существу,
по истине жажду себя». Это наш первый пункт сегодня. Теперь
второй:
А что, другого способа <пробиться> к своему, к собственному,
иначе как такого крутого, через доведение до предельной остроты,
когда и смерть уже бледнеет перед ужасом, нет что ли? И сразу
интуитивно чувствуем правду ответа: да вроде бы нет; пружина
апокалипсиса была тихонечко взведена давно, и между прочим
в немалой мере в «Алкивиаде» тоже, в божественной
сверхтрудности «узнания себя». Сам человек такую трудность не потянет,
и это значит, что если сам захочет потянуть, то сорвется и сорвет.
Спровоцирует вступление Бога, который не такой, каким его
воображал человек. — Тогда лучше не заигрывать с «откровением»,
«обнажением»?
Да, конечно. То, что и завещает нам Платон. Тонус, тонос,
напряжение его «Алкивиада» уже взведенное так, как пружина не
взведена, и Апокалипсис там внутри уже заложен, так сказать, но
Платон его не выпустит, он тонос, энергию дела и слова, не
превратит в тон, не сорвется на дурную «апокалиптику». — Вообще
между философией и богословием переход не тот, что одна гаснет
и уступает другой («языческая философия исчерпала себя, она
прошла полный круг своего развития и должна была уступить
христианству», сборная цитата, что-нибудь в этом роде каждый
слышал и держит в памяти), а так, что как я сказал тонус был взведен
или взвинчен, или накоплен, так что не мог уже не перейти в тон:
европейское христианское богословие было до терминологии, до
подробностей поворотом и сохранением накопленного античной
мыслью, консервацией как бы. Консервативное средневековье,
когда тонус, доведенный до предела и уже не могший удержаться,
был вывернут наизнанку и сохранен. — Сохранен настолько, что
Апокалипсис собственно не такая уж и центральная книга в Новом
Завете, хотя последняя и говорит о последних вещах, —
может быть именно потому, что напрямую называет последние
вещи. — Т. е. если память о том, что божественное свое,
последняя собственность от человека закрыта, что можно было бы уже
видеть и из того, что совет «узнай себя» исходит от Бога и звучит
тогда как вызов, как поставление человека на место, «попробуй-
ка узнай себя», для смирения и приземления, то смиренная поза
Сократа в «Алкивиаде» и остается тем достойным человека
поведением, когда апокалипсис не упущен, взведен, но без срыва, без
284
В. В. БИБИХИН
попытки с негодными средствами перепрыгнуть через пропасть,
отделяющую самого человека от собственно себя. — Так что то,
как мы уже полтора года ходим вокруг да около своего и
собственности, не умея ни уловить, ни хотя бы определить их, не
обязательно признак нашей негодности, неспособности и философской
некомпетентности, может быть это в ключе философии, когда она
из уважения к настоящему богословию (мы помним: настоящее
богословие традиционно это прежде всего и сначала Библия) не
хочет смешивать себя с религией. Если кто-то из нас когда-то
и хотел может быть силой прорваться к своему и к собственности,
по следам тех самоубийц, убийц самих себя, которые вообразили
сейчас, что они «приобретают собственность», а при-обретают
совсем другое, как в Апокалипсисе: «Ибо ты говоришь: я богат,
разбогател, и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты
несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у Меня
золото, огнем очищенное [!] [огнем Апокалипсиса], чтобы тебе
обогатиться [это золото Гераклита, которое огонь? — Да, конечно]
[это из тех ниток, которыми философия и христианское
богословие прошиты, только растерянность тех, кто хотел быть
собственниками богословского добра и видят, насколько оно общее, хочет
отгораживать «свое» богословие от философской основы — или
предпочитают эту основу просто не знать. Таким будет, скажем,
смутительно узнать, что «исихия», ключевой термин теперешнего
так называемого «православного энергетизма», идет от «заклятого
врага» христианства Плотина, значит у Плотина как раз то же
самое что у исихаста Григория Паламы, который возможно именно
поэтому пристально и подозрительно смотрит и видит в Плотине
исчадие ада.] — ... [купи] у Меня золото, огнем очищенное,
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не
видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза
твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех и наказываю. Итак будь
ревностен и покайся» (3, 17-19). — Будем считать для себя, что
в искании своего мы нашли непереходимый порог, где дальше мы
сами не можем. Можно было бы назвать это парадоксом своего;
если бы мы уже с самого начала не были готовы к полярности
своего, если бы этимология нам не намекнула, что в своем не только
родное, но и родовое, идея, благо (добро), «идея блага», бытие
(этимология Владимира Николаевича Топорова).
Это так, опять же: раз навсегда «зарубим себе на носу», что
только «свое» имеет смысл, и оно нам недоступно в своем
собственном. Беда национализма в двойной ошибке: он не
догадывается, что общее из общего, самое всеобщее, философия «космо-
23. ПОСЛЕДНИЙ СУД
285
политическая» или какая, немецкая, вся с головой и со страстью
вот в этом самом самом нашем «своем» так, как национализму,
тонущему в обобщенных но схемах (противоположность геракли-
товскому «всеобщему»), и не снилось, — и вторая ошибка, будто
если отойти от всеобщего, мирового, то мы можем уловить «свое»,
приникнуть к нему. Ах не можем, ничего не получится, порог,
апокалипсис, огонь, пожар, антихрист — вещи, с которыми никакому
националисту не справиться.
Распрощаемся со «своим» — но так, чтобы уже теперь
никогда но упускать его из виду как такого, с которым неизбежно
расставание, рас-стояние, dif-férance, раз-несение, отнесение, как
неизбежное унесение течением от того места, где мы вошли в реку.
— Тогда, сегодняшний третий пункт, мы должны вернуться
к фразе Деррида, которая говорила о том, что в апокалипсисе
обнажается «жажда своего», но говорила и большее. ... l'apocalyptique,
autrement dit le dévoilement capital, met en vérité à nu la faim de soi.
Капитальное снятие покровов хочет быть радикальным, чтобы
обрести тут капитал, капитализировать на снятии покровов (можно
вспомнить Маркса, его капитал, который был одновременно
разоблачением капитала и приобретением чего-то более капитального,
чем капитал, — борьба за собственно собственность, смелая
потому, что за спиной Маркса стояло пророчество Гегеля, что рано
или поздно как победило христианство с его началом свободы
и индивидуальности (уникальности) субъекта, так возьмет верх
начало свободы собственности, принадлежность собственности
тому, кто собственно знает суть собственности и знает, как ее
вести (когда за спиной молчаливо стоит такое пророчество такого
ума, то знаете ли это придает смелость, отсюда огромная
уверенность Маркса). Нищета пролетариата несла в себе для Маркса
ту выгоду, что давала пролетариату немыслимую мощь («нам
нечего терять кроме своих цепей»). — Так, хочет сказать Деррида,
всякий апокалипсис ищет в обнажении, в обнищании если хотите
или вообще в раскрытии новые небывалые ресурсы. Капитал.
Собственность, можно сказать по-русски: да, всё что возвращается
к собственно сути дела (как Маркс — к собственно сути
человеческих производственных отношений), то задевает, вспахивает
и возвращает истину собственности. К перевертыванию нищеты
в богатство мы уже подготавливались, подходили с разных сторон.
Но вот продолжение «апокалиптического», раскрывательского
порыва: по истине, на самом деле, он открывает, но тут уж
действительно обнажает, только «жажду себя». Феноменология: мы
откуда знаем, что стоит за «жаждой себя»? Нарциссизм? Другая
286
В. В. БИБИХИН
пато-логия, не в нозологическом, а в хорошем смысле
человеческих разных «патосов», настроений-состояний? «Жажда себя»
естественно строит себе образ своего утоления, и т. д.
Ожидание конца и начала, истока и предела, альфы и омеги,
если всмотреться, пропитывает вообще всё в человеке так, что
сам тон человеческого голоса — апокалиптичен. И не будем
спешить опять с проекциями, постулированием предельных вещей:
говорит, проговаривает в любом человеке крайний, «последний
человек», как называет себя Ницше, или «мировой человек», как
В. Айрапетян называет автора пословиц139*, или просто
последнее в человеке? — Спокойнее, спокойнее, говорит Жак Деррида,
не спешите, еще рано догадываться, какие там «за нами стоят»
вечные структуры, бытия, или там не стоят. Мы пока о них
ничего вовсе не знаем, пока видим «жажду Своего» и жгучую — как
в жажде и положено — надежду или страх, это одно и то же в
данном случае, что вот-вот совершится (наши примеры): конец TV,
конец России и т. д. В метро я думаю об этом, вижу даму,
прикрывающую обложку книги: «Ключи к тайнам жизни». Заглядывать
в чужое чтение нехорошо, но отводя глаза ловлю в тексте только
два слова: «красный дракон». Дело о конце. — Всё в разной мере
пропитано апокалипсисом, и сама фраза, структура речи, ее
единица — суждение — разве не точечка того последнего суда, не
замахивается на последний суд? Или мы говорим не о judgement,
а о sentence, — это уже приговор, т. е. после суда. Или
категориальное высказывание, κατηγορία суждение. — Похоже что Деррида
прав, в «апокалиптическом» тоне вообще звучит всё человечество.
Но почему тогда одно не происходит: почему, если всё
проваливается, скользит в апокалипсис, — почему сам апокалипсис
туда не соскальзывает? Может быть и к последнему концу должен
подкатить конец? И наш язык как всегда опередил — нас. Когда
мы говорим «в конце концов», то вовсе не всегда или вообще редко
настроены докапываться до последнего конца; скорее как раз
наоборот, отказываемся от упрямого искания предела, соглашаемся
согласиться жить, говорить даже пусть, и не удается дождаться
конца концов. «Ну да ладно, в конце концов» — это говорится
со смиренным отрешением от окончательного решения, с
принятием незавершенности, неопределенности: «в конце концов»
мы невольно слышим конец конца, расставание с надеждой на
окончательное завершение чего бы то ни было. —
139 См.: Вардан Айрапетян. Толкуя слово. Опыт герменевтики по-русски.
В двух частях. М.: ИФТИ св. Фомы, 2011, «мировой человек» по указателю.
23. ПОСЛЕДНИЙ СУД
287
Прививка против апокалипсиса, который почему-то сам хочет
быть невредим от апокалипсиса, возможна? — Это назначение
деконструкции Деррида. — Тогда — мы оказываемся как на
просторном вокзале, где поезда перестали отходить — навсегда. Не
потому, что испортилась техника, нет монтеров, а потому что
прекратилась сама система посадки в поезда и движения маршрутов.
Станция назначения стала проблематичной не потому, что туда
тяжело добраться, а потому что назначение оказалось под
вопросом. Кем оно на-значено? Для чего? Внутри какой системы знаков?
Что означает это назначение? Оно конечно вписано, встроено
в систему целей общую, современной цивилизации — я еду
вместе с частью современного человечества в этом поезде в рамках
такого-то назначения потому что имею такую цель, потому
что есть система целей — общая цель которой называется как?
Развертывание, развитие, открытие, обнаружение, исследование,
выявление, суждение, система истинных суждений, или
приговоров, sentence? Назначения назначены как, чем? Система
перекрестных назначений, которые, возможно — кто знает? — замыкаются
круговым образом друг на друге, и всё подпитывается «жаждой
своего», не замеченной, когда не замечено и то, что она
недостижима?
Но обнажение апокалипсиса, как снятие всех табличек
с «пунктами на-значения» на вокзале, — не будет тоже
«капитальным снятием запросов»?
Ну будет же конечно. Деконструкция деконструкции не
удается именно потому что всегда удается. Конец конца в конце концов
ничего не кончает, ничего не начинает — с огромным
освобождением от схем, которые нам не давали дышать.
Я не бросаю своего и собственного.
24. Вещь в себе и пространство
(29.3.1994)
Конечно — в ответ на вопрос прошлого раза — я не могу
отменить расписание, и даже будет плохо, если я пойду и
начну срывать со стены написанное (Нэлепп: А, ветер разнесет!)
Но тогда тем более я должен задуматься, хоть я один, кто и как
назначил пункты назначения. По крайней мере мне самому,
иначе с этим «назначением» начнут происходить странные вещи,
как у Жака Деррида слово destination140 плывет и превращается
в destinerrance, или откуда-то из clandestin разрастается,
расплывается clandestination. Допустим, у меня условия жизни такие,
что мне некогда думать. Тем хуже для меня, потому что тогда на
условия я буду не задумываясь ссылаться уже всегда, и не смогу
догадаться до самой смерти, почему я условился сам с собой
считать у-словия моего существования безусловными.
Еще и потому нет времени думать о том, чтобы изменить
расписание (!) или заменить его другим, что у нас есть — теперь? —
другое дело. — Допустим, признаем, что нам за три семестра не
удалось вычислить, нащупать в этой лаборатории, во 2-й
аудитории философского факультета, свое и собственность. Не нашлось
их окончательно, так что я лучше даже сейчас это подчеркну: кто-
то скажет когда-нибудь, вот, люди в конце XX века, когда так остро
стоял вопрос собственности, говорили о собственности и тогда,
в тех условиях, на том уровне философской науки, еще не сумели
ни определить собственность, ни хоть как-то обосновать
начинавшуюся частную собственность, ни хотя бы, наоборот, объяснить
свободу собственности, а только нам в XXI веке это наконец
удалось, — если кто так скажет через сто лет, то уже сейчас лучше
им пророчески и отрезвляюще сказать: напрасно вы надеетесь,
140 Jacques Derrida. D'un ton apocalyptique..., p. 86.
24. ВЕЩЬ В СЕБЕ И ПРОСТРАНСТВО
289
что вам людям будущего удалось вычислить свое собственное,
собственно свое, опомнитесь, вы не в лучшем положении чем мы.
А что касается прояснения свободы собственности, то подождите
всё-таки конца этого весеннего семестра 1994, в апреле и в мае
мы дочитаем, вернее досмотрим хайдеггеровское «Vom Ereignis»,
о событии собственного, и еще коротенький текст тоже недавно
изданный «О бедности», или «О нищете». Он же о богатстве.
В такой уверенности, что никто не увидит дальше нас и если
увидит, то не по зоркости, а наоборот по ослепленности, т. е. по
загороэюенности зрения чем-то невидимым, непроглядным, таким
как «свое» национализма или патриотизма или приобретательства
или сговора или коллектива, нет ли самоуверенности? — Если
мы не будем заноситься и гордиться, то нет. У Канта была
другая уверенность, вовсе не самоуверенность, наоборот, когда он
предсказывал, какой будет или не будет всякая будущая
философия, если она будет настоящая. «Пролегомены» — это сказанное,
объявленное заранее, προ-λέγω, «говорить наперед». Я говорю
наперед: скользнуть, уютно устроиться, отпереть бытие этой
отмычкой, своего, мы своим усилием не сможем — хотя бытие свое
и ничего такого своего как бытие нет.
Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als
Wissenschaft wird auftreten können. Riga: 1783. Кант говорит как будто
о нас и о нашей ситуации неделю назад и сегодня: «Нет ничего
необыкновенного в том, что после долгого изучения известной
науки [Wissenschaft, от wissen видеть-ведать, в немецком
подчеркнуто не привыкание, обучение, а видение-ведание, с уже скорее
завершенным переходом в ведение — и ведание, первенство такой
«науки» во всём человеческом бытии] [мы хотели такого видения,
ведения «своего», науки о своем, отвечающей древнему заданию
узнать себя], когда думают, что она Бог весть как далеко ушла
[нам казалось, что мы уже много знаем о «своем»], наконец кому-
нибудь приходит в голову вопрос: да возможна ли еще вообще
такая наука, и если возможна, то как?» Горько конечно оказаться
на пустом месте, но «никогда не поздно взяться за ум». Конечно
чем раньше тем лучше, потому что «если разумное понимание
приходит поздно, то труднее бывает дать ему ход» (8-9)141.
Хорошо, что у нас хватило поступка согласиться остаться
нищими. Прямо по Канту, у нас «всё имущество состояло... из этой
141 Иммануила Канта Пролегомены ко всякой будущей метафизике,
могущей возникнуть в смысле науки. М.: Прогресс-Путь, 1993. <Номера страниц
указаны в тексте в круглых скобках>.
290
В. В. БИБИХИН
мнимой драгоценности» (9), из иллюзии обладания хотя бы
пониманием концепцией идеей собственности, раз уж нам не досталось
во владение никакой собственности. Хорошо что мы не
рассердились на Жака Деррида за то, что он отнял у нас иллюзию поездки
к пункту назначения. Мы зато приобрели, сейчас приобретем,
больше чем думали и могли надеяться (я говорил об обратимости
нищеты). Только теперь нам откроется математическая красота
и строгость там, где до сих пор мы отважно разбивая себе ноги
блуждали в потемках. Я не зря бросил заниматься математической
физикой — давно уже; строгость и прозрачная, чистая красота, как
от тех первых лекций по математическому анализу, открывается
мне теперь в философии, и теперь-то уж расставаться с этим или
бросать мне уже никогда не придется.
Если кожа расцарапана, то не то что гладить ее неприятно, но
даже прикосновение к ней болезненно. Мы не просто
расцарапаны, раздерганы расписаниями, апокалипсисами, но у нас содрана
кожа, от малейшего намека на указание, назначение нам больно,
мы любим очистительный нигилизм. Между тем ведь нет
никакого вреда спокойно, даже счастливо признать, что такие вещи как
добро, цель, назначение, расписание есть — и при этом никто не
должен тогда сразу набрасываться на нас и показывать прямую
связь расписания со смыслом мира, с высшим разумом, — но мы
не меньше раздерганы и присутствием циников, которые совсем
явно или еще хуже тайно решили, что теперь уж всё равно, что
кто делает, не обязательно надо выбирать из двух, или в мир
прямо вдвинуты вот такие веления высшей силы, или всё всё равно.
Красивее и чище думать и знать, господа, что добро просто есть,
и бытие есть, и расписание есть, не делая отсюда сразу
нервического вывода, что надо срочно идти искать его, учителя, или что
расписание никуда не годится, и все вообще расписания никуда
не годятся. Лучше в простоте сказать: «...ведь всё находящееся
в природе должно иметь первоначально какое-нибудь полезное
назначение» (173). Наверное с этим назначением дело обстоит
как-то не так, как с пунктами назначения в расписании поездов.
Дело осложняется тем, что там вопрос о предельном, крайнем, т. е.
значит, по Аристотелю хотя бы, <о том> где расписания вообще
нет и быть не может, и значит в такой неудобной области, где шли
мы шли, проходя науки, по расчищенному расписанному полю
и вдруг попали в туман, «так как в этой области действительно
нет никакой меры и веса, чтобы отличить основательность от
поверхностной болтовни» (8). Ошибка в том, что общее,
универсальное, типовое, логическое как начало действовать, победив
24. ВЕЩЬ В СЕБЕ И ПРОСТРАНСТВО
291
минутное впечатление, фантазию и прихоть, в науке, так в
научной философии и не перестанет править и решать, до конца, ради
тождества рациональности, по Пиаме Павловне Гайденко, но нет
вовсе: точно так же, как моя ежеминутно меняющаяся прихоть
не подчиняется логическим законам, точно так же, точно так
же и сверху, в самом общем обобщение кончается, господа (гера-
клитовское всеобщее не обобщение, а ум), и опять науки в смысле
метода нет, просто нет, никаких оговорок не надо тут, начинается
наука в том смысле нового искусства, о котором мы говорили
в декабре, т. е. значит смысл слова «наука» меняется на
противоположный (мы уже прибавили к нашему списку
противоположностей, полярных, это: — мир мир, свое свое, добро добро, — наука
наука), наука во всяком случае перестает быть наукой в смысле
навыка (тут немецкое Wissenschaft лучше, чем русское «наука»),
становится тем, что о ней первое сказано в начале «Предисловия»
к «Пролегоменам»: «Эти „пролегомены" назначаются не для
учеников, а для будущих учителей, да и этим последним они должны
служить руководством не для преподавания науки, уже
существующей, но для создания этой науки» (7). Я ничему не учу не совсем
только всегда от незнания и беспомощности, даже если бы в этом
отношении моя ситуация была бы лучше, я всё равно, раз имею
дело по своему выбору с крайним, предельным, никакой науки не
знаю. Не для Канта и его эпохи только, а для нас снова надо не
из-за негодности сделанного, а из-за свойства предельных вещей,
надо всё делать заново (!), «...вообще никакой метафизики еще не
существует [имеется в виду метафизика как свое человека]. Но
так как тем не менее запрос на нее никогда не может исчезнуть
[и сюда у Канта цитата из Горация: «Деревенщина сидит ждет,
когда протечет до конца река, а она течет и будет течь целый век»,
это относится к нам, к «постмодерну», который тоже ждет, что
метафизика кончилась или вот-вот уже совсем кончится; то, что
я называю деревенщиной таких утонченных и совсем городских
и сверхсовременных, это не моя неувязка, а их] ... то нужно будет
признать, что неизбежно предстоит, как этому ни сопротивляйся,
полная реформа или, лучше сказать, новое рождение метафизики
по совершенно неизвестному до сих пор плану» (9-10).
Жак Деррида знает об этой границе, неизбежном шаге
отталкивания, когда вдруг становится ненужно, даже вредно, например
держаться определения понятия, скажем «метафизика», которое
я только что дал и лучше, если я в следующей фразе пойму ее
иначе; вещь соблазнительная, опасная для школы; или не нужно, даже
вредно навести филологический порядок и установить адекват-
292
В. В. БИБИХИН
ное или аутентичное звучание какой-нибудь цитаты; вещь снова
соблазнительная, опасная, отвратительная для школы, которая
кричит караул — и собственно правильно делает, потому что она
в принципе не может отличить «основательность от
поверхностной болтовни» там, за чертой (8), в метафизике, в той области, где
и Жак Деррида ежеминутно рискует и ежеминутно вызывает
в академическом мире скандал. Он сам каждую минуту не знает
мерила. — Школа сделала бы хуже, если бы устрашилась
названием «философия» и отказалась от своих методологий, логических,
экспериментальных, систематизирующих, ради других внешних
принципов. Лучше сохраннее для самой науки, если она уверена,
объявить скопом всё, что выходит за ее границу, «развратной
болтовней», как назвал Арон Яковлевич Гуревич привычку — науку
в дурном смысле «привычки» — философского факультета. Но
когда после этого самоуверенная привычка («наука») въезжает
со своими колесами и механизмами туда, где мы в уникальном
и предельном, и когда, заметив у меня одно значение слова здесь
и другое внизу страницы, Пиама Павловна с удовлетворением
отбрасывает, «здесь нет строгой мысли», т. е. нет выдерживания
«понятия», это понято, пройдено, дайте нам рациональную
философию, — то становится жутковато, «рождение» (платоновские
«роды») науки другой, не привычки, становится необходимостью,
и начинается оно с деструкции, деконструкции, кантовской
критики всей массы «наездов», въезжания в область, где навыка нет
(в философии точно как в поэзии, где навык смерть: «Если вы
работаете в банке или пилотируете самолет, вы знаете, что приобретя
существенное количество опыта, вы более или менее
гарантировали себе прибыль или благополучную посадку. Тогда как в деле
писательства накапливаются не знания и опыт, а
неопределенности. Что — лишь другое название для мастерства. В этой области,
где знания умения опыт равносильны обреченности, понятия
подростковости и зрелости спутываются, и паника — наиболее
частое состояние ума»142), — и там, в очень трудной свободе, на-
висание школы, требующей умения писать, т. е. гладкого научного
стиля, системы, метода и т. д., становится кошмаром. Соловьев
с увлечением, со вкусом переводит из Канта: «Одно несомненно:
кто раз отведал критики, тому навсегда будет тошен тот
догматический вздор, с которым он прежде поневоле возился, не находя
лучшего удовлетворения для потребностей своего разума. Критика
относится к обыкновенной школьной метафизике точно так, как
142 J. Brodsky. Less Then One. Penguin Books, 1987, p. 17.
24. ВЕЩЬ В СЕБЕ И ПРОСТРАНСТВО
293
химия к алхимии или астрономия к астрологии. Я ручаюсь за то,
что всякий, понявший принципы критики хотя бы только в этом
введении, уже никогда больше не вернется к старой софистической
призрачной науке; напротив, он с радостью будет смотреть на ту
метафизику, которая теперь делается ему доступной, которая не
нуждается ни в каких приготовительных открытиях и которая,
наконец, может доставить разуму прочное удовлетворение»143. И
конечно не только со стороны, но и внутри, и в самом ЖакеДеррида
никто и ничто достоверно каждую минуту не знает, что
происходит, «так как в этой области действительно нет никакой верной
меры и веса, чтобы отличить основательность от поверхностной
болтовни», и, я говорю, надежнее и в какой-то мере красивее,
когда блестящий филолог Юрий Анатольевич Шичалин относится
к Жаку Деррида с брезгливой иронией. Мы — нет. — Тут, если
этого болота не бояться, есть путь, наука? В этом метафизическом
тумане, в болоте, на свалке, где идеология, публицистика,
журналистика натоптали как могли — тут просто, не музыка, где надо
знать ноты и инструмент, не математика, где надо знать число
е малое, = 2, 71828.., не физикохимия, где надо знать, чем тяжелая
вода отличается от легкой, — где на каждом шагу с неба спускают
канаты, говоря, что там они привязаны прямо к первоначалам,
к эгрегорам, или к пассионарностям, или прямо к слову единого
всемогущего истинного Господа, где для каждого из нас всё
многократно расписано расписаниями — Канта мы читаем вовсе не
случайно, не только потому, что Деррида берет у Канта название
задевшей нас, переменившей нас книги об Апокалипсисе, — но
и в свете того, что значит Кант для позднего Хайдеггера, мы еще
вернемся к нему, и к тому, что он пишет о Канте в замечательной
переписке с Ясперсом.
Нам нужен был отрезвляющий шок с Деррида, конец конца,
апокалипсис апокалипсиса, чтобы сейчас только вернуться — а то
мы спешили вперед к «своему», — к тому что сами же мы и говори-
лиуже, но сами же и потоптали. Я вспоминаю сейчас две вещи: что
от своего к своему, от своего принадлежности к собственно
своему сути, рода переход не постепенный, там высокий порог, — и
второе о неожиданном смысле нашей оставленности бытием и
Богом: мы оставлены не только, как слышим в сентиментальной
песне, «позабыты позаброшены», но вполне осязаемо и
убедительно, ежеминутно оставлены, как сохранены, как спасены, как
утверждены. Вернемся к этим своим же собственным ясностям не
143 И. Кант. Пролегомены (перевод B.C. Соловьева). М., 1993, с. 179.
294
В. В. БИБИХИН
прямо, а читая Канта так, как его еще никто не читал, особенно в
России, где Канту особенно не повезло. Читаем «Пролегомены»,
в переводе Соловьева, характерном, на котором печать
русского непонимания Канта (Иван Сергеевич Тургенев, похоже,
относился у нас к нему лучше всех, но как опять же его понял?).
Пространство и время, вы помните, по Канту,
спроецированы, развернуты, выкинуты нами самими как априорные, до-
опытные рамки, формы, куда становится возможным поместить
всякий опыт, как раз для того, чтобы всякий опыт стало возможно
куда-то поместить, с математической и логической стороны в
пространство, с физической, т. е. со стороны движения, во время.
Наблюдение того, как рассудок выбросил из себя эти
универсальные, общезначимые и верные формы (математика, которая
построена на форме и формах пространства, оказывается прило-
жима к тому, как устроен мир), должно подготовить к тому, чтобы
посмотреть, как для познания души (человека), мира и Бога разум
тоже заранее — априорно — выбрасывает из себя универсальные
структуры, только уже другого, очень интересного рода, с
которыми имеет дело философия.
Я неожиданно почти для себя делаю здесь странное
замечание. Нет большого смысла говорить, что человека нет. Человек,
по крайней мере каким он призван быть, или был, или будет, или
обязан быть, вроде бы есть. Мир — что мира нет, что это
иллюзия, тоже <нет большого смысла говорить> — вроде бы тоже
есть. Но в каком смысле? Нельзя явно говорить в том смысле,
чтобы указать на человека как образец или эталон. Нельзя
показать на мир «вот он». Бог <есть> в том смысле, что какую бы
мудрость мы ни развернули, мы в себе и в вещах, в устройстве
скажем — в софии — человеческого тела встречаем еще большую
мудрость, — не в том смысле, что мы можем опять же на нее
указать. Небессмысленно говорить, что человек, мир, бог это
темы, т. е. вещи, или по-немецки Dinge, т. е. такое, с чем человек
столкнувшись, хочет обсуждать, советоваться (со-вет, вече), сам
решить не может и не должен и думает невольно о созыве тинга.
Ding, вещь — это первоначально то, столкнувшись с чем, честный
человек по-честному думает: это дело для тинга, соберемся и
вместе как-то обсудим. Надежда тут не на то, что обсудим — решим
и постановим, а что вокруг таких «вещей» стоит собираться,
эти вещи как вести, как сообщения, на которых стоит общество.
Эти вещи просят веча, они сами по себе как вести, как
сообщения, вокруг которых начинает иметь смысл общение. Я не знаю,
зачем я делаю это замечание; оно я чувствую скоро пригодится.
24. ВЕЩЬ В СЕБЕ И ПРОСТРАНСТВО
295
Теперь назад к Канту. Мы его читаем в свете своего,
собственного, берите во всех смыслах. Он нам сейчас очень нужен, крайне
нужен, чтобы вывести наружу, распутать путаницу, до
противоположности, между своим и своим, собственным и собственным.
Мы знали, что там не просто, порог. Теперь посмотрим какой. На
основании чего разум развертывает в математике — и не
только — пространство, куда потом поместится всякий опыт. Никакого
опыта еще не было, а пространство, да такое, куда всякий опыт
безусловно поместится, до опыта, a priori, уже раскинулось,
«простерлось». Скажите мне откуда. Предвосхищение любого
опыта, скажете вы. Мало ли как. Творчески. «Бессознательным
продуцированием», скажет потом в отношении мира Шеллинг.
Спросите меня что-нибудь попроще, говорит Кант. Важно, что
действительно любой чувственный, воспринимающий опыт можно
разместить. Правильно я объясняю Канта?
Вроде бы правильно. Потом, когда пространство уже
раскинулось, когда действительно любой опыт оказывается можно
в него поместить, мы говорим: хорошо, что оно развернулось
до опыта, опыт так разнообразен, что если бы не было таких
универсальных широких рамок, то полученное путем обобщения
уже известного круга вещей не вместило бы чего-то совершенно
нового, а так — вмещает. Т. е. удивительный прорыв, математика,
вообще наука делает в своем априори, пространстве. Еще раз:
как-то творчески делает, красиво, непостижимо выбрасывает
пространство, не поймешь как.
Но чем обеспечено развертывание пространства, почему для
его поддержания не нужно нашего попечения, не надо печись,
печься, кто-то позволил, впустил пространство без нашего
старания, усилия? Оно повисло нами созданное без нашего
усилия — кто держит?
Прошу вас постараться, тут важное.
Для, так сказать, априоризации пространства, для его
выставления в качестве универсальной, общезначимой, всевме-
щающей рамки (ничего себе «рамочка») всякого чувственного
опыта — есть основание, оно негативное, и оно прямо касается
темы нашего курса.
Основание то, что вещи в себе нам абсолютно, прочно,
надежно недоступны. Это вещи в себе своим уходом, невидимостью,
ускользанием, везде и повсюду одинаковым, непременным,
обязательным, абсолютным, оставили, обязательно уйдя, после себя
«пространство» для впускания совершенно чего угодно. Кто читал
изучал сдавал Канта? Правильно я говорю?
296
В. В. БИБИХИН
Это не я говорю, а Кант. «Если бы в нашем созерцании
должны были представляться вещи так, как они существуют сами по
себе, тогда не было бы совсем никакого воззрения a priori, а было
бы только эмпирическое; ибо то, что содержится в предмете самом
по себе, — я могу узнать только тогда, когда он у меня налицо,
когда он мне дан»144, т. е. тогда прямой контакт (мы всегда будем
читать Канта нашими глазами), тогда «захваченность», о которой
говорилось в начале нашего курса, захватывает существо человека
и он уже «не я живу, но живет во мне Христос» и так далее, опять
скажем доходчивым для нас образом: в себе, свое, собственность
безусловно (абсолютно) недоступны. Мы знали, что «свое»
уводит очень далеко; что оно дано только Богу, говорили мы читая
«Алкивиада»; только один шаг отсюда — оно никогда не дано
человеку, не дано, т. е. не достается, т. е. человек безусловно не
может его достать (!). Еще в самом начале курса мы заметили это
кантовское в себе, но пустились в погоню за «собственностью»,
не послушав Канта, что увидеть-пощупать-созерцать-посмотреть
это в себе не можем так безусловно, что это основополагающая
безусловность, она лежит в основе времени, пространства,
личности, мира, идеи Бога.
Сколько я ни буду повторять, всё мало: на свое посмотреть
мы не можем.
Теперь. Эта исходность невозможности посмотреть (an-schau-
еп, поглядеть, продемонстрировать) такая, что лучше мы
перевернем дефиницию пространства. Не так, что пространство это
такое нечто, такая форма, такая рамка, в которой я вижу предмет
который разглядываю, рассматриваю; а так: то, в чем всегда
неизбежно, стопроцентно, жестко для меня оказывается всякая вещь
именно в своем качестве не вещи в себе, потому что это в себе,
свое, собственное из нее вынуто (вспомним тут то, что мы в этом
курсе говорили о переборе предметов мира в связи с Парменидом,
вопрос о том, приглашает ли Парменид к такому перебору), я
называю пространством. Вещь выкинута в пространство, оставлена
в пространстве тем, что она не в себе. (Ах теперь дело так
становится важно и интересно, что я пожалуй перестану предупреждать
возможные непонимания, как то, что выкинута оставлена не
означает никакой порчи, падения или грехопадения и т. д.). Так
же она выкинута и во время, в цепь последовательности
раньше-позже. В этом смысле пространство и время одно, они если
хотите «хронотоп» или по-немецки Zeitraum. В самом важном,
144 И. Кант. Пролегомены..., с. 49.
24. ВЕЩЬ В СЕБЕ И ПРОСТРАНСТВО
297
существенном стало быть, в своем первом определении — они
определяются из неразглядываемости вещи-в-себе —
пространство и время одно.
То, что мое разглядывание вещи «выкинуто» в пространство,
что тут всегда обязательно два, само это разглядывание и его
форма, рамка, его «где», — это принадлежит разглядыванию
(«созерцанию», так переводят), запечатывает его в общем со всеми
другими разглядываниями качестве бесконечной размножимости
(это мое разглядываемое расположено в пространстве так же, как
другое разглядываемое; соседство, рядоположность
разглядываемых обеспечена тем, что в качестве разглядываемых они никогда
не сорвутся во «в себе», в свое собственное, в собственно свое,
всегда удержать это свое от разглядывания — это их безусловно
общее, их объединяет, их делает расположенными в пространстве
и времени и так далее).
Или еще так: в себе вещей я не вижу — свидетелем этого их
спроецированность в пространство. Вещь раньше ускользнула
от меня прочно в своем «в себе» — и точно так же пространство
априорно по отношению к моему запоздалому уже разглядыванию
(ах вспомните что мы говорили тогда о Пармениде145*, уже нет
времени сейчас, о прочном присутствовании отсутствующего,
фр. 2: прочно надежно отсутствующее «собственное», то что «в
себе», именно оно всего надежнее и присутствует в своем
отсутствии, об этом один поданный мне, Месяц Светлана, текст146*).
И неприступность отсутствующего «в себе» аналогически
повторяется в незадетости пространства тем, что в пространстве
размещается: они не вмещают друг друга.
Т.е. формы «созерцания», «разглядывания» априори
обеспечены несобственностью, в которую обязательно всегда окутано
всё. Это формы несобственности, того что не в себе, и что имеет
дело с тем, что не в себе. Тем, что всё не «само-по-себе», в
переводе Соловьева. Эти формы разглядывания, восприятия всегда
145* См. например: В. Бибихин. Чтение философии..., лекция П-6.
146* Текст, о котором упоминает Владимир Вениаминович, представлял
собой небольшой ученический комментарий к фр. 4 Парменида: «Однако
созерцай умом (νοώι) отсутствующее как постоянно присутствующее, и т. д.» В нем
я попыталась показать, что дательный падеж слова «ум» в этом фрагменте может
быть понят как Dativus commodi, так что всю фразу целиком можно прочитать как
«созерцай отсутствующее для ума как постоянно присутствующее». Еще одна
мысль моего текста была о том, что созерцая, ясно ощущая отсутствие чего-то,
мы тем самым понимаем, что отсутствующая вещь есть, присутствует в бытии.
(Прим. СВ. Месяц).
298
В. В. БИБИХИН
успевают опередить всякое восприятие чего бы то ни было именно
потому, что восприятие никогда не успевает уловить вещи-в-себе,
свое, скажем так.
Откуда известно, что недоставаемая неразглядываемая вещь
в себе вообще есть, всегда есть, что мы всегда «не в себе»? Как-то
так это известно раньше всего известного. Знание Канта тут то же,
как наше знание, что мы оставлены бытием и Богом. Неразумно
претендовать на то, что кто-то не причастен бытию, но я прича-
стен; разумно думать, что если кто-то из людей оставлен, то как
раз я или в том числе я или не в последнюю очередь я, «от нихже
первый есмь аз»147*; не из христианства, а как Маркс: ничто
человеческое мне не чуждо. И еще очевиднее и бесспорнее, что я и мир
оставлены в смысле отпущены и допущены.
Именно потому что нет нигде из того смотрения, в котором мы
находим-ся, прорыва к вещам в себе, всё вообще окрашено в один
цвет времени и пространства.
Мы можем сказать: мы во времени и пространстве, сами не
свои. Или: то, что я сам не свой, помещает меня в пространство
и время. Или: я сам вне себя в пространстве и времени. Я не в себе
точно так же, как вещи не вещи-в-себе.
«Те, которые никак не могут отделаться от понятия, что
пространство и время суть действительные свойства вещей
самих по себе, — пусть попробуют свое остроумие на следующем
парадоксе»148. Моя рука в зеркале по тому что я вижу, наблюдаю,
это совершенно моя рука. Она однако совсем другая, эта правая
в зеркале левая, и они при полном тождестве ни в чем совершенно,
ни в одной детали никогда не совпадут. Как могло случиться, что
та не эта, эта не та? Так, что уже и эта, наблюдаемая до всякого
зеркала, была не рука в себе, в своем собственном. Она уже в
пространстве, уже в зеркале может выстроиться бесконечный ряд
рук. Между прочим, это сделал я, человек, потому что животное
не опознает руки в зеркале. Опять же, между прочим, оно «чует»
руку-в-себе? Открытый вопрос. Вообще оставим это. При чтении
Хайдеггера мы встретим, что животное «лишено мира».
Если я скажу, что рука собственно, как вещь в себе, это
среднее или сумма моей руки и той же руки в зеркале?
147* Из Последования ко Святому Причащению, начало молитвы св. Иоанна
Златоустого перед принятием причастия: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты
еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от
нихже первый есмь аз».
148 И. Кант. Пролегомены..., с. 54.
24. ВЕЩЬ В СЕБЕ И ПРОСТРАНСТВО
299
Нет, помимо абсурда, еще то обстоятельство, что вычисление
среднего, высчитывание, будет происходить в пространстве, а не
«в себе».
Мы встречались с этой неразрешимой парностью у Гераклита,
где день-ночь, и другие подобные пары, одно. Не сумма и не
смешение («сутки»), а что-то неименуемое, ненаблюдаемое — одно,
но наблюдаемы во времени ночь-день. Мужчина-женщина:
решение, своей беспомощной абсурдностью показывающее
нерешаемость проблемы: андрогин. Или традиционное решение:
мужчина. Волевое, насильственное: Man. («Man and Cosmos in ancient
Greece», <курс, объявленный A.B. Лебедевым в Америке в 1992,
посчитали> politically incorrect, потому что отдает sexism'oM).
Человек: явно среднее мужчины и женщины, но где? Не в этом
пространстве, где эти два «символа», по Аристотелю, — не друг
друга, а — чего?
Это примеры по Канту того, что вещь в себе не имеет никаких
шансов уместиться в пространстве и времени (ночь-день
обязательно во времени окажется или ночью, или днем, или сумерками).
Собственно вещь не является. Явление и т. е. наблюдаемое
и априорные рамки всякого наблюдения по Канту, пространство
и время, обеспечены неявлением вещи-в-себе. Почему?
Доказательство опять от противного: если бы явилась вещь в себе,
собственно, не было бы — затяжки, différence. Зеркала. Удвоения.
<Предварительные записи к лекции> 5.4.1994
Мы недооцениваем степень своей оставленности — при том
что присутствие Его (Бог, Оно) постоянное. Очистка,
очищение, катарсис — как химических веществ. — Бери то, что люди
делают. — Русская философия собственности. — Постоянное
присутствие недостижимого — но не так, что на всякий случай
тянись. Это ежеминутное подтягивание опиши как то, что
спровоцировано — вызвано — постоянным дразнящим
присутствием Возможности, Высшего, Другого. Зеркала? Бога, События?
Собственности? Мира? Мужское, женское в «Этике» Соловьева,
задача соединения другого и почему другого, не должно ли это
стать другим. — Так же соединение пользующегося со своим
телом. Любовь головы к туловищу.
Моменты ясности, которыми как будто обеспечивается всё —
одновременно бездумья, не-обращения-внимания. — Насекомые:
инженерия тела.
300
В. В. БИБИХИН
Захват. Кто хватает? Захваченный.
Правое и левое. Середина?
Сказать: пространство только пример, можно другие, или
другие пространства
Вещь-в-себе одна? Может быть. Мы не знаем.
(!) Посмотреть на свое не можем, потому что там род. Не
можем как на среднее правого левого, мужчины-женщины, как за
зеркало, как на природу, как на мир (!!!). Род: мужчина-женщина.
Соловьев. Не трудность, постепенность — а абсолютная непро-
глядность, запрет. Как иррациональное чиоло.
Как я и другой: он неприступен.
Как я правого и левого.
Не так, что вещь в себе неприступна — но она ближе как род,
чем явления (тело + душа).
Свое за углом. Мы сами не свои. Мы не в себе. Я половина,
символ — если я не сознание. Как сознание я сам себя ставлю как
хочу, сам себя определяю...
Думают от сознания постепенно прийти к Сверхсознанию.
Думают, что достаточно диалога. Включения. Пересчета. Полноты.
Другой операции. Но требуется никакая из известных операций.
Операция получения человека из мужчины и женщины. Как ее
предлагает выполнить сознание. Мы знаем, что сознание будет
силиться, развернет всю свою изобретательность — и зайдет в тупик.
Разбор Соловьева.
Что тогда надо предпринять. Стать Богом, Сверхчеловеком,
Всечеловеком. Deus ex machina. Пойти в монахи. Или вступить
в семью. Что угодно, только не признание, что сознание не может.
Просто не может. Вещь — человек — в себе, в роде абсолютно
неприступна. — Может быть ее нет? Может быть женщин и
мужчин нет? Человек всё-таки есть, как я говорил на прошлой паре.
Формы семьи, общества, государства, спроецированные
неприступностью собственно человека, не могут быть ни поняты,
ни изменены сознанием: они опираются на неприступность
собственно человека.
Я сам не свой. Я не в себе. Я вне себя. Строгие формулы.
(Кстати, мы не говорим «я сам свой», «я в себе», «я внутри себя»).
Язык! Родовое и мое?
Зеркало: в пространстве никогда левое и правое не совпадут,
т. е. мы видим руку не в ее собственном.
Как день-ночь не совпадут, созданные друг другом, слитные?
В искусстве правое-левое снято?
24. ВЕЩЬ В СЕБЕ И ПРОСТРАНСТВО
301
Интерпретация Канта (когда время и пространство
прохудились): система информации (постав), расписание, ориентация,
идеология. Что не «свое» — знали; теперь знаем, что она
построена на отсутствии и из отсутствия своего, т. е. будет миновать свое,
собственное именно потому что нацелена на него! — И она будет
абсолютно всеобъемлющей, везде проникающей, как отсутствие
своего везде проникает. Другой, другое.
Открытие — открытие, алетейя — всеобщее: знание —
рождение. Открытие:
Свое, собственное — схватывание. Видение — ведение. Мы
не можем видеть иначе как свое, собственное — для нас ничего не
существует иначе как «схваченное», «освоенное».
Никак и ничего, иначе как свое собственное. Бог: богатство,
добро: наше.
Тогда по-другому посмотреть на захват, свое, собственное.
Напор как раз там, где взять — по Канту — абсолютно
невозможно.
Т. е. свое машина для освоения! Как спо-соб отношения к
другому. Мы не можем, именно потому что можем.
Вещь an sich, в своем: т. е. в родном, роде. Т. е. в том чего
нет, что своим быть не может. Индивид, чем больше он род, тем
больше индивид.
Всё, что говорилось о захвате, о собственности на мир — это
о-своение, способ нашего отношения к Своему-роду. Вещи не
могут для меня быть иначе как моими — только так я могу к ним
приблизиться (только через собственность!): т. е. к тому, что они
никогда не мои (Лосев снова). И снова я захочу уловить это
родовое вещей, и снова смогу только через родное. Словно они — одно.
Но они противоположны.
Научное познание природы обусловлено тем, что она
оставлена.
Какую-то связь с вещами в себе сверхчеловеческий разум
имеет, так поднимись человек над собой, почему нет, как Соловьев
увидь Софию или сообщи символами... — это Канту, конечно,
можно сказать, но его-то задача и интерес другой: почему нет
плавного перехода, а наоборот: почему стена, почему отсутствие
богов <...>: почему чем пристальнее, тем отчетливее
неприсутствие Богов — и наоборот.
Смиренный разговор веры, царственный, государственный
разговор философии. И более трудный — труднее там сохранить
смирение.
302
В. В. БИБИХИН
Я чеповек-одиночка, очевидное дополнение до человека
в женщине. Различие между Я и человеком. Я как имя, личность,
сознание.
Жизнь в картине, внутри картинки. — Если бы не было
картины мира и образов его частей, миллиардам не было бы где жить.
Люди делают повторяют жест Канта миллионы десятки
миллионов раз, чем меньше они знают Канта тем чаще. Люди живут на
фото, на экранах, в газетных фразах, в образах фотомоделей.
«Я человек». Или мужчина. «Одно и то же». Но есть ли у вас
опыт вашего умножения в два или три или четыре тела, из
которых все движутся, отзываются на еду, музыку, атмосферу, степень
нервности.
В матриархате кроме сомнительной правды о далеком и непод-
тверждаемом состоянии общества есть другая, прямо нас сейчас
касающаяся правда, что ориентация на «продвижение», «прорыв»,
«открытие», на технику современной цивилизации не единственно
возможная, возможна другая даже до противоположности.
Ошибка экзистенциализма. Они определяли человека как
Дазайн. Человек — закрыт (закрытое свое? дазайн занят тем, что
определяет и себя и человека. Человек при этом закрыт
принципиально!)
То, что наше, свое. Чем больше я хочу понять свое рода,
например человека, тем больше я обязан уходить в свое Дазайн, вот-
этого-данного. — Этих двух свести в одно я должен?
Я рискую — а человек во мне рискует? И да и нет.
Тогда дазайн — сознание? Может быть мы недооценивали
сознание? То, что продолжается? Но во сне, в бессознательном что
продолжается, нас уже не касается?
Кто-то абсолютно вне всех структур, ничем не связан,
ничей, свободен — кто это? Мы установили, что не человек.
Платоновский пользующийся?
Всегда всякое взятое, захваченное через барьер, порог?
Я — место захвата?
25. Владимир Соловьев. Мужское и женское
(5.4.1994)
Когда я говорю, что люди надеющиеся на конец метафизики,
мета-физики, похожи на поросят в соломенном доме, поверивших,
что волки уже все отстреляны, а потом вместе с Жаком Деррида
отказываюсь объявлять апокалипсис, или приближение к нему,
или страшный суд <— почему>?
Потому что есть монополия на собственность земельную, или
денежную, или нефти и газа, и мы эту собственность нашли
возможным поставить под вопрос, объявить ее сомнительной в свете
и гегелевского принципа свободы собственности, который так или
иначе будет требовать своего, и в свете проблематичности всякой
собственности, принадлежащей собственно кому, — тогда этот
«кто» становится принадлежностью собственности, ее
функцией. — Но точно так же есть монополия на собственность знания
собственного, собственно сути. Наверное апокалипсис есть,
наверное вещи в себе, собственно вещи, собственность вещей, их
«своё» есть — но другое дело обладание знанием о них.
Неверно, что с собственностью на имущество проблема только
одна — получив ее, быть потом нравственным и, скажем, стать
меценатом, или спонсором, и выделять всё-таки немного денег на
искусство или благотворительность, т. е. на добрые цели. Проблема
есть и другая, даже помимо проблемы добра и зла, что эта
собственность никогда не сама по себе, она у-словна, об-условлена
у-словиями существования и самой собственности, своего, самого
себя и т. д. Собственное, своё тут никогда не надежны.
Со знанием проблема опять же не только та или главная не
та, что знание можно применить на добро и зло, потому что
может быть вообще и сразу, независимо от добра и зла, вкривь идет
всякое знание, не знающее, что вещь в себе неприступна, т. е. что
к собственно вещи не подступиться: схватить ее нельзя, она не
304
В. В. БИБИХИН
подлежит по-ниманию, кон-ципированию, be-greifen. Говорить
о том, на добро или зло я кладу то, что по-нял, когда то самое
от по-нимания ускользнуло, почти пустое занятие, всё равно что
планировать, что я куплю на деньги, которые я не получил. — Вы
можете сказать, что планировать небессмысленно, потому что
я могу их потом всё-таки получить. На это у Канта есть
жесткое, отрезвляющее соображение: если вы не получили прибавки
к окладу, то думайте, что эти деньги не существуют в природе.
Почему собственно не существуют. Почему Кант советует на
них не надеяться. — Это связано у Канта со знаменитыми ста
талерами, которые, говорит он, как бы интенсивно их ни
мыслили — и именовали — всё равно не появятся у нас в руках149*.
Невозможность схватить вещь в себе такого рода, как
невозможность усилием мысли сделать так, чтобы прибавка, о которой
я думаю, оказалась у меня в руках. Невозможность достать вещь
в себе не такого рода, как высокая вершина, на которую подняться
можно только жестким применением техники, скажем со
сверхсовременным сооружением и в кислородной маске. Поэтому
говорить, что вещь в себе высока или духовна, вводит в заблуждение.
Высота духовного постижения имеет сюда отношение, потому
что вещь в себе по Канту умная сущность, но у нас наверное было
неверное представление об идеальном. Идеальное отгорожено от
нас чем-то элементарно простым, близким, совсем непохожим
на то, что мы привыкли считать духовной высотой, требующей
молитвенного напряжения или как. Какого рода невозможность
вычертить, выстроить, вымыслить то одно, что раздваивается на
форму руки моей и форму руки тоже моей, которую я вижу в
зеркале ту же самую и совсем другую?
Мы надеялись что захваченность (и захват мира) ключ к
своему. Встал порог «узнай себя», это трудно, потому что человек
завис между ничто и целым миром. Еще отчетливее —
неприступность вещи в себе (души) у Канта. Посмотрим одну
отчаянную попытку пробиться через эту неприступность. Разберем
сегодня немного подробнее с помощью Владимира Соловьева,
переводчика «Пролегомен» Канта, пример, мужского и женского.
Это одна из главных тем, если не главная, «Оправдания добра».
«В половой любви человеческой есть сторона положительная,
которую я для ясности и краткости назову „влюбленностью"...
...Она по преимуществу относится к целому человеку, для влю-
,49* См. об этом: В.В. Бибихин. Энергия. М.: ИФТИ св. Фомы, 2010, 3-я
лекция.
25. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 305
бленного психическое и телесное существо любимого хотя
разным образом, но в равной степени интересны, значительны,
дороги, он привязан к ним с одинаковою напряженностью чувства»
(229-23О)150. В каком смысле здесь сказан «целый человек»? Как
будто бы пока только целое из души и тела? Но Соловьев не
может не заметить или скорее обязательно почувствовать, что целый
человек это во всяком случае не только тело и душа! но и
мужчина и женщина, одно мужское не имеет права большего сказать
«я человек», чем одно женское, или я не прав и человек это только
материя? Допустим женское это только материя, тогда всё равно
человек целый это не только душа и тело, но и зародыш, семя
и материя. Сейчас Соловьев скажет уже не «целый человек», а
«совершенный человек», с мыслью о полноте уже не души и тела,
а человечества как рода. Целое мужского-женского указывает
на целое человечества как рода. «В пору расцветания всех сил
человека в нем открывается новая духовно-физическая сила [т. е.
значит новое целое], наполняющая его восторгом и героическими
стремлениями, и высший голос говорит ему, что эта сила дана
ему недаром, что он может воспользоваться ею для великого, что
то истинное и вечное соединение с другим лицом, какого требует
пафос его любви, может восстановить в них образ совершенного
человека и положить начало такому же воссозданию во всём
человечестве» (230).
Человечество может казаться большим по сравнению с двумя,
но порог между одним и двумя в каком-то смысле круче, чем
между двумя и человечеством: вообразить свое единение с
человечеством не так трудно, один герой Сартра, Автодидакт в «Тошноте»,
ощущал это единение в плотной толпе. «Все как один»,
«единодушие», «коллективизм», «общительность», «чувство локтя» — эти
и другие выражения показывают, как часто кажется, что человек
может вобрать в себя человечество. На самом деле это не легче,
чем мужскому вобрать в себя женское и наоборот. Там кажется,
что одиночка и есть уже образ человека, тут встает проблема
невычислимости, невыявимости того общего, полного образа, который
должен вобрать в себя и мужское и женское. Дело обстоит так, что
по Канту эта задача — задача увидеть, соединить, восстановить
собственно человека, т. е. включая мужское и женское, —
абсолютно невыполнима так же, как вычисление среднего общего
между правым и левым. Эта вещь в себе, человек, является, по
150 Вл. Соловьев. Сочинения в двух томах, т. 1. М.: Мысль, 1990. <Ссылки
на страницы в тексте в круглых скобках>.
306
В. В. БИБИХИН
Канту, только не как она сама, только в расщеплении на полюса,
которые явно полюса одного, но так что после расщепления
обратного пути уже нет.
Поэтому Соловьев говорит о совершенном человечестве
и воссоздании человечества в особом возвышенном или
взвинченном, или апокалиптическом тоне, этим голосовым жестом
показывая, что должно совершиться чудо, невозможность. В местах из
начала «Части второй. Добро от Бога» в «Оправдании добра», гл. 7,
параграф 7, есть ссылка на немного более раннюю работу «Смысл
любви». Мы обязаны, просто обязаны при чтении Соловьева
чистенько отделять у него журналистскую спешку и суету от
гениального видения, утопию с таким тоном, как я сказал, от трезвого
зоркого и детального взгляда. В этом вопросе, мужского и
женского, по неряшливости иногда не замечают, что человек, т. е. мужское
и женское вместе, не абстракция, не отвлечение, не конструкция,
а он реально существует в, например, готовности, пригодности
мужского и женского к сложному химическому взаимодействию,
в котором участвует только мужское и женское, но собственное
существо которых именно в том, что мужское и женское
соединяются вместе, и это взаимодействие важнее и существеннее для
продолжения рода, т. е. для того же самого мужского и женского,
чем простое существование мужского и женского, которые без
их соединения обречены, они умирают в каком-то смысле
раньше чем умирают. Их, вот эти наблюдаемые мужское и женское,
не абсурдно поэтому назвать отвлечениями, абстракциями от
человеческого. — С любой точки зрения, в том числе и с точки
зрения эволюции, мужское-женское вместе, то, чему нет названия
и (или это связано одно с другим) что нельзя наблюдать, раньше
мужского и женского отдельно. То, что это неименуемое нельзя
наблюдать, всего лучше показывает наука, которая всего больше
хочет, в том числе у эволюционистов, увидеть это общее.
У того, что можно наблюдать (т. е. взаимодействие мужского
и женского можно наблюдать, но это наблюдение именно
мужского и женского, и результат этого взаимодействия снова вдруг или
мужское или женское, никогда не показывается ничего похожего
на то, чего патетически ищет Соловьев, который плохо прочитал
Канта и не понял абсолютную, очень жесткую невозможность
достичь «вещи самой по себе»), — у наблюдаемого статус
«частичного бытия» (Смысл любви, II 504151). И пока Соловьев будет
151 Вл. Соловьев. Сочинения..., т. 2. М., 1990. <Ссылки на страницы в тексте
в круглых скобках>.
25. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 307
видеть и показывать эту неисправимую частичность отдельно
мужского и женского, за ним будет стоять вся правда мира; потом
он захочет героическим сверхусилием взвинченной воли
прорваться к «целому» и к «единству» средствами активного сознания, это
будет годиться только для отрицательного подтверждения Канта.
Статья вторая «Смысла любви», § 3: «Бог есть всё, т. е.
обладает в одном абсолютном акте всем положительным содержанием,
всею полнотою бытия. Человек (вообще и всякий
индивидуальный человек в частности), будучи фактически только этим, г не
другим, может становиться всем, лишь снимая в своем
сознании и жизни [!]ту внутреннюю грань, которая
отделяет его от другого» (506)152*. Сверхзадача «снять в своем
сознании и жизни» грань здесь означает вместить мужское и
женское. — Страницей ниже читаем фразу: «мы... осуществляем свою
собственную истину» (свою собственную здесь у Соловьева в
нашем смысле, одновременно нашей истины и истины собственно
нас; собственно я человек; «я всего лишь мужчина» ограничивает
так же, как «я всего лишь женщина»; я делал ошибку, говоря
«человек»; у Хайдеггера речь о Dasein, не о «человеке»). Чтобы
осуществить «свою собственную истину», я (сказать вместо «я»
«человек» мы пока не имеем права) должен — и здесь Соловьев
говорит по Канту — выйти, перейти «за границы своего
фактического феноменального бытия» (507). Феномен, явление — по
Канту то, как единственно присутствует «вещь в себе». Соловьев
смело ставит задачу пробиться в «вещь в себе», в собственно
истину.
Смело или лучше сказать иначе?
Может быть — провокативно. Он по существу готов к тому,
чтобы его предприятие сорвалось. Он ставит эксперимент.
Насколько провокативность, экспериментальное^ черта всего со-
ловьевского направления или вообще черта русского обращения
с идеями, я пока не готов говорить. Можно это заметить у Лосева.
Рядом с провокацией у Соловьева во всяком случае настоящая
пророческая зоркость. Он говорит в тоне пророка — нужно
расслоить — и потому что провоцирует и будоражит, и потому что видит.
Расслоить не так уж и трудно. В том, что я сейчас прочитаю, легко
и ясно вырисовываются очертания того, что я назвал когда-то
философским «надо» — в отличие от религиозного, нравственного,
технического, оно безусловно, общезначимо, относится ко всем
и всегда в любых условиях, не знает исключений, должно быть
152 Разрядка В. Б.
308
В. В. БИБИХИН
сразу и непременно исполнено. Надо, говорит Соловьев, да еще
каким словом, «подорвать эгоизм» (508), освободиться от «оков
эгоизма» (там же), приходят мысли о тюрьме и о динамите, о за-
пертости каждого в клетку, которую нужно взорвать. Мы говорили
тут и так, и по поводу Гераклита об Индре, раздирателе городов.
«Эгоизм есть сила не только реальная, но основная,
укоренившаяся в самом глубоком центре нашего бытия [!]
и оттуда проникающая и обнимающая всю нашу
действительность, — сила непрерывно действующая во всех частностях и
подробностях нашего существования» (507)153*.
Эгоизм будет подорван «только тогда» (508). Когда? Когда
«частное бытие» не просто захочет «в принципе», а будет
выбито силой больше силы эгоизма из своего частного бытия в свое
«собственное», в «собственную истину». Эта сила больше силы
эгоизма — «половая любовь» (там же).
И вот тут начинается красивая сложность, где, если мы не
смажем всё в размазне об «идеализме» или «утопизме» Соловьева
или кого еще, приоткроется математическая отчетливость. Значит
мы помним: эгоизм надо подорвать, он страшно силен, он
коренится «в самом глубоком центре нашего бытия» (лучше нам это
запомнить про «самый глубокий центр нашего бытия» где
восседает «эгоизм», «эго» вы помните это «я»), и выбить его оттуда
может только, «есть только одна сила, которая может изнутри,
в корне, подорвать эгоизм, и действительно его подрывает, именно
любовь, и главным образом любовь половая [!]» (507). «Только
при этом, так сказать химическом, соединении двух существ [сом^·
намбулическое письмо, я сказал бы, где как во сне сплетены
газетный стиль, обыденность и видение], однородных [одного рода,
человечества] и равнозначительных, но всесторонне различных
по форме [я не знаю, нет ли здесь воспоминания о зеркальном
примере Канта], возможно ... создание нового человека [при
химическом или физико-химическом соединении мужского и женского
возникает новый человек, Соловьев проговаривает эти слова,
«химическое соединение» и «новый человек», но имеет в виду
совсем другое, чем то что происходит при продолжении рода,
имеет в виду то, что нигде не происходит еще и только должно
произойти при осуществлении его проекта! Поразительное
письмо! Одновременно — дрожа от тайны этого — и безусловное уже
присутствие того единения, и его отсутствие] ... создание нового
человека, действительное осуществление истинной человеческой
153* разрядка В. Б.
25. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 309
индивидуальности [т. е. индивидуальности уже не «частичного
бытия», а человека, не отдельно мужского и женского — где?
ответ: в сознании; как? ответ: подвигом, сверхусилием сознания].
Такое соединение или по крайней мере ближайшую возможность
к нему мы находим в половой любви» (508). Господа! мы находим
в половой любви «такое соединение», химическое, или
«ближайшую возможность к нему»? Конечно только возможность, скажет
любой читавший Соловьева или слышавший о его идеализме:
половая любовь как она обеспечивает постоянно продолжение рода
для него стыдное дело и должна быть преодолена, т. е. конечно
она только возможность для «действительного осуществления
истинной человеческой индивидуальности» — но ведь зря слово
не пишется, всё писание Соловьева как один сплошной сон и все
детали равнозначны, слова «такое соединение... мы находим в
половой любви» сказаны!
И мы понимаем почему Соловьев должен был так
написать. Философский императив, философское «надо», кроме
без-условной общезначимости, имеет еще то «свой-ство», что он
всегда уже выполнен. Пример: Гераклитовское «надо следовать
всеобщему» — значит то, что и так уже всегда и все необходимо
неизбежно следуют всеобщему. Соловьев не бредит или наоборот
бредит, вещает как пифия: соединение в человеке уже есть в
половой любви, «почему и придаем ей исключительное значение
как необходимому и незаменимому основанию всего дальнейшего
совершенствования, как неизбежному и постоянному условию,
при котором только человек может действительно быть в истине»
(там же).
Это легко понять, это чисто и просто, за Соловьевым тут вся
правота: человека просто нигде нет, ни в каком даже смысле, ни
в эволюционном, ни в смысле продолжения рода, есть только
осколки мужского и женского, кроме как в соединении
мужского-женского. Человек там есть — и человека нет, он еще только
должен стать. Ситуация, с которой мы много раз встречались.
Ситуация философского абсолютного «надо». «Надо» то, что и так
уже есть и только и есть.
В чем дело? А в том, что человек, одно
мужского-женского, остается скрыт, прочно и неприступно спрятан «в себе», по
Соловьеву — «в своей собственной истине», курсив наш, и чем
явственнее он уже есть, соединение в него происходит в
половой любви, тем отчетливее он остается в себе: в половой любви,
где человек встает, так сказать, во весь рост, мужское как никогда
становится мужским, женское <женским>. Происходит и словами
310
В. В. БИБИХИН
проговаривается, что женское делает в полноте общения мужское
впервые собственно мужским, и наоборот. Просунуться оказаться
на виду шанс для человека в себе, в своей собственной истине
уменьшается, а не увеличивается. Вещь в себе, непостижимый
неприступный человек, проявляется тем, что становится вот уж
совершенно очевидно невидим. Вычислить собственно человека,
мужчину-женщину, невозможно, как при помощи стереометрии
начертить среднее правого-левого.
Именно эту задачу ставит себе Соловьев. Ставит,
возможно, провокативно, чтобы обрадоваться невыполнимости, мы уже
сказали. Он различает между механизмом рода, когда род,
человеческий, просто берет себе свое, продолжается, применяя для
этого мужское и женское (можно вспомнить здесь о платоновском
«применяющем») — и чем? вот чем? как это назвать? Женская
личность, мужская личность интересны, умны, красивы, но оба
только осколки, «символы» — а то, чем запущено в бытие и
прилажено одно к другому мужское и женское, сам собственно
человек, в «своей собственной» истине, разве не еще красивее, умнее,
разве не сверхличность, не что-то божественное? не шаг к Богу,
«во всяком случае»? Платон: красота ума <Федр 250 d>154*. Кант:
вещь в себе не наблюдаема, но она нас пропитывает.
«...Требуется такое сочетание двух данных ограниченных
существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную
личность» (513). Звучит как математическая задачка (!). Эта
задачка как-то решена, биологи и никто не знают как, Богом или
кем, мы не знаем, в человеке, который мужчина и женщина, и
видимы только они, человек невидим, но вот он совершенно близко
как то что делает женское женским, мужское мужским, само
остается неприступным. Здесь загадка, здесь тайна, здесь Бог,
говорит Соловьев, сюда надо сделать прорыв, эту крепость взять
и тогда человеку откроется бытие.
Я сказал «математическая задачка», не заметив, что в
следующей фразе у Соловьева как раз слово «задача» и «дана» (задана)
стоит:
«Эта задача не только не заключает в себе никакого
внутреннего противоречия и никакого несоответствия со всемирным
смыслом [?], но она прямо дана нашей духовной природой,
особенность которой состоит именно в том что человек может, оставаясь
154* [ум невидим, а если бы он был видим, то] «возбудил бы необычайную
любовь, если бы какой-нибудь такой отчетливый его образ оказался доступен
зрению». См.: Платон. Сочинения..., т. 2, с. 186 (пер. А.Н. Егунова).
25. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 311
самим собой, в своей собственной форме вместить абсолютное
содержание, стать абсолютной личностью» (513). Вот это
произносится с уверенностью. Что такое «всемирный смысл». Смысл
чего. Почему всемирный. Он как-то открыт человеку, потому что
человек открыт миру, целому. Оставаясь «самим собой», «в своей
собственной» (опять все смыслы) форме человек может стать
абсолютной личностью. «Сама» человеческая форма должна быть
восстановлена в «своей» целости (515). Человек вернется к себе
в человеке, мужском женском. Ах господа эта вещь в себе,
человек, абсолютно неприступна. Мужчина не может стать человеком,
женщина тоже, человека мы не видим и в принципе не можем
наблюдать, и не там, в чем-то очень возвышенном, Соловьев его —
человека — ищет, а всё гораздо проще: форма мужского, форма
женского есть, форма среднего рода есть только в грамматике.
Сейчас Соловьев это скажет:
«В эмпирической действительности человека как такового
вовсе нет — он существует лишь в определенной
односторонности и ограниченности как мужская и женская индивидуальность
(и уже на этой основе развиваются все прочие различия [!]). Но
истинный человек в полноте своей идеальной личности,
очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной,
а должен быть высшим единством обоих» (513). Единство
обоих — ах — уже есть, оно «работает», хотя оно совершенно
невидимо; нет, требуется «высшее» единство обоих, т. е. само
возвышенное творческое сознание должно въехать туда, выйдя из
мужчины и женщины, в человека, и не воображением, а вобрав
в себя неприступный для мужского опыт женского и наоборот,
т. е. каким-то небывалым слиянием обоих опытов, двух сознаний
в их полном согласии.
Теперь. Допустим такой личности нет. Соловьев не
фантазер, он ранний феноменолог, это за ним заметили на Западе155*.
Феноменолог не конструирует, он обращает внимание.
Идеализация, обожествление («обожание») есть, бывает, механизму
продолжения рода не служит, даже мешает ему иногда, — куда
указывает «обожание», пусть иногда неумело и наивно, разве
,55* «Согласно утверждению X. Дама (Хельмут Дам — католик, иезуит,
уникальный знаток русской философии и наших философских обстоятельств),
не может быть никакого сомнения в том, что философия Соловьева — особенно
в период с 1892-го по 1899-й год — достигла выводов, которые предвосхитили
почти весь методологический инструментарий немецкой феноменологии». См.:
X. Дам. Основные черты русской мысли. СИ. М. : ИНИОН. 1981 (реферат сделан
В. Бибихиным).
312
В. В. БИБИХИН
не в сторону Бога, абсолютной личности, которая просвечивает
за ограниченной «эмпирической» личностью, разве нет? Разве
обожание, восторг, восхищение, идеализация, которые данность,
могут еще иметь другой смысл, другое назначение, кроме
прорыва к той полноте, указывают еще в другую сторону, кроме как
в целого человека? Доведите это, изменение самих глаз, другое
видение того, кем мы увлечены (изменение зрения: «любящий
действительно видит, зрительно воспринимает не то, что другие»
(515-516)), до полноты — это зрение выходит как раз за
границу явления, так разве не к собственно истине всякого явления,
разве не к вещи в себе (в кантовском смысле и в нашем смысле
собственности и в соловьевском смысле «своего собственного»,
наш язык, принятый нами в этом курсе, здесь удобнее и кантов-
ского, и соловьевского и вбирает в этом пункте тот и другой)?
В этом пункте, в полноте человека, в феномене влюбленности,
разве Соловьев не набрел на прорыв из области явлений к вещам
в себе, разве не фиксировал возможность такого изменения зрения
в человеке, когда видно, что
Истинное существо человека вообще и каждого человека не
исчерпывается его данными эмпирическими явлениями (516),
и разве прорыв из явлений к собственности не происходит?
Но, господа, именно происходит. Тогда что, Кант неправ,
говоря, что вещь в себе абсолютно неприступна?
Господа, Кант остается прав. В обожании я вовсе не начинаю
видеть в женском не женское. Прекрасная дама это не дама-ширма,
я никого другого в прекрасной даме кроме прекрасной дамы не
вижу, я вижу в ней мир и Бога, но я β ней вижу мир и Бога, а не
в Человеке, мужском-женском вместе, — эта вещь в себе
остается абсолютно невидимой. Если хотите, она становится тогда уже
совсем окончательно невидимой. Но что мне дало такую остроту
зрения, видеть в прекрасной даме мир и Бога, как не вольтова
дуга, расплавившая «эгоизм», по Соловьеву, меня и отдельность
ее, а она — прав Соловьев — этот пламень, который и соединяет,
и дает по-новому видеть, или эта молния между мной и ею,
обеспечены тем, что мы с нею заранее уже одно, человек, мужское
и женское. Вещь в себе остается неприступной, но вещь, которая
не в себе, вне себя для измененного зрения, в свете другом,
меняется. Это гераклитовский (фр. 90 DK156*) обмен вещей на золото
огня логоса и золота огня логоса на вещи, который уже произошел
См.: Фрагменты ранних греческих философов..., с. 222.
25. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 313
в явлении вещи-в-себе, происходит теперь для меня. Мы должны
будем разобрать, разобраться, для какого меня и в каком смысле
для. — И это хайдеггеровское Ereignis, явление собственного, или
«молния», как переводят хорошо знающие Хайдеггера французы:
внезапное сплавление бытия и сущего, в котором видно опять
снова и даже еще больше только сущее, но как видно! и где бытие
снова, опять не видно, но не в модусе ущербности, привации или
негации, а так, что его невидимость делает особо видимым
видимое. — Я забегаю вперед к Соловьеву, мы разбираем его «Смысл
любви» в порядке вариаций на тему одного примера несхватыва-
емости «вещи в себе» у Канта, которого мы читаем после Жака
Деррида по поводу «апокалипсиса», откровения; мы заговорили
об откровении как апокалипсисе, потому что с обнажением своего,
собственного стало как-то тревожно: на своем, собственном лежит
повсюду, во всех смыслах какой-то запрет.
...Нравственный подвиг и труд... из двух ограниченных и смертных
существ создать одну абсолютную и бессмертную индивидуальность.
Если неизбежно и невольно присущая любви идеализация показывает
нам сквозь эмпирическую видимость далекий идеальный образ
любимого предмета, то, конечно, не затем, чтобы мы им только любовались,
а затем, чтобы мы силой истинной веры, действующего воображения
и реального творчества преобразовали по этому истинному образцу
не соответствующую ему действительность, воплотили его в реальном
явлении (517).
Здесь, мы говорили, тот порог, запрет дает о себе знать в
патетике, взвинченной духовности, делающей задачу заведомо элитарной.
Но кто же думал когда-нибудь о чем-нибудь подобном по поводу
любви? (там же)
Подразумевается: дело идет о сверхзадаче. Ею никто до сих
пор и не занимался. До сих пор:
Свет любви ни для кого не служит путеводным лучом к потерянному
раю (518).
Первоначально человек жил в раю, потом потерял его, и эта
потеря как-то связана с темой мужское-женское, не будем говорить
как. Но и рай тоже — пребывание в раю — связано с темой
мужского-женского, Соловьев цитирует:
В день, когда Бог сотворил человека, по образу Божию сотворил его,
мужа и жену сотворил их (Быт 5, 1).
314
В. В. БИБИХИН
Соловьев истолковывает:
Не к какой-нибудь отдельной части человеческого существа, а к
истинному единству двух основных сторон его, мужеской и женской,
относится первоначально таинственный образ Божий [!], по которому
создан человек (529).
Тогда можно понимать рай как то время и место, когда
полный человек, мужское-женское, умел быть как-то иначе, чем
после того, как Ева говорила со змеем. Кто такой змей? Вопрос
тонет в божественных древностях, куда доступа нет. Соловьев
говорит: тогда сверхусилием подвига надо пробиться к
«интеграции человеческого существа» (530). Он видит задачу как
«существование в Боге» и «утверждение себя в абсолютной сфере»
(532). Это явно трудно, очень трудно, почти невозможно. Человек
предстоит тут Богу. Соловьев думает, что соединение с Богом,
утверждение в Боге — вершина, которая включает в себя все
другие вершины, и если будет достигнута, то будет достигнуто
всё. Но интересно, что Соловьев не замечает другую трудность,
не обязательно требующую именования Бога, очень близкую
и в каком-то смысле можно сказать инженерно-техническую, но,
как ни странно сказать, более непреодолимую, чем трудность
соединения с Богом.
Я имею в виду вот эту самую инженерно-техническую
трудность, исключение среднего рода между мужским и женским,
неизбежность всё более строгого, обязательного возвращения
именно ради «собственной истины» рода снова и снова к
мужскому-женскому. Неприступность рода, так сказать, активная, род
отбрасывает к индивидам: как, мы говорили, осуществляющийся
индивид ничего другого не делает, достигая полноты, как дает
выступить роду, так осуществляющийся род ничего другого не
делает, как выдвигает индивид, всё ярче и отчетливее. Соловьева
не очень интересует, или вернее совсем мало интересует
отбрасывание от рода к индивиду, но может быть способ существования
«собственного» это несобственное. Событие бытия отсылает
к вещам, дает о себе знать только тем, что делает вещи еще более
вещами, еще более неразрешимыми.
Похоже, что это отбрасывание от собственно вещей, вещей
в себе к явлениям, снова и снова, Соловьева смущает, он
винит в этом явления (в кантовской терминологии; несобственные
вещи, мы бы сказали, «вещественное бытие», говорит Соловьев):
«Истинному бытию, или всеединой идее, противополагается в
нашем мире вещественное бытие — то самое, что подавляет своим
25. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 315
бессмысленным упорством и нашу любовь и не дает
осуществиться ее смыслу» (540). Он не готов к тому, что всякий прорыв
«вещей в себе», собственно вещей, и к ним — будет выбрасывать
несобственное, то, что не в себе, как мужское и женское без
соотнесения друг с другом не в себе, сами не свои.
Мы возвращаемся, на этом соловьевском примере рассмотрев
неприступность вещи в себе, к Канту.
При переходе от Соловьева к Канту резко меняется пейзаж,
на первый взгляд он страшно бедный, на деле нет, только Кант
подчеркнуто не говорит и не будет говорить о многом, о
большинстве из того, о чем говорит Соловьев. Почему. Он не будет
говорить о недоступном, о вещи в себе. Он не будет тогда заниматься
и перебором явлений (мужское-женское явления). Чем тогда будет
заниматься Кант? Он будет заниматься критикой, ведь он написал
целых три критики, чистого разума, практического разума и
способности суждения. Это пожалуйста; к критике мы всегда готовы,
ругайте нас, мы ошибаемся на каждом шагу. Мы рады приходу
судьи, еще одному апокалипсису; остановите наши мнения,
покажите, что вещи обстоят совсем не так, как мы их себе
представляем, чем резче тем лучше, у нас раскроются глаза на истину. — Нет
Кант в критике совсем не хочет судить нас, он употребляет слово
«критика» не по назначению? он тогда призывает нас самих быть
критичными? да, но и это не главное. У него не столько критики,
сколько оправдания: он странным образом оправдывает наш
недостаток тем, что это и не недостаток вовсе, наше невидение, а вроде
бы так и должно быть, так что не надо даже и пытаться увидеть
вещь в себе, собственно вещь (его пример: душа, скажем...), не
ради лени, а чтобы обратить внимание на другое, как происходит
так, и почему, «вещи должны необходимо согласоваться с тем
образом, который мы составляем о них заранее и сами собою» (57)157.
Мы страшно много знаем заранее; говорится не с
апокалиптической жутью, а с гордостью за математику, самое чистое создание
ума, такое, что «все внешние предметы нашего чувственного мира
необходимо должны согласоваться во всей точности с
положениями геометрии» (там же). За математикой идут другие μαθήσεις
или μαθήματα, в греческом название «науки» идет в одном ряду
с математикой, она как бы наука наук. Они тоже массу вещей
знают заранее, априори. Мы соглашаемся, радуемся, гордимся;
так оно и есть, так оно и должно быть, наш разум диктует законы
157 Я. Кант. Пролегомены.... <Ссылки на страницы в тексте в круглых
скобках>.
316
В. В. БИБИХИН
природе. «Рассудок не почерпает свои законы (а priori) из природы,
а предписывает их ей» (107). Т. е. не диктует, конечно, но вроде
бы и диктует. — И после этого как назвать, страшным судом или
наоборот, оправданием и гордостью звучит приговор кантовской
критики: всё что мы достоверно вообще знаем, мы знаем
априори, заранее уже. Потому что опыт наблюдения, «чувственного
созерцания», он именно опыт, он касается вот этого здесь и
теперь и чуть другого чуть потом уже не задевает, там новый опыт,
так что никакого знания не успевает прирасти. Или иначе: «опыт
хотя и поучает меня тому, что существует и как оно существует,
но никогда не показывает, что это необходимым образом должно
быть так, а не иначе» (69). Знания у нас сколько угодно, но оно
всё заранее, опыт не накопляется, вещь в себе недоступна. Надо
ли радоваться нашему априорному знанию, если это по существу
знание того, что вещь в себе так и будет оставаться недоступна?
Т. е. например, что мы всегда сумеем считать: один, два, три
дерева, четыре звезды, пять человек, миллион человек, потому что
наделено и заведомо никогда человек, душа не явится в себе, где
он неисчисляем, всегда он явится мнимо похожим на другого, как
зеркальное отражение моей руки обманывает похожестью на мою
руку. — Но моменты гераклитовского обмена вещей на золото,
огонь молнии правящей, молнии логоса? Как всё что
констатирует философия, — этот обмен уже произошел, благодаря ему мы
и «воспринимаем» вещи, и в себе их — что делает? Проявляется.
Зоркость взгляда зорче всмотрится в явление, по-немецки «проси-
яние», т. е. еще дальше окажется от «в себе». Это трудное у Канта,
«отличие чувственности состоит вовсе не в этом логическом
различии ясности или неясности, а в генетическом различии самого
происхождения» (62), познание растет не из того места, где вещь
в себе, совсем не из того; двойственность, или онтологическая
разница, тут абсолютно неотменима.
Тогда что, человеческая наука это наука о человеческом
способе познания? Да, «слово трансцендентальный ... у меня никогда
не означает отношения нашего познания к вещам, а только к
познавательной способности» (67) — но кто ее такой устроил,
познавательную способность? Вещи в себе своей неприступностью.
Поэтому занимаясь в критике Канта только собой, только своими
априори, познание так близко подступает к «в себе», к
собственности вещей, как это только возможно.
Как мы догадались, что вещи в себе, что в себе неприступно?
Но ведь не догадались. Это не опытное, априорное знание (!).
А мы и не догадались. Мы этого даже и не знаем, нам говорят и мы
25. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 317
не верим. Но мы почему-то заранее уже (т. е. еще одно априори)
ведем себя так — у-веренно в том, что мы всегда будем
оставлены. — Я и возвращаюсь к нашему языку, и забегаю вперед. Сейчас
бегло дочитаем «Пролегомены».
«Мы имеем дело не с природой вещей самих по себе, которая
независима от условий как нашей чувственности, так и
рассудка, — ас природой как предметом возможного опыта» (110). Или
это можно сказать так: мы вводим природу как то, где возможен
опыт, т. е. значит и как то, куда можно поместить, где разместить
опыт: в мире природы, во времени, в пространстве. Сам опыт ни
на какой картине не располагается, он точечный и в строгом
смысле не возможен, один раз его имея, я не могу сказать, что — т. е.
вывести из этого опыта — что я буду иметь другой; я априори
ввожу, что могу иметь, т. е. прибавить, добавить к своему расчету
(рассудку) еще один опыт и так далее. Прекрасно и вроде бы всё
в порядке, оказывается что так оно и есть, я могу нанизывать
цепочку опыта. Что происходит с его уникальностью? Она
превращается в единственность места в пространстве и момента во
времени.
Проблема начинается, когда я вглядываюсь в пространство
и время, в их единство, в мир. Пространство и время мира
конечны, могу это априори доказать, и бесконечны, могу это априори
доказать (Боэций Датский). Это тревожит. Можно конечно не
ставить этого вопроса, геометрии совершению всё равно, конечен
мир или бесконечен... Или не всё равно? Или всё равно или не
всё равно — снова беспокойная проблема. Никак подступиться
к миру, и тоже к Богу, и тоже к личности, минуя эти парадоксы
и апории, я не могу и никогда не смогу. Как пространство давало
мне возможность очередного (по-польски хорошо «очередной»:
колейны) опыта и значит науки, так парадоксы это пространство
метафизики, ее почва, ее надежная априорная опора.
Кто всё это делает, строит науку, метафизику? Человек? Кто
есть человек? Тело и сознание. Тело как явление внешнего
чувства в пространстве и времени ничего совершенно не говорит мне
о том, что среди вещей в себе есть это вот наблюдаемое тело
или другие тела; а ведь в основании того, что я воспринимаю как
тело, явно же есть наверное какая-то вещь в себе. И точно так же
тот я, которого я ежеминутно знаю по внутреннему чувству, никак
не может быть спроецирован на вещи в себе, изая стоит в основе
опять что-то в себе, само, собственно свое, платоновский —
скажем теперь — применяющий, о котором ни Я, ни кто ничего не
знает, откуда он, куда, как возник, как пришел, как несет на себе,
318
В. В. БИБИХИН
на основе (133). Лучше сказать так. Трезвее. Чище. Потому что
«в метафизике можно беззаботно врать всякий вздор» (со вкусом,
знанием дела переводит Вл. Соловьев). Только выполняй правило
непротиворечивости — и «никак не можешь быть опровергнут
опытом во всех тех случаях, когда соединяемые понятия суть
просто идеи, которые никак не могут (по всему своему
содержанию) быть даны в опыте» (137). Лучше поэтому помнить, что всё
что я размещаю в физическом или метафизическом пространстве
и времени или в мире и в вечности, «о том я не могу сказать, что
оно само по себе и без этих моих мыслей существует в
пространстве и времени» (139-140).
Мы только подслеповатыми глазами слегка заглянули в мир
Канта, который еще прочитан ли как следует? не знаю — и нам
только эта строгая чистота неприступности собственного (вещи
в себе) сейчас должна была запомниться, на другое у нас силы
мало хватило — а это обязательно для подхода к книге Хайдеггера
«О событии», которую иначе в России, где Канта не только не
прочли, но и специально отбросили, как Флоренский и Булгаков
(оба очень хорошо чуяли, на кого надо именно им коситься),
есть опасность прочесть именно эту книгу Хайдеггера
романтически, как его читает <А.В.> Михайлов («проселочная дорога»,
красивые поля и так далее). А Хайдеггер именно потому и даже
не замечает возможности так прочесть его книгу, что школа
Канта им пройдена основательно как никем — не только через
его учителя кантианца по существу Гуссерля, другого его учителя
кантианца Дильтея (курс о Дильтее ожидается в ВФ158*), но и
потом еще особо, лично. Читаю из Martin Heidegger / Karl Jaspers.
Briefwechsel 1920-1963. Hg von Walter Biemel und Hans Saner.
Fr. a. M.: Klostermann; München, Zürich: Piper, 1990159*, Хайдеггер
10.12.1925, по поводу семинарских занятий по Гегелю и Канту:
«...я начинаю действительно по-настоящему любить Канта» (57).
И повторяет 26.12.1926 в такой связи: «Если этот трактат [«Бытие
и время»] написан „против" кого-то, то против Гуссерля, который
это кстати сразу же и увидел, но с самого начала держался
позитивности. Против чего я, конечно только косвенно, пишу, это
мнимая философия, за что я борюсь, это понимание того, что мы
158* См.: Вопросы философии № 11, 1995, с. 119-145 (пер. A.B.
Михайлова); а также: M Хайдеггер, Г. Шпет. Два текста о Вильгельме Дильтее. М.:
Гнозис, 1995.
159* Ссылки на страницы в тексте в круглых скобках. В настоящее время
существует русское издание: Переписка Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса
(1920—1963). M.: Ad Marginem, 2001; перевод с нем. И. Михайлова.
25. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 319
в философии как центральное Возможное способны — но также
и должны — только повторить. И, по-моему, каким бы трудным
мы себе это ни представляли, всё окажется мало. Несмотря на
многие „тривиальности" и „обстоятельности", всё наверное пока еще
слишком усложнено, чтобы страсть к тому, что само собой
понятно, сделать такой же плодотворной, как умели Платон, Аристотель
и Кант». Начал понимать и любить Канта. Ему кажется странно,
что имена Виндельбанда и Риккерта, ведущих кантианцев, вообще
ассоциируются с Кантом — в связи с ним о них было бы лучше
вообще не говорить (72).
Еще через год с небольшим, 10.2.1928: «Сейчас я ежедневно
„erbaue" mich [букв, выстраиваю себя, идиома, наслаждаюсь,
возношусь, восторгаюсь] Кантом, которого можно подробно
интерпретировать с еще большей силой увлеченности, или
резкостью, или энтузиазмом, чем Аристотеля. Я думаю, что он должен
быть открыт совершенно заново» (86). Ясперс ему отвечает через
два дня: «Как у меня колотится сердце, когда Вы мне пишете
о Канте!... Что такое собственно Кант, я так никогда и не смогу
знать. В данный момент я сказал бы: он наконец-то/в конце
концов [!] по-настоящему серьезно берется за то, что Бог потаен/
сокровенный, и что отсюда единственное познаваемое
требование Бога к человеку: быть свободным. Он истолковывает эту
свободу и умеет в своем бытии и мысли достоинство, которым
располагает человек, нести без гордыни/превознесения; а
ничтожество без тоскливой упадочности» (89). Ежегодно весной Ясперс
и Хайдеггер встречаются в Гейдельберге у Ясперса, 14.4.1929
Хайдеггер не может ехать: занят книгой о Канте («Кант и проблема
метафизики»).
16 мая 1936: «В семинарских упражнениях кантовская
критика способности эстетического суждения — постепенно я
подхожу ближе к делу и поражаюсь и поражаюсь. Швабы, к которым
я всё-таки должен себя причислять, как известно, набираются ума
только после сорокового года жизни — так что остается времени
только на то, чтобы понять, что собственно происходило по-
настоящему в философии. И тогда собственное барахтанье
становится очень безразличным и служит только как подпорка — что-то
вроде веревочной лестницы, чтобы карабкаться в пропастях и по
отвесным стенам. Иногда хочется иметь несколько голов и много
рук» (161).
Вопрос на следующий раз: в свете Канта, можно ли считать,
что искание своего, о чем мы долго говорили, которое
прослеживали и в мысли, и в повседневной ситуации, — можно ли считать,
320
В. В. БИБИХИН
что так дает о себе знать недоступность своего, собственного! Или
надо как-то иначе еще ставить вопрос о своем? — Это мы сделаем
возвращаясь к Хайдеггеру, «О событии собственности», это будет
уже наше последнее чтение в семестре и курсе.
К 12.4.94: Ereignis — освоение? Вещь в себе нас пропитывает,
она в нас, она и есть мы, ведь мы собственно душа. И — она от
нас закрыта, мы другие, нас нет в Боге, в истине? Настолько нет,
что мы способны загубить собственно себя в себе. Невозможно
объяснить, почему получилось так, но единственное, что нам
в этом направлении доступно, — это что возвращение есть,
возможно.
26. Непостижимая собственность. Мировой автомат
(12.4.1994)
Еще раз Хайдеггер о Канте в 1936-м, письмо к Ясперсу 16-го
мая: «В семинарских упражнениях кантовская критика
способности эстетического суждения — постепенно я подхожу ближе
к делу и поражаюсь и поражаюсь. Швабы, к которым я всё-таки
должен себя причислять, как известно, набираются ума только
после сорокового года жизни — так что остается времени только
на то, чтобы понять, что собственно происходило по-настоящему
в философии. И тогда собственное барахтанье становится очень
безразличным и служит только как подпорка — что-то вроде
веревочной лестницы, чтобы карабкаться в пропастях и по
отвесным скалам. Иногда хочется иметь несколько голов и много рук»
(Переписка..., 161).
Точнее последний вопрос прошлого раза: можно ли в свете
Канта, обеспеченности универсального времени и пространства
безусловной неприступностью вещи в себе, <думать> что
искание своего, в искании своего, в освоении как хватке, по-нятии,
интел-лекте, софии и в присвоении как хватании, захвате (мы
говорили о современном захвате в нашей стране), этом первом,
фундаментальном, определяющем отношении человека к миру —
назовем оба эти ряда, «интеллектуальный» и «вещественный», одним
словом, захват мира, в обе стороны, захват мира как захват прием
в борьбе, человек жестко схвачен миром (запомните: сегодня эта
скованность человека миром к нам вернется с неожиданной
стороны) и захват мира, который ведет человек, — можно ли в свете
Канта это освоение-присвоение мира понимать как обязательную
обратную сторону недоступности своего?
Наверное да. Как у Канта время и пространство развернуты
только потому, что мы можем знать только несобственную сторону
вещей, но зато можем знать, надежно и заранее, что вещи всегда
21 В. В. Бибихин
322
В. В. БИБИХИН
повернутся к нам несобственной стороной, — так, в сущности
я говорю то же самое, мы знаем свое только по нашей
способности присвоения. — Может ли то и другое совпасть, т. е. в удаче
и полноте бытия мы сможем, угадаем усваивать, осваивать,
присваивать именно свое? Вещи в себе — собственность вещей?
То, что мы можем ставить вопрос о таком счастливом
совпадении, показывает, что мы еще не усвоили статус вещей в себе.
Было бы бессмысленно, не то что неинтересно, о них говорить,
если бы от нашего умения, хватки, опыта, приобщенности к какой-
то инициации, мы подошли к ним ближе. Тогда подойди к ним
ближе, и дело с концом, приникни к истине вещей, или обожись,
словом выйди из состояния падения, грехопадения, разлуки,
прорвись к реальному миру и так далее, добейся всё-таки истины
как-нибудь, много разных способов обещают. Если мы читали
Канта, если приняли всерьез, да просто если мы не зря тут
говорили так долго, то лучше будет сегодня сказать, я это объявляю
как свою позицию, полагание, кладу это как камень в основание
и скрепляю раствором или бетоном: вещи в себе, собственность,
свое собственное просто (simpliciter, абсолютно) неприступны,
они — примеры правое-левое, мужское-женское, сегодня в связи
с пифагорейцами будут и другие примеры, — устроены другой
мудростью (софией), чем какая доступна нам.
Хорошо будет, если мы представим себя дикарями, которые
как-то оказались окружены немыслимо изящной автоматикой,
японской скажем, но даже не теперешней, а какого-то будущего
или через-будущее поколения, — я говорю об этом мире, он весь
от софии тела до софии мельчайших частиц или космоса
немыслимо сложен, изысканно интеллектуален и красив. Все усилия науки
только подчеркивают, что софия мироустройства неприступна, как
я говорил, не какой-то еще когда там будет высокой божественной
мудростью, а чисто технически, инженерно неприступна, неясно,
как запрограммированы муравьи, строящие муравейник, или
человеческий младенец, или поведение элементарных частиц,
или почему мы тут сидим и о чем и к чему говорим и думаем
и что из этого получится или не получится, из такого проведения
времени, — мы сплошь среди прекрасных неприступных вещей
«в себе», таких технически неприступных, непостижимо
изобретенных. И вот дикари лучше пусть не будут копаться в этой
электронике, у них нет шансов ее понять, не они ее сделали,
самым глупым будет тот глубокомысленный дикарь, который
будет ходить вокруг да около коробок, пытаться палкой отвинтить
винты, усилием сознания и колдовством угадать что там внутри.
26. НЕПОСТИЖИМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. МИРОВОЙ АВТОМАТ 323
Самым мудрым будет тот, кто не от лени или равнодушия, а от ума
поймет, что если ты не часовщик, то не копайся в сложных часах.
Часы еще можно разобрать, а современная электроника
приближается к статусу живого тела, когда лучше не вскрывать кожу, под
ней запаковано такое, что понятно только вложившему. —
И вот, гораздо умнее не копаться в том, что непонятно как
и не нами сделано. Но на электронике есть кнопки, которые мы
нажимаем, и она чудесным образом работает. Вот это наше, это
мы. Нас это завораживает, как детей завораживает вождение
машины. Кнопки это, скажем, язык? Язык как клавиши. Ведь давно
известно, лингвистика это выставляет как свое открытие, что слова
вовсе не хотят проникнуть в субстанцию, или что еще, вещей, они
операциональны, функциональны, они о том и для того, чтобы
обходиться с вещами, нажимать кнопки. Мы так давно к этому
привыкли, что забываем, что в вещах есть еще что-то кроме
нашего употребления, нам это уже не надо. Нет нам всё-таки надо
помнить, что кнопки нажимать мы умеем, но как всё устроено не
знаем, я об этом напоминаю. — Язык именует вещи, но
демонстративно, почти злостно безразличен ко всему в них, кроме
сложившейся, правильной или неправильной, практики применения.
Человек применяющий. Но для какой цели? Как устройства
вещей запакованы, так и цели и вещей и самого же применяющего
человека.
Мир, жизнь, материя. Не то что мир, не то что жизнь, но
просто материя, hardware этой электроники, не найдена, не
изучена. — Сравнения хромают. Как ни далеко идет это сравнение
с дикарями, которые нашли огромный видео-аудиоцентр, массу
запакованной электроники и не знают ни откуда, ни куда, ни
как с ней с целой быть (всякая кнопка пускает в действие только
часть), но вообразите себе таких дикарей, которые сами встроены
в эту систему, ее часть, как в фантастике Виктора Пелевина. Они
же и часть встроенная, и часть которой даны кнопки управления.
Аппаратура и они тоже, часть аппаратуры, всё звучит, играет,
танцует, работает, движется и может взаимно пересекаясь управлять
собой, да в целом и вообще всем вплоть до того, что может даже
замахнуться на другие планеты или даже на звезды, и или образить
и хранить всё, или наоборот, погубить взорвать всё и себя тоже.
При этом, повторяю, неизвестно ни откуда всё взялось, ни как
устроено управление, ни кто собственно и зачем сам
управляющий — просто поездить? но езда не имеет цели. — И вот еще, вне
всяких сравнений, в этой аппаратуре, электронике есть — мы это
чувствуем, и другие имеют сходный опыт и в этом отношении
324
В. В. БИБИХИН
достигали больше чем мы, — что последняя цель, безусловная
полнота, во всяком случае несомненная возможность полного
счастья пользователей во всей этой системе возможна, это система
не приготовительная условная или служебная, она достаточна
сама себе, она в себе окончательна. Счастье некоторым мерещится
во взрыве и разгроме всей этой аппаратуры, а другим — в согласии
с ней, в хранении ее, еще другим в смиренном молчании перед
этой тайной.
Всё связано в одну машину, и мы тоже, человек. Человек,
человечество, включенное в систему мира, возможно, оно
существовало, оно может существовать, оно, может быть, невидимо
и существует совсем рядом с нами не афишируя себя, или может
быть прямо в нас, представим себе в сложной машине еще и
автопилота, который знает и суть дела и цель, <т. е. ему присуща>
та природная добродетель детей, о которой говорит например
Аристотель. — Но примерно шесть тысяч лет ведет не автопилот,
т. е. собственно сама система, а параллельный водитель, двойник
или дублер.
Теперь, почему дублер, разве не работало бы всё и так? Зачем
удвоение? — «Чтобы пользоваться свободой», говорят. Ах мы не
знаем, наверное чтобы пользоваться свободой, еще одна степень
даров свободы. Дублер создан необратимостью софии, тем, что
раз она всё так создала, обратно уже распутать не удастся? Не
знаю, спросите что полегче. Дублер своенравен, он стоит на
своем. Свое он знает своим по праву. «Он знай свое», он знает свое.
Присвоение, освоение, захват — его образ действий. Ему дела как
будто нет до того, что он не знает происхождения и устройства
своей системы.
Всё, что у нас говорилось о стремлении к своему, к имуществу,
хватке, обладанию, говорилось уже о дублере. Вещь в себе —
всегда уже в себе; дублер не в себе, сам не свой, он должен сначала
еще только освоиться. Сравнение опять хромает. Он не тот дублер,
который умеет вместо автопилота, он совсем новый хозяин, на
автопилота не надеющийся, о нем забывающий.
Два, всё равно два. Антонен Αρτο, «Театр [театр для него
мир] и его дубль». Мы дублеры и имеем дело с дублерами. Другое
человечество, разумное, мудрое, которое было будет и возможно
уже есть, тоже как вещь в себе, неприступно, оно не отвлечется
от софии и увидено поэтому не будет.
Для чего нужен дублер? Потому что машины все вдруг могут
выйти из строя и тогда придется всё-таки разобраться? Будут
потеряны ориентиры, и дублер пригодится со своим умением начинать
26. НЕПОСТИЖИМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. МИРОВОЙ АВТОМАТ 325
от абсолютного нуля? Почему машина может — аппаратура —
отказать? Возможно ли, что она не вечна? Сумеет ли дублер
восстановить? — Но начать от нуля и всё построить, конечно в опоре на
аппаратуру, дублер вроде бы теперь каким-то образом и умеет, а
начинал чужим и нищим с абсолютного ума, и так способен к
фантастическим созданиям, инженерным и художественным. — Тогда
он имеет право на свое? Наверное. Почему же тогда его свое не
совпадет с собственным! А ведь не совпадет. Не знаю на всё это
ответа. Но позволю выставить такое не положение, а догадку:
господа, дублер включен в систему, она какая-то такая: она софия:
она не только отдельна, но она и постоянно включает в себя и
для себя отдельность внутри самой же себя. Паузу. Отстояние.
Пустоту. Ничто. Это один из ее шагов.
Я, собственно, слово уже произнес, теперь более
обстоятельно. Спросим, какой способ существования вещей в себе, или как
у Соловьева, вещей самих по себе. «Сам» по-гречески αυτός,
автомат. Μέμαα, μάομαι — стремиться, порываться. Вещи в себе, сами
по себе — автоматы. Услышим это теперь по-новому: вещи сами
по себе. И так, без нашего участия. И мы тоже, люди, рождаемся
сами, автоматически, и не участвуем в собственной софии, уже
с правой и левой рукой и с правым и левым полушарием, уже
с мужским и женским, как-то само собой так получилось.
Вы помните, что правое-левое, мужское-женское входит в
пифагорейские пары. Эти пары не поняты, как будто бы древний
структуралист любил располагать вещи по парам
противоположностей. Суть пифагоровской аритмологии, ритмологии, музыки
не в попарном распределении, а в указании на непостижимый
ум той основы, на которой возникают пары. Когда мы приходим
в мир, то видим сразу правое-левое и другие пары, увидеть то
единое, εν, которым они выброшены, мы никогда не успеваем,
принципиально. Для него нет имени, оно «четно-нечетное» (Дильс
58, Пифагорейская школа В 4160*). Аристотель в «Метафизике» I
(его история философии, неверная) перечисляет 10 парных начал,
право-лево, мужское-женское на четвертом и пятом месте, свет-
тьма (гераклитовские ночь-день) на восьмом, намекающим
образом на девятом добро-зло161*. Несоизмеримость с ними среднего
(его асимметрия, вернее, досимметрия). Пифагорейцев Аристотель
склонен критиковать, не то — сам Пифагор, от которого ничего
написанного не осталось, но Аристотель верит, что Алкмеон Кротон-
160* см : фрагменты ранних греческих философов..., с. 469.
161 * См.: Аристотель. Сочинения..., т. 1, с. 76 ел.
326
В. В. БИБИХИН
ский (Кротонец), который учился у Пифагора, ближе к Пифагору,
когда говорит, что человеческое (т. е. не божественное,
непостижимое) «два» («двоично», пер. <А. В.> Лебедева162*). То, что тут же
Аристотель заговаривает в этой связи о «старинных» (они для него
лучше) мыслителях, что в их первоначалах «больше двух»
элементов, показывает, что по Алкмеону, соответственно Пифагору,
эта двоица не редуцируема, она не следствие отпадения, ложного
взгляда или как второй шаг, за которым надо искать первый. Так
в нашем веке искал математик и физик Вольфганг Паули и отчасти
Вернер Гейзенберг, вокруг «нарушения симметрии», так
называемого в современной математической физике. Насколько я
понимаю, в теперешней этой науке более или менее общепризнано,
что переход от симметрии — она прослеживается в теоретической
физике очень глубоко, до элементарных частиц — <к
несимметричному^ которое просвечивает так сказать «на дне»
элементарных частиц, не поддается формуле. Паули и Гейзенберг думали,
искали, я цитирую Гейзенберга «Часть и целое» <гл.> XIX: «если
у этих частиц», простейших частиц с нулевой массой, нейтрино,
«отсутствует симметрия правого и левого, то следует учитывать
возможность того, что и в фундаментальных [!] законах природы
симметрия правого и левого тоже принципиально отсутствует
и привходит в природные законы лишь вторично»163, в результате
удвоения, двуделения. Если бы пробиться через эту преграду,
найти способ, алгоритм пересчета от раздвоенного,
симметричного (пространство для математической физики организовано уже
преобразованиями симметрии, смещениями или поворотами), то
можно было бы упростить законы природы, прийти к единой
теории поля элементарных частиц. Вольфгангу Паули стало казаться,
что «раздвоение и уменьшение [раздробление] симметрии, вот
где зарыт фаустов пудель [какой-то фокус с возникновением
раздвоенного, двоичного, симметриеобразного мира]»164. Ни Паули,
ни Гейзенбергу не удалось пробиться через грань, отделяющую
раздвоенное от единого. Паули скоро умер. Поразительно, до
какой степени язык этих поздних попыток математических
физиков, — философский, о математическом я не говорю, —
возвращается к пифагорейскому. 58 В 14 а, добавление Лебедева из
Прокла, комм, к «Пармениду»: «Считая, что если полагать Одно,
мыслимое исключительно само по себе, без других [начал], как
,62* См.: Фрагменты ранних греческих философов..., с. 268 (3), 470 ел. (5).
163 В. Гейзенберг. Физика и философия. Часть и целое..., с. 341.
164 Там же, с. 344.
26. НЕПОСТИЖИМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. МИРОВОЙ АВТОМАТ 327
таковое, не сополагая ему никакой другой элемент, то ничто иное
не возникнет, они ввели в качестве начала сущих неопределенную
двоицу»165, αόριστος δυάς. Т. е. сказать «сущее» и сказать «двоица»
одно, никакого дня без ночи, никакого мужского без женского,
никакого верха без низа и т. д. Неопределенная эта двоица потому,
что нет ни имени ни формулы ни понимания ни представления ни
воображения того, что единое в этой двоице, т. е. двоица явно не
первична и не проста, как был уверен Вольфганг Паули, но — чего
Паули не мог понять — она всё равно не редуцируется, она
остается неопределимой, она не-определенная двоица. Пробиться от этой
двоицы к тому одному-общему-среднему, которое явно раньше
нее, не удастся.
Почти — до терминологии — как у Канта, у Пифагора
единица абсолютно и прочно ускользает от наблюдения, понимания,
вообще всякой хватки, как кантовская вещь в себе, оставляя после
себя всегда уже «соотнесенное», со-размеренное, сим-метрическое
(кантовский пример с симметрией зеркала). 59 В 15: «...Он
полагает началами единицу [монаду] и неопределенную двоицу
[диаду]. Из этих начал у него первое соответствует творящей
и формальной причине, т. е. уму — богу, второе —
страдательному и материальному, т. е. видимому космосу»166, точнее было бы
перевести — «находящемуся в таком-то состоянии и
вещественному», «зримому» космосу, т. е. кантовским «феноменам». Ум
того единого, которое стоит за правым-левым и т. д., у Канта тоже
божественный, не человеку открытый.
Иными словами, софия авто-матики собственного, того, что
«в себе», как-то очень надежно, лучше чем любым патентом,
защищена, нашему разуму каким-то хитрым фокусом недоступна.
Можно высказать догадку, почему. Вольфгангу Паули чудилась
в вещах, в которые он прорывался, демоническая сила,
«раздвоение» свойство Мефистофеля и дьявола, думал он. Интересно, что
для пифагорейцев их «симметрия» прямо была связана с добром
и злом; в парах, перечисляемых Аристотелем, за девятой «добро
и зло» стоит «квадрат и разносторонний прямоугольник», я не буду
сейчас вдаваться в толкование «разностороннего прямоугольника»,
он был шагом к многоугольникам, через многоугольники
вычислялось движение небесных тел. Уже Аристотелю темно это
сближение симметрии с добром и злом, у него в «Никомаховой этике»
(Дильс 58 В 7) 1106 b 29 пифагорейцы «образно выражались»
165 фрагменты..., с. 473.
166 Там же.
328
В. В. БИБИХИН
что «зло — свойство безграничного, добро — ограниченного»167.
Я тоже не буду, пока не способен, здесь разбираться. Скажу
только, что мне всё чаще и яснее кажется, что онтология не то что
связана, а в принципе то же, что вопрос («тема», как я говорил),
добра-зла. С этой стороны или с другой, мировая автоматика, я
говорю, страшно надежно защищена (!), до полной неприступности,
в своей софии. Пифагор ввел слово «философия», потому именно,
что говорил о филии, верности такой софии, которая другого
приобщения к себе, никакой причастности себе не допускает,
недоступная это софия, и можно только догадаться об этом и любить
ее. Всё-таки древние были не такие дикари как мы и не такие
глупые, чтобы ломать себе голову над тем, как всё на самом деле
устроено. Другое дело — они ценили и хранили знание того, как
пользоваться всей этой автоматикой (!). Т. е. то, что называется их
онтологией, была на самом деле по замыслу и назначению этика,
и Аристотель не бредил, когда говорил, что политика
архитектоническая наука. И онтология была теологией не из-за архаической
религиозности, а чтобы помнить, какого рода перепад между тем,
с чем мы имеем дело («явления»), и устройством. Человеку
доступен «логос», расчет, но не софия. Например открытие
несоизмеримости: оно начинается с хорошей арифметики, геометрии и
приводит в тупик. Эти слова, «логос», «софия», «филос», в «Жизни
Пифагора» Порфирия 3 (Дильс 14 Пифагор А 6 — кстати, почему
мало фрагментов Пифагора: потому что пифагорейское рассеяно
сплошь по всей греческой мысли), пер. Лебедева168:
Меня посвятил [речь о медной «анафеме» в храме Геры]
любимый сын Пифагоров Арймнест,
Открывший много мудреных пропорций.
И Лебедев имеет право переводить иронически, потому что и
историк Геродот, например, называет его <Аримнеста> σοφιστής. Как
еще для острого житейского ума, «пронырливого», понять работу
выявления дыр в ткани логоса как слова, разума, человеческого
умения. Буквально Арймнест нашел «многие софии», места
непостижимого божественного ума, «в логосах», и это можно понимать
и «где», в структуре, сетке разумных понятий (как
иррациональные в математике), и «при помощи», ведя отчетливую чистую
числовую работу, приблизить к той софии. Дильс 14, II: Ипполит,
167 Там же, с. 471.
168 Там же, с. 140.
26. НЕПОСТИЖИМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. МИРОВОЙ АВТОМАТ 329
Опровержение всех ересей 12, 12: «Пифагор посетил Халдея
Зарату [Зороастра], а тот изложил ему учение, согласно которому
есть две изначальные причины вещей: отец и мать, отец — свет,
мать — тьма... из них, из женского и мужского начала, состоит
весь космос»169. Вот почему не принципиально перечислять пары,
парность идет с самого начала, пройдет через всё, и во всём будет
присутствовать неименуемое досимметричное.
Лебедев, добавляя Дильса-Кранца, выписывает из фрагментов
Гераклида Понтийского (21 а): «Пифагор впервые назвал
философию (любомудрие) этим именем и себя — философом, ... по его
словам, никто не мудр кроме бога». И из Диодора Сицилийского:
«Он говорил, что никто не мудр»170. Мудра автоматика мира,
недоступной мудростью.
Тогда человеческая, или пользователя, зачем? — Ответ в
вопросе: чтобы уметь пользоваться, удерживаясь от бесполезного
разбора (разбор собственных построек нужен, чтобы удержаться
от разбора неприступной софии). То, что называется обобщением,
отвлечением, абстрагированием философии — от чего отвлечение
господа? от вещей? ничего подобного: от грязной (Гераклита здесь
можно вспомнить, его мертвецов и его насмешек над разговорами
людей с тем, кого они считают богами171*) возни с непознаваемым
как познаваемым и с собственными постройками как якобы
реалиями. Философское от-влечение — от пачкотни с вещами. Добавим
к нашим противоположностям абстрагирование и
абстрагирование, или прямо философия <и> философия. Нет ничего дальше
философии и противнее ей, чем философия.
Вы видите, что я только вскользь касаюсь пифагореизма,
пифагорейства, дела здесь — начать и кончить, я сказал, начиная
с того, чтобы заметить, что пифагорейские пары не ранний
структурализм, вполне бессмысленное накладывание схем на бытие,
а указание на нередуцируемую двойственность начал, нередуци-
руемую не потому, что не к чему больше сводить, а потому, что
основа пар не наша софия. Мы не знаем и никогда не будем знать,
какой Софией созданы, и почему именно эти а не другие, морские
звезды, которые можно видеть в зоологическом музее МГУ.
169 Там же, с. 144.
170 Там же, с. 147 ел.
πι* Возможно, имеются в виду фрагменты 96(DK) и 5(DK): «Трупы на
выброс пуще дерьма»; «Вотще очищаются кровью кровью оскверненные, как если
бы кто, в грязь войдя, грязью отмывался... И изваяниям этим вот они молятся,
как если бы кто беседовал с домами, ни о богах не имя понятия, ни о героях».
См.: Фрагменты ранних греческих философов..., с. 236, 240.
330
В. В. БИБИХИН
Еще раз: «потусторонние начала», к которым по Проклу
(«Теология Платона» 14 = Дильс Филолай А 14, добавление
Лебедева) «трансцендировали» пифагорейцы при помощи
математических фигур как образов, для «анамнезиса» о
божественном172, не в потустороннем мире, а здесь на каждом шагу в софии
тела и мира. Мы говорили в начале курса, что софия ловкость,
хитрость, хватка; она умеет уловить свое и захватить так, что и
захваченный ею начинает свой захват; в нашем захвате отражается,
припоминается — пифагоровым словом — всегда уже
случившийся захват софии.
Грустно сидеть дикарями на автоматике да еще и знать, что
мы сами чужие автоматы? Но и так дела достаточно. По Филолаю
(А 16): «в упорядоченности метеоров [приподнятых в воздух,
взвешенных, небесных, духовных, звездных вещей] — софия,
в беспорядочности становящегося — добродетель, арете; первая
закончена (совершенна), вторая» нет173*.
Нельзя сказать, что софия только отталкивает познание, она
и настраивает — пифагорейцев — на число симметрию согласие
и гармонию. В этой стороне надо искать, здесь открывается
хорошая беспредельность, конца числу и математике нет, как музыке
и красоте. Филолай В 6: «С природой и гармонией дело обстоит
так: существо вещей (ά έστω), которое вечно, и сама природа
требуют/предполагают божественное, а не человеческое знание»174*.
Разница софии и наших средств (но и в нас софия и ничего
кроме софии нет! и в то же время не то что софии, но и фило-со-
фии в нас нет, полупустые бледные слова и совсем пустые схемы,
с которыми мы что-то «обобщаем», упорядочиваем, судим,
заключаем, приговариваем!) такая, что можно всерьез спросить,
а живые ли мы, такие разлученные с Софией? может быть, мы
уже умерли, живем мертвые, живые трупы (посмотрите Филолай
фр. В 14)175*. Или не так. Самостоятельность автоматики, в
которую мы включены, такая сильная, что мы давно встроены в нее
с намного меньшей свободой, чем только сейчас человек начинает
быть вписан в компьютеризованное государство, мы вставлены,
вклеены, инкрустированы в софию мира. С воображением
свободы мы делаем якобы поступки, тем временем с неотвратимостью
рока те мы сами, собственно, вещи в себе, нам неведомые, на ко-
172 Фрагменты..., с. 437.
,73* Ср. там же.
,74* Ср. там же, с. 442.
175* См. там же, с. 443.
26. НЕПОСТИЖИМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. МИРОВОЙ АВТОМАТ 331
торые мы с удивлением смотрим во сне, движутся своим путем.
«Филолай говорит, что бог заточил/запер всё словно в тюрьме,
и доказывает, что он один и выше материи» (44 В 15176*). Платон
продолжает эту мысль: (Федон 62 В) о «тайном учении», что мы
под стражей: «Существующее на этот счет тайное учение, по
которому мы, люди, находимся как бы под стражей и что не
следует освобождать самого себя (εαυτόν) или убегать, мне кажется
большим (μέγας) и трудным для понимания, большим и нелегким
для рассмотрения [та же мысль «Законы» X 902 В]. Нет, а вот что
только, Кебет, мне кажется тут хорошо сказано: что боги наши
опекуны, боги за нами смотрят и мы их собственность»177*. Мы,
так сказать, обставлены — во всех смыслах — со всех сторон, мы
не можем буквально шевельнуться, чтобы наша так называемая
свободная воля не пресеклась и через нас не стало говорить что-
то властное, очень сильное и нашему контролю не поддающееся,
как род например.
Платон говорит уже как богослов или так же делали
пифагорейцы тоже, но до введения богов и демонов гармония того, что
пифагорейцы называют симметрией, и так открыта и с
человеческой стороны наблюдается; а с другой стороны уходит туда, где
наблюдать не удается, и человек тут как рядом с океаном Станислава
Лема или опять же как встроен в компьютер по Виктору Пелевину.
176* Там же, с. 444.
,77* Ср. там же.
27. Странность
(19.4.1994)
Платон, «Федон» 62 Ь: «Мы находимся как бы под стражей...
боги наши смотрители и мы их собственность». Это неожиданный
поворот дела, я к нему не готов. В этот пейзаж мы заглянем потом,
или кто-нибудь заглянет вместо нас лучше нас. Вернемся лучше
к тому нашему шагу, с которого нам открылась эта перспектива
перевертывания всей нашей темы. Мы говорили о чем. О фи-
ло-софии. Это слово ввел «софист» Пифагор, чтобы сказать, что
софия, ловкость, с какой всё устроено, не наша, и нам открыта не
она, она никогда не может быть нам открыта, а то, что она стоит,
что вообще стоит, она до-стойна, чтобы ее любили: перед
оценивающим глазом стоит, не падает, значит выплатить столько, нашу
любовь, стоит.
Замечу только походя, что в этот пейзаж, мы собственность
богов, заглядывали Станислав Лем и Андрей Тарковский в «Соля-
рисе» и собственно та же тема в «Сталкере», это поэзия и вровень
с философией, и в самое последнее время Виктор Пелевин
например в тех своих вещах, где человек оказывается встроен в
компьютер. Он как будто пользуется свободной волей, но его на самом
деле ведут как играющий ведет фигуру на экране компьютера.
Я назвал эту пифагорейскую тему, мы собственность
богов, которую поднять у меня во всяком случае меньше шансов,
чем у Платона, как комментарий к Канту для прояснения того,
как одновременно вещь в себе оставляет «нас» самим себе и
обставляет «нас» своей неприступностью. Опять же от этого
наблюдения мне надо очень мало, только напоминание, против
мировоззренческого оптимизма, что наши приобретения,
научные технические и хозяйственные («человек хозяин природы»),
«наша» собственность будто бы как-то приблизила нас к
собственности вещей.
27. СТРАННОСТЬ
333
Никакая прямая дорога сколь угодно трудная к слиянию
с Богом или с бытием или с космосом для «нас» (кто такие «мы»,
мы постоянно хотим уточнить) не лежит.
Кантовская выучка Хайдеггера воспрещает читать его
романтически, велит помнить о само собой разумеющейся для него
трезвости, и когда у него «существо бытия нас требует, требует
нас», или «употребляет, тратит нас», то здесь надо видеть не
фамильярность наших отношений с бытием, а лучше помнить о кан-
товско-платоновско-пифагорейском ощущении нашей взятости,
обставленности, схваченности не нашей плотной Софией
(хваткой); в Хайдеггере это присутствует и как родная почва традиции,
и намеренно, и косвенно и прямо. Когда он говорит, что бытие-вот,
присутствие «всегда наше», то не в смысле обеспечнности Sein
для Dasein, а в том смысле, что в нашем «вот» у нас нет ничего
за душой готового, кроме бытия, мы относим-ся к бытию всегда,
как раз к тому, что проблема из проблем, вопрос из вопросов, нас
так угораздило устроиться. — Когда в конце концов бытие не
становится у Хайдеггера менее проблематичным, наоборот, он не
устанет искать способов напомнить нам (как Аристотель), что как
оно было вопросом из вопросов, так и останется, «исследователи»
сердятся, где же руководство к бытию. Но руководство там есть,
руководство к тому пониманию, что может быть единственное,
к чему нет руководства, это бытие. Зоркие исследователи
открывают: смотрите-ка, у него не найти даже определения бытия. Но
определение бытия есть: оно то, что нам не определить, не нам
определить. — Но нам нужны совет и поучение? — Но вся эта
мысль совет, поучение и школа, как стоять, когда основание, на
котором стоять, не наше, собственное.
Da, «вот», в «бытии-вот», Dasein, указывает не на то, что
бытие тут подступает к привилегированному существу, а то, что
всё «наше» вот не имеет ничего показать, кроме самого
отдельного, неприступного. Т. е. это значит что обычно или почти всегда
всего естественнее нам молчание. Опять: чуть ли не самое
известное о пифагорейцах — что они молчат, когда не пишут или
когда говорят иносказаниями. Математика один из способов их
молчания. Но и Кант весь выдержанное молчание, терпеливая
затаенность.
Бытие это собственно собственность. Для нас дело идет о
собственности бытия. Иметь ее и хранить мы можем только как тему,
как вопрос о ней. Ответ на вопрос, кто мы собственно сами,
оказывается нашим вопросом, нашей способностью спрашивать
о бытии; бытие, определяющееся для нас как то, что для нас
334
В. В. БИБИХИН
вопрос вопросов, подходит, подступает к нам как вопрос, не
вопрос о бытии, а как то, что мы просим, что просится в нас, — как
нужда. — Возвращение к бытию — поэтому возвращение (для
нас) к способности искания и вопроса, не больше и не меньше.
Не к улаженному или блаженному состоянию, поэтому мы не
обязательно должны спешить туда, где нам обещают успокоение
и удовлетворение. При этом не надо разжигать в себе «вечную
неудовлетворенность». Достаточно заметить близкое.
Одно из определений Dasein: Verzicht, отказ, отречение,
смирение со своей участью. Платон говорил о собачьей, охранной
натуре философии. Хайдеггер говорит о стоянии настороже при
бытии для бытия — теперь я спрашиваю, при чужой
собственности? при своей собственности? При близкой собственности, по
сю сторону своего и чужого. Быть в такой мере при чем-то значит
в полной мере отказаться от своего и найти собственно себя, свою
собственность. Это настроение позднего Пастернака.
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.
Ольга Александровна Седакова в статье «Вакансия поэта»178* —
вакансия странная, которую кроме поэта никто не хочет
занимать. Поэты сверхкомплектные, говорил Пушкин179. Это
«сверхкомплектные» надо запомнить в связи с тем, что ниже. — В
хрестоматийном четверостишии Пастернака O.A. Седакова видит
близкое позднему Рильке, стихотворение 1926 г., ответ поэту графу
Ланцкороньскому и о поэтах. В последней строфе здесь говорится:
«Даже во сне они остаются стражами, сторожами: из сновидения
и бытия, из плача навзрыд и смеха сплетается смысл... И когда
он захватывает их, и они падают на колени [!] перед смертью
и жизнью, то миру дается новая мера этим прямым углом их
коленей»180*. Прямым — одновременно правильным и простым.
Такое стояние знак служения и как прямой угол мера, мерило.
Отличие своего вопроса, как прошения в нужде, от вопросов
философов по должности и по «роду занятий», Хайдеггер знает
17«* См.: O.A. Седакова. Проза. М, 2001, с. 611-621.
179 П.Л. Яковлев. Публ. И.А. Кубасов. Русская старина 1903, № 7, с. 214, <см.
в книге> Разговоры Пушкина. Собрали Сергей Гессен и Лев Модзалевский. М.:
Федерация, 1929, <репринт> М: Политиздат, 1991, с. 293.
18°* Перевод В. Б.
27. СТРАННОСТЬ
335
вот в этом: не осведомительский и осведомительный,
информативный или советующий («для использования кому надо, а мы только
поставляем сведения») характер, а втянутость в
хранение-служение. Вопрос к вам, контрольный: о леонтьевском «охранении»
можно здесь вспомнить?
Безусловно. Его «консерватизм» был посильной стражей
бытия; что помимо его философии у него были «консервативные
взгляды», оставим журналистам.
«О событии»: «очень сомнительно, что путем рефлексии
о „нас" мы найдем собственно себя, нашу самость; что
соответственно вообще есть что-то общее у бросания своего „вот" в бытие
с прояснением „само"-сознания. И вовсе еще не окончательно
установлено, что „собственно самость" когда-либо может быть
установлена на пути через представление Я»181*.
Это приглашение к большему или меньшему чем
исследование себя, которое так широко ведут психология допустим или
еще антропология или еще история и другие науки? — И <к тому
что> больше, и меньше. Больше, потому что то, чему служить, что
хранить, придвигается так близко, как к Пастернаку, до тайной
дрожи, и как к Рильке (если то, что называет себя
постмодернизмом, видит свою новую свободу в том, что служит только тексту,
то это неинтересно; но Жак Деррида, например, это служение,
по крайней мере явное служение тем, кого он любит, как Паулю
Целану). Только в этом служении расползающаяся, размытая,
раздерганная разными интересами работа «просто исследования»
человека, всего вообще что встречается в человеке, быстро пере-
магничивается вокруг одной нужды, unum necessarium, которая
дает зоркость, какой никогда не бывает у занятия, только у
захваченное™.
Из-за того, что «проясняющая потаенность» в меру своего
проявления всё больше будет оказываться потайной, образуется
надежность, которая как раз и проясняет всё. Мы понимаем так
кантовскую «вещь в себе», которая надежностью своей
неприступности выбрасывает из себя пространство и время.
Теперь, мы должны разобраться, почему не получается
слияния «нас» с миром, при том что мы, в общем-то, уже слитны
с миром, принадлежим биологической эволюции, ноосфере,
космосу (в «русском космизме»). Я предположил, что софия такая;
что слияние уже есть («нам некуда деться»), но софия отдельная,
»*■* Martin Heidegger. Beiträge..., S. 67. Ср.: ГЕРМЕНЕЯ № 2 (M., 2010),
с. 43^4.
336
В. В. БИБИХИН
ловкое отдельно не один раз, а каждый раз. Тем, что мы не
принадлежим к софии мира, мы принадлежим к софии мира (!). Тем,
что, как сказано в одном ведийском гимне, «посреди вод
стоящего поэта извела жажда» (комментарий современного
исследователя: поэт страдал водянкой; водянка была, говорит Диоген
Лаэрций, у Гераклита) — то, что мы стоим у воды мирового
океана, собственно в воде, и почему-то войти в него всё равно для
нас проблема, и больше того, если мы раз вошли, то по Гераклиту
второй раз уже не войдем, проблема как войти туда будет для нас
такая же острая снова как если бы мы туда не входили, — как
раз это означает, эта нешуточная наша отдельность, что мы уже
войти (!).
Вы понимаете, что я задеваю здесь так называемую «проблему
сознания». Сознание понимает и определяет себя как раз как то
всегда выдвинутое, которое ре-флексирует, со-знаёт, т. е. помимо
всей полноты своего разнообразного знания еще и со-путствует
ему и этим исключительно выделяется из мира. Если догадаться,
что в «феномене сознания» нас задевает, в нас вдвигается
отстраненное софии (не удается перевести гераклитовское κεχωρισμένον;
в его корне χόρα, «страна, земля», у Платона — «пространство,
место»; современность стала то, что у Платона было этим словом,
обозначать другим греческим словом, которое при Платоне для
этой цели не применялось, топос. Топология проблема
современной науки; основываясь на том, что Хайдеггер по крайней мере
иногда говорил о топологии в том смысле, что бытие имеет место
в двух направлениях, оно уместно и только оно всегда и
безусловно уместно, и из него развертываются места), то будет видно, что
создатель сознания не человек и что сознание поддерживается не
усилием сознания; сознание как оно понимает себя окажется
тогда промежуточным и запутанным образованием непроясненного
происхождения. Разбирать это образование мы не будем, нам
достаточно, если мы будем продолжать идти по ниточке сторонней,
отстраняющей софии.
Тогда может быть наш подход к собственному (к вещи в себе)
как отделенному своей неприступностью от «нас» — окажется
еще не окончательным. Наши, собственно кантовские, геракли-
товские и пифагорейские, примеры с правым-левым, мужским-
женским, ночью-днем, — непостижимостью, неуловимостью
того одного, εν, к которому явно ведь сводится правое-левое, но
что увертывается от рассмотрения, сразу вывертывается снова
в правое-левое, — будем, не впадая в догматизм поздних пифаго-
27. СТРАННОСТЬ
337
рейцев, над которым смеялся Аристотель, помнить, что это
только примеры; что для самого Пифагора перебор таких примеров
был, по Аристотелю, неважен, важно было, что отстраненность,
странность проходит через всё. — Введем это слово странность
как термин, толкование-перевод гераклитовского κεχωρισμένον;
софии; будем понимать софию в качестве странной,
отстраненной, — неопределимой иначе как через странность; будем слышать
в «странности» страну, χόρα, и будем считать эту страну для себя
непроясненной вплоть до подробного разбора всей проблематики
места, соответственно топологии, прежде всего в хаидеггеровском
смысле топологии, разработанном у него еще в мысли о про-
странстве, Raum, и местности, Gegend, Gegnet. Пока мы ничего
этого не прояснили, будем слышать слова страна и странность,
κεχωρισμένον, как задачи, проблемы.
Странность правого-левого в том, что например попытки
Вольфганга Паули пробиться к единой теории поля элементарных
частиц через поиски того простого и первичного, что развернулось
в правое-левое, не удались (! а-симметрия); всё, на что натыкался
Паули, был уже результат сим-метризации, удвоения, двуделения,
которое так сказать как-то умело произойти раньше, чем проникал
взгляд. Всякое математическое усреднение правого-левого будет
уже включать правое-левое даже еще в неразвернутом виде как
вектор. Проблема единого основания, из которого
развертываются правое-левое (проблема как представить, определить это
основание так, чтобы правое-левое не оказались бы нами заранее,
априори туда уже вложены, чтобы правое-левое логически или
математически вытекало из того, в чем правое-левое не
присутствуют в виде разнонаправленных векторов, проблема сведения двух
этих сторон к единству), не решена и не может быть решена, здесь
только можно повторить уверенное и вызывающее приглашение
Канта к любому попробовать свое остроумие; и конечно этим
кладется запрет говорить о единстве мира и чего бы то ни было
иначе как условно; запрет говорить о единстве человечества и чего
бы то ни было вытекает и из нерешаемости задачи, провокативно
поставленной Владимиром Соловьевым, единения
мужского-женского; я повторяю это для того, чтобы подчеркнуть: мы говорим
не гипотезы и не точки зрения, а движемся пусть странным
движением и не быстро, но по твердому, что уже никогда не придется
отменять и на чем можно уверенно стоять.
Задача единой теории поля не решена, но обойдена. Для
современной математической физики это сорокалетняя давность,
сейчас все проблемы ставятся иначе, скажут вам профессионалы
338
В. В. БИБИХИН
точно так же, как современный гуманитарий скажет вам, что
в постмодернистском литературоведении проблема совести не
стоит, всё это обсуждается и решается на другом языке, о смерти
и о боге заговаривать с западным продвинутым гуманитарием
неприлично. Происходящее — плюрализация, скажем так
условно — в гуманитарных науках и в естественных параллельно;
нервный, почти раздражительный отход от последних последствий
метафизики захватил и новейшее искусство, например в атональной,
минимальной или алеаторной музыке, в абсурдистской поэзии.
Это стиль века, которым вполне охвачена и наука, едва ли даже не
в первых и передовых, как можно судить по тому, что гуманитарии
пока еще не вошли или даже пока еще только входят в постмодерн,
а модерн это собственно просвещение XVIII и XIX века, так что
в отношении Ницше идет спор, начинает ли он уже постмодерн
или всё-таки еще принадлежит к модерну и его рациональности,
а наука уже успела в начале века и до середины, до в частности
В. Паули, пройти неклассическую ступень и теперь вошла в
семидесятые и восьмидесятые годы в постнеклассическую. Вообще
говоря, обязательное продолжающееся тесное присутствие
метафизики как того, от чего отходит наука, т. е. продолжающаяся
необходимость метафизики для науки в этом самом неотменимом
качестве обязательно преодолеваемой — важная тема, которую мы
сейчас не поднимем. Наша тема всё та же, странность
собственности, странность и собственность, оба слова «термины»,
неопределенные определенности. Физик и химик и идеолог науки Илья
Пригожий, Бельгия, р. 1917, формулирует задачу преодоления
метафизики как эмансипацию «от единой модели понимания»182.
Это надо принять широко. Не обязательно думать об источнике
правого-левого; вообще не обязательно, современному ученому,
предполагать что-то предсуществующее в мире в плане мудрости,
софии, хотя почему не думать и так. Для работы математика,
физика достаточно, что всё есть; этим своим есть всё с самого начала
уже как-то упорядочено, как — это мы посмотрим там и здесь.
Исследование не парадигматично (от первообразца к
последствиям, προ-явлениям), а синтагматично (от одной фракции к другой
без заботы об основаниях связей, достаточна их констатация).
Софийность тут не интересна, она, если хотите, сама собой
разумеется тем, что я описываю: тем, что я описываю, я предполагаю
уже, что мир софиен. Почему я тогда, математик, пишу формулы
на бумажках? Потому что это как-то имеет смысл, не обязательно
182 Переоткрытие времени. — Вопросы философии 1989, № 8.
27. СТРАННОСТЬ
339
в перспективе «применения» этих формул, хотя это применение
почему-то всегда получается (со времени Канта тут ничего не
изменилось; или со времени Платона в «Тимее»). Уж во всяком
случае я математик не занимаюсь списыванием с предсуществу-
ющих в мире формул. То, что формулы как-то лягут на мир, само
собой разумеется.
Мир и я математик с миром в комплекте, я как-то попадаю
в вещи; независимых от меня качеств в мире нет, соответствие
меня и мира встроено в мое восприятие. При таких само собой
разумеющихся отношениях с миром даже не обязательно вводить
так называемый «антропный принцип», он уже оказался сам
собой введен в уверенной практике работающей математики. Каков
сегодняшний человек, такова модель квантовой теории поля; всё
меняется в мире, на переднем фронте конечно, а не в
околонаучных громадных пригородах, от десятилетия к десятилетию;
модели Паули и даже Гейзенберга, который шире, преодолены.
Теперь строятся смежные модели, которые вовсе не притязают
на какую-то цельную картину, на нее не целят. Достаточно
одновременное присутствие, совокупность разнородных моделей при
единстве только исследовательского мира, т. е, опять же
человеческом; оно обеспечено тем, что американские научные журналы
читают в Новой Зеландии, нет железного занавеса, разрушена
берлинская стена.
Всё это кроме как к библиотечным накоплениям куда-нибудь
относится? Да, допустим к объемлющему единству, которое только
надо понимать физически как собрание природы, без метафизики
и Платона. Лет сорок назад была еще тенденция искать
метафизические первооснования, сейчас произошла смена парадигм: в
рамках Паули, скажем, правит еще прежняя парадигма, уже тогда она
была на издыхании, ставила метафизические задачи, строила
метафизическую методологию. Вместо «единство», «цельность» не
будет беды говорить о хаосе, только без опять же мифологического
или этического призвука, может быть в первоначальном значении
хаоса как зияния, открытости. — Не только объекты, которые не
редуцируются к «первоначалам» и потому равноправно разные, но
и методология, стратегия науки каждый раз гибко меняется; и само
выстраивание всей области науки тоже непрерывно меняется. Всё
теперь только операционально и всё в динамике. Единство
всегда — только динамическое, рабочее, нечто образующееся:
складывающееся единство. Можно вспомнить опять Илью Пригожина:
в физике диссипативных систем (это тема Пригожина и его
школы), т. е. систем, чья энергия рассеивается (диссипация) в другие
340
В. В. БИБИХИН
виды энергии, в конечном счете наверное в одну только теплоту,
т. е. в хаотическое движение миллиардов молекул, и в связанной
с диссипацией синергетике, т. е. в ко-операции подсистем, которые
«под-системы» опять же не потому, что входят в одну
руководящую надсистему, а просто потому, что все син-эргируют в порядке
самоорганизации, так сказать организации снизу, по модели
нелинейных волн, или нелинейных колебательных систем, к которым
уже нельзя применить линейное дифференциальное уравнение,
т. е. к таким, где можно ожидать, что неоднородность функции
окажется прерывной, ее изменение окажется не плавным, —
диссипация и кооперация, синергия, это скачок от физики
существующего к физике возникающего, становящегося. Существующее
тут статично, возникающее вероятностно, хаотично. Нам это надо
пока запомнить себе для дальнейшего.
Разумеется, в этом «динамическом», всесторонне движущемся
поле исследуемого и исследования, которые в свою очередь тоже
переплетены, есть константы, основополагающие законы и
формулы и в первую очередь, самым ярким и убедительным образом,
конечно, константы мира, их называют хребтом, становым хребтом
науки, их немного, такие как скорость света 299 792 460 м/сек, или
постоянная Планка, ее называют одним из основных масштабов
природы. Эта величина, h = 6,626 075 * Ю-34, выражает отношение
между энергией (в джоулях) и частотой (в секундах), не
спрашивайте только частотой чего, хотите представляйте как частоту
обращения электрона, лучше назовите ритмом элементарных
частиц. Соотношение между энергией и ритмом так называемых
элементарных частиц во всей природе — константа. Константа
и «элементарный заряд», он не плавно изменяется, а квантуется,
т. е. электричество существует не врассыпную, а именно вот
такими кирпичиками (разумеется, могут быть и связки кирпичиков,
но нельзя уловить один кирпичик, заряды всегда ходят парами,
элементарный заряд всегда абстракция, и в законах природы
никогда не встречается просто е = 1,602 177 3 χ ΙΟ19 кулона,
а всегда только энергия уже взаимодействия двух зарядов, е2).
Эти константы становой хребет науки, они же и становой хребет
мира; говорят, что Вселенная «тонко настроена» на константы,
так что «взрывным образом неустойчива» к изменениям
численных значений этих констант: малейшее изменение например
постоянной Планка, той 6,626 075 χ 10 34, сделало бы совершенно
другую структуру Вселенной; ядра, атомы, звезды, галактики
в ней не могли бы существовать. А человек? Не будем спешить
отвечать.
27. СТРАННОСТЬ
341
При том что эти константы настоящие константы, наука
теперь снова и снова складывается иначе, так что через год не только
мой коллега, но я сам в науке буду иметь дело уже с другой
конфигурацией структур. Откуда они берутся? Нет алгоритма выведения
теорий; идет в дело не только интуиция, что мы знаем скажем по
Пуанкаре, но и случайность — пожалуйста, и бред.
Если бы мир был устройством типа самой сложной машины,
мыслимо было бы считывать с него параметры, как шпион
описывает секретное устройство. Но происходит другое: как если
бы шпион спокойно сидел в своем кабинете и только иногда
выходил из него, чтобы проверить не правильно ли он угадал,
а работает ли его теория. Исследователь не должен опасаться, что
окажется слишком тонким, тщательным, осторожным: любая мера
ума, вложенная в понимание природы, не окажется лишней,
природа никогда не расстроит ученого, что он перестарался и
перемудрил.
Чуть отступим от науки: ученый уважает поэта, музыканта,
философа (в меньшей мере, в меру понимания философии). В
месте всего расцвета человека, гармонии, грациозности, остроты ума,
изобретательности для простого «есть» мира никогда не окажется
обидно, расточительно много, и заведомо для будущих поколений
останется, хватит загадочности этого «есть». И не мы вкладываем
в мир это богатство. Это ясно видно по контрасту с
увлекающими людей манипуляциями с компьютерной автоматикой. Дворец
короля компьютерного программирования Гейтса имеет вместо
стен панели-экраны со всеми мыслимыми программами; но
выбирание из электроники всего, как иногда умеют дети, остается по
существу другим, чем наука о природе. В чем другим — сейчас мы
должны будем это понять.
В новой научной ситуации труднее чем раньше сохранить
строгость науки, и важнее. Планы ввести в науку гуманитарность,
или символизм, или экологизм, или любовь теперь как будто
бы в общем русле ожидания вот-вот новой науки,
сверхреволюции знания. Необходимая научная строгость теперь, когда самые
фантастические проекты проходят мимо экспертизы и получают
финансирование, утверждает себя почти что только post factum,
когда потом оказывается, что наука продолжает быть строгой,
жесткой, и жесткость оказывается богаче кажущегося богатства
мечтаний. Кто еще как-то бережет науку? Теперь особенно ясно,
что не дисциплина школы, научной школы осталось уже очень
мало. Само «есть», с которым имеет дело наука, диктует, оберегает
от творческого наводнения.
342
В. В. БИБИХИН
Отсев настоящего, строгого в науке будет идти по критериям,
которые не прозрачны. Протест охранителей, стражей,
авторитетов, как протест Эйнштейна против квантовой механики («не могу
поверить, что Бог играет в кости», с отсылкой к гераклитовскому
миру-младенцу, который играет в кости), часто оказывается
неуместен перед новым, которое кажется нестрогим и оказывается
строгим.
Метафизика служит науке тем, что наука ее сторонится. На
метафизике лежащий запрет снова и снова возвращает к физике,
к природе. Это обязательное «природа и ничего кроме».
28. Постоянство форм. Странность и рациональное
(26.4.1994)
Господа, времени так мало, а тема становится громадной.
Очень краткое повторение всего, что говорилось за последний
месяц. Раньше, чем мы начнем думать или спрашивать о
метафизическом, как о цели, смысле, апокалипсисе, расписании, нас
остановит странность «всего». Я говорю «всего» в том смысле,
в каком смысле оно обычно применяется. Когда мы говорим «всё»,
мы обычно каким-то размытым зрением глядим и на каждое в
отдельности, и с другой стороны каждое в отдельности сцепляется,
скрепляется для нас представлением о целом: «вообще всё». Нас
остановит, и если до сих пор еще не остановила, то рано или
поздно остановит, странность всего сначала как этого ближайшего
к нам «всего вообще», мира; потом, если мы будем внимавельнее,
нас остановит странность «всего» как каждого, аристотелевского
εκαστον, когда всё окажется парным, симметричным, и общее
каждой пары невидимым и невычислимым. — И всегда лучше,
если эта странность «всего», в тех обоих смыслах, будет
замечена раньше, чем позже, иначе мы будем биться в сетях, из которых
не сможем никогда вырваться именно потому, что они — эти
сети — сделаны из наших же собственных туманных
полупонятий, т. е. они не существуют и потому неразрываемы. Так когда
всякий выход науки в журнал и популярную книгу катастрофа.
Наука живет при таком выходе даже не как рыба на сухом берегу,
а скорее как фотопленка, которую вынимают на свету. Вне особого
света науки, на свету дня пленка сразу бессмысленно
засвечивается. Несчастное мнение физиков, что они знают что говорят, когда
хотят строить единую теорию поля и наивно думают, что единство
в философии беспроблемно. Т. е. у физиков еще хватает хорошей
зоркости видеть, что «философия» и философия, похоже,
противоположности, но вот что единство в настоящей философии — такой
344
В. В. БИБИХИН
же трудности проблема, как единая теория поля в физике — на это
у физика и математика не хватает уже просто образования, и он
не сможет объяснить иначе как фантазируя, почему у Хайдеггера
например такого понятия, термина, «единство», нет. — Философ,
наоборот, абсолютно обязан понимать, в чем дело, что
происходит, почему ученый чуть только оторвав перо от листа бумаги
со своими формами «засвечивается» и обязательно надо, чтобы
не потерять доверия к профессиональной компетенции ученого,
философу понимать, почему такие фразы, по грязи хуже чем
журналистские, у хорошего совсем ученого обязаны возникать, как
«Объединение всех взаимодействий в Суперобъединение в
принципе означало бы возможность объяснить все физические явления
с единой точки зрения. В этом смысле будущую теорию называют
Теорией Всего (Theory of Everything)»183. Причина этого
внезапного соскальзывания науки в способ речи, который для философии
безнадежен и бессмыслен, — проблема, достойная разбора. Если
мысль (философия) должна и может продумать, что она говорит,
то наука, наоборот, должна не думать о каких-то своих понятиях,
чтобы достигать успеха. Попробуйте задуматься в науке о чем вам
хочется, вы полетите из науки ко всем чертям, мы сюда не
мудрствовать пришли о метафизических проблемах, решайте
конкретные задачи; если вам угодно, извольте уточнить с каким объектом
вы имеете дело. — Мы имеем дело со странностью. — Тогда
идите к чертям; у нас есть частица, называемая «странность», она
имеет такие вот параметры, существует такую миллиардную долю
секунды — вы ее имеете в виду? Нет? До свидания. — Наука
абсолютно нуждается, чтобы была ненаука, философия, куда можно
было бы послать задумывающихся. Думать будете в другом месте.
В нашем институте вы работаете.
Я бы хотел, чтобы наука не то чтобы охватила в единой теории
поля известные сегодня четыре взаимодействия,
электромагнитное, слабое атомной оболочки, сильнее атомного ядра и
гравитационное, но не забыла, что она хотела это сделать, как она
забыла искать основание симметрии. Уже сейчас можно спокойно
предсказать, что с переключением внимания от «нашего»
трехмерного пространства на десятимерное или n-мерное пространство
проблема дальнодействия и различие между близким действием
и дальнодействием потеряют свою остроту, космологию станут
больше интересовать так называемые «компактифицированные»
183 Аркадий Бейнусович Мигдал. Физика и философия. — Вопросы
философии 1990, № 1,с25.
28. ПОСТОЯНСТВО ФОРМ. СТРАННОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 345
измерения, она сделает шаг назад к древней космологии, где
соразмерение земных дистанций с космическими было не
астрономической, а астрологической, т. е. онтологической проблемой,
т. е. другими словами звезды наглядно приоткрывали, вдвигали
в земное существование странность, стран-ность в
повседневность, через «влияние» звезд.
Когда я говорю «Хорошо бы наука сделала то или это!», то
я знаю, что навстречу, от науки, идет то же недоумение, почему
философия не дает ничего науке. Та абсолютная нужда науки в
философии, о которой я говорил, имеет форму как раз абсолютной
ненуждаемости науки в постановке и разрешении так называемых
метафизических вопросов, они не нужны. Отодвигание к
философии тем «единство», «энергия» или «сила», «космос» не такое, что
«а вот этим пожалуйста займитесь вы философы», а такое что «да
хоть бы и вообще вы этим никогда не занимались, мы сами свое
сделаем и отдадим себе во всем отчет», заставляет считать науку
и мысль состоящими в отношении, по Нильсу Бору,
дополнительности, т. е. между ними как между правым-левым, как между
всеми парами нет среднего. Наука не поэзия. Не музыка. Кто
запрещает слиться? Едва ли дисциплина. Само «всё» такое, что точность и
строгость, точность науки, строгость мысли, не сольются? Вместо
слияния получается смешение. Слияние музыки и поэзии — еще
один пример — у Андрея Белого оставляет только желание ради
чистоты снова разделить у Андрея Белого музыку от поэзии.
Рядом с открытостью, науки, философии, поэзии,
музыки — охранение границ, стража в конечном счете всё-таки
строгость. Отсев, жесткий, чистых форм от смешений будет идти по
критериям, которые нам не прозрачны; порывы смесить пары
будут кончаться срывами.
Ожидание близкой революции, небывалых масштабов,
в астрономии, в космологии заведомо еще больше очистит науку
от метафизики и скорее всего освободит науку как раз от тех
целей, которые ее сейчас ведут: «всё», «единое», «мир». Это будет
значить, что наука окажется дальше от философской темы «мир»?
Ничего подобного: она будет дальше от грязных промежуточных
смешений и наоборот ближе именно из-за строгости
дополнительности (опять по Нильсу Бору) к настоящей мысли, которая в свою
очередь тогда к тому времени, хочется надеяться, тоже
выпутается из того, что ей казалось «миром», «всеединством» и какие
еще другие слова есть у мороки философской публицистики, т. е.
именно слова. «Слова, слова, слова...» Наука уходит от этого
потопа слов в формулы. Мысль? В молчание.
346
В. В. БИБИХИН
Хайдеггер, «О событии»: «Умолчание — это „логика"
философии»184*. Умолчание и среди говорения, как постоянная основа
речи (текст тканый, ткется по основе молчания). (Основа то,
поперек чего «ткут».)
Устойчивость «форм» непонятна. Впадение атомов,
молекул, кристаллов снова и снова в одни и те же совершенно
определенные формы, живых существ в одни и те же организмы,
философии, поэзии, религии, государства в одни и те же
системы, восстановление после всех ре-волюций одного уклада на
Восточно-Европейской равнине — это попадание форм после
дестабилизации в те же самые без размывания границ (кроме
случаев порчи, сминания, когда форме мешают) объяснения не имеет,
это красивая и говорящая непонятным языком загадка, что вместо
плавного веера промежуточных между обезьяной и человеком
форм палеонтологи находят или обезьяну или человека — точно
так же как в симметрии находят или правое или левое, но не
промежуточное, — но объяснения здесь нет не потому, что до него не
добрались или его трудно достать, а потому, что попытку объяснения
начинает «вести», она выворачивается куда-то в другую область,
креационисты начинают угадывать божественного инженера,
эволюционисты вводят допустим особую эпоху сверхмощного
облучения Земли, когда сразу появилось неслыханное изобилие
мутантов, т. е. действовал не просто случай, а какой-то
сверхслучай. Нет никакой необходимости примыкать к креационистам или
к эволюционистам, для мысли такой выбор не стоит. И настоящий
спор не там, не между ними: эволюция с отличным успехом может
быть инструментом божественной воли, креационизм скверно
обходится с Богом, который будто бы раз всё сотворив отступил.
Впадение всего возникающего в устойчивые формы мы не
только странным образом знаем, мы на себе испытываем,
человечество, впадая всё время в одну и ту же неизменную человеческую
форму, что она окончательна и не нуждается в перемене, что она
«угадана» раз навсегда и правильно, по тому, что человеку без
изменения его hardware не по заданным критериям, а по его
собственной сво-боде доступна полнота (или эвдемония, счастье),
и что сам труд, которого требует полнота, как-то входит в полноту,
делает ее как бы более полной. Человек поэтому не хочет, чтобы
его состояние изменилось, состояние в смысле «организма», и это
согласие с неизменением (для сравнения: механизмы всегда могут
и должны быть улучшены), согласие человека оставаться таким
l84* Martin Heidegger. Beiträge..., S. 78. Ср. ГЕРМЕНЕЯ № 2..., с. 52.
28. ПОСТОЯНСТВО ФОРМ. СТРАННОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 347
как он есть в своем, так сказать, железе, техническом устройстве,
hardware, делает для нас постоянство форм в природе понятным,
в другом смысле понимания, хотя и непонятным (прибавим к
нашим парам, свое и свое, собственное и собственное, что еще было,
философия и философия, еще понимание и понимание: что
человеку бывает хорошо, как-то понятно, хотя непонятно, как).
Если вы умеете объяснить постоянство форм так, чтобы было
«понятно» в информативном обосновательном смысле, то скажите
мне. Я не вижу никаких причин надеяться, что понимание
постоянства других форм в природе — меньшая проблема для
понимания, чем постоянство и полнота человеческой формы. Опять же мы
не обязаны быть партийными, говорить, что человеческая форма
неизменна. Или что эта форма вселенной неизменна.
Мы этого ничего не знаем. Что мы безусловно знаем, что тема
добра нам, господа, вручена. Не абсурдно читать Платона и
понимать, что «идея блага» у него не рядом с другими, например идеей
зла: идея, т. е. род, т. е. постоянное, устойчивое в рождении и
разложении, «сущее сущее», это добро; не абсурдно читать сейчас
Лейбница и еще и еще раз по-новому пробовать понять, как у него
сходятся бытие и благо. Не абсурдно видеть разницу между —
аристотелевское различение — между автоматикой природы («имеет
причину в себе», αύτω) и автоматикой человеческого производства,
которая тянется к самодостаточности, самообеспечению, уже
этим стремлением показывая, что она другая. (Аристотелевское)
различение той и другой автоматики — тема, которую лучше мы
постараемся поставить отчетливо, хотя бы для понимания границ
и перспектив научно-технической автоматики, не в том смысле,
чтобы догматически объявить, что она никогда не сольется с
автоматикой природы, а в том смысле, что если автоматика природы
(мира, бытия) их собственная, и в нашу тему собственности (что
мы еще можем сделать, мы?) надо включить самообеспечение.
Оно нам не очень удается, просто даже мало удается. Настолько
рядом с нами, что просто в нас самих есть такая вещь как жизнь,
которая хоть и не изолированно, а встроенная в мир, умеет
самообеспечиваться. Признаки этого самообеспечения — красота и не-
скучность, ненадоедание, неуставание. «Мы» такое умеем? Явно
не всегда. Пустыня Сахара, похоже, человеческое произведение,
как может быть и другие пустыни: человек неумелым ведением
хозяйства, вырубанием лесов, изменением режима вод нарушил
самосохранение севера Африки. — Древнее орфическое
выражение, «неустающий огонь», оно относится к фантастике, или надо
и неусталость форм и энергии тоже сделать нашей темой, т. е.
348
В. В. БИБИХИН
всерьез отнестись к аристотелевской энергии, которая впереди
становления как нерастрачиваемая полнота185*.
И вот что я хочу сказать. «Само собой» как-то движутся
планеты, Земля повертывается к Солнцу, день и ночь, зима и лето
как-то запускают в ход природу, из которой нам ближе и важнее
живая. Она как-то встроена в неживую. Это происходит как-то
«само собой», во всяком случае ни для каких целей не обязательно
думать, что правящий разум похож на планирующий центр, ни
даже для целей благочестия, потому что Бог, который дал бытию
быть «самому», в каком то смысле не хуже и не слабее, чем тот,
который должен постоянно держать руку на пульте управления.
Но «мы», какие-то «мы», которые говорим, поступаем, нам не
всегда и даже не очень часто удается, чтобы у нас получалось
«само». Кто тогда такие «мы». Мы выпали из природы, из бытия,
из рая, откуда-нибудь еще, с нами происходит что-то неладное, мы
должны вернуться к «ладу», к «гармонии», к «бытию» или еще
куда-нибудь? должны ли мы так думать? или так думать, что мы
«выпали», не обязательно? Не будет беды думать, что мы «выпали»,
но лучше если мы как и в случае с «оставлены бытием, богом»
будем слышать всё слово. Мы оставлены, сохранены — именно
те в кавычках «мы» — допущены; мы «выпали» как случились,
оказались. Из-за того, что мы не знаем, как устроена софия,
ловкость и какая хватка, мирового автомата, мы по-честному не
можем и говорить, как теоретики «сознания», что «нам», человеку,
уделена как-то особая судьба выпадать из мирового автомата. Это
странный автомат, его софия странность, по Гераклиту,
странность не один раз навсегда отстраненная от «нас», а странность
хранящая, сохраняющая себя. Мы нашей странностью,
выпадением, оставленностью принадлежим софии мирового автомата;
наша странность, от которой нам самим не по себе, из-за которой
мы не в себе, из-за которой мы «сами не свои», остранены от своей
собственности, — это то самое в нас, чем мы одновременно
выпадаем из гармонии «космоса», «мира» и принадлежим странной
софии этого мира.
Чтобы перейти к следующему шагу, для меня самого
неожиданному, я сначала сделаю допущение собственно вроде бы
даже и обязательное. Странность отдельна, от-странена от всего,
и эта от-страненность (оставление, выпадение) будет вплетена
во всё что мы делаем, так что всякое наше пространство, как
пространство «рациональности», вещь которая требует проясне-
185* См.: В.В. Бибихин. Энергия. М: ИФТИ св. Фомы, 2010.
28. ПОСТОЯНСТВО ФОРМ. СТРАННОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 349
ния, будет развернуто стран-ностью, и выдвижением вовне себя,
о-странением. Странностью мы выдвинуты — куда? Если бы мы
знали. Вовне мира? в ничто? наверное, но сначала надо, чтобы
и мир и ничто имели место; про-странство сначала.
«Поэты внекомплектные жители света», по Пушкину, надо
читать в связи с гёльдерлиновским, «поэтически обитает человек
на этой земле»: да, поэт внекомплектный, но всякий человек на
этой земле поэтический, всякий странный, странник, это
«поэтическое» есть в каждом. Когда ученый говорит, что он «в комплекте
с природой», то говорит установка на комплектность, то есть
выборочное™ предмета, в котором стратегия странности, странного
в «нас» избирает в нас обходить необходимое. Странность мира
(бытия) в науке как раз то, что не вводится и не может быть в
принципе введено в расчеты науки. Наука опирается на стабильность
форм и отношений, но например она не может вписать в свои
уравнения возвращение к форме как цель. Формулы обмена
веществ в заживающей ране кита будут иметь только вид вступления
химических веществ в реакцию и результата реакции и не может
быть вписан в формулу вектор выздоровления, возвращения в
форму. — Наука может представить, математически сформулировать,
выброс расширяющейся вселенной за время 0, запятая, тридцать
два нуля и потом единица секунды, с разлетанием вещества со
скоростью 1 единица и 50 нулей скорее скорости света, но такая вроде
бы бесспорная вещь, что в любом данном состоянии вещества уже
сейчас неким образом уже есть то, что только будет, нацеленность
на стабильные формы и структуры — наука вроде бы и не должна
этого делать, замечать, что это событие, что всё есть.
Странностью мы называем ту о-страненность, то о-странение,
когда кроме всего есть еще что-то. Σοφον πάντων κεχωρισμένον.
Я не стал бы спешить с дефинициями этого «кроме», что во
вселенной есть кроме всего еще и наблюдатели, или сознание.
Сознание и наблюдатели сами нуждаются в дефиниции. Я не буду
определять «странность», говорить, какая она. Она странность,
сторонность, остранение, начало сторон, правой-левой, и страны,
пространства. Похоже, что опять можно не строить гипотезы
и не вводить новые мысленные сущности, а обратить внимание.
Слово — это сама вещь или знак вещи? Упаси Вас господь думать,
слово сама вещь или знак вещи. Вспомните, догадайтесь, что вы
вступаете на минное поле или <туда> где всё простреливается
снайперами. Вещи явно выделены и прочерчены человеческим
вниманием не без слова, знак тоже имеет градации от признака,
свойства вещи (дым знак огня, стандартный пример), до условного
350
В. В. БИБИХИН
обозначения, как номер очередной галактики в астрономическом
каталоге. Я вовсе не хочу вляпаться тут и вас впутывать в разбор
не имеющий шансов, требующий другого размаха, другого
подхода. Мне сейчас достаточно обратить внимание на эту сложность
отношения, с-ложность, сложенность отношения вещи-слова.
Почему их два, вещь-слово (Платон говорил о нехорошем
удвоении)? Перед нами не странность! Да это она, на каждом шагу
рядом с нами и не замечаемая. Парность вещи-слова, их раздвоения,
расслоения и одновременно неразрывности — это близкое, самое
близкое может быть к нам присутствие странности. В слове
присутствует — в языке — странность мира, его распространенность.
С этой стороны делается яснее, почему язык не знание, по
крайней мере не в первую очередь знание и не познанием создан.
Сама софия, странность, не знание. Не будет абсурдно сказать
(тема Плотина), что София не знает, не сознаёт, как она всё делает.
Если мы не знаем среднего между правым-левым, то не потому,
что нам не хватает знания, а богу хватит. Тут не хватает знания
вообще, никакого знания не хватит, всякое знание будет уже
правым-левым. Настолько бесперспективно предполагать что-то
предсуществующее в плане софии, что не будет <неправильным>
предположить в основании всего случайность, метод проб и
ошибок, естественный отбор. Мы имеем дело с Софией, которая
странная, а Бог по ту сторону ее. Язык — это сама вдвинутость в нашу
жизнь странности. Она загораживает как занавес всё что касается
Бога. За занавесом софии, которая не знание, мы не знаем, есть
ли Бог, не в том смысле, что всё еще колеблемся между теизмом и
атеизмом, а наоборот, что слишком хорошо знаем, что Бог просто
не там где знание, и знание его существования или знание его
несуществования к нему иррелевантно, не попадает в него.
Алексей Константинович Толстой верующий не имел ничего
против эволюции. «Отчего б не постепенно Введены во бытие мы?
И не хочешь ли уж Богу Ты предписывать приемы?» Возможно всё
создано стохастическими процессами. Существенно то, что уже
говорением об этой теме мы выступаем за ее край. Математик уже
написал свои формулы. Мы уже сказали внутренней или внешней
речью. То, с чем мы имеем дело, тем самым уже отслоилось от
чего? от самого себя? остранилось? В чем же тогда собственность
вещей? В несобственности их собственности? Похоже что так.
Отстранение и с ним страна, пространство, ближайшим образом
как пространство темы, вопроса, уже открылось так сказать
раньше чем мы пришли на сцену. Мы уже сказали, показали или
отказали; с-каз уже произошел по крайней мере как отказ.
28. ПОСТОЯНСТВО ФОРМ. СТРАННОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 351
Что язык и мысль это присутствие самой странности-софии,
развертывающей из себя все пространства, об этом учит
современная наука. Она всё больше — особенно в космологии, связанной
и с общей теорией относительности, с квантовой механикой —
«теоретична», т. е. всё меньше привязана к эксперименту — и
наоборот, замахивается через чистую теорию, уже упоминавшегося
десятимерного пространства, на то, чтобы через технологию,
развертывающуюся вместе с наукой, вслед за ней, на экспансию в наш
привычный трехмерный или четырехмерный мир. Теоретическая
модель есть реальность — не значит, что есть такая вселенная,
где эта модель на реальность «ложится», а сама эта модель мир
начинающийся как интеллигибельный, но который встретится
с привычным нам миром, потому что есть места встречи, которые
наука и технология могут устраивать. Фантастические модели на
бумаге надо считать реальными, потому что
пространственно-временные континуумы вспыхивают в событиях этой встречи. Мир,
к которому мы привыкли, окажется тогда только эпизодом в тео-
ретико-фантастически развернутой научной интеллектуальной
вселенной, и технология позаботится о том, чтобы эпизодичность
этого привычного мира стала явственной. — Разумеется, наука
тут и полагается, и рассчитывает на невычерпываемость хитрости
природы, на то, что она всегда обставит самую самонадеянную
«хитрость разума». Наука хочет быть «сумасшедшей», нуждается
в этом, по Нильсу Бору, и ей никогда не удается быть достаточно
сумасшедшей. Этот мир науки и есть тот самый, хотя он
интеллектуальный. Речь идет о мире и пространстве. Пространство
привычное может оказаться только частью многомерного,
затянувшего в себя и время; и это многомерное видение может стать
технологией, а технология может охватить мир и космос.
Язык как вдвинутость в «нас» странности дает о себе знать
в том, что в человеке нет органов речи, ни одного; есть органы,
применяемые речью. Язык кажется накладкой, разве недостаточно
вещи, мира, зачем еще вдобавок удвоение, два, мир и язык. Но
язык, так сказать, всё равно возник бы и если его бы не было. Он
обеспечен странностью (в нашем смысле) мира, всего, целого186*.
Единое не похоже на арифметическую единицу. В отношении
арифметической единицы я прав, говоря, что 1 = 1. Но в
отношении так сказать целого единого, единого всего равенства уже
не получается: ведь единое целого должно включить в себя и то,
186* См. об этом также книги В. Бибихина (СПб.: Наука): Язык философии
(2007), Мир (2007), Внутренняя форма слова (2008).
352
В. В. БИБИХИН
что кроме Всего. Увидеть Всё так, чтобы за Всем мы не увидели
то, что кроме всего, например самих себя видящих это всё, мы не
можем. Другими словами, Единства нет без странности. Логос как
собирание в единство несет в себе логос как кажущееся удвоение,
на самом деле истина не вещь отдельно, не слово отдельно, а
ситуация вещь-слово, ситуация рас-пространенности.
Бытие, которое София, исключительно, и оно именно, и как
прилагательное, не только как наречие. Слово не удвоение бытия,
а странность (распространение) его самого, бытия же. Именно
бытие, т. е. взятое под знаком имени, — собственно бытие.
Бог есть Имя тогда — не в том смысле, что Имя таинственно
вбирает энергии Бога, а в том смысле, что Бог стран-ствует,
остраняется в своем имени: он Бог только как именно Бог, когда
он распространился в имя.
29. Война вокруг собственности
(10.5.1994)
Следующая 30-я пара в этом длинном курсе (3 семестра)
последняя. Ровно через две недели во вторник 24-го мая я буду
в Париже. Жесткое расписание, в которое я включился таким
образом, что не имею права продать или заменить билет. Когда мы
говорили о расписании, то у нас всё получалось так, что
расписание показало нам свою странность, мы спросили, а кем назначены
все эти пункты назначения; назначение стало у нас перед глазами
плыть и destination превратилось в destinerrance, a с другой
стороны в clandestination, и мы перескочили, может быть споткнувшись,
через то, что clandestination всё равно назначение, только тайное,
и тогда есть или нет среди пунктов назначения апокалипсис,
остается тайной. Рассуждать о том, что тайна, как мазать в
пустоте, заниматься σκιαγραφία, писанием тенями или писанием по
тени, мы не будем, и вот почему. Конечно, мы ошибиться здесь
не ошиблись, все объявляющие назначения, пункты назначения,
как в рекламе объявляющий, что для мужчины счастье это купить
бритву «Gillette» с двумя лезвиями и плавающей головкой, или
художник компьютерный модернист, объявляющий, что искусство
теперь должно быть таким и никак уже теперь не может быть
другим, лучше бы задумались, насколько странны их пункты
назначения; как всё, и они тоже, и бритва «Жиллет», тонут в
таинственности. — Но очень сомнительно, об этом уже говорилось,
что заметивший странность расписания впадает в созерцательную
отрешенность и смотрит со стороны на станционную суету. Он
заметил сомнительность расписания, он стал странником. Кто
заманивает в философию обещанием, что здесь человек размышляет
о смысле жизни, о смерти, что в отличие от частных временных
целей он тут ставит себе цели осмысления бытия («давайте
порассуждаем немного», как сказано в одном переводе Хайдеггера),
354
В. В. БИБИХИН
тот, кто заманивает в религию в стиле таких рекламных брошюр,
как «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу»,
или других обещанием блаженной выключенное™ из мирской
суеты, занимаются разве чем-то в сущности другим, чем рекламой
блаженства для мужчин, которые купили бритву «Жиллет»? Наша
задача вовсе не в том, чтобы объявить присутствие тайны, — его
и так, еще чище, чувствуют все, только благодаря тайне мы и
живем, как сказал Федерико Гарсиа Лорка, — и не в том, чтобы
блефовать, вести себя с загадочным видом, что где-то совсем рядом
с нами разгадка тайны, мы ее чувствуем. —
Весь мир играет в компьютерные игры. Мы не можем сказать
что мы не играем в них, что мы не включены в мировой
компьютер. Мы следуем программам, которые мы не обязательно — или
кто-нибудь — знаем, биологическим, социальным, таким, которые
мы не умеем назвать в измерениях, которые нельзя даже называть
бессознательными, потому что «бессознательное» это уже
определение, т. е. рискованное, того, чего мы не знаем; а во-вторых, эти
программы... Программ много, из существующих компьютерных
и других программ мы знаем слишком мало, и знаем ли вообще
достаточно, чтобы с уверенностью говорить, что они нам не
подходят или — ведь все программы очень разные — что сам стиль
программ нам не подходит. Образование, начальное, среднее,
высшее, должно... Его назначение... хорошо бы разобрать
программы методом перебора, или другим. Под знаком надо, хорошо
бы, не стоит — каждая фраза, мы говорили об апокалиптическом
строе речи, о суждении, о категории. Оттого, что словесное
суждение условно и вообще всякая программа условна, — объявление
безусловных, абсолютных программ всё равно условно, — как
мы движемся в этих программах, не условно. Выкладывание
кирпичей или догоняние кого-нибудь в компьютерной игре
условно, но удача или расстройство от неудачи безусловно,
абсолютно; сказать, что мне всё равно, что я проиграл, ведь кирпичи
не настоящие, преступник, за которым я гнался, не настоящий,
«так что мне всё равно», — не получится. А если я не играю? То
же самое: неучастие в игре может быть лучше игры, может быть
хуже игры. — А неучастие в оценках, «мне не нравится ваше
внимание к успеху, не в успехе дело, а в чем-то другом»? Опять:
как всякое участие в программе или в чем бы то ни было может
быть успешнее или неуспешнее, так всякое неучастие может быть
или лучше, или хуже участия. — Это лучше-хуже то самое, что
в философии, у Платона, у Аристотеля, у Лейбница, называется
благом?
29. ВОЙНА ВОКРУГ СОБСТВЕННОСТИ
355
Да. Благо определяется как то, к чему всё стремится, έφίηται,
во что всё пустилось, чем всё захвачено. Если вам угодно, можете
представлять себе запредельный мир, там высокое благо и карта
или мерило, масштаб, лучи, протянутые от этого солнца ко всему
живому, так что всё расписано. — Это «лучше» или «лучше бы
всё-таки» может перестать? Да сколько угодно, наверное. Мы
способ действия «всего» («как всё бывает») уловить и вытянуть
не можем. Когда Владимир Ленский думал о цели жизни,
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал. —
то он имел своим смертельным соперником Евгения Онегина,
который вроде бы не верил надо думать в удивительную
слаженность всего, как Владимир Ленский, который
верил, что душа родная
соединиться с ним должна...
Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.
Пушкин всматривается в этих двух, которые может быть не
очень разные, потому что Ленский был и Онегиным,
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего,
а Онегин
вчуже чувство уважал. —
Пушкин видит дуэль, смерть — и не обязательно выяснять,
чью, Ленского или свою, это ведь не конфликт двух людей,
которые сами удивлены тем, что с ними случается: он видит смерть
около поэта, в этом месте, где поэт, где судьба, где тайна: раньше
смерть вдруг спутает всё, чем прояснится, как обстоит дело с
присутствием поэта. Так защищена у Пушкина тайна, хранитель
которой поэт. Вместо объяснения, лучше, чем объяснение, прояснение
будет сорвано, расцарапано смертью. Пушкин, если бы жил, много
бы сказал и написал, но он умер.
356
В. В. БИБИХИН
А философское прояснение? Оно тоже у Пушкина надежно
защищено, и тоже смертью. Московские философы, любомудры
приглашали его на свои семинары, обсуждать по-видимому новую
немецкую мысль. Пушкин не пошел, ему показалось, что на этом
семинаре будет анализироваться дефиниция веревки, а дело было
через несколько месяцев после повешения декабристов. — Это
очень прочный узел, у Пушкина, в который завязана поэзия, мысль
(Владимир Ленский был и философ, кантианец) и смерть.
Лучше поэтому мы будем осторожнее говорить о софии мира,
о странности. Ее странность жесткая до такой степени, до такой
огражденное™, какую видит Пушкин: «пистолетов пара», барьер,
выстрел, «мгновенный холод», на подступах к тому, что названо
словами «родная» и «семья».
Лучше поэтому пока не поздно всерьез относиться к
жесткости компьютера и к видениям Виктора Пелевина, у которого
компьютерная игра захватывает своим экраном так называемого
«живого человека» или он переходит в экран и во всяком случае
перестает нащупывать разницу между собой так называемым
«живым человеком» и фигурой в компьютерной игре на
уничтожение.
Дуэль Онегина и Ленского и дуэль Пушкина и Дантеса нам
предупреждение, с какими вещами мы имеем дело, говоря о
«родном», о «своем». Другое предупреждение — жесткая война за
собственность, которая, похоже, уже прошла в нашей стране. Так же
жестко знание, которое укладывалось в нас, вколачивалось в нас
само эти полтора года: нет никакого своего без своего; нет
никакой собственности без собственности; своё собственное вещей,
или по Канту вещь в себе, настолько странное, что нельзя даже
сказать, по Канту, что оно нам недоступно. <Вещь в себе> вообще
другая, чем бывает доступное или недоступное, познаваемое или
непознаваемое; мы ее не знаем и не можем сказать, что она знает
нас, или что она вообще знает. Она странность. Присутствие
расписания, книги, языка, программы вокруг нас и строгое
хранение порядка, закона, буквы (может быть беспорядок это самое
ревнивое хранение порядка, т. е. раздавливание всякого порядка,
который можно раздавить, т. е. человеческого, это ревность о
порядке, который нельзя нарушить) — или можно сказать одним
словом программу мы должны принять?
Почему вы не спросите, в каком смысле принять.
Мы не должны принять программу в том смысле, в каком
большевики приняли программу, мы принадлежим софии,
странности, и по отношению к расписанию, к пунктам назначения мы
29. ВОЙНА ВОКРУГ СОБСТВЕННОСТИ
357
знаем, что странность того, как всё схвачено — что если я скажу,
не поддается программе, не может быть расписана?
Мы не знаем. Принять программу в другом смысле, как мы
принимаем то что есть, — в том смысле, что, похоже (пусть кто
смелый сможет сказать, что это не обязательно, что
человечество может как-то устроиться иначе чем по программе,
расписанию), — похоже, что образ действий «наш» невозможен иначе
как по программе. По расписанию. По книге. Или по пунктам.
Кирпичик, из которого складывается расписание, это суждение,
или категория, или определение (можно думать тут об
определении суда). Может ли быть речь без суждения? Сейчас это не наше
дело, но мне уместно процитировать из «Похвалы поэзии», без
комментария:
«Я не могла построить грамматически связной фразы. Многие
этого не могут, но не в такой мере. Родители, испуганные моей
крайней неспособностью „выражать мысли", заставили меня
пересказывать книги. Это не помогло: я стала, читая, заучивать
наизусть целые абзацы и периоды и их повторять. Грамматический
идиотизм процветал в промежутках. Построить свою нормальную
фразу казалось мне чем-то пошлым и бессовестным, будто,
выговаривая и тему, и рему и всё между собой увязывая в роде и числе,
я ряжусь в чужое платье — и нехорошее при этом. Многие
испытывают чувство неудобства перед „громкими" или ходульными
словами. Для меня таким „громким словом" была связная речь
вообще»187. Седакова, которая тогда была не другая чем теперь,
не умела правильно строить высказывание и не хотела правильно
строить: когда ее проверили, оказалось что не от лени не хотела.
Так же как поэт не хочет строить высказывание по схеме «тут моя
тема, предмет описания» — «а тут моя рема, то, что я собственно
сообщаю о моей теме», так и объяснить, почему не хочет, может?
«Потому что я сделаю по-другому, не так как вы меня учите, а вот
так». Ну а вот это он как раз очень хотел бы объяснить, но по-
честному не может. Нет плавного перехода между тем, как поэт
что-то сделает, и программой, к которой одинаково относится и
деление предложения на подлежащее и сказуемое, и «актуальное
членение предложения» на «тему и рему». — Когда-то мы заметили,
что аргумент от несуществования не достает до тех, кого Пушкин
называет «людей священные друзья», «бессмертная семья»,
187 O.A. Седакова. Заметки и воспоминания о разных стихотворениях,
а также Похвала поэзии. — Волга, 1991, № 6, с. 136. <См. также: O.A. Седакова.
Проза. М.: 2001, с. 10>.
358
В. В. БИБИХИН
...есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит —
потому что они могут «и так» — «так» здесь в другом значении
этого слова, о котором я говорил в связи с Лейбницем и с Парме-
нидом; «так», которое не требует, не дожидается показа, «вот
таким образом», а прямо наоборот, «как-то так» (это терминоло-
гизировано, tathäta, tathatva, Sosein, даже в английском suchness
у Сэлинджера, так что я попробовал и по-русски ввести «такость»,
но не получилось) — и поэт, случай мной прочитанный
показывает, не просто лучше других умеет манипулировать словом (как
определение интеллектуала «профессионал в особой области,
слова, умеющий оперировать словом»), может быть наоборот хуже
других, а умеет «как-то так», но слово «умеет» здесь уже не
подходит, потому что тогда покажи, хоть сам пойми — но нет, стоп, тут
уже отказ. — Это то, что я назвал «Софией», странностью,
странностью. В поэзии опять же ясно видно, как ее стран-ность сразу
становится пространством, например для литературоведения, для
анализа стихотворения и так далее: вообще на место, где странная
поэзия, сразу можно прийти, открывается пространство, и
литературоведы, которые очень много замечают, этого, что случилось
до того как вступила их нога, развертывания пространства, не
замечают и не умеют объяснить. В Ригведе поэты раздвинули
пространство между небом и землей188*. — А пространство дискурса,
где суждение, где тема и рема, где определение, где категория, где,
как мы сказали, Апокалипсис, т. е. устремление к смыслу, к концу,
к суду? «Всё движущееся способом ползания наделяется законом
от бича божественной молнии», в одном фрагменте Гераклита189*.
«Молния» я говорю не образ, метафору, а термин философии,
от Гераклита и раньше до Хайдеггера, чье Ereignis Жан Бофре
переводил «молния». Молния, даже если она будет, будет так,
что всегда окажется, что она уже была, мы будем уже иметь дело
с остаточным изображением на сетчатке глаза и с громом,
который после. Когда мы говорили об апокалипсисе, когда он будет,
то можно было заметить, что он будет по способу молнии; молния
188* См. об этом курс В. Еивихина «Грамматика поэзии» (СПб.: изд. Ивана
Лимбаха, 2009).
189* 11 гзк. Ср.: Фрагменты ранних греческих философов..., с. 237 ел.
29. ВОЙНА ВОКРУГ СОБСТВЕННОСТИ
359
у Иоанна Богослова упоминается так — походя (4: 5), — что ясно,
что всё откровение по способу молнии, т. е. апокалипсис будет
так, что всегда окажется, что он уже был, нельзя будет сказать,
что он в процессе. Или, может быть, Апокалипсис уже сейчас был.
Поэтому апокалипсисом, надвижением чего-то совсем другого,
«странного», скажем мы теперь, подвергается апокалипсису
апокалиптический дискурс, — но не приходится говорить об отмене
того, что существует по способу того, что всегда уже, что так
и что вдруг. У чего, по Пушкину, неотразимые лучи.
Практически, однако, в вопросе об Апокалипсисе нам не
надо так далеко заходить, до неотразимых лучей и до молнии,
божественной. Человек позаботится о том, чтобы устроить
апокалипсис. Деррида, которому было 11 лет, боялся, что его исключат
как еврея из школы, и так уже он, хоть первый ученик, встает
позади второго ученика класса, который хоть и второй, но не еврей,
и потому имеет право поднимать флаг; а его брат Рене
15-летний и сестра Жанина 7-летняя уже исключены. Дальше больше.
Маршал Петен и его правительство позволяют иметь в школах
14% евреев, но ректор лицея в Бен-Акнуне, около Эль-Биар, это
почти в пригородах Алжира, столицы тогда французского Алжира,
но чуть в стороне от берега моря, ректор Арди (Hardy) решает что
пора ввести свой маленький апокалипсис и вводит квоту не 14,
а 7%, добавляя: «всякая дробь после целого числа отпадает,
пример: в классе 41 ученик, 7% от 41 — это 2.87, 87 сотых отпадают,
следовательно евреев можно включить только двоих». Осенью
1942 г. Деррида, которому исполнилось недавно 15-го июля 12 лет,
в первый день занятий узнает, что он исключен. — Еще не было
высадки союзников в Северной Африке и совсем еще не был ясен
конец режима в Германии и значит во Франции как теперь, совсем
не ясен, наоборот, — а что с евреями, с нехорошими расами
обращаются всё жестче, страшнее, уже было видно, так что у Деррида,
двенадцатилетнего, должно было быть ясное ощущение, что
совсем рядом огонь, ужас, и только ненадежная завеса французской
прослойки администрации, которую настоящие хозяева немцы
могли всегда смахнуть, его чуть защищает от сплошного кошмара,
который собственно уже тут: власти скорее одобряют, чем
запрещают, чтобы евреям, в том числе и детям в школе, напоминали,
кто они такие, или даже прикладывали руки.
Этот апокалипсис, о котором люди всегда уж позаботятся
и устроят маленький или большой ад, — почему собственно они
должны об этом заботиться? лучше не спрашивать, так было и так
будет, — он, вы скажете, не настоящий апокалипсис, потому что не
360
В. В. БИБИХИН
задевает самого человека, а апокалипсис собственно, настоящий,
попадает в собственно человека, берет его в его сути. Но как
обстоит дело с собственностью, мы зря что ли здесь разбирали три
семестра. Где здесь место для настоящего апокалипсиса, который
ударяет человека в его собственном! Какой будет правильный
ответ, который уместен здесь сейчас и для нас?
Мы не знаем ничего об этом апокалипсисе кроме того, что
мы разобрали — в обоих смыслах, деконструировали и
разглядели, как разобрали очень мелкий шрифт, — в нашем разборе
собственности. Мы увидели, что собственность совершенно
неприступна. Это, однако, не значит, что если апокалипсис захочет
достать человека в его собственном — в своем, — то не сумеет
достать потому что свое и собственное неприступны. Скорее как
раз наоборот, — в том, что в нас есть самого своего,
собственного, нас очень даже можно достать и уже достали хотя бы в том,
что страна одержима, больше чем захвачена и по-другому, даже
без настоящей захваченности, собственностью, и всё что похоже
на собственность, земля, богатство, взято. И если неизвестно,
кто собственно взял, то это неизвестность не секрета, что новые
властители всё захватили и втайне скрываются, а потому что
совершенно неизвестно, кто собственно и что собственно захватил.
Это как в 1917 году, когда стало ясно, что собственность как-то
то ли захвачена, то ли наоборот освобождена, но кто собственно
стал собственником, кроме как какие-то образования в стиле
«скиаграфии», не стало известным и так и осталось
неизвестным. — И если теперь вокруг собственности жутко и запросто
могут убить, то вовсе не потому, что уверенный собственник взял
собственность и стоит уверенно на ее защите, а как раз наоборот,
из-за неизвестности и разборки того, кто собственно собственник.
На самом деле всю эту собственность могут отдать так же легко,
как при большевиках.
Для жесткости в обществе, для апокалипсиса теперь
(«Apocalypse now», фильм Копполы), совсем не нужно, чтобы люди
знали, где собственно собственность — где чья собственность, кто
собственно человек, а наоборот скорее достаточно только, чтобы
люди этого не знали. Чтобы в зимней дуэли на снегу Онегин убил
Ленского, чтобы в зимней дуэли на снегу Дантес смертельно
ранил Пушкина, не надо было, чтобы участники дуэли знали себя
и знали из-за чего дуэль. Жесткость, жестокость, вспышка,
выстрел, страшный суд, скорый, смерть будут скорее всегда вызовом
человека к суду.
29. ВОИНА ВОКРУГ СОБСТВЕННОСТИ
361
Но тогда разбор, как наш, дает мягкое решение этого слишком
реального в человечестве апокалипсиса? Мы успеваем разобрать
то, для чего обычно требуется разборка, так что необходимость
разборки как-то расплывается, рассасывается? — Я не знаю. Мы
ведь тоже собственность не нашли, она отгорожена от нас
странностью, мы оказываемся всё в новых и новых пространствах для
разбора, и когда мы их разберем, с кратким временем и малыми
силами. — Ясно только одно: если с собственностью имеет смысл
иметь дело, то только так.
Именно собственность как странность собственно в себе
не только не исключает имени, слова, так чтобы оставить слова
и перейти к делам, а вместе с Гуссерлем надо прийти к самой
собственности как к Sache, тяжбе, где пространство, развернутое
странностью, втягивает в себя и имя (слово), и совершенно
бессмысленно говорить о стран-ности, что она скажем не в слове, что
она именно не в имени. Эта именностъ собственности заходит
очень далеко. Я не буду разбирать то, что только назвал прошлый
раз, вопрос об имяславии и имени Божием и вопрос о
пространстве, развертываемом новой физической теорией. Античность
жила в другом пространстве, и мы будем жить в другом. Не имеет
смысла говорить, что странность скорее вещь, чем слово. Она
странность, она от всего отдельна.
А наше дело, Sache? Вот эта Sache, спор. Или гераклитовская
война. Или пушкинская дуэль. При всех богатствах мира надо
хранить нищету, в которой только настоящее богатство.
Черточки, буквы, слова, и наши тоже — или формулы
античной геометрии, или современной алгебры — к вещам, казалось бы,
удвоение, на самом деле — относятся к вещам как правое и левое;
двойственность слова и имени хранит в себе, в «между» этих двух,
странность, которая не в вещи, не в слове, а где? Вы мне скажите.
Вещь собственно вещь это именно вещь; и слово собственно слово
это res, вещь («слово это вещь»).
Тогда — мы не знаем, что собственно происходит, когда мы
говорим? Напрасно кто-то думает, что при этом составляются
тексты. Мы не знаем, что через нас на самом деле проходит когда мы
говорим. Откуда я знаю, что через меня проходит. Другое дело, что
я умею всё спутать и нарушить. Моя забота поэтому должна быть
вовсе не о том, что через меня проходит и много ли, пусть
проходит больше, а только о том, чтобы хранить строгость, быть
сторожем, который не вмешивается в то, что сторожит. Всё равно всё
имущество обеспечу не я, всё обес-печено так что не нужна опека,
как-то так. Но кем! Мы готовы ринуться в следствие, расследо-
362
В. В. БИБИХИН
вание, исследование — но следы обрываются, везде, повсюду.
Мы обставлены этим обрывом следов и значит невозможностью
исследовать отовсюду, со всех сторон. Мы везде видим стороны
дела. Саму сторонностъ мы видим только так, что видим, что она
есть, не что она есть. Ну вот точно есть.
Новый круг, 3. Анатолий Ахутин. «На полях „Я и ты"»190*.
Много такого, что неожиданно пересекается с тем, что говорили
мы. «Первослово — слово-пара» (602). Против Бубера, для
которого «Я-Оно» предполагает отказ от диалога, Ахутин видит полную
меру смысла, включая и логос (608) и диа-лог, в «самости бытия
самого по себе», которое совсем особое «оно». С этим
полновесным «Оно» не так просто встретиться, «...речь идет о
предельном бодрствовании всего человеческого существа, требуемом,
в частности, научно-теоретическим мышлением со всей его
экспериментальной и математической изощренностью. Если о таком
отношении можно сказать — „естественное", — то только в том
смысле, что в нем впервые разливается „естественный свет
разума", т. е. многотрудная и сомнительная cogitatio, содержащая весь
мир новоевропейской цивилизации и культуры» (609).
Это близко к тому, что мы говорили, что софии хватит
чтобы вобрать в себя всё, что может развернуть выкладывающийся
человек, со всем его разумом, чувством, чутьем. Не так просто,
он повторяет, увидеть это Оно, такое, настоящее. «Открытие
„оно-мира" ... сродни — прямому онтологическому откровению...
жертвенно и рискованно» (610). В отличие от объезженного,
открытого утилитарным отношением мира, за «хрупкой оболочкой»
этого «окружения», на котором паразитирует человечество, — «то
бесконечное, грозное, чуждое Оно, которое на заре эпохи
открылось Паскалю, а нынче обступает нас со всех сторон во всей своей
смертельной нешуточности» (там же). Ахутин цитирует одно из
видений Ф. И. Тютчева, близкое к тому видению Платона, когда он
видит нас пленниками богов: Тютчев говорит о природе:
... перед ней мы смутно сознаём
Себя самих лишь грезою природы...
С таким «оно» существует вот то — редкое, но
основополагающее, т. е. иначе человек остается без основы — «онтологичное
общение» (611 ел.). «Оно не предполагает заранее какие бы то
190* Эта работа вошла в сборник А.В.'Ахутина «Поворотные времена»,
СПб.: Наука, 2005, с. 601-626. Поскольку В. Б. оставил ссылки на страницы по
«Новому кругу» не везде, указываем номера страниц по последнему изданию.
29. ВОЙНА ВОКРУГ СОБСТВЕННОСТИ
363
ни было „существа", а, напротив, впервые сообщает каждому его
существо, его собственное само-бытное существо [выделяет
курсивом Ахутин]. Собственное и вместе с тем всё, всеобщее,
общезначимое, — иначе ведь это не бытие, а мнимость: самомнение,
а не самобытие» (613). Ахутин заговаривает и о «странности»,
близко к тому контексту, в котором делаем важным словом
«странность» мы. «Такова еще одна странность... бытие — всеобщее,
единое, всеохватывающее — возможно лишь как самость, осо-
бость, исключительная единственность» (там же), «бытие
сбывается о-собственно, как особое, как собственность особы» (615);
говорится в хайдеггеровской связи, но без упоминания о хайдег-
геровском термине, вбирающем — «событие» — собственность
и особенность.
На следующий раз: только Хайдеггер; бытие, событие и
собственность.
Ахутин делает и примечание о том, что греческое «усия»
исходно «собственность» (616).
Ахутин, как мы, подчеркивает парадокс «бытия», но похоже
что меньше обращает внимания на ускользание, или, мы теперь
можем сказать, на остраненность странности. «Парадокс в том,
что бытие тем более присутствует само, чем более сущее
обособляется в своем бытии, в собственной — абсолютно
исключительной — самости» (там же). Если у нас эта тема развернута
полнее и оказалась труднее для разбора, то только потому, что
Ахутин, снова и снова возвращаясь к своему, собственному, не
делает собственность делом разбора, а стоило бы, и я не жалею,
что мы сделали. Ахутин говорит об «абсолютно разобщающем
горизонте бытия», которое рассылает всё в особенное, об
«онтологическом разобщении», создающем «нужду в другом» (617). Он
говорит о мире и мире, один мир «практический», другой «мир,
отстраняющий... [! почти тем же словом, как раньше
«обступает» — у нас «мы обставлены»! это Ахутина «мир (собственно
мир) отстраняющий» я бы услышал в полном размахе этого
слова, от-страняющий, т. е. отворящии в сторону, прокладывающий
между одним и другим страну, пространство; это не чисто
отрицательное отстранение, каким непознаваемое отпихивает от себя
познание, сейчас Ахутин скажет, что это отстранение дающее]...
мир, отстраняющий от себя мир познавательных отношений
[отстраняющий, развертывающий из себя пространство другого мира,
мира познавательных отношений], что-то молча возражающий
нашим знаниям», «именно знаниям, а не ошибкам» (618) — делает
в скобках примечание Ахутин: само наше безошибочное знание
364
В. В. БИБИХИН
всё равно встретит возражение в — чем? ах если бы мы знали,
но наше знание встретит там возражение! наше знание встречает
возражение в отстраняющем, в, мы сказали бы, «странности»,
с отсылкой к Гераклиту.
Как теперь читать такую замечательную фразу Ахутина:
«В „себя" не так-то легко прийти из того обморока, в котором
мы проводим свое существование» (там же). Мы говорили
о сне; Ахутин тоже сейчас скажет: мы «в обмороке или во сне».
Проснувшись в сознание, мы мысля вернемся к «себе».— Мы
к «себе» вернемся так, что сделаем свое, собственное своим
делом, не так, что будто до этого занимались не своим, а теперь вот
своим, а так что видим, проснувшись от обморока, пространство,
и странность, и тем самым неприступность собственности, не
потому что она кому-то не нам без нас принадлежит, а потому что
она слишком сво-бодна, слишком свое собственное.
Правда, у Ахутина приход в себя после обморока — это как
раз обнаружение своего уже случившегося отсутствия там, где
собственно мы. «...Первичность моего ничто... моя первичная,
собственнейшая собственность» (619). Я просыпаюсь и
обнаруживаю что я спал, что там где я должен бы собственно был быть меня
нет. «Я есть извещенность о небытии» (620), Ахутин выделяет это
шрифтом. Т. е. приходя в себя я вижу отсутствие собственно себя.
Мы бы думали и мы говорили по-другому: проснувшись, мы не
обязательно должны сохранить исключительное изматывающее
внимание только опять же к своему «я». Свое открывается как
род; образования вроде Я и Ты оказываются производными
захваченное™ захватывающим, или производными захвата мира.
Тема собственности, тема своего отвязывается от привязки типа
чья собственность, собственно я становлюсь непрояснимым до
прояснения собственного, оно уводит в «между» сторон, пар,
в том числе и пары «я-ты», «я-оно», оказывается странностью.
«Только ответ абсолютно другого может сообщить бытие
моему небытию», говорит Ахутин (там же), замечая ли, что «ответ»
абсолютно другого тоже будет абсолютно другой, чем «ответ»,
и абсолютное требует для разговора с ним тоже абсолюта.
Ахутин замечает, что вся мысль Канта — это как он говорит
«неявный диалог» с «вещью в себе» (624), но похоже что Ахутин
слишком легко понимает странность, парадоксальность мира, что
мир должен отвечать на человеческом языке.
30. Богатство и нищета. Решение
(17.5.1994)
Слово. Не такая вещь как наклейка на продукте. Вещь это
всегда именно вещь. Или еще проще: вещь это то, о чем собственно
идет речь. Или еще проще: вещь — этимологически речь. Просто
неоткуда было взяться вещи как из того, о чем шла речь. Это не
значит, что словом создана, или хотя бы выделена из какого-нибудь
неразличенного потока вещь, а то бы мир был аморфным, «белая
мифология» литераторов и публицистов, которым хотелось бы,
чтобы хотя бы в каком-то прошлом слово было — их типа
слово — законодателем, а другое: вещь не постепенно, а сразу вещь,
т. е. то, в чем дело, о чем суд и спор, о чем речь, вокруг чего
разговор. И не так, что сначала вещь, а потом разговор. Вещь едина,
т. е. больше, чем она сама. Она появляется сначала странностью,
пространством: странность опережает; она не без слова. Она
ищет, сама не знает, так строит. — Как будто бы я забыл то, что
говорил о способе существования первых и главных вещей? Их
модус — априористический перфект, они всегда-заранее-уже, мы
приходим — и вот они готовы. Пример: как приходит решение
задачи. Решение всегда другое, чем усилия. Беда мне, если я начну
искать решения стохастически, без порядка, без плана, без школы:
сначала изучить условия задачи, потом вспомнить и применить
приемы (всё равно, в математической или художественной задаче).
Но беда еще хуже, если я, надеясь на свою хорошую школу,
ограничусь правильным применением приемов. Решение задачи не может
быть просто вычислено. Одно дело вычисление, другое решение.
Они идут всегда рядом, на каждом шагу вычисления происходят
решения, решение в каком-то смысле вычислено из вычисления,
но «решено» и «вычислено» — это противоположные вещи, как
правое и левое. Вычисление это собирание, решение разбор, или
еще точнее: вычисление привязывает к данным (у вас в кассе в
366
В. В. БИБИХИН
конце дня получилась такая цифра; извольте показать, из каких
данных), решение развязывает, даст развязку (т. е. связывает и
развязывает вместе, — как, кстати, это наше слово, решить, имеет в
разных языках разные формы, одни со значением «завязать», другие
со значением «развязать», а иногда со значением «и завязать, и
отвязать»). Мы говорим о принятии решения: «завязали». Но так
же говорим и: «развязались, развязали». Языка не хватает, язык
теряется между крайностями — и это признак, что мы имеем дело
снова, тут тоже, с — чем? Разве нельзя уже сказать, что с вещью?
С тем, о чем идет речь? — Ведь у нас идет сейчас речь об априори,
об априористическом перфекте, о том, что всегда-уже-заранее, что
существует по способу решения, которое не вычисление, потому
что решение всегда приходит так, что вдруг, внезапно, странно?
Первые вещи, априори, существуют по способу решения, они
вдруг и завязывают и развязывают. Т. е. они вроде бы до слова, раз
априори, — о них не идет речь, раз они «и так», «всегда-заранее-
уже», априори, успели случиться быть? — Скажем, рес-публика,
как говорит само слово, это дело для всех, всех касающееся,
общего обсуждения. Но то, что — и почему, и каким способом, и в
каком статусе — в человеческом обществе всегда-заранее-уже есть
дело всех касающееся, все уже смотрят в одну сторону, ожидают
вестей, сообщений, настроены на одну волну, — это тоже дело
всеобщего обсуждения?
Ну это вот уж как бы не так. Не только это не дело
всеобщего обсуждения, но и сказать-то трудно, о чем это я; Галковский
скажет, о чем это вы, милейший, бредите, погрязая в своем седом
идеализме.
В самом деле, даже по-русски ли я вообще говорю. Республика
это общее дело, о чем идет речь. — Но то, что вообще есть такое
общее дело, о котором речь? Ах это само собой разумеется,
отмахнутся от нас, как же еще иначе. Людям нечего делать, так они
и выдумывают себе проблемы — обычное понимание
философии. Тогда загнанный в угол и в тупик я говорю: господа, у вас
проблемы, дела? Проблемы решаются. Решение, раз уж оно
решение, принято и обсуждению не подлежит. Оно начинает снова
обсуждаться, когда оказывается, что оно не решение, когда надо
перерешать. Вещи, которые существуют по способу решения,
выпадают из обсуждения. Как же я сказал, что вещь — это то,
о чем идет речь, что подлежит обсуждению? Значит, вещь это не
обязательно «вече», Ding не обязательно тинг, rzecz не
обязательно rzecz? (Как у нас говорят «по делу», так по-польски do rzeczy.)
Начала, априори, существующие тем же странным способом,
30. БОГАТСТВО И НИЩЕТА. РЕШЕНИЕ
367
каким приходят и существуют решения, одновременно
завязывающие и развязывающие, существующие вдруг, приходящие как-
то так, — они выпадают из возможного обсуждения, которое
движется дискурсивно?
Да, выпадают. Да, нет ничего хуже, чем не иметь решимости
на решение, обсуждать то решение, одновременно завязавшее
и развязавшее всё, каким выпало бытие. Но: пусть уж мы тогда
будем молчать или говорить странно, или не будем знать как сказать,
но никогда не отступим от этих «вещей», которые существуют
«вдруг»: пусть никто о них не говорит, не успевает или не замечает
их (потому что когда «озарение», «пришло», «прояснилось»,
человек слишком радуется тому, что у него оказывается в руках, чтобы
помнить о том, что вспомнить собственно и нельзя, как «пришло»,
откуда оно, решение, взялось — откуда взялось это «решение»,
мир — не мое слово, физики говорят не в богословском смысле,
который надо, конечно, уточнить, об определяющих
«решениях», которые поставлены в основание космоса) — пусть наука
имеет дело уже с результатами решений, <нет> ничего красивее
и важнее, чем то, что ускользает от науки. Да, есть вещи, которые
ускользают от речи, о которых никто не говорит. Ну тогда значит
мы должны позаботиться о том, чтобы они остались вещами, о
которых идет речь. Если вообще имеет смысл говорить о чем бы то
ни было, то уж о них.
То, что мы по-честному не знаем, как говорить о вещах,
существующих по способу решения, развязки-завязки,
завязки-развязки, — самых важных вещах, потому что вся pec-публика
оспаривается не ради вечного спора, а ради решения, — должно быть
как-то похоже на то, о чем мы не знаем как говорить. Озарение
само должно быть похоже на озарение, оно тоже само вдруг, само
не знает как, оно странность не для внешних только, а и для себя
тоже. Озарение это то, что раньше мы называли софия, имея
в виду гераклитовскую Софию. Гераклитовская софия —
молния, которая правит всем. Молния, озарение — так переведено,
я говорил, на французский язык название второй большой книги
Хайдеггера.
Если сейчас своей неуверенностью, готовностью не знать,
спрашивать, искать, решимостью не решать ничего раньше
решения и вместо решения, мы выпадаем из принятого, практического,
эффективного образа действий, то попадаем в способ
существования странности. Впускаем, допускаем ее.
Тогда — мы не «причастны» бытию, а сами и есть его
странность? Получается что-то вроде космического значения челове-
368
В. В. БИБИХИН
чества, диалектического скачка из кеносиса в могущество? — Ах
этого уже мы не знаем. Как мы не знаем, так при спокойном
смирном незнании пусть и останемся. Не наше дело гадать о крупном.
Нам достаточно сказать одно — ни в вещах, в отношении которых
познание, ни в вещах, в отношении которых касание (Аристотель),
первых, слово не подпись под картиной (мысль-слово), оно
сторона странности, развернута как пространство странностью, в
отношении которой (которого: пространства) иерархии, подчинения,
первостепенного-второстепенного нет.
Если слово это — отражение, то извольте разобраться,
господа, что такое отражение. В том числе отражение на пленке, на
экране, в зеркале. Извольте в этом разобраться. В каком смысле
сознание — отражение, можно будет решать, когда прояснится хоть
немного, что такое отражение. А потом, глядишь, мы подберемся
к тому, чтобы начать понимать, что значит эта буря, вакханалия
отражения-выражения-изображения, когда всё больше глаз
встречает отражение-изображение. Всё отражено. Всё парно, президент
в своем дворце и президент на экране, и люди редко задумываются
даже над тем, что президент на экране это другой, чем президент
во дворце (Этьен Жильсон открывает глаза людям, сам делает
открытие, когда говорит, что господа, то что на экране это другое,
чем там, на что направлены камеры, и например нельзя вроде бы
считать, что ты был на литургии, если ты ее смотрел в телевизоре).
И если редко задумываются даже, что на экране другое, то тем
более не задумываются о той странности, о том неименуемом,
что выбросило из себя эту пару — отраженное и отражение. Или
может быть и не надо об этом задумываться, а назначение
человечества в том, чтобы всё всегда отражать и наполнить экранами
всю планету и потом все свалки.
«Мысль только теория». Вот мы не знаем. Т. е. если мы
конечно решили так, что теория это «только», а мысль это только такая
теория, то внутри этого нашего решения тезис верный. Чем
отличается такое решение от решения в смысле спасения, избавления?
Они противоположности. Прибавим к нашим парам, которые
начались со «свое и свое», еще «решение и решение». Одно мы
диктуем вещам, срываясь от отчаяния в своеволие. Другое
приходит само, как-то так, одновременно связывая и развязывая.
Это, не наше решение, приходит само, но для него нужна
решимость: решимость не принимать решений, решимость принять
решение, когда оно придет.
Принять странную хватку софии. Ведь решение, на которое
мы решились, не наше. И оно единственное наше, это не наше;
30. БОГАТСТВО И НИЩЕТА. РЕШЕНИЕ
369
а то, в котором мы не хотим неизвестности, «не будем ждать
милостей от природы», <если мы> устраиваемся и устраиваем из своего
устроения, — то сами становимся себе не нужны.
Или еще так: решения того, кто устраивается, устраивает
себя, чередуются с нерешительностью, за которую человек себя
ругает, а должен был бы хвалить. Тот отказ от решения, который
в от-решенности, требует решимости, которая никогда не должна
кончаться, только упрочиваться: решимость на отрешенность,
на принятие решения софии, странной хватки, захватывающей
странности.
Тогда то, что человек считал своим приобретением,
«вещественным» или «интеллектуальным», на самом деле — потеря им
самого себя; его собственность — только отрешенность, только
готовность быть в нищете и ничто. Т. е. наше богатство — в
умении оставаться нищими, наша собственность — в отказе от другой
собственности, кроме собственности, собственности бытия,
которому мы принадлежим, и собственности нашей как хранителей,
сторожей. Как сторожа на складе, которых не касается, что на
складе хранится, которых касается только — сберечь. Кто тогда,
как будет выдавать со склада? Устроить «решение» мы сами не
можем, но постепенно учиться узнавать решение, связывающую
развязку, мы вроде бы можем и должны. Но это всегда только
опознание задним числом. Не зря же мы согласились, что ничего
ближе, чем вещи, существующие способом решения, нам нет и нет
ничего нужнее. Не зря же мы всё время об этом говорим и думаем.
Чему-то научиться мы вроде были бы за это время должны.
Человек, который себе на уме решает, что он возьмет дело
своей жизни в свои руки, будет принимать решения и исполнять
их, свёл решение к выбору. Это как если бы была система ролей
и персонажей, как в романе, и кто-то, заметив что большинство
людей играет пассивных или второстепенных персонажей,
«проходных», решил бы взять себе другую, «активную» роль. Но такое
решение опять — только выбор между тем и этим, одним и
другим. Есть решение которое не выбор и выбору противоположно,
решение как собирание всего, распавшегося на альтернативы,
решение как такая развязка узла проблем, которая впервые
разрешает всё в связь.
Решение-выбор ограничивает этим выбором, не наше реше-
ние-связывающее-развязывание наоборот выпускает на свободу.
Опять: не спрашивайте откуда эта свобода. Она есть. Всякая
настоящая вещь, в литературе, в кино, всякая своя вещь, как бы
она ни дала о себе знать, написанная, или просто показанная же-
370
В. В. БИБИХИН
стом — нужен собственно минимальный жест — <освобождает>;
вот засорение открывающегося пространства сором, когда
пространство не имеет шансов появиться, всё снова закрывает:
похоже, что решение как выбор, как это говорится, эффективно, оно
всегда доходит до нас (скажем, мы приходим в привычное место,
там стоит изгородь, приходится обойти, было принято решение ее
поставить, решение, если мы ходим где-то теми путями,
обязательно коснется нас); решение как развязка — мы преспокойно можем
пройти мимо такого решения, упустить, запросто, как не услышать
музыку, слушать и не слышать, смотреть и не видеть — или мы
как те люди, которые не слышат у пифагорейцев музыки сфер.
То решение, которое мир, мы не упускаем? Запросто. Говорят,
что вместо «космос, вселенная» можно говорить «мир». Но мир
и мир это снова противоположности, мир включает, вбирает в себя
космос. В космосе нет места для мира. Я не буду доказывать этот
тезис, его можно красиво доказать, оставляю это вам. Чтобы
мир развернулся, нужно, чтобы его странность сама из себя
выбросила пространство. — Космос и мир противоположности,
пара — и они такие разные, что нигде не пересекаются, как вещь
и слово. Но что тогда, если оно есть, между космосом и миром?
Спор земли и мира у Хайдеггера — это то, что я здесь называю
противоположностью космоса и мира, или мира и мира? Тогда я не
точно говорил, что космос вмещается миром? Я хотел
редуцировать мир-вселенную к миру-согласию. Может быть это не надо
было делать, потому что уже сделано: в мире-согласии и так уже
вмещается мир-вселенная, но вмещенная остается как она есть.
Спор между миром и миром продолжается, красивый спор, где
одна сторона не уступает другой так же красиво, как порядок хода
небесных светил не уступает строгости закона человеческого (если
вы не верите в строгость закона, пойдите работать, в милицию,
в суд, в прокуратуру, или в аппарат Госдумы, или просто пойдите
в любое учреждение, государственное, попробуйте не в рабочие
часы). Два мира, не два мира, эти миры никак не накладываются
друг на друга, как правое и левое не накладываются, — и
отчаянные попытки наладить между ними связь, при помощи
инопланетян, или астрологии, или космических полетов человека,
«космических» можно взять в кавычки — похожи на попытки Соловьева
соединить мужчину и женщину. В мире-космосе и мире-согласии
(польское «мир», pokoj) мы имеем опять, как в вещи и имени,
странностью развернутую полярность, нередуцируемую не так,
что всегда остается несводимый остаток, а еще убедительнее, так,
что всякое усилие сближения космоса и мира только еще острее
30. БОГАТСТВО И НИЩЕТА. РЕШЕНИЕ
371
режет нас, заставляет отчетливее выбирать и разделять между
одним и другим.
Теперь главное на сегодня и наше, мое решение,
развязка-завязка всего этого курса. Но Хайдеггер в цитате, которую я сейчас
приведу, говорит о другом решении, решении-выборе, о котором
говорит и немецкое слово Ënt-scheidung. Но не выборе в смысле
опять же одного из двух, сужающем выборе, а в вот каком еще
другом <смысле>. История слова или никогда до конца не стирается в
нем, или во всяком случае Хайдеггер ее слышит. Ent- предлог или
приставка решительности, сметающей, окончательности, придает
только энергию корневому значению. Немецкие лексикографы
вычитывают из употребления значение «развязывания», так что
наше «решение» в немецком Ent-scheidung всё-таки присутствует,
хотя главное значение другое, рассечение (греч. σχίζω, откуда
«схизма» и «шизофрения», рассечение, расслоение), но не
обязательно болезненное. В русском языке тот же корень, то же слово
дало «цедить» и «чистый»: чистый — кто прошел через это
отделение, и отделение тела тоже, отслоение, выбрасывание того,
что телу лишнее, грязь, отбросы. Сюда между прочим английское
полунеприличное из английских four-letter words, shit. Хайдеггер
говорит о таком выборе-отборе-развязывании-отбрасывании,
которое очищает; о таком решении, которое и всегда доступно
человеку, и не связывает его, а развязывает, и всегда должно быть
принято. — Почему всегда решение, почему всегда должно (и это
философское, безусловное, для всех и всегда обязательное должно)
быть принято? Почему не плюрализм, почему такая каторга, кто
свободного человека загнал в эту необходимость, разве Бог не дал
ему воли? Вы согласны, кто согласен, что это должно должно быть?
И еще: если выделение негодного, нечистого — это для тела
естественное спазматическое, то почему философское
Ent-scheidung не происходит само собой, почему надо усилие для отделения
нечистот? Почему Гераклит делает из извергания «мертвого» —
и что у Гераклита мертвые? — больший императив (έκβλητότερον,
буквально «выбрасываемейшее»), чем выбрасывание навоза,
помета, кала191*? Я не знаю, что такое «мертвые» у Гераклита. Я точно
знаю только два: что в отличие от очищения тела философское
очищение важнее чем очищение тела и никогда не обходится без
нашей решимости на него; и второе, что «решение», которого
требует Хайдеггер, соединяет черты выбора и развязки.
191 * Фр. 96 DK: «Трупы на выброс пуще дерьма» (пер. А. Лебедева). См.:
Фрагменты..., с. 236.
372
В. В. БИБИХИН
Откуда, он спрашивает, это: или только это — или только это?
Откуда эта необходимость или-или? Разве третьего нет,
невыбирания? Господа, потому что невыбирание здесь всё равно выбирание!
Не выбрать вещей, существующих по способу связывающей
развязки, по способу решения, не решиться на них — точно то же
самое, что отказаться от решения! Потому что тут выбор — между
решиться и не решиться, так что «решить не» и «не решить» —
совершенно одно.
Решиться, таким вот образом, на что. «Все... решения,
которых кажется много и разных, стягиваются в одно и
единственное: ускользнет ли бытие окончательно или это его ускользание
[Ent-zug, извлечение себя — оно всегда], извлечение это им себя
в качестве отклонения, отказа в себе, станет первой истиной и
другим началом истории»192*.
192* Martin Heidegger. Beiträge..., S. 91. Ср. ГЕРМЕНЕЯ № 2..., с. 62.
Приложение
В. В. Бибихин
СВОЕ, СОБСТВЕННОЕ193*
0. Ситуация. Приватизацию, которая считается происходящей
или происшедшей в России, называют преступной, мафиозной,
безнравственной, угрозой миру. Реже встречаются ее
положительные оценки. Нет надобности спешить присоединяться к тем
или другим. Поспешность суда только упрочивает главную и в
конечном счете решающую черту ситуации: то, что реформы
проводятся вслепую. Здесь нет двух мнений. Видный или ведущий
деятель приватизации, недавно отошедший от дел, выразил
пожелание, чтобы она велась более продуманно. Запоздалость этого
пожелания говорит о том, что сам размах этой непродуманности
здесь тоже не продуман. Кажется очевидным, что обстоятельного
планирования было бы достаточно для успеха. Но вполне
вероятно, что десять лет назад процесс стал развиваться так, что ни
план, ни проект охватить его в принципе не может. Не случайно
и предыдущий, социалистический поворот в России тоже
проходил непродуманно; государствовед и историк H.H. Алексеев
констатирует в 1928 г.:
Как это ни удивительно, но большинство современных социалистов,
предлагая реформу собственности и призывая к ее отмене, бродят в
совершенных потемках и не знают точно, к чему они стремятся194.
1. Захват мира. «Приватизация» — прямое продолжение
семидесятилетия «обобществленной собственности» в России, но
не потому, что ее ведет та же «номенклатура», а потому, что более
193* Малоизвестная редакция статьи, впервые опубликованной в журнале
«Вопросы философии», №2, 1997.
194 Н. Н. Алексеев. Собственность и социализм // К. Исупов, И. Савкин (ред.).
Русская философия собственности. СПб., 1993, с. 346.
374
В. В. БИБИХИН
действенными способами продолжается тот захват мира, который
в начале века привел к собиранию человеческих сил в
коллективный кулак. Освобожденные обезличиванием, ресурсы коллектива
оставались, однако, отягощены идеологией, пережитком старой
религиозности. Происходящее сейчас сбрасывание идеологии
облегчает захват мира, возвращает ему первоначальную остроту.
Ни сам по себе захват мира, ни особенная острота этого
захвата не являются новостью для XX в., у него древнее лицо. Явная,
а чаще неявная схватка («невидимая брань» христианской аске-
тики) никогда не имела передышки. Гераклит напоминает: «Надо
знать, война — всеобщее, и правда — спор, и всё возникает в
битве и захватом»195. Именно сейчас, когда захватывается даже так
называемое культурное наследие и академическая наука отправлена
на свалку, посреди, казалось бы, дикого беспредела, для нервного
наблюдателя беспрецедентного, философия получает
уникальный шанс вспомнить о своем раннем начале, исходном существе.
Исходный смысл софии, еще слышный в ее определении как
«добротности техники»196, это ловкость, умелая хватка, хитрость.
Захват мира — не временное помрачение людей, забывших стыд,
приличия и собственные устойчивые интересы, а стихия ранней
мысли, греческой философии, захваченности ее хитрой хваткой.
На крутом повороте, на разломе Россия отчетливо показала суть
всегдашних отношений человека с миром.
Чем смелее захват с его беспределом, тем настойчивее мир
предлагает себя как цель деятельности. Россия должна войти в
мировое сообщество, занять свое место в мире, подняться до
мирового уровня как в вооружениях, так и в экономике, банковском деле.
Даже малые предприятия не ставят себе более важной задачи, чем
выход к «мировым стандартам» по технологии, коммуникациям.
Наука ориентируется на мировые образцы. Повсюду возникли
кафедры мировой культуры. От этой повсеместности мир, конечно,
не становится более проясненной вещью, скорее наоборот, — еще
больше уходит в неуловимость. Мир ближе и интимнее, чем вещи,
потому что именно он дает с ними встретиться. Мы в мире и его
мерой измеряем свою весомость. Прежде всего схватываемый,
мир не поддается определению; он всеобщий ориентир и горизонт,
и он же всего труднее для фиксации. И в мире вещей, и в мире ума
захваченность создает подвижные образования. Непременным
195 Гераклит. Фр. 80 (Дильс-Кранц); фр. 28 (Маркович).
196 Аристотель. Этика Никомахова, VI 7, 1141 а 9.
ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
375
остается то, что цель — целое, мир — остается для всякой
ловкости неуловимым, никакой хитростью не схваченным.
Напрасно мечтать о воздержании от захвата, о
самоограничении, отрешенности от мира, и вовсе не потому, что такие мечты
нереалистичны. В захвате мы видим ключ к современной
ситуации — политической, экономической, интеллектуальной. Но
захват начинается с увидения, которым, по Аристотелю197, человек
всегда захвачен прежде всего, непосредственно и просто так. Это
факт; так само собой «по природе вещей» сложилось. Увиденное
как будто бы еще не приобретено нами, но оно без остановки
переливается в ведение как ведание (отсюда ведомство). Рано и
незаметно, раньше и важнее захвата земли, нефти, домов, постов,
званий, культурного наследия происходит первый захват, когда
рядом с виэюу встает ведаю. Поскольку тот первый, ранний захват
произошел, второй, «вещественный» захват, в сравнении с тем
наивный и заметный, не произойти уже не может. Бессмысленно
говорить, что ранний захват не должен иметь места, что переход
ведения-видения в ведение-заведование неморален. Слишком
рано, раньше всякого нравственного нормирования, как бы во сне
совершается скачок от собственно увиденного в увидение
собственности, чтобы можно было уловить его понятиями. Всякое
спрашивание о раннем захвате уже идет путем захваченности.
Юридическому сознанию кажется, что обладатель,
собственник <это> всегда готовый некто, «личность», «индивид», но эти
проблематичные образования впервые возникают уже на почве
незаметного перевертывания всякого увиденного есть-имеется
в есть-имею.
Увидение не постепенно, а внезапным переключением
переходит от ведения-знания к ведению-умению и веданию-обладанию.
Мы не сумеем просунуть самый тонкий аналитический щуп между
тем и другим. Вместе с тем между ведением-увидением и ведани-
ем-распоряжением пролегает граница, представляющая для нас
основной интерес. Современная цивилизация стоит на
неспособности удержаться в чистом видении, на переключении видения
в обладание, и только ли современная. Это раннее происхождение
собственности не фиксируется юридическим документом, который
лишь вводит в рамки совершившийся захват. Так теперешняя
приватизация, по существу, ограничивает прежнюю внеюридическую
ведомственную практику. Новые законы о собственности не
учитывают, что до них в нашей стране, отменившей всякую собствен-
197 Аристотель. Метафизика, начало.
376
В. В. БИБИХИН
ность, кроме мелкой и «общенародной», ведомства занимались
вовсе не только экспертизой, а ведали всем так, как не снилось
частному владельцу.
Захват не совершается без захваченности. Слово «захват»
в истории языка не случайно связано с однокоренными
«хитрость», «хищение», «восхищение». В самом деле, механическим
захватом мало что достигается. Настоящий захват в своей сути
всегда хитрость, ловкость и прежде всего хищение как умная
кража, например в вое-хищении, особенной и острой захваченности.
Что непосредственно захватывает в мире? На этот вопрос
мешает ответить сама захваченность. Она не только не спешит себя
прояснить, а наоборот, ее суть, неуловимая хитрость, выкрадывает
захват из явности, очевидности. Главный захват всегда
происходит украдкой. С хитростью, (вос)хищением мы вязнем в тайне.
Самое захватывающее имеет свойства рода, пола, секса. Ничто так
свирепо не оберегается как заветное. В каждом поступке и слове
мы захвачены прежде всего тайным. Тайна умеет задеть нас. Она
затевает с нами свою игру и без того, чтобы мы этого хотели;
наоборот, мы начинаем хотеть в той мере, в какой захвачены тайной.
Связь захвата с захваченностью тесная. Заговорив о захвате
мира, мы уже имели в виду, что он невозможен без захваченности
им. Беспрецедентность нашего времени в том, что никогда раньше
эта вторая сторона дела, обязательная зависимость нашего захвата
от хватки мира, не была так забыта. Редко в чем сознание яснее
показывает нелепость своих претензий, как в понимании мира как
только объекта, не субъекта экспансии, которую сознание, пусть
даже и с отрицательным знаком, и «самокритично», но
обязательно хочет приписать только себе. Конечно, человек ведет захват
мира, жадно, страшно. Но другой, встречный смысл этого —
«человек захвачен, занят миром» — отбрасывает назад, в раннюю
загадку нераспутываемого «отношения» к миру, когда человек,
мнимо свободный, до всякого своего выбора уже относится
к миру. Оттачивая приемы захвата мира, человек никогда не успеет
проследить, какой ранней захваченностью миром продиктованы
эти приемы. Исследователь здесь оказывается следователем при
хищении слишком хитрого рода, хватке софии.
На вопрос «чья собственность мир?» человек отвечает: «моя».
Он прав (см. ниже, разд. 2). Мир закрепляет свою хватку на нас
тем, что он всегда наш собственный. Эпоха (схватка, спазм) бытия,
схватываемого в каждую эпоху так, как каждая эпоха захвачена
им, раньше всякой смены «общественных формаций»,
встречает бытие всегда как свое захватывающее событие. В этом свете
ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
377
последние 30 веков — одна меняющаяся эпоха без изменения
меры захваченности, но никогда раньше — с таким малым
сознанием полной взаимности захвата. Гонка за бытием вплоть до
мертвой хватки за вещи всё более вещественные, за кусок хлеба
в конечном счете, путь к чему через агрокомплекс, пакет законов
и инструкций, нефтедобычу и нефтепереработку, машиностроение
и городское хозяйство, банковские кредиты и санитарное
регламентирование, — эта гонка вобрала в себя больше метафизики,
чем университетский профессиональный дискурс. Предметы
академической программы давно уже прикасаются к бытию не
своей сомнительной лексикой, а тем, что они внесены в список
финансируемых тем, проведены через системы информации,
подключены к народнохозяйственным планам. Движение языка у
преподавателя философии привязано сложными путями к тюменской
нефти и алтайскому золоту. Но золото, энергия уже в античной
мысли у Гераклита, Аристотеля — главные слова для мирового
бытия. История развертывается в погоне за истинным, настоящим
бытием, и попутно с его добычей идет жесткое отбрасывание
недействительного. Кто не захвачен им без остатка, тот в счет не
идет. Ранняя хватка бытия уже захватила нас, когда мы начали свой
захват. Поэтому в отношении свежего захвата, развернувшегося
сейчас в нашей стране, неуместны ни оправдание, ни обличение.
Единственно важным остается то, что в этом захвате не схвачено,
а именно его спровоцированность событием мира.
2. Родное. В первичном захвате (захваченности
схватыванием) ведущим ориентиром и пределом остается неуловимый и
неопределимый мир. В споре о сути собственности единственной
нешаткой опорой оказывается тоже мир. Сделаем шаг, который
кажется смелым, но он же и вынужденный. На вопрос «чей мир?»
будем уверенно отвечать: «мой». Такое владение кажется слишком
большим, но на всех других путях определения собственности
мы запутываемся в безвыходных неопределенностях. Человек не
может найти себя иначе как в мире.
Частной собственностью станет, возможно, если назначением
России не будет продиктовано иное, скоро почти всё вокруг нас.
В важном смысле Россия, однако, останется всё-таки моей. Но
в каком именно?
Жадная сегодняшняя гонка за личной собственностью
отталкивается от прежней не менее нервической надежды иметь своей
собственностью целую страну. Маяковский в поэме «Хорошо»
внушал себе: «Улица — моя, дома — мои... Моя кооперация... Моя
378
В. В. БИБИХИН
милиция». В свою очередь желание видеть страну как
собственность подчеркнуто противопоставляло себя чуждым привычкам
частного владения. Собственность была объявлена общественной.
При этом собственность и общественность были поняты однобоко.
Почему так произошло и почему так должно было произойти,
притом что передовая философская теория Гегеля через его ученика
Маркса легла в основу проекта преобразования страны? Тем более
что целью было не только обустройство страны, но и показ пути
всему миру. Преображение должно было опереться на труд
коллективной личности, которая переделает мир, выбравшись из-под
обломков старого мира. Вдохновение поэме Маяковского давало
чувство сплоченной массы, широко шагающей по большой
стране собственником всего, тем более чистым, что, подобно монаху,
ничего не имеющим, но делающим землю садом. Идейное
обобществление, в которое была втянута страна, обучавшаяся новым
коллективистским нормам, не удалось. Не удастся и поспешная
«приватизация» прежней общественной собственности, с
нарочитым растаптыванием коллективистской идеологии, абсурдный
«капитализм», снова самоубийственно беззаботный в отношении
собственных отцов. Новая «частная» собственность тоже понята
неверно и рухнет.
Что всякое планирование собственности будет плыть, не
обязательно проверять на собственных боках. И без экспериментов
с собственностью можно знать, что всё тут окажется неожиданно
и непросто, достаточно вслушаться в слово «собственность».
В нем слышится и манит настоящее, подлинное, возвращенное
самому себе. Собственность с самого начала обречена на
трудное дознавание до своей сути. То, что кому-то кажется досадной
многозначностью термина, проблемой словарного описания, — на
самом деле верхушка айсберга. Стремление уточнить,
подтвердить, закрепить собственность в юридической инстанции не
случайно. Необходимость уточнить собственность, установить ее
дает о себе знать в лексике, неприметно, в законе подчеркнуто.
Без этого собственность как минимум двусмысленна. Ее
скользкость по-разному ощущают все. «Понятие собственности зыбко,
как песок»198. Оно уходит туда, куда дефиниции не проникают.
С новым проектом собственности самоуверенное революционное
сознание увязло в глубине, даже догадаться о которой у него нет
шансов. Экспериментируя, сознание революционеров надеется,
что частное, обособленное превратится в целое. Можно уверенно
198 H.H. Алексеев. Собственность и социализм..., с. 348.
ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
379
сказать, что новые экспериментаторы с собственностью обмануты
словом и заняты исключительно грамматическим упражнением,
сведением двух разных до противоположности смыслов
собственности в мечтательное единство.
Собственность как запись имущества на юридическое лицо —
до контраста другое, чем собственность того, что вернулось к себе
и стало собственно собой. Но юридическая собственность
понимается всегда с уважительным оттенком восстановления вещи
и человека в их собственности. Когда, восстав против частных
собственников, большевики оглохли к неисчерпаемому смыслу
собственности, они лишили себя собственной сути. Когда
теперешние приватизаторы, снова сосредоточиваясь на
регламентировании, надеются восстановить собственность законодательно,
они так же глухи к ее корням в мире. Приобретение собственности
движимо захваченностью своим.
Мы ничему не принадлежим так, как своему в том смысле,
что заняты своим делом и живем своим умом и знаем свое время.
Свое указывает на владение в другом смысле, чем нотариально
заверенная собственность. Мы с головой уходим в свое,
поэтому не смогли бы дать о нем интервью и срываемся всегда на его
частное понимание. Латинское выражение suo jure переводится
«по своему праву» и слышится в значении правовой защиты
личности, но первоначально значило «с полным правом»,
«основательно» безотносительно к индивидуальному праву. Suum esse,
буквально «быть своим», значит быть свободным. Русское понятие
свободы производно от своего не в смысле собственности моей,
а в смысле собственности меня. Собственно я — та исходная
собственность, минуя которую всякая другая будет недоразумением.
Древнегреческое именование бытия, усия, сохраняло исконное
значение собственности. У позднего Хайдеггера событие как
явление, озарение бытия указывает одним из значений на свое
собственное (Ereignis — eignen). От релятивности своего как
кому-то юридически принадлежащего мысль возвращается к
основе собственно своего как настоящего, интимного, чем человек
захвачен без надежды объяснить, лишь ощущая тягу бытийного
влечения. Свобода по сути не независимость и не произвол, она
обеспечена тайной своего.
Собственно свое не непознаваемо, но попытки вычислить,
сформулировать уводят от него. Для человека-исследователя,
покорителя земли и Вселенной, путь к собственно своему труднее
чем изучение галактик, облеты планет или приобретение
миллиардного состояния. «Великий Гэтсби» в романе Фитцджеральда
380
В. В. БИБИХИН
приобрел собственность, на любой взгляд громадную, не
сделав шага к настоящей собственности. Всё сосредоточивается
вокруг перепада (интереса) между своим и своим, собственным
и собственным. Или снова в который раз мое просто потому что
не твое, или наконец впервые собственно свое, захватывающее.
Кажется, будто достаточно «поставить проблему собственности»
и добиться ее решения. Даже для успеха такой сомнительной по
своей ценности операции, как лексическое определение
собственности в академическом дискурсе, нам необходимо сначала
препарировать понятие, сознательно абстрагируясь от настоящего
в собственном и от родного в своем. Собственность мы должны
будем взять «в юридическом смысле», а смысл этого выражения
опять же фиксировать. Предельным ориентиром в определении
собственности окажется мир (ср. выше, разд. 1).
Мир как захватывающая цель всякого захвата с самого начала
проявляет черты близкого, интимного, согласного человеку. Мир
принимается, как правило, с большей готовностью, чем
окружающие условия, коллектив, семья. Не случайно этимологически
«мир» в русском языке родствен «милому». Когда Розанов говорит
о «центре мирового умиления», он слышит связь, которая
может показаться прихотливой, но на самом деле фундаментальнее
и прочнее терминологических конструкций. Мир прежде всего
свой, т. е. родной199. Во встрече с миром
свое-собственное-особенное, страстно желанное, выносит к роду и народу, к рождаемому
в детях и в «порождениях» творчества. Свобода — это, прежде
всего, захваченность своим, где свое надо понимать в связи с
родом и народом («свои»). Мыслит себя в свободе не юридическая
личность и не индивидуальное («физическое») я, а собственность
в смысле захваченности бытием. Богатство пейзажа, в котором
мы здесь оказываемся, не мешает, а, наоборот, способствует его
вторжению, обычно не осознаваемому, во всякое обсуждение
собственности. Попытка его осмысления поэтому безусловно
обязательна.
Свое последовательно вбирает в себя интимно близкое, затем
семью, и больше того, гражданское общество, государство, в
конечном счете мир. В мире свое совпадает с родовым (родным). Все
199 Свое в русском постепенно теряет смысл родного и добра (блага),
которое корень su имел в санскрите. Сходные смыслы сохраняются в этимологически
родственном сын, в приставке з-доровье («доброе дерево», в смысле «хорошая
материя»). Та же связь расщепилась в германских языках, где нем. Kind
ребенок — то же слово, что англ. kind с основными значениями род и добрый.
ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
381
эти величины втянуты в современную проблематику
собственности. В этом смысле современные реформы в России представляют
собой попытку наощупь разобраться в мире, притом что его захват
остается тайной причиной всех начинаний. Как уже замечено, дело
не в плохой продуманности политики, а в том, что собственно свое
для человека не может быть более ясным, чем мир. Свое как
питающая энергия не открыто сознанию. Отсюда жестокость,
неинтеллектуальность борьбы за собственность. Собственно свое в нас
самих оказывается для нас неприступным. Знание себя — удел
богов (Платон). Если сейчас в нашей стране, где по всеобщему
ощущению всё похожее на собственность уже разобрано, до сих
пор неизвестно, кто, собственно, всё взял, то это неизвестность
не секрета, как если бы новые властители затаились, а
принципиальная невозможность для человека знать, кто именно и что
именно захватил. Так в 1918 г., когда всем стало ясно, что почти
вся собственность захвачена или, наоборот, освобождена,
осталось неизвестным, что с ней всё же произошло. И если теперь
вокруг собственности жутко и могут убить, то вовсе не потому, что
уверенный собственник взял владение в свои руки и встал на его
решительную защиту, а как раз наоборот, и «разборки» требуются
снова и снова для выяснения, кто, собственно, собственник чего.
В последнем горизонте свое собственное есть мир. Мы можем
иметь его только как тему, вопрос200. Мы отвечаем на вопрос, кто,
собственно, мы сами, нашей способностью спрашивать о событии
мира. Отрезвление от слепой борьбы за собственность возвращает
в школу софии. Никаких шансов встретить свое по сю сторону
порога этой школы, в которую поступают на всю жизнь, у нас нет.
Общество не встраивается, как популяция, в мировое окружение,
выбирая в нем себе нишу; оно, как говорит наше слово «мир» в его
третьем значении, с самого начала берет на себя проблему целого.
О целом человек знает мало. Наука незнания, умение оставить мир
в покое требуются искусством жизни.
Здоровая бессознательность... так же необходима для общества, как
для телесного здоровья организма необходимо, чтобы мозг... не
осознавал, как работают внутренние органы201.
Проблематичность собственности оказывается безусловной,
когда не удается найти самого себя, ищущего ее.
200 См. В.В. Бибихин. Мир. Томск : Водолей, 1995.
201 Э. Сепир. Избранные труды. М.: Прогресс, 1993, с. 609 ел.
382
В. В. БИБИХИН
Неуловимость захватывающего оставляет ему только
негативную определенность, которая становится надежной базой для
критики. Тяготение к своему, собственному не ведет плавным
образом к ладу и строю. Самая жестокая война — между
родными вокруг родного. Почему не удается слияние с миром для нас,
изначально слитных с миром, принадлежащих биологической
эволюции, — особая тема.
Последнее прояснение собственности повертывается к
человеку лицом апокалипсиса. В христианском понимании откровение
и последний суд открывают со стороны Бога суровую, но
спасительную правду о человеке в его своем, собственном. Когда за
дело апокалипсиса берется человек или коллектив, суровость суда,
как правило, обеспечивается, но до торжества правды процесс
дойти по названным выше причинам не может. Мировая история
в любом случае оказывается мировым судом (Гегель), вся разница,
однако, сводится к тому, есть ли у судящей инстанции
способность вглядеться в самого человека в его собственной сути. Для
возникновения жестокости внутри коллектива, разбирающегося
с собственностью, не требуется, чтобы люди знали, в чем и у кого
собственность, а, наоборот, достаточно того, чтобы в этом вопросе
царила тревожная непроясненность.
Дает ли разбор, подобный предпринятому нами, возможность
мягко избежать вполне реального апокалипсиса, организуемого
самими людьми? Можно ли в принципе успеть разобрать то,
для чего иначе потребуется разборка? Мы этого не можем знать.
Определить, что есть, собственно, собственность в глубоком
смысле своего, не удастся. Она отгорожена от нас тем, что мы
называем странностью софии. Попытка разбора перемещает нас всё
в новые и новые пространства человеческой истории, освоиться
в которых при краткости времени и недостатке сил трудно. Нам,
однако, совершенно ясно одно: если с собственностью вообще
имеет смысл иметь дело, то только на пути терпеливого
осмысления своего, родного (родового), добра (имущества), мира как
интимно ближайшего, милого и принципиально неопределимого.
3. Свобода собственности. В марксовой идее отмены
государства слышен плохо понятый гегелевский урок. Ученик не
оказался радикальнее учителя. Гегель не требовал отмены и
отмирания государства потому, что шел дальше порога, у которого
остановился Маркс. Полное принятие Гегелем государства,
притом конкретного, прусского, имело оборотной стороной такое же
полное снятие его. Наоборот, публицистическая критика государ-
ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
383
ства, тем более революционная критика и так называемая критика
оружием, эффективно служит реставрации государства через его
реорганизацию. Критика всякого института есть его тематизация,
т. е. посвящение ему внимания, сил и средств. Для Гегеля
единственный путь, достойный усилий, ведет к осмыслению свободы.
Мысль у Гегеля — это домашнее вхождение в свое, собственное
единственным, своим вхождением в мир.
«Внутренняя собственность духа» есть, по Гегелю, «владение
телом и духом, достигаемое образованием, учебой, привыканием
и т. д.». Этому углублению в свое противостоит отчуждение.
Российский опыт социалистического семидесятилетия подчинялся
марксовой программе снятия отчуждения через обобществление
собственности. Отметание этого семидесятилетия как ошибки
ведет только к худшей ошибке. Теперешние активисты не
дальновиднее активистов начала века.
Оптимизм Маркса питается мыслью Гегеля о том, что
свободная разумная воля возвращает вещи их собственной самости.
Права свободной воли велики. Она, так сказать, лучше вещей
знает, в чем их назначение. Уже корова, по Гегелю, поедая траву
на лугу, доказывает, что назначение травы не в том, чтобы
оставаться, как есть. Всё во власти разумной воли. Ошибка, однако,
думать, что моей потенциальной собственностью является всё, что
вне моего тела. И мое тело становится моим только через волю;
не освоенное ею, оно останется мне самому чужим. Человек не
тело. Свобода исключает уравнивание собственности как в
сторону лишения ее, так и в сторону обязательного наделения ею.
Навязывание юридической собственности тому, кто от нее
отказывается, направив волю и разум на весь мир, означает ее стеснение.
Навязывание «приватизационных чеков» каждому жителю страны
в этом свете представляет такое вмешательство в интимное право,
какого не допускал даже Маркс. Правда, социалистическое
обобществление в России было откатом даже от марксистской теории
и тоже навязывало всем такие виды собственности, как
гарантированное обязательное рабочее место. Лагерь, жестоко обязывая
иметь собственность (кружку, ватник, работоспособное тело) по
существу под угрозой смерти, стеснял этой обязательной
собственностью едва ли меньше, чем лишением ее гражданских форм.
Обоснование собственности — в возвращении вещи ее
собственному (своему) существу. Растрачивание вещи плохо не само
по себе, а потому что оно, возможно, мешает ее осуществлению.
Приведение вещи к полноте ее осуществления дает право
владеть ею. Поле есть поле постольку, поскольку оно дает урожай.
384
В. В. БИБИХИН
Кто правильно обращается с полем, тот его полный собственник,
и пустая абстракция — признавать еще какую-то другую
собственность на этот предмет сам по себе. Если вся полнота применения
моя, то и вещь полностью проникнута моей волей, и после этого
пуста заявка, что в каком-то другом смысле, скажем по
юридическим документам, вещь принадлежит другому. Собственность,
всегда и полностью отделенная от пользования, была бы не только
бесполезна, но уже и не была бы собственностью.
Широко понимая допущение старого юстиниановского
имущественного права, что практическое пользование может
превращаться в юридическое владение, Гегель решительно вводит
свободу собственности, Freiheit des Eigentums, как норму для
будущего. Когда Маркс объявил, что «орудия производства», включая
землю, принадлежат тем, кто ими пользуется, завод — рабочему,
поле — крестьянину, это было попыткой исполнения гегелевского
пророчества из № 62 «Философии права»:
Около полутора тысяч лет назад благодаря христианству начала
утверждаться свобода лица и сделалась, хотя и у незначительной части
человеческого рода, всеобщим принципом. Что же касается свободы
собственности, то она, можно сказать, лишь со вчерашнего дня получила
кое-какое признание в качестве принципа. Это может служить примером
из всемирной истории, который свидетельствует о том, какой длительный
срок нужен духу, чтобы продвинуться в своем самосознании, и который
может быть противопоставлен нетерпению мнения.
Юридический владелец без о-своения владения «пустой
господин», leerer Herr, а настоящий собственник по праву свободы
собственности тот, кто делает из нее верное употребление.
У Маркса принцип свободы собственности затемнен и спутан
введением общественной собственности, т. е. нового правового
и властного механизма. Не отягощенный техникой внедрения
в жизнь, гегелевский принцип готов ждать, когда настроение
людей проникнется привычкой видеть собственника только в том,
кто помогает вещи вернуться к себе самой. Ошибка марксистов
России в том, что они не осмелились настаивать на тщательном
прочтении социалистическим правительством и народом даже
самого Маркса, не говоря уже о его источнике Гегеле. Из-за
несостоятельности однобокого марксизма страна метнулась в обратную
сторону от направления, предсказанного Гегелем и
осуществляющегося в социально-рыночном хозяйстве. Гегель в своем
предсказании советует, однако, набраться терпения и пройти мимо
шатания мнений. Можно быть уверенным в том, что
ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
385
перед лицом свободы ничто не имеет значения... в мире нет ничего выше
права, основа его — пребывание божественного у самого себя, свобода;
всё, что есть, есть... самосознание духа у себя202.
Ключевым в гегелевской «Философии права» представляется
§ 65, где вводится тема отчуждения, овнешнения (Entäußerung).
Мы готовы к тому, что в вопросе о собственности возможны
осложнения. Мы легко понимаем, что высокое, «священное» право
собственности остается «очень подчиненным, оно может и
должно нарушаться», уступая правам народа и государства. И всё же
неожиданно прочесть вслед за определением «настоящего
отчуждения» — оно есть «объявление воли, что я уже не буду
больше рассматривать вещь как мою», — следующее: «Отчуждение
есть истинный захват владения (die Entäußerung [ist] eine wahre
Besitzergreifung)». Это, однако, вытекает из принципа свободы
собственности. Вещь принадлежит тому, кто ей возвращает ее саму,
обращается с ней по ее истине. Истина вещи может включать и ее
свободу от меня. Я делаю ее своей тем, что уважаю ее
самостоятельность. Перед такой собственностью всякая другая тускнеет.
Пример. Вещи превращаются соразмерно своей ценности
в товар, и тогда всё особенное, индивидуальное в них оценивается
одной мерой, деньгами. В способности свести вещь к простоте ее
универсальной ценности — огромное достижение духа. Деньги —
«самое осмысленное владение, достойное идеи человека». «Чтобы
у какого-то народа были деньги, он должен достичь высокого
уровня образования». Деньги более умная форма собственности, чем
товар. В ассигнации товар не виден, но он в ней есть, да еще
какой — любой. Деньгами вдруг отперт целый мир товаров. Вместо
того чтобы приклеиться как улитка к листу к этому клочку земли
и стать его придатком, насколько выше свобода владения простой
ценностью, способной в конечном счете измерить всё
национальное достояние. Деньги — отчуждение, расставание с натурой,
но такое отчуждение натуры более свободно, разумно, истинно,
чем мануальный захват. Отчуждение есть такой отказ от
держания в руках, который дает более чистое обладание настоящим.
Следующим шагом на этом пути я отчуждаюсь от денег,
отлепливаюсь от них, как я отцепился от вещественной натуры.
Какая собственность остается моей после этого второго
отчуждения? Я оказываюсь полным обладателем моих «неотчуждаемых
субстанциальных определений», возвращаюсь к внутренней соб-
202 Гегель. Философия права, §§ 29-30.
386
В. В. БИБИХИН
ственности духа, к существу себя самого. Гегель предлагает
критерий для отличения несобственной собственности от
собственности духа: неуничтожение давностью. Двадцать копеек, которые
занял в Нижнем Новгороде в прошлом веке Максим Горький у
моей бабушки, для меня потеряны. Но совсем другое дело мои
права на слово. Если я долго, очень долго, десятилетиями не мог
говорить свободно, у меня было взято другими мое право сказать
себя, то это не значит, что по давности лет оно от меня навсегда
ушло. Речь — собственное из собственного; здесь отчуждение в
конечном счете невозможно. Или всё-таки возможно?
Забыто авторство эпоса. За давностью тысячелетий
обезличились достижения архаической генетики в выведении домашних
животных. Забыто, кто и как создал мир. Похоже, таким образом, что
отчуждено может быть в конечном счете всё. Критерий давности
оказывается относительным, хотя и полезным в своем диапазоне.
Отчуждается мысль, настроение. Личность-воля целиком отдает
себя своему (родине), которое растет в ней через нее. Не имея права
увести себя из жизни, она не спорит с правом государства брать
ее себе. Государство как идея (род) — «действительная сила»
личности, которая в сердцевине личности, в ее преданности родине
отчуждает личность от нее самой. «Внутренняя собственность духа»
в конечном счете не моя; даже государство в его идее имеет на нее
больше прав, чем я. Собственность как чья тает, остается только
собственность как суть. В меру возвращения индивида к себе в нем
растет тяга к такой объективности, «когда человек лучше унизит
себя до раба и до полной зависимости, лишь бы только уйти от
мучения пустоты и отрицательности», преследующих одинокого
субъекта. Собственность «личности» — временное образование. Как
виноград опадает без опоры, так право должно «обвиваться вокруг
некоего в себе и для себя прочного дерева»203. Спасительное
отчуждение захватывает вещи и имущества в натуральном хозяйстве,
потом товары, потом деньги, потом интеллектуальную собственность,
наконец индивидуальность. В том, что Гегель назвал «внутренней
собственностью духа», собственность в конечном счете уходит в
такую себя, о которой бессмысленно спрашивать, чья она. Она своя.
В самом деле, что в личности, кроме дурных привычек,
скрытности, масок, из которых часто состоит вся ее индивидуальность,
принадлежит ей, а не человечеству как роду? Утаиваемые
слабости, в такой большой мере тревожащие личность, в
действительности присущи всем, и все их одинаково скрывают. Наоборот, уни-
203 Там же, §41.
ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
387
кально и всего реже встречается то, что составляет суть каждого
и чего обычно не наблюдаешь в полноте, родное, родовое. Не
вмещаясь ни в ком отдельном, оно желанно каждому, кто хочет быть
собой, и достижимо только в меру моего превращения в человека.
«Стань наконец человеком», говорю я себе то, что говорят
миллиарды, и одновременно совершенно конкретное, не потому что
я особенный и выращиваю в себе какую-то небывалую
человечность, а как раз наоборот, потому что то самое общее (Гераклит),
в котором я спасен и укрыт, и есть настоящий я.
Помня о равенстве идея-род-народ-государство, прочитаем
в начале третьего раздела («Государство») третьей части
(«Нравственность») гегелевской «Философии права»:
Государство есть действительность нравственной идеи —
нравственный дух как откровенная (offenbare) сама себе отчетливая
субстанциальная воля, которая себя мыслит и знает и то, что она знает,
и поскольку это знает, исполняет... Это субстанциальное единство есть
абсолютная недвижимая самоцель, в которой свобода приходит к своему
высшему праву, так что эта конечная цель обладает высшим правом
против одиночек, чей высший долг — быть членами государства.
Свободолюбивая читательская личность зря спешит здесь
возмущаться. Гегель сейчас отдаст ей то, чего она требует: он
скажет, что в гражданском обществе, в коллективе «интерес
отдельных людей как таковых высшая цель». Именно так сказано
в нашей конституции, создатели которой в спешке даже не
удосужились задуматься о разнице между гражданским обществом,
т. е. коллективом, и нацией, т. е. государством. Между тем к этой
разнице сводится всё в политике. Общество есть собрание людей,
договорившихся между собой и выбравших себе руководство.
Я обязан не подчиняться решениям этого руководства, если
нахожу их неправильными. Эта моя обязанность оправдана тем,
что и я, и общество, и его правительство в данном поколении,
мы все принадлежим истории народа и замыслу страны. На беду
интеллектуалам, не догадавшимся в своей временной поделке,
конституции, учесть, что обществом правит не обязательно что-то
понятное людям, об этом догадываются как раз те, чье беззаконие
конституция призвана вроде бы остановить.
Любому коллективу, даже самому большому, не гарантировано
не изменить идее. Значит, настоящая работа еще только предстоит.
Работа сначала черновая, разбор завалов. Но ничего страшного.
Всякую свалку можно со временем разобрать, хотя всего больше
грязи вокруг главного. Между своим и своим, собственным и соб-
388
В. В. БИБИХИН
ственным, родом как мысленным обобщением и родом как родным,
между толпой и государством различить в конечном счете удастся,
тем более что для нас нет ничего важнее. То, что Гегель называет
духом народа («государство в качестве духа народа есть вместе
с тем проникающий все его отношения закон», № 274), существует
и заставит к себе прислушаться, хотя для этого придется
разобрать большую грязную свалку вокруг «духа», «народа» и сначала
по-новому услышать эти слова, дух как дыхание, народ как мир.
Принцип свободы собственности, признаваемый или не
признаваемый, так или иначе осуществляет себя явочным порядком.
Против юридической собственности в военное и революционное
время принимаются жесткие, иногда уничтожающие меры. Менее
бросаются в глаза, хотя едва ли менее эффективны,
идеологические меры в виде признания захвата собственности
безнравственным, нецивилизованным, некультурным «воровством» (Прудон).
Спазматическое принятие мер против собственности разрушает,
как правило, вещество и тело, т. е. как раз не то, что должно быть
врагом не слепого нравственного усилия.
Другое, в чем дает о себе знать подспудная работа идеи
свободы собственности, — это легкость расставания с ней. Известна
готовность, с какой российские «капиталисты» отдали
«собственность» революционерам.
Если в России частная собственность так легко, почти без
сопротивления, была сметена вихрем социалистических страстей, то только
потому, что слишком слаба была вера в правду частной собственности,
и сами ограбляемые собственники, негодуя на грабителей по личным
мотивам, в глубине души не верили в свое право, не сознавали его
„священности", не чувствовали своей обязанности его защищать, более того,
втайне были убеждены в нравственной справедливости последних целей
социалистов... Требование, чтобы мое оставалось при мне... никоим
образом не может претендовать именно на абсолютную нравственную
авторитетность204.
Нет оснований думать, что к концу XX века настроения в этом
отношении заметно изменились. Отказом признать нашей
действительной историей то, что с нами произошло и происходит, мы
готовим себя к новому повороту, который не может не оказаться
таким же крутым, как и те, которые у нас уже были в этом веке.
То, что на этом новом и теперь уже, похоже, неизбежном повороте
ничего не останется от того, что теперь называется
«приватизацией», также не исключено.
204 С.Л. Франк. Социализм и собственность // Русская философия
собственности..., с. 311 ел.
Содержание
Введение 5
Программа курса 6
1. Введение. Захват мира 11
2. Происхождение собственности 30
3. Хитрость, хватка, хищение 43
4. Гонка за бытием. Ахиллес и черепаха 54
5. Тело и точка. Новоевропейский предел 71
6. Границы собственности 86
7. Собственное как настоящее 93
8. Кант. Вещь в себе. Свобода 104
9. Гегель. Право и собственность 114
10. Своё и свобода 121
11. Мысль и понятие 132
12. Личность, лицо, воля 143
13. Свобода собственности 155
14. Лаборатория мира. Эксперимент с собственностью 167
15. Неопределимость своего 183
16. Знающее незнание 193
17. Есть и нет 204
18. Действенность несуществующего 214
19. Тело и душа 226
20. Проблема моего Я 236
21. Мера вещей 253
22. Апокалипсис 268
23. Последний суд 278
390 СОДЕРЖАНИЕ
24. Вещь в себе и пространство 288
25. Владимир Соловьев. Мужское и женское 303
26. Непостижимая собственность. Мировой автомат 321
27. Странность 332
28. Постоянство форм. Странность и рациональное 343
29. Война вокруг собственности 353
30. Богатство и нищета. Решение 365
Приложение. Свое, собственное 373
Научное издание
Владимир Вениаминович Б и б и χ и н
СОБСТВЕННОСТЬ
Философия своего
Утверждено к печати
Редколлегией серии «Слово о сущем»