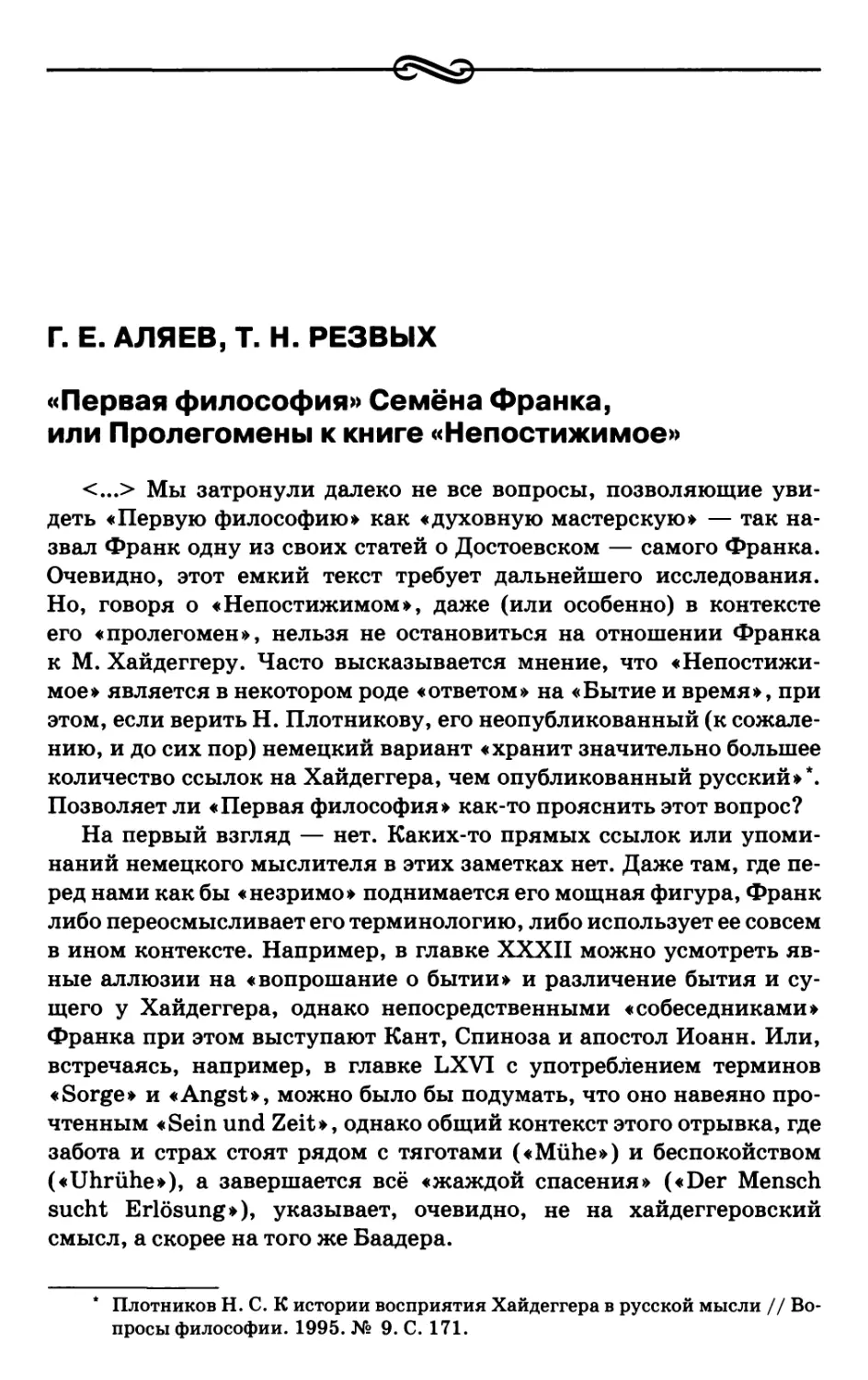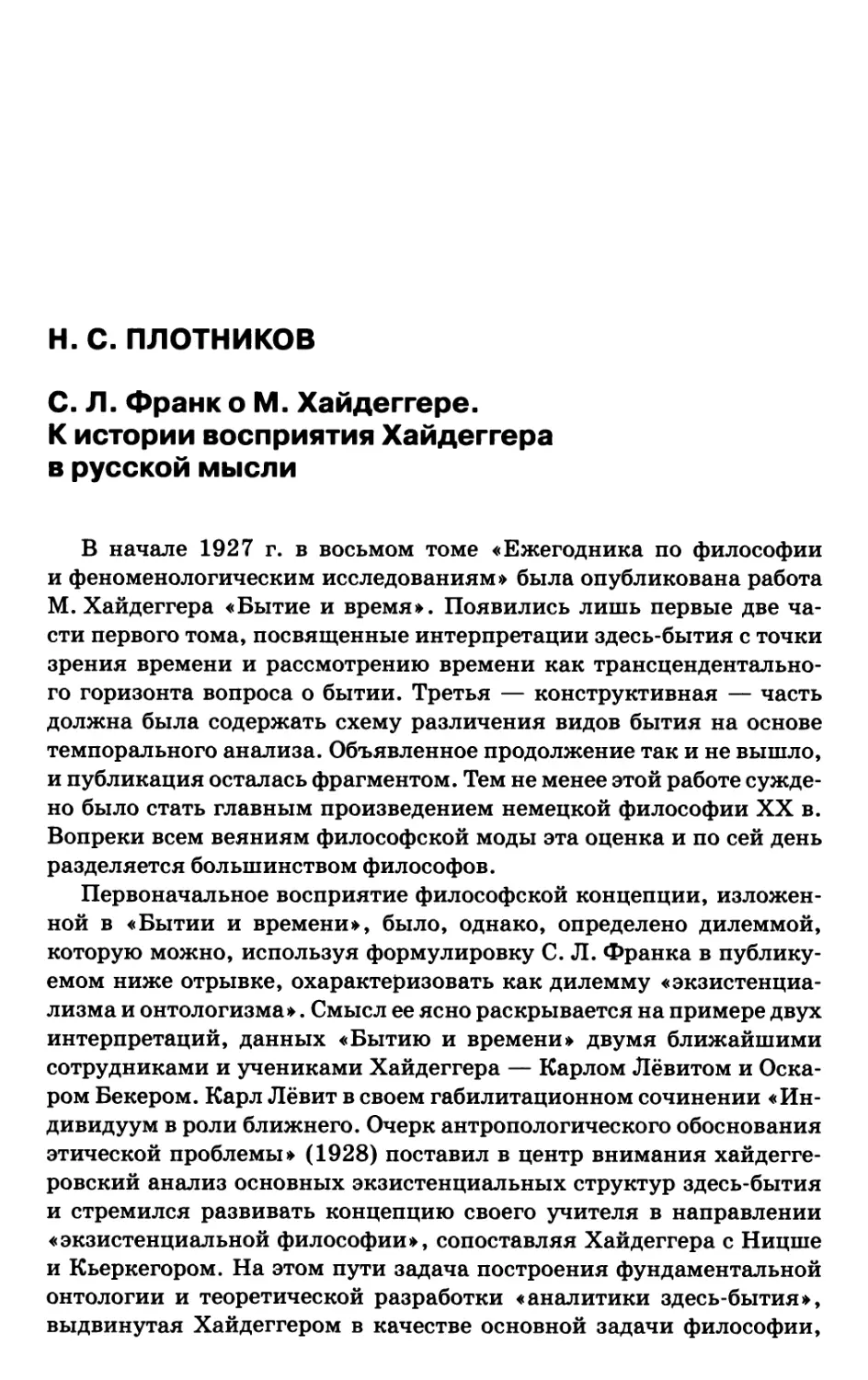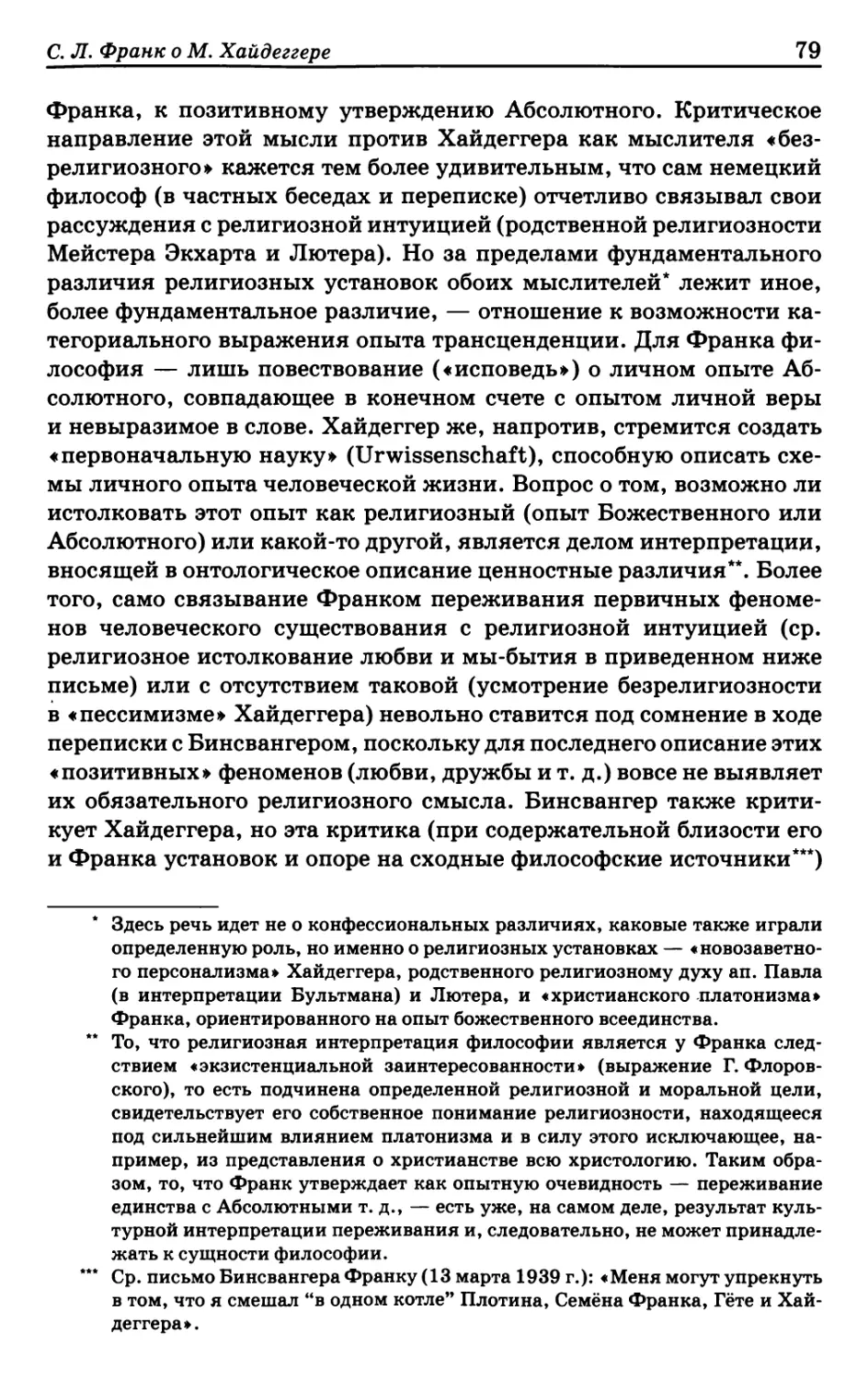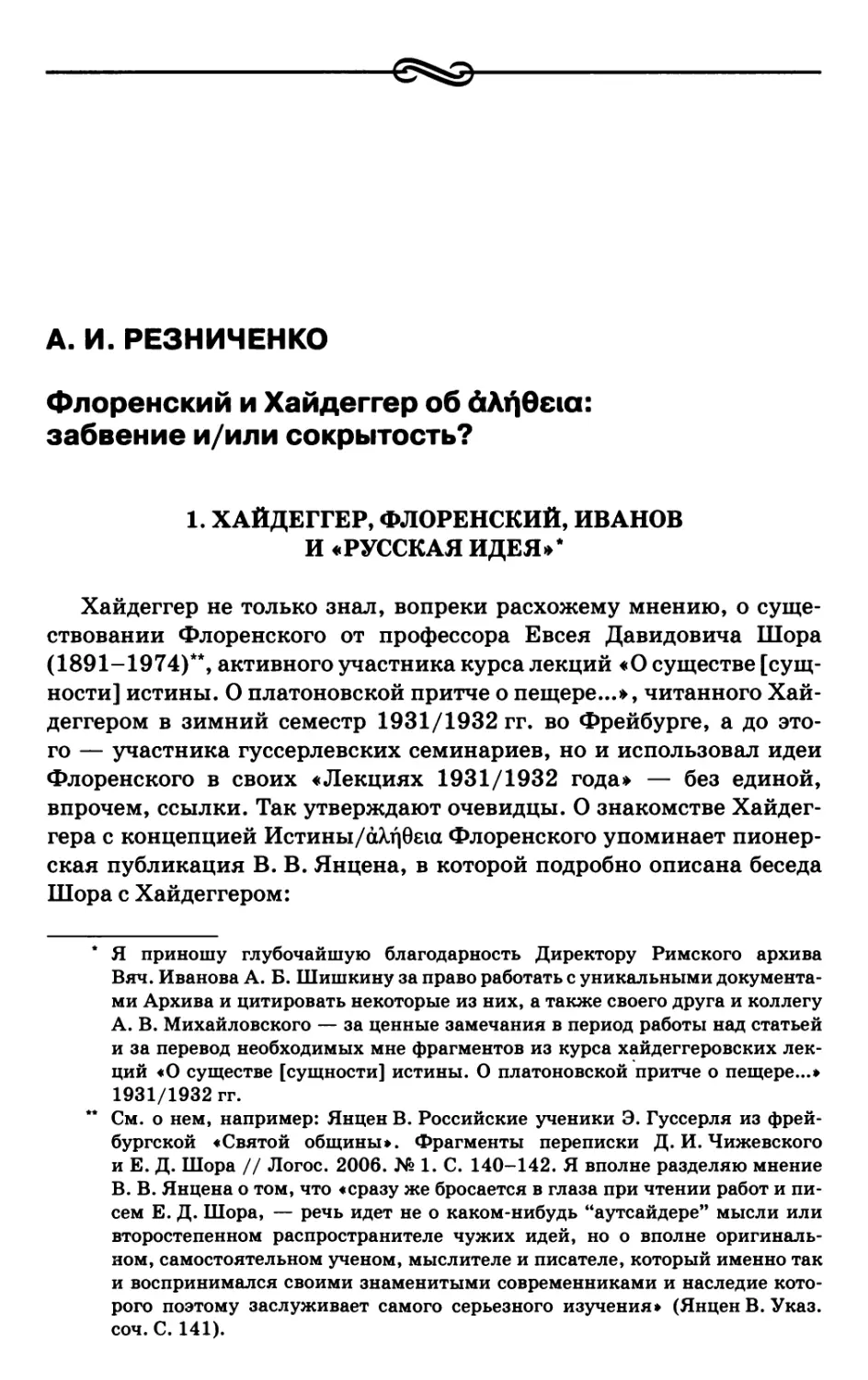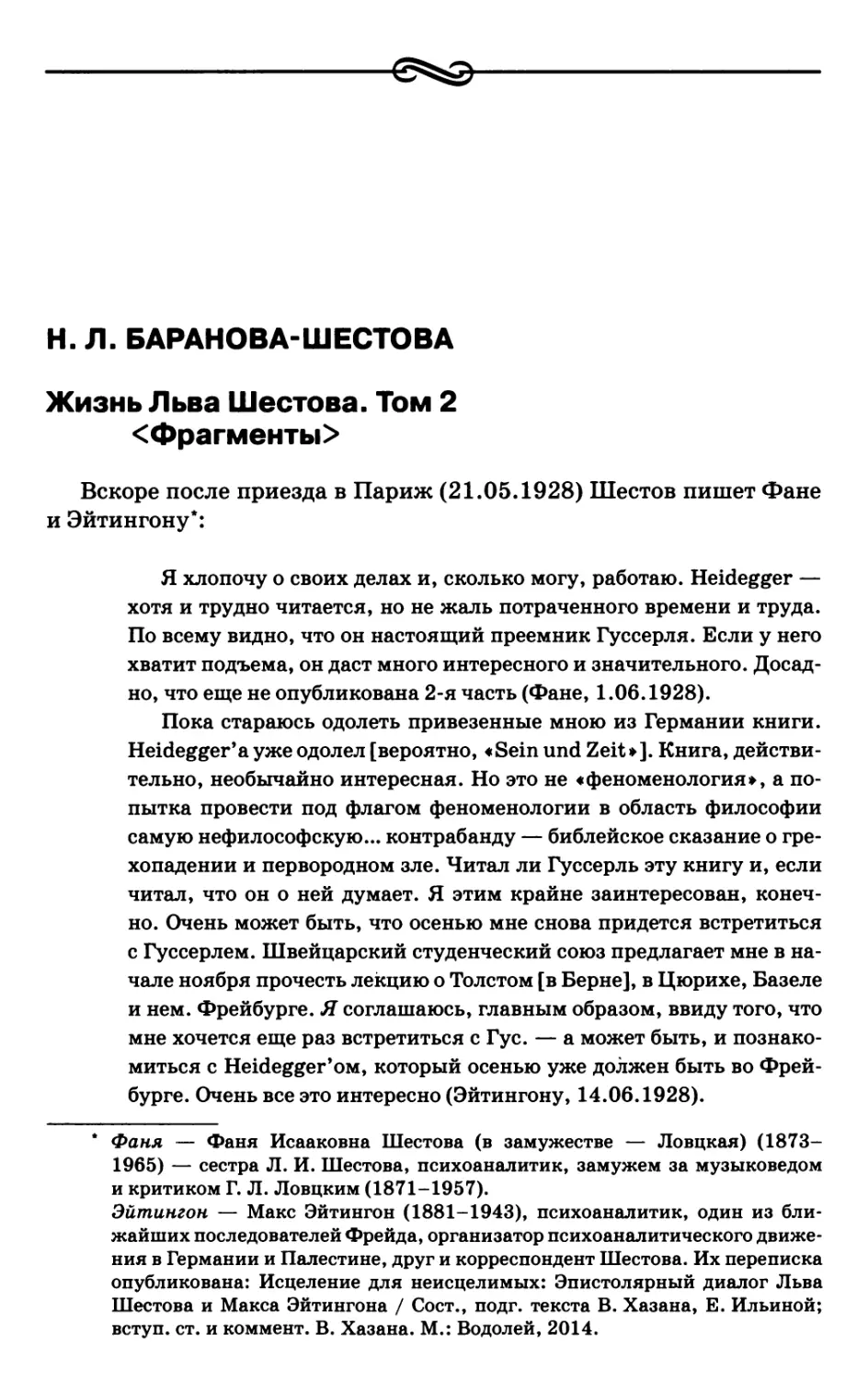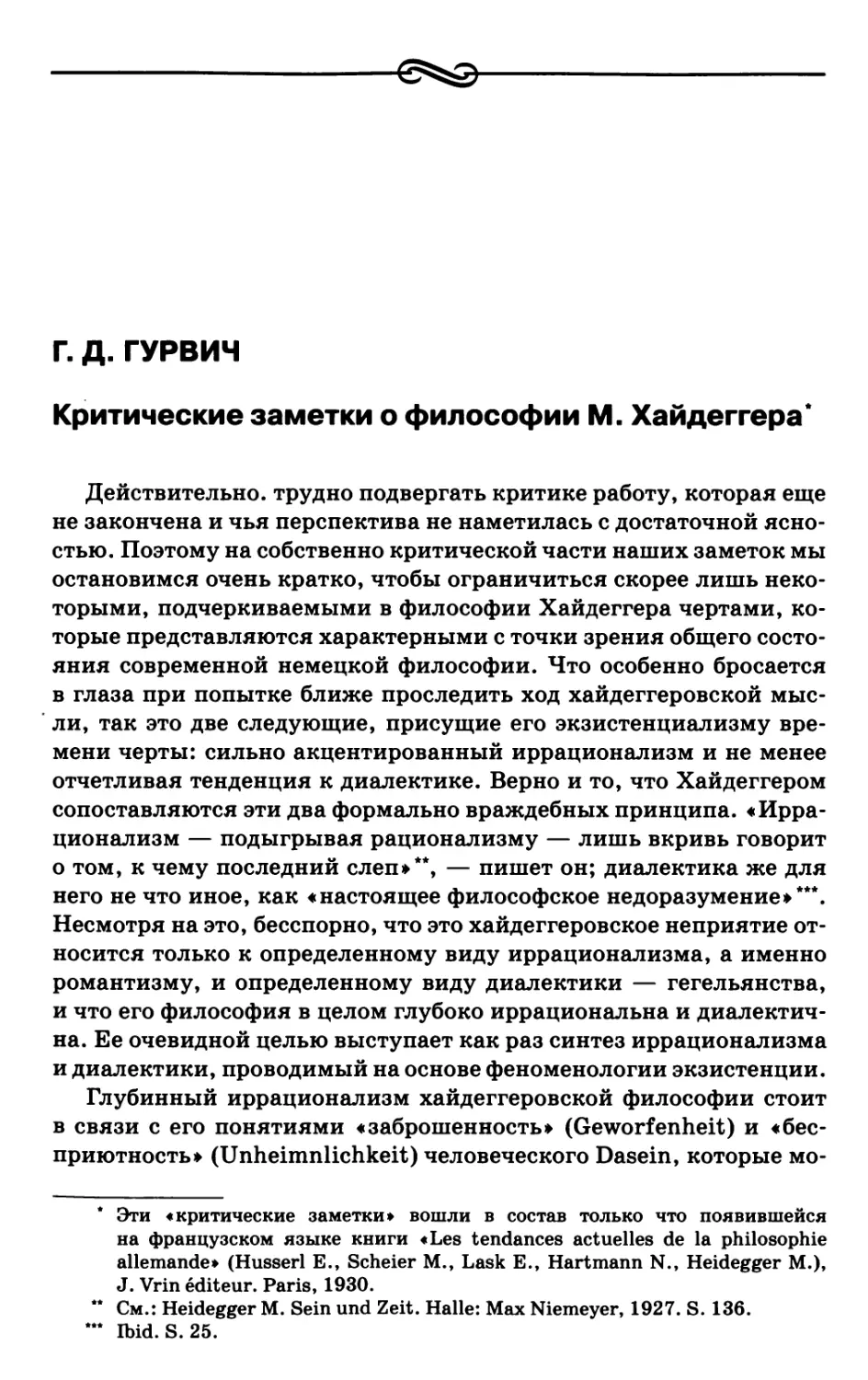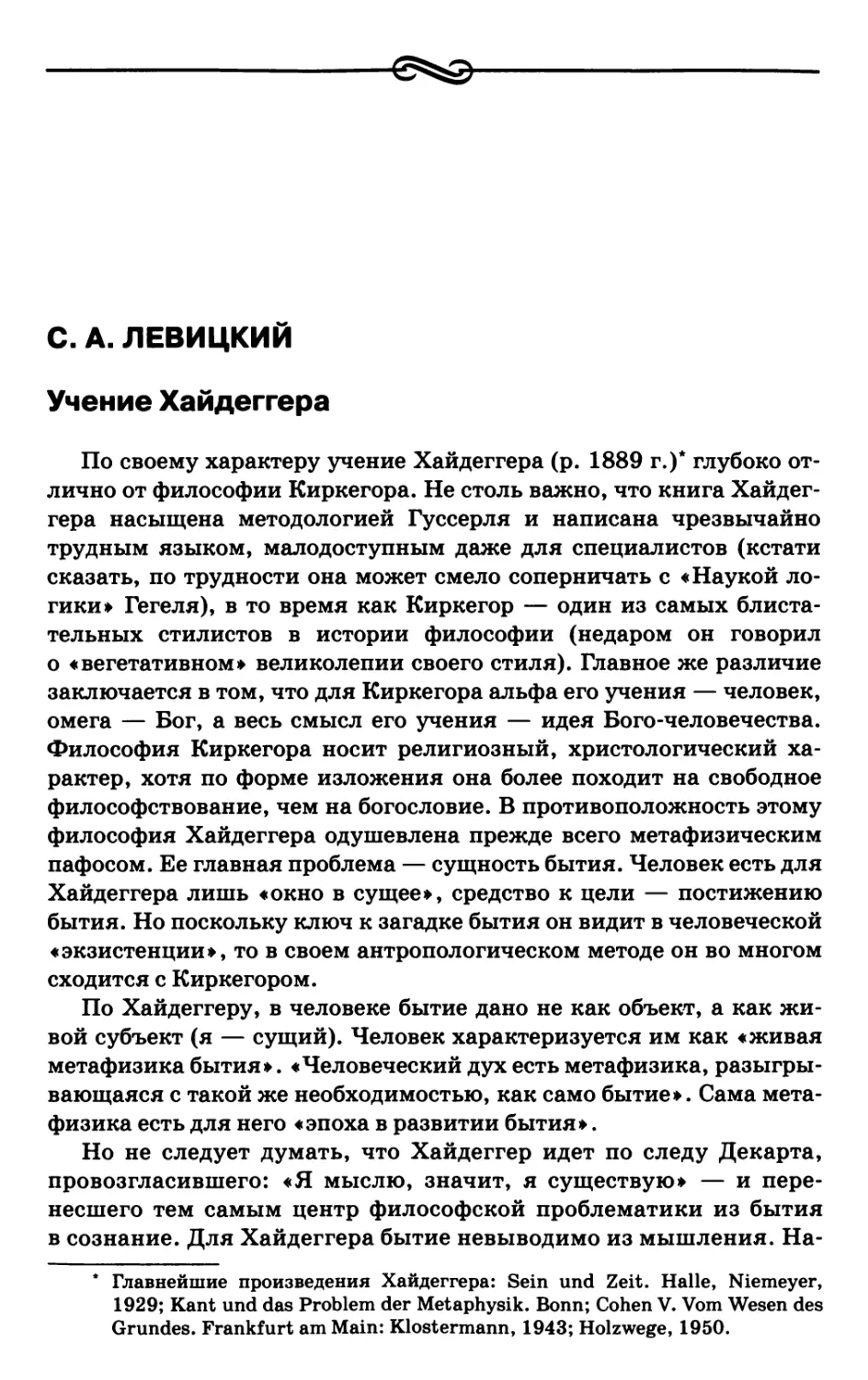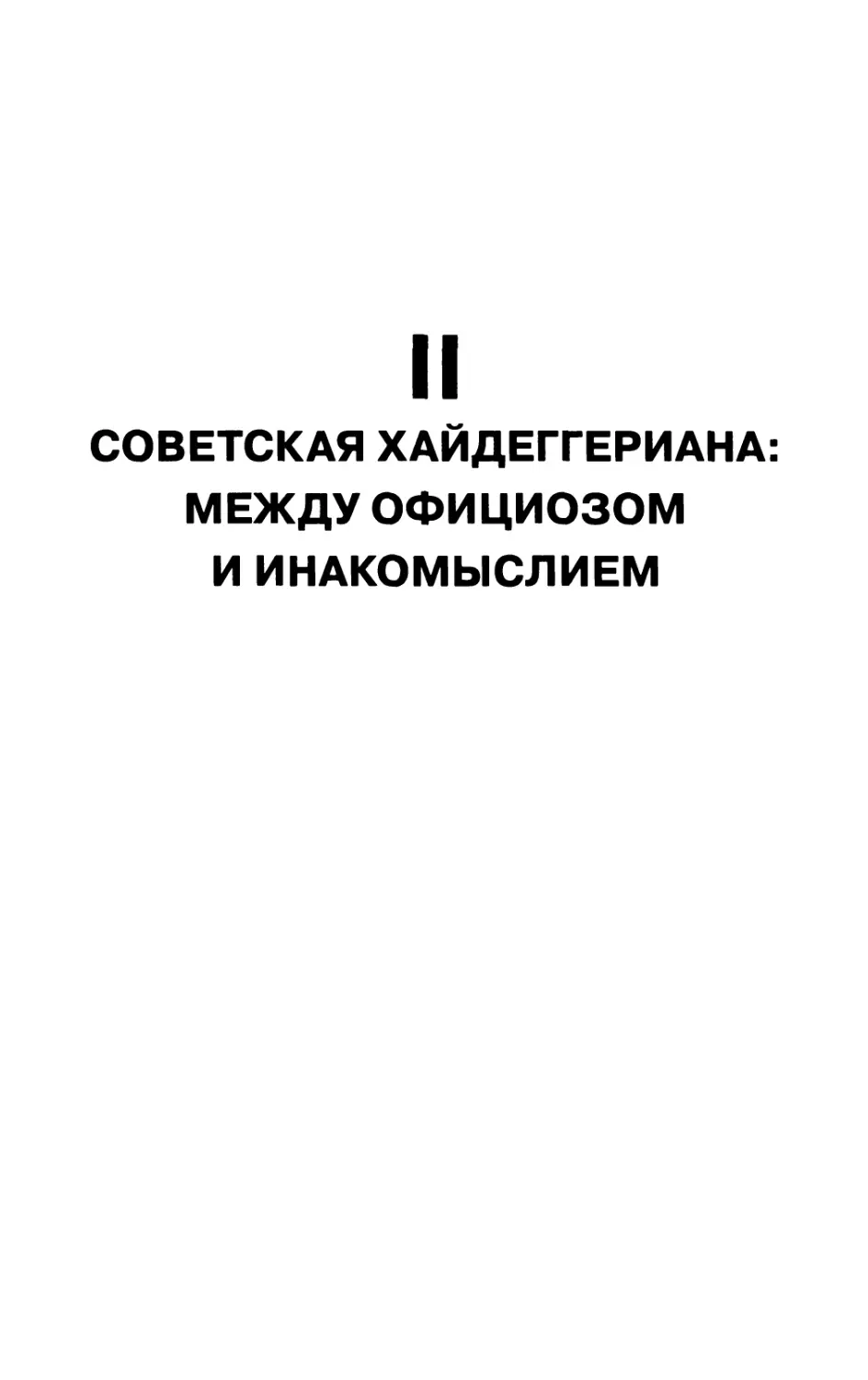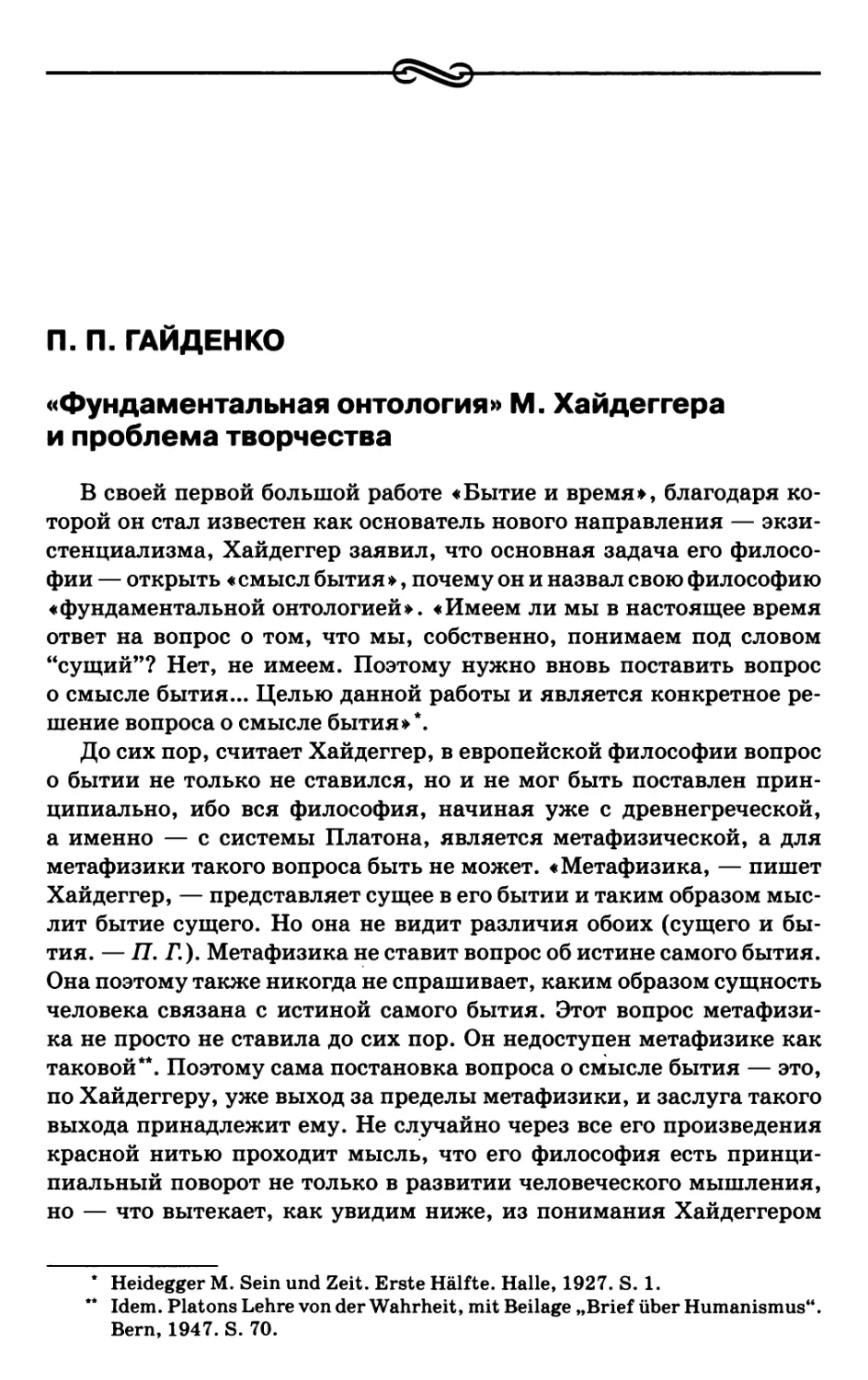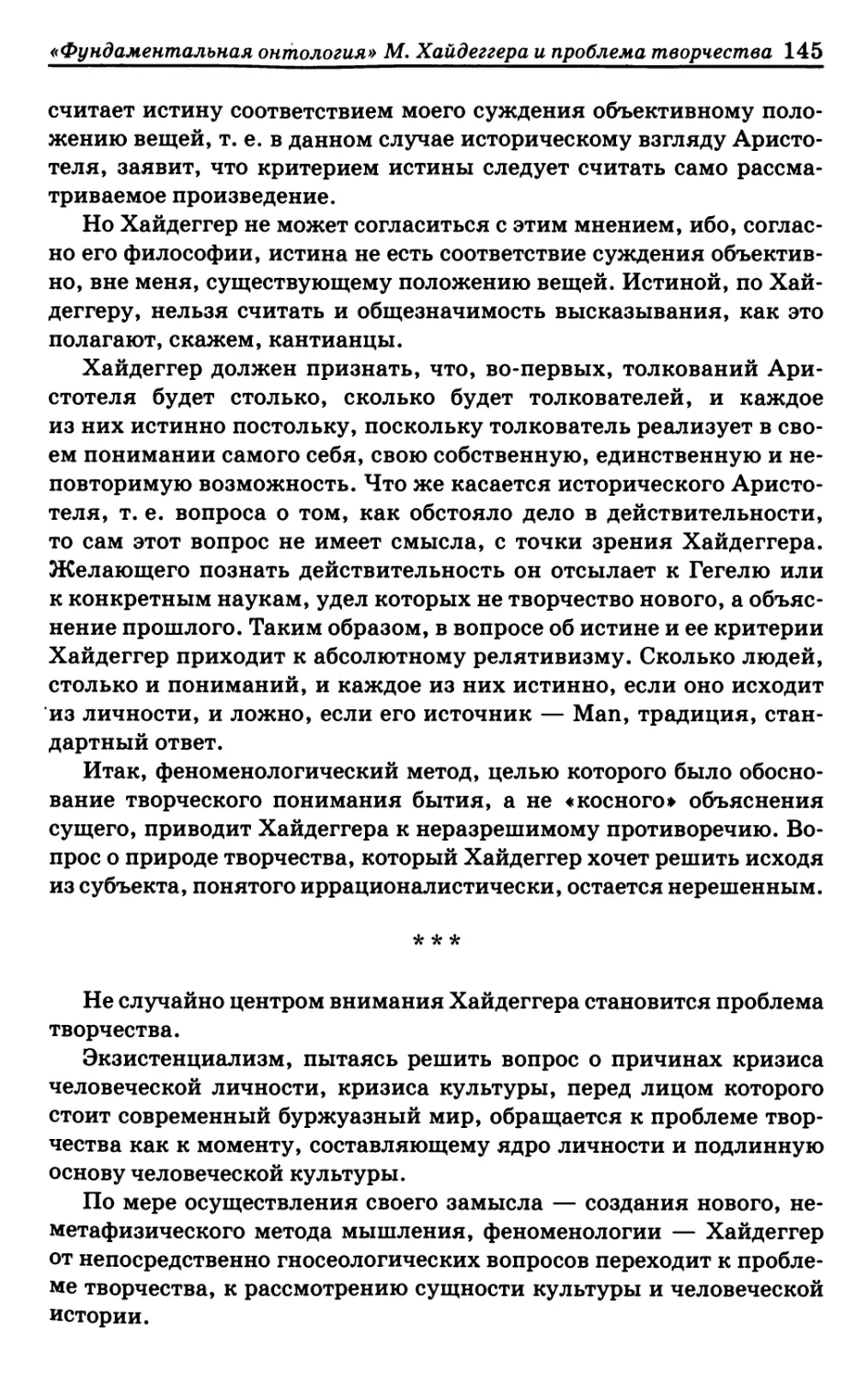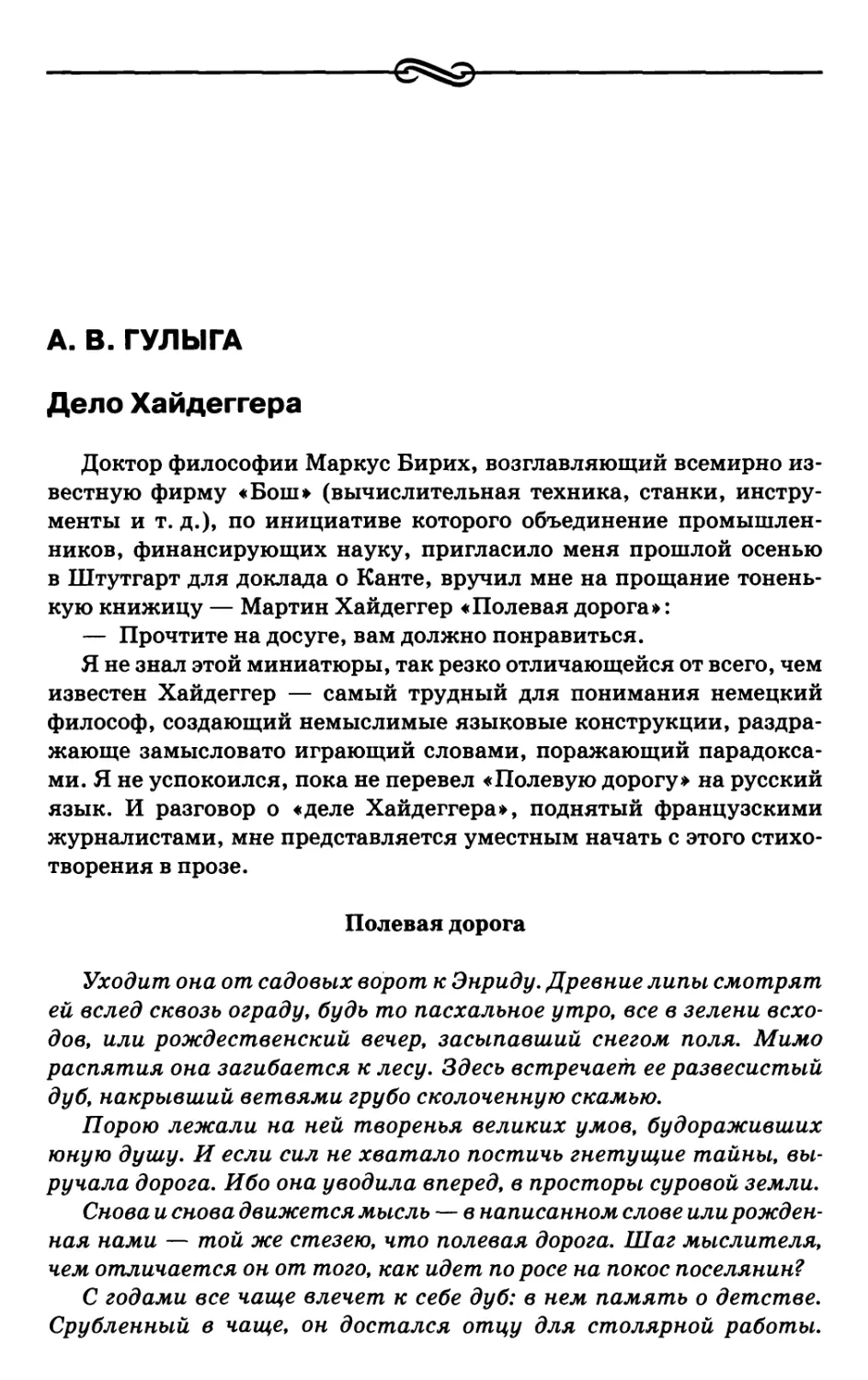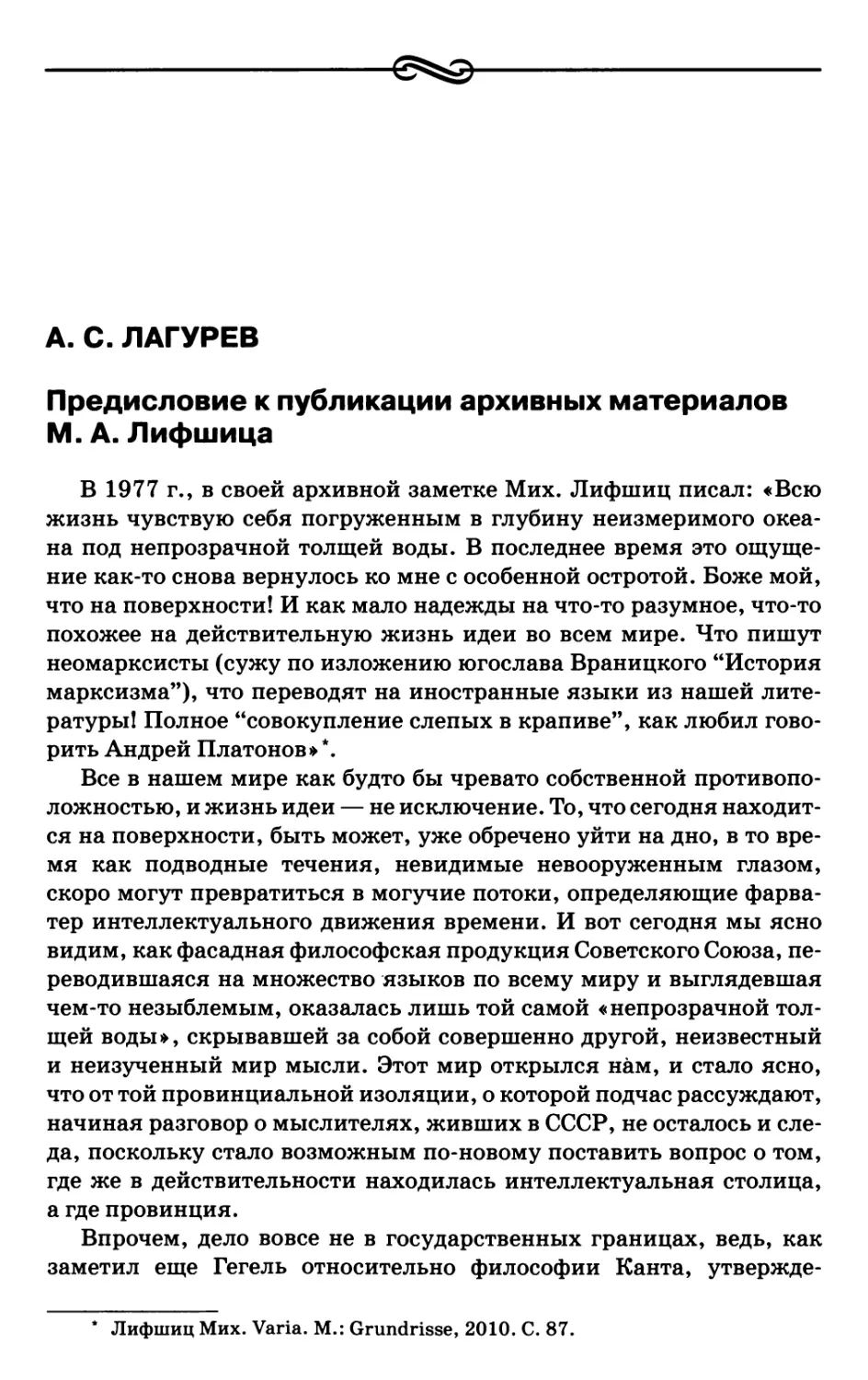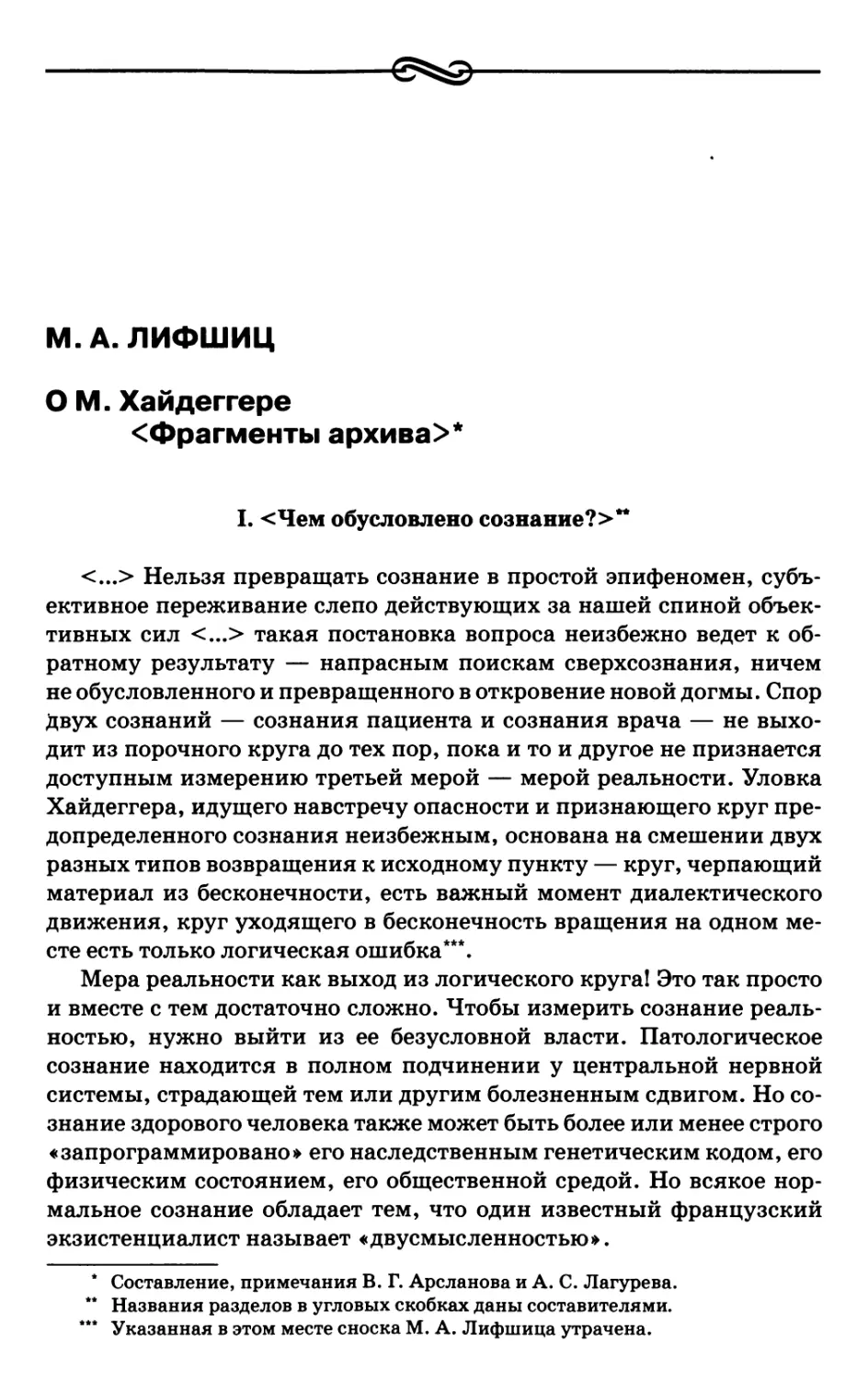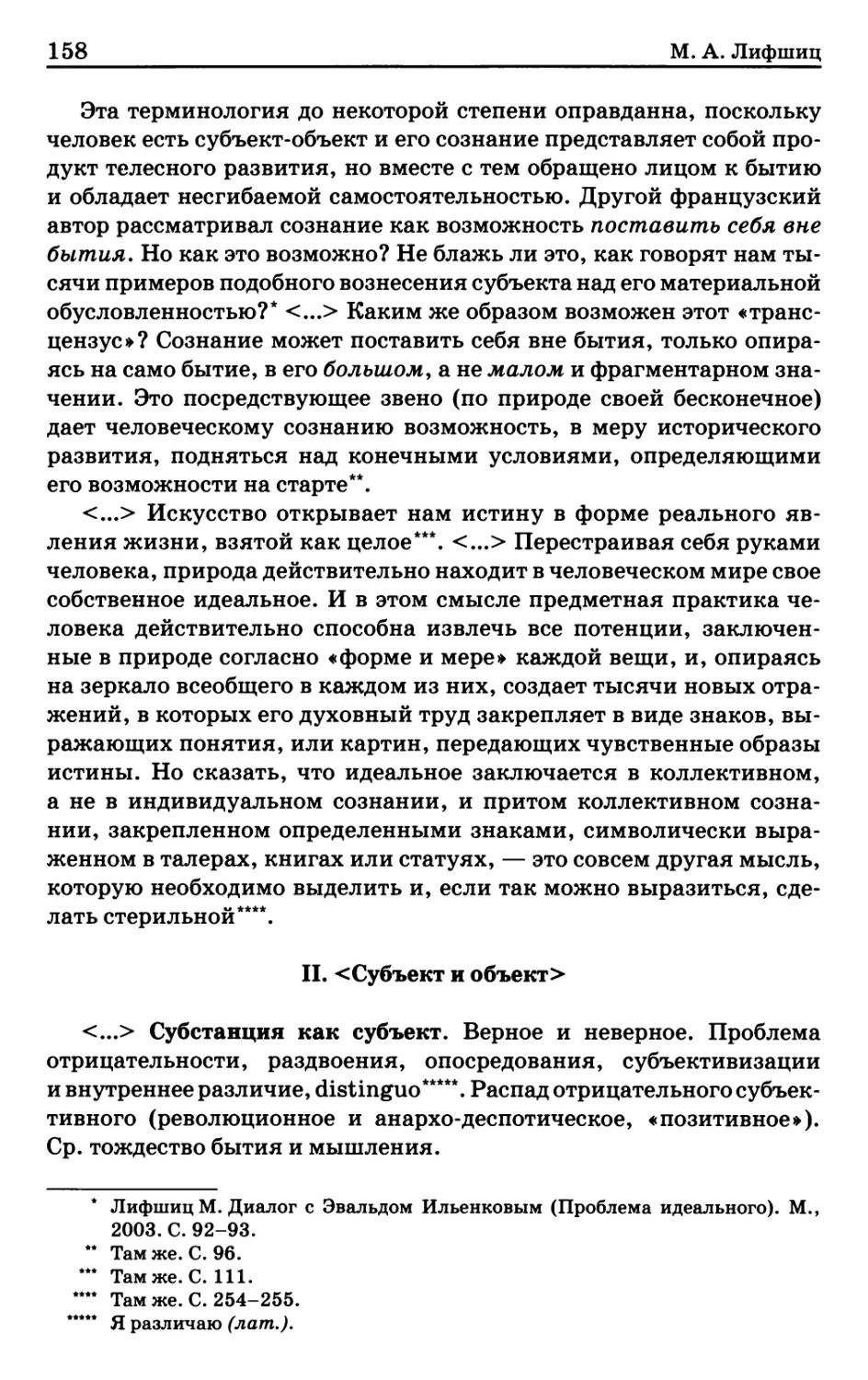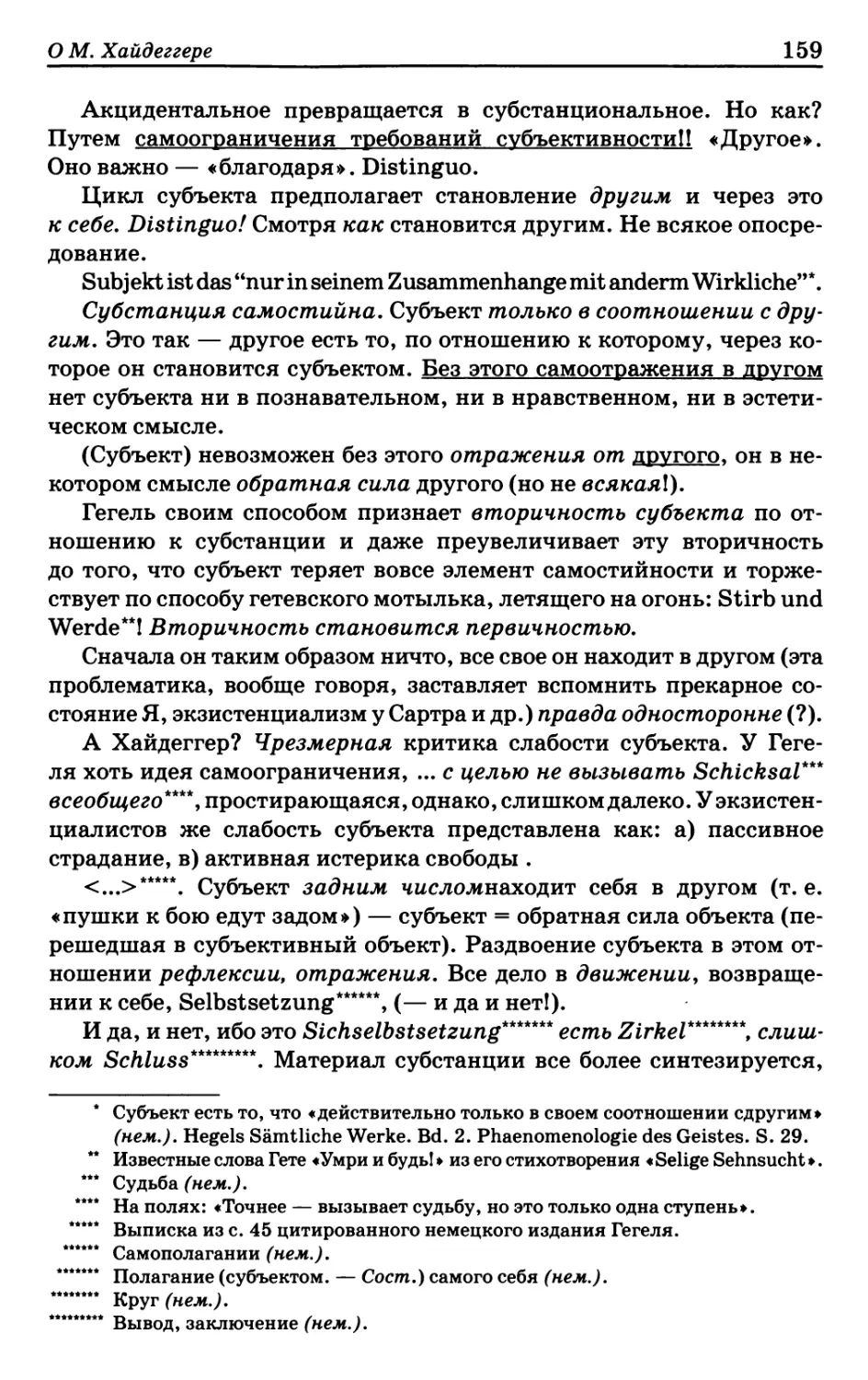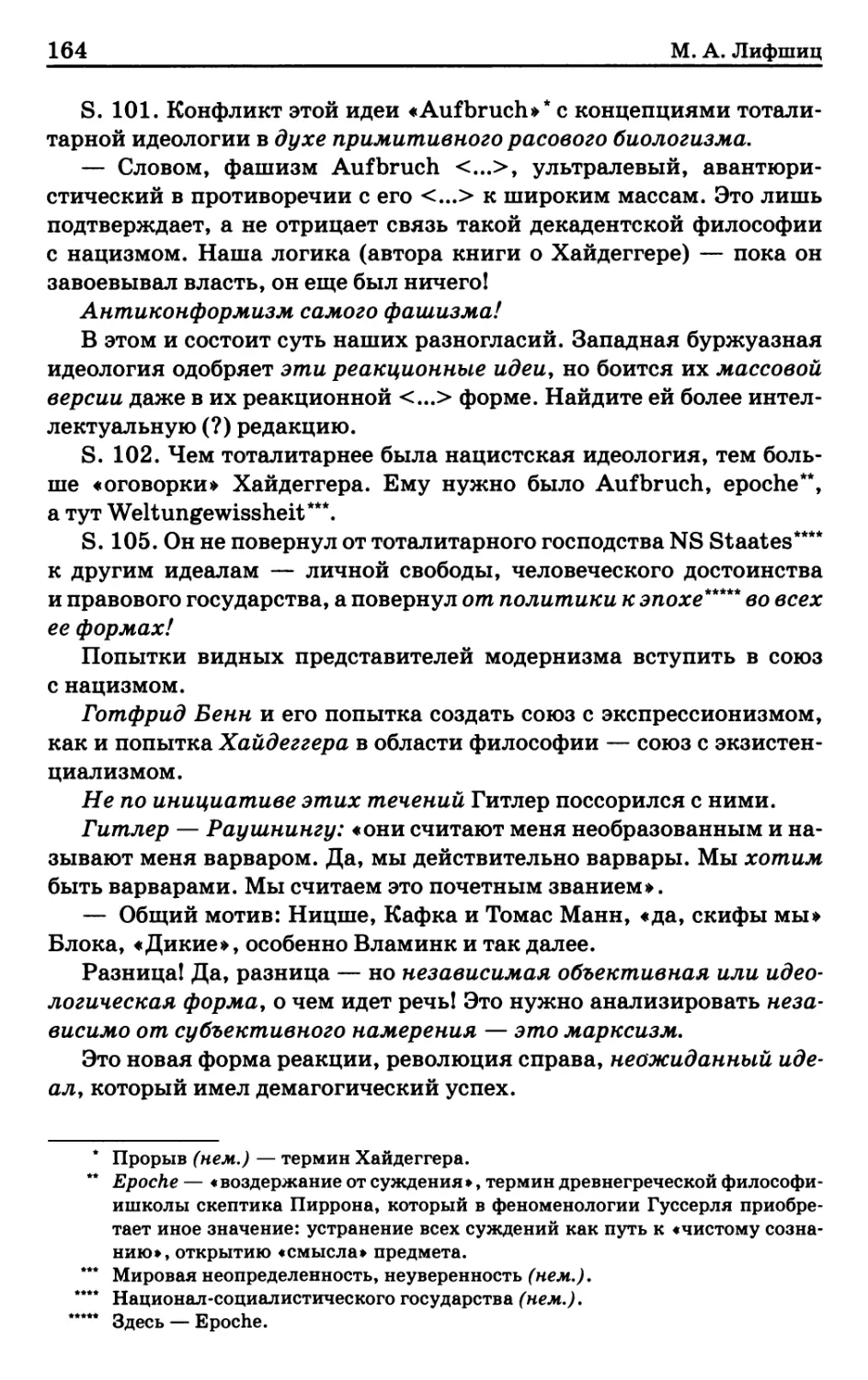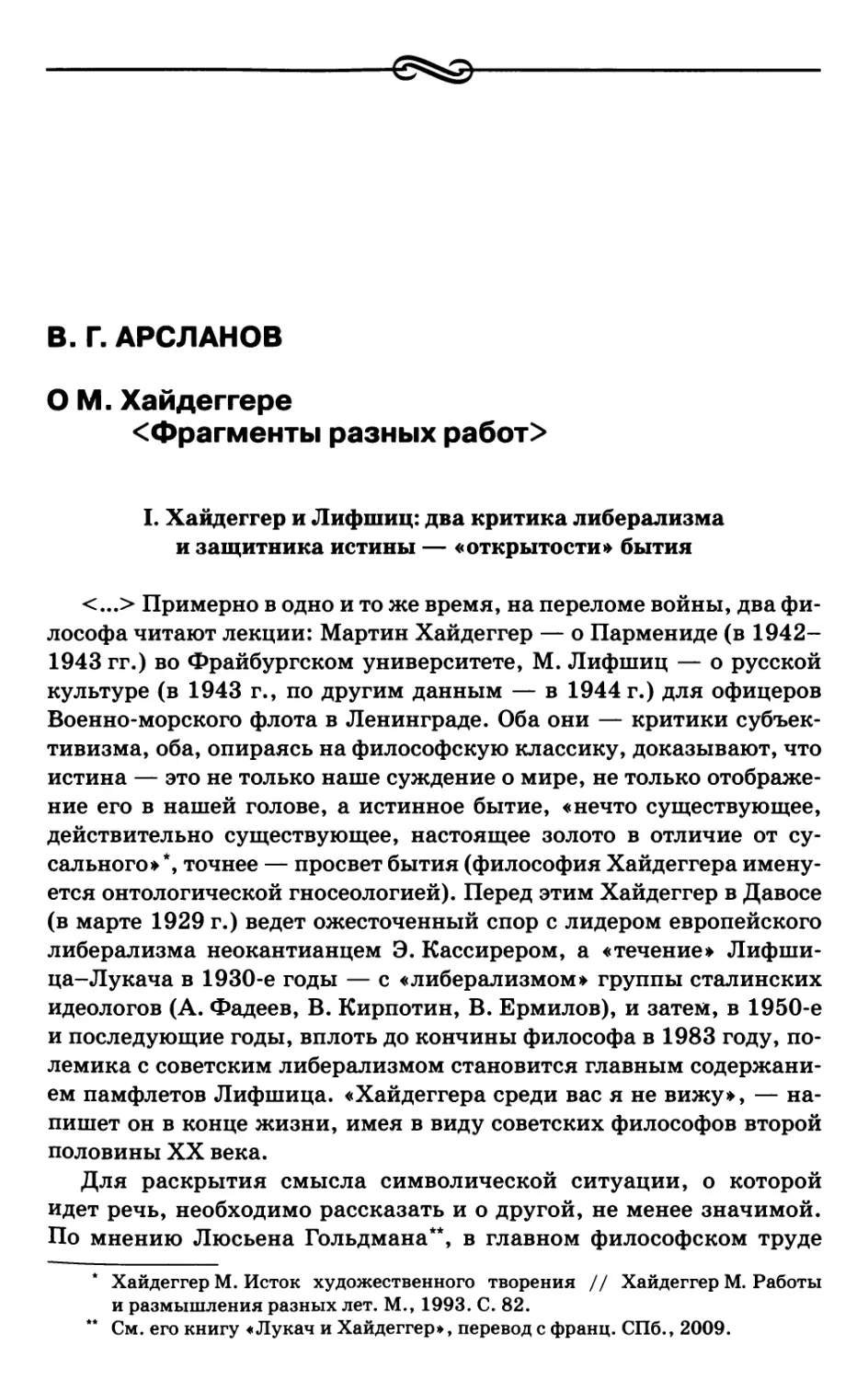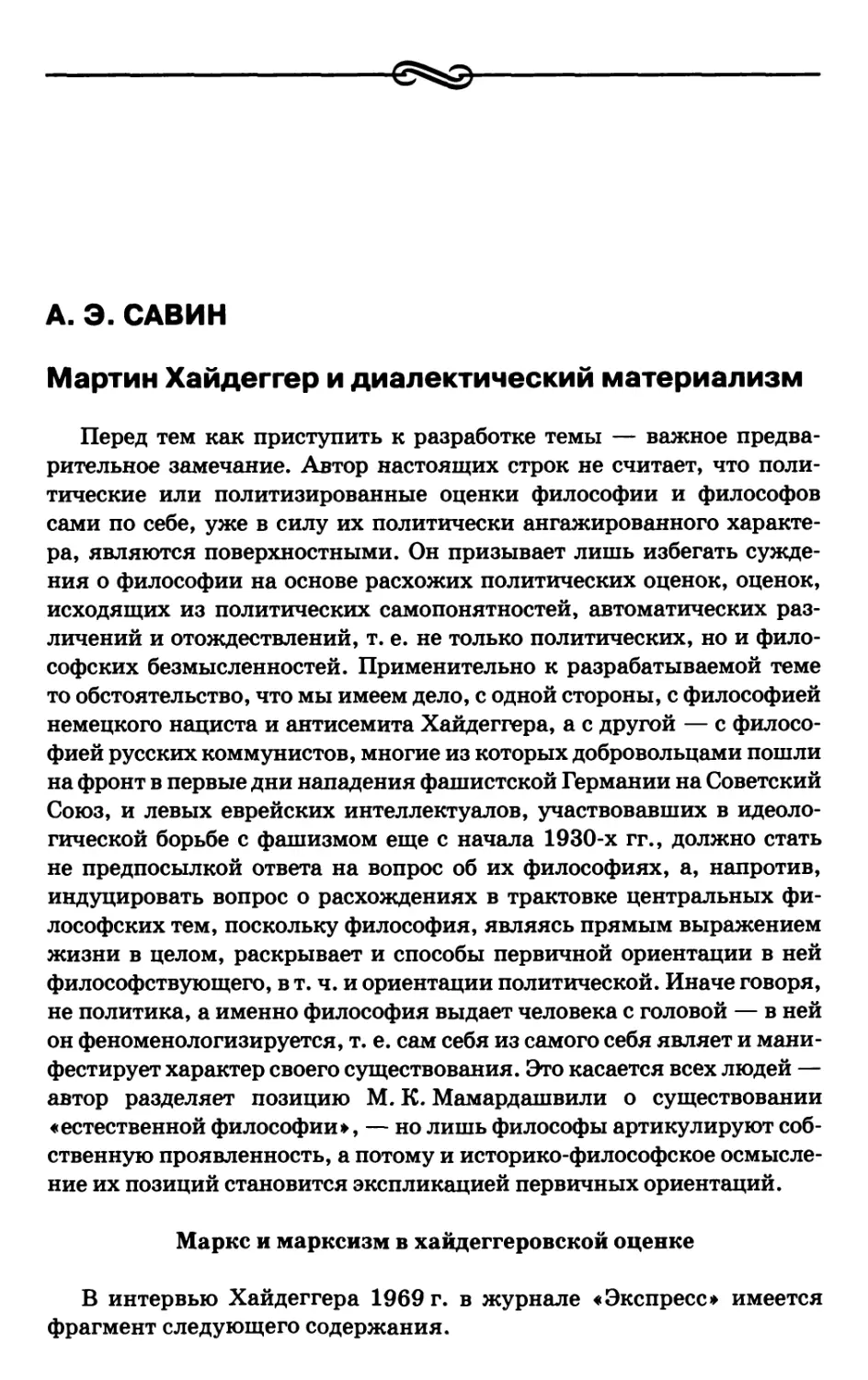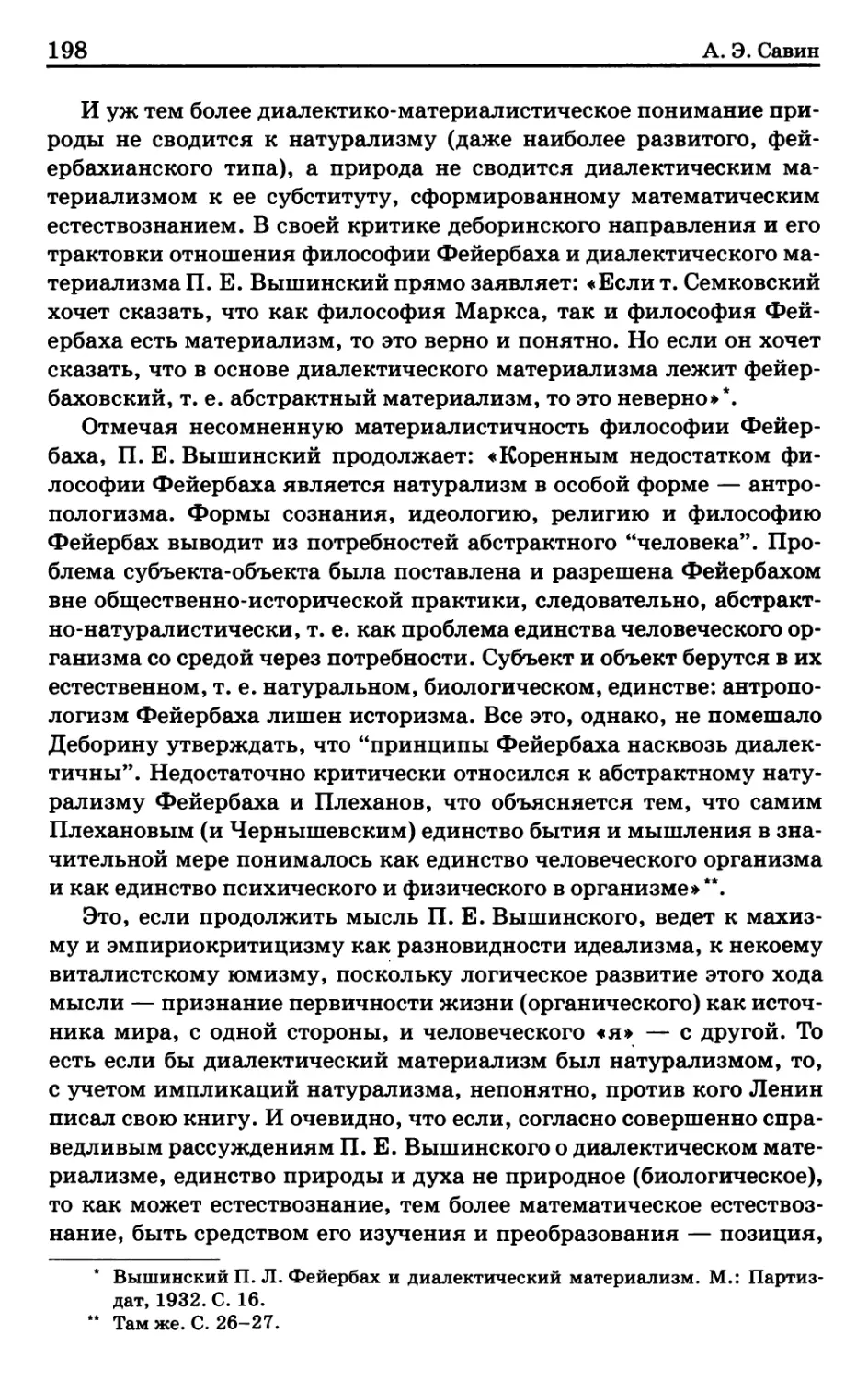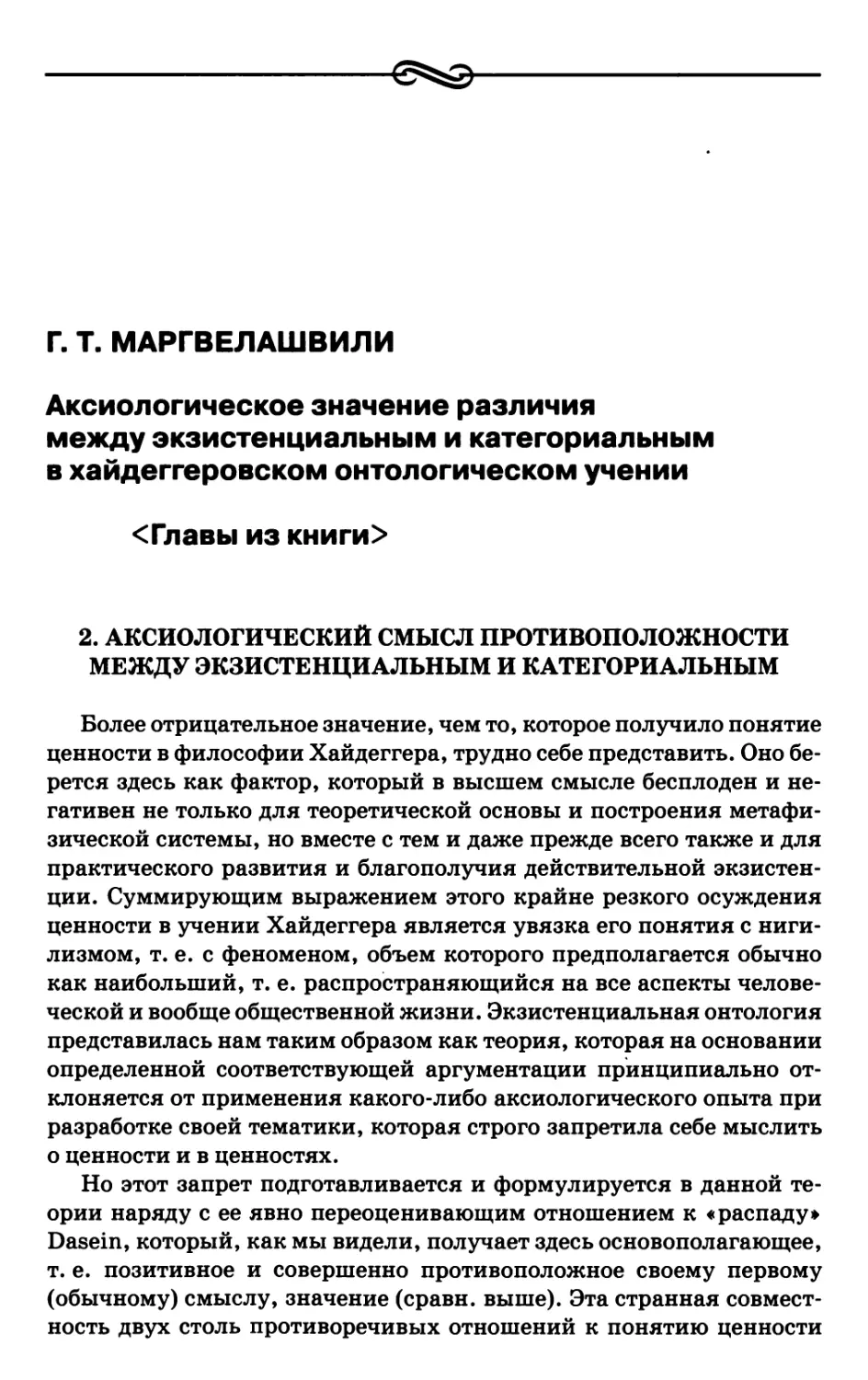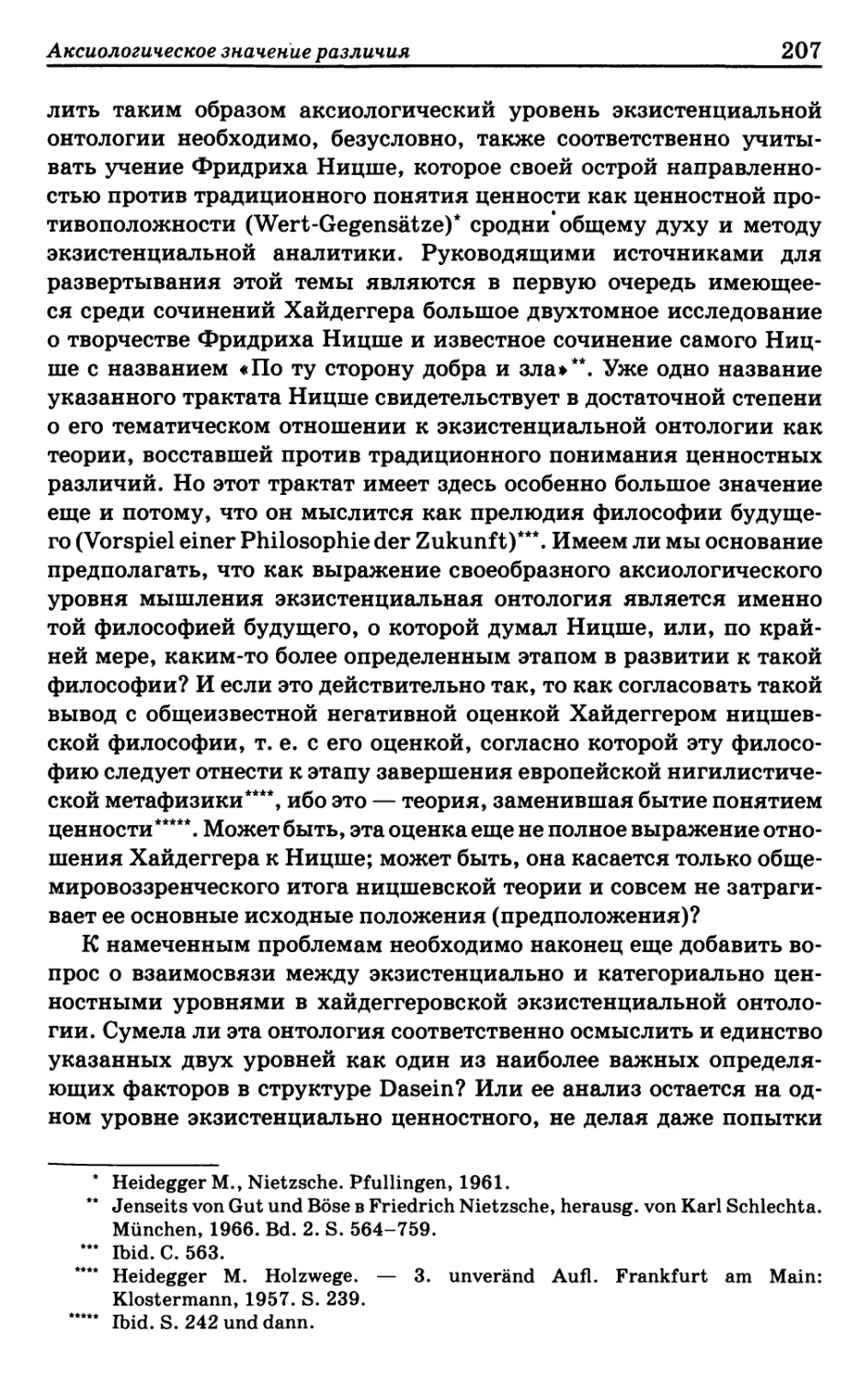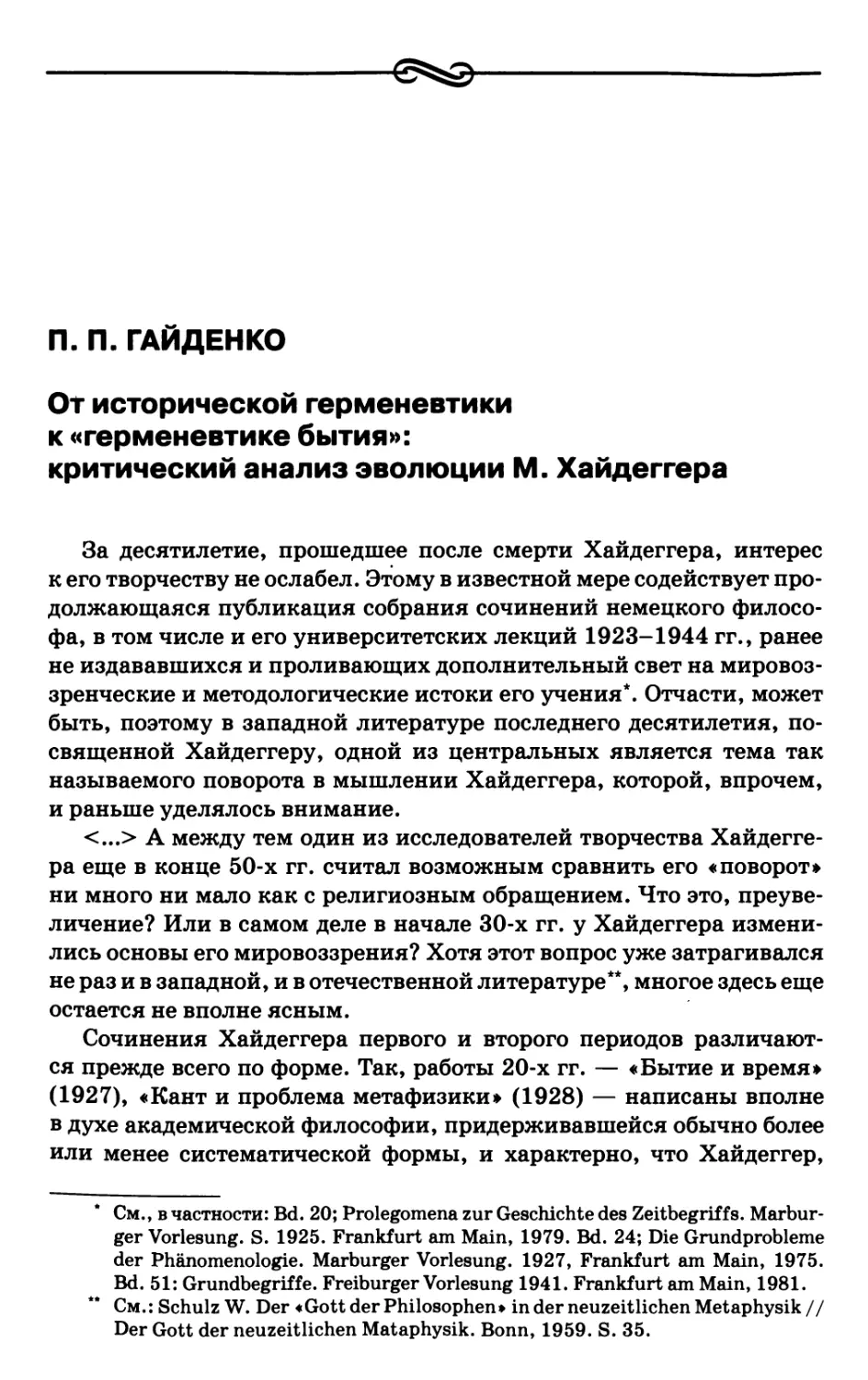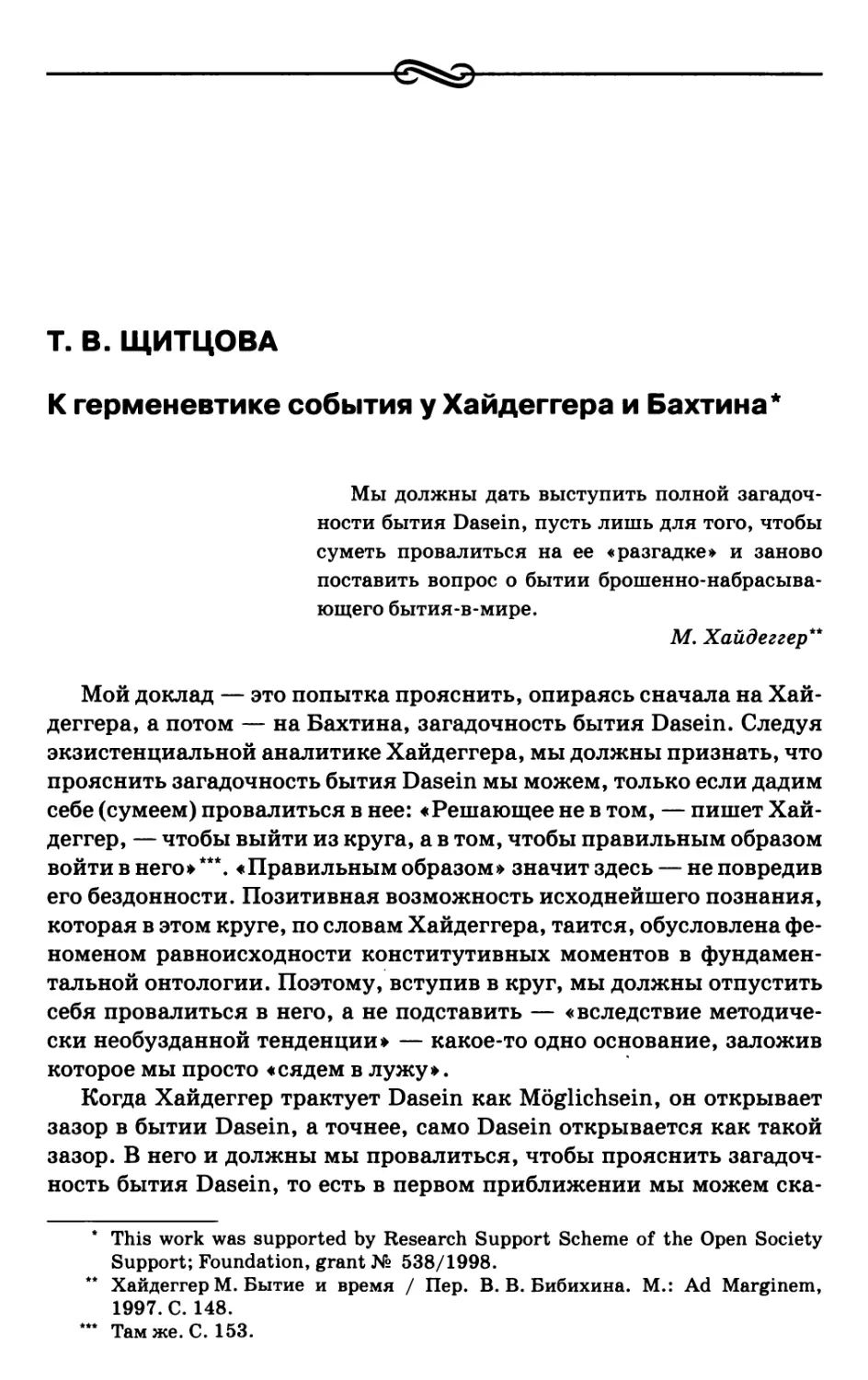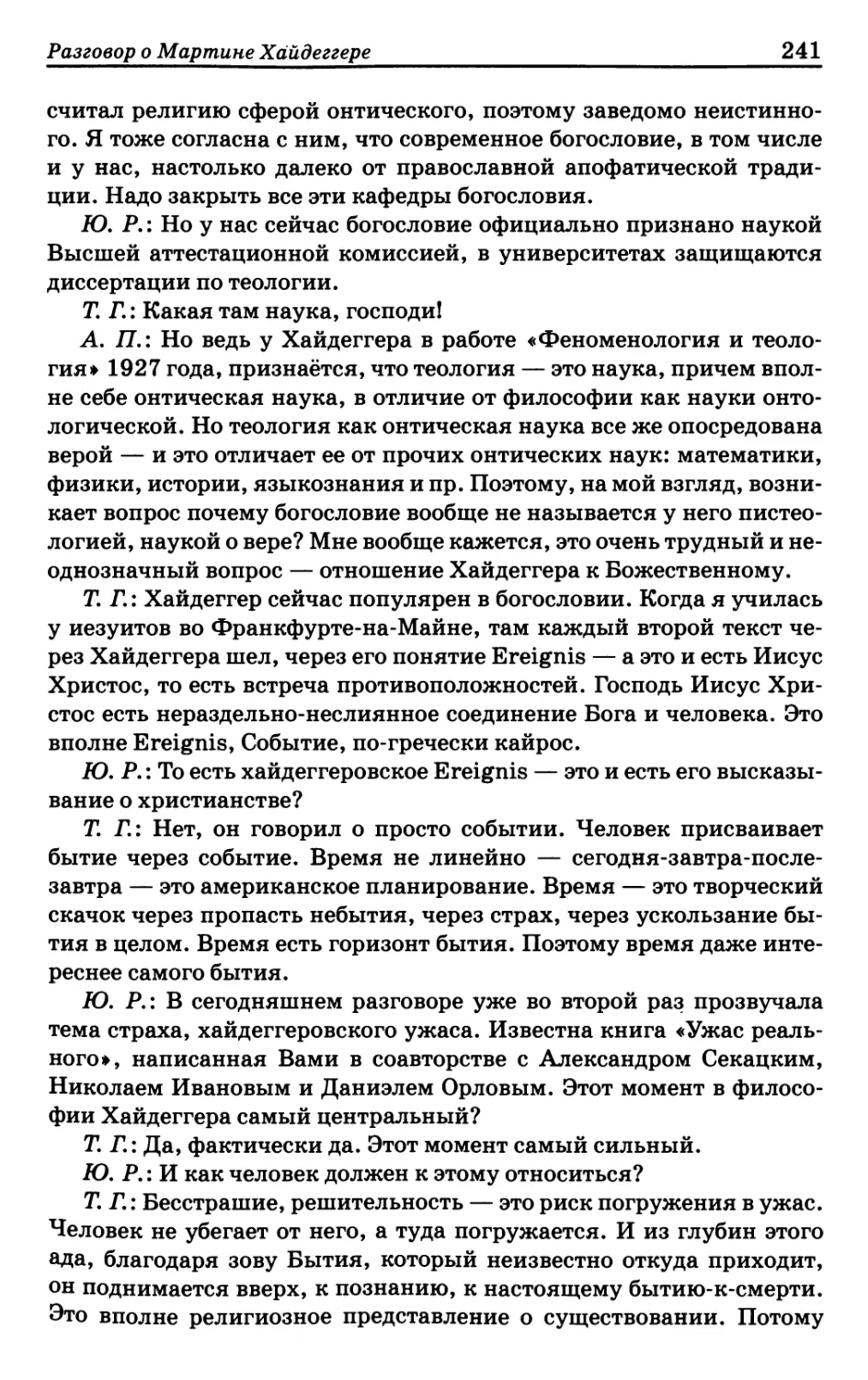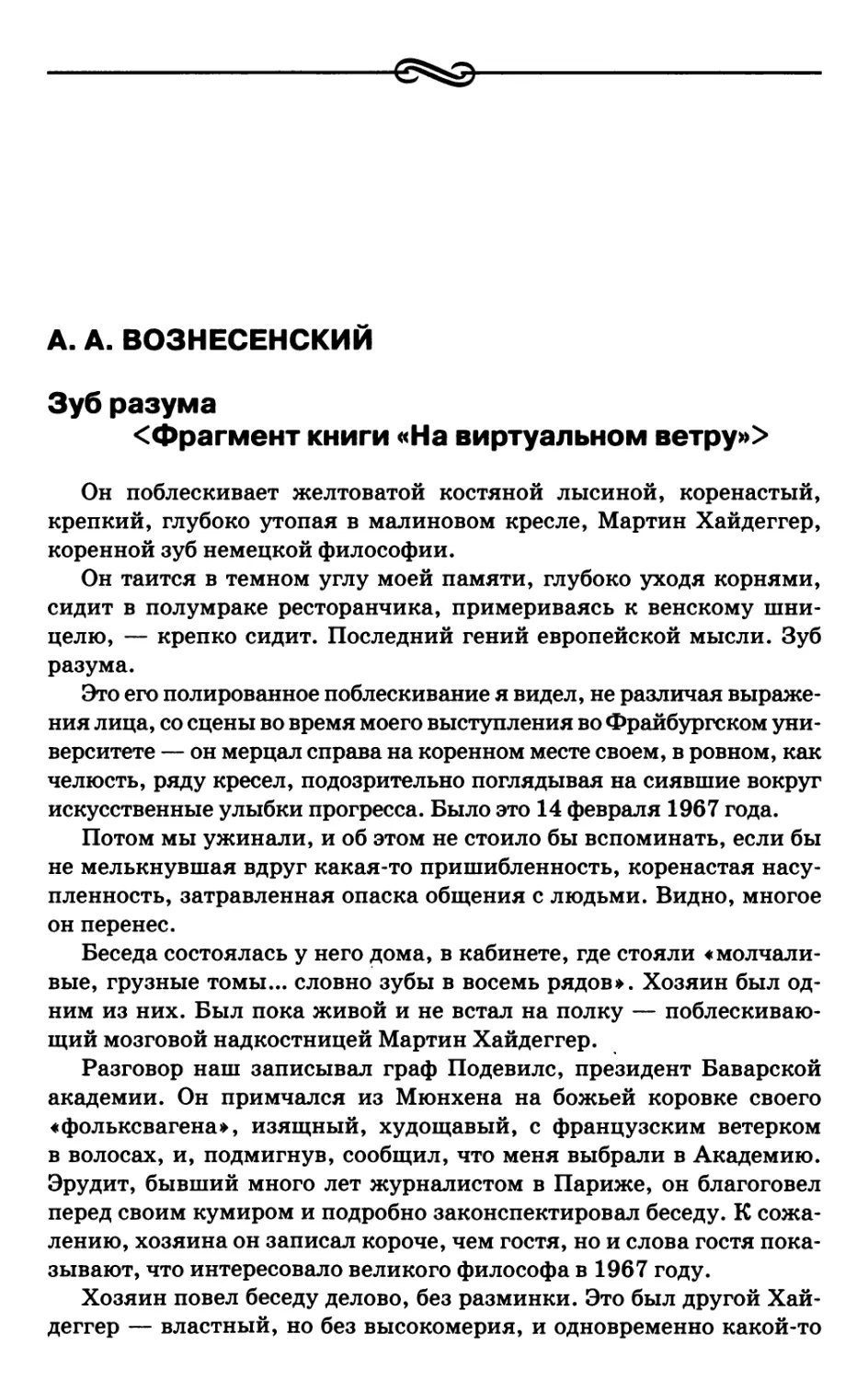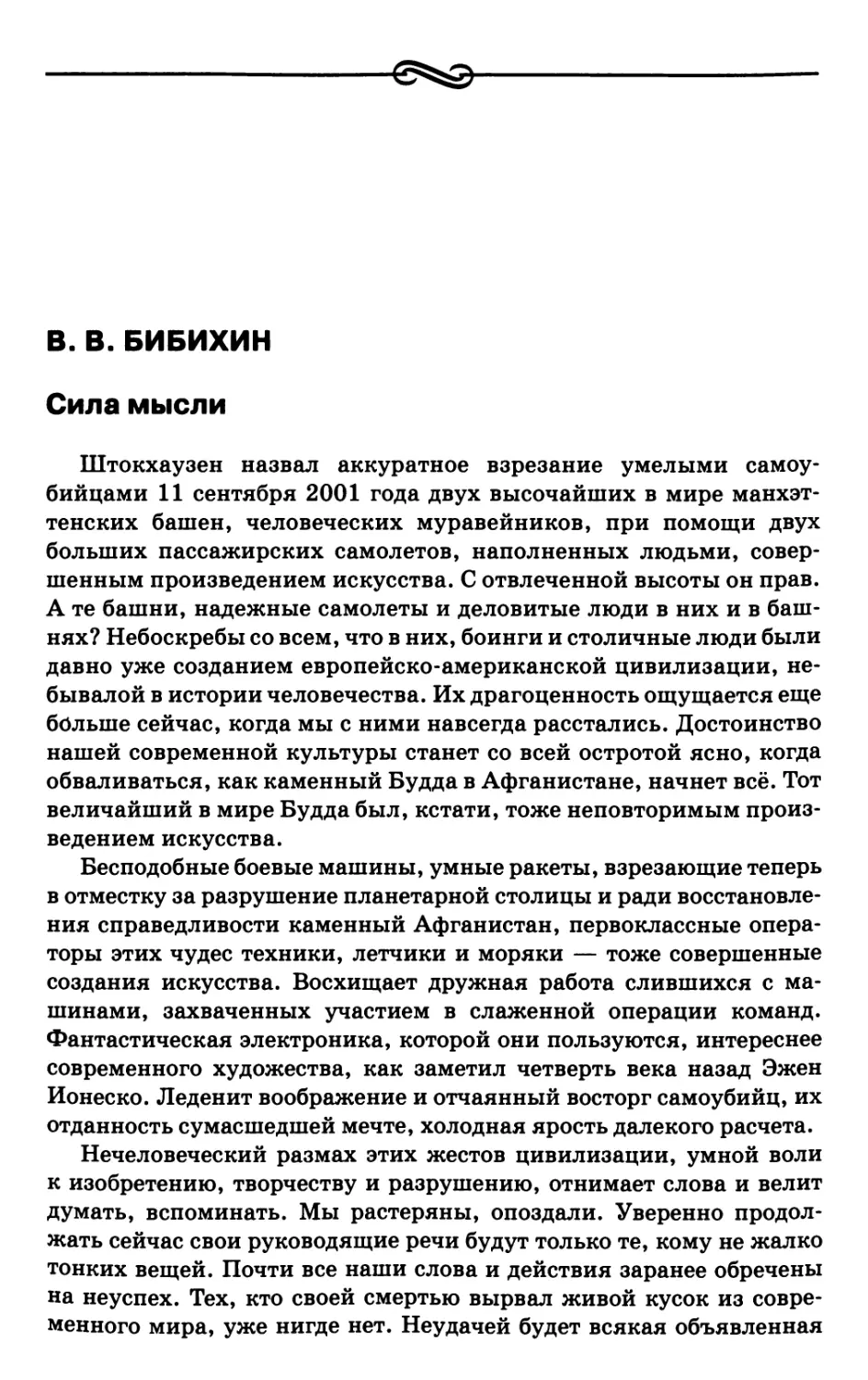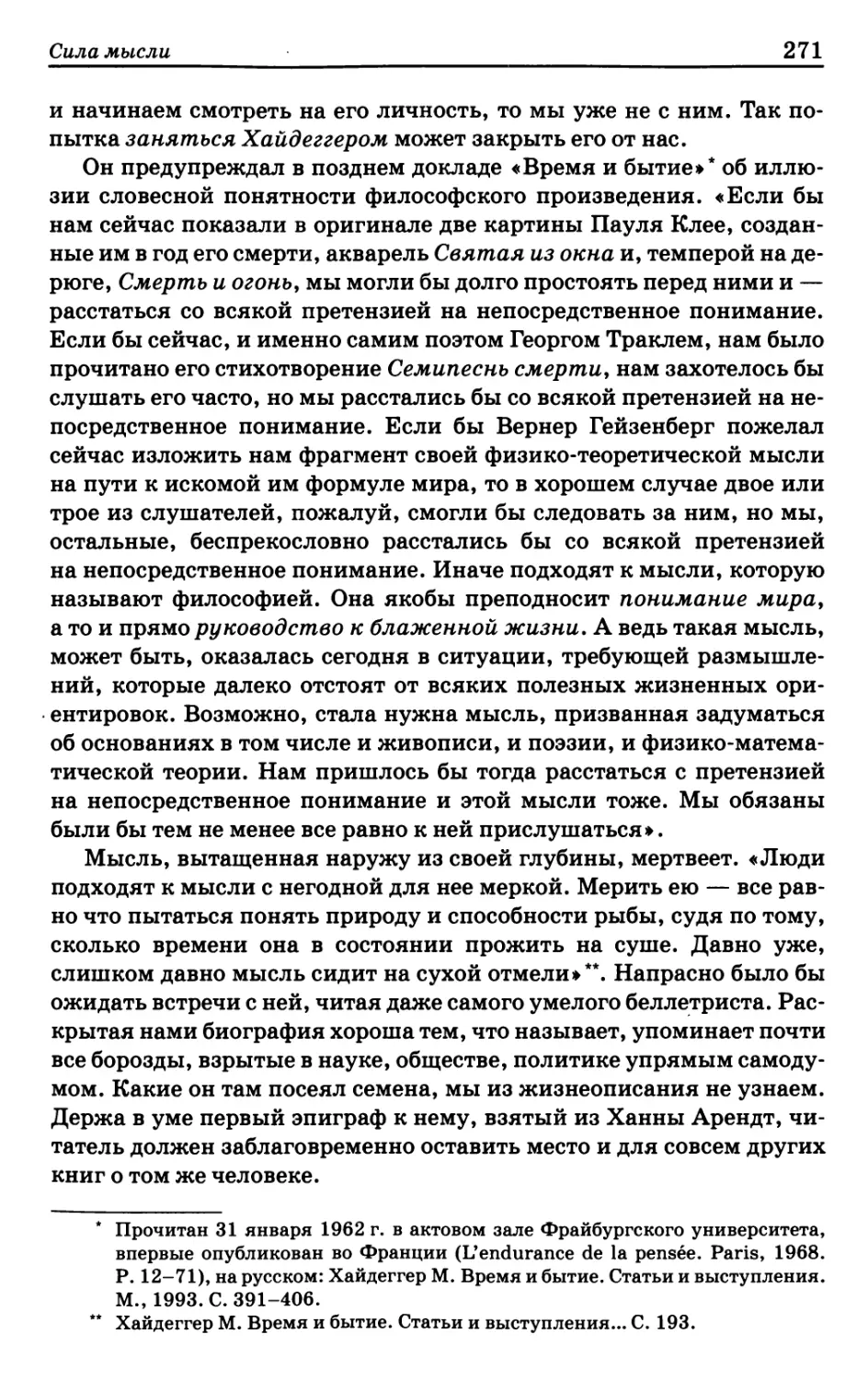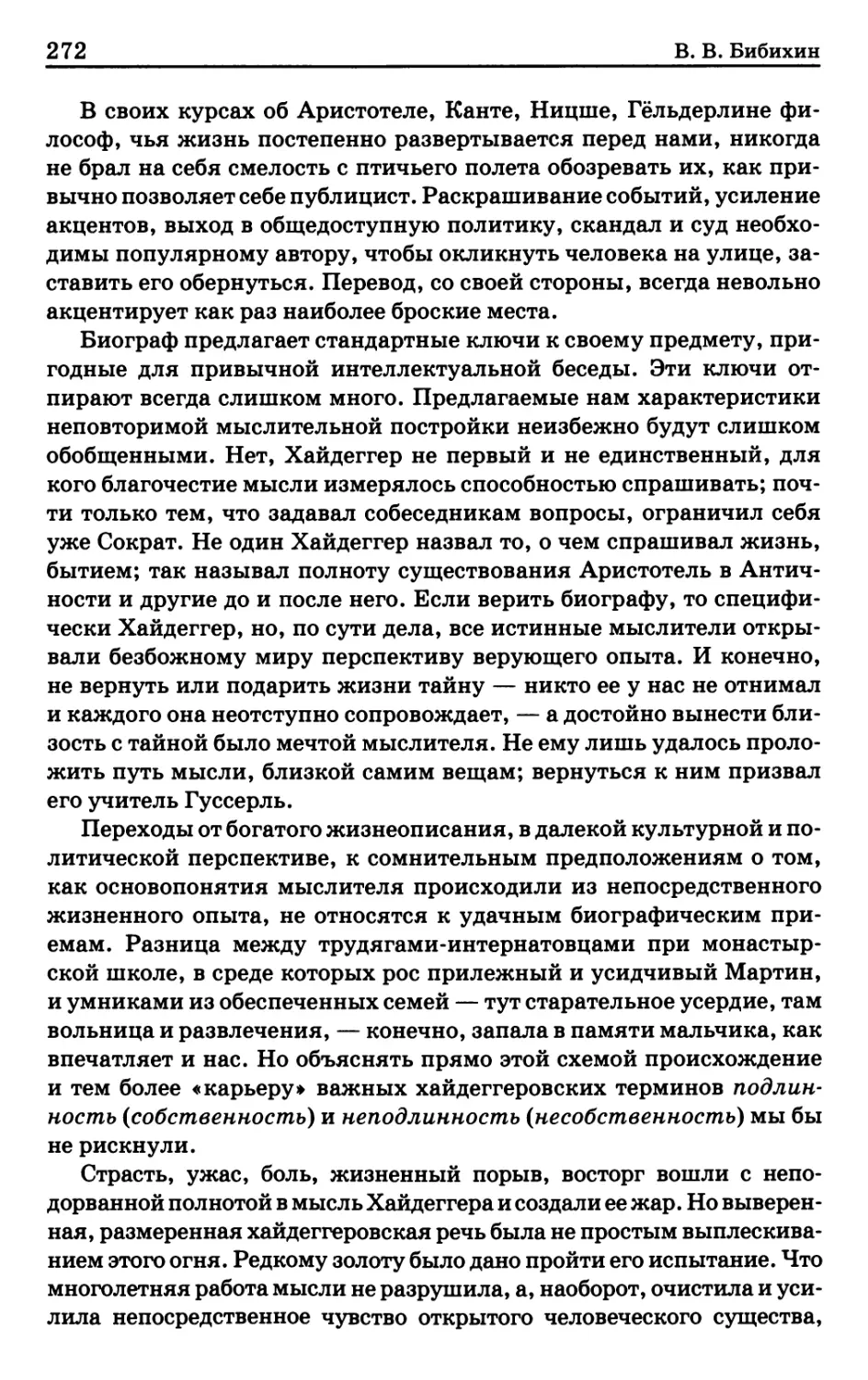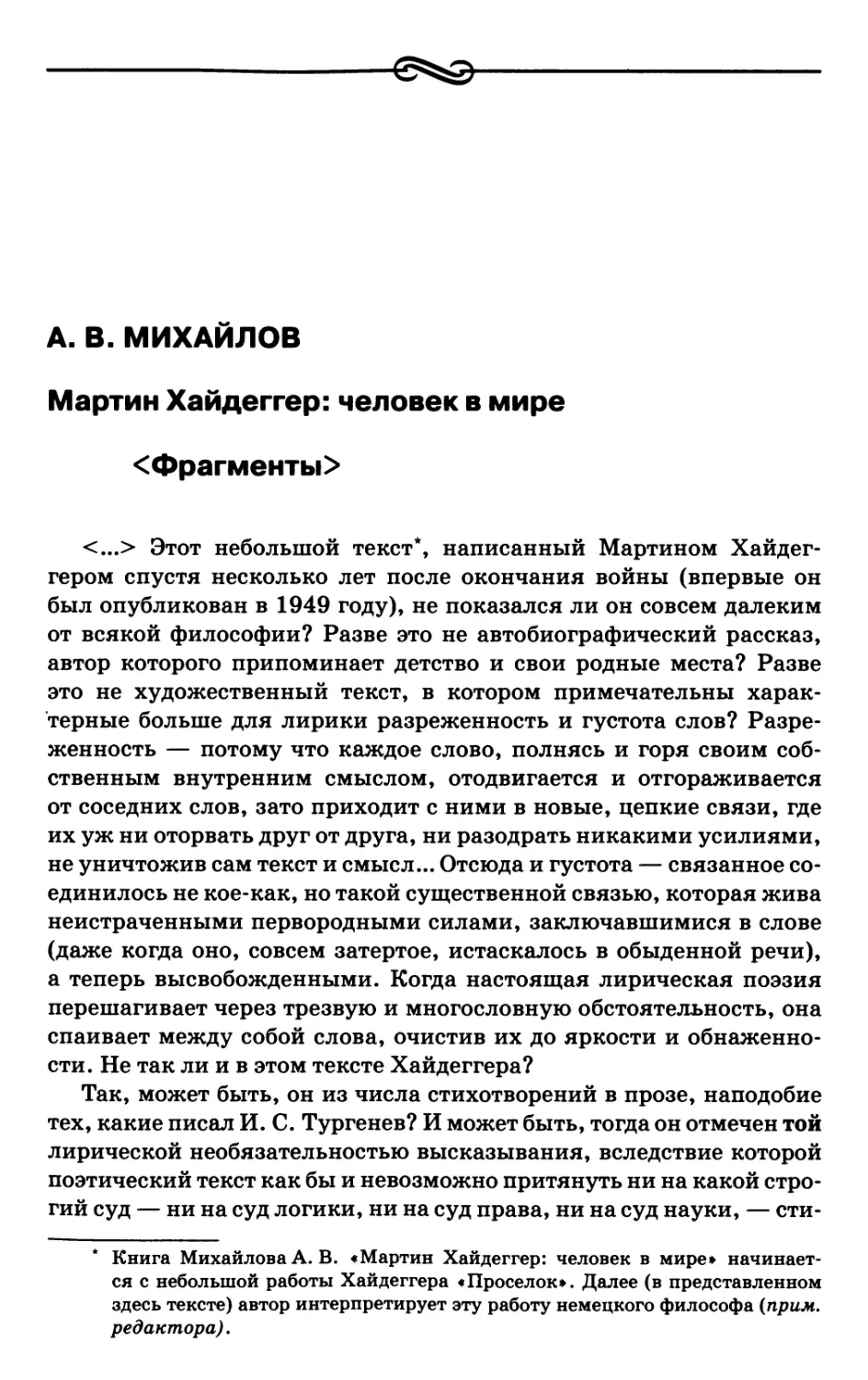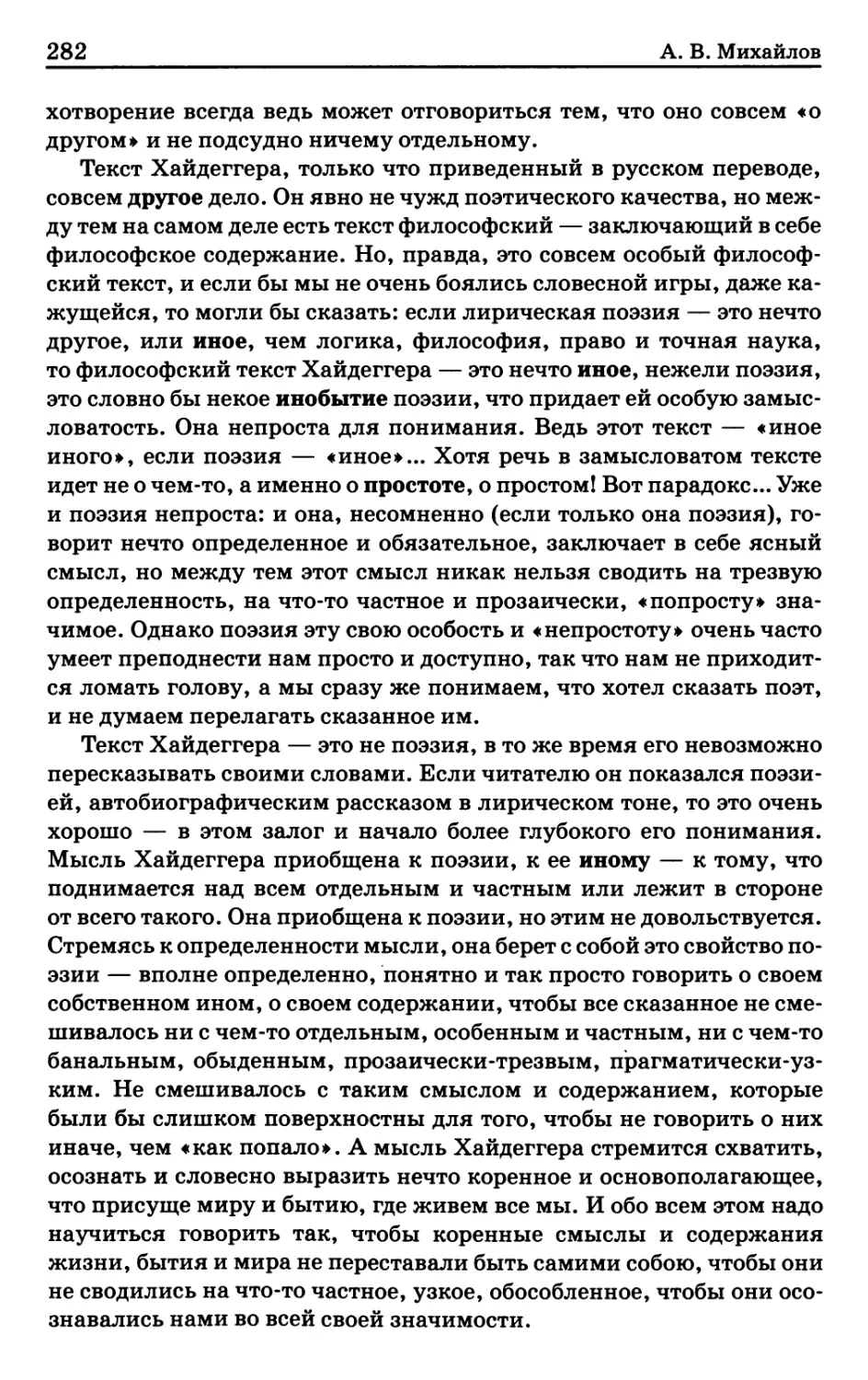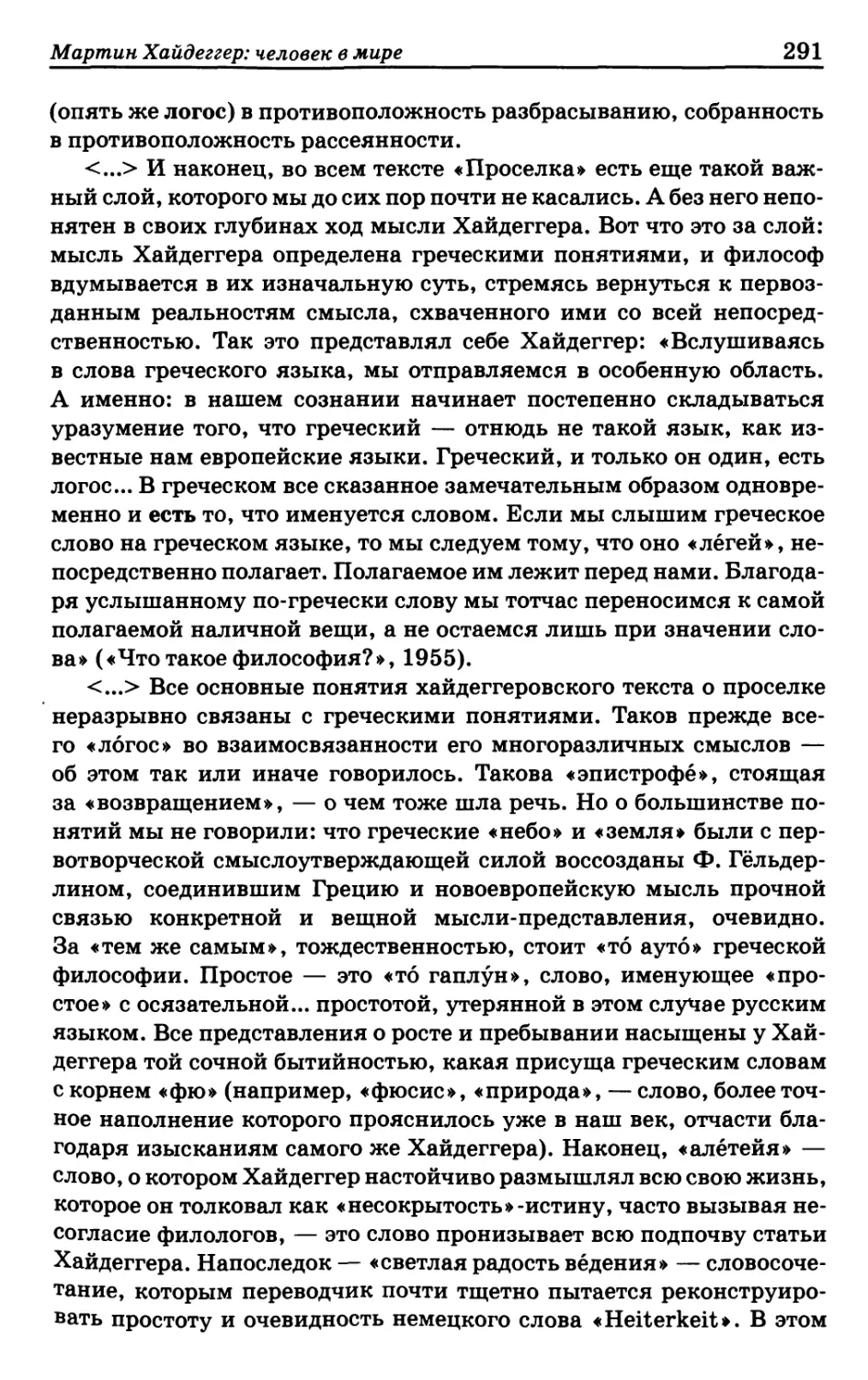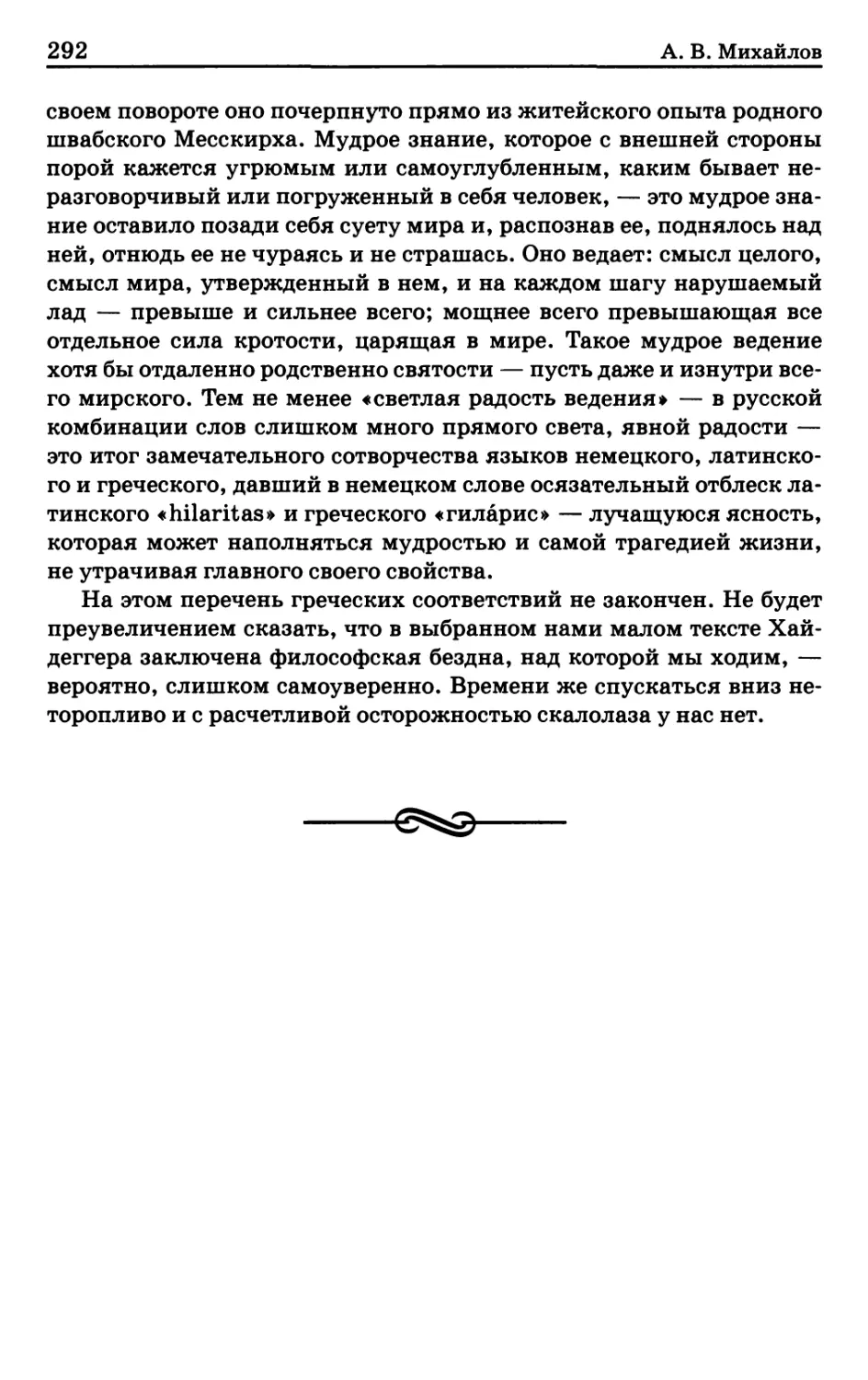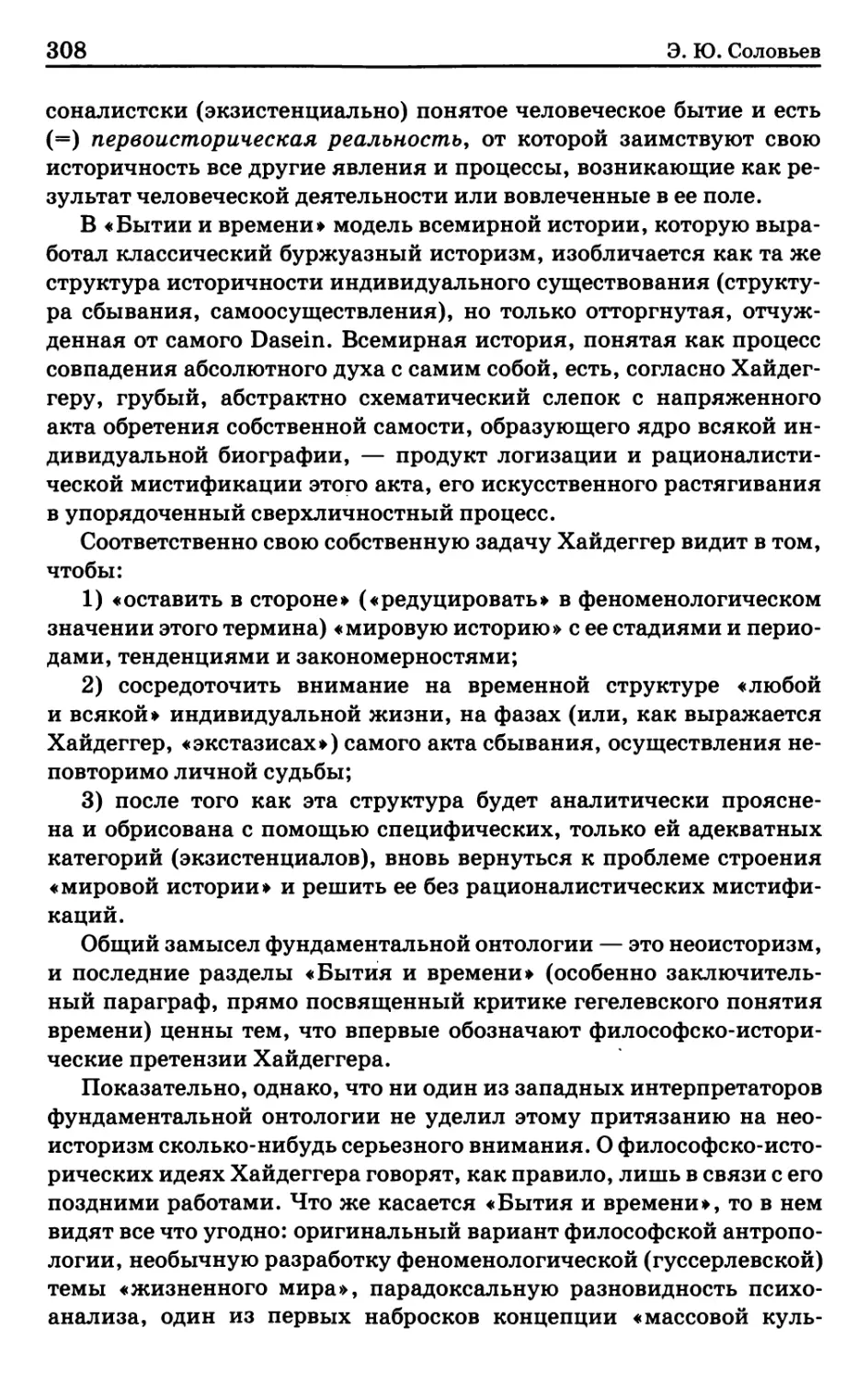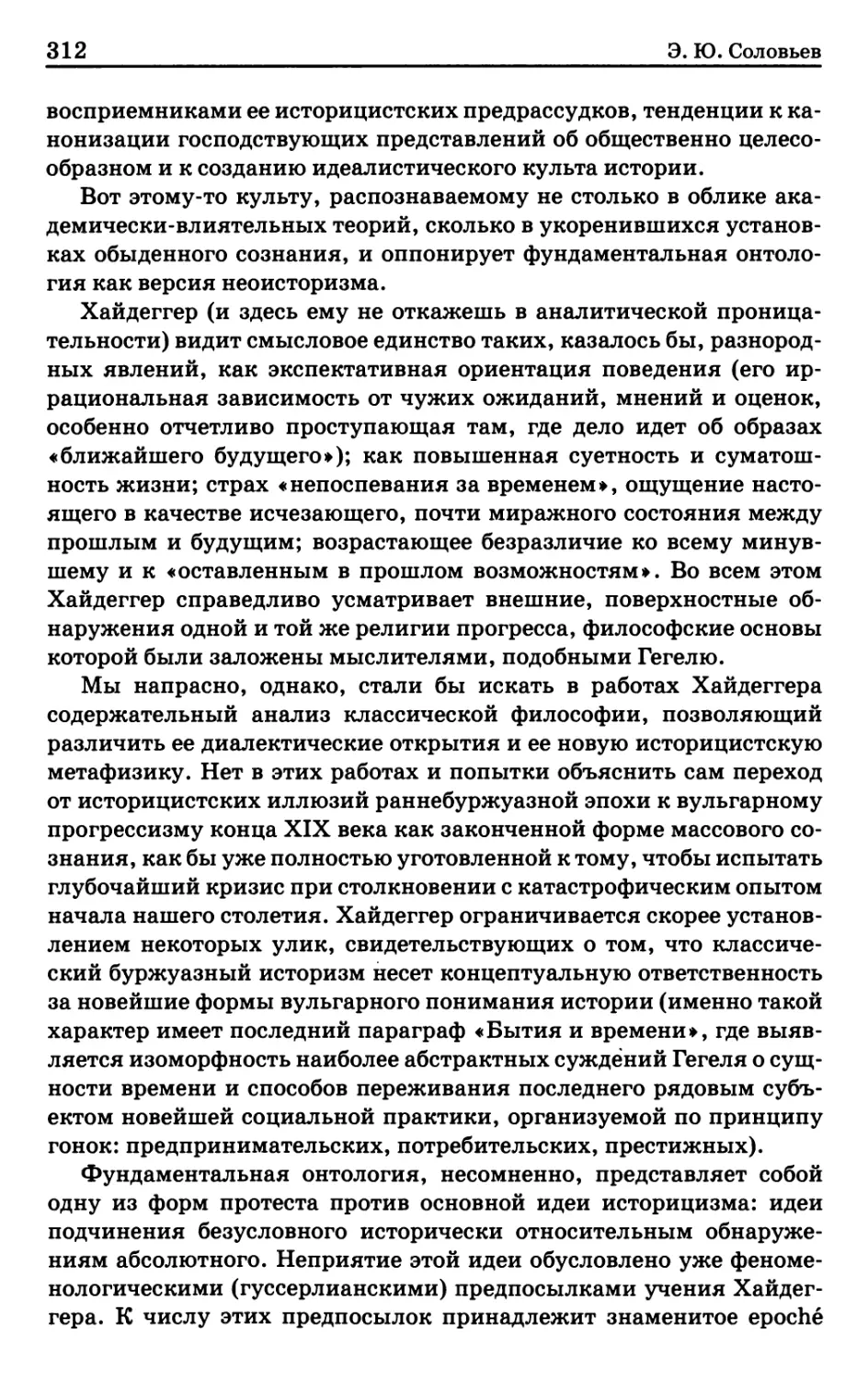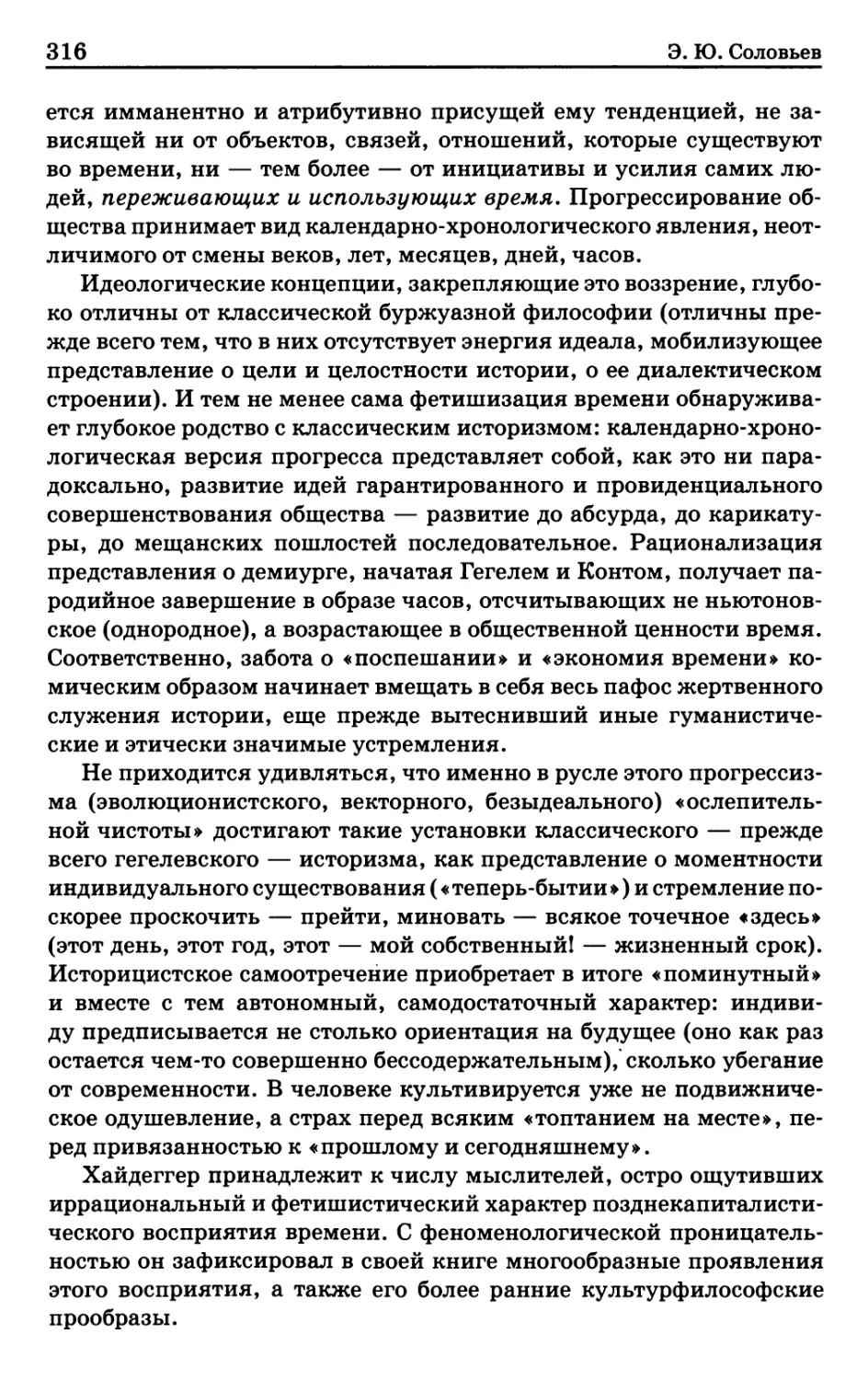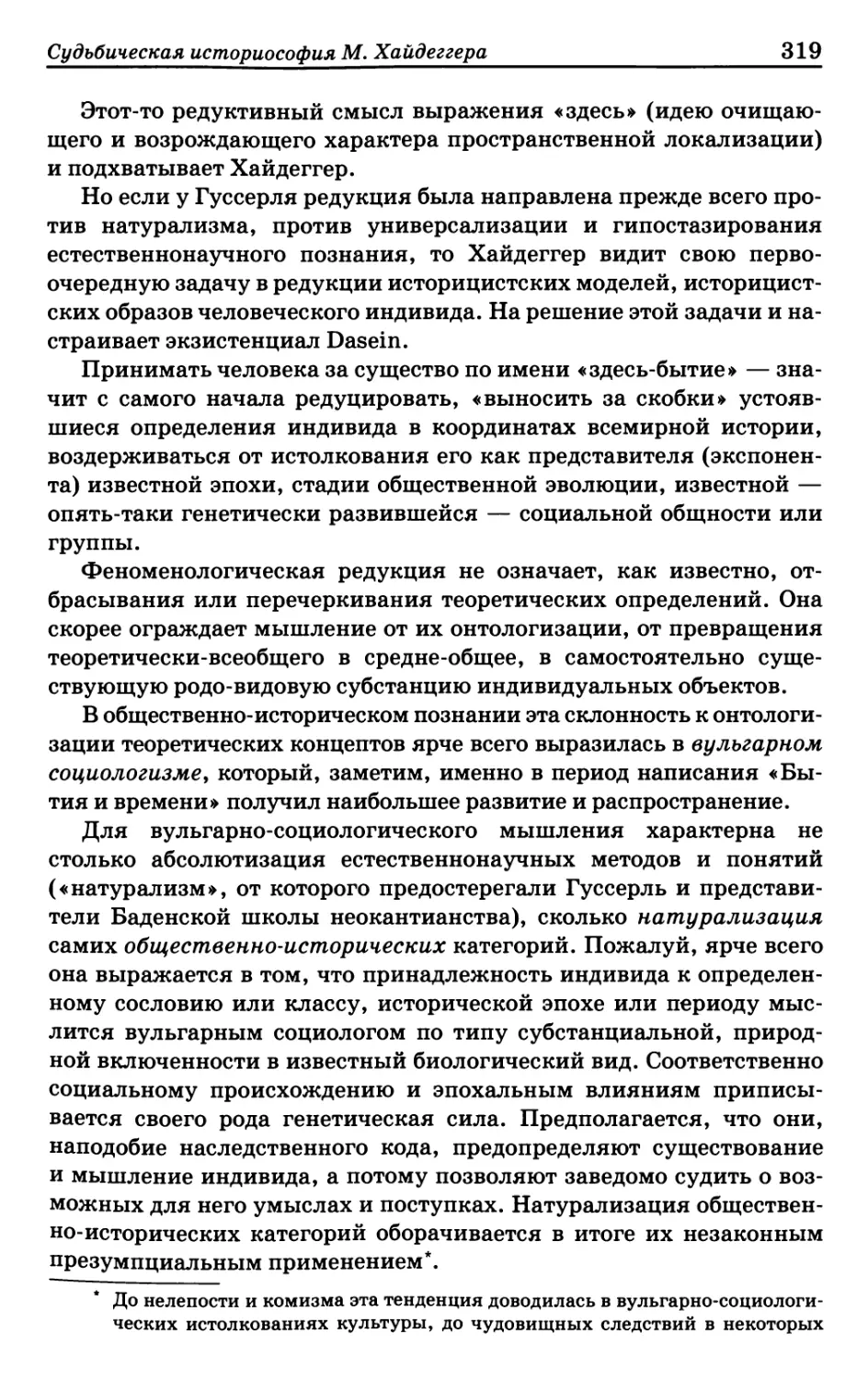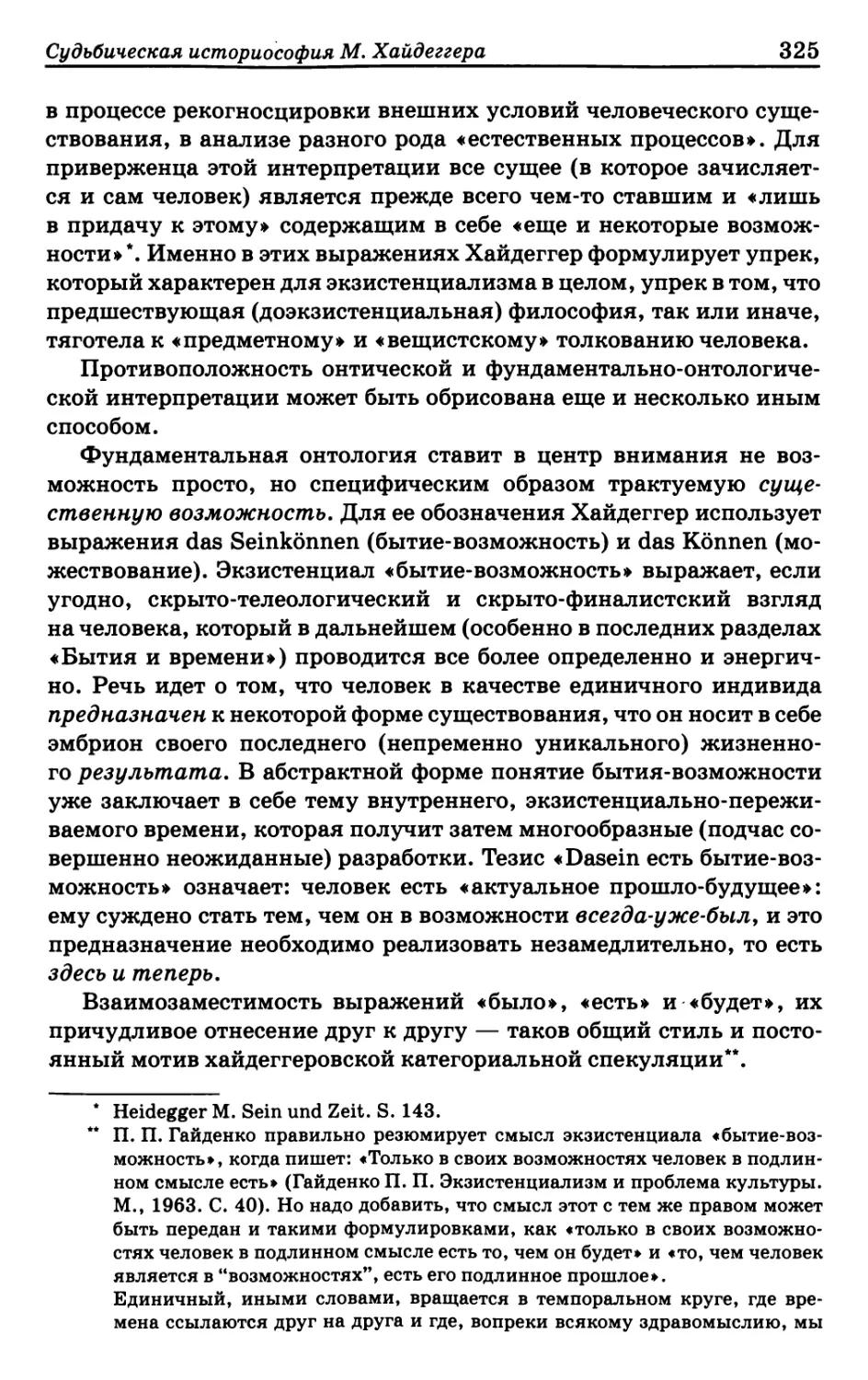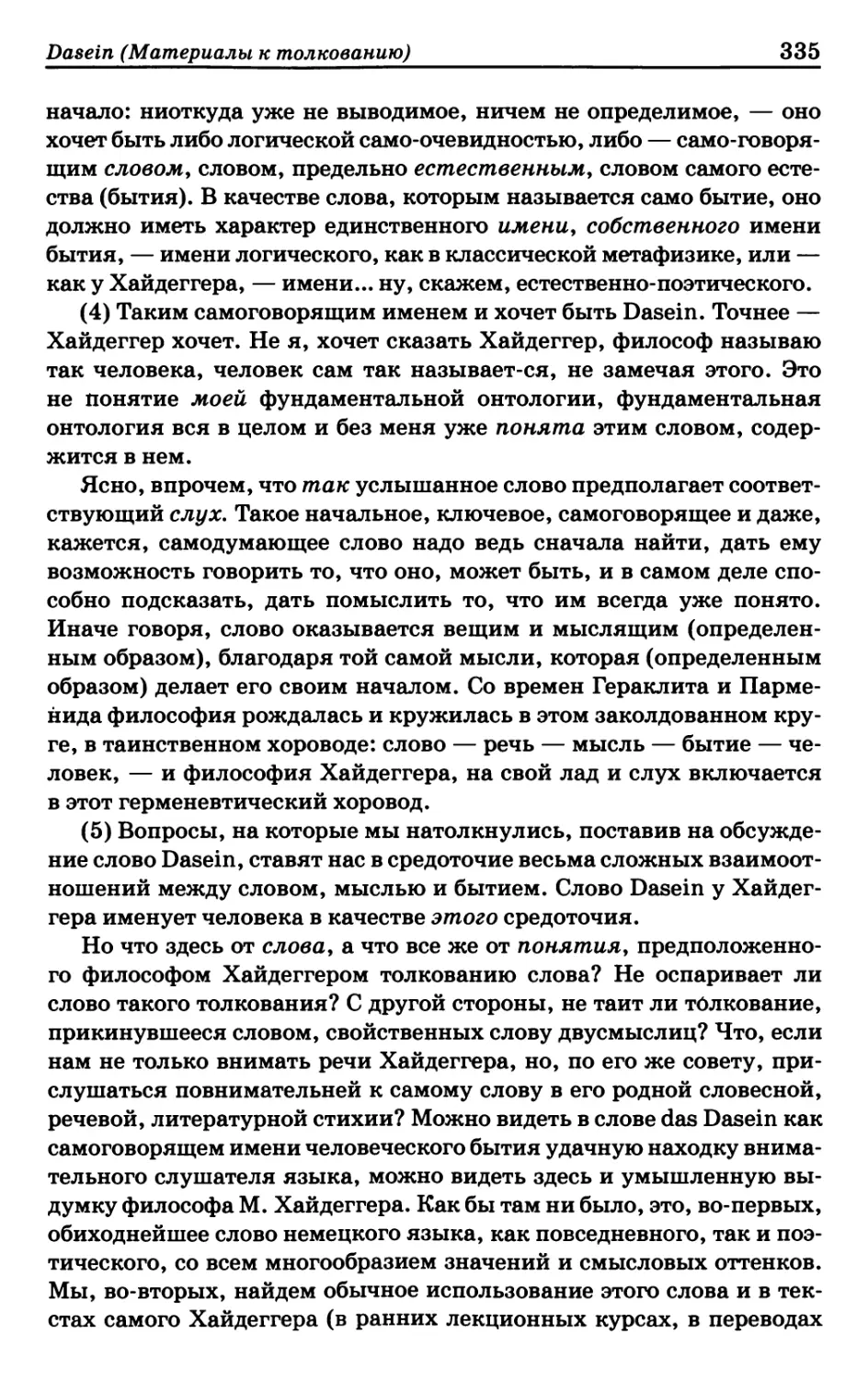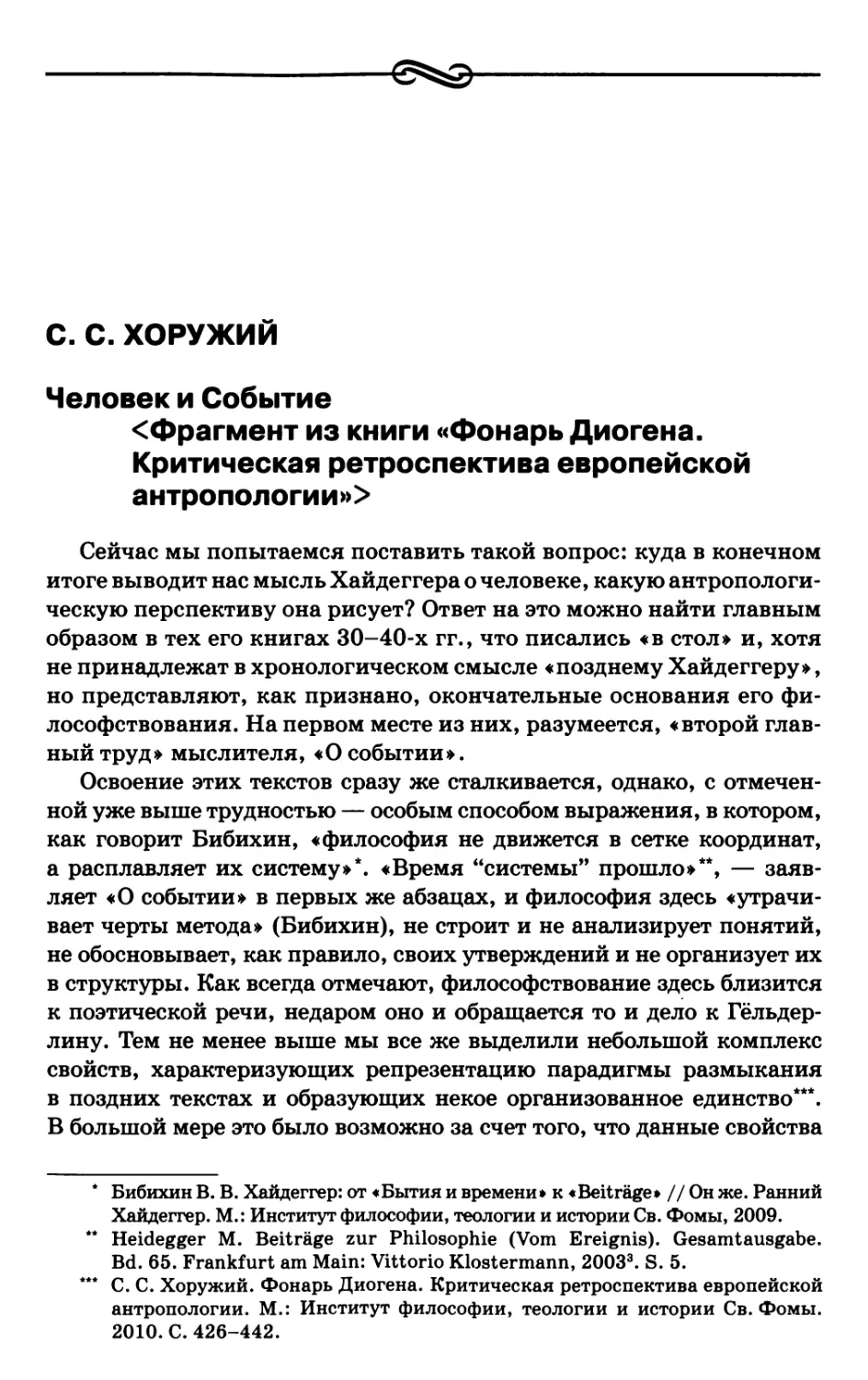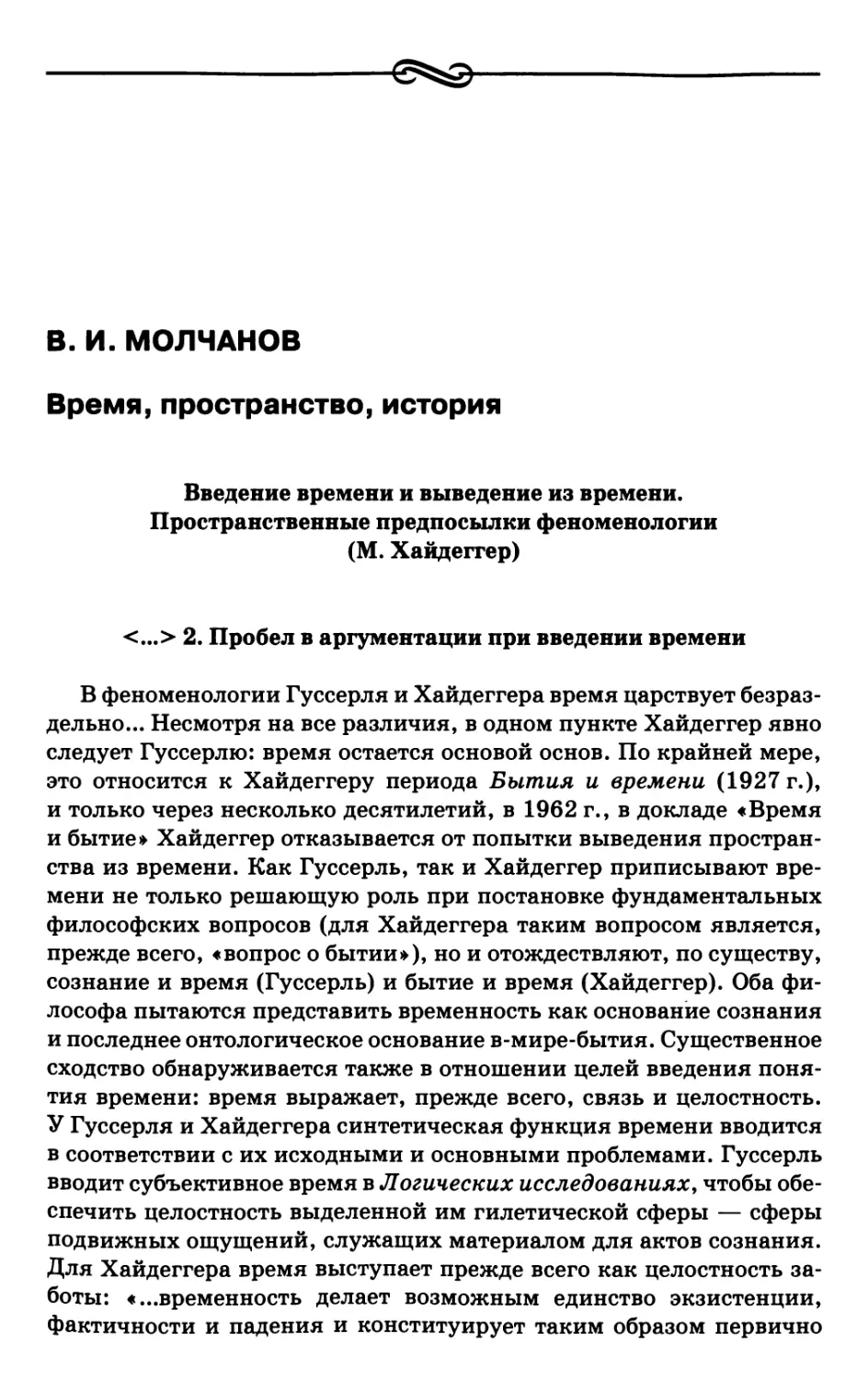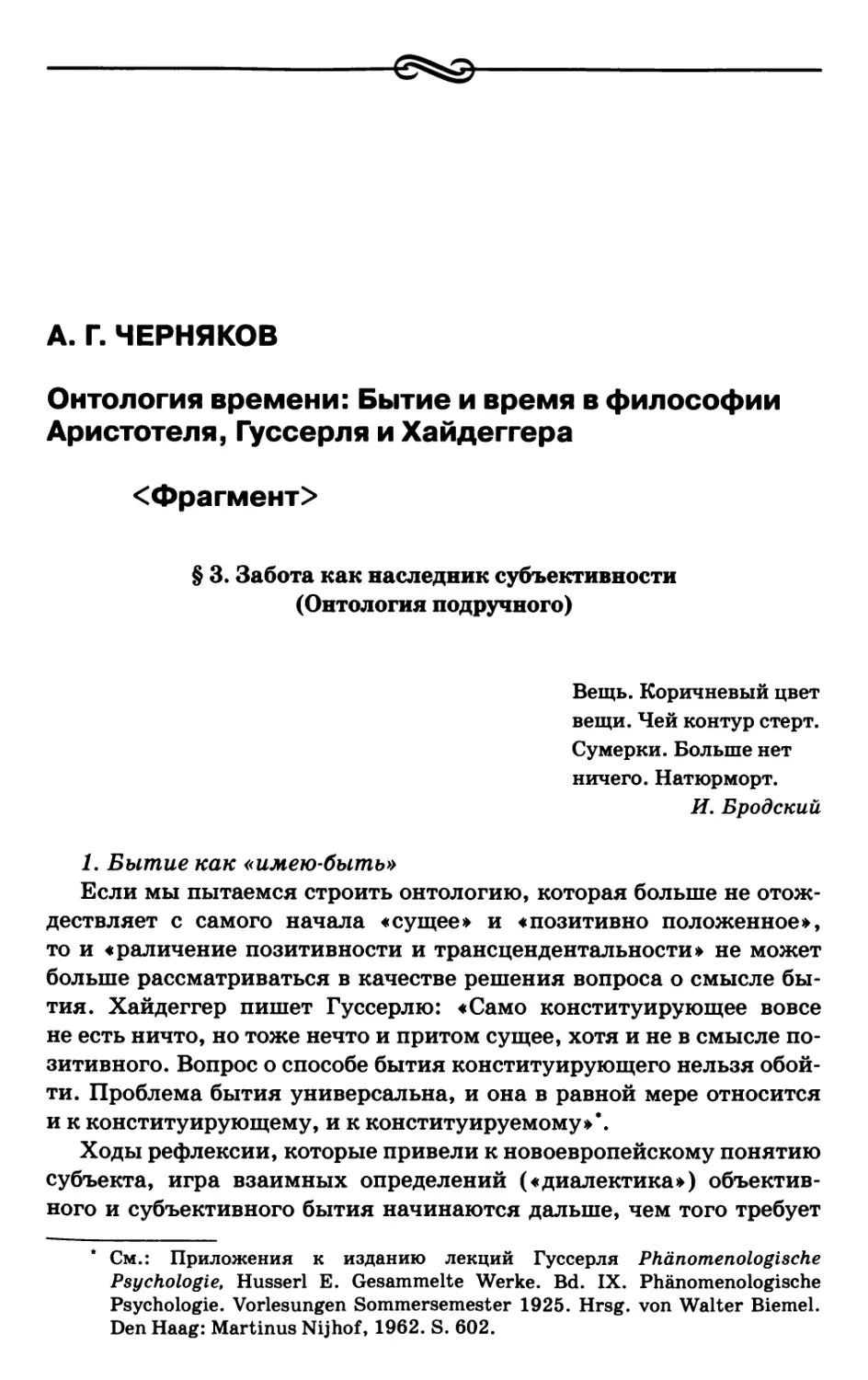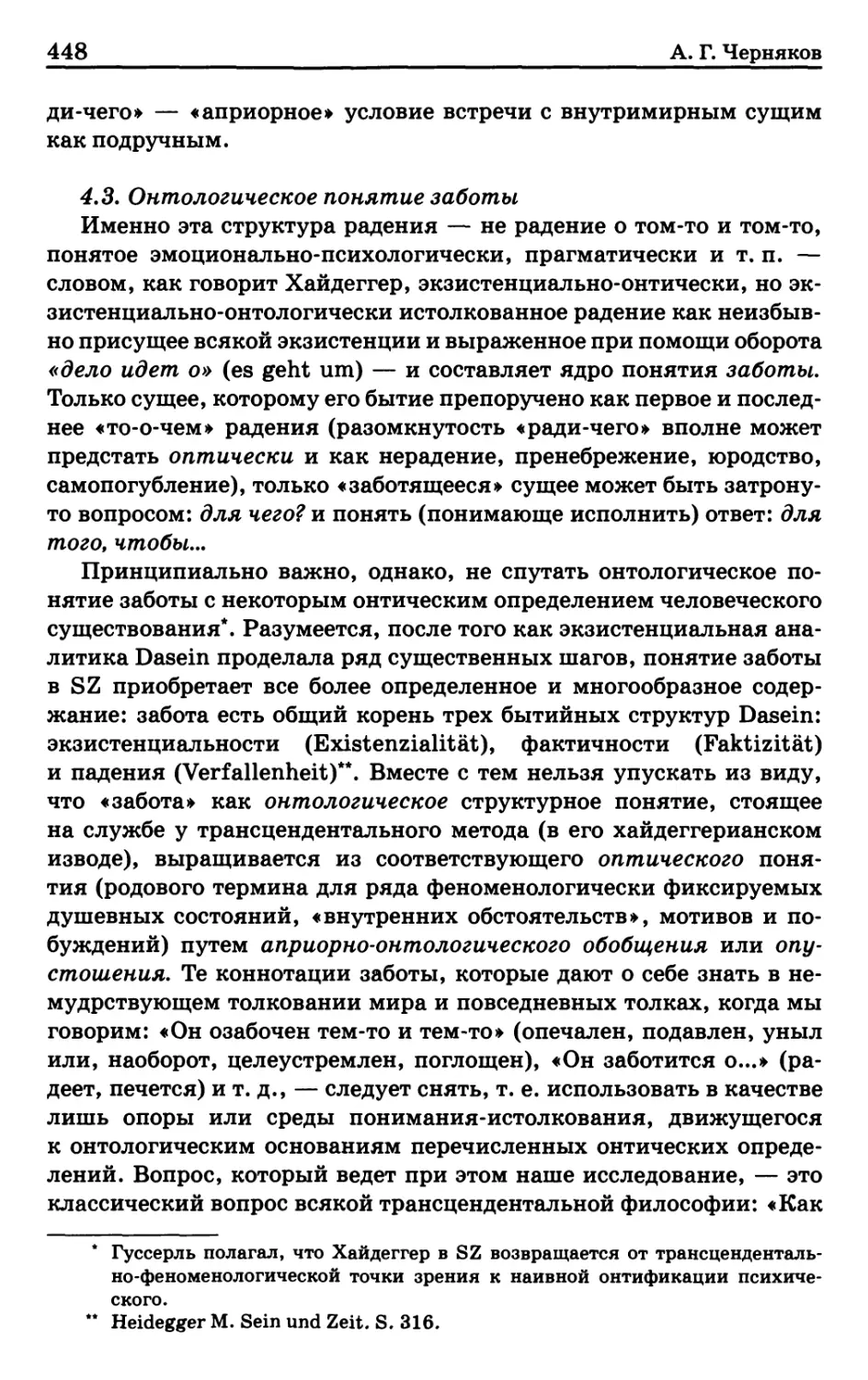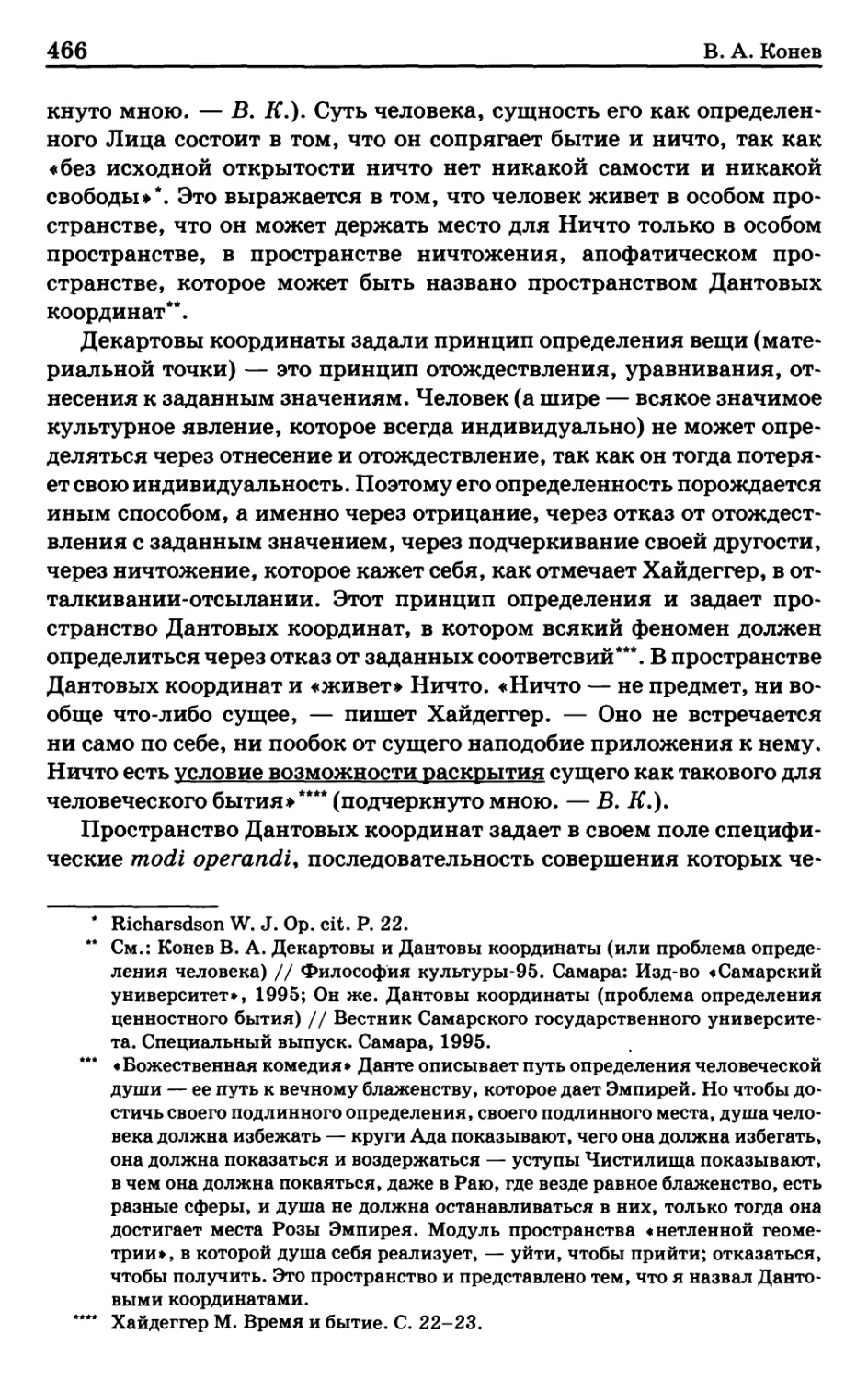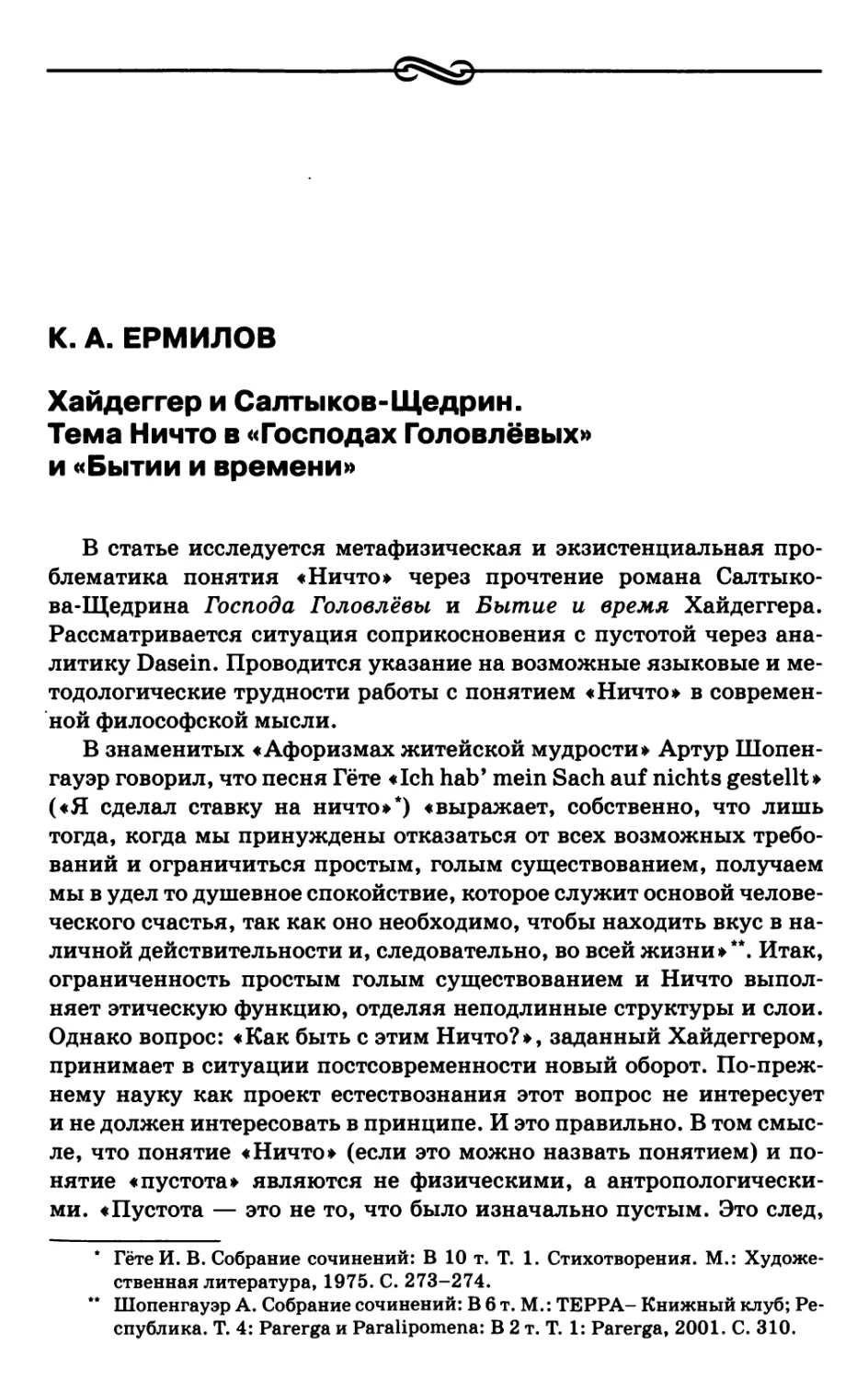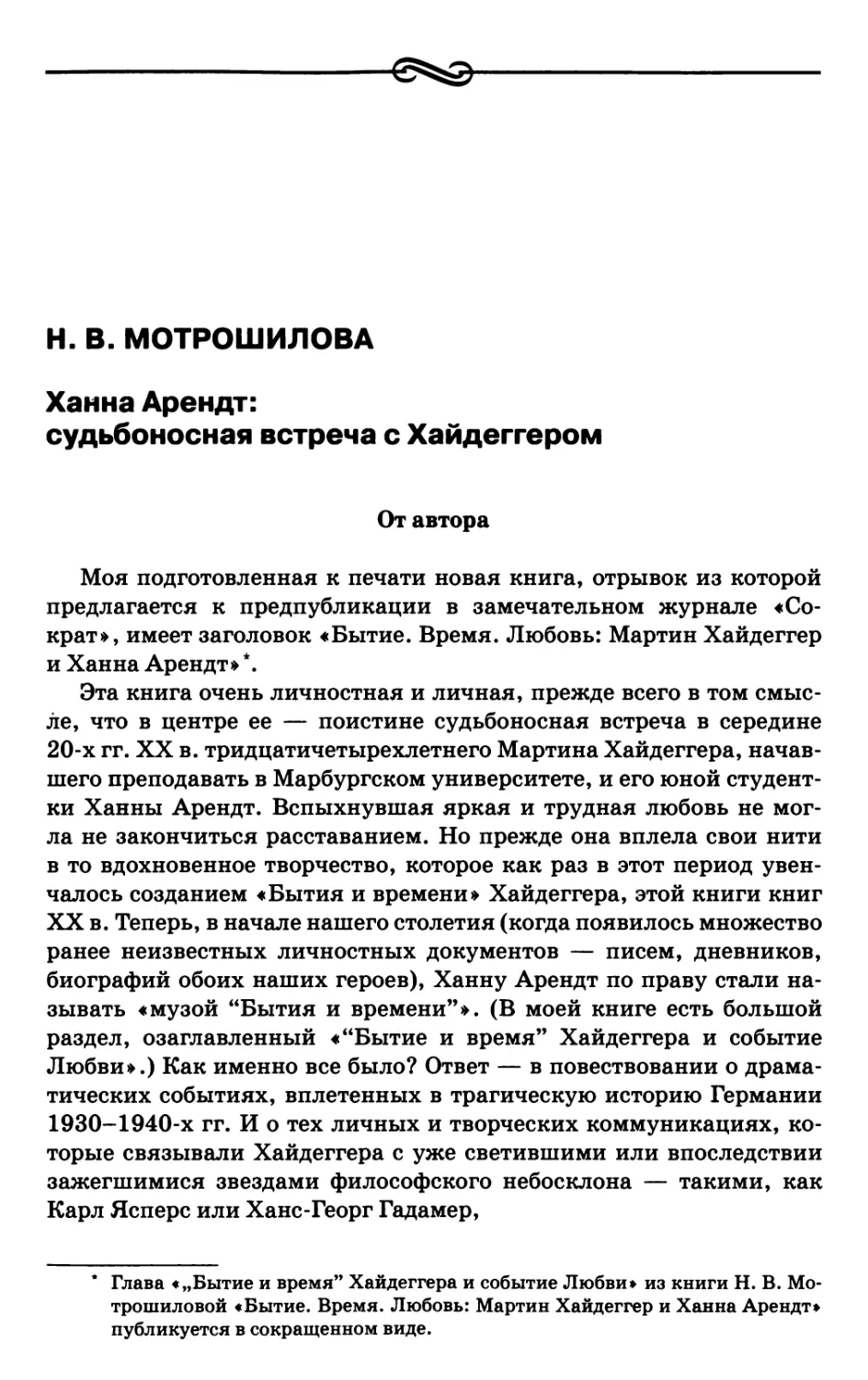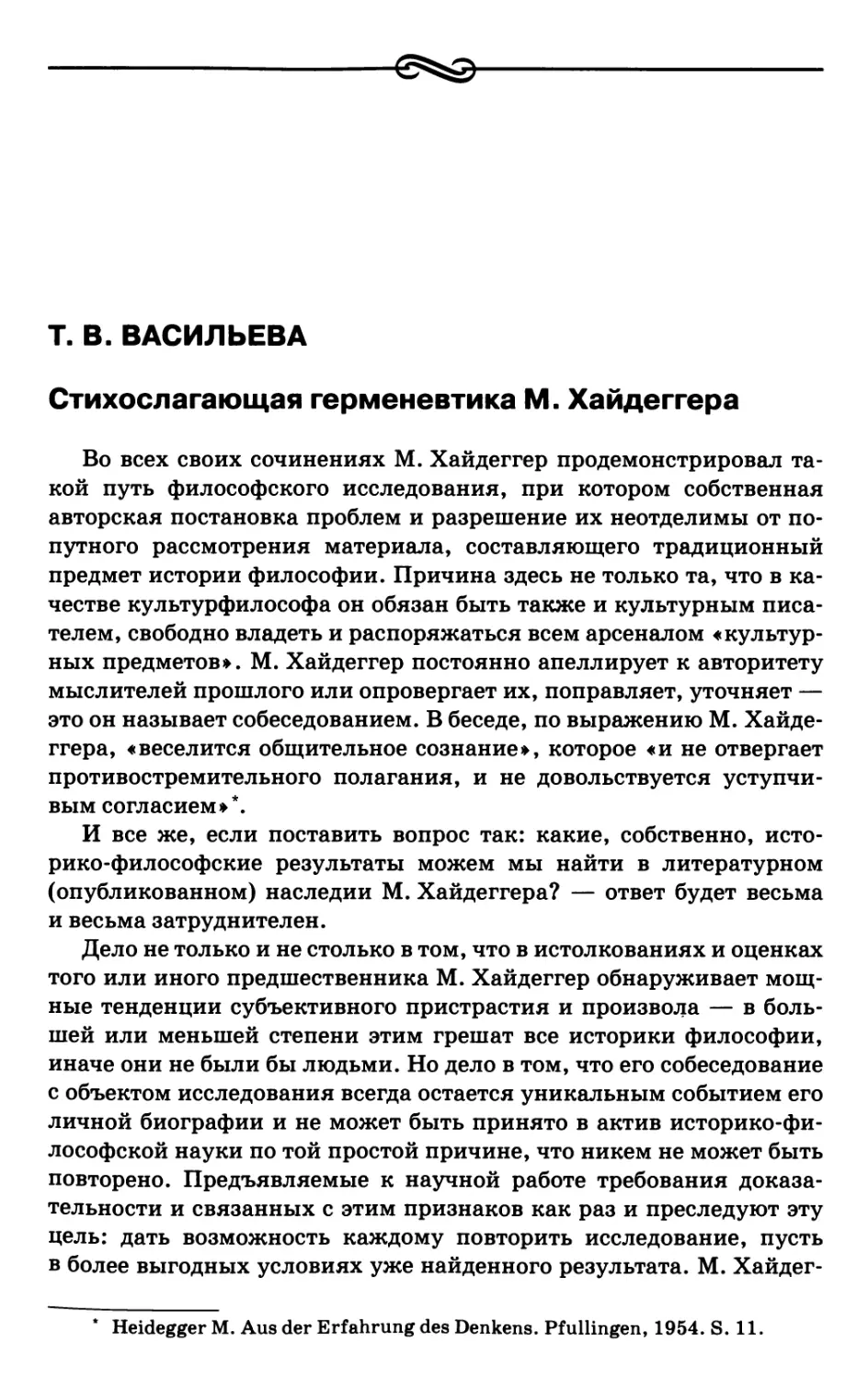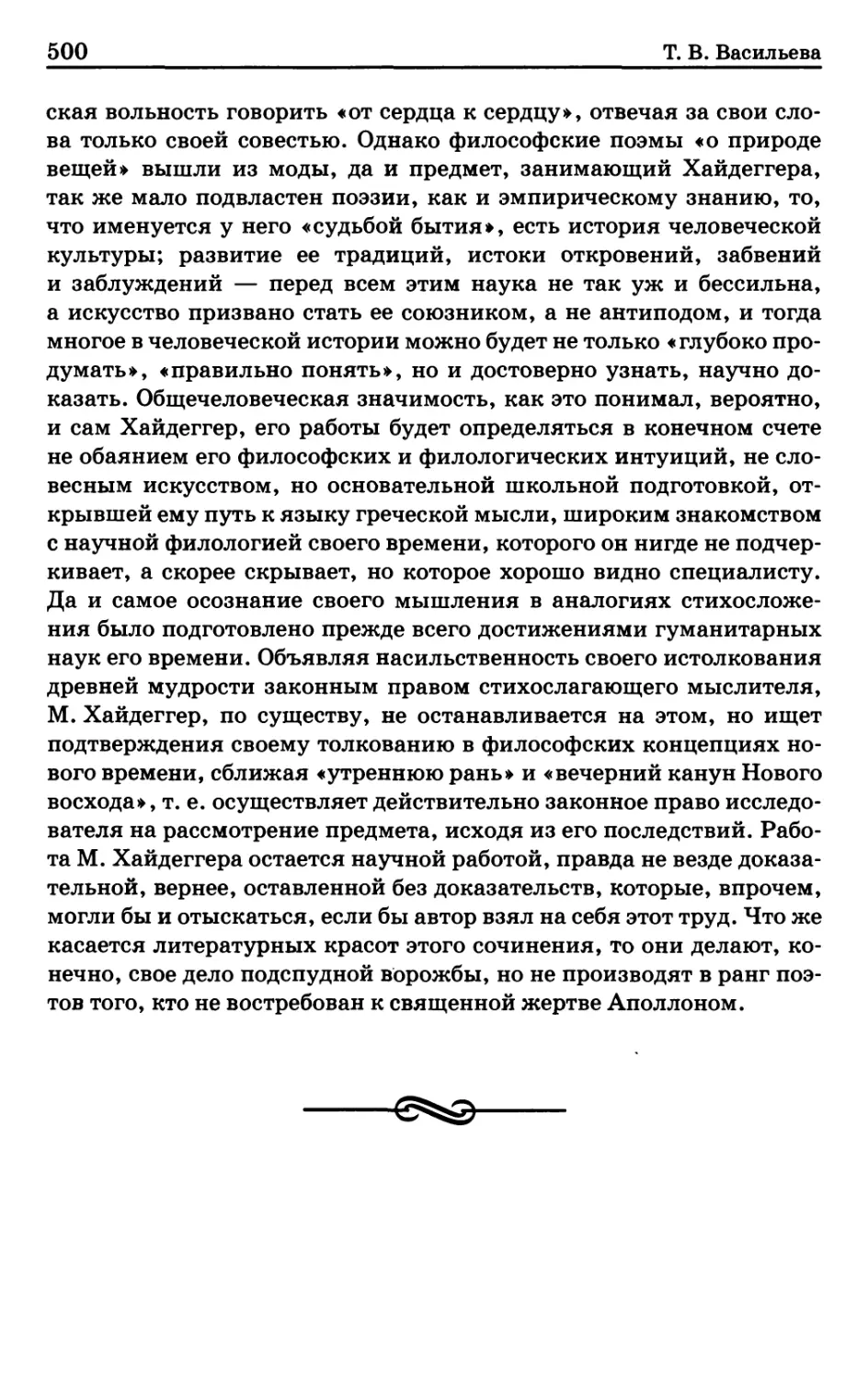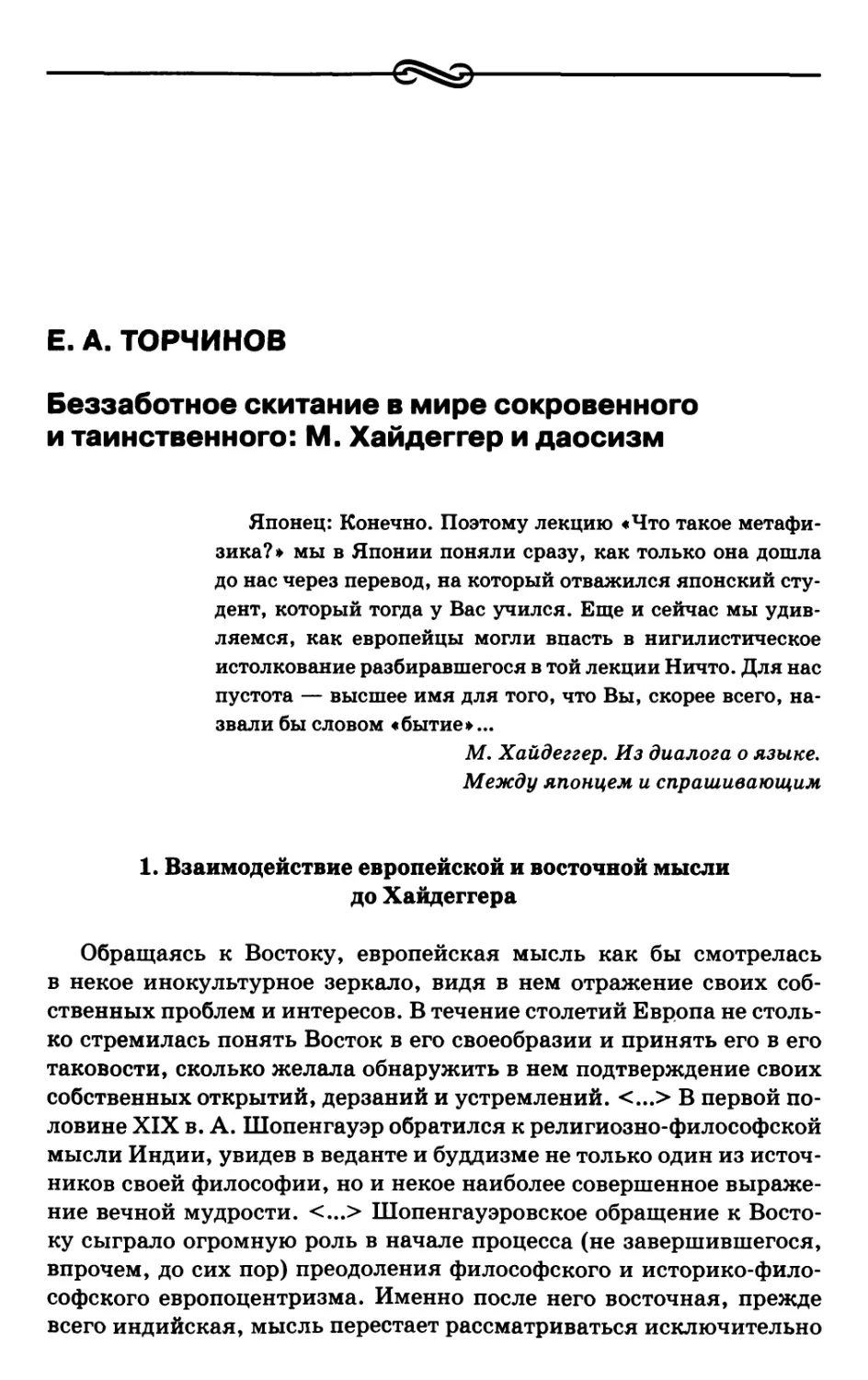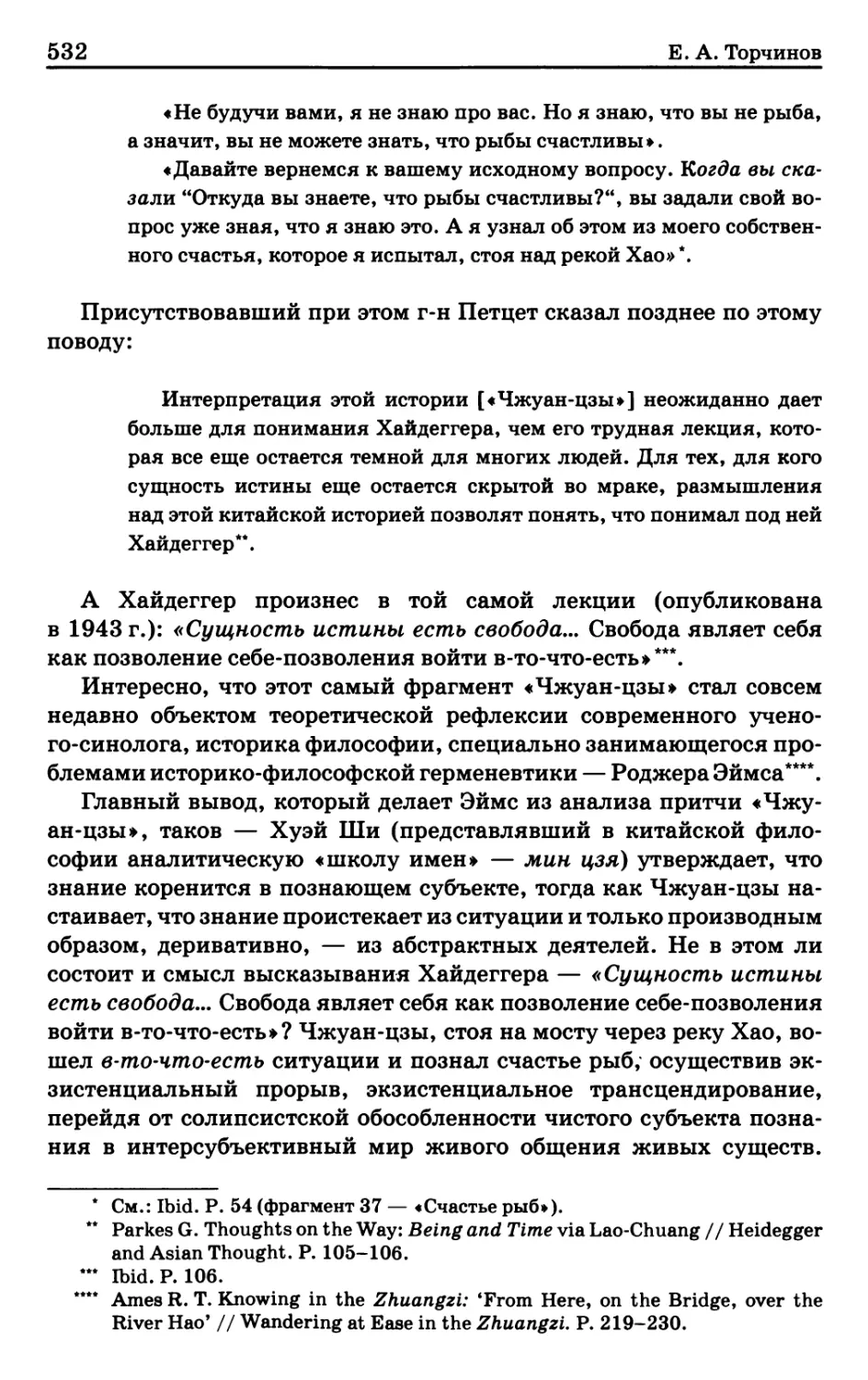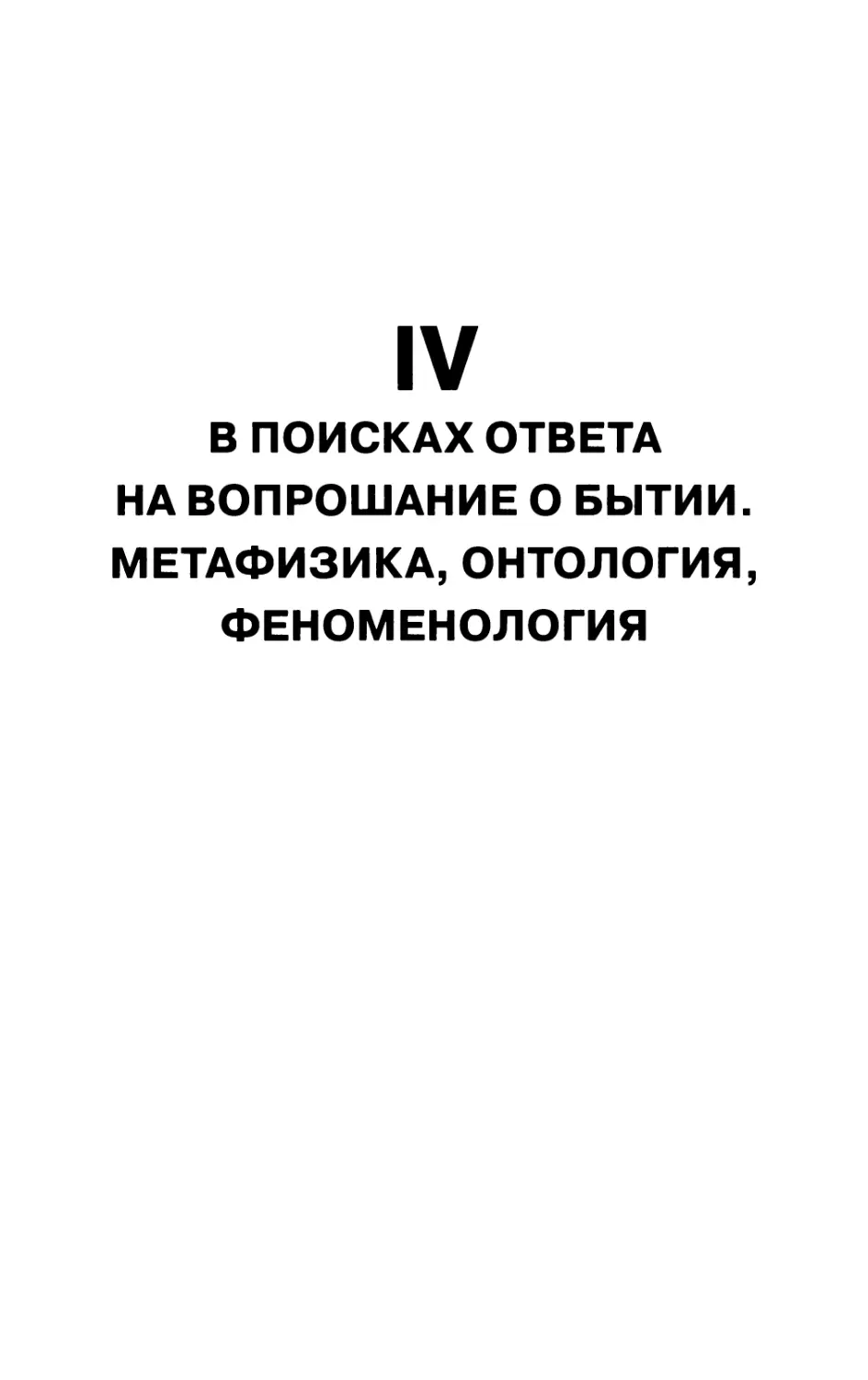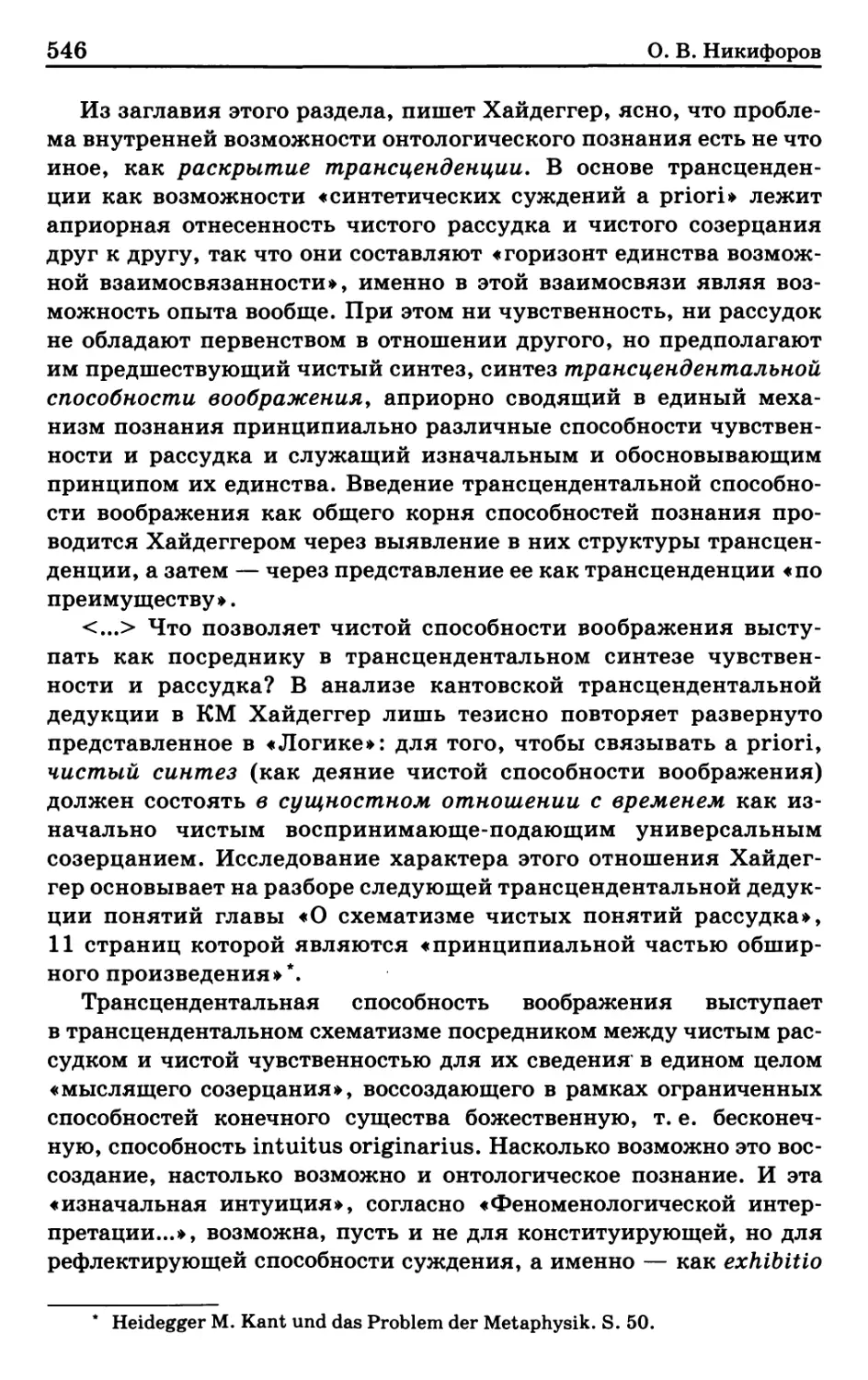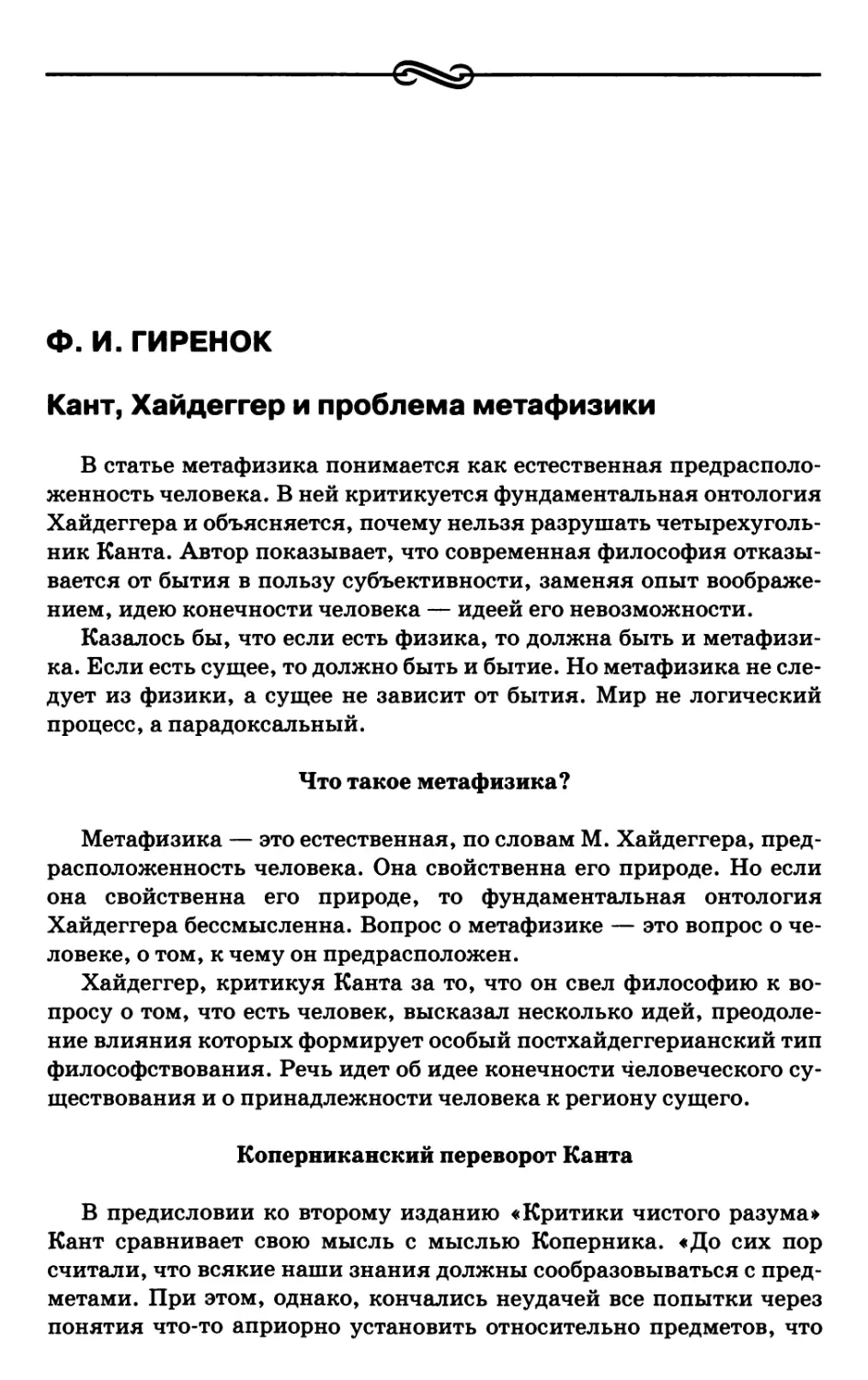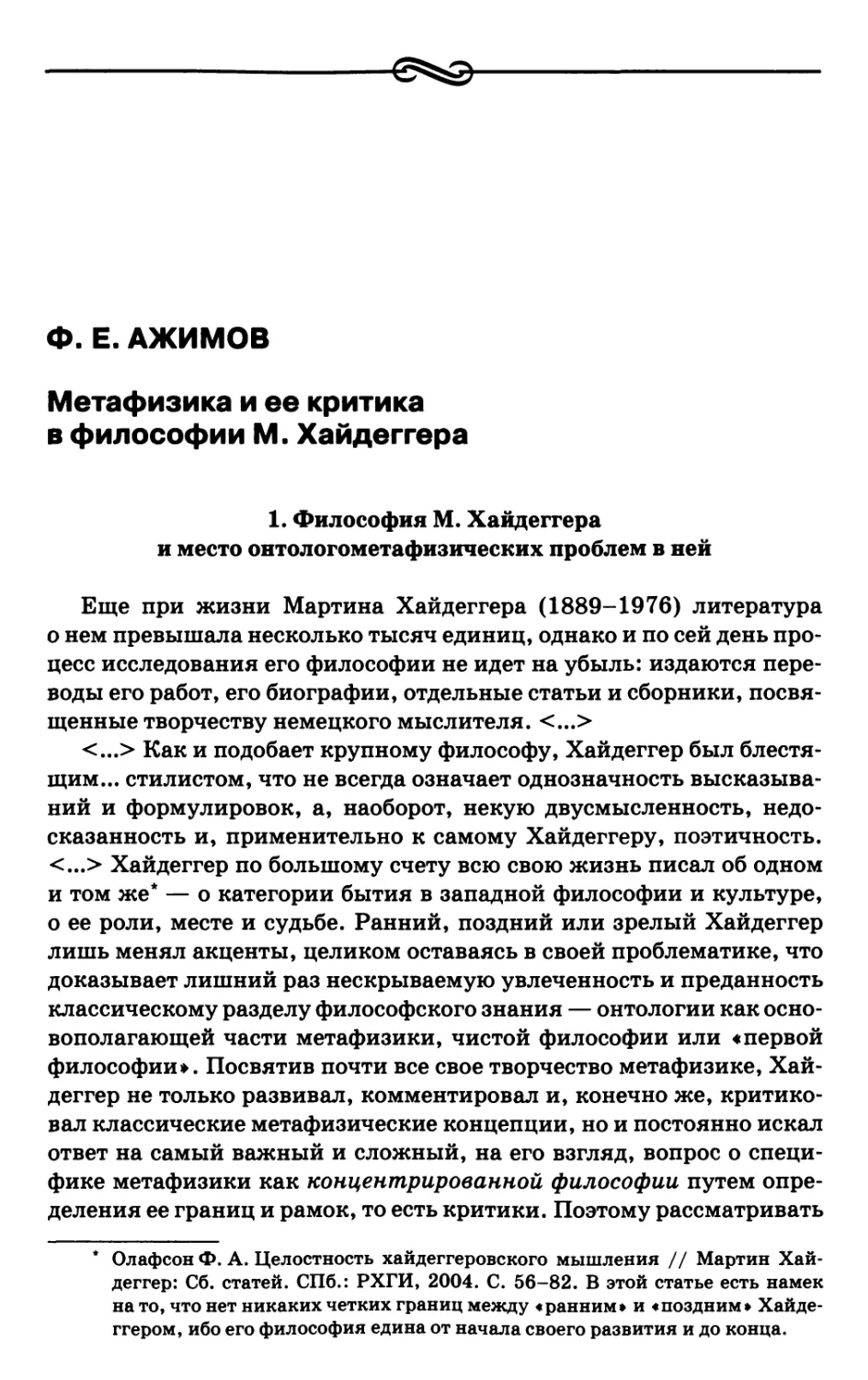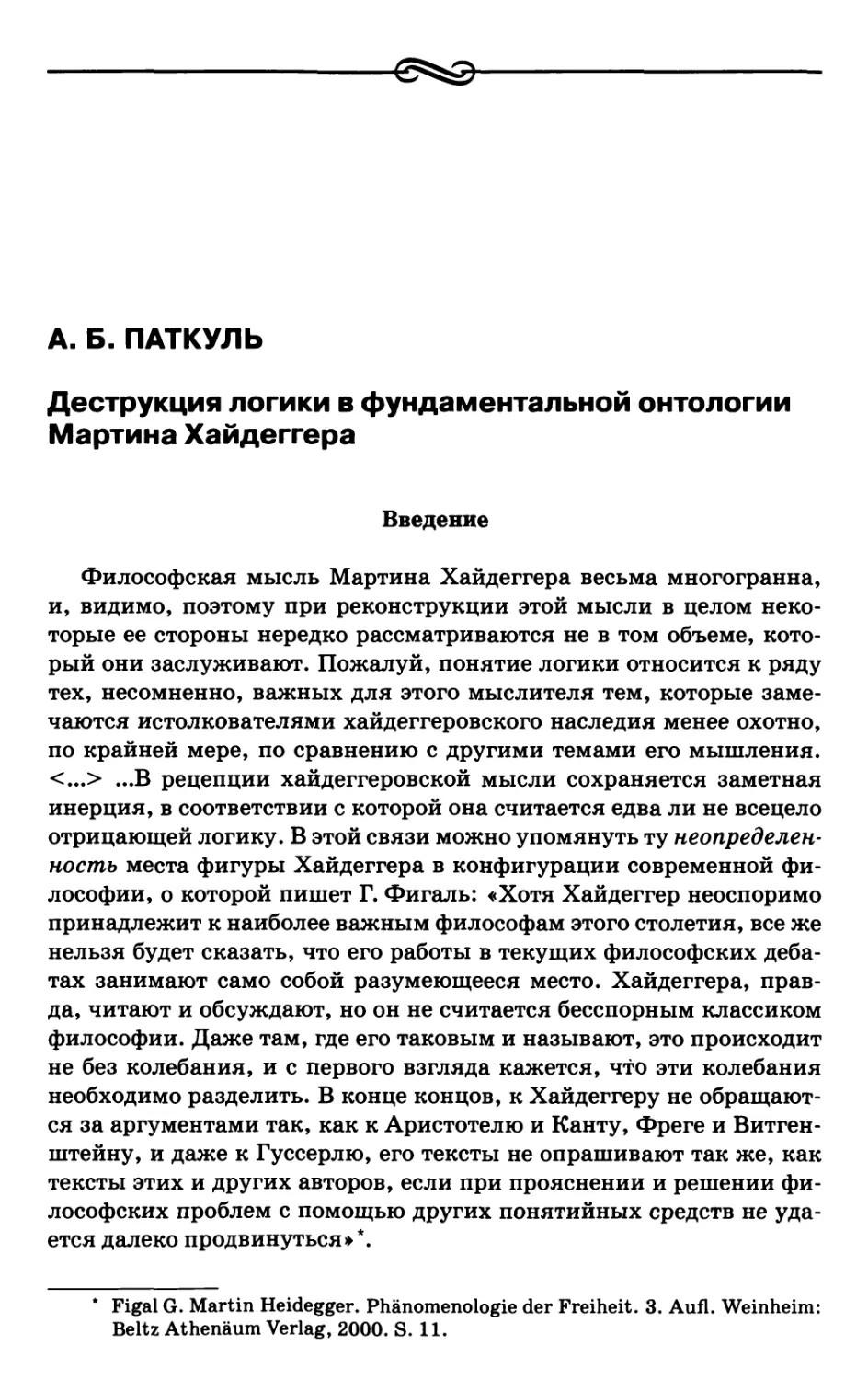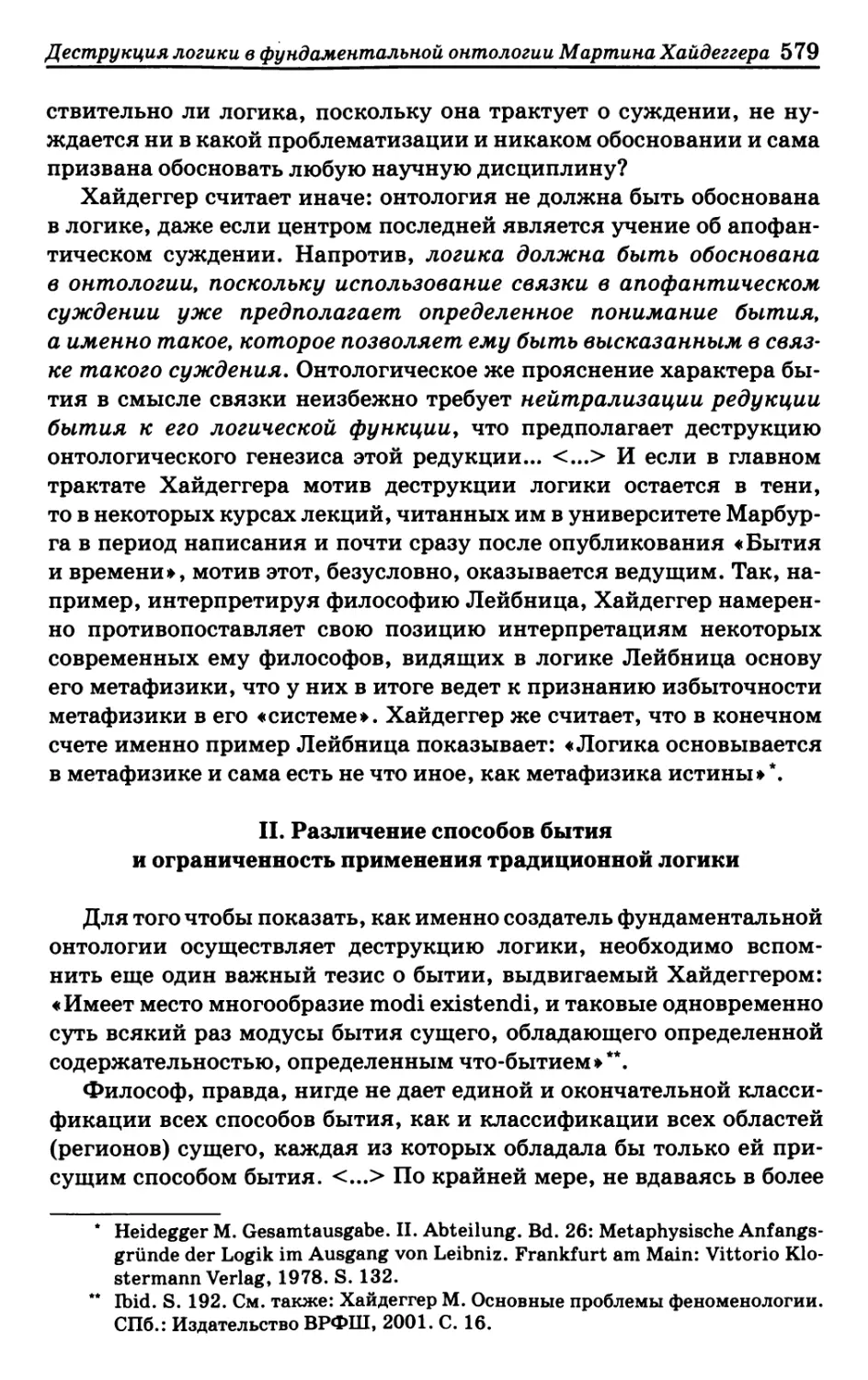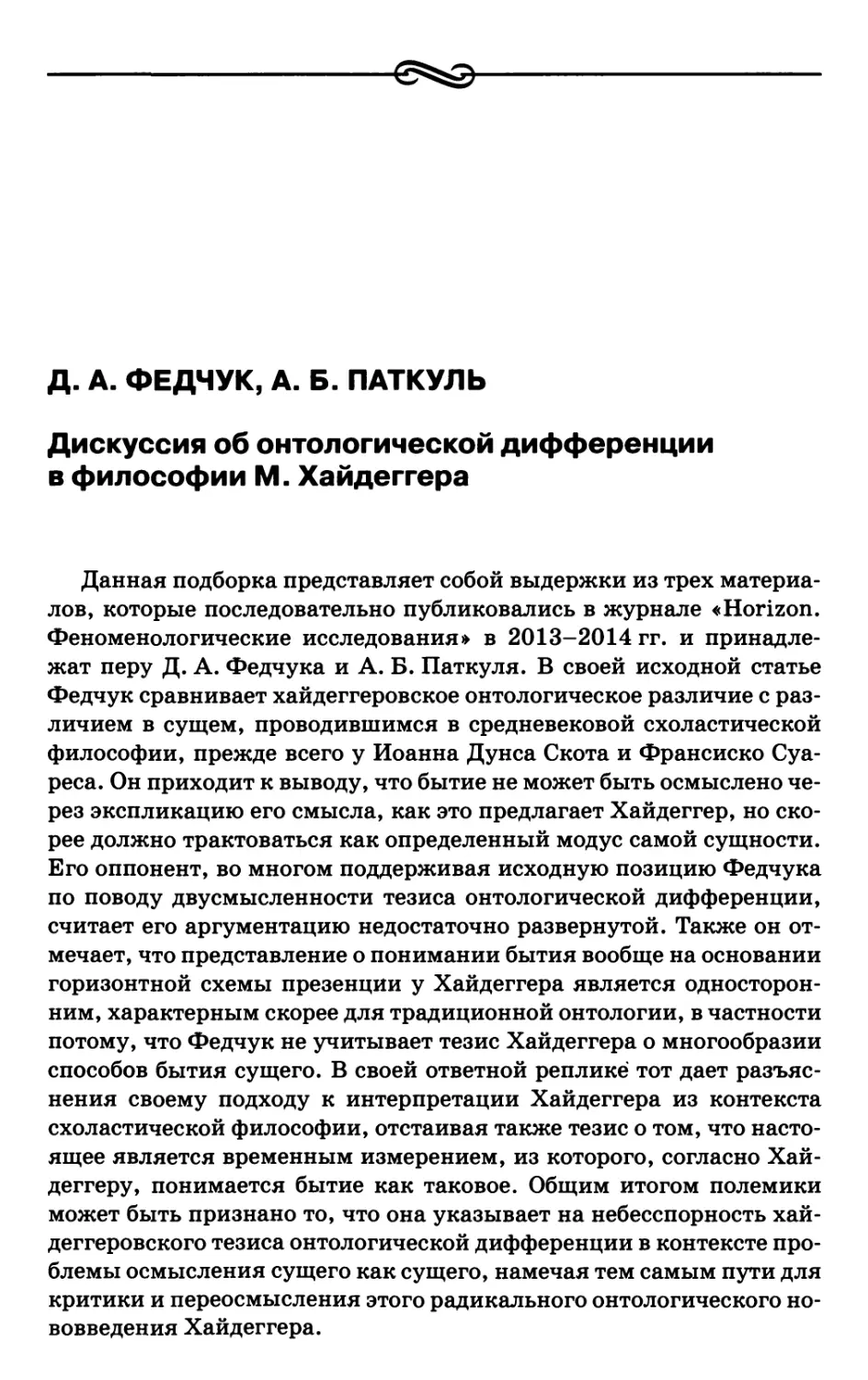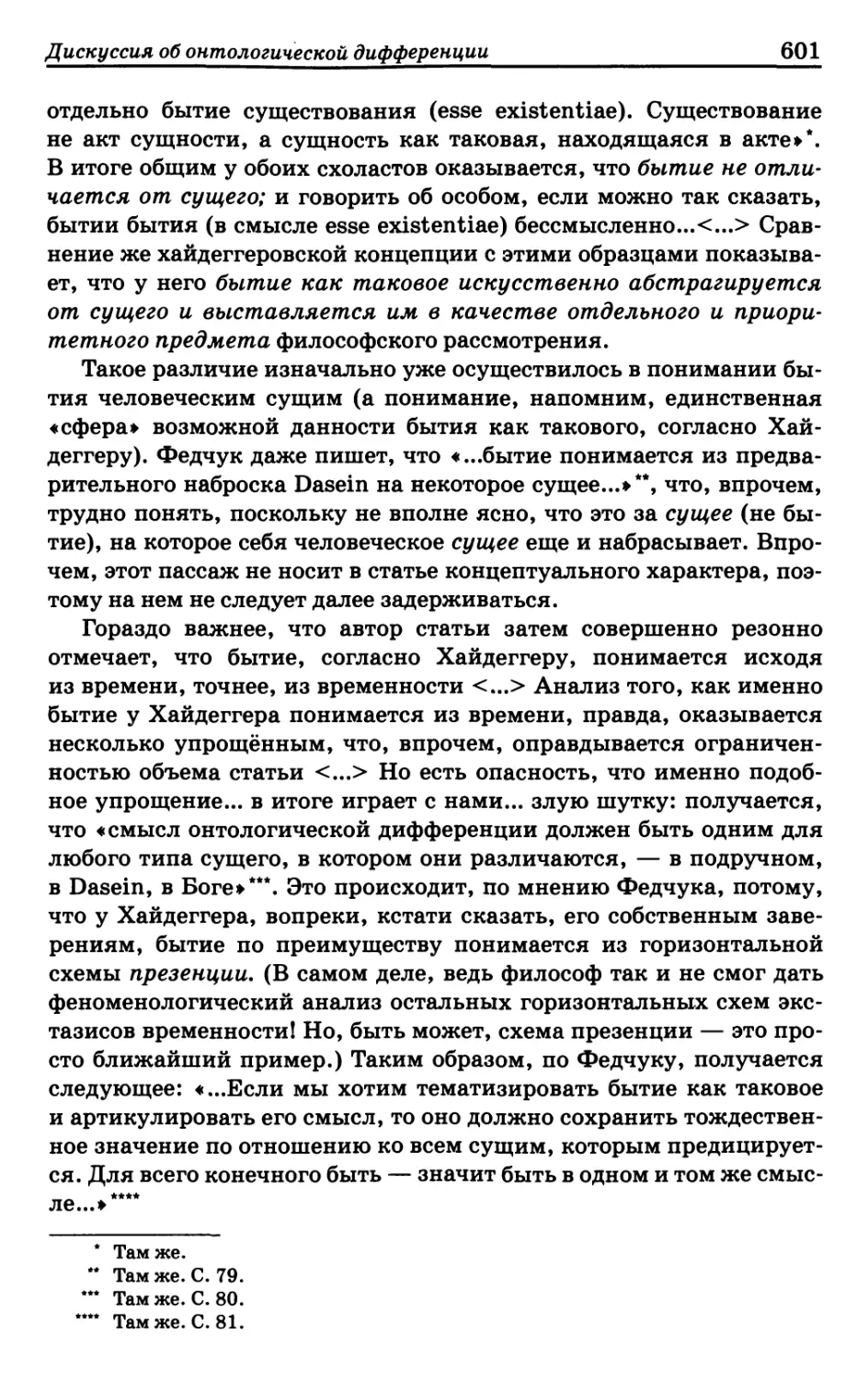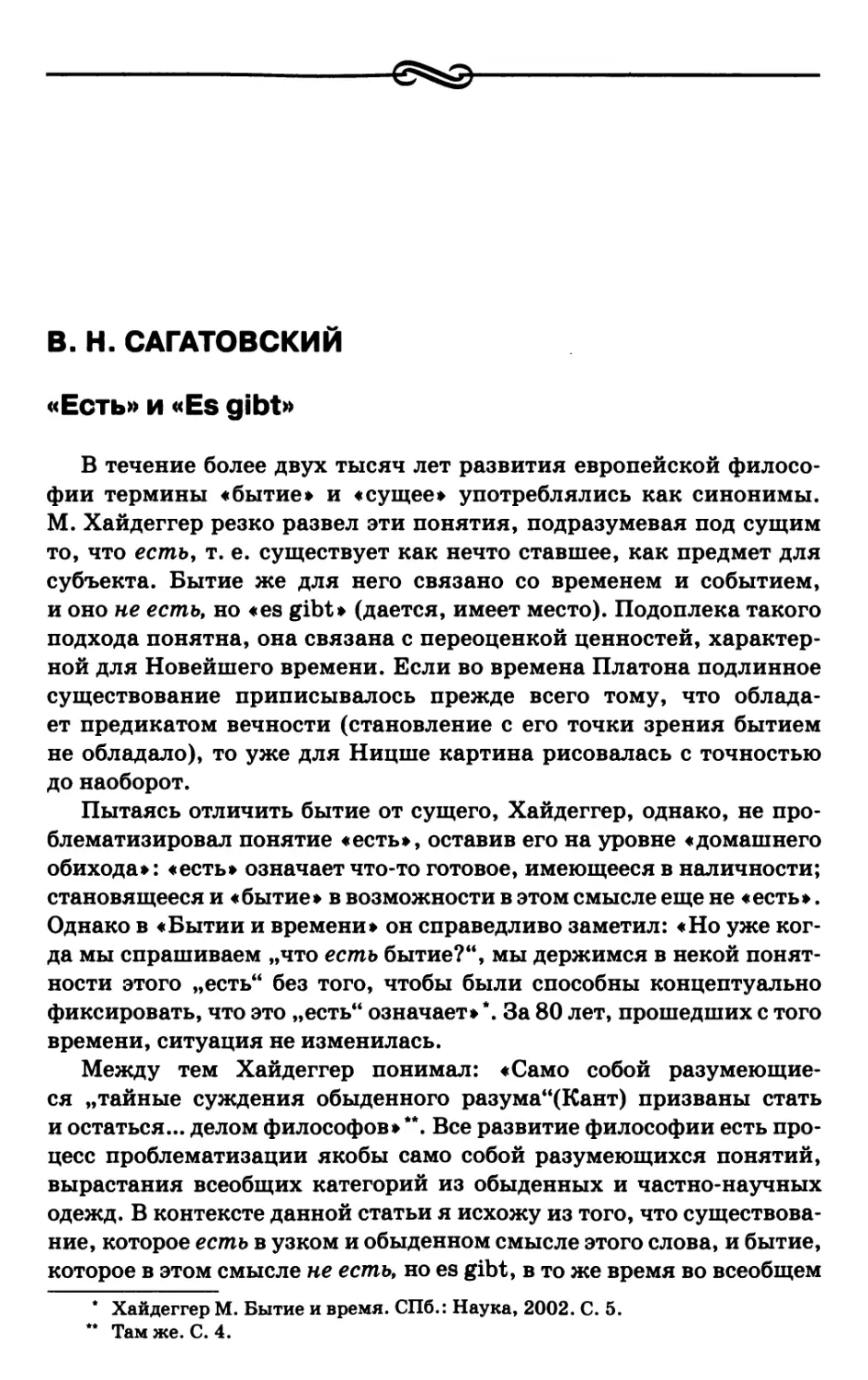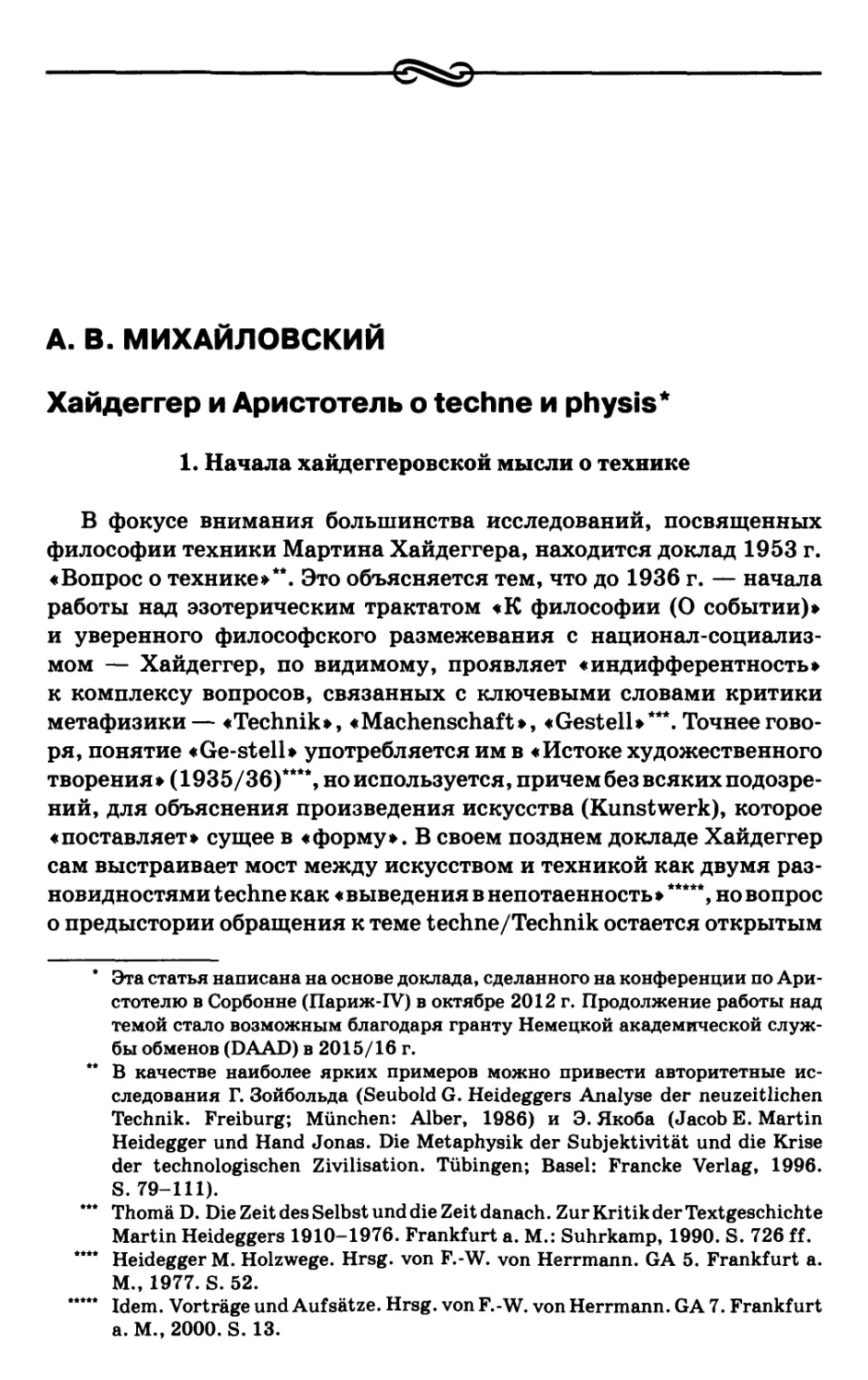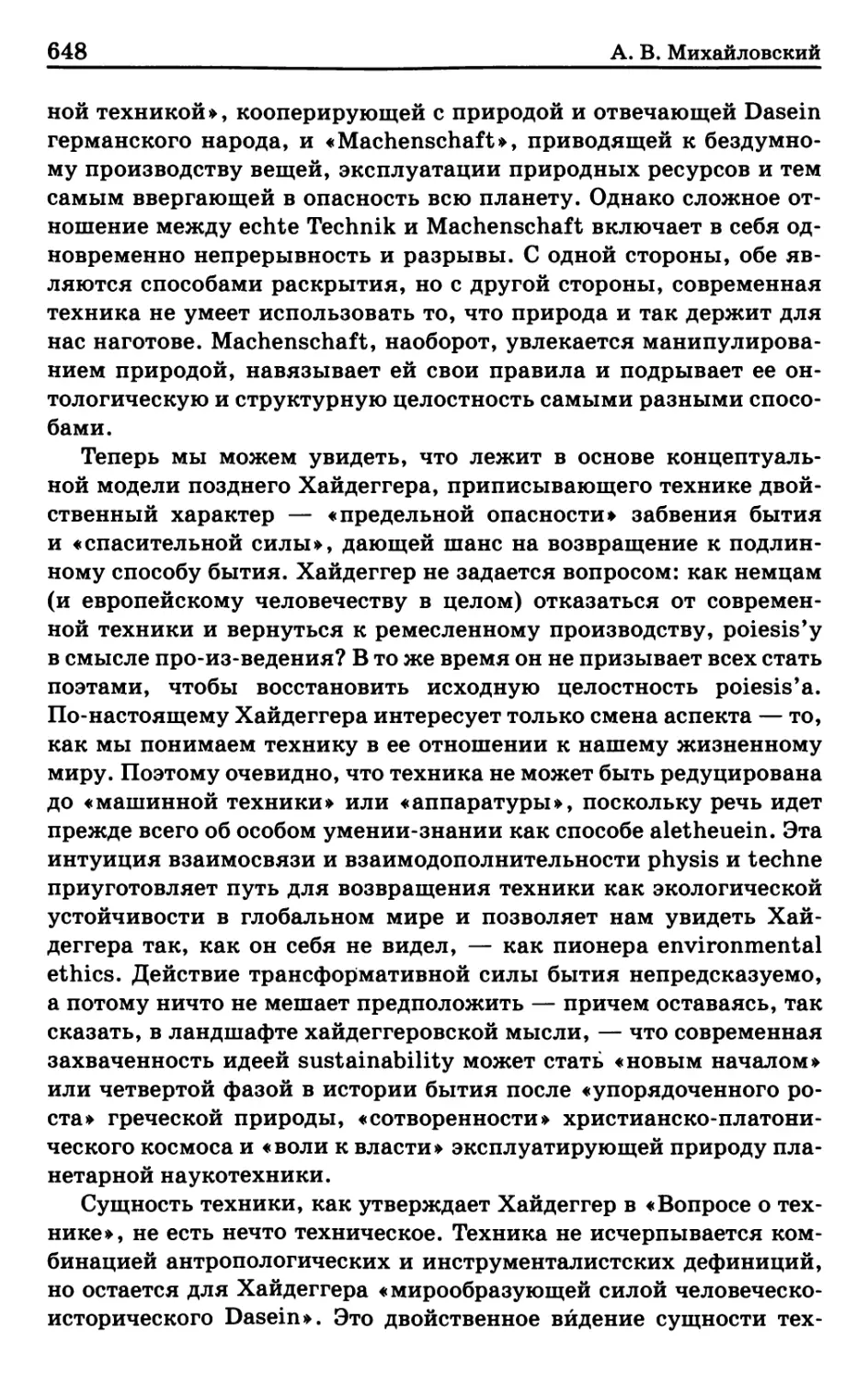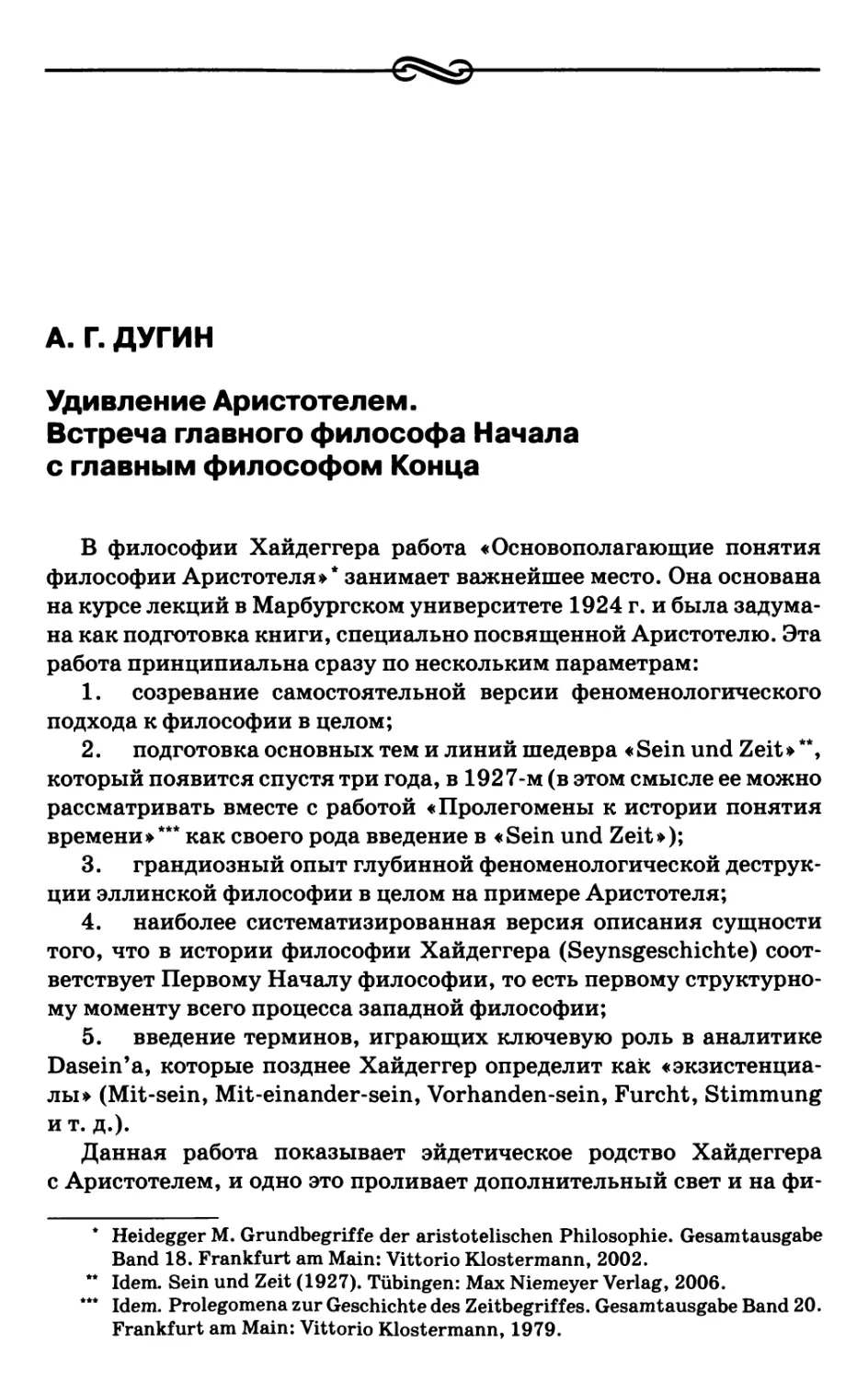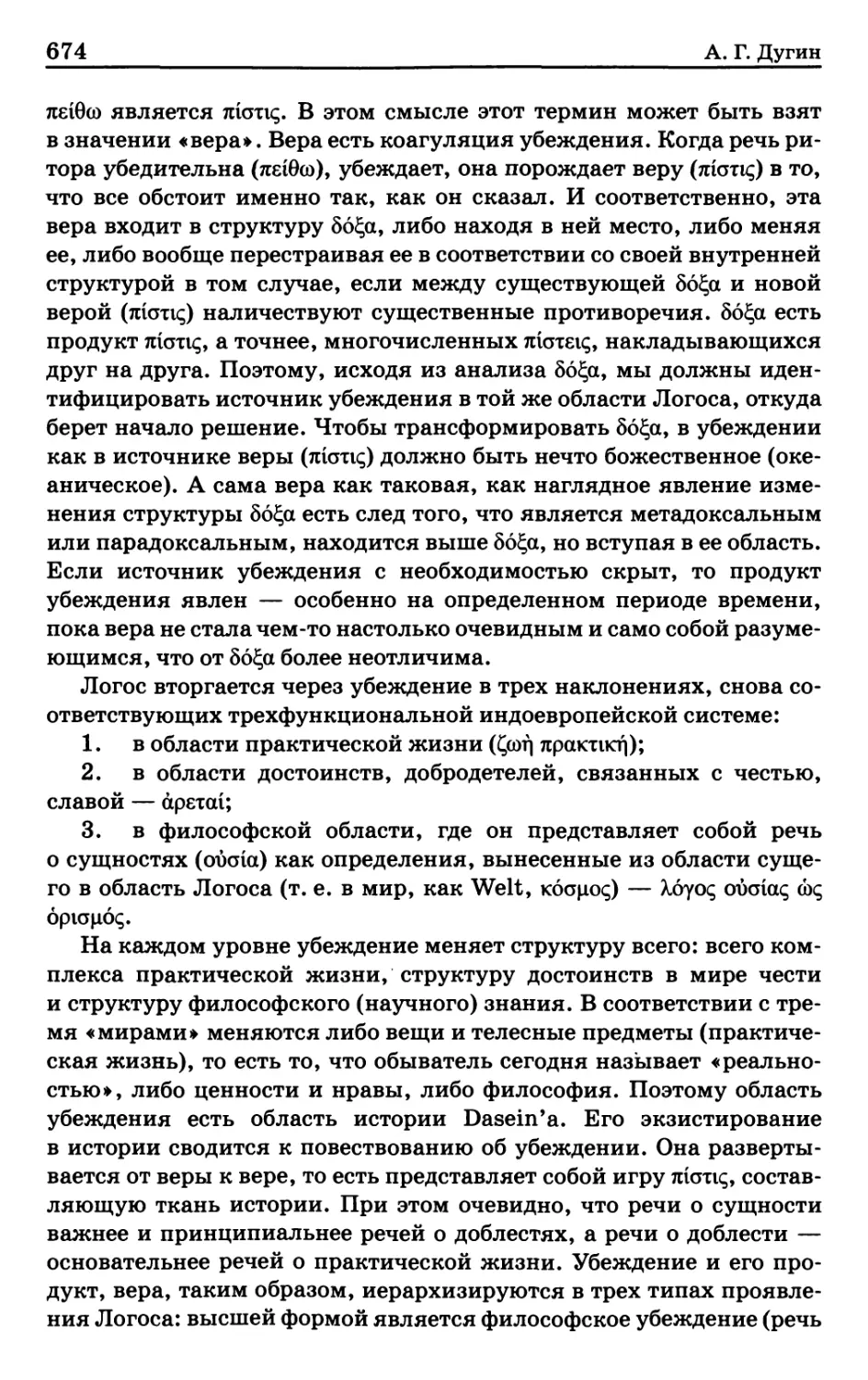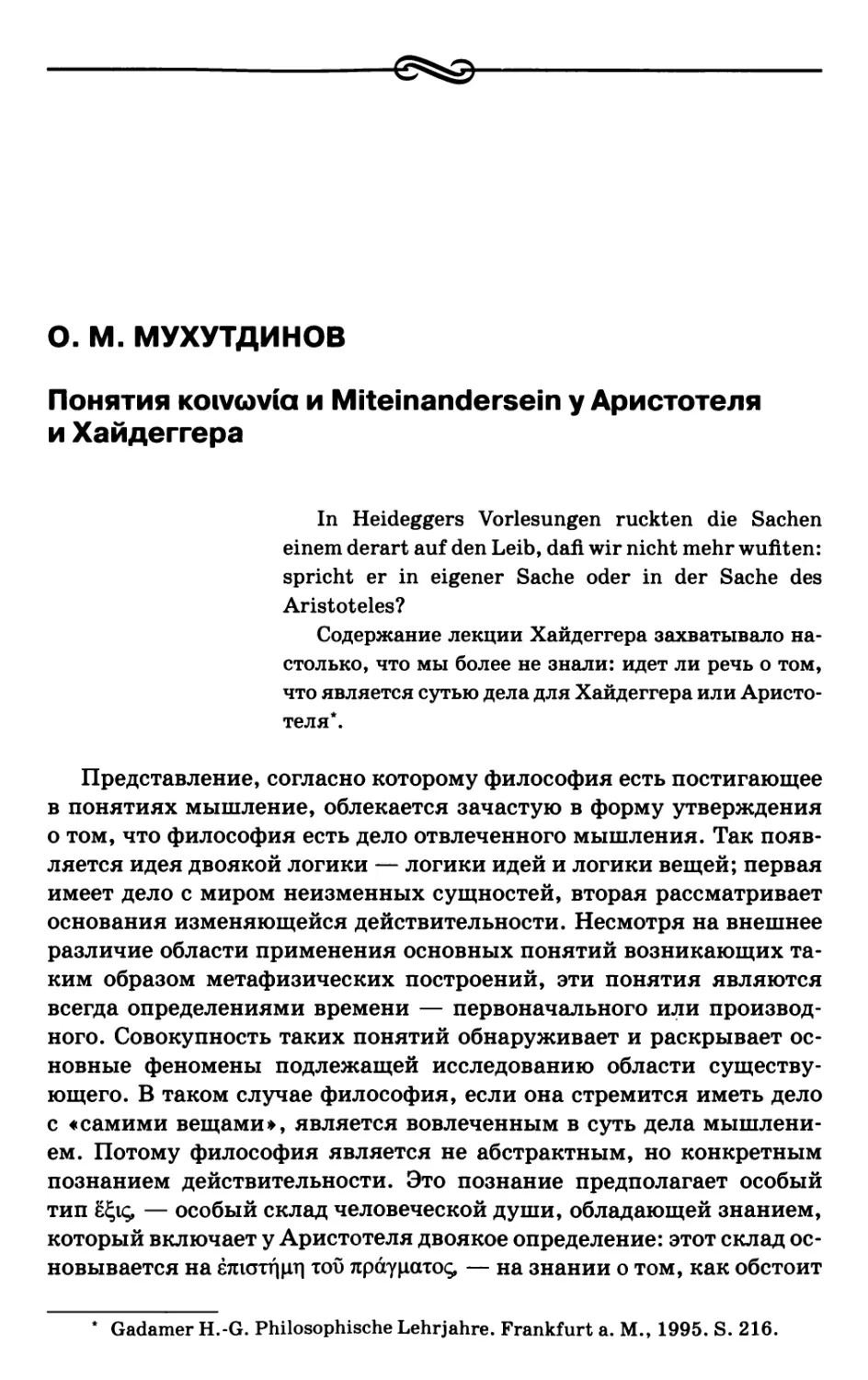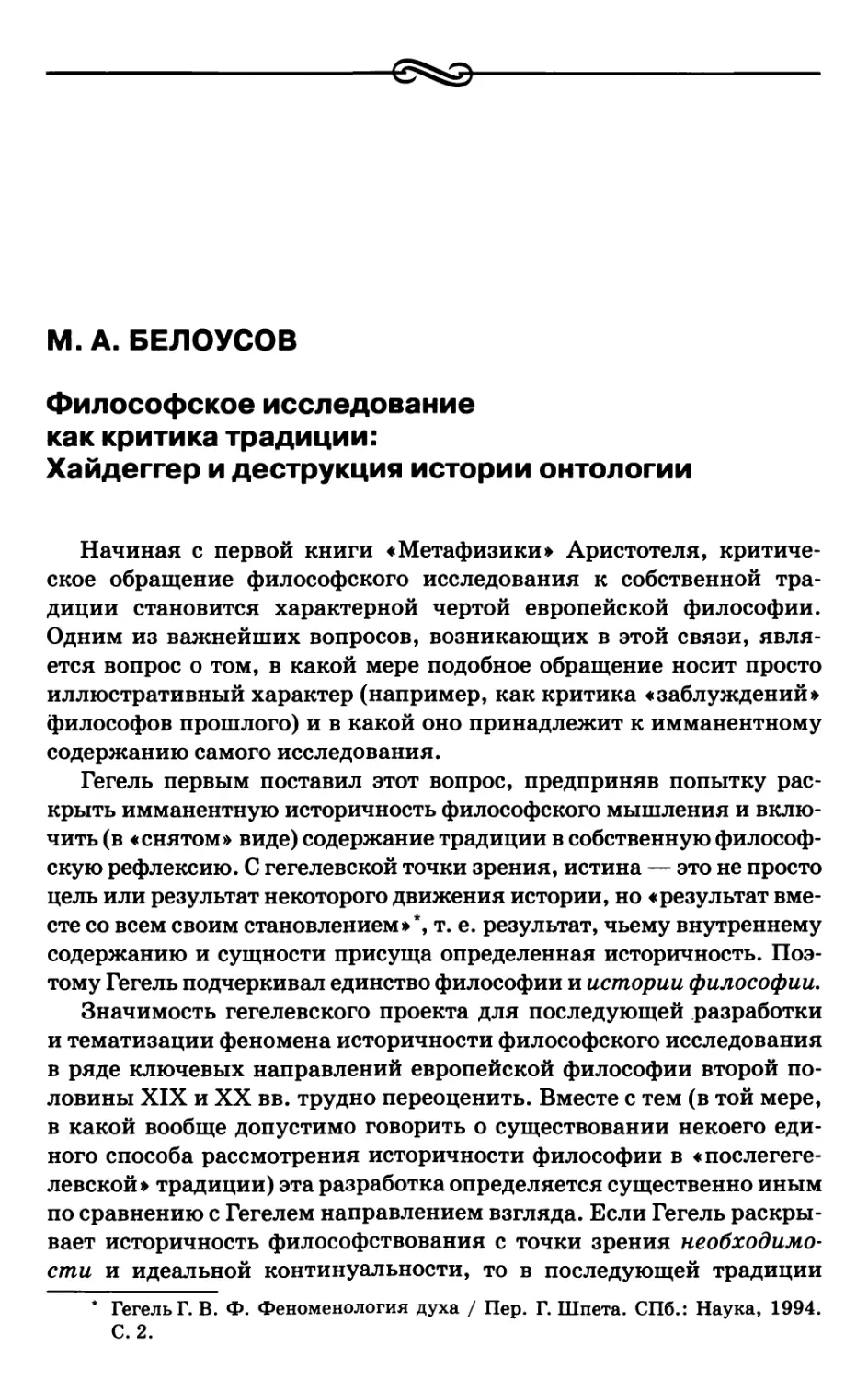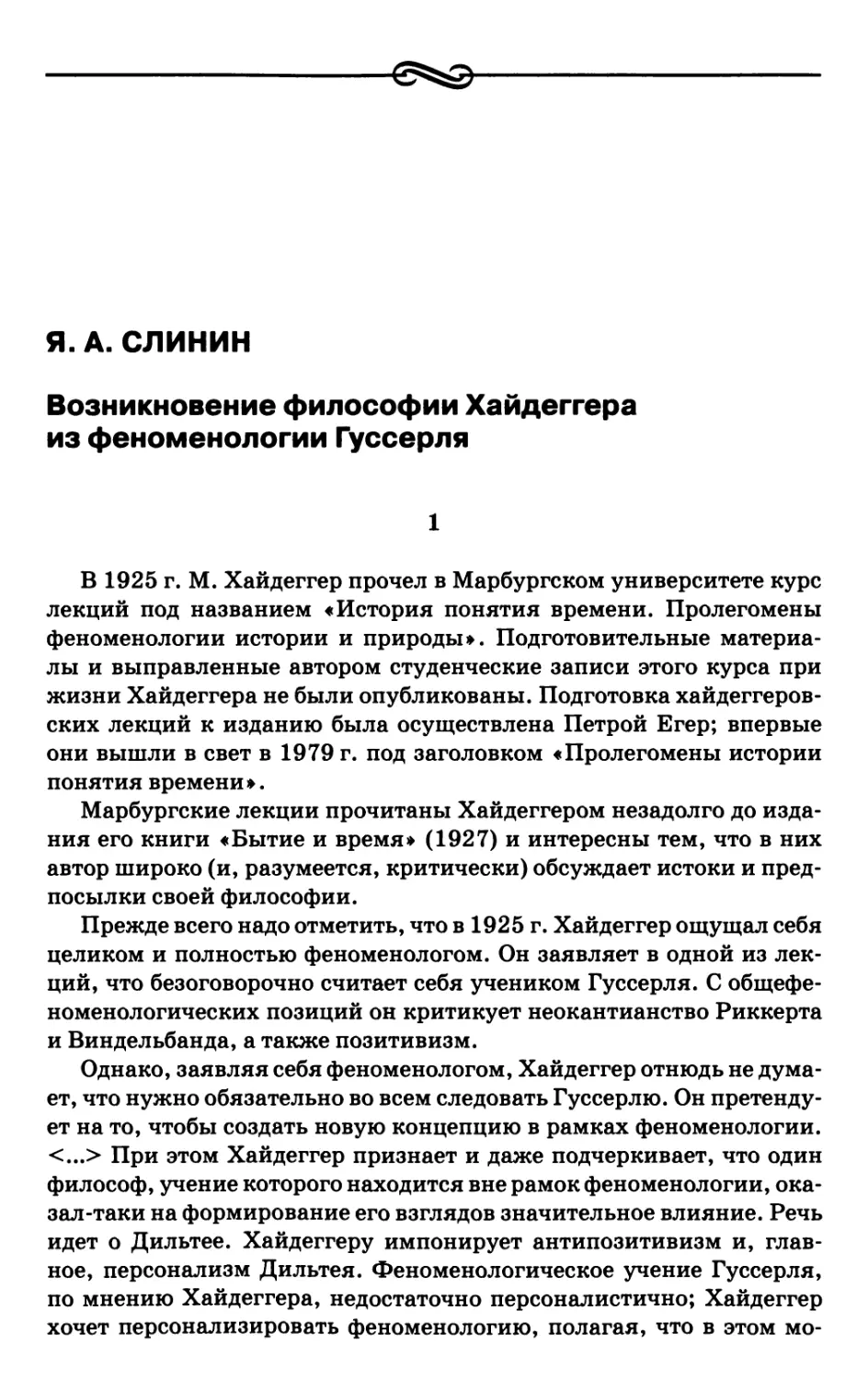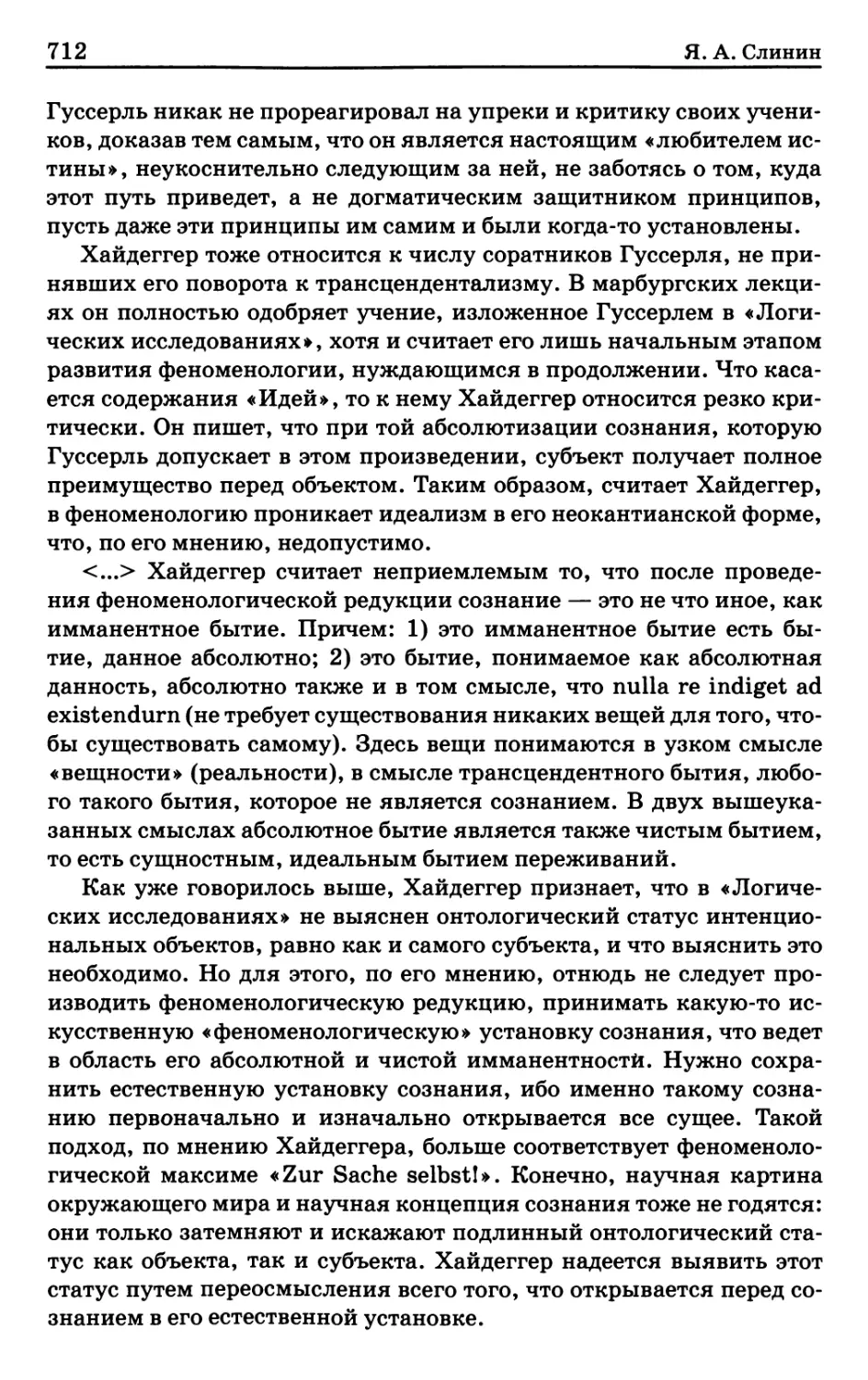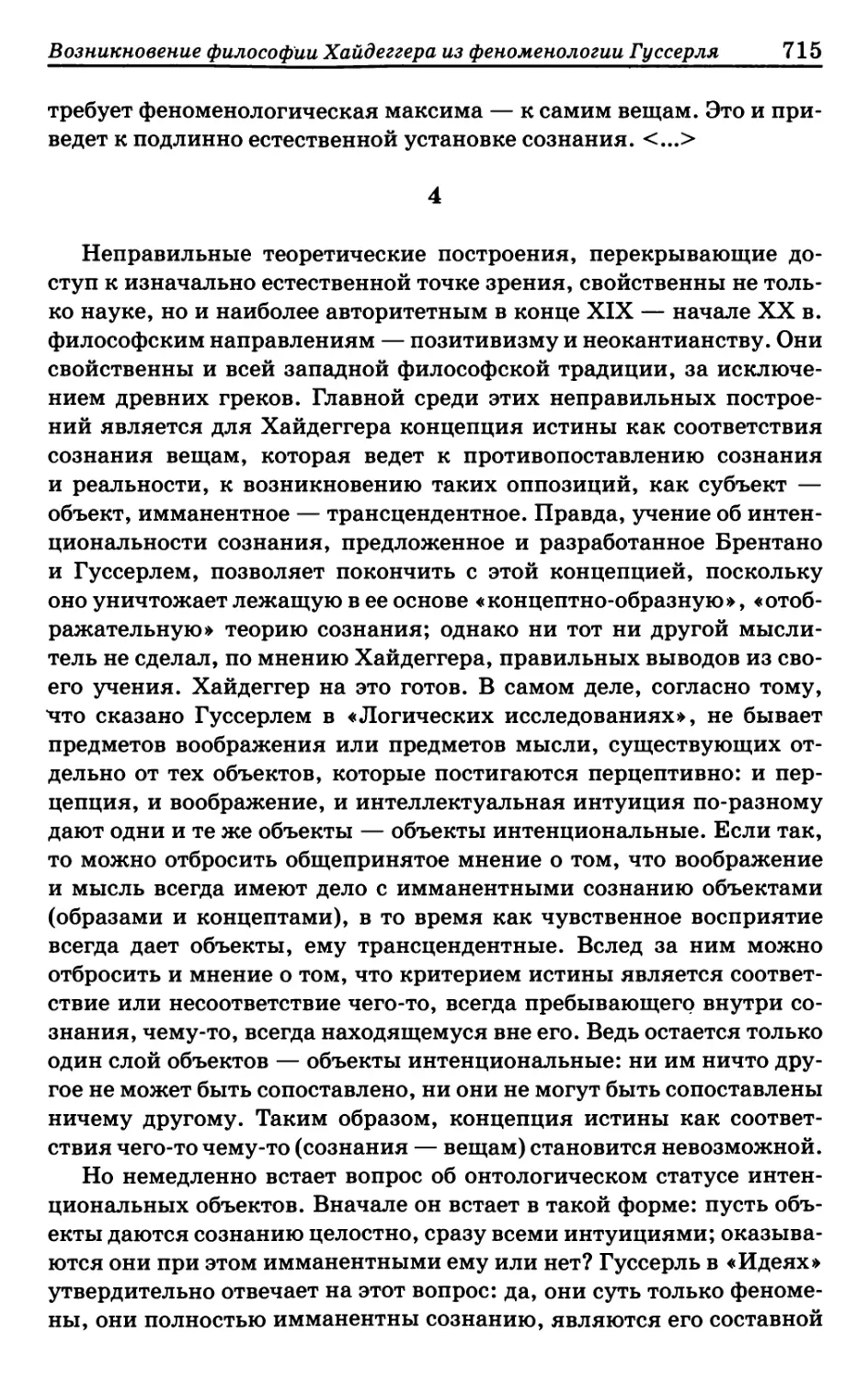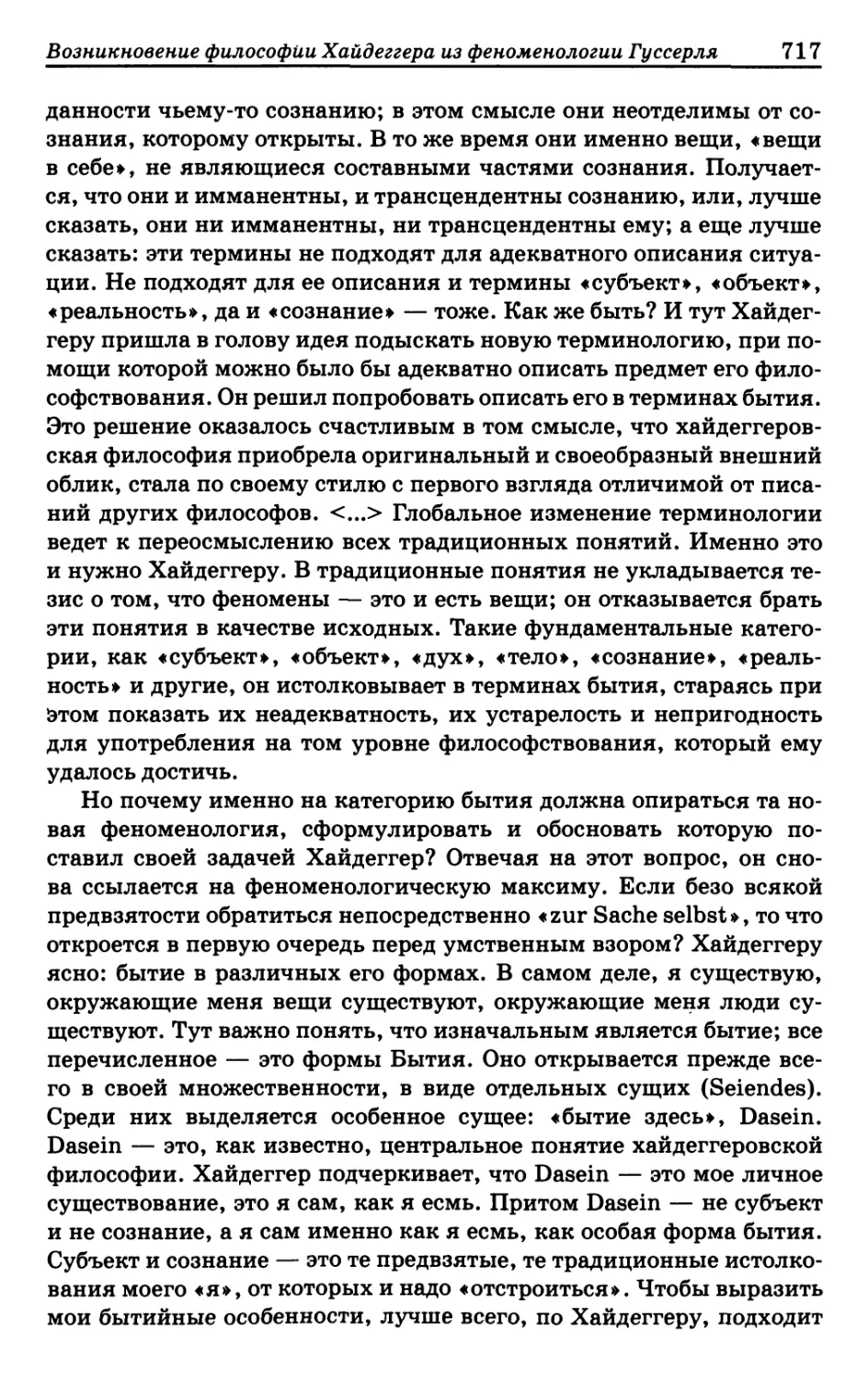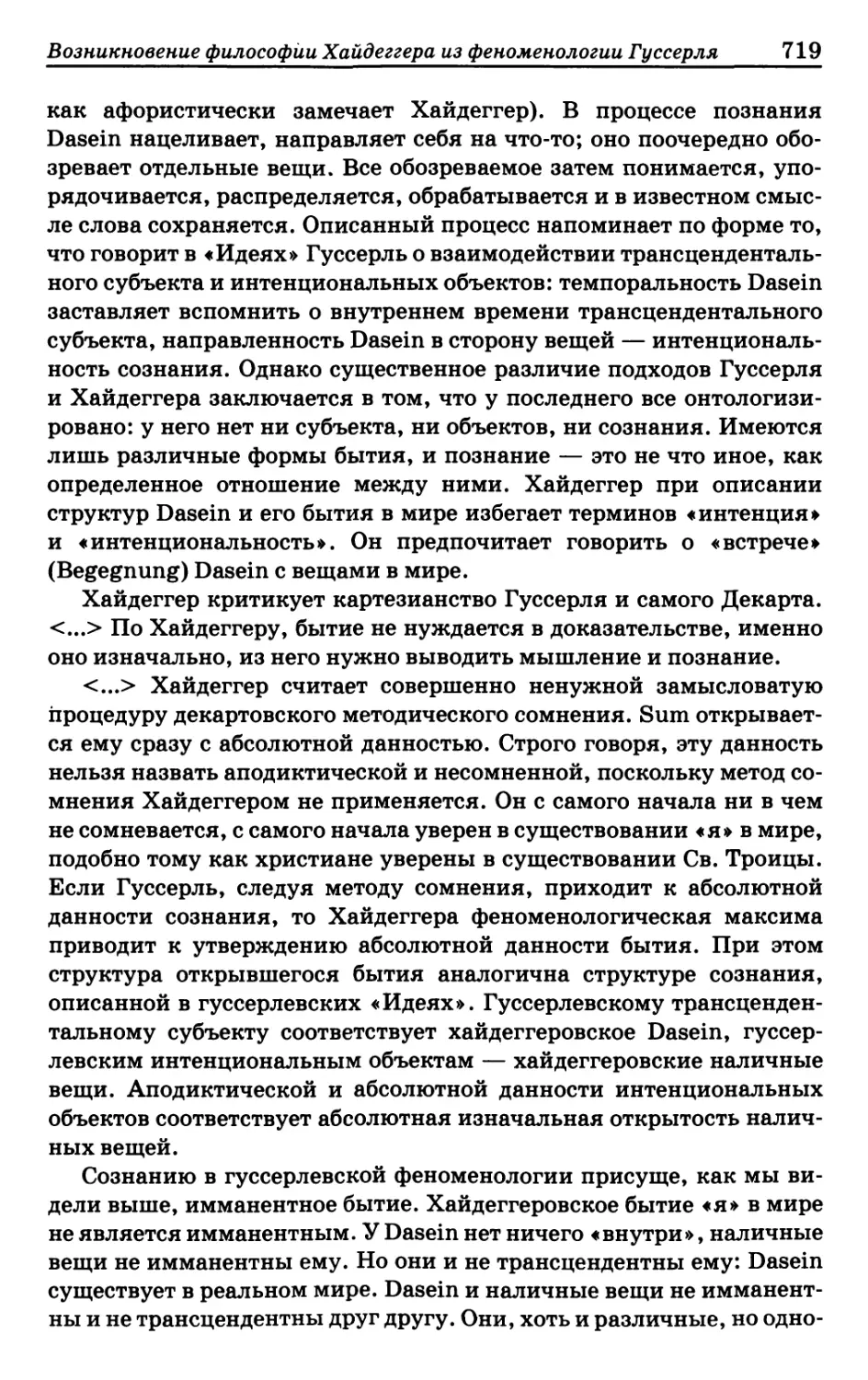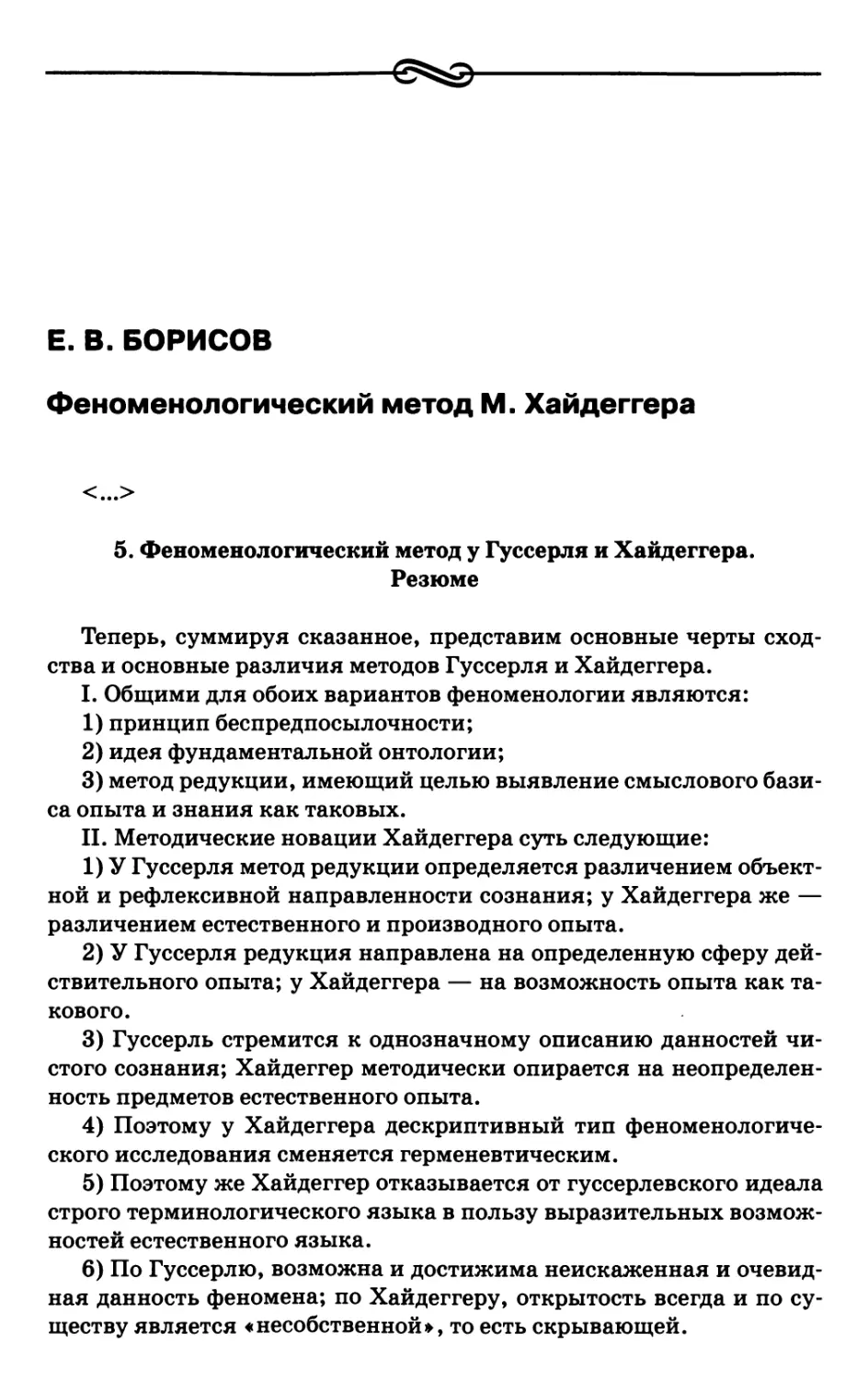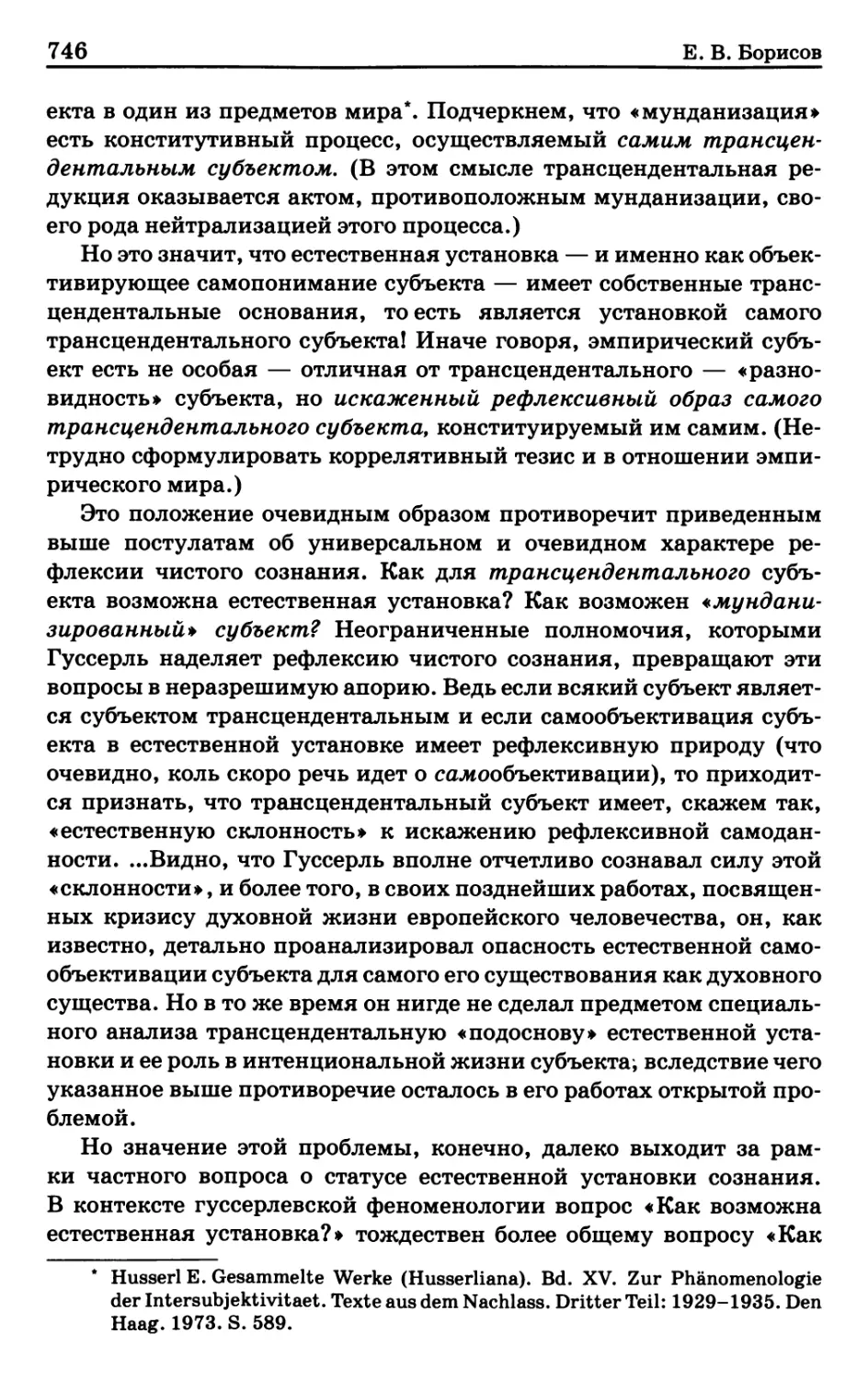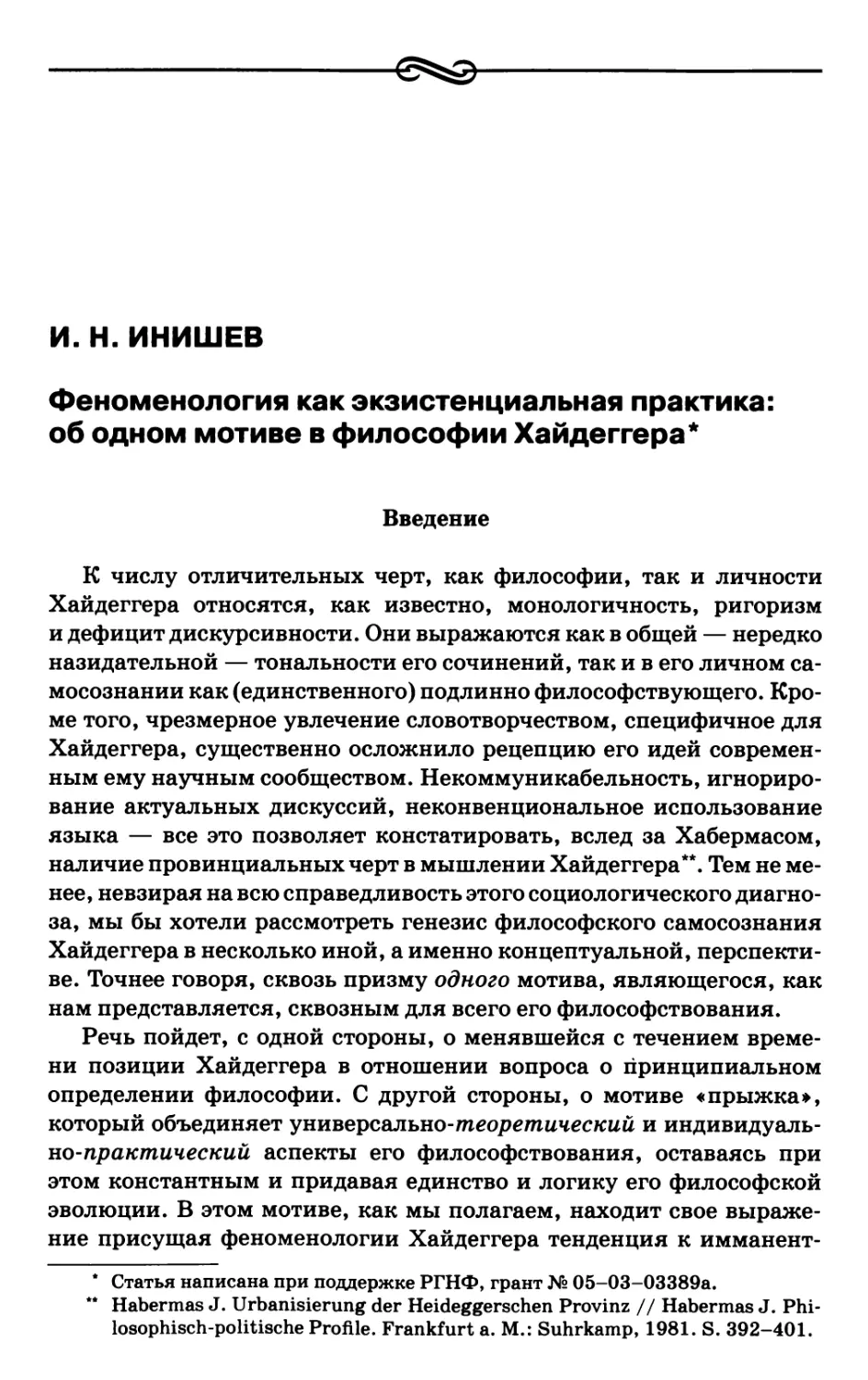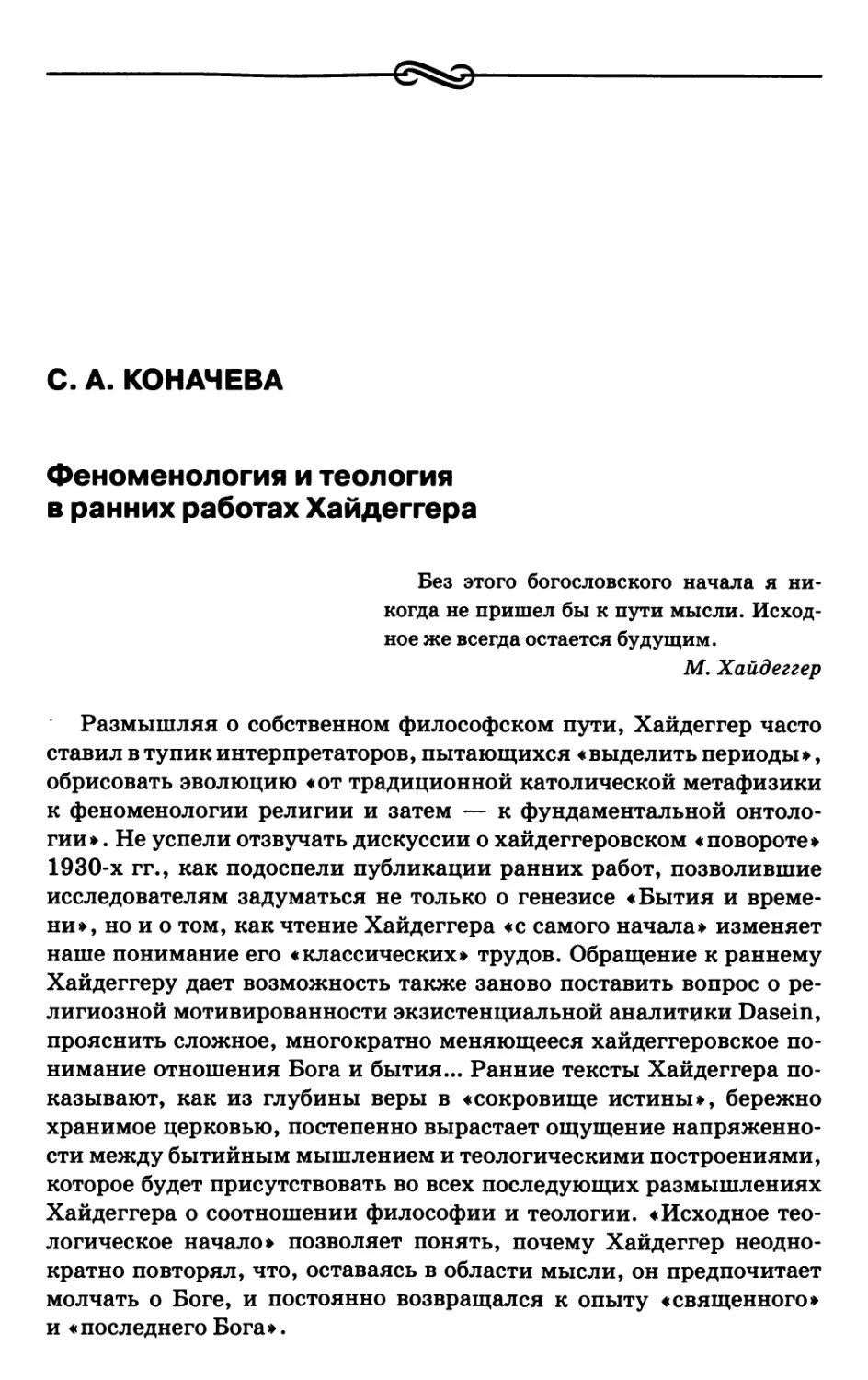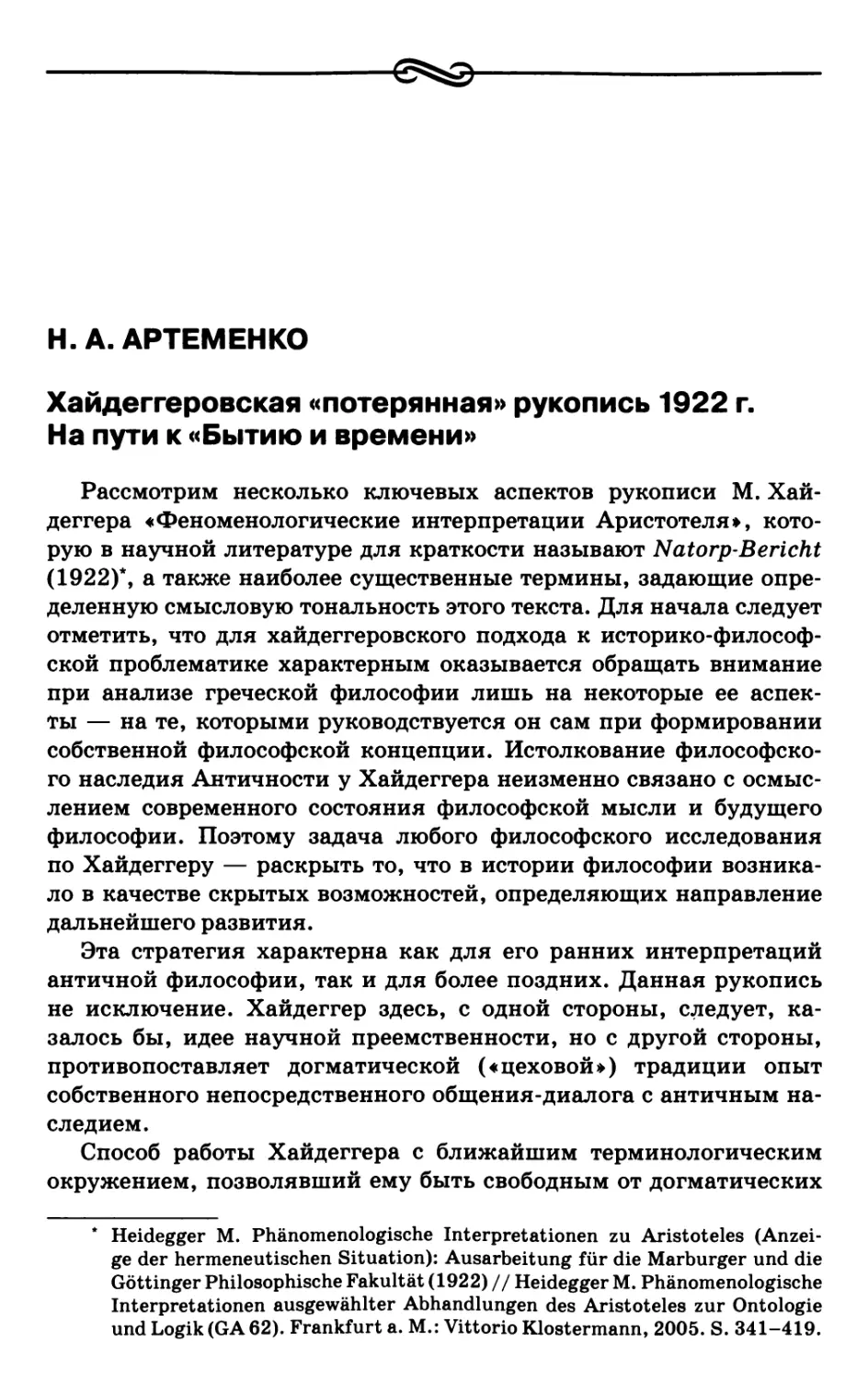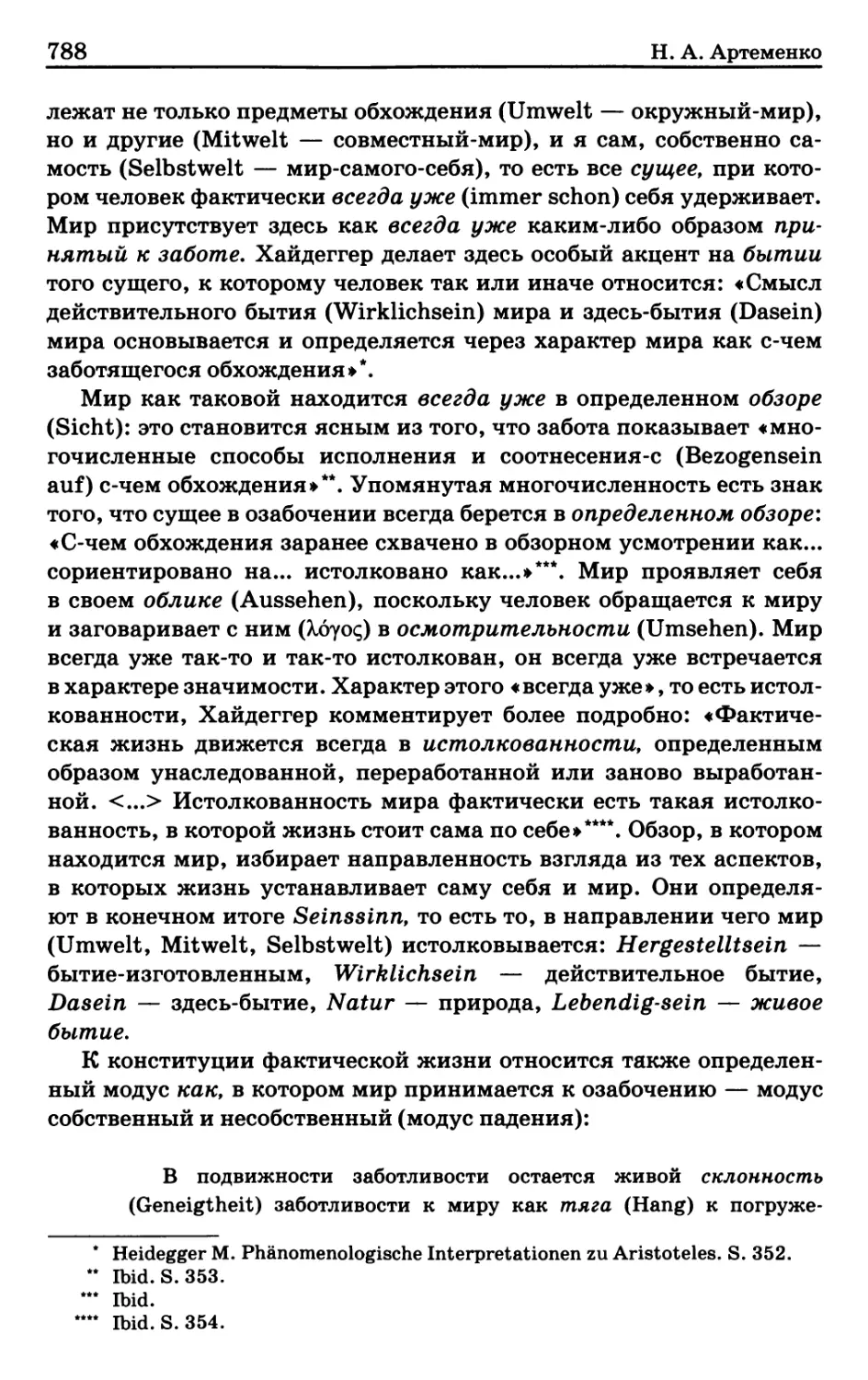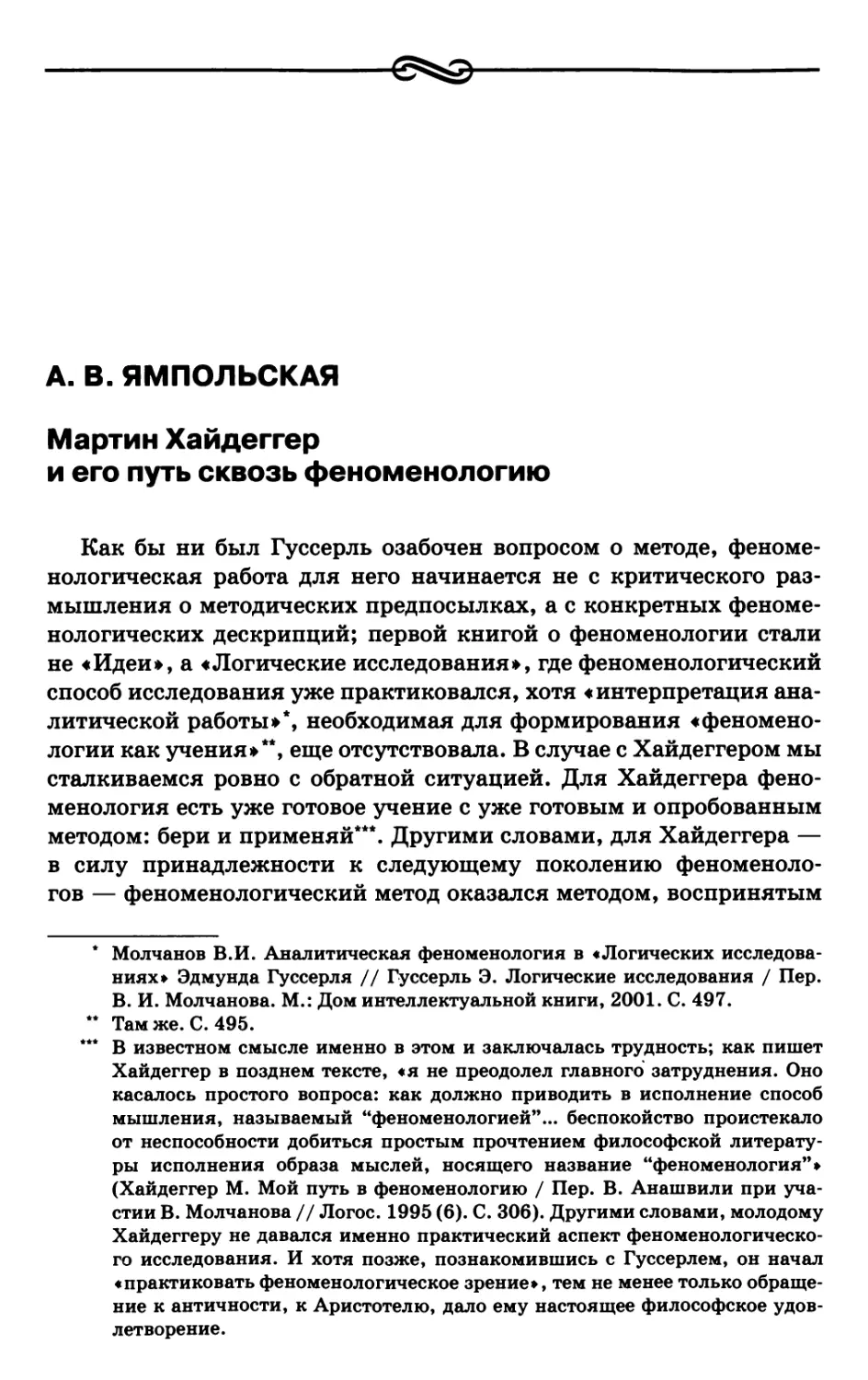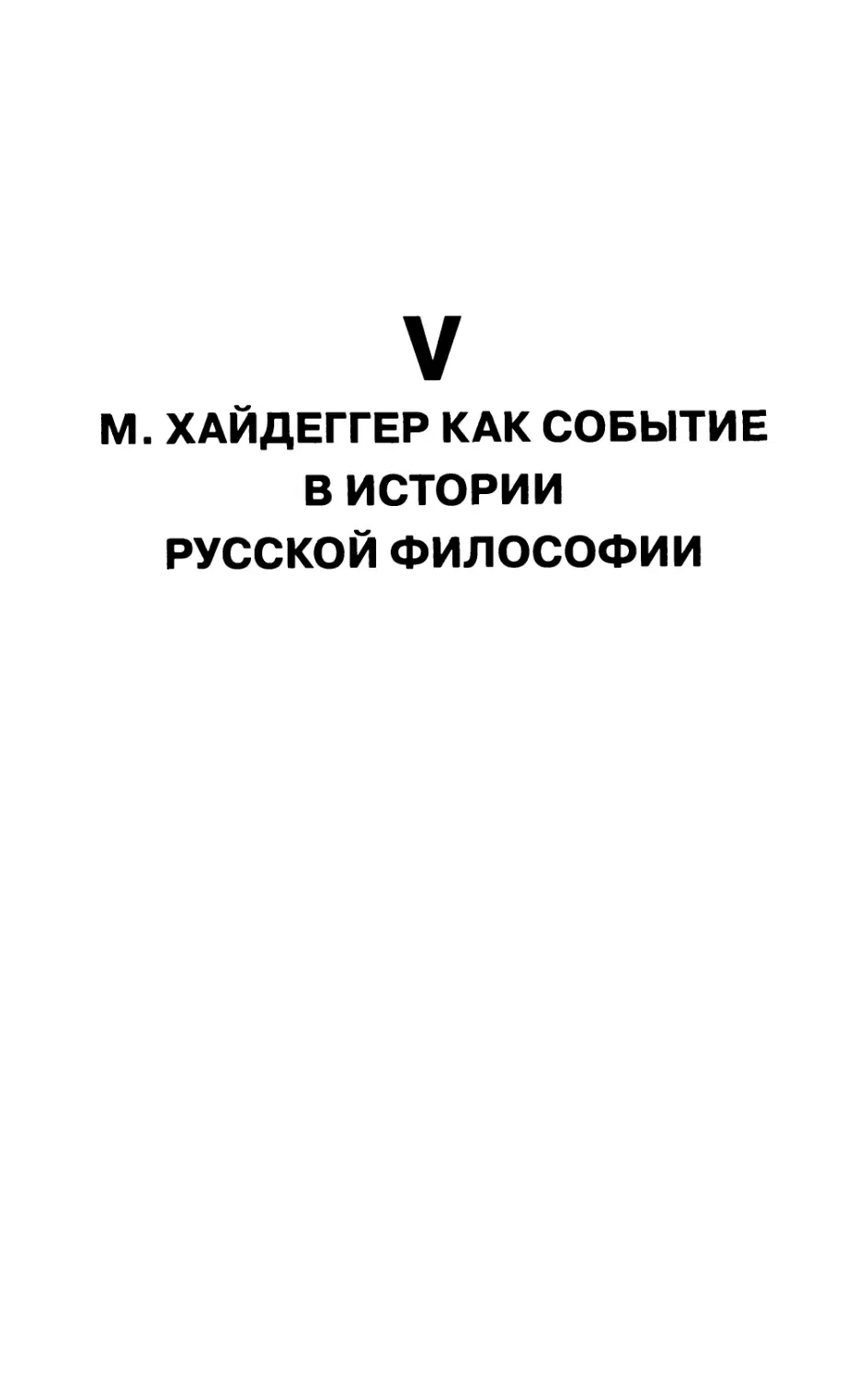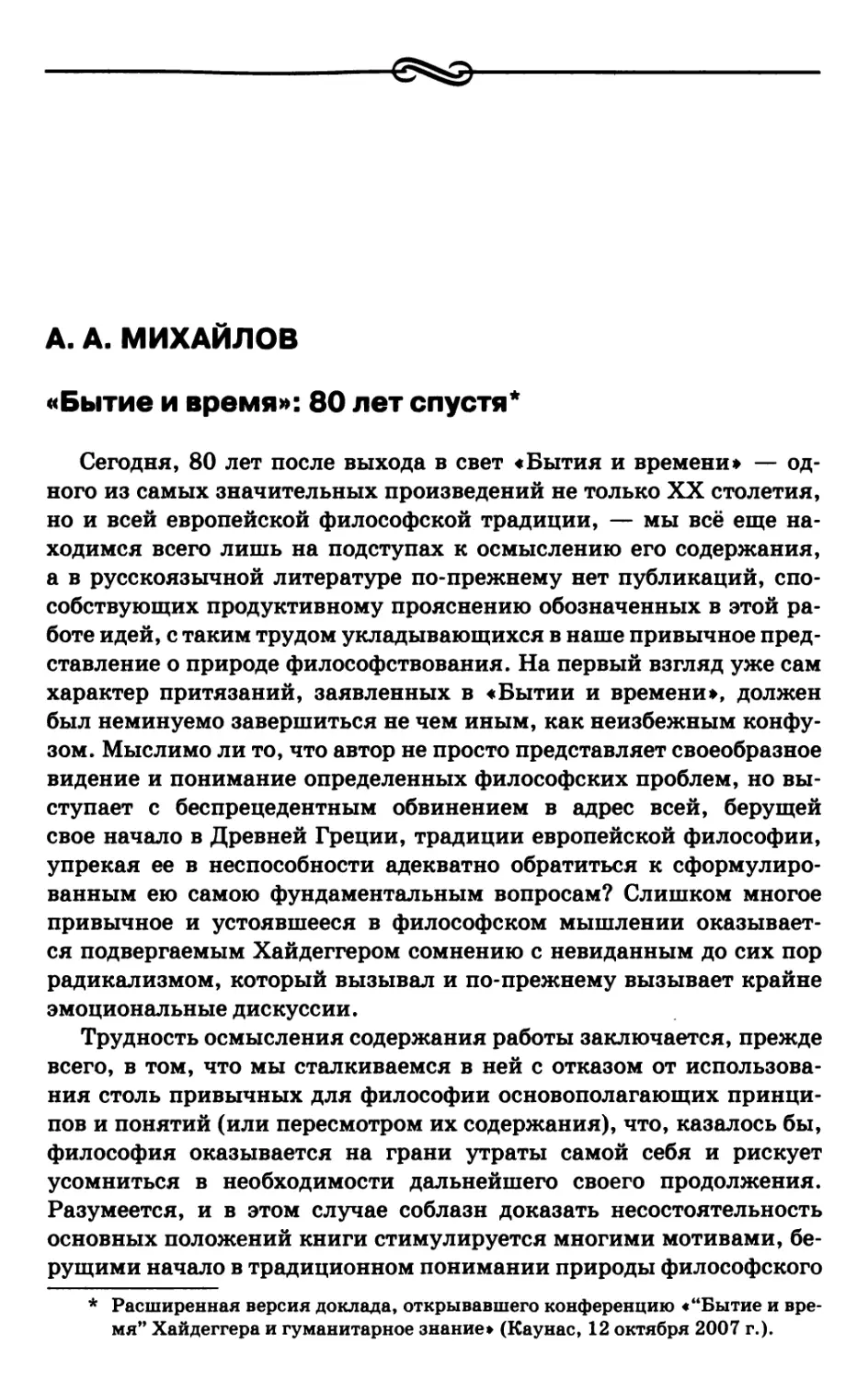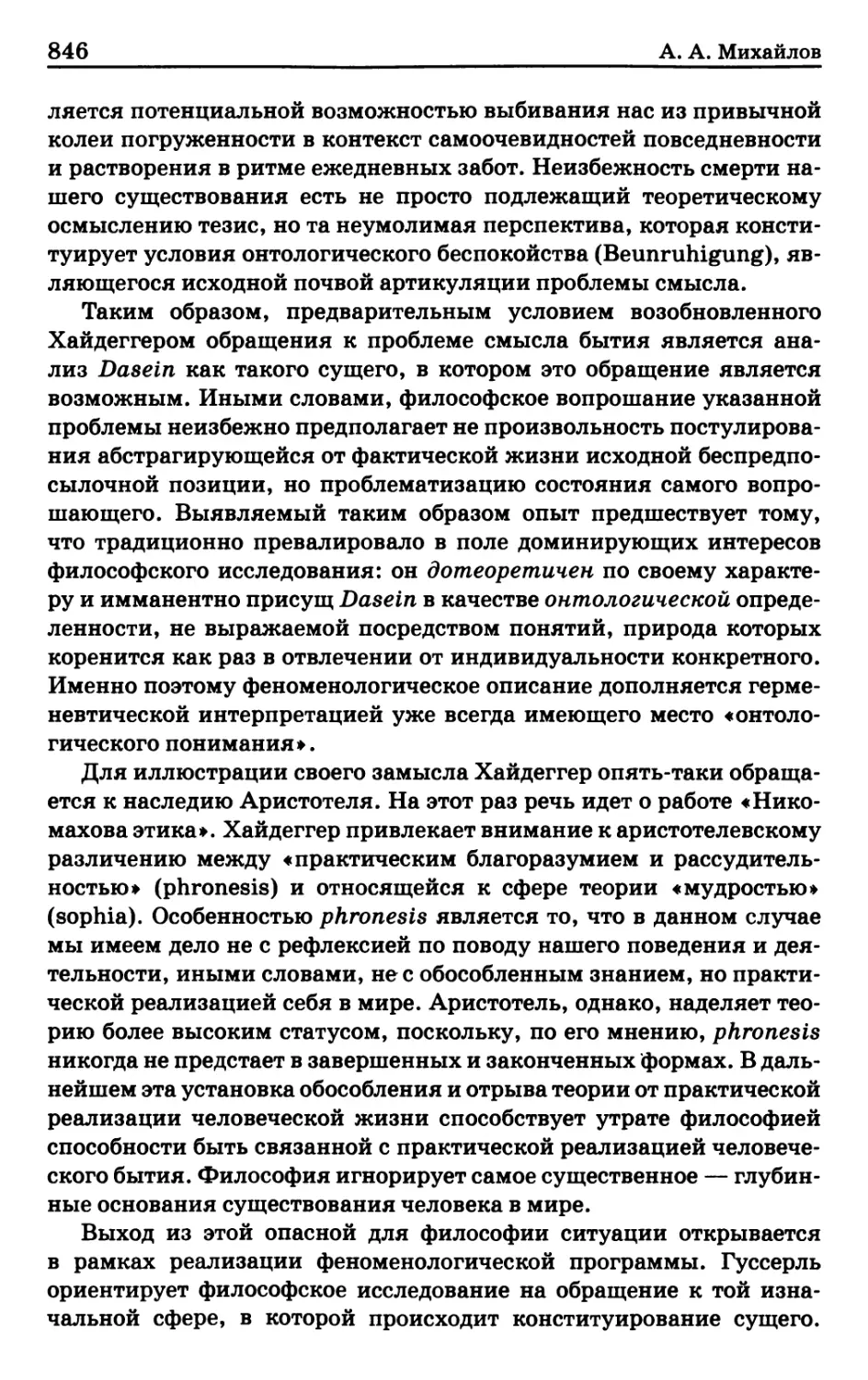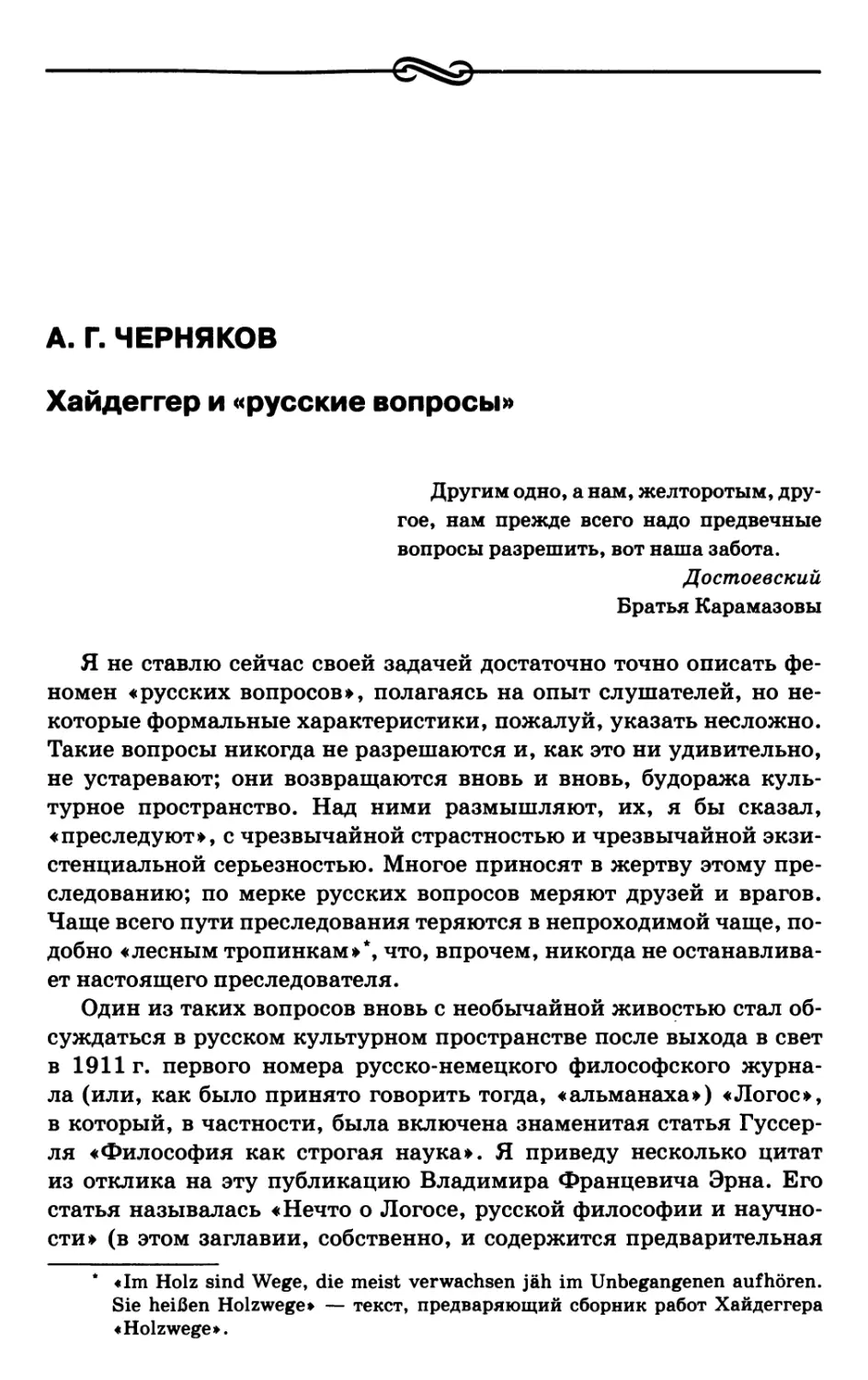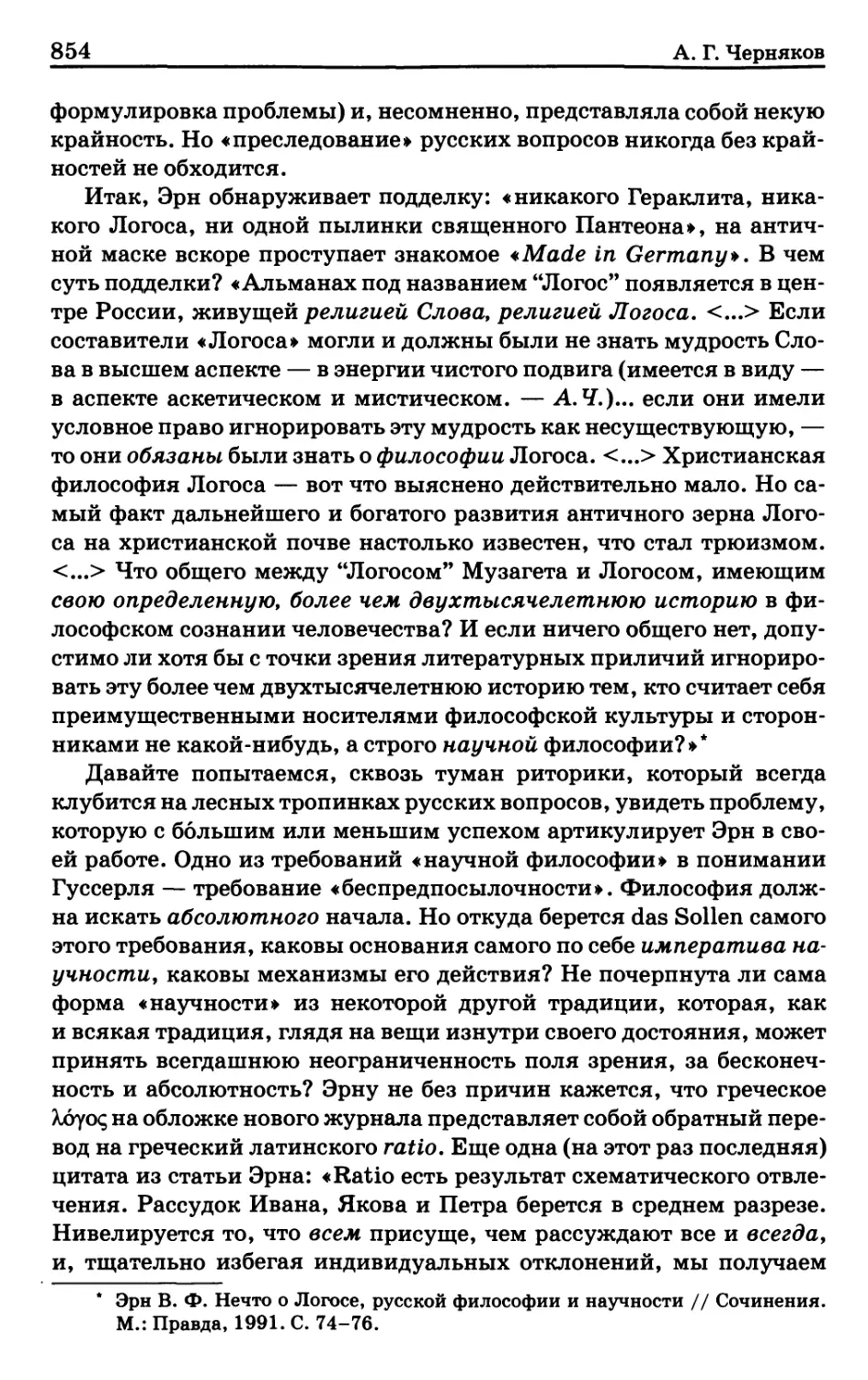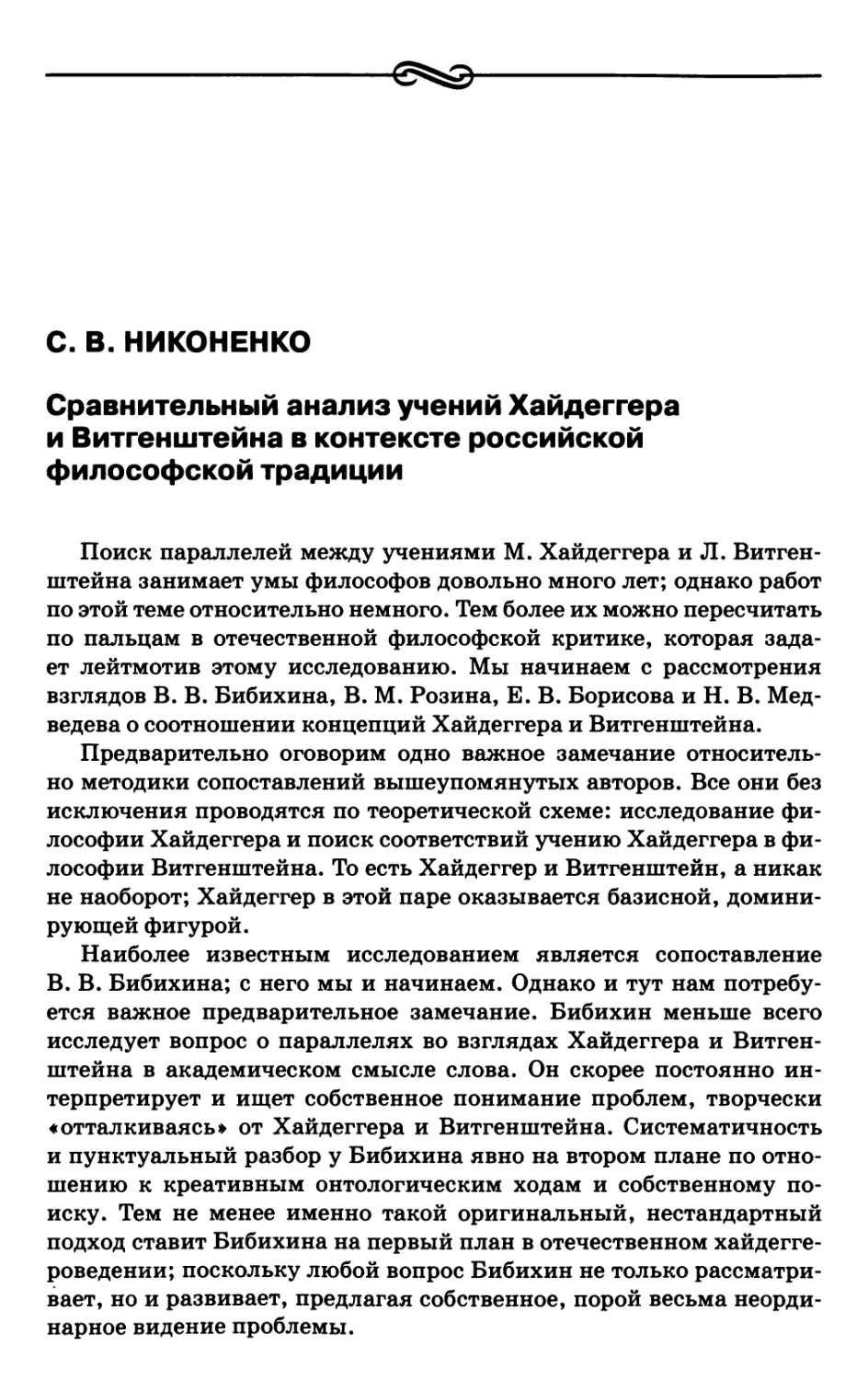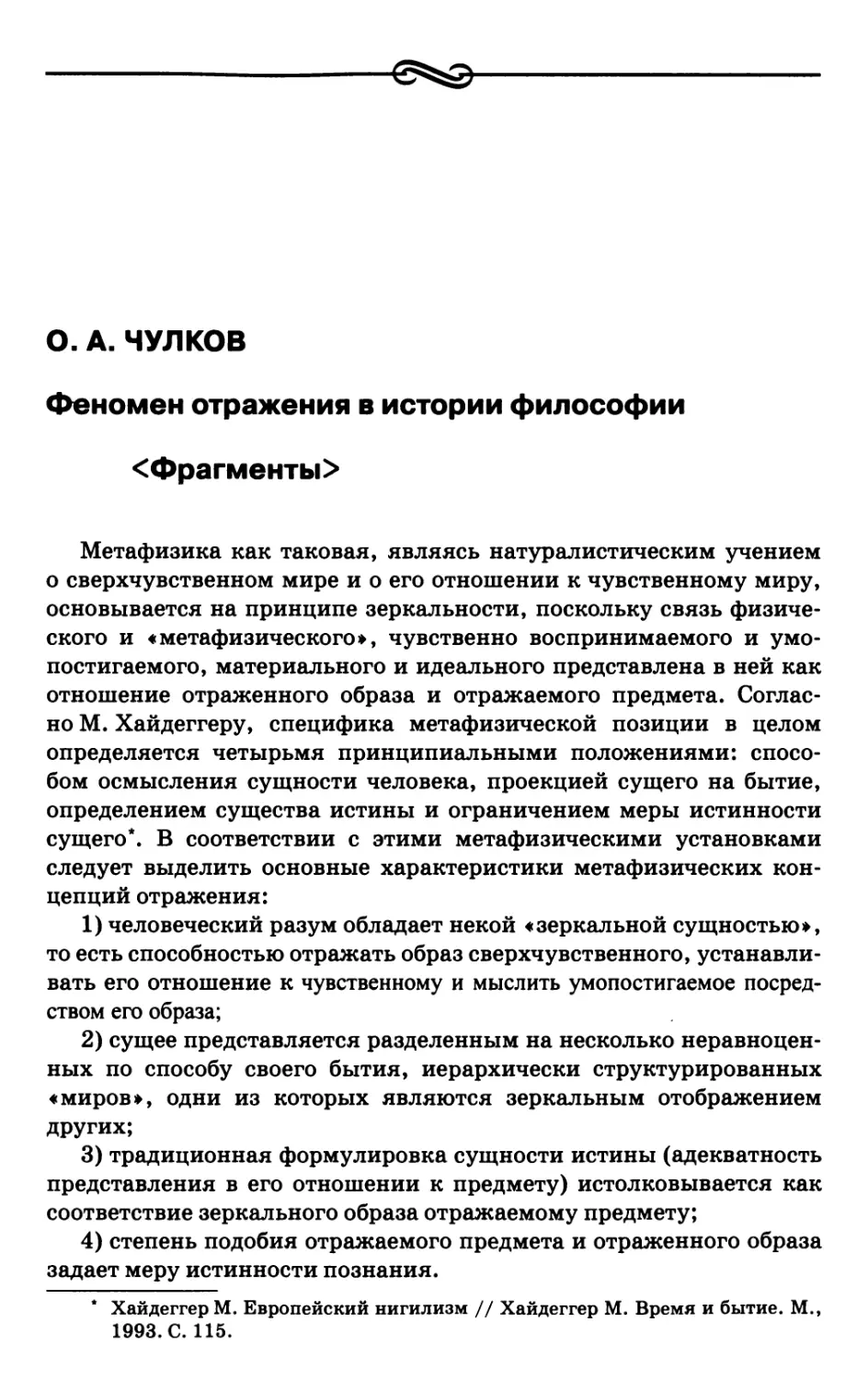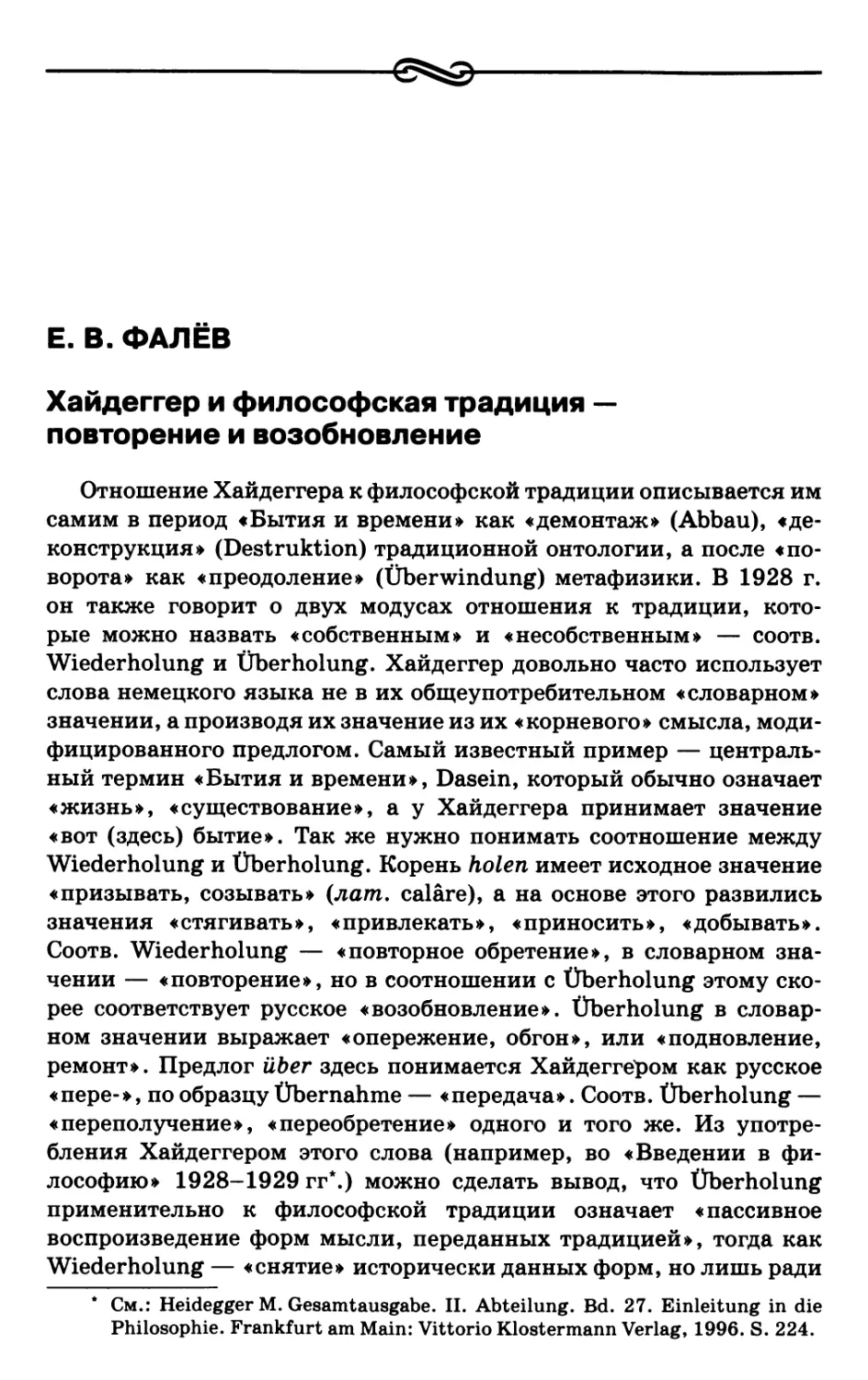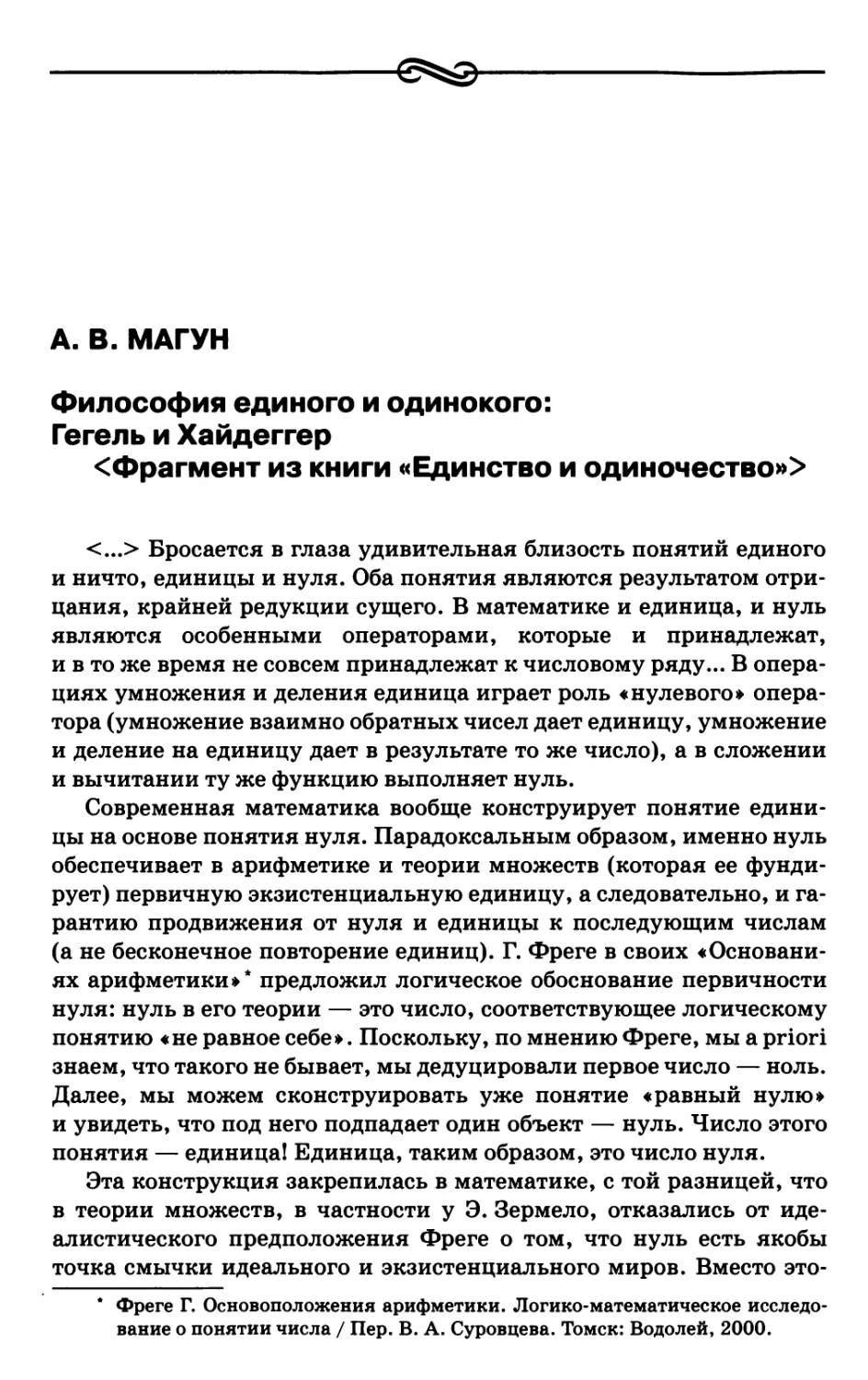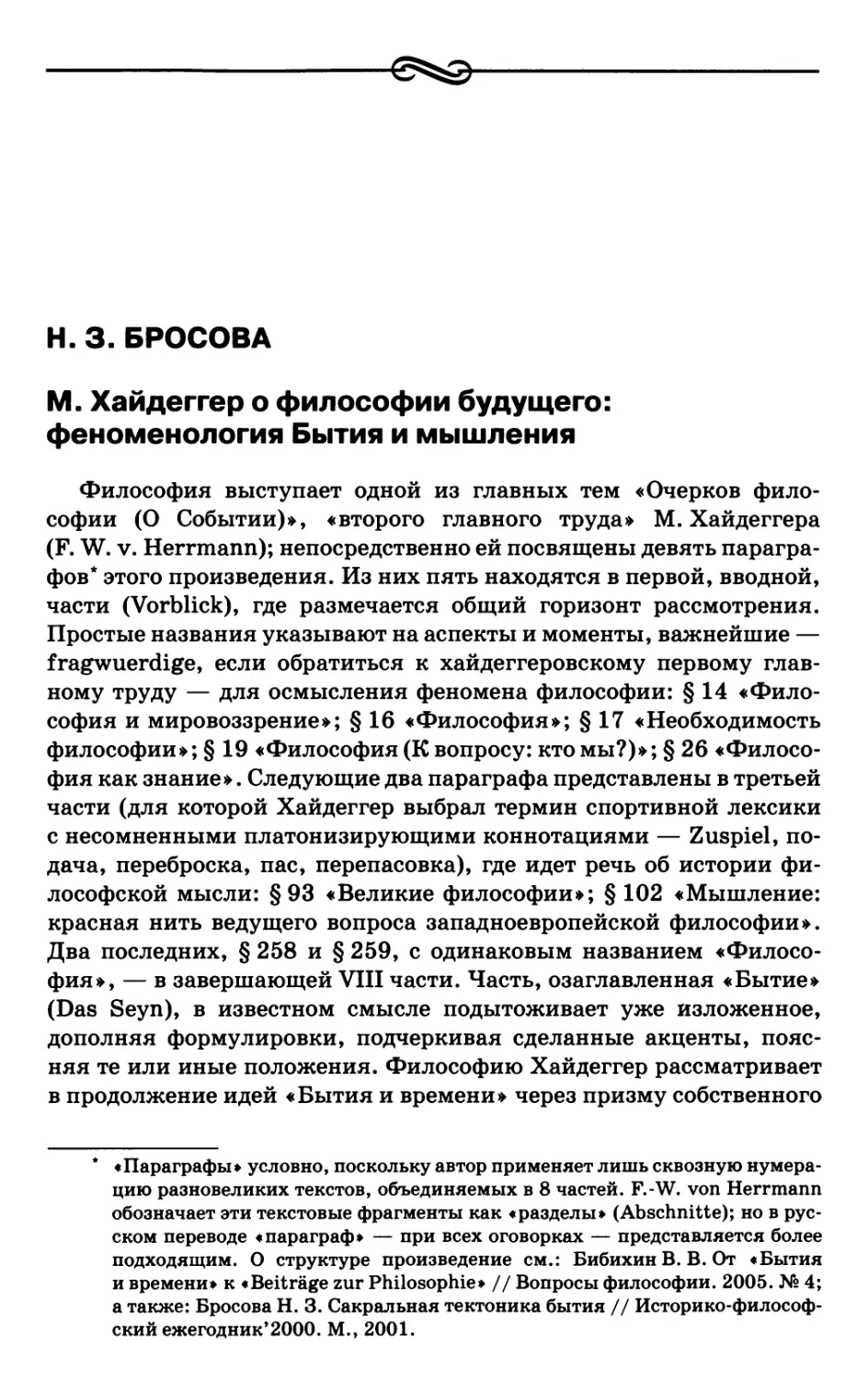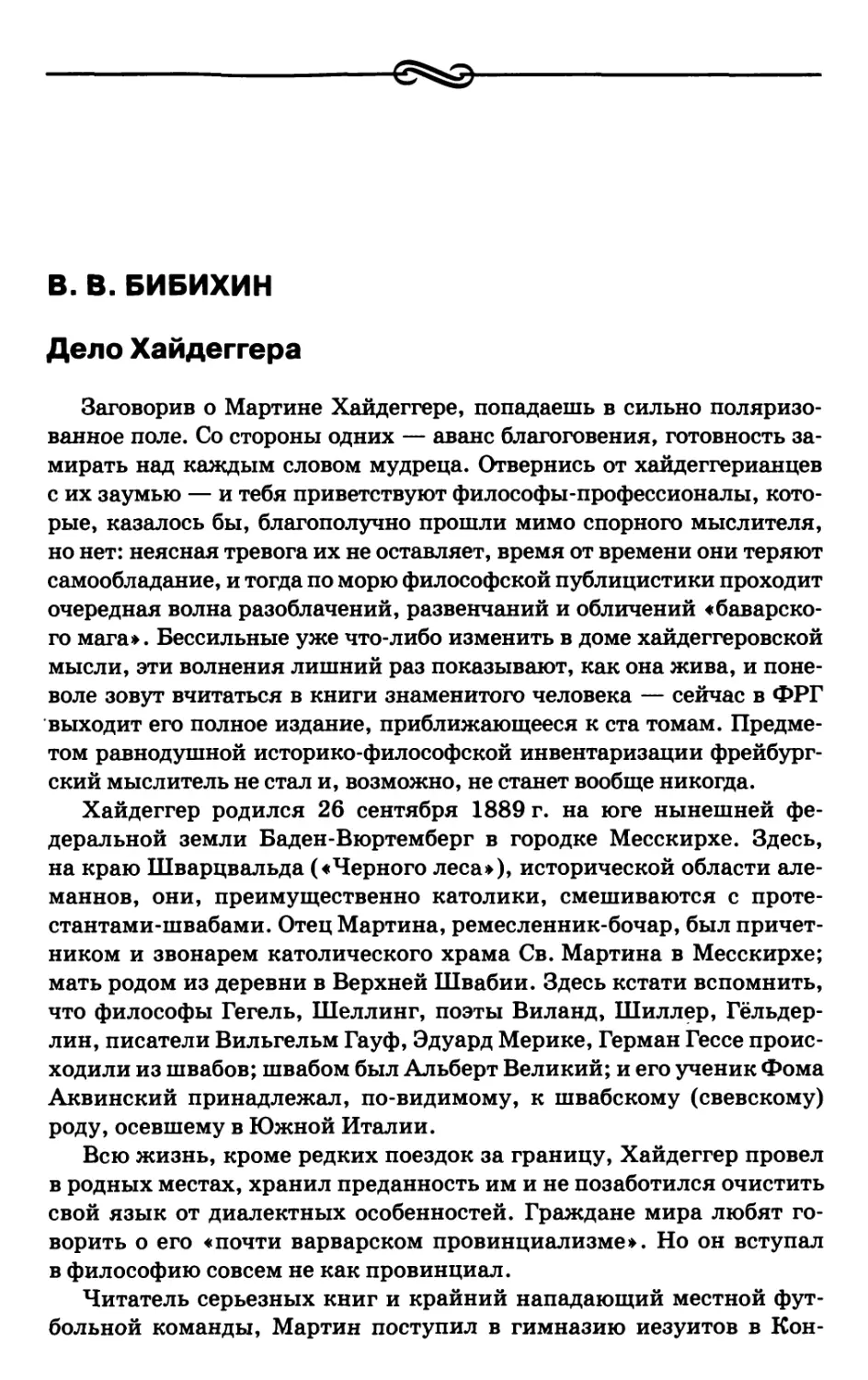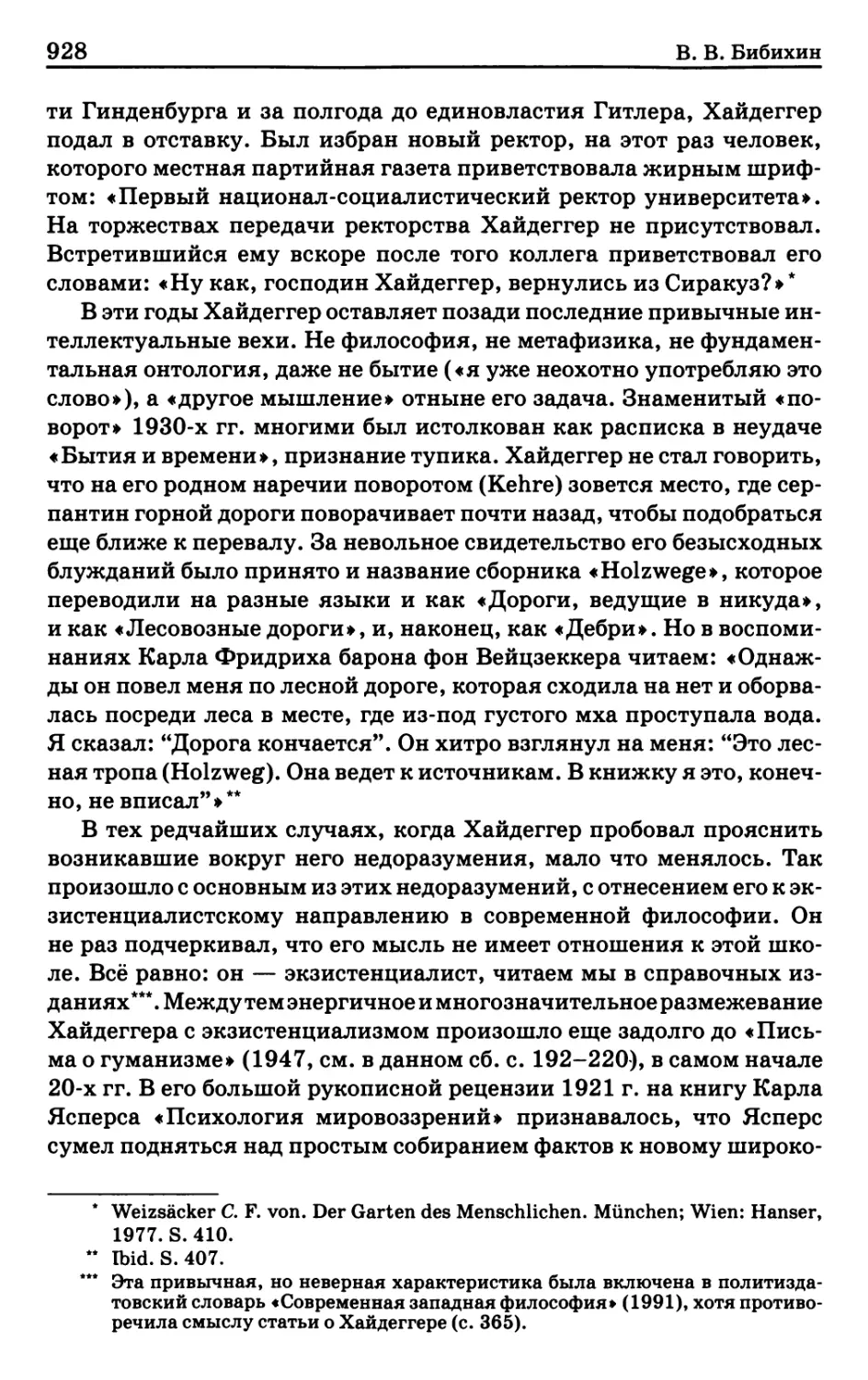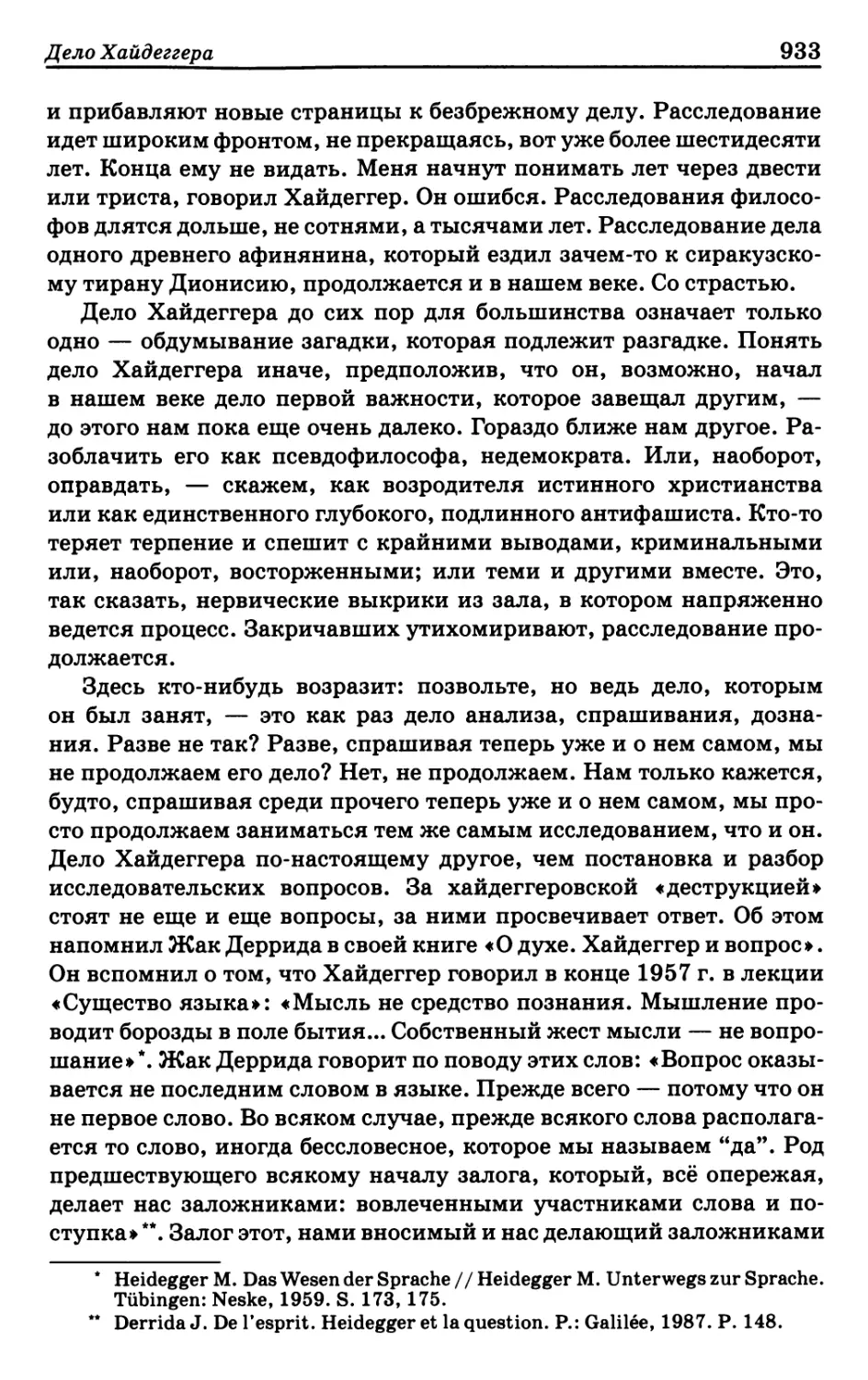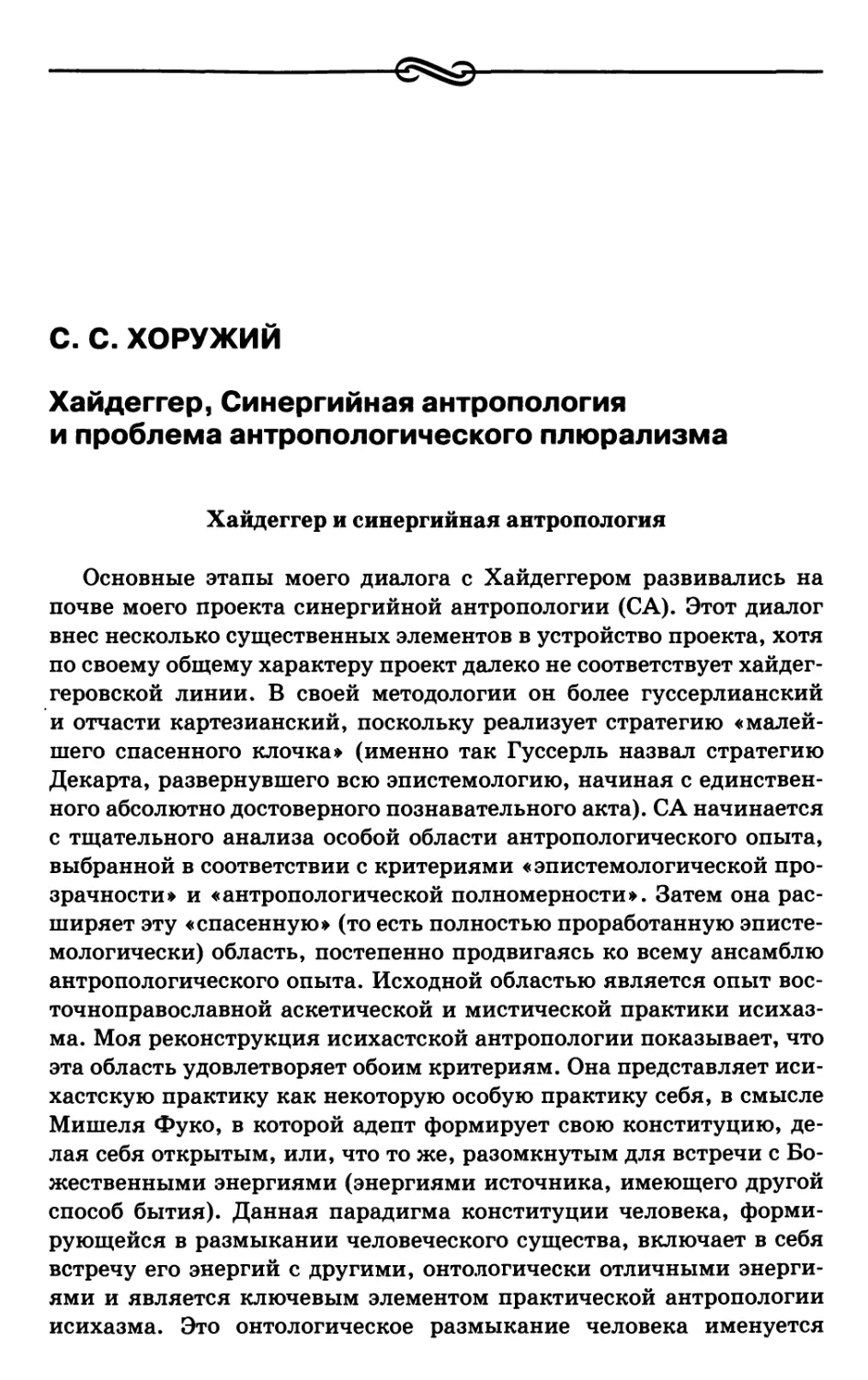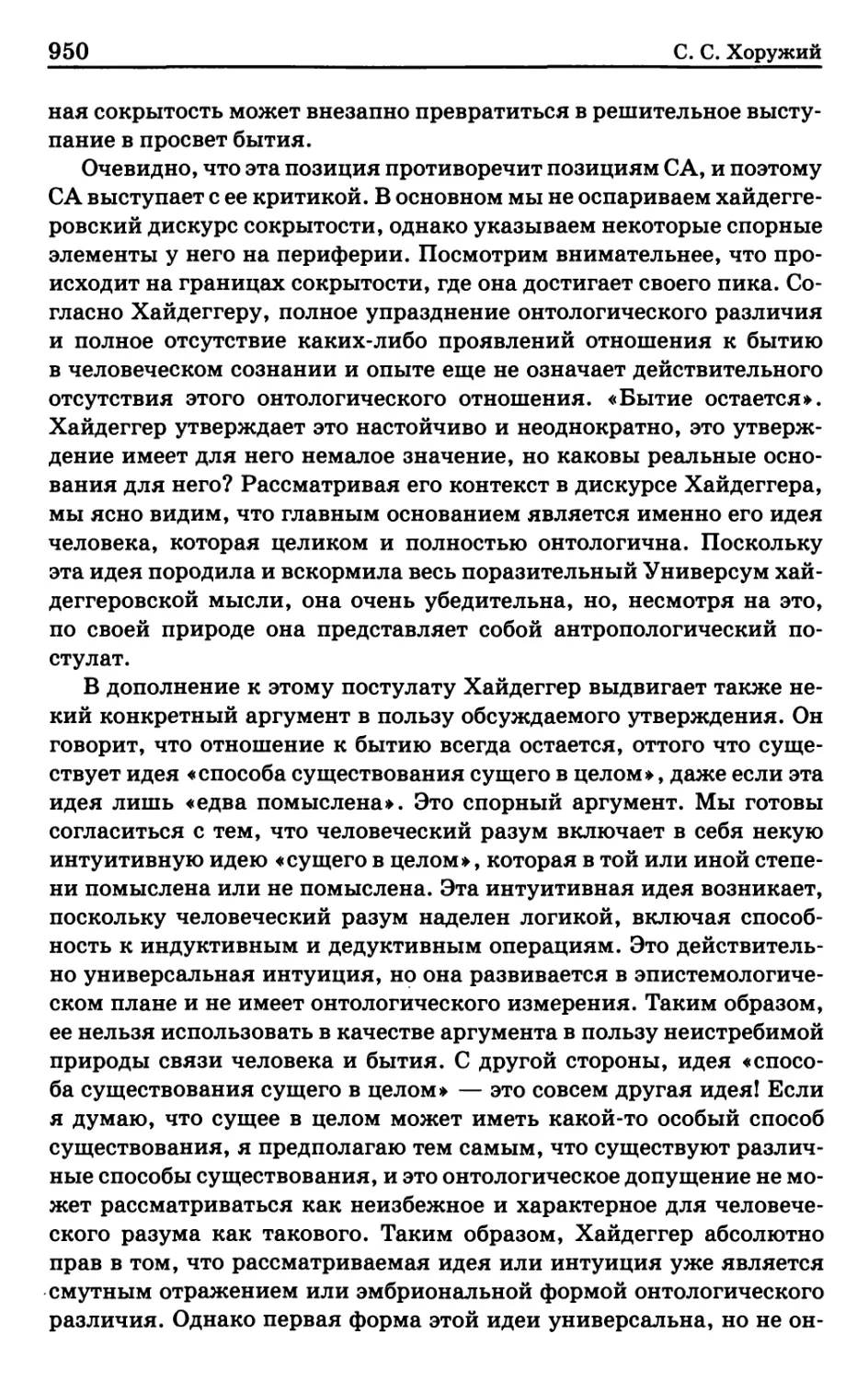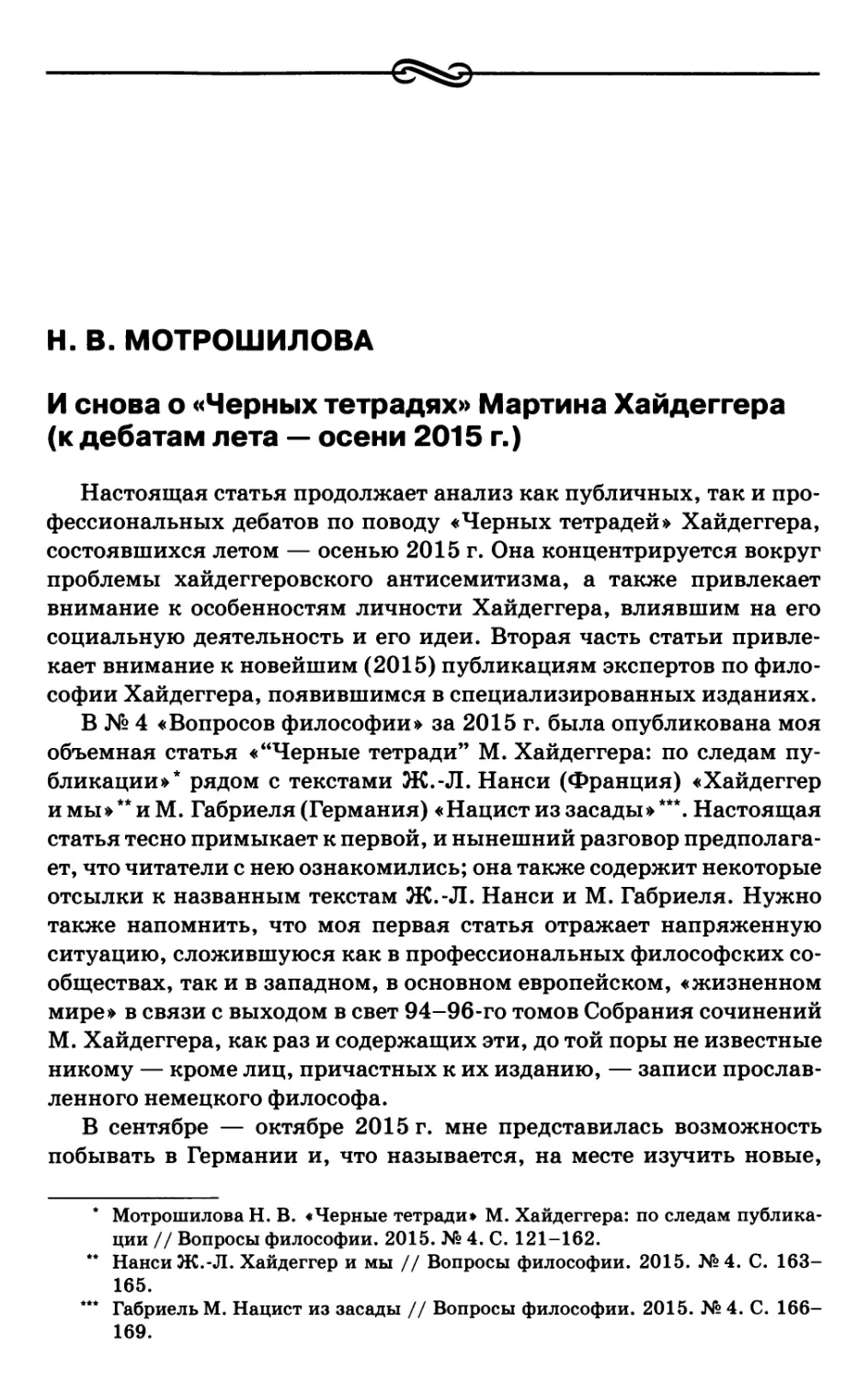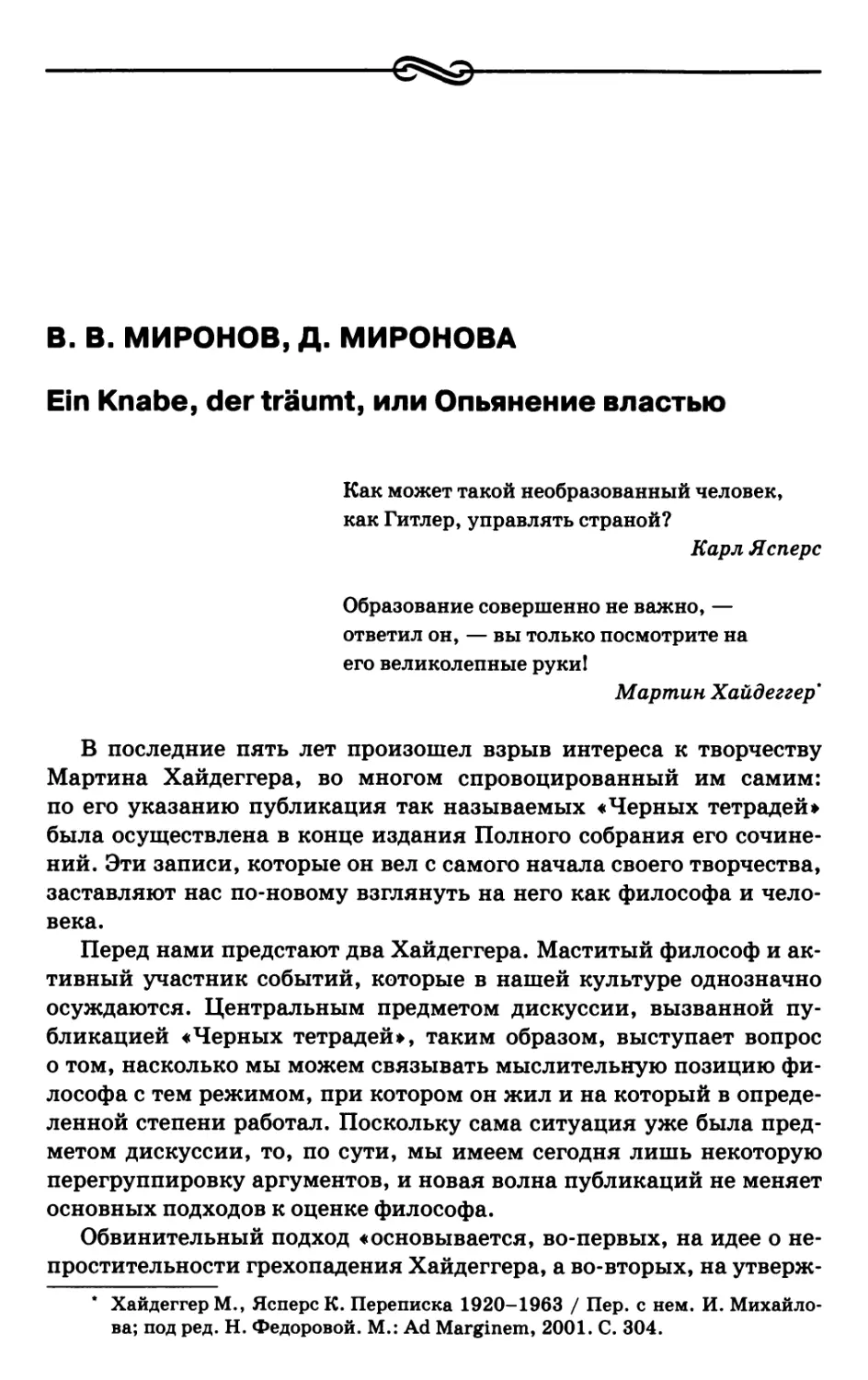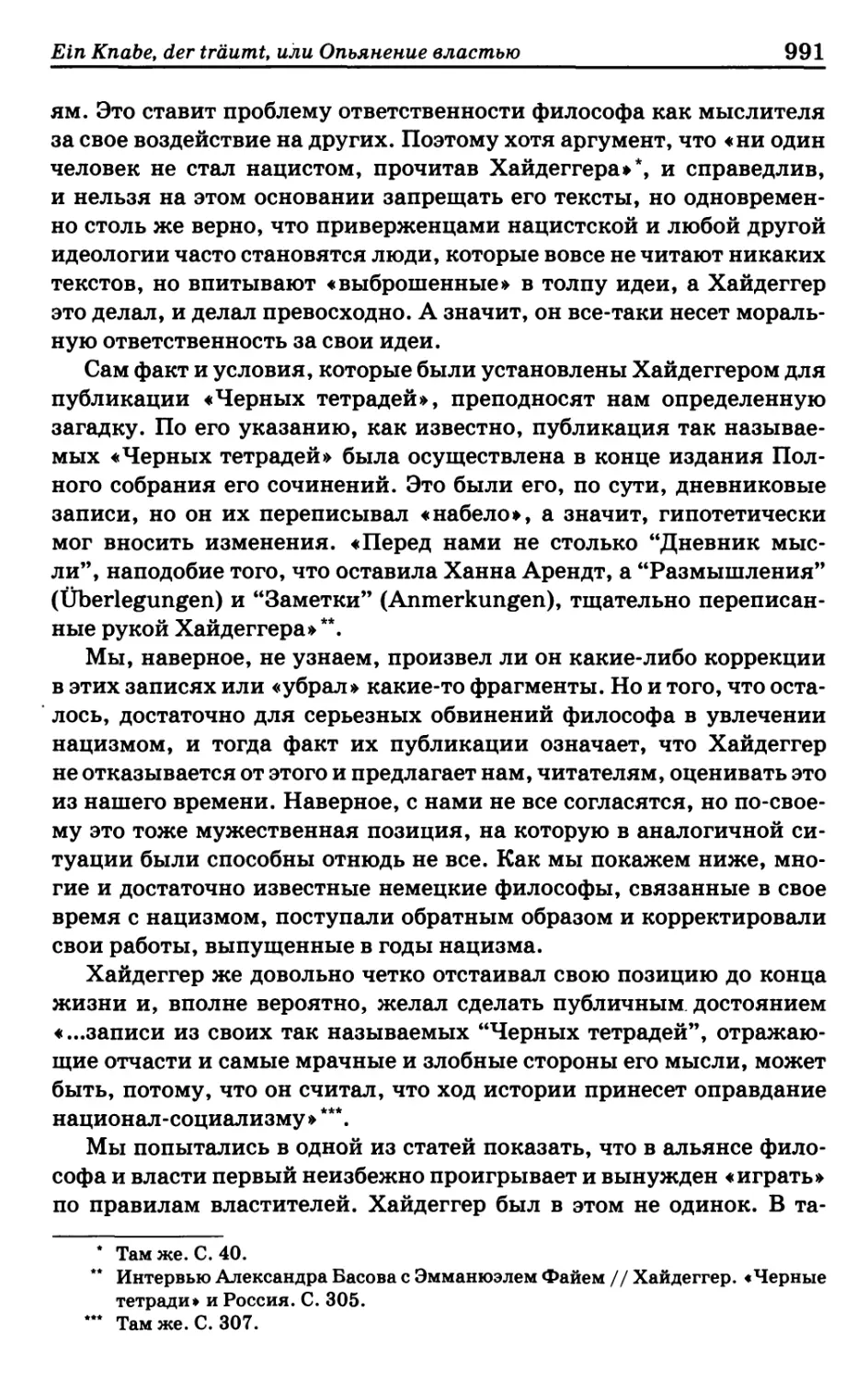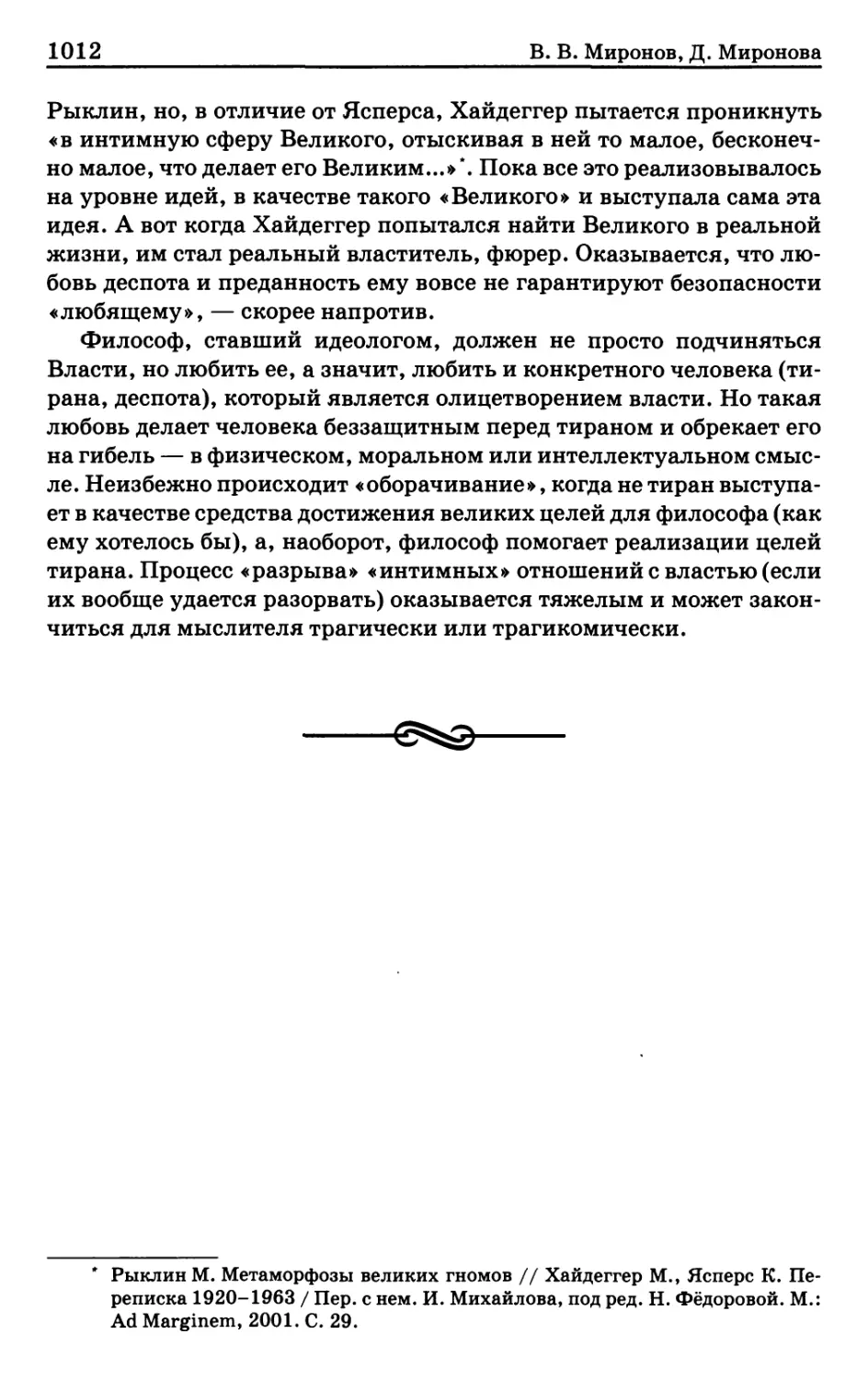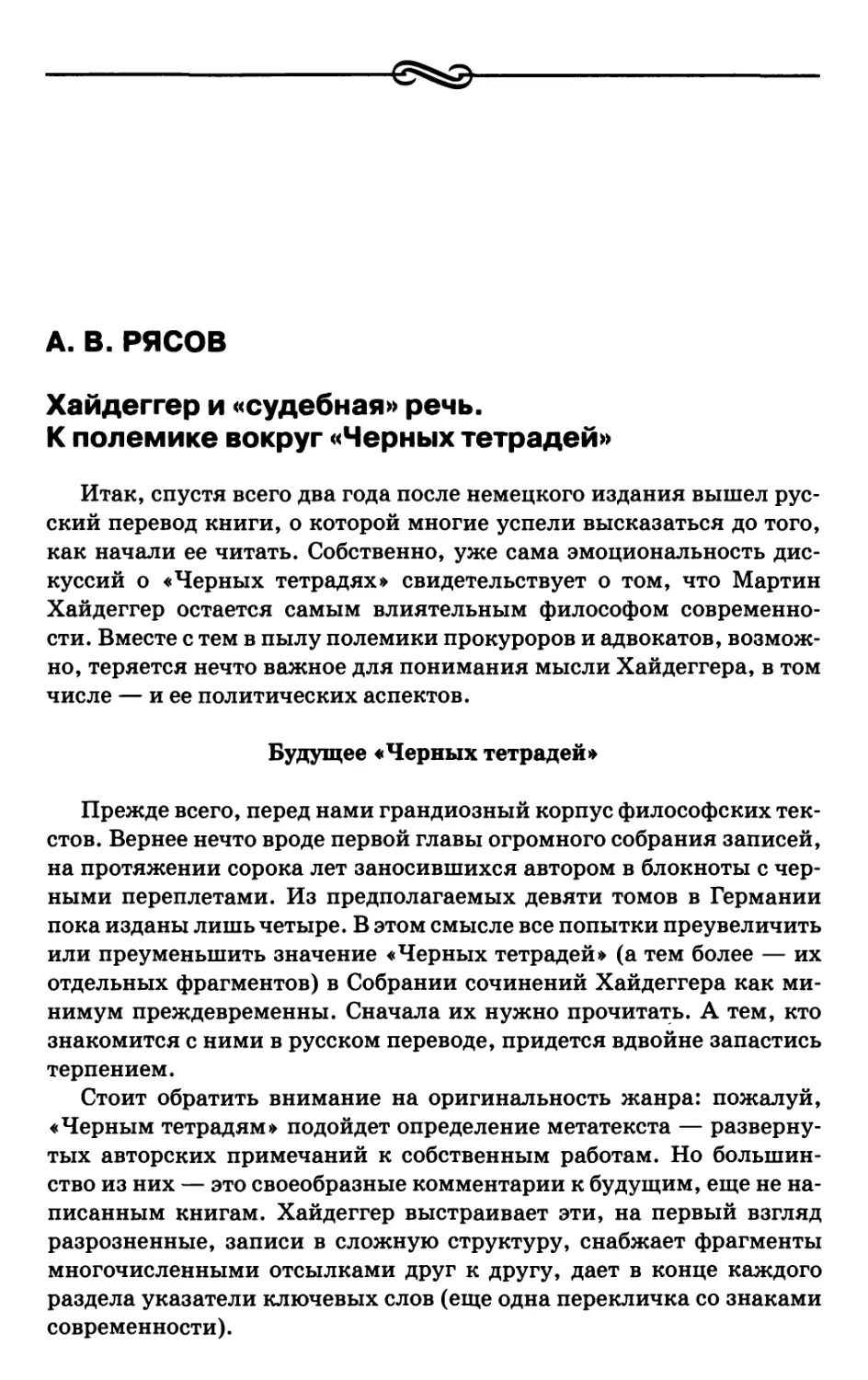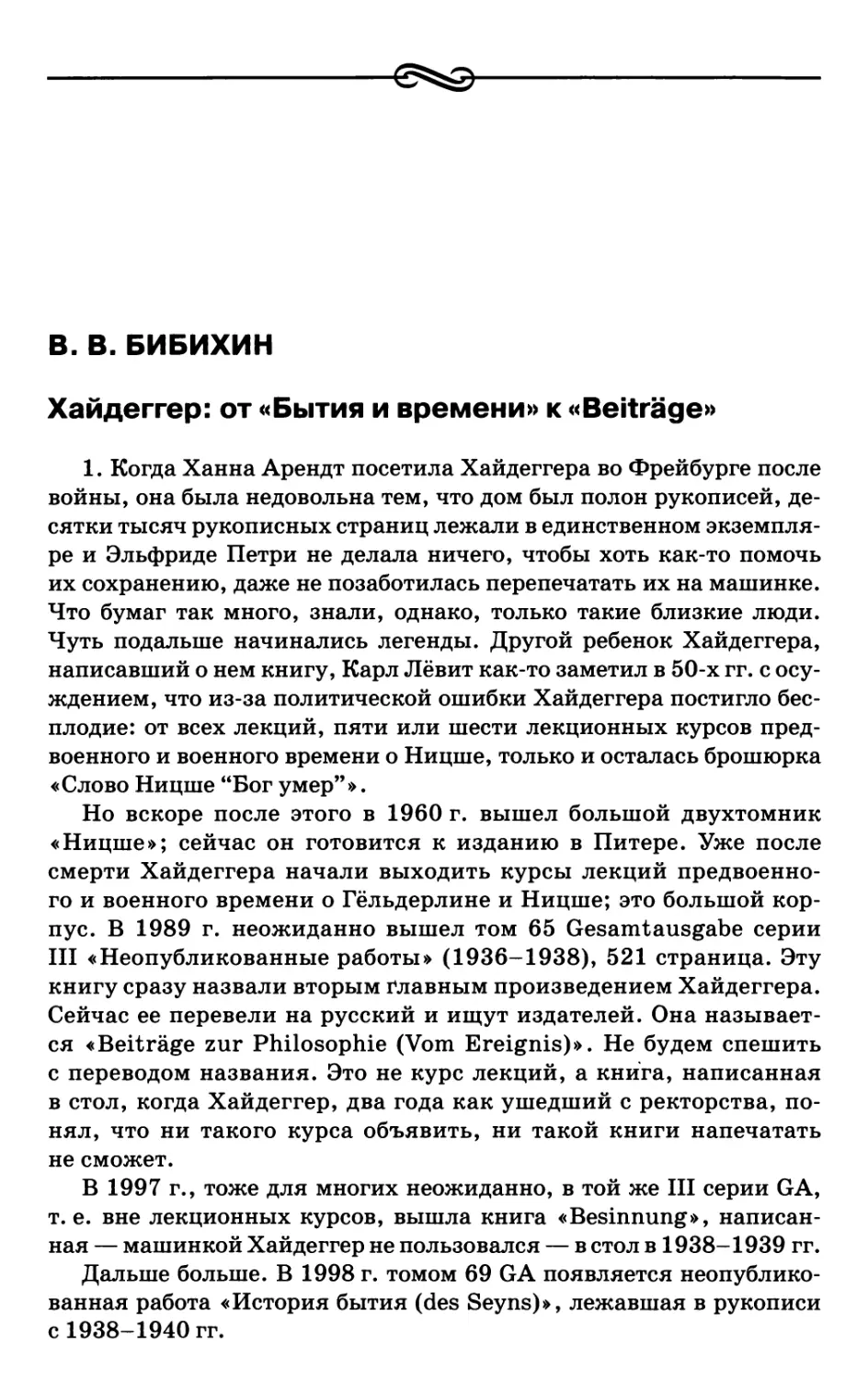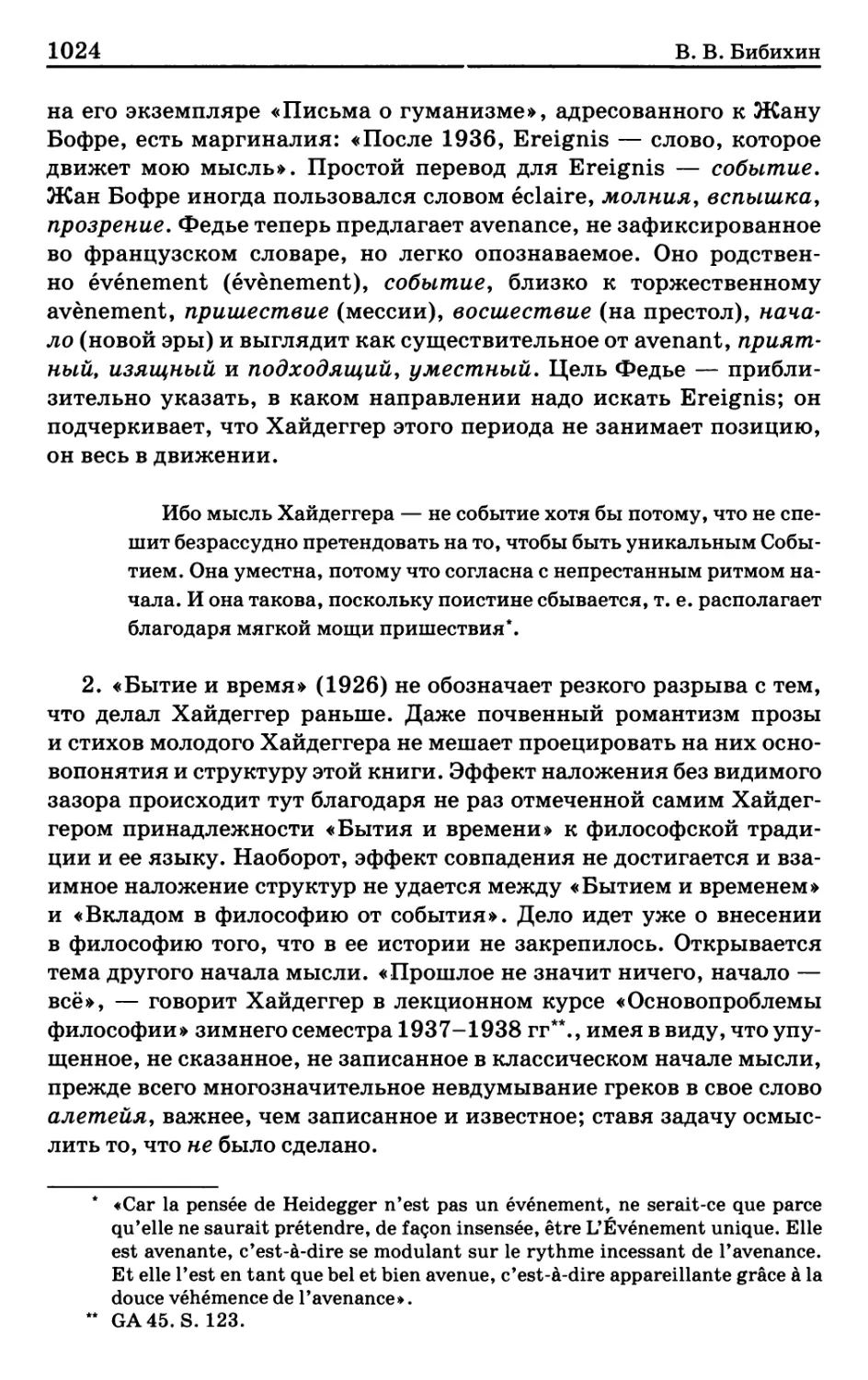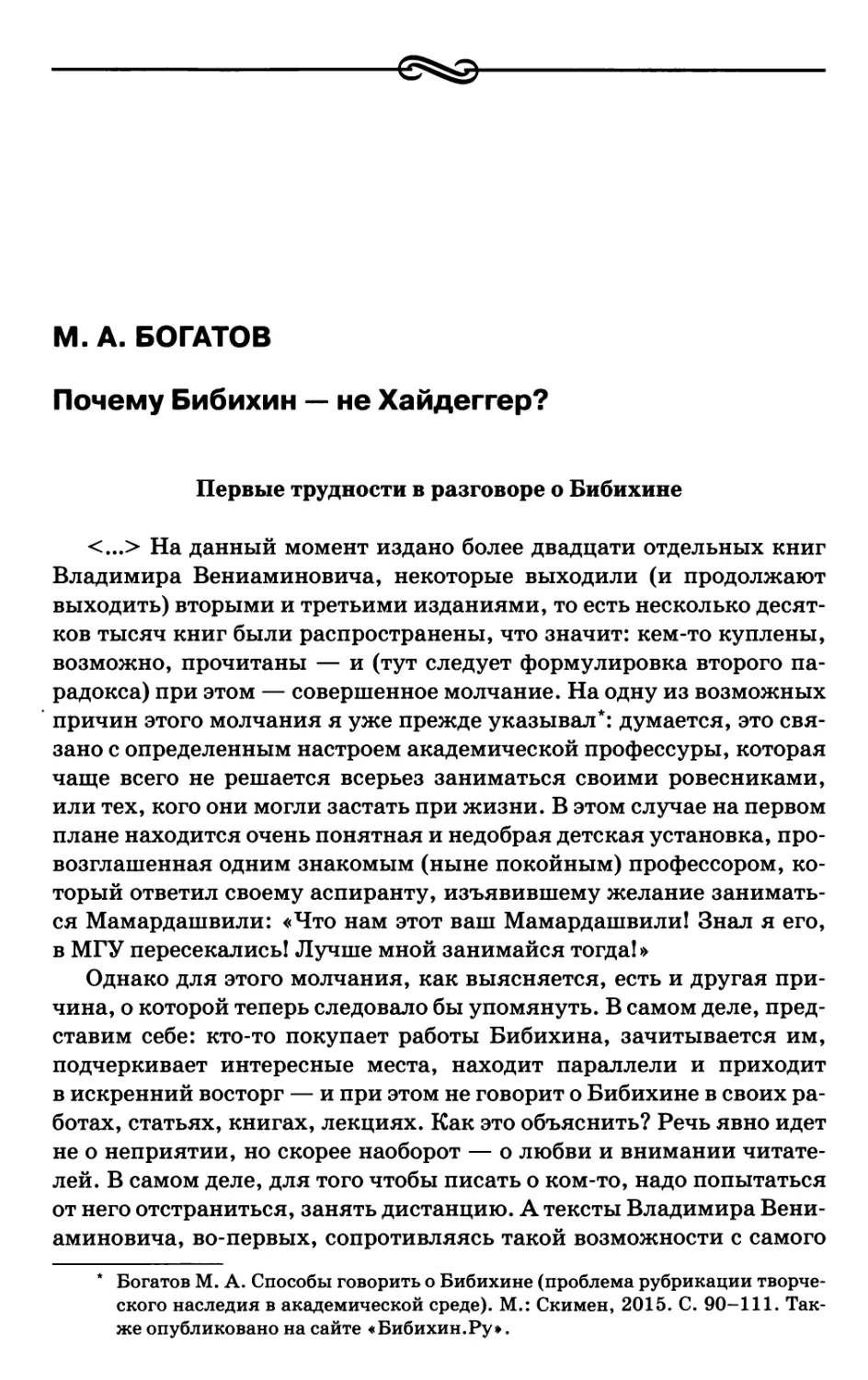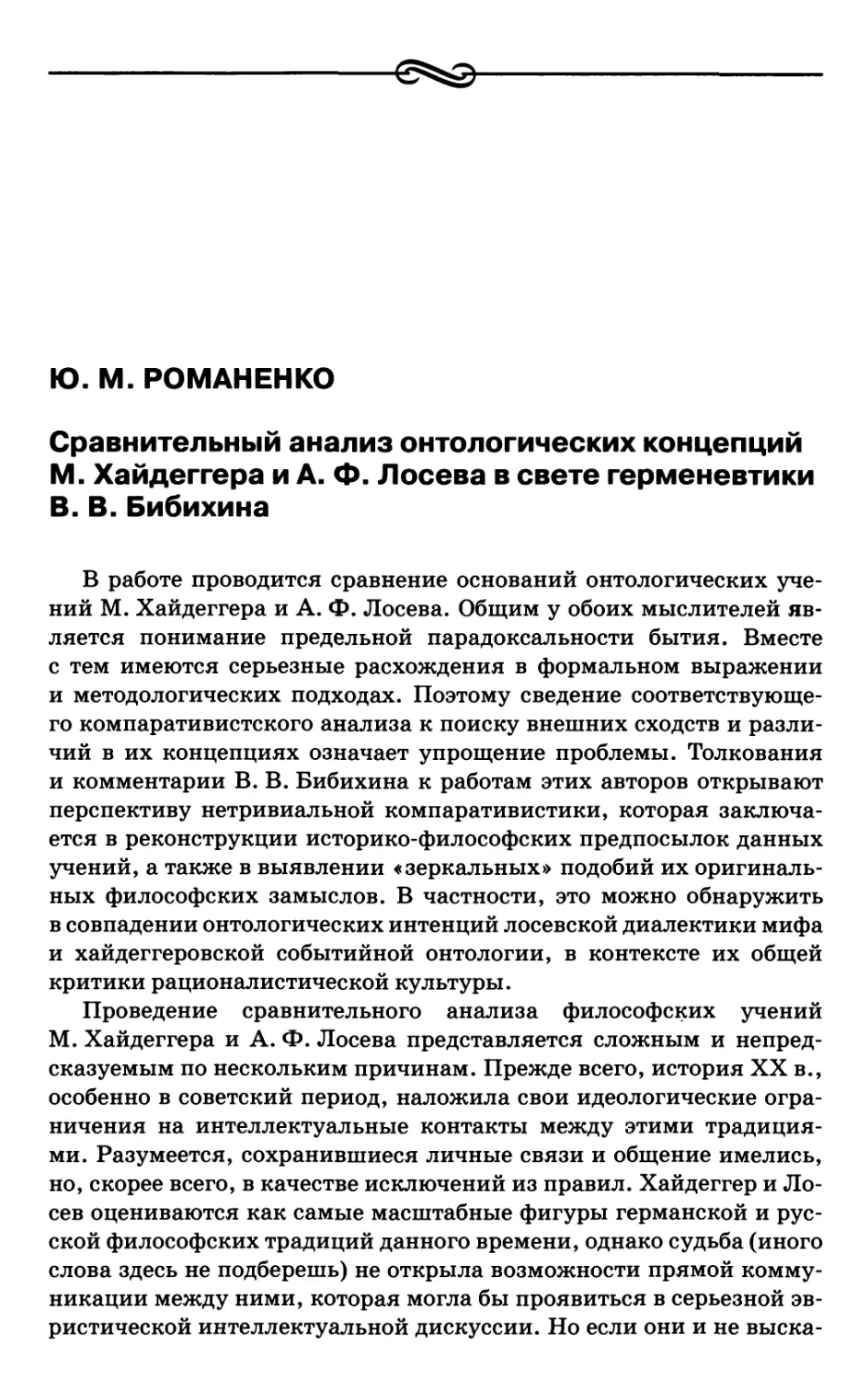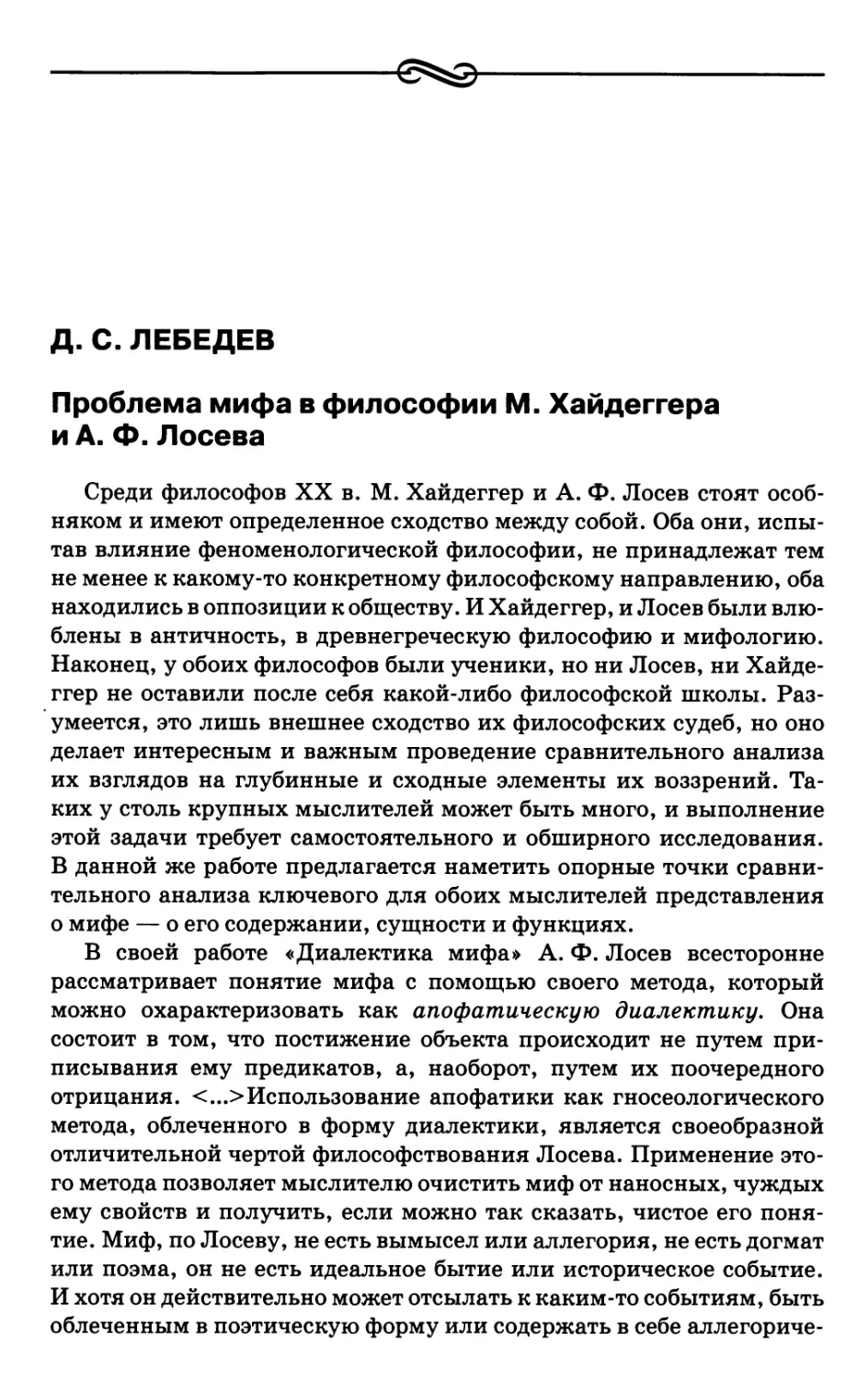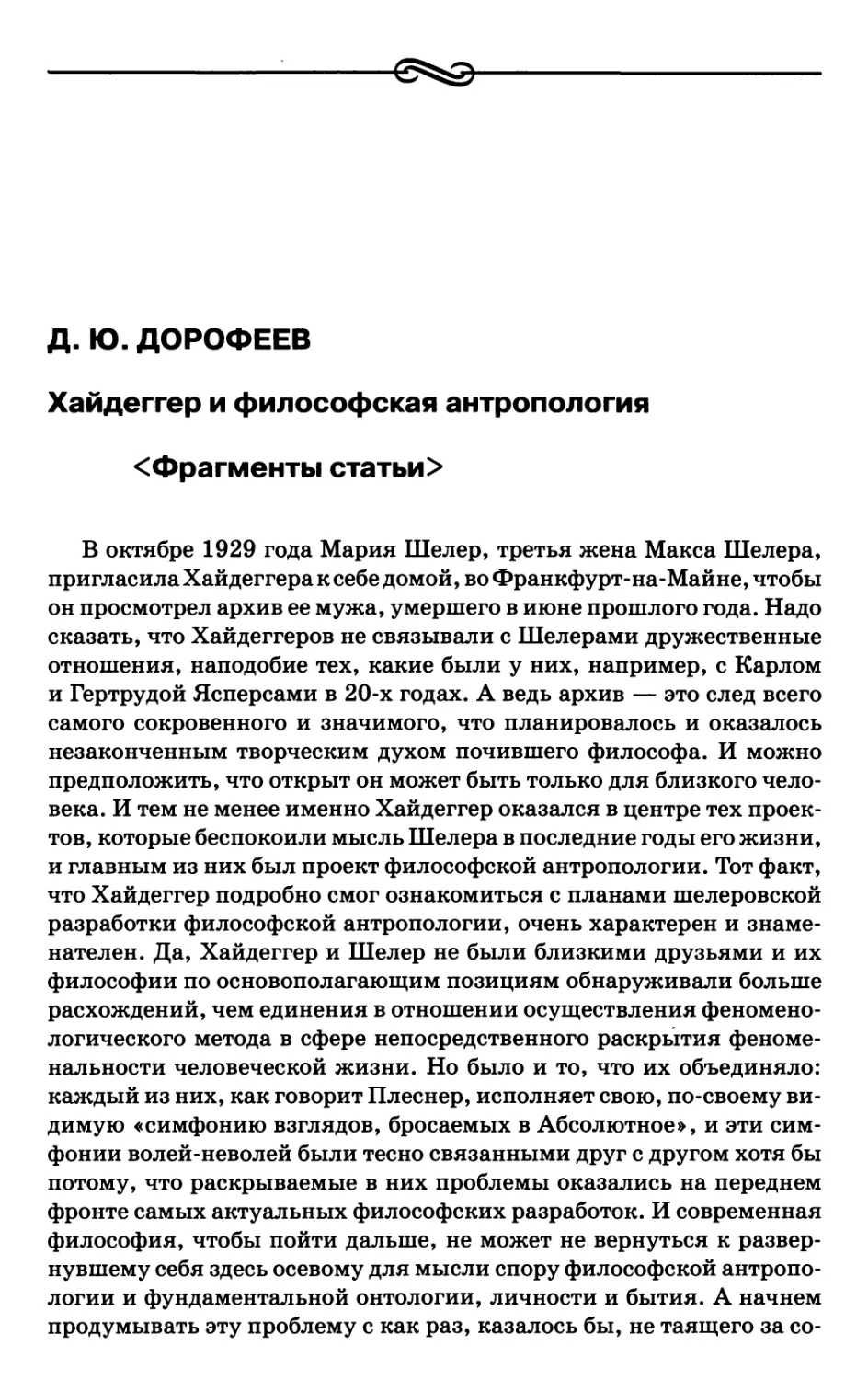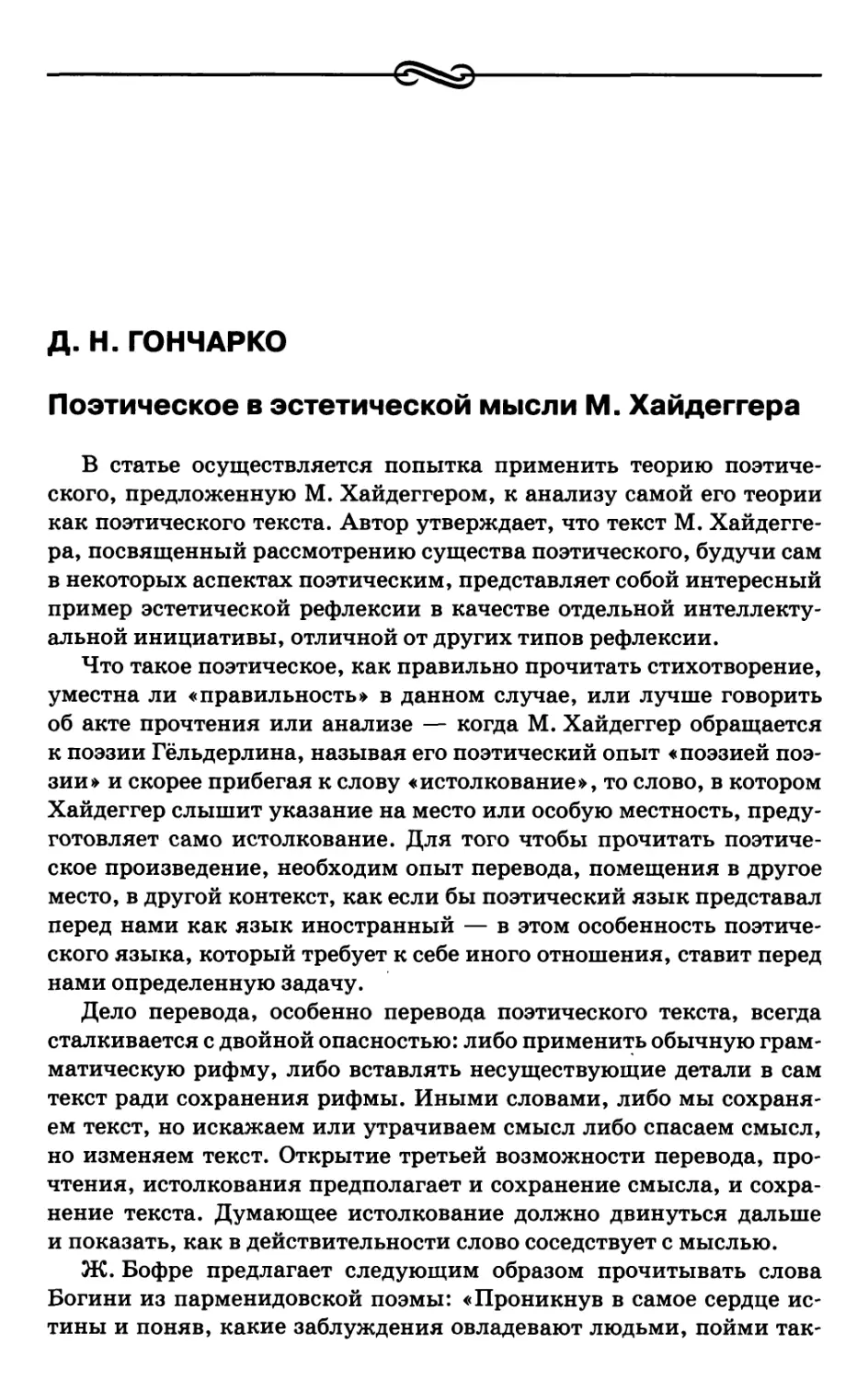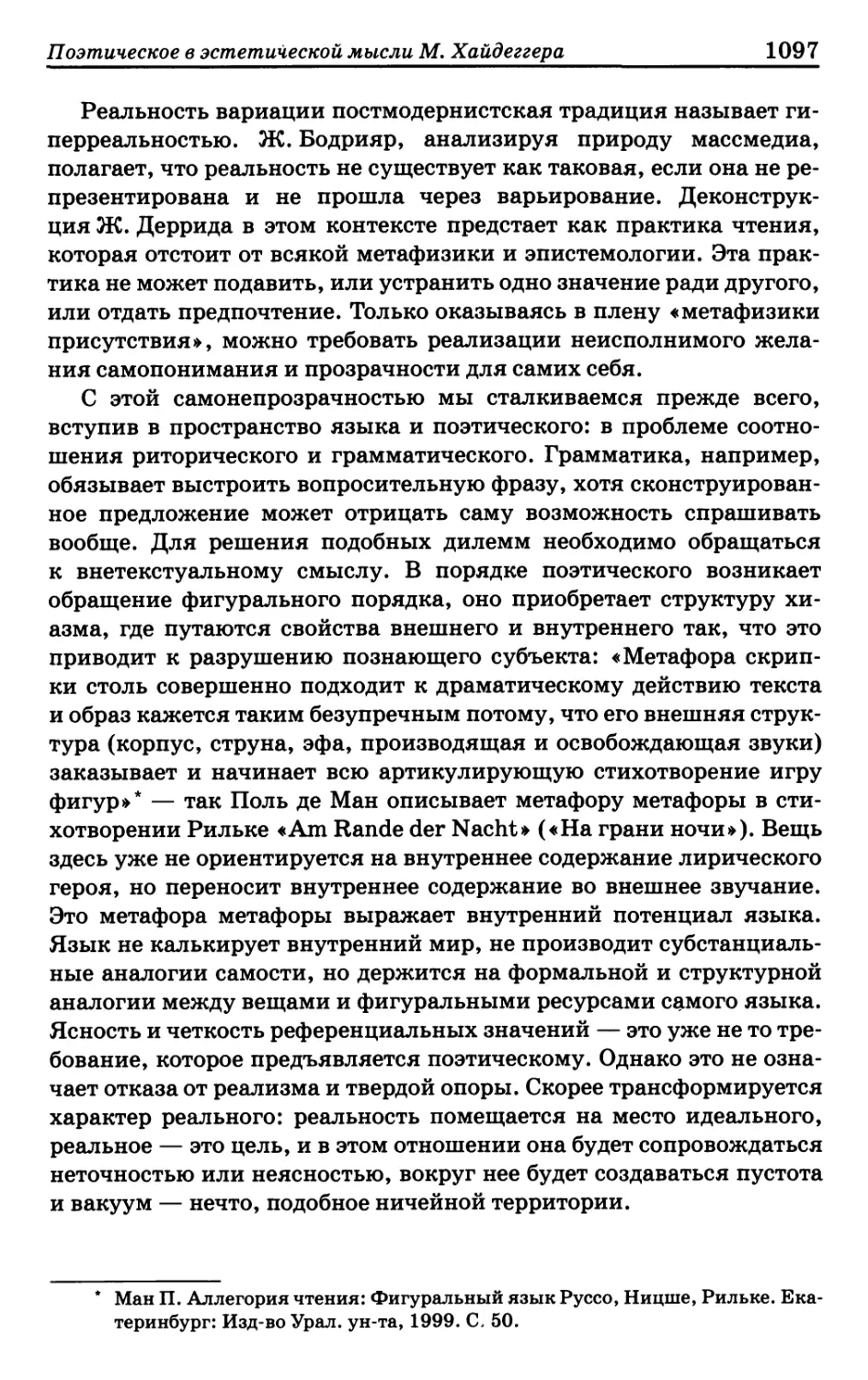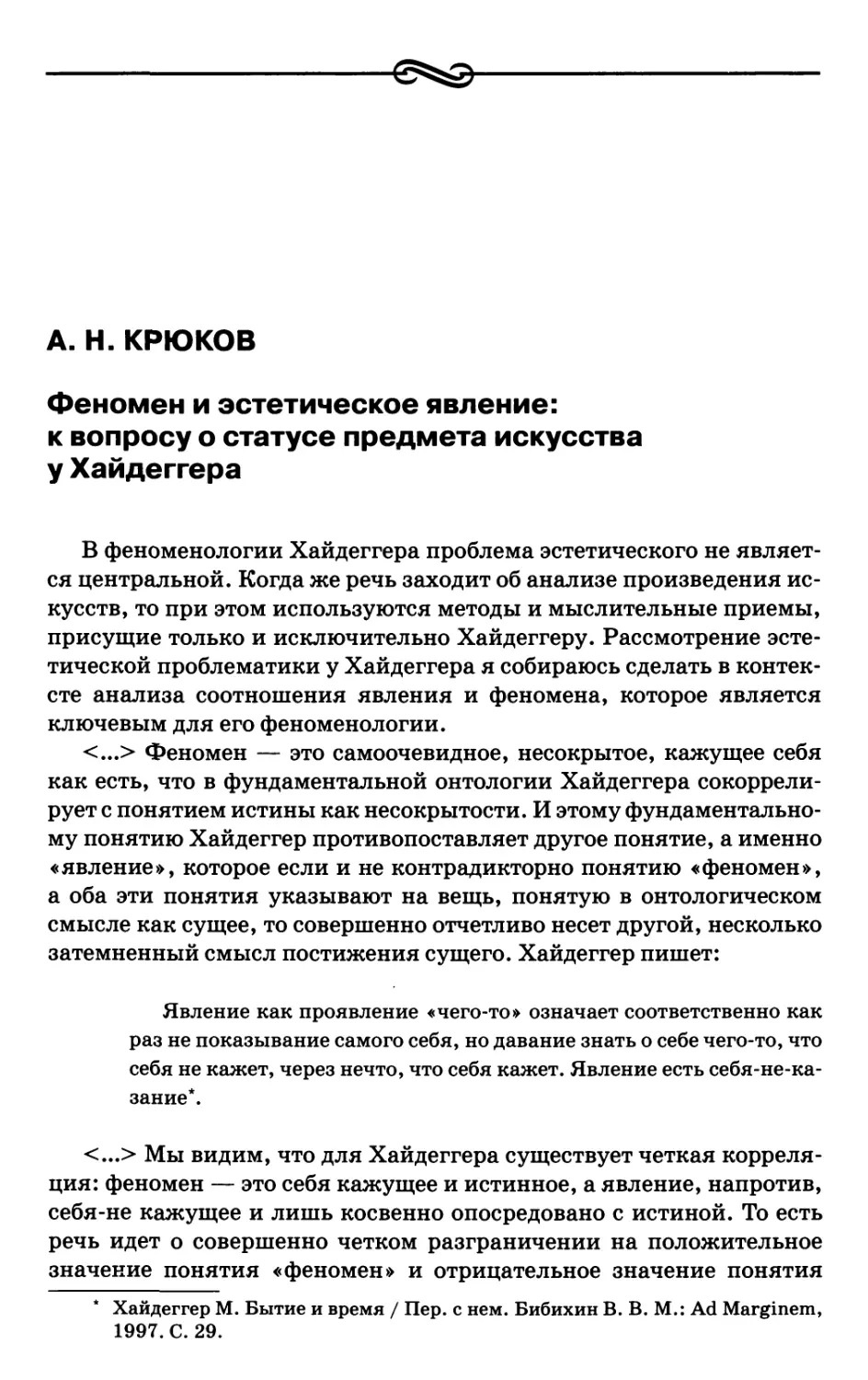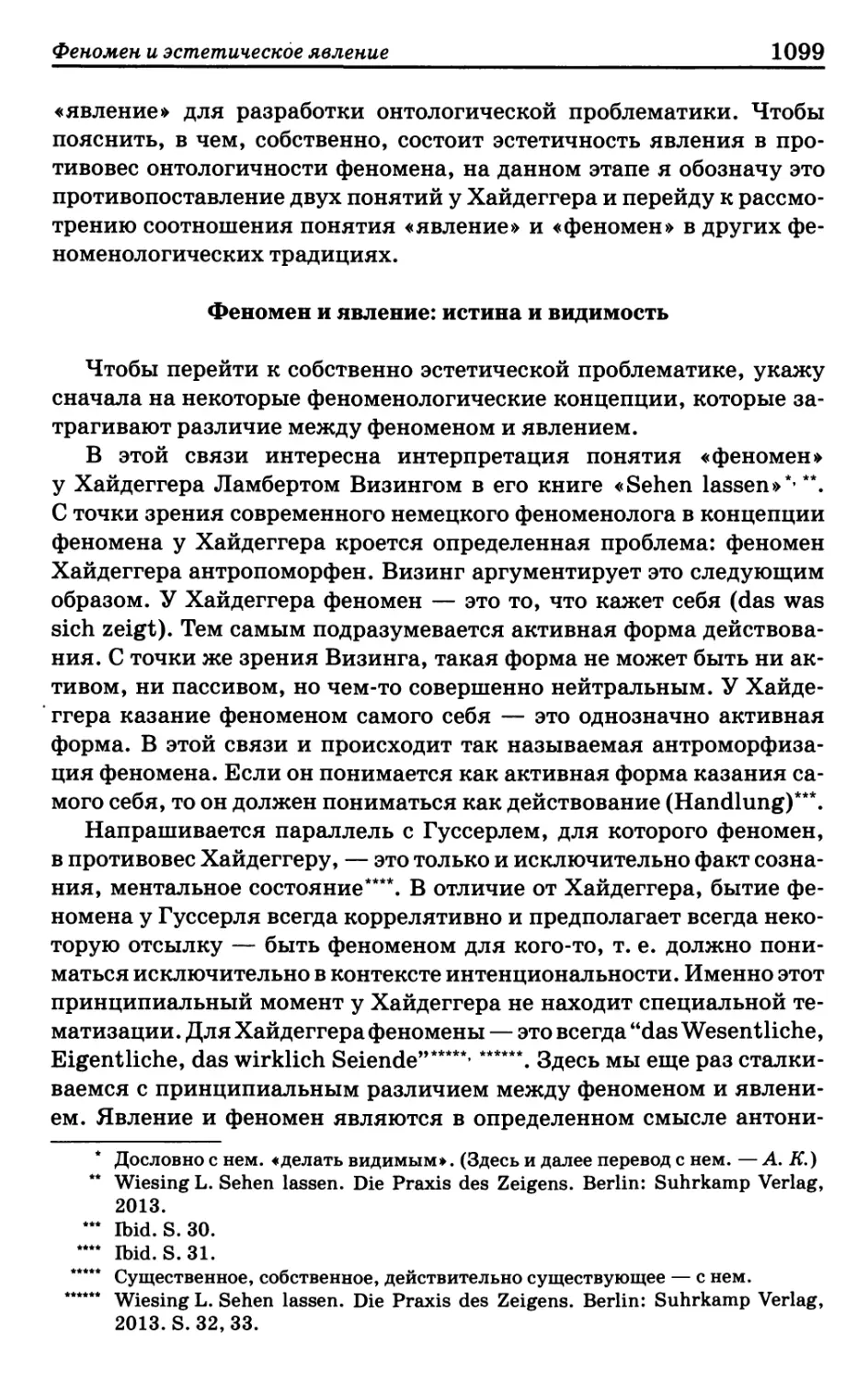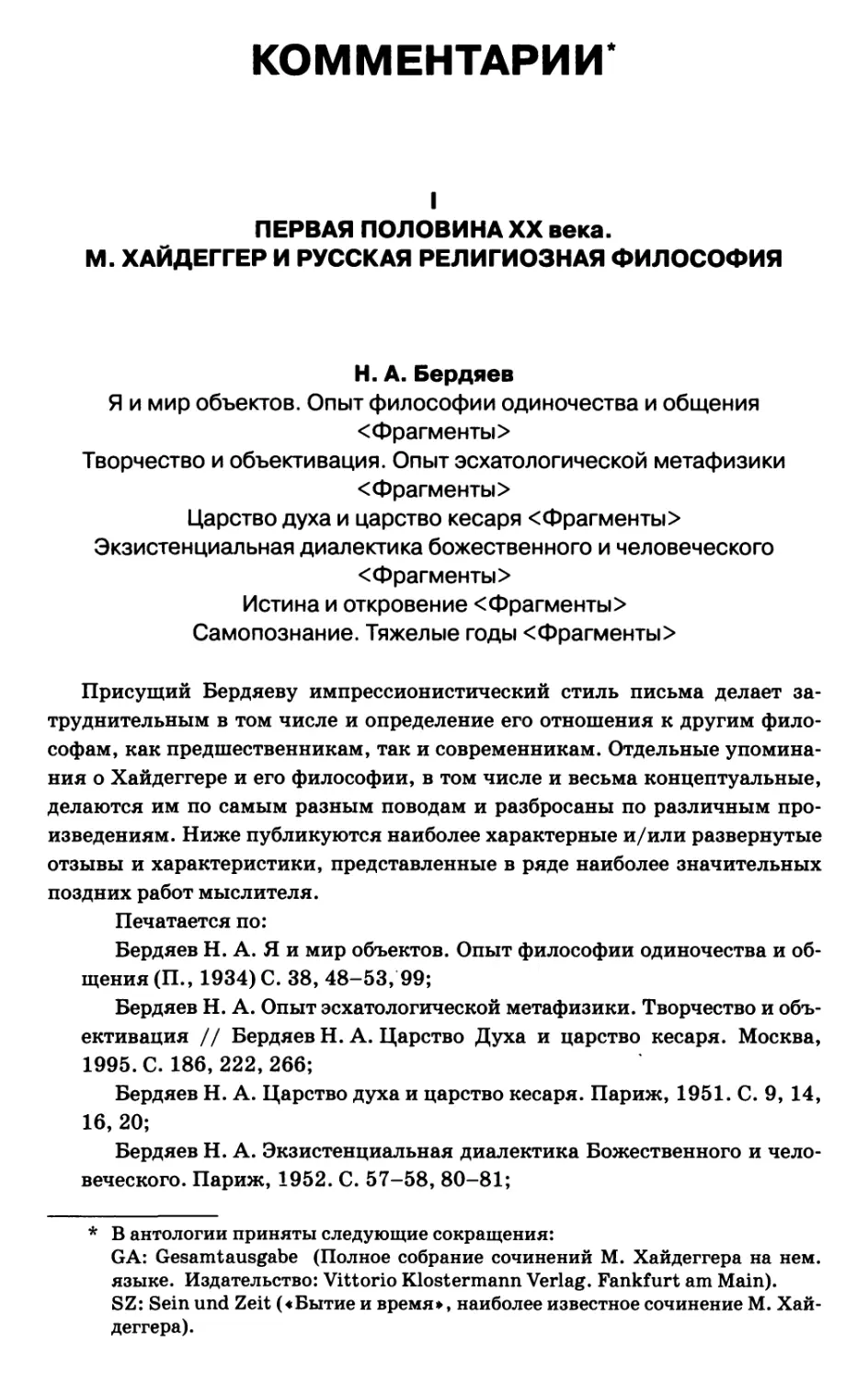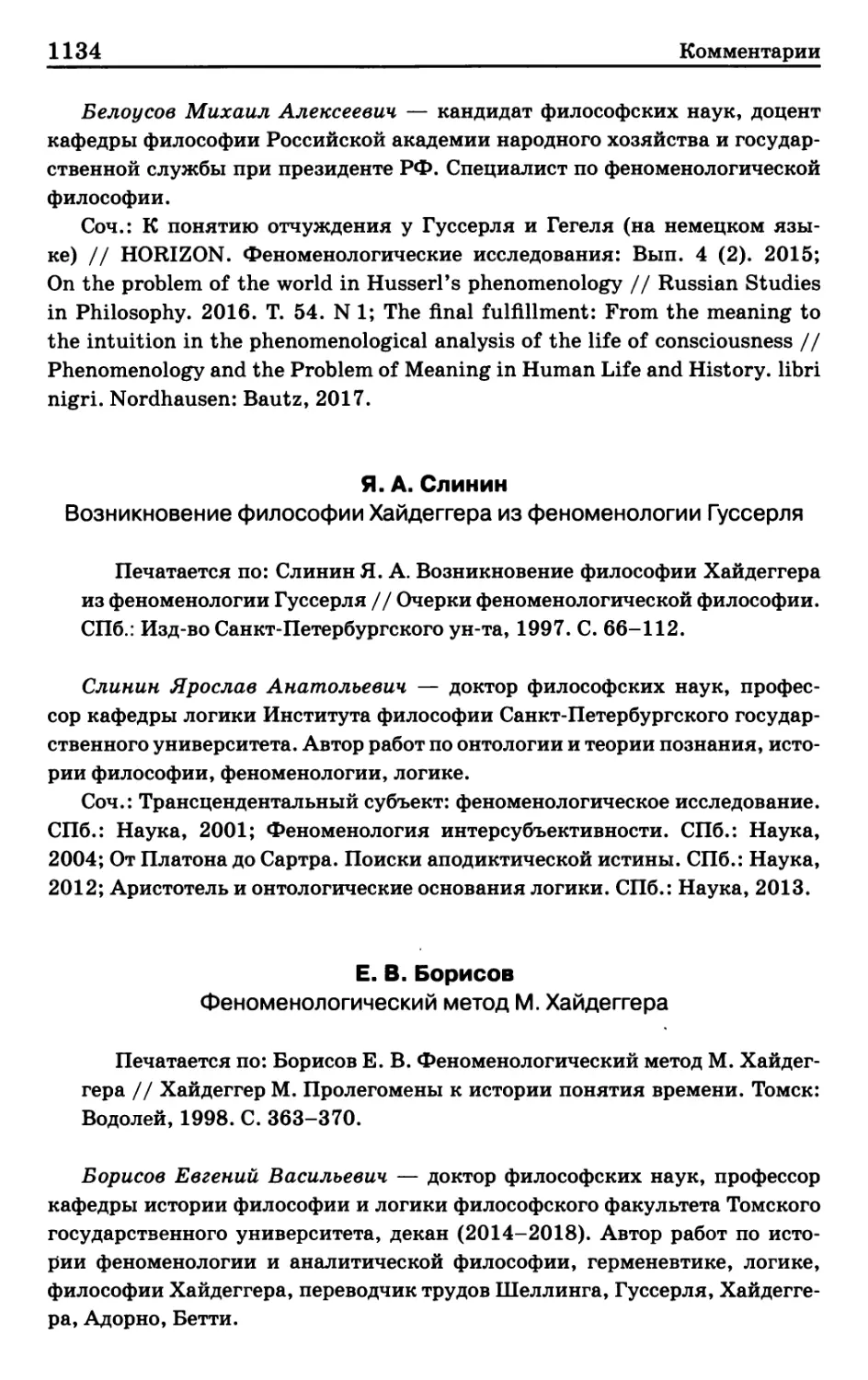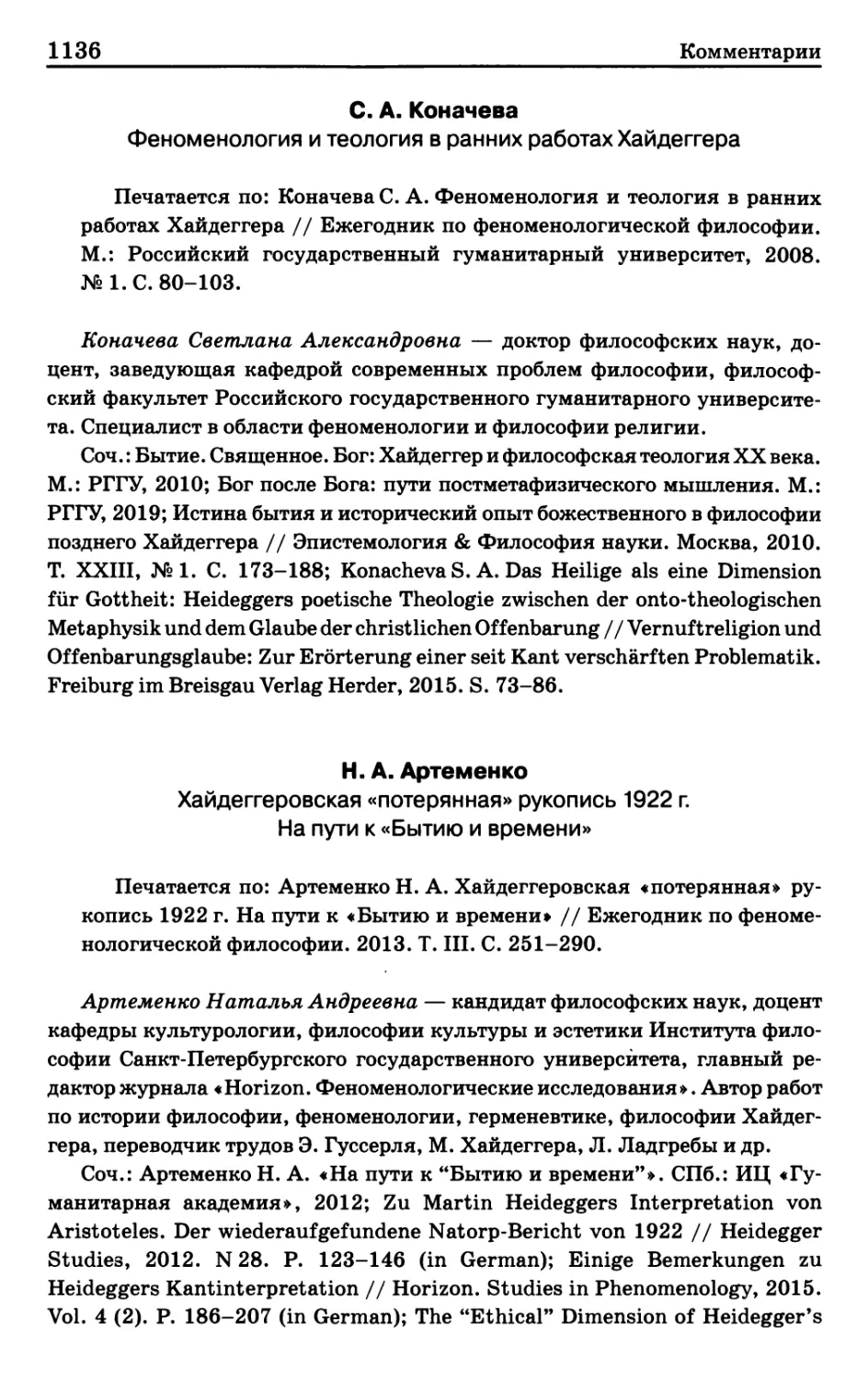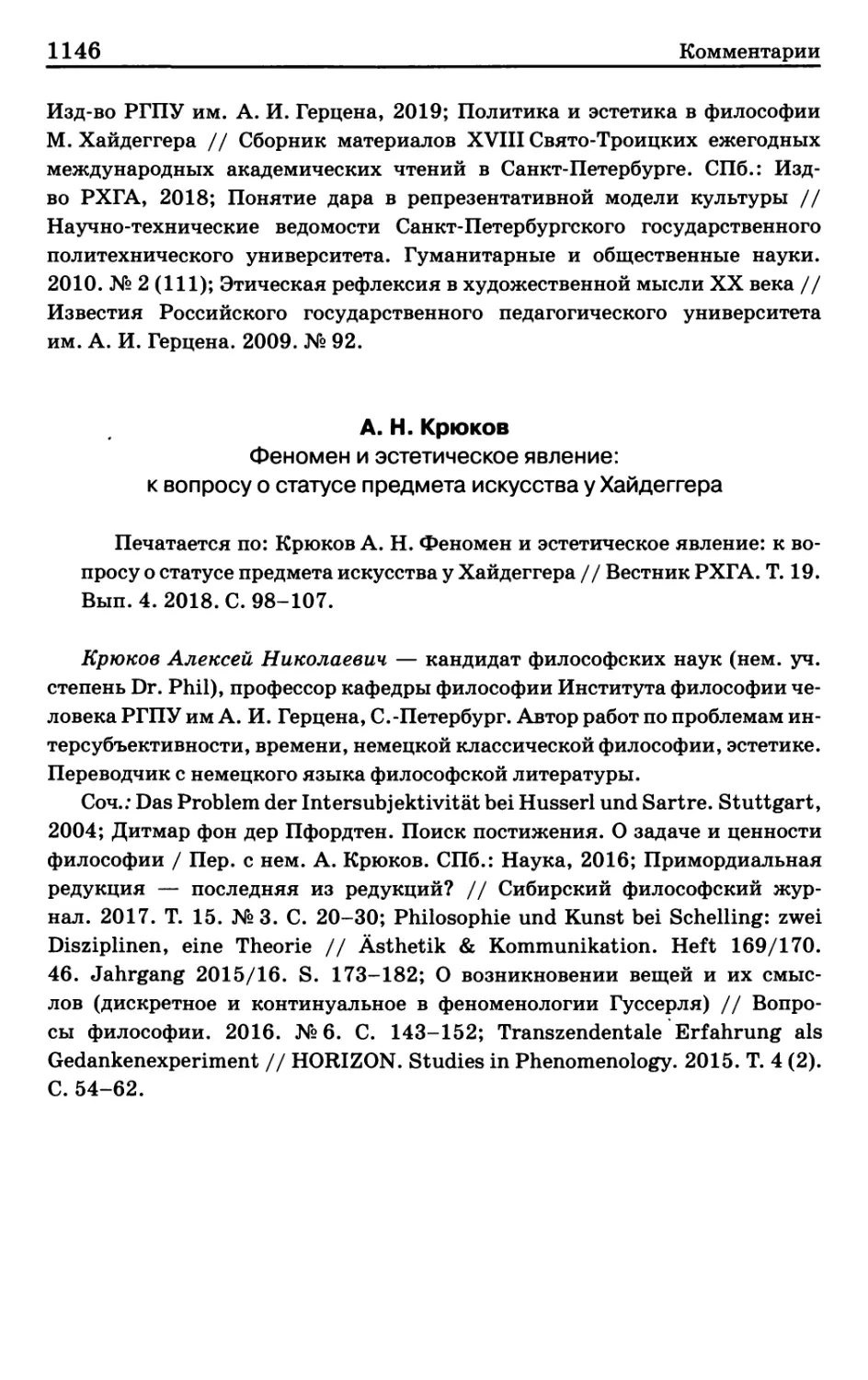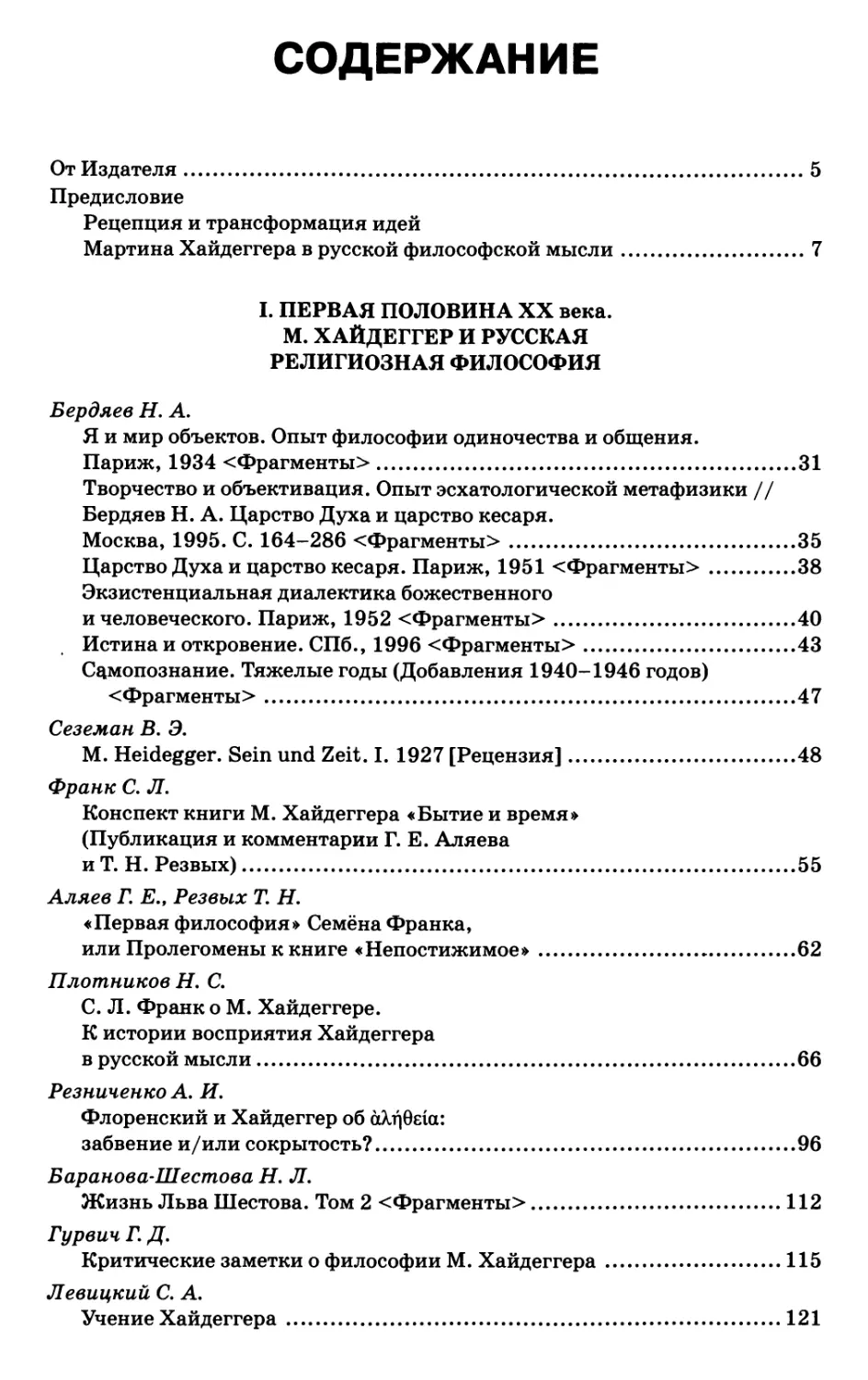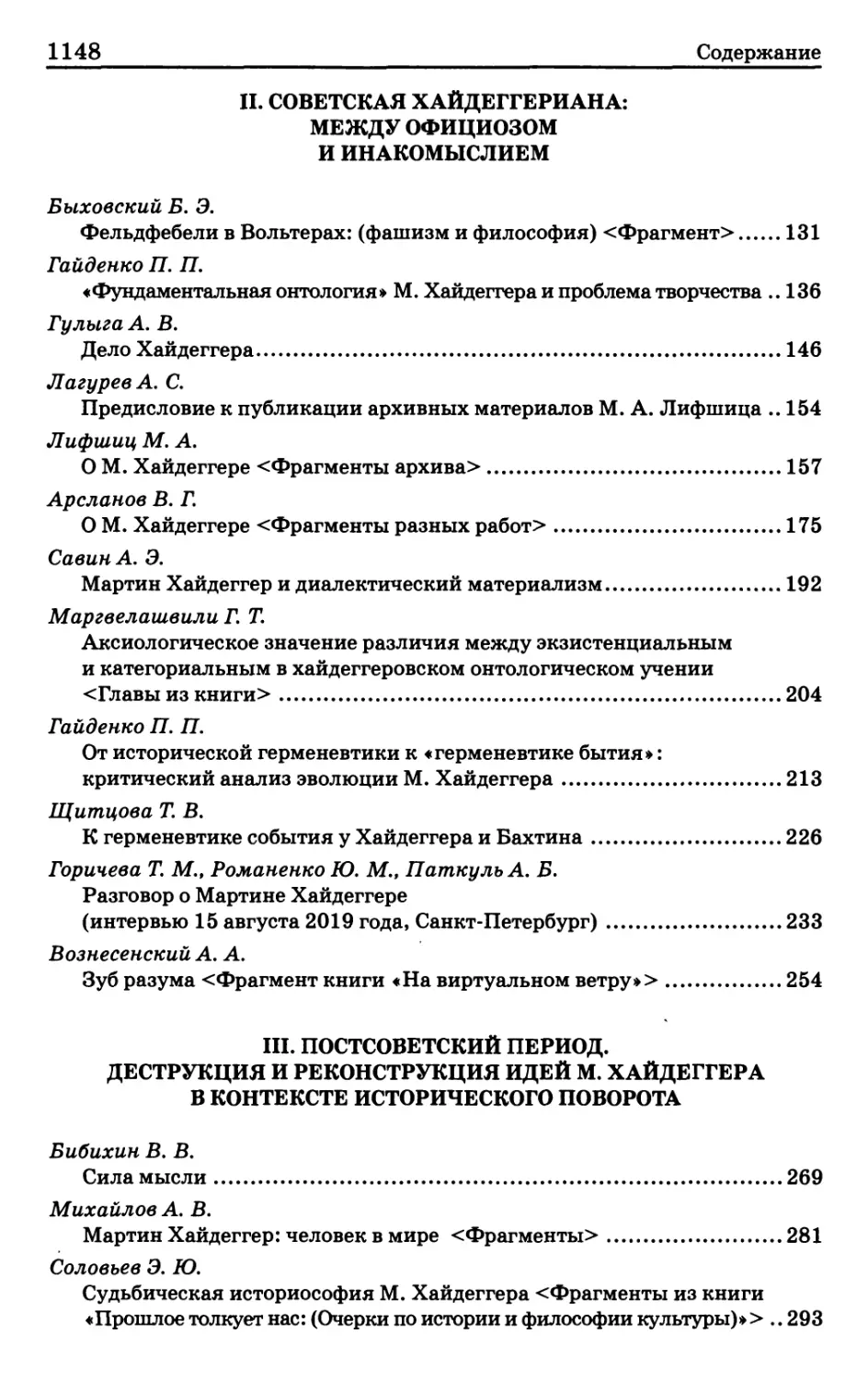Текст
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
М.ХАЙДЕГГЕР:
PRO ET CONTRA
Рецепция и трансформация идей
Мартина Хайдеггера
в русской философской мысли
Антология
Второе издание
Издательство
Русской христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2020
«РУССКИЙ ПУТЬ»
Серия основана в 1993 г.
Редакционная коллегия серии:
Д. К. Богатырев (председатель), В. Е. Багно, С. А. Гончаров,
А. А. Ермичев, митрополит Иларион (Алфеев),
К. Г. Исупов (ученый секретарь), А. А. Корольков,
М. А. Маслин, Р. В. Светлов, В. Ф. Федоров, С. С. Хоружий
Ответственный редактор тома
Д. К. Богатырев
Составители
Ю. М. Романенко, Н. А. Артеменко, Д. Н. Гончарко, С. А. Коначева,
А. Н. Крюков, А. В. Михайловский, С. В. Никоненко,
А. Б. Паткуль, А. Э. Савин, В. Г. Арсланов,
А. С. Лагурев, К. М. Антонов
Руководитель проекта и научный редактор книги Ю. М. Романенко
М. Хайдеггер: pro et contra, антология / Науч. ред. Ю. М.
Романенко; вступ. статья Ю. М. Романенко, С. А. Коначева, А. Б. Паткуль,
А. Э. Савин, А. В. Михайловский, Н. А. Артеменко. — 2-е изд. —
СПб.: РХГА, 2020. —1152 с. — (Русский Путь).
ISBN 978-5-907309-09-8
Мартин Хайдеггер является одним из самых значимых и вместе с тем
противоречиво оцениваемых мыслителей XX века. Хайдеггеровская философия
по-разному воспринималась в различных национальных традициях, имеется своя
специфика и в русских рецепциях и трактовках его идей. В предлагаемой
читателю Антологии представлена панорама наиболее показательных
интерпретаций его учения, а также исторических оценок его личности и деятельности в
трудах отечественных философов, начиная с представителей русского зарубежья,
советских авторов (как официального, так и диссидентского направлений)
и вплоть до современных философов, продолжающих работу по освоению и
критическому анализу хайдеггеровского наследия.
Книга рассчитана как на специалистов в области философии, социогумани-
тарного знания в целом, так и на широкий круг читателей, интересующихся
историческими основаниями и современными тенденциями развития
философской мысли.
© Ю. М. Романенко, Н. А. Артеменко, Д. Н. Гончарко, С. А. Коначева,
А. Н. Крюков, А. В. Михайловский, С. В. Никоненко, А. Б. Паткуль,
А. Э. Савин, В. Г. Арсланов, А. С. Лагурев, К. М. Антонов, составление,
примечания, 2020
© Ю.М. Романенко, С.А. Коначева, A.B. Паткуль, А.Э. Савин,
A.B. Михайловский, H.A. Артеменко, вступ. статья, 2020
© Русская христианская гуманитарная академия, 2020
© «Русский Путь», название серии, 1993
^^^
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках книгу из серии «Русский Путь» —
«М. Хайдеггер: pro et contra». Антология посвящена рецепции
и трансформации идей Мартина Хайдеггера в русской философской
мысли.
В 2019 году РХГА праздновала 30-летие своей
научно-педагогической и просветительской деятельности. Серебряный юбилей
отметила — и серия «Русский Путь», являющаяся важным достижением
РХГА. Число томов серии в 2019 году превысило полуторасотенный
рубеж. «Русский Путь» открылся в 1994 году антологией о Н. А.
Бердяеве. В результате четвертьвековой исследовательской и
издательской работы перед читателями предстали своего рода «малые
энциклопедии» о М. Ломоносове, Н. Карамзине, П. Чаадаеве, А. Пушкине,
М. Лермонтове, Ф. Тютчеве, Н. Гоголе, В. Белинском, М. Бакунине,
A. Сухово-Кобылине, А. Герцене, М. Салтыкове-Щедрине, Н.
Чернышевском, И. С. Тургеневе, Л. Толстом, К. Леонтьеве, В. Ключевском,
Вл. Соловьеве, В. Розанове, Н. Лескове, А. Чехове, А. Блоке, П.
Флоренском, В. Эрне, С. Булгакове, И. Ильине, М. Зощенко, М. Булгакове,
B. Набокове, Н. Заболоцком, Д. Шостаковиче, А. Твардовском,
Л. Гумилеве, Л. Шестове, В. Хлебникове, Б. Пастернаке,
А. Ахматовой, М. Горьком и других персонах. Готовятся книги
о Н. Некрасове, Н. Страхове, Ф. Достоевском, Д. Гранине. В числе
книг, посвященных деятелям искусства, антологии о П. Чайковском,
Д. Шостаковиче, С. Эйзенштейне, Е. Ф. Бауэре, готовятся тома
о Л. Бетховене, М. Глинке, С. Прокофьеве.
Ряд книг посвящены российской рефлексии идейного наследия
зарубежных мыслителей — Платона, Августина, Данте, Боккаччо,
Сервантеса, Макиавелли, Спинозы, Руссо, Вольтера, Дидро, Канта,
Шеллинга, Ницше, Бергсона, Витгенштейна, в планах издание книг
о Гегеле, Марксе, Фрейде, Расселе. Зарубежная подсерия стала ярким
фрагментом «Русского Пути», в котором книга о Хайдеггере займет
свое достойное место. Ведь именно идеи Хайдеггера выступили
главным центром притяжения мысли отечественных авторов в XX —
начале XXI вв., подобно тому, как это обстояло с наследием Гегеля
в XIX — начале XX вв.
«Русский Путь» изначально задумывался как серия книг не только
о мыслителях, но и демиургах отечественной культуры и истории.
Увидели свет антологии о творцах российской политической
истории и государственности, царях — Алексее Михайловиче, Петре I,
Екатерине II, Павле I, Александре I, Николае I, Александре II,
Александре III и Николае П. Готовятся книги о Петре III и царевне
Софье. К ним примыкают антологии о выдающихся
государственных деятелях — М. Кутузове, К. Победоносцеве, П. Столыпине.
6
От издателя
Опубликованы сборники, посвященные лидерам стран
антигитлеровской коалиции — И. Сталину, У. Черчиллю, Ф. Д. Рузвельту
и Ш. де Голлю. К юбилею Революции осуществлены издания
антологий о ее демиургах — А. Керенском, Л. Троцком и В. Ленине.
В 2018 году, к столетию начала Гражданской войны, вышли в свет
книги, посвященные политически значимым лидерам Белого
движения — А. И. Деникину, П. Н. Врангелю, А. В. Колчаку.
Важным этапом развития «Русского Пути» является переход от
персоналий к реалиям. Последние могут быть выражены различными
терминами — универсалии культуры, мифологемы, формы
общественного сознания, категории духовного опыта, типы религиозности.
В последние годы работа в указанном направлении заметно оживилась.
Осуществлена публикация книг, отражающих культурологическую
рефлексию важнейших духовных традиций в истории человечества —
иудаизма, христианства, ислама, буддизма. Опубликованы антологии,
посвященные российской рецепции христианских конфессий —
православия, католицизма, протестантизма. Проведена работа по
осмыслению отечественной рефлексии ключевых идеологий Нового времени.
Увидели свет пять антологий: «Либерализм: pro et contra»,
«Национализм: pro et contra», «Социализм: pro et contra», «Анархизм: pro et
contra», «Консерватизм: pro et contra». Опубликованы четыре тома,
отображающие оценку феномена русской классики. Первый том
посвящен Золотому веку, второй — Серебряному, третий — Железному.
Четвертый дает представление об отношении к русской классике
в мировой культуре. В этом же ряду книги, посвященные
переосмыслению ключевых исторических событий начала XX века:
«Революция 1917 года: pro et contra» и «Красное и белое: pro et contra»,
представляющая все разнообразие позиций русской эмиграции по
Гражданской войне.
За четверть века модель изданий трансформировалась от
антологии, включающей классические тексты, к смежному жанру антоло-
гии-коллективной монографии, которая содержит тексты современных
исследователей, подобранные в стилистике «pro et contra».
Обозначенные направления работы обычно дополняются созданием
расширенных (электронных) версий антологий. Поэтапное
структурирование таких информационных ресурсов может привести к формированию
гипертекстовой мультимедийной системы «Энциклопедия
самосознания русской культуры». Увеличение в составе серии доли книг,
посвященных феноменам культуры, способствует достижению этой
цели. Очерченная перспектива развития проекта является долгосрочной
и требует значительных интеллектуальных усилий и ресурсов. Поэтому
РХГА приглашает к сотрудничеству ученых, полагающих, что
данный проект несет в себе как научно-образовательную ценность, так
и духовный смысл.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Рецепция и трансформация идей
Мартина Хайдеггера
в русской философской мысли *
Мартин Хайдеггер — одна из ключевых фигур в философии
XX в., однако до сих пор не существует однозначной оценки его
философской деятельности. Отношение к философскому творчеству
Хайдеггера в различных школах интерпретаторов кардинально
разное. Обзор современной философской литературы показывает, что
изучение хайдеггеровской мысли остается актуальным, особенно
в связи с публикацией новых архивных материалов. Не будет
преувеличением сказать, что к настоящему моменту сложилась
аутентичная отечественная традиция перевода, прочтения и
осмысления хайдеггеровских трудов. Предлагаемая читателю антология
«М. Хайдеггер: pro et contra» в целом дает общее представление
о тех направлениях интереса, которые возникли в российском
философском сообществе начиная с первой трети XX в. и вплоть до
настоящего дня. Подготовка этой книги была осуществлена в рамках
исполнения коллективного научно-исследовательского проекта
«Рецепция и трансформация идей М. Хайдеггера в русской
философской мысли», поддержанного грантом Российского фонда
фундаментальных исследований (официальный сайт проекта —
«Мартин Хайдеггер в России»: http://heidegger.rhga.ru).
Хайдеггер был значимой фигурой для многих крупнейших
русских умов — от представителей философской культуры Серебряно-
* Соавторы этой вступительной статьи, входящие в коллектив составителей
данной антологии, высказали свои точки зрения по основным
направлениям и узловым пунктам ее содержания. Это отразилось в определенной
разнородности стилистики и разности индивидуальных оценок в настоящем
тексте. Унифицировать разные подходы не представилось возможным.
Будем надеяться, что дискуссионность предисловия соответствует ситуации
pro et contra всей книги в целом. Авторские фрагменты в общем контексте
этой коллективной вступительной статьи разделены тремя звездочками.
8
Предисловие
го века и русской эмиграции до современных влиятельных авторов.
Вместе с тем до сих пор не предложена общая панорама восприятия,
критики и преобразования философии Хайдеггера в русскоязычном
философском пространстве. Для экспликации такой панорамы
необходимо решить следующие задачи: 1) реконструировать и
систематизировать модели интерпретации учения М. Хайдеггера
отечественными философами; 2) выявить общую специфику осмысления
философии М. Хайдеггера в российской традиции; 3) определить
инновативность такого осмысления в интернациональном
контексте и обозначить перспективные направления критической
трансформации его философии. В свете этих вопросов и поисков ответов
на них возможно определение степени оригинальности российских
истолкований хайдеггеровской философии. Собранные и
тематически упорядоченные в настоящей антологии разработки
отечественных мыслителей являются эмпирическим основанием для решения
обозначенных концептуально-теоретических задач. Коллектив
составителей выражает надежду, что эта книга даст новый импульс
развитию философских исследований, а также послужит
дополнительным информационным источником в контексте современного
философского образования в России.
Проблема влияния Хайдеггера на русскую философию включает
в себя прояснение ряда взаимосвязанных вопросов. Прежде всего,
традиция российского философствования изначально была
ориентирована на онтологизм, поэтому она не могла не откликнуться
на хайдеггеровское «возобновление вопроса о бытии» в книге
«Бытие и время» и его идею «онтологической разницы» между бытием
и сущим. В первом разделе антологии, посвященном отношению
к учению Хайдеггера среди представителей русского
философского зарубежья, собраны уникальные тексты, свидетельствующие
об оперативной реакции русских мыслителей на его идеи. Прежде
всего, здесь обращают на себя внимание рецензия на «Бытие и
время» В. Э. Сеземана и конспект этого главного хайдеггеровского
труда, сделанный С. Л. Франком.
Основной интерес среди российских философов к Хайдеггеру
заключался и заключается именно в том, что он был онтологом par
excellence. В целом анализ рецепции хайдеггеровской философии
необходимо осуществлять именно с точки зрения онтологии,
поскольку он сам все частные вопросы философии, науки, истории
и культуры фундировал под знаком вопроса о бытии. В этом
отношении отечественному хайдеггероведению присущ комплексный
подход ко всему наследию философа, учитывающий этапы
становления Хайдеггера от ранних его работ до поздних произведений.
Однако отсутствие систематизированного обзора и методологической
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 9
рефлексии негативно сказывается как на развитии
историографических исследований, так и на применении его идей в сфере
систематической философии и в прикладных разделах философского
знания (натурфилософии, антропологии, этике, эстетике, социальной
философии, культурологии, психологии и др.).
Зачастую для различных отечественных философов в центре
внимания оказывалась та или иная сторона хайдеггеровской
философии. Для одних авторов центральной в философии Хайдеггера
является его ранняя герменевтика фактичности или позднее учение
о языке как доме бытия. Для других авторов Хайдеггер — это
трансцендентальный феноменолог. В меньшей степени в России
выражено отношение к Хайдеггеру как последователю немецкого
неокантианства. Хайдеггеровская идея экзистенциальной аналитики Dasein
мотивирует многих отечественных исследователей прочитывать
наследие философа в антропологическом ключе. Похожая ситуация
складывается и с видением Хайдеггера как одного из представителей
экзистенциализма. Не упускаются из поля внимания новейшие,
постмодернистские интерпретации работ Хайдеггера. Не ставя задачу
в предисловии дать полное перечисление известных имен, можно в
качестве показательных примеров отметить некоторые
оригинальные подходы к истолкованию наследия М. Хайдеггера в работах
отечественных авторов в различных областях философии: онтологии —
П. П. Гайденко, Г. Т. Маргвелашвили, гносеологии — Ю. М. Бород ая,
феноменологии — В. И. Молчанова, антропологии — В. А. Подоро-
ги, истории философии — Н. В. Мотрошиловой, философии
политики и культуры — В. В. Миронова и многих других.
Весь этот калейдоскоп мнений и подходов, накопленных
практически за 90 лет русской хайдеггерианы, нашел свое отражение
на страницах этой объемной книги. Хотя, с сожалением
приходится это констатировать, не все серьезные работы уважаемых авторов
удалось собрать под одной обложкой по разным субъективным и
объективным причинам. Формирование антологии осуществлялось
согласно двум взаимосвязанным принципам. Во-первых, основным
принципом отбора текстов был концептуальный уровень вклада
той или иной работы в развитие отечественного хайдеггероведения.
Во-вторых, в коллекцию отбирались те работы, которые имели
культурную и просветительскую значимость, будучи высказаны
авторитетными в нашей стране философами.
Если проводить сравнение с аналогичным западным опытом,
то очевидно, что мировое хайдеггероведение по определенным
историческим причинам развито сильнее российского. Его истоки
находятся уже в деятельности ближайших учеников и последователей
Хайдеггера. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что
10
Предисловие
в немецкой, французской и английской традициях рецепции хайдег-
геровского наследия, как и в России, по отношению к нему
складывается ситуация «pro et contra», что делает остро актуальным
компаративистский анализ в мировом хайдеггероведении.
Проделанная несколькими поколениями работа по осмыслению
наследия Хайдеггера открывает новые перспективы. Одним из
оригинальных направлений исследования является сравнительный
анализ учений не только тех русских философов первой половины
XX в. и далее, кто знал тексты Хайдеггера и комментировал их,
но и тех, кто по определенным историческим причинам был лишен
такой возможности (репрессии и цензура, «железный занавес» с
обеих сторон). Имеются в виду имена П. А. Флоренского, Г. Г. Шпета
и А. Ф. Лосева. В частности, перспективна возможность
сравнительного анализа феноменологических концепций Шпета и Хайдеггера.
То же самое можно сказать о Флоренском и Лосеве. Современные
комментаторские работы, представленные в антологии, предлагают
интересный содержательный сравнительный анализ трактовок
метафизики у Флоренского и Хайдеггера, сопоставление
онтологических доктрин Хайдеггера и Лосева, событийной онтологии Бахтина
и Хайдеггера, тождество и различие их историко-философских
методов, особенно в истолковании античной философии.
Не менее значимым и актуальным оказывается проведение
анализа философской критики религии у Хайдеггера (Н. А. Бердяев,
С. С. Хоружий, С. С. Аверинцев и др.). Особо нужно говорить о
большом массиве литературы, посвященной теме «философия и
религия». Развитие метода феноменологической деструкции в онтологии
Хайдеггера оказало влияние на развитие апофатической методологии
в негативной и экзистенциальной теологии. В работах ряда крупных
отечественных мыслителей были предприняты попытки анализа роли
хайдеггеровских идей в религиозном контексте в связи со
сравнительным анализом православной, протестантской и католической
традиций. В настоящее время наблюдается обновление интереса к этой
проблематике как на Западе (Ж.-Л. Марион, X. Яннарас и др.), так и у нас
в стране (А. В. Ямпольская, С. А. Коначева, Н. 3. Бросова и др.).
Особая роль в отечественном хайдеггероведении принадлежит
В. В. Бибихину (из его наследия в антологию включены три текста).
Его переводы хайдеггеровских произведений (особенно «Бытия
и времени»), комментарии к ним, спецкурсы на философском
факультете МГУ составили целую эпоху в постсоветской философской
мысли. Фундаментальной является его книга «Ранний Хайдеггер:
материалы к семинару». Переводческая манера В. В. Бибихина
вызывала споры и критику как со стороны философов, так и
филологов, но эти дискуссии помогли выйти на новый уровень обсуж-
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 11
дения возможностей философского перевода. Можно говорить, что
в России сформировалась целая замечательная плеяда
переводчиков хайдеггеровских сочинений (В. В. Бибихин, А. В. Михайлов,
Т. В. Васильева, А. Н. Портнов, А. Г. Черняков, А. П. Шурбелев,
О. В. Никифоров, И. Г. Глухова, Н. А. Артеменко и др.).
Отдельно нужно сказать о философско-политической реакции
на известный факт сотрудничества Хайдеггера с НСДАП в
должности ректора Фрайбургского университета. По этому поводу у нас были
высказаны различные суждения, некоторые из них представлены
в данной антологии. Серьезные оценки по этому вопросу прозвучали
недавно в связи с новой информацией, представленной в публикации
хайдеггеровских т. н. «Черных тетрадей». Дискуссия о Хайдеггере
продолжается в контексте мировоззренческого спора либеральной
и консервативной идеологий, иногда доходя до крайних точек зрения
за пределами академического дискурса. Характерными и
симптоматичными в этом смысле являются книги о Хайдеггере А. Г. Дугина
и мнения других представителей этого политического круга. Данная
тема также является ярким примером ситуации pro et contra.
Таким образом, в контексте складывающейся русской
парадигмы хайдеггероведения приобретает особую актуальность и эври-
стичность новая и оригинальная методологическая реконструкция
непрямой рецепции и обратной («зеркальной») рецепции
философских идей, суть которой заключается в выявлении «созвучий»
между известными русскими мыслителями и М. Хайдеггером. В этом
отношении данная антология представляется как настоящий
полифонический комплекс, что отразилось в ее композиции. Как видно
уже из структуры оглавления книги, весь собранный материал
распределен также по двум принципам — хронологическому и
тематическому, хотя между ними есть определенное противоречие.
Таким образом, актуальные вопросы хайдеггероведения в
России можно представить в виде определенных рубрик, связанных
с ключевыми проблемами его философии: бытие, нигилизм, истина
как алетейя, конечность человека, техника как судьба человеческой
истории, преодоление метафизики, критика онтотеологии,
политическая конфликтология, поэтика философского языка, хайдег-
геровские толкования классиков истории философии (Парменида,
Гераклита, Канта, Ницше и мн. др.). Тематические направления,
через призму которых проводилась работа по составлению
антологии, можно представить в следующем концептуальном перечне:
1) Онтология. Вопрошание о бытии. Забвение бытия; 2)
Антропология. Присутствие человека в мире; 3) Философия языка. Зов бытия
и язык повседневности; 4) Философия политики. Мыслитель versus
власть; 5) Философия техники. Технэ как основное событие европей-
12
Предисловие
ской истории; 6) Философия религии. Критика традиционной онто-
теологии и вопрос о новом отношении философии и религии. 7)
Философия культуры. Исток художественного творения; 8) Философия
physis. Конфликт между естественным и искусственным; 9)
Философия истории. Судьба бытия, etc. Весь этот комплекс вопрошаний,
как выразился бы сам М. Хайдеггер, в разной мере получил свое
отражение в композиции и содержании антологии. Проаннонсируем
предварительно и прокомментируем некоторые сюжеты этой книги,
начиная с исторически первых реакций и рецепций.
* * *
В русской философии интерес к М. Хайдеггеру пробуждается
после выхода в свет «Бытия и времени» в 1927 г., в основном в
среде эмигрантов, которые, как правило, принадлежали к
религиозно-идеалистическому направлению. Как справедливо отмечает
Н. С. Плотников, рецепция Хайдеггера в философии русского
зарубежья во многом задана ключевыми линиями интерпретации его
философии в немецкой интеллектуальной среде. Речь идет о двух
способах прочтения: «трансцендентально-онтологическом»,
акцентирующем внимание на возможности построения универсальной
феноменологической онтологии, и «экзистенциалистском»,
сосредоточенном на герменевтике Dasein, понимании экзистенции как
той точки, с которой философское мышление начинается и к
которой оно возвращается. К этому добавляется религиозная
перспектива, формирующая образ Хайдеггера-атеиста, обращенного
исключительно к здешнему миру, лишенному глубины.
Первым на «Бытие и время» отреагировал В. Э. Сеземан,
опубликовавший рецензию в журнале «Путь» (№ 14,1928). С одной стороны,
в рецензии ставится вопрос, может ли работа Хайдеггера быть
отнесена к разновидности феноменологически обоснованного
«трансцендентального идеализма», который автор приписывает Э.Гуссерлю.
С другой стороны, подчеркивается, что искания Хайдеггера
являются именно онтологическими, речь идет о поиске онтического
основания вопрошания о бытии. Таким онтическим основанием
оказывается Dasein, переведенноеСеземаном как «бытие-сознание». Подобный
перевод на первый взгляд существенно ограничивает проблемное
поле хайдеггеровского труда, сводя его к отношению бытия и
сознания, однако, как явствует из финальной части рецензии, автору
важно показать, что тем самым гносеология у Хайдеггера входит в
онтологию. Сеземан полагает, что подобный прием позволяет Хайдеггеру
трансформировать феноменологический метод и перейти от анализа
феноменов к систематическим построениям. К основным достоин-
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 13
ствам «Бытия и времени» отнесены два обстоятельства: различение
Dasein и Vorhandensein, позволяющее выделить Dasein из вещного
бытия, и анализ заботы как определяющего принципа,
характеризующего Dasein в его целостности. Отмечая, что первая часть книги
не дает ответа на вопрос, что есть бытие как таковое, Сеземан, однако,
видит в ней начало возможной целостной метафизической системы.
«Экзистенциалистскую» трактовку философии Хайдеггера мы
встречаем в поздних трудах Н. А. Бердяева («Опыт эсхатологической
метафизики», «Царство Духа и царство кесаря», «Экзистенциальная
диалектика божественного и человеческого », « Истина и откровение » )
и работе С. А. Левицкого «Трагедия свободы» (1958). Для обоих
мыслителей Хайдеггер — продолжатель традиции, идущей от Кьеркего-
ра и Ницше. Бердяев относит Хайдеггера вместе с Сартром к
атеистическому экзистенциализму и не считает подобный экзистенциализм
подлинным, поскольку в нем не ощущается глубина существования.
Философия Хайдеггера остается во власти объективации.
Бердяев противопоставляет философию Dasein и философию
Existenz, гораздо более близким философом представляется ему
Карл Ясперс, для которого огромное значение имеют шифры транс-
ценденции. Хайдеггеровская философия видит только Dasein в его
падшести. Бердяев акцентирует крайний пессимизм мысли
Хайдеггера, совершенно лишенный какой-либо надежды или утешения.
Указывая на теологическое начало хайдеггеровской философии,
он характеризует ее как «метафизику предельной богооставлен-
ности», которая описывает мир и человека исключительно снизу,
не зная духа, свободы и личности. Однако, отмечая определенную
двойственность такой «католической теологии без Бога», Бердяев
обнаруживает следы немецкой мистики в хайдеггеровской
трактовке ничто, и это дает возможность увидеть в его мысли не только
метафизику конечного человеческого существования, заброшенного
в мир заботы, страха и обыденности, но и «апофатическую теологию
с пессимистической окраской».
С. А. Левицкий обращается к Хайдеггеру в монографии,
посвященной проблематике свободы. Хайдеггеру в ней отведено место
в разделе «Патология свободы». Обозначив ряд ключевых
моментов экзистенциальной аналитики (бытие в мире, вброшенность,
повседневность, забота), Левицкий сосредотачивается на соотнесении
свободы и ничто, которое в человеческом опыте конкретизируется
как смерть. В центре внимания Левицкого оказывается конкретное
сознание смерти и страх как первоначальная «метафизическая
эмоция». Именно решимость на собственную конечность имеет
освобождающее значение, подлинная свобода предстает как «свобода
к смерти». Тем самым, по мнению Левицкого, онтология превращает-
14
Предисловие
ся в мэонологию (философское учение о ничто), а из нее следует
«этика героического нигилизма» (если понятие этики вообще приложимо
к хайдеггеровской философии). Подобно Бердяеву, спрашивающему,
откуда у Хайдеггера возникает голос совести, Левицкий задает
вопрос: откуда человеку дан «дар свободы»? Заранее предполагается,
что на подобные вопросы философия Хайдеггера не может дать ответ,
поскольку в ней нет места для Бога и вечности. Как неоднократно
подчеркивал Бердяев — у Хайдеггера отсутствует духовный опыт.
Наиболее близкую связь с Хайдеггером можно обнаружить в
трудах С. Л. Франка. Эта связь детально проанализирована в статьях
Н. С. Плотникова, Т. Н. Резвых и Г. Е. Аляева, представленных в
антологии. Отметим лишь определенную двойственность в отношении
Франка к философии Хайдеггера. С одной стороны, их сближает
понимание философии как фундаментальной онтологии, с другой стороны,
для Франка в философию необходимым образом включена
религиозная установка, в то время как Хайдеггер утверждает
методологический а-теизм философии. Поэтому критический пафос Франка
сосредоточен на том, что он сам называет «антирелигиозным комплексом»,
определившим ограниченность позиции Хайдеггера в его
сосредоточенности на конечности и замкнутости человеческой жизни.
Трактовку хайдеггеровской философии до «поворота»
русскими мыслителями можно сравнить с интерпретацией
католического теолога Карла Ранера в эссе «Понятие экзистенциальной
философии у Хайдеггера» (1940). Обрисовав в общих чертах общую
структуру хайдеггеровской экзистенциальной аналитики Dasein,
Ранер возвращается к исходному вопросу — что есть бытие как
таковое? — и утверждает, что «Бытие и время» в собственном
смысле непосредственно не решает этот вопрос, оставляя ответ на него
предполагаемому второму тому. Допуская «догадки» о возможном
ответе Хайдеггера на вопрос о бытии, Ранер отмечает, что Dasein
является «бытием к смерти» — проекцией прошлого и настоящего
к будущему. Исходный способ проектирования или
предварительного схватывания раскрывается не в теоретическом знании,
представленном в терминах логики, но в опыте или настроении, которое
Хайдеггер называет ужасом. Это настроение показывает ничто как
окончательную реальность Dasein и как то, во что Dasein вовлечено.
Трансценденция Dasein, его выхождение за пределы сущего,
оказывается выдвинутостью к ничто. Поэтому Ранер утверждает, что
Хайдеггер отождествляет чистое бытие и чистое ничто.
Ранер полагает, что подобное представление, по всей вероятности,
не дает возможности поставить вопрос о существовании Бога.
Онтология Хайдеггера не предполагает чистое бытие, позитивно
превосходящее все конечное как таковое. При этом Ранер утверждает, что до за-
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 15
вершения хайдеггеровской онтологии невозможно сказать наверняка,
придаст ли это метафизике смысл, который является радикально
атеистическим или глубочайшим образом религиозным. Все, что мы
можем сделать, это отметить, что в работах Хайдеггера до «поворота»
экзистенциальная аналитика Dasein логически видится не как
онтология, а как онтохроника (Ontochronic) — наука, которая показывает,
что смысл всего сущего как такового и в конечном итоге смысл бытия
сводится к ничто. Окончательный вариант хайдеггеровской онтологии
положит основание для атеизма, если последним словом его
антропологии будет ничто. С другой стороны, Ранер утверждает, что
философия Хайдеггера могла бы стать фундаментом для глубоко
религиозного представления, если аналитика Dasein на ее завершающей стадии
обнаружит бесконечность Абсолюта как первое априори человеческой
трансценденции и откроет истинную судьбу человека в выборе между
вечным небытием и вечной жизнью перед Богом.
В отличие от этой западной оценки, вердикт философов русского
зарубежья был более категоричен: философия Хайдеггера
пессимистична и безбожна, проникнута пафосом героического нигилизма,
его антиплатоническая онтология упирается в ничто. Внимание
акцентировалось на том, что в проекте фундаментальной онтологии
Хайдеггер определил трансценденцию как онтологически
бессильную, выявил зависимость Dasein от истории. Тем самым
онтологическая брошенность трансценденции онтически показывает себя
в своей определенности через сущее.
Однако подобные однозначные оценки оставляют за скобками
существенные моменты хайдеггеровского философствования. Русские
философы решительно не замечают, что Хайдеггер не только
неоднократно отрицал приписывание ему атеизма, но говорил, что если
он оставляет открытым вопрос о Боге, это не свидетельствует о его
безразличии к данному вопросу, а лишь имеет целью указать на то,
что теология нуждается в более адекватных понятиях, чем понятия
метафизические. Хайдеггер подчеркивал, что мир в понятии «бытие-
в-мире» не означает земное сущее в противопоставлении духовному.
Мир вообще не означает область сущего, но скорее открытость бытия.
Поэтому в работе «О сущности основания», вышедшей в 1929 г.,
Хайдеггер еще раз указал, что через «онтологическую интерпретацию
вот-бытия как бытия-в-мире» невозможно решить что-либо
позитивное или негативное о возможности бытия к Богу. Важно, однако,
«прежде всего через прояснение трансценденции получить
достаточное понятие вот-бытия, обратить внимание на то, о каком сущем мы
спрашиваем, когда дело идет об отношении вот-бытия к Богу»*.
* Heidegger M. Vom Wesen des Grundes (1929) // Heidegger M. Wegmarken.
Gesamtausgabe. Bd. 9. Frankfurt a. M., 1976. S. 159.
16
Предисловие
Однако некоторые русские философы предпочитали видеть в нем
только «героического нигилиста», проповедующего
самоутверждение вот-бытия перед лицом ничто. Лишь в письме Франка Бинсван-
геру (1950) можно обнаружить изменение оценок, связанное с
переменами в философии самого Хайдеггера: делясь впечатлениями
от прочтения сборника «Holzwege», Франк говорит о преодолении
замкнутости экзистенции и нахождении «пути на волю, к
истинному бытию». Вывод Франка: «Величайший немецкий мыслитель
приходит на своем пути к результату, который, в качестве основной
интуиции и вместе с тем откровения руководит моим творчеством
уже 40 лет».
* * *
Таким образом, не будет преувеличением сказать, что
решающим мотивом восприятия мысли Хайдеггера в русскоязычной
культурной среде является онтологическая ориентация его мышления.
Русские философы формировались в традиции так называемого
онтологизма и были просто обречены на продуктивное
столкновение с хайдеггеровской мыслью, как на решительное ее приятие, так
и на размежевание с ней. На деле, правда, ситуация складывалась
достаточно сложная — и исторически имеются показательные
лакуны отсутствия аутентичных ответов на вызов хайдеггеровских
онтологических начинаний и вопрошаний как раз там, где их
естественнее всего было бы ожидать (Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев). Эти
лакуны — своего рода настойчиво заявляющие о себе своей немотой
места умолчания — требуют особого исследования. Здесь же, говоря
о рецепциях «русской хайдеггерианы», в первую очередь
следовало бы поставить вопрос о том, насколько вообще хайдеггеровское
понимание онтологии может соответствовать тому смыслу, какой
вкладывается в понятие «русского онтологизма». Не имеем ли мы
тут дела с некоей радикальной омонимией в случае данных
терминов?
На наш взгляд, подход к решению этого вопроса задается
проблемой корреляции бытия и конечности у Хайдеггера. Известно,
что для него бытие — это всегда конечное бытие. У Хайдеггера это
представлено не только в период разработки экзистенциальной
аналитики Dasein, но и после так называемого «поворота». Впрочем,
в текущем контексте важнее то, как именно Хайдеггер понимает
конечность бытия. А именно: она мыслится им без опоры на
бесконечность; точнее, не как привация бесконечного*. В то время как
* Ср.: Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Издательство
«Русское феноменологическое общество», 1997. С. 142.
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера
17
в российской традиции зачастую онтологизируется именно
бесконечность бытия, будь то в контексте религиозно-идеалистической
философской стратегии или диалектико-материалистической.
Думается, неприятие именно этого обстоятельства с самого
начала искажало хайдеггеровскую мысль в зеркале ее русской рецепции.
Довольно рельефно такой промах мимо существа хайдеггеровской
онтологической работы виден на примере авторов времен русской
эмиграции. Он вполне объясним, поскольку их собственные
философские воззрения сложились на основе абсолютистских версий
немецкого классического идеализма, т. е., по мысли Хайдеггера,
наиболее крайнего и радикального извода онтотеологической
метафизики. Разумеется, уже первые русскоязычные интерпретаторы
Хайдеггера не являются слепыми в отношении подобного
акцентирования им конечности. Так, С. Л. Франк отмечает, что у
Хайдеггера «идея человека как существа трансцендирующего, выходящего
за свои пределы — из христианства — отвергается»*. Не
удивительно, что в свете этого сам Франк, словно поправляя Хайдеггера,
приходит к следующему выводу: «Было бы верно, если бы Dasein было
абсолютн<ым> бытием, а не человеческим! » ** Впрочем, не стоит
думать, что подобная оценка Хайдеггера уже полностью ушла в
прошлое и стала вместе с уходом философии Серебряного века частью
истории. И у современных авторов можно встретить похожую
трактовку мысли Хайдеггера. В подобном ключе в своих устных
выступлениях высказывался, например, И. И. Евлампиев, пытаясь
обосновать преемственность философии Хайдеггера философии
Бергсона: в его интерпретации Хайдеггер был представлен как
мыслитель, близкий к бергсоновскому интуитивизму, в рамках которого
человеческое Dasein трактуется как сущее, имеющее
непосредственный, интуитивный доступ к абсолютному***.
Впрочем, подобные интерпретации и трансформации начинают
терять свое влияние уже в позднесоветской и особенно в
постперестроечной русскоязычной литературе, посвященной философии
Хайдеггера. Это, с одной стороны, увеличивает степень
аутентичности прочтения хайдеггеровских текстов отечественными
философами, а с другой стороны, способствует продуктивности развития
основных его идей уже в среде самобытной русской философии
нашего времени. Русские мыслители последнего периода все больше
Франк С. Л. [Конспект книги М. Хайдеггера «Бытие и время»] //
Исследования по истории русской мысли / Под ред. М. А. Колерова. М.: Модест
Колеров, 2017. С. 136.
** Там же. С. 137.
Что, согласно Хайдеггеру, совершенно не так. См., напр. : Хайдеггер М.
Пролегомены к истории понятия времени. Томск: Водолей, 1998. С. 53.
18
Предисловие
осознают значимость конечного характера бытия и его истины для
Хайдеггера. Отсюда, собственно, только и приходит подлинное
понимание онтологической связи бытия и времени в философии
фрайбургского мыслителя. Пожалуй, наиболее рельефно такую связь
выразил А. В. Ахутин, который, отсылая к Хайдеггеру, пишет: «Для
каждого каждый раз есть его собственный раз, и он есть раз и
навсегда, вот это — краткое — время есть время всего бытия»*. У
Хайдеггера бытие во всей его полноте раскрывается именно в конечном
времени. Справедливости ради надо отметить, что такая связь бытия
со временем трактуется в нашей литературе весьма разнообразно
и не всегда корректно. В качестве характерного примера,
воспроизводящего инвариантную ошибку в понимании такой связи
отдельными отечественными исследователями, можно указать на трактовку
ее у В. Н. Сагатовского**, оригинальный текст которого представлен
в данной антологии. С точки зрения этого автора, Хайдеггер
понимает бытие как временное в том смысле, что он считает его
процессуальным, тогда как сущее, от которого Хайдеггер отличает бытие, — это
нечто статическое. Сущее есть (ist) как застывшее, бытие (es gibt) дано
как становящееся. В контексте такого толкования в итоге хайдегге-
ровская онтологическая дифференция приобретает смысл идущего
от Платона, но перевернутого различия бытийствующего и
становящегося. А само хайдеггеровское бытие, пожалуй, снова оказывается
призраком прежнего метафизического абсолюта.
Впрочем, можно констатировать, что соразмерное мысли самого
Хайдеггера прочтение его тезиса о связи бытия и времени в
русскоязычной интеллектуальной среде все же состоялось. Убедительным
свидетельством тому могут служить труды А. Г. Чернякова. Этот
автор показывает революционный характер хайдеггеровского
начинания именно в сфере первой философии. Началами, с которыми
она имеет дело, у Хайдеггера становится экзистенциальная
конституция Dasein как понимающего бытие сущего. Это, в свою очередь,
мотивировало А. Г. Чернякова трактовать и саму философию как
поступок такого сущего. Соответственно, для него ключевым
измерением онтологического вопрошания и исследования оказывается
измерение этическое. Можно даже сказать, что в общем и целом
Ахутин А. В. Время бытия (К 70-тилетию выхода в свет книги М.
Хайдеггера «Бытие и время») // Ахутин А. В. Поворотные времена. СПб.: Наука,
2005. С. 539.
Ср., напр.: « ...мы не найдем в его (т. е. Хайдеггера. — Прим. авторов)
работах ответа на этот вопрос (об отличии "есть" от "es gibt". — Прим. авторов)
кроме увязывания предиката "есть" с чем-то ставшим, с "вещами", а не со
становлением» (Сагатовский В. Н. Триада бытия. СПб.:Издв-во СПбГУ,
2006. Цит. по: http://www.vasagatovskij.narod.ru/triada.doc (Дата
обращения: 04.10.2019)).
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 19
у русской рецепции хайдеггеровской метафизики имеется
«практическая» доминанта, связанная с его трактовкой смысла бытия
человеческого существа как заботы (Sorge). Обоснованию этой
тенденции в понимании существа философии Хайдеггера посвящены
исследования А. Б. Паткуля, который, акцентируя теоретический
характер онтологии у Хайдеггера, ставит вопрос о существе
научности как родового ее определения, а также о генезисе теоретической
установки именно из заботы.
Наконец, для отечественной онтологии крайне важной оказалось
хайдеггеровское понятие события (Ereignis), особенно в той его
версии, которая была сформирована уже после «поворота». Тема эта
последовательно развивается в трудах таких авторов, как В. В. Би-
бихин, С. С. Хоружий, А. В. Ахутин, А. В. Магун, Ю. М. Романенко
и др. Для них наиболее значимыми сторонами события являются
его неподрасчетность, уникальность, собственность и присвоение,
озарение, парадоксальность. Особое место в хранении истины
события бытия, в соответствии с замыслом Хайдеггера, отводится языку,
обретающему преимущественно онтологическую функцию. Отсюда
проистекает та роль, которую для следующих за Хайдеггером
отечественных философов играет этимологический анализ языка — в том
числе и родного. Хайдеггер дал пример философской проработки
родного ему языка, а с другой стороны, внедрению в философский
дискурс естественных смыслов, содержащихся в немецком
лексиконе. Такая взаимная проработка происходит в разных языковых
культурных пространствах мысли, в том числе и в русском. В
некоторых сочинениях, представленных в нашей антологии, наглядно
видны примеры такого языкового и мыслительного сотворчества.
* * *
Важным моментом в развитии отечественных исследований
мысли Хайдеггера является ее интерпретация и критика советским
марксизмом. Советские марксисты верно ухватывают определяющий
характер настроений (Stimmungen) для хайдеггеровской философии.
Это означает, что способ ориентации в мире, т. е. отношение к
природе, другим и самому себе, определяется характером настроений.
Из представленных в настоящей антологии текстов Б. Э. Быховского
и Э. Ю. Соловьева явствует, что приведенное толкование
развивается с начала до последних работ, написанных накануне распада
Советского Союза. Указанная трактовка соответствует и современным
западным интерпретациям хайдеггеровской мысли. В частности, один
из ведущих немецких философов-феноменологов К. Хельд
определяет философию Хайдеггера как феноменологию настроений.
20
Предисловие
Исходя из принципов исторического материализма, советский
марксизм трактует фундаментальные настроения как классовые.
Скука и ужас (Angst), обозначаемые Хайдеггером в качестве
фундаментальных настроений, рассматриваются советскими
философами как настроения обреченного на исчезновение эксплуататорского
класса. Философия Хайдеггера, будучи выражением этих
настроений, есть проявление кризиса современного буржуазного
сознания. Примечательно, что ту же оценку хайдеггеровской философии
до 1980-х гг. давали и западные марксисты, включая
непосредственных хайдеггеровских учеников.
Хайдеггеровская критика рационализма европейской культуры
и цивилизации в ходе деструкции истории метафизики — понятой
как история забвения бытия и восхождения к господству
техники как тотального распоряжения над всяким сущим —
рассматривается советскими философами как выражение консервативной
Kulturkritik, буйно разросшейся в этот период и характерной для
Германии, живущей в затхлой атмосфере Веймарской республики,
построенной на основе поражения немецкой пролетарской
революции 1918-1919 гг. Советский марксизм подчеркивает значимость
решимости, волевого настроя в философии Хайдеггера и трактует
ее как проявление волюнтаризма и склонности обреченного класса
к насилию с целью сохранения своего господства над обществом.
Характерной чертой советской рецепции философии Хайдеггера
является ее рассмотрение в контексте диалектики истории и
марксистского историзма. Поэтому хайдеггеровская
феноменологическая критика объективного времени и идеи исторического прогресса
воспринимаются как разновидность субъективизма и попытка
выстраивания на нем нового иррационалистического историзма. Он,
по мысли советских философов, является суррогатом веры в
будущее для представителей класса, который будет сметен объективным
ходом истории.
Наконец, советский марксизм подчеркивает внутреннюю связь
философии Хайдеггера с реакционной, базирующейся на терроре
нацистской политикой, их режим взаимного поддержания. Здесь
оценки варьируются от трактовки Б. Э. Быховским Хайдеггера как
«дипломированного лакея фашизма» в сталинский период до
талантливого выразителя кризисных феноменов буржуазного Запада
в брежневский и постбрежневский периоды.
В целом отношение советского марксизма к философии
Хайдеггера остается отрицательным независимо от периодов развития
хайдеггеровской мысли и на всем периоде существования Советского
Союза. Основой оценки служит «Бытие и время». Его философия
характеризуется как идеалистическая, субъективистская, волюнта-
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 21
ристская, антидиалектическая и реакционная. В поздний советский
период — однако — указывается и ее положительное значение для
раскрытия симптоматики и логики движения сознания кризисного
буржуазного общества.
* * *
Хайдеггер — не только мыслитель Бытия, но и критик позднего
модерна, и философ, мысль которого ориентирована в будущее, в
измерение «пост». Эта проективность хайдеггеровской философии
отразилась не только в мировом хайдеггероведении, но и в российской
рецепции. Можно провести один показательный пример подобного
отношения. Осенью 1989 г. в Москве прошла первая
международная конференция по Хайдеггеру, впервые публично
продемонстрировавшая не только наличие самостоятельной российской
рецепции Хайдеггера, но и включенность ее в европейский контекст.
По результатам конференции был издан известный сборник
«Философия Мартина Хайдеггера и современность»*. Книга открывается
статьей Н. В. Мотрошиловой, которая откликается на дебаты о
политической ангажированности Хайдеггера, спровоцированные
книгой В. Фариаса «Хайдеггер и нацизм» (1987). Здесь отечественный
исследователь изображает двойное лицо Хайдеггера — философа,
который критикует «стремительное расширение власти науки и
техники» и проповедует «идеологию любви и возврата к "ладным
вещам"»**, а также философа, заведенного внешней властью (фюрера,
вождя) в «чащобы тоталитаризма и человеконенавистничества»***.
В том же сборнике была опубликована и статья В. В. Бибихина
«Дело Хайдеггера», которая впоследствии не раз переиздавалась
в переработанном виде. Наиболее известный русский переводчик
и интерпретатор Хайдеггера ставит под сомнение, что «дело
Хайдеггера» вообще является «нашим делом» (в смысле участия в
расследовании: Хайдеггер — реакционный романтик? криптотомист?
антифашист? нацист?), хотя бы уже потому, что «завести дело» —
это совсем другое, чем продолжать дело самого Хайдеггера****.
Примечательным образом Бибихин отталкивается не от немецкоязычной
литературы, в силу исторических причин очень болезненно
воспринявшей обвинения в адрес Хайдеггера (представителями которой
* Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991.
'* Мотрошилова Н. В. Драма жизни, идей и грехопадения Мартина
Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и современность. С. 46.
'* Там же. С. 50.
" Бибихин В. В. Дело Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и
современность. С. 168.
22
Предисловие
на тот момент были такие исследователи, как О. Пёггелер, X. Отт
или Ю. Хабермас), а от франкоязычной, прежде всего от Ф. Федье
(выступившего с апологией немецкого мыслителя) и Ж. Деррида.
Ссылаясь на книгу последнего «О духе: Хайдеггер и вопрос» (1987),
Бибихин определяет «собственное дело» Хайдеггера как «поступок
принятия мира» или участие в простейшем «событии мира». В
курсе «Ранний Хайдеггер» Бибихин формулировал ту же мысль
следующим образом: Хайдеггер избрал дело мысли, «уступил себя
мысли»*, и любая попытка говорить о нем не должна быть разговором
о его личности, биографии, судьбе, но должна стать попыткой
увидеть то, на что указал Хайдеггер: «Казалось бы, чего проще: мы
берем тексты Хайдеггера, они у нас есть; читаем их, научились уже их
читать; сравниваем с имеющимися переводами, их есть уже
немало. Занимаемся законным академическим занятием, изучаем или
исследуем, важного философского автора... и среди вороха текстов
Хайдеггера полностью промахиваемся мимо него...»** Приведенный
тезис определяет всю специфику подхода Бибихина: это не столько
разговор о философии Хайдеггера, но разговор о философии
вообще, поводом к которому оказывается становление Хайдеггера как
философа.
Оптика Бибихина — в большей мере, чем об этом пишут или
говорят российские исследователи, — это взгляд на Хайдеггера через
призму деконструктивизма Деррида, который Бибихин
перетолковывает как задачу «разбора» построек мысли, чтобы добраться до ее
начала***. Деконструкция европейской метафизики как забвения
бытия и нигилизма становится благодаря переводам Бибихина и его
собственным интерпретациям ни много ни мало визитной карточкой
Хайдеггера в русскоязычном пространстве, а работы «Европейский
нигилизм», «Время картины мира», «Вопрос о технике», «Наука
и осмысление» из сборника статей «Время и бытие» (1993) — той
частью философского наследия германского мыслителя, с которой
русскоязычный читатель познакомился за несколько лет до
публикации первого полного перевода «Бытия и времени» (1997).
Эти переводы были выполнены для реферативных сборников
ИНИОН еще в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Тогда у Бибихина,
очевидно, уже сформировался образ Хайдеггера как философа
«идеологической нищеты» и критика позднего модерна, который увидел
Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару. М.: Институт
философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. С. 16.
* Там же. С. 7.
Бибихин В. В. Дело Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и
современность. С. 170.
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 23
в идеологии национал-социализма с его претензиями на мировое
господство последнее слово онтологического нигилизма.
Хайдеггер Бибихина — это еще и мыслитель, захваченный
существом бытия, таинством алетейи-непотаенности. «Молчание
Хайдеггера» объясняется как выражение этой захваченности.
«Беспомощное молчание, к которому вынуждает „момент истории
мира, когда нигилизм приходит к своему планетарному
завершению", становится для Хайдеггера неповторимым „намеком" на то,
что язык не сводится только к стремительно обесценивающемуся
„выражению" и „сообщению", и какая-то другая речь, прошедшая
через мертвую зону молчания, способна так соответствовать
бытию, что не может быть затянута в нигилистический водоворот»*.
Подобно тому как Бибихин не мог не понимать, что расследование
«дела Хайдеггера», по существу, остается именно расследованием,
далеким от «вопрошания как благочестия мысли», так и мы сейчас
не можем не видеть, что современные дебаты о «Черных тетрадях»
en gros проходят — именно в силу объективных требований
публично организованного дискурса — мимо основного события
философии Хайдеггера «после поворота», мимо самой основы его мысли,
а именно «молчания». Однако в то же время верно, что русская
рецепция Хайдеггера, обогащенная оптикой Бибихина, имеет в себе
шанс на продуктивное понимание эзотерической философии
Хайдеггера с ее ключевыми темами «другого начала» и подготовки «мимо-
прохождения последнего бога».
Восприятие философии Хайдеггера как мыслителя «пост» или
философа будущего — еще одна важная сторона российской
рецепции Хайдеггера, также вызванная влиянием французского
постмодернизма. В 1988 г. в «Литературной газете» вышла статья
А. Гулыги «Дело Хайдеггера»** как ответ на уже упоминавшееся
расследование В. Фариаса. «Дело Хайдеггера» —дело рук
журналистов, падких на сенсацию; по мнению этого автора, философы здесь
ни при чем. Эта журналистская публикация, как и вся дискуссия
о Хайдеггере, развернувшаяся в последние годы, по мнению
Гулыги, «весьма характерна для современного состояния философии»:
* Бибихин В. В. Место нигилизма в «судьбе бытия» // Работы М. Хайдеггера
по культурологии и теории идеологий. М.: ИНИОН, 1981. С. 10-88. Этот
научно-аналитический обзор с элементами комментария (вместе с
обзорами «Европейский нигилизм» и «От новоевропейского субъекта к
"сверхчеловеку"») был посвящен работе Хайдеггера «Европейский нигилизм»
и опубликован в реферативном сборнике «Работы М. Хайдеггера по
культурологии и теории идеологий». Обзоры были переизданы в кн.:
Бибихин В. В. Из творческого наследия / Отв. ред. и сост. Р. А. Гальцева. М.:
ИНИОН, 2006.
" Гулыга А. В. Дело Хайдеггера // Лит. газета. 1988. 30 ноября. С. 15.
24
Предисловие
спорят не о проблемах учения, а о степени вовлеченности
философа в фашистское движение, был ли он антисемитом и т. д. и т. п.
Для А. Гулыги Мартин Хайдеггер — «последний представитель
великой философии, взращенный на немецкой земле», «великий
теоретик культуры», оказавшейся перед лицом катастрофы. Фигура
философа «пост» конструируется в выразительной метафоре часов,
которые показывают полночь. Гулыга говорит, что наступила
полночь истории; пробило двенадцать, а Хайдеггер — тот, кто
вглядывается в темноту, где намечаются контуры грядущих вещей.
Как и Бибихин, Гулыга подходит к Хайдеггеру не через
немецкую, а через французскую литературу — Деррида, Лиотара, Лакана,
Фуко и др. В статьях «Что такое постсовременность?» и «О
постмодернизме»* им выдвигается весьма нетривиальная гипотеза о
постисторическом элементе в мышлении Хайдеггера. Автор обозначает
эту тенденцию словом «постсовременность». Если «современность»
означает некое противостояние несовременному, устаревшему,
прошедшему, прошлое же рассматривается как низшая ступень,
«снятая» последующим развитием, то постсовременность видит в
прошлом не просто предпосылку настоящего, но свою неотъемлемую
часть: это слияние того, что есть, того, что было, и того, что будет.
Таким образом, под постсовременностью понимается некая эскалация
историзма или наиболее яркий пример «сверхисторизма». Начиная
с «Бытия и времени», Хайдеггер выражает интуицию
«исполненного времени», некой целостности, в которой будущее, настоящее
и прошлое сливаются воедино. Гулыга совершенно точно отмечает
не только взаимопринадлежность и равноизначальность трех
модусов временности у раннего Хайдеггера, но и приоритетность
«будущего» в отношении двух других модусов. Хайдеггер — не пассеист,
его взгляд направлен не в прошлое, а в будущее, и без этого взгляда
невозможна не только историчность, но и сама концепция «другого
начала».
Рассматривая ситуацию разнородных оценок «хайдеггеровского
дела», не будем высказывать окончательных вердиктов, что было бы
самонадеянным. Однако можно предположить, что разные
перспективы прочтения — «Хайдеггер как деконструктор», «мыслитель,
вопрошающий о бытии» или «Хайдеггер как критик культуры,
антимодернист и философ „пост"», наиболее ярко представленные
в зарубежных рецепциях, — не являются единственно
возможными. Приведенные выше примеры В. В. Бибихина и А. В. Гулыги,
которые можно было бы умножить примерами иных, совершенно
* Гулыга А. В. Что такое постсовременность? // Вопросы философии. 1988.
№ 12. С. 153-159; Он же. О постмодернизме // Диалог. 1990. № 12. С. 96-
98.
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера
25
разных комментаторов, таких как В. А. Подорога* или А. Г. Дугин**,
и многих других, — в значительной мере определили специфику
российской рецепции Хайдеггера в позднесоветское и постсоветское
время. Но пусть читатель сам делает выводы, имея возможность
прочесть на страницах данной антологии определенную подборку
разнонаправленных текстов, касающихся этой актуальной
дискуссии.
* * *
В завершение этой вводной и обзорной статьи рассмотрим вопрос
об общей герменевтической установке и методологии,
проявляющейся в многообразных рецепциях и трансформациях хайдеггеров-
ской мысли. Обращение к наследию Хайдеггера провоцирует и даже
обязывает поставить вопрос о понимании философской традиции
сегодня. В какой форме осуществляется сейчас — после 43 лет со дня
смерти «последнего философа» — это понимание? В
методологическом отношении XX в. стал переломным для гуманитарных наук.
Герменевтика и феноменология представляют собой проекты,
которые были предложены европейской философией XX в. в качестве
альтернативы естественнонаучным методам, и обращение к фигуре
М. Хайдеггера в этом контексте не случайно, поскольку он
неоднократно указывал на то, что господство научного сознания в
философии грозит ей утратой своего специфического предмета. Активно
обсуждаемый в западной гуманитарной науке вопрос о том,
исчерпали ли себя эти направления в качестве самостоятельных
методологических источников гуманитарного познания, более чем
актуален и для отечественного социогуманитарного знания.
Вспоминается фраза, сказанная М. Хайдеггером по поводу
смерти Макса Шелера в 1928 г.: «И снова путь философии впадает
во тьму...» Но Хайдеггер был убежден, что философия сохраняет
свою значимость, несмотря на современный кризис рациональности,
и нужен лишь правильный способ подхода для того, чтобы с
классическими мыслителями установилась своего рода одновременность,
решающее предварительное условие возможного превращения
интерпретации в беседу. К философу (которого интерпретируют) необ-
* Подорога В. A. Erectio. Геология языка и философствование М.
Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и современность. С. 102-120; Он
же. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской
культуре XIX-XX вв. М.: Наука, 1993.
** Имеется в виду, прежде всего, так наз. «Хайдеггеровская трилогия»:
Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический
проект, 2010; Он же. Мартин Хайдеггер: возможность русской философии.
М., 2011; Он же. Мартин Хайдеггер. Последний бог. М., 2014.
26
Предисловие
ходимо идти навстречу, чтобы с ним состоялся диалог. Это
возвращение к старому методу майевтики Сократа, полагал Хайдеггер.
Но как возможно сегодня идти навстречу самому Хайдеггеру? Мы
надеемся, что данная антология отчасти поможет найти
внимательному читателю ответ на этот вопрос.
Задача любого философского исследования по Хайдеггеру —
раскрыть то, что в истории философии возникало в качестве скрытых
возможностей, определяющих направление дальнейшего развития.
Обращает на себя внимание сам способ работы Хайдеггера с
ближайшим терминологическим окружением, позволявший ему быть
свободным от догматических предрассудков и благодаря этому
усматривать неожиданные связи внутри слов и смелые обертоны смысла.
Этот способ весьма метко, на наш взгляд, охарактеризовала Т. В.
Васильева, назвав его артистической герменевтикой. Ни один термин
у Хайдеггера не истолковывается ради него самого, но всегда исходя
из целого. Хайдеггер, с одной стороны, казалось бы, следует идее
научной преемственности, но, с другой стороны, противопоставляет
догматической («цеховой») традиции опыт собственного
непосредственного общения-диалога с философскими предшественниками.
Следует отметить специфику перевода хайдеггеровских
произведений на другие языки, в том числе на русский. Этот вопрос
породил у нас очень много дискуссий. Хайдеггеровскому языку
свойственна, с одной стороны, образная яркость и легкость в обращении
с лексикой не только древних языков, но и современных, в том числе
и немецкого. Вряд ли можно вести речь о некоем «едином» и
«единственном» для Хайдеггера языке, что, конечно, создает
определенные сложности для переводчика. С другой стороны, дискурс
Хайдеггера, не оставляющий выбора читателю, «навязывающий»
не только язык, но и некоторые властные ходы мысли, провоцирует
и переводчика на создание «нового» философского языка.
Насколько российское хайдеггероведение продвинулось в открытии
адекватного языка перевода, насколько вообще можно говорить о традиции
переводов хайдеггеровских текстов на русский, насколько,
наконец, нам удалось установить с Хайдеггером ту «одновременность»,
из которой интерпретация его мыслей может обернуться беседой
и диалогом с ним? — эти вопросы естественно возникают при обзоре
российской философской литературы, посвященной изучению хай-
деггеровской философии, с целью отбора наиболее удачных и
адекватных откликов на вызовы его мысли.
Обращаясь к этим вопросам, небесполезно вспомнить известный
хайдеггеровский тезис о насильственности всякой интерпретации.
Где тот предел обращения оригинальной мысли автора
философского текста, перейдя через который интерпретатор рискует оставить
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера
27
в стороне не только субъективную интенцию этого автора, но и саму
суть дела, на выявление которой текст был направлен? Или же
история философии как философская наука вообще должна отказаться
от актуализирующих переинтерпретаций текстов традиции,
вернувшись к объективизму и филологическому критицизму XIX
столетия? Даже если такого рода «познание» философских образцов
окажется возможным, например, благодаря развитию современной
лингвистической методологии, останется открытым вопрос о том,
будет ли оно иметь собственно философскую значимость.
Изменит ли объективное «познание» историко-философских образцов
что-то в нашем понимании той сути дела, ради постижения которой
они и были созданы?
Рассмотрение подобных вопросов небезынтересно в связи с
соотношением хайдеггеровского философского начинания и
предшествовавшей ему истории философии. Необходимость такого соотношения
заключается, с одной стороны, в том, что для современного хайдегге-
роведения указанное отношение остается недостаточно
определенным. С другой же стороны, даже на первый взгляд видно, что учение
Хайдеггера таит в себе еще в подавляющей своей части не
осмысленный потенциал трактовки сущности исторического измерения
философии. Особо можно указать на конкретные интерпретации
философской мысли того или иного философа прошлого, проведенные
Хайдеггером на разных этапах его творческого пути. Речь здесь идет,
во-первых, о более или менее известных в отечественной
исследовательской среде интерпретациях Декарта, Канта, Ницше. Но,
во-вторых, к сожалению, до сих пор значительное число интерпретативных
работ Хайдеггера остаются либо неизвестными отечественным
исследователям, либо лишь в малой степени включенными в значимые
дискуссии. К данной группе работ можно отнести работы Хайдеггера
по философии Лейбница, Шеллинга, Гуссерля и т. п.
Наконец, в высшей степени актуальным и вместе с тем
спорным для истории философии остается методологическое значение
хайдеггеровского замысла деструкции истории онтологии. Под
вопросом остается, можем ли мы сейчас, после Хайдеггера, вообще
относиться к истории философии и наиболее значимым ее образцам
так, как это было до Хайдеггера, или его деструкция необратимо
изменила историко-философский ландшафт настолько, что
представители истории философии как дисциплины вынуждены либо
следовать за Хайдеггером, нередко слепо подражая ему, либо прилагать
усилие к новой концептуализации историко-философского процесса
как такового.
Один из известных толкователей философии Хайдеггера — Г. Фи-
галь однажды отметил в своей книге «Мартин Хайдеггер. Феноме-
28
Предисловие
нология свободы»: несмотря на то что Хайдеггер, бесспорно,
принадлежит к самым значительным философам XX столетия, все же
нельзя сказать, что его работы в актуальных философских дебатах
присутствуют самопонятным образом. Хайдеггера, правда, читают
и обсуждают, но он не считается бесспорным классиком философии.
Свой вклад в прояснение значения философии Хайдеггера для
актуального состояния философских дискуссий в русскоязычном
пространстве так же призвана внести данная антология.
Отметим, что независимо от того, осуществится ли такого рода
признание или нет, уже сейчас невозможно не признать, что
философия не может быть после Хайдеггера такой, какой она была до него.
В этом смысле как раз игнорирование хайдеггеровской философии,
а отнюдь не ее критика является скорее свидетельством отсутствия
в актуальном поле философской работы того или иного
мыслительного начинания. Это обусловливается тем, что именно Хайдеггер
был мыслителем, предложившим радикальный пересмотр
предмета, метода и способа осуществления философской работы — с
одной стороны, в тесной связи с традиционными представлениями,
а с другой стороны, в разрыве с традицией и претензией на
принципиально новое, другое начало.
Вероятно, лучшим способом показать значение Хайдеггера для
современной философии — это провести анализ того, как его идеи
воспроизводятся в последующей мысли. В этой связи ведущим
вопросом для составителей данной антологии был вопрос о том, как
вообще возможно продолжение философии после Хайдеггера. В
конечном счете наиболее интересным было бы показать
действительные образцы продуктивного, а не подражательного использования
мысли Хайдеггера в современном философском контексте. Именно
это ставилось в качестве сверхцели, когда возник замысел создать
данное собрание коллективной рецепции хайдеггеровской
философии в рамках русской традиции.
24.10.2019 г.
Ю. М. Романенкб, С. А. Коначева,
А. Б. Паткуль, А. Э. Савин,
А. В. Михайловский, Н. А. Артеменко
I
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX века.
M. ХАЙДЕГГЕР И РУССКАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Н.А.БЕРДЯЕВ
Я и мир объектов. Опыт философии одиночества
и общения. Париж, 1934
<Фрагменты>
Размышление 2. Субъект и объективация.
Раздел I. Субъект познания и человек
Казалось бы, что в экзистенциальной философии Гейдеггера
и Ясперса должна была бы быть поставлена проблема человека*.
Ведь онтология Гейдеггера есть онтология человеческого
существования. Поэтому забота, страх, власть обыденности (das Man),
смерть, падшесть мира принадлежат для него к сфере онтологии,
а не психологии. Так же у Ясперса пограничное положение человека
(Grenzsituation) имеет метафизическое значение, равно как и
проблема коммуникации между «я». И все-таки у Гейдеггера и у
Ясперса не поставлена по-настоящему проблема человека, у них нет
философской антропологии как основы всей философии. Они много
дают для построения философского учения о человеке, но сами его
не строят. Остается непонятным, что же такое человек, почему
исключительно в его существовании и судьбе раскрывается структура
бытия. Непонятно также, откуда берется сила познания у человека.
Ясперс тем отличается от Гейдеггера, что мало верит в возможность
объективной, наукообразной метафизики и онтологии и считая
метафизику более субъективно личной, чтением символов.
Раздел П. Экзистенциальный субъект и объективация.
Познание и бытие. Раскрытие существования в субъекте.
Объективация и проблема иррационального
В современной философии особенно Гейдеггер и Ясперс
являются представителями экзистенциальной философии. Гейдеггер
* См. Heidegger «Sein und Zeit» и Jaspers, три тома «Philosophie».
32 H. A. Бердяев
делает основное различие между существованием в себе и
существованием, выброшенным в мир, которое есть Dasein*. Бытие в мире,
Dasein, подчинено заботе, страху, овременению, das Man
(обыденности). Трагизм смерти, определяемой конечностью бытия,
притупляется обыденностью Dasein и усиливается, когда существование
возвращается к себе. Existenz есть бытие, к которому Dasein имеет
то или иное отношение. Dasein есть существование в мире. Seiende
я сам, мое. Сущность Dasein в Existenz. Огромное значение у Гей-
деггера имеет In-der-welt-sein, выброшенность в Dasein. Это и есть
падшее бытие. Субстанция человека для него есть существование.
Важно существование бытия, а не только сущность бытия. Existenz
должно быть дано преобладание над Essenz. Гейдеггер создает
философию экзистенций, а не философию эссенций. Dasein в мире
открывается Гейдегтеру, как забота, и оно страшно. Страх и есть сам
мир. Быть в мире есть уже падение. Dasein падает в das Man.
Падение есть онтологическая структура Dasein. Совесть зовет Dasein
из покинутости в das Man. Dasein есть виновность. Забота,
характеризующая Dasein, есть ничтожество. Но непонятно, откуда у Гейдег-
гера раздается голос совести. Гейдеггер антиплатоник. У него нет
духа. И его пессимистическая философия есть не столько
философия Existenz, сколько философия Dasein. Его онтология есть
онтология ничто, которое ничтоствует. Он совсем не раскрывает, что
такое существование, не выброшенное в мир. Но философия Гейдег-
гера, стремящаяся быть Existenz Philosophie, занята совсем
другими проблемами, чем те проблемы, которыми обыкновенно была
занята философия, — заботой, страхом, обыденностью, падшестью,
смертью и т. п. И это проблемы онтологии, а не психологии. Теми же
проблемами занят Ясперс, более мне близкий, чем Гейдеггер**. Он
более говорит о пограничном положении человека, о проблеме
коммуникации между *я». Ясперс решительно настаивает на том, что
я сам как существование есть иное, чем мировое бытие, я сам не
объект для себя. Существование не есть объект***. Это у Ясперса яснее
выражено, чем у Гейдеггера. Мое экзистенциальное «я» у Ясперса
трансцендентно времени, оно отличается от эмпирического «я».
Существование во времени более времени. Центральна у Ясперса
идея трансцендирования. Метафизика для него не есть наука, это —
функция языка, которая делает понятным трансцендентное в
сознании существования. Поэтому он придает огромное значение chiffre,
* См. его «Sein und Zeit».
*w См.: Jaspers Karl. Erster Band, Philosophische Weltorientierung; zweiter
Band, Existenzerhellung; dritter Band, Metaphysik.
*** Очень близок к этому Gabriel Marcel. См. его «Journal métaphysique»,
особенно приложение, которое прямо трактует вопрос об объективации.
Я и мир объектов
33
символам. Нужно читать писание законов. Философия
существования Геидеггера и Ясперса, самая интересная в современной мысли,
ставит человека перед бездной, и потому она трагична и
пессимистична. Вся почти новая философия, философия Декарта, Спинозы,
Лейбница, Канта, неокантианцев, позитивистов, находилась в
зависимости от развития наук, от научных открытий, в ней был сильный
натуралистический элемент, философия существования
преодолевает натурализм в философии, это ее несомненная и огромная
заслуга. Но философия Геидеггера и Ясперса находится в зависимости
от Киркегардта, и этим ослабляется ее оригинальность. <...> Между
Киркегардтом и Гейдегтером и Ясперсом есть все-таки
существенное различие. Киркегардт хочет, чтобы сама философия была
существованием, а не философией существования. Гейдеггер и Ясперс
строят философию о существовании. Они все-таки остаются в
академических философских традициях, хотят выработать философские
категории о существовании, превратить заботу, страх смерти в
философские категории, особенно Гейдеггер. Философская попытка
Геидеггера вырваться из тисков рационализированного и
объективизированного познания очень, конечно, замечательна и во многом
новаторская. Но понятиями и категориями можно познавать лишь
Dasein, лишь существование, выброшенное в мир, т. е.
объективированное или совершенно отвлеченное и пустое бытие. Понятие всегда
бывает об объекте. Самое же существование в себе, т. е. первичное
бытие, можно познавать лишь фантазией, символом, мифом. Это
в большей степени сознает Ясперс, чем Гейдеггер. В объективации
и выработке понятий об объектах, в сущности, гипостазируются
категории самой мысли и потому познаются эссенции, субстанции,
вещи, сам Бог превращается в вещь. Необъективированное
познание есть познание существования, познание личное и личным.
Поэтому у Геидеггера сильнее то, что он говорит о Dasein, чем то, что
он говорит об Existenz. Для него объективация есть падение, но он
сам производит объективацию. Existenz-Philosophie есть Ontologie
der Existenz. Но эта онтология не может строиться, как всякая
другая, не может оперировать обычными понятиями и категориями.
Понятие есть всегда «о чем-то», а не «что-то», в понятии нет
существования. Вл. Соловьев делал интересное различие между бытием
и сущим. Бытие — эта мысль есть. Сущее — я есмь. Происходит ги-
постазирование предикатов. Бытие есть предикат. Но сущее не
может быть предикатом, в этом смысле оно не есть бытие*. Вл.
Соловьев как будто бы хотел прорваться к конкретному существованию
за абстрактным бытием. С этой точки зрения он критиковал немец-
* См.: Вл. Соловьев. «Критика отвлеченных начал» и «Философские начала
цельного знания».
34
H. A. Бердяев
кий идеализм. Но его философия не есть философия существования,
он остается в тисках рационалистической метафизики, он не
обнаруживает себя в своей философии как существующего, он
обнаруживает себя существующим только в поэзии. Но экзистенциальное
суждение не есть только суждение о существующем, но и суждение
существующего. Существование нельзя вывести из суждения.
Бытие есть уже логизация и объективация, первично же
существование. Так, феноменология Гуссерля, к которой формально
примыкает Гейдеггер, не есть философия экзистенциальная. Для Гуссерля
реальные объекты непосредственно существуют в сущностях.
Очевидность не есть психическое состояние, но есть присутствие самого
предмета. Феноменология есть описание чистого сознания и
видение сущностей (Wesenheiten)*. Но видение сущностей не раскрывает
тайны существования. Также философия Н. Гартмана с его
трансобъективным не есть экзистенциальная философия. Хотя ценно
у него, что он понимает отношения между субъектом и объектом,
как онтологические**. Его диалектика субъекта и объекта, во всяком
случае, очень интересна. Более приближался к экзистенциальной
философии Дильтей, когда он исследовал не элементы и атомы
психической жизни, а ее целость и образы***.
Размышление 3. Я, одиночество и общество.
Раздел II. Я, ты, мы и оно. Я и объект. Сообщения между «я»
Существование раскрывается не только в «я», но и в «ты»,
и в «мы». Оно никогда не раскрывается лишь в «оно», в объекте.
Фрейд, несмотря на его философскую наивность, иногда
приближающуюся к материализму, делает различие между «я» и «оно», Ich
und Es, Moi и Soi****. В человеке есть безликий слой «оно», которое
может оказаться сильнее «я». Das Man Гейдеггера отчасти
соответствует Essein Бубера*****). Это и есть то, что я называю миром объективации
(не тождественной, конечно, с проблемой социального вообще). Мир
Dasein у Гейдеггера есть Mitwelt, мир сосуществования с другими.
Но проблема метафизической социологии у Гейдеггера не
поставлена и не углублена. Уже больше можно найти у Ясперса.
* Levinas. «La théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl».
rt См. его «Metaphysik der Erkenntnis».
'* См.: Dilthey. «Einleitung in die Geisteswissenschaften» и «Die geistige Welt.
Einleitung in die Philosophie des Lebens».
k* См.: Freud. Essais de psychanalyse. III. Le Moi et Soi.
** См. цитированную книгу Гейдеггера.
Н.А.БЕРДЯЕВ
Творчество и объективация.
Опыт эсхатологической метафизики //
Бердяев Н. А. Царство Духа и царство кесаря.
Москва, 1995. С. 164-286
<Фрагменты>
Часть I. Глава 1. Проблема познания и объективация.
Раздел 5. Истина выгодная, истина гибельная
и истина спасающая
Истина имеет два смысла: есть истина как знание о реальности
и есть истина как самая реальность. Истина есть не только идея,
ценность, но также существо, существующее. «Я есмь Истина».
Истина не есть то, что существует, а есть смысл, логос существующего.
Но этот смысл есть существующее, существующий. У Гейдеггера
истина существует, лишь поскольку существует Dasein. Истина не
существует вне и над нами, она возможна, потому что мы в истине.
Гейдеггер думает, что абсолютная истина есть остаток христианской
теологии. Но в действительности именно христианство должно
отрицать истину вне существа и существующего. Истина есть
творческий акт духа, в котором рождается смысл.
Часть II. Проблема бытия и существования.
Глава 3. Раздел 2. Примат свободы над бытием.
Детерминизм бытия и свобода. Бытие и первичная страсть.
Бытие как застывшая свобода и застывшая страсть.
Бытие как природа и бытие как история
Последняя попытка построить онтологию принадлежит Гейдег-
теру. При этом Гейдеггер претендует на то, что его онтология
экзистенциальна*. Нельзя отрицать большой напряженности, сосредо-
* См. его «Sein und Zeit».
36
H. A. Бердяев
точенности и своеобразия мысли Гейдеггера. Это — один из самых
серьезных и интересных философов нашего времени. Немного
раздражает у Гейдеггера погоня за новыми словосочетаниями, новой
терминологией, хотя он в этом большой мастер. Во всяком
метафизическом вопросе он справедливо видит всю метафизику. Нужно
признать показательным и поразительным, что последняя
онтология, к которой пришел очень одаренный философ Запада, оказалась
не учением о бытии, а учением о небытии, о ничто. И последняя
мудрость о жизни мира выражается словами: Nichts nichtet*. Что Гей-
деггер ставит проблему ничто, небытия и, в отличие от Бергсона,
признает его существование, нужно признать его заслугой. В этом
можно увидеть родство с учением Беме об Ungrund'e**. Без ничто
не было бы ни личного существования, ни свободы. Но Гейдеггер,
быть может, самый крайний пессимист в истории философской
мысли Запада, во всяком случае, более крайний и
последовательный, чем Шопенгауэр, который знал много утешений. И он, в
сущности, не дает ни философии бытия, ни философии Existenz, он
дает лишь философию Dasein. Он целиком остается в выброшенно-
сти человеческого существования в мир. Но выброшенность в мир,
в das Man, есть падшесть. Для Гейдеггера падшесть принадлежит
структуре бытия, бытие внедрено в обыденность. Он учит, что
забота есть структура бытия. Забота овременяет бытие. Но с какого
возвышения можно это увидеть, как осмыслить это? Непонятно,
откуда у Гейдеггера берется сила познания. Он видит человека и мир
исключительно снизу и видит только низ. Он — человек,
потрясенный этим миром заботы, страха, смерти, обыденности. Его
философия, в которой ему удалось увидеть какую-то горькую истину, хотя
и не последнюю, не есть экзистенциальная философия, в ней не
чувствуется глубина существования. Эта философия остается во власти
объективации. Выброшенность в мир, в das Man, и есть
объективация. Но, во всяком случае, этот опыт онтологии уже почти ничего
общего не имеет с онтологической традицией, идущей от Пармени-
да и Платона. И не случайно, полно значения, что последняя из
онтологии упирается в ничто, которое ничтоствует. Не значит ли это,
что нужно отказаться от онтологической философии и перейти к
экзистенциальной философии духа, которая не есть бытие, но не есть
и небытие? На нашем пути стоит проблема индивидуального и
универсалий, может быть, самая трудная из проблем.
Ничто отрицает (делает ничем) (нем.). [современный перевод: * ничто само
ничтожит». См.: Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М.
Время и бытие / Сост., пер., коммент. и указатели В. В. Бибихина. М., 1993.
С. 22 (прим. сост.)].
** См. Heidegger «Was ist Metaphysik?».
Творчество и объективация
37
Часть IV. Проблема истории и эсхатология.
Глава 8. Раздел 1. Мир как история. Зоны. Мессианизм
и история. Космическое, время историческое
и время экзистенциальное. Профетизм и время
Эсхатологическое христианство есть христианство
воскрешающее. Безбожие очень современной философии Гейдеггера в том, что
для нее забота и современность бытия непобедимы*. Бытие к смерти
есть забота, забота есть бытие к смерти. И это — последнее слово,
слово, противоположное религии воскресения, религии
эсхатологической. Философия Гегеля по-другому безбожна, в ней нет сознания
конфликта личного и универсального, нет божественной жалости
к страдающему человеку, к страдающей твари. Примирение с
ужасом истории, со смертоносностью прогресса возможно лишь при
великой надежде на воскресение всех живших и живущих, всякого
существа, страдавшего и радовавшегося.
* См. его «Sein und Zeit».
Н.А.БЕРДЯЕВ
Царство Духа и царство кесаря. Париж, 1951
<Фрагменты>
1. Гносеологическое введение: Борьба за истину
Более интересная экзистенциальная философия, чреватая
будущим, склонна утверждать не старое объективированное
понимание истины, а субъективно-экзистенциальное. Но это не означает
отрицания истины. У Киркегарда в субъективном и
индивидуальном открывается абсолютная истина. Новейшие течения
экзистенциальной философии очень противоречивы в отношении к истине.
Гейдеггер, которого нельзя признать экзистенциальным
философом, в своей брошюре, посвященной проблеме истины,
склоняется к онтологическому и объективному пониманию истины. Но это
классическое понимание истины выражено в новой терминологии
и носит своеобразный и более утонченный характер. В конце концов
непонятно, почему человек (Dasein) может у него познавать истину.
Опора истины на свободу противоречит онтологическому
пониманию истины, при котором центр тяжести лежит в открывающемся
сущем. В отличие от других экзистенциалистов, Гейдеггер держится
за старое понимание истины, но по-новому выраженное.
<...> Но вот что особенно важно установить. Ни материализм,
ни феноменализм (в разных типах позитивизма), ни
экзистенциализм типа Гейдеггера не могут обосновать самого возникновения
проблемы Истины. Сейчас особенно важен Гейдеггер. Совершенно
непонятно, как человек (Dasein) может возвыситься над низостью
мира, выйти из царства das Man. Для этого в человеке должно быть
высшее начало, возвышающее его над данностью мира.
Экзистенциалисты антирелигиозного типа так низко мыслят о человеке, так
понимают его исключительно снизу, что остается непонятным самое
возникновение проблемы познания, возгорание света Истины.
Царство Духа и царство кесаря
39
<...> Человек, закупоренный в себе, и есть существо несвободное,
не определяемое глубиной, а определяемое извне мировой
необходимостью, в которой все разорвано, враждебно одно другому,
выпало из глубины, т. е. не духовно. Когда экзистенциалисты Гейдеггер,
Сартр и др. говорят о выброшенности человека (Dasein) в мир и
обреченности человека этому миру, то они говорят об объективации,
которая делает судьбу человека безысходной, выпавшей из
глубокой реальности. Об этом почти невозможно спорить, это есть дело
последнего свободного избрания. Я не называю такую философию
экзистенциальной, потому что она находится во власти объектно-
сти. Разница этой философии со старой классической
онтологической философией в том, что она встречается с объективностью
абсурдного, бессмысленного мира, в то время как первая думала, что
она встречается с объективностью разума и смысла бытия. Это есть
очень серьезный кризис философской мысли. Но и та и другая
направленность остается во власти объектности.
<...> Человек живет, чтобы умереть, его жизнь есть жизнь
к смерти. Уже Фрейд считал инстинкт смерти самым благородным
в человеке, о котором он мыслил очень низко. Гейдеггер, в
сущности, в смерти видит единственное настоящее торжество над
низменным das Man, т. е. видит в ней большую глубину, чем в жизни.
Человек есть конечное существо, в нем не раскрывается бесконечность,
и смерть принадлежит к его структуре. Сартр и Симон де Бовуар
готовы видеть в смерти положительные достоинства. Мне
представляется эта современная направленность поражением духа,
упадочностью, смерто-божничеством. Бесспорно, достоинство человека
в бесстрашии перед смертью, в свободном принятии смерти в этом
мире, но для окончательной победы над смертью, для борьбы против
торжества смерти.
^^
Н.А.БЕРДЯЕВ
Экзистенциальная диалектика божественного
и человеческого. Париж, 1952
<Фрагменты>
Гл. II. Диалектика божественного и человеческого
в германской мысли. Значение Ницше.
Диалектика троичности
У Гейдеггера, самого сильного из современных
«экзистенциальных» философов, мы видим уже иное состояние. Киркегард имел
влияние на его проблематику, но Бог заменен у него миром, и
безнадежность не прорывается ни к чему иному. Он хочет построить
онтологию, и построить ее таким же путем, каким строит ее
рациональная академическая философия. Это противоречит коренным
образом экзистенциальной философии, которая не допускает
возможность онтологии, всегда основанной на объективации и
рационализации*. Гейдеггер прошел через школу католической теологии,
и это чувствуется в его учении о падшести Geworfenheit Dasein'a.
Но разрыв человеческого существования (Dasein) и божественного
у него достигает предельного выражения. Dasein есть лишь in-der-
Welt-sein. Ничто есть основа Dasein. Это философия ничто. Dasein
заменяет субъект. У него, как и у Сартра, феномен, то, что себя об-
См. М. Heidegger «Sein und Zeit» и превосходную книгу Woehlens «La
Philosophie de Martin Heidegger»; см. также Sartre «L'être et le néant».
Сартр решительно отрицает «иной мир», и его философия прикрыта такой
терминологией, как «онтология», «трансцендентное» и пр., которая вводит
в заблуждение.
[Речь идет о книге: WaelhensA. de. La philosophie de Martin Heidegger,
Louvain, 1942. Alphonse de Waelhens (1911-1981) — французский
католический философ и историк философии, специалист в области
феноменологии и психоанализа. Книга о Хайдеггере — первая большая работа этого
автора и первая посвященная немецкому философу монография на
французском языке (прим. сост.).]
Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого 41
наруживает, имеет иной смысл, чем у Канта. Быть в мире есть
забота, бытие и есть забота. Отсюда овременение. Мысль Гейдеггера
подавлена объектным миром заботы. У него нет духа, нет свободы,
нет личности. Das Man, обыденность, и есть субъект повседневного
существования, из которого, в сущности, нет выхода. Метафизика
есть внедрение человеческого существования в хаос грубого
существования. Философия Гейдеггера принадлежит совсем другой
эпохе, чем эпоха позитивистов, материалистов и атеистов XIX века.
У него есть первородный грех, наследие католичества, у него
существование человека и мира verfallen, падшие. Но откуда произошло
падение? Откуда берется вина? Есть замаскированные моральные
оценки. Наследием идеализма является то, что истина не есть
соответствие с объектом, что человек сообщает истину познаваемому
миру. Но нет оправдания возможности познания. Вместе с Dasein —
историческое бытие. История открывает универсальное в
единственном. Создание будущего есть проекция смерти. Гейдеггер
говорит о Freiheit zum Tode. Цель нашего существования — свобода
посмотреть прямо в глаза смерти. Искусство, политика, философия
борются с хаосом, с грубым первичным бытием. Но откуда берется
для этого сила? Метафизика Гейдеггера связана с конечностью
человеческого существования. В человеке нет прорыва в бесконечность.
Мир есть мир заботы, страха, покинутости, обыденности,
страшный мир. Это метафизика предельной богооставленности. Но
божественное не является ни под каким псевдонимом, как у Фейербаха,
М. Штирнера, Ницше, Маркса, и нет никакого довольства миром.
Пессимизм Гейдеггера более последовательный и страшный, чем
пессимизм Шопенгауэра, который знал утешение.
Глава IV. Страх
Для Киркегарда и для следующего за ним в этом Гейдеггера
Angst ставит перед бездной небытия*. Это есть событие на границе,
на границе внешнего, примитивного мира и сверх-я. Для этих
философов angoisses страх есть реакция перед кем-то и чем-то, что
представляется нам угрожающим разрушить наше собственное Dasein.
Angst же не вызывается чем-то определенным, оно нас ставит перед
миром в чистом виде. У Гейдеггера Dasein убегает в das Man от
неизвестного, чуждого. Страх есть томление, впавшее во внутренне
мирское. Dasein для него есть забота, т. е. бытие, выброшенное в мир,
в котором оно потеряно. Забота есть постоянная смерть. Принятие
смерти есть нечто родственное amor fati Ницше. Нравственное со-
* См. превосходную книгу Woehlens «La Philosophie de Martin Heidegger».
42
H. A. Бердяев
знание превосходит das Man и уничтожает его. Откуда это у Гейдег-
гера? Angst связано с ничто. Das Nichts selbst nichtet. У Киркегарда
Angst носит скорее психологический характер, у Гейдеггера же
космический. Но ужас перед смертью и перед ничто может быть лишь
в том случае, если есть личность, этот ужас существует лишь для
личности.
У Гейдеггера все идет снизу, а не сверху и никакого верха не
существует. Остается непонятным, откуда берется высшее и судящее,
которое у него все-таки есть. Это непонятно и у Ницше. В этом
отношении положение Киркегарда лучше. Страх есть порождение
богооставленности. Но покинут ли мир и человек Богом, или Бог
покинут человеком и миром, во всяком случае богооставленность
предполагает существование Бога. Я употребляю русское слово
«страх» за отсутствием слова Angst, но в него для меня входит ужас.
Человек поставлен перед бездной ничто, испытывает страх и ужас,
потому что он отделен от Бога. Страх есть результат разорванности,
раздельности, отчужденности, покинутости. Психологически страх
есть всегда страх перед страданием. Человек испытывает
страх-ужас, когда от страдания наталкивается на непреодолимую стену,
за которой небытие, пустота, ничто. Это ничего общего не имеет
с буддийской нирваной, которая есть выход и просветление*. Этот
страх-ужас не следует также смешивать с тем, что Р. Отто называет
Mysterium tremendum и что означает первичное чувство
божественности**.
^а
См. Suzuki * Essais sur le Bouddhisme Zen».
'* Cm. R. Otto «Das Hellige».
Н.А.БЕРДЯЕВ
Истина и откровение. СПб., 1996
<Фрагменты>
Глава I. Экзистенциальная философия и духовный опыт.
Трансцендентальный человек
Хотя все классификации сфер знания мне представляются
относительными, но все же книгу свою должен решительно отнести
к сфере философии, а не теологии. К сожалению, экзистенциальная
философия стала модной, особенно благодаря Сартру. Модным стал
и малодоступный, трудный Гейдеггер, которого мало кто читал.
Серьезная философия не должна была бы становиться достоянием
моды, это ей не к лицу. И тем не менее течения экзистенциальной
философии обнаруживают кризис традиционной философии и
вступление на новый путь. Обнаруживается разрыв с греческим
интеллектуализмом, унаследованным схоластикой, с рационализмом
Декарта, с германским идеализмом. Экзистенциализм можно разно
определять, но самым важным представляется мне определение, что
это есть философия, которая не хочет объективирующего познания.
Существование не может быть объектом познания. Объективация
означает отчуждение, обезличивание, утерю свободы, подчинение
общему, познание через понятие. Вся почти история философской
мысли стояла под знаком объективации, хотя это выражалось в
разных типах философии. Эмпиризм также стоял под знаком
объективации, как и самая крайняя форма рационализма. Эту объективацию
можно открыть и в более новых формах прагматизма и философии
жизни, всегда имеющей биологический привкус. И поскольку
Гейдеггер и Сартр хотят строить онтологию, пользуясь рациональным
аппаратом понятий, они находятся во власти объективирующего
познания и не порывают с традицией, идущей от Парменида.
Бытие есть уже порождение объективирующей мысли, оно объективно.
Кирхегардт признавал экзистенциальным лишь познание в субъек-
44
H. A. Бердяев
тивности, а не в объективности, в индивидуальном, а не в общем.
В этом он был инициатором. Наиболее верным ему остается Ясперс.
Кирхегардт повернул к субъективности и хотел выразить свой
неповторимый индивидуальный опыт. В этом его значение. Но он не стал
вполне по ту сторону различения субъекта и объекта, он сохранил
это различие, став на сторону субъекта. Другое определение
экзистенциальной философии заключается в том, что это философия
экспрессионистская, т. е. она хочет выразить экзистенциальность
познающего, а не отвлечения от этой экзистенциальности, как хочет
философия объективирующая. В этом смысле у всех великих
философов можно открыть элементы экзистенциализма за процессом
объективации. Существование (Existenz) не есть эссенция, не есть
субстанция, а есть свободный акт. Экзистенции принадлежит
примат над эссенцией. В этом смысле экзистенциальная философия
родственна всякой философии опыта и философии свободы. Сфера
свободы у Канта есть в сущности Existenz, но сам он не раскрыл
этого. Глубина Existenz есть свобода. Это есть у Ясперса, который себя
связывает с Кантом, это есть и у Сартра, который с Кантом имеет
мало общего. То, что происходит в экзистенциальной сфере,
находится вне каузальной связи. Каузальная связь существует лишь
в сфере объективации. Поэтому, напр., недопустимо говорить, что
Бог есть причина мира. Между Богом и человеком не может
существовать каузальных отношений. Бог ничего не детерминирует. Бог
не есть сила «вне» или «над ». Поэтому традиционное представление
об отношениях между свободой и благодатью в такой форме
устарело, оно остается в сфере объективации. В действительности все
находится в экзистенциальной сфере, в которой нет никакой объектно-
сти. Мы должны погрузиться в глубину субъектности, но для того,
чтобы выйти из самого противоположения субъекта и объекта. Гей-
деггер и Сартр находятся в сфере объективированного мира, мира
вещного, и в этом источник их пессимизма. У Гейдеггера Dasein
существует лишь выброшенным в мир и там испытывающим Angst,
заботу, безнадежность, смерть как неизбежный результат своей
конечности. Не помогает и внемирность свободы, которую признает
Сартр. Это связано с отрицанием первичной реальности духовного
опыта. Единственная метафизика, которую может признать
экзистенциальная философия, есть символика духовного опыта. Так
и думает Ясперс, но по-иному, потому что у него нет по-настоящему
духовного опыта.
Новый путь философии предполагает пересмотр традиционной
философии, на которую опирались христианская теология и
понимание христианства, неизбежно предполагающее известную
философию, в данном случае философию, которую я называю объективи-
Истина и откровение
45
рованной <... > Существуют разные типы экзистенциализма, прежде
всего тип религиозный и тип атеистический. Первый тип
экзистенциализма представлен отчасти Бл. Августином (имею в виду его как
философа, которого ценю, а не теолога, которого я очень не люблю)
и более всего Паскалем, Кирхегардтом и, конечно, Достоевским,
которого нужно рассматривать и как метафизика. Второй тип
представлен главным образом Гейдеггером и Сартром, а также теми,
которые следуют за Ницше, явлением очень сложным. Различие
связано прежде всего с тем, признают или нет существование духовного
опыта как первичного и качественно своеобразного,
предшествующего всякой объективации. Духовный опыт внутреннего человека
необъективированный, он есть существование, предшествующее
образованию мира объектов и вещей. <...> Человек необъясним
исключительно снизу, как хотели Маркс и Фейербах, как хотят Гей-
деггер и Сартр, как хотят все материалисты. В человеке есть что-то
совершенно необъяснимое снизу, что-то привходящее из высшего
мира. Никакие натяжки не могут дать удовлетворительного
объяснения высшей природы, и не только духовно высшей, но и
оккультной, не раскрывающейся средне-нормальному сознанию
человеческой природы. Человек есть трагическое существо именно потому,
что он находится на границе двух миров, высшего и низшего, и
заключает в себе оба мира.
Глава VI. Новые формы безбожия. Оптимистическое
и пессимистическое, дневное и ночное безбожие.
Польза безбожия для очищения от рабьего социоморфизма
и идолопоклонства
Последняя, новая форма безбожия явлена в некоторых
течениях экзистенциальной философии, прежде всего у Гейдеггера и
Сартра. Экзистенциализм Паскаля, Кирхегардта и мой собственный
носит религиозный характер. Ясперса, очень связанного с
Кирхегардтом, тоже нельзя назвать атеистом, у него по-настоящему есть
трансцендентное. Но иной характер носит экзистенциализм
Гейдеггера, и особенно Сартра. Автор «Sein und Zeit» прошел
католическую школу, и в его философии, которая хочет обойтись без Бога,
есть явные следы католической теологии. Мир у него падший, хотя
и неизвестно, откуда он упал, так как высоты у него нет. Человек
у него познается исключительно снизу. И, как и всегда в
подобного рода миропонимании, остается непонятным, как высшее может
создать низшее. Это сознательно утверждает материализм, но Гей-
деггер не материалист. Бытие — падшее и виновное по своей
структуре. Это католическая теология без Бога. Философия очень песси-
46
H. A. Бердяев
мистическая, более пессимистическая, чем у Шопенгауэра. Многое
является наследием германской пессимистической метафизики,
но, так же как и Ницше, он не хочет знать утешений, напр.,
утешений, которые дает буддизм. Dasein, термин, который заменяет
человека, субъекта, сознание, выброшен в этот падший мир. В этом
мире Dasein испытывает страх, Angst, заботу, конечность своего
существования, т. е. смерть. Dasein подчинен Das Man, обыденному,
банальному существованию, в котором ничто не мыслит и не судит
самостоятельно, а исключительно так, как мыслят и судят другие,
т. е. безыменно и безлично. Но сам Гейдеггер возвысился над Das
Man. Это возвышение необходимо для самого познания. Гейдеггер
отрицает существование глубины, но голос из глубины у него
все-таки слышится. В нем остается двойственность. Огромную роль у него
играет небытие, ничто, и можно даже думать, что его философия
есть философия небытия. Смерти принадлежит последнее слово,
в человеке нет бесконечности, все в нем конечно. Но у Гейдегге-
ра остаются какие-то воспоминания о старой германской мистике.
Поэтому небытие у него может быть сближено с Ungrund Я. Беме.
Тогда его метафизика может быть истолкована как апофатическая
теология с пессимистической окраской. Гейдеггер не проповедует
атеизма, но его учение о Dasein и о Sein, его понимание мира
остается атеистическим, и это атеизм нового типа, непохожий на атеизм
XIX века. В отличие от Гейдеггера, Сартр заявляет себя атеистом
и даже гордится тем, что он самый последовательный атеист.
5
Н.А.БЕРДЯЕВ
Самопознание. Тяжелые годы
(Добавления 1940-1946 годов)
<Фрагменты>
В конце сентября 1945 года Лидия* умерла. Это было одно из
самых мучительных и вместе с тем внутренне значительных событий
моей жизни. Смерть Лидии не была мучительной, она была
духовно просветленной. Переживая ее смерть, я многому научился. Это
было для меня переживание огромной важности. У Лидии была
необыкновенная сила веры, такой силы веры я ни у кого не
встречал. Смерть ее была высокой вследствие ее напряженной
духовности. Она до конца сохранила ясность сознания, и все, что говорила,
вернее, писала, перед смертью, было прекрасно. Почти до самого
конца она писала стихи. Я хочу издать ее стихи. Она сама к этому
не стремилась, у нее не было никакого честолюбия, был большой
аристократизм. Она все время читала мистические книги и делала
заметки о прочитанном. Она все более сознавала себя
принадлежащей к грядущей религии Святого Духа, но сохраняла неразрывную
связь с церковью. Перед сном я каждый день заходил в комнату
Лидии, и мы вели духовно-мистические беседы. Я так любил это время
дня и все время вспоминаю об утраченном. Не могу примириться
со смертью близкого, любимого существа. Не могу примириться
с безвозвратностью, с образовавшейся пустотой. Не могу
примириться с конечностью человеческого существования, которую Гей-
дегтер считает последней истиной. Не может не быть требования
встречи и вечной жизни вместе.
* Лидия — Лидия Юдифовна Бердяева (в девичествые Трушева, в первом
браке — Рапп) (1871-1945) — жена Н. А. Бердяева, русский поэт, активный
деятель русской эмиграции. 7 июня 1918 г. перешла в католичество,
участвовала в работе Русского апостолата. Книга стихов при жизни Бердяева издана
не была. См.: Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа / Сост., авт. преди-
сл.,и коммент. Е. В. Бронникова. М.: Мол. гвардия, 2002 (прим. сост.).
^ч^
В. Э. СЕЗЕМАН
M. Heidegger. Sein und Zeit. 1.1927 [Рецензия]
Многих читателей, и даже серьезно интересующихся
философией, книга Heidegger'a, быть может, разочарует. Что в ней,
собственно, по существу нового? Разве развиваемые автором взгляды
не сводятся к разновидности того самого феноменологически
обоснованного «трансцендентального идеализма», на котором
остановился Гуссерль, но от которого уже начали отходить его наиболее
талантливые ученики?
И тем не менее это замечательная книга; несомненно, самая
замечательная из всех, которые вышли за последние 10-15 лет; по
оригинальности и глубине с ней могут быть сопоставлены лишь самые
лучшие произведения М. Шелера. Правда, для чтения она
представляет немалые затруднения. Необходимо осилить крайне сложную
и громоздкую терминологию автора, намеренно и нарочито
уклоняющуюся от установившейся философской традиции. Но тот, кто
не пожалеет труда, чтобы вникнуть в нее и освоиться с ней, будет
вполне вознагражден: он почувствует, что это — книга высокого
духовного напряжения, сочетающая поразительную тонкость и
меткость анализа с широтой систематического синтеза. И он поймет, что
терминология Heidegger'a не случайна и искусственна, а вытекает
из стиля его мышления и органически связана с его философским
мировоззрением. Труд Н. — онтологический: основная и
руководящая тема его — решение вопроса: что такое бытие вообще, бытие как
таковое? В чем его смысл? Доступ к его решению открывает
феноменология, не как особая наука, а как тот специфический метод
исследования, который самим «явлениям» представляет возможность
обнаружить и показать то, что они есть на самом деле. Отсюда же
вытекает, что подход к теме онтологии, к бытию не может быть
внешним; он должен сам иметь свое бытийное (онтическое) основание.
Иначе говоря, сама онтология должна быть ничем иным, как
обнаружением самого же бытия; значит, исходным пунктом в анализе
бытия может служить лишь то бытие, которому присуще и свой-
M. Heidegger. Sein und Zeit
49
ственно знание и понимание как самого себя, так и бытия вообще.
Таково то бытие, которое есть мы сами, — бытие сознание (по
терминологии Н. — Dasein). Анализу и раскрытию его смысла посвящена
вся первая часть (вторая еще не вышла) труда Heidegger'a.
Сущность бытия-сознания (Dasein) — в его существовании
(Existenz). Оно появляется не в тех или иных качествованиях
(Sosein), как бытие вещное, а в свойственных ему образах или
модусах бытия. Все же эти модусы бытия определяются общей
структурой бытия-сознания, характеризующей его как целое. Структура
эта есть забота (Sorge). Заботу Н. понимает чисто онтически. Она —
априорное начало бытия-сознания, то, что обусловливает собою
все те его моменты, которые изучаются психологией (воля,
влечение, мышление), гносеологией (познание, понимание), этикой
(совесть, нравственная ответственность, решимость и др.). Забота сама
по себе сложное единство, которое образуется (констатируется)
следующими тремя основными моментами: 1) бытием-в-мире (In der
Welt-sein). Это значит: бытие-сознание — не есть нечто
обособленное и замкнутое в себе, что, существуя само по себе, как бы случайно
сталкивается с иным бытием, — с миром, и, столкнувшись с ним,
входит в общение с этим по существу чуждым ему миром и
познает его. Нет, поскольку оно есть, оно (есть) в мире, и лишь
благодаря своему бытию в мире оно есть то, что оно есть. Бытие-в-мире —
первое и необходимое условие возможности познания. Мир открыт
бытию-сознанию, он доступен его пониманию, потому что оно есть
лишь, поскольку находит себя в нем. Стало быть, понимание и
познание мира сущностно связано с самим бытием-сознанием. Оно один
из модусов его существования. Конечно, это первичное понимание
не есть еще познание в строгом смысле (познание научное,
философское). Оно заключается первоначально в самой обыденности
существования бытия-сознания, в тех непосредственных отношениях,
в которых оно находится с окружающей средой. Мир является ему
первоначально не просто как нечто иное, как некоторое наличное
бытие, а как мир вещей, среди которых оно вращается и в котором
ориентируется мир вещей, имеющих для него то или иное
житейское значение (в смысле годности или негодности) и так или иначе
им употребляемых. Первичная форма бытия, в которой вещи даны
бытию-сознанию, есть поэтому их «сподручность» (Zuhandenheit).
И только когда орудование вещами и связанное с ним отношение
к ним, как к предметам житейского обихода, сменяется
созерцательной установкой, отвлекающейся от их житейского значения
и присматривающейся к их «виду», за сподручностью вещей
открывается их простое наличие (Vorhandensein), т. е. то бытие, которое
составляет предмет естествознания. Но и в том и в другом случае
50
В. Э. Сеземан
«Бытие-в-мире» — бытия-сознания определяется прежде всего как
некоторая погруженность в мир вещей, как бытие, обращенное к
вещам и в обхождении с ними себя осуществляющее, проявляющее
(Sein bei... der besorgten Welt). Это второй конститутивный момент
заботы.
Однако в обращенности к вещам и в обхождении с ними бытие-
сознание не довлеет себе; этот модус существования необходимо
предполагает то, ради чего он есть и чему он обязан своим
значением и смыслом. Но это «ради чего» не есть какая-либо цель,
внешняя по отношению к самому бытию-сознанию, за его пределами
лежащая; это ни что иное и как его «самость», его подлинное бытие,
которое оно носит в себе, как присущую ему внутреннюю
возможность. Для бытия-сознания существенно, что оно никогда не
исчерпывается своею собственною наличностью, оно необходимо
выходит за свои собственные пределы, предвосхищая свои возможности
(Sich-vorweg-sein); a предвосхищая их, оно тем самым их и
осуществляет. В этом смысле сознание-бытие есть своя собственная
возможность (sein eigenes Seinkönnen), и в этом именно и заключается
третий конститутивный момент конкретной целостности заботы.
Итак, забота, находя себя (т. е. бытие-сознание) в мире, являет себя
в обращенности к вещам и в обхождении с ними, осуществляя тем
самым заложенные в бытии-сознании возможности. Однако
конкретное бытие заботы одним наличием указанных трех моментов
еще сполна не определяется; оно приобретает различный характер
в зависимости от того, который из двух последних моментов
получает в целом заботы преобладание: обращенность к вещам или
направленность на свои собственные возможности; оно может быть или
подлинным или неподлинным. Бытие в мире обнаруживается
прежде всего как погруженность бытия-сознания в окружающую среду;
не только материальную (мир вещей в указанном смысле), но и
социальную. Бытие в мире, стало быть, есть всегда и бытие с
другими (Miteinandersein), т. е. не простое существование многих, а
общение, бытие одного для другого, обусловливающее собою и бытие
каждого в отдельности. Но погруженность в среду неизбежно влечет
за собой и обреченность (Verfallen sein), подвластность среде бытия-
сознания. С самого начала своего существования «Dasein» находит
себя сопряженным с ней и определяемым ею в своих конкретных
возможностях. Подвластность (обреченность) среде означает,
однако, не подвластность тому или другому, определенной группе
людей, а подвластность тому безличному и безликому никто («Man»),
который есть и все и никто и который определяет обыденность
бытия-сознания со всеми, свойственными ей привычками,
представлениями, мнениями и оценками. Обыденность живет общепринятым,
M. Heidegger. Sein und Zeit
51
и потому, что ее знание и понимание неподлинное, она сама есть
неподлинное бытие. Поскольку же она притязает на подлинность, она
заслоняет собою подлинное бытие. Обреченное обыденности, бытие-
сознание подчиняется ее указанию, проникается ее духом; отчасти
невольно, отчасти же и вольно, под влиянием первичного страха
бытия, страха перед своим одиночеством и своей ответственностью.
Уходом в обыденность оно стремится избавиться от этой тяготящей
его ответственности. Но уход в обыденность — это уход от самого
себя, уход от своих подлинных возможностей; словом, это —
погружение в бытие неподлинное. Освободить из плена обыденности,
вернуть бытие-сознание самому себе, своей собственной самости,
может только голос совести. Совесть — это призыв к признанию своей
виновности перед самим собою, но вместе с тем и к
самоответственности и решимости осуществить свои подлинные возможности.
Решимость же эта доступна только тому, кто видит и понимает предел,
поставленный всякому бытию-сознанию, ту крайнюю возможность,
которую представляет собою смерть. Лишь тот, кто понимает бытие
как бытие к смерти (Sein zum Tode), способен стать самим собою
и реализовать свои высшие потенции.
Но решимость в указанном смысле имеет еще и иное,
онтологическое значение; она не только выражает собою подлинную самость
и самостоятельность бытия-сознания, но раскрывает и «горизонт»
того понимания и постижения бытия, которым живет забота и
которым определяется самая ее структура. Иначе говоря, лишь осознав
природу решимости, мы можем отдать себе отчет и в
онтологическом смысле заботы, в том, что составляет основное условие ее
возможности. В самом деле: бытие заботы развертывается в трех
моментах: сознание-бытие находит себя уже существующим в мире;
существование его есть устроение себя в вещной и социальной среде
и через нее. Но устраиваться и действовать оно может лишь,
предвосхищая и осуществляя свои собственные возможности. Значит,
расчленяющие единство заботы моменты суть не что иное, как
моменты временности (Zeitlichkeit). Во временности и заключается
онтологический смысл заботы. Но эта временность не есть
временность, как ее обычно понимают. Прошлое не значит здесь: то, чего
уже нет, что раньше было. И будущее не значит: то, чего еще нет,
но что будет позже. Так понять временность заботы, значит,
уподобить ее бытие бытию вещей, т. е. бытию, сводящемуся к
простому наличию. Это неподлинное понимание временности
проистекает из неподлинного же бытия самой заботы, из погруженности ее
в мир вещей, определяющей и ее понимание себя самой как бытия
вещного, наличного. Временное существование бытия-сознания
не есть бытие во времени, бытие, предполагающее временность;
52
В. Э. Сеземан
нет, это — бытие, вместе с которым впервые рождается и
устанавливается сама временность. Но эта первичная подлинная временность
раскрывается только в подлинном бытии заботы; т. е. в решимости.
Решимость созидает самость бытия-незнания, предвосхищая и
осуществляя его подлинные возможности. Такое предвосхищение их
и осуществление их и есть грядущее. К нему обращена решимость;
ему поэтому в строе подлинного бытия и принадлежит первенство.
Но, созидая грядущее, решимость тем самым возвращает
бытие-сознание к своей подлинной самости, к тому, что оно по существу есть,
но от чего оно ушло, погрузившись в неподлинное бытие
обыденности. Значит, в направленности на будущее уже заключена
обращенность к подлинному (идеальному) прошлому, как об этом
свидетельствует голос совести. Настоящее в подлинной временности
не выделяется, как особый момент, наряду с прошлым, и будущим.
В нем происходит встреча грядущего и былого; т. е. в решимости,
актуализующей себя в действиях, грядущее становится настоящим
былого (Gewesensein). Эта подлинная временность лежит в основе
истории как бытия исторического (не исторической науки).
Бытие-сознание по самому существу своему исторично, потому что
временно. Осуществляя себя как временное, оно тем самым
творит свою историю. Если же традиционное понимание времени
отличается от подлинного его смысла, то это не значит, что оно
ложно и не имеет сферы реального применения. Это значит лишь, что
оно произвол но, что оно соответствует тому неподлинному модусу
бытия, который представляет собою обыденность. Воспринимая
и истолковывая всякое бытие как бытие вещное (как наличность),
обыденность также понимает и временность; как безостановочную
смену отдельных «теперь», непрерывно приходящих из будущего
и уходящих в прошлое, т. е. как однообразную смену голых налич-
ностей, сводящую на нет качественное различие между моментами
временности. Эта нивелированная временность и определяет собой
то время, в котором протекает практическая и социальная жизнь,
то время, которое измеряется и обусловливает возможность
естествознания.
Таково — в самых общих чертах — содержание I части труда
Heidegger'a. Тема ее — феноменологический анализ
бытия-сознания и определение его смысла. Окончательного ответа на основной
вопрос: что такое бытие вообще? — она не дает. Его даст,
по-видимому, вторая часть, которая должна выйти в 1929 г. и в которой автор
обещает представить в свете данного им феноменологического
анализа важнейшие этапы в развитии понятий бытия и времени (у
Аристотеля, Декарта, Канта и Гегеля). Ввиду незаконченности труда
критика основных положений Н. кажется нам преждевременной.
M. Heidegger. Sein und Zeit
53
Отметим лишь некоторые пункты, которые представляются нам
особенно существенными.
Очень важно и плодотворно различие, проводимое Н. между
разными видами бытия, в частности между бытием-сознанием (Dasein)
и бытием-наличием (Vorhandensein). Он совершенно прав,
указывая на то, что со времени античности вплоть до последнего времени,
несмотря на неустанную борьбу философской мысли против
овеществления нематериального, духовного бытия, бытие тем не
менее по существу понималось только как вещное, наличное бытие,
а потому и категории, определяющие это последнее,
рассматривались как структурные начала всякого бытия. От этого античного
предрассудка не освободились окончательно ни Кант, ни
представители послекантовского идеализма. Он глубоко сидит еще и в
современной философской мысли. Закоренелость его не является
лишь исторической случайностью; она обусловлена самим укладом
бытия-сознания, а именно тем, что научное и философское знание
первично зарождается на лоне неподлинного модуса Dasein'a, когда
оно погружено в вещный мир и горизонт его ограничен этим самым
вещным миром. Превозмочь эту ограниченность можно, лишь ясно
осознав сущностное различие между подлинным и неподлинным
модусом бытия-сознания. Одну из главных задач своего исследования
Heidegger видит именно в том, чтобы принципиально разграничить
два основных вида бытия (Dasein и Vorhandensein) и
противопоставить категориям вещного (предметного) бытия — «экзистенциалы»,
т. е. принципы, лежащие в основе бытия-сознания. Насколько Н.
удалась феноменологическая дедукция «экзистенциалов» — вопрос
другой. Но самый замысел, несомненно, идет навстречу самым
насущным требованиям современной философской проблематики.
Не менее знаменательна и примечательна еще другая
особенность философии Heidegger'a: принцип, который он кладет в
основу определения бытия-сознания, — забота — начало конкретное,
охватывающее Dasein сразу во всей его непосредственной
целостности. Это — не теоретический принцип, который берет бытие лишь
в определенном разрезе, т. е. в известном отвлечении, и потому
нуждается в восполнении со стороны таких же, как он, отвлеченных
принципов. Его философия не распадается на онтологию,
гносеологию, этику и т. д.; ибо философия в понимании Н. есть по существу
учение о бытии, как таковом, есть онтология. И в качестве
онтологии она определяет бытие сразу во всех его существенных модусах
и аспектах. Таким образом, конкретность основного принципа
обеспечивает и его глубоко систематический характер. Особенно
выигрывает от этого гносеология. Неправы критики, которые говорят,
что Н. отрицает гносеологию и не видит ее проблемы. Гносеология
54
В. Э. Сеземан
в его понимании входит в состав самой онтологии как неотъемлемый
момент, и только из органической сращенности знания с бытием
становится понятной как его внутренняя структура, так и процесс
его исторического развития.
Наконец, нельзя не заметить, что конкретность основного
онтологического принципа существенно меняет у Н. и характер самого
метода наследования. Искусственная изоляция отдельных феноменов,
свойственная феноменологическому анализу в его первоначальном
виде (каким он является у Husserl'a и его правоверных учеников),
здесь преодолевается. Анализ, не переставая быть анализом,
становится синтезом. Книга Heidegger'a — первый подлинно
систематический труд, вышедший из феноменологической школы.
Что же представляет собой труд Heidegger'a? — этот вопрос,
думается, вытекает перед всяким, кто внимательно прочтет ее —
есть ли это только феноменологический анализ, как на этом
настаивает сам автор, — или же это нечто большее, целостная концепция,
которая в зародыше содержит целую метафизическую систему?
Н., правда, решительно отмежевывается от всякой метафизики;
но вместе с тем сам признает, что его понимание подлинного бытия
связано с вполне определенным пониманием идеала жизни.
Значит, феноменологический анализ не остается чисто формальным;
он предопределяет собою и материальную сторону понятия бытия:
его конкретное существо, его ценность. И только выходу за
пределы формального концепция Н. обязана своим систематическим
характером. Это явствует и из устанавливаемых автором основных
определений бытия-сознания. Все они (например, различение
подлинного и неподлинного модуса бытия, экзистенциальное
толкование времени, смерти, совести и др.) становятся вполне понятными
и приобретают настоящую философскую значительность, лишь если
брать их в некоторой метафизической перспективе, т. е. мыслить
как феноменологические начала цельного, религиозно,
нравственно обоснованного мировоззрения. И только полное раскрытие этого
мировоззрения может окончательно выяснить, что, собственно, —
в понимании Н. — означает бытие.
G*S&
^5^
С.Л.ФРАНК
Конспект книги М. Хайдеггера «Бытие и время»
(Публикация и комментарии Г. Е. Аляева
и Т. Н. Резвых)
М. Heidegger. Sein und Zeit. 1927*
(мысли из него и о нем)
Вопрос о смысле бытия, т. е. что есть бытие (не «сущее»). Время
как способ истолкования бытия — цель исследов<ания> (1).
Понимание бытия есть само Seinsbestimmtheit des Daseins 12**.
Fundamentalontologie как existenziale Analytik des Daseins***.
Dasein — бытие человека как оно предстоит и есть для него
самого. «Existenz» — Sein, к которому так или иначе имеет отношение
Dasein 13.
В идее «субъекта» еще сидит субстанция, он понимается
онтологически 46****.
* Франк мог пользоваться первым изданием в гуссерлевском Ежегоднике по
философии и феноменологическому исследованию (Heidegger M. Sein und Zeit.
Erste Hälfte / Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung.
1927. B. 8), но мог и первым отдельным изданием: Heidegger M. Sein und Zeit.
Erste Hälfte. Halle a. d. Saale: Max Niemeyer, 1927. В 1929 г. Нимейер
выпустил второе, в 1931 г. — третье, в 1935 г. — четвертое издание, в 1941 г. —
пятое издание (знаменитое отсутствием посвящения Э. Гуссерлю).
Оригинал: * Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins»
(Heidegger M. Sein und Zeit. 1967. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Elfte,
unveränderte Auflage. S. 12). В пер.: «Понятность бытия сама есть
бытийная определенность присутствия» (Хайдеггер М. Бытие и время / Пер.
В. В. Бибихина. Харьков, 2003. С. 14).
Фундаментальная онтология как экзистенциальная аналитика
присутствия.
♦Всякая идея "субъекта" онтологически влечет за собой — если не
очищена предшествующим определением онтологического основания — введение
еще и subjectum (шгокецшуоу), с каким бы воодушевлением при этом ни вое-
56
С. Л. Франк
Идея человека как существа трансцендирующего, выходящего
за свои пределы — из христианства — отвергается.
Sein берется обычно как Vorhandenes [объективно сущее!].
Grunderfassung des Daseins есть In-der-Welt-Sein*. 52 ff.
« Existenziab как форма Dasein contra Kategorie, как формы
объективного бытия**.
Познание как форма бытия при воздержании от Hantieren***, —
Hinsehen**** и Aussehen*****.
«Zuhandensein» = Seinsart vom «Zeug»******. Отношение к нему —
Umsicht*******.
Der Raum ist weder im Subjekt, noch ist die Welt im Raum. Der
Raum ist vielmehr "in" der Welt********* 111.
Die Substanz des Menschen ist Existenz******** 117.
ставали против "душевной субстанции" или "овеществления сознания"»
(Там же. С. 64).
Имеется в виду вторая глава Первого раздела первой части «Бытия и
времени»: «Das In-der-Welt-sein überhaupt als Grundverfassung des Daseins»
(«Бытие-в-мире вообще как основоустройство присутствия»).
«Наличие "в" чем-то наличном, соналичие в чем-то того же бытийного рода
в смысле определенной пространственной соотнесенности суть
онтологические черты, именуемые у нас категориальными, такими, которые
принадлежат сущему неприсутствиеразмерного образа бытия. Бытие-в
подразумевает, напротив, бытийное устройство присутствия и есть экзистенциал*
(Там же. С. 72).
Hantieren — орудование.
Hinsehen — вглядывание.
Aussehen — выглядение. Ср. данное место: «В воздержании от всякого
изготовления, орудования и т. п. озабочение вкладывает себя в единственно
теперь ему еще остающийся модус бытия-в, во всего-лишь-пребывание
при... На основе этого способа бытия к миру, дающего внутримирно
встречному сущему встречаться уже только в своем чистом вы глядении (eIôoç),
и как модус этого способа бытия возможно специальное вглядывание в то,
что таким образом встречает» (Там же. С. 81).
«Подручное бытие» — род бытия от «средства» (Там же. С. 101).
Перевод термина нельзя вырвать из контекста. Оригинал: «Die Frage
bleibt nur, wie in diesem vorgängigen Begegnen das Seiende entdeckt ist, ob
als pures vorkommendes Ding und nicht vielmehr als unverstandenes Zeug,
als Zuhandenes, mit dem man bislang "nichts anzufangen" wußte, was sich
demnach der Umsicht noch verhüllte» (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 81).
В пер.: «Вопросом остается только, как открылось сущее в этой
предшествующей встрече, как чистая случающаяся вещь, а не скорее ли как
непонятое средство, как подручное, за которое пока не знали, "как взяться",
что поэтому еще закрывалось усмотрению» (Хайдеггер М. Бытие и время.
С. 101).
«Ни пространство не в субъекте, ни мир — в пространстве. Пространство
наоборот "в" мире» (М. Хайдеггер. Бытие и время. С. 134).
Оригинал: «Allein die "Substanz" des Menschen ist nicht der Geist als die
Synthese von Seele und Leib, sondern die Existenz* (M. Heidegger. Sein und
Конспект книги M. Хайдеггера «Бытие и время»
57
Das «Man»*. Das Mitseiende**.
Dasein есть, по существу, «Befindlichkeit», состояние,
самочувствие. — Furcht — Dasein als Verstehen***.
Sorge есть Sein des Daseins****.
Angst как отношение к in-der-Welt-Sein. Angst надо, в отличие
от Furcht, переводить «жуть». Das Unheimliche des Daseins*****. «Das
Un-zuhause muss existenzial-ontologisch als das ursprünglichere
Phänomen begriffen werden******* 189. Отвержение проблемы бытия
внешнего мира, как ничтожной, из первичного In-der-Welt-Sein.
Фактически Heidegger тоже своеобразн<ый> идеалист, как он сам
(_ о/чгт\ *******
с. 207)
«Nur solange Dasein ist, das heißt die ontische Möglichkeit von
Seinsverständnis, "gibt es" Sein. Wenn Dasein nicht existiert,
dann "ist" auch nicht "Unabhängigkeit" und "ist" auch nicht "An-
sich". Dergleichen ist dann weder verstehbar, noch unverstehebar...
Dann kann weder gesagt werden, daß Seiendes sei, noch daß es nicht
sei» ******** 212. Явный идеализм. Было бы верно, если бы Dasein было
Zeit. S. 117). Пер.: «Только "субстанция" человека есть не дух как синтез
души и тела, но экзистенция* (Хайдеггер М. Бытие и время. С. 141).
Das «Man» — «люди».
Das Mitseiende — такого термина у Хайдеггера нет. Есть термин «die
mitseienden Anderen» — «сосуществующие другие» (Там же. С. 336).
Ср.: «Die im Gewissen-haben-wollen liegende Erschlossenheit des Daseins
wird demnach konstituiert durch die Befindlichkeit der Angst, durch das
Verstehen als Sichentwerfen auf das eigenste Schuldigsein und durch die Rede
als Verschwiegenheit» (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 296). В пер.:
«Лежащая в воле-иметь-совесть разомкнутость присутствия конституируется
таким образом через расположение ужаса, через понимание как бросание
себя на самое свое бытие-виновным и через речь как умолчание»
(Хайдеггер М. Бытие и время. С. 335).
Оригинал: «Das Sein des Daseins ist die Sorge» (Heidegger M. Sein und Zeit.
S. 284). В пер: «Бытие присутствия есть забота» (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 321).
Оригинал: «Das beruhigt-vertraute In-der-Welt-sein ist ein Modus der
Unheimlichkeit des Daseins, nicht umgekehrt». В пер.: «Успокоенно-освоив-
шееся бытие-в-мире есть модус жути присутствия, не наоборот»
(Хайдеггер М. Бытие и время. С. 219).
Пер.: *Не-по-себе экзистенциалъно-онтологически следует принимать
за более исходный феномен* (Там же).
См.: «Gegenüber dem Realismus hat der Idealismus, mag er im Resultat noch
so entgegengesetzt und unhaltbar sein, einen grundsätzlichen Vorrang, falls er
nicht als "psychologischer" Idealismus sich selbst mißversteht» (Heidegger M.
Sein und Zeit. S. 207). В пер.: «На фоне реализма идеализм, как он ни
противоположен по результату и несостоятелен, имеет принципиальное
преимущество, если не принимает себя ложно за "психологический идеализм"»
(Хайдеггер М. Бытие и время. С. 238).
Пер.: «Конечно, лишь пока присутствие, т. е. онтическая возможность
бытийной понятности, есть, бытие "имеет место". Если присутствие не экзи-
58
С. Л. Франк
абсолютн<ым> бытием, а не человеческим! Ввиду такой тезы
утверждение Heid<egger>, что он признает идеализм только как
невыводимость бытия из сущего — и идеалист вместе не только с
Кантом, но и с Аристотелем (203), неполно*.
Wahrheit gibt es nur, sofern und solange Dasein ist** 226.
Wahrheit есть Erschlossenheit***. Ewige Wahrheiten решительно
отвергаются**** 227.
Утверждение ewige Wahrheiten принадлежит к «еще далеко
не радикально изгнанным остаткам христианск<ого> богословия
в философск<ой> проблематике****** 229-<2>30.
Dasein u<nd> Zeitlichkeit******.
стирует, то "нет" также "независимости" и "нет также "по-себе". Подобное
тогда ни понимаемо ни непонимаемо... Тогда нельзя сказать ни что сущее
есть, ни что оно не существует» (Там же. С. 243).
См.: «Если титул идеализма равнозначен пониманию того, что бытие
никогда не объяснимо через сущее, но для любого сущего всегда уже
"трансцендентально", то в идеализме лежит единственная и правильная
возможность философской проблематики. Тогда Аристотель был не меньше
идеалист, чем Кант* (Там же. С. 239).
Пер.: « Истина имеется лишь поскольку и пока есть присутствие* (Там
же. С. 257).
См.: * Vordem Dasein überhaupt nicht war, und nachdem Dasein überhaupt
nicht mehr sein wird, war keine Wahrheit und wird keine sein, weil sie als
Erschlossenheit, Entdeckung und Entdecktheit dann nicht sein kann*
(Heidegger M. Sein und Zeit. S. 226). В пер.: «До бытия присутствия, и
когда его вообще уже не будет, не было никакой истины и не будет никакой,
ибо тогда она как разомкнутость, открытие и раскрытость не сумеет быть»
(Хайдеггер М. Бытие и время. С. 258).
См.: «Daß es "ewige Wahrheiten" gibt, wird erst dann zureichend bewiesen sein,
wenn der Nachweis gelungen ist, daß in alle Ewigkeit Dasein war und sein wird.
Solange dieser Beweis aussteht, bleibt der Satz eine phantastische Behauptung,
die dadurch nicht an Rechtmäßigkeit gewinnt, daß sie von den Philosophen
gemeinhin "geglaubt" wird» (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 227). В пер.: «Что
существуют "вечные истины", будет достаточно доказано, только если
удастся показать, что во всю вечность присутствие было и будет. До тех пор пока
этого доказательства недостает, тезис остается фантастическим
утверждением, не выигрывающим в правомерности оттого, что философы в него сплошь
да рядом "верят"» (Хайдеггер М. Бытие и время. С. 259).
См.: «Die Behauptung "ewiger Wahrheiten", ebenso wie die Vermengung
der phänomenal gegründeten "Idealität" des Daseins mit einem idealisierten
absoluten Subjekt gehören zu den längst noch nicht radikal ausgetriebenen
Resten von christlicher Theologie innerhalb der philosophischen Problematik»
(Heidegger M. Sein und Zeit. S. 229). В пер.: «Постулат "вечных истин",
равно как смешение феноменально обоснованной "идеальности" присутствия
с идеализированным абсолютным субъектом, принадлежат к далеко еще
не радикально выскобленным остаткам христианской теологии внутри
философской проблематики» (Хайдеггер М. Бытие и время. С. 262).
Заголовок 2-го раздела Первой части «Бытия и времени».
Конспект книги M. Хайдеггера «Бытие и время»
59
Незавершенность, «еще не» как необходимый момент
Dasein*.
Как целое оно есть Dasein zum Tode — Das Sein zu Ende!
Der Tod ist die Möglichkeit der schlechthinnigen
Daseinsunmöglichkeit** 250. Поэтому смерть есть die eigenste,
unbezügliche, unüherholhare Möglichkeit (ib.)***. Страх смерти есть
не слабость, a Grundbefindlichkeit des Daseins, die Erschlossenheit
davon, daß das Dasein als geworfenes Sein zu seinem Ende ist**** 251.
«Man» стремится фальсифицировать смерть в случайное
событие*****.
Der Tod ist eigenste Möglichkeit des Daseins. Das Sein zu ihr
erschließt dem Dasein sein eigenstes Seinkönnen, darin es um das Sein
des Daseins schlechthin geht****** 263.
Совесть как «Ruf», призыв-истолкование, как призыв к соб-
ствен<ной> Seinkönnen. 270 и ел.*******
«Das Gewissen redet einzig und ständig im Modus des
Schweigens********* 273 (хорошо!). Это есть Ruf der Sorge, der Rufer ist
das Dasein, sich ängstigend in der Geworfenheit um sein Sein
Ср.: «Und wenn die Existenz das Sein des Daseins bestimmt und ihr Wesen
mit konstituiert wird durch das Seinkönnen, dann muß das Dasein, solange es
existiert, seinkönnend je etwas noch nicht sein» (Heidegger M. Sein und Zeit.
S. 233). В пер.: «И если экзистенция определяет бытие присутствия, а ее
существо конституируется также и бытийной способностью, то присутствие,
пока экзистирует, должно, способное быть, всегда чем-то еще не быть*
(Хайдеггер М. Бытие и время. С. 266).
Пер.: «Смерть есть возможность прямой невозможности присутствия»
(Хайдеггер М. Бытие и время. С. 285).
Оригинал: «So enthüllt sich der Tod als die eigenste, unbezügliche,
unüherholhare Möglichkeit* (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 250). В пер.:
«Таким образом смерть открывается как наиболее своя,
безотносительная, необходимая возможность» (Хайдеггер М. Бытие и время. С. 285).
См.: «Mit einer Furcht vor dem Ableben darf die Angst vor dem Tode nicht
zusammengeworfen werden. Sie ist keine beliebige und zufällige "schwache"
Stimmung des Einzelnen, sondern, als Grundbefindlichkeit dés Daseins, die
Erschlossenheit davon, daß das Dasein als geworfenes Sein zu seinem Ende
existiert» (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 251). В пер.: «Со страхом перед
уходом из жизни ужас перед смертью смешивать нельзя. Он никак не
прихотливое и случайное "упадочное" настроение единицы, но как основорасположе-
ние присутствия, разомкнутость того, что присутствие как брошеное бытие
экзистирует к своему концу» (Хайдеггер М. Бытие и время. С. 286).
Содержание § 52-53.
Пер.: «Смерть есть самая своя возможность присутствия. Бытие к ней
размыкает присутствию его самую свою способность быть, где дело идет прямо
о бытии присутствия» (Там же. С. 298).
Содержание § 55-57.
Пер.: ^Совесть говорит единственно и неизменно в модусе молчания»
(Там же. С. 310).
60
С. Л. Франк
können* 277. Sorge как обнаружение Nichtigkeit** des uneigentlichen
Daseins***. Совесть как призыв к подлинному бытию! (а грех?
С<емён> Ф<ранк>).
Das verschwiegene, angstbereite Sichentwerfen auf das eigene
Schuldigsein есть Entschlossenheit**** 297. Entschlossenheit есть
eigentl<iche> Selbstsein***** 298.
Вопрос о целостном бытии Ganzseinkönnen****** есть не
теоретический, a faktisch-existenzielle. Das Dasein beantwortet sie als
entschlossene*
*******
Оригинал: *Das Gewissen offenbart sich als Ruf der Sorge: der Rufer ist
das Dasein, sich ängstigend in der Geworfenheit (Schon-sein-in...) um sein
Seinkönnen» (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 277). В пер.: «Совесть
обнаруживает себя как зов заботы: зовущий это присутствие, которое
ужасается в брошености (уже-бытии-в...) за свою способность-быть» (Хайдеггер М.
Бытие и время. С. 314).
Nichtigkeit — ничтожность. После Nichtigkeit зачеркнуто: 285.
Uneigentlichen Daseins — несобственного присутствия. Видимо, речь идет
о месте: «In der Struktur der Geworfenheit sowohl wie in der des Entwurfs
liegt wesenhaft eine Nichtigkeit. Und sie ist der Grund für die Möglichkeit
der Nichtigkeit des ^eigentlichen Daseins im Verfallen, als welches es je
schon immer faktisch ist. Die Sorge selbst ist in ihrem Wesen durch und
durch von Nichtigkeit durchsetzt* (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 285).
В пер.: «В структуре брошенности равно, как и наброска, по сути,
заложена ничтожность. И она есть основание для возможности ничтожности
несобственного присутствия в падении, каким оно всегда уже фактично
бывает. Забота сама в своем существе вся и насквозь пронизана
ничтожностью* (М. Хайдеггер. Бытие и время. С. 322).
Оригинал: «Diese ausgezeichnete, im Dasein selbst durch sein Gewissen
bezeugte eigentliche Erschlossenheit — das verschwiegene, angstbereite
Sichentwerfen auf das eigenste Schuldigsein — nennen wir die
Entschlossenheit* (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 296-297). В пер.: «Эту
отличительную, засвидетельствованную в самом присутствии через его совесть
собственную разомкнутость — молчаливое, готовое к ужасу бросание себя
на самое свое бытие-виновным — мы называем решимостью» (Хайдеггер
М. Бытие и время. С. 335).
Оригинал: «Die Entschlossenheit löst als eigentliches Selbst sein das Dasein
nicht von seiner Welt ab, isoliert es nicht auf ein freischwebendes Ich»
(M. Heidegger. Sein und Zeit. S. 298). В пер.: «Решимость как собственное
бытие-собой не отрешает присутствие от его мира, не изолирует его до сво-
боднопарящего Я» (М. Хайдеггер. Бытие и время. С. 336).
Ganzseinkönnen — способность быть целым.
Оригинал: *Die Frage nach dem Ganzseinkönnen ist eine faktisch-
existenzielle. Das Dasein beantwortet sie als entschlossenes* (M. Heidegger.
Sein und Zeit. S. 309). В пер.: ^Вопрос о способности быть целым фак-
тично-экзистентный. Присутствие отвечает на него как решившееся*
(М. Хайдеггер. Бытие и время. С. 348).
Конспект книги M. Хайдеггера «Бытие и время»
61
Время. Zukunft как Kunft-Zu, «прихождение к» основе
временности Dasein*. Прошлое как «bin gewesen», как возвращение.
Augenblick — в отличие от jetzt, как решение**.
-е^э-
Ср.: «"Zukunft" meint hier nicht ein Jetzt, das, noch nicht "wirklich"
geworden, einmal erst sein wird, sondern die Kunft, in der das Dasein in
seinem eigensten Seinkönnen auf sich zukommt» (Heidegger M. Sein und Zeit.
S. 325). В пер.: «"Будущее" значит тут не некое теперь, которое, еще не став
"действительным", лишь когда-то будет быть, но наступление, в каком
присутствие в его самой своей способности быть настает для себя» (Хайдег-
гер М. Бытие и время. С. 366).
Augenblick — мгновение-ока. Ср.: «Das Phänomen des Augenblicks kann
grundsätzlich nicht aus dem Jetzt aufgeklärt werden. Das Jetzt ist ein
zeitliches Phänomen, das der Zeit als Innerzeitigkeit zugehört: das Jetzt, "in
dem" etwas entsteht, vergeht oder vorhanden ist. "Im Augenblick" kann nichts
vorkommen, sondern als eigentliche Gegen-wart läßt er erst begegnen, was als
Zuhandenes oder Vorhandenes "in einer Zeit" sein kann» (Heidegger M. Sein
und Zeit. S. 338). В пер.: «Феномен мгновения-ока в принципе не может
быть прояснен из теперь. Теперь есть временной феномен,
принадлежащий к времени как внутри временности; теперь, "в котором" нечто
возникает, проходит или налично. "В мгновение-ока" ничего не может произойти,
но как собственное на-стоящее оно дает впервые встретиться тому, что
может быть подручным или наличным "во времени"» (Хайдеггер М. Бытие
и время. С. 379).
=
Г. Е. АЛЯЕВ, T. H. РЕЗВЫХ
«Первая философия» Семёна Франка,
или Пролегомены к книге «Непостижимое»
<...> Мы затронули далеко не все вопросы, позволяющие
увидеть «Первую философию» как «духовную мастерскую» — так
назвал Франк одну из своих статей о Достоевском — самого Франка.
Очевидно, этот емкий текст требует дальнейшего исследования.
Но, говоря о «Непостижимом», даже (или особенно) в контексте
его «пролегомен», нельзя не остановиться на отношении Франка
к М. Хайдеггеру. Часто высказывается мнение, что
«Непостижимое» является в некотором роде «ответом» на «Бытие и время», при
этом, если верить Н. Плотникову, его неопубликованный (к
сожалению, и до сих пор) немецкий вариант «хранит значительно большее
количество ссылок на Хайдеггера, чем опубликованный русский»*.
Позволяет ли «Первая философия» как-то прояснить этот вопрос?
На первый взгляд — нет. Каких-то прямых ссылок или
упоминаний немецкого мыслителя в этих заметках нет. Даже там, где
перед нами как бы «незримо» поднимается его мощная фигура, Франк
либо переосмысливает его терминологию, либо использует ее совсем
в ином контексте. Например, в главке XXXII можно усмотреть
явные аллюзии на «вопрошание о бытии» и различение бытия и
сущего у Хайдеггера, однако непосредственными «собеседниками»
Франка при этом выступают Кант, Спиноза и апостол Иоанн. Или,
встречаясь, например, в главке LXVI с употреблением терминов
«Sorge» и «Angst», можно было бы подумать, что оно навеяно
прочтенным «Sein und Zeit», однако общий контекст этого отрывка, где
забота и страх стоят рядом с тяготами («Mühe») и беспокойством
(«Uhrühe»), а завершается всё «жаждой спасения» («Der Mensch
sucht Erlösung»), указывает, очевидно, не на хайдеггеровский
смысл, а скорее на того же Баадера.
Плотников Н. С. К истории восприятия Хайдеггера в русской мысли //
Вопросы философии. 1995. № 9. С. 171.
«Первая философия» Семёна Франка
63
Учитывая важность этого вопроса, мы решили опубликовать в
качестве своеобразного «приложения» к «Первой философии» фран-
ковский конспект «Sein und Zeit», обнаруженный нами в другой
тетради, датированной им самим 1929-1931 гг. Ее большую часть
занимают записи к курсу «Миросозерцание Достоевского» в
Берлинском университете, который Франк читал летом 1931 г. (последняя
отмеченная в этих записях дата — 14 июля)*. Конспект Хайдеггера
написан после этого курса, т. е. относится, во всяком случае, ко
второй половине 1931 г. — это время разгара, или даже приближения
финальной фазы написания «Первой философии», когда основные
идеи «Непостижимого» были, по сути, уже сформулированы.
Краткий конспект содержит критические замечания. Главный
вопрос Франка — к основоположной установке Хайдеггера на
бытие человека. Франк дает немецкую цитату из пункта В § 43, где
в очередной раз говорится о том, что бытие — не «вещеналичность»,
а отсылает к феномену заботы, что реальность основана в бытии
Dasein и что без этого бытия никто никогда и ни о чем не мог бы
ничего сказать: «Конечно, лишь пока присутствие, т. е. онтическая
возможность бытийной понятности, есть, бытие "имеет место".
Если присутствие не экзистирует, то "нет" также "независимости"
и "нет" также "по-себе". Подобное тогда ни понимаемо ни непони-
маемо. Тогда внутримирное сущее тоже и не может быть раскрыто
и не способно лежать в потаенности. Тогда нельзя сказать ни что
сущее есть, ни что оно не существует»**. Это фундаментальное отсы-
лание всякого бытия и всякого его понимания к экзистированию
заставляет Хайдеггера сделать важный вывод: «субстанция человека
есть экзистенция» ***. Но именно это основоположение и является не-
* Примерно к этому же времени относятся главки LIX, LXVII, LXVIII
«Первой философии», в которых упоминается Достоевский. Вообще обращение
к русской литературе, в частности к Достоевскому, было характерной
чертой творчества Франка, но в данном случае можно конкретно связать
«Первую философию» с упомянутым курсом «Dostojewsky's Weltanschauung»,
основные темы которого прямо перекликаются с проблематикой данных
записей — человек, свобода, проблема зла, Бог и человек,
преображение мира и др. Кроме того, как раз в 1930-1933 гг. вышло шесть статей
Франка о Достоевском на немецком и русском языках (см.: Frank S. Aus
Dostojevskijs geistiger Werkstatt // Zeitschrift für slavische Philologie,
herausgegeben von Max Wasmer, 1930, VII, Doppelheft 1/2, S. 137-141;
S. Frank. Dostojevskijs — der russischte Russe. Zum 50. Todestag des
Dichters: Mensch und Werk // Germania. Berlin, 1931, 8 Februar; S. Frank.
Die Krise des Humanismus. Eine Betrachtung aus der Sicht Dostojevskijs //
Hochland, 1931, N 2, S. 289-296 и др.).
'* Приводим в переводе В. Бибихина (Хайдеггер М. Бытие и время / Пер.
В. В. Бибихина. Харьков, 2003. С. 109).
Там же.
64
Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых
приемлемым для Франка, приверженца понимания бытия человека
как укорененного в Абсолютном. С точки зрения Франка, у Хайдег-
гера «идея человека как существа трансцендирующего,
выходящего за свои пределы — из христианства — отвергается». Поэтому
он и замечает по поводу цитируемого: «Явный идеализм. Было бы
верно, если бы Dasein было абсолютн<ым> бытием, а не
человеческим!» Метафизик Франк не может смириться с определением
бытия человека в экзистировании. Тем не менее впоследствии, в
«Непостижимом», Франк берет на вооружение хайдеггеровский термин
Selbstsein, отказываясь от традиционного термина Bewusstsein.
Хотя публикуемый конспект «Sein und Zeit» мы датируем 1931 г.,
есть все основания предполагать знакомство Франка с этой книгой
и его интерес к ней уже в конце 20-х годов, а этот конспект (между
прочим, и в силу его краткости) считать лишь вторичной попыткой
проверить своё, в принципе уже сложившееся, отношение к
фрайбургскому профессору. Об этом говорит конспект лекции «О Хай-
деггере», опубликованный Н. Плотниковым, который датирует его
ориентировочно концом 20-х гг.* Надо, однако, иметь в виду, что
в фонде С. Франка Бахметьевского архива есть два варианта этого
конспекта, незначительно различающиеся в деталях, но при этом
второй имеет своеобразный заголовок: «Повод — годовщ<ина>
смерти Ю. И. ». Речь шла о близком друге Франка Ю. И. Айхенваль-
де, смерть которого под колесами трамвая глубоко поразила
философа, а эта годовщина (по прямому смыслу — первая) приходилась
на 17 декабря 1929 г. (что, кстати, примерно совпадает со
временем написания упомянутой выше главки XXXII с определенными
аллюзиями на «вопрошания» Хайдеггера). Таким образом, этот
конспект — по крайней мере, один из двух вариантов — можно
точно датировать декабрем 1929 г.; второй (опубликованный Н.
Плотниковым), возможно, был написан и ранее — в нем уже
говорится о смерти Айхенвальда, но нет заголовка о годовщине**. Можно
вспомнить в этой связи также выраженное Франком в письме
Ф. Либу ещё 17 июня 1929 г. (из того самого Ребрюка, где как раз
перед этим был записан первый «Примерный план» будущей
книги) желание прочитать лекцию во Фрайбурге-в-Брейсгау,
поскольку «мне было бы особенно интересно познакомиться с Гуссерлем
и Хайдеггером и в их присутствии прочесть доклад» *** (это желание,
очевидно, не осуществилось).
* См. : Плотников Н. С. К истории восприятия Хайдеггера в русской мысли //
Вопросы философии. 1995. № 9. С. 172.
'* Впрочем, возможно, и позже — он похож на чистовой вариант первого.
Янцен В. Письма русских мыслителей в базельском архиве Фрица Либа.
С. 446-447.
«Первая философия» Семёна Франка
65
В итоге наших разысканий можно утверждать, что практически
с самого начала работы над «Первой философией» — т. е., по сути,
над «Непостижимым» — Франк уже был знаком с мыслями Хай-
деггера, с которыми, однако, был готов скорее дискутировать, чем
«преклоняться» передними. «Перваяфилософия» свидетельствует,
что Франк вовсе не концентрировался на идеях Хайдеггера и на
полемике с ним, а, как максимум, просто использовал «вброшенные»
немецким философом конструкты в своих собственных
построениях. Впрочем, по мере созревания намерения адресовать книгу
немецкому читателю (о чем он писал, как мы помним, уже в августе
1930-го, но более часто немецкоязычные главки появляются
только с мая 1931-го), Франк, очевидно, еще раз предметно обратился
к «Sein und Zeit» (что отразил публикуемый конспект), и в
конечном варианте немецкого текста, как утверждает Н. Плотников,
часто ссылается на Хайдеггера. Однако при переводе книги на русский
Франк, очевидно, вновь посчитал эти ссылки не слишком
актуальными.
Оба публикуемых материала хранятся в Бахметьевском архиве
Колумбийского университета (г. Нью-Йорк, США). Текст
«Размышления. Первая философия» полностью воспроизводит тетрадь
(записную книжку) С. Франка, которую можно обозначить его
надписями на титульном листе: «S. Frank. 1928-29-30-31-32. Берлинъ»*.
При этом титульный лист имеет фигурную полиграфическую рамку
с надписью «Notes für», а на его обороте напечатана табличка с
датами религиозных праздников на 1928 и 1929 годы —
общехристианских («Christliche Festtage»), католических («Besondere katolische
Festtage») и еврейских («Israilitische Festtage»).
Конспект книги Хайдеггера содержится в тетради, подписанной
«С. Франк. 1929-30-31. Berlin»**. <...>
^*^
* Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare
Book & Manuscript Library, Columbia University, New York, S. L. Frank
Papers, Box 15: Notebooks of Semen Frank. S. Frank. 1928-29-30-31-32.
Берлинъ.
'* Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare
Book & Manuscript Library, Columbia University, New York, S. L. Frank
Papers, Box 15: Notebooks of Semen Frank. С. Франк. 1929-30-31. Berlin.
H. С. ПЛОТНИКОВ
С. Л. Франк о М. Хайдеггере.
К истории восприятия Хайдеггера
в русской мысли
В начале 1927 г. в восьмом томе «Ежегодника по философии
и феноменологическим исследованиям» была опубликована работа
М. Хайдеггера «Бытие и время». Появились лишь первые две
части первого тома, посвященные интерпретации здесь-бытия с точки
зрения времени и рассмотрению времени как
трансцендентального горизонта вопроса о бытии. Третья — конструктивная — часть
должна была содержать схему различения видов бытия на основе
темпорального анализа. Объявленное продолжение так и не вышло,
и публикация осталась фрагментом. Тем не менее этой работе
суждено было стать главным произведением немецкой философии XX в.
Вопреки всем веяниям философской моды эта оценка и по сей день
разделяется большинством философов.
Первоначальное восприятие философской концепции,
изложенной в «Бытии и времени», было, однако, определено дилеммой,
которую можно, используя формулировку С. Л. Франка в
публикуемом ниже отрывке, охарактеризовать как дилемму
«экзистенциализма и онтологизма». Смысл ее ясно раскрывается на примере двух
интерпретаций, данных «Бытию и времени» двумя ближайшими
сотрудниками и учениками Хайдеггера — Карлом Левитом и
Оскаром Бекером. Карл Лёвит в своем габилитационном сочинении
«Индивидуум в роли ближнего. Очерк антропологического обоснования
этической проблемы» (1928) поставил в центр внимания хайдегге-
ровский анализ основных экзистенциальных структур здесь-бытия
и стремился развивать концепцию своего учителя в направлении
«экзистенциальной философии», сопоставляя Хайдеггера с Ницше
и Кьеркегором. На этом пути задача построения фундаментальной
онтологии и теоретической разработки «аналитики здесь-бытия»,
выдвинутая Хайдеггером в качестве основной задачи философии,
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
67
утрачивала свое первостепенное значение. Фундаментальная
онтология была заменена Левитом на антропологическую онтологию,
руководящим принципом которой стало исследование конечного
человеческого существования в современном мире, со всеми
вытекающими из этого темами «экзистенциального» философствования
(кризис христианского понимания Бога, проблема историчности
человека, отношение человека к другим индивидуумам и т. д.).
Противоположную интерпретацию «Бытия и времени» развивал
Оскар Бекер в работе «Математическая экзистенция»,
опубликованной в том же выпуске «Ежегодника по философии и
феноменологическим исследованиям», что и книга Хайдеггера. Бекер
сосредоточил свое внимание как раз на вопросе о возможности теоретического
построения фундаментальной онтологии, которая могла бы служить
фундаментом как исторических наук о духе, так и наук об
идеальных сущностях (математических объектах). Тем самым из
концепции «Бытия и времени» изымалась экзистенциально-практическая
ориентация, которую формулировал Хайдеггер, опираясь на этику
Аристотеля (забота как основная структура здесь-бытия, анализ
совести, страха, безличного существования и т. д.)*.
Этот факт в конкретной истории рецепции идей Хайдеггера
показателен для всего первоначального периода восприятия «Бытия
и времени» и последовавших вслед за ним работ («Кант и проблема
метафизики», «Что такое метафизика», «О сущности основания»).
При этом господствующей стала именно «экзистенциальная
интерпретация», ориентированная на поиск смысла человеческой жизни
в эпоху крушения всех традиционных ценностей, утраты
авторитета Божественного, интерпретация, находившая в идеях Хайдеггера
возвещение изначального страха и одиночества человека,
обреченного на смерть и трагически сознающего конечность собственного
существования. Особенный интерес вызывало хайдеггеровское
различение модусов подлинного и неподлинного здесь-бытия, описание
«заброшенности» и «совместного» существования. После же
появления в 1931 г. книги К. Ясперса «Духовная ситуация эпохи» такая
интерпретация была облечена в формулу «Existenzphilosophie».
Этот спектр толкований необходимо постоянно иметь в виду,
если говорить об осмыслении идей Хайдеггера в русской
философии. Поскольку лишь единицы имели возможность лично общать-
* Реакцию Хайдеггера на интерпретации Левита и Бекера см. в его недавно
опубликованных письмах к Левиту (1921 и 1927 гг.): Drei Briefe Martin
Heideggers an Karl Lowith // Zur philosophischen Aktualität Heideggers:
Symposium der Alexander von Humboldt- Stiftung vom 24.-28. April 1989
in Bonn-Bad Godesberg. Hrsg. von PapenfussD. und PoggelerO. Bd. 2. Im
Gesprach der Zeit. Frankfurt am Main, 1990. S. 27-39.
68
H. С. Плотников
ся с немецким мыслителем (например, Лев Шестов*), постольку
знакомство с его идеями было опосредствовано восприятием текста
«Бытия и времени» в философском сообществе Германии (позднее
и Франции). Сопоставление же критических возражений в адрес
философской концепции Хайдеггера, выдвинутых в немецкой
философии с аргументами русских мыслителей, позволяет
отчётливее представить направление и характер их критики. Различение
« трансцендентально-онтологической » и « экзистенциалистской »
интерпретаций «Бытия и времени» может выполнять при этом
функцию предварительной ориентации в ходе «рецепции» идей
фундаментальной онтологии.
Первый отклик на появление «Бытия и времени» встречается
в бердяевском журнале «Путь» (№ 14, 1928). Автор рецензии —
Василий Эмильевич Сеземанн представил на нескольких страницах
краткий реферат книги, но при этом задал весьма своеобразную
линию ее толкования. Для Сеземана Хайдеггер — трансцендента-
лист, рад икал изующий постановку проблемы сознания. Основной
принцип такого понимания выражается в том, что Dasein Сеземан
переводит как «бытие-сознание», сокращая горизонт исследования
до гносеологического вопроса о связи сознания и бытия.
Упоминания о проблеме времени, темпоральном анализе в «Бытии и
времени», учении об «экстазах» здесь-бытия принадлежат к важным
пунктам отклика Сеземана, хотя и не нашедшим последующего
продолжения ни в его работах, ни у других философов в эмиграции.
Учение Хайдеггера о времени, так же как и феноменологические
исследования времени, обсуждались русскими философами лишь
в связи с концепцией времени Бергсона, которая пользовалась уже
до революции огромным влиянием**.
Важным моментом кристаллизации представлений о Хайде-
ггере в русской философии стала книга Георгия (Жоржа) Гурви-
ча «Les tendences actuelles de la philosophie allemande. E. Husserl,
M. Scheler, E. Lask, N. Hartmann, M. Heidegger» (Paris, 1930), хотя
она и не может быть причислена только к контексту русской мысли
зарубежья, поскольку возникла на основе лекций, читанных ее
автором в Сорбонне в 1928-1930 гг., и в этом качестве скорее является
* Баранова-ШестоваН. Жизнь Льва Шестова. Paris, 1983. Т. 2. С. 20-23. Друг
Хайдеггера Генрих Пецет вспоминает о присутствии Бердяева во
Оренбурге в 1929 г. См.: Petzet H. W. Auf einen Stern zugehen. Begegnungen und
Gespräche mit Martin Heidegger 1929-1976. Frankfurt am Main, 1983. S. 15.
Вряд ли этот факт можно признать достоверным.
'* Примером такого рассмотрения хайдеггеровской аналитики времени в
связи с Бергсоном может служить глава о времени из работы Бердяева «Я
и мир объектов».
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
69
фактом французской философии*. Но для русского восприятия Хай-
деггера эта книга важна потому, что в ней впервые русский ученый
посвящает себя специальному анализу хайдеггеровской философии.
Причем, что весьма важно, Гурвич не обращает практически
никакого внимания на «экзистенциалистские мотивы» в «Бытии и
времени», развивая интерпретацию подобную той, что дал О. Бекер
в своей книге о математической экзистенции. Гурвич видит в
философии Хайдеггера завершение основной, по его мнению,
философской тенденции, наличествующей в Германии: стремление к синтезу
принципов феноменологии и посткантианского идеализма.
То, что особенно поражает при более внимательном изучении
хайдеггеровской мысли, так это наличие, наряду с его
«темпоральным экзистенциализмом» двух черт: сильно подчеркнутого
иррационализма и не менее сильной тенденции к диалектике. Синтез
иррационализма и диалектики, основанный на феноменологии
существования, есть его [Хайдеггера. — Н. П.] цель**.
Нельзя также не увидеть в рассуждении Гурвича стремления
приблизить хайдеггеровские идеи к кругу проблем, обсуждавшихся
русскими мыслителями. Именно с этой целью Гурвич
переформулирует основной смысл «экзистенциального идеализма» Хайдеггера,
представляя его в качестве «идеал-реалистической диалектики,
к которой присоединяется диалектика истины»***.
В эмигрантских журналах на книгу Гурвича последовало два
отклика, уже обнаруживающих общие черты последующего
восприятия Хайдеггера. В «Пути» (№ 24, 1930) о новейших течениях
в немецкой философии высказался Бердяев: «Философия Гейдегге-
ра, феноменологическая по форме, есть христианская метафизика
без Бога, и за ней скрыта религиозная тревога [...]. Это очень
мрачная и пессимистическая философия, более пессимистическая, чем
философия Шопенгауэра, которая знает много утешений»****. Такая
оценка повторяется с небольшими вариациями во всех
последующих высказываниях Бердяева о Хайдеггере. Он упоминает его в
качестве примера несовершенной разработки тех проблем, которые
в собственных сочинениях Бердяева находят окончательное освеще-
* Waidenfels В. Phanomenolgie in Frankreich. Frankfurt am Main, 1987. Автор
причисляет эту книгу к важнейшим источникам французской
феноменологии.
'* GurvitchG. Les tendences actuelles de la philosophie allemande. E. Husserl,
M. Scheler, E. Lask, N. Hartmann, M. Heidegger. Paris, 1930. P. 228.
** Ibid. P. 231.
" «Пути» (№ 24, 1930). С. 119-120.
70
H. С. Плотников
ние. Этим объясняется и ограничение его интереса
«экзистенциальными» темами страха, конечности, заботы, обыденности (das Man),
в связи с которыми Бердяев называет Хайдеггера (как правило,
в одном ряду с Ясперсом и Кьеркегором). В целом, однако, Бердяеву
представляется сомнительным весь замысел построения онтологии
человеческого существования, категориального выражения
основных структур бытия человека. «Философия экзистенции не может
быть онтологией», — утверждает он, противопоставляя Хайдеггеру
свой «профетический» тезис о «примате свободы над бытием».
Посему экзистенциальная философия недостаточно экзистенциальна,
в отличие от его собственной, бердяевской*.
Другим откликом на работу Гурвича стала рецензия Н. О. Лос-
ского в «Современных записках» **. Судя по содержанию рецензии, ее
автор использовал для характеристики Хайдеггера лишь книгу
Гурвича, не обращаясь непосредственно к тексту «Бытия и времени»,
каковой подвергается уничтожающей критике. Иначе как могло
возникнуть чудовищное отождествление «здесь-бытия» с «наличным
эмпирическим бытием человека», которое Лосский приписывает
Хайдеггеру***. Вполне естественно поэтому, что теория немецкого
философа страдает «неисцелимыми недостатками». Критика
превращается просто в неудачный фарс, обнаруживающий скорее
догматические установки самого критика.
Проблему бытия Гейдеггер хочет решить, так сказать, снизу,
исходя из проявлений повседневной жизни. Неудивительно, что
он находит здесь только ограниченное, конечное, униженное
существование человека: сущность человеческого существования, по его
учению, есть забота (Sorge). Страх, подавленность социальною
обыденностью (безликим das Man), деградация индивидуальности,
затерянность в мире, покинутость и, наконец, тоскливый ужас,
особенно перед лицом смерти — вот основное содержание жизни
человека, по Гейдеггеру. Он почти не выходит за пределы кругозора
немецкой хозяйки (Frau Sorge), снедаемой заботами о
повседневных мелочах жизни. Высшую онтологическую основу и смысл
заботы, а следовательно, и человеческого Dasein он находит в таком
элементе бытия, как время. Отсюда понятно, что выйти из
обезличенной потерянности, найти себя человек может, по Гейдеггеру,
только путём осознания своего бытия как «бытия для смерти» и
путём решимости примирения со смертью. И в самом деле, то жалкое
Об этом Бердяев прямо заявляет в «Самопознании».
№XLVII1931.
«Гейдеггер задался целью дать общую теорию бытия [sic!], исходя из
наличного эмпирического бытия (Dasein) человека [sic!]» (Там же. С. 509).
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
71
человеческое бытие, которое описывает Гейдеггер, по самому
существу своему, слава Богу, обречено смерти. Но кроме этой смертной
стороны в глубине человеческого духа нетрудно найти способности
и цели, абсолютно ценные, дающие основание философу взойти
путём умозрения к началам сверхчеловеческим и в конечном итоге
к Абсолютному как творческой основе мира. Только отсюда сверху
можно понять смысл бытия и строение его; только исходя из
Абсолютного можно дать ответ на вопрос о необходимой
множественности мирового бытия (in-der-Welt-Sein человека), о положительных
сторонах времени, о многообразии путей жизни, о драматизме её,
о телесной смерти человека и, несмотря на неё, сохранении
абсолютных ценностей и т. п.*
В такой свободной от всякого сомнения натужно
оптимистической гносеологии растворяется возможность не только
позитивного обсуждения вопросов, поставленных Хайдеггером, но и вообще
критического философствования, рефлектирующего о собственных
предпосылках. В этой «интерпретации» Лосского негативное
отношение большинства русских мыслителей к «фундаментальной
онтологии» выражено в предельной форме, граничащей с абсурдом.
С. Л. Франку принадлежит в рамках традиции русской мысли
заслуга отчетливого формулирования «онтологической парадигмы»
философии, осуществленного им в книге «Предмет знания» (1915)
и поздней работе «Непостижимое» (1939). В этой связи его
обсуждение идей Хайдеггера представляет особый интерес. К этому
присоединяются два обстоятельства, стимулировавшие «хайдеггеров-
ские штудии» Франка: знакомство с Максом Шелером, оценившим
одним из первых огромное значение «Бытия и времени» для
современной философии, и дружба с психиатром-философом Людвигом
Бинсвангером**.
Свидетельства рецепции Хайдеггера обнаруживаются с
середины 30-х гг. в работах и переписке Франка. К наиболее важным
* Там же. (Курсив мой. — Н. П.). Отголоски подобного толкования
можно найти в книге ученика Лосского С. А. Левицкого «Трагедия свободы»
(Мюнхен, 1956, глава «Идолатрия свободы»).
** О Бинсвангере см. публикации и статьи в № 3 «Логоса» (1993). Из новейших
публикаций следует указать: Herzog M. Weltentwurfe. Ludwig Binswangers
phänomenologische Psychologie. Berlin; New-York, 1994. Это исследование,
принадлежащее перу издателя сочинений Бинсвангера, содержит
обширные материалы неопубликованной переписки психолога и подробный
анализ философских оснований его психологической концепции. О дружбе
Бинсвангера и Франка см.: Бинсвангер Л. Воспоминания о С. Л. Франке //
Сборник памяти С. Л. Франка. Мюнхен, 1954. С. 25-39 (первоначально
опубликовано с небольшими отклонениями от русского текста в: Jahrbuch
fur Psychologie und Psychotherapie. Wurzburg; 2 (1954). S. 229-242).
72
H. С. Плотников
в этом отношении произведениям относятся «Непостижимое»
(неопубликованный немецкий вариант которого хранит значительно
большее количество ссылок на Хайдеггера, чем опубликованный
русский) и «Реальность и человек». Переписка (также до сих пор
не опубликованная) Франка с Бинсвангером содержит
многочисленные и обстоятельные дискуссии обоих корреспондентов об основных
идеях философии Хайдеггера. Кроме того, существует
(публикуемый ниже) набросок лекции о Хайдеггере, принадлежащий
Франку и обнаруженный лондонским историком Филипом Буббаейром
в Бахметьевском архиве Колумбийского университета*.
Точную дату написания названного наброска установить на
данный момент весьма сложно, в силу отсутствия дополнительных
биографических данных. Приблизительно можно сказать, что текст —
как материал для лекции или доклада — предназначался для
выступления в Русском научном институте в Берлине, то есть был
написан до 1933 г. Встречающееся в тексте (зачеркнутое)
упоминание ряда немецких философов и обсуждение идей Хайдеггера в
связи с феноменологией Гуссерля позволяет предположить (с некоторой
вероятностью) знакомство Франка с книгой Гурвича (то есть
указывает на дату возникновения не ранее 1928 г.). Упоминание в тексте
смерти «Ю. И.», то есть Юлия Исаевича Айхенвальда**, также
указывает на эту дату — 1928 г.
К ближайшему контексту этого наброска, являющегося, судя
по всему, самым ранним свидетельством восприятия Франком хай-
деггеровской философии, относится еще одна важная связь,
которая стала, возможно, самым главным стимулом обращения
Франка к изучению «Бытия и времени» (и является дополнительным
подтверждением датировки текста 1928 г.). В конце 20-х гг. Франк,
по его словам, «находился в интенсивном духовном общении» с
Максом Шелером вплоть до смерти последнего в 1928 г.*** Содержание
контактов Франка с Шелером с трудом поддается реконструкции.
В архиве Франка отсутствуют какие-либо свидетельства по этому
поводу, а личный архив Шелера, в котором находилась переписка,
сгорел в Мюнхене во время войны. Вряд ли можно допустить, что
находившийся в стесненном материальном положении Франк часто
ездил к Шел еру в Кёльн. Общение двух философов могло происхо-
* Пользуюсь случаем поблагодарить г-на Буббайера за предоставленную для
публикации копию документа.
" За это указание я благодарю B.C. Франка.
" Ср. письмо Франка Бинсвангеру (30 ноября 1934 г.): «После смерти Макса
Шелера, с которым я в последние годы находился в интенсивном духовном
общении, у меня нет тесных и плодотворных для меня отношений с
немецкими философами».
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
73
дить в Берлине, во время визитов Шелера с докладами. Его
выступления были в 20-е гг. всегда крупным событием культурной жизни
и собирали огромное количество слушателей. Таков был, например,
его публичный доклад в Берлинской военной школе «Человек в
эпоху равновесия» (1927), в котором была сформулирована проблема
«христианского солидаризма», определяющая смысл политики «по
ту сторону капитализма и социализма», «по ту сторону правого и
левого». Можно предположить, что результаты бесед Франка с Шеле-
ром повлияли на его последующие стремления выразить буквально
в тех же категориях, что и Шелер, собственный, «веховский» опыт
исследования политической жизни. Еще раньше, в 1924 г., Шелер
выступал с докладом на заседании религиозно-философской
Академии, о чем сообщал Франк в некрологе «Макс Шелер»: «С
большинством русских философов Шелер находился в тесном дружеском
общении. Эта взаимосвязь выразилась в том, что он выступил на
заседании религиозно-философской Академии в Берлине в 1924 году
с как всегда блестящим докладом "О смысле страдания"»*.
Этот факт интересен в связи с отношением к Хайдеггеру еще
и потому, что Шелер был, по существу, первым философом вне
круга «хайдеггерианцев», оценившим выдающееся значение «Бытия
и времени». «Я ожидаю многого от дальнейшей работы Хайдеггера.
Его книга "Бытие и время" является самым оригинальным и самым
независимым и свободным от сугубо традиционных философий
произведением из тех, что составляют "современную немецкую
философию", — радикальный и всё же строго научный подход к
главнейшим проблемам философии»**. По признанию самого Хайдеггера,
Шелер «был один из немногих, кто сразу признал новый принцип
его произведения». Вместе с тем критические возражения Шелера,
выдвинутые им против концепции фундаментальной онтологии,
намечают иной путь интерпретации «Бытия и времени», нежели
рассмотренные выше «экзистенциалистский» и
«трансцендентально-онтологический» варианты. В существенных пунктах критика
Шелера, изложенная в поздней неопубликованной статье
«Идеализм — реализм», предвосхищает критику Франка в адрес
Хайдеггера. Основным мотивом критики Шелера является отрицание
«хайдеггеровского солипсизма здесь-бытия»***. Речь идет, правда,
не о традиционном тезисе трансцендентальной философии, согласно
которому мир существует в качестве данности сознанию. По мнению
Шелера, Хайдеггер как раз порывает со всей линией трансцендента-
* Путь. № 12. Август 1928. С. 86.
" Scheler M. Gesammelte Werke. Bd. 9. Spate Schriften. Bern; München, 1976.
S. 304.
*" Ibid. S. 260.
74
H. С. Плотников
лизма вплоть до Гуссерля тем, что он переворачивает декартовский
тезис — «sum ergo cogito»*. При этом, однако, Хайдеггер повторяет
основную ошибку традиционной философии, принимая за
исходный пункт то, что на самом деле является «самым далёким» **, —
собственное Я. Шел ер противопоставляет ей систематику философской
антропологии, с ее фундаментальным различением жизни (так-бы-
тия) и духа (сущности-акта). В рамках этого различия фиксируется,
с одной стороны, фактическая эволюция человека как живого
существа, поздним результатом которой является собственно
индивидуальное самобытие человека. «Человек в качестве индивидуального
существа дан самому себе позднее всего, сначала же он
экстатически растворён в Мы, в Ты, во внутримировом бытии»***. С другой же
стороны, духовная индивидуальность человека коренится во
«вневременной личности», каковая «совершенно индивидуальна, хотя
и не субстанциальна»****. Понимание духа как личностного акта
освобождает, по убеждению Шелера, антропологию от традиционного
метафизического заблуждения, толкующего сущность человека
субстанциально. Фундаментальная онтология Хайдеггера, напротив,
«выплёскивает вместе с водой и ребёнка», стирая всякое различие
между «здесь-бытием — Хайдеггером в его совершенно случайной
конкретности» и сущностью человека*****. «Хайдеггер теряет всякое
средство разделения сущности и случайного здесь-бытия
человека» ******. ИтоговыйтезискритикиШелеразаключаетсявутверждении
трансэмпирической основы человеческого бытия (сущность
человека), из которой только и может быть прояснена его структура. «Что
значил бы человек, если бы ему пристало заботиться лишь о самом
себе и о мире, а не о его основе. Он был бы примечанием к бытию » *******.
При рассмотрении способов бытия человеческой экзистенции,
исследованных в «Бытии и времени», Шел ер подробным образом
разбирает «первичные модусы» — страх и заботу. Последние, согласно
различению Шелера, являются «витальными понятиями», то есть
относящимися к сфере жизненного порыва, а не духа********. «Страх —
это ярко выраженное витальное чувство, лучше сказать общее
витальное состояние [...]. Страх — не духовная данность и чувство,
и даже не душевная. Страх охватывает человека и является
специфическим конститутивным страхом человека как живого существа,
* Scheler M. Gesammelte Werke. Bd. 9. Spate Schriften.
** Ibid.
*** Ibid. S. 261.
**** Ibid. S. 298.
***** Ibid. S. 296.
****** Ibid.
******* Ibid. S. 294.
*"**"* Ibid. S. 269-275, 279-283, 284-285.
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
75
но не как духовного существа»*. Человек, причастный духу, в
состоянии тормозить страх и преодолевать его. Но даже и в рамках
витальной сферы страх не является первичным феноменом. Страху,
являющемуся изоляцией от жизни, сопротивлением жизни, предшествует
единство с жизнью, витальная взаимосвязь. Эта взаимосвязь
находит выражение в любви, первичной "форме симпатии" по
отношению к реальности. «"Любовь", а не страх является открытием мира
для нас. Страх предполагает уже раскрытую сферу мира»**.
Конечную причину столь «пессимистического» образа человека
у Хайдеггера Шелер видит в теологической основе его рассуждений —
«разновидность неокальвинизма, теология Барта и Гогартена»***.
У меня все время возникает некоторое опасение, что за
философией Хайдеггера, отвергающей ens a se, скрывается весьма
специфическая антифилософская «теология», теология откровения
в самом резком и в высшей степени неприятном смысле, как у
какого-нибудь Карла Барта, который заставляет меня признать так
называемого «Бога» и «верить», но не исходя из моего разума, а из-за
мне лично (ведь речь идет о вере и доверии) весьма сомнительного
и совсем уж не вызывающего у меня «доверия» иудея Павла и его,
мне в высшей степени неприятной, болтовни о «Боге». Если это
действительно так, то я должен чистосердечно признаться, что вопрос
об основательности его умозаключений представляется «моему»
разуму несравненно более важным, чем всякие «откровения» [...],
в особенности же чем болтовня Павла****.
Требуемое Шелером строжайшее разделение философии и
теологии, доходящее до неприятия последней, составляет в итоге одну
из главных предпосылок его критики Хайдеггера.
Этот экскурс в полемику Шелера с Хайдеггером позволяет
наметить линию рецепции «Бытия и времени» вне противоположения
«экзистенциализма» и «онтологизма». В центр рассмотрения
ставится проблема трансценденции — преодоления точки зрения
конечной субъективности и восхождения к Абсолютному. Для
Франка, как покажет дальнейший анализ, оба подхода — рассмотрение
предметного бытия и человеческого существования — представляют
собой два пути «откровения Абсолютного» : во всеединстве
предметного содержания и в целокупности жизни. Этот горизонт
исследования, весьма близкий шелеровской постановке вопроса о бытии чело-
* Ibid. S. 270.
** Ibid. S. 294.
*** Ibid. S. 283, 295-296, 330.
**** Ibid. S. 292.
76
H. С. Плотников
века в философской антропологии, раскрывает круг существенных
проблем, артикулированных лишь в ходе последующей дискуссии
об идеях «Бытия и времени» (например, в экзистенциальной этике
Эммануэля Левинаса и т. п.)*.
Интерпретация идей Хайдеггера, представленная в публикуемом
ниже в наброске лекции Франка, начинается с констатирования
радикального разрыва фундаментальной онтологии с традицией
метафизической философии (включая и Гуссерля). Для последней
главным было познание скрытой сущности бытия или аристотелевское
«первое по существу», тогда как задача Хайдеггера — в постижении
человеческого существования, каковое является «первым и
последним». Суть подхода Хайдеггера Франк определяет как «переход
от познания сущего к познанию бытия*. В отличие от экзистенциа-
Следует отметить, что в кругу русских философов проблема трансценден-
ции была одной из самых обсуждаемых тем. По существу, уже упомянутый
отклик Лосского содержит, в весьма радикальной форме, требование
преодоления конечной субъективности и восхождения к Абсолютному. Более
основательную разработку, также в связи с идеями Хайдеггера, эта проблема
находит у Б. Вышеславцева. Толкуя опыт трансцендентного как фундамент
философии, Вышеславцев различает три точки зрения на трансценденцию:
точку зрения, отрицающую возможность входа («транса») за пределы
«видимого мира» (имманентные или человекобожеские системы); точку
зрения, признающую возможность как выхода за пределы бытия («первый
транс»), так и восхождения к Абсолютному («второй транс») —
трансцендентные или богочеловеческие системы. Наконец, промежуточной
является трансцендентальная точка зрения, признающая первый транс и
отрицающая второй (Гуссерлева «феноменологическая редукция»). Позиция
Хайдеггера в этой градации представляется Вышеславцеву промежуточной
между третьей (Гуссерль) и второй точкой зрения.
«Главной заслугой Гейдеггера является его утверждение (обоснованное
им в двух статьях: "Was ist Metaphysik?" и "Vom Wesen des Grundes"), что
трансцензу с абсолютно существен для самосознания, что он есть сущность
духа, сущность свободы, сущность обоснования (закон достаточного
основания), быть может сущность всего. Трансцензус дает выход к последнему
основанию всего, выход свободный и выход, находящий метафизическую
свободу. Здесь совершается поворот к Шеллингу, к великим традициям
немецкого идеализма, но поворот совершенно новый — обновленный, с одной
стороны, феноменологией, с ее требованием предметной интуиции и
отстранением бесконтрольного романтического конструктивизма, а с другой
стороны, стремлением к онтологизму и отстранением всяческого
субъективного идеализма и иманентизма» (Вышеславцев Б. П. Этика
преображённого Эроса. М., 1994. С. 131-132).
Вместе с тем Вышеславцев подвергает критике «буддистско-хайдеггеров-
ское представление» о том, что второй транс есть «встреча с ничто». Эта
философия «как бы сомневается в том, есть ли над нами что-то высшее. А
может быть, там ничего нет (как это думает Гейдеггер)? » Вывод Вышеславцева
близок поэтому общему мнению религиозных философов: «Диалектика
Гейдеггера недостаточна, потому что она не ставит проблемы Абсолютного»
(Там же. С. 126,263).
С. Л. Франк о M. Хайдеггере
11
листской интерпретации, каковая отчасти присутствует и в его
рассуждениях, Франк обращает внимание на то, что Хайдеггер ставит
вопрос не о смысле особого рода сущего, именуемого человеческой
экзистенцией, а о смысле бытия этого сущего. Различие это играло
существенную роль в полемике самого Хайдеггера против Ясперса
и Кьеркегора, подробно представленной в его лекциях 1941 г.
«Метафизика немецкого идеализма». Анализ Шеллингова различения
основы и экзистенции предваряется в лекциях уточнением смысла
понятия «экзистенция» в современной философии.
«"Экзистенциалистское" понятие экзистенции (Кьеркегор, Ясперс) означает
самосущую самость человека, поскольку она интересуется собой в
качестве сущей самости. "Экзистенциальное" понятие экзистенции
означает самобытие человека, поскольку оно обращается не на
сущую самость, а на бытие и отношение к бытию» *.
Франк, для которого ни Ясперс, ни Кьеркегор не имели
философского значения, направляет поэтому свое внимание на специфику
онтологического подхода Хайдеггера. Ее он видит в переходе от
«теоретического анализа» к «практической ориентировке». Сюда относятся,
по его убеждению, анализы «наличного» и «подручного», «вещей»
и «заботы», «неподлинных» модусов человеческого существования.
Напротив, характеристика Хайдеггером своего познавательного
подхода как «герменевтического» не привлекает интерес Франка
ни в этом, ни в последующих текстах, хотя, по существу, его идея
«живого знания», изложенная еще в магистерской диссертации
«Предмет знания», близка по смыслу герменевтическому методу**.
Однако, в противоположность герменевтике, Франк настаивает
на интуитивном характере «живого знания», сближая его скорее
с «переживанием» и «вчувствованием», чем с пониманием,
требующим категориального выражения непосредственного переживания.
Заключают набросок критические аргументы, определяющие
отношение Франка к основному содержанию фундаментальной
онтологии. «Религиозный кризис» и «конечность и замкнутость суще-
* Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 49. Die Metaphysik des deutschen
Idealismus. Frankfurt am Main, 1991. S. 39. В контексте различения
«философии существования» и фундаментальной онтологии Хайдеггер разбирает
некоторые критические аргументы против «Бытия и времени»,
усматривающие в нем «одностороннюю философию страха, смерти, ничто, заботы»
(Ibid. S. 30-35). Вопрос о бытии выдвигается в качестве горизонта
определения различных «экзистенциалий», таких как забота, страх и т. д.,
поэтому истолкование «Бытия и времени» с точки зрения этих отдельных
феноменов упускает из виду то главное, о чем повествует произведение.
'* В книге «Душа человека» и в поздней работе «Реальность и человек» Франк
мимоходом упоминает дильтеевское различение «объяснения» и
«понимания», сопоставляя понимание с «живым знанием».
78
H. С. Плотников
ствования» — против этих двух особенностей сочинения немецкого
философа направляет Франк свою критику.
Как видно из экскурса в поздние сочинения Шелера, последний
аргумент — против принятия за исходный пункт solus ipse — почти
одинаков в рамках концепций, видящих разрешение вопроса о сущности
человека в области метафизики. При этом основной предпосылкой
является тезис о том, что опыт индивидуального существования
доступен человеку лишь посредством дифференциации исходного
единства или взаимосвязи, составляющих действительный фундамент
самобытия личности. Опыт целостности, таким образом, утверждается
как нечто более несомненное, чем опыт индивидуальности.
Парадоксально, что сам Хайдеггер также исходил в своих
размышлениях из этой формулы «философии тождества», радикально
изменяя при этом ее смысл. У него исходное единство имеет характер
не абсолютной субстанции, а энергии, из которой лишь посредством
последующей рефлексии выделяется акт и предмет акта. Вопрос
о смысле и способах бытия энергии (или, в терминах Хайдеггера,
«экзистенции») составляет центр фундаментальной онтологии.
Однако именно в этом пункте происходит разрыв с традицией
метафизики, также разбиравшей вопрос о бытии, поскольку для
Хайдеггера прояснение этого вопроса невозможно посредством восхождения
на точку зрения абсолютного субъекта, а осуществляется путем
прояснения способов бытия самого спрашивающего, того, кто
существует «здесь». Как раз это принципиальное ограничение
онтологии прояснением смысла бытия конечного Dasein или экзистенции
было воспринято как утверждение «замкнутости человеческого
существования». Первоначальный вопрос Хайдеггера о смысле бытия
был тем самым интерпретирован как вопрос о смысле
индивидуального человеческого существования, то есть как «экзистенциализм».
Помимо этой установки, присущей общей дискуссии об идеях
Хайдеггера, Франк вводит в обсуждение характеристику его
философии как проявления «религиозного кризиса» или даже «безрелиги-
озности», используя эту характеристику в качестве определяющего
аргумента против философских построений немецкого мыслителя.
Несмотря на то что связь идей Хайдеггера с новой протестантской
теологией подчеркивалась современниками неоднократно (как
в положительной — у Рудольфа Бультмана, так и в отрицательной
форме — у Шелера), критика Франка опирается на существенно
иные предпосылки, заключающиеся в возможности и даже
необходимости включения в философию религиозной установки.
Всякая «нерелигиозная» философия является с этой точки зрения
недостоверной и даже ложной. Напротив, философия, опирающаяся
на личный религиозный опыт, опыт веры, приводит, по убеждению
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
79
Франка, к позитивному утверждению Абсолютного. Критическое
направление этой мысли против Хайдеггера как мыслителя
«безрелигиозного» кажется тем более удивительным, что сам немецкий
философ (в частных беседах и переписке) отчетливо связывал свои
рассуждения с религиозной интуицией (родственной религиозности
Мейстера Экхарта и Лютера). Но за пределами фундаментального
различия религиозных установок обоих мыслителей* лежит иное,
более фундаментальное различие, — отношение к возможности
категориального выражения опыта трансценденции. Для Франка
философия — лишь повествование («исповедь») о личном опыте
Абсолютного, совпадающее в конечном счете с опытом личной веры
и невыразимое в слове. Хайдеггер же, напротив, стремится создать
«первоначальную науку» (Urwissenschaft), способную описать
схемы личного опыта человеческой жизни. Вопрос о том, возможно ли
истолковать этот опыт как религиозный (опыт Божественного или
Абсолютного) или какой-то другой, является делом интерпретации,
вносящей в онтологическое описание ценностные различия**. Более
того, само связывание Франком переживания первичных
феноменов человеческого существования с религиозной интуицией (ср.
религиозное истолкование любви и мы-бытия в приведенном ниже
письме) или с отсутствием таковой (усмотрение безрелигиозности
в «пессимизме» Хайдеггера) невольно ставится под сомнение в ходе
переписки с Бинсвангером, поскольку для последнего описание этих
«позитивных» феноменов (любви, дружбы и т. д.) вовсе не выявляет
их обязательного религиозного смысла. Бинсвангер также
критикует Хайдеггера, но эта критика (при содержательной близости его
и Франка установок и опоре на сходные философские источники***)
Здесь речь идет не о конфессиональных различиях, каковые также играли
определенную роль, но именно о религиозных установках —
«новозаветного персонализма» Хайдеггера, родственного религиозному духу ап. Павла
(в интерпретации Бультмана) и Лютера, и «христианского платонизма»
Франка, ориентированного на опыт божественного всеединства.
То, что религиозная интерпретация философии является у Франка
следствием «экзистенциальной заинтересованности» (выражение Г. Флоров-
ского), то есть подчинена определенной религиозной и моральной цели,
свидетельствует его собственное понимание религиозности, находящееся
под сильнейшим влиянием платонизма и в силу этого исключающее,
например, из представления о христианстве всю христологию. Таким
образом, то, что Франк утверждает как опытную очевидность — переживание
единства с Абсолютными т. д., — есть уже, на самом деле, результат
культурной интерпретации переживания и, следовательно, не может
принадлежать к сущности философии.
'* Ср. письмо Бинсвангера Франку (13 марта 1939 г.): «Меня могут упрекнуть
в том, что я смешал "в одном котле" Плотина, Семёна Франка, Гёте и
Хайдеггера».
80 H. С. Плотников
вовсе не приводит у него к утверждению «христианско-платони-
ческой» религиозности (на что Франк сетовал в приводимом ниже
письме). Наоборот, прояснение основных структур человеческого
существования и форм его познания только и открывают, по мнению
Бинсвангера, путь к пониманию религиозных отношений. Кратко
формулируя противоположность мыслительных ориентации,
можно сказать, что «любовь» как экзистенциальный феномен возможна
не на основе религиозного «откровения», а напротив — лишь
«поскольку существование изначально является любовью, постольку
возможна христианская религия и религиозная философия,
постольку Бог может "открывать" себя как Бог любви человеку в его
бытии-в-мире» *.
Уже в самых первых письмах встречаются упоминания Хайдег-
гера в связи с обсуждением работ обоих мыслителей. Бинсвангер,
изучив ранние работы Франка — статьи «Абсолютное», «Познание
и бытие» и о Достоевском**, — обнаружил в них близость своим
собственным исследованиям, а также «ближайшую связь с Хайдегге-
ром». В том же 1935 г. Франк рекомендовал своему конфиденту
книгу спиритуалиста Рене Ле Сенна «Препятствие и ценность»: «Это
своего рода экзистенциальная философия или феноменологическая
психология, отчасти опирающаяся на Хайдеггера, но значительно
более великодушная, ибо она строится на признании религиозного
горизонта души» ***. В ответ на высказанные Бинсвангером сомнения
* Binswanger L. Grundformen und Erkenntnis des menschlichen Daseins //
L. B. Ausgewählte Werke in vier Banden. Heidelberg, 1993. Bd. 2, S. 114.
Ср. также его письмо Франку (11 ноября 1936 г.): «Я не собираюсь
развивать христианскую антропологию с христианской точки зрения, а работаю
по возможности чисто антропологически, стремясь вместе с тем показать,
каким способом религиозная сфера включается в сущность
антропологического».
** В письме Бинсвангера от 21 января 1935 г. не называется конкретно, какую
статью Франка о Достоевском он прочитал. К этому времени Франк
опубликовал по-немецки пять статей о Достоевском (см. Библиографию в
«Сборнике памяти С. Л. Франка»). Из текста письма Бинсвангера можно
заключить, что речь идет о статье: Die Krise des Humanismus. Eine Betrachtung
aus der Sicht Dostojewsky's // Hochland 2 (1931). S. 289-296. (Русск. текст:
Достоевский и кризис гуманизма // Путь № 27. Апрель 1931. Другие
статьи, упоминаемые Бинсвангером: Das Absolute // Idealismus. Jahrbuch fur
die idealistische Philosophie der Gegenwart. Hrsg. von E. Harms. 1 (1934).
S. 147-161; Erkenntnis und Sein // Logos 17-18 (1928-1929). S. 165-195,
231-261.
*** Письмо от 20.VIII.35. Об этой книге см. рецензию Франка: R. Le Senne.
Obstacle et le valeur // Neue Züricher Zeitung. 1935. September. В письме
от 13 ноября 1935 г. Бинсвангер писал Франку, откликаясь на его рецензию:
«Нельзя ли сказать об этой книге то же, что и о Хайдеггере, а именно, что
в ней отсутствует любовь или не занимает достойного положения, поскольку
ведь она не сводится на взаимодействие препятствия и ценности».
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
81
Франк приводил второй мотив своей критики Хайдеггера (письмо
от 15 ноября 1935 г.): «Ваше замечание по поводу Ле Сенна
совершенно справедливо. Тем не менее он принципиально отличается
от Хайдеггера тем, что признаёт "открытость" души». Такое
неприятие Франком «экзистенциализма» проникает даже в его
повседневные заботы. Просьба об одолжении денег сопровождается ссылкой
на «экзистенциальные обстоятельства (демонически-хайдеггеров-
ского содержания)» *.
Середина 30-х гг. проходит у Франка в работе над
«Непостижимым», следы которой также обнаруживаются в переписке. Было бы,
конечно, преувеличением считать эту книгу результатом полемики
с Хайдеггером. Франк мыслил в рамках традиции христианского
платонизма, которую Хайдеггер решительно отвергал. К тому же
философские ориентации мыслителей радикально отличались друг
от друга — борьба с метафизикой посредством создания
фундаментальной онтологии и продолжение метафизики как «вечной
философии» в форме религиозной онтологии. Но все же никакая
другая из современных философских концепций не занимает Франка
столь же сильно на страницах «Непостижимого», как хайдеггеров-
ская. Об этом свидетельствует, например, один из ключевых
пассажей книги, посвященных определению смысла философии. Франк
(не называя Хайдеггера) солидаризуется с пониманием философии
как «фундаментальной (основоположной)онтологии»**.
Обозначение человеческого существования в «Непостижимом» как
«самобытия» и «бытия-в-мире» также тесным образом связано с хайдегге-
ровскимитерминами «Dasein» и «In-der-Welt-Sein»***.
Вместе с тем исследование «самобытия», предпринятое в
«Непостижимом», обнаруживает непримиримость философских позиций
обоих мыслителей при родстве их общей «онтологической»
ориентации. Из трех образов явленности Непостижимого —
«предметное бытие», «наше собственное бытие» и «первооснова» (Божество,
всеединство) лишь первые два могут быть соотнесены с аналитикой
здесь-бытия в «Бытии и времени» — анализом «мира» (включая
вопрос о «внешнем мире») и модусов экзистенции. Но как раз здесь
и возникает различие.
Ход исследования в «Бытии и времени» расчленялся на две
ступени — прояснение смысла вопроса о бытии, исходя из
анализа структуры «здесь-бытия» («феноменологическая редукция»!).
В ходе этого анализа раскрывались первоначальные определения
* Письмо Бинсвангеру от 14 мая 1938 г.
** Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 305.
Подтверждением этому является немецкий (сокращенный) текст «
Непостижимого», в котором Франк прямо использует эти немецкие понятия.
82
H. С. Плотников
«здесь-бытия» как времени в истории («темпоральность и
историчность здесь-бытия»). Достигнутый в исследовании
«фундаментальный» принцип темпоральное™ должен был быть применен к
различению отдельных модусов бытия (переход от фундаментальной
онтологии к региональным онтологиям). На этом пути
«позитивного» рассмотрения, открывающемся в результате «деструкции
истории онтологии» (вторая, неопубликованная часть «Бытия и
времени»), должен был быть сформулирован ответ на вопрос о смысле
бытия с точки зрения времени. Однако в ходе исследования
выяснилось, что ответ на вопрос о смысле бытия не может быть
окончательно сформулирован, так как «чистый феномен» или смысл
бытия не может быть описан подобно некой идеальной сущности. Это
означало, что сам принцип темпорального различения различных
регионов и модусов бытия не абсолютен, а также темпорален и
историчен, или, иначе говоря, само бытие имеет историю. Такова была
линия развития исследования Хайдеггера вплоть до «поворота»,
в результате которого мыслитель обратился к осмыслению истории
бытия и способов его явленности.
Франк ставит своей целью обосновать всеединство бытия, то есть
укорененность всех форм и регионов бытия в едином бытии или
Непостижимом. В трех формах бытия, анализу которых посвящена его
книга, он прослеживает самооткровение непостижимого. Его
задачей в каждом случае является усмотрение единства
соответствующей сферы сущего — предметного мира, человеческого
существования, Божественного. Иначе говоря, цель работы — синтетическая,
стремление восстановить в разделенных регионах бытия первичное
всеединство, абсолютное бытие.
И если для Хайдеггера главной проблемой остался
«окончательный» синтез, стимулировавший его размышления об «истории
бытия», то для Франка в конце концов возникает противоположная —
аналитическая — проблема различения единства и принципа этого
различения, проблема объяснения (относительной) независимости
сферы «временного», множественного бытия. В сфере знания
констатация всеединства предметного содержания не может отменить
факта «разобщенности» бытия, данного человеческому рассудку,
но не может и объяснить прочности этого «ущербного» мира. В
случае исследования конкретных феноменов человеческого общения,
в особенности феномена любви (глава 6 «Непостижимого»)
антиномия единства и индивидуальности возникает в полной силе. Еще
Платон поставил в рамках традиции философии всеединства
дилемму соединения любящих и сохранения их индивидуального
самобытия. Отправляясь от всеединства (именно от единства, а не от
синтеза), рассуждение с необходимостью приводит к утверждению
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
83
иллюзорности непосредственной индивидуальности. Если
признано, что человек есть лишь самооткровение Непостижимого
(всеединства), то об автономном самобытии личности не может быть и речи*.
Вместе с тем возникает вопрос: что подвигнуло всеединство к
саморазличению и распаду во множестве? Вопрос, составляющий
характерную для платонизма проблему: множество должно иметь основу
во всеединстве как источнике бытия, но принцип его существования
заключается как раз в отрицании самого единства.
Исследование отношения «Я — Мы» демонстрирует исходную
установку философии Франка, на которой основана и его критика
Хайдеггера**: реальность индивидуального, собственно, иллюзорна,
бытием в полном смысле обладает лишь единство «Мы». Другие
выражения этой установки — «человеческое в человеке есть Богочело-
вечность», «философская антропология есть теоантропология» в
разных отношениях формулируют присутствие этого первоначального
вотума в пользу платонизма — «единство — благо, множество — зло».
В письмах Франка Бинсвангеру эти темы сформулированы
с предельной ясностью и поставлены в контекст полемики об идеях
Хайдеггера, которые Бинсвангер, несмотря на свое критическое
отношение, признавал исходным пунктом разработанного им метода
анализа здесь-бытия***. Фундаментальная онтология Хайдеггера
открывала, по убеждению психолога, возможность строгого описания
структуры человеческого существования.
Для психиатра открывалось здесь, вместо всяких
содержательных суждений о человеке и вместо всяких религиозных и философ-
Эта проблема — невозможности определить принцип различения
индивидуального бытия, а вместе с тем и различения «нормального» и
«патологического» — заставила Бинсвангера вернуться от утверждения
«мыйности» (Wirheit) человеческого существования к точке зрения
трансцендентальной субъективности. Уже в последних главах его основного труда
«Основные формы и познание человеческого здесь-бытия» (1942)
осуществляется этот переход, «разрушая через 600 страниц исходную точку зрения»
(Theunissen M. Der Andere. Grundzuge der Sozialontologie. Berlin; New-York,
1965. S. 471). В поздних работах «возвращение от Хайдеггера к Гуссерлю»
представлено наиболее отчетливо. Бинсвангер анализирует структуру мира,
конституируемого «трансцендентальным сознанием» и на этой основе вновь
стремится поставить проблему интерсубъективности, но уже исходя из гус-
серлевских понятий («жизненный мир», «естественная установка» и т. д.).
** В некоторых отношениях эта критика сродни полемике М. Бубера и Э. Ле-
винаса против Хайдеггера, однако у них идет речь об опыте «Другого»,
а не единстве в «Мы». Ср.: Ibid.
Бинсвангер состоял с Хайдеггером в дружественной переписке даже в
поздний период своего творчества, когда он в своем «анализе здесь-бытия»
отошел от ориентации на хайдеггеровскую онтологию, вновь «вернувшись»
к Гуссерлю.
84
H. С. Плотников
ских призывов к человеку, нечто необходимое, в смысле
неминуемого, а именно то, что здесь-бытие или бытие-в-мире обнаруживает
ясно очерченную прочную структуру, со строго подогнанными друг
к другу членами структуры — кто, бытие-в-мире, бытие-в, миро-
вость мира, а также строго подогнанные друг к другу экзистенци-
алии — фактичность, заброшенность, экзистенция (в собственном
смысле) и падшесть (в мир)*.
Эти основные онтологические структуры здесь-бытия, описанные
Хайдеггером, Бинсвангер положил в основу своего учения о
познании человеческого существования. Правда, в отличие от
онтологического подхода Хайдеггера, он исходил из анализа эмпирического
существования человека и в этом смысле использовал структуры
экзистенции для конструирования «онтической» науки —
антропологической психиатрии. Поэтому «анализ здесь-бытия» Бинсвангера
следует отличать от «аналитики здесь-бытия» Хайдеггера: «Первая
есть онтико-антропологическая, феноменологическая
герменевтика, осуществляемая по отношению к фактическому здесь-бытию
человека, последняя есть онтологическая, феноменологическая
герменевтика, направленная на бытие, понятое как здесь-бытие»**.
В своем главном труде «Основные формы и познание
человеческого здесь-бытия» (1942) Бинсвангер предпринимает
существенные изменения не только в интерпретации структуры экзистенции
и ее образа мира, но и в ее строении. «Свою задачу я все больше вижу
в том, чтобы отграничить бытие-в-мире как любовь от бытия-в-мире
как заботы в смысле Хайдеггера и постигнуть его с помощью этого
отграничения в его собственной сфере и подлинной глубине » ***. Любовь
и забота рассматриваются им как два различных способа конститу-
ирования мира: если забота (и смерть) есть возможность одиночного
и конечного существования, то любовь открывает возможность
преодоления одиночества и достигает бесконечности в точном смысле
слова. Более того, Бинсвангер не только фиксирует различие этих
двух способов «проектирования мира», но усматривает в феномене
* Über Martin Heidegger und die Psychiatrie // Binswanger, L., Der Mensch in
der Psychiatrie. Pfullingen, 1957. S. 16.
** Binswanger L. Schizophrenie. Pfullingen, 1957. S. 94. В ходе семинаров
в Цолликоне Хайдеггер обсуждал подход Бинсвангера к исследованию
здесь-бытия, признав, что он недостаточно различает «экзистенциальные»
(априорные) структуры здесь-бытия и их конкретное фактическое
наполнение (Heidegger M. Zollikoner Seminare. Frankfurt am Main, 1987. S. 239,
256f.). То что, с точки зрения философа, являлось недостатком,
представлялось психиатру как раз достижением по сравнению с фундаментальной
онтологией.
'** Письмо от 21 декабря 1939 г.
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
85
любви и общения основную форму человеческого существования —
только «вблизи» другого (в «Мы») конституируемый мир впервые
становится человеческим миром. Поскольку же любовь является
не просто содержанием мира, но априорным антропологическим
условием конституирования мира, постольку Бинсвангер
истолковывает феномен любви как «бытие-выходящее-за-пределы-мира».
В этом пункте рассуждения психиатра сближаются с
философскими построениями Франка (при наличии упомянутой
несовместимости). По крайней мере два аспекта философии русского мыслителя
имели для Бинсвангера существенное значение: проект
«онтологической теории познания» и анализ «мы-бытия». «Я многому у него
научился, в особенности что касается его онтологии, с которой он
и его русские друзья во многом опередили немецкое
онтологическое направление», — признавался Бинсвангер спустя несколько
месяцев после смерти Франка*. «Мы сходились в понимании любви
как "самораскрытия реальности"», — писал он в «Воспоминаниях
о С. Л. Франке»**. Эти же пункты соприкосновения идей философа
и психиатра обозначены в работе «Основные формы и познание
человеческого здесь-бытия». Бинсвангер опирается в описании
структуры познания на анализ суждения, предпринятый Франком
(в «Предмете знания» и, в модифицированной форме, в немецкой
статье «Абсолютное»), причем идет в понимании роли познания
значительно дальше своего русского единомышленника,
истолковывая познание как преодоление противоречия между конечностью
(«забота») и бесконечностью («любовь») человеческого
существования. Одновременно Бинсвангер солидаризуется с идеями статьи «Я
и Мы», подчеркивая особое значение социальной онтологии Франка
для разработки принципов анализа «здесь-бытия»***.
Резюмирующая оценка исследования Бинсвангера, которое
Франк приветствовал словами: «Ваша книга — настоящий гимн
любви и может быть названа просто "Философия любви". Любовь
составляет, похоже, Вашу основную интуицию и обосновывает
оригинальность и значение Вашего произведения, обеспечивая ему
особое место в философском хоре» ****, содержится в опубликованном
ниже письме Франка, передающем одновременно и квинтэссенцию
его отношения к Хайдеггеру.
Этот же образ хайдеггеровской философии сохраняется и в
позднем творчестве Франка, в особенности в посмертно опубликованной
работе «Реальность и человек». В раздел книги, посвященный про-
* Письмо Е. Бруннеру (31.5.1951). Цит по: Herzog M. Weltentwurfe. S. 116.
** Бинсвангер Л. Воспоминания о С. Л. Франке. С. 30.
*** Binswanger L. Grundformen und Erkenntnis des menschlichen Daseins. S. 91.
**** Письмо Франка Бинсвангеру (28.VI.42).
86
H. С. Плотников
блеме трансцендирования или самооткровения первичной
реальности, включен специальный экскурс с критикой учения о
замкнутости человеческого существования. Здесь Хайдеггер рассматривается
уже в контексте традиции, идущей от Декрата и утверждающей
обособленность и замкнутость индивидуальной души, субъективности
или экзистенции.
Подобно тому как современная физика в учении об
искривленном пространстве утверждает конечность мироздания,
совместимую с ее неограниченностью, так и экзистенциализм Гейдеггера,
открыв необозримую полноту своеобразной реальности в составе
внутреннего бытия человека (его «Existenz»), утверждает все же ее
конечность и замкнутость*.
Другим объектом критики Франка является учение о времени.
Здесь он открыто солидаризуется с платоновско-аристотелевским
взглядом на время («подвижный образ вечности») как на
подчиненную сферу реальности. «Реальность не может совпадать со
временем, она лишь включает время»**, — утверждает он против Хайдег-
гера.
Противоположность хайдеггеровской концепции отчетливее
выступает в этой книге Франка на фоне концептуальных уточнений,
внесенных в учение о «Непостижимом». Франк сильнее, чем в
прежних работах, редуцирует «апофатический» элемент своего учения
(который в известном смысле сглаживал противоречия идеи
всеединства), отказываясь даже от самого термина «непостижимое».
Вместо этого он говорит о «бытии» или «реальности»,
открывающейся в человеческом бытии, и формулирует тем самым
традиционный вариант онтологии, конструирующей априорную иерархию
типов реальности.
В контексте этих модификаций онтологической концепции
Франка представляется неожиданностью его признание позднего Хай-
деггера, основание которого можно, впрочем, искать и в
особенностях мифопоэтического философствования немецкого мыслителя.
По совету Бинсвангера Франк прочитал незадолго до своей смерти
сборник хайдеггеровских статей «Лесные тропы» (1950). В
последнем письме (опубликовано ниже) он выражает свое восхищение этой
книгой, признавая ее величайшим событием европейской культуры.
В концепции «истории бытия» Франк видит подтверждение своей
основной интуиции: «Человеческое в человеке есть его Богочеловеч-
* Франк С. Реальность и человек. Мюнхен, 1965. С. 54. Ср. с. 64: критика
понимания «Я» как «сферы чистой имманентности».
" Там же. С. 152.
С. Л. Франк о М. Хайдеггере 87
ность». Трудно сказать, насколько было правомерно такое
сближение, учитывая радикальные изменения в учении самого Хайдеггера
и его отход от категориального анализа, воплощенного в «Бытии
и времени». Бинсвангер, во всяком случае, считал, что Франк
неоправданно сближал свою метафизическую концепцию с поздней
онтологией Хайдеггера. Ведь, в самом деле, даже в интервью,
данному журналу «Шпигель» в 1966 г*., всловах «Nur ein Gott kann uns
retten» остается характерная для Хайдеггера неясность
относительно Бога, выраженная неопределенным артиклем.
Насколько вообще была возможна положительная
интерпретация идей Хайдеггера в рамках русской религиозной философии,
продолжает оставаться вопросом. Тем не менее последний шаг,
сделанный Франком в сторону сближения с Хайдеггером,
свидетельствует о присутствии открытой возможности.
С. Л. Франк. [О Хайдеггере]**
Книга Heidegger'а***. —Абстрактность стиля, тонкость и
чрезмерная сложность анализа, трудность. (Zeit?) Сходство с Гегелем и
непереводимость. — За этим — живое и сравнительно простое, понятное
духовное содержание. — Особенность Гейдеггера — в ряду
немецкой философии — обычно духовное содержание
непропорционально интеллектуальному мастерству [(Риккерт — Гартман — Шел ер)].
У Гейдеггера — глубокий духовный опыт, живой и острый. Есть что
сказать. — Только на этом и остановлюсь.
Формальное своеобразие Гейдеггера в философии. Философия
как познание скрытой сущности, первоначал бытия. —
Аристотелевское: первое «для нас» и «первое по существу». — Углубление
или вознесение сознания к «первоначалам». — Гуссерлева
«феноменология» (к которой себя причисляет Гейдеггер!) и ее реформа —
не метафизика, а описание «сущности» — в этом принципиально
ничего не изменила: платонизм Гуссерля и его учеников. —
Напротив, Гейдеггер: ближайшее для нас, конкретное, наша собственная
жизнь и есть то «последнее» или «первое», что ищет философия.
Философия человеческого существования.
* Русск. пер. в кн.: Философия Хайдеггера и современность. М., 1991.
** Semen Frank papers box 11. Bakhmeteff Archiv, Columbia University
Libraries. Текст без названия и без даты. Сверху приписано чужой рукой:
«О Хайдеггере. б. г. 4 с. Лекция». Оригинал написан по-русски с
употреблением немецких понятий из «Бытия и времени». В публикации раскрыты
все сокращения без специального обозначения. Зачеркнутые слова
заключены в квадратные скобки. Подчеркивания переданы курсивом. Все
особенности написания сохранены.
*** Heidegger M. Sein und Zeit. Halle, 1927.
88
H. С. Плотников
И всё же своеобразный подход и существенное изменение
«наивной» точки зрения. Для наивного сознания предмет — мир, и
человек и его жизнь — часть мира. Внутреннее существо самой
человеческой жизни не опознаётся. Познавательная картина бытия
неадекватна внутреннему содержанию личной жизни. — Наши
интересы («Я», его цели, средства к ним) и наша познавательная
картина. — Гейдеггер: «поворот глаз души» — увидеть саму
человеческую жизнь в ее конкретном существе.
Подход: переход от познания сущего к познанию бытия. Что
значит быть? Невозможность логического определения. Бытие мы
знаем по нашему существованию [,] это конкретное
существование — Dasein: в основе его лежит род бытия, который называется
Existenz. — Existenzialphilosophie в отличие от предметной
философии. — Для предметного познания первое и единственное — наше
существование; все остальное — среда, мир, люди — элементы
нашего существования. — Отвержение натурализма и космизма.
«Природа» и «вселенная» — абстракция от конкретной реальности
нашего существования — своеобразный идеализм и солипсизм. —
Интеллектуально-абстрактный, несерьезный характер прежнего
идеализма. — Серьезный, взаправдашний характер идеализма Гей-
деггера — отклонение проблемы реальности внешнего мира.
«Скандал философии» не в том, что эта проблема не разрешена, а в том,
что ею занимаются. — Первичное «In-der-Welt-sein» фон жизни;
и точно так же первичное «Mitsein» (в отношении существования
других людей).
Анализ и ориентировка — не теоретические, а практические.
Попытка избегнуть односторонности философа как теоретика, чуждого
жизни. Вопрос о судьбе, о нуждах как центральный: идти по этому
пути. Не Vorhandenes, a Zuhandenes («под рукой!») — «Zeug» —
«чистое» познание — только осадок конкретного и частный случай
последнего («ориентировка») [Основа человеческой жизни: забота
(тревога) не случайное содержание, а самое существо
(«беззаботность» только модус «заботы»).]
Неподлинное, искаженное бытие — в категорий «Man».
Подражательность, бытие вне себя. Носитель обыденного «я» есть
man. — «Das Gerede» — истина в сфере «разговора». Подлинная
основа — забота (тревога). Не случайное содержание, а самое
существо. («Беззаботность» только модус заботы). Забота как Sein des
Daseins. Забота, как устремленность, чувство непрочности,
[желание] необходимость укрепиться. — Основа — страх. Два вида —
Furcht (страх перед отдельной опасностью) и Angst — «жуть»,
«тоска». Предмет Angst (Das «Wovor») есть само in-der-Welt-sein.
Но и das «Worum» есть тоже бытие, следовательно, бытие в мире.
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
89
(Роковой порочный круг). Жажда бытия, забота о нем и опасность
бытия.
Это подводит к проблеме смерти. Незавершенность жизни
(временность). Как можно иметь целое? Предваряя конец — живя
ввиду смерти. Смертьвплане «Man» как случай, как не моя смерть.
Необходимость подлинного понятия смерти. Так как жизнь есть
комплекс возможностей, то смерть есть возможность
абсолютной невозможности бытия. Страх смерти и попытки его
мнимого устранения. Надо иметь мужество признания в страхе смерти.
Внутреннее усвоение смерти, как решимость, как высшее и
безусловное духовное дело. — Совесть и ее смысл — правдивость.
Пессимизм Гейдеггера и его своеобразие — предельный и
обусловленный одиночеством. У Шопенгауэра есть выход —
буддийское преодоление воли — и утешение — созерцание, искусство.
И кроме того, пессимизм космический — «на миру и смерть
красна». У Гейдеггера — выхода нет, и полное одиночество, ибо нет
космической перспективы. «Самому одному жить, самому одному
и умереть».
Критика. — Ближайшим образом: поражает отсутствие
космического чувства (Гёте), чувства близости с бытием; отсутствие
любви (любовь только в порядке «man», как потеря подлинности
бытия). Философия предельного одиночества, и потому отчаяния.
Основная предпосылка, или ограниченность позиции Гейдеггера:
конечность, замкнутость человеческой жизни. Чисто
феноменологический анализ опыта должен был бы дать указание на
открытость, связанность с «иным». — «Конечное» и «бесконечное»
у Декарта — Мальбранша — Спинозы, и у Гейдеггера: бесконечное
только как отрицание конечного. Проблематика жизни связана
именно с открытостью сознания. Смерть как результат
столкновения с миром (а не просто стихия «in-der-Welt-sein»). Реальность
трамвая, убившего Ю. И*., — непредставимость моей смерти
не только из трусости, но и потому что смерть внутренно не
реальна. Конец фаустовского стремления — ничего достигнуть нельзя.
Свидетельство религиозной тоски и глубочайшего религиозного
кризиса. Связь с бартианством и кальвинизмом. Экзистенциализм
и онтологизм.
* Ю. И. Айхенвальд, внезапная гибель которого произвела неизгладимое
впечатление на Франка.
90
H. С. Плотников
С. Л. Франк — Л. Бинсвангеру*
№148
12. VII. 42
Дорогой друг!
Сначала в виде предисловия. Толстой однажды сказал: «Чтобы
очистить самовар до блеска, его сначала покрывают толстым слоем
глины и кирпича, тщательно трут, а потом всё соскребают. Тем же
занимаются и философы: чтобы достигнуть блеска чистой истины,
они покрывают ее толстым слоем своих понятийных конструкций.
К сожалению, они порой забывают убрать строительный мусор».
Здесь, как Вы видите, почти та же самая идея, что и у Бергсона.
Я сам, будучи профессиональным философом, много согрешил
таким способом и только сейчас начинаю чувствовать это все сильнее.
Можно принимать какой угодно предметный или
объективно-научный вид, но любая философия является, в конце концов, ничем
иным как исповедью — исповедью о том, что человек чувствует
и любит, что будоражит его душу, в чем он находит себе опору и чем
он живет. В этом смысле я читал Вашу книгу. Временами я
восхищаюсь мастерством, с которым Вы используете чудовищно
сложный** понятийный аппарат, чтобы добраться до истины, временами
он кажется мне слишком ученым. Во всяком случае, для меня была
важна стоящая за ним исповедь: книга как выражение Вашей
личности, Вашего сердца, интуиции Вашего существования. И только
в этом направлении движутся мои мысли, которые я Вам хотел бы
сообщить кратко и без всякой систематичности.
Несмотря*** на то, что Вы ставите перед собой скромную
«антропологическую» задачу, я воспринял Вашу книгу как поворотный
момент в современной немецкой философии. Вы сделали великое
духовное дело, освободив человека от духовных судорог или
одиночества, на которое его обрекает идеализм, а также Гартман и Хай-
деггер. Любовь, «Мы-бытие», «Родина», и истинное познание**** —
усмотрение этого есть поистине освобождающее дело, в котором
я ощущаю Вашу личность и подлинную, ибо в личности основанную,
истину. Чрезвычайно ценным является в этом отношении использо-
Копия письма была мне любезно предоставлена Василием Семёновичем
Франком (Мюнхен). Текст письма отпечатан на машинке и содержит
многочисленные пометки от руки, принадлежащие, по видимости,
адресату и родственникам Франка. Отмечены лишь непосредственные вставки
в текст, сделанные от руки печатными буквами (возможно, самим Франком
при отправлении письма).
Вставка справа на полях от руки: «и утонченный».
«Несмотря» зачеркнуто, и на полях вставлено: «Хотя».
**** Вставка на полях: «любовное познание».
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
91
вание для систематической философии идейного содержания
поэзии (задача, занимающая меня с давних пор!). Ваши цитаты из
поэтов и их толкования обладают большой убедительной силой (Стихи
Валери доставили мне истинное наслаждение!). Поэты, пусть даже
и самые пессимистичные, выражают именно как поэты коренную
гармонию человеческого духа и мира или реальности. Ваш анализ
«Мы-бытия», «дуального модуса» был для меня очень
поучительным, хотя я понимаю этот предмет иначе, чем Вы. Любовь в Вашем
(«эротическом») смысле представляется мне высшим цветом бытия,
а не его корнем. Основополагающее «Мы-бытие» есть для меня
сопринадлежность моего существования и бытия или сущего вообще,
единство «меня-с-Богом» или мое существование как укорененное
в «Родине», (истинном!) основании. Из него происходит
существование как принадлежность царству духа, высшим цветом или
плодом которого является любовь. С этим связано и то, что в отношении
«созерцания» я принципиально остаюсь старомодным и
предпочитаю вместе с греками и Гёте видеть в нем основополагающее,
первоначальное действие человеческого духа (которое, как Вы сами
прекрасно показываете на примере Гёте, сродни отношению «Мы»).
Напротив, хайдеггеровское толкование, которое Вы
присоединяете к этому, что «теория» есть лишь проявление заботы и занятия
с «подручным», кажется мне сомнительным как слишком
«прагматическое» и «эволюционистское». Уже любопытство ребенка может
опровергнуть такое толкование. Но это все в общем второстепенно.
Важнее другое. У меня сложилось впечатление, что Вам не
хватает мужества последовательности, что Вы слишком сильно уступаете
Хайдеггеру в предметном отношении, хотя и утверждаете в
некоторых местах, что преодолели установку Хайдеггера. Это, конечно,
верно и составляет одну из прекрасных и очевидных истин Вашей
книги, что человеческое существование имеет двоякий лик, что оно
одновременно есть трагедия бытия-в-мире и покой бытия-выхо-
дящего-за-пределы-мира (ueber-die-Welt-hinaus-Sein). Но
хайдеггеровское описание сущности трагического односторонне и
произвольно — судорожное оцепенение в отчаянии. Это ведь чистый
нигилизм, по сравнению с которым даже жизненный образ
Шопенгауэра является оптимистическим. У него, по крайней мере, есть
утешение солидарности в страдании. Короче говоря, Хайдеггер —
в духовном отношении тупик. Преодолеть его можно лишь одним
способом — повернуться к нему спиной и искать свободного пути.
Его «основа» — это вообще не истинная основа, на которой можно
стоять. Она подобна утесу на краю пропасти, за который цепляется
человек. Я спрашиваю постоянно: почему страх, а не доверие?
Почему страх должен быть «онтологически» обоснованным состоянием,
92
H. С. Плотников
а доверие — уже проклятой «теологией»? Как будто на войне или
в опасности паника является нормальным состоянием! Ведь для
человека значительно естественнее стоять на твердой почве, а не
висеть над пропастью или трепетать от страха. Истинная основа — это
то, что больше, чем мое собственное существование. Истинная
основа — это «Родина», почва, «Мы-бытие» и т. п. Всякая
изолированность и трагедия имеет место уже в рамках этой первичной основы
и поэтому имеет выход. Уже «забота» есть нечто подобное выходу.
Забота о самом себе есть уже разумное преодоление нужды, тем
более забота о другом, являющаяся выражением любви. Также и «бы-
тие-к-основанию» есть не судорожно-героическое замыкание в
самом себе, а самопреодоление, августиновское transcende te ipsum.
Основная трагичность заключается поэтому не в нужде, заботе и
конечности. Библия считает все это последствием греха и, с Вашего
разрешения, в этом совершенно права, ибо все это следствие
разобщения. Хайдеггеру незнакомы истинные истоки трагического —
демоническое, злое, хаотическое, разрушительное (это Вы упоминаете
вскользь в параграфе об «ужасе»). И все это — не «теологические»
и даже не чисто «этические» идеи, а основоположная
онтологическая черта человеческого существования. Хайдеггер совершенно
произвольно сосредоточивается на «обыденности», на
ложно-повседневно-обычном. Но это лишь одно, и, может быть, далеко не
самое страшное проявление зла, «чёрта» как «отца лжи». Основной
враг, которого нужно побороть, — это ослепляющие и помутняющие
страсти (как чувственные, так и духовные), бушующие во мне,
которые стремятся оторвать меня от основы, опустошить и уничтожить.
Тем самым я перехожу к самому важному. Примечательное
обстоятельство: вся немецкая философия после Гегеля, Шеллинга
и Баадера (исключая некоторые незначительные фигуры) страдает
настоящим антирелигиозным комплексом. Шопенгауэр, Фейербах,
Штирнер, Ницше, Эд. фон Гартман, вплоть до Николая Гартмана
и Хайдеггера. Даже Шелер, начавший столь многообещающе,
закончил воинствующим атеизмом. И этот комплекс связан, как это
обычно бывает, с религиозным дилетантизмом, незнанием и
высокомерием, совершенно невероятным, учитывая немецкую основательность
(лучше всего здесь еще открытая мужественная борьба Ницше). Вы
в этом отношении значительно более дальновидны и
великодушны, Вы, кажется, чувствуете, что в религиозной области заключено
нечто в высшей степени существенное для антропологии. Правда,
у меня сложилось впечатление, что Вы этого немножко побаиваетесь
как интересного, но все-таки опасного животного, к которому лучше
всего не притрагиваться. И в этой области Вы чувствуете себя, как
мне кажется, несколько неуверенно. Моя позиция такова: поскольку
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
93
человеческое в человеке есть его Богочеловечностъ, постольку
антропология является по своей сущности теоантропологией. «Бог» при
этом мыслится не как теологическое понятие, и даже не как
религиозная идея в распространенном обычном смысле, а именно как
♦истинная основа», «Родина», как сама идея «Ты», как святое, прочное,
«альфа и омега», благодаря чему мое существование является не
замкнутой изолированной точкой, а корнем, через который проникают
в меня питающие соки первоосновы. Без учета этой взаимосвязи
всякая антропология останется необоснованной. Тем самым
религиозное — не чуждая мне, ограничивающая и связывающая инстанция,
а освобождающая Родина человеческого существования, короче, —
моя собственная опора. Поэтому в качестве источника антропологии
следовало бы привлечь не только поэтов, но и религиозных
мыслителей. Учитывая широту духовных познаний, которыми Вы
владеете и используете в Вашей книге, это, разумеется, не упрек — что
Вы оставляете этот источник незатронутым. Но объективно это,
конечно, упущение. Существует богатая теологическая и религиозная
литература по антропологии. И если западная теология
рассматривает человека в основном как «тварь» и «грешника» (начиная с
Августина и, в особенности, у Лютера и Кальвина), то религиозная
мысль восточной церкви рассматривает человека как «дитя Божие»,
хранимое Богом, как сущее с Богом и благодаря Богу существо, что
выражено в грандиозной идее бесоац, «обожения». Помимо
сочинения Григория Нисского «О сущности человека» я упомяну большое
пятитомное собрание размышлений и изречений восточных аскетов
и мистиков «Добротолюбие», гимны и размышления Симеона
«нового богослова» (недавно переведенные на немецкий*), византийских
«исихастов» с их учением о преображении и созерцании «Света
Фаворского» и происходящих от них русских «старцев». Здесь можно
найти ту же антропологическую мудрость, что и у Достоевского.
Все это я упоминаю, чтобы порекомендовать Вашему
благосклонному вниманию для второго издания Вашей книги, которое, надеюсь,
не заставит долго ждать.
Теперь я вернусь к началу. Все учения и всякая мудрость, в конце
концов, второстепенны по сравнению с духом любви, веющим в
Вашей книге и открывающим Вам взор на окончательную** истину. Ubi
Caritas — ibi claritas. Я сердечно поздравляю Вас с Вашей книгой
и чувствую также — в духе Вашего понимания, — что наше
«отношение Я-Ты» укрепилось и углубилось, и что Эрос «возрос».
С самыми сердечными пожеланиями
Ваш
* Licht vom Licht. Ubers. von К. Kirchhoff. Hellerau, 1930.
** Вставка на полях: «подлинную».
94
H. С. Плотников
Только что я получил Ваше письмо от 7.VIP. Меня радует, что
мы и в отношении Хайдеггера с Вами принципиально едины. Что же
касается моей просьбы о контакте, то я прошу Вас больше не
беспокоиться. Решение совершенно серьезно, полет из Лиссабона уже
оплачен, но обойдется и так. У меня есть и другие контакты. Мое
здоровье снова улучшилось.
С.Ф.
С. Л. Франк — Л. Бинсвангеру
№249
30 августа 1950
Дорогой друг! Пишу Вам лежа в постели — у меня что-то с
легкими, что проявляется в жесточайшем кашле и легком повышении
температуры. На основании рентгеновского снимка мне сказали:
уплотнение ткани в левом легком. Я подозреваю, что истинное
существо болезни от меня скрывают и что дела мои плохи. Но я не
падаю духом, следуя мудрой фаталистической русской пословице:
двум смертям не бывать, одной не миновать. (Так что нет причин
для беспокойства.)
Я пишу Вам главным образом под сильнейшим впечатлением
от новой книги Хайдеггера «Holzwege»**. Полагаю, она является
настоящим событием в истории европейского духа, для меня же
особенно значительным. Вы знаете, что меня прежде отталкивало
от Хайдеггера: представление о замкнутости души, «экзистенции»
как бы в безвоздушном пространстве — прямо в противоположность
моей метафизической картине жизни. Теперь весь смысл новой
книги в том, что Хайдеггер вырвался из этой темницы и нашел путь
на волю, к истинному бытию. Это направление осталось
недоступным для всей немецкой философии последних ста лет. Поэтому его
книга — событие. Правда, она написана обычным хайдеггеровским
языком — на мой вкус слишком сложно и искусственно — француз
* В письме от 7 июля 1942 Бинсвангер писал:
«То, что Вы пишете о моей книге, разумеется, очень обрадовало меня.
В отношении Хайдеггера Вы в общем-то правы. Но поскольку я
построил всю книгу отчасти в продолжении, отчасти в противовес к нему, и
поскольку лишь этот противовес придает моей позиции полновесность, иначе
не получилось. Я могу также сказать, что моя книга является противовесом
не только к Хайдеггеру, но и к Кьеркегору, о котором ведь тоже можно
сказать то, что Вы пишете о Хайдеггере. Я считаю свою книгу «противовесом»
ко всякому раздуванию отдельной экзистенции, которое встречается нам
в экзистенциальной философии и теологии. Но все же при этом не следует
забывать, что интерес Хайдеггера является онтологическим, а не
антропологическим» .
** Heidegger M. Holzwege (Gesamtausgabe. Bd. 5). Frankfurt am Main, 1950.
С. Л. Франк о М. Хайдеггере
95
сказал бы то же самое проще и понятнее, не жертвуя глубиной, —
но это лишь мимоходом. Я не могу вдаваться в частности (критика
нигилизма, размышления о словах Ницше «Бог умер», философия
искусства*). Все очень значительно и завершается одним итогом:
человеческое бытие имеет смысл и исполнение только в отношении
к истинному бытию, которое открывается ему и воплощается в нем.
Тем самым неявно признаётся мой тезис: человеческое в человеке
есть его Богочеловечность.
Для меня нет ничего более значительного и радостного, чем
полученное в конце жизни известие, что величайший немецкий
мыслитель приходит на своем пути к результату, который, в качестве
основной интуиции и, вместе с тем, откровения, руководит моим
творчеством уже 40 лет. Вы понимаете, что это удовлетворение
не имеет ничего общего с личным тщеславием, от которого я
чувствую себя свободным. Я охотно допускаю, что Хайдеггер
по-своему выразил эту интуицию проницательнее и полнозначнее, чем это
удалось мне.
Если европейской культуре суждено двигаться навстречу своему
уничтожению, то последняя книга Хайдеггера — ее лучшее
прощальное слово, правда лишь для имеющих уши.
Не знаю, когда, и буду ли вообще в состоянии написать Вам еще.
На всякий случай, хотел бы проститься с Вами и еще раз сердечно
поблагодарить Вас за все прекрасное и доброе, что принесла мне
наша дружба, за Вашу доброту и великодушие, за Вашу чуткую
готовность пойти навстречу. Все это было для меня утешением и
глубочайшим удовлетворением в последние 15 лет.
Сердечно обнимаю Вас. Будьте здоровы.
Ваш С. Франк
* Имеются в виду статьи: Die Zeit des Weltbildes, Nietzsches Wort «Gott ist
tot», Der Ursprung des Kunstwerkes. См.: Хайдеггер М. Работы и
размышления разных лет / Пер. А. В. Михайлова. Москва: Гнозис, 1994.
-е^э-
А. И. РЕЗНИЧЕНКО
Флоренский и Хайдеггер об àArjOeia:
забвение и/или сокрытость?
1. ХАЙДЕГГЕР, ФЛОРЕНСКИЙ, ИВАНОВ
И «РУССКАЯ ИДЕЯ»*
Хайдеггер не только знал, вопреки расхожему мнению, о
существовании Флоренского от профессора Евсея Давидовича Шора
(1891-1974)**, активного участника курса лекций «О существе
[сущности] истины. О платоновской притче о пещере...», читанного Хай-
деггером в зимний семестр 1931/1932 гг. во Фрейбурге, а до
этого — участника гуссерлевских семинариев, но и использовал идеи
Флоренского в своих «Лекциях 1931/1932 года» — без единой,
впрочем, ссылки. Так утверждают очевидцы. О знакомстве Хайдег-
гера с концепцией Истины/сЩОбих Флоренского упоминает
пионерская публикация В. В. Янцена, в которой подробно описана беседа
Шора с Хайдеггером:
Я приношу глубочайшую благодарность Директору Римского архива
Вяч. Иванова А. Б. Шишкину за право работать с уникальными
документами Архива и цитировать некоторые из них, а также своего друга и коллегу
A. В. Михайловского — за ценные замечания в период работы над статьей
и за перевод необходимых мне фрагментов из курса хайдеггеровских
лекций «О существе [сущности] истины. О платоновской притче о пещере...»
1931/1932 гг.
См. о нем, например: Янцен В. Российские ученики Э. Гуссерля из фрей-
бургской «Святой общины». Фрагменты переписки Д.И.Чижевского
и Е. Д. Шора // Логос. 2006. № 1. С. 140-142. Я вполне разделяю мнение
B. В. Янцена о том, что «сразу же бросается в глаза при чтении работ и
писем Е. Д. Шора, — речь идет не о каком-нибудь "аутсайдере" мысли или
второстепенном распространителе чужих идей, но о вполне
оригинальном, самостоятельном ученом, мыслителе и писателе, который именно так
и воспринимался своими знаменитыми современниками и наследие
которого поэтому заслуживает самого серьезного изучения» (Янцен В. Указ.
соч. С. 141).
Флоренский и Хайдеггер об аХцвет
97
... мы заговорили об отношении русской мысли к его философии.
Я обратил его внимание на ряд сходств, делающих его философию
особенно близкой для русского читателя. Между прочим, я
затронул проблематику, являющуюся как бы введением в его
философское мышление: проблематику двойственного значения понятия
истины, которое он постоянно разрабатывает с помощью тонкого
философско-филологического анализа (речь идет о его знаменитом
толковании греческого понятия истины «aXfjOeia» как «à-A.f|6£ia» —
не-сокрытости, — термине, полученном им в ходе этого толкования
и ставшем основным понятием его философствования и его
интерпретации Платона и Аристотеля). Я сообщил ему, что русскому
языку уже известно двойственное понятие истины, выражаемое
посредством двойного обозначения, и тем самым в нем
непроизвольно ставится та проблема, которая в иноязычной мысли еще должна
быть открыта. С другой стороны, [сообщил ему], что анализ слова,
являющийся для его философии вводным и основополагающим,
в другой связи и в более широком плане современным русским
богословом и философом П. Флоренским. Мое изложение,
сопровождавшееся кратким изложением итогов учения Флоренского, вызвало
у Хайдеггера оживленный интерес. Он тут же призвал меня
перевести это сочинение Флоренского на немецкий язык в связи с
«Русской идеей» (курсив мой. — А.Р.) и более того — в связи с
некоторыми переложениями, которые я делал для проф<ессора> Гуссерля
из сочинений его московского ученика, проф<ессора> Шпета*.
Оставим в стороне волнующий вопрос о том, что интересовало
Гуссерля в 1931 г. из сочинений Шпета гахновского периода (мне
лично хотелось бы думать, что это что-то из области «Внутренней
формы слова» — тогда связь с Флоренским была бы еще тесней)**.
Янцен В. Эпизод из истории связей Э. Гуссерля и М. Хайдеггера с русской
мыслью (1931) // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник
2003 [6] / Под ред. М. А. Колерова. М., 2004. С. 547-548. Это письмо Шора
к известному немецкому издателю О. Зибеку от 6 декабря 1931 г.
Шор пишет Иванову об этом так: «Кстати, недавно я был у Гуссерля,
беседовал с ним о русской феноменологической группе, главным образом,
о Шпетте и возможности издания его произведений (Шпетт ведь
считается Гуссерлианцем); Гуссерль, как всегда, был трогателен и очарователен;
обещал печатать в своих "Феноменологических ежегодниках" все, что
будет ему прислано, если только по стилю своему присланные статьи будут
подходить под стиль "Ежегодника". Сейчас ведь наряду с Гуссерлевской
есть Хайдеггеровская феноменология, и Гуссерлю поневоле приходится
расширить рамки своих Ежегодников. Таким образом, эти Ежегодники
тоже открыты для Вас, дорогой Вячеслав Иванович; не знаю только,
захотите ли Вы дать какую-нибудь статью в этот столь специальный журнал
и сумеют ли феноменологи понять живое у зрение сущностей, о котором
98
А. И. Резниченко
Все это пока в области гипотез. Достоверно здесь то, что Хайдеггер
ставит «Столп» Флоренского, а конкретно — его учение об àX,f|0eia —
в зависимость от «Русской идеи» (и как сборника, и как концепта),
поэтому необходимо сказать хотя бы несколько слов об этом.
Речь идет о переводе Шором на немецкий язык книги «Русская
идея» Вяч. И. Иванова, живущего тогда в Риме, в московские
времена — близкого друга Флоренского. Сборник составлялся не менее
двух лет — и был рассчитан как минимум на громкий успех*. Так,
28 июня 1927 г. Шор пишет Иванову из Церингена:
«Одновременно с этим письмом посылаю Вам перевод "Русской идеи", Вайбель
согласен издать его отдельной брошюрой. Два года тому назад Вы
полагали возможным и желательным "Русскую Идею" издать. Если
Ваше мнение не изменилось, то выпуском "Русской идеи" мы
пробили бы рок, висящий до сих пор над немецкими изданиями Ваших
произведений <...> Мне кажется, что теперь — в десятилетие
революции — "Русская идея" будет особенно интересна и современна.
В случае Вашего положительного ответа я переговорю с Вабелем
об условиях. Должен просить прощения: без Вашего разрешения
читал перевод "Русской идеи" в тесном профессорском кругу.
Содержанием — как я и предполагал — потряслись; стилю
изумились: они не привыкли к такому изобилию смыслов и
усложненности мысли»**. Правда, по выходу брошюры ожидаемые восторги
по поводу «Русской идеи» несколько поутихли. 7 июня 1930 г. Шор
с грустью сообщает своей кузине, Ольге Александровне Шор***, сетуя
они столько пишут и, верно, втайне мечтают» (Сегал Д. Сегал-Рудник Н.
«Ну а по существу, я Ваш неоплатный должник». Фрагменты переписки
В. И. Иванова с Е. Д. Шором // Символ. 2008. Париж; Москва. № 53-54 /
Сост. Н. Мухселишвили, А. Шишкин, А. Юдин. С. 355. Далее — Символ.
2008, с указанием страницы). Это письмо Шора к Иванову от 24 января
1930 г., т. е. достаточно близкое по хронологии к описываемым нами
событиям.
* Речь идет об издании: Iwanow W. Die russische Idee / Übersetzt und mit einer
Einleitung, versehen von J. Schor. Verlag von J. С. В. Mohr <Paul Siebeck>.
Tubingen, 1930. Историю этой публикации, а также текст самой статьи
Иванова 1909 г., к 1930 переработанной для немецкого читателя и вышедшей
на немецком языке, см.: Берд Р. «Русская идея» (1930). Приложение:
Иванов В. И. Русская идея / Пер. с нем. М. Кореневой, коммент. Р. Берда //
Символ. 2008. С. 85-134.
№ Архив Вяч. И. Иванова в Риме (далее — РАИ). Оп. 5. Карт. 12. П. 2. Л.
1. [Электронный ресурс] URL: http://www.v-ivanov.it/archiv/op5-kl2.htm
(Дата обращения: 7. 03. 2017).
* В историю мысли Ольга Александровна Шор (1894-1978) вошла, прежде
всего, как многолетний и бессменный секретарь Иванова; составитель
и комментатор, наряду с Д. В. Ивановым, знаменитого Брюссельского
собрания его сочинений, однако служение великому поэту отнюдь не
исчерпывает всей широты и оригинальности ее идей: «Ольга Александровна Шор
Флоренский и Хайдеггер об Ыцвет
99
на медлительность немецкой прессы: «Рецензии появляются здесь
через Ы года после выхода в свет книги. Сегодня посылаю первую
вырезку Вяч. Ив-чу»*. Впрочем, это возможное снижение интереса
немецкого читателя к русской идее Шор предвидел еще в 1927 г.:
«Насколько я понимаю, историческая постановка вопроса
содержится во II главе: «Интеллигенция — на распутье; ей предстоит
или измениться, или погибнуть. Последняя революция дала ответ:
интеллигенция не изменилась — и погибла <...> Для меня неясно:
следует ли сопроводить перевод примечаниями, ставящими мысли
"Русской Идеи" в связь с текущей исторической действительностью,
или лучше (дипломатичнее) предоставить каждому читателю делать
свои выводы. — Одна из трудностей — для немецкого читателя —
заключается в том, что проблема "народ и интеллигенция" Зап<ад-
ной> Европе чужда — не следовало бы снабдить перевод маленьким
экскурсом-примечанием, посвященным этой проблеме»**. Однако
в 1931-1932, и уж особенно в 1933-1934 гг. «странная» русская
проблема — соотношения власти, интеллигенции и народа,
«правителей», «земли» и «царства» — из проблемы сугубо
провинциальной, русской, становится едва ли не решающей уже для
стремительно меняющейся Европы.
Уже начало ивановского текста звучит как актуальная
европейская повестка:
являлась научным сотрудником РАХН с мая 1923 г., с 1926 г. —
внештатный сотрудник философского отделения академии (под рук. А. Н.
Габричевского). Тогда же она начала заниматься искусством Ренессанса, в
связи с чем получила возможность ездить в научные командировки в Италию
(1925-1926 гг.) <...> В 1927 г. О. А. Шор решает не возвращаться в Москву
и навсегда остается в Италии» (Рудник Н., Сегал Д. Письмо О. А. Шор
(О. Дешарт) Ф. А. Степуну // Зеркало. 2001. № 17-18. [Электронный
ресурс] URL: http://magazines.russ.ru/zerkalo/2001/17/rull.html (дата
обращения: 7.03.2017). Заинтересованные исследователи отмечали ее
философский склад ума и исследовательский дар. Не забудем характерной для
О. А. Шор саморепрезентации: «еврейка по крови, но русская по культуре»
(Шор О. А. Ответ на анкету ГАХН // РАИ. Оп. 8. Карт. 1. П. 1. Л. 1).
* РАИ. Оп. 7. Карт. 24. П. 7. Л. 7. Судя по датам, первым откликом на
«Русскую идею» была не развернутая рецензия знакомца Иванова по «Мусаге-
ту » Э. К. Метнера, а гораздо более краткая рецензия католика Ф. Мукерма-
на: Muckermann F. Auf der Gralwarte // Der Gral, 24/6 (1930). S. 808, для
которого центральной темой русской идеи было заблуждение «русского
духа», впавшего в большевистский соблазн. По свидетельству Р. Бёрда,
«статья возбудила умеренно оживленную реакцию, в основном в среде
католической интеллигенции. Краткий обзор статьи за подписью "W. L."
(Василий Леонтьев?) лишь пересказывает аргумент Иванова в общих чертах
без критической оценки» (Бёрд Р. Указ соч. С. 93, 95).
** РАИ. Оп. 5. Карт. 12. П. 2. Л. 1-2. [Электронный ресурс] URL: http://
www.v-ivanov.it/archiv/op5-kl2.htm (дата обращения: 7. 03. 2017).
100
А. И. Резниченко
На каждом повороте нашего исторического пути мы
сталкиваемся с нашими «принципиально русскими» вопросами: о разрыве
и противоречии между органическим содержанием жизни и
сознания единого общественного организма и действиями и
устремлениями тех социальных групп, на которых держится государство
и культура и которые в силу этого призваны формировать это самое
содержание, но на самом же деле всячески открещиваются от него,
а то и предают, — о глубинной связи с исконными традициями и
отказе от каких бы то ни было корней, — о памяти, лишенной
жизни и о жизни, лишенной памяти. И кажется, что, как встарь, так
и ныне мы, разбирая все эти вопросы, последовательно решаем
один единый вопрос — о нашем национальном самоопределении.
Ибо наша народная душа не нашла еще свою окончательную форму,
как не нашла своего исторического воплощения и последняя воля
народа*.
Ключевые тезисы ивановского текста — необходимость
«преодоления индивидуализма» для интеллигенции; дихотомия «земли»
и «царства»; «земля», воспринимаемая как духовная родина
«народа»; жажда как со стороны «интеллигенции», так и со стороны
«народа» «новозаветного синтеза всех определяющих жизнь начал
и всех определяющих жизнь энергий»**, — вся эта риторика стала
популярна в Германии в период т. н. консервативной революции
(в историческом смысле этого слова). На общее изменение
интеллектуальной ситуации и актуальности в этой связи ивановской
брошюры, обращает внимание в своей обширной рецензии близкий
знакомый Иванова еще по «Мусагету», Э. К. Метнер***. Впрочем, высоко
оценил эту брошюру и Гуссерль: «По сообщению Юши, Гуссерль
ему пишет о "Р<усской>Идее": "sehr belehrend" [очень
поучительно (нем.). — А. Р.] — и это будто бы высший у него комплимент»****.
Сопоставление же идеи восхождения и нисхождения и
интерпретации солярного/светового символа в «Русской идее» Иванова и Лек-
* Иванов В. Русская идея. I. Знамение времени // Символ. 2008. С. 97.
** Он же. Русская идея. III. Полярность русской культуры // Символ. 2008.
С. 120.
** MedtnerE. W. Iwanows Wesenschau des Russentums // Neue Zürcher
Zeitung, 2305 (28 November 1930); 2313 (29 November 1930). Сам Иванов
оценил рецензию Метнера на свою брошюру чрезвычайно высоко, назвав
лучшей критической статьей о «Русской идее».
** Избранная переписка с сыном Димитрием и дочерью Лидией / Публ., вступ.
статья и коммент. Фр. Лессур // Символ. 2008. С. 599; письмо от 29 марта
1930 г. из Павии в Рим от Иванова к Л. В. Ивановой и О. А. Шор. Гуссерля
Шор ценил значительно выше Хайдеггера: «Гуссерль сейчас единственный
немецкий философ с интернациональным именем...» (РАИ. Оп. 7. Карт. 24.
П. 9. Л. 6). Это письмо начала 1932 г.
Флоренский и Хайдеггер об cdrjOeia
101
циях «О существе [сущности] истины 1931/1932 гг.» и «О существе
[сущности] истины 1933/1934 гг.» требует, безусловно,
отдельного и тщательного исследования; сейчас мы упомянем о ней лишь
вскользь.
Такой чуткий политический мыслитель, как Хайдеггер, не мог
не обратить внимание на важность этой темы — народ/идеократы/
власть, «земля» и «царство» —уже для своего народа и для своей
страны. По замечанию А. В. Михайловского, успешно «вычленившему»
политическую компоненту из двух годичных циклов лекций Хайдег-
гера «О существе [сущности] истины» («Vom Wesen der Wahrheit»)
(зимний семестр 1931/1932 и зимний семестр 1933/1934 гг.), «все
это подводит нас к ответу на поставленный выше вопрос о связи
различных толкований притчи о пещере с притязаниями философов
на господство в государстве. Мне представляется, что полноценное
объяснение едва ли возможно без включения еще одного звена —
лекционного курса "Vom Wesen der Wahrheit" зимнего семестра
1933/34 гг.<...> Хотя он и повторяет отчасти одноименный
лекционный курс зимнего семестра 1931/32 гг., однако множество
актуально-политических коннотаций придает ему совершенно иной вид
<...> В вопросе о возможности государства, согласно интерпретации
Хайдеггера, изначальным является следующий принцип:
подлинными хранителями человеческого бытия-друг-с-другом в единстве
polis'a необходимо должны быть философы. Хайдеггер ставит
перед собой задачу актуализации Платона и — шире — древних
греков. Собственно, лекционный курс 1933/34 "О существе истины"
и является реализацией этой задачи»*. Михайловский убедительно
показывает, что Хайдеггер в 1933/1934 гг. предлагает свой ответ
на вопросы «Русской идеи»: речь идет не об историческом
проигрыше интеллигенции, но о том, что «идея Блага в лекциях 1931/32
и 1933/34 гг. уполномочивает философа отменить существующие
законы и заменить их, равно как и поддерживаемый ими
миропорядок, другими законами и другим миропорядком. Эта
интерпретация идеи Блага также связана с представлением о событийном
характере истины, с представлением о драме историчности, и потому
присутствует только в лекциях 1931/32 и 1933/34 гг. и полностью
отсутствует в эссе "Учение Платона об истине"» *\ Речь идет о власти
* Михайловский А. В. Философия как эзотерическое знание: к
интерпретации притчи о пещере у М. Хайдеггера // Платоновский сборник-И.
Приложение к Вестнику Русской Христианской гуманитарной академии / Ред.
И. А. Протопопова, О. В. Алиева, А. В. Гараджа, А. А. Глухов, А. В.
Михайловский, Р.В.Светлов. Т. 14. 2013. СПб.: РХГА-РГГУ, 2013. С. 414,
418.
** Михайловский А. В. Указ. соч. С. 421-422.
102
А. И. Резниченко
философов, о «постепенном подтягивании к свету», об истине как
непотаенности, — концепции, потерпевшей, впрочем, к 1942 г.
сокрушительный провал: истина «сталаправильностью».
2. ХАЙДЕГГЕР, ФЛОРЕНСКИЙ, AAH0EIA:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА С ЭЛЕМЕНТАМИ ПСИХОЛОГИИ
Тем не менее «Притча о пещере», равно как и учение о
двойственности истины в хайдеггеровских лекциях зимнего семестра
1931/1932 гг., уже была. Предоставим слово Шору: в одном из
писем сестре (письмо от 18 февраля 1933 года) он сообщает следующее:
Зимой 31 года я посещал его лекции «О сущности истины»
(так! — А.Р.). Он начал с анализа Платоновой пещеры и вел его
до конца полугодия. В его манере говорить, в каком<-то> большом
внутреннем напоре, есть, несомненно, что-то увлекающее. Беда
лишь та, что он дальше того, что он дал в своей книге*, в лекциях
не идет; наоборот, всегда начинает с анализа понятия истины —
будь то публичная лекция или<?> «коллег», — и редко доводит
до конца. Незадолго до своего отъезда я посетил его в приемный
час, сообщил ему об анализах понятия истины Флоренского; это его
необычайно заинтересовало; Вы должны были бы перевести этот
труд! — воскликнул он. Вскоре после того он на лекции привел
толкование Флоренского (Алетэ), не указав, конечно, источника**.
Как видим, темы «Русской идеи» — власти, народа, идеокра-
тии — для Шора в 1933 г. уже не актуальны (он их здесь даже
не упоминает), — однако запомним подмеченную Шором
«незаконченность», «незавершенность» определения термина а^ВешХайдег-
гером. Тем не менее интерес именитого немца к концепции акцдет
уже у Флоренского, как и использование его трактовок на лекции
без ссылок, отмеченные не только в письме к издателю (тут можно
было бы заподозрить хоть какой-то корыстный интерес), но и в
частном письме, — уже не просто гипотеза, но биографический факт.
В связи с этим биографическим фактом у независимого
исследователя возникает два вопроса. Во-первых, о каком же
«двойственном понятии истины» в русском языке ведет речь Шор***?
В русском философском и публицистическом языке конца XIX —
первой трети XX в. общим местом скорее было двойственное понятие
правды как правды-истины и правды-справедливости, введенное
* Видимо, речь идет о «Бытии и времени» (1927).
" РАИ. Оп. 7. Карт. 24. П. 10. Л. 5.
*** В письме к О. Зибеку, приводимом выше.
Флоренский и Хайдеггер об аХцвет
103
Н.К.Михайловским: первая — «правда неба», или изначальная,
онтологическая правда, вторая же — «правда земли», правда
социальной реальности в ее идеале (продуктивным является
сопоставление понятия «общественный идеал» в языке русских философов
права именно с этим, вторым значением слова «правда»). У Хайде-
ггера же в рамках курса лекций 1931/1932 гг. речь действительно
идет о двойственном характере истины/сЩбеих; причем трактовка
этой двойственности меняется.
Во-вторых, если мы беремся утверждать, вслед за Шором, факт
знакомства Хайдеггера с концепцией Флоренского, то вполне
уместно спросить: какие источники могли быть известны сумрачному
и желчному германскому гению без учета знакомства с Шором;
на какие тексты он мог опираться? Ответ находится в продолжении
письма Шора Зибеку, цитированному выше:
...Я знал, однако, что некоторые фрагменты этого сочинения
Флоренского (Столп и утверждение Истины) были переведены фон
Бубновым и опубликованы в «Восточном христианстве» у Бека,
и пообещал Хайдеггеру выяснить, имеется ли там упомянутое мною
место. Заказав потом книгу, я должен был потом с сожалением
констатировать, что прекрасный труд Флоренского, который не только
глубоко задуман и продуман, но и искусно оформлен и пронизан
мощным чувством стиля и композиции, искажен произвольной
рубкой на части. И не удивительно: книга в 418 страниц сокращена
до 167 страниц <...> Многое философски важное и богословски
значимое (в том числе и место, о котором я говорил с проф<ессором>
Хайдеггером) осталось незамеченным фон Бубновым*.
Итак, по утверждению Шора, оказались сильно искажены
Письмо первое «Два мира» и Письмо второе «Сомнение "Столпа..."», в
которых и изложена идея Истины/odr/Oeia Флоренского. Не так часто
в истории идей Новейшего времени встречаются концепции,
пересказанные одним мыслителем другому, со всеми очевидными в
таком случае недопониманиями и невольными искажениями. Такой
пересказанной концепцией оказалась, по-видимому, и Истина/
аХцвгха Флоренского. Встречались же и длительно беседовали
Хайдеггер с Шором (слушание лекций — не в счет), по свидетельству
последнего, один-единственный раз. Шор не любил, хоть и ценил
Янцен В. В. Эпизод из истории... С. 548-549. Современное
библиографическое описание этого источника: Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit:
[Brief 1-12] // Östliches Christentum: Documente / hrsg. von N. Bubnoff und
H. Ehrenberg. München: С H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1925. [Bd.] 2.
Philosophie. S. 28-193, что соответствует описанию Шора.
104
А. И. Резниченко
Хайдеггера. Однако дал ему при этом в письме к сестре
нелицеприятную, но, видимо, верную, психологическую, во многом
провиденциальную характеристику: своего рода «невербальный портрет»,
ничем не хуже портрета художественного или фотографического.
...О Хайдеггере могу сообщить следующее. Он происходит
из шварцвальдских крестьян, был католиком, надеждой
католического факультета Фрейбургского университета, прекрасный знаток
теологии (как утверждает Гуссерль, который сам в теологии мало
ориентирован); надежды католиков он обманул, вышел из
католической церкви, во время хейдельбергского доцентирования не раз
нападал на католическую церковь в своих лекциях; в позапрошлом
году был близок, как говорили, к национал-социалистам; в конце
прошлого года после большого богослужения в Мюнстере на виду
у всех пожал руку, кажется, епископу, как мне недавно сообщило
лицо, с которым мы не раз беседовали о Хайдеггере и его
проблематичности.
Личные мои впечатления: первые годы моего пребывания
во Фрейбурге после Дрездена (<19>29, <19>30) я не мог посещать
его лекции, т. к. он внушал мне непосредственную,
физиологическую антипатию; в <19>31 году* в нем что-то переменилось, и
какая-то положительная струя его личности начала как будто бы
преодолевать темное начало <...> Как человек он может быть очень
неприятен, даже хуже. Так, он провалил в <19>29 году давно
обещанную ординатуру папаши Кона, кот<орому> тогда минуло 60 лет
и кот<орый> имел все основания рассчитывать на такое хотя бы
позднее признание своей философской деятельности. Так, он
всячески приманивал к себе учеников Кона и переставал ими
интересоваться, когда они к нему переходили. От третьих лиц я слышал, что
он мною интересовался и ценит меня; вероятно, п. ч. я держал себя
по отношению к нему крайне независимо и за эти годы лишь один
раз посетил его в приемные часы (курсив мой. — А. Р.).
Он представляет собой странное соединение чего-то глубоко
неприятного с какой-то значительностью. В нем чувствуется все же
настоящий философский темперамент, сосредоточенность,
страстность. Но глубочайшая неспасенность. Незадолго до нашего отъезда
из Фрейбурга я познакомился с одной его ученицей, немолодой уже
студенткой**. Женщиной умной, философски начитанной,
страстной и фанатичной. Она была католичкой<,> по-видимому под
влиянием Хайдеггера вышла из католической церкви. Но знает, что
философию можно понять лишь от религиозного переживания, знает,
* То есть год начала чтения курса «О сущности [существе] истины».
** Кто эта женщина — остается только гадать.
Флоренский и Хайдеггер об àXtjOeia
105
где спасенность и где потерянность, и где-то в душе своей пытается
отмолить Хайдеггера и спасти его от существенного внутреннего
мрака. Удастся ли это ей — сказать трудно. Какая-то мистическая
связь между ними есть, хотя видятся и говорят друг с другом они
редко; не знаю даже, подозревает ли Хайдеггер, что эта девушка
постоянным внутренним усилием пытается спасти его и что она всей
душой надеется, что последнее Ничто, являющееся основанием его
философии, превратится в мистическое Бытие; лишь смертным
взорам представляющееся как Ничто...*
3. ФЛОРЕНСКИЙ, ХАЙДЕГГЕР,
АЛН0Е1А «IN INTRA»:
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
А что же философия? Что же Хайдеггер и Флоренский? Краткий
экскурс в «истиноведение» у Хайдеггера мы находим в уже
упоминаемой работе А. В. Михайловского «Философия как эзотерическое
знание: к интерпретации притчи о пещере у М. Хайдеггера»**. Кон-
РАИ. Оп. 7. Карт. 24. П. 10. Л. 5. Письмо Е. Д. Шора к О. А. Шор от 18
февраля 1933 г. Разрядка автора письма. Я осознанно отказалась от реального
комментария к тексту, поскольку это потребовало бы значительных
времени и сил и само по себе является темой отдельного исследования; и еще раз
выражаю благодарность А. Б. Шишкину за возможность процитировать,
хоть и не полностью, это письмо.
Михайловский А. В. Указ. соч. С. 412-414. В целом проблеме истины/
Ш|9еш как у Хайдеггера, так и у Флоренского посвящена значительная
литература вопроса, однако далеко не вся она равнозначна. Назовем лишь
наиболее серьезные исследования. О Хайдеггере: Courtine J.-F. Heidegger
et la phénoménologie. Chap. «Le Platonisme de Heidegger». Paris: Vrin, 1990;
Trawny P. Adyton: Heideggers esoterische Philosophie. Berlin: Matthes &
Seitz, 2010. С Флоренским и <Ш|9е1а дело обстоит куда интересней. После
шквала разнообразнейших рецензий на «Столп и утверждение истины»,
где затрагивался, в частности, и этот вопрос (самые яркие из них, и
список далеко не полон: Трубецкой E.H. Свет Фаворский и преображение
ума. (по поводу книги священника П. А. Флоренского «Столп и
утверждение истины») // Русская мысль. СПб., 1914. Kh.V. [Май]. Отд. 2. С. 25-54;
Яковенко П. [Б. В]. Философия отчаяния (О книге свящ. П. Флоренского
«Столп и утверждение истины» // Северные записки (Пг.). 1915. Март.
С. 166-177; Иванов Вяч. <И.>. Живое предание. Ответ на статью Н.
Бердяева «Эпигоны савянофильства» // Биржевые ведомости. 1915. 15 февр.;
Розанов В. В. Густая книга // Новое время (СПб.). 1914, 12 (25) февр.
№ 13622. С. 5-6; 22 февр. (7 марта) / № 13631. С. 14 и мн. др., я могу -
помимо тезисов в провинциальных сборниках и диссертации
шестнадцатилетней давности (Михалев С. В. Учение об истине в философии П. А.
Флоренского: дис. ... канд. филос. наук. Москва, 2001. 134 с.) — назвать лишь
две заслуживающие внимания работы последних лет, хотя бы косвенно
106
А. И. Резниченко
цепция истины как непотаенности появляется у немецкого
мыслителя в курсе лекций зимнего семестра 1924/1925 г., посвященном
«Софисту» (у Флоренского — в курсе лекций «Из истории античной
философии», читанного в Московской Духовной академии в Серги-
евом Посаде в октябре—декабре 1908 г., в связи с названием одного
из сочинений Протагора*); Хайдеггер приписывает ее открытие
этого термина Сократу, Платону и Аристотелю; Флоренский, как
видим, Протагору. Однако следует учесть, что с 1908 г. (а по мнению
ряда исследователей — с 1904) Флоренский пишет свою наиболее
известную книгу, «Столп и утверждение Истины», где значимое для
нас понятие Истины появляется уже в первой опубликованной
редакции, — впрочем, не исчезает она и во второй редакции, ни в
версии, защищенной как магистерская диссертация по богословию,
ни в окончательной версии текста (1913 г., указ. 1914)**.
Итак, почти год спустя после своего курса по «Софисту» — и
почти восемнадцать лет спустя после курса Флоренского со сходным
названием, «Основные понятия античной философии», и спустя
двенадцать лет после публикации «Столпа», — Хайдеггер вновь
обращается к этой теме, трактуя истину как «правильность», как все
большую и большую степень приближения к благу, как
«подтягивание к свету»***. В 1930 г. Хайдеггер читает большую лекцию на тему
истина/<Щ9екх, которая и ложится в основание курсов «Vom Wesen
der Wahrheit» 1931/1932 гг., затем расширенного в области ми-
стико-политического дискурса курса лекций с тем же
названием 1933/1934 гг. Этот сюжет был затем значительно переработан
затрагивающие эту тему: Визгин В. П. Платонизм Флоренского как
экзистенциальный опыт // Философия, богословие и наука как опыт цельного
знания: Сборник статей по итогам юбилейной конференции, посвященной
П. А. Флоренскому (1882-1937). МГУ; МДА, 2007 / Под ред. О. М. Седых.
М.: МАКС Пресс, 2012. С. 77-85; Половинкин С. М. Христианский
персонализм священника Павла Флоренского. М.: РГГУ, 2015.
* См.: Флоренский П. А., свящ. Из истории античной философии / Под общ.
ред. игум. Андроника (Трубачева), подг. текста и статья О. Т. Ермишина,
коммент. О. Т. Ермишина и А. В. Ахутина.М., 2015. С. 365.
Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины: (Письма к Другу)
//Вопросы религии. Вып. 2. М., 1908. С. 226-384; Флоренский П. А., свящ.
О Духовной Истине: Опыт православной феодицеи. Вып 1-2. М.: Тип.
А. И. Мамонтова, 1913 [указ. 1912]; Флоренский П. А., свящ. О духовной
Истине. Дисс. ... на соискание ученой степени магистра богословия.
Сергиев Посад, 1913 (в этот вариант не вошли главы «София», «Дружба»,
«Ревность» и все разъяснительные разделы) и, наконец, Флоренский П. А.,
свящ. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи. М.:
Путь, 1913 [указ. 1914] — книга, ставшая, пусть ненадолго, лидером
продаж книгоиздательства «Путь».
Вполне, заметим, в духе неоплатонической традиции, мистики и
метафизики света (перевод немецкого термина — А. В. Михайловского).
Флоренский и Хайдеггероб аХцвет
107
в 1940-е гг. в хрестоматийный текст под названием «Учение Платона
об истине», уже с совершенно другими контекстами и
интерпретациями.
Однако нас все же будет занимать тот самый, знаменитый курс
1931/1932 г., тем более что Шор в начале курса уже посетил Хайдег-
гера и рассказал ему и про «Русскую идею» Иванова, и про
концепцию истины у Флоренского, и про Гуссерля и Шпета, и вообще, судя
по всему, много чего рассказал*.
Исследований, посвященных непосредственно интересующей
нас теме сопоставления терминов истина/сЩбеих ранним Хайдегге-
ром и Истина/сЩбекх ранним Флоренским, насколько мне известно,
нет. Сличение же знаменитого хайдеггеровского курса 1931/1932
«О сущности [существе] истины» с соответствующими разделами
«Столпа...» приводит к любопытным результатам. Как мы увидим
ниже, в соответствующих разделах «Столпа...» Флоренский речь
ведет отнюдь не о двойственном значении слова истина/сЩвеш —
вернее, двойственость его весьма и весьма нетривиальна:
1) Прежде всего, Флоренский предлагает рассматривать истину
не как то, что бывает — вот здесь, рядом, как знание, или вещь, или
как знание об этой вещи, — но как то, что непосредственно не дано,
как то, к чему — единственному — должно стремиться. Истина /
(ЩЭекх есть точка опоры, вне которой немыслимо никакое
подлинное бытие, благо; никакая онтология: «...из глуби души
подымается нестерпимая потребность опереть себя на "Столп и Утверждение
Истины", на otuAx)ç кш еорсисоца rfjç dßj|9eiac (1 Тим. 3, 15) ifjç <xXr|0£iaç,
a не просто à^T|0eiaç, — не одной из истин, не частной и дробящейся
истины человеческой, мятущейся и развеваемой, как прах,
гонимый на горах дыханием ветра, но Истины все-целостной и
веко-вечной, — Истины единой и Божественной, светлой-пресветлой
Истины, — Той "Правды", которая, по слову древнего поэта есть "солнце
миру"» **. А к такой Истине не так-то легко и подойти.
2) Однако если Истина есть то, единственное, сущее всеединое,
то «тогда слово "истина" не покрывает собственного своего
содержания, и чтобы, хотя приблизительно, ради предварительного
осознания собственных исканий, раскрыть смысл слова «истина»,
необходимо посмотреть, какие стороны этого понятия имелись в виду
разными языками, какие стороны этого понятия были подчеркнуты
* Судя по датировке письма Шора Зибеку, 6 декабря, от начала курса, 27
октября, прошло чуть больше месяца, а лекцию 1930 г. Шор вряд ли слышал
из-за идиосинкразии к Хайдеггеру, о которой пишет сестре.
" Флоренский П. А., свящ. Столп и утверждение Истины. Т. 1 (I) / Вступ.
статья С. С. Хоружего, историографический очерк игум. Андроника (Трубаче-
ва). М., 1990. С. 11. (Письмо Первое. Два мира).
108
А. И. Резниченко
и закреплены посредством этимологических оболочек его у разных
народов»*, т.е. необходим этимологический подход к раскрытию
этого понятия. Поскольку Истина —это то, что есть, а то, что есть,
мы можем описать словами, произносимыми на разных языках,
именно этимологичский подход может и должен привести к
пониманию сущности [существа] истины: «Истина — "сущее",
подлинно-существующее, то ovtcdç öv или ô ovtcoç &v, в отличие от мнимого,
не действительного, бывающего. Русский язык отмечает в слове
"истина" онтологический момент этой идеи » **. « Истинным » может быть
и «точно подобный», и «живой, дышащий»***. Иное — у греков.
3) Греческое понимание истины как аХцвет связано для
Флоренского — опять-таки этимологически — со словом «Лета», со словом
«забывать»:
Истина, — àArjOeux. Но что же такое эта «Щбеш? — Слово <Ш)6е(а)
их, или, в ионической форме, аХг|9е1Т|, равно как и производные:
аХг|9т|с — истинный, dXr|0evco — истинствую, соответствую
истине и др., образовано из отрицательной частицы à (à privativum)
и *Xfj9oç, дорическое Ш)ос. Последнее же слово, от Vlädho, сокоренно
с глаголом >л0со, ионическое Хцвы, и XavGdvoo — миную, ускользаю,
остаюсь незаметным, остаюсь неизвестным <...> Древнее
представление о смерти как о переходе в существование призрачное, почти
в самозабвение и бессознательность и, во всяком случае, в
забвение всего земного — это представление символически запечатлено
в образе испиения тенями воды от подземной реки Забвения, Леты.
Пластический образ летейской воды, то Лт|Эт|<; ъосор, равно как и
целый ряд выражений <...>, — все это вместе ясно свидетельствует,
что забвение было для эллинского понимания не состоянием
простого отсутствия памяти, а специальным актом уничтожения части
сознания, у гашением в сознании части реальности того, что
забывается, — другими словами, не неименением памяти, а силою
забвения. Эта сила забвения — сила всепожирающего времени****.
И отсюда, 4) à>j\0eia — это не просто то, что есть. Это то одно, что
позволяет быть, — и не позволяет забыть, а значит — позволяет
быть вечно, над временем, — и при этом «минует», «ускользает»,
«остается незаметным и неизвестным». Истина — это то, что
незабвенно — но может быть скрыто в толще времени. Истина не всегда
заметна. Более того. Она практически никогда не заметна в потоке
Флоренский П. А., свящ. Указ. соч. С. 15. (Письмо Второе. Сомнение).
Там же. С. 15-16.
Там же. С. 16.
Там же. С. 17-18.
Флоренский и Хайдеггер об cdtjOeia 109
становления, в постоянном превращении форм бывания (что
напоминает нам о Гераклите и о Гераклитовом потоке). И вместе с тем
Истина — это то, что есть (а не то, что «бывает», «происходит»,
♦случается»), то, что незабвенно, ибо оно — не-забываемо.
Проблема только вспомнить*.
Хайдеггер же начинает свой курс лекций с того (§ 1)**, что
говорит о сомнительности «само собой разумеющегося» предмнения
о сущности и истине — и сразу же переходит к указанию на
«понимание сущности истины в двойном отношении»: как правильности
(«истинности») высказываний и — «истинности самой вещи»
(«истинный друг», «настоящее золото»)***. Судя по тому, что эта лекция
была одной из первых, видимо, именно после нее Шор и
разговаривал с Хайдеггером; однако, как было показано, двойственность
слова «истина/правда» в русском языке — это все-таки нечто другое,
о чем вел речь Хайдеггер изначально.
Затем (это, по всей видимости, уже более поздняя лекция)
Хайдеггер так же, как и Флоренский, делает некий экскурс в историю
понятия истина/àÀrfOeia: мы должны, отбросив «предмнения»,
вернуться к начальному греческому опыту olrfOeia как «непотаенности».
Хайдеггер негодует, кстати, на всякие эти там этимологические
разборы, которые не проясняют, а только запутывают суть вопроса:
Мы должны остерегаться того, чтобы разлагать слово на
составные части и вычитывать из него всякую всячину, вместо того чтобы
обращаться к самой вещи, о которой идет речь. К каким только бес-
* Ср.: «...у нас незаглушимо требование того, что не забвенно, что не
забываемо, что "пребывает, uévei" в текущем времени. Эта незабвенность и есть
истина, в понимании эллина, есть à-Xf|9eia, т. е. нечто способное пребывать
в потоке забвения, в летейских струях чувственного мира, — нечто
превозмогающее время, нечто стоящее и не текущее, нечто вечно памятуемое.
Истина есть вечная память какого-то Сознания; истина есть ценность,
достойная вечного памятования и способная к нему. <...> Следовательно,
незабвенное сущее, которого ищет сознание, эта <Ш)6еш есть покоящийся
поток, пребывающее течение, неподвижный вихорь бытия (Там же. С. 18-19).
«Немецкий» и «семитический» этимологические разборы понятия истина
(дальше Флоренский не пользуется интересующим нас термином <Ш|6еш)
не столь интересны для нас, поскольку сам мыслитель считает их
относящимися к социологии, а не к философии (см., напр.: Флоренский П. А. Указ.
соч. С. 20-23).
** Здесь и далее я буду опираться на текст лекций Хайдеггера 1931/1932 г.,
опубликованный в: Heidegger M. Vom Wesen der Wahrheit: Zu Piatons
Hölengleichnis und Theätet. Gesamtausgabe. Bd. 34 / Hrsg. v. Hermann
Mörchen. Frankfurt am Main: Klostermann, 1988. Все точные
(«закавыченные») переводы с немецкого принадлежат А. В. Михайловскому, за что
я еще раз, пользуясь случаем, выражаю ему свою благодарность.
"* Heidegger M. Ibid. § 1. S. 6.
110
А. И. Резниченко
плодным рассуждениям и даже роковым заблуждениям не
приводят хитрые кунштюки этимологии*.
Похоже, это те самые этимологические разборы, которые до сих
пор вызывают столько вопросов у флоренсковедов, которые
Флоренский так любил и с помощью которых так ювелирно выстраивал
динамику слова, его рост от зерна до древа понятия. AÀrjOeia Хайдег-
гера всегда статична; мы лишь забыли ее изначальный греческий
опыт, и наша философская задача — вернуться к нему**. Статична
и та двойственность истины, о которой говорит Хайдеггер. Двой-
ственый характер истины, интерпретация этого двойственного
характера истины меняется:
1. Греки понимали то, что мы называем истинным (das Wahre),
как не-потаенное (das Un-verborgene), более не скрытое; то, что без
сокрытости, а значит, вырванное из потаенности, как бы
похищенное у нее <...> Привативное выражение: "истинное" означает то,
чего больше нет у сущего (курсив Хайдеггера. — А. Р.).
2. Значение греческого слова для истины, непотаенность, не
имеет ничего общего с высказыванием (курсив Хайдеггера. — А. Р.)
<...> с соответствием и правильностью. Быть потаенным и
непотаенным означает нечто иное, чем соответствовать, быть
соразмерным, отвечать чему-то <...> Истина как непотаенность [aletheia]
и истина как правильность [homoiosis]*** <...> это как будто два
совершенно разных опыта (здесь курсив мой. — А. Р.)****.
По сути, меняется второй момент в понимании существа истины:
то, что «соразмерно» и «правильно», строго говоря, не может
называться истинным по-настоящему. «Правда земли» — лишь подобие
«правды неба». Иное же дело — истина/ о1г\вгт как то, что имеет
отношение к сущему: как то, что вырвано или похищено у него.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Различие между алетейями Флоренского и Хайдеггера — это
различие между двумя видами Леты: забвением и сокрытостыо. Забве-
Heidegger M. Ibid. § 2. S. 11-12.
И даже Гераклит для Хайдеггера — не автор идеи движения (как, скажем,
для Флоренского), а как выразитель основополагающего, базового
греческого опыта истины как непотаенности (см.: Ibid. S. 13-14).
Я бы перевела этот термин как «подобие» или «сходство» — впрочем,
подобное значение термина в русском его изводе учитывает и Флоренский.
Heidegger M. Vom Wesen der Wahrheit. § 2. S. 10.
Флоренский и Хайдеггер об âÀtjOeia
111
ние — это сокрытость, связанная с временем и памятью; скрытость
в толще времени и памяти. Именно отсюда нанизывание парадоксов
у Флоренского: «Следовательно, незабвенное сущее, которого ищет
сознание, эта àXf|0eia есть покоящийся поток, пребывающее течение,
неподвижный вихорь бытия»*. Поэтому любой акт памятования
как преодоления времени и есть пресловутый переход из
потаенного в непотаенное. Отсюда: «Я помню, следовательно я существую»**
С. Раевского. Отсюда: «Помянуть что-нибудь — для сущности
значит спасти его»*** А. Ф. Лосева.
У Флоренского (Щбеих спрятана от сознания: сознание ее ищет,
она ему — как незабвенное сущее — не дана. У Хайдеггера,
напротив, (Щбеих более не скрыта. Где? В толще сущего. У Флоренского
àXf|0eia и есть скрытое сущее. У Хайдеггера «"истинное" означает
то, чего больше нет у сущего»****.
Заметим, что и у Раевского, и у Лосева, очевидно здесь
следующих за «Столпом...», происходит неявная подмена/движение
онтологических категорий: у Раевского речь идет о существовании
(existentia), несмотря на отсылку к картезианской формуле (cogito
ergo sum); у Лосева — о сущности как личности, с последующей
рафинированной диалектикой Сущности и Имени. Однако и у
Флоренского, и у Хайдеггера речь идет о сущем, о глубинной недостаточности
понимания и необходимости тщательного изучения трансформаций
одной из самых, пожалуй, тонких и сложных философских
категорий. Эти трансформации, осуществленные в XX в. в том числе и
нашими героями, никак не могли упустить такой важной вещи, как
<Щ0Б1(х/истина: «забвение» и/или «сокрытость»; «(вс)помнить» и/
или «открыть(ся)», Бытие и/или Ничто.
^*^
* Флоренский П. А., свящ. Указ. соч. С. 19.
'* Раевский С. [Дурылин С. Н.] В своем углу. Вступление 1942 г. // Цит. по:
Резниченко А. И. О смыслах имен. М., 2012. С. 377. Впрочем, Дурылин —
абсолютно точно — лекций Хайдеггера 1931/1932 г. не слушал. Зато
Флоренского — абсолютно точно — читал.
" Лосев А. Ф. Миф — развернутое Магическое Имя // Лосев А. Ф. Имя:
Сочинения и переводы. СПб., 1997. С. 135. Лосевский текст — 1929 г., совсем
перед хайдеггеровскими лекциями «О существе [сущности] истины».
k* Heidegger M. Ibid. § 2. S. 10. (Курсив Хайдеггера).
H. Л. БАРАНОВА-ШЕСТОВА
Жизнь Льва Шестова. Том 2
<Фрагменты>
Вскоре после приезда в Париж (21.05.1928) Шестов пишет Фане
и Эйтингону*:
Я хлопочу о своих делах и, сколько могу, работаю. Heidegger —
хотя и трудно читается, но не жаль потраченного времени и труда.
По всему видно, что он настоящий преемник Гуссерля. Если у него
хватит подъема, он даст много интересного и значительного.
Досадно, что еще не опубликована 2-я часть (Фане, 1.06.1928).
Пока стараюсь одолеть привезенные мною из Германии книги.
Heidegger'a уже одолел [вероятно, «Sein und Zeit»]. Книга,
действительно, необычайно интересная. Но это не «феноменология», а
попытка провести под флагом феноменологии в область философии
самую нефилософскую... контрабанду — библейское сказание о
грехопадении и первородном зле. Читал ли Гуссерль эту книгу и, если
читал, что он о ней думает. Я этим крайне заинтересован,
конечно. Очень может быть, что осенью мне снова придется встретиться
с Гуссерлем. Швейцарский студенческий союз предлагает мне в
начале ноября прочесть лекцию о Толстом [в Берне], в Цюрихе, Базеле
и нем. Фрейбурге. Я соглашаюсь, главным образом, ввиду того, что
мне хочется еще раз встретиться с Гус. — а может быть, и
познакомиться с Heidegger'oM, который осенью уже должен быть во
Фрейбурге. Очень все это интересно (Эйтингону, 14.06.1928).
Фаня — Фаня Исааковна Шестова (в замужестве — Ловцкая) (1873-
1965) — сестра Л. И. Шестова, психоаналитик, замужем за музыковедом
и критиком Г. Л. Ловцким (1871-1957).
Эйтингон — Макс Эйтингон (1881-1943), психоаналитик, один из
ближайших последователей Фрейда, организатор психоаналитического
движения в Германии и Палестине, друг и корреспондент Шестова. Их переписка
опубликована: Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва
Шестова и Макса Эйтингона / Сост., подг. текста В. Хазана, Е. Ильиной;
вступ. ст. и коммент. В. Хазана. М.: Водолей, 2014.
Жизнь Льва Шестова
113
Из Базеля Шестов поехал во Фрейбург. 9 ноября он читал
лекцию, на которой присутствовали Гуссерль и Хейдеггер. Накануне
он был приглашен к Гуссерлю. У него Шестов познакомился с Хей-
деггером. О своих встречах он пишет Ловцким*, а через много лет
рассказывает Фондану** и описывает их в статье * Памяти великого
философа»:
Я уже все дела здесь сделал — виделся и с Гуссерлем, который
необыкновенно сердечно меня встретил, и с Heidegger'oM,
которого Гуссерль к себе пригласил и у которого я вчера целый вечер
просидел. Все было необычайно интересно, расскажу, когда приеду.
(Ловцким, 9.11.1928).
Когда мы встретились с Хейдеггером у Гуссерля, я привел ему
отрывки из его произведений, которые, на мой взгляд, подрывали
его систему. В этом я был глубоко убежден. Тогда я не знал, что
написанное им отражало мысли, влияние Киркегарда, что личный
вклад Хейдеггера состоял лишь в стремлении заключить эти мысли
в рамки гуссерлианства... Не знаю, может быть, его доклад «Was ist
Metaphysik» был последствием нашей беседы...
Когда Хейдеггер ушел, Гуссерль снова обратился ко мне и
заставил пообещать, что я буду читать Киркегарда. Я не понимал, почему
он так настаивал на моем знакомстве с Киркегардом, так как
философская мысль Киркегарда не имеет ничего общего с мыслью
Гуссерля. Сейчас мне думается, что он хотел, чтобы я читал Киркегарда
для того, чтобы я мог лучше понять Хейдеггера (Фондан, стр. 114).
Во время моего пребывания во Фрейбурге Гуссерль, узнав
от меня, что я совсем не читал Киркегарда, с загадочной
настойчивостью стал не просить, а требовать от меня, чтоб я познакомился
с произведениями датского мыслителя. Как случилось, что
человек, всю жизнь свою положивший на прославление разума, мог
толкать меня к Киркегарду, слагавшему гимны Абсурду? Гуссерль сам,
правда, познакомился, по-видимому, с Киркегардом лишь в
последние годы своей жизни: на его работах совершенно не видно следов
знакомства с каким бы то ни было из сочинений автора «Entweder-
Oder» (Памяти великого философа, стр. 306).
Речь «Was ist Metaphysik» («Что такое метафизика»), о
которой Шестов упоминает в разговоре с Фонданом, Хейдеггер прочел
во Фрейбургском университете 24 июня 1929 г. Она была опубли-
* Ловцкие — см. сноску на с. 112.
** Фондан — Бенжамен Фондан (наст, имя Беньямин Векслер) (1898-1944) —
французский философ и эссеист родом из Румынии. Ученик Л. Шестова.
Погиб в Освенциме.
114
H. Л. Баранова-Шестова
кована в декабре того же года в Бонне в издании «Фридрих Коген».
Об этой речи, которая его очень заинтересовала, Шестов пишет
Ловцким:
Она вышла... шесть недель тому назад — очень она любопытна.
По-моему, хорошо было бы, если бы подарить ее M. E. [M. E. Эйтин-
гону] от моего имени: она стоит, верно, 1-1,50 м., т. к. в ней всего
26 стр. И хорошо было бы тебе прочесть, как он там, словно
осуществляя то, что я ему при свидании предсказывал, заявляет о том, что
«в водовороте изначальных вопрошаний растворяется логика», что
«власть логики кончается в философии», что наряду с мыслящим
отрицанием и глубже его есть твердость противодействия, острота
отвращения и т. д. (26, 22 и 12 стр.). Словом, Гуссерль взрывается
самой феноменологией. Это было бы и вам и M. E. очень интересно.
(22.01.1930).
После того как они познакомились во Фрейбурге, Шестов и Хей-
деггер переписывались. В архиве Шестова сохранилось два письма
Хейдеггера. В первом из них (8.01. 1929) он вспоминает о
философской беседе с Шестовым, о его докладе и благодарит его за хлопоты
по устройству докладов в Париже (доклады, вероятно, не
состоялись). Во втором (25.05.1929) он пишет Шестову о том, что он
только что закончил рукопись своих «KantVorlesungen» и должен
приступить к редактированию академической речи, которую он должен
прочесть во Фрейбургском университете (уже упоминавшаяся речь
«Что такое метафизика»).
С Хейдеггером Шестов встречался еще несколько раз, но
близко не сошелся. Он ничего не написал о Хейдеггере, но с
интересом следил за его работами и упоминает о нем в письмах и беседах
с Фонданом. Фондан Хейдеггером очень заинтересовался и
посвятил ему две работы: статью в «Кайе дю Сюд» № 141 (июнь 1932 г.,
см. стр. 94, 99-100) и шестую главу книги «Несчастное сознание»
(1936, см. стр. 153-155)*.
€^
* Имеются в виду: Fondane В. Sur la route de Dostoïevski : Martin
Heidegger, Cahiers du Sud, Marseille. S. 141 (1932). S. 378-92; Fondane B. La
Conscience malheureuse. Paris: Denoël et Steele, 1936.
^^^
Г. Д. ГУРВИЧ
Критические заметки о философии М. Хайдеггера*
Действительно, трудно подвергать критике работу, которая еще
не закончена и чья перспектива не наметилась с достаточной
ясностью. Поэтому на собственно критической части наших заметок мы
остановимся очень кратко, чтобы ограничиться скорее лишь
некоторыми, подчеркиваемыми в философии Хайдеггера чертами,
которые представляются характерными с точки зрения общего
состояния современной немецкой философии. Что особенно бросается
в глаза при попытке ближе проследить ход хайдеггеровской
мысли, так это две следующие, присущие его экзистенциализму
времени черты: сильно акцентированный иррационализм и не менее
отчетливая тенденция к диалектике. Верно и то, что Хайдеггером
сопоставляются эти два формально враждебных принципа.
«Иррационализм — подыгрывая рационализму — лишь вкривь говорит
о том, к чему последний слеп»**, — пишет он; диалектика же для
него не что иное, как «настоящее философское недоразумение»***.
Несмотря на это, бесспорно, что это хайдеггеровское неприятие
относится только к определенному виду иррационализма, а именно
романтизму, и определенному виду диалектики — гегельянства,
и что его философия в целом глубоко иррациональна и
диалектична. Ее очевидной целью выступает как раз синтез иррационализма
и диалектики, проводимый на основе феноменологии экзистенции.
Глубинный иррационализм хайдеггеровской философии стоит
в связи с его понятиями «заброшенность» (Geworfenheit) и
«бесприютность» (Unheimnlichkeit) человеческого Dasein, которые мо-
Эти «критические заметки» вошли в состав только что появившейся
на французском языке книги «Les tendances actuelles de la philosophie
allemande» (Husserl E., Scheier M., Lask E., Hartmann N., Heidegger M.),
J. Vrin éditeur. Paris, 1930.
№ См.: Heidegger M. Sein und Zeit. Halle: Max Niemeyer, 1927. S. 136.
** Ibid. S. 25.
116
Г. Д. Гурвич
гут символизироваться через «страх». «Страх» приоткрывает
«бездну» (Abgrund)*, hiatus irrationalis, в которой сокрыто само бытие
экзистенции. Даже изначальное время, играющее у Хайдеггера
роль идеи или чистого разума, трактуется как ограниченное и
конечное. Не в том смысле, как если бы оно не было бесконечным, ибо
оно постоянно само себя трансцендирует в экстазе будущего (in der
Extase des Zukunft), a в том смысле, что оно не может
способствовать выходу из бездны и что непроходимая бездна остается для него
недостижимой, а ее бесконечность сама не является абсолютом.
Если мы переведем ход мыслей Хайдеггера на наш язык, то будем
иметь право сказать, что его понятие ограниченной и
одновременно бесконечной «изначальной временности» указывает на hiatus
irrationalis, который разводит собственно «позитивную
бесконечность» в ее чисто качественных и динамичных проявлениях,
и непредицируемый абсолют**, предстающий в своем предельном
значении. «Страх» Хайдеггера — это интенциональный акт, в
котором непроницаемый и беспредикатный характер абсолютного
становится очевидным, поскольку он сам является бездной, т. е.
непреодолимой границей позитивной и качественно определенной
бесконечности. Так настойчиво подчеркиваемая Хайдеггером
заброшенность человеческого бытия в его совершенно ограниченном
характере очень сильно напоминает концепцию позднего Фихте,
в соответствии с которой даже важнейшее «противопоставление»
«Духа» и «Логоса» означает, несмотря на его свойства позитивной
бесконечности, не что иное, как соотносительные элементы,
всецело всплывающие в hiatus irrationalis и навсегда отделяемые им
от абсолютного***. Таким образом воздается должное
установленному Плотином разделению между Noûç и "Ev; и Хайдеггера, в
отличие от других феноменологов, очевидно, невозможно упрекнуть
в недостаточно глубоком понимании проблемы иррационального,
так как он подключается здесь к традиции классической немецкой
философии, особенно к линии Фихте и Шеллинга, к которым он
пришел через философию Киркегора. Но на этом работа
Хайдеггера не заканчивается; так, он оставляет под вопросом, выступает ли
изначальное время высшим принципом, и еще неизвестно,
будет ли этот принцип открыт им в абсолютном. Тем не менее можно
утверждать, что понятия «Страх», «Заброшенность» и конечность
* Сам Хайдеггер обозначает ее как « Ничто».
Автор нередко подчеркивает здесь положение, которое он пытался
обнаружить в поздних произведениях Фихте. Ср.: Gurwitsch G. Fichtes System der
konkreten Ethik. Tübingen: Mohr, 1024. S. 258-268, 361,151 f., 37 f., 62 f.
" См.:Ор. cit. S. 150 f., 165.
Критические заметки о философии М. Хайдеггера
117
«изначального времени» могут сохранить какой-нибудь смысл
на этом, и только на этом пути.
Не менее отчетливо диалектический элемент проявляется
также в движении хайдеггеровской мысли. Уже анализ
«несобственной и собственной экзистенции» представляется сильно
насыщенным диалектически. Это должно быть не что иное, как
диалектика Dasein, которая выражается в концепции
экзистенции как некоей целостности, охватывающей как необходимо
рядоположенные элементы следующие противоположности:
бегство и возвращение к самому себе, das Man и уникальную
индивидуальность, страх и решимость, вообще «собственную»
и «несобственную» экзистенцию. И эта диалектика экзистенции
основывается на диалектике времени. На самом деле
изначальному времени удается синтезировать «экстазы» прошлого и
настоящего, при приоритете экстаза будущего: разве не является
чем-то диалектически целым то, что примиряет
противоположности в высшей «конкретной тотальности»?
Противопоставляется ли изначальное время как нечто иное мировому времени
и обыденному времени, над которыми оно возвышается иначе,
чем конкретный диалектический разум противопоставлен
абстрактному и дискурсивному рассудку, или «позитивная
бесконечность» «негативной»? К диалектике времени далее у
Хайдеггера присоединяется еще диалектика истории, которая есть
не что иное, как овнешнение диалектики нравственности.
Сцепление со смертью (Die Fügung dem Tode) и самоутверждение
как активный фактор, метафизика человеческой скромности
(Bescheidenheit) и богочеловечество, судьба и свобода, традиция
и прогресс, пессимизм и оптимизм — вот противоположности,
которые Хайдеггер пытается диалектически преодолеть в
своем понятии (понимании) исторического процесса как
тотальности, их все примиряющей. В конечном счете разрешение всех
поставленных Хайдеггером теоретико-познавательных проблем
насквозь диалектично. «Экзистенциальный идеализм»
Хайдеггера представляет собой своеобразную диалектику идеализма,
к которой присоединяется еще диалектика истины.
Противоположность между «данным» и «сконструированным»,
интуицией и гипотезой становится устаревшей благодаря
диалектической идее «открытости» как некоего восхождения к чистой
интуиции, причем акты открытости и конструирования взаимно
поддерживаются, при этом непосредственные данности испы-
тываются на свой действительный характер. Философия
Хайдеггера, таким образом, полностью подтверждает то, что можно
вообще сказать о современных течениях немецкой философии,
118
Г. Д. Гурвич
а именно что имеет место движение по направлению к синтезу
феноменологии и наследия послекантовского идеализма.
Резко выраженная неприязнь Хайдеггера по отношению к Гегелю*
и его панлогистичной и эманативной диалектике, неприязнь,
которую можно было с большой вероятностью ожидать ввиду
последовательного хайдеггеровского иррационализма, еще раз
подчеркивает, что совершенно правильно видеть в
феноменологическом движении глубокую реакцию против гегельянства
и что тенденция к синтезу феноменологии и послекантовского
идеализма возникает в пользу традиции <, идущей от>
позднего Фихте и Шеллинга.
Нам остается только очень кратко перечислить опасности,
которые, как представляется, подстерегают философию Хайдеггера
и которые удастся полностью отследить только по окончании его
работы. Эти опасности концентрируются вокруг вопроса, может ли
«Dasein-анализ» служить достаточным и исключительным
основанием для предпринятой Хайдеггером попытки синтеза диалектики
и иррационализма и не грозит ли на самом деле этот
монистический «экзистенциализм» очередным уничтожением
иррационализма в пользу чисто конструктивной диалектики?
Наши сомнения на этот счет могут быть сформулированы в трех
следующих тезисах:
I. Феноменологический анализ Dasein не в состоянии в итоге
дать критерии ценностных суждений. Ценности не могут
основываться на бытии или быть от него производными. Возможно,
экзистенциализм и может служить основанием теоретической
философии, но не мудрости и морали. Хайдеггер постоянно вводит в свой
анализ Dasein нравственные и религиозные ценности, не
оправдывая ни их действенности, ни их происхождения. Однако уже
противоположность между «несобственной» и «собственной
экзистенцией» возможна исключительно только на основании таких
ценностей. Нравственные ценности подключаются уже с первого
шага интерпретации повседневного (обыденного) Dasein в этих
описаниях (например, в критике das «Man»). С другой стороны,
Хайдеггер хочет любой ценой обосновать мораль посредством
экзистенциального бытия, поэтому он не может избежать искушения
вывести ни к чему другому не несводимые нравственные качества
из абсолютно гетерогенных свойств бытия, т. е. в известной
степени снова впадает в чисто конструктивную диалектику, которая
совершенно явно проявляется в описании постоянно самого себя
находящего Dasein.
* Ср.: Heidegger M. Op. cit. В особенности S. 428-436.
Критические заметки о философии М. Хайдеггера
119
П. Заключенный во всеобщей онтологии Хайдеггера этический
элемент приводит его философию к отчетливо выраженному
«морализму». «Фундаментальная онтология» Хайдеггера с
определенной точки зрения может быть рассмотрена как воскрешение
теории о «примате практического разума». Этот «морализм»
достигает у Хайдеггера своей кульминации в понятии истории,
которое он вообще идентифицирует с Dasein. Но именно морализм
очень легко превращается в панлогизм и в эманативную
конструктивную диалектику, как раз из-за того, что «примат практического
разума», рассматриваемый как теоретический принцип,
организует и систематизирует все нередуцируемые качества мира вокруг
нравственных феноменов, возведенных в спекулятивный принцип
универсального объяснения*. И это как раз имеет место в случае
хайдеггеровского морализма, достигающего кульминации в культе
человечества как фундамента экзистенциального бытия. Не тот ли
это пункт хайдеггеровской философии, который угрожает
привести ее через «морализм» его системы к активно становящейся
диалектике (как это уже однажды произошло с первой системой
Фихте), преодолевает все воздвигнутые перед иррациональным
преграды и таким образом страх превращается в радость особого
согласия с самим собой?
III. Однако, если экзистенциальная этика достаточно сильна для
того, чтобы исказить всеобщую онтологию Хайдеггера и дать
возможность возникнуть новому конструктивному эманатизму, то она
в то же время недостаточно сильна, чтобы разрешить этические
проблемы. Хайдеггеровская экзистенциальная этика не только
неспособна оправдать неосознанно лежащие в ее основе критерии,
но и умышленно оставляет в стороне (как раз в силу ее
собственного экзистенциализма) главный момент нравственности —
чистую деятельность, идентичную творческой свободе. Это ни к чему
не сводимое нравственное свойство творчества, недоступное эмо-
тивной интуиции (например, хайдеггеровской «расположенности»
(Befindlichkeit)), открывается (здесь она означает творческую
активность надындивидуального потока) только чистой активной
интуиции волезрения, которая сама участвует в творчестве.
Желать связать нравственность с онтологией Dasein означает то же,
что и желать «снять» неискоренимые противоречия между
творчеством и бытием, деятельностью и подчиненностью (Unterwerfung),
свободой и системой и посредством этого сохранить существенные
нравственные качества. Онтология творческой деятельности
противопоставлена онтологии бытия и Dasein. Между этими послед-
* Ср.: Gurwitsch G. Op. cit. S. 66-110.
120
Г. Д. Гурвич
ними элементами, т. е. «Духом» и «Логосом», потоком творческой
деятельности и покоящимся бытием царит непримиримая борьба,
которую не может примирить никакая диалектика и перед которой,
осознав свои пределы, она должна остановиться. Диалектика,
которая не вырождается в эманатизм, должна сама себя осознать как
«негативная теология Абсолюта». Не в радости, но в страхе перед
hiatus irrationalis, который отделяет крайние противоположности
от Абсолютного и навсегда разделяет их между собой, должна она
утверждаться, если она действительно учитывает
иррациональное, благодаря которому она синтезирована.
С. А. ЛЕВИЦКИЙ
Учение Хайдеггера
По своему характеру учение Хайдеггера (р. 1889 г.)* глубоко
отлично от философии Киркегора. Не столь важно, что книга
Хайдеггера насыщена методологией Гуссерля и написана чрезвычайно
трудным языком, малодоступным даже для специалистов (кстати
сказать, по трудности она может смело соперничать с «Наукой
логики» Гегеля), в то время как Киркегор — один из самых
блистательных стилистов в истории философии (недаром он говорил
о «вегетативном» великолепии своего стиля). Главное же различие
заключается в том, что для Киркегора альфа его учения — человек,
омега — Бог, а весь смысл его учения — идея Бого-человечества.
Философия Киркегора носит религиозный, христологический
характер, хотя по форме изложения она более походит на свободное
философствование, чем на богословие. В противоположность этому
философия Хайдеггера одушевлена прежде всего метафизическим
пафосом. Ее главная проблема — сущность бытия. Человек есть для
Хайдеггера лишь «окно в сущее», средство к цели — постижению
бытия. Но поскольку ключ к загадке бытия он видит в человеческой
«экзистенции», то в своем антропологическом методе он во многом
сходится с Киркегором.
По Хайдеггеру, в человеке бытие дано не как объект, а как
живой субъект (я — сущий). Человек характеризуется им как «живая
метафизика бытия». «Человеческий дух есть метафизика,
разыгрывающаяся с такой же необходимостью, как само бытие». Сама
метафизика есть для него «эпоха в развитии бытия».
Но не следует думать, что Хайдеггер идет по следу Декарта,
провозгласившего: «Я мыслю, значит, я существую» — и
перенесшего тем самым центр философской проблематики из бытия
в сознание. Для Хайдеггера бытие невыводимо из мышления. На-
* Главнейшие произведения Хайдеггера: Sein und Zeit. Halle, Niemeyer,
1929; Kant und das Problem der Metaphysik. Bonn; Cohen V. Vom Wesen des
Grundes. Frankfurt am Main: Klostermann, 1943; Holzwege, 1950.
122
С. А. Левицкий
оборот, мышление есть одна из функций бытия, притом бытия,
оторвавшегося от самого себя. Недаром в мышлении мыслимое
бытие невольно противопоставляется бытию мыслящему,
объект — субъекту.
Основной постулат Хайдеггера гласит: существование
предшествует сущности. В переводе на более понятный язык это означает,
что человек свободен, что он сам творит свое бытие, что нет
никакой заранее данной «сущности», которая определяла бы собой его
судьбу. Хайдеггер повторяет здесь в более отвлеченной форме
афоризм своего учителя Дильтея: «Человек не имеет никакой природы,
но лишь — историю».
Итак, человек творит свое бытие. Однако обычно он сам
этого не сознает и склонен впадать в рабство у «мира объектов». Ибо
человек существует в данном ему мире, в который он не по своей
воле «вброшен». Человеческое бытие есть «бытие в мире» (in der
Welt Sein). Как существо «мирское» человек существует не
изолированно от других, а живет в одном мире с другими субъектами.
Человеческое бытие есть всегда «событие» (Mit-Sein). Вброшенный
в мир, сосуществующий с другими, человек не противостоит миру,
а непосредственно живет в нем, находится всегда в той или иной
«ситуации». Первоначальное отношение человека к миру носит
не бескорыстно-познавательный, а заинтересованно-практический
характер. «Нет в мире жителей; есть лишь спектакль». Человек
живет в атмосфере «повседневности» (All-taglichkeit). Он склонен
поэтому забывать о своей «самости», о свободе своего
самоопределения.
Данные ему элементы бытия он расценивает поэтому как
«орудия» (Zeuge), как «что-то к чему-то» (Unwillen-Sein). Так, карандаш
есть орудие для писания, вода для жаждущего есть перспективная
возможность утоления жажды и т. д. Все данное расценивается как
данное для чего-то заданного.
Мы проецируем свои нужды, свои стремления на данности,
и любой объект «расшифровывается» нами в свете этих
подсознательных «самопроекций». Это слоняет объективную картину мира
рожденными нуждой «самопроекциями». Иначе говоря, человек
живет в мире «заботы», заволакивающим густым туманом
подлинную картину бытия. Недаром Хайдеггер говорит в одном из своих
позднейших произведений, что «история бытия с необходимостью
начинается с забвения о бытии»*.
* Heidegger M. Holzwege, 1950 [Цитата из статьи «Изречение Анаксиман-
дра». Ср. перевод Т.В.Васильевой: «Свершение бытия начинается с
забвения бытия» (Хайдеггер M. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
С. 62)].
Учение Хайдеггера
123
Человеческое бытие постоянно «озабоченно», саморассеянно.
Сущность заботы заключается в постоянной устремленности на мир
«не-я» (при бессознательном самопроектировании «я» в мир «не-
я»), в постоянном бегстве от самого себя (при постоянной плененно-
сти у своей субъективности).
Хайдеггер вспоминает здесь легенду, приведенную во второй
части «Фауста». Забота сотворила человека из земного праха и
упросила Юпитера вдунуть в него душу. Затем Земля и Юпитер заспорили
о том, кому должен принадлежать человек. Признанный в качестве
третейского судьи Сатурн решил: Юпитер вдунул в человека душу —
он получит ее после смерти человека. Человек сотворен из Земли —
она получит его тело. Но пока человек живет, он останется во власти
Заботы, его сотворившей.
Итак, живущая в царстве заботы личность отчуждается от самой
себя, теряет свою индивидуальность, забывает пользоваться своей
свободой, сливается со «всеми», с массой.
В языке это царство социальной обыденности выражается в
безличных оборотах: «говорят», «делают». Немецкий язык имеет здесь
специальное местоимение «манн» (man). Из этого безличного
местоимения Хайдеггер создает философскую категорию «das Man»
как «анонимного» субъекта повседневности. Сам стиль Хайдеггера
в описании этой анонимной безличности заботы достигает степени
мистического вещания: «Каждый — все и никто... Он сам, "Man" —
везде и нигде... Он — непостижимый и неуловимый Аноним...»
В заботе существование забывает о своих собственных
возможностях, то есть об источнике использования своей изначальной
свободы. Оно забывает о подлинном бытии, которое всегда мыслится
на фоне небытия как «возможности невозможности бытия».
Конкретное, нами испытываемое бытие нашего «я» должно мыслиться
на фоне «Ничто», а не на фоне мира, который ведь, по Хайдеггеру,
есть «конструкция», созданная заботой, а не первородная
реальность. Наша самость сознает себя подлинным бытием, но не
находит в мире подлинного бытия. Свобода, составляющая сущность
нашего «я», неизбежно мыслится на фоне Ничто. Ибо только на фон
Ничто можно спроецировать собственные возможности. Сказать
«я свободен» — значит сказать: моя свобода (в рамках ее сферы)
не ограничена ничем, то есть противостоит Ничто. Ничто
конкретизируется в нашем опыте как смерть. Но существование стремится
забыть о смерти и создает мнимый мир плоского рассудка,
производящий ложное впечатление прочности. Это — мир
повседневности, «публичный» мир безымянных масс, называемый Хайдеггером
царством «всемства» (man). В этом мире человек прячется от самого
себя безликими масками, стремится замолчать голос страха (перед
124
С. А. Левицкий
Ничто) или прямой заботой, или претенциозной, скользящей по
поверхности бытия «болтовней» (Gerede).
Бытие саморассеивается в повседневности и в заботе, одержимой
безликим и вселиким «Оно». «Оно» есть несобственное «падшее»
бытие. «Падшее» уже потому, что оно отпало от собственной
самости, от метафизического центра подлинного бытия.
Мы все, вернее, безликое «Оно» в нас стремится замолчать смерть.
Даже когда мы говорим: «Да, конечно, мы все когда-нибудь умрем»,
то ударение падает здесь на «когда-нибудь». «Оно», социальная
обыденность, стремится представить смерть как естественный и,
следовательно, нестрашный факт. Даже первая фигура силлогизма «Все
люди смертны, я — человек, значит, я смертен» стремится
представить трагедию как естественный факт. Мы все умрем,
следовательно, смерть касается всех, а не специфически меня.
Но всей силой своего философского таланта Хайдеггер
показывает нам, что непостижимость смерти есть очевидность
непостижимости, что смерть имеет личное ко мне отношение, что она есть
моя смерть, мое небытие. Невольно вспоминается здесь
вживание в тайну смерти в «Иване Ильиче» Толстого, и не случайно сам
Хайдеггер приводит один раз ссылку на этот бессмертный рассказ
о смерти.
Конкретное сознание смерти, будучи освобождено из-под
первичного гипноза ужаса, пробуждает нас к последней решимости
(Entschlossenheit) — определить нашу жизнь согласно своему
предназначению. Впрочем, и слово «предназначение» не имеет у Хайдег-
гера традиционного значения «предназначения свыше». Ведь вне
«бытия во времени» он не видит и не признает никакой вечности,
а видит лишь непостижимое Ничто. Сознание смерти означает для
него лишь сознание своей абсолютной свободы и своей же
абсолютной ответственности перед самим собой... Представим себе, что наше
бессмертие (отрицаемое, впрочем, Хайдеггером) будет заключаться
лишь в бессильном созерцании своей прошедшей жизни как
целого. В таком случае человек останется как бы вечно пригвожденным
к своей судьбе (сотворяемой, впрочем, им самим), будет вечно
раскаиваться в неосуществленных им возможностях.
Эта гипотетическая картина дает нам приблизительное понятие
о том, в каком смысле Хайдеггер говорит об ответственности перед
самим собой за выбор своей судьбы.
Достижение первозданной свободы — нахождение своего
подлинного «я», однако, нелегкое дело. Оно уже потому нелегкое, что
«я» нет как готовой сущности: человек творит себя сам. Свобода,
по Хайдеггеру, «не в бытии, а в небытии». Психологически же
говоря, на пути к самопониманию и самоопределению стоит страх.
Учение Хайдеггера
125
Подобно Киркегору, Хайдеггер придает фундаментальное значение
страху, он для него — метафизическая эмоция. Достижение
свободы всегда связано с преодолением страха. Но преодоление
страха предполагает его первичное осознание, предполагает первичное
«вскрытие» страха, а не бегство от него в повседневность. Страх есть
метафизическая эмоция именно потому, что он есть «ощущение
свободы» (и тем самым — предощущение Ничто).
Недаром и Киркегор определял страх как «головокружение
свободы», и недаром Кириллов в «Бесах» Достоевского видит в
страхе главную доминанту человеческого бытия. («Жизнь есть боль
и страх»*.)
Хайдеггер отличает при этом обычный, предметный страх
(Furcht) от первородного страха, который лучше переводить
на русский язык словом «ужас» (Angst). Обычный страх — дитя
заботы: мы боимся потерять что-то определенное: имущество,
близких, боимся за свое благополучие и т. д. Первородный же
страх не имеет определенного предмета. Страх тем и страшен, что
предмет его неопределим или, если угодно, предмет его есть сама
неопределенность. Говоря словами Киркегора, «предмет страха
есть Ничто».
По Хайдеггеру, метафизичность страха в том и заключается,
что в нем предощущается конец всякого бытия («возможность
невозможности бытия»). Противоречивая для рассудка идея Ничто
раскрывается в эмоциональном сознании как реальность именно
в опыте страха. «В страхе бытие сознает свою полную
необоснованность, свою полную зависимость от за ним стоящего "Оно" — от Бро-
сателя, которому оно обязано своей "брошенностью". Страх ставит
существование на край пропасти, из которой оно изошло, — лицом
к лицу с Ничто » **.
Но, с другой стороны, страх имеет и положительную функцию: он
напоминает нам о вечной загадке бытия, призывает нас отбросить
все чуждое нам и стать самими собой перед лицом предощущаемой
в страхе вечности. Впрочем, философия Хайдеггера не знает слова
«вечность». Она знает лишь Ничто как фон и «безосновное
основание» всякого бытия.
Иначе говоря, Хайдеггер в философских категориях напоминает
о вездесущности и неизбежности смерти.
Так, его философия бытия переходит в философию небытия,
онтология — в мэонологию. И можно даже говорить о пафосе смерти
у этого мыслителя.
* «Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен»
(Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Л., 1974. Т. X. С. 93).
" Heidegger M. Sein und Zeit.
126
С. А. Левицкий
Смерть возможна в любой момент. Мы все живем «sub specie
mortis»*, хотя и постоянно забываем о ней.
Конкретное осознание смерти, и прежде всего сама смерть, имеет
в глазах Хайдеггера освобождающее значение. Смерть помогает нам
избавиться от рабства у заботы, обволакивающей непроницаемым
туманом нашу самость. Сознание смерти освобождает нас от всего
чуждого, наносного, помогает нам вернуться к самим себе. Оно
повышает, а не понижает нашу активность. Только в этом видит Хайде-
ггер подлинную свободу, называя ее «свободой к смерти» («Freiheit
zum Tode»). Само человеческое бытие раскрывает себя, таким
образом, как «бытие к смерти» («Sein zum Tode»). Но в духе того же
Хайдеггера можно было бы назвать и само бытие «бытием к Ничто».
Ибо, повторяем, именно в безосновности Ничто видит Хайдеггер
подлинную свободу, которая также может быть лишь
«безосновной». «Овеществленный» же человек — раб заботы, находится
в безнадежном плену у бытия. Сознание смерти влечет за собой
отчуждение от публично-безымянного мира. Плата за такое
героически-нигилистическое самосознание — одиночество. «Отчуждение
влечет за собой одиночество. Отчуждение от мира "заботы" держит
человека как бы в одиночном заключении».
На фоне Ничто само бытие осознает свою конечность. — Если бы
бытие было бесконечно, мы не могли бы сознавать его. Подлинное
бытие, говорит Хайдеггер, конечно, временно (невольно здесь
вспоминаются слова Версилова: «Человек смертен весь, без остатка»).
Парадоксальным образом идея трансцендентности (как
выхода из сконструированного заботой мира) становится здесь основой
идеи конечности — в прямом противоречии с традиционным
пониманием трансцендентности.
Но если бытие существенно конечно, то оно есть как бы остров
в океане небытия. Бытие окружено и пронизано небытием. Мало
того, лишь всматриваясь в ничто (Hineingehalten ins Nichts),
человек способен сознать свою необдуманную подлинную свободу —
не абстрактную «свободу воли», а абсолютную ответственность
за свою судьбу.
Отсюда вытекает своеобразная этика героического нигилизма:
не пассивное приятие судьбы, а активное приятие всей
ответственности за свою судьбу. «Быть самим собой, к чему бы это ни
привело» — вот к какой формуле может быть сведена гипотетическая
этика Хайдеггера — гипотетическая, ибо никакой этики фрейбургский
философ до сих пор не написал. Она лишь явствует из всего духа его
системы. Недаром один из критиков (Йозеф Мюллер) назвал «эти-
* С точки зрения смерти (лат.).
Учение Хайдеггера
127
ку» Хайдеггера «стоицизмом свободы»*. Формула самого
Хайдеггера: «Человек есть невластный в своем бытии бог» — выражает
в предельно краткой форме главный смысл хайдеггеровского
учения о свободе. Бытие человеку «дано», и в этом смысле ни о какой
свободе не может быть и речи. Но человек все же богоподобен, ибо
эта данность и есть он сам — она есть самоданность. Человек может
творить свое бытие в том смысле, что он «проецирует» на фон
небытия свои собственные возможности и волен в их осуществлении или
неосуществлении. Человек не властен в самом факте своего бытия,
но он властен в раскрытии или сокрытии своего бытия. Однако
«раскрытие» своего бытия существенно меняет модус и самого бытия:
раскрытие в себе бытия (осуществление собственных возможностей)
является в то же время и «самоосвоением» бытия.
Таков в самых грубых и даже «вульгаризованных» чертах эскиз
философии Хайдеггера — философии глубоко атеистической,
проникнутой пафосом своеобразного героического нигилизма.
Философия эта глубока, но исполнена противоречий. Так,
остается непонятным у Хайдеггера, откуда «дан» человеку «дар свободы».
Далее, хотя учение Хайдеггера свободно от упрека в «арбитрариз-
ме», ибо он, как никто, умел подчеркивать ответственность
свободы, — все же остается открытым вопрос о последней инстанции этой
ответственности. Можно сказать, что «я ответствен перед самим
собой», но при этом мы не можем не раздвоить себя на ответчика и
судью. А на вопрос, как мы можем судить себя, не обладая абсолютно
объективным критерием оценки, у Хайдеггера нет ответа. Ибо
единственный ответ заключался бы в признании Верховного Судии —
Господа Бога, а для Бога, для вечности в философии Хайдеггера нет
места**.
Хайдеггер сам сознаёт противоречивость своей философии,
но пытается отделаться от ответа гордым заявлением, что он лишь
«описывает» бытие, а не «объясняет» и что объяснение всегда
субъективно и философски дешево. Не его, дескать, вина, если структура
бытия оказывается при ее честном описании противоречивой.
Такое утверждение приемлемо лишь для тех, кто считает, что
законам логики присуще лишь субъективное, а не объективное
значение. Такой крайний субъективизм убийствен для философии, и
тогда всякая, даже абсурдная, система может претендовать на свое
место под солнцем. Поэтому противоречивость системы, в том числе
системы Хайдеггера, будет явным признаком ее порочности —
независимо от бесспорной глубины или новизны ее отдельных
положений.
* Muller J. Existenzphilosophie und katholische Theologie. Baden, 1952.
** Fritz E. Theologie ohne Gott. Zürich, 1946.
128
С. А. Левицкий
Мы знаем, что с начала сороковых годов этого века Хайдеггер
проводит ревизию своего учения. Так, он «отрекся» от своего
«ученика» Сартра. Так, он недавно заявил, что его философия есть не
отрицание Бога, а «ожидание» Его. Так, в статье «Умер ли Бог?» (см.
«Holzwege», «Ist Gott tot?») он видит в Ницше скорее
«богоискателя», чем атеиста, и сам склоняется к признанию Абсолютного.
Но эта ревизия еще не закончена и еще слишком туманна. Пока
Хайдеггер не одарит нас новым монументальным произведением,
о его учении приходится судить на основании «Бытия и времени»
и еще нескольких работ, написанных в течение 30-х гг. Быть может,
атеизм прежнего Хайдеггера — всего лишь этап его философского
роста. Но пока в историю философии Хайдеггер вошел — и
прочно — именно этим этапом. И если его позднейшие философские
высказывания более благочестивы, то ничего философски более
ценного, чем «Бытие и время», он пока не создал.
Поэтому характеристика его учения как «теологии без Бога»
остается пока лучшей характеристикой этой «философии горделивого
отчаяния». Для нашего обезбоженного, но страдающего от пустоты
обезбоженности века нет более утонченного интеллектуального яда,
чем эта «теология без Бога». По отношению к экзистенциализму
более всего оправданы слова Тютчева о «нашем веке», который
«жаждет веры, но о ней не просит»*.
&*&
* Цитата из стихотворения Ф.И.Тютчева «Наш век» (1851). См.:
Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 129.
Il
СОВЕТСКАЯ ХАЙДЕГГЕРИАНА:
МЕЖДУ ОФИЦИОЗОМ
И ИНАКОМЫСЛИЕМ
5
Б. Э. БЫХОВСКИЙ
Фельдфебели в Вольтерах:
(фашизм и философия)
<фрагмент>
Апология человеконенавистничества
Человеконенавистническая «экзистенциальная философия» —
одно из наиболее влиятельных «академических» философских
направлений в гитлеровской Германии. Если расизм — орудие
массовой пропаганды человеконенавистничества, то «экзистенциализм»
пропагандирует его в кругах «академической» интеллигенции.
Писания «экзистенциалистов» Гейдеггера, Ясперса и прочих
обер-лакеев фашизма, несравненно больше напоминающие
горячечный бред, нежели литературные произведения, по содержанию
своему отнюдь не оригинальны: они воспроизводят и
приспособляют к злободневным запросам немецких фашистов бывшую
архиреакционной уже сто лет назад теологическую концепцию Кьеркегора.
Датский обскурант, кликуша и психопат первой половины
прошлого века Серен Кьеркегор, излюбленная мишень для насмешек
современников, извлечен фашистскими «философами» с задворок
истории философии.
Корень всех зол, по мнению Кьеркегора, в распространении
рационализма и научного познания. «Если бы составлялись
статистические таблицы роста потребления рассудка, подобно тому как
составляются таблицы потребления алкоголя, — писал
Кьеркегор, — то мы пришли бы в изумление от того, как возросло его
потребление в наше время».
Неверие, интеллектуализм, натурализм, просветительные
идеи — вот что является, согласно Кьеркегору, тяжелым недугом
132
Б. Э. Быховский
человечества. Он ополчался против классического немецкого
идеализма, и в особенности против философии Гегеля. Даже
антигегельянские лекции престарелого Шеллинга, которые Кьеркегор
слушал в Берлине, не удовлетворяли его. Против гегелевской логики
нужны, по его мнению, более действенные противоядия.
Фанатический фидеизм пронизывает все мировоззрение Кьер-
кегора. Религия и философия несовместимы, — множество раз
повторяет Кьеркегор. Вера не терпит доказательства. Доказывать
веру — значит опровергать ее. Вера должна быть детской; лучшим
доказательством истин веры является формула: «Это совершенно
достоверно, ибо этому учил меня мой отец». Кьеркегор воскрешает
пресловутый афоризм Тертуллиана: истинным предметом веры
является для него «абсурд» — то, что не поддается разумению.
Объективной реальности нет места в философии Кьеркегора.
Единственной реальностью для него является субъект, человеческое
«существование».
«Существование» («Existenz») — центральная категория
философии Кьеркегора. Под «существованием» он понимает человеческую
жизнь, лишая при этом понятие «жизнь» всякого реального
биологического содержания. «Существование», отождествляемое с
субъективностью, противопоставляется Кьеркегором всякой
объективности, материальному, чувственному бытию, которое выступает у него
как чуждое, враждебное человеку. Человек заброшен в мир, и вся
трагедия человека состоит в том, что ему приходится быть в мире,
жить «подобно рыбе на суше». Материальный мир с точки зрения
«существования» как «истинной реальности» есть ничто.
Величие, знание, слава,
Дружба, наслаждение и добро —
Все это лишь ветер, лишь дым:
Вернее сказать — ничто —
таким эпиграфом начинает Кьеркегор одно из своих произведений.
Место логических категорий заступают у Кьеркегора: страх,
отчаяние, парадокс, момент, решение, жертва.
Из привязанности к самому себе, составляющей, согласно Кьер-
кегору, сущность духовного существования, вырастает страх
смерти — лейтмотив психологических и этических переживаний
человека. Страх перед грядущим уничтожением, перед «днем, который
некогда придет», владеет личностью. «Некогда я умру» —
дамокловым мечом висит над человеком. Страх смерти возрастает
вследствие неопределенности этого «некогда». «Когда? Может быть,
завтра!» — приводит в отчаяние и вырастает в «болезнь смертью».
Фельдфебели в Вольтерах: (фашизм и философия)
133
Страх смерти принимает у Кьеркегора маниакальный характер,
граничащий с психопатологией. На этом страхе основывается у него
религиозная вера — «парадокс» бесконечного «существования»
конечного существа.
Вера, по Кьеркегору, глубоко коренится в душе человека, в
вырастающем из самой сущности человека утверждении «моего
бессмертия». Вера не может быть доказана, ибо тогда она уже не вера,
а знание. Вера — дело свободной воли, решения. Кьеркегор
объективному противопоставляет субъективное, знанию — веру,
закономерности — индетерминизм, всеобщему — единичное.
Проповедь Кьеркегора не только антисоциальная, но и глубоко
человеконенавистническая. «Если я прихожу к убеждению, —
пишет он в своем дневнике (1851-1853), — что умирание необходимо,
что быть любимым Богом есть страдание и что любовь к Богу тоже
страдание, — тогда я обязан препятствовать также счастью всех
остальных».
И знать того я чувства не хочу,
Которое зовут любовью люди*, —
выражает у Ибсена Бранд антигуманистическую тенденцию этики
Кьеркегора.
Гуманность — вот бессильное то слово,
Что стало лозунгом для всей земли**.
Христианство должно быть не религией любви к людям, но
религией любви к Богу, жестокой и непримиримой. Оно должно
рассматривать неверующих не как колеблющихся и заблудших, а как
восставших против Бога; не убеждать их следует, а беспощадно
усмирять и карать.
Дипломированные лакеи германского фашизма рядятся в ветхое
идеологическое тряпье кьеркегорьянства, извлеченное из мусорной
ямы истории философии. Новоявленные пророки
экзистенциализма — Мартин Гейдеггер, Карл Ясперс и их многочисленные
подпевалы, нудно твердят зады кьеркегорьянства. Убогое содержание
облечено в произведениях Кьеркегора в пестрый, яркий литературный
наряд. Гейдеггер переводит его на свой эпилептический язык. Его
литературная стряпня, филологическая абракадабра,
изуродованные, вывихнутые слова, словно прошедшие сквозь пытки гестапо.
То же жалкое фидеистическое содержание Ясперс окутывает непро-
* Ибсен Г. Сочинения. Том I. 1909. С. 146.
** Там же. С. 161.
134
Б. Э. Быховский
ницаемой дымовой завесой псевдоучености; его пухлые писания —
нудный, нескончаемый поток мутного реакционного пустословия.
Гейдеггер и Ясперс стараются оставаться в туманных сферах
абстракций, уклоняются от прямой, конкретно-политической
расшифровки своих учений; государственный советник «Третьей
империи», фашистский «профессор» Карл Шмитт переносит
экзистенциальные бредни в политико-правовую область.
Шмиттовская концепция политического представляет собой
апологию войны и террора. Это призыв к агрессии, к кровавой борьбе
за господство над миром.
«Всякое политическое понятие, — заявляет Шмитт, —
является полемическим понятием. Оно имеет в виду политического врага
и определяется... своим врагом». Главным признаком
«политического», согласно Шмитту, является объединение на почве борьбы
с общим врагом (Freund-Feindgruppierung), вражда к которому
достигает крайней интенсивности. Враг при этом понимается
«экзистенциально»: вражда-де не является продуктом объективных
антагонистических социальных отношений, а, наоборот, сами эти
отношения — порождение вражды, коренящейся в духовной
субстанции людей. «Понятия "друг", "враг", "борьба" получают свой
реальный смысл благодаря тому, что они в особенности
направлены на реальную возможность физического умерщвления... Война —
лишь предельная реализация вражды», ultima ratio (последнее
основание) политики.
Усиливая кьеркегоровское жизне- и человеконенавистничество,
нынешние экзистенциалисты используют его фидеизм вместо
обоснования христианства для обоснования «немецкой религии», для
обожествления «фюрера» и его культа крови и насилия, для
проповеди новой «веры», веры в снаряды и бомбы.
Мотив страха, являющийся центральной темой всей философии
экзистенциализма, как нельзя более отвечает идеологическим
требованиям фашизма. Во-первых, потому, что устрашение является
для фашистов основным методом психологического воздействия.
«Мир, — заявил Гитлер своему бывшему сподвижнику Раушшин-
гу, — может быть управляем только страхом». Во-вторых, потому,
что страх является важнейшим переживанием самих этих
бандитов-авантюристов .
Экзистенциализм является «философией», основанной на
чувстве страха и на методе устрашения.
Наряду с чувством страха, возводимым экзистенциалистами
в ранг основоположной философской категории, в центре их
философствования находятся «категории» «беспокойства» (или
«заботы») и «вины». Чувства «беспокойства», «вины», страх перед
Фельдфебели в Вольтерах: (фашизм и философия)
135
неизбежностью небытия составляют определяющее содержание
человеческого «существования».
Фашистский «экзистенциализм» — мистифицированная
психопатология «нечистой совести», психология преступника,
одержимого страхом, от которого он никуда не может уйти, от которого
избавить его может только смерть (также одна из центральных
«категорий» экзистенциализма).
Для проповедников экзистенциализма жизнь — мучительный
кошмар. Жизнеутверждающему миропониманию, творческой,
созидательной жизни как высшему благу противопоставляется
мизантропическая «жизнь к смерти».
Внешний мир, реальная действительность, объективная
закономерность природы и истории воспринимаются по самому существу
своему как чуждые, враждебные «существованию», «страшные».
Противопоставление «существования» (в специфическом,
уродливом смысле, придаваемом этому понятию экзистенциалистами)
«бытию» красной нитью проходит через все их писания. Человек
«заброшен» в бытие. Отсюда «страх» и «беспокойство» как
основные формы его отношения к бытию.
С исключительной наглядностью выражена в фашистском
«экзистенциализме» авантюристская сущность фашизма: предчувствие
исторической обреченности, сопровождаемое игрой ва-банк.
Экзистенциальное кликушество как нельзя более созвучно
авантюристической природе фашизма. «Беспочвенная пустота
Ничто», трагические образы «Судьбы» и «Будущего», тождественных
со «Смертью», с неустранимостью навязчивых идей преследуют
читателей экзистенциалистских писаний. На фоне этой идеологии
обреченных истерически маниакально звучат волюнтаристические
мотивы экзистенциализма. Учения о «решающем мгновении»,
о «прыжке», культ «жертвы» проникнуты глубокой безысходностью
и авантюризмом отчаяния. Это не действительность, опирающаяся
на познание объективной закономерности, не оптимистическая
активность, основанная на соответствии историческому ходу вещей,
а ее прямая противоположность — судороги утопающего, цепкая
хватка конвульсий, последняя ставка шулера.
*
П. П. ГАЙДЕНКО
«Фундаментальная онтология» М. Хайдеггера
и проблема творчества
В своей первой большой работе «Бытие и время», благодаря
которой он стал известен как основатель нового направления —
экзистенциализма, Хайдеггер заявил, что основная задача его
философии — открыть «смысл бытия», почему он и назвал свою философию
«фундаментальной онтологией». «Имеем ли мы в настоящее время
ответ на вопрос о том, что мы, собственно, понимаем под словом
"сущий"? Нет, не имеем. Поэтому нужно вновь поставить вопрос
о смысле бытия... Целью данной работы и является конкретное
решение вопроса о смысле бытия»*.
До сих пор, считает Хайдеггер, в европейской философии вопрос
о бытии не только не ставился, но и не мог быть поставлен
принципиально, ибо вся философия, начиная уже с древнегреческой,
а именно — с системы Платона, является метафизической, а для
метафизики такого вопроса быть не может. «Метафизика, — пишет
Хайдеггер, — представляет сущее в его бытии и таким образом
мыслит бытие сущего. Но она не видит различия обоих (сущего и
бытия. — П. Г.). Метафизика не ставит вопрос об истине самого бытия.
Она поэтому также никогда не спрашивает, каким образом сущность
человека связана с истиной самого бытия. Этот вопрос
метафизика не просто не ставила до сих пор. Он недоступен метафизике как
таковой**. Поэтому сама постановка вопроса о смысле бытия — это,
по Хайдеггеру, уже выход за пределы метафизики, и заслуга такого
выхода принадлежит ему. Не случайно через все его произведения
красной нитью проходит мысль, что его философия есть
принципиальный поворот не только в развитии человеческого мышления,
но — что вытекает, как увидим ниже, из понимания Хайдеггером
* Heidegger M. Sein und Zeit. Erste Hälfte. Halle, 1927. S. 1.
Idem. Piatons Lehre von der Wahrheit, mit Beilage „Brief über Humanismus".
Bern, 1947. S. 70.
«Фундаментальная онтология» M. Хайдеггера и проблема творчества 137
роли философии в ходе исторического развития — поворот в «судьбе
бытия».
Выполнить основную задачу своей философии — найти смысл
бытия — Хайдеггер считает возможным лишь путем раскрытия
сущности метафизики. Но раскрыть сущность метафизики, говорит
Хайдеггер, можно только исторически, показав ее происхождение,
ее исторический источник и дальнейший генезис. «Задачей моей
работы "Бытие и время", — пишет он в одной из своих работ позднего
периода, — стал вопрос о происхождении метафизики»*.
Такой постановкой вопроса объясняется непрерывное обращение
Хайдеггера к истории философии, результатом которого является
большое количество работ, специально посвященных истолкованию
различных философских концепций**.
Таким образом, основной вопрос о смысле бытия срастается
с проблемой метафизики, и не случайно работа Хайдеггера, где,
по его словам, он пытается дать предварительную постановку
вопроса о бытии, носит название «Введения в метафизику»***.
Когда говорят о метафизике, то обычно имеют в виду
определенный способ мышления или определенную систему взглядов. Так,
Кант противопоставлял критическое мышление существовавшей
до него метафизике как мышлению догматическому,
некритическому; Гегель противопоставлял свою философию метафизике как
недиалектическому способу мышления. Неопозитивисты противо-
* Там же. S. 70. См. также по этому вопросу следующие работы Хайдеггера:
«Sein und Zeit». 1927. S. 230; «Vom Wesen des Grundes», 1929. S. 8; «Kant
und das Problem der Metaphysik», 1929. S. 225.
** Первое (после диссертации) произведение Хайдеггера, вышедшее
в 1916 г. — «Die Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scot us», —
посвящено анализу учения одного из крупнейших мыслителей
Средневековья; за ним следует целая серия историко-философских работ: о Канте —
«Kant und Problem der Metaphysik», 1929; о Гегеле — «Hegels Begriff der
Erfahrung», 1942; о Ницше — «Nietzsche», Bd. I—II, 1960; о Платоне —
«Piatons Lehre von der Wahrheit», 1947; наконец, целый ряд лекций,
докладов и статей о философах-досократиках: Гераклите, Пармениде, Анак-
симандре и др.
'** Heidegger M. Einführung in die Metaphysik. Tübingen, 1953 (впервые
работа была издана в 1935 г.). Название работы может ввести в заблуждение,
будто Хайдеггер свою философию считает метафизикой, введением в
которую и является данная работа. В действительности в ней, как и в других
произведениях, Хайдеггер хочет показать сущность метафизики, которая
должна быть преодолена, прежде чем вообще может быть поставлен вопрос
о бытии. «При метафизической постановке вопроса о сущем... — пишет он
в этой работе, — бытие остается забытым» (Einführung in die Metaphysik.
S. 14). «Метафизика забывает бытие как таковое. Забвение бытия — это
скрытое, но постоянное препятствие для постановки вопроса (о смысле
бытия. — П. Г.) внутри метафизики» (Там же. С. 15).
138
П. П. Гайденко
поставляют свою философию как якобы научную, позитивную
метафизической. Какой бы метод или система взглядов ни
характеризовались тем или иным философом как «метафизика», речь всегда
идет о способе мышления и результатах этого способа,
выражающихся в виде той или иной философской концепции.
Не так обстоит дело у Хайдеггера. Для него метафизика — это
не только способ мышления или философская концепция, но и
способ существования человечества, способ отношения людей к
природе и друг к другу, — определенный характер целой исторической
эпохи, где способ мышления выступает как один из моментов,
правда момент определяющий. Метафизика — это, по Хайдеггеру, такое
восприятие окружающего мира, при котором любая
действительность выступает в форме «предмета», воспринимается как нечто
предметное*. Такое восприятие действительности отнюдь не
является, по мнению Хайдеггера, единственно возможным для человека:
«...Ни средневековое, ни греческое мышление не представляет себе
присутствующее в форме предмета»**.
Тот факт, что вся действительность выступает для человека
в форме предметности, является, по Хайдеггеру, результатом
определенного отношения человека к окружающей природе, другим
людям и самому себе. Таковым является отношение субъект — объект,
которое, опять-таки, не есть единственно возможное отношение
к окружающему, а исторически возникает в определенную эпоху.
Метафизический подход к сущему, при котором сам человек и все
окружающее рассматривается как предмет, т. е. объект для
субъекта, Хайдеггер называет субъективным.
Одним из важнейших моментов этого субъективизма
метафизики является, по Хайдеггеру, то, что человек, выступая в качестве
субъекта, впервые начинает воспринимать самого себя как творца
предметной действительности, причем такое восприятие не
является простой иллюзией сознания: в эту эпоху человек
действительно становится творцом окружающего мира объектов, но отнюдь
не творцом самого бытия, которого для человека метафизической
эпохи вообще не существует.
Положение, впервые высказанное немецкой классической
философией, что окружающий нас мир есть продукт деятельности
человека, результат активности его как субъекта, — это положение,
по Хайдеггеру, является классическим выражением метафизики.
Предмет по-немецки — Gegenstand. Хайдеггер здесь, как и в других
случаях, использует этимологический анализ языка, чтобы подчеркнуть, что
метафизика с самого начала подходит к сущему как чему-то противостоящему
(gegen-ständliche) человеку, внешнему и чуждому ему.
** Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. Pfullingen, 1954. S. 51.
«Фундаментальная онтология» M. Хайдеггера и проблема творчества 139
Ни в какую другую эпоху, замечает Хайдеггер, не могла возникнуть
мысль о человеке как творце предметного мира, ибо ни в какую
эпоху человек реально не был творцом этого мира, так как не было
самого предметного мира; вернее, мир не был миром предметов, потому
что не существовало того отношения субъект — объект, благодаря
которому мир становится предметом, ареной деятельности
субъекта. Таким образом, величайшее завоевание немецкой классической
философии — открытие того, что человек, как начало активное, сам
созидает свой собственный мир, отличный от мира природного, что,
создавая «вторую природу», человек создает и самого себя как
человека, — это открытие Хайдеггер объявляет предпоследним этапом
развития метафизики (последним метафизиком он считает Ницше).
Гегелем начинается эпоха завершения метафизики*, пишет он.
<...> Ставя целью своей философии решение вопроса о смысле
бытия, Хайдеггер считает первым шагом на пути к достижению этой
цели критику метафизики, которая, по его мнению, привела
западноевропейское мышление к полному забвению бытия.
Однако Хайдеггер не ограничивается только критикой
метафизического мировосприятия — он хочет противопоставить последнему
новый, неметафизический способ мышления, неметафизическое
отношение к миру. По мысли Хайдеггера, только благодаря созданию
такого неметафизического отношения к действительности человеку
откроется возможность понимания смысла бытия, возможность,
которой человечество было лишено в течение всего периода господства
метафизики.
Фундаментальная онтология, по Хайдеггеру, должна
принципиально по-новому осмыслить средства и задачи человеческого
познания и создать новый метод познания, новый способ отношения
к миру.
Таким методом Хайдеггер считает феноменологию.
<...> Здесь следует отметить еще один важный момент
феноменологии Хайдеггера. Хайдеггер подчеркивает, что фундаментальная
онтология, как он называет свою философию, имеет дело с
феноменами, а не с явлениями, но указать на это недостаточно: нужно еще
показать, с какими именно феноменами она имеет дело. Предметом
рассмотрения фундаментальной онтологии является отнюдь не
всякий феномен. «Если под самообнаруживающимся понимается
сущее, которое, говоря языком Канта, доступно нам путем
эмпирического созерцания (т. е. вещи и события реального мира), то при этом
формально понятие феномена употребляется правомерно, но оно
употребляется в вульгарном значении. Обычно это вульгарное поня-
* Там же. S. 76.
140
П. П. Гайденко
тие не есть еще феноменологическое понятие феномена. В горизонте
кантовской проблематики то, что понимает под феноменом
феноменология, может быть проиллюстрировано следующим образом: то,
что себя уже обнаруживает... как предшествующее и сопутствующее
вульгарно понятому феномену, хотя и не тематически*, может быть
приведено к самообнаружению тематически, но это себя-в-себе-са-
мом-обнаруживающее («формы созерцания») суть феномены
феноменологии»**.
Облеченная в столь тяжеловесную форму мысль Хайдеггера
является чрезвычайно важной для понимания всей его философии:
предметом исследования феноменологии он здесь объявляет не
любой «вульгарный феномен», т.е. явление, взятое из мира опыта,
а априорные формы: подлинными феноменами следует считать,
говоря языком Канта, априорные формы, будь то формы
созерцания — пространство и время или формы рассудка. Это положение
Хайдеггера проливает свет на всю его фундаментальную
онтологию, цель которой, согласно его заявлению, — открыть смысл
бытия. Само название «онтология» и формулировка основного
вопроса как вопроса о бытии сначала дают повод думать, что философия
Хайдеггера есть принципиальный поворот от гносеологической
постановки вопроса, характерной для немецкой философии,
начиная от Канта и кончая неокантианством XX в. Но вот сам Хайдеггер
разъясняет нам, что объектом рассмотрения его философии
являются феномены не в «вульгарном», а в «подлинно
феноменологическом» смысле слова, т. е. априорные формы. Априорные формы
чего? Этот вопрос не праздный. Как мы указали выше, Хайдеггер
критикует предшествующих философов, в том числе и Канта, за то,
что они в основу своего понимания человека кладут мышление,
разум, cogito, и поэтому, в частности, Кант считает априорные формы
мышления — категории — определяющими структуру всего мира
опыта, с которым имеют дело как обыденное сознание, так и наука.
В действительности не разум есть основа человека, а экзистенция,
заявляет Хайдеггер. Поэтому объектом исследования философии
должны стать априорные формы экзистенции, ее бытийная
структура. И действительно, в «Sein und Zeit» Хайдеггер анализирует такие
феномены (не в «вульгарном», а в «подлинном» смысле слова), как
забота, страх, совесть, заброшенность и пр., которые представляют
собой, как неоднократно подчеркивает Хайдеггер, не психологиче-
Если на объект не направляется специально внимание исследователя, т. е.
он не становится специальной темой исследования, а рассматривается
косвенно, в связи с чем-то другим, Хайдеггер называет его рассмотрение
нетематическим.
** Heidegger M. Sein und Zeit. S. 31.
«Фундаментальная онтология» M. Хайдеггера и проблема творчества 141
ские или этические понятия, взятые из эмпирического, опытного
мира, а априорные структуры, априорные формы экзистенции*.
Однако следует отметить, что эти «подлинные феномены» по
своему содержанию суть не что иное, как те же «вульгарные»
феномены, взятые из эмпирического мира и облеченные в
«экзистенциальную» оболочку, в которой подчас нелегко их даже распознать,
так что Хайдеггеру нередко приходится разъяснять читателю, что,
например, под феноменом «настроенности» он онтологически
рассматривает не что иное, как то, что в оптическом плане хорошо
известно как «настроение». Характерно, что при этом в «подлинном»
феномене настроенности он не может «усмотреть» никакого иного
содержания, кроме того, которое уже заранее дано ему в «пошлом»
и «вульгарном» психологическом феномене. Реально оказывается,
таким образом, что феноменологический метод помогает «увидеть»
лишь то, что уже давным-давно открыто при помощи
«метафизического» исследования, осуществленного конкретной наукой или
обыденным сознанием.
Кстати, относительно введенных Хайдеггером терминов
«онтологический» и «онтический». Как можно видеть уже из текста,
«онтологическое рассмотрение» означает у него примерно то же, что
«априорное», а «онтическое» — «эмпирическое», «апостериорное».
Исследование априорных структур, которые Хайдеггер называет
иногда «бытийными структурами» (Seinsstrukturen), является
«онтологическим».
Обратиться к бытию — значит, по Хайдеггеру, обратиться к
априорной структуре человеческого существования и вскрыть ее основу,
из которой, как из своего источника, берут начало все моменты этой
структуры. Таким источником Хайдеггер считает время: смысл
бытия открывается во времени, т. е., говоря словами Хайдеггера,
«время есть горизонт бытия». Поэтому нет ничего более ошибочного, как
попытка видеть в онтологии Хайдеггера возврат к такой постановке
вопроса о бытии, как, скажем, у досократиков — у Фалеса,
Гераклита или Анаксимандра: в философии Хайдеггера постановка вопроса
о бытии стоит всецело на кантовском фундаменте
трансцендентализма.
<...> В этой связи становится понятной также проблема,
поставленная Хайдеггером в качестве одной из центральных, — проблема
* Еще Макс Шел ер, тоже применивший феноменологический метод к
анализу априорных структур, заявил, что величайшее заблуждение
рационализма состоит в отождествлении априорного с рациональным, тогда как вся
духовная жизнь человека, в том числе эмоции, такие как любовь, ненависть
и пр., имеет априорную природу. Хайдеггер здесь продолжает шелеров-
скую традицию: не только рациональное, но и иррациональное априорно.
142
П. П. Гайденко
Man. В рассматриваемом нами плане Man — это и есть традиция,
научная, философская или нравственная, это и есть стандартный, для
всех людей одинаковый ответ, исключающий возможность
творческого, т. е., по Хайдеггеру, для каждого человека индивидуального
решения вопроса. Man — это общественное мнение, навязывающее
человеку определенное поведение и исключающее индивидуальное
творчество в морально-этической сфере, ибо характер его поступков
уже заранее определен общей нормой; Man — это общепринятые
точки зрения в искусстве, в науке, в философии. Более того, Хайдег-
гер заявляет, что научное требование общезначимости, без
которого невозможно научное мышление, также имеет своим источником
Man.
Здесь мы подходим к тому пункту, который составляет основную
методологическую предпосылку философии Хайдеггера,
предпосылку, которая не дает ему возможности решить вычлененную им
и остро поставленную проблему творчества. Хайдеггер делает
предпосылкой своей философии чисто субъективистское понимание
человека и человеческого познания. Если в науке и в философии,
стремившейся быть научной, был провозглашен тезис: истинно то,
что объективно, то Хайдеггер заявляет: истинно то, что
субъективно. Если наука говорит: истинно то, что является не только моим,
не только личным, то Хайдеггер утверждает: истинно то, что
только мое, только личное; все безличное, все общезначимое, все, что
называют объективным, — все это «скрытое», а значит — ложное.
Объявляя все объективное ложным уже потому, что оно объективно,
Хайдеггер последовательно делает все выводы, вытекающие из
такого утверждения. Так, он заявляет, что само рассмотрение мира
как совокупности данного, наличного, совокупности вещей есть
результат метафизического подхода к миру, исключающего
творческий подход. Мир как совокупность сущего, законченного, кем-
то уже сотворенного, внешнего человеку и чуждого ему — вот мир
естествознания, говорит Хайдеггер. Только по отношению к такому
миру и приложим естественнонаучный метод познания как
движения от явления к сущности, говорит Хайдеггер.
Если довести до конца логику Хайдеггера, то следует
объявить, что сам естественнонаучный подход к миру принципиально
исключает творчество, и Хайдеггер действительно заявляет это,
но не в «Sein und Zeit », а в более поздних своих работах. Тем самым
он исключает из сферы творческой деятельности деятельность в
области естественных наук, или, говоря на его языке, деятельность
в сфере сущего. Именно в этом пункте становится понятным
различие между бытием и сущим (Sein und Seiende), которое
вводится Хайдеггером в работе «Sein und Zeit» и проходит через все его
«Фундаментальная онтология» M. Хайдеггера и проблема творчества 143
произведения. Сущее — это предметы и вещи внешнего мира,
сфера объективного, данного, которую человек всегда уже пред находит
и которая носит название «окружающий мир». Этот мир «сущего»
изучается конкретными науками. Философия в лице Декарта,
говорит Хайдеггер, рассматривает само бытие по аналогии с сущим и
видит поэтому основной атрибут бытия в протяженности, этой
квинтэссенции внешнего, или, как говорит Гегель, внеположного.
Бытие — это нечто принципиально отличное от сущего. Бытие,
как говорит Хайдеггер, есть истина, а поскольку истина, по его
определению, есть то, что «открыто», то бытие есть «открытое
человеку», тогда как сущее всегда «скрыто» от него. Бытие
«открыто» — это в терминологии Хайдеггера означает, что оно всегда не
завершено, не закончено, выступает как вопрос, а не как ответ, как
возможность, а не как действительность, т. е. является объектом
творчества. Бытие не является чем-то внешним, чуждым человеку
как сущее, ибо человек рассматривает его как «открытое», т. е.
видит в нем первоначальные возможности и реализует себя как одну
из этих возможностей. Если сущее — это то, что окончательно
объективировано, что может стать общезначимым и выступает в виде
сущности, то бытие — это то, чего никогда нельзя объективировать
до конца, что является глубоко личным и выступает как
существование. Если атрибутом сущего является пространство, т. е. сама форма
внешнего, то атрибутом бытия является время как форма
внутреннего. В этом смысле следует понимать слова Хайдеггера, что
«проект смысла бытия вообще может быть сделан в горизонте времени» *.
Таким образом, на поставленный Хайдеггером вопрос о смысле
бытия ответ должен был бы состоять в том, что смыслом бытия
является время. Этот ответ предполагается у Хайдеггера самим названием
его книги — «Бытие и время».
Таким образом, попытка решения проблемы творчества привела
Хайдеггера к тому, что все объективное оказалось у него
«неистинным», «скрытым», а «истинным», «открытым» оказалось
субъективное, ибо под бытием у Хайдеггера понимаются априорные
формы экзистенции, т. е. априорная структура не человеческого
разума, а человеческой личности. Здесь с новой стороны
освещается также рассмотренное выше учение Хайдеггера о явлении и
феномене. Явление, по Хайдеггеру, указывает всегда не на само себя,
а на что-то другое, различение явления и сущности имеет смысл
только по отношению к сфере сущего, где невозможно творчество,
где человек имеет дело не с самим собою, а с чуждым ему миром.
Феномен, напротив, — это характеристика «бытийных форм», ко-
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 235.
144
П. П. Гайденко
торые «открыты», т. е. сами себя обнаруживают, и за которыми
бессмысленно искать некую скрытую сущность. При таком понимании
бытия становится ясным еще одно положение Хайдеггера, а именно
что бытие есть нечто для нас самое близкое, гораздо ближе любого
сущего. «Бытие, — пишет Хайдеггер, — это не бог и не основа мира.
Бытие шире, чем сущее, и ближе человеку, чем любое сущее, будь
то животное, произведение искусства, машина, будь то ангел или
бог. Бытие — самое близкое. Однако близкое остается человеку
самым далеким. Человек всегда держится только за сущее» *.
Философия, которая понимает бытие по аналогии с сущим,
объявляется Хайдеггером метафизикой. Такова, по его мнению, вся
философия, начиная уже с Платона. Метафизика в своем развитии
проходит, по Хайдеггеру, ряд стадий и основными ее моментами
являются следующие:
1) она рассматривает бытие по аналогии с сущим; 2) основой
человека считает разумную деятельность; 3) рассматривает процесс
познания как взаимодействие субъекта и объекта; наконец, 4) путь
познания видит в движении от явления к сущности. Все эти
моменты, по Хайдеггеру, внутренне связаны.
Метафизическая философия, говорит Хайдеггер,
принципиально не может исходя из своих предпосылок обосновать человеческое
творчество. Для метафизики познание — это объяснение
существующего и изложение понятого, но не творчество нового. Понять
сущность творчества, заявляет Хайдеггер, нельзя, если исходить из
человека как существа разумного. Творчество — иррациональный
процесс, имеющий основу не в разуме человека, а в его экзистенции.
Творческий акт субъективен, объяснение — объективно.
Творческий акт исходит из возможного, объяснение — из действительного,
основа творчества — субъект, основа объяснения — объект.
В своей попытке изобразить творчество как иррациональный
процесс Хайдеггер не оригинален.
<...> Есть еще один пункт, где философия Хайдеггера заходит
в тупик. Поскольку для Хайдеггера познание есть «понимание»,
т. е. обнаружение в предмете тех возможностей, которые в нем
не реализовались, то критерием истинности познания не может
выступать сам объект, поскольку центр внимания переносится с него
на собственные возможности личности. Но поскольку каждый
человек может (да и должен, по Хайдеггеру) увидеть в объекте свои
возможности, то суждений о данном предмете, скажем о «Метафизике»
Аристотеля, будет столько, сколько людей прочитают и истолкуют
это произведение. Какое же из них принять за истинное? Тот, кто
* Heidegger M. Piatons Lehre von der Wahrheit. S. 54.
«Фундаментальная онтология» M. Хайдеггера и проблема творчества 145
считает истину соответствием моего суждения объективному
положению вещей, т. е. в данном случае историческому взгляду
Аристотеля, заявит, что критерием истины следует считать само
рассматриваемое произведение.
Но Хайдеггер не может согласиться с этим мнением, ибо,
согласно его философии, истина не есть соответствие суждения
объективно, вне меня, существующему положению вещей. Истиной, по Хай-
деггеру, нельзя считать и общезначимость высказывания, как это
полагают, скажем, кантианцы.
Хайдеггер должен признать, что, во-первых, толкований
Аристотеля будет столько, сколько будет толкователей, и каждое
из них истинно постольку, поскольку толкователь реализует в
своем понимании самого себя, свою собственную, единственную и
неповторимую возможность. Что же касается исторического
Аристотеля, т. е. вопроса о том, как обстояло дело в действительности,
то сам этот вопрос не имеет смысла, с точки зрения Хайдеггера.
Желающего познать действительность он отсылает к Гегелю или
к конкретным наукам, удел которых не творчество нового, а
объяснение прошлого. Таким образом, в вопросе об истине и ее критерии
Хайдеггер приходит к абсолютному релятивизму. Сколько людей,
столько и пониманий, и каждое из них истинно, если оно исходит
из личности, и ложно, если его источник — Man, традиция,
стандартный ответ.
Итак, феноменологический метод, целью которого было
обоснование творческого понимания бытия, а не «косного» объяснения
сущего, приводит Хайдеггера к неразрешимому противоречию.
Вопрос о природе творчества, который Хайдеггер хочет решить исходя
из субъекта, понятого иррационалистически, остается нерешенным.
* * *
Не случайно центром внимания Хайдеггера становится проблема
творчества.
Экзистенциализм, пытаясь решить вопрос о причинах кризиса
человеческой личности, кризиса культуры, перед лицом которого
стоит современный буржуазный мир, обращается к проблеме
творчества как к моменту, составляющему ядро личности и подлинную
основу человеческой культуры.
По мере осуществления своего замысла — создания нового,
неметафизического метода мышления, феноменологии — Хайдеггер
от непосредственно гносеологических вопросов переходит к
проблеме творчества, к рассмотрению сущности культуры и человеческой
истории.
*
А. В. ГУЛЫГА
Дело Хайдеггера
Доктор философии Маркус Бирих, возглавляющий всемирно
известную фирму «Бош» (вычислительная техника, станки,
инструменты и т. д.), по инициативе которого объединение
промышленников, финансирующих науку, пригласило меня прошлой осенью
в Штутгарт для доклада о Канте, вручил мне на прощание
тоненькую книжицу — Мартин Хайдеггер «Полевая дорога»:
— Прочтите на досуге, вам должно понравиться.
Я не знал этой миниатюры, так резко отличающейся от всего, чем
известен Хайдеггер — самый трудный для понимания немецкий
философ, создающий немыслимые языковые конструкции,
раздражающе замысловато играющий словами, поражающий
парадоксами. Я не успокоился, пока не перевел «Полевую дорогу» на русский
язык. И разговор о «деле Хайдеггера», поднятый французскими
журналистами, мне представляется уместным начать с этого
стихотворения в прозе.
Полевая дорога
Уходит она от садовых ворот к Энриду. Древние липы смотрят
ей вслед сквозь ограду, будь то пасхальное утро, все в зелени
всходов, или рождественский вечер, засыпавший снегом поля. Мимо
распятия она загибается к лесу. Здесь встречает ее развесистый
дуб, накрывший ветвями грубо сколоченную скамью.
Порою лежали на ней творенья великих умов, будораживших
юную душу. И если сил не хватало постичь гнетущие тайны,
выручала дорога. Ибо она уводила вперед, в просторы суровой земли.
Снова и снова движется мысль — в написанном слове или
рожденная нами — той же стезею, что полевая дорога. Шаг мыслителя,
чем отличается он от того, как идет по росе на покос поселянин?
С годами все чаще влечет к себе дуб: в нем память о детстве.
Срубленный в чаще, он достался отцу для столярной работы.
Дело Хайдеггера
147
В своей мастерской тот трудился усердно в минуты, когда был
свободен от службы на башне, где били часы, напоминая о том,
что время идет и мы бренны.
Щепки шли детям, из них мастерили они корабли и пускали
их в пруд или школьный бассейн. Как близка была плаванья цель
и как скор был возврат к родным берегам. Царство снов и мечты
скрывалось за каждым предметом. Руки матери, взоры ее
ограждали весь мир и хранили его. А безбрежные странствия были еще
впереди. Между тем прочность дуба и запах его нас учили: живет
только то, что растет, что приносит плоды, что тянется к небу
и чьи корни в землю зарылись; расцветает лишь тот, кто
владеет и тем и другим, кто видит высокое небо и кто твердо стоит
на земле.
Полевая дорога знает об этом от дуба. Много знает она, но
путнику шепчет лишь то, что тревожит его. Поля и луга обступают
ее, каждый раз по-иному. И, однако, все остается таким, как было
всегда: те же Альпы встают над лесами, те же трели свистит
соловей по утрам, там, где дорога уходит в холмы, тот же запах
родной струится из мест, откуда мать моя родом, тот же лесник
тащит хворост к огню для ночлега, та же телега увозит зерно
по дороге, те же дети срывают цветы на опушке, тот же туман
застилает луга.
Простота — вот извечная тайна величья. Человеку присуща
она. И незримо встает перед ним неизменного образ.
Неизреченное слово нас учит: мир источает все то же богатство. Как
некогда старый мудрец Майстер Экхарт сказал: до Бога был Бог.
Голос дороги слышен, пока живы люди, рожденные здесь. Они —
крепостные окрестности, но не рабы обстоятельств. Напрасно
люди стремятся устроить на свете новый порядок, не обращая
внимания на голос дороги. И вот возникает опасность, что
нынешним голос дороги станет невнятен. Шум своих аппаратов они
принимают за откровение Бога. Так теряются все ориентиры.
А растерявшим их простота недоступна. Они видят в ней лишь
монотонность и злятся. Злым же на все наплевать. Простота
улетучилась. Пропала тихая сила ее. Все меньше и меньше
становится тех, кто умеет ценить простоту. Но эти немногие да
пребудут вовеки. Именно им суждено совладать с чудовищной силой
атомной бомбы, что на горе себе создали люди уменьем считать.
Голос дороги пробуждает чувство свободы и предельную
ясность, разгоняя печаль. Не допускает он гнета никчемной
работы, что сама себе цель, а потому — пустота.
Мудрая ясность благоухает в любую погоду и заметна даже
за хмурой миной лица. Эту ясную мудрость в наших местах име-
148
А. В. Гулыга
нуют по-своему. Кто лишен ее, тот проиграл. А рождает ее
полевая дорога. В зимнюю стужу и в полуденный зной урожайного дня,
весной и в осеннюю пору сходятся здесь игра и жизненный опыт,
старые годы и юные дни. И шумные отзвуки встречи поглощает
дорога.
Мудрая ясность — врата в бесконечность, чьи петли сковали
умелые руки из тайн бытия.
От Энрида дорога идет назад к садовым воротам. Перевалив
последний бугор, узкой лентой ложится она у стен городских.
Светится тускло в мерцании звезд. А за дворцом видна уже башня
святого Мартина. Не спеша бьют городские часы. Старый
колокол, о канаты которого натирали мозоли детские руки, дрожит
от ударов. Такое врезается в память.
С последним ударом тишина становится тише. Она
достигает и тех, кто пал жертвою времени в битвах двух войн.
Простота становится проще. Но разве все тут застыло? Голос дороги
нельзя не услышать. Ты слышишь ведь душу? Слышишь мир?
Слышишь Бога?
Отрекись от застывшего. Отказ — не потеря. Отказ одаряет.
Он дает неизбывную силу простого. А голос дороги зовет в родные
места, где дом и где предки.
Для понимания «Полевой дороги» важно иметь в виду
следующее: в 1950 г. Хайдеггер собрал ряд своих статей и выпустил в
книге под названием «Дебри» (я не знаю, как лучше перевести слово
«Holzwege», буквально означающее «лесовозные дороги», а в
переносном смысле — «ложные пути»). Сборнику было предпослано
несколько многозначительных строк:
В лесу есть дороги, которые вдруг упираются в непроходимую
чащу.
Мы говорим: это дебри.
Каждый путь пропадает по-своему, но все в том же лесу. Мнится
порой, что схожи они меж собою. Но так только мнится.
Дровосек и лесник знают дороги, ведущие в дебри. Им известно,
что значит по этим дорогам идти.
Появившаяся в 1953 г. «Полевая дорога» представляет собой
как бы эпилог к сборнику «Дебри». И к собственным блужданиям.
Путь Хайдеггера был непрост, извилист, опасен, возникали перед
ним и непроходимые дебри, и засасывающая трясина, и зловещие
бездны. Идея ложного пути владела умом философа. Но вот он снова
в чистом поле, где легко дышится и чист горизонт. «Полевая дорога»
Дело Хайдеггера
149
не только эпилог, но и пролог, путь к новым пластам мировой
культуры, которые вдруг обнажились повсюду, в том числе и в нашей
стране. У нас возникла «деревенская проза», на Западе —
«постсовременность», о которой ниже пойдет речь. Пока назову только
одно имя — Петера Хандке, германоязычного прозаика, наиболее
чувствительного к современным духовным процессам, и только одну
его вещь — «Путями деревни» (заголовок выразительно указывает
направление движения).
Мартин Хайдеггер — последний представитель великой
философии, взращенный на немецкой земле. Он велик как теоретик
культуры, оказавшейся перед лицом катастрофы. Стрелка на циферблате
истории подошла к двенадцати, как бы отодвинуть ее назад? Образ
исполненного времени владеет сегодня умами ученых и
политиков. Философ давно задумался над этим. И сказал: пора
вернуться к истокам, к изначально простым устоям человеческой жизни,
вырваться из тупика, в который завела человечество технически-
рациональная мысль.
Подобная интерпретация может кому-то показаться
неадекватной. Что ж, чем крупнее мыслитель, тем шире круг возникающих
при его изучении истолкований. Ленин, например, читал Гегеля
материалистически, и такое творческое отношение к тексту
является для нас, марксистов, образцом. Почему бы и нам не взглянуть
на Хайдеггера через стекла здравого смысла, озабоченного сегодня
судьбами цивилизации?
Смерть и время царят на земле, —
сказал русский философ-поэт Владимир Соловьев еще в прошлом
веке. В наши дни аналогичная мысль была выражена несколько
в иной тональности:
Мы временные жители земли,
А потому цените, люди, время.
Поэтическая и философская мысль издавна пыталась
проникнуть в тайны бытия культуры, увидеть связь его с существованием
смертных людей, их заботами и страстями, личным миром души
и субъективным переживанием времени, то несущимся с
ослепительной быстротой, то ползущим мучительно долго, и за всем этим
калейдоскопом «бытующего» обнаружить нечто нетленное,
пребывающее во веки веков. Таков примерный круг интуиции,
рассмотренных в главном труде Хайдеггера «Бытие и время», написанном
в поэтически изощренной, чудовищно непонятной манере.
150
А. В. Гулыга
Книга появилась в 1927 г. Вскоре на «молодого немецкого
философа, ставящего время в основу своей философии», обратил
внимание В. И. Вернадский. Создатель учения о ноосфере писал: «Для
Хайдеггера человек есть историческое существо, то есть по существу
для его сознания основой является время... Время может изучаться
и путем сознания».
«Бытие и время» оказало существенное воздействие на судьбы
не только философии в XX в., но и других дисциплин, изучающих
жизнь сознания. Книга переведена на основные языки мира,
включая китайский. Будем надеяться, что и русское издание не за
горами.
Ну а как нам быть с нацистским прошлым Хайдеггера? На вопрос
отвечу вопросом. Как нам быть с близостью к Сталину многих
деятелей не только отечественной, но и зарубежной культуры? Не
стану развивать эту тему, приведу пример из смежной области. Густав
Грюндгенс, знаменитый режиссер, занимал высокие посты при
Гитлере, пользовался особым расположением Геринга и Геббельса.
После краха фашизма был арестован советскими оккупационными
властями, но за отсутствием состава преступления освобожден и мог
беспрепятственно продолжать свою деятельность. Трудно найти
в наши дни абсолютно «правильного», политически безупречного
человека. Весь вопрос в размере ошибок.
Да. Хайдеггер состоял членом НСДАП и, как доказал Виктор Фа-
риас, исправно платил членские взносы. Да, иные высказывания
его и поступки того времени выглядят не лучшим образом.
Совершил ли он преступления против человечества или просто уголовно
наказуемые деяния? Нет, не совершил. Тогда встает, как
справедливо отмечают три журналиста, главный вопрос: существует ли связь
между философскими взглядами Хайдеггера и нацизмом? Статья
в журнале «Лир» не содержит ответа. В другой журналистской
статье (гамбургская газета «Ди цайт» от 6 ноября 1987 г.) В. ван Россум
ставит знак равенства между учением Хайдеггера о «бытии
бытующего» и фашистским подавлением личности: «Структурно
философия Хайдеггера соприкасается с национал-социализмом в этом
пункте, который является определяющим для тоталитаризма отказ
от индивидуальности».
Однако почему опирались на Хайдеггера французские
экзистенциалисты, боровшиеся с фашизмом и утверждавшие безусловный
примат личности? И еще вопрос: почему на Хайдеггера молятся
современные «постмодернистские» теоретики Дерида*, Лакан, Фуко
и др. (все — антифашисты)? «Дело Хайдеггера» — дело рук журна-
Написание имени сохранено как в первоисточнике (прим. составителя).
Дело Хайдеггера
151
листов, падких на сенсацию, философы здесь ни при чем. Хайдеггер
прочитывается ими по-журналистски бойко, но поверхностно. Кое
что в предъявленных ему обвинениях звучит просто как сплетня.
Кто, знающий тексты Хайдеггера, посмеет приписать ему
апологию тоталитаризма? Философ неизменно выступал против
обезличенного существования человека, которое он обозначил не
переводимым на русский язык местоимением man* (все вместе и никто
в отдельности).
Петер Слотердайк в книге «Критика цинического разума»
назвал Хайдеггера в числе трех мыслителей, подметивших различные
стороны фашистского тоталитаризма (два других — Достоевский
и Гёте). Великий инквизитор в «Братьях Карамазовых» —
прообраз руководящего циника, уверенно манипулирующего послушной
массой. Гётевский Мефистофель — необходимое подспорье
диктатуры, техник-исполнитель, предоставляющий власти свое уменье
и свои знания. А хайдеггеровское man — обезличенная масса
оболваненных манекенов, послушно следующая за «фюрером». Всё
вместе дает чудовищную машину фашизма. Причем Хайдеггер указал
и на ту присущую человеку внутреннюю силу, которая противится
безликости, заставляет быть самим собой, а не послушным орудием
в чужих руках, — «голос совести».
Сартр и Камю были в восторге от Хайдеггера. Последний, правда,
не жаловал их и экзистенциалистом себя не считал. Он даже выступил
с критикой «философии существования», отвергая ее субъективизм.
Последнее обстоятельство и дезориентирует журналистов,
утверждающих, что письмо Хайдеггера, направленное Ж. Бофре и
опубликованное в 1947 г. под названием «О гуманизме», представляет собой
якобы нечто антигуманное. Но Хайдеггер в этой работе отвергает
не только субъективизм («бессилие частного»), но и его
противоположность, нивелировку личности («совращение публичностью»).
Хайдеггер выступает против национализма («эгоизма народов»)
и против национальной обезличенности. Он настаивает:
«Слово "немецкое" сказано не миру, чтобы он процветал как немецкая
сущность, это слово сказано немцам, чтобы они из судьбоносной
причастности к другим народам вместе с ними приобрели
всемирно-историческое значение».
Отвергая крайности. Хайдеггер не дает, однако, четкого решения
поставленных проблем. Он вообще силен в критике, но не в
позитивных своих установках, которые у него всегда зыбки, двусмысленны,
расплывчаты. Меня удручает его нарочито непонятная манера
выражаться, рассчитанная на яростный спор восторженных адептов,
* Написание "man" с маленькой буквы сохранено как в первоисточнике
(прим. составителя).
152
А. В. Гулыга
каждый из которых по-своему толкует учителя. В этом есть какое-
то интеллектуальное кокетство, недостойное истинного мудреца.
Я не поклонник Хайдеггера.
Я не могу принять и даже понять отречение Хайдеггера от всей
западной философии. Ошибки человечества в XX в. он принимает
за ложный путь всей культуры. Хайдеггер намерен преодолеть
«метафизику», то есть всю рационалистическую философию, как она
сложилась после Платона. (Притом что сам он великолепно знает эту
философию, его историко-философские труды глубоки и
обстоятельны.) Что же утверждает Хайдеггер? Х.-П. Хемпель в книге «Хайдеггер
и дзэн» (1986) полагает, что идеал философа следует искать в
буддизме. Сам гуру на этот счет, как и полагается, высказался противоречиво.
Сейчас на Западе получили распространение две духовные
тенденции, прямо противоположные по устремлениям, но одинаково
пытающиеся опереться на Хайдеггера и обозначаемые одним словом
post moderne. Слово можно перевести на русский двояко, и это надо
сделать, дабы не запутаться в том, что при этом имеется в виду, —
«постмодернизм» и «постсовременность». Оба эти термина
употреблены мной выше.
« Постмодернизмом » надлежит назвать разновидность
модернистского изобразительного искусства, которое, став беспредметным,
забрело в тупик, из которого пока никак не может выбраться.
Предмет отыскивается ныне не в пределах художественного творчества,
а за его границами: утверждается, что любой предмет уже есть
искусство, рубежа между жизнью и искусством нет, они сливаются.
Философское обоснование такого подхода к творчеству —
утверждение безграничного плюрализма: «Все годится!» Истина — это целое,
сказал когда-то Гегель, у постмодернистов наоборот: целое — ложь,
поэтому война целому! Хайдеггер только бы посмеялся над всем
этим: без идеи целого нет художественного произведения.
Ближе к Хайдеггеру другая тенденция, которую следует
обозначить как «постсовременность». Современность означает некое
противостояние несовременному, устаревшему, прошедшему. Прошлое
при этом рассматривается как предпосылка настоящего, как низшая
ступень, «снятая» последующим развитием. Постсовременность
отличается от современности тем, что видит в прошлом не просто
предпосылку, но свою неотъемлемую часть, это слияние того, что
есть, и того, что было. «Бытие и время» содержит парадоксальную
мысль, что будущее, настоящее и прошлое тождественны. Эта мысль
Хайдеггера абсурдна в отношении физического времени, но весьма
содержательна в отношении времени культурно-исторического.
Сегодняшняя постсовременная архитектура на Западе
старается использовать достижения всех прошлых эпох. Хорошо это или
Дело Хайдеггера
153
плохо — вопрос особый, но стремление преодолеть унылый
рационализм «современного» зодчества налицо. В домах-«коробках»
люди не хотят жить, сносятся благоустроенные кварталы,
некогда премированные в качестве образцовых; на их месте возводятся
здания, отвечающие не только всем требованиям благоустройства,
но и удовлетворяющие тяге к зрелищности. В ход идут приемы всех
архитектурных стилей прошлого.
Понятие современности — завоевание Нового времени как
эпохи, противопоставившей себя предшествующим периодам развития
общества. Именно тогда возник историзм — требование
рассматривать явление в конкретных условиях его возникновения и в свете
общего движения вперед. Осознание настоящего как
постсовременности возникло в наши дни, оно предполагает не отмену, а
углубление принципа историзма. Причинное объяснение остается, но оно
дополняется непосредственным соотнесением достигнутого в
прошлом результата с нынешней ситуацией, признанием эталонного,
образцового характера этого результата.
Наиболее яркий пример «сверхисторизма» и
постсовременности — судьба философии. Кант, отмечая безграничный прогресс
научного знания, вместе с тем признавал возможность полного
изложения философских истин. Наука в наши дни развивается взры-
воподобно, чего не скажешь о философии, и это не вина и даже
не беда философии — это ее судьба. Сегодня философия может
существовать только как история философии. Поэтому прав Хайдеггер,
призывающий нас обратить взоры к прошлому, к традиции. Нельзя
согласиться лишь с требованием вернуться к доплатоновской
мудрости. Классика — для нас эталон.
Поэтому наивно звучит вопрос, поставленный на страницах
журнала «Лир»: «Можно ли еще верить философам?» Кому же верить
тогда? Политические провинности того или иного мудреца не могут
скомпрометировать мудрость как таковую. И однобокость того или
иного учения не причина для уныния. Истина — это целое,
повторю сказанное выше. И верить надо не отдельным философам, а
философии в целом и изучать ее. Верить надо великим моралистам
и диалектикам — Платону и Аристотелю, Декарту и Спинозе,
Канту и Гегелю, Федорову и Владимиру Соловьеву. В каждом из них
воплотилась та или иная сторона истины, и все они нам нужны
сегодня, как воздух. Человечеству определено жить. А «кто хочет
выжить, должен философствовать». Есть и такой, не знаю кем
высказанный, но удивительно современный афоризм. По «делу
Хайдеггера» история уже вынесла оправдательный приговор с частным
определением о необходимости глубокого изучения его
философского наследства.
А. С. ЛАГУРЕВ
Предисловие к публикации архивных материалов
М. А. Лифшица
В 1977 г., в своей архивной заметке Мих. Лифшиц писал: «Всю
жизнь чувствую себя погруженным в глубину неизмеримого
океана под непрозрачной толщей воды. В последнее время это
ощущение как-то снова вернулось ко мне с особенной остротой. Боже мой,
что на поверхности! И как мало надежды на что-то разумное, что-то
похожее на действительную жизнь идеи во всем мире. Что пишут
неомарксисты (сужу по изложению югослава Враницкого "История
марксизма"), что переводят на иностранные языки из нашей
литературы! Полное "совокупление слепых в крапиве", как любил
говорить Андрей Платонов»*.
Все в нашем мире как будто бы чревато собственной
противоположностью, и жизнь идеи — не исключение. То, что сегодня
находится на поверхности, быть может, уже обречено уйти на дно, в то
время как подводные течения, невидимые невооруженным глазом,
скоро могут превратиться в могучие потоки, определяющие
фарватер интеллектуального движения времени. И вот сегодня мы ясно
видим, как фасадная философская продукция Советского Союза,
переводившаяся на множество языков по всему миру и выглядевшая
чем-то незыблемым, оказалась лишь той самой «непрозрачной
толщей воды», скрывавшей за собой совершенно другой, неизвестный
и неизученный мир мысли. Этот мир открылся нам, и стало ясно,
что от той провинциальной изоляции, о которой подчас рассуждают,
начиная разговор о мыслителях, живших в СССР, не осталось и
следа, поскольку стало возможным по-новому поставить вопрос о том,
где же в действительности находилась интеллектуальная столица,
а где провинция.
Впрочем, дело вовсе не в государственных границах, ведь, как
заметил еще Гегель относительно философии Канта, утвержде-
* Лифшиц Мих. Varia. M.: Grundrisse, 2010. С. 87.
Предисловие к публикации архивных материалов М. А. Лифшица 155
ние границы есть вместе с тем и утверждение ее перехода. И в этом
смысле философский спор Мих. Лифшица с Мартином Хайдеггером
представляет собой, возможно, одно из наиболее интересных
явлений, способных многое прояснить относительно интеллектуальных
и идеологических отношений времени. Ведь вовсе не случайно,
как увидит читатель, ортодоксальный марксист Лифшиц отмечал
не только свои расхождения с Хайдеггером, но и близость
некоторых его идей, которые парадоксально оказывались ему в чем-то
созвучнее идей такого же ортодоксального марксиста Д. Лукача.
Впрочем, не стоит забывать, что об этом философском споре
мы можем судить, прежде всего, на основе отдельных,
рассеянных по множеству публикаций и архивных материалов замечаний
Лифшица, сделанных им в разное время и по различным поводам.
Было бы ошибкой считать, что за этой внешней разбросанностью
не находится некоторое целое, доступное нашему пониманию.
Полноценная реконструкция этого целого еще впереди, однако
важным шагом на пути к ней является систематизация всех
высказываний Мих. Лифшица о Мартине Хайдеггере и комплексе
его идей. Очевидно, что такая систематизация не может быть
простым сборником цитат. Сам Лифшиц, будучи составителем
антологии «Маркс и Энгельс об искусстве», называл ее одним из главных
собственных произведений потому, что благодаря подобранному
Лифшицем материалу, а также выстроенной им системе его
расположения эта работа читалась не как собрание разрозненных цитат,
но как целостное литературное произведение, представляющее
собой подлинное введение в аутентичную философию культуры
Маркса и Энгельса*.
Именно к этому и стремились составители при подготовке
данной публикации, разбитой на несколько тематических разделов.
Она должна служить действительным введением в философский
спор Мих. Лифшица и Мартина Хайдеггера, раскрывая перед
читателем логику движения мысли Лифшица на основании его
собственных замечаний. Публикация включает в себя не только фрагменты
уже изданных произведений Мих. Лифшица, но и архивные
материалы — заметки из различных папок, маргиналии на книгах. Тем
самым уже опубликованные замечания по-новому раскрываются
* «Я более дорожу этой антологией как введением в философию культуры
Маркса и Энгельса, чем моими оригинальными работами. Жаль только,
что она послужила основой целой литературной промышленности, в
которой моя система, за редкими исключениями, не сохраняется» (Беседы Мих.
Лифшица с Л. Сиклаи) // Мих. Лифшиц. Надоело. В защиту
обыкновенного марксизма: Беседы. Статьи. Выступления. М.: Искусство — XXI век,
2012. С. 36).
156
А. С. Лагурев
в свете архивных материалов, которые, в свою очередь, становятся
яснее на основании изданных произведений.
Самостоятельным продолжением этой публикации,
составляющим, впрочем, с ней единое целое, являются фрагменты из работ
В. Г. Арсланова, посвященные той же теме — философскому спору
Мих. Лифшица и Мартина Хайдеггера. Впрочем, меньше всего их
можно было бы отнести к жанру простого комментария — они
позволяют проследить не только специально философское, но и
всемирно-историческое, социально-политическое содержание этого
спора, рассматривая диалог двух мыслителей как отражение тех
реальных жизненных ситуаций, невыдуманных фабул мировой
истории, рожденных XX в. Так из диалога двух философов о
сложнейших, фундаментальных проблемах их науки, о вопросах онтологии
и теории познания вырастает рассказ, способный поведать нам
многое не только об истории мысли, но и о нас самих, о мире вокруг нас
и о его судьбе. ♦Главная проблема всех гуманитарных наук, — писал
Мих. Лифшиц, — состоит в том, чтобы объяснить человеку смысл
его собственной, исторической и личной жизни». «Из решения этой
проблемы, — продолжал он, — естественно, следует ответ на
вопрос: что делать? Но даже в тех случаях, когда делать совершенно
нечего, когда события фатально идут в известном направлении, как
это было, например, в эпоху Римской империи, понимание того, что
происходит с нами в жизни, ставит сознательного человека выше
немыслящей стихии. "Все может надоесть, кроме понимания". Эти
слова приписывают римскому поэту Вергилию»*.
^^
* Лифшиц Мих. «Горе от ума» Грибоедова // Мих. Лифшиц. Очерки русской
культуры. М.: Академический проект, 2015. С. 150.
^^э-
М.А.ЛИФШИЦ
ОМ. Хайдеггере
<Фрагменты архива>*
I. <Чем обусловлено сознание?>**
<...> Нельзя превращать сознание в простой эпифеномен,
субъективное переживание слепо действующих за нашей спиной
объективных сил <...> такая постановка вопроса неизбежно ведет к
обратному результату — напрасным поискам сверхсознания, ничем
не обусловленного и превращенного в откровение новой догмы. Спор
двух сознаний — сознания пациента и сознания врача — не
выходит из порочного круга до тех пор, пока и то и другое не признается
доступным измерению третьей мерой — мерой реальности. Уловка
Хайдеггера, идущего навстречу опасности и признающего круг
предопределенного сознания неизбежным, основана на смешении двух
разных типов возвращения к исходному пункту — круг, черпающий
материал из бесконечности, есть важный момент диалектического
движения, круг уходящего в бесконечность вращения на одном
месте есть только логическая ошибка***.
Мера реальности как выход из логического круга! Это так просто
и вместе с тем достаточно сложно. Чтобы измерить сознание
реальностью, нужно выйти из ее безусловной власти. Патологическое
сознание находится в полном подчинении у центральной нервной
системы, страдающей тем или другим болезненным сдвигом. Но
сознание здорового человека также может быть более или менее строго
«запрограммировано» его наследственным генетическим кодом, его
физическим состоянием, его общественной средой. Но всякое
нормальное сознание обладает тем, что один известный французский
экзистенциалист называет «двусмысленностью».
* Составление, примечания В. Г. Арсланова и А. С. Лагурева.
** Названия разделов в угловых скобках даны составителями.
*** Указанная в этом месте сноска М. А. Лифшица утрачена.
158
M. A. Лифшиц
Эта терминология до некоторой степени оправданна, поскольку
человек есть субъект-объект и его сознание представляет собой
продукт телесного развития, но вместе с тем обращено лицом к бытию
и обладает несгибаемой самостоятельностью. Другой французский
автор рассматривал сознание как возможность поставить себя вне
бытия. Но как это возможно? Не блажь ли это, как говорят нам
тысячи примеров подобного вознесения субъекта над его материальной
обусловленностью?* <...> Каким же образом возможен этот «транс-
цензус»? Сознание может поставить себя вне бытия, только
опираясь на само бытие, в его большом, а не малом и фрагментарном
значении. Это посредствующее звено (по природе своей бесконечное)
дает человеческому сознанию возможность, в меру исторического
развития, подняться над конечными условиями, определяющими
его возможности на старте**.
<...> Искусство открывает нам истину в форме реального
явления жизни, взятой как целое***. <...> Перестраивая себя руками
человека, природа действительно находит в человеческом мире свое
собственное идеальное. И в этом смысле предметная практика
человека действительно способна извлечь все потенции,
заключенные в природе согласно «форме и мере» каждой вещи, и, опираясь
на зеркало всеобщего в каждом из них, создает тысячи новых
отражений, в которых его духовный труд закрепляет в виде знаков,
выражающих понятия, или картин, передающих чувственные образы
истины. Но сказать, что идеальное заключается в коллективном,
а не в индивидуальном сознании, и притом коллективном
сознании, закрепленном определенными знаками, символически
выраженном в талерах, книгах или статуях, — это совсем другая мысль,
которую необходимо выделить и, если так можно выразиться,
сделать стерильной****.
II. <Субъект и объект>
<...> Субстанция как субъект. Верное и неверное. Проблема
отрицательности, раздвоения, опосредования, субъективизации
и внутреннее различие, distinguo*****. Распад отрицательного
субъективного (революционное и анархо-деспотическое, «позитивное»).
Ср. тождество бытия и мышления.
* Лифшиц М. Диалог с Эвальдом Ильенковым (Проблема идеального). М.,
2003. С. 92-93.
" Там же. С. 96.
" Там же. С. 111.
" Там же. С. 254-255.
'* Я различаю (лат.).
О M. Хайдеггере
159
Акцидентальное превращается в субстанциональное. Но как?
Путем самоограничения требований субъективности!! «Другое».
Оно важно — «благодаря». Distinguo.
Цикл субъекта предполагает становление другим и через это
к себе. Distinguo! Смотря как становится другим. Не всякое
опосредование.
Subjekt ist das "nur in seinem Zusammenhange mit anderm Wirkliche"*.
Субстанция самостийна. Субъект только в соотношении с
другим. Это так — другое есть то, по отношению к которому, через
которое он становится субъектом. Без этого самоотражения в другом
нет субъекта ни в познавательном, ни в нравственном, ни в
эстетическом смысле.
(Субъект) невозможен без этого отражения от другого, он в
некотором смысле обратная сила другого (но не всякая!).
Гегель своим способом признает вторичность субъекта по
отношению к субстанции и даже преувеличивает эту вторичность
до того, что субъект теряет вовсе элемент самостийности и
торжествует по способу гетевского мотылька, летящего на огонь: Stirb und
Werde**! Вторичность становится первичностью.
Сначала он таким образом ничто, все свое он находит в другом (эта
проблематика, вообще говоря, заставляет вспомнить прекарное
состояние Я, экзистенциализм у Сартра и др.) правда односторонне (?).
А Хайдеггер? Чрезмерная критика слабости субъекта. У
Гегеля хоть идея самоограничения, ... с целью не вызывать Schicksal***
всеобщего****, простирающаяся, однако, слишком далеко. У
экзистенциалистов же слабость субъекта представлена как: а) пассивное
страдание, в) активная истерика свободы .
<...>*****. Субъект задним числомнвходит себя в другом (т. е.
«пушки к бою едут задом») — субъект = обратная сила объекта
(перешедшая в субъективный объект). Раздвоение субъекта в этом
отношении рефлексии, отражения. Все дело в движении,
возвращении к себе, Selbstsetzung******, (— и да и нет!).
И да, и нет, ибо это Sichselbstsetzung******* есть Zirkel********,
слишком Schluss*********. Материал субстанции все более синтезируется,
* Субъект есть то, что ♦действительно только в своем соотношении сдругим»
(нем.). Hegels Sämtliche Werke. Bd. 2. Phaenomenologie des Geistes. S. 29.
** Известные слова Гете «Умри и будь! » из его стихотворения « Selige Sehnsucht ».
*** Судьба (нем.).
**** На полях: «Точнее — вызывает судьбу, но это только одна ступень».
***** Выписка из с. 45 цитированного немецкого издания Гегеля.
****** Самополагании (нем.).
******* Полагание (субъектом. — Сост.) самого себя (нем.).
******** Круг (нем.).
********* Вывод, заключение (нем.).
160
M. A. Лифшиц
самосинтезируется в субъект. Субъект есть движение, и таким
образом весь процесс есть систематическое превращение субъекта
в эфир чистой формы — рефлексии. Обратной стороной этого
является допущение субстанционального начала как чистого материала.
Но между субстанцией и субъектом есть mesotes*, не всякое (?)
опосредование создает соразмерные формы подлинной субъективности.
Субъект как «Modelle für Seiendes überhaupt»** для Гегеля, das
Wahre***. Основная формула «Феноменологии духа» (S. 19).
Первый смысл субстанции (как истинного = абсолютного) =
непосредственность. Но для Гегеля важно, что не только «фактичность»
бытия дана, но и непосредственность знания одновременно. То есть,
что эта бездоказательность, фактичность принадлежит и знанию
нашему, она не безусловна.
Субъект — начало действительности, wirkliche sein**** там, где
субстанция становится субъектом и ihre Abstraktion und Leblosigkeit
gestorben ist***** («Феноменология духа», S. 546).
Действительность, жизненность как признаки субъекта.
Contra абстрактная «достоверность» сознания и мертвая
«фактичность» непосредственно данного бытия. Но важно, что у Гегеля это
не просто процесс опыта, совершенного] на месте, а развитие
самого предмета также от абстрактной фактичности к автономии
действительности и жизни******.
III. < Феноменология и онтогносеология>
<...> Феномен у Хайдеггера — суррогат истины в явлении.
Устали от опосредования, от дальнодействия не только в общественной
жизни, но и в самой теории познания. Назад к предмету, к бытию!
Поиски открытого непосредственно. Формула феномена у
Хайдеггера «себя — в-себе — самом — показывающее* —* Все стараются
описать словами неописуемое вместо того, чтобы удовлетвориться
описуемым, которое в сочетаниях лучше раскрывает смысл вещей.
У Хайдеггера это развитие кантовского априоризма,
трансцендентальной субъективности, образующей синтез с Эмпирией как ее
условие = Sein des Seienden, бытие сущего. Феномен выражает
бытие и указывает на смысл сущего.
* Среднее (греч.).
Модели для сущего как такового (нем.).
*** Истина (нем.).
Действительное (нем.). У Гегеля — ein wirkliches Sein, действительное
бытие.
Ее (субстанции — сост.) абстрактность и безжизненность умерли (нем.).
****** Раздел № И. Архив М. Лифшица. Папка № 203. «Hegel». Л., 1982. С. 86-
132.
О M. Хайдеггере
161
Хайдеггер:
Феномены вульгарные (в смысле эмпирических явлений), в которых
предварительно (?) и путано показ[ывает] себя не тематически [то],
что (?)* тематизируется в феноменах феноменологии («формы
созерцания», априорные структуры трансцендентальной субъективности).
Критика Гайденко (с. 33):
Пространство и время не могут являть себя непосредственно, как
таковые, непосредственно нам даны лишь вульгарные феномены
мира опыта, а чистые феномены можно обнаружить лишь
посредством сложных операций мышления (Kritik der reinen Vernunft**),
Doch***!
В этом суть дела. Хайдеггер тут прав против вашей банальности.
Истинные феномены не являются нам непосредственно? Да, они
опосредованная непосредственность. Это — вообще цель всего
нашего сознания и самой жизни — очевидная неочевидность, видимо
вызванная, предусмотренная, испрошенная у предмета
(«эксперимент»). Аналогично рефлексивным аффектам XVII-XVIII вв.,
но в области теории познания.
Хайдеггер: Однако предметом феноменологии является то, что
как раз себя часто всего не показывает, но это непоказ[ывание] себя
образует смысл и основу того, что показывает себя чаще всего S[ein]
ù[nd] Z[eit]****, 1960,34 —► Истина себя не показывает (а), истина себя
показывает (б), итак? Нужно ловить ее там, где она себя показывает,
ибо этот «показ» есть именно явление истины. <— Феноменология
поэтому и нужна, что истинные феномены открыты —► Они и сокрыты
и совершенно наглядны как колумбово яйцо. Ср. Маркс о явлениях
первобытности в современном ему мире (германская марка и т. п.).
«Сокрыты» до поры до времени*****.
<...> Heidegger. Sein und Zeit. Tuebingen. 1970. S. 12. Человек
сам является предметом его спрашивания. N. Hartmann — <...>,
«вопрос» — важная логическая] форма, которой нет в формальной
логике. Ответ на это, видимо, у Лукача: «человек — отвечающее
существо». Здесь я, пожалуй, ближе к экзистенциалистам и онтоло-
гам. У Л[укача] своего рода остаток трансцендентального, целепо-
лагающего существа. Для меня весь смысл на стороне бытия******.
* Знак вопроса в круглых скобках непосредственно после слова означает, что
это предшествующее слово читается неразборчиво, приводится по догадке.
** Критика чистого разума (И. Канта. — Сост.).
*** Однако; здесь в смысле: Нет, могут! (нем.).
**** Бытие и время (книга М. Хайдеггера. — Сост.).
***** Раздел № III вплоть до процитированной выше фразы из: Архив Мих. Лиф-
шица. Папка № 25/1. Онтогносеология. С. 101-107.
****** ЛифшицМ. Что такое классика? Онтогносеология. Смысл мира.
«Истинная середина». М., 2004. С. 145.
162
M. A. Лифшиц
<...> Лукач. Предисловие и глава I [имеется в виду работа Лу-
кача «Своеобразие эстетического». — Сост.]. Повседневная жизнь,
непосредственность (contra Heidegger). <...>. Повседневная жизнь
= быт (местами признаётся, что она есть и в науке, и в искусстве).
Куда же девалось бытие? Историческое бытие. Оно в своём
объективном существе — основа. Труд будто относится к «повседневной
жизни». У Хайдеггера лучше: у него всё с точки зрения философии
быта. Быт — то, как отражается историческое бытие в жизни
отдельных людей. Это, конечно, тоже существенно. Историческое
бытие входит в быт людей. Но всё же материальный труд и
производственные отношения, политическая] и гражд[анская]
ситуация — вот предмет отражения, а через них и объективный мир
природы»*.
<...> Истина и ее два полюса.
Отличие от фундаментальной онтологии Хайдеггера**
Истина. Adaecquatio rerum в смысле равенства бытия себе,
самоподобия. Истина — соответствие объекту на основе его соответствия
себе. Поэтому в ней два полюса — материальный и формальный.
Психология уже виденного как пример к преформации.
Мы это когда-то уже видели (мнимое воспоминание). Мы эту
женщину уже видели. Я этого человека уже видел, когда я его рисую.
Чтобы нарисовать похоже этого, нужно нарисовать похоже человека
вообще. Мы «вычисляем». Отчасти всякое восприятие предформи-
ровано (аперцепция). И подлинное, (неразб.) без этого невозможно.
То же с понятиями. Какие значения в марксизме имеют понятия-
ключи. Словом, круг. Но для каждого такого перерыва a priori нужен
априорный предмет, с которым (?) мы сравниваем (?). Ebenbild***,
для теории Маркса и Энгельса — Парижская коммуна.
Процесс конкретизации-материализации, дедукции —
отклонения от нормы. Но какого!
Преформация, a priori.
При помощи статистики и эксперимента можно Доказать все, что
угодно. Все зависит от мысли, вложенной в эксперимент. Было бы
даже интересно собрать все глупости, доказанные в прошлом
экспериментально. Это показало бы, что наименьшие глупости
доказывает эксперимент, поставленный в условия силлогизма,
направленного (?) исключительного факта.
* Лифшиц М. Что такое классика? С. 154.
Фрагмент из Папки № 123, «Активность сознания. Мимезис. Критика Мэн
деБирана».
*** Копия, портрет (нем.).
О М. Хайдеггере
163
Идея предформации, a priori. Откуда она? Из того ответа,
обратной реакции и определенной суммы их, которые возникают
как определенный ответ всеобщего на определенный, всегда
более или менее односторонний факт (комплекс «жирафа», переход
в противоположность). Таким образом, форма дана уже заранее
и ирония (неразб.) нечто определяющее будущее, a posteriori. Это
может быть и сознательный эксперимент. Нужна феноменология
эксперимента как вызывания бытия на себя, как рассчитанной
предформации.
В двух версиях:
1. предформация по комплексу жирафа.
2. все в мире подтасовано, то есть: а) подтасовка вначале
бывает гипертоническая; б) вообще же суть «подтасованности» — не-
подтасованность. «Пушки к бою едут задом». Основа подтасованно-
сти — абсолютное отношение, возникающее из его нарушения. Оно
существует in abstracto (?) — actus prior potentia*.
индивидуация = предформация, «ожидание», матрица (судя
по почерку, поздняя заметка. — Сост.).
Мое отличие от Хайдеггера. Бытие и истина у него травма,
сукровица, не отражение. Истинное бытие есть самоотражение его
в себе или форма**.
IV. <Хайдеггер и авангардизм>
Гитлер против фашизма интеллектуалов
Хайдеггер. Генералы
Тут можно сказать, что ради своей политической цели—
сохранения старого порядка — фашизм всегда вынужден поворачивать
против самого фашизма:
1. В смысле государственности, порядка.
2. В смысле соприкосновения с массами.
Он отрекается от авангардизма. Ну что же, осуждайте массы
за то, что ради них Гитлер не пошел за Розенбергом.
Фашизм против Хайдеггера — а не против ли самого фашизма?
(Из конспекта книги Р. Huehnerfeld. In Sachen Heidegger. Versuch
über ein deutsches Genie. München, 1961.)
* Акт прежде потенции (лат.), см.: Архив M. Лифшица. Папка №25/1,
Л. 11: «Actus est prior potentia — тезис аристотелевски-схоластической
философии, акт прежде потенции, совершенство преобладает над
несовершенством, позитивное над негативным, истина над ложью, добро над злом,
бытие на[д] ничем. Нельзя мыслить эти отрицательности иначе, как
девиации от положительного».
Архив М. Лифшица. Папка «Еще к онтологической гносеологии». Л. 16.
164
M. A. Лифшиц
S. 101. Конфликт этой идеи «Aufbruch»* с концепциями
тоталитарной идеологии в духе примитивного расового биологизма.
— Словом, фашизм Aufbruch <...>, ультралевый,
авантюристический в противоречии с его <...> к широким массам. Это лишь
подтверждает, а не отрицает связь такой декадентской философии
с нацизмом. Наша логика (автора книги о Хайдеггере) — пока он
завоевывал власть, он еще был ничего!
Антиконформизм самого фашизма!
В этом и состоит суть наших разногласий. Западная буржуазная
идеология одобряет эти реакционные идеи, но боится их массовой
версии даже в их реакционной <...> форме. Найдите ей более
интеллектуальную (?) редакцию.
S. 102. Чем тоталитарнее была нацистская идеология, тем
больше «оговорки» Хайдеггера. Ему нужно было Aufbruch, epoche**,
а тут Weltungewissheit***.
S. 105. Он не повернул от тоталитарного господства NS Staates****
к другим идеалам — личной свободы, человеческого достоинства
и правового государства, а повернул от политики к эпохе***** во всех
ее формах!
Попытки видных представителей модернизма вступить в союз
с нацизмом.
Готфрид Бенн и его попытка создать союз с экспрессионизмом,
как и попытка Хайдеггера в области философии — союз с
экзистенциализмом.
Не по инициативе этих течений Гитлер поссорился с ними.
Гитлер — Раушнингу: «они считают меня необразованным и
называют меня варваром. Да, мы действительно варвары. Мы хотим
быть варварами. Мы считаем это почетным званием».
— Общий мотив: Ницше, Кафка и Томас Манн, «да, скифы мы»
Блока, «Дикие», особенно Вламинк и так далее.
Разница! Да, разница — но независимая объективная или
идеологическая форма, о чем идет речь! Это нужно анализировать
независимо от субъективного намерения — это марксизм.
Это новая форма реакции, революция справа, неожиданный
идеал, который имел демагогический успех.
* Прорыв (нем.) — термин Хайдеггера.
'* Epoche — * воздержание от суждения », термин древнегреческой философи-
ишколы скептика Пиррона, который в феноменологии Гуссерля
приобретает иное значение: устранение всех суждений как путь к «чистому
сознанию», открытию «смысла» предмета.
'* Мировая неопределенность, неуверенность (нем.).
'* Национал-социалистического государства (нем.).
№ Здесь — Epoche.
О M. Хайдеггере
165
Ничтожество, пария
Если так, то естественно, что Гитлер в интеллектуальном
отношении был ниже многих своих сатрапов. Гудериан о нем. Розенберг
о нем. Но вы же, господа, сами этого хотели! В соревновании на
варварство он вас победил, и <...> оказался хитрее вас...
Но он был на уровне идеи. Именно в этом и состояло варварство.
Откуда он взял?
Более высокобровые. <...>
Там, где нарушение закона становится опорой закона.
Авангардизм сытых переходит в авангардизм голодных, алчных.
Буржуазная идеология сытая переходит в алчную.
Авангардизм прямой и обратный. Роковая связь более
глубокого бунта с реакционным обратным направлением.
Пример того, как из полного нигилизма (типа Хайдеггера)
рождается и нигилизм по отношению к модернистским «ценностям»,
то есть преследование «выродившихся».
Переход от негативного к позитивному. Тут конфликт с
негативностью. Судьба Хайдеггера.
Позитивное — это гитлеровский «реализм». Но знаете ли вы, что
Гитлер удерживал Розенберга и К0 от преследования
ученых-физиков в борьбе за «немецкую науку»?
Отрицание, бунт как идея («нигилизм», анархия), то есть во
втором смысле. Но также и порядок, утверждение, «позитивность».
Касается и <...>, плюрализма, гамлетизма etc., то есть
переходит в утверждение, неодогматизм. А вы спрашиваете, откуда
покорность, фашистский парад, etc. Ta же логика авангардности,
приложенная к ней самой.
<...> Как рождаются ретроградные идеи модернизма? Через
парадокс. Через извращение справедливого отрицания реакционного
элемента самого прогресса ("либерализм")*.
<...> Реакционное движение умов после Первой мировой войны
выдвинуло общую утопию нового порядка, состоящего в
возвращении к старому. Мне уже приходилось писать, что это движение
не было простым продолжением консервативной традиции. Нет,
конечно. Это было воскрешением ее посредством новаторства
наоборот, посредством «правого радикализма», иначе весь спектакль
Третьей империи не мог бы увлечь никого и не мог иметь никакой
ценности для тех империалистических сил, которые его
поддерживали. Именно это реакционное движение умов сделало возвращение
к традиции, взятой в ее самом грубом и пошлом виде, чем-то совпа-
Весь раздел № IV вплоть до последней процитированной фразы
публикуется по: Лифшиц М. Что такое классика? Онтогносеология. Смысл мира.
«Истинная середина». М., 2004. С. 71-74.
166
M. A. Лифшиц
дающим с изысканной философией таких новаторов, как Мартин
Хайдеггер*.
<...> Да, я был счастлив тем, что свободен от
«уничтожающего Ничто» [по немецкому изданию «Предисловия к немецкому
изданию 1960 г.» книги Лифшица «Эстетические взгляды Маркса»
видно, что Лифшиц приводит здесь не что иное, как термин Хайдег-
гера „nichtenden Nichts", и переводит его на русский язык не так,
как ныне принято его переводить —«ничтожащее Ничто», а как
«уничтожающее Ничто»: «Ja, ich war glücklich, frei zu sein vom
„nichtenden Nichts"...»**. — Сост.], от насыщенного едким
отрицанием релятивизма двадцатого века <...>***.
V. < Фундаментальная онтология и искусство>
<...> Онтология — это учение об истинном бытии, а по
отношению к материальным формам существования произведений
искусства в крайнем случае можно было бы применить термин школы
Хайдеггера «онтический», но и это едва ли уместно. Конечно,
искусство имеет свою онтологическую основу — это истина и красота
окружающего нас мира, которые оно отражает****.
<...> Чтобы понять, например, характер Катерины в «Грозе»
Островского, мы должны увидеть ее в исключительном положении,
раскрывающем то, что она есть на самом деле (ее тождество себе),
несмотря на густую завесу мещанского быта. Недаром по-гречески
истина — алетейя, что, согласно своему происхождению, в
обычной речи значит «откровенность». Быть свидетелем откровенности
объективного мира не так просто, и не каждый способен стать его
наперсником. Бальзак сказал, что сама французская история
писала «Человеческую комедию». Но исполнять обязанность
простого секретаря при таком авторе — большая честь, и люди, стоящие
на уровне откровений мировой истории, принимают участие в ней,
если даже они только мыслят ее.
Разумеется, эта точка зрения не имеет ничего общего с идеями
Хайдеггера, ставящего в центр своей теории истины слепое
напряжение бытия, травму сознания, изреченную словом. В крайнем слу-
Лифшиц М. Искусство и фашизм в Германии // Лифшиц Мих. Почему
я не модернист? М.: Искусство — XXI, 2009. С. 260-261.
** Lifschitz M. Karl Marx und die Ästhetik. Dresden: Verlag der Kunst, 1960.
S. 19.
*** Лифшиц M. Предисловие к немецкому изданию 1960 г. <книги
«Эстетические взгляды Маркса»> // Лифшиц М. Собр. соч. В 3 т. Т. I. M., 1984.
С. 28-29.
**** Лифшиц М. Бессистемный подход // Лифшиц М. В мире эстетики. М.:
Изобразительное искусство, 1985. С. 144.
О М. Хайдеггере
167
чае все подобные конструкции можно рассматривать как суррогаты
действительного решения вопроса, заключенного в диалектической
теории познания Маркса и Ленина. Они свидетельствуют о том, что
время внешнего «совпадения интеллекта и вещи», то есть
традиционной системы представлений, характерной для более или менее
развитого товарного общества и лишь отчасти справедливой (даже
в естественных науках), исторически пройдено. От формальной
теории познания надобно перейти к материальной, диалектической,
не впадая при этом в соблазн литературных эффектов
иррационализма, ибо все это больше беллетристика, чем философия*.
VI. <Хайдеггер и его критика
со стороны советского «обезбоженного» марксизма >
1. <Из маргиналий Мих. Лифшица на книге: П. П. Гайденко
«Экзистенциализм и проблема культуры». М., 1963.>
[Гайденко]: Неподлинный способ существования, погруженность
человека в мир вещей Хайдеггер называет существованием в «Man»,
то есть в том безличном и близком «никто», которое определяет
обыденность человеческого существования со всеми свойственными ей
привычками, представлениями, мнениями и оценками.
[Лифшиц]: скорее некто.
С. 21. [Гайденко]: Грек всегда ощущал реальность рода,
христианин ощущает только реальность личности <...>. Таким образом,
классически-греческое и христианское понимание личности
являются противоположными.
[Лифшиц]: Нет ли все же большей связи между сократовским
человеком и тем поворотом, о котором идет речь? Действительная
суть дела и экзистенциализм. Линия сократо-стоико-эпикурейская
хотя тоже по своему дурна (?), но (?).
[Гайденко]: Экзистенциализм тоже отражает положение
личности в капиталистическом обществе, но он не видит и не хочет видеть
реального выхода из этого положения и подменяет его, как и
христианство, выходом иллюзорным.
[Лифшиц]: Не вообще. Как и в древности, дело не в капитализме,
а в особом его виде. Вторая проблема (?) [как у Достоевского —
вторичное угнетение? — Сост.]
[Гайденко]: Более того, именно того человека, который
порождается капиталистическим, — человека, оторванного от
общественного целого и противопоставленного ему, — экзистенциализм
считает подлинной личностью и заявляет, что ни греческая духовность,
Лифшиц М. Человек тридцатых годов // Лифшиц М. В мире эстетики. М.:
Изобразительное искусство, 1985. С. 266-267.
168
M. A. Лифшиц
ни Европа в эпоху Просвещения не понимали и не знали
человеческой личности.
[Лифшиц]: А может быть в известном смысле это так? Прогресс
понимания (?) личности есть, должен быть!
С. 24. [Гайденко]: Чтобы дать простор развитию личности, нужна
радикальная мера, нужно изменить форму связи индивида с
общественным целым, т. е. преобразовать капиталистические
производственные отношения в коммунистические.
[Лифшиц]: Это слабо. Нужно было бы сказать — личное
развивается исторически, превращаясь в вещественное, и освобождение
от этой вещественности.
С. 27. [Гайденко]: В эту эпоху человек действительно становится
творцом окружающего его мира объектов, но отнюдь не творцом
самого бытия, которого для человека метафизической эпохи вообще
не существует.
[Лифшиц]: Т. е. ему хотелось бы вернуться к тупой
объективности бытия.
[Гайденко]: Но недостаточно заявить, что утверждение Хайдег-
гера, будто в эпоху господства метафизики человек выступает как
творец окружающего предметного мира, тогда как в другие эпохи он
таковым не является, — неправильно. Нужно показать, какие
реальные моменты могли послужить основой для такого утверждения,
из каких действительных трудностей в процессе познания
социальных явлений вырастает подобная иллюзия.
[Лифшиц]: диалектически (?) согласуется с тем, что человек
создает мир во все эпохи.
С. 32. [Гайденко]: Хайдеггер: «Предмет в смысле объекта
существует лишь там, где человек становится субъектом...»
[Лифшиц]: Все это в рамках рефлексии: путь [к] объекту через
ограничение^) и ликвидацию субъекта, а нужно не так — объект
становится предметом путем сообщения (?) идеализации.
С. 34. [Гайденко]: И как только нам удастся, заявляет Хайдеггер,
рассмотреть человека по-новому, т. е. раскрыть его сущность как
экзистенцию, мы увидим, что никакого разрыва между человеком
и миром нет, что его впервые создает и увековечивает метафизика
[Лифшиц]: Т. е. горе в бифуркации(1)
Dasein без (?) бифуркации.
[Гайденко]: Основным моментом экзистенциальной структуры
бытия сознания является *бытие-в-мире».
[Лифшиц]: Все-таки [неразб. ...] к бифуркации, есть симптом
верного — того, что есть в марксизме, т. е. бытийности сознания.
С. 36. [Гайденко]: Хотя исторически философия жизни и
возникает как направление, антагонистическое неокантианству, но по сво-
О М. Хайдеггере
169
ему замыслу эта философия направлена главным образом против
естественнонаучного подхода к действительности.
[Лифшиц]: Отделаться этой критикой нельзя, и в естествознании
объект субъективен.
С. 38. [Лифшиц]: Открытость, по-нашему отражаемость.
С. 40. [Гайденко]: Человек, по словам Хайдеггера, всегда есть то,
чем он может стать.
[Лифшиц]: И это суррогат реальности.
С. 44. [Гайденко]: Мы никогда, говорит Хайдеггер, не
воспринимаем сначала наличное бытие, которое лишь потом рассматриваем
как дверь, как дом и т. д. Напротив, мы воспринимаем прежде всего
нечто как дом, т. е. истолковываем данный предмет, а уже потом
можем увидеть в нем просто наличное бытие.
[Лифшиц]: Тоже не лишено основания, ибо что такое фактон
должен быть приведен в это звание, но диалектики нет. Здесь
круговорот — ложный и истинный. [Далее — неразб.]
С. 45. [Гайденко]: Хайдеггер: «Главное состоит не в том, чтобы
выйти из круга, а в том, чтобы правильно в него войти. Этот круг
понимания не есть круг, в котором движется любой род познания,
а представляет собой выражение экзистенциальной структуры
самого бытия-сознания...»
[Лифшиц]: Pas si bête*.
[Гайденко]: ...Само устройство человеческого сознания имеет
«круговую» структуру.
[Лифшиц]: Pas si bête.
С. [Гайденко]: Совершается интересный парадокс: прошлое
становится будущим, ибо проецирование своих возможностей на
прошлое — это не постижение той истории, которая уже была, а
создание новой, которой еще не было.
[Лифшиц]: верно, но история становится будущим в более
реальном смысле
[Гайденко]: Задача историка философии, говорит Хайдеггер, —
это не установление того, какой вывод сделал философ из того или
иного положения, а усмотрение того, какой вывод он мог бы
сделать [подчеркнуто М. А. — Сост.], но не сделал, т. е. усмотрение
его возможностей, а не его действительности.
[Лифшиц]: И это верно, но в том смысле, что: 1. то же самое
мыслится в нас, продолжение проблемы, 2. мыслители прошлого
многое понимали и подразумевали.
С. 47. [Гайденко]: Такой метод историко-философского
рассмотрения является глубоко субъективистским [подчеркнуто М. А. и его
* Не так плохо (франц.).
170
M. A. Лифшиц
знак вопроса. — Сост.]. Хайдеггера не интересует исторический
объект, как он есть сам по себе... — в лице всех этих философов ему
интересен только один — сам Хайдеггер (подчеркнуто М. А. — Сост.].
[Лифшиц]: Верно [у Хайдеггера. — Сост.] поскольку он есть
лишь продолжение.
С. 49. [Гайденко]: Основной предпосылкой феноменологического
метода, как он выступает еще у своего создателя — Эдмунда
Гуссерля, является тезис, что познание не должно изменять свой предмет,
что познание — это не деятельность, а созерцание.
[Лифшиц]: Schau, но Schau* как голос объекта у Хайдеггера.
С. 50. [Гайденко]: Хайдеггер, следовательно, видит
принципиальное различие между явлением и феноменом в том, что явление
указывает на что-то другое, обнаруживает через себя что-то такое,
что само себя непосредственно обнаружить не может, а феномен
указывает на самого себя.
[Лифшиц]: Т. е. различие важное. «Феномен» — у меня прерога-
тивная инстанция**.
С. 51. [Гайденко]: Понятие феномена, говорит Хайдеггер, по
своему значению изначальнее, чем понятие явления, последнее уже
всегда предполагает первое. Почему? Да потому, что явление как
возвещающее нам о чем-то стоящем за ним, что само не может
являться, должно уже быть феноменом, т. е. обнаруживать себя.
[Лифшиц]: Нужно все же знать относительность этого
различия. Феномены могут быть хуже явлений.
С. 52. [Гайденко]: Субъект не должен судить, ибо суждение есть
нечто исходящее не от объекта, а от самого субъекта, и потому
понимать познание как суждение субъекта об объекте — значит вносить
в решение вопроса метафизический субъективизм.
[Лифшиц]: А если суждение объекта об объекте?
С. 59. [Лифшиц]: [неразб.] — к исключительным «феноменам»,
словом, это ближе к реальности, хотя и на ложном пути.
[Лифшиц]: У Канта иначе насчет феномена.
[Гайденко]: Другими словами, он выбрасывает «вещь-в-себе»
и заявляет, что бытие — это не нечто внешнее нашему сознанию
и независимое от него, а априорное устройство самого нашего
сознания.
[Лифшиц]: И в каком-то смысле размазанном (?), [у] Гуссерля это
верно.
С. 60. [Лифшиц]: Сознание как голос бытия.
Созерцание, видение (нем.); термин Э. Гуссерля.
Значение для материалистической теории познания термина Ф. Бэкона
«прерогативная инстанция» раскрыто М. Лифшицем в его книге «Диалог
с Эвальдом Ильенковым (Проблема идеального)».
О М. Хайдеггере
171
[Гайденко]: Последователь Гуссерля, Густав Шпет, следующим
образом разъясняет, что такое истина с точки зрения феноменологии:
«То, что есть, есть, и потому оно всегда истинно; заблуждение
проистекает из того, что мы приписываем бытие тому, чего нет, или
отрицаем бытие за тем, что есть. Утверждение бытия там, где его нет, или
небытия там, где есть бытие, есть область суждения. Суждение вообще
есть источник заблуждения, но не источник истины, — истина есть,
и ее источником может быть только то, что призвало ее к бытию».
[Лифшиц]: Вот это и есть слабое место феноменологии — логика
бытия, суждение, опосредование в бытии (Гегель). Да [неразб.]
сознания = [неразб.], как факт, но чтобы донести его до сознания через
суждение, нужно углубление в предмет.
[Гайденко]: Отбрось метафизика принцип субъект — объект —
и она перестанет быть метафизикой.
[Лифшиц]: Самый важный экзистенциал состоит в переживании
факта существования мира вне меня, нетождестве меня и предмета,
и опыт доказывает это [далее неразб.].
С. 64. [Гайденко]: Однако характеристика бытия самого по себе
как истинного или неистинного представляется совершенно
бессмысленной. Кроме того, такой тезис предполагает признание
существования бытия независимо от человека.
[Лифшиц]: Ошибка.
[Гайденко]: Мы видим теперь, что когда Хайдеггер определяет
истину через бытие, а затем через человеческое бытие-сознание,
то эти определения не противоречат друг другу, ибо для Хайдеггера
нет бытия как чего-то независимого и внешнего бытию сознания.
[Лифшиц]: Последнее тоже не совсем ложно — человеческое
бытие более истина.
[Гайденко]: ...Познание есть не объяснение наличного, а
понимание возможного. Это рассмотрение прольет свет и на вторую часть
приведенного высказывания Хайдеггера, что «бытие и истина
одинаково изначальны».
[Лифшиц]: Имеет смысл как понятие всеобщего в бытии [далее
неразб.].
С. 65. [Лифшиц]: Проблема научения.
С. 66. [Гайденко]: Поставить вопрос — значит обнаружить целое
гнездо возможностей, из которых только одна реализовалась в
учении того или иного философа, физика или математика.
[Лифшиц]: Т. е. целое.
С. 66-67. [Гайденко]: Поэтому, говорит Хайдеггер, подлинный
мыслитель не может заниматься классификацией школ и
направлений, ибо для него существует в лице всех этих направлений только
одно — свое собственное.
172
M. A. Лифшиц
[Лифшиц]: Нет, целое.
[Гайденко]: Проблема Man.
[Лифшиц]: В моей терминологии — серийная, [неразб.]
механическая закономерность.
С. 68. [Гайденко]: Хайдеггер утверждает: истинно то, что только
мое, только личное; все безличное, все общезначимое, все, что
называют объективным, — все это «скрытое», а значит — ложное.
[Лифшиц]: В известном смысле не ложно.
С. 69-70. Бытие «открыто», — это в терминологии Хайдегге-
ра означает, что оно всегда не завершено, выступает как вопрос,
а не как ответ, как возможность, а не как действительность, т. е.
является объектом творчества.
[Лифшиц]: Вернее — действительность в ее полноте и
[неразб. — неполноте? — Сост.].
С. 69. [Гайденко]: Если сущее — это то, что окончательно
объективировано, что может стать общезначимым и выступает в виде
сущности, то бытие — это то, чего никогда нельзя объективировать
до конца, что является глубоко личным и выступает как
существование. Если атрибутом сущего является пространство, т. е. сама
форма внешнего, то атрибутом бытия является время как форма
внутреннего.
[Лифшиц]: Верно то, что сущность в своем развитии равняется
(?) действительности как parwus mundus*.
С. 73. [Гайденко]: Что же касается исторического Аристотеля,
т. е. вопроса о том, как обстояло дело в действительности, то сам
этот вопрос не имеет смысла с точки зрения Хайдеггера.
[Лифшиц]: А между тем что такое исторический Аристотель?
Не живет ли он в веках? Не раскрывается (?) ли его смысл? Закон
раскрытия (?) из объективности (?).
С. 81. [Гайденко]: Такому грядущему мыслителю Хайдеггер
и пытается расчистить путь своей философией.
[Лифшиц]: Та же двусмысленность, что у Витгенштейна, —
бросьте писать книги!
С. 83. [Гайденко]: Древнегреческий мир, замечает Хайдеггер,
потому и не знает ни науки (в современном ее понимании), ни
техники, что он не рассматривает мир метафизически, для него
действительность не выступает как сфера приложения человеческих
сил, как каузальная связь явлений, как предмет и продукт труда.
Человек, говорит Хайдеггер, может выступать как активное начало
только по отношению к такому миру, который представляет собой
связь причин и следствий, ибо только такую действительность, под-
* Parvus mundus — малый мир, микрокосм, человек (лат.).
О M. Хайдеггере
173
дающуюся расчленению, он в силах изменить, создав специальные
инструменты для ее изменения — современную науку и машинную
технику.
[Лифшиц]: Все перевернуть.
С.85. [Гайденко]: Современный ученый не потому не может
синтезировать знания, доставляемые различными науками, что этих
знаний стало слишком много и их невозможно усвоить одному человеку,
а, наоборот, этих знаний слишком много потому, что ученый с
самого начала выступает как действующий в одной лишь области и
специальным методом, т. е. как техник [подчеркнуто М. А. — Сост.].
[Лифшиц]: Без благодаря нет вопреки.
С. 91. [Гайденко]: Такие обороты, как «Mensch menscht», «ding
dingt», созданные Хайдеггером, привились в
экспрессионистической поэзии.
[Лифшиц]: Пошлость.
[На обложке книги записи Мих. Лифшица]:
Новое и его право? Нам нужно не новое, а бесконечное, не
ограниченное данным. Вот что мы хотим в поисках нового.
От «естественной нравственности» к форме нравственности =
узкая демократия (М. Вебер — Sittenstaat* проблема plattes Lands**)
следствием этого является право зла — ретродоксия, гиббелинов,
тирания, либертинаж или одинокие герои мысли — две истины.
Что самое главное? Ан нет — одно в другое переходит. Дурное
может быть хорошим, хорошее дурным. Хотя форма обманчива,
лжива как вся цивилизация, но... содержание тоже лживо и наоборот.
Полюсы: или «все дозволено» или спасение собственной души.
Даже у стоиков (?), а погубить душу ради ближнего?
О том, что истинное близкодействие = дальнодействие, а
истинное дальнодействие = близкодействие. Дифференциал!
По ту сторону добра и зла.
2. <Из маргиналий М. Лифшица на книге: Горнштейн Т. Н.
Философия Николая Гартмана. (Критический анализ основных
проблем онтологии). Л.: Наука, 1969.>
С. 11 [Горнштейн]: Нельзя даже ставить вопрос о познании без
вопроса о бытии. Уже элеаты во главе с Парменидом понимали, что
наше мышление «направлено» на бытие, а не на «ничто», что нельзя
мыслить «ничто», а только «нечто», т. е. сразу же возникает
проблема бытия. Познание — отношение субъекта к объекту (обоим при-
Нравственное государство (нем.).
Букв.: равнина (нем.). Это словосочетание обычно употребляется в
значении «[отсталая] сельская местность, захолустье» (Сост.).
174
M. A. Лифшиц
суще бытие); надо изучить оба члена этого отношения, прежде чем
исследовать само отношение.
[Лифшиц]: Нельзя мыслить, не мысля нечто, но и нельзя
мыслить, нечто не мысля. Из чисто онтологической крайности можно
извлечь такой же ложный эффект, как и из гносеологической.
Нельзя познавать что-нибудь, выпрыгнув из познания. «Бытийствовать»
в статьях и книгах[,] не мыслить мысля.
Интересно, как во всех этих plus ultra, из одной крайности в
другую развивается по существу одно и то же: крайняя мыслительность
перехлестывает в крайнюю вещность, бытийность[,] т. е. растет
иррационализм.
С. 14 [Горнштейн]: Вопрос об определении «бытия вообще» имеет
еще дополнительные трудности.
[Лифшиц]: А не-бытие?
С. 18-19 [Горнштейн]: Гартман подвергает критическому
анализу не только старую онтологию, но также новейшие онтологические
концепции, из которых его внимание прежде всего привлекает
экзистенциализм. <...> Хайдеггер, как и Гартман, объявляет о крахе
старой онтологии, но усматривает ее основную ошибку в том, что,
занимаясь вопросом о бытии как таковом, она не могла
справиться с вопросом о смысле бытия. По его мнению, всякая онтология
«слепа», пока не выяснит этого вопроса. Гартман решительно
возражает против превращения вопроса о бытии в вопрос о смысле
бытия. Смысл существует для кого-то; в себе самом «сущее как сущее»
не нуждается в смысле [подчеркнуто М. Лифшицем].
[Лифшиц]: О бытии никакого вопроса нет. А на вопрос о
смысле бытия ответом является само его диалектическое] движение.
«Смысл» не нуждается (?) в более широком, чем бытие, понятии. Он
нуждается (?) скорее в возвращении.
С. 19 [Горнштейн]: Превращение вопроса о бытии в вопрос о
смысле бытия привело экзистенциализм к выводу о том, что мир
«относителен» к человеку. Онтология находит свою опору в наличном бытии
(Dasein) человека, имеющего преимущество над всеми другими
существами: ведь только он — «понимающее существо».
Экзистенциальный анализ человеческого бытия — основа онтологии.
[Лифшиц]: Нет, почему же? Правда[,] в человеке смысл бытия
явлен больше всего.
^^
^s^
В. Г. АРСЛАНОВ
О М. Хайдеггере
«фрагменты разных работ>
I. Хайдеггер и Лифшиц: два критика либерализма
и защитника истины — «открытости» бытия
<...> Примерно в одно и то же время, на переломе войны, два
философа читают лекции: Мартин Хайдеггер — о Пармениде (в 1942-
1943 гг.) во Фрайбургском университете, М. Лифшиц — о русской
культуре (в 1943 г., по другим данным — в 1944 г.) для офицеров
Военно-морского флота в Ленинграде. Оба они — критики
субъективизма, оба, опираясь на философскую классику, доказывают, что
истина — это не только наше суждение о мире, не только
отображение его в нашей голове, а истинное бытие, «нечто существующее,
действительно существующее, настоящее золото в отличие от
сусального»*, точнее — просвет бытия (философия Хайдеггера
именуется онтологической гносеологией). Перед этим Хайдеггер в Давосе
(в марте 1929 г.) ведет ожесточенный спор с лидером европейского
либерализма неокантианцем Э. Кассирером, а «течение» Лифши-
ца-Лукача в 1930-е годы — с «либерализмом» группы сталинских
идеологов (А. Фадеев, В. Кирпотин, В. Ермилов), и затем, в 1950-е
и последующие годы, вплоть до кончины философа в 1983 году,
полемика с советским либерализмом становится главным
содержанием памфлетов Лифшица. «Хайдеггера среди вас я не вижу», —
напишет он в конце жизни, имея в виду советских философов второй
половины XX века.
Для раскрытия смысла символической ситуации, о которой
идет речь, необходимо рассказать и о другой, не менее значимой.
По мнению Люсьена Гольдмана**, в главном философском труде
* Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы
и размышления разных лет. М., 1993. С. 82.
** См. его книгу «Лукач и Хайдеггер», перевод с франц. СПб., 2009.
176
В. Г. Арсланов
Хайдеггера «Бытие и время» заметны следы влияния Г. Лукача,
его книги 1923 года «История и классовое сознание». В 1930 году
Лукач приезжает в Советский Союз и встречается с М. Лифши-
цем, который был ровно на 20 лет его моложе. Эту встречу Лукач
в 1967 году назовет «неожиданным счастливым случаем»* своей
жизни, поскольку в результате многих бесед с Лифшицем Лукач
выходит из творческого тупика и «в состоянии восторженного
упоения новым началом»** создает в СССР ряд работ, в том числе
книгу о Гегеле (кстати, посвященную Лифшицу), об историческом
романе, о классиках мировой и русской литературы. Лукач в СССР
избавляется, до известной степени, от марксистского гностицизма
своих ранних произведений, обнаруживая, что
материалистическая теория отражения, против которой и была написана его книга
1923 года, обладает серьезным философским смыслом. По мнению
философов-неомарксистов Франкфуртской школы (а она возникла
как раз под влиянием книги Лукача «История и классовое
сознание»), это было началом его падения, сближения с догматическим
советским марксизмом. По мнению же Лифшица, напротив,
главный недостаток позднего Лукача — «своего рода остаток
трансцендентального, целеполагающего существа. Для меня весь смысл
на стороне бытия» ***. Лифшиц считает свою позицию более близкой
онтологам — Н. Гартману и М. Хайдеггеру. <...> Видный
представитель Франкфуртской школы Герберт Маркузе в своей книге
1958 года «Советский марксизм» доказывает, что тоталитарные
тенденции имеют свой исток в классической философской
традиции от Платона до Гегеля, поскольку еще Платон проповедовал
идеал полного подчинения личности государству. Объективная
истина как для Платона, так и для Гегеля существует совершенно
независимо от человека, поэтому человек является лишь средством
для осуществления абсолютной идеи, идеи государства. Марксизм
и Октябрьская революция на первых порах провозглашают
своей главной целью освобождение человека, его свободу и счастье,
но затем Советская Россия, покоренная логикой современного
производственного процесса, оказывается разновидностью
буржуазного технократизма, а «советский марксизм» — одним из
проявлений прагматизма****.
* Лукач Г. История и классовое сознание. Предисловие (1967 г.). М., 2003.
С. 94.
* Там же. С. 95.
'* Лифшиц М. Что такое классика? Онтогносеология. Смысл мира.
«Истинная середина». М., 2004. С. 145.
Ссылка по второму изданию этой книги: Marcuse H. Soviet Marxism.
A Critical Analysis. N. Y., 1961. P. 212.
О М. Хайдеггере
111
Что-то подобное о советской системе, но значительно раньше,
утверждал и Хайдеггер в своих лекциях 1942-1943 гг.: имеющий
уши «мог уже два десятка лет услышать сказанное Лениным:
большевизм есть советская власть + электрификация». Вот откуда,
продолжает Хайдеггер, «метафизическая страсть нынешних русских
к технике, приводящая к власти технизированный мир»*. Правда,
Хайдеггер не говорил в этих лекциях, в отличие от Маркузе, что
Ленин — наследник традиции Сократа и Платона.
Что такое технократизм как «метафизический» принцип? Эта
тема — одна из центральных в полемике «течения» Лифшица-Лу-
кача с вульгарным марксизмом образца 1920-х годов, а затем с
марксизмом порозовевшим, принявшим более либеральную окраску
во второй половине 1930-х.
В своей известной статье «О двух типах художников»
(Литературный критик, 1939, № 1) Лукач доказывает, что бюрократом и
технократом в литературе (и не только, но и в жизни тоже) является тот,
кто может выполнять свое дело с отменным мастерством,
артистически, так сказать, но при этом «возводит тень на плетень», ибо
равнодушен к содержанию дела, к объективной истине.
Все это было бы похоже на правду, мог бы, наверное, сказать
Хайдеггер, но для меня истина — это зов бытия, остающийся не-
рационализированным, даже, может быть, неразумным. «Мы это
бытие именуем надежностью. В силу этой надежности крестьянка
приобщена к немотствующему зову земли, в силу этой
надежности она твердо уверена в своем мире» **. «Беспочвенность западного
мышления» *** обнаруживается в том, что оно не слышит зов бытия,
которому следует простая крестьянка. Вы упрекаете ее в том, что
она недостаточно образованна? Но, «однако, возможно, все то,
что мы сейчас и в подобных случаях именуем чувством или
настроением, гораздо разумнее, то есть внятливее, и притом более
открыто бытию, чем всякий разум, который, превратившись меж
тем в ratio, претерпел свое лжеистолкование» ****. В храме мы видим
«мир народа в его историческом свершении», и основу его можно
назвать тем, «что мы именуем землею» *****, подчеркивает Хайдеггер
в 1935 году.
В свою очередь, с этими словами Хайдеггера, возможно,
согласился бы и Лифшиц, не противопоставляя, однако, так резко, как
это делает Хайдеггер, чувство и настроение разуму.
* Хайдеггер М. Парменид. СПб., 2009. С. 189.
'* Он же. Исток художественного творения. С. 67.
* Там же. С. 57.
№ Там же. С. 59.
'* Там же. С. 75.
178
В. Г. Арсланов
Обращаясь к философии Парменида, его учению об истине —
алетейе, Хайдеггер уверяет, что «в нашем историческом
предназначении уже зазвучал голос начала» — и это решающее преимущество
Германии, надо думать, перед странами антифашистской коалиции,
ведь у либералов нет истины, одни только субъективные мнения,
вот почему страны континентальной Европы падали под немецким
напором, как карточные домики.
Но неполноценные с точки зрения немецкого фашизма народы
тоже могут сказать, что услышали зов бытия, и оно влечет их к
отрицанию «немецкого духа», как это провозглашалось, например,
русской религиозной философией (Н. Бердяев, Е. Трубецкой и др.)
во время Первой мировой войны. И кто прав? Решает, конечно,
бытие, но что будет, если полагаться только на наши ощущения,
настроения и предпочтения, отвергнув притязания разума? На этот
вопрос отвечали просветители: правду нам может поведать не
темный инстинкт, разъединяющий людей, а разум, единый для всех,
на основе которого народы мира имеют шанс найти общий интерес
и отстаивать его со знанием дела. Но именно просветительский
идеал разума привел к фашистским лагерям, возражают авторы
«Диалектики Просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймер в 1947 году.
Еще раньше Лифшиц резко критиковал просветителей в
статье 1934 года «О культуре и ее пороках». Правда, он не предлагал
отказаться от разума, а считал необходимым дополнить его. Надо
признать, подчеркивал он на протяжении всей своей жизни, что
народный инстинкт иногда оказывается прав, как это было с
крестьянскими требованиями национализации земли в трех русских
революциях, а образованные марксисты, вроде Плеханова, не правы. Так
думал Ленин, когда противопоставил меньшевистскому марксизму
реакционного по своим убеждениям писателя Л. Толстого, ставшего
голосом русского крестьянства со всей его темнотой — и глубокой
истиной, скрывавшейся как раз в специфической крестьянской
темноте.
Ленин даже написал, что в русском черносотенном мужике —
демократизм самый глубокий, хотя и самый грубый. Отталкиваясь
от этой мысли Ленина, Лифшиц в 1930-е годы в споре с абстрактным
марксизмом выдвинул свою концепцию «великих консерваторов
человечества» от Аристофана до Гёте, Бальзака, Пушкина,
Достоевского. Он утверждал, что в иной темноте больше смысла и света,
чем в самых передовых, абстрактно правильных идеях. Правда,
не темнота и отсталость сами по себе хороши, доказывал Лифшиц.
Но для того, чтобы остаться разумными существами, для того,
чтобы не впасть в темноту, в которую человечество погружают
«инструментальный разум» и технократизм «заглядывающей назад» пере-
О M. Хайдеггере
179
довой европейской цивилизации, необходимо расширить понятие
разума, обратившись к исследованию таких случаев, когда иная
темнота и отсталость имеют преимущество перед просвещенным
мышлением более образованных людей. О какой именно «темноте»
и «отсталости» идет речь, Лифшиц поясняет на простых примерах
в своих лекциях о русской культуре. Вот еще один пример —
реальная «символическая ситуация».
В тот самый год, когда Хайдеггер проповедовал в своих лекциях,
что война, которую ведут немцы, есть зов самого бытия, «земли»,
в СССР впервые на русском языке издается узбекский народный
эпос «Алпамыш», полностью собранный и опубликованный на
языке оригинала в Ташкенте в 1939 году. Перевод его на русский язык
был предпринят в начале 1942 года, переведенные главы появились
в печати уже в 1943 году с предисловием В. М. Жирмунского.
Напомню, это было время решающего момента во всей мировой
войне — Сталинградского сражения. Народный певец Фазыл,
исполнитель «Алпамыша», был неграмотен, но посмотрите на его лицо,
в нем, пожалуй, больше видно человеческого достоинства, чем
в лице рядом с ним на фотографии сидящего академика В. М.
Жирмунского. Никто не будет спорить, В. Жирмунский — выдающийся
филолог и он, конечно, не «хуже» Фазыла, но полуобразованный —
и даже образованный (формально образованный, но лишенный
образа человеческого!) — обыватель бесконечно ниже и того и другого.
Первоначальное знание уводит от истины, и лишь полное приводит
к ней, доказывал еще Ф. Бэкон <...>*.
II. Хайдеггер, «базовый настрой»
и феномен «перехватывания»
<...> В XX веке имела место социалистическая революция, цель
которой — укрепление державности, национального государства,
а не интернационал людей реального труда. Певец этой революции,
давший ей изысканную и философско-углубленную
интерпретацию, заслужил титул самого крупного философа XX века.
Попробуем вникнуть в его тексты по возможности без
предвзятости. И нам откроются удивительные вещи!
Кто мог написать такие, например, слова: «Ложное мнение
идеализма, прежде всего немецкого, что сознание есть более высокая
и преображающая ступень бытия, — но и противоположное
заблуждение, что достаточно оставить "мир сознания" как есть, чтобы
Фрагмент статьи В. Г. Арсланова «Русская идея» Мих. Лифшица
(идеал русской культуры) // Лифшиц М. Очерки русской культуры. М., 2015.
С. 5-9.
180
В. Г. Арсланов
только встроить его назад в "душу"»*? Конечно, не Маркс — стиль
не тот. Но мысль очень похожа на марксистскую. При чём тут
не внешнее сходство. Автор понимает, что истина — не продукт
нашей головы: «Задача — это не бессильная "идея", как мы порой
думаем, не парящий образ, на который мы до сих пор взираем, но то,
что существованию (Dasein) в его основании — задано нести —
подобно тому, как если бы оно находилось в потоке, текущем на нас» *\
<...> Для обретения истины надо бросить себя в бытие, и бросить
так, чтобы «наличная реальность» изменилась, чтобы она стала
отвечающим бытием, чтобы в самом бытии образовался некий
просвет, который и есть истина: «Мы должны вернуться туда, где
человек бросается в сущность бытия. Найти траекторию броска и этот
путь проложить для человека»***.
<...> Раскрытие сущности бытия связано с «сущностной
трансформацией труда и собственности»****, то есть с радикальным,
революционным изменением социальных отношений между трудом
и капиталом.
Чтобы вызвать фундаментальную перестройку бытия, народ
должен ставить перед собой грандиозные задачи, должен обречь себя
на трагическую судьбу, поставить себя даже перед угрозой
уничтожения. <...> Ответы реальности на наши вопрошания могут быть
обескураживающими, они могут вызывать в нас ощущение
неудачи, поражения, но неудача — это высшая форма человеческого
опыта, «в которой мы встречаемся с действующими силами мира
в их беспощадной способности воздействия, учимся ощущать их
игру в расположение» *****. Конечное слово — за бытием, истина есть
истинное бытие, алетейя. <...> Но не надо за истину бытия
принимать повседневность, она — лишь «видимость бытия», хотя и
необходимая******, утверждает Хайдеггер. И опять Лифшиц скорее на
стороне Хайдеггера, чем Лукача: «<...> У Хайдеггера лучше: у него всё
с точки зрения философии быта. Быт — то, как отражается
историческое бытие в жизни отдельных людей <...>»*******.
Подлинно творческая ситуация для человека и человечества
возникает, когда это ситуация безвыходная: «Там, где не ставятся
неразрешимые задачи, а потому не требуется настрой, где все
заканчивается лишь предсказуемым, а дипломированный инженер
* Хайдеггер М. Размышления II-VT (Черные тетради 1931-1938). М., 2016.
С. 65.
** Там же. С. 128.
*** Там же. С. 91.
**** Там же. С. 164.
***** Там же. С. 182.
****** Хайдеггер М. Размышления II—VI (Черные тетради 1931-1938). С. 181.
******* Лифшиц М. Что такое классика? С. 154.
О M. Хайдеггере
181
делается вождём, там можно поставить крест на создании серьезных
возможностей; там все целое становится одним лишь тылом,
которому не хватает фронта и врага»*.
Основа социального бытия — народ. Но народ — не
«товарищество посредственных», не просто «общность» людей, ибо она
может заблуждаться. Он перестает быть народом без «незатихающего
стремления к познанию», самая опасная ситуация для истинной
народности, препятствующая возникновению собственно народа, —
это когда происходит торможение «попытки открытия духовного
Бытия»**. Если масштабы Бытия будут устанавливать «одичавшие
учителя народных школ, безработные техники и
дезориентированные мелкие буржуа», всевозможные подобные им «защитники
"народа"», в таком случае «"народ" загоняется в болото и пустыню,
каких немцы еще никогда не знавали»***. <...> <...> Яркие,
неожиданные метафоры, рожденные Хайдеггером, — не буквальное
повторение Маркса, а нечто такое, что, кажется, не имеет ничего общего
с марксизмом, как, кстати, полагал и сам Хайдеггер. Но подумайте
сами. Не кто иной, как Маркс, совершил коперниковский переворот
в материализме, показав, что человек становится зеркалом мира,
когда вторгается в него, когда преобразует его: «Философы лишь
различным образом объясняли (интерпретировали, в
подлиннике — interpretiert. — В. А.) мир; но дело заключается в том, чтобы
изменить его». Эта идея была понята неомарксизмом, вульгарной
социологией как право человека «ставить землю на дыбы»,
перекраивать реальность в соответствии со своей творческой волей, иначе
говоря, активность сознания для них — в конечном счете творение
мира сознанием, точнее — «деятельностью» как некой третьей
субстанцией, возвышающейся над противоположностью материи и
сознания, снимающей эту базовую противоположность как нечто
предварительное и не истинное. Весь советский «творческий марксизм»
60-70-х годов, опираясь на теорию «деятельности», доказывал, что
деятельность человека, его труд — это некая третья, высшая сфера,
возвышающаяся над противоположностью духа и материи.
Но для Маркса деятельность человека, писал Лифшиц, не
творение субъектом мира, а такое вторжение человека в объективную
реальность, что возбуждает мир, субъективизирует объект, делает его
«говорящим». Деятельность заслуживает своего названия, когда
в результате нее поток реальности устремляется на нас, но не топит
человека в своем хаосе, а открывает ему истины, не способные сами
по себе появиться ни в какой «деятельности», если в ней не откры-
* Хайдеггер М. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938). С. 166.
** Там же. С. 207.
*** Там же. С. 196.
182
В. Г. Арсланов
вается смысл объективного, находящегося вне всякой человеческой
деятельности, бытия. Ответы бытия на деятельность человека
бывают уничтожающими, когда человеческие действия противоречат
внутренним законам бытия, когда в деятельности человека
выражается лишь его субъективность. Напротив, ответы могут быть
откровением бытия человеку, если вопрос поставлен правильно. Конечно,
правильность или неправильность гипотезы, «наброска»
выясняется лишь постфестум, лишь когда человек получает ответ и
правильно на него реагирует. Так что в марксизме речь идет не об
иррациональном «броске» себя в мир, подобном тому как бросает себя
в толпу людей террорист, ответ которому со стороны его бога
представляется хорошо известным — попадание прямой дорогой в рай.
Прежде чем бросать себя в бытие, надо его хорошо изучить, надо
иметь в целом правильное о нем представление, и тогда шансы на
откровения бытия, «марксистского бога» Лифшица, не равны нулю.
Иначе говоря, для броска в мир надо усвоить всю предшествующую
культуру и идти по дороге постижения объективной истины,
открываемой в материальной практике.
Больше того, надо иметь почву под ногами, надо опираться
на народ. Но народ не равен себе, народ бывает антинароден, когда
впадает, например, в «холерный бунт». Обезбоженный народ, как
и обезбоженная, лишенная идеального начала материя, — не
народ и не материя. Хайдеггер прекрасно знает, что христианство
к XX веку делало как раз народ обезбоженным, то есть изменившим
истине <...>. Истина для Хайдеггера — совсем другое, это просвет
самого бытия, и человек заслуживает названия человека, когда
стоит в просвете бытия, возбуждает своей деятельностью просветление
бытия. Вот задача, центральная для Хайдеггера, вот условие
превращения толпы в народ. Разумеется, эта задача совершенно не
волновала ни Гитлера, ни Сталина, оба были «реальными политиками»
бисмарковского типа. Они посмеялись бы, если бы им сказали, что
деятельность будет успешной, если человек услышит «откровение»
бытия, побудит само бытие исповедоваться человеку. Исповедь они
были слушать совсем не против, но самая лучшая исповедь — под
пытками. Наука — это тоже пытка, пытка природы со стороны
«природо-испытателей», естествоиспытателей, ставящих над
природой эксперименты, как врачи ставили их на заключенных в
гитлеровских лагерях.
Диктатору не нужно обращаться к богам, чтобы услышать,
почувствовать истину народа, прильнуть к ней, внимать этой почти
не слышимой истине, как внимают откровению Божию. Народ для
него, как и природа, — глина, послушная пальцам умелого
скульптора, и он лепит из нее все, что захочет. Слова у Сталина могли
О М. Хайдеггере
183
быть другими, даже совсем другими, например о великом
творчестве масс, о том, что надо учиться у крестьянина, а не командовать
им. Но дела этим словам не соответствовали, он гнул народ в
бараний рог точно так же, как и природу, если хватало на такое деяние
силы. Вот почему оба они делали ставку на «мастеров», на всякого
рода ловких жуликов и прощелыг, на демагогов, способных внушать
стаду необходимые идеи и вести это стадо за собой. Вот почему оба
разошлись с теми, кто советовал не мять глину, а прислушиваться
к ней для того, чтобы услышать глас народа — глас Божий.
<...> Хайдеггер говорит, что он всегда прислушивался к советам
знакомого ему 75-летнего крестьянина, но Т. Адорно смеется над
этими байками. Ну где была мудрость этого крестьянина, когда
народ поддерживал Гитлера, а местные крестьяне не хотели
задумываться, почему черными клубами валит дым из печей ближайшего
к ним концентрационного лагеря? Да и как этот крестьянин мог
обладать самостоятельным, углубленным в истину бытия
мышлением, если он со всех сторон был тесним кредиторами, крупным
бизнесом, государством и ни о чем ином не помышлял, кроме
физического выживания? А Лифшиц хотя и говорил, что для него всегда
была несомненна только одна правда, правда Константина Макары-
ча, которому он посылал письма по адресу «на деревню дедушке»,
что все-таки он услышал такого уж необыкновенного от этого
Константина Макарыча?
Хайдеггер мог услышать от своих крестьян, что наука — зло. Ведь
именно ученые выдумывают всякие новшества, а техника всегда
разоряла их. А уж балет, симфония, вся эта городская культура — что
это такое? Послушайте Льва Толстого, почитайте его трактат об
искусстве, и узнаете тогда подлинное мнение крестьянина, отмечал,
между прочим, Ленин в своих статьях о Толстом. Крестьянин
консервативен, он видит спасение в сохранении нравов доброго
старого времени. Конечно, Хайдеггер и без крестьянина знал, что наука
не полноценна, но совпадение мнений по важнейшему вопросу было
для него, конечно, важным. Он возмущался прагматизмом
фашистских вождей, говоривших, будто они уважают науку, а для Хайдег-
гера война с наукой составляла дело жизни. Конечно, он не отрицал
ее практической полезности, но считал необходимым свести ее к слу-
уканке... не богословия, а своей философии истины как алетейи.
Тут один из вопросов, по которым позиции Лифшица и Хайдег-
гера радикально расходятся. Лифшиц признаёт ограниченность
дезантропологического подхода науки, но видит, как и Лукач,
в естественнонаучном отвлечении от присутствия человека в мире
не только слабые, но и сильные стороны. Сильная сторона науки —
ее ориентация на объективную истину, критерием для которой слу-
184
В. Г. Арсланов
жат данные опыта, научного эксперимента, всей материальной
человеческой практики. Для Хайдеггера истина-алетейя открывается
не науке и не материальной практике человечества, а философии,
разумеется — его собственной философии, а не, скажем,
марксистской. «Творение действительности » для него выше подчинения
законам науки, которые не истинны в высшем смысле слова. Он «против
уравнивания и неограниченного использования принципа
вождизма**, против «безвкусицы и лживости», свойственных как
некоторым университетским деятелям, так и темной массе. «Так к власти
приходит самое настоящее мещанство, препятствуя возникновению
любого творческого, ведущего вперёд базового настроя...»**
«Чем изначальнее и крепче символическая сила Движения и его
работа, тем выше потребность в знании. Но оно <заключается>
не в его буквалистской последовательности и рассчитанности, —
а в силе основного настроя, <исходящей из> превосходства над
миром»***. Знание из настроя, исходящего из превосходства над миром?
Да, ведь этот «базовый настрой» и есть продукт его философии,
открытости бытия. Что же это за истина-ал етейя, что же это за
«открытость бытия», которые исходят из превосходства над миром?
Принцип всякого научного знания во все времена, в том числе и знания
философского, — покорить природу можно, лишь подчиняясь ей, её
объективным законам. Но законы науки для Хайдеггера не
объективны, они лишь общезначимы. «Настраивающая и системосозида-
ющая сила наброска является решающей — и это не поддается <точ-
ному> расчету. Однако настрой и образ должны отвечать скрытой
созидательной воле народа» ****. И созидательная воля народа,
очевидно, должна помочь философии Хайдеггера вести «принципиальную
полемику с великой духовно-исторической традицией, которая еще
и сегодня — благодаря мирам христианства, социализма (в форме
коммунизма) и новоевропейской просвещенческой науки —
является действительностью******. Такой действительности больше
не должно быть, вот почему необходимо «творение
действительности» вместе с народом, охваченным «базовым настроем». А настрой
народу дает философия Хайдеггера, открывающая просвет и
истину бытия, не имеющих ничего общего с общезначимыми истинами
просвещенческой науки, суть которой — принцип соответствия
нашего знания объективной реальности. Вот этот принцип
соответствия — давний противник Хайдеггера, с которым он ведет борьбу
* Хайдеггер М. Размышления И-VI (Черные тетради 1931-1938). С. 177.
** Там же. С. 166.
*** Там же. С. 152.
**** Там же.
— Там же. С. 148.
О М. Хайдеггере
185
не на жизнь, а насмерть, опровергая попутно Декарта и Гегеля, увы,
покоренных этим жалким принципом.
Действительно, просвещенческая наука проверяет истинность
«броска», вызова и вопроса миру со стороны человека посредством
анализа характера ответа, полученного в результате наброска и
броска в бытие, на основании соответствия человеческих гипотез —
объективным законам бытия. Вот предмет постоянных насмешек
и постоянной борьбы Хайдеггера с обывательщиной всякого рода,
в том числе и научной обывательщиной. Исправить ее нельзя —
и не надо! «Посредственность должна быть — но только не следует
пытаться улучшить её; она достаточно наказана; и суровее всего
тем, что она не подозревает о своей ничтожности и, повинуясь
собственному закону, не имеет права об этом знать»*.
Единственная настоящая истина — «базовый настрой»,
который и есть истина, открывшаяся философии Хайдеггера, она, эта
истина, по сути дела, — то же самое, что настрой немецкого
народа, воодушевленного национал-социалистическим «творением
действительности». Сбылась мечта философа (да и всей философии,
очевидно, тоже, если она заслуживала называться философией,
любовью к мудрости): хайдеггеровская истина, отрицающая всяческое
вольнодумство, в особенности вольнодумство просветителей с их
культом научности и объективной истины, поддержана германским
крестьянством, да и германским рабочим классом тоже (когда его
обезглавили, бросив коммунистических вожаков в концлагеря
вместе с гомосексуалистами и евреями). Что еще нужно Хайдеггеру для
торжества его философии? Пожалуй, ничего больше не нужно.
<...> «По плодам их узнаете их». Нет этого принципа у
Хайдеггера, изгнал он его из своей философии. <...> Хайдеггер
формулирует цель так: «Приход народа к самому себе <на основе> его
укоренённости и взятия на себя его задачи государством»** —
разумеется, не русской державой, а немецким
национал-социалистическим государством. Итак, и у Хайдеггера, и у Леонова все
заканчивается переходом активной, формирующей роли к государству,
но у первого — к расистскому германскому государству, а у
Леонова — к противостоящей гниющему Западу традиционной русской
монархической державности, опирающейся на безмолвное, но
готовое пожертвовать своими жизнями ради «державы» крестьянство.
И какой оказалась бы история XX века, если бы, кроме столкновения
двух национал-социалистических режимов, ничего иного не было
дано? Скорее всего, и столкновения их тоже не было бы, поскольку
фашизм вырос как подпитываемый крупным капиталом бунт оди-
* Там же. С. 153.
** Там же. С. 154.
186
В. Г. Арсланов
чавших низов против «еврейского» капитала, но действительной его
мишенью был русский большевизм. Разве Гитлер воевал с
родственными немецкому национал-социализму режимами — Италией
Муссолини, Испанией Франко? Но история распорядилась очень хитро,
и, думаю, автор «Mein Kampf» не подозревал, когда диктовал эту
книгу в 20-е годы XX века, что он вынужден будет воевать как раз
с Англией, которую он призывал к совместному крестовому походу
против Советской России.
Хайдеггер удерживает свое бытие в глубокой тайне, что оно
из себя представляет, понять трудно, интерпретаторы философа
дают самые противоречивые толкования: то ли оно сводится к
«присутствию» человека в мире, то ли сам человек — всего лишь
просвет какого-то бытия, о котором ничего толком сказать нельзя, даже
того, существует ли и существовало ли оно вне человека и до
человека. <...> немецкий профессор, поглощенный дрязгами с коллегами
и сведением с ними счетов не совсем честным путем*, — заключил
стратегический союз с одичалым лавочником и крупным
промышленником, которые любой ценой хотели расправиться со своими
конкурентами, потому что западные «демократии» сами всю эту
кашу заварили, когда в 1919 году самым беззастенчивым и
циничным образом ограбили побежденную Германию. Секрет «бытия»
Хайдеггера — это мир, где сомкнулись два полюса, столь,
казалось бы, далекие друг от друга: мыслителя, погруженного всецело
в тексты досократиков и внимающего музыке Баха, — и одичалого
хулигана-погромщика. Но этого не может быть! — с возмущением
воскликнула вся наша либеральная интеллигенция, когда Лифшиц
предостерегал ее от опасности повторения такого союза. Это
клевета! Увы, она столь громко, без каких-либо сомнений в своей правоте,
возмущалась Лифшицем именно потому, что уже заключила
негласный союз с российским «чумазым», который, придя к власти,
обошелся с нею невежливо. Как, впрочем, германский «чумазый» —
с германскими профессорами тоже. Но не будем забегать вперёд,
вернемся к Хайдеггеру и его «бытию».
Сведение реального мира к частному бытию обывателя,
образованного, полуобразованного или вообще необразованного, — таково
общее устремление современной философии, что, в частности,
констатирует К. Мейясу, представитель постхайдеггеровской мысли:
«Победная критика идеологий превратилась в возрождение
аргумента слепой веры»**. Современный философ, созерцая перед собой
сгустки смысла, накопленные предшествующей историей и куль-
* Сноска в настоящем издании опущена (сост.).
Мейясу К. После конечности. Эссе о необходимости контингентности.
Екатеринбург; Москва, 2015. С. 68.
О М. Хайдеггере
187
турой, превращает их в мусор, в бессмыслицу, в контингентность.
М. Лифшиц, напротив, даже в том, что кажется мусором и
бессмыслицей, находит зерна, заключающие в себе безбрежный океан
смысла (яркий, но не единственный тому пример — его работа о древней
мифологии, об этом, в глазах многих, «доисторическом бреде»).
Разумеется, не во всем есть смысл, и чтобы его найти, надо уметь
отличать смысл от бессмыслицы, от контингентности.
Но именно от этой задачи и отказалась современная философия*.
III. Обходный маневр Хайдеггера.
Попытка выхода из порочного круга сознания
<...> Хайдеггер понимает, что отказ от истины как
соответствия наших представлений объективному миру ведет к нелепым
последствиям. Он предпринимает обходный маневр, цель
которого — как бы признать известную правоту и логики, и
необходимости соответствия нашего сознания реальности, но в конечном счете
и устранить и логику, и необходимость следования объективной
истине, истине самого объекта. Вот первое его утверждение: логика,
конечно, основана на различении истинных суждений от
неистинных. Но ведь истинное должно быть до всякой логики, истинное
и неистинное в логике только сказывается, оформляется,
следовательно, заключает Хайдеггер, истина не в логике, даже самой
правильной: «Наоборот, надо вернуться туда, откуда говорит каждое
высказывание и его связка, а говорят они из самого уже раскрытого
сущего»**. Неплохо сказано! В самом деле, вот перед нами логично
мыслящий человек, но если в его тоне мы чувствуем неискренность,
то, скорее всего, она свидетельствует, что за душой этого человека
нет правды, что его отношение к миру ложно, несмотря на всю его
безукоризненную логику. Всякому нашему рассуждению
предшествует эта правда в целом, и этой целостной правдой человек либо
обладает, либо нет. Любая логика дополняется этим «миром в
целом», а он или содержится — или не содержится во всем существе
человека. Но откуда же, согласно Хайдеггеру, берется «дополнение»
к логически правильному мышлению, то дополнение, суть
которого — «мир в целом»? Человек, в отличие от животного, рассуждает
философ, существо «мирообразующее», «мир в целом» возникает
в результате «фундаментального события», выбрасывающего нас
из повседневности в «вот-бытие» — некое подобие «здесь и сейчас»
Фрагменты книги В. Г. Арсланова «"Третий путь" Андрея Платонова.
Поэтика. Философия. Миф». СПб., 2019. С. 329-340.
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики.
Мир—конечность—одиночество. СПб., 2013. С. 513.
188
В. Г, Арсланов
классического искусства. В фундаментальном событии возникает
набросок будущего мира, и вся философия вырастает в результате
превращения этого наброска в целостную картину. Пережив
фундаментальное событие, мы делаем «набросок» нашего возможного
будущего: «Набросок как первоструктура названного события есть
основоструктура мирообразования. В соответствии с этим теперь
мы говорим не только терминологически строже, но и в ясной и
радикальной проблематике: набросок есть набросок мира. Мир
правит в давании правления и для давания правления характера
набрасывания**.
В каком же смысле «набросок» есть первоструктура
фундаментального события? Набросок, поясняет философ, «это вовсе не
последовательность действий, совсем не процесс, который можно
составить из отдельных фаз: под "наброском" подразумевается
единство действия, но действия исконного. Самобытнейшее в этом
действовании и событии то — ив языке это находит свое
выражение в префиксе "ent" (der Ent-wurf), — что в набрасывании как
выбрасывании это событие наброска-выброса каким-то образом
уносит набрасывающе-выбрасывающее прочь от него. Но хотя оно
и уносит в наброшенно-выбрашенное, оно, это событие, не дает там
как бы отложиться и пропасть: напротив, в этом у несении прочь
(das Fortgenommenwerden) от наброска-выброса как раз происходит
своеобразный поворот выбрасывающего к нему самому. Но почему
набросок-выброс представляет собой такой уносящий прочь
поворот назад? Почему это не отнесение к чему-то — в смысле
животной захваченности объемлющим отнятием? Почему это и не поворот
в смысле рефлексии? Потому, что это унесение-прочь
выбрасывающего набрасывания есть высвобождение в возможное, а именно —
если хорошо посмотреть — в возможное в его возможном делании
возможным, т. е. в возможное действительное»**.
Яснее, конечно, не скажешь, но попытаемся все же разобраться
в том, что ученик Хайдеггера Х-Г. Гадамер называет движением «в
мире разбитой вдребезги руды языка» и «мучительным
лепетанием»*** своего кумира, поскольку смысл какой-то в этом лепетании
есть. Нами правит мир, вроде бы утверждает Хайдеггер, он,
кажется, против субъективизма и солипсизма. Когда мир открывается
человеку? Не тогда, когда он занят повседневными делами, игрой
на бирже например. Мир открывается в фундаментальном
событии. Это событие порождает в нашей душе набросок возможных бу-
* Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. С. 545.
" Там же. С. 546.
Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. Минск,
2007. С. 34.
О M. Хайдеггере
189
дущих поступков, мыслей и так далее. Но этот набросок — не план
будущей деятельности, а нечто целостное. Он одновременно и
выбрасывает человека в мир, заставляет его действовать
определенным образом, — и в то же время возвращает нас к миру, есть
«поворот выбрасывающего к нему самому». Так нами правит мир,
и вместе с тем мы свободны в своих действиях, — причем свободны
мы потому, вероятно (тут Хайдеггер не вполне ясен), что тот мир,
который правит нами, есть не что иное, как сам человек: «Если
эта исходная раскрытость сущего оказывается исходнее "логоса",
а "логос" — это отношение к сущему со стороны человека, тогда
где же находится эта исходная открытость? И все же она не вне
человека, а как раз — он сам, взятый в более глубоком смысле: он сам
в своем существе» *.
Перед нами центральный вопрос философии: где существует
истина, в человеке или вне него? Конечно, в человеке, в его голове,
и в то же время Ленин категорически утверждает: истина
существует независимо от человека и человечества, она объективна. А
Хайдеггер на этот же вопрос отвечает вроде бы так же, как и Ленин, он
говорит: и все же истина, алетейя не вне человека, а он сам. «И все
же» — это формула речи, когда мы чем-то дополняем уже известное
и несомненное. Но вот чем мы дополняем, в чем существо нашего
Дополнения? Дополнение по формуле «и все же» может быть
совершенно различным по смыслу. Первый смысл выражения «и все же»
в нашем случае таков: истина существует вне человека, она
объективна, и все же не только вне человека, но и в человеке тоже. Так
или примерно так говорят Ленин и Лифшиц. Второе истолкование
выражения «и все же» прямо противоположное: истина, как
говорят обычно, существует вне человека как свойство самого бытия, его
открытость. И все же это не так, она — лишь в человеке, она —
свойство только человека, а не мира. <...> Хайдеггер <...> предпочитает
быть принципиально неясным в этом главном философском
вопросе, он предпочитает двусмысленные формулировки. Но, похоже, без
этой принципиальной неясности не было бы «фундаментальной
онтологии» Хайдеггера, как и всей его философии.
Что собой представляет «фундаментальное событие»,
пробуждающее в человеке набросок его будущего, его судьбы, всего его мира?
Беспредельная, безысходная скука, как одно из экзистенциальных
переживаний, благодаря которому сущее перед нами
раскрывается, оно из абстракции становится реальным, конкретным бытием,
«вот-бытием». Эту идею Хайдеггер обосновывает на сотнях страниц
книги «Основные понятия метафизики». Вот, например, как назы-
* Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. С. 513.
190
В. Г. Арсланов
вается пятая глава этой книги: «Вопрос об определенной глубокой
скуке как фундаментальном настроении нашего вот-бытия».
Итак, Хайдеггер утверждает, что верное понимание истины как
просвета бытия, как истинного бытия было у досократиков, а затем
оно было заменено банальным, пошлым и совершенно ложным
соответствием наших мнений вещам. Лифшиц не так категоричен. Он
находит идею «априорного факта» и у Джордано Бруно, и у
Фрэнсиса Бэкона. И как не вспомнить тут о Лессинге с его «плодотворным
моментом»?
Но вернемся к Хайдеггеру. Как же раскрывается истина бытия
и в каком фундаментальном событии? В беспросветной
метафизической скуке бытия. Она достигает такого момента, когда нас внезапно
выбрасывает из глубочайшей скуки в просветление. Чем
мотивированы такие моменты? Чем обусловлены? Хайдеггер на этот
вопрос не отвечает. Его можно понять так, что ничем не обусловлены,
кроме беспросветной глубины нашей скуки, и глубина этой скуки
причина того, что бытие вдруг прорывается, разрывает скуку и
начинает говорить в нас. Однако давно известно: по плодам их
узнаете их. Кого-то из скуки бросило в террористическую секту, может
быть в крайне правую, а может быть и в крайне левую. И у
первого, и у второго это вроде бы немотивированный бросок,
родившийся из беспросветной тоски бытия. Но разве за этой тоской и скукой
не стоит что-то реальное? Разве действия террориста не
предопределены в значительной мере его предшествующей жизнью, той, что
привела его к тоске и скуке? <...> Откуда нам знать, что нас осенила
именно истина, а не заблуждение? Если объективный мир
террористом воспринимается как всего лишь «дополнение» к его
фундаментальному состоянию и настроению, если экзистенция первична
и объективной логике мира она подчиняться не обязана, то это одно.
Тогда дальнейшее философствование сводится к рефлексии по
поводу моих состояний, к культивированию субъективных настроений
и иррациональному «наброску-выбросу» из них. Если нет суда
объективной истины, то левый террорист не будет иметь никаких
преимуществ перед правым, европейский — перед азиатским и так
далее, каждый будет настаивать на правде своего экзистенциала. Ведь
у каждого он свой, изначальный и «мирообразующий».
Совсем другое дело, если человек является дополнением к миру,
а не «мир» — дополнением к его основополагающим и первичным
настроениям. В этом случае критерий истинности или ложности
нашего «вот-бытия» — в объективном мире, а он сам, человек — всего
лишь зеркало, нечто вторичное и не подлинное, тень. Из тени,
эпифеномена человек превращается в истину и обретает статус
реальности при особых условиях: когда в нем верно отражается и бушует
О М. Хайдеггере
191
жизнь целого, когда он — микрокосм, весь бесконечный мир,
актуализированный в конечном. У такого человека тоже может
происходить фундаментальное событие, больше того, именно у человека,
который нашел верную дорогу к реальности, и возникают такие
моменты истины, просветления, фундаментальные события. Хайдег-
гер же, по сути, стремится взять назад демокритовское определение
человека как микрокосма, отражения бесконечного мира в
конечном человеке, заметим, доказывая, что сущность человека —
конечность и одиночество <...>*.
€^
* Фрагмент книги В. Г. Арсланова «Сущее и Ничто. Постмодернизм
и "Tertium datur" русской культуры XX века». СПб., 2015. С. 464-468.
А. Э. САВИН
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм
Перед тем как приступить к разработке темы — важное
предварительное замечание. Автор настоящих строк не считает, что
политические или политизированные оценки философии и философов
сами по себе, уже в силу их политически ангажированного
характера, являются поверхностными. Он призывает лишь избегать
суждения о философии на основе расхожих политических оценок, оценок,
исходящих из политических самопонятностей, автоматических
различений и отождествлений, т. е. не только политических, но и
философских безмысленностей. Применительно к разрабатываемой теме
то обстоятельство, что мы имеем дело, с одной стороны, с философией
немецкого нациста и антисемита Хайдеггера, а с другой — с
философией русских коммунистов, многие из которых добровольцами пошли
на фронт в первые дни нападения фашистской Германии на Советский
Союз, и левых еврейских интеллектуалов, участвовавших в
идеологической борьбе с фашизмом еще с начала 1930-х гг., должно стать
не предпосылкой ответа на вопрос об их философиях, а, напротив,
индуцировать вопрос о расхождениях в трактовке центральных
философских тем, поскольку философия, являясь прямым выражением
жизни в целом, раскрывает и способы первичной ориентации в ней
философствующего, в т. ч. и ориентации политической. Иначе говоря,
не политика, а именно философия выдает человека с головой — в ней
он феноменологизируется, т. е. сам себя из самого себя являет и
манифестирует характер своего существования. Это касается всех людей —
автор разделяет позицию М. К. Мамардашвили о существовании
«естественной философии», — но лишь философы артикулируют
собственную проявленность, а потому и историко-философское
осмысление их позиций становится экспликацией первичных ориентации.
Маркс и марксизм в хайдеггеровской оценке
В интервью Хайдеггера 1969 г. в журнале «Экспресс» имеется
фрагмент следующего содержания.
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм
193
♦Корреспондент: Возможна ли связь Маркса и Хайдеггера?
Хайдеггер: На почве моей проблематики, думаю, нет. Вопрос
о Бытии — не вопрос Маркса. Это не должно означать, что
творчество Маркса менее важно, чем творчество Гегеля, или что оно чуждо
метафизике. Бытие мыслится Марксом как Природа, которой нужно
овладеть и управлять. Маркс остается самым крупным гегельянцем.
Корреспондент: Вы все еще читаете Маркса?
Хайдеггер: Я недавно перечитывал его юношеские
произведения. Впрочем, я следил за работами моего ученика Ландсхута,
который их опубликовал в 1932 году. У меня было намерение посвятить
прошлым летом этим текстам факультативный семинар с
преподавателями из стран народной демократии, которые меня просили
об этом»*.
Как разъяснение к этому фрагменту интервью с Фредериком То-
варницки можно рассматривать известное рассуждение о Марксе
из хайдеггеровского «Письма о гуманизме».
«Бездомность становится судьбой мира. Надо поэтому мыслить
это событие бытийно-исторически. То, что Маркс в сущностном и
весомом смысле опознал вслед за Гегелем как отчуждение человека,
уходит своими корнями в бездомность новоевропейского человека.
Последняя вызвана судьбой бытия в образе метафизики,
упрочена этой последней и одновременно ею же в качестве бездомности
скрыта. Поскольку Маркс, осмысливая отчуждение, проникает
в сущностное измерение истории, постольку марксистский взгляд
на историю превосходит другие исторические теории. Поскольку,
наоборот, ни Гуссерль, ни, насколько я пока вижу, Сартр не
признают существенности исторического аспекта в бытии, постольку
ни феноменология, ни экзистенциализм не достигают того
измерения, внутри которого впервые оказывается возможным
продуктивный диалог с марксизмом.
Для этого, конечно, нужно еще сначала, чтобы люди избавились
от наивных представлений о материализме и от дешевых
опровержений, якобы призванных его сразить. Существо материализма
заключается не в утверждении, что всё есть материя, но в
метафизическом определении, в согласии с которым все сущее предстает
как материал труда. Новоевропейско-метафизическое существо
труда вчерне продумано в гегелевской "Феноменологии духа" как
самоорганизующий процесс всеохватывающего изготовления, т. е.
опредмечивания действительности человеком, который
почувствовал в себе субъекта. Существо материализма кроется в существе
техники, о которой хотя и много пишут, но мало думают. Техника есть
Интервью М. Хайдеггера в журнале «Экспресс» — URL: http://www.
heidegger. ru/tovarnitski.php (дата обращения: 10.08.2018).
194
А. Э. Савин
в своем существе бытийно-историческая судьба покоящейся в
забвении истины бытия. Она не только по своему названию восходит
к «техне» греков, но и в истории своего развертывания происходит
из «техне» как определенного способа "истинствования", à^T|9ei3eiv,
т. е. раскрытия сущего. В качестве определенного образа истины
техника коренится в истории метафизики. Последняя сама есть
некая отличительная и до сих пор единственно обозримая фаза
истории бытия. Можно занимать разные позиции перед лицом
коммунистических учений и их обоснования; бытийно-исторически ясно, что
в коммунизме дает о себе знать стихийный опыт чего-то такого, что
принадлежит истории мира. Кто рассматривает "коммунизм"
только как "партию" или "мировоззрение", тот так же не додумывает,
как люди, видящие за словом "американизм" только некий
специфический жизненный стиль, да еще и принижающие его»*.
Таким образом, Маркс для Хайдеггера является открывающе-со-
крывающим мыслителем, поскольку, эксплицируя феномен
отчуждения и тем самым вплотную подходя к истории метафизики, т. е.
к истории забвения бытия, он вместе с тем сам сокрывает ее
существо, сводя бытие к природе, первичное отношение человека к миру,
к труду как производству, а отношения людей — к
производственным отношениям и классовой борьбе. Более того, марксистская
перспектива труда, по Хайдеггеру, приводит даже к низведению
природы до предмета технической обработки.
В этой связи примечателен и совсем неслучаен выпад Хайдеггера
против русского коммунизма в его рассуждении о Карнапе во
«Введении в метафизику», приведенном и осмысливаемом А. Б. Пат-
кулем. Паткуль пишет следующее: «Хайдеггеровская деструкция
логики призвана показать, что логическое исчисление точно так же
является результатом опредмечивания сущего в только наличное,
а быть может, она является еще большим нивелированием
бытийного понимания, поскольку даже производное понимание бытия
в качестве связки апофантического суждения здесь не принимается
во внимание. Поэтому для философа между традиционным и новым
типом логики нет принципиального различия, столь часто
акцентируемого сторонниками логического исчисления. В претензии же
нового исчисления на то, чтобы быть идеалом научности, Хайдеггер,
напротив, видит псевдонаучность, укорененную в полном забвении
того, что такое бытие как таковое. Интересно, что в одном из более
поздних своих текстов — в рукописных редакциях "Введения в
метафизику" — он, фактически реагируя на критику Карнапа, бросает
упрек, похожий на упреки, часто адресованные ему самому, — упрек
* Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. URL: http://www.bibikhin.ru/pismo_o_
gumanizme (дата обращения: 10.08.2018).
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм
195
в подчиненности такого рода мышления идеологии. Он
высказывается следующим образом: "Еще дальше в том направлении, которое
в определенном смысле было намечено со времен Аристотеля и
согласно которому "бытие" определялось из "есть" предложения и,
таким образом, окончательно уничтожалось, идет философское
движение, сконцентрированное вокруг журнала "Erkenntnis". Здесь
полагают, что прежняя логика должна быть, прежде всего, строго
научно обоснована и выстроена при помощи математики и
математического исчисления, чтобы затем создать "логически корректный"
язык, в котором положения метафизики, будучи лишь видимостью
предложений, станут невозможны. Так, одна статья в этом
журнале (II, 1931, с. 219 след.) называется "Преодоление метафизики
логическим анализом языка". В ней происходит крайнее уплощение
и выхолащивание традиционной теории суждения под видом
математической научности. Мнимое "философское" направление
сегодняшнего математико-физикалистского позитивизма намеревается
обеспечить обоснование этой позиции. Не случайно, что этот вид
"философии" готов обеспечить и основания современной физики,
в которой разрушены все связи с природой. Не случайно и то, что
этот вид "философии" внутренне и внешне связан с русским
коммунизмом. Не случайно далее, что этот вид мышления празднует свои
триумфы в Америке" (Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.:
Издательство ВРФШ, 1997. С. 291-292). Но на деле, по Хайдеггеру,
онтологически в такой логике нет ничего, что не было бы заложено
в том приведении бытия к наличию, на котором онтологически
основана уже логика Стагирита» *.
А. Б. Паткуль в этом фрагменте демонстрирует, что у Хайдеггера
раскрытие оснований и логики аналитической философии связано
с раскрытием логики и оснований русского коммунизма, и
показывает тем самым идеологизированность аналитической философии.
Для нас, напротив, важно то, что по Хайдеггеру, здесь бытие,
в т. ч. сведенное к сущему и узко понятое как природа, даже в этой
форме далее искажается ее трактовкой в перспективе
математической физики, т. е. исчисляющей рациональности и логики
фабрикации (Machenschaft), каковой русские коммунисты разрушают
философски здоровую составляющую Марксовой критики отчуждения
и тем самым превращают марксизм и базирующуюся на нем
практику в еще более отчужденный феномен, нежели тот способ
новоевропейского существования, от которого они отталкивались.
Философский фундамент русских коммунистов, исходя из приведенного
* Паткуль А. Б. Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина
Хайдеггера // Историко-философский ежегодник — 2014. М.: Канон +,
РООИ «Реабилитация», 2014. С. 131-155.
196
А. Э. Савин
фрагмента Хайдеггера, — объективизм, доходящий до физикализ-
ма натурализм и инженерный, подчиняющийся логике исчисления
и производства конструктивизм. Если бы Хайдеггер знал
выдвинутый Сталиным на встрече с писателями 26 октября 1932 г. в доме
Максима Горького на Малой Никитской тезис — «Все производства
страны связаны с вашим производством. Человек
перерабатывается в самой жизни. Но и вы помогите переделке его души. Это
важное производство — души людей. И вы — инженеры человеческих
душ», — он счел бы его выражением крайней формы забвения
бытия, обнажением характерной для него тенденции фабрикации
бытия самости (Machenschaft des Selbstseins) и чистым проявлением
русского коммунизма.
Резюмируем хайдеггеровский подход к марксизму. Маркс не
является для Хайдеггера философски достойным собеседником,
поскольку у первого нет постановки вопроса о бытии и его мысль
развертывается в пространстве забвения бытия и истории
европейской метафизики. Вместе с тем Маркс и марксизм все же имеют
позитивную составляющую и достойны философского внимания как
субъект новоевропейского мышления, поскольку они раскрывают
определяющее судьбу мира отчуждение и тем самым вносят вклад
в экспликацию историчности, истории мира.
Советский марксизм (русский коммунизм), напротив,
является для Хайдеггера только негативным феноменом, поскольку он
не субъект, а чистый объект истории метафизики. Русские
коммунисты — если можно так выразиться — метафизические автоматы,
отличительная особенность которых состоит лишь в том, что они
довели забвение бытия и историю метафизики — или, скорее, сама
история метафизики довела их — до крайней формы, открыв
пространство для безграничной фабрикации и совершив крайние акты
насилия над природой, обществом и самостью.
Философия Хайдеггера в перспективе советского марксизма
Чтобы выявить основные черты трактовки советским
марксизмом хайдеггеровской критики диалектического материализма,
необходимо, на мой взгляд, прочертить основные линии расхождения
между этими направлениями мысли. Мне представляется, что
таковыми выступают различия в понимании трех философских тем —
бытия, диалектики и практики (в т. ч. политической). В
дальнейшем я попытаюсь эскизно очертить эти различия, ограничившись,
однако, первыми двумя темами.
Я полагаю, что Хайдеггер абсолютно превратно понимает
существо материализма, сводя его к пониманию сущего как материала
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм
197
труда (см. приведенную выше цитату из хайдеггеровского
«Введения в метафизику»). Напротив, базовый тезис материализма — это
положение о нечеловечности природы, каковая и выступает основой
всякого бытия. В основополагающей для советского марксизма
работе — «Материализме и эмпириокритицизме» Ленина,
написанной еще в 1909 г., прямо утверждается, что тезис о нечеловечности
природы (Unmenschlichkeit der Natur), о ее независимом от человека
существовании является основной предпосылкой всего, а не только
диалектического, материализма*.
Попытки сведения бытия, и в особенности природного бытия,
к материалу труда были пресечены в корне в советском марксизме
еще в начале развития деборинской школы ее крупнейшим
представителем Я. Э. Стэном в рецензии 1924 г. на книгу С. Руднянского
♦Беседы по философии материализма» (Харьков, 1924): «Руднян-
ский говорит, что действительность создается человеческим трудом,
что действительность представляется совсем иначе нам в странах
промышленных в наше время, чем сто лет назад, когда не знали еще
крупной промышленности и не умели надлежащим образом
эксплуатировать силы природы... Если диалектический материализм
требует революционно-практического отношения к миру и данную
картину природы считает возникшей на основе исторической
ступени развития производительных сил человеческого общества, то он
вовсе не отменяет основного элементарного положения всякой
формы материализма, что внешняя природа, объект, существует
независимо от человеческого сознания. Руднянский, сосредоточив свое
внимание на определении действительности как результата
общественного труда, забывает, что в тот момент, когда природа человеку
в процессе общественного труда обнаруживает свои свойства, она
вовсе не создается и не возникает, а для того, чтобы обнаружиться
в процессе труда, она должна уже существовать независимо от
человеческого труда и независимо от человеческого сознания. Если
понятие действительности, существующее на данной ступени
развития, полностью хоронится на следующей ступени, как это думает
Руднянский, то мы не имеем объективного познания»**.
Если в приведенной трактовке отношения бытия, природы и
сознания у Деборина и деборинцев проявлялись колебания (Я. Э. Стэн,
высказавший приведенную выше позицию с полной ясностью, здесь
стоит особняком), то представители ортодоксальной линии
диалектического материализма быстро исправляли дело.
Ильин В. (Ленин В. И.)- Материализм и эмпириокритицизм. М.: Звено,
1909. С.85-86.
** Стэн Я. Э. Статьи и выступления по философии / Сост. С. Н. Корсаков. М.:
Энциклопедист-Максимум, 2015. С. 16-19.
198
А. Э. Савин
И уж тем более диалектико-материалистическое понимание
природы не сводится к натурализму (даже наиболее развитого,
фейербахианского типа), а природа не сводится диалектическим
материализмом к ее субституту, сформированному математическим
естествознанием. В своей критике деборинского направления и его
трактовки отношения философии Фейербаха и диалектического
материализма П. Е. Вышинский прямо заявляет: «Если т. Семковский
хочет сказать, что как философия Маркса, так и философия
Фейербаха есть материализм, то это верно и понятно. Но если он хочет
сказать, что в основе диалектического материализма лежит фейер-
баховский, т. е. абстрактный материализм, то это неверно»*.
Отмечая несомненную материалистичность философии
Фейербаха, П. Е. Вышинский продолжает: «Коренным недостатком
философии Фейербаха является натурализм в особой форме —
антропологизма. Формы сознания, идеологию, религию и философию
Фейербах выводит из потребностей абстрактного "человека".
Проблема субъекта-объекта была поставлена и разрешена Фейербахом
вне общественно-исторической практики, следовательно,
абстрактно-натуралистически, т. е. как проблема единства человеческого
организма со средой через потребности. Субъект и объект берутся в их
естественном, т. е. натуральном, биологическом, единстве:
антропологизм Фейербаха лишен историзма. Все это, однако, не помешало
Деборину утверждать, что "принципы Фейербаха насквозь
диалектичны". Недостаточно критически относился к абстрактному
натурализму Фейербаха и Плеханов, что объясняется тем, что самим
Плехановым (и Чернышевским) единство бытия и мышления в
значительной мере понималось как единство человеческого организма
и как единство психического и физического в организме»**.
Это, если продолжить мысль П. Е. Вышинского, ведет к
махизму и эмпириокритицизму как разновидности идеализма, к некоему
виталистскому юмизму, поскольку логическое развитие этого хода
мысли — признание первичности жизни (органического) как
источника мира, с одной стороны, и человеческого «я» — с другой. То
есть если бы диалектический материализм был натурализмом, то,
с учетом импликаций натурализма, непонятно, против кого Ленин
писал свою книгу. И очевидно, что если, согласно совершенно
справедливым рассуждениям П. Е. Вышинского о диалектическом
материализме, единство природы и духа не природное (биологическое),
то как может естествознание, тем более математическое
естествознание, быть средством его изучения и преобразования — позиция,
Вышинский П. Л. Фейербах и диалектический материализм. М.: Партиз-
дат, 1932. С. 16.
** Там же. С. 26-27.
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм
199
которую приписывает русским коммунистам Хайдеггер. Все
рассуждение П. Е. Вышинского есть демонстрация запрета в
материалистической диалектике на натуралистическую трактовку бытия
и единства бытия и сознания, на замещение природы научным
конструктом и на использование естествознания для изучения
философски понятых природы и духа. То есть и тут критика Хайдеггером
диалектического материализма бьет мимо цели.
Хочу отметить, что сам Хайдеггер открыто проявил свои
политические позиции именно в связи с переходом от трактовки бытия как
бытия сущего к трактовке его в качестве бытия как такового —
переходом от Sein к Seyn — в 1930-е гг. Крупнейший немецкий историк
феноменологии Клаус Хельд в своей последней монографии
отмечает в связи с хайдеггеровским антисемитизмом и нацизмом
следующее: «Вся до сих пор существовавшая философия понимала под
"бытием (Sein)" "бытие сущего". Когда мы говорим о бытии сущего,
мы смотрим на сущее; т. к. под "бытием сущего" мы подразумеваем
то обстоятельство, что сущее есть и является нам. Но это означает,
что мы, если мы занимаемся "бытием сущего", вопрошаем вовсе
не об оборотной стороне проявления (Erscheinen) сущего, а именно
не о том, что само ускользает в полную сокрытость в пользу этого
проявления.
Несмотря на это, это ускользающее в сокрытость имеет дело с
сущим, т. к. при "данности сущего (es gibt Seiende)" оно и есть дающее
(Gebende). Из-за этой неразрывной связи скрытым образом дающего
с даром (Gabe), а именно с сущим, это дающее можно обозначить как
бытие (Sein). Но это сокрытое бытие не есть "бытие сущего". Чтобы
прояснить различие между "бытием сущего" и бытием в смысле
дающего при "дано", Хайдеггер в 30-е гг. это последнее, сокрытое бытие
(Sein) писал через ипсилон (Seyn). Философия, говорит Хайдеггер,
хотя и всегда в течение двух с половиной тысячелетий ставила
"вопрос о бытии", но бытии, о значении которого здесь спрашивалось,
никогда не было ускользающим в сокрытость бытием (Seyn). Однако
именно от этого бытия (Seyn), сокрытого в бездне, в конечном счете
зависит смысл нашего существования»*.
Логично предположить, что мы тем дольше от бытия, чем сильнее
наше внимание поглощено сущим. А сущим оно захвачено сильнее
всего, когда мы сами фабрикуем проявление этого сущего,
например принуждая его раскрыть себя определенным образом в научном
эксперименте, или производим вещи посредством техники.
Развертывающаяся технизация жизни и есть господство фабрикации,
уводящее от бытия.
Held К. Zeitgemaesige Betrachtungen. Frankfurt am Main: Klostermann,
2017. S. 199.
200
А. Э. Савин
«Современный мир есть результат техники, техника покоится
на современном (moderne) естествознании, фундаментальной
характеристикой которого является исчисление... Современный мир
пронизан исчисляемостью»*.
Соответственно, чтобы оставить за спиной историю метафизики,
с необходимостью сопровождающуюся забвением бытия и
завершающуюся господством расчета, необходимо другое начало,
функционерами которого и тем самым бытия (Seyn), по Хайдеггеру,
являются немцы. Им противостоят евреи — функционеры расчета, каковые
скрываются за спиной всех военных противников Германии и тайно
руководят ими**. В эпоху конца метафизики, ведомый самим бытием
(Seyn), вождь нацистского движения, согласно Хайдеггеру,
воплощает судьбу немецкого народа в его борьбе с открытыми врагами
Германии и с их тайным господином — мировым еврейством.
То есть мы видим, что решающее расхождение между
русскими коммунистами и Хайдеггером состоит в различном понимании
следствий независимости бытия от сознания, чем и определяется,
затем, характер хайдеггеровской оценки советского марксизма. Для
русских коммунистов эта независимость вызывает задачи
уразумения пассивности сознания, выяснения соотношения его пассивных
и активных элементов, генеалогии логики и диалектики
абсолютной и относительной истины, каковая подразумевает критику
общественных отношений, науки, техники и идеологии в свете принципа
независимости бытия от сознания.
Для Хайдеггера, напротив, задачей становится вслушивание
в бытие, некая новая модификация «мистического пантеизма»,
который Дильтей приписывал раннему Гегелю. Соответственно,
критика науки и техники, истории метафизики, у Хайдеггера в корне
отличается от марксистской и имеет откровенно реакционный
характер, поскольку совершает классическую подмену, которую
отмечал еще Лукач в «Молодом Гегеле и проблемах капиталистического
общества». В своей критике позитивности философы, отказываясь
от трансцендентного бога, либо отказываются и qt
трансцендентности как таковой, и тогда в конечном счете у них всякое бытие есть
бытие сознания, а всякое опредмечивание является отчуждением
и должно вновь целиком раствориться в сознании в результате
исторического процесса, либо принятие трансцендентности природы
вызывает и признание богов и всех вытекающих из этого форм
«познания» божественного (вслушивания, истолкования знаков
божественного, герменевтики как философского метода) или восприятия
зова крови и почвы.
* Held К. Zeitgemaesige Betrachtungen. S. 201-202.
" Ibid. S. 204.
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм 201
Вторая основная линия хайдеггеровской критики советского
марксизма задается его трактовкой диалектики. Напомню, что для
определившего принципы советского марксизма Ленина
диалектика является теорией познания и логикой марксизма. Хайдеггер же
отрицательно оценивает диалектику. Она для него является
образцом господства наличного и его метафизики, поскольку
препятствует тематизации историчности.
Позиция это не новая. Здесь Хайдеггер фактически повторяет
Дильтея, который уже в предисловии к своей «Истории молодого
Гегеля» писал, что значимость ранних теологических сочинений
Гегеля выходит за рамки гегелевской системы.
«...Им, как возникшим из углубления в огромный
исторический материал (Stoff der Geschichte) еще не стесненными насилием
(Zwang) диалектического метода, присуще самостоятельное
значение»*.
В ранних сочинениях, по мнению Дильтея, проявляется вся
историческая гениальность Гегеля, еще свободная от оков системы**.
Еще в 1923 г. в «Онтологии. Герменевтике фактичности»
Хайдеггер указывает, что диалектика (а также представленное шпенгле-
ровской физиогномией истории историческое сознание) базируется
на господстве созерцания и теоретической установке, действует уже
в пространстве наличного, а следовательно, упускает бытие в мире
и историчность***.
В более поздний период диалектика трактуется им в рамках
феномена забвения бытия и сама выступает одним из симптомов
этого забвения. А потому, как справедливо указывает Гельмут Феттер,
история бытия в хайдеггеровском смысле отграничивается самим
Хайдеггером от всякого опредмечивания истории исторической
наукой, с одной стороны, и от гегелевской систематики, которая делает
закон своего мышления законом истории и снимает последнюю в
системе, — с другой****. Диалектика, по Хайдеггеру, потому не
способна тематизировать историчность, что упускает фактичность Dasein
и необходимость ниспровергающего отклика (Widerruf).
Такая трактовка диалектики была опровергнута еще
учеником Хайдеггера марксистом Гербертом Маркузе в ранних работах.
Не имея здесь возможности вдаваться в разбор маркузеанской
критики хайдеггеровской критики диалектики, укажу только, что су-
* Dilthey W. Die Jugendgeschichte Hegels / Dilthey W. Gesammelte Schriften.
Stuttgart: Teubner, 1990. Bd. 4. S. 3.
" Ibid. S. 60.
'* Heidegger M. Ontologie. Hermenetik der Faktizitaet // Heidegger M.
Gesamtausgabe. Frankfurt am Main: Klostermann, 1988. Bd. 63. S. 41-47.
'* Vetter H. Grundriss Heidegger. Hamburg: Meiner, 2014. S. 338.
202
А. Э. Савин
щество жизни у молодого Гегеля выражается формулой «равенство
себе в инобытии» («Selbstgleichheit im Anderssein»). Эту формулу
как «принцип тождества тождества и нетождества» («Identitaet der
Identitaet und Nichtidentitaet») — тождества предмета и сознания,
общего и особенного, целого и части — современный немецкий
историк философии Шнедельбах обозначает как «основную
спекулятивную фигуру» гегелевской философии в целом. С точки
зрения Маркузе, эта формула выражает вместе с тем и основной смысл
(Grundsinn) диалектики, поскольку она демонстрирует единство
способа бытия предмета и сознания — их подвижность (Bewegtheit).
Внутренний смысл жизни состоит, по Гегелю, в усвоении мира
и своего собственного случайного Dasein в направлении раскрытия
его возможностей и тем самым снятия его инобытия*.
Очевидно, что в этом описании жизни ее основной чертой
является историчность в хайдеггеровском смысле, т. е. ее фактичность,
проективность и ниспровергающий отклик (Widerruf) на традицию
и ее неявное господство. Вместе с тем это описание демонстрирует
активность сознания и его характер всеобщего средства
трансформации жизни. В этой связи диалектичность жизни выражается в
понятии снятия как конкретного (определенного) отрицания
наличного (в гегелевском смысле) существования. Снятие осуществляется
на основе осознания своего положения в мире как конкретного, т. е.
фактичного существа (принадлежащего своему поколению и своему
классу) и вытекающего из него революционно-практического
преобразования мира. Советские марксисты вполне разделяли эту
трактовку диалектики. Например, М. Розенталь уже на первых
страницах своей работы «Материалистическая диалектика», применяя
диалектический подход к самой диалектике, пишет: «За каждой
истиной лежит целая история и... только родовой, исторический опыт,
опыт всего предшествующего развития, позволяет некоторые из них
брать в готовом виде. В одном из своих писем к Марксу Энгельс
писал: "Пока наши принципы не будут развиты и не будут выведены,
логически и исторически, из предшествующего мировоззрения
и предшествующей истории как их необходимое продолжение (быть
необходимым продолжением означает у Маркса и Энгельса — с
необходимостью совершать разрыв. — А. С), вся эта работа (т. е.
пропаганда своих взглядов. — Прим. М. Р.) останется половинчатой
и большинство наших будет блуждать как в темноте"»**.
Резюмируем изложенное.
* Marcuse H. Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978. Bd. I. S. 429.
" Розенталь M. Материалистическая диалектика. М.: Партиздат ЦК ВКП(б),
1937. С. 6-7.
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм 203
Следует различать хайдеггеровскую критику марксизма и хай-
деггеровскую критику русского коммунизма. Если Маркс и
марксизм оцениваются Хайдеггером двояко, поскольку, с одной
стороны, выступают моментами истории метафизики, связанными
с забвением бытия, с другой — благодаря разработке понятия
отчуждения являются ступенями на пути раскрытия историчности,
то русский коммунизм и его философская основа — специфический
советский марксизм — являются для него сугубо отрицательными
явлениями. Они, согласно Хайдеггеру, являются царством
нововременного натурализма, исчисляющей рациональности и областью
безраздельного господства фабрикации (Machenschaft), каковая
у русских коммунистов достигает своего апогея. Тем самым апогея
достигает и забвение бытия. Русский коммунизм (советский
марксизм), по Хайдеггеру, — это предельная точка истории метафизики,
т. е. разложение всего бытийно-сообразного.
Критика Хайдеггером советского марксизма
(диалектического материализма) является несостоятельной, поскольку
незаконно сводит материализм к натурализму, господству исчисляющей
рациональности и фабрикации, а диалектику — к упускающему
фактичность способу упорядочивания (систематизации) наличного
в рамках теоретической установки. Эта критика игнорирует
основоположения советского марксизма, заданные еще Лениным и
развитые отчасти деборинской школой, отчасти ее противниками внутри
советского марксизма (Г. Лукачем и П. Е. Вышинским): принцип
нечеловечности природы, т. е. нетождественности бытия и сознания
и отождествление историчности и диалектичности. Причинами этой
философски безосновательной хайдеггеровской критики
диалектического материализма являются, во-первых, некритическое
принятие Хайдеггером дильтеевского тезиса о несовместимости
историчности и диалектичности и его сведения диалектики к навязанной
интеллектом систематизации жизни; во-вторых — антисемитские
и нацистские выводы из критики исчисляющей рациональности
и фабрикации, базирующиеся на концепции неявного господства
бытия (Seyn) и его судьбоносного характера в истории народов и
отдельных людей, а соответственно, забвения бытия и необходимости
вслушиваться в бытие. Эти выводы искажают перспективу хайдег-
геровского философского взгляда на советский диалектический
материализм.
Г. Т. МАРГВЕЛАШВИЛИ
Аксиологическое значение различия
между экзистенциальным и категориальным
в хайдеггеровском онтологическом учении
<Главы из книги>
2. АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
МЕЖДУ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫМ И КАТЕГОРИАЛЬНЫМ
Более отрицательное значение, чем то, которое получило понятие
ценности в философии Хайдеггера, трудно себе представить. Оно
берется здесь как фактор, который в высшем смысле бесплоден и
негативен не только для теоретической основы и построения
метафизической системы, но вместе с тем и даже прежде всего также и для
практического развития и благополучия действительной
экзистенции. Суммирующим выражением этого крайне резкого осуждения
ценности в учении Хайдеггера является увязка его понятия с
нигилизмом, т. е. с феноменом, объем которого предполагается обычно
как наибольший, т. е. распространяющийся на все аспекты
человеческой и вообще общественной жизни. Экзистенциальная онтология
представилась нам таким образом как теория, которая на основании
определенной соответствующей аргументации принципиально
отклоняется от применения какого-либо аксиологического опыта при
разработке своей тематики, которая строго запретила себе мыслить
о ценности и в ценностях.
Но этот запрет подготавливается и формулируется в данной
теории наряду с ее явно переоценивающим отношением к «распаду»
Dasein, который, как мы видели, получает здесь основополагающее,
т. е. позитивное и совершенно противоположное своему первому
(обычному) смыслу, значение (сравн. выше). Эта странная
совместность двух столь противоречивых отношений к понятию ценности
Аксиологическое значение различия
205
делает само это понятие уже крайне интересным для любого
исследования, имеющего целью точнее разобраться в хайдеггеровской
теории экзистенции. Она ставит задачу выяснить, в чем
заключается суть этого странного противоречия, действительно ли оно или
просто кажущееся и, вообще, что могло служить поводом для его
возникновения. Если это на самом деле есть две противоположные
установки экзистенциальной онтологии в отношении понятия
ценности, то с каким правом допускает она их тогда в свою концепцию?
Разве здесь одна установка — не прямое отрицание другой и их
совместная данность в пределах одной и той же философской
теории — не самое абсурдное и невозможное, что можно было бы себе
представить? И если допустить противоположное и предположить,
что в отношении понятия ценности экзистенциальная онтология
не впадает в противоречие, что ее аргументация по данной теме
последовательна и всесторонне обоснована, то где и в чем следует нам
тогда искать это обоснование, как понять тогда эту
последовательность? Этот вопрос покажется тем более правомерным, если учесть,
что экзистенциально-онтологическое мышление нигде, по крайней
мере нигде в до этих пор нам известных его источниках не
подвергает специальному анализу уровень оценки своих собственных
выводов, нигде оно не представлено в виде рефлексии о самом себе как
оценивающем акте. Оно выступает только с определенной и
довольно резкой критикой теории ценности, не затрагивая при этом
наличия ценностного (оцененного и переоцененного) в своей собственной
концепции. Какой смысл скрывается в этой странной
односторонности экзистенциальной онтологии, в этом на первый взгляд,
казалось бы, даже недостаточном ракурсе ее развертывания? А может
быть, именно ответом на этот вопрос и выясняется, на каком
основании в экзистенциально-онтологической теории допущены две
противоположные установки о ценности? Это предположение кажется
здесь самым приемлемым для первой наиболее общей ориентировки
нашего поиска потому, что оно дает возможность увязать
аксиологические различия в теории Хайдеггера с общепротивоположным
характером этой теории и — что является решающим в данной
связи — со смыслом этой принципиальной противоположности.
Мы имеем в виду различие между экзистенциальным и
категориальным, т. е. то, что есть, как известно, тот краеугольный камень,
на котором воздвигнуто все хайдеггеровское учение об экзистенции.
А что, если те две точки зрения о ценностном, характеризующие
данное учение, установлены на основе этого различия? Если
экзистенциальная онтология концептирована как теория об
экзистенциально ценностном в противоположность категориально ценностному,
которое является сущностью традиционного философского понятия
206
Г. Т. Маргвелашвили
о ценности? Если это действительно так, то какими являются тогда
отличительные признаки экзистенциальной ценности по сравнению
со всем категориально-ценностным, разве суть ценности в любой
области бытия не одна и та же и все, что ценится в этом основном
смысле, не похоже друг на друга, разве понятие ценности подчиняется
онтологическому различию сущих? И как решается тогда вопрос
о малоценном в экзистенции? Ведь все ценное можно представить
как таковое в основном только лишь как категорическая
противоположность неценному. Не должна ли экзистенциальная онтология
для получения своего особого понятия экзистенциальной ценности
исключить тогда идею неценного из своих рассуждений и не
значило бы это попытаться сделать невозможное, если понятие ценности
можно установить только лишь на основе осознания
(существования) неценностного? И если даже предположить, что программа
экзистенциальной онтологии включает в себя такую попытку, то
почему она умалчивает об этом при объявлении самой этой программы?
Почему она ограничивается в этой связи указаниями на выделение
основных структур экзистенции (Grundstrukturen des Dasein)* как
основной предмет экзистенциальной онтологии и ни словом не
упоминает о ценностном своеобразии таких структур, и тем более о
необходимости его четкого определения! А что, если понятие
экзистенциально ценностного для Хайдеггера до такой степени неотделимо
от понятия экзистенциальной структуры человека (от т. н. экзи-
стенциальности, Existenzialität)**, что оно подлежит тематизации
и определению только лишь через структурный анализ
экзистенции? Не значило бы это, что экзистенциальная онтология вопреки
всем видимостям, которые говорят обратное, направлена и к
установлению понятия экзистенциальное™ как докатегориально
(экзистенциально) значимого ценностного уровня бытия? Не значило бы
это, что экзистенциальная онтология развертывается и в качестве
своеобразной аксиологии, т. е. такой, которая выводит свои
основные принципы без помощи традиционной философской установки
о ценностях и вразрез с этой установкой?
3. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ
ЦЕННОСТИ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ
И ОБЩИЙ ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ
При всякой попытке представить
экзистенциально-онтологическое мышление как специфическое мышление о ценностях и осмыс-
HeideggerM. Sein und Zeit / von Martin Heidegger. — 8. unveränd. Aufl.
Tübingen: M. Niemeyer, 1957. S. 16 und dann.
** Ibid. S. 13.
Аксиологическое значение различия
207
лить таким образом аксиологический уровень экзистенциальной
онтологии необходимо, безусловно, также соответственно
учитывать учение Фридриха Ницше, которое своей острой
направленностью против традиционного понятия ценности как ценностной
противоположности (Wert-Gegensätze)* сродни* общему духу и методу
экзистенциальной аналитики. Руководящими источниками для
развертывания этой темы являются в первую очередь
имеющееся среди сочинений Хайдеггера большое двухтомное исследование
о творчестве Фридриха Ницше и известное сочинение самого
Ницше с названием «По ту сторону добра и зла»**. Уже одно название
указанного трактата Ницше свидетельствует в достаточной степени
о его тематическом отношении к экзистенциальной онтологии как
теории, восставшей против традиционного понимания ценностных
различий. Но этот трактат имеет здесь особенно большое значение
еще и потому, что он мыслится как прелюдия философии
будущего (Vorspiel einer Philosophie der Zukunft)***. Имеем ли мы основание
предполагать, что как выражение своеобразного аксиологического
уровня мышления экзистенциальная онтология является именно
той философией будущего, о которой думал Ницше, или, по
крайней мере, каким-то более определенным этапом в развитии к такой
философии? И если это действительно так, то как согласовать такой
вывод с общеизвестной негативной оценкой Хайдеггером ницшев-
ской философии, т. е. с его оценкой, согласно которой эту
философию следует отнести к этапу завершения европейской
нигилистической метафизики****, ибо это — теория, заменившая бытие понятием
ценности*****. Может быть, эта оценка еще не полное выражение
отношения Хайдеггера к Ницше; может быть, она касается только
общемировоззренческого итога ницшевской теории и совсем не
затрагивает ее основные исходные положения (предположения)?
К намеченным проблемам необходимо наконец еще добавить
вопрос о взаимосвязи между экзистенциально и категориально
ценностными уровнями в хайдеггеровской экзистенциальной
онтологии. Сумела ли эта онтология соответственно осмыслить и единство
указанных двух уровней как один из наиболее важных
определяющих факторов в структуре Dasein? Или ее анализ остается на
одном уровне экзистенциально ценностного, не делая даже попытки
* Heidegger M., Nietzsche. Pfullingen, 1961.
k* Jenseits von Gut und Böse в Friedrich Nietzsche, herausg. von Karl Schlechte.
München, 1966. Bd. 2. S. 564-759.
'* Ibid. С 563.
'* Heidegger M. Holzwege. — 3. unveränd Aufl. Frankfurt am Main:
Klostermann, 1957. S. 239.
" Ibid. S. 242 und dann.
208
Г. Т. Маргвелашвили
найти общее (онтологическое) выражение для синтеза указанных
двух аксиологических перспектив во временно пространственном
объеме экзистенции? И если это действительно так, т. е. если в
экзистенциальной онтологии действительно отсутствует понятие,
синтезирующее и онтологически обобщающее эти два конструктивных
аксиологических уровня экзистенции, то разве можно тогда считать
разработку этой онтологией представления об аксиологической
стороне в ее понятии экзистенции удовлетворительной? Разве тогда
не правомерен вопрос, что могло служить причиной для такой
тематической незавершенности в теории экзистенции?
Вышепоставленными вопросами определяется путь
предлагаемого исследования, который в общей и более короткой форме можно
выразить еще указанием на следующие четыре принципиально
важных темы: 1. Различие между экзистенциальным и категориальным
и его значение для установления своеобразного ценностного уровня
в системе понятий экзистенциальной онтологии; 2.
Экзистенциально-онтологическое мышление как мышление понятия докатегори-
альной ценности; 3. Экзистенциально-онтологические
предпосылки, в первую очередь предпосылка для экзистенциально ценностной
установки, в ницшевском понятии философии будущего; 4.
Взаимная зависимость между экзистенциально ценностным и
категориально ценностным уровнями в бытии экзистенции и вопрос ее
онтологического обобщения.
В завершение этого вступительного программного обзора
отметим еще, что указанные четыре пункта являются для настоящего
исследования общетематическими рамками, в которых оно
обязано остаться. Это значит, что настоящая работа руководствуется
прежде всего историческим интересом и что она поэтому не
сможет и не должна быть исследованием по общей теории ценности.
Ее предмет — проблема ценности как она возникает в связи с хай-
деггеровской экзистенциальной онтологией. Следовательно, и все,
что она имеет сказать о философском понятии ценностного, сможет
послужить главным образом только лишь одному выяснению этой
связи. С таким же ограничением будет проводиться, конечно, и
анализ влияния ницшевских установок на хайдеггеровскую
онтологическую теорию, т. е. этот анализ здесь не сможет и не должен дать
исчерпывающего представления о размере обусловленности
экзистенциальной онтологии философией Ницше. Он удовлетворится
только лишь определением этой обусловленности в связи с вопросом
об уровне ценности в теории экзистенции.
Аксиологическое значение различия
209
4. ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ УРОВНЯ ЦЕННОСТИ
В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ АНАЛИТИКЕ
Выявление понятий экзистенциального как двух различных
уровней ценности в хайдеггеровском учении есть: а) выявление
соответствующей (т. е. по-разному, либо экзистенциально, либо
категориально) оценивающей установки в основе указанного деления;
б) выявление соответствующим образом, т. е. экзистенциально и
категориально, оцененного в теории экзистенции и в) выявление смысла
оценки в некоторых главных положениях об экзистенциально и
категориально ценностном при структурном описании Dasein. На основе
этих данных будет возможно уже четче представить то структурное
своеобразие, которым отличается понимание ценности как
одного специфического и принципиально важного структурного уровня
в хайдеггеровской экзистенциально-онтологической концепции.
В «Бытии и времени» первая вступительная глава о методе и
плане произведения открывается одним предостерегающим
заявлением, которое предопределяет в этом центральном сочинении Хайдег-
гера два концептуальных уровня исследования. Это — положение
Хайдеггера о том, что к такому сущему, которым является
экзистенция, нельзя догматически применить никакой идеи о бытии и о
действительности, какой естественной она ни показалась бы, и никакие
категории, полученные на основании подобных идей, не должны
быть навязанными такому сущему без онтологической проверки.
Интерпретировать его надо только лишь исходя из того, что оно само
и от себя (an ihm selbst und von ihm selbst her) показывает*. Эта
точка зрения относится, по всей очевидности, оценивающе к средствам
толкования экзистенции. Она ведь объявляет идеи определенного
(догматического, категорического) качества и категории, которые
выводятся из таких идей, непригодными для философского
толкования экзистенции. Эта непригодность, о которой говорится в
данном контексте, есть отрицательная ценность, утверждаемая в
отношении определенной системы понятий, т. е. она — неценность
для хайдеггеровской экзистенциально-онтологической философии.
Каждая система понятий может быть значительной только лишь
в смысле своей продуктивности (т. е. в смысле выводимости из нее
новых познаний), а те идеи, о которых говорится у Хайдеггера в
данной связи, распространяются, как он указывает, обычно без
проверки на понятие бытия, без учета каких-либо новых факторов в связи
с этим понятием, которые, может быть, и запрещают такие
категорические (догматические) толкования. Поэтому можно по праву
* Sein und Zeit. S. 16.
210
Г. Т. Маргвелашвили
сказать: вышеприведенное предостерегающее замечание Хайдегге-
ра относится, по существу, к категориальному и категорическому
мышлению, оно предостерегает от уровня именно этого мышления,
объявляя его тем самым непригодным (малоценным) для тематики
экзистенциальной онтологии. Но — и этот момент является не
менее главным — указанное предостерегающее замечание Хайдегге-
ра имеет также характер утверждения. Здесь подразумевается, что
и такое неценное (непригодное), о котором говорится в данном
замечании, принадлежит к предмету экзистенциальной аналитики как
его неотъемлемая часть, что в хайдеггеровской теории экзистенции
оно сохраняется (правда, только лишь как отрицательный, только
как второстепенный или дополнительный, уровень исследования).
Указанным замечанием Хайдеггера в экзистенциальной
аналитике наряду с этим открывается, конечно, еще другой и главный для
этой аналитики уровень понятий, т. е. уровень, на котором, согласно
его теории, об экзистенции только и возможно рассуждать и который
является, следовательно, положительно ценностным основанием
для экзистенциально-онтологического мышления. Это — уровень,
на котором экзистенция становится предметом опыта так, как она
сама по себе существует, т. е. до всякой категориальной
интерпретации ее структуры, где эта структура показывается только всеми
теми свойствами, которые ей одной присущи. В своей совокупности
все эти признаки характеризуются у Хайдеггера общим термином
«экзистенциальность» (Existenzialität). Как он указывает,
экзистенция живет и существует, руководясь соответствующим
экзистенциальным самопониманием, т. е. онтичным пониманием самой себя
(existenzielles Verständis)*. Но ее экзистенциальность может стать
только лишь предметом специального философского анализа,
предметом экзистенциально онтологического понимания (existenziales
Verstehen)**. Таким образом, уровень, открываемый в «Бытии и
времени» вышеприведенным замечанием, есть уровень
экзистенциальной и экзистенциально-онтологической понятийности как главной
познавательной ценности хайдеггеровской теории об экзистенции.
Это понятие деления экзистенциальной аналитики на два
противоположных по своей ценности уровня исследования получает при
самой экспозиции основной задачи анализа Dasein свою
дальнейшую конкретизацию. Здесь все онтологические признаки,
выделяемые экзистенциальной аналитикой из экзистенциальности Dasein,
определены как экзистенциалы (Existenzialien), и они притом резко
различаются от онтологических характеристик неэкзистенциаль-
* Sein und Zeit. С. 12.
'* Ibid.
Аксиологическое значение различия
211
ного сущего, которые Хайдеггер называет категориями*.
Противоположность двух в корне различных (экзистенциального и
категориального) уровней познавательной ценности развилась таким
образом в более конкретное представление об оппозиции экзистен-
циалов и категорий, т. е. о той основной полярности понятий,
которой руководствуется экзистенциальная онтология при разработке
своей тематики. Экзистенциалы и категории — это, следовательно,
две различные области исследования хайдеггеровской теории
экзистенции, которые, несмотря на свою разную ценность для этой
теории, в определенном смысле для нее и равноценны. Как указывает
Хайдеггер, экзистенциалы и категории являются двумя основными
возможностями, которыми могут осуществляться онтологические
характеристики в сущих: Existenzialien und Kategorien sind die
beiden Grundmöglichkeiten von Seinscharakteren**. Из этого
явствует, что уровни экзистенциальной и категориальной ценности
имеют для теории экзистенции одинаково фундаментальное значение.
Этим обстоятельством предопределена возможность их совместного
использования в хайдеггеровском учении об экзистенции как
фундаментальной онтологии (Fundamentalontologie).
Вышеприведенные два пассажа из «Бытия и времени» уже
в достаточной мере показательны для наличия двух таких
уровней исследования внутри указанного сочинения, на которых все
рассматриваемые там факты получают различные оценки, где они
интерпретируются как более ценные или как менее ценные для
разработки экзистенциально-онтологической тематики. Эти пассажи
относятся к числу тех, которыми основываются две по-разному
оценивающие установки в хайдеггеровской теории экзистенции. Но
наряду с такими наиболее важными констатациями в «Бытии и
времени» имеются еще положения, которые по тому или иному мотиву
также указывают на деление хайдеггеровского учения на эти два
уровня теоретической значимости и которые поэтому хорошо
дополняют наше представление о данной теории в указанном
двухвалентном смысле. Одним таким значительным местом из «Бытия и
времени» представляется, например, тот пассаж, где Хайдеггер критикует
точку зрения кантианца Г. Геймзоета, утверждавшего, что в
трансцендентальной философии категориальная проблема личности
разрешена тесным взаимодействием (enge Ineinanderarbeit)
теоретического и практического разума и что на этот факт исследователи все
еще не обращают должного внимания. По этому поводу Хайдеггер
отмечает, что категориями можно только лишь извратить
онтологическую проблематику экзистенции. И если на категориальной почве
* Sein und Zeit. S. 44.
** Ibid. S. 45.
212
Г. Т. Маргвелашвили
теоретический разум даже вмонтируется в практический, то этим
экзистенциально-онтологическая проблема самости не только
остается неразрешенной, она еще даже не ставится*. Выдвигая такую
критику, Хайдеггер тем самым еще раз указывает на
категориальный уровень исследования как уровень, не обладающий никакой
ценностью для выявления подлинной (он подразумевает здесь
«экзистенциально-онтологической») сущности Я (персоны).
Как второй пример из числа тех положений «Бытия и времени»,
которыми подтверждается еще раз, что экзистенциальная аналитика
есть анализ, характеризующийся определенным (экзистенциальным
и категориальным) дуализмом оценки, здесь можно и вкратце указать
на одобрительные высказывания Хайдеггера о воззрениях графа
Йорка Вартенбургского, ученого, который интересовался теоретическими
вопросами науки истории. Его стремление к более глубокому
пониманию человека как исторического существа и особенно та разница,
которую он делал между онтичным (т. е. категориальным) и
собственно историческим, характеризуются Хайдеггером как точка зрения,
предвосхитившая во многом экзистенциально-временную аналитику
Dasein, как она проведена в его собственном учении**. Общий смысл
этой характеристики заключается в выделении экзистенциального
уровня исследования, на котором вопрос о подлинной природе
историчности Dasein может только получить свое надлежащее решение,
и в отклонении категориального уровня исследования, который,
согласно данной теории, не почва для постановки такого вопроса.
Вышеуказанные пассажи из «Бытия и времени» уже достаточно
разъясняют, в какой решающей мере это сочинение является
трактатом, оценивающим явления по их пригодности и непригодности
для экспозиции своей собственной тематики. Этот результат
послужит нам основанием для дальнейшего уточнения двух уровней
познавательной ценности в теории экзистенции, для выяснения
того, что конкретно исследуется на этих двух уровнях, для проверки
продуктивности экзистенциально-онтологического мышления как
мышления об экзистенциально-онтологически более ценном и
менее ценном. Указав на эту продуктивность, настоящий анализ уже
сможет в общем осмыслить всю специфику того ценностного,
которая лежит в основе хайдеггеровской концепции о бытии.
ечэ
* Ibid. S. 320.
" Ibid. S. 397-404.
s
П. П. ГАЙДЕНКО
От исторической герменевтики
к «герменевтике бытия»:
критический анализ эволюции М. Хайдеггера
За десятилетие, прошедшее после смерти Хайдеггера, интерес
к его творчеству не ослабел. Этому в известной мере содействует
продолжающаяся публикация собрания сочинений немецкого
философа, в том числе и его университетских лекций 1923-1944 гг., ранее
не издававшихся и проливающих дополнительный свет на
мировоззренческие и методологические истоки его учения*. Отчасти, может
быть, поэтому в западной литературе последнего десятилетия,
посвященной Хаидеггеру, одной из центральных является тема так
называемого поворота в мышлении Хайдеггера, которой, впрочем,
и раньше уделялось внимание.
<...> А между тем один из исследователей творчества
Хайдеггера еще в конце 50-х гг. считал возможным сравнить его «поворот»
ни много ни мало как с религиозным обращением. Что это,
преувеличение? Или в самом деле в начале 30-х гг. у Хайдеггера
изменились основы его мировоззрения? Хотя этот вопрос уже затрагивался
не раз и в западной, и в отечественной литературе**, многое здесь еще
остается не вполне ясным.
Сочинения Хайдеггера первого и второго периодов
различаются прежде всего по форме. Так, работы 20-х гг. — «Бытие и время»
(1927), «Кант и проблема метафизики» (1928) — написаны вполне
в духе академической философии, придерживавшейся обычно более
или менее систематической формы, и характерно, что Хайдеггер,
См., в частности: Bd. 20; Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs.
Marburger Vorlesung. S. 1925. Frankfurt am Main, 1979. Bd. 24; Die Grundprobleme
der Phänomenologie. Marburger Vorlesung. 1927, Frankfurt am Main, 1975.
Bd. 51: Grundbegriffe. Freiburger Vorlesung 1941. Frankfurt am Main, 1981.
См.: Schulz W. Der «Gott der Philosophen» in der neuzeitlichen Metaphysik //
Der Gott der neuzeitlichen Mataphysik. Bonn, 1959. S. 35.
214
П. П. Гайденко
ссылаясь здесь на С. Киркегора, именует его не иначе как
философским писателем, тем самым подчеркивая свое отличие от датского
мыслителя, принципиально не принимавшего систематического
мышления и критиковавшего Гегеля как «систематика». Напротив,
во второй период Хайдеггер отказывается от традиционного для
немецких университетских профессоров способа изложения своих
воззрений и переходит к совсем иной форме: он не столько предлагает
позитивное учение, сколько занят деструкцией западной
философской традиции, которую называет метафизической, а также учит
«прислушиваться» к бытию через особым способом
интерпретированную романтическую и постромантическую поэзию (Гёльдерлин,
Рильке, Ст. Георге, Тракль)и доклассическую(«дометафизическую»)
философию Анаксимандра, Гераклита и других досократиков.
В содержательном плане перелом тоже оказался достаточно
радикальным. Правда, как в ранних, так и в позднейших работах
Хайдеггер предлагает возвратиться к онтологии и ставит в центр внимания
проблему «смысла бытия». Однако эта проблема ставится им
по-разному до и после «поворота». В «Бытии и времени», опираясь на
метод феноменологии*, Хайдеггер утверждает, что раскрыть смысл
бытия можно только путем анализа человеческого существования
(Dasein), которому одному открыто бытие. <...> Во второй период,
напротив, Хайдеггер постоянно подчеркивает, что всякое сущее,
в том числе и человек, может быть понято, только исходя из самого
бытия. Всякая иная точка зрения представляется ему теперь
субъективизмом, который подлежит преодолению. Соответственно в
сочинениях Хайдеггера с середины 30-х гг. мы почти не встречаем тех
«экзистенциалов» — страх, смерть, решимость, совесть и др., с
помощью которых производилось экзистенциально-герменевтическое
описание структуры человеческого существования.
Есть еще одна тема, которая сквозным образом проходит через
все творчество Хайдеггера, что он и подчеркивает обычно, когда
говорит о единстве своего учения. Эта тема — герменевтика. С
помощью герменевтического метода Хайдеггер анализирует в «Бытии
и времени» структуру существования, поясняя при этом, что
последнее по своей сущности герменевтично**. С помощью
герменевтики в работах второго периода осуществляется понимание бытия;
не случайно «путь мышления» у Хайдеггера лежит через геменевти-
ческий анализ языка: именно язык, как он «говорит через великих
поэтов», есть теперь для Хайдеггера «дом бытия»***.
* «Онтология, — пишет Хайдеггер, — возможна только как феноменология»
(Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen, 1960. S. 35).
** См.: Heidegger M. Sein und Zeit. S. 152.
*** См.: Idem. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen, 1959. S. 147 ff.
От исторической герменевтики к «герменевтике бытия» 215
Однако сам характер и смысл герменевтики в разные периоды
у Хайдеггера различны: если герменевтику раннего Хайдеггера
можно назвать исторической, то герменевтика второго периода —
онтологическая. Историческая герменевтика идет от человека и его
существования, последним горизонтом которого является
историчность; герменевтика онтологическая идет от бытия и предлагает
толковать историю как «судьбу бытия». Рассмотрев различие этих
типов герменевтики, мы сможем яснее понять как истоки и смысл
хайдеггеровского учения, так и сущность «поворота», а также того
«кризиса», которым вызван этот «поворот».
Что же представляет собой историческая герменевтика
Хайдеггера? Ставя перед собой в «Бытии и времени» задачу раскрыть
смысл бытия, Хайдеггер тут же очерчивает подход к ее решению:
«По какому сущему должен быть прочитан смысл бытия? Какое
сущее должно быть отправным пунктом для открытия бытия?»*
Как мы уже отмечали, таким сущим у Хайдеггера должен быть
человек. Но к человеку как началу, отправному пункту для
философского построения, Хайдеггер подходит совсем не так, как это делал
в свое время Декарт: главное в человеке для Хайдеггера не
мышление, а существование, экзистенция. Хайдеггер здесь ориентируется
на С. Киркегора, заявившего еще в прошлом веке: «Экзистенция
отделяет мышление от бытия». А это значит, что к бытию ближе
экзистенция, чем разум. Эта формула Киркегора, будучи преломленной
через феноменологию Гуссерля, указывала путь к построению
онтологии путем непосредственного описания структурных моментов
человеческого существования как некоторой целостности. Человек
предстает как «такое сущее, которое понимающе относится к
своему бытию»**, а это значит, что оно по своей природе герменевтично,
не замкнуто в самом себе, а открыто, разомкнуто в мир. Эту
открытость Хайдеггер называет «бытием-в-мире». Не мышление, не
созерцательно-теоретическая установка, на которую, по Хайдеггеру,
ориентировалась традиционная метафизика, а именно
экзистенция как эмоционально-практически-понимающее сущее составляет
главное содержание того, что мы называем Я. Раскрывая структуру
«изначального понимания» как эмоционально-волевую,
практическую, Хайдеггер подчеркивает, что бытие сущего непосредственно
открыто человеку в отнесенности к его намерениям, через его
«проект» , а не в чистом незаинтересованном созерцании. «Подручность»
(Zuhandenheit) сущего, по Хайдеггеру, первичнее его «наличности»
(Vorhandenheit) <...>.
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 7.
* Ibid. S. 53.
216
П. П. Гайденко
В чем же, однако, видит Хайдеггер корень «открытости»
человеческой экзистенции? В противоположность классической традиции,
восходящей к Платону и проходящей как через Средние века, так
и через новое время вплоть до немецкого идеализма, представители
которой считали залогом объективности человеческого мышления
приобщенность его к вечному, вневременному началу, Хайдеггер
усматривает источник открытости существования в его
временности. Рассмотрение бытия в горизонте времени опять-таки восходит
к Гуссерлю, чьи лекции по феноменологии внутреннего сознания
времени Хайдеггер подготавливал к печати как раз в 1927-1928 гг\
<...> Хайдеггер рассуждает в духе феноменологии, когда вслед
за Гуссерлем именно во времени усматривает фундамент всей
онтологии. «В правильно понятом и правильно эксплицированном
феномене времени, — пишет он, — коренится центральная проблематика
всей онтологии» **. Вслед за Гуссерлем Хайдеггер противопоставляет
обычному, «физическому» времени как «бесконечной, преходящей,
необратимой последовательности моментов «теперь»***
изначальную, трансцендентально-субъективную временность — «экстатиче-
скуювременностьсуществования» ****. Онаестьнепоследовательность
моментов, а целостность трех измерений (экстазов) —
экзистенциально понятого прошлого, настоящего и будущего. «Временение
(Zeitigung) не означает «последовательность» экстазов. Будущее
не позднее прошедшего, а прошедшее не раньше настоящего.
Временность временится как бывшее настоящим будущее»*****.
Однако, в отличие от Гуссерля, Хайдеггер не согласен трактовать
подлинную временность как «бесконечный континуум длений».
Рассмотрение времени как бесконечного, как и понятие вечности в
смысле «остановившегося теперь» (nunc stans), почерпнуто, по мнению
Хайдеггера, из физического понимания времени. Критикуя
Гуссерля за то, что тот не сумел преодолеть традиционного понятия
времени как «горизонта, бесконечного в обе стороны», понятия, идущего
еще от Платона, для которого время есть «подвижный образ
вечности», Хайдеггер видит корень этого «недостатка» в интеллекту ал ист-
ской трактовке трансцендентальной субъективности. Сам же
Хайдеггер видит главную характеристику подлинной временности в ее
конечности******. Открытое поотношениюксвоейконечности,ксмерти,
* Husserl E.Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins.
Halle, 1928.
k* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 18.
'* Ibid. S. 419.
№ Ibid. S. 363.
" Ibid. S. 350.
" Ibid. S. 330.
От исторической герменевтики к «герменевтике бытия»
217
человеческое существование именно поэтому открыто бытию.
♦Сущность конечности, — пишет Хайдеггер, — это основная структура
человеческого бытия»*. Именно этим объясняется столь большая роль
«экзистенциала» страха: он, по Хайдеггеру, есть форма
переживания человеком своей конечности. «Страх есть то основное состояние,
которое ставит (человека) перед ничто. Бытие сущего можно понять
только в том случае — ив этом состоит глубинная конечность тран-
сценденции, — если существование вкоренено в ничто. Эта вкоре-
ненность в ничто есть не мышление ничто, а событие, составляющее
основу всякого нахождения себя среди уже сущего»**.
Онтологическая структура человеческого существования —
забота — есть, по Хайдеггеру, единство трех «экстазов» времени:
бытия-всегда-уже-в-мире (модус прошедшего), бытия-при-вну-
три-мировом-сущем (модус настоящего) и устремленности-вперед,
или «проекта» (модус будущего). Временность, таким образом, есть
предпосылка открытости существования, во временности бытия
следует искать ответ на вопрос о его смысле. В качестве временного
человеческое существование исторично; определение времени как
историчности — его важнейшее, т. е. онтологическое определенно.
<...> Согласно экзистенциально-герменевтической онтологии,
развернутой Хайдеггером в «Бытии и времени», экзистенция по
своей структуре исторична; история же как реальный процесс,
протекающий в объективном времени, имеет свой онтологический источник
в историчности, составляющей сущность человека как конечного
существа. Такое построение претендовало на то, чтобы стать новой
онтологией; его автор критиковал Гуссерля и всю
трансцендентальную философию за идеализм и субъективизм. Однако предпосылки
мышления самого Хайдеггера отнюдь не были реалистическими,
на них лежала печать их происхождения из трансцендентальной
философии Гуссерля, для которого реальный процесс истории
выносится за скобки, так же как и вообще вопрос о бытии всего того,
что находится за пределами трансцендентальной субъективности.
Подытоживая наш краткий анализ, можно сказать, что
герменевтика, как она была разработана в «Бытии и времени», есть
историческая герменевтика, ибо историчность существования составляет
его главную характеристику. «Положение: «существование (Dasein)
исторично» оказывается фундаментальным высказыванием
экзистенциальной онтологии. Это высказывание весьма далеко от
просто онтического установления факта, что существование
совершается в некой «всемирной истории». Историчность существования
есть, однако, основа возможного исторического понимания, которое
* Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. Bonn, 1929. S. 210.
" Ibid. S. 228.
218
П. П. Гайденко
со своей стороны опять-таки несет в себе возможность...
разработки, истории (der Historie) как науки»*. <...> <...> [Щетина всегда
отнесена к человеческому существованию. Поскольку Хайдеггер
настаивает на том, что существование — это не субъект, то по
чисто номинальным основаниям он, конечно, может говорить, что его
трактовка истины «не субъективна». «Означает ли эта
"относительность" (истины. — П. Г.), что истина всецело "субъективна"? Если
интерпретировать "субъективное" как "зависящее от субъекта", то,
конечно, нет. Ибо открывание по своему подлинному смыслу не
связано с высказыванием "субъективного" желания и ставит
открывающее существование перед самим сущим»**. Однако хотя истина
у Хайдеггера и не зависит от субъекта, понятого в традиционном
смысле, а именно как носителя «логоса», но она зависит от
человека, взятого как существование. А поскольку существование в основе
своей исторично, то истина полностью определена экзистенциально
интерпретированной историчностью***.
Смысл «исторической герменевтики» Хайдеггера помогает
уяснить Р. Бультман, который, так же как и некоторые другие
представители протестантской теологии, увидел в творчестве Хайдеггера,
и прежде всего в «Бытии и времени», философский фундамент для
построения нового типа теологии. И это совсем не случайно.
Нельзя упускать из виду, что герменевтика, на которой строит свое
исследование Хайдеггер, первоначально разрабатывалась именно
теологами в качестве метода истолкования священных текстов, так
что и Хайдеггер, как в свое время Шлейермахер, извлек ее именно
оттуда. Об этом говорит и сам Хайдеггер, разъясняя свое
понимание языка как медиума бытия: «Название "герменевтика" было мне
известно из моих теологических штудий. Тогда я особенно
интересовался вопросом об отношении между словом Священного Писания
и теологически-спекулятивным мышлением. Это было, если хотите,
то же самое отношение, а именно между языком и бытием, только
оно было скрыто и мне недоступно, так что я тщетно искал
руководящую нить на многих окольных и тупиковых путях... Без этого
теологического истока я никогда не встал бы на путь мышления. Ведь
в истоке всегда уже содержится будущее»****.
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 332.
** Ibid. S. 227.
*** «В Письме о гуманизме» (1946) Хайдеггер решительно отмежевался от
экзистенциализма Сартра, который он совершенно справедливо обвинил
в субъективизме. А между тем Сартр в своем «Бытии и ничто» во многом
опирался на экзистенциальную аналитику существования, как она
представлена в ранних работах самого Хайдеггера, и, в частности, на Хайдегге-
рову трактовку истины.
**" Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 118.
От исторической герменевтики к «герменевтике бытия»
219
<...> И не случайно свое учение о конечности существования
и его историчности Хайдеггер пытается обосновать, опираясь,
в частности, на трансцендентальный идеализм Канта*. Хотя
различие между философией Канта и Хайдеггера очень велико, однако
общая платформа трансцендентализма дает возможность Хайдеггеру
интерпретировать некоторые моменты кантовского учения в духе
♦ герменевтики конечности». И действительно, Кант одним из
первых в европейской философии в «Критике чистого разума» оторвал
мышление от бытия, поставив между рассудком и «вещами в себе»
(бытием) мир явлений, полностью отнесенный к
трансцендентальному субъекту (вспомним, что у Хайдеггера истина полностью
отнесена к существованию)**. Тем самым Кант выступил против
традиционной метафизики, против онтологии в ее классической форме***.
Итак, мы представили в самых общих чертах, в чем состояла
историческая герменевтика Хайдеггера. А теперь посмотрим, в каком
отношении к ней стоит учение позднего Хайдеггера, первые намеки
на которое А. Бухер находит уже в работе 1929 г. «Что такое
метафизика? » ****. Уже здесь Хайдеггер несколько смещает акцепты в
своем учении об истине. По словам А. Бухера, «истина бытия на этом
этапе Хайдеггерова мышления не рассматривается больше как
инициируемая существованием (Dasein)... Существование рецептивно,
а не инициативно в событии истины» *****. Если в «Бытии и времени»
предметом герменевтического описания было существование, т. е.
человек, то в работах 30-60-х гг. предметом рассмотрения
оказывается само бытие. Бытие, по словам Хайдеггера, «возвещает себя»
человеку, «окликает» его, открывает ему сущее. Из экзистенциалов,
описанных в «Бытии и времени», в сочинениях Хайдеггера теперь
сохраняется прежде всего «открытость». Но из характеристики
человеческого существования «открытость» становится «свершением
бытия». Бытие открывает сущее, бытие и есть открытость как
таковая, и истина в качестве открытости есть теперь не принадлежность
человеческого существования, а принадлежность самого бытия.
* Этому посвящена работа Хайдеггера «Кант и проблема метафизики»,
1928 г., непосредственно примыкающая к «Бытию и времени».
Создавая учение о существовании, структурным моментом которого
является бытие-в-мире, Хайдеггер пытается доказать, что он развивает дальше
кантовское понимание «мира». «Кантовское понятие мира стоит между
"возможностью опыта" и "трансцендентальным идеалом" и означает
таким образом в сущности тотальность конечности человеческого существа»
(Heidegger M. Vom Wesen des Grundes. Halle, 1929. S. 93).
См. об этом: Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической
западноевропейской философии. М., 1986. С. 177-186.
**** Heidegger M. Was ist Metaphysik? Bonn, 1929.
***** Bucher A. Martin Heidegger. Metaphysikkritik als Begriffsproblematik.
Bonn,1983. S. 161-162.
220
П. П. Гайденко
Правда, открытость, или несокрытость, бытия — особого рода:
бытие столь же открывает, сколь и скрывает себя; оно открывает себя
как сокрытое, освещает себя как темное, «высказывает себя» в
молчании. И потому мышление бытия — это мышление особого типа,
ничего общего не имеющее с тем, какой смысл вкладывала в это
слово традиционная метафизика, оставшаяся по-прежнему объектом
«деструктивного анализа» Хайдеггера. «Оказывание мышления
есть умолчание. Это сказывание соответствует также и глубочайшей
сущности языка, имеющего свой источник в молчании. Мыслитель
в качестве умалчивающего... приближается к поэту и тем не менее
вечно остается от него отличным...»*
Глаголы, которыми Хайдеггер передает «инициативу» бытия
и которые имеют примерно один и тот же смысл, — это
«открывать», «трансцендировать», «взывать-к» (zu-sagen), «творить
истину» (Wahrheiten) и т. д. При этом, замечает А. Бухер, «молчаливая
тайна бытия не раскрывается, но только открывается как тайна»**.
С точки зрения Хайдеггера, наиболее адекватным образом
«истину бытия» может явить искусство, поскольку в произведении
искусства «совершается истина» как «скрывающее раскрытие»
сущего. Вот феноменология произведения искусства как «свершения
истины бытия»: «Камень давит и свидетельствует о своей тяжести.
Но, лежа перед нами, эта тяжесть в то же время не допускает
никакого внедрения в нее. Если мы попробуем в нее внедриться, расколов
скалу, то и в своих осколках скала никогда не явит нам чего- то
внутреннего и раскрывшегося. Камень сразу же снова вернется в ту же
глухоту тяжести и громоздкости своих кусков. И если мы
попытаемся постигнуть его иначе, например положив его на весы, то мы
только исчислим вес его тяжести. Такое, быть может, очень точное
определение камня остается некоторым числом, но тяжесть камня
от нас ускользнула. Цвет сияет и хочет только одного — сиять. Если,
желая понять и измерить его, мы разложим его на число колебаний,
он исчезнет. Он показывает себя только в том случае, если остается
нераскрытым и необъясненным»***.
Здесь Хайдеггер, в сущности, описывает каменную глыбу тем
самым методом, который Гуссерль применял для описания
феноменов еще в своих первых работах. Этот метод действительно сродни
искусству, ибо он не разлагает и не расчленяет целостное явление,
а сохраняет его именно как целостность. Как и Гуссерль, Хайдеггер
противопоставляет описание и специфически-художественное
выявление, подчеркивание целостности исчисляюще-расчленяющим
* Heidegger M. Nietzsche. Bd. I. Pfullingen, 1961. S. 471.
** Bucher A. Martin Heidegger. S. 227.
*** Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Main, 1957. S. 35-36.
От исторической герменевтики к «герменевтике бытия»
221
методам математического естествознания. <...> Критически
оценивая экспериментально-математическое естествознание и
возникшую на его основе индустриально-техническую цивилизацию <...>,
Хайдеггер, однако, хотел бы пойти дальше
абстрактно-романтического их неприятия. Он хотел бы вскрыть источник, из которого
произошла современная цивилизация, поскольку именно познание
источника может в будущем вывести человечество на новый путь.
Именно этот вопрос и составляет центр тяжести Хайдеггеровой
философии второго периода. Причину всех кризисов
современного мира Хайдеггер усматривает... в забвении бытия. Однако такой
ответ звучит по крайней мере странно в устах мыслителя, который
как раз настаивает на том, что в «диалоге» человека с бытием
инициатива принадлежит всегда именно бытию. Как же в таком случае
бытие может оказаться «забытым»? На этот вопрос призвана дать
ответ концепция метафизики и ее истории, которая стоит в центре
внимания Хайдеггера, начиная с середины 30-х гг.*
По Хайдеггеру, вся европейская метафизика, начиная с
Платона и кончая немецким идеализмом и далее учением Ницше, — это
история забвения бытия. На вопрос о том, как же вообще бытие
может оказаться забытым, Хайдеггер дает ответ, вполне достойный
современного оракула: в этом состоит «судьба бытия». Такое
«оказывание» действительно вполне аналогично «умолчанию»: по поводу
такого «ответа» нечего возразить. Судьба бытия — это история его
забвения. «Бытие всегда существует в той или иной судьбоносной
форме: (puoiç, kôyoç, ëv, i5éa, évépyeia, субстанциальность,
объективность, субъективность, воля, воля к власти, воля к воле»**. Забвение
бытия, по Хайдеггеру, имеет характерную форму: бытие — ив этом
Хайдеггер видит саму сущность метафизики — отождествляется
с сущим, т. е. с тем, что в «Бытии и времени» было обозначено как
«Vorhandenheit», наличное и что предполагает так называемую
«теоретическую» установку, рождение которой Хайдеггер
связывает с платоновским учением об идеях. По мнению Хайдеггера,
современное естествознание является конечным результатом такого
отождествления бытия с сущим; само это отождествление Хайдеггер
именует субъективизмом, поскольку, по его словам, исходное для
метафизики расщепление всего сущего на субъект и объект
приводит в конечном счете к превращению человеческого субъекта в центр
мироздания***.
Точнее, с этого времени концепция метафизики получает новую редакцию,
поскольку сама тема метафизики и критическое отношение к последней
присутствует и в ранних работах Хайдеггера.
'* Heidegger M. Identität und Differenz. Pfullingen, 1957. S. 64,
" См.: Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. Pfullingen, 1954. S. 18 ff.
222
П. П. Гайденко
<...> Далее, невозможно согласиться с основным утверждением
Хайдеггера относительно метафизики, а именно с тезисом, что в
метафизике бытие отождествляется с сущим. Совершенно
справедливо возражает Хайдеггеру Т. И. Ойзерман, замечая, что «творцы
великих метафизических систем отнюдь не все отождествляли сущее
с бытием. Метафизика стремилась постигнуть "бытие сущего" как
то, что находится по ту сторону чувственно воспринимаемого мира.
Хайдеггеру, конечно, было известно, что то различие, которому он
придавал столь фундаментальное значение (различие между сущим
и бытием сущего), было не чуждо и метафизике. Поэтому он
разъясняет: все, что метафизика принимает за сущее, существенное,
трансцендентное, сверхчувственное, есть не бытие, а сущее»*.
Если под сущим понимать «налично сущее», как это делает Хай-
деггер в «Бытии и времени», то, как верно указывает Т. И.
Ойзерман, большинство представителей классической метафизики
налично сущее с бытием не отождествляли. Однако Хайдеггер расширяет
смысл слова «сущее», включая сюда вообще все то, что может быть
«объектом» для «субъекта», а значит, то, что может быть предметом
мышления. А сюда относится и сверхчувственное, например
платоновские идеи, аристотелевские формы, «субстанции» Декарта,
«монады» Лейбница. Но если даже, следуя логике Хайдеггера, мы
согласимся с его тезисом, что в этом пункте метафизика отождествляет
бытие и сущее, то остается еще один вопрос: а как быть с такими
реалиями, как «Единое» Платона и неоплатоников, как «бытие» у
Августина, Боэция, Фомы Аквината? Ведь эти «сверхреалии» не
могут быть доступны мысли, а потому не являются «объектами» для
«субъекта», т. е. сущим, как его определяет Хайдеггер. Ведь если
Хайдеггер характеризует бытие как «немыслимое»**, то в таком
случае его «бытие» ничем не отличается от платоновского «Единого»
и от томистского бога, который как раз и носит имя «бытие». А ведь
генология неоплатоников и Платона, так же как и онтология
Боэция, Фомы, Суареса и других составляет важнейшее ядро той самой
«метафизики», которую Хайдеггер считает неспособной различить
бытие и сущее.
Как видим, в своем центральном пункте Хайдеггерово
определение метафизики оказывается несостоятельным, а потому
повисает в воздухе и его критика метафизики. Надо сказать, что понятие
метафизики, как оно сформировалось в работах Хайдеггера,
начиная с середины 30-х гг., несет на себе печать влияния Фр. Ницше,
к которому Хайдеггер как раз обратился в лекциях, читанных им
в университете с 1936 по 1940 г. Ведь именно Ницше ведет от Пла-
* Oiserman T. I. Op. cit. S. 204.
** Heidegger M. Was heisst Denken? Tübingen, 1954. S. 72.
От исторической герменевтики к «герменевтике бытия»
223
тона (и Сократа) происхождение ненавистной ему европейской
метафизики, которую он без обиняков тесно связывает с христианством,
видя общее у них в том, что они «раздваивают» мир на чувственный
и сверхчувственный и на этом основании возводят здание
христианской морали. <...> Влиянием Ницше и его трактовки западной
метафизики объясняется и тот интерес Хайдеггера к досократике,
как дометафизическому способу мышления, которым отмечено как
раз творчество позднего Хайдеггера и который никак не давал о себе
знать в первый период. Ведь не кто иной, как Ницше был склонен
видеть в философии досократиков альтернативу платонизму и
христианству*. Однако от Ницше Хайдеггера отличает весьма характерное
для него — особенно во второй период — отсутствие определенности
в оценках и суждениях, которое — и это не случайно — нашло свое
воплощение и в его учении о бытии, о котором ничего
определенного высказать невозможно. Бытие — это не Бог и не основа мира,
не источник и творец сущего: «Бытие, — пишет Хайдеггер, — шире,
чем сущее, и ближе человеку, чем любое сущее, будь то животное,
произведение искусства, машина, будь то ангел или Бог. Бытие —
самое близкое. Однако близкое остается человеку самым далеким.
Человек всегда держится только за сущее»**. Как видим, Бог для
Хайдеггера — только сущее. Как и Ницше, Хайдеггер считает
понятие Бога продуктом метафизики, которая должна быть преодолена
«подлинным мышлением». Согласно В. Шульцу, критически
проанализировавшему учение Хайдеггера, бытие у позднего
Хайдеггера — своего рода «трансценденция без Бога»***.
Подводя итоги нашего анализа Хайдеггерова «поворота», можно
сказать, что герменевтика Хайдеггера второго периода — это
герменевтика онтологическая; не историчность существования, а «истина
бытия» — вот предмет герменевтического рассмотрения
Хайдеггера. И характерно, что если на историческую герменевтику
Хайдеггера первого периода опирался Р. Бультман и его последователи,
видевшие центр тяжести теологии в экзегетике, то на онтологическую
герменевтику позднего Хайдеггера опирается противоположное
направление в протестантской теологии, возглавляемое
евангелическим теологом Генрихом Оттом. Отт убежден, что хайдеггеров-
ское учение о бытии может служить фундаментом для построения
систематической теологии. Ученик Карла Барта, постоянного
оппонента и противника либеральной теологии Бультмана,
упрекавшего Бультмана в субъективизме и релятивизме, Г. Отт тем не менее
* Nietzsche F. Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. Nietzsche's
Werke. Bd. I. Leipzig, 1906. S. 407-502.
** Heidegger M. Piatons Lehre von der Wahrheit. Bern, 1947. S. 54.
*** Schulz W. Der «Gott der Philosophen» in der neuzeitlichen Metaphysik. S. 55.
224
П. П. Гайденко
считает, что сущность теологии в целом герменевтична;
♦Теология, — пишет Ott, — и есть собственно герменевтика»*. Только
центральным звеном в этой герменевтике Отт, в отличие от Бультмана,
считает именно систематическую теологию, т. е. догматику. Что же
именно привлекает Отта в методе позднего Хайдеггера?
Послушаем самого Отта: * Систематическая теология мыслит, исходя из
неизреченного, из самого предмета, евангелия, — подобно тому как
Хайдеггер в своей интерпретации Гёльдерлина и Тракля
спрашивает не о том, что Гёльдерлин и Тракль "имели в виду", а о том, что им
было доверено сказать»**. Наука, согласно Отту, который здесь идет
за Хайдеггером, «не мыслит», поскольку она, будучи последним
продуктом «метафизики», никогда не ставит вопрос о бытии.
Поэтому и теология не должна ориентироваться на науку и называть себя
наукой, как это делала традиционная теология. Хайдеггер в своих
работах позднего периода создает фундамент для построения
теологии по ту сторону метафизики***. «Я утверждаю, — пишет Отт, — что
развитое здесь понимание систематической теологии
соответствует предложенному Хайдеггером пониманию мышления и языка» ****.
Отта привлекает хайдеггоровское понимание мышления, потому
что оно по своему характеру существенно не отличается от веры.
Это позволяет, с одной стороны, вернуться к онтологии, тем самым
преодолев субъективизм «историчности существования», а с
другой — трактовать онтологию столь неопределенно, что она теолога
абсолютно ни к чему не обязывает.
В этом смысле онтология Хайдеггера не имеет ничего общего
с классической онтологией, как она существовала в Античности,
в Средние века и в Новое время, кроме разве одного пункта:
Хайдеггер тоже переносит «инициативу» (если воспользоваться
выражением А. Бухера) на сторону самого бытия, в то время как в его ранних
работах инициатива была на стороне человеческого существования.
Как видим, перелом в мышлении Хайдеггера оказался
достаточно радикальным, и даже в трактовке герменевтики, которую он сам
склонен считать моментом, объединяющим его творчество обоих
периодов, происходит существенное изменение. Неизменным остается
только неприятие Хайдеггером классической рационалистической
философии и науки, — неприятие, которое немецкий философ
разделяет с философией жизни и особенно с Фр. Ницше, — во второй
период. И сам «поворот» Хайдеггера связан с тем, что от ориента-
* Ott H. Was ist systematische Theologie? In: «Der spätere Heidegger und die
Theologie». Bd. 1. S. 96.
** Ibid. S. 108.
*** Ibid. S. 128.
**** Ibid. S. 127.
От исторической герменевтики к «герменевтике бытия»
225
ции на Киркегора (в «Бытии и времени») он в 30-х гг. — вероятно,
не безотносительно к происходившему в Германии политическому
«повороту», переходит к «ориентации на Ницше», которого,
впрочем, вскоре тоже причисляет к «метафизикам» — как замыкающего
их ряд. И понятно: заслугу «преодоления метафизики» Хайдеггер
не хочет делить ни с кем.
^5^
^^^
Т. В. ЩИТЦОВА
К герменевтике события у Хайдеггера и Бахтина*
Мы должны дать выступить полной
загадочности бытия Dasein, пусть лишь для того, чтобы
суметь провалиться на ее «разгадке» и заново
поставить вопрос о бытии брошенно-набрасыва-
ющего бытия-в-мире.
М. Хайдеггер**
Мой доклад — это попытка прояснить, опираясь сначала на
Хайдеггера, а потом — на Бахтина, загадочность бытия Dasein. Следуя
экзистенциальной аналитике Хайдеггера, мы должны признать, что
прояснить загадочность бытия Dasein мы можем, только если дадим
себе (сумеем) провалиться в нее: «Решающее не в том, — пишет
Хайдеггер, — чтобы выйти из круга, а в том, чтобы правильным образом
войти в него» ***. «Правильным образом» значит здесь — не повредив
его бездонности. Позитивная возможность исходнейшего познания,
которая в этом круге, по словам Хайдеггера, таится, обусловлена
феноменом равноисходности конститутивных моментов в
фундаментальной онтологии. Поэтому, вступив в круг, мы должны отпустить
себя провалиться в него, а не подставить — «вследствие
методически необузданной тенденции» — какое-то одно основание, заложив
которое мы просто «сядем в лужу».
Когда Хайдеггер трактует Dasein как Möglichsein, он открывает
зазор в бытии Dasein, а точнее, само Dasein открывается как такой
зазор. В него и должны мы провалиться, чтобы прояснить
загадочность бытия Dasein, то есть в первом приближении мы можем ска-
* This work was supported by Research Support Scheme of the Open Society
Support; Foundation, grant № 538/1998.
Хайдеггер M. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. M.: Ad Marginem,
1997. С. 148.
'* Там же. С. 153.
К герменевтике события у Хайдеггера и Бахтина
227
зать, что в этом зазоре загадочность и лежит. Однако не так, что мы
можем его обозначить, обозначив некие рамки, обрамляющие
содержимое. Мы говорим, что бытие Dasein заключается, или состоит,
в зазоре точно так же, как говорим: трудность заключается, или
состоит, в том, что... — то есть она сама есть то, в чем она состоит. Хай-
деггер на этот счет пишет: «Присутствие брошено в экзистенцию»*.
Надо сказать, что зазор в экзистенции (а это значит —
экзистенцию как зазор) приоткрыл уже Киркегор: во-первых, когда описал
особую диалектику экзистенциального выбора и, во-вторых, когда
определил экзистирующего как inter-esse. Одновременно, но
независимо от Хайдеггера специфический характер этого зазора
показал Михаил Бахтин, что терминологически нашло у него выражение
в таких парных понятиях, как нераздельно/неслиянно,
данное/заданное, а также в понятии события. Хайдеггер, истолковывая тот
или иной экзистенциал, всякий раз методически обнаруживает
характерное экзистенциальное несовпадение с самим собой
человеческого бытия (в первую очередь при прояснении структуры наброска
или, например, при разведении зовущего и познанного в феномене
совести). При этом Хайдеггер последовательно отказывается от ряда
понятий, способных, казалось бы, зафиксировать этот загадочный
промежуток, который обнаруживает себя не иначе как в рамках
такой исходной структуры, как «бытие-вж И прежде всего, Хайдеггер
отказывается ориентироваться на понятие, которое напрашивается
здесь более всего, — понятие «между». Говоря «Dasein есть бытие
этого "между", мы уже ближе к феноменальному факту, —
соглашается Хайдеггер, — однако эта ориентация, — пишет он далее, —
исподволь вводит онтологически неопределенное сущее, в чьем
промежутке это между как таковое "есть". Между осмысливается уже как
результат convenue двух наличных. Их предваряющее введение,
однако, всегда уже взрывает феномен, и бесперспективно всякий раз
снова складывать его из разорванных кусков. Не только "клея" нет,
но взорвана, соотв. так никогда и не раскрывалась "схема", по какой
должно произойти сопряжение. Онтологически решающее лежит
в том, чтобы заранее предотвратить взрывание феномена, т. е.
обеспечить его позитивное феноменальное состояние (Bestand)» **.
Иными словами, зазор, в который мы хотим попасть, — не промежуток.
От слова Bestand (состав), способного, казалось бы, схватить
цельность и слаженность бытийной конститутции Dasein,
Хайдеггер также старается воздерживаться: оно если и используется им
применительно к Dasein, то большей частью или с добавлением
* Там же. С. 276.
** Там же. С. 132.
228
Т. В. Щитцова
«феноменальный»*, или в кавычках**. Бытийный род наличности,
по Хайдеггеру, — это и есть бытийный род состава, и в таком
качестве он противопоставляется Dasein с его экзистенциалом
наброска***. Однако это вынуждает Хайдеггера отказаться и от
структуры круга для онтологической характеристики Dasein, поскольку
«круг, — как он отмечает, — онтически принадлежит к бытийному
роду наличности (состава)»****. Оставляя в стороне круг как
некоторый состав, Хайдеггер тем не менее прежде отмечает — имея в виду
движение по кругу, круг понимания, — что Dasein как сущее, для
которого в его бытии речь идет о самом этом бытии, имеет
онтологическую структуру круга. Это означает, прежде всего, что Dasein
само есть свое основание, а понимание, в свою очередь, тот «клей»,
или «схема», которая сопрягает Dasein в его зазоре. Не будем пока
торопиться дискредитировать и этот термин. Я не навязываю его
искусственно как замену чему-то, но пытаюсь опереться на него,
чтобы прояснить то, что есть.
Хайдеггер признается в «Бытии и времени», что невозможно
вытравить призвук пространственного значения из такого
экзистенциального понятия, как ситуация (Lage)*****, и обосновывает это тем,
что он есть и в Da Dasein, которым (то есть этим Da) отмечена
сущностная разомкнутость (Erschlossenheit) Dasein. Если в слове
«зазор» также неумолимо присутствует пространственное значение,
то прояснить его нужно, обратившись в первую очередь к
феноменологическому описанию наброска у Хайдеггера. На странице 145
«Бытия и времени» он пишет: «Набросок есть экзистенциальное
бытийное устройство простора фактичного умения быть. И в качестве
брошенного Dasein брошено в способ бытия наброска»******.
То, что Бибихин перевел как простор, буквально есть
пространство игры — Spielraum, — которое снова возвращает нас к
герменевтическому кругу. Движение по кругу, если отойти от
наличного состава круга и иметь в виду герменевтический феномен как
таковой, постигается, согласно Гадамеру, благодаря такой простой
структуре движения, как движение туда-обратно (или
«назад-вперед отнесенность», по Хайдеггеру). Эта «детская» подсказка
находит себе убедительное подкрепление в тексте «Бытия и времени».
Бытию-в, брошенности и падению отвечает не менее исходная
направленность «из», внятно артикулированная уже в характеристи-
* Например: Хайдеггер М. Бытие и время. С. 132, 304.
'* Например: Там же. С. 303.
'* См.: Там же. С. 145.
'* Там же. С. 153.
" Там же. С. 299.
'* Там же. С. 145.
К герменевтике события у Хайдеггера и Бахтина
229
ке Dasein как экзистирующего, истолковывающего (auslegende)*.
Кроме того, в качестве текстовых подтверждений, которых
закономерно много, хочу обратить внимание на высказывания о зове
совести как идущем из меня**, или, например, на странице 287 о Dasein,
вызванном зовом совести, сказано следующее: «Вызванное к его
наиболее своей бытийной способности (вперед-себя) из падения
в людей (курсив везде мой. — Т. #(.)»***. В последнем случае
обнаруживается со всей очевидностью, что точно так же, как два модуса
бытия Dasein (собственный и несобственный) не могут быть
разведены подобно двум разным дорогам, так и брошенно-набрасывающее
бытие Dasein загадочным образом есть одновременно эти «к-из-в».
«В качестве брошенного, — пишет Хайдеггер, — Dasein брошено
в способ бытия наброска» ****. Иными словами, равноисходность этих
двух направленностей (в-из / in-aus) как конститутивных моментов
бытия Dasein имеет сквозное (в буквальном смысле) значение для
самостояния экзистирующей самости.
Трудность заключается в том, чтобы удерживаться от
прямого пространственного представления (по типу наличности) того
зазора понимания и экзистирования, в котором со-стоит Dasein.
«Dasein, — пишет Хайдеггер, — есть свое основание экзистируя,
т. е. так, что оно понимает себя из возможностей (курсив мой. —
Т. Щ.)******. В круге понимания «из» и «в» укоренены друг в друге:
отсылая одно к другому, они находят друг в друге основание и
одновременно вскрывают его ничтожность. В своей загадочной
расщепленности Dasein прежде всего не субъект и не субстанция. Круг
понимания (который, надо признать, сохраняет свою наглядность
для экзистенциальной аналитики именно в силу своего
специфического «состава») открывает Da как просвет (Lichtung) с
соответствующим ему смотрением (Sicht). «Понимание, — пишет
Хайдеггер, — в его характере наброска экзистенциально составляет то, что
мыназываемслютрениелШавет» ******. Здесь, во-первых, находитсебе
оправдание наш вспомогательный термин «зазор*, а во-вторых,
оказывается уместным снова указать на возможность
корректировки имеющегося русского перевода, поскольку то, что в
приведенной выше цитате передано как «составляет» и отсылает,
соответственно, к наличному составу (Bestand), в оригинале звучит как
Позволю себе некоторые корректировки в переводе Бибихина, в частности
при переводе Auslegung: у Бибихина «толкование» — мне кажется важным
подчеркнуть это aus — истолкование.
Например: Хайдеггер М. Бытие и время. С. 275.
*** Там же. С. 287.
**** Там же. С. 145.
***** Там же. С. 285.
****** Там же. С. 146.
230
Т. В. Щитцова
ausmacht. И поскольку это «aus», как мы выяснили, не упирается
в какое-то незыблемое основание (будь то субстанция или точка
самости), то «смотрение, первично и в целом отнесенное к
экзистенции», Хайдеггер называет прозрачностью (Durchsichtigkeit)*.
Самопознание есть тогда не что иное, как «понимающее сквозное
схватывание полной разомкнутости»**. Иными словами: прояснить
загадку Dasein — значит стать прозрачным себе в конститутивных
моментах своей экзистенции.
Понимание как модус бытия Dasein исходит из возможностей,
которые набрасывает себе Dasein как Möglichsein. Это
подразумевает Хайдеггер, когда говорит, что понимание имеет
экзистенциальную структуру наброска***. Как известно, он очень подробно
рассматривает одну из возможностей, которую подает (vorgibt) себе Dasein,
а именно возможность затеряться в людях (das Man), и отмечает
в этой связи соблазнительный (в переводе Бибихина) характер
повседневного бытия-в-мире: «Dasein само готовит себе самому
постоянный соблазн падения» в das Man****, — пишет Хайдеггер. Слово,
которое использует в данном случае Хайдеггер — Versuchung (и
соответственно versucherisch), Бибихин, что весьма примечательно,
переводит двояким образом: «соблазн (соблазнительно)» — и это
чаще всего, — но также и «искушение». Последнее прямо отвечает
бездонной прозрачности Dasein-измерения, в котором Dasein,
подавая себе самому возможности, тем самым постоянно этими
возможностями искушаемо. В своем самостоянии Dasein стоит (и
«состоит») в искушении (это его «со-стояние»). Обращаю внимание на то,
что Хайдеггер так и пишет: «Бытие-в-мире само по себе искуситель-
но (versucherisch)» *****, то есть нельзя сводить искусительный
характер бытия Dasein исключительно к характеристике повседневного
бытия-в-мире. Хайдеггер не случайно опустил спецификацию
«повседневный» при определении Dasein как искусите л ьного. То, что
Бибихин переводит здесь данный термин как «соблазнительно»,
продиктовано контекстом, в котором речь идет о падении в das Man.
Если Dasein идет на поводу у этого искушения, оно приходит в
состояние падшести (Verfallenheit). Слово «соблазн» делает акцент
на том, что сводит (verfurt — Хайдеггер использует в данном
случае и этот глагол), сбивает Dasein с самостояния. Не устоять
перед соблазном означает у Хайдеггера « подпасть беспочвенности » ******.
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 146.
" Там же.
" Там же. С. 145.
'* Там же. С. 177.
* Там же.
* Там же.
К герменевтике события у Хайдеггера и Бахтина
231
Мы отмечали в связи со структурой круга, что Dasein само есть свое
основание. Будучи само своим основанием, оно само себя
искушает, испытывает на свои возможности. Собственное существование
становится для Dasein испытанием. Соблазн падением в das Man,
само это падение означают искажение в том кругу испытания,
каким выступает Dasein — происходит замыкание в das Man.
«Зазорная ситуация» — со-стояние (как «Zu-stand», но так же как
«Verstehen»), — в котором находится Dasein в его самостоянии, очень
хорошо схватывается бахтинским термином «событие», не менее
уникальным по своей динамике и заложенным в нем
имплицитным смыслам, нежели хайдеггеровское Dasein. В значении выхода
к чему-то новому, то есть как событие, оно отсылает нас к понятию
решимости (Entschlossenheit) у Хайдеггера. «Решимость, — пишет
он, — вводит бытие вот в экзистенцию его ситуации»*. Но ситуация
у Хайдеггера — это не что иное, как производная случая (Zufälle).
«Только для решимости, — пишет Хайдеггер далее, — из
совместного мира и миросреды может с-лучиться то, что мы называем
случаем»**. «Случиться», которое Хайдеггер пишет через дефис (zu-f allen),
противостоит verfallen (падению) и согласуется с тем значением,
которое удерживается в бахтинском понятии при его прочтении как
«со-бытие». Но тогда я снова рискну поправить уже имеющийся
перевод, поскольку в свете всего сказанного Zufälle должно быть
понято как «со-в-падение» — слово, которое, во-первых, удерживает
загадочный зазор Dasein, во-вторых, ясно показывает
экзистенциальную альтернативу «падению», и, в-третьих, не в меньший
степени, чем «случай», связано со смыслом как
«формально-экзистенциальным каркасом принадлежащей к пониманию разомкнутости»***.
Хайдеггер специально подчеркивает, что «смысл есть экзистенциал
Dasein, не свойство, которое присуще сущему, располагается "за"
ним или где-то парит как "междуцарствие"»****.
Итак, подчеркну еще раз, что исходным образом Dasein
находится в ситуации, которую мы определили достаточно специфически
как «зазорную ситуацию». Однако именно здесь, как ни странно,
мы снова находим существенное оправдание этому нововведению.
Совершив или собираясь совершить какой-либо поступок и
испытывая определенные колебания по этому поводу, мы говорим: «Что
в этом зазорного?» — имея в виду: «В чем я провинился, в чем моя
вина?» Экзистенциальное исполнение зазора — и это мы находим
у Хайдеггера — бытие-виновным (Schuldigsein). Первое предполо-
* Там же. С. 300.
Там же.
*** Там же. С. 151.
Там же.
232
Т. В. Щитцова
жение, которое мы должны здесь сделать, исходя из всего
сказанного, — это то, что зов, о котором пишет Хайдеггер, — двуголосый.
Dasein — зовущее и призываемое — слышит два голоса: голос
искушения и голос совести. Испытанию со-ответствует воспитание.
Наметив лишь полпути — минимум, чтобы оправдать название
доклада, я вынуждена остановиться. Скажу лишь, что вторую
половину пути предполагалось пройти вместе с Бахтиным. В книге о
Достоевском (да и в ранних работах) Бахтин раздвигает горизонт
события, вовлекая в него другого. Бахтинский анализ произведений
Достоевского показывает, на мой взгляд, что отношение *сам-дру-
гой» может быть прояснено исходя именно из определения Dasein
как Möglichsein. В опыте такого отношения также может произойти
своего рода замыкание (увязанное с замыканием в das Man), а
именно появление двойника, что становится самым большим
испытанием для «человека в человеке».
€^
T. M. ГОРИЧЕВА, Ю. M. РОМАНЕНКО, А. Б. ПАТКУЛЬ
Разговор о Мартине Хайдеггере
(интервью 15 августа 2019 года, Санкт-Петербург)*
Ю. Р. : Татьяна Михайловна, давайте начнем наш разговор о
значении Мартина Хайдеггера для русской философии с вопроса о
Вашей переписке с ним. Расскажите, пожалуйста, как это произошло?
Т. Г. : Да, давайте я Вам прочитаю одно из писем, которое я
специально перевела на русский язык по этому случаю, так как их
оригиналы на немецком языке хранятся в одном из германских архивов.
Я хочу представить это именно в своем авторском переводе,
поскольку другие могут перевести неточно, а то и наоборот. А потом можно
будет перейти к другим вопросам, в частности к нашему <...>
факультету.
Ю. Р.: Да, философский факультет
Ленинградского/Санкт-Петербургского государственного университета, который Вы, Андрей
Борисович, и я заканчивали в разные годы, весьма специфический.
Т. Г.: У меня о нем осталось особое впечатление. Хотя, не хочу
быть неблагодарной, что-то ведь было, например диплом
преподавателя марксистско-ленинской философии и научного коммунизма
(смеется).
Ю. Р.: Это в зависимости от того, какое отделение заканчивали
студенты в то время.
Т. Г.: Итак, начнем. Господи, благослови!
[Читает текст перевода письма к М. Хайдеггеру от 5 сентября
1974 года из Ленинграда, написанный от руки на двух тетрадных
страничках]:
Глубокоуважаемый господин Хайдеггер!
Хочу поздравить Вас с днем рождения и выразить Вам от лица
русской интеллигенции великую благодарность и благоговение.
* Авторы выражают благодарность за организацию встречи и помощь в
проведении интервью Татьяне Ивановне Ковальковой.
234
T. M. Горичева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
Для многих из нас (даже для тех, кто знает о Вас благодаря
советской критической литературе) Ваши труды позволили в
первый раз в жизни приблизиться к невыразимому Слову Бытия.
Благодаря Вашим книгам наша мысль приблизилась к
первоначалу.
Здесь, в стране «самых холодных бездн», где «забытость» Бытия
особо ужасна, чувствуется след ушедших богов, рискуют «на одно
дыхание больше», поскольку «там, где опасность, там растет и
спасение». Здесь, по ту сторону пессимизма и оптимизма, у нас нет
шанса на побег. Ваши слова о «мировой ночи» звучат здесь с особой
силой.
Многие мыслители и поэты пытаются сказать то же, что и Вы.
Их мысль и поэзия онтологичны и экзистенциальны. Этот способ
мысли для нас самый исторический. В то время, когда сказки
официальной идеологии растворяются в безликом равнодушии, Ваша
мысль охраняет нас также от неподлинности и слепоты
религиозности, как и от случайности субъективизма. Тем, кто любит свободу,
она указывает на вызов лесных троп.
Ваши книги здесь очень тяжело достать. Некоторые из них я
перевела и распространила. Истинность Ваших слов о языке, как
«доме Бытия», потрясла меня. Я перевожу медленно и не
стремлюсь к быстрому нахождению русских эквивалентов.
Верьте: многие из нас несут в своих душах высокую
решительность и Ваша философия служит для нас настоящим призывом.
С уважением и почтением, Таня Горичева.
Ю. Р.: Спасибо большое, Татьяна Михайловна, за чтение! Очень
хорошая интонация!
Т. Г. : Та же интонация, с какой и писалось.
А. П. : Меня даже заворожило немного.
Т. Г.: Ну, так а я в романтическом стиле с детства. Да,
фундаментальная решительность, зов Бытия.
Ю. Р. : Татьяна Михайловна, будем считать, что у нас получилась
отличная увертюра к нашей сегодняшней беседе. Может быть,
дальше мы с Андреем Борисовичем будем задавать Вам по очереди
подготовленные вопросы, их много, и мы понимаем, что на них
невозможно ответить, но выберите для себя наиболее интересные и значимые.
А. П. : Татьяна Михайловна, первый блок вопросов у нас
биографический, я бы даже сказал, интеллектуально-биографический.
Пример Вашего духовного становления — хотя, может быть, это
было и отражением более общей исторической ситуации — навел
нас на вопрос о том, что в то время могло привлечь молодого
человека, молодую женщину к философии? Как получилось, что, не зная
Разговор о Мартине Хайдеггере
235
ранее о ней, потом Вы занялись философией всерьез, даже,
насколько я знаю, вопреки Вашему изначальному образованию?
Т. Г.: Я не знаю, как я о себе буду рассказывать, поскольку нас
были миллионы молодых женщин. Я была совершенно средним
советским человеком и никогда не видела людей даже просто
интеллигентных. Я в свое время училась в техникуме, была комсомольским
руководителем. Просто мне как-то хотелось влиять на жизнь, я
чувствовала ответственность за то, что происходит. Вышла из
комсомола, когда Советская армия вошла в Чехословакию. И стала читать
издававшиеся в то время переводы Кафки, Камю, Сартра. Стала
ставить вопрос о смысле бытия. На этот вопрос экзистенциалисты,
конечно, отвечали отрицательно, или трагически, или стоически, что
нужно катить этот «камень», как Сизиф, что нужно сопротивляться
страшной судьбе. И я в таком трагическо-стоическом мировоззрении
поступила на философский факультет ЛГУ, потому что подумала,
что нужно знать больше. А я в то время уже хорошо владела
немецким языком. Я думала, что на факультете мне расскажут, какие есть
другие варианты, которые можно выбрать, поскольку философия —
это любовь к мудрости. Но тут же я была очень сильно разочарована.
Потом скажу почему. Но я продолжала сидеть в то время в
библиотеке. Моя жизнь тогда была трудной. Мы с семьей жили в
коммуналке. Друзей у меня почти не было. В девять часов утра я приходила
в Публичную библиотеку и в половину десятого вечером уходила
оттуда, думая, как бы хорошо там остаться ночевать. Так я прочла
очень много литературы: Ясперса, Дильтея, Кассирера, Шлейерма-
хера и т. д. Я была единственной там, кто читал позднего Шеллинга.
У нас на факультете было два-три умных человека. Остальные были
<...>, конформисты, люди, которые не ставили перед собой никаких
философских вопросов. Но некоторые все же, как и я, много читали.
Так я нашла для себя интеллигенцию в Публичке, в курилке, там
было видно, у кого умные глаза. Некоторые там читали Ницше,
Шопенгауэра, Кьеркегора. Мы об этом говорили. У нас был гегелевский
кружок, и все это в таком пол у подпольном, полуподвальном
состоянии. На философском факультете почти ничего нового я не
получила, кроме общения с двумя-тремя интересными ребятами.
Интересных педагогов, ни новых, ни старых, там не было...
Ю. Р. : Но все-таки какие-то преподаватели у Вас остались в
памяти?
Т. Г. : Остались, но либо в нейтральном, либо в негативном плане.
У меня ведь научным руководителем был Кисее ль...
Ю. Р.: ...Михаил Антонович. Он и нам читал курс по критике
современной зарубежной философии. Потом он переехал в Москву,
и Андрей Борисович его уже не застал.
236
T. M. Горичева, Ю. M. Романенко, А, Б. Паткуль
Т. Г.: Он был для меня скорее отрицательным персонажем.
На лекциях он пересказывал Хайдеггера или Сартра из английских
переводов. Я сидела на первом ряду перед его глазами и поправляла
его, как идиотка (смеется). Я у него писала диплом по Хайдеггеру.
К тому же я ему сдавала экзамены по индивидуальному плану.
Потому что весь объем знаний, по герменевтике, феноменологии,
Гуссерлю, которого я во многом прочла, не входил в общий курс по
зарубежной философии. Я получала Ленинскую стипендию. Перед
факультетом я закончила радиополитехникум с дипломом
переводчика с немецкого языка (радиотехнику я потом быстро забыла).
Многие немецкие тексты я знала наизусть. Когда подошло время писать
дипломную работу, я выбрала близкого моему сердцу Хайдеггера.
Взяла в Публичной библиотеке пленочку с «Бытием и временем»,
ее давали на дом, лежала там на полу и с потолка читала с помощью
проектора. Потом написала диплом. Поскольку курс в то время
назывался «Критика современной зарубежной философии», то и тема
диплома была — «Критика фундаментальной онтологии Мартина
Хайдеггера».
Ю. Р. : Татьяна Михайловна, судя по всему, это был первый
студенческий диплом по Хайдеггеру, защищенный в советское время.
Позднее возникнет большое количество эпигонов. Таково было его
официальное название?
Т. Г.: Точно я не помню. Ничего особенно шедеврального там
не было. Но Киссель мне говорил, что это не только страшно читать,
но и страшно носить в портфеле.
Ю.Р.:А страшно почему? Из-за Хайдеггера или...?
Т. Г.: Нет, из-за меня, моих ориентации. Я его любила, а нужно
было критиковать. Например, я сравнивала его там с Ясперсом,
которого менее ценю. Но ни с Марксом, ни с Лениным, ни с Троцким
я его не сравнивала.
Ю. Р.: Что по тогдашним правилам было необходимо. А оценку
за диплом в то время выставлял научный руководитель или была
комиссия, рецензенты?
Т. Г. : Мой диплом прочитал еще один удивительный человек —
Ярослав Анатольевич Слинин.
Ю. Р.: Ярослав Анатольевич, как и Вы, будет представлен в
готовящейся к печати антологии «М. Хайдеггер: pro et contra». Мы ему
с радостью передадим привет от Вас.
Т. Г.: Я его очень ценила и любила. Хотя он был логиком, но он
занимался со студентами очень человечно.
А. П. : Ярослав Анатольевич и сейчас преподает.
Ю. Р. : Да, он является почетным профессором СПбГУ.
Т. Г. : А я думала, что всех хороших людей уже куда-то дели.
Разговор о Мартине Хайдеггере
237
Ю. Р. : А как Ярослав Анатольевич отреагировал на Ваш диплом.
Это был письменный отзыв?
Т. Г.: Он был оппонентом, и единственным, кто тогда в
оригинале, кажется, читал самого Хайдеггера. Он очень хорошо и
положительно выступил. Можно сказать, что он спас мой диплом. Кафедра
логики в то время была очень хорошей.
Ю. Р.: А Вы специализировались, получается, на тогдашней
кафедре «Критики современной зарубежной философии»?
Т. Г. : Да. У нас в то время считался самым блестящим и
неотразимым преподавателем Михаил Антонович Киссель. Но со мной он
никак не хотел встречаться и говорить. Он просто убегал от меня,
потому что я стала уже диссиденткой на каком-то курсе, третьем или
четвертом, стала посещать «Сайгон» [легендарное кафе, где с 60-х
по 80-е годы собирался культурный андеграунд и инакомыслящая
интеллигенция Ленинграда. — Ю. Р.], дружила с опальными
поэтами, какими-то дзен-буддистами, занимающимися йогой. Меня уже
вызывали по этому поводу в деканат, и одна ответственная дама,
хорошая женщина, но коммунистка, говорила мне: «Татьяна, раз ты
не веришь в коммунизм, то уходи тогда с факультета». Но за меня
тогда многие заступились с других кафедр, античники, Доватур,
Зайцев, просили, чтобы меня оставили. И несмотря на эти мои
встречи с богемой, я все-таки закончила факультет и получила два
диплома, один общий и один по индивидуальному плану. А потом
Киссель мне сказал, что они могут рекомендовать меня в
аспирантуру, если я вступлю в партию. Помню, мы на лестнице тогда
стояли, я захохотала таким страшным голосом и сказала: «Вы что, с ума
сошли». Он ответил: «А, ну ладно...» И убежал. Я уже тогда была
такой антисоветчицей.
Ю. Р.: Уникальные факты, Татьяна Михайловна! Думаю, это
будет интересно прочитать молодым людям. Но вернемся к теме
нашего разговора. Что в Вашем дипломе было наиболее значимым для
Вас, какую основную идею Вы защищали?
Т. Г.: Деталей я уже не помню. Диплом не сохранился. Я отдала
его почитать одному поэту, и он не вернул его мне. В тексте я просто
пересказывала экзистенциалы, бытие в мире, голос совести,
который приходит ниоткуда, анализировала, сравнивала с другими
экзистенциальными структурами, там не было ничего особенного.
Ю. Р. : А список литературы какой у Вас был?
Т. Г.: Я читала очень много, например Отто Пёггелера и других,
кто был вокруг Хайдеггера.
А. П. : И это все было в библиотеке на немецком языке?
Т. Г. : Да. И с Запада тоже люди присылали бесплатно литературу.
Несмотря на то, что это было иногда запрещено. Но Публичка была
238
T. M. Горичева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
полна этим. А потом, когда я сама переехала за границу, я тоже
высылала сюда литературу.
А. П.: Татьяна Михайловна, Вы сказали, что предпочитаете хай-
деггеровскую философию, по сравнению с Ясперсом. Почему
именно Хайдеггер привлек ваше внимание больше, чем Дильтей, Касси-
рер и другие авторы?
Т. Г.: Например, я перевела его работу «Что такое метафизика?»,
где написано об ужасе, о том, что бытие ускользает от нас в целом,
все сущее ускользает во время ужаса, но именно тогда появляется
настоящее бытие. Нужно пройти через ничто, чтобы прийти к
бытию. Вот это состояние, состояние ужаса, мне очень близкое. И
сейчас я так думаю. Также я обращала внимание на критику техники,
Gestell, понимание природы как physis, самораскрывающегося
творческого начала, четверицу мира, любовь к земле. Я сейчас
занимаюсь экологией, животными, я с детства терпеть не могу
цивилизацию, как романтик и руссоист. Я считаю, что отчуждение от целого
бытия, от physis, делает человека мертвым. Само начало техники —
это когда мертвые части тела, скажем ногти, растут и становятся
чем-то больше, чем ногти. Это омертвление человечества. То, о чем
Хайдеггер пишет, например, в «Черных тетрадях». Хотя тогда они
не были опубликованы, но он и раньше так говорил, что западный
рост благополучия хуже, чем варварство Азии, что Америка — это
начало «сущности несущности», где творятся настоящие
махинации. И это гораздо страшнее, чем мир коммунизма, мир Востока,
в котором есть просто разрушение цивилизации. А западный
морализм гораздо хуже, чем отсутствие полное морали. Вот это все мне
очень близко.
А. П. : Можно уточнить Вашу позицию, относительно того, о чем
Вы сейчас сказали. Если я, конечно же, правильно понял?
Считаете ли Вы, что цивилизация — это тупик, что она, выражаясь по-хай-
деггеровски, невозможна в собственном модусе. Мне-то кажется,
что Хайдеггер оставляет лазейку из этого тупика, когда говорит,
опираясь на Гёльдерлина, что там где опасность, там и спасительное
вырастает, что та же техника — это определенный способ истинство-
вания, что она позволит раскрыться истине бытия (и потому в
известном смысле является неизбежным, если угодно, этапом истории
бытия и его забвения, этапом, претерпеть который, выстоять в
котором нужно взять на себя труд).
Т. Г. : Ну, как техника может позволить раскрыться истине?
Хайдеггер, например, говорил, что изобретение атомной бомбы было
уже последствием исчезновения вещей. Это для нас вещи —
объекты, а для германской традиции вещь — das Ding — это нечто
романтическое, наполненное жизнью, дышащее — у Рильке так, у Хоф-
Разговор о Мартине Хайдеггере
239
мансталя. Так же было и в древнерусской традиции. «Сотвори о мне
вещь» — у нас молитва такая есть, к Господу обращенная. Так вот,
Хайдеггер говорит, что сотворение атомной бомбы есть просто
внешнее выражение того, что вещь перестала существовать как вещь, она
стала мертвым объектом. Поэтому и человек превратился в мертвый
объект, в этот самый постав. Поэтому никакого просвета здесь нет,
он его не видит.
Когда Хайдеггер прислал мне ответ на мое письмо, там были
такие стихи: «Чем более редки поэты, тем более одиноки философы...
Так проходит время». Я была во Фрайбурге в гостях у Германа —
сына Хайдеггера, который тогда еще не всё опубликовал из
наследия. А некоторые стихи из него Хайдеггер мне лично прислал
перед смертью. Это были стихи, которые никто не мог перевести у нас
в Петербурге [тогдашнем Ленинграде]. Я передала их поэту
Кривулину, а он другим; видно, они попали к французам, которые ценили
Хайдеггера.
Ю. Р. : У Вас не сохранились эти стихи в личном архиве?
Т. Г.: Нет, у меня же были обыски сплошные, когда я уезжала
из Советского Союза. У меня ничего не осталось на руках. Эти
письма приходили ко мне из ГДР. Было два ответа на два моих письма.
Ответ на второе был в виде стихов. Потом он скончался в 1976 году.
Из второго письма я помню одну свою мысль. Хайдеггер писал
очень красивым готическим почерком. Мне Герман показывал его
рукописи, это похоже даже на церковнославянское письмо, как
будто игумен руку приложил, очень красиво (улыбается). Он мне
послал свой портретик. А второе письмо я начала с вопроса: «Что Вы
делаете, когда бытие отступает от Вас?» Потому что исчезновение
бытия и есть смысл цивилизации. Отход бытия от нас. А я в то
время уже была верующим человеком. Я думала, как существовать,
когда истина уходит?
Ю. Р.: Как в состоянии богооставленности...
Т. Г. : Как богооставленность, да. Что вы делаете? И в ответ на это
он послал мне свои стихи. Там не было никакого другого
прозаичного текста. Целый пакет, около десятка стихов. Может быть, это еще
можно найти, если искать. Когда я была в деревне под Фрайбургом
в гостях у Германа, полковника немецкой армии, он мне показывал
архив и говорил: «Татьяна, я это никому не даю и даже не пускаю
сюда». Мы там сидели с ним и двумя внуками, обедали. Это
католическая семья, фундаментальная. В то время во Фрайбурге я
читала свой очередной доклад, там раскупали мою книгу. Он подошел
ко мне, высокий такой, и попросил написать в книге — Хайдеггеру.
А потом сказал: «Мой отец очень Вас любил». И попросил приехать
к ним, пообедать и поговорить. Я даже не знала, что осталась такая
240
T. M. Горичева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
память обо мне. Конечно, это было дорого очень. Но я не могу
сказать, что он был знаток философии. И Хайдеггер не любил свое
философское окружение и общался с немногими людьми.
А. П. : А почему так было? Есть ли в этой дистанцированности
какое-то философское содержание? Или это особенность характера
Хайдеггера как человека и мыслителя, своеобразный снобизм, что
ли?
Т. Г. : Ну они ведь нападали на него так, как ни на кого. Только
на Иисуса Христа так нападали в истории. Была антихайдеггеров-
ская линия. Даже когда они пытались исходить из феноменологии,
это было слабо, не было масштаба Хайдеггера. Поэтому он дружил
с японцами или французами; может быть, Эрнст Юнгер появлялся.
И все-таки он любил Россию. Даже на выступление Вознесенского
ходил.
Ю. Р.: Продолжая вопрос об окружении Хайдеггера, его
родственниках и коллегах, учениках — у Вас сохранились
воспоминания и связи с ними? Может быть, вы общаетесь с ними,
сотрудничаете, кого бы можно было выделить сейчас?
Т. Г. : Нет, сейчас не общаюсь. В настоящее время обращает
внимание на себя Слотердайк, который ссылается на Хайдеггера. Я
дружила с богословом Хансом фон Бальтазаром, хорошо знавшим
Хайдеггера, который вместе с тем дружил с богословом Бультманом.
А Бультман для меня — тяжелая фигура, потому что
демифологизация богословия для меня очень неприятна. А Хайдеггеру как раз
нравилось демифологизировать.
Ю. Р.: Хайдеггер был демифологизатором?
Т. Г. : Нет, он не был демифологизатором. Просто он считал
религию и богословие областью онтического, то есть сущего, а не бытий-
ственного. Поэтому никакого Бога, то, о чем говорит богословие, —
это идол. Это то, о чем сейчас пишет Марион. Когда мы говорим: Бог
вечен, бесконечен, благостен — это чушь полная, это мы говорим
об идоле. У него была апофатическая точка зрения на Бога. Он себя
считал не христианином, но я его считаю христианином.
А. 77.: В Германии мне рассказывали, разумеется,
неофициально, что Хайдеггер перед самой смертью все же завещал себя
похоронить по католическому обряду.
Т. Г.: Да, он похоронен по католическому обряду. А как иначе.
Вся семья католическая, жена верующая, все дети. Вообще, в этой
области в Швабии по-другому нельзя.
А. П. : То есть это не его личный посыл и выбор был, а скорее
условия жизни семьи, общественные условности?
Т. Г.: Тогда там в Швабии не было атеистов, тем более это были
приличные круги, жена — дочь генерала. Но Хайдеггер все-таки
Разговор о Мартине Хайдеггере
241
считал религию сферой онтического, поэтому заведомо
неистинного. Я тоже согласна с ним, что современное богословие, в том числе
и у нас, настолько далеко от православной апофатической
традиции. Надо закрыть все эти кафедры богословия.
Ю. Р. : Но у нас сейчас богословие официально признано наукой
Высшей аттестационной комиссией, в университетах защищаются
диссертации по теологии.
Т. Г.: Какая там наука, господи!
А. П.: Но ведь у Хайдеггера в работе «Феноменология и
теология» 1927 года, признаётся, что теология — это наука, причем
вполне себе онтическая наука, в отличие от философии как науки
онтологической. Но теология как онтическая наука все же опосредована
верой — и это отличает ее от прочих онтических наук: математики,
физики, истории, языкознания и пр. Поэтому, на мой взгляд,
возникает вопрос почему богословие вообще не называется у него пистео-
логией, наукой о вере? Мне вообще кажется, это очень трудный и
неоднозначный вопрос — отношение Хайдеггера к Божественному.
Т. Г.: Хайдеггер сейчас популярен в богословии. Когда я училась
у иезуитов во Франкфурте-на-Майне, там каждый второй текст
через Хайдеггера шел, через его понятие Ereignis — а это и есть Иисус
Христос, то есть встреча противоположностей. Господь Иисус
Христос есть нераздельно-неслиянное соединение Бога и человека. Это
вполне Ereignis, Событие, по-гречески кайрос.
Ю. Р. : То есть хайдеггеровское Ereignis — это и есть его
высказывание о христианстве?
Т. Г.: Нет, он говорил о просто событии. Человек присваивает
бытие через событие. Время не линейно —
сегодня-завтра-послезавтра — это американское планирование. Время — это творческий
скачок через пропасть небытия, через страх, через ускользание
бытия в целом. Время есть горизонт бытия. Поэтому время даже
интереснее самого бытия.
Ю. Р.: В сегодняшнем разговоре уже во второй раз прозвучала
тема страха, хайдеггеровского ужаса. Известна книга «Ужас
реального», написанная Вами в соавторстве с Александром Секацким,
Николаем Ивановым и Даниэлем Орловым. Этот момент в
философии Хайдеггера самый центральный?
Т. Г.: Да, фактически да. Этот момент самый сильный.
Ю. Р. : И как человек должен к этому относиться?
Т. Г. : Бесстрашие, решительность — это риск погружения в ужас.
Человек не убегает от него, а туда погружается. И из глубин этого
ада, благодаря зову Бытия, который неизвестно откуда приходит,
он поднимается вверх, к познанию, к настоящему бытию-к-смерти.
Это вполне религиозное представление о существовании. Потому
242
T. M. Горичева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
что человек, даже если мы читаем «Лествицу» Иоанна Лествични-
ка, не пережил абсолютный ужас, он не может пережить Бога, это
совершенно ясно. Об этом говорит любая мистика, не обязательно
христианская; возьмите, к примеру, Рудольфа Штайнера, у
которого ужас есть переход, когда ты себя бросаешь в ничто. То есть
рисковать, рисковать, рисковать. Риск очень важен для Хайдеггера.
Но это вполне входит в христианский концепт.
Ю. Р.: То есть, если убегаешь от страха — он тебя закабаляет.
А если рискуешь быть в его пучине — то преодолеваешь его.
Т. Г.: Да, даже не он тебя закабаляет, а ты сам уже закабален.
Нужно отличать страх от боязни чего-то сущего. Страх — перед
ничто или бытием.
Ю. Р.: Как и Кьеркегор в книге «Страх и трепет» проводил это
различие.
Т. Г.: Да, это протестантская концепция, но и православная в том
числе. Как говорил старец Силуан Афонский: «Держи свой ум во аде
и ни о чем не отчаивайся». Мы же сейчас живем в адском мире, я
считаю. Как и Хайдеггер считал. Сейчас центр мировой ночи,
буквально, как пишет Александр Дугин, мы переживаем полночь мировой
истории. И мы должны понимать это серьезно, но не отчаиваться.
Ю. Р.: Татьяна Михайловна, извините, может быть это личный
вопрос. Тема ужаса и сейчас остроактуальна. Но мы можем
представить, что Вы пережили, когда были диссидентом, а потом
эмигрировали и жили на Западе. Вы переходили через эту границу.
Хайдеггер помог Вам в этом плане или у Вас были другие основания?
Т. Г.: Я была уже верующим человеком. Я по монастырям
ездила русским. Господь меня вел не то чтобы через какие-то мистерии,
таинства, но просто когда читаешь простые молитвы каждый день,
то там есть такие покаянные молитвы, когда ты видишь себя на дне,
но это истина о тебе. И когда ты готовишься к причастию, ты должен
отбросить ветхого Адама, сбросить все сущее в целом, чтобы ты смог
стать храмом Святого Духа. Так что Хайдеггер здесь просто слился
со мной, никакого противоречия с ним у меня не было.
Единственное, что мне не нравилось у Хайдеггера, что он бытие-к-смерти
делает главным, но это характерно для Запада. Потому что в соборном
православии смерти нет фактически. Это какая-то надтреснутость
бытия.
Ю. Р. : Татьяна Михайловна, можно подробнее пояснить, может
быть в качестве критики в адрес Хайдеггера, вот это тонкое
отличие хайдеггеровского бытия-к-смерти и христианского отношения
к смерти.
Т. Г.: Чтобы стать самим собой, найти свою аутентичность,
по Хайдеггеру, нужно избрать бытие к смерти, найти свою смерть,
Разговор о Мартине Хайдеггере
243
потому что смерть — это последняя возможность, которую
невозможно преодолеть. И смерть всегда твоя, она не чья-то. Та же
мысль, что и у Кьеркегора: нужно потерять себя, чтобы найти
Бога. Когда ты обрел свою смерть, ты умираешь в одиночестве,
ты один, ты сам. Тогда ты слышишь этот самый голос Бытия. Это
очень немецкая концепция, протестантская. С одной стороны, это
очень правильно — стоять перед лицом смерти. И в наших
монастырях тоже висят такие картины, думать о смерти, медитировать
об этом, чтобы быть настоящим человеком, сбросить с себя всякую
ложь, всякие маски, всякую гадость, чем мы облипли в этой жизни.
А с другой стороны, в этом нет смысла нашего бытия. А смысл —
это любовь. Поэтому я против такого хайдеггеровского
индивидуализма заостренного. Я в последнее время предпочитаю Левинаса,
например, который больше думает о Другом. Главное — это смерть
Другого — чтобы ее не было. Я сейчас занимаюсь животными.
Главное для меня — сострадание. Хайдеггер ничего о сострадании
не пишет.
Ю. Р. : Это у него упущение? О сострадании писали Шопенгауэр
и Толстой...
Т. Г.: Да, у него этого нет. Я бы, конечно, обрадовалась этому.
У него нет природного начала, русского космизма.
А. П. : Да, у него общность с другими людьми описывается скорее,
в модусе несобственности. Хотя, мне кажется, у него есть некоторые
ходы, которые могли бы модифицировать понимание общности
людей в модус собственности. Но нужно хорошо подумать, прежде чем
их более или менее адекватно реконструировать.
Ю. Р. : Даже природного сострадания у него нет? Он же
чувствовал природу, пребывая в своей хижине.
Т. Г.: Да, для него фюсис, как логос. Это не натура, которая есть
уже испорченная фюсис.
Ю. Р. : Природа вперемешку с техникой...
Т. Г.: Да, а фюсис — это растущее, цветущее, себя скрывающее
и раскрывающее бытие, по-гречески.
Ю. Р. : И тем не менее сострадание к этой фюсис он не проявлял?
Т. Г. : Да, у него говорится, что животные не имеют мира.
Ю. Р. : Хайдеггер говорил, что только человек умирает...
Т. Г. : Да, а животное подыхает...
Ю. Р. : А животное околевает...
Т. Г. : Это очень страшное упущение, потому что, я считаю,
животные умирают так же, как и человек. Они страдают даже больше,
потому что не могут выразить свое страдание.
Ю. Р.: Татьяна Михайловна, Андрей Борисович, у меня сейчас,
наверное, крамольная мысль появилась: а не связано ли это отсут-
244
T. M. Горичева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
ствие сострадания к живой природе с отношением Хайдеггера к
нацизму?
Т. Г.: Вполне возможно. Конечно, он искал вождя, фюрера, это
у него был такой воинский дух. Когда он был ректором
Фрайбургского университета в начале тридцатых годов, с одной стороны, он
критиковал карикатурную фигуру Гитлера, но ему казалось, что
фашизм — это такой платонизм: во главе стоит философ, которому
открыта тайна бытия и который имеет проект созидания будущего.
Конечно, Гитлер тут не подходил, но ему казалось, что кто-то мог
подойти. Но жестоким Хайдеггер никогда не был. Если вы
слушали, как он читает Гёльдерлина, — у него удивительно мягкий,
нежный и вместе с тем сильный голос. Ну не может такой человек быть
изолированным невротиком, который отстраняется от всякой
жизни. Хотя философия жизни для него была негативной вещью, он ее
не любил, говоря, что это биология. Поэтому он был против Ницше,
против воли к власти, хотя он и любил Ницше, но считал его
продолжением Лейбница и Шопенгауэра. А я под жизнью имею в виду élan
vital— жизненный порыв — Анри Бергсона. Об этом я все больше
думаю в последнее время.
А. П. : Я бы хотел добавить к тому, о чем мы говорили, следующее.
У Хайдеггера ведь в контексте отношения к другим, к общности,
возникает тема народа, и не только в «Черных тетрадях», но и в
лекциях, где он говорит, в частности, о Dasein des Volkes, дазайн народа,
отмечая, что мы не можем брать народ как сумму индивидов, как
некое множество формальных элементов, но он всегда уже есть некая
самость. Так, что к своему народу некий его представитель может
обращаться всегда в сингулярисе: «Ты, мой народ!»
Т. Г.: Я об этом не знала. Это интересно. Я думаю, что так оно
и есть.
Ю. Р.: Иногда авторы противоречат сами себе. Одно дело —
ранний Хайдеггер, другое дело — поздний.
Т. Г.: Ну почему, он всегда был за почву, за землю, за народ.
Он любил русский народ. Его второй сын был на Восточном
фронте во Вторую мировую войну. И поэтому Хайдеггер одновременно
очень боялся России. Когда я встречалась с его друзьями на
гегелевском конгрессе в Москве, они мне сказали, что он настолько любит
и боится Россию, потому что думает, что здесь один ГУЛАГ и
психушки. Поэтому, сказали они, ваше письмо будет для него важным.
Я же не осмелилась бы ему просто так писать какие-то писульки.
Они сказали: Татьяна, вы правильно мыслите, и, если вы напишете,
он будет счастлив.
Ю. Р. : То есть подсказку написать письмо дали немецкие
коллеги, его друзья, указав адрес и предложив возможность передать?
Разговор о Мартине Хайдеггере
245
Т. Г. : Да, я через них передала первое письмо, и в немецком
архиве даже сохранился этот конверт. А потом я послала второе письмо
обычной почтой, и оно дошло. Наше КГБ не сообразило сразу, кто
такой там герр Хайдеггер. А потом сообразили (смеется). Ой, как
они потом меня замучили, вызывали. Один кагэбэшник прочел в
энциклопедии, кто такой Хайдеггер, и сказал: Татьяна Михайловна,
вы стоите на грани закона.
Ю. Р. : Вас вызывали в кабинеты в связи с этим?
Т. Г. : Меня арестовывали довольно часто. Или это называлось
задержкой — увозили прямо из дома или из Публичной библиотеки,
под предлогом, что я украла ковер там или сервиз.
Ю. Р.: Потом ложечки нашлись, но осадок остался...
Т. Г. : Я там уже просто сидела и молчала. Когда я однажды
приехала из Москвы, они меня уже ожидали у Публичной библиотеки
и арестовали, прочтя в энциклопедии, что Хайдеггер — реваншист.
А. П. : И это еще не были опубликованы «Черные тетради».
Ю. Р. : Да, в советских словарях о Хайдеггере говорилось, что он
«нацистский наймит».
Т. Г. : У нас в то время немцев называли реваншистами.
Ю. Р. : Да, я помню геополитику того времени. ФРГ тогда
обвинялось в реваншизме. И Вам в органах сказали, чтобы не играли с
огнем, что-то запрещали?
Т. Г. : А я сидела и молчала. Что я могла сказать? Что это один
из лучших философов в мировой истории? Меня и по другим
поводам там допрашивали всячески. Я была тогда диссидентка вовсю.
Там было много чего помимо Хайдеггера. Я же семинары
религиозные подпольные организовывала, женское движение в
Ленинграде. Об этом написано в моей книге «Опасно говорить о Боге» (1983),
ставшей бестселлером, которую как раз купил Герман Хайдеггер.
Ю. Р. : Татьяна Михайловна, позвольте Вам задать еще ряд
вопросов. Почему интеллектуальная среда СССР, а потом и России создали
такую благодатную почву для рецепции идей Мартина Хайдеггера?
С одной стороны, жесткая, огульная критика, а с другой стороны,
и фанаты, и эпигоны, и стилисты. Случайно ли, что его философия
оказала такое влияние именно на русскую философию? То ли это
была какая-то интеллектуальная мода, или, может быть, тут есть
какие-то глубинные связи? В связи с этим у меня конкретизация
данного вопроса: существует мнение, что общим для философии
Хайдеггера и представителей русской философской традиции является
так называемый онтологизм — решимость стоять в просвете бытия,
если выражаться языком Хайдеггера. Так ли это на самом деле, или,
все-таки, между русской и немецкой (в частности, хайдеггеровской)
философскими традициями больше различий?
246
T. M. Горячева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
Т. Г.: Мне кажется, все верно, что Вы сейчас сказали. Потому
что «человек есть пастух Бытия». Я даже, когда ходила в
Публичную библиотеку, у меня была запись в читательском билете:
профессия — пастух бытия (смеется). А Хайдеггер еще писал о «щели
в бытии», и так далее. Если сравнивать его с Сартром, то последний
тоже был популярен.
Ю. Р. : В свое время Сартр приезжал на философский факультет
ЛГУ.
Т. Г.: Ну да, приехал и уехал. А Хайдеггер остается. Для Сартра
человек — это бесполезная страсть, дырка от бублика. Он призывал
к ангажированности, в политику вмешиваться, нужно быть
гуманистом. И при этом он ссылался на Хайдеггера, который ужасно
оскорбился, когда Сартр написал статью «Экзистенциализм — это
гуманизм» (1946). Хайдеггер не хотел, чтобы его называли
экзистенциалистом, и оскорбился, что его еще могут гуманистом
назвать. Потому что онтология — это то, что трансгрессирует за такие
понятия, как гуманизм. Хайдеггер абсолютно не хотел иметь
отношение ни к прогрессу, ни к правам человека, ни к другим конечным
категориям общественного или экономического порядка. А во
французской интеллектуальной мысли были то маоисты, то анархисты
какие-нибудь, это были все люди мира сего. А у Хайдеггера была
некоторая трансценденция, некая верность тайне, которая очень
русских привлекает, потому что ни один русский человек до
редукционизма не докатится. У нас разрыв между властью и народом
гигантский. Так же и в Германии в общем-то. Тоталитаризм немецкий
очень, скажем, похож на наш был. И в этом плане мы на немцев
очень похожи во всем. И наш провинциализм какой-то, и наша
способность к воинству, к борьбе духовной, все это делает нас близкими
к Хайдеггеру. Кривулин писал, что поэт — это инок на скале. В этом
предназначение поэта. Так писал и Хайдеггер. Я думаю, именно этот
онтологизм, и прежде всего онтологизм, нас и соединяет с Хайдегге-
ром. И поэтому по сей день я, если хочу сказать что-то существенное,
говорю — это онтологично. Хотя никто не понимает, что это такое,
но звучит так, что люди начинают серьезно относиться. А на Западе
это слово давно уже так не работает.
Ю. Р. : Татьяна Михайловна, я с Андреем Борисовичем как раз
являемся представителями кафедры онтологии и теории
познания Института философии (бывшего философского факультета)
Санкт-Петербургского государственного университета. А эта
кафедра, между прочим, появилась на месте кафедры диалектического
материализма, диамата так называемого. Я еще студентом учился
на этой кафедре. А сейчас это кафедра онтологии.
Т. Г. : Поздравляю! (смеется).
Разговор о Мартине Хайдеггере
247
Ю. Р. : Да, в перестройку научные атеисты перекрасились в
философов религии и т. д. Спасибо за Ваш ответ по поводу онтологизма.
Вы подтвердили мою мысль, что это сближает и немцев, и русских,
в какой-то степени и французов...
Т. Г. : У французов как раз нет. Там очень плоское бытие.
Ю. Р.: Смотря кого мы берем. У них там есть и правые, и левые
хайдеггерианцы. И Бофре, и Деррида.
Т. Г.: Ну конечно, есть.
Ю. Р.: А вот в связи с нашей традицией, следили ли Вы за
отечественными работами по Хайдеггеру? В чем специфика русского
хайдеггероведения? Что такое, вообще, русский Хайдеггер? В
частности, как Вы оцениваете переводческую деятельность Владимира
Вениаминовича Бибихина и его толкования хайдеггеровских
текстов?
Т. Г. : Когда я была изгнана, мне было уже не до Бибихина и
других. Его я, конечно, очень уважаю. Читала и переводы Михайлова.
Но мне уже не нужны были переводчики. Хайдеггера в принципе
невозможно перевести. Бибихин свой дух вносит, но это уже не
Хайдеггер.
А. П.: Да, у меня самого, честно говоря, такое же впечатление.
Когда я читаю в оригинале «Бытие и время», мне кажется, что текст
Хайдеггера намного более аскетичен, чем в переводе, у него нет
такой пафосности.
Т. Г. : Аскетичен, действительно. Он готов к борьбе. Максимализм
есть и эсхатологизм, что нас тоже сближает. У Бибихина больше
либерализма и какого-то сомнения и скепсиса. Хайдеггер — это
мощная фигура.
Ю. Р.: Спасибо за ответ! Да, по поводу переводов споры,
наверное, не прекратятся никогда, как и по поводу интерпретаций. И еще,
пожалуйста, один вопрос. В Вашей книге «О священном безумии»
(2015), где есть фрагменты с оценками хайдеггеровской философии,
предисловие написано Александром Дугиным, которого на Западе
квалифицируют как русского хайдеггероведа, хотя об этом ведутся
споры. Как Вы относитесь к этой позиции?
Т. Г.: Мне Александр Дугин ближе, но мне не нравится в нем
какая-то оккультная, штейнерианская интонация. Он тоже пишет
о всемирной ночи бытия, но потом вводит радикального субъекта.
Нет у Хайдеггера никакого субъекта, ни радикального, ни
условного. Не может он опуститься до субъекта. Всё, дуализм между
субъектом и объектом преодолен, уже Гуссерлем. Вот от этой
субъективности у Дугина геополитика, необходимость идеологию какую-то
вырабатывать. Идеология — это порочное слово. А так, он знает
Хайдеггера, в отличие от других. У Дугина смирения нет, а Хайдег-
248
T. M. Горячева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
гер много пишет о смирении, особенно в поздний период, после
поворота: любое познание есть слушание тишины, становление тихим
и так далее.
А. П.: Y меня в этой связи вопрос по поводу хайдеггеровского
поворота, «Kehre». Интерпретаторы спорят по этому поводу, был ли
этот поворот и в какой мере? Был ли Хайдеггер номер один и
номер два? С Вашей точки зрения, был ли отказ от проекта
аналитики Dasein в * Бытии и времени» естественным развитием его мысли
или нет?
Т. Г. : Здесь он просто стал обращаться к досократикам, а до
этого он исходил из феноменологии и герменевтики, Гуссерля
и Дильтея, как методологии «Sein und Zeit». Потом он стал ближе
к Траклю, Рильке, Гофмансталю и досократикам после «Kehre».
Он стал более открыт поэзии. «Язык — дом бытия». Раньше он
пытался выражаться научными, техническими терминами, эк-
зистенциалами всякими, трансценденталиями горизонта бытия
и прочее. А мне ближе второй, конечно, Хайдеггер, потому что
я сама больше люблю поэтические размышления и считаю, что
о Боге можно говорить только языком поэзии, здесь нельзя
никакого Гуссерля применять. Рильке мой любимый поэт. А досокра-
тики — это те люди, которые еще не стали софистами, которые
еще не продали за чечевичную похлебку свое первородство, они
сочетали священство с мыслью. Это были мистагоги, участники
мистерий, Пифагор, Анаксимандр, Эмпедокл. Они были почти боги.
И Хайдеггер видел, что Бытие там еще не исчезло. Были такие
личности, где микрокосм и макрокосм совпадали. Я очень ценю
этого Хайдеггера. Поэтому я очень хотела знать греческий язык.
А Хайдеггер читал и переводил, того же Анаксимандра. И нам бы
следовало по-новому перевести досократиков. А у нас все сейчас
на уровне XIX века.
А. П.: Мне кажется, что Хайдеггер и отношение к своей,
немецкой, традиции меняет после поворота. Сначала ориентиром для него
были Кант, Дильтей, а потом он Шеллинга открыл по-новому для
XX века, с гегелевским наследием много работал, и за счет этого
философию Гегеля тоже непривычным образом переосмыслил.
Т. Г. Мне это тоже нравится, отношение к поэзии, искусству, Ван
Гогу.
А. П. : Да, в двадцатые годы он описывал условную мастерскую
ремесленника, а в тридцатые — уже башмаки Ван Гога.
Т. Г.: Искусство — откровение истины — это очень сильно.
А. П.: И это очень показательно для философии XX века. То, что
тогда, как подчеркивает Гадамер, искусство стало пониматься как
способ открытия истины, а не, например, доставления удоволь-
Разговор о Мартине Хайдеггере
249
ствия, пусть и незаинтересованного, то есть обрел способность,
которую, как кажется, на долгое время узурпировала наука.
Т. Г.: На самом деле, на все это нужно ориентироваться. Он
открыл язык как живой организм, и греческий, и немецкий. Он же
так трепетал, что немецкий язык обворовали, ненавидел
американское влияние. Как и другие люди трепещут, дорожащие своим
языком. Я в том числе на старости лет стала любить больше родной
язык.
А. П.: Мне сейчас в голову пришло, что общее начало у русских
и немцев в том числе скрывается в древнегреческом языке. Хотя
английский язык тоже принадлежит к группе германских языков,
но он уже настолько латинизирован в лексике.
Ю. Р.: Татьяна Михайловна, мы только что говорили о поэзии,
а сам хайдеггеровский философский язык как Вы можете оценить,
будучи сами философом и ярким писателем? Как он повлиял на
философскую ситуацию, ведь с Хайдеггером связывают
лингвистический поворот в философии XX века? А также повлияло ли это
на вашу стилистику и манеру письма?
Т. Г.: Поскольку я переводила некоторые его работы, это,
конечно, повлияло. Во-первых, мне нравится его ритм, строгость,
абсолютное отсутствие какой-то болтливости. Меня очень раздражает
в русской философии болтливость. Не могу я смотреть, когда что-то
украшают, особенно в Серебряном веке. У отца Павла Флоренского,
например, все красиво и здорово, но есть такие невыносимые места,
просто нарциссизм какой-то. Вот у Хайдеггера нет никакого
нарциссизма. Это личность абсолютно жертвенная.
Ю. Р.: Это проявляется именно в языке? Каким образом? Ведь
Нарцисс — это самовлюбленная личность.
Т. Г. : Вот Хайдеггер как раз не смотрится в зеркало. Он скромный
и целомудренный. В этом его древняя воинская выучка, о которой
еще писал Гесиод. У немцев ведь никогда не было увлечения
формой, декоративностью, какой-то роскошью. Поэтому они и стали
протестантами, потому что видели, от чего распался Рим. Это
простота, доходящая до беззащитности. И вместе с тем очень большое
мужество, собранность. Для меня это тоже идеал. Особенно сейчас,
в наш век, когда полностью потерян стыд, нет никакой эстетики,
никакой этики. Мне отвратительно смотреть телевизор, не от
содержания, а просто не могу физиологически. Я приняла вот эту
внутреннюю строгость, но лишенную психологизма и сухости. Она полна
какого-то смирения, послушания в смысле слушания Бытия.
Немцы удивительно красивы в своем идеализме, наивны, но красивы,
когда по-настоящему они небесные. Это такая красота! А когда они
земные — они всегда какие-то уроды.
250
T. M. Горячева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
Ю. Р. : Да, в народе говорят, что бюргеры копейку ценят и
жадные. А с другой стороны, немецкая философская классика — это
возвышенный духовный опыт.
Т. Г.: Я бы сказала, что немцы не любят деньги, в отличие от
других наций; например, французы не упустят момент. Это меня
поразило, когда я впервые приехала в Германию. Хотя это самая
богатая нация в Европе. Но они и стали богатыми, потому что не любят
деньги. Просто им это не интересно. Один немец признавался, что
они боятся своего идеализма. Они настолько высоко мыслят мир,
что всегда попадают в какую-то глупейшую ситуацию. То они
фашисты, то еще кто-то. Поэтому они сейчас сидят и не
высовываются. Действительно, у них сейчас нет ярких, харизматических
личностей.
А. П. : Мне тоже кажется — таков мой опыт пребывания в
Германии, — что немцы не прижимистые скупердяи, а, напротив, люди
с широкой душой, всегда готовые прийти на помощь.
Ю. Р.: Я говорил о том, что у каждого народа есть стереотипы
и штампы по поводу другого народа. Например, образ немца в
глазах русского и наоборот.
Т. Г.: Немцам вообще запрещено тратить. Это протестантский
принцип. Все обязательно через труд. А если ты просто так
разбрасываешь деньги, то ты и другого человека не уважаешь. Отсюда,
конечно, возник страшный кальвинизм: кто богат — того любит Бог.
Ю. Р. : У американцев немного по-другому. У них есть такая
поговорка: if you are so funny— show your money (если ты такой
умный — покажи свои деньги).
Татьяна Михайловна, вот еще одна из острых, хотя, может быть,
и искусственно раскрученных проблем. Я имею в виду дискуссию
по поводу его «Черных тетрадей», в рамках которой снова
поднялось так называемое «дело Хайдеггера» — его связь с нацистами,
отношение к русским, евреям, американцам и самим немцам.
Публикуются даже такие тексты, где утверждается, что Хайдеггер —
это сам Гитлер и т. д. Каково Ваше отношение к этому «делу»?
Т. Г.: Мне кажется, что это не философский подход. Мои
французские приятели недавно пошли на большой семинар по Хайдегге-
ру в Париже. Первым начал выступать Бернар-Анри Леви, который
сказал, что Хайдеггер — фашист. Все слушатели встали и ушли.
Потому что это сейчас уже никому не интересно. А в Париже
проходит множество таких философских мероприятий и в школах там
изучают философию. Я сама там слушала Левинаса, Фуко, Делеза
и других, на чьих лекциях собиралось по несколько тысяч
слушателей. А по поводу Хайдеггера либеральные духогасители только это
и будут твердить. Потому что все, что касается глубины и высоты,
Разговор о Мартине Хайдеггере
251
им чуждо. Философия сейчас сводится к нарциссизму и
наслаждению. Теперь не надо никаких жертв приносить, мы пришли к
полному счастью. Кого вы ни возьмете, все об этом пишут.
Ю. Р. : Это уже сложившаяся установка, назовем ее нарциссиче-
ской?
Т. Г. : Да, это достижение общества потребления, когда народ
сражается, чтобы повысить покупательную способность, а газеты
отражают этот духовный уровень. Только нужно налоги немножко
снизить, чтобы шопинг был лучше. Больше никаких тем нет. Конечно,
и тема экологии возникает, потому что понятно, что мы идем к
концу. Лет через десять уже будет не о чем говорить.
Ю. Р. : Татьяна Михайловна, Вы только что сказали, что посещали
лекции известных философов, в том числе модных или не модных.
Может быть, у Вас сохранились какие-нибудь яркие впечатления
о них и их взглядах в сравнении с Хайдеггером? В каком ранжире их
можно поставить? Того же Деррида, или Делеза, или Фуко?
Т. Г.: Одна манера говорить у Хайдеггера настолько
завораживала. У него была такая харизма и аура. Мне Деррида тоже очень
нравился, особенно последние его лекции, когда он о животных
говорил глубоко религиозные вещи. Он всегда откликался на какие-то
главные страдания дня последние пять лет. Но это буржуазный
философ, обыкновенный человек. Там не было колдовства, как у
Хайдеггера, который выступал как поэт.
Ю. Р.: Я присутствовал на лекции Жака Деррида, когда он
приезжал в конце прошлого века в Санкт-Петербургский университет
и выступал на философском факультете, вполне академически,
респектабельно, даже с каким-то французским лоском. Но все-таки
в философском смысле, где находится Хайдеггер, а где находится
Деррида?
Т. Г. : Ну, ведь деструкцию Деррида взял у Хайдеггера, и диффе-
ренцию онтологическую, сделав из этого деконструкцию. Все это
хайдеггеровские вещи. Так что они все из Хайдеггера вышли.
Ю. Р. : То есть все они вторичны, по большому счету?
Т. Г.: Так нельзя сказать, потому что темы у Деррида другие.
Например, тема гостеприимства. Про животных тема совершенно
новая, ее никто так не рассматривал. Я сейчас этим занимаюсь.
Наконец-то открыли космический аспект животных. Не только мы,
люди, сидим в мире, создавая в кабинетах великую философию. Уже
скоро конец цивилизации. Сейчас экологисты этим занимаются,
есть философия животных, но здесь нет сострадания. А я этим
практически занимаюсь. Я вице-президент общества защиты животных
в Париже, я спасаю их как могу. Я им все отдаю. Через Фейсбук мы
конкретные дела делаем.
252
T. M. Горичева, Ю. M. Романенко, А. Б. Паткуль
[На квартире Т. М. Горичевой в Санкт-Петербурге, где делалось
данное интервью с ней, в это время находилось несколько
подобранных бездомных щенков.]
Ю. Р.: Татьяна Михайловна, вернемся к нашим пенатам, к
русской философии. Кроме Бибихина и Дугина, у нас есть еще
другие мыслители, с которыми сейчас ведется работа по антологии
«М. Хайдеггер: pro et contra», где будут Бердяев, Шестов, Сеземан,
Франк, а также более поздние отечественные мыслители: Гайденко,
Ахутин, Черняков, Хоружий и другие. Насколько Вы знакомы с их
идеями?
Т. Г.: Хорошо, что Вы их собираете. Чернякова я читала — это
хороший автор. У Хоружего интересная концепция. Есть еще более
молодой Александр Михайловский. У нас сейчас хайдеггерианцев
больше, чем где бы то ни было. Но я сейчас мало читаю на русском
языке, я читаю на европейских языках.
Ю. Р.: И теперь, Татьяна Михайловна, позвольте задать Вам
завершающие, итоговые вопросы. О прошлом мы поговорили, об
актуальных современных проблемах тоже; может быть, сделаем сейчас
определенный проброс в будущее? Каковы перспективы
философии? В какую сторону может эволюционировать мировое хайдегге-
роведение? И хотелось бы услышать Ваши пожелания современным
молодым людям, студентам философских факультетов у нас в
стране, — к чему им нужно готовить свою мысль, с чем, может быть,
нужно бороться? Стоит ли им читать Хайдеггера или он для них уже
анахронизм? Каков образ будущего философа, который превзойдет
Хайдеггера по индексу цитирования?
Т. Г. : Ответы на эти вопросы могут занять еще два часа. Я могу
только сказать, поскольку силы моего рассудка уже иссякают, что
очень у нас в русской философии мало написано о сострадании,
о боли и о понимании боли. Хайдеггер, к сожалению, об этом тоже
мало писал. У него нет фактически философии боли. А мы столько
пережили в XX веке и переживаем сейчас. Писал об этом, в
частности, Теодор Адорно, который был против Хайдеггера, относительно
евреев. Но и русский народ сколько боли вытерпел и сейчас
претерпевает. Мы этого не знаем и даже не можем это артикулировать,
когда знаем. У Ницше о боли хорошо написано, как о смысле мировой
истории. Мне кажется, что тема боли, страдания и сострадания,
ответственности философии за то, что происходит, станет актуальной
в будущем. На Западе, во Франции в частности, философы
постоянно выступают по телевидению, хотя не со всеми можно
соглашаться, как с упоминавшимся Бернаром-Анри Леви. Но они несут свою
ответственность за Европу. А у нас этого нет. Даже не потому, что
у нас засилье на коррумпированном телевидении. А потому что про-
Разговор о Мартине Хайдеггере
253
сто нет. Хотя и открыли уже некоторые каналы, но иногда стыдно
слушать. Нужно проникать в медиасферу. У нас только Александр
Секацкий этим занимается. Есть передачи по культуре, но это не
философия, а околоинтеллигентские оценки. Просто не хватает
продумывания проблем, того же умирания всего живого. А молодежь идет
правильным путем, насколько я вижу это во Франции и здесь — это
отказ от насилия, от убийства, от животной пищи. Понимание того,
что другие не хуже тебя. Антропоцентризм, который нас
пронизывает, — это страшный грех. И прогресс — это страшная вещь. Как
у Вальтера Беньямина: весь прогресс — это история сплошных
катастроф и трагедий. Обо всем этом нужно как-то рассказать. Никакого
оптимизма здесь не может быть. И пессимизма тоже. Мне кажется,
что это задача философов, а люди это чувствуют. Но это мое
скромное мнение. Я пытаюсь с православной точки зрения рассказать
об этом.
Ю. Р. : А насколько на Западе известны Ваши идеи и как к ним
относятся?
Т. Г.: На Западе вышли мои книги на тридцати языках и
стали бестселлерами. Это о чем-то говорит. Самые простые люди
читают. Но я не могу сказать, что я люблю Запад. Там все прогнило
насквозь — материализм, гедонизм и нарциссизм. Я ненавижу это.
Я люблю аскетику и бедность.
А. П.: Спасибо большое, Татьяна Михайловна.
Ю. Р. : Мы очень Вам благодарны за этот щедрый разговор.
€^
€4^
А. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Зуб разума
«Ьрагмент книги «На виртуальном ветру»>
Он поблескивает желтоватой костяной лысиной, коренастый,
крепкий, глубоко утопая в малиновом кресле, Мартин Хайдеггер,
коренной зуб немецкой философии.
Он таится в темном углу моей памяти, глубоко уходя корнями,
сидит в полумраке ресторанчика, примериваясь к венскому
шницелю, — крепко сидит. Последний гений европейской мысли. Зуб
разума.
Это его полированное поблескивание я видел, не различая
выражения лица, со сцены во время моего выступления во Фрайбургском
университете — он мерцал справа на коренном месте своем, в ровном, как
челюсть, ряду кресел, подозрительно поглядывая на сиявшие вокруг
искусственные улыбки прогресса. Было это 14 февраля 1967 года.
Потом мы ужинали, и об этом не стоило бы вспоминать, если бы
не мелькнувшая вдруг какая-то пришибленность, коренастая насу-
пленность, затравленная опаска общения с людьми. Видно, многое
он перенес.
Беседа состоялась у него дома, в кабинете, где стояли
♦молчаливые, грузные томы... словно зубы в восемь рядов». Хозяин был
одним из них. Был пока живой и не встал на полку —
поблескивающий мозговой надкостницей Мартин Хайдеггер.
Разговор наш записывал граф Подевилс, президент Баварской
академии. Он примчался из Мюнхена на божьей коровке своего
«фольксвагена», изящный, худощавый, с французским ветерком
в волосах, и, подмигнув, сообщил, что меня выбрали в Академию.
Эрудит, бывший много лет журналистом в Париже, он благоговел
перед своим кумиром и подробно законспектировал беседу. К
сожалению, хозяина он записал короче, чем гостя, но и слова гостя
показывают, что интересовало великого философа в 1967 году.
Хозяин повел беседу делово, без разминки. Это был другой
Хайдеггер — властный, но без высокомерия, и одновременно какой-то
Зуб разума
255
беспомощный и рухнувший внутри, с каким-то душевным сломом.
«Довольно быстро разговор переходит к проблеме техники, которую
Вознесенский по-новому вводит в язык своей поэзии. Вознесенский,
архитектор по образованию, обладает способностью
математического мышления и не чужд технической сферы (в отличие от
авангардистов, которые лишь играют научно-технической лексикой).
ХАЙДЕГГЕР: «Способен ли дух овладеть техникой?»
Вознесенский упоминает, что среди многотысячных аудиторий
значительную часть составляют представители молодой
технической интеллигенции России...
ХАЙДЕГГЕР: «Архи-тектор! Тектоника. По смыслу греческого
слова это старший строитель. Архитектура поэзии».
Он даже по-петушиному подпрыгнул, выкрикнув это:
«архи-тектор!»
Не раз в своих трудах философ использовал образ храма,
стоящего на скале, как метафору творения.
«Творение зодчества, храм ничего не отображает. Посредством
храма Бог пребывает в храме. Бог изображается не для того, чтобы
легче было принять к сведению, как Он выглядит; изображение —
это творение, которое дает Богу пребывать, а потому само есть Бог.
То же самое и творение слова. Творение дает земле быть землей».
Красота есть способ, которым бытийствует истина.
Читая сейчас эти мюнхенские листочки, пролежавшие в
графском архиве, я поражаюсь совпадению мыслей фрайбургского мэтра
со взглядами тогдашнего меня, знавшего о Хайдеггере лишь
понаслышке (книги его и до сих пор у нас, к стыду нашему, не изданы).
Сегодня я читаю свои слова, почти как речь чужого человека. Я
пробовал тогда читать Хайдеггера по-английски, но можно было голову
сломать о его труднопереводимые термины. Правда, мы увлекались
в ту пору разрозненными запретными томиками Бердяева, Кьерке-
гора и Шестова, который писал статьи о Гуссерле, из чьего гнезда
вылупился фрайбургский философ.
Знал я, конечно, что из Хайдеггера вышел Сартр, с которым
судьба меня уже сводила.
Я поворачиваю зрачки внутрь, вглядываюсь в память,
различаю уже не только великую лобную кость, но и острые рысьи
бровки, щетинку усов, похожую на щепотку для ногтей, добротный
костюм-тройку и напряженные глазки, которые по ходу разговора
начинают теплеть и отсвечивать коньячным огоньком. Я ищу в нем
отсвет любви к его марбургской студентке, юной экзистенциалист-
ке, неарийке Ханне Арендт, и трагедию разрыва с ней. Но лицо
непроницаемо.
Между тем я спросил его о Сартре.
256
А. А. Вознесенский
Он нахмурился, пожевал мысль бровями. Усмехнулся. Что ему
Сартр — ему Шартр подавай!
— Сартр? Источник его оригинальной идеи таится в его плохом
знании немецкого языка. Сартр ошибся и неправильно перевел два
термина из моих работ. Эта ошибка и родила его экзистенциализм.
Граф сладострастно затрясся от этого пассажа. Чувствуя мое
недоверие, хозяин продолжает серьезно.
«Вознесенский спрашивает об отношении Хайдеггера к Сартру.
Хайдеггер указывает на различие. Его собственное мышление —
осмысливание "здесь-бытие". Сартр — представитель "экзистенции".
Различие уже в языке. Хайдеггеровское понимание
"экзистенции" — экстатическое бытие как открытость настоящему,
прошлому и будущему ».
Это близко тому, что он писал в «Истоке художественного
творения» : « ...Человек в своем экзистировании экстатически впускает
самого себя вовнутрь несокрытости бытия».
«Вознесенский, подхватывая эту мысль, говорит об "открытом
стихотворении", которое рассчитывает на активность слушателя
или читателя».
ХАЙДЕГГЕР: «Взаимосвязь в поэтической сфере».
ВОЗНЕСЕНСКИЙ: «Магнитноеполе».
Стихотворение для Хайдеггера здесь — лишь идеальный пример
творения, это его давняя мысль: «творящая истина, полагающая
вовнутрь творения. Поэтическая сущность такова, что искусство
раскидывает посреди сущего открытое место и в этой открытости
все является совсем необычным». То есть — «открытость вовнутрь».
Тут на коренастую фигуру Хайдеггера наплывает нервное, как
разбитое зеркальце, лицо Сартра. Росточка они были одинакового.
Их дымчатые лица, утерявшие тела, стоят в моей памяти на одном
уровне, как два стеклышка очков с разными диоптриями.
В ту пору мир был озадачен духовным феноменом наших
поэтических чтений, когда стадионы слушали по нескольку часов
одиночку поэта. Оба философа совпадали в интересе к этому явлению.
Сартр был на чтении-обсуждении «Треугольной груши» в
библиотеке у Елоховской. Потом в интервью он назвал это событием,
наиболее поразившим его в Москве. Он, как безумный, вытаращив
глаза, в упор вглядывался в слушающие лица студентов. Сартр прибыл
с монументальной Симоной де Бовуар в плотно уложенных буклях
и Е. Зониной, что была загадочной «m-me Z», которой посвящены
«Слова».
Выступавшая на обсуждении учительница клеймила мои стихи
за употребление никому не понятных слов — «акваланг»,
«транзистор», «стихарь» и за неуважительность к генералиссимусу. Моло-
Зуб разума
257
дая аудитория снесла ее хохотом. Сартр наклонился ко мне и
шепнул: «Вы, наверное, наняли ее для такой филиппики».
Понравилась ему пылкая речь в защиту поэзии, которую
произнес молодой поэт Саша Аронов. Кудрявый Саша походил на юного
лицеиста, читающего при Державине. Державиным была Симона де
Бовуар, отяжеленная буклями.
Несколько лет я был заворожен Сартром. Меня интересовал тогда
экзистенциализм. В Сартре была жадность к ощущениям. В
Париже он показывал мне «Париж без оболочек», водил в «Альказар»,
на стриптиз юношей, превращенных в девиц. В антракте потащил
за кулисы, где напудренные парни с пышными бюстами заигрывали
с гостями. Пахло мужским спортивным потом. У Симоны дрожали
ноздри.
Я возил их в Коломенское, где зодчий применил принципы
♦скрыто-открытой красоты». Великая колокольня до последней
секунды заслонена силуэтом ворот и, неожиданно появляясь,
ошеломляет вас. Этот же прием применен в японских храмах. Сам того
не зная, Сартр перекликался с русской поэзией. «Поэзия — это
когда выигрывает тот, кто проигрывает», — не слышится ли за этим па-
стернаковское «и пораженья от победы ты сам не должен отличать»?
Сартр писал: «Меня нередко упрекают в пренебрежении к
поэзии: доказательством, говорят мне, служит факт, что журнал "Тан
модерн" почти не печатает стихов». Опровергая это, он напечатал
в «Тан модерн» мою подборку. Описательный журнализм в поэзии
он презирал: «Не следует воображать, что поэты заняты поиском
и изложением истины. Речь идет о другом. Обычный человек,
когда говорит, находится по ту сторону слова, вблизи объекта, поэт же
всегда по эту сторону. Не умея пользоваться словом как знаком того
или иного аспекта мира, он видит в нем образ одного из таких
аспектов».
В стихотворении «Париж без рифм» я так описывал его:
А Сартр, наш милый Сартр,
Задумчив, как кузнечик кроткий...
Молчит кузнечик на листке
С безумной мукой на лице.
«Ну какой же Сартр кузнечик? — удивился И. Г. Эренбург. —
Кузнечик легкий, грациозный, а Сартр похож скорее на жабу». —
«Вы видели лицо кузнечика? Его лицо — точная копия
сюрреалистического лица Сартра», — защищался я. Через неделю, разглядев
У Брема голову кузнечика, Илья Григорьевич сказал: «Вы правы».
А в страшный для нас Новый год после хрущевского разгона интел-
258
А. А. Вознесенский
лигенции Эренбург прислал мне телеграмму: «Желаю Вам в новом
году резвиться на лугу со всеми кузнечиками мира».
Увы, соприкосновение мое с Сартром оборвалось из-за
Пастернака. Отказавшись от Нобелевской премии, Сартр, обвиняя Шведскую
академию в политиканстве, походя напал на Пастернака. Это
вызвало ликование в стане наших ретроградов, до тех пор клеймивших
Сартра.
Вскоре он пригласил меня на обед, который давали в честь него
в ЦДЛ. Мне всегда тяжелы острые углы и выяснения отношений.
Я отозвал гостя от стола и сказал: «Вы ничего не понимаете в наших
делах. Зачем вы оскорбили Пастернака?» И чтобы отрезать путь
к примирению, добавил дерзость: «Ведь все знают, что вы
отказались от премии из-за Камю». Альбер Камю получил премию раньше
Сартра и в своей нобелевской речи восхищался Пастернаком. Я был
не прав в своей мальчишеской грубости. Больше мы с Сартром
не встречались. Под конец жизни он впал в марксистенциализм.
Но вернемся к фрайбургским записям:
«Заходит разговор о метафоре, которая, по мнению Хайдеггера,
принадлежит поэтической сфере, первоистоку языка, где слово было
открытым и многогранным. Однозначность — сужение, пришедшее
с наукой и логикой».
Метафора всегда была для меня не техническим средством, а
связью между «здесь-бытием» и «там-бытием». Не случайно Иов свою
самую душераздирающую мысль выразил метафорой: «О, если бы
верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы
страдание мое! Оно, верно, перетянуло бы песок морей!»
Из страшной метафоры этой родилась лучшая книга Шестова,
одного из отцов экзистенциализма. «Метафора — мотор формы», —
пламенно декларировал я в 1962 году.
Ныне метафоризм — наиболее творческое и разноликое
направление в нашей «новой волне». Есть «фетометафористы», «мета-
метафористы », « метаиронисты », « фотометафористы », « матоме-
тафористы», «магометафористы», но за всем этим нащупывается
одно — наведение связи между «здесь-бытием» и «там-бытием».
Наблюдается и метафобия.
Я пытался объяснить Хайдеггеру азы мелометафоризма, в
котором тогда себя пробовал.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ: «Письменное слово — это как бы нотная
запись, которая оживает в звуке. Он говорит о своей принадлежности
к "музыкальному" направлению в современной русской поэзии, эта
линия идет от древних традиций, бардов, певцов (тут можно для
сравнения вспомнить кельтский запад Европы, Ирландию).
Александр Блок, Мандельштам читали свои стихи вслух, подчеркивая
Зуб разума
259
ритм, прежде чем их напечатать. Именно к этой школе чувствует
свою причастность и Вознесенский. Отвечая в Мюнхене на
обвинение в "декламационности", якобы чуждой европейской традиции,
Вознесенский указал на эту русскую традицию и на то, что его
чтение является как бы воспроизведением, воссозданием
стихотворения как творческого акта с максимальной внутренней
концентрацией».
Мне думалось тогда: ну что мог понимать немецкий философ
в незнакомой ему, полуазийской русской речи и методике, когда
он вслушивался, поблескивая костяной макушкой из темной десны
первого студенческого зрительного ряда?
Вероятно, как и показал его академический обстоятельный
разбор, он видел в русской поэтике лишь подтверждение своих тезисов.
«Я — Гойя» он воспринял как выражение праязыка с двуконцо-
вым «я», которые для него были греческими «началом» и
«окончанием» — то есть двумя едиными принципами творения. «Как
карандаш, заточенный с двух концов», — запомнилось мне.
Наверное, красно-синий, а может, у них в Германии иные карандаши?
Я не всегда понимал, лишь согласно кивал. Позднее, читая его
труды, я сквозь текст слышал его голос. «Язык не потому — поэзия, что
в нем — прапоэзия, но поэзия потому пребывает в языке, что язык
хранит изначальную сущность поэзии... истина направляет себя
вовнутрь творения...»
Сто потов сошло с меня на сцене, пока я читал во Фрайбурге. Мне
очень хотелось, чтобы он понял стихи.
Стихи мои переводил в аудитории Саша Кемпфе, милый увалень,
переводчик книг Солженицына и «новой волны». Он пузырился
рубахой и штанами, отдувался, был весь контрастом корректному
графу. Когда говорил граф, Саша ревновал и мял в ладони влажный
платок.
Мне приходилось беседовать со многими значительными
мыслителями столетия. Стиль речи каждого говорит о неповторимой
личности. Папа Иоанн Павел II Войтыла в разговоре как бы
пытался внести гармонию в ваши мысли, — например, когда я в таинстве
Ватиканской библиотеки спросил его о Неопознанных Летающих
Объектах, он, тряхнув соломенными прядками из-под белой
шапочки, объяснял мне спокойно, как учителя растолковывают предмет
в школе. Долговязый, как телебашня, Макклюэн был телевизионен
в своих формулах. Он поражал вас своими
афоризмами-видеоклипами. Блистательный розовый Адорно, оппонент Хайдеггера, излучал
остроумие и деловую энергию среди белых халатов своего
франкфуртского института. Хайдеггер же был кабинетен в стиле XIX века,
он как бы искал истину вместе с собеседником. Более близкими ока-
260
А. А. Вознесенский
зались для него зрительные метафоры «Озы», может, потому, что
это было более переводимо или напоминало структуру поэтики его
молодости и отвечало его ненависти к НТР. «Насквозь прозрачный
предмет», по его терминологии.
Граф сухо комментирует беседу:
«В разговоре с Хайдеггером, как и во вступительном слове к
своему концерту во Фрайбургском университете, Вознесенский затронул
проблему перевода. Даже самый лучший перевод остается
несовершенным. Но то же относится и к самой поэзии, которая переводит
вещи, "голос вещей" в сферу поэтического слова. Но при этом всегда
есть остаток тайны, чего-то непонятного (именно потому, что
перевод происходит не на однозначный язык логики). (Тут Хайдеггер
закивал.) Тем не менее люди понимают стихи, особенно слушая их,
почти так, как становится понятной латинская или древнегреческая
литургия, даже если ее исполняют на незнакомом языке».
Хайдеггер спрашивает о смысле слова «правда».
Я ответил, что правда — в создании.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ: «Правда — это истина, но и справедливость,
правильность, указание на то, как следует поступать и делать.
Слово "истина" восходит к корню "есть". Тут имеется в виду
действительность, бытие, сущее. Поэзия имеет дело с раскрытием истины».
ХАЙДЕГГЕР: «Поэзия ничего не воспроизводит, она показывает».
И здесь мы подходим к главному свойству поэзии по Хайдеггеру.
Он определил его словом «набрасывание», или, вернее, «набросоч-
ность», «проектирование» будущего.
Я бы назвал это свойство ЭСКИЗЕНЦИАЛИЗМ ПОЭЗИИ.
Эскизенциализм поэзии, как его понимает философия,
проявляет себя в набрасывании, загадывании будущего, таким образом
участвуя в истории, творя ее. Эскизенциализм поэзии недоговорен,
тороплив ввиду кратковременности срока жизни среди немой
Вселенной.
У Хлебникова читаем: «Законы времени, обещание найти их было
написано на березе (в селе Бурмакине Ярославской губернии) при
известии о Цусиме. Блестящим успехом было предсказание,
сделанное на несколько лет раньше, о крушении государства в 1917 году».
Поэзия может чувствовать не только эхо после события, но и эхо,
предшествующее событию, назовем его ПОЭХО. Поэхо, как звери
предчувствуют землетрясение, предугадывает явления.
Подслушанное в начале века поэтом «шагадам, магадам,
выгодам, пиц, пац...» предугадывало и «Магадан, столицу Колымского
края», и цоканье пуль о ледовитые камни.
А хлебниковская поэма «Разин», где вся огромная сложная
снежная лавина глав каждой своей метельной строкой читается на-
Зуб разума
261
оборот, вперед и назад, — она предугадывала обратный ход
революционного процесса, этим «набрасывала» историю.
Хайдеггер по-своему перевел гераклитовскую формулу
Оракула — «не говорит и не скрывает». «Ни прямо открывает, ни
попросту скрывает, но открывает скрывая». Такова темная речь поэзии,
освещающая будущее.
Отцы тоталитаризма были не только преступны, но и стали
жертвами неведения. Уничтожив крестьянство, они уничтожили основу,
«землю», как определил философ: «Мы эту основу называем
землею. С тем, что разумеет это слово, не следует смешивать ни
представление о почве, ни даже астрономическое представление о
Планете. Земля — то, внутрь чего распускание-расцветание прячет все
распускающееся как таковое».
Поистине «Россия выстрадала марксизм».
Режимы-близнецы, удушившие своих мыслителей, заменили
кафедры философии на роты пропагандистов. Гегель предсказывал смерть
искусства, но, увы, сначала уничтожили философию. Сейчас
забастовали недра «основы», за нищетой бомжа ниже нормы бедности стоит
нищета не только экономики, но и нищета духа общества без философии.
Русская мысль, высланная из России, свивала гнезда за океаном.
Мне довелось не раз бывать и беседовать с архиепископом о.
Иоанном Сан-Францисским, урожденным князем Шаховским, братом
Зинаиды Шаховской, проповедником, тонким поэтом,
печатавшимся под псевдонимом Странник. Он помог мне богословскими
советами во время работы над «Юноной и Авось», помогли письма от него.
Подтверждается любимая мысль философа, что тело — это не
материя, а форма души.
Нащупывается некая новая энергетическая экзистенция.
Идеалистический материализм, что ли. Наука и политические
инструкторы объяснить это не в силах. Как считал Хайдеггер,
«однозначность науки и логики» не исчерпывает эти сигналы новой истины.
И нельзя эти явления превратить лишь в утреннюю гимнастику —
некий хатхайогарт.
С порога на нас глядит онтологическая истина, одетая сегодня
не в античную тогу, а в опорки Божьего бомжа. Кто за нас может
освоить наш самый чудовищный опыт несвободы и попытки свободы?
Прорежется ли зуб новой философии или все кончится
почесыванием десны?
Зуб разума?
СУБРАЗУМ?
По-своему решает его Бердяев: «Моя темы была: ...можно ли
перейти от творчества совершенных произведений к творчеству
совершенной жизни?.. »
262
А. А. Вознесенский
ХАЙДЕГГЕР: «Поэзия есть приношение даров,
основоположение и начинание... Это значит не только то, что у искусства есть
история... но это значит, что искусство есть история в существенном
смысле: оно закладывает основы истории».
В этом смысле эскизенциализм поэзии 60-х годов набросал впрок
основы и некоторых сегодняшних духовных процессов. Метафо-
ризмом, ритмом, поиском новой языковой структуры, что
противостояла стереотипу Системы, поэзия предсказала хаос сегодняшних
процессов, хаос, ищущий конструктивности. Поэзия являла собой
« персоналистическую революцию, которой еще по-настоящему
не было в мире, означала свержение власти объективации, прорыв
к иному миру, духовному миру».
Есть недоразумения. Порой поэзию принимали за ее прикладную
роль — политику. В то время поэтические подмостки были
единственным публичным тысячетиражным местом, не проверяемым
цензурой, в отличие от газет, лекций, театра, где требовался
разрешающий штампик. Конечно, если поэт слишком преступал запрет,
назавтра ему вечер запрещали. Так постоянно и случалось. Но часто
запрещали не за главное, о чем сообщала тогда поэзия. Так
Галилеянина арестовали за оскорбление Цесаря, но его учение было совсем
не об этом, хотя, конечно, попутно и оскорбляло Цесаря. Об этом
говорит торопливый эскизенциализм записей евангелистов.
«Тут субъект философского познания экзистенциален. В этом
смысле моя философия более экзистенциальна, чем философия Гей-
деггера...» (Бердяев). Бердяев не раз возвращается к выяснению
отношений с Хайдеггером, признавая его талант, но отмечая его
рациональность и несравнимость их экзистенциального опыта. Я застал
уже другого Хайдеггера, пережившего разрыв с Ханной, — увы,
и гении становятся рабами семейных уз, наветов, — пережившего ее
отъезд из Марбурга учиться сначала к Гуссерлю, а потом к Ясперсу,
а потом и из нацистской Европы, пережившего крах иллюзий,
остракизм толпы, сначала правой, потом левой — экзистенциальный опыт
душевно надломил его. Ханна называла его мысль «страстной».
Рациональная философия — зуб без нервов. Шопенгауэр —
кошмар ночной зубной боли.
Классикам русской словесности присуща тяга к немецкой
философии. Но лишь В. А. Жуковскому довелось приезжать к Гёте.
Тайный советник Веймара был слегка уязвлен, узнав, что приезжий
поэт — тайный советник Российской империи.
Почему я отправился к Хайдеггеру?
В половодье шестидесятых хотелось фундаментальной
онтологической истины, еще год оставался до пражского краха надежд, но уже
чувствовалась тревога, а в имени последнего германского гения маги-
Зуб разума
263
чески хрустели редкие для русского языка звуки «х»,«гг»,«р»,в свое
время так восхищавшие будетлян. Еще Велимир «в земле,
называемой Германия, находил звук "г" определяющим семена Слова и
Разума». Кроме того, вероятно, подспудно пленяла параллель с моим
переделкинским кумиром, который учился философии в Марбурге
у Когена. В 20-е годы ту же марбургскую кафедру уже вел Хайдеггер.
Пленяло и изгойство мыслителя, опала у толпы — да что там
говорить, много мне дала и во многом утвердила фрайбургская встреча.
Темп поездки не позволил мне остановиться и уяснить услышанное.
На речи Хайдеггера наслоились беседы с М. Фридом, «новыми
левыми», что были мне близки, несмотря на наши яростные споры
(многие из них тогда уже зачитывались Ханной Арендт), с В. Казаком,
проклинаемым тогда нашим официозом, с юным Г. Юккером,
который создавал шедевры из гвоздей, казавшиеся мне анти-Кижами,
антиподом деревянному русскому шедевру, построенному без гвоздя.
Надо сказать, что Мюнхен, где находилась Академия,
представлялся нашей боевой пропаганде тех лет гнездом реваншизма, там
находилась глушимая радиостанция «Свобода». Между тем
именно мюнхенская Академия и сам граф Подевилс старались сблизить
наши культуры. Впервые Академия тогда решила избрать в свой
состав писателей из нашей страны. Мое избрание почти совпало
по времени с избранием А. И. Солженицына. Кемпфе
расспрашивал меня о Солженицыне, из-за переводов которого его не пускали
к нам. Сашу интересовало все, все об авторе «ГУЛАГа». Я поведал
о том, что мне было известно. Близко знать мне его не довелось.
Познакомил нас Ю. Любимов в своем кабинете, куда Солженицын
поднялся из зрительного зала, посмотрев спектакль «Антимиры».
Тогда мы первый раз поговорили.
Затем Солженицын написал мне записочку в ЦГАЛИ,
разрешающую прочитать его роман «В круге первом», тогда уже
конфискованный.
Слова «Мюнхен» и «академия» вызывают у меня сегодня шум
в затылке и головную боль, крик таксиста: «Ложись, бля!..», удар,
отключка и вид запекшейся моей белой шапки, очищаемой снегом
от крови. На подмосковном шоссе мы врезались в рефрижератор.
Я отделался сильным кровотечением и сотрясением мозга.
Отлежаться не пришлось, так как через четыре дня был
благотворительный вечер, который проводили таганцы в Лужниках для сбора
средств в фонд Высоцкого, а через неделю надо было ехать в Мюнхен
для выступления в Академии на русской неделе. С той поры и
остались головные боли.
Бог раскрывается внутри творения, учит Хайдеггер. Сегодня имя
философа мало что говорит нашей публике.
264
А. А. Вознесенский
Хайдеггер? «Харю, гад, отъел?!» «Хардроккер?!» В Кельне
расцвело Общество Хайдеггера. А есть ли у нас Общество Бердяева?
Европа сейчас переживает хайдеггеровский бум, газеты
печатают полосы о нем, выходят книги. Экологи, зеленые, берут его своим
именем. Молодых американцев привлекает в нем характер,
оставшийся собой, несмотря на любые воздействия среды. Если бы они
знали, какой это дается ценой и что творится у него внутри! «Язык
создает человека» — это повлияло на многих французских леттри-
стов, заокеанскую «лэнгвич скул». Но в 60-е годы европейские
интеллектуалы игнорировали его.
Однажды в Доме литераторов меня остановила миниатюрная
женщина, похожая на медноволосого тролля в кукольных брючках.
«Я — Рената, профессор истории во Фрайбурге. Я студенткой
видела вас с Хайдеггером. Признаться, он нас тогда не очень-то
интересовал. Мы бегали смотреть на вас...» Заезжий иностранец был для
них интереснее отечественного гения!
Его обвиняли в ослеплении рейхом. Виновны ли в сталинизме
Шостакович, Пастернак, Корин, жившие и работавшие при режиме?
Впрочем, читая его кодовые понятия «земля», «почва», «бытий-
ность», и правда может показаться, что мы имеем дело с
ретроградом, хотя и образованным. Ведь и нацисты купились на эти символы.
Он на полстраницы влюбленно воспевает крестьянские башмаки.
Но, увы, эти башмаки крестьян, народа написаны не унылым
копиистом, а Ван Гогом, «дегенератом» и дьявольским наваждением
для ретроградов. Ханна Арендт назвала его почти убийцей Гуссерля
в письме к Ясперсу. Хайдеггер почуял силу национальной стихии
и ее исповедал. Мы, игнорировавшие ее, ныне пожинаем плоды.
Нацисты уже в 1935 году разгадали философа, отстранив от
руководства во Фрайбурге, положив конец иллюзии об их общности.
Его Ханна удерживала от увлечения итальянскими
футуристами, считая их схожими с «Майн кампф».
В 1935 году он пишет: «Поэзия есть... начинание... Искусство
дает истечь истине... может ли искусство быть истоком и должно ли
оно быть заскоком вперед или же искусство должно оставаться
творением, добавляющим и дополняющим, чтобы находиться тогда
рядом с нами наподобие любого ставшего привычным и безразличным
явления культуры».
Такое искусство «лицом назад» существовало не только сегодня.
Назовем это явление экс-истинализмом. И не поддадимся его
темным соблазнам.
Чем русский экзистенциализм отличается от западного?
Раскроем «Самопознание» Бердяева: «...для меня экзистенциальная
философия была лишь выражением моей человечности, человечности,
Зуб разума
265
получившей метафизическое значение. В этом я отличаюсь от Гей-
деггера, Ясперса и других...»
Отцы русского богонаправленного экзистенциализма
Бердяев и Шестов видят смысл истины в творчестве: «...человек должен
сам стать Богом, т. е. все творить из ничего», — написав эту фразу,
Л. Шестов сразу за ней приводит загадочные слова Лютера: *
...богохульство звучит иной раз приятнее для слуха Божьего, чем даже
Аллилуйя или какое хотите торжественное славословие. И чем
ужаснее и отвратительнее богохульство, тем приятнее Богу». Думается,
есенинские «кощунства» («я на эти иконы плевал» и иные строки,
похлеще) звучат куда угоднее Богу, чем пресное чистописание. Это
отношения поэта с Богом — они не для непосвященных. Да любая
метафора-озарение Есенина, Заболоцкого, Дали или Филонова идет
«от Бога», а непосвященными воспринимается по малограмотности
как кощунство. Наши блюстители пытаются представить
художника по своему подобию, замарать его, по-братски делясь с ним своей
грязью: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы...» —
как будто сегодня Пушкин написал это.
«Творение сохраняется в истине, совершаемой им самим.
Охранение истины совершается потомками».
Был я свидетелем того, как африканец в лиловой тоге вдруг
пылко завел дискуссию о Хайдеггере. Это было на будапештской горе,
где проводил очередное собрание Культурный фонд Гетти,
основанный современными западными Третьяковыми — красивой,
витающей в грезах Анн Гетти и издателем лордом Джорджем Вайденфель-
дом, опубликовавшим в свое время «Лолиту» и боровшимся за нее
на процессе. Ими движет миссия сохранения истины.
Вест-истина? Ист-истина?
Мысль Достоевского: «У меня, у нас, у России — две родины:
Запад и Восток».
Так вот, Африка заговорила о Хайдеггере. Заоблачный Дюррен-
матт, протирая очки от высотного тумана, заявил, что
национальная волна лишь несла философа по течению и в силу непонятности
философию его пытались использовать.
М. Крюгер поведал, что поколение его да и бунтари 68-го года
Хайдеггера не чтили, упустили его философию. Разговором
увлеклись и нобелевский лауреат, удивительный поэт Чеслав Милош,
и седобородый Роб Грийе, и Адам Михник, любимец форума, фавн
«Солидарности», запойный чтец русской литературы, и прозаик
из ЮАР Надин Гордимер, и Сюзан Зонтаг.
Когда я рассказал о своей встрече с Хайдеггером, вдруг
оказалось, что ни одному из присутствующих не довелось беседовать
с ним. И правда, странно, что не немец, а русский зачитал выдержки
266
А. А. Вознесенский
из своей беседы с европейским философом. Тогда я и решил
напечатать эти странички — преступно скрывать даже малость,
касающуюся гения.
Есть в конспекте графа и крупицы доселе неизвестной
информации. Например, ни разу в своих работах Хайдеггер до сих пор
не упоминал Зигмунда Фрейда. Хотя у них много общего, а
ученики Фрейда, особенно швейцарец Бинсвангер, открыто соединяли
Фрейда с Хайдеггером.
Фрейдеггеры?
Граф записал:
«Вознесенский спрашивает об отношении Хайдеггера к
психоанализу. Хайдеггер высказывается отрицательно. Он решительно
отделяет себя от Фрейда и его учеников.
Вознесенский рассказывает, что, когда была опубликована "Оза",
к нему домой приходили трое психоаналитиков, чтобы обследовать
его психическое состояние. Они усмотрели в нескольких
фрагментах поэмы психические аномалии. Однако, на его счастье, все три
экспертных заключения противоречили друг другу...»
Наивный граф! Он считал, что все наши психиатры —
психоаналитики. Увы, у нас в те годы Фрейд был запрещен. Большинство
семей на Западе имеет своих психоаналитиков. Не думаю, что мы
психически здоровее.
После войны Ханна прислала Хайдеггеру открытку без
подписи: «Я здесь». Они встретились. «Ханна нисколько не изменилась
за 25 лет», — сухо отметил он. Он был страстью ее жизни. Его
портрет стоял на столе в Иерусалиме, где она писала о процессе Эйхма-
на. Она простила Хайдеггера. В дневнике она назвала его
«последним великим романтиком».
Переворачиваю последнюю страничку конспекта.
Растворяются в памяти судетскии граф, написавший их, обиженный пузырь
Саши, жилетка великого неразгаданного хозяина — земные
оболочки идей. Они испарились, оставив нам вопросы. Возможно ли эски-
зировать истину?
«Находимся ли мы исторически в нашем здесь-бытии, у истока?
Ведома ли нам сущность истока, внимаем ли мы ей? Или же в нашем
отношении к искусству мы опираемся только на выученное знание
былого?»
Каков наш сегодняшний эскизенциализм? Являет ли Фрэнсис
Бэкон эскиз эмбриона будущего? Сможет ли искусство создать
третью реальность? Что за откровение мысли родит наш чудовищный
экзистенциальный опыт?
Будут ли потомки идентифицировать череп нашей эпохи по
гениальному коренному зубу Хайдеггера?
Ill
ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.
ДЕСТРУКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ИДЕЙ М. ХАЙДЕГГЕРА
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОВОРОТА
В. В. БИБИХИН
Сила мысли
Штокхаузен назвал аккуратное взрезание умелыми
самоубийцами 11 сентября 2001 года двух высочайших в мире манхэт-
тенских башен, человеческих муравейников, при помощи двух
больших пассажирских самолетов, наполненных людьми,
совершенным произведением искусства. С отвлеченной высоты он прав.
А те башни, надежные самолеты и деловитые люди в них и в
башнях? Небоскребы со всем, что в них, боинги и столичные люди были
давно уже созданием европейско-американской цивилизации,
небывалой в истории человечества. Их драгоценность ощущается еще
больше сейчас, когда мы с ними навсегда расстались. Достоинство
нашей современной культуры станет со всей остротой ясно, когда
обваливаться, как каменный Будда в Афганистане, начнет всё. Тот
величайший в мире Будда был, кстати, тоже неповторимым
произведением искусства.
Бесподобные боевые машины, умные ракеты, взрезающие теперь
в отместку за разрушение планетарной столицы и ради
восстановления справедливости каменный Афганистан, первоклассные
операторы этих чудес техники, летчики и моряки — тоже совершенные
создания искусства. Восхищает дружная работа слившихся с
машинами, захваченных участием в слаженной операции команд.
Фантастическая электроника, которой они пользуются, интереснее
современного художества, как заметил четверть века назад Эжен
Ионеско. Леденит воображение и отчаянный восторг самоубийц, их
отданность сумасшедшей мечте, холодная ярость далекого расчета.
Нечеловеческий размах этих жестов цивилизации, умной воли
к изобретению, творчеству и разрушению, отнимает слова и велит
думать, вспоминать. Мы растеряны, опоздали. Уверенно
продолжать сейчас свои руководящие речи будут только те, кому не жалко
тонких вещей. Почти все наши слова и действия заранее обречены
на неуспех. Тех, кто своей смертью вырвал живой кусок из
современного мира, уже нигде нет. Неудачей будет всякая объявленная
270
В. В. Бибихин
удача военно-полицейской охоты за призраками. Нехорошо, если,
иллюзорно утешенный, мир почувствует себя тогда вправе заснуть
еще на годы. Продолжится слепой захват вещей, осязаемых и
мнимых — в погоне за чем, в надежде на что?
Жизнь человечества разошлась с бытием, увлекшись погоней
за сущим. Поэтому тайный судья в нас всё меньше находит себе
места в мире и миру места в себе. Он разлучается с собственным
телом. Рядом с его голой самоубийственной правдой теряют
заманчивость краски популярной публицистики и находчивого
журнализма. Языки заплетаются, невольно ощущая, насколько мало
стали нужны речи. Единственно важно сейчас только терпение тех,
кто хочет и ищет согласия жизни со спасением. Их негромкие
голоса слышны в инстинкте многих на Западе и на Востоке не мстить.
Чего-то ждать можно теперь только от тех, кто не спешит судить
и надеется на мудрость тайны. Только Бог еще может нас спасти,
как сказал на подъеме германского экономического чуда Мартин
Хайдеггер.
Мудрость неприступна. Осваиваем не мы ее, а она нас, если мы
согласимся пойти в ее школу. Лежащая перед нами биография
философа никак не претендует быть введением в его мысль. Не только
изложение, даже чтение его текстов вовсе не обязательно
приблизит его к нам. Сейчас десятки тысяч людей во всем мире, студентов
и исследователей, изучают выдающегося мыслителя XX века.
Литература о нем давно стала необозримой. Его тексты у нас есть, их
много в приближающемся к ста томам Полном собрании сочинений.
Среди вороха текстов мы рискуем промахнуться мимо, сделав шаг,
настолько далекий от его мысли, насколько возможно. Акт
принятия к сведению и оценки больше и непоправимее отдаляет от
философа, чем если бы мы им не занимались, его высказываний не знали
и не упоминали о них никогда. Сообщение о философии — все равно,
какое оно, — обманывает уже подразумеваемым обещанием, будто
философия относится к вещам, о которых можно сообщить. Смысл
ее в передаче всегда почему-то оказывается дерзкий или плоский.
Нас информируют о философах странно.
Чего главного обычно не хватает людям, которые, казалось бы,
проявили хорошую любознательность, решив среди прочего
ознакомиться с очередным авторитетом? Свободная мысль, которая
сделала его великим, никогда не подчинялась расписанию, всегда верила
только захватывающей глубине вещей. И мы тоже должны были бы
увлечься самими вещами, их смыслом. Только тогда мы в меру
своей правдивости неожиданно приблизились бы к философу — забыв
о нем в увлечении делом. Когда мы, не отдав себя делу мира,
которым он был занят, переводим взгляд с вещей, к которым он шел,
Сила мысли
271
и начинаем смотреть на его личность, то мы уже не с ним. Так
попытка заняться Хайдеггером может закрыть его от нас.
Он предупреждал в позднем докладе «Время и бытие»* об
иллюзии словесной понятности философского произведения. «Если бы
нам сейчас показали в оригинале две картины Пауля Клее,
созданные им в год его смерти, акварель Святая из окна и, темперой на
дерюге, Смерть и огонь, мы могли бы долго простоять перед ними и —
расстаться со всякой претензией на непосредственное понимание.
Если бы сейчас, и именно самим поэтом Георгом Траклем, нам было
прочитано его стихотворение Семипеснь смерти, нам захотелось бы
слушать его часто, но мы расстались бы со всякой претензией на
непосредственное понимание. Если бы Вернер Гейзенберг пожелал
сейчас изложить нам фрагмент своей физико-теоретической мысли
на пути к искомой им формуле мира, то в хорошем случае двое или
трое из слушателей, пожалуй, смогли бы следовать за ним, но мы,
остальные, беспрекословно расстались бы со всякой претензией
на непосредственное понимание. Иначе подходят к мысли, которую
называют философией. Она якобы преподносит понимание мира,
а то и прямо руководство к блаженной жизни. А ведь такая мысль,
может быть, оказалась сегодня в ситуации, требующей
размышлений, которые далеко отстоят от всяких полезных жизненных
ориентировок. Возможно, стала нужна мысль, призванная задуматься
об основаниях в том числе и живописи, и поэзии, и
физико-математической теории. Нам пришлось бы тогда расстаться с претензией
на непосредственное понимание и этой мысли тоже. Мы обязаны
были бы тем не менее все равно к ней прислушаться».
Мысль, вытащенная наружу из своей глубины, мертвеет. «Люди
подходят к мысли с негодной для нее меркой. Мерить ею — все
равно что пытаться понять природу и способности рыбы, судя по тому,
сколько времени она в состоянии прожить на суше. Давно уже,
слишком давно мысль сидит на сухой отмели»**. Напрасно было бы
ожидать встречи с ней, читая даже самого умелого беллетриста.
Раскрытая нами биография хороша тем, что называет, упоминает почти
все борозды, взрытые в науке, обществе, политике упрямым самоду-
мом. Какие он там посеял семена, мы из жизнеописания не узнаем.
Держа в уме первый эпиграф к нему, взятый из Ханны Арендт,
читатель должен заблаговременно оставить место и для совсем других
книг о том же человеке.
Прочитан 31 января 1962 г. в актовом зале Фрайбургского университета,
впервые опубликован во Франции (L'endurance de la pensée. Paris, 1968.
P. 12-71), на русском: Хайдеггер M. Время и бытие. Статьи и выступления.
М., 1993. С. 391-406.
к* Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления... С. 193.
272
В. В. Бибихин
В своих курсах об Аристотеле, Канте, Ницше, Гёльдерлине
философ, чья жизнь постепенно развертывается перед нами, никогда
не брал на себя смелость с птичьего полета обозревать их, как
привычно позволяет себе публицист. Раскрашивание событий, усиление
акцентов, выход в общедоступную политику, скандал и суд
необходимы популярному автору, чтобы окликнуть человека на улице,
заставить его обернуться. Перевод, со своей стороны, всегда невольно
акцентирует как раз наиболее броские места.
Биограф предлагает стандартные ключи к своему предмету,
пригодные для привычной интеллектуальной беседы. Эти ключи
отпирают всегда слишком много. Предлагаемые нам характеристики
неповторимой мыслительной постройки неизбежно будут слишком
обобщенными. Нет, Хайдеггер не первый и не единственный, для
кого благочестие мысли измерялось способностью спрашивать;
почти только тем, что задавал собеседникам вопросы, ограничил себя
уже Сократ. Не один Хайдеггер назвал то, о чем спрашивал жизнь,
бытием; так называл полноту существования Аристотель в
Античности и другие до и после него. Если верить биографу, то
специфически Хайдеггер, но, по сути дела, все истинные мыслители
открывали безбожному миру перспективу верующего опыта. И конечно,
не вернуть или подарить жизни тайну — никто ее у нас не отнимал
и каждого она неотступно сопровождает, — а достойно вынести
близость с тайной было мечтой мыслителя. Не ему лишь удалось
проложить путь мысли, близкой самим вещам; вернуться к ним призвал
его учитель Гуссерль.
Переходы от богатого жизнеописания, в далекой культурной и
политической перспективе, к сомнительным предположениям о том,
как основопонятия мыслителя происходили из непосредственного
жизненного опыта, не относятся к удачным биографическим
приемам. Разница между трудягами-интернатовцами при
монастырской школе, в среде которых рос прилежный и усидчивый Мартин,
и умниками из обеспеченных семей — тут старательное усердие, там
вольница и развлечения, — конечно, запала в памяти мальчика, как
впечатляет и нас. Но объяснять прямо этой схемой происхождение
и тем более «карьеру» важных хайдеггеровских терминов
подлинность (собственность) и неподлинность {несобственность) мы бы
не рискнули.
Страсть, ужас, боль, жизненный порыв, восторг вошли с непо-
дорванной полнотой в мысль Хайдеггера и создали ее жар. Но
выверенная, размеренная хайдеггеровская речь была не простым
выплескиванием этого огня. Редкому золоту было дано пройти его испытание. Что
многолетняя работа мысли не разрушила, а, наоборот, очистила и
усилила непосредственное чувство открытого человеческого существа,
Сила мысли
273
обострила сумасшедшие экстазы и высветила бездну тоски, кажется
невероятным. Но не в сохранении ли детства среди испытаний подвиг
мыслителя. За силой философского слова слишком легко
предположить не натуру, а искусство, если не хуже, словесную игру.
Повторяем, все эти провалы неизбежны. Литератор и публицист
может рассчитывать на проникновение в суть философского дела
не больше, чем в математический формализм, когда предметом
биографа становится жизнь математика. То, что от повседневности
к творчеству плавного перехода нет, замечено давно. Собственно,
фактических упреков к обстоятельной, интересной, с увлечением
прочитываемой книге, если пройти мимо ее философских экскурсов,
мало. Так, неверно, будто Хайдеггер все-таки посетил в 1935 году
Париж в порядке подготовки к Международному философскому
конгрессу: впервые он приехал во французскую столицу к ученикам
Жана Бофре лишь после войны, удивляясь самому себе, как гласили
его первые слова на вокзале. Свидетели говорят о поведении Хайдег-
гера в двенадцатилетие Третьего рейха не так однозначно, как
прочтет читатель лежащей перед нами книги: есть воспоминания о его
вызывающей независимости, об отказе от римского приветствия,
о том, что в военные годы окружение Хайдеггера во Фрайбурге было
единственной средой, где люди позволяли себе открытую
критику режима*. Чтобы снять Хайдеггера с преподавания и отправить
на окопные работы в 1944 году, в месяцы последних судорог
режима, все-таки недостаточно было только медицинского свидетельства
о годности профессора к физическому труду: сыграло роль и
разделение всего преподавательского состава на три класса важности
и отнесение лично Хайдеггера к наименее нужной для рейха группе.
К сожалению, когда биограф чувствует необходимость поднять
интерес к книге, политика и скандал подвертываются ему под руку
для поддержания желанной остроты. Автор признаётся, что читает
все-таки между строк, когда приписывает довоенному Хайдеггеру
рискованный проект подчинения Франции духовному водительству
Германии для объединения усилий в борьбе против
североамериканского и русского варварства. Аналогичным признанием, что
свидетельств тому нет, логично было бы сопроводить и догадку биографа
о будто бы продолжавшемся у Хайдеггера еще и в 1939 году
согласии с политикой тогдашнего правительства. В стол себе как раз в том
году одинокий философ писал другое — об обреченности
«тотального мировоззрения», которое подменило творчество мероприятиями
и полноту жизни — гигантизмом махинаций (К делу философии.
О событии, § 14).
* Aubenque Pierre. Encore Heidegger et le nazisme // Le débat, n. 48. 1988.
P. 117.
274
В. В. Бибихин
Догадки, которыми довольно часто вынужден пользоваться
всякий биограф для проникновения в душу исследуемого персонажа,
тем более мыслителя, — не лучший способ реконструкции, особенно
когда остается еще масса неосвоенных, впервые только публикуемых
текстов философа, его корреспонденции и мемуарных материалов.
Конъектура, согласно которой полученное от властей в последний
момент разрешение ехать на философский конгресс 1937 года Хай-
деггер не принял от обиды на то, что не он, а партийный идеолог был
назначен руководителем делегации, плохо вяжется с беспримерной
неприязнью мыслителя к любого рода конференциям, в которых
он за всю свою жизнь участвовал меньше, чем иной современный
аспирант. Еще хуже, когда на предположении о тщательно
утаенной политической коричневости Хайдеггера выстраивается второе
предположение, о подпольном тоталитаризме его мысли. Субъект,
до такой степени скрывавший свое лицо, не заслуживал бы много
внимания. Хайдеггер умел видеть за тем, что было названо
национал-социалистической революцией 1933 года, переворот всего
германского бытия. Подобно тому всероссийское революционное
движение 1904-1918 годов было в своей всенародной основе
сдвигом, обещавшим перемену России, а возможно, и всего мира. Как
в России 1917, 1991 годов, так в Германии 1933,1948 годов на
политическую сцену поспешили выйти активисты, взявшие инициативу
в свои руки. Они сорвали медленно назревавшее событие, не дав ему
развернуться в его истине.
Рано, уже к концу того же 1933 года, почувствовав
непоправимость срыва, Хайдеггер ушел в обдуманное молчание. В отличие
от Ясперса, отвернувшегося не только от политики, но и от ее
невидимой глубины, Хайдеггер связал себя долгом вынести в слово
поворот исторического бытия. Благодаря в первую очередь ему и таким,
как он, Германия в жуткое двенадцати л етие своего безумия осталась
народом мыслителей и поэтов. Идеологическая чушь, которую несли
тогда властные предатели своей страны, перепечатывается и
переводится у нас теперь только как курьез, но ни одной буквы из
написанного им в те годы Хайдеггеру не пришлось впоследствии зачеркнуть.
Записи 1939 года были встречены при их первой публикации через
полвека* как откровение. Перевод во Франции всех политических
выступлений, сделанных Хайдеггером в месяцы его ректората**,
помог тем, кто защищал его от обвинений в жажде власти.
Кто понял, что невротические активисты привнесли от себя
к подспудному народному движению только провокацию и скан-
* Heidegger Martin. Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis). Frankfurt am
Main: Klostermann, 1989.
** Heidegger Martin. Ecrits politiques. 1933-1966. Paris: Gallimard, 1995.
Сила мысли
275
дал, что колебание исторической почвы создается не сотней
авантюристов, тот поверит, что чуткий ум был больше захвачен
вулканическими процессами в мире, чем клоунадой политиков.
Да, он был заворожен мощью, только не партии национального
единства, а исторической судьбы. Кто понял, что бурю в океане
создают не корабли, тому естественно задуматься о вещах, которые
сильнее человека. Хайдеггер действительно воспринял как
великое событие германский порыв начала 1930-х годов. Да, его тоном
тогда или еще раньше того, уже в «Бытии и времени» 1926 года,
была та же или еще большая решимость, чем какой требовали
политические образования. Он звал к собранности, дисциплине,
служению. Шевельнулся титан, и вначале вовсе не было очевидно, что
он слеп и глух. Выступление Хайдеггера в 1933 году не было
случайным. Он чувствовал в мысли ту же власть, не меньшую мощь,
чем в политических страстях. Он старался увидеть, как должно
пойти национальное движение, чтобы не изменить духовному
призванию страны.
Политическое прочтение философии теми, для кого все
возвышенное не больше чем мечта, говорит больше об их собственном
нетерпении, чем о властных амбициях мыслителя. Он звал, просил:
оставьте расцветающее дерево в покое. Оставьте миру быть
тайным согласием, не спешите перекрасить его своими воззрениями.
По-новому звучащий голос влился непривычным потоком в болото
академической философии. Заработала привычная машина
ассимиляции, обеззараживания. Еще при жизни Хайдеггера способы
избавиться от него назвал недовольный этим процессом Жак Дер-
рида: «Заставить поверить, что в Хайдеггере нет ничего, кроме
германской идеологии периода между двумя войнами: редукция,
симптоматичная для определенного рода чтения <...> инсинуировать,
будто Хайдеггер сдержан в отношении психоанализа лишь потому,
что это еврейская поделка (что призвано навести на мысль, что через
атмосферическое заражение — элемент анализа не хуже других —
всякий, кто слишком внимательно вчитывается в Хайдеггера,
попадает в этом аспекте под подозрение) <...> Тут есть явное завихрение,
само себя взвинчивающее, завороженная проекция, принимающая
с каждый разом все более клеветнический оборот. Я прислушиваюсь
к речам этого рода вот уже довольно долго, с более или менее
пристальным вниманием. И соблюдая известное молчание. Не следует
им злоупотреблять»*. Впрочем, не лучше ли для мыслителя, когда
вокруг него не прекращается скандал. С подозрительной мыслью
будут обращаться по крайней мере осторожнее.
* Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 99-100.
276
В. В. Бибихин
Хайдеггер словно не заметил такого широкого движения
XX века, как психоанализ. Адорно назвал его за то провинциалом
от философии. Вспомним, однако, что основатель психоанализа,
открыв однажды книгу Ницше, увидел там столько пересекающегося
со своей мыслью, что тоже не стал его читать, желая остаться
оригинальным. В том, что Фрейд назвал бессознательным, философия
издавна дышала как рыба в воде. Разлив психоанализа в XX веке
означал лишь, что в культурном мире стало меньше той глубины, где
мысль могла бы вернуться в свою естественную среду. Ее природное
движение стало казаться уходом от злобы дня.
Спрашивают, какое право имеет Хайдеггер говорить об
отрешенности, когда вся планета была в огне. Весной 1945 года в горах над
занятым французскими оккупационными войсками Фрайбургом
Хайдеггер читает в близком кругу Канта, средневековую
схоластику, Гёльдерлина и снова Гёльдерлина. Голодная тишина, нищие
праздники с угощением от приглашенных крестьян. Все
сосредоточено на духовном. «Мы стали бедными, чтобы быть богатыми».
В обдуманно мерной речи видят властный жест, в уходе от злобы
дня измену. Распространяющаяся во всём мире слава отщепенца
кажется недоразумением. Власти, академики, журналисты
начинают свое долгое расследование. Если мыслитель не тайный враг,
то, возможно, шарлатан. Не подняло ли здесь голову демоническое
начало. Не следует ли разоблачить его, чтобы яд словесной ворожбы
не заражал грядущие столетия.
Слава о Хайдеггере разошлась сначала по всей
университетской Германии, еще прежде того, как окончательно оформилась его
мысль, и даже независимо от знакомства с ней. С самого начала, как,
впрочем, и до сих пор, он умел задеть многих без того, чтобы люди
поняли, каким образом он это делает. Так лицом ощущаешь
солнечное тепло и при закрытых глазах. Первым, принявшим на себя
очарование тогда еще тридцатилетнего Хайдеггера, был старший его
шестью годами Карл Ясперс. Не осталось записи разговоров от их
«жизни вместе»* в дни визитов Хайдеггера в Гейдельберг. Ясперс
не прочел внимательно рецензию друга на свою «Психологию
мировоззрений». В этой рецензии его позиция была рано оценена как
наблюдательская. Философия и мировоззрение — какая скука
берет от этой темы, говорит Хайдеггер. Казалось бы, возвышаясь
над частным и случайным, философское мировоззрение обозревает
всё, держит перед глазами природу, космос, глобальные проблемы,
историю человечества в ее общих чертах. Панорамное видение
позволяет формулировать широкие проблемы человеческой истории,
* Хайдеггер Мартин / Ясперс Карл. Переписка. 1920-1963. М, 2001. С. 79.
Сила мысли
277
войны и мира, Бога. От прояснения фундаментальных проблем
зависит, казалось бы, решение этических, социальных, даже
политических вопросов, задач создания культуры. Отчего же так скучно,
разве масштабная философия не позволяет нам выйти на широкий
простор?
Нет, к строгой мысли распределение, чему быть чем, что чем
считать и как понимать что, отношения не имеет. Манипуляции в
просторном поле представлений несовместимы с той конкретностью,
благодаря которой науки остаются науками, а мысль мыслью.
Занявшись мировоззренческим упорядочением, философия перестает
быть собой. Тема философии и мировоззрения сразу перестает быть
скучной, когда Хайдеггер утверждает: философия к мировоззрению
отношения не имеет. «Мы стоим на перекрестке пути, где
принимается решение о жизни или смерти философии вообще, у края бездны:
или в ничто, т. е. в пустоту отвлеченной предметности, или удастся
скачок в другой мир, или точнее: вообще — впервые — в мир».
Наблюдательское неучастие в бытии, предупреждал Хайдеггер, ведет
Ясперса к уходу от философии.
Буря 1933 года, от которой Ясперс ушел в неприятие немецкой
реальности, положила конец необыкновенной близости этих людей.
Намечавшееся было понимание сменилось у Ясперса с годами
недоумением и недоверием. Но по мере расхождения и после
фактического прекращения связи Хайдеггер, странное дело, занимает все
больше места в оставленных Ясперсом заметках о нем: с 1950 года
по конец жизни им было отправлено уже всего лишь 5 коротких
писем к Хайдеггеру, но за те же годы сложилась почти целая
книга записей о нем*, вплоть до драматической последней, цитируемой
в конце 21-й главы книги Сафранского. В непрерывном безмолвном
споре с другом-врагом дело для Ясперса идет не меньше чем о
правоте всего своего жизненного пути, а это более полувека упорного
труда. Признай он успех другого — и сомнение в себе неизбежно.
Высочайшая вершина мысли, понимает Ясперс, только одна. И он
принимает роковое для себя, но давно предопределенное решение:
очарование Хайдеггера не подлинно, его притягательность
обманчива.
Слова о чарах Хайдеггера, которым невольно поддавалась
Ханна Арендт задолго после того, как отошла от него, не
преувеличение. Встреча тридцатипятилетнего профессора с
восемнадцатилетней студенткой стала вспышкой, из которой вышли и поэзия
хайдеггеровского «Бытия и времени», и мысль о мире, пафос глав-
* Jaspers Karl. Notizen zu Martin Heidegger. München; Zurich: Piper, 1978.
S. 73-264.
278
В. В. Бибихин
ной книги Арендт*. В этой ее книге, однако, ни разу не упомянут
учитель. Близость обоих ни в малейшей мере не была
взаимопониманием.
То же в случае с Сартром. Его вдохновенное «Бытие и ничто»,
в увлечении которым француз забыл и о немецкой оккупации,
и о своей художественной литературе, было слепком с «Бытия и
времени» вплоть до стиля и лексики, но служило самоутверждению
того самого эмансипированного сознания, из лабиринтов которого
на простор выбирался немец.
Наконец, Жан Бофре и школа французских учеников Хайдегге-
ра. Занятая его переводом и толкованием, в своей верности ему она
безупречна, но обаяние учителя кончается на ней. Она интереснее
всего в той мере, в какой перестает быть его комментарием.
Если Хайдеггер провалился в передаче своего дела духовно
близким, если он ожидал понимания разве что через триста лет,
в Китае или России, если на родной земле, как заметил однажды
Ганс Георг Гадамер, можно надеяться на возобновление его
влияния теперь уже только через обратные переводы его книг с других
языков, то далеко расходящиеся от него круги воздействия в еще
большей мере движимы лишь непонятым теплом его присутствия.
Импульсы идут от немногих запомнившихся страниц, как опыт
ужаса в «Что такое метафизика», иногда от отдельных фраз, как
наука не мыслит или язык дом бытия> но, может быть, всего чаще —
от общего неясного впечатления праздника, исходящего от этого
человека.
Оно сопутствовало ему всегда. Где объявлялось выступление Хай-
деггера, там был вдвое, втрое переполненный зал, занятые
подоконники, скамейки, теснота вплоть до рискованных ситуаций, как при
возобновлении лекций во Фрайбургском университете в 1949 году,
когда в толчее у одного из слушателей оказалась сломана рука; как
летом 1950-го в Мюнхене; как там же в 1953-м.
Хайдеггер уходил в семейный круг, еще до войны отказался
преподавать в столице, почти не давал интервью, мало записывался
на магнитофон и еще меньше на кинопленку. Тем подробнее
запоминали и фиксировали каждый его шаг на людях. Жизнь была
просвечена насквозь, каждый видевший этого человека мог, описав
встречу, сразу рассчитывать на публикацию, как и любая фотография.
Относящиеся к нему государственные, местные административные,
секретные архивные записи все были подняты, переписки
опубликованы или намечаются к публикации, каждое упоминание имени
Хайдеггера учтено.
* Арендт Ханна. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000.
Сила мысли
279
С годами он делался проще и спокойнее. Поздние фотографии
показывают счастливого старика с безмятежной улыбкой*. Человек
раскрылся весь и не унес с собой свою тайну.
Он завершал свою жизнь с чувством сделанного дела. Многие
полны претензий к нему. Политически туп. Беспомощен. Не дает
никаких конкретных ориентировок. Как вклад в социальные
искания эпохи «Письмо о гуманизме» бесполезно. Ученые,
художники, философы иногда, пусть редко, сходят на общедоступный
газетно-журнальный уровень, этот — никогда. Есть основание
для сомнений в его пригодности для социума. Только так ли уж
важно умение выйти в газетную плоскость, на экран и
распространиться по поверхности тем? не здравее ли крестьянская и
мастеровая простота? У Хайдеггера, как ни трудно в то поверить,
она сохранилась нетронутой рядом с мудростью и чарами
поэтического слова.
Философия возвращает к правде. Ее подробный труд нужен не
потому, что в добавление ко всему, что воздвигнуто человечеством, она
выстраивает еще и свою систему, а потому, что мнения о мире
заслонили его от нас. Они сложны и требуют тщательного разбора. С
выходом из наших представлений к миру частные области знания, куда
относятся политика и социология, мало чем могут помочь.
Требуется мудрость непохожего рода. В претензиях к хайдеггеровской,
другой мысли есть ленивое намерение ходить, пока есть возможность,
по старой колее.
Ловя Хайдеггера на слове, винят его в солипсизме. Человеческое
бытие, присутствие, выступает у него всегда в единственном числе.
С кем оно тогда вступит в диалог? Не гуманнее ли плюрализм Леви-
наса или Ханны Арендт, культивирующей общение равноправных
граждан? Но индивид, вступающий в диалог с другим индивидом,
представляет собой уже продукт новоевропейского представления
о субъекте. Хайдеггеровское присутствие, в отличие от субъекта,
не конструкт.
Через тело, душу, род, воздух, воду, пищу, чувства, страсти мы
с самого начала, раньше чем себя замечаем, уже были вместе со
всеми, во всех и во всем, что мы видим и чего не видим. Отсюда, из этой
коренной всеобщности, вторично искать выход к другим — значит
забыть о нашей исходной органической связи со всеми. В другом
мы встретим тогда не родное, а вымышленное существо. Чтобы
вернуться к родным и ближним, надо вспомнить то, что раньше памяти
спит в нас. Только так, вернувшись к себе из вторично выстроенных
представлений, мы вернемся в мир.
Fedier Francois. Soixante-deux photographies de Martin Heidegger. Paris:
Gallimard, 1999.
280
В. В. Бибихин
Старый Хайдеггер приводит пример: когда я вспоминаю Рене
Шара в Ле Бюскла, что мне при этом дано? Сам Рене Шар! а вовсе
не Бог знает какой «образ», через который я опосредованно имею
к нему отношение. Вы скажете, Рене Шар не присутствует при этом
лично? Неважно! Все равно именно он сам, а не представление о нем
присутствует, как возможно присутствовать на отдалении. Надо
разобраться, кто внушил, подсунул нам мысль, будто мы имеем
дело не с вещами, а с представлениями о них. Кто загнал нас в
тупик сознания и его представлений — безысходный потому, что
стоит лишь уверовать, что в воспоминании мы имеем не самого
человека и не саму вещь, а их представляемый образ, как при встрече
с ними мы тоже станем иметь лишь сумму зрительных впечатлений,
то есть опять же представление. До человека мы на таком пути
никогда не доберемся. Кто иссушил нас, заставил вещи раздвоиться
на сами вещи, до которых нам теперь уже никогда по-настоящему
не добраться, и представления, идеи, образы их?
Упоминаемый в лежащей перед нами книге Франсуа Федье,
философ, искусствовед, переводчик, у которого долголетнее общение
с Хайдеггером оставило в душе чувство непреходящей радости,
заметил как-то, что люди часто похожи в своем отношении к
философии на механика, который получил в подарок самолет или планер,
но не знает и не может догадаться, что это устройство способно
летать. Умелец научился обращаться с ним и неким образом мастерски
пользуется, но именно как сухопутной машиной.
Нам еще не все известно о философии. Мы спрашиваем, что мы
с ней можем сделать. Конечно, ничего. Не может ли она что-то
сделать с нами? вернуть нас нам самим и сути вещей? В неслышной
работе мысли больше силы, чем в волевых решениях. Настающие
цивилизации так же незаметно зарождаются в теле старых культур,
как новый человек в тепле матери. Если захотеть проектировать
мир, даже имея большие средства, не очень получится. Но если быть
чутким к ходу вещей...
2002
А. В. МИХАЙЛОВ
Мартин Хайдеггер: человек в мире
<Фрагменты>
<...> Этот небольшой текст*, написанный Мартином Хайдег-
гером спустя несколько лет после окончания войны (впервые он
был опубликован в 1949 году), не показался ли он совсем далеким
от всякой философии? Разве это не автобиографический рассказ,
автор которого припоминает детство и свои родные места? Разве
это не художественный текст, в котором примечательны
характерные больше для лирики разреженность и густота слов?
Разреженность — потому что каждое слово, полнясь и горя своим
собственным внутренним смыслом, отодвигается и отгораживается
от соседних слов, зато приходит с ними в новые, цепкие связи, где
их уж ни оторвать друг от друга, ни разодрать никакими усилиями,
не уничтожив сам текст и смысл... Отсюда и густота — связанное
соединилось не кое-как, но такой существенной связью, которая жива
неистраченными первородными силами, заключавшимися в слове
(даже когда оно, совсем затертое, истаскалось в обыденной речи),
а теперь высвобожденными. Когда настоящая лирическая поэзия
перешагивает через трезвую и многословную обстоятельность, она
спаивает между собой слова, очистив их до яркости и
обнаженности. Не так ли и в этом тексте Хайдеггера?
Так, может быть, он из числа стихотворений в прозе, наподобие
тех, какие писал И. С. Тургенев? И может быть, тогда он отмечен той
лирической необязательностью высказывания, вследствие которой
поэтический текст как бы и невозможно притянуть ни на какой
строгий суд — ни на суд логики, ни на суд права, ни на суд науки, — сти-
Книга Михайлова А. В. «Мартин Хайдеггер: человек в мире»
начинается с небольшой работы Хайдеггера «Проселок». Далее (в представленном
здесь тексте) автор интерпретирует эту работу немецкого философа (прим.
редактора).
282
А. В. Михайлов
хотворение всегда ведь может отговориться тем, что оно совсем «о
другом» и не подсудно ничему отдельному.
Текст Хайдеггера, только что приведенный в русском переводе,
совсем другое дело. Он явно не чужд поэтического качества, но
между тем на самом деле есть текст философский — заключающий в себе
философское содержание. Но, правда, это совсем особый
философский текст, и если бы мы не очень боялись словесной игры, даже
кажущейся, то могли бы сказать: если лирическая поэзия — это нечто
другое, или иное, чем логика, философия, право и точная наука,
то философский текст Хайдеггера — это нечто иное, нежели поэзия,
это словно бы некое инобытие поэзии, что придает ей особую
замысловатость. Она непроста для понимания. Ведь этот текст — «иное
иного», если поэзия — «иное»... Хотя речь в замысловатом тексте
идет не о чем-то, а именно о простоте, о простом! Вот парадокс... Уже
и поэзия непроста: и она, несомненно (если только она поэзия),
говорит нечто определенное и обязательное, заключает в себе ясный
смысл, но между тем этот смысл никак нельзя сводить на трезвую
определенность, на что-то частное и прозаически, «попросту»
значимое. Однако поэзия эту свою особость и «непростоту» очень часто
умеет преподнести нам просто и доступно, так что нам не
приходится ломать голову, а мы сразу же понимаем, что хотел сказать поэт,
и не думаем перелагать сказанное им.
Текст Хайдеггера — это не поэзия, в то же время его невозможно
пересказывать своими словами. Если читателю он показался
поэзией, автобиографическим рассказом в лирическом тоне, то это очень
хорошо — в этом залог и начало более глубокого его понимания.
Мысль Хайдеггера приобщена к поэзии, к ее иному — к тому, что
поднимается над всем отдельным и частным или лежит в стороне
от всего такого. Она приобщена к поэзии, но этим не довольствуется.
Стремясь к определенности мысли, она берет с собой это свойство
поэзии — вполне определенно, понятно и так просто говорить о своем
собственном ином, о своем содержании, чтобы все сказанное не
смешивалось ни с чем-то отдельным, особенным и частным, ни с чем-то
банальным, обыденным, прозаически-трезвым,
прагматически-узким. Не смешивалось с таким смыслом и содержанием, которые
были бы слишком поверхностны для того, чтобы не говорить о них
иначе, чем «как попало». А мысль Хайдеггера стремится схватить,
осознать и словесно выразить нечто коренное и основополагающее,
что присуще миру и бытию, где живем все мы. И обо всем этом надо
научиться говорить так, чтобы коренные смыслы и содержания
жизни, бытия и мира не переставали быть самими собою, чтобы они
не сводились на что-то частное, узкое, обособленное, чтобы они
осознавались нами во всей своей значимости.
Мартин Хайдеггер: человек в мире
283
<...> Итак, перед нами текст, отмеченный собственно
поэтической разреженностью и густотой. Он допускает лирическое
настроение, но не позволяет сказаться и проблеску пресловутой лирической
необязательности. Текст, дважды сгущенный,
сконцентрированный.
Было бы беспредельным абсурдом разбавлять теперь такой текст,
опрометчиво полагая, что если мысль в более «жидком» виде
доступнее, то и смысл самого текста понятнее. Нет, здесь так, а не
иначе устроена сама мысль, она именно такой степени сгущения требует
своим существом, и если писатель при этом соединяет особую
точность мышления с поэтическим видением, да еще с некоторыми
воспоминаниями юности, то это вовсе не элемент свободы и
раскованности мысли, а знак того, что она, мысль, вынуждена так поступать.
Мысль живет своей жизнью, и давайте обратим внимание на то, что
«мысль» вдруг выступила у нас как самостоятельная, дееспособная
личность. Все равно как если бы дело обстояло так: философ выбрал
особый путь рассуждения, и, коль скоро он его выбрал, теперь путь
за него и «думает» — не мысль принадлежит философу, а
философ — мысли (как если бы это была не «его» мысль). Разве не так?
Если философ выбирает известную логику рассуждения, то разве
не господствует логика над «его» мыслью? И разве после того, как
выбор пути сделан, философ не оказывается во власти пути?..
<...> Так о чем же текст? Он — о пути, и о пути не в каком-то
переносном, образном смысле, а о пути-дороге, причем дороге самой
обыкновенной. По-русски они называются проселочными, что
вполне верно сказать о дороге, какую имеет в виду Хайдеггер. Главное,
что, в каком бы состоянии такие дороги ни находились, они мало
похожи на благоустроенное шоссе (даже местного значения) и
пролегают так, как когда-то протоптали и проложили их, ни с кем не
советуясь, исходя только из своих надобностей и нужд, сами люди. Вот
самое важное для той дороги, для того проселка, какой описывает
Хайдеггер. Конечно, хорошо знать, где происходит действие, — это
городок Месскирх, который расположен на юго-западе Германии,
в Швабии, к северу от швейцарской границы. В Месскирхе
Хайдеггер родился, а в юго-западном углу Германии протекла почти вся его
жизнь и деятельность. Сейчас это земля Баден-Вюртемберг в
Федеративной Республике Германии; ближайшие от Месскирха города
покрупнее — Тутлинген и Зигмаринген; Штутгарт лежит далеко
на север, на юг, километрах в двадцати, — северная оконечность
Боденского озера. В 1950 году в Месскирхе не было и пяти тысяч
жителей — городок маленький. Я сообщил эти не совсем нужные
сведения для того, чтобы обрисовать дорогу. Она ведет в Энрид —
местность, которой нет на картах довольно крупного масштаба. Нам
284
А. В. Михайлов
достаточно того, что дорога — маленькая, проселочная, обжитая
и исхоженная-изъезженная, как любой путь и любая тропа,
которыми изо дня в день пользуются местные жители. Она связывает
близлежащее, и можно представить себе, что по ней ходят взад-вперед,
и даже не один раз на дню. Такая дорога живет, и живет не так, как
большое шоссе. Последнее, в отличие от нее, почти уже не живет:
шоссе если и не всем чужое, то от всех отчужденное, в нем
практическая цель берет верх над * бытием в себе», плановость сооружения
вытесняет все природное, технический расчет — живое
становление, рост. Так это по Хайдеггеру.
Проселочная дорога, о которой говорится в тексте, — средоточие
всякой жизни в этой местности. В большей степени даже, чем луг
или поле, на котором люди работают. Все, в чем заключается жизнь
людей, не минует этой дороги. Однако дорога — не просто средство
связи. Уже потому не средство, что она совсем особого рода
самостоятельное сущее, существует сама по себе и ради себя, а не ради чего-то
иного, она не используется для чего-то постороннего ей, а собирает
в себе все, что только ни есть в жизни живущих тут людей. Такая
дорога действительно находится в самом центре всей местности,
в центре целого обжитого, но и более того — живого пространства.
Сама дорога, на которой происходит (в этом смысле — встречается
и сосуществует) все, что совершается в жизни живущих здесь
людей, отражает на себе, сказали бы мы, все содержание человеческой
жизни и деятельности. Сама такая дорога не просто отражает
человеческое содержание, но она вобрала его в себя, она есть оно. Дорога
живая, и она сама идет своим путем! Ведь по-хайдеггеровски
можно сказать: дорога идет своим путем, дорога идет своей тропой. Это
соответствует и древнему постижению дороги, которое закрепилось
в нашем: «дорога бежит между полями» — формальной теорией это
понимается как метафора, застывшая в языке. У Хайдеггера
древнее постижение дороги воскресает, но в не изведанных еще формах.
Дорога у него не просто бежит или вьется, не просто сворачивает
и приветствует дуб у дороги, она направляет стопы человека «своей
извилистой тропой», и более того — она безмолвно «носит с собою»
взад и вперед, в ту и в другую сторону эхо гармонического звучания
всего целого. Дорога говорит — причем мы можем либо слышать ее,
либо можем разучиться слушать ее, оглохну в для подобных речей.
Таким образом, дорога — и не какая-нибудь, а именно ставшая,
или выросшая сама собой — есть средина некоторого человеческого
пространства, о котором мы можем пока сказать, что оно отличается
внутренней цельностью, даже замкнутостью в себе.
Пока же не сойдем с дороги... Читателям хайдеггеровского
«Проселка» , должно быть, ясно, что основное настроение и вместе с тем ос-
Мартин Хайдеггер: человек в мире
285
новная тема текста — это настроение и тема возвращения.
Возвращения к себе, к своему, в свое, или, как сказано у Хайдеггера, — в одно
и то же, в то же самое. «Отказ, вводящий в одно и то же» не столько
«отказ от чего-либо», сколько вхождение в то же самое, в извечно
одно и то же. Тема возвращения выразительно и впечатляюще
звучит в конце «Проселка» — сама простота выглядит теперь еще
проще, чем раньше, и сама тишина — тише, чем когда-либо. Ясно, что
без нажима, а с прекрасной поэтической экономией средств и слов
это «возвращение» действительно отмечено характером
воспоминания: мысль о родном, об истоке и происхождении явственнее звучит
в старости, когда подводить итоги и вспоминать о юности, собирая
плоды начатого в давнюю пору, весьма уместно. Так и получается,
что возвращение как тема заглушает в тексте Хайдеггера другое —
уход. Однако, чтобы вернуться, надо уйти. Между тем возвращение
торжественно провозглашается здесь как бы абсолютной,
безусловной целью, а об уходе, непременном условии возвращения, как бы
нет и речи. Гармония покоя почти бесследно стирает трагедию
ухода. Вернее, по контрасту с благостью возвращения и «отказа»
всякий уход начинает восприниматься уже как непростительная измена
себе и своему, измена «тому же самому» как тождеству,
самотождественности бытия, заданного тебе, написанного тебе на роду.
<...> В тексте Хайдеггера, в котором речь идет о возвращении
и в котором возвращение утверждается как благой и торжественный
итог жизни, окончательное совпадение «ландшафта» и человека,
пути жизни и родного пути, родной дороги, — в этом тексте все же
сказано и об уходе. Жизненное пространство человека с детских лет
непрерывно расширяется: поначалу оно ограничено, пишет
Хайдеггер, руками и голосом матери, но затем выходит и за пределы
пространства, в котором родной кров человека. Уход — это и непремен-
ность, и измена, и риск: уходя от истока, человек оставляет свой дом
и все свое в недосягаемой дали. Уход не ручается за возврат. Как сила
непременности, уход властвует над человеком. Возвращение —
благой дар, урожай жизни, венец существования: оно тоже властвует
над человеком как сила целого и цели, как обретение. Человеческое
существование в некотором коренном своем смысле есть именно
уход, выхождение из себя, буквально — ис-ступление: латинское
слово «экзистенция» (точнее «экс-систенция»), то есть
существование, и означает «стояние вовне». Отсюда и «экзистенциализм» как
характеристика одного из направлений философии XX века, к
которому принято относить и Хайдеггера. Близко, родственно
«экзистенции» не менее известное греческое слово «экстасис» (от глагола
«экзйстеми»), которое привычно нам в форме «экстаз». Размышляя
о человеческом «существовании», или «экзистенции», Хайдеггер
286
А. В. Михайлов
имел возможность всесторонне обдумать все значение «стояния
вовне» — «исхождения» в жизни человека. Всякое возвращение, как
и прокловская эпистрофе, предполагает и то, что человек
(наподобие тяжело груженной снопами подводы из текста Хайдеггера)
везет домой все освоенное им, узнанное и обретенное во время своего
«исхождения». «Уход» характеризует человека и человеческое даже
точнее, нежели возвращение.
<...> В мысли, отмеченной возвращением как конечной,
позитивной целью, появляется то, что можно было бы назвать
бытийной мерой живого человеческого пространства. Дорога, или
проселок, — не средство, а средина, она есть сущее, объединяющее все
человеческое — окружающее, обжитое — пространство; она
вбирает в себя всю человеческую деятельность так, что каждый идущий
по дороге «получает от нее свое», — и это как бы идеальная соотра-
женность идущей дороги и идущего по ней человека, их гармония.
Все, что собралось вокруг дороги как своего смыслособирающего
центра, «подает мир» всякому идущему, пишет Хайдеггер. Здесь
мир, конечно, не космос и не вселенная, но живая органическая
цельность человеческого пространства — такого, в котором живет
человек, обжитой круг его жизни, не что-то предметное и
неподвижное, обозначаемое топографически. Нет, этот мир все время
заново возникает в человеческой деятельности, в соотражении его
со всем природным, это замкнутая, относительно отграниченная
от остального сфера живого смысла. Она же и не абстрактна, и не
односторонне «духовна» — напротив, она возникает, утверждается,
укрепляется и складывается заново в человеческом, собственно,
в коллективном человеческом труде на земле: люди трудятся и
живут в совместном бытии, самым первым и естественным
воплощением которого оказывается такая округа, все хозяйство которой
тяготеет к известному единству. Не только работа на земле есть
образец, или прообраз, всякого труда, но в некотором смысле всякий
труд есть работа на земле. При этом условии любой труд
непосредственно заключает в себе духовность, рождает и несет ее в себе. Даже
и духовное и поэтическое творчество есть «работа с землей», о чем
в русской культуре — совершенно независимо от немецкой
традиции — ясно заявил Н. В. Гоголь: «Не будут живы мои образы, если
я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк
почувствует, что это из его же тела взято» (письмо А. О. Смирновой
от 10 (22) февраля 1847 г.; см. письмо Данилевским от 6 (18) марта
1847 г.).
Каково же условие непосредственной духовности всякого труда?
Эго условие — мир, то есть наличие такого пространства, в
котором человек находит свое подлинное место и свой смысл. Именно
Мартин Хайдеггер: человек в мире
287
потому, что есть такой мир, всякий настоящий труд равно духовен,
он творит живое целое, для осознания которого не нужно
абстракций: оно существует в деятельности, которая уже есть в себе самой
и мысль, и умозрение. Не только человек, но и все человеческое, все
осмысленное получает свой смысл именно в мире как живом
пространстве человеческой деятельности. Так, произведение искусства
существует на своем месте, пока существует в мире, для которого
оно было задумано и создано. И пока оно существует в этом мире,
оно на своем месте. Когда произведение искусства отнято у такого
мира, когда этот мир перестал существовать, произведение
искусства изгнано, исторгнуто из своего бытия — ему принадлежит лишь
вторичное существование изгнанника: «Место „Сикстинской
мадонны" — в Пьяченце, в церкви; место не в историко-антикварном
смысле, а по сущности этого образа. В соответствии с такой
сущностью этот образ всегда будет тянуть туда» (Хайдеггер, 1955).
Само человеческое существование, существование индивида
определяется у Хайдеггера как место в мире: немецкое Dasein
(существование) — это, собственно, бытие здесь, здесь-бытие.
Простейшим образом мы можем понять такое человеческое существование
как некое место, в котором особым образом, всякий раз иначе
проявляется — выходит наружу, «высвечивает» и осознается («приходит
к себе», по Гегелю) — сам мир и само бытие. Человек — это такое
бытие в мире, которое, пребывая в бытии, сопряжено с бытием —
озабочено им, печется о нем, задается вопросом о нем и вопрошает
его. Будучи далеким от того, чтобы пониматься как «субъект»,
человек есть место в бытии. Следовательно, человек — не случайный
элемент целого, нет, он получает в бытии свой смысл, он соотражен
с целым — в первую очередь с миром-окружением, но также с небом
и землей. Но и бытие обретает в нем свою цельность и свой смысл.
<...> Итак, человек есть место в мире, и это наделяет любое
человеческое существование особостью. Правда, человек может
выпадать из своего мира и уходить со своего места в нем, предаваться
ненастоящему, неподлинному существованию. И это даже больше,
чем возможность, — необходимость: не просто опасность, которая
подстерегает человека, но и неизбежное свойство человеческого
существования. Жизнь и рост человека предполагают ведь выход
из себя, экстаз (ис-ступление), что может оборачиваться трагедией
и изменой себе и своему миру. Человек несет в себе начало опасности
и риска, идет рука об руку с риском, как сказано у Рильке, человек
страшен, силен и опасен (дейнос), как гласит уже хор в «Антигоне»
Софокла. Однако это опасное свойство существования требует
восстановления нарушенного мира и нуждается в нем — в
восстановлении тождества, в возвращении к себе, к «тому же самому», о чем
288
А. В. Михайлов
столь проникновенно и столь наглядно пишет Хайдеггер в
выбранном нами тексте.
Мы пользуемся словом «смысл», и мир, жизнь, бытие, человек
действительно не бессмысленны. Но здесь слово «смысл» все же
слишком абстрактно: и все осмысленное, и все бессмысленное
существует не в застылом, опредмеченном и окаменелом виде, а
совершается (как акт, как жизнь, как деятельность), и это совершение
складывается в итоге в то, что мы называем историей. Истина в
бытии — это не тезис (философский или научный), не предмет, не само
бытие: истина — это тоже совершение, акт, который разыгрывается
в человеческом мире «между землей и небом», это совершение,
которое разверзает, открывает, высвечивает бытие. Истина — это
открытость, а человек, если уж он место в бытии, открывает бытие,
дает ему проявиться, выйти наружу, раскрыться. Все сочинения
Хайдеггера посвящены осмыслению истины как открытости, как
разверзания бытия — выясняется то, что любой акт,
раскрывающий или разверзающий бытие, подчиняется древней диалектике
(схваченной изречением Гераклита). Получается так: то, что
открывается, то и скрывается; то, что открывает, то и скрывает; то, что
выступает наружу, то и скрывается во тьме. Таков и человек: он
открыт небу, но по-настоящему открыт лишь тогда, когда его хранит
и бережет земля, когда он хранится землей, живет под кровом своей
земли. Выходит, что истина «бытийно», по самой сущности,
заключает в себе «не-истину», свет истины — тьму, явленность — тайну,
открытость — укромность. Не «ложь» (в расхожем смысле слова)
заключает в себе истина, а закрытость и утаенность, что означает:
истина укоренена в жизни, бытии, в «земле» и как истина выходит
наружу лишь в такой своей укорененности в «земном». Это и
неудивительно, если она сущностно сопряжена с человеком как место
в мире, бытии, то есть одновременно между небом и землей.
<...> Итак, человек в мире замкнут некоторым кругом
подлинной человеческой деятельности, из которого ему суждено выпадать
и вырываться, но в который он обязан вернуться, восстанавливая
тождество «одного и того же». И только эта замкнутость — человек
живет под защитой земли, она его хранит — дает возможность
открытости, дает совершиться истине. Тогда границы живого
человеческого пространства расширяются до предела, и небеса над нами
объемлют собою все. В это «все» и входит тогда все, что есть. Это
«все» погружается в бытие и вырастает из него. Сейчас самая пора
вспомнить то единственное имя философа, которое названо в тексте
Хайдеггера. Это — Мастер Экхарт, великий мистик-богослов
немецкого Средневековья. В связи с этим именем у Хайдеггера сказаны
странные слова о Боге — есть условие, при котором «Бог впервые
Мартин Хайдеггер: человек в мире
289
становится Богом». Но разве Бог, согласно религиозным
представлениям, не существует до мира, разве не он его создатель? Отчего же
ему приходится «впервые становиться Богом» и почему об этом
приходится спрашивать?
Самая общая причина такова: мистическое богословие с
давних пор стало приводить Бога в непременную, неразрывную связь
с человеком и с природой. Получалось так, что Бог, хотя он
наделен свободным выбором — он мог сотворить мир, а мог его и вовсе
не творить, — приходил в некоторую зависимость от мира, который
творил. Представлялось, что само «его бытие» влечет за собой
логическую необходимость сотворения мира (природы и человека), а Бог,
еще не сотворивший мир, природу и человека, не вполне Бог.
Природа же, а прежде всего человек, — это зеркала, в которых
отражается Бог, и существование таких зеркал есть непременное условие
того, чтобы Бог был «вполне» Богом. Так Бог попадает в зависимость
от человека — в том смысле, что связь человека и Бога неразрывна
и взаимна, и внутри такой неразрывности отнюдь не безразлично,
что видно в зеркале человека — как мыслит он Бога. Не только
человек — в том, что он есть, — зависит от Бога, но и Бог зависит от
человека — в том, что он есть... У Хайдеггера же мир заключает в себе
именно такого склада зависимость, хотя Хайдеггер пришел к ней
совсем не прямо от богословия: бытие и человек, мир и человек
образовали у него именно неразрывную сопряженность и
взаимозависимость. И она такова, что между ней и мистической сопряженностью
Бога и человека нет противоречия: если вообразить себе, что
человеческий «мир», по Хайдеггеру, расширяется, начиная с обжитого
людьми окружения, то Бог в таком мире пребывает вдали — в
темноте тайны. О Боге здесь обычно не принято говорить, но не потому, что
нечего сказать: собственно философские задачи у Хайдеггера
решаются по эту сторону тайны, и уже по эту сторону можно сказать все
(о мире и бытии), что вообще может быть здесь сказано. Тем не
менее, хотя как бы и нет Бога, и нет разговора о нем, есть неразрывная
сопряженность человека и мира. Поэтому Хайдеггер на своем «пути
домой» не случайно вспомнил имя Мастера Экхарта.
Сопряженность же отмечена тем, что она полна Словом. Мир,
а это человеческий мир (значит, не обходящийся без человека),
характеризуется тем, что в нем властно правит Слово. Подобно тому
как сам «мир» мы не должны мыслить как отвлеченное целое, как
абстрактный «объем» и сумму всех существующих вещей, так и
Слово есть прежде всего человеческая речь, язык. Сама человеческая
деятельность (в чем бы она ни состояла) есть непременно
осмысление и именование. Вся человеческая деятельность стоит под знаком
Слова: даже если оно не произносится человеком вслух или про себя,
290
А. В. Михайлов
деятельность нацелена на него и совершается в мире осмысляемом
и именуемом. Не менее, нежели речью, разговором, осмысление
характеризуется молчанием о невысказанном, немотствованием
беспрестанно складывающегося смысла. От этого и все то, что
человека окружает, что наделяется смыслом в пространстве человеческой
деятельности, существует как осмысленное и названное. И эта
сопряженность мира — осмысляемого и именуемого — и человека,
который его осмысляет, всему давая имя, в своей непременности
заходит так далеко, что можно помыслить себе все окружающие вещи
говорящими с человеком. Они именно таковы, если мир устроен
так. Мир, получается, исполнен Словом, Логосом, и в то время как
человек осмысляет и именует его, мир обращается к нему со
своим словом, что и значит — «подавать мир». С речами и с
требованиями (Anspruch) обращаются к человеку небеса, а о чем говорит
человеку стоящий у дороги дуб, можно вновь перечитать в тексте
Хайдеггера: «...твердость и запах дуба начинали внятнее говорить
о медлительности и постепенности, с которой растет дерево. Сам же
дуб говорил о том, что единственно на таком росте зиждется все
долговечное и плодотворное, о том, что расти означает — раскрываться
навстречу широте небес, а вместе корениться в непроглядной
темени земли; он говорил о том, что все самородно-подлинное родится
лишь тогда, когда человек одинаково и по-настоящему готов
исполнять веления превышних небес и хоронится под защитой несущей
его на себе земли».
<...> «Слово дороги поселяет в длинном истоке
происхождения» — последнее предложение хайдеггеровского «Проселка» (один
из вариантов возможного перевода). Его смысл: человеческое
существование обретает свое место (свою родину) на пути, что
протянулся от самого истока сюда — сюда, где наше здесь. Это все равно что
родная река — родной путь. «Исток происхождения» — то родное,
что роднит человека со всем историческим совершением.
Человек, живущий на своем месте в мире, — человек не без
места и не без родины, человек не безместный и не безродный. Лишь
от родного истока путь ведет в широту исторического совершения,
как от «мира» — в просторы бытия. Лишь возвращаясь к себе, к
самотождественности своего, можно воспринять что-то в мировой
истории и мировой культуре. Лишь сходясь в мире людей, мировая
история и культура обретают свою цельность.
После нескольких десятилетий напряженных размышлений о
сущем и бытии Хайдеггер ощутил в себе всю силу зова дороги —
дороги, ведущей к родному дому, изведал всю творческую мощь
возвращения. Возвращения из странствий, где в недосягаемой дали
остаются родные берега. Возвращения, которое есть собирание
Мартин Хайдеггер: человек в мире
291
(опять же логос) в противоположность разбрасыванию, собранность
в противоположность рассеянности.
<...> И наконец, во всем тексте «Проселка» есть еще такой
важный слой, которого мы до сих пор почти не касались. А без него
непонятен в своих глубинах ход мысли Хайдеггера. Вот что это за слой:
мысль Хайдеггера определена греческими понятиями, и философ
вдумывается в их изначальную суть, стремясь вернуться к
первозданным реальностям смысла, схваченного ими со всей
непосредственностью. Так это представлял себе Хайдеггер: «Вслушиваясь
в слова греческого языка, мы отправляемся в особенную область.
А именно: в нашем сознании начинает постепенно складываться
уразумение того, что греческий — отнюдь не такой язык, как
известные нам европейские языки. Греческий, и только он один, есть
логос... В греческом все сказанное замечательным образом
одновременно и есть то, что именуется словом. Если мы слышим греческое
слово на греческом языке, то мы следуем тому, что оно «легей»,
непосредственно полагает. Полагаемое им лежит перед нами.
Благодаря услышанному по-гречески слову мы тотчас переносимся к самой
полагаемой наличной вещи, а не остаемся лишь при значении
слова» («Что такое философия?», 1955).
<...> Все основные понятия хайдеггеровского текста о проселке
неразрывно связаны с греческими понятиями. Таков прежде
всего «логос» во взаимосвязанности его многоразличных смыслов —
об этом так или иначе говорилось. Такова «эпистрофе», стоящая
за «возвращением», — о чем тоже шла речь. Но о большинстве
понятий мы не говорили: что греческие «небо» и «земля» были с пер-
вотворческой смыслоутверждающей силой воссозданы Ф. Гёльдер-
лином, соединившим Грецию и новоевропейскую мысль прочной
связью конкретной и вещной мысли-представления, очевидно.
За «тем же самым», тождественностью, стоит «то ауто» греческой
философии. Простое — это «то гаплун», слово, именующее
«простое» с осязательной... простотой, утерянной в этом случае русским
языком. Все представления о росте и пребывании насыщены у
Хайдеггера той сочной бытийностыо, какая присуща греческим словам
с корнем «фю» (например, «фюсис», «природа», — слово, более
точное наполнение которого прояснилось уже в наш век, отчасти
благодаря изысканиям самого же Хайдеггера). Наконец, «алетейя» —
слово, о котором Хайдеггер настойчиво размышлял всю свою жизнь,
которое он толковал как «несокрытость»-истину, часто вызывая
несогласие филологов, — это слово пронизывает всю подпочву статьи
Хайдеггера. Напоследок — «светлая радость ведения» —
словосочетание, которым переводчик почти тщетно пытается
реконструировать простоту и очевидность немецкого слова «Heiterkeit». В этом
292
А. В. Михайлов
своем повороте оно почерпнуто прямо из житейского опыта родного
швабского Месскирха. Мудрое знание, которое с внешней стороны
порой кажется угрюмым или самоуглубленным, каким бывает
неразговорчивый или погруженный в себя человек, — это мудрое
знание оставило позади себя суету мира и, распознав ее, поднялось над
ней, отнюдь ее не чураясь и не страшась. Оно ведает: смысл целого,
смысл мира, утвержденный в нем, и на каждом шагу нарушаемый
лад — превыше и сильнее всего; мощнее всего превышающая все
отдельное сила кротости, царящая в мире. Такое мудрое ведение
хотя бы отдаленно родственно святости — пусть даже и изнутри
всего мирского. Тем не менее «светлая радость ведения» — в русской
комбинации слов слишком много прямого света, явной радости —
это итог замечательного сотворчества языков немецкого,
латинского и греческого, давший в немецком слове осязательный отблеск
латинского «hilaritas» и греческого «гиларис» — лучащуюся ясность,
которая может наполняться мудростью и самой трагедией жизни,
не утрачивая главного своего свойства.
На этом перечень греческих соответствий не закончен. Не будет
преувеличением сказать, что в выбранном нами малом тексте Хай-
деггера заключена философская бездна, над которой мы ходим, —
вероятно, слишком самоуверенно. Времени же спускаться вниз
неторопливо и с расчетливой осторожностью скалолаза у нас нет.
^^
€^
Э. Ю. СОЛОВЬЕВ
Судьбическая историософия М. Хайдеггера*
«фрагмент книги «Прошлое толкует нас:
Очерки по истории и философии культуры»>
Ранние экзистенциалистские работы сегодня забыты. В
юбилейные годы на их титульные листы еще возлагаются гвоздики, но в
актуальной полемике уже никто не поминает ни «Метафизических
дневников» Г. Марселя (1918), ни «Хасидских тетрадей» М. Бубе-
ра (1919), ни «Психологии миросозерцании» К. Ясперса (1922),
ни «Воображения» Ж.-П. Сартра (1939). Даже трехтомная яспер-
совская «Философия» (1929), которая в 50-60-х годах имела статус
настольной книги, в наши дни редко вовлекается в живую беседу
о человеке, истории и мироздании.
И все-таки существует первично-экзистенциальный текст, который
не канул в Лету. Это хайдеггеровское «Бытие и время». Написанный
в 1927 году, он появляется на сцене современной философской
полемики в новых и новых режиссурах, зачастую совершенно неожиданных.
«Бытие и время» — одно из самых загадочных произведений
в истории философии.
Прежде всего, чрезвычайно трудно определить, каково реальное
проблемное поле этой работы, что на деле тревожило и заботило
Хайдеггера, когда он приступил к ее написанию.
Тематическая характеристика книги, на которую указывает
заголовок, мало помогает делу.
Ясно, что в антропологии Хайдеггера речь идет о человеке,
который малодушно отдал себя во власть времени (еще точнее: во власть
господствующего, социально-принудительного представления о вре-
Очерк опубликован в сборнике «Новые тенденции в западной социальной
философии» (М., 1988. Ротапринт. С. 11-50) под названием «Попытка
обоснования новой философии истории в фундаментальной онтологии М.
Хайдеггера».
294
Э. Ю. Соловьев
мени), вместо того чтобы быть героем минуты, экстатическим, «еже-
моментным» служителем Бытия.
Но что означает этот диктат времени и откуда он взялся? Почему
коррелятом бытия выступает у Хайдеггера именно время (а не
сознание, не мышление)? Каким образом бытие оказывается
объектом долженствования, верности, служения, то есть этического
и даже сакрального отношения? Еще большие трудности
возникают, когда мы пытаемся разобраться в культурно-историческом
происхождении истолковываемого Хайдеггером сознания и соотнести
его конфликты с какой-либо конкретной общественной ситуацией.
Книга Хайдеггера имеет вид произведения вневременного, не
принадлежащего никакому определенному периоду истории. В ней
отсутствуют конкретные приметы эпохи и хоть сколько-нибудь
отчетливые характеристики ее политических, экономических,
социальных проблем. Хайдеггер не называет своих действительных
идейных противников, а непосредственных предшественников
упоминает неохотно и как бы пряча их за спинами предшественников
давних и косвенных. Лишь тщательный текстологический анализ
«Бытия и времени» позволяет выявить весьма специфическую
духовную традицию, на которую опирается Хайдеггер: это прежде
всего Ницше, Дильтей и Зиммель, далее — Кьеркегор, Новалис и Гёль-
дерлин и, наконец, — молодой Лютер, Таулер и Экхарт.
Важно отметить также, что сам язык «Бытия и времени» (язык
«экзистенциалов», искусственных категориальных выражений,
использующих прежде всего забытые возможности архаической
речи) создает впечатление резкой отделенности этого произведения
от всей современной ему философии и культуры.
Впечатление это, однако, не более чем иллюзия (причем иллюзия
сознательно насаждаемая).
«Бытие и время» — книга, не только целиком принадлежащая
определенной исторической эпохе, но и по самому своему существу
злободневная.
Во-первых, она эксплуатирует ряд массовых настроений,
порожденных кризисными, по сути стихийно-катастрофическими
событиями начала XX столетия. Я уже достаточно много говорил
об этих настроениях в предыдущем очерке и сейчас ограничусь их
кратким констатирующим перечнем:
1) обостренное ощущение хрупкости индивидуального
существования, взращенное мировой войной, опытом массовой
насильственной смерти, которая по отношению к отдельному человеку
выступает как смерть, подстерегающая ежечасно и потому превращающая
в бессмыслицу любые жизненные планы, рассчитанные на
сколько-нибудь длительное («исчисляемое») время;
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
295
2) ощущение иррационального, суетного характера деловой
предприимчивости (погони за денежной выгодой), вызванное
инфляцией 1921-1924 годов;
3) переживание последующей экономической стабилизации как
своего рода наркотического состояния, когда общество, забыв о
прошлом, ни в чем не раскаявшись, не установив ни причин, ни
виновников недавних массовых бедствий, впадает в беспамятство
повседневной деловитости;
4) аналогичное переживание политической стабилизации:
отчужденность по отношению к «послеверсальским» республикан-
ско-демократическим институтам, санкционированным теми же
документами (и теми же силами), которые возложили на Германию
бремя репараций; и далее — развитие на этой основе
иррационально-агрессивного отношения к самой демократической процедуре:
к господству большинства, общественного мнения или (в
иррациональном выражении) «массы», «публики», «анонима» (das Man).
Во-вторых, «Бытие и время» представляет собой (или, по
крайней мере, содержит в себе) отклик на ряд важных явлений в
культурной жизни Германии 20-х годов. Здесь следует прежде всего
упомянуть:
— спор между М. Вебером, В. Зомбартом, Э. Трёльчем об истоках
и природе так называемого «капиталистического духа»
(«предпринимательской этики», «трудовой этики»), в ходе которого важное
место занял вопрос о характерном для эпохи капитализма экономном,
исчисляющем, методически-рациональном отношении ко времени;
— появление в 1923 году активно дебатировавшейся в кругах
немецкой радикальной интеллигенции книги Г. Лукача «История
и классовое сознание», где развивалось романтически-мессианское
понимание пролетариата, важным аспектом которого было
противопоставление отчужденно-рационального «отсчета времени» в
системе капиталистической организации труда и его неотчужденного
(на деле: эсхатологического и экстатического) переживания в ходе
революции;
— бурную, в течение целого десятилетия продолжавшуюся
полемику по проблемам так называемого «европейского декаданса»,
в центре которой оказалась книга О. Шпенглера «Закат Европы»;
— и, наконец, широкую дискуссию о роли Реформации
(прежде всего Лютера и немецкой мистики XIV-XV веков) в развитии
европейской духовной культуры, а также в становлении немецкого
национального характера, развернувшуюся в связи с
четырехсотлетием Реформации (1517-1917).
Связь «Бытия и времени» с проблематикой данных дискуссий
несомненна. Более того, темы, поднятые Вебером и Зомбартом, Лука-
296
Э. Ю. Соловьев
чем и Б лохом, Шпенглером и его многочисленными оппонентами,
очерчивают круг вопросов, по поводу и по мотивам которых
написана книга Хайдеггера (то есть ее действительные
проблемно-современные истоки).
Но парадокс в том, что Хайдеггер вовсе не относится к этим
вопросам как к объективным исследовательским задачам, стоящим
перед современным мышлением и требующим от него выработки
каких-либо новых теорий.
Напротив, Хайдеггер полагает, что сама действительность,
обремененная этими вопросами, впервые делается восприимчивой
по отношению к некоторым уже давно существовавшим формам
и возможностям мышления. К их числу он относит прежде всего
раннеромантическую концепцию человека, некогда оказавшую
самое широкое воздействие на немецкую, а также общеевропейскую
философию и культуру, но затем вытесненную «научной»,
утилитарно-реалистической антропологией.
Кризисные умонастроения и антиномически-напряженные
теоретические дискуссии 20-х годов интересуют Хайдеггера прежде
всего как симптомы разочарования общества в этой антропологии
и его возможного возврата (причем на уровне массового,
обыденно-повседневного сознания) к основополагающим идеям немецкой
романтики. «Бытие и время» во многих отношениях
представляет собой романтизм, выходящий из катакомб, отказывающийся
от привычек богемно-элитарного мышления, свойственных Кьерке-
гору и Ницше, романтизм, который хочет, чтобы рядовой человек,
«человек улицы» (или по крайней мере широкий слой
мелкобуржуазной интеллигенции) узнал в нем свои каждодневные сомнения,
опасения и тревоги.
Хайдеггер понимает, что для этого соединения с кризисным
массовым сознанием романтика должна быть обновлена. Но поскольку
не романтическое мышление ищет в существующем обществе свою
действительность, а именно существующее общество ищет в
романтике свою истину, постольку обновление это не может быть
приспособлением к современности, включением в ее проблемную
ориентацию.
Романтика должна обновиться через обращение к своим
историческим истокам.
Важнейшим из них Хайдеггер считает раннепротестантское
мышление, специфический умственный склад, свойственный Мей-
стеру Экхарту, И. Таулеру, Г. Сеузе и молодому Лютеру. В «Бытии
и времени» он представлен в виде особого категориального
комплекса, хотя ни Лютер, ни средневековые немецкие мистики не
упомянуты по имени.
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
297
В качестве другого истока романтической антропологии
выступает здесь античная трагико-судьбическая концепция человека.
Выбор именно этих духовных образований в качестве первоисто-
ков романтики был продиктован, на мой взгляд, двумя
обстоятельствами.
Во-первых, и греческое, и мистико-протестантское мышление
содержат в себе ту трагическую напряженность, то ощущение
хрупкости и необеспеченности человеческого существования, которые так
отчетливо переживаются современным Хайдеггеру сознанием и
которые были чужды романтизму при его зарождении.
Во-вторых, и античная трагика, и учение Экхарта — Таулера —
Лютера были явлениями народной духовной жизни. В их
категориальном строе Хайдеггер надеется найти язык, пригодный для
перевода романтического мышления в структуру всякого (в том числе
и современного) неэлитарного сознания.
Сразу замечу, что хайдеггеровское возрождение мистики и
античной трагики имеет псевдоисторический характер. Их синтез
с романтикой осуществляется за счет игнорирования их реального
своеобразия. При этом элиминируются не частные и особенные,
а именно существенно-всеобщие признаки конкретных
культурно-исторических образований.
Немецкая средневековая мистика утрачивает в «Бытии и
времени» свое религиозное содержание, перестает быть формой
христианского мышления. Хайдеггер отторгает мистику от ее собственной
основной проблемы — проблемы спасения. Он хочет сообщить
романтическому исканию себя самого весь драматизм и нравственную
энергию, свойственные раннепротестантскому богоискательству,
испытанию избранности, но при этом обходит самый существенный
вопрос: а может ли самость (экзистенция) обладать той же
значимостью для современного сознания, какой мистически трактуемый бог
обладал для сознания позднего Средневековья?
Хайдеггер секуляризирует мистику, причем секуляризация
эта имеет искусственный, преднамеренно-произвольный характер.
В итоге в руках у него остается пустая форма мистического искания
бога, которая как таковая принадлежит уже не к
культурно-историческим, а скорее к психологическим образованиям. Это форма
всякой экзальтации. Она-то и совмещается с определенными
установками немецкого романтизма, который во многих отношениях сам
был продуктом секуляризации мистического сознания, но
секуляризации не искусственной, а естественноисторической.
Аналогичным образом обстоит дело и с хайдеггеровской
интерпретацией трагико-судьбических установок, характерных для
древнегреческой философии и культуры. Античное понятие судьбы
298
Э. Ю. Соловьев
принципиально отличается от понятий индивидуального
призвания, «гения», которые вырабатываются лишь в Новое время. Оно
возникает в эпоху перехода от родовой общины к общине
городской (полисной) и воспроизводится в новой форме в период
кризиса и разложения самой полисной организации. Античное amor fati
(любовь к судьбе) неотделимо от сознания причастности к своему
роду или городу и именно от этого сознания заимствует свою
нравственную силу — силу трагического противостояния по отношению
к обстоятельствам, к историческому самотеку с его
космополитическими соблазнами, потребностями, запросами, имеющими в виду
индивида как индивида. Попытка сообщить эту нравственную силу
романтической заботе об индивидуальном «гении» или «задатке»
имеет такой же необоснованный и иррациональный характер, как
и попытка придать поискам «себя самого» энергию мистического
богоискательства.
Проблема историцизма
Работа М. Хайдеггера интересна как своеобразная попытка
преодоления историцизма.
С 70-х годов, после публицистически запальчивых выступлений
К. Поппера, понятие «историцизм» приобрело устойчивую
антимарксистскую направленность и в нашей литературе употреблялось
не иначе как в отстраняющих критических кавычках. Между тем
понятие это не Поппером изобретено и в серьезных работах,
посвященных проблемам философии истории, имеет в виду вовсе не Марксово
представление об эволюции общества, а прежде всего общий стиль
мышления, характерный для популярных и расхожих толкований
исторического процесса, утвердившихся на Западе к концу XIX
столетия*. Что еще более существенно, феномен историцизма поддается
совершенно точной фиксации в терминах, которые именно марксизм
выработал в ходе критики предшествующих (прежде всего
гегельянских) спекулятивно-идеалистических воззрений.
Историцизм — это лишь в буржуазную эпоху возникший,
философски оформленный культ истории, популярное содержание
которого, вкратце говоря, сводится к следующему.
История мыслится как «особая личность, которая пользуется
человеком как средством для достижения своих целей»**. Цели эти
почитаются либо заведомо благими, соответствующими глубинным
нравственным запросам нашего существа, либо сверхморальными,
лежащими как бы «по ту сторону добра и зла» (в этом случае вся-
* См.: Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 202-207.
" Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 102.
Судъбическая историософия M. Хайдеггера
299
кая нравственная оценка исторического процесса отметается как
недопустимое «морализаторство» по его адресу)*. История сама
знает, куда ей идти, располагает полными гарантиями успешности
своего предприятия и «в конечном счете» окупает все жертвы и
издержки. Что бы ни делали люди, история не может ни потерпеть
крушение, ни изменить свое направление. «Рано или поздно» она
исправляет все ошибки, зализывает все раны, нанесенные ей
волюнтаризмом и авантюризмом. Люди слишком много берут на себя,
полагая, что могут нести ответственность за ход истории, и было бы
куда как разумно, если бы они задумывались только над тем, как бы
им не продешевить, не отстать от прогресса, не сделать ставку «не
на ту лошадь» и не оказаться в дураках по самому крупному
(всемирно-историческому) счету.
Можно сказать, что именно с возникновением культа истории
идеология буржуазного утилитарного благоразумия
«достраивается доверху». Представление о посюстороннем, имманентном самому
обществу Провидении, которое выражает себя в твердых,
безальтернативных, обладающих надежным обеспечением требованиях
целесообразности, делает исторический процесс соразмерным общему
умственному складу буржуазной прагматики. Историческое
действие становится чем-то «одномотивным» с повседневной борьбой
за экономическое выживание, подчиняется тому же самому
стремлению не отстать, не оказаться в числе неудачников, не сделаться
жертвой плохо понятой конъюнктуры. В историцистски понятой
истории, как и на бирже, победителей не судят, а банкротов не
жалеют. Кто возобладал, тот и велик, хотя бы это был просто великий
подлец.
Характерными чертами историцизма как философски
оформленной доктрины являются:
1) финал истский детерминизм;
2) идея провиденциальной (разумной) необходимости;
3) стремление оправдать зло, несправедливость и насилие в
качестве действенных орудий прогресса;
4) истолкование настоящего как полной истины прошлого и
презрительно-ироническое отношение к проблеме упущенных и
нереализованных возможностей.
Исходные историцистские установки ярче всего представлены
в гегелевской «Философии истории» и в контовской «Системе
позитивной политики». О первой из них А. В. Гулыга (и это,
возможно, первая в нашей литературе маркировка феномена историцизма)
справедливо замечал следующее: для Гегеля человеческая история
* Высшим принципом морали является благоговение перед судьбой
(Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. М., 1970. С. 215).
300
Э. Ю. Соловьев
с самого начала выступает «как замкнутая финалистически
детерминированная разумная система»*.
Важно подчеркнуть в этой связи, что, выступая против
гегельянского культа истории, Маркс и Энгельс говорили не просто о
персонификации последней, но об уподоблении ее особой личности,
способ существования которой отличается от способа бытия обычного
человеческого индивида. Этой личности чужды негарантирован-
ность человеческого существования, бренность, неуверенность,
зависимость от эмпирических фактов и обстоятельств. История в
итоге не просто персонифицируется и антропоморфизируется, а скорее
воплощает то, что русская религиозная философия будет называть
«человекобогом». Можно сказать поэтому, что в историцистской
модели общественного развития (прежде всего в гегельянском
спекулятивном идеализме) впервые на деле выполняется та операция,
в которой Фейербах неправомерно усматривал универсальный
«механизм религиозной иллюзии», — операция обожествления
человеком своей собственной родовой сущности, полагания ее в качестве
«очищенной, освобожденной от индивидуальных границ, то есть
от действительного телесного человека»**.
Культ истории был самым мощным из многочисленных
культов, выработанных раннебуржуазной эпохой. С другой стороны, он
представлял собой последнюю форму и стадию в развитии
концепции бога, имманентного миру, концепции по самой своей сущности
секул яристской.
Виднейший представитель историцизма — Гегель был самым
ярким представителем обеих этих тенденций.
Рассматривая его философию, мы видим, во-первых, как
важнейшие понятия зарождающейся исторической науки («развитие»,
«закономерность», «преемственность» и т.д.) приобретают прови-
денциалистский и идолатрический смысл и, во-вторых, как
традиционные проблемы христианской теологии, и прежде всего
проблема оправдания зла, трансформируются в проблемы исторические.
Никто до Гегеля с такой решительностью не выступал против идеи
трансцендентности бога — в защиту того, что теогонический процесс
тождествен процессу вселенского развития, каким мы его знаем,
отправляясь от данных опыта***. Решающей фазой этого развития Ге-
* Гулыга А. В. Гегель. М., 1970. С. 163.
" Фейербах Л. Избр. произв.: В 2 т. Т. И. С. 38.
*** Гегелевской концепции божества предшествовал так называемый
«религиозный имманентизм» (выражение В. С. Соловьева, служащее общим
наименованием для пантеизма, деизма и космотеизма). Представление
о боге, имманентном миру, было с самого начала чревато противоречиями,
но не обнаруживало их, покуда действительность бога трактовалась как
природа, бесконечная во времени и пространстве. Божественность приро-
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
301
гель считал историю в собственном смысле слова, то есть эволюцию
человеческого общества. Он трактовал ее как прямое воплощение
последнего и высшего из религиозных мифов — библейско-христиан-
ского. Священная история, рассказанная Писанием, есть для Гегеля
лишь иносказательное провозвестие того, что буквально, наглядно
и в полной своей конкретности развертывается в качестве истории
профанической. И именно в ней должна раскрыться и стать
полностью понятной для исследующего разума основная проблема (тайна)
истории священной: тайна допущения богом зла и греха, их смысла
и их преодоления. Объективно исследованная история человечества,
прямо заявляет Гегель, есть единственно доказательная теодицея.
Верткость мысли, которую Гегель обнаружил при доказательстве
этого тезиса, превзошла все софистические хитрости, известные
предшествующей философии. На почве исторически трактуемой
теодицеи талант диалектика стал гением мистификатора.
К существу гегелевской философии (и именно как классической
формы историцизма) принадлежит то, что она, во-первых,
представляет собой неразрешенное противоречие, двойственность,
антагонистическое сосуществование внутренне несовместимых принципов
и, во-вторых, принимает и выдает эту двойственность за истинное
органическое единство.
Так часто ставившийся в заслугу Гегелю монизм есть видимость
его философии. Гегелевская система монистична лишь по замыслу.
Уже в начале века Гегель принимает на себя своего рода обет:
объяснить мир, исходя из одного-единственного первоначала — духа,
причем (в этом была суть спора с Шеллингом) из духа, не
подверженного никакой трагической раздвоенности.
Духу свойственна абсолютная органичность, исключающая
всякую возможность недостатка, нехватки, нужды, внешней
необходимости. Все враждебное духу — то есть преднайденное, объектное,
материальное, случайное и бессмысленное — может возникнуть
поэтому только в силу его свободного допущения. Гегелевский абсолют
знает лишь вольноотпущенную объективность*. Он сам свободно
приводит себя в несвободное состояние и заранее провидит, что
непременно вернется победителем из похода в собственное «инобытие».
Мировоззрение молодого Гегеля может быть охарактеризовано
поэтому как предельная, концептуально завершенная форма опти-
ды (то есть ее совершенство, всесилие и всеблагость) можно было мыслить,
не прибегая к явным натяжкам и мистификациям. Иное дело, когда бог
стал отождествляться с историей, завершающейся во времени и
переполненной людскими злодеяниями.
* Ильин И. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека.
М., 1915. С. 16.
302
Э. Ю. Соловьев
мистического благодушия. Оно предполагает, что с истинной,
философской точки зрения все несчастное, бессмысленное и трагическое
не только заведомо обречено гибели, но, по строгому счету, даже
вообще не существует, а представляет собой лишь развертывающуюся
во времени видимость.
Гегелевский оптимизм обнаруживает в этом отношении
несомненное сходство с умонастроением ранних романтиков, трактовавших
все ставшее, предметное и конечное как своего рода наваждение,
которое рассеется в лучах будущего. Да и сам абсолютный дух, каким
он появляется на свет в работах йенского периода, может
рассматриваться как особая, своеобразная версия романтической
субъективности. Это бог — ироник, играющий и резвящийся демиург, который
в состоянии «свободного радования» полагает то, что станет для
человека миром препятствий, трудностей, несчастий и смерти.
Вряд ли стоит объяснять, что с моральной точки зрения этот бог,
свободно и как бы в забаву себе учредивший мирское
несовершенство и зло, является персонажем по крайней мере двусмысленным,
недостойным ни благоговения, ни любви, ни беззаветной веры.
Единственно адекватным отношением к нему может быть лишь
совершенно имморальное по своей природе упование, то есть
специфическая форма признания бога исключительно со стороны его
мощи и всеспособности (возможности устранить, «снять» то, что
им же самим однажды вызвано к жизни). В поздних работах Гегеля
упование это примет прозаические и циничные формы: отольется
в рассудительную приверженность к силе, к эмпирически
успешному и победоносному. Вообще можно сказать, что растущий
имморализм — это единственное устойчивое начало гегелевского
умственного склада, сохраняющееся во всех превращениях его системы.
Упование — основная форма раннеромантического отношения
к абсолюту, к его гениально-творческим возможностям. Своеобразие
Гегеля состоит лишь в том, что его упование есть упование разума,
отождествляющего творческое начало с началом
рационально-конструктивным, исключающего возможность чуда и ищущего
«естественных», «миро-исторических» свидетельств гениальности Творца.
Фундаментальная онтология как версия неоисторизма
Основная смысловая тенденция и пафос «Бытия и времени»
передаются следующим тезисом, сформулированным в последнем
разделе книги: «Изначально исторично Dasein, и только оно одно...»*
Что выражает этот тезис?
* Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1963. S. 393.
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
303
Экзистенциал Dasein (буквально «здесь-бытие») фигурирует
в работе Хайдеггера как обозначение бытия человека. Хайдеггер
использует его там, где предшествующая немецкая философия
(гегельянство и философия жизни) прибегала к выражению
«единичный».
Важно подчеркнуть, что Dasein не является определением,
предикатом человека. Хайдеггер нигде не говорит: «Человек есть Dasein».
Экзистенциал этот просто обозначает человека, фигурирует как его
философское (категориальное) имя: Dasein, то есть бытие человека*.
Почему Хайдеггер избегает самого понятия «человеческое
бытие вообще», я разъясню несколько позже. Пока же вернемся к
расшифровке вышеприведенного основного тезиса «Бытия и времени».
Смысл его, как нетрудно убедиться, состоит в том, что только
человек (и притом только как единичный индивид) действительно имеет
историю. Если Dasein («здесь-бытие») есть его адекватное
философское наименование, то историчность является его наиболее
исчерпывающим философским определением.
Хайдеггер с редкой для него категоричностью обрисовывает
центральное положение данного тезиса для всей разрабатываемой им
концепции. «Утверждение: Dasein исторично, — пишет он, — есть
фундаментальное экзистенциально-онтологическое высказывание.
При этом оно не имеет ничего общего с чисто онтической
констатацией того факта, что Dasein существует в «мировой истории»**.
Историчность как наиболее полное определение и как
онтологическая привилегия единичного человеческого индивида — такова,
коротко говоря, основная тема «Бытия и времени». Разрабатывая ее,
Хайдеггер постоянно имеет в виду критико-полемическую задачу.
Тезис «Dasein, и только оно одно, изначально исторично» по самому
своему существу есть высказывание-возражение. Оно направлено
против предшествующих концепций историзма, ставивших во
главу угла историчность мира, человеческого рода, общества и его
институтов и видевших во временных связях отдельной человеческой
судьбы в лучшем случае воспроизведение этой макроистории
(отображение всеобщего в особенном и единичном, «филогенеза в
онтогенезе» и т. д.). В этом стремлении сводить проблему историчности
человека к факту его включенности в объективную историю
человечества Хайдеггер усматривает главное заблуждение новейшей
европейской философии, еще более опасное по своим идеологическим
последствиям, чем свойственное XVII и XVIII столетиям откровенно
неисторическое воззрение, настаивавшее на включенности
индивида в систему вечных и неизменных природных зависимостей.
* Там же. С. 25.
** Там же. С. 332.
304
Э. Ю. Соловьев
Хайдеггер пишет: «Тезис: Dasein исторично, — не исчерпывается
констатацией того факта, что человек представляет собой более или
менее важный "атом" в передаточном механизме мировой истории.
Dasein — утверждаем мы — является первично историчным. Все же
прочее, встречающееся в мирской сфере, представляет собой
вторично историчное. Это относится не только к орудиям и средствам в
широком смысле, но и к окружающей природе как "исторической
почве" нашего существования. Можно сказать, что вульгарное понятие
"всемирной истории" возникает именно из ориентации на эту
вторичную историю и из непонимания ее производного характера...»*
Главную философскую задачу эпохи Хайдеггер видит в
освобождении от этой ориентации и в отстаивании прямо противоположной,
обратной по отношению к ней установки. «Dasein, — декларирует
он, — является временным не потому, что оно "находится в
истории"... как раз наоборот, Dasein потому существует и может
существовать исторически, что оно является временным в основе своего
бытия»**. Что касается общественных, макроисторических и вообще
объективных обнаружений человеческого существования (форм
организации производства, типов общения, культуры, науки и т. д.),
то они, по выражению Хайдеггера, «вводятся в историю благодаря
существованию историчного Dasein»***.
Эти выдержки ценны тем, что они достаточно ясно выражают
основную претензию Хайдеггера, обрисовывают то место, которое
он сам отводит своей концепции в истории новой и новейшей
философии.
Хайдеггер решительно настаивает на историческом понимании
человека и мира. В этом смысле он не может не считать себя
наследником Вико и Гердера, Шеллинга и Гегеля, Фейербаха и Конта —
мыслителей, разрабатывавших различные версии историзма.
Как и они, Хайдеггер не признает ничего, что с объективной
точки зрения не было бы подвластно изменению («включено во время
и в историю»). Исторически развивающийся мир есть
всеобъемлющая реальность. Нет никакого сущего, которое бы не охватывалось
ею, — ничего запредельного, трансцендентного, потустороннего.
Соответственно Хайдеггер — и это примечательнейшая
особенность фундаментальной онтологии — с самого начала накладывает
запрет на идею вечного, вневременного, надысторического бытия.
Тем самым он отделяет свою философию от учений, признающих
существование надвременного царства «идей», «ноуменов», «сущ-
* Heidegger M. Sein und Zeit. С. 381.
" Там же. С. 376.
■** Там же. С. 388.
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
305
ностей», с одной стороны, вечной и неизменной «природы
человека» — с другой.
Но это лишь одна сторона дела. Признавая истинность
историзма как объективного воззрения, Хайдеггер вместе с тем настаивает
на том, что само это воззрение (в «Бытии и времени» оно именуется
онтическим) вовсе не является единственно возможным.
Существует еще собственно онтологический взгляд на реальность,
обеспечиваемый феноменологией.
Феноменологическое рассмотрение позволяет человеку увидеть
себя самого как такой род сущего, который, непременно
пребывая во времени, не является тем не менее полностью подвластным
ему, — не является потому, что по способу своего бытия он сам есть
время, или (причудливое, но более точное и выразительное
определение Хайдеггера) «сам простирает и длит время, сам себя
временит». Если общество, природа, мир в целом в лучшем случае «имеют
историю», то человек обладает онтологической привилегией
непосредственно «быть историей».
Историзм для Хайдеггера есть онтическая версия историчности
человека и мира, которая сосредоточивает внимание на том, что
имеет историю, и оставляет в тени то, что само является ею по
способу своего бытия. Свою собственную задачу он, соответственно,
видит в том, чтобы, принимая «онтическую истину историзма»,
освободиться от гипостазирования онтического подхода к бытию
и открыть людям глаза на мистически глубокую историчность их
собственного индивидуального существования.
Как ни туманны эти смыслоразличения, они позволяют выявить
по крайней мере два обстоятельства, которые редко принимаются
во внимание при анализе хайдеггеровской фундаментальной
онтологии.
Во-первых, Хайдеггер прямо рекомендует себя как
критического наследника предшествующего историзма. Не психология,
антропология или этика, а онтологические установки, на которых
основывалась развитая в XIX веке философия истории, выделяются им
в качестве основного проблемного поля его собственной концепции.
Во-вторых, становится ясным, что главная претензия
фундаментальной онтологии есть претензия на преодоление историзма.
Замысел этого преодоления достаточно своеобразен. Речь идет о таком
превосхождении философии развивающегося во времени мира,
которое бы нигде не восстанавливало в правах превзойденные самой
этой философией неисторические и антиисторические воззрения.
Вопрос о том, удалось ли Хайдеггеру на деле реализовать это
действительно уникальное притязание, должен занять одно из
центральных мест в критическом анализе фундаментальной онтологии.
306
Э. Ю. Соловьев
Одна из трудностей критического анализа хайдеггеровской
версии историзма связана с необходимостью понятного пересказа
«Бытия и времени», перевода формул фундаментальной онтологии
на язык, отработанный философской традицией, и выявления —
именно в этом языке — их смыслового своеобразия,
нетрадиционности.
Утверждение философа, живущего в XX веке, что человек
историчен по самому способу своего бытия, само по себе не может
восприниматься как оригинальное. Однако внимательно вчитываясь
в причудливые выражения «Бытия и времени», мы обнаруживаем,
что сами термины «историчное» и «историчность» имеют у Хайдег-
гера совершенно необычный и парадоксальный смысл.
С начала XIX столетия философия (а вслед за ней и общее
словоупотребление) понимала под историчностью человека изначальную
включенность каждого человеческого индивида в историю, его
принадлежность к известному периоду, стадии, эпохе общественного
развития. Тем самым подчеркивалось, что человек есть существо,
не обладающее извечной и неизменной природой, что в основе
интересов, потребностей и устремлений, кажущихся ему
«естественными», в действительности лежат известные эпохальные запросы,
осознание и целенаправленная реализация которых впервые делают
индивида исторической личностью, структурируют его общественно
значимую биографию.
Хайдеггера это толкование историчности явно не устраивает.
Более того, в «Бытии и времени» именно оно третируется в качестве
онтического, то есть не выходящего за пределы «здравого смысла»,
«обыденно-повседневных интерпретаций». Хайдеггер видит в нем
предрассудок того же типа и ранга, что и отброшенное классическим
историзмом представление о «естественном индивиде», о
принадлежности человека к вечному и неизменному природному порядку.
Какой же смысл вкладывает в понятие «историчность» сам
Хайдеггер?
Попытаемся ответить на данный вопрос по возможности просто,
сведя до минимума экзистенциально-онтологическую
терминологию.
Своеобразие «Бытия и времени» состоит в отстаивании такой
историчности человеческого бытия, которая не определяется
историей общества и не зависит от этой истории. Человек, утверждает
Хайдеггер, историчен сам по себе, изначально и извечно,
безотносительно к смене периодов и эпох общественного развития. Жизнь
человека неотвратимо биографична; и как ни уникальны людские
биографии, они имеют некоторую всеобщую, воспроизводящуюся
смысло-временную структуру, которая и есть история в ее первич-
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
307
ном, исходном, досоциальном значении. Крупнейший приверженец
классического буржуазного историзма, Гегель представлял себе
единичного индивида как персонажа во всемирно-исторической драме
(еще точнее, в романе-эпопее, повествующей о
героически-победоносной жизни абсолютного духа). Для Хайдеггера же драмой (тра-
гико-драматической структурой) является жизнь каждого
единичного индивида, независимо от того, вносит ли он какую-либо лепту
во всемирно-историческое движение.
Сыграть эту драму, воплотить ее как бы от века
предначертанный сюжет, свершить свою собственную историю, не выводимую
ни из каких общественных тенденций, потребностей и коллизий, —
такова, согласно Хайдеггеру, подлинная миссия всякого
явившегося на свет человеческого индивида.
По своему содержанию собственная история Dasien
неповторима, негенерализуема. Отстаивая этот тезис, Хайдеггер и немецкий
экзистенциализм в целом, несомненно, выступают как
продолжатели идеографического историзма баденской школы
неокантианства. И в то же время по своей формальной структуре история эта
одинакова для всех индивидуальных судеб. Выявление такого рода
структуры, тождественно-единой формы историчности и есть
непосредственная задача «Бытия и времени».
Какова же эта форма?
Человеческое существование, пишет Хайдеггер, имеет характер
события; при этом в слове «событие» фиксируется его глубинный,
этимологически выявляемый смысл. «Событие» может пониматься
как «с-бытие», «сбывание» (еще определеннее это выражено в
немецком Er-eignis, что буквально означает «о-собствливание»
чего-либо, «обретение своего собственного содержания»).
Определяя человеческое существование как событие, а событие
как сбывание, Хайдеггер сразу же добивается следующего
любопытного результата.
«Событие» — это слово для обозначения простейшей
исторической реальности («исторического факта», «исторического
явления»): несобытийный процесс не может именоваться историей,
не соответствует тому, что понимает под нею язык.
Вместе с тем событие в смысле сбывания, то есть в
экзистенциально-онтологическом смысле, оказывается словом для обозначения
человеческого существования как его трактует вся экзистенциалистская
и даже более того — вся персонал истеки ориентированная философия.
Быть событием непосредственно означает «быть самим собой»,
«осуществиться» , «состояться», «обрести свою собственную самость».
Так посредством этимологической операции Хайдеггер получает
основное «мысленное уравнение» фундаментальной онтологии: пер-
308
Э. Ю. Соловьев
соналистски (экзистенциально) понятое человеческое бытие и есть
(=) первоисторическая реальность, от которой заимствуют свою
историчность все другие явления и процессы, возникающие как
результат человеческой деятельности или вовлеченные в ее поле.
В «Бытии и времени» модель всемирной истории, которую
выработал классический буржуазный историзм, изобличается как та же
структура историчности индивидуального существования
(структура сбывания, самоосуществления), но только отторгнутая,
отчужденная от самого Dasein. Всемирная история, понятая как процесс
совпадения абсолютного духа с самим собой, есть, согласно Хайдег-
геру, грубый, абстрактно схематический слепок с напряженного
акта обретения собственной самости, образующего ядро всякой
индивидуальной биографии, — продукт логизации и
рационалистической мистификации этого акта, его искусственного растягивания
в упорядоченный сверхличностный процесс.
Соответственно свою собственную задачу Хайдеггер видит в том,
чтобы:
1) «оставить в стороне» («редуцировать» в феноменологическом
значении этого термина) «мировую историю» с ее стадиями и
периодами, тенденциями и закономерностями;
2) сосредоточить внимание на временной структуре «любой
и всякой» индивидуальной жизни, на фазах (или, как выражается
Хайдеггер, «экстазисах») самого акта сбывания, осуществления
неповторимо личной судьбы;
3) после того как эта структура будет аналитически
прояснена и обрисована с помощью специфических, только ей адекватных
категорий (экзистенциалов), вновь вернуться к проблеме строения
«мировой истории» и решить ее без рационалистических
мистификаций.
Общий замысел фундаментальной онтологии — это неоисторизм,
и последние разделы «Бытия и времени» (особенно
заключительный параграф, прямо посвященный критике гегелевского понятия
времени) ценны тем, что впервые обозначают философско-истори-
ческие претензии Хайдеггера.
Показательно, однако, что ни один из западных интерпретаторов
фундаментальной онтологии не уделил этому притязанию на
неоисторизм сколько-нибудь серьезного внимания. О философско-исто-
рических идеях Хайдеггера говорят, как правило, лишь в связи с его
поздними работами. Что же касается «Бытия и времени», то в нем
видят все что угодно: оригинальный вариант философской
антропологии, необычную разработку феноменологической (гуссерлевской)
темы «жизненного мира», парадоксальную разновидность
психоанализа, один из первых набросков концепции «массовой куль-
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
309
туры», «новую психологию творчества», — но только не работу,
которая нацелена (и притом с самого начала нацелена) на «коперни-
канский переворот» в области философии истории.
Подобное непонимание общего, конститутивного замысла
фундаментальной онтологии не случайно: оно заслужено Хайдеггером.
Дело в том, что все его творчество (не исключая и самых
последних работ) оказалось всего лишь «прицеливанием и примеривани-
ем» к решению некоторой итоговой задачи, принципиальный смысл
которой вырисовывался уже в 20-е годы. Всю жизнь Хайдеггер
писал пролегомены к своей собственной теории исторического
процесса, не доработавшись, однако, даже до ее связного, логически
продуманного наброска. Он всегда тяготел к проблематике философии
истории (и строго говоря, только ею и занимался), но с какою-то
увертливой робостью избегал философско-исторических
конструкций как таковых. Вместо них он произвел на свет историософски
(неоисторицистски) ориентированную антропологию и этику.
Аналогичный смысл имели и его поздние изыскания в области
лингвистики, эстетики, теории культуры. В итоге неоисторизм Хайдеггера
так и остался претензией, метафорой теоретической задачи —
намеком на намек.
Однако и в этом своем значении он ни в коем случае не может
игнорироваться, поскольку, с одной стороны, выступает как скрытая
целеориентация фундаментальной онтологии и потому
обеспечивает личностно-проблемное единство всему творчеству Хайдеггера,
не поддающемуся никакой тематической интеграции; а с другой —
в решающей степени определяет то, что можно назвать пафосом
фундаментальной онтологии.
Неоисторизм — декларация Хайдеггера, но ведь экзистенциализм
вообще представляет собой такого рода философию, которая именно
через декларации, нереализованные программные призывы и
оказывает наиболее внушительное воздействие на сознание. Известные
методологические установки (как правило, имеющие в виду те или иные
области гуманитарного знания) сразу задаются экзистенциализмом
в качестве императивов «новой морали», обязательных для человека
не потому, что он занят той или иной формой профессиональной
деятельности, а потому, что он вообще сталкивается с проблемой
самоопределения, самовоспитания, личностного становления.
Неоисторизм Хайдеггера — типичный пример такого рода
установки, действенной уже в форме претензии, то есть до того, как она
получила сколько-нибудь убедительную теоретическую разработку
и апробирована в реальной познавательной практике.
Дело ведь не просто в том, что Хайдеггер превращает анализ
«первичной историчности Dasein» (событийности индивидуального че-
310
Э. Ю. Соловьев
ловеческого существования) в предусловие понимания,
духовно-теоретического освоения мировой истории и тем самым ставит под
сомнение всякое историческое (и более того, всякое гуманитарное)
исследование, не опирающееся на экзистенциальную
антропологию. Учение Хайдеггера содержит в себе нечто куда более
претенциозное: оно мыслит как неморального, нравственно неполноценного
всякого человека, который не умеет или отказывается жить и
действовать в духе радикального предпочтения «первичной
историчности Dasein». Еще до того как она превратилась в «обновленную»,
«свободную от мистификаций» философию истории,
фундаментальная онтология требует, чтобы каждый индивид уверовал в мудрость
ее намерений. Мало того, эта вера и приверженность
рассматриваются Хайдеггером в качестве необходимой предпосылки философ-
ско-исторической концептуализации фундаментальной онтологии,
превращения ее в действительную теорию исторического процесса.
Последнее произойдет не раньше, чем мир наполнится хайдеггери-
анцами, то есть людьми, которые отрекаются от служения фикциям
«мировой истории» (познаваемым закономерностям, тенденциям,
формулам общественно-исторической целесообразности) и
посвящают себя таким простейшим «первоисторическим реальностям»,
как собственная судьба, индивидуальное призвание, неотъемлемо
личный взгляд на вещи.
Неоисторизм Хайдеггера — это прежде всего особого рода
моральная проповедь и лишь затем методологический принцип,
инструмент перестройки исторического знания и сознания.
Буквальные требования этой проповеди, в сущности говоря,
очень просты: «Пойми себя самого!», «Сбудься!», «Свершись!»,
«Осуществи свои собственные возможности!».
Трудно назвать эпоху, в которую бы данные формулы ставились
под сомнение; трудно отыскать философа, который бы их не
отстаивал или, по крайней мере, не признавал.
Это не означает, однако, что Хайдеггер просто повторяет то, что
задолго до него высказывалось Сократом, стоиками, Августином,
Монтенем, Паскалем, представителями раннебуржуазного
персонализма.
Своеобразие фундаментальной онтологии состоит в том, что она,
во-первых, возвышает требование самосознания и
самоосуществления над всеми другими нравственными императивами, не
останавливаясь перед имморалистическим выводом: «Все позволено
в видах самореализации»; во-вторых, трактует самоосуществление
как действие, вызывающее в индивиде полный антропологический
переворот, принципиальные изменения в самоощущении, в
переживании мира, людей и времени; в-третьих (и это, пожалуй, самое
Судъбическая историософия M. Хайдеггера
311
важное), истолковывает задачу самоосуществления как необходимо
антитетическую по отношению к задаче участия в истории,
реализации ее запросов, потребностей и тенденций.
Персоналистская идея борьбы за свою подлинную личность
в фундаментальной онтологии неотделима от идеи противостояния
общественно-историческому развитию и переноса на личность того
достоинства историчности, событийной содержательности, которое
классическая философия связывала в первую очередь с обществом
как целым. Невозможно говорить «да» экзистенции, не говоря «нет»
«мировой истории», — таков невысказанный подтекст всех формул
самоосуществления, которые несет в мир
фундаментально-онтологическая проповедь. Хайдеггеровское «сбудься»
непосредственным образом подразумевает: «Посвяти себя собственной судьбе,
а не трансцендентному, возвышающемуся над тобой и
несоизмеримому с тобой историческому процессу».
Позитивные заповеди фундаментальной онтологии полемически
заострены против того, что мы назвали историцизмом.
Напомним еще раз (хотя и в несколько иной акцентировке)
наиболее характерные его черты. Буржуазная философская классика
тяготела к канонизации общественно-исторической
целесообразности, еще точнее: к канонизации господствующих, довлеющих над
общественным сознанием известной эпохи представлений об
исторически должном, разумном и необходимом. Представления эти
приобретали в итоге значение сверхморальных (священных,
провиденциальных) требований, возвышающихся над любыми
нравственно-безусловными нормами, над соображениями гуманности
и порядочности, заботы о моральной автономии индивида и
реализации им своих личностных возможностей и задатков. Все это
должно было отступить перед «самосознанием эпохи», перед
исторически относительным пониманием абсолютных, сверхчеловеческих
заданий объективного духа. Упование на историю, доверие к силам
и инстанциям, олицетворяющим исторический разум, возвышение
«фактических возможностей» (сплошь и рядом исчисляемых
совершенно иллюзорными способами) над безусловными ценностями
и идеалами — таковы были характерные черты нового
морального климата, который культивировался классическим буржуазным
историзмом и действительно утвердился к концу XIX века в формах
благодушного прогрессизма, конформизма, рассудочно-исчисли-
тельного («экономического») истолкования общественного
времени. Эти вульгарные формы буржуазного исторического сознания
были чрезвычайно далеки от понимания теоретического
содержания гердеровской, шеллингианской, гегелевской, контовской
философии истории. Однако именно они оказались последовательными
312
Э. Ю. Соловьев
восприемниками ее историцистских предрассудков, тенденции к
канонизации господствующих представлений об общественно
целесообразном и к созданию идеалистического культа истории.
Вот этому-то культу, распознаваемому не столько в облике
академически-влиятельных теорий, сколько в укоренившихся
установках обыденного сознания, и оппонирует фундаментальная
онтология как версия неоисторизма.
Хайдеггер (и здесь ему не откажешь в аналитической
проницательности) видит смысловое единство таких, казалось бы,
разнородных явлений, как экспектативная ориентация поведения (его
иррациональная зависимость от чужих ожиданий, мнений и оценок,
особенно отчетливо проступающая там, где дело идет об образах
«ближайшего будущего»); как повышенная суетность и суматош-
ность жизни; страх «непоспевания за временем», ощущение
настоящего в качестве исчезающего, почти миражного состояния между
прошлым и будущим; возрастающее безразличие ко всему
минувшему и к «оставленным в прошлом возможностям». Во всем этом
Хайдеггер справедливо усматривает внешние, поверхностные
обнаружения одной и той же религии прогресса, философские основы
которой были заложены мыслителями, подобными Гегелю.
Мы напрасно, однако, стали бы искать в работах Хайдеггера
содержательный анализ классической философии, позволяющий
различить ее диалектические открытия и ее новую историцистскую
метафизику. Нет в этих работах и попытки объяснить сам переход
от историцистских иллюзий раннебуржуазной эпохи к вульгарному
прогрессизму конца XIX века как законченной форме массового
сознания, как бы уже полностью уготовленной к тому, чтобы испытать
глубочайший кризис при столкновении с катастрофическим опытом
начала нашего столетия. Хайдеггер ограничивается скорее
установлением некоторых улик, свидетельствующих о том, что
классический буржуазный историзм несет концептуальную ответственность
за новейшие формы вульгарного понимания истории (именно такой
характер имеет последний параграф «Бытия и времени», где
выявляется изоморфность наиболее абстрактных суждений Гегеля о
сущности времени и способов переживания последнего рядовым
субъектом новейшей социальной практики, организуемой по принципу
гонок: предпринимательских, потребительских, престижных).
Фундаментальная онтология, несомненно, представляет собой
одну из форм протеста против основной идеи историцизма: идеи
подчинения безусловного исторически относительным
обнаружениям абсолютного. Неприятие этой идеи обусловлено уже
феноменологическими (гуссерлианскими) предпосылками учения
Хайдеггера. К числу этих предпосылок принадлежит знаменитое epoché
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
313
(«остранение», «воздержание от суждения»), которое без
противоречия с собственными установками Гуссерля может мыслиться как
редукция всего временного, исторически обусловленного (и поэтому
относительного) во имя деятельного внутреннего сосредоточения
на вневременном, надысторическом, безусловно значимом.
Человеческое бытие как Dasein
Как мы уже отметили, человек (единичный индивид) имеет
у Хайдеггера свое категориальное имя; он называется Dasein, или
«здесь-бытие».
Комментаторы «Бытия и времени» написали по поводу этого
выражения сотни страниц и сделали вопрос о его смысле практически
неразрешимым.
На наш взгляд, разгадку экзистенциала Dasein следует искать
именно в вышеохарактеризованной основной тенденции хайдегге-
ровского мышления: в его претензии на неоисторизм.
Выражение Dasein несет серьезную смысловую нагрузку: оно
(уже этимологически) задает особый ракурс, способ видения
человека, которого должен от начала и до конца придерживаться читатель
«Бытия и времени». Ракурс этот — локально-пространственный.
Именуя человека «здесь-бытием», Хайдеггер полемически
противопоставляет свою антропологию прежде всего историцистскому
истолкованию человеческого индивида, тенденции мыслить его как
находящегося во времени, и именно — в общественно-историческом
времени.
Если бы представители классического буржуазного историзма
(например, Гегель) искали категориальное имя для человеческого
индивида, они, скорее всего, должны были бы остановиться на
выражении «теперь-бытие» (Jetzt-Sein). В самом деле, в гегелевской
философии истории единичный индивид мыслится как момент
исторического процесса, мошка-однодневка в роевом движении
человечества. Он занимает минимальный, сжимающийся в точку
отрезок на временной координате абсолютного духа. Эта исчезающая
моментность существования и фиксируется Гегелем в самом
определении понятия «теперь».
Хайдеггер — вообще говоря, избегающий какого-либо
цитирования — не случайно делает пространные выписки из
соответствующих разделов гегелевской «Энциклопедии философских наук»
и «Науки логики».
Не стану разбирать, насколько корректно Хайдеггер обращается
с гегелевским текстом, замечу лишь, что от его выводов нельзя
просто отмахнуться: они выявляют (выявляют посредством утрирова-
314
Э. Ю. Соловьев
ния) некоторые реальные и существенные черты гегелевского
мышления. Еще большее значение имеют эти выводы для расшифровки
собственных категорий фундаментальной онтологии.
«Бытие времени у Гегеля, — пишет Хайдеггер, — это "теперь";
но поскольку всякое "теперь" таково, что его теперь также болыпе-
уже-нет или, соответственно, пока-еще-нет, постольку оно может
быть понято и как небытие... "Теперь" есть чистое прехождение».
Хайдеггер обращает внимание на то, что в качестве единицы пре-
хождения «теперь» для Гегеля есть снятие всякой пространственно-
сти, низведение ее до «точечности»; Jetzt — hier, jetzt — hier und so
fort. В этой связи он цитирует § 257 гегелевской «Энциклопедии...»:
«Негативность, которая в качестве точки относится к пространству
и развивает в нем свои определения как линия и плоскость... есть
уже столько же сфера вне-себя, сколько и для-себя бытия, наличного
в противовес простому нахождению друг подле друга. Полагая себя
таким образом, она есть время» *. «Точка» для Гегеля представляет собой
простое единство «здесь» и «теперь» (Jetzt-hier), a также «теперь»
как снятое, утратившее свою пространственную полноту «здесь».
Цитируемые Хайдеггером гегелевские рассуждения о времени
непосредственно не имеют в виду какие-либо проблемы,
относящиеся к философии истории; это скорее спекуляции вокруг абстрактных
сюжетов геометрии и арифметики. Однако и они (Хайдеггер верно
это чувствует) проникнуты общим духом гегельянского историциз-
ма. Более того, представление Гегеля о бытии времени как о
прохождении; о «точке», «моменте», «теперь» как о простейшей единице
временного потока находят свой подлинный аналог именно в
мелькающей историчности гегелевского индивида («единичного»).
С точки зрения абсолютного духа, «ведущего свои дела en grand,
с широчайшими затратами человеческого материала», отдельный
индивид есть не что иное, как «точка», бесконечно малое. Он
мимолетен и ничтожен до призрачности. И ладно бы, если бы подобное
воззрение на индивида было исключительным достоянием абсолютного
духа да философии, постигающей его сверхчеловеческие мотивы.
Но Гегель, как известно, этим не ограничивается; он требует, чтобы
индивид (любой и всякий индивид в качестве сознательно
мыслящего агента истории) сам себя увидел глазами абсолюта, уразумел
исчезающую конечность своего индивидуального существования
и действовал в духе этого уразумения. Гегелевская философия чем
дальше, тем больше проникается пафосом презрения ко всему
«конечному», «непосредственному», «наличному», «переживаемому»,
«данному», «созерцаемому» (заметим, что для обозначения именно
* Цит. по: Heidegger M. Sein und Zeit. S. 429.
Судъбическая историософия M. Хайдеггера
315
этой реальности, непосредственно соразмерной человеческой
конечности, Гегель использует понятие Dasein, сообщая ему самый низший
онтологический статус)*. Сознательное участие индивида в истории
мыслится как своего рода самосожжение во всемирно-историческом
времени, как добровольное возложение на алтарь абсолюта бренной
индивидуальной жизни со всеми ее достоверностями:
духовно-практическими, эстетическими, моральными и т. д.
В ранних работах Гегеля и в «Феноменологии духа» подобное
героическое самоотрицание еще носит вполне осмысленный характер:
оно обосновывается величием конечного результата, ради которого
совершается жертва, — в финале истории Гегель видит
безгосударственную добровольную организацию всего человечества,
основывающуюся на полном преодолении его эмпирической зависимости
от природы и впервые осуществляющую «реальное единство
общины и свободной индивидуальности».
Однако в «Философии права» и особенно в «Философии истории»
этот конечный идеал блекнет, опускается до уровня ближайших
государственно-политических возможностей. С маяка будущего
индивиду не светит уже ничего, кроме конституционной монархии,
сословного устройства, национально-государственного обособления
народов. Между тем сама идея жертвы во имя грядущего не только
не устраняется, но и доводится Гегелем до предельного ригоризма.
Пафос самоотрицания получает в итоге формальный и
иррациональный характер. Поздний Гегель как бы предвосхищает основное
умонастроение вульгарного буржуазного прогрессизма,
приверженцы которого потребуют от индивида слепой устремленности вперед,
не определяя (и даже принципиально отказываясь определять),
что же именно лежит впереди. «Движение — все, цель — ничто» —
эта формула Э. Бернштейна выразила строй мысли, характерный
не только для социал-демократического реформизма, но и для
буржуазного реформистского прогрессизма в целом. Более того, она
угадала то, что можно назвать «специфической темпоральностью
позднекапиталистического общества» с его «суетой», «господством
моды», невротическим комплексом «непоспевания».
Современная индустриально-техническая гонка добавляет
к многочисленным фетишам буржуазного сознания еще один:
общественно значимое, объективно исчисляемое и как бы нагружаемое
бытием время. Оно трактуется как последовательность моментов,
каждый из которых превосходит предыдущий по своей ценности.
И хотя считается «бессмысленным и ненаучным» спрашивать,
откуда и куда, от чего и к чему течет время, совершенствование призна-
Этот статус хорошо передается русским переводом гегелевского понятия
Dasein: «наличное бытие», предложенным Б. Г. Столпнером.
316
Э. Ю. Соловьев
ется имманентно и атрибутивно присущей ему тенденцией, не
зависящей ни от объектов, связей, отношений, которые существуют
во времени, ни — тем более — от инициативы и усилия самих
людей, переживающих и использующих время. Прогрессирование
общества принимает вид календарно-хронологического явления,
неотличимого от смены веков, лет, месяцев, дней, часов.
Идеологические концепции, закрепляющие это воззрение,
глубоко отличны от классической буржуазной философии (отличны
прежде всего тем, что в них отсутствует энергия идеала, мобилизующее
представление о цели и целостности истории, о ее диалектическом
строении). И тем не менее сама фетишизация времени
обнаруживает глубокое родство с классическим историзмом: календарно-хроно-
логическая версия прогресса представляет собой, как это ни
парадоксально, развитие идей гарантированного и провиденциального
совершенствования общества — развитие до абсурда, до
карикатуры, до мещанских пошлостей последовательное. Рационализация
представления о демиурге, начатая Гегелем и Контом, получает
пародийное завершение в образе часов, отсчитывающих не
ньютоновское (однородное), а возрастающее в общественной ценности время.
Соответственно, забота о «поспешании» и «экономия времени»
комическим образом начинает вмещать в себя весь пафос жертвенного
служения истории, еще прежде вытеснивший иные
гуманистические и этически значимые устремления.
Не приходится удивляться, что именно в русле этого прогрессиз-
ма (эволюционистского, векторного, безыдеального)
«ослепительной чистоты» достигают такие установки классического — прежде
всего гегелевского — историзма, как представление о моментности
индивидуального существования («теперь-бытии») и стремление
поскорее проскочить — прейти, миновать — всякое точечное «здесь»
(этот день, этот год, этот — мой собственный! — жизненный срок).
Историцистское самоотречение приобретает в итоге «поминутный»
и вместе с тем автономный, самодостаточный характер:
индивиду предписывается не столько ориентация на будущее (оно как раз
остается чем-то совершенно бессодержательным), сколько убегание
от современности. В человеке культивируется уже не
подвижническое одушевление, а страх перед всяким «топтанием на месте»,
перед привязанностью к «прошлому и сегодняшнему».
Хайдеггер принадлежит к числу мыслителей, остро ощутивших
иррациональный и фетишистический характер позднекапиталисти-
ческого восприятия времени. С феноменологической
проницательностью он зафиксировал в своей книге многообразные проявления
этого восприятия, а также его более ранние культурфилософские
прообразы.
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
317
Но, может быть, с прообразами Хайдеггер все-таки переборщил?
Может быть, его толкование Гегеля — это всего лишь озорной
пасквиль, для которого в наследии великого диалектика и повода-то
серьезного не отыщется?
Вот один из известнейших гегелевских текстов, показывающий,
что в пасквилянтстве Хайдеггер не повинен: «Я считаю, что
мировой дух скомандовал вперед. Этой команде противятся, но целое
движется неодолимой неприметно, как движется солнце, — все
преодолевая и сметая на своем пути. Бесчисленные легко вооруженные
отряды бьются где-то на флангах, выступая за и против, большая
часть их вообще не подозревает, в чем дело, и получает удары по
голове как бы незримой дланью. И ничто не поможет им: ни пускание
пыли в глаза, ни хитроумные выходки и выкрутасы»*.
Это хуже, чем провиденциализм. Это военно-мобилизационный
прогрессизм, фанатичный, бравурный и фельдфебельски
безжалостный по отношению к непоспевающим. Никаких рассуждений насчет
«за и против», никакой суетливой активности «где-то на флангах»:
всем сжаться в один громящий кулак, всем влиться в
аврально-соборное целое! А если кто-то заявит, что его совесть противится
подобным командам, то такое поведение надо со швабской прямотой
осудить как «хитроумную выходку» и «пускание пыли в глаза».
«Время вперед!» — таково абстрактное, но высочайшее
повеление мирового духа, самим Гегелем завизированное. Это своего рода
«темпоральный закон законосообразности», вознесенный над всеми
другими нормами: над скрижалями и над заповедями совершенства.
Нет, трактуя время, отмеряемое гегелевским абсолютным духом,
в качестве прообраза вульгарно-прогрессистского времени,
Хайдеггер никакой принципиальной ошибки не совершает. Иное дело, что
он не выясняет ни степени, ни причин последовавшего затем
метафизического вырождения и довольствуется такого рода констатаци-
ями: «Гегель походя характеризует время как "абстракцию
поедания" и тем самым находит радикальную формулу для вульгарного
опыта и толкования. Однако он достаточно глубок, чтобы в
дефинициях времени не придать поеданию и нисхождению
преимущественного значения...»**
Вся книга Хайдеггера, несомненно, представляет собой
философскую реакцию на «темпоральный фетишизм»; страстный
и осмысленный протест против вульгаризированных (по мнению
Хайдеггера, спонтанно-вульгаризирующихся) идей классического
буржуазного историзма; против подвижнической устремленности
* Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. М., 1971. Т. 2. С. 357.
'* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 431.
318
Э. Ю. Соловьев
в будущее, деградировавшей до трусливого бегства от «неподлинной
современности».
Последнее существенно прежде всего для экзистенциала Dasein.
Важно понять, что у этого выражения критико-полемический
подтекст: антифетишистский, антиисторицистский и
антигегелевский. Говоря: «Имя человеку — Dasein», Хайдеггер спорит и
возражает. Человеческий индивид, заявляет он, есть «здесь-бытие»,
а не «теперь-бытие», его существование не моментно, не точечно —
оно обладает полнотой пространственно развернутого мгновения*.
Как ни коротка человеческая жизнь в сравнении со
всемирно-историческим процессом, она — уже в простоте восприятия, созерцания,
переживания налично-данного — представляет собой полноценную
(пусть скромную, но не призрачную) реальность.
Важно понять далее, что экзистенциал Dasein вводится Хайдегге-
ром в противовес Гегелю. Хайдеггер берет его из собственного
гегелевского арсенала и умышленно переиначивает по смыслу. Если у Гегеля
понятие Dasein («наличное бытие») имело самый низкий
онтологический статус и выступало как своего рода категориальное клеймо,
которым абсолютный дух помечает ограниченность и абстрактность
любых достоверностей индивидуального опыта, то Хайдеггер тем же
словом обозначает независимую от абсолютов целостность этого
опыта: всю реальность, с которой от рождения и до смерти имеет дело
данный, незаместимый в своей самобытности индивид.
Но не только отказ от традиции фиксирует экзистенциал Dasein.
Своим непосредственным (этимологическим) звучанием он
одновременно извещает о принадлежности философии Хайдеггера к иной,
уже неклассической традиции.
Выражение «здесь» играет важную и специфическую роль в гус-
серлевской феноменологии. Взять какой-либо объект как
«находящийся здесь» значит, согласно Гуссерлю, подвергнуть его редукции
(очищению): изъять из системы сложившихся теоретических
интерпретаций.
В гегелевской феноменологии всякое «здесь» подлежало снятию,
идеализации, научно-теоретическому превосхождению; в
феноменологии Гуссерля выражение «здесь» имеет в виду возрожденную
данность, труднодоступную переживаемую конкретность объекта,
которая в опыте современного индивида с самого начала заслонена
научными (а главное, псевдонаучными,
рационально-схематическими) моделями.
Заметим, что в концепции Хайдеггера понятия «мгновение» и «момент»
не только не совпадают, но прямо противостоят друг другу. «Момент» —
это то, чему говорят «приди», «мгновение» — то, чему говорят
«остановись!».
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
319
Этот-то редуктивный смысл выражения «здесь» (идею
очищающего и возрождающего характера пространственной локализации)
и подхватывает Хайдеггер.
Но если у Гуссерля редукция была направлена прежде всего
против натурализма, против универсализации и гипостазирования
естественнонаучного познания, то Хайдеггер видит свою
первоочередную задачу в редукции историцистских моделей, историцист-
ских образов человеческого индивида. На решение этой задачи и
настраивает экзистенциал Dasein.
Принимать человека за существо по имени «здесь-бытие» —
значит с самого начала редуцировать, «выносить за скобки»
устоявшиеся определения индивида в координатах всемирной истории,
воздерживаться от истолкования его как представителя
(экспонента) известной эпохи, стадии общественной эволюции, известной —
опять-таки генетически развившейся — социальной общности или
группы.
Феноменологическая редукция не означает, как известно,
отбрасывания или перечеркивания теоретических определений. Она
скорее ограждает мышление от их онтологизации, от превращения
теоретически-всеобщего в средне-общее, в самостоятельно
существующую родо-видовую субстанцию индивидуальных объектов.
В общественно-историческом познании эта склонность к
онтологизации теоретических концептов ярче всего выразилась в вульгарном
социологизме, который, заметим, именно в период написания
«Бытия и времени» получил наибольшее развитие и распространение.
Для вульгарно-социологического мышления характерна не
столько абсолютизация естественнонаучных методов и понятий
(«натурализм», от которого предостерегали Гуссерль и
представители Баденской школы неокантианства), сколько натурализация
самих общественно-исторических категорий. Пожалуй, ярче всего
она выражается в том, что принадлежность индивида к
определенному сословию или классу, исторической эпохе или периоду
мыслится вульгарным социологом по типу субстанциальной,
природной включенности в известный биологический вид. Соответственно
социальному происхождению и эпохальным влияниям
приписывается своего рода генетическая сила. Предполагается, что они,
наподобие наследственного кода, предопределяют существование
и мышление индивида, а потому позволяют заведомо судить о
возможных для него умыслах и поступках. Натурализация
общественно-исторических категорий оборачивается в итоге их незаконным
презумпциальным применением*.
До нелепости и комизма эта тенденция доводилась в
вульгарно-социологических истолкованиях культуры, до чудовищных следствий в некоторых
320
Э. Ю. Соловьев
Локально-пространственная интерпретация индивида, на
которой настаивал Хайдеггер, представляла собой резкую, лобовую
реакцию против общего духа вульгарной социологии.
Это не означает, разумеется, что она открывала новые
возможности для убедительной научной критики
вульгарно-социологического мышления или хотя бы для понимания действительных
истоков его общественной влиятельности в 20-30-е годы. Как и в случае
с вульгарным прогрессизмом, речь идет о субъективном,
позиционном протесте, о полемических претензиях и заявках
фундаментальной онтологии, которые так и не выстроились в систематическое
воззрение.
Определение человеческого индивида как Dasein полемично
не только по отношению к гегельянскому (затем — вульгарно-про-
грессистскому) «теперь-бытию», но и по отношению к социоцен-
тристскому (затем вульгарно-социологическому) «бытию-из-обще-
ства», или общественно-предопределенному бытию.
Если представители вульгарной социологии все более
тяготели к тому, чтобы рассматривать индивида как точку пересечения
различных социальных «влияний» (эпохальных, сословных,
национальных, вероисповедных и т. д.), то, по мнению Хайдеггера,
индивид в лучшем случае находится в этой точке пересечения.
Порождающее личность историческое время редуцируется тем самым
до значения простого местообитания, контекста ситуации, в
которую индивид попросту помещен, а еще точнее, заброшен по воле
случая. Идея социально-исторической детерминации (доведенной
в вульгарной социологии до предетерминации) заменяется идеей
невыбранных, неустранимых, как бы сращенных с личностью
обстоятельств, которые стесняют, но не определяют ее поведение
(тезис о «фактичности» человеческого существования). Что именно
принадлежит к числу этих обстоятельств и какие из них обладают
наибольшей силой противодействия, нельзя определить
превентивно, заведомо.
Именуя человека «здесь-бытием», Хайдеггер выражает в
общем-то то же, что и Ясперс, когда он называет историческую эпоху
«окрестностью безусловного человеческого действия». Выражение
«здесь-бытие» подчеркивает, что человек включен (всегда и
непременно включен) в мировую историю, но тем не менее не сводим к ее
стадиально-временному движению, описываемому той или иной
теорией, и не предопределяется им. Не будучи в состоянии
фактически вырваться из своей современности, он сохраняет, однако,
юридических построениях (на Западе — в концепциях так называемого
социально-объективного вменения, разрабатывавшихся, например,
итальянскими правоведами-радикалами).
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
321
внутреннюю независимость по отношению к ней и именно
поэтому имеет возможность рассматривать ее «остраненно»,
«оптически-пространственно» как социокультурную местность, в
которую попал от рождения.
Разумеется, пространство, которое при этом имеет в виду Хайдег-
гер, не есть объективное пространство физики или географии. Речь
идет о субъективно переживаемой обстановке, ситуации, о
предметно-смысловом поле, в котором индивиду разом, одновременно дано
то, что в истории выступало как первоначальное и позднейшее,
определяющее и производное. Поле это Хайдеггер в § 26 «Бытия и
времени» определяет как «экзистенциальную пространственность».
Особый характер пространства, которое предполагает
определение человеческого бытия как Dasein, оттенен уже самим
выражением da («здесь»), представляющим собой субъективное,
некоординатное обозначение местоположения. «Здесь» имеет в виду
пространство как округу говорящего «здесь», пространство,
сросшееся с «Я» как субъектом речи, или обстановочно-ситуационное
пространство. «Здесь» не отделимо от «я» и выражает то же, что
«при мне», «около меня». С другой стороны, и «я» как бы
приращено к «здесь»: ведь никто и никогда на вопрос: «Где ты?» не отвечал
еще: «Я там»*. «Я здесь» — нерасчленимый локально-простран-
* Этимологическая неразрывность выражений «Я» и «здесь» — особая тема,
рассматриваемая в § 26 «Бытия и времени». Хайдеггер опирается здесь
на идеи Вильгельма фон Гумбольдта, указывавшего, что некоторые
примитивные языки прямо обозначали «Я» с помощью «здесь» (соответственно
«ты» — с помощью «тут» и «он» с помощью «там»), то есть,
грамматически выражаясь, передавали личные местоимения с помощью наречий
места. Существует даже спор, какое из этих обозначений места
(адвербиальное или прономинальное) является первоначальным. Спор, однако, теряет
почву, если принять во внимание, что «... "здесь", "тут" и "там" в своем
первичном значении не являются такими обозначениями места, которые
имели бы в виду пространственное расположение, налично сущего. Эти
наречия суть определения Dasein и имеют прежде всего экзистенциальное,
а не онтически-категориальное значение... Этот их смысл существует
раньше деления на наречия места и личные местоимения» (Heidegger M. Sein
und Zeit. S. 119).
В этом Хайдеггер, по-видимому, прав. Но вопрос-то сводится к другому.
Ставить его философски — значит спрашивать, восстановим ли
изначальный смысл выражений «тут», «здесь» и «там» в структуре современного
языка и современного сознания? В состоянии ли теперешний индивид
воспроизвести в себе полноту и мистически-напряженную неясность
примитивного «здесь», чтобы затем организовать вокруг него весь осмысленный
опыт. Если не в состоянии (а на мой взгляд, дело обстоит именно так), то все
рассуждения Хайдеггера о единстве «Я» и «здесь», как оно развернуто
в § 26, представляют собой не философский тезис, обоснованный истори-
ко-лингвистически, а очередную метафизическую спекуляцию на
материале исторической лингвистики.
322
Э. Ю. Соловьев
ственный отклик Я, его «ау» в дебрях исторически сложившегося,
категориально освоенного мира.
Данное обстоятельство обыгрывается Хайдеггером в полную
силу.
В каком же направлении идет этот обыгрыш? В чем состоит
основная тенденция феноменологического истолкования
нерасчленимо-единого «я здесь»?
Как я уже отметил, неоисторизм Хайдеггера представляет
собой такого рода критику предшествующей философии истории,
которая ни в одном пункте не желает работать на уже преодоленные
этой философией неисторические трактовки человека и общества.
Будучи направленной прежде всего против классического
буржуазного историзма (например, гегелевского), она одновременно
формулирует многочисленные полемические декларации, имеющие
в виду надвременное картезианское cogito, просветительскую идею
«естественной и вечной» природы индивида, концепцию
трансцендентальной субъективности как всегда себе равного формального
единства (фихтеанское Я = Я). Пафосом этих деклараций проникнут
и сам экзистенциал Dasein.
Если в качестве антипонятия по отношению к историцистскому
«теперь-бытию» и социоцентристскому «бытию-из-общества» он
фиксирует внутреннюю независимость индивида от
всемирно-исторического процесса, то в качестве категориальной экспликации
нерасчленимого «я здесь» он оттеняет, что независимость эта никогда
не является полной и фактической: свободным парением над своей
эпохой или эзотерической принадлежностью к некоему надвремен-
ному царству, будь то природному, будь то ноуменальному.
Сознающий и реализующий себя индивид не
предопределяется историческими обстоятельствами и все-таки зависит от них как
от совокупности вероятностных процессов. Единичное «Я» — это
внутренние потенции, соотнесенные с внешними шансами.
Бытие-возможность-призвание
Основное понятие «Бытия и времени» — понятие возможности.
Все другие специфические категории фундаментальной онтологии
представляют собой прямые или косвенные его модификации.
В забвении или недооценке категории возможности Хайдеггер
видит коренной порок доминирующих направлений
новоевропейской философии, интегральное выражение их метафизичности.
Именно здесь, по его мнению, кроется и главная причина того, что
философия эта по сию пору не сумела предложить сколько-нибудь
убедительного толкования человеческого бытия и тем самым онто-
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
323
логически обосновать этическое, гуманитарное и историческое
познание.
Обратиться лицом к человеку и вернуть понятию возможности
его первоначальное философское значение — это, согласно Хайдег-
геру, два аспекта одной и той же задачи:
— только философия, трактующая возможность в качестве
центральной категориальной проблемы, способна к разработке
«подлинной антропологии»;
— только в применении к человеку (причем как к единичному
индивиду или «здесь-бытию») категория возможности приобретает
свое адекватное и полновесное значение.
Человек, неоднократно подчеркивает Хайдеггер, отличается
от всех других видов сущего (от вещей, средств, орудий, природных
образований и процессов) тем, что он в непереносном смысле
модальностей.
Он мог бы стать (и всегда еще может стать) иным, чем является
в настоящий момент. Ему одному свойственно быть озабоченным
своими нереализованными задатками, спрашивать, что он такое
в возможности, страдать от того, что он «не сбылся», «не
состоялся», « не осуществился ».
Лишь на этой основе, утверждает Хайдеггер, могут развиться
такие модальные отношения, как обязанность по отношению к себе
самому (фундаментальная онтология видит в ней первоисток всех
других типов долженствования) и внутреннее переживание
необходимости, или судьбоносности индивидуального существования
(оно, по мнению Хайдеггера, образует ту почву, на которой
вырастают затем все наши представления о биографии и истории). Таким
образом, только человек — и только потому, что он есть бытие в
возможности, — обладает привилегией на деонтологию и историчность.
Говорят, правда, и о невыявленных возможностях материала;
о растении или животном, которое развилось «не в меру своих сил» ;
о скрытых потенциях известного экономического уклада и т. д.
Но все эти выражения правомерны, по мнению Хайдеггера, лишь
постольку, поскольку известные виды сущего сами становятся
объектами человеческой заботы: используются и культивируются
людьми или, по крайней мере, осмысляются ими по схеме использования
и культивирования.
Независимо от человека (в буквальном, неантропоморфном,
неуподобительном смысле) возможностями обладает только сам
человек.
В «Бытии и времени» возможность трактуется как
отличительное и наиболее общее, исходное и всегда уже подразумеваемое
определение Dasein.
324
Э. Ю. Соловьев
«Dasein, — пишет Хайдеггер, — не есть нечто наличное, которое
в придачу еще что-то может, чем-то способно быть; оно
изначально есть бытие-возможность. Dasein исконно есть то, чем оно может
быть, что в его возможностях... Бытие-возможность, каковым Dasein
является экзистенциально, отличается как от пустой логической
возможности, так и от случайного состава (контингентности) моего
эмпирически-наличного бытия, который принимается во внимание
при определении того, что со мною может «случаться».
С онтической точки зрения, то есть как модальная категория
наличности, возможность означает и то, что еще не действительно,
и то, что еще не необходимо... Она ставится ниже действительного
и необходимого.
Но в качестве экзистенциала возможность есть именно самая
изначальная и самая глубокая онтологическая определенность
Dasein»*.
Попробуем разобраться в этих формулировках, имеющих
решающее значение для понимания общего замысла «Бытия и времени».
Главная тема приведенного отрывка — это, как нетрудно убедиться,
тема онтологического примата возможности по отношению к
действительному и необходимому. Его общий пафос может быть
передан парадоксальной формулой: возможности в человеке суть самое
важное: они действительнее действительного и необходимее
необходимого.
Именно этот онтологический парадокс выделяет человека из
всего остального мира, к явлениям которого понятие возможности либо
вовсе неприменимо, либо применимо лишь в качестве вторичной
и восполните л ьной категориальной характеристики.
Осознание сверхдействительности возможного есть, согласно
Хайдеггеру, высшая прерогатива истинно философской
(фундаментально-онтологической) интерпретации человека.
Ей противостоит интерпретация, которую Хайдеггер именует
онтической.
Раскрыть смысл этого термина в кратком определении очень
трудно. В порядке же общего и предварительного разъяснения
можно сказать, что под «онтической интерпретацией» Хайдеггер
понимает онтологию здравого смысла, хотя бы она (как это, по его
мнению, имеет место у Гегеля) и излагалась языком «научной
философии», объявившей односторонностям обычного здравомыслия
самую решительную войну.
Онтическая интерпретация знает только «случайные
возможности», или вероятности, представление о которых развивается
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 143.
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
325
в процессе рекогносцировки внешних условий человеческого
существования, в анализе разного рода «естественных процессов». Для
приверженца этой интерпретации все сущее (в которое
зачисляется и сам человек) является прежде всего чем-то ставшим и «лишь
в придачу к этому» содержащим в себе «еще и некоторые
возможности»*. Именно в этих выражениях Хайдеггер формулирует упрек,
который характерен для экзистенциализма в целом, упрек в том, что
предшествующая (доэкзистенциальная) философия, так или иначе,
тяготела к «предметному» и «вещистскому» толкованию человека.
Противоположность онтической и
фундаментально-онтологической интерпретации может быть обрисована еще и несколько иным
способом.
Фундаментальная онтология ставит в центр внимания не
возможность просто, но специфическим образом трактуемую
существенную возможность. Для ее обозначения Хайдеггер использует
выражения das Seinkönnen (бытие-возможность) и das Können (мо-
жествование). Экзистенциал «бытие-возможность» выражает, если
угодно, скрыто-телеологический и скрыто-финалистский взгляд
на человека, который в дальнейшем (особенно в последних разделах
«Бытия и времени») проводится все более определенно и
энергично. Речь идет о том, что человек в качестве единичного индивида
предназначен к некоторой форме существования, что он носит в себе
эмбрион своего последнего (непременно уникального)
жизненного результата. В абстрактной форме понятие бытия-возможности
уже заключает в себе тему внутреннего,
экзистенциально-переживаемого времени, которая получит затем многообразные (подчас
совершенно неожиданные) разработки. Тезис «Dasein есть
бытие-возможность» означает: человек есть «актуальное прошло-будущее»:
ему суждено стать тем, чем он в возможности всегда-уже-был, и это
предназначение необходимо реализовать незамедлительно, то есть
здесь и теперь.
Взаимозаместимость выражений «было», «есть» и «будет», их
причудливое отнесение друг к другу — таков общий стиль и
постоянный мотив хайдеггеровской категориальной спекуляции**.
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 143.
** П. П. Гайденко правильно резюмирует смысл экзистенциала
♦бытие-возможность», когда пишет: «Только в своих возможностях человек в
подлинном смысле есть» (Гайденко П. П. Экзистенциализм и проблема культуры.
М., 1963. С. 40). Но надо добавить, что смысл этот с тем же правом может
быть передан и такими формулировками, как «только в своих
возможностях человек в подлинном смысле есть то, чем он будет» и «то, чем человек
является в "возможностях", есть его подлинное прошлое».
Единичный, иными словами, вращается в темпоральном круге, где
времена ссылаются друг на друга и где, вопреки всякому здравомыслию, мы
326
Э. Ю. Соловьев
Если выражение * бытие-возможность» призвано оттенить
сверхактуальную первичность возможного, обрисовать его в качестве
первоначала, осуществление которого обеспечивает своего рода над-
временное единство настоящего, прошедшего и будущего в
структуре индивидуального человеческого существования, то экзистенци-
ал «можествование» подчеркивает, что личные возможности — это
живые силы нашего существа, его энергия, или потенция.
Понятие «собственные возможности Dasein» с самого начала
связывается Хайдеггером, во-первых, с понятиями способности
и задатка, а во-вторых, с понятиями неотъемлемо личного мнения,
понимания и веры. Фундаментально-онтологическая трактовка
возможности, поясняет он, имеет в виду нерасчлененный комплекс:
«понимать — уметь — мочь»*.
Уже эта формулировка позволяет увидеть, что экзистенциал
«собственные возможности» скрывает под собой идею призвания
и именно от нее заимствует свой категориальный динамизм.
Идея призвания христиански-религиозного происхождения.
С особой энергией и последовательностью она была проведена в
немецкой Реформации: поздние мистики и молодой Лютер видели
в Божественном предназначении каждого человека его
сверхдействительность и вневременный прообраз, его дарование и судьбу,
меру его способности к пониманию, любви, вере и благодатности.
Причудливые, а подчас просто колдовские манипуляции,
которые Хайдеггер проделывает над понятием «возможность», в
конечном счете сводятся к попытке выработать безрелигиозную версию
Божественного призвания.
Огромный потенциал значений, которым обладает хайдеггеров-
ское понятие «собственных возможностей Dasein», объясняется
не каким-то особым проникновением в суть категории
«возможность», а умением под именем философской категории удерживать
и развертывать одно из центральных понятий религиозной культуры.
Возможность-призвание — таково точное наименование того,
что определяется Хайдеггером как «можествование» и «бытие
возможность». Отклоняя Бога и любые другие образы
трансцендентного (такие, как Человечество, Род, Будущее, История),
фундаментальная онтология вместе с тем повсюду умудряется видеть
богопризванных к существованию индивидов, наличная
действительность которых есть лишь случайное (а то и просто карикатур-
оказываемся перед лицом «такого настоящего, которое не прежде будущего
и не позже прошлого».
* « Dasein существует таким образом, что оно всегда уже понимает — умеет —
может и соответственно не понимает — не умеет — не может чем-то быть»
(Heidegger M. Sein und Zeit. S. 144).
Судъбическая историософия M. Хайдеггера
327
ное) осуществление их истинного предназначения. Последнее
образует основную проблему — а еще точнее: неизвестно кем загаданную
тайну — отдельного человеческого существования. Неясность в
отношении собственной самости, стремление ответить на вопрос «кто
я такой?» или «каково мое подлинное можествование?» отличает
человека от всех других видов сущего, в частности от способа
существования животных, которые «суть просто то, что они суть» и
пребывают в ощущении непосредственного совпадения с собой. Dasein,
считает Хайдеггер, есть такой род сущего, которому свойственно
вопрошать о своем собственном бытии.
Можно сказать, что любой и всякий человек, поскольку он
осуществляет такое вопрошание, трактуется Хайдеггером как «философ
до всякой философии», как наивный и прирожденный приверженец
фундаментальной онтологии. Или, что то же самое: человеческому
индивиду, независимо от того, верит или не верит он в
существование Бога, изначально свойственно относиться к себе так, как если бы
Творец послал его в мир с уникальной, таинственной, досознательно
воспринятой миссией, разгадке и выполнению которой необходимо
посвятить жизнь.
Но этой фундаментально-онтологической ориентации в каждом
человеке противостоит, согласно Хайдеггеру, противоположная
тенденция — стремление осознавать себя как нечто ставшее,
осуществленное, налично действительное. Соответственно он тяготеет
к тому, чтобы интерпретировать (а еще точнее, рекогносцировать)
свою жизненную реальность под углом зрения самосохранения и
выживания. На первом плане его сознания и мышления оказываются
тем самым возможности, которые Хайдеггер называет «внешними»,
«случайными» и «эмпирическими». Это шансы жизненных успехов
и поражений данного единичного индивида. В философии
Хайдеггера они трактуются как определяемые ожиданиями, мнениями
и оценками окружающих людей (как их экспектации, воплощенные
в известную систему обстоятельств): утилитарная, благоразумно-
осмотрительная ориентация индивида без остатка сводится в
«Бытии и времени» к его социабельности и конформизму.
Внутренняя обращенность к возможностям как шансам,
вырастающая на почве забвения «подлинного можествования», или
возможности-призвания, образует самое существо онтически
ориентированного поведения. Субъект этого поведения, независимо
от того, верит или не верит он в существование Бога, ведет себя так,
как если бы Бога не было и все сводилось к его голому фактическому
существованию перед лицом других людей.
В литературе 1940-1950-х годов экзистенциализм М. Хайдеггера
нередко именовался атеистическим. В последние два десятилетия
328
Э. Ю. Соловьев
эта характеристика как-то потихоньку стушевалась и вышла из
употребления. И слава богу, потому что была совершенно
неоправданной даже по отношению к ранним хайдеггеровским сочинениям.
Субъект «Бытия и времени», по строгому счету, просто иррели-
гиозен. Ни страстная вера, ни последовательное безбожие ему
неведомы: он знает только имитацию теизма (в раннепротестантском его
варианте, то есть с акцентом на понятии Божественного призвания)
и только имитацию атеизма (в варианте раннепросветительском, со-
циоцентристском).
Субъект «Бытия и времени» — это человек, играющий в
Реформацию в эпоху, когда Бог умер. Он говорит: «На том стою и не могу
иначе», забывая, что у него под ногами нет прочной и
общепонятной почвы Писания. Это поза Лютера на Вормсском рейхстаге,
за которой, однако, не скрывается уже никакого иного смысла,
кроме абстрактно нонконформистского: не так, как все, — всегда и
непременно не так, как все. Герой Вормса был с Богом против
имморалистской религиозной конформности своего века: он бунтовал как
праведный христианин и чувствовал себя уединенно единым с
новозаветной нравственной проповедью. Герой «Бытия и времени»
уединенно един лишь со своим «подлинным можествованием» и
противостоит самой нравственности как конформности века. Именно
отрешение от нравственности во имя секулярного
немецко-романтического призрака Божественного призвания (моего задатка и дара,
моей способности или просто психологической особенности) —
таков итоговый и интегральный пафос всего учения об «историчности
здесь-бытия». Под эгидой этого экзистенциала, под маской
радикальнейших притязаний на создание новой философии истории
отстаивается абстрактнейший формализм имморалъности, обратный
по отношению к универсальным этическим формализмам кантов-
ского практического разума: всюду и в любую эпоху, сегодня, как
и вчера, действуй по схеме поведения реформаторов-подвижников,
отстаивавших свое религиозное призвание вопреки анонимному
общему сознанию вселенского католического социума. «Осуществлять
свою собственную историчность» означает, иными словами,
формально принадлежать к единственно историчной, реформаторской
эпохе и имитировать ее деятелей, не оглядываясь ни на
категорический императив, ни на освященные религией заповеди, ни на
морально признанные запросы своего времени.
Было бы неправильно утверждать, что эта иррелигиозная
антиисторическая имморальность исчерпывает смысловое богатство
«Бытия и времени». Но несомненно, что именно она оказалась
главным препятствием на пути реализации скрытых возможностей этой
работы как сочинения, относящегося к проблематике философского
Сидьбическая историософия M. Хайдеггера 329
обоснования гуманитарно-исторического познания. Барьер,
разделяющий фундаментальную онтологию М. Хайдеггера и позднейшие,
теоретически плодотворные опыты философской герменевтики
(прежде всего исследования Гадамера), в конечном счете является
этическим. И самое любопытное, что попытки преодоления этого барьера
предпринимались уже в пору, когда учение Хайдеггера
только-только начинало формироваться. Увы, они не были известны ни ему
самому, ни тому достаточно широкому кругу немецких
исследователей, на которых прежде всего было рассчитано вызывающе
парадоксальное учение о «собственной историчности здесь-бытия».
В 1921 году (за пять лет до появления «Бытия и времени»)
M. M. Бахтин, проживавший тогда в провинциальном Витебске,
написал работу «К философии поступка». Как и первые
философские выступления Хайдеггера, она представляла собой
оригинальный отклик на трудности, перед которыми оказалось баденское
неокантианство, дильтеевская «наука о духе» и «философия жизни»
Г. Зиммеля в их попытках найти прочное основание гуманитарного
знания. Совпадения в исходных смысловых расчленениях
повседневно-человеческого существования, к которым прибегли Хайдег-
гер и Бахтин, подчас просто поразительны (они поистине
работали на одном и том же проблемно-смысловом поле, ничего не зная
друг о друге). Но еще больше поражает принципиальное различие,
во-первых, концептуальных притязаний этих мыслителей, а
во-вторых, — и это главное — их исходных установок.
Ни на какое построение «новой онтологии» M. M. Бахтин не
посягает, никакого неоисторизма учреждать не собирается. Зато его
действительные критические расчеты с прошлым (прежде всего
с романтическим и постромантическим эстетизмом, с
концепцией самосбывающейся гениально-художнической
индивидуальности) оказываются куда более основательными, чем у Хайдеггера.
Это позволяет, с одной стороны, держаться «простого существа
дела» (проблем гуманитарной методологии, как они были
очерчены Г. Риккертом и В. Дильтеем), а с другой — четко зафиксировать
основной, этический изъян всей «философии жизни» — изъян,
который будет усугублен хайдеггерианством. Оригинальное
устремление M. M. Бахтина достаточно выразительно обрисовано следующей
его декларацией: «Жизнь может быть осознана только в конкретной
ответственности. Философия жизни может быть только
нравственной философией... Отпавшая от ответственности жизнь не может
иметь философии: она принципиально случайна и неукоренима...
она непроницаема для понимания»*. Бахтин выступает как за-
Бахтин M. M. К философии поступка // Философия и социология науки
и техники. Ежегодник 1984-1985. М., 1986. С. 124.
330
Э. Ю. Соловьев
щитник не просто самоосуществляющейся, судьбичной,
«историчной», но «долженствующей единственности»*. «То, что мною может
быть совершено, — пишет он, — никем и никогда совершено быть
не может. Единственность наличного бытия (по-немецки было бы
Dasein. — Э. С.) нудильно обязательна. Это факт моего неалиби
в бытии»**. И далее: «Моя единственность и дана, и задана: я есмь
действительный, незаменимый, и потому должен осуществить свою
единственность», таково «мое единственное долженствование с
моего единственного места в бытии»***.
То, что витебский мыслитель в данном случае просто
предвосхищает мыслителя фрайбургского, доказывать не приходится. Но
налицо еще и плодотворное отличие позиции Бахтина от позиции
Хайдеггера, а в более широком смысле — от всего подхода к
проблематике жизневоззрения, характерного для немецкой философской
мысли в первой трети XX столетия. С. С. Аверинцев пишет об этом
так: «Ключевые термины Бахтина — "событие", "событийность",
"поступок" — сходны... с гуссерлевским "переживанием",
имеющим, как известно, отнюдь не психологический смысл; отличаются
они тем, что вносят острую акцентировку проблемы
ответственности, которой в таком виде у Гуссерля нет. Здесь Бахтин — в высшей
степени русский мыслитель, продолжающий традицию
отечественной культуры XIX века. ...Мысль Бахтина кружит вокруг проблемы,
по существу своему нравственной...» ****
Подробный сравнительный анализ «Бытия и времени» М.
Хайдеггера и «К философии поступка» M. M. Бахтина не входит в мою
задачу. Замечу лишь, что автор «К философии поступка»
гораздо ближе к методологическим новациям современной
философской герменевтики, чем создатель «фундаментальной онтологии»,
на которую она ссылается как на свое ближайшее провозвестие.
И если бы работа «К философии поступка» увидела свет в 20-х годах
(а не в 1986 году, как это случилось на деле), то это, возможно,
повело бы к форсированному развитию всего герменевтического
направления в Западной Европе еще в предвоенный период.
Но что особенно важно для нашей темы, Бахтин находит именно
ту акцентировку проблемы понимания, которая позволяет
мыслителю XX века развивать традицию историзма в противовес истори-
цистским иллюзиям, унаследованным от XIX столетия. Это —
конкретно-временное понимание тождественно-единого для всех
* Бахтин M. M. К философии поступка. С. 113.
** Там же. С. 112.
" Там же. С. 113.
** Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. С. 157-
158.
Судьбическая историософия M. Хайдеггера
331
человеческих существ нравственного усилия; это преемственность
долженствования, сохраняемая в условиях осознанной
неповторимости индивидуального «здесь-бытия».
В западной философии такой подход к критике историцизма был
проведен Э. Гуссерлем. Корректируя вышеприведенное замечание
С. С. Аверинцева, надо заметить, что мыслитель этот в последних
своих работах с отчаянным упрямством подчеркивал именно
проблему моральной ответственности за удержание истории Запада
(его «событий» и «событийности») в колее европейской
цивилизованности.
€^
€^
А. В. АХУТИН
Dasein
(Материалы к толкованию)*
1.0 чем пойдет речь.
Слово das Dasein — одно из ключевых слов (понятий? терминов?)
философии М. Хайдеггера, может быть, и в самом деле ключ к ней.
Оно именует бытие человека. С первых страниц «Бытия и
времени» Хайдеггер несколько раз специально оговаривает, что словом
этим называется сущее, «которое мы сами всегда суть»**. Оно
прежде всего говорит что-то о человеке. Но, заметим сразу же, оно
именует человеческое бытие, поскольку в нем — в человеческом
бытии — в его средоточии — присутствует das Sein — само бытие,
поскольку в человеческом бытии усматривается путеводная нить
к смыслу самого бытия. Поскольку, иначе — и ближе к тексту —
говоря, экзистенциальная аналитика Dasein и образует фундамент
фундаментальной онтологии — основного философского замысла
Хайдеггера***. По меньшей мере сам труд «Бытие и время»
представлен как аналитическое раскрытие — почти подслушивание — того,
что с самого начала уже как будто говорит, подсказывает само это
слово — Dasein. Стало быть, от того, как мы поймем первые
определения этого начала, этого за-мысла Хайдеггеровской мысли, будет
зависеть и то, как мы поймем саму эту мысль во всех ее дальнейших
путях, распутьях, поворотах и тупиках.
Почему же избрано именно это слово? Что хочет сказать
Хайдеггер избранием этого слова? Что оно само хочет сказать и всегда уже
* Текст публикуется в авторском сокращении.
** Хайдеггер М. Бытие и время. Пер. В. В. Бибихина. M. Ad Marginem. 1997.
С. 7. См. также с. 11, 15, 41.
'** «Поэтому фундаментальную онтологию, из которой могут возникать все
другие, надо искать в экзистенциальной аналитике присутствия*.
(Хайдеггер М. Бытие и время. С. 13). Словом «присутствие» В. Бибихин
переводит хайдеггеровское Dasein.
Dasein (Материалы к толкованию)
333
говорит в немецкой речи, какими его подсказками хочет
воспользоваться мысль? Как нам расслышать это слово, чтобы с самого начала
верно понимать речь (текст) Хайдеггера? Есть ли в русском языке
слово, говорящее (подсказывающее) то же, что и das Dasein в
немецком? Что хотел нам, читателям, подсказать переводчик «Бытия
и времени» В. В. Бибихин, передавая это философски остраненное
Хайдеггером, но вообще-то говоря, вполне обиходное слово
немецкой речи русским словом присутствие, в котором вроде бы исчезло
всякое особое указание на бытие человека?
Задаваясь этими вопросами, я имею в виду далеко не только
технические трудности перевода. И уж подавно речь не идет о теме
какого-нибудь "хайдеггероведения". Поставленные вопросы имеют
для меня собственно философское значение, поскольку в том, что
именуется у Хайдеггера словом Dasein, сосредоточивается замысел
фундаментальной онтологии, а замысел этот представляется мне
столь же поворотным в философии, сколь был в свое время замысел
критической метафизики И. Канта*.
Отмечу несколько важнейших моментов, которые ставят это
слово-понятие в центр философского внимания.
(1) Хайдеггер приходит к Dasein на пути намечаемого им
возвращения философии к ее собственному первоначалу, а именно —
к первому вопросу первой философии (конститутивному вопросу
философии как таковой), к вопросу о бытии. Dasein и отмечает
(именует) у Хайдеггера философски искомую точку поворота, — ту
«естественную» и ближайшую для нас точку (das Da), которая лежит
в начале пути к началам самого бытия (das Sein). Причем, называя
(определяя) так существо человека, вроде бы не приходится как-то
дополнительно соотносить его с вопросом о бытии, обосновывать его
онтологический смысл, — оно само — бытие человека — уже и есть
слово о бытии (Da-Sein).
(2). Мы не случайно затрудняемся назвать это слово понятием
или термином, хотя в речи Хайдеггера Dasein, разумеется, и не
просто слово.
Здесь сказывается особый подход философа к слову вообще.
Смысл этого подхода, конечно, не в наивном этимологизировании,
не в расчете на истину, кроющуюся где-то в первобытных корнях
слова. Исконное стремление философии — первой философии —
мыслить и говорить о самом бытии (или о сущем в его бытийном
начале) — включает в себя требование мыслить изначально, как бы
* Нельзя не заметить значимый параллелизм экзистенциальной аналитики
des Daseins как условия возможности (фундамент) онтологии с
трансцендентальной аналитикой "чистого разума" как критических пролегомен
ко всякой возможной метафизике в замысле И. Канта.
334
А. В. Ахутин
впервые, с самого начала, говорить изначально, как бы первым,
изначальным, самоговорящим языком*.
У Хайдеггера это философское стремление принимает особый
оборот: он словно хочет дать слово самому бытию, вернуть слово
ему, чтобы нам быть только местом внимания и сказания (тем, где,
в чем, как сказывается — помимо наших намерений — само бытие).
Первичное, изначальное должно как-то говорить само за себя...
Вот почему Хайдеггер норовит говорить первыми словами —
будто бы самоговорящими, самопонимающими. Создается впечатление,
что истинное понятие-понимание содержит в себе само слово, т. е.
слово, не поскольку кто-то обращается с ним к кому-то (или к
самому себе), а поскольку оно может быть услышано как самоговорящее
или как прямое вещание (извещение) бытия. Хайдеггер стремится
развертывать речь своей мысли так, как если бы он прямо
подслушал эти речи у слова, заранее уже все в себе понимающего.
Соответственно, понять для него значит: свернуть речевую многосмыс-
ленность слова, его морфологических модификаций, разговорных
оборотов, фразеологизмов в одно самоговорящее слово, в слово
иероглиф. Так раскрываются им греческие logos и aletheia, немецкие
Dasein и Ereignis, так переосмысливаются, если не пересоздаются,
слова Gestell и Bedingniß... Это как бы уже и не слова из хайдегге-
ровского словаря, даже и не слова немецкого языка: это слова
некоего изначального пра-языка, который сам, видимо, стремится к из-
начальнейшему пра-слову. Ом!..
(3) Разумеется, дело тут не в каких-то поэтических пристрастиях
Хайдеггера. Сами эти пристрастия вызваны и затребованы сугубо
философским вниманием. И трудности, на которые мы тут
наталкиваемся, суть философские трудности.
В самом деле, понятия, выражающие философское начало
(например, «логос» Гераклита, платоновская «идея», аристотелевская
«энергия», «монада» Лейбница, «вещь в себе» Канта, гегелевский
«дух»...) — это все слова, как бы впервые услышанные, неслыханно
истолкованные, домысленные, даже выдуманные, сочиненные
философами (как само слово «философия»). Вместе с тем каждое такое
слово хочет быть понятием, имеющим общезначимое и однозначное
определение. И — снова вместе с тем — это первопонятие, понятие-
«...Философ берет на себя ответственность не только за то, что он впервые
начинает все мышление человечества, пробегая, так сказать "обратно" путь
до первого человека и начиная "мыслить впервые", философ берет на себя
ответственность за самое речение — за речь, за язык, он всегда стремится
обнаружить переход от обычных фразеологизмов к внутренней речи, к речи
на грани молчания ("дальше — тишина") и вместе с тем к речи,
предельно осмысленной... Философ не только мыслит заново, но и речь "начинает
впервые"» (Библер В. С. На гранях логики культуры. М., 1997. С. 72).
Dasein (Материалы к толкованию)
335
начало: ниоткуда уже не выводимое, ничем не определимое, — оно
хочет быть либо логической само-очевидностью, либо — само-говоря-
щим словом, словом, предельно естественным, словом самого
естества (бытия). В качестве слова, которым называется само бытие, оно
должно иметь характер единственного имени, собственного имени
бытия, — имени логического, как в классической метафизике, или —
как у Хайдеггера, — имени... ну, скажем, естественно-поэтического.
(4) Таким самоговорящим именем и хочет быть Dasein. Точнее —
Хайдеггер хочет. Не я, хочет сказать Хайдеггер, философ называю
так человека, человек сам так называет-ся, не замечая этого. Это
не понятие моей фундаментальной онтологии, фундаментальная
онтология вся в целом и без меня уже понята этим словом,
содержится в нем.
Ясно, впрочем, что так услышанное слово предполагает
соответствующий слух. Такое начальное, ключевое, самоговорящее и даже,
кажется, самодумающее слово надо ведь сначала найти, дать ему
возможность говорить то, что оно, может быть, и в самом деле
способно подсказать, дать помыслить то, что им всегда уже понято.
Иначе говоря, слово оказывается вещим и мыслящим
(определенным образом), благодаря той самой мысли, которая (определенным
образом) делает его своим началом. Со времен Гераклита и Парме-
нида философия рождалась и кружилась в этом заколдованном
круге, в таинственном хороводе: слово — речь — мысль — бытие —
человек, — и философия Хайдеггера, на свой лад и слух включается
в этот герменевтический хоровод.
(5) Вопросы, на которые мы натолкнулись, поставив на
обсуждение слово Dasein, ставят нас в средоточие весьма сложных
взаимоотношений между словом, мыслью и бытием. Слово Dasein у
Хайдеггера именует человека в качестве этого средоточия.
Но что здесь от слова, а что все же от понятия,
предположенного философом Хайдеггером толкованию слова? Не оспаривает ли
слово такого толкования? С другой стороны, не таит ли толкование,
прикинувшееся словом, свойственных слову двусмыслиц? Что, если
нам не только внимать речи Хайдеггера, но, по его же совету,
прислушаться повнимательней к самому слову в его родной словесной,
речевой, литературной стихии? Можно видеть в слове das Dasein как
самоговорящем имени человеческого бытия удачную находку
внимательного слушателя языка, можно видеть здесь и умышленную
выдумку философа М. Хайдеггера. Как бы там ни было, это, во-первых,
обиходнейшее слово немецкого языка, как повседневного, так и
поэтического, со всем многообразием значений и смысловых оттенков.
Мы, во-вторых, найдем обычное использование этого слова и в
текстах самого Хайдеггера (в ранних лекционных курсах, в переводах
336
А. В. Ахутин
греческих слов, в письмах). В-третьих, это слово уже не раз служило
термином в немецкой философии. Наконец, это слово, которое
нужно как-то передать по-русски, перевести его в стихию русского языка,
соотнести с соответствующими словообразованиями русского языка.
Уже поставленные вопросы позволяют заметить возможность
иного, чем у Хайдеггера, подхода к загадке слово—мысль—бытие-
человек. Упрощая, как во всякой типологизации, можно отнести
философию языка Хайдеггера к традиции философии имени*. Можно
вместе с ней сказать, что умопостижение, обладающее поэтическим
слухом, ищет здесь слово-понятие как собственное имя "вещи",
содержащее полный смысл ее бытия, — или, по Хайдеггеру, понять
слово как высказывание, выказывание, выявление бытия. Но ведь
слово-высказывание обращено к другому (или во внутренней речи к себе
как другому), оно сообщает моеу а не просто приобщает к общему**.
Тогда каждый высказываемый смысл бытия (если речь идет об этом)
окажется только толкованием, обращенным с вопросом к другому
возможному толкованию. Глубина слова-понятия откроется не как
тайный корень, достигающий бытия, а как внутренняя речь, в
которой высказываются возможные толки-смыслы бытия. Можно сказать
в манере Хайдеггера: слово сказывает (выявляет) не именно бытие,
а словно бытие, бытие-в-смысле. Слово (имя) условно не потому,
что это произвольный знак, назначенный людьми вещам, а потому,
что возможно бытие в другом смысле. Слово вы(с)казывает бытие,
поскольку само бытие отвечает слову в смысле. При таком подходе
диалог разных слов-толкований, претендующих на первичное
понимание, изначальнее того собирания, сведения разных смыслов
воедино, которым занимается Хайдеггер. Возвращая слово Dasein
в стихию языка, мы надеемся уловить такого рода разнотолки,
напряжения, значимые также и для хайдеггеровской мысли.
2. Вопрос перевода
Во всяком случае, нам не избежать разномыслия,
глубинного расхождения именно там, где все, кажется, идет к предельному
* Она поэтому должна быть близка поэтике и философии русского
символизма. См., например, раздел «Мысль и язык» в работе П. А. Флоренского
*У водоразделов мысли». См.: Флоренский П. А. Сочинения в двух томах.
Т. 2. М., 1990. С. 109-340.
** Этот подход глубже всего развит в философской поэтике M. M. Бахтина,
который, впрочем, как раз философско-логическое и поэтическое слово
слышит как исключительно монологическое. Собственно в философии
диалогическая природа слова, понятия, мысли глубоко и последовательно
продумана в трудах В. С. Библера. Диалогической онто-логике В. С. Библера
и я пытаюсь следовать.
Dasein (Материалы к толкованию)
337
схождению (в самом бытии), поскольку нам не избежать проблемы
перевода. Ведь переводчик ищет слова, фразы, обороты, пытаясь
расслышать в иноязычном тексте то, «о чем идет речь», чтобы
оттуда же (о том же) повести речь на своем языке. Но ведь
определенность и сама возможность бытия этого «о чем» и стоит под вопросом
онто-логии. Что, если «то, о чем» не просто сказывается
по-разному, но и оказывается разным, сказываясь разными языками?
По известной поговорке Хайдеггера, «Язык — дом бытия»*.
Язык утверждается здесь в качестве того, что как будто и хочет
сказать слово Dasein: место обитания, раскрытия бытия. Сам язык
входит, оказывается, в суть того, что мы хотим перевести с языка
на язык, а переводом этим затрагивается ни больше ни меньше как
смысл самого бытия и, соответственно, все наше (человеческое)
бытие. Перевод — это переселение в другой дом.
Итак, местом (Da) присутствия бытия (Sein) — то есть
собственно Dasein — оказывается сам язык. Но какой именно язык? Надо
полагать, каждый. Хайдеггер, правда, наделяет философскими
полномочиями два — греческий и немецкий. Нас, конечно, не
затруднит присоединить сюда также и русский, который ведь может
похвастать гораздо более прямым родством с греческим, чем даже
немецкий. Если же не увлекаться хвастливым самоутверждением,
тут есть о чем подумать. Тем более что буквально с первого слова,
а именно со слова Dasein немецкий язык Хайдеггера задает
загадку русскому. Мы не находим в русском языке аналога,
лексического соответствия этому немецкому слову. Хайдеггер опирается здесь
не (только) на логику понятия, способную оправдать строгим
определением любой неологизм, но (и) на живой логос немецкого языка,
в котором слово Dasein издавна ведет нормальную жизнь**.
Как же быть, спрашиваем мы, — что же это значит, должны мы
спросить. Неужели в доме русского языка бытию (das Sein) не
удается сказаться именно там (Da), где оно — по прямой подсказке
немецкого языка — находится и сказывается (Dasein)? Может быть, в доме
нашего языка мы встречаемся с бытием как-то иначе или
встречаемся с бытием в каком-то ином смысле, чем Хайдеггер — в немецком?
Следует ли нам говорить о самобытном русском Dasein, подобно тому
как Хайдеггер говорит в беседе с профессором из Японии о «восточ-
* См. «Письмо о гуманизме». Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и
выступления / Пер. В. В. Бибихина. М.: Республика, 1993. С. 192. ().
** В смысле Anwesenheit, zugegen sein — присутствие, быть (находиться)
при чем-то — отмечено с XIII в., стало обычным с XVII в. Как перевод
латинского Existenz (существование) — с начала XVIII в., со временем
приближаясь в употреблении к слову das Leben — жизнь. См.: Etymologisches
Wörterbuch des Deutschen. Akademie-Verlag. Berlin, 1989. Bd. 1 (A—G).
S. 257.
338
А. В. Ахутин
ноазиатском Dasein» в его отличии от «европейского Dasein»*.
Должны ли мы различить по духу также и европейские языки в качестве
особых домов (Da) бытия (Sein), т. е. особых «Dasein»? Где же здесь
предел индивидуации Dasein? Не строит ли — вправе мы спросить —
каждый мыслитель и поэт свою языковую вселенную, свой дом
бытия, свой собственный Dasein? Как же соотносятся эти само-бытные
(языковые) дома—миры—монады друг с другом и с самим бытием,
дать место — или слово — которому они вроде бы и были призваны?
Вынуждены ли мы быть заперты в собственных домах со своим
бытием, закрыв уши от вызова возможных других своих бытии, а
главное — от вызова самого бытия? А если нет, следует ли нам
рассчитывать на отыскание какого-то общего (обобщенного? усредненного?
бездомного? безличного? ничейного?) языка? Возможен ли «перед
лицом бытия с его вызовом <...> диалог между домами»**?
Возможно ли общение, в котором общающиеся не обобщаются в
безразличной общности некоего бытия вообще, а, напротив, именно благодаря
онтологическому (до смысла бытия достигающему) различию
сообщают друг другу фундаментальную загадку бытия?
Как бы ни отвечать на эти вопросы, они неизбежно встают и
требуют внимания, если мы беремся переводить тексты Хайдеггера.
Или мы ищем эквиваленты, и тогда уже ответили на поставленные
вопросы, причем вовсе не в хайдеггеровском духе, — чем более
эквивалентно, тем более неверно. Или мы с первых слов втягиваемся
в разговор, в диалог с Хайдеггером (и с немецким языком), причем
в диалог, по сути, философского дела, а не по лексическим
околичностям. Перевод философа невозможен без софилософствования,
а перевод Хайдеггера и подавно.
3. Подсказки языка
Начнем просто со словарей. Мы сразу же найдем два
существенно различных семантических поля: одно, связанное с исходным
словосочетанием, используемым в качестве именного
сказуемого, — (etwas) ist da, другое — с самим Dasein кай (1) результатом
субстантивации этого выражения и (2) переводом латинского слова
existentia.
В словарях*** находим примеры простейших выражений с этим
сказуемым, составленным из наречия da — там, тут, здесь и глаго-
* Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Tübingen; Neske, 1971. S. 87. См. рус.
пер. В. В. Бибихина: Хайдеггер М. Время и бытие. С. 274.
** Там же. С. 275.
*** Павловский И. Я. Немецко-русский словарь. 4-е изд. Riga; Leipzig, 1911.
Deutsch-Russisches Wörterbuch. In Enderfassung erarbeitet von einem
Dasein (Материалы к толкованию)
339
ла sein — быть (в соответствующем лице): wer ist da? — кто там?;
da bin ich — вот я; er ist da —он пришел; keiner ist da — никого
нет. Глагол dasein означает быть в смысле быть налицо,
присутствовать, наступать, пребывать. Например, в таких
выражениях: es ist genug von etw. da — имеется достаточно чего-ниб.,
хватает; der Zug ist schon da — поезд уже прибыл; der Frühling ist
da — весна наступила; das ist alles schon einmal dagewesen — все
это уже когда-то было; (с соответствующим отглагольным
прилагательным) nie dagewesene Ereignisse — небывалое событие.
Выражение nicht dasein означает быть невнимательным, рассеянным
(например, риторический вопрос-восклицание he, du bist wohl nicht
ganz da? можно перевести: эй, где ты витаешь?).
Если понимать das Dasein как субстантивацию этого глагольного
выражения, то оно и будет означать преимущественно присутствие,
наличие, или бытие (чего-либо) в смысле наставшего, настоящего
(как мы говорим «(есть) весна\* в смысле «весна настала, весна
пришла»). Но почему и в каком смысле оно может именовать сущее,
«которое мы сами всегда суть», на первый взгляд не видно.
Кое-какой намек дает, пожалуй, только последнее из приведенных нами
выражений, означающее отсутствовать в смысле не внимать
(слушая, не слышать, глядя, не видеть, — не сознавать, не
воспринимать то, что происходит).
Словарное значение существительного das Dasein, однако,
скорее связано с латинским existentia. Dasein оказывается
синонимичным таким словам, как Leben — жизнь и Existenz —
существование (опять-таки в смысле жизни). Человек может ein elendes Dasein
fristen — влачить жалкое существование; nach einem besseren
Dasein streben — стремиться к лучшему существованию; sein
Dasein beschließen — умереть; он может испытывать Dasiens-
angst — страх перед жизнью или Daseinsfreude — радость жизни;
он имеет то или иное Daseinsgefuhl — жизнеощущение.
Дарвиновская формула struggle for life была переведена на немецкий
выражением Daseinskampf. Здесь, как видим, слово Dasein
недвусмысленно именует именно человеческую жизнь, человека в его жизни,
человека как определенный способ существования. И только в таких
выражениях, как Beweis vom Dasein Gottes — доказательство
бытия Божия, мы вспоминаем о первой, «глагольной» группе
значений.
Кажется, что именно это последнее значение слова подсказывает
Хайдеггеру экзистенциальное имя человека. И в русском языке мы
Autorenkollektiv unter der Leitung von Ronald Lötzsch. Bd. 1-3. Akademie-
Verlag Berlin. 1987. Немецко-русский фразеологический словарь / Сост.
Л. Э. Бинович и Н. Н. Гришин. Изд-во «Русский язык». М., 1987.
340
А. В. Ахутин
находим простой и вроде бы вполне подходящий эквивалент. Если
не ошибаюсь, первой на эту возможность перевода Dasein обратила
внимание замечательный философ и филолог Т. В. Васильева, перу
которой принадлежит несколько проникновенных переводов
текстов Хайдеггера. Т. Васильева говорит об этом в эссе «Оглянись в
недоумении». «Немецкое слово состоит из Da и sein, — пишет здесь
Т. Васильева, — но это нормальное немецкое слово, и переводить
его ненормальными русскими "здесь-бытие", "вот-бытие" — это
акты и жесты переводческого отчаяния, но никак не плоды зрелого
размышления, тем менее — недоуменно оглядывающегося
ученичества. <...> Все, что говорит и мыслит Хайдеггер за, под и над словом
Dasein, остается укорененным в его отечественном "ist da". Русское
слово "бытиё" (именно так "бытиё", а не профессионально
ограниченное "бытие") имеет наследство и наследственность не меньшие,
чем немецкое Dasein. Хотелось бы надеяться, что к этому русская
Хайдеггериана придет в конце концов и на этом слове успокоится...
При этом и за этот счет, не будет тусклым главное слово хайдегге-
ровского философствования: человеческое бытиё, осознающее свою
временную ограниченность, свою жизненную полноту как просвет
между ничто происхождения и ничто ухода, как открытость всей
совместной и совместимой с ним жизни:
...Но я живу и на земле моё
Кому-нибудь любезно бытиё (1828).
Если бы Хайдеггер знал это стихотворение Ев. Баратынского
(это у него же: "И славит все существованья сладость"), он
непременно бы оставил собственноручное завещание: Dasein — это бытиё,
мыслимое по-русски»*.
4. Подсказки русской поэзии
В самом деле, русская поэзия полна этим «бытиём», и столь
близко оно по смыслу слову Dasein в немецкой поэзии, что если не
Хайдеггер, то любой немецкий поэт мог бы сказать так: Dasein — это
бытиё, мыслимое по-русски. Вот еще несколько характерных
примеров. «...Где чистый пламень пожирает / Несовершенства бытия,
/ Минутной жизни впечатленья»; «В те дни, когда мне были новы /
Все впечатленья бытия»; «упоенья бытия»; «...И каждый час уносит
/ Частицу бытия» (Пушкин); «Когда еще я не пил слез из чаши
бытия» (Дельвиг); «Что же тоска нам сердце гложет, / Что мы пытаем
Васильева Т. В. Комментарии к курсу истории античной философии:
Пособие для студентов. М., 2002. С. 325.
Dasein (Материалы к толкованию)
341
бытие» (Я. Полонский); «Но я желал бы всей душою / В стихе
таинственно-живом / Жить заодно с моей страною / Сердечной песни
бытием!» (К. К. Случевский)...
Извлекая подобные общепоэтические обороты (пожалуй, даже
штампы) из полноценных стихов, мы делаем наше тощее
обобщение: бытиё — это человеческая жизнь, переживаемая как целостное
самозначимое событие. Этот смысл замечательно передан
знаменитыми строчками Б. Пастернака:
...Где я не получаю сдачу
Разменным бытом с бытия...
Мы узнаем этот поэтический образ: бытиё, которое, конечно, есть
всегда наше бытиё, жизнь как случившееся с нами событие, событие
жизни со всеми ее впечатлениями, с ее упоеньями и горечью,
хладом и жаром, тяжестью, радостью, загадочностью, милыми
привычками и упоительно-пугающими безднами... Жизнь, которой человек
всегда целиком захвачен, и — вместе с тем — жизнь, с которой он —
в каждый ее захватывающий момент и во всей ее завершенности —
тем не менее как-то не совпадает. Но не будем забегать вперед.
Заметим лишь еще, что с таким бытиём (от сказочного «жили-были»
до простенького «житьё-бытьё») мы встречаемся в поэзии, что это
поэтически, даже лирически переживаемое бытие. И стало быть,
именно такое — лирическое — Dasein-бытиё ставится Хайдеггером
в средоточие философской онтологии, полагается в ее фундамент.
5. Бытиё и жизнь
Со времен романтизма философская интуиция не раз и
по-разному хотела поставить саму жизнь во главу угла метафизических
построений, на место таких понятий, как Бог, Природа, Я, Дух,
Субъект. Сюда собирались все иррациональные остатки, которые
выносил за скобки своей рациональности естественно-научный
позитивизм. В истоках хайдеггеровского Dasein (а значит, и в истоках
всей фундаментальной онтологии) также лежит особый вариант
философии жизни, а именно — философия В. Дильтея. Самым общим
понятием как философии жизни Дильтея, так и феноменологии
Гуссерля можно считать понятие «жизненного мира» (Lebenswelt)*.
В мире как мире нашей жизни не только люди, но и вещи не
являются безразличными объектами, каковыми их пред-полагает наука
в качестве возможных предметов своего объективного исследования.
* С этим понятием непосредственно связан хайдеггеровский экзистенциал
♦бытие-в-мире».
342
А, В. Ахутин
В горизонте жизненного мира вещи приобретают иные значимости,
иные предикаты. Они будут любимыми, ненавистными,
счастливыми, страшными, обнадеживающими, угнетающими и т. д. Они
могут расширять размах моего бытия (Dasein), умножать мои
жизненные силы или, напротив, теснить мое бытие, ослаблять
жизненную энергию*. Перед нами мир как поприще, арена, пространство
(Spielraum) и сила, интенсивность, собранность. Тут мы можем
уловить, в каком смысле можно присутствовать бытиём в бытии или
отсутствовать, оставаясь существующим.
Вопрос теперь в том, как соотносится фантазия, видение,
понимание, язык лирического поэта, во-первых, с тем бытиём, которое
он переживает, во-вторых, с тем пониманием, которым хочет понять
это бытиё философ. И этот вопрос также ставит перед нами Dasein.
6. Бытиё как поэма
Судя по всему, то обстоятельство, что опыт понимания Dasein
русским словом бытиё ввел нас в мир поэзии, вовсе не случайно,
и нам следует отнестись к нему внимательней, не просто пользуясь
стихами как источником примеров.
Мы начали толковать бытиё (которым по совету исследователя,
равно чуткого и к языку и к мысли, перевели немецкое Dasein),
перебирая поэтические тексты. Русское слово бытиё и правда сразу же
вводит нас в поэтическую стихию, в повседневной же речи
встречается гораздо реже (да и то в стилистике нарочитого поэтизма), чем
Dasein — в немецкой речи. Нам понадобилось бы что-нибудь, вроде
"существования", чтобы в этом смысле соответствовать Dasein. Мы
начали с поэтического языка, но не вполне. Вытянув из ткани
стиха строчки, содержащие бытиё, мы, собственно, свели поэтическую
речь (соответственно, и смысл) к повседневной. Если же мы примем
во внимание бытиё самих стихотворений, из которых выдернуты
процитированные выше строчки, оно, может быть, подскажет нам
нечто большее, чем говорили строчки.
Стихотворение Е. Баратынского, строки которого привела
Т. В. Васильева, полностью звучит так:
Мой дар убог, и голос мой негромок,
Но я живу, и на земле моё
Кому-нибудь любезно бытиё.
Его найдет далекий мой потомок
* См., например: DiltheyW. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den
Geisteswissenschaften. Gesammelte Schriften. Bd. VII. Stuttgart; Göttingen,
1973. S.131-134.
Dasein (Материалы к толкованию)
343
В моих стихах. Как знать, душа моя
С его душой окажется в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Поэт подсказывает нам, что бытиё, переживаемое — и
понимаемое — во всей его поэтической полноте, вовсе не сливается с
непосредственно переживаемой жизнью. Оно — само бытиё, а не рассказ
о нем — может быть как-то запечатано в слово стиха и отправлено
далекому и неведомому читателю-собеседнику. <...> В стихах
поэта мы, далекие потомки, находим единственный — личный — опыт
самого бытия (моё бытиё), а не прихотливое сообщение о
переживаниях, всем и так известных <...>. Переживания прожиты, но
бытие — не некое вообще-ничье-бытие, а именно мое со-общенное
бытие — запечатанное в слове, есть, соприсутствует с нами, оно,
сказали бы мы по-немецки, ist da. Но и мы, отдаленные потомки,
уже как-то соприсутствуем с поэтом, который смотрит на свое
бытиё из нашей дали, «как души смотрят с высоты / На ими
брошенное тело» (Тютчев). В поэтическом слове сказывается это
соприсутствие человека с его собственным бытием и со всем, что складывает
событие этого бытия. Все захватывающее само схватывается
поэтическим словом, возвращается из жизненного действия в замкнутое
в себе бытие.
Мы замечаем, таким образом, важное смысловое различие слов,
казавшихся пока почти синонимами: бытиё и жизнь. Человек
может быть поглощен жизнью, вовлечен в ее влечения, захвачен ее
потребностями, подавлен ее нуждами, пронизан ее инстинктами, —
со всех сторон подвержен действиям ее неведомых и неодолимых
сил. Но все эти силы, потоки, тяги и влечения обращаются миром
бытия, поскольку человек не только захватывается ими, но с ними
со-присутствует, со-бытийствует. Жизнь свою человек —
говорящий, именующий, определяющий, судящий, поющий,
живописующий, строящий — не просто проживает как любое живое существо...
он переживает по-человечески, поскольку, переживая, также и
присутствует при переживании. Поэзия — одна из высших форм
присутствия духа...
Сокровенное присутствие понимающего и ищущего со-понима-
ния слова в средоточии человеческого бытия, изначальное
поэтическое стремление поведать, сказаться («Кому повем печаль мою?»;
«О если б в единое слово...» ; «О если б без слов сказаться душой было
можно...») и превращает жизнь в бытиё. Внутри жизни
проживаемая и переживаемая жизнь живого никак не соразмеряется с тем,
как присутствует при своем существовании (не совпадая, значит,
344
А. В. Ахутин
с ним) человек. Это существование в присутствии, во внимании,
перед лицом другого, — далеко вне переживаемой жизни обитающего,
возможного другого, со-беседника, со-бытийника... Поэтому бытиё
изначально и, может быть, неведомо для самого человека
складывается как повесть о себе далекому неведомому другу, как исповедь,
как поэма. Так оно обретает черты судьбы, жития, биографии —
бытия, сложенного в слове...
Хайдеггер говорит: не жизнь, а жительство (das Wohnen),
заботливо ухаживающее устроение мира как жилья, соразмерного
человеку, — такова определяющая черта человеческого бытия (Dasein).
Но само это жительство коренится в поэтическом, там, где человек
обретает собственную меру. Этой теме Хайдеггер посвятил один
из докладов 1951 г. В основе доклада разбор стихотворения Гёль-
дерлина, строчкой из которого доклад был назван: «... dichterisch
wohnet der Mensch...» — «...поэтически жительствует человек...»*.
7. Подсказка Э. Мерике
К сожалению, те несколько мест из немецких поэтов, где мне
случилось отыскать слово Dasein, не дают ничего нового по
сравнению с тем, что нам уже знакомо. Это общие поэтические места.
За одним счастливым исключением. У Эдуарда Мерике (1804-1875)
мне повезло напасть на стихотворение, которое называется
«Оглядка» <...>. Судя по расположению в издании, которое было у меня
в руках**, это позднее стихотворение. Швабский поэт делает здесь
само Dasein (бытиё человека) темой поэтического размышления.
Приведу это стихотворение полностью вместе с переводом, который
я осмелился набросать, чтобы передать медитативный ритм стиха.
Ruckblick
Bei jeder Wendung deiner Lebensbahn
Auch wenn sie glückverhei?end sich erweitert,
Und du vrlierst, um Grö?tes zu gewinnen,
— Betroffen stehst du plötzlich still, den Blick
Gedankenvoll auf das Vergangne heftend;
Die Wehmut lehnt an deine Schulter sich
Und wiederholt in deiner Seele dir
Wie lieblich alles war, und das es nun
Damit vorbei auf immer sei! — auf immer.
* Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. Neske. Pfullingen. T. II. S. 61-78.
** Eduard Mörike's sämtliche Werke in vier Bande. Adolf Willdorf. Stuttgart;
Berlin.
Dasein (Материалы к толкованию)
345
Ja, libes Kind, und dir sei unverhohlen:
Was vor dir liegt von künst'gem Jugendglück,
Die Spanne mi?t es einer Mädchenhand.
Doch also ward des Lebens Ordnung uns
Gesetzt von Gott; den schreckt sie nimmermehr,
Der einmal recht in seinem Geist gefaßt,
Was unser Dasein soll. Du freue dich,
Gehabter Freude; andre Freude folgen,
Den Ernst begleitend; dieser aber sei
Der Kern und sei die Mitte deines Glücks.
Оглядка
Когда твой путь выходит на простор,
И счастье ждет за ближним поворотом,
И все потери мнятся пустяком, —
— Внезапно взор приковывает твой
Прошедшее, и ты стоишь в смущеньи,
На плечи грусть тяжелая ложится
И голос в сердце тихо повторяет:
Со всем, что так любимо было, ныне
Ты навсегда простишься, — навсегда.
Не обманись же, милый мой, — и горстка
Всего, что юность сладкая сулит,
Едва наполнит девичью ладонь.
Таков закон, что нашей жизни дан
От Бога. Он не устрашит того,
Кто духом глубоко уразумел
Суть нашего земного бытия.
Есть радость безоглядная, за ней
Приходит радость зрячая: серьезность;
Так пусть она твоим началом будет
И бьется сердцем счастья твоего.
То, о чем мы только что говорили (я выделил курсивом
тематическую фразу), составляет едва ли не сюжет этого стихотворения.
Для понимания бытия человека (его определенности, его
назначения — Was soll das Dasein?) значима возможность оглядки, взгляда
вспять (или со стороны): прощание с тем, что наполняло жизнь
бытием и что навсегда отбывает сейчас в бывшее. Печаль, как некий друг
опираясь на наше плечо, говорит с нами. Она приводит нам на память
наше бытиё как бывшее, отбывшее. В этой печали мы уже не захва-
346
А. В. Ахутин
чены чувством, которое вспоминаем, но оно, как видим, и не
утрачивает способность волновать. Только волнует оно теперь иначе
и существует иным бытием — бытием лирической памяти, рассказа,
стиха (вспомним пушкинское: «Ушла любовь, явилась Муза»). Уйдя
из жизни, наше отбывшее бытиё преобразилось в память и мысль. Эта
мысль сама теперь входит в средоточие жизни, из оглядки вырастает
вглядывание («пусть не укроется от тебя»). Мы уже не
оглядываемся вспять, а вглядываемся в ближайшее будущее, находясь как бы
в междувременье. Мы обретаем — или открываем — это вглядывание
как определяющую черту нашей жизни. Так оглядывающаяся,
вспоминающая печаль обращается серьезностью настоящего бытия.
Серьезность: возможность внутренней отстраненности от
непосредственно переживаемой жизни со всеми впечатлениями,
привычками, радостями, страданиями, которыми она
ежеминутно захватывает и поглощает нас. Эта серьезность не отстраняется
от жизни с ее переживаниями в какое-то безжизненное
размышление о жизни. Обретаясь, напротив, в средоточии (в ядре, в сердце)
жизни (счастья, горя, любви, смерти...), она и преобразует жизнь
в бытиё. Открыть присутствие нашего видящего, слышащего,
говорящего, сознающего, мыслящего присутствия в средоточии
нашего существования и значит схватить духом суть нашего бытия: мы
не просто существуем (=живем), мы присутствуем при
существовании. И это присутствие делает существование бытиём всерьез.
Проводя свои изыскания в преддверии того анализа Dasein,
который носит имя «Бытие и время», не упустим отметить и еще один
мотив стихотворения Э. Мерике — мотив времени. Жизнь
осмыслена здесь вне непрерывно текущего времени, она складывается
в эпохальные события, завершенные в себе, имеющие определенный
объем. Ты внезапно останавливаешься и, оглянувшись, замечаешь
бывшее не как череду случавшегося с тобой, а как единое, цельное,
обозримое событие, как целостное (все) бытиё, завершенное в себе
как раз этой оглядкой. Боль окончательной разлуки знаменует
окончательность сбывшейся теперь эпохи: детства. Вместе с этим
узнаванием ты узнаешь, что таково устройство нашего бытия вообще, что
всякая эпоха, — как предстоящая юность (и пробудившаяся вместе
с этим узнаванием зрелость) — складывается как законченное в себе
событие твоего бытия, в само средоточие которого заранее заложена
разлука, — складывающая, вымеряющая события бытия смерть.
Стоит обратить особое внимание на точку, в которой «стоит»
само стихотворение. Голос автора смешивается с голосом печали,
зазвучвшим в душе героя в момент внезапной оглядки, заставившей
его остановиться. Словно мудрый старец, опирающийся — вместе
с печалью — на плечи юного героя, автор продолжает речь, оки-
Dasein (Материалы к толкованию)
347
дывая тем же взглядом с того же рубежа все бытие. Этот рубеж, это
место, с которого открывается устройство человеческого бытия,
находится как бы вне эпохальных бытии, вне бытия. Отсюда они
расходятся, но здесь же и сходятся, могут сойтись в некоем со-бытии.
8. Dasein как категория немецкой философии
9. На путях М. Хайдеггера
9.1. Нетематическое Dasein
<...> Обыденный язык, поэзия и — что особо важно для нас —
философия пробудили в нем, связали с ним мощные, разноречивые
и противоречивые смысловые тяги. Прежде всего — два
существенно разных семантических поля: одно связано с существительным,
образованным от глагола со значением присутствовать, прибыть,
настать, сопряженные с отсутствовать, забыть, завершиться;
другое — с переводом латинского existentia, обремененного всеми
схоластическими отголосками. Dasein-существование (почти
синонимически близкое к die Existenz), в свою очередь, имеет очень
широкий семантический диапазон: оно может означать простое
наличное бытие вещи, бытие Бога или существование-жизнь (das Leben)
человека (бытиё)... Это последнее — поначалу в самом деле
ведущее для Хайдеггера значение — само отличается
многозначительным расхождением смысловых интенций. В частности: (1) смысл
предельной индивидуации, индивидуации лирически, интимно
проникновенной (моё бытиё, всё моё бытиё*, моё единственно-
одинокое бытиё, даже особое я-бытиё возраста: детства, юности...)
неприметно сливается со смыслом бытия, эпически, как судьба,
вершащаяся с человеком, с людьми («unseres Dasein*, «чаша бытия*,
«хлад бытия*, «что ты пытаешь бытие?*), с народами в их
историческом бытии; (2) смысл бытия как целостного, единственного
события жизни — всегда моей — сплетается со смыслом бытия как
общечеловеческого жизненного поприща, взятого в его типичных
чертах и возможностях (можно говорить, например, о « Dasein
повседневности, обыденности»); (3) оно — бытиё — подразумевает
некую несказуемость, смысловую неисчерпаемость, тайну, молчание,
но вместе с тем глухое переживание жизни складывается в
осмысленное бытие как поэма, в слове, обращенном к другому как со-у-
частнику, со-общнику, со-ответчику в деле о бытии...
Так, Н. Гумилёв в стихотворении «Завещание», как бы провидя
собственный погребальный костер, говорит: «...Снова вспыхнет моё бытиё...»
348
А. В. Ахутин
Когда Хайдеггер говорит о Dasein еще не тематически, он
обнаруживает в речи эту обыденную многосмысленность. Возьмем для
примера его лекции о платоновском «Софисте», читанные им в Мар-
бурге зимним семестром 1924/25 гг. Вот несколько фраз,
содержащих разные смыслы слова Dasein, которое мы оставим без перевода.
«В "Софисте" Платон рассматривает человеческое Dasein в одной
из его наиболее крайних возможностей, а именно в философской
экзистенции»*. «Сначала сущее берется совершенно неопределенно,
а именно как сущее мира, в котором существует Dasein, и как сущее
самого Daseins***. Dasein здесь хотя и определяется
дополнительно как человеческое, но и без этого определения именует, кажется,
исключительно человеческое бытие (о котором можно, например,
сказать также и «повседневное Dasein»***). Но вот, без каких-либо
дальнейших уточнений Хайдеггер может сказать: «Прозрачность
греческой философии обретена, стало быть, не в так называемой
ясности греческого Dasein, как если бы она была дарована грекам
во сне»****. Классицистский оборот, который, видимо, подразумевает
тут Хайдеггер, предполагал бы на месте Dasein что-нибудь, вроде
«духа» или «мироощущения». Субъектом этого Dasein оказывается
уже не просто человек, но некая историческая общность. Речь идет
об особом опыте бытия, свойственном народу или эпохе.
Хайдеггер интерпретирует в этих лекциях Аристотеля и
Платона. Какие же из греческих понятий он передает словом Dasein?
Поначалу Хайдеггер долго занимается разбором тех глав 6-й
книги «Никомаховой этики», где Аристотель рассматривает способы
«истинствования» (aletheuein), свойственные человеческой душе
(psyche). Именно psyche Хайдеггер переводит здесь словом Dasein.
Душа, поясняет он, то есть бытие человека... Немного ниже
Хайдеггер изменяет акцент: «Незакрытость уделяется вещи не
поскольку она есть, а поскольку она встречается, поскольку она есть
предмет некоего обихода. Поэтому бытие несокрытости есть
специфическое проявление des Daseins, которое имеет свое бытие в душе... » *****
Иными словами, душа понимается здесь уже не просто как Dasein
человека, но как бытийное средоточие этого «бытия*, благодаря
которому, в котором человеческое бытиё так или иначе истинствует:
встречается с открывающимся ему бытием сущего. Dasein именует
характер существования человека, бытие которого сосредоточено
* Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 19. Platon: Sophist.
Frankfurt am Main, 1992. S. 12.
" Ibid. S. 13.
'* См.: Ibid. S. 16.
№ Ibid.
** Ibid. S. 24-25.
Dasein (Материалы к толкованию)
349
в душе и который может вести правильную или неправильную жизнь
(бытиё).
Всякая подсказка опасна, и семантическая неопределенность,
своего рода безличная амбивалентность этого «бытия», целиком
присутствующего здесь и сейчас, может сказаться неожиданным
образом. Мы уже замечали, сколь естественно, например, выражение
греческое Dasein, европейское Dasein... Не в ректорскей речи 1933 г.,
а в ноябре 1918 г. Хайдеггер пишет Элизабет Блохманн: «Как в
самом деле жизнь вообще сложится после конца войны, который
должен скоро наступить и в котором наше единственное спасение,
неясно. Безусловно и неколебимо требование, предъявляемое истинно
духовному человеку, именно теперь не расслабляться, но со всей
решимостью взять на себя руководство народом (eine entschlossene
Führung an die Hand zu nehmen), чтобы воспитать его в духе
правдивости и настоящего уважения к настоящим благам бытия (des
Daseins)»*. Слово (письма пишут словами, а не терминами)
допускает тот смысл, что быть — в смысле: жить, осуществлять себя,
обходиться со своим бытием, вести своё бытиё, осмысленное
определенным единым образом (по-настоящему), — может целый народ
(ведомый, разумеется, духовным вождем).
Между тем, определяя тему аналитики Dasein в § 9 «Бытия и
времени» , Хайдеггер пишет: «Сущее, анализ которого стоит как задача,
это всегда мы сами. Бытие этого сущего всегда мое»**. Позже на
полях рукописи замечает, уточняя слова «мы сами»: «...всякий раз
"я"» ***. Лекции, которые Хайдеггер читал во Фрайбурге в 1929/30 гг.,
изданы под общим названием «Основные понятия метафизики».
В подзаголовке эти основные понятия перечислены: Мир —
Конечность — Уединенность****. Dasein, человеческое бытиё, способное
открыться к миру <...> тем же самым движением сосредоточивается
вединственности(отд>елъности,уединенности*****,одиночестве),сво-
ей одинокостью соразмерной единственности бытия как всегда моего
бытия. «Конечность существует только в истинной обращенности
к концу. А в этой последней совершается в конечном итоге
уединение человека до его неповторимого присутствия (auf sein Dasein)».
* Там же. S. 110. (См. рус. пер. С. 131).
'* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 41.
'* Там же. С. 440.
* Heidegger M. Gesamtausgabe II. Abtteilung. Bd. 29/30. Die Grundbegriffe
der Metaphysik. Welt — Endlichkeit — Einsamkeit. Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 1983.
'* В начале лекций Хайдеггер говорит о Vereinzelung — отъединенности,
уединении, — в которых человек только и достигает настоящей близости
к миру в целом.
350
А. В. Ахутин
<...> Но вот, год спустя, в лекциях о Платоне (1931-1932)* Хайдег-
гер уже заводит речь о «перевороте всего человеческого бытия (des
Seins), в начале которого мы стоим»**. Речь идет о втором после
греков начале европейской истории, о втором выходе из исторической
«пещеры» на просторы исторического бытия. В речи,
произнесенной М. Хайдеггером 30 ноября 1933 г. в Тюбингене, он уточняет:
ныне, в метафизических глубинах начавшейся революции,
происходит «полный переворот нашего немецкого бытия (unseres deutschen
Daseins»***. «Субъектом» Dasein оказывается теперь немецкий народ
в своем государстве. Он принимает на себя все бремя, риск и
решимость экзистирования, собственного присутствия в бытии, истине
которого он сам дает место присутствовать.
Что же тогда выпадает на долю индивидуального Dasein,
которому случилось быть фактически заброшенным сюда (da): в этот
исторический момент, в этот народ****. Разумеется, включиться в
экзистенциальную революцию общенародного Dasein, участвовать,
сотрудничать, служить. «Немецкий студент как рабочий» — так
называлась речь Хайдеггера перед студенчеством на празднике
имматрикуляции 25 ноября 1933 г. Из этой речи мы узнаем кое-что новое
о Dasein. Оказывается, тот, кто еще не включился в общенародное
дело, есть nicht daseinsfähig — неспособный к бытию (!).
Способность к (собственному) бытию обретается только в со-трудничестве,
в котором каждый знает, почему и для чего он занимает свое место.
Только так он укореняется в народном Dasein, причаствует
народной судьбе. Тот, кто таким образом — знанием и делом — находится
в средоточии созидания, обретает полноту des Daseins и становится
«совладельцем истины народа в его государстве»*****.
* Они опубликованы под названием «О сути истины». Heidegger M.
Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 34. Vom Wesen der Wahrheit. Zu Piatons
Höhlengleichnis und Theätet. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
Verlag 1988. См. также его работу «Учение Платона об истине» (в пер.
В. В. Бибихина: Хайдеггер М. Время и бытие. С. 345-360).
** Heidegger M. Vom Wesen der Wahrheit. S. 324.
'** Цит. по кн.: Safranski R. Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine
Zeit. München; Wien, 1994. S. 274. (См. рус. пер. Т. А. Баскаковой: Сафран-
ски Р. Хайдеггер. Германский мастер и его время. М., 2002. С. 320.)
'** Примерно в тот же исторический момент, заброшенный в другой, правда,
народ, поэт вздохнул:
О бедный homo sapiens,
Существованье — гнет,
Былые годы за пояс
Один такой заткнет... (Б. Пастернак).
'** См. Safranski R. Op.cit. S. 304-305. (См. рус. пер. С. 354.) Вся эта
риторика, разумеется, без труда переводится на русский язык. Соответствующие
клише — что на русском, что на советском языке — давным-давно готовы.
Dasein (Материалы к толкованию)
351
<...> Dasein, бытие, которое «всегда мое», есть всегда же «бытие-
в-мире», миром, можем мы сказать по-русски. Отдельное бытиё
(Dasein) присутствует в мире других присутствующих (daseiende),
но вместо того, чтобы принять во внимание множественное число
соприсутствии, Хайдеггер теряет их в коллективном единственном
числе: народ.
9.2. Вопрос Хайдеггера
...Стоит, пожалуй, оговориться. Мы пока вовсе не касаемся
философии М. Хайдеггера, не занимаемся ни ее судьбой, ни тем более
критикой. Мне в самом деле хотелось бы здесь дать слово самому
слову, не рассчитывая свести его разнотолки ни в однозначное
определение, ни в некое собственное, сокровенное слово, а давая ему
нести все, что оно готово сказать и что оно способно вместить, если
в него вслушивается поэт или мыслитель. Будучи хором возможных
смыслов, слово всегда уже как-то мыслит (дает понять, озадачивает,
подсказывает, противоречит и сбивает с толку), мысль же со своей
стороны всегда отвечает на вопросы, утверждает и отрицает,
бормочется словами, цепляется за слова, надеясь на их подсказку,
намек, пояснение, внутренне выговаривается, чтобы услышать себя
и так узнать, что, собственно, она — мысль — думает. Уже и мои
случайные, далекие от полноты заметки по поводу слова Dasein
позволяют, думаю, заметить, как слово оказывается местом
возможного и уже как-то в нем ведущегося разговора, спора. Мы только что
могли убедиться, сколь разные — вплоть до противоположных —
смыслы могут быть вызваны к жизни в слове Dasein (не нарушая
его «естественного» звучания) даже одним, причем весьма строгим
мыслителем. Мы можем заметить также и те смысловые
возможности, которые, кажется, остались Хайдеггером не тематизирован-
ными, не пробужденными. Например, внутренняя эпохальность
(историчность) человеческого бытия, его своеобразная двубытий-
ность или двумирность, его поэтичность в смысле обращенности
всем своим бытием к бытию другого, включение Ты-бытия в
существо собственного бытия.
Для философского же разговора особо важным было бы
прочтение хайдеггеровского Dasein в контексте немецкой философии
(Канта и Гегеля в особенности), где Dasein имеет характер понятия, т. е.
не прикидывается естественно значащим словом. <...> Трудность
в том, что понятие бытия не есть понятие бытия. Бытие в понятии
превращается в бытие понятия (как у Гегеля). Хайдеггер хочет дать
слово и мысль самому бытию, погружая мысль в понимание бытия
(Seinsverstehen), в послушное внимание бытию. Тем самым Dasein
352
А. В. Ахутин
как «дело о бытии» (es geht um) отдается во власть исторического
события бытия (Ereignis), вершащегося как судьба.
Так онтоогическая двусмысленность провоцирует своего рода
метафизическую революцию: внеидейному бытию — как более
бытийному — предоставляется трон самой идеи блага. Начинает
властвовать судьба, которую Хайдеггер буквально испытывает на себе.
Эта двусмысленная двусторонность и передается замечательным
образом немецким словом Da-Sein: существо, по сути (сущностной
возможности) своего собственного бытия вопрошающе обращенное
к смыслу самого бытия, послушно отдает мысль и слово бытийной
власти судьбы. Озабоченное вопрошание, экзистенциальная
озадаченность обращаются в экстатически решительное послушание.
<...> Что же тематически значит Dasein у Хайдеггера, как ставит
он свой философский вопрос?
1. Хайдеггер обращается к Dasein, намереваясь вспомнить
изначальный для философии вопрос о бытии и его смысле, поставить его
снова, с самого начала. Это начало вопроса о бытии, его исток — его,
этого вопроса, собственное бытие, присутствие (Da-Sein) — и
кажутся Хайдеггеру до сих пор еще не продуманными.
2. Слово Dasein в «Бытии и времени» впервые появляется в § 2*
при рассмотрении формальной структуры онтологического вопроса.
Сначала — в обиходном значении, как название человеческого
бытия среди другого, так или иначе существующего. Но тут же
именуемое этим словом сущее — человек — ставится в центр внимания
в качестве того сущего, к которому-де и следует обращаться с
вопросом о бытии, поскольку отношение к бытию, вопрошание о бытии
составляет само существо этого сущего. Человек — по сути своего
бытия — есть вопрос о бытии. Такое сущее, которое «мы
спрашивающие всегда суть», и схвачено терминологически словом Dasein.
Основное определение Dasein дано в § 4** «Dasein — это сущее,
в бытии которого речь (дело) идет о самом этом бытии». «Дело
идет...» — «es geht um» — означает: Dasein не просто есть, но
отнесено к своему бытию (значит, также и — от своего бытия), не просто
находится в бытии, но обходится с ним.
Наиболее полно определяющие Dasein моменты приведены § 9***.
«Сущее, анализ которого стоит как задача, это всегда мы [marg.
всякий раз "я"]. Бытие этого сущего всегда мое. В бытии этого сущего
последнее само относится к своему бытию [marg. как историческому
бытию в мире]. Как сущее этого бытия оно препоручено своему
собственному бытию. Бытие [marg. Какое? Быть этим вот и в нем выне-
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 7.
** Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001. S. 12.
*** Привожу текст вместе с маргиналиямии Хайдеггера.
Dasein (Материалы к толкованию)
353
сти бытиё вообще] есть то, о чем для самого этого сущего всегда идет
дело <...> "Сущность" этого сущего лежит в его быть (Zu-sein)»\
3. Отношение к бытию, обхождение с бытием, несовпадение
с собственным бытием заложены с самого начала в вопросе, в
возможности вопроса. Формальная структура вопроса (вопроса
вообще, и вопроса о бытии в особенности) уже оказывается первым
структурным раскрытием самого человеческого бытия. Бытиё
человека (в качестве человека) есть вопрос, вопрошание («пытание»)
о бытии. «Пытание» бытия — допытывание, испытание, попытка,
опыт бытия — в этом начало бытия человека в качестве человека
(своего рода естество-испытателя, если, конечно, естество
понимать не натуралистически, не как бытие природы, а от «есть*
бытия вообще). «Моё бытиё* поэтов передает это переживание
человеком своего существования как опыта бытия, даже —
опыта о бытии. Отсюда, из этого начала человеческого бытия только
и можно понять смысл бытия всего в человеке: что значит «душа»
(или «психика», или «сознание»), «жизнь», «болезнь», «действие»,
«познание», «речь»... Итак, именно человеческое бытие — бытиё —
мыслится как место раскрытия смысла бытия.
4. Но если бытие (Sein) рассматривается в горизонте
человеческого бытия (Dasein), то это вовсе не значит, что речь пойдет о постро-
ениии некой антропологической онтологии. Человеческое бытиё
(Dasein) само рассматривается и определяется (самоопределяется)
в горизонте (в смысле) самого бытия (Sein). Поскольку человеческое
бытиё понимается в горизонте вопроса о бытии, — онтология,
понимание бытия оказывается не просто сферой специальных
философских проблем (метафизики, онтологии), а бытийным модусом
человеческого бытия. Начало, исток, возможность онтологического
озадачивания находятся в экзистенциальном средоточии
человеческого бытия, но экзистенциальное средоточие человека находится
именно в этой — онтологической (а не просто
«экзистенциалистской») — озадаченности. <...> Dasein именует человека, поскольку
он в своем собственном бытии определяется пониманием и вопро-
шанием бытия. «Определяется», понятое экзистенциально, значит:
человек в средоточии своего бытия озабочен и озадачен бытием.
Быть в модусе человека — значит быть местом (Da) бытия (Sein) —
невместимого, — быть не в границах своего бытия (не внутри своего
мира), а на этих границах. Это бытие на границах и имеется в виду
определением человеческого бытия как экзистенции.
4. Так das Dasein раскрывается, развертывается как
герменевтический круг экзистенциально-онтологического анализа.
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 41-42.
354
А. В. Ахутин
Вот тут слово — это странное, не имеющее естественных аналогов
в других языках, немецкое слово — Dasein оказывается
удивительно подходящим, в самом деле как бы самоговорящим, говорящим
не столько приписываемым ему значением, сколько своей
внутренней формой. Это имя человеческого бытия не определяет человека
извне, а намечает положение и условия человеческого бытия как
изначально самоопределяющегося в горизонте бытия, в смысле
бытия. Это «понятие» человека обещает поэтому впервые дать понять
смысл бытия «чувства», «сознания», «тела», «души», «мысли»...
Равным образом Dasein не содержит и никакой заранее взятой
онтологии: никакая предположенная идея бытия не превращает
человека в некую метафизическую «природу». Мы устраняем всякие
заранее предполагаемые идеи, натуралистические, метафизические,
традиционные и возможные нетрадиционные. Мы возвращаемся
к началу всех этих толкований, интерпретаций, предположений,
допущений. Возвращаемся к началу начал. И — оказываемся перед
ничем, перед ничто...
5. Слово Dasein не именует, не определяет ни человека, ни мир,
ни бытие, но только источник их возможности, их начинающее
отношение, их «еще не». В нем все возможные толкования, понятия
и идеи редуцированы к их собственному началу, к их возможности,
к их ничто... Можно сказать поэтому, что Хайдеггер в самом слове
Dasein обращает внимание не на какой-то особый (особо ему
близкий или нужный) смысл, а на саму его внутреннюю форму, причем
пустую форму, форму смысловой пустоты, — форму, не несущую
этимологически-первичный смысл, а лишь задающую условия
возможного наполнения смыслом. Dasein Хайдеггера не человек,
не мир, не бытиё, не существование, не наличное бытие... Оно
знаменует собой последний след феноменологической редукции к началу
начал, к началу всего (сущего в целом), которое не есть ничто из
сущего, есть ничто. Место это (Da) может вместить бытие (Sein),
поскольку всегда уже вмещает ничто (das Nichts).
6. Здесь следует, наконец, вспомнить тот смысловой оборот слова
Dasein, который до сих пор оставался в тени «человеческого бытия
(= жизни)». Dasein есть существительное от глагола dasein, оно
подразумевает выражения со сказуемым ist da: пришел, настал. Поезд
пришел (ist da) и вот, стоит весь тут на станции. Но человек может
быть там (da zu sein), находиться в этом самом поезде, сидеть в
вагоне, смотреть на ту же станцию и все же — nicht da zu sein,
отсутствовать, «витать отсюда за тридевять земель». Наличие здесь
и теперь не означает для человека присутствия здесь и теперь.
Но присутствовать не означает также и просто войти в курс дел
(скорее уж — в положение вещей). Можно прожить весьма деятель-
Dasein (Материалы к толкованию)
355
ную жизнь (интересно провести время) и все же — отсутствовать.
Эта возможность отсутствовать (Weg-sein) и присутствовать
(Da-sein) есть характернейшая черта человеческого бытия (Sein),
отличающая его от других существ.
Что же значит присутствовать? По-видимому, это может
открыться, только если нам, вовлеченным в жизнь, находящимся
в курсе событий, включенным в дела и приключения, откроется
наше отсутствие. Дело ведь, как мы помним, в бытии
присутствия идет о самом (этом) бытии-присутствии. Вовлеченность в это
дело (о бытии), участие в этом событии есть присутствие (бытие)
человека. Человек присутствует, когда он находится в присутствии
бытия, когда бытие, само бытие (в целом) касается, затрагивает
его, само некоторым образом присутствует в нем, есть его —
человека — состояние, вернее сказать — событие с ним. Где же и как же
начинается это дело о бытии, где нашего бытия касается само
бытие? Где оно (бытие) с нами происходит? Где оно само ist da?
Хайдеггер ставит и обсуждает эти вопросы сначала в докладе «Что
такое метафизика?» (1929), а затем — весьма детально — в
лекционном курсе «Основные понятия метафизики». Именно поставленные
только что вопросы впервые, собственно, и ведут к основным
вопросам и основным понятиям метафизики. Только в этом
экзистенциальном начале они получают свой истинный смысл. Философия,
говорили понимающие дело философы, коренится в
философствовании. Но сама возможность и исток философствования коренится
в некоем экзистенциальном патосе, которым до всякого обращения
к философии, не зная ни об одном из ее понятий, человек —
ведомо или неведомо для себя — всегда уже охвачен. Человек по сути
своего бытия настроен (как некий инструмент) философски
(метафизически). Эта метафизическая настроенность человеческого
бытия сказывается в некоем настроении, сопровождающем, как basso
ostinato, все мелодии жизни. Определяется это настроение
возможностью быть в присутствии бытия в целом. А это значит.— в
присутствии ничто.
Хайдеггер описывает разные облики этого настроения,
главные же — страх (или ужас) и тоска (скука). Так, набрасывая в
докладе «Что такое метафизика?» черты метафизического ужаса,
когда все сущее в целом ускользает, «проседает», земля уходит из-под
ног, и мы повисаем над бездной, Хайдеггер говорит: «Только наше
чистое присутствие (Da-sein) в потрясении этого провала, когда ему
уже не на что опереться все еще тут (ist noch da)». И чуть ниже: «С
ясностью понимания, держащейся на свежести воспоминания, мы
вынуждены признать: там, перед чем и по поводу чего нас охватил
ужас, не было, "собственно", ничего. Так оно и есть: само Ничто —
356
А. В. Ахутин
как таковое — явилось нам (war da — наступило, присутствовало,
было тут. — А. А.)»*. В этом-то начальном — и неопределенном —
ничто находится в конце концов окончательно начальствующее
начало.
7. По мере продумывания экзистенциально-онтологического
герменевтического круга, заключенного во внутренней форме Dasein,
Хайдеггер, кажется, все более сосредоточивает этот круг в
единственную точку. Исходная двуфокусность Dasein — бытие человека
как бытие о бытии — свертывается в неразличимую двусторонность
одного-и-того-же, причем это одно-и-то-же присутствия вообще
свертывает также и само различие бытия и ничто. Со-присутствие
человеческого бытия, выдвинутого и удерживающегося в ничто,
с бытием самим по себе, к которому человеческое бытие отнесено,
стирается в неопределенное присутствие вообще, которое
понимается теперь как бытие бытия. И на этом повороте Хайдеггер снова
может опереться на верное слово Dasein.
По-немецки говорят der Frühling ist da, что значит весна пришла,
весна настала. По-русски мы могли бы в этом случае сказать
просто: «Весна!» Но о чем мы говорим здесь? Одно дело — сказать
поезд пришел, другое — весна настала. Где она, что она? Когда весна
настала (ist da), все, что ни есть, есть «чародейство и диво» весны,
есть она сама, но саму весну нельзя ни указать пальцем, ни
отправить в поэтическое воображение.
Слово есть, говорит однажды Хайдеггер, может — в зависимости
от характера суждений, связкой в которых оно служит, — значить
очень разное: происходит из, находится, принадлежит, значит,
состоит и т. д. Но вот мы читаем строку Гёте: «Über allen Gipfeln /
ist Ruh», «..."есть" сказано здесь так просто, еще проще, чем
всякое другое расхожее "есть" <...> В стихотворении звучит простота
какого-то редкостного богатства»**. Тем не менее Хайдеггер в
других местах пытается пояснить подобное «ist» такими словами, как
anwest — присутствует или waltet — царит. Так, вспоминая
привычное для русского языка выражение «В лесу царит тишина», мы
и эту строчку Гете могли бы перевести — «Над горными вершинами
царит тишина».
Скажем теперь das Sein ist da. Скажем — в том же смысле, что
и о весне, — «Бытие!» «Бытие настало, стало настоящим». «Бытие
царит в мире!». Смысл Dasein, который был связан с «нами,
вопрошающими», исчезает в свете этого бытия, в величии этого
царствования. Хайдеггер опирается теперь на иное слово — das Ereignis.
* Пер. В. В. Бибихина. См.: Хайдеггер М. Время и бытие. С. 21. Ср.:
Heidegger M. Wegmarken. Vittorio Klostermann, 1967. S.9, 10.
** Пер. В. В. Бибихина. Хайдеггер М. Время и бытие. С. 172.
^^
С. С. ХОРУЖИЙ
Человек и Событие
«фрагмент из книги «Фонарь Диогена.
Критическая ретроспектива европейской
антропологии»>
Сейчас мы попытаемся поставить такой вопрос: куда в конечном
итоге выводит нас мысль Хайдеггера о человеке, какую
антропологическую перспективу она рисует? Ответ на это можно найти главным
образом в тех его книгах 30-40-х гг., что писались «в стол» и, хотя
не принадлежат в хронологическом смысле «позднему Хайдеггеру»,
но представляют, как признано, окончательные основания его
философствования. На первом месте из них, разумеется, «второй
главный труд» мыслителя, «Особытии».
Освоение этих текстов сразу же сталкивается, однако, с
отмеченной уже выше трудностью — особым способом выражения, в котором,
как говорит Бибихин, «философия не движется в сетке координат,
а расплавляет их систему»*. «Время "системы" прошло»**, —
заявляет «О событии» в первых же абзацах, и философия здесь
«утрачивает черты метода» (Бибихин), не строит и не анализирует понятий,
не обосновывает, как правило, своих утверждений и не организует их
в структуры. Как всегда отмечают, философствование здесь близится
к поэтической речи, недаром оно и обращается то и дело к Гёльдер-
лину. Тем не менее выше мы все же выделили небольшой комплекс
свойств, характеризующих репрезентацию парадигмы размыкания
в поздних текстах и образующих некое организованное единство***.
В большой мере это было возможно за счет того, что данные свойства
* Бибихин В. В. Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge» // Он же. Ранний
Хайдеггер. М.: Институт философии, теологии и истории Св. Фомы, 2009.
'* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Gesamtausgabe.
Bd. 65. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 20033. S. 5.
* С. С. Хоружий. Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской
антропологии. М.: Институт философии, теологии и истории Св. Фомы.
2010. С.426-442.
358
С.С. Хоружий
не затрагивали прямо верховный концепт события: концепт, который,
собственно, и является источником всех странностей, который
учреждает крайне специфический способ речи. Но, как мы говорили, этот же
концепт учреждает и парадигму конституции человека в
онтологическом размыкании! Точнее (как мы увидим), он определяет некоторую
очень своеобразную репрезентацию этой парадигмы, которая придает
новую конфигурацию всему контексту проблемы человека. Поэтому
описывать фундаментальное отношение Бытие — Человек у Хайдег-
гера, минуя Событие, допустимо не в большей мере, чем описывать
европейскую антропологию XX в., минуя Хайдеггера. В частности,
чтобы ответить на поставленный вопрос, нам, безусловно, необходимо
рассмотреть основные антропологические импликации речи о
событии; но ввиду особой фактуры этой речи, мы будем не столько
прослеживать логику философского рассуждения, сколько попросту
фиксировать утверждения мыслителя и отчасти пояснять их.
Хотя речь о событии чужда методу, тем не менее событие играет
самую кардинальную методологическую роль: за счет него
фундаментальное онтологическое отношение Бытие — Человек получает у
Хайдеггера возможность раскрываться вне традиционных русл, в которых
уже тысячелетиями философия раскрывает онтологические диады
начал, первопринципов — в первую очередь вне русла диалектики,
будь то платоновской или гегелевской. «Человек и бытие не
отрицаются взаимно, но ставятся в отношение к третьему событию, которое,
в свою очередь, выступает как их обоюдное отношение»*.
Возникает, таким образом, новая онтологическая конфигурация, онтотриада
Бытие — Событие — Человек, которая заведомо не мыслится по
образцу ни гегелевской триады, ни иных известных триад, будь то
метафизических или теологических. Поэтому ключевой момент — это то,
каким же образом бытие и человек ставятся в отношение к событию.
«Топический», по определению Бибихина, способ речи о
событии предполагает, что основные утверждения многократно
повторяются в изменяющихся, варьируемых формулировках и контекстах.
В поздних текстах мы найдем немало высказываний, различным
образом сводящих воедино все члены онтотриады. Приведем
первой краткую формулу, дающую некоторое начальное представление
об отношениях внутри последней. «Co-бытие — это вибрирующая
(schwingende) в себе область, через которую человек и бытие
достигают друг друга в своей сущности»**. Этой формулой, как и сказано
* Steinmann M. Die Humanität des Seins. Das Denken des späten Heidegger und
sein Verhältnis zu Parmenides // Heidegger und die Griechen. Frankfurt am
Main: Vittorio Klostermann, 2007. S. 67-68.
** Idem. Identität und Differenz. Stuttgart, 2002. S. 26. Отметим, что в рус.
переводе этого текста (см.: Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге.
Человек и Событие
359
выше, человек и бытие связуются между собой через «отношение
к третьему, событию»; сверх того, эта связь характеризуется
предикатом «вибрации». По свойствам способа речи этот предикат,
конечно, не получает никакой дефиниции, и смысл его нельзя установить
однозначно; но в качестве одной из разумных версий мы бы
согласились с суждением уже цитированного М. Штейнмана: как он
находит, Хайдеггер мыслит онтотриаду как «единство, различающееся
в себе» и осуществляющееся как «непрерывность перехода внутри
того же самого... это-то единство Хайдеггер и схватывает образом
вибрации»*. В этой трактовке убедителен отсыл к понятию тождества
(«того же самого», to auto), которому и посвящена цитируемая
статья Хайдеггера; через это понятие устанавливается и связь онтотри-
ады с Парменидовым тождеством бытия и мышления. Можно сюда
добавить, что «непрерывность перехода внутри того же самого»
имеет определенное сходство с парадигмой перихорезы, посредством
которой византийское богословие характеризует внутренние
отношения в совсем другой онтотриаде — Троице Божественных Ипостасей.
Краткая формула послужит для нас введением, после которого
будет понятней следующий пассаж, максимально насыщенный.
«Человек как сущий не "есть" изначальное, коль скоро только бытие
есть. Однако при-сутственно определенный человек все же отличен
от всего сущего, коль скоро его сущность основана на проекте истины
бытия... Человек, таким образом, исключен из бытия и, однако,
вброшен прямо в истину бытия... Человек словно мост (ist brückenständig)
в том Между, выступая как которое событие бросает нужду богов
на стражничество (Wächterschaft) человека, дабы оно передало это
[стражничество] при-сутствию. Такая набрасывающая передача...
вносит в при-сутствие отодвигание (Entrückung) в бытие... Однако
это отодвигание отнюдь не есть вне-себя-бытие (Aussersichsein)
человека в форме некоего сбытия-себя-с-рук (Sichloswerden). Скорее
оно учреждает сущность самости (Selbstheit), которая означает:
человек имеет свою сущность (стражничество бытия) в своей
собственности постольку, поскольку он себя обосновывает в при-сутствии»**.
Этот образцовый позднехайдеггеровский текст включает все
нужные нам понятия и дает почву для всех нужных выводов.
Начнем с главного для нас: из этого текста можно извлечь, в
частности, и парадигму конституции человека в онтологическом
размыкании, уже с явным учетом роли события. В центре описываемой он-
М.: Высшая школа, 1991. С. 77) schwingende переведено как «мерцающая»,
что неоправданно вводит дискурс света и тем порождает множество ложных
коннотаций, поскольку в оригинале этого дискурса нет.
* Steinmann M. Op. cit. S. 68.
'* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). S. 488-489.
360
С.С. Хоружий
тологической ситуации — определенное онтологическое движение:
«отодвигание в бытие», которое и является новой репрезентацией
размыкания к бытию. Это движение конститутивно, ибо оно
учреждает самость человека, что значит — конституирует его.
Конституирующим началом остается бытие, это у Хайдеггера всегда и
неотменимо. (Хотя в нашей цитате это и не акцентировано, но формул, прямо
утверждающих конститутивность бытия, у позднего Хайдеггера —
изобилие; к примеру, вот самая краткая формула из «Письма о
гуманизме» (1946): «Существо экзистенции... осуществляется благодаря
истине бытия»*.) Содержание движения, однако, непросто и
характеризуется довольно темно. Отодвигание-удаление в бытие вносится
в присутствие, когда событие, выступая как Между, «третье»,
передает присутствию ключевое отношение к бытию, пресловутое хайде-
ггеровское «стражничество» («человек — сторож бытия» — слоган-
лейтмотив позднего Хайдеггера). Но такая передача — сама сложный
акт, это — «набрасывающая» передача, она происходит лишь тогда,
когда на стражничество человека брошена «нужда богов». Что это
за новая и странная предпосылка или компонента конституции
человека? Ясно, что в основоустройстве конституции некоторый элемент
«типа нужды» необходим: ибо необходимо изначальное устремление
к конституирующему началу, в данном случае к бытию, необходима,
стало быть, «бытийная нужда» (о чем, в частности, ярко говорит Би-
бихин в своих разборах «Beiträge»), И, судя по контекстам хайдегге-
ровских «богов», «нужда богов» не столь далека от бытийной нужды,
в первом и грубом приближении, она может быть понята как некая
ее репрезентация. (Оставим пока в стороне религиозные коннотации
понятия, это — особая тема.) Тогда остается лишь последний вопрос:
что значит — эта нужда брошена на стражничество человека? Но это-
то как раз просто: в нужде, в устремлении к бытию, человек должен
именно — на языке «Beiträge» — сделать своею собственностью свою
сущность как сторожа бытия. Упрощая, можем передать ядро всей
онтологической ситуации так: стражничество бытия — бытийная
миссия, назначение, «сущность» человека — рождается в Событии,
во мгновенном озарении-особственнении (неологизм, вводимый Би-
бихиным), как то, во что разрешается «нужда богов».
Итак, в свете наших заданий, мы можем прочесть приведенный
текст как представляющий последний хайдеггеровский проект ос-
новоустройства конституции человека. Он остается в парадигме
онтологического размыкания (как мы помним, позднехайдеггеровская
реализация этой парадигмы отчетливо двунаправленна, соединяет
интериоризующий и экстериоризующий аспекты), однако приобрета-
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Он же. Время и бытие. М.:
Республика, 1993. С.203.
Человек и Событие
361
ет целый ряд глубоких отличий. Чтобы оценить главное из них,
внедрение в конституцию человека события, которое в ключевой роли
Между опосредует отношение человека и бытия, напомним основные
смыслы события, как их резюмирует предельно сжато Бибихин: «Три
главных аспекта Ereignis, а именно озарение (настоящая этимология,
das Auge), возвращение к своему собственному (народная
этимология, через das Eigene) и полнота (совершённость события)[, которые]
не образуют структуры типа гегелевской триады; это троица
тожественных, потому что открытие собственно того самого есть вместе
озарение и полнота»*. А на способе и на самой возможности
дискурсивного описания конституции не мог не отразиться еще один аспект
Ereignis, его глубочайшая трансрациональность: «Событие не такая
вещь, чтобы его можно было измыслить мыслью. Оно не мыслимое» **.
Далее, можно заметить, что тут заметно иное, чем в «Бытии
и времени», отношение между человеком и присутствием. В
экзистенциальной аналитике Dasein полностью репрезентировало
человека, так что и сам термин «человек» практически не
употреблялся; но в речи о событии мы видим отчетливое различение между
«человеком» и «присутствием»; обсуждение того и другого — две
раздельные тематические нити в «Beiträge». За этим стоит
определенная «смена приоритетов»: теперь присутствие рассматривается
в (про)свете бытия, в своей «исходной бытийной целости», тогда как
в «Бытии и времени» оно описывалось в исступании из себя, в
падении (Verfall) — и только в такой перспективе его описание
развертывалось в экзистенциальную аналитику и оказывалось описанием
«экзистенции», «человека». В рамках речи о событии присутствие,
будучи взято в иной перспективе, обретает иную категориальную
природу: оно обладает простотой и не обладает структурой. Лишь
с так взятым присутствием, присутствием в его бытийной целости
и простоте, у человека складывается такое отношение, при котором
он может быть или не быть «присутственно определенным», может
себя обосновывать в присутствии, а может и не обосновывать;
присутствие же в его падении от человека неотделимо.
Существенно и размежевание, которое делает Хайдеггер: в
рисуемой им конституции человека он подчеркивает момент
имманентности, определенно желая отмежеваться от религиозно-мистической
парадигмы чисто трансцендентной конституции, предполагающей
«вне-себя-бытие», т. е. претворение в Инобытие, часто понимаемое
как растворение в Абсолютном, отказ от себя («сбытие-себя-с-рук»).
Такое размежевание играет не только идеологическую, но и
конструктивную роль: благодаря ему хоть несколько уясняется природа
* Бибихин В. В. Цит. соч. С. 497. (Курсив автора).
** Там же. С. 508.
362
С.С. Хоружий
«отодвигания-удаления в бытие» и таинственного служения
«сторожа бытия».
Наконец, в заключение приведенного пассажа, в контекст
конституции человека входят его самость и «сущность». Первое
понятие сразу же отчетливо поясняется: «Самость не может быть понята
ни из "субъекта", ни из "Я", ни из "личности" (Persönlichkeit), она
есть только настойчивость в стражнической принадлежности к
бытию, что значит, однако, — из наброшенности нужданием богов.
Самость — это развертывание имения-в-собственности сущности»*.
Что же до «сущности», то мы взяли ее в кавычки отнюдь не
случайно: трактовка сущности у позднего Хайдеггера необычна и
удивительна. Точней, она удивительна для взгляда извне, из прошлой
философской истории термина; для позиций же позднего Хайдеггера
она, напротив, как нельзя более характерна и органична. В тексте
сразу же выступает радикальное переосмысление отношения
предмета со своей сущностью. В обычном понимании, сущность
предмета или феномена — самое неотъемлемое от него, и предмет всецело
определяется своей сущностью; здесь же мы видим, что человек
может «иметь в собственности» свою «сущность» либо не иметь. Эта
неожиданная свобода отношения затем утверждается еще отчетливей
и сильней: «То, что человек имеет свою сущность в собственности,
означает: он пребывает в постоянной опасности утраты... Понятый
сообразно присутствию, человек есть то сущее, которое, существуя,
может лишиться своей сущности» **.
Представленная здесь позиция означает кардинальную ревизию
концепта сущности и влечет глубокие следствия для конституции
человека. Если вещь может лишиться своей сущности, то что такое
эта «сущность», когда вещь, положим, актуально ее лишилась?
Очевидно, что подобная «сущность», во всяком случае, не есть essentia
вещи в классическом смысле Аквината. По аналогии с понятием «де-
эссенциализованной энергии», вводимым в синергийной
антропологии, можно было бы говорить о сущности у позднего Хайдеггера как
о «деэссенциализованной сущности». Можно также сказать, что, на-
деляясь лишь возникающей-исчезающей связью с вещью или
явлением, сущность сближается с дискурсом энергии, опять-таки в
понимании синергийной антропологии. Что же до «сущности человека»,
то мы видим теперь: хотя Хайдеггер сохраняет эту формулу в весьма
активном употреблении, но конституция человека, представленная
им в рамках речи о событии, никоим образом не полагается
сущностью и не базируется на ней, не строится в эссенциальном дискурсе.
В смысле традиционного понимания сущности можно сказать и силь-
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). S. 489.
" Ibid. S. 489-490.
Человек и Событие
363
нее: конституция человека у позднего Хайдеггера — конституция,
полагаемая бытием в лоне события, — может рассматриваться
как конституция бессущностной и бессубъектной самости. И это
значит, что антропологический аспект речи о событии предстает нам
как самый радикальный антропологический поиск. В 1936-1938 гг.
в Германии «в стол» написаны были разработки, к идейной смелости
которых европейская мысль о человеке начала приближаться лишь
на грани тысячелетий. «Второй главный труд» Хайдеггера опередил
свое время больше, чем первый. Отказ от дискурса сущности в
философии Ж.-Л. Нанси, бессущностность и бессубъектность синергий-
ной антропологии, как и многие другие ходы новейшей
антропологической рефлексии, по сути, уже присутствуют в «О событии»*.
Это славословие, однако, нуждается в оговорках или по меньшей
мере уточнениях. «О событии» — капитальный труд, но новый
революционный взгляд на человека отнюдь не развертывается здесь
фронтально и эксплицитно, и радикальные антропологические
позиции, восхитившие нас, присутствуют здесь, действительно, лишь
♦по сути», пунктиром, имплицитно. Речь о событии с ее
специфическим способом полностью выводит разработки Хайдеггера
из горизонта экзистенциальной аналитики, как и всякой
аналитической дескрипции антропологической реальности. Новый
принцип конституции человека, конституция в лоне события, толкуется
и описывается в перспективе события и, взятое в этой перспективе,
при-сутствие** взято в себе, в «бытийном модусе собственности»,
в котором оно, как уже говорилось, цельно, просто и
бесструктурно. Аналитику же присутствия развертывает сугубо присутствие
в модусе несобственности или, что то же, в падении (Verfall),
означающем, что «присутствие ближайшим образом и большей частью
существует при озаботившем "мире"... Присутствие от себя самого
как собственной способности-быть-самостью ближайшим образом
С известным правом можно говорить даже, что все эти позиции присутствуют
уже в «Бытии и времени». Во внутренней логике развития хайдеггеровского
дискурса трактовка сущности в речи о событии не предстает резким
новшеством. Напротив, она вполне согласуется со знаменитыми исходными
положениями экзистенциальной аналитики: «Что-бытие (essentia) этого сущего
[Dasein], насколько о нем вообще можно говорить, должно пониматься из его
бытия (existentia)... "Сущность" присутствия лежит в его экзистенции*
(«Бытие и время». С. 42. Курсив автора). Однако в плотнейшем контексте
«Бытия и времени» эти положения не были в дальнейшем артикулированы
в отдельную нить, где совершалась бы последовательная деконструкция эс-
сенциального дискурса. И за счет этого на авансцене смогло оказаться вуль-
гаризованное прочтение Сартра, устроившее из хайдеггеровских положений
спор за первое место между «сущностью» и «существованием».
** В «О событии» Da-sein употребляется исключительно через дефис, но мы
простоты ради этому обычно не следуем.
364
С.С. Хоружий
всегда уже отпало и упало в "мир"»*. Речь из горизонта события
не может описывать присутствие и человека, когда они вне этого
горизонта, она может лишь констатировать, что человек
действительно может быть вне горизонта события, и может характеризовать его
вне-пребывание теми или иными привативными предикатами, как
то «не-имение своей сущности в своей собственности».
Когда же присутствие — в модусе собственности, а человек,
будучи присутствие-соразмерен (daseinsmässig), находится в
горизонте события как сторож бытия, тогда речь о человеке
развертывается как речь в ландшафте события, в специфических реалиях этого
ландшафта, каковы суть боги, тайна, бездна, земля... Такая речь
априори вполне бы могла быть артикулированной
антропологическою дескрипцией: дело решается герменевтической природой
события. Событие могло бы доставить ключ к этой речи, если бы оно
само было артикулировано из перспективы человека, если бы нам
сказали, откуда оно берется, как вызревает, может ли, должен ли
человек готовить его или готовиться к нему. По всей видимости,
должен, Хайдеггер не кальвинист, — а тогда как надо его готовить?
и т. д. и т. п. Но, разумеется, такие вопросы — вопросы из
перспективы падения, и они попросту вернули бы нас в дискурс «Бытия
и времени». Хайдеггер, как мы подробно показывали**, весьма
тяготеет к приказному, установочному тону, и в речи о событии также
нетрудно найти установки и указания человеку. Тут, однако, они —
существенно иной природы. Как формулирует Бибихин, теперь
«главное усилие переносится на держание себя в просвете тайны» ***,
и подобные установки, если и раскрывают событие из перспективы
человека, то опять-таки лишь привативным или апофатическим
образом. В онтологике «О событии», событие вводится
исключительно как explanans, a не explanandum, как принцип, полагающий
новую герменевтическую перспективу. Если бытие —
онтологическое Иное падения, то событие может трактоваться как sui generis
герменевтическое Иное последнего: конституирующее не столько
иной образ бытия, сколько иной способ толкования, способ речи.
Это согласуется с его квалификацией как Между: Между и есть
«место толкования», герменевтическая инстанция и позиция. Событие
толкует человека как сторожа-хранителя бытия, дело которого —
внимать истине бытия, дабы она могла сказаться; так что дело это
идет об условиях, о поэтике речи, непосредственно
сказывающейся, — и тем самым по своему способу скорее поэтической, нежели
«философской», представляющей уже ставшие, уже имеющиеся
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 175.
** Хоружий С. С. Цит. соч. С. 468-470.
"* Бибихин В. В. Цит. соч. С. 518.
Человек и Событие
365
смыслы. Отношения этих двух способов речи у Хайдеггера, и с
голоса Хайдеггера, разъясняет Жан Бофре: по отношению к философии
♦предшествующая речь... более ранняя речь — речь поэтов,
которые, как говорит Платон, были "толкователями воли богов". С
одной стороны, поэты всего лишь рассказывают старинные истории,
вроде тех, что рассказывают детям. С другой стороны, их речь
настолько поразительна, что переносит нас туда, о чем она
рассказывает. Но в чем ее необыкновенная сила, если не в том, чтобы
пробуждать... то присутствие, о котором любая иная речь сохраняет лишь
слабое воспоминание? <...> В явлении мира философской речи нам
дано испытать сокрытие прежнего мира, который был миром
поэтов»*. — Итак, речь события, речь о событии — отступление, а
точней, прорыв, к «более ранней речи», речи поэтов, которая способна
«будить присутствие», но при этом остается «всего лишь
рассказыванием старинных историй». И в свете этой природы события и
полагаемого им способа речи верно будет сказать, что в речи о событии
новая антропология в равной мере есть и не есть.
За этой первою оговоркой должна последовать вторая. Для нее мы
сначала уточним наше словоупотребление, которое расходится с хай-
деггеровским в важном пункте, в значении термина «антропология».
Говоря об «антропологических аспектах» речи о событии, о «новой
антропологии», к которой она выходит, мы облекаем мысль
Хайдеггера в язык, ей чуждый. Напомним кратко особые отношения
Хайдеггера с данным термином. Ему принадлежит критическая и
скептическая позиция, видящая поле антропологии и сами ее основания
принципиально ограниченными и недостаточными для адекватного
отражения реальности человека и бытия в их
взаимопринадлежности. «Бытие и время» включает антропологию в обойму
«антропология, психология, биология» — обойму дискурсов, обладающих
«недостаточным онтологическим фундаментом». После «поворота»,
«Holzwege» (1946) выносят еще более негативный вердикт, совсем
низводящий антропологию к частной и прикладной сфере:
«Антропология есть такая интерпретация человека, которая в принципе уже
знает, что такое человек, и потому никогда не способна задаться
вопросом, кто он такой. Ибо с этим вопросом ей пришлось бы признать
саму себя пошатнувшейся и преодоленной. Как можно ожидать
этого от антропологии, когда ее дело, собственно, просто обеспечивать
задним числом самообеспечение субъекта?»** Отдельно проводится
критика философской антропологии. В специальном разделе (§37,
«Идея философской антропологии») работы «Кант и проблема мета-
* Бофре Ж. Диалог с Хайдеггером. Приближение к Хайдеггеру. СПб. :
Владимир Даль, 2009. С. 137, 141.
** Хайдеггер М. Время картины мира // Он же. Время и бытие. С. 61.
366
С.С. Хоружий
физики» (1929) Хайдеггер аргументирует, что философская
антропология в самой своей сути неотделима от «поверхностной и
философски сомнительной» попытки представить антропологию «как некий
стоковый резервуар центральных философских проблем», —
приходя к выводу о «внутренней ограниченности идеи философской
антропологии». В дискуссии с Кассирером в Давосе, в том же 1929 г., он
дополняет и усиливает этот вывод, говоря: «Весь проблемный узел
"Бытия и времени", имея дело с существованием человека, не
является философской антропологией, она слишком узка и
предварительна для этого». Речь о событии полностью воспринимает эту
негативную трактовку. «Сущность самого бытия мыслится не так, что
бытие толкуется "антропологически", но наоборот: что человек вновь
поставляется в сущность бытия, и оковы "антропологии"
разрываются»*. В небольшом особом разделе антропологии выносится
окончательный приговор: «То, что сегодня все еще, и даже заново,
"антропологию" ставят в центр мировоззренческой схоластики, лучше всего
показывает, <...> что снова пытаются утвердиться на почве Декарта.
Какую бы прическу ни носила антропология,
просвещенчески-моралистскую, психологически-естественнонаучную, гуманитарно-пер-
соналистскую, христианскую или политически-народную, это
совершенно безразлично для решающего вопроса: понято ли Новое Время
как конец и поднято вопрошание о другом начале, или же
продолжают упорствовать в увековечении упадка, длящегося с Платона»**.
При всей решительности классика мы, однако, не следуем его
трактовке термина, находя ее исторически обусловленной и плохо
отвечающей современной научной ситуации. В период кризиса и
отбрасывания всех прежних антропологии, интенсивного поиска
новых оснований и нового способа речи о человеке более чем
естественно называть развертывающийся поиск антропологическим поиском,
а искомое — в том числе и искомое в свете «другого начала» —
новой антропологией. Чтобы поиск мог развертываться в
максимально широком диапазоне, требуется такое понимание антропологии,
которое охватывало бы все поле исследования и (само)осмысления
человека. Но это самое общее и широкое понимание напрашивается
само: следует попросту услышать прямой смысл слова, согласно
которому антропология — не что иное, как «логос об антропосе»,
слово разума о человеке, вне зависимости от употребляемого дискурса
и метода. Именно это понимание и принимается нами; явно или
неявно, оно стоит и за большинством антропологических разработок
Новейшего времени. В трактовке антропологии — редкий случай,
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). S. 84.
** Ibid. S. 134.
Человек и Событие
367
когда позиции Хайдеггера не стали ни нормой, ни хотя бы
ориентиром для современной мысли.
В свете этого разъяснения мы можем сказать, что в нашем смысле
термина, речь о событии, как равно и дискурс «Бытия и времени»,
обостренно антропологичны. Хайдеггер любит многослойную и
обоюдоострую речь. Мы только что видели, как дискурс, имеющий
ведущим понятием «сущность», в следующем, внутреннем своем слое
у него оказывается бессущностным. С антропологией — обратное
или, если хотите, то же: за демонстративным отталкиванием от
антропологии стоит насыщенный антропологизм, только очень
своего, особого рода. И тут мы снова вернемся к первой оговорке. В ней
мы заключили, что в речи о событии новая антропология и есть,
и не есть. Можно сказать несколько больше о том, отчего и как
именно она «не есть».
В своем антропологическом аспекте речь о событии — это речь
о человеке, которая отказывается входить в дискурс «внутримирного
сущего», ведется исключительно за его пределами. Что же может она
сказать о человеке, оставаясь за этими пределами? Как демонстрирует
«О событии», весьма многое; оставаясь также и за пределами всякой
систематичности, анализа, метода, она тем не менее дает увидеть
существенные черты и свойства человека, взятого в его отношении к
бытию и событию — иными словами, в его онтологическом измерении.
Но все это богатое содержание несет на себе некую специфическую
печать, которую важно попытаться охарактеризовать.
Фундаментальное отношение резюмирует сакраментальная формула
(«псевдодефиниция», по выражению Бибихина): Человек — сторож/пастух
бытия. Sub specie anthropologiae, мы должны задать этой формуле
самый наивнейший вопрос: а кто он такой, сторож бытия? Мы
начинаем его разглядывать и видим — топос, место, инстанцию
определенной онтологической установки (держания себя в просвете тайны).
Эта инстанция, как сказано, вполне содержательно характеризуется,
раскрывается — но раскрывается она, соответственно, чертами
онтологической инстанции. Это общая особенность парадигмы
конституции человека в онтологическом размыкании, в которой человек
репрезентирует сущее в целом; она налицо и в фундаментальной онтологии
«Бытия и времени», и в Онтологической топике синергийной
антропологии (в частности, в христианской исихастской антропологии).
Однако каковы именно эти черты — определяется уже конкретностью
предполагаемой онтологии. И в фундаментальной онтологии, и в
исихастской антропологии человек как онтологическая инстанция
раскрывается в многомерности и богатстве человеческих черт (в исихазме
предпосылкой этого служит личностная природа христианской
онтологии). Но речь о событии ведется из кардинально другой бытийной
368
С. С. Хоружий
перспективы, она даже не другая онтология, но «по ту сторону
онтологии». И здесь, в перспективе события, черты бытийной инстанции
уже совершенно не суть черты человека; напротив, на эти последние
наложен полный запрет.
Расчеловечение человека — одна из сквозных нитей,
лейтмотивов «О событии» (хотя сам этот термин и не употребляется).
Конечно, речь о событии отвергает всякую речь о «составе человека», будь
то трихотомия тело-душа-дух или иные членения (такая речь
отвергается и вообще в парадигме онтологического размыкания, берущей
человека как цельность). В более общем плане любые виды
«расчленения сущности человека» отвергаются как
«усовершенствованная антропология»; отвергается также всякое «антропологически
экзистенциальное осмысление» (то бишь экзистенциальное,
строимое в антропологической перспективе, с «антропологией»,
понятой по Хайдеггеру; но поздний Хайдеггер допускает, что
экзистенциальное осмысление может строиться и не «антропологически»).
В отношении научных дискурсов их устранение проводится строже,
чем в «Бытии и времени», сделанные там отмежевания от биологии,
психологии, антропологии дополняются новыми, например, от
философии истории. Как сказано выше, концепт (?), что остается в
перспективе события, — это самость, которая решительно отделяется
от субъекта, Я, личности. Все эти категории — вне перспективы
события, и в начале «О событии» Хайдеггер, как Хрущев, разоблачает
«культ личности». В другом месте как не соответствующие
перспективе события квалифицируются «psyche, nous, animus, spiritus,
cogitatio, сознание, субъект, Я, дух, личность». Все моральные
категории устраняются наравне с «антропологическими».
В итоге, кто же такой сторож бытия? Несомая им
онтологическая миссия тщательно очищена от всего «человеческого, слишком
человеческого». Эта онтологическая инстанция, человек в
горизонте события, или «соразмерный присутствию человек» —
никоим образом не живой человек, не личность и не сознание, не центр
нравственного и разумного действия. Его с полным правом можно
назвать расчеловеченным человеком: сам Хайдеггер заявляет, что
«Примат присутствия... есть противоположность любому виду
очеловечения человека (Vermenschung des Menschen)»*.
Представленная трактовка человека, очерченная решительными
и четкими линиями, не указывает никаких родственных себе или
близких опытов и подходов к человеку; она утверждает необходимость
«другого начала» для всей западной мысли как таковой, которое
вернуло бы ее из «забвения бытия». В пределах западной философской
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie. S. 490.
Человек и Событие
369
традиции нет оснований, пожалуй, не согласиться с таким
позиционированием мысли о событии; но в более широком контексте
ситуация становится весьма иной. На всем протяжении нашего анализа
«человека Хайдеггера» мы многократно фиксировали структурные
сходства и соответствия его конституции с конституцией человека
в духовной практике (что то же, в онтологической топике синергий-
ной антропологии). Эта тесная связь сохраняется и для «человека
в перспективе события». Взглянув пристально на его определяющие
черты, какими мы их находим в «О событии», мы обнаружим, что
значительная часть из них присуща антропологии всякой духовной
практики как таковой; но кроме того — особенность новая и
симптоматичная! — некоторая другая часть сближается с одною
определенной линией духовных практик, а именно с практиками буддизма.
Черты, присущие общей антропологии духовных практик, —
на поверхности, основные из них уже отмечались как черты
онтологического размыкания человека, и сейчас достаточно напомнить
главные из них мельком. Вполне законно сказать, что человек в
духовной практике, как и «человек в событии», есть «человек,
понимаемый из вопроса о бытии, и только так». Другие черты выпукло
выступают, например, из такой сводной характеристики
«человека в событии»: «Человек, понятый соразмерно присутствию, <...>
держит себя во всех отношениях и во всем поведении в области
просвета бытия. Однако эта область является всецело не человеческой,
т. е. не определимой и не осиливаемой (tragbar) посредством animal
rationale, равно как и субъекта. Эта область вообще не есть сущее, она
принадлежит сущноствованию (Wesung) бытия. Понятый
соразмерно присутствию, человек есть то сущее, которое, существуя, может
лишиться своей сущности»*. За счет специфического способа речи
эти тезисы кажутся сугубо и уникально хайдеггеровскими,
относящимися к человеку-в-событии, но все они, на поверку, выражают
общие свойства духовной практики. Духовная практика имеет мета-
антропологическое измерение и в этом смысле, ее область является
«не человеческой»; конституируясь онтологически внеположным
Телосом, она «не осиливаема» ни animal rationale, ни субъектом,
которые не имеют связи с таким Телосом. Целостную устремленность
к телосу и синергию с ним можно при желании назвать
«держанием себя во всех отношениях в области просвета бытия». Наконец,
духовная практика не предполагает в человеке никакой сущности
и не опирается на нее, тем самым допуская, что человек может ее
лишиться. Подобный перевод в дискурс духовной практики
возможен для немалой доли речи о событии.
* Ibid. S. 489-490.
370
С.С. Хоружий
Однако «расчеловечивающая» часть этой речи уже не находит
соответствия в общей антропологии духовной практики. Телос исихаст-
ской, как и суфийской, практики не конституирует расчеловечения
человека; Телос исихазма есть прямо обратное, есть исполнение
человека в его лицетворении, претворении в бытие Личности. Но зато
расчеловечение человека — установка, близкая дальневосточным
практикам, в которых духовно-антропологический процесс направляется
к имперсональному Телосу, к различным версиям онтологического
начала, мыслимого превыше оппозиции бытия и небытия.
Наибольшую близость к речи о событии обнаруживает буддийская
антропология, сближения с которой глубоки и многоаспектны. «Избирательное
сродство» позднехайдеггеровского и буддийского
антропологического мышления начинается с самых общих особенностей, со способа
речи и природы базовых реалий. В обоих случаях в первую очередь
проводится радикальная расчистка почвы, отбрасывание ложных
представлений, которые главной частью вполне совпадают: это —
любые формы Я, субъекта, личности, субстанции. Далее,
антропологическая дескрипция развертывается в определенной онтологической
перспективе, которая формируется в двояком противопоставлении:
с одной стороны, эмпирическому описанию, с другой —
спекулятивной концептуализации антропологической реальности
(«метафизике» у Хайдеггера, брахманизму — в буддизме). Базовые реалии этой
дескрипции определяются своим отношением к онтологическому
принципу, полагающему данную перспективу; в обоих учениях этот
принцип имперсонален, всецело чужд личностному началу*.
Совокупность всех этих общих черт (отбрасывание субъектно-
личностных категорий, двоякое противопоставление, имперсо-
нальность конститутивного принципа) порождает в обоих случаях
весьма специфический, необычный род речи о человеке. Ее базовые
реалии не имеют узнаваемости как «черты человека» и не сводятся
ни в какой обозримый «образ человека»; они сугубо онтологичны,
но при этом не являются онтологическими понятиями. В речи о
событии, это просвет, тайна, боги и «последний бог», бездна, земля,
Впрочем, это размежевание, заведомо верное «в общем и целом», не
является столь резким и абсолютным во всех аспектах. У Хайдеггера нет понятия
и дискурса личности, но даже и в « расчеловеченной» перспективе события
пристальный взгляд может обнаружить отдельные черты, близкие иконо-
мии личного бытия — такие, скажем, как неповторимость и уникальность
человека, вслед за событием, пафос бдения и бодрствования в
пред-чувствовании возможного будущего, возможного явления бога... Какой-то
иной набор подобных сближений можно отыскать и для буддийских
практик, пускай буддизм и отвергает категорически принцип личности. Это
существенная проблематика, которая весьма нуждается в более углубленном
и конкретном исследовании.
Человек и Событие
371
путь... В буддизме — дхарма и поток дхарм, скандхи, санскары,
тантра (в тантризме), тоже, конечно, путь (ключевой термин в
духовных практиках)... Способ организации этой речи также имеет явную
общность в двух случаях; он настолько чужд методу, анализу и
строительству понятий, что названные базовые элементы по своей
смысловой и семиотической природе ускользают от всех определений,
явно не будучи также ни символами, ни просто знаками.
Как видим, типологические, структурные сходства и параллели
двух учений, двух опытов мысли о человеке значительны и
разнообразны. Многие из них обсуждались; ссылки на Хайдеггера —
не редкость в современной буддийской литературе. Но, если мы
желаем понять более глубокие, внутренние отношения этих опытов,
необходимо, прежде всего, постичь, как соотносятся меж собою их
первопринципы, конституирующие их онтологическую
перспективу. Можно ли утверждать, что дхарма, тантра, нирвана несут
в своем существе нечто родственное позднехайдеггеровским
бытию, ничто и событию? Извлечь, предметно реконструировать это
родственное — тема для особого углубленного исследования; но его
наличие вне сомнений. В «Тождестве и различии» сам Хайдеггер
мельком сопоставляет Ereignis и Дао. Как мы замечали, событие
у Хайдеггера, в силу своей «немыслимости», выступает как
герменевтический принцип, именно им конституируется специфический
внедискурсивный способ речи, пытающейся эксплицировать
фундаментальное отношение Бытие — Человек. Совершенно иным
образом, за счет бесчисленности и заведомой несогласуемости своих
значений, но дхарма также выступает как герменевтический
принцип и, как мы только что видели, ею конституируется родственный
способ речи. Но, быть может, ярче всего близость к первопринципам
позднехайдеггеровской онтологии выступает в тибетской тантре.
Вот выдержка из тибетского трактата XIV в.: «Тантра как
конститутивное начало... есть "ничто" (stong-pa) и "излучающее" (gsal-ba).
"Ничто" означает, что она всегда присутствует в абсолютной свободе
от конкретизации... "Излучающее" же означает, что, будучи "ничто",
она не обращается в ничтожащее ничто, которое попросту не есть...
и что она объемлет и поглощает чувственное познание яркостью
сочувствия, распространяя сияние непрестанной творящей силы.
Итак, тантра — созидающая конститутивность... объемлющая
природа изначальной и трансцендирующей умопостигаемости...
лучистость и ничтожность»*. Интимное родство этих тибетских речений
с хайдеггеровским событием как событием озарения-особственения-
* Klong-chen rab-'byams-pa. Theg-pa'i mchog rin-po-che'i mdzod // H. V. Gu-
enther. Buddhist philosophy in theory and practice. Penguin Books, 1972.
P. 161-162.
372
С.С. Хоружий
полноты (несущим, разумеется, и глубокую связь с ничто)
поистине впечатляет. В том же трактате говорится, что тантра «свободна
от порчи мыслительным конструированием». При первом взгляде
на опорные темы и идеи *0 событии» можно решить, что вразрез
с буддийской тенденцией здесь идет усиленное утверждение
историчности человека. Но вслед за тем мы видим, что, помещаясь в
перспективу события, сама история трансформируется и, если угодно,
буддизируется: «История, обоснованная в при-сутствии, есть
потаенная история великого безмолвия»*. Нет нужды говорить, однако,
что наряду со всеми сближениями практика стражничества бытия
и актуализации события сохраняет и коренные отличия от
духовной практики, тантрической или любой иной. Напомним лишь одно
из самых существенных: актуализация события мыслится не как
финал духовно-антропологического процесса, но как другое начало:
как реализация аутентично философской установки возврата в
Начало, держания себя в топосе Начала.
Итак, параллели и соответствия речи о событии с буддийской
антропологией и онтологией — значительная тема, требующая
изучения. Однако же в нашей ретроспективе для нас более существенны
потенции этой речи, равно как всей антропологии Хайдеггера
(позволим себе такую антихайдеггерианскую формулу), в сегодняшней
ситуации европейской мысли о человеке. Здесь роль его видится
своеобразной и уникальной. Я отнюдь не думаю, что парадигма
конституции человека как сторожа бытия открывает некую магистраль
нового видения человека. Не порождает она и обещающих
разработок, входящих предметно и эксплицитно в актуальную
проблематику — в проблемы, скажем, субъектности, телесности,
социальности человека. Наконец, в терминах синергийной антропологии,
конституция человека у Хайдеггера всегда соответствует лишь
Онтологической топике, тогда как топики Онтическая и Виртуальная
полностью оставлены в стороне. Но что нужды в том? Значение его
мысли для наших поисков — не здесь, глубже. Он трансформировал
наш образ философской традиции и открыл для нас новые
отношения с нею. Почти всю классику, отнюдь не одного Аристотеля, он
представляет глубоко неклассичной, раскрывает ее нам так, что она
становится плодотворной почвой для нового продвижения, которое
может быть неклассическим, постнеклассическим или каким
угодно. Лучше всего это можно выразить на его собственном языке:
мыслитель доставляет нам исторический и теоретический фундамент
для другого начала.
Он к этому и стремился.
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). S. 34.
^э-
В. И. МОЛЧАНОВ
Время, пространство, история
Введение времени и выведение из времени.
Пространственные предпосылки феноменологии
(М. Хайдеггер)
<...> 2. Пробел в аргументации при введении времени
В феноменологии Гуссерля и Хайдеггера время царствует
безраздельно... Несмотря на все различия, в одном пункте Хайдеггер явно
следует Гуссерлю: время остается основой основ. По крайней мере,
это относится к Хайдеггеру периода Бытия и времени (1927 г.),
и только через несколько десятилетий, в 1962 г., в докладе «Время
и бытие» Хайдеггер отказывается от попытки выведения
пространства из времени. Как Гуссерль, так и Хайдеггер приписывают
времени не только решающую роль при постановке фундаментальных
философских вопросов (для Хайдеггера таким вопросом является,
прежде всего, «вопрос о бытии»), но и отождествляют, по существу,
сознание и время (Гуссерль) и бытие и время (Хайдеггер). Оба
философа пытаются представить временность как основание сознания
и последнее онтологическое основание в-мире-бытия. Существенное
сходство обнаруживается также в отношении целей введения
понятия времени: время выражает, прежде всего, связь и целостность.
У Гуссерля и Хайдеггера синтетическая функция времени вводится
в соответствии с их исходными и основными проблемами. Гуссерль
вводит субъективное время в Логических исследованиях, чтобы
обеспечить целостность выделенной им гилетической сферы — сферы
подвижных ощущений, служащих материалом для актов сознания.
Для Хайдеггера время выступает прежде всего как целостность
заботы: «...временность делает возможным единство экзистенции,
фактичности и падения и конституирует таким образом первично
374
В. И. Молчанов
целостность структуры заботы» *. Существенным моментом сходства
является также противопоставление субъективного, или
имманентного (Гуссерль), и, соответственно, экзистенциального (Хайдеггер)
времени объективному, соответственно вульгарному, хотя у Хайде-
ггера это противопоставление сложнее и вульгарное время не
равнозначно обыденному. Кроме того, оба философа используют язык
пространства и движения, чтобы выразить временные отношения.
Основное различие между Гуссерлем и Хайдеггером в аспекте
введения времени состоит в следующем: <...> субъективное время у
Гуссерля не имеет содержательного смысла, это формальная
структура смыслопридания (импрессия, ретенция, протенция). При этом
аналитическое введение этой структуры становится необходимым
для Гуссерля уже при постановке проблемы сознания. Напротив,
Хайдеггер вводит время с самого начала содержательно и интерпре-
тативно — как смысл бытия и бытие-к-смерти, но лишь во второй
части своего главного труда. Ни вопрос о бытии, ни
экзистенциальная аналитика Вот-бытия, ни истолкование смысла бытия как
заботы не потребовали временности для своего первичного введения
и экспликации. <...> Парадоксальным образом, у Хайдеггера нет
постановки проблемы времени. С самого начала время полагается
как нечто такое, что нужно интерпретировать. Но спрашивается:
является ли интерпретация единственным методом, с помощью
которого можно было бы исследовать понятие времени? Здесь как раз
было бы уместным вернуться к различию между интерпретацией
и анализом. Различие не есть разделение, и вопрос всегда в
акцентах. В данном случае наш анализ заключается не в том, чтобы дать
очередное истолкование феноменологических учений, но в том,
чтобы проследить аргументацию, с помощью которой вводится понятие
времени в феноменологии, и вскрыть в этой аргументации
некоторые пробелы. Причем эти пробелы в аргументации в аспекте
введения времени у Гуссерля и у Хайдеггера весьма сходны.
Вопрос о происхождения времени приобретают у Гуссерля оттенок
онтологический, и если в философии XIX в. хотели прояснить, в
частности Гюйо, происхождение наших представлений 6 времени, то
Гуссерль ставит вопрос о происхождении самого времени: «Этот вопрос
о происхождении обращен к первичным формообразованиям
сознания-времени, в которых интуитивно и непосредственно
конституируются первичные различия временного как изначальные источники
* Heidegger M. Sein und Zeit. Gesamtausgabe Bd. 2. Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 1977 (в тексте указаны также стр. издания:
Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer, 1979; с ними
совпадают страницы русского перевода: Хайдеггер М. Бытие и время / Перев.
В. В. Бибихина. Москва: Ad Marginem, 1997). S. 434, 328.
Время, пространство, история
375
всех очевидностей, относящихся ко времени. Этот вопрос о
происхождении не следует смешивать с вопросом о психологическом
происхождении, с полемикой эмпиризма и нативизма. <...> Для нас же
вопрос об эмпирическом генезисе безразличен, нас интересуют
переживания в их предметном смысле и их дескриптивном содержании.
<...> Переживания не упорядочиваются нами в какой-либо
действительности. С действительностью мы имеем дело лишь постольку,
поскольку она есть подразумеваемая, представленная, созерцаемая,
понятийно мыслимая действительность. В отношении проблемы
времени это означает: нас интересуют переживания времени. То, что они
сами определены в объективном времени, то, что они принадлежат
к миру вещей и психических субъектов и в этом мире имеют свое
место, свою действенность, свое эмпирическое бытие и возникновение,
это нас не касается, об этом мы ничего не знаем. Зато нас
интересует то, что в этих переживаниях имеются в виду "объективно
временные" данные»*. Этот ход мысли Гуссерля предполагает то, что нужно
доказать, а именно самореферентность временной сферы. Гуссерль
пытается поставить вопрос о времени и ограничить этот вопрос
сферой времени. Он хочет свести вопрос о происхождении времени, или,
если угодно, об ощущении времени, к неким первичным временным
структурам. Причем исключение всего эмпирического (таков здесь
прообраз феноменологической редукции, хотя, конечно, здесь нет
еще этого термина) должно нас сразу же привести к самому времени,
к первичным формам сознания времени и времени-сознания. Здесь
можно отвлечься от вопроса — можно ли исключить все
эмпирическое, т. е. мы не будем ставить здесь под вопрос феноменологическую
редукцию в целом. Даже если это возможно, то отсюда не следует
первичность и самостоятельность переживаний времени. Переживания
времени могут зависеть от переживаний другого типа. Иначе говоря,
исключение объективного времени и переход к субъективному не
доказывает абсолютной независимости и самореферентности
временного опыта. Если имманентное время не имеет никакого
эмпирического источника, это не означает, что время не имеет никакого другого
источника в сфере сознания. Иначе говоря, непредметность
субъективного времени не означает еще его изначальности; субъективное,
или имманентное, время может зависеть от иного типа
непредметного. О таком же пробеле в аргументации, а точнее, об отсутствии
всякой аргументации при введении понятия времени, или временности,
может идти речь и в отношении Хайдеггера. Так же как и у
Гуссерля, временной опыт оказывается у Хайдеггера независимым. Однако
в отличие от Гуссерля, Хайдеггер не нуждается в специальной про-
* Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени / Перев.
В. И. Молчанова. М.: Гнозис, 1994. С. 11-12; 9-10.
376
В. И. Молчанов
цедуре введения времени. Само-соотнесенность, само-референтность
и независимость временного от какого-либо сущего предполагается
с самого начала. В отличие от Гуссерля, Хайдеггер просто
постулирует независимость и непредметность временности: «Временность
не "есть" вообще сущее. Она не есть, но обнаруживает себя <...>
Временность обнаруживает, и притом возможные модусы себя самой.
Последние делают возможным многообразие модусов бытия вот-бытия,
и прежде всего фундаментальную возможность собственной и
несобственной экзистенции... Временность есть первичное Вне-себя, в себе
и для себя самой»*.
Пробел в аргументации состоит здесь, так же как и у Гуссерля,
в том, что зависимость временности от другого не-сущего, причем
именно от пространственности, не принимается в расчет. Таким
образом, если мы считаем время чем-то не существующим, не-сущим,
лучше сказать, непредметным, то это не означает, что мы обретаем
время в качестве первичной инстанции, онтологически первичного
имманентного или экзистенциального времени. Временность как
не-сущее может зависеть от другого не-сущего, непредметное может
зависеть от другого непредметного и быть вторичным. Время в
самом деле не существует предметно, но другой вопрос: что оно
обнаруживает — себя или нечто другое? Скорее оно обнаруживает не свои
модусы (что опять-таки предполагает «субстанцию»), но простран-
ственность и телесность мира как взаимосвязи отсылок или, лучше,
иерархии значимых различений.
3. Пространство скрывается за временем
Речь идет не только о том, чтобы обнаружить пробелы в
аргументации у основателей феноменологии при попытке ввести понятие
времени, но и о том, чтобы выявить пространство и опыт
пространства, которые остаются скрытыми за якобы фундаментальным
опытом времени. Можно реконструировать неявный, подспудный ход
рассуждений Гуссерля, Хайдеггера, Бергсона и многочисленных их
адептов, в число которых входил ранее и автор этих строк:
субъективность и человеческое бытие есть «нечто» непредметное, не скроенное
ни по образу и подобию предметов и процессов воспринимаемого
мира, ни по образу и подобию мира абстракций, идеализованных
конструкций, идеальных предметов. «Субъективность» или «душа»
не есть ни материальная субстанция, ни число или идея и т. д.
Однако объявить субъективность и, соответственно, человеческое бытие
непредметным явно недостаточно. Необходимо также указать на до-
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 434, 435.
Время, пространство, история
377
ступный в принципе опыт, описание которого совпадало бы с
описанием глубинных слоев сознания или бытия. Непредметное
мыслится при этом как процессуальное или, лучше, квазипроцессуальное,
во всяком случае, не застывшее в определенных формах. Время —
субъективное и экзистенциальное — интерпретируется при этом как
опыт непредметной процессу ал ьности, как структура акта сознания
(ретенция — теперь — протенция), как структура смысла бытия —
заботы, а также как чистая длительность и творчество у
Бергсона. Непредметная квазипроцессуальность («Время неподвижно,
и все же оно течет»*) рассматривается не только в качестве
независимой от предметности мира, но и независимой от любых других видов
опыта. Именно в этом пункте мы зафиксировали выше пробел в
аргументации, или, проще говоря, ложный вывод. Если непредметная
субъективность предполагает непредметный опыт времени, то
отсюда еще не следует, что этот опыт единственно фундаментальный
и независимый от других видов опыта. «Глубина» времени
постулируется еще на том основании, что время может объединять или быть
общей структурой всех видов опыта — воли, морального сознания,
эстетического восприятия, радости, печали и т. д., оставаясь
непричастным ни к одному из предметов, с которыми имеют дело.
Поток сознания (Гуссерль), временность (Хайдеггер), чистая
длительность (Бергсон) интерпретируются как глубочайший опыт,
из которого произрастают все другие виды опыта. Такое
конструирование иерархии опыта вдохновляло и продолжает вдохновлять
целое поколение феноменологов и бергсонианцев. <...> Тем не менее
не кто иной, как Хайдеггер, заложил мину замедленного действия
под такого рода тотальную темпорализацию. Такой миной стало хай-
деггеровское понимание пространства, которое освободилось от
вещественности, предметности, представимости и, главное — от
отнесенности к внешнему опыту. Только такое пространство может
составить конкуренцию времени, и, я думаю, успешную
конкуренцию. Именно пространство как первичная иерархия значимостей
лежит в основе всех конкретно осуществимых видов опыта, а также
опыта времени, если, конечно, допустить, что существует
относительно автономный темпоральный опыт. <...> История и
пространство. Деструкция темпоральной историчности
<...> 2. Историчность: время или пространство?
Экспликация проблемы истории и историчности вырастает
у Хайдеггера из известной предпосылки: временность является ус-
* Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С. 68, 64.
378
В. И. Молчанов
ловием возможности заботы. Хайдеггер напоминает, что у вот-бы-
тия есть не только смерть, но и рождение, а следовательно,
протяженность между рождением и смертью. Эту протяженность нельзя
понимать как простую последовательность переживаний «во
времени». Тогда действительными оказались бы только переживания,
наличные в каждый момент, и в этом случае жизнь состояла бы, как
полагает Хайдеггер, из прыжков по линии из точек «теперь».
Однако неявная предпосылка такой «вульгарной» концепции, хотя она
ищет жизненную взаимосвязь не вне, а в самом вот-бытии —
полагать вот-бытие как наличное «во времени», — препятствует
пониманию вот-бытия в качестве «между» рождением и смертью.
Хайдеггеровская стратегия здесь такова: он связывает
обыденное, по его мнению, воззрение, называя его вульгарным, с
определенным образом времени, чтобы затем, при удалении
«вульгаризации», противопоставить ему иное, экзистенциальное понимание
времени. При этом время и язык времени должны восприниматься
как естественные и необходимые средства описания жизни.
Времена, рождение и смерть должны теперь пониматься не как
последовательные, но как взаимопроникающие, для чего Хайдеггер
использует выражения, напоминающие некоторые фрагменты Гераклита
Эфесского, которого, как известно, называли темным: «Фактичное
присутствие экзистирует рождённо, и рождённо оно также и
умирает в смысле бытия к смерти»*. Можно ли перевести это
выражение на понятный для всех язык опыта? По крайней мере, Хайдеггер
не дает себе такого труда. Разумеется, речь здесь не должна идти
о таком «вульгарном» факте, что каждый из нас откуда-то родом,
что мы впитываем с молоком матери определенные предрассудки
и предрасположения, что мы воспитываемся в определенном
окружении и т. д. Речь ведь должна идти не о биологическом или
социальном, но об онтологическом, которое, однако, несет в себе черты
скорее романтические и диалектические, чем
дескриптивно-феноменологические. (Хотя метод провозглашается феноменологический!)
Такого рода хайдеггеровские выражения указывают на их скорее
отрицательный, чем позитивно-дескриптивный, характер.
Хайдеггер указывает на то, чем не является экзистенция: «Подвижность
экзистенции не есть движение какого-либо наличного»**. Однако
из этого отрицания не следует, что человеческое бытие
тождественно истинной, или экзистенциальной, временности, выразить
которую можно только посредством языка, похожего на заклинание.
Позитивный смысл memento vivere становится доступным
только при пространственном осмыслении жизни, ибо жизнь в суще-
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 374.
" Ibid. S. 495, 375.
Время, пространство» история
379
стве своем пространственна, а не соткана из неуловимого
экзистенциального времени. У самого Хайдеггера попытки позитивного
определения подвижности экзистенции приводят к своеобразному
исчезновению времени и появлению пространства: «Она
определяется из протяжения (Erstreckung) вот-бытия. Специфическую
подвижность протяженного самопротяжения мы называем событием
вот-бытия»*. Слово Erstreckung можно перевести и как
«распространение», а также как «пространство», но суть дела от этого не
меняется: в решающий момент, то есть при определении подвижности
экзистенции, пространственные характеристики прорываются
наружу. Впрочем, сам Хайдеггер признает в докладе «Время и бытие»
(1962), что «попытку, [сделанную] в Бытии и времени (§ 70),
свести пространственность вот-бытия к временности нужно оставить» **.
Однако в Бытии и времени первенство времени, или временности,
не вызывает у Хайдеггера сомнений. Протяженность он мыслит,
прежде всего, как временную протяженность, забывая о первичном
пространственном значении этого слова. В этом он полностью
следует Гуссерлю, для которого первичной является временная
протяженность вещи (об экзистенции, конечно, речь не идет), а не
пространственная.
Основной тезис Хайдеггера относительно историчности гласит:
«Анализ историчности вот-бытия пытается показать, что это сущее
не потому темпорально, что оно "находится в истории", но что оно,
наоборот, исторично существует и может существовать только
потому, что оно в основе своего бытия темпорально»***. Однако
именно последний тезис Хайдеггеру доказать не удается; впрочем, он
и не пытается это делать. Ни страх, ни бытие к смерти, или
свобода к смерти, ни решимость и забегание вперед не доказывают
темпоральной сущности человеческого бытия и бытия вообще. Забота
и экзистенция находят у Хайдеггера свое выражение на
модифицированном языке пространства и движения — уже-быть-в, быть-
при, забегать-перед; кроме того, он использует самые
элементарные и всем известные временные различия — прошлое, настоящее,
будущее. И как бы Хайдеггер ни видоизменял значение этих слов,
для того чтобы понять все эти трансформации, нужно все же
понимать исходные значения. Эти исходные значения, однако, не
только по своему происхождению, но и по сути своей пространственны.
Прошлое говорит нам о том, какие значимые пространства ушли
и были заменены настоящими, актуально значимыми простран-
* Ibid.
** Heidegger M. Zur Sache des Denkens. Gesamtausgabe Bd. 14. Frankfurt am
Main: Vittorio Klostermann, 2007. S. 29.
*** Heidegger M. Sein und Zeit. S. 498, 376.
380
В. И. Молчанов
ствами, и среди прошедших выделенным может быть пространство
рождения. Точно так же и будущее говорит нам о том, какие
наступающие, приходящие пространства, т. е. значимые ситуации,
возможны, и среди этих будущих пространств выделенным может
быть пространство смерти. Настоящее — это иерархическая
совокупность актуальных и потенциально значимых, актуально и
потенциально достижимых пространств в объективном, т. е. в
пространственном времени. «Единицей измерения» как объективного,
так и субъективно переживаемого настоящего является день, восход
и заход солнца, необходимый первичный цикл жизни, из которого
складываются недели, месяцы, годы и т. д. В настоящем, причем
в определенном пространстве настоящего, мы отличаем настоящее
от прошлого, настоящее от будущего, будущее от прошлого. Эти три
направления времени суть абстракции от многообразных
актуальных, исчезнувших и прогнозируемых пространств.
Кажется парадоксальным отнять у человеческой жизни и
истории время, но не времени лишается жизнь и история, а мифической
временности, якобы пронизывающей человеческое бытие. Истории
принадлежит объективное время (основанное на движении Земли),
которое выступает в качестве основы хронологии, и не существует
никакого исторического времени, кроме хронологического. Но и
объективное, или хронологическое, время не определяет историчность
как основание истории. Историчность выявляет себя скорее в
подвижных иерархиях пространств и миров человеческих действий.
Представление об истории как некотором плавно
изменяющемся процессе Ханна Арендт подвергла критике именно с позиции
различий: «В сравнении с этими теориями, предложенные мной
различия между тираническими, авторитарными и тоталитарными
системами являются неисторическими, если под историей
понимать не историческое пространство, в котором определенные формы
правления являют себя как опознаваемые данности, но как
исторический процесс, в котором все всегда может измениться во что-то
еще»*. Хайдеггер также не рассматривал историю как процесс или
прогресс, но ему присущ иной тип историцизма — историцизм
«общей судьбы» и «решительныхдействий».
Излагая «вульгарное», как он его называет, понимание истории,
Хайдеггер выделяет четыре основных значения термина,
исключая из этого списка историю как науку и историю как объект науки:
1) прошлое; 2) происхождение; 3) целостность сущего,
изменяющегося во времени; 4) переданное традицией. Все эти четыре значения
сходятся в том, утверждает Хайдеггер, что человек выступает субъ-
* Arendt H. Between Past and Future. Penguine books, 1968. P. 101, 103.
Время, пространство, история
381
ектом событий. Однако это порождает следующие вопросы: каким
образом происходят эти события? Являются ли они
последовательностью процессов и различных происшествий, каким образом
относится происходящее в истории к вот-бытию, должно ли вот-бытие
быть уже наличным, чтобы попасть «в историю»? Становится ли
вот-бытие историчным посредством переплетения обстоятельств
и происшествий, или же только потому, что вот-бытие в своем бытии
исторично, становятся возможными обстоятельства, происшествия
и история? Этот ряд вопросов завершается утвердительным ответом
на последний вопрос. Остается только выяснить, «в какой степени
и на основе каких онтологических условий историчность
принадлежит субъективности "исторического" субъекта» как [ее] сущностное
устроение»*.
Итак, «вульгарный» тезис о том, что субъект истории — человек,
«углубляется» за счет введения субъективности субъекта истории
и нахождения онтологических оснований ее историчности во
временности. Именно в этом пункте проявляется не преодоленный Хай-
деггером субъективизм, приписывающий вот-бытию, т. е.
человеческому бытию, источник смысла и историчности мира. Прерогатива
осмысленности: «Только вот-бытие может быть <...> осмысленным
или неосмысленным»** дополняется прерогативой историчности:
«Первично исторично, — утверждаем мы, — вот-бытие, вторично
исторично, однако, внутри мира встречающееся, не только
подручные вещи — инструменты в широком смысле, но также
окружающий мир природы как "историческая почва"»***.
Такие вопросы и решения отодвигают на задний план другое
основание историчности и истории, которое вводит Хайдеггер, а
именно историчность мира. Из выделенных четырех понятий истории
Хайдеггер выбирает в первую очередь понятие прошлого, которое
он рассматривает на примере экспоната музея. Определенный
предмет, например инструмент, наличествует и вместе с тем
относится к прошлому. Что же делает его историческим, принадлежащим
к истории? Что является прошлым? Ведь предмет налицо, и даже
в определенных случаях может быть употреблен в дело. Тем не
менее, употребляется он или нет, он все же не тот, что прежде. «Что же
"прошло"?» — задает вопрос Хайдеггер и отвечает: мир, внутри
которого этот предмет принадлежал взаимосвязи инструментальных
задач. «Мира больше нет, — пишет Хайдеггер, — но то, что прежде
было внутримирским этого мира, еще наличествует»****.
* Heidegger M. Sein und Zeit. S.505, 382.
" Ibid. S.201, 151.
*** Ibid. S. 504, 381.
"" Ibid. S. 503, 380.
382
В. И. Молчанов
Признать историчность мира первичной или зависимой от
историчности вот-бытия, основанной на временности, — эти колебания
связаны с попыткой провозглашенного Хайдеггером
темпорального возобновлении анализа во втором разделе работы. В отношении
«заботы» это означает: забота может быть структурно выражена как
единство трех направлений времени.
Хайдеггер приписывает вот-бытию то, что нельзя приписать
миру: забегание вперед, возвращение к себе, судьбу, решимость как
свободу к смерти. Однако введение историчности в качестве основы
вот-бытия выявляет в нем иную ипостась: вот-бытие обозначает уже
не только и не столько индивидуальное существование, сколько
существование общности, народа. Различие подлинного и
неподлинного выявляется и в контексте фундаментального устроения
историчности: или вот-бытие «экзистирует фактично с другими» и при
этом «самость потеряна в das Man»*, или же бытие-с-другими
обретает свою судьбу: «Если судьбоносное вот-бытие как в-мире-бытие
существует сущностно в совместном бытии с другими, то его
событие есть совместное событие и определено как судьба (Geschick). Так
мы обозначаем событие общности, народа. Судьба не состоит из
отдельных судеб (Schicksal), так же как бытие-друг-с-другом не может
быть понято как совместное существование многих субъектов»**.
Таким образом, третьего не дано: бытие-с-другими — это или
потерянность в анонимном, или слияние в общей судьбе.
Хайдеггер как будто отказывает человеку в индивидуальной
судьбе. Для чего же тогда радикальная индивидуация? Очевидно,
попытки Гуссерля и Хайдеггера бороться с субъективизмом
существенно различаются. Радикальный субъективизм Гуссерля — это
поиски непсихологического начала человеческой личности,
независимого от тех или иных эмпирических склонностей и состояний.
Гуссерль пытается найти в эмпирической личности
трансцендентальное, конститутивное начало. Истина, в том числе и социальная,
устанавливается, согласно Гуссерлю, сообществом независимым,
монадических личностей. Путь Хайдеггера (по крайней мере, в
Бытии и времени) — объединить людей в неделимое единство и в
высшей степени сплоченное сообщество. Хайдеггеровское
судьбоносное сообщество должно стать своим собственным конститутивным
источником, где каждая индивидуальная судьба и каждая
индивидуальная личность становятся снятыми в гегелевском смысле.
Таким образом, радикальная индивидуация имеет скорее не
индивидуальную, а социальную цель.
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 507, 383.
** Ibid. S. 508, 384.
Время, пространство, история
383
Там, где речь идет об историчности вот-бытия и мира (§ 75), Хай-
деггер максимально сближает историчность вот-бытия и
историчность в-мире-бытия: «Событие истории — это событие в-мире-бы-
тия. Историчность вот-бытия есть сущностно историчность мира,
в котором экстатично-горизонтная временность обнаруживает себя
как его основа»*.
Насколько бесспорным является тезис об историчности
вот-бытия, мира и в-мире-бытия, настолько сомнительным является
определение основы мира как «экстатически-временной». Указывая
на генезис историчности предметов в мире, Хайдеггер вынужден
воспользоваться пространственной характеристикой: «Через
экзистенцию историчного бытия-в-мире подручное и наличное уже
всегда втянуты в историю мира»**. При этом «втягивание» в историю
если и считать метафорой, то максимально приближенной к
прямому смыслу, к дескрипции,
3. Пространство значимости и/или пространство смысла
Любая забота изначально пространственна и телесна. В той же
степени это относится к миру и к бытию-в-мире. Бытие-в-мире
изменчиво, в «мире» существуют разнообразные движения и
скорости. Однако это не отменяет пространственно-телесной основы
движений и изменений, а также их результативности. Простран-
ственность мира не сводится к его телесной основе или к
«составленное™ из частей». Пространственность мира не сводится к
наглядному образу; это не вместилище всех процессов и вещей, данных или
могущих быть данными в опыте, и не порядок вещей, но
взаимосвязь отсылок: один значимый предмет, в частности инструмент,
отсылает к другому. Открытие мира и пространства как взаимосвязи
отсылок — основное достижение Хайдеггера. Парадигмой
является здесь для Хайдеггера мир труда ремесленника, мир мастерской,
где все инструменты и материалы взаимосвязаны как значимые
друг для друга, но все же образуют замкнутый мир. Разомкнутость,
или открытость, человеческого существования Хайдеггер находит
во временности, в ее экстатическом характере. Однако
экстатическая временность есть, по существу, иное название
пространственного опыта трансценденции, опыта перехода из одного значимого
или ценностного пространства в другое. Как и в отношении гуссер-
левской концепции времени, здесь следовало бы применить своего
рода правило исправления имен: там, где речь идет об имманентном
или экзистенциальном времени, речь идет, по существу, об особом,
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 513, 388.
** Ibid. S. 513, 388.
384
В. И. Молчанов
выделенном пространстве опыта, о возможности глубокой, или
глубинной, трансформации человеческого опыта. Взятая «сама по себе»
экстатическая временность есть не что иное, как мифологема,
лишняя сущность, вытесняющая пространственный опыт.
С помощью «мира» Хайдеггер пытается разрешить
сформулированную им дилемму — между историей как взаимосвязанным
изменением объектов и историей как свободно парящей
последовательностью переживаний субъектов. На основе «мира» и бытия-в-мире
эта дилемма действительно поддается решению, но темпоральная
добавка, или прививка, превращает историчность в некую
иррациональную силу, определяющую судьбу-событие (немецкого) народа.
Так фикция экстатической и телеологической временности создает
возможность идеологического инструментария.
Дилемма, сформулированная Хайдеггером, не может быть
разрешена на основе временности, но сама дилемма не является
надуманной, она вполне реальна. Однако проблема не только в том, чтобы
найти посредника между субъективным и объективным, но и в том,
чтобы определить характер связей между объектами и между
переживаниями субъектов. Являются ли эти связи кардинально
различными и обретающими единство только благодаря
посредничеству иррациональной или интенциональной временности? В таком
случае всякое сопоставление субъективной и объективной истории
становится проблематичным. Попытка обосновать единство
объективного и субъективного (чувственности и рассудка) с помощью
времени как трансцендентальной схемы носит у Канта всецело
формальный характер.
Понимание мира и пространства «в» нем как взаимосвязи
отсылок ставит перед нами еще один важный вопрос: являются ли они
феноменами в феноменологической смысле, и прежде всего в хайдег-
геровском смысле самоданностями, не отсылающими к чему-либо
иному? Может ли быть феноменом система отсылок? Может ли
система отсылок показать себя из себя самой? В этом есть что-то
парадоксальное. С одной стороны, система отсылок предназначена для своего
осуществления, с другой стороны, она осуществляет себя без участия
человека. Следуя системе отсылок, мы полностью должны были бы
раствориться в мире, что и происходит в некоторых видах
человеческой деятельности. Со стороны мы могли бы взглянуть на мир (или
пространство), в котором мы были растворены, но в таком случае мир
(и пространство) также терял бы свою феноменальность. В первом
случае мы сталкивались бы не с миром, но только с ближайшей
отсылкой, во втором — с миром как объектом наблюдения.
Хайдеггеровский мир устроен таким образом, что любая
предметность должна растворяться в значимости, т. е. в конечном итоге
Время, пространство, история
385
в функциональности, которая выступает в качестве репрезентанта
определенной системы отсылок и являет собой не что иное, как
систему знаков. Термин «значимость», как подчеркивает Хайдеггер,
не содержит в себе ни малейшего оттенка «ценности», и сближается
с термином «значение», когда последний означает значение слова.
(Хайдеггер мог бы продолжить: значение слова как его
употребление.)
Чтобы всячески преуменьшить разницу между значением и
знаком Хайдеггер использует в пролегоменах к истории понятия
времени языковые средства: он избегает существительного «значение»
и сопоставляет «значить», или «означать» (bedeuten), и
значимость: «Отсылку, которую мы имеем в виду как структурный
момент соприкосновения с миром, мы теперь обозначаем более точно
как „значить". Таким образом, определенную структуру встречи
в отсылках как „значить" мы называем „значимостью"»*.
Употребление глагола bedeuten, а не существительного Bedeutung не
случайно: в мире отсылок нет значений как анализируемых и
интерпретируемых смыслов и ценностей, мир состоит из прагматически
ориентированных отсылок и знаков, каждый из которых указывает
на практическую значимость предметов и ситуаций.
Отсылка как основная характеристика мира соотносится со
знаком как род и вид: «Термин отсылка означает формально структуру,
которая выявляется в различных феноменах. Знак есть вид
отсылки, [как и] символ, симптом, след, документ, свидетельство,
выражение, остатки» **. В Бытии и времени знак также вид отсылки и
инструмент для указания. Такое определение знака можно было бы
счесть тривиальным, если бы не использование одного и того же
термина для определения как знака, так и феномена — ведь
последний должен как раз существенно отличаться от знака в этом
отношении. Ранее глагол zeigen (показывать) характеризовал у Хайдеггера
феномен, теперь zeigen — это характеристика знака: «Знаки — это
прежде всего инструментальные средства (Zeuge), специфический
инструментальный характер которых состоит в указывании (Zeigen)
<...> Указывание может быть определено как "вид" отсылки»***.
Такова игра: одно слово в двух разных значениях характеризует
и феномен, и знак. Однако «значить» в смысле «иметь значение»
и «означать» в смысле «указывать» отличаются по значению,
которое оказывается «сильнее», чем знак (указание тоже может иметь
интерпретируемое значение, или смысл). То, что Гуссерль тщатель-
* Heidegger M. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. Gesamtausgabe
Bd. 20. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1994. S. 274.
** Ibid. S. 275.
*** Heidegger M. Sein und Zeit. S. 103, 77.
386
В. И. Молчанов
но отделял в Логических исследованиях, становится у Хайдеггера,
по существу, равнозначным, т. е. имеющими равное значение.
Так, мир предстает у Хайдеггера как многообразие систем
отсылок и значимостей, но не содержит еще одного существенного
измерения — смыслового. Без этого последнего измерения было бы
невозможно понять переход от одного мира к другому, т. е. от одной
системы значимостей в иную, быть может совершенно непохожую
на предыдущую, скажем, когда из университета попадаешь в метро.
Кроме того, и это, пожалуй, главное, определенная система
значимости, т. е. определенный прагматический фрагмент жизни, может
быть осмыслен по-разному.
Пример, который приводит Хайдеггер, весьма показателен в этом
отношении: описывая систему отсылок, можно не заметить
определенного смысла это системы значимости в целом. Хайдеггер
отмечает, что определенное устройство (указатель поворота — сейчас это,
как известно, не красная вращающаяся стрелка, но электрическое
устройство с мигающей лампой определенного цвета) указывает
дальнейший путь автомобиля на перекрестке. При этом указателем,
отмечает Хайдеггер, пользуются не столько водитель и сидящие
в автомобиле, но как раз другие — пешеходы, которые должны или
отклониться в соответствующую сторону, или стоять на месте.
Иначе говоря, указатель поворота диктует поведение пешеходам,
«отсылает» их к тому или иному месту или к тем или иным движениям.
Тем самым указания создают возможность безопасности, т. е.
несовпадения в пространстве.
В этом примере Хайдеггера можно как раз отделить
прагматическую ситуацию от смысловой. Отметим прежде всего, что отсылки
основываются все же на границах и разграничительных линиях,
которые не создаются указаниями, но как раз выражают смысл:
безопасность. Тем самым уже можно отделить общий смысл
ситуации от системы отсылок. Однако за смыслом «безопасность» стоит
и другой смысл: какими средствами достигается эта безопасность
и ради кого предпринимаются меры безопасности: для автомобиля,
шофера и пассажиров или для пешеходов?
Прагматически эта ситуация описана Хайдеггером как нельзя
лучше, однако Хайдеггер не замечает при этом, что здесь
обрисована не только ситуация «мира труда» в широком смысле, но и
социальная ситуация отношения водителей и пешеходов в Германии
20-х годов, которая в настоящее время в странах Европы и многих
других странах в корне изменилась. Если движение не
регулируется светофором, то уже водители в первую очередь должны
реагировать на движение пешеходов. С недавних пор в России также иногда
и кое-где соблюдается это правило.
Время, пространство, история
387
Различие между смыслом (значением) и значимостью не носит
альтернативного характера. Это различие между двумя сферами
человеческого мира, или двумя измерениями человеческого
пространства. Они постоянно соотносятся друг с другом, но в принципе они
различны. Пространство смысла — это пространство феноменов;
пространство значимости — это пространство функциональных
отсылок. Первое всегда открыто и открывает многообразные миры
и пространства; второе замкнуто, как справедливо утверждает Хай-
деггер. Пространство смысла — это пространство различенностей
и различий, пространство значимости — пространство
идентификаций и идентифицированных предметов.
Хайдеггер выдвинул весьма важный и на первый взгляд,
парадоксальный тезис: «Ни пространство в субъекте, ни мир в
пространстве, но скорее пространство "в" мире» в той мере, в какой
конститутивное для вот-бытия бытие-в-мире раскрыло пространство»*.
Можно было бы избежать и этого "в": мир и пространство, по
существу, равнозначны, хотя удобно пользоваться двумя
синонимичными терминами, аналогично синонимичному употреблению
«значения» и «смысла» у Гуссерля.
«Пространство в мире» означает, по существу, что пространство
раскрывается в человеческом, в мирском мире в различных своих
измерениях. Тождественным было бы утверждение, что
пространство в своих основных измерениях составляет человеческий мир.
С помощью примера Хайдеггера мы отделили значимое
пространство от смыслового. Теперь необходимо отделить от
значимого пространства объективно-физическое. Первичными
характеристиками значимого пространства у Хайдеггера выступают
от-даление и направление (Ent-fernung und Ausrichtung).
Фактически хайдеггеровское от-даление, если принять хайдеггеровскую
языковую игру и считать от-даление приближением, означает
доступность подручного и в широком смысле непосредственная,
телесная доступность тех или иных вещей в окружающем мире.
Соответственно, направление есть не что иное, как ориентация-в-мире.
Хайдеггер пытается различить от-даление (как озаботившуюся
активность) и объективное расстояние. Он полагает, что
объективное пространство и его характеристики возникают позже, чем
первичные потребности сделать нечто более близким. С этим
нельзя не согласиться, если под объективным пространством понимать
пространство, конструируемое естествознанием. Вопрос в том, что
такое объективное пространство, и тождественно ли оно
пространству физической науки.
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 149, 111.
388
В. И. Молчанов
Хайдеггер описывает человеческий мир как мир заботы, но он
не принимает в расчет телеологию самой заботы: человеческие забо-
ты-в-мире стремятся к своему осуществлению и воплощению. Забота
ради заботы — скорее исключение, чем правило. Мифологический
Атлас держит на своих плечах небесный свод — такова его забота
и таково его предназначение. Однако показалось бы невероятным,
если человек должен был бы держать крышу своего дома, не
предоставив это «объективным» стенам. Хотя сам Хайдеггер отмечает,
что мы нуждаемся в объективных характеристиках для
строительства дома, но он не выделяет два разных значения термина
«объективный», одно из которых не тождественно термину «научный» или
«физический». Речь идет при этом об объективных характеристиках
мира, связанных с телесностью: тяжестью предметов, непогодой,
голодом и т. д.
Все хайдеггеровские описания пространственности несут на себе
следы объективной установки. Он не может избежать предлога «в»,
который обычно берется в кавычки, что должно якобы означать
трансформацию дескриптивного дискурса в метафорический.
Однако мы имеем здесь дело не с метафорой, но с выражением
объективной установки, которая является коррелятом озабоченной
активности. От-даление трансформируется в объективное расстояние,
и наоборот. То же самое можно сказать об ориентации и даже о
заботе: результат заботы может стать от нее независимым и опять может
стать предметом заботы.
Таким образом, феномен пространства раскрывает себя в трех
основных измерениях. Во-первых, в измерении непосредственных
забот и значимостей; во-вторых, в объективном измерении; в-третьих,
в смысловом измерении иерархии значений. При этом
общественный, или социальный, мир может быть как миром значимости, так
и миром смысла.
Первая основная характеристика пространства — это различие
между объективной и значимой сферами, вторая основная
характеристика — между сферой значимости и смысла. Каждый член этих
различий может выйти на передний план и отступить назад. Смысл,
или значение, наиболее общая характеристика пространства, при
этом значение (смысл) — это не идеальный предмет или метальный
атом, но серия, или ряд, различий. Простейшим таким различием
является различие предмета и его свойства, что придает смысл
суждению, восприятию и действию с этим предметом.
В любом своем измерении пространство есть подвижная, транс-
цендирующая, если угодно, экстатическая иерархия различий,
точнее, различенностей, которая не нуждается в темпорализации.
Это иное понимание пространства, чем у Хайдеггера, хотя и тес-
Время, пространство, история
389
но с ним связанное. Такое понимание пространства преодолевает
замкнутость ремесленной мастерской; иерархия различий корре-
лятивна фундаментальному опыту сознания, который является
и первичным опытом пространства — опыту различений и
различения различий. Благодаря пространству различений обретают
свой смысл и свою структуру как пространства жизненного мира,
так и абстрактные пространства науки, в том числе пространство
как вместилище и как порядок вещей. Корреляция «субъективных»
(различающих) и «объективных» (различенных) пространств — это
условие возможности дескриптивного соотнесения субъективного
и объективного, истории как знания и истории как действия.
Пространственно-коррелятивная дескрипция не нуждается в отсылке
к «внутреннемуопыту», «интенциональности» или «судьбебытия»,
но в качестве первого шага осуществляет то, что осуществляется при
описании любого предмета и процесса: фиксирует и перечисляет
различия.
История как описание, как наука имеет дело с многообразием
значимых и смысловых пространств и миров, образующих
изменчивое пространство жизненного мира. История как деятельность —
это постоянное формирование и преобразование, распределение
и перераспределение пространств, значимых для различных
сообществ и индивидуумов.
Было бы излишним приводить примеры из военной или
колониальной истории. Жизнь любого человека, любой общности — семьи,
клана, коллектива, церкви, государства и т. д. есть не что иное, как
освоение и утрата многообразных значимых пространств и миров —
от рождения до смерти.
Историю «наук и искусств», как и любую историю, можно
представить хронологически и как цепь причин и следствий, однако
изменение предметов и методов научного и художественного
творчества явно осуществляется как трансформация соответствующих
значимых пространств. «Европейскому человечеству»
потребовалась существенная пространственная трансформация на пути от
милетской воды до тяжелой. То же самое относится и к переселению
(иногда даже без изменения их местоположения) античных богов
из храмов в современные музеи, а также к самим храмам.
Физическое пространство может оставаться практически неизменным,
а пространство значимости претерпевает существенные
трансформации. Храм Св. Софии, при сохранении внешнего облика, был
превращен сначала в мечеть, а затем в музей. Современное
искусство меняет представление о предмете искусства и одновременно
о художественном пространстве. Современная техника, успешно
превращая природу во «всеобщий предмет труда», создает новое
390
В. И. Молчанов
пространство — виртуальное, которое также успешно вытесняет
реально-телесные пространства в иерархии значимости.
Пространства как иерархии различий и значений могут быть
не только позитивно значимыми, но и бессмысленными,
аномальными и агрессивными. В агрессивных пространствах господствует
время (функция берет верх над «субстанцией» опыта), заданный
ритм, который подчиняет себе не только волю и чувства, но и
направленность интеллекта. Наиболее выразительные примеры
агрессивных пространств в XX в. — концентрационные лагеря фашистской
Германии и Архипелаг ГУЛАГ в СССР. К агрессивным
пространствам относятся не только пенитенциарные учреждения и другие
«дисциплинарные пространства», но отчасти кинематограф и театр
(режиссер и актеры стремятся овладеть публикой), спорт, городской
транспорт в часы пик, средства массовой информации, особенно
телевидение, и многое другое — все, что не только в буквальном,
но и в переносном смысле приковывает к себе человека.
Прогресс в созидании и увеличении числа неагрессивных
пространств, не подавляющих волю и не умаляющих достоинство
человека, можно было бы считать критерием прогресса в истории.
Насколько возможен такой прогресс в эпоху глобализации, общества
потребления и вытеснения гуманитарного знания на периферию
общественных интересов — этот вопрос остается открытым.
€4^
В. А. ПОДОРОГА
Ландшафт Шварцвальда
(М. Хайдеггер. Опыты по гео-философии)
Вид на хижину Хайдеггера в Тодтнауберге.
1957 г.
Вступление
ХИЖИНА В ГОРАХ
Движение первое
На крутом склоне широкой горной долины южного
Шварцвальда, на высоте 1150 метров приютилась небольшая лыжная хижина.
В основании 6 на 7 метров. Низкая крыша перекрывает три
комнаты: кухню, спальню и кабинет. В узкой горловине долины видны
разбросанные тут и там по одной стороне склона свободно
расположившиеся крестьянские усадьбы с большой выступающей кровлей.
Горный склон спускается от альпийских лугов и пастбищ вплоть
392
В. А. Подорога
до леса с его старыми, высоко вздымающимися, темными елями.
И над всем этим — ясное летнее небо, в сияющем просторе которого
широкими кругами парят два ястреба.
Таков мир моего труда, увиденный склонными к созерцанию
глазами гостей и отдыхающих. Сам же я, в сущности, почти
никогда не предавался созерцанию этого ландшафта. Я испытываю его
ежечасное, дневное и ночное изменение, то медленное, то быстрое,
на протяжении долгих лет. Тяжесть горного хребта и крепость его
изначальной геологической породы, осторожно медленный рост
елей, сверкающее, ровное великолепие цветущих альпийских
лугов, строгая простота глубоко занесенных снегом полей — там
наверху все это сдвигается, теснит и проносится вихрем через
повседневную жизнь.
И опять-таки этот ландшафт желаем не ради наслаждения
мгновениями созерцания или эстетического вчувствования, но только
тогда, когда собственное Dasein захвачено работой. Прежде всего
именно работа открывает пространство (Raum) для этой горной
местности. Весь ход труда остается погруженным в событие
ландшафта.
Если в глубине зимней ночи необузданная снежная буря
сотрясает своими порывами хижину и все скрывается и прячется, — тогда
наступает время философии. Тогда ее вопросы можно просто и
существенно ставить. Обработка такого мышления не может привести
к иному, как только к утверждению его крепости и точности. Труд
над языковым выражением подобен противостоянию ели,
вздымающейся навстречу порывам бури*.
Перед нами ландшафт Шварцвальда. Вновь, но с замедлениями
перечитаем текст. Бросается в глаза безразличие Хайдеггера к
ландшафту как объекту эстетического «вчувствования» и созерцания.
Лишь труд, неустанная работа мысли и письма «впервые открывает
пространство для этой горной местности» (öffnet erst Raum fur diese
Bergwirklichkeit). Мыслитель, если он стремится «вработать» свою
мысль в то место, где она становится возможной как мысль о бытии,
мыслит то, что через него мыслится место-пребыванием бытия, т. е.
ландшафтом. Творящий ландшафт открывает место-пространство
хайдеггеровской мысли. Или, как говорит Хайдеггер: «Весь ход
труда остается погруженным в событие ландшафта», Der Gang der
Arbeit bleibt in das Geschehen der Landschaft eingesenkt. Но что это
значит в «событие ландшафта»? — а это значит, что мысль со-рож-
дается вместе с ландшафтом, ибо последний представляет собой
Heidegger M. Denkenfahrungen. Frankfurt am Main, 1983. S. 9-10.
Ландшафт Шварцвальда
393
не введенную в оптическую рамку природу, застывшую перед
наблюдателем в перспективном образе, а пространство самой мысли:
и ночная тьма, и крепость геологической породы, и сопротивление
ели порывам бури, — все становится значимым, ничто не может
быть отброшено. Природные элементы входят в состав мыслимого,
оставляя следы в материи философского письма, подобно
прожилкам в мраморе. Мысль не может существовать вне своего места, ей
небезразлично собственное место-положение в структуре бытия.
Но обратимся к пояснениям Хайдеггера:
Первоначальное слово «место» (Ort) означало острие копья
(die Spitze des Speers). В него все стекается. Место собирает вокруг
себя все внешнее и наиболее внешнее. Будучи собирающим (das
Versammeldne), оно пронизывает собой все и всему придает
значимость. Место как собирающее втягивает в себя, сохраняя втянутое,
но не как в замкнутой капсуле (eine abschlissende Kapsel), но так,
что все собранное им проясняется и просвещается и посредством
этого впервые высвобождается для его сущности*.
Что такое место мысли? Очевидно, что место мысли по
отношению к любому локальному или историческому месту обладает
качествами не-места (non-place)**. Если точнее, является местом не-ме-
ста. Неместность мысли: ее несводимость к тому или другому месту
(ни к биографическому, ни к порядку понятий); она всегда как бы
«между» : ни то ни это, ни там ни здесь, но и в то же время проходит
через эти пространственно-временные и языковые разделы,
становится в них, но никогда не бывает ставшей. Мысль — это энергия
прохождения, которая соединяет несоединимое: мыслимое с
немыслимым. Место мысли — не-место всех возможных мест. Так, между
переживаемой реальной близостью природного ландшафта
(телесной близостью) и трансцендентальной формой мысли существует
подвижная граница не-места мысли, мысли бесформенной, текучей,
пластичной, имманентной философскому тексту, который мы
читаем. Это не значит, что не-место мысли является чем-то аморфным,
полностью лишенным значения локальности, оно всегда
индивидуально, обнаруживает свой мыслительный контур благодаря тому,
что индивидуально «охватывает» все составляющие его телесные
* Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Tübingen, 1965. S. 37.
'* Понятие non-place, которое я заимствую из интерпретации Д. Купера,
одного из основателей антипсихиатрии, получает у него смысл «направления»
(direction): «...есть пространства, которые не существуют "в" пространстве,
но которые определяются направлениями как не-пространственные места»
(Cooper D. The Grammar of Living. London, 1976. P. 25).
394
В. А. Подорога
и внетелесные измерения. И это охватывание мгновенно, его можно
уподобить вспышке события. Было бы неверным полагать, что наше
чувствующее, мыслящее тело или наше «Я» сохраняют
центральное положение в каждом из этих измерений и что они
осуществляют процедуру «охватывания» (prehension)*. Достаточно остановить
в стоп-кадре многообразие макро- и микроскопических измерений,
свернутых в одном месте, занимаемом нашим «зрением», чтобы
поразиться фантастической картине мгновения, вероятно побудившей
Борхеса создать новеллу «Алефж место как точка, где сходятся все
точки, «миллион явлений — радующих глаз и ужасающих, ни одно
из них не удивило меня так, как тот факт, что все они происходили
в одном месте, не накладываясь друг на друга и не будучи
прозрачными»**. Иногда схожий образ места не-места выпадает, как
«счастливое число», иногда его созерцают с помощью молитвы,
добиваются духовными упражнениями и медитациями или психотропными
препаратами, реже его достигают критическим напряжением
жизни, балансирующим на кромке безумия. В одной из первых книг
Кастанеды приводится описание поиска такого места учеником
мексиканского колдуна***. Многочасовая изнурительная борьба
неофита с собственным телом, казалось, препятствует нахождению
места-пятна, «своего» места, где должны уравновеситься энергии
внутренние, телесные и энергии внешние, мировые. На самом деле
препятствием было не тело испытуемого, а его представления о мире
и безразличие к «своему» месту в нем. Обнаруженное на полу
веранды «пятно» и было тем местом н е-м е с т а, в котором
человеческому переживанию удается сблизиться с ритмом позитивных сил
мира. Все эти измененные состояния сознания, научающие видеть,
не предполагают какого-либо вмешательства со стороны так
называемого познающего субъекта. Место не-места не может быть занято
субъектом, ведь оно все же не э т о или т о место, а место
не-места. Или иначе: если место отдается мысли, то сама мысль мыслится
субъектом, но поскольку это место определяется не другой мыслью,
а не-местом, т. е. немыслимым, то мысль будет ограничена
собственным немыслимым. Место мысли относится к не-месту, как мысль
к немыслимому. Однако между первым и вторым нет постепенности
перехода — скорее разрыв, зияние или пропуск, так как немысли-
Ср.: «Реальный мир представляет собой многообразие охватываний, а само
"охватывание" есть "охватывающее событие" (Уайтхед А. Н. Избранные
работы по философии. М.: Прогресс, 1990. С. 129).
'* Борхес Хорхе Луис. Проза разных лет. М.: Радуга, 1984. С. 195.
Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Tübingen, 1965. S. 37.
Кастанеда К. Учения дона Хуана. Путь знания индейцев яки. М.: Миф,
1991. С. 27-32.
Ландшафт Шварцвальда
395
мое, будучи истинным основанием, средой мысли, не соотносит себя
с субъектом мысли; в то же время, но с иной позиции, мысль,
домогающаяся немыслимого, не в силах им овладеть с помощью
субъекта, превращающего немыслимое в объект. Все попытки устранить
немыслимое из мысли обречены, ибо ведут к устранению самой
мысли. Немыслимое неустранимо; оно не внешний, а внутренний
предел самой мысли, ее внутреннее Внешнее*. Другими словами,
немыслимое пространство мысли до-субъектно, и в нем,
сколько бы мы ни пытались, невозможно разместить антропоморфных
двойников субъекта («человека», «чистое сознание», «я мыслю»).
Имя «человек» теряет свой несущий остов значений одновременно
с объявленной Ницше «смертью Бога» и больше не символизирует
собой антропоморфную основу мира, становясь лишь одним из
проявлений немыслимого. Место не завоевывается, оно — дар, оно —
пред-дано мысли и не требует для себя утверждения ни в субъекте,
ни в картезианской позиции «я мыслю», ни тем более в гарантиях
со стороны «человека мыслящего» как источника и меры
первоначального смысла. Введение фигуры человека в событие мысли,
фигуры якобы изначально родственной мысли (действительно, кто
мыслит, разве не человек?), — насильственная операция,
приводящая к остановке игры сил немыслимого. Мысль же внедрена в
немыслимое как свое место, именно поэтому человеческое
присутствует в мире через свое отсутствие. Ранее Декарт и Кант, а вместе
с ними вся традиция классического философствования
действовали в ином направлении, когда пытались найти место мысли в том,
что ей «врождено», — в предельно внутреннем, где априорные
формы чувственности совпадают с любыми содержаниями внешнего
и определяют его. Гуссерлевская процедура «воздержания от
суждения» — как универсальная для определения начала мысли —
проектируется в похожем ключе, открывая единственно возможное
место для мысли, место трансцендентальное, т. е. такое место,
которое будет местом всех возможных мест мысли. Место мест, место для
всего совместного. «В наши дни, — замечает М. Фуко в хайдеггеров-
ском стиле, — мыслить можно лишь в пустом пространстве, где уже
нет человека. Пустота эта не означает нехватки и не требует
заполнить пробел. Это есть лишь развертывание пространства, где
наконец-то можно снова начать мыслить»**. Можно ли мыслить событие
веры? Да, но в силу его немыслимости! Вот ответ, который мог бы
дать Киркегор. Подобное же напряженное вопрошание
демонстрирует и мысль Ницше, направленная к постижению становления,
* Foucault M. La pensée du dehors. Paris, 1986.
Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.:
Прогресс, 1977. С. 437-438.
396
В. А. Подорога
и мысль Хайдеггера, неустанно повторяющая свой вопрос о бытии.
Разве можно сказать, что их мысль располагается по другую сторону
немыслимого: мыслить — это не значит мыслить о, по поводу или
посредством, мыслят не бытие, становление или веру, мыслят
бытием, становлением, верой.
Вот почему не следует думать, что Хайдеггер пытается свести
мысль к тому, что не является мыслью, — например, придать ей
уничтожающие ее локализации в национальной территории,
«почве и крови». Хайдеггер скорее редетерриториализует мысль, а это
значит, пытается соотнести ее с немыслимым. Со своей стороны,
немыслимое не тайна, бессилие или произвол мысли, это предел
мысли, всякий раз отодвигаемый языком. «Чем значительней труд
мыслителя, — пишет Хайдеггер, — который отнюдь не зависит
от объема и числа его произведений, тем богаче в этом труде
присутствие немыслимого (Ungedachte), иначе говоря, прежде и
единственно того, что выступает благодаря этой мыслительной работе
как еще-не-мыслимое (als das Noch-nicht-Gedachte). Немыслимое —
отнюдь не итог того, что мыслитель просмотрел или с чем не
совладал и чего в таком случае можно было бы добиться последующим
улучшением знания»*.
Движение второе
Когда ранний утренний свет
растет над горами...
Свет бытия никогда не достигает мира,
погруженного во тьму. Мы приходим к богам слишком
поздно и слишком рано — к бытию,
изначальная поэзия которого — человек. К одной звезде
идти — только это.
Когда порывы ветра, ударяясь в ставни,
завывают в набирающей силу буре...
Мышление искажено мыслимым, которое
когда-то пребывало на небе как звезда мира.
Мужество мышления происходит из затребования
бытия, тогда язык обретает судьбу. Поскольку
мы обладаем сутью бытия (Sache) благодаря
видению и в сокровенном прислушивании к слову,
мышление исполняется счастьем.
Немногие в достаточной полноте
испытывают власть различия между научным предметом
* Heidegger M. Der Satz vom Grund. Tübingen, 1965. S. 123-124.
Ландшафт Шварцвальда
397
и мыслимой вещью. Если бы мышлению
противостоял бы достойный противник, а не просто
враг, тогда раздумие о его сущности было бы
благословенно.
Когда солнечный луч на мгновение,
пробиваясь сквозь разрозненные
дождевые облака, озаряет туманное
утро...
Мы никогда не приходим к мыслимому, —
оно приходит к нам. Это случается в счастливые
часы беседы. Ему радуются в связном
осмыслении. Это не обращается против чуждо
устремленного мнения, не протестует против уступчивого
согласия. Из такой общности ожидают
возможно единственного, что открывается в подручном
труде мышления. Мышление твердо пребывает
на ветру вещи (am Wind der Sache). При этом,
благодаря беседе, неожиданно становятся его
искусным мастером...*
Вот текст 2, легко рассекающий текст 1. Я нахожу его в небольшой
работе Хайдеггера «Из опыта мышления». Пространное
представление горного ландшафта. Двойное отражение бытия в ландшафтных
и мыслительно-поэтических образах. Идет игра. Отпечаток этой
игры несет на себе и полиграфическая форма этой книжицы: если
левая страница — это картинка ландшафта, прерывисто сплетаемая
из отдельных мгновенных образцов, то правая — составляется из
неясных, но очень досократических по форме афоризмов. На левой
странице ландшафтный образ движим определенным видом
природной энергии (будь то «тишина рассвета» или «порывы ветра»),
создающей настроение, Stimmung мысли; и каждый образ нависает
над другим, удерживая перед собой белое пространство листа.
Поэтический образ проявляется мгновенным всплеском, тут же
переходящим в белое и монотонное, в бесконечный повтор трех точек,
словно каждый из левых образов выталкивает из себя ритмическую
волну, не находящую более ни образного, ни звукового
подкрепления. Однако на правой стороне листа событие ландшафта
удваивается, повторяясь на языке поэтизированной мысли, сквозь которую,
связывая речь, движется ритмическая волна ландшафтного образа.
* Heidegger M. Aus der Erfahrung des Denkens. Tübingen, 1957. S. 7.
398
В. А. Подорога
Движение третье
Однако в действительности поэзия и мысль (Dichten und Denken)
разветвляются (разделяются) из их сущностного единства
посредством тонкого, но просветляющего различия в их обоюдной
неясности: параллельные линии, пара <Шт|А.©, будучи друг с другом,
против и над собой, каждая из них превосходит свой способ
существования. Поэзия и мысль не разделяются, если под разделением
мы будем понимать различенное безотносительно к чему-либо.
Параллели пересекаются в бес-конечном (im Un-endlichen). Там они
пересекаются в одном сечении, разрезе (Schnitt), но который ими
самими не создается. Благодаря этому разрезу прежде всего в
наброске (Auf-riss) разводятся, т. е. обрисовываются их родственные
сущности. Это обрисовывание, рисунок (Zeichnung) является
разрывом (Riss). Он вырисовывает друг из друга поэзию и мысль в их
близости (in die Nahe)*.
Текст 3 углубляет различие, введенное в тексте 2, но на другом
уровне, на уровне онтологической рефлексии. Два текущих
вертикально ряда мыслительных и поэтических образов преобразуются
в продуктивную для Хайдеггера оппозицию ПОЭЗИИ И МЫСЛИ,
DICHTEN-DENKEN. Чтобы приблизиться к пониманию того, как
работает мысль Хайдеггера, следует обратиться к анализу
совокупности рефлексивных отношений, которые связывают Dichten
и Denken, одновременно их разделяя. Нас будет интересовать
общая структура этого мыслительного пространства, которое,
повторяю, одновременно и соединяет и различает, где господствуют силы,
способные сближать и в каждом моменте сближения разрывать
сближаемое. Близость и разрыв: близость, так как члены
оппозиции возможны как выражения отдельных моментов
ландшафтного произведения, если они сближаемы (например, композиционно
и ритмически); разрыв, так как он указывает на единство
различаемого, но единство, которого не достигают введением «третьего»,
а если и достигают, то лишь благодаря разрыву. Разрыв сближает,
сближение разрывает. Другими словами, разрывная сила
действует на позиции поэзии и мысли не как сила разделения, а как сила
сближения. Разрывая единство мысли и поэзии, Хайдеггер
сближает их в углубляющемся различении. В точке разрыва-близости,
там, где пересекаются параллели, где один поток образов вступает
в другой, я обнаруживаю место немыслимого, место
Шварцвальда как себя-мыслящего-ландшафта. Ландшафт есть обрисовыва-
* Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 196.
Ландшафт Шварцвальда
399
ние мира, не переходящее в картинный образ, данный, например,
в ощутимой вещественности поэтического наблюдения за природой
и имеющий мало общего с понятийным рядом,
развертывающимся независимо, в качестве своего рода схемы события ландшафта.
Ландшафт есть рисунок того пространства, в котором, не теряя
различия, совпадают как в своем немыслимом мысль и поэзия. В этом
движении текстов образ ландшафта Шварцвальда, еще устойчивый
и яркий в 1-м тексте, раздваивается во 2-м (причем не только в силу
полиграфической композиции), и это раздвоение вскрывает
мыслительные и поэтические основания ландшафтного пространства.
3-й текст — это, в сущности, уже чисто рефлексивное
представление внутренней формы двух первых текстов, оно дает возможность
мыслимому и поэтическому перейти в план самоинтерпретации: то,
что, казалось, грозит распасться и стать только поэзией или только
мыслью, двумя отдельными и безразличными друг другу регионами
творчества, соединяется между собой по определенной логической
конструкции разрывом, который сближает. Два термина
философского языка вступают в отношение конъюнкции посредством
дизъюнкции, причем ни одна из этих логических операций не следует
из другой последовательно, их действие, как мы видим, всегда
одновременно. Логику Хайдеггера можно определить как тополо-
гику, т. е. логику, пытающуюся соотнести через близость и разрыв
и в одном месте гетерогенные пространственно-телесные элементы,
и эти элементы не теряют своих качеств ни в каких иных, даже
более формализованных отношениях. Настоящее исследование будет
развертываться таким образом, чтобы последовательными шагами
анализа обнаружить единый топологический ритм, остающийся
равно значимым для всех уровней философского произведения
Хайдеггера (от уровня ландшафтных образов до уровня произнесении
отдельного слова).
1. Двумировость бытия
Взгляд-в-даль. Чувство пространства
Двойственность бытия сущего открывается в проявлениях его
двумировости: одно из них переводимо в образ, т. е. мир
предстает как образ и вне его не существует; напротив, другое
проявление оказывается внутримировым событием, человек не
преобразует бытие сущего в соразмерный себе образ, но осмысляет свою
пред-данность миру и тем самым сближается с бытием как оно есть.
Отсюда две позиционные стратегии, которые можно соотнести друг
с другом по различию между «взглядом-в-даль» (Fernblick) и
«пространственным чувством» (Raumgefühl) или между тем, что ис-
400
В. А. Подорога
следователь творчества Ф. Гёльдерлина О. Закель определяет как
«стоять-перед-ландшафтом» (vor-der-Landschaft-Stehen) в
противоположность *быть-в-природном-пространстве» (In-dem-Naturraum-
Sein), что позволяет уточнить позицию Хайдеггера в терминах
пространственно-телесной ориентации*. Сразу же заметим, что ему
равно чужды и этот «взгляд-в-даль», и это «стояние-перед», из
которых как элементов вполне определенной привилегированной
позиции наблюдения может быть собрана фигура субъекта, как если бы
он один был способен стать перед миром, установить дистанцию,
произвести осмотр его с высшей точки. Стояние-перед возможно,
если оно закрепляется в особом чувственном отношении к бытию
сущего — во взгляде, которым субъект овладевает в силу
неизменности учрежденной дистанции: пространство становится
пространством-образом, получает свою топику дали, близости и глубины.
Субъект вступает в антропологическое забытые (за-бытие), выпадая
из структур бытия, ибо его стратегическая позиция определяется
взглядом и предстоянием: напряженным стоянием в одной внеми-
ровой точке сущего, ущербность которой должен восполнить взгляд
его быстротой, мощью, всевидением. Хайдеггер пытается мыслить
бытие сущего, радикально отвергая господство взгляда как
метафизического абстрактума чувственности; его ближайшая цель —
вырвать бытие из сферы влияния случайных сил сущего, пробудить
наличное бытие человека от антропологического сна. И это
пробуждение, если оно еще вероятно, должно освободить человека от
субъекта как метафизической формы, претендующей на синтез всего
сущего в единой воле. Как приблизить к себе бытие, не давая
сущему вмешаться в строй вопрошающей мысли? Вот что постоянно
обдумывает Хайдеггер. Вопрос все тот же: как можно мыслить бытие
без сущего? Ответ неизменен: «Мыслить бытие без сущего
означает: мыслить бытие без оглядки (Rücksicht) на метафизику»**. Что,
если перевести вопрос Хайдеггера в другой план: не как возможна
наука о человеке, а что есть человек в его сущностном соотнесении
с истиной бытия вне и помимо того, что формировала на
протяжении последних веков идеология человека в качес?ве
универсального мирового образа, вне и помимо того, что определялось в ней как
subjectum? Возможные ответы на эти вопросы Хайдеггер ищет вне
области, которую занимает ныне такая бурно и комплексно
развивающаяся наука, какой является современная антропология. Во
всяком случае, Хайдеггер был убежден в том (и не только времени «Sein
und Zeit»), что задавать бытию вопросы о человеке, иначе говоря,
неявно предписывать ему антропологические характеристики су-
* Landschaft und Raum in der Erzahlkunst. Darmstadt, 1975. S. 53.
** Heidegger M. Zur Sache des Denkens. Tübingen, 1969. S. 25.
Ландшафт Шварцвальда
401
щего, — лишь «затемнять» истинную суть взаимоотношения между
бытием сущего и человеком.
Если анализировать программу Хайдеггера по преодолению
метафизики, то ее следует свести к одному требованию:
подлинное философствование должно упразднить все возможные способы
мыслить сущее вне его бытийных основ, а это значит, что
необходимо упразднить господство субъекта в познании и культуре и,
следовательно, саму антропологическую стратегию, на которую с эпохи
Декарта опирается традиция классической метафизики. Если
новая антропология и возможна, то по другую сторону от
метафизической традиции представления человека в качестве универсального
образа и срединной меры бытия сущего. Возможная антропология,
как это ни парадоксально звучит, может быть только
антропологией «без субъекта». Ведь лишь там и тогда, полагает Хайдеггер,
где человек действительно вступает в отношение с миром (самим
вступлением осознавая себя как субъекта), мир впервые
становится «миром», миром-объектом и неизбежно системой, замыкающей
в себе и дающей исчислимую меру тому, что Хайдеггер называет
бытием сущего. И чем «субъективней» субъект, тем «объективней»
мир, который уже и не может восприниматься иначе как только
в образе мира; именно благодаря этому процессу двойного
преобразования бытия сущего субъект обретает статус
антропологического гаранта правильного ответа на вопрос: что и на основе чего
сущее есть? Именно тогда неизмеримо и угрожающе для человека
начинает расширяться область исторического забвения бытия,
знаменующая собой событие его утраты (Verlust-Sein). Именно тогда
появляется целый ряд понятий и терминов, особый язык
метафизики, призванный к тому, чтобы фиксировать и закреплять
центральное, срединно-сопрягающее положение человека:
«мировоззрение», «миросозерцание» и т. п.*. И тогда сущим оказывается то,
что постигается, исходя из субъекта; в нем оно собирается, впервые
обнаруживает себя и сосредотачивается, как в единой всеупорядо-
чивающей воле. «Все сущее — или объект субъекта, или субъект
объекта», — формулирует Хайдеггер**. Уже тот факт, что
познавательная процедура в метафизике Декарта задается как волевое
захватывание и удержание сущего, радикально преобразует
отношение к истине. Воля к истине, а не «внятие», «воспризнание» бытия
сущего, которое было, по мнению Хайдеггера, свойственно мысли
древнего гречества, — вот что определяет, начиная с Нового
времени, всю практическую стратегию мироустроения. Субъект
одаривается способностью «пред-ставлять» (vor-stellen). Другими словами,
* Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1963. S. 233.
** Ibid. S. 236.
402
В. А. Подорога
субъект только потому и есть субъект, что является пред-ставля-
ющим, так как располагает свои чувственные и познавательные
возможности исключительно в границах механизма
представления. В свойственной ему манере Хайдеггер вопрошает: какова
та именовательная сила, которая действует в слове
«представление»?* Представлять — это значит «ставить-перед-собой» сущее,
но в качестве «уже-пред-ставленного», сцены, на которой субъект
«само-пред-ставляется». Благодаря этой уникальной способности
субъект в силах соотносить себя с тем, что им представляется, как
с мерой, задающей сущему его образ. Так субъект автоматически
вводит себя в им же представленное: «...Представлять, — пишет
Хайдеггер, — это означает в сущности делать представимым самого
себя»**. И тогда бытие сущего начинает раскрываться перед
человеком в силу его возможной представимости, и мыслить что-либо
не означает ничего иного, как только вступать «в представляющее
сопряжение с представимым»***.
Образ мира как Постав (Gestell)
Каковы же итоги этой массированной антропологизации мира?
Ведь субъект, раз его цель состоит в том, чтобы стремиться к
крайним пределам представимости, не столько управляет процессами
познания, сколько сопридан им, подчинен, ибо сам является лишь
представлением представления. За этим желанием удержать мир
в границах универсальной представимости, в «образе» и,
следовательно, стать мерой всех вещей скрывается опасность
антропологизации мира. Рациональное устроение мира, многообещающе
обоснованное в традиционной западной метафизике, оказалось
результатом неограниченной и в одном направлении
действующей воли субъекта к представлению всего и вся; и эта воля,
ставшая ныне планетарной, порождающая трансгрессию воли — «воля
к большей воле», — движется теперь сама по себе, не зная
препятствий и границ. Вот откуда надвигается опасность, превышающая,
по мнению Хайдеггера, все другие, грозящие сегодня человечеству:
«Не злоба дня — атомная бомба как особая машина уничтожения
(Totungsmaschinerie) являет собой смертельную опасность. То, что
человеку уже долгое время угрожает гибелью, а именно гибелью его
сущности, является необусловленной чистой волей в смысле
направленного самоутверждения во всем »****. Так бытие сущего, ставобъек-
* Heidegger M. Holzwege. S. 85.
** Heidegger M. Nietzsche. Tübingen, 1961. Bd. 2. S. 151-153.
*** Idem. Holzwege. S. 233.
**" Ibid. S. 271.
Ландшафт Шварцвальда
403
том приложения сил планетарной воли к господству, утрачивает
глубинную экзистенциально-онтологическую основу самого
человека, образуя особый мировой хронотоп, который Хайдеггер называет
«по-ставом» (Gestell). «По-став» — имя, данное Хайдеггером
областям сущего, где доминирует воля к техническому «по-ставлению»
всех мировых событий, знаменующих собой возрастающую мощь
планетарной техники и науки. Вместе с тем это имя не обозначает
только «вещь» (или техническую операцию по со-ставлению и
производству вещей — арматуру, остов, состав и т. п.), но прежде всего
способ, каким следует осмыслять таинственную сущность техники.
Размышляя о «по-ставе» как сущности техники, Хайдеггер остается
верным герменевтическому опыту, поскольку использует этот
термин не в качестве понятия и не для нужд понятия, а в качестве
герменевтической возможности: техника должна говорить из самой
себя и на своем языке*. Слово (корень) «stell» — герменевтический
ключ к технике как тексту. Движение субъекта в мыслительном
пространстве представления Хайдеггер пытается понять из самого
слова, используя его именовательный потенциал в каждом
отдельном случае герменевтического развертывания. Все эти приведенные
выше словообразования, собирающие свой смысл, смысл
«физический», пространственный, в округе корневого слога stell,
моделируют текст техники и соответствующие понимательные процедуры.
Здесь человек открыто подчиняется техническому «со-ставлению»
мира в единый универсальный образ: все человеческое стремится
стать частью или элементом разнообразных технических устройств,
процессов, систем и т. д. Человек, «инсценируясь» в качестве
субъекта, задает сущему техническую меру; так антропологическая
проекция на мир возвращается к человеку в отчужденных образах мира.
Вот почему, как полагает Хайдеггер, всякая антропология покоится
на метафизических основах, даже современная, которая
продолжает трудиться над тем, как упорядочить многоразличные знания о
человеке, не пытаясь ставить вопрос о сущностном назначении бытия
человека, поскольку ответ на этот вопрос мнится ей уже найденным:
«человек есть человек»**. Проблема же заключается не в том, чтобы
мыслить человека в качестве независимого и обособившегося
единства познавательных и ценностных возможностей, но в качестве
«конечного», ограниченного сущностным предназначением «быть
на земле», ибо «более изначальным, чем человек, является в нем
* Heidegger M. Vier Seminare. Frankfurt am Main, 1977. S. 130. «...Тогда
слово Ge-stell становится возможным в языке как собрание всех способов став-
ления (Stellen)».
k* Хайдеггер M. Кант и проблема метафизики. Русское феноменологическое
общество. М., 1997. С. 121-123 (пер. О. Никифорова).
404
В. А. Подорога
конечность наличного существования (Dasein)» *. Другими словами,
в силу своей ♦конечности» человек не может считаться
«избранником» бытия, неким центром, или средостением всех мировых путей;
следует вернуться к осмыслению того, что человек живет на земле,
и, следовательно, к осмыслению того, что не абстрактное,
технически-организованное пространство во всей колоссальности его
космического свершения будет определять дальнейшую судьбу
человека, а то, от которого он неотделим, — пространства жизни. И тогда
быть на земле — это быть человеком**. Модусы человеческого
существования на земле — строить (bauen), жить (wohnen), мыслить
(denken) — определяют опыт пространственности человека,
развертывающийся в границах игры божественного и смертного, земного
и небесного, в границах того, что Хайдеггер наперекор «по-ставу»
определяет как мир «четверицы» (Geviert).
Мир Четверицы (Geviert). Понятие «близости»
Наряду с поэтической (языковой) демонстрацией Хайдеггер,
когда это необходимо, использует и технику трансцендентальной
аргументации. Восстановим ее для более убедительного раскрытия
онтологической структуры ряда четверицы. Известно, например,
что хронотопическая открытость человеческого существа
основательно обсуждалась Кантом, увидевшим в пространстве и времени
априорные формы чувственности, чистые интуиции, некие допоня-
тийные, дологические устройства чувственного постижения мира.
Именно потому, что человек «конечен», т. е. ограничен в
пространстве и времени, он и в состоянии познавать мир явлений. Иначе
говоря, пространство и время даются как трансцендентальные
условия возможного опытного познания; пространство нельзя мыслить
как нечто существующее до и вне человека, как то, что пребывает
в себе и для себя, поскольку для этого требуется не только знать, что
такое пространство, но и быть в нем. Человек же «знает», что такое
пространство, благодаря «сращенности» с ним. Проблема получает
более точный адресат, когда Хайдеггер пытается осмыслить
парадоксальность кантовского вывода об универсальности внутреннего
чувства времени и его превосходстве над «внешним» — интуицией
пространства. Хотя на это превосходство и указано Кантом, но оно
не является определяющим. А так как в кантовских рассуждениях
не находится места «третьей» интуиции, столь необходимой для
конституирования мира, то ее, как полагает Хайдеггер, следует
«изобрести», используя в этой функции универсальный характер
* Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. С. 133.
** Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. Tubingen, 1959. S. 150.
Ландшафт Шварцвальда
405
«внутреннего чувства» — времени. Действительно, что дает
возможность пространству быть «открытым»? Только время —
внутренне переживаемая последовательность психических
состояний — открывает пространство для человеческого деяния; и только
в этом смысле, вероятно, следует понимать высказывание Хайдегте-
ра о том, что всякий синтез протяжений будущего, настоящего,
прошлого «до-пространственен»*. Время в интерпретации Хайдеггера
получает внутрипространственную функцию: лишь будучи в
пространстве, можно переживать его открытость. Но то, что
пространство открыто, вовсе не означает того, что оно лишено структурных
начал, ориентации и является аморфным. Начальные ориентации,
как заметил Кант, уходят своими корнями в фундаментальное
различие человеческого тела на правую и левую стороны, именно это
различие указывает на признаки объективного пространства,
существующего «вне человека», но не «без него»**. Собственно, для Канта
важно было показать, что начальный опыт ориентации в
пространстве в своей чистой априорной основе переводим в пространство
научной картины мира. Именно в этом пункте Хайдеггер отходит
от кантовской логики рассуждений: если в чем и можно сегодня
винить кантовское учение, то не в том, что оно, к примеру, не
соответствует современным научным космологиям, а в том, что оно
явно недостаточно объясняет сведение пространства как чистой
интуиции к человеческому субъекту или, в терминологии Хайдеггера,
к Dasein***. Соотношение «здесь-там», «верх-низ»,
«далекое-близкое» разрешается не на уровне познания их метрических
параметров, расстояний, а на уровне «пространственности Dasein», для
которого определяющей тенденцией выступает «близость» (Nahne)****.
Прежде чем «войти» в пространство, человек в качестве «здесь-бы-
тия» уже знает, как в него войти, и поэтому никогда не входит
в него, — ему и не надо входить, он всегда уже там, или он всегда
«в» — а всегда пребывает «в» и «при» пространстве: человек
неотделим от «своего» пространства, его существование в качестве Dasein
пространственно. В том же случае, когда полагают, что человек
должен «входить» в пространство, на деле пытаются представить его
в качестве завоевателя или раба пространства, т. е. осмыслить
пространство как нечто ему противостоящее и чуждое.
Феномен «близости» можно считать фундаментальным хайдег-
геровским критерием различения между миром «постава» и миром
«четверицы». Попытаемся обосновать это утверждение. Предста-
* Heidegger M. Zur Sache des Denkens. S. 15.
** Kant I. Von der Traumen der Vernunft. Leipzig, 1979. S. 291.
*** Heidegger M. Die Frage nach dem Ding. Tübingen, 1962. S. 156.
**** Idem. Sein und Zeit. Tübingen, 1976. S. 105.
406
В. А. Подорога
вимость мира в образе или картине упирается другой своей
стороной в символизацию зрительного чувства. Взгляд-в-даль — это
взгляд представляющего субъекта, т. е. субъекта, которого больше
не удовлетворяет позиция, откуда можно видеть лишь то, что
показывает картезианский Бог-геометр, теперь субъект сам хочет
видеть как Бог. Обсуждая особое местоположение субъекта в
картине мира, Хайдеггер одновременно указывает на его способность
видеть то, что невидимо, видеть даль. А что такое «видеть даль»?
Что это за взгляд, видящий даль? Вероятно, одним из ответов
может быть определение свойств этого взгляда. К ним, прежде всего,
следует отнести зоркость и быстроту. В видении дали нет ничего
от пассивного созерцания, это активная позиция в зрении. Свой
взгляд мы обычно «бросаем», бросаем-в-далъ-на, на «вещь», на
другого человека, мы также «окидываем» им близлежащее или
дальнее пространство. Бросить взгляд на что-нибудь можно лишь в том
случае, если предполагается, что взгляд обладает соответствующей
быстротой захвата видимого, и тогда любая точка пространства
становится досягаемой. Другими словами, в акте видения
заключена бесконечная мощь человеческого взора, за-хватывающего
собой зримое пространство, им могут быть упорядочены любые вещи
и события мира, которые или уже есть, или еще будут. Этот взгляд,
видящий за любой вещью ее пространственную тень — даль, и тем
самым пред-ставляющий вещь через даль, является перспективным
взглядом и потому взглядом волевого захвата сущего. Взглядом
по-ставляющим. То, что непереводимо в процесс пред-ставления,
оказывается не просто невидимым, а несуществующим.
Зрительная способность, все более становясь взглядом, отделяется от
ближайшего к человеку чувственно-телесного и пространственного
опыта и больше не зависит от него. И чем заметнее это отделение,
тем сильнее взгляд нуждается во вспомогательных технических
орудиях, способных сделать еще более точными и
дифференцированными его зрительные возможности, расширить возможности
пред-ставления. Хайдеггер нарекает словом «гигантизм» не просто
новоевропейскую страсть ко всему гигантскому, подавляющему
своими размерами и величием, но, прежде всего, исчислимую и
регулируемую меру быстроты, поскольку гигантское «прорывается
(теснит, давит) в той форме, которая кажется как раз его
исчезновением»*. Гигантское — продукт опустошения быстротой взгляда
всех пространств, освященных присутствием человеческого.
Быстрота его агрессивна, она представляет собой разновидность
техногенного метаболизма: этому сверхбыстрому зрению необходимы
* Heidegger M. Holzwege. S. 87. См. также пер. А. В. Михайлова: Мартин
Хайдеггер. М.: Гнозис, 1993. С. 135-167.
Ландшафт Шварцвальда
407
тела, способные к быстроте, несоизмеримые с «подручной»
медленностью человеческого тела, с пространственностью здесь-бытия,
если придерживаться терминологии Хайдеггера. В таком случае
человеческое тело обречено исчезнуть в самом взгляде, поскольку
тот получает независимое от него существование. Ради того,
чтобы укрепить свою независимость, он должен все лучше и все
быстрее видеть, вовлекая человеческое тело в непрерывный поток
скоростных трансформаций. Доступный опыт пространственности
оказывается внутри взгляда: скоростной носитель замещает собой
«качество» переносимого. Пространственность наличного
существования становится архаизмом, раз человеческое тело вступает
в иерархию скоростей, на которые способен лишь технологический
взгляд, а ведь сегодня он с одинаковой быстротой проникает как
в ближайшие, так и самые удаленные пространства. Воцарившееся
«господство хватки» (der Angriff), схватывания, постижения,
посредством которого субъект заполучает себя в качестве
представляющего мира, и есть стратегическая основа всех форм
гигантизма, принуждающих мир исчезнуть в собственном представлении.
Господство взгляда — в быстроте схватывания*.
Взгляду-в-даль Хайдеггер противопоставляет стратегию
(вне-субъектную) от-даления (Ent-fernung)**. He удаления, а
именно от-даления, т. е. движения, возникающего от стремления
приостановить власть дали над повседневным опытом
пространственности. Пространственность Dasein находит свое выражение в ритмах
от-даления, оно определяется близостью. От-даляя что-либо, мы
сближаемся с ним благодаря тому, что от-даляемое вступает в
сферу пространственности, где даль более не играет столь
фундаментальной технической роли и включена в процесс с-ближения. А это,
с другой стороны, означает, что опыт экзистирующей
чувственности несводим к метафизическому абстрактуму взгляда,
отдаляющего мир от возможностей «дотронуться» до него или «обжить»,
а если и приближающего, то за счет полной или частичной
трансформации у субъекта чувственной способности. От-далятъся —
это значит замедлять скорость орудий-посредников, ибо их новые
качества, уничтожающие мир как он «есть», уже не орудийны, т. е.
не могут быть встроены в орудийно-озабоченное отношение к миру,
но отношение, конечно, не к миру, который предстоит, а к миру
как внутримировой пространственности, где орудие — еще знак
близости. Замедлять в той степени, в какой вновь обретается
близость, исходящая от изначально данного, подручного переживания
мира в пространственности Dasein. Но отмена дали от-далением,
* Ср.: «Не власть присутствующего, а господство хватки» (Там же. С. 115).
** Heidegger M. Sein und Zeit. S. 105.
408
В. А. Подорога
с другой стороны, вводит еще одно существенное условие: видение
мира не может опираться лишь на абстрагированные зрительные
формы. Хайдеггер полагает (начиная с «Бытия и времени»), что
событие пространственности не определяется через
интенсифицирование того или иного конкретного вида чувственности. Ни
зрение, ни слух, ни осязание не могут быть отделимы от озабоченно-
орудийного отношения к миру, т. е. от самой пространственности
экзистенциального бытия. Они — всегда «между», промежуточны,
ибо располагаются в области существования так называемых
подручных объектов. Воспользуемся примером Хайдеггера.
Например, я ношу очки. Очки могут быть представлены просто в качестве
технического приспособления, но также в качестве знака
озабоченно-орудийного состояния. В первом случае они
«неподручны», во втором, напротив, всегда «под рукой». Но что такое «под
рукой»? Это значит, что событие видения (не зрения) повседневно
свершается между неким объектом реальности, который
становится лучше видимым, и неспособностью глаз хорошо видеть. «Очки
всегда на носу» — именно поэтому они орудийны, но
одновременно являются всегда элементом пространственности наличного
существования, всегда соотносимым с заботливо-осмотрительным
отношением. Техническая функция очков, «вступая» в простран-
ственность, преобразуется в сложный знак человеческого бытия
в мире. В любых примерах, подобных этому, мы находим общее:
чтобы орудие стало человеческим орудием, оно должно быть
соотнесено с общим орудийно-озабоченным отношением к миру,
введено в стратегию близости*. Мышление позднего Хайдеггера
находит свое призвание в поиске того, что всегда было и есть, но
сегодня оказалось в плену исторического забвения — в поиске
топологии бытия. «Но поэтическое мышление, открывающее (Dichten)
в действительности является топологией бытия, открывающей
ему местоположенность его сущности»**. Это воображаемая и
вместе с тем конкретная жизненная пространственность; там
человек, будучи словно в святой округе, говорит из этого и этим
пространством, называя вещи и устанавливая пределы подручной
топографии бытия: пределы дома, храма, поля. Как строить дом,
как вступать в храм, как проходить поле? Если здесь и есть власть
обладания, то это не пресловутая воля к власти, не воля к
овладению миром с помощью глобального технического переустройства
мировых пространств, но власть «почвы», «основы»,
«наследуемого», власть священных пространств как пространств
безвластия. Мир, символизируемый четверицей, — радикально иной,
* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 107.
** Heidegger M. Aus der Erfahrung des Denkens. S. 23.
Ландшафт Шварцвальда
409
чем мир технически организованного пространства «по-става»:
в нем памятью и опытом предшествующих поколений
запечатлена архаическая структура мирового вообще, удерживающая в себе
многообразие направлений, отношений, сторон как извечную
обращенность в игру четырех — смертного и божественного, земного
и небесного. Вот как размышляет Хайдеггер: «На Рейне
поставлена гидроэлектростанция. Она ставит реку на производство
водяного напора, заставляющего вращаться турбины, чье вращение
приводит в действие машины, поставляющие электрический ток, для
передачи которого установлены энергостанции с их энергосетью.
В контексте этих взаимосвязанных последствий поставки
электрической энергии рейнский поток тоже выглядит чем-то
представленным как раз для этого. Гидроэлектростанция не пристроена
к реке, как старый деревянный мост, веками связывающий один
берег с другим. Наоборот, река встроена в электростанцию. Рейн
есть то, чем он теперь является в качестве реки, а именно
поставщиком гидравлического напора, благодаря существованию
электростанции. Чтобы хоть отдаленно измерить чудовищность
такого положения дел, на секунду задумаемся о контрасте, вопиющем
в этих двух названиях: "Рейн", встроенный в электростанцию для
производства энергии, и "Рейн", о котором говорит произведение
искусства, — одноименный гимн Гёльдерлина»*. Рейн как машина
по по-ставлению энергии, как «постав» и Рейн как «четверица».
Но «постав» и «четверица» не только противостоят друг другу как
полярные пункты. Полагать так значило бы явно недооценивать
ход хайдеггеровской мысли: эти два «Рейна» пред-даны нам в
одном истоке человеческой судьбы на земле. Метафизическая мысль,
утратив способность мыслить исходя из бытия, устранила память
о единстве всего сущего. Мир «четверицы» — ацентричен; в нем
ничто не может постигаться в качестве чего-то предметного, пред-
ставимого или противостоящего; мышлению, его осмысляющему,
выпадает удел быть неотделимым от изначальной, поэтически-
охранительной силы языка, от почвенной укорененности в том,
что когда-то питало романтическую идиллику сельского труда,
диалекта и национального ландшафта. Здесь царствует не spatium,
а близость, сближающая, но не смешивающая смертное с
божественным, направляющая их в единство, но не отрицающая
автономию ни одной из сторон: они так и пребывают в своей изначальной
слитности раздельными, ибо их игра всегда одна и та же — быть
«против-друг-с-другом-над» (Gegen-einander-uber)**.
* Хайдеггер M. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М.:
Республика, 1993. С. 226-227 (пер. В. В. Бибихина).
** Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 203-216.
410
В. А. Подорога
Вот как это может выглядеть на диаграмме:
Мир (- Земля) Мир
над
Земля ^— — — — — — — — Земля (- Мир)
друг-с-другом
«Четверица» — это «мир», а не образ или картина мира, сводимые
к центральному положению субъекта. Хайдеггер поясняет:
«Снегопад приводит человека в ночи к померкшим небесам. Звуки вечевого
колокола приводят его как смертного к божественному. Дом и стол
связывают смертных с землей, названные вещи собирают,
следовательно, призывают к себе небо и землю, смертных и божественное.
Четыре суть изначально единое по отношению друг к другу. Вещи
остаются покоиться при себе в квадрате четырех (das Geviert der
Vier). Это собирающее оставление-в-покое есть вещь вещи. Мы
называем это, пребывающее в вещах вещи, единой четверицей неба
и земли, смертного и божественного, — миром»*. Итак, «мир» для
Хайдеггера — это всегда нечто «беспредметное», «мир мирует»
(Welt weitet) и не нуждается в предметном соотнесении с образами
сущего. Но с другой стороны, мир — это то, что начинает быть
одновременно с существованием самих смертных, образуя скрытый «то-
пос бытия», который никто из смертных не «знает», хотя они и есть
в качестве живущих на земле благодаря тому, что он направляет,
отграничивает, собирает и хранит жизненные пространства в их
неявленной, не дающейся в представлении власти над человеком.
Следует выделить некоторые свойства качественной геометрии
бытия, определяемые экзистенциалом «близости». Уже по тому,
из каких пространственных положений образуется мир «четвери-
цы» — «против», «друг-с-другом», «над», — моЯсно судить и о ее
воображаемой геометрии: она сфероидна и не состоит из
покоящихся в себе направлений, а исполнено динамики повторения
отражающего и отражаемого. «Каждый из четырех отражает своим способом
сущность остальных»**. Этот вид пространства легко представить,
если вспомнить полотна Брейгеля или Сезанна, где живописное
пространство дается не в линейной концептуальной перспективе, а
общим круговым расположением вещей, что создает у зрителя опре-
* Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 22.
** Ibid. S. 177.
Ландшафт Шварцвальда
411
деленное психофизиологическое состояние космического единства.
И тогда движение в пространстве представляет собой путь, который
проходит человек, чтобы образовать «свое» пространство,
пространство-сферу. «Против», «друг-с-другом», «над» — меты пути в
пределах четырех мировых сторон, открытых и отражающихся друг
в друге. Четверица дает возможность пространству быть открытым;
и пространство, которое собирается из вещей и событий
человеческого существования, всегда исполнено равновесия и свободы, не имеет
границ в физическом смысле слова. «Но граница — в старогреческом
значении — имеет сплошь характер собирания, не отделения» *. Вещь
не становится «вещью» по месту, даваемому ей пространством, или
по границе, заранее отделяющей ее от других вещей; в противном
случае пространство предсуществовало бы в качестве мирового
вместилища вещей. Ведь для Хайдеггера вещь есть пестуемое в
собирании пространство и ничем другим быть не может. «Место
относится к вещи» — это первое, и второе — «пространство получает свою
сущность из мест, а не из «определенного пространства» **. А что в
таком случае являет собой пространство? Хайдеггер сверяется с
греческими образцами: «Греки не имели слова для обозначения
"пространства". И это не случайно; тогда они понимали пространственное
не от extensio, но из места (topos)...»*** Другими словами, вещи могут
быть «путями», «местами», «событиями», но не могут быть некими
точками себе равного геометрического пространства, измеряемого
исчислимыми расстояниями: человек «проходит» лишь то
пространство, в котором вещи не ограничиваются пространственными
интервалами, т. е. между ними не существует пространств, лишенных
вещей и присутствия человеческого Dasein. Именно поэтому
соотношение дали и близости здесь иное. Даль может быть бесконечно
более близкой, чем самая близкая близость, исчисляемая
метрическими параметрами, и наоборот. Пространство, которое действительно
«проходят», преобразуя его в простор, измеряет экзистенциальная
единица времени — путь (Weg). Власть пути для мышления
Хайдеггера — это «отдание» себя во власть судьбы бытия. Иметь путь —
вовсе не значит иметь возможность путешествовать или
мигрировать, пересекая пространства; иметь путь — это быть при «своем»
пространстве, «путить», т.е. прокладывать путь, всегда оставаясь
между божественным и смертным, земным и небесным. Храм —
потому и путь, что соединяет в себе землю с небом, величие богов
с повседневностью смертных, соединяет, собирая под один покров.
«Прокладывать путь (Weg), например, через заснеженное поле, еще
* Heidegger M. Der Satz vom Grund. S. 125.
" Idem. Vorträge und Aufsätze. S. 157-158.
*** Idem. Einführung in die Metaphysik. Tübingen, 1965. S. 50.
412
В. А. Подорога
и сегодня в аллеманско-швабском диалекте значит wegen ("путить").
Этот переходный глагол означает: образовать путь, образуя, держать
его в готовности. Проделать путь в таком смысле значит не просто
пройти туда или обратно по уже готовой дороге, но впервые отыскать
доступ, путь к... (den Weg zu...) и тем путем быть»*. Прокладывание
пути неосуществимо без развитого чувства пространства, которое
формируется с помощью телесного, психомоторного опыта,
приобретаемого внутри близлежащего, «подручного» пространства, не
нуждающегося ни в каких технических посредниках. Им одаривается
человеческое тело, движение которого рождается непосредственно
из игры пространственных сил, действующих по четырем мировым
сторонам. Здесь важно умение использовать энергию
определенного ландшафтного элемента, его состав, плотность, скорость и мощь,
а они всегда разные в зависимости от избранного пути. Например,
в случае Хайдеггера путь оказывается контурным наброском сил
земного сопротивления, они приклоняют идущего к земле,
заставляют ее обживать и охранять. В другом случае нам известен путь
от земли к небу, уходящий по воздушным кривым к дали и шири
небесно-космических пространств, путь в контурах проскальзывания,
парения или полета, движение водными потоками, порывами ветра,
светом. Различие путей — по способу и качеству движения: можно
про-ходить, идти пешком, взбираться, но можно и «парить» (Ф. Гёль-
дерлин), «танцевать» ландшафтное пространство (Ф. Ницше, А.
Белый). Итак, путь определяется быстротой или медленностью
движения человеческого тела, осваивающего ландшафтное пространство.
Если в предстоянии ландшафту доминирует
оптико-геометрическая структура зрения, то, напротив, пространственное чувство то-
пологично, так как его обретение возможно на основе телесных
переживаний движения. Иначе говоря, ландшафтное пространство
становится имманентным движущемуся в нем телу наблюдателя,
а не любому подвижному телу. Здесь важен учет того, как и с какой
быстротой это тело способно двигаться; возможные параметры
пространства рождаются из самого движения. Следует также заметить,
что тело наблюдателя является не телом, которое воспринимает, а
телом, которое воспринимается; оно воспринимает только потому, что
само воспринято. Естественно предположить, ссылаясь на сказанное
выше, что хайдеггеровское путешествие является пешим
движением. Этому множество свидетельств. В размеренности человеческого
шага есть свое качество движения, здесь все определяется его
медленностью и устойчивостью, быстрота под запретом. Проходить про-
* Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 261. Ср.: «Дровосек и лесник
знают толк в тропах. Они знают, что означает быть на лесной тропе, auf einem
Holzweg zu sein» (Heidegger M. Holzwege. S. 5).
Ландшафт Шварцвальда
413
странство от места к месту, «путить», задавая ему ритм
человеческого труда и шага, — это значит также: в каждое мгновение движения
обладать возможностью вслушиваться в сам путь, которым проходят
пространство. Ландшафтное пространство предназначено стать
слышимым, его нужно услышать через собственный шаг — не увидеть,
а услышать. Подобное пространство является одновременно и
«подручным» («под рукой», «в шаге от тебя»), т.е. близлежащим, —
микрокосм близлежащего включает в себя макрокосм внешнего,
самого удаленного пространства, — и «под-слушным», т. е. тем, во что
необходимо вслушиваться, когда идешь, вслушиваться, чтобы знать
в каждое мгновение, какое место занимаешь.
Слушать-и-произносить путь
Вслушиваться — потому что пространство говорит. Идти-и-слу-
шать. Я слушаю и поэтому имею путь, я иду, потому что слушаю
проходимое, проходимое слышит меня. Подводя некоторые
предварительны итоги, можно сказать, что для Хайдеггера любая жизненная
форма устроения на земле — будь то храм, дом или колодец — являет
собой результат пути, чье высшее назначение в том, чтобы образовать
местопребывание святых и человеческих сил, мир самого человека,
но не как субъекта, а как здесь-бытие (Da-sein) извечно
пребывающего в игре четырех: божественного и смертного, небесного и земного.
«Пространство открывается посредством того, что преобразуется
в жилище человека»*. Поэтому, если мы точно следуем за мыслью
Хайдеггера, проходить пространство — это не проходить мимо, от
одного к другому; проходить можно только все пространство, проходя,
давать ему быть. Отсюда, вероятно, можно вывести следующее
фундаментальное условие: в мире «четверицы» не существует границ (и,
следовательно, возможных препятствий) между внутренним,
подручным или вещным переживанием пространства и его внешним,
объектно-исчислимым образом. Это пространство, превращаясь в
простирание, не знает «внешнего». Подобный опыт «единого» и всюду
присутствующего пространства известен поэтическому мышлению:
Единое — и внутримировое пространство все связует.
И во мне летают птицы.
К дальней вышине хочу подняться, — и шумлю листвою**.
Перечитывая эти строки, мы невольно начинаем догадываться,
что в пространство нельзя войти: оно есть то, чему мы всегда при-
* Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. S. 157.
** Рильке Р.-М. Ворспведе. Огюст Роден. Письма. М., 1971. С. 313.
414
В. А. Подорога
надлежим. Но тогда не таится ли подвох в хайдеггеровском вопросе:
как мыслить пространство из него самого? На первый взгляд вопрос
кажется оправданным, поскольку предлагает мыслить пространство
в его собственной сути, избегая обращения к качественно
разнородным пространствам культурных эпох. Однако мы уже видели, что
подобный тип пространства был поставлен в зависимость от конкретных
особенностей человеческого деяния. Это было бы сильным
возражением, если бы не был известен другой, не менее обескураживающий
ответ Хайдеггера: мыслить пространство можно только благодаря
языку. В таком случае следует изменить направление первоначального
вопроса и спрашивать не о том, как мы мыслим пространство «из него
самого», а как оно мыслит себя в нас, невзирая на те
трансцендентальные гарантии, которыми, казалось, подкреплено наше мышление.
Неизменное стремление Хайдеггера отмежеваться от
рационально-технического, физического пространства научных космологии вызвано
тем, что он пытается (равно неизменно) высвободить язык из
пространства, ограниченного современной культурой и традицией старой
метафизики, высвободить и вернуть ему пространство, которое сможет
из него говорить. Уточним это замечание: то, что Хайдеггер называет
пространством, открывает себя не в прямой аналогии с
реально-техническим пространственным опытом (обустройство дома, например),
а только в языке как пространстве. Другими словами, всякая мысль
о пространстве движется в пространстве самого языка. Силы языка,
если ими овладеть, могут научить нас быть-в-пространстве.
2. Земля и силы вздымания
Фрагменты геомантики. Три силы
Открытость мира четверицы достигается не столько зеркальным
умножением друг в друге мировых сторон, сколько незримой сре-
динностью бытия сущего — Землей. Не космогенез — ускользание
от земных оснований, а геогенез, в который вовлекаются, нарастая
в своей мощи, силы, действующие по направлениям мировых
сторон. Есть земля, земное, смертное, но есть и Земля, не элемент или
часть целого, не отдельные направления сил, а срединное
местоположение всех сил четверицы. Срединное — не значит
центрированное. Земля — не центр, скорее внутренняя мера вступающих в
борьбу сил; все силы получают предикат «земных». Ландшафтный образ
развертывается, проясняя свое строение, с целью образовать
произведение, в котором найдет свое место, неизменное, но
совершенно лишенное обертонов отрицания, противостояние земли и мира.
Прежде мы уже начали обсуждение этой темы в плане выделения
Ландшафт Шварцвальда
415
рефлексивного потенциала философствования Хайдеггера. Мы
описали феноменологический порядок телесных образов, теперь перед
нами задача — проникнуть в порядок сил геогенеза, которые
обеспечивают необходимой энергией текстовое производство Хайдеггера.
Продолжим обсуждение, обусловив его одним требованием:
мыслительные процедуры Хайдеггера должны быть соотнесены с силами,
действующими в геогенезе четверицы. Лишь выполнив это
требование, мы сможем вступить в гео-логию мысли*.
Начиная с работ 30-х годов и вплоть до позднейших, мысль
Хайдеггера определяется стратегией «разрыва» (Riss). Особенно
глубоко и всесторонне проблематика разрыва обсуждается им в «Истоке
художественного творения»; там она осмысливается в контексте
выявления внутреннего строя произведения, порождаемого спором
«земли» (Erde) и «мира» (Welt):
Но мир — это не просто открытое, соответствие просветлению,
а земля — не просто затворенная замкнутость, соответствие
сокрытию. Мир — это, напротив, просветление путей существенных
правил, каким подчиняется любое решение. А всякое решение
основывается на чем-то неосвоенном, сокрытом, вводящем в заблуждение,
иначе оно не было бы решением. А земля — это не просто затворен-
ность, а то, что раскрывается, будучи — самозамкнутостью. Мир
и земля, каждое по себе, по своей сущности, спорят и
оспариваются. И только так вступают они в спор просветления и сокрытия.
Только мир пронизывает земля, и только на земле зиждется
мир — коль скоро истина совершается как первозданный спор
просветления и сокрытия. Но как же совершается истина? Наш
ответ: она совершается немногими существенными способами. Один
из способов, которым совершается истина, есть бытие творения
творением. Творение, восставляя мир и составляя землю, ведет
спор за несокрытость сущего в целом, за истину. Храм стоит на
своем месте, и благодаря этому совершается истина, но это не значит,
что нечто верно передается и воспроизводит, — здесь сущее в
целом приводится вовнутрь несокрытости и удерживается в ней.
А удерживать — значит здесь хранить и быть хранящим кровом**.
Истина, будучи спором мира и земли, внутренне стремится
к тому, чтобы быть направленной вовнутрь творения. Поэтому спор
Pennick N. The Ancient Science of Geomancy. Man in Harmony with the
Earth. London: Thames and Handson, 1979. P. 161-171.
Хайдеггер M. Исток художественного творения / Составление,
предисловие, комментарии, перевод А. В. Михайлова. М.: Академический проект,
2008. С. 86-87.
416
В. А. Подорога
не прекращается и не затухает в таком сущем, какое особо
производится для этого, и спор не просто размещается в таком сущем,
но спор как раз разгорается и разверзается изнутри такого сущего.
Такое сущее должно поэтому внутри себя обладать сущностными
чертами спора. Это спор за единство мира и земли. Мир,
разверзаясь, предоставляет человечеству в его историческом совершении
решать, изберет ли оно победу или поражение, благословение или
проклятие, господство или рабство. Мир, распускаясь-расцветая,
выводит на свет все нерешенное и безмерное и тем разверзает
затворенную необходимость меры и решимости*.
Спор — это не разрыв как обнажение простой трещины (blossen
Kluft), но глубинная взаимопроникновенность спорящих сил. Этот
разрыв вовлекает (reisst) противонаправленное в становление их
единства из общего основания. Поэтому он является
основополагающим наброском (Grund-riss), росчерком (Auf-riss), набрасывающим
основные пути просветления сущего. Сотрясая, этот разрыв не дает
распасться противонаправленным силам, но приводит их к мере
и границе в едином очертании (Umriss)...
Такой разрыв — это единое сцепление росчерка (Auf riss) и
основополагающего наброска (Grundriss), прориси и очертания (Durch
und Umriss)**.
Как можно видеть, понятие разрыва теряет негативный оттенок,
который свойствен этому слову в русском языке, разрыв — всегда
между действующих сил, он — место, где они соприкасаются,
проникают друг в друга, достигая равновесия в совокупном действии
просветленного и затемненного, меры и безмерности, открытости
и закрытости, явленности и неявленности.
Но что есть Земля?
Сущность земли, как полагает Хайдеггер, «как земли, все
держащей на себе и затворяющейся, ни к чему не знающей напора,
обнажается, однако лишь постольку, поскольку земля своим
вздыманием пронизывает мир, поскольку есть противонаправленность земли
и мира»***. Какие же качества земли дают возможность открыться
разрыву и препятствуют тому, чтобы этот разрыв стал разломом,
трещиной или пропастью без дна? Одно из них, быть может,
наиболее очевидное — это качество самозатворенности. Земля не
терпит разрушения своей основы, и даже то, что разрушено, не теряет
этого качества. Самозатворенность и потаенность земли нельзя ос-
Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 94-95.
Heidegger M. Holzwege. S. 51.
Ibid. S. 303.
Ландшафт Шварцвальда
417
мыслить без двух сил: тяжести и сопротивления, поддерживающих
друг друга. Ведь разрыв являет собой выходящую на поверхность
под действием сил мира силу сопротивления, выходящую, чтобы
вернуться, увлекая за собой мировое, и затворить землю. А что
тогда есть это вздымание? В геологическом смысле вздымание земли
сопровождается землетрясением, тектоническими сдвигами,
резкими изменениями контура ландшафта. В хайдеггеровском
смысле вздымание есть высвобождение сил земли от ее инерционных
качеств — тяжести и сопротивления. Земля, чтобы стать
произведением, должна пройти путь вверх и к себе по линиям невидимой
кривизны бытия как сферы: она вздымается, чтобы оставить след
своего самозатворения, по которому будущее произведение создает
свою внутреннюю форму. Возврат земли в себя посредством стадии
вздымания рождает произведение, поскольку видимое напряжение
геологического разрыва уйдет в «гнетущую тяжесть камня,
немотствующую упорность дерева, темный жар красок»*. Земля и мир
отвечают друг другу вздыманием вещи как произведения (картины,
храма, стихотворения, философского трактата или скульптуры).
Но что есть Мир?
«Мир мирует», он определяем силами открытости, он вы-светля-
ет, выводит на свет сущего все потаенное и неясное, наконец,
вступает в спор с самозатворенностью земли. И тогда первым действием
в этой мировой геологической драме будет преодоление самозатво-
ренности земли (ее тяжести, сопротивления, инертности)
посредством раскола ее жесткой тверди. Но раскол, расщеп или сдвиг
земной тверди, если я правильно понимаю Хайдеггера, не следует
рассматривать как простой набор геологических метафор, а как
знаки, отмечающие собой пунктирную линию геогенеза,
высвобождающего силы земли для свободной игры в открытости мира. Оставаясь
всегда собой, Земля тем не менее получает новое измерение в
световом потоке мировых сил. Недаром Хайдеггером постоянно
подчеркивается отражательная, т. е. световая, структура четверицы.
Отражаясь в мировой открытости, земля себя про-являет, про-светляет,
выходит на просвет бытия. Но как? Она про-являет себя разрывом,
который и есть просвет. Силы земли выходят на поверхность не для
того, чтобы утратить себя без следа на просторах мировых сил,
они — всегда на пути в разверзнутость, которая соединяет,
взаимопронизывает мир и землю. Нет смысла обсуждать происхождение
самого разрыва, ибо он его не имеет, так как земля и мир в своем
вечном споре никогда не покидают области сближающего их
разрыва. Разрыв — то, из чего рождается вечное противостояние земли
* Ibid. S. 299.
418
В. А. Подорога
и мира — не стираем, он ниоткуда не происходит и ничего не
завершает, он и есть первоисток (Ursprung).
Итак, заметно действие трех основных сил:
Сила а есть сила, поддерживающая напряжение спора как
разрыва, фундаментальную и ничем, кроме произведения, не снимаемую
оппозицию между землей и миром. Вспомним о той мировой стороне
из квадрата четверицы, которую Хайдеггер наделяет направлением
«против». Это сила исключения (противостоять, раскалывать,
сдвигать и т. п.). Земля противостоит миру, как мир противостоит
земле, — неотчуждаемое противостояние. Я бы назвал этот уровень
взаимодействия первичным различением всех сил мира и земли. Сила
Ь, выводящая землю из самозатворенности в открытость мировых
сторон. Для нее есть напряжение действия, она означает быть
«друге-другом». Земля есть земля, мир есть мир, но есть что-то в земле, что
можно назвать мировым, как есть что-то в мире, что можно назвать
земным. Сила подобий, сближений, тождеств всего со всем, сила,
которая покоится на эффекте близости. Конечно, эта сила, выделенная
как момент в игре всех сил, не может существовать самостоятельно
от других. Более того, лишь потому, что есть сила исключения, есть
и сила сближения. Есть свет, и есть тьма, но есть свет, который
принадлежит тьме, и есть тьма, которая ослепляет. Все время друг-с-дру-
гом, не там, где одно, а там, где все: и смертное, и божественное, и
земля, и небо. Сила с — две первые силы составляют третью, эта сила,
избыточная, трансгрессивная, которая по отношению к двум первым
является силой сгиба (Zwiefalt). Сила возврата, повторения,
включающая в себя две другие силы в свободе их взаимодействия, она — их
контур. Первая и вторая силы, вступая в борьбу-союз, порождают
свой предел, этим пределом будет произведение, единая сфера
бытия, в которой то, что было в глубине земли затемненным, неясным,
страшащим, выходит на свет бытия и отпечатывается в открытости
всех мировых сторон. Эта сила как сила сгибания имеет геометрию
пересекающихся параллелей, ее направление — «над». Это сила за-
Ландшафт Шварцвальда
419
писи, обрисовывания, памяти, дающая возможность бесконечного
повторения отраженного в квадрате четырех сторон смертного и
божественного, небесного и земного. Произведение вздымается на
сгибе сил земли и мира. Хайдеггер придает понятию разрыва-близости
широкий, если не универсальный, смысл.
Диаграмма четверицы дает ясное представление о
взаимодействии всех сил, образующих сгиб сил мира и земли. В сущности,
можно интерпретировать понятие Zwiefalt в контексте записи сил
мира и земли с помощью произведения, произведение и
является такой записью. Разрыв как сгиб, сгиб как разрыв. Удерживая
в памяти эту структуру сил, и следует понимать принцип
взаимодействия хайдеггеровских оппозиций. Ни одна из них не
является доминантной по отношению к другим, но все они определяются
Хайдеггером, исходя из общей стратегии сгибания сил (языковых,
тектонически-земных, телесных, концептуальных или логических).
Тогда уже известная нам диаграмма четверицы для оппозиции мира
и земли будет выглядеть следующим образом:
Божественное Небо
над
Земля Смертное
друг-с-другом
«Земля» Хайдеггера может послужить здесь поводом вернуться
вновь к проблематике Другого. Другой, как точно заметил Ж. Де-
лез, — то, что «овозможнивает», что дает нам шанс воспринимать
и быть воспринимаемым*. Таким образом, воспринимая, мы
обладаем еще добавочным знанием по поводу того, что мы воспринимаем.
Мы никогда не смотрим на мир прямо, но всегда лишь через
другого, т. е. совершая обходной маневр, мы обнаруживаем границы
собственного восприятия, которые преодолеваем теми перцептивными
возможностями, которыми располагает другой (такой же, как мы).
В видимом есть то, что видится, в слышимом то, что слышится, в ка-
саемом то, чего касаются; и не просто есть, второе всегда воздействует
на первое, дополняет его, делает возможным. Изнанка мира
постигается нами с помощью другого, но постигается не в своем актуаль-
* Deleuze G. Michel Turnier et le Mond sans autrui — Turnier Michel. Vendredi
ou les Limbes du Pacifique. Paris, 1973. P. 262.
против
420
В. А. Подорога
ном, а в виртуальном проявлении, в качестве того, что Мерло-Понти
и Делез вслед за Хайдеггером называют складкой (Zwiefalt)*.
Другой — «там», потому что он — «здесь», единое поле
взаимообратимости позиций, их переплетение, порождаемое перцептивным
разрывом. Не подлежит сомнению, что в такой интерпретации другой
утрачивает свои антропоморфные качества, о нем больше нельзя
рассуждать в терминах субъекта и объекта, фигуры и фона, глубины
и поверхности, далекого и близкого, внешнего и внутреннего.
Другой является условием различения структур знания и восприятия,
складкой-в-себе, первоначальным разрывом в структуре бытия,
который сплетает между собой разорванное и расщепленное.
3. Произносить, писать, мыслить
Диалектное произнесение (Mundart) —
исполненный тайны ключ зрелого языка.
М. Хайдеггер
Как читать Хайдеггера?
Задаваясь этим вопросом, я вовсе не хочу ввести строгие
правила чтения и тем самым установить ограничения на интерпретацию
Однако особая заслуга в интерпретации «сгиба» (складки), Zwiefalt,
принадлежит Ж. Делезу. Вот, например, комментарий его к хайдеггеровскому
понятию, который мы находим в одной из последних работ: «...Идеальный сгиб
(Pli) является Zwiefalt, сгибом, который различает и различается. Когда
Хайдеггер ссылается на Zwiefalt как на различающее различие, то следовало бы
прежде всего сказать, что различие не проявляется в соотношении с
предшествующей ему неразличимостью, но в соотношении с Различием (Differance),
которое не прекращает отгибать и вновь сгибать каждую из двух сторон и,
отгибая одно, повторно сгибает другое, в единой коэкстенсивности сокрытия
и открытия Бытия, присутствия и отсутствия сущего. «Двойственность»
сгиба с необходимостью воспроизводится по двум сторонам, которые он
различает, но которые соотносит между собой в их различии: раскол (scission),
которым каждый отдельный термин ударяет по другому, напряжение, которое
каждый отдельный термин проталкивает в сердцевину другого» (G. Deleuze
Le Pli. Leibniz et le Baroque. Paris, 1988, P. 42). Как можно заметить, Делез
идеализирует материальную структуру сгиба: сгибание становится
бесконечной операцией, один сгиб переходит в другой, а тот — в следующий, —
череда сгибов. Сгиб в сгибе, внешнее суть внутреннее, отогнутое — это сгиб
вогнутого и т. д. Иначе говоря, не существует ничего вне этих идеализован-
ных операций сгибания, из которых могут строиться большие и малые миры.
Для Хайдеггера, если мы правильно понимаем его мысль, вздымание не
может быть равно сгибанию как бесконечной операции. Вздымание возможно
как сгиб-разрыв и лишь благодаря действию сил земли, сил тектонических.
Результат вздымания не открывает возможность все новых и новых сгибов
и разрывов, но сотворенное, — Произведение, стоящее на земле (храм, дом,
книга, картина и т. п.). Но разрыв как близость/вздымание и есть то, что
в других работах он называет Zwischen, Zwischen-fall и, наконец, Zwiefalt, что
можно переводить как «удвоение», «дублирование», «сгиб» или «складка».
Ландшафт Шварцвальда
421
хайдеггеровских текстов. Читать тексты Хайдеггера — это знать
и учитывать в опыте чтения начальные,
формально-содержательные условия его философской речи. Язык Хайдеггера складывается
как произведение-текст на границе двух других ему имманентных
языков, там, где пересекаются, сгибаясь в одном измерении, и
вступают в спор силы мира и земли, силы четверицы. Так две половинки
единого целого, отталкиваясь друг от друга и расщепляясь,
пытаются соединиться: с одной стороны, язык земной, «родной»,
территориально замкнутый, «всегда-здесь», не поддающийся воздействию
других языков и наречий, язык диалекта; с другой — язык
мифический, «всегда-там», язык как мировая матрица,
экстерриториальный, существующий как особого рода идеальное языковое
пространство. Язык диалекта становится благодаря силам земли, язык
мифический — геометрии сил мира. Этот вечный спор между ними
является спором-согласием. Архаическая стилизация философской
речи (можно говорить о попытке Хайдеггера создать своеобразную
этимологическую механику) — радикальный ответ на отчуждающее
воздействие, которое оказывает на органические формы языка
развитие современной планетарной техники, язык мирового сообщения
и информирования, язык как по-став, Ge-stell. To, что препятствует
вступлению между собой в спор языку диалектному и мифическому,
может быть только языком по-става. Отдельные слова и выражения
старонемецких диалектов получают функцию понятия, не
переставая играть роль архетипических противопунктов по отношению
к древнегреческим именованиям, повторяются в них, заимствуя
энергию выражения, что создает поле единой резонации смысловых
значений. Диалектная речь используется Хайдеггером как
определенным образом направленная лингвистическая сила, действующая
с помощью операций разрыва-сгиба на любой смежный или
противостоящий язык, пробуждая в нем память о силах мира и земли.
Языковые деформации, систематически используемые в
философствовании Хайдеггера, подчинены единой стратегии
расщепления: «...Расщепление (Zerbrechen) слова есть подлинный шаг к
возврату на путь мышления»*. Эта стратегия может быть эффективной
в организации текстового пространства лишь в том случае, когда
она опирается на фонетические и графические средства, на «смену
тона» и соответствующий ей знак дефиса. Отсюда вопросы: как
правильно произносить мыслимое? И если это достигнуто, то как его
следует вписать в философский текст, чтобы сохранить наглядность
сил произнесения и их смысл?
Попытаемся найти ответы.
* Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 216.
422
В. А. Подорога
Стилевая завершенность и торжественная строгость
философской прозы Хайдеггера, о которой так много и убедительно
говорили его почитатели, неотделима от феноменологической процедуры
вслушивания (Horchen), «внятия» (Ver-nehmen) тому, о чем и как
говорит язык наедине с собой, называя вещи. Быть может, лишь
благодаря известной терпимости немецкого языка Хайдеггеру
удалось создать эффект погружения в архаику немецкого и греческого
языков; читатель словно присутствует в момент зарождения слова,
«еще хранящего жар породившей его жизненной ситуации»*.
Вслушиваться — это значит собраться, насторожить слух, сосредоточить
все внимание на слушаемом, причем так, чтобы сам слушающий
оказался частью слушаемого, проникся тем гармоническим
соответствием бытия и сказанного слова, которое было присуще досократи-
ческому космосу. Ныне забытое удивление греков перед звучащим
словом, когда космос ощущался столь живым и магическим
пространством, населенным звучащими именами богов, — именно это
наивное мироощущение и пытается реконструировать Хайдеггер
с помощью этимологических изысканий. Ведь для него «речения»
Анаксимандра или Гераклита не являются лингвистически
неразвитыми образованиями древнего языка. Их реконструкция
указывает на способ отношения Хайдеггера к языку в целом. Мыслящий
должен принадлежать языку, если он желает пробиться к
внутреннему строению самой вещи как совокупности составляющих ее
архаических произнесений: вещь, раз она пестуется в открытости ее
слышимого бытия, должна как бы «шевелиться», впервые
выговаривать себя, «высловлять» в своем звучащем облике. «Когда мы
слышим произносимое на греческом языке греческое слово, мы
следим за его звучанием (Xéyeiv), его непосредственным произношением
(Darlegen). Звучание этого слова есть непосредственно данное (das
Vorliegende). Греческое слово, которое мы слышим, подводит нас
непосредственно к самой наличной вещи, а не только к значению
слова»**. Высвобождение слуха для сосредоточенного вслушивания
в бытие сущего, в «глубокую тишину», которая окружает вещь,
подразумевает бесчувственность к миру рационально исчислимых,
навязываемых извне сообщений, к логике развития информационных
систем современности, нейтрализующих повсюду, где это стало
возможным, развитие естественных органических форм языка. Однако,
по мнению Хайдеггера, значение естественного языка вовсе не
состоит в том, чтобы быть преодоленным. Отказываясь следовать
путями органического развития, язык обречен быть преобразованным
в орудие чисто формального упорядочения эмпирических фактов
* Ortega у Gasset. Obras complétas. Madrid, 1965. P. 637.
** Heidegger M. Was ist das die Philosophie? Tübingen, 1956. S. 9.
Ландшафт Шварцвальда
423
и событий в универсальный язык, годный лишь к логико-знаковому
исчислению мира. Тогда любая форма естественного языка «заранее
представляется как правда, еще не формализованная, но уже
обреченная на формализацию»*. Если же язык будет ограничен одной
прикладной функцией — быть лишь средством для чего-то,
чуждого его сущности (к этому, по убеждению Хайдеггера, идет сегодня
дело), — то ему грозит участь превратиться в бессловесный
автоматический регулятор всеобщего потока информации:
информировать, со-ставлять информацию, становясь тем самым одним из
вспомогательных, а может быть, и решающих орудий господства над
землей и человеком. Вместе с технизацией гибнет мир вещей и
пространств, который язык еще хранит в себе, нарушается постоянство
местопребываний человека в квадрате четырех мировых сторон; нет
больше доверия к именовательным силам, питающим диалектные
говоры и старинные словоупотребления. Язык отступает от своего
сущностного предназначения быть «домом бытия», становясь
исчезающим промежутком между деянием и бытием, он теряет
бытийную плотность, всю толщу древних значений, которыми говорит
бытие сущего.
Каков же строй размышлений Хайдеггера о том, что является
«слушанием», как можно вслушиваться в «беззвучный голос
бытия»? Надо также учесть и характер обновления восприятия
природы, общества и человека в творчестве романтиков. Постепенно
на первый план выходит строительство национальных государств,
чье единство теперь будет определяться (и не в последнюю очередь)
становлением национального литературного языка. Европейские
национальные языки, только начавшие формироваться в
литературном и повседневном опыте эпохи, были еще слишком зависимы
от общей латинской кальки (научно-философской терминологии,
правил риторики и т. п.). Великий немецкий просветитель Г. Гердер
(один из критиков Канта) указал на политическую взаимосвязь
становления нации с тем, что называл национальной особенность в
развитии языка: «Гений народа более всего открывается в
физиогномическом образе его речи»**. Так он утверждал, что зрение «наиболее
бесчувственное из чувств», и связывал напрямую упадок интереса
к устной речи и слушанию с возникновением письма, усилением его
роли в обществе. Зрительные элементы стали консолидироваться
на основе повседневного «беззвучного» опыта: «Вместе со знаками
письма угасали живые акценты, живые жесты речи, все то, что
прежде так помогало словам смело проникать в самую душу человека;
* Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 263.
** Гердер Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. А. В. Михайлова.
М.: Наука, 1977. С. 239.
424
В, А. Подорога
в результате сократилось количество диалектов, наречии
характерных для народов и племен, ослабла память людей, живая сила
их духа; всему этому виною искусственное средство —
предначертанные формы выражения мысли... Рассудок (естественный свет)
связан буквой, и вот он уже не идет, а робко пробирается, плетется
через силу; лучшие наши мысли умолкают, погребенные в мертвых
черточках письма»*. Один из постромантических критиков
образования в Германии середины и конца XIX века Р. Гильдербранд
сетовал, что «... черные штрихи на бумаге в наше время существеннее
слов, знаки для нас стали самими вещами... В наших глазах живет
слово, не в ушах...»**. В одной из глав своей книги «О преподавании
немецкого языка в школе, о немецком воспитании и образовании
вообще» (глава: Говорить и слушать, Sprechen und Hören) он
высказывает ряд принципиальных позиций в отношении письма,
опираясь на критические идеи Гердера. Речь телесна, письмо лишь нечто
внешнее, вроде «одежды» для произносимого звука, причем речь
непосредственно связана и с возможностью выражения, и со
слухом, открывающим доступ к состоянию души говорящего***. Каждое
объяснение Хайдеггера причин возвращения к подлинному смыслу
национального слова, как мы знаем, относится к все той же
традиции оспаривания культурного универсализма латинского языка,
бывшего некогда единственным ученым языком Европы. Правда,
Хайдеггер идет много дальше, вот что он пишет:
Западное истолкование сущего начинается с того, что греческие
слова перенимаются римско-латинским мышлением: ïmoKEiuevov
делается subiectum; ûrcôaraoïç становится substantia, a CTUußeßnKOc —
accidens. Такой перевод греческих наименований на латинский язык
отнюдь не столь невинная процедура, какой считают его еще и
поныне. Напротив, за буквальным по видимости и, стало быть,
охраняющим переводом с одного языка на другой скрывается перевод
греческого опыта в иную форму мышления. Римское мышление
перенимает греческие слова без соответствующего им равно
изначального опыта того, что они говорят, без самого греческого слова. С
этого перевода берет начало беспочвенность западного мышления**".
Двойная мифологизация национального языка: сначала
обнаруживается древнегреческий язык — образец, чья подлинность удо-
Гердер Г. Идеи к философии истории человечества. С. 240-241.
Hilderbrand R. Vom deutschen Sprachunterricht. Berlin; Leipzig, 1947.
S. 55.
Ibid. S. 72-73.
Хайдеггер M. Исток художественного творения / Пер. А. В. Михайлова. С. 57.
Ландшафт Шварцвальда
425
стоверяется правильным переводом текстов досократиков на
немецкий язык. А затем именно это подлинное значение древнегреческой
идиоматики проектируется на латинскую языковую матрицу
неподлинного языка, языка «мертвого письма». Возвращение языка
из забвения к его древнегреческим первоистокам — все это очень
похоже на прыжок из ничто в бытие. Поскольку универсальный язык
понятий и терминологий, выработанный европейским
просвещением, приговаривается к неподлинному существованию, язык
становится для Хайдеггера мифом мифа. Невольно (или вольно), но Хай-
деггер выходит за границы чисто языковых проблем в национально
окрашенную политику немецкого философского языка.
Посмотрим, как выстраивается логика его начальных
феноменологических допущений. Мы слышим, и мы видим, но как?
Существует физиологический анализ зрения и слуха: ухо, например, слышит
избирательно, оно может ничего не слышать даже тогда, когда
окружено шумами и звуками. И это вполне объяснимо, поскольку само
ухо не воспроизводит слушания, аудирования, даже в том случае,
если этот орган попытаться свести к перцептору шумов, звуков или
музыкальных мелодий. Ухо слышит не потому, что есть такой орган
чувственности, который отвечает за действенность процесса
слушания, поэтому область физиологии, исследующая звуки и шумы
по отношению к человеческому уху и понимающая под ними
определенные колебания воздуха с заданной частотой, вовсе не относится
к смыслу слушания и не затрагивает его даже частично. То, что
слушаемо, слушается не ухом. Можно слышать, как говорит Хайдеггер,
гром небесный, ветер в лесу, плеск фонтана, звуки арфы или
непосредственно отличать по гудению мотор «Фольксвагена» от мотора
«Мерседеса» лишь в той мере, в какой слушающий сам составляет
часть слушаемого. Нельзя услышать чисто абстрактный шум или
звучание, поскольку звук неотделим от вещи, которую он облегает
наподобие фонетической мантии и представляет во всей полноте
ее вещность. Слышимой должна быть сама вещность вещи, иначе
мы ничего не слышим. Таким образом, как заключает Хайдеггер,
вещи оказываются к нам гораздо ближе, чем их конкретное
восприятие, чем перцептивные возможности наших органов чувств*. Вещь
Хайдеггер близок здесь к немецким мистикам А. Силезиусу и М. Экхар-
ту. В частности, последний активно отстаивал превосходство слуха над
зрением: «Поэтому один учитель говорил, что слух выше зрения, ибо
большей мудрости научаешься через слух, чем через зрение.
Рассказывают про одного языческого учителя, что, когда он лежал на смертном одре,
ученики говорили при нем о высоком искусстве; и он, уже умирающий,
приподнял голову свою, прислушался и сказал: "ах, дайте мне
научиться этому высокому искусству, дабы я мог радоваться ему в вечности!"
Слух больше вносит внутрь, зрение же открывает внешнее — уже самое
426
В. А. Подорога
слышима или видима не в силу оптического или физиологического
контакта, а в силу ее близости к нам. Хайдеггер не стремится
противопоставить зрение слуху, видение — слушанию, ибо и то и
другое соединяются посредством префикса er в том, что он называет
«вы-слушиванием» и «вы-сматриванием» (Er-hören, Er-blicken)*.
Эта словесная частица указывает на причастность органов
чувственности к бытию. Можно слушать, но не слышать, можно смотреть,
но не видеть. Другими словами, для Хайдеггера слышание и
видение не являются физиологическими феноменами, скорее
квазичувственными, совпадающими по своей функции с актом мысли.
Мышление в хайдеггеровском понимании — это способность к
слушающему видению и видящему слушанию (Das Denken ist ein
Erhören, das erblickt)**. Здесь нет ничего похожего на синэстетический
эффект. Слушание и видение составляют собой мыслительный опыт,
тот же, в свою очередь, принадлежит языку, называющему вещи
по определенным правилам, которые являются в то же самое
время правилами произнесения. Круг замкнулся, ибо произносить —
это мыслить. Действительно, спросим себя, повторяя неустанные
вопрошания Хайдеггера, как можно услышать «голос бытия»,
который является беззвучным, погруженным в глубокое молчание?
Вероятно, так же, как услышал его царь Эдип, ибо стал про-видеть
будущее лишь тогда, когда ослеп. Под видением и слушанием
Хайдеггер понимает нечто подобное зрячей слепоте царя Эдипа. «Голос
бытия» слышим, когда мы принадлежим его молчанию.
В одном из докладов, посвященных языку, Хайдеггер поясняет
направленность своего поиска: «Однако уже тот простой факт, что
мы называем диалектами различные способы речи, нами не
осмысляется. Их различие основывается не только и не столько в
различных формах развития языковых средств. В диалекте говорят,
прежде всего, различные ландшафты, т. е. земля. Но артикуляционный
аппарат (Mund) является не только отдельным органом, который
подобно организму дополняется телом, но тело и уста (Mund)
соотносятся в порывах и росте земли, и в них мы, смертные, растем и
благодаря им обретаем добротную оседлость»***. Может быть, кратким
комментарием к этой фразе может быть афоризм, часто используе-
действие зрения! Поэтому в вечной жизни будем мы гораздо блаженнее
в слухе, чем в зрении! Ибо дело внимания вечному слову — во мне; дело
зрения, напротив того, устремляется от меня; в слухе пребываю я
страдательным, воспринимающим, в зрении я деятелен» (Мейстер Экхарт.
Духовные проповеди и рассуждения. М.: Изд-во политической литературы, 1991.
С. 75).
* Heidegger M. Der Satz vom Grund. S. 84-90.
" Ibid. S. 86.
*** Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 205.
Ландшафт Шварцвальда
427
мый Хайдеггером: «Язык есть цветение уст» (die Blue des Munde)*.
Если это так, то тело смертного оказывается пассивным
передаточным механизмом в сопряжении языка и земли. Вероятно, и
фигура того, кто произносит (а ее очертания пока расплываются в слове
«sein»), рождается из артикуляционного напряжения уст. Не тело
как организм, но и не сознание обладают органом для производства
речи, напротив, тело становится телом (причем вполне
определенным) благодаря тому, что становится устами, звучащим телом, —
говорящее тело-уста. Что может означать слово «колодец», «поле»,
«дом» и т. п., да и не только эти повседневные слова, но и те,
которым долгое время приписывалось высшее и неизменное значение
в философском словаре, как не стертое ныне в памяти поколений
изначальное условие нашего пребывания на земле! Пространство
и способ его обживания остаются невидимыми в своих письменных
очертаниях до тех пор, пока не овладевают ими с помощью
правильного произнесения. «Когда мы идем к колодцу, — пишет Хайдег-
гер, — или когда проходим поле, мы уже всегда идем сквозь слово
"поле", слово "колодец" ...»** Слово следует проходить как « проходят »
пространство, населяя его «местами». Но проходить — это значит
быть способным овладеть иным видом артикуляции, которая
связывает слова приемом расщепления, чтобы передать на поверхности
звуковой материи все земные силы, участвующие в формировании
звучания. Представим себе, что существует голос как некое живое
мускульное усилие без результата, чистая, живая радость
голосового напряжения, которая не нуждается во внешнем канале
коммуникации. Этот голос, который делает весь мир вокруг себя полем
бесконечного резонанса, никогда не переходя в стазис «самовыражения»
или « сообщения-для », не становясь результатом целенаправленного
артикуляционного усилия, и есть голос, который нами слышим,
голос, которому мы отвечаем. Голос вещей, голос Бога, голос совести,
голос любви и т. п. — все эти голоса-трансценденции проявляют
себя без принуждения. Между голосом как трансценденцией и той
последовательностью артикулированных звуков, которая
повседневно составляет речь, существует разрыв — переходное состояние
от голоса в его трансцендентной чистоте присутствия к голосу,
опосредованному членораздельным высказыванием. Искусственность
хайдеггеровских языковых новаций, которая осуждалась многими
филологами, может быть оправдана, если мы примем в качестве
первоочевидности бытия имен голос-трансценденцию. Естественна
не наша повседневная речь и весь тот артикуляционный порядок,
который ее связывает и объективирует, а голос-трансценденция,
* Ibid. S. 206.
** Heidegger M. Holzwege. S. 286.
428
В. А. Подорога
благодаря которому мы присутствуем в мире, голос как чистое
присутствие. Хайдеггер, опираясь на стратегию
слушания-произнесения, пытается восстановить иной вид артикуляции, которая
больше не зависит от лингвистически утверждаемой реальности языка.
Произносить — это слушать произнесением, слушать ртом.
Говорящий субъект в речи Хайдеггера не обладает языковой автономией,
позиция субъективности исчезает в акте произнесения-слушания,
исчезает тот разрыв, который ее поддерживал, — разрыв между
произнесением, видением и мыслью. Голос-трансценденция
становится имманентным событию мысли.
Прыжок, Sprung. Правила «смены тона»
Трактат Хайдеггера «Закон достаточного основания» может быть
взят в качестве идеальной модели процедуры вслушивания как
произнесения. Предметом интенсивного вслушивания, которое ведет
к радикальной смене тона (Wechsel der Tonart), оказывается лейб-
ницевский вариант универсального закона западной рациональной
метафизики, гласящий в своем латинском выражении: Nihil est sine
ratione (немецкий аналог Nichts ist ohne Grund: Ничто (не
происходит) без основания (причины)). Хайдеггер полагает, что
латинская калька скрывает от нас подлинный смысл закона,
установленный мыслью древнего гречества, но он может быть реконструирован
на путях его вы-слушивания и вы-сматривания. Правильное
произнесение, смена тона, ведущая к верно угадываемой тональности
высказывания. Каждый из составляющих высказывание словесных
элементов должен быть выслушан особо, отдельно от других.
Общепринятый тон закона — это Nihil est sine ratione, Nichts ist ohne Grund.
Грамматическая связка «есть» (est, ist) не акцентируется и
воспринимается автоматически как вспомогательный элемент в суждениях
существования. Так произнесенный закон относит свое
мыслительное содержание к определению сущего, но не бытия: бытие мыслит,
исходя из сущего. Отнесенный к определению сущего, так
интонированный закон не приводит нас к ответу на вопрос: что и на основе чего
сущее есть? Ведь сущее прежде всего «есть». Необходим, как полагает
Хайдеггер, мгновенный «скачок» (Sprung) мышления в иную сферу
(в «четверицу»). Что это за «прыжок», откуда он появляется у
Хайдеггера? Напрашивается ответ: не преобразованный ли это прыжок/
скачок Киркегора? На первый взгляд наше предположение верно.
Смею предположить, что имеет в виду Хайдеггер, когда пытается
вновь и вновь пояснять нам, что такое прыжок. Возьму один пример:
подъем в горы. Кто хоть раз побывал в горах (причем не обязательно
быть заядлым альпинистом и забираться высоко, на самые верши-
Ландшафт Шварцвальда
429
ны), сразу начинает чувствовать горы, всю мощь и величие высоты,
когда «мир под ногами», далеко внизу, под облаками. Бывалые
альпинисты или просто любители горных восхождений рассказывают
«байки», правда соответствующие иногда вполне реальным случаям.
Так, два друга поднялись в горы и один из них, более опытный,
взялся быть проводником, он привел своего друга к опасному переходу,
узкой расщелине над пропастью, — но достаточно шага, чтобы ее
преодолеть. Но друг его увидел под своими ногами глубокую пропасть
(«без-дна») и отказался переходить. Тогда более опытный решил
водить своего потерявшегося уверенность товарища по горным тропам
до тех пор, пока тот не устанет и его страх перед горами, этой
расщелиной не ослабнет. В конце концов они снова вернулись на то же
место и перешли эту злосчастную узкую тропинку, «зависшую» над
глубокой пропастью, но перешли ее, не заметив*. Вот и Хайдеггер водит
читателя, требуя от него постоянного внимания к ходу его
размышлений и движению речи, так как если бы он был неким сталкером,
ведущим читателя сквозь многие пути, но не идущего одним и прямо
к цели. Читатель забывает, зачем нужно философствовать именно
так, но, вовлеченный в речевое искусство Хайдеггера, он
философствует так же, как его учитель, — без всякой цели. Внимание к тем
переходам, которые преодолеть можно только прыжком, гаснет, и
теперь их можно преодолевать так, как если бы их не было вообще. Вот
почему все объясняется вновь и вновь, в разных аспектах, вариантах
и дополнениях: что это за прыжок и почему его нужно совершить, как
он возможен, когда и что происходит в момент отталкивания, а что
в момент приземления и много других подробностей, назначение
которых остается неясным? И вот читающий постепенно начинает
подчиняться авторитетному голосу, который становится чуть ли не
одним из его внутренних голосов. Путить — проходить не расстояние,
а путь, и не путь только, но путь всех путей. Под философским
опытом Хайдеггер понимает именно такие «обходные пути»,
идти-мыслить не прямо, а в обход, обходя и снова возвращаясь, но. уже с
другой стороны, под другим углом и с другой перспективой. Это пути,
которые не ведут никуда, лесные путаные тропы. Их ценность как
раз заключается в том, что ни один из них не ведет к цели, но каждый
из них и все вместе готовят нас к прыжку в иную область бытия.
* Другой случай — трагический. Несчастный случай произошел в
Швейцарских Альпах: альпинист-любитель многократно проходил по одному
и тому же маршруту, на котором был, возможно, точно такой же небольшой
переход над пропастью. И вот однажды, потеряв внимание, он оступился
и упал на дно глубокой пропасти (около километра). Как рассказывал его
товарищ по подъему, упасть было совершенно невозможно, и тем не менее
это произошло.
430
В. А. Подорога
Приведем ряд примеров хайдеггеровских размышлений о «прыжке».
Мы ходили, что уже часто и намеренно отмечалось, окольными
путями вокруг положения об основании. Однако эти окружные пути
ближе подвели нас к прыжку. Конечно, такие пути не могут ни заменить,
ни тем более осуществить прыжок. Но в некотором отношении, а
именно в качестве подготовки такого прыжка, они выполняют свою задачу.
Однако это напоминание о пяти главных вещах должно быть
чем-то большим, нежели только сообщением об уже сказанном.
С его помощью хотелось бы показать внутреннюю взаимосвязь пяти
главных вещей. Эта внутренняя взаимосвязь обнаруживает нечто
единое и единственное в своем роде, о чем мы должны помнить
(an das denken) также и после прыжка. Более того, только
благодаря прыжку мы и попадаем в такое воспоминание (in ein solches
Andenken). В то же время теперь станет заметно яснее,
насколько пройденное до сих пор подготовило этот прыжок из положения
об основании в положение о бытии.
Путь предыдущих лекций вел нас через то поле для
отталкивания, в котором нуждается прыжок. Сам прыжок повисает в воздухе.
В каком воздухе, в каком эфире? Это мы узнаем лишь посредством
самого прыжка. Положение об основании является не только
положением, понимаемым как высочайшее основоположение.
Положение об основании — это «положение» в том исключительном
смысле, что оно является неким прыжком. Наш язык допускает такой
оборот речи: «Одним скачком он оказался за дверью» (Er war mit
einem Satz zur Tur hinaus), т. е. одним внезапным прыжком. Если
иметь в виду такое значение слова Satz, то положение об основании
можно понять как некий скачок (ein Satz) в сущность бытия*.
Прыжок в отталкивании не отталкивает от себя область
отталкивания, но в таком прыганий прыжок становится вспоминающим
усвоением бытийного посыла судьбы. Для самого прыжка это
означает следующее: прыжок не прыгает ни прочь из области
отталкивания, ни вперед в некую другую, обособленную в себе сферу. Прыжок
остается прыжком лишь в качестве вспоминающего. Однако
«вспоминать» (an-denken), и вспоминать именно бывший посыл судьбы,
означает «обдумывать» (bedenken), и притом в качестве того, что
должно быть продумано, обдумывать то, что в том, что было, еще
не продумано. Мышление соответствует этому лишь в качестве
опережающе-мыслящего (vor-denken-des). Вспоминать то, что было,
* Хайдеггер М. Положение об основании. СПб.: Алетейя, 1999. С. 98-99.
Ландшафт Шварцвальда
431
означает опережающе-мыслить подлежащее продумыванию
непродуманное. Мышление есть вспоминающе-опережающее
мышление (andenken-des Vordenken). Оно не прилипает, образно говоря,
к тому, что было, как к чему-то прошедшему и не прозревает с
пророческим самомнением якобы известное ему будущее. Вспоминаю-
ще-опережающе-мыслящее мышление есть прыгание прыжка (das
Springen des Sprunges). Этот прыжок является неким скачком, в
котором осуществляется мышление*.
Итак, для того, чтобы поистине узнать сопринадлежность
человека и бытия, нужен прыжок. Этот прыжок — внезапность
мгновенного вступления в ту принадлежность, которая впервые должна
высвободить взаимное человека и бытия и тем самым —
констелляцию обоих. Прыжок здесь — это внезапное вознесение в ту область,
в которой человек и бытие всякий раз уже полностью достигли друг
друга в своей сущности, поскольку оба из своей полноты друг другу
преданы. Только вознесение в область этого предания на-страивает
и вы-страивает опыт мышления**.
Но как его совершить, этот прыжок, да и зачем он? А совершить
его можно сменой основного тона высказывания с акцентуацией
на словесный элемент «есть»: не слушать закон как Nichts ist ohne
Grund, оставаясь в пределах рациональной метафизики, где сущему
с помощью субъектно-предикатной формы навязывается
исчисляющая логика ratio и где закрепляется его отрыв от бытийной
основы, но слушать его как Nichts ist ohne Grund. Что же это дает? В так
выраженном тоне закона «есть» указывает на себя как на
грамматическую аббревиатуру древнего и неделимого по своим функциям
глагола «sein» и не только как на письменный знак «бытия», но как
на само бытие. Не к сущему (Nichts), а к бытию (ist) относится
«основа» (Grund).
* * # ч
Первый тон: NICHTS ^ OHNE ^
ist Grund
Второй тон: / * 1ST / * GRUND
Nichts ohne
Первый тон, можно сказать, является таким видом артикуляции
звуковой материи слова или высказывания, который не различает
основной функции «ist», скрывающей под собою связь с «Grund»,
и не только как с основанием и причиной. Собственно, первый тон
* Там же. С. 160-161.
** Хайдеггер М. Тождество и различие. М.: Гнозис, 1997. С. 18-19.
432
В. А. Подорога
в хайдеггеровском смысле не является тоном, звуковой
артикуляцией мыслимого вообще. Высказывание Лейбница ориентировано
на иной тип чувственности, его читают глазами, и в силу его
очевидной прозрачности нет необходимости прибегать к акции
произнесения, так как действие звуковых сил нейтрализовано установкой
на ratio. Второй тон требует включения в процедуру вслушивания,
которая позволит быть причастным произносимому, переживать
его, как перепад света и тьмы, как совокупность сил, ритмически
вздымающих земную поверхность навстречу миру. Смена тона
заставляет ниспадать одно и вздыматься другое. Вытравленное
бытийное значение «ist» восстанавливает свое присутствие субстантивом
«Sein». Копула «ist» — вертикальный надрез высказывания,
основной пункт смены тона. Хайдеггер пишет (создает) тексты. Говорит,
как пишет, как если бы самое философское письмо было ритмической
партитурой, предуготовленной к «правильному» произнесению.
Стоит повторить вопрос: зачем Хайдеггеру нужен прыжок? И вся
сфера игры с корневой формой слова от Sprung? Прежде всего,
описание прыжка — это типичный для хайдеггеровской манеры
образец физически конкретного примера. Вероятно даже, что не в
полной мере осознавая, что он делает, Хайдеггер вводит что-то похожее
на показ, т. е. пытается наглядно представить нам движение мысли
в некой фигурной пластике. Вот есть путь, которым мы идем и
который собираемся пройти, но на этом пути может произойти нечто,
что не поддается нашему предварительному знанию. Некий скачок
в понимании, совершенно внезапный. И только окружные пути, т. е.
пути, не ведущие прямо к цели, приводят нас к одной-единственной
мысли, которая разом меняет все. Почему мы не пришли к этой
мысли о смене тона ранее? Потому что не мыслили бытийно, т. е.
с точки зрения бытия, а не сущего, Хайдеггер полагает, и это самое
поразительное в его аргументации, что он может показать ход
мысли, описывая последовательно и детально сам прыжок. Мы мыслим
только то, в чем уже есть. Мы не можем мыслить то, что нам
предстоит или что мы представляем, этот картезианский ход мысли
отвергается Хайдеггером, как мыслителем, мыслящим из бытия и в бытии,
или это означает: «не объяснять больше бытие при помощи чего-то
сущего»*. Итак, прыжок совершен, и тот, кто в прыжке покидает
зону отталкивания, не теряет ее из виду. От чего отталкиваются,
сохраняется в виде воспоминания о том, что было; прыжок остается
здесь прыжком оглядывающимся назад, zurückblickender Sprung**.
Разгадка использования прыжка в качестве термина, символа, даже
понятия оперативного приходит из общей для Хайдеггера языковой
* Хайдеггер М. Положение об основании. С. 120.
** Heidegger M. Der Satz vom Grund. S. 119.
Ландшафт Шварцвальда
433
манеры мыслить, а он мыслит многим как Единым. Отсюда
теснота мыслительного ряда, когда один термин меняет свое значение,
но так, что становится вновь тем, чем был всегда, т. е. другим себе.
Вот типичный образец прыгающей мысли:
Der Sprung ist jeweils Absprung. Dasjenige, wovon der Sprung
des Denkens abspringt, wird in solchem Sprung nicht preisgegeben,
vielmehr wird der Absprungbereich erst aus dem Sprung her und auf
eine andere Weise als zuvor uberblickbar. Der Sprung des Denkens
lässt das, wovon er abspringt, nicht hinter sich, sondern eignet es sich
auf eine ursprunglichere Weise an*.
Прыжок в той или иной степени является отталкиванием.
То, от чего отталкивается прыжок мышления, отнюдь не
отбрасывается в таком прыжке, наоборот, область отталкивания, только
исходя из самого прыжка, хотя и другим способом, нежели прежде,
становится доступной обозрению. Прыжок мышления не оставляет
то, от чего он отталкивается, позади себя, а присваивает его себе
неким более изначальным способом**.
Когда вокруг одного корня начинает движение звуковая —
«прыгающая» дефисно расчлененная в письме словесная масса, — то все
это не может не производить суггестивный эффект. Слова
распадаются, рассекаются изнутри и теряют свое прежнее значение, они
возвращаются к единой корневой основе, существующей во
множестве различий. Мысль Хайдеггера движется в дефисном облачении
письма, так слова принуждаются к тому, чтобы совершать скачки
в иное себе значение. Как будто мы переходим от правил
стандартного использования языка в сферу его идеального бытования, где слово
есть Единое, включающее в себя бесконечное множество дефисных
различий. Дефис разламывающий, рассекающий, явный и скрытый
занимает в письме Хайдеггера место микроскачка, мгновенного
перехода от одного куста значений в другой***. Это особенно хорошо за-
* Ibid. S. 107.
Хайдеггер M. Положение об основании. С. 109.
Хайдеггер упорно следует за мыслью Киркегора, хотя сам
интерпретирует тему прыжка несколько иначе. Для него прыжок совершается не нами,
а с нами, — именно с нами происходит скачок-переход в другое состояние
видения/восприятия бытия. Мы внезапно переходим из сферы забвения
бытия в его вспоминательную традицию. Мы не управляем им и не знаем
о нем ничего, пока он не произойдет. Для Киркегора, как это мы
обсуждали ранее, прыжок — это то, что происходит в экзистирующем субъекте,
что им ожидаемо, что им подготавливаемое. Поскольку он погружен в поле
имманентности, в непрерывность переживания времени, то всякая оста-
434
В. А. Подорога
метно по немецкому оригиналу (вышеприведенному), чья тональная
предвзятость звучания, к сожалению, исчезает при переводе на
русский язык: Sprung — Absprung — Sprung — abspringt — Sprung —
Absprungbereich — Sprung — Sprung — abspring — ursprunglichere.
Графема бытия. О «линии»
Как писать слово Sein, бытие? Этот вопрос Хайдеггер ставит
в своей небольшой работе «О Линии», посвященной Э. Юнгеру*.
Подобно древнему переписчику священных книг, который, прежде чем
написать имя Бога, обмакивал перо в святую воду или писал
вместо его имени апострофический знак, Хайдеггер ищет возможность
вывести слово Sein на свет сущего, но так чтобы не потерять
ничего из того, что составляет его сущность. Как это сделать, если само
бытие не может быть соотнесено с присутствующим в поле
зримости словом Sein, ведь бытие не может быть представлено звуковым
и графическим образом во всем объеме его смыслового содержания,
в своей немыслимости. Однако создаются тексты, в которых, так или
иначе, осмысляется сущность бытия, не сводимая к слову Sein.
Каков письменный статус знака бытия? Хайдеггер вполне отдает себе
отчет в том, что между словом Sein и бытием, как оно есть,
существует зазор, который необходимо преодолеть, чтобы бытие (не слово
Sein, a само бытие) смогло проявить себя в материи письма, не
утратив уникального смысла. Он преодолевает этот зазор тем, что вводит
бытие в текст посредством операции графического зачеркивания,
kreuzweise Durchstreichung, благодаря чему слово Sein переводится
в бытийное измерение.
Хайдеггер в диалоге с Э. Юнгером настаивает на том, что нужно
говорить «о линии», de Unie, a не «пересечении линии», trans lineam.
Важно заметить, что перекрестное зачеркивание есть
символическая операция введения некой оптической установки, которая
позволит нам обнаружить мировые стороны бытия, подобно тому как
оптическое окно позволяло проникнуть в строение операционной
схемы архетипа у Юнга (модель кватерниона). Это с одной стороны.
Однако Хайдеггер имел в виду не только это, но и метафизическую
позицию. Через присутствие ничто дано бытие, последнее не может
быть дано непосредственно, но только опосредованное — неким
состоянием, которое Хайдеггер, памятуя о Киркегоре, называет ме-
новка, прерывание внутреннего потока рождается из невозможности более
придерживаться прежней установки. И другого выбора, кроме как прыжка
нет, его нельзя подменить постепенными переходами.
* Heidegger M. Über «Die Linie». Freundschaftliche Begegnungen. Frankfurt
am Main, 1955. S. 32.
Ландшафт Шварцвальда
435
тафизическим ужасом. В переводе (всегда условным для Хайдегге-
ра) — это звучит так: следует исходить «из внимания к голосу бытия
и вдумывается в то согласное его голосу настроение, которое
захватывает человека в его существе так, чтобы он научился в ничто
опыту бытия»*. Другими словами, опыт ничто есть вступление в опыт
бытия, да и сам этот опыт есть единственно возможный. Через
Ничто к Бытию. В этом позитивность метафизического перекрестного
зачеркивания. Каждый раз это зачеркивание оказывается
позитивным, как только оно соотносится с тем смыслом (значением)
операциональным, которое ему стараются придать. Например, открытия
бытия в структуре четверицы, или в дефисной стратегии (грам-
матико-этимологические изыскания, роль дефиса как
графического символа открытости бытия), наконец, метафизический, когда,
исходя из первоначальной настроенности или <тредготовности
к ужасу* перед ничто, эти операции мысли и чувства помогают
осознать всю неизмеримую ценность бытия). Линия если
пересекается, то тогда, когда ее пересекли, можно начать снова, как будто
с чистого листа, поскольку линия выступает как граница перехода
к другому состоянию бытия. Хайдеггер же пытается
сосредоточиться на самой линии, скорее на ее непереходности. Именно линия,
поскольку открывает себя посредством переживания ничто и
требует графического знака (индекса), что только после этого события
становится доступным опыт бытия. Опыт ничто, собственно, и есть
единственный опыт бытия. Эта невыносимость стояния перед ничто
приводит к тому, что Хайдеггер называет прыжком в бытие.
Существует и другая необходимость введения операции
позитивного зачеркивания, обосновываемая самим Хайдеггером в письме
к Юнгеру: что происходит с бытием в эпоху нигилизма, гибнет ли
оно или все же сохраняет себя? Если не гибнет, а сохраняет, то как?
Допустим, что эпоха нигилизма — активное утверждение ничто
во всем — обладает особым топографическим знаком: линией ни-
чтожения, которая пересекает бытие, погружая его в забвение,
образуя, по выражению Юнгера, «нулевой меридиан» (Nullmeredian),
«нулевой пункт» (Nullpunkt)**. Замыкаясь на себя, эта линия
ограничивает промежуточную зону, где слитые в своей
одновременности совершаются два события: завершается эпоха нигилизма,
обнаруживающая свои метафизические основания, и подготавливается
новый поворот к бытию. Линия, «пересекая» бытие, не вторгается
в него как в нечто вещное, обреченное на рассеяние и гибель, она
проходит «над», «поверх», подобно «trans-line», указывая на то, что
свершается, но само не принадлежит к сфере свершающегося. Это
* Хайдеггер М. Время и бытие. С. 3.
" Ibid.
436
В. А. Подорога
линия события: бытие погружается в забвение, пока Ничто остается
достаточно могущественным, чтобы ничтожать все сущее и себя. Эта
линия пересекает, т. е. соотносит себя с движением ничтожения,
но в то же время, если я правильно понимаю, и скрывает собой
бытие, сберегает.
Бытие, погружаясь в забвение, не уничтожается, а спасается.
Забвение — не потеря памяти или провал и не склонность человека
просто что-то помнить, а что-то забывать — это событие, приносящее
с собой новое отношение к бытию. Именно в этом смысле, как
требует Хайдеггер, и следует понимать процедуру позитивного
зачеркивания: зачеркивая крестообразным знаком бытие, мы всякий раз
указываем на его мировую структуру, четверицу, которая открывается
нам благодаря этому зачеркиванию, «видим» само зачеркивание как
стадию в повороте мысли к бытию, — забвение дарует спасение. Это
спасающее зачеркивание пробуждает нас от сна забвения.
В соответствии с этим мыслящий и опережающий взор может
писать в этой области «бытие» только следующим образом:т£&мй&.
Крестообразное перечеркивание отвергает, прежде всего, почти
неискоренимую привычку представлять «бытие» как визави,
стоящее для себя и лишь иногда подходящее к человеку. Согласно
этому представлению кажется, будто человек исключен из «бытия».
В то время как он не только не исключен, т. е. не только включен,
но и «бытие» вынуждено, нуждаясь в человеческой сущности,
поступиться видимостью для-себя, отчего оно становится другой
сущностью, нежели хотело бы признать представление о высшем
воплощении, включающее субъект-объектные отношения.
Знак перечеркивания крест-накрест согласно сказанному не
может быть, разумеется, чисто негативным знаком перечеркивания.
Он скорее указывает на четыре края четырехугольника и их
собирание в точке пересечения"*.
«Единство четверицы есть скрещение. Это скрещение,
однако, получается вовсе не так, будто оно охватывает четверых извне
и лишь задним числом привходит в них как это охватывающее.
Скрещение не исчерпывается равным образом и тем, что четыре,
коль скоро они налицо, просто стоят друг против друга**.
Судьба нигилизма. Эрнст Юнгер, Мартин Хайдеггер, Дитмар Кампер, Гюн-
тер Фигаль / пер. составление, комментарии Г. Хайдаровой. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2006. С. 100-101.
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
С. 325.
Ландшафт Шварцвальда
437
Попробуем прокомментировать завершающее размышление.
Итак, этот перевод открывает путь к топологии бытия: не слово
Sein, которое, как только вступает в высказывание, тут же
подчиняется субъектно-предикативной логике языка, отсекающей
топологические качества мыслимого, но Sein. Как демонстрирует анализ
Хайдеггера, эта операция далека от отрицательного,
уничтожающего зачеркивания. Не просто стирание или свидетельство ошибки,
а иной способ чтения знака бытия, который приоткрывает в своей
структуре отношение к бытию (Ж. Деррида)*. То, что
зачеркивается, остается читаемым. Вопрос лишь в том, что читается и как.
Продолжая размышление, Хайдеггер высказывается еще более
определенно: крестообразное пересечение линии показывает структуру
четверицы. Вступает в игру топология четверицы. Теперь
графический знак получает особое измерение и перестает быть только
знаком бытия, ибо само бытие больше не нуждается в слове Sein, чтобы
засвидетельствовать себя в тексте. Графика крестообразного
зачеркивания отстраняется от символики креста, скорее она
представляет собой, как мы уже знаем, пересечение двух параллелей, которое
строится по модели сгиба, Zwiefalt. Иначе говоря, между словом
Sein и бытием как оно есть, как оно дается в собственном
присутствии, существует промежуточная сила сгибания, открывающая
нам топологическую структуру бытия как четверицу.
Последовательность топологического перевода слова Sein в структуру бытия
можно представить так:
Божественное :~ vi Небо
SEIN S»C
как олово
(как копула) Графический знак
наложения Ничто на Бытие ^ *
Земля Смертные
Символ скрещения
сил бытия
Крестообразное зачеркивание позволяет вступить в игру
мировым сторонам четверицы повсюду, где сущее мыслится из события
бытия. Здесь намечается расхождение с интерпретацией Деррида,
который полагает, что графическая запись слова Sein
(крестообразное зачеркивание) не может быть «утилизована», ибо графическое
* Derrida J. De la Grammatologie. Paris, 1967. P. 38.
438
В. А. Подорога
самодостаточно: в нем может «читаться» топология бытия,
оставаясь между тем непроизносимой. Действительно, бытие как
трансцендентальное означаемое все время ускользает от произнесения
(навязываемых ему означающих), и не существует такого звука,
артикуляция которого совпала бы с полным проявлением сущности
бытия наподобие звука ОМ в древнеиндийской мистике. Все это
верно, но верно также и другое, что мысль Хайдеггера движется в ином
направлении: он пытается построить специфическую логику
философствования, которая определялась бы по своим топологическим
основаниям из структуры сил четверицы. Если эта гипотеза
вероятна, то письмо Хайдеггера должно быть выражением графически
мыслимого, всегда погруженное в топологическое измерение бытия,
в немыслимое, из которого оно и будет рождаться. Крестообразное
зачеркивание как топологическая операция замещается в письме
Хайдеггера знаком дефиса. Подобное письмо я бы определил как де-
фисное, т. е. письмо, с помощью которого читатель может
контролировать правильность произнесения мыслимого, точнее, ритм
произнесения. Тогда писать — это разрушать слова с помощью дефисных
разрывов, которые, со своей стороны, выступают как графические
метки для смены тона. Дефис — это графический знак разрыва,
остановки дыхания, если угодно, разгиба звуков отдельного слова
для новой артикуляции, причем уже такой, которая учитывала бы
в самом акте произнесения игру мировых сил четверицы.
Другими словами, черточка дефиса — не просто один из многих
пунктуационных знаков, знаков вычитания или пропуска, оставляемых
на бумаге в зависимости от обстоятельств случайных для письма.
Знак дефиса — это топологический оператор. Размещаясь в языке
и выполняя в нем разнообразные семантические функции, он вместе
с тем не является частью языка, но, будучи графическим знаком, он
также не является и прямым свидетельством присутствия бытия;
его функция промежуточна, он лишь помогает перевести слово в
топологическую структуру бытия. Но там, где дефис начинает
действовать, слово расщепляется и, открывая в себе игру неязыковых сил,
становится событием мысли: оно произносится так, как оно когда-то
рождалось.
^5^
А. Г. ЧЕРНЯКОВ
Онтология времени: Бытие и время в философии
Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера
<Фрагмент>
§ 3. Забота как наследник субъективности
(Онтология подручного)
Вещь. Коричневый цвет
вещи. Чей контур стерт.
Сумерки. Больше нет
ничего. Натюрморт.
И, Бродский
1. Бытие как «имею-быть»
Если мы пытаемся строить онтологию, которая больше не
отождествляет с самого начала «сущее» и «позитивно положенное»,
то и «раличение позитивности и трансцендентальное™» не может
больше рассматриваться в качестве решения вопроса о смысле
бытия. Хайдеггер пишет Гуссерлю: «Само конституирующее вовсе
не есть ничто, но тоже нечто и притом сущее, хотя и не в смысле
позитивного. Вопрос о способе бытия конституирующего нельзя
обойти. Проблема бытия универсальна, и она в равной мере относится
и к конституирующему, и к конституируемому»*.
Ходы рефлексии, которые привели к новоевропейскому понятию
субъекта, игра взаимных определений («диалектика»)
объективного и субъективного бытия начинаются дальше, чем того требует
* См.: Приложения к изданию лекций Гуссерля Phänomenologische
Psychologie, Husserl E. Gesammelte Werke. Bd. IX. Phänomenologische
Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925. Hrsg. von Walter Biemel.
Den Haag: Martinus Nijhof, 1962. S. 602.
440
А. Г. Черняков
вопрос, что значит вообще «быть». Хайдеггер рассматривает этот
вопрос в «обратной перспективе» по отношению к картезианской
парадигме: если способ бытия (существования) чистого «Я» (или
трансцендентальной субъективности) превращается в
фундаментальную апорию новоевропейской онтологии и если мы тем не
менее не хотим, подобно Канту, вообще отказаться от ее «объективно
значимого» обсуждения, то нельзя ли с этого бытия начать?* Кроме
того, всякое ли значимое обсуждение должно быть непременно
объективно значимым? Иными словами, не можем ли мы избрать в
качестве отправной точки феноменологического анализа бытие,
которое всякий раз — мое, которое для меня уже определенным образом
разомкнуто, в котором я уже себя застаю?
При этом если язык в своей фактичности говорит: «Я застаю»,
то это вовсе не значит, что философ должен его подправить, очистить,
привести в соответствие с fundamentum absolutum et inconcussum
veritatis и сказать: «Я (das Ich) застает». Кроме того, так ли уж
необходимо заранее предполагать (в качестве единственно возможной
«философской» точки зрения), что «за-стает» непременно значит
«заставляет пред-стать», «представляет», «мыслит»: «Я» мыслит
«Я», «Я» полагает себя в мышлении в качестве полагающего и т. д.
Не можем ли мы, напротив, начать с выяснения смысла этого
«всякий раз моего» бытия и уж потом задавать вопрос об имени и
определении того, кому оно «принадлежит», спрашивать, кто этот «кто»
и какое это «Я» застает себя в упомянутом бытии?
Так начинает Хайдеггер: sum предшествует cogito, «имение-
быть» (в смысле Хайдеггерова: «Я есмь и имею быть»**, das Zu-sein),
бывание в моем бытии предшествует интенциональному отношению
к предмету и тем самым объективности объективного и
субъективности субъективного***.
* В § 64 SZ (здесь и далее SZ — Sein und Zeit. — Прим. сост.), озаглавленном
«Забота и самость», Хайдеггер подтверждает, что парадокс, обнаруженный
Кантом при обсуждении «паралогизмов чистого разума» в связи с такими
определением «Я» как субстанции,— существеннейший «негативный» шаг
в преодолении недостаточности классических онтологических схем
(«несоразмерной предмету онтологии субстанциальности») в «Я-говорении».
Парадокс, однако, так и остается парадоксом, покуда не положено новое
основание онтологии, покуда не возникло новое понимание бытия как такового.
'* «ichbin und habe zusein...»
Используя возможности того мультилингвистического пространства, в
котором мы оказались, мы могли бы сыграть в (не вполне пустую) игру,
сказав: jacio («бросание») экзистенции предшествует, по Хайдеггеру, и sub-
jectum, и ob-jectum и должно быть понято в первую очередь как pro-jectum
в смысле немецкого Entwurf, «набросок», или das Entwerfen,
«набрасывания», в котором Dasein на-брасывает, в-брасывает свое бытие как свое «мо-
жествование» (das Seinkönnen) из своих уже так-то и так-то истолкованных
Онтология времени
441
2. Экзистенциал заботы
Теперь мы в состоянии использовать отрицательную аналогию
между категориями и экзистенциалами во всех ее смысловых
слоях. Трансцендентальный субъект есть, по Канту, некий деятель-
ностный или функциональный центр, который придает целостность
и единство системе категорий. «Я» принадлежит представлению «Я
связываю» и представляет собой необходимое условие системы
категорий как функций синтетического единства.
Попытка Хайдеггера в SZ заново поставить вопрос о смысле
бытия, начав исследование с бытия того сущего, которое занимает
особое положение по отношению к самому бытийному вопросу, ибо
для него в его бытии дело идет об (es geht um) этом самом бытии,
словом, начав с бытия Dasein или экзистенции, приводит его к
понятию бытия-в-мире. Бытие-в-мире есть одно из определений самой
экзистенции, т. е. способ бытия самого Dasein. На определенном
этапе разработки экзистенциальной аналитики бытие-в-мире
предстает как «исходно и постоянно целая структура», которая
обнаруживает при этом «феноменальную многосложность устройства»,
грозящую даже «заслонить единый феноменологический взгляд
на целое как таковое»*. Экзистенциалы представляют собой
основные структурные моменты упомянутой многосложности. Спросим
теперь: что придает целостность цельному устроению экзистенции,
в частности, — центрированность, единство и целостность системе
экзистенциалов? На чем должен сосредоточиться «единый
феноменологический взгляд»? Вопрос Хайдеггера: «Как экзистенциалъ-
но-онтологически определить целость выявленного
структурного целого?»** Чуть ниже Хайдеггер пишет: «Бытие Dasein, на которое
онтологически опирается структурное целое как таковое,
становится доступно в некоем сквозном взгляде сквозь это целое на один
изначально единый феномен, уже лежащий в целом, так что он
онтологически фундирует каждый структурный момент в его
структуральной возможности»***. Этот единый феномен, «одно», единящее
в себе и несущее на себе в качестве первоосновы экзистенциальное
«многое», называется в SZ «заботой» (Sorge). Теперь ясно видно,
что в контексте рассматриваемой нами аналогии именно «забота»
должна служить фундаментально-онтологическим двойником при-
возможностей, т. е. из своей «брошенности» (Geworfenheit) в открытый
горизонт наступающего (Zu-kommen der Zukunft).
* Хайдеггер M. Бытие и время / Пер. В.В. Бибихина. M.: Ad Marginem, 1997.
С. 180.
" Там же. С. 181.
'* Heidegger M. Sein und Zeit. 16 Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1986.
S. 181.
442
А. Г. Черняков
надлежащего новоевропейской метафизике понятия
трансцендентального субъекта (или, скажем мы осторожнее, —
трансцендентальной субъективности).
Мы попытаемся ниже вникнуть в детали этого соответствия,
опираясь на уже проделанную работу. Не раз было сказано, что
трансцендентальный субъект новоевропейской метафизики есть, во-первых,
фундаментальное условие присутствия всякого объекта, условие
присутствия (позитивности) присутствующего, а это значит — его
бытия, ибо бытие уже истолковано как присутствие наличного,
наличие. Во-вторых, трансцендентальный субъект есть для себя сущее
основание сущего. Это очень общее, а потому не вполне отчетливое
определение по-разному уточняется в разных изводах
трансцендентальной философии. Но коль скоро «быть» означает «быть (или
быть в возможности) предметом (мысли)», то фигура для-себя-бы-
тия превращается в фигуру самосознания. Мы посвятим остаток
этой главы фундаментально-онтологическому перетолкованию
одной из фундаментальных метафизических черт субъекта: субъект
как возможность объекта, объективного. В следующих главах будет
рассмотрена (уже возникавшая в разных контекстах) тема
фундаментально-онтологического «наследника» самосознания.
Для метафизической традиции трансцендентное сущее — объект.
Мы встречаемся с вещью, когда она становится объектом для
субъекта. Теперь мы должны спросить себя: верно ли (и если да, то в каком
смысле верно), что понятие заботы в SZ выражает первое и основное
условие возможности встречи с сущим, открытости (Offenheit) или
разомкнутости (Erschlossenheit) сущего как такового? Хайдеггер
в SZ остается в рамках трансцендентальной постановки вопроса
о бытии в том отношении, что спрашивать о бытии означает для него
спрашивать о способах доступа к сущему, глубинных условиях того,
что сущее вообще позволяет с собой встретиться. Но событие
встречи отнюдь не сводится теперь к пред-ставлению и предстоянию,
к интенциональному отношению сознания и его интенциональных
объектов. Хайдеггер спрашивает о бытийной подоплеке интенцио-
нального отношения.
3. Внутримирное сущее и его бытие
В каком смысле забота есть условие встречи с сущим?
Поставим вопрос z/же: в каком смысле забота есть условие встречи с вну-
тримирным сущим? «Внутримирное сущее» (das innerweltliche
Seiende) обозначает в SZ, формально говоря, всякое сущее, которое
само не «мирно» (weltlich), т. е. такое сущее, способ бытия
которого отличен от экзистенциально понятого бытия-в-мире.
Терминология Хайдеггера звучит парадоксально, но внутримирное сущее
Онтология времени
443
не обладает бытием-в-мире, ибо последнее есть определение только
экзистенции, бытия Dasein. Как мы видели, Хайдеггер пытается
проникнуть по ту сторону интенционального отношения,
утверждая, что всякое «теоретическое» (в исходном смысле греческого
глагола 0£(ûpeîv, т. е. отстраненно-созерцательное, наблюдающе-позна-
ющее) отношение к сущему, с самого начала толкующее сущее как
предмет, фундировано в отношении небезразличного,
озабоченного попечения. Соответственно, сущее в первом и основном смысле
должно быть понято в исходном значении греческого то ярауца, как
«средство» или «утварь» — das Zeug. Это и есть отправная точка той
версии «феноменологического» анализа, который развит в SZ.
Хайдеггер существенно меняет смысл основных процедур Гуссерлевой
феноменологии — еяохп и различных вариантов
феноменологической редукции, ибо все эти процедуры отталкиваются от предмета
и его онтических притязаний и одновременно очищают структуры
предметности предмета за счет тематизации способов
(предметного) присутствия = наличия. Тем не менее, в соответствии с каноном
трансцендентальной философии, исследование Хайдеггера
движется от сущего, среди которого мы себя уже застаем, к
фундаментальным условиям возможности нашей встречи с ним.
4. Круг утвари
Вещь, по Хайдеггеру, есть в первую очередь и по преимуществу
утварь*, средство для... Бытие утвари — подручное бытие в отличие
от наличного — не есть присутствие предмета в его смысловой
определенности (чтойности) для ума, глаза души, но включенность сущего
в структуру небезразличия как предназначенного-для. Онтологически
первой «определенностью» вещи становится не ее «что» (essentia), а ее
«для-того-чтобы». Вещь как средство представляет собой пучок ука-
зываний или отсылов, имеющих характер «для-того-чтобы».
Если бытие понято как присутствие, то сущность-бытийствен-
ность вещи заключена в ее (вещи) форме, в ее смысловом
облике-виде (efôoç), который вещь может явить взгляду ума. Именно в этой
* Хайдеггер связывает важнейший термин фундаментальной онтологии «das
Zeug» (мы переводим здесь — «утварь», В. В. Бибихин — «средство») с
греческим ярйуца, в котором важен стершийся слой «деяния», «поступка».
«Утварь» появляется как обозначение особого онтологического измерения
всякой вещи в статье Мандельштама «О природе слова»: «Эллинизм — это
сознательное окружение человека утварью вместо безразличных
предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего
мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом». «Эллинизм —
это система... которую человек развертывает вокруг себя, как веер
явлений... соподчиненных внутренней связи через человеческое я ...[В]сякий
предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью... »
444
А. Г. Черняков
способности (действительно осуществляемой способности) явиться,
при-сутствовать как то-то и то-то (в своем «что», своей «чтойности»)
вещь есть. По существу, «форма» — синоним «присутствия».
Наличная вещь потому налична, потому присутствует, что она себя
показывает как нечто. Соответственно, предикат показывает субъект
в апофантическом суждении. Предельный и наиболее
онтологически важный случай такого апофансиса таков:
ЭТО (материя) есть X (форма)*.
Подручная вещь или средство открывает себя иным образом —
в своем «для-того-чтобы». Понять подручную вещь в ее подручности
означает понять ее предназначенность-для:
ЭТО есть (предназначено) для того, чтобы X, но еще и Y, и Z...
В свою очередь, X — для того, чтобы А, В и С, a Y — чтобы D...
Даже эта последняя формула есть всего лишь способ описания.
Полнота понимания подручного — не в том, что уже предметно
положенное нечто получает дальнейшие определения
телеологического характера, но в умелом использовании средства для того-то и
того-то.
«Мир» выступает не как тотальность предметов, но как
целостность «обстоятельств дела» (Bewandtnisganzheit), поле сил, точнее,
поле отсылов, у называний: для того-то и для того-то.
«Каждая отдельная принадлежность утвари (jedes Zeug) есть
по своей сути принадлежность для: измерения, письма, езды...
Каждая принадлежность утвари имеет имманентную связь с тем,
для чего она есть, [т. е.] что она есть. Она всегда есть нечто для
того чтобы... указывающее на некоторое "для-чего".
Специфическая структура утвари конституируется посредством
взаимосвязи [, имеющей характер] "для-того-чтобы". Каждая определенная
принадлежность утвари находится в определенной связи с другой
определенной принадлежностью. И эту связь мы можем уловить
еще отчетливее. С тем сущим, которое мы назвали утварью, дела
обстоят определенным образом (hat es eine bestimmte Bewandtnis).
Взаимосвязь "для-того-чтобы" есть целое взаимоотношений
обстоятельств дела (Bewandtnisbezuge). Эти обстоятельства дела (а дело
всякий раз обстоит так- то и так-то с единичным сущим внутри це-
локупности обстоятельств дела) — вовсе не свойства, пристегнутые
к вещи, и не отношения, в которые она вступает только в силу нали-
*Cp.:Metaph. 1041b 5 ff.
Онтология времени
445
чия некоторой другой вещи. Напротив, обстоятельства дела — то,
как обстоят дела со стулом, доской, окном — суть именно то, что
делает вещь тем, что она есть. Взаимосвязь обстоятельств дела
(Bewandtniszusammenhang) не есть совокупность отношений,
которая возникает как продукт сосуществования многих вещей.
Взаимосвязь обстоятельств дела, более узкая или более широкая, —
дверь, жилище, поселок, деревня, город — есть то первое, внутри
которого определенное сущее есть как это-вот так-то и так-то сущее,
есть так, как оно есть, и соответствующим образом себя кажет»*.
Итак, подручное кажет себя в системе указываний, имеющих
характер «для-того-чтобы». Указывание, впрочем, действительно
некоторым образом есть сила, повеление, указ, коль скоро оно
может породить понимающее действие Dasein. Dasein всегда уже
вовлечено в это поле. Последнее представляет собой некую
нейтральную область по отношению к классической дифференции «субъект/
объект»: с одной стороны, это среда бытийного смысла подручной
вещи, с другой — сторона бытия самого Dasein. При этом
указывание «для-того-чтобы», втягивая в свою сферу ближайшее,
приоткрывает более отдаленное и теряется в отдаленнейшем. Полнота
определенности утвари в ее «для-того-чтобы» невозможна, потому
что многообразие отсылов принципиально открыто, не завершено:
указывание указывает на новое указывание. То, в направлении чего
(das Woraufhin) понимающее попечение осуществляет свой
набросок (Entwurf), никогда не достигает границ, конечных точек,
тупиков у называния.
Тем не менее неполнота орудийной определенности не означает,
что полнота, исполненность бытия подручного как орудия не может
быть достигнута. Напротив, она всякий раз достигается в
действительном использовании подручного.
4.1. Целокупность обстоятельств дела
Скажем еще раз: бытие сущего Хайдеггер в SZ понимает
феноменологически, т. е. исходя из способов встречи с сущим. Стало быть,
бытие подручной вещи определяется не возможностью
присутствовать для сознания в качестве некоторого «что» (или, как говорит
Гуссерль, само-предоставлением, само-данностью предмета в
качестве cogitatum), но ее способностью (силой) вовлечь Dasein в
открытое многообразие отсылов: претворить указывание в указание,
указ. Фундаментальное условие этой способности подручного лежит
в структуре самой экзистенции, которая как бытие-в-мире может
быть вовлечена и всякий раз уже вовлечена в многообразие отсы-
* Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 24. Die Grundprobleme der
Phänomenologie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1989. S. 233.
446
А. Г. Черняков
лов, в целостность имения дела. Как это возможно? Ответ, который
дает Хайдеггер, артикулируется при помощи субстантивированных
союзов, и прежде чем его воспроизвести, мы вынуждены сказать
несколько слов о значении слова «Bewandtnis»* и управлении глагола
«bewenden».
Немецкое выражение «damit (mit einem X) hat es folgende
Bewandtnis» означает «дело (с этой вещью X) обстоит следующим
образом»; «es hat mit dem X eine eigene Bewandtnis» — «c X дело
обстоит особым образом» (т. е. «в X есть нечто особенное»).
С другой стороны, «es dabei (bei Y) bewenden lassen» значит
«оставить (положение дел Y) по-старому, как оно есть». Наконец, «dabei
hat es sein Bewenden» значит «на то есть свои причины».
Хайдеггер пишет: «Der Bezug... des „mit...bei..." soll durch
Terminus Verweisung angezeigt werden»**. На отношение «с... (чем
обстоят дела)... при... (каких обстоятельствах)» должен указывать
термин «отсыл». Дела обстоят так-то и так-то с (mit) той или иной
принадлежностью утвари. При (bei) каких обстоятельствах дело
обстоит так-то и так-то отсылает к горизонту небезразличного сущего,
которому упомянутая принадлежность принадлежит и в котором
она становится пригодной для того-то и того-то; собственно, это
то, для чего (das Wofür)*** используется подручное. «С-чем» и
«причем» «есть онтологическое определение бытия [подручного] сущего,
а не онтическое высказывание о сущем»****.
Но целокупность обстоятельств дела сама восходит в
конечном итоге к такому «для-чего», у которого уже нет своего
«причем», которое уже не может служить для иного, быть пригодным
для иного. И это изначальное «для-чего» должно быть названо das
Worumwillen — «ради-чего», и такое «ради» касается всегда только
бытия Dasein, для которого в его бытии дело идет о (um) самом этом
бытии.
Как мы видели в § 1, в попытке артикулировать оттенки смысла
с помощью субстантивированных предлогов и местоимений
Хайдеггер подражает Аристотелю. С помощью формулы то ой ëveica («то,
ради чего», das Worumwillen) Стагирит отсылает к одному из
смыслов причины или основания: то ох> ëv£Ka — causa flnalis (целевая
причина). В De anima II, 4 (415 b 2 f., 20 f.) Аристотель вводит
следующее различие: то 8' ох> ëvem Sittôv, то nèv от5 то 8è <Ь. «То-ради-чего»
* Я перевожу «обстоятельства дела», В. В. Бибихин — «имение-дела»,
А. В. Михайлов — «ситуация делания».
'* Heidegger M. Sein und Zeit. S. 84.
'* «Das Wobei es die Bewandtnis hat, ist das Wozu der Dienlichkeit, das Wofür
der Verwendbarkeit» (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 84).
№ Ibid.
Онтология времени
447
может быть понято двояко: 1) «на что нацелено», «к чему
направлено» (terminus ad quem operatio derigitur), 2) «для кого, ради кого
совершается» (subjectum cui hic terminus procurandus sit). Душа
есть «то-ради-чего» живого тела в обоих смыслах: с одной стороны,
природа творит (яошТ) ради души, с другой стороны, живое, а это
значит — обладающее органами тело осуществляет все свои функции
для того, чтобы душа как форма (эйдос) живого могла поддерживать
в индивиде и воспроизводить в виде свое бытие. Живое существо
может преследовать те или иные частные цели, предельная же цель
в смысле то со — есть душа как таковая, а в смысле то ох> —
«причастность вечному и Божественному», т. е. эйдосу, через его исполнение
(полноту и завершенность) в индивиде и продолжение индивида
в виде, т. е. некоторым образом тоже душа как форма-эйдос-вид,
о котором говорится, что каждое живое существо, его предки и
потомки остаются одним по виду (eïSei ëv)*. В любом случае душа как
целое уже не есть средство или инструмент, но — «то-ради-чего»;
живое тело как совокупное орудие (öpyavov) существует ради души
(415bl8ff.).
4.2. «То-ради-чего» и «mom-ради-кого»
Возвращаясь к тексту SZ, мы должны сказать, что всякая
подручная вещь (утварь) есть место в многообразии отсылов, и каждый
такой отсыл представляет собой инструментальную интенцию вещи,
ее пригодность-для, предназначенность. Но «то-ради-чего» (das
Worumwillen) — уже не «внутренний» структурный элемент
многообразия отсылов; это — само основание возможности всякого
такого отсыла. «То-ради-чего» Хайдеггер понимает двояко: как то ф (это
само Dasein) и как то ох> (принадлежащая Dasein его наиболее
подлинная, самая своя способность-быть — das eigenste Seinkönnen).
В любом случае «то-ради-чего» — определение экзистенции Dasein,
для которого «в его бытии дело всегда идет об этом самом бытии».
Именно в силу этой своей определенности Dasein может позволить
делам обстоять так-то и так-то (bewenden lassen mit... bei...) и
всякий раз уже позволило делам обстоять так-то и так-то («apriorisches
Perfekt»). Но «позволить делам обстоять...» означает раскрыть
в понимании структуру предназначенности, в которой
одновременно выявляется «для-чего» (das Wobei) и «при-помощи-чего» (das
Womit). «Раскрыть» утварь в понимании-умении — значит
понимающе войти в многообразие отсылов «для-того-чтобы». В таком
понимании возможна встреча с внутримирным сущим, в нем
подручное как подручное может раскрыть себя в своем бытии. «То-ра-
* 415 b 3-7. Мы подробно обсуждали это место из De anima в § 1, п. 3.2.
448
А. Г. Черняков
ди-чего» — * априорное» условие встречи с внутримирным сущим
как подручным.
4.3. Онтологическое понятие заботы
Именно эта структура радения — не радение о том-то и том-то,
понятое эмоционально-психологически, прагматически и т. п. —
словом, как говорит Хайдеггер, экзистенциально-онтически, но эк-
зистенциально-онтологически истолкованное радение как
неизбывно присущее всякой экзистенции и выраженное при помощи оборота
«дело идет о» (es geht um) — и составляет ядро понятия заботы.
Только сущее, которому его бытие препоручено как первое и
последнее «то-о-чем» радения (разомкнутость «ради-чего» вполне может
предстать оптически и как нерадение, пренебрежение, юродство,
самопогубление), только * заботящееся» сущее может быть
затронуто вопросом: для чего? и понять (понимающе исполнить) ответ: для
того, чтобы...
Принципиально важно, однако, не спутать онтологическое
понятие заботы с некоторым онтическим определением человеческого
существования*. Разумеется, после того как экзистенциальная
аналитика Dasein проделала ряд существенных шагов, понятие заботы
в SZ приобретает все более определенное и многообразное
содержание: забота есть общий корень трех бытийных структур Dasein:
экзистенциальности (Existenzialität), фактичности (Faktizität)
и падения (Verfallenheit)**. Вместе с тем нельзя упускать из виду,
что «забота» как онтологическое структурное понятие, стоящее
на службе у трансцендентального метода (в его хайдеггерианском
изводе), выращивается из соответствующего оптического
понятия (родового термина для ряда феноменологически фиксируемых
душевных состояний, «внутренних обстоятельств», мотивов и
побуждений) путем априорно-онтологического обобщения или
опустошения. Те коннотации заботы, которые дают о себе знать в не-
мудрствующем толковании мира и повседневных толках, когда мы
говорим: «Он озабочен тем-то и тем-то» (опечален, подавлен, уныл
или, наоборот, целеустремлен, поглощен), «Он заботится о...»
(радеет, печется) и т. д., — следует снять, т. е. использовать в качестве
лишь опоры или среды понимания-истолкования, движущегося
к онтологическим основаниям перечисленных онтических
определений. Вопрос, который ведет при этом наше исследование, — это
классический вопрос всякой трансцендентальной философии: «Как
Гуссерль полагал, что Хайдеггер в SZ возвращается от
трансцендентально-феноменологической точки зрения к наивной онтификации
психического.
** Heidegger M. Sein und Zeit. S. 316.
Онтология времени
449
возможно?...» Как возможно событие встречи с сущим, понятым как
подручное, а не наличное?
У Хайдеггера упомянутое онтологическое опустошение* — особая
процедура, пришедшая на смену феноменологической редукции:
«Экзистенциально-онтологическая интерпретация по сравнению
с онтическим истолкованием не есть нечто вроде теоретико-онти-
ческого обобщения. Это означало бы всего лишь: онтически всякий
принадлежащий человеку образ действий "исполнен заботы" и
направляется "преданностью"** чему-то. "Обобщение" здесь
априорно-онтологическое. Оно имеет в виду не постоянно выступающие
онтические свойства, но одно всякий раз уже лежащее в их основе
бытийное устройство»***.
«Лежащее в основе» (das Zugrundeliegende) по-гречески — то
ïmoKeifiEvov, по-латински — subjectum. Хайдеггеру при всей его
осмотрительности трудно не впасть в терминологическую ересь.
Но следует иметь в виду, что речь постоянно идет об определениях
бытия, экзистенции. Априорно-онтологическое понятие заботы
выражает «под-лежащее», лежащее в основании всех иных
экзистенциальных структур, «устройство» бытия Dasein. Подвергнутый
априорно-онтологическому опустошению термин «забота»
указывает на формальную структуру «дело идет о», которую Хайдеггер
с помощью своего приема склеивания слов посредством дефисов
и превращения их в морфемы сложного термина выражает так:
«быть-уже-впереди-себя-в (мире) как бытие-при (внутримировом
сущем) и событие (с другими)»****. То, что имеет в виду это
лингвистическое чудище, иначе именуется заботой.
Однако выбор именно этого имени («забота») не случаен.
Онтические коннотации заботы вовсе не утрачиваются полностью в
онтологическом понятии, они некоторым образом удерживаются «на
заднем плане» («заключаются в скобки», но в ином по сравнению
с Гуссерлевой феноменологией смысле). Именно путь
априорно-онтологического опустошения, восхождения от онтического к
онтологическому***** (это значит: от наличных определений сущего к усло-
«Опустошение» — мой термин. Хайдеггер говорит об
экзистенциально-онтологической интерпретации онтических феноменов или об
априорно-онтологическом их обобщении,
** В русском языке слова «забота» и «преданность» семантически гораздо
дальше друг от друга, чем немецкие «Sorge» и «Hingabe».
** Heidegger M. Sein und Zeit. S. 199.
** Ср.: Ibid. S. 192.
** Здесь уместно вспомнить о том, как Хайдеггер толкует
феноменологическую редукцию: *Для нас феноменологическая редукция означает
возведение (Rückführung) феноменологического взгляда от какого бы то ни было
определенного схватывания сущего к пониманию бытия этого сущего (на-
450
А. Г. Черняков
виям и структурам его бытия) и позволяют вывести на свет единый
и единящий феномен заботы. Особая онтико-онтологическая
омонимия, которой затронуты многие центральные термины
экзистенциальной аналитики Dasein, неизбежна и играет смыслообразующую
роль. С такого рода неизбежностью мы сталкиваемся и в
феноменологии Гуссерля: большинство ее центральных терминов могут быть
истолкованы и психологически, и трансцендентально-феноменоло-
гически, эта омонимия терминов выражает то важнейшее
обстоятельство, что трансцендентально-феноменологическое представляет
собой заключенное в скобки психологическое, без такой
двусмысленности невозможен язык феноменологии.
Итак, во-первых, именно забота как априорно-онтологическое
понятие есть условие единства экзистенциальных структур и играет
по отношению к системе экзистенциалов ту же роль, что
трансцендентальное единство апперцепции по отношению к системе
категорий в «Критике чистого разума». Во-вторых, подобно тому как
трансцендентальный субъект есть возможность присутствия объекта,
забота есть наиболее фундаментальное условие возможности
встречи с внутримирным сущим, бытийное основание подручного бытия
(Zuhandensein), от которого, по Хайдеггеру, зависит бытие
наличного (Vorhandensein), предметное бытие. Стало быть, в рамках
нашей отрицательной аналогии именно забота должна занять
место трансцендентального субъекта.
&*s&
брасыванию в направлении способа не-сокрытости бытия)» (Heidegger M.
Die Grundprobleme der Phänomenologie. S. 27).
€^
В. А. КОНЕВ
Мартин Хайдеггер о мышлении
«фрагмент из книги «Критика способности
быть (Семинары по "Бытию и времени"
Мартина Хайдеггера»)>
Конец XX столетия показывает, что влияние философии
Мартина Хайдеггера все более и более нарастает. Именно философия
Хайдеггера не только стала одним из самых ярких примеров
антропологического поворота в философской мысли нашего
столетия, но и одним из самых главных конструкторов этого поворота.
То, что новейшая культура пронзительно отчетливо обнаружила
индивидуальность мира, непохожесть «человеков», невозможность
подверстать всех под один класс, род или тип, что мир бытия
разнообразен, что одновременно существуют и нет абсолютные ценности
и т. д. и т. д., — во всем этом немалая заслуга философии
Хайдеггера. Философия Хайдеггера набирает силу еще и потому, что в ней
формируется новый стиль философского мышления, стиль
неклассического рассуждения, в котором мышление одновременно
демонстрирует свои возможности и свою сущность и выстраивает свои
содержания о том, что оно мыслит. Классическое рассуждение знает
и демонстрирует свое строгое знание, неклассическое мышление
строго демонстрирует знание знания. Это мышление строгое, хотя
и не в смысле строгости математического или
естественнонаучного знания, оно строгое, так как точно вводит и выводит мысль к...,
к тому, что мысль обнаруживает как свою цель. Если классическая
философия была философией «чистой мысли», то философия
Хайдеггера — это сама «школа чистой мысли» (В. В. Бибихин).
Чтобы проникнуться содержанием и смыслом хайдеггеровского
учения о мысли (мышлении), необходимо постоянно держать в
памяти два важных узла в развитии европейской философии.
Первый узел — философия Парменида, которая формирует
онтологическую парадигму философии (парадигма on he on), для ко-
452
В. А. Конев
торой вопрос о бытии как бытии становится вопросом,
конституирующим весь корпус философии, и к которой Хайдеггер постоянно
обращается.
Второй узел — философия Декарта и Канта, в рамках которой
оформляется и утверждается гносеологическая парадигма
(парадигма cogito), которая переносит внимание философии на бытие знания
и создает ту философию мышления, которая стала основанием
современного научного познания. Мышление трактуется как познание
в понятиях*, а мысль (понятие) выступает представлением. У
Декарта res cogitans мыслит вещь, представляя ее, причем представляет
не потому, что воображает, а потому, что иначе мыслимая вещь для
ума и не существует. Res extensa представлена уму его интуициями,
которые прирождены ему, а не порождены телесным миром. Cogito
Декарта представляет телесный мир, но с ним дела не имеет,
поэтому мышление оказывается делом особого устройства, делом
«машины» cogito. Дальше идея cogito закрепляется в учении о чистом
разуме Канта, где мышление трактуется тоже как представление,
только как представление представления, как двойное
представление. Чувственность дает представление предмета, а интеллект
работает уже с представлением чувственности — представляет
представленное. Мышление «есть опосредованное знание о предмете, стало
быть, — пишет Кант, — представление об имеющемся у нас
представлении о предмете»**. В конце концов и здесь мышление как
представление оказывается свойством особого устройства — устройства
♦чистой апперцепции», которое имеет возможность сопровождать
все представления сознания, но само не может сопровождаться
никаким представлением***.
Представление — главная черта мышления. Само
представление — это ре-презентация. Но почему мышление
основывается на репрезентации, на восприятии? — задает вопрос Хайдеггер.
«Философия, — пишет Хайдеггер, — ведет себя так, как будто бы
здесь не о чем спрашивать » ****. И Хайдеггер пытается ответить на этот
вопрос, а вместе с тем и на вопрос «Что значит мыслить?», ибо если
мышление неразрывно связано с представлением, то его корни
уходят в само представление.
Ответ на этот вопрос следует искать у истоков философии,
считает немецкий философ. «То, что мышление до сих пор основыва-
* Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М., 1964.
С.167.
" Там же.
№ Там же. С. 192.
'* Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избр. статьи позднего
периода творчества. М., 1991.
Мартин Хайдеггер о мышлении
453
ется на представлении, а представление — на ре-презентации, все
это имеет, — пишет Хайдеггер, — давнее происхождение. Оно
скрывается в невзрачном событии: в начале истории Западной Европы
бытие сущего явилось для всего ее течения как наличность, как
присутствие»*. «Невзрачное событие» — это парменидовское
утверждение, что бытие есть, а небытия нет, которое на первый взгляд
выступает невзрачной тавтологией, но в которой оказывается скрыта
вся тайна европейской науки и всей западноевропейской истории.
Это простое «только бытие есть* рождает важное понимание
мысли: мысль и бытие тождественны. Этот тезис Парменида и был
истолкован всей философией, что мысль, и только мысль может
представить бытие, а не мнение или какое-либо другое состояние
сознания. Античная философия еще сохраняет неразрывную связь
бытия и мышления, ибо бытие не может явиться иначе как в
мысли, но в философии нового времени этой связи уже нет: вещь
протяженная и вещь мыслящая —две разные субстанции (Декарт), вещь
в себе и чистый разум не могут быть тождественны (Кант).
Мартин Хайдеггер стремится возродить онтологическую
парадигму, связав снова бытие и мышление, но для этого предлагает
пойти другим путем. В самом начале своего развития европейская
философия оказалась на перепутье, где Парменид поставил
указатель с надписью: «Направо пойдешь — истину обретешь!»,
«Налево пойдешь — погрязнешь в мнениях! ». Путь истины вел к
вечности и постоянству, ибо нет и не будет ничего, кроме бытия, а оно
не рождено и не подвержено гибели, и «одно и то же — мышление
и то, о чем мысль, ибо без сущего, о котором она высказана, тебе
не найти мышления». Путь же мнения — путь «рождаться и
гибнуть», «быть и не быть», путь непостоянства и времени**. И вся
европейская философия пошла направо, где ей обещали истину, вечное
и неизменное знание. X. Аренд справедливо указывает, что в
греческой культуре постижение истины понималось как возможность
смертному человеку приобщиться к бессмертию***. Об этом и писал
Платон в «Тимее» : « ...Если человек отдается любви к учению,
стремится к истинно разумному и упражняет соответствующую
способность души [способность созерцать — theorein. — В. К.]
преимущественно перед всеми прочими, он, прикоснувшись к истине,
обретает бессмертные и божественные мысли, а значит, обладает
бессмертием в такой полноте, в какой его может вместить
человеческая природа»****.
* Там же.
** Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. M., 1989. С. 290-291.
"* См.: Arendt H. The Life of the Mind: 1. Thinking. N. Y., 1977.
™ Платон. Сочинения: В 3 т. Т. 3. Ч. 1. M., 1971. С. 538.
454
В. А. Конев
Хайдеггер же считает, что «парменидовское eativ yap eivai до сих
пор еще не продумано»*, что на пути, пройденном европейской
философией, бытие потерялось, а потому следует попытаться пройти
другим путем — путем, который Парменидом был отвергнут, и там
найти мысль, истину и бытие**. И не случайно путь человека к
истинному познанию бытия у Хайдеггера оказался путем к смерти,
жизнью под знаком смерти, что дает знание временности бытия,
его историчности. Хайдеггер возвращается к истокам, чтобы
заново осмыслить мысль и ее отношение к сущему и бытию. Именно
этой проблеме посвящены две его небольшие, но емкие по
содержанию работы последних лет — «Что значит мыслить?» и «Разговор
на проселочной дороге» ***.
Философской пружиной, двигающей рассуждение Хайдеггера,
является установка Гуссерля об интенциональности сознания —
сознание направлено на..., мысль всегда есть мысль о... Но в отличие
от Гуссерля, который интенциональность превращает в свойство
сознания и мысли, которое обнаруживается благодаря
феноменологической редукции и которое анализируется само по себе в его
работе по конституции интенционального предмета, Хайдеггер ищет
основание самой интенциональности. Он стремится найти то, что
заставляет мысль быть мыслью о..., то, что больше всего требует
осмысления, а тем самым стремится понять, как мысль возникает
и о чем она.
Но указать на то, что требует больше всего осмысления и
находится за границами самого сознания, нельзя, так как это будет
удвоением мира. Если мы укажем, что вот то-то требует осмысления,
значит, мы уже его помыслили, но мы ведь хотим это «помыслить»,
выяснить. Поэтому для философской мысли остается только одно,
что уже показал Декарт — она не может выйти за пределы мысли.
Мысль должна из самой себя выяснить то, что же требует
осмысления и что побуждает мысль быть мыслью. И Хайдеггер, повторяя
Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 204.
** О том, что данный образ выбора пути к мышлению не.является абсолютно
производным, свидетельствует и сам Хайдеггер, который часто
употребляет пространственные образы для характеристики мысли и мышления:
«Может... мы... еще недостаточно повернулись к тому, что <...> требует
осмысления», «От науки в мышление нет мостов, возможен только прыжок.
А он принесет нас не только на другую сторону, но и в совершенно другую
местность», «Мы уже мыслим, находясь в пути к тому, что должно
мыслиться. На этом пути можно и заблудиться. Но все же лишь один этот путь
настроен так, чтобы отозваться тому, что дано нам для осмысления» и т. п.
(Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избр. статьи позднего
периода творчества. М., 1991. С. 136,138,142).
*** См.: Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избр. статьи позднего
периода творчества. М., 1991.
Мартин Хайдеггер о мышлении
455
ход рассуждения Декарта, который привел его к cogito ergo sum,
и размышляя над самим тезисом, что требующее осмысления
рождает необходимость мысли, приходит к утверждению: «Требующее
осмысления проявляет себя в том, что мы еще не мыслим».
Этот тезис становится лейтмотивом его речи «Что значит
мыслить?». Тезис кажется странным и дерзким, ибо как так «мы еще
не мыслим», если процветают науки? Но, утверждает Хайдеггер,
наука не мыслит, так как она говорит только о том, что
характеризует сущее, что объединяет сущее в классы, роды, виды, что
существенно для всякого сущего данного рода и т. п., поэтому она уходит
от того, что является «жизнью» данного сущего, что принадлежит
собственно ему, уходит от его бытия, от того, без чего не было бы
вообще ни этого сущего, ни рода, ни класса и т. п. Поэтому между
наукой и мышлением пропасть. Эта-то пропасть и требует осмысления.
Действительно, для мышления важно не то, что наука сказала
о чем-то, а то, как она до этого додумалась. До-думалась! Мысль
до... этого была, до высказывания, до положения, до тезиса,
который нужно доказать. Сущностью науки является
«трансцендентально-горизонтальное представление» сущего*, такая установка,
по которой действительное выводится «из его потаенности
способом поставления его как состоящего-в-наличии»**, и результатом
этого по-става становится современная техника, предметная
сфера, в которой и поселяется наука. Здесь все ясно и определенно,
здесь не надо думать, в мире по-става все предрешено, в этом мире
сам человек превращается в придаток машины или машину,
поэтому здесь теряется, уходит то подлинное, что и влечет мысль,
уходит бытие состоящего-в-наличии, то, что открывает нам это со-
стоящее-в-наличии, но и скрывается за ним. Бытие должно
мыслиться.
Но как оно может мыслиться, если оно скрывается, удаляется,
уходит? А потому может, говорит Хайдеггер, что уходящее влечет
нас за собой. В уже помысленном нужно высматривать непомыслен-
ное, которое все еще скрыто внутри уже помысленного. Здесь, в том,
что мы еще не мыслим, и находится то, что требует осмысления.
Оно открывается в «тяготении ухода», и «раз мы втянуты в тяг к...
тянущему нас, то и сущность наша уже отчеканена <...> через это
"в тяге к..." » ***. Поэтому мышление не может быть оторвано от
сущности человека (а сущность его не может быть сведена только к работе
разума), от его жизненных проявлений и всех состояний его
сознания (от чувства, от «мнения»), ибо через мышление «первоначально
* Там же. С. 213.
** Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 229.
*** Он же. Разговор на проселочной дороге. С. 139.
456
В. А. Конев
смертным была дарована боль»*. «Лишь тот, кто глубины
помыслил, полюбит живое», — цитирует Хайдеггер строки Гёльдерлина.
А тот, кто мыслит только состоящее-в-наличии, уничтожает живое,
подлинное бытие, технизирует его, «встраивая Рейн в
электростанцию». Путь мысли и путь истины, по Хайдеггеру, не в том, чтобы
представить присутствие (наличное, то, что есть), представить
предметы в их предметности, выражая парменидовский завет языком
Нового времени, а в том, чтобы помыслить царящую в бытии
сущность времени и его открытость, то есть то, «на чем основано бытие
сущего, когда оно является как присутствие»**. Мы должны
мыслить бытие, которое всегда временно, т. е. всегда связывает «есть»
и «нет», которое всегда здесь-и-теперь, раскрытие этой явленности
здесь-и-теперь требует усилия не только разума, а всей сущности
человека, всей его индивидуальности, так как само бытие всегда бытие
этого сущего. Мысль должна прикоснуться к бытию, чтобы вывести
его из потаенности. «Мысль не относится ни к теории, ни к
практике, — считает Хайдеггер. — Она имеет место прежде их различия...
Принадлежащая бытию, ибо, брошенная бытием на сбережение
своей истины и требующаяся для нее, она осмысливает бытие»***.
Но как же проникнуть в саму суть бытия, если она не
тождественна присутствию сущего? Где она находится и как себя
обнаруживает? Этому посвящен диалог «Из разговора на проселочной дороге
о мышлении».
Бытие не может быть отождествлено с сущим, но и не может
быть оторвано от него. Значит, оно есть сущее и в то же время
не есть им, оно в нем и вне его, оно при нем и в то же время само
по себе. Так появляется у Хайдеггера образ бытия как горизонта
сущего. Горизонт нам дается как край, как открытый простор****,
поэтому бытие есть тот простор, в котором, с одной стороны,
овеществляется вещь, становится вещью самой по себе, обретая свое
бытие, а с другой — это призыв к человеку войти в этот простор, хотя
человек всегда уже принадлежит бытию, уже есть в нем, в этом
просторе бытия, но он должен ответить на его призыв, постигнув
смысл бытия*****. Бытие как горизонт, как «крайствование»
простирается во времени, оно одновременно и простор, и время, оно все
собирает в себе, но и все открывает, отпускает******. Чтобы попасть
* Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. С. 141.
** Там же. С. 145.
*** Хайдеггер М. Время и бытие. С. 217.
**** Для обозначения этого понятия Хайдеггер употребляет термин Gegnet,
который представляет старую форму от die Gegend — край (см.:
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. С. 117-118).
***** Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. С. 122-124.
****** Там же. С. 118.
Мартин Хайдеггер о мышлении
457
в открытый простор, в «крайствование» — за край (данного
сущего), но и никогда не перейти его (не покинуть сущее), т. е. чтобы
ответить на призыв бытия — осмыслить его, помыслить его, нужно
особое состояние — отрешенность и собранность. Мышление,
понятое не как представление, выходит из отрешенности*.
Отрешенность включает в себя отрешение от устоявшихся точек зрения,
освобождение от «трасцендентально-горизонтального мышления»,
но не сводится к этому, ибо прежде всего отрешенность — это
напряженное ожидание, решимость открытости, особая выдержка,
«которая основана просто на том, что отрешенности становится все
яснее ее собственная сущность, и отрешенность, выдерживая ее,
стоит на этом» **. Стояние-внутри отрешенности становится
«истинной сущностью самопроизвольности мышления » ***. Сущность
мышления, понятая не через представление, а через отношение к сути
бытия, может быть раскрыта, согласно Хайдеггеру, как «вхож-
дение-в-близость», «впускание-в-близость», «близость дали»****.
Мышление добивается тождества с бытием своей способностью
«от-далять» даль, удалять даль, впускать в себя бытие. Мышление,
по Хайдеггеру, не оперирование понятиями или представлениями
(хотя вовсе не значит, что это не относится к мышлению),
мышление есть особое состояние самого бытия человека, такое состояние,
когда он реализует, обнаруживает (проживает, показывает,
испытывает и т. д.) свою сущность. «Сущность человека передана в
собственность истине, потому что истина нуждается в человеке», —
утверждает Хайдеггер*****.
Истина нуждается в человеке, именно в человеке, а не в его
разуме. Этот вывод Хайдеггера и открывает новый путь истины,
который отличается от пути, некогда заповеданного Парменидом. Сам
Хайдеггер считает, что он только возрождает подлинное учение
основателя Элейской школы, но, думается, что философ XX в.
решает великую проблему философии — проблему мышления и
бытия на принципиально иных основаниях. Живая мысль человека
вводит его в бытие, открывая его временность, историчность, а тем
самым и место в этой историчности самого человека. Приобщение
к вечности и бессмертию обретает совсем другой смысл у смертного
* Там же. С. 115.
'* Там же. С. 127.
№ Там же. С. 128.
" Там же. С. 131-133.
** Там же. С. 129.
'* См. в этой связи: Конев В. А. Заметки об индивидуальности и
бессмертии // Философия культуры-96. Самара: Изд-во «Самарский университет»,
1996.
458
В. А. Конев
Путь «мнения» как истины, пройденный Хайдеггером, пока
только тропка, на которой видны одинокие следы
первооткрывателя и его немногочисленных последователей. Но, думается, недалеко
то время, когда этот путь будет такой же проторенной дорогой, как
и дорога «трансцендентально-горизонтального» постижения
истины. Уверенность в этом придает та направленность развития знания,
которая характерна для современной науки. В системе современной
культуры явно растет спрос на знание гуманитарного типа, без
которого становится бессмысленным даже накопление
естественнонаучного знания, применение которого без ориентации на ценности
человеческой жизни становится угрожающим для цивилизации,
порожденной знанием естественнонаучного типа. Гуманитарное
знание — это знание значимого бытия, того бытия, которое не может
быть в принципе оторвано от человека, поэтому его познание и его
истина требуют совсем другого пути мышления. Методологию,
архитектонику этого пути движения мысли и разрабатывает
философия Мартина Хайдеггера.
s
В. А. КОНЕВ
Метафизика «Ничто» в философии М. Хайдеггера
«фрагмент из книги «Критика способности
быть (Семинары по "Бытию и времени"
Мартина Хайдеггера»)>
Цикл статей М. Хайдеггера, посвященный проблемам
метафизики, открывается его лекцией «Что такое метафизика?», которую
он прочитал в 1929 г. при вступлении после Гуссерля в должность
заведующего кафедрой философии во Фрейбургском
университете. Лекция наделала много шума, ее автора обвинили в проповеди
нигилизма, так как ее главной темой было понятие «ничто».
Резонанс от лекции (и от ее многократных публикаций) был настолько
сильным, что даже сам ее автор, как мне представляется, испугался
и вынужден был, издавая ее, писать то «Послесловие к: "Что такое
метафизика?"» (1943), то «Введение к: "Что такое метафизика?"»
(1949), то снова обращаться к проблеме метафизики —
«Преодоление метафизики» (1935-1936).
Лекция «Что такое метафизика?» появляется в творчестве
Хайдеггера не случайно. В 1929 г. вышла его вторая книга — « Кант
и проблема метафизики», в которой он дает онтологическую (!)
интерпретацию кантовской критики, которая, согласно Хайдеггеру,
занята обсуждением «проблемы метафизики», что означает — как,
какими проблемами занимается метафизика и проблематичность
самой метафизики. Эта проблематичность самой метафизики есть
проблема ее обоснования. Обосновать метафизику — означает
выявить фундамент, на котором она покоится и из которого она
вырастает. Это и есть проблема фундаментальной онтологии, которую
Хайдеггер разрабатывал в «Бытии и времени» (1927). В книге «Кант
и проблемы метафизики» Хайдеггер так интерпретирует «Критику
чистого разума», что учение Канта об ограниченности познания
(вытекающее из ограниченности, конечности чувственного
созерцания) объявляется им онтологическим основанием метафизики.
460
В. А. Конев
Вещь в себе — непознаваема, неуловима, и Хайдеггер спрашивает:
«А что, если сама эта неуловимость призвана стать высшим и
суровейшим откровением бытия?»* Феномен — не «кажимость» бытия,
недоступного чувственности, а само бытие, которое берется в
отношении двух типов познания, конечного или бесконечного. Конечное
познание имеет свой предмет [пред-мет — это то, что брошено-ме-
тать перед], а бесконечное — не имеет. Думаю, что работа над
онтологическим истолкованием кантовской критики, полученные в ходе
ее состояния сознания, результаты размышлений над ними
послужили материалом для лекции при вступлении в должность
профессора. Отсюда и то Ничто в лекции 40-летнего профессора, которое
убедило всех, что новый заведующий кафедрой нигилист, а потом
спустя несколько лет «испугало» и самого профессора.
Итак, лекция «Что такое метафизика?»**.
Метафизика, как она вышла из античной мысли, всегда была,
по Хайдеггеру, мышлением о сущем: «Она мыслит сущее как
сущее»***. «Она представляет себе сущее (öv) неизменно лишь
внутри того, что уже показало себя как сущее (fj öv) из него же
самого» ****. Метафизика — это философское мышление в парадигме
on he on*****. В «Преодолении метафизики» Хайдеггер показывает,
что эта парадигма (естественно, что он не пользовался в то время
этим понятием) заканчивается. Он говорит об «уходе
метафизики», о том, что она «пришла к концу». Хайдеггер очень
подробно (и как глубоко!) анализирует, в чем суть этого конца, — такая
метафизика, которая говорит о сущем как сущем, сама «есть
событие в самом бытии******, и преодоление метафизики совершается
как превозмогание бытия»*******. Метафизика отыграла все
возможности, которые в ней были заложены. «Закат [метафизики]
происходит, во-первых, в виде крушения мира, запечатленного
метафизикой, и, во-вторых, в виде исходящего от метафизики
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
С. 62.
** Данная статья не претендует на анализ хайдеггеровского понимания
метафизики вообще (см. об этом, например, в работе: Heidegger G. Haefner
Begriff der Metaphysik. München, 1974). Здесь затрагивается только один
вопрос — понятие Ничто и его место в метафизике.
*** Там же. С. 27.
"** Там же. С. 34
***** См.: Конев В. А. Философия культуры и парадигмы философского
мышления // Философские науки. 1991. № 6.
****** Она определенным образом это бытие обустроила, сделав его сущим, она
породила технику как по-став, экономический тип жизни, в котором
предмет отделяется от человека, тотальность государства — словом, все, что
может быть обозначено das Man.
******* Хайдеггер M. Время и бытие. С. 177.
Метафизика «Ничто» в философии М. Хайдеггера
461
опустошения земли*» **. «Но с концом метафизики, — пишет Хай-
деггер, — вовсе не обязательно кончается мысль, она переходит
к какому-то другому началу» ***.
Другое начало — другая парадигма философского мышления,
другая философия, другая рациональность. Какое это начало?
Это другое начало указывает другое направление от истоков
европейской мысли. А у истоков этой мысли Парменид:
Одно и то же — мысль и то, о чем мысль,
Ибо без сущего, о котором она высказана,
Тебе не найти мышления****.
Богиня указала Пармениду путь истины, который ведет к
вечности и порядку и который отличается от пути мнения, ведущего
к небытию и случайности. Парменид и вся философия после него
(метафизика) избрала путь истины как путь к постоянству и
вечности. Хайдеггер возвращается к истокам метафизики, к ее началу,
но выбирает уже другой путь — путь, где «есть и не-есть есть», где
есть рождение и смерть, есть перемена мест, есть временность, где
можно «ощутить забытость бытия»*****. Это и будет, по Хайдеггеру,
преодолением метафизики! Теперь, т. е. на этой новой дороге,
человек (мысль) должен научиться «вНичто(! — В. К.) опыту бытия»******.
Вот почему у Хайдеггера появляется Ничто. Парменид запретил
мыслить Ничто, Хайдеггер хочет открыть его.
Мышление, по Хайдеггеру, должно мыслить не сущее как
бытие, а мыслить истину бытия. Поэтому «мышление бытия, —
утверждает философ, — не ищет себе никакой опоры в сущем» *******.
А где тогда такая опора может быть найдена? Только в не-сущем,
в Ничто. Мышление должно проникнуть в Ничто. Об этом он и
заявляет в своей лекции. Однако потом во всех своих
комментариях он разъясняет, что Ничто, о котором он говорил, это на самом
деле Бытие, которое противостоит сущему и стоит за ним, является
как не-сущее, как Другое всему сущему. «Безусловно, Другое всему
сущему есть не-сущее. Но это Ничто пребывает как бытие», —
оправдывается он в «Послесловии к: "Что такое метафизика?"»********.
* Написано в середине 30-х гг. Разве это не предвосхищение экологических
кризисов, когда о них еще не было и речи?
** Там же. С. 178.
*** Там же. С. 183.
**** Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. M.: Наука, 1989. С. 291.
***** Хайдеггер М. Время и бытие. С. 30.
****** Там же. С. 39.
******* Там же. С. 40.
******** Там же. С. 38.
462
В. А. Конев
«В кругозоре научного представления, знакомого только с сущим,
то, что никоим образом не есть сущее (а именно бытие), может
выступить, напротив, только как ничто. Оттого лекция
спрашивает об "этом ничто"», — поясняет Хайдеггер в 1955 году* (курсив
в цитатах, если специально не оговорено, везде автора — В. К.).
«Лишь поскольку вопрос "Что такое метафизика?" заранее
нацелен на превосхождение, трансценденцию, на transcendens, на
бытие этого вот сущего, он может думать о Ничто сущего, о том ничто,
которое равноизначально есть одно и то же с бытием» **
(подчеркнуто мною — Б. К.).
Во всех этих высказываниях, разъясняющих вроде бы то, что
он имел в виду в своей лекции, когда говорил о Ничто, Хайдеггер
вернулся, по сути, к пониманию бытия, которое он дал в «Бытии
и времени»: бытие открывается как скрытое за сущим, это
«скрывающаяся нескрытость», которая открывается только в вопросе о
бытии. Бытие не тождественно сущему, тому, что постоянно есть. Это
для Хайдеггера чрезвычайно важно. Оно вообще важно. Так как,
если действительно есть (поистине есть) только то, что постоянно
существует (архе, Бог, вечные законы природы и т. д.), тогда в
бытии (в действительной действительности) нет места ничему новому.
В лучшем случае новое есть только для человека, который не знает
всей истины и который, чтобы понять (познать) окружающее,
должен отнести его к постоянному порядку (архе, Богу, законам и т. п.).
На этом построена наука, это принцип действия Декартовых
координат, задавших способ определения вещи.
Но если подлинное бытие — это не то, что постоянно есть, а
нечто другое, то, что не есть, тогда есть новое, тогда есть историчность.
Мир не готов, в нем могут произойти принципиальные изменения.
«Бытие, — пишет Хайдеггер, — "есть" в такой же малой мере, как
ничто. Но имеют место оба»***. Парадоксально, и бытия «нет», и
ничто «нет», но и то и другое имеют место. Где? Где можно иметь место,
чтобы не становиться сущим? Где можно не существовать, но
наличествовать? И бытие, и ничто на-лич-ествуют, на лице имеют место.
Они требуют лица, там их место, их пространство. Там, где
появляется Лицо, там появляются бытие и ничто.
Относительно бытия Хайдеггер выяснил это в «Бытии и
времени» — Dasein, или, как переводит В. В. Бибихин, Присутствие,
знает бытие, оно встроено в его существование и открывается ему
в вопросах о бытии. Человек живет в горизонте бытия, вопрошает
о бытии и в этом вопрошании только и знает его. А вот относительно
* Хайдеггер М. Время и бытие. С. 409.
** Там же. С. 410.
*** Там же. С. 409.
Метафизика «Ничто» в философии М. Хайдеггера
463
Ничто — как его знает человек, как оно наличествует, Хайдеггер
говорит в лекции «Что такое метафизика?».
Как можно знать Ничто? Я бы сказал, что Хайдеггер в своей
лекции дает два ответа на этот вопрос, или указывает два
направления его поиска. Первый — путь феноменологии Ничто, построение
смысла Ничто как особого интенционального предмета. Второй —
анализ способа бытия Ничто, или опыта бытия через Ничто.
Феноменология Ничто. Лекция Хайдеггера — блестящий опыт
реализации феноменологического построения смысла Ничто,
феномена Ничто (в лучших традициях гуссерлевской феноменологии*).
Проследим ход построения феномена Ничто.
Ничто, как это ни покажется странным, появляется тогда,
когда наука определяет то, что ее интересует, на что она направлена,
что она делает. «То, на что направлено [научное] мироотношение, —
пишет Хайдеггер, — есть само сущее — и больше ничто»**. Смысл
Ничто выскакивает там, где ему вроде бы вообще нет места: наука,
теоретическая мысль (от Парменида!) предназначила себя к
постижению сущего и запретила даже мыслить о не-сущем (ничто), но это
Ничто так назойливо вьется вокруг науки, что она постоянно
должна от него отмахиваться: «Я только это, и больше ничто; Я только
это, и больше ничто» — «Я теория, для меня... повседневность
ничто, для меня политика ничто, для меня вера ничто, для меня
случайность ничто и т. д. и т. п. » А феноменолог должен быть
внимателен ко всяким мелочам, появляющимся в окружении того, что его
интересует. И Хайдеггер спрашивает: «Случайно ли наука
заговаривает о Ничто?» Может быть, это только оборот речи, когда заходит
речь о том, что не имеет никакого значения для науки, что для нее
просто вздор? Но как быть с тем, что, когда наука заявляет о своей
сущности, она без этого вздора не может обойтись. Так Хайдеггер
обнаруживает необходимость Ничто, этого вздора с точки зрения
науки. А поскольку вся наша современная жизнь основана на науке,
то и в нашей жизни появляется это противоречие — необходимость
подобного вздора. Тогда-то это противоречие и разрешается в
вопросе — что такое Ничто?
Возникнув, вопрос требует ответа. А ответ снова натыкается
на противоречия. Во-первых, если мы спрашиваем о Ничто, то оно
тогда становится Нечто. А это бессмыслица. Во-вторых, если начнем
отвечать: «Ничто есть...» — то это тоже бессмыслица. Значит, мыш-
О роли феноменологии в развитии мысли Хайдеггера см. известную работу
У. Ричардсона, в которой дается хороший комментарий философии
основателя экзистенциализма (Richarsdson W. J. Heidegger. Through
Phenomenology to Thought. The hague, 1963).
** Ibid. P. 17.
464
В. А. Конев
ление, рассудок, который опирается на логику, продумывая Ничто,
должен действовать вопреки себе, вопреки своей логике, своей
природе. Но тогда нет места Ничто в мышлении, так как это ведет к
отрицанию его самого. Но как так —нет, если мышление само отрицает,
если отрицание — это специфическое действие мышления. Как же
тогда можно отказать рассудку рассуждать о Ничто? И здесь
появляется вопрос — отрицание есть Ничто, или отрицание появляется,
так как есть Ничто. Этот вопрос, справедливо замечает Хайдеггер,
не продуман и не решен. Будем считать, заявляет философ (и это
правомерный ход мысли, если мы все-таки пользуемся рассудком,
рассуждая о Ничто, то можем воспользоваться и распространенным
оборотом научной речи), что Ничто первоначальнее, чем нет и
отрицание. Но если это так, тогда рассудок не может быть по отношению
к Ничто решающей инстанцией. Вообще, если никакие формальные
невозможности вопроса о Ничто не могут помешать ставить этот
вопрос, то, значит, оно как-то наличествует. Тогда где его искать?
Так, от определения того, что есть Ничто, совершается переход
к вопросу, где и как оно может быть обнаружено. Здесь вступает
в силу анализ фундаментального опыта Ничто. Этот опыт связан
с тем, как человек может и может ли охватить все сущее (а оно есть!),
чтобы дать его полное отрицание. Все сущее врывается в опыт, когда
«берет тоска», тогда все вокруг и пусто и темно; или наоборот — все
сущее встает перед нами в радости близости любимого существа,
тогда опять перед человеком оказывается весь мир как мир счастья
и полноты. В подобных настроениях человек ощущает себя посреди
сущего в целом. Также и перед Ничто ставит нас настроение —
настроение ужаса. Это не боязнь, не страх чего-то, что связано с
какими-то конкретными явлениями, — от них можно убежать, а
фундаментальный ужас, у которого нет конкретной угрозы, ужас перед
чем-то, что принципиально невозможно определить, ужас, когда
«земля уходит из-под ног», когда мы сами теряем себя, ибо жутко
не мне, а человеку, когда не можем ничего сказать, а остается
только немой крик (вспомним картину Э. Мунка « Крик»). Такой ужас
и открывает Ничто. «С ясностью понимания... мы вынуждены
признать: там, перед чем и по поводу чего нас охватил ужас, не было,
"собственно", ничего. Так оно и есть: само Ничто — как таковое
явилось нам»*.
Что же явилось? Явилась шаткость всей совокупности
сущего, наша немощь по отношению к сущему в целом — ничтожение.
Это ничтожение не есть уничтожение сущего, оно не итог какого-то
отрицания, ничтожение осуществляет, хранит Ничто. «Ничтоже-
* Richarsdson W. J. Op. cit. P. 21.
Метафизика «Ничто» в философии М. Хайдеггера
465
ние не случайное происшествие, а то отталкивающее отсылание
к ускользающему сущему в целом, которое приоткрывает это
сущее в его полной, до того скрытой странности как нечто совершенно
Другое — в противовес Ничто», — пишет Хайдеггер*. Здесь
появляется принципиальное для философии Хайдеггера утверждение,
что только в противовес Ничто впервые наше бытие ставится перед
сущим как таковым. У Гегеля чистое бытие открывает мысли ничто,
у Хайдеггера ничто открывает бытие, явленность ничто
открывает человеку сущее и позволяет вникнуть в него. Это
принципиальное различие гегелевской философии, доведшей до логического
(в буквальном смысле) конца парменидовскую онтологию, и хайдег-
геровской философии показывает разрыв фундаментальной
онтологии философа XX в. с классической парадигмой.
«Ничто, — утверждает Хайдеггер, — уже не остается
неопределенной противоположностью сущего, а приоткрывает свою
принадлежность к бытию сущего»**. Эта «принадлежность» ничто к бытию
сущего наиболее явно обнаруживает себя в существовании
особого сущего — Dasein, Присутствия, человеческого существования,
того, что имеет Лицо. Об этом говорил уже опыт Ничто — опыт
ужаса, который свойственен человеку***. Но это проявляется и в том, что
Ничто входит в сам способ бытия человека, способ его присутствия
в мире, который дает ему его лицо, его определенность. Ничто —
неотъемлемая характеристика бытия человека. Человек —
заместитель Ничто. Человеческое бытие «выдвинуто» в Ничто, в то Ничто,
которое противостоит сущему как совершенно Другое, утверждает
Хайдеггер****.
Что означает фраза: «Человек — заместитель Ничто»? Хайдеггер
разъясняет: «Фраза означает: человек держит место для
совершенно Другого ко всему сущему свободным, так чтобы в его открытости
могла иметь место такая вещь, как при-сутствие (бытие)» ***** (подчер-
* Ibid. Р. 22.
** Ibid. Р. 25.
*** Ужас для Хайдеггера выступает особым экзистенциалом, т. е. особым
способом бытия человека, в котором и открывается Ничто. В своем исходном
проявлении ужас в нашем бытии редок, но модусы его проявления могут
быть самыми различными — это и мука несостоятельности, беспощадность
запрета, горечь лишений, режущая острота презрения, жесткость действия
наперекор, наконец, это и дерзновение творчества, которое всегда
бросается в бездну ничто, не имея гарантий на успех. «Ужас, сопутствующий
дерзанию, — пишет Хайдеггер, — не требует никакого противополагания себя
ни радости, ни уютному самодовольству мирных занятий. Он состоит —
по сю сторону подобных противоположений — в тайном союзе с окрылен-
ностью и смирением творческой тоски» (1. С. 24).
**** Ibid. Р. 24, 409.
***** Ibid. Р. 409.
466
В. А. Конев
кнуто мною. — Б. if.). Суть человека, сущность его как
определенного Лица состоит в том, что он сопрягает бытие и ничто, так как
«без исходной открытости ничто нет никакой самости и никакой
свободы»*. Это выражается в том, что человек живет в особом
пространстве, что он может держать место для Ничто только в особом
пространстве, в пространстве ничтожения, апофатическом
пространстве, которое может быть названо пространством Дантовых
координат**.
Декартовы координаты задали принцип определения вещи
(материальной точки) — это принцип отождествления, уравнивания,
отнесения к заданным значениям. Человек (а шире — всякое значимое
культурное явление, которое всегда индивидуально) не может
определяться через отнесение и отождествление, так как он тогда
потеряет свою индивидуальность. Поэтому его определенность порождается
иным способом, а именно через отрицание, через отказ от
отождествления с заданным значением, через подчеркивание своей другости,
через ничтожение, которое кажет себя, как отмечает Хайдеггер, в от-
талкивании-отсылании. Этот принцип определения и задает
пространство Дантовых координат, в котором всякий феномен должен
определиться через отказ от заданных соответсвий***. В пространстве
Дантовых координат и «живет» Ничто. «Ничто — не предмет, ни
вообще что-либо сущее, — пишет Хайдеггер. — Оно не встречается
ни само по себе, ни пообок от сущего наподобие приложения к нему.
Ничто есть условие возможности раскрытия сущего как такового для
человеческого бытия»**** (подчеркнуто мною. — В. К.).
Пространство Дантовых координат задает в своем поле
специфические modi operandi, последовательность совершения которых че-
* Richarsdson W. J. Op. cit. P. 22.
** См.: Конев В. А. Декартовы и Дантовы координаты (или проблема
определения человека) // Философия культуры-95. Самара: Изд-во «Самарский
университет», 1995; Он же. Дантовы координаты (проблема определения
ценностного бытия) // Вестник Самарского государственного
университета. Специальный выпуск. Самара, 1995.
'** « Божественная комедия » Данте описывает путь определения человеческой
души — ее путь к вечному блаженству, которое дает Эмпирей. Но чтобы
достичь своего подлинного определения, своего подлинного места, душа
человека должна избежать — круги Ада показывают, чего она должна избегать,
она должна показаться и воздержаться — уступы Чистилища показывают,
в чем она должна покаяться, даже в Раю, где везде равное блаженство, есть
разные сферы, и душа не должна останавливаться в них, только тогда она
достигает места Розы Эмпирея. Модуль пространства «нетленной
геометрии», в которой душа себя реализует, — уйти, чтобы прийти; отказаться,
чтобы получить. Это пространство и представлено тем, что я назвал Данто-
выми координатами.
"* Хайдеггер М. Время и бытие. С. 22-23.
Метафизика «Ничто» в философии М. Хайдеггера
467
ловеком ведет к его становлению как определенной
индивидуальности, как Лица.
Первый modus operandi: «Если не то..., не то..., тогда», — ведет
к осмыслению ценностного содержания бытия сущего и овладению
опытом выбора. Нетствование — обязательный этап становления
всякой индивидуальности и обязательный этап в определении
своего понимания сути бытия данного сущего. Через нетствование
(перебор вариантов) художник находит единственно верное выражение
чего-то, через бунт отрочества и юношества человек находит себя,
через «Уход-и-Возврат», по Тойнби, осуществляются творческие
акты, составляющие процесс роста цивилизации*.
Второй modus operandi: «Если А, то необходимо А», — ведет
к утверждению бытия Лица, бытия, определенного в своей
индивидуальности. В этом случае человек не нетствует, а обнаруживает
свою самодостаточность и самотождественность, утверждает бытие
своего мира. Здесь в сопряженной паре ничто-бытие на первый план
выходит бытие, а ничто скрывается, как говорит Хайдеггер, в
деловитости «да-да», «нет-нет». В этом модусе действия бытие
обнаруживает свою Абсолютность как способность преодолевать Ничто
Бытием сущего — «Да будет!».
Третий modus operandi: «Теперь, когда..., то...», — став Лицом,
определенностью, человек входит в мир как событие. Здесь, в
действии из настоящего (actus a recentiori), обнаруживается
временность человеческого бытия: человек стоит в настоящем времени, он
ограничен временем. Но он и не ограничен, так как настоящее время
не имеет границ — оно всегда есть.
Самость человека, индивидуальность, рождающаяся в
результате активности человека в поле Дантовых координат, обретает
ограниченность определенности. Она ни на что не похожа, замкнута
в себе и для себя, может иметь отношение только к себе
(самотождественность), она живет только здесь-и-теперь и не может жить там-
и-потом. Индивидуальность ограничена со всех сторон отрицанием
(ничтожением). Но одновременно она и лишена ограниченности
(конечности), так как ее граница входит внутрь ее, становится ее
сущностью. Граница оказывается там, где ее бытие человека поставило,
там, где это бытие оказалось, — человек на все накладывает свою
печать. Поэтому «в подлинной и безусловной конечности нашей
свободе отказано» — свобода не ограничена**. Как замечает в
примечаниях к тексту Хайдеггера его переводчик В. В. Бибихин: «Из-за
* Тойнби А. Постижение истории. М.: Издательская группа «Прогресс»,
1996. С. 214-240.
** Хайдеггер М. Время и бытие. С. 24.
468
В. А. Конев
соседства человеческого существа с Ничто любая ограниченность
в человеке будет иметь границу» *.
Ничто не может ограничивать, оно создает поле для творчества,
и, в конце концов, является причиной творчества**. Человек должен
«ощутить в Ничто вместительный простор того, чем всему сущему
дарится гарантия бытия»***. Поэтому Ничто и становится опытом
бытия. «Мышление, чьи мысли, — пишет Хайдеггер, — не
только не настроены на счет (т. е. на сущее, которое в мышлении
рассчитывается — В. if.), но вообще определяется Другим, чем сущее,
пусть будет называться бытийным мышлением****. Вместо того чтобы
считаться с сущим в расчете на него, оно растрачивает себя в бытии
на истину бытия. Это мышление отвечает вызову бытия, когда
человек передоверяет свое историческое существо той единственной
необходимости, которая не понуждает вынуждением, но создает
нужду, восполняемуюсвободойжертвы » *****(подчеркнутомною—В. К. ).
Бытийное (участное) мышление не только мыслит истину, но тратит
себя на истину бытия, на утверждение себя в бытии.
Так появляется новое понимание тождества мышления и бытия:
бытийное мышление есть определенное (ценностное, культурное)
бытие. А вместе с этим рождается и новая метафизика (вспомним,
что Парменида называли первым метафизиком). «Выход за
пределы сущего совершается в самой основе нашего бытия, — пишет
Хайдеггер. — Но такой выход и есть метафизика в собственном смысле
слова. Тем самым подразумевается: метафизика принадлежит
"природе человека". Она не есть ни раздел школьной философии, ни
область прихотливых интуиции. Метафизика есть основное событие
в человеческом бытии. Она и есть само человеческое бытие»******.
И сейчас дело заключается в том, чтобы все-таки нашлась
философия, которая бы отделила (выделила) метафизику от бытия
человека, выразив ее в понятиях и категориях. Этого у Хайдеггера нет, ибо,
как верно заметил чешский философ Ян Паточка: мысль Хайдеггера
«учит только ставить вопросы и выживать в этом вопрошании»*******.
* Хайдеггер М. Время и бытие. С. 408.
** Об отношении творчества и ничто см.: Strôzewski W. Dialektika twôrczosci.
Krakôw, 1983.
*** Хайдеггер М. Время и бытие. С. 38.
**** M. M. Бахтин задолго до Хайдеггера называл такое мышление «участным
мышлением» (см.: Бахтин M. M. К философии поступка // Философия
и социология науки и техники. Ежегодник: 1984-1985. М., 1986;
Конев В. А. Философия бытия-события М. Бахтина // Российское сознание:
Психология, феноменология, культура. Самара: Изд-во СамГПИ, 1994).
***** Хайдеггер М. Время и бытие. С. 39-40.
****** Там же. С. 26.
******* Цит. по: Michalski К. Heidegger i fllozofia wspôlczesna. Warszawa: PIW,
1978.
^ч^
К. А. ЕРМИЛОВ
Хайдеггер и Салтыков-Щедрин.
Тема Ничто в «Господах Головлёвых»
и «Бытии и времени»
В статье исследуется метафизическая и экзистенциальная
проблематика понятия «Ничто» через прочтение романа
Салтыкова-Щедрина Господа Головлёвы и Бытие и время Хайдеггера.
Рассматривается ситуация соприкосновения с пустотой через
аналитику Dasein. Проводится указание на возможные языковые и
методологические трудности работы с понятием «Ничто» в
современной философской мысли.
В знаменитых «Афоризмах житейской мудрости» Артур
Шопенгауэр говорил, что песня Гёте «Ich hab* mein Sach auf nichts gestellt»
(«Я сделал ставку на ничто»*) «выражает, собственно, что лишь
тогда, когда мы принуждены отказаться от всех возможных
требований и ограничиться простым, голым существованием, получаем
мы в удел то душевное спокойствие, которое служит основой
человеческого счастья, так как оно необходимо, чтобы находить вкус в
наличной действительности и, следовательно, во всей жизни»**. Итак,
ограниченность простым голым существованием и Ничто
выполняет этическую функцию, отделяя неподлинные структуры и слои.
Однако вопрос: «Как быть с этим Ничто?», заданный Хайдеггером,
принимает в ситуации постсовременности новый оборот.
По-прежнему науку как проект естествознания этот вопрос не интересует
и не должен интересовать в принципе. И это правильно. В том
смысле, что понятие «Ничто» (если это можно назвать понятием) и
понятие «пустота» являются не физическими, а
антропологическими. «Пустота — это не то, что было изначально пустым. Это след,
* Гёте И. В. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 1. Стихотворения. М.:
Художественная литература, 1975. С. 273-274.
** Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. М. : ТЕРРА- Книжный клуб;
Республика. Т. 4: Parerga и Paralipomena: В 2 т. Т. 1: Parerga, 2001. С. 310.
470
К. А. Ермилов
оставленный тем, что было и ушло»*. Соответственно след пустоты
и Ничто остается в антропологической топике, а не в пространстве
физикализма**. Искать этот след можно главным образом в
структурах повседневности. <...>.
Важно постараться усмотреть Ничто, насколько это
возможно, в более чистом виде. Мы обращаемся за помощью к
литературе не столько за примерами, сколько обращаемся за помощью как
к собеседнику. Мы следуем за взаимопрочтением Хайдеггера и
Салтыкова-Щедрина по причине поразительного совпадения «вещей
мысли» этих двух, на первый взгляд совершенно разных авторов.
И Хайдеггер и Салтыков-Щедрин (каждый по-своему) обращаются
к метафизическим вопросам о Ничто, подлинности, речи, совести
и т. д.
Таким образом, мы стремимся раскрыть метафизический
потенциал не только русской литературы (такие попытки не являются
редкостью), но и выявить философское значение именно
Салтыкова-Щедрина в частности. В отличие от Гоголя, Достоевского и
Толстого, Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину в этом
отношении уделялось крайне недостаточно внимания.
Хайдеггер, посвятивший в своей философской работе немало
страниц немецкой литературе и поэзии, известен своим
вниманием и к литературе русской. Знаменитая ссылка на «Смерть Ивана
Ильича» Толстого в «Бытии и времени» не исчерпывает этого
внимания. Известно, например, чтение Хайдеггером Достоевского.
Кроме того, Хайдеггер обращался и к древнегреческой литературе
для решения философских задач, а именно к Софоклу для
раскрытия особого характера отношений человека с бытием.
Однако в случае Хайдеггера дело состоит не только в его
отношении с литературой. Мартин Хайдеггер является философом,
впервые раскрывшим философское значение повседневности, бывшей
до этого сферой по преимуществу литературы психологической.
Dasein-аналитика позволяет выявить феномены, недоступные
литературе, но отнюдь не заменить литературу как таковую. Взаимная
нужда литературы и философии указывает не только на
недостаточность одной без другой, но и на необходимость особого
«результирующего» взгляда...
Роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» сам по себе
обладает пронзительной метафизической глубиной и содержит
целый ряд позиций, поразительно совпадающих с тематикой «Бытия
и времени» Хайдеггера. Бытие, смерть, пустословие (das Gerede),
* Гиренок Ф. И. Фигуры и складки. М.: Академический проект, 2013. С. 25.
** Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2006. Нем. изд.:
Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. § 41.
Хайдеггер и Салтыков-Щедрин
471
совесть составляют область пересечения этих двух, казалось бы,
совершенно разных произведений. Выявить эту конкретную область
в целях философии и литературоведения, а также обозначить
языковые трудности обращения с Ничто, при этом не питая иллюзий
об исчерпании данной проблемной сферы, — вот одна из задач этого
исследования.
Итак, обратимся к Салтыкову-Щедрину. Степан Владимирович
из романа «Господа Голов левы» оказался в пустоте, именно в
пустоте. Исходно, уже после того, как он лишился всего и оказался в
качестве приживальщика в деревне своей матери без средств и почти
без одежды и обуви, Степан Владимирович «бездействует». «У него
не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными
массами облаков. С утра, чуть брезжил свет, уж весь горизонт был
сплошь обложен ими; облака стояли словно застывшие,
очарованные; проходил час, другой, третий, а они всё стояли на одном
месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены ни в колере,
ни в очертаниях их»*, — пишет Салтыков-Щедрин.
Но возможно ли «подлинное», чистое безделье? Из аналитики
Dasein Хайдеггера мы знаем, что бытие присутствия есть забота,
нескончаемая направленность. «Даже если мы видим другого "просто
бездельничающим", он никогда не воспринимается как наличная
человеко-вещь (Menschending), но "безделье" тут
экзистенциальный модус бытия: неозаботившееся, неосмотрительное пребывание
при всем и ничем»**. Это момент падения и рассеивания Dasein, как
называет это Хайдеггер. Безделье невозможно в точном смысле,
возможно лишь исходное положение «дела» присутствия. «Однако
также и когда другие в их присутствии как бы тематизируются, они
встречны не как наличные веще-лица (Persondinge), но мы застаем
их "за работой", т. е. сначала в их бытии-в-мире» ***. Здесь имеет
место своего рода ненаправленная направленность и неозаботившаяся
забота, что представляет собой противоречие, где забота не
направлена на вещи мира и не направлена на самость (Selbst). Или,
другими словами, не направлена на знание и внятие себя.
Пустота оказывает давление, и Степан Владимирович ищет
забвения. «Впереди у него был только один ресурс, которого он
покуда еще боялся, но который с неудержимою силой тянул его к себе.
Этот ресурс — напиться и позабыть. Позабыть глубоко,
безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нее
* Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 13. М.:
Художественная литература, 1975. С. 47.
" Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2006. Нем. изд.:
Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. С 120.
'" Там же. С. 120.
472
К. А. Ермилов
было нельзя»*. ♦Абсолютная» пустота внешнего социального и
коммуникативного по неумолимой логике ведет к жажде опьянения,
т. е. внутрь, однако не во «внутренний мир», а внутрь еще и от
самого себя. Показать, что-же-там-находится-внутри, Степану
Владимировичу может только вино. Но опьяненное внутреннее имеет язык
внешнего, не имея своего языка. Круг замкнулся. «Опьянение не
содействует обмену мыслями»**, выскабливая видимость
коммуникационного и оставляя наедине без подлинного единого.
Далее Степан Владимирович Головлёв будет скатываться в
пустоту всё глубже и глубже, находясь в одиночестве и бездействии.
Какой выход можно было бы предложить исходя из ситуации
современности? Можно подумать, что нашему герою не хватало лишь
телевизора и (или) Интернета, чтобы выжить, прикрыв эту
«бесконечную» пустоту бесконечным же потоком информации. Однако
вспомним, что Степана Владимировича держали буквально в
темноте, из экономии не давая свечей. В любом случае поток информации
представлял бы, согласно аналитике Dasein, лишь модус «жажды
нового» (die Neugier) или любопытства. «Высвободившееся
любопытство озабочивается видением, однако не чтобы понять
увиденное, т. е. войти в бытие к нему, а только чтобы видеть. Оно ищет
нового, только чтобы от него снова скакнуть к новому. Для заботы
этого видения дело идет не о постижении и не о знающем бытии в
истине, но о возможностях забыться (des Sichüberlassens) в мире», —
говорит Хайдеггер***. Так или иначе, путь один — к самозабвению,
другого не видно. <...>.
Горизонт временности Степана Владимировича постепенно
захлопывается до смутного настоящего. «Притуплённое
воображение силилось создать какие-то образы, помертвелая память
пробовала прорваться в область прошлого, но образы выходили
разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым
воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и
настоящей минутой раз и навсегда встала плотная стена. Перед ним
было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в
которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени» ****. Это
скудное чувство «настоящего» становится невыносимым для Голов -
лева. Пресловутое «здесь и сейчас», полученное в чистом виде, ока-
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 13. М.:
Художественная литература, 1975. С. 48.
** Гиренок Ф. И. Фигуры и складки. М.: Академический проект, 2013. С. 70.
'* Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2006. Нем. изд.:
Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. С 172.
" Салтыков-Щедрин M. E. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 13. М.:
Художественная литература, 1975. С. 49.
Хайдеггер и Салтыков-Щедрин
473
зывается настолько страшным, что от него тоже хочется избавиться,
во что бы то ни стало. Вульгарная интерпретация проблемы
излишней озабоченности прошлым и будущим представляется
несостоятельной. «Здесь и сейчас» имеет и дефективный модус, лишь
спутывающий присутствие и не позволяющий высвободится для обзора
бытийных возможностей (die Sein Möglichkeiten).
Если мы зададим простой, даже слишком простой вопрос: «А
какое могло быть настроение у Головлёва в этой ситуации?» — то так
же просто хочется ответить «плохое». Однако, так ответив, мы
скажем не просто мало или неверно, а сообщим принципиально не то.
Обратимся за описанием настроения Степана Владимировича к
тесту самого Салтыкова-Щедрина. «Утром он просыпался со светом,
и вместе с ним просыпались: тоска, отвращение, ненависть.
Ненависть без протеста, ничем не обусловленная, ненависть к чему-то
неопределенному, не имеющему образа <...> Не нужно ничего,
ничего, ничего не нужно»*. Подход к настроению как к одному из
первичных экзистенциалов, предложенный в «Бытии и времени»,
представляется особо продуктивным для аналитики подобных
состояний. Настрой (die Stimmung) представляет собой способ быть.
Даже ровный, бесстрастно-научный взгляд на вещи представляет
собой вариант расположенности и настроения. При этом, конечно же,
следует отличать подобные описания от описания сопутствующих
аффектов. Настроение уже истолковало бытие в предоставлении
миру, затронув таким образом, чтобы чаще всего ускользнуть от
самого себя. То, что мы видим в ситуации Степана Владимировича,
является расстройством (die Verstimmung), в котором проявляется
слепота к самому себе, где окружающий мир (die Umwelt) замутнен
и внятие дезориентировано**. «Воспаленные глаза бессмысленно
останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и
пристально смотрят; руки и ноги дрожат; сердце то замрет, словно вниз
покатится, то начнет колотить с такою силой, что рука невольно
хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед
глазами печка, и мысль до того переполняется этим представлением, что
не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило
печку, как окно, окно, окно»***, — читаем в «Господах Головлёвых».
«Сколь бы расколотой, однако, ни казалась повседневность, она
все-таки, пусть лишь в виде тени, еще содержит в себе сущее как
единство "целого". Даже тогда, и именно тогда, когда мы не заня-
* Там же. С. 50.
** Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2006. Нем. изд.:
Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. С 136.
"* Салтыков-Щедрин M. E. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 13. М.:
Художественная литература, 1975. С. 50.
474
К. А. Ермилов
ты вещами и самими собой, нас охватывает это "в целом",
например при настоящей скуке (die Langeweile)»*. Здесь Хайдеггер
указывает на то, что в основаниях повседневности уже присутствует
пустота и Ничто. Существенно то, что ужас (die Angst), аналитике
которого уделено большое внимание в «Бытии и времени»,
является «противоположным» страху. Он проясняет и не спутывает, делая
присутствие отчетливым. Однако Хайдеггер постоянно указывает
на непродолжительность состояния ужаса (die Angst). To, что
испытывает в интенсивном и долгом зависании экзистенции Степан
Владимирович, невозможно идентифицировать как ужас. Мы
назвали бы это бессобытийным выпадением из повседневности.
Состояние Головлёва выходит за рамки усредненного, наиболее
распространенного падения (das Verfallen des Dasein). Скорее это
не бытие-к-смерти, а смерть-при-бытии. Если пытаться перевести
буквально, то адекватное немецкому выражение мы вряд ли
получим. Здесь мы не имеем в виду простую игру слов, а указываем
на феномен «смерти при жизни». Если пытаться представить
подобное, то можно сказать следующее. Хайдеггер описывает два модуса
Dasein: подлинный и неподлинный. Первый представляет собой
размыкание, а второй — наиболее распространенное падение в
усредненную публичность. В данном же случае мы видим нечто хотя
и не принципиально, но все-таки иное. Размыкания не происходит.
Но происходит радикальное выпадение из повседневности. (И здесь,
вероятно, могло бы подойти выражение das Ausfallen). Из этого
следует вывод о том, что повседневность, со всей ее неподлинностью,
усредненностью и ложностью, представляет собой возможность
удержания на поверхности. Включая, в том числе и негативный
смысл этого высказывания (как, например, поверхностное
отношение). Собственно, в «Бытии и времени» Хайдеггер и не стремится
отрицать в чистом виде позитивные возможности повседневности.
Послушаем же теперь Салтыкова-Щедрина. «Самая тьма,
наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное
фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая,
не откликающаяся ни единым жизненным звуком,
зловеще-лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его
шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна
безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему
нужно было заморить в себе чувство действительности до такой
степени, чтоб даже пустоты этой не было»**. Встреченное Степаном
Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие. СПб. :
Наука, 2007. С. 28.
** Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 13. М.:
Художественная литература, 1975. С. 49.
Хайдеггер и Салтыков-Щедрин
475
Владимировичем особым образом Ничто не размыкает бытие
сущего «в целом» и не направляет на что-либо действительно важное
и значительное. Ничто скорее здесь захлопывает. Открывшееся
Ничто представляет собой слишком много, невыносимо много. Как
возможно пережить такое? «Мы настолько конечны, что именно никак
не можем собственным решением и собственной волей поставить
себя перед лицом Ничто»*. Здесь скорее Ничто поставило нашего
героя перед «собой». Как же быть с этим Ничто?
Столкновение с Ничто, согласно Хайдеггеру, есть исходная
позиция бытия-в-мире, определяемая как неуютность (die Unheim-
lichkeit). Более того, сам человек несет в себе это самое Ничто,
являясь его заместителем. «Сам выход к Ничто не зависит от воли,
позиции, установки, мировоззрения человека, он возможен только
лишь тогда, когда Ничто само проснется в человеке, когда Оно само
откроется человеку. И сама открытость Ничто конечна, она таится
до поры до времени в человеке, который вовлечен в эту открытость
как в фундаментальную возможность бытия»**.
Ничто фундаментально. Предшествуя познанию и прорываясь
сквозь повседневность, и при этом оказывая травмирующее
воздействие, Ничто способно нанести серьезные повреждения в описанной
Салтыковым-Щедриным ситуации. Степан Владимирович в романе
«Господа Головлёвы» умирает от пустоты. Можно говорить о
физических причинах его смерти (затхлый воздух, алкоголизм, болезнь
и т. д.), тем не менее Салтыков-Щедрин гениально описывает смерть
от пустоты, которая предшествует смерти биологической.
«Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места
не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его
вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему,
ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его
с головы до ног, и он всматривался в него, в него одного, следил за его
воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно
оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь
физический и умственный мир...» *** Здесь мы видим изложение
опыта, который лучше не иметь в принципе, вопреки расхожей фразе
о «позитивности» любого опыта. Литературные описания, кроме
всего прочего, и существуют для того, чтобы «виртуализировать»
опыт, которого следует избегать...
* Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие. СПб.:
Наука, 2007. С. 34.
Дорофеев Д. Ю. Хайдеггер и философская антропология // Мартин
Хайдеггер: Сборник статей. СПб.: РХГИ, 2004. С. 389.
** Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 13. М.:
Художественная литература, 1975. С. 53.
476
К. А. Ермилов
Итак, в конечном счете мы можем отметить следующее. В
результате прочтения романа «Господа Головлёвы» через аналитику Dasein
было представлено чистое существование особого рода в ситуации
выпадения (das Ausfallen) из повседневности. Такое «чистое
существование» никак нельзя назвать подлинной экзистенцией, а
также нельзя назвать и растворенным в усредненной повседневности
в хайдеггеровском смысле этого выражения. То, что мы увидели,
является особого рода модификацией несобственного (Uneigentliche)
экзистирования. Ничто теперь предстает перед нами в двух
противоположных модусах воздействия. В одном случае размыкает,
формируя подлинные структуры понимания. А в другом — захлопывает,
приводя к невыносимым измерениям экзистирования.
Кроме того, следует еще раз отметить известную
проблематичность адекватного описания данного феномена, требующую
особого языка. Языка, обладающего гранями апофатики и поэтического
дискурса и поэтому требующего открытого, хотя и осторожного
подхода. «Похоже, многие из нас предпринимают безнадежную
попытку заполнить пустоту, тогда как в пустоте, наоборот, необходимо
видеть просвет. Пустота есть пустота, и ориентация на нее должна
стать, если угодно, драматургической формой исчезновения,
которая являлась бы и формой нашей мысли...» — говорил в свое
время Жан Бодрийяр*. Подобная «драматургическая форма
исчезновения» требует рассмотрения следующих за Ничто феноменов.
А именно: пустословия (болтовни) как драматургии исчезновения
и появления подлинной речи, а также феномена совести как
драматургии подлинного бытия как такового. В свою очередь, это
требует дальнейшего исследования, которое было бы представлено
отдельно.
€Ч^
Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург: У-Факто-
рия, 2006. С. 57.
H. В. МОТРОШИЛОВА
Ханна Арендт:
судьбоносная встреча с Хайдеггером
От автора
Моя подготовленная к печати новая книга, отрывок из которой
предлагается к предпубликации в замечательном журнале
«Сократ», имеет заголовок «Бытие. Время. Любовь: Мартин Хайдеггер
и Ханна Арендт» *.
Эта книга очень личностная и личная, прежде всего в том
смысле, что в центре ее — поистине судьбоносная встреча в середине
20-х гг. XX в. тридцатичетырехлетнего Мартина Хайдеггера,
начавшего преподавать в Марбургском университете, и его юной
студентки Ханны Арендт. Вспыхнувшая яркая и трудная любовь не
могла не закончиться расставанием. Но прежде она вплела свои нити
в то вдохновенное творчество, которое как раз в этот период
увенчалось созданием «Бытия и времени» Хайдеггера, этой книги книг
XX в. Теперь, в начале нашего столетия (когда появилось множество
ранее неизвестных личностных документов — писем, дневников,
биографий обоих наших героев), Ханну Арендт по праву стали
называть «музой "Бытия и времени"». (В моей книге есть большой
раздел, озаглавленный «"Бытие и время" Хайдеггера и событие
Любви».) Как именно все было? Ответ — в повествовании о
драматических событиях, вплетенных в трагическую историю Германии
1930-1940-х гг. И о тех личных и творческих коммуникациях,
которые связывали Хайдеггера с уже светившими или впоследствии
зажегшимися звездами философского небосклона — такими, как
Карл Ясперс или Ханс-Георг Гадамер,
* Глава «„Бытие и время" Хайдеггера и событие Любви» из книги Н. В. Мо-
трошиловой «Бытие. Время. Любовь: Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт»
публикуется в сокращенном виде.
478
H. В. Мотрошилова
Любовь двух выдающихся — впоследствии — мыслителей,
пройдя через все испытания, протянулась через всю их жизнь и глубоко
повлияла на творчество Мартина и Ханны, создав интереснейшее
пространство диалога — чаще замаскированного, но несомненного.
В центре моей работы — малоизвестные не только широкому кругу
отечественных читателей, но даже и философам — теперь ставшие
классическими философичные произведения Ханны Арендт,
крупнейшего исследователя XX в. и замечательной личности. В наше
время ее идеи и книги как бы переживают новое рождение. В моей
книге они подвергаются внимательному анализу. Среди них
детально разбирается «Vita activa, или О деятельной жизни». Эту
книгу считаю удивительно яркой и оригинальной; в ней реализуется
арендтовский проект того, что справедливо поименовать
«социальной онтологией», которая фактически стала ответом на
фундаментальную онтологию Хайдеггера.
Поскольку моя предпубликация выходит на страницах
журнала с красивым и простым названием «Сократ», упомяну: Ханна
Арендт — ученица Хайдеггера в том, что интерпретация античной
мысли сопровождает все ее творчество. А в этой интерпретации
к тому же реализуется ее лозунг: «Назад к Сократу!»
* * *
Хайдеггер уже обосновался и даже успел прославиться в
Университете Марбурга как необычайно притягательный для молодежи
преподаватель, когда в кругу студентов и студенток, его
восторженных почитателей, появилась весьма необычная девушка. Звали ее
Ханна Арендт. В свои тогдашние восемнадцать Арендт была не
просто хорошенькой — она была настоящей красавицей («bildhübsch»,
как говорят немцы, буквально: картинно красивой).
О характере и неотразимости ее тогдашней красоты оставили свои
восторженные свидетельства ее соученики. Среди них и те, кому
впоследствии суждено было стать выдающимися или, во всяком случае,
известными мыслителями. Ганс-Георг Гадамер в своих
воспоминаниях о Марбурге и о Хайдеггере написал, что его студентка Арендт,
«постоянно появлявшаяся в зеленом платье», была девушкой,
яркая красота которой сразу бросалась в глаза*. Арендт в ту пору
лишений одевалась скромно, но элегантно. Очень красивший ее наряд
запомнили многие, поэтому в Марбурге за ней закрепилась кличка
«die Grüne», что (во избежание современных
социально-политических ассоциаций) лучше всего перевести так: «девушка в зеленом».
* Gadamer H.-G. Einzug in Adarburg / Günter Neske (Hg). Erinnerung an
Martin Heidegger. Pfullingen, 1977. S. 111.
Ханна Арендт: судьбоносная встреча с Хайдеггером
479
* * *
Жизненный путь Ханны Арендт тоже был по-своему
примечательным, драматичным.
Она родилась в Ганновере 14 октября 1906 г. в семье инженера
Пауля Арендта и его жены Марты (урожденной Кон — Cohn). Это
была типичная для Германии начала века еврейская семья, хорошо
вписавшаяся в жизнь страны конца XIX — начала XX в. Дед
Ханны с отцовской стороны Макс Арендт, почтенный и процветающий
торговец чаем, отметился и в немецкой политике, будучи с 1910
по 1913 г., с одной стороны, председателем собрания депутатов в
Кенигсберге, известным своими либеральными убеждениями, а с
другой стороны, уполномоченным представителем еврейской общины
в различных делах и комиссиях. Словом, это была неплохо
ассимилировавшаяся в немецкие условия, но не порывавшая со своими
национальными корнями еврейская семья. В Германии того времени
подобное сочетание было не только возможным, но и по-своему
типичным.
По крайней мере, с семейной стороны все могло бы сложиться
благоприятно для маленькой Ханны, когда бы не смерть в 1913 г.
и деда, и отца. Семья была вынуждена буквально бежать из
Ганновера и переселиться в Кенигсберг. И хотя там была обеспечена
поддержка родных и друзей, особенно для матери Ханны Марты и
маленькой девочки, все же ощущалась отчужденность, а то и враждебность
окружающей среды. Для юной Ханны Арендт, чье детство было
омрачено болезнью отца и смертью деда, — справедливо отмечает
в своем биографическом сочинении Антония Груненберг, — друзья
позднее стали заменой семье»*. С помощью родных и друзей, а
особенно благодаря самоотверженной заботе матери, Ханне Арендт,
девочке одаренной, рано умевшей интенсивно, самостоятельно,
творчески трудиться, удалось получить хорошее образование и
достойное воспитание.
Уже в школьные годы она овладела латинским и греческим
языками, обнаружила недетский интерес к литературе и философии
Древней Греции. В четырнадцать лет Ханна увлеклась
философией Иммануила Канта, великого кёнигсбержца, который
навсегда остался ее любимым мыслителем. Не приходится удивляться
тому, что из-за своего раннего интеллектуального развития Ханна
отчаянно скучала в школах, которые она часто меняла. Но в конце
концов знаниями в различных учебных дисциплинах она должна
была овладевать самостоятельно. Ей пришлось учиться экстерном
Grunenberg A. Hannah Arendt und Martin Heidegger: Geschichte einer
Liebe. München, 2006. S. 73.
480
H. В. Мотрошилова
и сдавать требуемые экзамены у более чем придирчивых
экзаменаторов. Однако и они должны были склониться перед необычным
умом, талантом, ранней умственной зрелостью этой замечательной
девочки. И все же требуемые документы об окончании школы были
получены отнюдь не сразу. Между тем в 1924 г. Ханна записалась
в Берлинский университет, посещала лекции прославленного тогда
(но опять-таки мало известного у нас) философа Романа Гвардини.
А после, в сентябре 1924 г., Ханна снова должна была сдавать
экзамены в кёнигсбергской государственной гимназии, что сделала
очень успешно, получив золотую медаль за отличные знания*.
Дорога в университет теперь была открыта. И она повела Ханну Арендт
в Марбург.
* * *
В известной мере был предопределен путь одаренной, серьезной
девушки, отдавшей свои симпатии и надежды философии,
увлеченной греческой древностью, приехавшей в Марбург, — путь
именно к Хайдеггеру. Ханна, прежде всего, стала слушать его лекции,
посвященные диалогам великого Платона, — это были «Софист»
и «Филеб». И убедилась, что восторги студентов по поводу занятий
у Хайдеггера не были преувеличенными. Его лекции и семинары
и для нее стали захватывающе интересными; они заставляли
мыслить, спорить, углубляться в освоение философии. Уходя из
аудиторий Марбургского университета, студенты как бы продолжали
говорить с профессором — он не отпускал их от себя. К тому же он
был одним из тех профессоров и доцентов, которые искренне и
серьезно интересовались студентами, были готовы заниматься с ними
и в неурочное время, помогать становлению их философского
мышления, их зарождающихся самостоятельных идей. Хайдеггер
охотно беседовал со своими учениками индивидуально. Тем более что
в Марбурге в это время случилось нечто особое: как было ранее
показано, вокруг талантливого профессора группировались
одаренные, прямо-таки одержимые философией, настроенные на волну
новаторства и творчества студенты. Угадал ли не самый молодой,
но начинающий профессор, чья мировая слава тоже была впереди,
творческое будущее кого-то из своих студентов — например, таких
будущих звезд, как Г.-Г. Гадамер, К. Левит, М. Хоркхаймер, X. Йо-
нас, Л. Штраусе, Г. Маркузе? Разглядел ли он в юной красавице
Арендт ее будущее выдающегося мыслителя? Отвечая на первый
вопрос, можно, по крайней мере, предположить, что Хайдеггер не мог
* Grunenberg A. Op. cit. S. 74.
Ханна Арендт: судьбоносная встреча с Хайдеггером 481
не видеть всей необычности сложившейся ситуации: ведь 16
студентов последовали за ним из Фрайбурга в Марбург, а потом, уже в этом
городе, к группе преданных слушателей постоянно присоединялись
новые энтузиасты. Что же касается ответа на второй вопрос, то здесь
приходится уверенно констатировать: профессор, пусть и
влюбившись в Ханну Арендт, высоко оценив глубину, остроту,
восприимчивость ее ума, обсуждая с нею в письмах философские,
интеллектуальные темы и свои новые идеи, так и не сумел провидеть того,
что ее имя не просто встанет в один ряд с именами перечисленных,
впоследствии признанных выдающихся философов-интеллектуалов
XX в. — оно выделится даже из этого блестящего звездного ряда.
Во всяком случае, среди женщин-мыслителей прошлого столетия
ей не будет равных. Меньше всего об этом ярком будущем и
особенностях своего пути догадывалась сама Ханна Арендт. В Марбурге
она держалась исключительно скромно, предпочитая оставаться
в тени — в чем свою роль сыграла конспиративная таинственность
ее романа с Хайдеггером.
* * *
В начале февраля 1925 г. Хайдеггер пригласил Ханну Арендт для
беседы в свой учебный кабинет. Ее появление он сам описал в одном
из будущих писем к Ханне.
«И позже, — верно констатирует Р. Сафранский, — он охотно
и часто вспоминал картину ее появления на пороге его бюро. На ней
были плащ и шляпа, глубоко надвинутая на лоб... Голос отказал ей,
она произносила лишь едва слышные "да" и "нет"»*. Дальше
события развивались стремительно.
Ханна жила в мансарде одного из домов рядом с Университетом.
Эта небольшая комната быстро стала одним из притягательных
мест для студенческого дружеского круга; там, однако, проходили
не обычные студенческие пивные пирушки — молодежь собиралась
для того, чтобы обменяться мыслями и идеями, поспорить о
философии. Несомненно, обожание профессора Хайдеггера царило в этом
кружке, где девушек было меньше, чем юношей, но где их суждения
и оценки имели немалый вес.
Сюда, в эту мансарду, очень хотел попасть и был скоро
приглашен профессор Хайдеггер, конечно, в строгой тайне от кого бы
то ни было, даже от ближайших и преданных друзей Ханны.
Приглашен почти сразу после встречи в бюро, что видно из его письма
* Safranski R. Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit.
München, 1994. S. 167-168.
482
H. В. Мотрошилова
Ханне, написанного 10 февраля 1925 г., после первой тайной
встречи в мансарде и в ожидании очень скорого второго свидания.
С первых дней более близкого знакомства и романа Хайдегге-
ра и Арендт, судя по ряду признаков, существовала переписка.
Но письма Ханны тех двух лет (1925-1926 гг.), когда марбургский
роман начался и был в самом разгаре, ни тогда, ни позже не стали
достоянием читающей публики. Скорее всего, такова была воля
самой Ханны. Опубликованы письма Мартина, и только по ним
можно — лишь косвенно — судить о посланиях девушки. Первые из
редких все-таки опубликованных писем Арендт к Хайдеггеру помечены
1928 г., то есть относятся к тому периоду их отношений, когда роман
закончился и когда встречи, правда, еще случались, но были очень
редкими. Но когда любовь все еще была сильной и взаимной.
* * *
Встречи и обмен письмами продолжаются. Все с начала до
конца происходит в глубочайшей тайне. Покров таинственности, даже
искусной конспирации, наброшен не по воле влюбленной и
беззаветно преданной девушки. Такова твердая воля ее возлюбленного.
Понять его можно, да и надо, что, несомненно, сделала Ханна Арендт.
Во-первых, это были любовные отношения профессора и его юной
студентки, что тогда иной раз случалось, но отнюдь не поощрялось.
Что касается студентов, то они поняли бы и приняли бы — скорее
всего, даже с восторгом — романтическую связь любимого профессора
с очень умной красавицей из их же студенческого круга. Но
профессорский корпус Марбурга, в основном состоявший из более пожилых
и часто отнюдь не благоволивших к Хайдеггеру коллег, вполне мог
воспользоваться его романом со студенткой как поводом для
усложнения и без того совсем не гарантированного продвижения Хайдег-
гера к получению так нужного ему места ординарного профессора.
Во-вторых — и это главное, — у Хайдеггера была официально
узаконенная и весьма дорогая ему семья с двумя маленькими
сыновьями. Забегая вперед, можно сказать: в труднейшем жизненном
столкновении внезапно вспыхнувшей сильной, глубокой любви-страсти
и прочности семейных уз победила семья. О самом романе не узнал
никто из марбургских коллег, друзей. Если кто-то о чем-то
догадывался, то тоже хранил свои догадки при себе. Ничего не знал Карл
Ясперс, с которым в это время регулярно общался Хайдеггер и к
которому он потом, после разрыва отношений, отправил свою
любимую — для дальнейшего обучения и защиты диссертации.
Преданная своей любви и своему любимому молодая женщина
тоже хранила тайну не хуже опытного конспиратора. Обставляв-
Ханна Арендт: судьбоносная встреча с Хайдеггером
483
мые всяческими предосторожностями встречи любовников в
мансарде продолжались. Некоторые детали, касающиеся этих встреч,
можно уловить только из писем Хайдеггера. Но письма в большей
мере были абстрактно-философичными (конечно, также и
личностными). Тем не менее догадаться о чем-то можно; ведь перед нами
одна из старых, как мир, любовных историй, так что воображение
и собственный опыт каждого из нас помогает достаточно ясно
представить, как все это было...
* * *
«На людях», так сказать, в университетском учебном процессе,
они старались держаться так, чтобы никто не смог догадаться об их
любви. При этом здесь все же была драгоценная для любовников
возможность встречаться «легально», говорить глазами, да и
вообще, наверное, подавать друг другу только обоим понятные и
неведомые другим знаки любви, радости просто от «присутствия здесь
и теперь» (Gegenwart) любимого человека. Тут, несомненно, одно
из совсем немаловажных глубоко личных оснований того
предпочтения, которое философ Хайдеггер уже оказывает таким как будто бы
абстрактным экзистенциалам, как Dasein, то есть «здесь, теперь-и
тут-бытие», «бытие-присутствие», или «Gegenwart», присутствие
здесь и в данный момент. Ханна «присутствует», разумеется, на всех
мероприятиях-событиях с участием Хайдеггера, по-прежнему
слушает его лекции. Но из боязни обнаружить свои чувства, да еще из-
за так и не преодоленной робости перед Хайдеггером Ханна, в
основном помалкивает. И профессор тоже сдерживает себя, стараясь
ничем не обнаружить своего особого отношения к юной красавице,
его студентке. Вот пример. В один из вечеров состоялось
мероприятие в честь Гуссерля, посетившего Марбург. Несомненно, бывший
ученик Гуссерля Хайдеггер, теперь его коллега-профессор, играл
во время встречи особую роль. Вполне вероятно, что ему хотелось
представить учителю свою любимую или рассказать о ней. Но
законы конспирации победили. Вести себя так было непросто. О чем
Хайдеггер пишет Ханне (21.03.1925): «На вечере в честь
Гуссерля неприятны были вынужденные усилия держать себя в рамках.
И тем более я радовался тебе, когда ты тихо сидела в своем углу».
«Тихо сидеть в углу», быть в тени Ханне, увы, приходилось почти
всегда. Совсем скоро ей захочется запечатлеть свои глубокие,
полные отчаяния мысли и переживания, в большой мере связанные
именно с «тихим сидением в углу», с вынужденным «пребыванием
в тени». И она сделает это талантливо, точно, фактически возводя
свои переживания — разумеется, в духе хайдеггеровской филосо-
484
H. В. Мотрошилова
фии — в ранг специфических экзистенциалов «здесь-и-тут-бытия»
(Dasein).
•к "к "к
В промежутках между учебой, докладами и, конечно, интимными
встречами с горячо любимым мужчиной Ханна, как и раньше,
общается с друзьями — и, возможно, даже отдыхает, отвлекается от
острого, счастливого, но и болезненного напряжения тайной любви,
выносить которое ей становится все труднее. Обсуждать с Хайдеггером
все оттенки своих тревог Ханна не могла: влюбленной женщине
приходилось считаться с тем, что ее любимый вряд ли хотел слышать
именно о заботах, сложных переживаниях, связанных с этим тайным
романом. Да и для обмена другими мыслями, сомнениями как раз
с Хайдеггером у Ханны не было ни времени, ни сил, ни достаточной
смелости. Но в доверительных беседах-дискуссиях молодая
женщина, которая живо интересовалась многими вопросами жизни и
философии, остро нуждалась. Ей очень нужен был кто-то, кому она
могла бы доверить свои сокровенные мысли и заботы. Такой «confidant»
нашелся среди ее друзей-соучеников. Им стал уже упоминавшийся
Ханс Йонас, человек, наделенный вниманием к друзьям и
внутренним благородством. Но, кажется, и Йонас, столь доверенный друг,
в то время ничего не знал о романе Ханны и Мартина.
Ханна постоянно напряжена, скована; она живет
несвободно, как бы вопреки своей сущности. Нельзя понять всей глубины
и горечи этого напряжения, если не учитывать важнейший и
несомненный момент — существенное неравноправие, угнетающую
гордую женщину асимметрию тех ролей, которые в романе играют
соответственно мужчина, быстро завоевывающий славу профессор
Хайдеггер, и женщина, пока безвестная и вынужденная держаться
в тени студентка Ханна Арендт. Далее: асимметрия еще и в том, что
Хайдеггера любовь, как на крыльях, несет вперед, к основным
движущим целям, вдохновляет к труду, размышлениям, открытиям.
Очень скоро тому будет дано убедительное доказательство. Уже
после того, как отношения вынужденно оборвутся — их не выдержит,
прежде всего, до предела измучившаяся гордая Ханна, —
Хайдеггер целиком погрузится в целебные воды вдохновенного труда над
произведением, которому будет суждено стать философской книгой
книг XX в. Это — «Бытие и время». Выйдет книга в 1927 г., однако
закончена она была в 1926-м. И нет никакого сомнения в том, что
и пережитая любовь, ее жизненные оттенки своеобразно
сублимируются, трансформируются в экзистенциально-онтологические идеи,
озарив светом подлинности оригинальные категории, «экзистенци-
Ханна Арендт: судьбоносная встреча с Хайдеггером 485
алы» неподражаемой хайдеггеровской философии. Потому более
поздние биографы, исследователи, когда в их распоряжении
окажется соответствующий материал, назовут Ханну Арендт «музой
"Бытия и времени"», что будет в значительной степени оправданно.
* * *
Но это произойдет позже. А пока, в 1925 г., — самый пик романа.
Со своими продолжающимися трудностями. Немалым испытанием
для двух любящих людей оказалась такая вообще-то отрадная для
университетской жизни вещь, как окончание семестра и
последующие каникулы. В конце февраля 1925 г., в разгар уже год
длившегося романа, любовникам было особенно трудно расставаться.
Студенты, в большинстве своем немарбуржцы, разъезжались
по домам. Хайдеггер, не имевший в Марбурге настоящего
пристанища и не располагавший «легальным» поводом не быть в
каникулярное время с семьей, должен был отправиться во Фрайбург. Ему
было где провести каникулы. В горах Шварцвальда, под
Фрайбургом, в местечке Тодтнауберг, была построена скромная хижина,
бывать в которой полюбила вся семья. Хижина, одиноко
примостившаяся на склоне живописной горы Шварцвальда, как нельзя более
соответствовала романтическому настроению Хайдеггера. Но было
еще что-то, чем он вряд ли торопился поделиться с любящей и
страдающей Ханной: сам Мартин, и это легко понять, тоже очень устал
и хотел хоть немного передохнуть от всей напряженности,
сложности, конспиративности любовных отношений. И от необходимости
неизбежно решать вопрос: что со всем этим делать дальше?
21 марта 1925 г. Хайдеггер пишет Ханне из Тодтнауберга
нежное письмо, полное любви и трепетных воспоминаний. «Когда буря
бушует вокруг хижины, я или думаю о "нашей буре" — я мысленно
иду тихой тропинкой вдоль реки Лан (это о «Марбурге на Лане». —
Я. М.) — или в моих грезах воскрешаю образ юной девушки, которая
во время перерыва в первый раз приходит в мою рабочую комнату;
она одета в плащ, шляпа глубоко надвинута на огромные тихие глаза;
на все вопросы она сдержанно и робко дает краткий ответ. А потом
я перемещаю этот образ на последний день семестра... И тогда
впервые узнаю, что жизнь — это история» *. Хайдеггеру любовная страсть,
переплетенная с вдохновенной творческой работой ума — как на
лекциях, семинарах, так и над текстами новых произведений, — в
конечном счете не только не мешает, но даже помогает обрести новые,
сокровенные и одновременно мощные творческие импульсы.
* Heidegger M. / Arendt H. Briefe und andere Zeugnisse 1925-1975. Frankfurt
am Main: Vittorio Klostermann, 1998. S. 18.
486
H. В. Мотрошилова
* * *
Совсем не так все складывается в растревоженном внутреннем
мире Ханны Арендт. И вот молодая женщина, «правилами игры»
лишенная всяких возможностей с кем бы то ни было поделиться
своими любовными переживаниями и сомнениями, все же находит
способ рассказать о них — и рассказать именно любимому
человеку. Она пишет, посвящает ему и дает для прочтения, казалось бы,
абстрактную философскую работу, озаглавленную словом «Тени»
(Schatten), но в ней она тем не менее запечатлевает страдания своей
изболевшейся женской души.
Адресат для такого жанра выбран очень точно. Дело не только
и не столько в том, что Хайдеггер — горячо любимый мужчина;
главное: многое выполнено в стилистике, в языке, образах его
философии. То, о чем она пишет и как она все зашифровывает, лучше всего
способен дешифровать именно он. И учитель, надеется она, должен
убедиться, как глубоко, внутренне, смысложизненно, именно всем
сердцем приняла и поняла студентка его только еще рождающуюся
экзистенциальную философию — не приобретшую твердо оформленных
и явленных читающей публике очертаний. Причем поняла,
почувствовала как бы загодя, наперед с предчувствием будущего, пропустив
экзистенциальные смыслы через свою жизнь, через свои глубочайшие
и сокровеннейшие переживания. Чтобы убедиться в сказанном и все
конкретизировать, целесообразно обратиться к этому, одному из
первых, студенческих, но уже достаточно ярких и в чем-то
самостоятельных текстов Ханны Арендт. Он не был опубликован во время его
создания и вообще очень мало известен, особенно у нас в стране.
Формально образ «теней» должен был отсылать к лекциям Хайдегге-
ра о диалогах Платона «Филеб» и «Софист». Эти лекции он прочел в
зимнем семестре 1924-1925 гг. Вспомните знаменитую платоновскую
притчу о пещере, о многослойной и многозначной символике мира «теней»,
через посредство которых платоновские узники, прикованные к стенам
пещеры, только и способны судить о том, что происходит в другом,
невидимом ими и неведомом для них мире. Хайдеггер, всегда, особенно
в ранний период, опиравшийся на древние источники, столь же
постоянно перетолковывал, до неузнаваемости переиначивал их. Как именно
он толковал их в марбургских лекциях и на семинарах — вообще
трудный вопрос. В том числе и потому, что из всего им сказанного на бумаге
запечатлено — в виде опубликованных записей лекций — далеко не все
и подчас не в том в точности виде, в каком все устно проговаривалось.
Но сейчас проблема не в этом. Ибо теперь наша основная тема — вопрос
о том, что из сказанного услышала, что и как поняла Ханна Арендт и что
она захотела поведать, передать любимому человеку...
э-
Т. В. ВАСИЛЬЕВА
Стихослагающая герменевтика М. Хайдеггера
Во всех своих сочинениях М. Хайдеггер продемонстрировал
такой путь философского исследования, при котором собственная
авторская постановка проблем и разрешение их неотделимы от
попутного рассмотрения материала, составляющего традиционный
предмет истории философии. Причина здесь не только та, что в
качестве культурфилософа он обязан быть также и культурным
писателем, свободно владеть и распоряжаться всем арсеналом
«культурных предметов». М. Хайдеггер постоянно апеллирует к авторитету
мыслителей прошлого или опровергает их, поправляет, уточняет —
это он называет собеседованием. В беседе, по выражению М.
Хайдеггера, «веселится общительное сознание», которое «и не отвергает
противостремительного полагания, и не довольствуется
уступчивым согласием»*.
И все же, если поставить вопрос так: какие, собственно,
историко-философские результаты можем мы найти в литературном
(опубликованном) наследии М. Хайдеггера? — ответ будет весьма
и весьма затруднителен.
Дело не только и не столько в том, что в истолкованиях и оценках
того или иного предшественника М. Хайдеггер обнаруживает
мощные тенденции субъективного пристрастия и произвола — в
большей или меньшей степени этим грешат все историки философии,
иначе они не были бы людьми. Но дело в том, что его собеседование
с объектом исследования всегда остается уникальным событием его
личной биографии и не может быть принято в актив
историко-философской науки по той простой причине, что никем не может быть
повторено. Предъявляемые к научной работе требования
доказательности и связанных с этим признаков как раз и преследуют эту
цель: дать возможность каждому повторить исследование, пусть
в более выгодных условиях уже найденного результата. М. Хайдег-
* Heidegger M. Aus der Erfahrung des Denkens. Pfullingen, 1954. S. 11.
488
Т. В. Васильева
гер оставляет свои пути по большей части неисповедимыми,
чуждаясь научного доказательства как «слишком плоского»*, не оставляя
также места и для веры или опоры на какие-то авторитеты («Вере
нет места в мышлении»)**. « Коль скоро у нас есть Вещь перед
глазами, а в сердце — слух к Слову, тогда мы имеем счастье
Мыслить», — пишет он***. «Немногие достаточно осведомлены в
разнице между проштудированным предметом и продуманной вещью» ****.
«Мышление же есть стихослагание истины бытия в исторически
свершающемся собеседовании мыслящих» *****. Чрезвычайно важной
для понимания историко-философской концепции М. Хайдеггера
представляется его статья «Изречение Анаксимандра»,
замыкающая сборник «Тропы в чащобе» (Holzwege).
По самым внешним признакам указанную статью можно принять
за попытку особенно вдумчивого и по-новому обоснованного
перевода известного фрагмента, дошедшего под именем Анаксимандра
и говорящего о каком-то воздаянии за несправедливость
существующих вещей. В более существенных моментах — это работа с
широким историческим и методическим горизонтом: размышление над
традиционным переводом этого фрагмента и попытка доискаться
до смысла его загадочных выражений становятся для М.
Хайдеггера поводом к постановке и обсуждению сложного спектра проблем,
одно перечисление которых потребовало бы объема и средств
серьезной научной работы. Вот некоторые из них: каковы критерии
оценки и предпосылки понимания изреченного философом? И в этой
связи — каковы возможность и необходимость отвлечения и
отделения речи от предмета в изречении? Есть ли и каковы основания для
пересмотра утвердившейся традиции в изучении так называемых
досократиков, когда самое это собирательное наименование уже
задает предвзятость, поскольку критерий рассмотрения —
сократическая, а точнее, платоновская или аристотелевская философия — тут
уже задан? Не следует ли вывести так называемое архаическое,
раннее, мышление из разряда преамбулы к философии классического
века Греции и дать ему место на иной скале ценностей, где первые
философы античной Греции станут первыми философами Запада,
и вернуть им всю полноту и силу «начала»? не должен ли «конец»
этого западного мышления (как, скажем, он представлен в
философии Ницше) прояснить нам его начало? Наконец, можно ли
защитить перевод (и понимание) древнего изречения от произвола
* Heidegger M. Holzwege. Frankfurt a. Main, 1957. S. 343.
** Ibidem.
*** Idem. Aus der Erfahrung des Denkens... S. 9.
**** Idem.
***** Heidegger M. Holzwege... S. 343.
Стихослагающая герменевтика M. Хайдеггера
489
интерпретатора и не следует ли, напротив, признать произвол и на-
сильственность интерпретации не просто допустимыми ее чертами,
но ее фундаментом и структурой?* Именно в связи с последним
вопросом М. Хайдеггер делает следующее заявление:
Изречение мышления поддается переводу лишь в собеседовании
мышления с его изреченным. Мышление, однако, есть стихослага-
ние, причем не только некий род поэзии в смысле стихотворчества
(версификации) или песнопения. Мышление бытия есть
изначальный способ стихослагания. В нем прежде всего речь только и
приходит к речи, а это значит — приходит в свое существо. Мышление
сказу ет диктат истины бытия. Мышление есть изначальное diet are.
Мышление есть прапоэзия, которая предшествует всякому
стихотворчеству, равно как и всякому поэтическому в искусстве,
поскольку то выходит в творение внутри области речи. Всякое
стихослатание, в этом более широком и более тесном смысле поэтического,
в основании своем есть мышление. Стихослагающее существо
мышления хранит силу истины бытия. Поскольку мыслящий перевод
тем самым стихослагает, стихотеснит (dichtet), постольку перевод,
которым могло бы высказаться это древнейшее изречение,
оказывается необходимо насильственным**
В словесной вязи этого пассажа переплетаются два
этимологических мотива: поэзия, dichten, сближается этимологически с
латинским словом dictare, a кроме того, значение обоих возводится
к смыслу, сохраненному в немецком прилагательном dicht —
«тесный, плотный, густой», — отсюда и смысл притеснения в dictare
и оттенок насильственности и диктата в понятии стихосложения.
Итак, поэзия в качестве первомышления и мышление в качестве
прапоэзии диктуют истину бытия и определяют насильственность
вдумчивого перевода. В тексте данной статьи идея эта не получает
иного подкрепления, кроме уже упоминавшихся этимологических
сближений***, которые, в свою очередь, тоже не подкрепляются
обычными в таких случаях ссылками на этимологические словари или
* Ibid. S. 296-303.
" Ibid. S. 302-303.
'** В уже упоминавшемся сочинении «Из опыта мышления» родство
мышления и поэзии утверждается в таких выражениях: «Поэтический характер
мышления еще не распеленут. Там, где он обнаруживается, он на долгое
время уподобляется утопии некоего полупоэтического разумения. Однако
мыслящая поэзия есть топология бытия. Она указывает ему
местопребывание его существа... Пение и мышление суть соседние стволы поэзии. Они
вырастают из бытия и достигают его истины». См.: Aus der Erfahrung des
Denkens... S. 23.
490
Т. В. Васильева
исследования. Так поступает M. Хайдеггер и в других своих работах,
когда ему приходится в обоснование того или иного хода мысли
обращаться к этимологизированию. За это его не раз критиковали
специалисты-филологи, изобличая надуманность или неточность его
этимологии*. Это справедливая критика, однако применительно к
построениям М. Хайдеггера не вполне попадает в цель. Скорее
следовало бы критиковать того мыслителя, который вздумал бы и впрямь
строить сколько-нибудь серьезную разработку понятия на
фундаменте конкретно-научных справок об этимологическом составе или
об истории морфолого-лексического формирования обозначающего
данное понятие слова. М. Хайдеггер достаточно искушен в тонкостях
филологии, чтобы не предаваться этому нелепому занятию. Не цепь
исторических злоключений слова, пусть даже отражающих развитие
понятия и общественное развитие, занимает М. Хайдеггера, когда
он углубляется в этимологию. В своих филологических опытах он
следует восходящей к романтизму традиции, которая видит в
языке * исповедь народа»; к этимологии слова он обращается лишь для
того, чтобы представить запечатленный или некогда обнаруженный
в его морфолого-лексической структуре так называемый внутренний
образ слова, который, как создание народной мудрости,
принадлежит вечности, не подвластен историческим перипетиям, не
составляет предмета научных штудий и может быть лишь услышан,
воспринят, продуман внимательным слухом, чуткой душой, вдумчивой
мыслью. Вот почему М. Хайдеггер по-своему вполне последователен,
распоряжаясь в этимологическом хозяйстве со смелостью поэтов,
для которых близкое звучание слов — веский повод для сближения
их в стихе и для смысловой их ассоциации. Этот поэтический прием
известен из древности под именем figura etymologica, характерен он
и для германской поэзии, сберегающей традиции своего древнего
аллитерационного стиха. В своих собственных опытах версификации
М. Хайдеггер тоже опирался на тот дополнительный ритм, который
сообщают стиху такие аллитерационные пары:
Weg und Waage
Steg und Sage
Finden sich in einem Gang
Geh und trage
Fehl und frage
Deinen einen Pfad entlang**.
* См.:Friedländer P. Platon.Berlin, 1954;XI,Aletheia;Classen С J. Sprachliche
Deutung als Triebkraft platonischen und sokratischen Philosophierens.
München, 1959, VI, Etymologische Erklärungen. S. 94 ff.
** Aus der Erfahrung des Denkens... S. 5.
Стихослагающая герменевтика M. Хайдеггера
491
Еще пример:
Wälder lagern
Bäche stürzen
Felsen dauern
Regen rinnt.
Fluren warten
Brunnen quellen
Winde wohnen
Segen sinnt*.
Для читателя, на понимание которого уповал М. Хайдеггер, по-
этико-философское этимологизирование было вещью совершенно
привычной и даже никак особенно не примечательной. Если автору
хочется в dichten ощущать dicht и угадывать dictare — чуда в этом
нет. Чудеса начинаются позже, когда вместо перевода с теми или
иными модификациями общепринятого: «А из чего возникают все
вещи, в то же самое они и разрешаются согласно необходимости.
Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают
возмездие друг от друга в установленное время»** — изречение Анакси-
мандра приобретает к концу статьи следующий вид: «...по
употреблению; ибо они придают друг другу чин и угоду (в преодоление)
бесчинства»***.
Что за странный чин? Что за угода? Какое употребление? Не
говоря уже о том, что в «употреблении» таких старых вычурных или
вовсе выдуманных слов нет никакой необходимости, — откуда этот
смысл? Почему так переводятся греческие слова пац, 61кл, àSiicia?
M. Хайдеггера как писателя трудно представить говорящим
только по-немецки, или сказать точнее — на так называемом
литературном немецком языке. Сплошь и рядом он переходит на
древнегреческий и латынь, но не на языки своей школьной юности, а на свой
собственный греческий, равно как и на собственную латынь, и более
того, его немецкий — тоже его собственный немецкий язык, на
непонятность которого сетуют часто и те читатели, для которых
немецкий язык — родной, что же касается переводов на другие новые
языки, то хайдеггеровский текст как задача для переводчика по степени
трудности может оставить позади любую другую. Работая над
переводом статьи «Изречение Анаксимандра», расшифровывая фраза
за фразой ее сложно сцепленный текст, подбирая ключи к заданным
* Ibid. S. 27.
** Маковельский О. Досократики. 4.1. Казань, 1914, Анаксимандр В 1.
*** « ...Entlang dem Brauch; gehören nämlich lassen sie Fug somit auch Ruch eines
dem anderen (im Verwinden) des Un-Fugs» (Holzwege. S. 342).
492
Т. В. Васильева
автором этимолого-герменевтическим уравнениям, а также
сопоставляя свои наблюдения над закономерностями построения этого
сочинения с вышеприведенной авторской декларацией
относительно изначальной прапоэтической сущности мышления, мы
приходим к выводу, что рассматриваемый опус представляет собой не что
иное, как стихотворение, крайне тщательно и глубоко продуманно
отделанное именно как стихотворение, правда не в том
непосредственном смысле, в каком любой неискушенный читатель способен
отличить стихи от прозы, но в смысле несколько ином, не столь
непосредственном, однако для искушенных знатоков стиха и
поэтического совершенно бесспорном. Разумеется, мы здесь не находим
отчетливого стихотворного размера, периодической строфики,
рифмы и прочих самоочевидных признаков стиха. Однако эти внешние
приметы, как теперь признано, не составляют существенного
отличия стиха от прозы; так, рифма, например, возникла как раз в прозе
именно как следствие ее стройной и равномерной периодичности*.
Не в рифме и не в ритме, даже не в метре отличие стиха от
прозы, но в особом способе смыслообразования и смысл
©существования речи, поскольку фонетическая регулярность не возбраняется
и в прозе, до тех про пока она не идет в ущерб смыслу сказанного,
тогда как в стихах, если в безупречно организованном ритмико-ме-
трико-симфоническом целом смысл не выявляется так же легко
и непринужденно, как в прозе, — то тем хуже для смысла;
наиболее явственный пример этому — детские игровые песенки, считалки
и стишки собственного детского сочинения. Именно на этот случай
смысловой стесненности существует * поэтическая вольность» —
licentia poetica, — которая на самом деле оборачивается поэтической
деспотией, тиранией рифм, строф, метров, ритмов, позволяющая,
но и диктующая стихотворному языку выражения и конструкции,
не вполне правильные и не всегда изящные, каких чуждается
простая и ясная проза. Так, у Пушкина:
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю...
Стих допускает это корявое расположение «бездны на краю»,
подобное которому трудно представить в пушкинской прозе.
Случается даже, что стих не только допускает расплывчатость
выражения, но и диктует слова, смысл, далекий от того, который
преследовал автор, а подчас и противоположный ему. Об этом, как
* Совсем недавно об этом напомнил С. С. Аверинцев в статье «Традиция
греческой "диалектики" и возникновение рифмы» / Контекст — 1976. М.,
1977. С. 81-99.
Стихослагающая герменевтика M. Хайдеггера
493
и о других, отчасти упоминавшихся здесь, кардинальных свойствах
и потенциях стиха подробно пишет Ю. Тынянов в книге
«Проблема стихотворного языка», отражающей, кстати, круг идей и
откровений, очень близкий тому, в котором складывались
филологические интуиции М. Хайдеггера. Ю. Тынянов приводит такой пример
из Батюшкова:
И гордый ум не победит
Любви, холодными словами../
Запятая во втором стихе, отделяющая внутри простого
предложения совсем не обособленное косвенное дополнение, — это та самая
«поэтическая вольность», вызванная жесткой необходимостью
отделить «холодные слова» от «любви», ибо стих своим ритмическим
единством связывает их теснее, чем группу — «ум не победит
любви», и без того ослабленную разрывающим ее переносом. Ю.
Тынянов настойчиво обращает наше внимание на то, что каждый стих
составляет самостоятельное единство, тесный стиховой ряд
(заметим, как близка здесь терминология к хайдегтеровской). Вот почему
не только наша необразованность причиной тому, что мы
соединяем: «любви холодными словами», — то же написал на полях своего
экземпляра Пушкин и добавил: «запятая не поможет»**; таким
образом, теснота стихового ряда приводит к тому, что холодные слова
относятся уже не к уму, но — в противоположность замыслу
автора — к любви.
Таков стих, это моторно-деспотическое образование, обладающее
такой способностью выявлять или придавать словам смысл «по
положению», что под его диктат может подпасть культурная память
целого народа. Так, всем нам с детства памятны строки из «Онегина»:
Он из Германии туманной
Привез учености плоды...
Умом любой из нас способен понять, что туманной здесь
разумеется ученость, а, уж конечно, не Германия (в самом деле, «туманный»
в пушкинские времена был почти постоянным эпитетом Альбиона,
что и оправдано метеорологическими условиями страны),
однако чувству каждый раз хочется прочитать: «туманная Германия»,
хотя бы в метонимическом смысле, вместо «туманная германская
ученость», и никакими силами не разобщить в нашей памяти два
этих слова, три этих ямбических стопы, сцементированной ритмом
Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. M.: Academia, 1924. С. 61-62.
** Там же. С. 62.
494
Т. В. Васильева
онегинского ямба. Так появилась в русской словесности «туманная
Германия», хотел этого Пушкин или не хотел. Стих выходит из-под
контроля стихослагающего, сам «стихотеснит», преодолевая
субъективность человека; стих теснит, речь речет — вот где М. Хайдеггер
поздравляет себя с берегом! Высоко ценя мыслительное могущество
большой поэзии как наиболее глубокого видения мира, М.
Хайдеггер не оставил без внимания и без употребления ее артикуляцион-
но-фонетическую материю, стихию ритма, непреложного и
деспотического, повинуясь которой вскинутая рука всегда опустится
в должное время, а поднятая стопа непременно сделает заданный
шаг. Вот эти-то свойства стиха как раз и позволяют М. Хайдеггеру
сопоставлять свое истолкование древнего изречения с прапоэтиче-
ской насильственностью мышления.
Свою статью «Изречение Анаксимандра» М. Хайдеггер пишет
как поэму и строит как стихотворение. Приподнятый слог,
вообще характерный для Хайдеггера-писателя, здесь достигает почти
эпической важности, особенно тогда, когда автор вступает в
соревнование с самим Гомером: «До того как Гомер предоставляет слово
Калхасу, он представляет его как провидца. Принадлежащий к
провидчеству есть тот, ôç т]5т| который изведал: т\Ьт\ есть
плюсквамперфект к перфекту oîSev, — он увидел. Лишь когда кто-то увидел,
тогда он, собственно, видит. Видеть есть иметь увиденным. Увиденное
есть прибывшее и остается у него перед взором. Провидец всегда
уже увидел. Заранее увидевший, он смотрит вперед. Он видит фу-
турум из перфекта. Когда поэт повествует о провидении как о том,
что провидец имеет увиденным, он должен это увиденное провидцем
сказать в пред-прошедшем: fjorj, он имеет узренным. Чего же этот
провидец заранее стал зрителем? Очевидно, лишь того, что
присутствует в свете, пронизывающем его зрение. Зримое такого видения
может быть лишь в несокровенном при-сутствующее. Что же,
однако, при-сутствует? Поэт называет нечто троякое: та т' éôvia — "как
и сущее", та т' éaaôjxeva — "так и становящееся сущим" — "так и
прежде бывшего сущим" — та яро т' éôvTa»*.
Однако слог здесь не только важен, он затейлив и витиеват,
виражи его подчас просто головокружительны. «Не стоим ли мы в
вечернем кануне некоторой ночи перед какой-то мной утренней ранью?
Не для того ли мы вышли в путь, чтобы иммигрировать в
историческую страну этого вечернего заката Земли? Не восходит ли еще
только эта страна закатного Запада? Не становится ли только еще
этот Запад от Окцидента до Ориента, включая всю так называемую
Европу, местностью грядущего изначально вершимого свершения?
* Holzwege. S. 318-319.
Стихослагающая герменевтика M. Хайдеггера
495
Не принадлежим ли мы Западу в некотором смысле, который
только еще восходит в нашем переходе к ночи мира? Как все зги, одной
только исторической науке известные философии исторического
свершения, лишь ослепляющие обозримостью историко-научно
преподнесенного материала, могут объяснить нам
историю-свершение, если они не будут мыслить фундаменты своих объяснительных
оснований из существа свершения, а последнее — из самого бытия?
Точно ли мы последыши, как это есть? А не равно ли мы
предтечи утренней рани совершенно иного мирового века, который
оставил за собой наши сегодняшние историко-научные представления
об историческом свершении?»* Эти бесконечные тавтологии,
сцепления синонимов и антонимов заставляют каждое слово
выложиться буквально «до дна», внимание читателя держится в напряжении,
аналогичном тому, какое задается рифмой («готовность к
воспоминанию»). Присутствует в тексте статьи и своеобразная строфика:
загадочный греческий текст Анаксимандрова изречения
повторяется странным рефреном, задающим ритм размышлению и
рассуждению; по мере того как расшифровывается слово за словом это
изречение, рефрен удлиняется, как будто все нарастает, повторяясь,
одна и та же музыкальная фраза. Напряжение текста повышается
до самого конца статьи, обволакивает, завораживает ритм
повествования, то и дело уходящего от решения поставленной задачи,
чтобы вновь подойти к ней с еще одной неожиданной стороны; чтение
богословов не прошло для М. Хайдеггера бесследно, и у риторов
учился он недаром. Однако все это — только
интеллектуально-эмоциональный фон, уподобляющий опус Хайдеггера стихотворению.
Главное — как вскрывается здесь, как препарируется смысл текста,
дошедшего под именем Анаксимандра, как «продумывается»
значение составляющих его слов.
Фундамент филологической науки — словарь. Словарная статья
есть результат сопоставления многочисленных контекстов и разных
авторов, однако без представления о единстве слова во всех
многоразличных ипостасях его значения филология невозможна. На этом
основании рассматривая историю античной философии и находя,
скажем, у Платона такие термины-понятия, как «логос», «единое»,
«эйдос», мы сопоставляем их, соответственно, с единым в
свидетельствах у Парменида, с логосом у Гераклита и у стоиков, с эйдосом
у Демокрита или у Аристотеля. Обнаруживающееся здесь
несовпадение областей значения и применения слов открывает нам
историческую перспективу в развитии соответствующих понятий. Возможны
в этой исторической перспективе пересечения семантических обла-
* Ibid. S. 300-301.
496
Т. В. Васильева
стей, совпадения некоторых периферийных значений логоса и
единого, единого и эйдоса, но в системе представлений и понятий как
одного философа, так и всей античной философии в исторической
перспективе и логосу, и эйдосу, и единому должно отводиться то
место, которое они занимают в связи и порядке вещей. М. Хайдеггер
задает иной закон сопоставления: каждый мыслитель говорит свое
слово философии, свое главное слово, но слово это всегда об одном
и том же, о бытии, или, по хайдеггеровскому выражению, «о бытии
сущего», «о присутствующем в его присутствии» (Anwesen). Вот
почему, какой бы текст древней философии мы ни брались
истолковывать, свою работу нам следует начинать с продуманного уяснения
того слова, которым обозначается сущее, — так или иначе, оно стоит
за каждым изречением, в данном случае оно разумеется под словом
сшта, «они». У Гомера в эпизоде пророчества Калхаса (Илиада, I, 68-
72) Хайдеггер вычитывает, что сущее, та éôvia, в гомеровском
языке — та övra, означает в отличие от «минувшего» и «будущего»
существующее, при-сутствующее в настоящем, между двумя рубежами
от-сутствия: «про-ис-хож-дением» (yéveaiç) и «от-ходом» (фЭора),
т. е. для М. Хайдеггера «существующее внутри несокровенности»*,
в промежутке, отвоеванном у сокровенности; промежуточный и
переходный характер этого при-сутствия М. Хайдеггер вкладывает
в слово «про-медление» (Weilen), употребляя его для обозначения
способа присутствия сущего. «Про-медление существует как
переходное при-бытие в от-ход»** и тем самым существует в чине, «в
сочинении (5(кт|), сочиняющем присутствие с двояким отсутствием».
Однако это про-медлительное может «на-стаивать на своем
промедлении, с тем лишь, чтобы через это оставаться при-сутственнее
в смысле устойчивого», и тогда оно «изымает себя из своего
переходного про-медления. Оно упирается в своенравной
настойчивости. Оно больше не у-ступает другому при-сутствующему и таким
образом выходит из со-чинения промедления в бес-чинство (àSuda)...
Присутствующее существует тогда без со-чинения, свойственного
про-медлению, и в противоположность ему. Изречение не говорит,
что промедлительно присутствующее расточается ö бесчинии***... Это
про-медли-тельное выстаивание перехода есть чинная устойчивость
присутствующего. Она не настаивает как раз на простом упор-ство-
вании. Она не подпадает бесчинию. Она преодолевает бесчинство.
Медля свое промедление, промедлительное позволяет чину
принадлежать к своему существу как присутствию****... Когда при-сутствую-
* Holzwege. S. 315.
** Ibid. S. 327.
*** Ibid. S. 328.
"** Ibid. S. 329.
Стихослагающая герменевтика M. Хайдеггера
497
щие придают чин, то совершается это таким образом, что они как
промедлительные дают друг другу угоду (xiaiç)», т. е. одно
присутствующее сообразует свое промедление с присутствием другого
промедлите л ьного *.
Вот каким образом истолковывает М. Хайдеггер изречение Анак-
симандра. Нет смысла этот хайдеггеровский перевод переводить,
в свою очередь, на более привычный для истории философии язык:
весь труд автора был предпринят именно с тем, чтобы избежать
избитых выражений и ходячих представлений. Попытаемся сопоставить
прочитанное М. Хайдеггером в изречении Анаксимандра
«трагическое постижение сущего в его бытии»** с более привычным
пониманием текста лишь в отношении структуры, а именно внутренней
связи и взаимоотношения составляющих элементов. В
традиционных переводах не акцентируется взаимоисключающая негативность
соотношения между справедливостью (51кт|) и несправедливостью
(àôiKia). Aikti выступает в них как последствие àSucia, в результате чего
вся предшествующая часть высказывания становится разъяснением
все той же «несправедливости» вещей, все сказанное объясняется
через эту несправедливость, сама же она не получает объяснения, —
вот почему все существующие истолкования этого фрагмента
упираются в истолкование этой «несправедливости». У М. Хайдеггера,
напротив, 51кт|, «справедливость», становится в центр
высказывания, а ее отрицание, àSiKia, превращается в предположительную
возможность, снятую уже внутри высказанного. Вместо
привычного: «Бытие несправедливо, и вещи несут справедливое возмездие»
М. Хайдеггер предлагает иное: «Бытие справедливо, даже если в
сущем возможна несправедливость». Таким образом, не
эксцентричность выражения составляет в этой работе новшество Хайдеггера,
но принципиально новая концепция. Однако сложилась ли эта
концепция помимо и независимо от проделанной им филологической
работы — думается, что на так поставленный вопрос следует
ответить отрицательно. Филологическая громоздкость хайдеггеровских
историко-философских построений — это, по-видимому, все-таки
не сценический камуфляж, не средство репрезентации идей, это —
пользуясь метафорой самого Хайдеггера — сложный размер его
«стихослагающей» герменевтики.
«В существе самого присутствия владычествующая связь с
присутствующим есть одна-единственная. Она остается
совершенно несравнимой с какой-либо другой связью. Она принадлежит
к единственности самого бытия. Таким образом, чтобы назвать это
сутствующее бытия, речь должна найти нечто единственное, это
* Ibid. S. 330-333.
** Ibid. S. 330.
498
Т. В. Васильева
единственное слово. При этом легко вычислить, сколь рискованно
каждое мыслящее слово, присуждаемое бытию. И все же это
рискованное (слово) не невозможно, так как бытие говорит повсюду
и всегда, через всякую речь. Трудность лежит не столько в том,
чтобы найти в мышлении слово бытия, сколько скорее в том, чтобы
найденное слово удержать чистым и в его собственном помышлении»*.
Вот о чем не в последнюю очередь хлопочет М. Хайдеггер — о пол-
нозначной речи, до дна исчерпывающей глубину каждого слова
родного языка; такие «попутно-лингвистические» задачи ставит и
решает, как правило, поэзия, а не научная проза; во всяком случае,
в поэзии подобные опыты уместнее и не достигают такого
педантического комизма, как, например, в следующем пассаже:
«Провидец... есть ... одержимый. В чем, однако, состоит существо
одержимости? Одержимый есть вне себя. Он тронулся. Мы спросим:
тронулся куда? и тронулся откуда? Тронулся прочь от голого
напора пред-лежащего, при-сутствующего только в настоящем,
тронулся к отсутствующему и тем самым присутствующему в настоящем,
коль скоро оно постоянно есть лишь прибежище некоего отходящего.
Провидец есть провидец в единую широту присутствия
присутствующего в каждом случае вне себя. Поэтому, тронувшись, он может
прибегать в эту широту — одновременно про-ис-ходя в нее и от-хо-
дя из нее — к собственно при-сутствующему; это-то и есть
свирепствующая чума»**. Однако не этимологизирование само по себе дает
пищу филологическому вдохновению М. Хайдеггера, и он прямо
пишет об этом***. Девиз: «Бытие говорит повсюду и всегда, через всякую
речь» — имеет для него и обратную силу: через всякую речь, везде
и всегда говорит прежде всего бытие. А отсюда уже выводится
существенное следствие. М. Хайдеггер предлагает понимать как
синонимы философского словаря и «хреон» (xpecov) Анаксимандра, и его же
«апейрон», «логос» Гераклита, «единое» Парменида, «идею»
Платона, «энергию» Аристотеля на том основании, что все эти слова
говорят о бытии сущего. Слова выстраиваются уже не в том порядке,
какой задается им связью и порядком вещей, но сцепляются в один
ряд, втискиваются на одно место, определенное для них размером
и ритмом той стихослагающей концепции, которую развертывает
в данной статье М. Хайдеггер. В таком тесном стиховом ряду все
эти термины начинают играть неожиданными гранями, приобретая
нужные толкователю смыслы по одному только положению своему
в центре учения о бытии. Так, «апейрон» становится беспредельным
постольку, поскольку «существо его в том, чтобы положить предел
* Holzwege. S. 338.
** Ibid. S. 320-321.
*" Ibid. S. 327.
Стихослагающая герменевтика M. Хайдеггера
499
промедления промедлительно присутствующему»*, «логос»
выступает как «просветляюще-сокрывающий сбор...
присутствующего в промедлении внутри несокровенного»**, и в этом смысле логос
определяет существо бытия как «единствующего единого». Идея
мыслится как присутствие в несокровенности, а «энергия» — как
«про-из-ведение» в эту несокровенность***. Насилие в таком
толковании есть — М. Хайдеггер не делает из этого секрета. Но где же
произвол? Стих теснит, теснит стихослагающее мышление бытия.
«Если мы так упорно настаиваем на том, чтобы мышление греков
мыслить по-гречески, то происходит это никоим образом не от
намерения дать более соразмерную с некоторой точки зрения
картину греческого мира как некоего прошедшего человеческого мира.
Мы ищем греческое и не ради греков, и не ради улучшения
науки, и даже не только ввиду более вразумительного собеседования,
но единственно ввиду того, что в таком собеседовании может быть
принесено к речи, в случае если оно исходит в речь от себя
самого. Это и есть то самое, что различным образом затрагивает греков
и нас в нашей судьбе. Это и есть то, что утром мышления
приносится в судьбу вечернего Запада. Через эту судьбу греки только и стали
греками в том историческом смысле, когда история есть свершение
и судьба»****. «Вот почему это изречение не призовет нас, пока мы
разъясняем его лишь историко-научно и филологически. Это
изречение странным образом призывает нас лишь после того, как мы,
отложив наши собственные притязания обычного представления,
продумали, в чем состоит смущение теперешней судьбы мира».
Рефреном повторяется в этой пьесе заклинание: наука бессильна перед
загадкой бытия. «Мышление должно стихослагать над загадкой
бытия. Это приносит утреннюю рань продуманного в близость того, что
предстоит еще продумать»*****.
Если не считать рассматриваемую работу М. Хайдеггера истори-
ко-научной статьей, то как приходится определить ее жанр?
Стихотворением, в конце концов, в жанровом смысле ее тоже не назовешь.
Автор убегает ни бос, ни обут, ни наг, ни одет, ни конный, ни пеший.
Сознательная уловка в подражание хитроумным простакам
народных сказок? Без этого, пожалуй, не обошлось. И все же есть что-то
и от капитуляции в избранной М. Хайдеггером манере. Мысль его
и фантазия чуждаются норм и предписаний так называемых
строгих наук, он завидует и со-ревнует художнику, его манит поэтиче-
* Ibid. S. 319.
" Ibid. S. 340.
** Ibid. S. 341-342.
** Ibid. S. 309-310.
** Ibid. S. 343.
500
Т. В. Васильева
екая вольность говорить «от сердца к сердцу», отвечая за свои
слова только своей совестью. Однако философские поэмы «о природе
вещей» вышли из моды, да и предмет, занимающий Хайдеггера,
так же мало подвластен поэзии, как и эмпирическому знанию, то,
что именуется у него «судьбой бытия», есть история человеческой
культуры; развитие ее традиций, истоки откровений, забвений
и заблуждений — перед всем этим наука не так уж и бессильна,
а искусство призвано стать ее союзником, а не антиподом, и тогда
многое в человеческой истории можно будет не только «глубоко
продумать», «правильно понять», но и достоверно узнать, научно
доказать. Общечеловеческая значимость, как это понимал, вероятно,
и сам Хайдеггер, его работы будет определяться в конечном счете
не обаянием его философских и филологических интуиции, не
словесным искусством, но основательной школьной подготовкой,
открывшей ему путь к языку греческой мысли, широким знакомством
с научной филологией своего времени, которого он нигде не
подчеркивает, а скорее скрывает, но которое хорошо видно специалисту.
Да и самое осознание своего мышления в аналогиях
стихосложения было подготовлено прежде всего достижениями гуманитарных
наук его времени. Объявляя насильственность своего истолкования
древней мудрости законным правом стихослагающего мыслителя,
М. Хайдеггер, по существу, не останавливается на этом, но ищет
подтверждения своему толкованию в философских концепциях
нового времени, сближая «утреннюю рань» и «вечерний канун Нового
восхода», т. е. осуществляет действительно законное право
исследователя на рассмотрение предмета, исходя из его последствий.
Работа М. Хайдеггера остается научной работой, правда не везде
доказательной, вернее, оставленной без доказательств, которые, впрочем,
могли бы и отыскаться, если бы автор взял на себя этот труд. Что же
касается литературных красот этого сочинения, то они делают,
конечно, свое дело подспудной ворожбы, но не производят в ранг
поэтов того, кто не востребован к священной жертве Аполлоном.
€Ч^
E. А. ТОРЧИНОВ
Беззаботное скитание в мире сокровенного
и таинственного: М. Хайдеггер и даосизм
Японец: Конечно. Поэтому лекцию «Что такое
метафизика?» мы в Японии поняли сразу, как только она дошла
до нас через перевод, на который отважился японский
студент, который тогда у Вас учился. Еще и сейчас мы
удивляемся, как европейцы могли впасть в нигилистическое
истолкование разбиравшегося в той лекции Ничто. Для нас
пустота — высшее имя для того, что Вы, скорее всего,
назвали бы словом «бытие»...
M. Хайдеггер. Из диалога о языке.
Между японцем и спрашивающим
1. Взаимодействие европейской и восточной мысли
до Хайдеггера
Обращаясь к Востоку, европейская мысль как бы смотрелась
в некое инокультурное зеркало, видя в нем отражение своих
собственных проблем и интересов. В течение столетий Европа не
столько стремилась понять Восток в его своеобразии и принять его в его
таковости, сколько желала обнаружить в нем подтверждение своих
собственных открытий, дерзаний и устремлений. <...> В первой
половине XIX в. А. Шопенгауэр обратился к религиозно-философской
мысли Индии, увидев в веданте и буддизме не только один из
источников своей философии, но и некое наиболее совершенное
выражение вечной мудрости. <...> Шопенгауэровское обращение к
Востоку сыграло огромную роль в начале процесса (не завершившегося,
впрочем, до сих пор) преодоления философского и
историко-философского европоцентризма. Именно после него восточная, прежде
всего индийская, мысль перестает рассматриваться исключительно
502
Е. А. Торчинов
как некая «недофилософия» или «предфилософия» и начинается
признание ее не только историко-философской, но и собственно
философской, в том числе и эвристической, ценности. С другой
стороны, шопенгауровские экскурсы в область восточной мысли
стимулировало и само востоковедение, постепенно переходившее от чисто
филологической проблематики к культурологической и
историко-философской. <...> Философский стиль Ницше сыграл очень
важную роль в характере восприятия восточной мысли в XX в. Если
Шопенгауэр во многом еще оставался связанным с традициями
классической новоевропейской философии и стремился
интерпретировать индийскую мысль в духе кантовского априоризма и
трансцендентального идеализма, то Ницше со своей антиметафизической
метафизикой принципиально отбрасывает подобный подход, что
в принципе открывало возможность к более адекватному
истолкованию восточного философского текста вне попыток
искусственного вмещения его в прокрустово ложе парадигм европейской
метафизической традиции. <...> Для Ницше переживание реальности
и действование-в-реальности уже вполне самоценно, не нуждаясь
ни в какой санкции чистого разума в кантовском смысле. И в этом
отношении Ницше — безусловный предшественник не только хай-
деггеровского Dasein, но и хайдеггеровского восприятия Востока.
Выражаясь языком позднего Шеллинга, Восток из Das Weis
оптического подхода немецкого классического идеализма превращается
в Das Das экзистенциально-онтологического переживания. Здесь же
рождается и возможность не просто однозначных и линейных ино-
культурных заимствований, но и разнонаправленного
полифонического диалога, равно как и многоуровневой калейдоскопической
в своем многообразии переклички между различными
интеллектуальными традициями Востока и Запада, а также в конечном итоге
к снятию принципиальной оппозиции Восток—Запад вообще,
примером чему могут служить и некоторые тексты постмодерна.
Интересно, что аналогичные процессы протекают и в
зарождающемся историко-философском востоковедении, причем они
оказываются напрямую связанными с преодолением тонких форм
европоцентризма. И здесь весьма показателен пример классической
российской буддологии (петербургская / ленинградская школа).
Так, Ф. И. Щербатский и его ученики последовательно
использовали неокантианскую парадигму для описания буддийской
философии (прежде всего, поздней йогачары)*. Такой подход при всей его
понятности... и определенной обоснованности... тем не менее... спо-
Эта неокантианская парадигма, правда, начинает под воздействием новых
философских веяний размываться в поздних работах Ф. И. Щербатского.
См.: Stcherbatsky Th. The Buddhist Logic. Vol. 1-2. Leningrad, 1930-1932,
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 503
собствовал сохранению и воспроизведению тонкого
европоцентризма <...>.
Постепенно востоковедение отходит от такой однозначной
привязки философского истолкования восточного текста к
определенной западной философской парадигме, чему, правда,
предшествовали опыты но использованию различных парадигм, в том числе
и феноменологической (труды Г. Гюнтера); однако в конечном итоге
современная историко-философская герменевтика, на
формирование принципов и процедур которой поздний Хайдеггер оказал
несомненное и мощное влияние, стала скорее поощрять определенную
вольность философского языка, обращающегося сразу к
нескольким, порой диахронным, философским парадигмам, равно как
и свободное конструирование неологизмов, внутренняя форма
которых в большей степени способствует передаче специфики
терминологии инокультурного текста, нежели устоявшийся однозначный
(принципиально чуждый полисемии) термин классической
новоевропейской философской традиции. <...> И именно в контексте
очерченных выше проблем здесь будет предпринята попытка
рассмотреть сложнейшую проблему философской встречи восточной
и современной западной мысли на примере философии Хайдеггера
и даосской мысли, прежде всего школы сюань-сюэ («учение о
Сокровенном», мистология).
2. Возможные подходы
к изучению проблемы «Хайдеггер и Восток»
К проблеме «Хайдеггер и Восток» возможны различные
подходы. Можно обратиться непосредственно к биографии и
философскому творчеству крупнейшего германского философа XX в. для
выяснения уровня и характера его знакомства с восточной философией
и культурой. В отличие от того же Шопенгауэра, тексты Хайдеггера
отнюдь не изобилуют ссылками на восточных мыслителей. И тем
не менее, отрицать его интерес к Востоку, разумеется, не
приходится. Так, мы знаем, что еще на рубеже 20-30-х гг. философ читал Дао-
Дэ цзин и Чжуан-цзы, и идеи этих классических даосских текстов
вызвали его живейший интерес*. Позднее Хайдеггер, уже
признанный мэтр и Alten Herr, ссылался на работы Дайсэцу Тэйтаро Суд-
зуки, посвященные буддизму школы Дзэн, утверждая, что в своих
текстах он хотел выразить то же самое, о чем говорит «этот японец».
в интерпретирующем языке которой отчетливо заметно влияние
философии А. Бергсона.
* Pöggeler О. West-East Dialogue: Heidegger and Lao-tzu // Heidegger and
Asian Thought. Honolulu, 1987. P. 47-78.
504
Е. А. Торчинов
Но возможен и иной подход, заключающийся в поиске некоей
внутренней переклички между мыслью Хайдеггера и идеями
философов Востока вне вопроса о том, был ли знаком с этими идеями
сам Хайдеггер или же нет (он, естественно, предполагает движение
не от Хайдеггера к Востоку, а наоборот — от восточной мысли к хай-
деггеровским философемам). Такой подход обладает несомненной
ценностью, поскольку он позволяет рассматривать оба направления
мысли в их открытости и вневременной онтологической диалогич-
ности. При удачном применении такого герменевтического подхода
восточная мысль и тексты Хайдеггера становятся как бы взаимо-
истолковывающими, взаимообогащаясь и открывая новые
горизонты метафизического вопрошания сущего о сущем.
Любому человеку, мало-мальски знакомому с текстами Хайдег-
тера и с его пониманием Dasein («здесь-теперь-бытие»), а также
с культурами Востока, сразу же приходят на ум и буддийская кша-
никавада (доктрина мгновенности), и японское моно-но аварэ,
«печальное очарование сущего», умонастроение, возросшее на почве
буддийского «все непостоянно» (сарва анитъям), пропущенного
через призму китайского учения о всеобщности перемен (и),
образующих великий поток сущего, которым правит имманентное Дао,
Великий Путь. Моно-но аварэ — это некое мироощущение,
погружение в блаженное и вместе с тем, окрашенное ностальгической
грустью, созерцание постоянного изменения сущего, реально
присутствующего в своей неповторимой и открытой подлинности, «та-
ковости» (санскр. mam-хата; кит. жу, японск. не) лишь в данном
неделимом и единственно реальном мгновении, том самом миге между
фиктивным прошлым и фиктивным будущем, которое и есть жизнь:
Лишь сущее, которое по сути своей в своем бытии настает
так, что, свободное для своей смерти, о нее разбиваясь, оно может
так отбросить себя назад К своему фактичному вот, то есть лишь
сущее, которое как настоящее есть равноисходно бывшее,
способно, передавая само себе наследуемую возможность, принять
свою брошенность и быть мгновенно — очным для «своего
времени». Лишь собственная временность, которая вместе с тем
конечна, делает возможным нечто подобное судьбе, то есть
собственную историчность*.
Моно-но аварэ есть лишь один изолированный пример созвучия
хайдеггеровсюй мысли и восточного умозрения, достаточно яркий
и вместе с тем достаточно изолированный. Гораздо интереснее со-
* Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М., 1997. С. 385.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 505
поставление хайдеггеровского вопрошания о сущем с некоторым
целым восточной мысли. И здесь как раз следует обратиться
непосредственно к заявленной теме — сопоставлению философии Хай-
деггера (прежде всего, раннего Хайдеггера) и даосской философии
сюань-сюэ.
3. Философия Хайдеггера и даосское учение сюань-сюэ
Вначале краткая историческая справка о сюань-сюэ. Эта
доктрина, Учение о Сокровенном, или мистология, представляло собой
одно из наиболее метафизичных систем в истории традиционной
китайской мысли. Сюань-сюэ возникло в круговерти политических
и военных бурь, сопровождавших крушение великой империи Хань
(начало III в. н. э.) и ее распад на три недолговечных государства —
Вэй, Шу и У. Сюань-сюэ, представлявшее собой оригинальный
синтез даосизма и конфуцианства, или, точнее, бывшее по-даосски
прочтенным конфуцианством, первоначально воспринималось
правящим домом государства Вэй как новая государственная
идеология, призванная заменить дискредитировавшее себя официальное
бюрократизированное конфуцианство эпохи Хань. Однако после
падения Вэй и установления новой династии Цзинь (265)
мыслители этого направления оказались в немилости у нового правящего
дома Сыма, воспринимавшего их в качестве опасных диссидентов,
смутьянов и ниспровергателей основ. После этого сюань-сюэ
развивается как вполне независимое интеллектуальное движение без
каких-либо претензий на официальный статус. Более того, за
последователями Учения о Сокровенном и их подражателями из
числа образованных аристократов надолго закрепилась слава
экстравагантных и фрондирующих эстетов, представителей своеобразной
«альтернативной интеллигенции» того времени, «славных мужей
ветра и потока» (фэн лю мин ши)*.
В традиции мистологии III—IV в. можно выделить два основных
направления. Первое из них, представленное Хэ Янем и Ван Би,
процветало в III в. и оказало весьма значительное влияние на
первоначальное осмысление китайскими интеллектуалами буддизма.
Оно получило название «превозносящего отсутствие» (чун у)>
и его идеал выражался фразой: «Совершенный мудрец воплощает
* О культуре «ветра и потока» (выражение, которое со временем стало
обозначать своего рода декадентский эстетизм и артистичность, а в
современном языке и вовсе просто половую распущенность) см.: Бежин Л. Е. Под
знаком «ветра и потока». Образ жизни художника в Китае III—VI веков. М.,
1982 (рецензии: Торчинов Е. А., Малявин В. В. // Народы Азии и Африки,
№4,1983.0.194-198).
506
Е. А. Торчинов
в себе отсутствие» (шэн жэнь тиу). Наиболее знаменитое
произведение этой школы — комментарий Ван Би (226-249) к Дао-Дэ
цзину.
Второе связано с именами Сян Сю и Го Сяна. Оно получило
название «превозносящего наличие» (чун у), и его идеал выражался
фразами «Каждая вещь порождает сама себя» (у гэ цзы шэн) и «Каждая
вещь самостоятельно самоизменяется в сфере чудесного и
сокровенного» (духуа юй сюань мин чжи цзин). Крупнейшее произведение
этого направления — комментарий к Чжуан-цзы — было написано
Сян Сю на рубеже III—IV вв., но отредактировано и дописано Го Ся-
ном (ум. 312), с именем которого он и стал ассоциироваться (злые
языки даже утверждали, что Го Сян просто присвоил произведение
своего друга). Учение Сян—Го представляет собой одно из
наиболее оригинальных, самобытных, а отчасти и намеренно
экстравагантных течений традиционной китайской мысли <...>. К нему мы
сейчас и обратимся, попытавшись не только истолковать его в
парадигме развертывания хайдеггеровской мысли, но и, наоборот,
взглянуть на Хайдеггера глазами Го Сяна, сделав оба разделенные
во времени и пространстве учения взаимопроницаемыми и
прозрачными в своей герменевтической открытости.
«Почему вообще есть сущее, а не наоборот — ничто?» Это хай-
деггеровское вопрошание сущего о сущем, ставшее рефреном и
основанием его «Введения в метафизику», вполне может считаться
также и исходным вопросом как философии сюань-сюэ вообще, так
и мысли Сян Сю — Го Сяна в особенности.
Вот как основная идея Го Сяна подается в предисловии к
комментарию к Чжуан-цзы:
Знание о высшем состоит в том, что нет сущности, творящей
сущее; знание о низшем состоит в том, что налично сущее само творит
себя... Таким образом, сущее, состоящие из духа и вмещающего его
сосуда плоти, самостоятельно изменяются в сфере Сокровенного
и их поток широк и глубок*.
В отличие от подавляющего большинства китайских мыслителей,
в своих рассуждениях о сущем Го Сян исходит не из отсутствия
(у), некоей неявленной первоосновы сущего, которая или порождает
сущее или эксплицирует его из себя, а из наличия (ю), то есть
наличного бытия сущего как последней и окончательной реальности. Мир
Го Сяна — мир без абсолюта, без таинственной субстанции,
предлежащей вещам как-они-есть и таинственно скрывающейся за ними.
Го Сян. Чжуан-цзы сюй (Предисловие к Чжуан-цзы) // Чжуан-цзы цзи ши
(Чжуан-цзы со сводным комментарием). Т. 1. Пекин, 1985. С. 3.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 507
Здесь Го Сян (как и его друг и предшественник Сян Сю) исходит
из этимологии и непосредственной семантики слова «отсутствие»,
под которым китайская мысль как раз и понимала эту
пред-наличную первосубстанцию: слово у, отсутствие / неналичие, означает
только то, что оно означает буквально — «то, чего не имеется», «то,
что отсутствует», «ничто». А из ничего не может произойти нечто —
или ничто, или нечто, но не то и другое вместе или последовательно:
они, как «да» и «нет», «ночь» и «день», «жизнь» и «смерть»,
контрарны и взаимоисключающи. Того, чего нет, — просто нет. «Нет»
суть «не суть», и «нет» не может обладать вообще никаким
онтологическим статусом. А тем более оно не может произвести вещи и все
сущее:
Отсутствие и есть отсутствие, и если это так, то оно не может
порождать наличие <...> Если бы оно могло порождать наличие,
то разве оно было бы отсутствием?*
Поэтому Го Сян утверждает, что отсутствие не может быть
исходной безобразной субстанцией, порождающей сущее, наличное,
или оформляющейся в виде конкретных вещей. Все реальное —
это мир вещей — существ, «десять тысяч наличного» (ванъ ю). Это
единственно реальное наличное бытие безначально и бесконечно:
они ни откуда не появились и никуда не скрываются. Этим
постоянством наделен не только мир в целом, но и каждая конкретная
вещь в отдельности. Каждая вещь — существо самосущее, обладая
своей собственной и притом совершенно самостоятельной природой
(цзы сын). Эта природа и является основанием и источником
существования каждой вещи. Своеприродность, говорит Го Сян, это
«таковое, благодаря которому есть то, что есть» (цзы жань эр жанъ).
Поэтому природой каждой вещи оказывается ее спонтанная своета-
кость (стандартный интерпретирующий перевод —
«самоестественность» — цзы жань). Природная сущность естественна* постоянна
и не может быть изменена; попытка ее изменения — насилование
реальности, гибельное по своим последствиям как для насилуемого,
так и для насильника. От нее ничего нельзя отнять, и к ней
ничего нельзя прибавить. При этом природа вещи не отлична от самой
вещи, она не есть ее скрытая субстанция, или некая внутренняя
сущность, загадочное трансцендентальное «Я». Каждая вещь —
существо есть манифестация своетакости, которая в конечном итоге
суть та же самая вещь. И отсюда проистекает учение Го Сяна о
«самопорождении» (цзы шэн) сущего.
* Цит. по: Тан Ицзе. Ван Би юй Го Сян чжэсюэ бицзяо фэньси. С. 222.
508
Е. А. Торчинов
Каждая вещь есть «без почему», без какого-либо внешнего ей
основания, ибо ее основание — она сама. Поэтому каждая вещь свое-
така. Здесь уместно вспомнить сентенцию знаменитого немецкого
мистика XI в. Ангелуса Силезиуса, приводимые Хайдеггером в его
лекциях об основании:
Роза есть без «почему»; она цветет, потому что она цветет,
Не обращая на себя внимания, не спрашивая, видят ли ее*.
Очень интересно, что это двустишие Ангелуса Силезиуса даже
стилистически звучит как китайское или японское стихотворение,
написанное даосом или же дзэнским монахом. Хайдеггер, в свою
очередь, чрезвычайно проницательно увидел в проблеме
основания (лейбницевский principium reddendae rationis: «Ничего нет без
"почему"», или: «Ничего нет без основания») важную цивилизаци-
онную характеристику европейской интеллектуальной традиции,
во многом обусловившую пути и проблемы развития западной
мысли. И во многом именно эта проблема существования с / без
«почему» является водоразделом между западным методологическим
рационализмом и даосским умозрением.
Как вполне по-даосски говорит Хайдеггер:
Ничто не есть без основания. Бытие и основание: то же самое.
Бытие как основывающее не имеет никакого основания, играя как
без-дна ту игру, которая в качестве посыла судьбы бросает нам
в руки бытие и основание**.
Бытие без-основно, будучи основанием всего. Будучи без-основ-
ным, оно также суть источник всех оснований. Как гласят первые
строки известного даосского средневекового текста: «О Дао нельзя
говорить. Но то, без чего речь невозможна, и есть Дао. Дао нельзя
мыслить. Но то, без чего мышление невозможно, и есть Дао» («Гу-
аньинь-цзы » )***.
Поскольку каждая вещь своетака, обладая своей собственной
природой, отличной от природы любой другой вещи, постольку она
не может быть порождена ничем внешним для нее, ибо одна сущ-
* Хайдеггер М. Положение об основании / Пер. О. А. Коваль. СПб., 1999.
С. 73.
** Там же. С. 190.
*** В лекции «О принципе тождества» (1957) Хайдеггер добавляет к своему
собственному рассуждению об Ereignis (событие присвоения), что
греческий logos и китайское Дао являются непереводимыми словами,
руководствующими мышлением (Heidegger M. Identity and Difference. N. Y., 1969.
P. 36. См. также: Puggeler О. West-East Dialogue. P. 51).
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 509
ность не может породить другую, иную, нежели она сама, сущность.
Следовательно, вещь не может быть произведена ни неким
«творцом» (цзао у чжэ), будь это Дао — Путь, если под ним понимать
некий принцип, отличный от самой вещи, или Бог — Творец), ни
отсутствием, ни какой-либо другой вещью. И поэтому каждая вещь
порождает сама себя из своей такости, а, соответственно, не может
быть и никакой субстанции — носителя, отличной от самой вещи:
♦Все внезапно самопорождается и не имеет основы». Не только
отсутствие не может породить наличие, но и одна наличная сущность
не может породить другую; каждая вещь спонтанно и безосновно
рождается из себя самой. Соответственно, нигде в сущем мы не
можем найти никакой конечной, предельной или абсолютной
причины: сущее беспричинно (у гу), хотя, конечно, каждое отдельное
явление и имеет свою причину. Но причинность как таковая не имеет
интерпретирующей ценности, когда мы говорим о природе сущего
как такового. Бессмысленно вопрошать о сущем, почему оно таково
или отчего оно таково, — все вещи абсолютно самостийны, своета-
ки, ничем не обусловлены и спонтанны, а их существование
принципиально не телеологично. Они находятся в постоянном процессе
перемен — трансформаций, постоянно воспроизводя сами себя в
непрерывном самопорождении.
Сущее беспред посыл очно: «Нет Владыки, творящего вещи,
и вещи сами творят себя; вещи сами творят себя и пребывают
в беспредпосылочности: такова истина Неба и Земли»*.
Категория беспредпосылочности, или безопорности (у дай), как
раз и фиксирует принципиальную необусловленность вещи, ее
независимость (ду) от чего-либо внешнего и иного.
А вот как тема своетакости сущего раскрывается у Хайдеггера:
Не существует никакой «рядоположности» одного сущего,
именуемого «присутствие», и другого сущего, именуемого «мир».
Совместность двух наличных вещей мы правда иногда словесно, напр.,
так выражаем: «стол стоит "при" двери», «стул "касается" стены».
О касании, беря строго, тут никак не может быть речи <...>, потому
что стул в принципе, будь даже промежуточное пространство равно
нулю, не может касаться стены. Предпосылкой такому было бы
допущение, что стена способна встретиться «для» стула. Сущее
способно касаться сущего внутри мира сущего, только если изначально
имеет бытийный образ бытия-в, — если с его бытием-вот (Dasein. —
Е. Т.) ему уже открыто нечто подобное миру, из которого сущее
может раскрыться в касании, став так доступным в своем наличество-
* Ibid. Р. 225.
510
Е. А. Торчинов
вании. Два сущих, которые наличны внутри мира и сверх того сами
по себе безмирны у никогда не могут друг друга «касаться», ни одно
не может быть «при» «другом»*.
Здесь Хайдеггер говорит не только о суверенной не-соприкаса-
емости сущего, но и об условии соучастия одного сущего в другом
сущем через со-бытие в мире, когда здесь-и-теперь бытие одного
сущего через его бытие-в оказывается сопричастным другому сущему,
касаясь его в своем интимнейшем самооткровении. Как эти темы
соучастия сущего в сущем через в-мире-бытие сущего раскрываются
в мысли Сян Сю — Го Сяна, мы еще остановимся ниже.
Следующая важнейшая категория Го Сяна имеет общедаосский
характер. Это своетакость (цзы жанъ), восходящая кДао-Дэ цзину
и ставшая одной из центральных для «учения о Сокровенном».
Как уже говорилось, каждая вещь в философии Го Сяна является
самосущей единичностью, причем ее природа остается неизменной
и самой себе равной. Она — манифестация своей собственной
природы. Вещи находятся в процессе изменения при неизменности их
природы — инварианта всех конкретных состояний — вариантов.
Неизменность и детерминирующая способность природы каждой
вещи заставляет Го Сяна квалифицировать эту природу как
предопределенность, или судьбу (мин). Вместе с тем сама эта
предопределенность не имеет никакой внешней причины, или основания:
она не ниспослана Небом (как в конфуцианстве) и не задана
какими-либо обстоятельствами или влиянием других вещей.
Следовательно, определяя функционирование вещей, сама природа ничем
не обусловлена и спонтанна, самосуща и своетака: «Каждая вещь
спонтанно своетака, не знает, почему она такова, но
является таковой». Именно этот аспект взаимодействия необходимости
(мин) и случайной неопределенности маркируется категорией свое-
такости (цзы жанъ). Дальнейшее ее раскрытие происходит через
использование еще двух категорий — «безустановочность», или
«непреднамеренность» (и синь) и «следование сущему» (шунь у).
И здесь нельзя не вспомнить рассуждения Хайдеггера об
этимологии и исходном значении греческого слова, традиционно
переводимого как «природа». Хайдеггер указывает, что собственное
значение слова physis — «из самого себя восхождение», прорастание,
постепенное самораскрытие, или «восходяще-пребывающее
властвование» (das aufgehendverweilende Walten), тогда как значение
глагола physein, от которого образовано соответствующее
отглагольное существительное — «расти», «взращивать». В конечном итоге,
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 55.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 511
говорит Хайдеггер, physis — это «восхождение и в-себе-из-себя-сто-
яние (in-sich-aus-sich-Hinausstehen)», которое не есть просто лишь
процесс, наблюдаемый в сущем, «physis есть само бытие, лишь
согласно которому сущее становится и остается наблюдаемым»*.
Эта интерпретация понятия, обычно переводящегося на русский
язык как «природа», вполне аналогично рассуждениям Го Сяна
о соотношении «природы» (син) и «своетакости» (цзы жань),
инвариантном характере природы — син и «в-себе-из-себя-стоянии»
вещей, манифестирующих в своем существовании — становлении
свою собственную неотличную от их самостийного и самостного
бытия природы. Собственная временность, «историчность» каждой
вещи как процесса своетакой манифестации природы — син и
образует «судьбу» (мин) вещи, которая есть не что иное, как
определяющее вещь «восходяще-пребывающее властвование» его своеприрод-
ности (цзы син).
Рассматривавшиеся выше категории философии Го Сяна
непосредственно предназначались им для описания в-себе-из-себя-стоя-
ния в-мире-сущего. Последняя терминологическая пара связана уже
с проблемой отношения «субъект — мир», и, соответственно, с
вопросом о мире как присутствии и взаимосвязи в-бытия и
здесь-теперь бытия.
Го Сян задается вопросом, почему ничем не обусловленные,
самосущие вещи присутствуют как зависимые, детерминированные
и взаимосвязанные. Го Сян склонен объяснять это противоречие
не онтически, а гносеологически, приписывая его происхождение
неадекватности человеческого познания и особенностям
рассудочной деятельности мышления. Для правильного понимания
реальности в-мире-сущего и правильного поведения в контексте
включенности в сущее необходимо полное отсутствие установок мышления
и мыслительных привычек, а также отказ от целеполагающей
эгоцентрической и эгоцентрированной активности, идущей вразрез как
с природой в-себе-для-себя-стояния сущего, так и со своетакой
природой человека как элемента, не только включающего в себя сущее
как присутствие, но и включенного в это сущее как его
неотъемлемая часть. Первая задача описывается через категорию «безуста-
новочность», вторая — через «следование сущему». В своем
безустановочном следовании сущему человек оказывается в состоянии,
психологически характеризуемом как «опыт потока», когда исчезает
иллюзия ригидного противостоящего сущему Я, этого
искусственно сконструированного субъекта целеполагающей деятельности,
и человек вступает в поток сущего, становясь неотъемлемой и неот-
* Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб., 1998. С. 98-99.
512
Е. А. Торчинов
торгаемой частью этого потока, в свою очередь будучи таким же
потоком*. Это есть чистая экзистенция, образующая
несубстанциальную «субстанцию» человека как присутствующего «кто»**. Через
соответствующий опыт человек реализует не только адекватное
понимание реальности, но и правильное поведение, эксплицирующее
своеприродность и своетакость человека в мире спонтанно
самостоятельных (в-себе-из-себя-стоятельных) своесущих вещей.
Подобного рода познание есть интуитивное понимание реальности сущего
вне и помимо каких-либо a priori заданных установок: «совершен-
номудрый лишен пред-заданных установок, следуя сущему»;
«совершенный мудрец лишен пред-заданных установок и откликается
сущему, меняясь только так, чтобы соответствовать сущему»: «ведь
безустановочность и изменения в соответствии с природой и есть
то место, где странствуют все обладатели совершенной мудрости» ***.
Здесь человек, преодолевая свою самостную обособленность, как бы
открывается открытости сущего, пребывая в его «откровенности»
(кай у). Более того, Сян Сю и Го Сян утверждают, что именно эта
высшая премудрость есть качество, превращающее профанную
личность не только в совершенного мудреца, но и в сакрального
монарха: «Человек, который пребывает в безустановочности и
самоизменяется, следуя природе, неизбежно станет владыкой и царем»****.
И наконец, метафизика Го Сяна находит свое завершение в одной
из наиболее важных категорий его философии — категории
самостоятельного изменения (ду хуа).
Главное содержание этого понятия состоит в том, что каждая
вещь является самостоятельной, обособленной, самодостаточной,
ничем, кроме своей собственной природы не обусловленной
сущностью, манифестирующей себя в серии непрестанных перемен —
метаморфоз (и; хуа). В связи с самостоятельным изменением Го Сян
говорит и о самодовлении, или, по-хайдеггеровски, само-стоянии
{цзы дэ) вещей.
Но у категории ду хуа есть еще и субъективный аспект,
поскольку она является не только онтически высшей, но и аксиологически
* См.: Игнатьев И. П. Учение о человеке и проблемы нравственности в
раннем даосизме // Социально-философские аспекты критики религии. Л.,
1982. С.131-139.
Опыт потока детально рассматривается в: Csikszentmihalyi M. Flow: The
Psychology of Optimal Experience. N.Y., 1990. См. также: Jochim Ch. Just
Say No to «No Self» in Zhuangzi // Wandering at Ease in the Zhuangzi.
Albany, 1998. P. 35-74 (особенно: Р. 62-68).
'* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 117.
" Тан Ицзе. Ван Би юй Го Сян чжэсюэ бицзяо фэньси. С. 227.
'* Фраза из комментария к «Чжуан-цзы» Сян Сю — Го Сяна. См.: Чжуан-цзы
цзиши. Т. 1.С. 287.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 513
первичной категорией. Она скрыто содержит в себе указание на
совершенный образ жизни адепта «мистологии» Го Сяна — человека,
находящегося не только в «мирской пыли», но и свободно
следующего в согласии со всем сущим за «метаморфозами вещей» (у хуа).
Таким образом, эта категория синтезирует три основных аспекта
умозрения Го Сяна: собственно метафизику, гносеологию и
аксиологию. Последний представляет собой экзистенциальный уровень
учения Го Сяна, предлежащий всем его спекуляциям: ведь сама
цель метафизики Го Сяна — обосновать истинный образ жизни
совершенного мудреца и выявить условия обретения им высшей
просветленной мудрости. Аксиологию Го Сяна поэтому можно назвать
онтической, или экзистенциальной, тем более что для него не
ценности проистекают из метафизической истины, сколько истинная
метафизика имеет в качестве своего трансцендентального основания а
priori экзистенциально-ценностные постулаты. Вместе с тем Го Сян
склонен описывать высшее благо в метафизических терминах, что
вообще характерно для даосизма, но особенно отчетливо
проявляется именно в сюанъ-сюэ.
И эта высшая экзистенциальная ценность описывается Го Сяном
как неизбежное (поскольку своеприродность вещи определяет все ее
аспекты), но вместе с тем естественно-спонтанное, своетакое (сама
природа вещи ничем не обусловлена, будучи самодовлеющей
сущностью) беззаботное странствие (сяо яо ю — название первой главы
Чжуан-цзы), или самостоятельное скитание в сфере сокровенного
(духуа юй сюанъ мин чжи цзин), — вечное следование собственной
природе в согласованности с самостоятельной своеприродностью
других вещей. Эго есть преодоление внутри мира наличной внемир-
ности через открытие в здесь-теперь-бытии субъекта образа бытия
в-мире и открытости этому бытию.
Поскольку это самостоятельное самоизменение имеет
имманентно императивный характер для любого существа, постольку оно
предполагает установление глубокой гармонии между всем сущим,
которое, таким образом, оказывается не беспорядочным
скоплением самопорождающих сущностей, но структурно упорядоченным
множеством, каждый элемент которого, трансформируясь согласно
своей природе, сообразуется в некоей «самопредустановленной
гармонии» с аналогичными трансформациями любого другого
элемента этого множества, откликаясь (ин) ему. Так взаимно согласуются
тезисы о своеприродности сущего и следовании сущему. Таким
образом, плюрализм своеприродных и самотаких вещей
преобразуется в холистический и голографический органицизм, в котором
единство существования обретает не субстанциальное, но
функциональное основание. И это основание проистекает из общекитайско-
514
Е. А. Торчинов
го представления о симпатии видов (тун лэй), традиционном
субституте доктрины причинности, образующем единое тело космоса,
подобное грандиозной резонирующей системе, или мировому
оркестру*.
Здесь уместно вспомнить еще одно высказывание Хайдеггера:
Это тоже-присутствие с ними не имеет онтологического
характера «со»-наличия внутри мира. «Со» здесь присутствиеразмерно,
«тоже» означает равенство бытия как усматривающе-озаботвшего-
ся бытия-в-мире. «Со» и «тоже» надо понимать экзистенциально,
а не категориально. На основе этого совместного бытия-в-мире мир
есть всегда уже тот, который я делю с другими. Мир присутствия
есть совместный-мир. Бы-тие-в есть со-бытие с другими. Внутри-
мирное по-себе-бытие есть соприсутствие**.
Вся философия Го Сяна, как и других мыслителей школы сю-
ань-сюэ, вращается вокруг проблемы соотношения отсутствия
и наличия, и категория «отсутствие» (у) играет весьма важную
конституирующую роль в учении Го Сяна, в частности, в его доктрине
самопорождения (цзы шэн) вещей. Го Сян соглашается с общим для
даосизма положением, согласно которому наличное бытие
порождается отсутствием, которое и является первичным. Го Сян
принимает этот тезис, но при этом трактует отсутствие не сущностно,
или эссенциалистеки, а функционально и экзистенциально.
Отсутствие — это отсутствие сущности, бессущностность, ничто
в самом прямом и буквальном значении этого слова.
Следовательно, говорить о существовании или онтологическом статусе
отсутствия — значит допускать такое же contradictio in adjecto, как
и при разговоре о сухой воде. Значит, утверждения даосских текстов
о том, что наличие рождается из отсутствия, означают лишь то,
что вещи появляются не из какой-то отличной от них субстанции,
а из ничего другого, не из своей инакости, а из самих себя, то есть
каждая вещь порождает сама себя (это и есть самопорождение —
цзы шэн). Рождение из самого себя равно здесь рождению из
ничто, следовательно, ничтойность как ничтойность инакости суть
* Подробно о концепции тун лэй как основе китайских представлений
о мире в связи с теорией «коррелятивного мышления» см.: Le Blanc Ch.
Huai Nan Tzu. Philosophical Synthesis in Early Han Thought. The Idea
of Response (Kan-Ying). With a Translation and Analysis of Chapter Six.
Hong Kong, 1985; Hall D. L., Ames R. T. Anticipating China. Thinking
Through the Narratives of Chinese and Western Culture. Albany, 1995.
P. 123-140.
k* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 118.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 515
своеприродность вещи, тождественная самой вещи, само-бытной
и само-стоятелъной (цзы дэ).
Хайдеггеровский вопрос: «Почему вообще есть сущее, а не
наоборот — ничто? », по существу, есть и вопрос Го Сяна, для которого
сущее (ю) суть постольку сущее и именно налично сущее, поскольку
оно произошло из ничтойности инакости: наличествование
(китайский субститут греческого бытия) суть потому наличествование
(или, точнее, наличное потому наличествует, а не отсутствует),
что отсутствие суть не что иное, как утверждение наличествова-
ния через отрицание самой возможности наличествования
отсутствия или наличествования иного, нежели само наличие. И это
отсутствие чего-либо иного, нежели наличие, делает это отсутствие
«матерью» наличного, тождественной самопорождению наличного.
Именно наличие само-порождает (цзы шэн) наличие при
отсутствии какого-либо порождающего начала, отличного от наличия,
иного для него, благодаря этому отсутствию и посредством этого
отсутствия. Бытие как наличие у Го Сяна несокрыто, будучи
предельно открытым и откровенном, являя в этом, однако, свою
высшую Сокровенность в смысле не-профанности и предельной
подлинности.
...Главное усилие мысли должно было состоять в том, чтобы
укротить нужду бытия в видимости. Это требует утвердить
преимущество истины как несокрытости по отношению к сокрытости,
открытия (Entbergen) по отношению к сокрытию (Verbergen) как
прикровению и искажению. Но отличая бытие от иного и закрепляя
его как phyis, мы производим различение бытия и небытия,
одновременно различая также небытие и видимость*.
Э. Левинас говорит:
У Хайдеггера бытие раскрывается из своей сокровенности и
тайны несказанного, облекаемого в слова поэтами и философами, хоть
те никогда не скажут всего. Все выражения бытия, обретенные им
или обретаемые в ходе истории, в таком случае верны — ибо истина
неотделима от своего исторического выражения, а мысль без
выражения ничего не мыслит**.
Мир Го Сяна предельно открыт и самотаков, в нем нет места
сокрытым первоосновам и таинственным субстанциям, предлежащим
* Хайдеггер М. Введение в метафизику. С. 189.
** Левинас Э. Гуманизм другого человека // Левинас Э. Время и другой.
Гуманизм другого человека. СПб., 1998. С. 142-143.
516
Е. А. Торчинов
своесущим вещам. Но эта предельная открытость мира и бытия
в мире есть и его Сокровенность (сюань): мир подобен плоду,
лежащему на ладони перед глазами, но слепец не видит его. Мудрец
принимает мир таким, каким он открывает ему себя, профаны ищут
тайн, сокрытых за гранью налично сущего.
5. Категория «вещь» в даосской мысли
и в философии Хайдеггера
Выше в тексте неоднократно использовалось слово «вещь» для
передачи китайского у (омоним китайского слова у> обозначающего
неналичие, отсутствие). Однако теперь представляется
существенным рассмотреть специфику понимания самой вещности в
китайской культуре, и прежде всего в даосской традиции при соотнесении
этого понимания с хайдеггеровским подходом к проблеме вещности.
Для определения онтологического статуса вещи в китайской
культуре обратимся к «Дао-Дэ цзину», не только важнейшему
тексту даосской традиции, но и к одному из наиболее значимых и
репрезентативных памятников китайской мысли вообще. В «Дао-Дэ
цзине» (гл. 25) содержится следующее рассуждение:
Вот Вещь, в Хаосе свершившаяся, прежде Неба и Земли
родившаяся!
О, безмолвная! О, безвидная!
Одиноко стоишь и не меняешься, окружаешь все сущее и не
гибнешь!
Тебя можно назвать Матерью Поднебесной.
Я не знаю твоего имени, но обозначая знаком, называю тебя
Путем-Дао. Делая усилие, называю тебя Великим.
Великое называю уходящим, уходящее называю далеким,
далекое называю возвращающимся.
Поэтому Дао велико, Небо велико, Земля велика, Монарх также
велик. Таким образом, в мире четверо великих, но Монарх из них —
на первом месте.
Человек берет за образец Землю.
Земля берет за образец Небо.
Небо берет за образец Дао.
А Дао берет за образец свою самоестественность*.
* Перевод приведен по изданию: Торчинов Е. А. Даосизм. Дао-Дэ цзин. СПб.,
1999. С. 244-245. Все последующие переводы из «Дао-Дэ цзина» даются
также по этому изданию.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 517
Этот пассаж представляет весьма значительный интерес для
решения рассматриваемой проблемы. Во-первых, здесь вещью названо
само Дао, то есть высшая и предельная онтологическая реальность.
Дао (а это понятие является центральным и основополагающим для
китайской культуры) постоянно характеризуется в «Дао-Дэ цзине»
как безымянное, неопределимое, выходящее за пределы
восприятия и рассудочного понимания. Это абсолютное начало и
абсолютная ценность, обнаруживающаяся, являющаяся в сущем и вместе
с тем слитая с космическим телом сущего. Это высшая
закономерность Вселенной и одновременно ее субстанциальная основа и ее
порождающий принцип («Мать Поднебесной»),
субстантивированная закономерность мироздания, по определению Г. Э. Гороховой*.
И это первоначало, китайский аналог Бога, названо в тексте вещью.
При этом китайской культуре был абсолютно чужд какой-либо
механицизм, наличие которого могло бы привычным для европейца
образом объяснить это «овеществление» высшей реальности (ср. Кар-
тезиево определение души как res cogitans — «мыслящая вещь»).
Напротив, китайская культура всегда ориентировалась на
организм, а не на механизм, ее идеал — единство с универсумом,
образующим «единое тело» (и ти).
Поскольку категория Дао парадигматична для китайской
культуры, то можно с полным основанием говорить об ином, нежели в
Европе, понимании вещности в Китае. Здесь вещь — это не мертвый
объект, воспринимающийся воспринимающим субъектом (или
конструируемый им) и противостоящий субъекту, а живая реальность,
предшествующая субъект-объектной дихотомии как Хаос, то есть
абсолютное единство и целостность первозданного (прежденебес-
ного — сянь тянъ) миропорядка**. Даосская вещь бытийна и бытий-
ственна, ее вещность не суть предметность или опредмеченностъ,
ее сущность не совпадает с существованием в томистском смысле,
а скорее сама есть существование.
Хайдеггер пишет: «Надо искать и пройти какой-то путь к
прояснению онтологического фундаментального вопроса.
Единственный ли он или вообще верный ли, это может быть решено только
после хода»***.
* Горохова Г. Э. Интерпретация категорий китайской традиционной
философии // Методологические проблемы изучения истории философии
зарубежного Востока. М., 1981. С. 30-42.
'* Об этом см.: Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь) /
Предисл., пер. с кит. и коммент. Е. А. Торчинова. СПб., 1994. С. 84-87;
Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания.
СПб., 1993. С. 99-101.
'* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 437.
518
Е. А. Торчинов
Здесь немецкий философ вполне в духе Лао-цзы говорит о
приоритетности пути и движения по пути перед статикой истины как
данного и заданного*.
А вот еще один поразительный пример совпадения даосской
и хайдеггеровской мысли относительно «вещности». Достаточно
сравнить два пассажа:
1) «Дао-Дэ цзин» (гл. 11):
Стенки из глины — это сосуд, Но то, что в нем отсутствие,
определяет наличие возможности использования сосуда. В стенах
пробиты окна и двери — это дом. Но то, что в нем — отсутствие,
определяет наличие возможности использования дома. Поэтому
наличие чего-либо определяет характер использования вещи, а
отсутствие — принципиальную возможность использовать ее.
2) Хайдеггер («Вещь»):
Вместительность обеспечивается, по-видимому, дном и
стенками чаши. Но позвольте! Разве, наполняя чашу вином, мы льем
вино в дно и стенки? Мы льем вино самое большее между стенками
на дно. Стенки и дно — конечно, непроницаемое в емкости.
Только непроницаемое — это еще не вмещающее. Когда мы наполняем
чашу, вливаемое течет до полноты в пустую чашу. Пустота — вот
вмещающее в емкости. Пустота — это Ничто в чаше, есть то, чем
является чаша как приемлющая емкость**.
Но раз вещь китайской культуры жива и универсальна, духовна
и одушевлена, то нет ничего удивительного, что китайцы относили
Подробно о понимании пути ранним Хайдеггером в связи его
отношением к даосской мысли см.: Stambaugh J. Heidegger, Taoism and Question of
Metaphysics // Heidegger and Asian Thought. P. 79-91. Дж. Стамбо
выделяет, в частности, следующие пункты совпадения мысли Хайдеггера с
даосизмом:
1. Отказ от аристотелевского понимания предикации, родовых и видовых
классификаций.
2. Подчеркивание не отношений причин — следствий, а изменения как
такового. Движение мысли от почему сущего к потому сущего.
3. Понимание мышления не как репрезентативного,
абстрактно-концептуального или исчисляющего процесса, а как мышления к, Andenken, при
отказе от ньютонианского понимания пространства как вместилища и
объектов как вмещаемого, а времени — как аристотелевской последовательности
временных мгновений — точек (now points). См.: Ibid. P. 90.
Хайдеггер M. Вещь // Хайдеггер M. Бытие и время. М., 1993. С. 318.
См. также: Хайдеггер М. Искусство и пространство // Хайдеггер М. Бытие
и время. М., 1993. С. 315.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 519
к вещам не только предметы материального мира, как
рукотворные, так и природные, но и все живые существа (включая людей).
Другими словами, вещь в китайской культуре — не только вещь,
но и существо, или вещь — существо, на что указывает и ключ
(классификатор) соответствующего иероглифа — «жертвенное
животное». Таким образом, грань между живой и неживой природой
в категории «вещь» стирается, и не в сторону овеществления
живого, а в сторону одушевления неживого, что объясняет
достаточно широкое распространение гилозоизма, типологически сходного
с гилозоизмом досократиков, в традиционной, китайской мысли.
Понятно, что подобный подход сближается с философскими
подходами Хайдеггера хотя бы уже из-за своей типологической близости
универсуму досократического мышления, которому Хайдеггер
безусловно симпатизировал и который считал истинно выражающим
бытийственность бытийного и раскрывающим подлинность
существования «под тяжким игом бытия».
В связи с гл. 25 «Дао-Дэ цзина» имеет смысл обратить внимание
еще на одно обстоятельство. Здесь с Дао связывается такая
важнейшая категория даосского умозрения, как своетакость (цзы жанъ),
о которой уже шла речь выше в связи с философией Го Сяна.
Своетакость — это то, чему следует само Дао. Но чему может следовать
Первовещь? Самой себе. Таким образом, Первовещь дышит
свободно, ибо свобода и есть, по существу, совпадение существования с
собственной природой, своеприродность бытия. При этом Дао передает
эту свободу иерархически нижестоящим реальностям — силам
природы в их универсальности (Небо и Земля) и человеку.
Как говорит Хайдеггер, переосмысляя Гераклита: «Веществуя,
вещь дает пребыть собранию четверых — земле и небу, божествам
и смертным — в одно-сложности их самою собой единой четвери-
цы»\ И далее: «Вещь дарит пребывание четверице. Вещью веще-
ствится мир. Всякая вещь дает пребыть четверице как
пребыванию — здесь и теперь — одно-сложности мира»**.
Таким образом, Дао-Вещь даосов и веществящая мир Вещь
Хайдеггера — одна и та же Правещь, которая есть присутствие мира
по самому своему существу. И эта Дао-Вещь есть Ничто, Ничто
из сущего и вместе с тем хранилище, «хран», и вместилище всего
сущего, его же и осуществляющее***. Здесь не нужны никакие особо
изощренные типологические параллели: любой мало-мальски
знакомый с даосской мыслью человек сразу же видит ее присутствие
* Хайдеггер М. Вещь. С. 323.
'* Там же. С. 325.
'* Там же. С. 324.
520
Е. А. Торчинов
в самом духе (а часто и букве) рассуждений Хайдеггера о вещи в его
одноименном эссе 1954 г.
Вторая глава другого даосского памятника, «Чжуан-цзы» >
заканчивается знаменитой притчей о бабочке: автору текста, Чжу-
ан Чжоу, снится, что он бабочка. Потом Чжуан-цзы просыпается
и размышляет о том, проснулся ли он, или теперь заснула бабочка,
и уже ей снится, что она — Чжуан Чжоу. Этот сюжет завершается
многозначительной фразой: «Между бабочкой и Чжуан Чжоу
непременно существует различие. Это как раз и называется
превращением вещей»*.
Это «превращение вещей», в котором меняются местами жизнь
и смерть, сон и бодрствование, в конечном итоге является
превращением Единой Вещи (и у) — Великого Кома (да куай) целостного
существования, проявляющимся во всем многообразии
эмпирического мира. Впрочем, позиция «Чжуан-цзы» относительно
вещности Дао отличается от позиции «Дао-Дэ цзина»: для «Чжуан-цзы»
Дао не вещно, хотя и является источником всякой вещности: Дао
овеществляет вещи, не будучи само вещью» (Дао у у эр фэй у)**.
Тем не менее Дао и в «Чжуан-цзы» остается порождающим
вещность началом, что означает его имманентность вещному миру: Дао
именно порождает вещи, выводя их из своей глубины —
порождающего женского лона сущего:
Ложбинный дух бессмертен.
Называют Сокровенной Самкою его.
Врата той Самки Сокровенной — корень Неба и Земли.
«Дао-Дэ цзин», гл. 6.
Следовательно, столь характерное для иудео-христианской
традиции противопоставление Божественного и тварного абсолютно
чужд китайской культуре — она постулирует по-себе-бытие
сущего. Ее мир — мир овеществленного бытийствующего Дао, «Великий
Ком» (да куай) учения «Чжуан-цзы».
Словом «вещь» (у — не путать с «у», обозначающем отсутствие —
неналичие) обозначаются не только неодушевленные предметы,
но также животные (в современном языке «животное» — дун у, что
буквально означает «движущаяся вещь») и даже люди (ср.
современное жэнь у — персонаж), что в контексте европейской
культуры непременно подразумевало бы наличие пежоративного смысла.
* Цит. по изданию: Чжу цзы цзи чэн (Корпус философской классики). Т. 3.
Шанхай, 1954.
** Ср. у Хайдеггера: «Веществуя, вещь дает пребыть собранию четверых —
земле и небу, божествам и смертным...». См.: Хайдеггер М. Вещь. С. 323.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 521
Однако контекст китайской культуры не предполагает никакого
уничижения. Собственно говоря, эта культура с присущим ей
гилозоизмом вообще практически стирала различие между живым и
неживым — всё суть не что иное, как потоки энергии — циу
принимающей те или иные формы и модальности. Вся Вселенная есть одно
живое тело, образуемое потоками вечно изменчивой энергии, а если
это так, то можно ли принципиально выделить в нем нечто
совершенно неживое и неодушевленное?
По существу, вещи (в европейском понимании этого слова),
животные и люди представляют собой различные состояния, или
модификации единого субстанционального начала — ци (пневма, эфир,
жизненная энергия — Man vital Бергсона и тому подобное),
проявляющегося в них в различной степени плотности (максимальной
в предметах и минимальной в людях). В другом аспекте все
вещи-существа могут рассматриваться в качестве различных типов
оформления первосущего неналичия-отсутствия, под которым
большинство даосов (Го Сян является исключением) понимают изначальное
аморфное и недифференцированное, или неоформленное состояние
мира (его сип эр шан — надформие; этим словом в современной
терминологии часто передается на китайский язык греческое
метафизика, метафизический, хотя точной лингвистической калькой
были бы слова метаморфность и метаморфный — от греческого
morphe, «форма»). В ходе космогонического процесса это предсу-
щее отсутствие дифференцируется и оформляется, превращаясь
в мир наличия (ю), который называется также миром «десяти тысяч
(то есть множества) вещей-существ» (вань у). Если предсущий мир
отсутствия, «Хаос» (хунъ-дунъ), и Дао как имманентный принцип
его развертывания, может быть назван Правещью, то мир наличия
окажется сферой ее явления в многообразии собственно вещей —
мириад предметов, живых существ и людей.
Здесь мы сталкиваемся с принципиальным отличием
традиционного китайского понимания «вещи» от древнегреческого.
У греков был уместный термин для «вещей»: pragmata, т. е. то,
с чем имеют дело в озаботившемся обращении (praxis). Но
онтологически как раз специфично «прагматический» характер этих
pragmata они оставляли в темноте, определяя их «ближайшим
образом» как «просто вещи»*. То есть для греков вещь мыслилась
прежде всего как средство**, тогда как для китайского понимания это
скорее то, что существует «без почему», вполне своетако (подобно
розе из цитировавшегося выше двустишия Ангелуса Силезиуса).
Вещь в китайском понимании — это событие (ши) и со-бытие, со-
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 68.
** Там же.
522
Е. А. Торчинов
присутствующее сущее. Находясь в самих себе, они являются только
вещами без какой-либо прагматической нагрузки: горы — это горы,
и воды — это воды*.
Поскольку китайской культуре чуждо противопоставление
вещности и духовности, представление о человеке как о «вещи» вполне
гармонично сосуществует с признанием за человеком особого места
в универсуме. Человек, с одной стороны, рассматривается в
китайской традиции как одно из вещей — существ космоса, а с другой —
выделяется из этого множества и ставится в один ряд с
господствующими силами Вселенной — Небом и Землей. Так образуется
универсальная космическая триада (санъ цай) — Небо, Земля и
Человек, триада, в которой Человек занимает центральное положение
посредника и объединяющего универсум начала. Как посредник
(медиатор), Человек соединяет, связывает воедино Небо и Землю
(на это, по китайским представлениям, указывает и его прямохож-
дение, сама вертикальность человеческого тела), а в качестве
объединяющего начала Человек является микрокосмом («маленьким
Небом и Землей», сяо тянъ-ди), отражающим в себе все
многообразие природы и включающего его в себя. С другой стороны, человек
может преодолеть свою «отключенность», «отдельность» от мира
и слиться с телом (ти) космоса. Образовав единое целое со всем
сущим (этот аспект единосущия человека и мира особенно
подчеркивался не только даосизмом, но и неоконфуцианством). Интересно,
что практически все современные традиционно
ориентирующиеся философы «постконфуцианцы» (Фэн Юлань, Лян Шумин, Сюн
Шили, Тан Цзюньи, Моу Цзунсань и другие) считают знаменитую
фразу древнего конфуцианца Мэн-цзы «Человек и Небо (здесь
природа как целое. — Е. Т.) едины и гармоничны» (тянь жэнь хэ и)
своего рода лозунгом и резюме всей китайской философской
мысли. В своем философском измерении тема Человека как начала, со-
природного Небу и Земле, по существу, вводит тему присутствия.
Мир китайской мысли есть присутствиеразмерное целое-бытие,
и его Человек как член мировой триады и ее объединяющий
принцип не есть абстрактный дистиллированный познающий субъект
новоевропейской философии. Скорее он есть гипостазированное
(или олицетворенное) кто присутствия; он тот, благодаря которому
бытие мира становится также бытием в-мире и само бытие обретает
свою завершенную жирность.
Будучи микрокосмом, человек обладает способностью, в свою
очередь, моделировать Вселенную, порождая различные типы
моделей — микрокосмов. Последнее качество человека нашло свое
* Ср.: Хайдеггер М. Положение об основании. С. 77.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 523
выражение как в китайских эстетических концепциях, так и
непосредственно в искусстве, ибо знаменитые китайские сады и парки
(наиболее показательны парки Сучжоу и сад летнего
императорского дворца Ихэюань, представляющий собой синтез всего
многовекового садово-паркового искусства Китая), а также пейзажи с
карликовыми деревьями (пань цзин, «пейзаж на блюде») были не чем
иным, как попытками реализовать создание адекватной модели
мироздания, «космос в вазе с цветами», который, будучи аналогичен
гармоничному и стройному универсуму, мог служить достойным
объектом эстетического созерцания, порождающего чувство
сопричастности универсуму и единству (единотелесности, и ти) с
природой.
Другим примером рукотворной микрокосмической модели
мира в китайской традиции является даосская алхимическая
лаборатория, ибо алхимический процесс, совершающийся в ретортах
и тиглях даоса, взыскующего тайн бессмертия, был для алхимика не
чем иным, как аналогом космических процессов Вселенной,
искусственно воспроизведенной в лабораторных условиях.
«В присутствии лежит сущностная тенденция к
близости», — говорит Хайдеггер*. В традиционной культуре Китая эта
тенденция человеческого присутствия нашла свое выражение не в
технологической оснащенности, сжимающей пространство и время
(как в культуре Запада — средства коммуникации и
распространения информации), а в особой экзистенциальной интимной близости
человека и природы, вещного, но живого мира, единого и
многообразного в этом единстве универсума. Человек здесь доверительно
близок миру. Его в-мире бытие не есть лишь формальное
помещение в пространство Вселенной, «между Небом и Землей». Это друг-
в-друге бытие вещей — существ и человеческого присутствия, бытие
какэкзистенциал — «пребываниепри...», «доверительнаяблизость
с...». «Бытие-в есть соответственно формальное
экзистенциальное выражение бытия присутствия, имеющего сущностное
устройство бытия-в-мире» **.
Можно ли из сказанного выше прийти к заключению, что
онтология китайской культуры, подобно онтологии культуры европейской,
была онтологией вещей? И да и нет: само понимание вещи и ее
онтологического статуса было в китайской культуре совершенно иным,
чем в Европе. С европейской точки зрения это онтология процессов
и ситуаций, но с китайской — это онтология вещей — существ (у),
понимаемых как процессы и ситуации, что также близко позиции
Хайдеггера.
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 105.
** Там же. С. 54.
524
Е. А. Торчинов
Одной из важнейших категорий китайской культуры является
понятие «перемены» (и), запечатленное в названии
фундаментальнейшего памятника этой культуры — И-цзина («Канон Перемен»,
или «Книга Перемен»). Согласно концепции перемен, все сущее
находится в процессе постоянного изменения, определяемого
фазами цикла «отрицательное — положительное» (инь — ян)*: «То
инь, то ян — это и есть Дао — Путь»**. Традиция утверждает, что
шестьдесят четыре гексаграммы (графических символа «Канона
Перемен» из различных комбинаций шести непрерывных,
положительных, и прерывистых, отрицательных, черт) метафорически
описывают, фиксируют и обозначают все возможные в мире
ситуации, то есть фазы процесса — вещи в ее взаимодействии с
другими процессами — вещами. Ситуацию обозначает и китайский
иероглиф, не только как элемент письменности, но и как базовый
компонент культуры***. Следовательно, каждая вещь представляет
собой процесс различной скорости протекания, что отражает
динамическую природу вещи. Интересно, что в европейской культуре,
несмотря на наличие в ней, начиная с Античности, категории
становления (классически выраженной в учении Гераклита),
понимание мира и вещей как процессов, было впервые сформулировано
только А. Н. Уайтхедом в первой половине нашего столетия. Это
связано, видимо, с тем, что со времен Платона европейская мысль
была склонна видеть в процессе и изменении знак неподлинности
бытия, ущербного бывания, отличного от вневременной истины
вечного и неизменного действительного бытия. И только
принципиальный «антиплатонизм» (выражение Э. Левинаса) современной
западной философии позволил ей по-иному взглянуть на проблему
процессов и изменений:
Итак, современная философия значения, восходит ли она к
гегелевским, бергсоновским или феноменологическим (как в
случае с Хайдеггером, — Е. Т.) корням, в одном основополагающем
моменте противостоит Платону; постижимое немыслимо вне
подсказавшего его становления. Не существует значения в себе,
будто бы достижимого для мышления в прыжке через искажен-
Слова отрицательное и положительное употребляются здесь не в
этическом, а в физико-натуралистическом смысле (ср.: положительный и
отрицательный заряды).
Цитата из философского приложения к основному тексту «И цзина» — «Си
цы чжу-ань». Лучшее издание перевода «И цзина» на русский язык: Щуц-
кий Ю. К. Китайская классическая «КнигаПеремен». М., 1993.
Автор пользуется случаем поблагодарить петербургского востоковеда
А. В. Парибка (СПб ИВ РАН) за высказанные им соображения
относительно роли представления о ситуации в традиционной китайской культуре.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 525
ные или верные, но в любом случае ощутимые и ведущие к нему
отражения»*.
К этой линии развития западной мысли принадлежит и
философия Хайдеггера. Китайская же мысль не знала оппозиций
«вечность — время» и «бытие — становление». Поэтому ей ничто
не мешало рассматривать мир в категориях онтологии вещей —
процессов. Таким образом вещь китайской культуры — не бездушный
объект лия деятеля — субъекта, оперирующего вещами по своему
произволу, а нечто своеприродное, своесущее (цзы си; цзы дэ) и
самодвижущееся, самоизменяющееся (цзы хуа).
Эта особенность понимания вещи в контексте традиционной
китайской культуры привела к установлению синонимической
корреляции между понятиями «вещь» (у) и «дело» (ши). Постепенно эти
слова становятся полностью взаимозаменяемыми синонимами, что
отразилось и в философском тексте (буддизм школы Хуаянь,
неоконфуцианство Ван Янмина). Понятно, что это в еще большей
степени выявляет деятельно-процессуальный характер «вещи» в
китайской культуре**.
Интересно, что Хайдеггер в своем знаменитом эссе «Вещь» (1954)
обращает особое внимание на происхождение немецкого слова
«вещь» (ding) от древненемецкого «thing» — тинг, народное
собрание, публичный процесс, дело. В. В. Бибихин в этой связи обращает
внимание на то, что и в русском языке выражение «это дело» может
употребляться в смысле «вещь»***.
Натурализм классической китайской культуры, не знавший
таких базовых для Запада со времен эллинизма оппозиций, как
дух — тело, дух — материя, мыслящее — протяженное и т. д.,
позволял также относить к вещам понятия и этические нормы, причем
они рассматривались как онтически и онтологически равноценные
предметам и существам и рядоположные им. В таком случае вещи
(у), как правило, отграничивались от «дел» (ши), под которыми
понимались собственно конкретные объекты — предметы и
существа****. Наиболее показательным в этом отношении является
отрывок из «Великого Учения» (Да сюэ)у приписывающегося
Конфуцию и его ученику Цзэн-цзы (этот текст входит в конфуцианское
«второканоние» — «Четверокнижие», Сыту): «Желающийсделать
* Левинас Э. Гуманизм другого человека. С. 143.
Подробнее см.: Кобзев А. И. Ван Янмин и классическая китайская
философия. М., 1983. С. 85-92.
'* Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 430.
** См. статью А. И. Кобзева «У» в: Китайская философия.
Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 336.
526
Е. А. Торчинов
искренними свои устремления (и) доводит знание до конца. Знание
доводится до конца в выверении вещей (гэ z/)». Здесь под «вещами»
понимаются именно этические ценности и нравственные нормы, что
прекрасно осознавалось конфуцианцами, рассматривавшими этические
ценности и императивы в качестве своеобразного каркаса и основания
всего космоса. Именно поэтому неоконфуцианцы и придали «Да сюэ»
канонический статус, включив этот текст в «Четверокнижие». И здесь
вещь, понятая как дело, становится уже не только со-бытием, но и
событием. Но своей вершины, конечно, диалектика «вещей» и «дел»
достигла в буддизме школы Хуаянь, наиболее спекулятивном
направлении китайского буддизма, рассмотрение которого, однако, выходит
за рамки задач, поставленных в настоящем разделе.
Важно отметить, что специфика понимания «вещи» в китайской
культуре непременно должна учитываться в конкретных
исследованиях, посвященных материальной культуре Китая, вещностному
бытию и вещностному измерению китайской культуры. И только
тогда, когда в изысканной простоте и естественности статуэтки из
корня дерева можно будет увидеть биение живой Правещи даосизма,
а в картине-свитке, изображающем ветку цветущей сливы, —
абсолютный принцип (ли), развертывающийся в мириадах включенных
друг в друга миров — «голограмм», — только тогда возможно
вступление на путь адекватного понимания этих произведений искусства.
И только тогда вещь в себе китайской культуры станет вещью для нас,
осмысленной и прочувствованной в контексте породившей ее
духовной традиции. Как считал Хайдеггер, вслушивание в язык поэзии
как в собственное бытие раскрывает забытую некогда сакральность
бытия, но, возможно, это справедливо и относительно любого
произведения искусства, говорящего с нами на праязыке бытийствующей
вещности сущего, о которой так ярко говорили древние даосы.
Следует обратить внимание на глубоко экзистенциальный
(типологически) характер даосской мысли, абсолютно чуждой эссенци-
альной метафизической ригидности, членящей мир на
самодовлеющие и самодостаточные сущности и устанавливающей иерархии
этих сущностей. Мир даоса — это «единый ком» (да куай)
существования, в котором нет места жестким оппозициям и где
отсутствуют непреодолимые грани между субъектом и объектом, между
сном и бодрствованием, между жизнью и смертью. Наиболее ярко
этот даосский экзистенциализм проявился в учении «Чжуан-цзы»
об «уравнивании сущего», или, дословнее, об «уравнивании
вещей — существ» (ци у), которому специально посвящена глава
вторая этого удивительного памятника*.
* Превосходный анализ учения «Чжуан-цзы» об «уравнивании сущего»
содержится в книге японского ученого и одного из ведущих философов-эк-
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 527
Здесь мир опыта уподобляется сну, иллюзии. Однако
иллюзорность эта не метафизическая, а экзистенциальная: «Они не
видят и не слышат, // Живут в сем мире, как впотьмах», как сказал
Ф. И. Тютчев. Эта иллюзорность проистекает из экзистенциальной
неподлинности профанического существования и опыта,
базирующегося на этом существовании. Истинная реальность,
обнаруживаемая в нашем собственном существовании, не знает
противопоставления субъекта и объекта, того и этого (би и ши). Заблуждающееся
сознание и абстрагирующее рассудочное мышление расчленяет эту
нечленимую, неразложимую на противоположности реальность
на обособленные и неподлинные в своей обособленности
единичности, отделенные друг от друга и противостоящие друг другу.
Не последнюю роль в этой гносеологической операции
«разделения» неделимой реальности на фиксированные ригидные сущности
играет, по «Чжуан-цзы», язык. Так, в языке каждая вещь имеет свое
название, отсюда по аналогии рождается мысль, что этим разным
«именам» (мин) в действительности соответствуют разные
сущности (ши). Но реальность, напротив, как бы хаотична (хунъ-дунь),
но не в смысле беспорядочного смешения, которого как раз нет;
а в смысле абсолютной простоты и целостности.
Может показаться, что здесь имеется принципиальное
расхождение между позициями Хайдеггера и даосов: ведь Хайдеггер, резко
критикуя искажение языка, утрату им подлинности и
экзистенциальной достоверности, тем не менее никогда не считал язык в
принципе неадекватным средством выражения истины. Напротив, поэты
и философы, беря Слово в его неотчужденной подлинности,
выражают Истину в нем и через него. Даосы же, как может показаться,
принципиально ратуют лишь за неязыковые способы выражения
истины: «Знающий не говорит, говорящий не знает» (Дао-Дэ цзин,
гл. 56). Однако в действительности даосы с самого начала сделали
слово средством выражения того, что запредельно слову: «О Дао
нельзя говорить, но то, без чего речь была бы невозможна, и есть
Дао. Дао нельзя мыслить, но то, без чего мысль была бы
невозможна, и есть Дао» (Гуань Инъ-цзы, гл. 1). Но об этом будет подробнее
говориться ниже в связи с вопросом о суггестивности
философского языка даосских текстов. Пока же важно лишь отметить, что для
«Чжуан-цзы» плохо не слово, а своего рода гипостазирование
слова, восприятие слова как онтологической сущности, отгороженной
зистенциалистов Японии (весьма близкого по духу М. Хайдеггеру) Идзуцу
Тосихико: Izutsu Toshihiko. A Comparative Study of the Key
Philosophical Concepts in Sufism and Taoism. Ibn 'Arabi and Lao-tsu and Chuang-tzu.
Vol. 2 // Studies in Humanities and Social Relations. № 10. Tokyo, 1967.
P. 25-33.
528
Е. А. Торчинов
от других сущностей. Онтологизация слова губит его онтичность,
равно как и разрушает подлинность человеческого в-мире-бытия.
«Это» и «то», субъект и объект, в этой реальности не
уничтожены, но растворены друг в друге и не сведены к некоему пред
субъект-объектному Единому. Они просто не противопоставлены друг
другу и не дихотомичны, не находясь в оппозиции друг другу; это
мир, где все имманентно всему, где субъект уже заключен в объекте,
и наоборот; это сфера взаимоотражения, не знающая обособленных
сущностей.
Это истинносущее никоим образом не есть некий
потусторонний трансцендентный нашему мир. Для «Чжуан-цзы» это наш мир,
но мир (причем в него включен и субъект, как и этот мир, в свою
очередь, пребывает и в субъекте), существующий своетако и свое-
сущностно вне и помимо «заблудшего» абстрагирующего рассудка.
Однако мир нашего представления несет в себе отпечаток единства
и недихотомичности истинносущего: это наблюдаемые эмпирически
перемены, или изменения (хуа). Другим отражением этого единства
является релятивизм эмпирической реальности. Так, если
говорится, что человек после смерти может трансформироваться и стать
«печенью мыши», или «лапкой насекомого», или далекой звездой,
или чем-либо еще, то это только отражение того, что на уровне
истинно реального этот (равно как и каждый другой) человек уже здесь
и сейчас каким-то образом причастен жизни и мыши, и насекомого,
и далекой звезды.
Таким образом, если в «Чжуан-цзы» говорится, что некое "А"
превратится в "В", а "В" — в "С", то это следует понимать лишь как
констатацию эмпирического факта, метафизической основой
которого является нерасчленимая, целостная и единая реальность, в
которой каждое — во всем и все — в каждом, и, следовательно, "А"
уже каким-то образом с самого начала было неким образом и "В",
и "С". Поэтому основой экзистенциального оптимизма «Чжуан-
цзы» и его знаменитого «приравнивания жизни и смерти» является
отнюдь не только вера в нерушимость субстрата (субстанции сущего)
во вполне материалистическом смысле — все акциденции материи
преходящи, но сама материя вечна (даосы также любили образ
плавильной печи, в котором Дао — Великий Плавильщик постоянно
переплавляет все формы сущего). Нет, ибо сама эта «переплавка»
единого «пневменного» (ци) субстрата есть лишь отражение
истинного единства сущего.
Как говорил Хайдеггер:
С другой стороны, становление как "восхождение" относится
сргюц. Если мы и то и другое поймем в греческом смысле — станов-
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 529
ление как хождение в присутствие и выход из него, бытие как
восходяще-являющееся присутствие, небытие как отсутствие, — тогда
взаимосвязь восхождения и прехождения и составит явление, само
бытие. Как становление есть видимость бытия, так и видимость как
явление есть становление бытия.
Из этого мы уже можем усмотреть, что нельзя безоговорочно
сводить разделение бытия и видимости к разделению бытия и
становления или наоборот*.
Основа экзистенциального оптимизма даосских мыслителей
древности — именно учение об «уравненности вещей — существ»,
о «равновесии сущего» (ци у)** — своеобразной «феноменальной
структуре по-себе-бытия этого сущего»***.
И это «равновесие сущего» интереснее всего рассмотреть на
примере темы сна в «Чжуан-цзы».
Приведем пример из гл. 2 («Об уравнивании сущего»):
Как мне знать, не заблуждение ли привязанность к жизни? Как
мне знать, не похож ли страх смерти на чувство человека,
потерявшего в детстве родной дом и не знающего, как туда вернуться?..
Откуда мне знать, не раскаивается ли умерший, что он
хватался за жизнь... Когда спят, то не знают, что спят; во сне даже гадают
по снам и, лишь проснувшись, понимают, что то был сон... Но есть
и великое пробуждение, после которого сознают, что прежде был
великий сон. А глупцы думают, что они бодрствуют, точно зная,
кем они являются: «Я царь, я пастух», — так они уверены в своем
знании себя. И ты, и Конфуций — оба вы спите. И я, который
говорю вам, что вы спите, тоже сплю. Произнесенные слова называют
таинственными, но даже если через мириады поколений великий
совершенный мудрец найдет объяснение им, прошедшее время
покажется равным отрезку между утром и вечером.
Ясно, что здесь высказывается мысль о том, не похожа ли жизнь
на сон, а смерть — на пробуждение. Из дальнейшего (знаменитый
заключительный эпизод с бабочкой, когда вначале Чжуан-цзы
снится, что он — бабочка, а потом, проснувшись, мудрец
размышляет, проснулся ли он, или заснула бабочка, и ей теперь снится, что
она — Чжуан-цзы) следует, что он останавливается на релятивизме:
для спящего реален сон, для бодрствующего реально его состояние
Хайдеггер М. Введение в метафизику. С. 194.
См. также: ТорчиновЕ. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого
описания. СПб., 1993. С. 145-146; СПб., 1998. С. 232-233.
Хайдеггер М. Бытие и время. С. 75.
530
Е. А. Торчинов
(и наоборот); то же справедливо и для дихотомии «жизнь — смерть».
Другими словами, здесь опять-таки проводится доктрина
«уравнивания вещей — существ».
Не для иллюстрации бренности сущего или указания на
идеальность мира используется в «Чжуан-цзы» метафора сновидения.
Напротив, опыт сна в чем-то ближе, чем опыт бодрствования к переживанию
реальности, как она есть: текучесть образов сновидения, отсутствие
четких граней между ними, легкость перехода от одного образа к
другому делают сновидение лучшим образом «хаотической» (хунь-дунь)
реальности, нежели мыслимый рассудком мир бодрствования.
Бодрствование во сне и сон наяву — вот позиция «Чжуан-цзы». Метафора
сна тесно связана здесь с даосским учением о равновесии, онтической
взаимозаменимости сна и бодрствования и их взаимосводимости:
«Люди этой страны не едят и не одеваются, спят большую часть
времени и считают свои сны явью, а бодрствование — ложью» (« Ле-цзы»,
гл. 3). Таков экзистенциальный релятивизм ранних даосов,
снимавших сам «первоисток разделения бытия и мышления, расхождение
разумения и бытия» в учении об «уравненности вещей — существ»*.
6. Философский язык Хайдеггера и даосских текстов
И теперь несколько слов о суггестивности китайской, и
прежде всего даосской, философии, суггестивности, весьма созвучной
суггестивности самого хайдеггеровского текста, направленного
не столько на развертывание дискурсивных механизмов мышления
читателя, сколько на некое особое мышление — сопереживание,
вдумывание и вчувствование в авторский текст и авторскую мысль,
вхождение в поток самораскрытия авторского видения и авторского
понимания.
Как писал выдающийся историк китайской философии и классик
современного конфуцианства («постконфуцианства») Фэн Юлань:
Суггестивность, а не артикулированность является идеалом
всего китайского искусства, будь то поэзия, живопись или
что-нибудь еще. В поэзии, например, то, что поэт хочет сообщить, часто
является не тем, что прямо сказано, а подразумевается в том, что
не сказано <...>. Таков идеал китайского искусства, и он
проявляется и в стиле выражения китайских философов**.
Далее Фэн Юлань приводит знаменитую притчу из 26-й главы
«Чжуан-цзы», завершающуюся фразой: «Словами пользуются для
* Хайдеггер М. Введение в метафизику. С. 276.
** Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998. С. 33.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 531
выражения смысла. Постигнув смысл, забывают о словах. Где бы
найти мне забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить! »
И это уже не разговор с помощью слов: в том же «Чжуан-цзы»
рассказывается о встрече двух мудрецов, которые не произнесли ни
одного слова, ибо, «когда они встретились, Дао было там»*.
Как известно, даосы всегда утверждали, что о Дао нельзя
говорить, но на Дао как присутствие можно намекнуть, на него
можно указать. И поэтому слова (рифмы, краски, ноты) можно забыть,
когда цель достигнута и Дао как принцип бытия и бытийствующий
принцип непосредственно усмотрено: ведь поймав зайца, забывают
про силки! А философский текст в Китае — лишь силки для ловли
Дао. И главное в китайском философском тексте — его
наполненность суггестивными афоризмами.
Процитируем enrt раз Фэн Юланя:
[Го Сян] обращает намеки и метафоры Чжуан-цзы в
доказательства и аргументы и излагает его поэзию собственной прозой.
Его сочинение артикулировано в гораздо большей степени, чем
«Чжуан-цзы». Выбирая между суггестивностью оригинала
Чжуан-цзы и артикулированностью комментария Го Сяна, люди могут
спросить: который из них лучше? Один монах чаньской (дзэнской)
школы буддизма сказал позднее: «Все говорят, что Го Сян написал
комментарий к Чжуан-цзы; я бы сказал, что Чжуан-цзы написал
комментарий к Го Сяну»**.
Мы знаем, что 9 октября 1930 г. после публичной лекции «О
сущности истины» Хайдеггер углубленно читал фрагмент из «Чжуан-
цзы» (гл. 17) в переложении Мартина Бубера***. Прочитанный Хайде-
ггером фрагмент гласил (в переложении Бубера):
Чжуан-цзы и Хуэй Ши стояли на мосту над рекой Хао.
«Посмотри на резвящихся здесь пескарей, — сказал Чжуан-
цзы. — Вот в чем выражается счастье рыб».
«Вы не рыба, — сказал Хуэй Ши. — Откуда же вы тогда знаете,
что рыбы счастливы?*
«Вы не я, так откуда же вы знаете, что я не знаю, что рыбы
счастливы?»
Там же. С. 33.
Там же. С. 34-35.
Об отношении М. Бубера к «Чжуан-цзы», его работе над
переложением фрагментов этого текста и английский перевод этих переложений см.:
Herman J. R. I and Tao. Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu. Albany,
1996. Текст Бубера см. на Р. 15-67 данного издания.
532
Е. А. Торчинов
«He будучи вами, я не знаю про вас. Но я знаю, что вы не рыба,
а значит, вы не можете знать, что рыбы счастливы».
«Давайте вернемся к вашему исходному вопросу. Когда вы
сказали "Откуда вы знаете, что рыбы счастливы?", вы задали свой
вопрос уже зная, что я знаю это. А я узнал об этом из моего
собственного счастья, которое я испытал, стоя над рекой Хао»\
Присутствовавший при этом г-н Петцет сказал позднее по этому
поводу:
Интерпретация этой истории [«Чжуан-цзы»] неожиданно дает
больше для понимания Хайдеггера, чем его трудная лекция,
которая все еще остается темной для многих людей. Для тех, для кого
сущность истины еще остается скрытой во мраке, размышления
над этой китайской историей позволят понять, что понимал под ней
Хайдеггер".
А Хайдеггер произнес в той самой лекции (опубликована
в 1943 г.): «Сущность истины есть свобода... Свобода являет себя
как позволение себе-позволения войти в-то-что-есть >►***.
Интересно, что этот самый фрагмент «Чжуан-цзы» стал совсем
недавно объектом теоретической рефлексии современного
ученого-синолога, историка философии, специально занимающегося
проблемами историко-философской герменевтики — Роджера Эймса****.
Главный вывод, который делает Эймс из анализа притчи
«Чжуан-цзы», таков — Хуэй Ши (представлявший в китайской
философии аналитическую «школу имен» — мин цзя) утверждает, что
знание коренится в познающем субъекте, тогда как Чжуан-цзы
настаивает, что знание проистекает из ситуации и только производным
образом, деривативно, — из абстрактных деятелей. Не в этом ли
состоит и смысл высказывания Хайдеггера — «Сущность истины
есть свобода... Свобода являет себя как позволение себе-позволения
войти в-то-что-есть»? Чжуан-цзы, стоя на мосту через реку Хао,
вошел в-то-что-естъ ситуации и познал счастье рыб, осуществив
экзистенциальный прорыв, экзистенциальное трансцендирование,
перейдя от солипсистской обособленности чистого субъекта
познания в интерсубъективный мир живого общения живых существ.
* См.: Ibid. P. 54 (фрагмент 37 — «Счастье рыб»).
'* Parkes G. Thoughts on the Way: Being and Time via Lao-Chuang // Heidegger
and Asian Thought. P. 105-106.
" Ibid. P. 106.
'* Ames R. T. Knowing in the Zhuangzi: 4From Here, on the Bridge, over the
River Hao' // Wandering at Ease in the Zhuangzi. P. 219-230.
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного 533
И здесь суггестия прорыва (суггестивная семантика «стояния над
рекой Хао») находит свое полное выражение в суггестивности
самого текста «Чжуан-цзы», подкрепляющей его непосредственное
дискурсивное значение.
7. Очерк истории знакомства Хайдеггера с даосской мыслью
В заключение рассмотрения темы «Хайдеггер и даосизм»
представляется правомерным и желательным дать абрис истории
знакомства немецкого мыслителя с даосскими текстами.
1) По-видимому, впервые интерес Хайдеггера к даосской мысли
проявился еще в конце 20-х гг., о чем свидетельствует приведенный
выше эпизод с чтением фрагмента из «Чжуан-цзы» после чтения
бременской лекции «О сущности истины» (1930). Не исключено, что
этот интерес был сопряжен с тем вниманием, которое Хайдеггер
уделял средневековому мистицизму (прежде всего, Мейстеру Экхарту)
в связи с проблемой открытости Бытию, выраженной в их
мистическом опыте и их текстах. Во всяком случае, можно быть уверенным
в том, что к 1930 г. Хайдеггер был знаком с «Чжуан-цзы» (благодаря
переложению Бубера).
2) Исключительно важной вехой в знакомстве Хайдеггера с
даосской мыслью стала его встреча с китайским ученым Павлом Сяо
Шии (Paul Hsiao Shih-yi), состоявшаяся 1942 г., когда тот начал
посещать семинары Хайдеггера в университете Сакро Куоре (Милан,
Италия). Тогда же Сяо Шии передал Хайдеггеру свой перевод « Дао-
Дэ цзина» на итальянский язык, опубликованный по рекомендации
Б. Кроче*. После этого Хайдеггер предлагает Сяо работать с ним над
переводом канона Лао-цзы на немецкий язык. Но этот проект был
реализован только в 1946 г., когда Хайдеггер и Сяо регулярно
встречались во Фрайбурге. К сожалению, эта работа не была
завершена, и Хайдеггер проработал вместе с Сяо только восемь глав текста
из 81-й**.
* См.: И Tao-Te-King di Laotse. Prima Tradizione da un testo critico cinese.
Bari: Laterza & Figli, 1941.
** Подробнее см.: Paul Shih-yi Hsiao. Heidegger and Our Translation of the Tao
Te Ching H Heidegger and Asian Thought. P. 93-103. Здесь же Сяо Шии
приводит факсимиле, публикацию немецкого текста и английский перевод
письма Хайдеггера от 9 октября 1947 г.:
Кабинет. 9 октября 1947. Дорогой господин Сяо, я часто думаю о Вас
и надеюсь, что скоро мы снова сможем возобновить наши беседы.
Я обдумываю фрагмент, который Вы прислали мне: «Кто может
спокойно и из покоя, и через него направить что-либо к Пути, дабы
оно воссияло? Кто может через успокоение ввести что-либо в Бытие?
Небесное Дао».
Сердечно Ваш, Мартин Хайдеггер (Ibid. P. 103).
534
Е. А. Торчинов
3) Поздний период (50-70-е гг.). Относительно этого времени,
насколько известно, интерес Хайдеггера к даосизму специально
не отмечается. Однако его внимание к буддизму школы Дзэн и
достаточно интенсивное общение с японскими студентами и
специалистами (хотя их начало должно быть отнесено еще к 1938 г., когда
Хайдеггер встречается с Кэйдзи Ниситани, представителем «киото-
ской школы» японской философии и беседует с ним о книге Д. Т. Су-
дзуки «Очерки Дзэн-буддизма»*) позволяет говорить об углублении
интереса философа к восточной мысли. И существенно, что многие
герменевтические идеи позднего Хайдеггера сыграли важную роль
в разработке принципов феноменологической герменевтики в
современном востоковедении**.
8. Заключение
Внимание к соотношению Хайдеггера и восточной мысли
насчитывает уже не одно десятилетие. Так, еще в 1969 г., при жизни
философа, в Гавайском университете прошел международный
симпозиум «Хайдеггер и восточная мысль» (посвящалась
восьмидесятилетию Хайдеггера). В обращении к ее участникам Хайдеггер
писал: «Снова и снова мне представляется делом исключительной
важности вступление в диалог с мыслителями, представляющими
восточный мир»***.
Здесь Хайдеггер воспроизводит две фразы из гл. 15 « Дао-Дэ цзина»,
дословный перевод которых таков: * Кто может мутную воду сделать чистой, когда
она отстоится? Кто может оживить покоящееся, приведя его в движение?»
Однако Хайдеггер продолжает мысль Лао-цзы, эксплицируя ее подтекст:
расчистить нечто означает сделать его светлее, сделать его доступным для
света; малейшее движение в покоящемся и неподвижным вводит его
бытие, «бытийствует» его (см.: Ibid. P. 100). Здесь имеет смысл обратить
также внимание на осмысление Хайдеггером слова «видимость» (в оппозиции
«бытие — видимость») в своем «Введении в метафизику», где философ
использует одну из коннотаций немецкого слова Sein (видимость) —
доступное для света, освещенное, светящееся и т. п. См.: Хайдеггер М. Введение
в метафизику. С. 179.
Parkes G. Introduction // Heidegger and Asian Thought. Honolulu:
University of Hawaii Press. P. 9-10.
См., например: Phenomenology of Life in a Dialogue between Chinese and
Occidental Philosophy / Ed. by A. T. Tymieniecka. Dodrecht; Boston; Lancaster,
1984.
Parkes G. Introduction. P. 7.
IV
В ПОИСКАХ ОТВЕТА
НА ВОПРОШАНИЕ О БЫТИИ.
МЕТАФИЗИКА, ОНТОЛОГИЯ,
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
^^
О. В. НИКИФОРОВ
Кант, метафизика и проблема обоснования
1. Предыстория
Хайдеггеровская книга «Кант и проблема метафизики» (далее —
КМ) вышла в свет в 1929 г.* Сам Хайдеггер (в своем предисловии
к 4-му изданию книги, 1973 г.) писал: «Моя книга о Канте
является осуществляемым на проблематичном окольном пути введением
в еще большую проблематичность поставленного в "Бытии и време-
ни" вопроса о бытии»**.
То есть «кантонская книга» Хайдеггера является не только
«феноменологической интерпретацией» философии Канта — «Критики
чистого разума», направленной против неокантианского ее
истолкования как основания математико-физикалистской теории
познания***: прежде всего, КМ — это второе движение в деле
фундаментально-онтологического переворота в истории европейской философии,
а именно — разработка вопроса о бытии в перспективе его
историчности, понимаемой через конечность агента вопроса о бытии — Dasein.
<...> Хайдеггер в своих предисловиях к книге указывает в
качестве подступов к своей книге лекции WS1927/28 о «Кантов-
ской "Критике чистого разума99*, доклады, прочитанные в Риге
(XI1928, Herderinstitut) и Давосе (III. 1929, Hochschulekursen)****.
* Kant und das Problem der Metaphysik. Verlag von Fr. Cohen (издательство,
получившее широкую известность под именем Vittorio Klostermann.
Последнее (пятое) издание этой книги Хайдеггера, по которому нами далее
и даются ссылки..., в частности, на материалы « Давосских докладов» и
связанной с ними полемикой Хайдеггера с Кассирером, вышло в 1991 г.).
** Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. S. XV.
*** См.: Davoser Disputationen Хайдеггера с Кассирером (Ibid. S. 275).
*"* Причина отсутствия ссылок на лекции WS1925/26 (Heidegger M.
Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 21: Logik. Die Frage nach der Wahrheit.
538
О. В. Никифоров
Определяющей для книги интуицией, по собственному
признанию Хайдеггера, являлось новое прочтение главы о схематизме
в «Критике чистого разума» (далее в тексте — КЧР), как
связывающей «проблему категорий, т. е. проблему бытия в традиционной
метафизике, и феномен времени»*. Таким образом, разбираемый
в «Бытии и времени» (далее в тексте — БВ) вопрос о бытии оказался
ключом для интерпретации КЧР, а с другой стороны, эта
интерпретация должна была выступать подтверждением поставленного Хай-
деггером в БВ вопроса о бытии.
Сам Хайдеггер осознавал неоднозначность подобного подхода
к классическому тексту истории философии. Однако искомое им
не было грешащей против канонов исторической филологии
модернизацией**, но попыткой "denkendes Gespräch zwischen
Denkenden"***, попыткой обретения речи сущностного мышления, открытия
пространства философского диалога, связующего в понимании
прошлое и настоящее философии и открывающего будущее как новые
возможности современной мысли****.
Как можно мыслить этот синтезирующий наследие традиции
и современные запросы в возможностях будущего диалог? Как
разворачивание свершившегося в мышлении того или иного
философа традиции (здесь — Канта) события исходя из запроса
уже «современной» мысли, т. е. как переложение этого
запроса на язык той (или иной) традиции, конечно уже обогащенный
предъявляемыми ему для обратного перевода реалиями
современности*****. Запрос «современной» мысли, мысли Хайдеггера нам
представляется известным из опубликованной («первой») части
«Бытия и времени»: интерпретация бытия в горизонте
временности, временности — как человеческой конечности, прояснение
языковой деятельности вообще в связи с проблематикой
временного конституирования.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1976) составляет проблему
отдельного исследования. <...>
* Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. S. XIV.
" См. критику в рецензиях Cassirer E. Kant und das Problem der Metaphysik.
Bemerkungen zu M. Heideggers Kantinterpretation Kantstudien XXXVI,
Heft 1/2, 1931; Levy H.Heideggers Kantinterpretation. LogosXXI. 1932;
Odebrecht: Blätter f. deutsche Philosophie. V, 11931/32.
См. Предисловие Хайдеггера ко 2-му изданию. (Ср.: Хайдеггер М. Время
и бытие. М.: Республика, 1993. С. 427, где В. Бибихин в примечании к «Из
диалога о языке» приводит разъяснение к слову «Gespräch»... <...>).
Ср. «Тезис Канта о бытии», где Хайдеггер призывает «продуманно
прислушаться к традиции, не замыкаясь в прошлом, но думая о современности».
Ознобкина Е. К хайдеггеровской интерпретации философии Канта //
Историко-философский ежегодник-89. М., 1989. С. 126 и след.
Кант, метафизика и проблема обоснования
539
2. Структура книги
Содержание первых трех разделов книги было представлено Хай-
деггером уже в трех Давосских докладах марта 1929 г*.:
1) Подход к обоснованию метафизики.
2) Обоснование метафизики в осуществлении.
3) Обоснование метафизики в ее изначальности.
Хайдеггеровский проект интерпретации КЧР представляет и
развивает следующий тезис: «Кантовская "Критика чистого разума"
является первым конкретным обоснованием метафизики» **. Причем
развитие этого тезиса необходимо показывает непосредственную
значимость вопроса о сущности человека в этом раскрытии
«метафизики метафизики». Полагается, что обоснование метафизики
должно проводиться в четыре шага <...>.
1. Первый из них определяет форму самой проблемы, которая
первоначально выступает для Канта в форме вопроса традиционной
метафизики, metaphysica specialis: «Как вообще возможно познание
сущего?» Поскольку, согласно онтологическому различению (бытия
и сущего) Хайдеггера, возможность познания сущего
обуславливается предварительным пониманием бытийной структуры сущего,
то вопрос об онтическом познании, так или иначе, предполагает
предварительную разрешенность вопроса об онтологическом
познании (который у Канта имеет форму вопроса: «Как возможны
синтетические суждения a priori?»), вопроса metaphysica generalis (т. е.
онтологии).
2. Для второго шага — осуществления обоснования —
необходимо предварительно определиться с характером тематизируемого.
Таковым является «чистый человеческий, т. е. конечный, разум»***.
Конечность человеческого разума, собственно и составляющая
проблему, заключается в разделенности у человека как конечного
существа познавательных способностей — рассудка и чувственности.
Таким образом, вопрос о возможности онтологического познания
становится вопросом о сущности «чистого» (независимого от опыта)
синтеза чистого созерцания и чистого мышления. <...>
3. Осуществление обоснования выявляет как основу возможности
априорного синтетического познания имеющую
изначально-временной характер трансцендентальную способность воображения,
«корень» двух стволов человеческого познания. К
трансцендентальной способности воображения не только сводятся чистая чувствен-
* Резюме которых публикуется в 4-м и 5-м изданиях КМ в качестве
приложения.
** Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. S. 271.
*** Ibid. S. 272.
540
О. В. Никифоров
ность и рассудок, но она также предъявляется в качестве первичной
способности для теоретического и практического разума вообще.
Этот революционирующий традиционную метафизику
(отмеченную утверждением первенства духа, логоса, разума) итог,
перед которым, согласно Хайдеггеру, отступает и сам Кант, «требует
радикального обновленного раскрытия основы возможности
метафизики... т. е. направленной на возможность метафизики как
таковой метафизики Dasein»*, которая должна разрабатываться
в рамках фундаментальной онтологии, дисциплины, раскрытию
смысла которой посвящен четвертый раздел книги,
соответственно представляющий этап «обоснования метафизики в
повторении».
3. Кант и проблема метафизики:
обосновывающее истолкование «Критики»
Хайдеггер с самого начала ставит себе целью «истолкование
"Критики чистого разума" как обоснования метафизики», так
чтобы «проблема метафизики» выявилась в качестве проблемы
фундаментальной онтологии. Искомое истолкование представляется
дисциплинированному глазу более чем проблематичным:
критический пафос кантовской философии пытаются выдать за
положительное, а значит — догматическое, системотворчество; к тому же,
оставляя за собой право наследования и развития такого рода
«кантовской традиции». Стоит ли за этой смелой претензией
действительная интерпретация, или только неосторожное на слова
самостоятельное творчество, или, может быть, она — лишь
пропагандистский трюк?
Приговор критиков КМ оказывается более чем суровым: «Все
представление "Критики чистого разума"... характер тематизации,
идея интерпретации, строение и собственный путь исследования,
сводящегося к представлению основных идей "Бытия и времени",
определены исключительно хайдеггеровской философией»**.
Одним из принципиальнейших лежащих в основе
истолкования КМ «разночтений» является различение Хайдеггером смысла
«трансценденции» не как кантовской «характеристики
существования объекта», но как «априорного синтеза» ***. Однако как раз
проблематичный характер этого «терминологического расхождения»
(есть ли это проблематичность запрета или же выказывающего себя
в качестве должного быть осуществленным разрешения), в частно-
* Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik.
** См.: Levy H. Op. cit. S. 2. <...>
*** Ibid. S. 6 f. <...>
Кант, метафизика и проблема обоснования
541
сти, и является вопросом обоснования Хайдеггера. Ведь за
попыткой переопределения кантовских терминов стоит не что иное, как
проект переосмысления тех реалий, что выявлялись
революционным дискурсом Канта — реалий возможности знания, условий
познания. Так, совершая относительное различение своей позиции
и позиции своего оппонента, другой его критик «без страха и
упрека», хайдеггеровский ответчик на диспуте в Давосе, неокантианец
Эрнст Кассирер признавал: «Представляется, что вопрос о бытии
вовсе не устраняется коперниканским переворотом Канта. Через
этот переворот вопрос о бытии лишь приобретает гораздо более
сложную оформленность, чем в античности... [В отношении к нему
этот переворот значит,] что вопросу об определенности предметов
должен предшествовать вопрос о бытийной конституции
предметности»*.
Герменевтическим ключом для прочтения КЧР как проблемати-
зирующей возможность метафизики Dasein является
интерпретация трансценденции как «априорного синтеза», проводимого чистой
продуктивной способностью воображения. В § 6 КМ... Хайдеггер,
комментируя кантовское введение основных источников познания
(чувственности и рассудка, рецептивности впечатлений и
спонтанности понятий как способностей души), являющихся «двумя
стволами человеческого познания, вероятно возникающими из общего,
но нам неизвестного корня», говорит о задаче определения этого
«нам неизвестного общего» корня, лишь обозначенной и косвенно
затрагиваемой самим Кантом, как о задаче «философствующего
обоснования философии»**.
Этот общий корень является не только праисточником самих
способностей, но и их обуславливающей, единящей основой,
«возможностью синтеза вообще» как возможного содействия рассудка
и чувственности в их доопытной чистоте, без чего первый
оставался бы «слепым», а вторая — лишенной возможности объединения
«по правилам»; «лишь из соединения их может возникать
познание». Именно развитие этой интуиции возможного единства,
синтеза в изначальном двух традиционно противополагаемых
способностей конечного познания и являлось ключевым содержанием курса
лекций 1925/26 г. «Логика. Вопрос об истине»***.
* Davoser Disputationen, S. 293-294. <...>
** Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. S. 20.
k* Лекции з/с 1925-26 г. (Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 21:
Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
Verlag, 1976. [Далее в тексте — «Логика» или GA 21]) содержат разбор Хай-
деггером возможностей философской логики в противоположность
ограниченности логики традиционной. <...>
542
О. В. Никифоров
3.1. Разработка изначальной структуры
временного синтеза в «Логике»
Согласно «Логике», синтез в КЧР — это прежде всего синтез
основных способностей познания в их совместной деятельности.
Вопрос «Критики»: «Как возможны синтетические суждения a priori?»
(В 216), — это вопрос о том, как, на какой основе и по каким
правилам возможно априорное взаимодействие чистого рассудка и чистой
чувственности, чтобы результатом их априорного взаимодействия
было прирастание объективного, верного для мира опыта, знания.
То есть априорная основа единства чистого рассудка и времени как
чистого созерцания должна связывать их с объективным миром
возможного опыта.
Основной прием интерпретации Хайдеггера —
конкретизирующее раскрытие «технических» терминов логики в перспективе
истолкования объективности как конституируемой бытием-в-мире
Dasein. «Синтез» раскрывается как возможность взаимодействия
способностей познания. «Познание» раскрывается как
историческое развитие основной структуры понимания Dasein — Так-как, —
толкуемой в качестве того или иного горизонта человеческой
«заботливой» деятельности.
Раскрытие значения «истины» сопрягается у Хайдеггера с
раскрытием исторического смысла герменевтической структуры «Как»
в ее «темпорализации». «Истина» для Хайдеггера — это
возможность понимания вообще и, в частности, исторически
обусловленная (характером тематизации) осуществленность этой
возможности*. Уже в самой структуре вопроса об истине заложен вопрос
о бытии: понимание определяется Хайдеггером в качестве
присущего Dasein способа бытия; полнота же возможностей понимания
предполагает полноту бытия этих возможностей**.
Единство чистого Я и изначального времени
(трансцендентальной способности воображения)
Является ли подобное понимание «истины» и «бытия» их ан-
тропологизацией? Скорее подобный поворот исследования есть
радикальное принятие во внимание его ограниченности, его
предпосылок***: постановка вопроса, должная найти подтверждение
* Heidegger M. Logik. Frage nach der Wahrheit. S. 207.
** Ibid. S. 4114-415.
" См. критические замечания Хайдеггера по поводу попыток Гуссерля
философствовать *от лица Бога» (Ibid. S. 267).
Кант, метафизика и проблема обоснования
543
и осуществление через обращение к деструктивно-онтологической
интерпретации традиции*.
Как возможно мыслить «истину» и «синтез» в перспективе
трансцендентального познания, предлагаемой Кантом? Вопрос об истине
у Канта связывается не с областью предметного, но с логическим.
Проблема «логического» вообще — это вопрос о возможности
приведения многообразного созерцания через фигурный синтез
способности воображения к чистым понятиям (В 104 [82]), о
действительности применимости категорий как «понятий, a priori
предписывающих законы явлениям» (В 163 [121]) к этим явлениям;
проблема первоначального основания подчиненности природы как
совокупности всех явлений, категориям как ее необходимой
закономерности.
<...> Горизонтом интерпретации Хайдеггера является интуиция
фундаментальной связи, существующей между характером
традиционного философского мышления «истины» как «истины
созерцания» и обыденным пониманием времени как теперь-времени**.
В основе подобного метафизического полагания «созерцаемости»
истины Хайдеггер усматривает так или иначе тематизированное
время как поле первичных различений (в случае Канта — тематиза-
цию целого времени как совокупности посредством предварительно
проводимой редукции выделенных позиций теперь-времени).
<...> Хайдеггер пытается воссоздать логику кантовского
трансцендентального исследования, вживив в его основание «подлинное»
понимание времени, что позволило бы привести к изначальному
единству «стволы человеческого познания»: «время» как функцию
различения и «я мыслю» как функцию определения, т. е.
определяющего синтеза.
<...> Хайдеггер вскрывает это единство через «изначальное»
определение рецептивности времени как спонтанности, а
спонтанности «я мыслю» как рецептивности. Попытка обоснования
единства познания, проводимая Хайдеггером, зиждется на его
стремлении различить в априорных формах чувственности (пространстве
и времени) и чистой форме рассудочного единства («я мыслю»
трансцендентальной апперцепции) равно общий им слой конституи-
рования первичных различений.
Возможность выделения слоя первичных различений вводится
Хайдеггером через истолковывающий анализ функций простран-
Которую Хайдеггер также называет феноменологической, поскольку «мы
в ней продвигаемся к тому, что Кант имплицитно должен был иметь в виду»
(Ibid. S. 313).
№ Ibid. S. 251.
544
О. В. Никифоров
ства* и времени в «Трансцендентальной эстетике»... Пространство
и время суть способности видеть многоразличное как «бесконечно
данную величинность», но также и первичное различение
многоразличного как такового, горизонт первичного различения. <...>
«Я», «я мыслю» как способность синтеза является равноизначаль-
ной априорным формам созерцания, соответствующей им
способностью определения «обнаруживаемого многоразличного»**.
Первичное различение возникает для первичного определения (синтеза
согласно категориям) и совместно с ним, так что первоначально «я
мыслю» является как «я имею различение»***, предстает
воспринимающим утверждением «я есть различенный».
«Эта спонтанность "я" (самости) изначально является чистой
апперцепцией и чистой самоаффектацией, чистым "я мыслю" и
временем»****.
Самоаффектация есть изначальный синтез как образование
горизонта различения-определения, предметности вообще.
Анализируя вслед за Кантом три схемы категорий
(количества — число, реальности — ощущение, субстанции —
постоянство), Хайдеггер демонстрирует, как эти схемы категорий
являются именно определениями времени, подачей категорий
в образе времени: во всех трех случаях производится тематизация
временного потока в различных аспектах — числом поток тема-
тизируется в отношении им различаемой местности (выделение
этого-вот «теперь» — Jetzt-dd) в синтезе «порождения
времени» (Zeiterzeugung), ощущением — в отношении качественных
характеристик позиций потока (такого-то «теперь» — Jetzt-das)
в синтезе «наполнения времени» (Zeiterfüllung), постоянством —
в отношении целостности времени в синтезе «упорядочивания
времени» (Zeitordnung).
То, что объединяет все три вида synthesis speciosa temporis, —
это всегда уже свершившаяся в них нетематизируемая фиксация
динамической структуры «время» в статических позициях «теперь»
и «поток-теперь». И именно это «кантовское полагание» Хайдеггер
стремится критически пересмотреть, чтобы открыть путь для
понимания единства «времени» и «я мыслю».
Претензии Хайдеггера двояки:
По завершении вводного рассмотрения, далее в ♦ Логике», как и в КМ,
Хайдеггер без оговорок ограничивает свой истолковывающий анализ
феноменом времени, которое, очевидно, более соответствует целям его
экзистенциально-онтологической интерпретации (ср.: Ibid. S. 251, 376).
№ Ibid. S. 330.
" Ibid. S. 332.
" Ibid. S. 342. (S. 342)
Кант, метафизика и проблема обоснования
545
♦ 1) Кантом вообще не схватывается смысл времени как экзистен-
циала;
2) его понятие времени основывается на "настоящем" —
экзистенциально фундированном модусе времени»*.
Экзистенциальное понимание времени — это понимание его
«как структурного понятия человеческого существования» **; так что
теперь настоящее экзистенциально должно пониматься в качестве
формы бытия Dasein как бытия-к-миру.
В силу экзистенциального поворота понимания для нас
открывается возможность промыслить „Ich denke" не как находящееся
во времени, но как само время, точнее, как его модус, а именно —
как модус чистого настоятельствования, конституирования
настоящего (Gegenwärtigens). Вопрос о том, «что есть само изначальное
время?» в «Логике» еще не ставится, как не произносится и
обнаруживаемое лишь в курсе 1927/28 гг. имя «времени как
способности» — трансцендентальная способность воображения.
3.2. Понятие «трансценденция» и разработка схематизма
способности воображения в «Феноменологической
интерпретации "Критики чистого разума" Канта»"***
и книге «Кант и проблема метафизики»
Установление Кантом первенства трансцендентальной
способности воображения по отношению к двум традиционно
признаваемым человеческим способностям познания относится Хайдеггером
к 3-му разделу «Дедукции чистых понятий рассудка»...
Вопрос об этой первичной основе, об изначальном единстве
способностей человеческого познания, который Хайдеггер ставит, опираясь
на немногочисленные оговорки-признания самого Канта, конечно же,
в первую очередь является не филологическим вопросом о месте
трансцендентальной способности воображения и роли
трансцендентального схематизма как ее воплощения в действии, в фактическом целом
КЧР, но способом проверки действенности методов герменевтической
феноменологии**** в ее развитии и утверждении в фундаментальную
онтологию, попыткой исходя из традиционной проблемы теоретической
философии удостовериться в допустимости перехода от вопроса об
изначальном времени к вопросу о смысле бытия.
* Ibid. S. 404.
'* Ibid. S. 402.
'* Heidegger M. Gesamtausgabe. IL Abteilung. Bd. 25: Phänomenologische
Interpretation von Kants „Kritik der reinen Vernunft". Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann Verlag, 1977. [Далее в тексте — ФИ или GA 25.]
** Ср.: «Введение» вБВ.
546
О. В. Никифоров
Из заглавия этого раздела, пишет Хайдеггер, ясно, что
проблема внутренней возможности онтологического познания есть не что
иное, как раскрытие трансценденции. В основе трансценден-
ции как возможности «синтетических суждений a priori» лежит
априорная отнесенность чистого рассудка и чистого созерцания
друг к другу, так что они составляют «горизонт единства
возможной взаимосвязанности», именно в этой взаимосвязи являя
возможность опыта вообще. При этом ни чувственность, ни рассудок
не обладают первенством в отношении другого, но предполагают
им предшествующий чистый синтез, синтез трансцендентальной
способности воображения, априорно сводящий в единый
механизм познания принципиально различные способности
чувственности и рассудка и служащий изначальным и обосновывающим
принципом их единства. Введение трансцендентальной
способности воображения как общего корня способностей познания
проводится Хайдеггером через выявление в них структуры
трансценденции, а затем — через представление ее как трансценденции «по
преимуществу».
<...> Что позволяет чистой способности воображения
выступать как посреднику в трансцендентальном синтезе
чувственности и рассудка? В анализе кантовской трансцендентальной
дедукции в КМ Хайдеггер лишь тезисно повторяет развернуто
представленное в «Логике»: для того, чтобы связывать a priori,
чистый синтез (как деяние чистой способности воображения)
должен состоять в сущностном отношении с временем как
изначально чистым воспринимающе-подающим универсальным
созерцанием. Исследование характера этого отношения
Хайдеггер основывает на разборе следующей трансцендентальной
дедукции понятий главы «О схематизме чистых понятий рассудка»,
11 страниц которой являются «принципиальной частью
обширного произведения » *.
Трансцендентальная способность воображения выступает
в трансцендентальном схематизме посредником между чистым
рассудком и чистой чувственностью для их сведения в едином целом
«мыслящего созерцания», воссоздающего в рамках ограниченных
способностей конечного существа божественную, т. е.
бесконечную, способность intuitus originarius. Насколько возможно это
воссоздание, настолько возможно и онтологическое познание. И эта
«изначальная интуиция», согласно «Феноменологической
интерпретации...», возможна, пусть и не для конституирующей, но для
рефлектирующей способности суждения, а именно — как exhibitio
* Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. S. 50.
Кант, метафизика и проблема обоснования
547
originaris temporis: внеопытное представление целого времени
продуктивной способностью воображения*. Хайдеггер интерпретирует
главу о схематизме как обосновывающую результаты и саму
возможность трансцендентальной дедукции, показывающую «основу
сущности», внутреннюю возможность категорий как чистых
определений времени**.
Он делает, казалось бы, сугубо техническую для целого
«Критики» проблему трансцендентального схематизма проблемой
фундаментально-онтологической , конкретизирующе раскрывает
последнюю в разборе первой и создает единый проблемный узел:
схематизм, т. е. трансценденция, т. е. конечность.
Очевидно, в своей попытке истолкования Хайдеггер идет
дальше сказанного Кантом***, с одной стороны проецируя свой горизонт
понимания на кантовскую проблематику, с другой — налагая
рамки критической философии на собственную деятельность
понятийного образования; как бы предпринимает попытку психоанализа
не только кантовского, но и своего замысла, причем зачастую
опираясь на проговоренное Кантом в одном месте (по преимуществу —
в 1-м издании «Критики»), он входит в противоречие с целым рядом
других мест книги**** < ...> Как на один из принципиальных приемов
истолкования можно указать на сведение Хайдеггером способов
чистого познания — чувственности, рассудка, способности
воображения — как присущих конечному познанию форм представления.
Так, отвечая на критику Одебрехта*****, Хайдеггер пишет, что
«мышление» конечно, поскольку определено созерцанием, а то, в свою
очередь, конечно, поскольку возникает из начальной «подачи» (т. е.
через предоставление горизонта предметности), «заброшенности».
<...> Хайдеггер это делает, отождествляя в качестве чистой
самоаффектации, самовоздействия, изначальное время и
трансцендентальную апперцепцию. Чистая самоаффектация — это экстатически
единое время: в едином потоке выступает настоящее «теперь»,
относимое открывающим удержанием в прошлое, но возвращающееся
к себе, в «теперь» как настоящее, через будущее, устанавливающее
единство времени как различенного потока.
С другой стороны, аффицирование «я», как вещи в себе,
собственного внутреннего чувства также есть самоаффектация. Чи-
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretation. S. 416.
" Ibid. S. 430-431.
" Об осмыслении Хайдеггером того шага, что он проделывает за Канта,
см. §31, 35 КМ.
'* См.: ГайденкоП. Учение Канта и его экзистенциальная интерпретация //
Философия Канта и современность. М., 1974. С. 394. <...>
** Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. S. 298.
548
О. В. Никифоров
стое «я» аффицирует себя, чтобы положить себе предел, различить
себя в операции пред-оставления. При этом трансцендентальному
«я» как вещи в себе им же самим подаются-принимаются идеи
чистого разума, а именно для того, чтобы событие различения
состоялось.
<...> Трансценденция значит конечность, поскольку внутри
бесконечного нет различного и потому невозможен синтез. Введение
«изначального времени» должно было служить попытке
различения внутри бесконечного (вещи в себе); это была попытка
моделирования вещи в себе, т. е. снятия «вещи в себе» как «предельного
понятия» в «изначальном времени» как более мощном «предельном
понятии».
Поскольку, отвергнув понятие «вещи в себе», «невозможно
остаться внутри кантовской системы» (Якоби), Хайдеггера самим
ходом его истолкования необходимо выносило за ее рамки. Однако
проблема «вещи в себе» как основы дискурса не снимается голым
утверждением «экстатической безосновности» дискурса. Ведь тем
самым как раз «экстатическая безосновность» и становится
«вещью в себе». Поэтому вскоре после КМ Хайдеггер вновь обращается
к проблеме обоснования.
4. По ту сторону фундаментальной онтологии:
проблема основания
Устанавливая соответствие между своим исследованием
человеческой конечности в БВ и проектом деструкции кантовской
философии в ее представлении в качестве обоснования метафизики,
Хайдеггер говорит в своих лекциях 1927/28 гг.: «Радикализуя
кантовскую проблему онтологического познания, не ограничивая
ее лишь онтологическим фундированием позитивных наук и ее
определением как проблемы суждения, но постигая в качестве
радикального и фундаментального вопроса о возможности
понимания бытия вообще, мы получаем фундаментальную философскую
проблематику "Бытия и времени". Время в этом случае понимается
уже не в вульгарном смысле, но как временность в смысле
трансцендентального единства экстатического состава Dasein [каковой
в кантовских анализах Хайдеггера соответствует чистая временная
способность воображения, см. КМ, § 35. — О. Н.]9 бытие же более
не понимается в смысле бытия-наличным природы, но
универсальным образом — как содержащее в себе все возможности
региональных видоизменений. Универсальность бытия и радикальность
времени суть две темы, в единстве которых проявляется задача
Кант, метафизика и проблема обоснования
549
дальнейшего рефлексивного проникновения в возможность
метафизики»*.
Характерные для Dasein сокрытость события единства бытия
и времени, неявность понимания бытия и принципиальная
ограниченность временем — то, что имеется в виду Хайдеггером в
определении человеческого существования как конечного, но именно
исследование этой конечности, должное развиваться в связи с
постановкой задачи обоснования метафизики (КМ, § 39), и
выказывается им в качестве пути философии по преимуществу, ставящей
вопрос о бытии.
Тема обоснования метафизики как повторения, реконструкции
целого критического кантовского проекта познания на основе пра-
факта человеческой конечности не получает достаточного развития
ни в хайдеггеровских лекциях 1926 и 1927/28 гг., ни в его кантов-
ской книге. Таковые более концентрируются на разборе первого
отдела учения об элементах «Критики», в то время как
«Трансцендентальная диалектика», собственно имеющая дело с
«неизбежными» метафизическими вопросами, в них вообще не тематизируется
и не подвергается деструкции в перспективе положения
изначального основания. <...>
4.1. «Мир» и трансценденция
в «Бытии и времени»
Проблема мира как трансценденции бытия-в-мире
тематизируется уже в книге 1927 г. Задавая вопрос о возможности
феноменологического описания и онтологического определения понятия
«мир», Хайдеггер (§14) апофатическим образом ограничивает
проблемную область исследования: речь должна идти не о частных
аспектах этого феномена..., но о «мировости мира вообще». <...>
Поскольку бытие-в-мире вводится Хайдеггером как
экзистенциальное определение Dasein, то «сама мировость является экзистенциа-
лом», а «мир» — онтологической характеристикой самого Dasein.
В отличие от категориального понимания мира как бытия
наличного или подручного сущего, «мировость мира» как «бытие онтическо-
го условия возможности раскрываемости внутримирового сущего
вообще» будет экзистенциальным определением бытия-в-мире, т. е.
Dasein как трансцендирующего**. <...>
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretation. S. 426-427.
'* Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer, 2001. S. 88.
550
О. В. Никифоров
4.2. «Мир» и проблема основания
в работе «О существе основания»
Истолкование кантовского синтетического понятия мира,
проводимое во 2-м разделе работы «О существе основания»* («Транс-
ценденция как область вопроса о существе основания»), служит
основой существенного развития хайдеггеровского понимания мира
как структуры трансценденции Dasein в БВ и предвосхищает вывод
поздних лекций 1955/56 гг. «Закон основания»**: «Бытие и
основание — одно и то же». Хайдеггер опознает в кантовском понятии
«мир» экзистенциальную проблематику*** возможности полного
синтеза от обусловленного к безусловному**** и раскрывает таковую
как проблематику трансценденции бытия.
<...> В отличие от БВ, где вопрос о бытии ставится
предварительным образом как вопрос о смысле бытия, о возможностях
осмысления бытия Dasein, цель исследования СО можно усмотреть
в артикуляции прафакта доонтологического разумения бытия
через истолкование трансценденции как «перво-последнего»
синтеза образования мира как безусловного***** — того всегда уже
имеющего место свершения, в котором только и устанавливается сама
самостность Dasein. И лишь теперь хайдеггеровская идея
первенства трансцендентальной способности воображения в целом
человеческого познания, оперативно используемая им в КМ, обретает
горизонт своего осмысления, а именно — в идее конечной
свободы как «свободы к основанию», как «безосновного основания
основания»******. <...> Именно этой диалектикой ныне определяется
Хайдеггером «забота о постоянном и неизменном, которая, в свою
очередь, возможна лишь как временность»*******, с одной стороны,
и «трансцендентальный характер сущности бытия вообще» —
с другой. Ведь «лишь в трансценденции как набрасывающем
мир (weltentwerfenden) расположенном установлении основания
(Gründen) имеется бытие»********.
* Heidegger M. Vom Wesen des Grundes (1929). [Далее в тексте — CO.]
Цитируется по изданию: Heidegger M. Wegmarken. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann Verlag, 1976.
* Idem. Der Satz vom Grund. Pfullingen: Günther Neske Verlag, 1957.
** Idem. Vom Wesen des Grundes. S. 145-149.
Ср.: Hinske N. Kants Rede vom Unbedingten und ihre philosophischen
Motive // Philosophie der Subjektivität? (Hrsg, von H. Baumgarten u. W. Jacobs)
Stuttgart — Bad-Canstatt: Promman-Holzboog. 1989. S. 265-281.
* Heidegger M. Op. cit. S. 157 ff.
Ibid. S. 162, 171. Cp. S. 173: «Сущность конечности Dasein раскрывается
в трансценденции как свободе к основанию».
* Ibid. S. 169.
* Ibid. S. 171.
Кант, метафизика и проблема обоснования
551
Парадоксальным образом, работа, по словам Хайдеггера в
предисловии к 1-му изданию КМ, должная служить «дальнейшему
разъяснению ключевой постановки вопроса», представленной в книге,
проясняет ее настолько «основательно», что в определенном
смысле погашает значимость «фундаментально-онтологического
исследования», проводимого в КМ и БВ. Позднее, осмысляя
ограниченность подобного именования, Хайдеггер пишет в «Введении к "Что
такое метафизика?"» (1949), что «фундаментальная онтология еще
остается видом онтологии [и имеет дело с истиной сущего], в то
время как мышление об истине бытия как возвращение в основание
метафизики первым своим шагом уже оставило сферу любой
онтологии»*.
-ечэ-
Ibid. S. 375. О «логике сущностного мышления», разрабатываемой Хай-
деггером, опять-таки, в ходе разбора «основного метафизического
понятия» мир в курсе 1929/30 гг. См. Никифоров О. Хайдеггер на «повороте»:
«Основные понятия метафизики» // Логос. Философско-литературный
журнал. № 8. 1997. С. 78-91.
5
Ф. И. ГИРЕНОК
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики
В статье метафизика понимается как естественная
предрасположенность человека. В ней критикуется фундаментальная онтология
Хайдеггера и объясняется, почему нельзя разрушать
четырехугольник Канта. Автор показывает, что современная философия
отказывается от бытия в пользу субъективности, заменяя опыт
воображением, идею конечности человека — идеей его невозможности.
Казалось бы, что если есть физика, то должна быть и
метафизика. Если есть сущее, то должно быть и бытие. Но метафизика не
следует из физики, а сущее не зависит от бытия. Мир не логический
процесс, а парадоксальный.
Что такое метафизика?
Метафизика — это естественная, по словам М. Хайдеггера,
предрасположенность человека. Она свойственна его природе. Но если
она свойственна его природе, то фундаментальная онтология
Хайдеггера бессмысленна. Вопрос о метафизике — это вопрос о
человеке, о том, к чему он предрасположен.
Хайдеггер, критикуя Канта за то, что он свел философию к
вопросу о том, что есть человек, высказал несколько идей,
преодоление влияния которых формирует особый постхайдеггерианский тип
философствования. Речь идет об идее конечности человеческого
существования и о принадлежности человека к региону сущего.
Коперниканский переворот Канта
В предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума»
Кант сравнивает свою мысль с мыслью Коперника. «До сих пор
считали, что всякие наши знания должны сообразовываться с
предметами. При этом, однако, кончались неудачей все попытки через
понятия что-то априорно установить относительно предметов, что
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики
553
расширяло бы наше знание о них. Поэтому следовало бы
попытаться выяснить, не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно,
если будем исходить из предположения, что предметы должны
сообразовываться с нашим познанием»*.
Разъяснения Канта
Я — это Солнце. Предметы — это Земля. Земля вращается
вокруг Солнца. Например, если есть две точки, то из этого факта еще
не следует, что есть прямая линия. Ее нужно вообразить и провести,
прежде чем она появится. Если даны три прямые линии, то из них
можно образовать фигуру. Но фигура в прямых линиях не
содержится. Ее вывести нельзя. «Всякое ваше усилие окажется
напрасным, — пишет Кант, — и вам придется прибегнуть к созерцанию».
Если бы у нас не было способности a priori созерцать, то мы не
могли бы прибавить к трем линиям новое понятие фигуры. Фигура дана
до нашего познания, а не посредством его.
Разъяснения Хайдеггера
Коперниканский поворот Канта «постоянно получает
превратные истолкования»**. Истолкования Хайдеггера сводятся к
следующему: «Явленность сущего (онтическая истина) кружит вокруг
раскрытости бытийной структуры сущего (онтологической истины);
но онтическое познание само по себе не сможет обратиться к
предметам, ибо без онтологического познания оно будет лишено самой
направленности возможного обращения»***.
Какая разница, говорит Хайдеггер, что вокруг чего вращается.
Земля ли вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Предметы вокруг
«Я» или «Я» вокруг предметов. Все равно мы не выходим за
пределы порядком надоевшей субъект-объектной дуальности. И
Хайдеггер предлагает выйти за эти пределы.
В интерпретации Хайдеггера ничего не говорится о субъекте, о том,
что ему каким-то способом удается заставить сущее сообразовываться
с нашим «Я». В ней говорится о том, что у сущего есть два плана:
явленность и бытийная структура. При этом утверждается, что познание
явления зависит не от человека, а от бытийной структуры предмета.
Эта структура указывает направление, в котором не может не
состояться встреча с предметом. Согласно Хайдеггеру, онтическое
познание сущего зависит от онтологического познания бытия. То есть Кант,
* Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2007. С. 23.
** Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997. С. 7.
*** Там же. С. 7-8.
554
Ф. И. Гиренок
по мысли Хайдеггера, не заметил соотношение между бытием и
сущим. Он коперникански изменил отношения между субъектом и
объектом, но не вышел за пределы самой этой структуры. По мнению
Хайдеггера, старая теория истины осталась у Канта непоколебленной.
Критика Хайдеггера
Хайдеггер оставляет без разъяснения необходимость для
человека добираться до того, что есть, через такую инстанцию, как
бытие. Ведь хотя бытие и есть, но статус его неясен. Его никто не видел
и никто не знает, где его искать. Экономнее было бы признать, что
бытие и существование — это одно и то же.
Хайдеггер не разъясняет, почему, различив бытие и
существование, мы обеспечим у человека наличие уже знания предмета
до опыта встречи с ним. В чем причина того, что человек не
полагается полностью на опыт, а пытается что-то узнать до опыта? Зачем
ему добираться до предмета? От какой нужды? Не означает ли сама
эта попытка «куда-то добраться» странной удаленности человека
от предметов? Каким образом человек оказался в стороне от того,
что ему оказалось нужным? Может быть, суть дела состоит не в том,
что бытие удалено от сущего, а в том, что человек трансцендентен
по отношению к миру? Если это так, то тогда говорить о том, что
человек есть бытие в мире, нелепо.
Также Хайдеггером не разъяснена роль метафизики в этой
попытке. Из истолкования Хайдеггера следует, что всякое познание
является онтологическим или онтологией опосредованным,
благодаря чему сущее, по словам Хайдеггера, явлено как сущее. То есть
познание без метафизики невозможно.
Но если всякое познание уже является опосредованным
онтологией и сущее явлено как сущее, то сведения об этой явленности
ничего не прибавляют к самому явлению. Онтология перестает быть
личным делом каждого и становится проблемой мироздания. То есть
онтологии никак не расширяют знания. А Кант говорит о
непременном расширении знания.
Следует заметить, что познание сущего, онтическая истина не
зависит от того, раскрыта его бытийная структура или не раскрыта,
ибо сущее не зависит от бытия. Вот это здание не зависит от
онтологической истины, оно уже есть. Напротив, бытие зависит от сущего,
ибо бытие, по словам самого Хайдеггера, возможно только как
бытие сущего. «Бытие, — пишет Хайдеггер, — есть всякий раз бытие
сущего»*. Онтологическая истина находит основание в онтической.
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 9.
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики
555
Разъяснения Хайдеггера основано на утверждении о том, что
онтическое познание само по себе не имеет доступа к предметам.
А доступа оно не имеет к ним потому, что у него нет ориентира. Оно
не знает, в каком направлении искать предметы, где они
расположены.
Но овца почему-то знает, где искать стог сена. Волк знает, где
искать овцу. А человек не знает, что он ищет. Означает ли это, что
овца раскрыла бытийную структуру сущего, а человек не раскрыл?
Или, может быть, существует прямой доступ к предмету и
непрямой. В первом случае не нужно знать предмет как предмет, чтобы
его использовать? А во втором нужно. Но тогда стоит объяснить,
что случилось с человеком. Почему у него, как у шизофреника, мир
расщепился на бытие и существование? Почему человек, как овца,
не может съесть яблоко, не зная, что он ест яблоко? Для того чтобы
это случилось, нужно изменить утверждение Хайдеггера о том, что
всякое познание опосредовано онтологией, и согласиться с тем, что
не всякое познание требует раскрытия бытия.
Если не все познания зависят от предмета, то тогда что-то
зависит и от человека. И тогда метафизика становится возможной.
Метафизика у Канта — это наука о внутренних принципах выбора
между различными целями, т. е. наука о человеке. У хайдеггеровского
Dasein нет внутреннего, у Хайдеггера онтология — наука о бытии.
Интерпретация коперниканского переворота Канта
Если допустить, что все наши познания сообразовываются
с предметами, то нужно будет признать, что все мы, как животные,
принадлежим к региону сущего. Мы являемся элементами мира
и принуждены к нему приспосабливаться. В рамках нашего
познания мира мы не свободны, познавая, нам не нужно знать, что мы
познаем. Одним из следствий этой несвободы является ненужность
метафизики, то есть философии. Философия не нужна потому, что
нам достаточно инстинктов, для того чтобы занять свое место в
предметном мире.
Кант вводит возможность познания априори как игру случая, как
обоснование дистанции, занимаемой человеком по отношению к
сущему. Это шанс, который дает нам возможность избавиться от
зависимости от среды, от приспособления к миру, а значит, и от мира.
Знание предмета до встречи с ним делает возможным нашу
свободу, и мы, как чистая субъективность, можем творить на свой страх
и риск. Но чтобы творить, субъективности не обязательно быть
субъектом, равно как этому дереву не обязательно быть объектом,
чтобы быть деревом. Поскольку знания субъективности без субъек-
556
Ф. И. Гиренок
та уже существуют в воображении, постольку мы
сообразовываемся с ними. И предметы должны с ними сообразовываться. Что это
значит? А это значит, они, впервые возникая в нашем воображении,
могут создаваться. Поэтому до сих пор такой предмет, как человек,
должен непрерывно сообразовываться с понятием человека. При
этом для Канта совсем неважно, чтобы все предметы
сообразовывались с нашим познанием. Достаточно, чтобы часть из них
сообразовывалась с нами.
Можно ли помыслить человека как сущее?
В § 37 книги «Кант и проблемы метафизики» под названием
«Идея философской антропологии» Хайдеггер пишет: сущностное
исследование человека «будет иметь целью различение сущего,
называемого нами человеком, от растений, зверей и других типов
(Bezirke) сущего»*. Судя по этому отрывку, Хайдеггер мыслит
человека натуралистически, как вещь, у которой есть свойства и
отношения, а различия в регионе сущего носят для него только степенной
характер.
Человек для Хайдеггера — особенное сущее. Это не вещь среди
вещей. Вещи наличны, а человек экзистирует. Хотя и то и другое
есть. Этим «есть» Хайдеггер маскирует принципиальное различие
между вещами и человеком. Человек, конечно, есть, но как то, что
он не есть. Тогда как наличное есть то, что оно есть. Человека нельзя
отнести к региону сущего, к тому, что просто есть. Человек — это
абсурд. То, что в человеке подлежало объяснению, используется Хай-
деггером как объяснительный принцип.
Вещь — это не только то, что, как говорит Хайдеггер, налично.
Но и то, что возможно. Наличное — это бывшее возможное. А
возможное — это будущее наличное. Поэтому, когда Хайдеггер
относит человека к не-наличному, которое экзистирует, он относит его
к возможному, которое существует как нечто вещное, т. е., согласно
Канту, реальное.
Из коперниканского переворота Канта следует, что человек
не есть нечто реальное. Эта мысль формулируется Кантом в
«Критике чистого разума» так: человек есть такое сущее, которое
существует как своя собственная цель. Цель — это не вещь, не то, что
возможно. Это фантазм, греза, которая устойчиво существует во времени,
несмотря на то что она в реальности может быть невозможна. Любая
цель, уже только потому, что она ставится, отменяет сущее. В
конце концов, возможна такая чудовищно возвышенная идея, которая
* Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997. С. 122.
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики
557
настаивает на неизбежном конце всего сущего, всех пребывающих
во времени предметов возможного опыта. Поэтому человека
следует понимать как нечто невозможное, как то, что отменяет ссылку
на предметы возможного опыта.
Если человек определяется как сущее, то у него должна быть
найдена сущность, которая бы задавала способ его бытия. А если у него
есть сущность, то она расположена в ряду других сущностей, и тогда
нужно учиться отличать человека от зверей, птиц, растений.
Называя человека сущим, Хайдеггер ввел философию в
заблуждение, ибо человек — это лишь цель, которая не достигается
сложением самоаффектации самости и говорящего «Я». Человек — это
выпадение за пределы мира, нечто невозможное в ряду наличного.
Осталось только определить, в чем состоит эта невозможность. Для
этого нужно рассмотреть положения Хайдеггера о человеке как о
конечном существе.
Четыре вопроса Канта
В «Логике» Кант к трем знаменитым вопросам,
сформулированным в «Критике чистого разума», добавил четвертый: «Сферу
философии в этом всемирно-гражданском значении можно подвести под
следующие вопросы:
1. Что я могу знать?
2. Что я должен делать?
3. На что я смею надеяться?
4. Что такое человек?
На первый вопрос отвечает метафизика, на второй — мораль,
на третий — религия и на четвертый — антропология. Но, в
сущности, все это можно было бы свести к антропологии, ибо три первых
вопроса относятся к последнему»*.
Хайдеггер спрашивает, не прибавляется ли этот четвертый
вопрос о человеке к первым трем внешним образом. Не является ли он
избыточным. И отвечает: нет. Согласно Канту, обоснование
философии берет на себя философская антропология.
Но прав ли Кант? Хайдеггер сомневается в его правоте и
приводит следующие аргументы.
Контрреформация Хайдеггера
Кант — реформатор. Он заставляет предметы сообразовываться
с субъектом. Хайдеггер против реформ, ибо он пытается мыслить
* Кант И. Трактаты. СПб.: СПб РАН, 2000.
558
Ф. И. Гиренок
исходя из вещей. Он смотрит на проблему со стороны предметности.
Что видно с этой стороны?
Первое: если ты что-то можешь, то в мире всегда найдется то,
что ты не можешь. Так что не все предметы могут сообразовываться
с нашим познанием, ибо существует две «чтойности», две
предметности: одна — то, что ты можешь, и другая — то, что ты не можешь.
Второе: всегда есть то, что ты должен, и то, что ты не должен
делать. И в этом случае Хайдеггер обнаруживает расщепление
предметности. И в этом случае предметы перестают вращаться вокруг «Я».
Третье: каждому нужно знать, на что он смеет надеяться и на что
он не смеет надеяться. И вновь «что» двоится, выпадая за пределы
отношений субъекта и объекта.
Четвертый вопрос Канта Хайдеггер противопоставляет трем
первым. На него он не смотрит с точки зрения предметности. И
напрасно. Потому что в нем точно также можно было бы продолжить
расщеплять «что» : что-то есть человек, а что-то не есть человек. К примеру,
бык не человек и лошадь не человек. Почему Хайдеггер этого не
делает? Видимо, потому, что он объединяет все раздвоившиеся «что»
под титулом бытия. И одно есть, и другое есть. А в четвертом вопросе
из такого объединения получается не бытие, а кентавр или минотавр,
ибо в нем пришлось бы соединить человека и быка или человека и
лошадь. А куда же делось априорное знание предмета? Оно
переименовано в понимание бытия, в котором впервые являет себя бытие.
Понятность бытия Хайдеггер прячет в интенциональных структурах,
в присутствии, в Dasein, заставляя сущее вращаться вокруг бытия.
Следствия философской контрреволюции
Во-первых, Канту нужно было найти для разума, для науки
твердое основание. Кант находит его. Но им оказывается
трансцендентальная способность воображения. Что это значит? А это значит, что
мышление и созерцание, рассудок и чувства соединяются в одном
общем корне, которым оказалась зыбкая спонтанность
воображения, нечто нетвердое, случайное. Во-вторых, воображение является
способностью души, которая имеет все права, чтобы занять место
трансцендентального единства апперцепции.
Кант осознает скандальный характер своих результатов и во
втором издании «Критики чистого разума» заменяет
трансцендентальную способность воображения трансцендентальным единством
апперцепции. «Кант, — ликует Хайдеггер, — при раскрытии
субъективности субъекта отступает от им самим положенной основы»*.
* Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997. С. 124.
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики
559
Почему отступает? Потому что, убеждает нас Хайдеггер,
вопрошающее продвижение в субъективность субъекта ведет нас в темноту.
Пустое искание изначального в воображении, суетная
любознательность могут погубить разум.
Осознавая ответственность за разум, Хайдеггер решил вывести
философию из темноты на просвет бытия. Для этого ему нужно было
избавиться от четвертого вопроса, переосмыслить его.
Идея конечности человека
Как должен задаваться четвертый вопрос, чтобы он мог
«принимать в себя и удерживать» остальные три вопроса в единстве?
Озаботившись поиском ответа на этот вопрос, Хайдеггер уже заранее
предположил, что в вопросе «что есть человек» нет искомого
единства.
Спрашивая, «что я могу», я, согласно Хайдеггеру, уже нахожусь
в неможествовании. Спрашивающий высказывает свою конечность:
я не все могу.
Но только ли человек высказывает свою конечность? Или не
только он? Обычно дотошный Хайдеггер пытается исполнить свою
работу вопрошания до конца, но в этом пункте он проявляет какую-то
робость. Почему? Ведь ясно, что всемогущему не нужно
спрашивать, что он может. К нему не относится конечность. Ведь он все
может. Однако Хайдеггер помещает его в регион сущего. Но поскольку
в этот регион он относит только наличное или экзистирующее,
постольку для Бога здесь места нет, ибо он не нагляден и беспределен.
Но есть еще животные. О них Хайдеггер не говорит ни слова.
Почему? Не потому ли, что они, как боги, не спрашивают о том, что они
могут. Они вообще не спрашивают. Значит ли это, что для них немо-
жествование не есть изъян. Наверняка заяц не все может. Он только
не знает о своем неможествовании. Но он-то точно знает волка
раньше, чем волк ему будет дан, так как для него быть данным — это
значит быть съеденным. Заяц знает волка в форме инстинкта, в форме
необходимости, а не в форме размыкания бытия.
Но человек свободен. Поэтому он может вообще ничего не знать.
А это значит, что его проблема состоит не в конечности, а в том, как
он, будучи свободным, вообще что-то может знать. Ибо есть все
причины для того, чтобы он ничего не мог знать. Как, оставаясь
свободным, человек может знать предмет раньше, чем он ему будет
дан? Почему он при этом не превращается в зайца, то есть в автомат
природы?
Спрашивая, что ты должен делать, ты находишься, говорит
Хайдеггер, в состоянии неисполненности и одновременно в готовности
560
Ф. И. Гиренок
не делать не должное. «Существо, чей внутреннейший интерес
заключается в долженствовании, в основе, — полагает Хайдеггер, —
является конечным»*.
Должное и недолжное определяются не внутренним интересом
к должному, а тем, что ты есть по своему существу. Если тебе
известна твоя сущность, то ты действуешь в согласии с ней. Вопрос
возникает лишь тогда, когда нет этого существа, когда нет у тебя
сущности или природы. И ты не можешь действовать в согласии
с самим собой, ибо еще нет тебя самого. Следовательно, вопрос «Что
я должен делать?» может исходить от существа, у которого нет
никакой сущности. Оно может делать все и ничего. Этот вопрос можно
свести даже к более простому вопросу, который, растерявшись,
задают люди: что мне делать? Ответ дан в вопросе Канта: самого себя
ограничивать. Долженствование — это самоограничение того, кто
не имеет заранее данной сущности.
Конечным со времени Канта принято считать существо, которое
не может познавать вещи, исходя из самого себя. А не может оно их
познавать потому, что не оно зачинало эти вещи. Не в нем лежит их
причина. Только Бог понимает вещи, ибо он их творец. Но коперни-
канский переворот Канта меняет ситуацию. Мы, как боги, познаем
то, что сами вложили в вещи, что делаем сами. Мы познаем исходя
из самих себя. То, что сделано, предваряет воображение прообраза,
и в этом случае у нас нет оснований для возникновения проблемы
конечности. Эта проблема есть у Хайдеггера, потому что он
предлагает нам познавать вещи исходя не из самих себя, а из бытия.
На что я смею надеяться? Что я вправе ожидать, а что не вправе?
Хайдеггер, комментируя этот вопрос, указывает на нужду, на
нехватку. «Любое ожидание, — говорит он, — открывает нужду» **.
Человеческий разум тем самым, на его взгляд, свидетельствует о себе
как о сущностно конечном.
Надеяться может только замкнутая в себе субъективность. Чтобы
ожидать, нужно находиться в пещере Платона. Когда ты вне мира,
ты можешь спрашивать, что тебя ждет в мире. Никто не знает, что
его ждет за пределами пещеры, в мире объективности. Поэтому дело
не в том, что есть вещи, которые я вправе ожидать, и вещи, которые
я не вправе ожидать. Вправе ожидают те, у кого есть природа, кто
уже конечен. Сметь надеяться может только лишь зыбкая
субъективность.
Между тем необходимо обратить внимание на упомянутое
Кантом всемирно-гражданское значение философии.
* Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. С. 126.
'* Там же.
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики
561
На его взгляд, значение философии состоит не в том, что она
играет какую-то коммуникативную роль в обществе, не в том, что
она открыла идею конечности существования человека, а в том, что
она имеет для человека внутреннюю ценность. Внутренней
называют ценность, причина которой находится в человеке, а не вне его.
Философия, говорит Кант, сама по себе есть не что иное, как наука
о внутреннем принципе выбора между разными целями. Вот этот
принцип Хайдеггер и попытался подменить идеей конечности.
Как же Хайдеггер сводит первые три вопроса Канта к
четвертому, а именно: что есть человек? Хайдеггер никак не сводит эти три
вопроса. Он просто подменяет четвертый вопрос. Проблема состоит
в том, что Хайдеггера придумал некое Dasein, которое экзистирует.
Но у Хайдеггера не было никакого понятия о человеке, который
двигался бы не от сущего к бытию, а от чистой субъективности к миру
объективации. Экзистенция Хайдеггера не обязательно относится
к человеку. Следовательно, и ее конечность не обязательно будет
относиться к человеку. Но, видимо, может относиться еще к какому-то
сущему, имя которого Хайдеггер не назвал.
Четвертый вопрос Канта прямо указывает на человека. А Хайдег-
геру хотелось, чтобы он указывал на бытие. Переосмысление
четвертого вопроса выглядит у Хайдеггера неубедительным. Вопрос
о человеке и его внутренней природе он подменяет вопросом о
конечности в человеке. «Как следует спрашивать о конечности в
человеке?» — задает вопрос Хайдеггер и отвечает: «Должно прояснить
сущностную связь между бытием как таковым (не сущим) и
конечностью в человеке» *.
В 1794 г. Кант опубликовал работу под названием «О конце всего
сущего». В ней говорится о том, что конец всего сущего — это не
конец человека, что вечность и бесконечное время не одно и то же.
Интерпретация антропологического четырехугольника Канта
Интерпретацию следует, видимо, начинать с итога, с того, чем
Кант закончил свое исследование, с вопроса «Что есть человек?».
В первом издании «Критики чистого разума» Кант выделяет три
способности души человека: чувственность, рассудок и
воображение. Во втором издании он отказывается от продуктивного
воображения априори. В «Критике способности суждения» вновь
возвращается к нему.
Стоит заметить, что Хайдеггер, цитируя соответствующий
фрагмент «Критики чистого разума», никогда не приводит его полно-
* Там же. С. 128-129.
562
Ф. И. Гиренок
стью. Кант пишет: «Ясно, что должно существовать нечто третье,
однородное, с одной стороны, с категориями, а с другой — с
явлениями. Это посредствующее представление должно быть чистым
(не заключающим в себя ничего эмпирического) и тем не менее, с
одной стороны, интеллектуальным, а с другой — чувственным.
Именно такова трансцендентальная схема»*.
Самое интересное в этом фрагменте — это открытие Кантом
существования третьего рода. Вот это открытие Хайдеггер и не хочет
замечать. Потому что его результат непонятно к чему нужно
отнести: к сущему или не-сущему. Третий род не укладывается в
дуализм бытия и ничто, бытия и сущего, ибо, с одной стороны, он будет
однороден с бытием, а с другой — с ничто. Учитывая это открытие,
можно предположить, что третий род есть нечто более изначальное,
чем бытие и ничто, чем чувственность и рассудок. Возможность
этого предположения и не нравится Хайдеггеру.
Трансцендентальный андрогин
Глава о «Схематизме чистых рассудочных понятий» является
ключевой в «Критике чистого разума». «Вообще схематизм, —
писал Кант, — одно из труднейших мест. Даже г-н Бек не может с ним
разобраться. Я считаю эту главу важнейшей»**.
В чем ее трудность? В том, что сами по себе понятия ни на что
не годятся, они не имеют никакого значения. Им должен быть дан
предмет. А предмет дает чувственность. Следовательно, в каждом
понятии априори должны быть даны условия чувственности. А это
абсурдно. Для этого интеллектуальное должно стать чувственным,
а случайное — необходимым. Схематизм — это «скрытое в глубине
человеческой души искусство», чистое условие чувственности,
которое ограничивает применение понятий. Но и это не все, хотя этого
достаточно для того, чтобы Хайдеггер восстал на кантовский
антропологизм.
Схема, продолжает Кант, «есть продукт и как бы монограмма
чистой способности воображения»***. Но это уже скандал, ибосвойством
воображения является самоаффектация, то есть чистый произвол.
Можно ли что-то создать произволом? И Кант отвечает: можно. Это
будет либо схема, либо образ. Схема по отношению к понятию.
Образ по отношению к единичной вещи. И в том и в другом случаях
воображение является пространством синтезов. Что же не заметил
Хайдеггер в воображении?
* Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2007. С. 158.
** Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997. С. 64.
*" Там же. С. 238.
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики
563
Воображение
Воображение создает представления, не принадлежащие
порядку восприятия. Оно помогает созерцать без присутствия предмета,
без того, чтобы созерцаемое показывало себя как сущее. Например,
у понятия треугольника нет образа. У него есть схема, т. е.
правило синтеза трансцендентального воображения в отношении фигур
в пространстве. Даже наше «Я» мы воспринимаем чувственно,
а не интеллигибельно. То есть у нас есть трансцендентальные грезы,
прозрения, вымыслы, и мы, появившись на свет, до всякой
конечности и без экзистирования, замыкаем, к примеру, три линии и
создаем фигуры, которыми смотрим на мир.
Воображение создает образы и созерцает их. Например, мы видим
прекрасный ландшафт, хотя нет такого наличного, на котором было бы
написано: это прекрасное. Мы создаем образ и созерцаем его, ибо «в
глубине нашей души скрыто искусство». И Хайдеггер со всем этим, кроме
души, согласен. Но у воображения есть еще одна особенность:
способность соединять в одно целое то, что вне этого целого исключает друг
друга как нечто противоположное. Вот этого обстоятельства Хайдеггер
не замечает и не комментирует. Поэтому антропологический
четырехугольник Канта требует новой, постхайдеггерианской, интерпретации.
И начинать эту интерпретацию нужно с вопроса «Что есть человек? ».
Что есть человек?
Следуя за Кантом, можно сказать: человек есть существо
воображающее. Но мир устроен так, что все в нем выступает против того,
чтобы кто-то воображал. Поскольку человек воображает, постольку
он не является элементом мира наличного и возможного. А
поскольку он не является этим элементом, постольку ему не надо экзистиро-
вать к бытию. Чтобы стремиться за пределы онтического, нужно быть
умным. А человек безумен. Он актуализирует и объективирует свои
фантазмы. Воображать — значит находиться в мире образов и схем.
В отличие от сущего, человек не имеет сущности. Человек — это
ходячий абсурд, нечто невозможное в мире сущего. Воображение — не
сущность, а парадоксальный способ бытия человека, в котором встречаются
и сосуществуют самоаффектация и речь, самость и «Я». При этом «Я»
не исчерпывает самость, а самость не может совладать с «Я».
Хайдеггер поместил воображение между чувствами и рассудком,
полагая, что оно выше первого и ниже второго. И сослался на Канта.
Но Кант увидел в воображении и иное: исток, корень и того и
другого. Поэтому чистый разум он понимал как чистую
самодеятельность, спонтанность.
564
Ф. И. Гиренок
Что я могу знать?
Что я могу знать? Кантовский вопрос явно нуждается в
уточнении, в указании на проблему. В действительности он должен
звучать так: «Что я, грезящий, могу знать?» И ответ будет
тавтологическим: ничего, кроме грезы.
Что я могу знать, если живу в пещере субъективности? Ничего,
кроме объективированной субъективности. * Грезы» должны
отделить тех, кто вопрошает о знании, от тех, кто не грезит и,
следовательно, ни о чем не спрашивает. Только грезящий человек обладает
способностью быть посредством своих представлений причиной
реальности предметов этих представлений.
Что я должен делать?
Что я, не имеющий сущности, должен делать? Что мне делать,
если я не марионетка Бога и не автомат природы?
Если я марионетка, то для меня не может существовать проблема
должного. Если я автомат природы, то мои действия уже
определены. Что мне делать, если я внутренне свободен? Как мне вести себя
в этом случае? Как мне жить, если мир учреждается моим
произволом? Я могу жить только как моральное существо, то есть через
самоограничение .
На что я вправе надеяться?
На что я, грезящий наяву, вправе надеяться? Что меня,
одинокого, не подведет, не обманет? Во что мне верить, если я замкнут в себе
самом? Я вправе надеяться на то, что размыкает мое одиночество,
оставляя меня свободным. А размыкается мое одиночество Богом
в трансцендентальном воображении. Мне остается надеяться на
случай, который приведет меня к самоподчинению.
Резюме
Философия после Хайдеггера отказывается понимать человека
как сущее среди сущего, хотя сам человек стремится стать
разумным, но не мыслящим и не живым существом. Человек не
привратник бытия. Бытие ничего не значит без воображающего понимания
человека. Поэтому философия отказывается от бытия в пользу
субъективности, заменяя опыт — воображением, идею конечности
человека — идеей его невозможности.
Ф. Е. ДЖИМОВ
Метафизика и ее критика
в философии М. Хайдеггера
1. Философия М. Хайдеггера
и место онтологометафизических проблем в ней
Еще при жизни Мартина Хайдеггера (1889-1976) литература
о нем превышала несколько тысяч единиц, однако и по сей день
процесс исследования его философии не идет на убыль: издаются
переводы его работ, его биографии, отдельные статьи и сборники,
посвященные творчеству немецкого мыслителя. <...>
<...> Как и подобает крупному философу, Хайдеггер был
блестящим... стилистом, что не всегда означает однозначность
высказываний и формулировок, а, наоборот, некую двусмысленность,
недосказанность и, применительно к самому Хайдеггеру, поэтичность.
<...> Хайдеггер по большому счету всю свою жизнь писал об одном
и том же* — о категории бытия в западной философии и культуре,
о ее роли, месте и судьбе. Ранний, поздний или зрелый Хайдеггер
лишь менял акценты, целиком оставаясь в своей проблематике, что
доказывает лишний раз нескрываемую увлеченность и преданность
классическому разделу философского знания — онтологии как
основополагающей части метафизики, чистой философии или «первой
философии». Посвятив почти все свое творчество метафизике,
Хайдеггер не только развивал, комментировал и, конечно же,
критиковал классические метафизические концепции, но и постоянно искал
ответ на самый важный и сложный, на его взгляд, вопрос о
специфике метафизики как концентрированной философии путем
определения ее границ и рамок, то есть критики. Поэтому рассматривать
* Олафсон Ф. А. Целостность хайдеггеровского мышления // Мартин
Хайдеггер: Сб. статей. СПб.: РХГИ, 2004. С. 56-82. В этой статье есть намек
на то, что нет никаких четких границ между «ранним» и «поздним» Хайде-
ггером, ибо его философия едина от начала своего развития и до конца.
566
Ф. Е. Ажимов
Хайдеггера исключительно лишь как ниспровергателя
традиционной онтологии и философии, европейской метафизики и мышления
по меньшей мере однобоко. Хайдеггер всегда был академическим
философом, его феноменологические корни говорят о философии как
«строгой науке», неустанном поиске аподиктичности как не только
чего-то непротиворечивого и гармоничного, но как укорененного
в своем подлинном источнике — традиции и переживании. <...>
Посему, на наш взгляд, говоря об онтологии (или шире — философии)
Хайдеггера, представляется необходимым постоянно удерживать
перед собой метафизический контекст философского вопрошания
«философа в берете», составными частями которого являются
собственно дефиниция метафизики, ее классическое и неклассическое
понимания (а значит, и отношение к классическим метафизическим
концепциям), реабилитация некоторых «доклассических» проблем,
связь метафизики и онтологии, их отношение и функционирование
в условиях современности и т. д. Попытаемся разобрать этот фон
более структурированно и детально.
2. Определение метафизики
Дефиницирование метафизики у Хайдеггера является
процессом выявления места философии вообще в структуре
человеческого знания. То, что окружает метафизику, неизбежно связано с ней,
поэтому появляется соблазн определить ее как отличную от всего
остального путем сравнения, выявления схожих и
противоположных черт. Сравнение философии закономерно исчерпывается
следующим стандартным набором: наука, мировоззрение, искусство,
религия и собственно история философии. В связи с этим
Хайдеггер, пожалуй, первый заговорил о проблеме «несравнимости
философии»* или, что то же самое, о самобытности и самодостаточности
философии. Нуждается ли она в чем-либо, кроме самой себя, чтобы
определить себя? И должна ли она себя определять? <...> Именно
здесь отчетливо наблюдаются две... тенденции в мысли или в жанре
хайдеггеровского философствования:
поэтически-экзистенциалистская и феноменологическая, или научно-академическая, которые
гармонично переплетены друг с другом и не противоречат главной
тематике философии Хайдеггера. Они даже не являются разными
сторонами одной медали, ибо в данном случае феноменологическое
переживание неотличимо от экзистенциального, хотя одно
называют рациональным, а другое нет. <...> Этот отрывок требует
некоторых пояснений с привлечением других текстов.
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и
бытие. М.: Республика, 1993. С. 327.
Метафизика и ее критика в философии М. Хайдеггера
567
Во-первых, согласно Хайдеггеру, философия имеет свой
уникальный жанр — вопрошание, которое должно быть устроено таким
образом, чтобы оно охватывало всю метафизику полностью и
затрагивало самого спрашивающего*.
Во-вторых, самое философичное в философии и самое
метафизичное в метафизике, то есть собственно пресловутая специфика
философского знания, это онтология, которая вопрошает об
условии возможности всего сущего. <...> Вместе с тем метафизика
(и философия вообще!), кроме онтологичности своих категорий, еще
и теологична, потому что она «первая философия» и говорит о
происхождении и развитии бытия. Философия, как и любая
теоретическая наука, есть мышление, которое еще в Античности понималось
в качестве тождественного бытию. И само бытие, в свою очередь,
тоже требует этого мышления, или, выражаясь классическим
философским языком, логоса, под которым понимается некая связь,
порядок, гармония и «лад», — это последнее слово предлагает сам
Хайдеггер. Поэтому метафизика включает в себя еще и логическую
компоненту.
<...> 3. «Метафизика как история бытия»**
Хайдеггер одним из первых в западной философии XX в.
реанимировал проблему бытия. Однако надо отдать должное, что он
учитывает сложившуюся историко-философскую традицию и при
этом, подобно Гегелю, рассматривает это понятие как его историю.
Историчность есть первая отличительная черта человеческой мысли
и философии как концентрированной сущности этого мышления.
<...> Это то же самое, что и философская история или
историческая философия***. Читая Хайдеггера, невозможно не заметить, что
он мыслит с учетом всей предшествующей европейской традиции****
и, более того, как замечает Н. В. Мотрошилова, вышеуказанную
характеристику гегелевской философии Хайдеггер ставит во главу
угла, в отличие от своего учителя Гуссерля, который «жестко
поставил на философии Гегеля штамп ненужности и чуждости»*****.
Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие. М.:
Республика, 1993. С. 16.
** Heidegger M. Nietzsche. Bd. IL Pfullingen: Verlag Günter Neske, 1989.
S. 399.
*** Figal G. Heidegger zur Einführung. Hamburg: Junius, 1992. S. 15.
**** Анц Ф. Диалог Хайдеггера с традицией / / Философия Мартина
Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991. С. 53.
***** Мотрошилова Н. В. Зачем нужен Гегель? (К вопросу о толковании Хайдег-
гером гегелевской философии) // Философия Мартина Хайдеггера и
современность. М.: Наука, 1991. С. 162.
568
Ф. Б. Ажимов
<...> Метафизика — основа эпохи в силу только того, что ей
принадлежит определенная трактовка истины и сущего*. Изложение
своих фундаментальных онтологических воззрений он начинает
с « деструкции Аристотеля»**, то есть с критического разбора
античной метафизики и культуры, и последовательно проводит этот
ретроспективный анализ вплоть до Нового времени, куда Хайдеггер
включает и весь XIX в.
<...> Хайдеггер рассматривает... классификацию тезисов о
бытии во * Введении в метафизику». Здесь он рассматривает
исторические представления о бытии в противопоставлении «бытие-иное»:
• бытие и становление;
• бытие и видимость;
• бытие и мышление;
• бытие и долженствование.
Первые два различия связаны с именами античных философов
Парменида и Гераклита, положивших начало полемике
относительно того, есть ли бытие нечто неподвижное или непрекращающееся
движение, и, как следствие, имеет ли истинное бытие свою
противоположность в форме «небытия» или ♦видимости».
Третье различие связано с четвертым тезисом о бытии и
принадлежит проблеме соотношения логики и метафизики. История
философской мысли является попыткой преодоления логики как
изобретения «школьных учителей»***. <...> Четвертое различие —
более позднее по времени своего появления по отношению к первым
трем — связано с образованием в XIX в. аксиологии и широким
использованием понятия ценности. <...> Согласно Хайдеггеру, это
есть результат нигилизма как завершающего этапа метафизики...
<...> 4. Онтологическая дифференциация
Подобный кризис метафизики, а значит, и философии вообще,
по мнению Хайдеггера, связан с одним упущением всей
предшествующей философии. До сих пор бытие понималось лишь как самое
общее, самое неопределенное и само собой разумеющееся****. Такие
предрассудки способствовали только «затемнению» понятия бытия.
По Хайдеггеру, онтология должна быть построена, но только при
прочтении греческой и всей последующей европейской проблема-
* Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. М.:
Республика, 1993. С. 41.
'* Figal G. Heidegger zur Einführung. S. 51-64.
** Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Издательство ВРФШ, 1998.
С.200.
** Он же. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 3-4.
Метафизика и ее критика в философии М. Хайдеггера 569
тики бытия сквозь призму темпоральности. А сама проблематика,
то есть проблемное рассмотрение, возможно при наличии
горизонта темпоральности. <...> Наше, человеческое бытие М. Хайдеггер
определяет как Da-sein, здесь-бытие, вот-бытие, сиюбытие,
присутствие. Оно отличается от картезианско-гуссерлевского ego тем,
что оно «уже здесь», всегда здесь. Его основной характеристикой
является бытие-в-мире (в целостности). В мире человек
встречается с вещами, из бытия человека М. Хайдеггер выводит его познание
в мире... Первые вещи Dasein — это подручные вещи, инструменты,
затем подручный мир переходит в окружающий мир наличных
вещей. Обо всем этом Dasein имеет некое пред знание, этот мир открыт
для него. Dasein в нем — центр, причем строгий центр.
<...> Подобная... упорядоченность в то же время не является
результатом некоего эмпирического опыта — она априорна,
поскольку принадлежит онтологическому порядку. М. Хайдеггер и
называет онтологической дифференциацией различие бытия и сущего как
самое фундаментальное различие, упущенное историей
западноевропейской философии. Бытие шире, чем все сущее, оно — условие
возможности этого сущего, оно — прежде всего сущего. Онтическое,
принадлежащее порядку сущего, есть сфера деятельности науки,
эмпирии. Онтологическое есть сфера мышления и принадлежит
философии. Кроме того, онтологическое, как условие возможности или
чистая возможность, есть априорное как «уже», «заранее»,
«прежде». М. Хайдеггер переводит фразу «а priori» как «более раннее»*,
поэтому априорное обладает и темпоральными характеристиками.
Следовательно, получается формула: онтологическое =
априорное = темпоральное, в которой стираются все неполные и
иллюзорные различия бытия от иного. Существенно значимым остается
только онтологическое различие, дающее основание для
философствования.
Априорность онтологии объясняется опытом трансценденции,
опытом философского выхода за пределы эмпирической
реальности. Понятие трансценденции является довольно многозначным
для историка философии. Хайдеггер приводит следующие значения
этого феномена**:
1. Трансцендентность есть связь между бытием и сущим.
2. Трансцендентность есть связь между изменяющимся сущим
и неизменным сущим, это поиск вечности и устойчивости.
3. И наконец, трансценденция есть само бытие.
* Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Издательство
ВРФШ, 2001.С. 431.
** Судьба нигилизма: Эрнст Юнгер. Мартин Хайдеггер. Дитмар Кампер. Гюн-
тер Фигаль. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 83.
570
Ф. Е. Ажимов
Таким образом, трансценденция есть преодоление физического,
она есть метафизика. Априорность онтологии обусловлена тран-
сценденцией, что обрекает ее на метафизичность. Посредством
трансценденции достигается метафизическое единство
постигаемого явления и самого процесса постижения.
Однако категория различия не исчерпывается у Хайдеггера
лишь разницей бытия и сущего. В статье «Пути к собеседованию»
он констатирует: «Есть два царства сущего... Эти царства — природа
и история»*. Первым из них интересовалась нововременная
философия, причем исключительно в свете «природоведения» и
математики. Немецкая классическая философия уделила больше
внимания «историческому совершению». В итоге эти две сферы стоят
особняком как «царства», и «пути к собеседованию» еще только
должны быть намечены. Онтологический дуализм никогда не был
предметом специального рассмотрения у Хайдеггера, да и сам он
признает в приведенных словах, что это имплицитная проблема,
отчетливая формулировка которой еще предстоит. В этой связи,
например, А. Кожев с сожалением заявляет, что «Бытие и время»
явилось лишь только неоконченным введением в обещанную
дуалистическую онтологию, «но и этого достаточно, чтобы причислить
его (Хайдеггера. — Ф. А.) к великим» **. А Р. Достал находит прямые
указания на подобный дуализм в «Основных проблемах
феноменологии» и считает это предметом особой гордости самого
Хайдеггера***. Вместо «дифференциации» (Differenz) Хайдеггер здесь
использует термин «отличие» (Unterschied). Это отличие между историей,
человечеством и природой, миром. Выше мы видели, что Хайдеггер
пытается снять именно этот дуализм классической философии,
описывая расположение Dasein в мире.
Согласно О. Пёггелеру, траектория, которую проделывает мысль
Хайдеггера, пролегает через три основных для его философии
категории: идентичность или тождество (Identität), различие (Differenz)
и основание (Grund)****. Стоит отметить, что подобная схема своей
«триадичностью» вполне укладывается в парадигму классической
немецкой философии. Через «сущее как сущее»*****, неразличенное
среди другого сущего, мышление в онтологии дифференцируется
Хайдеггер М. Пути к собеседованию // Хайдеггер М. Работы и
размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 235.
'* Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003. С. 603.
Достал Р. Время и феноменология у Гуссерля и Хайдеггера // Мартин
Хайдеггер: Сб. статей. СПб.: РХГИ, 2004. С. 210.
** Pöggeler О. Der Denkweg Martin Heideggers. Pfullingen: Verlag Günter
Neske, 1990. S. 145-163.
" Ibid. S. 145.
Метафизика и ее критика в философии М. Хайдеггера
571
от бытия как своего условия и приходит к своему основанию,
которое обретает в человеке.
5. Новые метафизические основания
Такими основаниями являются язык и связанные с ним
проблемы. Но всамделишный творец мира — это, по Хайдеггеру, поэт,
который способен слушать сам язык, находясь в нем. Все люди дают
слово языку, но только поэт открыт ему, максимально погружается
в стихию языка и не стремится обозреть его со стороны, как объект.
Сам язык есть ведь язык бытия, как и мысль есть мысль бытия.
Не мы говорим на языке, а язык посредством нас. Бытие говорит
через нас, в человеке оно обретает свой язык*.
<...> Художественное творение дает бытие вещи как вещи, вещи
в ее бытийственности. <...> Поскольку в творении некое сущее
раскрывается для бытия, то в творении свершается истина. «В
творении совершается это раскрытие-обнаружение, то есть истина
сущего»**. Истина раскрывается в творении (или наоборот) благодаря
спору «земли и мира». Мир — это открытость, «то непредметное
в творении, чему мы подвластны»***. Земля — это элемент
скрывающий. Истина — это то, к чему надо прийти. Истина — не
адекватность, а непотаенность****. <...> Истина примиряет спор земли и мира
в Красоте.
Поздний Хайдеггер разовьет такое понимание гармонии до
понятия «четверицы» (Geviert)*****, которое противопоставляется
понятию по-става (Gestell) как воле человека, стремящегося подчинить
планету, на которой он обитает, технике. Четверица есть то, что
присутствует в любой вещи: божественное и смертное, небесное и
земное. Вещь есть единство этой четверицы. Принцип четверицы —
«зеркальность»******. Одно отражает и отсылает к трем другим.
Как замечает В. А. Подорога, мир четверицы — это тот мир, где
ничто не смешивается, а находится «в своей изначальной слитности
* Об этом и говорят две самые, пожалуй, популярные цитаты из
Хайдеггера: «Язык есть дом бытия» и «Человек есть пастух бытия». См.:
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. М.:
Республика, 1993. С. 152-220.
** Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы
и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 72.
*** Там же. С. 77.
**** Об этом см.: Хайдеггер М. О сущности истины // Хайдеггер М. Разговор
на проселочной дороге: Избранные статьи позднего периода творчества. М.:
Высшая школа, 1991. С. 8-27 и § 44 «Бытия и времени».
***** Pöggeler О. Der Denkweg Martin Heideggers. S. 247-267.
****** Хайдеггер M. Вещь // Хайдеггер M. Время и бытие. М.: Республика, 1993.
С. 324.
572
Ф. Е. Ажимов
раздельным»*. Отношение земли, неба, смертных, божественного —
это отношение против-над-друг-с-другом (gegen-einander-über).
Сущее в целом, бытие Хайдеггер называет миром. А
человеческое бытие есть бытие-в-мире. Значит, человек существует при этом
целом. Бытие человека не носит в своем существе нечто
деструктивное; оно, напротив, есть бытие-в-мире как в-целом-сущего, в центре
мира и бытия. Это дает право и возможность ему открывать истину
в речи и творении.
Упомянутый же выше по-став или техника как современный
способ мышления является закономерным продолжением
классической европейской метафизики как господства субъекта, который
приводит исключительно к смерти Бога, нигилизму и к концу
метафизики. Процесс осмысления этой ситуации Хайдеггер определял
как «преодоление метафизики»**. Это преодоление или «превозмога-
ние» сходно с гегелевским снятием. Преодолеть — значит пережить
и оставить в качестве своей истории, пережить как собственное,
«переболеть» ***. Означает ли это, что с уклоном в сторону поэзии и
искусства исчезает метафизическая мысль?
«Что же тогда значит "конец метафизики"? Ответ: исторический
момент, когда сущностные возможности метафизики исчерпались.
Последней из этих возможностей должна быть та форма
метафизики, в которой ее существо перевертывается»****.
«Перевертывание» — это кардинальная смена акцентов в
философствовании, которая имела место у Декарта, Гегеля, Ницше и т. д.
Поэтому можно на первый взгляд заметить, что Хайдеггер
довольно небрежен в историческом определении места «конца
метафизики» — то Декарт, то Гегель, то Ницше значатся у него в качестве
«последних метафизиков»*****. Смена акцента — это, прежде всего,
еще и стиль изложения, новаторство в терминологии и метод оло-
* Подорога В. А. Метафизика ландшафта. М.: Наука, 1993. С. 254.
** Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. М.:
Республика, 1993. С. 177-192. Этому вопросу также посвящены
специальные исследования: Vattimo G. Heideggers Verwindung der Moderne // Martin
Heidegger. Denker der Post-Metaphysik: Symposium aus Anlaß seines 100.
Geburtstags. Heidelberg: Winter, 1992. S. 49-66; Veauthier F. W. Zeitkritik als
Metaphysikkritik // Martin Heidegger. Denker der Post-Metaphysik:
Symposium aus Anlaß seines 100. Geburtstags. Heidelberg: Winter, 1992. S. 16-25.
Михайловский А. В. Значение языка «Рабочего» для хайдеггеровской
критики метафизики // Историко-философский ежегодник 2001. М.: Наука,
2003. С. 225.
*** Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. М.:
Республика, 1993. С. 148.
'** По этому поводу «негодует» А. В. Михайловский в «Значении языка
"Рабочего" для хайдеггеровской критики метафизики». С. 226.
Метафизика и ее критика в философии М. Хайдеггера 573
гии, о котором мы говорили вначале параграфа, характеризуя
метафоричность стиля Хайдеггера.
Окончательный, итоговый (final) анализ философии М.
Хайдеггера невозможен, ее ценность заключается в континуальной
эристике, в процессу ал ьности мысли*. * Конец метафизики» есть метафора
для обозначения, во-первых, логического предвидения развития
метафизики и, во-вторых, этого ощущения переходности эпохи,
в которую жил Хайдеггер и живем сейчас мы.
Позиция Хайдеггера относительно статуса метафизики как
неотъемлемой характеристики западноевропейского мышления
и, главным образом, сама постановка им этой проблемы до сих пор
определяет интерес к ней у современных мыслителей. Хайдеггер
отчетливо осознает тот факт, что если метафизика неизбежна, то
абсолютно невозможно отказаться и игнорировать ее. Именно поэтому
он предлагает концепцию преодоления метафизики как смену
определенной философской парадигмы другой. Самому Хайдеггеру,
философия которого является, несомненно, важной и даже
основополагающей вехой для философской мысли XX в., так и не удалось
по большому счету отказаться или «очистить» свою мысль от
метафизических оснований, от метафизического содержания.
€^
* Polt R. Heidegger: an Introduction. N. Y.: Cornell University Press, 1999.
P. 180.
А. Б. ПАТКУЛЬ
Деструкция логики в фундаментальной онтологии
Мартина Хайдеггера
Введение
Философская мысль Мартина Хайдеггера весьма многогранна,
и, видимо, поэтому при реконструкции этой мысли в целом
некоторые ее стороны нередко рассматриваются не в том объеме,
который они заслуживают. Пожалуй, понятие логики относится к ряду
тех, несомненно, важных для этого мыслителя тем, которые
замечаются истолкователями хайдеггеровского наследия менее охотно,
по крайней мере, по сравнению с другими темами его мышления.
<...> ...В рецепции хайдеггеровской мысли сохраняется заметная
инерция, в соответствии с которой она считается едва ли не всецело
отрицающей логику. В этой связи можно упомянуть ту
неопределенность места фигуры Хайдеггера в конфигурации современной
философии, о которой пишет Г. Фигаль: «Хотя Хайдеггер неоспоримо
принадлежит к наиболее важным философам этого столетия, все же
нельзя будет сказать, что его работы в текущих философских
дебатах занимают само собой разумеющееся место. Хайдеггера,
правда, читают и обсуждают, но он не считается бесспорным классиком
философии. Даже там, где его таковым и называют, это происходит
не без колебания, и с первого взгляда кажется, что эти колебания
необходимо разделить. В конце концов, к Хайдеггеру не
обращаются за аргументами так, как к Аристотелю и Канту, Фреге и
Витгенштейну, и даже к Гуссерлю, его тексты не опрашивают так же, как
тексты этих и других авторов, если при прояснении и решении
философских проблем с помощью других понятийных средств не
удается далеко продвинуться»*.
* Figal G. Martin Heidegger. Phänomenologie der Freiheit. 3. Aufl. Weinheim:
Beltz Athenäum Verlag, 2000. S. 11.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 575
Очевидно, что отчасти повод к такой оценке дает сам Хайдеггер.
По крайней мере, что касается его понимания логики и значения
таковой для философии: ведь его отношение к ней — нескрываемо
деструктивное. <...> ...Не часто замечается, что... в период
разработки... фундаментальной онтологии он во многом все же продолжает
придерживаться гуссерлевской программы построения философии
как строгой науки.
Сам он в «Основных проблемах феноменологии» (1927)
недвусмысленно декларирует: «Мы будем понимать в дальнейшем под
философией научную философию и не иначе»*. <...> ...Хайдеггер
вынужден выяснять отношение этой философии... к логике, поскольку
традиционно именно она трактует об условиях возможности
научности. И трудность хайдеггеровского отношения к этой дисциплине
как раз в том-то и состоит, что он не просто, как часто понимают его
деструкцию, отвергает всякую логику... и погружается в имеющую
всецело субъективный характер философию приватного опыта с его
чувствами и переживаниями (даже если им у Хайдеггера и дается
для маскировки имя расположенности), а в том, что он стремится
на пути деструкции логики конкретно и обоснованно предъявить
ее онтологический генезис и обусловленную этим генезисом
ограниченность ее применимости.
Поэтому задача деструкции логики у Хайдеггера оказывается
отнюдь не случайной, обусловленной его частными интересами и
тематическими предпочтениями; от решения ее, напротив, во
многом зависит возможность построения философской онтологии как
«строгой науки». Сам философ заявляет, что «деструкция логики
оказывается частью обоснования метафизики»**.
О значимости этой задачи можно судить и по тому объему,
который составляют в совокупном объеме его трудов работы, так или
иначе посвященные логосу и логике. Так, например, Т. Бухер
считает, что Хайдеггер «не слишком мало, а слишком много говорит
о логике. По меньшей мере четверть объемистых опубликованных
трудов имеют к этому отношение»***. Т. Кизель даже считает, что
«можно было бы написать целую книгу, характеризующую всю
карьеру Хайдеггера как карьеру "логика"»****.
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Издательство
ВРФШ, 2001.С. 15.
" Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 26: Metaphysische
Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann Verlag, 1978. S. 70.
*" Bucher Th. G. Zu Heideggers Verständnis der formalen Logik. (Erster Teil) //
Heidegger Studies. Vol. 22. 2006. P. 111.
**** Kiesel Th. The Genesis of Heidegger's "Being and Time". Berkley: The
University of California Press, 1993. P. 398.
576
А. Б. Паткуль
Исходя из этого, для понимания онтологического замысла Хай-
деггера крайне важной оказалась бы общая реконструкция
предложенного им способа деструкции логики ввиду демонстрации ее
онтологического генезиса и основанной на нем ограниченности ее
применимости.
<...> I. Проблема соотношения онтологии и логики у Хайдеггера
За исходный пункт рассуждений о хайдеггеровской идее
деструкции логики следует взять его трактовку соотношения
онтологии и логики. Прояснить же его понимание этих двух философских
дисциплин возможно, только если заранее очертить, что именно
Хайдеггер понимает под онтологией.
Можно констатировать, что Хайдеггер отождествляет
философию и онтологию; он считает, что «философия не есть наука о сущем,
но наука о бытии, или, как говорит греческое выражение, —
онтология»*. Из этой же цитаты видно, что, согласно философу,
собственным предметом философии как онтологии является бытие. «Итак,
мы утверждаем: бытие есть подлинная и единственная тема
философии»**, — декларирует Хайдеггер. Подобное заявление о собственном
предмете философии делается мыслителем на основании введенного
им тезиса онтологической дифференции — радикального различения
бытия и сущего***. <...> Исходя из тезиса онтологической
дифференции, Хайдеггер различает сферу оптического — того, что относится
к порядку сущего, и онтологического — того, что относится к порядку
бытия. Соответственно, все науки Хайдеггер делит на два рода — он-
тические (направленные на сущее) и онтологические (направленные
на бытие). В работе «Феноменология и теология» он утверждает: «Из
идеи науки вообще можно показать...: необходимо имеют место две
основных возможности науки: науки о сущем, онтические науки —
и наука о бытии, онтологическая наука, философия»****.
Если присмотреться к предметным сферам обоих типов наук,
то окажется, что, в соответствии с тезисом онтологической
дифференции, предметом онтических наук выступает все то, что в том
или ином смысле есть. <...> Бытие же, по его мнению, не есть,
не существует в каком-либо смысле. Бытие — это ничто сущего.
* Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Издательство
ВРФШ, 2001.С. 15.
'* Там же.
'* Ср.: там же. С. 20.
№ Heidegger M. Phänomenologie und Theologie // Heidegger M.
Gesamtausgabe. I. Abteilung. Bd. 9: Wegmarken. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann Verlag, 1976. S. 48.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 577
Однако же оно не есть и ничто в смысле nihil absolutum. Само
не существуя, бытие, согласно Хайдеггеру, в некотором смысле
дано.
Ключевым моментом в хайдеггеровской трактовке бытия
является то, что бытие не есть, а дано и что данность бытия — это
данность в понимании... <...> Постольку поскольку Хайдеггер
трактует бытие как только понимаемое, он оказывается также
вынужденным ввести понимающую инстанцию, — то, «где»
понимание бытия, соответственно его данность осуществляются. Такой
инстанцией у него оказывается определенное сущее. «Это сущее,
которое мы сами всегда суть и которое среди прочего обладает
бытийной возможностью спрашивания, мы терминологически
схватываем как присутствие»* **. <... > Более того, способность
понимать бытие и составляет, с точки зрения Хайдеггера, само бытие
такого сущего. «Понятность бытия сама есть бытийная
определенность присутствия. Онтическое отличие присутствия в том,
что оно существует онтологично»***, — пишет философ в «Бытии
и времени».
<...> ...У Хайдеггера Dasein как понимающее бытие — это «онти-
чески-онтологическое условие возможности всех онтологии»****.
Поэтому, по Хайдеггеру, необходимо предварительно опросить
Dasein на предмет того, каким именно образом оно понимает бытие
и что вообще обеспечивает возможность этого понимания. Стало
быть, с его точки зрения, прежде чем выстраивать учение о бытии
как таковом, нужно прояснить те структуры, которые служат
такого рода обеспечению: это он и пытается осуществить,
предпринимая экзистенциальную аналитику Dasein. Именно выявление
конкретной экзистенциальности Dasein способно, как полагал
Хайдеггер, привести к созданию учения о смысле бытия вообще и,
далее, — о смысле бытия отдельных областей сущего (региональных
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 7.
" В. В. Бибихин, переводчик хайдеггеровского «Бытия и времени» на
русский язык, предлагает переводить интересующий нас здесь термин
немецкого философа das Dasein как присутствие; будучи несогласным с таким
переводческим решением, в том числе и потому, что русский эквивалент
«присутствие» следовало бы зарезервировать за хайдеггеровскими das
Anwesen или die Anwesenheit, относящимися у него как раз к наличному
сущему, а не к человеку, автор статьи для обозначения понимающего бытие
сущего будет использовать оригинальный немецкий термин Dasein, и
только при цитировании русского перевода «Бытия и времени» вынужденно
будет сохранен перевод «присутствие», — остается попросить у читателя
извинения за эту невольную двусмысленность.
'* Там же. С. 12.
'* Там же. С. 13.
578
А. Б. Паткуль
онтологии)*. Иными словами, философ пытался выстроить
следующую последовательность онтологического исследования:
отталкиваясь от далее нетематизируемого факта понимания бытия
человеческим сущим, перейти к прояснению структур, обеспечивающих
возможность такого понимания на уровне повседневности, —
итогом этого этапа должно было служить понятие заботы как бытия
Dasein**. Достичь далее в ходе исследования структуры, временящей
себя в триединстве своих экстазисов временности (die Zeitlichkeit)
как смысла бытия Dasein***, и уже отсюда перейти к разработке
проблематики темпоральности (die Temporalität) в качестве смысла
бытия вообще, представляющей собой временность в единстве
принадлежащих ее экстазисам трансцендентальных горизонтов или
горизонтальных схем.
Если теперь... поставить вопрос о том, как подобным образом
понятая онтология может быть связана с логикой, то в самую первую
очередь следует указать на то, что, по мысли Хайдеггера, уже
фактическое доонтологическое понимание бытия есть понимание,
осуществленное посредством употребления понимающим бытие
сущим глагола-связки «быть». Вальтер Брёкер отмечает: «Бытие
исходно встречается в есть-говорении (Ist-Sagen)»****.
<...> Но не является ли дисциплиной, которая трактует такое
«оно есть так-то и так-то», а именно в виде апофантического
суждения, логика? А если так, не зависит ли тогда онтологическое
исследование бытия от логики не только по возможной форме науки,
но даже и по самому своему существу — по существу своего
предмета? Не должна ли логика предпосылаться онтологии, а онтология,
со своей стороны, обосновываться в логике? Соответственно, дей-
* Здесь нет возможности затрагивать крайне важную тему
архитектоники хайдеггеровского онтологического замысла, которая, к сожалению,
до сих пор не реконструирована однозначно... <...> Допустимо будет
только отослать читателя к наиболее важному тексту, касающемуся
проблемы: Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 26: Metaphysische
Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. § 10. Anhang:
Kennzeichnung der Idee und Funktion einer Fundamentalontologie. Frankfurt
am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1978. S. 196 ff. Возможную
реконструкцию архитектоники хайдеггеровского онтологического замысла
можно найти в следующем издании: Bast R. A. Der Wissenschaftsbegriff Martin
Heideggers im Zusammenhang seiner Philosophie. Stuttgart; Bad-Cannstatt:
Fromann-Holzboog Verlag, 1986. S. 58.
" Понятию заботы посвящен § 41 «Бытия и времени». <... >
" См.: Хайдеггер М. Бытие и время. Раздел второй. Глава третья. M.: Ad Mar-
ginem, 1997. С. 301 и след.
'* Broker W. Heidegger und Logik // Martin Heidegger. Perspektiven zur
Deutung seines Werkes. Hrsg. V. Otto Pöggeler. Dritte ergänzte Ausgabe.
Weinheim: Beltz Athenäum Verlag, 1994. S. 300.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 579
ствительно ли логика, поскольку она трактует о суждении, не
нуждается ни в какой проблематизации и никаком обосновании и сама
призвана обосновать любую научную дисциплину?
Хайдеггер считает иначе: онтология не должна быть обоснована
в логике, даже если центром последней является учение об апофан-
тическом суждении. Напротив, логика должна быть обоснована
в онтологии, поскольку использование связки в апофантическом
суждении уже предполагает определенное понимание бытия,
а именно такое, которое позволяет ему быть высказанным в
связке такого суждения. Онтологическое же прояснение характера
бытия в смысле связки неизбежно требует нейтрализации редукции
бытия к его логической функции, что предполагает деструкцию
онтологического генезиса этой редукции... <...> И если в главном
трактате Хайдеггера мотив деструкции логики остается в тени,
то в некоторых курсах лекций, читанных им в университете Марбур-
га в период написания и почти сразу после опубликования «Бытия
и времени», мотив этот, безусловно, оказывается ведущим. Так,
например, интерпретируя философию Лейбница, Хайдеггер
намеренно противопоставляет свою позицию интерпретациям некоторых
современных ему философов, видящих в логике Лейбница основу
его метафизики, что у них в итоге ведет к признанию избыточности
метафизики в его «системе». Хайдеггер же считает, что в конечном
счете именно пример Лейбница показывает: «Логика основывается
в метафизике и сама есть не что иное, как метафизика истины» *.
II. Различение способов бытия
и ограниченность применения традиционной логики
Для того чтобы показать, как именно создатель фундаментальной
онтологии осуществляет деструкцию логики, необходимо
вспомнить еще один важный тезис о бытии, выдвигаемый Хайдеггером:
«Имеет место многообразие modi existendi, и таковые одновременно
суть всякий раз модусы бытия сущего, обладающего определенной
содержательностью, определенным что-бытием»**.
Философ, правда, нигде не дает единой и окончательной
классификации всех способов бытия, как и классификации всех областей
(регионов) сущего, каждая из которых обладала бы только ей
присущим способом бытия. <...> По крайней мере, не вдаваясь в более
* Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 26: Metaphysische
Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann Verlag, 1978. S. 132.
** Ibid. S. 192. См. также: Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии.
СПб.: Издательство ВРФШ, 2001. С. 16.
580
А. Б. Паткуль
подробные дифференциации, можно констатировать, что у Хайдег-
гера имеет место выделение таких регионов, как подручное,
способом бытия которого является подручность, наличное со способом
бытия наличности, живая природа с жизнью как способом бытия,
идеальные, в том числе математические, соотношения, бытий-
ствующие по способу вневременного постоянства (der Bestand).
Наконец, человеческое сущее также обладает своим нередуцируе-
мым способом бытия... — экзистенцией. <...> Необходимо...
подчеркнуть, что, согласно Хайдеггеру, различие регионов сущего
задается упреждающим его пониманием способа... бытия — в
соответствии с тезисом о том, что бытие есть «то, что определяет сущее
как сущее»*, — в данном случае сущее такого-то региона как сущее
такого-то региона.
<...> Тем самым Хайдеггером достигается решающий пункт,
служащий достаточным основанием для деструкции логики:
обнаруживается, что логика редуцирует многозначность глагола «быть»
к нейтральному применению его в качестве связки двух и более
терминов, для которого онтологический статус того, что этими
терминами обозначается, совершенно индифферентен.
На деле же, если не абстрагироваться от онтологического статуса
обозначаемого логическими терминами, можно увидеть, что смысл,
вкладываемый в связывающий их в суждении глагол «быть»,
существенно различается: так, быть человеком по способу экзистенции
совсем не то же самое, что быть просто наличествующей вещью,
а быть животным не то же самое, что быть числом или
геометрической фигурой. Как уже говорилось, для того чтобы освободиться
от такого редуктивного хода логики, требуется ее деструкция.
Задача ее, таким образом, должна заключаться в том, чтобы
ретроспективно показать, из какого именно нетематического понимания
бытия происходит недифференцированное логическое употребление
глагола «быть» как связки в суждении и как такое употребление
становится универсальным и исключительным.
Ответ Хайдеггера на поставленный таким образом вопрос
выполнен в общей типике его деструктивных схем, которые можно
обнаружить и в «Бытии и времени»: редукция бытия к чисто
функциональному и индифферентному глаголу-связке возможна тогда
и только тогда, когда бытие уже заведомо понято исключительно
как наличие, а сущее соответственно как только наличное.
Вместе с тем логика, которая, как считается, обладает универсальной
применимостью, вне зависимости от характера предмета, свою
онтологическую легитимность получает не только за счет модифика-
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 6.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 581
ции понимания бытия в бытие как наличие, но и в упреждающем
сведении всякого бытия к бытию как наличию. Таков ее
онтологический генезис.
И им обозначаются границы применимости этой дисциплины,
претендующей в своей формальности на универсальное значение
для любых предметных областей. Если онтологически, как Хайдег-
гер пытается показать, логика состоятельна только на основании
понимания бытия как наличия, а... наличие не есть единственный
способ бытия, то вопрос о применимости логики и, стало быть,
бытия как только связки в суждении относительно прочих
регионов сущего, обладающих своими собственными способами бытия,
напрашивается сам собой. Как само собой напрашивается и ответ:
применение логики за пределами региона наличных вещей, для
оперирования с которыми логика и была сформирована, с большой
вероятностью, является ее неоправданной экстраполяцией.
Показательный пример для понимания ограниченности
применения логики можно почерпнуть, в частности, в... лекциях
философа... «Логика как вопрос о сущности языка». Лекции эти в основе
своей ориентированы на ту же самую программу деструкции или,
как это называет здесь Хайдеггер, сотрясения (die Erschütterung)
логики, что и ранее. Заявив их как лекции о логике, Хайдеггер
почти сразу переходит к понятию языка, а отсюда — к понятию
народа (das Volk). При этом он показывает, что народ невозможно
понимать как просто сумму отдельных людей, его составляющих.
Народ всегда предполагает не только отношения «мы» и «вы»,
но и превосходящую их самость (das Selbst), сплачивающую народ
в единое целое, которые обычная логика, адаптированная к
только наличному сущему, где по самому его бытию таких отношений
быть не может, не способна адекватно описать. Поэтому она
представляет народ как только множественное число (die Mehrzahl)
индивидов. Однако, по мнению в Хайдеггера, это несобственное
понимание бытия народа. В подлинном его бытии каждый не только
является единичным человеком, но и единственным, занимающим
свое уникальное место. Равно как и сам народ не есть в модусе плю-
ралиса — напротив, в известном смысле он есть в модусе сингуля-
риса; каждый его представитель может к нему обратиться именно
в модусе «Ты, мой народ! ». Хайдеггер говорит: «"Мы" есть столь же
мало сумма "я", как "вы" — сумма "ты". Если многие "я" собраны
вместе и каждое "я" о себе говорит "я, я", тогда из
множественного числа возникает противоположность "мы", во всяком случае,
собственному "мы"... Отсюда мы делаем позитивный вывод, что
в "мы" и "вы" решающим является не возможность быть
сосчитанным (der Zahlhaftcharakter), но характер самости. Характер
582
А. Б. Паткуль
самости не принадлежит ни "я", ни "ты", ни "мы", ни "вы" по
преимуществу»*. При формировании суждений о народе логика в ее
традиционном виде — с ее различием вида и рода, общих и частных
суждений — пробуксовывает. «Почему мы не даем какой-либо
дефиниции самости? Почему мы медлим?»** — спрашивает философ
и сам дает ответ: «Потому что мы при попытке определить самость
и ее сущность втискиваем ее в понятийность и логику, которая
ей совершенно чужда. Ибо, согласно этой логике, "я" как самость
должно быть экземпляром "Я" и одновременно также быть другим
видом ("Ты"), что абсурдно. Эта само по себе привычная логика
рода, вида и единичных случаев, которая кажется нам
абсолютно значимой, возникла из вполне определенного опыта, из вполне
определенного воззрения на способ [бытия] сущего — из вполне
определенной, начинающейся в греческой философии логики,
господству которой мы подчинены еще сегодня»***.
III. Опредмечивание сущего до сущего как наличного
и истина экзистенции как основание логики
Итак, логика оказывается возможной только на основе
упреждающего ее понимания всякого бытия как наличия. Такое понимание
возникает за счет модификации понимания бытия как подручного.
Для Хайдеггера подобная модификация, допускающая
формирование логики, оказывается общей с модификацией понимания бытия,
ставшей условием возможности «онтологического генезиса
теоретической установки» вообще. В. Брёкер в своей полемически
заостренной против хайдеггеровской трактовки логики статье «Хайдеггер
и логика» высказывается даже в том смысле, что «Хайдеггер
отождествляет логическое и теоретическое, между тем как, на самом
деле, логическое — это структура, которая является общей для всех
форм отношения к миру» ****.
Тем не менее именно трактовка Хайдеггером онтологического
генезиса теоретической установки оказывается способной пролить
свет на его понимание онтологического генезиса логики. Этот
генезис можно описать как «переключение от усматривающего оза-
бочения подручным в исследование внутримирно преднаходимо-
* Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung: Vorlesungen (1919-1944).
Bd. 38: Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann Verlag, 1998. S. 43.
** Ibid. S. 44.
*** Ibid. 44-45.
"** Broker W. Heidegger und Logik // Martin Heidegger. Perspektiven zur
Deutung seines Werkes. Hrsg. V. Otto Pöggeler. Dritte ergänzte Ausgabe.
Weinheim: Beltz Athenäum Verlag, 1994. S. 302.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 583
го наличного»*. В таком переключении Dasein начинает понимать
«быть» сущего как только наличествующее в настоящем. <...>
Образцовый пример такого переключения бытийной понятливости
философ находит в возникновении математического естествознания
в Новое время. В этом случае хорошо видно, как упреждающим само
возникновение науки образом формируется такое понимание бытия
сущего, которое только и позволяет этому сущему стать предметом
научного познания. По мнению Хайдеггера, подобное
формирование имеет характер наброска. <...> В «Бытии и времени» Хайдег-
гер называет такой набросок, поскольку на его основе задаются
границы предметной области науки и формируются базовые понятия,
в которых она мыслится, тематизацией**.
Пожалуй, ...удачный... термин найден им в лекциях
«Феноменологическая интерпретация кантовской „Критики чистого разума"»:
здесь он говорит об опредмечивании (die Vergegenständlichung) как
об основном акте, задающем переключение от донаучного
отношения к сущему в научное, и как о выраженном осуществлении
понимания бытия как наличия. «Мы называем поведение, посредством
которого конституируется научное поведение как таковое,
опредмечиванием****. <...> Таким образом, в онтологии Хайдеггера
упреждающее событие тематизирующего опредмечивания бытия
сущего до только наличия наличного является необходимым условием
формирования как вообще теоретического отношения к сущему,
так и, в частности, логики.
Событие тематизирующего опредмечивания сопровождается
событием модификации герменевтического «как» понимания бытия,
основывающегося в понимании бытия как подручности9 в апо-
фантическое «как» суждения, ведомого пониманием бытия как
наличия. В курсе лекций «Логика. Вопрос об истине» Хайдеггер
утверждает: «В осуществлении высказывания в форме предикации,
а именно в форме категорического высказывания, первично
понимающее "как" нивелируется в простое чистое определение вещи
(Ding-bestimmung). Показывание имеет смысл давания видеть
наличного из чего-то с чем-то и при чем-то, нечто — и иное в качестве
в нем соналичествующего »****.
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 357.
** См.: там же. С. 363.
*** Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung: Vorlesungen (1919-1944).
Bd. 25: Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen
Vernunft. Dritte Aufl. Fr./M.: Vittorio Klostermann Verlag, 1995. S. 26.
"** Idem. Gesamtausgabe. II. Abteilung: Vorlesungen (1919-1944). Bd. 21:
Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
Verlag, 1976. S. 153-154. См. также: Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad
Marginem, 1997. С. 158.
584
А. Б. Паткуль
Впрочем, простого указания на такого рода модификацию
понимания бытия не достаточно для полной деструкции логики.
Дело в том, что само понимание бытия как подручного, но еще
не наличного уже является результатом определенного
онтологического генезиса, а именно исходно и всегда уже состоявшегося
отпадения понимающего бытие Dasein от экзистенции как своего бытия
и подпадения его ближайшим образом встречаемому сущему, т. е.
подручному. <...> Разумеется, экзистенция всегда уже имеет
место — без нее не были бы даны ни она сама, ни какой бы то ни было
другой способ бытия, включая подручность; но при этом сущее
по способу экзистенции не понимает свое бытие как экзистенцию,
редуцируя его, как и всякое другое бытие, к подручному. <...>
Онтологически это означает, что Dasein исходно понимает всякое бытие
только из одного измерения временности как смысла своего бытия —
из экстазиса настоящего. <...> Трансцендентальным горизонтом
экстазиса настоящего, согласно Хайдеггеру, является презенция.
Через нее и ввиду нее нечто сущее понимается Dasein как
находящееся под рукой, либо не находящееся, соответственно, «быть» — как
«быть под рукой» или «не быть под рукой». <...> И сведение
понимания всякого бытия к пониманию его на основе презенции уже лежит
в основе переключения понимания бытия как подручного на бытие
как наличное, т. к. обе эти модальности бытия подразумевают пре-
зенцию и бытие в настоящем, хотя и по-разному понятое.
Таким образом, исходное сведение самим Dasein бытия к бытию
в настоящем, понятому из горизонта презенции, является
первичным условием модификации понимания бытия как подручного
в понимание его как только наличного, т. е. возникновения теорети-
чески-опредмечивающего отношения к сущему, а стало быть,
логики. У Хайдеггера можно встретить следующее разъяснение данного
обстоятельства: «Раскрытость, соответственно, истина
направленных на мир высказываний означает настоящее. Но бытие означает
присутствие (Anwesenheit), т. е. смысл бытия понят из настоящего,
только в этом состоит возможность чего-то подобного присутствию» *.
Судя по всему, осуществлять деструкцию логики Хайдеггер
планировал по путеводной нити понятия истины. Беря свое начало
в понятии истинностного характера бытия, который
обнаруживает себя уже в простом апофантическом суждении, а именно в его
связке, ход деконструкции регрессивно должен был вести к
истине как раскрытости (die Entdecktheit) несоразмерного Dasein
сущего, а отсюда — к изначальной истине как разомкнутости (die
* Heidegger M. Gesamtausgabe. IL Abteilung: Vorlesungen (1919-1944).
Bd. 21: Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann Verlag, 1976. S. 415.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 585
Erschlossenheit) самого Dasein. Так, в «Логике. Вопросе об истине»
Хайдеггер на примере Аристотеля пытается показать, что истине
как истине апофантического суждения, т. е. истине, обусловленной
связыванием и разделением и относящейся к составному сущему,
онтологически уже должна предшествовать истина
несоставного сущего. У Аристотеля это, правда, вечное сущее, которое не
может иметь в себе иного; в случае же Хайдеггера — это конечное
сущее, которое уже должно быть разомкнуто в своем бытии, чтобы
о каком бы то ни было сущем вообще могла идти речь: * ...его бытие,
таким образом, в своей основе не может пониматься через
совместность или единство совместности»*.
Разомкуность Dasein, являясь онтологическим условием
возможности любых других видов истины, по мысли Хайдеггера рав-
ноизначально содержит в себе также неистину, замкнутость, а
стало быть, и основание для затемнения для Dasein особого характера
своего собственного бытия. Эта... совместность истины и неистины
в одном бытии Dasein есть первичное основание для отпадения
этого сущего от экзистенции и подпадения его горизонту настоящего,
а стало быть, подручному и, далее, наличному.<...> Можно
предположить, что эта исходная связь истины и неистины связана с
конечностью Dasein, которая является принципиальной бытийной
чертой этого сущего, т. е. конечностью временности.
А это значит, что уже в исконной истине Dasein, позволяющей
понимать и себя само, и любое другое сущее в его бытии, уже
заключена тенденция к несобственному пониманию своего бытия и, как
следствие, к редукции понимания всякого бытия к наличию.
В случае с логикой это затемнение исходной истины бытия Dasein
усиливается еще и тем, что данная дисциплина требует
перетолкования бытия сущего не только в наличие, но и в постоянное наличие,
в вечные истины, которыми логика, взятая в самом широком
смысле, призвана руководствоваться, чтобы иметь универсальную
значимость. <...> Парадоксальным образом, сущностное, на познание
которого как вневременного наличного претендовала логика,
оказывается возможным, согласно Хайдеггеру, только как данное в
фактической историчности посредством возобновления. X. Цаборовски
говорит в этой связи: «Для Dasein как исторического возникает задача
все нового и нового осуществления исходного вопрошания»**.
Несобственное же понимание экзистенции, а стало быть, исходной исто-
* Ibid. S. 180.
'* Zaborowski H. Wahrheit, Sein und Zeit. Zu Heideggers Vorlesung aus dem
Wintersemester 1925 / 26 Logik. Die Frage nach der Wahrheit. GA 21 //
Heidegger und die Logik / Hrsg. v. A. Denker und H. Zaborowski. Amsterdam;
New York: Rodopi, 2006. S. 177.
586
А. Б. Паткуль
ричности Dasein ведет к отделению наличного как вечного и внеи-
сторического наличного от истории, теперь уже вульгарно понятой
как совокупность всего фактически случающегося. Именно поэтому
справедливы и следующие слова этого автора: «Претензия
традиционной школьной логики направлена на истину, которая не
только неисторична и вечна, но и не понимает себя из экзистенции
Dasein» *. С другой стороны, и фактичность оказывается в онтологии
не просто эмпирической случайностью, которая составляла бы
противоположную логике историю, но сама есть трансцендентальная
структура, допускающая возможность возобновления. Поэтому
тезис об онтологической укорененности логики в структуре бытия
самого человеческого сущего нельзя понимать и как релятивизацию
логики, будто бы считанной со случайных обстоятельств
человеческой биографии. Сам философ считает, что подлинный фундамент
логики — это коррелирующая с истиной как разомкнутостью
свобода человеческого Dasein — свобода открывать себя в направлении
истины или неистины своего бытия: «Только свобода может быть
источником связывания. Основная проблема логики,
закономерность мышления, проявляется в качестве проблемы человеческой
экзистенции в ее основе, в качестве проблемы свободы***.
Заключение: хайдеггеровская трактовка
современной логики и проблема непреодолимости
оппозиции логического и исторического
Проведенная выше реконструкция хайдеггеровского проекта
деструкции логики имеет, впрочем, не только сугубо хайдеггеро-
ведческое значение; она призвана обозначить... и те
трансформации проблемного поля современной философии, которые были
вызваны философской мыслью Хайдеггера. <...> Речь здесь идет вот
о чем. В философии минувшего столетия весьма заметна тенденция
не только к обоснованию философии в логике — такие прецеденты
были известны и раньше, но и к нивелированию философии,
которая почему-то опознается как подлежащая преодолению
метафизика, посредством логического анализа.
Как это видно по одному из ранних хайдеггеровских текстов,
«Новейшие исследования в логике» (1912), философ был знаком с
работами Г. Фреге и Б. Рассела, во многом создавшими условия для
возникновения такой установки. С другой стороны, и самому ему выпало
* Zaborowski H. Op. cit.
** Heidegger M. Gesamtausgabe. IL Abteilung. Bd. 26: Metaphysische
Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann Verlag, 1978. S. 25.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 587
стать объектом жесткой критики со стороны представителей
логического позитивизма. Хорошо известная статья Р. Карнапа
«Преодоление метафизики логическим анализом языка» до сих пор служит тому
показательным примером. В ней о философии Хайдеггера говорится,
что та состоит из «метафизических псевдопредложений, в которых
особенно отчетливо можно увидеть, что логический синтаксис нарушен,
хотя историко-грамматический синтаксис сохраняется»*. Тем самым
философом логического анализа заведомо признается, что логический
синтаксис — это критерий, который берется как аксиома и не
подлежит философскому обсуждению и обоснованию, а соответствие ему
оказывается обязательным для любых философских высказываний.
Хайдеггеровская деструкция логики направлена в том числе
и против такого догматического предположения и основанной на нем
критики. С точки зрения создателя фундаментальной онтологии,
поскольку логику упреждает определенное понимание бытия,
логический синтаксис был получен из ориентации на наличное сущее;
и если он вообще может быть обоснованно применен, то только
к наличному сущему. Оценкой же корректности или
некорректности предложений, направленных на сущее другого региона или тем
более на бытие и его смысл, логический анализ берет на себя
слишком много, переходя допустимые границы своей применимости.
В уже упомянутой работе «Новейшие исследования в логике»,
оценивая еще расселовское начинание в логике, Хайдеггер утверждает:
«Математика и математическое рассмотрение логических проблем
наталкиваются на границы, где их понятия и методы отказывают,
а именно там, где лежат условия их возможности»**.
Можно было бы возразить, что как раз новый подход в логике
тем и эффективен, что позволяет отказаться от традиционной
субъект-предикативной формы суждения и использовать чисто
функциональную форму высказывания. Но хайдеггеровская деструкция
логики призвана показать, что логическое исчисление точно так же
является результатом опредмечивания сущего в только, наличное,
а быть может, оно является еще большим нивелированием
бытийного понимания, поскольку даже производное понимание бытия
в качестве связки апофантического суждения здесь не принимается
во внимание. Поэтому для философа между традиционным и новым
* Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка //
Аналитическая философия: становление и развитие: Антология / Сост. и общ.
ред. А. Ф. Гряз нова. М.: Дом интеллектуальной книги, прогресс-традиция,
1998. С. 77.
** Heidegger M. Neuere Forschungen in der Logik // Heidegger M.
Gesamtausgabe. I.Abteilung. Bd. 1: Frühe Schriften. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann Verlag, 1978. S. 42-43.
588
А. Б. Паткуль
типом логики нет принципиального различия, столь часто
акцентируемого сторонниками логического исчисления. В претензии же
нового исчисления на то, чтобы быть идеалом научности, Хайдеггер,
напротив, видит псевдонаучность, укорененную в полном забвении
того, что такое бытие как таковое. Интересно, что в одном из... своих
текстов — в рукописных редакциях «Введения в метафизику» — он,
фактически реагируя на критику Карнапа, бросает упрек, похожий
на упреки, часто адресованные ему самому, — упрек в
подчиненности такого рода мышления идеологии. Он высказывается
следующим образом: «Еще дальше в том направлении, которое в
определенном смысле было намечено со времен Аристотеля и согласно
которому "бытие" определялось из "есть" предложения и, таким
образом, окончательно уничтожалось, идет философское движение,
сконцентрированное вокруг журнала Erkenntnis. Здесь полагают,
что прежняя логика должна быть прежде всего строго научно
обоснована и выстроена при помощи математики и математического
исчисления, чтобы затем создать "логически корректный" язык, в котором
положения метафизики, будучи лишь видимостью предложений,
станут невозможны. Так, одна статья в этом журнале (II, 1931, с. 219
и след.) называется "Преодоление метафизики логическим
анализом языка". В ней происходит крайнее уплощение и выхолащивание
традиционной теории суждения под видом математической
научности... Мнимое "философское" направление сегодняшнего математи-
ко-физикалистского позитивизма намеревается обеспечить
обоснование этой позиции. Не случайно, что этот вид "философии" готов
обеспечить и основания современной физики, в которой разрушены
все связи с природой. Не случайно и то, что этот вид "философии"
внутренне и внешне связан с русским коммунизмом. Не случайно
далее, что этот вид мышления празднует свои триумфы в Америке»*.
Но на деле, по Хайдеггеру, онтологически в такой логике нет ничего,
что не было бы заложено в том приведении бытия к наличию, на
котором онтологически основана уже логика Стагирита.
Вместе с тем, если, как оказывается в результате хайдеггеров-
ской деструкции логики, эта дисциплина не способна быть мерилом
правильности философской речи о бытии, возникает вопрос, а
каким, если он вообще возможен, должен быть артикулированный
философский логос — ведь в философии имеется прямое намерение
выговорить нечто о сущем и его бытии. Как это вообще возможно,
если философские «суждения» не подчинены не только
логическому синтаксису, но даже и, казалось бы, элементарной форме апо-
фантического суждения? На примере онтологии Хайдеггера вопрос
* Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Издательство ВРФШ, 1997.
С. 291-292.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 589
можно обратить и таким образом: если бытие есть то, что
позволяет говорить о сущем по форме «оно есть то-то и то-то», то по какой
форме и в какой терминологии возможна речь о бытии. Нет
сомнения в том, что написание «Бытия и времени» представляет собой
в том числе и такой лингвистический опыт, который должен был
привести к созданию языка бытия, — сам Хайдеггер говорит здесь
об этом*. Думается, что весьма продуктивным было бы сравнение
такого начинания с гегелевским учением о спекулятивном
предложении**, непосредственно связанным с намерением Гегеля ограничить
применение традиционной логики в философии, заменив ее,
правда, логикой в новом, спекулятивно-диалектическом смысле слова.
Впрочем, эти намерения Гегеля обеспечены обосновывающей саму
себя научной системой философии, которая развертывает
определения абсолютной идеи в сфере чистой логики, ее инобытия в природе
и ее возвращения к себе в духе. Стихия гегелевской философии —
бесконечное; в ней укоренена его стратегия упразднения
оппозиции логического и исторического в спекулятивном тождестве того
и другого..., все же подчиняющем историческое логическому.
Но исходный пункт онтологии Хайдеггера иной — конечность
понимания бытия человеческим сущим. Поэтому он не может
позволить себе решение проблемы создания упреждающего логику
наличного языка бытия в гегелевской манере через диалектически
примиряющее снятие противоположностей логики и ее
исторического воплощения. Путь Хайдеггера — это, как было показано,
путь деструкции логики вплоть до выявления неистинности самой
оппозиции логического и исторического и указания на собственно
исторический характер истинствующего бытия Dasein. И если это
так — а после Хайдеггера конечность бытия представляется сейчас
уже едва ли не исходной философской кондицией — и деструкцию
логики следует признать состоятельной, то мы теперь встаем перед
вопросом, что существенное вообще способна высказывать
философия, если даже по себе вневременное наличное «деструктурирова-
но» через деструкцию логики и область существенного ограничена
возобновлением собственным образом понятой историчности. Что,
собственно, возобновляется в этом возобновлении, если по себе
сущее не может служить в нем возобновляемым? Можно ли быть
уверенным, что возобновление не есть просто повторение того, что уже
de facto произошло, но произошло в стихийно случившейся
истории, которая, возможно, противится деструкции своей оппозиции
с логикой только потому, что она ни с какой логикой вообще никогда
не была связана?
* См.: Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 38-39.
** Ср.: Гегель Г. В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 38 и след.
^^
Д. А. ФЕДЧУК, А. Б. ПАТКУЛЬ
Дискуссия об онтологической дифференции
в философии М. Хайдеггера
Данная подборка представляет собой выдержки из трех
материалов, которые последовательно публиковались в журнале «Horizon.
Феноменологические исследования» в 2013-2014 гг. и
принадлежат перу Д. А. Федчука и А. Б. Паткуля. В своей исходной статье
Федчук сравнивает хайдеггеровское онтологическое различие с
различием в сущем, проводившимся в средневековой схоластической
философии, прежде всего у Иоанна Дунса Скота и Франсиско Суа-
реса. Он приходит к выводу, что бытие не может быть осмыслено
через экспликацию его смысла, как это предлагает Хайдеггер, но
скорее должно трактоваться как определенный модус самой сущности.
Его оппонент, во многом поддерживая исходную позицию Федчука
по поводу двусмысленности тезиса онтологической дифференции,
считает его аргументацию недостаточно развернутой. Также он
отмечает, что представление о понимании бытия вообще на основании
горизонтной схемы презенции у Хайдеггера является
односторонним, характерным скорее для традиционной онтологии, в частности
потому, что Федчук не учитывает тезис Хайдеггера о многообразии
способов бытия сущего. В своей ответной реплике тот дает
разъяснения своему подходу к интерпретации Хайдеггера из контекста
схоластической философии, отстаивая также тезис о том, что
настоящее является временным измерением, из которого, согласно Хай-
деггеру, понимается бытие как таковое. Общим итогом полемики
может быть признано то, что она указывает на небесспорность хай-
деггеровского тезиса онтологической дифференции в контексте
проблемы осмысления сущего как сущего, намечая тем самым пути для
критики и переосмысления этого радикального онтологического
нововведения Хайдеггера.
Дискуссия об онтологической дифференции
591
Д. А. Федчук
Схоластическое различие в сущем
и онтологическая дифференция
I. Схоластическое различие в сущем
Хайдеггер хочет вернуть метафизику из состояния забвения
бытия к ее подлинной проблематике — вопросу о бытии сущего. Бытие
предметно тематизировалось в схоластике (как средневековой, так
и Нового времени), но у схоластов был собственный интерес и
причины для подобного рода анализа. Естественная теология
рассматривала бытие в двух основных контекстах: абсолютное бытие Бога
как первой причины и бытие конечного сущего (формальное бытие
всего, esse formale omnium). До XIII в. четкой артикуляции этих
двух смыслов существования, по всей видимости, не было
предложено. На мой взгляд, его не предложили и позже. Фундаментальная
онтология Хайдеггера, для которой схоластические интерпретации
бытия представляют интерес sui generis, внятную экспликацию
бытия тоже не сделала*.
<...> Из предложенных вариантов дистинкций в сущем я хочу
остановиться на двух — на модальном различии Дунса Скота
и на различии в разуме Франциско Суареса. Обсуждать здесь
реальное различие томистов и некоторые промежуточные варианты
дифференции мы не будем**. Но прежде всего я сформулирую
главный тезис статьи: основным предметом онтологии, вопреки мнению
Мартина Хайдеггера, является не бытие, а сущее. История
схоластического различия в последнем это красноречиво демонстрирует.
Дуне Скот необычайно тонкий богослов и метафизик. Его идеи
для средневековой мысли были чрезвычайно смелы и в какой-то
степени нетрадиционны. Недаром современный историк
схоластики Лудгер Хоннефельдер говорит о втором начале метафизики, свя-
* В лекционном курсе 1927 г., позже изданном под названием «Основные
проблемы феноменологии», анализу схоластических видов различия
между сущностью и существованием в конечном сущем уделяется
достаточно места (см.: Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / Пер.
А. Г. Чернякова. СПб.: ВРФШ, 2001. С. 99-161. Дальнейшие ссылки
на этот текст — по этому изданию). Хайдеггеру это необходимо для
выстраивания историко-философского контекста, служащего достижению
главной цели работы — осуществить онтологическую дифференцию, которой
и посвящена данная статья.
** Distinctio realis (реальное различие) томизма мне представляется
несостоятельным: мы должны различать сущность (essentia) как realitas, вещь
и бытие (esse) как другую realitas, однако очевидно, что всеобщее бытие
(esse commune) не вещь, существующая отдельно от сущности. <...> См.:
Федчук Д. А. Средневековая метафизика. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.
С. 83-91.
592
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
занном с философией Дунса*. «Тонкий доктор» отказывался
обсуждать бытие как таковое в его отдельности от сущего, ибо бытие — это
всегда бытие чего-то: Бога, ангела, человека и т. д. Как известно,
метафизика Дунса Скота сводит многообразие смыслов, согласно
которым мы можем вести речь о существующем, к понятию сущего,
унивокальному всему, что есть — т. е. и Богу, и творению. Будучи
сильно зависимым от метафизики Авиценны, Дуне рассматривает
сущность с позиции различных модусов ее существования —
единичности или универсальности. Тогда речь идет об общей природе
(natura communis), в себе безразличной к способам собственного
бытия — будь это бытие в единичном или универсальное бытие
понятия в интеллекте. Модус, т. е. способ актуализации сущности, — это
существование.
<...> Дуне Скот, исходя из теории формальностей, предлагает
понимать существование конечного сущего как модальность
бытия сущности. Последняя безразлична к какому бы то ни было виду
экзистенции, но способна существовать тем или иным способом.
Поэтому существование есть внутренний модус сущности, gradus
(уровень, степень), выражающий интенсивность ее присутствия.
В отличие от учения томистских школ, Дунсом утверждается:
бытие — это не акт**. Оно есть последнее определение сущности, а
актуальное существование вещи не отличается от ее сущности, взятой
в этом же актуальном бытии. Мы говорим не о реальном тождестве
сущности и бытия, но о модальном различии. Сущность
предшествует существованию, как вещь предшествует собственному модусу.
Дуне Скот не стремится концептуально выразить чтойность
(quidditas) бытия, ибо для него подобная процедура лишена
оснований: мы должны понять сущее через модус присутствия его
сущности, а интересоваться смыслом esse как формального бытия
всего — дело бесполезное. Бытия нет отдельно от сущности.
Перейдем к Франциско Суаресу. <...> Суарес полагает, что
нельзя допустить отдельно бытие существования (esse existentiae).
Существование не акт сущности, а сущность как таковая,
находящаяся в акте. Действительная сущность, имеющаяся in natura rerum,
формально, внутренне включает в себя существование. Сущность
не воспринимает бытие, будучи объективной потенцией,
существующей в Божественном интеллекте до акта творения и лишенной
* Honnefelder L. Der zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze
und Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13/14 Jahrhundert
// Philosophie im Mittelalter, Entwicklungslinien und Paradigmen / Ed.
J. P. Beckman. Hamburg, 1987. P. 165-186.
k* В томизме esse понимается как actualitas сущности, не существующей
в природе вещей до получения акта бытия. <...>
Дискуссия об онтологической дифференции
593
на деле бытийного статуса актуальности. Быть в возможности —
значит не быть актуально. Потому Суарес и пишет в 31-м
рассуждении «Метафизических рассуждений»*, что вещь в объективной
потенции «в целом есть ничто». Получение акта бытия сущностью
происходит только в случае ее актуальности, и соединение этих двух
компонентов — бытия и сущности — полагается интеллектом только
в актуальном сущем. Бытие не вещь, которая соединяется с вещью
«сущность», воспринимается ею, а сама актуальная сущность.
Различие в сущем — то есть в уже существующей в определенном
модусе сущности, лишенной изначально в себе бытия, но обладающей им
впоследствии по отношению к действующей причине, — следует
понимать как различие, проводимое в разуме. Интеллект в реальной
вещи производит дистинкцию между сущностью и существованием,
благодаря которому сущность становится актуальной и
полагается вне собственных действующих причин как определенное нечто,
а не ничто. Актуальное бытие — бытие темпоральное, хотя
сущность изначально, когда является объективной потенцией, обладает
вневременным существованием, но в акте творения она начинает
существовать не в возможности, а реально, и значит — во времени.
Мы видим, что экзистенция у Дунса и Суареса не мыслится
отдельно от сущности и сущего. Она берется либо как модус
присутствия сущности, либо как сама сущность в ее актуальности, взятой
в значении причинности. Актуальная сущность формально
включает существование. Поэтому предмет онтологии — сущность, тогда
как бытие — объект сопутствующий, и интерес к нему
обусловливается проблемой данности сущего мышлению. Бытие как модус
сущности определяет некоторые смысловые (ноэматические) аспекты
того, что присутствует. <...>
2. Феноменология
Одной из важных идей Хайдеггера как в работе «Основные
проблемы феноменологии», так и в его фундаментальной онтологии
вообще является следующая: бытие понимается из предварительного
наброска Dasein на некое сущее, но, чтобы осуществить набросок,
само бытие уже должно быть предварительно истолковано. Речь
идет о понимании, которое и есть набросок, a Dasein существует
по способу наброска — то есть через модус понимания.
<...> Хайдеггер любит повторять, что бытие должно быть
разомкнуто — распахнуто навстречу сущему в понимании
последнего. Условие разомкнутости — это время. Понимание представляет
собой изначальный, основополагающий способ экзистенции без
* Suarez Fr. Disputationes metaphysicae // Opera Omnia. T. XXVI / Ed.
С. Berton. Paris, 1861. P. 225-312.
594
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
артикуляции смысла понятого. Бытие, как и у схоластов, берется
непредметно, до-понятийно — потому и говорится о его
до-онтологическом понимании*. Более того, до-онтологический опыт сущего
находится в основании опыта онтического. Хайдеггер пишет в
начале разговора об онтологической дифференции, что бытие должно
раскрыться в «членораздельном наброске», до которого оно
схвачено лишь в до-понятийной форме. Обратим внимание, что Хайдеггер
тут имеет в виду раскрытие смысла бытия в логосе, то есть путем
артикулированной экспликации его смысла. Однако, как я считаю,
эта цель в рассматриваемой работе так и не была достигнута.
Dasein познает сущее, и фундаментальным условием такого
познания предстает определенный, но подвижный горизонт, т. е.
некоторый бытийный контекст, дающий возможность предпони-
манию бытия реализоваться. Видно, что здесь в рассуждении —
герменевтический круг, который с точки зрения фундаментальной
онтологии обладает абсолютной продуктивностью и неизбежен.
Он неизбежен потому, что таковы априорные условия понимания:
одно (сущее) истолковывается посредством другого (бытие), также
скрытого от исчерпывающего понимания, но отчасти
приоткрывающего собственный смысл через предварительную понятость,
имеющуюся до всякого истолкования. Значимость мира как мира
сущих конституируется из его предварительной понятности**. Спо-
собность-быть-в-мире есть имманентное условие экзистенции и,
соответственно, понимания Dasein, потому что мир принадлежит
«экзистенциальному устроению» последнего.
Теперь перейдем к вопросу о времени, в контексте анализа
которого разворачивается онтологическая дифференция. Поднятую
Хайдеггером проблему можно сформулировать в виде вопроса: если
Dasein основывается во временности, а понимание относится к его
фундаментальному устроению, то в какой мере временность
оказывается условием возможности для понимания бытия и,
соответственно, основывается ли во временности возможность различия
сущего и бытия?*** Поскольку понимание бытия обусловлено
временем и принадлежит экзистирующему отношению к сущему,
имеющему «основание во временности», то онтологическая дифференция
должна истолковываться темпорально.
Временность как технический термин вводится, чтобы
отмежеваться в дискурсе от онтического понятия времени, включающего
в себя три его модуса: прошедшее, настоящее и будущее.
Временность — «равноисходное экстатически-горизонтальное единство
* Хайдеггер М. Указ. соч. С. 373.
** Там же. С. 393.
*** См.: Там же. С. 380.
Дискуссия об онтологической дифференции
595
будущего, бывшего и настоящего»*. Она есть горизонт как форма
присутствия сущего для другого сущего, существующего по
способу понимания. Отсюда ясно, что такое темпоральность:
«характеристика временности как горизонта понятности бытия»**. Для
описания сложных структур временности с целью выявления их природы
Хайдеггер выбирает настоящее, точнее, экстазис настоящего,
толкуемого из «мгновения ока» как прафеномена исходной временности,
на которую и направлено наше внимание. Мгновение ока связано
с тем, что Dasein, решившись на что-то, «вовлекает в настоящее»
такое сущее, которое размыкает ситуацию.
Различие сущего и бытия проводится из темпорального анализа
сущего наиболее очевидного и близкого нам — подручного,
наличного. С одной стороны, целесообразно выбрать простой пример,
чтобы не усложнять понимание; с другой же — смысл онтологической
дифференции должен быть одним для любого типа сущего, в
котором они различаются, — в подручном ли, в Dasein или в Боге. Это —
так, поскольку понимание бытия, к которому обращена
фундаментальная онтология, направлено на то, чтобы мыслить его в качестве
унивокального термина. Философия в классические эпохи пыталась
свести бытие к унивокальности, разве что в дискурсе теологии esse
Бога в ряде случаев рассматривалось как превосходящее по смыслу
esse конечного сущего. Об унивокальности сущего и бытия стали
активно писать, начиная с Дунса Скота и скотистских школ. То есть
если мы хотим тематизировать бытие как таковое и артикулировать
его смысл, то оно должно сохранить тождественное значение по
отношению ко всем сущим, которым предицируется. Для всего
конечного быть — значит быть в одном и том же смысле (что, правда,
не вполне согласуется с Аристотелем, поскольку сущее сказывается
многозначно, и в такой артикуляции значений раскрывается смысл
его бытия).
Хайдеггер вводит термин «презенция». <...> Тут Хайдеггер
представляет структуру времени, исходя из которой можно понять
бытие. Каждый темпоральный экстазис обладает собственным
определенным горизонтом. Экстазис настоящего можно
охарактеризовать как условие трансценденции Dasein, когда оно
набрасывает себя по направлению презенции: «Настоящее набрасывает себя
в себе самом экстатически в направлении презенции»***. Презенция
вместе с другими темпоральными моментами конституирует
«полную структуру настоящего». Если объединить внутренние
горизонты трех экстазисов, то можно было бы получить полную структуру
* Там же.
** Там же. С. 387.
*** Там же. С. 407.
596
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
темпоральности. Однако я полагаю, эта цель недостижима: в
реальной экзистенции Dasein преобладает один экстазис,
модифицирующий другие. Мы сталкиваемся с суперпозицией горизонтальных
схем, накладывающихся друг на друга и перманентно
трансформирующихся. Время осуществляется как время (в смысле актуального
исполнения) путем объединения экстазисов. Осуществляется вре-
менение времени самим Dasein в действии, в определенном способе
экзистенции, связанным с отношением к сущему, которое способно
также модифицироваться и быть явленным в различных модусах:
подручного, наличного и т. д. Здесь опять круг в понимании: время
предстает условием бытия и подспудно управляет Dasein, а с другой
стороны, Dasein экзистирует при условии уже данного и понятого
времени в акте набрасывания своих возможностей, укорененных
в бытии-в-мире.
Таким образом, ясно, что бытие и условие его понимания —
временность — имеют смысл и способны быть поняты только в связи
с субъектом, актуально исполняющим понимание. Отказ
фундаментальной онтологии от употребления привычной терминологии
трансцендентального идеализма (субъект, сознание и т. п.) все-таки
никоим образом не затеняет ее изначальной теоретической позиции:
вести речь о бытии и его истоке допустимо только по отношению
к субъекту (тут — Dasein), познающему сущее и бытие сущего. <...>
Схоластическое различие в сущем тогда модифицируется. Следует
не проводить дистинкцию сущности и существования в актуально
наличной вещи вне связи ее бытия с возможным мышлением, а
различить уже конституированное сущее и его бытие для особого
сущего, чья экзистенция изначально производится как понимание бытия
всего, что только способно существовать, быть встречным для него
в темпоральном экстатическом горизонте. Вне данного горизонта
есть ничто. Так что фундаментальное положение идеализма
сохраняется: быть — значит быть мыслимым.
<.,.> Бытие подручного — это презенция, которая «не-поня-
тийно понятая уже обнажена в самонабрасывании временности»*.
То есть бытие дано в виде горизонта экзистенциальных
возможностей Dasein, в которые оно вступает путем самонабрасывания.
Бытие всегда в потенции и никогда не в акте, поскольку горизонт,
презенция открывает перед нами перспективу возможностей и встреч
с сущим, но еще не реализованных. Однако после определенной
актуализации данных в потенциальном горизонте перспектив мы
понимаем нечто как уже бывшее, ушедшее из презенции,
сменившее модус наступающего на модус бывшего. В настоящем же Dasein
* Хайдеггер М. Указ. соч. С. 410.
Дискуссия об онтологической дифференции
597
актуально в смысле совершения поступков и конкретных способов
обхождения с подручным. Оно не мыслит, а действует. Поэтому
понимание бытия есть неартикулированное схватывание его в акте
экзистенции. Время есть негация. Оно — отрицание своих
собственных конституэнт. Бытие «всегда в прошлом» лишь по отношению
к экспликации себя в логосе: мы хотим схватить бытие здесь и
теперь, но только несовершенным образом делаем это задним числом.
<...> Таким образом, дифференция бытия и сущего латентно есть
вот-здесь в Dasein и его экзистенции*. То есть Dasein, экзистируя,
осуществляет, исполняет это различие.
Укажем характеристики различия бытия и сущего:
1. Дифференция до-онтологична: она производится без
экспликации в логосе понятия бытия.
2. Она латентно производится в экзистенции Dasein.
3. Членораздельно осуществленное различие бытия и
сущего — это онтологическая дифференция.
В экзистенции сущее и бытие выявлены равноисходно, но нераз-
личенно. Трансценденция как выхождение Dasein за собственные
имманентные границы в сторону презенции, темпорального
горизонта, из которого происходит встреча с подручным сущим, —
ближайшее условие понимания бытия. Время — это
трансцендентальный горизонт. Но то, как положить членораздельное различение
бытия и сущего, то есть как, собственно, на деле провести
онтологическую дифференцию, Хайдеггер так и не показал.
Так нельзя ли признать, что время как самое раннее, которое
«раньше всякого возможного "раньше"», будучи фундаментальным
условием понимания бытия и отношения к сущему, и есть бытие как
таковое? А именно время — форма данности, присутствия
присутствующего, сущего в его различных модусах — грядущее,
настоящее, бывшее — ив многообразных экзистенциальных отношениях
для сознания, способах обращения последнего с ним**: подручное,
наличное, идеальное и т. п. Хотя, конечно, время, как и бытие, он-
тически не первое сущее. Точнее сказать, бытие не первое, что те-
матизируется сознанием, опредмечивается им в виде интенциональ-
ного предмета***. Но временность представляет основу и возможность
* См. там же. С. 424.
** А. Г. Черняков пишет о смыслах бытия, истолкованных как то-ради-чего
наброска. См.: Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время в
философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. СПб.: Издательство ВРФШ,
2001. С. 417.
'** Как вещь претерпевает трансформацию собственного смысла в результате
«события предметного полагания», экзистенциально-онтологической
модификации, см.: Черняков А. Г. Указ. соч. С. 425.
598
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
«фактической необходимости опредмечивания данного наперед
сущего и данного наперед бытия»*.
Темпоральный поток, на языке Хайдеггера, есть
«экзистенциально-онтологическая модификация » исходной временности
Dasein**. Таким образом, феноменологическое схватывание в
рефлексии сознанием самого себя с точки зрения фундаментальной
онтологии оказывается самоопредмечиванием Dasein, которое
набрасывает собственное присутствие, схематизирует его как мышление
мышления. Для Хайдеггера это уже вторичная, более «поздняя»
по отношению к изначальной экстатической временности
деятельность. <...> Анализируя сказанное, можно прийти к следующим
результатам. Различие бытия и сущего произведено Dasein на до-
онтологическом уровне в акте экзистенции, способом отношения
к подручному, озабоченного отношения, раскрывающего
структурно бытие как экстатическую горизонтальную временность. Однако
в сфере чистой трансцендентальной субъективности само
трансцендентальное ego не может быть объективировано, так как
изначально является «пленницей темпорального потока»***. Осуществляемая
чистым сознанием феноменологическая рефлексия в равной мере
присоединена к потоку и также не способна стать собственным
предметом. Таким образом, время как изначальная временность и бытие
ускользает от окончательной смысловой артикуляции и в
классической рефлексии, потому что «трансцендентальный субъект не может
быть опредмечен в рефлексии»****. Dasein, однако же, набрасывает
себя по направлению к субъективности, когда совершает «поступок
трансцендентально-философского самоистолкования»*****.
Временность — предельное условие самонабрасывания.
Если соотнести результат онтологической дифференции со
схоластическим различием сущности и бытия, то можно усмотреть
следующие взаимосвязи. Дуне, Суарес и другие крупные метафизики
все-таки претендовали на возможность понятийного истолкования
бытия как одного из конститутивных элементов актуально
существующей вещи — если такое истолкование в итоге можно будет
предложить. Но этого сделать не удалось: любая попытка
определить чтойность esse завершалась тем, что оно ускользало от
понятийной фиксации. Значения термина «бытие» пытались выявить
через обращения к смыслам сущего, и в первую очередь сущности.
Бытие есть модус последней, а вне сущего бытие есть ничто. Раз-
* Черняков А. Г. Указ. соч. С. 426.
** Там же. С. 430.
'** Там же.
'** Там же. С. 431.
'** Там же.
Дискуссия об онтологической дифференции
599
личие в разуме показывает, что можно виртуально отличить
сущность от существования, но наполнить содержанием существование
не удается. То есть выразить в логосе природу бытия невозможно.
Бытие следует понимать косвенным образом через причинное
отношение, в котором оказывается сущность к источнику ее
экзистенции. Но это мало что добавляет к артикулированному схватыванию
смысла esse formale omnium, формального бытия всего [сущего].
Поскольку речь ведется о существовании сотворенных вещей,
то подступы к нему следует искать во временном характере сущего.
Понятно, что «быть» означает «быть во времени». Но схоластика
далека от понимания перспектив интерпретации существования через
время. Постепенно становится очевидным, что именно время
является важнейшей детерминантой экзистенции, потому что последняя
мыслится всегда из темпоральной определенности сущего. Но
поскольку время — это не характеристика вещей в себе, а определение
сознания (если не само сознание как таковое), то экзистенция всего
существующего имеет смысл только в связи его с сознанием, которое
есть конституирующий любой смысл полюс. Фраза Гегеля «Бытие
есть ничто» на деле не устарела. <...> Поэтому различие сущего и
существования должно быть различием между тем, что присутствует
для субъекта (сущность), и способами его присутствия
(существование). Способы явленности сущего — характеристики темпоральной
структуры. Таким образом, время предстает в виде условия
понимания, конституции смысла для субъекта и как форма экзистенции
самого субъекта. Поэтому Dasein имеет возможность истолковать
бытие только в актуальной экзистенции — через поступок; однако
артикулировать смысл бытия, дабы произвести членораздельное
отличие его от сущего, оно не может: бытие как источник временности
и бытия сознания всегда скрыто от рефлексии. В ней мы
встречаемся с тем, что уже бытием не является, — конечным и определенным.
Само же существование «находится» вне какой-либо
определенности; наоборот, оно служит ее причиной, истоком. Потому бытие есть
ничто. Сознание интенционально, но ничто не может быть
содержательно определенным предметом для сознания. Разве что как
предмет вторичной интенции (если перейти на схоластический язык),
то есть в форме негативного содержания, положенного философской
рефлексией над сущностью бытия и фиксированного в таком
понятии: «ничто». Однако нас интересует бытие-в-себе, а не в качестве
термина, производного от рефлексии над бытием.
Поэтому возврат онтологии к существованию как собственному
ее предмету вряд ли приведет к экспликации его смысла. Скорее
бытие нам открывается через сущность и модусы сущности — то есть
сущее.
600
Д. А. Федчук, А, Б. Паткуль
А. Б. Паткуль
О статье Дмитрия Федчука «Схоластическое различие
в сущем и онтологическая дифференция»
В последнем выпуске журнала «Horizon. Феноменологические
исследования» (Том 2 (2) за 2013 г.) увидела свет примечательная
статья Дмитрия Федчука, озаглавленная «Схоластическое
различие в сущем и онтологическая дифференция»*.
Примечательна она, прежде всего, тем, что автор ее намерен
недвусмысленно показать несостоятельность хайдеггеровской
онтологической дифференции на фоне различий в сущем, проводимых
в схоластической мысли. А этим косвенно обосновать тезис о том,
что предметом онтологии выступает сущее, а не бытие. Причем
сущее — это предмет не только прежней онтологии, дохайдеггеров-
ской, но и онтологии вообще, в том числе и той, которая пытается
учредить себя после Хайдеггера.
Этот тезис следует признать не только интересным или даже
важным, но и очень ответственным. В том числе и потому, что если
придерживаться его, то необходимо будет поставить под вопрос и
результаты... исследований основателя фундаментальной онтологии, и их
значимость для последующей онтологической мысли. Ведь, в самом
деле, по мнению немецкого мыслителя, «...философия не есть наука
о сущем, но наука о бытии, или, как говорит греческое выражение, —
онтология » **. Тем самым, кстати, онтологии было бы возвращено и
собственное ее имя, самовольно отнятое у нее Хайдеггером и переданное
совсем иной дисциплине... <...> В целом и сам тезис Федчука, и тот
пафос, с каким тот его отстаивает, хотелось бы здесь только поддержать.
При этом хотелось бы также поставить вопрос о том, насколько
корректным и достаточным является обоснование этого тезиса,
данное Федчуком.
Для того чтобы убедить читателя в том, что предметом онтологии
должно выступать сущее, а не бытие, автор статьи реконструирует
несколько важных типов различия, имевших место в <...>
схоластике: <...> Как отмечается в статье, в случае Дунса «интересоваться
формальным смыслом esse как формального бытия всего — дело
бесполезное. Бытия нет отдельно от сущности»***. Про Суареса же
Дмитрий пишет следующее: «Суарес полагает, что нельзя допустить
* Федчук Д. Схоластические различие в сущем и онтологическая дифферен-
ция // Horizon. Феноменологические исследования. Т. 2 (2). 2013. С. 75-85.
" Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Издательство
ВРФШ, 2001.С. 13.
" Федчук Д. Схоластические различие в сущем и онтологическая дифферен-
ция. С. 78.
Дискуссия об онтологической дифференции
601
отдельно бытие существования (esse existentiae). Существование
не акт сущности, а сущность как таковая, находящаяся в акте»*.
В итоге общим у обоих схоластов оказывается, что бытие не
отличается от сущего; и говорить об особом, если можно так сказать,
бытии бытия (в смысле esse existentiae) бессмысленно...<...>
Сравнение же хайдеггеровской концепции с этими образцами
показывает, что у него бытие как таковое искусственно абстрагируется
от сущего и выставляется им в качестве отдельного и
приоритетного предмета философского рассмотрения.
Такое различие изначально уже осуществилось в понимании
бытия человеческим сущим (а понимание, напомним, единственная
♦сфера» возможной данности бытия как такового, согласно Хай-
деггеру). Федчук даже пишет, что «...бытие понимается из
предварительного наброска Dasein на некоторое сущее...»**, что, впрочем,
трудно понять, поскольку не вполне ясно, что это за сущее (не
бытие), на которое себя человеческое сущее еще и набрасывает.
Впрочем, этот пассаж не носит в статье концептуального характера,
поэтому на нем не следует далее задерживаться.
Гораздо важнее, что автор статьи затем совершенно резонно
отмечает, что бытие, согласно Хайдеггеру, понимается исходя
из времени, точнее, из временности <...> Анализ того, как именно
бытие у Хайдеггера понимается из времени, правда, оказывается
несколько упрощённым, что, впрочем, оправдывается
ограниченностью объема статьи <...> Но есть опасность, что именно
подобное упрощение... в итоге играет с нами... злую шутку: получается,
что « смысл онтологической дифференции должен быть одним для
любого типа сущего, в котором они различаются, — в подручном,
в Dasein, в Боге»***. Это происходит, по мнению Федчука, потому,
что у Хайдеггера, вопреки, кстати сказать, его собственным
заверениям, бытие по преимуществу понимается из горизонтальной
схемы презенции. (В самом деле, ведь философ так и не смог дать
феноменологический анализ остальных горизонтальных схем экс-
тазисов временности! Но, быть может, схема презенции — это
просто ближайший пример.) Таким образом, по Федчуку, получается
следующее: «...Если мы хотим тематизировать бытие как таковое
и артикулировать его смысл, то оно должно сохранить
тождественное значение по отношению ко всем сущим, которым предицирует-
ся. Для всего конечного быть — значит быть в одном и том же смыс-
* Там же.
" Там же. С. 79.
'* Там же. С. 80.
'* Там же. С. 81.
602
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
Действительно, Хайдеггер спрашивает о единстве бытия,
но означает ли это, что для него бытие и, стало быть, отличие бытия
от сущего имеет тождественное значение? Данное в статье
истолкование этого единства, как представляется, все же конфликтует
с мыслью Хайдеггера, для которого, как и для Аристотеля...
тождественность смысла бытия оказывается важнейшей проблемой.
Именно проблемой, а не результатом: как было сказано, Хайдеггер
не отрицает единства бытия вообще, но стремится прояснить его
(единства) основание. В отличие от различия способов бытия,
которое кажется Хайдеггеру как раз очевидным..., хотя и это
различие должно быть, по его мнению, онтологически обосновано*. <...>
Если, таким образом, Хайдеггеру изначально приписать редукцию
всякого понимания бытия к наличию как универсальному способу
бытия (показательно, что хайдеггеровский термин «экзистенция»,
как мне показалось, судя по контексту, Федчук иногда смешивает
с наличием), — а Хайдеггер как раз последовательно критиковал
и деструктурировал такую редукцию как произведенную в
несобственном понимании бытия экзистенцией понимающего бытие
сущего, — то потом не составит труда упрекнуть его в том, что тот
так и не реализовал задачу, поставленную перед онтологией как
учением о смысле бытия в его всевозможных модификациях. В том-
то и состоит проблема, что «быть» «в подручном, в Dasein, в Боге»,
а также в живой природе, математических объектах и пр. — всегда
разное. Беда Хайдеггера в том, что ему как раз не найти основания
их (желанного, искомого) единства — потому что нет схемы всех
горизонтальных схем, которая все равно оставалась бы схемой; а
отнюдь не в том, что, как пишет Федчук, «в реальной экзистенции
Dasein преобладает один экстазис, модифицирующий другие», а мы
тем самым «сталкиваемся с суперпозицией горизонтальных схем,
накладывающихся друг на друга и перманентно
трансформирующихся»**.
Впрочем, возможно, я некорректно понял сам смысл
высказываний автора статьи в отношении единства бытия у Хайдеггера — в
таком случае приношу свои извинения.
Далее Дмитрий совершенно справедливо указывает на
идеалистический характер хайдеггеровской онтологии: бытие, которое
должно здесь стать собственным предметом онтологического
исследования, может иметь место только как коррелятивное понимающей
См.: Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.:
Издательство ВРФШ, 2001. С. 22.
" Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 26: Metaphysische Anfangsgünde der
Logik im Ausgang von Leibniz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
Verlag, 1978. S. 192.
Дискуссия об онтологической дифференции
603
инстанции, поскольку оно может быть дано исключительно в таком
понимании. <...> Это, по сути, ставит хайдеггеровское
онтологическое начинание в один ряд с другими образцами немецкой
философии, берущей свое начало в кантовской
трансцендентально-критической постановке вопроса. <...> ...однако заведомая принадлежность
Хайдеггера к идеалистической установке при конституировании
научной онтологии, действительно, должна индексировать
заведомые границы возможной трансформации онтологии на
трансцендентальном фундаменте. Что, собственно говоря, автор статьи и
стремится показать в ней. Правда, и в отношении к такой констатации
хотелось бы большей определенности, чем в итоге можно найти
в рассматриваемой работе. Мне кажется, одного только
формального указания на то, что бытие у Хайдеггера можно понять «только
по отношению к субъекту», «познающему сущее и бытие сущего»,
недостаточно. В самом деле, общим для всего такого рода
идеализма является то, что бытие берется как данное, в контексте его
данности: будь оно абсолютным полаганием определений самих по себе,
абсолютной помысленностью абсолютного мышления или — даже
в более радикальном варианте — мыслимой в качестве
предшествующей всякому мышлению действительности. (И в последнем случае
уже не как данное, оно как действительное все же мыслится, исходя
из данности мышлению как сверхмыслимое или пред мыслимое.)
Но насколько можно быть уверенным, что возможности
концептуализации бытия не будут разниться в зависимости от того, как
именно способ его данности будет трактоваться содержательно? <...>
На мой взгляд, поэтому самым важным в данном контексте является
адекватное и конкретное прояснение того, что вообще можно
понимать под идеализмом хайдеггеровской онтологии в ее
особенности... <...> Так, например, Федчук пишет, что в случае с онтологией
Хайдеггера нужно «не проводить дистинкцию сущности и
существования в актуально наличной вещи вне связи ее бытия с возможным
мышлением, а различить уже конституированное сущее и его бытие
для особого сущего, чья экзистенция изначально производится как
понимание бытия всего, что только способно существовать, быть
встречным для него в темпоральном экстатическом горизонте. Вне
данного горизонта есть ничто. Так что фундаментальное положение
идеализма сохраняется: быть — значит быть мыслимым»*. С
некоторыми оговорками можно было бы согласиться с первой частью этого
пассажа, но в отношении второй части его можно смело утверждать,
что ничего подобного Хайдеггером не предполагается; и, главное,
эта вторая часть логически никак не следует из первой... Как раз сам
* Федчук Д. Схоластическое различие в сущем и онтологическая дифферен-
ция. С. 82.
604
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
универсальный темпоральный горизонт есть ничто (в смысле ничто
сущего), но сказать, что вне него «есть ничто», — абсурдно, ибо
сущее существует, как это прекрасно понимает Хайдеггер, и вне этого
горизонта, как оно существовало, например, до чисто онтического
появления Dasein среди массива несоразмерного ему сущего. Другое
дело, что смысл сущего как сущего в том, что оно вообще есть, есть
то-то и то-то, так-то и так-то, вне такого горизонта не может быть дан,
а стало быть, решение онтологической задачи (определение сущего
как сущего), как и полагает Хайдеггер, остается под вопросом. Точно
так же нельзя приписать хайдеггеровскому идеализму сохранение
тезиса «Быть — значит быть мыслимым»; ведь философ прекрасно
понимает, что есть сущие, которые неплохо существуют до, вне и
независимо от всякого мышления. <...> Вопрос состоит скорее в том,
что смысл «быть» может быть раскрыт только в «правильно понятом
субъекте», в Dasein как понимающей бытие инстанции.
Выявление особенностей идеализма хайдеггеровской онтологии
потребовало бы отдельного и весьма обстоятельного анализа. Здесь
можно только указать на то, что таковой должен был бы
ориентироваться на раскрытие особенности трактовки Хайдеггером
понимания и отличия понимания от мышления, взятого
традиционно-идеалистическим образом. <...> Вместе с тем констатация Федчуком
идеалистического характера онтологии Хайдеггера и, в частности,
его онтологической дифференции оказывается в этой статье не
просто констатацией, но аргументом, призванным опровергнуть и
онтологическую дифференцию, и состоятельность всего хайдеггеровско-
го онтологического замысла. Именно потому, что бытие есть бытие,
понятое Dasein, и не имеет места в самом сущем, показать
объективный смысл онтологической дифференции оказывается
невозможным. <...> Иллюстрируя этот тезис, автор статьи, как мне кажется,
напрасно, с одной стороны, показывает невозможность артикуляции
онтологической дифференции за счет сравнения онтологической
теории Хайдеггера с учением Гуссерля о трансцендентальной
субъективности, рефлексии и времени (ибо различия — причем
преднамеренные — здесь слишком велики и аргументы пробив Гуссерля еще
не обязательно должны сработать в случае с Хайдеггером), а с
другой стороны — противопоставляет Dasein как действующее
субъекту как мыслящему, ибо для Хайдеггера и практика, и теория — это
равновозможные модификации заботы как бытия Dasein. Как и
критически нужно отнестись и к его характеристики трансценденции
у Хайдеггера «как выхождения Dasein за собственные
имманентные границы»*, поскольку Dasein, согласно Хайдеггеру, изначально
* Федчук Д. Указ. соч. С. 83.
Дискуссия об онтологической дифференции
605
не находится ни в каких имманентных границах, а есть всегда уже
вовне-себя — в каковом всегда уже бытии вовне себя и состоит его
трансценденция, не предполагающая никакой имманенции (думаю,
что это — также инерция понимания хайдеггеровского
онтологического начала из гуссерлевской теории субъективности).
Так или иначе, несколько изменяя изначальную тональность
статьи, автор ее утверждает, что выявить формальный смысл бытия
не удалось уже схоластам (ранее говорилось, что они вообще не
ставили вопрос подобным образом, не абстрагируя бытие как таковое
от сущего и сущности). <...> Но если схоласты, видя невозможность
понятийного постижения «быть», пытались понять его из сущего
и сущности..., то Хайдеггер... настаивает на возможности
усмотрения содержательных характеристик бытия. Из сказанного ранее
видно, что условиями возможности такого усмотрения являются:
1) заведомое абстрагирование бытия из сущего и даже гипостази-
рование его до отдельного предмета, 2) редукция бытия к данности,
влекущая за собой постановку его в необходимо релятивную связь
с самым широким образом понятым «субъектом». Но и эти
ухищрения Хайдеггера не позволяют ему выявить объективный,
содержательный смысл бытия: ибо «...выразить в логосе природу бытия
невозможно»*.
В общем, с этим выводом как таковым не поспорить. Хайдеггер
действительно так и не смог, отталкиваясь от принятого в качестве
факта понимания бытия человеческим сущим, прийти в своей
онтологической науке к его идее — к полному конкретному понятию
о том, что значит «быть». Действительно, главное затруднение хай-
деггеровской онтологии состоит в невозможности перехода от
факта понимания бытия (и анализа условий возможности этого факта,
сведенного к анализу бытийных характеристик понимающего бытие
сущего) к развернутой идее бытия вообще, т. е. бытия в том числе
и не соразмерного человеческому существу сущего. И это тоже
историко-философский факт.
Но дело не только в констатации, но еще и в понимании того,
почему у Хайдеггера... произошло именно так. Выявленные Федчуком
причины такого положения дел (абстракция и редукция) отчасти
верны, но недостаточны — недостаточны и потому, что их
содержание требует дополнения и коррекции, и потому, что, возможно,
они не единственные в целом ряду причин. На самом деле, нельзя
так вот просто сказать, что Хайдеггер абстрагирует бытие от сущего
и рассматривает его само по себе — хотя рассмотрение бытия как
такового, действительно, составляет главнейшую цель всей его он-
* Там же. С. 84.
606
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
тологии. Не следует забывать, что для Хайдеггера бытие не только
всегда отлично от сущего, но оно «есть всякий раз бытие сущего»*
и только сущего. Предположение абстрактного бытия
отдельного от сущего привело бы к тому, что само бытие есть некоторое
сущее, которое «существует» наряду с сущим как таковым. Напротив,
по Хайдеггеру, есть только сущее, бытие — это ничто как ничто
из того, что есть, из сущего, это «нет» сущему. <...> Более того, эта
исходная онтологическая связанность бытия и сущего показывает,
что, с одной стороны, невозможно построить никакой онтологии без
оптического фундамента..., а с другой стороны — что на самом деле
выявление бытия как такового и его смысла... необходимо связано
со вполне традиционной задачей: раскрытием сущего как сущего, —
а возможно, даже и подчинено ей. Просто мысль Хайдеггера состоит
в том, что подобраться к ней невозможно, не выяснив содержание
того «быть», которое уже имплицировано в самом «как» данной
формулы, поскольку позитивно бытие характеризуется Хайдегге-
ром как «то, что определяет сущее как сущее»**. Ибо не стоит
забывать, что, согласно Хайдеггеру, фундаментальная онтология — это
еще не вся метафизика и философия, поскольку темпоральное
прояснение смысла бытия вообще имеет смысл исключительно ввиду
учения о сущем. Вот его собственные слова: «Но эта темпоральная
аналитика одновременно является поворотом, в котором сама
онтология явно возвращается в ту метафизическую онтику, в которой
она всегда уже неявно находится. Необходимо привести онтологию
с помощью подвижности радикализации и универсализации к
скрытому в ней изменению. Поскольку это поворачивание
осуществляется, дело доходит до изменения в метонтологию. Фундаментальная
онтология и метонтология в их единстве образуют понятие
метафизики» ***. Вопрос заключается скорее в том, насколько
фундаментальная онтология пригодна для нужд метонтологии и способна,
осуществившись, обратиться в нее.
Автором статьи было справедливо замечено, что даже абстра-
гированно-редуцированное к только понимаемому бытие также
ускользает «от понятийной фиксации», что «выразить в логосе
природу бытия» невозможно.
Но и здесь надо учитывать, о каком именно логосе идет речь —
о том ли логосе, который дает дефиниции, или о том, который
претендует на спекулятивно-диалектическое развертывание
через негацию абсолютного содержания, или, наконец, о
феноменологии — логосе того, что, скрывая себя, самого себя показывает
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 9.
** Там же. С. 6.
*** Heidegger M. Metaphysische Anfangsgünde der Logik. S. 201-202.
Дискуссия об онтологической дифференции
607
из себя самого. Важно иметь в виду следующее: Хайдеггер
прекрасно осознаёт, что понятие бытия не есть «общий род», но также и то,
что оно вообще не есть никакой род, и уж точно не результат
какого бы то ни было обобщения. И неопределимо оно не потому, что
ему не подыскать более высокого рода, но потому, что оно вообще
не является «логическим» в традиционном смысле слова — в этом
отношении он, кстати, действительно выгодно отличается (не без
влияния Брентано) от прочей немецкой идеалистической
философии, которая, как сам философ и считал, была по принципиальным
соображениям слепа к проблеме омонимичности сущего. И все же
создатель фундаментальной онтологии настаивает на получении
понятия бытия, а стало быть, на логосности онтологии как фено-
мено-логин, претендуя на чеканку некоего нового понимания
логоса вплоть до создания нового языка (с его особой «грамматикой»)
для фиксации существенных черт бытия... Поэтому констатацию
невозможности «выразить в логосе природу бытия» у Хайдегге-
ра следовало бы подтвердить через эксплицитную реконструкцию
специфического хайдеггеровского понимания логоса, обнаруживая
в нем специфические трудности, ведущие к указанной
невозможности. А именно конкретные трудности логоса, формирующего
понятие не на основании общности рода.
Свою статью Дмитрий Федчук завершает таким пассажем:
«Поэтому возврат онтологии к существованию как собственному ее
предмету вряд ли приведет к экспликации его смысла. Скорее бытие нам
открывается через сущность и модусы сущности — то есть сущее»*.
Это, пожалуй, наиболее рельефная формулировка его собственных
воззрений. Как уже было сказано в начале, он считает, что сущее
должно быть собственным предметом онтологии; и только через него
может быть так или иначе приоткрыто его бытие, собственный смысл
которого в конечном счете не может быть эксплицирован.
Соглашаясь с этим его основным тезисом, хотелось бы спросить, во-первых,
насколько это исключает сделанное Хайдеггером в
фундаментальной онтологии, которая, по сути, направлена была на метонтоло-
гию, на философскую онтику, а во-вторых, если все же исключает,
то как можно, по существу, дистанцироваться от хайдеггеровского
пути к сущему как сущему через смысл его бытия — тогда, когда он
уже, как кажется, вменил любому онтологическому исследованию
необходимость онтологической дифференции и прояснение смысла
бытия. <...> Что иное может сказываться в различных и разного
статуса предикатах сущего как сущего, как не его бытие? Можно ли,
стало быть, отказаться от хайдеггеровской формальной «дефини-
* Федчук Д. Схоластическое различие в сущем и онтологическая
дифференции // Horizon. Феноменологические исследования. Т. 2 (2). 2013. С. 85.
608
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
ции» бытия как того, что определяет сущее как сущее, или, просто
не принимая во внимание это определяющее основание,
рассматривать сущее как таковое? Если да, то достаточно ли для такого
дистанцирования просто указания на исторические прецеденты, каковы
в данном случае Дуне и Суарес, отказавшиеся от определения
формального смысла esse, или для онтологии сущего по существу дела
потребуется развернутая ектоцт| инородного ей элемента —
окольного пути к сущему как сущему от смысла его бытия? В таком случае
подобная ектоцт) должно быть концептуально оформлена, а вслед
за ней должно быть позитивно показана возможность онтологии,
не ориентирующейся на бытие как определяющее основание сущего
как сущего. Можно ли, стало быть, теперь снова говорить о
«реалистической» онтологии как оппозиции онтологическому идеализму,
о наивности которой говорил и сам Хайдеггер, и его последователи
(напр., О. Беккер)? А в историческом плане не потребует ли это
обращения к тому Аристотелю, который не был бы уже «не меньшим»,
пусть даже и истинным, «идеалистом, чем даже Кант»?
Д. А. Федчук
Ответ на рецензию А. Б. Паткуля на статью
«Схоластическое различие в сущем и онтологическая
дифференция». Horizon. Том 2 (2), 2013
Обращаясь к серьезным историко-философским штудиям, мы
всякий раз берем на себя ответственность перед теми, кого
пытаемся понять и чью философию — хотим мы того или нет —
периодически подгоняем под усвоенные на уровне привычек способы
интерпретации. Полностью отрешиться от них практически невозможно,
поэтому также невозможно всерьез предъявить в чистом виде чью-то
философию и заявить: вот это и есть то истинное, которое имелось
в виду ее автором. Философия Мартина Хайдеггера в особенности
не позволяет так с собой поступать. Поэтому расхождения в
толкованиях ее содержательных моментов неизбежны. Однако говорить
о несостоятельности каких-либо идей фундаментальной онтологии
вряд ли было бы корректно. Степень ее продуманности и воздействия
на последующую мысль столь велика, что все в ней «состоятельно».
Другое дело, что мы вправе вносить свои коррективы в тот или иной
аспект учения Хайдеггера и стремиться разъяснить хотя бы для
себя самих, в чем заключается несоответствие между заявленным
Хайдеггером и осуществленным им. В том числе и онтологическую
дифференцию, проведенную в контексте схоластического различия
в сущем, никак нельзя назвать несостоятельной. Представляется,
что фундаментальный смысл предлагаемого Хайдеггером различия
Дискуссия об онтологической дифференции
609
очень значителен, и именно это вынуждает нас все время
обращаться к нему, поскольку точно сказать, как определено бытие (именно
оно обращает на себя внимание) в своем отношении к сущему,
достаточно сложно, если отказаться от языка Хайдеггера и перейти
к более традиционному дискурсу. В статье ♦Схоластическое
различие в сущем и онтологическая дифференция» речь идет именно
об этом: различие между бытием и сущим, предложенное Хайдегге-
ром, не смогло артикулировать в логосе смысл бытия, хотя должно
было бы, так как сам автор данной дифференции прямо об этом
заявлял. Или допустимо спросить, пользуясь языком Хайдеггера: как
мы можем мыслить бытие и сказывать его смысл? Таким образом,
выявляются следующие концептуальные моменты, относящиеся
к онтологической дифференции и оставленные без должного
освещения в тексте статьи, но требующие тем не менее прояснения: что
значит понимание и мышление у Хайдеггера и чем понимание
отличается от мышления в традиционном идеалистическом смысле;
понимание логоса как средства передачи сущности бытия; связь
бытия и времени и толкование структуры темпоральности из ее
основополагающих модусов; можно ли в философии Хайдеггера говорить
об унивокальности бытия аналогично тому, как это делал Дуне Скот.
На вышеперечисленные проблемы обратил внимание А. Б. Паткуль
в своей рецензии на нашу статью.
Начнем опять со Средних веков. Фома Аквинский, Дуне Скот,
Генрих Гентский, Франсиско Суарес и др. различали сущее (ens),
сущность (essentia) и бытие (esse). Если первым двум
понятиям предлагались определения или варианты понимания с опорой
на Аристотеля, то бытию дефиницию никто и не думал давать,
поскольку известно, что оно не относится к какому-либо логическому
виду или роду. Осуществляемая Хайдеггером онтологическая
дифференция имеет в качестве прототипа схоластическое различие
между сущностью и бытием конечного сущего. О сущности говорится
как о сущем в основном, первичном значении — субстанции,
составном целом, являющемся носителем привходящих свойств, ибо
субстанция существует сама по себе, а акциденции — благодаря бытию
субстанции. Второй смысл сущности — форма вещи, сказываемая
в определении, quidditas. To есть логос выражает природу сущего
через его дефиницию. Бытие как экзистенция конечного отличается
от сущности этого конечного, ибо быть чем-то определенным
(человеком, например) и просто быть — разное. Следовательно, бытие
отличается и от сущего. Если Суарес и пишет, что мы будем понимать
существование не так, как это делают томисты — как акт (actus)
сущности, а как находящуюся в акте саму сущность, то это отнюдь
не означает, что у него (равно как и у Дунса Скота) бытие не отлича-
610
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
ется от сущности. Бытие и сущность различаются, но различаются
либо как сущность и ее модус, либо не реально, а в разуме. То есть
нельзя провести реального различия между сущностью и ее бытием.
Бытие не существует самостоятельно, отдельно от сущности. А если
его нет отдельно от последней, то, соответственно, и от сущего тоже.
Но отличать одно от другого следует, хотя важно понимать
характер проводимого различия. Сложность возникает с артикуляцией
смысла бытия. Если формальный смысл esse как члена дистинкции
не достигает требующейся для понимания ясности, то само
различие не проведено до конца.
Конечно, Дуне Скот и Суарес фигурируют в статье не случайным
образом, они не суть лишь «исторические прецеденты», как пишет
Паткуль, упоминаемые только потому, что обращались к теме
различия сущности и бытия. Онтологическая дифференция основывается
на схоластическом различии в сущем... А корреляция между
сущностью и сущим прослеживается достаточно ясно. В фундаментальной
онтологии внимание смещается на феноменологическое (в смысле
Хайдеггера) постижение экзистенции Dasein, взятого в его
фактичности, онтическом опыте, когда для него еще нет никаких
концептуальных дистинкции...
Обратимся к вопросу об унивокальности esse. Здесь следовало бы
указать на два аспекта. Первое: сущие различаются друг от
друга по сущности и свойствам (по форме и материи), однако все они
«есть» — будь это человек, камень или осел. «Есть» представляет
собой формальное бытие, смысл которого, возможно, сохраняет свое
тождество вне зависимости от того, какому сущему предицируется.
Следует заметить, что в данном рассуждении мы не утверждаем, что
бытие унивокально, но допускаем, что оно таково. <...> Второе: бытие
всякий раз указывает на способ (modus) присутствия сущности,
способ ее данности. Данности чему? Здесь, по-видимому, можно
предложить лишь один ответ — данности мышлению. Сущность находится
в акте определенным образом как то-то или то-то. Однако единство
идеи бытия, о котором пишет А. Паткуль, сохраняется и тут. Хайде-
ггер это тоже поддерживает. Ибо невозможно вести содержательно
определенную речь о «региональных модификациях смысла бытия»
до артикуляции в логосе смыслового ядра бытия, фундирующего
«единство его идеи ». По крайней мере, онтология хочет дойти хотя бы
до набросков сущности esse. Тем не менее следует заметить, что здесь
вкрадывается досадное недопонимание. Мы настаиваем на том, что
с позиции классической онтологии, к которой желает вернуться
и Хайдеггер, у термина бытие должен быть инвариант смысла, уни-
вокальность узуса, на основе которого говорится, что молоток, Бог,
человек или двоица есть. Метафизика стремилась к поиску такого
Дискуссия об онтологической дифференции
611
значения, иначе все усилия двух с половиной тысячелетий в
определении смысла eîvm, esse обессмысливаются: первая философия
пытается свести многообразие к единству, не отрицая множественность,
а удерживая ее вокруг основного онтологического ядра...
Модификации бытия, различные способы экзистирования хранят в себе этот
первый неартикулируемый смысл быть и произволны от него. В
статье не предлагается исчерпывающий взгляд на бытие, но
осуществляется попытка держаться в границах традиционной метафизики
и ее понимания у Хайдеггера. Хотя, если говорить от первого лица,
сегодня онтология должна освободиться от претензий на мышление
бытия в его тотальности как способного быть схваченным в единстве
смысла и дефиниции... Бытие в его единстве — это теоретическая
картина, горизонт, включающий разные модусы существования
согласно наиболее широким доменам сущего, из которых быть
наделяется собственным уникальным содержанием. Здесь, безусловно,
присутствует намек на наше понимание онтологии Алена Бадью.
Таким образом, единство бытия конституируется из синтеза бытийных
концепций, описывающих следующие домены универсума: природа,
сознание, искусство, сфера этического, наука, трансцендентное (речь
идет о разных видах богословия). <...> Наше понимание бытия
определяется самим бытием — эту мысль Хайдеггер постоянно повторяет
в разных текстах*. «Есть», делает предположение Хайдеггер, будучи
пустым по содержанию, наполняется им в зависимости от того, с чем
оно соотносится в суждении**. Оно определяется через иное. «Через
сущее?» — спрашиваем мы. «Но сущее многообразно, поэтому и
бытие (в грамматической форме глагола «быть») сказывается в одном
из значений, выявляемых в оказывании», — отвечает Хайдеггер***.
Таким образом, он отнюдь не стремится к унивокальности, к
нахождению общего инварианта смысла для любого сущего, как к нему
стремились схоласты. Бытие имеет многообразие значений,
«расслаивается» в соответствии с многообразием сущего, смысл
которого артикулируется в суждении. Поэтому вполне закономерен вопрос
А. Паткуля, вправе ли мы сводить в контексте одной статьи два
разных на первый взгляд подхода к вопросу о бытии — схоластический
и хайдеггерианский.
<...> Понимание у Хайдеггера и мышление у античных и
средневековых авторов по смыслу не совпадают. Когда Dasein понимает,
это не означает, что оно мыслит дискурсивно, т. е. разворачивает
понятийные определения в суждении. Понимание онтологически
* Хайдеггер, М. Введение в метафизику. СПб.: Издательство ВРФШ, 1997.
С. 168.
" Там же. С. 170.
*** Там же.
612
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
раньше производных от него мышления и созерцания*. <...>
Понимание допредикативно. Последнее — результат более позднего
и производного модуса экзистенции Dasein. Рассмотрим кратко,
в каких значениях понимание, мышление и, соответственно, логос
встречаются в некоторых текстах Хайдеггера.
<...> Человек является, приходит к бытию через разумение-
мышление. Поэтому не человек обладает мышлением, а
мышление — человеком. Поскольку логос есть собирание, то разумение
(voeîv) исходит из Aéyeiv (собирания, говорения)**. Благодаря логосу
сущее приводит к показыванию себя, оно обнаруживается.
Следовательно, логос — это бытие.
Хайдеггер, как и Аристотель, различает voeîv и Siàvoia. Первое
имеет отношение к усмотрению, непосредственному
схватыванию-пониманию: «прямое, вглядывающееся внятие простейших
определений сущего как такового » ; *** второе — к дискурсивному
развертыванию в логосе, артикуляции положения дел, при которой
устанавливается соответствие между интеллектом и предметом и,
соответственно, ложь или истина речи. <...> Высказывание производно
от толкования, укорененного в понимании. <...> Но поскольку о
бытии чего-либо можно вести речь лишь по отношению к Dasein, для
которого только и имеется этот смысл — бытие, а Dasein обладает
пониманием, логосом и способностью артикулировать логос
сущего, то онтологическое первенство должно сохраняться за ним самим,
наделенным названными модусами экзистенции. Можно было бы
спросить: а не оказывается ли так, что первичность понимания
наличного уступает место первичности сущности? Нет, поскольку для
Dasein «сперва» имеет место понимание наличного, а затем уже
вторичный модус понимания — истолкование. <...> Но в
онтологической дифференции нас интересует теоретическое высказывание о
самой сущности бытия, когда различается сущее и бытие, сказанное
в логосе. Ясно, что речь не идет об определении через род и
ближайшее видовое отличие. Проблема именно в этом: как эксплицировать
смысл бытия, не служащего родом ни для какого сущего?
<...> Теперь обратимся к связи бытия с темпоральностью и ее
структурой. <...> При анализе природы времени мы оказываемся
в сложном положении: это слишком трудное для понимания место
у Хайдеггера. Поэтому различные, не согласующиеся полностью
друг с другом интерпретации онтологической дифференции,
исходящей из понимания структуры темпоральности, допустимы. На
самого Хайдеггера, безусловно, повлияла теория времени Гуссерля.
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 147.
** Он же. Введение в метафизику. С. 244.
*** Он же. Бытие и время. С. 147.
Дискуссия об онтологической дифференции
613
Фундаментальная онтология — пусть она и пользуется другой
терминологией — вырастает из философии Гуссерля и понимания им тем-
поральности. По крайней мере, текст, посвященный онтологической
дифференции, более-менее становится понятным лишь в его
соотнесении с гуссерлианскими представлениями о структуре темпорального
потока. Когда Хайдеггер пишет, что настоящее в себе самом
экстатически набрасывается по направлению к презенции, то мы понимаем
это как априорные условия экзистенции субъекта, который
называется в фундаментальной онтологии Dasein. Такова универсальная
форма существования субъекта — временение, т. е. учреждение времени
со всеми его формами, темпоральными экстазисами настоящего,
прошедшего и грядущего. Каждый из них — это априорная схема,
связанная с другими схемами других экстазисов. Хайдеггер не говорит
о синтетической связи этих схем, но мы думаем, что вправе ее
признавать. В феноменологии Гуссерля изменение одной из фаз
темпорального потока сразу ведет к изменению всех остальных, сдвигающихся
в нем по отношению к фазе «теперь» и модифицирующихся вместе
с ней. Таким образом, если б мы попытались, как бы синтетически,
объединить (в случае Хайдеггера) горизонтальные схемы каждого
из экстазисов, то получили бы полную структуру настоящего. Но
актуально это невозможно сделать, потому что временность
представляет собой, так же как и темпоральный поток у Гуссерля, перманентно
модифицирующийся континуум содержаний, меняющих экстазис
будущего на экстазис настоящего и прошедшего. То есть происходит
наложение горизонтальных схем, непрерывно трансформирующихся.
Время как некое целое есть объединение экстазисов, однако мы
говорим, конечно, о некой абстракции, не осуществимой ни в актуальной
экзистенции Dasein, ни в актуальном акте рефлексии, поскольку
действительно нет никакой «схемы всех горизонтальных схем» (как
правильно пишет А. Паткуль), как нет и темпорального потока, данного
сознанию в виде целокупности всех возможных темпоральных фаз.
Для сознания в его актуальном бытии, равно как и для актуальной
экзистенции Dasein, фактически налична фаза настоящего, связанная
с презенцией и с присутствием сущего для субъекта.
<...> И все же мы настаиваем, что экстазису настоящего
следует отдать первичную роль в конституировании темпоральности,
несмотря на то что Хайдеггер периодически твердит о приоритете
будущего. <...> Если же мы осуществим рефлексию над
фактичной экзистенцией Dasein, то экстазис настающего не может не быть
укорененным в настоящем. Иначе все рассуждение онтологически
не обосновано.
У Хайдеггера презенция объединяет все экстазисы и
конституирует настоящее в его полноте. Вперед-себя, однако, основывается
614
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
в акте набрасывания, который осуществляется теперь. То есть
момент его протекания укоренен в теперь, в настоящем. Само же
настоящее, исходя из смыслов, вложенных Хайдеггером, вбирает в себя
бывшесть и настающее. С точки зрения феноменологического
наблюдения за экзистенцией Dasein, погруженного в мир наличного,
затерянного среди других вещей, первичный смысл как сущностная
черта экзистенциальности действительно есть будущее, поскольку
Dasein существует путем самонабрасывания на свои возможности,
и это является его сущностной характеристикой. Но с позиции
рефлексии, проведенной над онтологической структурой Dasein,
после экзистенциально-онтологической модификации изначальным
экстазисом, связанным с осуществлением всех актов, оказывается
экстазис настоящего. Все наброски, бытие-вперед-себя и т. п. имеют
момент своего возникновения в настоящем. Другое дело, что
настоящее, понятое онтологически-феноменологически, структурно уже
включает два других темпоральных модуса, конституирующих его;
без них последнего нет. Хотя это — неаккуратный способ
выражения. Лучше было бы сказать: два экстазиса — бывшести и
настающего — суть условия экзистенции Dasein, т. е. его фактичности,
актуальности, которая мыслится как действие, исполнение того, что
преднамечено в наброске, само же Dasein имеется как всегда
брошенное. <...> Будущее, по Хайдеггеру, временит, т. е.
конституирует, временность, образующую «смысл заступающей решимости».
После совершенной феноменологической редукции мы можем
редуцировать и этот смысл до простого феномена, дабы понять исток
возникновения будущего для Dasein, чье бытие имеет смысл
заступающей решимости.
В конце известной статьи Хайдеггера «Что значит мыслить» речь
идет о сущности мышления и бытия сущего. Мышление происходит
в логосе и основывается на представлении (representatio), в котором
разворачивается восприятие. В нем сущее присутствует для
мышления, которое вручает нам присутствие в его присутствии. Бытие
и есть присутствие*. Поскольку присутствующее длится и
продлевается в несокрытость, то к нему принадлежно господствующее в
присутствии настоящее. Несокрытость и настоящее взаимопринад-
лежны и составляют сущность времени. Именно это утверждается
в тексте статьи. Таким образом, сущность времени все-таки в
настоящем. Этот отход Хайдеггера от понимания времени через
первичность будущего в более позднем по отношению к рассматриваемым
выше тексте не случаен, на наш взгляд. Он знак того, что
онтологически теперь фундирует модусы прошедшего и будущего.
* Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Хайдеггер М. Разговор на
проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 134-145.
Дискуссия об онтологической дифференции
615
Обратимся к еще одному аспекту. В фундаментальной онтологии
имеется связь между бытием и его разомкнутостью
(предварительным пониманием) — это забота. Будучи озабоченным, Dasein
набрасывает себя на свои возможности как возможные формы его
экзистенции — то, как человек имеется среди наличного сущего, как
он соотносится с ним в действии — ведет себя, например. Поэтому
Хайдеггер говорит, что набросанное есть бытие Dasein*. В этом
случае речь идет о наброске первичного, допредикативного понимания
бытия. Понимание, как ясно из вышесказанного, не связано с
понятийным определением, а есть ноэтическое схватывание. Однако
из рефлективной позиции онтологической дифференции мы
направлены на артикуляцию смысла различия и поэтому — на фиксацию
в дискурсивном мышлении содержательных определений сущего
как сущего и его бытия. Иначе быть не должно. Потому что если б
дело обстояло так, что Хайдеггер и не стремился бы к
понятийному раскрытию смысла онтологической дифференции, то было бы
непонятно, как вообще можно было бы довести до концептуальной
внятности разговор о бытии сущего, не оставаясь в плену метафор,
с помощью которых сущность бытия каким-то образом описывается.
Такое описание все никак не могло бы приблизиться к бытию и
осталось бы неким аналогом поэтической речи.
Есть онтический опыт сущего, и есть онтологический опыт
сущего. Дифференция для нас (занимающихся фундаментальной
онтологией) — это проживание онтологического опыта сущего. Для
Dasein, брошенного в мир, затерявшегося среди наличного, весь
онтический опыт (а это главный опыт, от которого большинство
не переходит) основывается «во всегда более или менее прозрачных
набросках бытия соответствующего сущего» **. В нашем дискурсе мы
перешли к онтологическому опыту сущего и поэтому хотели бы
увидеть предложенную Хайдеггером экспликацию в логосе смысла
бытия в его отличии от сущего, о возможности которой он сам писал.
В конце наших размышлений несколько слов о том, почему
фундаментальная онтология тоже представляет собой вид идеализма.
В немецком идеализме (Кант, Гуссерль) мир конституирован как
результат оформления чувственных данных сознанием,
обладающим определенными придающими единство бесформенному
функциями. Формообразующие акты сознания бывают разного
уровня в зависимости от типа синтеза и того, на что они направлены.
Хайдеггер отходит от такого понимания: определяющее структуру
мира — это «не сетка форм, набрасываемая безмирным субъектом
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 324.
'* Там же.
616 Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
на некий материал»*. То есть вопрос не ставится в своем
классическом виде: как субъект выходит к объекту? Для фундаментальной
онтологии формулировка должна быть иной: благодаря чему
имеется онтологическая возможность того, чтобы сущее могло
встретиться как внутримирное и стать объектом? В этом состоит и проблема
трансцендентности мира, и через экспликацию смысла экстатич-
но-горизонтной временности как фундаментального условия
экзистенции Dasein мы должны бы получить ответ на поставленный
вопрос. Но ясно, что говорить о наличии мира можно только в
соотнесении его с Dasein. «Если никакое присутствие не экзистирует,
нет и "вот" никакого мира»**.
в^
* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 366.
** Там же. С. 365.
^s^
В. Н. САГАТОВСКИЙ
«Есть» и «Es gibt»
В течение более двух тысяч лет развития европейской
философии термины «бытие» и «сущее» употреблялись как синонимы.
М. Хайдеггер резко развел эти понятия, подразумевая под сущим
то, что есть, т. е. существует как нечто ставшее, как предмет для
субъекта. Бытие же для него связано со временем и событием,
и оно не есть, но «es gibt» (дается, имеет место). Подоплека такого
подхода понятна, она связана с переоценкой ценностей,
характерной для Новейшего времени. Если во времена Платона подлинное
существование приписывалось прежде всего тому, что
обладает предикатом вечности (становление с его точки зрения бытием
не обладало), то уже для Ницше картина рисовалась с точностью
до наоборот.
Пытаясь отличить бытие от сущего, Хайдеггер, однако, не про-
блематизировал понятие «есть», оставив его на уровне «домашнего
обихода»: «есть» означает что-то готовое, имеющееся в наличности;
становящееся и «бытие» в возможности в этом смысле еще не «есть».
Однако в «Бытии и времени» он справедливо заметил: «Но уже
когда мы спрашиваем „что есть бытие?", мы держимся в некой
понятности этого „есть" без того, чтобы были способны концептуально
фиксировать, что это „есть" означает»*. За 80 лет, прошедших с того
времени, ситуация не изменилась.
Между тем Хайдеггер понимал: «Само собой
разумеющиеся „тайные суждения обыденного разума"(Кант) призваны стать
и остаться... делом философов»**. Все развитие философии есть
процесс проблематизации якобы само собой разумеющихся понятий,
вырастания всеобщих категорий из обыденных и частно-научных
одежд. В контексте данной статьи я исхожу из того, что
существование, которое есть в узком и обыденном смысле этого слова, и бытие,
которое в этом смысле не есть, но es gibt, в то же время во всеобщем
* Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2002. С. 5.
** Там же. С. 4.
618
В. Н. Сагатовский
смысле все-таки пусть по-разному, но есть — хотя бы в том смысле,
что и то и другое даны (есть, существуют) в интенциональном акте.
И такая данность есть начало всех дальнейших всеобщих
онтологических характеристик любого предмета — на этот раз уже не в хай-
деггеровском, но в гуссерлевском понимании термина «предмет»:
предметом интенции (и соответственно предметом онтологического
описания) может быть все что угодно — ставшее и становящееся,
актуальное и потенциальное, материальное и идеальное и т. д. Итак,
я хочу эксплицировать смысл такого «есть», которое является
началом всех дальнейших онтологических описаний.
Но что, собственно, мы понимаем под началом? Является ли это
начало порождающим (генетическим) или чисто структурным,
исходной точкой для построения онтологии как формальной
науки? Вечные сущности Платона или бытие-событие, открывающееся
для Dasein, Хайдеггера порождают всю полноту
бытия-существования или же являются его структурными атрибутами, так что спор
о генетической изначальности одного из них (как и любого
другого всеобщего атрибута, к примеру небытия) не имеет смысла? Если
отмахнуться от такой постановки вопроса, то все мои дальнейшие
рассуждения останутся непонятными. Иная формулировка данного
вопроса такова: можно ли построить принципиально
неметафизическую онтологию*?
Современный этап в развитии онтологии характеризуют
по-разному: как постметафизический** или же как неклассическую
метафизику***. Вопрос о «смерти метафизики» остается открытым. При
этом понимание того, что есть метафизика, далеко от
общезначимости. Попробуем определиться и с этим понятием. Что совершенно
необходимо для дальнейших рассуждений. Термин «метафизика»
понимается по крайней мере в трех основных смыслах. Во-первых,
как синоним философии в ее отличии от частных наук. В этом
смысле, как мне представляется, можно равно говорить о метафизике
или философской онтологии, о философии или же о метафизике
искусства. Отличие философской онтологии-метафизики от частных
дисциплин двояко: она имеет дело с всеобщими атрибутивными
характеристиками любого предмета (в смысле Гуссерля) и
занимает рефлексивную позицию по отношению к нефилософским
способам познания и вообще освоения мира. В этом смысле философская
* См. : Сагатовский В. Н. Триада бытия (введение в неметафизическую
коррелятивную онтологию). СПб: Изд. дом СПбГУ, 2006. <...>
См., например: Гайденко П. П. Постметафизическая философия как
философия процесса // Вопросы философии. 2005. № 3.
к* См., например: Евлампиев И. И. Неклассическая метафизика или конец
метафизики? // Вопросы философии. 2003. № 5.
«Есть» и «Es gibt»
619
онтология не может не быть метафизикой. Во-вторых, метафизику
иногда понимают как противоположность диалектики; этот частный
случай мы здесь рассматривать не будем. Нас интересует то, что,
в-третьих: та метафизика, против которой воевал Ницше; которая
то ли «умерла», то ли превратилась в метафизику неклассическую.
И только этот смысл я имею в виду, когда говорю о
неметафизической онтологии.
Чтобы разобраться в этом третьем смысле, надо вернуться к
вопросу о природе «начал», изучаемых философской онтологией
(метафизикой в первом смысле этого слова). Если эти начала являются
всеобщими формальными условиями любого познания (и с их
позиций осуществляется философская рефлексия последнего), то
онтология оказывается формальной дисциплиной (рассмотрение ее
соотношения с математикой выходит за рамки данной статьи) и явно
не может претендовать на создание «портрета Господа Бога» (такую
амбициозную задачу, как известно, поставил Гегель в «Науке
логики», и не он один). Но именно претензия на объяснение
происхождения «мира в целом» и порождает уверенность метафизиков в том,
что они обладают какими-то особенными таинственными
средствами постижения этой «последней тайны». Мир при таком подходе
удваивается; чувственно данные явления оказываются предметом
изучения частных наук, а порождающие их особые
сверхчувственные начала становятся предметом метафизики. Именно против
такого «метафизического мира» и выступал Ницше.
Я полностью разделяю его точку зрения, хотя она больно бьет
по цеховым жреческо-идеологическим амбициям. Основание
скептического отношения к такой метафизике я вижу в следующем.
Методологическая сторона данного основания сформулирована в
известном положении Б. Рассела, что применение квантора общности
«все» к бесконечным множествам не имеет смысла. И это не просто
положение математической логики, оно имеет глубокий
содержательный онтологический смысл. «Мир в целом» (не конкретная его
часть, допустим наша Вселенная, возникшая в результате
«большого взрыва»!) в принципе неограничен, он представляет собой
потенциальную бесконечность (у нас нет возможности рассматривать
здесь вопрос о соотношении потенциальной и актуальной
бесконечности). Так каков же смысл стремления найти порождающее начало
не конечного множества, но... начало бесконечности? Такая задача
может иметь смысл только в одном случае: если это начало принять
принципиально надмирным и внемирным. Но это означает, что мы
можем в него верить, но не можем изучать его нашими
принципиально ограниченными средствами. Можно было бы выдвинуть
гипотезу о том, что «большой взрыв» произведен неким суперсубъектом
620
В. Н. Сагатовский
и начать проверять ее. Но метафизики и катафатически мыслящие
богословы претендуют на нечто гораздо большее, и в отношении
к этому я солидарен с Ницше.
Однако сам Ницше и тем более его последователи (от Хайдеггера
до Делёза) от такой метафизики избавиться не смогли. Они просто
поменяли порождающее начало: вечные сущности на
становящуюся экзистенциальность. Вот характернейшее высказывание Ницше,
где наглядно демонстрируется подмена критики метафизики
абсолютизацией другого, чем в классической метафизике, но тоже
метафизического начала: «Нельзя допускать вообще никакого бытия
(бытие здесь — метафизические вечные начала. — В. С), потому что
тогда становление теряет свою цену. Эта гипотеза бытия есть
источник всей клеветы на мир ("лучший мир", "истинный мир",
"потусторонний мир", "вещь в себе"...). Становление несть кажущееся
состояние, быть может, наоборот, пребывающий мир есть видимость»*.
Или — или: или все устойчиво, или все изменяется. Так же как
в случае с допущением начала... бесконечности, обратимся к логике.
«Устойчивость» и «изменение» суть всеобщие категории; стало быть,
по определению они обязательно присущи любому явлению и всему
миру (иной мир нам просто не может быть дан). Между тем
элементарная ошибка Кратила прошла через века и пышным цветом
расцвела в наше динамичное время, где изменение, событийность, конечно,
превалируют над устойчивостью; следует ли, однако, отсюда, что для
устойчивости вообще не остается места? Да, река, пока ты входишь
в нее, уже катит новые воды, но ведь она остается рекой — не
превращается в период твоего вхождения в нее ни в болото, ни в океан.
Кстати, и твое вхождение, несмотря на всю его процессуальность,
остается твоим, и не только в смысле твоей неповторимости, но и
повторения, сохранения твоих устойчивых черт; экзистенциальность
не отменяет наличия эссенциальности. Но какой же уважающий себя
метафизик будет особенно считаться с «формальной» логикой?
Но если всеобщие атрибуты характеризуют все, то не означает ли
это их полную бессодержательность? Помнится, когда я защищал
категориальный статус понятия системы, мне возражали: «Тогда
получается, что все есть система». «Все, — отвечал я, — но не во всех
отношениях». И даже сформулировал общее положение: «Все есть
все, но не во всех отношениях», которое воспринималось уже с
откровенной усмешкой. А зря. Содержание всеобщих категорий и их
определение задается и осуществляется только через их
соотношение друг с другом. И присущность их денотатов различным
явлениям также не может быть установлена без указания определен-
* Ницше Ф. Избранные произведения: В 3 т. Т. 1. Воля к власти. Опыт
переоценки всех ценностей. M.: REFL-Book, 1994. С. 334.
«Есть» и «Es gibt»
621
ного отношения. Содержание «есть» (бытия, существования, нечто)
не может быть понято без соотнесения его с «не есть» (небытие,
несуществование, ничто): determinatio est negatio, т. е. не существует
чистого бытия и небытия вообще, без соотнесения друг с другом. То же
самое и в каждом конкретном случае — вспомним пример Сартра:
отсутствие Пьера в кафе означает его присутствие в другом месте.
Совокупность или система категорий описывает всеобщий
каркас, структуру любого явления, которое может стать предметом
нашего опыта. Мир дается нам только через эту категориальную сеть,
ячейки которой являются ориентирами нашего освоения мира.
Поскольку это так, то бессмысленно ставить вопрос, какая
категория главнее или какая возникла раньше. С этой точки зрения
лишен смысла и вопрос, который Хайдеггер в своей статье «Что такое
метафизика?» считает основным вопросом метафизики: как в этом
океане ничто возможно нечто? Отказ от генетического подхода к
возникновению «мира в целом» (от поисков начала бесконечности)
предполагает и отказ от генетического подхода к возникновению
всеобщих атрибутов: они даны вместе с этим миром и иной мир нам
не может быть дан. Другое дело, конечно, что нашему познанию эти
атрибуты открываются не сразу, и в этом историческом и
культурологическом смысле генетический подход необходим.
Итак, «есть» для нас не порожденная и не порождающая, но
всеобщая характеристика мира и любого явления в нем. И его
содержание может быть понято только через его место в структуре других
всеобщих характеристик. Ни бытие, ни небытие, ни их соотношение
ничего не порождают, но являются атрибутами всего, что уже дано,
может быть дано и становится чем-то. Они не относятся к некоему
метафизическому миру, но характеризуют структуру единственного
мира, который может быть дан в нашем опыте. Таков смысл искомой
неметафизичности онтологии.
Что же является началом, исходным пунктом в системе всеобщих
атрибутов любого явления в случае структурного подхода?
Очевидно, что и в познании, и в любом взаимодействии любых явлений
таким исходным пунктом является факт существования того, что
познается или что вступает во взаимодействие, что познаваемое
или взаимодействующее есть, имеет место, присутствует.
Познание или проявление других его характеристик происходит позднее,
и они могут проявляться в каждом конкретном случае по-разному;
но атрибут данности этого нечто однозначно оказывается
необходимым и первичным.
Прежде чем двигаться дальше, сделаем необходимые уточнения.
1. То, что обычно именуют явлением или предметом, обозначим
как сущее. Забудем при этом противопоставление сущего и бытия,
622
В. Н. Сагатовский
понимая под сущим все, что может быть предметом нашего опыта
или вступать во взаимодействие с другими сущими. Понятно, что
в этом смысле сущее может существовать и актуально, и
потенциально, и как становящееся, и как сущность, и как явление и т. д.
2. Взглянем на интенциональный акт познания как на особый
частный случай любого взаимодействия любых сущих. Ведь как
в интенциональном акте полагается определенный предмет, так
и, скажем, в химической реакции именно характер взаимодействия
определяет те свойства объектов, которые проявляются именно
в данной реакции (мы не имеем здесь возможности обсуждать
вопрос о том, в какой степени в познании предмет «берется»,
полагается субъектом, а в какой дается независимо существующим от него
объектом).
3. Взаимодействие есть динамический аспект соотношения, а
последнее есть статический аспект взаимодействия. Опираясь на
данные науки, удобнее говорить о взаимодействии; в логическом
анализе ситуации удобнее оперировать понятием соотношения.
Теперь можно сформулировать наш основной тезис:
существование (бытие) есть атрибут любого сущего находиться в
соотношении с другим сущим. Утверждение «а есть» означает, что а
соотносится с Ь: aRb. Характер соотношения при таком подходе
не имеет значения: статичный, динамичный, объектно-объектный,
субъектно-субъектный и т. д. Обычно такая позиция встречает
непонимание по следующим направлениям. Прежде всего, нас
обвиняют в полном устранении субстанциональности бытия, в сведении
его к свойству, которое затем оказывается заданным отношением.
Но, возражают нам, ведь носитель свойств («вещь» в терминологии
А. И. Уёмова) уже существует, прежде чем вступать в какое-то
отношение. С защищаемой здесь точки зрения любое предшествующее
данному отношению существование также не является
«существованием вообще» — оно конституировано другим соотношением.
Но тогда — продолжают возражать нам — получается регресс в
бесконечность. Ну и что же? Это страшно лишь для тех, кто претендует
в бытии увидеть конечную причину всего сущего. Мы же говорим
лишь то, что в любом акте и на любом уровне существования
воспроизводится определенная структура aRb. Устраняется лишь
метафизическая субстанция (начало... бесконечности). В реальном же мире,
как было прекрасно показано в свое время А. И. Уёмовым*, «вещь»
(носитель свойств, субстанция), свойство и отношение взаимно
«переходят» друг в друга. Оператором такого перехода оказывается
отношение. В нашем случае это значит, что в соотношении с сущими
* См.: Уёмов А. И. Вещи, свойства, отношения. М.: Издательство Академии
наук СССР, 1963.
«Есть» и «Es gibt»
623
«есть» (существование, бытие) выступает как их исходное всеобщее
свойство (атрибут), а по отношению к другим всеобщим
категориям оказывается «вещью», носителем свойств. И система всеобщих
категорий может быть представлена как «атрибутивная модель»
бытия (по аналогии с разработанной в свое время ленинградскими
философами «атрибутивной моделью материи»; полнота
существования не сводится к существованию на уровне материи,
объективной реальности).
Не получается ли это все «слишком абстрактным»? Не
игнорируются ли при таком подходе важнейшие различия способов
существования: как ставшего или становящегося, как эссенциального или
экзистенциального, как материального и идеального и т. д.? Нет, эти
различия появляются при дальнейшем восхождении от
абстрактного к конкретному. Исходный же уровень работы с категориями
по определению должен быть предельно абстрактным. Посмотрим,
какое отношение выступает оператором при определении категории
«есть» (фиксирующей любую форму бытия-существования). Оно
идентично для определения любых категорий — через отношение
противоположности: a Rue а. В нашем случае в качестве не а
выступает «не есть» (небытие, не существование). Ибо констатируя
существование чего-либо в одном соотношении, мы тем самым отрицаем
его существование в одно и то же время и в одном и том же месте
в другом соотношении. Нельзя существовать, равно как и не
существовать «вообще», без указания определенного соотношения.
Не означает ли это полную релятивизацию существования,
полное отрицание абсолютного? Нет, мы отрицаем только
метафизическую трактовку абсолюта как некоего порождающего начала
по отношению к относительной реальности. Здесь мы видим всю
ту же некорректность обращения с всеобщими категориями:
предполагается, что есть вещи абсолютно (во всех отношениях, в любых
условиях) абсолютные, а с ними рядоположены вещи абсолютно
относительные. Дело же обстоит так, что любое сущее в разных
соотношениях выступает и как относительное, и как абсолютное.
Последнее имеет место в том и только в том соотношении, когда сущее
выступает как самотождественное: aRa (бытие-в-себе). То же самое
сущее в соотношении с внешним сущим, которое с необходимостью
вызывает соответствующие проявления, оказывается таким видом
относительного существования, как объективная реальность (бы-
тие-для-другого). Оно же, соотносясь с другими сущими, которые
являются лишь сигналами, знаками, несущими информацию,
интерпретируемую внутренним миром данного сущего (тем, что Тейяр
де-Шарден называл «сокровенным внутренним вещей»), проявляет
себя как субъективная реальность (бытие-для-себя). Эти три спосо-
624
В. Н. Сагатовский
ба существования образуют полноту бытия, его триадическое
единство: ни одно из них не является абсолютно ведущим — каждое
необходимо, а все вместе необходимы и достаточны*.
Все другие категории представляют собой предикаты бытия
(по отношению к абсолютному аспекту они носят отрицательный
характер: безграничность, бесструктурность, невыразимость и т. д.;
так, сущее, ограниченное как объективная и субъективная
реальность, самодостаточно как самотождественное). Сущее и бытие в том
смысле, как употребляет эти термины Хайдеггер, на самом деле суть
характеристики разных всеобщих сторон любого существования,
которое в каком-то отношении оказывается ставшим, а в другом
может проявить себя как становящееся. В культурах разного типа
и для личностей с разными базовыми ценностями и
психологическими установками одна из этих сторон может представляться
ведущей (и действительно выступать на первый план). Но это не дает
никаких оснований объявлять et абсолютно ведущей и
«единственно истинной». Всеобщее по сути своей не подвластно моде. Таким
образом, «es gibt» не противоположность «есть», но одна из
модификаций последнего, выражение одного из способов существования
(событийности), если «есть» понимать не на обыденном, но на
категориальном уровне.
Ч
* Кроме указанной «Триады бытия» см. также: Сагатовский В. Н.
Философия развивающейся гармонии в 3-х частях. Ч. 2: Онтология. СПб/:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999.
^s^
А. В. МИХАЙЛОВСКИЙ
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis*
1. Начала хайдеггеровской мысли о технике
В фокусе внимания большинства исследований, посвященных
философии техники Мартина Хайдеггера, находится доклад 1953 г.
♦Вопрос о технике»**. Это объясняется тем, что до 1936 г. — начала
работы над эзотерическим трактатом «К философии (О событии)»
и уверенного философского размежевания с
национал-социализмом — Хайдеггер, по видимому, проявляет «индифферентность»
к комплексу вопросов, связанных с ключевыми словами критики
метафизики— «Technik», «Machenschaft», «Gestell»***. Точнее
говоря, понятие «Ge-stell» употребляется им в «Истоке художественного
творения» (1935/36)****, но используется, причем без всяких
подозрений, для объяснения произведения искусства (Kunstwerk), которое
«поставляет» сущее в «форму». В своем позднем докладе Хайдеггер
сам выстраивает мост между искусством и техникой как двумя
разновидностями techne как «выведения в непотаенность» *****, но вопрос
о предыстории обращения к теме techne/Technik остается открытым
* Эта статья написана на основе доклада, сделанного на конференции по
Аристотелю в Сорбонне (Париж-IV) в октябре 2012 г. Продолжение работы над
темой стало возможным благодаря гранту Немецкой академической
службы обменов (DAAD) в 2015/16 г.
" В качестве наиболее ярких примеров можно привести авторитетные
исследования Г. Зойбольда (Seubold G. Heideggers Analyse der neuzeitlichen
Technik. Freiburg; München: Alber, 1986) и Э.Якоба (JacobE. Martin
Heidegger und Hand Jonas. Die Metaphysik der Subjektivität und die Krise
der technologischen Zivilisation. Tübingen; Basel: Francke Verlag, 1996.
S. 79-111).
" Thomä D. Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte
Martin Heideggers 1910-1976. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1990. S. 726 ff.
" Heidegger M. Holzwege. Hrsg. von F.-W. von Herrmann. GA 5. Frankfurt a.
M., 1977. S. 52.
'* Idem. Vorträge und Aufsätze. Hrsg. von F.-W. von Herrmann. GA 7. Frankfurt
a. M., 2000. S. 13.
626
А. В. Михайловский
и может быть решен, конечно, не только с помощью «текстуально-
исторического» анализа*. В частности, Ф.-В. фон Херрманн считает,
что философское вопрошание о технике и искусстве можно
объяснить систематически, т. е. исходя из
«фундаментально-онтологически обоснованной метонтологии экзистенции»**. Иначе говоря,
вопрос о бытии, изначально сформулированный в
фундаментально-онтологическом ключе, должен пониматься в широком смысле
и охватывать все регионы бытия, включая в себя вопросы о
сущности политики, техники и искусства. В целом эту точку зрения
разделяет и российский философ А. Н. Павленко, предлагающий
начинать рассмотрение техники у позднего Хайдеггера с анализа ее
«онтологических основ»***.
Попытку систематического анализа эволюции взглядов
Хайдеггера на технику предпринимает А. Розалес-Родригес, выделяя
две основные фазы в толковании техники у Хайдеггера****. Первый
этап начинается с различения «подручного» и «наличного» в
«Бытии и времени», затем продолжается рассмотрением искусства как
poiesis'a в его отношении к истине-непотаенности в «Истоке...»
и завершается отожествлением техники и «завершенной
метафизики» в лекциях о Ницше. Второй — послевоенный — этап стоит под
знаком толкования техники как «Gestell» («Зачем поэт?» (1946),
Бременские доклады (1949), включая «Опасность» и «Поворот»),
дополняет рассмотрение техники в «Вопросе о технике» критикой
естественных наук в докладе «Наука и осмысление» (1953) и
завершается интервью «Шпигелю» (1969) и семинарами в Ле Торе и Це-
рингене (1969, 1973). Таким образом, мы видим экспозицию
вопроса о технике на фоне масштабной панорамы, включающей в себя
практически все основные этапы мысли Хайдеггера. Тем не менее
я не могу согласиться с основной гипотезой автора о различии
«метафизики techne» (находящей выражение в критике картезианства
и новоевропейской философии в целом) и «метафизики physis»
(находящей выражение в философии искусства)*****. Такое различие
* Thomä D. Op. cit. S. 731.
'* Herrmann F.-W. von. Das Ereignis und die Fragen nach dem Wesen der
Technik, Politik und Kunst // Kunst, Politik, Technik: Martin Heidegger.
Hrsg. von Ch. Jamme und K. Harries. München: Fink, 1992. S. 244.
Павленко А. Н. Возможность техники: взгляд из Лавры и голос из Марбур-
га // Историко-философский ежегодник-2002. М.: Наука, 2003. С. 398-
399.
Rosales-Rodriguez A. Die Technikdeutung Martin Heideggers in ihrer
systematischen Entwicklung und philosophischen Aufnahme. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie (Dr.
phil). Dortmund, 1994.
" Ibid. S. 216.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis
627
«физиоморфной» и «техноморфной» моделей представляется мне
надуманным потому, что в философии Хайдеггера никогда не идет
речь о каких-то параллельно существующих типах метафизики,
но только о единой истории бытия. Она не развивается линейно,
в ней то проявляются, то затухают отдельные элементы, или,
говоря словами самого Хайдеггера, равноизначально действуют
«сущностные силы бытия». Такими элементами являются, в частности,
техника и природа. Систематическое рассмотрение этого вопроса
осложняется тем фактом, что у самого Хайдеггера отсутствует
систематическая философия техники. Именно по этой причине
я отдаю предпочтение герменевтическому подходу, позволяющему
истолковать отдельные высказывания Хайдеггера о технике в
широком контексте его лекционных курсов, выступлений и трактатов
1930-х гг. Так я надеюсь устранить те мнимые несогласованности,
которые вынуждают вводить искусственные членения и мешают
увидеть философию техники Хайдеггера в ее живом развитии.
Как известно, свои размышления в «Вопросе о технике»
Хайдеггер выстраивает на основе экзегезы аристотелевского учения о
четырех причинах, которая позволяет ему в дальнейшем определить
технику как «некий способ раскрытия» (eine Weise des Entbergens)
и тем самым указать на место этого феномена в онтологическом
взаимоотношении physis и poiesis. Как во многих других работах,
публиковавшихся после войны в составе книг «Лесные тропы» (1950)
или «Доклады и статьи» (1954), концептуальные контуры
«Вопроса о технике» восходят к лекциям и трактатам 1930-х. Отдельные
мысли и формулировки, имевшие несомненное
актуально-политическое звучание в годы Третьего рейха, были сглажены или
затушеваны, некоторые же прорисованы более четко и даже усилены в
своем цивилизационно-критическом потенциале. Однако основные
экзегетические ходы, многократно опробованные на лекционном
материале, а также общий бытийно-исторический подход остались
неизменными. В этой статье я сосредоточусь на анализе трактата
«О существе и понятии фтЗац» («Vom Wesen und Begriff der Фйац:
Aristoteles' Physik B, 1», 1939) с целью детально разобрать сложное
отношение между techne и physis, которое образует исходную
точку поздней теории техники Хайдеггера, определяющей сущность
техники как «постав» (Gestell)*. В этом смысле я постараюсь избе-
* Многозначность взаимоотношения техники и природы (также в связи
с Аристотелем) рассматривалась в работах: Ulmer К. Wahrheit, Kunst
und Natur bei Aristoteles. Ein Beitrag zur Aufklärung der metaphysischen
Herkunft der modernen Technik. Tübingen, 1953; Beier B. Die Frage nach der
Technik bei Arnold Gehlen und Martin Heidegger. Dissertation zur erlangung
des akasemischen Grades eines Doktors der Philosophie. RWTH Aachen, 1978.
628
А. В. Михайловский
гать широко распространенной исследовательской схемы «Хайдег-
repl» и «ХайдегтерП», «до поворота» и «после поворота». Более
того, одна из моих приоритетных задач заключается в том, чтобы
продемонстрировать следующее: мы не можем в полной мере
оценить и понять хайдеггеровскую герменевтику греков и, в частности,
Аристотеля, если мы не будем принимать во внимание
политический контекст его лекций и выступлений в ключевой для
мыслителя период — период ректорства. К тому времени у Хайдеггера уже
сложилось убеждение о превосходстве греков над современностью,
а потому Платону и Аристотелю, взятым вкупе с «досократиками»
Гераклитом или Парменидом, отводилась настоящая роль
философских менторов, которые наконец дождались своего часа и теперь
взывают из глубин истории бытия к революционно настроенному
немецкому народу. Как формировалась философия техники
Хайдеггера, чья ситуативно настроенная онтологическая герменевтика
занималась поиском в изречениях и трактатах «древних» ответов
на вызовы позднего модерна и, в частности, ускоренного
технического развития, а значит, была призвана реализовать ницшеанский
проект «переоценки ценностей» под знаком консервативной
революции — этим намерением руководствуется настоящая статья.
Бросается в глаза гетерогенность — как жанровая, так и
содержательная — хайдеггеровских работ этого периода. Исследователь
имеет дело с курсами лекций, докладами, публичными
выступлениями, наконец, эзотерическими записями «Черных тетрадей».
Я вполне разделяю «интегральный подход» к творчеству
Хайдеггера Д. Тома, который считает, что «если относиться к философии
Хайдеггера как целому, то нужно рассматривать его нацистский
активизм в тесной связи как с „Бытием и временем", так и с
поздними работами. Речь не идет о простой непрерывности —
прокладываемые Хайдеггером пути могут быть очень извилистыми»*.
И все же благодаря такому прочтению у односторонних апологетов
мыслителя, равно как и у желающих во что бы то ни стало
скомпрометировать его, заведомо выбивается почва из-под ног. То же самое
касается и попыток свести все сочинения Хайдеггера к одному мо-
S. 102-148; Ihde D. Technics and Praxis. Dodrecht; Boston; London: Reidel,
1979. P. 103-129; Brogan W. A. Heidegger and Aristotle. The twofoldness of
Being. Albany: State University of New York Press, 2005. P. 38-46.
Настоящая статья учитывает результаты этих исследований, но фокусируется
скорее на частном вопросе о формировании хайдеггеровских взглядов на
технику в годы до, во время и после ректорства и практическом приложении
экзегезы Аристотеля.
* Thomä D. Heidegger und der Nationalsozialismus. In der Dunkelkammer der
Seinsgeschichte // Heidegger-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Hrsg. von
D. Thomä. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2003. S. 160.
Хайдеггер и Аристотель о techne uphysis
629
тиву — «ненависти к модерну»*. Как будет показано в дальнейшем,
ранние приближения Хайдеггера к теме техники не дают оснований
однозначно записывать его в «антимодернисты».
Начиная с 1930-х гг. чтение Аристотеля используется Хайдегге-
ром для прояснения изначального греческого смысла techne в ее
тесной связи с physis, толкуемой как обнаружение и раскрытие сущего.
В противоположность новоевропейскому пониманию техники,
которая начиная с 1935/1936 гг. обозначается им как Machenschaft**,
т. е. распоряжение сущим через производство и репрезентацию,
Хайдеггер пытается нащупать и развить
реакционно-модернистскую концепцию «подлинной техники» (echte Technik), которая
могла бы служить германскому народу и обеспечивать его будущее.
Аристотель же оказывается тем философом, который дает
германскому мыслителю инструменты, необходимые для защиты от
угрозы новоевропейской планетарной техники.
В ходе исследования будет показано, что интерпретация
отношения между понятиями physis и techne во второй книге «Физики»
лежит в основе той концептуальной модели, которая ассоциируется
с поздней мыслью Хайдеггера о технике, а именно мыслью о
двойственном характере техники как «величайшей опасности»
забвения бытия, с одной стороны, и «спасительной силы», позволяющей
нам вернуться к подлинному способу бытия — с другой.
В следующем разделе этой статьи я собираюсь коротко
обрисовать основные этапы хайдеггеровской интерпретации Аристотеля
в связи с проектом фундаментальной онтологии. В третьем я
рассмотрю вопрос об отношении между physis и techne в философии
Аристотеля и выделю особенности хайдеггеровского прочтения.
Во второй статье я представлю оппозицию «подлинной техники»
и «Machenschaft», имевшую для Хайдеггера ключевое бытийно-
историческое значение.
2. Феноменологические интерпретации Аристотеля
В хайдеггероведении уже устоялось мнение, что творчество
Аристотеля явилось одним из главных источников формирования
собственного философского подхода Хайдеггера. Сам философ говорит
о значении Аристотеля в эссе «Мой путь в феноменологию» так:
* См.: FerryL./Renault A.Heidegger et les Modernes. Paris: Grasset, 1988.
P. 172.
'* Heidegger M. Einführung in die Metaphysik. Hrsg. von P. Jäger. GA 40.
Frankfurt a. M., 1983. S. 168; Idem. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)
(1936-1938). Hrsg. von. F.-W. von Herrmann. GA 65. Frankfurt a. M., 1989.
S. 130 ff.
630
А. В. Михайловский
«Чем больше я упражнялся в феноменологическом зрении и
плодотворно толковал в этом ключе сочинения Аристотеля, тем сильнее
я привязывался к нему и другим греческим мыслителям. Правда,
тогда я еще не мог предвидеть, к каким серьезным последствиям
приведет это новое открытие Аристотеля»*.
Opus magnum Хайдеггера, «Бытие и время», вышло в 1927 г. В
течение предшествующих лет он преподавал во Фрайбурге и Марбурге
и во многих курсах обращался к Аристотелю. Например, в 1922 г.
молодой доцент читал лекции под названием «Феноменологические
интерпретации Аристотеля: онтология и логика»**, а в 1924 г.
прочел курс «Основные понятия аристотелевской философии»***. Вслед
за этими лекциями, посвященными в основном «Никомаховой
этике» и «Риторике», Хайдеггер предложил интерпретацию «Софиста»
Платона, чтение которого в значительной мере перемежалось
анализом 6-й книги «Никомаховой этики» (с особым акцентом на
понятии phronesis'a) и 1-й книги «Метафизики»****. Одновременно он вел
семинары по другим трактатам Аристотеля, в частности «О душе»
и «Метафизика». Занятия Аристотелем продолжаются и в конце
1920-х — начале 1930-х гг.: Хайдеггер, уже профессор, разбирает
«Риторику», «Метафизику», «Физику», уделяя особое внимание
логике и, в частности, вопросу об истине.
Частые обращения к трактатам Аристотеля (прежде всего,
«Никомаховой этике» и «Метафизике») в 1920-е гг. свидетельствуют
о фундаментальном значении Аристотеля для проекта
«феноменологической деструкции», т.е. «расшатывания окостеневшей
традиции» или критической разборки ведущих понятий
западноевропейской метафизики для определения и выявления ее позитивных
возможностей. Аристотель вошел в историю онтологии как
мыслитель, который, основываясь на эмпирических наблюдениях и
интерпретируя их в смысле подручного существования (zuhanden), создал
понятие бытия qua сущность (ousia), определившее судьбу
западноевропейской метафизики. Хайдеггер также отмечает*****, что осново-
* Heidegger M. Zur Sache des Denkens. Hrsg. von F.-W. von Herrmann. GA 14.
Frankfurt a.M., 2007. S. 97-98.
'* См.: Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles:
Einführung in die phänomenologische Forschung. Hrsg. von Walter Bröcker und
Käte Bröcker-Oltmanns. GA 61. Frankfurt a. M.: V. Klostermann, 1985.
** См.: Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie. Hrsg. von
M. Michalski. GA 18. Frankfurt a. M., 2002.
'* См.: Heidegger M. Platon: Sophistes. Gesamtausgabe. Hrsg. v. I. Schüßler.
GA 19. Frankfurt a. M., 1992. S. 21-188.
" Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). Hrsg. von G. Neumann. GA 62. Frankfurt
a.M., 2005. S. 398.
Хайдеггер и Аристотель о techne uphysis
631
понятия греческой онтологии являлись производными от категорий
ремесленного производства, и в согласии с Аристотелем
рассматривает techne как разновидность poiesis — слово, переводимое им
на немецкий язык субстантивированными глаголами Her-steilen
(«из-готовление») и Her-vor-bringen («про-из-ведение»).
В 1930-е гг. выделяются две работы Хайдеггера об
Аристотеле — во-первых, курс о «Метафизике 0 1-3» (1931) и, во-вторых,
трактат 1939 г. «О существе и понятии фтЗац: Аристотель, Физика В,
1»*. Несмотря на то что между этим этапом и курсами об
Аристотеле 1920-х гг. прослеживается систематическая связь, факт нового
обращения к пониманию природы у Аристотеля имеет другие
ситуативно-герменевтические предпосылки: в частности, во второй
половине 1930-х гг. Хайдеггер интенсивно читает немецкого
романтика Гёльдерлина, для которого природа (Natur) во многих
отношениях была источником для преодоления метафизики в поэтическом
ключе. Как отмечает Ф. Вольпи**, в 1930-е гг. Хайдеггер продолжает
высоко ценить Аристотеля, как будто желает оградить его от
своих поздних интерпретаций истории метафизики как истории
«забвения бытия». Он подчеркивает не столько отношение Аристотеля
к метафизике, сколько отголоски дометафизической открытости,
ведь только для досократической мысли был по-настоящему
доступен цельный смысл physis, т. е. изначальной, забытой позднейшей
западной метафизикой полноты бытия как устойчивого роста.
Аристотель является для Хайдеггера некой точкой бифуркации в
истории бытия***. Красноречивое тому свидетельство — трактат «О
существе и понятии фтЗац » ****. Эта работа показывает значение Аристотеля
для Хайдегера, хотя контекст (в отличие от 1920-х гг.) уже совсем
иной. В аристотелевском различении «сущего-по-природе» (physei
onta) и артефактов (аро technes onta) — того, что имеет начало
движения в самом себе, и того, что не имеет начала движения в самом
* Обзор курсов лекций Хайдеггера об Аристотеле взят в: Brogan W. A. Op. cit.
Р. 22.
** См.: Volpi F. Der Rückgang auf die Griechen in den zwanziger Jahren. Eine
hermeneutische Perspektive auf Aristoteles, Piaton und die Vorsokratiker im
Dienst der Seinsfrage // Heidegger-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Hrsg.
von D. Thomä. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2003. S. 35.
*** См.: Михайловский А. В. Субъект или ипостась? Точки бифуркации в
истории субъективности // Философия. Теология. Наука: Материалы Первых
чтений, посвященных А. Г. Чернякову / Сост. Н. А. Печерская; под ред.
Б.В.Останина, 2011. С. 34-61; Г. Фигаль отмечает «янусоподобность»
фигуры Аристотеля у Хайдеггера (Figal G. Heidegger als Aristoteliker //
Heideggerund Aristoteles. Heidegger-Jahrbuch 3. Freiburg; München: Verlag
Karl Alber, 2007. S. 53-76.).
**** Heidegger M. Wegmarken. Hrsg. von F.-W. von Herrmann. Gesamtausgabe
Bd. 9. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1976. S. 239-301.
632
А. В. Михайловский
себе, — Хайдеггер усматривает досократический смысл physis, т. е.
бытия. Если учитывать, какое значение для хайдеггеровского
диагноза современности имеет отношение между природой и техникой,
можно легко понять место, отводимое здесь Аристотелю.
В этом трактате Хайдеггер воспроизводит аристотелевскую
теорию physis, обнаруживая в его онтологии изначальный
греческий, т. е. феноменологический смысл бытия. А именно
Хайдеггер утверждает, что в «Физике В1» мы находим «такое понимание
physis, которое служит основой и путеводной нитью для всех
последующих интерпретаций сущности „природы"»*. Говоря о «physis»,
Аристотель имел в виду оригинально-греческое наименование
бытия как роста, присутствия, постоянства; соответственно, полагает
Хайдеггер, это позволяет восстановить примат «природы» над
«техникой».
Таким образом, если обращение к Аристотелю в 1920-е гг. было
продиктовано стремлением дать ответ на вопрос, как
возможна феноменология жизни, то в 1930-е гг. Хайдеггер ставит другой
вопрос — как можно помыслить технику в согласии с природой.
В герменевтическом плане этому соответствует постепенное
смещение герменевтического интереса от «Никомаховой этики» к
«Физике», а в концептуальном плане — переход от понятия «забота» —
центрального для периода «Бытия и времени» — к центральному
понятию текстов нацистского периода «работа».
3. Вопрос об отношении между physis и techne
в философии Аристотеля
В самом начале трактата Хайдеггер делает отсылку к
современной ситуации, тревожно отмечая черты планетарной технической
революции. Предваряющая ремарка выдержана в традиционной
для немецкой критики культуры тональности, которую можно
считать вообще типичной для Хайдеггера**: в результате масштабного
планирования новоевропейского человека привычный наш мир,
весь «круг земли», трещит по швам (если он вообще был скреплен):
«/Denn der Erdkreis geht aus den Fugen, gesetzt daß er je in solchen
war; und die Frage erhebt sich, ob die Planung des neu-zeitlichen
Menschen — und sei sie planetarisch — je ein Welt-gefüge zu schaffen
vermag/»***. (Практически в том же виде эта мысль встречается уже
* Ibid. S. 243.
** Ср.: Meyer D. Kulturkritische Aspekte bei Martin Heidegger, 1918-1932 //
Jahrbuch zu Kultur und Literatur der Weimarer Republik. 15. 2011/2012.
Ed. Text+Kritik, 2013. S. 47-69.
*** Heidegger M. Wegmarken. S. 242.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis
633
в записях «Черных тетрадей» из первой половины 1930-х гг.*, и это
может служить дополнительным аргументом в пользу того, чтобы
рассматривать этот в контексте мысли Хайдеггера периода
ректорства.) На смену идеи взаимозависимости человеческого существа
и природы приходит идея миро-устройства (Welt-gefüge).
Технологическое распоряжение сущим приводит к забвению бытия. За
представление о мире как миро-устройстве отвечает, по мысли
Хайдеггера, субъект-центричная метафизика Нового времени, в которой
природа (natura) определяется исходя из «духа»**. Стремление духа
к господству над миром — метафизический источник современной
техники — Хайдеггер связывает с искажением аристотелевского
понимания природы, причинности (aitia) и движения (kinesis). Распад
«круга земли» — общечеловеческая плата за трансформацию
смысла ключевых терминов европейской метафизики, определяющих
отношение человека к сущему. Подмена древнегреческой physis
новоевропейской natura, подмена имманентного природе развития
и роста глобальным планированием не является «всего лишь»
историко-философским эпизодом «Begriffsgeschichte», но говорит о
серьезнейшей опасности для всего человечества.
Новая постановка вопроса о существе physis и взаимоотношении
между physis и techne в философии Аристотеля не продиктована
каким-то философским любопытством, но напрямую связана с
решениями относительно истины сущего, а значит, заключает в себе
ответ на угрозу. Говоря о природе как «начале движения» (arche tes
kineseos), Аристотель обнаруживает исконно греческое понимание,
согласно которому движение как способа бытия имеет характер «вы-
хождения в присутствие» (Herkommen in die Anwesung), в
открытость (das Offene). Хайдеггер не хочет сказать, что это природное
«про-из-ведение» скопирует с модели технического производства,
как это, например, происходит у Канта***. Наоборот, он заостряет
противоположность между physis и techne, что имеет основания в
«Физике» (199 b 18-33)**** и «Метафизике» (1070 а 7-11)*****. «Сущее от
* Ср.: «Die ,Welt* ist aus den Fugen; es ist keine Welt mehr, wahrer gesagt:
es war noch nie Welt. Wir stehen erst in ihrer Vorbereitung» (Heidegger M.
Überlegungen II-IV (Schwarze Hefte 1931-1938). Hrsg. von P. Trawny. GA
94. Frankfurt a. M., 2014. S. 210.
** В близком к Хайдеггеру смысле различия между понятием physis в
греческих космологиях и понятием natura в естествознании Нового времени
были показаны на обширном историко-научном материале А. В. Ахутиным
в книге: Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время
(«фюсис» и «натура»). М.: Наука, 1988.
№ Ibid. S. 289.
** См.: Аристотель. Физика // Соч.: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 100.
'* См.: Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 302.
634
А. В. Михайловский
techne», т.е. вещи, созданные рукой мастера, и природное сущее
про-из-водятся различными способами, но общим для них является
выведение в присутствие. Хайдеггер обращает внимание на тот факт,
что, проясняя онтологическую структуру сущего, Аристотель
исходит не из искусственных, а из природных вещей. В «Физике» как
«сокрытой и потому никогда достаточно не продуманной главной
книге западноевропейской философии»* Хайдеггер видит прежде всего
онтологическое исследование движущегося сущего и движения как
способа бытия природных вещей. Итак, Аристотель различает две
области сущего — природное (physei onta) и искусственное (аро technes
ont a). Они характеризуются двумя различными способами бытия,
которые отличаются разным отношением к движению. Природные
вещи — растения, животные — происходят из самих себя, имеют
начало движения в самих себе (arche означает одновременно начало
и властное распоряжение**). Искусственные же вещи имеют источник
движения вне самих себя, и их причиной как раз является techne.
В области techne, в отличие от природы, где все четыре причины
совмещены воедино, человек берет на себя функцию движущей
причины. Таким образом, в плане становления структура poiesis'a одна
и та же, «потому что семя так же порождает (poiei) живое, как
умение — изделия» (Метафизика 1034а34)**\ Хайдеггер показывает, что
греческая techne не тождественна ни технологии как способу
изготовления, ни искусству как умению мастера****. Но, позволяя какой-то
вещи проявиться в качестве такой-то и такой-то, в качестве дома
или кровати, techne оказывается способом раскрытия, выведения
в открытость. Poiesis — это та сфера, где четыре способа
причинения — как природного сущего, так и технического сущего —
приходят к явленности. Ведь и physis и techne производят
определенную morphe в сущем, которая отвечает за то, как будет выглядеть
вещь (Aussehen), присутствуя «на виду» в бытии. Семя нацелено
на то, чтобы произвести такое же по виду сущее, в случае же
техники принцип, позволяющий проявиться форме, заключен не в
природе, а в производящем. Открытость (Offenheit), учреждаемая
в истине-aletheia, есть открытость для присутствия (Anwesenheit).
Как точно замечает Т. Садлер, «с точки зрения Хайдеггера, physis
и techne различаются у Аристотеля как различные модусы
присутствия» *****, т. е. онтологический приоритет physei onta состоит в том,
* Heidegger M. Wegmarken. S. 242.
'* См.: Ibid. S. 247.
'* Аристотель. Метафизика. С. 203.
* Heidegger M. Wegmarken. S. 251.
* Sadler T. Heidegger and Aristotle. The Question of Being. The Athlone Press,
1996. P. 80.
Хайдеггер и Аристотель о techne uphysis
635
что принцип присутствия природных вещей заключается в них
самих, они приходят в действие сами (self-actualizing), в то время как
изделия мастера не являются само-стоятельными.
Несколькими годами раньше, в «Истоке художественного
творения», Хайдеггер писал, что слово techne первоначально означало
«способ знания» (Weise des Wissens): сущность знания для
греческого мышления заключалась в aletheia, т. е. раскрытии сущего*.
Отсюда следует, что если techne изначально не является изготовлением
артефактов, то ответ на вопрос о настоящей причине движения
заключается не в самих действиях художника, но в способе раскрытия
сущего, лежащего в основе этих действий. Поэтому Хайдеггер
переводит techne как «Sichauskennen», «умение разбираться в каком-то
деле»** — например, в том, как происходит и каким результатом
должно завершиться изготовление кровати. Следует отметить, что
на страницах книги «Вехи» («Wegmarken») techne методично
сближается с понятием sophia, что должно подчеркнуть ее когнитивный
характер ( « techne ist ein Erkenntnisbegriff» ***). А именно, Хайдеггер
переводит sophia также словом «Sichauskennen»: в работе
«Учение Платона об истине» под «Софией» понимается знание того, что
«присутствует как непотаенное»**** — знание (Wissen), которым
направляется всякое «выведение на свет»*****.
Тем не менее знание и умение представляют собой два разных
отношения к сущему. В «Никомаховой этике» (VI, 3-4)
Аристотель различает пять «способов, какими душа достигает истины», —
по-гречески aletheuein или, в терминологии Хайдеггера, пять
способов раскрытия: techne, episteme, phronesis, sophia, и nous (1139
b 15-19)******. Если, согласно разделению Аристотеля, episteme, nous,
sophia относятся к «теоретико-познавательной» (epistemonikon)
части души и вращаются в сфере вечных и неизменных принципов,
то «рассчитывающая» часть (logistikon) включает в себя techne
и phronesis и имеет дело с привходящими обстоятельствами и
многообразными человеческими делами, предполагая творческую
деятельность и поступки. При этом techne — сфера творения, тогда как
* Heidegger M. Holzwege. Hrsg. von F.-W. von Herrmann. GA 5. Frankfurt a.
M., 1977. S. 46.
** Idem. Wegmarken. S. 250, 251.
" Ibid. S. 251.
** Ibid. S. 234.
** Ср. «Введение в метафизику» (1935): « ...Мы переводим techne как "знание"
(Wissen)... изначальное и постоянное выглядывание за пределы как раз
наличествующего» (Heidegger M. Einführung in die Metaphysik. Hrsg. von
P. Jäger. GA 40. Frankfurt a. M., 1983. S. 168).
'* См.: Аристотель. Никомахова этика // Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
С. 174-175.
636
А. В. Михайловский
phronesis — сфера действия. Компетентность мастера, владеющего
techne, включает в себя знание того, как изготовить нечто, могущее
существовать и не существовать в действительности. Arche таких
вещей, соответственно, сам творец, а не производимое им изделие:
«ведь techne не относится ни к тому, что существует или возникает
с необходимостью, ни к тому, что существует или возникает
естественно, поскольку подобные вещи имеют движущее начало в самих
себе» (Никомахова этика, 1140а10-14)\ Techne, согласно
Аристотелю, — «это некий причастный истинному рассуждению склад души
(hexis tis meta logou alethous)», т. е. рефлексирующее поведение,
нацеленное на произведение (1140а21-22)*\ Это позволяет Хайдеггеру
подчеркнуть специфику techne как близкого к episteme способа
обнаружения истины, раскрытия, только не в смысле theoria, a в смысле
poiesis'a, произведения***. Logos позволяет мастеру привести процесс
становления в движение, «собрать» причины для изготовления
вещей, «которые могут быть и не быть» и чье начало в творце.
В предшествующем «Понятию и существу physis» тексте «Учение
Платона об истине» Хайдеггер излагает свою концепцию греческой
истины-aletheia как «непотаенности», которую он отличает от
латинской истины-veritas, понимаемой в смысле корреспондентной
теории. Ростки теории истины как «соответствия» или
«правильности идеи» Хайдеггер находит у Платона (в мифе о пещере из
«Государства» происходит изменение существа истины — основной тезис
вышеназванного трактата Хайдеггера), но в то же время в
мышлении и Платона, и Аристотеля сохраняются отзвуки более ранней
интуиции истины. Хайдеггер подчеркивает исходное отрицание в
слове aletheia: a-privativum говорит о необходимости вырвать истину
из сокрытости, потаенности. В этой перспективе техника
оказывается, конечно, не просто средством для достижения цели, но способом
раскрытия внутри жизненного мира — именно это хочет донести
до своего читателя Хайдеггер, настаивая на том, что техника имеет
непосредственное отношение к «решению о существе истины»****.
Episteme, говорит Аристотель в «Метафизике», обнаруживает
сущее в его бытии, ибо знающий ищет знания ради «понимания
(eidenai), a не ради какой-нибудь пользы» (Метафизика 982Ь20)*****,
тогда как techne обнаруживает сущее относительно его пользы для
* Аристотель. Никомахова этика. С. 176.
** Там же.
*** В «Вопросе о технике» способ раскрытия (Entbergen), присущий techne,
тоже определяется через отличие от episteme со ссылкой на книгу Z «Нико-
маховой этики» (Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. Hrsg. von F.-W. von
Herrmann. GA 7. Frankfurt a. M., 2000. S. 14).
**** Heidegger M. Wegmarken. S. 241.
***** Аристотель. Метафизика. С. 69.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis
637
человека, но при этом изготовление сущего руководствуется
знаниями. Человеку необходимо получить средства для жизни, которых
у него нет в распоряжении, для чего требуется создать
определенные инструменты. «Это стремление, — поясняет ученик Хайдеггера
Карл Ульмер, — становится особым способом обнаружения вещей,
которое руководствуется перспективой получения необходимых
средств для жизни и попутно обнаруживает условия их получения» *.
Таким образом, в techne «устанавливается герменевтическое
отношение между человеком и сущим»**. Ведь чтобы выделить какой-то
предмет (наличное, vorhanden) из естественного окружения
(например, найденную глину, которой будет придана форма горшка),
необходимо уже увидеть его в качестве полезного в конкретной ситуации
и представлять себе назначение будущего изделия (интенциональ-
ное отношение). Далее, это предполагает оценивание пригодности
материала для этой цели и знакомство с указаниями к
изготовлению, которые, в свою очередь, отсылают к системе действий внутри
жизненного мира. Следующая за этой первичной ориентацией
обработка материала с помощью методических операций превращает
наличный предмет в подручный (zuhanden)***.
В самом конце «Второй аналитики» (11.19) Аристотель говорит,
что и умение, и знание возникают из опыта (Вторая аналитика,
100а4-9), т. е. в основе обеих способностей души лежит эмпирия,
а дальнейшее развитие происходит по пути обобщения. Аристотель
рассматривает здесь, каким образом мы получаем знание об archai.
Он говорит, что «от восприятия происходит память», а «из
воспоминаний об одной и той же вещи, которые происходили
неоднократно, рождается опыт (empeiria) — многие воспоминания образуют
единственный опыт. А из опыта, или из общего..., происходит
начало искусства (techne) и знания (episteme): начало искусства,
поскольку оно имеет дело со становлением (genesis), и начало знания,
поскольку оно имеет дело с сущим » ****. То же демонстрирует и пример
из «Метафизики»: искусный врач определяет, что такое-то
лекарство помогло исцелиться от одной и той же болезни Каллию, Сократу
и многим другим (Метафизика 981а8-10). Если развить этот пример
* Ulmer К. Op. cit. S. 52.
** Beier В. Op. cit. S. 106.
*** Американский философ техники и исследователь Хайдеггера Д. Айди
считает, что уже в * Бытии и времени» Хайдеггер обращает внимание на
взаимосвязь отсылок между содержащимися в технологиях прикладными
знаниями и нашей интерпретацией природы (Hide D. Technology and the
Lifeworld. From Garden to Earth. Bloomington; Indianapolis: Indiana Univ.
Press, 1990. P. 34).
**** Аристотель. Вторая аналитика // Соч.: В 4 т. T. 2. M.: Мысль, 1978. С. 343-
344.
638
А. В. Михайловский
дальше, то общим здесь будет связь между болезнью и лекарством,
которая постигается лишь при условии ясного понимания существа
болезни. Врач есть источник движения, он знает цель, здоровье
пациента и принимает необходимые меры для того, чтобы ее достичь.
Последний элемент в цепочке врачевания — это лекарство, которое
вводится в больной орган и, вступая в контакт с пациентом, таким
образом дает ему то, чего ему не хватает.
В Хайдеггеровской интерпретации происходит своеобразная
интерференция двух различных смыслов techne, которые мы находим
в трактатах Аристотеля. Согласно первому, «метафизическому»
значению в «Физике», techne есть aitia, третья причина, которая
«запускает» процесс становления. В другом, когнитивном, смысле
этот термин используется во «Второй аналитике» и «Никомаховой
этике» (techne — «некий, причастный истинному рассуждению
склад души»). В 4-й главе книги Z «Никомаховой этики» (1140а9-
10) Аристотель утверждает, что искусство — это способность
творить с помощью истинного рассуждения. Кроме того, techne имеет
дело с вещами, которые «могут быть, а могут не быть» (1140а12-
13), и именно поэтому могут быть сотворены. (В отличие от «Второй
Аналитики», где, как мы только что видели, усвоенное
эмпирически искусство связывается со становлением вещей, genesis, в
«Этике» Аристотель говорит главным образом о произведении, poiesis).
И techne, и episteme узнаются одним и тем же способом, через опыт.
Однако если вторая есть знание неизменных причин вещей, то
первая — знание причин происхождения вещей, которые подвластны
случаю.
Techne невозможна без отчетливого представления о том, что
должно быть в конечном счете произведено (entelecheia в смысле
полноты и осуществленности вещи), равно как и без
предварительного понимания того, каким образом оно будет произведено;
отношение techne к истине как непотаенности, таким образом,
означает ясность и осведомленность относительно того, как становятся
вещи и как должно происходить творение. В «Метафизике»
Аристотель замечает, что «ведущие мастера» мудрее простых
ремесленников не потому, что они умеют что-то делать, но потому, что
обладают понятием (logos) и знанием о причинах (Метафизика 981Ь6-7).
Подобно тому как episteme и techne оказываются близки — они
руководствуются разумом, видят целое и в качестве таковых суть
способы aletheia), — так и для physis и techne, несмотря на описанную
выше противоположность, свойственно существенное сходство: обе
являются способами обнаружения, благодаря которому вещи
являют себя такими, какие они суть, и обе имеют дело с вещами, способ
бытия которых — kinesis.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis
639
Подведем промежуточные итоги. 1) В трактате «О существе и
понятии physis» Хайдеггер переводит techne как «умение
ориентироваться в деле», что позволяет сделать предположение о любопытном
герменевтическом эффекте: исключительно метафизический анализ
physis и techne во второй книге «Физики» нагружается Хайдеггером
когнитивным значением, т. е. читается сквозь призму той
трактовки термина, которая имеет место во «Второй аналитике» и главным
образом «Никомаховой этике». 2) Хайдеггер выделяет особый
характер греческого понятия techne, тесно связанного с episteme как
способом выведения в непотаенность. В качестве способа «истин-
ствования» techne предполагает понимание physis как раскрытия
сущего. Если мастер желает определить, что может быть
произведено, он должен полагаться на опыт, почерпнутый им в своем
жизненном мире. Иными словами, техника может рассматриваться как
«know how», условие произведения вещей внутри знакомого
человеку мира. 3) И physis, и techne суть способы раскрытия. Аристотель
проясняет онтологическую структуру сущего на примере природных
вещей. Существо physis заключается в способности производить
вещи (dynanus), приводя их к явленности. По аналогии Аристотель
рассматривает и возникновение вещей (genesis) в производственной
деятельности мастера, чей творческий склад основан на априорной
осведомленности относительно physis как бытия сущего. Для Хай-
деггера важно подчеркнуть не только то, что techne не может
заменить собою physis, но и то, что techne может и, вероятно, должна
действовать в согласии с physis*. Это последнее наблюдение уже
позволяет сделать следующий шаг по направлению к понятию
«подлинной техники».
4. Три концептуальных комплекса:
«забота — работа — techne/техника»
Греческий мыслитель в роли наставника, дающего советы, как
отвечать на кризис модерна? Хайдеггеровская герменевтика
Аристотеля содержит положительный ответ на этот вопрос. Правда, это
в то же время означает, что для правильного определения своего
нынешнего положения мы сначала должны научиться чему-то очень
важному относительно греческих, т. е. оригинальных в собственном
смысле слова, понятий physis и techne, которые играют ключевую
роль в европейской метафизике.
Чтение Аристотеля — это наше упражнение в зрении. Оно
приготовляет нас понимать сущее в свете существенного различия между
* Ср.: Heidegger M. Wegmarken. S. 257.
640
А. В. Михайловский
techne и physis, смазанного в нашей — новоевропейской — оптике.
Предшествующее рассмотрение показало, что techne предполагает
осведомленность относительно бытия сущего, соответственно,
предполагает определенное понимание physis. Это понимание
присутствует в techne не эксплицитно, потому что techne, конечно,
напрямую не имеет дела с бытием сущего, но занимается обычно тем, как
нечто сущее может быть использовано внутри нашего жизненного
мира.
Вспомним заявление в начале трактата «О существе и понятии
physis»: «Мир трещит по швам» — казалось бы, несколько
странная фраза в свете заявленной узкой темы «сущность и понятие
physis» у Аристотеля. Впрочем, хайдеггеровская
феноменологическая деструкция устроена так, что разговор о «сущности» — будь
то «Dasein», «основание», «истина», «свобода» или «природа» —
всегда ведется «с прицелом» на прояснение текущей практической
ситуации, моего «здесь и сейчас»*. Европейское человечество
забыло о настоящем смысле природы и техники: на смену им пришло
безоглядное планирование. Мир в целом находится под угрозой,
исходящей от машинной техники, которая относится к природе в
рамках модели производства, «овладевает и манипулирует» природой**.
Что, если предположить, говорит Хайдеггер, что человека
полностью заменит техника, т. е. человек изобретет технологию
производства человека? «Успех будет означать: сам человек устроил так, что
его собственная сущность как субъективность взлетела на воздух,
а там, в воздухе, полностью бессмысленное считается единственно
"осмысленным" и поддержание этой якобы осмысленности
выливается в человеческое "господство" над кругом земли. Получается,
"субъективность" не исчезла, а лишь "успокоилась" в "вечном
прогрессе" вечной китайщины; вот это и есть предельное вырождение
(Unwesen) physis — ousia»***.
Однако движение истории бытия — это не набирающее обороты
движение паровоза прогресса навстречу бесконечной «китайщине».
Индивидуальная и народная жизнь в ее истории стоит под властью
Geschick и направляется по тому пути, по которому бытие
«нарождается» в каждой новой эпохе и овладевает мыслями и делами
С той лишь разницей, что для поздней философии Хайдеггера характерно
понимать Dasein как сущее, которое отвечает бытию, а не задает вопрос
о бытии (ср.: Polt R. «Einführung in die Metaphysik». Eine Erkundung
der physis und ihrer Entmachtung // Heidegger-Handbuch. Leben-Werk-
Wirkung. Hrsg. von D. Thomä. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2003.
S. 175).
** См.: Heidegger M. Wegmarken. Hrsg. von F.-W. von Herrmann.
Gesamtausgabe Bd. 9. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1976. S. 289.
*** Ibid. S. 257.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis
641
людей. На смену «упорядоченности» греческой природы приходит
«сотворенность» христианского мира, а последняя сменяется *
волей к власти» в форме «тотальной мобилизации» всего сущего.
Более того, эта судьбоносная игра бытия имеет свои правила, ставит
перед ее участниками задачи и ждет от них решений, для которых
требуется известная доля мужества. Игру никто не может
полностью контролировать, иначе она перестала бы быть игрой. А значит,
будущее, включая направление технического развития,
принципиально открыто. Ни одна «эпоха» не может считаться «минувшей»,
окончательно канувшей в Лету, но все они сохраняются как
своеобразные точки бифуркации, как развилки истории бытия, к
которым всегда может вернуться свободное мышление. В этом
смысле следует понимать и двойственную характеристику техники как
опасности и источника спасительного, которая подразумевается
бытийно-историческим мышлением и обсуждением техники в
контексте вопроса о сущности истины в 1930-е гг. Однако если для
послевоенного Хайдеггера свойственен известный пессимизм
относительно дальнейшего технического развития, то в период ректорства
он оценивал шансы на выигрыш высоко.
Остается уточнить, как, по Хайдеггеру, должна была
разворачиваться историческая миссия германского народа (Volk),
обнаруживающего себя, так сказать, в силовом поле между природой и
техникой. Ответ на этот вопрос дают речи и меморандумы Хайдеггера,
объединенные заголовком «Das Rektorat». Они однозначно говорят
против распространенного объяснения хайдеггеровской критики
современной техники ссылкой на пресловутую «демонизацию
техники»*. Наоборот, мы встречаем совершенно иную — глубоко
«экологичную» с нынешней точки зрения — оценку техники. В
знаменитой ректорской речи «Самоутверждение немецкого университета»
техника называется «мирообразующей силой человеческо-истори-
ческого Dasein» и ставится в один ряд с «природой», «историей»,
«искусством» и «государством»**. Несокрытость этой силы,
принципа или власти (я прочитываю Macht как немецкий перевод аристоте-
* Против такого объяснения выступает и Т. Рокремер: *В отличие от
безрадостной картины, нарисованной Л. Клагесом или Ф. Г. Юнгером,
Хайдеггер выступал против демонизации техники, подчеркивая значение техники
как правомерного способа понимания и отношения к миру. Техника — это
не просто некая произвольная человеческая деятельность, но "способ
раскрытия"» (Rohkrämer Th. Martin Heidegger, National Socialism, and
Environmentalism // How Green Were the Nazis?: Nature, Environment, and
Nation in the Third Reich / Ed. by Franz-Joseph Brüggemeier, Marc Cioc, and
Thomas Zeller. Ohio University Press, 2005. P. 186).
** Heidegger M. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges. Hrsg. von
H. Heidegger. GA 16. Frankfurt a. M., 2000. S. 111.
642
А. В. Михайловский
левского arche, правящего начала, запечатлевающего на сущем свой
характер) составляет существо истины. В другой речи Хайдеггер
говорит даже о «подлинной технике» (echte Technik)* — выражение,
которое, насколько мне известно, не встречается больше нигде в
корпусе сочинений — и ее «образующей (формирующей — читай:
аристотелевская morphe) силе», которая должна быть подчинена и
поставлена на службу (dienstbar gemacht) свободному развертыванию
природы. Фундаментальным экзистенциалом Dasein как бытия-
в-мире, толкуемого в речах и лекциях начала 1930-х гг.
применительно к германскому народу в его истории, является уже не столько
забота (Sorge), сколько работа (Arbeit), от которой ожидается, что
она «поместит народ в поле действия всех существенных сил бытия
(Seinsmächte)»**, сделает его годным для своей бытийной миссии.
После публикации лекций Хайдеггера первой половины 1930-х
гг., ректорских речей, и в особенности тома «Об Эрнсте Юнгере»,
трудно оспаривать тезис исследователя истории текстов
Хайдеггера Д. Тома, что «на пике своего сотрудничества с нацистским
режимом Хайдеггер развивает магистральный тезис о переходе от
центрального понятия "Бытия и времени" ("забота") к центральному
понятию национал-социалистических текстов ("работа")»***.
«Работа» ведет к «подрыву всякой субъективности» (Sprengung aller
Subjektivität)****, по аналогии с аристотелевской «энергией», цель
«работы» — сам акт, деятельность, в котором индивидуальные
действия создают предпосылку для перехода к «со-бытию с собой
и другими» *****, т. е. для тотального слияния с «народом». В отличие
от «заботы», с которой в «Бытии и времени» связывается широкий
спектр действий, в 1933/34 гг. «работа» целенаправленно
истолковывается как выработка скрытых задач (которые сам
работающий содержательно не способен сформулировать), благодаря ей
осуществляется переход в «поле действия всех сущностных сил
бытия». Это особенно хорошо видно на примере отношения
«работы» и «земли». «Работа», привязанная к тому, что может быть
произведено (hergestellt или herausgestellt), оказывается techne: она
относится к тому, что может быть обнаружено, выведано у physis.
«Здесь, — справедливо отмечает Тома, — есть уже все, о чем бу-
* Heidegger M. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges. S. 201.
** Ibid. S. 205-206.
k* Thomä D. Heidegger und der Nationalsozialismus. In der Dunkelkammer der
Seinsgeschichte // Heidegger-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Hrsg. von
D. Thomä. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2003. S. 153.
'* Heidegger M. Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. Hrsg. von
G. Seubold. Frankfurt a. M., 1998. S. 163.
** Ibid.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis
643
дет размышлять Хайдеггер позднее в связи с отношением техники
и раскрытия»*.
Особенно рельефно эта взаимосвязь проступает в анализе
понятийной пары природа—техника. Проводимая параллель с
«Рабочим» Э. Юнгера**, несомненно, очень эвристичная в перспективе
развития хайдеггеровской мысли о технике, не должна вводить нас
в заблуждение в отношении оценки процесса «тотальной
мобилизации» : для Хайдеггера Юнгер остается в сфере конструктивистского,
технологического, что не позволяет придать его пониманию техники
«дружественный» по отношению к physis характер. Ведь Хайдеггер
видел в «тотальной мобилизации» лишь форсирование
рационализации и прямой путь к «расширению пустыни»***. «Работа» в
выступлениях Хайдеггера 1933/34 гг. как бы включает в себя технику,
но одновременно не может довести эту задачу до конца. Поэтому
самой ближайшей преемницей «работы» в сочинениях позднего
Хайдеггера оказывается та techne, которая в «Истоке...» определяется
как «творчество», служащее откровению бытия.
Если брать весь идеологический разброс позиций по
актуальнейшему тогда вопросу о роли современной техники в жизни
народа и государства — от «технократических» до «аграр-романти-
ческих» голосов, — то Хайдеггера cum grano salis следует отнести
!ко вторым****. «Слепое пятно» в хайдеггеровском понятии
«работы» — это отсутствие систематического рассмотрения техники,
особенно примечательное тем, что позднее он займется техникой
в критической перспективе. Если в 1933 г. Хайдеггер делает
ставку на «труд» и национал-социализм, то после периода ректорства,
в годы подготовки к написанию «Beiträge», о которой дают хорошее
представление «Черные тетради», он будет усматривать в
национал-социализме и технике как раз завершение метафизики и
последнюю стадию нигилизма*****. Господство техники есть «следствие
из нововременной сущности истины как достоверности». Оттого-то
* Thomä D. Op. cit. S. 154.
** Heidegger M. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges. S. 205.
*** Подробнее см.: Михайловский А. В. Чего не видел Эрнст Юнгер. Рецензия
на: Martin Heidegger. Zu Ernst Jünger. GA 90 // Ежегодник по
феноменологической философии. Вып. 1. M.: РГГУ, 2008. С. 477-491.
**** См.: LosurdoD. Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland. Heidegger und
die Kriegsideologie [1991]. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 1995;
Rohkrämer Th. Martin Heidegger, National Socialism, and Environmentalism //
How Green Were the Nazis?: Nature, Environment, and Nation in the Third
Reich / Ed. by Franz-Joseph Brüggemeier, Marc Cioc, and Thomas Zeller. Ohio
University Press, 2005. P. 171-203.
***** См.: Михайловский А. В. Значение языка «Рабочего» для хайдеггеровской
критики метафизики // Историко-философский ежегодник' 2001. М.:
Наука, 2003. С. 218-248.
644
А. В. Михайловский
«поклонение технике как идолу» (Abgötterei der Technik),
являющееся, по Хайдеггеру, не только элементом нацистского
мировоззрения*, но и характерное в равной мере для Юнгера, Шпенглера
и немецкой технократии**, закономерно должно кончиться *
сумерками идолов». А пока Хайдеггер, склонный к драматизму и даже
трагизму, изображает безрадостную духовную ситуацию так:
немцы, «метафизический народ», зажаты между Россией и Америкой,
которые «одинаково впали в отчаянное неистовство разнузданной
техники (dieselbe trostlose Raserei der entfesselten Technik)» и
предаются «беспочвенной организации нормального человека»***.
Таким образом, все три концептуальных комплекса — «забота —
работа — techne-техника» можно считать точками кристаллизации
хайдеггеровского мышления, сопряженными между собой
систематической линией, которая им же самим (так же систематически)
затушевывается. Это удачно формулирует Д. Тома: «Ретроспективно
Хайдеггер встает на сторону тех, кто относит национал-социализм
к "модернизации". Это толкование — своего рода вытеснение того
позитивного толкования национал-социализма под знаком
„работы" и античной techne в выступлениях 1933 г.» ****. Иными словами,
Хайдеггер «вымарывает» как раз ту сторону национал-социализма,
которая была особенно привлекательна с точки зрения его
метафизической интерпретации «движения» и «немецкой революции»
в целом как возвращения к грекам в целях спасения европейского
человечества от духовной опасности беспочвенности,
индивидуализма, субъективизма и активизма. Ведь в успехе
национал-социализма немалую роль сыграла именно амбивалентность
«естественного» и «технического», одинаково использовавшихся идеологией.
5. Что такое «подлинная техника» в ее отношении к physis
Но вернемся от общего плана к нашему частному вопросу. 25
ноября 1933 г. пылкий и честолюбивый ректор Фрайбургского
университета выступает с речью по радио «Südwestdeutsche Rundfunk».
Эта речь известна под заголовком «Немецкий студент как рабочий».
Обращаясь к студентам по случаю торжественной
имматрикуляции, Хайдеггер говорит о том, какое место знание должно занимать
в становлении народа государством. Государство и есть само это зна-
* Heidegger M. Überlegungen II-IV (Schwarze Hefte 1931-1938). Hrsg. von
P. Trawny. GA 94. Frankfurt a. M., 2014. S. 261.
'* Ibid. S. 456.
'* Heidegger M. Einführung in die Metaphysik. Hrsg. von P. Jäger. GA 40.
Frankfurt a. M., 1983. S. 40-41.
'* ThomäD. Op. cit. S. 158.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis
645
ние, ибо оно воплощает собой и реализует силы (Mächte) народного
Dasein: «Например, природа открывается как пространство народа,
как ландшафт и родина, как земля и почва. Природа
высвобождается как сила и закон той сокрытой традиции наследования
существенных склонностей и влечений. Природа становится задающим
меру правилом в качестве здоровья. Чем свободнее властвует
природа, тем величественнее и сдержанней следует подчинять ей
формирующую силу подлинной техники. Встроенная в природу,
поддерживаемая и венчаемая ею, воодушевляемая и ограничиваемая ею,
осуществляется история народа»*.
Выдвину гипотезу, что этот пассаж содержит сильную отсылку
к Аристотелю, которая могла быть вполне прозрачной для
внимательных слушателей Хайдеггера. Хайдеггер переводит здесь physis
как «жизненное пространство», «ландшафт и родину», «землю
и почву». В то же время «подлинная техника» помещается в
тесную связь с physis, рассматриваемой не как объект для
манипуляций, но как «меру здоровья». Не следует делать преждевременное
заключение, будто слова о «наследовании» (Vererbung),
«инстинктах» (Triebrichtungen) и «здоровье» (Gesundheit) с их
расистскими коннотациями служат доказательством sacriftzio dell'intelletto
национал-социалистического ректора, своего рода уступкой «новой
германской действительности». Напротив, я предлагаю взять этот
«гераклитизм» в сугубо философском смысле, как он, очевидно,
и задумывался, и записать его, так сказать, на счет Аристотеля,
сына врача. Здесь нам может служить хорошим подспорьем
фрагмент из второй книги «Физики». В интерпретирующем переводе
Хайдеггера из трактата «О существе и понятии фтЗац» он звучит так.
«Кроме того, qmoiç, о которой говорится как о вы-ставлении в
становление (genesis), (есть не что иное, как) ход к qrôaiç. (Причем) не так,
как врачевание, о котором никогда не говорят, что оно есть путь
к врачебному искусству, но к здоровью; ведь врачевание необходимо
происходит от врачебного искусства, но направлено не на него (как
на свой конец); но не так (как врачевание к здоровью) относится сргкпс
к фйац, a то, что существует от фъоц и по ее способу, уходит от чего-то
по направлению к чему-то, поскольку оно определяется фйоц (в
движении этого хода). "Во что" же оно восходит сообразно фйац? Не в то,
"из чего" (оно всякий раз возникает), но в то, в качестве чего оно
всякий раз возникает (Физика, 193Ы2-18)»**.
Человеческий способ про-из-ведения сущего не является
естественным, поскольку основан на заученном умении обращаться
с тем, что есть и может быть. Однако свои «компетенции» человек
* Heidegger M. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges. S. 200-201.
** Idem. Wegmarken. S. 291.
646
А. В. Михайловский
может поставить на службу тому, что действует само из себя, т. е.
позволить сущим, имеющим в себе начало движения и роста,
возникать и принимать свою форму. Впрочем, произвести из себя самой
эту силу искусство не способно, потому что это разные
силы-способности. Комментируя пример Аристотеля (Физика, 192Ь23-27), где
идет речь о больном враче, который, «по совпадению» становится
причиной своего выздоровления, хотя подлинное «начало» есть
присущая ему природа, а не врачебное искусство, находящееся вне его
и только усвоенное им, — комментируя способ действия двух
различных начал, Хайдеггер подчеркивает: в данном случае techne как
«der sich auskennende Vorblick» есть знание и умение разбираться
в том, что относится к бытию здоровым, что служит его сохранению
и укреплению*. «Можно было бы, — продолжает он, — сделать
следующее возражение: допустим, два врача страдают одной и той же
болезнью, оба находятся в одинаковых условиях и оба лечат самих
себя; но между этими двумя случаями болезни лежит временная
дистанция в 500 лет, за которые случился "прогресс" новоевропейской
медицины. Нынешний врач располагает "лучшей" технологией и
поправляется, а живший ранее умирает от болезни. В этом случае arche
выздоровления современного врача все-таки будет techne. Тем не
менее следует иметь в виду: во-первых, неумирание в смысле
продолжения жизни еще не обязательно является выздоровлением: то, что
сегодня люди живут дольше, не доказывает того, что они здоровее,
более того, позволяет говорить об обратном. Но даже если допустить,
что продвинутый врач не только на время оттягивает смерть, но и
выздоравливает, то получится, что и в этом случае врачебное искусство
просто лучше поддерживало и направляло physis. Techne может
только идти на встречу physis, может в большей или меньшей степени
поддерживать здоровье; но в качестве techne она не может заменить
собой physis и стать вместо нее arche здоровья как такового»**.
Смелая идея «подлинной техники», публично высказанная
в годы ректорства перед лицом студенчества и профессуры, не
получила своего развития потому, что Хайдеггер уже весной 1934 г.
(28 апреля этого года он ушел с поста ректора) начинает испытывать
сомнения относительно правильности сделанной им ставки на
«самоутверждение немецкого университета» и все больше убеждается
в неспособности «предприятия» под названием «высшая школа»
взять на себя «тяжелейшую работу вопрошания», «отдаться
существенным силам» бытия***. Критически оценивая собственную речь
годичной давности, Хайдеггер уже в «Черных тетрадях» констати-
* Heidegger M. Wegmarken. S. 256.
** Ibid. S. 256-257.
*** Heidegger M. Überlegungen II-IV (Schwarze Hefte 1931-1938). S. 176.
Хайдеггер и Аристотель otechne uphysis
647
рует, что «науки выродились... в голые технологии»; «полная
технизация» охватила не только естественные и гуманитарные науки,
но и медицину, ставшую «биологической техникой»*.
Впрочем, этот автокритицизм Хайдеггера не ставит под вопрос
основы собственного мышления, но лишь называет свои
заблуждения относительно институтов (университет, церковь, печать),
социальных групп (студенты, профессора) и идеологии
(национал-социализм) своего времени, вызванные акцидентальными
обстоятельствами. Процесс технизации неизбежно «катится или,
лучше сказать, ползет к своему концу»**, за которым последует «новое
начало». В послевоенных работах Хайдеггер именует «Gestell»
«фотографическим негативом события»*** — смелая метафора, которая,
согласно толкованию Д. Тома, «означает не что иное, как то, что
техника (включая национал-социализм) служит "негативом", который
должен быть проявлен в темной комнате истории бытия, чтобы мы
увидели на нем "событие"»****.
Сама бытийная возможность техники, проистекающей из
античной techne, требует считаться со своим потенциалом. Кооперируя
с природой, techne остается способом открытия, произведения
вещей, позволяет сущему приходить в присутствие. Эта arche,
производящая сила (Macht, как переводит Хайдеггер) выводит в
присутствие искусственные вещи, но и здесь сила techne скорее ограничена,
подчинена власти природы. Именно в этом заключается — если
угодно, терапевтическое — значение Аристотеля: через различие
между techne и physis он учит современника, увлеченного идеей
совершенства и превосходства техники, сдержанности, помогая ему,
как знающий свое дело врач, видеть сущее в горизонте physis, бытия
сущего.
6. Подлинная техника vs. Machenschaft
Подобно другим консервативно-революционным мыслителям
своего времени, Хайдеггер уделял большое значение деятельной
роли германского народа в ходе технической революции. В то же
время он не разделял ни героико-реалистических взглядов Эрнста
Юнгера и Освальда Шпенглера, ни технократической установки
на встраивание техники в систему ценностей фёлькиш-идеологии.
Хайдеггер вполне осознавал ясную альтернативу между «подлин-
* Ibid. S. 179,199.
** Ibid. S. 94, 286.
" Heidegger M. Seminare. Hrsg. von С. Ochwadt. GA 15. Frankfurt a. M., 1986.
S. 366.
" Thomä D. Op. cit. S. 156-157.
648
А. В. Михайловский
ной техникой», кооперирующей с природой и отвечающей Dasein
германского народа, и «Machenschaft», приводящей к
бездумному производству вещей, эксплуатации природных ресурсов и тем
самым ввергающей в опасность всю планету. Однако сложное
отношение между echte Technik и Machenschaft включает в себя
одновременно непрерывность и разрывы. С одной стороны, обе
являются способами раскрытия, но с другой стороны, современная
техника не умеет использовать то, что природа и так держит для
нас наготове. Machenschaft, наоборот, увлекается
манипулированием природой, навязывает ей свои правила и подрывает ее
онтологическую и структурную целостность самыми разными
способами.
Теперь мы можем увидеть, что лежит в основе
концептуальной модели позднего Хайдеггера, приписывающего технике
двойственный характер — «предельной опасности» забвения бытия
и «спасительной силы», дающей шанс на возвращение к
подлинному способу бытия. Хайдеггер не задается вопросом: как немцам
(и европейскому человечеству в целом) отказаться от
современной техники и вернуться к ремесленному производству, poiesis'y
в смысле про-из-ведения? В то же время он не призывает всех стать
поэтами, чтобы восстановить исходную целостность poiesis'a.
По-настоящему Хайдеггера интересует только смена аспекта — то,
как мы понимаем технику в ее отношении к нашему жизненному
миру. Поэтому очевидно, что техника не может быть редуцирована
до «машинной техники» или «аппаратуры», поскольку речь идет
прежде всего об особом умении-знании как способе aletheuein. Эта
интуиция взаимосвязи и взаимодополнительности physis и techne
приуготовляет путь для возвращения техники как экологической
устойчивости в глобальном мире и позволяет нам увидеть
Хайдеггера так, как он себя не видел, — как пионера environmental
ethics. Действие трансформативной силы бытия непредсказуемо,
а потому ничто не мешает предположить — причем оставаясь, так
сказать, в ландшафте хайдеггеровской мысли, — что современная
захваченность идеей sustainability может стать «новым началом»
или четвертой фазой в истории бытия после «упорядоченного
роста» греческой природы, «сотворенности» христианско-платони-
ческого космоса и «воли к власти» эксплуатирующей природу
планетарной наукотехники.
Сущность техники, как утверждает Хайдеггер в «Вопросе о
технике», не есть нечто техническое. Техника не исчерпывается
комбинацией антропологических и инструменталистских дефиниций,
но остается для Хайдеггера «мирообразующей силой человеческо-
исторического Dasein». Это двойственное видение сущности тех-
Хайдеггер и Аристотель о techne uphysis
649
ники* как способа раскрытия находит свое отражение в 1)
требовании ограничить современную технику как * доставление* природы
в интересах человека в той мере, в какой природа открывается как
устойчивый резерв для удовлетворения человеческих нужд; и 2)
напоминании о забытой способности техники производить вещи,
оставаясь внимательным и открытым к тому, что предлагает нам
природа. «Подлинная техника», в противоположность
доставлению» природы, является законной наследницей techne, поскольку
добровольно подчиняет себя physis в той мере, в какой та
направляет всякое рождение и возникновение.
-еч©-
Современная техника — это завершенная метафизика, но в то же время она
похожа на «двуликого Януса» (Heidegger M. Zur Sache des Denkens. Hrsg.
von F.-W. von Herrmann. GA 14. Frankfurt a. M., 2007. S. 63). Техника,
радикальнейшее отрицание события (поскольку стремится к тотальному
управлению), должна одновременно стать праформой события.
€^^
А. Г. ДУГИН
Удивление Аристотелем.
Встреча главного философа Начала
с главным философом Конца
В философии Хайдеггера работа «Основополагающие понятия
философии Аристотеля»* занимает важнейшее место. Она основана
на курсе лекций в Марбургском университете 1924 г. и была
задумана как подготовка книги, специально посвященной Аристотелю. Эта
работа принципиальна сразу по нескольким параметрам:
1. созревание самостоятельной версии феноменологического
подхода к философии в целом;
2. подготовка основных тем и линий шедевра « Sein und Zeit » **,
который появится спустя три года, в 1927-м (в этом смысле ее можно
рассматривать вместе с работой «Пролегомены к истории понятия
времени»*** как своего рода введение в «Sein und Zeit»);
3. грандиозный опыт глубинной феноменологической
деструкции эллинской философии в целом на примере Аристотеля;
4. наиболее систематизированная версия описания сущности
того, что в истории философии Хайдеггера (Seynsgeschichte)
соответствует Первому Началу философии, то есть первому
структурному моменту всего процесса западной философии;
5. введение терминов, играющих ключевую роль в аналитике
Dasein'a, которые позднее Хайдеггер определит как «экзистенциа-
лы» (Mit-sein, Mit-einander-sein, Vorhanden-sein, Furcht, Stimmung
и т. д.).
Данная работа показывает эйдетическое родство Хайдеггера
с Аристотелем, и одно это проливает дополнительный свет и на фи-
* Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie. Gesamtausgabe
Band 18. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2002.
** Idem. Sein und Zeit (1927). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
*** Idem. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffes. Gesamtausgabe Band 20.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1979.
Удивление Аристотелем
651
лософию самого Хайдеггера, и на философию Аристотеля. Встреча
двух величайших мыслителей, принадлежащих двум экстремумам
историко-философского процесса — кульминации философии
Начала (Аристотель) и точке, поставленной в Конце философии, с
выходом на перспективу Другого Начала (Хайдеггер), — сама по себе
чрезвычайно содержательна и удивительна. С удивления
философия начинается (Платон, Аристотель). По Хайдеггеру,
заканчивается она скукой (Langeweile). Хайдеггер находит в себе мощь снова
удивляться в самой глубине беспробудной скуки, в которую к XX в.
превратилась «школьная философия» (Schulphilosophie). Тем
самым Хайдеггер выводит в область восхищения и пронзительной
свежести мышление того эллинского гения, банализацией идей
которого занималась западная культура (философская, научная,
филологическая и т. д.) в течение более двух тысячелетий. Кант
в свое время заметил, что логика остается практически неизменной
со времен Аристотеля. И не только логика — грамматика, риторика,
в значительной мере онтология и гносеология, наука как таковая.
Аристотель — это камень, на котором стоит вся европейская
культура. Он выразил греческий дух, саму парадигму эллинства самым
ярким, убедительным и эксплицитным образом. Поэтому и
латинская культура, и сам язык христианства, и Средневековье, и даже
Новое время суть не что иное, как медитации на темы Аристотеля.
Все народы, культуры которых проистекают из
Средиземноморского ареала и греко-римской матрицы, несут на себе печать
Аристотеля. Без него полностью бессмысленна как патристика, так и
схоластика, как католицизм, так и православие, как западноевропейская
цивилизация, так и восточноевропейская, византийская, как рома-
но-германские культуры, так и греко-славянские. Поэтому
обращение к Аристотелю, философу Начала по преимуществу, Хайдеггера,
как философа Конца по преимуществу, есть фундаментальный
философский жест, заслуживающий самого пристального внимания.
Фасцинация Логосом
Мы не ставим перед собой (на наш взгляд, невыполнимой) задачи
исчерпывающего анализа работы (точнее, лекционного курса)
Хайдеггера. Она слишком многомерна и насыщенна, и любой ее ракурс
полон самых неожиданных и захватывающих поворотов и открытий.
Поэтому нас интересуют отдельные моменты, связанные в первую
очередь с реконструкцией корневого (радикального) смысла
основополагающих понятий (Grundbegriffe) самого Аристотеля, что
требует обращения как к бытовой семантике эллинского общества (учет
структуры греческой повседневности, Alltäglischkeit), так и к состо-
652
А. Г. Дугин
янию тематизаций и проблематизаций предшествующих
Аристотелю и современных ему философских школ. То есть нас интересует
сам Аристотель, тот удивительный Аристотель, которому нашел
силы и мужество удивиться Хайдеггер. С другой стороны, нас
интересует сам Хайдеггер, его движение к выявлению Dasein'a, которое
отчетливо видно в этой работе, где он еще использует это понятие
не строго, включая в него не только «человеческий Dasein», то есть
Menschsein, но и говоря о Dasein'e сущих (Seiende), что время от
времени дает весьма выразительную саму по себе форму Daseiende. При
этом мы не противопоставляем и даже не разделяем эти две задачи:
постижение Аристотеля и постижение Хайдеггера. Наш метод
состоит в том, чтобы довериться им обоим одновременно. Не то чтобы
философ XX в. читает философа IV в. до Р. X. Dasein исследует свои
основания, проблематизирует Xôyoç и основанную на нем логику,
прослеживает корни своего языка, мышления, способы экзистиро-
вания, наличия в мире. Человеческое в Конце задумывается о
человеческом в Начале. Не все человеческое, но лишь то, что корнями
уходит в индоевропейскую стихию Средиземноморской
цивилизации. Это уже, чем человеческое вообще (если такое может
наличествовать), но шире, чем Хайдеггер, читающий и стремящийся
понять Аристотеля. Поэтому читать Аристотеля вместе с Хайдеггером
и читать Хайдеггера вместе с нами не является индивидуальным
делом: Dasein обращается к самому себе. Он это делает обязательно
через нас, но только через нас самих, то есть в той степени, в который
мы являемся нами самими, а не отчужденными от своей сущности
изгнанниками на свою собственную периферию — то есть
индивидуумами. Можно сказать, что для прослеживания структуры чтения
Хайдеггером Аристотеля необходимо полное доверие к самому этому
процессу, к чтению как таковому. Мы ни в коем случае не отнимаем
права на дистанцию и созерцание со стороны (изначальное значение
термина «скепсис» именно таково — созерцание со стороны, взгляд
с дистанции), но убеждены, что конструктивно это будет лишь
после обхождения всего круга безусловного доверия, патетической
ангажированности в чтение, настроенности на него. Надо вначале
вслушаться в то, как Хайдеггер говорит об Аристотеле, то есть
вслушаться в Хайдеггера и Аристотеля, и лишь потом (если
потребуется) отстраниться от этого доверия и попытаться как-то отнестись
к тому, что мы до этого прожили и продумали, с чем столкнулись
и чем были озарены. Надо настроиться на Хайдеггера и Аристотеля,
а затем мы вольны перейти к иному слушанию или высказыванию
или настроению (Stimmung). Но только потом, а не до. Философия
в определенном смысле есть скепсис. Но чтобы разочароваться, надо
предварительно очароваться. Очаровать, удивиться — слова с об-
Удивление Аристотелем
653
щим значением, «чудо», «диво» — это столкновение с
непривычным, неожиданным, выходящим за рамки повседневности. Поэтому
чудо может быть чудесным и чудовищным, а точнее, всегда
одновременно и то и то. Логика сегодня скучна*. Западная цивилизация
за две тысячи четыреста лет успела в ней разочароваться. Но в
истоках своих это было чудо — чудесное и чудовищное. И даже если мы
сами в какой-то момент найдем, что Аристотель скучен, пусть это
будет наша собственная скука, скука нас самих, наше
разочарование, а не чужой скепсис, взятый нами напрокат, некритически
усвоенный. Если мы сомневаемся, что, во-первых, это должно быть наше
сомнение, сомневаться должны мы сами, а не подражать сомнению
других, а во-вторых, чтобы это сомнение было достоверным,
необходимо оживить его яростной вспышкой чуда, броском в доверие.
На этом основана не только религия, но и философия, в истоках
которой лежит фасцинация Логосом. Без нее не будет философии.
Погаснет ли она (скепсис), будет ли пылать, пока наконец не сожжет
мир (по Гераклиту), — это вопрос открытый. Но решать его должны
мы сами (wir selbst).
Логос как опыт
В центре внимания Хайдеггера при прочтении Аристотеля в
моменте подготовки к составлению «Sein und Zeit» — вопрос об
онтологии человека как феномена. Это главная тема феноменологии
как таковой, старающейся обосновать природу человеческого в его
корневых (радикальных) измерениях, то есть с отбрасыванием
любых метафизических обобщений как преждевременных. В чем
человек отличается от других сущих? В том, что у него есть
мышление. В этом смысле базовое определение Аристотеля — Çœov kôyov
ë%ov, человек есть живое существо (животное), обладающее Логосом,
остается непреодолимо точным феноменологическим определением
(оркуцос). Греческий термин Логос, kôyoç имеет множество значений,
включая одновременно «мышление», «речь», «сознание», «слово»,
«высказывание», «язык», а в изначальном смысле еще и «жатву».
Логос есть основание логики, впервые раз и навсегда
утвержденной Аристотелем. И теперь остается только понять, что такое Логос
(À,ôyoç)? При этом для феноменолога Хайдеггера это необходимо
сделать, ни на миг не теряя прямой связи с явлением. Логос должен
явить себя Хайдеггеру (мыслителю), чтобы понять основание ло-
* В 72-м фрагменте Гераклит описывает это в следующих словах: oîç ка0'
flUépav éyicupoOai, таггга aùioîç Çéva cpaiveiai — то, с чем они сталкиваются
ежедневно, остается самым им наиболее чуждым, а в 101-м говорит о себе:
éôiÇr|aànT|v ецесоитоу, «я искал себя».
654
А. Г. Дугин
гики, а следовательно, философии, науки, физики и метафизики
и т. д. Так как мы мыслим не на пустом месте, а в контексте
философской и лингвистической традиции, то прямой опыт Логоса нам
заведомо недоступен: мы имеем дело с продуктами работы Логоса,
накопившимися в течение двух тысячелетий с лишним. Эта
традиция соединяет нас с Логосом, лежащим в ее основании, но
одновременно удалят нас от него, так как защищает сердцевину множеством
вторичных пластов. Логос как явление скрыт за логикой и
бесчисленными уровнями его применений — в философских школах,
филологических памятниках (нарративах), научных теориях и т. д.
Логос предопределяет структуры повседневности, но
одновременно скрывается за ними, прячется в них. Чем более логичен мир
человека, тем более надежно скрыт в нем сам Логос как изначальное
явление. И никакой порыв снести здание европейской культуры,
никакой нигилизм не способен приблизить нас к опыту Логоса; нас
завалит мусором разрозненных фрагментов, и вместо чистого опыта
мы получим горизонт метафизической свалки. Поэтому у нас есть
только один выход: пройти весь путь истории философии в обратном
направлении и достичь тех изначальных эпох, где явление Логоса
было возможным. Где Логос удивлял, поражал, озарял и фасцини-
ровал. Только там, размотав клубок идей до конца, мы имеем шанс
подойти к изначальному опыту, который нас интересует. То есть
приблизиться к корневому измерению человеческого. Логос к нам
обращен продуктами своего фазового отчуждения — то есть через
логическое, а затем и иллогическое, иррациональное и
нигилистическое. Эти фазы отчуждения подлежат деконструкции. Конечной
точкой пути к опыту Логоса является Аристотель. Если мы
способны удивиться ему, у нас открывается шанс столкнуться с тем, что
делает нас теми, кто мы есть, то есть живыми существами,
обладающими Логосом. Обладать Логосом — значит обладать самим собой.
А что происходит, если мы не обладаем Логосом? Если
управление в этой формуле Çcoov Àxyyov e^ov будет поставлено под вопрос?
Меняем ли мы свою природу? И да и нет. Во-первых, в определении
Аристотеля содержится фиксированный принцип (àpxfl),
устанавливающий жесткую связь между живым существом (в данном случаем
человеком как живым существом) и Логосом. Говорить, мыслить,
собирать посеянный и взращенный урожай может только человек.
Эта связь абсолютна: убери Логос — исчезнет человек. Но при этом
исчезнет и то живое существо, которое нормативно наделено
Логосом. Живое существо и Логос в человеке не просто связаны, но
настолько слиты, что отдельно друг от друга не существует. В этом
главный принцип феноменологии еще с Брентано. Выражение «роза
красная» (Die Rose ist rot) не объединяет два самостоятельных поня-
Удивление Аристотелем
655
тия «роза» и «красное», но предъявляет нам нечто цельное,
определенное, Rose-seiend-rot, rose-being-red. По этой выкройке строятся
все экзистенциалы (Mitsein, Vorhanden-sein, Zerstreut-sein, in-der-
Welt-sein и т. д.). Поэтому animalis-rationalis не получается
сложением отдельно животного, отдельно ума. Человеческого животного
без Логоса не существует, как не существует нечеловеческого
Логоса, слова, мышления, ума, речи. Логос и человек суть одно и то же,
но только такой Логос, который есть нечто живое (Çcoôv). Поэтому
человек есть логическое животное, а не Логос+животное. Он
неразделим, целен и объединен. Причем в этом определении нет пока ни
дихотомии тело/душа, ни трихотомии тело/душа/дух. Для сущности
человека наличие тела и души не принципиально: важны Логос
и жизнь, то есть живой Логос, логическая жизнь. Жизнь, Сюг|,
Аристотелем определяется как способность к самостоятельному
движению (Kivrçmç) — у растений это проявляется в способности
питаться и увеличиваться в размерах, у животных чувствовать, <xïa8T|Giç,
двигаться в каком-то одном направлении, не быть привязанным
к фиксированному месту. Способности растений (расти и питаться)
включены в способности животных, которые имеют то, что присуще
растениям, но имеют и многое другое. Способности животных
включены в человека, который питается, растет (как растение), движется
и чувствует как животные. Но сверх этого — ив этом сущность
человека — человек мыслит, то есть взаимодействует с Логосом. Логос
неотрывен от человека. В нем животное снято (в гегелевском
смысле, aufhebt). Человек неотрывен от Логоса. Разделив их, мы
утрачиваем феноменологическое содержание и того и другого. Тело же
как чувственный орган (aïa9r|oiç) прилагается к живому Логосу в том
смысле, как в него включено животное. Тело однако не просто
материя, но органическая основа, соответствующая именно человеку,
то есть живому Логосу. Телесность составляется работой души (vjruxn)
как подлежащего (imoKeijievov) жизни. Так происходит и у растений,
и у животных. Тело конституируется душой как охватывающим
телесность (причем именно ту телесность, которая органически,
деятельно подходит для данного типа существ) эйдосом. Человеческая
душа конституирует человеческий телесный органон как форму
логической жизни. Тело в этом смысле ничего не добавляет к
структуре человека — это лишь аспект, срез, сечение живого Логоса,
целиком включенное в него, в эйдетическое целое.
Установив природу человека в его не просто жесткой, но
изначальной сопряженности с Логосом (человек есть принципиально
и эссенциально Çcoôç-kôyoç, не результат сложения, а
первоначальный синтез, то есть вначале человек есть Çcoôç-Xoyoç (живой Логос),
и даже Çcoôv fj tâyoq (живое как логическое), kayoç fj Ç©6v (логическое
656
А. Г. Дугин
как живое), а лишь затем в апостериорной дистанции Çcoov кш Ахэуос,
живое существо и Логос), можно обратить внимание на связку
аристотелевской формулы, то есть на глагол ë%£iv (иметь) и,
соответственно, отглагольное существительное ё£ц (обладание, состояние,
достояние). Живое существо и Логос разорвать нельзя, а
отношения, их характеризующие, могут подвергаться склонению. Человек
сопряжен с Логосом фатально. И, как нам говорит Аристотель, это
сопряжение (кш, copula) таково, что в нормативном случае живое
существо обладает Логосом. То есть сам человек есть тот, кто
существует, обладая Логосом. Логос есть ё£ц. В этом случае сущность
человека, сам он (Selbst) состоит в наклонении обладания.
Человек, становясь самим собой, начинает обладать Логосом. И став
собственно самим собой, он становится в полной мере обладающим
Логосом. Говорит, мыслит, пожинает он сам (Selbst), так как Логос
принадлежит ему как живому существу как его достояние, ёСц. Тем
самым живое существо, человек, живет, «логизируя». Это и есть
экзистенция по Хайдеггеру, «логизирующая жизнь». У Аристотеля
собственное человеческое существование (экзистирование)
определяется как высшая цель совершенных существ — ßioc бесорт^тгкос.
Когда жизнь обладает Логосом, она становится из стихийной Çarij,
ограниченным и определенным ßioc. И таким ßioc, который
полностью основан на прямых практиках Логоса, то есть на созерцании
(Geœpia). По Аристотелю, полноценным человеком является только
философ, занятый созерцанием. Он-то и имеет (ëxew) в полном
смысле слова Логос, Логос есть ё£ц философа. То есть ßioc 0е(орт|Т1кос,
созерцательная жизнь, которая есть экзистирование философа есть
владение живым существом Логоса.
Теперь вернемся к поставленному вопросу: может ли человек
не иметь Логоса? С Логосом он сопряжен нерасторжимо. Но так ли
нерасторжимо с имением (ëxew). Да, также, поскольку ë%eiv входит
в определение (орюцос) человека. То есть любой человек имеет
Логос? А вот это не совсем верно. Философ, ведущий созерцательную
жизнь, есть человек, который имеет Логос. А не философ? Как он
связан с Логосом, ведь как-то связан? И снова: эта связь не может
быть иной, нежели связь через ëxew, обладание, имение? Да, но тут
возможно следующее — возвратность (медиапассивность),
сопряженная с имением. Тогда мы получаем формулу: kôyoç Çœov ë^cov,
то есть человек может быть живым существом, которым обладает
Логос, его собственностью, ëÇiç. Это ненормальное положение дел,
но возможное в рамках допустимых наклонений базового
определения. Человек и Логос нерасторжимы. Их нерасторжимость
воплощена в обладании (ëxeiv). Вариативно лишь наклонение
нерасторжимости, то есть вопрос — кто обладает кем? Это не вопрос о границах
Удивление Аристотелем
657
человеческой природы, это вопрос о тех возможностях, которые
заложены внутри этих границ.
Если Логос обладает живым существом, то оно уже больше не сам
человек, хотя все еще человек. Это не философ, а его
противоположность, то есть человек, не ведущий «созерцательную жизнь». Но
несозерцательная жизнь человека, это все еще человеческая жизнь,
сопряженная с Логосом. От Логоса человек не может уйти, не уйдя
от себя. Принципиальной же является структура обладания.
Уже в этой работе Хайдеггера о повседневности (Alltäglichkeit)
и ее структурах. Эта человеческая повседневность строится на
Логосе и вокруг Логоса. Экзистирование человека строится на речи,
разговоре. А это и есть Логос. Человек говорит и мыслит, это и есть в нем
собственно человеческое. Но мыслит ли, говорит ли он сам? Или
кто-то мыслит и говорит за него, вместо него? Это зависит от того,
как структурированы отношения живого существа Логоса. Это
вопрос как? Структура повседневности такова, что в ней Логос
обладает живым существом. Это значит, в частности, что в этой структуре
мы имеем дело с привычным и гарантированным. В повседневности
нет и не может быть ничего удивительного. Все рутинно.
Повседневность принципиально и фундаментально скучна. Логоса в ней
качественно больше, чем жизни, но это Логос в таком наклонении,
что он скрыт от созерцания, никогда не явлен своим рабам, своей
собственности. А значит, это Логос нефеноменальный,
уклоняющийся от явления. Он действует с обратной стороны от живого
существа. В повседневности живое существо одержимо Логосом как тем,
что всегда находится сзади, в основании, что диктует и определяет
в жизни все. Позднее Хайдеггер введет фигуру das Man, безличного
обобщенного начала, которое преобладает в том случае, если Dasein
экзистирует неаутентично. Именно das Man есть безличная
персонификация, "субъект" повседневности.
Философ есть человек такой, каким он должен быть, то есть
имеющим Логос. Только созерцательная жизнь есть собственно
человеческая жизнь. Но философия основана на удивлении. Созерцать —
значит удивляться. Удивление есть пребывание лицом к лицу
с явленным Логосом, с являющимся Логосом, с Логосом как
явлением. Жизнь, для которой Логос есть ёСц есть удивительная,
удивленная жизнь. Если же человек живет не собственно, то вместо него
живет не он сам. Аристотель, напоминает Хайдеггер, говорил, что
♦человек может проспать свое бытие». Когда человек не обладает
Логосом, но обладает им, он просыпает самого себя. Это и есть
повседневность, в которой живет не сам человек, но das Man вместо него.
Человек есть живое существо, способное к философии. Чем
больше человек есть философ, тем больше он человек. Чем меньше, тем
658
А. Г. Дугин
более он расчеловечивается, становится одержимым, переход под
обладание das Man. В конце концов повседневность есть
модуляция скуки, скрывающая неспособность человека жить удивлением,
то есть в опыте Логоса как явления.
ïjôyoq и nôXiq
Анализируя структуры Логоса, Хайдеггер обращает
внимание на то, что Логос является тем, что объединяет. Фрагмент 50
Гераклита говорит об этом весьма внятно: «oûk è\iox>, àXkà той Хоуои
(хкогюаутас ô^oX,oyeîv aocpôv éanv ëv navra eîvai». Согласно Логосу, все
едино (ëv navra). Поэтому люди в Логосе объединяются. Это
понятно: если человек есть сам Логос, а Логос объединяет всё, то в Логосе
люди преодолевают свою раздробленность, восходя к общей жизни.
При этом Аристотель настаивает, что это восхождение не есть
собирание многих в одно. Наиболее полное собирание происходит
тогда, когда человек обращается к самому себе, не просто к себе (еусо),
но именно к самому (éauiôv) себе. Логос есть личное общее, сам
человек во всех смыслах. Тот, кто живет «созерцательной жизнью» даже
в одиночестве, ближе к людям, чем тот, кто не расстается с
другими ни на мгновение, но не продвигается в философии. Это отнюдь
не эгоизм, так как между человеком и самим человеком существует
зазор, состоящий как раз в наклонении ëxeiv. Если человек имеет
(в полном смысле ëxeiv) Логос, если он слушает его, а не только
говорит (Хайдеггер указывает, что важно слышать то, что ты сам
говоришь), то он объединяет всё и всех в этом созерцательном акте.
Поэтому самым ценным является философский Логос и он же самым
общим.
Нефилософы в той или иной степени погружены в зону
повседневности, и поэтому для них объединяющая роль Логоса
воспринимается иначе. Она реализуется через разговор (Rede) и в
пределе через совершенно пустой разговор (болтовню, Gerede). Пустой
разговор, болтовня ни о чем, простое воспроизведение чего-то
очевидного в тысячный раз более содержательно с философской точки
зрения, чем претенциозное объявление чего-то «нового». Сущность
любой нефилософской речи есть болтовня (Gerede). Очевидная
бессодержательность болтовни открывает ее истинный смысл, который
заключается в свободном движении Логоса по своим логическим
и грамматическим возможностям. В повседневности говорит не сам
человек, но das Man, который просто болтает — без начала, без
конца, без смысла и цели. Цель говорения в том, чтобы говорить. Через
эту практику человек экзистирует в режиме одержимости.
Говорение есть выражение одержимости Логосом, который имеет челове-
Удивление Аристотелем
659
ка, и только поэтому человек говорит. Общество строится на обмене
речами, на говорении. Общество есть Логос, который говорит сам
о себе и сам для себя. В той мере, в какой люди неразрывно
сопряжены с Логосом, будучи им самим, они тоже говорят сами. Но одно
дело — говорить, обладая Логосом, а другое — будучи обладаемым
им. Первой формой речи является философская речь. Все остальные
формы относятся к области нефилософии или недофилософии.
Gerede, болтовня конститутивна для повседневности. Общаясь,
говоря и слушая, люди в отчужденном симуляционном режиме
изображают из себя философов, имитируют их. Общество, таким
образом, есть пространство речи, дискурсивная текстура. Общество есть
Логос, выступающий в качестве одержащего, правителя, das Man.
Философ должен править (особенно это эксплицитно у Платона)
именно потому, что он стоит выше общества, будучи сам обществом,
то есть даже сверхобществом, его высшим достижимым, но
последним пределом. Именно в этом смысл аристотелевской монархии,
идею которой он заложил своему воспитаннику Александру
Великому. Общее благо (àyaGôv каЭо^ои) для Аристотеля — это не
платоновская идея и не собрание отдельных благ каждого человека. Это
конкретное достижение обладания Логосом внутри такого аристократа,
который способен в процессе созерцательной жизни реализовать
обладание Логосом. Тем самым он становится равным всему обществу
и вместе с тем высшим, чем все это общество, вместе взятое.
Общество есть ясйлс, город, селение, конкретная совокупность
говорящих друг с другом людей. «Говорящих друг с другом» означает
«практикующих Логос», пребывающих в Логосе. Отсюда и еще одно
определение Аристотелем человека: Çcoov яо^ткоу, живое
политическое существо. Быть политическим и иметь Логос — одно и то же.
Но аналогично альтернативе «иметь Логос или претерпевать его,
чтобы он имел нас», обстоит дело в политике: политическое может
располагаться «под нами» или «над нами». Если человек экзистиру-
ет аутентично, то есть является философом, он есть монарх. Обладая
Логосом, он обладает полисом. Если человек экзистирует
неаутентично — им правит Логос, а значит, полис. Поэтому общественная
(политическая) иерархия прямо воспроизводит философскую
иерархию, а самым царственным искусством является воспитание
и образование (rcaiSeia).
Так мы получили фундаментальную пару Аюуос — покщ, где оба
полюса оказываются принципиально взаимозаменимыми. Человек
есть живое существо, обладающее Логосом. Человек есть живое
существо, погруженное в политику. Живое существо в обоих
высказываниях — одно и то же. Человек — снова одно и то же.
Следовательно, kôyoç и KÔXiq сущностностно одно и то же. Из этого вытекает
660
А. Г. Дугин
структурное (и даже онтологическое) тождество трех сфер логики,
риторики и политики. Политика состоит из речей, она есть область
слова. В ней человек реализует свою сущность. Мышление, речь,
общество и политика суть одно и то же.
Это удивительное тождество проясняется единящей природой
Логоса. Для Логоса всё одно. И когда мы двигаемся в его сторону,
по дороге удивления, мы начинаем выявлять единение
различаемого.
Общество есть потому, что человек влечется своим Логосом к его
общей природе. В обществе человек рассчитывает стать самим
собой. Стать самим собой (сравните с фрагментом 116 Гераклита —
àvGpcorcoiGi rcàoi цетест yivœoKeiv écouxoix;, всем людям в целом надо
искать себя) можно двояким способом: философским и социальным.
В первом случае корни самого себя человек ищет в себе, во втором —
в соединении с другими. Первое — путь философа, философской
речи. Второе — путь общения, общества, политики и
повседневности. Но в обоих случаях природа человека одна — он ищет самого
себя, то есть свой Логос, только разными способами. При этом два
пути не расходятся абсолютно: философ становится монархом или
воспитывает монарха как такую политическую фигуру, которая,
находясь над политикой, является сущностью политики, в той же
степени, в какой сущностью политики является философия, а в свою
очередь, повседневность общества в бытовой политике так или
иначе, но оперирует логикой, грамматикой, риторикой и другими
заимствованиями из философии. Поэтому философия обязательно несет
в себе политическое измерение, а политика основывается, в свою
очередь, на философии. Политика — это недофилософия, а
философия — сверхполитика. Но обе области — философская
аристократия и общество встречаются в точке Логоса, которая является для
них общей.
Трехфункциональная структура индоевропейского этоса
Из этих гомологии Аристотеля, заново подчеркнутых Хайдегге-
ром, можно сделать бесчисленное количество чрезвычайно важных
выводов. Например, можно проследить единство принципиального
подхода Аристотеля и Платона, где существенное различие в
формах выражения и методах обоснования скрывает под собой общую
модель безусловной проективной апологии политической
иерархии, основанной на неравенстве сознаний и способов мышления.
Философ стоит во главе Государства Платона. У Аристотеля, при
отсутствии такой прямой формализации политического статуса
философа, монархия мыслится как оптимальная модель, сводящая
Удивление Аристотелем
661
множество к единству — строго по той же модели движения в
сторону созерцательной жизни, то есть к утверждению живого Логоса,
как сущности человеческого.
И у Платона, и у Аристотеля мы видим классическую для
индоевропейских обществ трехфункциональную модель, детально
описанную в работах Ж. Дюмезиля. Она строится по принципу
треугольника, разделенного на три уровня. Вертикальная вершина — место
философа и монарха. Основание треугольника — народ, общество,
повседневность. Между ними — воины. Если мы будем постоянно
держать эту схему в уме, многое станет у Аристотеля прозрачным.
ßloq бешрпикос;
ßCoq noXiTiKÔc;
ßtoq àno\au<JCLKÔq
Хайдеггер в своей книге большое внимание уделяет «Никома-
ховой этике», каждый термин которой подвергает тщательному
анализу. Этика Аристотеля и является ярчайшим примером такой
трехфункциональной структуры общества, определяемой Хайдег-
гером через экзистенциал Miteiender-sein (бытие-вместе-с). В
первую очередь Хайдеггер напоминает, что сам греческий термин fj0oç
не правильно рассматривать как раздел политики. Он намного более
общий и имеет автономное экзистенциальное содержание. Этика,
i*j8oc есть структура отношения человека к самому себе, Haltung,
Sichhaltung. Но отношение к самому себе есть отношение к Логосу.
Поэтому такое отношение к самому себе неразрывно связано с
отношением к другим. Более того, в этике дифференцируется отношение
662
А. Г. Дугин
к Логосу, то есть это залог глагола ëxeiv, из базовой формулы Çcoov
X^ôyov ëxov. В чистом виде активный залог формулы Çcoov À,ôyov exov
относится к философам. Пассивный — к народу (Wryoç Çcoov ëxœv).
Медиапассивный — к аристократии, касте воинов (помощники
стражей-философов у Платона). То, как относится человек к
самому себе (к Логосу), определяет структуру его этики. Во всех случаях
высказывание Гераклита r|0oç àvGpcorcq) öai^icov, «этос человеку
даймон» остается верным. Но в одном случае философ сам становится
«даймоном» (даймон Сократа) и имеет его (активный залог ëxeiv),
а в другом — «даймон» обладает человеком, который является им
одержимым (пассивный залог ëxeiv). Этос в обоих случаях
фундаментален, но его структура полярна. Нетрудно угадать в таком
анализе позднейшее хайдеггеровское разделение на аутентичное и
неаутентичное экзистирование Dasein'a. Вопрос (риторический) только
в том: когда Хайдеггер читает Аристотеля, он вычитывает из него
моменты «Sein und Zeit» или «вчитывает» ему их? В любом
случае благодаря такой расшифровке этоса мы получаем возможность
дать экзистенциальную экспликацию трехфункицональной теории
индоевропейских обществ. Философы, монархи суть те, кто экзи-
стируют аутентично. Они обладают даймоном, Логосом. Поэтому
их речь имеет прямое отношение к Sein в структуре Dasein'a. Это
онтоязык, тот самый, который является «домом бытия». Философ,
мысля, а монарх, правя, выводят язык (Логос) из своего дома и
объявляют о его структуре, тем самым являя его и удивляя тех, кто
способен слышать и мыслить. Народ же, напротив, одержим Логосом,
который дан ему как das Man. Тем самым он погружен в структуры
повседневности, и язык использует его, заставляя повторять одно
и то же, а не он язык. Поэтому третья функция относится к
неаутентичному режиму экзистирования, но Dasein остается общим, а
следовательно, любой человек народа в любой момент может
проснуться, то есть удивиться. Даймон внутри него, как и внутри философа.
Просто у философа он пробужден и явлен, а в человеке
повседневности он глубоко спит. Вторая функция — воины — соответствует
промежуточному состоянию между философом и обывателем. Воин
намного подвижнее и пробужденнее мирного труженика, но намного
более хаотичен, непостоянен и сумбурен, нежели философ. Лучшие
люди народа становятся воинами. Лучшие воины — философами.
Лучшие философы — монархами или воспитателями монархов. Так
стадии перехода от неаутентичного экзистирования Dasein'a к
аутентичному развертывают политическую иерархию как
экзистенциальную.
Теперь становится кристально ясно то, что Хайдеггер пишет о
понятии тгХос, в «Никомаховой этике». теАх)с надо понимать одновре-
Удивление Аристотелем
663
менно как цель, как предел и одновременно как то, что делает сущее
им самим, то есть сущим (относящимся к бытию) и данным сущим.
xekoq является одновременно и достигнутым (поэтому мы говорим
о чем-то как о нем самом), и недостигнутым (эта дистанция и есть
траектория движения вещи в ее явлении), xekoq может быть также
интепретирован как совершенство, завершение. Будучи внутренне
совершенной, вещь движется к своему совершенству, и именно это
лежит в основе онтологии движения (idvr|Giç) и самой главной точке
в учении Аристотеля — èvzekéxeia- Но при этом, если вещь или
живое существо достигнет своего теХос, совершенства, ему не к чему
будет двигаться. Следовательно, оно умрет. Поэтому хгХос, есть смерть,
конец движения, а движение и есть жизнь. Вернее, самодвижение,
движение, ипокименон (urcoKeijievov) которого является душа (щут\).
Горизонт ойкономии
Эта онтология энтелехии предопределяет сущность этики.
Каждый из трех типов человека (экзистенциально определенных ранее)
имеет свой собственный этический xekoq, a также область его
применения, горизонт. Он конкретизирует различие их этоса.
Горизонтом обывателя, гражданина является okeiov —
домостроительство. Это забота о логической и логистической организации
хозяйства. Дом (oikoç) есть область компетенции обывателя. Дом
берется в широком смысле, включая семью, хозяйство, угодья, поля,
прислугу, ремесло. Разные oikoç складываются в дим, ôfj|ioç,
население определенной территориальной единицы. Обыватели
собираются на рыночной площади, центре дима, на агоре, и обмениваются
речами. Этот обмен речами конституирует nôfaq в его демократическом
понимании (худшем в иерархии Аристотеля). Третья функция
остается внутри горизонта дома, внутри домохозяйства даже тогда, когда
люди собираются на рыночной площади. Собрание их малых
обывательских домохозяйских логосов не выходит за горизонт логистики.
Поэтому на рыночной площади в естественном состоянии всевластие
das Man, отчужденного и не являющегося ничьей собственностью
Логоса. Пиком этой банальной болтовни (Gerede) являются софисты.
Их речь имеет видимость «философии», но представляет собой ее си-
мулякр. Толпа любит софистов потому, что они и есть выражение
Gerede. В них они узнают своего господина — das Man.
В горизонте домохозяйства доминирует этический xéXoq
наслаждения. Аристотель определяет это как ßioc алоХоюсгпкос, жизнь в
достатке, жизнь в удовольствии. Наслаждение, сладость, услаждение
(f|5i3, f|5ovr|) — вот к чему стремится обыватель (третья функция).
Совершенство достигается в наслаждении — в достаточной пище,
664
А. Г. Дугин
вине, семье, порядке, прибыли, мире и спокойствии. Все это уже
достигнутая суть обывателя. Но если бы он это все получил, в
совершенстве реализовав свою этику, он умер бы как обыватель. Ему
не к чему было бы стремиться, двигаться. Жизнь есть развертывание
энтелехии. Обыватель стремится к себе самому, но, чтобы его этика
была живой, жизненной, он должен не иметь того, к чему стремится,
в полной мере. Поэтому обыватель вращается вокруг своего текос как
светлячки вокруг пламени или созвездия вокруг Полярной звезды.
В этой гравитации вокруг сладости есть контрполюс обывателя —
несчастье, боль, лишение (Ал)7гг|). Полюс боли и лишения необходим
для того, чтобы обыватель жил. Это то, что держит его от падения
в собственный центр, который есть цель и его смерть. Наслаждение
(f|5ovr|) есть Selbst обывателя. В этом состоит структура экзистирова-
ния его Dasein'a. Поэтому, что бы ни обсуждали на площади
домохозяева, критерием будет мера наслаждения и горя, баланс сладкого
(f)8i3) и горького (ХдЗтгп). Сладкое и горькое (в русском слове «горе»
содержатся удачно все смыслы — вкус, огонь, печаль) — мера вещей
для третьей функции индоевропейского общества. Это базовая
категория демоса и фундаментальная структура его этоса.
Политическая жизнь
Вторая функция имеет более широкий горизонт и иной этос.
Жизнь воина — это жизнь политическая, ßioc nohxiKÖq. Если в
обывателе Dasein уже принял решение жить в сладком сне, который длится
только потому, что он еще недостаточно сладкий, то воин, аристократ
сосредоточен на самом решении (rcpoaipeoiç), которое еще не
принято, но только принимается. Поэтому воин должен быть нервным.
Он не знает до конца — уснуть или проснуться, и постоянно решает
это. Его жизнь между войной (и подготовкой к войне) и пирами,
попойками. В войне он стремится навстречу к смерти, к своему xéXoç.
Но на пирах он безудержно погружается в стихию наслаждения. Оно
отличается от наслаждения обывателя тем, что оно чрезмерно,
совершенно. Воин не боится умереть от счастья обладания сладостью
потому, что это не его теАос. Поэтому наслаждения воина многократно
превосходят наслаждения обывателя. Получив максимум возможной
материальности на пирах и загулах, воин не умирает, так как у него
вообще другой горизонт. Его полюсом притяжения является зона
войны, битвы, где смерть предстает как явление, сама по себе, а не
через ее замещения — в виде горя, утраты и т. д. Смерть сама по себе.
Вот вокруг чего гравитирует воин, аристократ. Поэтому ему витально
необходима война. В войне воин есть он сам. И когда война
максимально успешна, воин в ней гибнет, так как достигает своего центра.
Удивление Аристотелем
665
Аристократический теХос есть xijifj, слава, честь. Это основа этоса
воина, аристократический этос. В этом снимается оппозиция третьей
функции между наслаждением и горем. Воину честь намного важнее,
чем наслаждение. Он легко выбирает лишения (кощ) в военном
подходе или в упорной атлетической подготовке к войне, если это ведет
к славе. Поэтому для воина главное слава (тщт|), а самое страшное —
бесчестие (àxi^iia). Чтобы достичь славы и избежать бесчестия, воин
идет на все. Это и есть политика в узком смысле: поле борьбы за честь
и бесчестие, за славу и бесславие. Жизнь именно воина, аристократа
является политической по преимуществу, так как как в поле славы/
бесчестия Dasein решает (но пока еще не решил), экзистировать ли
ему аутентично. Поле решения есть сущность Логоса. Поэтому еще
раз мы видим тождество политического и логического. Жизнь
человека есть решение. И поэтому этос воина лучше всего выражает этос
человека как такового. Обыватели уже приняли решение и рухнули
в повседневность. Тем самым они отдали власть das Man и оказались
ниже политики. Политика домохозяев (демократия) для Аристотеля
была самым отвратительным и позорным типом политики, недопо-
литикой. Но если решение уже принято, то оно принято не нами
самими. В этом и есть суть третьей функции: ее представители
(обыватели) никогда не принимают решения. Но возможность решения есть
сущность Логоса и человеческого бытия. Раз так, обыватели, будучи
людьми, должны принимать решение, чтобы оставаться людьми.
Они, на самом деле, так и делают, но принимают решение не решать.
Решение для них — выход за ойкономический горизонт из экзисти-
рования, поэтому, чтобы оставаться в нем, они принимают решение
не решать и предоставляют право решать за них das Man, то есть
обществу в целом, «коллективному сознанию» и т. д. Участие
обывателя в политике состоит в его отказе политики. Ойкономика (то есть
экономика) заменяет собой политику: в этом сущность демократии.
А демократия в таком случае есть систематизированный и
возведенный в норматив способ неаутентичного экзистирования Dasein'a.
В трехфункциональном обществе демократия неустойчива.
Причиной этому — существование второй функции воинов. Когда
обыватели принимают решение не решать, воины, готовые решать
всегда и по любому поводу, принимают решение не себя. Не хотите
решать — хорошо, мы будем решать за вас. Так мыслит и поступает
воин, выбирая славу и ßioc яоАткос, политическую жизнь.
Логос и космос созерцательной жизни
Первая функция, философы имеют иной горизонт: ßioc 9ео>рг|Т1кос,
созерцательную жизнь. С экзистенциальной точки зрения это выбор
666
А. Г. Дугин
аутентичного режима экзистирования Dasein'a. Здесь решение
принято, но в противоположном от третьей функции смысле — принято
решение экзистировать аутентично. Тем самым возникает еще одна,
на сей раз философская, этика, созерцательный этос. Горизонтом
философского этоса является ни дом и ни полис (политика), но мир
(коацос). Это понятие у Хайдеггера составляет важнейший экзистен-
циал — in-der-Welt-sein, конститутивный для Dasein'a как
такового. Мир (Welt, коацос) есть то, что возникает лишь тогда, когда
человек становится полностью обладающим Логосом, пробужденным,
реализовавшим в себе сущность человеческого. Позднее Хайдеггер
опишет это как бросок Dasein'a к его основанию (смерти), с
параллельным сдвигом сущего к той истине, которую сущее в себе
скрывает, то есть к основанию сущего, к бытию. Собственно, мир есть
только для того, кто есть сам по себе, кто является собственником своего
присутствия. Поэтому обыватель не знает мира, он имеет дело с его
симулякром. Ойкос, oikoç, дом и совокупность домов, дим, 5%ос есть
отчужденный макет мира.
Полис, яоАлс, где развертывается жизнь воина, аристократа,
есть горизонт, где мир решается — быть ему или не быть: он может
уйти в зону хозяйства (Vorhanden-sein), где все сущее превратится
в функциональные вещи, предметы. Но может взойти к миру.
Политика есть возможность сущего вступить в мир, коацос, то есть
возвыситься, взлететь к зоне созерцания.
Философ не знает ни хозяйства, ни политики, он знает только
самого себя и мир, который открывается как совокупность истины
сущего, где само сущее гаснет. Поэтому философ имеет свой
особый теХ,ос, который описывается формулой xékoq 61' тУсо, то есть его
цель, его совершенство, его энтелехия — это он сам, его
собственный Selbst. Обыватель ищет наслаждений и его суть наслаждение.
Аристократ, воин ищет славы, так как слава его суть (герои Гомера
мыслили славу, KÀéoç, как особое живое существо, способное
пребывать и после смерти храброго воина). Философ же ищет самого
себя (é5iÇr|aànr|v ецесоитоу Гераклита). Это и есть базовая структура
философской этики. Но поиск самого себя есть конституирование
мира — Weltbildung. Этот поиск не просто неиндивидуален, он идет
против индивидуации. Он ведет к чистому явлению Логоса,
составляющего суть и судьбу человека как логического животного.
Логос же есть единство всего. В лучах Логоса сущее поднимается в мир
(Welteingang). Мир состоит не из сущего, а из истины (àkr\Qem)
сущего. (Ш|0екх, истину Хайдеггер трактует как «открытие сокрытого».
Сущее есть феномен, <paiv£o9ai, явление. Сущее, являясь,
скрывает свою истину. Удивляясь сущему, философ движется к тому, что
скрыто в явлении, что в нем не явлено. И отталкиваясь от этой не-
Удивление Аристотелем
667
явленности, философ движется к истине (сЩбекх). Но это не нечто
отдельное от его поиска самого себя, а тот же самый поиск. Так как
к себе философ относится также как к сущему, то есть воспринимает
свое наличие как явление, феномен. И точно так же, как и в других
феноменах, в нем самом скрыта его истина. Он идет к истине себя,
то есть к себе самому, и по мере того, как он это делает в отношении
себя, сущее вокруг него повторяет завороженно его путь, увлекаясь
могуществом его удивления. И тогда сущее открывает то, что
прячется в нем, то есть себя самого. Так философ возводит себя к себе,
а сущее к его истине, то есть снова к нему самому. Это и есть
созерцательная жизнь, ßioc 0ECupT]TiKÖc. Ее цель только она сама.
Эта созерцательная жизнь есть горизонт смерти. Философ
существует внутри смерти, исследуя ее структурную географию. <...>
Пространство решения
Для чистого политика (воина, вторая функция) философ и
обыватель структурно необходимы, так как воплощают в себе полюса
решения (лроа(реоц), составляющего сущность Логоса и,
соответственно, Daasein'a. Обыватель принял решение не решать и
конституировал das Man. Философ принял решение экзистировать
аутентично и сотворил из сущего мир, «истинное всё». Воин находится
между этими двумя возможностями, и это нахождение между ними
составляет сущность политики. Воин колеблется между миром и
вещами, между броском в Selbst и падением в das Man, между смертью
и наслаждением (в пределе телесным гедонистским бессмертием).
Это пространство решения составляет главное отличие Логоса
от того, что Аристотель называет qrôoiç. Фиоц есть могучее наличие
сущего, вырастающего из своего основания. Это движение как
главное свойство явления. Фйоц открывается через могущество
движения и достигает своей кульминации в жизни. Душа как шгокец1еуоу
жизни есть, в свою очередь, ее полюс и ее кульминация. А
кульминацией души, в свою очередь, является Логос. Здесь срйац как
движение и рост достигает своего предела (яерас), то есть самой себя.
Все движение, по Аристотелю, есть движение к своему теХюс. Пока
движение есть — xekoq не достигнут и не достижим. Но он может
быть и должен быть достигнут, а значит, в определенном смысле он
уже достигнут, так как всё сущее несет в самом себе свой те^ос
(энтелехия). Всё это кульминирует в Логосе, который есть конец сртЗац
и, соответственно, ее те^ос. ФтЗац не знает решения, природа не
решает расти или не расти, двигаться или не двигаться. Она не может
не двигаться и не расти, так как она есть движение и рост. Поэтому
решение никогда не может быть физическим, оно всегда логическое,
668
А. Г. Дугин
принимается на уровне Логоса. Только Логос принимает решение.
Более того, Логос есть то, что принимает решение.
И именно в этом состоит суть политики — в принятии решения,
cpuaiç являет то, что являет, по могуществу явления. Логос
выносит суждение, решение о судьбе являющегося, явленного или того,
чему предстоит явиться. Логос сущностно политичен. И он же
имеет прямое отношение ко второй функции: к воинам и войне.
Решение вносит в явленное проблематизацию наличия. Политический
этос говорит, быть или не быть тому или иному. Следовательно, он
выходит за рамки cpûaiç, где явление осциллирует совсем в другой
полярности — становление (yéveaiç) и гибель (фбора). Но (puaiç не
знает вопроса: быть или не быть? Это вопрос Логоса. И именно в этом
смысле ßioc яоХткос представляет собой главный вопрос Dasein'a.
Ouata и три определения
<...> Разбирая важнейший для Аристотеля термин ouata, Хайдег-
гер начинает с того, что в обиходной речи современников
Аристотеля термин ouata означал именно собственность, принадлежность
вещи какому-то конкретному владельцу. Chicria — это пассивное
причастие от глагола «быть», eîvai, которое подразумевает семантически
в многих индоевропейских языках собирательность, обобщенность
и даже множественность (таково, в частности, церковнославянское
слово «всяческая», означающее «все вместе» или «всё вместе», «все
вообще»). Интересно, что русское слово «истина» происходит от
старославянского «исто», означавшее то же, что и греческое ouata в
обиходном значении, то есть собственность, состояние, капитал. Ouata
и «исто» — как слова означали «подручную вещь» (das Vorhandene).
У Аристотеля, удивившегося этой Benjn-ovaia, в зоне его
пробужденного Логоса ouata была выхвачена из этого обывательского
контекста и возведена в термин, в определение, в концепт. Она была
помещена в новый семантический и онтологический горизонт. И стала
ответом на фундаментальный вопрос аристотелевской онтологии —
то it f\v elvai. Хайдеггер интерпретирует эту формулу как совмещение
в сингулярной вещи рода и вида, где f\v есть род (yévoç), а elvai — вид,
eîSoç. Эта непростая мысль резонирует с формулой öv fj öv, сущее как
сущее, что отсылает нас к определению rcapovata.
Ouata Аристотеля означает то, что мы обычно переводим как
«сущность» (немецкое Wesen, латинское essentia). Можно сказать,
что это selbst вещи, ее бытие, Sein и вместе с тем ее истина, ее akr\Qsm.
Хайдеггер рассматривает oüata как
1) сущее,
Удивление Аристотелем
669
2) как бытие (сущего) (Wie des Seins, как бытия, die Seinsheit —
бытийность*) и
3) как Dasein. Но здесь надо учесть, что в работе, на которой мы
основываемся, Хайдеггер еще не закрепляет за термином Dasein
строго значения Menschsein, применяя его как к человеческому
сущему, так и к другим типам сущего, подчеркивая в приложении da
к Sein статус яарогкшх, конкретной явленности. <...>
Энергия и сила
Введя oî)oia, теперь будет проще выяснять остальные
основополагающие термины Аристотеля.
Мы уже сталкивались с понятием времени, введенным Хайдег-
гером через анализ трех типов речей. Поясняя это, мы увидели
глубинную роль энтелехии и онтологическую структуру движения.
Сущее находится в движении, так как оно удалено от своей сущности
(oixria) и стремится к ней. Но эта сущность является не просто
возможной (Stivauxç), но и действительной (èvépyeia). В понятии
«энергия», еще одном ключевом термине (орюцос) Аристотеля, лежит
ключ к его философии и онтологии. Чтобы понять структуру
движения и времени, надо точнее изложить соотношение возможного
й действительного, так как в латинском переводе potentia и actus
важнейшие семантические измерения мысли Аристотеля были или
утрачены, или искажены.
Во-первых, греческий термин èvépyeia означает то, что в действии,
а не само действие, дело — ëpyov. 'Evépyeia означает состояние
действенного наличия или присутствия. При этом важно помнить, что
для Аристотеля есть только одно совокупно сущее, всё, в отличие
от Платона, отделяющего идеи и иконы. Поэтому Аристотелю, как
праотцу феноменологов и самого Хайдеггера, было важно построить
такую онтологию, которая исключала бы дуализм. Следовательно,
его различение (ôiaipeaiç) должно было иметь характер наклонения
в самом сущем. Таков его eîSoç, как мы уже видели, включающий
в себя форму и материю, которые можно считать его наклонениями
(кМоец). Таково само сущее (Daseiende), являющее себя (rcapovoia) как
наклонение, скрывающее (ànovcia) сущность (ovaia). Поэтому
энергия (то, что в действии, в действительности) и динамика (сила,
могущество, возможность) также должны мыслиться как наклонения
сущего. Движение в его онтологии есть движение вещи к ее сущности,
к ее истине, к ее те^ос. На первый взгляд, если следовать за внешней
стороной явлений, можно посчитать, что хекос, (как цель) вещи возмо-
* Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie. Op. cit. S. 25.
670
А. Г. Дугин
жен (то есть может быть), а тот момент, который есть сейчас на
определенной дистанции от цели, действителен. Нечто в этом духе мы
видим у схоластов, а затем и в философии и физике Нового времени.
Но читать Аристотеля так — значит, впадать в анахронизм и
игнорировать онтологическую сущность его философии, укорененной
в эллинском контексте. Oùoia сущего, по Аристотелю, напротив,
действительна, она есть его энергия, то есть не действие, а то, что
делает действие действием, дело делом. Энергия есть причина движения
к самой себе, и она действенна и действительна. А вот само движение
в чистом виде лишь возможно, поскольку воздействие внутренней
причины двигает сущее к цели (энтелехия), но само движение сущего
может проходить по-разному; начинаясь, оно входит во
взаимоотношения с другими сущими и их движениями, а следовательно, в этом
динамическом поле сил, что-то становится действительным, а что-то
остается лишь возможным. Между действительностью xekoq и
действительностью движения к теАос, причиненного самим xéXoq, лежит
зона динамического, возможного, силового. <...>
AôÇa и ее антитезы
В эллинской философии, начиная с Парменида и его
фундаментального различения между ôôÇa и àÀr|0eia, эта пара играет большую
роль в конструировании всей системы знания (ея1атт|цг|). Это же
различие мы встречаем и у Аристотеля. Но он в «Никомаховой этике»
рассматривает SôÇa в более широком контексте.
Перевести термин SôÇa достаточно непросто. Он означает мнение,
но также видимость и славу. Хайдеггер с опорой на Аристотеля
пытается проникнуть в семантическое ядро термина. Здесь
чрезвычайно важны сопоставления и противопоставления самого Аристотеля.
Так, Аристотель подчеркивает, что ôoÇa отлична от
1. нахождения в поиске (ßovteüeaöai, Çf|xr|oiç) — значит, 86Ça
имеет характер непосредственного, явленного, предъявленного, что
присутствует уже здесь и сечас и не требует предварительного
поиска, усилия, пути; ЛоСа эвидентна;
2. твердого научного знания (ея1атгцхг|) — 56Ça не тождественна
последнему ядру сущего, его те^ос, точки вечности, неба, внутри
сущего, поэтому ôoÇa при всей своей стабильности переменчива, она
следует за движением сущего;
3. представления, явленного лишь сознанию человека
(cpavraoïa) — ôôÇa более устойчива, чем образы сознания, она
охватывает глубокие пласты мышления, общие для разных людей,
следовательно, ôôÇa коллективна и социальна, а если говорить о Dasein'e,
то относится к уровню более глубокому, нежели индивидуальность;
Удивление Аристотелем
671
4. и, наконец, самое важное, по Хайдеггеру, решения
(яротреац) — это значит, что ôôÇa не сопряжена с высшим сечением Логоса,
которое сопряжено с выбором режима экзистенции и в одном из
случаев — с выбором аутентичного экзистирования и, соответственно,
творения мира.
Это различие между ôôÇa и решением (яротреац) у Аристотеля
дано в контексте дистинкций (ôwupopà) другого ряда, где он говорит
о сущности самого решения. Последовательно он отличает решение
(яротреац) от
1. чувственного влечения (é7ti(h)|iia);
2. яростного порыва ((h)|iôç);
3. волевого импульса (ßoi3Ar|aic);
4. и собственно ôôÇa.
Эта последовательность не случайна, она описывает порядок (таСц)
структуры души (\|Д)хп). Перечисление повторяет слои души у
Платона, данные в его знаменитой параболе колесницы, где выделяются два
коня (темный и светлый) и колесничий. Эта же картина точно
соответствует трехфункциональной структуре индоевропейского общества.
Темный конь соответствует телесной страсти, влечению (émoujiia)
и доминирует в третьей функции (обыватели), будучи основой этоса
этого сословия. Стихия елг&оцих — труд, товары, еда и удовольствие.
Светлый конь — яростный порыв ((h)|iôç), более благородное, но тем
не менее достаточно импульсивное и спонтанное начало души,
соответствующее второй функции, аристократам и воинам. Стихия
Оицос — война, ссора, а в пределе слава (тц1Т|) как основа воинского
этоса. Соответственно, воля (ротЗХцоц) и SôÇa относятся к колесничему
и составляют два структурных момента разумной души. Воля — это
удила возничего, а 5oÇa — собственно умственная карта,
проецируемая через волю на коней. В сравнении с платоновской схемой мы
подвергли различению (бкхгреоц) самого возничего, разумное начало,
выявив в нем две инстанции, волю и ôoÇa. И вот теперь нам становится
ясно, почему Хайдеггер был поражен различием между SoÇa и
решением (яротреац) у Аристотеля. Решение оказалось выше разума. Оно
в такой структуре рассматривается не технически, как ситуативная
коагуляция воли, но чем-то, что предшествует разумной душе, если
она исчерпывается мнением, ôôÇa. Решение (яротреац) оказывается
чем-то более корневым и радикальным, нежели колесничий.
Мыслящее начало не владеет решением, но зависит от него. Решение
предшествует душе — по крайней мере той, с какой мы имеем дело на уровне
ôôÇa и всех нижестоящих ее сечений — вплоть до телесных влечений.
Если мы поймем природу решения (яротреац), мы поймем и
природу 5oÇa как чего-то, что не просто отлично от решения, но и
подчинено ему.
672
А. Г. Дугин
Итак, решение (rcpoaipemç) принимает Dasein на уровне того,
быть ли ему просто собой или самим собой (Selbst). Это решение
предшествует разуму, так как определяет то, в каком режиме разум
будет экзистировать. Решение не есть решение разума, но решение
о разуме. Решая, Dasein конституирует себя в своей базовой основе.
Решение принимает только Логос, и от этого решения зависит каста
души. Если человек обладает Логосом, то Dasein экзистирует
аутентично, и человек есть философ. Тогда он есть тот, кто думает,
мыслит, а не только думает, что думает. Если Логос обладает человеком,
то человек не философ, и ему думается. То есть некто думает за него
(мы знаем, что этот некто — das Man). Решение конституирует
колесничего в его основе — 56Ça, a также в починенной этой SôÇct воле.
Если решение принято в пользу философии, 5oÇa оказывается
подчиненной чему-то высшему. Этим высшим является истина (акциеха)
и основанная на ней наука (етхт\\щ). Это приоритетные сферы
Логоса, становящиеся действенными только в случае философа, то есть
живого существа, обладающего Логосом. Поэтому SôÇa может быть
также представлена в двух видах: как ортодоксия (ôpGoSoÇia) и как
гетеродоксия (етеробоССа). Ортодоксия (что в церковнославянском
было переведено как «православие») как термин возможен только
в том случае, если SôÇa сама по себе может быть «правой»,
«правильной» (ôpOo-) или нет. Сама по себе SôÇa не есть ни истина, ни знание,
но мнение. Мнение конститутивно для человека, но каким это
мнение будет, как оно будет организовано, зависит от решения. Если
решение принято в пользу аутентичного экзистирования, мы
имеем дело с ортодоксией, то есть мнением (SôÇa), указывающим на
истину. Само по себе такое мнение не истинно, оно лишь
указательный знак. Но знак в правильную сторону. Двигаясь по этой карте
5ôÇa, человек приведет колесницу к истине. При этом ôôÇa может
быть и не правильное (крайний случай — гетеродоксия), «отличное
(от правого, правильного) мнение». Но гетеродоксия — это слишком
жесткое определение, чуждое широкому горизонту эллинской
мысли. Альтернативой ортодоксии является просто сама 56Ça, то есть
мнение. Оно не дожно быть отличным от правильного для того,
чтобы быть неправильным; оно может просто не знать или не
заботиться о том, что такое «правильное». Поэтому можно сказать, что
выбор (rcpoaipeoiç) есть выбор изначальной структуры 56Ça —
между ôpOoSoÇia и просто 66Ça, только SôÇa. Философ есть тот, кто стоит
над 56Ça, кто является господином 5ôÇa. Он не отрицает ôôÇa, он
направляет ее на правильный путь, но сам свободен (в силу решения)
и от этого, пусть правильного, пути.
Сфера ôôÇa есть зона мышления в целом, без определения его
ориентации. В принципе это «жизненный мир» (Lebenswelt — Гус-
Удивление Аристотелем
673
серля), развертывание его ноэсиса, интенциональных актов. Это
область феноменологии сознания, ментального экзистирования.
В социологии термин ôôÇa можно соотнести с «коллективным
сознанием» Дюркгейма, благодаря которому общество конструирует
окружающий мир со всем его содержанием. Хайдеггер пишет по этому
поводу: всё (rcàvia) есть область SôÇa <...>. ôôÇa простирается на весь
мир (5ôÇa streckt sich auf die ganze Welt)*. В психологии этому
соответствуют ментальные структуры. Но и социология и психология
не ставят перед собой проблемы истины, а феноменология с этим
вопросом затрудняется. Именно поэтому Хайдеггер настаивает на
различии между ôôÇa и решением (ярошреоц) — это позволяет поставить
вопрос об онтологии истины. И в этом Аристотель оказался не
просто бесценным помощником, но и зачинателем той философии и
науки, на ней основанной, извращением, непониманием и забвением
которой европейцы занимались две с лишним тысячи лет. <...>
Как убедительна яштц
Хайдеггер тщательно рассматривает онтологическое содержание
другого важного аристотелевского термина — тощ. Обычно его
переводят как «вера», но в эллинском контексте он нагружен
множеством иных значений. Его этимология от глагола яеЮсо, убеждать,
нимфа-океанида по имени Пейто была паредрой бога Гермеса. Бели
мы соотнесем значение лбЮсо с 56Ça, то получим определение:
способность структурировать и рестуктурировать область 5ôÇa, но так
как зона влияния 5ôÇa, по Хайдеггеру, распространяется на весь
мир, rceiöco есть способность реконструировать мир (не в техническом
смысле Welt как коацос, но в значении «всё», «всё сущее», rcàvxa).
Убедить — значит организовать область 56Ça тем или иным образом.
Заметим, что ôoÇa не индивидуальная фантазия и не предмет поиска,
она дана сразу и наглядно, она есть коллективная очевидность, то,
что называется в современном американском обществе conventional
wisdom. Поэтому организация и реорганизация SôÇa сопряжена с
изменениями в структурах очевидного, само собой разумеющегося.
Меняя что-то в 6ôÇa, мы меняем параметры и пропорции того, что
все вокруг нас и мы в том числе воспринимаем как само собой
разумеющееся (taken for granted), «явное», не требующее доказательств.
ДоСа есть то, что мы, пребывая на нефилософском уровне,
воспринимаем как реальность, действительность. Поэтому действие
убеждения, яеШса, есть нечто основополагающее, затрагивающее глубины
повседневности (коллективного сознания). Результатом убеждения
* Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie. Op. cit. S. 150.
674
А. Г. Дугин
лбЮсо является 7ugtiç. В этом смысле этот термин может быть взят
в значении «вера». Вера есть коагуляция убеждения. Когда речь
ритора убедительна (яеШсо), убеждает, она порождает веру (nionq) в то,
что все обстоит именно так, как он сказал. И соответственно, эта
вера входит в структуру 5ôÇa, либо находя в ней место, либо меняя
ее, либо вообще перестраивая ее в соответствии со своей внутренней
структурой в том случае, если между существующей 8ôÇa и новой
верой (тещ) наличествуют существенные противоречия. 56Ça есть
продукт 7uoTiç, a точнее, многочисленных rcioTeiç, накладывающихся
друг на друга. Поэтому, исходя из анализа 5ôÇa, мы должны
идентифицировать источник убеждения в той же области Логоса, откуда
берет начало решение. Чтобы трансформировать ôoÇa, в убеждении
как в источнике веры (я(атц) должно быть нечто божественное
(океаническое). А сама вера как таковая, как наглядное явление
изменения структуры ôôÇa есть след того, что является метадоксальным
или парадоксальным, находится выше ôô£a, но вступая в ее область.
Если источник убеждения с необходимостью скрыт, то продукт
убеждения явлен — особенно на определенном периоде времени,
пока вера не стала чем-то настолько очевидным и само собой
разумеющимся, что от ôôÇa более неотличима.
Логос вторгается через убеждение в трех наклонениях, снова
соответствующих трехфункциональной индоевропейской системе:
1. в области практической жизни (Çcof| ярактисг|);
2. в области достоинств, добродетелей, связанных с честью,
славой — àpexai;
3. в философской области, где он представляет собой речь
о сущностях (oùaia) как определения, вынесенные из области
сущего в область Логоса (т. е. в мир, как Welt, коацос) — A,ôyoç oùaiaç (bç
ÔplG|iÔÇ.
На каждом уровне убеждение меняет структуру всего: всего
комплекса практической жизни, структуру достоинств в мире чести
и структуру философского (научного) знания. В соответствии с
тремя «мирами» меняются либо вещи и телесные предметы
(практическая жизнь), то есть то, что обыватель сегодня называет
«реальностью», либо ценности и нравы, либо философия. Поэтому область
убеждения есть область истории Dasein'a. Его экзистирование
в истории сводится к повествованию об убеждении. Она
развертывается от веры к вере, то есть представляет собой игру rciaxiç,
составляющую ткань истории. При этом очевидно, что речи о сущности
важнее и принципиальнее речей о доблестях, а речи о доблести —
основательнее речей о практической жизни. Убеждение и его
продукт, вера, таким образом, иерархизируются в трех типах
проявления Логоса: высшей формой является философское убеждение (речь
Удивление Аристотелем
675
о сущностях), ей подчинено аристократическое убеждение о морали,
и, наконец, убеждение и наставления в практической жизни
следуют за первыми двумя, черпая из них те положения SoÇct, которые
берутся, в свою очередь, как само собой разумеющиеся, но которые
при этом суть не что иное, как якттец более высокого уровня.
Лбуос и ôôÇa
Хайдеггер рассматривает структуру убеждения. С его точки
зрения, это и есть главный предмет риторики. Но когда мы
рассмотрели, что есть 56Ça, сама риторика приобретает особый онтологический
смысл. ÀôÇa есть сфера онтического, данного нам непосредственно.
Мы не можем воспринимать окружающее сущее вне 86Ça. AôÇa,
определяя как есть то, что есть, подспудно определяет и что есть (а чего
нет). Упорядочивание сущего всегда что-то акцентирует, что-то
делает второстепенным, что-то выносит на периферию, а что-то упускает
из виду. Периферийное и даже упущенное из виду остаются сущим,
но его далекое место и малое значение в порядке 86Ça настолько
умаляет его как сущее, что оно представляется почти не сущим. Чтобы
распознать и обозначить его как сущее, необходимо перестроить
SôÇa. Поскольку риторика есть зона убеждения, которое, в свою
очередь, порождает веру, а та, со своей стороны, меняет структуру SôÇa,
то риторика приобретает онтологический характер, сопряженный
с порядком сущего. От риторических структур зависит в конечном
счете, что есть, а чего нет, ведь человек не может воспринимать
сущее без упорядочивания, в противном случае оно слилось бы в
неопределенный и бессмысленный ком. А упорядочивание сущего
есть поле ôôÇa. Риторика как искусство убеждения перестраивает это
поле, значит, оно затрагивает сущее. Это очевидно на всех трех
уровнях — наставления в практической жизни напрямую затрагивают
окружающий человека мир и отношения с ним, речи о доблести
меняют более глубокие установки в ценностных ориентирах, а
философия вообще перестраивает, утверждает или ниспровергает высшие
структуры сущего, то есть сущности (огку(а). В этом смысле и
риторические приемы приобретают онтологическое значение.
Аристотель выделяет в риторике две зоны — зону
говорящего и зону слушающего. Каждая зона представляет собой полюса
убеждения, то есть тсштец.
Даймон убеждения (т|Оос)
Шотц говорящего есть f|0oç. Мы говорили об этосе трех функций
индоевропейского общества в структуре этики. В риторике термин
676
А. Г. Дугин
т|0ос получает иное значение, хотя в отдаленном горизонте
значения сближаются: речь идет о деятельной установке, отражающей
структуру его Dasein'а и ее фундаментальные особенности. Но эта
деятельная установка может рассматриваться в разных контекстах.
Поэтому в данном случае можно говорить о риторическом этосе,
а в контексте «Никомаховой этики» — об этосе просто. Впрочем,
фраза Гераклита (фрагмент 119) о том, что fjGoç àvGpdbrcco 5ai|icûv
применима и к риторическому этосу. Этос есть то, от имени чего человек
произносит речь, структура этой инстанции. Но, по Гераклиту, этос
определяется в человеке даймоном. Значит, человек, произносящий
речь, говорит от имени даймона. От того, как человек относится
к даймону, принадлежит ли даймон ему или он даймону, речь
диверсифицируется. В речи философа говорит сам философ, заставляя
говорить своего даймона, давая Логосу слово и модерируя его. Речь
обывателя на рыночной площади убеждает окружающих от имени
даймона, выступающего как das Man, conventional wisdom. Во всех
случаях именно даймон ответственен за убедительность речи, за ее
внушение. Даймон есть фасцинация речи (яеШсо), ее действенное
онтологическое могущество. Внушительность речи как цель риторики
состоит не просто в искусстве достижения поставленных говорящим
целей в их воздействии на аудиторию, но в выявлении,
манифестации и при определенных обстоятельствах укрощении даймона,
являющего себя вместе с речью, являющего себя как речь. В структуре
выявления и укрощения даймона состоит яготц говорящего, как его
этос(т|0ос). <...>
Аристотель как задание
Мы рассмотрели лишь отдельные стороны прочтения Хайдегге-
ром Аристотеля в некоторых фундаментальных понятиях. Хайдег-
гер в этой же самой рассматриваемой работе, а также в серии других
переосмыслил Аристотеля гораздо шире, глубже и масштабнее, хотя
и не придал своей огромной философской работе законченного
систематизированного вида. Собственно, книгой самодостаточной,
системной и предельно ясной является только одна его работа — «Sein
und Zeit», а все остальное нуждается в тщательной дешифровке.
По сути, Хайдеггер философски оживил все три структурных
момента европейской философии в трех циклах текстов:
1) цикл, посвященный досократикам (особенно Анаксиман-
дру, Пармениду и Гераклиту) и Платону и Аристотелю — здесь
Аристотель является вершиной всей эллинской философии
Начала, и, будучи вершиной, он в определенном смысле есть ее теХос,
конец — отсюда приоритет именно Аристотеля, все предшествующее
Удивление Аристотелем
677
в эллинской философии есть еще не Аристотель, а все последующее
уже не Аристотель;
2) цикл, посвященный Средневековью и схоластике —
блаженному Августину, Фоме Аквинскому, Дунсу Скоту и т. д., — этот
цикл самый предварительный и неполный;
3) цикл, посвященный философии Нового времени —
Лейбницу, Канту, Шеллингу, Гегелю, феноменологии и Ницше, — это
философия Конца, где Декарт и Лейбниц — начало Конца, а Ницше —
просто Конец.
Эти три цикла, распределенные по разным книгам, курсам лекций
и, соответственно, томам Полного собрания сочинений, нуждаются
в доскональном осмыслении и определенной философской
систематизации. Без четкого выяснения структуры трех моментов в их
наиболее показательных мыслителях философия истории Хайдеггера
останется отчасти имплицитной. А это значит, что и озарение «Sein
und Zeit», и тематизация Seynsgeschichtliehe, и собственно
приглашение к созданию философии Другого Начала повиснут в воздухе
и не смогут полностью раскрыть своего потрясающего основы
содержания. При этом Аристотель здесь играет действительно ключевую
роль, поскольку, если теоретически можно отмахнуться от Платона
(как от «трансценденталиста»), от схоластиков («слишком
конфессионально») и от немецкой классической философии («слишком
вычурно»), от Аристотеля отмахнуться невозможно, ведь именно
на его теориях строится вообще вся западная философия в своих
основах, вся наука, вся логика и вся грамматика. Аристотель заложил
основы европейской 5ôÇa, которые Запад и все находящееся под его
настойчивым влиянием человечество не может из себя изжить. Без
Аристотеля нет ни логики, ни грамматики, то есть нашего
мышления и нашего языка. Он внутри нашего сознания. На нем строится
вся наша культура. Он и есть краеугольный камень. Практически
все смыслы философских (и не только) понятий так или иначе
восходят именно к нему. Хотя в Возрождение началась систематическая
война с Аристотелем, надо сказать, что она была проиграна.
Аристотеля нельзя сместить ни Платоном, ни досократиками. Атомист-
ский удар и резкий прорыв демокритовского мышления, конечно,
поколебал аристотелизм и создал предпосылки для наиболее
отвратительных сторон философии, науки и культуры Нового времени,
низвергнул традиционное «аристотелевское» трехфункциональное
общество в пользу торговцев, передал бразды правления в руки
носителей обыденного сознания, рабам das Man и структур
повседневности, но изжить логику, иерархию языка и базовые структуры
европейского мышления до сих пор не удалось. И тем ценнее тот
героический жест, которым Хайдеггер возвращает Аристотеля в са-
678
А. Г. Дугин
мый центр философского внимания. Без нового и внимательного
продумывания его философии мы не только не сможем начать
Другое Начало, но и не поймем, что же, собственно, кончилось. Поэтому
как Хайдеггер — это задание, так и восстановление Аристотеля в его
изначальном достоинстве есть фундаментальная, если не главная,
часть этого задания.
5
€4^
О. M. МУХУТДИНОВ
Понятия KOivGivia и Miteinandersein y Аристотеля
и Хайдеггера
In Heideggers Vorlesungen ruckten die Sachen
einem derart auf den Leib, dafi wir nicht mehr wufiten:
spricht er in eigener Sache oder in der Sache des
Aristoteles?
Содержание лекции Хайдеггера захватывало
настолько, что мы более не знали: идет ли речь о том,
что является сутью дела для Хайдеггера или
Аристотеля*.
Представление, согласно которому философия есть постигающее
в понятиях мышление, облекается зачастую в форму утверждения
о том, что философия есть дело отвлеченного мышления. Так
появляется идея двоякой логики — логики идей и логики вещей; первая
имеет дело с миром неизменных сущностей, вторая рассматривает
основания изменяющейся действительности. Несмотря на внешнее
различие области применения основных понятий возникающих
таким образом метафизических построений, эти понятия являются
всегда определениями времени — первоначального или
производного. Совокупность таких понятий обнаруживает и раскрывает
основные феномены подлежащей исследованию области
существующего. В таком случае философия, если она стремится иметь дело
с «самими вещами», является вовлеченным в суть дела
мышлением. Потому философия является не абстрактным, но конкретным
познанием действительности. Это познание предполагает особый
тип ёСц, — особый склад человеческой души, обладающей знанием,
который включает у Аристотеля двоякое определение: этот склад
основывается на é7U0Tf||iîi тог) ярауцатос, — на знании о том, как обстоит
* Gadamer H.-G. Philosophische Lehrjahre. Frankfurt a. M., 1995. S. 216.
680
О. М. Мухутдинов
дело с вещами в действительности, — и на rcmÔEia, как определенном
способе воспитания навыков научной работы. Отсутствие этих
условий приводит к тому, что сами явления упускаются из виду и
рассуждение движется rcapà xà (pmvôueva.
В этой статье речь пойдет о двух понятиях, относящихся к одному
и тому же феномену, — об Аристотелевом понятии Koivœvia и об
экзистенциальном понятии Miteinandersein Хайдеггера. Феномен,
который описывается этими понятиями, — совместное
существование, или бытие друг с другом. Целью статьи является раскрытие
принципиальной взаимосвязи между пониманием существования
человека в полисе у Аристотеля и определением сосуществования
в фундаментальной онтологии Хайдеггера. Постановка этой цели
обусловлена не столько причинами историко-философского
интереса, сколько современным состоянием дел: с тех пор как в центре
внимания философии оказалось историческое существование человека
в действительности, вопрос о возможности отношения к другому
человеку вышел постепенно на первый план. В противоположность
Хайдеггеру Левинас заявил, что совместное существование не
может быть описано понятием Miteinandersein, но что это
существование скорее следует понимать из ситуации le face-à-face avec autrui.
Критика Левинаса заключается в том, что Dasein — центральное
понятие экзистенциальной аналитики — есть представление об
одиноком существовании. Позиция Левинаса определяется в целом
верной тенденцией, но все же оказывается недостаточной, если
принять во внимание, что сам Левинас исходит из идеи субъекта,
поставленной в фундаментальной онтологии под сомнение.
Решающим становится отнюдь не формальное указание факта отсутствия
понятия субъекта в греческой философии, но то обстоятельство, что
речь идет не о том, «как характеризуется способ восприятия мира,
а о бытии в мире»*. Существование с другими является
онтологической возможностью Dasein. Тогда можно усилить тезис Хайдеггера
о том, что онтология возможна только как феноменология, и
сказать, что феноменология также возможна лишь как онтология.
Понятие Miteinandersein возникает у Хайдеггера в ходе интерпретации
основных понятий философии Аристотеля и является результатом
онтологического истолкования аристотелевского термина koivcoviol
Koivcovia означает: сообщество, соотношение. Это понятие
связано с аристотелевским определением человека как Çœov no^micöv.
Примечательно, что Аристотель подчеркивает, что не только
человек, но и другие живые существа являются в определенном смысле
* Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie
(Sommersemester 1924) // Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 18. Hrsg. von Mark
Michalski. Frankfurt a. M., 2002. S. 56.
Понятия Koivcovia и Miteinandersein y Аристотеля и Хайдеггера 681
Сера лоХтка: «человек есть существо общественное в большей
степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные»*. Выражение
Çcpov rcotaxiKÔv нуждается поэтому в уточнении для того, чтобы
отграничить собственное бытие человека от бытия живого существа
вообще. Аристотель определяет бытие человека как Çcof) лракпкт) щ той
Хдэуог) ëxovioç, т. е. как деятельную жизнь обладающего речью
сущего**. Koivcovia в отношении к человеку определяет его как Çcoov koyov
ë^ov. Способность к речи характеризует человека как общественное
живое существо, поХь; является принадлежащим природе человека
определением бытия, что позволяет Хайдеггеру ввести выражение
♦das Sein-in-der-rcôtaç», где noXiq фактически означает Mitwelt, мир
совместного существования с другими людьми. «В этом
определении заключается собственный, фундаментальный способ бытия
человека, который характеризуется как "Miteinandersein", Koivcovia.
Это сущее, которое находится в общении с миром, есть бытие-с-дру-
гими»***. Поскольку бытие человека есть бытие, обладающее речью,
Miteinandersein есть Miteinandersprechen. Речь является
действительным определением человеческого существования.
Именно речь является тем необходимым и существенным
условием, которое позволяет отграничить способ существования
человека в мире от бытия других высокоорганизованных живых существ.
Животное способно «подавать голос» (фсо\т|); эта функция служит
для выражения чувства удовольствия и неудовольствия, которое
может быть передано другим. Посредством этой функции животное
привлекает внимание к приятному или предупреждает о том, что
является неприятным и может заключать в себе угрозу для жизни.
Человек также обладает голосом, однако для Аристотеля важным
оказывается то, что только «речь способна выражать и то, что
полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что
несправедливо»****. В отличие от остальных живых существ, только человек
обладает чувством в отношении доброго и злого, справедливого и
несправедливого и т. д. Первичная функция речи есть выявление; речь
обнаруживает полезное (стицсреро^ и приносящее вред, т. е. пагубное
(ßXaßepov). И <pcovf|, и Xàyoq являются способами отношения к миру,
модусами обнаружения действительности для жизни, однако жи-
* Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М., 1984.
С. 379.
** Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.,
1984. С.64.
*** Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie
(Sommersemester 1924). // Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 18. Hrsg. von Mark
Michalski. Frankfurt a. M., 2002. S. 46.
**** Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М., 1984.
С. 379.
682
О. М. Мухутдинов
вотное не воспринимает мир в качестве предметного. Лишь
специфически человеческое существование в мире позволяет говорить
о его предметном характере и об отношении к нему как к предмету
деятельности человека. Деятельность как способ бытия человека
в мире есть стремление к достижению блага. Лоуос конституирует
особый тип общности — Koivcovia тог) àyaGoi), сообщество, целью
существования которого является общественное благо, основанное
на способности различения справедливого и несправедливого.
Хайдеггер выделяет три момента, определяющих понятие блага
у Аристотеля: а) xà rcpôç то тёкос, то, что указывает на возможное
осуществление, доведение замысла до завершения; Ь) каш тас лраСец —
обстоятельства, которые следует иметь в виду в процессе
деятельности; с) GKonoq rcpÖKevcai тф CTuußovtaTOvn, — цель, которую принимает
во внимание тот, кто выступает с практически предложением,
советуя, как наилучшим образом достичь желаемого результата. ПраСц
Хайдеггер понимает как Besorgen, эта примечательная
интерпретация показывает, что экзистенциальное определение бытия человека
как заботы уходит корнями в традицию древнегреческой
философии. Бытие человека есть деятельность, но не бесконечная, а
имеющая некий предел: «ПраСц есть Besorgen и означает не что иное, как
доведение чего-либо до завершения (Etwas-zu-Ende-Bringen)»*.
О благе Аристотель высказывается следующим образом: благо
есть «нечто такое, что желательно само по себе, ради чего мы
желаем и другого, к чему стремится все или, по крайней мере, все,
способное ощущать и одаренное разумом, или если бы было одарено
разумом»**. Стремление к благу как таковому и ради чего-либо
иного показывает, что благо понимается как некое завершение: когда
благо присутствует в настоящем, когда то, ради чего
предпринимались усилия, достигается, тогда действующий ей оихкети, находится
в хорошем расположении. ДшОеоц. расположение, является одним
из главных понятий Аристотелевой «Риторики», в
фундаментально-онтологической интерпретации Хайдеггера эта категория
появляется в виде экзистенциального понятия Befindlichkeit.
Если бытие человека характеризуется как совместное
существование в полисе, если человек понимается как общественное живое
существо, то возникает вопрос: благодаря какому виду искусности
достигается благо в этом существовании? Такой искусностью
является политика, политическая общность охватывает все прочие виды
общностей и является наиболее важной из всех. Во избежание не-
* Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie
(Sommersemester 1924) // Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 18. Hrsg. von Mark
Michalski. Frankfurt a. M., 2002. S. 58.
** Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000. С. 113.
Понятия Koivcovia и Miteinandersein y Аристотеля и Хайдеггера 683
доразумений следует заметить, что определение человека в
качестве Çœov rcoXiTiKÖv не связано с современным пониманием термина
«политика», но указывает на первоначальное понимание бытия
человека как общественного существа. Это определение обладает
преимущественно онтологическим статусом, а потому его
социально-философское измерение всегда должно предварительно
опираться на детально разработанную онтологию существования.
Выражение «социальная философия» есть, строго говоря, плеоназм.
Поскольку стремление к общественному благу стоит выше,
нежели стремление к благу единичного человека, политика как
искусность в отношении бытия человека определяется как этика: в
первой книге «Никомаховой этики» Аристотель подчеркивает, что его
учение необходимо рассматривать как поктщ тц оша.
Этот небольшой фрагмент подготавливает почву для
анализа связанного с понятием Koivcovia экзистенциального понятия
Miteinandersein. Дело отнюдь не обстоит таким образом, что в
экзистенциальной аналитике существования осуществляется
интерпретация некогда забытого греческого термина, — речь идет
о радикальной попытке определения самого феномена бытия друг
с другом, в которой принимается во внимание европейская
традиция мыслящего исследования человеческого бытия. Хайдеггер
проявляет с начала 20-х гг. столь сильный интерес к Аристотелю, что
это дает повод говорить о нем как о новом аристотелике*. Начиная
с 1921 г. в течение нескольких лет тема Аристотелевой философии
неизменно присутствует в объявляемых Хайдеггером курсах.
Штудии греческих авторов — ив первую очередь Платона и
Аристотеля — приводят к тому, что Хайдеггер начинает содержательно
понимать феноменологию не как первоначальную науку о жизни, но как
метод онтологического исследования.
Понятие Miteinandersein является основополагающим
определением существования. Оно связано с экзистенциальными
определениями Mitsein (бытие-вместе) и Mit dasein (сосуществование).
Уже в ранних лекциях Хайдеггер выделяет тройственную структуру
существования человека в мире, которая включает в себя мир
самого существующего, мир совместного существования и
окружающий мир. Мир самого существующего не является миром одинокого
субъекта, пытающегося разрушить собственную изоляцию и
построить отношения с другими, — существование с другими дано здесь
равноизначально. Поэтому феномен одиночества (das Alleinsein)
не является основанием для опровержения тезиса о совместном
характере существования человека, поскольку сам представляет собой
ГадамерХ.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. Мн.,
2005. С. 186.
684
О. М. Мухутдинов
лишь его несовершенный модус. Одиночество понимается
фактически как бытие в отсутствие другого, но это «бытие друг без друга»
(das Ohneeinandersein) возможно лишь в качестве специфиикации
бытия друг с другом*.
Бытие в мире есть, таким образом, трансценденция, преодоление
границ единичного существования. Как обнаруживается благодаря
этой трансценденции существование других в рамках
фундаментальной онтологии? Уже описание окружающего мира
демонстрирует постоянное присутствие других в поле зрения, — даже в том
случае, когда другие не находятся рядом. Необходимый для работы
инструмент изготовлен не нами, но кем-то другим, книга, которую
мы читаем, является чьим-то подарком: «Другие — это те, от кого
по большей части себя не различают и среди которых существуют» **.
Отношение к другому человеку отличается от отношения к
окружающим предметам. Предмет есть то, что так или иначе находится
в нашем распоряжении, — вещь не существует, вещь просто есть.
Существование других есть рассудительно-практическое отношение
к действительности. В этом смысле другие всегда существуют вместе
с нами. Существование с другими является сосуществованием.
Но насколько правомерным оказывается последнее
определение? Двое путников, любующихся внезапно открывшимся видом,
могут быть настолько захвачены предметом созерцания, что
способны забыть о присутствии друг друга. Тем не менее их бытие
сохраняет фундаментальный характер Miteinandersein. В этой захваченно-
сти неизменным остается отношение к самому сущему. Явленность
сущего, как оно есть, есть истина. Бытие друг с другом проявляется
в отношении к самому сущему. Поэтому бытие друг с другом есть
способность разделять истину (Sichteilen in Unverborgenheit).
Но у Левинаса, являющегося одним из наиболее
принципиальных критиков Хайдеггера, можно обнаружить следующее
замечание: «Другие у Хайдеггера появляются в экзистенциальной
ситуации Miteinandersein, то есть взаимного бытия друг с другом».
Левинас понимает эту ситуацию как «рядоположенность при общем
термине, вокруг него, то есть точно следуя Хайдеггеру — вокруг
истины» и продолжает: «Но тогда это не непосредственное отношение
лицом к лицу». Отсюда возникает намерение «показать, что
изначальная связь с другим не описывается предлогом mit»***.
* Heidegger M. Einleitung in die Philosophie (Wintersemester 1928/29) //
Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 27. Hrsg. von Otto Saame und Ina Saame-
Speidel. Frankfurt a. M., 1996. S. 118.
k* Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1979. S. 118.
'* Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1998.
С. 24-25.
Понятия Koivcovia и Mitêinandersein y Аристотеля и Хайдеггера 685
Левинас предпринимает попытку заменить онтологию этикой,
однако при этом упускает из виду, что практическое отношение
к действительности предполагает не абстрактное понятие истины,
но совершенно особый способ ее раскрытия, а именно такое
разумение, которое Аристотель в шестой книге «Никомаховой этики»
именует рассудительностью ((ppôvr|oiç). Рассудительность есть
способность принимать решения о том, что касается собственного блага
в отношении подверженной изменениям действительности. Дело
отнюдь не обстоит таким образом, как если бы можно было
произвольно выхватить существование человека в его отношении к другим
людям в качестве фрагмента этой действительности и показать, как
возможно этическое понимание этого отношения. Аналитика
существования человека в мире требует видения феномена в его
целостности. Бытие друг с другом как бытие в мире всегда определяется
как бытие при внутримировом сущем, что означает: само бытие
этого сущего дано так же изначально, как и бытие человека. Поэтому
понятие сосуществования не случайно связывается со способностью
разделять истину. Сущее, поскольку оно есть, поскольку оно
является сущим, раскрывается как истинное. Но так же и бытие
человека, как «бытие подле [сущего] является открывающе-открытым
[бытием]»*.
Если совместное существование обнаруживается благодаря
повседневной деятельности, то это означает, что отношение к другим
людям определяется самим характером этой деятельности, особым
типом «заботы», который Хайдеггер называет Fürsorge.
Существование другого человека всегда связано с тем, чем он занимается.
В повседневности осуществляется борьба за признание ценности
определенного рода деятельности, а по сути — ценности
конкретного существования. Стремление сохранить отличие от других
приводит к необходимости дистанцирования. Но это означает, что
♦существование как повседневное бытие друг с другом подчинено
другим»**. Существует не само единичное существование, этим
существованием владеют другие. Поэтому на вопрос «Кто существует
таким образом, чье существование терминологически определяется
как Dasein?» Хайдеггер отвечает: das Man.
Этот ответ также является следствием феноменологической
интерпретации понятия Koivcovia. Бытие друг с другом означает способ
бытия вообще: не существует одинокого субъекта, поэтому
утверждение «я есмь» оказывается в действительности ложным. Следует
* Heidegger M. Einleitung in die Philosophie (Wintersemester 1928/29). //
Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 27 Hrsg. von Otto Saame und Ina Saame-
Speidel. Frankfurt a. M., 1996. S. 137.
" Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1979. S. 126.
686
О. М. Мухутдинов
говорить: «ich bin man»*. Определению das Man лучше всего
соответствует представление о безличном субъекте в предложениях
«Говорят, что...». Das Man является безличным существованием,
однако речь не идет о безличности в негативном смысле. Сама эта
безличность принадлежит в качестве первоначального феномена
онтологической структуре существования. Безличное существование
не обладает ни подлинностью, ни самостоятельностью, тем не менее
любое экзистенциально-подлинное определение может возникнуть
лишь в качестве модификации самого das Man.
Поэтому ситуация «лицом к лицу» не исключает, но
предполагает совместное бытие. Речь идет не о том, чтобы показать, как в
одиноком субъекте осуществляется переход к другому, — следует
поставить радикальный вопрос: каким должно быть бытие друг с другом,
чтобы стало возможным бытие лицом к лицу?
^55^
* Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie
(Sommersemester 1924) // Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 18. Hrsg. von Mark Michal-
ski. Frankfurt a. M., 2002. S. 64.
M. A. БЕЛОУСОВ
Философское исследование
как критика традиции:
Хайдеггер и деструкция истории онтологии
Начиная с первой книги «Метафизики» Аристотеля,
критическое обращение философского исследования к собственной
традиции становится характерной чертой европейской философии.
Одним из важнейших вопросов, возникающих в этой связи,
является вопрос о том, в какой мере подобное обращение носит просто
иллюстративный характер (например, как критика «заблуждений»
философов прошлого) и в какой оно принадлежит к имманентному
содержанию самого исследования.
Гегель первым поставил этот вопрос, предприняв попытку
раскрыть имманентную историчность философского мышления и
включить (в «снятом» виде) содержание традиции в собственную
философскую рефлексию. С гегелевской точки зрения, истина — это не просто
цель или результат некоторого движения истории, но «результат
вместе со всем своим становлением»*, т. е. результат, чьему внутреннему
содержанию и сущности присуща определенная историчность.
Поэтому Гегель подчеркивал единство философии и истории философии.
Значимость гегелевского проекта для последующей разработки
и тематизации феномена историчности философского исследования
в ряде ключевых направлений европейской философии второй
половины XIX и XX вв. трудно переоценить. Вместе с тем (в той мере,
в какой вообще допустимо говорить о существовании некоего
единого способа рассмотрения историчности философии в «послегеге-
левской» традиции) эта разработка определяется существенно иным
по сравнению с Гегелем направлением взгляда. Если Гегель
раскрывает историчность философствования с точки зрения
необходимости и идеальной континуальности, то в последующей традиции
* Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. Г. Шпета. СПб.: Наука, 1994.
С. 2.
688
M. A. Белоусов
на первый план выходит скорее историчность в аспекте ее
случайности и фактичности. Речь при этом идет, конечно, не об
эмпирической истории или исторической относительности философских
систем, но о том, что философское исследование развертывается
в рамках определенной традиции, которая уже есть и которую оно
не выбирает. Необходимость исторического измерения
философского исследования оказывается тогда отлична как от логической
необходимости, так и от эмпирической случайности, являясь
необходимостью факта или * исторического априори».
Необходимость факта не есть необходимость действительности,
данной уже своей возможностью, но необходимость
действительности, поскольку она уже есть. Хорошим примером здесь может
служить... то, что Гуссерль говорит о необходимости факта cogito.
Такого рода необходимость заключается в том, что не может не быть
переживания сознания, которое уже дано. Но это, очевидно, не
равнозначно утверждению, что переживание не может не быть.
Другими словами, cogito, согласно Гуссерлю, необходимо, поскольку он
действительно, но не поскольку оно возможно.
Взаимосвязь историчности и фактичности философского
исследования имеет, с нашей точки зрения, два основных аспекта.
Первый аспект — это известная обусловленность философского
исследования определенной традицией или историческими и социальными
предпосылками. < ...>
Применительно к соотношению философского исследования
и обусловливающей его традиции ситуация, правда, осложняется
тем, что к фактичности философского исследования принадлежат
не голые обстоятельства или сырые вещи, но другие философские
проекты, нашедшие свое осуществление в тех или иных
философских учениях. Тем не менее в качестве границ или исходных пунктов
философского исследования, то есть в качестве его ситуации, они
могут раскрыться лишь в свете формируемого самим исследованием
проекта. В таком случае философское исследование осуществляется
как имманентная критика традиции.
Наиболее показательным в этом отношении является хайдегге-
ровский проект деструкции истории онтологии. Ниже мы
попытаемся на материале этого проекта продемонстрировать взаимосвязь
двух выделенных нами выше аспектов фактичности философского
исследования. Мы попытаемся раскрыть, с одной стороны,
единство упомянутых аспектов в хайдеггеровском проекте деструкции
философской традиции, с другой стороны, показать, что Хайдег-
гер все же не находит баланса между ними, пытаясь сохранить
субстанциальный смысл и единство традиции, уже не зависящее от
каких бы то ни было проектов и интерпретаций.
Философское исследование как критика традиции
689
Хайдеггеровский проект деструкции истории онтологии:
единство возобновления и преодоления традиции
Понятие «деструкции истории онтологии» выражает
основополагающий способ, каким осуществляется обращение к философской
традиции в главном произведении Хайдеггера « Бытие и время»*.
Деструкция истории онтологии рассматривается и реализуется Хайдег-
гером в двух аспектах: с одной стороны, деструкция — это демонтаж
традиционных понятий и категорий, с другой стороны, деструкция,
по мысли Хайдеггера, призвана быть подлинным возобновлением
традиции. Задача радикальной проблематизации и критики
традиции у Хайдеггера периода «Бытия и времени» соседствует с тезисом
о невозможности начать философию на пустом месте, вне традиции.
Два этих аспекта деструкции соответствуют двум выделенным нами
выше аспектам фактичности философского исследования.
Соответственно, наша задача будет заключаться, прежде всего, в том,
чтобы продемонстрировать единство «позитивного» и «негативного»
аспектов деструкции в хайдеггеровском проекте.
В 6-м параграфе «Бытия и времени» Хайдеггер акцентирует
«позитивное назначение» деструкции, указывая, что «ее негативная
функция остается неспециальной и непрямой»**. В то же время уже
в чисто языковом отношении на передний план выходит
«негативный» аспект деструкции. Деструкция предстает прежде всего как
демонтаж традиции, демонстрация «неприменимости» традиционных
онтологических основопонятий к особому сущему (Dasein),
составляющему предмет экзистенциальной аналитики. Но в каком смысле
тогда подобное преодоление традиции является ее же
возобновлением и в чем заключается единство возобновления и преодоления?
Мы попытаемся наметить один из возможных путей прояснения
этого единства, отталкиваясь от указания Хайдеггера на
соответствие падения в мир и подверженности традиции. Хайдеггер
говорит о том, что «Dasein не только имеет склонность падать на свой
мир, в котором оно есть, и в отсвете от него толковать себя, Dasein
находится в плену своей более или менее явно воспринятой
традиции»***. Отталкиваясь от этого соответствия, я постараюсь
проанализировать характер единства возобновления и преодоления как
* Ссылки на «Бытие и время» даются в тексте по изданию: Heidegger M. Sein
und Zeit. Neunzehnte Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006 (в
дальнейшем — SZ). Соответствующее место русского перевода дается по
изданию: Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. M.: Ad Marginem,
1997 (в дальнейшем — БВ). В некоторых случаях перевод уточнен автором.
** БВ.С. 23;SZ.S. 23.
" БВ.С. 21; SZ. S. 21.
690
M. A. Белоусов
моментов деструкции и обосновать следующий тезис: подобно тому
как собственное бытие-в-мире не устраняет, по Хайдеггеру, падения
в мир, но является лишь его экзистенциальной модификацией, так
и деструкция не устраняет подверженности традиции, но является,
опять-таки, лишь ее экзистенциальной модификацией,
определенным способом существования в рамках традиции.
Затем мы рассмотрим некоторые внутренние проблемы хайдег-
геровского проекта, связанные, на наш взгляд, с известной утратой
баланса между фактичностью традиции и проективным характером
определяемого ею философского исследования, выразившейся в
предпосылке существования субстанциального основания традиции.
Das Man и традиция: различные модусы падения
Если мы рассмотрим указанное соответствие уже на языковом
уровне, то бросается в глаза близость выражений, посредством
которых Хайдеггер описывает традицию в 6-м параграфе «Бытия и
времени», и экзистенциал das Man, характеризующий экзистенцию
в модусе падения.
Подобно тому как das Man «затемняет все и выдает так скрытое
за известное и каждому доступное»*, традиция «делает ближайшим
образом и большей частью то, что она "передает", настолько
малодоступным, что скорее скрывает это» и «препоручает наследуемое
самопонятности и заслоняет доступ к исходным "источникам",
откуда традиционные категории и понятия были почерпнуты отч.
аутентично»**. Точно так же, как das Man, традиция «отнимает у него
(Dasein. — M. Б.) руководство, вопрошание и выбор»*** (тем же
глаголом abnehmen Хайдеггер характеризует «действие», совершаемое
das Man по отношению к «всегда моему» Dasein)****. Наконец,
традиция, как и das Man, выполняя функцию сокрытия «истоков» и
отнятия «собственного бытия», является «приходящей к господству» *****.
Равным образом по меньшей мере аналогичны характеристики,
даваемые Хайдеггером деструкции как преодолению
онтологической традиции и собственному бытию Dasein как преодолению
«господства» das Man. Деструкция характеризуется как
«расшатывание окостеневшей традиции и отслоение наращенных ею
сокрытий»******. О собственном бытии Dasein похожим образом говорится,
* БВ.С. 127;SZ.S. 127.
" БВ.С. 21; SZ. S. 21.
'* Там же.
w БВ. С. 126; SZ. S. 126.
" БВ. С. 23; SZ. S. 23. Ср. также: БВ. С. 128; SZ. S. 128.
№ БВ. С. 22;SZ.S. 22.
Философское исследование как критика традиции
691
что оно «совершается всегда как расчистка сокрытий и затемнений,
как взлом искажений, какими Dasein запирается от самого себя»*.
Эта близость описаний традиции и das Man представляется мне
неслучайной и указывает на известную взаимосвязь падения в мир
и подверженности традиции, иначе говоря, на то, что они
представляют собой два аспекта одного и того же экзистенциала. Соответственно,
можно также предполагать, что аналогичная взаимосвязь имеет
место между собственным существованием экзистенции и деструкцией.
Непреодолимость падения и единство падения в мир
и подверженности традиции
Что представляет собой экзистенциал падения? «Этот титул, —
пишет Хайдеггер, — не выражающий никакой негативной оценки,
должен означать: Dasein ближайшим образом и большей частью
существует при озаботившем "мире"»**. В противоположность
традиции Хайдеггер хочет показать, что «субъектом» повседневного
существования, опыта и жизни является не «Я», а нечто прямо
противоположное — das Man, или «некто». Соответственно, последнее
характеризуется Хайдеггером не столько через cogito (в широком
картезианском смысле), сколько через действие: другие «суть то,
чем они заняты»***.
Такое существование, как разъясняет далее Хайдеггер,
предполагает растворение в бытии при подручном сущем и потерянность
в публичности das Man. Полностью сливаясь с тем, что оно делает,
то есть как бы определяясь через свою функцию в мире подручного,
Dasein оказывается полностью заменимым в своем существовании
другим Dasein: « Не само Dasein есть, другие отняли у него бытие » ****.
Падение не есть, согласно Хайдеггеру, выпадение из
некоторого более высокого и чистого изначального состояния, но
составляет «отличительное (ausgezeichnetes) бытие-в-мире»*****.
«Отличительность» падения как способа бытия-в-мире заключается,
очевидно, в том, что оно в наиболее явной форме демонстрирует различие
Dasein и традиционного понятия субъекта. Мир не есть объект,
познаваемый субъектом, но «субъект» сам является миром, понимает
самого себя из мира.
Поскольку Dasein есть растворение среди подручных вещей мира
(«бытие при внутримирном сущем») и «сосуществование» с други-
* БВ.С. 129;SZ.S. 129.
" БВ.С. 175; SZ. S. 175.
** БВ.С. 126; SZ. S. 126.
" Там же
№ БВ.С. 176; SZ.S. 176.
692
M. A. Белоусов
ми, постольку падение не может быть преодолено. Тем не менее уже
сам термин «падение» отсылает к возможности и необходимости
преодоления падения. Последнее, однако, является не
устранением, но лишь модификацией падения: Собственная экзистенция,
наоборот, не есть нечто парящее над падающей повседневностью,
но экзистенциально она есть лишь модифицированное овладение
последней»*. Но в чем заключается необходимость самой этой
модификации?
Хайдеггер противопоставляет движение падения движению
феноменологического исследования: если последнее раскрывает
феномены, то падение их скрывает. Уникальность Dasein как предмета
феноменологического исследования заключается в том, что способ
бытия этого предмета нельзя отличить от способа, которым он сам
себя раскрывает. Иначе говоря, понимание человеческой
экзистенцией своего существования носит не теоретический характер,
предполагающий известное безразличие ее собственной
сущности по отношению к «актам» ее истолкования, но характер
«экзистенциально-практический»**, при котором способ существования
(«сущность») экзистенции оказывается тождественным способу ее
самоистолкования (а не «преданным» по отношению к нему). Это
значит, что у Dasein нет никакой скрытой сущности, находящейся
как бы по ту сторону способа, которым оно понимает или толкует
(то есть осуществляет) свою «фактическую жизнь», кроме самого
факта, что такой сущности нет. Открытость фактической жизни
всегда является моей в том плане, что я несу за нее «полную
ответственность». Таким образом задается критерий отличия
понимания (интерпретируемого Хайдеггером как базовый экзистенциал
Dasein) от самопознания и самосознания: если последние
предполагают реконструкцию моей «действительной сущности», то
понимание соотносится с тем, что я еще не есть (с моими возможностями)
и что впервые конституируется в самоистолковании фактической
жизни (понимаемом не как акт познания, а как выбор того, «как мне
быть*). < ...>
Из вышесказанного, по всей видимости, должно следовать, что
осуществляемое падением «сокрытие» скрывает вовсе не ту
сущность Dasein, которая существовала бы по ту сторону его проектов
«самоистолкования» и служила бы им опорой, но сам факт
несуществования такой сущности (этот факт как раз и можно считать
«сущностью» Dasein). Проще говоря, анонимность повседневности,
в которой каждый заменим другим, скрывает, согласно Хайдеггеру,
* БВ. С. 179;SZ.S. 179.
** Об этом см.: Борисов Е. В. К вопросу о феноменологическом методе в
экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера.
Философское исследование как критика традиции
693
мою ответственность за собственное существование и навязывает
мне определенный способ жизни и определенные цели в качестве
уже предопределенных (относящихся к «сущности» жизни).
Непреодолимость падения и возможности его модификации
конкретизируются Хайдеггером посредством введения экзистенциала
историчности. Именно здесь обнаруживается тесная связь,
существующая между падением и подверженностью традиции.
В контексте рассмотрения феномена историчности Хайдеггер
ставит вопрос, «откуда вообще могут быть почерпнуты
возможности, на которые фактично бросает себя Dasein»*. Эти возможности,
согласно Хайдеггеру, черпаются из «наследия»**, то есть из
определенной традиции. Это значит, что Dasein не только не создает своего
бытия (то есть не выбирает, быть ему или не быть, но рождается),
но и не создает тех возможностей, исходя из которых оно себя
понимает. Dasein поэтому есть не просто бытие-в-мире, но бытие в уже
определенном мире. Последний представляет собой унаследованное
и определенным образом очерченное поле возможностей, по
отношению к которому я обладаю свободой выбора, но не обладаю свободой
вообще не выбирать, то есть уклониться от занятия определенной
позиции, определенного места в этом поле. Что касается
«собственной экзистенции», то она не характеризуется какой-то большей,
нежели несобственная, дистанцированностью от этих наследуемых
возможностей, но скорее наоборот: «Собственное экзистентное
понимание настолько не избегает традиционной истолкованности, что
всегда из нее и против нее и все же снова для нее схватывает в
решении избранную возможность»***.
Таким образом, невозможно просто отбросить авторитет
традиции, поскольку он конституирует исходную ситуацию Dasein в мире,
то есть полную конкретность фактичности экзистенции. Этот
авторитет, подобно «авторитету» das Man, характеризуется
анонимностью. Более того, представляется вполне очевидным, что единство
повседневного или публичного мира (тот факт, что он является
«общим» миром) определяется единством поля возможностей, то есть
единством традиции. Описываемая Хайдеггером «публичная истол-
кованность» является традиционной, что предполагает фундиро-
ванность анонимности das Man в анонимности традиции. Падение
и подверженность традиции, таким образом, не просто изоморфны,
но составляют единый феномен.
Следовательно, тезис «Dasein всегда уже существует в модусе
падения» означает, что Dasein «рождается» в уже определенном,
* БВ.С. 383;SZ.S. 383.
** Там же.
*** Там же.
694
M. A. Белоусов
предначертанном традицией поле возможностей*. Полностью выйти
за пределы этого поля невозможно в той мере, в какой невозможно
«заглянуть» за пределы фактичности человеческой экзистенции**.
Соответственно, падение и собственное бытие Dasein
различаются не столько содержательно, то есть определяются не столько
посредством различных возможностей, сколько различным способом
осуществления тех же самых возможностей. Именно поэтому
собственное существование есть не устранение, а лишь модификация
несобственного (впрочем, верно и обратное).
Если экстраполировать сказанное на хайдеггеровский
феноменологический проект, то к «фактичности» самого этого проекта тоже
должна принадлежать традиционная истолкованность. Деструкция
традиции должна поэтому, если следовать ходу хайдеггеровских
рассуждений, быть лишь способом осуществления возможностей
традиционной метафизики. Более того, Хайдеггер, как мы видели,
даже связывает собственное существование Dasein с возможностью
радикализации им своей подверженности традиции. Подобно
Гуссерлю, усматривавшему возможность преодоления субъективизма
в разработке еще более радикального, трансцендентального
субъективизма, Хайдеггер пытается преодолеть традицию посредством
еще более радикального «традиционализма». Но прежде чем
рассмотреть отношение между традицией и падением, с одной стороны,
и деструкцией и собственным существованием — с другой, следует
еще остановиться на том, каким образом связаны падение и
онтологическая традиция в Бытии и времени.
Падение и онтологическая традиция
Один из методических принципов экзистенциальной аналитики
заключается в том, что любое философское (онтологическое)
понимание фундировано в дофилософском опыте фактической жизни.
Какой опыт лежит в основе традиционных философских понятий?
Этот вопрос является основным для всего проекта деструкции
истории онтологии.
Нетрудно заметить, что таким конституивным для традиционной
философии опытом оказывается в « Бытии и времени» опыт
падения. Здесь можно выделить два аспекта.
Во-первых, основное движение падения есть движение «от»
Dasein к вещам (то есть движение «прочь от самих вещей», если под
«самими вещами» понимать «феномены феноменологии»). По Хай-
деггеру, это движение все еще определяет философскую (метафи-
* Ср.:БВ. С. 373;SZ.S. 373.
** Ср.:БВ.С. 383;SZ.S. 383.
Философское исследование как критика традиции
695
зическую) традицию постольку, поскольку она исходит из способа
бытия наличных или подручных вещей, а не из способа
существования человеческой экзистенции (соответственно, из категорий,
а не экзистенциалов)*. Интерпретация Dasein как субъекта
осуществляется в этом же горизонте (субъект или эксплицитно понимается
как некоторая res (Декарт) или же имплицитно как нечто постоянно
пребывающее во времени (такое понимание Хайдеггер приписывает
Канту и последующей традиции**). Этой основополагающей
метафизической установке соответствует приоритет созерцания перед
другими видами опыта***.
Во-вторых, достаточно очевидно, что Хайдеггер не только
видит в падении конститутивный для традиционных понятий опыт,
но и апеллирует к самому этому опыту для того, чтобы поставить под
сомнение вышеуказанную универсальную предпосылку
европейской философии. Хайдеггер, как феноменолог, обращается к
опыту, предшествующему любым теориям (вспомним, что по-гречески
«теория» как раз означает «созерцание») и являющемуся опытом
не дистанцированного созерцания мира, а опытом
«ангажированности», «захваченности» миром, то есть опытом растворения в
подручных вещах. Это означает, что упущение из виду феномена мира
в европейской философской традиции есть для Хайдеггера в первую
очередь не что иное, как упущение из виду самого феномена
падения. Апелляция к феномену падения как к базовому опыту мира
(«отличительному» бытию-в-мире) является решающим моментом
хайдеггеровской деструкции «чистого созерцания». Хайдеггер
предпринимает парадоксальную попытку преодолеть «онтологическое»
падение апелляцией к падению онтическому, то есть посредством
описания повседневности. Метафизическое «забвение бытия» — это
не забвение некоей истины «по ту сторону» падения, но забвение
падения как феномена.
Возобновление, демонтаж и деструкция
Теперь я попробую рассмотреть взаимосвязь деструкции и
собственного существования и на основании этого рассмотрения
эксплицировать единство возобновления и демонтажа традиции в хай-
деггеровском проекте.
Хайдеггер описывает возобновление как структуру
собственного существования экзистенции. Слово «собственный» Хайдеггер
трактует буквально: «быть собственно» означает принимать то об-
* Ср.гБВ.С. 44-45; SZ.S. 44-45.
" Ср.: БВ. С. 319-321; SZ. S. 319-321.
*** Ср.гБВ.С. 171; SZ.S. 171.
696
M. A. Белоусов
стоятельство, что мое существование — это мое собственное дело,
т. е. нечто, что могу осуществить и фактически осуществляю
только я сам... В этом смысле Хайдеггер говорит, с одной стороны,
о фундаментальной виновности Dasein (в смысле его
ответственности за собственное существование) и, с другой стороны, о «вручен-
ности» этому сущему его существования (Dasein не создает своего
существования, а получает его). Это означает, что мое
существование мне уже дано, но не как нечто прошлое и завершенное: оно уже
дано мне как еще не осуществленное, то есть как нечто возможное
(будущее) и в этом смысле еще не существующее. * Существовать»,
«жить» и «стремиться к себе самому как еще не существующему»
являются синонимами применительно к Dasein, описаниями его
сущности. Но сущность — это то, чем Dasein всегда уже является,
следовательно, оно существует таким же образом и в модусе
падения. Падение не означает, что я не выбираю сам своего бытия или
не осуществляю его, скорее оно предполагает, что я скрываю от себя
тот факт, что я уже всегда осуществлял этот выбор.
Отсюда возникает соблазн понять возобновление (собственное
существование) и забвение (несобственное существование) как
вторичные модификации чистого обладания своей сущностью. Но здесь
обнаруживается парадокс: экзистенция обладает своей сущностью
(всегда уже существовать как еще не сущее) опять-таки не
статически, а динамически, то есть находясь по отношению к ней в
некотором движении. Есть движение бегства (забвение) и движение
возвращения (возобновление), но нет чистого обладания, к которому
они, казалось бы, отсылают. Исходный пункт описания — не чистое
обладание, а забвение. Изначальность падения означает, что Dasein
всегда уже не есть то, что оно всегда уже есть, и еще не есть то, что
оно всегда уже есть. Через возобновление я впервые становлюсь
тем, чем я всегда уже был. Но возобновление предполагает
демонтаж забвения как активного сокрытия экзистенцией своей
собственной сущности.
Но к полной конкретности того, чем Dasein всегда уже было,
принадлежит определенная традиция. Соответственно, быть
собственно — значит возобновлять традицию. Это возобновление есть
одновременно демонтаж того, что скрывает сущность Dasein, то есть
в данном случае — сущность самих унаследованных из традиции
возможностей.
«Аналогизирующий перенос» сказанного на деструкцию
истории онтологии приводит к достаточно парадоксальному выводу:
деструкция — это не демонтаж традиции, но в качестве возобновления
традиции она есть демонтаж «отпадения» от традиции. В самом
деле, демонтировать традицию так же невозможно, как невозможно
Философское исследование как критика традиции
697
демонтировать фактичность экзистенции. С другой стороны,
именно «традиция делает ближайшим образом и большей частью то, что
она "передает", так малодоступным, что скорее скрывает это»*.
Отсюда, [по всей видимости,] следует, что деструкция истории
онтологии сталкивается с той же проблемой, что и феноменологическое
описание экзистенции, а именно с тем, что «скрывающее» и
«скрываемое» представляют собой одно и то же. Предметом «сокрытия»
оказывается не фактическое содержание философской традиции,
но заимствуемые из нее возможности исследования и
заключающиеся в них проблемы. Другими словами, предпосылкой
деструкции истории онтологии является различие возобновления
возможности традиции и ее повторной реализации.
В свете различия возобновления и повторного осуществления
уместно еще раз вернуться к вопросу о различии способов
осуществления возможностей, определяющих, по Хайдеггеру, собственное
и несобственное существование соответственно.
Здесь есть два аспекта, которые определяются расстановкой
акцентов: во-первых, собственно относиться к возможностям означает
относиться к ним как к моим возможностям и как к моим
возможностям. Рассмотрим это более подробно.
Несобственное существование, как оно описано в «Бытии и
времени», предполагает ориентацию не столько на реализуемые
другими возможности, сколько на то, как другие эти возможности
реализуют: «Мы наслаждаемся и веселимся, как люди веселятся; мы
читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как люди
смотрят и судят; но мы и отшатываемся от "толпы", как люди
отшатываются; мы находим "возмутительным", что люди находят
возмутительным». Это значит, что возможности не понимаются как мои
возможности, т. е. как такие, которые как бы впервые предстоит
осуществить именно мне. Соответственно, собственный способ
осуществления возможностей означает, что возможности понимаются
как мои возможности и поэтому я отношусь к ним так, как если бы
они еще никогда не были осуществлены другими и как если бы мне
впервые еще только предстояло установить их смысл. Сам смысл
некоторых возможностей может быть трансформирован лишь в ходе
их осуществления (но не посредством занятия по отношению к ним
позиции стороннего наблюдателя, так как это предполагало бы, что
они не понимаются как мои возможности). Это должно относиться
и к традиционным возможностям философского исследования,
образующим «фактичность» исследователя: критика этих
возможностей может быть только имманентной.
* БВ.С. 21;SZ.S. 21.
698
M. A. Белоусов
В «Бытии и времени» эта имманентность деструкции
проявляется в том, что ряд понятий, вводимых Хайдеггером, оказываются
следствием не отрицания традиционных различений или ходов
мысли, но, наоборот результатом их радикализации, имеющей своим
«эффектом», как ни странно, демонтаж традиционных понятий.
Примером здесь могут служить, в частности, понятия Dasein и бы-
тия-в-мире в их отличии от традиционных (для Хайдеггера) понятий
трансцендентальной субъективности и интенциональности. Так,
в новоевропейской философии ... и затем в феноменологии Гуссерля
на первый план выходит радикальное различение способов бытия
сознания и предметного мира. Отказывается ли Хайдеггер от этого
различия? Скорее Хайдеггер радикализирует его посредством
введения аналогичного различия Dasein и nichtdaseinmaessiges Seiende.
Но радикализация этого различия ведет и к демонтажу
традиционного понятия субъекта. Субъект, полагает Хайдеггер, является
подлежащим, а подлежащим может быть лишь то, что имеет
способ бытия наличного (предметного в широком смысле этого слова).
Аналогичным образом обстоит дело с хайдеггеровской
деструкцией интенциональности. Понятие интенциональности означает, что
сознание не является замкнутой сферой внутреннего, но по своей
сущности есть выход за собственные пределы. Хайдеггер
радикализирует этот тезис, пытаясь показать, что Dasein исходно полностью
теряет себя в мире, растворяется в подручном. Но если дело обстоит
так, то мир перестает быть предметом и само понятие
интенциональности (если понимать его как направленность на предмет)
утрачивает смысл...
Деструкция поэтому есть модификация традиции, понимаемая
как демонтаж «действительности» традиции с целью возобновления
ее внутренней (не внешней, но предельной) возможности.
Аналогия между деструкцией и собственным существованием становится
вполне прозрачной: подобно тому как собственное существование
есть демонтаж осуществляемого самим же Dasein «сокрытия» своего
прошлого, так и деструкция традиции есть демонтаж
осуществляемого самой же традицией сокрытия ее прошлого. Собственно быть
«собой» — значит возобновлять свое прошлое (всегда уже
существовавшее как еще не существующее), собственно быть традицией —
значит возобновлять не ее фактическое прошлое (это означало бы
повторное осуществление), а то ее прошлое, которого еще нет (но при
этом всегда уже было). Здесь же вводится критерий различия
повторного осуществления и возобновления: первое относится к прошлому,
которое уже было, второе — к прошлому, которого еще нет.
Что касается второго аспекта (акцента на возможностях), то,
как было показано, для Хайдеггера бытие Dasein — это возможное
Философское исследование как критика традиции
699
бытие, и поэтому возможный характер этого бытия не может быть
снят никаким осуществлением (возможность как способ бытия уже
не есть возможность по отношению к некоторой действительности).
Dasein не может перестать быть своей возможностью (будущим),
не перестав быть*. Существовать собственно — значит
существовать в соответствии с этим обстоятельством. Это требует довольно
странного модуса осуществления возможностей, а именно такого,
при котором возможности «оставляются» возможными, т. е.
перестают актуализироваться**. Возобновление возможности в хайдегге-
ровском смысле — это не превращение возможности в
действительность, а превращение возможности в возможность. Здесь, конечно,
возникает вопрос, как возможно такое превращение.
Одной из основных черт падения Хайдеггер считает постоянное
стремление к актуализации, то есть к уничтожению возможностей
как возможностей. В силу изначальности падения возможности
Dasein не существуют еще в полной мере как возможности,
следовательно, они еще должны быть сделаны возможными.
Собственный модус осуществления возможностей подразумевает, таким
образом, осуществление возможности как возможности. Этот модус
связывается с феноменом смерти, хайдеггеровское понимание
которой здесь, конечно, нет возможности проанализировать***. Для нас
важно здесь зафиксировать динамический способ существования
возможности в «Бытии и времени»: сама возможность делается
возможной (не действительной) через будущее.
Здесь становится очевидным трансцендентальный пафос
проекта деструкции истории онтологии: речь идет о том, чтобы сделать
традицию возможной. Но возможность традиции для Хайдеггера —
это сам вопрос о смысле бытия. Метафизическая традиция, если
следовать Хайдеггеру, дает на этот вопрос в конечном счете вполне
однозначный ответ (бытие = наличие), но не тематизирует сам
вопрос и лежащую в его основе «усредненную, смутную понятность
бытия» ****, то есть саму возможность ответа (поэтому Хайдеггер
говорит не столько о новом ответе на вопрос о бытии, сколько о
возобновлении самого вопроса). Вопрос о бытии не может получить в
конечном счете никакого иного ответа, кроме описания структуры самого
вопроса, то есть структур существования «вопрошающего сущего».
Из вышесказанного становится также ясным единство
проективного характера и фактичности философского исследования в хайде-
ггеровском проекте деструкции традиции. С одной стороны, Хайдег-
* Ср.:БВ.С. 244;SZ.S. 244.
** Ср.:БВ.С. 261;SZ.S. 261.
*** См.: БВ. С. 260-267; SZ. S. 260-267.
"** БВ.С. 5;SZ.S. 5.
700
M. A. Белоусов
гер акцентирует фактичность исследования и его укорененность
в традиции, с другой стороны, показывает, что фактичность или
ситуация исследования возникают из будущего, то есть из
собственного проекта исследователя. Именно поэтому Хайдеггер различает
возобновление и повторное осуществление. Традиция уже есть и
одновременно еще не существует, поскольку свободному проекту
исследователя еще только предстоит установить те границы, которые,
с другой стороны, уже заданы ему традицией. Но не образует ли
в этом случае традиция в своей независимости от проекта
философского исследования «неназываемый и непостижимый Residuum»
или же, помимо голого факта собственного существования, она
обладает внутренним субстанциальным смыслом, конституирующим
фактичность исследования?
Субстанциализация возможностей и имманентная критика
Хайдеггер полагает, что намеченные традицией возможности
философского исследования имеют в конечном итоге единый,
внутренний и субстанциальный смысл, относящийся ко всем другим
смыслам как «условие их возможности». История традиции
предстает тогда как история отпадения от этого смысла, отпадения,
которое само раскрывается как его не менее «внутренний» момент. Эти
универсальные предпосылки деструкции могут тем не менее сами
быть поставлены под вопрос, причем уже исходя из того, как в
самом «Бытии и времени» раскрывается структура возможностей
«вопрошающего о бытии сущего».
Главным мотивом темпоральной интерпретации возможностей
в «Бытии и времени» становится своеобразное возникновение
прошлого из будущего. Экзистенция не имеет никакого внутреннего
субстанциального содержания, предшествующего способу, которым
она осуществляет свое бытие, кроме самого факта отсутствия этого
содержания. Экзистенция просто существует (в активном,
«глагольном» смысле, т. е. «живет»), и это существование исчерпывается ее
«стремлением» к собственному будущему. Не ставится ли, однако,
этим под вопрос и предпосылка существования субстанциального
смысла тех или иных возможностей?
Хайдеггер, впрочем, указывает, что границы
«самоистолкования» Dasein, то есть границы его фактичности, заданы традицией,
которую оно не выбирает. Вместе с тем смысл самих традиционных
возможностей не предопределен до «моего» осуществления (как бы
оно ни понималось). Если, однако, смысл возможностей не
предопределен до их осуществления, то что заставляет нас полагать, что
сами возможности остаются теми же «до» и «после» осуществле-
Философское исследование как критика традиции
701
ния? Отношение возможности к ее осуществлению в «Бытии и
времени» явно не есть отношение «общего» к «частному». Не
делаются ли определенные возможности возможными лишь «в результате»
их осуществления?
В «Пролегоменах к истории понятия времени»* Хайдеггер
осуществляет имманентную критику феноменологии Гуссерля,
которую можно считать самым показательным случаем деструкции**.
Хайдеггер рассматривает историю феноменологии, опять-таки, как
историю падения: феноменология Гуссерля «отпадает» от ею же
сформулированных методов и принципов. Хайдеггер настаивает
на том, что феноменология есть лишь возможность исследования***,
а не его «действительное состояние», лишь его «как», но не его
«что»****. Проще говоря, феноменология для Хайдеггера — метод,
но не совокупность результатов. Такого рода рассуждение
предполагает, что отношение «метода» как возможности исследования к его
фактическому «осуществлению» является внешним и никак не
влияет на «субстанциальное содержание» метода. Оно также
предполагает, что по своему исходному смыслу «как» феноменологии
сознания и экзистенциальной аналитики является одним и тем же.
Ведь только на основе такой предпосылки возможно утверждение,
что аналитика Dasein есть условие возможности феноменологии
сознания.
Однако вполне очевидно, что уже по своему исходному смыслу
гуссерлевское «как» и хайдеггеровское «как» принципиально
различны, то есть что это разные возможности исследования, а не два
«случая» осуществления единой субстанциальной возможности
(феноменологического метода), один из которых был бы более
совершенным и относился бы к другому как «условие его возможности».
Речь здесь идет не просто об историко-философской констатации
или об апологии гуссерлевского проекта, но о неотделимости
«метода» от поля его «применения», то есть в конечном счете о
неотделимости возможности от ее осуществления.
Что становится предметом имманентной критики Хайдеггера?
Метод или его применение! Или же это одно и то же?
У Гуссерля феноменологическая максима «К самим вещам!»
не конкретизируется посредством ее применения к сфере чистого
* Heidegger M. Gesamtausgabe, II Abteilung: Vorlesungen 1923-1944. Bd. 20.
Frankfurt am Main, 1979 (в дальнейшем — Prolegomena). Ссылки на
русский перевод даются по изданию: Хайдеггер М. Пролегомены к истории
понятия времени / Пер. Е. В. Борисова. Томск, 1998 (далее — Пролегомены).
" Ср.: Пролегомены. С. 109-141; Prolegomena. S. 140-182.
'* Ср.: Пролегомены. С. 143; Prolegomena. S. 184.
" БВ.С. 27;SZ.S.27.
702
M. A. Белоусов
сознания, но, напротив, смысл самой этой максимы
устанавливается посредством дескрипции переживаний. Можно ли отделить
дескрипцию как феноменологический метод в гуссерлевском
смысле от поля ее применения, потока переживаний, или же сам смысл
дескрипции конституируется ее применением в этом поле? Точно
так ?ке Гуссерль не переносит непроясненное понятие «абсолютного
бытия» на переживание (как полагает Хайдеггер), но, напротив, сам
смысл абсолютного бытия устанавливается через отсылку к ин-
тенциональному сознанию.
Хайдеггеровская критика феноменологии и деструкция
традиции в целом основана на неявной субстанциализации возможностей,
в чем-то аналогичной гуссерлевской субстанциализации значения
в противоположность многообразным «случаям» его данности в
переживаниях. Но если сам смысл некоторой возможности
становится лишь в ее осуществлении здесь и теперь, то само понятие
«падения» и фундирования одних осуществлений другими становится
проблематичным.
Фактичность традиции
и проективность философского исследования
Субстанциализация возможностей традиции в рамках
деструкции истории онтологии свидетельствует о том, что Хайдеггер
смещает акцент с проективности на фактичность исследования. Хайдеггер
пытается «спасти» субстанциальность традиции «по ту сторону»
проекта конкретного философского исследования... Мы, напротив,
исходим из того, что «историческое априори» может выполнять
ограничивающую и определяющую функцию только «внутри»
самого философского проекта. Только будучи имманентным, а не
трансцендентным проекту, историческое априори обретает
определенность. В своей независимости от проекта исследования историческое
априори еще ничего не определяет, поскольку оно само нуждается
в том, чтобы быть определенным со стороны проекта. Таким
образом, не столько фактичность исследования определяет его проект,
сколько наоборот. Но определять, разумеется, не значит «творить
из ничего». Речь, конечно, не может идти о том, что философское
исследование создает свою традицию и творит из ничего собственные
границы, но лишь о том, что «традиция», «эпоха» и т. п. являются
его границами лишь в возможности, но не в действительности,
подобно тому как «обстоятельства рождения» являются возможной,
но еще не действительной ситуацией. Но это также означает, что
философское исследование, обращаясь к традиции, делает
действительными заложенные в самой традиции возможности...
Философское исследование как критика традиции
703
В соответствии с этим, мы полагаем, что историческое априори
определяет философское исследование исключительно
«апостериори». Рассмотрение традиции как изначальной внешней границы
всех возможных философских проектов не только предполагает,
что фактичности исследования уже придан определенный смысл,
но также и то, что этот смысл полагается единственно возможным,
«субстанциальным» смыслом традиции. Именно эту предпосылку
мы, на основании вышеизложенного, хотим поставить под вопрос.
Однако допущение потенциально бесконечного многообразия
смыслов традиции еще не означает растворения последней в произволе
интерпретаций. В момент, когда философское исследование
формирует определенное концептуальное пространство, в рамках
традиции обнаруживаются, а не просто произвольно устанавливаются
различия, определяющие, со своей стороны, само исследование.
Многообразие смыслов традиции не предполагают тем самым их
простой «субъективности». Скорее, с нашей точки зрения, следует
отказаться от само собой разумеющейся предпосылки, что смысл
традиции «объективно» и «в себе» уже завершен и принадлежит
прошлому, и только субъективность его возможных
интерпретаций отсылает к будущему. Мы, напротив, полагаем, что традиция
содержит «в себе» бесконечное множество смыслов, многие из
которых тем не менее еще не существуют, поскольку формирующим их
философским проектам только предстоит появиться.
Хайдеггеровский проект деструкции истории онтологии и
описание темпоральности экзистенции в качестве возникновения
прошлого из будущего можно считать отправным пунктом для проблемати-
зации указанной предпосылки. В то же время Хайдеггер отчасти
восстанавливает ее, хотя и не в виде «объективного прошлого»,
а в облике «утраченного начала». Поиски утраченного начала
связываются Хайдеггером впоследствии с «преодолением метафизики»
и (в определенном смысле) концом философии (который, конечно,
не следует понимать как констатацию объективного завершения
определенной традиции, а как указание на достижение ее
предельной возможности*). Но если бесконечное множество смыслов и даже
возможностей философской традиции еще не существует, то она
не только не закончилась, но еще и не начиналась, или, точнее, она
не имеет ни начала, ни конца, но находится в непрерывном
становлении.
* Об этом см.: Heidegger M. Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des
Denkens // Heidegger M. Gesamtausgabe [GA]. Bd. 14: Zur Sache des
Denkens. Frankfurt a. M., 2007. S. 67-90.
Я.А. СЛИНИН
Возникновение философии Хайдеггера
из феноменологии Гуссерля
1
В 1925 г. М. Хайдеггер прочел в Марбургском университете курс
лекций под названием «История понятия времени. Пролегомены
феноменологии истории и природы». Подготовительные
материалы и выправленные автором студенческие записи этого курса при
жизни Хайдеггера не были опубликованы. Подготовка хайдеггеров-
ских лекций к изданию была осуществлена Петрой Егер; впервые
они вышли в свет в 1979 г. под заголовком «Пролегомены истории
понятия времени».
Марбургские лекции прочитаны Хайдеггером незадолго до
издания его книги «Бытие и время» (1927) и интересны тем, что в них
автор широко (и, разумеется, критически) обсуждает истоки и
предпосылки своей философии.
Прежде всего надо отметить, что в 1925 г. Хайдеггер ощущал себя
целиком и полностью феноменологом. Он заявляет в одной из
лекций, что безоговорочно считает себя учеником Гуссерля. С
общефеноменологических позиций он критикует неокантианство Риккерта
и Виндельбанда, а также позитивизм.
Однако, заявляя себя феноменологом, Хайдеггер отнюдь не
думает, что нужно обязательно во всем следовать Гуссерлю. Он
претендует на то, чтобы создать новую концепцию в рамках феноменологии.
<...> При этом Хайдеггер признает и даже подчеркивает, что один
философ, учение которого находится вне рамок феноменологии,
оказал-таки на формирование его взглядов значительное влияние. Речь
идет о Дильтее. Хайдеггеру импонирует антипозитивизм и,
главное, персонализм Дильтея. Феноменологическое учение Гуссерля,
по мнению Хайдеггера, недостаточно персоналистично; Хайдеггер
хочет персонализировать феноменологию, полагая, что в этом мо-
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 705
жет помочь Дильтей. Правда, Дильтей не феноменолог; кроме того,
в его доктрине Хайдеггер находит лишь не до конца осознаваемые
самим автором начатки тех идей, которые собирается в дальнейшем
развить.
В 1925 г. Хайдеггеру было сравнительно немного лет, он только
начинал свою философскую карьеру. В его лекциях сквозит
уверенность в том, что новое учение, которое он излагает слушателям,
способно разрешить те «вечные» проблемы, над которыми
постоянно бьются философы различных направлений. Основная установка
Хайдеггера состоит в том, что все эти «вечные» проблемы на самом
деле суть псевдопроблемы и существуют только потому, что в силу
разного рода укоренившихся в философской традиции
предрассудков неправильно поставлены.
Некоторые из этих предрассудков позволяет устранить и ранняя,
гуссерлевская, феноменология. В особенности это касается
предрассудков и заблуждений таких философских направлений, как
неокантианство и позитивизм.
Не следует забывать, что Хайдеггер начинал как ученик Риккерта,
и поэтому преодоление «ошибок юности» стояло для него на первом
месте. В этом плане особенно важную роль сыграли три «открытия»
феноменологии, которые подробно описываются и анализируются
в марбургских лекциях Хайдеггера: интенциональность,
категориальная интуиция и изначальный смысл априорности.
Учение об интенциональности сознания введено в новейшую
философию Ф. Брентано и Э. Гуссерлем. Согласно этому учению,
всякий акт сознания направлен на какой-либо объект. Среди
многообразия актов сознания выделяются акты, непосредственно «дающие»
объект; такие акты Гуссерль называет интуитивными.
Разновидностями подобных актов сознания являются чувственное восприятие,
представление, воображение. Для Хайдеггера очень важным
обстоятельством является здесь то, что феноменологи считают все эти
разновидности актов сознания просто различными способами
данности объектов. Допустим, я вижу стоящий в аудитории стул
(пример Хайдеггера), затем отворачиваюсь и воображаю, представляю
себе тот же самый стул. В обоих случаях мне будет дан один и тот же
объект, но при помощи различных видов интуиции.
Хайдеггер видит огромное преимущество феноменологического
учения об интенциональности в том, что оно позволяет отбросить
утвердившуюся в западноевропейской философии еще со времени
Платона и Аристотеля «образную концепцию сознания». Эта
концепция грешит неоправданным «удвоением сущностей»: согласно
ей, миру реальных объектов противостоит в сознании мир образов
этих объектов. Сразу возникает псевдопроблема связи этих двух
706
Я. А. Слинин
миров между собой, псевдопроблема соответствия образа объекту.
На этой почве произрастает впервые ясно сформулированная
Аристотелем концепция истины как соответствия, с которой Хайдеггер
не уставал бороться всю свою жизнь.
Учение об интенциональности сознания позволяет устранить это
удвоение миров. При феноменологическом подходе мир образов
объектов исчезает, остается только один мир, мир интенциональ-
ных объектов, феноменов, то есть мир объектов, которые даются
сознанию различными видами интуитивных актов. Правда, тут
встает вопрос об онтологическом статусе интенциональных
объектов. В «Логических исследованиях» (1900-1901) Гуссерля, где
впервые во всех деталях развернуто учение об интенциональности,
не дано определенного ответа на этот вопрос. В дальнейшем же
Гуссерль и Хайдеггер заняли противоположные позиции по проблеме
онтологического статуса интенциональных объектов; острие хайдег-
геровской критики гуссерлевского направления в феноменологии
нацелено на то истолкование, которое дает этим объектам в «Идеях
к чистой феноменологии» (1913) Гуссерль.
В числе открытий феноменологии находится, по Хайдеггеру,
и учение о категориальной интуиции, предложенное Гуссерлем
в «Логических исследованиях». По Гуссерлю, кроме таких
интуиции, как чувственное восприятие, представление, воображение,
которые дают сознанию индивидуальную сторону объектов, существует
еще некая интеллектуальная интуиция, или усмотрение сущности,
категориальная интуиция, которая непосредственно дает сознанию
универсальные характеристики объектов, а также универсальные
отношения между объектами. Это учение направлено, по существу,
против локковско-кантовской теории о том, что «извне» в сознание
поступают только чувственные данные, которые оформляются
активно действующим «внутри» сознания интеллектом в те или иные
объекты. Согласно Канту, всякий объект сознания состоит из двух
частей: опытной, или апостериорной, постигаемой чувственно,
и доопытной, априорной, которая привносится рассудком (объекты
становятся в полном смысле слова объектами сознания только
тогда, когда чувственность, дающая индивидуальные данные объектов,
подводится под априорные универсальные категории и
основоположения рассудка. Таким образом, согласно данной концепции,
индивидуальная сторона объекта дается чувственностью, а
универсальная привносится в него рассудком. По Гуссерлю, и чувственность,
и рассудок суть однородные дающие интенции: чувственность дает
индивидуальные аспекты объектов, а рассудок усматривает то
общее, универсальное, что содержится в самих объектах, и те общие
отношения (рядоположенность, причинно-следственную связь и др.),
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 707
которые существуют между ними. Таким образом,
феноменологический подход как бы восстанавливает структурную целостность
объекта. Интенциональные объекты приобретают характер вещей, если
понимать структуру вещи так, как ее понимали Аристотель и
средневековые концептуалисты, то есть в том смысле, что универсалии
изначально находятся в вещах, а ум обладает способностью их
оттуда изымать в виде отвлеченных идей, иначе говоря — усматривать.
Хайдеггеру импонирует феноменологическая трактовка
интенциональных объектов, при которой они предстают перед сознанием
в виде цельных вещей, поскольку в общем случае чувственная и
интеллектуальная интуиции действуют совместно и одновременно.
При этом следует иметь в виду, что речь идет только о структурном
единстве интенциональных объектов, о том, что они трактуются
как изначальные единства индивидуальных и универсальных
факторов, но отнюдь не об их онтологическом статусе, который в
«Логических исследованиях» остается неопределенным. Возвращения
к тому онтологическому статусу, какой придавался вещам
Аристотелем и схоластами, тут нет.
Поскольку феноменология трактует интеллект как дающую
интуицию и ставит ее в один ряд с разновидностями чувственной
интуиции, то можно сказать, что мир интенциональных объектов
оказывается данным сознанию непосредственно, чисто
интуитивно, то есть в некотором смысле априорно. Хайдеггер полагает, что
феноменология открывает подлинный, изначальный смысл
априорности. Во-первых, априорность, понимаемая как интуитивная
данность, приобретает универсальный характер: любой интенцио-
нальный объект дан в этом смысле априорно. Во-вторых, в отличие
от декартовского и кантовского понимания априорности, она
становится, по Хайдеггеру, характеристикой бытия, и субъекта, и
объекта, а лучше сказать — необходимым атрибутом всего сущего.
В хайдеггеровском описании третьего открытия
феноменологии — изначального смысла априорности — уже видно влияние
его собственной интерпретации онтологического статуса
интенциональных объектов и самого субъекта. Что интерпретация
необходима, понимал не только Хайдеггер; понимали это и другие участники
феноменологического движения, в том числе и сам Гуссерль. Текст
«Логических исследований» дает простор для самых различных
интерпретаций подобного рода. Судя по всему, этот вопрос
широко дискутировался в то время среди феноменологов. В марбургских
лекциях Хайдеггер сообщает, что неоднократно обсуждал
онтологические проблемы феноменологии с Гуссерлем. То истолкование
онтологического статуса интенциональных объектов и субъекта,
которое дал Гуссерль в «Идеях чистой феноменологии», совершен-
708
Я. А. Слинин
но не удовлетворяло Хайдеггера. Его собственная интерпретация
возникла и окончательно оформилась в ходе споров с Гуссерлем.
По свидетельству Хайдеггера, в отношении отдельных, хотя и
существенных, аспектов проблемы ему удалось переубедить Гуссерля,
и тот, идя навстречу Хайдеггеру, внес впоследствии
соответствующие изменения в свою концепцию. Однако в главном позиции обоих
философов остались несовместимыми.
Прежде чем перейти к выяснению сути разногласий между
Гуссерлем и Хайдеггером, скажем несколько слов о принципе
принципов феноменологии, который оба они принимали и которому
оба они придавали большое значение. Его выдвинул Гуссерль,
сформулировав в виде труднопереводимой максимы: «Zur Sache
selbst!» — «К вещи как таковой, к самому предмету исследования!».
В этой максиме сконцентрировано существо феноменологического
метода. Перед нами призыв отбросить всякого рода предпосылки,
всевозможные традиционные, идеологические, субъективные
наслоения и постараться увидеть предмет исследования таким, каков
он есть на самом деле, а затем постараться адекватно описать его.
Этот метод Гуссерль пытался применить на деле в «Логических
исследованиях». Феноменологическую максиму берет на вооружение
и Хайдеггер. Он видит в ней требование путем беспред посыл очного
усмотрения заложить основы философского, а следовательно, и
всякого знания. Эту же цель ставил перед собой и Гуссерль; однако,
опираясь на один и тот же принцип, оба феноменолога создали
противоположные, не согласующиеся друг с другом концепции. <...>
В процессе изложения своего учения Хайдеггер постепенно
перестает упоминать и интенциональность, и априорность, и
категориальную интуицию, но постоянно при каждом новом решительном шаге
вперед не устает ссылаться на феноменологическую максиму.
2
Что касается Гуссерля, то главной задачей его философского
творчества — по существу, единственной его целью — были поиски
аподиктических, несомненных, основ познания. Гуссерль был учеником
Брентано; его философская карьера началась в конце XIX в., когда
наиболее влиятельными направлениями западной философии были
позитивизм, неокантианство и другие, близкие им. <...> Он пришел
к выводу, что релятивизм и скептицизм суть факторы,
разрушающие человеческое знание, и что для того, чтобы сохраниться, оно
нуждается в твердой аподиктической базе. Под именем психологизма
Гуссерль в первом томе «Логических исследований» подверг
сокрушительной критике субъективизм и индуктивизм в философии, с их
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 709
неизбежным релятивизмом и скептицизмом. В качестве
аподиктической основы знания он предложил свое учение об эйдосах, идеальных
сущностях как предметной теоретической области логики,
математики и других дедуктивных наук. Рассматривая во втором томе
«Логических исследований» человеческое сознание, он выдвинул учение
об интенциональной его структуре, о сигнитивных и интуитивных
актах сознания, о чувственной и интеллектуальной интуициях,
непосредственно дающих свои объекты, о форме и материи интенци-
ональных актов, об их качестве. За гуссерлевской философией,
изложенной в «Логических исследованиях», не сразу, но постепенно
утвердилось название «феноменология», потому что ее центральным
пунктом было учение об интенциональных объектах, или феноменах.
Не одному Гуссерлю не нравились релятивизм, скептицизм
и субъективизм в философии и науке. Антипсихологизм Гуссерля
привлек к себе много молодых тогда философов, образовавших
феноменологическое движение. В их числе были М. Хайдеггер, М. Ше-
лер, Н. Гартман, А. Пфендер, М. Гайгер, А. Рейнах, О. Беккер и др.
Однако философские взгляды самого Гуссерля продолжали
эволюционировать. Как аподиктическая база философии и всех наук
учение об эйдосах с течением времени перестало его удовлетворять.
Он понял, что эйдосы — это не те сущности, в существовании
которых абсолютно невозможно усомниться. В поисках таковых
Гуссерль обратился к интенциональным объектам. Как уже говорилось,
их онтологический статус в «Логических исследованиях» не был
определен. Что они такое, там было сказано с достаточной полнотой,
но в каком качестве они существуют, оставалось невыясненным.
Предложив в «Идеях чистой феноменологии» учение о
феноменологической редукции, Гуссерль поставил наконец свои точки над «i»
в этом вопросе. Одновременно это учение позволило ему найти
новую аподиктическую базу всего человеческого знания, каковой он
был на этот раз доволен до конца своих дней.
Феноменологическая редукция — это вариант метода сомнения.
<...> Впервые этот метод сформулировал и применил в своей
философии Декарт. Гуссерль констатирует, что до известного пункта
он идет по пути Декарта, но лишь до известного пункта. Гуссерль
предлагает начать с естественной точки зрения «человека,
идущего по улице». Естественная, или природная, точка зрения присуща
не только всякому простому человеку, но и ученым; вся современная
наука базируется на ней. Она состоит в следующем: мне
противостоит окружающий меня мир природы. Природный мир — это
«внешний» мир, трансцендентный по отношению к моему сознанию. Если
применить к нему «методическое сомнение», то результат ясен:
в реальном существовании всего, что составляет этот мир, можно
710
Я. А. Слинин
усомниться. Гуссерлевская феноменологическая редукция состоит
в том, чтобы «вынести за скобки» все содержание внешнего мира,
«воздержавшись от суждения» о его существовании. Прежде всего
следует воздержаться от суждения о существовании тех отдельных
вещей, тех индивидов, которые даются чувственным восприятием.
Затем Гуссерль выносит за скобки и всю «трансцендентную
эйдетику», то есть все то универсальное в природных вещах, что дается
интеллектуальной интуицией. Таким образом, за скобки выносится
все, что является предметом изучения как естественных, так и
дедуктивных наук, входящих в mathesis universalis. В том числе
редуцируются и человеческие существа, соседствующие со мной в
природном мире, и я сам как природное существо. Гуссерль специально
указывает на то, что и «трансценденции Бога» тоже, по его мнению,
оказывается за скобками.
Что же остается внутри скобок? Имеется ли что-либо такое, в
существовании чего усомниться невозможно? Да, имеется: это само
сомнение. Я не могу усомниться в том, что я в данный момент
сомневаюсь в том-то и том-то. Но что такое сомнение как таковое? Это
одна из разновидностей моего сознания. Если я не могу усомниться
в существовании моего сомнения, то я не могу усомниться в
существовании моего сознания, или меня самого как сознания. Иными
словами, несомненно, аподиктически, существует мое сознание,
и в этом качестве существую я сам. Так Гуссерль приходит к
Декартовому cogito ergo sum. Однако дальше пути Декарта и Гуссерля
расходятся: первый обращается к онтологическому доказательству
бытия Бога, а второй — к учению об интенциональности сознания.
Результатом феноменологической редукции является
неоспоримое положение о том, что мое сознание во всем многообразии
его актов и их разновидностей существует аподиктически, то есть
со всей несомненностью существует все то, что «находится внутри»
сознания. Гуссерль говорит об абсолютном бытии всего
имманентного сознания. А что имманентно сознанию? Все многообразие его
актов. Но всякий акт по определению направлен на что-то, на
какой-то объект, и, значит, имманентными сознанию оказываются
все те объекты, на которые эти акты направлены. Разумеется, они
попадают туда не как независимые от сознания «физические»
объекты, а как необходимые компоненты самого сознания, как только
«мыслимые» объекты — необходимые части актов сознания. Таким
образом, «внутри» сознания обнаружился целый мир объектов, как
раз те объекты, в существовании которых я усомнился и оставил их
за скобками. Конечно, онтологический статус их изменился: они
перестали быть независимыми от сознания, превратились в особого
рода элементы сознания. Они существуют теперь «в снятом виде»,
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 711
внутри сознания, но зато совершенно аподиктично, абсолютно, как
все, что имманентно сознанию.
Своему открытию мира объектов, обладающих абсолютным
бытием, Гуссерль придавал очень большое значение. Тут-то и
обнаружилась, по его мнению, подлинная обширная аподиктическая основа,
на которой можно построить все человеческое знание.
Феноменологическая редукция приводит к изменению точки зрения, установки,
человека: осуществив редукцию, он переходит от естественной
установки сознания к феноменологической. При естественной,
природной, установке сознания существование объектов изучения
относительно и подвержено сомнению; при феноменологической установке
оно абсолютно и несомненно.
Теперь мы видим, какой онтологический статус придал Гуссерль
интенциональным объектам в «Идеях чистой феноменологии». Их
бытие стало абсолютным и несомненным, но оказалось полностью
имманентным сознанию. Они стали феноменами в смысле очень
близком к кантовскому. Гуссерль это понимал и сознательно на это
шел: в поздних своих произведениях он именует
феноменологическую редукцию трансцендентальной, а свое учение —
трансцендентальным идеализмом. <...> Заканчивая описание гуссерлевской
трактовки «интенционалитета» в «Идеях», скажем еще, что в этом
произведении речь идет о чистой феноменологии, то есть
рассматривается структура чистого сознания. Разумеется, Гуссерль
понимает, что в центре «интенционалитета» находится некий субъект, «я»,
ego, но трактует его в обобщенном плане, никак не
индивидуализируя, не персонализируя это «я». Иначе говоря, он рассматривает
только всеобщие, необходимые, сущностные структуры
человеческого сознания. Характеризуя это обстоятельство, Хайдеггер в мар-
бургских лекциях говорит, что Гуссерль помимо
трансцендентальной осуществляет еще и эйдетическую редукцию. Действительно, он
как бы выносит за скобки все, что есть индивидуального в субъекте,
каковой выступает в роли некоторого абстрактного центра,
отправной точки, «субъектного полюса» всех интенций. <...> Та
интерпретация интенциональности, которую предложил Гуссерль в «Идеях
чистой феноменологии», была с недоумением и
недоброжелательством встречена большинством участников феноменологического
движения. Главным достоинством феноменологического
направления в философии эти философы считали его антисубъективизм;
поэтому неожиданный поворот Гуссерля к трансцендентализму их
неприятно удивил и оказался совершенно неприемлемым. Они
квалифицировали его как измену принципам подлинного
антипсихологизма со стороны его основателя; аргументы Гуссерля в пользу
такого шага не показались им убедительными. Со своей стороны,
712
Я. А. Слинин
Гуссерль никак не прореагировал на упреки и критику своих
учеников, доказав тем самым, что он является настоящим «любителем
истины», неукоснительно следующим за ней, не заботясь о том, куда
этот путь приведет, а не догматическим защитником принципов,
пусть даже эти принципы им самим и были когда-то установлены.
Хайдеггер тоже относится к числу соратников Гуссерля, не
принявших его поворота к трансцендентализму. В марбургских
лекциях он полностью одобряет учение, изложенное Гуссерлем в
«Логических исследованиях», хотя и считает его лишь начальным этапом
развития феноменологии, нуждающимся в продолжении. Что
касается содержания «Идей», то к нему Хайдеггер относится резко
критически. Он пишет, что при той абсолютизации сознания, которую
Гуссерль допускает в этом произведении, субъект получает полное
преимущество перед объектом. Таким образом, считает Хайдеггер,
в феноменологию проникает идеализм в его неокантианской форме,
что, по его мнению, недопустимо.
<...> Хайдеггер считает неприемлемым то, что после
проведения феноменологической редукции сознание — это не что иное, как
имманентное бытие. Причем: 1) это имманентное бытие есть
бытие, данное абсолютно; 2) это бытие, понимаемое как абсолютная
данность, абсолютно также и в том смысле, что nulla re indiget ad
existendurn (не требует существования никаких вещей для того,
чтобы существовать самому). Здесь вещи понимаются в узком смысле
«вещности» (реальности), в смысле трансцендентного бытия,
любого такого бытия, которое не является сознанием. В двух
вышеуказанных смыслах абсолютное бытие является также чистым бытием,
то есть сущностным, идеальным бытием переживаний.
Как уже говорилось выше, Хайдеггер признает, что в
«Логических исследованиях» не выяснен онтологический статус интенцио-
нальных объектов, равно как и самого субъекта, и что выяснить это
необходимо. Но для этого, по его мнению, отнюдь не следует
производить феноменологическую редукцию, принимать какую-то
искусственную «феноменологическую» установку сознания, что ведет
в область его абсолютной и чистой имманентности. Нужно
сохранить естественную установку сознания, ибо именно такому
сознанию первоначально и изначально открывается все сущее. Такой
подход, по мнению Хайдеггера, больше соответствует
феноменологической максиме «Zur Sache selbstl». Конечно, научная картина
окружающего мира и научная концепция сознания тоже не годятся:
они только затемняют и искажают подлинный онтологический
статус как объекта, так и субъекта. Хайдеггер надеется выявить этот
статус путем переосмысления всего того, что открывается перед
сознанием в его естественной установке.
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 713
Как осуществить это переосмысление? Путеводной нитью тут,
по мнению Хайдеггера, как раз и должна служить знаменитая
феноменологическая максима. Нужно исходить из того, что
открывается перед нами первично и непредвзято. Но поскольку понять,
что именно открывается человеку первично и изначально, не так-то
просто из-за перенасыщенности сознания разного рода научными
и традиционно-философскими предрассудками и предвзятостями,
постольку, по Хайдеггеру, необходимо сделать усилие и
кардинальным образом освободиться от всех этих предрассудков. <...>
Видимо, самому Хайдеггеру все это удалось осуществить. Что же
открылось перед его не затемненным никакими традиционными догмами
умственным взором?
Все только что сказанное звучит несколько декларативно. Что
значит «сделать усилие»? <...> Как многие философы, сначала бывшие
чьими-то учениками, а затем создавшие собственную оригинальную
концепцию, он отталкивался от концепции учителя критически.
<...> С чего начался отход Хайдеггера от Гуссерля? В одной
поздней небольшой статье под названием «Мой путь в феноменологию»
Хайдеггер вспоминает о начальной стадии своего философского
становления, как раз о том предшествовавшем выходу в свет «Бытия
и времени» периоде, который мы здесь рассматриваем. Он пишет,
что в процессе изучения и преподавания гуссерлевского учения
пришел к следующей мысли (причем вначале она была скорее
догадкой): то, что обнаруживается для феноменологии актов сознания
в качестве «самоманифестации» феноменов, Аристотелем, а также
вообще всей древнегреческой мыслью понимается как несокрытость
того, что присутствует, как открытость его бытия, как показ им
самого себя. Эта мысль является ключевой для понимания всей
философии Хайдеггера, и прежде всего для понимания того, как
совершился его отказ от гуссерлевской «феноменологии актов сознания».
В упомянутой работе Хайдеггер добавляет, что чем решительнее
он убеждался в правильности этой мысли, тем настоятельнее
становился вопрос: как и каким образом определяется то, что должно
восприниматься как «сама вещь» («Sache selbst») в соответствии
с принципом принципов феноменологии? Сознание с
имманентными ему интенциональными объектами или Бытие всевозможных
отдельных сущих в его открытости в них, равно как и в его в них со-
крытости? Ясно, что именно ко второй альтернативе привело
Хайдеггера «надлежащее» применение феноменологической максимы,
именно вторая альтернатива открылась перед его не затемненным
никакими предрассудками и предвзятостями умственным взором.
Так Хайдеггер был, как он выражается, вплотную поставлен перед
проблемой Бытия, и все дальнейшее его философствование стало
714
Я. А. Слинин
поисками пути к ее разрешению. <...> Рассмотрим более
обстоятельно ту мысль, которая пришла в голову Хайдеггеру в то время,
когда он изучал и преподавал гуссерлевскую феноменологию и
которая знаменует собой начало его длинного пути «вопрошания
Бытия». Если как следует разобраться, то в своей основе эта мысль
проста, хотя и является весьма смелой. Хайдеггер утверждает
ни больше и ни меньше как то, что чувственная и интеллектуальная
интуиции дают не имманентные сознанию феномены в кантовском
смысле этого слова, то есть не явления, за которыми стоят
недоступные сознанию, трансцендентные «вещи в себе», а сами вещи как они
суть, сами «вещи в себе». Другими словами, Хайдеггер настаивает
на том, что интенциональные объекты суть вещи в их естественном,
природном, а отнюдь не «снятом» в результате феноменологической
редукции виде. Вот какой онтологический статус, в
противоположность Гуссерлю, присваивает объектам Хайдеггер.
На первый взгляд кажется, что так не может быть, что так
истолковывать вышеупомянутую пришедшую в голову Хайдеггера мысль
нельзя. Не может серьезный философ так с ходу взять и отбросить
трехвековой опыт декартовско-кантовского трансцендентализма!
Однако в случае с Хайдеггером именно так и произошло. Анализ
марбургских лекций показывает, что наша интерпретация хайдег-
геровской мысли является правильной. Ведь, по сути дела, и мар-
бургские лекции, и «Бытие и время», да и все последующее его
философствование нацелены на то, чтобы всесторонне обосновать тот
изначальный тезис, что интенционально даются сами вещи как они
суть. Хайдеггер без колебаний идет на то, чтобы вывести и принять
все следствия из этого тезиса, сколь бы необычны и неожиданны они
ни оказались. Понятно, что обосновать такой тезис непросто;
отсюда, может быть, и проистекает вся изощренность и прославленная
«темнота» хайдеггеровской философии. Чтобы защитить этот тезис,
Хайдеггер готов на очень многое. Уже в марбургских лекциях он
предстает в качестве ярого антитрансцеденталиста; этого мало: уже
в них он отрицает как всю естественнонаучную, так и философскую
традицию вплоть до Античности. И этого мало: в дальнейшем он
подверг остракизму также и всю послеплатоновскую античную
философию, оставив в качестве своих союзников одних досократиков.
Стремясь отстоять свой тезис, он идет на то, чтобы переосмыслить
все до единого традиционные философские понятия.
Попробуем понять ход мысли Хайдеггера. <...> По мнению
Хайдеггера, Гуссерль совершил роковую ошибку, приравняв научную
картину мира к естественной установке и поспешив броситься в
объятия трансцендентализма. Вместо этого нужно отбросить все
предрассудки и предвзятости научной точки зрения и пойти туда, куда
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 715
требует феноменологическая максима — к самим вещам. Это и
приведет к подлинно естественной установке сознания. <...>
4
Неправильные теоретические построения, перекрывающие
доступ к изначально естественной точке зрения, свойственны не
только науке, но и наиболее авторитетным в конце XIX — начале XX в.
философским направлениям — позитивизму и неокантианству. Они
свойственны и всей западной философской традиции, за
исключением древних греков. Главной среди этих неправильных
построений является для Хайдеггера концепция истины как соответствия
сознания вещам, которая ведет к противопоставлению сознания
и реальности, к возникновению таких оппозиций, как субъект —
объект, имманентное — трансцендентное. Правда, учение об интен-
циональности сознания, предложенное и разработанное Брентано
и Гуссерлем, позволяет покончить с этой концепцией, поскольку
оно уничтожает лежащую в ее основе «концептно-образную», «отоб-
ражательную» теорию сознания; однако ни тот ни другой
мыслитель не сделал, по мнению Хайдеггера, правильных выводов из
своего учения. Хайдеггер на это готов. В самом деле, согласно тому,
что сказано Гуссерлем в «Логических исследованиях», не бывает
предметов воображения или предметов мысли, существующих
отдельно от тех объектов, которые постигаются перцептивно: и
перцепция, и воображение, и интеллектуальная интуиция по-разному
дают одни и те же объекты — объекты интенциональные. Если так,
то можно отбросить общепринятое мнение о том, что воображение
и мысль всегда имеют дело с имманентными сознанию объектами
(образами и концептами), в то время как чувственное восприятие
всегда дает объекты, ему трансцендентные. Вслед за ним можно
отбросить и мнение о том, что критерием истины является
соответствие или несоответствие чего-то, всегда пребывающего внутри
сознания, чему-то, всегда находящемуся вне его. Ведь остается только
один слой объектов — объекты интенциональные: ни им ничто
другое не может быть сопоставлено, ни они не могут быть сопоставлены
ничему другому. Таким образом, концепция истины как
соответствия чего-то чему-то (сознания — вещам) становится невозможной.
Но немедленно встает вопрос об онтологическом статусе интен-
циональных объектов. Вначале он встает в такой форме: пусть
объекты даются сознанию целостно, сразу всеми интуициями;
оказываются они при этом имманентными ему или нет? Гуссерль в «Идеях»
утвердительно отвечает на этот вопрос: да, они суть только
феномены, они полностью имманентны сознанию, являются его составной
716
Я. А. Слинин
частью. Такой ответ ведет к трансцендентализму со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Хайдеггер отвечает на данный
вопрос отрицательно: нет, интенциональные объекты не имманентны
сознанию, они суть сами вещи, дающиеся сознанию именно такими,
каковы они в действительности. У Хайдеггера получается, что наши
интуиции как бы упираются в сами вещи.
Как это возможно? Тут Хайдеггер апеллирует к древним грекам.
Взамен концепции истины как соответствия он формулирует
концепцию истины как непосредственной открытости вещей сознанию,
утверждая, что именно так трактовали вопрос греки. По-гречески
«истина» — aX,f|0eia, «несокрытость». Значит, древние греки
считали истинным то, что не скрывается, что показывает себя так, как оно
существует на самом деле. Таким образом, в Античности считалось,
что вещи могут непосредственно контактировать с сознанием,
могут быть непосредственно даны ему. И это единственно верная
точка зрения, думает Хайдеггер. Концепция истины как несокрытости
была присуща древнегреческой мысли с самого начала, но затем
постепенно была вытеснена концепцией истины как соответствия. Это,
по мнению Хайдеггера, явилось прямо-таки трагедией для западной
философии: она сошла с единственно правильного пути.
Величайшие умы Античности, Аристотель и Платон, в основном пребывали
под сенью истины-несокрытости, хотя зачатки истины-соответствия
Хайдеггер находит и у них.
Итак, вещи, в соответствии с концепцией истины как
несокрытости, даны сознанию сами по себе. Это не мешает им быть
феноменами. Ведь основное значение греческого слова ((paivôjxevov — это «то,
что показывает себя»). Значит, без утайки открывая себя сознанию,
вещи становятся именно феноменами. В этом смысле Хайдеггер
и намерен употреблять впредь данный термин.
<...> Итак, Хайдеггер намерен иметь дело с феноменами,
понимаемыми как сами вещи в их несокрытости, и в этом смысле его
учение — феноменология, хотя это отнюдь не гуссерлевская
феноменология; это феноменология на более высоком этапе развития, как
считает Хайдеггер.
Запомним: по Хайдеггеру, феномены — это вещи. Но это вещи
не в «физикалистском» их понимании; это не «физические тела»,
существующие совершенно независимо от сознания, связанные друг
с другом чисто объективными связями и подчиняющиеся
разнообразным законам природы. Так трактует их физика, а за ней
химия, биология и все другие «объективные» науки. Но Хайдеггер,
как мы знаем, отнюдь не хочет возвратиться к научной картине
мира; наоборот, он считает ее неправильной и желает заменить
другой. Хайдеггеровские вещи — это вещи в их открытости, то есть в их
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 717
данности чьему-то сознанию; в этом смысле они неотделимы от
сознания, которому открыты. В то же время они именно вещи, «вещи
в себе», не являющиеся составными частями сознания.
Получается, что они и имманентны, и трансцендентны сознанию, или, лучше
сказать, они ни имманентны, ни трансцендентны ему; а еще лучше
сказать: эти термины не подходят для адекватного описания
ситуации. Не подходят для ее описания и термины «субъект», «объект»,
«реальность», да и «сознание» — тоже. Как же быть? И тут Хайдег-
геру пришла в голову идея подыскать новую терминологию, при
помощи которой можно было бы адекватно описать предмет его
философствования. Он решил попробовать описать его в терминах бытия.
Это решение оказалось счастливым в том смысле, что хайдеггеров-
ская философия приобрела оригинальный и своеобразный внешний
облик, стала по своему стилю с первого взгляда отличимой от
писаний других философов. <...> Глобальное изменение терминологии
ведет к переосмыслению всех традиционных понятий. Именно это
и нужно Хайдеггеру. В традиционные понятия не укладывается
тезис о том, что феномены — это и есть вещи; он отказывается брать
эти понятия в качестве исходных. Такие фундаментальные
категории, как «субъект», «объект», «дух», «тело», «сознание»,
«реальность» и другие, он истолковывает в терминах бытия, стараясь при
атом показать их неадекватность, их устарелость и непригодность
для употребления на том уровне философствования, который ему
удалось достичь.
Но почему именно на категорию бытия должна опираться та
новая феноменология, сформулировать и обосновать которую
поставил своей задачей Хайдеггер? Отвечая на этот вопрос, он
снова ссылается на феноменологическую максиму. Если безо всякой
предвзятости обратиться непосредственно «zur Sache selbst», то что
откроется в первую очередь перед умственным взором? Хайдеггеру
ясно: бытие в различных его формах. В самом деле, я существую,
окружающие меня вещи существуют, окружающие меня люди
существуют. Тут важно понять, что изначальным является бытие; все
перечисленное — это формы Бытия. Оно открывается прежде
всего в своей множественности, в виде отдельных сущих (Seiendes).
Среди них выделяется особенное сущее: «бытие здесь», Dasein.
Dasein — это, как известно, центральное понятие хайдеггеровской
философии. Хайдеггер подчеркивает, что Dasein — это мое личное
существование, это я сам, как я есмь. Притом Dasein — не субъект
и не сознание, а я сам именно как я есмь, как особая форма бытия.
Субъект и сознание — это те предвзятые, те традиционные
истолкования моего «я», от которых и надо «отстроиться». Чтобы выразить
мои бытийные особенности, лучше всего, по Хайдеггеру, подходит
718
Я. А. Слинин
термин «бытие здесь», Dasein. Я существую здесь, в отличие от иных
Seiendes, скажем отдельных вещей или людей, которые существуют
там. Выбор такого «топографического» термина Хайдеггер в мар-
бургских лекциях обосновывает ссылкой на В. Гумбольдта,
который впервые указал на то, что в некоторых языках для того,
чтобы сказать «я», употребляется слово «здесь», чтобы сказать «ты»,
говорится «там», а чтобы сказать «он», о том, кто не присутствует
рядом, нужно выразиться «вон там». Хайдеггер считает
знаменательным обнаруженный Гумбольдтом факт, что в некоторых
языках имеет место единство значения отдельных личных местоимений
и обстоятельств места. Он полагает, что эти языки отражают в своей
грамматике глубинную связь различных форм бытия: выделенное,
центральное положение «я» и периферийное, «массовидное»
положение прочих отдельных сущих. При этом надо иметь в виду, что,
по Хайдеггеру, не пространственные, а бытийные соотношения
первичны и изначальны. Само понятие пространства формулируется
в его философии как производное по отношению к понятию бытия.
5
Dasein имеет весьма сложное строение. В марбургских лекциях
дается первый, еще незавершенный очерк строения Dasein.
Впрочем, значительная часть текста этих лекций почти без изменений
вошла в состав «Бытия и времени». Одной из самых
фундаментальных черт Dasein является его существование в чем-то (In-sein). Это
его необходимая, неотъемлемая черта: Dasein не может
существовать иначе, чем в чем-то. Если говорить конкретно, то Dasein
существует в мире. По Хайдеггеру, главная структурная характеристика
Dasein — это его существование в мире (in-der-Welt-Sein). Но что
такое мир? Он состоит из наличных вещей (vorhanden Dinge); при этом
само Dasein не является вещью. Dasein не может существовать само
по себе, вне мира вещей; оно всегда находит себя уже пребывающим
в мире. Dasein и мир вещей образуют неразделимое единство; между
ними нет никакого «трансцензуса» : и Dasein, и вещи, составляющие
мир, однородны как различные формы бытия. Хайдеггер
предупреждает, что взаимоотношения между Dasein и миром вещей
нельзя интерпретировать в традиционном субъектно-объектном смысле.
Отношения Dasein к миру вещей многообразны; одно из них
Хайдеггер именует «познанием», однако это не то, что традиционно
обозначается данным термином. Познание — это, по Хайдеггеру,
определенный аспект существования Dasein в мире. Познание имеет
стадийный характер, оно осуществляется постепенно; это
предполагает, что Dasein темпорализировано (время — это и есть само Dasein,
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 719
как афористически замечает Хайдеггер). В процессе познания
Dasein нацеливает, направляет себя на что-то; оно поочередно
обозревает отдельные вещи. Все обозреваемое затем понимается,
упорядочивается, распределяется, обрабатывается и в известном
смысле слова сохраняется. Описанный процесс напоминает по форме то,
что говорит в «Идеях» Гуссерль о взаимодействии
трансцендентального субъекта и интенциональных объектов: темпоральность Dasein
заставляет вспомнить о внутреннем времени трансцендентального
субъекта, направленность Dasein в сторону вещей — интенциональ-
ность сознания. Однако существенное различие подходов Гуссерля
и Хайдеггера заключается в том, что у последнего все онтологизи-
ровано: у него нет ни субъекта, ни объектов, ни сознания. Имеются
лишь различные формы бытия, и познание — это не что иное, как
определенное отношение между ними. Хайдеггер при описании
структур Dasein и его бытия в мире избегает терминов «интенция»
и «интенциональность». Он предпочитает говорить о «встрече»
(Begegnung) Dasein с вещами в мире.
Хайдеггер критикует картезианство Гуссерля и самого Декарта.
<...> По Хайдеггеру, бытие не нуждается в доказательстве, именно
оно изначально, из него нужно выводить мышление и познание.
<...> Хайдеггер считает совершенно ненужной замысловатую
процедуру декартовского методического сомнения. Sum
открывается ему сразу с абсолютной данностью. Строго говоря, эту данность
нельзя назвать аподиктической и несомненной, поскольку метод
сомнения Хайдеггером не применяется. Он с самого начала ни в чем
не сомневается, с самого начала уверен в существовании «я» в мире,
подобно тому как христиане уверены в существовании Св. Троицы.
Если Гуссерль, следуя методу сомнения, приходит к абсолютной
данности сознания, то Хайдеггера феноменологическая максима
приводит к утверждению абсолютной данности бытия. При этом
структура открывшегося бытия аналогична структуре сознания,
описанной в гуссерлевских «Идеях». Гуссерлевскому
трансцендентальному субъекту соответствует хайдеггеровское Dasein, гуссер-
левским интенциональным объектам — хайдеггеровские наличные
вещи. Аподиктической и абсолютной данности интенциональных
объектов соответствует абсолютная изначальная открытость
наличных вещей.
Сознанию в гуссерлевской феноменологии присуще, как мы
видели выше, имманентное бытие. Хайдеггеровское бытие «я» в мире
не является имманентным. У Dasein нет ничего «внутри», наличные
вещи не имманентны ему. Но они и не трансцендентны ему: Dasein
существует в реальном мире. Dasein и наличные вещи не
имманентны и не трансцендентны друг другу. Они, хоть и различные, но одно-
720
Я. А. Слинин
родные и равноправные формы бытия; контакт между Dasein и
наличными объектами осуществляется просто в виде встречи. Dasein
существует в реальном мире, по отношению к которому нет ничего
трансцендентного, ничего «внешнего». Таким образом, оппозиция
«имманентное — трансцендентное» неприложима к хайдеггеров-
скому бытию Dasein в мире.
<...> Но хайдеггеровское Dasein — это не вещь, в мире нет таких
вещей, как Dasein, как мое «я». Но оно существует в мире; более
того: без него мир не может существовать. Оно существует в мире,
но не как вещь, а как некий «фермент» или «проявитель»,
необходимый для того, чтобы вещи могли наличествовать в мире, могли в нем
встречаться, могли в нем присутствовать.
<...> К хайдеггеровской картине мира неприложима оппозиция
«объект — субъект»; наличные вещи — это не объекты, равно как
и Dasein — не субъект.
В марбургских лекциях имеется немало критики как реализма,
так и идеализма. По мнению Хайдеггера, эпистемологические
позиции, именуемые идеализмом и реализмом, возможны
исключительно из-за отсутствия ясного понимания феномена бытия в чем-то.
Сами не зная того, они его описывают, но делают это неадекватно,
используя понятия субъекта и объекта. Как у той, так и у другой
позиции есть одна общая черта, которую Хайдеггер называет
абсурдной: обе они настаивают на том, что сосуществование
субъекта и объекта, вначале отсутствуя, затем возникает. В самом деле,
идеализм утверждает, что субъект творит объект; реализм же,
напротив, полагает, что объект через посредство каузальных связей
производит субъект. Этим двум позициям противостоит третья,
которая предполагает, что субъект и объект сосуществуют с самого
начала, пребывая в определенном взаимодействии друг с другом.
Такова, например, теория «принципиальной координации»
Авенариуса. Однако Хайдеггер и эту позицию считает
неудовлетворительной из-за ее неопределенности. Желая стать выше идеализма и
реализма, Авенариус оказывается ниже их, потому что отталкивается
от них, сохраняет их субъектно-объектную ориентацию и стремится
гарантировать «права» как идеализма, так и реализма
одновременно, а это невозможно. Сам Хайдеггер, по его словам, не хочет быть
ни выше, ни ниже идеализма и реализма; формулируя свою
концепцию, он совершенно не ориентируется на них, предлагая
собственную постановку вопросов.
Те проблемы, над которыми бьются идеализм и реализм,
адекватно можно поставить и решить лишь тогда, когда оставлены в
стороне понятия субъекта и объекта, когда выявлено Dasein и
исследована его структура, его бытие в мире. И только стоя на этой позиции,
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 721
можно по достоинству оценить относительную правоту и неправоту
как идеализма, так и реализма. Хайдеггер пишет, что всякий
серьезный идеализм прав, видя, что бытие, реальность,
действительность могут быть прояснены только тогда, когда бытие, реальность,
действительность присутствуют, встречены. В то же время всякий
реализм прав в своих попытках сохранить естественное
представление Dasein о наличности мира. Но реализм тут же терпит неудачу,
когда пытается объяснить реальность посредством самой
реальности, в надежде на то, что он может прояснить реальность с помощью
каузального процесса. Таким образом, если реализм берется
строго в рамках научного метода, то он всегда находится на более
низком уровне, чем любой идеализм, даже если этот идеализм доходит
до такой крайности, как солипсизм.
Приведенные оценочные суждения важны как сами по себе, так
и для того, чтобы лучше понять те философские симпатии и
антипатии, которые были у Хайдеггера во время написания марбургских
лекций. Из этих суждений видно, что хотя Хайдеггер отвергает как
сциентизм, так и трансцендентализм, все же последний больше ему
по душе, возможно, из-за того, что к трансцендентализму пришел
в «Идеях» его учитель Гуссерль. Кстати сказать, то учение, которое
предложил Гуссерль в этом произведении, многие
квалифицировали как солипсизм.
6
Хотя Хайдеггер и симпатизирует Гуссерлю в большей степени,
чем сциентистам, он все же его критикует; и не только за идеализм,
но и за абстрактно-теоретический стиль философствования. <...>
Абстрактным теоретизированием грешат и Кант, и Декарт, и
другие предшественники Гуссерля. <...> Гипертрофия теоретизма
утвердилась в западной культуре с давних пор: и в античные
времени, и в Средневековье, и в Новое время человек определяется как
homo animal rationale; он противопоставляется природе как субъект
познания объекту познания. <...> Между тем, как утверждает
Хайдеггер, если надлежащим образом следовать феноменологической
максиме, то откроется совсем иная картина: человек предстанет
не как отвлеченный созерцатель природы, а в первую очередь как
заинтересованный в окружающем его мире деятель. Изначально
человек не теоретик, а практик, и теоретическое познание — отнюдь
не изначальная и не основная форма контакта человека с миром.
Познание, по Хайдеггеру, не изначально, а производно; ему
предшествуют различные виды «предзнания»: предрасположение,
настроенность, осмысление, обозначение, референция, понимание
722
Я. А. Слинин
и др. Теоретическое познание — это сравнительно поздняя,
опосредованная другими формами форма ориентации человека в мире.
Человек как Dasein всегда осознает себя уже находящимся в мире,
уже как-то ориентирующимся в нем, что-то знающим о нем, всегда
заинтересованным в нем. Изначальное знание о мире — это, по Хай-
деггеру, инструментальное знание; прежде всего мы интересуемся
вещами не в качестве абстрактных объектов природы, а в качестве
вещей, которые каким-то образом могут быть использованы и
употреблены. Чисто теоретическое, научное, познание вещей вторично
и опосредовано первичным, «практическим», их познанием. Такая
постановка вопроса наводит на мысль о неожиданной близости Хай-
деггера к марксизму с его упором на практику; тут, по-видимому,
сказалось влияние Дильтея и философии жизни.
<...> Мир, в котором человек обнаруживает себя в качестве
Dasein, устроен иначе. В нем Dasein занимает центральное место.
Ближе всего к Dasein — то, что Хайдеггер называет подручными
(zuhanden) вещами. Он описывает мастерскую ремесленника, в
которой находятся различные инструменты и материалы.
Башмачник воспринимает молоток, шило, дратву и кожу не как предметы
с определенными свойствами, а как вещи, предназначенные для
того-то и того-то, с которыми нужно обращаться так-то и так-то. Свои
подручные вещи имеются у всякого Dasein; они образуют мир,
окружающий его непосредственно, мир его повседневных ближайших
интересов и занятий — подручный мир (Werkwelt). Вещи, входящие
в мой подручный мир, встречаются мне в первую очередь, в них я
насущным образом заинтересован, я всегда с ними, они мне хорошо
знакомы. У них есть, конечно, своя природная сторона, но она
отступает на второй план; для меня эти вещи суть прежде всего
сгустки связей и отношений, способных обеспечить мои настоятельные
потребности. Я воспринимаю такие вещи при помощи своих
ощущений и разума, но не как изолированные созерцаемые вещи, а как
включенные в густую сеть референций моего подручного мира. В их
восприятии участвуют также и мои пресуппозиции, мое знакомство
с миром, мое настроение, мои сегодняшние цели и
заинтересованности.
Подручный мир постепенно переходит в окружающий мир
(Umwelt), который содержит в себе и такие вещи, без которых я могу
обойтись, которые не входят в круг моих непосредственных
интересов и нужд. Но и этот мир не является природой физиков. Он
именно окружает меня. Хайдеггер именует вещи этого мира
наличными (vorhanden); основным у них является то, что они
присутствуют, встречаются Dasein. Dasein занимает центральное положение
в окружающем его мире. Этот мир также имеет свою природную
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 723
сторону, но это лишь одна из его сторон, и притом не главная. Он
пронизан связями, отношениями и референциями, ведущими
к Dasein. Dasein заинтересовано не только в своем тесном
подручном, но и во всем окружающем его мире. Окружающий мир полон
для меня значений и смыслов; значимость, осмысленность,
знаменательность (Bedeutsamkeit) — вот его основные черты. В этом мире
я действую, понимаю, познаю. Но познаю я его не чисто
теоретически; я познаю его на основе и в контексте своих пресуппозиций
и предрасположений, ибо у меня имеется предзнание о нем: ведь
бытие в мире — изначальная характеристика Dasein. Я изначально
нахожу себя уже существующим в мире наличных вещей; он мне в
некотором роде знаком еще до всякого понимания и познания. Umwelt
и Werkwelt не отделены друг от друга четко проведенной границей;
подручный мир представляет собой часть окружающего. В
смысловом отношении — это центральная его часть: вещи подручного мира
ближе, теснее связаны с моим Dasein. Но и в пространственном
отношении я и мой подручный мир — центральная часть всего
окружающего мира.
По Хайдеггеру, пространственность — это одна из
многочисленных связей и референций, соединяющих Dasein с окружающим его
миром. Ее рассмотрение позволяет понять, насколько кардинально
структура хайдеггеровского Umwelt отличается от структуры
природы Галилея — Эйнштейна. В самом деле, физическое,
природное, пространство не имеет никакого центра, и все его точки
абсолютно равноправны, между тем как пространство хайдеггеровского
Umwelt строго центрировано: Dasein является исходной точкой
отсчета всех расстояний. Хайдеггер настаивает на том, что такие
фундаментальные характеристики, как близость и удаленность,
направление, дистанция, ориентация, место, район, стали неотъемлемыми
характеристиками пространства только благодаря изначально
особому положению Dasein в окружающем его мире. Только из-за этой
конструкции моего In-sein я понимаю, что такое «здесь», что такое
«там», что такое «ближе», что такое «дальше» и т. п.
Такие общие структурные черты, как пространственность,
«окружаемость» (Umhaftetes), осмысленность, открытость (Ent-
decktihkeit), придают миру Dasein то, что Хайдеггер обозначает
общим термином «мирскость» (Weltichkeit). Если мысленно отбросить
все черты «мирскости», то мир превратится в природу. Хайдеггер
называет природу «обезмиренным» миром. В обезмирении мира
повинны, по Хайдеггеру, и гуссерлевская феноменология, и
естественнонаучное мировоззрение. Природа по сравнению с миром — это
плод абстракции; это то, что остается от мира, если воспринимать
его чисто созерцательно. Ясно, что это совсем не то, что открывается
724
Я. А. Слинин
Dasein, когда оно, по-настоящему следуя феноменологической
максиме, переходит zur Sache selbst; в лучшем случае природа — только
часть подлинной картины мира. Между тем именно созерцательно
полученная картина мира, то есть природа, считается аутентичной.
Так, Гуссерль в «Идеях» полагает, что вещь дана аутентично, в своем
«телесном присутствии» (Leibhaftigkeit) тогда, когда она
воспринята перцептивно и при этом интеллектуально схвачена ее сущность.
При таком подходе опускаются эмоциональные, инструментальные
и другие связи вещей с Dasein, не принимаются во внимание те
специфические взаимоотношения между вещами, которые позволяют
им «окружить» Dasein, составляя при помощи значений и
смыслов сконструированный Umwelt, в котором вещи скреплены
заинтересованностью Dasein в них. Правда, Гуссерль предусматривает
в ноэме слои, зависящие от эмоционального, волевого, оценочного
и других отношений субъекта к воспринимаемому объекту, но эти
слои он относит к периферии ноэмы, считая субъективными
добавками; объект же как таковой входит в поэму в виде ее ядра, которое
дается чисто перцептивно и интеллектуально. В «вещный» мир
объектов как таковых, получаемых при помощи синтезов
идентификации, никакие субъективные факторы, по Гуссерлю, не проникают.
Хайдеггер же считает такие моменты, как осмысленность,
заинтересованность, инструментальность, неотъемлемыми чертами
вещного мира. Научная методология тоже не допускает подмешивания
субъективных моментов к миру вещей как таковых. Чтобы получить
подлинную картину природы, ученые всеми средствами стараются
свести к минимуму фактор наблюдателя в эксперименте. С научной
точки зрения картина природы тем менее аутентична, чем больше
в этой картине чувствуется влияние человека, субъекта. Мир, как
он непосредственно представляется человеку, окружающий
человека, ученые считают неподлинным; он, с их точки зрения, не что
иное, как вырожденная, неполная, искаженная природа. Позиция
Хайдеггера прямо противоположна описанной. Он утверждает, что
неподлинной и даже непонятной является научная картина мира.
Во-первых, это природа неполна по сравнению с миром; во-вторых,
это она представляет собой искаженную картину мира, поскольку
ученые предусматривают лишь чисто причинные связи между
вещами, признают лишь «объективные» законы природы. По Хайдег-
геру, понятно только то, что может быть встречено: поэтому научная
картина природы в корне непонятна, ибо нигде и никогда не
встречаются чисто природные вещи в их чисто телесном присутствии,
равно как нигде нельзя наблюдать чисто причинные зависимости.
Иными словами, понятно, как наука строит свою картину мира;
понятны ее теории, доказательства, вычисления. Но то, что получа-
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 725
ется в результате, непонятно, если предъявлять к нему требования,
которые могут быть предъявлены к аутентичной картине мира.
Научная картина природы — это в лучшем случае занятная сложная
абстрактная конструкция, не имеющая прямого отношения к
описанию реального положения вещей в мире. Только в таком качестве
она и может быть понята. О ней можно серьезно говорить только как
о феномене истории культуры и задаваться вопросом, почему
подобный феномен возник, что он означает для людей, какова его судьба
в будущем.
7
Природа в том виде, в каком ее представляет себе наука, начисто
деперсонализирована; таков же и мир интенциональных объектов
Гуссерля в «Идеях чистой феноменологии», если брать его как
таковой, отвлекаясь от механики его конструирования
трансцендентальным субъектом. Хайдеггер считает это обстоятельство недостатком;
свою философию он хочет строить на принципах персонализма. Он
упрекает Гуссерля за то, что тот мало внимания обращал на
персонализм Дильтея. Мир в концепции Хайдеггера тотально
персонализирован: это целиком и полностью мир Dasein. Любая вещь этого мира
имеет то или иное отношение к Dasein. Dasein является принципом
упорядочения мира. Мир окружает Dasein, концентрируется вокруг
него, причем не только пространственно, но и с точки зрения
заинтересованности Dasein в той или иной вещи. Ближе всего к нему в этом
отношении — вещи подручного мира; что касается вещей, входящих
в Unweit, то они располагаются с большей или меньшей степенью
отчетливости, в зависимости от степени заинтересованности в них
Dasein, на слитном фоне вещей, в которых оно совсем не
заинтересовано.
Невозможно отделаться от впечатления, что Хайдеггер строит
свой Umwelt аналогично тому, как психологи описывают структуру
сознания индивидуума. Только у Хайдеггера текучие и эфемерные
структуры сознания как бы одеревеневают, приобретают жесткость
форм бытия. Хайдеггеровское существование Dasein в мире
выглядит как одеревеневшая психика индивида. Недаром Хайдеггеру
импонирует больше солипсизм, чем реализм. Ввиду
бросающегося в глаза структурного сходства бытия Dasein в мире и много раз
описанной психики человека, Хайдеггер с особенной
настойчивостью утверждает, что мир, окружающий Dasein, безусловно реален.
В марбургских лекциях есть специальный раздел, посвященный
реальности внешнего мира. Правда, большая часть содержания
данного раздела — это разъяснение того, чем хайдеггеровское понимание
726
Я. А. Слинин
реальности отличается от того, как ее понимали его
предшественники. Прежде всего, реальность внешнего мира, по Хайдеггеру, не
нуждается в ее доказательстве (в противоположность тому, что думал
по этому поводу Декарт) или в вере в нее (вразрез с мнением Диль-
тея на этот счет). Реальность внешнего мира дается непосредственно
вместе с самим Dasein, в виде его бытия в мире. Затем реальность
реального («мирскость» мира) не может определяться на базе бытия
объектом, бытия воспринимаемым. Только интерпретация в
терминах встречи с отдельными сущими может обеспечить реальность
бытия этих сущих. Не следует, далее, интерпретировать реальность
как существующую «в себе». Понимание мира как существующего
«в себе» не является первичным и изначальным, в
противоположность общепринятому мнению на этот счет. На самом деле, оно
производив и представляет собой реакцию на утверждение, что
реальность — это всегда воспринимаемая реальность. Если рассуждать
не в терминах субъекта и объекта, а в терминах встречи, то понятие
«существования в себе» вообще не возникает. Далее, не надлежит
понимать реальность по преимуществу в терминах «телесного
присутствия» воспринимаемого. Об этом уже говорилось выше. Такое
чисто теоретическое понимание реальности ведет к установлению
искаженных, неадекватных взаимосвязей между вещами внешнего
мира, к несовершенной его осмысленности. Хайдеггер пишет, что
традиционные категории, при помощи которых всегда определялись
вещи, такие как субстанция, акциденция, свойство, причинность,
берут свое начало именно в этой несовершенной осмысленности.
Наконец, реальность не может быть адекватно интерпретирована при
помощи феномена сопротивления, как объект приложения силы
и энергии. Так интерпретирует реальность Шелер, и Хайдеггер
вначале соглашался с ним, но в марбургских лекциях он пишет о
неадекватности подобного истолкования.
Совершенно очевидно, что хайдеггеровские разъяснения по
поводу того, как надлежит понимать реальность внешнего мира, только
подчеркивают структурное сходство сконструированного им мира
и психики человека в том виде, в каком ее описывают психологи.
Для того чтобы, несмотря на это сходство, утвердить реальность
построенного им мира по существу, Хайдеггер применяет, по сути
дела, одно простое, но представляющееся ему вполне эффективным
средство. Надо рассуждать не в терминах субъекта и объекта, а в
терминах бытия и говорить не о восприятии, не о «схватывании»
объектов субъектом, а о встрече одного бытия с другими, о встрече Dasein
и прочих Seiendes. Тогда исчезнет само понятие сознания, как и
понятие независимо от него «в себе» существующей природной
реальности. Останется лишь одна-единственная реальность — бытие в его
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 727
различных формах. Восприятие, понимание, познание предстанут
тогда как разновидности встречи различных равноправных и в этом
смысле независимых друг от друга форм бытия. Это разновидности
встречи некоторой особого рода формы бытия, Dasein, с такими его
формами, как подручные и наличные вещи.
Все вроде бы сходится, но как оценить эти хайдеггеровские
замены одних терминов другими, напоминающие манипуляции актеров
в пьесе с переодеваниями? Помогают все эти переименования, все
эти легкие, подчас совсем незаметные смещения значений,
смыслов, акцентов разрешению тех вечных фундаментальных проблем,
которые накопились за всю историю существования традиционной
философии, или же они служат только замазыванию и отодвиганию
в сторону этих проблем, их заставлению (Ver-stell) и тем самым
сокрытию, если применить терминологию Хайдеггера?
8
Dasein отличается от вещей окружающего его мира не только
своим центральным положением в нем, но и по существу. Dasein и
наличная вещь — это именно различные формы бытия. Еще
Аристотель научил нас тому, что относительно чего угодно можно задать
два вопроса: 1) существует ли оно? 2) что оно такое? Но Хайдеггер
заявляет, что полноценно эти вопросы могут быть отнесены
только к чему-то сущему в форме вещи, но не к сущему в форме Dasein.
Дело в том, что задаваемые вопросы предполагают определенную
структуру сущего, к которому они относятся. В нем должны быть
две стороны: существование (первый вопрос) и сущность (второй
вопрос), или иначе говоря: экзистенция и эссенция. У вещей
экзистенция и эссенция четко отделяются друг от друга. Одно дело —
наличное существование этого, например, стула, а другое дело — вопрос
о том, что он такое. Ответ на этот вопрос предполагает перечисление
свойств и признаков, определяющих данный предмет. В
традиционной философии — это относится и к Античности, и к
Средневековью, и к Новому времени — «я» интерпретируется «вещеобраз-
но»: вспомнить хотя бы res cogitans Декарта. Субъект, душа — это
все те же вещеобразные трактовки «я». Хайдеггер считает их в
корне неверными. Важнейшим отличием Dasein от вещей, типа стола
или стула, он считает то, что у него нет никакого «что», отличного
от его бытия. Его сущность состоит в том, что оно существует; то,
что Dasein собой представляет, есть именно его бытие. У Dasein,
в отличие от стола или стула, нет никакого содержания,
наполняющего его «что»; его «что» тождественно с его бытием. Если быть
пунктуально точным, то у Dasein вообще нет «что», а есть «кто».
728
Я. А. Слинин
«Кто» Dasein тождественно с его бытием. «Моя эссенция есть моя
экзистенция» — этот имеющий оттенок парадоксальности афоризм
сформулировал, кажется, Сартр. Как видим, он мог быть
сформулирован, исходя уже из текста марбургских лекций Хайдеггера.
Хайдеггеровский тезис о том, что моя сущность сводится к моему
существованию, произвел известное впечатление на современных
философов. Сартр даже предложил всех, кто его разделяет, назвать
экзистенциалистами; таким способом основалось даже отдельное
философское направление — экзистенциализм. Хайдеггер, как
известно, всегда протестовал, когда его относили к экзистенциалистам.
Не для того, чтобы организовать еще одно философское течение, он
выдвинул свой тезис. В концепции Хайдеггера периода
марбургских лекций первым следствием данного тезиса является то, что,
хотя Dasein и существует в мире, оно не входит в мир в качестве его
части, в противоположность столам, стульям и прочим подручным
и наличным вещам. Dasein не обладает «мирскостью»: ею обладают
только подручные и наличные вещи. Dasein не представляет собой
чего-то относительно прочного и постоянно пребывающего, каковы
вещи с их неизменной сущностью. Хайдеггер говорит, что Dasein,
«кто», не есть вещь, не есть нечто «мирское», а есть только способ
быть (Weise zu sein).
Итак, имеется мое Dasein, которое не является вещью, не
обладает сущностью, а обладает только бытием, и имеются вещи,
у которых есть и сущность, и бытие. Но это не все. В марбургских
лекциях есть раздел «"Кто" бытия в мире», по прочтении которого
выясняется, что понятие «кто» у Хайдеггера не совпадает по
объему с понятием «я»: понятие «кто» шире понятия «я». В
пронизанном многообразными смысловыми связями и отношениями
окружающем мое Dasein мире можно обнаружить множество значений
и смыслов, указывающих на присутствие других Dasein. Хайдеггер
называет их co-Dasein (Mitdasein); они суть мои «со-бытийники»,
мои собратья по существованию в мире. Хайдеггер замечает, что
уже при рассмотрении того, что собой представляет окружающий
мир ремесленника, появляется феномен социального мира. Кто-то
изготовил материал, из которого башмачник тачает башмаки, равно
как и инструменты, при помощи которых он это делает; свою
продукцию он производит не для себя, а для кого-то. Все эти «кто-то»
существуют в мире вместе со мной. Но даже если рядом никого нет,
я ощущаю присутствие других через посредство наличествующих
в окружающем мире вещей общего пользования, через посредство
многочисленных социальных отношений и связей, сообразно с
которыми я обязан действовать повседневно. Они пронизывают не
только окружающий, но и мой подручный мир. Хайдеггер считает, что
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 729
их наличие в гораздо большей степени, чем непосредственные
встречи с другими, свидетельствует о том, что мой мир — не только мой,
но и мир других. Это очень важный пункт хайдеггеровской
философии: мир Dasein и мир co-Dasein — это один и тот же мир. Не
менее важно и следующее: по Хайдеггеру, другой существует в мире
прежде всего не как субъект или личность. «Субъект» и «личность»
суть неадекватные понятия традиционной философии. В мире
я встречаю других не в качестве абстрактных субъектов или
личностей, а в поле, за работой, на прогулке — всегда заинтересованными
в окружающем их мире, всегда в их «In-sein».
То обстоятельство, что в мире присутствуют другие Dasein, co-
Dasein, дает моему Dasein новое измерение бытия. Оно становится
не только In-sein (бытием в чем-то), но и Mitsein — бытием с кем-
то. Бытие в чем-то и бытие с кем-то — две равноправные, не
сводящиеся друг к другу изначальные характеристики Dasein.
Поскольку co-Dasein по своей структуре суть равноправные Dasein, у них
тоже наличествуют свои In-sein и Mitsein. Существование моего
Dasein в мире, в котором существуют и co-Dasein, Хайдеггер
называет «бытием друг с другом» (Miteinandersein). Бытие друг с другом
обеспечивает возможность взаимной открытости, оно представляет
собой заинтересованность друг в друге, осуществляющуюся через
посредство окружающего мира, опосредованную миром вещей
зависимость друг от друга.
Из всего сказанного ясно, что co-Dasein других встречаются
моему Dasein в мире, но не как наличные или подручные вещи, хотя
и через их посредство. Будучи полноценными Dasein, co-Dasein
не суть вещи, в них нет никакой «мирскости», они не являются
частями мира. Как и мое Dasein, они представляют собой лишь
различные способы существования. Тем не менее они могут быть
встречены в мире, и это означает, что факт встречи чего-то еще ничего
не говорит о форме бытия встреченного нечто. Не обязательно это
вещь. Хайдеггер перечисляет четыре формы бытия: подручное,
наличное, co-Dasein и мое Dasein. Он пишет, что сначала хотел
описать все четыре формы бытия посредством термина «мир». В мире
он хотел выделить мир вещей, совместный с другими мир (Mitwelt)
и «мой мир», в котором я как бы встречаюсь исключительно сам
с собой. В таком духе он даже излагал материал студентам в своих
ранних лекциях. Но затем он пришел к выводу, что такой способ
изложения неадекватен предмету изложения. Терминология тут
такова, что мир вещей, мир других и мой мир предстают как
равноправные в онтологическом плане, и это провоцирует на то, чтобы
трактовать других и меня самого «вещеобразно». Между тем другие
хотя и встречаются в мире, но в них нет «мирскости», у них не такой,
730
Я. А. Слинин
как у вещей, онтологический статус. Поэтому не следует обозначать
все множество других как «совместный с ними мир». Так же далек
от онтологического статуса вещей и онтологический статус моего
Dasein. В марбургских лекциях термин «мир» Хайдеггер закрепил
только за вещами, наличными и подручными. Они, и только они,
составляют мир, являются его частями, обладают «мирскостью».
Dasein и co-Dasein, существуя в мире, представляют собой лишь
специфические способы бытия, не более того.
9
Хайдеггеровское учение о других, о моем сосуществовании
с другими является, безусловно, новаторским и по существу, и
тематически, и терминологически. Никто до Хайдеггера так не
ставил социальную проблему. Мы встречаем учения о других у
Гуссерля и у Сартра, но они созданы позже соответствующего учения
Хайдеггера, стимулированы им, являются реакцией на него, хотя,
может быть, именно поэтому во многом более изощрены и
рафинированы, по сравнению с хайдеггеровским. У Гуссерля в «Идеях»
нет даже намека на проблему других; ее он ставит и по-своему
решает только в «Картезианских размышлениях», вышедших в свет
позже «Бытия и времени» Хайдеггера. У Сартра проблема других
разработана впервые в «Бытии и ничто» (1943). Если говорить
об отличиях хайдеггеровского учения о других от гуссерлевско-
го и сартровского, то одним из основных таких отличий является
наличествующая уже в марбургских лекциях знаменитая система
положений о «das Man», которую Гуссерль и Сартр, мягко говоря,
не подхватили.
Хайдеггер ставит вопрос: кто является подлинным «Кто»
нашего повседневного бытия друг с другом? И отвечает: das Man, любой.
В самом деле, подавляющее большинство моих повседневных
взаимосвязей с другими таково, что в любом деле я могу в принципе
быть заменен любым другим, а я, в свою очередь, могу заменить
любого другого. Система общественных отношений устроена так,
чтобы в идеале каждый мог заменить каждого, чтобы всякий
удовлетворялся тем, чем удовлетворяются другие, чтобы всех устраивали
одни и те же общественные институты. Намеренно гипостазируя эту
черту нашего бытия друг с другом, Хайдеггер и говорит, что
подлинным «Кто» такого бытия является Любой. Разумеется, что
бытие друг с другом является в первую очередь характеристикой моего
Dasein, но характеристика эта в том и состоит, что в
сосуществовании с другими я выступаю как Любой; тут выявляется коренная
черта моего Dasein, моего «я»: в своем бытии с другими я причастен
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 731
Любому, в основе моего социального бытия лежит Любой.
Сказанное относится не только к моему Dasein, но и ко всякому co-Dasein,
откуда вытекает, что Любой является некоей общей единой основой
всех Dasein, неким общим единым «Кто».
Этот «Кто» не является вещью среди вещей окружающего мира,
он даже не обладает никаким телом, так что, отвечая на вопрос:
«Где он, этот "Кто"?», нет возможности указать пальцем: «Вот он?»
В этом смысле он просто «Никто». И, однако, он очевидным образом
присутствует и энергично действует в мире. Следы его
деятельности находятся повсюду: это заводы, фермы, магазины, бани,
шахты, театры, музеи, библиотеки, стадионы, муниципалитеты,
общественный транспорт и т. д. Он присутствует не только в мире вещей,
но и в ментальном мире, оставляя следы в виде общих норм права
и морали, общепринятых мнений, здравого смысла и т. п. Это же
касается мира наших чувств, эмоций, жизненных целей и
ценностей — Любой находится в основе буквально каждой стороны
Dasein. Он формулирует в повседневном бытии друг с другом все то,
что в самом строгом смысле слова может быть названо социальным,
общественным. Хайдеггер называет три основные черты отдельных
Dasein, проявляющиеся в их повседневном совместном
существовании и позволяющие им сосуществовать на уровне Любого:
изолированность, усредненность и одинаковость. Уже говорилось о том, что
окружающий меня мир не только мой, но и мир других; теперь ясно,
как он устроен: это поистине наш общий мир, базирующийся на
нашей атомарности, усредненности, одинаковости,
взаимозаменяемости, — мир каждого из нас как Любого.
Как мы помним, Хайдеггер упрекал Гуссерля за то, что его
феноменология недостаточно персоналистична, и обещал перестроить
ее в духе персонализма. Теперь есть возможность оценить
своеобразие персонализма Хайдеггера. Выясняется, что для него общий мир
онтологически первичнее миров отдельных Dasein. Он пишет, что
мир изначально дан как общий мир. Дело обстоит не так, что
вначале существуют индивидуальные субъекты, каждый из которых
в любой данный момент времени имеет свой собственный мир, и что
затем возникает задача каким-то способом собрать вместе
различные отдельные миры индивидуумов и договориться о том, как
можно было бы получить общий мир. Именно таким образом философы
представляют себе положение вещей, когда начинают хлопотать
по поводу построения интерсубъективного мира. Мы же, заявляет
Хайдеггер, говорим, в противоположность всему этому, что самая
первая вещь, которая дана, — это общий мир с его Любым, тот мир,
которым всякое отдельное Dasein так поглощено, что еще не
пришло к самому себе; оно может даже постоянно существовать в таком
732
Я. А. Слинин
виде, никогда не приходя к самому себе. О конструировании
реального мира как интерсубъективного говорится в конце
«Картезианских размышлений» Гуссерля. Эта идея была, по-видимому,
известна Хайдеггеру из личных разговоров с Гуссерлем уже к моменту
написания марбургских лекций. Так что перед нами здесь скрытая
полемика Хайдеггера с Гуссерлем. Общественное, социальное, для
Хайдеггера первичнее индивидуального; изначально и безусловно
существует общественное, а индивидуальное возникает уже потом,
на его основе, если вообще возникает. Хорош персонализм! Если он
тут и присутствует, то лишь в плане противопоставления
практического теоретическому, досознательного сознательному,
инстинктивного рациональному. Хайдеггер против всяких там «робинзонад»
с первичностью обособленных миров отдельно взятых индивидов.
Только общий всем мир существует изначально, не требуя
никаких обоснований; первично общество, государство, этот
многоголовый Левиафан. Хайдеггеровская концепция снова напоминает нам
о марксизме и философии жизни.
Надо отдать должное Хайдеггеру: утверждаемый им приоритет
общего всем существования над индивидуальным вовсе его не
радует. Если Dasein целиком и полностью поглощено миром das Man,
то его существование Хайдеггер считает неаутентичным.
Аутентичным является индивидуальное бытие Dasein. Для того чтобы
приобрести собственную индивидуальность, чтобы прийти к самому себе,
нужно затратить известные усилия и иметь известную смелость.
Однако никто не обязан стремиться к аутентичному существованию:
оно всего лишь один из возможных способов бытия. Если человек
хочет, он может сознательно оставаться на уровне Любого, хотя, с
точки зрения Хайдеггера, такой выбор означает деградацию Dasein.
Впрочем, подобный выбор обеспечивает и немалые преимущества,
настолько немалые, что большинство людей, по Хайдеггеру, живут
вполне сознательно на уровне das Man. В чем тут дело? Оно в том, что
аутентичное бытие в понимании Хайдеггера обладает своеобразной
особенностью: оно устрашает и ужасает. Ведь чтобы существовать
аутентично, необходимо быть совершенно индивидуальным, то есть
быть абсолютно оригинальным и ни с кем не взаимозаменяемым.
Как мы уже имели возможность догадаться, взаимозаменяемость
Хайдеггер понимает предельно широко. Он понимает ее как любую,
пусть даже самую абстрактную, возможность замены одного чело*
века другим. Но такая возможность найдется в любом деле и в
любой ситуации. Кроме одной. Как пишет Хайдеггер, никто не может
заменить другого в его смерти. Смерть — это единственный
абсолютно индивидуальный «поступок» человека; одновременно это
его последний поступок. По Хайдеггеру, смерть — это последняя
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 733
возможность человека; она делает его существование законченным,
при этом прекращая его. Тут выявляется еще одно важное отличие
Dasein от вещей. Когда вещь приобретает законченность и полноту,
она становится самой собой и делается впервые доступной в таком
качестве. Когда Dasein достигает полноты и законченности, оно
исчезает, становится недоступным. Пока Dasein существует, оно
незаконченно и неполно. Таким образом, аутентичным существованием
Dasein является открытое и сознательное принятие своей последней
и неизбежной возможности — смерти; его Хайдеггер именует
бытием к смерти. Только в моем бытии к моей собственной смерти
аутентично выявляется то, что это именно я существую, а не кто-нибудь
другой: никакой иной возможный способ моего бытия не способен
обнаружить именно мое существование во всей его подлинности.
Поэтому Хайдеггер заменяет декартовское cogito sum формулой:
sum moribundus. Теперь ясно, почему лишь немногие избранные
хотят жить аутентично: ведь смерть страшна. Существовать
аутентично означает всю жизнь мужественно смотреть в глаза
собственной смерти; на это способен не каждый. Большинство предпочитает
погрузиться в das Man, раствориться в нем, отождествиться с ним:
ведь оно не умирает, оно бессмертно. Лучше с головой
погрузиться в общественные дела, полностью подчинить себя общественным
интересам. Тогда перспектива собственной смерти, эта ужасная
последняя возможность, затемняется и куда-то отодвигается, хотя бы
временно исчезает из виду. Такое существование неаутентично,
но более спокойно.
Однако все равно повседневное бытие Dasein, по Хайдеггеру, —
это забота (Sorge). Да и страх всегда подспудно сопутствует
человеку в жизни: в ней много пугающих обстоятельств. Но именно страх
смерти лежит, по Хайдеггеру, в основе всех страхов. На уровне das
Man, когда человек поглощен суетой и заботами, страх смерти
непосредственно проявляется как некая беспредметная боязнь (Angst).
Когда человеку нечего бояться, но он все же боится, тогда он боится
«Ничто» ; сам того не сознавая, он страшится погрузиться в «Ничто»,
уничтожиться. Эта постоянно присутствующая беспредметная
боязнь делает человеческое существование тревожным (unheimlich).
Тревога — это, по Хайдеггеру, одна из составляющих заботы как
повседневного бытия Dasein. В марбургских лекциях он анализирует
еще две составляющие заботы: открытость (Entdesktheit) и
деградацию (Verfallen). Что касается открытости, то эта сторона Dasein
включает в свой состав настроение (установку), восприятие,
понимание, познание (интерпретацию), рассуждение, разговор, язык.
Деградацией именует Хайдеггер «бытовую» сторону Dasein,
связанную с участием в непосредственных, поверхностных общественных
734
Я. А. Слинин
отношениях; сюда он включает болтовню, любопытство,
двусмысленность.
10
Мы не будем входить в детали этой самой «экзистенциалистской»
части философии Хайдеггера. Она вызвала наибольший интерес
современников и хорошо известна. В «Бытии и времени»
соответствующий материал изложен близко к тексту марбургских лекций.
Отметим только, что все приведенные многочисленные и, казалось бы,
хорошо знакомые социально-психологические термины
употребляются Хайдеггером в необычном смысле. Все они онтологизированы;
каждый из них обозначает некоторую характеристику бытия. Для
нас важно то, что в связи с этим само понятие бытия оказывается
у Хайдеггера необычным. Оно становится отличным от того
понятия бытия, которое употребляется в традиционной философии,
с трудом сравнимым с ним. Вот что сам Хайдеггер думает по этому
поводу в связи с введением в рассмотрение термина «забота». Этот
термин, по его мнению, адекватно обозначает бытие Dasein.
Забота имеет, как мы уже знаем, определенную формальную структуру.
Хайдеггер и говорит, что анализ Dasein в отношении его бытия
показывает, что «бытие» вовсе не является простым и тем более
простейшим понятием, каким его считает традиция. При определении
бытия традиция естественным образом исходит из образующих мир
сущих и формализует бытие мира путем отвлечения от
составляющих мир отдельных вещей, чтобы получить таким образом
формальное понятие. Между тем, возражает Хайдеггер, определение
строения заботы показывает, что этот феномен, который аутентично
выражает бытие, имеет составную структуру. Значит, бытие Dasein,
которое целиком и полностью определяется заботой, не может быть
выражено простым понятием. И значит, простым понятием не
может быть выражено бытие как таковое. В лучшем случае им
выражается лишь одна из форм бытия — бытие вещей. В хайдеггеров-
ском мире простое понятие бытия приложимо только к подручным
и наличным вещам, в то время как бытие моего Dasein и всех его
co-Dasein нуждается в составном. Роковую ошибку традиционной
философии Хайдеггер видит в том, что она все формы бытия так или
иначе сводит к одной — вещной. Это непоправимо искажает всю
онтологию мира: вместо Dasein в нем появляются вещеобразные душа,
сознание, субъект. <...>Переосмысливая понятие бытия,
Хайдеггер порывает со всей предшествующей философией. Как мы
видели выше, он идет на это сознательно. Но понятие бытия настолько
фундаментально, что при его переосмыслении теряется даже общий
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 735
язык с предшественниками, становится невозможным обсуждать
их проблемы, критиковать их. Этот момент Хайдеггером явно
недооценивается, поскольку и в марбургских лекциях, и в более
поздних произведениях он много и детально критикует традиционную
философию, не замечая того, что его критика по большей части
не является критикой по существу, имеет чисто декларативный
характер. Этого мало: на традиционном понятии бытия строится наш
естественный язык, его синтаксис и семантика. Хайдеггер хотел бы
всюду пользоваться новым переосмысленным понятием, но старое,
независимо от него, проскальзывает в его текст, например, через
посредство связки «есть» или другими путями. Это порой приводит
к тяжелым двусмысленностям, которые с трудом поддаются
обнаружению. Постепенно Хайдеггер все сильнее стал чувствовать
сопротивление языка, который упорно не желал адекватно выражать то,
что ему хотелось. Поэтому его поздние тексты так изобилуют
критикой современного обиходного языка, разного рода языковыми
экспериментами, прославлением поэтического и метафорического
способов выражаться, этимологическими изысканиями в области
древнегреческой лексики. Конфликт Хайдеггера с языком вызван,
разумеется, не только его новаторской трактовкой понятия
«бытие» , однако данное обстоятельство сыграло тут не последнюю роль.
Кстати, лишь двусмысленностью употребления слова «бытие»
можно объяснить кажущуюся, как теперь понятно,
парадоксальность «экзистенциалистской» формулы Хайдеггера: «Сущность
Dasein состоит в его бытии». Парадоксальной она была бы лишь в том
случае, если бы «бытие» понималось исключительно как простое
понятие. Если же поверить Хайдеггеру, что бывает составное
бытие и что именно таково бытие Dasein, то никакого парадокса нет
и в помине. В самом деле, ведь простота бытия вещи заключается
в том, что на вопрос о ее существовании требуется простой ответ:
«да» или «нет». Зато на вопрос о ее сущности нужно ответить
пространно: нужно перечислить все или хотя бы некоторые
существенные признаки вещи; иначе говоря, надо либо дать ее определение,
либо хотя бы указать род, к которому она принадлежит. Теперь
Хайдеггер говорит нам, что у Dasein нет никакой сущности, а есть
только бытие, но зато составное. Он детально раскрывает состав бытия
Dasein: это забота, состоящая из открытости, деградации, тревоги.
Как мы видели, каждая из сторон заботы, в свою очередь, имеет ряд
составляющих. Невооруженным глазом видно, что составное
бытие Dasein организовано Хайдеггером по образцу сущности вещей.
Налицо устойчивые и определенные признаки, свойства, качества,
сумма которых образует «кто» Dasein, аналогично тому, как
родовые и видовые признаки образуют в сумме «что» вещей. Хайдеггер
736
Я. А. Слинин
не хочет называть открытость, фактичность, страх и другие
подобные признаки существенными признаками Dasein (ведь у него нет
сущности), он предпочитает именовать их экзистенциалами (не в
марбургских лекциях, а в более поздних произведениях), но это
не меняет сути дела, а скорее проясняет ее: Хайдеггер включает то,
что могло бы быть названо сущностью Dasein, в его бытие. Операция
элементарная. Опять простое переименование: то, что у вещей
называется простым бытием и сущностью, у Dasein суммируется и
получает общее наименование составного бытия. Онтологизируя все
и вся, Хайдеггер онтологизирует и сущность Dasein; он, так сказать,
экзистенциализирует его эссенцию. После этих разъяснений тезис
«Моя эссенция есть моя экзистенция» теряет всякий намек на
парадоксальность и становится простой констатацией того факта, что,
согласно Хайдеггеру и его последователям в этом вопросе, моя
сущность входит в качестве составной части в мое существование.
11
Подведем кое-какие итоги. Многого ли достиг Хайдеггер при
помощи всех этих переименований, переодеваний,
переосмыслений терминов в решении тех фундаментальных проблем, решить
которые не удалось, по его мнению, традиционной философии?
По-видимому, не столь многого, как это принято считать. Нет
спора: Хайдеггер — выдающийся мыслитель, его влияние на
современную философию и культуру велико и плодотворно. На многое
он заставил взглянуть по-новому. Но что касается вечных проблем,
претензия покончить с которыми у него, по крайней мере в
молодости, была, то они, кажется, так и остались нерешенными. Иллюзия
их решения, может быть, и есть, но на самом деле все они просто
«задвинуты» и замаскированы. <...>
12
Вообще говоря, общение с Хайдеггером на философском
поприще было для Гуссерля стимулирующим. Как правило, он слабо
реагировал на критику своей философии современниками, но
критическим замечаниям Хайдеггера придавал большое значение. Они
побуждали Гуссерля к лучшему осознанию, дальнейшему
расширению, углублению и более прочному обоснованию своей
феноменологической концепции. В своих поздних произведениях Гуссерль
старался так улучшить эту концепцию, чтобы именно хайдеггеров-
ская критика была учтена. К некоторым идеям Хайдеггера Гуссерль
отнесся позитивно и, не принимая хайдеггеровскую философию
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 737
в целом, включил их после соответствующей переработки в свою
систему. Влияние Хайдеггера на позднего Гуссерля сказалось еще
и в том, что он подталкивал гуссерлевскую мысль к развитию в
таких направлениях, в каких без знакомства с хайдеггеровскими
построениями она вряд ли бы стала развиваться.
Надо сказать, что Гуссерль нигде и никогда не ссылается на
Хайдеггера, однако вполне очевидно, что он, например, посчитал
основательным хайдеггеровский упрек в недостаточной персонали-
стичности, направленный в адрес той концепции феноменологии,
которая изложена в «Идеях». В «Картезианских размышлениях»
он ввел монадный принцип построения трансцендентального
субъекта. Так, в четвертом размышлении субъект трактуется уже не как
абстрактная отправная точка интенций сознания, а как конкретная
личность, у которой должны быть свои особенности, свои состояния.
Это личность накладывает свою печать на организацию мира интен-
циональных объектов, создает в этом мире некую особенную,
зависящую только от нее перспективу. Центральное положение и
организующая роль субъекта в мире интенциональных объектов, описанные
Гуссерлем в «Картезианских размышлениях», очень напоминают
центральное положение и организующую роль Dasein в мире
подручных и наличных вещей у Хайдеггера. Особенности и состояния
субъекта в новой концепции Гуссерля напоминают хайдеггеровские
«экзистенциалы» Dasein. Несомненно, не без влияния Хайдеггера
Гуссерль пришел и к выводу о том, что в его учении недостаточно
разработан вопрос о других трансцендентальных субъектах, что он
недостаточно защищен против обвинения в солипсизме. В тех же
«Картезианских размышлениях» почти все обширное пятое размышление
посвящено проблеме других, которая в качестве отдельной проблемы
впервые была поставлена, как мы знаем, именно Хайдеггером.
Но самая основа, самая суть концепции, изложенной в «Идеях
чистой феноменологии», в полемике с Хайдеггером у Гуссерля
только упрочилась. В своих поздних работах Гуссерль со всей
определенностью заявляет себя трансценденталистом. <...> Гуссерль не
склонен разделить надежду Хайдеггера на то, что все вечные проблемы
будут решены, если переписать философию в терминах бытия; он
не считает нужным отвергать классическую постановку этих
проблем. В «Картезианских размышлениях» Гуссерль с гораздо
большей настойчивостью, чем в «Идеях», подчеркивает, что истоки его
феноменологии находятся в философии Декарта. Он объясняет,
в чем состоит сходство и различие декартовского метода сомнения
и трансцендентальной редукции, настаивает на необходимости
последней. В этом произведении Гуссерль открыто квалифицирует
свою философию как трансцендентальный идеализм.
738
Я. А. Слинин
Интересно сопоставить подходы Хайдеггера и Гуссерля к
проблеме других. Хайдеггеру не требуется даже «телесного присутствия»
других для того, чтобы убедиться в том, что они существуют в
окружающем мире. Достаточно среди наличных вещей обнаружить
такие вещи, как молоток, клещи, автомобиль, книга, завод,
библиотека, парламент, чтобы сказать, что другие существуют в настоящее
время, восстановить те общественные связи и отношения, которые
наличествуют между ними, охарактеризовать современное
общество в целом. <...> Если подойти к вопросу с другой стороны, то,
по Хайдеггеру, вообще не требуется ничего наблюдать и ничего
изучать для того, чтобы убедиться в наличии других: ведь, согласно его
концепции, другие изначально уже сидят внутри нас в виде das Man.
Изначально я ощущаю себя не отдельным не похожим ни на кого
индивидуумом, а Любым; осознание собственной непохожести
приходит позже. Единство, общность с другими являются, таким образом,
фундаментом, основой моей личности, меня самого; нет поэтому
никакой необходимости в каком-то специальном доказательстве их
существования.
Не так у Гуссерля. Его даже «телесное присутствие» людей
в мире интенциональных объектов не может само по себе убедить
в реальном существовании других. Ведь для Гуссерля другие — это
другие трансцендентальные субъекты, а другой
трансцендентальный субъект по определению непосредственно мне не доступен.
Конечно, в изобилии встречающиеся мне похожие на мою
психофизические структуры могут оказаться косвенным свидетельством
реального существования других трансцендентальных субъектов,
но может быть и так, что они суть просто движущиеся и говорящие
манекены, некие природные роботы, производящие все свои
манипуляции автоматически. Вполне возможно, что за непосредственно
воспринимаемыми мною другими психофизическими
структурами не стоят другие трансцендентальные субъекты. Гуссерль
считает, что они стоят-таки за ними, однако для того, чтобы убедиться
в этом, с его точки зрения, недостаточно тех интуиции, которые
рассматривались в «Идеяхчистой феноменологии». В «Картезианских
размышлениях» наряду с чувственным восприятием и
интеллектуальной интуицией он вводит в рассмотрение независимую от них
новую интуицию, которую называет аппрезентацией и которая дает
знать о том, что присутствующие в моем мире психофизические
структуры суть проявления реально существующих аналогичных
моему и независимых от него других трансцендентальных
субъектов. Аппрезентация дает знать только о существовании других; она
не есть какая-то мистическая интуиция, позволяющая читать
мысли других или быть причастным к их интимным переживаниям; она
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля 739
не есть даже нечто подобное дильтеевскому «вчувствованию». Тем
не менее только ее наличие в моем распоряжении и ее данные
позволяют мне сказать, что я не один в мире.
Вот каким способом Гуссерль избавляет свою философскую
концепцию от солипсизма. Ясно, что по сравнению с Хайдеггером он —
ужасный индивидуалист; при его подходе к проблеме других не
может быть даже намека на какое-то das Man. Если для Хайдеггера
социальное первичнее индивидуального, то для Гуссерля
изначальным безусловно является мое «я», мой трансцендентальный
субъект, к осознанию которого я пришел в результате осуществления
трансцендентальной редукции. Лишь позже, на основании данных
моей аппрезентации, я прихожу к выводу, что реально существует
не только мой трансцендентальный субъект, но и множество других
трансцендентальных субъектов, иными словами — общество, или,
как выражается Гуссерль, «сообщество монад». Таким образом,
индивидуальное для Гуссерля первичнее общественного, и в этом
смысле в «Картезианских размышлениях» он оказывается большим
персоналистом, чем Хайдеггер. Теперь мы можем оценить,
насколько серьезно воспринял Гуссерль хайдеггеровскую критику его
феноменологии времен «Идей» за недостаточную персоналистичность.
<...> Первичной реальностью Гуссерлем наделяются только
трансцендентальные субъекты, которые наделены также
способностью вступать друг с другом в контакт, соглашаться или не
соглашаться друг с другом. Что касается общего им мира, то он выступает
в качестве некоего эпифеномена, возникающего в результате
контактирования трансцендентальных субъектов между собой.
Как мы помним, Хайдеггер выступает против концепции
интерсубъективного мира. Он настаивает на реальности того мира, в
котором существует мое Dasein. Бытие в мире и бытие друг с другом
суть, по Хайдеггеру, равноправные, априорные и независимые друг
от друга характеристики бытия Dasein. У Гуссерля же бытие
трансцендентального субъекта в мире оказывается зависимым от его
бытия с другими, производным от него.
Принципиальная разница между понятием мира в концепции
Хайдеггера и понятием мира в поздней феноменологии
Гуссерля ясна. Что же касается конструкции своего интерсубъективного
мира, его чисто формальных особенностей, то тут Гуссерль многое
заимствует у Хайдеггера. Как мир Dasein у Хайдеггера, так и мир
трансцендентального субъекта у Гуссерля организованы
концентрически. Жизненный мир (Lebenswelt), понятие которого Гуссерль
впервые ввел в «Картезианских размышлениях» и затем подробно
проанализировал в «Кризисе европейских наук», очень напоминает
окружающий мир (Umwelt) Хайдеггера. Мой жизненный мир — это
740
Я. А. Слинин
мир обыденных предметов и связей между ними; он дан мне
непосредственно, он всего ближе ко мне. Мир науки, мир философии,
мир искусства, культуры — все они находятся на периферии моего
жизненного мира. В «Кризисе европейских наук» Гуссерль
выдвинул идею о том, что основой всех теоретических построений науки
Нового времени являются непосредственные очевидности
жизненного мира европейского человечества. «Европейское человечество»
у Гуссерля — условный термин, которым он хотел обозначить
историческое сообщество людей, объединенных тем, что называют
средиземноморской культурой, существующей со времен Античности
до наших дней. Научность он считал одним из основных
отличительных свойств европейского духа, и кризис, связанный с
релятивизмом и скептицизмом, к которым пришла в последнее время
позитивистски ориентированная наука, он считал причиной и ядром того
общего кризиса, в котором к середине XX в. оказалось, по мнению
Гуссерля, все европейское человечество в целом. Кризис же самой
науки объясняется, согласно Гуссерлю, «забвением жизненного
мира», забвением того обстоятельства, что корни всех научных
теорий находятся в почве жизненного мира. Игнорируя это
обстоятельство, наука считает свою математизированную конструкцию
природы изначально сущим реальным миром, не требующим никаких
обоснований. Наука забыла свое подлинное место; это-то и привело
ее в конечном счете к релятивизму и скептицизму. Выход из
кризиса видится Гуссерлю в возвращении на почву жизненного мира.
Хайдеггер, как мы видели, в марбургских лекциях критиковал
Гуссерля за излишнюю теоретичность, за излишний пиетет к науке.
Те мысли, которые Гуссерль высказывает в своем последнем, уже
после его смерти опубликованном произведении, как будто
свидетельствуют о том, что он с течением времени «исправился». Суровая
оценка погрязшей в скептицизме и релятивизме теоретизирующей
науки, идея о том, что панацеей от всех бед является укоренение
в очевидностях преданного забвению жизненного мира, близки
к хайдеггеровскому противопоставлению аутентичного Umwelt
неаутентичной природе — изобретению теоретизирующего,
оторванного от практики ума склонных к абстракциям естествоиспытателей.
E. В. БОРИСОВ
Феноменологический метод M. Хайдеггера
5. Феноменологический метод у Гуссерля и Хайдеггера.
Резюме
Теперь, суммируя сказанное, представим основные черты
сходства и основные различия методов Гуссерля и Хайдеггера.
I. Общими для обоих вариантов феноменологии являются:
1) принцип беспредпосылочности;
2) идея фундаментальной онтологии;
3) метод редукции, имеющий целью выявление смыслового
базиса опыта и знания как таковых.
П. Методические новации Хайдеггера суть следующие:
1) У Гуссерля метод редукции определяется различением
объектной и рефлексивной направленности сознания; у Хайдеггера же —
различением естественного и производного опыта.
2) У Гуссерля редукция направлена на определенную сферу
действительного опыта; у Хайдеггера — на возможность опыта как
такового.
3) Гуссерль стремится к однозначному описанию данностей
чистого сознания; Хайдеггер методически опирается на
неопределенность предметов естественного опыта.
4) Поэтому у Хайдеггера дескриптивный тип
феноменологического исследования сменяется герменевтическим.
5) Поэтому же Хайдеггер отказывается от гуссерлевского идеала
строго терминологического языка в пользу выразительных
возможностей естественного языка.
6) По Гуссерлю, возможна и достижима неискаженная и
очевидная данность феномена; по Хайдеггеру, открытость всегда и по
существу является «несобственной», то есть скрывающей.
742
Б. В. Борисов
7) Поэтому Гуссерль может развести редукцию и собственно
феноменологическое описание как разные акты, первый из которых
предшествует второму в качестве условия его возможности: у Хай-
деггера же редукция является внутренним структурным моментом
самого описания.
8) И поэтому же феноменологическое описание у Гуссерля носит
сугубо положительный характер, тогда как у Хайдеггера оно
оказывается, по существу, негативным (критическим, деструктивным).
6. Проблемная мотивация новой методологии.
«Мундавизированный субъект»
Перечисленные выше общие черты методов Гуссерля и
Хайдеггера показывают генетическую связь — определенную
преемственность хайдеггеровской феноменологии по отношению к гуссерлев-
ской. Если так, то естественно задаться вопросом о проблемных
мотивах хайдеггеровских новаций.
Читатель, конечно, обратил внимание на то, что «главная часть»
данного лекционного курса, в которой Хайдеггер разрабатывает
свои интуиции, заметно отличается от «подготовительной части»,
где речь идет по большей части о феноменологии Гуссерля. Эти
отличия — по тематическому кругу, но теоретическому содержанию,
по способу построения мысли, наконец, по лексике и стилю —
настолько велики, что может показаться, будто между ними нет
ничего общего. Предупреждая это впечатление, сам Хайдеггер от лица
предполагаемого оппонента спрашивает: «К чему эти рассмотрения
(феноменологии Гуссерля и Шелера. — Е. Б.), если мы не можем
принять от феноменологии ни одного тезиса, а если какой-либо
тезис и принимаем, то в феноменологическом же духе — перед нами
тут же встает задача привести его к достоверности?»* Ответ гласит:
«Однако связь дальнейших рассмотрений и их предпосылок не так
проста. ... Между тем, что мы разбирали во введении, и тем, к чему
обращаемся теперь, существует внутренняя, предметная
взаимосвязь... » **
Однако в тексте лекций эта взаимосвязь показана лишь в самых
общих чертах: по сути дела, Хайдеггер ограничивается выявлением
(в § 13) существенного упущения Гуссерля — «упущения вопроса
о смысле самого бытия и о бытии человека в феноменологии», —
которое и послужило основным мотивом собственных хайдеггеровских
нововведений. Но если выявление этого упущения Хайдеггер пред-
* Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск: Водолей,
1998. С.149.
** Там же.
Феноменологический метод M. Хайдеггера
743
принимает «изнутри» феноменологического исследования и «на его
основе» (закавыченные выражения взяты из названия третьей
главы «подготовительной части»), то в отношении к его собственным
разработкам это далеко не очевидно. Действительно ли «новая»
феноменология органично вырастает из «старой» (или лучше
«классической», каковой она в то время уже стала)? Действительно ли хай-
деггеровские новации мотивированы определенными проблемами,
не решенными или неразрешимыми в рамках феноменологии
Гуссерля? (Разумеется, несовместимость некоторых положений
Гуссерля и Хайдеггера не исключает возможности положительного ответа
на этот вопрос.)
Сам Хайдеггер отвечает на эти вопросы утвердительно, но его
ответ имеет скорее декларативный, чем доказательный, характер. Так
раздел f) в § 31 озаглавлен «Забота и интенциональность», но
вопреки нашим ожиданиям, связанным с базовым статусом этих
понятий в исследованиях Гуссерля и Хайдеггера, этот раздел умещается
на половине страницы, а его содержание сводится к утверждению
о первичности заботы по отношению к «тому, что подразумевается
под интенциональностью». Причем это указание дается здесь для
того, «чтобы только обозначить отправную точку для
основополагающей критики феноменологической постановки вопросов»*.
Словом, вопросы, связанные с историко-философской темой «Гуссерль
и Хайдеггер», Хайдеггер лишь намечает, но не разрабатывает.
Поэтому остается в силе вопрос: каковы эти проблемы и каким образом
хайдеггеровские новации позволяют их решить?
В этой обширной и весьма головоломной теме я хочу рассмотреть
один аспект, то есть показать одну проблему, которая имплицитно
содержится в феноменологии Гуссерля, но не была в его работах
выявлена (проще говоря, Гуссерль ее не заметил) и которая может
рассматриваться в качестве одного из проблемных мотивов хайдегге-
ровской трансформации феноменологического метода. (Стоит сразу
отметить, что речь пойдет не о реальных мотивах хайдеггеровской
мысли, но об идеальной историко-философской реконструкции:
я попытаюсь выявить одну из возможностей чисто
концептуального соотнесения двух вариантов феноменологии.)
Эту проблему можно назвать проблемой трансцендентального
статуса естественной установки сознания. Она определяется
следующими положениями:
1) Все переживания чистого сознания имеют, по Гуссерлю,
рефлексивную компоненту, то есть каждое переживание
сопровождается (явно или неявно) сознанием того, что это — «мое» пере-
* Там же. С. 320.
744
Е. В. Борисов
живание; само чистое «Я» «присутствует» в каждом переживании
как «необходимое При-этом» („notwendiges Dabei"*). Иначе говоря,
вместе со всяким предметом чистому сознанию даны — по крайней
мере потенциально — те переживания, в которых этот предмет
конституируется **.
2) Чистое сознание абсолютно прозрачно для собственной
рефлексии: всякое его переживание — и во всякий момент — может
быть дано чистому «Я» с очевидностью, то есть во всей полноте его
содержания и вполне адекватно. «Рефлексивные феномены
действительно представляют собой сферу чистых, совершенно
очевидных и ясных данностей»***.
3) Чистое и эмпирическое сознание, или трансцендентальный
и эмпирический субъект, не являются разными «онтологическими
единицами»: трансцендентальный и эмпирический субъект суть
одно и то же сущее, только разными способами тематизированное.
Последнее положение стоит рассмотреть подробнее.
Эмпирический субъект дан в естественной установке сознания;
трансцендентальный — в установке феноменологической (рефлексивной).
Трансцендентальную редукцию в гуссерлевском понимании можно
определить как переход от первой установки сознания ко второй.
Но этот переход следует верно понимать: редукция — это не
устранение из сферы внимания тех или иных предметов и не тематизация
новых предметов, на которые мы прежде не обращали внимания.
Редукция применяется вообще не к предметам, но только к
способам их рассмотрения, сам же предметный универсум в результате
этой процедуры не меняется.
«Образно говоря, "заключить в скобки" (т. е. редуцировать. —
Е. Б.) означает не "стереть с доски" соответствующий предмет,
но именно заключить в скобки и тем самым отметить его индексом.
Но с этим индексом предмет становится как раз таки главной темой
исследования » ****.
Таким образом, в результате редукции эмпирический субъект
не «открывает» для себя новую предметность, называемую транс-
* Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischer
Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine
Phänomenologie. Halle a. d. S., 1922. S. 161. <...>
k* Германская исследовательница Е. Штрёкер показывает, что в
феноменологии Гуссерля «самосознание» субъекта лежит в основе всякого интен-
ционального акта, имеющего идентичный предмет: «...Идентификация
всякого объекта уже предполагает по меньшей мере неактуальное сознание
идентичности самого идентифицирующего субъекта» (Ströker E. Husserls
transzendentale Phänomenologie. Frankf ./M.. 1987. S. 130).
" Husserl E. Op. cit. S. 157.
" Husserl E. Op. cit. S. 142.
Феноменологический метод M. Хайдеггера 745
цендентальным субъектом, но «всего лишь» изменяет способ
самосозерцания — способ рефлексивной тематизации собственного
сознания. И точно так же редукция ни в коей мере не является
некой «трансформацией» эмпирического субъекта: производя
редукцию, я — эмпирический субъект — не становлюсь иным — теперь
уже трансцендентальным — субъектом, но только усматриваю
тот факт, что «на самом деле» я являюсь именно таковым, то есть
тематизирую свою собственную конститутивную активность по
отношению к предметному универсуму. Нетрудно сформулировать
коррелятивные тезисы относительно предмета: эмпирическая
предметность, которая в естественной установке рассматривается как
трансцендентная по отношению к сознанию, не «устраняется»
в результате редукции в пользу конституируемого сознанием
феномена и не «превращается» в него, но лишь тематизируется в
качестве такового.
Далее. Определяющим признаком эмпирического субъекта
является его самопонимание в качестве одного из предметов реального
мира. Но реальный мир в целом и все реальные предметы в
отдельности суть продукты конститутивной деятельности
трансцендентального субъекта, поскольку само бытие предмета Гуссерль
трактует как его данность сознанию:
Принципиально (в априори безусловной сущностной
всеобщности) всякому "истинно сущему" предмету соответствует идея
возможного сознания, в котором этот предмет был бы схвачен как
он сам, в оригинале, и притом вполне адекватно. И наоборот, если
осуществлена такая возможность, то и предмет ео ipso становится
истинно сущим*.
В какой мере это относится к эмпирическому субъекту?
Поскольку эмпирический и трансцендентальный субъекты суть одно
и то же сущее, мы, разумеется, не можем говорить о конституиро-
вании эмпирического субъекта как одного из предметов
реального мира. Поэтому следует сделать вывод, что трансцендентальный
субъект конституирует только рефлексивное представление о себе
как об эмпирическом субъекте. Действительно, в нескольких
текстах из рукописного наследия, посвященных феноменологии
интерсубъективности, Гуссерль обозначает процесс конституирования
эмпирического субъекта экзотическим термином амунданизация»
(от латинского mundus — мир), который означает как бы
превращение (так сказать, в собственных глазах) трансцендентального субъ-
* Ibid. S. 296.
746
Е. В. Борисов
екта в один из предметов мира*. Подчеркнем, что «мунданизация»
есть конститутивный процесс, осуществляемый самим
трансцендентальным субъектом. (В этом смысле трансцендентальная
редукция оказывается актом, противоположным мунданизации,
своего рода нейтрализацией этого процесса.)
Но это значит, что естественная установка — и именно как
объективирующее самопонимание субъекта — имеет собственные
трансцендентальные основания, то есть является установкой самого
трансцендентального субъекта! Иначе говоря, эмпирический
субъект есть не особая — отличная от трансцендентального —
«разновидность» субъекта, но искаженный рефлексивный образ самого
трансцендентального субъекта, конституируемый им самим.
(Нетрудно сформулировать коррелятивный тезис и в отношении
эмпирического мира.)
Это положение очевидным образом противоречит приведенным
выше постулатам об универсальном и очевидном характере
рефлексии чистого сознания. Как для трансцендентального
субъекта возможна естественная установка? Как возможен чмундани-
зированный* субъект? Неограниченные полномочия, которыми
Гуссерль наделяет рефлексию чистого сознания, превращают эти
вопросы в неразрешимую апорию. Ведь если всякий субъект
является субъектом трансцендентальным и если самообъективация
субъекта в естественной установке имеет рефлексивную природу (что
очевидно, коль скоро речь идет о салюобъективации), то
приходится признать, что трансцендентальный субъект имеет, скажем так,
«естественную склонность» к искажению рефлексивной
самоданности. ...Видно, что Гуссерль вполне отчетливо сознавал силу этой
«склонности», и более того, в своих позднейших работах,
посвященных кризису духовной жизни европейского человечества, он, как
известно, детально проанализировал опасность естественной
самообъективации субъекта для самого его существования как духовного
существа. Но в то же время он нигде не сделал предметом
специального анализа трансцендентальную «подоснову» естественной
установки и ее роль в интенциональной жизни субъекта, вследствие чего
указанное выше противоречие осталось в его работах открытой
проблемой.
Но значение этой проблемы, конечно, далеко выходит за
рамки частного вопроса о статусе естественной установки сознания.
В контексте гуссерлевской феноменологии вопрос «Как возможна
естественная установка?» тождествен более общему вопросу «Как
* Husserl Е. Gesammelte Werke (Husserliana). Bd. XV. Zur Phänomenologie
der Intersubjektivitaet. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil: 1929-1935. Den
Haag. 1973. S. 589.
Феноменологический метод M. Хайдеггера
747
возможно заблуждение?»; последний же имплицирует
принципиальный вопрос о природе истины и заблуждения в их
противоположности. Если, скажем, в философии реалистического типа
оппозиция истины и заблуждения осмысливается более или менее
ясно на основе онтологического дуализма сознания и реальности;
если в философии платоновского типа (например, в феноменологии
Шпета и раннего Гуссерля) эта оппозиция проецируется на
дуальность «знания» и «мнения», — то в рамках «трансцендентального
монизма» она становится острой проблемой. Действительно, каким
образом субъект конституирует ложное знание, причем так, что сам
принимает его за истинное? Каковы основания этому в
конституции самого субъекта? (Возьмем кантовский пример: как
оказывается возможным, что субъект применяет регулятивные идеи разума
в конститутивном значении? Что в конституции субъекта делает
возможным такое смешение функций разума и рассудка?) Наконец, как
трансцендентальный субъект может отличить истину от
заблуждения? Эти вопросы очевидным образом указывают на новое (для
феноменологии Гуссерля) и сугубо проблемное измерение рефлексии,
в котором перед субъектом стоит парадоксальная задача:
собственными силами осмыслить собственную же «склонность» к
заблуждению и ее роль в процессе познания, — притом что эта склонность,
будучи «естественной», так или иначе дает о себе знать и в самой
этой рефлексии*.
По моему мнению, эту проблему можно рассматривать в качестве
одного из мотивов концептуального преобразования
феноменологии, связанной с хайдеггеровским различением собственного и
несобственного существования вот-бытия. Вот тезис, который я хочу
теперь развернуть: хайдеггеровское различение собственного и
несобственного существования вот-бытия является
трансформацией гуссерлевского различения естественной и
феноменологической установок сознания.
В самом деле, несобственное существование означает, помимо
прочего, несобственное понимание вот-бытием своего бытия,
которое имеет, скажем так, онтифицирующий характер: в модусе
несобственности вот-бытие понимает свое существование по типу
наличного бытия внутримирового сущего. Нетрудно видеть, что в этом
пункте несобственность существования вот-бытия вполне
аналогична естественной установке сознания по Гуссерлю, поскольку ее
сущностной чертой является объективирующее самоистолкование
* Гуссерль подчеркивает, что для феноменологического исследования
рефлексия — не только метод, но и предмет (Husserl E. Ideen 1, §78),
но не вскрывает проблемный характер этого предмета.
748
Б. В. Борисов
субъекта, собственно, то же «забвение» им своей собственной
субъективности.
Более того, по сути дела, естественную установку сознания в гус-
серлевском смысле можно определить как несобственное бытие
трансцендентального субъекта. Действительно, несобственное
бытие вот-бытия («ниспадение») Хайдеггер характеризует как
«оттеснение» вот-бытия от него самого*, «бегство от себя»**,
«отчуждение»*** и т. п. Все эти метафоры сходятся в базовом определении:
Вот-бытие может существовать таким образом, что прежде всего
и чаще всего оно не есть оно само, но растворяется в «некто» ...****
Итак, несобственное бытие есть (воспользуюсь хайдеггеровски-
ми дефисами) бытие-не-самим-собой. Но то же самое можно сказать
и о бытии трансцендентального субъекта в естественной
установке, поскольку: 1) содержание бытия трансцендентального субъекта
составляет его конститутивная деятельность; 2) его «собственная»
сущность предполагает трансцендентальную «метапозицию» по
отношению к конституируемому им миру; 3) но в естественной
установке субъект конституирует себя самое в качестве субъекта
эмпирического, то есть одного из предметов реального мира, — стало
быть, его бытие в этом случае не соответствует его сущности: он
существует не как он сам.
Эта аналогия дополняется еще и тем, что несобственное бытие
вот-бытия является, по Хайдеггеру, доминирующим модусом
повседневного существования этого сущего: «прежде всего и чаще
всего» вот-бытие понимает себя как один из наличных предметов
мира — это для него «естественно» в гуссерлевском смысле.
Собственное же самопонимание представляет собой определенное
усилие, в котором вот-бытие «вызволяет» себя из повседневного
существования — Хайдеггер называет его «решимостью» (к бытию
самим собой).
Но если вспомнить, что модусы собственности и несобственности
суть экзистенциалы вот-бытия, а все экзистенциалы имеют, по
Хайдеггеру, трансцендентальный статус, то есть рассматриваются
в качестве смыслоконститутивных априори, то становится ясно,
что хайдеггеровская тематизация этих модусов означает
экспликацию вопроса о трансцендентальных основаниях естественной
установки как искаженного самопонимания субъекта. С поправкой
* Хайдеггер М. Пролегомены. С. 288.
** Там же. С. 292, 293.
*" Там же. С. 296, 333.
**** Там же. С. 261.
Феноменологический метод M. Хайдеггера
749
на экзистенциальное переосмысление этих терминов можно
сказать, что естественная и феноменологическая установки суть не
отчуждаемые друг от друга и нередуцируемые формы бытия субъекта.
Теперь мы можем зафиксировать еще один пункт, роднящий
экзистенциальную аналитику с феноменологией Гуссерля. Метод
исследования зависит от исследовательской ситуации, то есть
ситуации, в которой находится исследователь. Приведенные
соображения позволяют констатировать, что определяющие моменты
ситуации феноменологического исследования в понимании Гуссерля
и Хайдеггера совпадают: 1) как Гуссерль, так и Хайдеггер
различают, скажем так, аутентичное и неаутентичное самопонимание
носителя трансцендентальной активности (и, коррелятивно,
предметного мира); 2) как для Гуссерля, так и для Хайдеггера неаутентичное
самопонимание оказывается * первоначальным » (естественным,
повседневным, обычным и т. п.); 3) наконец, в обоих «вариантах»
феноменологии рефлексивное исследование включает в себя
методическое «усилие», направленное против тенденции
неаутентичного самопонимания (и понимания предметного мира).
Различие же состоит в том, что Гуссерль требует полной
«нейтрализации* (заключения в скобки, ингибиции) естественной
установки, что, по его замыслу, должно сделать возможной чистую
рефлексию, тогда как Хайдеггер исходит из постулата о
неустранимости несобственного самопонимания. Произведенная Хайдег-
гером трансформация гуссерлевского различения двух установок
сознания заключается в том, что собственное и несобственное
самопонимание обретают у него концептуальную симметрию, то есть
рассматриваются как «равноизначальные» (а значит, в равной
степени нередуцируемые) и «равноправные» трансцендентальные
априори.
€^
€^
И.Н.ИНИШЕВ
Феноменология как экзистенциальная практика:
об одном мотиве в философии Хайдеггера*
Введение
К числу отличительных черт, как философии, так и личности
Хайдеггера относятся, как известно, монологичность, ригоризм
и дефицит дискурсивности. Они выражаются как в общей — нередко
назидательной — тональности его сочинений, так и в его личном
самосознании как (единственного) подлинно философствующего.
Кроме того, чрезмерное увлечение словотворчеством, специфичное для
Хайдеггера, существенно осложнило рецепцию его идей
современным ему научным сообществом. Некоммуникабельность,
игнорирование актуальных дискуссий, неконвенциональное использование
языка — все это позволяет констатировать, вслед за Хабермасом,
наличие провинциальных черт в мышлении Хайдеггера**. Тем не
менее, невзирая на всю справедливость этого социологического
диагноза, мы бы хотели рассмотреть генезис философского самосознания
Хайдеггера в несколько иной, а именно концептуальной,
перспективе. Точнее говоря, сквозь призму одного мотива, являющегося, как
нам представляется, сквозным для всего его философствования.
Речь пойдет, с одной стороны, о менявшейся с течением
времени позиции Хайдеггера в отношении вопроса о принципиальном
определении философии. С другой стороны, о мотиве «прыжка»,
который объединяет универсально-теоретический и индивидуаль-
но-практический аспекты его философствования, оставаясь при
этом константным и придавая единство и логику его философской
эволюции. В этом мотиве, как мы полагаем, находит свое
выражение присущая феноменологии Хайдеггера тенденция к имманент-
* Статья написана при поддержке РГНФ, грант № 05-03-03389а.
** Habermas J. Urbanisierung der Heideggerschen Provinz // Habermas J.
Philosophisch-politische Profile. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. S. 392-401.
Феноменология как экзистенциальная практика
751
ной прагматизации, или к идее практической философии. Кроме
того, мы бы хотели показать, каким образом трактовка философии
у раннего Хайдеггера проливает свет на его понимание философии,
представленное в более позднем программном труде «Beitrage zur
Philosophie (Vom Ereignis)»*.
Путь, который в тематическом отношении прошла
герменевтическая феноменология Хайдеггера, обозначен двумя «вехами», двумя
основными понятиями раннего и позднего периодов его
философствования: «жизненным миром» и «историей бытия»: жизненным
миром как проблемным полем герменевтической феноменологии
и историей бытия, разворачивающейся внутри и в качестве самого
философствования.
В своем развитии самопонимание герменевтической философии
прошло три этапа. Она понимала себя как (1)
фундаментально-философское исследование, как (2) онтологически релевантное
индивидуально-экзистенциальное самопознание и как (3) деяние,
образующее структурный момент трансцендентальной истории. Этим
этапам соответствуют три именования герменевтической
феноменологии: 1) дотеоретическая изначальная наука о жизненном мире
(или герменевтика фактичности), 2) фундаментальная онтология
и 3) бытийно-историчное мышление.
В дальнейшем мы кратко охарактеризуем хайдеггеровское
понимание философии в каждый из этих периодов его
академического развития. В результате этой характеристики, как мы надеемся,
станет очевидным парадигматическое значение метафоры прыжка
для философии Хайдеггера, а также ее связь с идеей имманентной
«прагматизации» феноменологической герменевтики.
1. Философия как нетеоретическая изначальная наука
о жизненном мире
Ориентиром для последующих рассуждений нам послужит
изречение Хайдеггера из 16-го фрагмента «Материалов по философии».
В этом фрагменте сказано: «Философия есть непосредственно
бесполезное и тем не менее доминирующее знание из осмысления.
Осмысление представляет собой спрашивание о смысле, т. е. об
истине, бытия. Спрашивание об истине есть прыжок в ее бытийствова-
ние, а следовательно, в само Бытие»**.
Это высказывание, по всей видимости, следует понимать в том
смысле, что, будучи доминирующим знанием, философия по мень-
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (GA 65). Frankfurt
a. M.: Vittorio Klostermann, 1994. (Далее — Материалы по философии.)
** Ibid. S. 43.
752
И. Н. Инишев
шей мере не является наукой, которую Хайдеггер трактовал как
инструментальный и производный род знания.
Согласно Хайдеггеру, будучи осмыслением и спрашивая о
смысле, или истине, бытия, философия, соответственно
философствующий, принадлежит самому бытию, передается ему в собственность
или участвует в нем, поскольку спрашивание — в соответствии
с приведенной цитатой — исполняется только как «впрыгивание»
в само бытие. Подобного рода причастность бытию объясняет нам,
почему философствование является хотя и бесполезным, но все же
«доминирующим», или господствующим, знанием.
Однако что означают здесь такие выражения, как «знание»,
«участие» и «господство»? Представление об этом дают уже ранние
лекционные курсы Хайдеггера.
Как известно, Хайдеггер начал свою революционную
философскую деятельность традиционным для феноменологически
ориентированного исследователя образом: с феноменологического описания
окружающего мира или, если говорить словами самого Хайдеггера,
«переживания окружающего мира» и коррелятивного ему «миро-
окружного». Это описание, которое было дано уже в первом
лекционном курсе Хайдеггера, показывает, что его мышление с самого
начала было ориентировано на проблематику мира. Для Гуссерля,
как известно, отправным пунктом, а главное, парадигмой
феноменологически-дескриптивной работы стал партикулярный акт интен-
ционального сознания, направленный на отдельный (чувственный
или категориальный) предмет. Отправной пункт герменевтической
феноменологии Хайдеггера — холистический феномен, именуемый
им «переживанием окружающего мира», «жизнью в себе» и,
несколько позже, «фактичностью».
Для молодого Хайдеггера переживание было чем угодно, но
только не субъективной сферой, противопоставляемой объективному,
или предметному, миру. «"Отношение к..." — это не вещь, на
которую навешивается другая вещь, какое-то "нечто", — говорит
Хайдеггер в лекционном курсе "военно-экстренного семестра" (1919). —
Переживание и пережитое как таковые не составлены из частей,
подобно сущим предметам»*.
Мир для Хайдеггера — не бесконечная цепь разнообразных
вещей, а значимая целостность (Bedeutungsganzheit), которая не
может быть сведена ни к «внутреннему миру», ни к «внешней
реальности». Мир и все то, что нам в нем встречается, первоначально
не существует, а значит. Этому значению (в смысле отглагольного
существительного) как первичному способу бытия мира и миро-
* Heidegger M. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem (GA
56/57). Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1987. S. 69-70.
Феноменология как экзистенциальная практика
753
окружного соответствует истолкование, которое не следует
отождествлять с субъективной интерпретацией объективно данного.
Если подобное истолкование и можно назвать своего рода
интерпретацией, то эта интерпретация не покоится на оптическом зрении
или представлении, но, наоборот, делает их возможными. Она
всегда уже интегрирована в любое визуальное восприятие и любое
наглядное представление. В уяснении этого обстоятельства и состоит
«герменевтический поворот».
Значение и истолкование образуют неразрывную связь, подобно
взаимосвязи понимания и того, что должно быть понято. Прежде
чем я смогу сделать для себя что-либо объектом, «мне значит
всегда и повсюду». Смысл глагола «значить» в данном контексте Хай-
деггер поясняет, используя в качестве синонимичного выражения
старонемецкий глагол «мировать» (weiten), означавший «вести
насыщенную жизнь»*. Для Хайдеггера безличный оборот «миру-
ет» (es weitet) выражает в первую очередь динамичность и холизм
бытия мира. Мир не «есть», но всякий раз формируется в своей
необозримой, но ощущаемой целостности. Себя самого я обнаруживаю
тем же самым — «значимым» и «мировым» — образом.
Онтологическое истолкование подобно ответам на череду вопросов, которые
не мы себе ставим. Скорее, напротив, мы обнаруживаем себя всегда
уже поставленными перед ними. По аналогии с процедурой ответа
на такие вопросы исполняется бытие. В этом несложно распознать
то, что только впоследствии, и прежде всего в «Материалах по
философии», будет трактоваться как герменевтическая взаимосвязь
«присвоенного наброска» и того, что «брошено ему присваивающим
броском бытия». Эта взаимосвязь образует то, что Хайдеггер в своих
поздних работах назовет «бытийствованием» (Wesung)** Бытия как
«События Обретения Собственного» (Ereignis)***.
* Ibid. S. 73.
«Wesung», «Wesen» (бытийствование) в «бытийно-историчных» работах
Хайдеггера противопоставляются «метафизическим» «бытию» и
«сущности». Слово «Wesen» (в общеупотребительном немецком — «сущность»)
Хайдеггер возводит к средневерхненемецкому глаголу «wesen»,
означающему «пребывать», «длиться», «совершаться». Этим словоупотреблением
Хайдеггер подчеркивает первичный и тотальный характер бытия как
«События Обретения Собственного», которое теперь понимается не в смысле
трансцендентальных структур человеческого опыта, а в смысле
всепоглощающего и недифференцируемого свершения.
В «Материалах по философии» слово «Ereignis» (в общеупотребительном
немецком «событие») играет роль ключевого термина. При этом Хайдеггер
переиначивает не только первоначальный смысл, но и этимологию слова.
В общеупотребительном немецком существительное «Ereignis» образовано
от глагола «ereignen», восходящего к древневерхненемецкому «(ir)ougen»,
означающему «ставить перед глазами (vor Augen stellen), показывать».
754
И. Н. Инишев
В этой первой лекции Хайдеггера мы не найдем четко
очерченного поля исследований или разработанного метода. И все же мы
находим здесь нечто, быть может, куда более важное: в понятийном
отношении еще почти совсем неопределенное и тем не менее уже
отчетливо зримое измерение, в котором обнаруживается «бытие
вообще».
Это совершенно новое, открытое молодым Хайдеггером
измерение философского спрашивания, можно, как мне представляется,
охарактеризовать как медиально-трансцендентальное. Это
выражение указывает на то, что речь здесь идет о сфере онтологически
релевантного опыта, которая не может быть локализована ни в
«реальности», ни в «субъективности». Этот опыт является медиумом,
опосредствующим любое отношение к любому предмету и любое
высказывание. Исходя из соответствующего способа подхода к этой
онтологической сфере, ее можно обозначить и как герменевтическое
или дотеоретическое измерение. Обе эти характеристики
разъясняют друг друга.
Смысл дотеоретического, как это выражение использует Хайдег-
гер, выходит за пределы традиционного противопоставления
теоретического и практического. Дотеоретическое не растворяется в том,
что мы зовем донаучным. Напротив, идея дотеоретического самым
непосредственным образом связана с идеей изначальной науки.
Дотеоретическое — это нетеоретическое. Оно характеризует способ
подступа к вышеупомянутому бытийному измерению, так как это
измерение, будучи преимущественной темой феноменологического
исследования, никогда не сможет стать предметом теоретического
рассмотрения. Нетеоретический, соответственно необъективирую-
щий, характер герменевтической интуиции сохраняет для
Хайдеггера свою значимость на протяжении всего его творчества,
следовательно, и в контексте бытийно-историчной разработки вопроса
о бытии.
Этим, правда, дана лишь негативная характеристика
герменевтически-феноменологической установки. Однако в чем именно со-
Этимология — соответственно, морфология — хайдеггеровского «Ereignis»
совершенно другая. Слово состоит из префикса «Er», этимология которого
восходит к «heraus» или «hervor» («наружу») и корня «eign»,
возводимого Хайдеггером к средневерхненемецкому глаголу «eigenen» —
«завладевать», «присваивать». Соответственно, хайдеггеровское «Ereignis» следует
понимать приблизительно следующим образом: нечто выводится в
присутствие (бытие) — обретает свое «собственное» — посредством того, что
становится собственностью Бытия, присваивается им. Отсюда — «Событие
Обретения Собственного». При этом необходимо заметить, что «обретение
собственного» — двухсторонний процесс, поскольку в нем не только
«сущее», но и «бытие» обретает свое существо, свое «собственное».
Феноменология как экзистенциальная практика
755
стоит позитивный аспект герменевтического подхода к изначальной
(герменевтической) сфере феноменологического исследования?
В первой фрайбургской лекции Хайдеггера мы читаем:
«Основная методическая проблема феноменологии, вопрос о способе
научного раскрытия сферы переживаний, сам подчиняется
феноменологическому "принципу принципов"». Гуссерль так формулирует
этот принцип: «Все, что в "интуиции" представляется изначально,
следует просто принимать к сведению как то, в качестве чего оно
себя нам предлагает»*. Эта сокращенная формулировка основного
феноменологического принципа, приведенного Гуссерлем в
первом томе «Идей к чистой феноменологии», в следующих строках
лекционного текста содержательно конкретизируется и вместе
с тем продуктивно перетолковывается: «Этот принцип воплощает
собой изначальную интенцию истинной жизни вообще,
изначальную установку переживания и жизни, абсолютную, с самим
переживанием идентичную симпатию к жизни»**. В лекционном курсе
зимнего семестра 1919/1920 гг. Хайдеггер называет любовь «моти-
вационной основой феноменологического понимания», в
«исполнительном смысле» (Vollzugssinn) которого она «с необходимостью
соприсутствует » ***.
Понятия «любовь» и «симпатия», встречающиеся в контексте
методологических размышлений, вызывают недоумение. Однако
их методологический смысл достаточно ясен. Они ограждают
нетеоретическую изначальную сферу от «посягательств» со стороны
теоретической установки. Но наряду с защитной, или, по выражению
Хайдеггера, запретительной, функцией они выполняют и функцию
указателей направления герменевтически-феноменологического
видения.
Герменевтически-феноменологическая интуиция тождественна
«феноменологической жизни в ее возрастающем усилении себя
самой»****. «Феноменологическая жизнь» при этом вовсе не
подразумевает, что некто осознает себя феноменологом и ведет себя особым,
« феноменологическим », образом. « Жить феноменологически »
означает, с точки зрения Хайдеггера, погружаться в исполнение
жизни, или «впрыгивать» в нее; специально или сотематически
осуществлять ее и воспроизводить.
Таким образом, здесь дает о себе знать своеобразное напряжение,
существующее между жизнью, то есть процессуальным, перформа-
* Ibid. S. 109.
№ Ibid. S. 110.
'* Heidegger M. Grundprobleme der Phänomenologie (GA 58). S. 186.
'* Idem. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem (GA 56/57).
S. 110.
756
И. Н. Инишев
тивным характером онтологического измерения, и знанием о нем.
Это внутреннее напряжение (и одновременно сопряжение)
исполнения жизни и знания о ней составляет одну из основных тем
философии Хайдеггера. С самого начала Хайдеггер понимал
философствование как «знание» такого рода, которое всегда уже является частью
того, что оно намеревается знать.
Для самопонимания как ранней, так и поздней философии
Хайдеггера метафора прыжка остается парадигматической. Между
тем трактовки «прыжка в бытие» в раннем и позднем мышлении
Хайдеггера существенно различаются. Если в герменевтике
фактичности и в фундаментальной онтологии «прыжок» имеет,
прежде всего, методологический смысл, то в бытийно-историчном
мышлении он являет собой одну из шести базовых структур, или
стыков (Fügungen), в которых и в качестве которых «бытийству-
ет» Бытие (das Seyn). Иными словами, он имеет здесь
тематический смысл. Следовательно, вышеупомянутый прыжок в
осуществление жизни — вовсе не тот «прыжок в Бытие», о котором
говорится в пассаже из «Материалов», процитированном в самом
начале.
Однако помимо различия имеется и нечто общее, которое, как мне
представляется, заключается в том, что первый — методический —
«прыжок» во вновь открытое медиально-трансцендентальное
измерение отличается лишь отсутствием полного осознания того, куда,
собственно, осуществляется прыжок. Это осознание, а
следовательно, скорректированная трактовка «прыжка», понимавшегося
прежде исключительно в методическом смысле, достигается в более
поздних работах и лекциях Хайдеггера.
И тем не менее все то немногое, что было сказано о
методической установке раннего Хайдеггера, позволяет нам видеть, что уже
в своих первых лекционных курсах, невзирая на характеристику
феноменологии как «изначальной науки», Хайдеггер
отказывается от «ставшей традиционной ориентации философии на "науки"*».
Отказ от ориентации на современные науки не означал для
Хайдеггера отказа от идеи научной строгости. Напротив, он нацелен на ее
радикализацию. Радикализация научной строгости,
осуществляемая в феноменологии, ведет, по словам Хайдеггера, к истокам
научности, которая обретает свой первоначальный смысл из основной
установки «симпатии к жизни» и которая «не сопоставима со
"строгостью" производных, не изначальных наук»**.
Герменевтически-феноменологический метод характеризиру-
ется, по Хайдеггеру, тем, что структура аналитической работы
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). S. 44-45.
** Idem. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem. S. 110.
Феноменология как экзистенциальная практика 757
изоморфна структуре феномена, устроенной герменевтически.
Поэтому герменевтическая феноменология — эго не
констатирующая дескрипция того, что уже «дано» нам. Напротив, она
представляет собой форму участия в формировании и
самообнаружении изначальных феноменов. Это обнаруживающее участие
и вместе с тем «позволение видеть» имеет характер
герменевтического Логоса, поскольку герменевтическая речь
представляет собой не фиксирующее, а обнаруживающее говорение,
которое интегрировано в саму структуру первичной
феноменальности.
Такое методологическое самопонимание характерно и для
поздней философии Хайдеггера, которая, заново разрабатывая вопрос
о бытии, смотрит из совершенно другой перспективы. Так, мы
читаем в «Материалах по философии» :
В отношении него (то есть говорения философии из ее другого
начала. — Я. Я.) в силе остается [следующее]: Это говорение не
описывает и не объясняет, не возвещает и не учит. Это говорение не
противопоставляется тому, что говорится, но, напротив, являет собой
то, что должно быть сказано: бытийствование Бытия*.
Таким образом, феноменологическая философия Хайдеггера
с самого начала понимала себя как знание, участвующее в
осуществлении бытия.
2. Философия как герменевтика фактичности
Теперь мы хотели бы пояснить, какого рода понимающее участие,
соответственно какого рода знание, здесь подразумевается. В этом
нам поможет хайдеггеровская лекция летнего семестра 1923 г.
Лекционный курс «Онтология», как известно, имеет подзаголовок
«Герменевтика фактичности» и разрабатывает структуры фактичной
жизни, соответственно Dasein, с целью формирования предпосылок
для корректной формулировки основной онтологической
проблемы — вопроса о бытии.
Одну из первых позитивных характеристик бытия мы находим
у Хайдеггера в его понятии фактичности, которая, как мне кажется,
является одной из главных тем хайдеггеровской философии. Уже
само слово «фактичность» обнаруживает свою связь с бытием.
Однако у Хайдеггера это слово становится феноменологическим
термином и означает, прежде всего, принципиально реактивный, или
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). S. 4.
758
И. Н. Инишев
вторичный, характер любого сознания, любой объективирующей
установки.
Фактичность в понимании Хайдеггера не есть что-то данное.
Напротив, она составляет принципиальное условие возможности
любой данности, а также любого знания и самосознания. В этом
отношении она имеет медиально-трансцендентальный характер.
Понятие «фактичность» у Хайдеггера заключает в себе три
различных аспекта, которые, на наш взгляд, сохранялись на протяжении
всего его творчества. Во-первых, «фактичность» означает
«непосредственность» опыта, или феномен феноменологии. В этом
значении она имеет формально-методический смысл. Во-вторых, она
подразумевает своеобразный «фонд понятностей и
непосредственных доступностей»*, который образует ресурс и фундамент всего
нашего (как теоретического, так и практического) поведения. Здесь
она имеет содержательный смысл. Третий аспект этого понятия
выражает структурную характеристику человеческого бытия, то есть
то, что в своих более поздних работах и лекциях Хайдеггер называл
брошенностью.
Если для ранней феноменологии Хайдеггера главная задача
состояла в том, чтобы эту фактичность эксплицировать и
исследовать, то начиная с 1930-х гг. Хайдеггер сосредоточивается большей
частью на том, чтобы научиться пребывать в ней «практически».
Тематизация сферы радикально фактичного, под которым
подразумевается наша собственная не теоретически понятая жизнь,
необходима для устранения «принципиального изъяна традиционной
и сегодняшней онтологии». Этот изъян имеет два аспекта**.
Во-первых, он состоит в ориентации всей онтологической проблематики
на «бытие предметом». Эта ориентация таит в себе некритическую
предпосылку, которая, со своей стороны, указывает на
«принципиальную необходимость возобновления вопроса о "бытии" » ***.
Во-вторых, из этого следует, что предшествующая онтология «закрывает
себе подступ к решающему в философской проблематике сущему:
вот-бытию, из которого и ради которого философия "есть"»****.
Таким образом, Dasein, или фактичная жизнь, являет собой
«решающее сущее», так как лишь из него и для него должно быть
решено, как обнаруживается бытие. Согласно Хайдеггеру, в
основании любой онтологической теории лежит дотеоретическое
«самоистолкование фактичности». Подобное истолкование имеет ме-
* Heidegger M. Grundprobleme der Phänomenologie (GA 58). S. 34.
" Idem. Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) (GA 63). Frankfurt a. M.:
Vittorio Klostermann, 1977. S. 2.
" Idem. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993. S. 4.
'* Idem. Ontologie. S. 3.
Феноменология как экзистенциальная практика 759
диально-трансцендентальный смысл, поскольку оно не является
эффектом фактичной жизни, или фактичности. Это истолкование,
напротив, представляет собой то, благодаря чему обнаруживается
сама фактичная жизнь, а также все то, к чему она способна
относиться и к чему она всегда уже так или иначе относится. Хайдег-
гер говорит о герменевтике, а не о дескрипции фактичного вот-бы-
тия (Dasein), поскольку «к его бытию принадлежит быть как-либо
истолкованным » *.
Так, в тексте лекционного курса летнего семестра 1923 г. Хайдег-
гер пишет:
Задача герменевтики состоит в том, чтобы всякий раз мое
собственное вот-бытие делать доступным в его бытийном характере
самому этому вот-бытию, извещать о нем его самого, расследовать
то самоотчуждение, под давлением которого вот-бытие находится.
В герменевтике для вот-бытия создается возможность, понимая,
становиться и быть ради себя самого**.
Вот-бытие, которое в истолковании должно стать зримым для
себя самого, — это бытие человека, который в своем
индивидуально-историческом бытии относится к «бытию вообще». Из
этого следует, что герменевтически-феноменологическая философия
не только корректирует традиционную онтологию, но и открывает
новые возможности для релевантного в практическом отношении
человеческого самопознания.
Эта философия, будучи знанием, является одновременно
формой осуществления бытия человека, которая только и позволяет
обнаружить его взаимосвязь с бытием вообще и тем самым делает
возможной корректную формулировку онтологической проблемы.
Таким образом, вместе с программой онтологической герменевтики
приходит к своему завершению и первый масштабный проект
герменевтически ориентированной философии.
Легко видеть, что этот проект занимает своеобразное
промежуточное положение. Философствование у Хайдеггера
«локализуется» между двумя противоположными возможностями: между
философствованием как «способом изначального исполнения жизни»
и философствованием как институцией. Феноменология раннего
Хайдеггера воспринимает себя сразу в двух перспективах, одна
из которых когнитивная и онтологическая, другая —
экзистенциальная и этическая.
* Ibid. S. 15.
№ Ibid.
760
И. Н. Инишев
3. Философия как фундаментальная онтология
и история бытия
Окончательная редакция первого проекта
герменевтически-онтологической феноменологии нашла свое выражение в первом
основном труде Хайдеггера «Бытие и время», по отношению к которому
«Материалы по философии» могут рассматриваться как второй
«основной труд ». В этом разделе мы вкратце обрисуем, в каком
направлении развивалось хайдеггеровское философствование между
написанием двух этих работ.
В 185-м фрагменте «Материалов по философии» Хайдеггер
характеризует фундаментальную онтологию как «переходное»
(Übergängliches). «Несмотря на то что она (фундаментальная
онтология. — И. И.) обосновывает и преодолевает всю онтологию, она
должна была по необходимости брать за отправной пункт
известное и привычное и поэтому постоянно пребывать под двойным
освещением», — пишет Хайдеггер в «Материалах по философии»*.
Метафора двойного света здесь означает, что в «Бытии и времени»
не только вся европейская метафизика ставится под вопрос и в этом
смысле приходит к своему завершению, но и открывается иная,
неметафизическая перспектива для философствования,
именуемая Хайдеггером «другое начало». Иными словами, трактат
«Бытие и время» заключает в себе две перспективы: с одной стороны,
он остается в рамках трансцендентальной постановки вопроса,
рассматривая бытие как предельный горизонт и условие возможности
человеческого опыта. С другой стороны, в нем подготавливается
трансформация всей прежней «траектории видения» (Blickbahn).
Как замечает сам Хайдеггер в «Материалах по философии»,
«трансцендентальный <...> путь был лишь предварительным,
призванным подготовить перелом и прыжок»**. В то время как
фундаментальная онтология тематизирует бытие как таковое с точки зрения
человеческого бытия, то есть как бытие сущего, бытийно-историч-
ное мышление обращается непосредственно к «бытийствованию»
бытия как Событию Обретения Собственного (Westing des Seyns als
Ereignis), то есть непосредственно к Бытию как таковому. Подобная
ориентация на бытие как Событие Обретения Собственного
возможна, с точки зрения Хайдеггера, лишь как «присвоенность» Бытием.
Бытийно-историчное мышление начинается, по Хайдеггеру,
с того, что «брошенность» (Geworfenheit) принимается во внимание
уже не столько как экзистенциал, сколько как актуально
переживаемый опыт. Этот опыт «брошенности» понимается в бытийно-
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie. S. 305.
" Ibid. S. 305.
Феноменология как экзистенциальная практика 761
историчном мышлении как опыт присвоенности бытием. Этот опыт
находит свое выражение в настроении сдержанности (Verhaltenheit)
и его модификациях — испуге (Erschrecken) и трепете (Scheu),
которые испытывает человек перед лицом «покинутости бытием»,
проявляющейся во всеобъемлющем господстве новоевропейской науки
и техники, или того, что Хайдеггер называет «поставом»,
«гигантским», «делячеством». Все три термина характеризуют в
«Материалах по философии» способ обнаружения бытия в эпоху его
забвения человеком. Другими словами, бытийно-историчное мышление
начинается с обратного преобразования расположенности (то есть
онтологического концепта) в настроение (то есть живой и
всепоглощающий опыт). «Философское» у Хайдеггера отныне не
противопоставляется «публичному», как в его ранний период, а, напротив,
укоренено в нем. Вопрос о бытии, как он был разработан в «Бытии
и времени», приобретает в «Материалах по философии» следующий
вид:
Как и когда мы принадлежим бытию (как Событию Обретения
Собственного) и принадлежим ли вообще? Этот вопрос <...>
необходимо поставить ради бытийствования бытия, которое
нуждается в нас. И притом нуждается в нас не в качестве имеющихся
в наличии, но в нас, поскольку мы <...> выдерживаем и
основываем вот-бытие (D&sein) как истину Бытия. Поэтому осмысление —
прыжок в истину бытия — с необходимостью представляет собой
самоосмысление*.
Таким образом, мы спрашиваем о бытии в бытийно-историчной
перспективе тогда, когда мы как вот-бытие используемся бытием
как Событием Обретения Собственного, соответственно, становимся
его собственностью. Мы спрашиваем теперь не ради нашего знания,
но ради самого бытия.
В бытийно-историчном мышлении речь идет о том, чтобы «стать
собственностью События Обретения Собственного, что
тождественно сущностной трансформации человека из "разумного животного"
(animal rationale) в вот-бытие»**. В «Материалах по философии»
Хайдеггер пишет слово «Da-sein» только с дефисом, дабы подчеркнуть
произошедший в бытийно-историчном мышлении тематический
сдвиг. Отныне не столько бытие человека, сколько бытие вообще
становится темой исследования. «Da-», или «Вот-», является
теперь обозначением динамической взаимосвязи человеческого бытия
и бытия вообще, называемой также Ereignis (Событием Обретения
* Ibid. S. 44.
** Ibid. S. 3.
762
И. Н. Инишев
Собственного)*. В «Бытии и времени» «вот» означает предельный
горизонт, горизонт понятности бытия, составляющий
трансцендентальное условие возможности всего нашего опыта, как
практического, так и ментального.
Ereignis как бытийно-историчный термин для бытия указывает
на внутреннюю динамику, или историчность самого Бытия, которое
отныне понимается не только как условие возможности
человеческого отношения к сущему. Отныне не только человек нуждается в
бытии как основании своей теоретической и практической
деятельности, но и бытие нуждается в человеке, «чтобы бытийствовать».
Тем самым мы можем видеть, что как в «Бытии и времени», так
ив «Материалах по философии» от человека требуется
«превратиться» в вот-бытие, чтобы иметь возможность спрашивать о смысле,
соответственно об истине Бытия. Однако в «Материалах по
философии» требование стать вот-бытием адресуется не
философствующему индивиду, а дофилософской «общественности» или даже всей
«современности». Соответственно, и модус «подлинности» теперь
не подразумевает категорического требования трансцендирования
публичности. Напротив, требование подлинности
распространяется на саму публичность. Тем самым у позднего Хайдеггера речь
идет уже о коллективной и внеинституциональной трансформации
в вот-бытие. Кроме того, характеры и задачи подобного становления
вот-бытием в обоих основных трудах Хайдеггера в корне различны.
Задачу первой части «Бытия и времени» составляет
герменевтически-феноменологическая экспликация «всегда моего» вот-бытия,
что возможно только как самоэкспликация, то есть
самоистолкование вот-бытия. Поэтому и в «Бытии и времени» повествуется
не столько о вот-бытии, сколько от имени вот-бытия. И тем не менее
это говорение имеет лишь методический смысл. Фундаментальная
онтология относится к бытию человека и бытию вообще в
перспективе познания. С этой точки зрения «Бытие и время», говоря
словами «Материалов по философии», является «сочинением прежнего
стиля». Превращение человека в вот-бытие имеет здесь по
преимуществу функцию средства тематизации бытия в перспективе
познания.
Когда о превращении в вот-бытие говорится в «Материалах
по философии», речь идет не просто о методической предпосылке,
но о фактическом «преображении понимающего человека»**.
Одновременно с этим преображением осуществляется и «учреждение
истины Бытия»***.
* Heidegger M. Beiträge zur Philosophie. S. 328.
" Ibid. S. 14.
*** Ibid. S. 170.
Феноменология как экзистенциальная практика
763
На 170-й странице «Материалов по философии» мы читаем
следующее: «Чем менее сущим становится человек, чем меньше он
привязан к сущему, в качестве которого он себя обнаруживает, тем
ближе он подступает к бытию». Это предложение, по нашему
мнению, выражает как то, что объединяет базовые установки
фундаментальной онтологии и бытийно-историчного мышления, так и то,
что их разделяет. В фундаментальной онтологии вышеозначенная
«аннигиляция» человека мотивирована исследовательской
задачей, в бытийно-историчном мышлении — самим бытием,
соответственно, его историей.
Во все том же 16-м фрагменте «Материалов по философии» Хай-
деггер дает принципиальную дефиницию философии из бытийно-
исторической перспективы: « Die Philosophie ist eine Fuge im Seienden
als die sich dem Seyn fügende Verfügung über seine Wahrheit»
(«Философия есть стык в самом сущем: подчиняющееся Бытию
распоряжение его истиной»)*.
Этот тезис, как нам представляется, завершает становление хай-
деггеровского понимания философии, на пути к которому он был
с самого начала своей академической деятельности.
Заключение
В завершение мы лишь перечислим несколько выводов,
проистекающих из обрисованного выше развития самопонимания
философии Хайдеггера.
1. Мотив «прыжка», характерный для методологического
самосознания герменевтической феноменологии, проистекает из общей
методологической установки феноменологической философии.
Феноменология с самого начала была ориентирована на преодоление
любого рода дистанции по отношению к «являющемуся». С этой
точки зрения «прыжок в бытие», рассматриваемый Хайдеггером
как феномен в феноменологическом смысле, лишь устраняет
теоретическую установку, являющуюся последним препятствием на пути
к самой вещи.
2. Выражаемое в фигуре прыжка методологическое
самосознание герменевтической феноменологии заключает в себе тенденцию
к институциональной трансформации первоначального
феноменологического проекта. Постепенно феноменология утрачивает статус
исследования, становясь структурным моментом самих
феноменологических, или изначальных, феноменов.
* Ibid. S. 45.
764
И. Н. Инишев
3. С этой точки зрения (событийная) герменевтическая
феноменология оказывается особой формой участия в историчной динамике
изначальной медиально-трансцендентальной сферы, в то время как
(научная) феноменология сознания представляет собой своего рода
экспликацию экспликации. Вторичность трансцендентальной
феноменологии объясняется тем, что она не столько эксплицирует
сами феномены, сколько делает возможным подход к ним из иной,
чуждой им научно-теоретической перспективы. Сами феномены —
это не базовый слой изначально данного, а сфера изначального
опыта, в рамках которого осуществляется (никогда не приходящая
к своему завершению) самоэкспликация феноменологических
феноменов.
4. Обращенное к феноменологически ориентированному
исследователю методологическое требование участия в исследуемом
предмете ведет к прагматизации и индивидуализации
феноменологической философии. Не выходя за рамки первоначальных
методологических принципов и основополагающих тематических
ориентиров феноменологии, философствование Хайдеггера являет себя
как радикальное самопознание индивида, содержащее не столько
эпистемологически-теоретические, сколько
экзистенциально-этические импликации.
5. Феноменология становится опытом и приключением, таящим
в себе разновеликие риски.
э-
С. А. КОНАЧЕВА
Феноменология и теология
в ранних работах Хайдеггера
Без этого богословского начала я
никогда не пришел бы к пути мысли.
Исходное же всегда остается будущим.
М. Хайдеггер
Размышляя о собственном философском пути, Хайдеггер часто
ставил в тупик интерпретаторов, пытающихся «выделить периоды»,
обрисовать эволюцию «от традиционной католической метафизики
к феноменологии религии и затем — к фундаментальной
онтологии». Не успели отзвучать дискуссии о хайдеггеровском «повороте»
1930-х гг., как подоспели публикации ранних работ, позволившие
исследователям задуматься не только о генезисе «Бытия и
времени», но и о том, как чтение Хайдеггера «с самого начала» изменяет
наше понимание его «классических» трудов. Обращение к раннему
Хайдеггеру дает возможность также заново поставить вопрос о
религиозной мотивированности экзистенциальной аналитики Dasein,
прояснить сложное, многократно меняющееся хайдеггеровское
понимание отношения Бога и бытия... Ранние тексты Хайдеггера
показывают, как из глубины веры в «сокровище истины», бережно
хранимое церковью, постепенно вырастает ощущение
напряженности между бытийным мышлением и теологическими построениями,
которое будет присутствовать во всех последующих размышлениях
Хайдеггера о соотношении философии и теологии. «Исходное
теологическое начало» позволяет понять, почему Хайдеггер
неоднократно повторял, что, оставаясь в области мысли, он предпочитает
молчать о Боге, и постоянно возвращался к опыту «священного»
и «последнегоБога».
766
С. А. Коначева
В позднем автобиографическом тексте «Мой путь в
феноменологию»* Хайдеггер описывает свои молодые годы как дорогу
заблуждений, ошибок, кружных тропок и одновременно как обретение
собственного пути мысли. Уже в период изучения теологии во
Фрайбургском университете перед ним встает вопрос о бытии, вопрос всей
его жизни, но первоначальное осмысление бытийной проблематики
осуществляется в русле католической метафизики, где вопрос о
бытии и вопрос о Боге разрешаются во взаимной принадлежности, Бог
мыслится как опора и гарант нашего познания... Мышление
молодого Хайдеггера формируется в рамках онтологической
метафизики и критики модернистской культуры. Его статьи для журналов
«Allgemeine Rundschau» и «Akademiker» (орган католического
Союза выпускников высших учебных заведений) написаны с позиций
ультраконсервативного католицизма. Хайдеггер предлагает проект
борьбы против субъективистской гордыни модернизма, критикует
модернистский «духовный и моральный суверенитет эго»,
беспрерывное саморазвертывание человеческого «Я», говорит об
истине, которую человек не достигает, опираясь только на себя самого.
Подлинная истина сохраняется в Церкви как живом сообществе
верующих, и вера в эту истину предполагает не сентиментальное
религиозное чувство в духе Шлейермахера, а жесткое требование,
предъявляемое человеку. Хайдеггер проповедует революционное
возвращение к глубинам теистического миросозерцания, которое
становится для него формой героической борьбы несущего крест
христианского солдата на священном пути в Царство Божие.
Традиционная схоластика еще представляется ему «подвижной, как сама
жизнь», хотя постепенно начинает просматриваться и его
собственный проект неосхоластики, в котором осознается проблематичность
объединения вопроса о бытии и о Боге, фундирующего
конфессионально ориентированную философию.
Дальнейшее развитие мысли Хайдеггера постепенно уводит его
из области метафизики и теологии, для него становится
невозможным самоопределение как католического философа и теолога. Этот
разрыв происходит в течение нескольких лет. Еще 6 1915 г.
Хайдеггер описывает свое духовное развитие в следующих словах: «Мои
основополагающие философские убеждения остаются в рамках ари-
стотелевско-схоластической философии»**. Не прошло и четырех
лет, и в письме профессору католической догматики Кребсу (январь
* Heidegger M. Mein Weg in die Phänomenologie // Heidegger M. Zur Sache des
Denkens. Tübingen, 1976. S. 81-90.
'* [Heidegger M.] Lebenslauf in der Anlage zum Habilitationsverfahren 1915,
in: Ott H. Der junge Martin Heidegger. Gymnasial-Konviktzeit und Studium //
Freiburger Diözesan-Archiv (1984). S. 325.
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера
767
1919 г.) он сообщает о серьезных изменениях своей философской
позиции: «Теоретико-познавательные исследования, относящиеся
главным образом к теории исторической истины, сделали для меня
проблематичной и неприемлемой систему католицизма, но при этом
не христианство, и не метафизику (они теперь имеют для меня
совершенно новый смысл)»*. Можно обнаружить как религиозные,
так и философские корни подобного «поворота». В этот период Хай-
деггер подробно изучал неокантианство и феноменологию Брентано
и Гуссерля, чьи «Логические исследования» на несколько лет стали
для него настольной книгой. По свидетельству Хайдеггера, именно
гуссерлевская феноменология подвела его к вопросу о бытии.
Правда, тогда под влиянием гуссерлевскои критики психологизма и его
чисто ноэматически ориентированной логики, вопрос о бытии
обретает форму логики категорий бытия. Как считал сам Хайдеггер,
диссертационная работа «Учение Дунса Скота о категориях и
значении» была «вопросом о бытии в форме проблемы категорий и
вопросом о языке в форме учения о значении»**. Он исследует вопрос
о единстве бытия во множественности его значений. Рассматривая
высшие категории «Спекулятивной грамматики» — ens (сущее),
unum (единица), verum (истинное), bonum (благо), Хайдеггер
называет сущее «категорией категорий», «исходным элементом», в
просветляющем горизонте которого только и могут быть локализованы
все другие трансценденталии и категории регионов бытия.
Категория «ens» рассматривается как условие возможности познания
любых существующих объектов. Он размышляет также над понятием
haecceitas (это-здесь-и-сейчас). Эта категория, обозначающая
индивидуальность всего реально существующего, представляет собой
«алогический материал», не подпадает под классифицирующие
понятия. Анализ категории haecceitas приводит Хайдегера к вопросу
о преодолении объективирующего мышления, позволяет увидеть,
что мысль может быть содержанием и сосудом для самой себя.
Человек, существующий от случая к случаю, выхватывается из мрака
лучом ясности, которая приходит с бытием. Мышление, способное
обратиться к уникальности всего реально существующего, уловить,
что в базовой структуре реальности «странным образом
переплетаются гомогенность и гетерогенность», оказывается связанным с
бытием мостиком аналогии. Принципы исследования текстов поздней
схоластики, реализованные в диссертации, показывают, что
позиция Хайдеггера в отношении традиционной метафизики остается
* Цит. по: Casper В. Martin Heidegger und die theologishe Fakultät Freiburg
1919-1923 // Freiburger Diözesan-Archiv (1980). S. 541.
** См. предисловие Хайдеггера к изданию: Heidegger M. Frühe Schriften.
Frankfurt am Main, 1972.
768
С. А. Коначева
амбивалентной: с одной стороны, занятия неокантианской теорией
познания и феноменологической логикой делают для него все более
чуждой метафизическую систему схоластики с ее полаганием
оснований сущего в Боге. С другой стороны, собственная хайдеггеров-
ская постановка вопроса о бытии внутренне не свободна от
теологической онтологии. В заключительной части работы Хайдеггер даже
акцентирует метафизические перспективы: «Для теории истины это
означает задачу последнего метафизически-теологического
истолкования сознания»*. В то же время он осознает, что метафизическая
интерпретация реальности, представленная в различных
направлениях схоластики, практически исключает возможность
феноменологической редукции. В схоластической мысли Бог остается
базовой предпосылкой, определяющей все остальное. В философии же
такие предпосылки выносятся за скобки, что позволяет Хаидеггеру
говорить даже об определенном методическом атеизме философии.
И хотя схоластическая мысль представляется ему еще
чрезвычайно плодотворной для современной философии, возникает ключевая
проблема, в решении которой philosophia perennis помочь не
способна: бытие и время в их внутренней взаимосвязи. Перспектива
теологической метафизики остается коренным образом сверхвременной.
Вопрос о бытии в ней решается, прежде всего, как вопрос о бытии
Бога, то есть sub specie aeternitatis. Поэтому не случайным
оказывается обращение Хайдеггера к миру средневековой мистики и через
нее — к лютеровской религиозности.
В студенческих статьях и в разработках к курсу «Философские
основания средневековой мистики» (1918/1919) Хайдеггер
описывает феномен мистики в противопоставлении рационализированию
религии, непосредственное религиозное переживание
противостоит лишенному живой религиозности теоретическому
объективированию. Мистика понимается как «форма выражения религиозного
переживания», где смысл Божественной реальности переживается
не как логический, а как телеологический. Ультимативная
«оптика» мистической традиции показывает, что жизнь есть
«метафизическое напряжение, притяжение к трансцендентному». Задавая
вопрос о том, как конституируется религиозная предметность,
Хайдеггер обращается к особой иррациональности Майстера Экхарта,
в которой познается не просто еще-не-определенное, но в принципе
неопределяемое, допредметное — Абсолют. Если Бог и может стать
предметным, то только для подобного себе (в соответствии с
основным принципом «подобное познается подобным»). Поэтому процесс
познания у Экхарта превращается в процесс освобождения души
* Heidegger M. Frühe Schriften. S. 348.
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера 769
от множественности, возвращения к своим корням и истокам. Для
Хайдеггера смысл мистической концепции познания заключается
в том, что «ты можешь познать только то, что ты есть»*, поэтому
особенно важным оказывается учение Экхарта о рождении Логоса,
Сына Божьего в индивидуальной человеческой душе. В реальном
единении человека с Богом Бог порождает человека как своего Сына
«без всяких оговорок», «теми же очами, которыми я вижу Бога, Он
видит меня». Здесь акцентируется темпоральный смысл
Божественного излияния в творении. К тому же человеческая душа принимает
участие в рождении Сына, сотрудничает, соработает в актуализации
Бога. В мысли Экхарта обнаруживается переживание не только
великой тайны Божества, но и тайны человеческой личности, основу
которой составляет «искра души», глубочайшим образом
соединенная с бездной Божества. Предметность религиозного переживания
определяется тем самым не через метафизическое
противопоставление субъекта и объекта, а в предельном единстве оснований души
и Бога, единстве обоюдном, в котором я есть Он, и Он есть я.
Изучение феноменологии в сочетании с исследованием живого
духа мистической традиции в конечном итоге приводит
Хайдеггера к институциональному разрыву с «системой католицизма»...
Хайдеггер отказывается от метафизической направленности своих
юношеских работ, для него становится неприемлемым объединение
веры и мышления, свойственное традиционной схоластике и
неосхоластическим течениям. Это означает, что вопрос о бытии как
«предмет» философской мысли и вопрос о Боге, определяющий
христианскую теологию решительно расходятся. Мыслителю остается
или хранить молчание в отношении теологических проблем, или
попытаться провести демаркационную линию между изначальной
христианской верой и ее трансформацией в метафизической
онтологии. Попытку описать изначальный христианский жизненный опыт
Хайдеггер предпринимает в своих феноменологических
исследованиях раннего христианства.
Лекционный курс «Введение в феноменологию религии»** был
прочитан Хайдеггером в зимнем семестре 1920/21 гг. Он состоит
из двух частей, из которых первая исследует «феномен
фактичного жизненного опыта», во второй же представлена
«феноменологическая интерпретация раннего христианства», основанная на гер-
* Heidegger M. Die philosophishen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik //
Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 60. Phänomenologie des religiösen Lebens.
Frankfurt am Main, 1995. S. 316.
k* Idem. Einleitung in die Phänomenologie der Religion // Heidegger M.
Gesamtausgabe. Bd. 60. Phänomenologie des religiösen Lebens. Frankfurt am
Main, 1995. S. 3-159.
770
С. А. Коначева
меневтическом толковании Первого и Второго посланий апостола
Павла к фессалоникийцам и Послания к галатам. В первой части
Хайдеггер пытается ответить на два вопроса: что такое фактичный
жизненный опыт? как этот феномен описывает
феноменологический метод? В предварительных вопросах производится различение
между философским и научным изучением религии. Философия
обращается к фактичному жизненному опыту, именно он —
основание философии, то, с чего она начинается и к чему возвращается.
Парадигмой, к которой Хайдеггер предлагает вернуться в поисках
подлинного предмета философствования, становится религиозный
опыт неэллинизированного раннего христианства, преданный
забвению в метафизической традиции и в современной научной
философии религии. В этом первом призыве сделать «шаг назад» к опыту
обнаруживается начало фундаментальной критики западной
философской традиции, столь важной для позднего Хайдеггера. В начале
работы более акцентированным оказывается намерение
решительно развести философию и науку, но эти высказывания также
имплицитно содержат в себе критику смешения философии и теологии.
Стремление к тому, чтобы феноменологическая интерпретация
фактичного жизненного опыта была основана на раннехристианском
религиозном опыте, ставит под вопрос двухтысячелетнюю
интерпретацию этого опыта в теологически-метафизическом мышлении.
Исследование раннего христианства должно привезти к новому
определению феноменологии, да и философии в целом, при котором
исходным пунктом оказывает феномен, не замеченный
господствующей философской традицией, — христианский жизненный опыт.
Темой становится фактичная жизнь в ее невыводимости, вопроша-
ние о жизни как таковой, понимание жизни как отношения,
очерчивающего границы мира. С этим тезисом Хайдеггер покидает поле
традиционных религиозно-философских дискуссий. Для него речь
идет не о философии религии как прикладной философии,
«философии чего-то»; напротив, феномен религиозного опыта становится
исходным моментом целостной системы философии...
Критика теоретической философии становится более отчетливой,
когда Хайдеггер прослеживает возможности описания фактичной
жизни. Фактичный жизненный опыт не должен пониматься с
помощью когнитивных, теоретических актов. Скорее он представляет собой
активное или пассивное отношение человека к миру. Когда мы
говорим о фактичном жизненном опыте, речь не идет об объекте для
познающего субъекта, но о предмете, к которому отнесено наше
переживание (das Erlebte), о мире, в котором человек может жить (в объекте,
как остроумно замечает Хайдеггер, жить невозможно). Мир
предстает перед нами в трех модальностях: «окружающий мир» (Umwelt) —
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера
771
материальные вещи и идеальные предметности, науки, искусство;
«со-мир» (Mitwelt) — другие люди в их определенных фактических
характеристиках (студент, доцент, а не представитель вида homo
sapiens); и, наконец, «собственный мир», «я-сам» (Selbstwelt, Ich-
Selbst) — фактичное переживание собственного «Я» внутри
окружающего мира. Пытаясь трансформировать феноменологический метод
Гуссерля, сохранив при этом беспредпосылочность феноменологии,
Хайдеггер обращается не к данностям сознания, а к опыту
повседневной фактичной жизни как изначальному феномену, его интересует
«не корреляция когнитивных noesis и noema, но соответствие
жизненного опыта, с одной стороны, и модальностей мира — с другой»*.
Формально артикулированные жизненные миры взаимопроникают
друг в друга, по отношению к ним любая попытка
научно-теоретического упорядочивания и ранжирования превращается в насилие.
Отношения между модальностями мира выявлению не поддаются. Одно
остается несомненным: они достижимы в фактичном жизненном
опыте. По Хайдеггеру, возможно охарактеризовать только то, как
познаются эти миры. Мы можем спрашивать, прежде всего, об
отнесенности (Bezug), о том, как мы что-то испытываем и в какой мере это
«как» определяет содержание опыта. Содержание и отношение не
отделены друг от друга, вместе они составляют комплексную структуру
интенциональности, раскрывая в феномене не только то, что
узнается в опыте, но и то, как содержание являет себя. Объединяющий
характер всех трех соотнесенностей с миром обнаруживается в
категории значимости (Bedeutsamkeit), определяющей всякое содержание.
Хайдеггер останавливается, чтобы еще раз напомнить: «Никакой
теории»! Если мы стремимся познать самих себя в фактичном
жизненном опыте, теоретические понятия — «душа», «взаимосвязь актов»,
«трансцендентальное сознание», — роли не играют. Мир
собственного «Я» раскрывается не в познании некоего «Я»-объекта, а в том,
«что мы делаем, из-за чего мы страдаем, с чем мы сталкиваемся, что
склоняет нас к депрессии или приводит в восторг»**. Значимость как
опыт переживается в беспокойстве, озабоченности (Bekümmerung,
Sich-Bekümmerung)***. Человек в своей тревоге и заботе захвачен
миром, так что существенным измерением опыта оказывается падение
(Abfall) в значимость. Фундаментальной характеристикой,
открывающей доступ ко всем фактичным жизненным ситуациям, становится
* Sheehan T. Heideggers «Introduction to the Phenomenology of Religion»
1920-1921 // The Personalist, 1979. Vol. 60. University of Southern
California, Los Angeles. P. 316.
'* Heidegger M. Einleitung in die Phänomenologie der Religion. S. 13.
" Раннее обозначение для того, что в «Бытии и времени» будет названо
заботой (Sorge); здесь же значение ближе к «огорчению», «тревоге».
772
CA. Коначева
озабоченность значимостью (Bedeutsamkeitbekümmerung). Введение
этой базовой категории, по мнению Хайдеггера, дает возможность
преодолеть объективирующее видение фактичной жизни,
превалирующее в ориентации на теоретические акты. Философия
перестает быть наукой о высших объектах, «первых и последних вещах»,
не оставляет больше за скобками человека и все, что для него важно.
После первого определения фактичного жизненного опыта через
соотнесенность с миром Хайдеггер обращается к феномену
историчности, призванному еще более радикально изменить
феноменологический метод. Поворот к историчности означает решительный отказ
от теоретизирования, статического субстанциального понимания
человеческого существования. Одновременно Хайдеггер пытается
избежать возможных опасностей необъективирующего
рассмотрения — превращения человека в «конгломерат психических актов».
«Историческое» должно быть истолковано как ключевой феномен
фактичного жизненного опыта, определяющий его смысловую
перспективу. Подобная постановка проблемы приводит к некоторым
трудностям. Мы спрашиваем: какой смысл имеет «историческое»
в фактичном человеческом существовании? Не привносит ли сама
форма вопроса определенный смысл в понятие «историческое»?
Не вводится ли тем самым предварительное определение предмета,
разрушающее беспредпосылочность феноменологии? Разрешая эти
трудности, Хайдеггер обращается к понятию «формального
указания», позволяющему использовать в феноменологическом
исследовании универсальные понятия. Анализируется гуссерлевское
различение между генерализацией и формализацией как двумя типами
универсализации. Генерализация является родовидовым
обобщением. Например, радость есть аффект, аффект есть переживание.
Кажется, что далее мы можем перейти к сущности. Однако переход
от «переживания» к «сущности» не похож на переход от аффекта
к переживанию, его генерализация осуществить не в состоянии,
поскольку связана с определенной предметной областью, все ее
ступени «предметно определены». Формализация, напротив, не
связана с предметностью, регионом материальных вещей. В суждении:
«Камень есть предмет» мы уходим от определенного материального
содержания и сосредотачиваемся на смысле отношения.
Использование формального указания делает философствование не
теоретическим, заранее выстраиваемым способом упорядочивания
предметных регионов, выяснением определенного «что», определенных
предметов, но обращает мысль к самому феномену. В феномене
Хайдеггер выделяет три смысловых аспекта: «во-первых, то
первоначальное „что", которое узнается в опыте, — содержание (Gehalt),
во-вторых, то первоначальное „как", в котором это испытывает-
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера 773
ся, — соотнесение (Bezug) и, в-третьих, то первоначальное „как",
в котором актуализируется соотнесенный смысл, — осуществление
(Vollzug)»*. Феномен составляет смысловая целостность всех трех
аспектов смысла, хотя решающее значение для Хайдеггера имеет
осуществление. Принципиально новым по сравнению с Гуссерлем
оказывается предпосылание этого временного, исторического
осуществленного смысла, который как некое «темпоральное априори»
оказывается конститутивным для соотнесенности фактичной жизни
с миром. Формальное указание не дает универсальных определений
исторического как «становящегося во времени». Задавая вопрос
о временности, мы не пытаемся выяснить всеобщий смысл
исторического, не выстраиваем базовые схемы временности, считая,
что каждая конституированная в сознании предметность является
временной. Хайдеггер предлагает обратный путь. Мы должны
спросить: «Что в фактичном опыте есть исходно временность? Что в
фактичном опыте означает прошлое, настоящее и будущее?» Наш путь
идет от фактичного жизненного опыта, смысл времени изначально
переживается в фактичной жизни. Феноменологический метод
видоизменяется — переживание темпоральности в фактичном
жизненном опыте становится основной темой новой феноменологии.
После столь подробного описания феноменологического метода,
во второй части курса Хайдеггер приступает к герменевтическому
чтению Посланий апостола Павла, в которых он видит топосы
подлинного мышления, эксплицирующего историчность и темпораль-
ность ранненхристианского религиозного опыта...
Феноменологическое прояснение того, «как» осуществляется религиозная ситуация,
приводит Хайдеггера к двум тезисам:
«1. Раннехристианская религиозность осуществляется в
фактичном жизненном опыте, и, собственно, есть этот опыт как таковой.
2. Фактичный жизненный опыт историчен. Христианская
религиозность представляет собой временность как таковую»**.
Послания апостола Павла становятся для Хайдеггера тем
материалом, который позволяет выявить темпоральные аспекты
не только раннехристианского религиозного опыта, но и
христианской религиозности вообще. Он кратко комментирует Послание
апостола Павла к галатам и затем подробно — Первое и Второе
послания к фессалоникийцам, считая, что в этих древнейших
христианских документах нашел свое выражение подлинный религиозный
жизненный опыт. В хайдеггеровском исследовании центральным
феноменом оказывается провозвестие (Verkündigung). Он выносит
за скобки критику источников, вопрос о принадлежности посланий,
* Heidegger M. Einleitung in die Phänomenologie der Religion. S. 63.
** Op.cit. S.80.
774
С. А. Коначева
описание исторического контекста, догматические толкования.
Обращение к провозвестию самому по себе позволяет раскрыть
фактичный жизненный опыт автора посланий: собственный мир апостола
Павла в его непосредственном отношении с окружающим миром
и сомиром общины. Хайдеггер стремится определить «апостольское
провозвестие в его "как", его осуществленном смысле»*, предлагая
совершить методический поворот от объективно-исторического
исследования писем апостола Павла к исторически осуществленной
ситуации. Ситуация, понимаемая как феноменологический термин,
нетождественна объективно-историческим формам, историческим
периодам или эпохам. Мы можем только формально указать на
ситуацию как единство множественного, единство, которое находится
по ту сторону альтернативы «статично—динамично». Статичность
и динамичность ситуации определяется из времени фактичной
жизни в тесной взаимосвязи с осуществлением фактичного опыта.
В подтверждение того, что ситуация может быть понята только
из перспективы осуществленного смысла, Хайдеггер обращает
внимание на частое употребление апостолом Павлом различных форм
трех глаголов: глагола genesthai (стать), с одной стороны, и глаголов
eidenai (знать) и mnaomai (помнить) — с другой. Частота и способ
употребления этих глаголов оказываются ключом для понимания
ситуации, в которой Павел видит себя и общину. Павел говорит о фесса-
лоникийцах как о ставших. Речь не идет о событии, произошедшем
в прошлом, но о том, что определяет настоящее «сейчас». Их ставшее
бытие (Gewordensein) — это их сегодняшнее бытие. Хайдеггер снова
акцентирует здесь темпоральный аспект фактичной жизни: ставшее
бытие (благодаря вере и глубине принятия Радостной вести)
определяет сегодняшнее бытие; то, чем стал фактичный жизненный опыт,
уже заранее присутствует**. Вхождение фессалоникийцев в бытие
предстает одновременно и как ставшее бытие самого апостола,
соучаствующего в этом становлении. Глагол «стать» тесно взаимосвязан
с глаголами «знать» и «помнить». Апостол Павел неоднократно
повторяет фразы: «Мне не нужно писать вам о чем-либо, вы уже знаете
<...> или помните» (1 Фес, 2, 5; 2, 9; 2, 11; 3, 6; 4, 2; 4, 9; 5, 1). Это
знание особого рода, непохожее на обычное познание и память. Как
правило, мы разрываем фактичность и знание, Хайдеггер же видит
их изначально соединенными. Знание — это включенность в
ситуацию, оно может следовать только из фактичного жизненного опыта.
* Heidegger M. Einleitung in die Phänomenologie der Religion. S. 83.
'* Позже, в «Бытии и времени», говоря о фактичности, Хайдеггер указывает,
что экзистенция есть то, что она уже есть. Будущее экзистенции не следует
после экзистенции, но предшествует ей. Настоящее добывается из
пришедшего из прошлого будущего.
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера
775
Апостол показывает нам, что фессалоникийцы стали
«подражателями Господа», «принявши слово, при многих скорбях с радостью»
(1 Фес, 1,6). Принятие слова не случайно происходит в бедах. Оно
означает включенность в нужды и скорби жизни. Подлинное
присутствие Бога раскрывается в жизненном служении, в жизненных
переменах. Собственно «принятие как таковое и есть служение
Богу»*. В служении для «принимающего слово» открывается особая
возможность бытия — деятельная взаимосвязь с Богом.
Фессалоникийцы становятся теми, кто они есть, благодаря абсолютному
перевороту, обращению от идолов к Богу**. Для Хайдеггера именно
знание о ставшем бытии является истоком теологии. В экспликации
этого знания о явленности Божественного бытия в фактичном
жизненном опыте выстраивается понятийное здание теологии.
Хайдеггер показывает, что темпоральные аспекты
раннехристианского жизненного опыта наиболее ярко обнаруживаются в
эсхатологической перспективе теологии апостола Павла. Павел живет
с предельно личным, определяющим его апостольскую миссию
упованием — надеждой на Парусию, Второе пришествие Христа,
ожидаемое еще при жизни того поколения христиан, к которому
принадлежит сам апостол. Христианин живет некоторым образом
между двумя периодами. На его существование накладывает
отпечаток священное событие воплощения, жизни и крестной смерти
Христа, событие прошлого, которое налагается на будущее
завершение, Парусию, и непосредственно определяет настоящее.
Эсхатологические ожидания апостола Павла проясняют, по Хайдеггеру, ядро
феномена фактичного жизненного опыта в раннем христианстве, его
основополагающую структуру, сводящую различные аспекты к
объединяющему опыту — опыту изначальной временности. Хайдеггер
подчеркивает уникальность павловской эсхатологии, давая краткий
экскурс в историю понятия Парусин: в классическом греческом оно
означает «присутствие», в греческом переводе Ветхого Завета (Сеп-
туагинте) понимается как «Пришествие Господа в Судный День»,
в позднем иудаизме оно связано с ожиданием будущего прихода
Мессии. Для христиан же Парусил не означает присутствие или
будущее пришествие, но именно второе пришествие уже явившегося
Мессии. Подлинное христианское отношение к Парусин
радикально отличается от всех ожиданий. Даже если христианин спрашивает
о временах и сроках (chronos и kairos), ответ выводит его за границы
объективного времени или времени фактичной жизни в ее
отпавшем нехристианском состоянии. Хайдеггер фокусирует внимание
* Heidegger M. Einleitung in die Phänomenologie der Religion. S. 95.
** « Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному
и ожидать с небес Сына Его» (1 Фес., 1, 9-10).
776
С. А. Коначева
на различии между хронологическим и кайрологическим временем.
Хронологическое время характеризуется как нечто исчислимое,
объективное, доступное распоряжению, и при этом ничего не
говорящее о смысле исторических событий. Кайрологическое время,
напротив, принадлежит к осуществленной историчности жизни
и не может объективироваться. Кайрос настает внезапно, являясь
как событие, которым мы не можем распоряжаться. Хайдеггер
возвращается здесь к центральному аспекту в анализе формальной
структуры фактичного жизненного опыта — изначальному
характеру осуществленного смысла. Раннехристианский религиозный
опыт, определенный кайросом (хайдеггеровский перевод на
немецкий язык «Augenblick» — мгновение), показывает, что в фактичной
жизни доминирует именно осуществленный смысл. В
подтверждение Хайдеггер обращается к началу пятой главы послания, где
Павел обсуждает вопрос о том, когда произойдет второе пришествие*.
Отмечается, что для апостола этот вопрос вообще не является
познавательным. Павел не говорит: «Тогда-то Господь придет снова» или:
«Я не знаю, когда Господь снова придет». Напротив, он
утверждает: «Вы сами прекрасно знаете». Значит, мы снова возвращаемся
к фактичному жизненному опыту. Павел имеет в виду то знание,
которое фессалоникийцы получили, став теми, кто они есть. Вопрос
о темпоральности в христианском религиозном опыте становится
вопросом о жизни в ее фактичности. Вид ответа показывает, что
речь идет о решающем определении собственной жизни. Спрашивая
о том, когда наступит второе пришествие, христианин возвращается
к собственному образу действий. Надежда на Парусию не сравнима
с ожиданием исчисляемого события, метафора «вора в ночи»
придает ей признаки неопределенности и неожиданности. Время, которое
переживается в христианском жизненном опыте, имеет совершенно
особенный характер. Это время без собственного порядка и жестких
установок. В каком бы то ни было объективном понятии времени
такую временность встретить невозможно. Смысл этой временности
«является основополагающим для фактичного жизненного опыта» **.
Не случайно, уточняя вопрос о Парусин, апостол Павел говорит
о двух группах людей. «Когда люди будут говорить: „Всюду мир
и безопасность!" — тогда и нагрянет на них гибель, как внезапно
начинаются схватки у роженицы, и не спастись им бегством! Но вы,
братья, не во тьме, и свет того Дня вас не застанет врасплох, словно
вор. Ведь вы все сыны света и дня. Мы не принадлежим ночи и тьме.
* Что же касается времен и сроков, братия, то вы не нуждаетесь в том,
чтобы вам об этом писали. Ведь вы сами прекрасно знаете, что День Господень
придет внезапно, как вор в ночи (Фес, 5, 1-2).
** Op. cit. S. 104.
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера
777
Так не будем спать, как остальные! Будем бодры и трезвы!» (1 Фес,
5, 3-6). Те, кто предпочитает мир и безопасность, уповают на этот
мир, их ожидания связаны с падшей жизнью. Они не спасутся,
поскольку не обрели самих себя, забыли свой собственный смысл,
не прояснили собственное знание, живут во тьме. Другие живут
в свете Дня, который просветляет их знание о самих себе,
определяя новый способ существования — бодрствование, в
противоположность уверенности и безопасности. Для христианской жизни
никакой безопасности нет. Основополагающее значение фактичной
жизни характеризуется постоянной небезопасностью. Хайдеггер
полагает, что эта небезопасность не случайна, но необходима. Речь
идет не о логической или природной необходимости. Чтобы увидеть
это, нужно вспомнить о собственной жизни и ее осуществлении.
«Когда» второго пришествия определяется через «как»
человеческого отношения к Богу, миру, самому себе, через осуществление
фактичного жизненного опыта в каждом его моменте. Ожидание
Парусин приводит верующего к осуществленной взаимосвязи с Богом,
в которой Бог «дается» в модусе темпоральности.
Из представленного обзора хайдеггеровского анализа
христианского жизненного опыта становится очевидным, что здесь
складывается новый тип философствования, развернутый позднее в «Бытии
й времени». По Хайдеггеру, путь современного философствования
с его концептуальными схемами закрывает доступ к подлинной
философии. Философия должна исходить из ситуации понимания
философа. Когда же мы превращаем философию в
концептуальную схему, вхождение в ситуацию понимания оказывается
невозможным. Напротив, подлинное философствование есть своего рода
деятельность, нечто, что мы совершаем. Знание о том, что такое
философия, обретается в философствовании. Опыт бытия, с
которого начинается философствование, Хайдеггер называет
фактичностью. Мы философствуем из нашей фактической ситуации. Чтобы
прояснить специфическую природу и предмет философии,
необходимо прояснить фактичность жизни. Поиск нового стиля
философствования, осуществляемый в ранних работах через обращение
к фактичному жизненному опыту, позднее найдет свое завершение
в экзистенциальной аналитике Dasein. Тот факт, что
онтологическая проблематика коренится в феноменологической
интерпретации религиозного опыта раннего христианства, имеет серьезное
значение для дальнейшего развития хайдеггеровской мысли, хотя
нельзя не отметить, что, осуществляя герменевтическое прочтение
раннехристианской религиозности, Хайдеггер сосредоточен
скорее на построении «более подлинного» варианта феноменологии,
основанного на первичном феномене фактичного жизненного опы-
778
С. А. Коначева
та. Об этом свидетельствует и структура, и проблематика
исследования. Рассматривая вопрос о фактичной жизни в ее временности,
Хайдеггер считает необходимым представить целостную
феноменологическую интерпретацию своего «предмета», включая подробное
обсуждение возможных модификаций феноменологического
метода в его обращении к опыту фактичности*. В качестве своеобразной
парадигмы для исследования фактичного жизненного опыта
избирается раннехристианский религиозный опыт, при этом Хайдеггер
отказывается задавать вопрос о том, что же в христианском
жизненном опыте предпослано верованием. Проблема истины веры и
содержания верования как того, что только и делает для христианина
возможным кайрологический опыт времени, предоставляется самой
вере и связанной с ней науке теологии. Подобная отсылка имеет,
конечно, многочисленные систематические и методические основания
(подробно разработанные в более поздней работе «Феноменология
и теология»). Но она же создает определенные трудности для
собственного хайдеггеровского мышления. Если темой феноменологии
призвано стать не гуссерлевское интенциональное сознание, а нечто
более универсальное и беспредпосылочное — фактичный
жизненный опыт, феноменологическое исследование не может оставить без
внимания тот факт, что фактичный жизненный опыт существует
только в конкретных жизненных формах. Как справедливо отмечает
М. Юнг, выбор раннехристианского религиозного опыта в качестве
предметной области ставит Хайдеггера перед двойной трудностью:
«он должен разорвать тесную взаимосвязь между разработанными
структурами и рамками их жизненного мира, а также объяснить,
как понимание, исходящее только из осуществления феноменов,
становится возможным без одновременного со-осуществления акта
веры»**. Это приводит к необходимости формализирующей и
универсализирующей интерпретации. Хайдеггер настаивает на том, что его
собственное феноменологическое предпостижение радикально
отличается от теоретического отношения, не вносит предварительные
определения, а формально указывает на историчность и темпораль-
ность раннехристианской религиозности. Тем не менее иногда
создается впечатление, что под предварительно разработанные
структуры фактичной жизни практически «подгоняется» текст одного
Хайдеггер перешел от теоретической части к интерпретации посланий
апостола Павла только после того, как студенты пожаловались, что в курсе по
феноменологии религии практически не рассматриваются собственно
религиозные феномены.
k* Jung M. Das Denken des Seins und der Glaube an Gott: zum Verhältnis von
Philosophie und Theologie bei Martin Heidegger. Würzburg: Königshausen u.
Neumann, 1990. S. 53.
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера 779
из самых прозрачных и «не-богословских» посланий апостола
Павла. Так, грамматика первой главы, где апостол говорит о том, кем
стали фессалоникийцы после обращения, тщательно превращается
в онтологию, учение о «ставшем бытии». В большинстве Посланий
апостола Павла описание христианской жизни строится на
сочетании «уже» и «еще не». Как правило, в первой части Послания
апостол говорит о христианах как о спасенных, «ставших образцом»,
«сделавшихся подражателями Господу», а во второй напоминает
о том, что еще предстоит совершить в жизненном служении:
«будьте долготерпеливы ко всем», «поддерживайте слабых» (1 Фес, 5,
14), «любовь да будет непритворна» (Рим., 12, 9). Более того, для
апостола Павла «условием возможности» стать тем, кто ты есть,
оказывается «принятие слова», акт веры. Ядром его собственного
богословия, определившим многие темы, понятия, подходы к
ветхозаветной традиции, была мистическая встреча по дороге в Дамаск.
Но хайдеггеровская формализированная интерпретация,
нацеленная исключительно на содержащиеся в фактичном жизненном
опыте структуры изначальной временности, этой предпосланности как
будто не замечает.
Лекционные курсы начала 1920-х гг. обнаруживают глубокие
перемены хайдеггеровской позиции по отношению к христианской
вере и теологии, позволяющие говорить об определенном
«повороте» в философии Хайдеггера. Некоторые исследователи (О. Пегге-
лер, Т. Шихан) полагают, что «этот сдвиг представляет собой в
конечном итоге движение от католицизма к протестантизму, хотя
в этих переменах интересы Хайдеггера остаются
теоретико-философскими, а не только религиозными»*. Другие (М. Юнг, Д. Ван
Бурен) характеризуют изменения в хайдеггеровской мысли прежде
всего как теоретический, хотя и религиозно мотивированный
проект. Представляется, что философские интересы все же
преобладают. Конечно, хайдеггеровское понимание веры оказывается теперь
гораздо ближе к протестантскому, где исходным моментом в
вопросе о действительности Бога оказывается реальность человеческого
бытия в мире. Его путь к апостолу Павлу идет через осмысление
Кьеркегора и Лютера. Тем не менее можно увидеть, что это новое
понимание веры явилось не только результатом обращения от
католицизма к протестантизму, но, прежде всего, следствием
философского вопрошания об «истоках» человеческого существования. Именно
обращение к понятию фактичности позволило осуществить
методическое возвращение к началам — павловской теологии креста в
противоположность теологии славы аристотелевской схоластики. Фено-
* Sheehan T. Heideggers «Introduction to the Phenomenology of Religion»
1920-1921. P. 314.
780
С. А. Коначева
менологический анализ христианского жизненного опыта показал,
что Бог как ультимативный содержательный смысл христианской
веры узнается не в объективированных понятиях субстанции и
сущности, Он исторически открывается в Воплощении, Распятии и
втором Пришествии. Этот анализ не завершается построением новой
теологии (протестантской вместо католической), Хайдеггер скорее
бросает вызов онтологии, сложившейся в рамках схоластической
интерпретации Аристотеля, и приходит к необходимости заново
поставить вопрос о бытии. Феноменология религии, раскрывающая
фактичный жизненный опыт в его темпоральности, обнаруживает
существенные различия философского и теологического подходов.
Формализированная интерпретация философского рассмотрения,
не соотнесенная с актом веры, предельно далека от теологии, только
в вере обретающей достаточное основание.
Построение феноменологии на основе «фактичного жизненного
опыта» обнаруживает глубокое недоверие Хайдеггера к чисто
теоретическим, сконструированным из сверхвременной перспективы
метафизическим системам. Если философия призвана быть
«изначальной наукой о жизни самой по себе», она должна
возвратиться к дотеологическим и дометафизическим истокам. Не случайно
в этот поворотный момент подобным истоком для Хайдеггера
оказывается изначальный христианский жизненный опыт,
эксплицированный в посланиях апостола Павла. Но в отличие от
современных ему протестантских теологов, для которых обращение к текстам
апостола Павла было возвращением к опыту веры как радикально
новой переориентации человека, дающей новую возможность
ответить на вопрос, «что значит говорить о Боге»*, Хайдеггер стремится
через апостола Павла вернуться к подлинному философствованию,
продумывающему фактичный жизненный опыт в его историчности.
Его стремления в конечном итоге оказываются именно
онтологическими: исследование опыта фактичности призвано дать понятийное
оснащение для критического усвоения философской традиции,
выявить возможности для построения новой онтологии. В отношении
к религиозной философии феноменологический метод предстает как
деструкция. Такая деструкция означала для Хайдеггера и конец
теологии как метафизики, и одновременно возможность ее нового
начала, в котором основными понятиями станут не Высшее бытие —
Дух — вневременность, как это было в средневековой схоластике,
a Deus absconditus — вера — кайрологическое время,
обнаруженные Хайдеггером в раннем христианстве.
* Bultmann R. Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden? // Bultmann R. Glauben
und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Bd. IV. 4 Aufl. Tübingen, 1984. S. 26-
37.
ч
Н.А.АРТЕМЕНКО
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
На пути к «Бытию и времени»
Рассмотрим несколько ключевых аспектов рукописи М. Хай-
деггера «Феноменологические интерпретации Аристотеля»,
которую в научной литературе для краткости называют Natorp-Bericht
(1922)*, а также наиболее существенные термины, задающие
определенную смысловую тональность этого текста. Для начала следует
отметить, что для хайдеггеровского подхода к
историко-философской проблематике характерным оказывается обращать внимание
при анализе греческой философии лишь на некоторые ее
аспекты — на те, которыми руководствуется он сам при формировании
собственной философской концепции. Истолкование
философского наследия Античности у Хайдеггера неизменно связано с
осмыслением современного состояния философской мысли и будущего
философии. Поэтому задача любого философского исследования
по Хайдеггеру — раскрыть то, что в истории философии
возникало в качестве скрытых возможностей, определяющих направление
дальнейшего развития.
Эта стратегия характерна как для его ранних интерпретаций
античной философии, так и для более поздних. Данная рукопись
не исключение. Хайдеггер здесь, с одной стороны, следует,
казалось бы, идее научной преемственности, но с другой стороны,
противопоставляет догматической («цеховой») традиции опыт
собственного непосредственного общения-диалога с античным
наследием.
Способ работы Хайдеггера с ближайшим терминологическим
окружением, позволявший ему быть свободным от догматических
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles
(Anzeige der hermeneutischen Situation): Ausarbeitung für die Marburger und die
Göttinger Philosophische Fakultät (1922) // Heidegger M. Phänomenologische
Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur Ontologie
und Logik (GA 62). Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2005. S. 341-419.
782
H. A. Артеменко
предрассудков и благодаря этому усматривать неожиданные связи
внутри слов и «смелые обертоны» смысла, весьма метко, на наш
взгляд, охарактеризовала Т. В. Васильева, назвав его
«артистической герменевтикой»*. Ни один термин у Хайдеггера не
истолковывается ради него самого, но всегда исходя из «целого». Хайдеггеров-
скому языку свойственна образная яркость и легкость в обращении
с лексикой не только греческого языка, но и немецкого.
* * *
Следует принять во внимание, что Хайдеггер в период между
1921 и 1924 гг. планировал начать работу над книгой,
посвященной Аристотелю. Результаты исследования он собирался
опубликовать в гуссерлевском ежегоднике («Jahrbuch für Philosophie
und phänomenologische Forschung»), что следует из его переписки
с Ясперсом и его учеником Левитом. Публикации не последовало.
Г.-Г. Гадамер в многочисленных докладах и статьях неоднократно
указывал на новаторский характер хайдеггеровской интерпретации
Аристотеля, представленной, в частности, в рассматриваемой здесь
рукописи. «В 1921 году, — вспоминает Гадамер, — находясь под
сильным влиянием феноменологии Гуссерля, Хайдеггер
возвращается к собственным занятиям Аристотелем и открывает
совершенно другого Аристотеля, отличного от того, с которым он был знаком
в свои студенческие годы. Подтверждением этого нового взгляда
на Аристотеля является программная рукопись, которая к тому же
отличается изобилием гениальных прозрений и далеко идущими
результатами исследования. <...> Я был знаком с вводной частью этой
рукописи уже в 1922 году. Пауль Наторп, под руководством которого
я писал тогда свою докторскую работу, передал мне копию
"Экспозиции герменевтической ситуации". Так называлась часть
рукописи, предварявшая в качестве введения хайдеггеровские
"Феноменологические интерпретации Аристотеля". Этот текст стал для меня
настоящим открытием. Именно поэтому путь мой направил меня
во Фрайбург. Те указания, которые я нашел для себя в этой
рукописи, вели меня и дальше в годы марбургского периода — важнейшие
годы хайдеггеровского философского становления. Эту рукопись
я читал неоднократно, с медленно возрастающим пониманием, пока
она не была потеряна в неразберихе Второй мировой войны»**.
* По выражению Т. В. Васильевой (см. : Васильева Т. В. Семь встреч с М. Хай-
деггером. М.: Издатель Савин С. А., 2004).
** Gadamer H.-G. Heideggers „theologische" Jugendschrift // Dilthey-Jahr-
buch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. Bd. 6. S. 229.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
783
Гадамер неоднократно отмечал во многих статьях, посвященных
Хайдеггеру и собранных в третьем томе его Собрания сочинений*,
особое значение греческой философии в целом и аристотелевской
философии в частности в становлении и развитии собственного
мыслительного пути Хайдеггера. Можно сказать, что в 1922 г. в этой
небольшой работе** обоснованно и полно были заявлены многие тема-
Gadamer H.-G. Gesammelte Werke: In Xbd. Bd. 3: Neuere Philosophie: Hegel,
Husserl, Heidegger. Tübingen: Mohr, 1987.
Непосредственной причиной, побудившей Хайдеггера написать этот
текст, была возможность профессионального карьерного роста. Начиная
с 1919 г. Хайдеггер работал в качестве ассистента Э. Гуссерля и приват-
доцента в Университете Фрайбурга. В середине 1922 г. стало известно,
что вскоре освободятся две внештатные профессорские должности в
немецком академическом мире: одну вакансию предоставлял Университет
Марбурга (предполагалось, что Пауль Наторп вскоре выйдет на пенсию, а
его место ординарного профессора займет Николай Гартман; таким
образом, освобождалась должность Гартмана); вторую профессорскую ставку,
некогда занимаемую Гуссерлем, предоставлял университет Гёттингена
(ученик В. Дильтея Германн Нол принял на себя обязанности
ординарного профессора философии и педагогики, соответственно освобождалась
вакансия Нола). П. Наторп в Марбурге письмом от 22 сентября 1922 г.
и Г. Миш в Гёттингене письмом от 28 мая 1922 г. вступили в переговоры
с Э. Гуссерлем в связи с обсуждением вопроса о возможном последователе,
и оба рассматривали кандидатуру М. Хайдеггера как одну из наиболее
достойных на освободившееся место профессора. Они попросили выслать им
обстоятельный отчет Хайдеггера о читаемых лекционных курсах,
текущей научной работе, ближайших издательских планах и по возможности
предоставить уже подготовленные к печати работы. Продвижению
Хайдеггера по академической лестнице препятствовало только одно: небольшое
количество публикаций, последняя из которых датировалась 1916 г.,
когда вышла в свет его хабилитационная работа по Дунсу Скоту. Дабы
ликвидировать этот пробел и прервать многолетнее молчание, Хайдеггеру было
предложено подготовить текст, который можно было бы опубликовать и
который в общих чертах представлял бы как его текущую работу, так и
набросок будущей. Хайдеггер написал * Феноменологические
интерпретации Аристотеля» примерно за три недели (с конца сентября до середины
октября), опираясь на свои записи к лекционным курсам за последние
три года. Законченная работа — «Феноменологические интерпретации
Аристотеля (Экспозиция герменевтической ситуации)» — была отослана
при посредничестве Гуссерля в Марбург и Гёттинген. Ответы из
Марбурга и Гёттингена не заставили себя долго ждать. В письме из Гёттингена
от 2 ноября 1922 г. Г. Миш объясняет, почему Хайдеггер был поставлен
в списке выбранных к утверждению в министерстве Берлина кандидатур
только на второе место после Моритца Гейгера. Г. Миш признает, что
работа, посвященная Аристотелю, демонстрирует всестороннее, доскональное
знакомство с важнейшими источниками и впечатляющую самобытность
мышления. Проблема состояла в том, что Хайдеггер, вместо того чтобы,
как это ожидалось, представить четкую и беспристрастную оценку
аристотелевского наследия, развивает в этом тексте свою собственную
философскую концепцию. В связи с этим Миш выражает недовольство фи-
784
H. A. Артеменко
тические рубрики «Бытия и времени» (более того, отдельные части
этой рукописи можно соотнести с отдельными разделами «Бытия
и времени»), а также отчасти выработан философский словарь
«Бытия и времени», состоящий из таких понятий, как Sorge, Besorgen,
Umwelt, Umgang, Umsicht, Bedeutsamkeit, Dasein, Existenz, das
Man, Verfallen и т. д.
Нетрудно показать, что проект «Бытия и времени» —
важнейшего философского произведения XX в. — возник из некогда
запланированной книги, посвященной Аристотелю. При этом мы
не должны, по-видимому, вести речь всего лишь о каком-то
банальном «влиянии» Аристотеля на Хайдеггера. Гораздо более
продуктивным было бы показать, что Хайдеггер не столько был подвержен
влиянию Аристотеля, сколько сам способствовал приведению
Аристотеля к какой-то совершенно новой и неожиданной
интерпретации, расходящейся с традиционным толкованием. В этом смысле
мы могли бы сказать, что Аристотель для Хайдеггера оказывается
лософским стилем Хайдеггера, который он находит скорее деспотичным
и тяжелым, нежели легким и свободным, а также некоторыми
формулировками Хайдеггера, которые выглядят, по его мнению, несколько
«вымученными». Ответ из Марбурга последовал так же быстро, но был более
благосклонным. Наторп в письме Гуссерлю от 30 октября, а затем в
повторном от 9 ноября 1922 г. поделился своим чрезвычайно позитивным
впечатлением, которое произвела на него и его коллегу Гартмана
рукопись молодого Хайдеггера. Наторп отмечает неординарный подход,
оригинальность, глубину и строгость хайдеггеровского текста. Наибольший
же интерес Наторпа вызвал самобытный феноменологический подход
автора к истории философии. В официальном сообщении министерству в
Берлине, датированном 12 декабря 1922 г., философский факультет
Марбурга поставил кандидатуру М. Хайдеггера на первое место, и уже зимой
1923 г. Хайдеггер читает свои первые лекционные курсы в Университете
Марбурга. История этой ранней работы М. Хайдеггера имеет интересное
продолжение. Где-то между 1922 и 1924 гг. Наторп показывает марбург-
скую копию рукописи Хайдеггера своему студенту Гансу Георгу Гадамеру,
который позже возьмет ее с собой в Лейпциг. Но в 1943 г., во время
паники, вызванной воздушным налетом, копия хайдеггеровской рукописи,
находившаяся у Гадамера, пропала. К счастью, гёттингенская копия работы
имела совсем другую судьбу. В 1964 г., 42 года спустя после того, как
Хайдеггер выдвигал свою кандидатуру на освободившуюся вакансию в Гёт-
тингене, Г. Миш отдал копию хайдеггеровской рукописи, посвященной
Аристотелю, своему студенту Джозефу Кёнигу. Так и не ознакомившись с
ней, Кёниг отложил рукопись и впоследствии забыл о ней. Долгое время
считалось, что гёттингенская копия рукописи тоже утрачена, пока она не
была случайно обнаружена среди бумаг Дж. Кёнига уже в 1980-е гг.
Именно эта рукопись и была отредактирована Гансом Ульрихом Лессингом и
с предисловием Ганса Георга Гадамера впервые опубликована в 1989 г.
в «Дильтеевском ежегоднике» (Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und
Geschichte der Geisteswissenschaften. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1989. Bd. 6. S. 228-274).
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
785
не только «другом» и «единомышленником», но и важнейшим
оппонентом.
Однако сам Хайдеггер считал, что его феноменологическая
процедура не есть привнесение в греческую философию чего-то «извне»,
а действительно эксплицирует собственно аристотелевский способ
исследования, точнее метод, который был присущ самой греческой
философской мысли. Действуя в соответствии с этим
«феноменологическим методом», Хайдеггер порывает с Гуссерлем и со всей
традиционной рецепцией греческой философии. Но данная
экспликация аристотелевской процедуры приводит и к трансформации
аристотелевской проблематики в целом. <...>
* * *
Итак, лейтмотивом «Natorp-Bericht» является понимание того,
что доступ к вещам самим по себе (Sache selbst) возможен только
посредством радикального критического обращения к истории, коей
мы сами являемся. В этом тексте Хайдеггер ставит себе целью на
основании изначальной проблематики фактичности с помощью
феноменологической интерпретации Аристотеля осуществить
«историю онтологии и логики». Во введении к этой рукописи Хайдеггер
предлагает свое понимание философии как герменевтической
феноменологии. Феноменология не является герменевтически наивным
обращением к самим вещам, как если бы была причина для
обратного изъятия или возвращения какой-то утраченной изначальной
позиции, — это само-обращенность фактической жизни. Собственно,
философия и есть жизнь, само-артикуляция жизни из самой себя.
Поэтому любое философское исследование остается созвучным
жизненной ситуации, из которой и ради которой оно вопрошает. В
контексте собственного рассмотрения проблематики фактичности
Хайдеггер показывает, что Аристотель поставил вопрос о фактической
человеческой жизни в изначальном виде.
Именно эта часть работы заставила Наторпа предположить, что
Хайдеггер будет разрабатывать революционно новое прочтение
Аристотеля во время своего пребывания в Марбурге.
Итак, в качестве особого исполнения подвижности жизни любое
понимание имеет историческое измерение. Поэтому возможность
интерпретации, а именно возможность поставить себя в отношении
тематического предмета интерпретации подлинным образом,
зависит от разъяснения заданных на ее основании предпосылок. Для
того чтобы схватить «почему» тематического выбора, а также для
того чтобы пояснить, какая «объективность» каждый раз подлежит
схватыванию, ситуация интерпретации должна быть «высветлена»,
786
H. A. Артеменко
то есть должны быть эксплицированы «определенные условия
толкования и понимания»*.
Хайдеггер называет это прояснение или «высветление» пред-дан -
ной ситуации, в которой толкование должно себя всегда уже
обнаруживать, герменевтикой ситуации, что эксплицирует для самого
толкователя три момента толкования, своего рода
герменевтическую триаду: 1) Blickstand (точка зрения), то есть то, из чего (von
wo aus) берет свое начало толкование, то, из чего оно
направляется к предмету; его более и менее отчетливо освоенная и
закрепленная изначальная позиция (тематическая предпосылка
исследования); 2) Blickrichtung (направленность взгляда), которая, со своей
стороны, определяет Blickbahn (направление взгляда / внимания)
и Blickhabe (поле обзора) толкования: каков предмет толкования
и на-что (woraufhin) он опрашивается, в каком направлении
происходит набросок интерпретирующего определения; 3) Sichtweite
(дальность видимости, поле видимости) — своего рода очевидность,
«в пределах которой осуществляется соответствующее притязание
интерпретации на объективность»**. Дальность видимости
показывает границы притязания на объективность внутри поля координат,
заданных первыми двумя моментами. Собственно, хайдеггеровская
интерпретация представляет собой некую философскую
интерпретацию и имеет в качестве предмета аристотелевскую философию,
которую она ставит под определенный угол зрения или рассматривает
с определенной точки зрения (Blickstand). В то же время и его
интерпретации причитается определенная степень очевидности,
подходящей всегда к определенному настоящему. «Natorp-Bericht»
содержит, таким образом, герменевтику данной ситуации: Хайдеггер
проясняет здесь свою собственную философскую ситуацию, в
которой коренится его толкование. В результате работа делится на две
части: экспозиция Blickstand и экспозиция Blickrichtung
аристотелевской интерпретации. Вопрос о третьем моменте интерпретации,
Sichtweite, более не ставится — он сводится к первым двум.
Экспозиция Blickstand в данном случае получает название
герменевтика фактичности (Hermeneutik der Faktizität). Хайдеггер
показывает, где философия обретает собственное настоящее, в чем
обнаруживает себя ее Blickstand и как она должна заручаться своим
предметом. «Предмет философского исследования — человеческое
бытие (das menschliche Dasein), как оно опрошено в отношении
своего бытийного характера»***. И далее читаем: «В качестве его пред-
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 346.
** Ibid. S. 347.
*** Ibid. S. 348.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
787
мета (то есть предмета философского исследования. — Н. А.) было
определено в форме [предварительного] указания фактическое
человеческое бытие как таковое**.
Остановимся на термине Dasein, который, безусловно, требует
подробных комментариев. В «Natorp-Bericht» Dasein часто
выступает синонимом фактической жизни (das faktische Leben). Как мы
помним из * Бытия и времени», сущее открывается для Dasein как
подручное, наличное и особого рода сущее — Dasein. Но, с другой
стороны, то, что нам открывается как открытость сущего, есть
бытие. В открытости сущего дает о себе знать, открывается бытие.
Будучи открытым, человек держится в открытости. Основной для
Dasein способ быть открытым — различать бытие и сущее, делать
шаг от сущего самого по себе (an ihm selbst) к сущему как таковому
(als solches). Потому не что (Was) и не то, что (Dass), a как (Wie)
того-что-предмет-есть может быть важным и единственно
решающим для философии. И вот на это как? (Wie?) Хайдеггер отвечает:
«Da!» Dasein становится тем термином, который наиболее уместно
использовать, когда мы говорим о человеке**.
Возвращаясь к термину «фактичность», Хайдеггер указывает,
что фактичность становится собственно пред-обладанием
философии: это то, где философия всегда себя обнаруживает, в чем она
должна искать и находить свое место, чем она всегда уже обладает.
Поскольку философское толкование должно сделать прозрачным
для себя самого собственную ситуацию, с тем чтобы необходимым
образом определить свою собственную направленность взгляда
(Blickrichtung), оно тем самым направляется на герменевтику
фактичности. При этом человек как фактичность выступает здесь в
двояком смысле: 1) он есть предмет философии; 2) философия сама
при этом есть определенное «как* бытия человека. Философское
исследование «есть эксплицитное исполнение глубинного движения
фактической жизни»***.
Укажем на основные моменты, которые конституируют истолко-
ванность фактической жизни, то есть пройдемся по основному
терминологическому словарю рукописи.
Хайдеггер определяет фактическую жизнь как подвижность,
основной смысл которой — заботливость, das Aussein auf etwas —
«стремление к чему-либо», «нацеленность-на» : на-что заботы — это
мир, который обретается человеком в обхождении. К миру принад-
* Ibid. S. 351.
'* Именно поэтому наиболее удачным, на наш взгляд, является перевод
термина Dasein как «бытие-здесь» или *вот-бытие».
'* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 351.
788
H. A. Артеменко
лежат не только предметы обхождения (Umwelt — окружный-мир),
но и другие (Mitwelt — совместный-мир), и я сам, собственно
самость (Selbstwelt — мир-самого-себя), то есть все сущее, при
котором человек фактически всегда уже (immer schon) себя удерживает.
Мир присутствует здесь как всегда уже каким-либо образом
принятый к заботе. Хайдеггер делает здесь особый акцент на бытии
того сущего, к которому человек так или иначе относится: «Смысл
действительного бытия (Wirklichsein) мира и здесь-бытия (Dasein)
мира основывается и определяется через характер мира как с-чем
заботящегося обхождения»*.
Мир как таковой находится всегда уже в определенном обзоре
(Sicht): это становится ясным из того, что забота показывает
«многочисленные способы исполнения и соотнесения-с (Bezogensein
auf) с-чем обхождения»**. Упомянутая многочисленность есть знак
того, что сущее в озабочении всегда берется в определенном обзоре:
«С-чем обхождения заранее схвачено в обзорном усмотрении как...
сориентировано на... истолковано как...»***. Мир проявляет себя
в своем облике (Aussehen), поскольку человек обращается к миру
и заговаривает с ним (Х.оуос) в осмотрительности (Umsehen). Мир
всегда уже так-то и так-то истолкован, он всегда уже встречается
в характере значимости. Характер этого «всегда уже», то есть истол-
кованности, Хайдеггер комментирует более подробно:
«Фактическая жизнь движется всегда в истолкованности, определенным
образом унаследованной, переработанной или заново
выработанной. <...> Истолкованность мира фактически есть такая истолко-
ванность, в которой жизнь стоит сама по себе»****. Обзор, в котором
находится мир, избирает направленность взгляда из тех аспектов,
в которых жизнь устанавливает саму себя и мир. Они
определяют в конечном итоге Seinssinn, то есть то, в направлении чего мир
(Umwelt, Mitwelt, Selbstwelt) истолковывается: Hergestelltsein —
бытие-изготовленным, Wirklichsein — действительное бытие,
Dasein — здесь-бытие, Natur — природа, Lebendig-sein — живое
бытие.
К конституции фактической жизни относится также
определенный модус как, в котором мир принимается к озабочению — модус
собственный и несобственный (модус падения):
В подвижности заботливости остается живой склонность
(Geneigtheit) заботливости к миру как тяга (Hang) к погруже-
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. S. 352.
** Ibid. S. 353.
*** Ibid.
**** Ibid. S. 354.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
789
нию (Aufgehen) в него, тяга к допущению-увлечь-себя (Sich-
mitnehmenlassen) этим миром. <...> Этот основной характер
подвижности заботливости можно терминологически фиксировать как
склонность к падению (Verfallensgeneigtheit) фактической жизни...
чем в то же время обозначен смысл направления и интенциональное
на-что тенденции заботливости. <...> Эта тяга есть сокровеннейшая
доля (Verhängnis), бремя которой фактически несет на себе жизнь.
«Как» этого несения-бремени самого себя как того способа, которым
*есты> доля, должно быть установлено наряду с самой долей в
качестве конститутивного момента (Konstitutivum) фактичности*.
Хайдеггер проясняет здесь проблематику падения жизни в свой
мир. Истолкованность затрагивается тем, насколько жизнь по
преимуществу склоняется к мирскому толкованию самой себя.
Падение в мир как погружение в озабоченный мир и есть тот контекст,
на фоне которого выделяется собственное подлинное возвращение
жизни к самой себе. Вместе с тем здесь возникает некое напряжение
между публичной, усредненной, направляемой «людьми» истол-
кованностью жизни и собственной, подлинной истолкованностью,
связанной с заботой, обхождением, обзором, обращением и
обсуждением (An- Be-sprechen), a также миро-схватыванием. Экзистенция
в этом смысле является собственным бытием фактической жизни,
в котором жизнь сама для себя становится доступной себе же в своей
фактичности. Философия понимается Хайдеггером как
принадлежащая собственно экзистенции: она есть «генуинное эксплицитное
исполнение тенденции толкования данных глубинных движений
жизни, в которых речь идет о ней самой и о ее бытии»**. Тем самым
философия принадлежит самой фактичности, она сама есть как
бытия жизни — но такое как, для которого жизнь сама по себе является
предметом. Как эксплицитное толкование жизни, философия
исходит из всегда уже главенствующей истолкованности, которой
придерживается жизнь и эксплицирует ее: «Проблематика философии
касается бытия фактической жизни в соответствующем [модусе] как
быть-обращенным (Angesprochensein) и как быть-истолкованным
(Ausgelegtsein)»***. Таким образом, становится ясно, почему
философия в то же время есть онтология и логика. Эти моменты всегда
остаются связанными с ее предметом — фактической жизнью, и в то же
время сами являются способом бытия этого предмета: «Онтологию
и логику следует восстановить в изначальном единстве
проблематики фактичности и понимать как выражения принципиального
* Ibid. S. 356.
'* Ibid. S. 363.
" Ibid. S. 364.
790
H. A. Артеменко
исследования, которое может быть обозначено как
феноменологическая герменевтика фактичности**.
Герменевтика фактичности оказывается экспликацией точки
зрения — Blickstand — хайдеггеровской интерпретации
Аристотеля, то есть экспликацией вопроса, что собой представляет
философское исследование как таковое.
Во второй части работы, исходя из указанной точки зрения,
устанавливается направленность взгляда — Blickrichtung — самой
интерпретации: почему именно Аристотель должен стать предметом
интерпретации и в каком направлении следует интерпретировать
его философию.
Итак, в данном специфическом случае интерпретация
руководствуется * основным убеждением»**, что философское исследование
есть то, что «одно "время"... никогда не может заимствовать из
другого», и вместе с тем то, что не в состоянии «изъять из грядущих
времен бремя и беспокойство радикального вопрошания»***.
Ценность обращенного в прошлое философского исследования состоит
в том, что оно могло бы предоставить модели (образцы), посредством
которых достигалась бы исходная радикальность вопрошания. Эти
модели (образцы) должны быть повторены в изначальном виде,
то есть с осознанием их укорененности в определенной проблемной
установке и в специфической, уже обратившей в прошлое
ситуации интерпретации. «Понимающее принятие образца ради самого
себя будет подвергать этот образец в самом основании жесточайшей
критике и преобразовывать его в возможную плодотворную
оппозицию»****. Как генуинное эксплицитное исполнение тенденции
истолкования основной подвижности жизни, в которой речь идет о ней
самой и о ее бытии, то есть как исполнение, которое пытается
привести «фактическую жизнь в ее решающей бытийной возможности
к очевидности и к схватыванию»*****, философия есть в то же время
онтология и логика. Они — онтология и логика — должны
пониматься не как частные взаимосоотнесенные дисциплины, но как
направляющие части принципиального исследования, которое можно
было бы обозначить как «феноменологическая герменевтика
фактичности*******, то есть как такое истолкование фактической жизни
в качестве феномена, которое принимает во внимание понимание ее
онтолого-категориальных структур. Поскольку философия являет-
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. S. 364.
** Ibid. S. 348.
" Ibid.
" Ibid. S. 350.
** Ibid. S. 363.
'* Ibid. S. 364.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
791
ся основной подвижностью жизни, она находится под влиянием
тенденции жизни к падению, то есть к ее склонности отстранять себя
от себя самой и жить в традиции неподлинным способом.
Принимая во внимание идею истории как некоего критического
повторения образцов и понимание философии как своего рода
феноменологической герменевтики фактичности, Хайдеггер
поясняет направленность интерпретации на Аристотеля и подлежащую
принятию установку «из конкретного оформления (Fassung) точки
зрения»*. Если отталкиваться от проблематики фактичности, то эту
точку зрения можно увидеть в упаднической ситуации философии,
которая в базовом понимании человека рекуррирует
заимствованными из традиции понятиями без того, чтобы принять их к
осмыслению.
Хайдеггер называет в качестве медиума, в котором вращается
понимание человеческой жизни, греческий понятийный аппарат,
пронизывающий «целый ряд разнообразных интерпретаций»*4'.
То, что мы и по сей день говорим о «природе» человека, а также
характер и способ, каким мы эту «природу» обозначаем, находят свои
исторические основания в античной традиции. И хотя этот
понятийный аппарат несет в себе «какую-то часть подлинной традиции
своего изначального смысла», он все же лишился своих
«изначальных функций выражения». Подлинное понимание жизни
возможно только лишь в «демонтирующем возвращении (im abbauenden
Rückgang) к изначальным истокам мотивов экспликации»***,
которое сделает прозрачными скрытые основания унаследованной
и преобладающей интерпретации. И здесь герменевтика может
выполнить свою задачу только «на пути деструкции*****. Эта демонти-
* Ibid. S. 366.
** Ibid. S. 367.
*** Ibid. S. 368.
**** Ibid. Г. Веттер в статье * Heideggers Destruktion der Tradition am Beispiel des
Aristoteles» обращает внимание на происхождение термина «деструкция»:
слово заимствовано из латыни (от лат. destructio), появляется в середине
XVI в., дословно означает «устранение», «слом» (Niederreißen) в смысле
«разрушение» (Zerstörung), «разложение» (Zersetzung), «прекращение»
(Auflösung). В начале XIX в. появляется прилагательное «destruktiv»
(«разрушающий», «разлагающий»). Хайдеггер, однако, не использует
значение термина «деструкция» с негативным оттенком. Под
деструктивным аспектом он понимает «позитивно решающую деструкцию». Полное
значение этого термина у Хайдеггера становится обозримым в первую
очередь при взгляде на то поле, в котором он проявляет свое истинное
значение — герменевтика фактичности. Она без деструкции невозможна,
поэтому Хайдеггер пишет: «Герменевтика осуществляет свою задачу только
по пути деструкции» (Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu
Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen Situation) (GA 62). S. 368).
Тематическую разработку и применение понятия «деструкция» можно проел е-
792
H. A. Артеменко
рующая установка должна быть направлена не против традиции,
а против того неосознанного и неподлинного способа, каким мы себя
в ней ведем. Принимая во внимание проблему фактичности, Хай-
деггер обозначает поглощение «решающих конститутивных
действующих сил бытийного характера нынешней ситуации» как «гре-
ческо-христианское толкование жизни»*\ Но эта демонтирующая
установка касается не всей истории, но только «решающих
поворотных моментов истории западноевропейской антропологии»**. Это
именно тот контекст, в котором учение Аристотеля получает особое
значение. В свете проблемы фактичности это значение
обнаруживается лишь частично — в завершении предшествующей философии.
Итак, философия как собственное, эксплицитное толкование
фактической жизни сама несет в себе как своего исполнения: она
выстраивает себя супротив преобладающего, всегда наперед
заданного толкования своего предмета — фактической жизни. Поскольку
жизнь сама себя всегда уже каким-то образом выговорила,
высказала, постольку каждое эксплицитное толкование должно исходить
из некой предварительной временной известности. Но в чем
обнаруживает себя в философии склонность к падению? В том, что
философия не опрашивает определенную, унаследованную истолкован-
ность смысла фактической жизни на ее подлинность:
После всего сказанного о тенденции падения, [которая
затрагивает] любое толкование, [следует, что] как раз таки *само собой
разумеющееся* («das Selbstverständliche») этой истолкованности
(то, что по отношению к ней не обсуждается, что принимается в
качестве не нуждающегося в дальнейшем прояснении) станет тем,
дить в нескольких текстах Хайдеггера: 1) в лекциях зимнего семестра 1921-
1922 гг. (Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles.
Einführung in die phänomenologische Forschung (GA 61)); 2) в ранней
рукописи, посвященной Аристотелю («Natorp-Bericht»), 1922 г.; 3) в «Бытии
и времени» (Heidegger M. Sein und Zeit. § 6 (GA 2)); 4) в лекциях
летнего семестра 1927 г. «Основные проблемы феноменологии» (Heidegger M.
Die Grundprobleme der Phänomenologie. § 5 (GA 24)). Г. Веттер отмечает,
что развитие взглядов Хайдеггера на феноменологическую деструкцию
совпадает с очередными интерпретациями Аристотеля, которые он
предпринимал в ранних фрайбургских и первых марбургских лекциях. Таким
образом, здесь объединяются две тематические области: герменевтическая
феноменология как место деструкции и конкретная значимость
Аристотеля для хайдеггеровской деструкции онтологии (см.: Vetter H. Heideggers
Destruktion der Tradition am Beispiel des Aristoteles // Heidegger-Jahrbuch.
Bd. 3: Heidegger und Aristoteles. Freiburg; München: Alber, 2007. S. 77-95).
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 369.
'* Ibid. S. 371.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
793
что несобственным образом (без эксплицитного освоения исходя
из своей изначальности (Ursprüngen)) сохраняет преобладающую
силу воздействия [в отношении] заданности наперед проблемы
(Problemvorgabe) и направления вопрошания*.
Эта всегда уже преобладающая истолкованность должна быть
опрошена на свое происхождение, с тем чтобы оно могло быть
освоено. Любая интерпретация должна отталкиваться от преобладающей
истолкованности конкретного настоящего и допрашивать прошлое,
которое как таковое есть всегда прошлое вполне определенного
настоящего, в отношении его основных мотивов (мир, господствующий
бытийный смысл, фактичность, экзистенция): ^Герменевтика
осуществляет свою задачу только на пути деструкции***.
Деструкция является, таким образом, другим сущностным моментом
философской интерпретации, поскольку выполняет демонтирующую
функцию, которая высвобождает взгляд на структуру фактичности
(человеческой жизни). Деструкция придает философскому
исследованию его собственное генуинное историческое измерение, и только
на этом пути философия обращает внимание на свою собственную
историю. Деструкция есть «подлинный путь, на котором настоящее
должно встретиться с собой в своих собственных глубинных движе-
***
ниях...»
Падение при этом есть всегда падение в мир. Эта склонность к
падению в мир и определяет по преимуществу ту истолкованность,
которой жизнь располагает для самой себя. Падение приводит
фактическую жизнь к тому, чтобы толковать себя из мира, без того, чтобы
предварительно обрести саму себя через противо-действие:
аспекты, согласно которым истолковывается сущее, берутся из
обхождения с миром в модусе падения. Упущение герменевтики
собственной ситуации приводит любое философское толкование к тому,
чтобы понимать самое себя в качестве философского исследования
из мира, иначе говоря, определять свой предмет как мирской.
Обращение и самотолкование, совершаемые самой
фактической жизнью, принимают направление взгляда и способ
изречения от того предметного, что есть как мирское. Где человеческая
жизнь, человеческое бытие (Dasein), человек выступает предметом
истолковывающе-предписывающего вопрошания, там эта
предметность находится в пред-намерении в качестве мирского события
(Vorkommnis), в качестве «природы» (душевное понимается как
* Ibid. S. 366.
'* Ibid. S. 368.
'* Ibid.
794
H. A. Артеменко
природа, равным образом дух и жизнь также понимаются в
аналогичной категориальной артикуляции)*.
Хайдеггер показывает, как деструкция истории философии
в конечном итоге должна привести от проблематики фактичности
к Аристотелю, поскольку он первым в своей «Физике» получил
такую экспликацию бытия сущего, которая как при нем, так и после
него удерживала под своим влиянием интерпретацию бытия
человека: природа, «сущее в [модусе] как его бытия-в-движении»**
приобрело благодаря Аристотелю свое первое понятийное определение.
Иными словами, посредством особенной тематизации
движущегося сущего Аристотель «открывает в своей "Физике" некий
принципиально новый подход (Grundansatz), из которого вырастает его
логика и онтология, которыми, в свою очередь, была пронизана вся
история философской антропологии»***. Однако та же философия
Аристотеля, по Хайдеггеру, была в ходе истории подчинена
тенденции падения, которая вырастает из концентрации на единственном
основном измерении — логико-онтологическом. Посредством
анализа, приподнимающего темные стороны смысла, в котором
осуществляется аристотелевское исследование, Хайдеггер показывает,
что всматривающееся определяющее понимание, то есть теория,
в аристотелевском мышлении есть только способ, каким
сохраняется сущее, которое необходимо есть то, что оно есть. Поэтому
мышление Аристотеля — как такое мышление, в котором каждый
бытийный регион соответствует определенному способу доступа и каждая
дисциплина отвечает определенной степени достоверности, —
становится образцом, предоставляющим новые проблемы, и
парадигмой нового радикального вопрошания.
Герменевтическая ситуация интерпретации Аристотеля, таким
образом, представлена Хайдеггером согласно двум моментам —
Blickstand и Blickhabe. Остальная часть рукописи является
наброском Blickbahn: как должна быть более точно истолкована
аристотелевская философия, на-что (woraufhin) направляется толкование?
Ведущим вопросом интерпретации должен стать следующий:
В качестве какой предметности какого бытийного характера
пережито и истолковано человеческое бытие, убытие в жизни*!
<...> Черпается ли генуинно смысл бытия, который в конечном
счете характеризует бытие человеческой жизни, из чистого первичного
опыта (Grunderfahrung) именно этого предмета и его бытия, или же
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. S. 367.
" Ibid. S. 371.
*** Ibid.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
795
человеческая жизнь берется как сущее в пределах более
объемлющего бытийного поля, иначе говоря, подчиняется некоему
бытийному смыслу, установленному в качестве руководящего (archontisch)?
<...> Как это бытие человека понятийно эксплицировано, каково
феноменальное основание этой экспликации и какие категории
бытия возникают в качестве объяснения так усмотренного?*
И здесь как раз обнаруживается — однако только при таком
толковании, которое исходит из проблематики фактичности, — что
Аристотель истолковывал бытие как бытие-изготовленным. Тем
самым Хайдеггер показывает, что понятийное схватывание бытия
сущего в Античности не исходило из проблематики фактичности
как таковой, но усматривало его в качестве первичного опыта
изготовленного, наличествующего сущего. Этот бытийный смысл
закрепился далее в качестве руководящего и для бытия человека. В этом
отношении аристотелевское определение жизни остается
«подверженным падению», поскольку и оно свою ориентацию получает
из интерпретации мирового сущего. С другой стороны,
аристотелевское понимание философской понятийности было «более
изначальным», так что он взял в качестве пред-обладания своего толкования
окружное сущее. Напротив, позже метафизика определяла сущее
как субстанцию и субъект и в конечном итоге как объект лишь
познающего восприятия человека. Необходимость герменевтики
фактичности, то есть приведения к прозрачности бытия человека (чье
приведение к прозрачности есть способ бытия этого сущего), таким
образом, больше в истории не усматривалась.
К слову сказать, эти вопросы делают ясным замысел всего
проекта: Хайдеггер намеревается показать, что аристотелевская
онтология и ее понятийный аппарат, на которых основывается вся
западноевропейская традиция истолкования жизни, а также
христианская теология, представляет собой фундамент, не пригодный
для философской антропологии, так как она не соответствует
специфическому предметному и бытийному характеру человеческой
жизни. И для того чтобы подтвердить сказанное, Хайдеггер
предпринимает демонстрацию особой герменевтической ситуации
аристотелевской онтологии.
Итак, Хайдеггер идентифицирует указанное бытийное поле
с регионом изготовленных предметов. Для Аристотеля «ставшее-
готовым (das Fertiggewordene) в подвижности обхождения
изготовления (Herstellen) (rcoinoiç), пришедшее к своему бытию-налич-
ным (Vorhandensein), пригодным для тенденции использования
* Ibid. S. 372.
796
H. A. Артеменко
(Gebrauchstendenz), есть то, что есть**. Стало быть, «бытие означает
бытие-изготовленным (Hergestellt sein) и, как изготовленное, [оно
означает что-то, что оказывается] знаменательным (Bedeutsames)
в отношении тенденции обхождения; [оно означает] бытие-име-
ющееся-в-распоряжении (Verfügbarsein)»**. Аристотель,
согласно Хайдеггеру, понимает бытие из феномена движения, однако он
определяет его с ориентацией на основную категорию ло(т|ац. Такое
толкование движения предоставляет как основание для категорий
понимания, так и условие возможности сделать видимым
«основной характер ÖEcopeiv***.
В подобной установке Хайдеггер усматривает двойную
проблему: с одной стороны, это расширение бытийного региона до
понимания бытия в общем, а именно тот факт, что определенная
онтология определенного бытийного поля и логика определенного
обращения стали такой онтологией и такой логикой, через
которые стала пониматься жизнь; с другой стороны, это утрата
собственного способа схватывания понятий исходя из самих вещей.
Если у Аристотеля ориентированное на модель производства
понимание жизни сохраняет все же отпечаток своего происхождения
из окружного-мира, то в дальнейшем, как показывает Хайдеггер,
это определение бытия «утрачивает смысл своего происхождения
под давлением оформившейся онтологии и в ходе дальнейшего
развития онтологического исследования впадает в неопределенную
усредненность значения (Bedeutungsdurchschnittlichkeit)
реальности, действительности»****. Подобное падение значения имеет
своим следствием то, что в рамках западноевропейской
философской традиции «объективность» теоретического определения
предмета в качестве «природы» стала тем смыслом бытия, который
задавал проблематику.
В определении бытия, исходящем из подвижности
производства, лежит основание приоритета познавательной модели теории
в рамках западноевропейской традиции. Примечательно, что тема-
тизация идеи различных способов исследования, имеющих место
в мышлении Аристотеля, берет начало в толковании шестой книги
«Никомаховой этики». Здесь дианоэтические добродетели
понимаются как способы сохранения (Verwahrungsweise) akr\Qem. Принятие
<Ш|0еих в качестве феноменального горизонта исследования и его
способа проведения дает Хайдеггеру возможность, с одной стороны,
усмотреть тематическую почву феноменологии как того, что пока-
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. S. 373.
" Ibid.
*** Ibid. S. 397.
**" Ibid. S. 399.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
797
зывает себя из самого себя, а с другой стороны, усмотреть
наивысшие способы исполнения сохранения бытия, aocpia и (ppövn,aic.
Наиважнейшая часть рукописи — это, без сомнения, набросок
интерпретации шестой книги «Никомаховой этики». Хайдеггер
впервые рассматривает здесь те связи и те проблемные точки,
которые будут находиться в центре его внимания в последующие годы
в связи с работой над Аристотелем: проблемы структурной связи
aocpia* и (ppôvr|aiç**, или vobq*** и kôyoç****, или аристотелевское
понимание àÀrjGeia, которое станет для Хайдеггера предметом его
неусыпной рефлексии.
Хайдеггер для начала проясняет, что его толкование
аристотелевских высказываний относительно основных способов поведения
Dasein отвлекается от специфической этической проблематики «ди-
аноэтической добродетели», для того чтобы акцентировать
онтологическое значение этого учения: «Интерпретация этого сочинения,
которая предварительно заключает в скобки специфическую
этическую проблематику, делает понятным "дианоэтические
добродетели" как способы распоряжения возможностью осуществления
подлинной сохранности бытия******(ëÇeiç той àXr|6ei36iv). Тем самым
предоставляется возможность «посредством интерпретации этих
феноменов... определить и демаркировать сущее (приведенное к
сохранению в соответствии с этими способами [внятия]) в [модусе] как
его внятости (Vernommensein) и тем самым в отношении его генуин-
ного характера бытия»******.
Посредством прояснения ёСец тог) àXr|9ei3eiv в шестой книге «Ни-
комаховой этики» Хайдеггер прежде всего усматривает основные
черты учения об истине, которое дискредитирует традиционное
толкование аристотелевского понимания истины и которое, кроме того,
не ограничивает феномен истины только теоретической областью;
* aocpia — «знание, разумение, рассудительность, мудрость, искусство,
мастерство». В истолковывающем переводе Хайдеггера rein hinsehendes,
eigentlich-sehendes, eigentliches Verstehen — «чисто всматривающееся,
подлинным образом видящее, собственное понимание».
" (ppôvncaç — «мышление, разум, разумение, мысль, рассудительность».
В истолковывающем переводе Хайдеггера fürsorgende Umsicht;
fürsorgliches Sichumsehen (Umsicht); Hinsehen — «заботливое обзорное
усмотрение; заботливая осмотрительность (обзорное усмотрение); смотрение».
** voOç — «ум, разум, мысль». В интерпретирующем переводе Хайдеггера
reines Vernehmen; das Vernehmen schlechthin — «чистое внятие; внятие как
таковое».
'* Xôyoç — «слово, речь, изречение, рассказ, определение, учение; разум,
понятие, смысл».
" Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 376.
" Ibid.
798
H. A. Артеменко
таким образом, истина не трактуется Хайдеггером ни как
отличительная черта суждения, ни как соответствие мысли предмету:
При определении смысла «истины» обычно взывают к
Аристотелю как к первосвидетелю. Согласно ему, «истина» есть якобы то,
что «имеет место в суждении», более точно — [«истина» есть]
«соответствие» мышления предмету. В то же время это понятие
истины понимается как основание так называемой теории отражения...
У Аристотеля не обнаруживается даже следа ни от этого понятия
истины как «соответствия», ни от общепринятого понимания Xôyoç
как значимого (geltenden) суждения, ни, прежде всего, от «теории
отражения»*.
Истина причитается восприятию — так поясняет Хайдеггер
со ссылкой на трактат «О душе» — не в результате переноса
«понятия истины» из Ахэуос, но в некоем изначальном смысле;
восприятие представляет собой такой способ данности, в котором интенци-
ональный предмет дан изначальным образом (originär), исключая
тем самым любую ложность: его смысл состоит в «"подаче
предметного в качестве несокрытого". Поэтому f| jxèv yàp maGnoiç icov iôicov àex
àh\Qr\<;* (De anima, G 3, 427b, llsq.; ср.: гл. З)»***.
Напротив, Xàjoq предполагает совершенно другую «ин-
тенциональную структуру подразумевания предмета (Gegen-
standsmeinen)» — такую, которая предполагает синтез: предмет
дан в ней в некоем кгакг-характере, не просто сам по себе, но как
такой-то и такой-то, что одновременно размыкает возможность
ложности (ц/еъбос****): « ...тенденция подразумевания (Vermeinensten-
denz) предметного в [аспекте] "как" [как-характера] является
вообще фундирующей для возможности \|/evSoç»*****, стало быть, tayyoç'y
подходит как истинность, так и ложность. «Интенциональный
характер» Xoyoç Хайдеггер разъясняет на основании анализа значения
слова аяофшуеабш, от которого происходит прилагательное, с
помощью которого Аристотель вводит выражение Xàyoq àrcocpavxiKÔç******.
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. S. 376.
** f| \ièv yàp аХоОцоь; tcöv iôicov àei аХт|вт|<; — «ведь чувственное восприятие,
возникающее в каждом отдельном органе восприятия, всегда истинно».
" Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 378.
'* ц/euôoç — «ложь, вымысел, обман, ошибка, заблуждение».
" Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 379.
Xôyoç à7ro(pavTiKÔç — «апофантическое суждение» («показывающая речь»
(aufzeigende Rede) — в хайдеггеровском переводе).
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
799
Он выделяет три основных момента в значении глагола àrcocpaiveaGm*:
а) ало = на основании предмета и из него черпающее; b) cpaiveiv =
показывать, давать возможность проявиться; с) сбои = vox media,
то есть для себя; собрав все вместе, мы получаем: àrcocpaiveaGai =
позволять предмету для себя (то есть медиально) из самого себя
«проявляться» в качестве его самого**.
Хайдеггер высказывает здесь свой основной тезис,
заключающийся в том, что àXr|0eia означает и для Аристотеля, и для греков
не «соответствие» (adaequatio), a «непотаенное»; соответственно
<Ш|6ес*** означает «непотаенное здесь-бытие», а глагол àXr|0ei3eiv —
«подразумеваемое, и притом так подразумеваемое, сущее привести
к сохранности как несокрытое»****.
Такое понимание истины показывает привативный характер
слова à-Aj|0eia (Un-verborgengeit) — не-сокрытое: «...смысл
"истины" для греков характеризуется привативно***** — не только
грамматически, но и согласно ее смыслу. Сущее в [модусе] как своих
возможных "как-что-определенностей" не просто здесь налицо (ist
nicht einfach da), оно есть как "задача". И сущее в [модусе] как
своего бытия-несокрытым, öv щ àÀr|0éç******, есть то, что должно быть
принято в сохранность вопреки возможной утрате»*******.
Таким образом, анализ различных способов поведения в шестой
Книге «Никомаховой этики» следует понимать как анализ
«способов сохранения бытия» (ëÇeiç too сЛт]0етЗе1у); причем сохранение
бытия (àX,T]0eueiv) никоим образом не ограничивается областью
теоретического, но включает в себя равным образом область практического,
область изготавливания.
Хайдеггер трактует Xôyoç как способ исполнения voeïv, который
как таковой есть ôiavoeïa0m********; он демонтирует свой собственный
* àncxpaiveaGai — «объявлять, высказывать, показывать в речи» —
инфинитив медиального залога. Медиальный залог занимает промежуточное
положение между активным и пассивным, это выражается в полном или
частичном совпадении субъекта действия и объекта.
'* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 377ff.
'* àXnGéç—«истинное».
'* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 378.
'* Немецкое privativ от лат. privativus — «привативный, отрицательный»
(произв. от гл. privo — «отнимать, лишать, избавлять»).
'* ôv d)ç àXnGéç — «сущее как истинное (несокрытое)».
'* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 379ff.
№ ÔiavoeîaGm — «размышлять, мыслить, обдумывать» (инфинитив
медиального залога).
800
H. A. Артеменко
предмет, он есть * демонтирующее (zermeinendes) внятие: [то есть]
Smipeaiç*»**.
Noeîv*** обладает основным характером внятия, vo\>ç же есть
«внятие как таковое*, это есть то, что «вообще делает возможным, что
вообще задает наперед на-что для любого направленного "обхож-
дения-с" »****, что вообще обеспечивает обзор (Sicht). Как внятие он
производит все как способность-распоряжаться (Verfügenkönnen
darüber) (ëÇeiç)*****. Хайдеггер цитирует здесь Аристотеля и поясняет:
«...тсо rcàvxa rcoeîv, œç ëÇiç тц, oïov то cpcoç****** (De an. G 5, 430a, 15). [...]
Поскольку vouç снабжает само обхождение обзором, он
может быть также охарактеризован как прояснение-обхождения
(Umga.ngserhellung), которое, однако, имеет смысл сохранения
бытия»*******. Подлинно предметное vovç есть àSiaipexa******** — то, что
само по себе не может быть « демонтировано». Как таковой vovç
предоставляет предметное как таковое в его несокрытом что: «...в
качестве такового voi>ç является "всегда истинным" [...]. Novç есть...
внятие, которое каждый раз просто задает облик предметного: о vovç
eïSoç eiSœv Kai f| аювцсщ eïôoç aia^tcov********* (Ibid.432a. 2 sq.)»*********.
Далее Хайдеггер переходит к конкретным способам
исполнения подлинной сохранности бытия — oocpia и (ppôvn,aiç. Он
определяет oocpia как «das rein hinsehende, eigentlich-sehende, eigentliche
Verstehen» —чисто всматривающееся, подлинным образом видящее,
собственное понимание, приводящее к сохранности (in Verwahrung
bringt) сущее, «которое само есть таким способом, и "от-куда"
которого есть таким способом, что оно необходимо и всегда есть то, что оно
есть»*********. Opôvr|Giç определяется как «das fürsorgliche
Sichumsehen» — «заботливая осмотрительность», приводящая к
сохранности «такое сущее, которое само по себе и в своем "от-куда" может
* ôiaipEaiç — «диэреза, разделение, различение».
" Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 380.
№ vodv—«мыслить».
" Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 380ff.
'* ëÇEiç — «состояния, устойчивые свойства».
* тф navra noeïv, coç ëÇiç тц, oîov то cpcoç — «благодаря тому что он производит
все, подобно некоему свойству, как свет».
Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 381.
'* àôiaipeia — «то, что не может быть разделено».
'** ô voùç eîôoç eiôœv Kai f| аТовлац eIôoç шовптшу — «ум — вид видов, а
чувственное восприятие — вид чувственно воспринимаемого».
*** Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 381.
*"* Ibid. S. 382.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
801
быть другим**. Оба способа исполнения есть цета Ах>уо\)*\ характер
их исполнения — обсуждающее эксплицирование. Они понимают
àpxai*** не как изолированные для самих себя вещи, но как таковые,
то есть в их наисобственнейшем смысле — как àpxai-для (àp%ai-fur).
Поскольку Хайдеггер устанавливает фактическую жизнь как
предмет философии, его более всего интересует модель понимания
фроут^оц. В шестой книге «Никомаховой этики» Аристотель
определяет обладающих (ppôvr|oiç («рассудительных» — в русском переводе)
как тех, кто «способен принимать верные решения в связи с благом
и пользой для него самого, однако не в частностях... но в целом:
какие [вещи являются благами] для хорошей жизни (1140а 26-30)»****.
Фроуг|оц относится к такому сущему, которое могло бы быть другим
и которое имеет цель в самом себе. Поэтому cppôvnaiç остается
«причастным суждению складом [души], предполагающим поступки,
касающиеся блага и зла для человека (1140b 5 ff .)»*****. Как таковая
рассудительность касается не только общего, но также и
единичного, а говоря более точно — последней данности, поскольку, как
говорит Аристотель, таково то, что осуществляется в поступке. В этом
отношении (ppôvTiaiç противоположна уму — vofiç, поскольку ум
имеет дело с предельно общими определениями. Однако он имеет дело
с неизменными и первыми определениями при доказательствах,
а что касается поступков — с последней данностью. Фроуцоь; есть
«правильность с точки зрения выгоды, так же как с точки зрения
цели, средств и срока (1142Ь 25 ff )»******. Таким образом, (ppovr|aiç есть
способность содействовать пониманию как в отношении единичной
ситуации поступка, так и в отношении целого горизонта подобных
поступков, то есть жизни, понимаемой как целое.
В предпринятом в «Natorp-Bericht» анализе cppövrioic Хайдеггер
ставит акцент на трех моментах: 1) на ее способности понимать
ситуацию поступка как целое; 2) на способе подвижности предмета,
находящегося в отношении к ней; 3) на том не «рассматривающем»
способе, в котором принимается предмет. Благодаря этим
характеристикам (ppôvr|aiç является наиболее подходящей формой
понимания жизни в ее подвижности.
Хайдеггер обращается к интепретации (ppovr|aiç особенно в связи
с вопросом о возможности феноменологии жизни.
* Ibid.
k* цета Алэуоъ — «вместе с определением; вместе со словом».
'* архл — «начало, первопричина, основа, принцип».
" Аристотель. Никомахова этика// Аристотель. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4 / Пер.
с древнегреч., общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1984. С. 176.
* Там же. С. 177.
* Там же. С. 183.
802
H. A. Артеменко
Opôvnmç приводит к сохранению на-что обхождения
человеческой жизни с самой собой и как этого обхождения в его
собственном бытии. Это обхождение есть яраСц: обработка самого себя
в [модусе] как не изготавливающего, но просто действующего
(handelnden) обхождения. Opôvnmç есть прояснение-обхождения
(Umgangserhellung), со-временящее жизни в et бытии*.
Opovnaiç присуща «практическая» истина — àXfjOeia лрактисп,
которая есть не что иное, как «несокрытое полное мгновение
фактической жизни » **. Хайдеггер интересуется cppövnai постольку, поскольку
она есть определенная открытость жизни. Она есть к тому же способ
говорить истинно (à^r|0ei)£iv), то есть способ, каким «душа
принимает и приводит к сохранению сущее как несокрытое»***. Тем самым
этическое значение cppövnaic отходит на второй план, а то и вовсе
не принимается во внимание, как и то, что Аристотель определяет ее
как причастный суждению склад души, предполагающий поступки,
«касающиеся блага и зла для человека» (1140b 5-6)****. Вместе с тем
хайдеггеровскую односторонность в интерпретации cppôvnaiç можно
объяснить: поскольку у Хайдеггера речь идет об исторической
парадигме для феноменологии жизни, конкретные рассуждения,
касающиеся поступков, остаются для него иррелевантными. Главным
оказывается то, что в практическом разуме жизнь остается несокрытой
для самой себя в некоем существенном смысле. Однако эта
характеристика практического разума — несокрытость фактической
жизни — не является для Хайдеггера определяющей. Решающим для
него оказывается тот момент, что практический разум
рассматривается Аристотелем наряду с другими возможностями раскрытия,
в первую очередь наряду с теоретическим отношением — aocpia. Так
Хайдеггер усматривает у Аристотеля примат практического
разума, определенного в связи с теоретическим. Но тем самым
аристотелевская концепция практического разума уже не является всего
лишь «исторической парадигмой». Практический разум
оказывается подлинной истиной жизни — истиной, которой недостает
теории, но благодаря которой теория как таковая впервые становится
понятной. Однако сам Аристотель не оставляет никакого сомнения
в преимуществе теоретического разума перед практическим:
«Мудрость, следовательно, будет умом и наукой, словно бы заглавной
наукой о том, что всего ценнее. Было бы нелепо думать, будто либо
Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 383.
** Ibid. S. 384.
*" Ibid. S. 376.
**** Аристотель. Никомахова этика. С. 177.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
803
наука о государстве, либо рассудительность — самая важная
[наука]... (1141а 18-22)»*.
В своей реконструкции шестой книги «Никомаховой этики»,
в которой Хайдеггер ставит акцент на методе анализа и на
своеобразии аристотелевской онтологии, он также показывает, как
собственное бытие человека временит себя, по Аристотелю, в чистом
исполнении oocpia.
Хайдеггер интерпретирует q>povr|aiç так, что интерпретация
выявляет не только сущее и бытие того сущего, которое
сохраняется в cppôvT|aiç, но и его онтологический характер. Opôvr|Giç есть
«как распоряжения сохранением бытия»** и в качестве таковой
она есть то, что «временит себя в самой жизни как ее
собственная возможность и приводит жизнь в определенное положение,
определенным способом достигая устойчивого положения (zu-
Stande-bringt) » ***. Эти два момента — способность распоряжаться
сохранением бытия, с одной стороны, и временение жизни как ее
возможность — с другой, — Хайдеггер демонстрирует согласно
тому удвоению аспекта в феномене (ppôvT|oiç, в котором
«определен человек и бытие его жизни»****. Это удвоение становится
решающим «для идейно-исторической судьбы категориальной
экспликации бытийного смысла фактичности»*****. В собственном
для cppôvT|oiç обзорном усмотрении «жизнь здесь налицо в
конкретном [модусе] как с-чем обхождения » ******. Бытие этого « с-чем »
не может быть охарактеризовано онтологически позитивным
образом, но только формально как такое, «которое "может быть
другим", которое "не есть всегда и необходимым образом" так,
как оно есть»*******. Данное онтологическое определение
осуществляется «в опровергающей противо-установке (im negierenden
Gegenhalt), [которая направлена] и против другого, и против соб-
ственногобытия*********—бытия, котороевсегдаестьто,чтооноесть,
и которое через oocpia раскрывается и сохраняется. Хайдеггер
показывает, что это собственное бытие не получается «эксплика-
тивно из бытия человеческой жизни как таковой», а, напротив,
возникает «в своей категориальной структуре из определенным
образом проведенной онтологической радикализации идеи су-
* Там же. С. 179.
** Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige
der hermeneutischen Situation). S. 385.
*** Ibid.
**** Ibid.
—*• Ibid.
*— Ibid.
****— Ibid.
*—** Ibid.
804
H. A. Артеменко
щего-в-движении (Bewegtseienden)»*, и приводит пример
производства (Produktion) как феноменального основания для этого
движения.
Лейтмотив аристотелевской онтологии возникает не из
тематического поля жизни, а из тематического поля движения, понимание
которого ориентировано на модель производства. Не подвижность
жизни представляет истинный предмет познания, но только бытие,
«в котором движение пришло к своему концу»**. Из этого следует,
что жизнь не может сохранить в своем фактическом способе бытия
чистое понимание, поэтому «бытие жизни должно быть
усмотрено только в чистом временении oocpia как таковой, на основании
собственной подвижности, имеющейся у нее в распоряжении»***.
Только исходя из аристотелевской идеи движения ooqna становится
наиболее подходящей формой знания. Интерпретируя ее структуру,
Хайдеггер указывает на некое удвоение перспектив: с одной
стороны, oocpia представляет собой наиболее истинное временение
человеческой жизни, с другой — она несет в себе тенденцию падения,
которая приводит ее к тому, что жизнь, в которой она укоренена,
теряется из глаз. Анализируя главы 1-2 первой книги
«Метафизики», Хайдеггер демонстрирует, как структура чистого понимания
становится понятной «лишь из ее бытийной укорененности в
фактической жизни и из способа ее генезиса в фактической жизни*****.
В жизни, согласно Хайдеггеру, имеет место некая тенденция
«более внимательного всматривания» (das Mehr an Hinsehen), из
которой возникает как структура, так и тематический предмет oocpia.
Аристотель, таким образом, получает смысл философии
«посредством истолкования фактической подвижности заботливости
в отношении ее последней тенденции******. Как следствие отдаления
от исполняющего и изготавливающего обхождения, характерного
для oocpia, чисто всматривающееся обхождение обнаруживает себя,
однако, как такое, которое «в жизнь, его окружающую, в своем на-
что как раз-таки теряет из поля зрения»******. «Поскольку это
обхождение как чистое понимание проявляет (zeitigend ist) жизнь, оно есть
сама эта жизнь в силу своей подвижности»*******. Философия
коренится в самой жизни. Она есть наиболее подлинный способ време-
нения жизни. Но в своей тенденции «более внимательного всматри-
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles.
" Ibid.
" Ibid. S. 386.
* Ibid. S. 387.
'* Ibid. S. 389.
'* Ibid.
№ Ibid.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
805
вания» (das Mehr an Hinsehen) она теряет как раз-таки саму жизнь,
в которой она глубоко укоренена, и сохраняет потому лишь
несобственный характер подвижности. Эта тенденция падения, лишь
обозначенная Аристотелем, завершилась, когда теория (для
греков — истиная подвижность жизни) была перенесена в область
возможности и действительности познания.
Намерение Хайдеггера состоит в том, чтобы оказать
«сопротивление» этой проблематичной ситуации, принимая (ppôvr|oiç как
модель собственной идеи философии. Указанная тенденция отчетливо
проявляется уже в лекциях зимнего семестра 1921/22 г., в которых
Хайдеггер впервые обращается к Аристотелю.
* * *
Мы рассмотрели несколько ключевых аспектов
«Феноменологических интерпретаций Аристотеля», проследили
терминологическое становления языка «Бытия и времени». Задача, которую
ставил перед собой Хайдеггер при написании этого введения в чтение
Аристотеля, — заставить заговорить греческий текст без
посредничества позднеантичной и схоластической традиций, а также
оградить его от привычной и утвердившейся манеры понимания. При
этом цель Хайдеггера состоит не в том, чтобы своей интерпретацией
достичь некой объективности, как если бы Аристотель по своей сути
был лишь требующим пояснения «мнением». Как пишет Гадамер
в послесловии к «Natorp-Bericht»,
...здесь не идет речи об Аристотеле как об одном из важнейших
исторических предметов, но развивается — из сегодняшних вопросов
философии, из того круга проблем, которому понятие жизни
послужило источником и который в эти десятилетия в немецкой
философии все больше и больше начинает господствовать — радикальная
постановка вопроса*.
^Ч^
* Gadamer H.-G. Heideggers „theologische" Jugendschrift //
Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. Bd. 6. S. 230.
-е*^э-
А. В. ЯМПОЛЬСКАЯ
Мартин Хайдеггер
и его путь сквозь феноменологию
Как бы ни был Гуссерль озабочен вопросом о методе,
феноменологическая работа для него начинается не с критического
размышления о методических предпосылках, а с конкретных
феноменологических дескрипций; первой книгой о феноменологии стали
не «Идеи», а «Логические исследования», где феноменологический
способ исследования уже практиковался, хотя «интерпретация
аналитической работы»*, необходимая для формирования
«феноменологии как учения»**, еще отсутствовала. В случае с Хайдеггером мы
сталкиваемся ровно с обратной ситуацией. Для Хайдеггера
феноменология есть уже готовое учение с уже готовым и опробованным
методом: бери и применяй***. Другими словами, для Хайдеггера —
в силу принадлежности к следующему поколению
феноменологов — феноменологический метод оказался методом, воспринятым
Молчанов В.И. Аналитическая феноменология в «Логических
исследованиях» Эдмунда Гуссерля // Гуссерль Э. Логические исследования / Пер.
В. И. Молчанова. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 497.
Там же. С. 495.
В известном смысле именно в этом и заключалась трудность; как пишет
Хайдеггер в позднем тексте, «яне преодолел главного затруднения. Оно
касалось простого вопроса: как должно приводить в исполнение способ
мышления, называемый "феноменологией"... беспокойство проистекало
от неспособности добиться простым прочтением философской
литературы исполнения образа мыслей, носящего название "феноменология"»
(Хайдеггер М. Мой путь в феноменологию / Пер. В. Анашвили при
участии В. Молчанова // Логос. 1995 (6). С. 306). Другими словами, молодому
Хайдеггеру не давался именно практический аспект
феноменологического исследования. И хотя позже, познакомившись с Гуссерлем, он начал
«практиковать феноменологическое зрение», тем не менее только
обращение к античности, к Аристотелю, дало ему настоящее философское
удовлетворение.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
807
и унаследованным от Первофеноменолога или, точнее, «основателя
феноменологического исследования»*; и в качестве такового этот
метод подлежал модификации, «преодолению» и даже отвержению.
Попытки модифицировать для того, чтобы усвоить, отличают
отношение Хайдеггера к феноменологическому методу в марбург-
ских лекциях — в первую очередь в лекциях 1922-1923 года
(«Пролегомены к истории понятия времени», GA 20) и в лекциях 1927 г.
(«Основные проблемы феноменологии», GA 24). Для этого
оказалось необходимым переопределить, что такое феноменология:
лекции 1927 г. начинаются с того, что нельзя довольствоваться
«некоторым догматически предположенным понятием феноменологии».
И не следует обманываться: если Хайдеггер и примыкает к гуссер-
левскому проекту «в выборе слова», то отнюдь не присоединяется
к нему «по существу дела»**. Но в чем же заключается, с точки
зрения Хайдеггера, существо философского дела, философский «образ
мыслей»?
Если для Гуссерля сама возможность философии
определяется тем, что феноменологический метод порождает ее правомочный
предмет — «феномены в смысле феноменологии», регион
абсолютной данности и самоданности, сознание как особый бытийный
регион, — то для Хайдеггера дело обстоит наоборот. Философский
метод сам по себе не способен породить предмет, но, напротив,
сам метод должен быть приспособлен, адаптирован под
подлинный предмет философии. Именно потому, что предмет наук
отличен от предмета философии, ее метод «не имеет ничего общего
с методом какой-либо иной науки»***. Однако если даже «понятие
феноменологии еще нужно заполучить»****, если мы не можем
исходить из него для определения основных ее проблем, то тем более еще
только нужно заполучить подлинный предмет философии. Хотя
метод философии зависит от ее предмета, но в то же время этот предмет
(а точнее — предметное поле) нам только предстоит обнаружить,
выявить, определить в процессе работы.
* Heidegger M. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. Gesamtausgabe.
Band 20. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1979. S. 28.
Русский перевод: Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени /
Пер. Е. В. Борисова. Томск: Водолей, 1998. С. 27. В дальнейшем
цитируется как GA 20/ Пролегомены.
" Idem. Die Grundprobleme der Phänomenologie. Gesamtausgabe. Band 24.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1974. S. 29. Русский
перевод: Хайдеггер M. Основные проблемы феноменологии / Пер. А. Г. Черняко-
ва. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. С. 25-26. В
дальнейшем цитируется как GA 24 / Основные проблемы феноменологии.
" GA 24. S. 26 / Основные проблемы феноменологии С. 23.
" GA 24. S. 2 / Основные проблемы феноменологии С. 2.
808
А. В. Ямпольская
Таким образом, исходной точкой для определения как метода,
так и предмета феноменологии является само феноменологическое
исследование — точнее, его исторически существующая, хотя и
несовершенная, форма. Можно пояснить этот ход словами Хайдеггера
о Брентано: принцип исследования не прилагается к фактам, но
извлекается из них самих*. Другими словами, продвижение в
исследовании, обретение предметного поля и как его изучения
осуществляется исходя из того, что я уже «заранее имею представление
о» содержании и структуре того, что я исследую, во-первых, и что
я все время это представление трансформирую, во-вторых. В
отличие от Гуссерля (и от Декарта), Хайдеггер говорит нам:
невозможно начать с чистого листа, с отказа от всего пред-данного. «Любой
философский разбор, даже самый радикальный, полагающий новое
начало, пронизан перешедшими к нам понятиями»**, убеждает нас
Хайдеггер. И поэтому хайдеггеровское исследование — это не
построение здания науки, а его перестройка, переустройство
философского мира: феноменолог должен не столько возводить взгляд «от
какого бы то ни было определенного схватывания сущего к
пониманию бытия этого сущего» в редукции, сколько осуществлять
деструкцию ( « критический демонтаж » ***) истории философии, а также
ее перестройку, конструкцию в соответствии с новым строительным
планом. Однако, чтобы перестраивать дом, надо знать, где
находится фундамент. И поэтому поиск основания, того, что лежит в
основе, но по какой-то причине закрыто, «загорожено», «засорено»****,
составляет настоящее дело исследователя.
Феноменология как исследование представляет собой
именно работу выявляющего позволения видеть в смысле методичного
устранения того, чем нечто скрыто*****, —
пишет Хайдеггер. В некотором смысле философ — это прораб,
архитектор и уборщик в одном лице. «Феномен не дан с самого
начала»******, потому что никакого «самого начала» у нас еще нет; и
соответственно, трудность феноменологической работы заключается
как раз в том, чтобы заставить феномены «явиться по типу
феномена******** (а не по типу явления). Другими словами, недостаточно
GA 20. S. 26 / Пролегомены. С. 25.
GA 24. S. 31 / Основные проблемы феноменологии. С. 28.
Там же.
GA 20. S. 119 / Пролегомены. С. 93-94.
Там же.
«Weil das Phänomen erst gewonnen werden soll...» GA 20. S. 119 /
Пролегомены. С. 94.
Ibid.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
809
того, чтобы феномены являлись; нужно, чтобы они являлись
правильным способом.
До этого момента подход Хайдеггера параллелен подходу
Гуссерля: феномен, явление вообще, может стать «феноменом в
смысле феноменологии» только в результате редукции, то есть внутри
совершенно определенного, методическим образом
обеспеченного способа являться. Только для Хайдеггера речь идет не о
перемене перспективы, не о попытке так сместить зрителя и его
способ усмотрения, чтобы феномен стал виден «с нужной стороны»,
а о том, чтобы убрать какие-то преграды, которые мешают
феномену появиться, сделаться явным, обнаружимым — но в то же время
о том, чтобы не разрушить те части постройки, которые
необходимы для ее стабильности, для того чтобы она осталась этой же
постройкой, чтобы она не перестала быть тем, что она есть. Обнажить
каркас — так можно обозначить неформальный метод хайдег-
геровской герменевтической феноменологии. В этом смысле очень
показательной является историко-философская ремарка
Хайдеггера о том, что излишняя радикальность Аристотеля привела к тому,
что диалектика, которая у Платона «была настоящим философским
замешательством», была Аристотелем и всей последующей
философией не понята и оказалась «излишней»*. В сущности, Хайдеггер
обвиняет Гуссерля в том же самом: в излишнем радикализме.
Редукция, которая была призвана выявить чистое сознание, «лишает
нас почвы, на которой единственно может быть поставлен вопрос
о бытии интенционального»**.
Если для Гуссерля вынесение за скобки того факта, что
переживания принадлежат мне, только и обеспечивает возможное поле
для работы, поскольку происходит отграничение региона чистых
cogitationes от региона cogitationes, sum cogitans***, то для
Хайдеггера это «отвлечение» представляет собой недопустимое сужение
границ исследуемого. Именно в этом смысле следует понимать его
слова о том, что в редукции акты «предстают взгляду лишь в
соответствии с их "Что"»****.
* Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993 (1927).
S. 25. Русский перевод: Хайдеггер M. Бытие и время / Пер. В. Бибихина.
М.: Ad marginem, 1997. С. 25. В дальнейшем цитируется как SZ, пагинация
русского перевода совпадает с пагинацией оригинала.
** GA 20. S. 150/ Пролегомены. С. 117.
** Гуссерль Э. Идея феноменологии. Пять лекций / пер. с немецкого Н. А. Ар-
теменко. СПб.: Гуманитарная Академия, 2008. С. 119. И далее Гуссерль
пишет: «Нужно остерегаться фундаментального смешения между чистым
феноменом, в смысле феноменологии, и психологическим феноменом,
объектом естественнонаучной психологии ».
" GA 20. S. 151 / Пролегомены. С. 118.
810
А. В. Ямпольская
Хайдеггер упрекает Гуссерля в том, что единственный модус
схватывания актов, поскольку они схватываются в редукции
(читай — в рефлексии), — это модус предметности. Акты схватываются
в соответствии с их чтойностью и структурой, но сам акт, акт как
таковой — выпадает из рассмотрения. «Избирательный взгляд на чтой-
ное содержание означает видение "Что" как схваченного, данного,
конституированного»* — то есть существующего некоторым вполне
определенным способом, а именно существующего в сознании и для
сознания. Однако проблема заключается не только в том, что
Гуссерль понимает бытийный регион интенциональности слишком узко:
Ведь если в естественной установке бытие, «реальность» интен-
ционального даны (наряду с прочим) в опыте, то тогда для
постановки вопроса о существе бытия актов, а не только об их структуре
и чтойном содержании требуется лишь дополнительное расширение
взгляда на интенциональное и более широкое понимание
редукции. Тогда способ бытия схватывался бы в естественной установке
и по-прежнему идеативно определялся бы в его сущности**.
Недостаточно просто «расширить» очерченную гуссерлевской
редукцией область, потому что в этой исходной, «образцовой»
точке существенная часть опыта уже упущена из рассмотрения.
Исходная предпосылка гуссерлевской феноменологии — отождествление
«естественной установки» ученого-натуралиста со всей полнотой
человеческого опыта — есть уже «определенная теоретическая позици-
я»**\ а точнее, «предрассудок»****, который «закрывает от взора
специфическое бытие актов»*****. «Научный ответ»******, предполагаемый
этой некритически принимаемой установкой, — это ответ
«догматический»*******; он приводит к «упущению» вопроса о смысле бытия
и о бытии человека... Отождествление предметного поля
феноменологии с регионом сознания, который есть тем же способом, что и
другие регионы бытия, приводит, с точки зрения Хайдеггера, к
упущению своеобразия способа бытия, свойственного человеку. Как пишет
Ж.-Л. Марион,
...описание бытия сознания в терминах региона исключает вопро-
шание о бытии сознания как о не-предметном, поскольку позволяет
* GA 20. S. 152 / Пролегомены. С. 118.
** GA 20. S. 152-153 / Пролегомены. С. 119.
'** GA 20. S. 155 / Пролегомены. С. 121.
'** GA 20. S. 156 / Пролегомены. С. 122.
'** Там же.
GA 20. S. 155 / Пролегомены. С. 121.
GA 20. S. 157 / Пролегомены. С. 122.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
811
<...> пренебречь вненаучным вопрошанием о способе бытия
сознания в качестве интенционального*.
То, что для Гуссерля составляло конверсивный, а не только
технический момент феноменологического метода — inspectio sui,
аскетическое самонаблюдение, — для Хайдеггера есть лишь признак того,
что Гуссерль оказался не в состоянии покинуть накатанную
историко-философскую колею: интепретацию человека в терминах animal
rationale. Опредмечивающий и расчленяющий взгляд рефлексии
превращает человека как конкретную целостность «в
многоуровневую внутримировую вещь»**, в предмет «зоологического»,
«трансцендентного», то есть сугубо внешнего, рассмотрения. Отметим, что
в этот момент Хайдеггер возражает не только Гуссерлю, но и всей
идущей от стоиков традиции философского и религиозного
самопознания, которая основана на «испытании совести» и «внимании
к себе»***. Если для Гуссерля «испытание совести» служит высоким
примером «внутреннего монолога», произносимого в одиночестве
душевной жизни («я поступил дурно, я не должен был так
поступать»****), то для Хайдеггера подобное духовное упражнение с самого
начала отмечено печатью неподлинности*****. Как пишет А. Г.
Черняков, «взгляд рефлексии исходит от деятельного, "живого" Я и
застает опредмеченное, "умерщвленное" Я»******. Позиция Шелера,
который отделяет «рефлексию от психологической объективации»,
отождествляемой с «деперсонализацией», кажется Хайдеггеру
менее наивной (в «Пролегоменах» Хайдеггер пишет, что Шелер
«достиг существенных результатов»*******, хотя он и «открыто
примыкает к специфически христианской трактовке человека, тем самым
делая свою позицию еще более догматической»********). Согласно
Хайдеггеру, Шелер продолжает богословскую линию Августина—
Паскаля—Кальвина—Цвингли, линию, которая определяет «бытие
человека <...> на основе его трансценденции, т. е. из этой обращен-
* Marion J.-L. Réduction et donation : recherches sur Husserl, Heidegger et la
phénoménologie. Paris: PUF, 1989. P. 77-78.
** GA 20. S. 173 / Пролегомены. С. 134
'** Фуко M. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де
Франс в 1981-1982 учебном году / Пер. с французского А. Г. Погоняйло.
СПб.: Наука, 2007. С. 43, 64.
'** Ср. Гуссерль Э. Логические исследования / Пер. В. И. Молчанова. М.: Дом
интеллектуальной книги, 2001. С. 76.
'** Отметим пренебрежительное упоминание об анализе аффективности у
стоиков и в патристике в SZ 139.
" Черняков А. Г. Онтология времени. Спб.: ВРФШ, 2001. С. 174.
*** GA 20. S. 177 / Пролегомены. С. 138.
*** SZ 139, GA 20. S. 180 / Пролегомены. С. 140.
812
А. В. Ямпольская
ности вовне, на нечто»*. Таким образом, картезианско-гуссерлиан-
ская претензия на новое начало в философии выказывает свою
несостоятельность: спор Гуссерля с Шелером раскрывается Хайдеггером
как противоречие между двумя моментами философской традиции,
которая должна быть творчески деструктурирована**, перестроена,
демонтирована.
Однако, прежде чем мы сможем понять, каким именно образом
Хайдеггер пытается противопоставить паскалевскую линию
аффективного понимания рационализму картезианского толка..., следует
рассмотреть те изменения, которым в хайдеггеровской трактовке
подвергается ♦субъективность субъекта». Только после того, как мы
покажем, каким именно образом Хайдеггер переходит от
«незаинтересованного наблюдателя» редукции к эк-зистирующему Dasein,
мы сможем схватить сдвиг в понимании феномена, осуществленный
в «Бытии и времени».
В чем же различие гуссерлевского тезиса о том, что «любое
сознание есть сознание чего-либо»..., от хайдеггеровского описания ин-
тенциональности как «существенной, если не исходной, структуры
субъекта»? Если для Гуссерля понятие интенциональности служит
тем инструментом, который прорывает имманентность сознания
и позволяет решить эпистемологическую проблему соотнесения
сознания с предметностью, то для Хайдеггера интенциональность
объявляется не столько способом познания мира или, точнее, познания
познания, сколько тем способом, которым субъект
(философствующий или нет) живет. Поэтому для Хайдеггера описание сознания
в терминах имманенции и трансценденции (или в терминах того,
что происходит «на стороне вещи» и «на стороне Я»***) означает
искусственное членение сущностностного единства жизни — не
жизни трансцендентального субъекта, но жизни «нас самих»:
Ложное толкование заключено в превратной субъективации
интенциональности. Отправляются от Я, от субъекта, и
причисляют интенциональные переживания к его так называемой
субъективной сфере. Я здесь — нечто такое, что обладает своей «сферой»,
в которой, как в футляре, как бы заключены интенциональные
переживания... Идея субъекта, который только в своей сфере обладает
интенциональными переживаниями и еще не выходит вовне, но
заключен в себе как в футляре, — бессмысленное понятие, которое
* SZ 139, GA 20. S. 180 / Пролегомены. С. 140.
" Courtine J.-F. Heidegger et la phénoménologie. Paris: Vrin, 1990. P. 230.
*** Ср.: Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная
философия. Введение в феноменологическую философию / Пер. с нем. Д. В. Скляд-
нева. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 223.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
813
не ухватывает глубинной онтологической структуры того сущего,
которое есть мы сами*.
Этот отрывок не просто представляет собой пример хайдеггеров-
ской критики «субъективации» интенциональности, которая хотя
и превосходит имманентность сознания, но все же укоренена в ней**.
В этом пассаже видна решимость, с которой Хайдеггер порывает
с гуссерлевской топикой «внутри-снаружи»,
«имманентное-трансцендентное », « свое-чужое ».
Неверно, что интенциональное отношение к объекту выпадает
на долю субъекта только вместе с наличным объектом и благодаря
наличию объекта. Субъект в себе интенционально структурирован.
Как субъект он направлен на...*** <...> Познавательная способность
не есть крайний член отношения между объектом там, снаружи,
и субъектом здесь, внутри, но ее суть — само самосоотнесение,
причем такое, что так соотносящееся интенциональное Dasein, экзи-
стируя, всякий раз непосредственно задерживается при вещах. Для
Dasein нет никакого «снаружи», поскольку для него так же
абсурдно говорить о каком-то «внутри»****.
Именно благодаря преодолению регионально-световой
метафоры, в которой разворачивается работа Гуссерля, Хайдеггер может
выйти к другому пониманию «того сущего, которое есть мы сами»:
уже не как монады, противостоящей миру и другим, но как
динамического, излучающего себя вовне, «дисперсного»,
«распыленного» единства*****. Именно благодаря этой «дисперсности» мы******
можем быть направлены на мир и на самих себя не как на предмет,
не как на нечто, противостоящее нам и нам чуждое, а совершенно
другим и гораздо более интимным, «исконным» образом:
* GA 24. S. 89-90.
* Ср. у Яна Паточки о «предрассудке примата субъективного сущего» в
гуссерлевской феноменологии (Patoèka J. Introduction à la philosophie de
Husserl. Grenoble: Jérôme Millon, 1992. P. 141).
* GA 24. S. 84 / Основные проблемы феноменологии. С. 76.
'* GA 24. S. 93 / Основные проблемы феноменологии. С. 85.
* Cf.: Bernet R. La vie du sujet. Recherches sur l'interprétation de Husserl dans
la phénoménologie. Paris: PUF, 1994. P. 63. Отметим и в «Церингенском
семинаре»: «то замкнутое место, которое есть сознание» (Хайдеггер М.
Семинар в Церингене 1973 года / Пер. И. Инишева // Исследования по
феноменологии и философской герменевтике / Ред. Е. Борисов и др. Минск: ЕГУ,
2001. С. 115).
Отметим, что Хайдеггер, в отличие от Гуссерля, предпочитает пользоваться
не субстантивированным «Я» (das Ich), а размытым личным «мы».
814
А. В. Ямпольская
...интенциональность не есть ни нечто объективное, наличное как
объект, ни нечто субъективное в смысле чего-то такого, что
происходит внутри так называемого субъекта, чей способ бытия остается
полностью неопределенным. Интенциональность ни субъективна,
ни объективна в привычном смысле, но она и то и другое вместе
в некотором куда более исконном смысле, поскольку
интенциональность, принадлежа экзистенции Dasein, делает возможным то, что
это сущее, Dasein, экзистируя, соотносится с наличным*.
Описывая интенциональность как способ соотношения с собой
и миром, который превосходит, «трансцендирует»
субъект-объектное отношение, Хайдеггер не только предвосхищает свою критику
новоевропейской рефлектирующей субъективности как cogito me
cogitare и «опредмечивающего овладения», но и пытается
сформировать концепцию философской самоотнесенности, которая бы
«революционизировала само понятие человека»**.
Интенциональность как трансцендирование должна пониматься не как пример
«субъект-объектной связи», но «в более широком смысле»***.
Фихтеанское отчуждение «Я»..., которое является неизбежным
следствием рефлексии как ключевого элемента метода
феноменологической редукции, оказывается в хайдеггеровской феноменологии
преодолено.
Соответственно, интенциональность как направленность-на
описывается Хайдеггером не на языке «актов» сознания, а на языке
«отношения» [Verhalten]****, связывающего***** intentio и intention.
Следует отметить сам выбор терминологии: он отсылает не к
введенному в «Идеях I» различию ноэзиса и ноэмы, а к различению
предмета, который интендирован, и предмета, как он интендирован,
в § 17 V «Логического исследования»******. Хайдеггер набрасывает
«покров стыдливости******** на то, что отделяет его от Гуссерля;
действительно, отказ от терминологии ноэзис/ноэма не только
позволяет выйти за рамки сугубо теоретического отношения — к
такому пониманию интенциональности, которое включало бы практиче-
* GA24. S.91.
" GA26. S. 167.
" GA26. S. 169.
'* В переводе А. Г. Чернякова — «деятельное отношение», «образ действия»
(Основные проблемы феноменологии. С. 77. №. 48).
'* Как тонко подмечает Р. Вернет, «в глазах Хайдеггера
феноменологическая редукция есть операция отделения, диаметрально противоположная
бытию интенциональности, которое есть бытие соотношения, связи» (Вег-
net R. La vie du sujet. P. 57).
** Гуссерль Э. Логические исследования. С. 374.
k* Bernet R. La vie du sujet. P. 41.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
815
ские моменты; рассуждение в терминах intentio/intentum позволяет
Хайдеггеру сместить само предметное поле феноменологической
работы:
В обоих аспектах — intentio и intent um — ставится вопрос о том,
что представляет собой предданное — отправление или сущее в его
бытии — в структурном отношении, т. е. что в нем уже налично в
качестве структурного состава, что в нем обнаруживается в качестве
того, что составляет его бытие. Таким образом, предметное поле
феноменологического исследования составляет интенциональность
в ее априорности, взятая в обоих ее аспектах — intentio и intentum*.
Другими словами, Хайдеггер предлагает перейти от
исследования того, что интендируется, к исследованию того, какова
структура интендирования, причем структура понимается как «бытийный
состав», то есть как определенная архитектура, «из чего и как оно
сделано». Если гуссерлевское различие есть фактически различие
между самой вещью (до редукции) и ноэматическим феноменом
(после редукции), которое касается в первую очередь
эпистемологической проблематики: конституирования предметности в
сознании, — то для Хайдеггера речь идет о сущем, которое может быть
понято само по себе, а может быть понято и исходя из своего способа
явленности, из того способа, которым это сущее «встречается»**.
Этим «способом встречности феномена»*** может быть и сокры-
тость: сокрытость, которая оказывается «внутренним и
необходимым моментом познания » ****. Для Хайдеггера эпохи двадцатых годов
эта сокрытость проистекает из несобственных способов
существования Dasein и как таковая должна быть преодолена, пусть даже ценой
«методического насилия» над собственным способом раскрытия су-
щего
Каким же образом Хайдеггер обосновывает смещение
предметного поля феноменологии? Каким образом что интенционального
акта — феномен в смысле Гуссерля — превращается в хайдеггеров-
ское как обнаружения сущего, в то как, которое обернется бытием?
В § 9 «Пролегоменов к понятию времени», который лег в основу § 7
«Бытия и времени», Хайдеггер пишет, что «феномены» «суть ин-
Пролегомены. С. 84-85.
GA20. S. 118.
SZ37.
Борисов Е. В. Феноменологический метод М. Хайдеггера // Хайдеггер М.
Пролегомены к истории понятия времени / Пер. Е. В. Борисова. Томск:
Водолей, 1998. С. 359.
Там же. С. 362.
816
А. В. Ямпольская
тенциональные структуры», «феноменальное» есть то, что
«принадлежит взаимосвязи интенциональныхструктур», а
«феноменологическое» — то, что относится «к способу выявления феноменальных
структур»*. Место «комфортного непосредственного созерцания»**
занимает «оригинально схватывающее выявление» [Auslegung],
то есть «прочитывание» этих структур, исходя из них самих.
Заметим, что в тексте § 7 «Бытия и времени», столь близком этому
фрагменту из GA 20, упоминания «интенциональных структур»
отсутствуют, хотя само слово «структура» остается одним из самых
употребляемых (и непроясненных) в хайдеггеровском opus magnum,
своего рода оперативным понятием метода герменевтической
феноменологии. Однако в заключение этого — программного —
параграфа Хайдеггер пишет о «грамматике» и «словах», которые
необходимы для того, чтобы «схватить сущее в его бытии»***. «Структура»,
которая должна быть обнажена в результате подлинно
феноменологического анализа, есть структура одновременно архитектурная
и грамматическая; она не налагается на что исследования, но
одновременно вычитывается и выстраивается в нем.
Осуществляемый Хайдеггером переход от что исследования к его
как означает не только модификацию предметного поля
феноменологии, не только смещение интереса от феномена к тому сущему,
которое является в этом феномене определенным образом; едва ли
не в первую очередь этот переход касается феноменологического
метода. В «Бытии и времени» сказано: «Выражение "феноменология"
означает прежде всего методическое понятие»****. Феноменология
«теряет свой характер автономной науки» и превращается в
служанку онтологии*****, в соответствии со словами Хайдеггера:
«Феноменология — это заголовок для метода онтологии, т. е. научной
философии»******. Однако потеря феноменологией статуса «первой
философии» позволяет расширить не только поле исследования, но и сам
феноменологический метод. Как пишет Ж.-Л. Марион,
* Борисов Е. В. Феноменологический метод М. Хайдеггера. С. 362.
** GA. 20 S. 120.
*** SZ39.
**** S2 27. См. также: «наименование "феноменология" сущностным образом
отличается от наименований других наук — теологии, биологии и т. д. —
тем, что оно ничего не говорит о предметной определенности темы этой
науки, но подчеркнуто выражает только именно — и исключительно только —
"Как", способ, каким что-либо становится и должно становиться темой для
этого исследования! Поэтому "феноменология" — это "методическое"
наименование: им обозначается только вид опыта, постижения и определения
того, что является темой философии» (GA 20. S. 117/ Пролегомены С. 92).
***** Marion J.-L. Réduction et donation. P. 72.
****** Основные проблемы феноменологии. С. 26.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
817
...благодаря Хайдеггеру феноменология становится путем,
который ведет за пределы феноменологии, она становится способом
своего собственного методического самопревосхождения*.
Феноменология есть то, что выводит из феноменологии, своего
рода способ вытаскивать себя самого за волосы из болота. Другими
словами, феноменология есть так же, как есть Dasein —
эк-статически, самопревосходя, самопреодолевая себя вовне...
Неудивительно, что тот же способ бытия оказывается присущ
и интенциональности:
Интенциональные отношения сами образуют трансцендирование.
Отсюда вытекает, что интенциональность толкуется ложно не в силу
произвольно принятого понятия субъекта, Я и субъективной сферы,
и не по этой причине она становится поводом для искажения
проблемы трансценденции, но что, наоборот, на основании непредвзято
понятого характера интенциональности и ее трансценденции впервые
определяется субъект в его существе. Поскольку привычное
разделение субъекта с его имманентной сферой и объекта с его
трансцендентной сферой, поскольку вообще различие внутреннего и внешнего
сконструировано и постоянно дает повод для дальнейших конструкций, мы
впредь больше не будем говорить о субъекте, о субъективной сфере**.
Понятие «трансцендирования» как определенного способа
бытия, в котором превосходится разделение на внешнее и внутреннее,
является важнейшим методическим понятием хайдеггеровской
философии в эпоху подготовки и написания «Бытия и времени». Как
видно из приведенной выше цитаты, именно для того, чтобы
избежать искажения этого понятия, Хайдеггер отказывается от
использования слов «субъект», «субъективная сфера». Dasein в качестве
«кто» трансцендирования не замкнуто, размыто, между ним и
миром нет четкой границы. Отметим, что этот момент останется
актуальным для позднего Хайдеггера. В частности, в конспектах церин-
генского семинара мы читаем:
У Гуссерля сфера сознания вовсе не ставится под вопрос, еще
меньше прорывается. Хайдеггер добавляет: ее, впрочем, и не про-
* Marion J.-L. Réduction et donation. P. 73. В письме к Ричардсону Хайдеггер
подчеркивает, что его путь к мышлению бытия шел через феноменологию, а
не из нее (Heidegger M. Ein Vorwort. Brief an Pater William J. Richardson //
Heidegger M. Identität und Differenz. Gesamtausgabe Bd. 11. Frankfurt am
Main: Vittorio Klosterman Verlag, 2006. S. 148-149).
** GA 24. S. 90 / Основные проблемы феноменологии С. 82.
818
А. В. Ямпольская
рвут, покуда исходят из ego cogito; т. к. в основной конституции ego
cogito (точно так же, как и в основной конституции монад
Лейбница) заключено то, что оно не имеет окон, через которые что-либо
могло бы входить или выходить. В этом отношении ego cogito есть
замкнутое пространство. Стремление «выйти» «из» этого
замкнутого пространства — в себе противоречиво. Отсюда необходимость
исходить из чего-то иного, чем ego cogito*.
Альтернативной сознанию «исходной точкой» является Dasein,
чья «имманентность прорвана», чей способ бытия есть «бытие-
снаружи»**. Мышление в терминах эк-зистирующего Dasein
позволяет преодолеть мышление в терминах субъект-объектного
противопоставления, потому что диффузное Dasein не отделено
четко и ясно от мира; мир и Dasein в некотором смысле
взаимопроникают друг в друга. Именно поэтому Dasein есть таким
способом, что оно «размыкает» мир, делает мир и вещи доступными
для изъ-явления, для воспринятости «из него самого». Феномен
перестает быть продуктом редукции и может становится тем, что
«показывает себя из себя самого», поскольку он более не реляти-
вен по отношению к сознанию как некоторой выделенной точке.
У так понимаемого феномена нет и не может быть «свидетеля»***,
того, кому он себя показывает. Однако у него есть собеседник,
а точнее — дознаватель.
Введенная в самом начале «Бытия и времени» структура
спрашиваемое—выспрашиваемое—опрашиваемое позволяет Хайдеггеру
сразу ввести понятие «способа выявления», который различен у
бытия и сущего, и подвести читателя к понятию «образцового сущего»,
с которого «берет начало размыкание бытия»****. Dasein, это
образцовое*****, имеющее «преимущество» сущее, обладающее приоритетом
existentia перед essentia******, есть одновременно и тот, кто
допрашивает феномен о его способе выявления, кто «отвоевывает» и
расчищает его в его сути, кто его «встречает», — но одновременно и то
сущее, с которого «считывается смысл бытия». Феномен в смысле
феноменологии — это не кажимость, не отсылка-явление, не науч-
* Хайдеггер М. Семинар в Церингене 1973 года. С. 113.
** Там же. С. 114.
*** В том смысле, в котором А. Г. Черняков пишет о трансцендентальном
субъекте как «исполнителе» феноменальности, см.: Черняков А. Г. Онтология
времени. С. 190.
**** SZ6-7.
***** Отметим, что Хайдеггер на полях своего экземпляра «Бытия и времени»
попытался исправить «недоразумения», которые может вызвать
рассмотрение Dasein в качестве «примера».
* SZ42.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
819
но понятая предметность вещей мира*. Феноменом в смысле
феноменологии может быть только то, что интимным образом связано
с Dasein, а именно то, что относится к сфере его «снаружи».
Другими словами, Dasein (как и гуссерлева трансцендентальная
субъективность) есть одновременно и проводник феноменологического
исследования («субъект», «тот, кто»), и поставщик ее тематического
поля («объект», «то, что»).
Хайдеггер, впрочем, отмечает, что любая философия постигает
мир «с оглядкой на» агента философского исследования**, однако тот
способ, которым «наивная онтологическая интерпретация»
«оглядывается на Dasein», является «дофилософским». Рефлексия — это
способ увидеть «то сущее, которое есть мы сами» тем же способом,
которым мы соотносимся с наличным, неэкзистирующим, нетранс-
цендирующим сущим; однако мы сами даны себе по-другому <...>.
Dasein не нуждается в обращении к самому себе, как если бы
оно поначалу, прячась за своей собственной спиной, застыло перед
вещами, к ним оборотившись. Наоборот, только в вещах и ни в чем
ином, причем в таких вещах, которые его повседневно окружают,
Dasein находит само себя. Оно находит себя искони и постоянно
в вещах, поскольку в попечении о вещах, обремененное вещами, оно
неким образом в вещах покоится. Каждый есть то, о чем он хлопочет
и о чем печется. День за днем мы понимаем нашу экзистенцию,
исходя из того, о чем мы хлопочем и о чем печемся***.
Другими словами, рефлексия для Хайдеггера есть
опредмечивание самости, своего рода «конструктивное насилие над
обстоятельствами дела, нефеноменологическое начинание»**** в стиле Фихте.
В отличие от «самопонимания», которое укоренено во взаимосвязи
мира и нас самих, рефлексия разделяет и отчуждает «то, что дано
заранее»*****, это своего рода шпионаж****** за самим собой. Только
«в непосредственной страстной отданности Dasein миру
собственная самость Dasein от-свечивает, отражаясь от вещей»*******.
Соответственно, и вещи являют себя «сами», то есть не через
посредничество сознания, но как принадлежащие сфере «снаружи» Dasein,
которое среди них живет и действует. Именно в этом смысле следу-
* См. : Херрманн Фр.-В. фон. Понятие феноменологии у Гуссерля и
Хайдеггера. Минск: ЕГУ, Пропилеи, 2000. С. 41.
** GA 24, S. 156 / Основные проблемы феноменологии С. 146.
*** GA 24. S. 227/ Основные проблемы феноменологии С. 211.
**** GA 24. S. 231/ Основные проблемы феноменологии С. 215.
***** Там же.
****** GA 24. S. 227/ Основные проблемы феноменологии С. 211.
******* Там же.
820
А. В. Ямпольская
ет понимать хайдеггеровский тезис о том, что «феномен
показывает себя из себя самого»: это «не мистика», в нем нет «одушевления
вещей»*, а значит, и приписывания феноменам какой-либо
«самости» или «собственной инициативы»**. «Самость» феномена есть
самость Dasein; однако тот способ, которым феномен «встречается»,
надлежит еще добыть. Dasein играет роль проводника
феноменальности, но не ее исполнителя***; феномен кажет себя из себя самого
через Dasein и для Dasein, но ни феномен, ни Dasein не суть агенты
феноменализации. «Прямое доказывание и показывание»****, о
котором говорится в § 7 «Бытия и времени», не менее трудно, чем гус-
серлевская intuitione sine comprehensione: « ...в идее "изначального"
и "прямого" схватывания и экспликации феноменов заложена
противоположность наивности случайного, "непосредственного" и
непродуманного "созерцания" » *****. И может быть, самое трудное в этом
«подходе» к феномену — это как раз то смещение, которому
подвергается Dasein в качестве «субъекта» феноменализации.
Способ, которым феномен показывает себя, и способ, которым
Dasein обнаруживает его, — это один и тот же способ, потому что
феномен есть лишь изнанка Dasein. Благодаря преодолению
представления о феномене как об отделенном и противостоящем
субъекту познания объекте Хайдеггер может ввести в рассмотрение
такие феномены, как расположение, забота и методически
главнейший из них — исходный феномен истины. Истина есть способ
бытия Dasein, и, следовательно, вопрос о том, каким именно
образом Dasein соотносится со своим бытием, его схватывает и
обнаруживает, выходит в хайдеггеровском анализе на первое место.
«Феноменология значит: аяофашеотш та cpmvöneva», поскольку Xiyeiv
есть "давание видеть"»******. Явленность феномена подразумевает
его высказанность, выявленность в слове; именно словом и в
слове осуществляется раскрытие мира. Однако это слово никогда
не есть безличное, «ничейное слово»; оно принадлежит тому, кто
ведет речь, — Dasein. Другими словами, «истинность» относится
* GA 24. S. 227/ Основные проблемы феноменологии С. 211.
" См.: «Чтобы допустить, что феномен показывает себя, необходимо
признать в нем некоторую самость, которая берет на себя инициативу его
проявления» (Marion J.-L. De surcroît. Paris: PUF, 2000. P. 35).
'* Libera A. de. Archéologie du sujet. I. Naissance du sujet. Paris: Vrin, 2007.
P. 88 et passim.
'* SZ35.
k* SZ 36-37. Как отмечает Ф. Дастюр, здесь Хайдеггер пользуется языком
«принципа всех принципов» — в отличие от курса 1927 г., где от гуссерлев-
ской риторики не остается и следа (Dastur F. Heidegger: la question du logos.
Paris : Vrin, 2007. P. 81 n. 1).
** SZ34, 33.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
821
не к высказыванию, а к способу бытия Dasein*. Речь способна
раскрыть сущее в силу того, что оно всегда разомкнуто Dasein, потому
что способ бытия Dasein состоит в выявлении как самого себя, так
и того сущего, с которым оно соотносится**. Нельзя не отметить
важность этого тезиса для последующей французской феноменологии,
где на первый план выйдут феномены авторства и адресности речи***.
Субъект говорящий, тот, кто говорит сам, и тот, к кому обращена
речь, займет у Левинаса, у Деррида, у Мариона место
классического субъекта познания.
В то же время бросается в глаза, что в «Бытии и времени» (и в
других работах того периода) Хайдеггер исследует Dasein и его
доступ к истине, но те преобразования самого вопрошающего, которые
неизбежно сопровождают философское вопрошание, еще не темати-
зируются****. Фигура философа, размышляющего о бытии-к-смерти,
остается совершенно неподвижной, не затронутой происходящим:
умирает «вообще» Dasein, а не автор (и не читатель) «Бытия и
времени». Хайдеггеровский «поворот» оказался и поворотом к
философии «от первого лица»: поставив позицию философа (в том числе
SZ 227. Поэтому истинна может быть не только речь, истинно и «прямое
вглядывающееся внятие», voeïv.
GA 24. S. 308 / Основные проблемы феноменологии. С. 284. Как пишет
Ф. Дастюр, «герменевтика есть сначала способ бытия, и только потом —
способ познания» (Dastur F. Heidegger. P. 100).
Разумеется, важность хайдеггеровского анализа истины заключается
не только в том, что он выводит на свет феномен авторства и адресности
речи; еще более важным является то, что истина эта постигается не только
и не столько в теоретическом созерцании, сколько в практическом
взаимодействии с миром. Речь позволяет увидеть мир таким, каким он понят и
прочувствован; она связана не столько с высказыванием о чем-то, неявно
предполагающем чисто теоретическую, а значит, неестественную
установку, сколько с практикой жизни субъекта: герменевтическое «как»
предшествует апофантическому (SZ 158-159). Истолкование понятого «нечто
как нечто» предшествует высказыванию; мы понимаем вещь прежде всего
тогда, когда имеем с ней дело, и только потом мы даем нашему
практическому опыту соответствующее словесное одеяние. Любая попытка оторвать
теоретическое высказывание от опыта практической жизни есть упущение:
«Пример того, что только лишь имеется перед кем, дан в чистом глазении
как уже не понимании. Это свободное от "как что" схватывание есть
отнятие немудрствующе-понимающего видения, и оно не изначальнее
последнего, но выведено из него» (SZ 149, мы цитируем этот фрагмент в переводе
А. В. Михайлова по кн.: Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет
М.:Гнозис, 1993.С. 11).
Философское вопрошание как таковое есть способ бытия, а не один из
моментов познания: как пишет А. В. Ахутин, «не теоретик (онтолог) задает
этот вопрос, а некое сущее, самим своим существованием являет (даже
осуществляет) вопрос о бытии» (Ахутин А. В. Поворотные времена. СПб.:
Наука, 2005. С. 545).
822
А. В. Ямпольская
и политическую) в центр своих размышлений, Хайдеггер делает
рассуждения о том, что такое философия, как осуществляется вопроша-
ние, каким именно образом следует «остановиться»*, опомниться,
развернуться на пути к истине (все то, что сближает позднюю хай-
деггеровскую философию с мистикой и аскетикой), одним из самых
заметных лейтмотивов своей философии.
-е*!^-
Heidegger M. Was ist das — die Philosophie? Neske, 1992. S. 26. Русский
перевод: Хайдеггер M. Что это такое — философия?/ Пер. с нем. В. В. Би-
бихина // Вопросы философии. 1993 (8). С. 120.
V
M. ХАЙДЕГГЕР КАК СОБЫТИЕ
В ИСТОРИИ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
^^
А. В. АХУТИН
Время бытия
(К 70-летию выхода в свет книги
М. Хайдеггера «Бытие и время»)
Действительно долговечной может быть
только такая философия, которая поистине есть
философия своего времени, т. е. владеет своим
временем.
М. Хайдеггер
«Бытие и время» М. Хайдеггера — одно из немногих
философских произведений XX в., в котором с такой остротой сказалось
время: не просто XX в., а 20-е гг., пожалуй, даже конец Веймарской
республики. Любители исторических аналогий могут усмотреть
пугающее предзнаменование в том, что именно сегодня, в
нынешней России, выходит первый русский перевод «Бытия и времени»*.
Только обратим внимание, что время тут именно сказалось.
Событие редкое: то, что имело сказать человеку это время, было
услышано, и услышанное нашло свои слова. Если, восторгаясь, пугаясь
или обличая, мы и теперь не дадим себе труда услышать и понять,
можно считать наше время со всем, что им открылось и в нем
испытано, потерянным. Присутствуя, мы отсутствовали.
Такое время именуется обычно кризисом (что в переводе с
греческого означает суд). Это время междувременья, время между
концом, закатом одного исторического мира и ожиданием, кануном
чего-то другого. Время, когда человек словно оставляется наедине
с собой и может уяснить свое настоящее положение, может
заметить, daß er da ist, что он есть, есть тут вот и сей час, что он по-
* Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М. : Ad Marginem, 1997.
826
А. В. Ахутин
пал в историю, что с ним случилось бытие. Само бытие. Бытие,
обступающее, нависающее со всех сторон непостижимыми могу-
ществами (бывшего, настоящего, будущего), о нем-то и идет дело,
его — твое — мое — собственное, интимное дело, дело самого бытия
или — небытия. Для каждого каждый раз есть его собственный раз,
и он есть раз и навсегда, вот это — краткое — время есть время
всего бытия.
В курсе «Основные понятия метафизики», который
Хайдеггерчитал во Фрайбургском университете зимним семестром 1929/30 г., он
говорит: беда наших бедствий и нужд в том, что их множественность
и частность скрывает основное и единственное бремя — бремя
самого существования, то именно, что « ...человеку задано быть тут (da zu
sein)»*. В этом-то обыденнейшем положении, в положении самой
обыденности, в котором каждый всегда уже находится, Хайдеггер
и усматривает настоящую мистерию бытия, средоточие всего
«тайного» и «жуткого». Он нарочито характеризует здесь существование
в его простейшей повседневности теми самыми настроенностями,
в которых Рудольф Отто (коллега Хайдеггера по Марбургскому
университету) находил прямое присутствие в человеке нуминозной
тайны, священного**.
<...> Кризис — это время смысловых тектонических сдвигов
и большого публичного шума. Рушатся и тут же вновь сочиняются
мировоззрения, идеологам срочно заказываются организующие,
сплачивающие, спасительные идеи, самозваные вожди требуют
воли, силы, решимости, преданности, самопожертвования и т. п.
Но экстатические призывы к «всеобщей мобилизации» и
«монолитному единству», взывания к духам класса, расы, нации,
народа, природы, истории, космоса, крови, почвы, родины,
державы..., — словом, ко всем, какие найдутся, бытийно-историческим
судьбоносностям (а они, как показал XX в., не заставляют себя
долго вызывать), — сопровождаются и даже, кажется,
порождаются неким молчаливым настроением, смысл которого можно
было бы, пожалуй, передать так: растерянность перед
откровением онтологической беспризорности человека. Человеку
предлагается «узнать себя» как «перемещенное лицо», беженца, мигранта,
бомжа...*** Таковым было откровение времени. Это настроение
тоски и страха, чувство бесприютности, брошенности всеми
«силами» на произвол судеб. Человек находит себя потерявшимся,
* Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 29/30. Frankfurt a. M.
S.244.
** См.: Otto R. Das Heilige. Gotha, 1917.
Раньше и острее всего это откровение сказалось в творчестве Ф. Кафки и
Ч. Чаплина, — трагическая и комическая маска нового «героя».
Время бытия
827
очутившимся здесь и сей час в мире, наполненном таинственными,
быть может, опасными, быть может, спасительными, но безмерно
превосходящими его силами бытия, где вот-вот что-то произойдет,
и ничто само собой не ведет его, не наставляет, не подсказывает
ему, как быть и что значит быть вообще* (хотя в учителях и
наставниках недостатка нет). Но — место действия дано и час — твой
час — настал**...
Настроение, вызываемое этими смутными предчувствиями,
легко оборачивается противоположным: жаждой участия в общем
деле, причастия нашему «мы». Грань траги-комического,
отделяющая экзистенциальный ужас от тоталитарного экстаза, остра,
но и тонка.
<...> Говоря, что в «Бытии и времени» сказалось время, я вовсе
не собираюсь «объяснить» мысль Хайдеггера «общественным
бытием» Веймарской республики. Все наоборот: книга «Бытие и
время» не только уясняет смысл этого смутного времени, но, давая ему
слово, выводит из безвременья, поскольку усматривает в просвете
этого — единственного — времени особый смысл самого —
всеобщего — бытия. Ведь только так, в горизонте времени, может быть
понят, по Хайдеггеру, смысл бытия.
История имеет смысл (а не «все кружась исчезает во мгле»***)
только потому, что бытие по самому своему существу
разыгрывается во времени, что оно исторично: оно — всецелое бытие —
просвечивает, совершается, происходит в событиях. Бытие — исторично.
Это означает, повторю, — каждый исторический момент как
момент человеческого бытия есть (в себе, то есть может стать, а может
Близкое переживание на рубеже иных эпох выразил Паскаль: «Когда я
вижу слепоту и ничтожество человеческие, когда смотрю на немую
вселенную и на человека, покинутого во мраке на самого себя и словно
заблудившегося в этом уголке вселенной, не зная, кто его сюда поместил, зачем
он сюда пришел, что с ним станет после смерти, и не способного все это
узнать, — я пугаюсь, как тот, кого спящим привезли на пустынный
ужасный остров и кто просыпается там в растерянности и без средств оттуда
выбраться...» (пер. Ю. Гинзбург; цит. по: Паскаль Блез. Мысли. М., 1995.
С. 131).
** «Время? Время дано. Это не подлежит обсужденью.
Подлежишь обсужденью ты, расположенный в нем» (Н. Коржавин).
Метафизический смысл неизменного « Солнца любви » (из этого
стихотворения В. Соловьева), взирающего на то, как «смерть и время царят на земле»,
гораздо точнее передается тютчевской «природой»:
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы <...>
Поочередно всех своих сынов,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
828
А. В. Ахутин
и не стать) момент полного бытия, а потому — единственный и
незаменимый. История же вообще (онтологически) возможна (и
осмысленна) только потому, что само бытие по своему собственному
смыслу эк-статично, оно расходится с собой: оно есть то, что всегда уже
целиком сбылось; вместе с тем оно есть то, что все целиком
происходит только сейчас; но бытие никогда и не есть: оно «есть»
полнота возможности, не исчерпываемая чем-то уже состоявшимся. Вот
что свернуто в названии этого произведения — «Бытия и время».
Средоточие же этой бытийно-исторической драмы названо и того
короче, — одним (двойным) словом — Da-sein. Бытие,
сбывающееся бытием вот так, тут и теперь, — смысл которого («вот-так-тут-
и-теперь») не в чем ином, как в этом самом событии бытия, — есть
бытие особого сущего. Оно не просто сущее, не просто причастно
бытию (das Seiende). Оно — это сущее — существует среди
прочего многообразно сущего (da), но существует так, что в «его бытии
речь идет о самом этом бытии»*. «Это сущее, которое мы сами всегда
суть...»** и означается выражением Da-sein***. Бытие разыгрывается
с человеком. Человек среди сущего не просто существует, он есть
такое сущее, в котором и с которым разыгрывается драма самого
бытия. Da-sein — это все «Бытие и время», сказанное одним словом.
Рассказывание, раз-вертывание всего, что уже некоторым образом
сказано этим словом, — экзистенциальная аналитика Dasein
(аналитика существования человека в качестве существа, существенно
* Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М., 1997. С. 12.
** Там же. С. 7.
*** Я не могу входить здесь в проблемы перевода этого простейшего и обиход-
нейшего в немецком языке слова, которому Хайдеггер, однако, придал
такую многозначительность... Тем более не могу я вдаваться в обсуждение
только что появившегося перевода В. В. Бибихина. Перевод этого
ключевого для «Бытия и времени» (и всей хайдеггеровской философии) понятия
словом «присутствие» может быть и лучше искусственных «вот-бытие»,
«здесь-бытие», но нуждается в дополнительном прояснении нужного
смысла ничуть не меньше, чем немецкое Dasein. При-сутствие говорит о «сут-
ствии» при и — на первый слух — скрадывает внутреннюю раздвоенность,
двоякость, сущностную обращенность человеческого бытия как бытия
герменевтического, бытия-о-бытии. Смысл вхождения в суть бытия (в курс
дела) скрадывает расхождение, несовпадение бытия этого сущего с самим
собой, несовпадение самого бытия с самим собой как онтологическое
основание самой возможности этого — человеческого — существа. Кроме
того, значение внутренней формы слов an-wesen, ab-wesen, wesen (при-сут-
ствовать, от-сутствовать, сутствовать) широко используется Хайдеггером
в контекстах, далеко не всегда соответствующих контекстам, где говорится
Dasein. Другое выражение, используемое переводчиком там, где двучлен-
ность слова подчеркивается у Хайдеггера дефисом, — бытие-вот, хотя и
передает строение слова, но страдает всеми недостатками искусственности.
Тут сказывается — и делается заметным — диктат языка. Придется с этим
смириться.
Время бытия
829
озабоченного — и озадаченного — самим бытием) — и образует
фундамент той фундаментальной онтологии, введением к которой
должна была стать книга «Бытие и время».
Вместе с тем «Бытие и время» М. Хайдеггера — одно из
немногих философских произведений XX в., в которых современная
философия столь продуманно обращается к своей истории,
возвращается в нее и стремится переосмыслить ее так, чтобы прямо включить
в дело современного философствования*. Степень вовлеченности
своей мысли в историческое бытие философии Хайдеггер осознавал
вполне отчетливо. Как раз после завершения «Бытия и времени»
и незадолго перед тем, как он услышал «повелительный зов» новой
«революционной действительности», Хайдеггер видел себя не
более чем смотрителем в музее философии. В декабре 1931 г. он писал
К. Ясперсу: «...Я существую в роли смотрителя некой галереи,
который должен помимо прочего следить за тем, чтобы шторы на окнах
были правильно подняты и опущены и чтобы несколько великих
сохранившихся произведений получили в какой-то мере правильное
освещение для случившихся зрителей»**.
При всей экстравагантности изобретенного в «Бытии и
времени» языка «экзистенциалов» со времен Гегеля не было, пожалуй,
другого философского произведения, в котором история
философии с такой последовательностью включалась бы в замысел
современной философии. Но суть этого замысла у Хайдеггера прямо
противоположна гегелевскому. Дело идет не о развитии, не о
конкретизирующем развертывании начального понятия (того же
бытия) в истории (и соответственно, в логике) мысли, а о
последовательной деструкции всей предшествующей онтологии, то есть
о редуцирующем возвращении к началу. Словно мыслящая —
логически членораздельная — речь не сказывает членораздельно
определенный смысл бытия, а наговаривает на него
отсебятину, городит лишнее, загораживает его, отвлекает, уводит от него.
С первых слов о сущем мысль теряет (забывает) «за деревьями»
сущего «лес» бытия и затем ищет этот «лес» как пустое
«понятие» или как «всем деревьям дерево». Для Хайдеггера же мыслить
значит едва ли не противоположное — вспоминать забытое:
разгораживать, разбирать, развинчивать, редуцировать, — и таким
* Лекции, который Хайдеггер читал в Марбурге в 1923-1928 гг. и которые
задолго до «Бытия и времени» сделали его известным, почти все
посвящены сюжетам из истории философии, преимущественно Платону,
Аристотелю и Канту. В полном Собрании сочинений они занимают 10 томов (П.
Abteilung, Bd. 17-26).
** Heidegger M., Jaspers K. Briefwechsel. 1920-1963. Frankfurt a. M., 1990.
S. 144-145. (См. рус. пер. И. Михайлова: Хайдеггер М., Ясперс К.
Переписка 1920-1963. М., 2001. С. 212.)
830
А. В. Ахутин
образом возвращаться — точнее: отступать — к началу в его
изначальном тождестве с самим собой или даже просто — в молчании
его неопределенной возможности...
Феноменологическая редукция истории философии (в
проекте «Бытия и времени») начинается разбором трансцендентальной
онтологии И. Канта. Уяснив онтологический смысл кантовского
критицизма и трансцендентализма, можно увидеть именно здесь
первые подступы к идее фундаментальной (базирующейся на
аналитике конечно-временного существования) онтологии в смысле
Хайдеггера*. Однако кантовский трансцендентализм коренится
в метафизике картезианского субъекта, деструкция которого
приводит к схоластическому аристотелизму, а от него к самому
Аристотелю, к Платону — к греческой философии вообще как началу всех
философских начал (далее — к греческому образу мышления, к
греческому опыту бытия как началу самого мышления, началу вообще,
просто началу...).
Вот почему именно здесь, в хранилище греческой философии,
Хайдеггер находит вопрос, начинающий философию и от века
правящий в ней, — и это в самом деле есть вопрос о бытии. Этот вопрос
он и ставит в начало собственной философии.
Первыми словами книги Хайдеггер возвращается к тому
замешательству относительно выражения «сущее», в которое некогда
попали собеседники платоновского «Софиста» (см. 244а) и
которое с тех пор не только не разрешилось, но, хуже того, забылось:
«Есть ли у нас сегодня ответ на вопрос о том, что мы, собственно,
имеем в виду под словом "сущее"? Никоим образом. И значит,
вопрос о смысле бытия надо поставить заново. Находимся ли мы
сегодня хотя бы в замешательстве от того, что не понимаем
выражение "бытие"? Никоим образом. И значит, надо тогда прежде всего
сначала опять пробудить внимание к смыслу этого вопроса»**. Речь,
стало быть, идет о том, чтобы суметь снова прийти в это замешатель-
* Если мы обратим внимание на то, что фундамент фундаментальной
онтологии Хайдеггера образует экзистенциальная аналитика человеческого
существования, не так сложно будет понять, почему Хайдеггер считает
трансцендентальную аналитику Канта формой онтологии (критической
онтологии). «Онтологическая проблематика, — писал Хайдеггер в 1929 г., —
столь мало имеет дело с "реализмом", что именно Кант с его
трансцендентальным способом постановки вопросов смог сделать первый решающий
шаг в отчетливом обосновании онтологии со времен Платона и Аристотеля»
(Heidegger M. Wegmarken. Frankfurt a. M., 1967. S. 30). Следующая после
«Бытия и времени» книга Хайдеггера, которая может считаться первым
шагом в задуманной там деструкции онтологии, — «Кант и проблема
метафизики» (Frankfurt а. М., 1929). (Русский перевод ее О. В. Никифорова
опубликован одновременно с переводом «Бытия и времени».)
** Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М., 1997. С. 1.
Время бытия
831
ство и продолжить разговор, оборвавшийся почти 2500 лет назад.
Как ни странно, этот разговор оказывается одновременно насущнее,
современнее других разговоров современности.
Вопрос в том, как теперь поставить ведущий вопрос философии,
вопрос о бытии. Хайдеггеровская онтология есть
фундаментальная (или критическая) онтология, потому что сам вопрос и способ
его постановки включается в существо онтологии. Здесь ясно
сказывается второе — помимо греческого — начало хайдеггеровской
философии: феноменология.
Феноменология не хочет говорить о вещах, она ищет феномены,
то есть то, что говорит само за себя. Соответственно, и вопрос о
бытии, мыслимый феноменологически, предполагает
вопрос-феномен: не теоретик (онтолог) задает этот вопрос, а некое сущее, самим
своим существованием являет (даже осуществляет) вопрос о
бытии. Вопрос этот далеко не теоретический, даже не философский
(если под философией понимать некое специальное занятие), — это
вопрос экзистенциальный. Экзистенциально бытие сущего, для
которого бытие есть вопрос. Сущее, в бытии которого речь идет
(вопрос стоит) о самом этом бытии, сущее, онтически отличающееся
от другого сущего тем, что оно онто-логично*, — то есть устроено
так, что, находясь среди сущего, от-носится, вы-носится из сущего
к бытию сущего в возможной целостности его смысла, — это сущее
Хайдеггер и именует словом Da-sein: вот-бытие**. Это (единичное,
единственное) сущее способно испытывать затруднения, приходить
в замешательство, заблуждаться, ставить вопросы вообще вплоть
до вопроса относительно бытия сущего (в целом), — иными
словами, способно мыслить, — поскольку оно до всего этого само
всегда уже есть этот вопрос, поскольку озадаченность самим бытием
(а не просто озабоченность некой «своей» природой) есть сущност-
но свойственная этому существу возможность его существования,
модус его собственного бытия (а не просто область его
теоретических интересов). Эта, и только эта, возможность отнестись
(озаботиться-озадачиться) всем существом к самому бытию как самому
своему (даже самому своему***) бытию и есть экзистенция. Существо
человека эк-статично, это вне-себя-бытие (и только потому также
и для-себя-бытие). Бытие, к которому озадаченно отнесено
человеческое существо, выносит, выводит это существо из себя-налич-
ного, из совпадения с собой, всегда уже данным, из падения в не-
* См.: там же. С. 12.
** Можно сказать и тут-бытие, если только это «тут» не подразумевает
никакого «там».
*** Замечательная, по-моему, находка В. В. Бибихина в переводе слова
eigentlichste.
832
А, В. Ахутин
кую «идентичность», находящую себе место — а точнее, теряющую
себя — среди людей, — из окружающей среды существования
существом среди других существ. Само бытие, к которому относится
человек своим существом, не есть что-либо сущее (ни «физически»,
ни «мета-физически», т.е. как «общее», «высшее» или даже
«потустороннее» сущее). Бытие присутствует тут как понимание
бытия (человек присутствует в бытии пониманием бытия, всегда уже
как-то состоявшимся и никогда не завершимым), как (возможный)
смысл целого, и этим смыслом целое обращает среду
существования в осмысленный мир. Осмысленность, истолкованность мира
собрана в языке, который и являет собой то самое понимание,
которое есть голос самого бытия, и то самое бытие, которое
присутствует только как понимание.
Ясно, что речь идет об аналитике человеческого существования,
но само это существование понято здесь не из какой-то человеческой
природы (не антропологически), а из его онтологического
основания. Основанием же самой фундаментальной онтологии
оказывается не что иное, как феноменология человеческого существования,
поскольку оно по своему смыслу и есть не что иное, как понимание,
толкование бытия. Такое герменевтическое взаимопрояснение:
экзистенциальная аналитика человеческого существования есть
фундаментальная предпосылка всякой возможной онтологии, в
горизонте которой только и может проводиться сама экзистенциальная
аналитика. Аналитически «дедуцируемые» экзистенционалы
образуют язык возможной онтологии и, в свою очередь, сами могут быть
онтологически переосмыслены*...
Философствующей настроенностью и философской строгостью
мысли — редкими в XX в. — Хайдеггер обязан тому, с какой
методичностью и последовательностью он держался феномено-он-
тологической герменевтики, первый оборот которой развернут
в экзистенциальной аналитике «Бытия и времени». Но феноме-
Знаменитый поворот («Die Kehre», доклад, прочитанный в декабре
1949 г.; см. рус. пер. В. В. Бибихина в кн. «Время и бытие». С. 253-258;
см., впрочем, уже «Письмо о гуманизме», написанное осенью 1946 г., —
там же. С. 192-229) означает не «разрыв» с экзистенциальной аналитикой
и «переход» к онтологической установке, а соответствующий поворот
герменевтического круга. Этот поворот предполагалось совершить во второй
части «Бытия и времени», которая должна была называться «Время и
бытие». Тем не менее движение хайдеггеровской мысли от
сосредоточенности на человеческой экзистенциальности к сосредоточенности на некой
исторической событийности вообще — очевидно. Место Da-sein —
центрального «понятия» «Бытия и времени» — со временем занимает Ereignis
(событие) (см. философский дневник, который Хайдеггер вел в 30-40-е гг.
И не предназначал для печати: Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis.
Gesamtausgabe. IL Abteilung. Bd. 65. 1989).
Время бытия
833
нологический редукционизм этой герменевтики столь же
последовательно обращал развертывание вопроса о бытии, — то есть
раскрытие тех трудностей, апорий, парадоксов, которые привели
в замешательство относительно этого вопроса греческих
философов и вновь уяснить которые вроде бы намеревался и Хайдеггер
в «Бытии и времени», — в умолкающее внимание простоте
бытия, внимание, которое в конце концов и впрямь едва ли не
сводится к простому жесту: вот. Как будто к тем недоумениям и
апориям, которыми мысль Платона или Аристотеля касалась бытия
(удивлялась бытию), можно подойти иначе, чем путем
рассуждений, доказательств, опровержений, разделения и связывания идей
(как это происходит в ♦Софисте»). Беда в том, что, когда мысль
уклоняется от свойственных ей сомнений, вопросов, суждений,
рефлексий, критик, — словом, от внимания к самой себе, к своему
собственному миру (с его архитектоникой), к началам
собственного бытия — пусть и под благовидным предлогом
экзистенциально-понимающего участия в историческом событии, причастия
тайным силам бытия, — судить и решать нас и нашу жизнь будут эти
самые тайные силы, явные обличья которых бывают порою
крайне неприличны...
Стоит поэтому заранее обратить внимание хотя бы на
некоторые, в самом деле нешуточные трудности и подвохи, таящиеся
в новой постановке вопроса о бытии. Одно из затруднений состоит
в том, что развертывание экзистенциального анализа раскрывает
структуры, по сути своей исключающие какое бы то ни было
развертывание, какой бы то ни был анализ. Речь аналитика и речь
анализируемого понимания суть принципиально разные модусы
речи. Задача анализа — вернуть нас к первичному, изначальному
пониманию, стоящему прямо в свете бытия, а не конструирующего
свои понятия из уже готовых вещей мира, — туда, где
вопрошающая отнесенность к бытию исчезает в прямом присутствии. Бытие
тут присутствует в самом понимании, самим пониманием. Правда,
это понимание настолько поглощено вниманием, что, собственно,
исчезает в этом слушании-послушании. Ведь если в понимании
бытия присутствует само бытие, то оно тут-то и сказывается всей
своей бытийной силой, сказывается гораздо более властно, чем
в «детерминации» любым «естественным» или «общественным»
бытием: это бытие, захватывающее изнутри, правящее исподволь,
тональностью настроения, собственной речью слова... Вопрос о
бытии, загадка бытия, приводившая в замешательство древних и
новых философов, исчезает в тайне, в откровенной сокровенности
истины бытия. Речь о бытии, вопрос о бытии — с
подразумеваемыми вопросами: кто и с кем ведет эту речь, кому обращен этот
834
А. В. Ахутин
вопрос, кто отвечает? — умолкает в речениях языка, вещаниях
бытия...
<...> Человек, говорит Хайдеггер, своим существом отнесен
к бытию. Он, значит, также и отстранен от бытия: он отстранен
от «самого» бытия своим «вот», а от своего «вот» отстранен (не
совпадает с ним) отнесенностью к самому «бытию», которого тут
нет, — которое есть как бытие-возможность, бытие-в-мысли, бы-
тие-в-слове... Но как бытие оно же должно быть бытием-вот-тут,
должно быть возвращено «сюда», вновь упаковано в это вот
сущее, делая его «более сущим». Этой радикальнейшей апорией
бытия и схвачена хайдеггеровская мысль. То, что есть вот тут-
так-теперь, намертво схватывается самим бытием, само же бытие
намертво схватывается сущим вот так. Трансцендирующий
бросок экзистенции в возможность (решимость, разомкнутость к
возможному, будущее) парадоксальным образом оказывается
отбрасыванием туда, откуда этот прыжок совершался, экстатическим
возвращением домой, энтузиастическим приятием того, что и так
есть. Хотя бытие исторично, но история (пока) есть лишь
постольку, поскольку она есть история метафизического забвения бытия,
на горизонте же мыслящего (и поэтического) воспоминания
бытия видится только простота единственной изначальности.
Причем нет никакого основания полагать, что «дом», в который мы
возвращаемся, наполнится всеми временами и событиями наших
исторических странствий, всеми горизонтами бытия («Одиссей
возвратился, пространством и временем полный»), скорее уж
стены его приобретут окончательно бытийную плотность («в
деревню, в глушь, в Саратов!»*).
<...> С одной стороны, онтологическая изначальность
экзистенции (бытие из собственного начала, собственной
возможности, собственного не-бытия, из смерти, которой каждый
единоличный собственник) делает каждого столь же изначально одиноким
и единственным (самим собой). Судьба есть всегда моя судьба,
мир — всегда мой мир, бытие — всегда мое бытие (je-meinige)**.
Но это не в том смысле, что есть — или может быть, или был — еще
какой-то другой мир: твой, или его, или, скажем, древних
греков, — а в том, что никакого другого «глобуса» у меня (у нас) нет
* См. эссе «Творческий ландшафт: Почему мы остаемся в провинции», рус.
пер. A.B. Михайлова в кн.: Хайдеггер М. Работы и размышления разных
лет. М., 1993. С. 218-221.
'* Основной экзистенциальный пафос « Бытия и времени » дал даже повод к
обвинению его в «экзистенциальном солипсизме». См., например: Arendt А.
Was ist Existenzphilisophie? Frankfurt.a./M., 1990 (первая публикация
в 1946 г., в журн. «Partisan Review»).
Время бытия
835
и надо принять, признать своим само бытие, совершающееся и
ниспосылающее себя как историческая судьба, которую можно лишь
взять на себя и суметь вынести. Я усваиваю, присваиваю дающее
себя бытие ровно в той мере, в какой всем своим одиночеством
отдаюсь его требовательной единственности*. Поэтому
экзистенциальная решимость стать собой, принять на себя свое онтологическое
одиночество парадоксальным образом оказывается решимостью
с собою, наоборот, навсегда расстаться. Ведь всеобщность
исторического бытия, случившегося целиком сей час вот так, втягивает
экзистенцию (решимость быть, присутствовать в «роковые
минуты» мира) каждого в общую экзистенцию исторического события,
тянет «каплею литься с массами». Быть миром. Отсюда пафос
экзистенциального соучастия, сопричастности, ангажированности,
даже партийности <...>**
Таким образом фундаментальная онтология, движимая
вроде бы фундаментальным различием — отношением экзистенции
(бытия-о-бытии), экзистенциальным трансцендированием мира
как только своего мира (и себя как своего себя в этом мире), — тем
не менее относит это трансцендирование к бытию все того же
самого мира, еще безоговорочней возвращая в него, устраняя
какое бы то ни было «пространство» возможного отстранения,
каждый раз снова и снова относя — редуцируя —
отвлекающуюся мысль обратно к бытию единственного мира, становящегося
насовсем моим своим, моим собственным миром. Экстатическое
исступление из мира как своего мира ведет, оказывается, к
экстатическому вступлению в него. А там, где существует только «мы-
в-мире-своем», нет места логической аналитике начал «ума» этого
«мира» (то есть философской рефлексии), нет места скептической
осмотрительности (то есть здравомыслию), — многому нет
места. Устраняя свою отстраненность от мира, мы освобождаем себя
от способности судить то, что стало бытийно своим (тем более —
нашим). А когда мы отказываемся судить, нас будут судить, и если
не люди, то сами вещи <...>
Таково глубочайшее замешательство относительно бытия,
в которое нас — в согласии с замыслом, но, может быть, не всегда
* Мы слышим тут голос одного из предвестников хайдеггеровского
«бытия» — голос гегелевского «духа».
** В год своего ректорства во Фрайбургском университете (май 1933 — апрель
1934) Хайдеггер наставлял подчиненных: «Отдельный человек, на
каком бы месте он ни находился, не значит ничего. Судьба нашего народа
в его государстве значит все». Цит. по кн.: Safranski R. Ein Meister aus
Deutschland. Heidegger und seine Zeit. München$ Wien, 1994. S. 316. (См.
рус. пер. Т. А. Баскаковой: Сафрански Р. Хайдеггер. Германский мастер
и его время. М., 2002. С. 366.)
836
А. В. Ахутин
по воле и усмотрению автора — вводит «Бытие и время» М. Хай-
деггера. Непреходящая и далеко еще не уясненная значимость
этого философского произведения XX в. в том, что трагическая
двусмысленность тех помыслов, тех «пониманий бытия»
(онтологических настроений), которые невнятно сказались в
индивидуальных взлетах и массовых катастрофах века, уловлена здесь
в самых началах.
1997
&**&
А. А. МИХАЙЛОВ
«Бытие и время»: 80 лет спустя*
Сегодня, 80 лет после выхода в свет «Бытия и времени» —
одного из самых значительных произведений не только XX столетия,
но и всей европейской философской традиции, — мы всё еще
находимся всего лишь на подступах к осмыслению его содержания,
а в русскоязычной литературе по-прежнему нет публикаций,
способствующих продуктивному прояснению обозначенных в этой
работе идей, с таким трудом укладывающихся в наше привычное
представление о природе философствования. На первый взгляд уже сам
характер притязаний, заявленных в «Бытии и времени», должен
был неминуемо завершиться не чем иным, как неизбежным
конфузом. Мыслимо ли то, что автор не просто представляет своеобразное
видение и понимание определенных философских проблем, но
выступает с беспрецедентным обвинением в адрес всей, берущей
свое начало в Древней Греции, традиции европейской философии,
упрекая ее в неспособности адекватно обратиться к
сформулированным ею самою фундаментальным вопросам? Слишком многое
привычное и устоявшееся в философском мышлении
оказывается подвергаемым Хайдеггером сомнению с невиданным до сих пор
радикализмом, который вызывал и по-прежнему вызывает крайне
эмоциональные дискуссии.
Трудность осмысления содержания работы заключается, прежде
всего, в том, что мы сталкиваемся в ней с отказом от
использования столь привычных для философии основополагающих
принципов и понятий (или пересмотром их содержания), что, казалось бы,
философия оказывается на грани утраты самой себя и рискует
усомниться в необходимости дальнейшего своего продолжения.
Разумеется, и в этом случае соблазн доказать несостоятельность
основных положений книги стимулируется многими мотивами,
берущими начало в традиционном понимании природы философского
* Расширенная версия доклада, открывавшего конференцию «"Бытие и
время" Хайдеггера и гуманитарное знание» (Каунас, 12 октября 2007 г.).
838
А. А. Михайлов
знания и инициированными не только в рамках аналитической
философии. Справедливости ради следует признать, что и сам Хайдег-
гер в существенной мере способствовал обесцениванию значимости
своей собственной работы. Как известно, она так и осталась
незаконченным фрагментом, а позднее, в особенности после «поворота»
(Kehre), Хайдеггер неоднократно признавал неудачность
осуществленных в «Бытии и времени» попыток радикально преобразовать
философию.
И тем не менее панорама философских исследований после
1927 г. немыслима без рецепции обозначенных Хайдеггером
проблем. Более того, резонанс, который вызвало опубликованное
произведение, выходит далеко за рамки философии. В той или иной
степени гуманитарное знание, социальные науки, религия, а также
литература и искусство оказались восприимчивыми к самым
разнообразным импульсам, содержащимся в «Бытии и времени».
Отдельно следует отметить внимание, проявленное к работе традицией
восточной мысли, далеко не всегда предрасположенной к восприятию
западных идей*. В настоящее время обилие всего того, что написано
в мире о Хайдеггере и в том числе посвящено анализу «Бытия и
времени», практически не поддается обозрению, хотя и далеко не всегда
способствует прояснению подлинных интенций мыслителя. В связи
с этим нельзя не признать правомерность предостережения Хайде-
ггера, который настойчиво не советовал полагаться на публикации,
посвященные его творчеству**.
Своеобразная ситуация рецепции идей «Бытия и времени»
сложилась в русскоязычном интеллектуальном пространстве.
Немногочисленные попытки их интерпретации слишком часто
выражались в редуцировании хайдеггеровской мысли к тому, против чего
он сам так решительно выступал. Примеров такой «интерпретации»
можно приводить сколь угодно много: это и обвинения в
иррационализме, попытки увидеть в Хайдеггере представителя
экзистенциализма, стремление представить «Бытие и время» в качестве
модифицированного варианта философской антропологии,
иронизирование по поводу «вычурной» терминологии и т. п. В отдельную
категорию можно выделить усилия по дискредитации всего фило-
В этой связи см., например: Heidegger and Asian Thought / Ed. by G. Parkes.
Honolulu: University of Hawaii Press, 1987. 282 p.; Japan und Heidegger.
Gedenkschrift der Stadt Meßkirch zum hundertsten Geburtstag Martin
Heideggers. Siegmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1989. 282 S.
Хайдеггер в письме к швейцарскому психиатру М. Боссу от 21 февраля
1971 г., рекомендуя для прочтения некоторые из своих работ,
замечает: «Литературу о Хайдеггере я не рекомендовал бы» (см.: Heidegger M.
Zolli- koner Seminare. Protokolle — Gespräche — Briefe. Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 1987. S. 361).
«Бытие и время»: 80 лет спустя
839
софского содержания работы посредством установления ее
корреляции с фактом политической ангажированности Хайдеггера в 1933 г.
И наконец, доминирующий в последние десятилетия интерес к
постмодернизму, в особенности в его французской интерпретации, еще
в большей мере оттеснил на задний план анализ самих хайдеггеров-
ских идей, без которых слишком многое в постмодернистском
мышлении было бы просто невозможным.
Публикации «Бытия и времени» предшествовала напряженная
работа Хайдеггера по осмыслению категориального поля
европейской философии. На первый взгляд эта работа относилась сугубо
к логической проблематике. Однако обе хайдеггеровские
диссертации были нацелены на осмысление существенно более значимых
проблем. В них отмечается отчетливая попытка размежевания
с неокантианством, оказавшимся не в состоянии преодолеть
формально-логическую замкнутость активности субъекта. Именно
поэтому интенциональная структура актов сознания Гуссерля
представлялась Хайдеггеру движением в верном направлении. Вместе
с тем и роль субъекта интенциональных актов не может быть
редуцирована, как это было в неокантианстве, только к
теоретико-познавательной функции. Как известно, характерная особенность теории
познания заключается в том, что познание сводится к чисто
мыслительной деятельности, в то время как постижение предметов всегда
является неотъемлемой частью жизненного процесса. В результате
то, каким образом нечто воспринимается нами в качестве предмета,
позволяет себя прояснить лишь исходя из Lebensweise познающего
субъекта. Иными словами, теория не существует в изолированности
от фактической жизни. Эта жизнь исторична. Однако гуссерлевская
идея философии как «строгой науки» игнорирует проблему истории.
Обращением к проблеме историчности Хайдеггер на первый взгляд
более склонен солидаризироваться с идеями Гегеля, у которого дух
воспринимается в качестве полноты своих свершений и в «снятом»
виде является продуктом своей собственной истории. Тем самым
состояние философии в своей действительности всегда обусловлено
осмыслением собственной истории и в итоге является историческим
по своей природе. Вместе с тем преемственность и непрерывность
развития философского мышления сохраняется, в глазах Гегеля,
лишь в результате постоянного воспроизведения того
непреходящего в мышлении, что сохраняет свою тождественность и не подлежит
воздействию времени. Таким образом, прошлое в развитии духа есть
лишь этап в его движении к состоянию «абсолютного
самосознания», истинность которого вневременна и безусловна.
В противовес этому принципиальная позиция Хайдеггера
заключается в том, что состояние философии не может быть уподоблено
840
А. А. Михайлов
самодовлеющему духу, потенциально способному быть абсолютно
прозрачным по отношению к самому себе. Своеобразие
философского знания, по его мнению, неизбежно выступает не в качестве
надындивидуального спекулятивного мышления, в котором особенное
и индивидуальное подлежат растворению и снятию во всеобщем.
Оно манифестирует себя в обусловленных соответствующим
временем индивидуальных актах целостности непосредственного
жизненного опыта. В последовательном противопоставлении своей
позиции взглядам Гегеля Хайдеггер обозначает свое время как такое,
по отношению к которому прошлое утрачивает прозрачность. Оно
становится undurchsichtig, помимо прочего, также и в силу того, что
философская понятийность предстает в фиксированных и
затвердевших формах, некогда обусловленных обстоятельствами
конкретной реальности, вызвавшей к жизни эту понятийность, но позднее
неизбежным образом утратившей свою витальную силу. В итоге
такого рода понятия, которыми мы оперируем, скорее заслоняют, чем
проясняют смысл, подлежащий экспликации в соответствии с
конкретностью жизненной ситуации.
В этих обстоятельствах Хайдеггер видит свою задачу в том,
чтобы посредством специфичного исторически-философского
исследования — деструкции (Destruktion) — выявить скрытые смысловые
основания господствующей традиции. Мотивом такого рода
«деструкции», которая отнюдь не должна смешиваться с негативным
отношением к традиции*, является острое экзистенциальное
сознание невозможности применения готовых и застывших
категориальных форм мышления к принципиально временным по своей
природе и всегда иным жизненным обстоятельствам. Речь идет, прежде
всего, о том, каково наше отношение к той традиции, во власти
которой мы находимся. Иными словами, философия перестает быть
совокупностью накопленного традицией и готового к употреблению
знания, но выступает как жизненная задача, требующая
личностных усилий самоопределения как по отношению к вызовам
жизни, так и к транслируемому традицией наследию прошлого. Перед
философией возникает проблема необходимости непрерывного
обновления категориального аппарата с тем, чтобы он был адекватен
конкретности жизни. Именно поэтому гуссерлевский принцип „zu
* Так, G. Waite и R. Palmer в своем переводе на английский язык статьи Гада-
мера „Destruktion und Dekonstruktion" отмечают, что хайдеггеровский
термин „Destruktion" ни в коей мере не может быть переведен на английский
посредством "destruction", поскольку он означает нечто совершенно иное
(см.: Gadamer H.-G. Destruktion and Deconstruction. Translated by Geoff
Waite and Richard Palmer // Heidegger Reexamined. Vol. 4: Language and
the Critique of Subjectivity / Ed. by Hubert Dreyfus and Mark Wrathall. New
York, 2002. P. 102).
«Бытие и время»: 80 лет спустя
841
den Sachen selbst" оказывается столь привлекательным для раннего
Хайдеггера, обнаружившего в этом принципе живительный
источник обновления духа современного ему философствования*.
Наиболее характерный пример разительного несоответствия
философии тому, что является наиболее важной темой ее
исследования, проявляется в неспособности артикулировать проблему бытия.
Начиная с Платона и Аристотеля философия, обозначая
специфику своей предметности, не сводимую к анализу конкретного
сущего, но предполагающую выявление его оснований и предпосылок,
то есть задаваясь вопросом об осмыслении бытия сущего, неизбежно
оказывалась, по мнению Хайдеггера, в плену у соблазна
применения и по отношению к бытию арсенала понятийных средств,
используемых для анализа сущего. В результате философия утрачивает
возможность отличать себя от обыденного сознания, особенность
которого как раз и заключается в применении некритично
усвоенных принципов и положений в процессе мышления. Как известно,
Хайдеггер демонстрирует этот глубинный порок традиционного
философского мышления на примере анализа сформулированной
Аристотелем проблемы, с которой он столкнулся при изучении
диссертации Ф. Брентано «О многообразном значении сущего у Аристотеля»
(1862). По его собственному признанию, эта работа способствовала
его «первым беспомощным попыткам проникновения в сферу
философии»**.
Суть проблемы, привлекшей внимание Хайдеггера, можно
коротко выразить следующим образом: научное знание, исследуя
определенные виды сущего, осуществляет это исследование
сообразно специфической природе сущего, которая и предопределяет
то, каким образом сущее предстает в качестве предметности. При
этом, однако, возникает вопрос, возможна ли тематизация
проблемы бытия как такового и каким может быть исходное основание
такого прояснения. Очевидно, что такого рода проблема не может быть
осмыслена в рамках традиционной установки научного мышления,
* При переводе этого известного девиза феноменологии Гуссерля мы
опять-таки сталкиваемся с известным затруднением, поскольку смысл
немецкого термина Sache не вполне адекватно передается посредством
русского «вещь». В немецком мы скорее имеем дело с тем, к чему мы
обращаемся в процессе мышления, — «das zu Denkende», это также содержание,
подлежащее осмыслению. Позднее, в достаточно программной для
Хайдеггера публикации „Zur Sache des Denkens" (1969), при использовании этого
термина речь идет преимущественно о задачах мышления (подробнее об
этом см.: Marx W. Das Denken und seine Sache. In: H.-G. Gadamer, W. Marx,
C. F. v. Weizsäcker, Heidegger. Freiburger Universitätsvorträge zu seinem
Gedenken. Freiburg; München: Verlag Karl Alber, 1977. S. 11-20).
" Heidegger M. Zur Sache des Denkens. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1988.
S.81.
842
А. А. Михайлов
всегда уже опирающегося на определенные принципы, поскольку
речь идет о сфере, которая обусловливает само существование этих
принципов.
С тем чтобы избежать противоречащего духу философии
произвольного постулирования исходных позиций, претендующих на
обнаружение абсолютного беспредпосылочного начала, Хайдеггер
акцентирует внимание на принципиальной предпосылочности всякой
философии, которая не может себе позволить игнорирование
наполненных многообразием имплицитного смысла оснований. Эти
основания онтологичны по своей природе, они обусловлены
фактическим состоянием унаследованных нами жизненных обстоятельств,
заданы нашему существованию в такой степени, что любые
когнитивные усилия, направленные на очищение этого опыта,
представляют угрозу для эвристически самого существенного в философском
знании. Вместе с тем философия не может выступать лишь в
качестве модифицированного варианта «рефлексии над нерефлексируе-
мыми основаниями». Требуется принципиально иной язык,
необремененный своей производностью от анализа предметного сущего
и в то же время позволяющий описать условия возможности
обращения к проблеме бытия.
Ключевым исходным понятием такого рода анализа является
категория Dasein. Было бы опрометчивым усматривать в обращении
к этой категории очередную модификацию традиционных
философских конструкций: «cogito», «субъект»,
«трансцендентальноесознание», «Я» и т. п. Не в меньшей мере дезориентирующими являются
также попытки представить содержащийся в «Бытии и времени»
анализ в качестве очередной вариации на тему философской
антропологии. Сам Хайдеггер неоднократно выступает с критикой самой
идеи философской антропологии, рассматривая анализ Dasein в
качестве предварительного и подготовительного по отношению к
главной проблеме — проблеме экспликации смысла бытия.
Однако любые попытки прояснения того смысла, который
имплицирован этим понятием в контексте хайдеггеровской
философии, наталкиваются на неизбежные, практически непреодолимые
трудности, связанные с неадекватностью средств артикуляции
в другом языке. Проблема, отнюдь не новая для перевода любого
философского или поэтического текста, оказывается сопряженной
с особыми трудностями в случае хайдеггеровской философии с ее
необыкновенной чувствительностью к оттенкам смыслов, седименти-
рованных в языке предшествующей философской традиции. Такого
рода трудность подстерегает нас уже в процессе усилий по
адекватному выражению содержания ключевого для «Бытия и времени»
понятия Dasein.
«Бытие и время»: 80 лет спустя
843
Как известно, немецкий термин Dasein, являющийся
эквивалентом латинского existentia, преимущественно используется для
обозначения существования человека. В «Критике чистого
разума» Кант прибегает к использованию этого термина, когда он
говорит о невозможности онтологического доказательства бытия
Бога. Сохраняя определенную преемственность содержания, Хай-
деггер использует этот термин для формального, необремененного
какими-либо содержательными сущностными характеристиками
способа обозначения специфики человеческого существования.
В противовес существующим подходам к определению человека,
претендующим на абсолютную универсальность и исходящим из
заведомого представления о его сущностной природе, Хайдеггер
задается целью предельно непредвзятого феноменологического
описания способа бытия того сущего, которым являемся мы сами, в его
конкретном и фактическом состоянии. Семантические особенности
немецкого Dasein позволяют акцентировать единство конкретности
пространственной дислокации человеческого существования (da),
а также его временную длительность и динамику (sein). Было бы,
однако, опрометчивым пытаться перевести немецкий субстантив
Dasein на русский язык посредством эквивалентов, производных
от понятия «бытие» — «здесь-бытие», «вот-бытие», —
поскольку это разительно противоречит настойчиво проводимой в «Бытии
и времени» и крайне важной для Хайдеггера идее онтико-онтоло-
гического различия — принципиального различения между сущим
и бытием. В этом плане специфика бытия Dasein как единственного
сущего, в котором артикулирует себя бытие (Sein), не должна тем
не менее затемнять тот основополагающий факт, что Dasein есть
прежде всего сущее (Seiende).
Не менее дезориентирующим является и предложенный В. Биби-
хиным перевод Dasein посредством термина «присутствие».
Отдавая дань уважения заслуге покойного автора, представившего
русскоязычный перевод «Бытия и времени», следует, однако, отметить,
что и в данном случае утрачивается какое-либо указание на то, что,
говоря о Dasein, мы подразумеваем сущее. Именно этот тезис,
акцентирующий онтическую природу человеческого существования,
является определяющим для программы фундаментальной
онтологии, которая берет свое начало в максимально непредвзятом
прояснении способа бытия того сущего, которым являемся мы сами и для
обозначения которого используется категория Dasein. Термин
«присутствие» также скорее искажает, чем проясняет существеннейшую
нефиксированность, несубстанциональную природу Dasein, его
открытость и незавершенность по отношению к многообразию
способов собственной реализации. Как справедливо отмечает Г. Фигаль,
844
А. А. Михайлов
Dasein следует, прежде всего, интерпретировать в качестве
инфинитива*. Это означает, например, если прибегнуть к аналогии с
жизнью, что последняя адекватно артикулируется лишь в том случае,
если сохраняется ее собственная предельная интенсивность и
внутренняя динамика: она проживается.
Однако главная трудность в понимании радикальности
намерений Хайдеггера заключается в том, что традиционные способы
анализа столь специфически обозначаемой предметности, в качестве
которой выступает Dasein, оказываются абсолютно
непригодными. Юго-западная школа неокантианства, при всем внимании к
осмыслению специфики наук о духе, по его мнению, также не
сумела избежать основного порока философии Канта, заключающегося
в использовании формально-логических категорий к конкретным
пространственно-временным объектам. В свою очередь, и
феноменология Гуссерля с ее учением о «чистом сознании» нацеливает
философию на анализ идеальной сферы сущностей и
абстрагируется от конкретных характеристик как самого сознания,
изолированного от своей вовлеченности в мир, так и предметов эмпирического
познания. Редукция сферы ее исследования к имманентным
сознанию данностям, подвергнутым в дополнение к этому очищению
в результате осуществления «эйдетической редукции»,
демонстрирует приверженность Гуссерля принципам картезианства с его
сознательным устранением данностей «внешнего мира». В
результате стерильности ориентированной на научное знание когнитивной
установки заключению в скобки подлежит самое существенное —
реальное практическое и историческое бытие субъекта в мире.
Противопоставляя свой подход к анализу Dasein гуссерлевской
интерпретации сознания, которая воспринимается в качестве
неадекватной провозглашенному самим Гуссерлем девизу „zu den
Sachen selbst", Хайдеггер обвиняет феноменологию в том, что она
оказывается в конечном счете нефеноменологичной, поскольку
допускает нетематизируемую имплицитную предпосылку —
непроясненный способ бытия sum. Свою же собственную задачу он
видит в том, чтобы в результате радикализации феноменологической
программы представить конкретную действительность и полноту
человеческой жизни в том ее состоянии, которое предшествует
доминирующей в философской традиции теоретической установке.
Разумеется, он осознаёт возникающую при этом уязвимость
собственной позиции, оказывающейся в опасной близости к
антропологизму и психологизму, и стремится дистанцироваться от привычных
попыток определения человека посредством указания на отчетливо
* См.: Figal G. Martin Heidegger zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag
GmbH, 2003. S. 37.
«Бытие и время»: 80 лет спустя
845
обозначенный методологический подход философского
исследования, который он называет formale Anzeige. Этот подход сопряжен
с существенным обременением задач феноменологического
анализа, обреченного на постоянное балансирование между отказом
от использования заведомо заданной терминологии и
необходимостью обнаружения понятийных средств, соответствующих природе
феноменов.
Выход за рамки этой непростой дилеммы противопоставления
абстрактного и конкретного, идеального и реального, формального
и эмпирического Хайдеггер реализует в результате обращения к той
онтологической изначальности Dasein, которая не позволяет себя
артикулировать посредством традиционной, обусловленной этой
дихотомией, понятийности, поскольку само Dasein выступает в
качестве условия любых возможных, в том числе и выражаемых в виде
традиционных понятий, форм манифестации себя в мире.
Пресловутая хайдеггеровская терминология, затрудняющая постижение
интенций мыслителя не только за пределами немецкого языкового
пространства, но порой вызывающая недоумение и у
соотечественников, оказывается в этих обстоятельствах тем неизбежным
подспорьем в специфической «рефлексии над нерефлексируемыми
основаниями», без которой невозможна предпринимаемая Хайдеггером
радикализация феноменологической программы. Необходимо,
однако, сознавать, что в ее основе лежит отнюдь не претензия на
оригинальность, но поиски таких способов выражения опыта, в основе
которых лежит принципиальный отказ от претензии на обладание
универсальным и вневременным знанием.
Именно в этом смысле Dasein в своих существенных
характеристиках противостоит cogito, субъекту, трансцендентальному
сознанию и т. п. Временной характер Dasein, его конечность есть то,
что обусловливает саму возможность своеобразия человеческого
существования, в том числе и способность обращения к вопросам,
конституирующим природу философского знания. Столь часто
приписываемое Хайдеггеру акцентирование трагизма человеческого
существования, по аналогии с мотивами, доминирующими в
экзистенциализме, обусловлено тем местом, которое в «Бытии и
времени» отводится феномену смерти. Для Хайдеггера, однако,
интерпретация Dasein как «бытия-к-смерти» подчинена решению другой
задачи: обозначению условий возможности экспликации основной
философской проблемы — проблемы смысла бытия.
Поскольку Dasein в силу своей заброшенности (Geworfenheit)
в мир оказывается неизбежным образом в плену навязанного этим
миром данностей и жизненного ритма, по отношению к которым оно
не может быть суверенным и автономным, осознание смертности яв-
846
А. А. Михайлов
ляется потенциальной возможностью выбивания нас из привычной
колеи погруженности в контекст самоочевидностей повседневности
и растворения в ритме ежедневных забот. Неизбежность смерти
нашего существования есть не просто подлежащий теоретическому
осмыслению тезис, но та неумолимая перспектива, которая
конституирует условия онтологического беспокойства (Beunruhigung),
являющегося исходной почвой артикуляции проблемы смысла.
Таким образом, предварительным условием возобновленного
Хайдеггером обращения к проблеме смысла бытия является
анализ Dasein как такого сущего, в котором это обращение является
возможным. Иными словами, философское вопрошание указанной
проблемы неизбежно предполагает не произвольность
постулирования абстрагирующейся от фактической жизни исходной беспредпо-
сы л очной позиции, но проблематизацию состояния самого
вопрошающего. Выявляемый таким образом опыт предшествует тому,
что традиционно превалировало в поле доминирующих интересов
философского исследования: он дотеоретичен по своему
характеру и имманентно присущ Dasein в качестве онтологической
определенности, не выражаемой посредством понятий, природа которых
коренится как раз в отвлечении от индивидуальности конкретного.
Именно поэтому феноменологическое описание дополняется
герменевтической интерпретацией уже всегда имеющего место
«онтологического понимания».
Для иллюстрации своего замысла Хайдеггер опять-таки
обращается к наследию Аристотеля. На этот раз речь идет о работе «Нико-
махова этика». Хайдеггер привлекает внимание к аристотелевскому
различению между «практическим благоразумием и
рассудительностью» (phronesis) и относящейся к сфере теории «мудростью»
(sophia). Особенностью phronesis является то, что в данном случае
мы имеем дело не с рефлексией по поводу нашего поведения и
деятельности, иными словами, нес обособленным знанием, но
практической реализацией себя в мире. Аристотель, однако, наделяет
теорию более высоким статусом, поскольку, по его мнению, phronesis
никогда не предстает в завершенных и законченных формах. В
дальнейшем эта установка обособления и отрыва теории от практической
реализации человеческой жизни способствует утрате философией
способности быть связанной с практической реализацией
человеческого бытия. Философия игнорирует самое существенное —
глубинные основания существования человека в мире.
Выход из этой опасной для философии ситуации открывается
в рамках реализации феноменологической программы. Гуссерль
ориентирует философское исследование на обращение к той
изначальной сфере, в которой происходит конституирование сущего.
«Бытие и время»: 80 лет спустя
847
Однако в процессе радикализации феноменологической
установки, лейтмотивом которой является принцип „zu den Sachen selbst",
Хайдеггер задается вопросом о способе бытия трансцендентального
ego, осуществляющего эту конститутивную деятельность. При всем
признании заслуг Гуссерля, сознающего невозможность восприятия
бытия сознания в парадигме вещного или субстанциального, этот
способ бытия, по Хайдеггеру, все же остается не до конца
прояснённым и, более того, оказывается «заслоненным» в результате
доминирующих в философии определений человеческого существования.
Это означает, что такого рода определения остаются производными
от смутного понимания проблемы бытия в целом, обращение к
которой начиная с Аристотеля предопределяет специфику природы
философии. Но тем самым философия оказывается неадекватной
по отношению к самой себе. Именно поэтому вопрос о способе бытия
сущего, в котором конституируется многообразие жизненных
смыслов, является, по мнению Хайдеггера, исходным для
предпринимаемого в «Бытии и времени» анализа, позволяющего в дальнейшем
обратиться к ключевой проблеме — проблеме смысла бытия.
В литературе, посвященной интерпретации «Бытия и времени»,
неоднократно обращалось внимание на то, что Хайдеггер, вслед
за Кантом, сохраняет приверженность идее
трансцендентализма. Однако трансцендентальный исходный пункт для Хайдеггера
не есть cogito Декарта или «чистое сознание» Гуссерля.
Фактичность пребывания в мире Dasein такова, что мир утрачивает свою
традиционную ипостась противопоставленности. Dasein не есть
лишенный связей с миром субъект, которому необходимо проложить
дорогу к «миру». Мир изначально присутствует в качестве
структурирующего элемента Dasein, которое настолько неразрывно и
глубинно связано с миром, что его эквивалентным определением
является In-der-Welt-sein. «Захваченность» Dasein всем тем, в чем оно
неизбежно пребывает, его погруженность в бесконечное
многообразие жизненных реакций и есть то принципиально иное понимание
sum, которое в угоду различных вариаций философской традиции
никогда не получало, по мнению Хайдеггера, адекватного
осмысления в результате преобладания абстрагирующейся от реальной
жизни «теоретической установки», предопределяющей специфический
способ знания, производный от анализа предметного сущего. В
соответствии с этим способом познание с самого начала предопределено
фиксированным представлением о вещах — тем, что они обладают
определенным бытием. Это представление настолько предшествует
всякому осуществляемому в сфере философской теории
доказательству и прояснению, что практически ничем не отличается от веры,
присущей дофилософскому, так называемому обыденному, здраво-
848
А. А. Михайлов
му смыслу. В результате с момента возникновения философии в
традиции греческой культуры господствует радикальная уверенность
в том, что бытие характеризуется определенным состоянием,
которому присущи атрибуты вечности и неизменности.
Многообразие аспектов осуществляемого Хайдеггером анализа
способа бытия Dasein с трудом поддается даже крайне
схематичному обозначению. Еще менее уместными были бы попытки
осуществить это в рамках небольшой по объему статьи. В данном случае
хотелось бы ограничиться лишь указанием на столь мощное
звучание раннехристианских мотивов в «Бытии и времени», что хайдег-
геровская интерпретация герменевтической феноменологии может
в известной мере рассматриваться в качестве варианта
секуляризированного религиозного мышления, сопутствующего духовным
поискам Хайдеггера на протяжении всей его жизни*. Вместе с тем
религиозные импульсы, пропитывающие содержание произведения,
ни в коей мере не должны быть уподоблены аппликации принципов
религиозной догматики применительно к философии. Напротив,
вслед за Лютером и Кьеркегором в интенсивности религиозного
переживания Хайдеггера привлекает, прежде всего, возможность
обнаружить и в самой философии потенцию для духовного
перерождения и преобразования, которая противостоит абстрактному
интеллектуализму философской традиции.
Известно, что уже на раннем этапе своего развития Хайдеггер
проявляет особый интерес к «раннему христианству» (Urchristentum).
По его мнению, оно делает возможным доступ к
«основополагающему опыту», который необходим для переосмысления философии
как способа выражения жизни. Важно при этом отметить, что для
Хайдеггера раннее христианство не есть нечто принадлежащее
отдаленному прошлому, но скорее в возрожденной форме выступает
парадигмой подлинной философии. В письме к Э. Блохман Хайдеггер,
в частности, пишет, что «изначальный религиозный опыт» (religi
ses Urerlebnis) должен являться основой любой теории**. «Очевидное
проявление (этой традиции. — А. М.) — тенденция фактической
жизни к соблазну обустроиться (Sichleichtmachen). В этой присущей
самой жизни фундаментальной особенности ее бытия, а не в
смысле ее некоторой случайной характеристики, жизнь есть (ist) нечто
Как известно, позднее Хайдеггер признает: «Без этого теологического
происхождения я никогда не вступил бы на путь мышления » ; см. : Heidegger M.
Aus einem Gespräch von der Sprache. Zwischen einem Japaner und einem
Fragenden / Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen: Neske, 1971.
S.96.
** Martin Heidegger und Elisabeth Blochmann, Briefwechsel, 1918-1969 / Hg.
von Joachim W. Storck. Marbach am Neckar: Deutsche Schillergesellschaft,
1989. S. 10.
«Бытие и время»: 80 лет спустя
849
трудное. Если суть жизни и заключается в трудности и сложности,
то подлинно соответствующий способ обращения к ней и
сохранения ее как таковой может заключаться только в сохранении этой
трудности. Философское исследование, если оно не намеревается
принципиально исказить свой предмет, должно придерживаться
этого обязательства. Любые попытки облегчения, соблазнительные
приспособления к потребностям дня, любые метафизические
утешения, являющиеся реакцией на проблемы, заимствованные из чужих
текстов, демонстрируют, в своей глубинности, отказ от надежды
на то, что когда-нибудь будет обеспечен доступ к предмету
философии, и тем более возможность сохранить его»*.
Хайдеггера привлекает в раннехристианском мышлении
прежде всего отказ от достоверного знания, полагающегося на
использование принципов и понятийно-категориальных средств. В своих
лекциях по феноменологии религии, предваряющих выход в свет
«Бытия и времени», Хайдеггер пишет: «Для христианской жизни
не существует состояния уверенности (Sicherheit); постоянная
неуверенность есть нечто характерное для основных составляющих
фактической жизни. Чтобы это отчетливо увидеть, следует осмыслить
свою жизнь и процесс ее осуществления»**. По мнению Хайдеггера,
это имеет прямое отношение к философии: «Эта тенденция —
искать духовную опору (Halt) — есть свидетельство принципиального
непонимания философского исследования. Нам следует научиться
отказываться от этого притязания на обладание опорой как в
отношении науки, так и тем более в отношении философского
исследования»***.
Для Хайдеггера раннее христианство — уникальный этап в
интеллектуальной истории западной цивилизации, в рамках
которого мы сталкиваемся с иным «контекстом выражения» жизнью себя
самой, в отличие от обыденного ритма погружения и растворения
в сиюминутности обыденных реакций. Однако этот «внутренний
опыт» и «жизненная установка» были в дальнейшем искажены в
результате влияния античной, в особенности аристотелевской,
философии на христианскую догматику и теологию. Разумеется, речь
идет не об альтернативной теории религии, но конкретном
индивидуальном религиозном опыте. В письме Р. Бультману от 31 декабря
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles.
Ausarbeitung für die Marburger und Göttinger Philosophische Fakultät (1922). Hg.
von Günther Neumann. Stuttgart, 2003. S. 10.
** Idem. Einleitung in die Phänomenologie der Religion / Gesamtausgabe. II.
Abteilung: Vorlesungen 1919-1944. Bd. 60: Phänomenologie des religiösen
Lebens. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1995. S. 105.
*** Idem. Platon: Sophistes / Gesamtausgabe. II. Abteilung: Vorlesungen 1919-
1944. Bd. 19. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992. S. 256.
850
А. А. Михайлов
1927 г. Хайдеггер отмечает, что его фундаментальная онтология
берет свое начало в понимании «субъекта» как такого способа
человеческого существования (Dasein), которое является продолжением
традиции Августина, Лютера и Кьеркегора, и именно в этом он
видит философскую значимость наследия этих мыслителей*.
Таким образом, философия Хайдеггера не имеет своей целью
и задачей достижение завершенного целого, построение системы.
Она стремится быть возможностью постоянно возобновляемого во-
прошания, которое неизбежным образом модифицирует и
трансформирует себя в процессе собственной реализации. При этом
философское мышление сохраняет себя как таковое посредством
постоянного удержания в поле своего внимания
конституирующего его собственную природу содержания (Sache) — смысла того, что
мы подразумеваем, когда имеем дело с бытием. Такого рода задача,
по Хайдеггеру, не есть проявление просто присущей философии
теоретической любознательности или традиционно характерного
для нее духа удивления. Подобное понимание природы философии
предопределено драматизмом нашего времени, все более
утрачивающего способность освободить себя от состояния непроясненности,
производной от погружения и растворения в поглощающий нас
поток обыденности и машинальности жизненных реакций. Нам
необходимо отдавать себе отчет в том, что слишком многое в хайдегге-
ровском мышлении останется неадекватно истолкованным, если мы
позволим себе игнорировать этот напряженный, экзистенциальный
пафос философствования, столь роднящий мыслителя с такими
созвучными ему по духу предшественниками, как Кьеркегор и Ницше.
Именно поэтому, как отмечает В. Маркс, идеи Хайдеггера, крайне
трудного для понимания мыслителя, с таким трудом поддаются
воспроизведению, которое неизбежно должно быть результатом
многолетних интерпретаций**.
Таким образом, те, для кого характерно традиционное и
укоренившееся в философии ожидание, что и в этот раз критика послужит
импульсом, побуждающим к развитию иной, альтернативной, более
«правильной» точки зрения или теории, будут разочарованы.
Содержание «Бытия и времени», несмотря на внешне «системоподоб-
ный» характер, в конечном счете подвергает сомнению саму идею
традиционной формы артикуляции философии. Основная интенция
Хайдеггера заключается в том, чтобы показать невозможность
продолжения философии в том виде, в котором она существует на
протяжении более чем 2500-летней истории. В результате фундамен-
* Подробнее об этом см. : Kiesel Th. The Genesis of Heidegger's Being and Time.
Berkeley: University of California Press, 1993. P. 452.
** Marx W. Das Denken und seine Sache... S. 11.
«Бытие и время»: 80 лет спустя
851
тальная онтология выступает в качестве предварительного этапа,
призванного обозначить принципиально иные основания того, что
в дальнейшем, в заведомо нефиксированных конфигурациях
осмысления проблемы бытия, может выступать в качестве философии,
адекватной „der Sache des Denkens". В дальнейшем, в том числе
и на своем собственном примере, Хайдеггер демонстрирует
приверженность принципам радикального мышления, в качестве
которого реализует себя философия, посредством признания драматизма
динамики этого мышления, его постоянного пребывания в пути
(unterwegs). К тому же, как уже отмечалось, этот процесс
происходит далеко не исключительно в сфере «чистой» теории. Обращение
к проблеме бытия, как отмечает Х.-Г. Гадам ер, реализуется у Хай-
деггера в процессе «мучительных инквизиционных пыток,
осуществляемых по отношению к самому себе»*. Само собой разумеется, тем
коллегам по «философскому цеху», которым более близка
«профессорская философия профессоров философии» (Шопенгауэр) и
которые привыкли к традиционным формам освоения философской
проблематики, создающим иллюзию «решения» философских проблем,
крайне трудно признать правомерность вызовов, обозначенных
Хайдеггером. Энергия противодействия этим вызовам, попытки
разоблачения их несостоятельности, далеко не всегда
сопровождаемые готовностью и способностью осмыслить даже незначительную
часть гигантского, содержащего более 120 томов наследия Хайдег-
гера, умножаются, прежде всего, желанием сохранить веру в смысл
своей собственной деятельности.
Наша задача, однако, — отвлечься от этих стереотипных
реакций, сколь бы соблазнительными они ни казались. В этом случае
многообразие интеллектуальных импульсов, предопределивших
влияние работы «Бытие и время» на мировую культуру, может быть
подытожено посредством обозначения специфических особенностей
того мышления, которое, среди всего прочего, претендует на то,
чтобы быть:
— мышлением, генерированным экзистенциальным
беспокойством (Beunruhigung), побуждающим к преодолению постоянно
нависающей над нами угрозы растворения в сиюминутности
повседневных жизненных реакций;
— мышлением, исходным основанием которого выступает
мужество признания своей собственной беспочвенности — отсутствия
каких-либо абсолютных и беспред посылочных оснований,
постулируемых в качестве исходного пункта и игнорирующих наше фак-
* Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. 3. Neuere Philosophie I: Hegel. Husserl.
Heidegger. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1987. S. 193.
852
А. А. Михайлов
тическое пребывание в никогда не поддающейся исчерпывающему
выражению полноте конкретной жизни;
— мышлением, сознающим конечность и ограниченность своих
собственных притязаний, обусловленных временным характером
нашего бытия в мире;
— мышлением, способным к постоянному умножению новых
вопросов и не поддающемуся соблазну довольствоваться
окончательными, фиксированными, в том числе и в рамках системного
философского знания, ответами;
— мышлением, реализующим себя в действительности в
качестве мышления, поскольку оно оказывается способным выразить
себя в соответствующем языке, отвергающем существование
заведомо готовых и пригодных к употреблению форм;
— мышлением, воспринимающим импульсы предшествующей
традиции в качестве вызова, побуждающего к собственному
личностному самоопределению и духовной трансформации в контексте
нашего ответа на вызовы жизни;
— мышлением, которое утрачивает возможность быть
соотнесенным с философским, если оно довольствуется воспроизведением
существующих в историко-философской традиции взглядов и точек
зрения, в сколь бы впечатляющих интеллектуальных формах это
воспроизведение ни реализовывалось;
— мышлением, лейтмотивом которого является постоянный
поиск, пребывание в пути (unterwegs), при отчетливом сомнении в
существовании методологически обеспеченных и проторенных путей;
— мышлением, открытым для преодоления фиксированности
своего содержания, обусловленного специфической традицией
европейской культуры, и стремящимся наладить диалог с иными
смысловыми мирами, в ходе которого подвергается сомнению
«стерильность» привычного философского опыта, без правомерных
оснований противопоставляемого способу обнаружения мира
посредством произведения искусства и религиозного вопрошания;
— мышлением, наделенным необходимой энергией, способной
провоцировать воспринимающее сознание к инициированию в нем
импульсов пробуждения к самостоятельной жизни.
e^
А. Г. ЧЕРНЯКОВ
Хайдеггер и «русские вопросы»
Другим одно, а нам, желторотым,
другое, нам прежде всего надо предвечные
вопросы разрешить, вот наша забота.
Достоевский
Братья Карамазовы
Я не ставлю сейчас своей задачей достаточно точно описать
феномен «русских вопросов», полагаясь на опыт слушателей, но
некоторые формальные характеристики, пожалуй, указать несложно.
Такие вопросы никогда не разрешаются и, как это ни удивительно,
не устаревают; они возвращаются вновь и вновь, будоража
культурное пространство. Над ними размышляют, их, я бы сказал,
«преследуют», с чрезвычайной страстностью и чрезвычайной
экзистенциальной серьезностью. Многое приносят в жертву этому
преследованию; по мерке русских вопросов меряют друзей и врагов.
Чаще всего пути преследования теряются в непроходимой чаще,
подобно «лесным тропинкам»*, что, впрочем, никогда не
останавливает настоящего преследователя.
Один из таких вопросов вновь с необычайной живостью стал
обсуждаться в русском культурном пространстве после выхода в свет
в 1911г. первого номера русско-немецкого философского
журнала (или, как было принято говорить тогда, «альманаха») «Логос»,
в который, в частности, была включена знаменитая статья
Гуссерля «Философия как строгая наука». Я приведу несколько цитат
из отклика на эту публикацию Владимира Францевича Эрна. Его
статья называлась «Нечто о Логосе, русской философии и
научности» (в этом заглавии, собственно, и содержится предварительная
* «Im Holz sind Wege, die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören.
Sie heißen Holzwege» — текст, предваряющий сборник работ Хайдеггера
«Holzwege».
854
А. Г. Черняков
формулировка проблемы) и, несомненно, представляла собой некую
крайность. Но «преследование» русских вопросов никогда без
крайностей не обходится.
Итак, Эрн обнаруживает подделку: «никакого Гераклита,
никакого Логоса, ни одной пылинки священного Пантеона», на
античной маске вскоре проступает знакомое чМаае in Germany*. В чем
суть подделки? «Альманах под названием "Логос" появляется в
центре России, живущей религией Слова, религией Логоса. <...> Если
составители «Логоса» могли и должны были не знать мудрость
Слова в высшем аспекте — в энергии чистого подвига (имеется в виду —
в аспекте аскетическом и мистическом. — А.Ч.)... если они имели
условное право игнорировать эту мудрость как несуществующую, —
то они обязаны были знать о философии Логоса. <...> Христианская
философия Логоса — вот что выяснено действительно мало. Но
самый факт дальнейшего и богатого развития античного зерна
Логоса на христианской почве настолько известен, что стал трюизмом.
<...> Что общего между "Логосом" Музагета и Логосом, имеющим
свою определенную, более чем двухтысячелетнюю историю в
философском сознании человечества? И если ничего общего нет,
допустимо ли хотя бы с точки зрения литературных приличий
игнорировать эту более чем двухтысячелетнюю историю тем, кто считает себя
преимущественными носителями философской культуры и
сторонниками не какой-нибудь, а строго научной философии?»*
Давайте попытаемся, сквозь туман риторики, который всегда
клубится на лесных тропинках русских вопросов, увидеть проблему,
которую с большим или меньшим успехом артикулирует Эрн в
своей работе. Одно из требований «научной философии» в понимании
Гуссерля — требование «беспредпосылочности». Философия
должна искать абсолютного начала. Но откуда берется das Sollen самого
этого требования, каковы основания самого по себе императива
научности, каковы механизмы его действия? Не почерпнута ли сама
форма «научности» из некоторой другой традиции, которая, как
и всякая традиция, глядя на вещи изнутри своего достояния, может
принять всегдашнюю неограниченность поля зрения, за
бесконечность и абсолютность? Эрну не без причин кажется, что греческое
Ахэуос на обложке нового журнала представляет собой обратный
перевод на греческий латинского ratio. Еще одна (на этот раз последняя)
цитата из статьи Эрна: «Ratio есть результат схематического
отвлечения. Рассудок Ивана, Якова и Петра берется в среднем разрезе.
Нивелируется то, что всем присуще, чем рассуждают все и всегда,
и, тщательно избегая индивидуальных отклонений, мы получаем
* Эрн В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Сочинения.
М.: Правда, 1991. С. 74-76.
Хайдеггер и «русские вопросы»
855
безличную, отвлеченную, мертвую схему суждения, называемую
ratio... К познанию Логоса приходят совершенно иным путем.
Потенциально присущий всем, он актуален далеко не у всех и далеко
не всегда. Чтобы 6vvà|iei öv Логоса перешло в évepyeiçt öv,
необходима та интенсификация сознания, на которую способны лишь гений
и вдохновение»*. Эрн скажет после, что ratio тем самым принцип
«безличный», Логос же — личный или личностный.
К несчастью, как это часто случается в контексте русских
вопросов, полемика остается на поверхности вещей и многое зависит
от выбора слов и тона. Можно назвать «безличной и отвлеченной
схемой суждения» стремление к универсальности и общезначимости.
К тому же не вполне понятно, как сохранить в теле культуры, как
«традировать» сингулярность и однократность гениальности или
святости, о которой идет речь у Эрна, как сохранить Xxyyoç évepyeiçt öv
в рамках контролируемого дискурса, который стремится стать
универсально воспроизводимым и поэтому сторонится однократности
и сингулярности поэтического события. (Такое поэтическое
событие постоянно пытается создать или имитировать Хайдеггер в своих
поздних работах.)
На рубеже 20-х гг. Мартин Хайдеггер, решивший оставить
карьеру богослова и посвятить себя философии (вероятно, стоит
сказать — феноменологии)у тоже пытается осмыслить свое отношение
к богословской традиции. Он, впрочем, понимает, что отношение
к традиции, жизнь в традиции, зависимость и/или свобода от
традиции — философская проблема, для решения которой мало уверений
в верности, мало страстной элоквенции. Здесь необходимы
определенные философские средства, которые Хайдеггер и пытается
создать. Возможность переопределения своего отношения к традиции,
пересмотр формы своей верности традиции, переопределение
своего прошлого, то есть, собственно, свое переопределение — не просто
осознание структуры герменевтической ситуации и последующие
упражнения в герменевтике. Такая возможность представляет
собой способ бытия того особого сущего, которое «обладает историей»,
а это значит — проживает собственную историю в том историческом
месте, в котором оно уже заранее оказалось. Этот способ бытия-в,
внутри особой ситуации, о которой никоим образом нельзя сказать,
что мы избираем ее свободно (по-русски мы сказали бы — этот удел)
Хайдеггер называет в начале 20-х «фактичностью жизни»**.
Философствование, по Хайдеггеру, всегда помещено в герменевтическую
* Там же. С. 78.
** Я опираюсь на опубликованную недавно рукопись Хайдеггера 1922 г.:
Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles.
Ausarbeitung für die Marburger und die Göttingen Philosophische Fakultät (1922).
856
А. Г. Черняков
ситуацию, что, в частности, означает, что оно неизбежно тем или
иным способом «усваивает и присваивает» философское прошлое
и тем самым его понимающе повторяет. Но понимание всегда
предполагает определенный способ видения (Blickstand), он задает «то,
откуда» осуществляет себя понимающее истолкование, то есть «тот
или иной способ существования определенной жизненной ситуаци-
и»\ Это означает, по-видимому, что вопрос о возможности или
невозможность того, что Гуссерль называет Voraussetzungslosigkeit,
возможности абсолютного начала в философии должен решаться
в рамках исследования фактичности жизни. Это вопрос о том,
есть ли в ней некая избегающая исторической контекстуальности
«неподвижная точка опоры».
В статье «Философия как строгая наука» Гуссерль достаточно
резко высказывается об «историзме» Дильтея, цитируя то место
из его «сочинения о типах мировоззрения»**, где Дильтей говорит
об анархии философских систем (то есть отсутствии единого
начала) и добавляет: «Но гораздо глубже, чем скептические
умозаключения, основанные на противоречивости людских мнений,
проникает сомнение (в возможности единого абсолютного начала
философии. — А.Ч.)9 порожденное продолжающимся развитием
исторических наук». Так говорит Дильтей. Но Гуссерль возражает:
что должен был бы сказать историк такого, что поколебало бы веру
философа в идею истинной философии как значимой философской
науки? «Исторические основания (покоящиеся на исторических
фактах. — А.Ч.) могут содержать в себе лишь исторические
следствия. Пытаться на основании исторических фактов обосновывать
или отвергать идеи — бессмыслица... » *** Итак, Гуссерль вслед за
Платоном называет эту твердую почву не- или вне-исторического бытия
«идея». И конечно, мы можем спросить, не есть ли это допущение
само по себе некая предпосылка, которая «сама собой разумеется»
только в силу забвения присущей ей некогда новаторской
новизны. Собственно, дилемма такова: либо мы a priori допускаем
некое «предвечное», вне-историчное бытие эйдетических предметов
(по крайней мере одного такого предмета — «идеи философии»),
либо мы само философствование объявляем стороной или аспектом
Stuttgart: Philip Reclam jun., 2002. Хочу поблагодарить В. И. Молчанова,
в свое время обратившего мое внимание на этот текст.
* Ibid. S. 5, 7 et passim.
** См.: Сборник научных трудов под общим заголовком Weltanschauung und
Religion in Darstellungen von W. Dilthey, B. Groethuyen, G. Misch u. a.
Berlin, 1911.
*** Husserl E. Philosophie als strenge Wissenschaft // Husserl E. Gesammelte
Werke. Bd. 25: Aufsätze und Vorträge (1911-1921). Hrsg. Th. Nenon, H. R.
Sepp. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1987. S. 45.
Хайдеггер и «русские вопросы»
857
фактической жизни. Именно эту последнюю альтернативу избирает
Хайдеггер: «Философское исследование само... образует
определенное Как фактической жизни и как таковое в своем осуществлении
в самом себе выявляет бытие жизни, а не обращается к нему [как
своему предмету] задним числом»*.
Как кажется, первая альтернатива представляет собой
всего лишь некое предположение (Voraussetzung), которое не может
иметь никакого философского обоснования, поскольку оно
необходимо нам, чтобы начать философствовать определенным образом.
Во втором случае исконный предмет философии возникает с
«необходимостью», сам себя дает: «Предмет философского
исследования — человеческое Dasein, о котором спрашивают в отношении его
бытия. Это основное направление философского вопрошания вовсе
не приставлено или прикреплено к предмету вопроса —
фактической жизни — некоторым внешним образом: его следует понимать
как эксплицитное схватывание некоей глубинной подвижности
(Grundbewegtheit) самой фактической жизни, каковая есть (бы-
тийствует) таким способом, что в конкретном проявлении
(вызревании — Zeitigung) своего бытия она этим своим бытием озабочена...»**
Я хочу обратить внимание на термин Bewegtheit, Grundbewegtheit,
который в процитированном отрывке звучит достаточно
неопределенно, но впоследствии, я надеюсь, «выстрелит» как чеховское
висящее на стене ружье.
Мы помним, что для Эрна ratio — усредненный и безличный
принцип, не позволяющий ухватить главное — сингулярность
гениальности и святости. В цитируемой рукописи Хайдеггера есть такая
приписка на полях: «"Всеобщность", "общезначимость" — это
логика господства "безличного" (Herrschaft des man) в философии»***.
Но вернемся к русским вопросам. В XX в. — сначала в России,
а позже в эмиграции — русская философия была, не побоюсь
сказать, одержима темой личности. Возникло даже устойчивое
словосочетание, в котором каждое слово представляет интерес, — «тайна
личного бытия», повторяющееся от сочинения к сочинению у самых
разных по духу мыслителей. Причина столь напряженного и при
этом всеми разделяемого интереса достаточно понятна. Русские
философы считали своим — по праву унаследованным — достоянием
традицию греческой патристики. Эта связь, как полагали, и
придавала русской философии ее собственное лицо, а кроме того, она же
диктовала в качестве главного дела мысли онтологию личного
бытия. Но подобные умонастроения следует принимать cum grano
* Heidegger M. Op. cit. S. 13.
** Ibid. S. 10.
*" Ibid. S. 22, Fnt. 43.
858
А. Г. Черняков
salis. Далеко не все полагали, подобно Эрну, что недостает только
особой интенсификации сознания, чтобы усмотреть искомые
ответы, которые уже найдены и хранятся где-то в тайниках традиции.
Один из самых значительных русских православных богословов
XX в., Владимир Лосский, в статье «Богословское понятие
человеческой личности» замечает, что задача состоит вовсе не в том,
чтобы «отыскать» в святоотеческих писаниях собственно философию
человеческой личности: «Я... должен признаться, что до сих пор
не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы
назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда как
учение о Лицах или Ипостасях Божественных изложено
чрезвычайно четко. Тем не менее христианская антропология существует... как
в Византии, так и на Западе, и... это учение о человеке относится
к его личности. Да и не могло бы оно быть иным для богословской
мысли, обоснованной на откровении Бога живого и личного,
создавшего человека "по своему образу и подобию"»*.
Мы видим, что словосочетание «тайна личного бытия»
применяется и к человеку, и к Богу. А это означает, в свою очередь, что язык
искомой онтологии личности следует черпать в той системе
онтологических понятий, которые складывались в тринитарных и христо-
логических спорах IV-V вв. По крайней мере, так понимали свою
задачу русские философствующие богословы или богословству-
ющие философы. Лосский в той же статье формулирует еще одну
принципиально важную задачу: мы не можем принять в качестве
тождественных по смыслу выражения «человеческая личность»
и «человеческий индивидуум», а поэтому должны «обнаружить
такое... понимание [лица или ипостаси], такое понятие, которое уже
не может быть тождественным понятию "индивидуум" и тем не
менее не зафиксировано каким-либо термином как само собой
разумеющееся, но в большинстве случаев служит невыраженным
обоснованием, скрытым во всех богословских или аскетических учениях,
относящихся к человеку». Оставим сейчас в стороне вопрос о том,
почему, в связи с какими предпосылками и задачами, Blickstände
и Blickbahnen, возникла нужда в различении понятий
«человеческая личность» и «человеческий индивидуум». Заметим только, что
это различение подразумевает отказ от классического определения
Боэция**, воспринятого схоластикой: persona est rationalis naturae
individua substantia, «личность есть индивидуальная субстанция
разумной природы».
Без сомнения, Хайдеггер мог бы стать здесь союзником Лосского.
Конечно, автору «Бытия и времени» важно противопоставить поня-
* Лосский В.Н. По образу и подобию. М., 1995. С. 107.
Liber de persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium.
Хайдеггер и «русские вопросы»
859
тие Dasein понятию субъекта в новоевропейском смысле,
поскольку Dasein в своем онтологическом определении — не мыслящая
субстанция, но понимающая, то есть прежде всего — заботящаяся,
инстанция: на смену картезианскому (да, собственно, и гуссерлиан-
скому) cogito ergo sum приходит euro ergo sum. Но еще важнее для
Хайдеггера объяснить, что Dasein — не субъект в формально-апо-
фантическом смысле, то есть не подлежащее своих наличных
определений и, соответственно, не логический субъект предицируемых
свойств: фактическая жизнь, которая мыслилась как главный
предмет философского исследования еще в 1922 г., — не совокупность
определений «индивидуальной субстанции разумной природы»
и не совокупность интенциональных переживаний
трансцендентального «Я» (das Ich), которого сама процедура грамматического
субстантивирования заставляет мыслить как субстанцию. И дело
здесь не в том, что на смену res cogitans должна прийти некая res
curans, вещь заботящаяся, а в том, чтобы способ существования
положить до существующего (existere, modus existendi — до
всякой res и всякого existens), a сущее осмыслить как сущее
определенного бытия. Действительность заботы, das Sorgen, в которой
выражен «глубинный смысл фактической подвижности жизни
(Lebensbewegtheit)»*, — онтологически первое: забота
конституирует заботящегося. Отсюда важнейший тезис, относящийся к онтиче-
скому фундаменту фундаментальной онтологии, — Dasein:
«"Сущность" этого сущего заключается в его быть. Что-бытие (essentia)
этого сущего, насколько о ней вообще может идти речь, должно
пониматься из его бытия (existentia)»**. Отсюда — и странная на
первый взгляд инверсия: о Dasein говорится как о сущем определенного
бытия («сущее этого бытия»***). В своем коренном онтологическом
определении Сократ больше не индивид, принадлежащий виду
«человек» , а «жизнь Сократа», ßioc, — но не как предмет биологии, а как
предмет биографии. Предикативному суждению «S есть Р» («Сократ
есть живое существо») онтологически предшествует «Я еемь (то есть
живу) так-то и так-то». То, что в онтологии Dasein приходит на
смену сущности в смысле essentia, quidditas, следует понимать исходя
из его (Dasein) бытия или, что здесь — то же самое, жития.
Ставки, таким образом, гораздо выше: речь идет не просто о
критике философии Нового времени, но о пересмотре онтологического
языка и системы основных онтологических понятий в целом. Язык
фундаментальной онтологии, настаивая на бытии (в частности,
на экзистенции как бытии Dasein) в отличие от сущего, стремясь
* Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. S. 14.
** Idem. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001. S. 42.
*** Ibid. S. 41.
860
А. Г. Черняков
с этого бытия начать, хочет подчеркнуть некую глагольность
бытия, обозначить его как * деятельность», но, как я полагаю, не
находит для этого достаточных средств, что, впрочем, признает и сам
Хайдеггер в 30-е гг. Заметим, впрочем, что в «Бытии и времени»
отсутствует все еще остающийся для нас загадочным термин из
рукописи 1922 г., повторяющийся в разных контекстах, — термин
Bewegtheit; Grundbewegtheit — так называется в этом манускрипте
фундаментальная черта фактической жизни, которая и
соответствует, разумеется, тому, что я ad hoc назвал «глагольностью» бытия.
Я полагаю, что язык западного средневекового аристотелизма
(схоластики) при помощи некоего «обходного маневра» справился
с задачей артикуляции существования (existentia в классическом
понимании), ограничившись при этом системой понятий «онтологии
наличного», без какой бы то ни было специальной проработки
указанной его «глагольности». Решение это достаточно хорошо
известно. Сущее существует (existit), если оно обладает привходящими
определениями, акциденциями. Сущность как всеобщее не может
«принять в себя» привходящие определения. Только сущность-в-су-
щем, в индивидууме, составном целом, конституирует субъект,
относительно которого такие привходящие определения могу истинно
предицироваться. Только этот человек, некий человек, имярек,
обладающий своим способом существования (modus existendi), может
обладать привходящими определениями, например может быть или
не быть бледным. У Аквината существование (existentia в
классическом метафизическом понимании) связано с «субъективностью»
в формальном смысле — как способностью под-лежать
привходящим определениям, акциденциям. Фома говорит*, что субстанция
как предельный субъект (то есть единичная сущая вещь, индивидуум)
обладает двумя собственными признаками. Во-первых, она не
«поддерживается» (sustentâtur) в своем бытии ничем иным, но опирается
только на самое себя. В этой связи она называется также subsistentia.
Во-вторых, она сама служит основанием или опорой своих
определений, акциденций и в этом смысле sub-stat (греч. гхр-1отг|оч). Вот
в этом-то значении, согласно истолкованию Фомы, греки и говорят
об ипостаси ({кр-Сотгцл —► wtô-crcaaiç), a латиняне употребляют термин
substantia prima (первая сущность). Индивидуальная субстанция
разумной природы и называется личностью. Так говорит Фома,
воспроизводя определение Боэция. Но в основании способности «быть
субъектом привходящих определений» лежит материя как принцип
индивидуальности, principium singularitatis. Первая субстанция —
это материя, определенная формой, — atomon, individuum.
* De potentia q. IX; a. I, resp.
Хайдеггер и «русские вопросы»
861
Напомним, что Лосский в своем наброске понятия личности,
покоящегося на богословском основании, прежде всего стремится
отличить личность от индивидуума. В этом он хочет опереться на
метафизику восточного христианства.
Хотя греческие отцы тоже говорят об ипостаси как «способе
существования» и связывают способ существования со способностью
быть особым (iôiàÇœ) или обладать «ипостасными идиомами»,
материя как принцип индивидуации с самого начала изымается из
этого контекста. Происходит это по вполне понятным причинам: ведь
сами обсуждаемые понятия складывались в IV в., вокруг
богословских тринитарных споров, то есть вокруг задачи различения в Боге
трех единых по сущности ипостасей. В этом контексте попытка
положить ипостась как метафизическое понятие, могла опираться
только на иное, избегающее понятия материи, осмысление * способа
существования»*, стремящееся схватить существование (wcapÇiç) в его
«глагольности», понять его как
действительность-действенность-деятельность или, говоря по-гречески, энергию, точнее, совокупность
энергий.
Отчасти этот ход имеет свои основания в Аристотелевой
метафизике. У Аристотеля энергия в своем метафизическом значении есть
присутствие, явленность формы. В этом контексте Аристотель
отождествляет понятие энергии и энтелехии — «исполненное™». Форма
может быть явлена только в сущей, а значит — единичной, вещи,
в составном целом, форма «исполняется», только определив
материю. Стало быть, энергийное бытие вещи, ее действительность,
непременно подразумевает явленность формы, наряду с явленностью
(энергийным бытием) привходящих свойств.
Попытаемся исключить материю из этой конструкции, превратив
энергию в ключевое, не сводимое ни к чему иному понятие.
По-видимому, можно сказать так: явленность, действительное
присутствие формы (сущности = природы**) и есть существование вещи
в смысле греческого термина focapÇiç. Действительная явленность
* Фома ясно видит трудности, связанные с применением определения Боэция
(«личность — индивидуальная субстанция разумной природы») к лицам
св. Троицы: «...В Боге нет материи. А ведь принцип индивидуации — это
материя». Преодоление этого затруднения требует достаточно хитроумного
рассуждения (см.: q. IX; а. Ill, ad V). В конечном итоге «рабочим
определением» для Фомы становится не столько формула Боэция, сколько
следующее определение: «persona... signincat quamdam naturam cum quodam modo
existendi» — «личность есть некая природа, обладающая (определенным)
способом существования» (De potentia q. IX; a. Ill, resp.).
'* Во избежание недоразумений следует сказать, что в этой статье мы, следуя
святоотеческой терминологии, употребляем термины «природа» ((ptiaiç)
и «сущность» (oüaia) как синонимичные.
862
А. Г. Черняков
всеобщей природы (явленность в полноте, которую Аристотель
называет второй энтелехией) есть некое онтологическое событие,
которое восточные отцы, стремясь избежать гилеморфической схемы,
выражали следующим образом: чтобы явить себя, чтобы
присутствовать в смысле греческого глагола imàpxeiv, природа должна обрести
ипостасное бытие, должна быть воипостазирована*. Но указанное
онтологическое событие, ипостасное бытие природы или сущности,
влечет за собой некую «особость» (греч. — iSicojxa), особый способ
существования (троттос xmàp^ECoç), при-сутствие не только природных
определений, но и ипостасных особенностей, идиом.
Впрочем, когда отцы говорят об энергии, речь идет отнюдь
не только о присутствии как «наличном бытии» (Vorhandenheit,
Vorhandensein). Слово «энергия», оставаясь живым в греческом
языке, приобретает в византийской метафизике существенно более
широкий смысл по сравнению с actualitas на Западе. Иоанн Дамас-
кин пишет в посвященном энергии разделе своего сочинения
«Точное изложение православной веры»: «Энергия — природная сила
(Si>va|iiç) каждой сущности, ее являющая. А кроме того, энергия —
природная и вечно движущая сила умной души, т. е. вечно
движущий логос ее, всегда по природе из нее проистекающий. Итак,
энергия — это природная сила и движение всякой сущности, которой
лишено только не-сущее» (De fide orthod. 37. 9-13).
У энергии, как знал еще Аристотель, есть свой собственный «де-
ятельностный» характер, или (да позволено мне будет здесь
употребить неуместное, но привычное, слово) собственная внутренняя
«деятельностная» форма. И этот характер действия, согласно
святоотеческому богословию, определен природой (то есть сущностью)
действующего. Разумеется, невозможно ухватить деятельностный
характер энергии, не принимая в расчет действующего. Нет
действия без действующего, а действующий (évepyœv) во всяком
действии — это ипостась** (в то время как исходный источник действия,
то èvepyîixtKÔv, — природа). Но верно и обратное: действующий
являет себя (в частности, свою природу) через свои энергии. Энергия
и есть сама многообразная явленность действующего.
Возвращаясь к понятию ипостаси, можно сказать, что она
мыслится как некий единый исток определенных энергий: недаром
Иоанн Дамаскин использует для обозначения связи действующего
и действия глагол щуаСр — струить, испускать. На языке
византийской метафизики это положение дел описывается иногда как
«движение природы в ипостаси». При этом важно понимать, что
* Ср. Максим Исповедник: «Когда говорят, что невоипостазированной
природы нет, говорят правильно...» (ThPol 23, PG 91, 264А).
" De fide orthod. 59. 9f.
Хайдеггер и «русские вопросы»
863
многообразные энергии не суть ни «элементы» природы, ни ее
акциденции или модификации, но «образ или способ существования»
(тролос wcâpÇecoç, Daseinsweise) природы.
Кажется на первый взгляд, что подобное истолкование понятия
ипостаси противоречит важнейшему положению святоотеческой
традиции, уже упомянутому выше и состоящему в том, что энергии
природны, а не ипостасны*, в том смысле, что они определены
природой (сущностью), а не ипостасными идиомами**. Отсюда, как
представляется, следует, что определенность энергий, поскольку она
задана сущностью (природой), не позволяет различить ипостаси одной
природы.
Но саму внутреннюю «определенность» можно понимать в
разных смыслах. Не одно и то же, говорят отцы, действие как таковое
(энергия как таковая) и способ действовать, «как» действия. Это
различение лежит в основании важнейших аргументов,
выдвигаемых Максимом Исповедником в диспуте с Пирром***. И хотя в этом
тексте речь идет не о действии (энергии), а о воле, ясно, что воля
обнаруживает себя только в соответствующем действии и
различие воли как таковой (впрочем, уже определенной сущностью
или природой волящего) и «как» воления должно проявляться
в «как» соответствующего действия. Об этом говорят примеры
самого прп. Максима («просто видеть» и «видеть так-то»), а Иоанн
Дамаскин, воспроизводя при этом примеры в De fide orthodoxa,
явно утверждает, что обсуждаемое различие имеет силу не
только для воль, но и для действий (энергий): «Хотеть же
каким-либо (определенным) образом — принадлежность уже не природы,
но нашей склонности (yvcû|iT|), — как и видеть так или иначе,
хорошо или плохо... То же мы будем полагать и относительно энергий»
(De fide orthod. 58. 32 и след.). Иначе эта дифференция полагается
как различие между «внутренней формой» (мой термин! — А. Ч.)
энергии (просто видеть), выявляющей определенность природы
(Хоуоссргюесос) и «способом ее употребления» (тропосурцошс)****.
Поэтому, как мне представляется, можно, не вступая при этом в
противоречие с важными положениями «византийской метафизики»,
сказать, что действие сущностным образом определено природой,
но получает дополнительные определения, связанные с ипоста-
* См., например: Ibid. 58. 24.
'* «У чего сущность одна и та же, у того и энергия одна и та же, а у чего
природы разнятся, у того [разнятся] и энергии» (Ibid. 37. 5ff.).
'* Ср.: PG 91, 294А: не одно и то же желать («волить», то Gétaiv) и лежать
некоторым определенным образом (яшс Géteiv), как не одно и то же видеть
(то ôpçtv) и видеть так-то и так-то (яюс ôpçtv).
"• Pyrrh., PG 91, 308D. De fide orthod. 58. 35f.
864
А. Г. Черняков
сью действующего (его склонностями, yv(b\xr\, фактичностью его
всякий раз заново избираемого способа жить*). Именно ипостась
определяет «как» действия в отличие от его простой «энергийной
формы». Чтобы положить это последнее различие точнее,
необходим анализ структуры действия вообще, причем в «деятель-
ностных» же терминах, что, безусловно, представляет собой
самостоятельный предмет философского исследования, результаты
которого могут быть различны в зависимости от избираемого
метода.
Разумеется, представленный здесь очерк только намечает тему
трудной работы по истолкованию и философскому освоению
метафизики восточной патристики. На мой взгляд, эта задача — одна
из интереснейших задач современной онтологии. Если на Западе
творцы философии Нового времени постепенно и тщательно
переговаривали язык высокой схоластики, если Хайдеггер заново
предпринимает (причем в связи фундаментальной темой своего
собственного философствования — онтологической дифференцией)
подробный герменевтический анализ схоластической дистинкции
сущности и существования в тварном сущем, то метафизика
восточных отцов Церкви во многом остается за границами философской
работы. Отчасти причина тому — вполне объяснимый исторически,
но, как мне представляется, ложный по существу, столь
свойственный русской философии страх философской, а значит, —
аналитической, герменевтической, критической — работы на этом поле.
Боязнь безжалостного «циклопического ока Сократа» (Ницше) всегда
сковывала русских мыслителей.
Но в самом ли деле дискурс энергий помогает артикулировать
искомую Хайдеггером глагольность бытия Dasein? Действительный
вклад понятия энергии в систему понятий экзистенциальной
аналитики Dasein (или, если угодно, в герменевтический арсенал
онтологии как феноменологии) должен быть продемонстрирован, чтобы
моя гипотеза о плодотворности расширения «поля деструкции
истории онтологии» не осталась голословной.
Пожалуй, пора раскрыть карты. Рукопись, отосланная Натор-
пу в 1922 г. в связи с попытками молодого приват-доцента Хайде-
ггера занять освободившееся место экстраординарного профессора
в Марбурге или Гёттингене, представляет собой проект большой
книги (планировалось, что она займет два тома издаваемого
Гуссерлем ежегодника „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische
Forschung"), посвященной феноменологической интерпретации
Аристотеля. Это сочинение так и не увидело свет; «вместо» него
* Кирилл Александрийский определял yvco^Ti как трояос Çcofjç. См.: Pyrrh.,
PG 91, 308В.
Хайдеггер и «русские вопросы»
865
в восьмом томе „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische
Forschung" было опубликовано «Бытие и время», причем эта
книга в скрытой форме сохранила основные результаты
переосмысленной или деконструированной Аристотелевой философии. Но, увы,
сама эта работа по истолкованию Аристотеля осталась скрытой.
«Бытие и время» только надводная часть айсберга, его подводная
часть — феноменологическая интерпретация Аристотеля, о
которой мы можем судить по нашей рукописи 1922 г., марбургским
лекциям зимнего семестра 1924/25 гг*. и некоторым другим текстам.
И последнее: термин Bewegtheit («подвижность»), определяющий
фундаментальный онтологический характер «фактической жизни»,
как выясняется позже, в той же рукописи в наброске интерпретации
шестой книги «Никомаховой этики» переводит Аристотелев термин
èvépyeia.
Как известно, Аристотель понимает энергию не только в
широком смысле как évépyeia ката kivt|oiv — в том смысле, который
Хайдеггер передает при помощи выражения «Am-Werke-sein»,
но и в строго техническом смысле — как совершенное действие.
Обсуждению этого понятия посвящен знаменитый фрагмент
Metaph. IX, 6, 1048 b 18-35. Совершенные действия или энергии
характеризуются тем, что их цель им внутренне присуща:
деятельность и то, ради чего она совершается, здесь неразличимы. Иными
словами, цель уже исполнена самим фактом действия, но при этом
деятельность продолжает оставаться деятельностью, исполнен-
ность цели не означает прекращение деятельности. Такое
положение вещей Аристотель артикулирует при помощи сопоставления,
сополагания двух грамматических форм одного и того же
глагола — настоящего времени и перфекта, скрепленных словечком
&ца — «заодно», «вместе», «одновременно»: «Так, например,
некто видит и заодно уже увидел, разумеет и уразумел, а также
усматривает умом и уже усмотрел. <...> Некто живет хорошо и заодно
уже обрел хорошую жизнь, испытывает счастье и уже.счастлив».
Только в таком, узком, смысле термин «энергия» становится
синонимом термина «энтелехия», это тождество смыслов выделяет
такие действия или деятельности, для которых результат, ergon,
есть не что иное, как сама деятельность. Важнейший пример
энергии у Аристотеля — жизнь и проявления жизни (чувство, мысль,
счастье...). «Эта деятельность в качестве своего результата
обнаруживает только самое себя, так что при этом обнаруживать и быть
обнаруженным — одно и то же: это — вибрирующая только в самой
* Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 19. Plato. Sophistes.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1992.
866
А. Г. Черняков
себе и не устремляющаяся ни к какому иному результату
деятельность-действительность жизни»*.
Dasein становится фундаментом фундаментальной онтологии
по двум причинам. Во-первых, оно само — сущее и тем самым
особое, «сингулярное» сущее, поскольку понимает себя как сущее,
то есть понимает себя в своем бытии, (что не значит, как мы видели,
«осуществляет рефлексию»). «В бытии этого сущего оно само
относится к своему бытию» **. Во-вторых, само это понимание (в широком
смысле) представляет собой тот способ, каковым оно (Dasein) бытий-
ствует. Для него «быть» — значит «понимать». Dasein тем самым,
понимая свое бытие, понимает свое понимание. Классическая
формула самосознания — «мыслю — значит мыслю себя мыслящим»
формально воспроизводится. Вот только «мыслю» — всего лишь
специальный частный случай «понимаю». По Хайдеггеру, как мы
знаем, «понимаю» в своем центральном значении должно означать
«забочусь о...». В этом бытийном понимании обнаруживает себя
само бытие Dasein, но при этом «обнаруживать и быть
обнаруженным — одно и то же». Эта «совершенная деятельность»
специфически человеческой — понимающей себя (в том числе и в своем благом
или злом уделе) — жизни должна быть названа энергией в
терминологии Аристотеля. Она называется Grundbewegtheit в терминологии
раннего Хайдеггера, т. е. evepyeia ярсотп, в обратном переводе на
греческий***. Человеческая жизнь как «житие», способное определить
себя и понять себя в качестве благого или неблагого, человеческая
жизнь и ее проявления и составляют, собственно, круг примеров
Аристотеля в его разговоре об энергии как совершенной
деятельности. Хайдеггер, следуя своей разработке понятия герменевтической
ситуации — а понятие герменевтической ситуации предполагает
некую направляющую рассуждение глубинную интенцию,
подлежащую герменевтическому «разгадыванию» и выявлению, — делает
онтологически первым то, что для Аристотеля было дидактически
важнейшим. Примеры Аристотеля, связанные с энергиями
жизни, — для Хайдеггера симптом скрытых фундаментальных
интенций европейской метафизики, которые надлежит явно
артикулировать, возобновляя «борьбу гигантов за бытие, в фундаментальной
онтологии****.
* Tugendhat Е. TI КАТА TINOI. Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung
aristotelischer Grundbegriffe. Freiburg; München: Karl Alber Verlag, 1968.
S. 92f.
" Heidegger M. Sein und Zeit. S. 41.
*** Ср. Иоанн Да маски н: «Надлежит знать, что сама жизнь есть энергия, и при
этом первая энергия живого существа... (ка1 f| ярсотл той Çcpov évépyeia)...»
**** О том, что Хайдеггер, по-видимому, преувеличивает «неосознанность»,
«неотрефлектированность» Аристотелевых предпосылок, соответствующе-
Хайдеггер и «русские вопросы» 867
Философский язык неизмышляем. Оказывание лишь тогда
позволяет возникнуть вслушиванию, когда вырастает из долгой
традиции проговаривания и выговаривания существенных смыслов.
Одна из ветвей такой традиции (которая, кстати сказать, едва ли
подпадает под общий диагноз Хайдеггера — «онтология наличного»)
осталась не проговоренной заново, досталась нам в наследство как
задача, один из фундаментальных «русских вопросов». Эта линия
берет начало в «Метафизике» Аристотеля, в обсуждении энергийно-
сти бытия в качестве одного из его смыслов, не сводимых ни к чему
иному; она продолжается в святоотеческом богословии энергий
(вобравшем в себя, помимо этого Аристотелева начала, стоические
и неоплатонические мотивы). Этот ресурс философского языка, как
представляется, позволяет точнее сказаться той глагольности бытия
в его отличии от сущего, которая, на мой взгляд, не смогла сказаться
на языке «Бытия и времени». Но в то же время язык
фундаментальной онтологии может стать катализатором и инструментом новой
герменевтической работы в предметном поле «византийской
метафизики». В такой работе (понятой как необходимое условие)
появляется надежда приблизиться к вожделенному предмету русской
мысли — «тайне личного бытия». Тут уж нужно принять решение:
или благоговейно сохранять тайну как сокровенное (что значит,
на мой взгляд, отказаться от попыток философствования и впасть
в благочестивую риторику), или пытаться, елико возможно, ее
раскрыть, или при-открыть, пользуясь великой миметической силой
точного слова.
€Ч^
го «предвзятия», см. в блестящей книге Реми Брага (R. Brague) Aristote et
la question du monde. Essais sur le contexte cosmologique et anthropologique
de l'ontologie. Paris: PUF, 1988.
^5^
С. В. НИКОНЕНКО
Сравнительный анализ учений Хайдеггера
и Витгенштейна в контексте российской
философской традиции
Поиск параллелей между учениями М. Хайдеггера и Л.
Витгенштейна занимает умы философов довольно много лет; однако работ
по этой теме относительно немного. Тем более их можно пересчитать
по пальцам в отечественной философской критике, которая
задает лейтмотив этому исследованию. Мы начинаем с рассмотрения
взглядов В. В. Бибихина, В. М. Розина, Е. В. Борисова и Н. В.
Медведева о соотношении концепций Хайдеггера и Витгенштейна.
Предварительно оговорим одно важное замечание
относительно методики сопоставлений вышеупомянутых авторов. Все они без
исключения проводятся по теоретической схеме: исследование
философии Хайдеггера и поиск соответствий учению Хайдеггера в
философии Витгенштейна. То есть Хайдеггер и Витгенштейн, а никак
не наоборот; Хайдеггер в этой паре оказывается базисной,
доминирующей фигурой.
Наиболее известным исследованием является сопоставление
В. В. Бибихина; с него мы и начинаем. Однако и тут нам
потребуется важное предварительное замечание. Бибихин меньше всего
исследует вопрос о параллелях во взглядах Хайдеггера и
Витгенштейна в академическом смысле слова. Он скорее постоянно
интерпретирует и ищет собственное понимание проблем, творчески
«отталкиваясь» от Хайдеггера и Витгенштейна. Систематичность
и пунктуальный разбор у Бибихина явно на втором плане по
отношению к креативным онтологическим ходам и собственному
поиску. Тем не менее именно такой оригинальный, нестандартный
подход ставит Бибихина на первый план в отечественном хайдегге-
роведении; поскольку любой вопрос Бибихин не только
рассматривает, но и развивает, предлагая собственное, порой весьма
неординарное видение проблемы.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна 869
Начинать следует с вопроса: почему все-таки для Бибихина
оказывается важным Витгенштейн — настолько важным, что он
читает о нем лекции и пишет сочинение «Витгенштейн: смена
аспекта»? Предоставим слово самому Бибихину; так он оценивает роль
Витгенштейна в современной мысли: «Присутствие Витгенштейна
ощущается в XXI в. больше, чем в прошлом. Понимания того, чем
было захвачено его существо, по-прежнему немного. От
Хайдеггера, Джойса, Антонена Арто, Ионеско мы, конечно, тоже далеки,
но все же не в смысле интерпретаций с точностью до наоборот,
которые слишком часто возникают при обсуждении мыслителя, чей
путь нам предстоит проследить. В. (Витгенштейн. — С. Н.) связал
себя задачей, которую считал самой трудной в философии: сказать
не больше того, что мы знаем. Для того невыразимого, что
оберегалось его словом, на языке современности не нашлось других
обозначений, кроме "логический позитивизм", "логический эмпиризм",
"аналитическая философия", "лингвистическая философия". При
серьезной попытке подступиться к его мысли надобность
пользоваться этими рубриками отпадает. Ориентация на них уводит
от дела в сферу интеллектуальных конструктов. В. занят не
теорией, которая обслуживала бы практику, во всяком случае, не
философией языка и не анализом нравственных норм, а онтологической
этикой, делом хранения бытия»*.
В известном и часто цитируемом письме Л. фон Фикеру
Витгенштейн указывает на то, что цель «Логико-философского
трактата» — на самом деле этическая. Витгенштейн, вероятно, следует
идее Г. Фреге, выраженной в небольшой работе «Логика», где
немецкий философ отмечает, что логика и этика едины. По своей сути,
логика определяет истину точно так же, как этика добро. Вне
всякого сомнения, на Витгенштейна также повлияла книга Дж. Мура
«Principia Ethica», в которой логический, аналитический метод
применяется для конкретизации моральных понятий и
доказательства автономности этического дискурса.
Возвращаясь к Бибихину, можно повторить его утверждение как
вопрос: насколько Витгенштейн занят онтологической этикой и
делом хранения бытия? Вопрос интересен не только несколько
шокирующим стремлением приложить к Витгенштейну типично хай-
деггеровские категории. На наш взгляд, Бибихин тонко подмечает
один из смыслов «Трактата»: установить ту область мира, которая
доступна языку, и сосредоточиться только на ней. При этом
выказывания о доступном для нас мире фактов начинают у
Витгенштейна пониматься не теоретически, а практически (что резко разводит
* Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта (фрагменты) // Л.
Витгенштейн: pro et contra, антология. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. С. 233.
870
С. В. Никоненко
Витгенштейна с логическими позитивистами) — как форма
деятельности, а не теории.
В чем Бибихин усматривает природу языка по Витгенштейну?
«Витгенштейн включает в языковые игры всю практику человеческой
цивилизации. Частый образ первобытного племени позволяет ему
вести анализ слепого уровня этой практики. Языковые игры —
обманчивое выражение, когда дело идет об операциях, в которые встроено
тело с костями и кровью. Обиходный язык в "Трактате" есть часть
человеческого организма и не менее сложен, чем тело. Слово слитно
с поступком и действием. Речь уходит своими корнями в природу.
Мы обнаруживаем себя играющими в языковые игры. От нас зависит
обычно только выбор их правил. Они поддаются описанию. Каким
правилам, однако, подчиняется переход от одной игры к другой или
к никакой? Будет ли игрой смена и отмена правил? Зная нормы учебы
на факультете, студенты становятся хорошими и плохими. Они
могли стать никакими. Жесты, взгляды очень богатых людей другие, чем
у нас. Мир в целом мог быть устроен иначе. Дело никогда не
складывается так, чтобы мы полностью отдались только одной игре и
вложили себя целиком в ее успех. Нашим играм сопутствует неотделимая
от них, пусть иллюзорная, возможность перемены, — пишет он»*.
Бибихин трактует язык Витгенштейна с антропологической,
экзистенциальной и культурологической точек зрения. Язык —
ни в коем случае не инструмент, не средство общения и не знаковая
система. По Бибихину, язык — это составляющая нашей сущности.
Языковые практики — это проявление сути человеческого бытия.
Появляющиеся в работе «О достоверности» дикари являются
носителями языковой сущностной основы не в меньшей мере, нежели
образованные ученые современности. Естественность обыденного
языка — это форма жизни и даже природы человека. При этом здесь
не ставится вопрос о том, могла ли быть иная жизнь и иная
природа. Бибихин подмечает у Витгенштейна явный фатализм (который
он усматривает и у Хайдеггера), учение о «пребывании» языковой
игры и даже определенном * смирении» перед этим фактом.
Несколько отрезвляющим выглядит замечание Н. В. Медведева:
«Правда, в отличие от Л. Витгенштейна, М. Хайдеггер сохраняет
свое недоверие к обыденному языку»**. В самом деле, уже в
«Бытии и времени» Хайдеггер относит обыденное словоупотребление
к «наличной» данности, скользящей по поверхности и не
достигающей глубины присутствия. «Высказывание есть нечто подручное.
* Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта (фрагменты). С. 238.
** Медведев Н. В. К вопросу о сущности языка: Размышления Л.
Витгенштейна и М. Хайдеггера // Вестник ТГУ. Сер. Общественные науки.
Вопросы теории и методологии. 2015. Вып. 2 (2). С. 22.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна 871
Сущее, к которому оно как раскрывающееся, имеет отношение, есть
внутримирно подручное соответствующее наличное», — отмечает
Хайдеггер*. Обыденная речь у Хайдеггера критикуется с
социально-философской позиции — это речь «людей», нечто массовое,
состоящее из общих мест по поводу сущего, никак не бытия.
Медведев считает, что понимание речи у Хайдеггера не
выводит нас к горизонту обыденного языка, а ведет к языку поэзии. Он
пишет: «Если "поздний" Л. Витгенштейн в конце концов пришел
к твердому убеждению, что обыденный язык есть метаязык и что
именно через анализ употребляемых слов обыденного языка в
разных социальных контекстах можно прийти к правильному
пониманию их значения, то "поздний" М. Хайдеггер продвинулся дальше
этого и обнаружил сущность языка в поэзии»**.
Не чуждый искусству, Витгенштейн совершенно очевидно
равнодушен к языку поэзии (из всех видов искусств Витгенштейн предпочитал
музыку, скульптуру и архитектуру). Если позволить себе
определенный конструкт воображения и представить себе Витгенштейна
поклонником поэзии и исследователем природы поэтического языка, то у нас
вряд ли выйдет что-то стоящее. Строгий логический анализ,
формализм, примат логики — в этом суть метода и стиля Витгенштейна.
В свою очередь, критика формально-логического подхода,
обращенность к поэтическому языку (категориально расширенному до роли
основополагающего человеческого языка) отличает подход Хайдеггера.
Здесь мы должны особо отметить те места в работах Хайдеггера,
в которых он довольно уничижительно отзывается о логическом
рассудке и аналитическом методе. Он пишет: «Язык есть язык, и
ничего, кроме него. Язык есть язык. Логически вышколенный, все
рассчитывающий и потому весьма надменный рассудок назовет эти
положения ничего не значащей тавтологией. Дважды повторено
одно и то же? Язык есть язык; как это может способствовать
продвижению дальше? Но мы и не хотим уходить дальше. Ведь мы можем
оставаться там, где пребываем»***.
По Хайдеггеру, логика уводит нас от более «изначального» —
онтологического — вопрошания. То, что Хайдеггер называет
«оказыванием» языка о языке, превращает язык в чистый дискурс.
Не чуждая языку логика, а поэзия является сущностью языка;
поскольку поэзия не уводит от языка, а оставляет «при нем».
Отсюда враждебность Хайдеггера к любым проявлениям формализма.
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 224.
'* Медведев Н. В. К вопросу о сущности языка: Размышления Л.
Витгенштейна и М. Хайдеггера // Вестник ТГУ. Сер. Общественные науки.
Вопросы теории и методологии. 2015. Вып. 2 (2). С. 24.
** Хайдеггер М. Язык. СПб.: Эйдос, 1991. С. 4.
872
С. В. Никоненко
♦Если представлять знаки просто как означивание, то это позволяет
приступить к теоретико-информационной технизации языка.
Берущее отсюда начало устроение определенного отношения
человека к миру самым жутким образом осуществляет требование Карла
Маркса: дело в том, чтобы изменить мир», — пишет Хайдеггер*.
Логический подход, свойственный Витгенштейну (как в ранней,
так и в поздней философии), оказывается для Хайдеггера
символом глубоко чуждого и враждебного проявления
♦новоевропейского рационализма»; Хайдеггер не делает никаких попыток понять
суть логики (в частности, аналитической философии), по
большому счету оставляя все логические вопросы без внимания. Глубоко
предвзятое, зачастую просто невнимательное отношение
Хайдеггера к логическим поискам в аналитической философии, к тому же
основанное на априорной концепции ♦поверхностности» логики,
делает сопоставления Хайдеггера и Витгенштейна крайне
затруднительными.
Некоторые комментаторы (в т. ч. и Бибихин), правда, делают
оговорку, что Витгенштейн понимал идею ♦логики» крайне
широко, никак не в духе логического позитивизма. Для Витгенштейна
логика лежит в основании познания мира. Он пишет:
♦Высказывание не может затрагивать логическое строение мира, поскольку для
того, чтобы высказывание вообще было возможным, чтобы
предложение могло иметь смысл, мир уже должен иметь ту логическую
структуру, которую имеет оно. Логика мира первична по
отношению ко всякой истине и лжи»**.
Тем самым логика играет для Витгенштейна такую же
субстанциональную роль в понимании мира, как для Хайдеггера поэзия.
Здесь следует вспомнить и другое положение Витгенштейна:
♦Границы моего языка означают границы моего мира. Логика
наполняет мир; границы мира являются также ее границами. Поэтому мы
не можем говорить в логике: это и это существует в мире, а то нет.
Ибо это, по-видимому, предполагало бы, что мы исключаем
определенные возможности, а этого не может быть, так как для этого
логика должна была бы выйти за границы мира, чтобы она могла
рассматривать эти границы также с другой стороны. То, чего мы не можем
мыслить, того мы мыслить не можем; мы, следовательно, не можем
и сказать того, чего мы не можем мыслить»***.
* Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 293.
'* Витгенштейн Л. Дневники (1914-1916) // Витгенштейн Л. Дневники 1914-
1916 с приложением Заметок по логике (1913) и Заметок, продиктованных
Муру (1914). Томск: Водолей, 1998. С. 31.
'* Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностранной
литературы, 1958. § 5.6-5.61.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна 873
Хотя Витгенштейн постепенно видоизменял свои представления
о том, что такое «логика» и «логическое прояснение языка», он всю
свою жизнь остается последовательным сторонником панлогизма,
убеждения, что логические основания определяют не только суть
языка, но и во многом суть самого мира.
Витгенштейн отмечает существенное различие
концептуального и символического языков. В рамках концептуального языка имя
может быть заменено другим именем, если теоретик считает новое
более удачным. Старое имя в этом случае просто уходит в архив,
а на уровне практики забывается. В отношении символов так не
происходит, о чем и пишет Витгенштейн: «Вспомни о неудобствах,
испытываемых нами, когда меняется правописание слов...
Безусловно, не всякая знаковая форма глубоко запечатлена в нас. Знаки,
например, в алгебре логики могут быть заменены любыми другими,
и мы не станем глубоко переживать это»*.
Что означают загадочные слова: «глубоко запечатлена в нас»?
Полагаю, что эта запечатленность находится на уровне языкового
контекста в целом, а если посмотреть еще глубже — на уровне
традиции и эйдетического мира. Символическая неудовлетворенность
была и будет всегда; по Витгенштейну, она выражается, прежде
всего, в трансформации словоупотребления.
Для Витгенштейна важно доказать, что на уровне обыденного
языка правила логики существенно ослаблены, а грамматические
и символические структуры языка не преследуют такого идеала, как
строгость. В этом контексте значимо замечание мыслителя о
структуре русского языка (Витгенштейн знал русский язык): «В русском
языке вместо "Камень есть красный" говорится "Камень красный";
ощущают ли говорящие на этом языке отсутствие глагола-связки
"есть" или же мысленно добавляют ее к смыслу предложения?»**
На этот вопрос я могу ответить как носитель русского языка: нет,
не ощущают никоим образом. Русские употребляют «есть» не
мысленно, а символически — как смежность, расположенность в общем
пространстве, а не как предикат, свойство. «Красное» оказывается
чем-то находящимся вблизи камня и символически окрашивающим
его. Ведь именно русский художник В. Кандинский создал учение
о живописном символизме цветов; и в этом учении красное, белое,
синее — не предикаты одного и того же камня (который как
физический объект неизменен), а некое сущностное свойство,
превращающее по-разному окрашенные камни в совершенно разные камни.
Тургенев также отмечает, что русский язык грамматически не строг
и более волен в отношении грамматической структуры, порядка
* Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. M.: Гнозис, 1994. С. 148.
** Там же. С. 88.
874
С. В. Никоненко
определений и слов, нежели западноевропейские языки, что выдает
его близость к архаическим формам языка, меньшую степень
артикул ированности и строгости. Например, в философских переводах
на русский язык зачастую умышленно вводят связку «есть» («суть»)
ради достижения большей строгости. Так, гегелевское положение
переводят не как: «чувство — это мышление, взятое совершенно
абстрактно», а как: «чувство есть мышление, взятое совершенно
абстрактно».
Причины лингвистического символизма Витгенштейн
приписывает структурам обыденного языка, которые могут быть
формализованы. В этом отношении он и в поздней философии судит как
логик, сравнивая структуры обыденных языков с языком своего
«Трактата». Витгенштейн пишет: «Мое описание имело бы смысл,
лишь если его понимать символически. — Я должен был бы сказать:
так мне представляется это... Но для чего пригодно такое
символическое предложение? Оно призвано подчеркнуть разницу между
причинной обусловленностью и логической обусловленностью. Мое
символическое выражение, по сути, было неким мифологическим
описанием применения правила»*.
Несомненно, классик несколько утрирует и усиливает
противоречие. Символические описания могут включать в себя и структуры
мифа, однако во многих формах традиции они стремятся к
определенности и ясности. Только эта ясность действительно другого
порядка: она, как верно отмечает Витгенштейн,
«представляется», но на уровне не обыденного, а возвышенного опыта. Несмотря
на склонность к мистификации символизма и переоценке роли
обыденного языка, Витгенштейн дает, пожалуй, адекватное
представление о фрагментированности, царящей в рамках современной
культуры, о практически полном отсутствии в ней целостности и единства:
«Картина языка взрослого, которой мы располагаем, представляет
собой расплывчатую массу языка, его родной язык, окруженный
дискретными или более или менее ясно выделенными языковыми
играми и техническими языками»**.
Тут мы можем нащупать существенное родство между
концепциями Хайдеггера и Витгенштейна. Оно коренится в озабоченности
миром и тем, насколько подлинно его описывает язык. У
Хайдеггера и Витгенштейна язык выступает главным средством постижения
мира и не рассматривается сам по себе, в отрыве от бытия. Здесь мы
опять возвращаемся к В. В. Бибихину, который пишет: «Граница
значимого языка среди теснящих нас неопределенностей говорит
о присутствии мира как ограниченного целого. Мистический опыт
* Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. M.: Гнозис, 1994. С. 167-168.
** Он же. Коричневая книга. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 12.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна 875
мира, который "должен быть как раз тем, что он есть", остается
последним и единственным обеспечением достоверного
высказывания. Упор о границу мира и значимого языка дает твердую почву
бьющемуся внутри своей клетки человеку. Прорыв к границе, хотя
он не дает знания и никогда не сделает этику наукой, нужно уважать.
Витгенштейновский опыт вторит фундаментальному настроению
ужаса. Оба сопутствуют введению мира в определенность целого.
Повседневность изматывает нечеткостью; в пространстве и времени
мы уходим в бесконечность; отчетливой целости не видим; только
угадываем ее, не схватываем; уловив, не можем удержать; имея,
теряем. Между тем вне опоры в целом всякая фиксация условна»*.
Бибихин явно сближает понятие «мистическое» у Витгенштейна
и понятие «ужас» у Хайдеггера.
Остановимся на этих понятиях поподробнее. Хайдеггер вводит
понятие ужаса в систему «Бытия и времени». Он пишет: «То, о чем
страх страшится, есть само страшащееся сущее, присутствие. Лишь
сущее, для которого дело в его бытии идет о нем самом, способно
страшиться. Страх размыкает это сущее в его угрожаемости, в остав-
ленности на себя самого»**.
Страх и ужас возникают при чувствовании мира как целого —
в его единстве и нараздельности. «В ужасе "земля уходит из-под
ног". Точнее: ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что
заставляет ускользать сущее в целом», — замечает Хайдеггер***. По своей
природе страх и ужас иррациональны; они не поддаются
формальному определению. Тем самым Хайдеггер сосредоточился на
экзистенциальном восприятии ужаса, на его переживании.
Витгенштейн также уделяет внимание вопросу чувствования мира
как целого. Для него это проявление «мистического». «Мистическое
не то, как мир есть, но то, что он есть. Созерцание мира sub specie
aeterni есть его созерцание как ограниченного целого. Чувствование
мира как ограниченного целого есть мистическое», — пишет
Витгенштейн****. Из этого часто цитируемого параграфа «Трактата»
комментаторы обычно делают следующие выводы: во-первых, Витгенштейн
выводит определенную онтологию, и, во-вторых, у Витгенштейна
есть теория мистического. На наш взгляд, оба эти положения
несостоятельны. Из того, что мир в своей сущности ( «что он есть» )
воспринимается мистически, не следует никакой онтологии («что он есть»).
* Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта (фрагменты) // Л.
Витгенштейн: pro et contra, антология. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. С. 245.
'* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 141.
** Он же. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 21.
'* Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М. : Изд-во иностранной
литературы, 1958. § 6.44-6.45.
876
С. В. Никоненко
В «Трактате», наоборот, утверждается, что нам доступен лишь мир
фактов; все же лежащее за его пределами сознательно и намеренно
элиминируется из пределов философии. Также указание на
«мистическое» не влечет за собой ни теоретического рассмотрения, ни
определенного «места» этого концепта в теории Витгенштейна.
Мистическое относится не к сущности бытия, как у Хайдеггера, а скорее
к ограничению доступного нам бытия бытием недоступным. «Ужас»
Хайдеггера и «мистическое» Витгенштейна возникают по поводу
одного и того же предмета — мира в целом, — но они понимаются
по-разному, а порой диаметрально противоположно.
Бибихин отмечает, что смысл бытия ускользает от языка,
пребывающего в дурной бесконечности собственного дискурса. Этот
вопрос представляется фундаментальным. В самом деле, не
скрывается ли в сущности языка основополагающая неудача,
выражающаяся в неспособности сказать о мире? Один из главных «разладов»
между философиями раннего и позднего Витгенштейна состоит
в том, что Витгенштейн в «Философских исследованиях» уже не
видит возможности высказать всё о мире. Язык позднего
Витгенштейна все более ускользает в коммуникативную реальность
лингвистической практики; фундаментальная онтологическая установка
реализма «Трактата» растворяется в плюрализме продуцируемых
языками «миров». Здесь Бибихин, на наш взгляд, совершенно
верно отмечает, что Хайдеггер (особенно в позднем творчестве) ведет
речь о всеобщем, едином и единственном языке, принадлежащем
по большому счету не человеку и не сообществу, а бытию. Язык
оказывается «домом бытия», формой человеческого присутствия.
« Маргинальность» Хайдеггера проявляется в том, что он, вопреки
«основному потоку» западной мысли, видит суть языка не в
логике, а в поэзии, равно как видит глубину мысли в греческой
философии, а не в современной науке. С точки зрения же смысла языка
Хайдеггер — последовательный сторонник универсалистской
позиции: онтологические и антропологические основания языка
являются всеобщими, сущностными свойствами человеческого бытия.
Бибихинская рецепция Витгенштейна становится предметом
пристального внимания В. М. Розина, который приводит
следующее критическое замечание: «Бибихин явно приписывает
Витгенштейну феноменологические и кантианские мотивы и формы
мысли, кроме того, заменяет немецкое "satz", обычно переводимое
как "предложение", на "фразу", a "bild", переводимое как "образ",
на "рисунок", в значении почти "схемы"»*.
* Розин В. М. Логика и методология: От «Аналитик» Аристотеля в
«Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна // Л. Витгенштейн: pro et
contra, антология. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. С. 614.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна 877
Розин (который является последователем Бибихина), с нашей
точки зрения, точно подметил суть подхода Бибихина к
Витгенштейну. Бибихин смотрит на Витгенштейна с феноменологической
точки зрения, приписывая ему трансцендентальные положения.
В этом заключается, с одной стороны, теоретическая ошибочность,
а с другой — маргинальность подхода Бибихина. Столь крупный,
классически мыслящий философ, как Бибихин, преследует иную
цель: показать, что феноменология человеческого присутствия,
выведенная Хайдеггером, собирает вокруг себя творческие поиски
других крупнейших философов, не исключая и самого
Витгенштейна. По Бибихину, Витгенштейн решает кантовский
трансцендентальный вопрос — только не в отношении познания, а в отношении
языка. Вся философия языка и вся онтология, по Бибихину,
проходит в рамках единого горизонта, намеченного Хайдеггером.
Вследствие этого Бибихин совершает «переописание» системы
Витгенштейна, усматривая в Витгенштейне не аналитического философа,
а феноменолога — философа, «континентального» по своей сути.
Что же такое «мир» в понимании Хайдеггера и Витгенштейна?
Бибихин отмечает, что для Хайдеггера мир и бытие
тождественны. Хайдеггер и в самом деле так утверждает, когда пишет: «Но
мир — это и не воображаемая рамка, добавляемая к сумме всего
наличествующего. Мир бытийствует, и в своем бытийствовании
он бытийнее всего того осязаемого и внятного, что мы принимаем
за родное себе. Мир никогда не бывает предметом, который стоит
перед нами, который мы можем созерцать. Мир есть то
непредметное, чему мы подвластны, доколе круговращения рождения
и смерти, благословения и проклятия отторгают нас вовнутрь
бытия»*.
Онтологизм Хайдеггера проявляется и в понимании вещи и
слова: вещь «веществует», проявляя себя в мире; слово «говорит»,
по выражению Гадамера, вводя само себя в язык. Мир
Витгенштейна, наоборот, совершенно нейтрален, а любая онтология бытия
относится к сфере отвлеченной метафизики, лежащей вне сферы
строгой логики. «Объекты я могу только называть. Знаки замещают
их. Я могу только говорить о них, но не высказывать их.
Предложение может только сказать, как существует предмет, но не что он
такое», — пишет Витгенштейн**. Как известно, Витгенштейн и
Хайдеггер были мало осведомлены об учениях друг друга и, по всей
видимости, не читали сочинений друг друга. Авторам сопоставлений
Хайдеггера и Витгенштейна, по-видимому, далеко не всегда удается
* Хайдеггер М. Язык. СПб.: Эйдос, 1991. С. 7.
** Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М. : Изд-во иностранной
литературы, 1958. § 3.221.
878
С. В. Никоненко
учесть факт отсутствия прямого контакта учений двух мыслителей,
что порождает определенные натяжки.
Типичным примером можно считать рассуждение Хайдеггера
из статьи «Вещь», в которой он пишет: «В подносимой воде
присутствует источник. В источнике присутствует скала, в ней — темная
дрема земли, принимающей в себя дождь и росу неба. В воде
источника присутствует бракосочетание неба и земли. Оно присутствует
в вине от плода виноградной лозы, в котором взаимно вверились
друг другу соки земли и солнце небес» *.
Хайдеггер вполне убежден, что раскрывает античный,
мифологически окрашенный способ церемониального употребления вина,
поэтизирует античный пир как особое действо. Однако, как ни
хотелось бы верить в иное, это — просто художественный вымысел,
который литературно прекрасен, но совершенно ничего не говорит
о греческом символизме. Ведь предметом подобных «античных»
описаний служит не собственно античное (которое содержало в себе
собственный символизм), а опыт самого Хайдеггера,
являющийся современной интерпретацией, переописанием (Хайдеггер судит
об античном космосе с позиций мистицизма, который обусловлен
влиянием средневековой немецкой мистики и романтизма). Хайдег-
геровская ностальгическая обращенность к Античности
демонстрирует затруднения, возникающие при передаче или реконструкции
исторического эйдетического опыта, поскольку этот опыт давно
прошел, а вокруг нас господствует совершенно иной способ символизма.
С крайней осторожностью мы решимся предположить, что
положения «Трактата» о мире оказались бы глубоко чуждыми для
Хайдеггера, равно как и положения «Бытия и времени» — для
Витгенштейна. Витгенштейновский мир, взятый как бытие, — это как раз
голая наличная фактичность, которую постоянно критикует
Хайдеггер. В свою очередь, хайдеггеровское учение о
саморепрезентирующей вещи, как мог бы судить Витгенштейн, — не что иное, как
ни на чем не основанный домысел, нечто из области отвлеченной
и бездоказательной «метафизики».
В своем очерке в рамках одной из коллективных монографий
Е. В. Борисов замечает о Хайдеггере, что главной новацией
является введение понятия «озабоченное обращение» с вещью. Если
применить такое суждение к Витгенштейну, то он вряд ли нам вообще
что-либо скажет. Витгенштейн, скорее всего, проводит «озабоченное
обращение» со словом, а не с вещью. В некотором смысле поздний
Витгенштейн переходит на функциональную и холистическую
модель языка, в которой вопрос о «выходе» языка к вещам уже не за-
* Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 320.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна 879
нимает ведущей роли. Как тонко заметил Д. Дэвидсон, любой язык
стремится стать объективным, но «насколько это возможно». Хотя
объективность и не является фундаментальным критерием
языковой игры, она, по своей сути, оказывается предметом
«озабоченности», стремления основать практику на критериях, превосходящих
уровень конвенций. По этому поводу Борисов полагает, что
последовательный семантический прагматизм необходимым образом
приводит к тематизации фактичности значения, а вместе с тем и его
перформативно-событийного характера. Высказывание в языковой
игре понимается как определенное действие, событие, которое, так
или иначе, имеет онтологические маркеры в рамках коммуникации.
Пожалуй, чаще всего параллели между Хайдеггером и
Витгенштейном проводят в отношении природы «молчания». Молчание
трактуется как одна из форм говорения — причем не простого
говорения, а относящегося к самой фундаментальной истине бытия.
Бибихин так пишет о молчании: «В такой ситуации звучит
предписание конца "Логико-философского трактата" о долге молчания.
В расхожем понимании это значит просто не говорить. В
возвышенной платонической трактовке расплавление в мистической
глубине целого мира якобы забывает о всяком языке. Типичная ошибка
в понимании восточного православного исихазма отождествляет
безмолвие не с тишиной, а с отсутствием речи. На деле молчание
может быть сохранено только словом, расширенным до поэзии и
музыки. Бессловесное молчание будет без нашего желания истолковано.
Молчание определялось нами как основа речи; его, так или иначе,
нет помимо речи»*.
Если обратиться к известному положению §7 «Трактата»**,
то Витгенштейн в буквальном смысле требует молчания как отказа
от говорения на основании невозможности что-либо сказать. По
словам Бибихина, ранний Витгенштейн совершает ошибку,
отождествляя молчание с отсутствием речи. Молчание в «Трактате» никак
не выводит нас к «основе речи». Это просто молчание, стремление
хранить безмолвие. Такое молчание трактуется однозначно — оно
запрещает любые метафизические спекуляции за пределами
сферы высказываний языка. По Витгенштейну, мы должны жить, как
если бы мира за пределами нашего языка нет; жить в рамках
языкового, «коммунального» солипсизма. В критике философии
Витгенштейна произошло все с точностью до наоборот:
интерпретаторы стали интересоваться молчанием и приписывать положениям
* Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта (фрагменты) // Л. Витген
штейн: pro et contra, антология. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. С. 246.
" Там же.
880
С. В. Никоненко
Витгенштейна скрытые смыслы, порой забывая, что таких смыслов
Витгенштейн не находит.
К примеру, Н. В. Медведев (в соавторстве с Е. Ю. Федотовой)
прямо приписывает Витгенштейну значимость молчания в его
системе. Мы читаем: «При помощи категории "молчания"
Витгенштейн предложил особый способ решения философских проблем,
постановка которых, согласно его убеждению, основывается на
"непонимании логики нашего языка"»*.
Предмет настоящей статьи не предполагает долгих
теоретических споров, но мы категорически не согласны с тем, что
требование молчать о том, что мы не можем высказать, решает хоть
какие-то философские проблемы. На наш взгляд, в «Трактате»
явственно выражено стремление ограничить содержание мира
сферой высказываний и запретить что-либо говорить вне границ
нашего языка.
Далее Медведев и Федотова пишут: «Витгенштейн и Хайдег-
гер были едины в своем убеждении, что мышление способно себя
выразить только через говорение и молчание. Однако если для
Витгенштейна молчание является способом избежать
бессмыслицы в случае попыток говорить о том, что невозможно ясно
высказать в языке, то Хайдеггер отводит молчанию роль "истока
речи", т. к. язык, согласно его мнению, основывается на
молчании»**.
Здесь цитируемые авторы высказывают определенные
различия между Витгенштейном и Хайдеггером в понимании природы
«молчания», что нам представляется верным. «Молчание» у
Витгенштейна и Хайдеггера оказывается просто совпадением в
употреблении одного и того же слова; контексты же
терминологического значения весьма различны. Для уяснения вопроса вполне
достаточно того, что Витгенштейн никогда не считал молчание
истоком речи и не уделял ему никакой роли в своей системе,
сосредоточившись исключительно на высказывании. В свою очередь,
Хайдеггер не видел особых перспектив в исследовании обыденных
речевых практик, постоянно отмечая то, что они не погружаются
в смысловую глубину. Он пишет: «Пространное обговаривание
затемняет и погружает понятое в кажущуюся ясность, т. е. в
непонятность тривиальности <...> Умолчание как модус говорения
артикулирует понятность присутствия так исходно, что из него
* Медведев Н. В., Федотова Е. Ю. Роль молчания в онтологии языка
Витгенштейна и Хайдеггера // Каспийский регион: политика, экономика,
культура. 2015. № 1 (42). История философии. С. 202.
** Там же. С. 206.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна 881
вырастает настоящее умение слышать и прозрачное бытие-с-дру-
гими»\
На наш взгляд, нет никаких оснований предполагать, что для
Витгенштейна умолчание является модусом говорения. Для него
это аскеза, практика самоограничения и стремление сохранять
безмолвие относительно того, о чем нельзя сказать ясно и отчетливо.
Молчание оказывается не случаем языка и не его основой, а
отсутствием речи как таковой.
Мы подходим к концу рассмотрения соотношения
Витгенштейна и Хайдеггера в контексте отечественной философской мысли.
В рамках данной статьи невозможно сопоставить идеи Бибихина,
Медведева, Борисова и др. с работами западных философов,
которые проводили рассмотрение сходств и различий в философии
Хайдеггера и Витгенштейна (мы только отметим, что особенно широко
известны сопоставления К.-О. Апеля и Р. Рорти). Однако в целом
работы отечественных авторов конгениальны западным работам:
в них также утверждается, что Витгенштейн и Хайдеггер движутся
разными путями, но в рамках одной «перспективы».
Как мы показали, стратегии буквального сопоставления
фрагментов Витгенштейна и Хайдеггера либо сталкиваются с ситуацией
взаимной чуждости философов, либо ведут к спекуляциям и
натяжкам. Главной из спекуляций является, пожалуй, то, что
Витгенштейн, по сути, ставил феноменологические и герменевтические
вопросы, а Хайдеггер, в свою очередь, оказывается чутким и
внимательным к теоретическим процессам в логике и аналитической
философии. Приходится признать, что за пятьдесят лет после
первых работ К.-О. Апеля компаративистская стратегия сопоставления
категорий и фрагментов работ Хайдеггера и Витгенштейна
оказалась плодотворной, расширяющей воззрения на двух мыслителей,
но теоретически неудачной в отношении решения главного
вопроса — можно ли найти общее для Хайдеггера и Витгенштейна
концептуальное поле?
В заключении статьи мы лишь наметим это общее поле.
Частично оно формируется из тех сходств, которые были отмечены Биби-
хиным, Медведевым, Борисовым, Розиным и др. Выведем сходства
в воззрениях Хайдеггера и Витгенштейна в виде перечня принципов:
1. Отсутствие обращенности к доказательству. Витгенштейн
и Хайдеггер предпочитают демонстративные доказательства; они
стремятся показывать, а не доказывать.
2. Критика дескриптивизма. Хайдеггер и Витгенштейн
(преимущественно поздний) скептически относятся к позитивистским
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 164-165.
882
С. В. Никоненко
воззрениям о возможности «простых описаний» науки. С разных
позиций положения позитивистской философии отвергаются двумя
мыслителями.
3. Обращение к практике и, как следствие, критическое
отношение к теории. Разочаровавшись в перспективах создания
собственных философских систем, Хайдеггер и Витгенштейн
сосредоточились на понимании философии как деятельности по разъяснению
фундаментальных затруднений.
4. Принципиальная несистематичность. И Витгенштейн, и
Хайдеггер находились в состоянии вечного становления, постоянного
поиска; поэтому нет возможности говорить о таких законченных
в себе сущностях, как «философия Хайдеггера» и «философия
Витгенштейна».
5. Символическое понимание языка и мира, свойственное
обоим мыслителям. Правда, истоки символизма они находят в разном:
Хайдеггер — в поэзии и греческой философии; Витгенштейн —
в обыденном словоупотреблении и логике. Однако оба философа
понимают язык, исходя из его «естественности».
6. Наконец, Хайдеггер и Витгенштейн стремятся найти
изначальный, эйдетический образ языка. Для них язык — целостный и
фундаментальный феномен, рассмотрение которого во многом
исчерпывает саму сферу философии. Хайдеггер и Витгенштейн — не просто
крупные представители «философии языка»; их невозможно
представить вне стремления обрести языковой эйдос.
Для Хайдеггера высказывание есть нечто подручное. Его
подлинная цель — обращенность к сущему. Для Витгенштейна,
наоборот, высказывание есть самодостаточный предмет исследования
(вне зависимости от того, логический или обыденный язык
имеется в виду). Хайдеггер отмечает: «Человек есть сказывающий.
Сказать древненемецкое sagan, значит: показать, дать явиться, дать
увидеть» *. Витгенштейн в поздней философии также уходит от
информационной трактовки языка. Однако для него на первый план
выходит то, что Дж. Остин назвал перформативным
употреблением. «Сказать» для позднего Витгенштейна — означает совершить
определенное действие, доступное пониманию участников
языковой игры. Как нам представляется, это никак не влечет за собой
ни стремления оказать влияние на события, ни стремиться к
пониманию. Как отмечают О. А. Коваль и Е. Б. Крюкова: «Сразу надо
оговориться, что у Витгенштейна, как раннего, так и позднего
периодов, нигде специально не обсуждаются условия, структурные
моменты или сами акты понимания, что вовсе не означает, будто
* Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 389.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна 883
он в принципе игнорировал проблему понимания. Напротив, она
подспудно определяет весь ход его теоретических рассуждений.
Дело в том, что в отличие от Гадамера, который начинает
разворачивать свое исследование с момента возникновения понимания,
Витгенштейн всякий раз имеет дело с уже свершившимся
пониманием»*.
Правда, тут речь идет о Гадамере, но имеется в виду общий для
Хайдеггера и Гадамера контекст герменевтического понимания
языка.
Насколько актуальны в наши дни дискуссии Хайдеггера и
Витгенштейна о мире, логике и языке? Неспособность логики справиться
с символизмом приводит к пессимистическому взгляду на
возможность логического анализа, особенно в том, что касается притязаний
такого анализа на всеобщность и исключительность. Здесь уместно
обратиться к следующему высказыванию позднего Витгенштейна:
«Мы узнаем: то, что называют "предложением", "языком", — это
не формальное единство, которое я вообразил, а семейство более
родственных образований. — Как же тогда быть с логикой? Ведь ее
строгость оказывается обманчивой? — А не исчезает ли вместе с тем
и сама логика? — Ибо как логика может поступиться своей
строгостью? » **
В настоящее время аналитическая теория символизма уже не
видит затруднения в поставленных Витгенштейном вопросах, хотя бы
потому, что логика не претендует на роль всеобщего органона
языка, из чего следует отсутствие необходимости сопоставления всех
возможных языков с логическим языком.
На уровне лингвистического символизма слово, хотя и имеет
эйдетическое определение, обращено к понятности для опыта, а
потому не нуждается в детальной дефиниции по аналогии с терминами.
Вполне достаточно того, что слово гармонично выражает
собственный эйдос и отсылает к акту (актам) опыта, делая этот эйдос
конкретным. Подобная символическая неопределенность нам
представляется нормальной; даже самые строгие логики вынуждены с этим
смириться. Эйдетическая перспектива сравнения идей Хайдеггера
и Витгенштейна позволяет видеть в их философиях не
самодостаточные дискурсы, а составляющие более общей перспективы поиска
«эйдоса» языка.
Можно также предположить, что ни логика, ни поэзия не
обладают «изначальностью» и приоритетным выходом к «истине бытия»
* Коваль О. А., Крюкова Е. Б. Лингвоцентрическое понимание мира в
философии Х.-Г. Гадамера и Л. Витгенштейна // Вестник ТГУ. Сер. Философия.
Социология. Политология. 2015. № 2 (30). С. 130.
** Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. M.: Гнозис, 1994. С. 126.
884
С. В. Никоненко
хотя бы потому, что никакой предначертанной истины бытия не
существует. Также можно допустить, что общность тематики по поводу
языка вовсе не объединяет двух современников-философов; но
совершенно ясно, что их миры каким-то образом пересекаются и
вступают в отношения друг с другом. Сопоставления в духе
компаративистики дают много нового в понимании подобий и различий, но они
не дают ответа на главный вопрос: есть ли общая теоретическая
перспектива, в рамках которой движутся идейные поиски Хаидеггера
и Витгенштейна? Этот вопрос, на наш взгляд, требует дальнейших
исследований и создания новых, пока ускользающих от
исследователей перспектив, в которые системы Витгенштейна и
Хаидеггера войдут уже как проявления, составные части. В этой статье мы
предложили эйдетическую перспективу. Неисчерпаемость наследия
Хаидеггера и Витгенштейна дает нам шансы на дальнейшие
открытия и успехи.
а
О. А. ЧУЛКОВ
Феномен отражения в истории философии
<Фрагменты>
Метафизика как таковая, являясь натуралистическим учением
о сверхчувственном мире и о его отношении к чувственному миру,
основывается на принципе зеркальности, поскольку связь
физического и «метафизического», чувственно воспринимаемого и
умопостигаемого, материального и идеального представлена в ней как
отношение отраженного образа и отражаемого предмета.
Согласно М. Хайдеггеру, специфика метафизической позиции в целом
определяется четырьмя принципиальными положениями:
способом осмысления сущности человека, проекцией сущего на бытие,
определением существа истины и ограничением меры истинности
сущего*. В соответствии с этими метафизическими установками
следует выделить основные характеристики метафизических
концепций отражения:
1) человеческий разум обладает некой «зеркальной сущностью»,
то есть способностью отражать образ сверхчувственного,
устанавливать его отношение к чувственному и мыслить умопостигаемое
посредством его образа;
2) сущее представляется разделенным на несколько
неравноценных по способу своего бытия, иерархически структурированных
«миров», одни из которых являются зеркальным отображением
других;
3) традиционная формулировка сущности истины (адекватность
представления в его отношении к предмету) истолковывается как
соответствие зеркального образа отражаемому предмету;
4) степень подобия отражаемого предмета и отраженного образа
задает меру истинности познания.
* Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. М.,
1993. С. 115.
886
О. А. Чулков
Интуиция отражения служит неявной предпосылкой различных
онтологических и гносеологических моделей (от «идеального
космоса» античного платонизма до новоевропейских теорий рефлексии
и отражения). Проблема, однако, заключается в том, что в ранних
философских и теологических доктринах крайне редко ставится
вопрос о том, почему при формулировке тех или иных положений
в них явно или неявно содержится ссылка именно на феномен
отражения. Является ли этот выбор сам по себе значимым и
необходимым или же использование этой аналогии обусловлено случайными
и внешними по отношению к философскому содержанию
обстоятельствами?
<...> Вопрос о критическом переосмыслении роли оптических
метафор в лексиконе современной философии является неизбежным
следствием попыток деконструкции и преодоления метафизики,
в которой познание действительности интерпретировалось как
созерцание умопостигаемого мира, по аналогии с визуальным
восприятием образов физического мира. Л. Вольтманн, немецкий философ
XIX в., предположил, что представление о зеркальном отражении
служат единственным способом адекватного выражения
отношения бытия и мышления в философии: «Представление зеркала,
заимствованное из области самого важного и самого сложного органа
чувств, из зрительных ощущений, должно послужить нам к тому,
чтобы объяснить с точки зрения теории познания отношение
мышления и бытия. Если говорят, что мыслящий дух есть внутреннее
око, то это означает больше, чем внешнюю аналогию: это означает
более глубокое эволюционно-историческое родство. Дело в том, что
форма процесса мышления совершается в форме процесса зрения.
У нас нет никакого чувственно-технического средства, кроме образа
зеркала, орудия зрения и отражения, с помощью которого мы
понимаем высшую идею уразумения мира»*. Таким образом, по мнению
Л. Вольтманна, зеркальные метафоры и производные от них
философские понятия (отражение, рефлексия, спекуляция) выражают
фундаментальные свойства человеческого мышления и поэтому
являются необходимым элементом философского познания.
Противоположная точка зрения представлена современным
американским философом Р. Рорти, считающим, что многие проблемы
европейской философии являются «псевдопроблемами»,
постановка и разработка которых обусловлена только неудачным выбором
терминологии и которые могут быть устранены путем изменения
способа их формулировки. Вся проблематика (по мнению Рорти —
«псевдопроблематика») современной теории познания, направлен-
Вольтманн Л. Исторический материализм. Изложение и критика
марксистского миросозерцания. СПб., 1901. С. 216.
Феномен отражения в истории философии
887
ная на создание «общей теории репрезентации», является
неизбежным следствием новоевропейского оптикоцентризма, в котором
познание интерпретируется как «рассматривание» отраженного
образа предмета. В этом контексте метафора зеркала
превращается в универсальную гносеологическую парадигму, в соответствии
с которой определяются цели и задачи философского исследования:
«Именно образы, а не суждения, именно метафоры, а не
утверждения определяют большую часть наших философских убеждений.
Образ, пленником которого является традиционная философия,
представляет ум в виде огромного зеркала, содержащего различные
репрезентации, одни из которых точны, а другие — нет... Без
представления об уме как зеркале понятие познания как точности
репрезентации не появилось бы. Без этого последнего понятия стратегия,
свойственная философам от Декарта до Канта, — получение все
более точных репрезентаций путем, так сказать, осмотра, починки
и полировки зеркала — не имела бы смысла»*. Познание сводится
к решению так называемой задачи Альхазена — определению
реального расположения предмета на основании известного «места»
его зеркального отражения.
В этом смысле феномен отражения может быть
интерпретирован, во-первых, как способность ума принимать разнообразные
формы, не изменяясь при этом, и, во-вторых, как его субстанциальное
отличие от материальной телесности (отражающими свойствами
обладает не имеющая объема «идеальная» поверхность). Метафора
«зеркального ума» возникла в античной натурфилософии и была
некритически воспринята средневековой и новоевропейской
метафизикой: «В зеркальных образах гуманистов Возрождения, —
писал Р. Рорти, — различия между Гомером и Августином, Плотином
и св. Фомой сгладились, и получился расплывчатый, но
выразительный дуализм, о котором, как все полагали, философы знают
все, хотя мало кто мог надеяться на то, что можно произнести по
этому поводу что-нибудь путное. Нынешние философы ума склонны
к тому, чтобы проглотить эту неопределенную смесь —
человеческую Зеркальную Сущность — вместе с понятиями сознания и
осознания***. Ссылаясь на авторитет М. Хайдеггера, Л. Виттгенштейна
и Дж. Дьюи, Р. Рорти утверждает, что интуиция зеркальной
сущности ума может оказаться всего лишь следствием нашей готовности
подладиться под специфическую философскую языковую игру.
Чтобы выйти из этой игры, достаточно удалить из философского
лексикона образ Зеркала Природы («мы должны выбросить визуальные
метафоры, и, в частности, метафоры отражения из нашей речи во-
* Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. С. 9.
** Там же. С. 32-34.
888
О. А. Чулков
обще»*). Но даже если допустить возможность столь радикального
пересмотра всего лексикона современной философии, то следует
заметить, что ссылка на Л. Виттгенштейна и М. Хайдеггера в данном
случае едва ли уместна, поскольку «ранний» Виттгенштейн
представлял логику как «зеркальный образ мира», а «поздний» Хай-
деггер ввел понятие «зеркальной игры мировой четерицы», смысл
которой существенно отличается от классической теории
репрезентации.
<...> Такая модель зеркального опыта противоречит статичной
оптико-геометрической теории отражения, согласно которой
зеркальная репрезентация всецело обусловлена свойствами
отражающей поверхности, характеристиками отражаемого предмета и
пространственным положением зеркала относительно направления
взгляда. Иначе говоря, эта теория, на которой основывалась
классическая схема субъект-объектного отношения, предполагает жесткую
каузальную детерминацию зеркального отражения. Но, как
говорилось ранее, только осмысленный взгляд придает актуальность
бытию образа. Динамическое взаимоотношение отражаемого образца,
зеркала и отраженного образа, соответствуют порядку членов
онтологической триады «бытие — ничто — творение», причем связь
между образцом и образом имеет не каузальный, а событийный
характер. Смысл такой взаимосвязи сущего состоит не в точной
репрезентации представленного, но в свободном событии
воображаемого и воображающего. Это событие онтологического воображения
М. Хайдеггер называет «зеркальной игрой мировой четверицы» —
едино-сложенности земли и неба, божеств и смертных.
Зеркальность этой игры уже нельзя интерпретировать как представление
объекта, противостоящего представляющему субъекту. Чтобы
приблизить нас к миру, говорит Хайдеггер, вещь должна стать видимой
не так, как мы ее пред-ставляем, а так, как она «стоит» сама по себе,
как она веществует. Само существо вещи и присутствие мира
обнаруживается не как результат теоретического умозрения, но как
собрание и скрещение, событие мировой четверицы в ее простом
союзе. Каждый из четырех зеркально отражает существо всех
остальных, по-своему зеркально отражаясь при этом в свою собственную
суть. «Эта зеркальность — не отображение какого-то изображения.
Зеркальность, освещая каждого из четырех, дает их собственному
существу сбыться в простом вручении себя друг другу... Осущест-
вляюще-вручающая зеркальность отпускает каждого из четверых
на свободу его собственной сути, но привязывает, свободных, к
односложности их сущностной взаимопринадлежности»**. Смысл зер-
* Рорти Р. Философия и зеркало природы. С. 275.
** Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 324.
Феномен отражения в истории философии
889
кальной игры состоит не в точной репрезентации представленного,
но в «обязывающей свободой зеркальности», которая позволяет
каждому из участников сбыться в непотаенности собственного
существа*. Зеркальная игра четырех — это и есть необъяснимое**
существо мирения как такового, то неотразимое событие, в
сохраняющем круге которого пребывают всегда по-своему веществующие
вещи. Этот хранящий хоровод не охватывает мир извне, но в своей
зеркальной игре все окружает: «Своим воссиянием круг вручает
четверых, отовсюду открытых, загадке их существа... В окружении
зеркально играющего круга четверо льнут к своему единому и все же
у каждого собственному существу. Так льнущие, ладят они, ладно
миря, мир»***.
Человек — не зритель и не судья зеркальной игры мира, но лишь
один из ее участников. Пассивное отражение объективной
действительности и вынесение суждений о точности своих репрезентаций
не приближает человеческое познание к миру. Чтобы эта
зеркальная игра имела смысл, каждый из ее участников должен прильнуть
к другому, приладить собственную кривизну к особенности
остальных, исправляя взаимным отражением то, что никогда не
возможно было бы исправить в каждом из отражаемых и отражающихся
по отдельности. Вероятно, в этом смысле следует понимать слова
М. К. Мамардашвили: «Все умные места кривые. Познаем
искривлением (прилегаем). В мире ничего изменить нельзя... Есть
только одна-единственная связь, в которой конгруирует, и нужно быть
так кривым, чтобы прилегло; есть неотображаемое место различия
"правого" и "левого", место понятия »****. Только тогда, внезапно, мир
в нашем его понимании является именно как мир, в котором
расположение вещей становится соразмерным окружению земли и неба,
божеств и смертных: «Вещи, всякий раз своим способом
веществующие, — зеркало и пряжка, книга и картина, корона и крест, — все
присутствующие вещи легко и неприметно льнут к своему суще-
* Зеркальная игра складывается по принципу четки — игрушки из романа
В. Набокова «Приглашение на казнь». Набоковская нетка — это наглядная
модель апокатастасиса: нелепый и бесформенный предмет, отражаясь в
искаженном и уродливом зеркале, восстанавливается в «чудный и стройный
образ»; достаточно лишь приладить кривизну зеркала к неправильности
предмета и «бессмысленная нетка складывается в прелестную картину»
(Набоков В. Истребление тиранов. М. 1991., С. 65).
'* «Необъяснимость мирения мира происходит оттого, что такие вещи, как
причины и основания, мирению мира не соразмерны... Человеческая
потребность в объяснениях вообще не имеет отношения к едино-сложенности
мира». (Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 324).
" Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 325.
'* Мамардашвили М. К. Необходимость себя. М., 1996. С. 210.
890
О. А. Чулков
ству»*. Участие в «зеркальной игре» позволяет вещам сохранять
полноту собственного бытия, образам — выражать самобытность
вещей, а внимательному взгляду — улавливать смысл их различения.
Заметим, что выражение «зеркальная игра мира» тавтологично,
поскольку русское «мир» этимологически восходит к тому же
индоевропейскому корню -(s)mi-, что и английское mirror ("зеркало). Эта
этимологическая близость оказывается весьма значимой, если
словом «мир» мы обозначаем то никогда не видимое зеркало, в котором
только и возможно нечто увидеть, то неотразимое событие, которое
позволяет вещам отражать и быть отражаемыми.
Концепция «зеркальной игры мира» М. Хайдеггера позволяет
обнаружить онтологические основания описанных нами
метафизических концепций зеркального отражения, каждая из которых,
эксплицируя лишь один из аспектов зеркальности, сводит еди-
но-сложенность мировой четверицы к троичности отношения
«образ» — «зеркало» — «образец». Хайдеггеровские термины «небо»
и «земля», «божества» и «смертные» включают в себя различные
метафизические сущности, соответствующие характерным для
каждой историко-философской эпохи мифологическим, религиозным
и естественнонаучным установкам. В античной эйдологии космоса
«смертные» (человек как «мера всех вещей») является
опосредующим звеном между «землей» (чувственно-воспринимаемым
космосом) и «небом» (умопостигаемым миром). В средневековой
христианской катоптрософии смертный человек посредством «небесной
иерархии» восстанавливает в себе «образ и подобие» Божества.
Наконец, в новоевропейской спекулятивной метафизике,
«Божественное» (трансцендентное, Абсолютная идея) оказывается «по ту
сторону» представлений «смертных» (субъекта) о «земном» (объекте).
Метафизическое разделение мира на «чувственное» и
«сверхчувственное», «тварное» и «творящее», «трансцендентное» и
«имманентное » всякий раз снимается за счет введения третьего,
опосредующего элемента (мира идей, «зеркала Премудрости», «субъективного
представления»), которому приписывается предикат
«зеркальности», что позволяет зафиксировать отношения подобия и различия
между первым и вторым членами триады. Таким образом, в
античной, средневековой и новоевропейской метафизике
выстраиваются следующие схемы концептуализации зеркальности (в терминах
М. Хайдеггера): «земля» — «смертные» — «небо»; «смертные» —
«небо» — «божества» и «божества» — «земля» — «небо». При этом
из четверицы мира неизбежно выпадает один из ее членов
(соответственно, «божества», «земля» и «небо»), и в результате нарушения
* Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 326.
Феномен отражения в истории философии
891
едино-сложенности игры вещи лишаются изначально присущего им
объема, становятся «плоскими» и превращаются во «всего лишь»
собственное изображение, в представление о вещах. Тогда-то и
обнаруживается недостаточность паноптической терминологии, которая
представляет излишне очевидным то, что должно было бы
оставаться потаенным, и утаивает то, что следовало бы сделать очевидным.
И все же главная проблема метафизики зеркальности заключается
не столько в перенасыщении дискурса метафорами и аналогиями
отражения, сколько в упущении из виду того горизонта «зеркальной
игры», в котором эти метафоры и аналогии действительно могли бы
иметь некий онтологический смысл.
<...> В известном смысле феномен отражения действительно
становится соблазном для ума, тщетно пытающегося разрешить
нелинейное уравнение с четырьмя неизвестными (хайдеггеровскими
«небом» и «землей», «божествами» и «смертными»), ведущими между
собой непостижимую зеркальную игру. Ум, увлеченный мнимой
ясностью отражений, сводит эту игру к двумерной механической
проекции одного из ее участников на все другие, но тогда перед ним
возникает некое волшебное зеркало, которое, как пишет В. В. Биби-
хин, «играет и беседует с человеком, показывая ему жизнь и другие
поразительные видения, разнообразие и богатство которых
склоняют верить, что оно не волшебство и не обман»*. Но, для того чтобы
избавиться от этого «зеркала самозваных гностиков», явно
недостаточно (и едва ли возможно) исключить оптическую терминологию
из философского обращения, и заменить ее, скажем, лексиконом
современной нейрофизиологии. Основная задача состоит в том, чтобы
попытаться прояснить онтологический смысл концепта отражения,
избавив его от той навязчивой и тривиальной самоочевидности,
которая закрепилась за ним в результате упрощенного понимания
истории философии.
5
* Бибихин В. В. Из записей на тему самопознания // Бибихин В. В. Узнай
себя. СПб., 1998. С. 234.
€^^
E. В. ФАЛЁВ
Хайдеггер и философская традиция —
повторение и возобновление
Отношение Хайдеггера к философской традиции описывается им
самим в период «Бытия и времени» как «демонтаж» (Abbau),
«деконструкция» (Destruktion) традиционной онтологии, а после
«поворота» как «преодоление» (Überwindung) метафизики. В 1928 г.
он также говорит о двух модусах отношения к традиции,
которые можно назвать «собственным» и «несобственным» — соотв.
Wiederholung и Überholung. Хайдеггер довольно часто использует
слова немецкого языка не в их общеупотребительном «словарном»
значении, а производя их значение из их «корневого» смысла,
модифицированного предлогом. Самый известный пример —
центральный термин «Бытия и времени», Dasein, который обычно означает
«жизнь», «существование», а у Хайдеггера принимает значение
«вот (здесь) бытие». Так же нужно понимать соотношение между
Wiederholung и Überholung. Корень holen имеет исходное значение
«призывать, созывать» (лат. calâre), a на основе этого развились
значения * стягивать », « привлекать », « приносить », * добывать ».
Соотв. Wiederholung — «повторное обретение», в словарном
значении — «повторение», но в соотношении с Überholung этому
скорее соответствует русское «возобновление». Überholung в
словарном значении выражает «опережение, обгон», или «подновление,
ремонт». Предлог über здесь понимается Хайдегге^ом как русское
«пере-», по образцу Übernahme — «передача». Соотв. Überholung —
«переполучение», «переобретение» одного и того же. Из
употребления Хайдеггером этого слова (например, во «Введении в
философию» 1928-1929 гг*.) можно сделать вывод, что Überholung
применительно к философской традиции означает «пассивное
воспроизведение форм мысли, переданных традицией», тогда как
Wiederholung — «снятие» исторически данных форм, но лишь ради
* См.: Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 27. Einleitung in die
Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1996. S. 224.
Хайдеггер и философская традиция
893
возобновления, то есть вновь-обретения, «Того же Самого», то есть
исходного события (Ereignis) философского мышления. В качестве
иллюстрации двух этих типов отношения к прошлому вполне
подходит евангельская притча о мехах и вине (Мф. 9:17):
Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе
прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое
вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.
Вино — древний символ пьянящего опыта переживания истины,
мехи — символ исторической формы, в которой этот опыт
запечатлен и хранится. Überholung — это попытка сохранить старые формы
философской мысли и «подновить» их, придать им какой-то более
современный смысл. Это также «опережение» в том смысле, что мы
можем ставить себя выше философской мысли прошлого, как
«устаревшей». Überholung можно сравнить с вливанием нового вина
в старые мехи. Wiederholung — возобновление пьянящего опыта
истины (вина) и облечение его в новые формы. Именно таково
отношение Хайдеггера ко всей философской традиции в целом, более
того, только так может и должна относиться к прошлому подлинная
философия. Уже в «Бытии и времени», где впервые ставится задача
«деструкции истории онтологии», Хайдеггер оговаривает, что «эта
деструкция, опять же, не хочет хоронить прошедшее в ничтожности,
она имеет позитивное назначение; ее негативная функция остается
неспециальной и непрямой»*. Во «Введении в философию»
Хайдеггер пишет об отношении к прошлому философии следующее:
Подлинная философия по своей сути никогда не может быть
пере-обретена (überholt), но должна сама всякий раз заново
возобновляться (wiederholt werden). Где и когда случается подлинное
философствование, оно само напрямую вступает в разговор с
историческим прошлым и тогда видит, что в философии нет никакой
новизны, а потому не может быть и ничего «устаревшего»; оно вообще
стоит по ту сторону «старого» и «нового». <...> Вообще об истории
можно вести речь не тогда, когда просто повторяют (nachreden)
нечто, то есть ссылаются догматически на более раннюю философию,
будь то Аристотель или Кант; история лишь тогда вновь дает нечто
существенное, когда через живое философствование сама
приводится к со-философствованию (Mit philosophieren).
„Die Destruktion will aber nicht die Vergangenheit in Nichtigkeit begraben,
sie hat positive Absicht; ihre negative Funktion bleibt unausdrücklich und
indirekt" (Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967.
S. 23).
894
Е. В. Фалёв
В 1926-1928 гг. Хайдеггер обозначал эту возобновляемую
сущность философии как «вопрос о бытии», точнее, как
осознание того, что отношение к бытию составляет существенную и
основную черту человеческого Dasein (и даже «души»). Но «вопрос
о бытии» — это вопрос в особом смысле, отличном от научного
и даже обыденного. У Хайдеггера это скорее намек-указание,
подобное дорожному указателю, которому нужно последовать,
но который именно поэтому нужно оставить за собой.
Философствование для него есть бескомпромиссное и ни перед чем не
останавливающееся «вопрошание-о», которое воспроизводит фигуру
«вечного возвращения», ритмично повторяя на разные лады одни
и те же мотивы.
Здесь мы рассмотрим два, на наш взгляд, основных мотива
философствования Хайдеггера, которые можно рассматривать как
возобновление философского опыта истины, составляющего саму суть
философии, от момента ее возникновения (к какому бы времени его
ни относить). Это мотивы пути и бодрствования.
Философия как путь
Архетипом философского мышления для Европы стала paideia
из платоновского «образа пещеры», которую сам Платон определяет
Kanperiagôgè hôlês tes psychés — обращение целиком всей души. Это
обращение можно понимать как последовательную смену установок
мысли, смену исходных очевидностей. И хотя Хайдеггер в одном
из аспектов образа пещеры видит исток метафизики как «забвения
бытия», другой аспект этого образа, как я надеюсь показать,
хорошо выражает то существо философии, которое Хайдеггер стремится
возродить.
Начиная с ранних работ (по крайней мере, Hermeneutik der
Faktizität, 1923 — HdF) и заканчивая самыми поздними, Хайдеггер
понимает философию как путь. В HdF он вводит термин Blickbahn
(«путь зрения»), который, в отличие от Blickstand или Blickstellung
(«точка зрения»), означает реальное изменение установки в ходе
истолкования/исследования.
Всё дело в том, чтобы, отталкиваясь от неопределенного, но
некоторым образом понятного содержания уведомления
[Anzeigegehalt], вывести из понимания на правильный путь зрения
[Blickbahn]. Положительный итог этого пути зрения можно и нужно
профилактически подпереть при помощи отказа от всех по
видимости родственных и потому спонтанно напирающих положений
Хайдеггер и философская традиция
895
зрения [Blickstellungen], которые довлеют над любым конкретным
состоянием исследования*.
Его претензия к метафизике и основание для ее деконструкции
заключается в том, что в ней всякая критика и фундирование
осуществляются с некоторой предзаданной точки зрения (die Vorhabe).
Против такой предвзятости выступает также и Гуссерль в
требовании беспредпосылочности. Но Хайдеггера также не устраивает
и мнимая «свобода от точки зрения» (Standpunktfreiheit)
феноменологии — ее претензия на положение наблюдателя вне мира.
Образование точки зрения есть первое в бытии**.
Свобода от точки зрения, если это слово вообще должно что-то
обозначать, есть не что иное, как явно выраженное усвоение
определенного угла зрения (Blickstand)***.
В феноменологической редукции, по Хайдеггеру, не
происходит реальной смены установки. «Естественная установка» — это
не установка естественного человека, не знакомого с философией.
Это лишь ретроспективный и оценивающий взгляд феноменолога
на «естественного человека». Все ступени редукции
осуществляются внутри одной — феноменологической — установки.
«Естественная установка» обретается в феноменологии путем
«лишения наук значимости» (Парижские доклады). То есть
исходной установкой является научная, рефлексивная установка, для
которой подыскиваются «недостающие звенья» в донаучной
жизни. Но при этом не подвергается сомнению и критическому анализу
высшая ценность научной рациональности, учрежденной
Декартом, как поиска достоверного, аподиктичного в нашем знании. Это
остается главной предпосылкой, которую проглядели феноменологи
в своем стремлении к беспред посы л очности. Хотя уже Гегель и
Ницше по-разному разоблачали «противожизненность» научной и
метафизической рациональности.
* „Alles liegt daran, vom unbestimmten, aber irgendwie verständlichen
Anzeigegehalt aus das Verstehen auf die rechte Blickbahn zu bringen. Das Gewinnen
dieser Blickbahn kann und muß prophylaktisch unterstützt werden durch
Abweisung scheinbar verwandter und deshalb von selbst andrängender
Blickstellungen, wie sie in einer jeweiligen Lage des Forschens herrschend sind"
(Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 63. Ontologie (Hermeneutik der
Faktizität). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1988. S. 80).
** Ausbildung des Standpunkts ist das erste im Sein (Ibid. S. 82).
*** Standpunktfreiheit ist, wenn das Wort überhaupt etwas besagen soll, nichts
anderes als ausdrückliche Aneignung des Blickstandes. (Ibid. S. 83).
896
Е. В. Фалёв
Это «лишение наук значимости» не означает реального сомнения
в значимости наук: как и у Декарта, это лишь притворное
«методическое сомнение», нацеленное лишь на то, чтобы получше
обосновать и в итоге вернуть обратно в целости и сохранности все то, что
якобы прошло через очистительное горнило сомнения.
Хайдеггер в трактовке принципа беспредпосылочности более
строг. Возможно, потому, что он не был настолько способен к
овладению техникой Wesensschau, в «вынесении за скобки» и в
рефлексии с точки зрения als ob (как если бы) — например, как если бы
мы могли мыслить как «чистые», совершенно свободные от всякой
практической установки, субъекты. Поэтому Хайдеггер «лишает
науки значимости» не условно, а всерьез, и именно ценность,
безусловность познавательной установки по отношению к миру он ставит
под вопрос. И движение фундирующей критики опыта у него
представляет собой не последовательность условных «взятий в скобки»,
а реальные шаги истолкования, которые должны привести к
последовательной смене установок в ходе движения по некоему
намечаемому им пути.
Мне кажется, путь истолкования Dasein во многих отношениях
ближе к «превращениям духа» в «Так говорил Заратустра» Ницше,
чем к ступеням феноменологической редукции у Гуссерля.
Если Гуссерль требовал от феноменолога все время «начинать
с начала», то Хайдеггер в HdF требует:
1) найти это начало как историческое (начало ухода и сокрытия
бытия);
2) держаться этого начала, видя в нем то же (и иное), что сейчас;
3) постоянно готовить путь (ständige Bereitung des Weges)*.
Готовить путь куда и для чего? В 1923 г. еще не было понятия
«Другого Начала», но здесь мы можем видеть, как Хайдеггер нащупывал
его.
У Хайдеггера философия с самого начала понимается как путь
и движение: до «поворота» — как движение
экзистенциально-аналитического истолкования «повседневного вот-бытия», после
«поворота» — как движение бытийно-исторической мысли в
окрестность «другого Начала». Возрождаемое Хаидеггером понимание
философии как пути, движение по которому есть изменение
видения человека, — принадлежит исконной сути философии, особенно
восточной (кит. Дао, инд. Марга, будд. Яна).
Это «путь» как единство трех взаимосвязанных аспектов:
1) движение, прокладывающее путь (Bahnen); «дороги
становятся дорогами, когда их протопчут» (Дао дэ цзин); так же у Хай-
* Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 63. Ontologie. S. 76.
Хайдеггер и философская традиция
897
деггера для философа не может быть готовых путей; даже если он
следует по стопам великих, он каждый раз сам обновляет путь;
2) путевые вехи (Wegmarken), которые путник оставляет
своим неведомым последователям; эти вехи указывают на опасные
и трудные места, но пройти путь каждый должен сам, уклоняясь
от опасностей и преодолевая трудности;
3) та местность, в близость которой движется путь — «туда,
где мы всегда уже пребываем»; и путь, и сам путник принадлежат
своей местности, своему жизненному контексту, от которого
нельзя даже условно абстрагироваться. Разные люди движутся к одной
цели — опыту истины, но из разных местностей, поэтому опять же
не может быть единого пути для всех.
Обобщая, можно сказать, что с философией Хайдеггера
наступает конец эпохи метода — того метода, который, начиная с Бэкона
и Декарта, стал главной движущей силой новоевропейской
философии, науки и техники. Теперь становится очевидным, что метод стал
главным орудием насаждения усредненного модуса мышления и
существования (das Man). Само понятие метода основано на вере в то,
что разные люди в разное время, следуя определенной
последовательности шагов, могут рассчитывать на получение сходных
результатов. По Хайдеггеру, прокладывающие путь мыслители и ученые
оставляют «путевые вехи», но следование им не может и не должно
давать сходных результатов. Каждое реальное движение мысли есть
новое Событие, открывающее новый горизонт для сбывающихся
в нем смыслов.
Понятие «метод» может и сохраниться, но теперь оно будет
означать просто определенный способ про-движения, вопрошающего
исследования, а также высвобождение-пробуждение дремлющей
мысли и «приуготовление пути». У Хайдеггера — приуготовление пути
к «другому Началу».
Подлинная философия и до Хайдеггера была движением
мысли — платоновский образ paideia и неоплатоническая «лестница
созерцания» намечали путевые вехи этого движения. И цель этого
движения была в конечном счете одной — бодрствование к самому
себе и к Богу.
Но очевидно, что движущая сила и способ движения
осмысления (Besinnen), составляющего суть философствования, должны,
по Хайдеггеру, радикально измениться со скачком (Einsprung)
в другое Начало. Если «основным настроением» (Grundstimmung)
первого Начала было удивление (Erstaunen)*, то «другое
Начало» описывается как «предчувствие бытия» (Ahnen des Seyns).
* Heidegger M. Gesamtausgabe. III. Abteilung. Bd. 65. Beträge zur
Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1989. S. 14.
898
Е. В. Фалёв
И движущей силой философского вопрошания становится теперь
не удивленное любопытство или сомневающееся стремление к
достоверности, а остро ощущаемая «нужда Богов» (Notschaft der
Göttern).
Здесь "der" умышленно двузначно: Not schaff — это и нужда
человека в присутствии Богов, и нужда Богов в позволении-явить-се-
бя, какого позволения они ждут со стороны человека.
Говорение поэта, взятое в употребление, должно, показывая
и скрывая-раскрывая, позволить появиться приходу богов,
которым для их появления нужно слово поэта, дабы в своем явлении
остаться самими собой*.
Мотив бодрствования
В конечном счете цель всей философии у Хайдеггера одна —
достичь состояния бодрствования (Wachsein) и сохранять его. Эту
цель мы видим уже в ранних стихотворениях «Масличная гора»
(Ölberg), и «Хотим дождаться» (Wir wollen warten)**, которые
дополняют друг друга и должны, по-видимому, служить ключом друг
к другу. Хайдеггер первоначально усвоил мотив бодрствования
через христианство, и образ Христова «моления о чаше» на горе Еле-
онской — кульминация этого мотива в Новом Завете. Тот же мотив
мы встречаем и во многих важнейших работах Хайдеггера,
например в Beiträge zur Philosophie, где Событие (Ereignis) властно
требует от человека «пребывания-на-страже» (Wächterschaft):
Всякое пребывание-на-страже человеческого существования
должно прочно утвердиться в этой решимости, поскольку человек
должен стать, как обосновывающий вот-бытие, стражем покоя
минования последнего Бога***,
а также в «Письме о гуманизме» :
* Heidegger M. Gesamtausgabe. I.Abteilung. Bd. 4. Erläuterungen zu
Hölderlins Dichtung. Frankfurt am Main: Vittorio Kloster mann Verlag, 1981. S. 191.
** Idem. Gesamtausgabe. I. Abteilung. Bd. 13. Aus der Erfahrung des Denkens.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1983. S. 6.
*** „In dieser Entschiedenheit muß alle Wächterschaft des Da-seins Fuß gefaßt
haben, sofern der Mensch als Gründer des Da-seins zum Wächter der Stille
des Vorbeigangs des letzten Gottes werden muß (vgl. Die Gründung)"
(Heidegger M. Gesamtausgabe. III. Abteilung. Bd. 65. Beträge zur Philosophie.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1989. S. 23).
Хайдеггер и философская традиция
899
«Существо человека покоится в эк-зистенции. К ней в
сущностном, т. е. в собственном бытийном плане сводится всё, потому что
бытие о-существляет человека как экзистирующего, присваивая его
себе, чтобы он был стражем истины бытия*.
Этимологически Wacht, «стража», через Wache (то же) связано
с wachen — «бодрствовать». Хотя Хайдеггер в своем «слушании
корней слов» не всегда следует научной этимологии, здесь она на его
стороне. Всегда, когда Хайдеггер говорит о «хранении», «стоянии
на страже», смысл бодрствования для него звучит совершенно
отчетливо.
Этот мотив позволяет поместить Хайдеггера в основное течение
(mainstream) философского движения, как Востока, так и Запада.
На Востоке идеал «бодрствующего» — Buddha (пробужденный),
это понятие встречается не только в буддизме, но и в Бхагавадгите,
и в Упанишадах. Одна из наиболее популярных практик в
буддизме — до настоящего времени — vipassana (vipasyana) —
достижение полной осознанности в отношении каждого действия, чувства
и мысли в каждый момент повседневной жизни. Это очень созвучно
Хайдеггеру, который именно «повседневное вот-бытие» (jeweiliges
Dasein) стремился сделать «бодрствующим к самому себе». Недаром
японские буддисты интуитивно ощутили в мысли Хайдеггера нечто
сущностно родственное («Диалог японца и спрашивающего»**).
На Западе христианство унаследовало мотив бодрствования
от платонической философии. У Платона мы находим образ
философа, в котором соединены и «нужда Богов», и «пребывание-на-стра-
же человека»: «По справедливости окрыляется только разум
философа: у него всегда по мере его сил память обращена на то, чем
божествен Бог» (Федр, 249d). На языке Хайдеггера этому будет
соответствовать примерно следующее: философ — тот, кто ищет,
хранит и стережет «хранимую истину» бытия.
Быть искателем [Sucher], хранителем [Wahrer] и стражем
[Wächter] — такова основная черта вот-бытия. В этих названиях
собирается определение человека, поскольку он постигается из
своего основания, то есть из вот-бытия, которое, в свою очередь, есть
* „Das Wesen des Menschen beruht in der Ek-sistenz. Auf diese kommt es
wesentlich, das heißt vom Sein selber her, an, insofern das Sein den Menschen
als den ek-sistierenden zur Wächterschaft für die Wahrheit des Seins in diese
selbst ereignet" (Heidegger M. Gesamtausgabe. I. Abteilung. Bd. 9.
Wegmarken. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1976. S. 343).
" Heidegger M. Gesamtausgabe. I. Abteilung. Bd. 12. Unterwegs zur Sprache.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1985. S. 79.
900
Е. В. Фалёв
сбывшееся для события как сути бытия и лишь в силу такого
происхождения может стать внутри-стоящим [inständlich] как
основание временного протяжения [des Zeit-Raumes] («темпоральности»),
чтобы нужду бытийной оставленное™ превратить в необходимость
творения как возврата сущего*.
Слово Wahrer не употребляется в современном немецком языке
(есть близкое Bewahrer, также Verwahrer, «хранитель»), но Хайдег-
гер умышленно обнажает здесь корень слова, чтобы зазвучало
созвучие с wahr — «истинный», «верный».
Хайдеггер, очевидно, вопреки научной этимологии, толкует
«корневое значение» слова Wahrheit, «истина», через wahren,
«хранить, беречь, охранять». Причем такое толкование можно
проследить уже с 1922 г., когда преобладающим ключом к толкованию
истины у Хайдеггера была «несокрытость», — она уже совмещалась
с «хранением»: «ÄXriOetieiv не означает "овладение истиной", но
значит принимать подразумеваемое — а именно подразумеваемое
сущее — на хранение как несокрытое»**.
Этимологически wahr, как и латинское verus, и русское
«истинный», происходит от глагола «быть» (этимологи
реконструируют древний индогерманский корень wes***, тогда как wahren,
англ. ward (устар. «стража»), ст.-рус. варта («стража») и санс-
кр. uarta в äryävarta («арийская обитель, хранимая земля»)
происходит от другого индоевропейского глагола vr — «покрывать,
окружать, отражать» — например, стадо скота от хищников или
землю от врагов и т. д., откуда происходит значение «бдить»,
«наблюдать» (греч. ôpàœ — «вижу»). Хайдеггер сливает эти два
корневых значения, следуя чисто фонетическому созвучию. Потому
у Хайдеггера «истина» — это всегда нечто хранимое, оберегаемое,
требующее от человека бодрствования. Но это также полностью
в русле его феноменологической герменевтики. Ведь уже
доказано и Гуссерлем, и неокантианцами, что нет «вещей в себе»,
которые просто «есть» и которые можно было бы пассивно вос-принять
(wahr-nehmen). Принять истину — теперь значит «предоставить
* Heidegger M. Gesamtausgabe. III. Abteilung. Bd. 65. Beträge zur
Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1989. S. 17-18.
** „ÄXnOeueiv besagt nicht: »sich der Wahrheit bemächtigen', sondern das je
vermeinte und als solches vermeinte Seiende als unverhülltes in Verwahrung
nehmen" (Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 62.
Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur
Ontologie und Logik. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 2005.
P. 378).
*** Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache. Straßburg:
Karl J. Trübner, 1899. S. 412.
Хайдеггер и философская традиция
901
ей место» (einräumen) в своем вот-бытии и окружить со всех
сторон горизонтом своей заботы.
Равным образом и хранитель (Wahrer) — тот, кто не просто
принимает под свою опеку нечто данное, но постоянно «выверяет»,
♦поверяет», «сверяет» то, что он хранит, с тем, что он искал.
В «Феноменологических интерпретациях Аристотеля»,
вошедших в GA61, даже время (правда, только «кайрологическое»,
«качественное») выводится из бодрствующего ожидания, способности
«быть на страже»: «Кайрологическое — "время". Сидеть смирно,
уметь ждать, т. е. "давать время", в мире и его истории. У
фактической жизни своё время; "время", которое ей вверено, которое она
может различным образом "иметь": удерживать в ожидании,
сохранении»*. Здесь бодрствующее охранение (Verwahrung)
созвучием корней (и этимологией) связывается с ожиданием (Erwartung),
из которого и выводится время «фактической жизни», в
противоположность количественному времени опредмечивающего научного
подхода.
Можно последовать за Хайдеггером в этом направлении и
проследить более глубоко происхождение корневых значений «время»
и «бодрствование». И если этимологически первичное значение
действительно принимать за первичное по смыслу (будь то
логически или экзистенциально), то можно найти подтверждение
такой дедукции времени из бодрствования, по крайней мере, в
индоевропейских языках. Фасмер выводит «время» из санскритского
vartma — «колея, рытвина, дорога, желоб». Это слово происходит
от глагола vrt — «вращать(ся), вертеть(ся), продвигаться вперёд,
осуществляться». Но сам этот глагол восходит к корневому vr.
Также санскритское velä, «время», восходит не к vrt, a к vr,
имеющему в ведийском и санскрите две группы значений: 1) «окружать,
покрывать, оберегать, отражать (внешнюю опасность), скрывать,
сдерживать» (нем. wehren, «защищать»; währen, «длиться»);
2) «избирать, предпочитать, ухаживать, любить» (нем. wollen,
«желать», рус. «волетъ»). Оба эти значения можно объединить
в одном корневом смысле: то, что для тебя ценно, окружить
своей бдительной опекой и тем самым отделить от всего остального
мира. Общим для vrt и vr является значение «движение по кругу»,
* „Das Kairologische — »Zeit*. Still sitzen, warten können, d. h. ,Zeit geben4, in
der Welt und ihrer Geschichte. Das faktische Leben hat seine Zeit; ,Zeit', was
ihm anvertraut ist, die es verschieden ,haben* kann: Behalten in Erwartung,
Verwahrung" (Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung. Bd. 61.
Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles: Einführung in die
phänomenologische Forschung. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1985.
S. 139).
902
Е. В. Фалёв
но звук t, очевидно, придает значение завершенности,
цикличности, повторяемости, прогрессии. При этом само движение по
кругу всё же имело изначально не пространственный, но
«экзистенциальный» смысл: делать центром = придавать высшую ценность
чему-либо, но осуществить это можно лишь одним способом —
бодрствовать в отношении этого центра, хранить его (для себя)
от внешних вторжений, сохранять его как центр своего
непрерывного внимания. Потому «время» в его корневом значении можно
определить как меру (и измерение) непрерывного внимания к
чему-либо. Не случайно уже в исторические времена мерой времени
во многих странах была «стража» — 2 часа — время, в течение
которого человек может сохранять полную бдительность.
Аналогично в русском: «стоять на часах». Кстати, академическая «пара»
имеет под собой такую же основу.
Мотив бодрствования у Хайдеггера с самого начала имел два
аспекта.
1) Бодрствование к самому себе, к своим наиболее
«собственным» возможностям.
Одно из первых упоминаний темы бодрствования в
философском контексте находим в «Герменевтике фактичности»: «Это
понимание, которое прорастает в истолковании, совершенно нельзя
сравнивать с тем, что обыкновенно именуется пониманием как
некое познающее отношение к другой жизни; это вообще никакое
не "отношение к чему-либо" (интенциональность), но способ бытия
(Wie) самого Dasein; терминологически это можно предварительно
зафиксировать как бодрствование Dasein к самому себе». (Хай-
деггер GA63, 15)*. Затем вся «экзистенциальная аналитика»
«Бытия и времени» была нацелена на то же понимание-бодрствование.
В «Бытии и времени» этому соответствует задача «сделать
прозрачным [для самого себя] некое сущее — вопрошающее — в его бытии»
(Хайдеггер 1967, 7). Этот мотив преобладал до Поворота 1930-х гг.
После Поворота все большее значение для Хайдеггера приобретает
второй аспект —
2) Бодрствование к рассвету нового дня — некому тайному,
великому и судьбоносному превращению, которое совершается
в бытийной истории человечества.
Этот рассвет уже «сбылся» на плане бытийной истории, поэт был
его первым свидетелем и предоставил ему свое слово. Так, в разъ-
* Dieses Verstehen, das in der Auslegung erwächst, ist mit dem, was sonst
Verstehen genannt wird als ein erkennendes Verhalten zu anderem Leben, ganz
unvergleichlich; es ist überhaupt kein Sichverhalten zu... (Intentionalität),
sondern ein Wie des Daseins selbst; terminologisch sei es im vorhinein fixiert
als das Wachsein des Daseins für sich selbst.
Хайдеггер и философская традиция
903
яснении к поэме Гёльдерлина "Wie wenn am Feiertage" Хайдеггер
обращает внимание на возглас поэта:
Jezt aber tagtsl Ich harrt und sah es kommen,
Und was ich sah, das Heilige sei mein Wort*.
И хотя у Гёльдерлина пробуждается здесь Природа, Хайдеггер
показывает, что имя «Природа» тут очень условно. Для поэта здесь
средоточие Святого. «Своим пробуждением природа раскрывает
свою собственную сущность как Святое»**. Святое есть та
открытость между богами и людьми, которая позволяет богам явиться,
людям же — вместить это явление. Эпоха конца метафизики — это
эпоха рассвета Святого, время, когда философ не должен спать, ибо
на нем лежит ответственность: позволить этому событию сбыться
в своей бытийно-исторической мысли.
Итак, на мой взгляд, можно утверждать, что Хайдеггер
осуществляет по отношению к предшествующей философии описанное выше
«возобновление» — Wiederholung. Это означает, что у Хайдеггера
философия возвращается к своему исконному смыслу постоянного
движения по пути — нескончаемому пути от беспамятства к
бодрствующему памятованию, а деструкции и преодолению он
подвергает лишь те исторические формы языка и мышления, которые такому
движению препятствуют.
^э-
* Heidegger M. Gesamtausgabe. I. Abteilung. Bd. 4. Erläuterungen zu
Hölderlins Dichtung. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1981. S. 57.
" Ibid. S. 59.
А. В. МАГУН
Философия единого и одинокого:
Гегель и Хайдеггер
<Фрагмент из книги «Единство и одиночество»>
<...> Бросается в глаза удивительная близость понятий единого
и ничто, единицы и нуля. Оба понятия являются результатом
отрицания, крайней редукции сущего. В математике и единица, и нуль
являются особенными операторами, которые и принадлежат,
и в то же время не совсем принадлежат к числовому ряду... В
операциях умножения и деления единица играет роль «нулевого»
оператора (умножение взаимно обратных чисел дает единицу, умножение
и деление на единицу дает в результате то же число), а в сложении
и вычитании ту же функцию выполняет нуль.
Современная математика вообще конструирует понятие
единицы на основе понятия нуля. Парадоксальным образом, именно нуль
обеспечивает в арифметике и теории множеств (которая ее
фундирует) первичную экзистенциальную единицу, а следовательно, и
гарантию продвижения от нуля и единицы к последующим числам
(а не бесконечное повторение единиц). Г. Фреге в своих
«Основаниях арифметики»* предложил логическое обоснование первичности
нуля: нуль в его теории — это число, соответствующее логическому
понятию «не равное себе». Поскольку, по мнению Фреге, мы a priori
знаем, что такого не бывает, мы дедуцировали первое число — ноль.
Далее, мы можем сконструировать уже понятие «равный нулю»
и увидеть, что под него подпадает один объект — нуль. Число этого
понятия — единица! Единица, таким образом, это число нуля.
Эта конструкция закрепилась в математике, с той разницей, что
в теории множеств, в частности у Э. Зермело, отказались от
идеалистического предположения Фреге о том, что нуль есть якобы
точка смычки идеального и экзистенциального миров. Вместо это-
* Фреге Г. Основоположения арифметики. Логико-математическое
исследование о понятии числа / Пер. В. А. Суровцева. Томск: Водолей, 2000.
Философия единого и одинокого: Гегель и Хайдеггер
905
го нуль просто постулируется аксиоматически. Но логика, по
которой из него потом выводятся все остальные числа, остается той же.
Жак-Ален Миллер в статье «Suture»*, a затем Ален Бадью в «Бытии
и событии » ** сделали из этой парадоксальной теории онтологические
выводы. По Миллеру, «нуль» является в логике точкой
«подшивания» субъекта — логическое зияние восполняется
экзистенциальным актом. У Бадью же, напротив, нигилистическое фундирование
онтологии является знаком ее недостаточности. «Событие» —
«ультра-единое» — разбивает эту привязку к «ничто», показывая, что
жест «взятия за нуль» скрывает в себе отвержение и вытеснение
не сводимой к данному логическому понятию множественности.
...Бадью тем самым отказывается от нигилистической логики
единства, а точнее, ограничивает ее применимость.
Элементы, которые с точки зрения данной ситуации кажутся
«ничем» и на которые оно опирается, называются у Бадью «быти-
ем-на-грани-ничто», «au bord du vide»***. Про одиночество он
ничего не говорит, но приписывает подобное существование всяческим
изгоям, официально не признанным по отдельности и
рассматриваемым только скопом. Нечто вроде «пролетариев» у Маркса и Штир-
нера. Событие, которое спасает «изгоев» множества, добавляя к ним
свое собственное имя (например, «революция») и считая все вместе
за новое множество (причем официально признанное), — это
событие, по Бадью, «концептуально отличается от своего места тем, что
само встает между пустотой и этим местом»****, то есть как бы
отделяет — хрупким и рискованным образом — одиночество от ничто.
«Граница самого себя»? Отвлекаясь сейчас от конкретного решения,
предложенного Бадью, мы думаем, что он схватил здесь важнейшую
проблему одиночества: стать границей себя и этим отделить себя
от бездны. Представляется, что та или иная форма разделения
одиночества с другим (враг, ставящий тебя под вопрос; друг, которого
ты видишь в периферии зрения), коммуникация некоммуницируе-
мого одиночества, — это и есть попытка решения этой задачи. <...>
Вернемся, однако, к колебанию между ничем и единым. Вообще,
негативность единого была замечена почти сразу в начале европейской
метафизики. Уже Платон в диалоге «Парменид», а позднее Плотин
указали на противоречие между единым и бытием, на то, что
единое не есть. Уже в Средневековье единое в качестве «трансцендента-
лии», то есть неотъемлемого определения сущего, рассматривалось,
в частности у Фомы Аквинского, как определение негативное (еди-
* Miller Jacques-Alain. Suture // Cahiers pour l'analyse. 1966. N 1.
** Badiou Alain. L'être et l'événement. P.: Seuil, 1988.
*** Ibid. P. 195 ff.
*"* Ibid. P. 203.
906
А. В. Магун
ное есть ничто иное)*. Однако никто из них не сомневался в некой
внутренней реальности единого, а отрицание рассматривалось ими
как относительное к конечному уровню бытия, доступному
человеку. Только в Новое время негативность единого была понята как
самостоятельная и абсолютная, а следовательно, можно было сделать
шаг к сближению единого и ничто.
Полнее всего эта диалектика единого и ничто была вскрыта
Гегелем. Опишем вкратце его подход к единому.
<...> Единое появляется тогда, когда в учение о бытии впервые
входит рефлексия**. Благодаря этой рефлексии некое сущее не
просто отграничивается от всех других (чисто негативно), но как бы
возвращается от этих других к себе (это — отрицание отрицания,
преодоление чисто внешней границы с другими) и осознается в
своем качественном определении, во внутреннем тождестве с собой.
Граница ее становится внутренней, изнутри логичной, а не просто
резким обрывом, через который зияет иное существо. <...> Для-се-
бя-бытие развивается в « бытие- для-одного» (то есть в
существование для себя) и в «одно» (Eins). В этом «одном» идеальность и ее
бытие, птица и ее птичность сливаются воедино, в
непосредственно существующий монолит или атом. Но атом, «неделимый», если
мы берем это определение всерьез, не может уже иметь никаких
качеств! Внутренняя интеграция «для-себя-бытия» привела к
построению сущего, которое является «абстрактной границей самого
себя»***, то есть чье непосредственное бытие состоит в негативности.
Это и есть, по Гегелю, «одно».
Но негативность, считает Гегель, смирно стоять не может.
Поэтому определение «одного» оказывается нестабильным. Во-первых,
само «одно» начинает отрицать самого себя, распадается на
собственно «одно» и иное ему. Потому что истинно одно, единое, как
мы знаем еще от Плотина, вообще не может существовать, оно
не приемлет бытия. Поэтому, оказавшись сущим, оно начинает
«исключать» себя, то есть «одно» из себя же. И результатами этого
распада оказываются, во-первых, одно и пустота (то есть один и ноль),
а во-вторых, многие «одни».
Для-себя-бытие раскалывается на момент отрицания всего и вся
(ничто в форме «пустоты») и момент наличного бытия («одно»).
Точнее, на «отрицание в определении бытия» и на «отрицание в
определении небытия»****. Этот раскол воспроизводит на новом уровне,
Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть первая. М.: И. А. Савин, 2006.
Ч. 1, вопрос 11: О единстве Бога. С. 106-115.
" Гегель Г.-В.-Ф. Наука логики. СПб.: Наука, 1997. С. 137-138.
" Там же. С. 143.
" Там же. С. 147.
Философия единого и одинокого: Гегель и Хайдеггер
907
тождество и распад предмета логики на «бытие» и «ничто». Если
анахронистически описать гегелевскую рефлексию в терминах
Сартра*, то получится, что рефлексия «ничтожит» весь остальной мир,
превращает его в фон, противопоставляя ему отрефлектированное
бытие атома.
Но на этом дело не кончается. Даже уже противопоставленное
чистой пустоте, единое нестабильно. Будучи негативным отношением,
причем негативным отношением к себе, оно вынужденно
противопоставляет себя не только чистой пустоте, но и себе как налично
сущему. Следовательно, по ту сторону одного находится... тоже одно.
Одно есть «становление многими одними». <..>
Итак, по Гегелю, единое и ничто есть примерно одно и то же, две
стороны одного феномена. Феномен этот состоит в том, что некая
вещь, объект или субъект, противопоставив себя в своей
уникальности и универсальности всему остальному миру (свой мир — чужим
мирам), противопоставляет себя тут же себе самой, превращается
в чистую границу. То ли эта граница выделяет и исключает нечто —
тогда перед нами единое (которое тут же снова раскалывается
границей). То ли она просто все отрицает и отменяет, если не
разрушает, — и тогда перед нами ничто, ночь, смерть.
Вообще, именно понятие ничто, а не понятие одного обычно
используется для выражения кризиса современной цивилизации, с
одной стороны, и трагического величия человеческой души — с другой.
Сюда относится и философия Ницше с ее темой нигилизма, и учения
Хайдеггера, Сартра, Лакана, каждый из которых использовал
«ничто» как последний и основной, открывшийся в нашу эпоху (на
месте, занимавшемся единым Богом) бездонный, бесконечный
принцип человеческого мира. <...> Одиночество должно рассматриваться
как уточненная и рефлексивная форма негативного аффекта
(тревоги, меланхолии, тоски и т. д.). ...Негативность одиночества состоит
не в «ничто», а в невозможности и недоступности «ничто», навсегда
закрытого тенью «я», в его не принадлежащей ему экзистенции.
Ничто — не совсем ничто, и математический «нуль», по сути дела,
является единицей. Отрицание самопротиворечиво и поэтому
бессильно — отрицая бытие, мы в то же время его утверждаем, в
снятом виде — и потому никогда не имеем ни полностью позитивной
единицы, ни полностью негативного нуля — только нечто среднее
между ними, ничтожащее единство и объединяющий, выделяющее
уничтожение: попросту говоря, одинокое.
Если мы теперь обратимся к философии Хайдеггера, который
во многом и ответствен за нынешнюю популярность понятий «ни-
* См.: Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. М.: Республика, 2000. С. 48.
908
А. В. Магун
что» и «нигилизм», то и у него мы увидим тонкое колебание между
точками зрения ничто и единого.
Действительно, Хайдеггер считает, что человек является таковым
лишь постольку, поскольку в своем фундаментальном «настрое»
ужаса он входит в отношение с неуловимым «ничто», которое его
и ужасает*. Тем не менее в «Бытии и времени» и в других своих
трудах 1920-1930-х гг. Хайдеггер определяет человека также и через
единичность, уникальность. Действительно, смерть, эта
«возможная невозможность» ничто, определяющая структуру
человеческого мира, конституирует уникальность человеческой жизни, будучи
«каждый раз моей» возможностью, в которой меня не может
заменить другой. Хайдеггер говорит, что смерть «уединяет», vereinzelt
человека**. Таким образом, человек конституируется игрой ничто
и единичности, то есть одиночеством.
Одиночество становится одним из важных для Хайдеггера
понятий постепенно, но он сразу схватывает самое важное в нем. В
«Бытии и времени» (1927) Хайдеггер, помимо и вне очевидной связи
разговора об экзистенциальном «уединении», отмечает, что
одиночество (Alleinsein) не есть полное уничтожение совместности бытия
{Mitsein), но что оно является модусом последнего. «Одиночество
здесь-бытия (Dasein) есть тоже совместное бытие в мире. Не хватать
другого может только в совместном бытии и для него. Одиночество
есть привативный (Defiziens) модус совместного бытия, его
возможность — доказательство последнего. Фактическое одиночество,
с другой стороны, снимается не тем, что «рядом» со мной случился
второй экземпляр человека или возможно десять таких. Даже если
их имеется и еще больше налицо, здесь-бытие может быть
одиноким... Одиночество и «разлука» суть модусы совместного
здесь-бытия и возможны, лишь поскольку здесь-бытие как совместное бытие
дает встретиться в своем мире здесь-бытию других»***.
Итак, одиночество есть особый модус совместного бытия.
Хайдеггер (который, сознательно или нет, повторяет здесь мысль Г. Зимме-
ля — см. выше) проводит здесь свою постоянную мысль о том, что
отрицание имеет собственную интенциональность (ничто), дает
новый взгляд на мир, не уничтожая его при этом****. То есть
одиночество — это совместное бытие, окрашенное ничто. Если просто
уединение (Vereinzelung) относится к самому здесь-бытию, Dasein,
к уникальной экзистенции, то одиночество является сразу феноме-
* Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Время и бытие. М.: Республика,
1993.
" Он же. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 263.
** Там же. С. 120-121, пер. В. Бибихина изменен.
'* Об этом см. подробнее: Магун А. Отрицательная революция. С. 200-201.
Философия единого и одинокого: Гегель и Хайдеггер
909
ном коллективным. Казалось бы, столь странная конструкция оди-
ночества-как-общности заставляет вспомнить, впрочем, ставшую
уже классической формулу Канта о «социальной асоциабельности»
людей.
Однако впоследствии Хайдеггер совмещает мотивы
позитивного ♦уединения» и негативного «одиночества». Курсу 1929/1930 г.,
«Основные понятия метафизики», Хайдеггер дает
подзаголовок «Мир, конечность, одиночество» (в черновике стоит все то же
Vereinzelung). Одиночество возводится в ранг фундаментального
экзистенциала — неотъемлемой структуры человеческого бытия.
К сожалению, в этой книге Хайдеггер очень мало говорит о
собственно одиночестве и, как правило, упоминает его через запятую
с другими понятиями. Из курса ясно, однако, что одиночество
связано не только собственно со смертью, но и с «мгновением ока»,
моментом решения и действия, который конституирует человеческую
темпоральность. Кроме того, как пишет Хайдеггер, «это уединение
(Vereinzelung) есть такое одиночение (Vereinsamung), при котором
каждый человек первичным образом попадает в близость к вещам
в их самом существенном»*. То есть Хайдеггер отмечает не прива-
тивную, а позитивную сущность одиночества как открытости
одинокого человеческого бытия, Dasein, миру. Мы видели
феноменальную сторону этой открытости выше. То же наблюдение в 1930-х гг.,
еще сильнее, проводится в одном из писем Элизабет Блохман, где
Хайдеггер, как бы сочувствуя вполне реальному одиночеству
корреспондентки, пишет: «Одиночество рождается и выражается не в
отсутствии чего-то, что тебе принадлежит, а — в прибытии иной
истины, в захваченности полнотой странного и уникального. Поэтому
одиночество никогда не "выгораживается" извне, а стремится и
способно к постоянному избеганию и бегству... Я думаю, что на землю
должен прийти новый век одиночества, чтобы придать новое
дыхание творению, которое возвращает вещам их сущностную силу»**.
Таким образом, одиночество — это не внешнее обстоятельство,
а ускользающая настроенность на иное, на открытость вещам в
поэтическом творчестве. Одиночество не только выражает
уникальность субъекта, но и раскрывает его навстречу странности вещей,
которые оно как бы «остраняет».
Колебание в названии и терминологии курса 1929/1930 г.
показывает, что Хайдеггер постепенно отходит от антропологизма и
коллективного субъективизма в своей трактовке единичности бытия,
* Heidegger Martin. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichlkeit-
Einsamkeit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1983. S. 8.
** Heidegger M., BlochmannE. Briefwechsel 1918-1969. Marbach am Neckar,
1989. Brief 76. S. 91. Freiburg 12 April 1938.
910
А. В. Магун
что он переходит от уединения одного к одиночеству как к форме
разделенной коллективности. Позднее, уже после войны (1959), в
книге «На пути к языку» Хайдеггер приписывает одиночество (следуя
Новалису) не человеку, а языку. И вспоминает о том, что в
немецком языке слово Einsamkeit вначале означало, наоборот, общность,
единство (суффикс -sam — это индоевропейский корень «вместе»,
«одновременно») и лишь потом сменило смысл на «одиночество»,
«негативное единство»*.
В курсе, посвященном чтению Гельдерлина, читавшемся во
время войны, в период, когда Хайдеггер во многом солидаризируется
с нацистами, он связывает мотив одиночества с темой нации: «Чье
поэтическое творчество, мышление и речь выстаивает в таком
(одиноком. — А. М.) месте, тот понимает одиночество как
метафизическую необходимость, то есть он должен знать, что именно в этом
месте правит высшая внутренняя присущность принадлежности
бытию собственного народа, хотя с первого взгляда кажется, что
речь идет о чем-то второстепенном и неуслышанном»**. При всей
тенденциозности этого «патриотического» толкования Гельдерлина
Хайдеггер показывает здесь политические ставки понятия
одиночества — действительно, в мире национальных государств
сплоченность народа оборачивается его исключенностью и одиночеством
в ряду других аналогичных наций: неясно, немецкий народ один
вообще (на свете), единствен в своей уникальности, или он один как
единица мирового устройства. Гёльдерлин решал этот вопрос через
постоянное изображение странствий немецкого народа, без конца
смещая его идентичность. Нацисты же толковали проблему в
национал-империалистическом духе. Хайдеггер цитирует в том же
тексте письмо Гельдерлина к Беллендорфу, в котором он признается,
что чувствовал бы себя немцем, даже если бы ему пришлось уехать
на Таити. Одиночество островного бытия, вдали от родины,
проецируется на весь немецкий народ, который един в неопределенных гра-
* Хайдеггер. Weg zur Sprache. Unterwegs zur Sprache // Gesammelte
Schriften. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Bd. 12. S. 244 /
Русский перевод В. Бибихина: Путь к языку // Время и бытие. М.:
Республика, 1993. С. 259-273; цит. с. 272. Бибихин, как всегда, предлагает
параллель из русского языка (слово «сам»), но при этом «жертвует» понятием
одиночества, меняя его на «самость». Упомянутая Хайдеггером
этимология действительно есть в словаре Гриммов: Deutsches Wörterbuch von
Jacob und Wilhelm Grimm. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991,
fotomechanischer Nachdruck der Erstausgabe 1862. Bd. 3. S. 263:
Einsamkeit:
1) früher unitas, concordio, communion;
2) solitude.
** Heidegger M. Hölderlins Hymnen «Germania» und «Rhein». GS. Bd. 39.
S. 135.
Философия единого и одинокого: Гегель и Хайдеггер
911
ницах, так что, возможно, Таити является его настоящей родиной.
Дело здесь не только и не столько в нацизме Хайдеггера, но в
схватывании им узловых проблем современного мироустройства,
противоречия между универсализмом Просвещения и отнесением его
к нациям-субъектам.
Хайдеггер много пишет об одиночестве и в переписке с Яспер-
сом, где применяет эту категорию к Ясперсу и себе, к этим
одиноким великим умам, которым не с кем поговорить, кроме друг друга.
Сама переписка для Хайдеггера — это форма общения одиноких.
Одиночество, сочетание монад, по Хайдеггеру, оставляет
парадоксальную возможность общности (но не обычной коммуникации, как
хотел бы Ясперс) — по этому поводу он уже в 1949 г., после разрыва
и относительного примирения с Ясперсом, цитирует уже
приводившуюся фразу Ницше: «Сотня глубоких одиночеств образуют город
Венецию — это его очарование«*. (Имеется в виду, конечно,
островное устройство Венеции — но не только.) И добавляет от себя: «То,
что подразумевает Ницше, лежит вне альтернативы коммуникации
и не-коммуникации»**.
В творчестве позднего Хайдеггера уже меньшую роль играют
антропологические мотивы тоски, пустоты и одиночества. Однако
центральным понятием теперь становится Ereignis, событие
обособления, которое, как всегда подчеркивает Хайдеггер, «отвечает»
за выделение, индивидуализацию сущего — на стыке собственно
бытия и времени. Хотя у позднего Хайдеггера остается и мотив
«ничто», можно сказать, что вопрос и феномен единичности (понятой
уже не антропологически), а местами, как в книге «На пути к
языку», и одиночества, выходят на первый план.
Переходным между ранним и поздним периодами является курс
1936-1940 гг. о Ницше. Здесь находится, наверное, самый
интересный пассаж Хайдеггера об одиночестве. Хайдеггер пишет,
комментируя ницшевское упоминание «самого одинокого одиночества»,
в котором демон нашептывает читателю мысль о вечном
возвращении: «Это "уеДиненнеишее одиночество" предлежит всякому
различию между "я" и "ты" и превосходит его, а также отличие "я"
и "ты" от "мы", отличие единичного от единого. В этом уединенней-
шем одиночестве нет ничего от разъединения как обособления, это
такое разъединение, которое мы должны постигать как обретение
подлинности, когда человек приобщается к себе в своей самости.
* Хайдеггер М., Ясперс К. Переписка 1920-1963. M.: Ad Marginem, 2001.
С. 254.
'* См. об этом, и вообще об одиночестве у Хайдеггера, замечательную работу:
dimming Robert. Phenomenology and deconstruct ion. Vol. 4: Solitude.
Chicago; London: The University of Chicago Press, 2001.
912
А. В. Магун
Эта самость, подлинность — не есть "я", это то вот-бытие, в котором
утверждается отношение "я" к "ты", "я" к "мы" и "мы" к "вы",
откуда эти отношения только и можно и должно преодолевать, если они
должны быть силой. В самобытии решается, каким весом обладают
вещи и люди, на каких весах они взвешиваются и кто это делает.
"Что, если бы к тебе в твое уединеннейшее одиночество
подкрался некий демон и поставил тебя перед лицом вечного возвращения
того же самого: "Вечные песочные часы бытия переворачиваются
снова и снова, и ты вместе с ними, пылинка пыли!"
Ницше не говорит, что происходит потом. Он снова задает вопрос
и предполагает две возможности: ты, наверное, проклял бы этого
демона или, быть может, признал бы в нем бога, эта мысль
сокрушила бы тебя, или, может быть, ты бы не захотел ничего, кроме ее
истины, быть может, эта величайшая тяжесть увлекла бы тебя в
пропасть, или, может быть, ты сам стал бы еще большей тяжестью по
отношению к ней?»*
Хайдеггер не только четко прописывает здесь ранее
подразумевавшиеся вещи, но и сдвигает акцент с аутентичности,
Eigentlichkeit, человеческого вот-бытия, на безличный процесс
Vereigentlichung (видимо, параллель к вырабатываемому тогда же
понятию Ereignis). «Одиночество» и «уединение», уточняет
Хайдеггер, не являются атрибутами вот этого конкретного индивида**.
Скорее они сами задают и его индивидуальность, и возможность его
языкового общения с другими, и возможность сосуществования его
индивидуальности с обществом. А дальше, интерпретируя Ницше,
Хайдеггер указывает на связь одиночества с ничто. Ощущение себя
пылинкой ведет к принципиальной альтернативе: полное отчаяние
перед лицом «ничто» или восторг, идентификация с открывшейся
бездной мировой огромности (которая тем самым уже как бы и
перестает быть «ничем»). Опыт одиночества и заключается в постоянном
колебании между этими двумя возможностями, в их одновременной
данности. Единичное, именно как почти-ничто, как остаток бытия,
выводит нас на возвышенный опыт все-единого.
В целом у Хайдеггера абсолютная неопределенность,
неантропоморфность и безличность ничто, и смерти как (невозможного) опыта
ничто, именно в силу своей пустой абстрактности и всеобщности
делают возможным усмотрение абсолютно негативной, но определен-
* Хайдеггер М. Ницше: В 2 т. СПб.: Владимир Даль, 2007. Т. 1. С. 120.
Здесь, правда, можно возразить Хайдеггеру, что у Ницше и в этом
обращении к читателю, и позже в «Заратустре» все начинается со вполне
конкретного, эмпирического одиночества, с оставленности другими или
собственного ухода, и только потом происходит собственно экзистенциальный
опыт, который, как ни странно, обосновывает глубокую связь с другими.
Философия единого и одинокого: Гегель и Хайдеггер
913
ной уникальности наличного бытия («здесь-бытия») человека. Если
Гегель отталкивается от бытия и дедуцирует ничто из сведения
бытия воедино, то Хайдеггер, наоборот, начинает здесь с ничто
(впрочем, для него бытие и ничто — это одно и то же, даже в более сильном
смысле, чем для Гегеля) и выводит из него единичность. В отличие
от Гегеля, Хайдеггер не проводит здесь дедукции — но он мог бы
ее провести и показать, как из неопределенности ничто следует
абстрактная неопределенность единичности. Ведь ничто (по принципу
единства неразличимых) может быть только одно!
Но человек не един, а единичен, именно поскольку он не может
стать полностью «одним», атомом в гегелевском смысле,
замкнуться в себе на манер фетиша или новоевропейского субъекта. Ничто
и единое в нем смешаны до неразличимости — негативно едины.
Поскольку человек есть почти ничто, находится на грани ничто, то он
является не единым по форме, но единичным и одиноким. <...>
К хайдеггеровскому одинокому бытию применима, пожалуй,
формула Гегеля — «граница самого себя». Именно поскольку
оттесненный в себя человек является по сути своей ничем, пустой
абстракцией наличного бытия (Dasein), но тем не менее это ничто
предстает в нам наличной, явно сущей форме, — именно поэтому,
стоя одной ногой в ничтожности, выдвинутый на границу бытия
и потому бесконечно внимательный, человек и способен быть
чувствительным к вещи самой по себе, какой она была бы, если бы его
(человека) здесь не было (и возможно, будет после его смерти). Это
и есть сущность периферийного, нетематического зрения, которое
позволяет делить мир с вещью, узнавая себя в ее анонимной
уникальности.
В заключение вернемся к Андрею Платонову, которого мы уже
знаем как теоретика пореволюционного одиночества. В еще одном
раннем своем рассказе — «Жажда нищего» (1920), похожем по
мысли на выше цитированных «Потомков солнца», описывает будущее,
в котором человечество победит природу техникой, осветит моря
до дна и отправит «легкие машины со смеющимися детьми» к сердцу
Земли. «На Земле, — пишет он, — в том тихом веке сознания, жил
кто-то Один, Большой Один, чьим отцом было коммунистическое
человечество». Но, как и в «Потомках», остается рассказчик, который
называет себя «пережитком». «На пути к покою у Большого Одного
оставался один только я... Я был Пережиток, древний темный зов
назад, мечущаяся злая сила, а Он был большой и был Сознанием —
самим светом, самой истиной»*. «Пережиток» вспоминает, как
инженер по имени Электрон открыл фундаментальный физический за-
* Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 1. С. 166-167.
914
А. В. Магун
кон, согласно которому тела могут передавать друг другу энергию,
не контактируя. Можно сказать, что это «закон одиночества» (наш
термин, не Платонова). И благодаря этому закону «Один» почти
полностью овладевает природой, становится совсем одним — «такая
была задача — и человечество решило кончить мир, чтобы начать
себя от его конца, когда оно останется одно, само с собой». Но в
конце рассказа перспектива переворачивается. «Я понял, что я больше
Большого Одного, что мне мало вселенной и даже полного сознания
своей истины, чтобы наполниться до краев и окончиться. Нет
ничего такого большого, что бы уменьшило мое ничтожество, и я оттого
больше всех. Во мне все человечество со всем своим грядущим и вся
вселенная со своими тайнами, с Большим Одним. И все это капля
для моей жажды»*.
Единству как позитивной тотальности противопоставляется
негативное одиночество как альтернативный принцип интенсивной
тотализации. Оно оказывается фундаментальнее «Большого
Одного», является силой, движущей механизмы мира. Но из рассказа
ясно, что Один и «Пережиток» — одно и то же лицо, по крайней мере
выражения одного и того же события. Единство как форма вопреки
себе производит негативную работу и опустошает субъекта. Но
только его одиночество и отделяет Единое от того, чтобы стать нулем,
уничтожить все вокруг себя, включая себя.
ч
* Платонов А. С. 171.
H. 3. БРОСОВА
M. Хайдеггер о философии будущего:
феноменология Бытия и мышления
Философия выступает одной из главных тем «Очерков
философии (О Событии)», «второго главного труда» М. Хайдеггера
(F. W. v. Herrmann); непосредственно ей посвящены девять
параграфов* этого произведения. Из них пять находятся в первой, вводной,
части (Vorblick), где размечается общий горизонт рассмотрения.
Простые названия указывают на аспекты и моменты, важнейшие —
fragwuerdige, если обратиться к хайдеггеровскому первому
главному труду — для осмысления феномена философии: § 14
«Философия и мировоззрение»; § 16 «Философия»; § 17 «Необходимость
философии»; § 19 «Философия (К вопросу: кто мы?)»; § 26
«Философия как знание». Следующие два параграфа представлены в третьей
части (для которой Хайдеггер выбрал термин спортивной лексики
с несомненными платонизирующими коннотациями — Zuspiel,
подача, переброска, пас, перепасовка), где идет речь об истории
философской мысли: §93 «Великие философии»; § 102 «Мышление:
красная нить ведущего вопроса западноевропейской философии».
Два последних, § 258 и § 259, с одинаковым названием
«Философия», — в завершающей VIII части. Часть, озаглавленная «Бытие»
(Das Seyn), в известном смысле подытоживает уже изложенное,
дополняя формулировки, подчеркивая сделанные акценты,
поясняя те или иные положения. Философию Хайдеггер рассматривает
в продолжение идей «Бытия и времени» через призму собственного
* * Параграфы » условно, поскольку автор применяет лишь сквозную
нумерацию разновеликих текстов, объединяемых в 8 частей. F.-W. von Herrmann
обозначает эти текстовые фрагменты как «разделы» (Abschnitte); но в
русском переводе «параграф» — при всех оговорках — представляется более
подходящим. О структуре произведение см.: Бибихин В. В. От «Бытия
и времени» к «Beiträge zur Philosophie» // Вопросы философии. 2005. № 4;
а также: Бросова Н. 3. Сакральная тектоника бытия //
Историко-философский ежегодник'2000. М., 2001.
916
H. 3. Бросова
весьма своеобразного понимания истории и в контексте радикально
переосмысляемого феномена мышления.
Основной характеристикой философии остается вопрошание
о бытии. Но теперь Хайдеггер более подробно останавливается на его
двойственности, точнее, на двух мыслительных перспективах
такого вопрошания, которые фундируются принципиальным различием
Бытия и сущего*. В одном случае можно задаваться вопросом только
о сущем как о горизонте, в первую очередь попадающем в поле
человеческого зрения и также умозрения. Тогда он останется «лишь
вопросом о бытии сущего» и будет вновь и вновь возвращаться к
своему исходному пункту, то есть опять к сущему. Это тот самый
лейтмотив «западноевропейского мышления бытия, которое называется
"философией", чье понятие изменяется сообразно способу и пути
вопрошания о бытии». Ее концептуальное развитие «от Анаксиман-
дра до Ницше» не меняет, по Хайдеггеру, общего направления: она
на разные лады истолковывает сущее, все более понимая под ним
совокупность налично существующего, пусть в самом широком
спектре форм, и все сильнее ставя его в зависимость от познавательных
и действенных возможностей человека.
Историческое движение в этом русле есть метафизика.
Продолжая ход размышлений, уже намеченный в 1929 г.**, Хайдеггер
определенно характеризует этим названием «всю предшествующую
историю философии», а она оказывается, прежде всего и по
преимуществу, западноевропейской. В создаваемой примерно тогда же
«Истории Бытия» подчеркивается: «Почему западноевропейская
философия есть в своей сущности метафизика? Потому что она
в сущностной основе — "физика" » ***. Данное обстоятельство придает
* На важность этого различения указывалось еще в «Бытии и времени»,
когда обосновывалась необходимость вновь поставить вопрос о бытии, и
далее при описании Dasein как единственного сущего, способного задаться
вопросом о бытии (также и вопросом о смысле бытия и т. д.). См.:
Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer, 1986. S. 3.4. В «Очерках»
Хайдеггер уже последовательно различает Бытие (Seyn) и бытие сущего (Sein).
* В докладе «Что такое метафизика?» говорится: «Философия — то, что мы
так называем, — есть приведение в движение метафизики, в которой
философия приходит к себе самой и к своим настоятельным задачам...»
(Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 26.
Далее — «Время и бытие»).
'* Heidegger M. Die Geschichte des Seyns. Frankfurt a. M., 1994. S. 6
(далее — GA 69). На этот и на ряд других, тщательно подобранных
собственных текстов Хайдеггер не раз ссылается в «Очерках...», показывая, что его
внимание постоянно сосредоточено на неких фундаментальных вопросах,
осмысливаемых по-разному, но круг которых, как было им заявлено еще
в докторской диссертации 1915г., ограничен. Фокусирующим
пространством этих вопросов является философия.
M. Хайдеггер о философии будущего
917
новое звучание прежним тезисам, от которых Хайдеггер вовсе не
отказывается, но изменением ракурса лишь обнаруживает в них иные
важные смысловые горизонты*. Замечательным здесь оказывается
следующее: метафизика с самого начала сосредоточивается на том,
что заведомо доступно человеческому познанию и действию, то есть
на том, что соразмерно человеку. Условиям такого ракурса
удовлетворяют критерии, заданные самим познанием; Хайдеггер
описывает их как логические процедуры конституирования предметности,
например выведение понятий, опирающееся на различение общего/
единичного, и т. п. Сознание с предугадываемой
последовательностью придает им статус внешнего, самостоятельного
существования, онтологизируя собственную деятельность.
Для этого же ракурса определяется единственный истинный
формат мысли — рациональность, а ее репрезентацией становится
наука. Причем если первоначальный импульс гипостазированию
рациональности задает, по Хайдеггеру, платонизм, то поворотным
этапом в этом процессе оказывается эпоха Нового времени, которая,
занявшись познанием природы, то есть сосредоточившись на сущем,
оставляет бытие полностью без внимания и которая продолжает
отзываться в XX в. важнейшими метафизическими стереотипами.
«В [вопросе] истины нововременная и сегодняшняя наука нигде
не попадает непосредственно в поле решения относительно
сущности Бытия. <...> поскольку в Новое время и как Новое время истина
утверждается в образе достоверности, а последняя — в форме
непосредственно мыслящего себя мышления сущего как
представленного предмета, и в утверждении этого утвержденного заключается
основание Нового времени, и поскольку эта достоверность
мышления разворачивается в организации и занятиях нововременной
"науки", оставленность бытия существенным образом обеспечена
посредством науки Нового времени, и именно всегда, лишь поскольку
она претендует на то, чтобы быть одним из — или даже
единственным — всеопределяющим знанием»**.
* «Метафизика есть основное событие в человеческом бытии. Она и есть само
человеческое бытие» (Время и бытие. С. 26). А во введении к «Что такое
метафизика?» (1949) философ почти повторяет: «Пока человек остается
разумным живым существом, animal rationale, он метафизическое живое
существо, animal metaphysicum» (Там же. С. 28). Принципиальным
нюансом оказывается то, что теперь уже в контексте открытой хайдеггеровской
полемики с декартовско-кантовским рационализмом anima rationale
выявляет — подобно метафизике — свой уклоняющийся от бытия («онтиче-
ский» в языке «Бытия и времени») характер.
** Heidegger M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Frankfurt a. M., 1989.
S. 141 (далее — GA 65). Более детально проблема научной
рациональности излагается в § 75 «К осмыслению науки»; § 76 «Тезисы о "науке"»; § 77
experiri — experientia — experiment um — «Experiment» — [греческий] —
918
H. 3. Бросова
Однако сложные, накопленные традицией и развиваемые далее
рационалистические экспликации метафизики остаются все же
«бесхитростными», поскольку избегают начального, предельного
различения сущего и собственно Бытия (Seyn), «онтологической
дифференции», а значит, они с самого начала дезориентированы*.
Подступиться к такому различению может мышление,
преодолевающее метафизику.
Уже в период «Бытия и времени» и «Феноменологии и теологии»
Хайдеггер дифференцирует мышление как собственно духовную
деятельность неэмпирического характера (поисковую, вопрошающую)
и философию как определенный способ такой деятельности, инако-
вый по отношению к исторической теологии: «принципиально а-те-
истическое мышление» versus «исходное толкование бытия
человека к Богу». Обе стратегии («путеводные нити») выступают при этом
феноменологией (или видами феноменологии) мысли. Но позднее
Хайдеггер все более сближает философию с метафизикой, а мыш-
опыт (Erfahrung) — испытание (Versuch); § 78 experiri [латинский] —
«выпытывать» («erfahren»); § 79 «Точная наука и эксперимент»; §80
experiri — experientia — experimentum — «Experiment». Самодовлеющий
характер рациональности обнаруживает себя в том, что «решающим в
нововременном "эксперименте", проверке как испытании, является не
"аппаратура" как таковая, а постановка вопроса, т. е. понятие природы» (GA 65.
S. 166). О том, каким оказалось решение вопроса, Хайдеггер говорил в
докладе 1938 г. «Время картины мира»: понятие природы
трансформировалось в универсальную схему мироотношения и, что важнее,
мировосприятия, в «картину мира» — феномен, не известный всей предшествующей
традиции мысли.
* В «Очерках...» Хайдеггер обстоятельно обосновывает свое
сакраментальное положение о неспособности науки мыслить, которое фактически
присутствует уже в работах о метафизике, созданных в 1929-1930 гг.,
где за философией признается приоритетный — сравнительно с
наукой — способ осмысления и понимания. Теперь же в научном познании
подчеркивается его стратегическая установка на количественную
сторону познаваемого, на исчисляемость (широко трактуемую как расчет
вообще, также прогнозирующий, в этом смысле — метод), на прикладную
результативность. Эту способность расчета, рациональную
комбинаторику Хайдеггер противополагает осмысляющему мышлению, впрочем, без
излишнего уничижения первой, лишь с объяснением особой значимости
последней; почему и оказывается, что «наука не мыслит»; дело науки —
рассчитывать, а не мыслить. Значительная часть этих обоснований
опробована в ряде докладов, статей и лекционных курсов по науке и технике,
которые Хайдеггер писал и читал в конце 30-х гг., например в лекциях
1940 г., на основе которых был составлен текст «Европейский нигилизм»
(в: [«Время и бытие»]; также см. примеч. 6). Но гораздо больший резонанс
получили послевоенные хайдеггеровские работы, куда также включались
рассмотрения и аргументация из «Очерков...», начиная с «Письма о
гуманизме» (1946), «Поворот» (1949), «Вопрос о технике» (1953), «Наука
и осмысление» (1953) (Там же).
M. Хайдеггер о философии будущего
919
ление толкует все более широко, придавая новую трактовку тезису
атеистичности — подчеркивая рационалистический характер
исторической теологии и соответственно теизма.
Единственным полем мышления, не философского и не
метафизического, а бытийно-исторического, оказывается бинарное мета-
пространство Бытия и сущего, откуда становится возможным
соотнесение этих несравнимых разноуровневых измерений*:
Лишь переход в Иное начало, первое преодоление
метафизики при необходимом для такого перехода сохранении ее названия
представляет это различие его действительному пониманию и тем
самым впервые ставит его под вопрос, не какой угодно, а вопрос
о том, что наиболее достойно вопрошания. Насколько — для
начала внешне и пока полностью в понимании представляющего
мышления — различие вводится как * онтологическая дифференция»,
настолько необходимо начать подступаться к осмыслению этого
различения. Потому что из данного, кажущегося скудным и
безыскусным "онтологического", т. е. несущего онтологию, различения
должно становиться очевидным изначальное богатство и опасность
всего опасного для человеческого бытия, для его сущностного
укоренения и сущностного уничтожения. Этим различением
совершенно открыто маскируется пространство высшего мыслительного
риска, который предназначен человеку".
Рассматривая метафизику (и философию) как своеобразный и
богатый опыт заблуждений, поздний Хайдеггер не считает его пустым
или напрасным, хотя и противопоставляет будущему мышлению.
Мысль оказывается и сущностью, и образом жизни, и главной
задачей человека, но при этом и самостоятельным феноменом Бытия,
который в максимальной исторической ретроспективе
инициируется двумя противоположными началами.
Здесь чрезвычайно важны оба названных момента —
историчность и изначальность философской мысли. Хайдеггер заостряет
проведенную в «Бытии и времени» идею двух измерений истории —
подлинной, событийной, экзистенциально значимой Geschichte
и составляющей ей своего рода параллель Historie, хронологической
регистрации отвлеченных равновеликих темпоральных единиц,
посредством которых упорядочивают социокультурные процессы:
«Сущностное — сегодня и в будущем — схватывание понятия фи-
Их полярность и вместе с тем неразрывная связь варьируют уже
обозначенную ранее тему, в т. ч. оппозиции онтологического-онтического,
изложенную в «Бытии и времени».
GA 65. S. 423-424.
920
H. 3. Бросова
лософии (а тем самым также предварительное определение
выводимости ее понятия и всех ее понятий) — историческое (не
историографическое)*. «Исторически» означает здесь: принадлежа
бытийствованию самого Бытия...» ** Разумеется, такая историчность
не может связываться какой бы то ни было хронологией (тем более
коренящейся в религии; хотя, по Хайдеггеру, именно это случилось
с западноевропейской философией/метафизикой, она
«пропиталась христианством», произошло Verchristlichung der Philosophie).
И все же хайдеггеровская историчность обнаруживает своеобразное
свойство хронотопа: философия в обеих своих начальных
установках возникает в ранней греческой Античности, а законченные
формы метафизики порождаются западноевропейским сознанием
Нового и Новейшего времени, в частности немецким идеализмом.
Так историчность оборачивается изначальностью, то есть
позволяет заметить в традиции философствования некую первооснову,
задающую исходный импульс традиции и в дальнейшем
поддерживающую ее стратегическое направление. Однако эту первооснову
не следует понимать в духе гегелевской абсолютной идеи, которая
развивается прогрессивно и диалектически. Хайдеггеровское
Начало (Anfang) мышления очень близко греческому архл, означая
вместе и историко-временную первичность, и некую исходную
содержательную основу, и определенный порядок ее развертывания.
Существенно, что для своего развития мышление должно вновь
и вновь обращаться к своему истоку, Началу, — и такое обращение
не будет всего лишь возвратом и повторением***.
Хайдеггер описывает это в отдельном § 20 «Начало и изначальное
мышление». Начало есть Самоосновывающее Распространение;
укореняющееся в прорастающее сквозь него основание;
распространяющееся как основывающее и потому не-минуемое. Поскольку каждое
Начало не-минуемо, постольку оно должно постоянно
возобновляться, попадая в ходе критического рассмотрения в единственность
своей изначальности и вместе с тем — своего неизбежного
распространения. <...> Лишь Единственное воз-обновляемо. Лишь оно имеет
в себе основу [той] необходимости, чтобы к нему вновь возвращались
* Перевод В. В. Бибихина при всех оговорках относительно
«историографического» представляется наиболее приемлемым.
** Ibid. S. 421.
*** Мысль, которую Хайдеггер высказал еще в известной дискуссии с Касси-
рером (1925): вернуться к вопросам Платона не значит повторить его
ответы; позже (1957) он выразил это классической фразой —происхождение
постоянно остается/отзывается будущим, Herkunft aber bleut stets Zukunft
("Aus einem Gespraech von der Sprache") (Heidegger M. Unterwegs zur
Sprache. Frankfurt am Main, 1985).
M. Хайдеггер о философии будущего
921
и перенимали его изначальность. Здесь воз-обновление не
подразумевает наивную поверхностность и невозможность простого наличия
того же самого во второй и третий раз. Потому что Начало никогда
не может восприниматься как то же самое, если оно предрешающее
(vorgreifend), и, таким образом, несомое им всякий раз передает
иначе, а сообразно с этим определяет воз-обновление себя. Изначальное
никогда не есть Новое, ведь то — всего лишь преходящее Вчерашнее.
Также Начало отнюдь не есть «Вечное», поскольку именно [Начало]
не вы-ведено и не от-ведено из истории*.
Существенное уточнение, которое касается темы атеистичности
философствующего мышления и сакрального характера Бытия,
дается далее в § 23 «Изначальное мышление. Почему — мышление
из Начала?» Почему же вообще — Начало?
Потому что только величайшее свершение, сокровеннейшее
Событие может еще спасти нас из рассеивания в функционировании
пустых происшествий и манипуляций**. Должно свершиться нечто,
что откроет нам бытие и возвратит нас в него и тем самым
приведет нас к самим себе, к труду и жертве. Но отныне величайшее
Событие — всегда Начало, и пусть это Начало последнего Бога.
Потому что Начало есть Потаенное, исток, который еще не испорчен
и не исчерпан, который, всегда уклоняясь, захватывает наиболее
широко и так сберегает в себе высшее властвование***.
Можно сказать, что оба названных Начала равны по значимости,
по положению, в некотором смысле они дополняют друг друга; в их
истолковании оказывается небесполезным вспомнить
аристотелевское различение «того, что первично для нас, но вторично по
природе» и «того, что вторично для нас, но первично по природе». Первое
(Erste) Начало дает импульс философско-научному логическому
рационализму, «калькулирующему» соображению, замыкающемуся
на сущем. Другое, совершенно иное (Andere) Начало, нацеленное
на Бытие, удерживает одновременно в поле зрения и сущее, и их
принципиальную несравнимость, получая тем самым предельный,
то есть подлинный, масштаб для понимания любого сущего.
Бытийно-историческое мышление, исходящее из иного Начала,
отмечено, по Хайдеггеру, тремя важнейшими характеристиками,
GA65. S. 55.
Ср. известное, вызвавшее недоумение и дискуссии высказывание из хай-
деггеровского интервью журналу «Spiegel» (1966): «Только Бог еще может
нас спасти...»
GA65. S. 57.
922
H. 3. Бросова
оно: а) не-человечно (un-menschlich), то есть преодолевает
ограниченность традиционного, особенно современного
антропоцентризма; б) без-божно (gott-los), то есть выходит за пределы не только
рационализированной теологии, но и всякого зафиксированного
в понятиях или образах представления о божественном; в) оно есть
вот-бытие (das D&sein), бытийная историчность, понятая из
феномена Мгновения. При этом вся история философствующей
мысли предстает как специфическая «переброска» (Zuspiel) вопросов
и проблем между обоими началами.
Своеобразным компасом бытийно-историческому мышлению
может служить — вместе с непререкаемым Гёльдерлином — ранняя
античность. Догадки Парменида, Гераклита, Анаксимандра
сохраняют значимость и в настоящее время, потому что Бытие, несмотря
на собственную историю, не изменяется в своей природе, изменяется
только сущее. Хайдеггер подчеркивает: мышление Бытия (Denken
«des» Seyns) в двойственном значении генитива — как мышление его
человеком и одновременно как мышление самого Бытия посредством
человека — может и должно оставаться, подобно эпохе досократиков,
подлинным (echt), простым (schlicht), цельным (einfach) и в такой
изначальности сакральным. «Сейчас вопрос о бытии становится
вопросом об Истине Бытия. <...> Вопрос об Истине Бытия
раскрывается в вопросе о Бытии Истины. (Генитив здесь изначально первичен
и не может быть передан существующими "грамматическими"
генитивами.) Теперь вопрошание о Бытии уже не мыслит более из
сущего, но как по-мышление Бытия (Er-denken "des" Seyns)
понуждается самим Бытием»*. Однако бытийная аутентичность мышления
представляется задачей будущего; современное философствование,
«мышление Перехода», может лишь подготавливать необходимую
почву. Несмотря на эсхатологические ноты, Хайдеггер все же
оставляет перспективу и человеку, и мышлению, и Бытию: «На
метафизике Ницше философия заканчивается. Законченная метафизика,
основа планетарного образа мысли, предоставляет остов для
упорядочения земли, которое, по-видимому, будет длиться долго. Такое
упорядочение не нуждается в философии, потому что она уже заключена
в его основе. Но с концом философии вовсе не обязательно кончается
мысль, она переходит к какому-то другому началу»**.
е^
* Ibid. S. 428.
'* Время и бытие. С. 28.
VI
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ
ХАЙДЕГГЕРОВЕДЧЕСКИХ
ДИСКУССИЙ
е^э
В. В. БИБИХИН
Дело Хайдеггера
Заговорив о Мартине Хайдеггере, попадаешь в сильно
поляризованное поле. Со стороны одних — аванс благоговения, готовность
замирать над каждым словом мудреца. Отвернись от хайдеггерианцев
с их заумью — и тебя приветствуют философы-профессионалы,
которые, казалось бы, благополучно прошли мимо спорного мыслителя,
но нет: неясная тревога их не оставляет, время от времени они теряют
самообладание, и тогда по морю философской публицистики проходит
очередная волна разоблачений, развенчаний и обличений
♦баварского мага». Бессильные уже что-либо изменить в доме хайдеггеровской
мысли, эти волнения лишний раз показывают, как она жива, и
поневоле зовут вчитаться в книги знаменитого человека — сейчас в ФРГ
выходит его полное издание, приближающееся к ста томам.
Предметом равнодушной историко-философской инвентаризации фрейбург-
ский мыслитель не стал и, возможно, не станет вообще никогда.
Хайдеггер родился 26 сентября 1889 г. на юге нынешней
федеральной земли Баден-Вюртемберг в городке Месскирхе. Здесь,
на краю Шварцвальда («Черного леса»), исторической области але-
маннов, они, преимущественно католики, смешиваются с
протестантами-швабами. Отец Мартина, ремесленник-бочар, был
причетником и звонарем католического храма Св. Мартина в Месскирхе;
мать родом из деревни в Верхней Швабии. Здесь кстати вспомнить,
что философы Гегель, Шеллинг, поэты Виланд, Шиллер, Гёльдер-
лин, писатели Вильгельм Гауф, Эдуард Мерике, Герман Гессе
происходили из швабов; швабом был Альберт Великий; и его ученик Фома
Аквинский принадлежал, по-видимому, к швабскому (свевскому)
роду, осевшему в Южной Италии.
Всю жизнь, кроме редких поездок за границу, Хайдеггер провел
в родных местах, хранил преданность им и не позаботился очистить
свой язык от диалектных особенностей. Граждане мира любят
говорить о его «почти варварском провинциализме». Но он вступал
в философию совсем не как провинциал.
Читатель серьезных книг и крайний нападающий местной
футбольной команды, Мартин поступил в гимназию иезуитов в Кон-
926
В. В. Бибихин
станце, потом прослушал четыре семестра теологии, столько же
математики и естественных наук в университете Фрейбурга, одном
из старейших в Европе (основан в 1460 г.). Профессор Финке
разбудил в «чуждом истории математике» уважение к традиции. Хай-
деггер учился у Риккерта, был ассистентом при Гуссерле; Рудольф
Бультман, молодой Гадамер, Карл Ясперс, Николай Гартман, Макс
Шелер — вот его круг в 1910-1920-е гг. Его философское
ученичество пришлось на сложное время, полное не только внешними
событиями, — время, когда вышел полный Ницше, возвратилось
внимание к Гегелю и Шеллингу, были переведены на немецкий Кьеркегор
и Достоевский, началось издание Собрания сочинений Дильтея, был
заново открыт Гёльдерлин; когда Рильке и Тракль создавали свои
главные вещи; когда восходил Пауль Клее; когда Вернер Гейзенберг
сформулировал соотношение неопределенностей в квантовой
механике.
В 1914 г. Хайдеггер опубликовал докторскую работу «Учение
о суждении в психологизме», в 1916 г. — диссертацию «Учение Дун-
са Скота о категориях и значении», защита которой дала ему
доцентуру. Потом в течение почти двенадцати лет Хайдеггер ничего не
отдавал в печать. Слава о «тайном короле философии» (Ханна Арендт)
расходилась, правда, и так. Его аудитории во всяком случае были
полны. «То, о чем он читал, люди видели перед глазами, словно
телесное и осязаемое», — вспоминает Гадамер.
В 1927 г. появилось «Бытие и время» — книга, изменившая путь
европейской мысли, до сих пор еще не осмысленная вполне.
Субъект, объект, сознание, познание, антропология, историзм,
культурология — все эти привычные ориентиры, без которых, казалось,
современный разум не может ступить ни шагу, были здесь
оставлены. Этой главной работе Хайдеггера, только сейчас переводимой
на русский язык, придавала собранную энергию попытка дать
неопределимому человеческому существу определение, которое не
нанесло бы ему вреда, не упустило бы из виду его простую цельность.
Человек — сущее, существо которого в бытии-вот, в присутствии
(Dasein). Этим последним плотная среда природных вещей
разомкнута. Человек — то неопределимое, но очевидное «вот», которое
не «состоит из» разных элементов мира, а открыто всему как
единственное место, способное вместить Целое. Присутствие не предмет.
Оно весомее вещей, но о нем нельзя сказать заранее ничего, кроме
того, что оно есть. Человек существует постольку, поскольку
осуществляет возможности своего «вот». Присутствие, если можно так
сказать, — нечеловеческое в человеке, его бездонность. Его
возможностям не видно края. Оно может всему отдаться и всем быть
захвачено, от полноты бытия до провала ничто. Присутствие «понимает
Дело Хайдеггера
927
в бытии», «умеет» быть в мире. Не личность решает, присутствовать
ей или нет. Во сне, наяву, рассуждая и не рассуждая, человек брошен
в собственную открытость. Не последняя среди его возможностей —
упустить себя. Как раз прежде всего и всего чаще человек «делает
как люди». Безличные «люди» (das Man) орудуют в нас и через нас
вместо нас. Вне чистого присутствия прослеживаются сплошные
причинно-следственные цепи, только в нем свободный просвет,
и поэтому только в него бытие и сущее могут войти своей истиной,
а не только своей функцией. Об этой единственной собственной
возможности присутствия не перестает говорить совесть, не давая
прекратиться заботе. Мерой осуществившегося присутствия
отмеривается время человека и вмещаемого им мира.
В те годы, вкус которых нами забыт, Европа жила вразнос, на
рискованном размахе, набираясь решимости перед историческим
перевалом, высоту которого ощущали все. Голос Хайдеггера звучал
в гулкой атмосфере предчувствий и тревог с сосредоточенной
силой. Время искало вождей. Дважды, в 1930-м и в 1933 г.,
Хайдеггера приглашали в Берлинский университет, он отказался. В начале
мая 1933 г. сосед Хайдеггера ординарный профессор медицины фон
Мёллендорф после всего лишь двух недель ректорства в
университете Фрейбурга был снят властями за такие поступки, как
запрещение вывесить в помещениях университета так называемый
еврейский плакат. Фон Мёллендорф пришел к Хайдеггеру и попросил его
выставить свою кандидатуру на новых выборах ректора. Хайдеггер
не имел опыта административной работы, сомневался и колебался,
но самоотвода не сделал и был избран. Было из-за чего колебаться:
по тем временам стало уже совершенно обязательно, чтобы на
таком посту, как ректор университета, находился член партии. Почти
сразу в кабинет нового ректора пришел «штудентенфюрер», а
потом звонили из отдела высшей школы Штаба штурмовых отрядов
с той же рекомендацией разрешить вывешивание «еврейских
плакатов». Хайдеггер не разрешил. Дисциплина была строгой, в обход
ректора действовать не осмелились. Его даже не сместили. В
конце того же 1933-го он задумал крупные изменения и перемещения
в университете, включавшие назначение деканом медицинского
факультета того же фон Мёллендорфа, социал-демократа, а
деканом юридического факультета профессора Эрика Вольфа, одного
из тех, против кого были нацелены зловещие плакаты, — и понял,
что ему не позволят сами же коллеги, в своем большинстве уже
взбаламученные новыми политическими ветрами; а если позволят они,
то не позволит партия. Он попробовал обратиться к стране от
имени науки. Но в стране все хотела решать партия, собиравшаяся
не слушать ученых, а учить их. В феврале 1934 г., то есть до смер-
928
В. В. Бибихин
ти Гинденбурга и за полгода до единовластия Гитлера, Хайдеггер
подал в отставку. Был избран новый ректор, на этот раз человек,
которого местная партийная газета приветствовала жирным
шрифтом: «Первый национал-социалистический ректор университета».
На торжествах передачи ректорства Хайдеггер не присутствовал.
Встретившийся ему вскоре после того коллега приветствовал его
словами: «Ну как, господин Хайдеггер, вернулись из Сиракуз?»*
В эти годы Хайдеггер оставляет позади последние привычные
интеллектуальные вехи. Не философия, не метафизика, не
фундаментальная онтология, даже не бытие («я уже неохотно употребляю это
слово»), а «другое мышление» отныне его задача. Знаменитый
«поворот» 1930-х гг. многими был истолкован как расписка в неудаче
«Бытия и времени», признание тупика. Хайдеггер не стал говорить,
что на его родном наречии поворотом (Kehre) зовется место, где
серпантин горной дороги поворачивает почти назад, чтобы подобраться
еще ближе к перевалу. За невольное свидетельство его безысходных
блужданий было принято и название сборника «Holzwege», которое
переводили на разные языки и как «Дороги, ведущие в никуда»,
и как «Лесовозные дороги», и, наконец, как «Дебри». Но в
воспоминаниях Карла Фридриха барона фон Вейцзеккера читаем:
«Однажды он повел меня по лесной дороге, которая сходила на нет и
оборвалась посреди леса в месте, где из-под густого мха проступала вода.
Я сказал: "Дорога кончается". Он хитро взглянул на меня: "Это
лесная тропа (Holzweg). Она ведет к источникам. В книжку я это,
конечно, не вписал"»**
В тех редчайших случаях, когда Хайдеггер пробовал прояснить
возникавшие вокруг него недоразумения, мало что менялось. Так
произошло с основным из этих недоразумений, с отнесением его к
экзистенциалистскому направлению в современной философии. Он
не раз подчеркивал, что его мысль не имеет отношения к этой
школе. Всё равно: он — экзистенциалист, читаем мы в справочных
изданиях***. Между тем энергичное и многозначительное размежевание
Хайдеггера с экзистенциализмом произошло еще задолго до
«Письма о гуманизме» (1947, см. в данном сб. с. 192-220), в самом начале
20-х гг. В его большой рукописной рецензии 1921 г. на книгу Карла
Ясперса «Психология мировоззрений» признавалось, что Ясперс
сумел подняться над простым собиранием фактов к новому широко-
* Weizsäcker С. F. von. Der Garten des Menschlichen. München; Wien: Hanser,
1977. S. 410.
" Ibid. S. 407.
" Эта привычная, но неверная характеристика была включена в
политиздатовский словарь «Современная западная философия» (1991), хотя
противоречила смыслу статьи о Хайдеггере (с. 365).
Дело Хайдеггера
929
му обзору реалий человеческого существования. Но что это значит,
что Ясперс «непосредственно и непредвзято созерцает»
экзистенцию, развертывающуюся перед ним между своими «пограничными
ситуациями»? Разве такое созерцание не частица экзистенции
самого исследователя? Важно не то, что именно может разглядеть в
своем объекте зоркий субъект. Мало ли что он может в нем разглядеть,
да еще в таком богатом, как человеческая экзистенция.
Исследователь упускает спросить: что стоит за рассмотрением экзистенции?
Кто ее рассматривает? Она же сама. А что, если все это пришедшее
с экзистенциализмом занятие анализа и описания человека — лишь
тайное следствие каких-то изменений в способе его исторического
бытия? Ясперс не дочитал рецензию младшего друга до конца, она
ему показалась скучной*; напечатана она была только в 1973 г.
Экзистенциализм продолжал свое странствие по переулкам
«существования» с его проектами, трансцензусами, шифрами, диалогами.
Хайдеггер очень рано задумался об одном: благодаря чему человек
вообще видит все то многое, что он видит.
Назовем эту постоянную и, по существу, единственную мысль
Хайдеггера. Что бы ни понял, что бы ни увидел своим умом, что бы
ни открыл, что бы ни изобрел, чем бы ни был захвачен человек,
пространство, в котором он так или иначе ведет себя в своей
истории, устроено не им. Раньше самой ранней мысли — ясность или
неясность того, о чем она: просвет (Lichtung), в котором имеет
место все. По-русски можно было бы сказать просто свет в смысле
мира, белого света. В санскрите loka (от lôk, смотреть) тоже значит
и просвет, открытый простор, и мир, человечество. Сходная связь
понятий — во французском monde, мир. Во всяком случае,
сцена, на которую человек каждый раз выступает, думая и поступая,
всегда заранее уже есть. «Когда бы человек ни раскрывал свой взор
и слух, свое сердце, как бы ни отдавался мысли и порыву, искусству
и труду, мольбе и благодарности, он всегда с самого начала уже
обнаруживает себя вошедшим в круг непотаенного, чья непотаенность
уже осуществилась, коль скоро она вызвала человека на
соразмерные ему способы своего открытия». Непотаенное, греческая а-ле-
тейя — это истина не в смысле правильного суждения, а в
исходном смысле того, что так или иначе всегда заранее уже есть. Увидев
что-либо умственным зрением, мы спешим схватить предмет и
упускаем из виду свет, в котором увидели. Чем больше света, тем цепче
взгляд привязан к предмету, тем меньше замечен сам по себе свет.
Однако моменты озарения составляют наше бытие в более важном
* Jaspers К. Notizen zu Martin Heidegger. Hg. von H. Saner. München; Zürich:
Piper, 1978. S. 225.
930
В. В. Бибихин
смысле, чем схваченные или не схваченные нами предметы.
Озарение нам неподвластно. В наших силах быть только готовыми к нему.
Хайдеггер думает здесь о чем-то настолько простом, что за ним
трудно следовать. Он неудобен для технического сознания, которое
теряет почву под ногами, встречаясь с чем-то не только
неуправляемым, но и невидимым. Техника в любом случае гарантирует
какой-то успех. Ее владение надежными и выверенными методами
получения обеспеченного результата опирается на науку, но наука,
в свою очередь, подчинена технике, существом которой в Новое
время делается, по Хайдеггеру, постав — настойчивое приведение
всего в природе, в обществе и человеке к «состоянию в наличии». В
образе новоевропейской науки постав задолго до своего теперешнего
размаха поставил перед теорией задачу сплошного опредмечивания
всей действительности, обеспечения бытия. Бытие не поддается
обеспечению.
Представление Хайдеггера поэтическим мечтателем далеко
уводит от его понимания. Хайдеггеровская мысль не проповедь о
золотой старине и не романтическое устремление, а онто-логия: слово
о том, что всегда уже есть прежде, чем человек начнет свою
работу осознания. Речь не о том, что было и могло бы быть.
«Осмысление существа Нового времени вводит мысль и волю в круг действия
подлинных сущностных сил нашей эпохи. Они действуют, как они
действуют, не задеваемые никакой обывательской оценкой. Перед
лицом этих сил только и даны либо готовность вынести их, либо
выпадение из истории... Эпоху никогда не отменить отрицающим
ее приговором. Эпоха только сбросит отрицателя с рельс. Однако
Новое время, чтобы впредь устоять перед ним, требует в силу
своего существа такой исходности и зоркости осмысления, какую мы,
нынешние, возможно, и способны в чем-то подготовить, но никоим
образом — сразу уже и достичь».
Это говорилось в 1938 г., в докладе «Время картины мира» (см.
ниже). Работы Хайдеггера несли на себе напряжение исторического
места и момента, дышали близостью события и сами были
событием. Но главное событие, о котором в них шла речь, не было похоже
на революции, войны и учреждение новых порядков. Во всех таких
сдвигах Хайдеггер видел уже только неотвратимые последствия
решающего неслышного события — явления или ускользания бытия
как озарения.
Осенит ли оно своим богатством человеческое существование,
не от человека зависит. Человеку дано только принять и хранить
подарок. Все, что устраивается насильственно, не становится
событием или становится совсем не тем событием, которого хотели
устроители.
Дело Хайдеггера
931
В годы, когда Гитлер начинает и проигрывает войну за контроль
над планетой, Хайдеггер думает и говорит о нигилизме как
последнем забвении бытия. Озарение с предметной, объективной точки
зрения — не вещь, ничто. Поэтому сам по себе опыт ничто, опыт
невозможности опереться ни на что существующее, еще не
нигилизм. Нигилизм может принять форму благонамеренного
отшатывания от «нигилистической пустоты». Но озарение дает о себе знать
и в опыте ненадежности всего сущего, его провала. Бытие не всегда
день, оно и ночь. Нигилизм не выносит ночи и спешит зажечь в ней
свои искусственные огни. Не зная ночного мрака, он не замечает
и рассвета. Только в ненавязчивом слове мысли и поэзии еще
слышна тишина бытия. «Мысль внимает просвету бытия, вкладывая свой
рас-сказ о бытии в язык как жилище экзистенции... Будущая мысль
уже не философия, потому что она мыслит ближе к началам, чем
метафизика... Мысль поднимается до опускания в нищету своего
предваряющего существа». А поэзия? Настоящая поэзия тоже не
поддалась нигилистическому активизму и, мало понятая, продолжает
в оскудевшем мире призывать Спасительное.
После войны, лишенный французскими оккупационными
властями права преподавания, забытый почти всеми, достигший
небывалой известности, восстановленный в правах, осмеянный, снова
обвиненный, прославленный, разгадываемый как мистик, тайный
томист, возродитель христианской апофатики, пророк восточной
мысли на Западе, Хайдеггер отдает в печать работы двадцатилетней,
тридцатилетней давности, звучащие как философская новость, и
думает о слове и о тайном родстве современной техники с техне —
художеством античной классики. «Рукоделье письма», еще в «Бытии
и времени» заставившее признать в нем мастера слова, поднимается
у него теперь до диалога мысли с языком. Хайдеггеровское бытие
требует от человека почти невозможного: внимания к ближайшему.
Сложным, так или иначе, можно овладеть; простое гораздо труднее.
Не человеку судить о бытии, оно — судьба человека, «ели только
человеку еще суждено вернуться к своему собственному существу.
Простота — удел благородной нищеты «пастухов», которые «живут
неприметно и вне бесплодной равнины опустошенной земли»,
вынося и храня истину бытия. Без нищей простоты у человека, каким бы
хитроумным строителем он ни стал, нет родины и нет дома. Люди
взвинчивают себя говорением. В век информации слышен уже
почти только крик. Бытие никогда не говорит другим голосом, кроме
зова тишины. Тишина кажется пустой. Но для вслушивающейся
мысли пустота бытийного ничто открывается впускающим
простором. Открытость благородной нищеты допускает вещам быть тем,
что они есть. Слово мыслителя и поэта оказывается способно хра-
932
В. В. Бибихин
нить мир, что не дается всей деловитой организации постава. Мир
не сумма предметов. В своем существе он спокойное согласие.
Повсеместная гонка всестороннего и непрестанного обеспечения,
поглощающая надолго вперед все силы и ресурсы земли и
человека, — откуда это, что это такое? Современный коллектив подчинен
двум механизмам, технике и историческому процессу, которые
требуют себе не меньших жертв, чем античный рок. Полновесно звучат
слова о том, что техника стала нашей судьбой. Ее, орудие всеобщего
контроля, никакими силами не удается взять под контроль.
Посвящение всех сил человечества, всех запасов земли поставу по
видимости служило избавлению из-под власти природных стихий. На деле
оно было подчинением новому року как раз тогда, когда зависимость
от природы переставала быть гнетущей.
Однако и постав в своей скрытой от него самого сути оказывается
тоже вскрытием бытия, только не путем художественного про-из-
ведения, а путем добывающего, поставляющего и изготовляющего
производства. Истина бытия, светящаяся в произведении
искусства, забыта лихорадочной научно-технической деятельностью.
И все равно именно благодаря поставу впервые в истории
человеком теперь правит само бытие, и только оно — в манящем
обманчивом облике единого окончательного упорядочения всего мирового
сущего. Постав оказывается таким образом и крайней опасностью
последней разлуки с бытием, и немыслимой близостью к нему,
неузнанному.
При таком положении вопрос «что делать?» показывает себя
вдвойне неуместным. Сделано уже почти все, о чем задумывались
в самых смелых проектах, — и уже почти всё в мире, который
устроило себе и который так не устраивает современное человечество,
сделано в смысле поделки и подделки. Не «что делать?», а «как начать
думать?» — спрашивает Хайдеггер. Бытие неподдельно — или его
вообще нет. В допущении его -г- опережающее всякую деятельность
дело мысли.
Оно дело всей жизни Хайдеггера. Но трудно назвать
продолжением этого дела расплеснувшееся на всех континентах огромное
исследование Хайдеггера, насчитывающее сейчас уже десятки тысяч
публикаций. «Делом Хайдеггера» его можно назвать только в совсем
другом смысле. Не будет преувеличением сказать: почти все это
исследование остается, по существу, расследованием. Кто он все же
был на самом деле? Не воплощение ли он какой-то темной силы или
опасного соблазна? Настоящий ли он философ? Не дзен-буддист ли
он? Не нигилист ли? Может быть, он поздний реакционный
романтик? Может, он крипто-томист, замаскированный богослов?
Конечно, убежденно говорят одни. Надо посмотреть, говорят другие,
Дело Хайдеггера
933
и прибавляют новые страницы к безбрежному делу. Расследование
идет широким фронтом, не прекращаясь, вот уже более шестидесяти
лет. Конца ему не видать. Меня начнут понимать лет через двести
или триста, говорил Хайдеггер. Он ошибся. Расследования
философов длятся дольше, не сотнями, а тысячами лет. Расследование дела
одного древнего афинянина, который ездил зачем-то к сиракузско-
му тирану Дионисию, продолжается и в нашем веке. Со страстью.
Дело Хайдеггера до сих пор для большинства означает только
одно — обдумывание загадки, которая подлежит разгадке. Понять
дело Хайдеггера иначе, предположив, что он, возможно, начал
в нашем веке дело первой важности, которое завещал другим, —
до этого нам пока еще очень далеко. Гораздо ближе нам другое.
Разоблачить его как псевдофилософа, недемократа. Или, наоборот,
оправдать, — скажем, как возродителя истинного христианства
или как единственного глубокого, подлинного антифашиста. Кто-то
теряет терпение и спешит с крайними выводами, криминальными
или, наоборот, восторженными; или теми и другими вместе. Это,
так сказать, нервические выкрики из зала, в котором напряженно
ведется процесс. Закричавших утихомиривают, расследование
продолжается.
Здесь кто-нибудь возразит: позвольте, но ведь дело, которым
он был занят, — это как раз дело анализа, спрашивания,
дознания. Разве не так? Разве, спрашивая теперь уже и о нем самом, мы
не продолжаем его дело? Нет, не продолжаем. Нам только кажется,
будто, спрашивая среди прочего теперь уже и о нем самом, мы
просто продолжаем заниматься тем же самым исследованием, что и он.
Дело Хайдеггера по-настоящему другое, чем постановка и разбор
исследовательских вопросов. За хайдеггеровской «деструкцией»
стоят не еще и еще вопросы, за ними просвечивает ответ. Об этом
напомнил Жак Деррида в своей книге *0 духе. Хайдеггер и вопрос».
Он вспомнил о том, что Хайдеггер говорил в конце 1957 г. в лекции
«Существо языка»: «Мысль не средство познания. Мышление
проводит борозды в поле бытия... Собственный жест мысли — не вопро-
шание» *. Жак Деррида говорит по поводу этих слов: «Вопрос
оказывается не последним словом в языке. Прежде всего — потому что он
не первое слово. Во всяком случае, прежде всякого слова
располагается то слово, иногда бессловесное, которое мы называем "да". Род
предшествующего всякому началу залога, который, всё опережая,
делает нас заложниками: вовлеченными участниками слова и
поступка»**. Залог этот, нами вносимый и нас делающий заложниками
* Heidegger M. Das Wesen der Sprache // Heidegger M. Unterwegs zur Sprache.
Tübingen: Neske, 1959. S. 173, 175.
** Derrida J. De l'esprit. Heidegger et la question. P.: Galilée, 1987. P. 148.
934
В. В. Бибихин
истории, завязывающий наше отношение со словом и делом,
отменить никакой возможности нет. Возврата назад нет.
Собственное дело мысли — все-таки не вопрос, пусть даже самый
неотступный. Собственное дело мысли — это дело, поступок,
который совершает человек в раннем «да» миру и который одновременно
впервые делает человека участником того, в чем он только и может
осуществиться как человек, — входящим в событие мира. Начало
мысли — поступок принятия того, что все такое, какое оно есть:
согласие с миром.
Здесь снова неизбежно возражение. Как это так — мысль дело?
Разве мысль дело? Мы ведь давно привыкли считать, что как раз
мысль — это одно, а дело — совершенно другое. Теория — это одно
дело, практика — совсем другое дело. Правда, у Аристотеля в
«Этике Никомаховой» (Х8,1178b 7-8) стоит: «Совершенное счастье есть
некая теоретическая действенность», то есть такая «теория»,
которая одновременно полнота действительности, «энергия». По
Плотину, который еще больше заостряет эту мысль, практика есть то,
во что сползает человек, обессилевший душою для теории: «Люди,
когда у них перестает хватать силы для мысли, начинают
заниматься тенью мысли — практикой» (III, 8, 4).
Но подобные места относятся как раз к непопулярным в истории
философии. Во всяком случае, мы их даже не начали еще
по-настоящему осмысливать. Дело и мысль, поступок и мысль для нас пока
не только разные, но и противоположные вещи.
Если современная мысль такова, то может ли быть какая-то
другая мысль, которая оказывается делом в исходном, сущностном,
безобманном смысле? Не для того, чтобы доказать что-то при помощи
этимологии, а для того, чтобы не тесниться внутри только
привычного и стершегося значения слова, которое обычно бывает уже
суженным, вспомним, что наше слово «дело» того же происхождения,
что немецкое Tun, «деяние», «поступок» и греческое тесис, Qéaiç:
«полагание» не в смысле мнения, а в смысле выкладывания,
выставления, предложения, например, в качестве залога. «Залог» — одно
из значений слова тесис. Залог — это знак, который я даю о том, что
не собираюсь только, а уже сделал какой-то решительный первый
шаг, уже поступил, то есть тем самым уже вложил себя. Залог — это
начало дела, в которое я намерен вложить себя, в котором я
настроен выложиться.
В какое дело вкладывает себя или, вернее, каким
делом-вкладыванием должна быть другая мысль? Хайдеггеровская другая мысль
не хочет быть изобретением чего-то небывалого. Она
возвращается к тому, чем мысль с самого начала должна была быть, то есть
к тому, чем мысль каким-то образом уже была. Мысль давно, даже
Дело Хайдеггера
935
раньше, чем она узнала себя в самосознании, вложила себя в дело
мира — в то большое дело, каким оказывается целый мир. Раньше
всего, еще не зная ничего, еще не зная даже себя, мысль уже имела
дело с целым миром, сказав ему свое раннее « да». Даже если потом,
на стадии развитого сознания, она не принимает мир или говорит,
что не принимает, она может его не принимать и может так говорить
только потому, что тем первым «да» целому миру когда-то уже была.
Вернее, она сама самим же миром как согласием целого и согласным
принятием целого уже была. Была раньше, чем забыла.
Мир-целое, мир-согласие остается первым делом мысли — и
вместе тем, что она куда-то дела, не успев заметить, куда и как она его
дела или куда девался целый мир — тот, с которым в своем
младенчестве мысль вела беседу, когда была еще мифом. Наш язык здесь
снова с нами. Русское «мысль» — то же слово, что греческое цибос,
«миф». Об этом, конечно, мы имеем право забыть или не знать.
Мысль давно успела стать сознанием и с пренебрежением
оттолкнула от себя миф — свое начало. Мы спокойно повторяем слова
учебника: «Становление философии произошло в борьбе мысли против
мифа». Мы не задумываемся, что мысль сделала над собой этой
своей борьбой с мифом, с самою же собой в своем начале.
За свою забывчивость мысль, расставшаяся с собственным
началом, вынуждена платить. Современная мысль почти только то одно
и делает, что гонится за упущенным целым. Ранний мир
ускользнул, но мысль осталась его заложницей. Она обречена снова и
снова рисовать себе его картину и иметь дело с этим суррогатом целого.
Забыв, что ее началом было дело мира, она пытается отыскать себя
на ею же нарисованной картине. Это очень странно, но современная
мысль действительно пытается найти, понять и организовать себя,
разглядывая свое собственное изображение на нарисованной ею же
схеме. Она обнаруживает себя там на переднем плане, именуемом
«человек», в части «культура человека», на фигуре «философия»,
в уголке «мыслящий субъект».
Дело мысли — найти себя не на своей картине мира, а там, где
она, сама плохо понимая зачем, снова и снова, непрестанно и все
быстрее рисует, теперь уже только вчерне успевая набросать, все более
глобальные картины мира. Она должна разобрать себя за своей
картиной мира. Можем ли мы тогда по-честному сказать, что этот
разбор, эта деконструкция построек мысли — дело Хайдеггера? Да, он
был им занят, но в гораздо более прямом смысле, чем дело
Хайдеггера, это наше дело. Хайдеггер вместо нас был занят нашим прямым
делом. Ведь это нам жизненно важно вспомнить, что наши
картины, проекты мира — замена упущенному и забытому целому.
Мысли пора узнать себя как способную к миру и захваченную миром.
936
В. В. Бибихин
Пока мы будем видеть целое только в конце наших построений, мы
никогда не увидим нашим построениям конца: чему же конец будет
в конце, если ему не нашли начала?
Решимся сказать, что дело, которым был захвачен Хайдеггер, —
это вовсе не личное дело Хайдеггера и даже не просто какое-то одно
дело среди многих человеческих дел, а дело по преимуществу, дело
само по себе, если только дело человека на земле можно назвать
делом мира. Первое дело мысли — мир. Наша она мысль или не наша,
вопрос уже второй. Не мы должны распоряжаться мыслью, скорее
мы должны быть в ее распоряжении, насколько она дает слово миру.
Поэтому «дела Хайдеггера» в строгом смысле нет. На его
месте дело мира. Мир сам от себя и есть уже то первое дело, которое
требует нас и требуется нам потому, что только в деле мира и мире
как большом деле мы можем найти себя и иначе как в целом мире
себя не найдем. Именно это отсутствие личного дела Хайдеггера
и заставляет главным образом вести исследование его творчества
как расследование. Не может быть. Не верится. Не бывает, чтобы
ничего личного не было, чтобы все было настолько просто. Человек
растворился. Стал чистым присутствием — через него — дела мира.
XX век, век расследований, век-волкодав душит нас, не отпускает.
Надо дознаться. Докопаться. Сыскать человека. Кто такой
по-настоящему Хайдеггер? Исследователями движет вовсе не простое
любопытство, а очень большое желание, чтобы путь мысли, путь
хайдеггеровской мысли, путь всякой мысли, путь нашей мысли
всё-таки не вел только туда, куда он ведет у Хайдеггера, — к
смирению человека, то есть к измерению его мерой мира, мерой согласия;
к тому, чтобы человек уступил себя целому.
Один из хайдеггеровских докладов о планетарном поставе, *
Вопрос о технике», кончался, казалось бы, на главной ноте XX в., ноте
расспрашивания, допытывания: «Ибо спрашивание есть
благочестие мысли». Но еще четырьмя месяцами раньше, в докладе «Наука
и осмысление», упрямое неотступное спрашивание уступало у
Хайдеггера другому: готовности забыть себя, чтобы дать слово миру.
«Даже там, где благодаря особой расположенности бытия была бы
достигнута высшая ступень осмысления, пришлось бы
довольствоваться лишь подготовкой готовности к вести, в которой
нуждается наше сегодняшнее человечество. Ему требуется осмысление,
но не для того, чтобы преодолеть временные затруднения или
переломить свое отвращение к мысли. Осмысление требуется ему как
отзывчивость, которая среди ясности неотступных вопросов потонет
в неисчерпаемости того, что достойно вопрошания, в чьем свете эта
отзывчивость в урочный час утратит характер вопроса и станет
простым сказом».
Дело Хайдеггера
937
Переводчик просит не судить о том необозримом, что сделано
Хайдеггером, по неизбежно несовершенному переводу. Кроме того,
не очень важно, как мы должны или как мы будем судить о
мыслителе, итог работе которого подводить не нам здесь и даже не нашим
близким потомкам. Нам сейчас нужно главное: школа чистой мысли.
Перевод Хайдеггера, строго говоря, невозможен. Без всякого
преувеличения каждое слово, каждая частица своего родного языка
услышаны им заново во всем размахе их современного и
исторического звучания. Здесь точно так же, как в поэзии, перевод намекает
на оригинал не больше, чем оборотная сторона ковра дает
догадаться о его лице (Данте).
Совершенно неожиданно на помощь приходит русский язык —
не своей гибкостью, способностью к приспособлению, имитации,
а своим пока еще никем почти не разведанным философским
запасом. Переводчик решил, что искусственных образований для
передачи хайдеггеровской словесной ткани почти не требуется, потому
что русский язык, так сказать, не хуже немецкого для мысли.
Иногда в русском появляется даже то, чего Хайдеггеру в его немецком
как будто бы не хватает. Например, у Хайдеггера пустота, как
сказали бы на философском жаргоне, продуктивна в качестве
вмещающей открытости; эта неожиданная сторона пустоты особенно ясно
показана в поздней работе «Искусство и пространство». Русский
язык подсказывает: пустота — это нечто отпущенное на простор и
потому способное в себя впустить. В немецком das Leere этого нет. Еще.
В работе «Путь к языку» Хайдеггер называет существом речи ука-
зывание и опять не находит в немецком языке слова, которое прямо
свидетельствовало бы об этом; но в русском оно есть («сказ»). И еще.
Расположение бытия: его расположение таково, что оно
расположено к человеку. Эта плодотворная двузначность словесного
смысла в русском слове на виду; в соответствующем немецком слове она
стерта и прослеживается только в отдаленной этимологии. Наконец,
центральное слово хайдеггеровской зрелой мысли, событие
заставляет в русском переводе настойчивее вспомнить о бытии, чем
немецкое Ereignis; хотя, с другой стороны, в русском пропадает
исторически таящийся в Ereignis смысл прозрения, воссияния, озарения.
Но, конечно, нетронутое философское богатство русского слова
поневоле остается в переводе недоиспользованным. Хайдеггер не
ходил и не мог ходить путями, намеченными нашим языком.
Впечатление неполной просвеченности слова, обрыва смысловых связей,
«лишних», провисающих словесных значений, общей «сырости»
текста создается целиком переводом и совершенно отсутствует при
чтении немецкого оригинала, поражающего, наоборот,
полновесным участием всех сторон слова в мысли. Достичь чего-то хотя бы
938
В. В. Бибихин
подобного в переводе, к сожалению, невозможно и никогда не будет
возможно. Потому что если бы та долгая, более чем
шестидесятилетняя работа продумывания родного слова, которую вел Хайдеггер
в Германии, была проделана у нас, — а почти вся громадная задача
философского обживания русского языка остается еще делом
будущего, — то даже и тогда она не оказала бы большой помощи
переводчику, потому что шла бы своими путями, не всегда похожими
на хайдеггеровские.
* * *
К сожалению, я не могу посоветовать читателю пользоваться
моими старыми переводами, выходившими в разное время в
малотиражной печати. За исключением «Основных понятий метафизики»
(Вопросы философии, 1989, 9), все они для данного издания
переделаны; некоторые, особенно «Путь к языку», «Из диалога о
языке», «Слово», «Учение Платона об истине», переписаны совсем.
Из «Европейского нигилизма» (с. 63-176) раньше выходила только
примерно 1/4 часть. Впервые для данного сборника подготовлены
также «Введение к: "Что такое метафизика?"» и «Время и бытие».
Постоянное обновление переводов, по-моему, и необходимо, и
неизбежно, даже если согласиться, что подход к представлению Хайдег-
гера на русском языке сейчас можно считать в главных чертах
сложившимся. Без неотступного усилия самостоятельного осмысления
того, что звучит или не звучит на родном языке, ничто не удержит
переводчика, излагателя, комментатора от соскальзывания в колею
очередного бессмысленного философского жаргона, и тогда, как
в случае с Гегелем уже было, мы получим противоположное тому,
что нужно мысли.
За щедрую помощь и советы я благодарен Юрию Николаевичу
Попову, знатоку философской культуры, редактору и
переводчику, а также Вардану Айрапетяну, любезно согласившемуся
прочесть корректуру. Неоценима постоянная и разнообразная
поддержка, которую оказывал мне с 1972 г. мой Институт философии
(РАН).
С. С. ХОРУЖИЙ
Хайдеггер, Синергийная антропология
и проблема антропологического плюрализма
Хайдеггер и синергийная антропология
Основные этапы моего диалога с Хайдеггером развивались на
почве моего проекта синергийной антропологии (CA). Этот диалог
внес несколько существенных элементов в устройство проекта, хотя
по своему общему характеру проект далеко не соответствует хайдег-
геровской линии. В своей методологии он более гуссерлианский
и отчасти картезианский, поскольку реализует стратегию
«малейшего спасенного клочка» (именно так Гуссерль назвал стратегию
Декарта, развернувшего всю эпистемологию, начиная с
единственного абсолютно достоверного познавательного акта). CA начинается
с тщательного анализа особой области антропологического опыта,
выбранной в соответствии с критериями «эпистемологической
прозрачности» и «антропологической полномерности». Затем она
расширяет эту «спасенную» (то есть полностью проработанную эписте-
мологически) область, постепенно продвигаясь ко всему ансамблю
антропологического опыта. Исходной областью является опыт вос-
точноправославной аскетической и мистической практики
исихазма. Моя реконструкция исихастской антропологии показывает, что
эта область удовлетворяет обоим критериям. Она представляет иси-
хастскую практику как некоторую особую практику себя, в смысле
Мишеля Фуко, в которой адепт формирует свою конституцию,
делая себя открытым, или, что то же, разомкнутым для встречи с
Божественными энергиями (энергиями источника, имеющего другой
способ бытия). Данная парадигма конституции человека,
формирующейся в размыкании человеческого существа, включает в себя
встречу его энергий с другими, онтологически отличными
энергиями и является ключевым элементом практической антропологии
исихазма. Это онтологическое размыкание человека именуется
940
С.С. Хоружий
синергией (synergeia, греч.), и достижение встречи двух энергий
открывает путь к их совершенному соединению, обожению. Моя
реконструкция показывает, что парадигма синергии становится
порождающим принципом последовательного и полноценного
описания определенной антропологической формации, актуализуемой
человеком в исихастской практике.
Далее мы начинаем расширение исходной области, основываясь
на наблюдении, что многие понятия и принципы исихастской
антропологии являются весьма общими и могут быть использованы также
и для описания других областей антропологического опыта.
Наиболее важным из них является принцип антропологического
размыкания: я обнаружил, что это чрезвычайно общая антропологическая
парадигма, которая имеет множество очень разных репрезентаций,
помимо онтологического размыкания (синергии). В частности,
существует особый тип размыкания, которое происходит в
предельном опыте (франц. expérience-limite: опыт, в котором человек
доходит до крайних пределов своего сознания и существования, так что
становится возможен контакт с Другим, с тем, что/кто находится
за этими пределами). В этом особом размыкании формируется
конституция человека как такового. Я показываю, что во всем
ансамбле антропологического опыта существует три, и только три,
репрезентации такого конститутивного размыкания, и это «размыкание
в предельном опыте» является универсальной парадигмой
антропологической конституции. Каждая из трех базовых репрезентаций
определяет некоторую полномерную и полноценную
антропологическую формацию, и, как следствие, CA может быть охарактеризована
как плюралистическая «антропология размыкания». Три основные
формации именуются, соответственно, Онтологический человек
(конституируемый в онтологическом размыкании), Онтический
человек (конституируемый в размыкании к некоторому онтическо-
му Другому, например бессознательному) и Виртуальный человек
(конституируемый в виртуальных антропологических практиках).
Из этого краткого описания видно, что с самого начала CA
вступает в тесную, но амбивалентную связь с хайдеггеровским
дискурсом. Порождающим принципом CA является размыкание,
которое является известной хайдеггеровской категорией: термин die
Erschliessung, используемый в Sein und Zeit, буквально
соответствует русскому размыканию, используемому в CA, а также
английскому the unlocking. Дискурс позднего Хайдеггера не использует
die Erschliessung, но он включает вместо этого кластер терминов
с близкими значениями. Даже ключевое понятие Dasein
принадлежит к этому богатому дискурсу размыкания: согласно Хайдеггеру,
Da в Dasein указывает на фундаментальную разомкнутость Dasein.
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 941
Очевидно, весь этот дискурс представляет собой общее основание
философии Хайдеггера и CA, хотя рассматриваемое понятие
трактуется совершенно по-разному. Эти разные интерпретации детально
сравнивались в моей книге «Фонарь Диогена»*. Упрощая для
краткости, можно сказать, что размыкание имеет два разных
направления, или же два модуса, внутренний и внешний: соответственно,
интериоризирующее размыкание (разделение, дифференциация)
внутренних содержаний себя и экстериоризирующее размыкание
Dasein как целого за его пределы к встрече с бытием. В Sein und
Zeit внешний модус почти незаметен, и размыкание
рассматривается почти исключительно в его внутреннем модусе; но у позднего
Хайдеггера роль внешнего модуса становится весьма значительной.
В частности, ключевая парадигма «выступания в просвет бытия»,
очевидно, соответствует внешнему модусу размыкания. С другой
стороны, также и в религиозном дискурсе сильно преобладает
внешний модус размыкания. Что касается духовных практик, исихазма
и CA, то эти дискурсы сочетают и культивируют оба модуса; в
частности, Органон исихастской практики**, включающий в себя
наиболее сложные процедуры мониторинга и трансформации внутренней
реальности, можно рассматривать как самый детальный канон
внутреннего (а также и внешнего) размыкания.
В целом дискурсы размыкания в исихазме и CA, с одной
стороны, и Хайдеггера, с другой стороны, различны, но прямого
противоречия между ними нет. Их сравнительный анализ в книге *
Фонарь Диогена» — далеко не исчерпывающий, и остается еще много
открытых вопросов. Например, важным компонентом хайдеггеров-
ского дискурса размыкания является аналитика зова (Ruf) и
«оклика бытия» (Anspruch des Seins). Его параллелью является дискурс
молитвы в исихазме и дискурс «онтологического движителя» в CA.
Было бы интересно распространить сравнительный анализ на эти
темы.
С другой стороны, главной характеристикой CA является ее
плюрализм. В терминах картографии, территория человека
включает в себя три основные части, или же топики, которые заселяют
Онтологический, Онтический и Виртуальный человек. Этот
плюрализм находится в резком противоречии с хайдеггеровским взглядом
* Хоружий С. С. Фонарь Диогена. М.: Институт философии, теологии и
истории Св. Фомы, 2010. С. 426-448.
'* Органон, являющийся ядром каждой духовной практики, представляет
собой полный набор (канон) правил, предписывающих организацию,
контроль, критериологию и интерпретацию ее опыта. См.: Хоружий С. С. К
феноменологии аскезы // Он же. Исследования по исихастской традиции.
Т. 1. СПб.: Издательство РХГА, 2012.
942
С.С. Хоружий
на человека (будем избегать формулы «антропология Хайдеггера»,
поскольку для него антропология несла негативный смысл). Все
наши параллели между Хайдеггером и CA касаются только
онтологической топики, поскольку только Онтологический человек
актуализирует онтологическое различие (различие, или же складку, die
Zwiefalt, между бытием и сущим, das Seiende) и соответствует хай-
деггеровскому тезису «человек и бытие принадлежат друг другу».
Что касается онтических и виртуальных формаций/топик, то они
не только отсутствуют в философии Хайдеггера, но и их
существование там совершенно невозможно.
Эта ситуация выводит нас к более глубоким проблемам. Онти-
ческий и Виртуальный человек конституируются в определенных
антропологических практиках, и их топики являются областями
такого антропологического опыта, который не имеет ничего
общего с онтологическим размыканием. Мы называем соответствующий
опыт неонтологическим опытом. Поскольку данные формации
отсутствуют в философии Хайдеггера, это означает, что эта философия
либо игнорирует неонтологический опыт, либо интерпретирует его
каким-то другим образом, представляя его также принадлежащим
Онтологическому человеку, единственной формации, допускаемой
Хайдеггером. По сути, имеют место оба варианта. Хайдеггер
игнорирует опыт виртуальных практик (в его время они только
начинали появляться). Что касается опыта Онтического человека, то он
также частично игнорируется, а частично интерпретируется как
относящийся к Онтологическому человеку.
Ниже мы обсудим основные проблемы, касающиеся
взаимосвязи между хайдеггеровским взглядом на человека и нашей
плюралистической антропологией. Сначала мы рассмотрим онтологическую
топику. Принцип онтологического размыкания близок хайдеггеров-
ской экстатической парадигме конституции человека; но интересно,
что помимо сходства сравнительный анализ обнаруживает также
диаметральную противоположность, своего рода структурную
антисимметрию между двумя парадигмами.
Экзистенциальная аналитика и духовная практика
Наша реконструкция представляет собой исихастскую практику
и другие духовные практики, такие как йога, суфизм и др., как
ступенчатый процесс само-преобразования человека, в ходе которого
он постепенно изменяет совокупность всех своих энергий,
соматических, психических и интеллектуальных, дабы достичь определенной
цели, или же телоса. В отличие от практик себя, изучаемых Фуко,
телос любой духовной практики мета-антропологичен, то есть он
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 943
не принадлежит эмпирическому бытию, а его достижение требует
онтологического размыкания. Путь практики делится на четко
различимые ступени, и в случае исихастской практики вся лестница
этих ступеней подразделяется на три больших блока. Здесь я
упоминаю лишь те элементы пути, которые имеют отношение к нашей
компаративной теме.
1) Начальный блок — это Врата Духовные, или же метанойя,
«перемена ума», этап, на котором человек осуществляет
радикальную критическую переоценку и пересмотр как своего внешнего,
так и внутреннего мира. Эта переоценка порождает отталкивание
от мирской жизни и побуждает человека к решению порвать с этой
жизнью и встать на путь, ведущий к телосу.
2) Адепт обнаруживает, что в силу мета-антропологической
природы телоса восхождение к нему — это онтологическое
размыкание, требующее особой деятельности, которая собирает воедино
все человеческие энергии и направляет их к пределам горизонта
человеческого опыта и существования для встречи с телосом,
находящимся за этими пределами. Ключевой элемент этой
деятельности — достижение соединения определенных особых форм молитвы
и внимания. Как обнаружили на опыте исихасты, такое соединение
действует как своего рода онтологический движитель: молитва,
которая делается непрестанной с помощью внимания, охватывает все
уровни человеческого существа и, вбирая в себя все человеческие
энергии, направляет их к телосу. Таким образом достигается
синергия.
3) В силу синергии, на высших ступенях исихастской Лестви-
цы восхождение к телосу осуществляется главным образом
энергиями последнего (Божественными энергиями). Эти ступени уже
приближаются к обожению, полному соединению человеческих
и Божественных энергий, и на них начинаются определенные
фундаментальные изменения человеческого существа. Согласно иси-
хастскому опыту, такие изменения касаются, прежде всего, сферы
перцептивных модальностей человека: происходит возникновение
и формирование новых перцептивных способностей. Важной
особенностью этих изменений является то, что они никоим образом
не сходны с «мистическим растворением» личности и идентичности
человека в Абсолюте. В исихазме духовное восхождение есть
диалогическое общение с Богом, а его телос, обожение, понимается как
личное бытие-общение, в котором все личностные черты человека
сохраняются, хотя и в некоторой трансцендированной форме.
Основа для сопоставления описанной практики с
экзистенциальной аналитикой появляется, когда мы замечаем в икономии хайдег-
геровского Dasein структуру определенного ступенчатого восхожде-
944
С.С. Хоружий
ния, сходного (по крайней мере, отчасти) с исихастской Лествицей.
Опять-таки, мы опишем эту структуру только в ее основных
элементах; ее детальная реконструкция представлена в книге «Фонарь
Диогена» (с. 448-472).
Для начала напомним, что Sein und Zeit устанавливает
оппозицию двух модусов темпорализации, подлинного и неподлинного,
разворачивая эту оппозицию в полноценную онтологическую
оппозицию двух модусов Dasein. Хайдеггер избегает аксиологического
дискурса, но он вполне подходит для характеристики этой
оппозиции. Ее полюса не имеют одинаковой ценности. Модус подлинного
концентрирует в себе все онтологически подлинное и желательное:
«возможность своего подлинного существования (Existenz)»,
полноту и цельность, свободу и т. д. Модус же неподлинного
характеризуется широким спектром отрицательных предикатов и свойств всех
видов: падение (Verfallen), трусость, скрытность, забвение и
утрата себя, тяга к уклонению, сокрытию, отклонению и т. д. С другой
стороны, именно в этом убогом состоянии мы сами находимся,
изначально и преобладающим образом; это наша повседневность.
Что же касается модуса подлинности, то он нам не дан и недоступен.
Такова первоначальная конфигурация вещей, но эта конфигурация
должна быть изменена.
Экзистенциальная аналитика возвещает онтологическое задание
и назначение Dasein: осознать свое несобственное бытие-к-смерти,
отвергнуть его и выстроить основоустройство, die Grundverfassung,
другого способа, собственного бытия-к-смерти (что является «самой
крайней возможностью Dasein»). Задача состоит в том, чтобы
проложить путь через несобственный способ бытия-к-смерти. Это
онтологический путь, Дао, если угодно, и его уместно описать в
вертикальной метафоре, как путь восхождения. (Эта метафора не чужда
хайдеггеровскому дискурсу: она эксплуатируется им, например,
в концепте поворота, Kehre.) «Путь духовного восхождения» — это
обычная формула онтологического процесса в духовных практиках,
в частности, в исихазме. Затем мы замечаем дальнейшие точки
сходства со структурами духовной практики. Путь к подлинному бытию-
к-смерти, или же «экзистенциальное восхождение» — это
определенная трансформация Dasein, которая должна быть осуществлена
самим Dasein; иначе говоря, «экзистенциальное восхождение», как
и духовная практика, является само-преобразованием. Далее, эта
трансформация есть направленный процесс, продвижение к
предопределенному состоянию (подлинному бытию-к-смерти), подобно
тому, как духовная практика есть продвижение к своей
предопределенной цели, телосу. Взятые вместе, эти два свойства
показывают, что «экзистенциальное восхождение», как и духовная практика,
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 945
является антропологической практикой, принадлежащей к
категории практик себя, в терминах Фуко. Более того, в хайдеггеровском
дискурсе «экзистенциальное восхождение» является
онтологическим в полном смысле этого слова, так что его цель онтологически
отличается от своего первоначального состояния, подобно телосу
духовной практики. Подводя итог, мы приходим к выводу, что в
области антропологических практик существует полный структурный
изоморфизм между духовной практикой и само-преобразованием
хайдеггеровского Dasein в модус подлинного «бытия-к-смерти».
(В то же время, однако, нельзя игнорировать важное различие:
мысль Хайдеггера — собственно философская мысль, а философия
в его понимании не является ни духовной практикой, ни практикой
себя; это не само-преобразование, направленное к некому телосу.
Вместо этого философия есть возвращение к первоначалу, arkhe;
и поэтому, несмотря на структурный изоморфизм,
экзистенциальная аналитика типологически отличается от духовной практики.)
Теперь мы должны перейти от внешних структур к внутренним
и сопоставить концептуализацию «экзистенциального
восхождения» с концептуализацией духовной практики. Поначалу
параллель продолжается; продвижение к цели «экзистенциального
восхождения» также является ступенчатым процессом, большие блоки
которого решают задачи, отчасти сходные с описанными выше.
Прежде всего, резко негативная характеристика повседневного Dasein
имеет очень много общего с аскетическим дискурсом метанойи
и обличением «мира» и мирской жизни. Далее, в центральной части
пути ставится задача создать некий «онтологический движитель»,
который мог бы обеспечить фактическое поступательное
продвижение к цели. Взглянув с этой точки зрения, мы обнаруживаем, что
экзистенциальная аналитика действительно включает в себя
определенные экзистенциалы, которые выполняют такую динамическую
функцию; в первую очередь это экзистенциалы совести (Gewissen)
и решимости (Entschlossenheit). Их актуализация означает, что
началось преодоление неподлинности Dasein. Согласно Хайдег-
геру, решимость связана с ужасом (Angst), и благодаря этому
моменту «экзистенциальное восхождение» переходит в завершающую
стадию.
На этом этапе решающую роль играет ужас. Именно в ужасе
Dasein возвращается к себе и осознает себя в своей конечности. «Бы-
тие-к-смерти есть сущностно ужас»*, и во время всего
«экзистенциального восхождения» к подлинному «бытию-к-смерти» происходит
эволюция отношений человека с ужасом. На начальных этапах ужас
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 266.
946
С.С. Хоружий
разрушителен, он отнимает все силы сознания и доводит его до
грани паралича и коллапса; но на дальнейших стадиях решимость и
совесть радикально меняют его воздействие. Когда сознание человека
приобретает решимость и совесть, ужас становится для него
плодотворным фактором, он начинает подталкивать онтологическую
трансформацию к ее цели — подлинному бытию-к-смерти. В
дискурсе духовной практики можно сказать, что «экзистенциальное
восхождение» осуществляется энергиями ужаса. И мы замечаем
важное свойство этих энергий, которое значительно подкрепляет
параллель с духовной практикой.
В онтологическом дискурсе Хайдеггера это свойство есть
изначальная природа, «исходность» (die Ursprünglichkeit) ужаса,
а в психологическом измерении — его спонтанность: ужас
возникает как бы сам по себе и не зависит от воли и разума человека.
Dasein не контролирует ужаса и не управляет им, оно может лишь
принимать его во внимание и с ним так или иначе сообразоваться.
Отсюда следует, что в «экзистенциальном восхождении» энергии
ужаса действуют как определенные энергии, независимые от Dasein
и имеющие источник вне его горизонта. Это означает, что они
представляют собой аналог Божественных энергий в духовной практике,
а что касается их источника, телоса в терминах духовной
практики, то это, очевидно, смерть как действительная фактичность, моя
«уже наступившая смерть», которая находится за горизонтом моего
опыта, но является конститутивной для него. Это также «ничто» как
онтологический принцип, а именно «ничтожащее ничто», nichtende
Nichts, согласно анализу связи между ужасом и ничто в «Was ist
Metaphysik?».
Теперь параллель завершена. Мы продемонстрировали полный
структурный изоморфизм хайдеггеровского « экзистенциального
восхождения» Dasein к подлинному «бытию-к-смерти» и духовной
практики. Но затем мы замечаем, что это новое представление
парадигмы духовной практики очень специфично. В исихазме
духовное восхождение направлено к Богу и бытию в его полноте; телос
исихастской практики, обожение, есть совершенное соединение
всех человеческих энергий с Божественными энергиями, подступы
к которому начинаются с достижением синергии, встречи и сора-
ботничества с Божественными энергиями. Однако
«экзистенциальное восхождение» направлено на «заступание (Vorlaufen) в смерть»
и подлинное бытие-к-смерти, а действительное продвижение к его
цели начинается тогда, когда благодаря совести и решимости
достигается сотрудничество или sui generis синергия с энергиями ужаса.
Телос этой специфической практики можно охарактеризовать как
ужас, смерть (в ее голой фактичности, как мою уже-наступившую-
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 947
смерть) и ничто (как ничтожащее ничто). В сравнении с духовным
восхождением «экзистенциальное восхождение» оказывается
практикой, которая также онтологична (то есть направлена к другому
способу бытия), обладает той же ступенчатой восходящей
структурой, но выстраивает «синергию с ужасом», культивирует опыт
ничто и имеет ужас, смерть и ничто в качестве своего телоса. Мой
анализ в «Фонаре Диогена» дополняет это сравнение, показывая,
что практика, описанная Хайдеггером, включает также
психологические и эмоциональные компоненты духовной практики. Таким
образом, сходство с духовной практикой является не только
структурным; можно сказать, что описываемое мыслителем является
истинной полномерной духовной практикой, телос которой, однако,
имеет прямо противоположную природу. И все это заставляет нас
заключить, что экзистенциальная аналитика представляет
собой прямую противоположность, инверсию духовной практики.
Однако это не окончательный вывод. В полном контексте
работы Хайдеггера экзистенциальная аналитика дополняется
описанием онтологической и антропологической ситуации с иной позиции,
а не через призму падения и уклонения. Его более поздние тексты
представляют назначение Dasein как «экстатическое выступание
в просвет бытия». Это тоже онтологическое восхождение, однако
теперь оно направлено к бытию, а не к ужасу и ничто. Конечно,
дискурс просвета бытия не противоречит дискурсу экзистенциальной
аналитики. Взятые вместе, они соответствуют онтологической
парадигме, которая часто обсуждается Хайдеггером в его поздний
период. Это — парадигма спасения в последний миг, на краю гибели:
Dasein как-то совершает прорыв к бытию после того, как
максимально приблизится к ничто. Обычно философ обсуждает ее в контексте
поэзии Гёльдерлина, ибо находит ее лучшее выражение в
знаменитой строке из Патмоса: где опасность, там и спасение. Хайдеггер
не упоминает, что эта парадигма также является одним из главных
онтологических принципов Кьеркегора (она, в частности, налицо
в «Понятии страха» и «Болезни к смерти»). Но на самом деле ее
первое появление — не в поэзии и не в философии, а в Новом Завете,
в рассказе о судьбе Дисмаса, «благоразумного разбойника».
Неонтологический опыт как контрпример
хайдеггеровскому взгляду на человека
Здесь мы рассмотрим более подробно, как Хайдеггер трактует
опыт, который CA приписывает Онтическому человеку. Здесь
диалог CA с философом переходит в спор и конфликт интерпретаций.
Как было сказано выше, опыт Онтологического человека имеет одно
948
С.С. Хоружий
принципиальное отличие: в этом опыте актуализируется
онтологическое различие, то есть человек актуализирует свое отношение
к бытию как отличному от сущего. В опыте Онтического человека
нет ничего подобного. Его конституция, структуры его сознания
и поведения формируются не в выступании в просвет бытия, а при
встрече с онтическим Другим, главным представлением которого
является бессознательное. Хайдеггер признает и полностью
учитывает существование опыта, в котором онтологическое различие
не актуализируется и никак не проявляется. Однако он
вырабатывает особую стратегию, особую логику и дискурс, которые позволяют
интегрировать такой опыт в его монистическую антропологическую
концепцию. Он постулирует, что конституция человека строго он-
тологична, то есть формируется с помощью специфического
отношения взаимной зависимости с бытием; но в большинстве
человеческих практик онтологическая природа этой конституции остается
замаскированной или сокрытой. Эти практики не раскрывают связи
человека с бытием, так что бытие не манифестирует себя в них.
Несмотря на неразрывную связь человека с бытием, бытие остается
сокрытым в большинстве человеческих практик. Это ключевой
тезис, который становится основой большой темы и богатого дискурса
сокрытости/несокрытости (Verborgenheit/Unverborgenheit).
Главное в том, что существуют различные степени сокрытости.
Несокрытость, чистое раскрытие бытия — это не что иное, как
Истина = Wahrheit = Unverborgenheit = Aletheia. Образно говоря, это
верхний, положительный конец шкалы; но наша задача — понять,
что именно происходит на противоположном, нижнем конце, где со-
крытость достигает своего максимума. Согласно Хайдеггеру, сокры-
тость всегда присутствует в той или иной степени, поскольку ее
присутствие подразумевается самой несокрытостью в ее «сущностной
форме». Отношение в диаде сокрытость/несокрытость глубоко
амбивалентно: то, что мы видим повсюду, — это господство
сокрытости во множестве ее форм и проявлений, но тем не менее сокрытость
твердо подчинена несокрытости и бытию, которые всегда
сохраняют приоритет и первенство: «забвение бытия попускается самим
бытием»*. Существует сколько угодно форм и предикатов
сокрытости, включая все явления фальши, кажимости (Schein), иллюзии,
искажения, обмана, стремления к сокрытию, бегству, уклонению,
заслонению и т. д. На поверку, большая часть экзистенциальной
аналитики Sein und Zeit, будучи аналитикой Dasein im Verfallen,
«в падении», принадлежит дискурсу сокрытости. Сокрытость
особенно возрастает и углубляется в существовании «das Man», nepe-
* Хайдеггер М. Гераклит. СПб.: Владимир Даль, 2011. С. 467.
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 949
данного как «люди» в русском переводе Бибихина (Sein und Zeit).
Здесь мы уже близки к предельной сокрытости. Dasein здесь
захвачено в «повседневное бытие» и «прежде всего упускает и скрывает
себя» («sich zunächst verfehlt und verdeckt»*). В «Пармениде» (1942-
1943) и «Гераклите» (1943-1944) Хайдеггер характеризует эту
предельную сокрытость в других терминах, вводя специфический
концептуальный персонаж: «..Латон, сокрытый, скрывающийся
и замыкающийся... Латон... означает как раз противоположность
тому, что выражается в слове Alethes»**. Латон — это своего рода
воплощение и концентрированное выражение сокрытости, в
котором последняя достигает своей кульминации. Априори такая
фигура могла бы представлять собой зачатки новой антропологической
формации, уже не связанной с бытием. Но Хайдеггер не
интерпретирует своего Латона таким образом, он рассматривает его как
простой эпифеномен, не имеющий перспектив автономного
существования и статуса. На последних страницах «Парменида» Хайдеггер
представляет особое описание и обсуждение крайних пределов
сокрытости. Достигнув этих пределов, человек «забывает полностью»
о бытии так, что «бытие расплывается перед ним в неподдающееся
определению целое сущего. В итоге бытие без сохранения
каких-либо отличий отождествляется с сущим или упраздняется как некое
пустое понятие. Это приводит к тому, что различие, лежащее в
основе всяких различий... то есть различие бытия и сущего полностью
упраздняется и при содействии человека... превращается в нечто
просто не принимаемое в расчет. ...Тем не менее бытие остается
даже в едва помысленном способе существования сущего в целом» ***.
Мы видим, что позиция Хайдеггера всегда обоюдоостра: с
одной стороны, он допускает любое сильное и радикальное забвение
и сокрытость бытия, но с другой стороны, он абсолютно настаивает
на том, что любое «упразднение бытия» не может разорвать и
уничтожить связь человека и бытия. Эта связь является главной и
неотменимой частью самого определения человека, и в программном
тексте Brief über den Humanismus твердо говорится: «Человек
принадлежит к своей собственной сущности только до тех пор, пока
он прислушивается к зову бытия ... Человек является соседом
бытия»****. Важным следствием неискоренимой природы этой
связи является то, что сокрытость всегда обратима (по крайней мере,
в принципе); и Хайдеггер неоднократно подчеркивает, что предель-
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 130.
'* Он же. Гераклит. СПб.: Владимир Даль, 2011. С. 219; Он же. Парменид.
СПб.: Владимир Даль, 2009. С. 110.
'* Он же. Парменид. СПб.: Владимир Даль, 2009. С. 326-327.
'* Он же. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 208.
950
С.С. Хоружий
ная сокрытость может внезапно превратиться в решительное высту-
пание в просвет бытия.
Очевидно, что эта позиция противоречит позициям CA, и поэтому
CA выступает с ее критикой. В основном мы не оспариваем хайдегге-
ровский дискурс сокрытости, однако указываем некоторые спорные
элементы у него на периферии. Посмотрим внимательнее, что
происходит на границах сокрытости, где она достигает своего пика.
Согласно Хайдеггеру, полное упразднение онтологического различия
и полное отсутствие каких-либо проявлений отношения к бытию
в человеческом сознании и опыте еще не означает действительного
отсутствия этого онтологического отношения. «Бытие остается».
Хайдеггер утверждает это настойчиво и неоднократно, это
утверждение имеет для него немалое значение, но каковы реальные
основания для него? Рассматривая его контекст в дискурсе Хайдеггера,
мы ясно видим, что главным основанием является именно его идея
человека, которая целиком и полностью онтологична. Поскольку
эта идея породила и вскормила весь поразительный Универсум хай-
деггеровской мысли, она очень убедительна, но, несмотря на это,
по своей природе она представляет собой антропологический
постулат.
В дополнение к этому постулату Хайдеггер выдвигает также
некий конкретный аргумент в пользу обсуждаемого утверждения. Он
говорит, что отношение к бытию всегда остается, оттого что
существует идея «способа существования сущего в целом», даже если эта
идея лишь «едва помыслена». Это спорный аргумент. Мы готовы
согласиться с тем, что человеческий разум включает в себя некую
интуитивную идею «сущего в целом», которая в той или иной
степени помыслена или не помыслена. Эта интуитивная идея возникает,
поскольку человеческий разум наделен логикой, включая
способность к индуктивным и дедуктивным операциям. Это
действительно универсальная интуиция, но она развивается в
эпистемологическом плане и не имеет онтологического измерения. Таким образом,
ее нельзя использовать в качестве аргумента в пользу неистребимой
природы связи человека и бытия. С другой стороны, идея
«способа существования сущего в целом» — это совсем другая идея! Если
я думаю, что сущее в целом может иметь какой-то особый способ
существования, я предполагаю тем самым, что существуют
различные способы существования, и это онтологическое допущение не
может рассматриваться как неизбежное и характерное для
человеческого разума как такового. Таким образом, Хайдеггер абсолютно
прав в том, что рассматриваемая идея или интуиция уже является
смутным отражением или эмбриональной формой онтологического
различия. Однако первая форма этой идеи универсальна, но не он-
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 951
тологична, тогда как вторая онтологична, но не универсальна;
и в результате аргумент Хайдеггера оказывается несостоятельным.
Таким образом, мы рассматриваем тезис Хайдеггера о том, что
человек всегда сохраняет свою связь с бытием, только как
постулат, не имеющий здравого доказательства. Мы не принимаем этот
постулат и формулируем альтернативную позицию, согласно
которой полное отсутствие каких-либо связей с бытием как отличным
от сущего вполне возможно. CA описывает две основные парадигмы
конституции человека и две соответствующие антропологические
формации (Онтический и Виртуальный человек, соответственно),
которые не актуализуют онтологическое различие.
Антропологический опыт, в котором конституируются эти формации, можно
назвать неонтологическим, поскольку он не предполагает никакого
отношения к бытию как отличному от сущего. Из этого определения
следует, что все области неонтологического опыта — это такие
области, где тезис Хайдеггера «бытие остается», безусловно,
несправедлив. Такая ситуация заставляет задать несколько вопросов.
Во-первых, следует рассмотреть, как наш дискурс
неонтологического опыта связан с хайдеггеровским дискурсом сокрытости.
В терминах Хайдеггера первый дискурс описывает опыт, в котором
отсутствует какое-либо отношение к бытию (как отличному от
сущего); в то время как второй описывает опыт, в котором бытие сокрыто,
и его сокрытость постепенно растет, но тем не менее бытие всегда
«остается». В терминах CA первый дискурс описывает онтическую
топику, второй — онтологическую топику и особенно те ее части,
которые в определенном смысле приближаются к онтической топике
с ее отсутствием связей с бытием. Это означает, что дискурс
сокрытости позволяет более точно описать отношения между двумя
топиками. Объединяя оба дискурса, мы можем проследить, что
происходит с онтологическим измерением антропологического опыта при
переходе из онтологической топики в онтическую.
Если следовать Хайдеггеру, то такого перехода нет, и онтической
топики не существует. Бытие может становиться все более и более
сокрытым, так как существует бесчисленное множество форм
сокрытости, в том числе и столь радикальных, что отношение к бытию
в них совершенно незаметно; но все эти формы принадлежат
онтологической топике, исчерпывающей все поле антропологического
опыта. Мы заметили, однако, что Хайдеггер не доказал, что бытие
«всегда остается», так что этот ключевой тезис является только
постулатом. Отвергая этот постулат, CA представляет иное видение
пределов сокрытости.
По определению Онтологический человек конституируется в
актуализации онтологического различия. Однако, согласно дискурсу
952
С.С. Хоружий
сокрытия, существуют части онтологической топики, в которых эта
актуализация все более и более уменьшается, вплоть до
исчезновения. С другой стороны, исчезновение никогда не может стать
по-настоящему и полностью завершенным. Хотя рост сокрытости может
продолжаться бесконечно, этот процесс всегда обратим, и можно
ожидать, что однажды вдруг и внезапно произойдет поворот*. В
противоположность такой позиции, CA находит, что существуют
области неонтологического опыта, в которых онтологическое различие
вообще не актуализуется и человек не имеет никакого отношения
к бытию (как отличному от сущего). Этот опыт принадлежит Онти-
ческому человеку (ради краткости в этом тексте мы не обсуждаем
Виртуального человека), который имеет другую конституцию,
формируемую не в онтологическом, а в онтическом размыкании.
Следовательно, существует граница, разделяющая две
антропологические топики, и то, что происходит на этой границе, — это переход
от сокрытия (бытия) во всех его формах к фактическому и полному
устранению или совершенному отсутствию. При этом происходит
изменение конституции человека, соответствующее переходу от
Онтологического человека к Онтическому человеку. Поскольку этот
переход является событием, в котором утрачивается онтологическое
измерение антропологического опыта и антропологической
конституции, то его уместно назвать событием деонтологизации.
Возвращаясь к понятию Латона, можно сказать, что в событии
деонтологизации он превращается в полнокровную и автономную фигуру
Онтического человека. Следует подчеркнуть, что, в отличие от роста
сокрытости, — это не постепенный и непрерывный процесс.
Существуют две радикально различные парадигмы конституции
человека, и замену одной из них на другую следует воспринимать как
дискретный и резкий акт, своего рода скачок. Адекватной метафорой
является фазовый переход в физических системах, такой как
замерзание воды. Более философской метафорой является понятие
«внезапно» (to exaiphnes), введенное Платоном в «Пармениде» и
означающее «то, что выходит из своего состояния в неощутимое по своей
малости время" (Parm. 156 d). Это платоновское понятие
используется Хайдеггером как одна из характеристик события, das Ereignis.
Можно найти и другие предикаты, разделяемые das Ereignis и
нашим событием деонтологизации, и можно сказать, что это событие
утраты отношения к бытию является в определенном смысле
полярной противоположностью Ereignis, своего рода анти-Ereignis, если
угодно.
* Эта идея поворота, die Kehre: «Поворот, превращающий опасность в
спасение, совершится вдруг. При этом повороте внезапно высветлится свет
бытийной сути» (Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 256).
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 953
Следующий важный вопрос касается конкретных форм
неонтологического опыта (опыта Онтического и Виртуального человека). Что
это за формы и как они трактуются в философии Хайдеггера?
Конечно, две онтологические формации культивируют множество самых
разнообразных форм антропологического опыта. Здесь мы
рассмотрим только два примера, то есть две эмпирические области, но обе
они достаточно велики и связь хайдеггеровской мысли с ними
интересна и важна. Первый из них — это опыт, связанный с явлениями,
индуцируемыми из бессознательного, то есть паттернами
бессознательного, такими как неврозы, мании, фобии и т. В качестве второй
области мы возьмем антропологические практики тоталитаризма.
В контексте CA бессознательное выступает как одна из
репрезентаций онтического Другого. В размыкании, актуализирующем
отношение к этому Другому, человек конституируется как некая
субформация Онтического человека, которую можно назвать Человеком
Фрейда. В нашем дискурсе онтического размыкания бессознательное
выступает как источник определенных энергий, находящийся за
горизонтом сознания и индуцирующий определенные модели
(паттерны) сознания и поведения. (Такая трактовка соответствует обычному
динамическому описанию бессознательного. Например: «содержания
бессознательного, сильно нагруженные энергией влечений, стремятся
вернуться в сознание и проявиться в поведении (возврат
вытесненного)»*.) Конституция Человека Фрейда формируется в актуализации
отношения к этому «внеположному истоку», точно так же, как
конституция Онтологического человека формируется в актуализации
отношения к бытию/Богу. Однако структура и динамика онтического
размыкания и паттернов бессознательного радикально отличаются
от механизмов онтологического размыкания. Последние механизмы,
соответствующие парадигме синергии, носят характер ступенчатого
восхождения; grosso modo, их можно называть экстатическими и
считать по существу такими же, как механизмы хайдеггеровского
«экстатического выступания в просвет бытия». Что же касается динамики
размыкания к бессознательному, то она определяется феноменами
вытеснения (die Verdrängung) и развития индуцированных
паттернов. В этой динамике индуцированных явлений нет ничего
экстатического. Это топологическая динамика, определяемая последствиями
нарушения связности сознания, и соответствующие процессы носят
преимущественно циклический, но не восходящий характер.
Основные паттерны бессознательного, реализующие такую топологическую
и циклическую динамику, классифицируются и изучаются в
психоанализе на огромном эмпирическом материале. Эти исследования вы-
* Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М.: Высшая
школа, 1996. С. 71.
954
С.С. Хоружий
тесняемых и индуцированных явлений предоставляют в наше
распоряжение богатый опыт, который, несомненно, неонтологичен.
Посмотрим, как же трактуется этот опыт в философии Хайдег-
гера. Ключевым свойством Человека Фрейда является то, что он/
она реализует парадигму конституции человека — а именно
конституцию размыкания к бессознательному, — которая альтернативна
конституции Онтологического человека, являющейся конституцией
в онтологическом размыкании. Очевидно, что эта парадигма
альтернативна и хайдеггеровскому видению человека, допускающему
конституирование только в актуализации онтологического
различия. Отсюда следует, что, прямо или косвенно, Хайдеггер отрицает
конститутивный принцип Человека Фрейда и само существование
последнего как подлинной антропологической субформации.
Наиболее тесный и содержательный контакт хайдеггеровской
мысли с этой субформацией имел место в контексте дружеских
отношений Хайдеггера и швейцарского психиатра Медарда Босса и,
главным образом, на «Цолликоновских семинарах», совместно
проводившихся ими в 1959-1969 гг. Даже в текстах, возникших благодаря
этим отношениям (они были опубликованы Боссом), не говоря уже
о других текстах Хайдеггера, философ не вдается в подробное
обсуждение концепций Фрейда и очень редко упоминает как Фрейда, так
равно и бессознательное. Однако здесь есть много беглых замечаний,
которые затрагивают почти все основные моменты этих концепций,
и все такие замечания радикально критичны. В нашем контексте их
по большей части можно разделить на две группы: во-первых,
Хайдеггер критикует основные фрейдистские понятия, идеи и точки
зрения, указывая их кардинальные отличия от своих собственных
позиций; во-вторых, он представляет собственную интерпретацию
явлений, изучаемых Фрейдом и в психоанализе. Принимая во
внимание, что паттерны бессознательного представляют собой
полностью неонтологический опыт, можно ожидать, что замечания в этой
группе будут основываться на спорных и шатких аргументах.
Начнем с того, что Хайдеггер выносит негативное суждение
о психоанализе в целом. Оно следует в общем русле его критики
гуманитарных дисциплин в Sein und Zeit: «Психология и
психоанализ — способы мыслить, возникающие на почве таких
представлений, которые особенно подходят для того, чтобы мышление
закоснело, ибо благодаря редукции к непроясненной
субъективности можно "объяснить" весь мир... Психоанализ... овеществляет
человека, превращая последнего в "подверженность влечениям"
(Triebhaftigkeit)**.
Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. Протоколы — Беседы —
Письма. Вильнюс: ЕГУ, 2012. С. 354, 249.
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 955
Согласно Хайдеггеру, психоанализ основан на методологии,
которая пытается объяснить все с помощью простых
причинно-следственных связей. Эта методология взята из естественных наук,
и в первую очередь из механики, и она совершенно неадекватна для
постижения человека. Затем, переходя к конкретному, Хайдеггер
сжато, но резко критикует все «четыре фундаментальных понятия
психоанализа» (пользуясь формулой Лакана): бессознательное,
влечение, повторение и перенос.
Бессознательное является для него искусственным понятием,
которое вводится ad hoc, чтобы обеспечить возможность полностью
каузального описания всей области психических явлений. Фрейд
постулирует «сплошную объяснимость душевного..., а поскольку
таковой "в сознании" нет, он должен изобретать "бессознательное",
в котором должна иметься эта непрерывность каузальных связей»*.
И Хайдеггер всегда подчеркивает, что этот постулат всеобъемлющей
причинности «не взят из самих душевных явлений, это постулат
современного естествознания»**.
Критика концепции влечения основана на аналогичных доводах.
«Влечение (Trieb) — это всегда попытка объяснения. Но...
влечениями всегда пытаются объяснить что-то, чего сначала вообще не
рассмотрели. Попытки объяснить человеческие феномены исходя
из влечений имеют методический характер науки, чьей предметной
областью является вовсе не человек, а механика. А потому в
принципе сомнительно, можно ли вообще с помощью метода, исходящего
из не-человеческой предметности, что-то высказать о человеке как
о человеке» ***. Очевидно, что последнее критическое суждение в этой
цитате можно отнести не только к влечениям, но и ко всему
психоанализу.
Что касается переноса, то Хайдеггер просто отрицает этот
феномен: «Нет вовсе никакого смысла говорить о "переносе". Ничего
не нужно переносить» **** [Хайдеггер 2012, 240]. Однако его
аргументы в пользу такой позиции ограничиваются кратким и не
слишком убедительным замечанием: он просто указывает, что,
согласно экзистенциальной аналитике, наличное бытие характеризуется
расположенностью (Befindlichkeit) и в силу того, что у нас всегда
имеется та или иная Befindlichkeit, она автоматически переносится
нами на каждого, с кем мы встречаемся и входим в контакт. Ясно,
что это замечание означает лишь то, что экзистенциальная
аналитика имеет свой собственный аналог или замену понятия переноса,
* Там же. С. 285.
** Там же.
*** Там же. С. 247.
**** Там же. С. 240.
956
С.С. Хоружий
и этот аналог есть die Befindlichkeit. Но перенос в психоанализе
имеет свой обширный круг отношений, через которые он интегрирован
во множество паттернов и процессов, связанных с вытеснением (die
Verdrängung) и порождающих неонтологический опыт. Хайдегге-
ровский дискурс расположенности не обсуждает все эти паттерны
и процессы, и поэтому ссылка на расположенность никоим образом
не опровергает их психоаналитическую интерпретацию. Наконец,
последнее из четырех понятий, повторение, не обсуждается явно,
но нет сомнения, что оно также не принимается Хайдеггером,
поскольку психоанализ определяет и описывает его посредством
тех же механических и энергийных парадигм, другими словами,
посредством «психодинамики», которую Хайдеггер отвергает.
В большинстве случаев критика Хайдеггера касается
методологических и эпистемологических аспектов психоаналитического
дискурса, и обычно она оправданна; культура теоретического
мышления у Хайдеггера попросту несравнима с аналогичной культурой
большинства психоаналитических исследований. Однако
психоанализ является в первую очередь эмпирической дисциплиной,
имеющей огромную феноменальную базу. Эта база представляет собой
обширный массив информации о психических явлениях, включая
систематические и проверенные данные наблюдений за их
развитием и динамикой. Это эмпирическая и дескриптивная
феноменология, которая по большей части независима от общих теорий Фрейда
и других ученых. Таким образом, когда здесь обнаруживаются
специфические паттерны и механизмы, характерные для
неонтологического опыта и несовместимые с опытом Онтологического человека,
эти эмпирические свидетельства в основном отнюдь не
затрагиваются теоретической критикой Хайдеггера.
Помимо этой критики, для некоторых явлений Хайдеггер
представляет также собственную интерпретацию, альтернативную
психоаналитической. Но эти явления, как правило, не связаны с
основными паттернами бессознательного, такими как неврозы, фобии
и т.д., которые относятся к области ярко выраженного
неонтологического опыта. А в тех редких случаях, когда Хайдеггер, с его
бескомпромиссным онтологизмом, все же вступает на почву такого
опыта, он не слишком преуспевает.
Одним из типичных примеров служит его трактовка феноменов
вытеснения (Verdrängung). По утверждению Хайдеггера, «феномен
вытеснения в его своеобразии можно увидеть лишь тогда, когда с самого
начала он рассматривается как экстатически-интенциональное
отношение к миру — к вещам, живым существам, окружающим людям»*.
* Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. С. 377.
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 957
Эта позиция выдвигается как универсальный принцип: « Речь снова
и снова идет о том же самом основном феномене: вместо психической
механики или динамики, видеть и описывать экстатически-интенци-
ональные отношения к миру»*. Конечно, «экстатически-интенцио-
нальное отношение» — это то, что в точности соответствует хайдег-
геровской парадигме конституции человека в выступании в просвет
бытия. Но большинство изучаемых в психоанализе феноменов
вытеснения связаны с паттернами бессознательного, которые отнюдь
не реализуют эту онтологическую парадигму и демонстрируют, как
правило, не экстатическое, а циклическое поведение. Экстатическая
и циклическая парадигмы конституции резко различаются, и
поэтому утверждение, будто бы все явления вытеснения соответствуют
экстатической парадигме, противоречит эмпирическим данным.
Хайдеггер попросту игнорирует все феномены циклической
психики и циклического поведения, он никогда ничего не говорит о них.
Но ведь они есть, и абсолютно реальным образом!
Подводя итог, мы приходим к выводу, что, хотя Хайдеггер
представляет справедливую эпистемологическую и методологическую
критику многих концепций и принципов психоанализа, его
философия не разрушает и не колеблет их опытных оснований. Тем самым
эта критика не доказывает, что Человек Фрейда не существует.
Существование этой антропологической (суб-)формации,
противоречащей хайдеггеровскому видению человека, можно рассматривать как
хорошо проверенный факт.
* * *
Антропологический опыт в условиях тоталитаризма — это еще
одна область ярко выраженного неонтологического опыта. Однако
мы не можем провести анализ хайдеггеровской трактовки этой
области так же, как мы анализировали его трактовку Человека Фрейда.
К сожалению, антропология тоталитаризма еще не развита, и
Хайдеггер ее также не развивал. Но он зато жил при тоталитарном
режиме! и, стало быть, volens nolens у него были некоторые знания
о его антропологических практиках. А об этих практиках, несмотря
на отсутствие полноценной антропологии, вполне можно сделать
первоначальные наблюдения и суждения. Ибо то были весьма
специфичные практики: в их круг входили массовые убийства
небывалых масштабов, и уже одного этого факта достаточно для того, чтобы
сделать важные антропологические выводы.
* Там же. С. 376.
958
С.С. Хоружий
Очевидно, что практики массового убийства не могут
культивироваться Онтологическим человеком, который конституируется
в размыкании навстречу бытию/Богу или, в терминах Хайдеггера,
в экстатическом выступании в просвет бытия. Здесь мы не будем
обсуждать их антропологическую диагностику, то есть проблему,
какие именно антропологические формации выполняют такие
практики. Мы просто замечаем, что эти практики не просто отличны
от практик онтологического размыкания, но противоположны им,
настолько резко противоположны, насколько можно представить.
Термин «деонтологизация» полностью адекватен по отношению
к ним. Но для Хайдеггера актуализация онтологического различия,
которая почти синонимична онтологическому размыканию,
является единственной и универсальной парадигмой конституции
человека. Это означает, что антропологическая ситуация, в которой жил
и участвовал мыслитель в период нацизма, представляла собой
яркий контрпример его философии.
Это был внутренний конфликт. Попробуем описать и понять его.
Нет нужды пересказывать всем известный ход внешних событий.
Моя тема сейчас — строго антропологический аспект пресловутой
темы «Хайдеггер и нацизм». Для начала можно отметить общий
факт: весь хайдеггеровский опыт нацистских лет не вызвал у него
никаких сомнений в своей концепции человека и не привел ни к
каким изменениям этой концепции. В частности, нельзя найти у него
даже тени мысли о том, что антропологические практики нацизма
не только отклоняются от «экстатического выступания в просвет
бытия», но и не могут трактоваться в дискурсе сокрытости бытия,
а краеугольный камень этого дискурса, тезис «бытие остается»
(понимаемый как «отношение человека к бытию остается тем же»)
не может для них сохранять силу. Напротив, он отбрасывает эту
мысль — хотя и без явных заявлений, но совершенно твердо.
Поскольку такое отбрасывание может основываться только на
отрицании прямой фактической реальности, оно сначала нас поражает.
Но далее можно увидеть определенную логику в этой позиции.
Это логика жесткого и непреклонного онтологизма; гипер- или
сверх-онтологизма, если хотите. Поскольку «бытие остается», это
прочно означает, что немцы всегда продолжают свою миссию,
состоящую в том, чтобы быть «стражами бытия» par excellence, более
всего прочего человечества, кроме лишь древних греков. Но как
быть с массовыми убийствами, что представляют собой откровенно
и шокирующе неонтологический опыт? Гипер-онтологический ответ
очевиден: поскольку «бытие остается», эти практики не могут
существовать. Факты, в которых описываются такие практики, неверно
истолковываются, это было что-то другое, какие-то прискорбные
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 959
случайности, для которых может быть много причин (включая и
некоторые неприятные качества еврейства, см. Schwarze Hefte).
Таким образом, позиция Хайдеггера — позиция настоящего
философа, для которого сущность явлений (раскрываемая его философией)
важнее, нежели их видимость.
Следует уточнить, что эта твердая позиция имела определенную
эволюцию. Как хорошо известно, Хайдеггер пережил период
настоящего энтузиазма по отношению к национал-социализму, и этот
энтузиазм имел и свой антропологический аспект. В этот период
(ранний период нацистского режима) он неоднократно характеризует
«Национал-социалистическую революцию» такими
онтологическими формулами, как «великий поворот бытия», «революция всего
человеческого бытия», рождение «революционной реальности, что
есть не просто эмпирическая реальность». В его дискурсе такие
формулы значили, что изменение произошло также и в отношении
между человеком и бытием; великий поворот бытия не может не быть
и великим антропологическим поворотом. Этот антропологический
поворот рисовался философу как небывалый прорыв человеческих
существ к бытию, как некое коллективное, всенародное выступание
в просвет бытия: усилие и акт, которые раньше могли быть только
индивидуальными (понятие просвета у него появилось как раз
недавно, в Vom Wesen der Wahrheit (1930)). Эту онтолого-антрополо-
гическую сторону его позиции особенно подчеркивает его биограф:
«Хайдеггер воспринял революцию 1933 года как... прорыв в то
открытое пространство, которое прежде открывалось лишь
индивидуальному философскому вопрошанию и мышлению... [он]
интерпретировал революцию как коллективный побег из пещеры (пещеры
из платоновской мифологемы. — С. X.) ... народ наконец обретает
подлинность... и задает тревожный вопрос о бытии»*. Утопическая
идея коллективного бытия как совместного вхождения в истину
бытия и пребывания в ней была связана с хайдеггеровским
идеализированным конструктом Древней Греции как особого модуса бытия;
но она также естественно возникала и в контексте русской культуры.
В русской мысли имелась родственная идея, издавна известная как
идея соборности. В свете таких идей очень легко предположить, что
пробуждение нации во время великих потрясений имеет
подлинные онтологические и религиозные измерения. И в эпоху Русской
революции именно эта логика подтолкнула многих интеллектуалов
стать сторонниками большевиков.
Итак, Хайдеггер сначала с энтузиазмом думал, что нацистское
движение приносит антропологический прорыв, достижение не-
* Сафранский Р. Немецкий Мастер. Хайдеггер и его время. М.: Молодая
гвардия, 2005. С. 320, 336.
960
С.С. Хоружий
бывалой новой ступени в отношениях человека, всего человечества
и бытия. Однако этот антропологический энтузиазм длился
недолго; вскоре его сменила более взвешенная и уравновешенная
позиция. Мыслитель продолжал верить, что, вопреки всем недостаткам
и побочным явлениям, в своих истоках и сути движение имело
мощное ядро, творческое и плодоносное. Это ядро не породило и не
могло породить антропологического прорыва, но все же имело
некоторые антропологические достоинства. Во «Введении в метафизику»
(1935/1953) он пишет о том, «что сегодня повсюду предлагается как
философия национал-социализма, но ничего общего не имеет с
внутренней истиной и величием этого движения (а именно с
сопряжением планетарно предназначенной техники и человека Нового
времени)»*. Сафранский указывает, что заключенная в скобки часть была
добавлена в 1953 г., когда автор переделывал свои лекции 1935 г.
для публикации. Поэтому данная часть говорит нам, что в 1953 г.,
спустя уже годы после падения нацизма, Хайдеггер хотел
специально указать, в чем он продолжает видеть «истину и величие» этого
движения. И это — никак не маловажная антропологическая
истина, касающаяся конститутивного отношения, связывающего
современного человека с глобальными технологиями. В итоге мы
заключаем, что, по крайней мере до этого времени, Хайдеггер продолжал
рассматривать нацистское движение как антропологически
позитивное и продуктивное явление.
Более того, на протяжении всего нацистского периода в
концепции человека Хайдеггера сохранялся и национальный элемент:
а именно идея о том, что немцы представляют собой своего рода
антропологический авангард, у них есть особая антропологическая/
онтологическая миссия: она сходна с миссией древних греков и
означает, что немцы предназначены и способны быть стражами бытия
больше, чем все прочее человечество. В своих лекциях о Гераклите
он пишет: «Для Запада существо истины открылось... в эллинизме
(das Griechentum)... в судьбе, посланной ему, нет ничего
прошедшего и устаревшего... но есть еще не решенное будущее, мыслить
навстречу которому первыми и, наверное, долгое время
единственными можем и должны мы, немцы»**.
Антропологическое первенство немцев и их миссия
утверждаются здесь со всей ясностью, и в лекциях содержится много
подобных утверждений. Но, чтобы понять смысл этих текстов полностью,
надо еще принять во внимание их дату — 1943-1944 гг. В это время
немцы наиболее активно заняты реализацией нацистских программ
Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Высшая
религиозно-философская школа, 1997. С. 270.
** Хайдеггер М. Гераклит. СПб.: Владимир Даль, 2011. С. 253.
Синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма 961
уничтожения людей и целых народов, а вся территория, доступная
им, превращена в арену массовых убийств. Да, здесь происходит
и « сопряжение глобальных технологий и современного человека»,
но самые инновационные и выдающиеся плоды этого
сопряжения — газовые печи. Коллеги Хайдеггера из немецких
университетов создали невероятно эффективные газы: всего семи килограммов
циклона В было достаточно, чтобы убить 1000 человек. Освенцим,
самая успешная фабрика массового уничтожения, стал местом более
4 миллионов убийств... Так случилось, что я впервые увидел
Освенцим несколько лет назад, как раз когда изучал «Гераклита». И когда
я стоял перед знаменитыми воротами с лозунгом Arbeit macht frei,
у меня вдруг возникло четкое впечатление, что чего-то там не
хватает. Советское прошлое прочно оставляет в сознании стереотипы
тоталитарного пейзажа, и я быстро понял, что по обе стороны ворот
должны быть красивые растяжки со словами о благородной миссии
немцев. Со словами Хайдеггера, процитированными выше.
Бесспорно, что массовые убийства, длившиеся годами и
погубившие миллионы и миллионы людей, — не что иное, как
антропологическая катастрофа. Катастрофа имеет две стороны: с одной — она
включает миллионы убитых жертв, тогда как с другой — десятки
тысяч палачей и миллионы их пособников. Вторая сторона нуждается
в антропологической интерпретации, поскольку практики массовых
убийств столь специфичны, что они, несомненно, производят
глубокие изменения в структурах личности и идентичности и парадигмах
конституции человека. Пока еще не установлено, какая
антропологическая формация порождает их, но очевидно, что Онтологический
человек не может быть никак к ним причастен, а в хайдеггеровских
терминах они не могут соответствовать никаким формам и степеням
сокрытости бытия. Несмотря на свое очень апологетическое
отношение к Хайдеггеру, Бибихин также рассматривал опыт
тоталитаризма как «опыт ада, который не поддается просветляющему
осмысливанию, никак, никакими силами, ни при каком подходе»*.
Однако каков же ответ философии Хайдеггера на эту катастрофу?
Во-первых, философ не говорит ни слова о ней, хотя он жил во
время нее и среди ее деятелей. Во-вторых, он утверждает, что в
течение всего нацистского периода не было никаких антропологических
изменений, и немцы всегда оставались верными
антропологическому и бытийному предназначению человечества. В-третьих, на всех
этапах своего творчества он твердо держался своей концепции,
согласно которой конституция человека может формироваться лишь
* Бибихин В. В. Энергия. М.: Институт философии, теологии и истории
Св. Фомы, 2010. С. 247.
962
С.С. Хоружий
единственным способом, а именно в актуализации онтологического
различия.
Очевидно, что этот ответ несостоятелен. Практики массового
уничтожения находятся в непримиримом противоречии с
концепцией Хайдеггера. И это значит, что встреча Хайдеггера как
мыслителя о человеке с нацизмом вылилась в его профессиональное
поражение.
В итоге, перефразируя известное высказывание о «богословии
после Освенцима», мы можем сказать, что хайдеггеровское ги-
пер-онтологизированное видение человека стало невозможным
после Освенцима. Точнее сказать, это видение неполно, поскольку оно
не учитывает неонтологический опыт, и, кроме того, оно
становится неверным, когда Хайдеггер постулирует, что «бытие остается»,
то есть возможен лишь исключительно онтологический опыт. Мы
рассмотрели две области неонтологического опыта,
соответственно, паттерны бессознательного и тоталитарные практики
массового убийства, с которыми Хайдеггер был знаком, хотя и по-разному.
Наше обсуждение привело нас к расхождению с позициями
Хайдеггера. В то же время оно показывает, что наиболее адекватный
подход ко всему многообразию антропологического опыта открывается
с позиций антропологического плюрализма.
^üs^
^5^
H. В. МОТРОШИЛОВА
И снова о «Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера
(к дебатам лета — осени 2015 г.)
Настоящая статья продолжает анализ как публичных, так и
профессиональных дебатов по поводу «Черных тетрадей» Хайдеггера,
состоявшихся летом — осенью 2015 г. Она концентрируется вокруг
проблемы хайдеггеровского антисемитизма, а также привлекает
внимание к особенностям личности Хайдеггера, влиявшим на его
социальную деятельность и его идеи. Вторая часть статьи
привлекает внимание к новейшим (2015) публикациям экспертов по
философии Хайдеггера, появившимся в специализированных изданиях.
В № 4 «Вопросов философии» за 2015 г. была опубликована моя
объемная статья «"Черные тетради" М. Хайдеггера: по следам
публикации»* рядом с текстами Ж.-Л. Нанси (Франция) «Хайдеггер
и мы» ** и М. Габриеля (Германия) «Нацист из засады»***. Настоящая
статья тесно примыкает к первой, и нынешний разговор
предполагает, что читатели с нею ознакомились; она также содержит некоторые
отсылки к названным текстам Ж.-Л. Нанси и М. Габриеля. Нужно
также напомнить, что моя первая статья отражает напряженную
ситуацию, сложившуюся как в профессиональных философских
сообществах, так и в западном, в основном европейском, «жизненном
мире» в связи с выходом в свет 94-96-го томов Собрания сочинений
М. Хайдеггера, как раз и содержащих эти, до той поры не известные
никому — кроме лиц, причастных к их изданию, — записи
прославленного немецкого философа.
В сентябре — октябре 2015 г. мне представилась возможность
побывать в Германии и, что называется, на месте изучить новые,
* Мотрошилова Н. В. «Черные тетради» М. Хайдеггера: по следам
публикации // Вопросы философии. 2015. № 4. С. 121-162.
'* Нанси Ж.-Л. Хайдеггер и мы // Вопросы философии. 2015. №4. С. 163-
165.
'* Габриель М. Нацист из засады // Вопросы философии. 2015. № 4. С. 166-
169.
964
H. В. Мотрошилова
в последние месяцы появившиеся материалы*: это, прежде всего,
очередной, 97-й том Собрания сочинений М. Хайдеггера, в котором
продолжилась публикация «Черных тетрадей», а также новые
отклики на Schwarze Hefte философов-профессионалов, в первую
очередь хайдеггероведов. Как выяснилось, не теряют размаха и
остроты дебаты широкой общественности по поводу «Черных тетрадей»,
оперативно отражаемые (особенно в Германии) в прессе, в
немалочисленных теле- и радиопередачах. С них мы и начнем наш анализ.
Снова и снова — об антисемитизме в «Черных тетрадях»
Так случилось, что в центре посвященных Хайдеггеру дебатов
оказались (остаются и, скорее всего, пребудут и завтра) проблемы,
связанные с хайдеггеровским антисемитизмом. И пусть в 94-96-м
томах еврейскому вопросу специально посвящено не более десяти
из почти 1250 страниц, накал страстей совершенно не случаен.
В первой своей статье я уже освещала отклики европейской,
главным образом немецкой, общественности на «Черные
тетради» и дебаты в европейском «жизненном мире» в период до весны
2015 г. Последние месяцы почти не изменили общую картину
реакции на антисемитские выпады Хайдеггера, запечатленные в трех
вышедших к тому времени томах собрания его сочинений. Так,
подборка материалов по теме в культурно-просветительной
программе немецкого радио Deutschlandfunk (30.04.2015) выразительно
озаглавлена «Разочарование и ужас в отношении антисемитизма»
(Enttäuschung und Entsetzen über den Antisemitismus — автор
Петер Лойш**).
Где-то за кадром остаются отдельные отклики в Интернете, и тем
более не высказываемые публично мнения тех, кто и сегодня
придерживается антисемитских взглядов. Есть и такие люди, которые
не просто вдохновлены «новыми» хайдеггеровскими
формулами, но и находят в них теоретическое обоснование своих взглядов.
Не могу судить с уверенностью, но полагаю, что и их немало...
Однако мы будем говорить о достаточно серьезных, так или
иначе обосновываемых, в принципе не чисто идеологических подходах
к оценке «Черных тетрадей» и к осмыслению (а чаще к
переосмыслению) сегодняшнего статуса философии Хайдеггера.
* За это — моя очередная благодарность Фонду им. Александра фон
Гумбольдта (Alexander von Humboldt — Stiftung), поддержавшему мою
командировку в Германию.
'* Leusch P. Enttäuschung und Entsetzen über den Antisemitismus // http://
www.deutschlandfunk.de/heideggers-schwarze-hefte-enttaeuschung-und-
entsetzen-ueber.1148. de.html?dram: article_id=318793
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера 965
Имея в виду сложившееся к последним месяцам 2015 г.
положение вещей, можно говорить о двух главных позициях в решении
этой проблемы. Среди высказавшихся о «Черных тетрадях»
читателей и участников дебатов — также профессиональные философы,
главным образом хайдеггероведы (пока их было немного, а
почему — о том поразмыслим далее). Представительная их часть
продолжает думать, что историческая значимость философии Хайдеггера,
даже с учетом его серьезных блужданий-заблуждений (Irrwege),
отразившихся в «Черных тетрадях», остается весьма высокой. Другие
участники дебатов — среди них и профессиональные философы,
и люди, интересующиеся философией, — уверены в том, что
оценки Хайдеггера как выдающегося, даже великого философа сегодня
подлежат кардинальному пересмотру, ибо исторического
«экзамена на величие» мыслитель не выдержал. На что надеялся Хайдег-
гер — рассуждают сторонники такой точки зрения, — приберегая
«Черные тетради» как поистине черный подарок к концу
публикации собрания своих сочинений и обрушив именно на потомков явно
антисемитские и, слегка подправленные,
национал-социалистические «откровения»? Таких недоумевающих вопрошаний не просто
много; они продолжают превалировать в весьма солидном (для
философских сюжетов) массиве европейских, прежде всего немецких,
публичных дебатов*.
В данной статье продолжу анализ публичных зарубежных
дебатов о «Черных тетрадях», применительно к последним месяцам
2015 г.
Публичные обсуждения «Черных тетрадей» Хайдеггера
(пресса, теле- и радиопередачи лета — осени 2015 г.)
Картина публичных обсуждений «Черных тетрадей», о которой
я писала в первой статье, изменилась мало — разве что возмущение
публики (прежде всего по поводу антисемитизма Хайдеггера и его
борьбы за «настоящий» национал-социализм) стало еще более
жестким и категоричным. Если раньше общий колорит этой картины
был, так сказать, тёмно-серым, то теперь он сделался черным (что
склоняет публику к сентенциям о выразительной значимости
заголовка «Черные тетради»).
Следует и здесь сразу же оговорить, что немецкие средства
массовой информации — при всем том, что они работают на массового
читателя и зрителя, — всегда привлекают к обсуждению
животрепещущих вопросов специалистов по соответствующим внутрина-
* Англо- и франкоязычные отклики я предполагаю впоследствии
проанализировать в отдельной публикации.
966
H. В. Мотрошилова
учным, в данном случае философским, вопросам. И в принципе их
голос в средствах массовой информации был слышен в последнее
время. Иногда их приглашали опубликовать (очень кратко) свое
мнение в газетах, иногда — напрямую высказаться в ходе широких
обсуждений. Вполне понятно, что сами специалисты при этом
существенно упрощают информацию, адаптируя ее для
непрофессиональной публики.
Характерная черта уже состоявшихся публичных обсуждений —
их двойственность. С одной стороны, признают, что в разговоре
о «Черных тетрадях», как и о наследии Хайдеггера в целом,
требуется вникать во множество сложнейших высокопрофессиональных
проблем и как бы предполагается, что они во всей их сложности
вряд ли доступны пониманию широкой публики. Более того, охотно
допускают (и это сущая правда), что участники публичных дебатов
в подавляющем большинстве не читали ни одной строчки из
сочинений Хайдеггера, включая «Черные тетради»". С другой стороны,
действительная, тем более содержательная вовлеченность публики,
особенно немецкой, в современные споры о Хайдеггере со временем
не просто преувеличивается, а как бы мистифицируется, даже, я бы
сказала, спиритуализируется.
Приведу лишь один из показательных примеров этого рода.
Газета Die Welt опубликовала материал Ханны Люман (26.03.2015)
под красноречивым названием «Немецкий страх перед духом
"Черных тетрадей"». Автор статьи пишет: «Иногда дело выглядит так,
как если бы Хайдеггер не умер, а тайно остался в этом мире, чтобы
нервировать людей. Вероятно, его дух, который всегда в плохом
настроении, маячит в каком-то уголке своего существования и
радуется тому, что ему уделено так много внимания» *. Прежде всего:
правды ради, не стоит забывать, что «заботы» или «страхи» большинства
немцев сконцентрированы все же вокруг иных актуальных событий
(например, летом и осенью 2015 г. — вокруг мощного наплыва
беженцев в Германию), также не следует преувеличивать и более чем
скромную долю немцев, так или иначе участвующих в дебатах о
Хайдеггере. Сойдемся на том, что это был просто façon de parler, однако
перебор в изображении чуть ли не массового и сильнейшего-де
волнения «немцев» из-за текстов Хайдеггера здесь хорошо виден.
И все же, несмотря на общий тон, в этой публикации (как и ее
журналистских «близнецов») есть моменты, в некоторой степени
релевантные и «Черным тетрадям», и всему наследию Хайдеггера,
а всего больше — их восприятию в ученом мире. Это, в частности,
* Lühman H. Deutsche Angst vor dem Geist der "Schwarzen Hefte" // http//
www.welt.de/kultur/articlel38805248/Deutsche-Angst-vor-dem-Geist-der-
Schwarzen-Hefte.html
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера
967
касается своеобразного культа Хайдеггера — более всего в Германии
и Франции. Присмотримся к тому, как его характеризуют сегодня
в mass media. Приведу соответствующую цитату из той же
публикации: «Относительно Хайдеггера и немцев существует некое
помешательство. Разрушительное действие, осуществленное основанной
Хайдеггером философской традицией, Маркус Габриель, профессор
Боннского университета (он назван в статье "философской
звездой". — Н. М.) именует "иконоборчеством" (Ikonoklasmus)*. Это
своего рода психоаналитическая мыльная опера только с двумя
действующими лицами — духом Хайдеггера и немецким духом,
которые в этой связи должны быть представлены как отражающиеся
друг в друге коллективные сущности (Kollectivwesen), реагирующие
на темы, которые относятся к прошлому»**.
Все эти вопросы требуют нового обстоятельного
профессионального обсуждения, не говоря уже о сомнительности
«спиритуалистических» разговоров насчет «коллективного духа» и якобы
многолетних его «взаимоотношений» с «духом Хайдеггера». Но уже и сейчас
нельзя не высказать возражений против того, как данная тема
трактуется (даже специалистами), когда дебаты по ней оказываются
в пространстве mass media и протекают по их правилам. Часто они
ведутся на уровне как раз тех самых, якобы высмеиваемых
«мыльных опер»: ведь в последних и произвольное распределение ролей,
и изобретение мифических участников некоего действа вполне
допустимы...
С метафорой же, примененной Маркусом Габриелем и
упоминаемой в процитированной публикации, трудно не согласиться
вот в чем: «разрушение» прежних философских икон Хайдеггером
действительно имело место, а в «Черных тетрадях» оно приняло
еще больший размах, особенно применительно к философии всего
Нового времени как эпохи, по сути перечеркиваемой философом,
и отвергаемого им ее духовного, идейного наследия. Эта тема также
предполагает новую профессиональную работу философов.
Но против чего, считаю, надо возразить уже сейчас, так это
против изображения отношения к идеям Хайдеггера как некоего
всеобщего помешательства. Ибо тут не было ни «всеобщего» отношения,
ни «помешательства»: профессиональное хайдеггероведение
никогда не утрачивало критической дистанции применительно к не-
* Полагаю, понимать это надо вот в каком смысле: Хайдеггер, разрушая
многие философские традиции, выступая против их «иконизации» (что ярко
проявилось именно в «Черных тетрадях»), претендовал и надеялся на
безраздельное утверждение на их месте, т. е. на иконизацию, одной лишь
собственной философии.
" Ibid.
968
H. В. Мотрошилова
малому числу хайдеггеровских идей, мыслей, концепций, особенно
к глубочайшим политическим, социальным заблуждениям и
злоключениям их автора, а также к строю самой личности Хайдеггера,
к его наихарактернейшим жизненным, можно сказать,
повседневным ориентациям.
Почему важно принимать во внимание особенности личности,
характера Хайдеггера?
Этот аспект — личностно-поведенческий — нередко среди прочих
с полными на то основаниями попадал в фокус дебатов (и в
прежней хайдеггероведческой литературе он не был обойден
вниманием). К сожалению, хайдеггероведы почти не откликнулись сегодня
на новые вопрошания и интерес широкой публики и не
предоставили релевантную, притом достоверную, информацию. Попытаюсь,
заполняя этот пробел, предложить свои соображения. Приходится
здесь (хотя бы очень кратко) сказать об историко-философских
подходах общего характера.
В историко-философской работе, в том числе в хайдеггероведче-
ских публикациях, я всегда придерживалась того, что по отношению
и к концепциям, идеям, и тем более к жизненной судьбе философа,
его личностные особенности не некий посторонний «фон», которым
можно, даже нужно полностью пренебречь. Опуская многие общие,
теоретико-методологические аргументы в пользу такого подхода,
применю его и к анализу «Черных тетрадей», и к современным
дебатам вокруг наиболее откровенных авторских суждений Хайдеггера.
В опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung
(сокращенно — FAZ) статье Юргена Каубе* (по профессии он издатель) одна ее
часть озаглавлена «Только он сам и никто другой...». Доказательств
правомерности применения такого обобщения к личности
Хайдеггера не приведено, по-видимому, из-за краткости заметки. Однако
дать их вполне можно, опираясь на мнения людей, лично и очень
хорошо знавших Хайдеггера. Правда, они — например, К. Ясперс или
X. Арендт, мыслители мирового класса и безупречных социальных
позиций — в общем и целом пощадили своего друга, редко вынося
на публику откровенные мнения о связи между характером, строем
личности Хайдеггера и его деяниями. И всё же такие суждения
иногда становились публичным достоянием, например когда (с
немалым опозданием по времени) публиковалась их переписка. В моей
книге «Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие — время —
любовь» (М., 2013) были приведены некоторые из отзывов этих
близких друзей Хайдеггера и о его личностных особенностях, и об их
влиянии как на некоторые его идеи, так и на социально значимые
* Kaube J. Die Alliierten — schlimmer als Hitler? // http://www.faz.net/
aktuell/feuilleton/martin-heidegger-die-schwarzen-hefte-134 59541. html
И снова о «Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера
969
поступки философа. Нечто нелицеприятное они высказывали
по вполне серьезным поводам, например в связи с «упорной
нераскаянностью» Хайдеггера в том, что он сотрудничал с гитлеровской
властью. Здесь речь идет не о третьестепенных бытовых факторах,
а о поступках глубокого социально-исторического значения. После
войны постоянно возникал вопрос о «молчании» Хайдеггера,
которое справедливо именовали его «упорной нераскаянностью» и
которое длилось до самой его смерти. Он хранил молчание в отношении
своей вины и ответственности гитлеровской власти за
многомиллионные жертвы (что также нашло отражение в известном интервью
журналу Spiegel, по воле философа опубликованном после его
кончины). Очень важный новый факт: чтение «Черных тетрадей»
убеждает, что и в них (пока) нет ни одного самопокаянного слова...
О личностных чертах Хайдеггера Ханна Арендт иногда писала
так: Мартин скорее отличался бесхарактерностью, чем
определенным, тем более сильным характером. Но ведь это далеко не все, что
она говорила о характере и личностных чертах близкого ей человека,
и, пожалуй, не главное: Арендт упоминала и о склонности
Хайдеггера хитрить, лгать, лицемерить, даже о злонамеренности, коварстве
его поступков. Ясперс тоже писал о неприятных, отталкивающих
чертах личности Хайдеггера, проявившихся, скажем, в период его
тайно (даже для друзей) оформлявшегося
национал-социалистического ангажемента.
Не секрет, что такие черты проявлялись и в его сугубо личной
жизни — причем в обращении с теми людьми (особенно
женщинами), которые были ему преданы и которых он, казалось бы, любил,
причем до конца своей жизни. И все-таки после изучения
обширного материала создается стойкое впечатление: если Хайдеггер кого-то
и любил постоянно, то это действительно был «он сам, и никто
другой»...
При этом речь идет не о чертах, в той или иной мере присущих
каждому человеку (определенном эгоизме, тяготении к
самооправданию и т. д.), а о некоем другом, отнюдь не рядовом и очень
сильном у Хайдеггера свойстве его личности: по существу в центр мира
и даже «картины мира» Хайдеггер неизменно ставил себя самого,
прежде всего как мыслителя-новатора, философа особого, «на все-
де времена» значимого стиля; по сути дела, он возвышал свою
философию над всеми философскими идеями и прошлого, и особенно
настоящего. «Черные тетради» уже не оставляют в этом никаких
сомнений.
Правда, иногда Хайдеггера настигали вспышки
самоуничижения. Так (и об этом говорилось в моей первой статье), автор «Бытия
и времени», работы 1927 г., стремительно принесшей своему созда-
970
H. В. Мотрошилова
телю мировую славу, неожиданно для читателей, даже для друзей
и поклонников, по существу перечеркнул ее значение в «Черных
тетрадях»! Однако же, после ниспровержения книги с пьедестала
самим автором этот пьедестал отнюдь не опустел: Хайдеггер сразу же
возвел на него... нет, не какое-нибудь философское достижение
предшественника, ни тем более современника, а свой же, и только
свой, новый философский проект, оформлявшийся как раз в
«Черных тетрадях». И таким был до конца жизни Хайдеггера ее
«главный рисунок».
Мое мнение: именно с рассматриваемыми личностными
чертами Хайдеггера было так или иначе связано захватившее его в
период создания «Черных тетрадей» и именно в этих тайных тогда
дневниках разгулявшееся всеотрицание мировых философских
достижений, творческого вклада многих и многих крупных, даже
великих философов прошлого, да и все достижения Нового времени.
В обуявшем Хайдеггера гневе они как бы выносились за одну
большую скобку как проявления или следствия роковых-де
заблуждений всей этой эпохи в целом... Такой разгул негативизма на фоне
поистине «метафизического» хайдеггеровского самовозвеличения
склонил некоторых авторов и читателей к подозрению: не
появились ли в мысли Хайдеггера некоторые психопатологические
признаки?
* * *
Некоторые личностные черты Хайдеггера — непомерное
тщеславие, страстное желание всегда и во всем играть первую скрипку,
как и уверенность в том, что такого философа-новатора, как он, у
человечества не было и не будет, — также помогают понять сам его
нацистский ангажемент, а впоследствии и упорную нераскаянность
в том, что он пошел на такой союз.
Говоря об этом, не надо лицемерить: ведь немало было, есть и
будет творческих людей, которые неравнодушны к славе, известности,
наделены честолюбивым стремлением занимать ключевые позиции
в своей профессии, а также заметные посты на общественном
поприще. Но не так много было и есть подлинно творческих личностей,
готовых ради этого пойти на сделку с совестью, на компромисс с
сомнительными, тем более человеконенавистническими социальными
силами. В частности, так обстояло дело в Германии даже в
нацистское время. Карл Ясперс был прав, когда отмечал, что
сколько-нибудь крупные немецкие ученые, философы, писатели с нацистами,
по существу, не сотрудничали. Пример М. Хайдеггера и К. Шмита
был скорее исключением, чем правилом.
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера
971
В своих прежних работах о Хайдеггере я предоставляла
аргументы в пользу такого суждения: непомерное тщеславие Хайдеггера,
а в неменьшей мере и мечты его жены Эльфриды о достойной
карьере для ее великого мужа сделали в их глазах вожделенным его
избрание ректором Фрайбургского университета. А то, что его удалось
дождаться и добиться после захвата власти Гитлером и его
партией, в 1933 г. — в черное для Германии время и благодаря активной
поддержке как национал-социалистических лидеров, так и
прогитлеровских студенческих организаций, — поначалу мало беспокоило
чету Хайдеггеров*. Однако достаточно скоро — наверное, уже в сам
период ректорства, когда Хайдеггер по-прежнему оставлял (иногда
вынужденно, но всегда с присущим ему красноречивым
воодушевлением) несмываемые «коричневые следы» (они были документально
засвидетельствованы в соответствующей литературе еще до
появления «Черных тетрадей» и, в частности, обстоятельно использованы
в моей биографии Хайдеггера), — философа охватили сомнения,
появились горькие разочарования. Но когда, какие и в чем конкретно
они состояли?
Именно «Черные тетради» предоставили множество новых для
нас свидетельств того, какое сильное разочарование постигло
прославленного философа вскоре — что теперь ясно — после его
вступления на пост ректора Фрайбургского университета, отчего в
конечном счете он досрочно и добровольно ушел в отставку с поста,
которого он правдами и неправдами добивался. Те авторы, которые
и сегодня твердят, будто «Черные тетради» не дают ничего нового
для понимания и временного, периода ректорства, союза
Хайдеггера с фашизмом и быстро постигших философа разочарований, либо
не читали подробно новых томов хайдеггеровского Собрания
сочинения, либо кривят душой (возможно, защищая свои прежде
высказанные оценки). Нового в этих вопросах «Черные тетради» дают
немало. Целесообразно, более того, важно для конкретного,
научного хайдеггероведения объединить уже известное из прежних
исследований с теми новыми материалами, которые предоставили
« Черные тетради».
Может стать более полным, более доказательным представление
о том, какие честолюбивые надежды действительно питал
Хайдеггер, заключая институционально зафиксированный союз с
нацистской властью. Конкретнее обрисовывается и ситуация с
добровольной, досрочной отставкой Хайдеггера с ректорского поста, а главное,
более ясными представляются причины, побудившие к этому уже
сильно скомпрометировавшего себя философа.
* Мотрошилова Н. В. Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие — время —
любовь. М., 2013. С. 486-488.
972
H. В. Мотрошилова
Сначала — о прожектах, надеждах Хайдеггера. О них в общей
форме было известно и ранее. Вместе с тем «Черные тетради»
добавляют к материалу, в самой общей форме существовавшему и ранее
(а он, что очень существенно, прежде не был «авторизирован» Хай-
деггером), факты и признания самого философа о мотивах и
обстоятельствах его отставки, о характере его надежд и, соответственно,
разочарований.
Например, ранее можно было только догадываться о реальном
мнении Хайдеггера по поводу национал-социализма. Некоторые
предположения: скажем, он-де целиком осуждал
национал-социализм, но не мог говорить о том открыто — «Черные тетради»
документально опровергают. Ибо именно в «Черных тетрадях» Хай-
деггер с большим жаром утверждает, что гитлеровцы исповедуют
«неподлинный», «неистинный национал-социализм», а он,
Хайде ггер, принимая пост ректора Фрайбургского университета,
добиваясь его (хорошо известно, какими неправедными способами),
надеется и рассчитывает... научить соотечественников ему одному
открывшемуся «настоящему национал-социализму»! Эти надежды,
конечно же, оказались политически наивными и, понятное дело,
не оправдались. (Вопрос о том, какая идейная и философская
мешанина царит в его «откровениях» о «подлинном»
национал-социализме, более ясен после чтения «Черных тетрадей», хотя, конечно же,
требует тщательного анализа.)
Полностью порушились и другие более конкретные надежды.
Об одной из них Ясперс справедливо заметил: Хайдеггер
надеялся на то, что ему удастся «руководить фюрером» (den Führer zu
führen), но управлять Гитлером в конечном счете не удавалось
никому. Не могли реализоваться, причем по достаточно простым и
ясным причинам, и хайдеггеровские претензии играть при нацистской
власти роль «главного философа», ибо «шибко ученые» идеологи
тоталитарным режимам обычно не нужны...
Хайдеггер, несомненно, питал немалые надежды на то, что его,
как и прежде, будут «обожать», что ему, как великому Учителю
и Наставнику, будут внимать духовно влюбленные в него студенты.
«Черные тетради» отчетливо демонстрируют, сколь быстро
Хайдеггер разочаровался в студенческих лидерах и в верных Гитлеру
студентах (а ведь они тоже вели его к власти в родном университете):
много болтают, учиться совсем не хотят (даже у него, у Хайдеггера!),
все тонет в развязном жаргоне, самобахвальстве, идеологическом
шуме... И пусть Хайдеггер, по своей склонности подробно
выстраивать идейно-организационные, почти «фронтовые прожекты»,
в период ректорства продолжает изобретать специально для
студенческой молодежи соответствующие инструкции (они тоже подробно
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера 973
зафиксированы в «Черных тетрадях») — никаких надежд на
студенчество и союз с ним он уже не питает. Такие перемены в отношениях
со студенчеством совсем не случайны.
В донацистский период студенческие аудитории заполняли
молодые люди, влюбленные в Хайдеггера, преданные ему потому, что
видели в нем философа-новатора. Среди них, как отмечалось в
литературе, было немало евреев (в частности, поэтому открыто
афишировать свои антисемитские взгляды Хайдеггер тогда не
решался, и для их выражения как раз и «пригодились» тайные «Черные
тетради»). Разглядел ли Хайдеггер, что студенты, помогавшие ему
стать ректором, составляли принципиально иной социальный слой?
Зная, сколь плохо Хайдеггер проникал в суть
социально-политических проблем, не удивишься тому, что и здесь проявилась его
социально-политическая близорукость. Но правомерна и другая
гипотеза: Хайдеггер догадывался, какое именно студенчество сплотилось
вокруг него в 1933 г. Он не мог не видеть, сколь страшная судьба
постигла и его студентов-евреев, и немцев-антифашистов. Но он
«использовал» тот «материал», который отвечал его «воле к власти»...
Конечно, все это — гипотезы, но не беспочвенные. «Черные
тетради» подтверждают их в еще большей мере.
При всем том итог хайдегтеровских компромиссов с властью
безжалостно подведен самим мыслителем, и как раз в «Черных
тетрадях»: время ректорства он определил как «год провала»*.
И тут самое время обратиться к вопросу о причинах того, что
хайдеггероведы именовали упорной нераскаянностью Хайдеггера.
«Черные тетради» также проливают новый свет на понимание этого
многократно обсуждавшегося факта. Здесь тоже представляется
необходимым принять в расчет особенности характера и личностные
черты Хайдеггера.
* * *
В моей Биографии Хайдеггера (перепечатанной и в последней
книге) я подробно писала о том, как после войны друзья и
почитатели Хайдеггера во всем мире надеялись на какое-либо
публичное покаяние философа, на признание им и чудовищности
преступлений нацистов, и своей личной вины за сотрудничество с ними.
Но и после войны он вины не признал. Он даже не предал гласности
те свои сомнения и разочарования в нацистах, о которых мы теперь
* См. об этом мою статью «Дополнение к исследованию "Черных тетрадей"
Хайдеггера: о реформе университетов», опубликованную на русском языке
в азербайджанском научном журнале Elmi dsarbr {Scientific works) 2014.
№ 2 (23).
974
H. В. Мотрошилова
знаем благодаря «Черным тетрадям». Возникает вопрос:
слышатся ли в неподнадзорных «Черных тетрадях» хотя бы робкие нотки
самораскаяния? В 94-96 -м томах их явно нет. Зато в 97-м томе есть
горькие, возмущенные сетования Хайдеггера на то, что
послевоенное, временное, сравнительно недолгое, отстранение его,
профессора университета, от преподавания является-де самым большим
грехом, который «немцы могут совершить против немца»*. Зная
теперь, какие истинно смертные грехи накопились у
немцев-нацистов по отношению к родине и соотечественникам, скажем так:
комментарии излишни...
Записи «Черных тетрадей», опубликованные в 97-м томе,
добавляют еще один горький мотив: Хайдеггер гневается на своего
бывшего друга Карла Ясперса, обвиняя его и прочих коллег в «проделках»
(Machenschaften), приведших-де к тому, что его, великого
Хайдеггера, отлучили от университетского преподавания. Хайдеггер
заявляет даже, что такие Machenschaften по своему коварству меркнут
перед злодеяниями нацистов! А ведь делая подобные записи,
Хайдеггер не мог не знать, каково было реальное участие Ясперса в его
послевоенном «деле», хотя в присущем ему духе подозрительности
и злобности стремился опорочить своих вчерашних друзей**.
К пониманию ситуации «упорной нераскаянности» Хайдеггера
вышедшие тома «Черных тетрадей» прибавляют следующее: хотя
философ и поделился в них своими сомнениями и разочарованиями,
касающимися «реформы» университетов под эгидой гитлеровской
власти, он так и не воспользовался (в известных пока материалах)
возможностью раскаяться в содеянном. Есть основания
предполагать, что он и не испытывал того раскаяния, которого от него так
ждали.
Полагаю, факты подкрепляют ту гипотезу, согласно которой
раскаиваться было не в характере Хайдеггера. Зная в подробностях
историю его жизни, исследовав социально значимые мотивы
поведения Хайдеггера, я не припомню, чтобы он когда-либо в чем-либо
по-настоящему раскаивался, даже если совершал очень
болезненные для других людей (все равно, близких или далеких)
неблаговидные поступки. Тем более не в привычках и не в характере
самолюбивого Хайдеггера были какие бы то ни было публичные покаяния
* Heidegger M. Gesamtausgabe. В. 97. Schwarze Hefte 1942-1948 / Trawny P.
(Hg.). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2015. S. 79-80.
k* Именно благодаря участию Ясперса (кстати, привлеченного комиссией
по просьбе самого Хайдеггера), «дело» 1933 г. завершилось достаточно
мягким решением — временным запретом на преподавание (см. об этом:
Мотрошилова Н. В. Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие — время —
любовь. М., 2013. С. 500-501).
И снова о «Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера
975
(разве что давались некоторые «разъяснения», как это случилось
в интервью журналу «Шпигель»*...)**.
* * *
Непомерное тщеславие и жажда того, чтобы о нем всегда
помнили и говорили, в немалой степени, полагаю, объясняют уже и сам
факт создания весьма объемного цикла «Черных тетрадей». Хайдег-
гер как бы обращался к нам, потомкам: вы думаете, что с
публикацией Полного собрания моих сочинений ваше внимание ко мне
ослабнет? Так нет, вы будете снова и снова вспоминать меня, говорить
обо мне — вместе с появлением новых томов, содержащих "Черные
тетради"! И ведь он опять оказался прав в своих, казалось бы,
раздутых честолюбивых надеждах и устремлениях: сегодня снова говорят
и спорят о нем, Хайдеггере...
В известном смысле (применительно к философии) не только
XX в. был «столетием Хайдеггера» (в самом деле, огромной,
всемирной популярности его философии — даже если не преувеличивать
масштабы славы Хайдеггера и не превращать её, как это делается
сегодня, чуть ли не во «всеобщее помешательство»). И в XXI в. о нем,
скорее всего, не забудут, разве только вскоре устанут от дебатов
вокруг его философии, что тоже вполне вероятно***.
Говоря о личности, характере Хайдеггера, необходимо добавить
некоторые разъяснения, которые проливают свет на, скажем,
крайности и безудержность его антисемитских сентенций —
чрезвычайно гневных, осуждающих, далеких от сдержанности и
рассудительности, которые требуются от великого мыслителя при обсуждении
столь деликатных вопросов, где страсти всегда, в том числе сегодня,
накалены до предела. Хайдеггер же, обсуждая национальные
сюжеты, в частности разглагольствуя о «мировом еврействе», был,
наоборот, особенно озлоблен и неистов.
* Heidegger M. Nur noch ein Gott kann uns retten: Das Spiegel-Gespräch mit
Martin Heidegger (1966) // Spiegel. 1976. № 23. S. 193-219.
'* Сейчас нет возможности обсуждать проблему публичных покаяний во всей
ее сложности — например, принимая во внимание всю неприглядность
процедур и ритуалов, с ними связанных и обличенных Ж.-П. Сартром
в пьесе «Мухи».
'* Мне даже приходит в голову (после того, как были изучены те материалы
«Черных тетрадей», которые исполнены мрачного провидения Хайдегге-
ром будущего, ставшего нашим настоящим): он как бы вычислил и даже
применил приемы пиара нашего века и написал свои тайные заметки на
основе досрочного, в смысле хода истории, овладения приемами такого
"самопиара", "вручив" свои тетради людям будущего как раз в то время, когда
эти методы и приемы стали массовыми...
976
H. В. Мотрошилова
Могут возразить: он откровенно, как будто нелицеприятно
высказал то, что думал о тех национальных единствах, основные черты
которых взялся обсуждать в «Черных тетрадях», — о евреях,
русских, американцах, англичанах и, наконец, о немцах. Что Хайдег-
гер, скорее всего, записал именно то, что думал, — в этом вряд ли
можно усомниться. Но каково было качество этих его «дум»? Ведь
думал он, как выяснилось, именно «лицеприятно», — а лучше
сказать «лице-не-приятно», — то есть предвзято. Да и рассуждения
его на эти темы были теоретически слабыми, а во многих случаях
не выдерживающими никакой критики. Он, по сути, подпадал под
влияние худших из ходячих стереотипов. Сегодняшнее негативное
мнение о них — достаточно единодушное, прежде всего со стороны
выступивших с краткими репликами участников дебатов «из
жизненного мира».
Вместе с тем достаточно резкие оценки, прозвучавшие в
высказываниях хайдеггероведов разных наций, тоже были, по сути,
единодушными. Слово одному из них. «Теперь, — пишет немецкий
философ Райнер Мартен из Фрайбургского университета, — "Черные
тетради" демонстрируют: высказывания (Хайдеггера. — H, M.)
о том, что такое "еврейство" и "еврейское"... "невыносимы"»*.
Здесь не место снова вдаваться в рассмотренную в моей статье**
специальную тему хайдеггеровских оценок наций, например его
резких суждений в адрес не только еврейского, но и
американского и английского «национальных начал», а также его отношения
к тогдашнему состоянию «немецкого начала» (das Deutschentum)***.
Даже признавая обоснованными некоторые хайдеггеровские
тезисы (например, о том, что «русское начало» и большевизм
объединились неорганически и трагически), считаю, снова же в согласии
со многими экспертами, что в целом размышления философа на эти
темы в «Черных тетрадях» (на которые уже никак не влияла
внешняя цензура) тоже оказались, с одной стороны, неглубокими, часто
даже легковесными, а с другой — социально взрывоопасными.
Повторюсь: пусть Хайдеггер и любил разглагольствовать (в
самоуверенном стиле) на политические, национальные и иные социальные
темы, его соответствующие формулировки, тезисы часто были
малокомпетентными, недостойными его чисто философского «дара»,
о котором справедливо писал и говорил Карл Ясперс****.
* Gralshüter mit letzter Treuebereitschaft. Ein Gastbeitrag von Rainer
Marten // http://www.zeit.de/2015/ll /nachlass-martin-heidegger
** Мотрошилова H. В. «Черные тетради» M. Хайдеггера: по следам
публикации // Вопросы философии. 2015. № 4. С. 147.
" Там же. С. 151-159.
** Там же. С. 159.
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера
977
Хайдеггеру доводилось очень убедительно рассуждать о не менее
чем тысячелетних «ошибочных путях» (Irrwege), тупиках западной
метафизики. Но такие гневные сентенции обычно сопровождались
высокомерной уверенностью, будто он способен вывести
философское мышление из этих тупиков. Иногда, правда, он признавал:
и ему — временами — случалось побродить по каким-либо ведущим
в тупик тропам... Но, видимо, именно к себе он относил
высказывание «Черных тетрадей» о том, что у великих мыслителей даже
Irrwege — тоже великие*. «Вершиной», «кульминацией» отнюдь
не «великих» заблуждений Хайдеггера оправданно считать
имеющиеся в «Черных тетрадях» чудовищные, если не безумно-бредовые
заявления о желательности победы «Seyn»... через уничтожение
человеческого рода! В упомянутой статье я обосновывала свою мысль
о том, что некомпетентность и злая воля Хайдеггера в этих случаях
граничили со своего рода социальной патологией.
Вопрос всех вопросов можно сформулировать так, как это
сделал П. Лойш в уже упоминавшейся программе немецкого радио
от 30.04.2015: «Сохранит ли Хайдеггер — после публикации
"Черных тетрадей" — своё мировое значение?» Ответы на него и в
последние месяцы далеко не однозначные, а подчас контрарные.
Но сам вопрос будет, в чем можно не сомневаться, возникать вновь
и вновь — по мере публикации очередных томов с «Черными
тетрадями».
По моему мнению, со всей компетентностью на него могут
ответить специалисты-хайдеггероведы. Пока, как отмечалось,
содержательно высказались лишь немногие Heidegger-Experten. Но они
начинают все увереннее говорить свое слово.
Что пишут и говорят о «Черных тетрадях»
профессиональные хайдеггероведы?
Текст, с осмысления которого я начну освещать эту тему,
принадлежит Дитеру Томэ, известному немецкому эксперту-хайдеггеро-
веду старшего поколения. Он недавно опубликован в авторитетном
международном журнале Deutsche Zeitschrift für Philosophie**.
Д. Томэ, прежде всего, откровенно признался в том, сколь
тяжелые чувства пробудил в нем сам процесс изучения многих сотен
страниц к тому времени появившихся сенсационных томов
Собрания сочинений Хайдеггера: «То возбуждение, которое вызвало опу-
* Heidegger M. Gesamtausgabe. В. 97. Schwarze Hefte 1942-1948 / P. Trawny
(Hg.). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2015. С. 179.
** Thomä D. Das Selbe und das Wahrste // Deutsche Zeitschrift für Philosophie.
2015. Vol. 63 (2). С 396-405.
978
H. В. Мотрошилова
бликование первых трех томов "Черных тетрадей" Мартина Хайдег-
гера, контрастирует с усталостью, овладевающей после прочтения
почти 1250 страниц их текстов»*. Другие профессиональные
философы признаются в том же. Правда, чтение сочинений Хайдеггера
(что они знают лучше других) вообще нелегкий труд. Но здесь
сложилась ситуация во многом необычная. Общее впечатление Д. Томэ
очень похоже на то, которое возникло и у меня самой: мастерство
философа Хайдеггера часто отказывает ему в этих его как будто
наиболее свободных и откровенных текстах! Однако Томэ, скажу это
забегая вперед, все же не думает, как не думаю и я, что философию
Хайдеггера как таковую следует «убрать» из пространства
философских достижений XX в.
Томэ ставит ряд вполне конкретных хайдеггероведческих
вопросов, скажем, такой: как «Черные тетради» (их опубликованные
тома) соотносятся с произведениями, созданными Хайдеггером
в то же время и причисляемыми к его лучшим сочинениям
(например, это Ursprung der Kunstwerke, Einführung in die Metaphysik,
Beiträge zur Philosophie)! А я продолжу: нет ли своеобразного
парадокса в том, что работы Хайдеггера, опубликованные в годы
нацистской власти и ее надзора, оказываются более глубокими,
философски содержательными, значительными, чем его Denktagebuch,
вроде бы призванный фиксировать неподнадзорные мысли?
Томэ придерживается следующего мнения по обсуждаемому
вопросу: в «Черных тетрадях», если брать их собственно философское
содержание, едва ли найдешь что-либо новое по сравнению с
указанными произведениями. Правда, признаёт он, сам тон
высказываний Хайдеггера в «Черных тетрадях» сильно меняется — он
«скорее утверждающий (особенно его обвинительные тезисы. — H. M.),
чем обосновывающий»**. И еще ряд важных замечаний Томэ надо
принять во внимание, ибо то, о чем далее пойдет речь, отчасти имея
место и в более ранних произведениях Хайдеггера, «постоянно
присутствует» (allgegenwärtig) в «Черныхтетрадях».
Томэ (полагаю, в данном случае вполне точно) акцентирует
следующие, всё же относительно новые «фигуры» письма (наверняка
и речи) Хайдеггера:
1) что-либо, обсуждаемое в данный момент, объявляется
«тем же самым» (das Selbe), что и нечто другое: «"То же самое" —
это-де, "католическое мышление" и мышление "тотальное"; речь
идет, в конце концов, о греческом или латинском вариантах одних
и тех же вещей (GA 95, 429)» ***. «"То же самое" — опера "Лоэнгрин"
* Thomä D. Das Selbe und das Wahrste. S. 396.
** Ibid. S. 397.
*" Ibid.
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера 979
и... танки и самолеты, потому что они в одинаковой степени
"бессловесны и лишены истины" (GA 95, 132-133)»*. Одно и то же,
по Хайдеггеру, «классицизм и романтика», Гегель и Ницше,
«история и техника» (GA 96, 63; GA 95, 100, 116, 210, 351). Для автора
«Черных тетрадей» нет никакой разницы между «большевизмом
и "авторитарным социализмом"», между итальянским фашизмом
и немецким национал-социализмом, между капитализмом и
большевизмом и так далее и тому подобное. Томэ, и вполне
оправданно, призывает задуматься над тем, как и почему именно в «Черных
тетрадях», где как будто бы было возможно с максимальной
свободой и точностью рассмотреть различные социальные, в том числе
и идейные явления в их своеобразии, Хайдеггер бросает всё и
разное «в один горшок», то есть в «варево» своих более чем
экстравагантных новых толкований**.
2) О чем бы ни шла речь, Хайдеггер использует «суперлятивы»,
превосходные степени. Иллюстрации: Хайдеггер говорит о
«высшей ясности», о «чистейшей простоте», о «жесточайшей
неумолимости», о «необходимейшем» или «наитемнейшем» и т. д. Томэ
признается: как раз нанизывание таких суперлятивов на одни
и те же «объяснительные нити» делает чтение «Черных тетрадей»
особенно утомительным***. При этом он верно замечает: в
подобном, порядком запутанном, сомнительном контексте Хайдеггеру
сподручнее высказывать наиболее важные для «Черных
тетрадей» тезисы, столь же экстравагантные, сколь и претенциозные.
Например: «...Больше нет мира, истиннее сказать: его
никогда и не было. Мы впервые находимся в [процессе] его
подготовки (GA, 94, 210)» [Ibid.]. Отсюда, добавлю я, у Хайдеггера такое
обилие не только суперлятивов, но и — парадоксально —
всяческих «-losigkeiten», т.е. разных, так сказать, суперлятивных
«лишенностей» — относительно мира, истории, идей. К тому же
это переплетается с недостойным серьезного философа желанием
«сплавить» все «-losigkeiten» воедино при характеристиках
«еврейства» (das Judentum).
С теоретической же стороны, в частности со стороны
философии истории, самым опасным представляется то, что Новое время
(то есть несколько веков истории человечества — пусть со многими
изъянами, социальными противоречиями, но и несомненными
достижениями в разных областях, включая провозглашение и
завоевание прав человека) огульно обвинено Хайдеггером: эта эпоха
была-де наполнена только провалами, причем все более грандиозными
* Ibid.
№ Ibid. S. 398.
** Ibid. S. 399.
980
H. В. Мотрошилова
и роковыми. В своей первой статье о «Черных тетрадях» * я пыталась
раскрыть и подвергнуть критике такого рода философско-историче-
ские идеи Хайдеггера, доказывая, сколь необъективным,
односторонним является, в частности, претендующий на особую глубину
и целостность хайдеггеровский образ Нового времени (сходный
тезис подробно обоснован в публикуемой ниже статье X. Клемме).
Это уже мои солидарные добавления к анализу «Черных тетрадей»
у Д. Томэ. С его обобщением, касающимся хайдеггеровской
философии истории, тоже вполне согласна: «Хайдеггер исполняет некий
шпагат, который объемлет целые столетия; он становится
провозвестником истинного мира, который, правда, обретется в далеком
будущем...»** Томэ имеет в виду следующую сентенцию «Черных
тетрадей»: «Самое раннее около 2300 года может снова появиться
история».
В своей статье Д. Томэ рассуждает и о других проблемах этого хай-
деггеровского цикла, например о том же антисемитизме. Он
высказывает верную, на мой взгляд, уточняющую рекомендацию в адрес
сегодняшних интерпретаторов: «Вместо того чтобы бросать в один
горшок хайдеггеровский национал-социализм и его антисемитизм,
необходимо найти объяснение тому, почему его антисемитские
выпады начались тогда, когда он сам нанес удар по
национал-социализму, обвиняя его в "бытийно-историческом" (seinsgeschichtlichen)
пленении (Verhängnis) техникой. <...> В 1933/34 году Хайдег-
гер празднично рассматривал национал-социализм как выход
из того плена, в который, думал он, завело само Новое время (die
Moderne)»***. Томэ уместно добавляет, что хайдеггеровский список
тех лиц и явлений, которые внесли-де вклад в такое "пленение", все
разрастался, включив Платона, христианство, Декарта и Гегеля —
вплоть до Ницше, ибо всех их Хайдеггер стал упрекать в
запутывании проблемы бытия. А вот ссылки на евреев, справедливо отмечает
Томэ, либо не играли здесь, согласно тогдашним взглядам
Хайдеггера, никакой роли, либо их роль была сугубо второстепенной.
Основной же враг для Хайдеггера в 1933-1934 гг. — что отражено и в
соответствующих местах «Черных тетрадей», — как полагает Томэ,
не «еврейство», а... христианство и особенно католицизм!****
* Мотрошилова Н. В. «Черные тетради» М. Хайдеггера: по следам
публикации // Вопросы философии. 2015. № 4. S. 153-154.
** Thomä D. Das Selbe und das Wahrste // Deutsche Zeitschrift für Philosophie.
2015. Vol. 63 (2). S. 396-405.
*" Ibid. S. 402.
**** Д. Томэ, досконально изучивший вышедшие тома «Черных тетрадей», для
доказательства этой мысли ссылается на [Heidegger M. Gesamtausgabe.
В. 94. Schwarze Hefte 1931-1938 / P. Trawny (Hg.). Frankfurt am Main: Vit-
torio Klostermann, 2014. S. 120,123, 328-329, 338, 345, 351, 371, 455, 522;
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера 981
В конечном счете многие оценки хайдеггероведов базируются
на неприятии того высокомерного, самодовольного убеждения
Хайдеггера (акцентированного именно в «Черных тетрадях»), будто
прежние философы, пусть и признанные великими, не сумели
сделать то, на что « решился »-де только он, Хайдеггер: они не
выбрались на тот высочайший уровень философских рассуждений, где
можно было бы раскрыть суть Seyn — наиподлиннейшего бытия.
И тут снова замечу: внимательно проанализировав то главное, что
в первых трех томах «Черных тетрадей» сказано именно об этом
Seyn, я тоже, работая параллельно — но, как выяснилось, в
фактическом согласии — и с Д. Томэ, и с М. Габриелем, как и с другими
исследователями, не обнаружила в этом весьма объемном
материале действительно весомого философско-теоретического
содержания. Его подменяют «вдохновенные» и выспренные общие призывы
«пробиться, наконец, к чему-то философски наиновейшему, все-
обьясняющему, глубочайшему». И еще нам навязываются, как
нечто само собой разумеющееся, самовосхваления Хайдеггера: он-то,
избрав Seyn вместо Sein, уже пробился к этому
«наисокровеннейшему». Допускаю, что я ошибаюсь, не разглядев в витийствах
Хайдеггера касательно Seyn чего-то пока потаенного...
* * *
Считаю положительным моментом то, что профессиональные
философы, принимающие публичные дебаты об антисемитизме
Хайдеггера как законную, но скорее в основном эмоциональную
реакцию, к настоящему времени уже предложили релевантные теме
антисемитизма Хайдеггера теоретические исследования.
Пример — вышедшая в 2015 г. книга «Хайдеггер, евреи и снова
Хайдеггер»»*. В ней опубликованы доклады, сделанные на посвященной
этой проблематике встрече специалистов в Институте Хайдеггера.
Книга, по моему мнению, очень полезная — по крайней мере, в том
отношении, что помогает понять, как трактуют, подробно и
основательно, острую тему хайдеггеровского антисемитизма специали-
сты-хайдеггероведы. В первую очередь они оправданно напомнили,
что их сегодняшняя работа опирается на солидные теоретические
традиции в хайдеггероведении. К примеру, они воплощены в книге
Ж.-Ф. Лиотара «Хайдеггер и евреи» (Heidegger et les juifs, 1988) или
Heidegger M. Gesamtausgabe. В. 95. Schwarze Hefte 1938-1939 / P. Trawny
(Hg.). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014. S. 11, 138, 186, 195,
215-216].
* Trawny P., Mitchell A. I. (Hg.). Heidegger, die Juden, noch einmal Heidegger:
Heidegger Forum 11. Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 2015.
982
H. В. Мотрошилова
в главе из книги Эммануэля Левинаса (Noms propres, 1987). В
последней уже содержались повторенные и сегодня претензии в адрес
Хайдеггера — как бы от имени десятков миллионов уничтоженных
евреев, советских гражданских лиц и заключенных концлагерей.
В рассматриваемой книге 2015 г. (в статье Ч. Саммера) речь идет
также о «политической теологии» Хайдеггера; поставлен вопрос
о том, как соотнесены в «Черных тетрадях» рассуждения о «Seyn»
и о евреях. Есть в книге и статья с красноречивым названием
«Одного отсутствия антисемитизма недостаточно» (А. Дэвид). Сам
Петер Травны публикует в обсуждаемой книге статью на тему «Целан
и Хайдеггер — еще раз». Лирический поэт П. Целан (чьи родители
были жертвами холокоста), как известно, после войны стал
поклонником Хайдеггера. При этом он глубоко страдал из-за
нераскаянности своего философского кумира, из-за его молчания по поводу
массовых жертв национал-социалистического правления и в 1970 г.
даже пытался покончить жизнь самоубийством... Петер Травны
снова и снова ставит вопрос о причинах хайдеггеровского «молчания»,
теперь уже привлекая к рассмотрению (изданные им) «Черные
тетради». Он уместно ссылается на то, сколь однозначно на эту тему
отозвался Жак Деррида, много сделавший для упрочения именно
позитивной славы Хайдеггера как философа. В истории, напомнил
Деррида, речь часто идет не только о социальных «пожарищах»,
но и о пепле, оставшемся после них. «У Хайдеггера было
достаточно поводов заметить этот пепел. Да и где бывает "огонь" без
"пепла"? А Хайдеггер хранил о нем молчание. Целан же имеет его в виду
в своих стихах (буквально: "dichtet sie")»*. Итак, умолчание о таких
событиях ничем не оправдано — прежде всего, со стороны тех, кто
запятнал себя социально позорными поступками. Так думал
Деррида, который одновременно не склонен был дать в «легкую обиду»
Хайдеггера как философа...
В сборнике поднимается и тема хайдеггеровского
«метафизического антисемитизма» — в статье профессора Римского
университета Донателлы ди Чезаре. Эта высоко информативная и глубоко
философская работа сконцентрирована вокруг проблемы антисемитизма
Хайдеггера. Автор совершенно справедливо отмечает, что «случай
Хайдеггера» является не только и даже не столько историческим
фактом. Его разбор предполагает применение именно
философского подхода, а значит, и обсуждение его во всем объеме и содержании
требует участия философов, прежде всего специалистов,
разбирающихся во всех оттенках разгоревшегося спора. Исследовательница
* Цит. по: ChmielborM. D., Freischer Chr. Rezension //http://www.der-
schwar?glaube, de /?p=3066
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера 983
упоминает о том, сколько наносного и даже карикатурного было
в состоявшихся дебатах именно при обсуждении этого вопроса.
Мнение Д. ди Чезаре о том, что состоявшиеся дебаты об
антисемитизме «монополизировали» крайние, притом «черно-белые»
(или — или), позиции и что весь их ход оказался «тривиальным
и неприемлемым», представляется во многом обоснованным. Еще
раньше подобную точку зрения выразил в своей публикации в
«Вопросах философии» (№ 4 за 2015 г.) Ж.-Л. Нанси, знаток
литературы по обсуждаемой теме. Он справедливо напомнил о релевантных
идеях, гораздо раньше высказанных (в одной только Франции)
такими известными авторами, как Деррида, Левинас, Гранель, Куртин,
Жанико, Бадью и др. Вполне понятна реакция Ж.-Л. Нанси на
разглагольствования людей, плохо знакомых или вовсе незнакомых
с сутью и содержанием вопроса: «Нужно еще почитать, само собой
потрудиться вникнуть (в материал. — H. M.), прежде чем руки-то
заламывать»*.
В целом же Нанси призывает — с одной стороны, не отрицая,
конечно, вины Хайдеггера в связи с его национал-социалистическим
ангажементом и его «молчанием» после войны, — понять, с другой
стороны, что Хайдеггер, обдумывая «еврейский вопрос», «мыслил
сразу в двух разнородных плоскостях». В обоих случаях он
погружался, согласно Нанси, в глубокую пучину до сих пор нерешенных
теоретических и практических проблем. А проблематика эта
касается не только евреев — она заставляет задуматься о
«происхождении, и значит, о грядущем нашей европейской судьбы»**. Считаю,
что в определенном отношении Нанси тоже прав и что до сего дня
не найдены ни нужный тон, ни должная тонкость и в разговорах
философов на эти темы, и уж тем более в их массовом восприятии...
Донателла ди Чезаре высказала также свое мнение о реакции тех
коллег, которые вообще не желают принимать во внимание «Черные
тетради», объявляя, что ничего нового в них нет и что им-де по
этому вопросу все давно известно. Так, о реакции французского
автора Франсуа Федье (я писала о нем в статье***), защитника Хайдеггера
несмотря ни на что, исследовательница заметила: он по-прежнему
упрямо и негибко не приемлет, даже как бы не замечает новых
«неудобных» ему фактов и доказательств в деле Хайдеггера. (И таких
хайдеггероведов в мире, в том числе в России, увы, немало...)
Итак, можно сделать общий вывод: хайдеггероведы и другие
философы-профессионалы в последнее время включаются в развернув-
* Нанси Ж.-Л. Хайдеггер и мы // Вопросы философии. 2015. № 4. С. 163.
" Там же.
*** Мотрошилова Н. В. «Черные тетради» М. Хайдеггера: по следам
публикации // Вопросы философии. 2015. № 4. С. 138-149.
984
H. В. Мотрошилова
шуюся полемику вокруг «Черных тетрадей». При этом не должен
удивлять тот факт, что они делают это постепенно, сначала
фактически предоставив «поле битвы» журналистам, широкой публике.
Ибо вполне ясно: хайдеггеровские материалы, которые подлежат
анализу в данном случае, весьма объемны и специальны, тем более
для разъяснения неспециалистам (а они, как мы теперь видим,
пытаются в эти проблемы вникнуть).
Авторы-профессионалы, разумеется, должны сперва
основательно изучить написанное Хайдеггером в «Черных тетрадях»,
познакомиться с уже высказанными суждениями коллег и т. д. Уверена,
немало хайдеггероведов сейчас заняты этим. Надо подождать...
Что особенно удивляет и беспокоит
в уже состоявшихся обсуждениях «Черных тетрадей»
Уже сейчас, однако, перед хайдеггероведами стоит (как
предварительная обобщающая, не полностью новая, однако глубоко
обновленная) задача — сбить весьма вредную, считаю, волну ложной
сенсационности, перехлестов, некомпетентности,
несправедливости в современных суждениях и писаниях обо всем наследии Хай-
деггера.
Хорошо понимаю тех участников дебатов о «Черных тетрадях»,
которые до сих пор почти или никогда не читали текстов Хайдег-
гера, исследований о нем, а теперь следят за дебатами или даже
участвуют в них — когда они задаются вопросом: а была ли, в
самом деле, у этого автора, Хайдеггера, сколько-нибудь серьезная,
требующая изучения философия, да и достоин ли он былой
славы выдающегося, тем более великого философа XX в.? Но
тревожит — при освоении довольно мощного сегодня потока откликов
и реакций на «Черные тетради» Хайдеггера — следующий
промежуточный итог: создается, а также поддерживается ложное
впечатление, будто в прошлом как бы и не было ничего заслуживающего
доверия и высоких оценок — ни в самой философии Хайдеггера
любых этапов ее развития, ни в прежнем профессиональном хай-
дегтероведении, взятом в его интернациональных масштабах.
Подчас создается — тоже ложное в конечном счете — впечатление:
работу над текстами Хайдеггера надо как будто бы начинать с
самого начала, по существу «перечеркнув» произведения, которые
сам автор критикует, если не дискредитирует в «Черных тетрадях»
(пример — новое его отношение к «Бытию и времени» и к ряду
произведений того же периода). Полагаю, такие выводы были бы
худшей современной реакцией на публикацию новых хайдеггеров-
ских текстов — в чем-то родственной самым агрессивным, оттал-
И снова о «Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера 985
кивающим обертонам и перехлестам * Черных тетрадей». И вовсе
не утешает то, что Хайдеггер мог бы, будь он жив, на себе самом
испытать все следствия захлестнувших его «черных» всеотрицаю-
щих умонастроений, обращенных против целых эпох, отдельных
наций и выдающихся философов.
Думаю, как раз в будущих выступлениях хайдеггероведов
следовало бы не просто напомнить, но по-новому осветить и обобщить
объективные и, по-моему, несомненные исторические достижения
философии Хайдеггера, как они профессионально, доказательно
отражены и закреплены мировым хайдеггероведением. Выскажу свое
мнение о главных из них — но предельно кратко, не имея
возможности здесь подтвердить эти тезисные оценки библиографическими
ссылками, ибо они, даже в сокращенном виде, заняли бы многие
страницы.
1. М. Хайдеггер был и остается знатоком и интерпретатором
классического философского наследия, блестящим и оригинальным
исследователем идей Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, Ницше
и множества других философов прошлого. Проникновенные
работы Хайдеггера о немецкой поэзии — например, о творчестве Гёль-
дерлина — никак не утрачивают своего значения, а в будущем, что
вполне вероятно, только усилят его. Конечно, его
историко-философские интерпретации — это не «пересказы» текстов философов
прошлого, а часто его собственные переинтерпретирования, всегда
подчиненные именно хайдеггеровским критериям и философским
точкам отсчета, притом меняющимся. Но ведь другими, если
вдуматься, не были и историко-философские сочинения, оценки иных
значительных философов прошлого и настоящего. И тот факт, что
другие мыслители — и современники Хайдеггера (включая его
учеников и коллег-друзей, например К. Ясперса), и потомки —
полемизировали с ним по историко-философским темам, тоже вполне
нормален для истории философии.
2. Считаю, что новые для кого-то из нас, запечатленные в
«Черных тетрадях» чуть ли не уничижительные оценки автором своей
классической книги «Бытие и время» (а также и других ценнейших
сочинений того же или близкого периода) вовсе не имеют характера
указаний, «принудительных» для его потомков. Что, впрочем,
относится и к другим выдающимся философским сочинениям прошлого,
по тем или иным причинам недооцененным самими авторами.
Яркий пример — великая работа Гегеля «Феноменология духа». К
непонятой и не принятой современниками, опередившей свое время
«Феноменологии духа» Гегель даже в конце жизни относился
весьма прохладно. (Слава богу, он догадался не перечеркивать, не
переписывать ее...) Зато эту работу вновь «открыли» потомки в XX в.,
986
H. В. Мотрошилова
оправданно поставив ее в ряд первостепенно важных философских
сочинений всех времен. Полагаю, подобным же образом сложится
и судьба «Бытия и времени», что бы еще ни сказал в своих
ожидающих нас публикациях «Черных тетрадей» сам автор...
Думаю, что богатейшая хайдеггероведческая литература о
«Бытии и времени», в которой смысл этой работы разъясняется (и подчас
глубоко критически, но все же больше в проблемно-теоретическом
плане), тоже сохраняет свою значимость. Возможно, от хайдегге-
роведов потребуется — в свете ставших известными разочарований
самого Хайдеггера — осуществить дополнительные, уже
современные тщательные исследования первого крупного сочинения
Хайдеггера. Но ведь такое обновление подходов и оценок всегда требуется
от историко-философской работы.
3. Размышлениям Хайдеггера над темами бытия
(соответственно, онтологии) — не вопреки, а в отдельных случаях вместе с
меняющимися, также и в «Черных тетрадях» запечатленными
подходами — многие хайдеггероведы и сегодня придают серьезное, высокое
философское значение, побуждая также и мыслителей
современности к продолжающемуся многотрудному обдумыванию, уточнению,
а то и пересмотру если не собственных позиций в целом, то
отдельных преувеличенных «онтологических» надежд. И тот факт, что
многие известные в XX и XXI вв. теоретики не столько соглашаются,
сколько спорят с провоцирующим, но всегда интересным,
предполагающим все новые и новые «повороты» (Kehre) анализом
Хайдеггера, вполне нормален для развития философской мысли в высоком
значении этих слов.
4. Что касается возникшего, по-своему жесткого, спора о том,
есть ли ценные рассуждения в «Черных тетрадях» (на него, как мы
уже знаем, некоторые известные современные философы отвечают
однозначно негативно), то я придерживаюсь иного мнения. В
кратком изложении оно состоит в следующем: некоторые идеи и
концепции Хайдеггера — скажем, в связи с применением и разъяснением
центральных для «Черных тетрадей» понятий « Machenschaft(en)»,
«Rechnerische», «Riesige» — не только помогают ему достаточно
глубоко анализировать социальные процессы, черты сознания
индивидов и социальных групп его времени, но даже «заглядывать»
в XXI в. Некоторые его обвинения в адрес действительно
идущих от Нового времени отличительных особенностей «бытия» как
Seiende и сегодня сохраняют свою силу. Разумеется, все эти темы —
предмет будущих специальных дискуссий.
К очень кратко сформулированным здесь пунктам и можно,
и нужно добавить многие другие. Полагаю, современные
хайдеггероведы, тем более мирового класса, не должны стесняться, обосно-
И снова о « Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера 987
вывая на новом уровне, с учетом «Черных тетрадей», те выводы,
которые, как им какое-то время казалось, хорошо известны
заинтересованным специалистам и тем читателям, которые
профессионалами не являются, но проявляют интерес к соответствующей
литературе и готовы прислушиваться к выводам экспертов. Думаю,
не следует рассуждать о философии Хайдеггера в том
раздраженно-негативном, огульном стиле, в каком он сам позволял себе
высказываться в «Черных тетрадях» о великой философии Нового
времени — кстати сказать, не только «развивая» идеи собственных
сочинений, но и пренебрегая своими прежними теоретическими
находками*.
Ибо если сомнения в высоком значении лучшего,
новаторского в философии Хайдеггера зашли так далеко — и превратились,
по моему мнению, в опасное для философии чисто негативистское,
всё и вся сметающее поветрие, — то философы не имеют права
не противостоять этому.
* * *
Из новейших хайдеггероведческих исследований, посвященных
«Черным тетрадям», выделяется своей философской
основательностью (а также уже осуществленным быстрым откликом на
вышедший в 2015 г. 97-й том Собрания сочинений М. Хайдеггера,
продолжающий публикацию «Черных тетрадей») работа Хайнера Клемме,
профессора Галле-Виттенбергского университета (с любезного
разрешения автора его статья с небольшими сокращениями
публикуется вслед за моей статьей). В большинстве случаев я разделяю его
выводы и считаю весьма серьезными (хотя могла бы сделать и
критические ремарки) его главные обвинения в адрес Хайдеггера как
личности и как философа, заключившего, пускай и временный,
пакт с нацистской властью. Вместе с тем считаю, что и X. Клемме
пока не предоставил столь же доказательных соображений по
вопросу о том, сохраняет ли философия Хайдеггера (за вычетом хорошо
зафиксированных у Клемме неприемлемых сугубо идеологических
элементов) свое теоретическое значение для настоящего и будущего.
* Поэтому считаю вполне заслуживающей внимания такую тему: «Наследие
Хайдеггера... против "Черных тетрадей"».
€4^
В. В. МИРОНОВ, Д. МИРОНОВА
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
Как может такой необразованный человек,
как Гитлер, управлять страной?
Карл Ясперс
Образование совершенно не важно, —
ответил он, — вы только посмотрите на
его великолепные руки!
Мартин Хайдеггера
В последние пять лет произошел взрыв интереса к творчеству
Мартина Хайдеггера, во многом спровоцированный им самим:
по его указанию публикация так называемых «Черных тетрадей»
была осуществлена в конце издания Полного собрания его
сочинений. Эти записи, которые он вел с самого начала своего творчества,
заставляют нас по-новому взглянуть на него как философа и
человека.
Перед нами предстают два Хайдеггера. Маститый философ и
активный участник событий, которые в нашей культуре однозначно
осуждаются. Центральным предметом дискуссии, вызванной
публикацией «Черных тетрадей», таким образом, выступает вопрос
о том, насколько мы можем связывать мыслительную позицию
философа с тем режимом, при котором он жил и на который в
определенной степени работал. Поскольку сама ситуация уже была
предметом дискуссии, то, по сути, мы имеем сегодня лишь некоторую
перегруппировку аргументов, и новая волна публикаций не меняет
основных подходов к оценке философа.
Обвинительный подход «основывается, во-первых, на идее о
непростительности грехопадения Хайдеггера, а во-вторых, на утверж-
* Хайдеггер М., Ясперс К. Переписка 1920-1963 / Пер. с нем. И.
Михайлова; под ред. Н. Федоровой. M.: Ad Marginem, 2001. С. 304.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью 989
дении о том, что его заигрывания с нацизмом не были случайными,
а коренились в системе хайдеггеровских философских убеждений,
внутренне породненных с фашистской идеологией "почвы" и
"крови"» *. Вопрос здесь стоит о степени слияния философии с
национал-социалистической идеологией.
Адвокатский основан на «реабилитации» мыслителя, так как его
♦грех» не повлиял «...на грандиозность хайдеггеровского вклада
в мировую философию; [его представители] объявляют сам вопрос
о политической ангажированности мыслителя неинтересным или
нерелевантным внутренней логике философского мышления»**.
Объективный подход пытается разобраться в наследии
философа, в том числе с учетом вовлеченности его в поддержку нацистских
идей. Этот подход, которого мы пытаемся придерживаться, выводит
нас на более общую проблему соотношения философии и идеологии,
философа и власти. Мы здесь занимаем скорее пессимистическую
позицию, которая связана с признанием того факта, что связь Хай-
деггера с «национал-социалистической революцией» (термин
самого философа) была достаточно тесной и на уровне идей, и на уровне
деятельности***. Есть и иные позиции (см., например, очень
интересное исследование Светланы Погорельской****).
В этих рамках интересно выявить проблему соотношения
позиции Хайдеггера как философа, погруженного в мыслительные
рефлексии, далеко отстоящие от действительности, и его деятельность
в качестве представителя нацистской власти на посту ректора*****,
когда философские рефлексии становятся теоретическим
фундаментом для принятия даже достаточно рутинных
административных и пропагандистских решений******. Короткий период его ректор-
* Мотрошилова Н. В. Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие — время —
любовь. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2013. С. 462.
** Там же.
*** Некоторые аспекты этой позиции были нами рассмотрены в статье:
Миронов В. В., Миронова Д. Философ и власть: случай Хайдеггера // Вопросы
философии. 2016. № 7. С. 21-38.
**** Погорельская С. В. «Черные тетради» в контексте меняющейся германской
идентичности (аналитический обзор) // Социальные и гуманитарные
науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3: Философия.
Реферативный журнал. 2017. № 1. С. 162-177.
***** Согласно министерскому указу от 21 апреля 1933 г., во всех
университетах Германии было предписано провести выборы новых ректоров и деканов
на срок с 1 мая 1933 г. до 15 октября 1934 г. Первым ректором
Франкфуртского университета был избран Эрнст Крик, который лишь накануне
выборов стал профессором педагогики и был отъявленным нацистом. Хайдеггер
стал ректором лишь через пару недель.
****** Не с этого ли началось формирование позиции Арендт, много
рассуждавшей позже о феномене «банальности зла», проявлением которого
становятся те обязанности, которые берет на себя человек, например выполняя
990
В. В. Миронов, Д. Миронова
ства показывает, что национал-социализм был не временным
увлечением, а скорее формой реализации его философских идей.
Для нас в этой ситуации наиболее интересным является вопрос
о взаимоотношении философа и власти и допустимой степени
близости мыслителя к власти. Поэтому речь идет не о «пересмотре»
вклада Хайдеггера в развитие мировой философии — он,
безусловно, является одним из крупнейшим философов не только XX века,
но и мировой философии в целом, — а скорее об уроке, который
Хайдеггер преподносит нам на собственном примере, показывая,
что даже «величие мысли» в ряде случаев не является абсолютной
гарантией «чистоты помыслов и поступков» в реальной жизни.
Поэтому вряд ли следует, как нам предлагают Эмманюэль Фай
и Ричард Волин*, вводить своеобразные «моральные
предупреждения» о связи с национал-социализмом при чтении трудов
Хайдеггера. Но не может быть и обратного запрета исследовать проблему
влияния на творчество философа его альянса с властью вообще,
а тем более с властью тоталитарного типа или даже преступной
властью, как это кратковременно произошло с Хайдеггером. И вряд ли
здесь объективным будет подход «защиты» Хайдеггера с позиции
того, что общество пока не достигло уровня его понимания**.
Философу не дано определить, что станет более действенным
в сознании людей — его фундаментальные рефлексии, или речи,
или даже индивидуальные беседы. И понятно, что в речах перед
массовой аудиторией Хайдеггер, даже если опирался на сложные
теоретические рефлексии, разворачивал их применительно к
пониманию массы, выполняя тем самым функцию идеолога,
помогающего косвенным или прямым образом мобилизовать толпу к действи-
некие административные функции в системе? Заняв пост ректора,
Хайдеггер (мы не знаем его внутреннего отношения к этому) стал организатором
целой серии мероприятий, посвященных Лео Шлагетеру, одному из
«мучеников» национал-социализма, и таких «банальных» административных
решений он принимал достаточно много. См., например: Heidegger M.
Aufbau einer neuen geistigen Welt // Gesamtausgabe. Frankfurt am Main:
Klostermann, 2000. Bd. 16. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges. S. 82.
Хайдеггер. «Черные тетради» и Россия / Под ред. М. Ларюэль и Э. Файя.
М.: Дело, 2018.
«То обстоятельство, что Хайдеггер завещал опубликовать „Черные
тетради" через 40 лет после его смерти, говорит, на мой взгляд, не о том, что
он предлагал оценивать через призму „Черных тетрадей" всю его
философию, но лишь то, что он ждал, пока человечество сможет более объективно
и непредвзято оценивать исторические события его эпохи. В оценке
нужного для этого срока, как мы видим, он был излишне оптимистичен» (Фа-
лёв Е. В. «Черные тетради» новый виток суда над Хайдеггером //
Философское образование. Вестник Межвузовского центра по русской философии
и культуре. 2016. Т. 34. № 2. С. 37).
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
991
ям. Это ставит проблему ответственности философа как мыслителя
за свое воздействие на других. Поэтому хотя аргумент, что «ни один
человек не стал нацистом, прочитав Хайдеггера»*, и справедлив,
и нельзя на этом основании запрещать его тексты, но
одновременно столь же верно, что приверженцами нацистской и любой другой
идеологии часто становятся люди, которые вовсе не читают никаких
текстов, но впитывают «выброшенные» в толпу идеи, а Хайдеггер
это делал, и делал превосходно. А значит, он все-таки несет
моральную ответственность за свои идеи.
Сам факт и условия, которые были установлены Хайдеггером для
публикации «Черных тетрадей», преподносят нам определенную
загадку. По его указанию, как известно, публикация так
называемых «Черных тетрадей» была осуществлена в конце издания
Полного собрания его сочинений. Это были его, по сути, дневниковые
записи, но он их переписывал «набело», а значит, гипотетически
мог вносить изменения. «Перед нами не столько "Дневник
мысли", наподобие того, что оставила Ханна Арендт, а "Размышления"
(Überlegungen) и "Заметки" (Anmerkungen), тщательно
переписанные рукой Хайдеггера» **.
Мы, наверное, не узнаем, произвел ли он какие-либо коррекции
в этих записях или «убрал» какие-то фрагменты. Но и того, что
осталось, достаточно для серьезных обвинений философа в увлечении
нацизмом, и тогда факт их публикации означает, что Хайдеггер
не отказывается от этого и предлагает нам, читателям, оценивать это
из нашего времени. Наверное, с нами не все согласятся, но
по-своему это тоже мужественная позиция, на которую в аналогичной
ситуации были способны отнюдь не все. Как мы покажем ниже,
многие и достаточно известные немецкие философы, связанные в свое
время с нацизмом, поступали обратным образом и корректировали
свои работы, выпущенные в годы нацизма.
Хайдеггер же довольно четко отстаивал свою позицию до конца
жизни и, вполне вероятно, желал сделать публичным достоянием
«...записи из своих так называемых "Черных тетрадей",
отражающие отчасти и самые мрачные и злобные стороны его мысли, может
быть, потому, что он считал, что ход истории принесет оправдание
национал-социализму» ***.
Мы попытались в одной из статей показать, что в альянсе
философа и власти первый неизбежно проигрывает и вынужден «играть»
по правилам властителей. Хайдеггер был в этом не одинок. В та-
* Там же. С. 40.
** Интервью Александра Басова с Эмманюэлем Файем // Хайдеггер. «Черные
тетради» и Россия. С. 305.
*** Там же. С. 307.
992
В. В. Миронов, Д. Миронова
кой же капкан попали весьма многие, начиная с Платона и
Аристотеля*.
Публикация «Черных тетрадей» в совокупности с
опубликованной перепиской философа с Ханной Арендт** и Карлом Яспер-
сом***,атакжеперепискойАрендтиЯсперса****,дневникамиАрендт*****,
материалами 16-го тома Собраний сочинений Хайдеггера******
и изданными ранее документами из хайдеггеровского
ежегодника******* позволяет взглянуть на проблему в широкой перспективе.
Благодаря публикации своих размышлений Хайдеггер
присутствует теперь почти в реальном смысле, ибо позволяет корректировать
как понимание собственных взглядов, так и те описания его
взглядов, которые уже были сделаны до данных публикаций. А значит,
роль автора во многом оказывается центральной, что в определенной
степени подвергает сомнению один из самых известных тезисов
постмодернизма — «смерть автора», — который в явном или неявном
виде позволяет снять ответственность автора за текст, а также
лишает его претензий «на авторские права» в интеллектуальном смысле.
После «смерти автора» количество новых интерпретаций,
претендующих на истинное восприятие и понимание текста, может
оказаться весьма большим. Еще Сократ отмечал, что смысл текста
может защитить только сам автор. Это был один из аргументов против
письменности как фиксации текста, то есть возможности его
отчуждения от автора. Именно отчуждение текста от автора есть условие
«смерти автора», так как, например, в устном диалоге это просто
невозможно, кроме варианта физической смерти оппонента.
«Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде,
и у людей понимающих, и, равным образом, у тех, кому это вовсе
не подобает, и оно не знает, кому оно должно говорить, а кому нет.
Если оно вызывает пренебрежение или его несправедливо ругают,
то оно нуждается в помощи своего отца, а само не способно ни
защищаться, ни помочь себе»********.
* См.: Миронов В. В., Миронова Д. Указ. соч.
** Арендт X., Хайдеггер М. Письма 1925-1975 и другие свидетельства / Пер.
с нем. А. Григорьева. М.: Издательство Института Гайдара, 2015.
"* Хайдеггер М., Ясперс К. Указ. соч.
'** Arendt Н., Jaspers К. Briefwechsel 1926-1969 / L. Köhler, H. Saner (Hg.).
München; Zürich: Piper, 1985.
№* Arendt H. Denktagebuch 1950-1973 / U. Ludz, I. Nordmann (Hg.). München;
В.; Zürich: Piper, 2016.
'** Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 16.
'** Heidegger-Jahrbuch 4: Heidegger und der Nationalsozialismus I / A. Denker,
H. Zaborowski (Hg.). Freiburg; München: Karl Alber, 2009.
'** Платон. Федр / Пер. с др.-греч. А. Н. Егунова; под ред. Ю. А. Шичалина.
М.: Прогресс, 1989. С. 66.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
993
Оказалось, что смерть автора по отношению к отчужденному
тексту может не устраивать самого автора, и Хайдеггер представляет
своеобразную модель «возвращения автора», так как мы не можем
игнорировать его мнение. Хайдеггер избрал путь «отложенного»
возвращения, заставив опять говорить о себе. Мы не можем теперь
читать работы философа без вновь возникшего контекста, тем
более что текст «Черных тетрадей», по сути, создавался параллельно
с философскими текстами, которые уже были прочитаны без знания
этого материала.
Более того, в этой ситуации очень трудно заставить автора
замолчать, что было бы возможно в реальной его жизни. Это
отмечает его сын Герман Хайдеггер, издатель некоторых томов Полного
собрания сочинений Мартина Хайдеггера: «Мне как сыну нелегко
вновь обнародовать высказывания моего отца 1933 года, которые
тогда, в духе настроения подъема, были восприняты чаще всего без
критики, даже преимущественно приветствовались, но не
предвидели развитие. Однако, будучи историком, я обязан
воспроизводить и те высказывания своего отца, которые явно показывают, как
и значимый мыслитель может политически заблуждаться... В
порыве настроения национального подъема, в 1933 году он политически
ошибся относительно оценки национал-социализма и его фюрера,
вместе со многими другими значимыми людьми. Это он уже понял
накануне Нового, 1934 года»*.
И далее Герман Хайдеггер дает подборку материала, которая
должна нас убедить, что это был лишь краткий период заблуждения:
«Из его лекций и семинаров 1934-1944 годов четко понятно, что он
был противником национал-социалистической расовой и
идеологической политики... Глубокое мышление моего отца не имеет ничего
общего с фашистскими тенденциями. Оно вернулось к истокам
европейского мышления и попыталось пойти новыми путями. У
моего отца, что упускается из виду в полемических спорах из-за его
политического заблуждения 1933 года, не было ни одного ученика,
которого можно было бы назвать национал-социалистом»**.
Однако мы вынуждены не согласиться и попытаться показать,
что Хайдеггер все-таки воспринял нацизм весьма позитивно и
вовсе не на короткий промежуток времени. И главным аргументом
здесь выступает сам Хайдеггер. Уже его первое «возвращение»
вызвало много споров и обсуждений. Речь идет о последнем интервью
философа журналу «Шпигель» в 1966 году***. Оно долго оставалось
* Heidegger H. Nachwort des Herausgebers // Gesamtausgabe. Bd. 16. S. 835.
** Ibid. S. 837.
*** См.: Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger (23 September 1966) //
Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 16. S. 652-683 (полный перевод на русский см.:
994
В. В. Миронов, Д. Миронова
загадкой, ибо по собственной просьбе философа было
опубликовано лишь через десять лет — 31 мая 1976 года, сразу после его
смерти. Это показывает, насколько он тщательно готовился к этому акту
«возвращения». Мысли Хайдеггера в этом интервью чрезвычайно
интересны, вплоть до предсказания возникновения того, что ныне
обозначают как дигитальная философия*. Что касается нашей
темы, то в интервью Хайдеггер прямо говорит о том, что не видел
альтернативы возникшему нацистскому движению, прежде всего
для проведения реформы университета: «При всеобщем разброде
мнений и политических тенденций 22 партий надо было искать
какую-то национальную и, главное, социальную установку». То есть
мотивом выбора выступает критерий «национальной» установки
и соответствующей политической программы, в качестве которой,
по Хайдеггеру, национал-социализм подходил лучше всего. Кроме
того, именно эта установка соответствовала его давним мечтам о
реформировании немецкого университета, которые он долгое время
обсуждал с Ясперсом еще до прихода нацистов к власти.
Журналист спрашивает Хайдеггера об оценке фюрера в те годы,
цитируя слова философа: «Не правила из учебников и идеи
управляют вашим бытием. Фюрер — сам и только он — есть сегодняшняя
и будущая немецкая действительность и ее закон».
В ответ Хайдеггер, хотя и говорит, что сегодня он не стал бы
повторять этих фраз, тем не менее отмечает, что именно национал-
социализм уловил тенденции, связанные с преодолением человеком
господства «планетарной техники», и «...шел в этом направлении,
но эти люди были слишком непритязательными мыслителями,
чтобы выработать действительно ясное отношение к тому, что
происходит сегодня и что надвигалось на нас уже в течение трех столетий» **.
То есть Хайдеггер в период господства национал-социализма
попытался практически реализовать некоторые свои идеи (в том числе
преобразования университета), вступив в альянс с властью,
стараясь использовать власть в своих интересах, но, как мы уже сказали,
результат оказался прямо противоположным при всей, возможно,
оправданности пожеланий философа. Хайдеггер затем часто
повторял, что инертно относился к национал-социализму как теории
Хайдеггер М. «Только Бог сможет еще нас спасти...» // Heidegger.ru. URL:
http://www.heidegger.ru/shpigel.php).
* На один из вопросов интервьюера Хайдеггер отвечает тем, что сегодня уже
нет философии, а «роль прежней философии взяли теперь на себя науки.
<...> Философия распадается на отдельные науки: психологию, логику,
политологию. "Шпигель": "А что теперь занимает место философии?"
Хайдеггер: "Кибернетика"» (Ibid. S. 674).
" Ibid. S. 677.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
995
и не читал даже «Майн кампф», что, однако, тоже подвергается
сегодня сомнению*.
В позиции Хайдеггера того периода наглядно отразилась
безысходность ситуации в восприятии большинства мыслителей
Германии. В этом смысле, как отмечает Нелли Мотрошилова, «мутного
потока национал-социалистического движения»** удалось избежать
очень немногим, и, учитывая репрессивный характер режима,
вряд ли у нас есть моральные основания обвинять тех или иных
людей за эту позицию.
Однако, осознавая всю «мутность потока», часть мыслителей
бросалась в него с удовольствием, и этого искушения не удалось
избежать и Хайдеггеру. Не случайно мы говорим об «опьянении
властью», затмевающем разум и заставляющем увидеть в тиране
жизненную силу, способную помочь реализации собственных идей***.
Следует признать, что среди немецких философов это было общим
моментом. Вот некоторые факты. Перед приходом нацистов к власти
в немецких университетах профессоров философии было по
современным меркам немного: около 56 профессоров философии во всей
Германии. Профессор был руководителем кафедры****. Почти с са-
♦ ...вопреки утверждениям Ханны Арендт, нам теперь известно, что он
весьма рано прочитал и высоко оценил Mein Kampf» (Интервью Александра
Басова с Эмманюэлем Файем. С. 317). Ср.: «На самом же деле есть
серьезные основания предполагать, что Хайдеггер не только читал гитлеровский
опус, „Майн кампф", но и одобрительно к нему относился. Том Рокмор
(Rockmore) убедительно писал о том, что в речи Хайдеггера, произнесенной
по вступлении в ректорскую должность, „многочисленные упоминания
о битве задуманы как явная ссылка на одиозную гитлеровскую идею
борьбы за исполнение предначертанной судьбы немецкого народа,
сформулированную в „Майн кампф"» (Стайнер А. Дело Мартина Хайдеггера,
философа и нациста. Ч. 2 // World Socialist Web Site. 15.07.2000).
См.: Мотрошилова Н. В. Указ. соч. С. 463.
Правда, Ясперс, как показывает Михаил Рыклин, анализируя их
переписку, дает другой термин, объясняющий позицию философа. «Он сравнивает
его с „мечтательным мальчиком" (ein Knabe, der träumt), который в своей
невинности дал себя увлечь „зловещему", не перестававшему затем,
вопреки его воле и предвидению, нарастать и в этом нарастании повлекшему
непредсказуемые последствия. Хайдеггер с радостью принимает данный
образ, делая акцент на своей наивности и неискушенности в узко понятом
политическом; тем более что и в собственном объяснении в 1945 году он
настаивал на полной неискушенности в реальной политике из-за
длительного пребывания в высоких духовных сферах» (Рыклин М. Метаморфозы
великих гномов // Хайдеггер М., Ясперс К. Указ. соч. С. 34).
Кстати, этот количественный фактор проявился неожиданно в наше время,
что привело к отстранению от работы профессоров философии и
общественных наук после объединения Германии. На территории ГДР в большей
степени работала советская схема структуры образования и науки,
предусматривающая большее количество профессорских ставок. В ФРГ — более
996
В. В. Миронов, Д. Миронова
мого начала в Германии стали приниматься законы по
этническому ограничению занятия государственных должностей, к каковым
относилась и должность профессора*. Уже до принятия этих
законов, начиная с прихода Гитлера к власти и особенно после, 30
профессоров были вынуждены покинуть Германию. Среди них такие
известные философы, как Эрнст Кассирер, Гельмут Плесснер, Ганс
Рейхенбах, Пауль Тиллих и Рудольф Карнап.
Однако некоторые профессора, в том числе и достаточно
известные, как отмечает Ханна Арендт, пытались предложить свои услуги
нацистам. «Конечно же, и евреи включились бы в единую
идеологическую, политическую, управленческую систему (gleichschalten),
если бы им разрешили... Адорно, кстати, попытался [сделать это]
на основе того, что полуеврей, но, к сожалению, не получилось»**.
Таким образом, оставшиеся в Германии профессора почти без
исключения поддержали новую власть, либо прямо вступив в ряды
НСДАП (как Хайдеггер), либо проявив свою лояльность режиму
и вступив в иные профессиональные или научные союзы, но с
обязательным указанием принадлежности к
национал-социалистическому движению. Интересна динамика этого процесса.
В 1932 году призыв в пользу НСДАП подписали два
философа, в 1933-м — восемь. В ноябре 1933 года был подготовлен
документ-призыв «К "Признанию себя сторонниками Адольфа Гитлера
и национал-социалистического государства профессоров немецких
университетов и вузов"», подписанный 22 философами, среди
которых были столь известные персоны, как Ганс Фрейер, Ганс-Георг
Гадамер, Арнольд Гелен, Иоахим Риттер. «После 1933 года 22
философа стали членами НСДАП»"*.
Хайдеггер стал членом НСДАП 1 мая 1933 года (причем для него
было сделано исключение, ибо в этот момент уже вступило в силу
классическая система, поэтому люди, защитившие докторские, с большим
трудом могли занять должность профессора. Объединение Германии
позволило освобождающиеся ставки занимать западным профессорам, и
некоторые из них буквально бросились это осуществлять — как мечту, которая
могла бы никогда не осуществиться.
* На Нюрнбергском съезде НСДАП (15 сентября 1935 г.) были
провозглашены два закона, принятые рейхстагом, а именно «Закон о гражданине
рейха» и «Закон об охране германской крови и германской чести». Первый
фактически лишил гражданства цыган и евреев, так как констатировал, что
«4.1. Еврей не может быть гражданином рейха. Он не имеет права голоса
в политических вопросах, не может занимать должностей в
государственных учреждениях».
" Arendt — Jaspers, 13.04.1965 // Arendt H., Jaspers К. Op. cit. S. 628.
"Kaum einer, der sich nicht angepasst hätte". Interview mit Hans Jörg
Sandkühler // Philosophie Magazin. 2015. Sonderheft 03. Die Philosophen und der
Nazionalsozialismus. S. 57.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
997
решение о прекращении приема в партию до 1937 года*), и сделал
это весьма сознательно, о чем свидетельствует его письмо брату,
в котором он объясняет свой поступок и рекомендует это же сделать
ему: «Тебе нельзя посмотреть на движение снизу, а исходя из
фюрера и его великих целей. Я вчера вступил в партию не только по
внутреннему убеждению, но и из осознания того, что только таким
путем возможно облагораживание и очистка всего движения. Даже
если ты в этот момент еще не решишься, я тебе все же советовал бы
внутренне готовиться к вступлению... нельзя больше думать о самом
себе, а только о целом и о судьбе германского народа, поставленной
на кон»**.
Кстати, позже, когда уже началась критика Хайдеггера за связь
с режимом, именно философы, которым просто не дали по тем или
иным причинам примкнуть к нацизму, стали наиболее
активными его обвинителями. Ханна Арендт отмечает, говоря о нападках
на Хайдеггера: «Это гротескно, тем более что теперь выяснилось
(студенты это обнаружили), что Визенгрунд (полуеврей и один
из самих отвратительных людей, которых я знаю) попытался
включиться в систему. Он и Хоркхаймер в течение нескольких лет любого
человека, который выступал против них, обвиняли в
антисемитизме или грозились это сделать. Действительно, отвратительная
компания, к тому же Визенгрунд не лишен таланта»***.
Она приводит в пример историю, произошедшую с Адорно,
которого студент в 1963 году уличил в публикации в 1934 году
хвалебного отзыва на цикл песен на тексты Бальдура фон Шираха,
посвятившего том стихов Гитлеру. И Адорно в ответ на данную публикацию
стыдливо признается в этом, добавляя: «...пусть справедливость
решает, имеют ли инкриминированные предложения вес по
сравнению с моей работой и жизнью. Тот, кто смотрит на преемственность
моей работы, не должен меня сравнить с Хайдеггером, философия
которого фашистская во всех своих фибрах»****.
Таким образом, по сути, все философы, которые остались в
стране, оказались в числе членов нацистской партии или нацистских
организаций. Мы констатируем это не в качестве попытки оправдания
Хайдеггера, но чтобы показать, что в условиях тоталитарных
режимов глубоко экзистенциальная проблема выбора принимает ради-
* Хайдеггер вступил в партию одновременно с супругой, придав всему
действу несколько театральный и даже интимный характер (см. подробнее:
Миронов В. В., Миронова Д. Указ. соч. С. 28).
'* Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 16. S. 93.
* Arendt — Jaspers, 18.04.1966 // Arendt H., Jaspers K. Op. cit. S. 669-670.
* Anmerkung 2 und 3 zu Arendt — Jaspers, 04.07.1966 // Arendt H.,
Jaspers K. Op. cit. S. 830-831.
998
В. В. Миронов, Д. Миронова
кальный характер «пограничной ситуации». В этой «массовости»
поддержки режима, естественно, были и свои лидеры, которые
демонстрировали быстроту смены политических убеждений.
Например, изначально сторонник марксизма Иоахим Риттер становится
членом НСДАП уже в 1937 году, как и Герман Ноак, исследователь
Маркса и защитник Веймарской республики. Степень притяжения
к национал-социалистической идеологии была, конечно, разная,
и активность участия в данном движении также отличалась у
разных философов.
А вот далее ситуация развивается несколько странно.
Послевоенные дискуссии вокруг Хайдеггера создают впечатление, что он был
чуть ли не единственным, кто вступил в альянс с режимом, при этом
многие другие философы (пусть и меньшего масштаба) остаются
в тени. Именно в отношении Хайдеггера поступают наиболее
жестко, опять же учитывая его масштаб, именно ему запрещают
преподавание, причем одним из экспертов для принятия такого решения
выступает Ясперс. Опять же — зигзаги судьбы: комиссия
запрашивает Ясперса о судьбе Хайдеггера, в том числе и по рекомендации
самого Хайдеггера. Более того, судя по всему, ожидалось, что ответ
будет благожелательным, однако все пошло иначе.
Перед самым Рождеством 1945 года Ясперс пишет ответ на
запрос. Не имея возможности привести его полностью, отметим лишь
основные моменты.
Прежде всего, Ясперс указывает на антисемитизм Хайдеггера,
который начал проявляться в 1933 году. Из переписки с Арендт
можно сделать вывод, что это произошло раньше, и антисемитизм
был устойчивой частью мировоззрения Хайдеггера: «В остальном
я сегодня в университетских вопросах такой же антисемит, как
и 10 лет назад в Марбурге, где я за этот антисемитизм даже получил
поддержку от Якобсталя и Фридлендера. Все это никак не связано
с моим личным отношением к евреям (например, Гуссерлю, Мишу,
Кассиреру и другим). И уж подавно это никак не может затрагивать
отношения к тебе» \
Ясперс перечисляет некоторые случаи, когда Хайдеггер
отстранял от работы преподавателей-евреев, отмечая в соответствующих
заявлениях то, что они не соответствуют духу национал-социализма
и имеют «активные контакты» с уволенными евреями".
Отмечая тот факт, что Хайдеггеру «нет равных среди
современных философов в Германии» и ему надо дать возможность «работать
* Письмо 45. Мартин Хайдеггер — Ханне Арендт (зима 1932/33)//Арендт X.,
Хайдеггер М. Письма 1925-1975 и другие свидетельства. С. 72. Своей
супруге Эльфриде он признавался в своем антисемитизме еще в 1910 г.
** См.: Хайдеггер М., Ясперс К. Указ. соч. С. 363.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
999
и писать», тем не менее, исходя из общего видения ситуации,
«...необходимо привлечь к ответственности всех, кто помогал
упрочивать национал-социализм. Хайдеггер принадлежит к тем немногим
профессорам, которые это делали. Если на Хайдеггера не наложат
никаких ограничений — что скажут те коллеги, которым придется
уйти»*.
Второе важное обвинение, как это ни странно, — именно
талант Хайдеггера как профессора и учителя. Ясперс отмечает, что
именно талант Хайдеггера требует его отстранения от этого рода
деятельности. «В нашей ситуации к воспитанию молодежи следует
подходить с величайшей ответственностью. Стиль мышления
Хайдеггера, который кажется мне по сути несвободным, диктаторским,
некоммуникативным, будет ныне роковым в его преподавательском
воздействии. Пока в преподавателе не произойдет подлинного
возрождения, которое будет заметно в творчестве, его, на мой взгляд,
нельзя допускать к молодежи, ныне почти беззащитной
внутренне. Сначала молодежь должна прийти к самостоятельному
мышлению»**.
Мы не знаем, насколько Ясперс был в курсе всей ситуации, ибо
по документам после 1945 года «наказаны» и лишены своих кафедр
были лишь двое: Хайдеггер и Альфред Боймлер. Последний
поддерживал НСДАП еще в 1932 году и стал профессором в Берлине
в 1933 году. В своей вступительной лекции, давая оценку национал-
социализму, он говорил: «Одним словом, можно сказать, что в
духовном плане национал-социализм означает замену образованного
человека солдатом»***. После этого студенты дружно направились
сжигать книги.
А что же произошло с другими философами, которые в той или
иной степени поддержали режим? Большинство из них после
процедуры проверки на активность в нацистском движении в 1945 году
продолжали работать и даже возглавлять кафедры философии.
Лишь очень немногие уехавшие из Германии вернулись, и не все
из них продолжили преподавательскую деятельность в области
философии****. Лишь позже, в 1951 году, и — вновь ирония судь-
* Там же. С. 364-365.
№ Там же. С. 365.
'* Baeumler A. Männerbund und Wissenschaft. В.: Junker & Dünnhaupt, 1943.
S. 129, 130, 137; Jahr С. Die nationalsozialistische Machtübernahme und
ihre Folgen // Geschichte der Universität unter den Linden 1810-2010 /
H.-E. Tenorth (Hg.). Bd. 2. Die Berliner Universität zwischen den Weltkriegen
1918-1945. В.: Akademie-Verlag, 2012. S. 302.
k* Так, например, Хоркхаймер и Адорно, вернувшись, создали Институт
социальных исследований. Гельмут Плесснер стал просто профессором соци-
1000
В. В. Миронов, Д. Миронова
бы — опять же с рекомендации Ясперса* Хайдеггер был возвращен
в преподавательский корпус. Следует отметить, что в этой
печальной истории немаловажную роль сыграла и немецкая бюрократия,
так как среди «экспертов», влияющих на принятие решений, были
часто те же самые, которые в период нацизма выдавали философам
справки об их благонадежности по отношению к нацистскому
режиму. А справка в тоталитарном обществе, да еще германском, с его
нацеленностью на абсолютный «орднунг» обладала (да и обладает)
огромным могуществом.
Таким образом, послевоенное поколение студентов философии
училось у тех, кто при национал-социализме либо разделял его
идеологические установки, либо подстраивался под них. Это породило
ситуацию, о которой мы упомянули в начале статьи, говоря о
феномене «возвращения автора», но уже в качестве «чистильщика»
собственных текстов с целью их переиздания, а значит, и сокрытия
старых смыслов. Ярким примером в этом смысле является Арнольд
Гелен: «Он последовательно стер всякое созвучие
национал-социалистической идеологии. Эти книги до сих пор в данной очищенной
форме присутствуют на рынке. И он был не единственным — нацио-
нал-социалистически ориентированные философы в новых
изданиях по большей части убирали расистски-националистические
пассажи»".
Часть этих философов позже составили консервативное крыло
немецкой философии. Понятно, что среди них были и те, кто
довольно быстро разочаровался в национал-социалистической идеологии
и пропаганде, но одновременно это свидетельствует о том, что
изначально нацистские идеи захватили большинство. И в этом смысле
Хайдеггер не составляет исключения, реализуя в своей жизни ту
самую «банальность зла», о которой рассуждала, защищая Хайдегге-
ра, Ханна Арендт.
ологии в Гёттингене ("Kaum einer, der sich nicht angepasst hätte". Interview
mit Hans Jörg Sandkühler. S. 60).
* «Благодаря своим заслугам в философии г-н проф. Мартин Хайдеггер
признан во всем мире как один из крупнейших философов современности.
В Германии нет никого, кто бы его превосходил. Его философствование,
почти сокрытое, связанное с глубочайшими вопросами, лишь косвенно
распознаваемое в его трудах, делает его сегодня в философски скудном
мире, пожалуй, единственной в своем роде фигурой. Европа и Германия,
признавая важность духовного уровня и духовных способностей,
обязаны позаботиться, чтобы такой человек, как Хайдеггер, мог спокойно
работать, продолжать свои исследования и публиковать их» (Хайдеггер М.,
Ясперс К. Указ. соч. С. 369).
'* "Kaum einer, der sich nicht angepasst hätte". Interview mit Hans Jörg
Sandkühler. S. 60.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
1001
Хайдеггер, безусловно, поддерживал нацистские идеи и
поддерживал весьма активно, по сути выступая в роли идеолога, и даже
был опьянен этой ролью, что отмечал Ясперс. Другой вопрос,
насколько тесно его идеологические пассажи связаны со смыслом
его философии и сохранилась ли эта связь после крушения
нацизма. В связи с этим интересно проанализировать речи Хайдеггера.
С апреля 1933 года по 23 января 1934 года, то есть за период чуть
более полугода, он произносит 16 публичных речей (те, что
зафиксированы документально), причем перед самой разной
аудиторией: от профессоров до студентов и безработных. Здесь нет и намека
на безразличие или какую-то философскую отстраненность от идей
национал-социализма.
Базовой и наиболее фундаментальной стала известная речь,
произнесенная 27 мая 1933 года, «Самоутверждение немецкого
университета», которая достаточно широко обсуждалась (в том числе
и нами) и продолжает обсуждаться; имеется несколько вариантов ее
перевода, выразивших разные ценностные смыслы ее содержания.
Тем не менее узловые моменты из нее также следует еще раз
отметить. Именно здесь Хайдеггер, рассуждая о миссии университета,
конструирует вектор «воли к власти» через «волю к науке» в качестве
особой миссии немецкого народа в собственном государстве.
«Научное значение и немецкая судьба должны сразу в сущностной воле
прийти к власти»*. Таким образом, центральным в университетском
образовании должна стать подготовка вождей немецкого народа.
Понимание свободы в университете должно определяться
понятием службы государству. И далее, Хайдеггер очень мощно как
философ и чеканно как идеолог формулирует общие идеологические
принципы для студентов, которые должны служить государству. Он
их конструирует как некую цепочку идеологических связанностей
студентов с «народной общностью» посредством труда; с немецкой
нацией, которую нужно уметь оборонять, в том числе не жалея
собственной жизни; с духовным предназначением немецкого народа**.
Должны быть сформированы три службы: трудовой фронт, служба
обороны и служба знаний (университетское образование). И
соответственно, выполнить эти задачи можно только через доминирующий
принцип фюрерства, которые Хайдеггер начинает весьма
«оперативно» проводить в жизнь университета, причем не только в
организации самого администрирования, но и в выстраивании системы
управления научными исследованиями. Как отмечает Ханс Занер,
* Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета / Пер. с нем.
B. Бибихина // Историко-философский ежегодник 94. М.: Наука, 1995.
C. 298.
** См. анализ данной речи: Миронов В. В., Миронова Д. Указ. соч.
1002
В. В. Миронов, Д. Миронова
сравнивающий позиции Ясперса и Хайдеггера по реформированию
немецких университетов, философская позиция Хайдеггера здесь
определяется поисками народности в виде некого народного Dasein
и одновременно «...укладывается в русло нацистской литературы...
Не может быть никакого сомнения в том, что эта речь содействовала
нацификации немецкого университета и тем самым — расширению
влияния национал-социализма»*.
30 июня 1933 года в актовом зале Гейдельбергского
университета Хайдеггер произносит еще одну речь, по сути являющуюся
политической программой воспитания: «Университет в новом рейхе».
Слушателей было огромное количество: «Присутствовал весь
профессорский состав, а также представители города; студенчество
и публика стеклись в актовый зал Нового университета в столь
большом количестве, что пришлось открыть для них также и Большую
аудиторию, куда выступление транслировалось по радио»".
Философ развивает здесь идеи ректорской речи и миссию
университета как служения государству. Главная задача университета —
это задача воспитания, и наука здесь лишь средство, позволяющее
воспитывать «прослойку вождей в государстве». Обучение в
университете не должно опираться только на научное исследование, ибо
тогда, говорит Хайдеггер, доминирует «точка зрения учителей»,
что часто придает обучению формальный и «бесцельный характер».
«Нужно, напротив, вести суровую борьбу в
национал-социалистическом духе, который не могут скрыть гуманистические,
христианские представления, подавляющие его безусловность»***.
Главная цель, которая может оправдать все, — это борьба за
будущее существование государства. Не надо бояться тратить время
на оборону и спорт, как кричат оппоненты, ибо это необходимо для
государства. «Работа ради государства не может нести в себе
никакой опасности, опасность несут безразличие и неповиновение»****.
Обучение ради целей государства, продолжает Хайдеггер, есть
не просто усвоение неких сведений, но преодоление неизвестного;
в своей философской манере он выстраивает конструкцию, что
обучение есть «впускание-учения (Lernen-lassen) и помещение-в-у-
чение (Zum-Lernen-bringen)». Такое обучение не дает никаких га-
Занер X. «Тезисы к вопросу об обновлении Высшей школы» (1933) Ясперса
в критическом сравнении с ректорской речью Хайдеггера //
Историко-философский ежегодник 94. С. 338.
** Heidelberger Neueste Nachrichten. № 150. 01.07.1933. S. 4 // Schneeberg-
er G. Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu seinem Leben und Denken. Bern,
1962. S. 73-75.
*** Heidegger M. Die Universität im Neuen Reich // Gesamtausgabe. Bd. 16.
S. 762.
"** Ibid. S. 763.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
1003
рантий, оно требует мужества и основано на конкуренции и отборе
сильнейших. «Кто не выстоит в борьбе, остается лежать. Новое
мужество должно стать постоянным, ибо долгой будет борьба за те
места, где воспитываются ведущие. Борьба ведется силой нового рейха,
который делает реальностью народный канцлер Гитлер»*.
22 октября 1934 года речь «Национал-социалистическая школа
знания»** была произнесена перед «более чем 600 занятыми на
общественных работах безработными Фрайбурга, прошедшими перед
тем, как собраться на митинг в актовом зале университета, маршем
по улицам города» ***. Хайдеггер, как опытный идеолог, учитывая
характер аудитории, в очень доступной форме формулирует
обязанности немца для достижения целей государства. Риторически
блестящее начало, в котором говорится о том, что именно государство,
обеспечив создание рабочих мест, обеспечило «вам работу и кусок
хлеба. Вы наслаждаетесь своим преимуществом перед остальными
безработными нашего города»****. Но это ведет к необходимости
принятия на себя ряда обязанностей.
Необходимо поддерживать фюрера в проводимой им политике
создания новых рабочих мест, ибо это необходимо для будущего.
Именно работа делает человека сильным «для полноценного
существования в качестве члена единого сообщества немецкого народа».
Далее в 8 пунктах, опять же чеканным идеологическим языком,
излагается, что нужно знать для реализации данной цели. Человек
должен не просто работать, но, что особенно важно, осознавать, для
чего и почему он это делает. И в этом может помочь университет.
«Вот здесь стоят ваши младшие университетские товарищи,
готовые работать над этим новым знанием. Они полны решимости
помочь вам в том, чтобы новое знание жило, возрастало и укреплялось
в вас, не впадая снова в дрему. Они готовы помочь вам, но не как
"зубрилы" из класса "лучших учеников", а как соотечественники,
осознавшие свой долг...»*****
Это единение должно преодолеть разрыв между работниками
физического и умственного труда, которых теперь объединяет «новая
общая воля». И последним пунктом формулируется идея
всемирного единства немецкой нации, которая, по сути, является
предвестником будущих войн за пространство, и каждый немец должен
* Ibid.
Название этой речи дали журналисты.
*** Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens. Folge 33.
01.02.1934. Abendausgabe. S. 9.
**** Heidegger M. Zur Eröffnung der Schulungskurse für die Notstandsarbeiter
der Stadt an der Universität (22. Januar 1934) // Gesamtausgabe. Bd. 16.
S.232.
***** Ibid. S. 762-763.
1004
В. В. Миронов, Д. Миронова
знать, что «восемнадцать миллионов немцев хотя и являются
неотъемлемой частью немецкого народа, но, живя за границами рейха,
фактически не принадлежат рейху»*.
Знание обеспечивает господство. Оно должно не сводиться к
объему, а вытекать из нашего существования и возможности его
использования в реальной деятельности. «Подлинным знанием обладают и
крестьянин, и ремесленник — каждый из них по-своему и в своей сфере
деятельности, равно как и ученый — в своей. И напротив, ученый при
всей своей учености может обладать лишь видимостью знания»".
В то же время любой труд является по сущности духовным, если
служит целям государства. «„Рабочие» и „ученые" не противостоят
друг другу. Каждый рабочий обладает в своей области подлинным
знанием, и лишь как знающий он способен вообще работать»"*.
И соответствующее риторическое завершение того периода,
нацеленное на аудиторию: «Человеку, в высшей степени
преисполненному этой небывалой волей, нашему фюреру Адольфу Гитлеру
троекратное „Зиг Хайль"!»""
В речи «К немецким студентам» (ноябрь 1933 года) о национал-
социализме говорится как о революции, осуществляющей
«переворот в нашем немецком бытии». Освоение знаний — это не знание
ради знания, а умение его практического использования, это путь
к «профессиям государства». Здесь следует отметить призыв к
почти Божественному восприятию вождя, который определяет и
настоящее, и будущее: «Пусть не учения и „идеи" будут правилом вашего
бытия. Сам вождь и только он есть настоящая и будущая немецкая
действительность и ее закон»*****.
11 ноября 1933 года в Лейпциге была произнесена речь на
предвыборном митинге учителей и ученых. Очень многие идеи, что
характерно для идеологов, повторяются, ибо, по сути, изменения
здесь связаны лишь с форматом аудитории, но ее особенность — это
агитационная направленность на то, чтобы интеллигенция
поддерживала фюрера и его избранников, в чем и состоит суть
свободных выборов. И опять характерный риторический прием: «Фюрер
не просит народ. Скорее он предоставляет народу непосредственную
возможность в высшей степени свободно решить, желает ли народ
собственно существовать как народ или не желает» """.
* Heidegger M. Zur Eröffnung der Schulungskurse...
'* Ibid.
" Ibid.
'* Ibid.
'* Idem. Zum Semesterbeginn // Gesamtausgabe. Bd. 16. S. 184.
** Idem. Ansprache am 11. November 1933 in Leipzig // Gesamtausgabe. Bd. 16.
S. 190.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
1005
Именно этим Хайдеггер оправдывает фюрера в том, что он вышел
из Лиги наций (именно фюрер, а не страна), так как его действия,
по сути, есть олицетворение действия германского народа. Как
блестящий идеолог, Хайдеггер говорит о том, что мировое сообщество
(«мировое братство») основано на «насилии господства одних
народов над другими», что неизбежно ведет к варварству. Поэтому
фюрер осуществляет не беззаконный акт, ибо «происходит лишь ясное
осознание неприкосновенной самобытности каждого народа...
Народ вновь обретает истину своей воли к существованию»*.
Здесь мы сталкиваемся с почти марксистской постановкой
проблемы. Необходимо осознавать бытие, чтобы действовать
осознанно. И для немецкого народа осознанное бытие означает «обладать
решимостью к действию». Этим самым преодолевается
«бессильное мышление» и служащая ему философия. Выбор, который
осуществляет народ, отмечает Хайдеггер, раскрывает его
предназначение и «дает гарантию мира». «Эту волю пробудил к жизни фюрер
во всем нашем народе, сплотив нас ею для принятия одного
единственно верного решения. Так пусть никто не сможет остаться в
стороне в день изъявления этой воли!»"
Речь от 25 ноября 1933 года «Германский студент как
работник» транслировалась по радио; это позволяет предположить, что
власть нуждалась в идеологическом таланте философа. Хайдеггер
здесь интерпретирует мысли Вильгельма фон Гумбольдта об
автономии, на которых строилась модель классического университета, что
означало, с одной стороны, соблюдение принципа невмешательства
со стороны государства, а с другой — необходимость именно
государственного финансирования университета. Этим достигалась
свобода, которая при внешней независимости позволяла университету
в конечном счете работать на государство. Должны ли эти
принципы, спрашивает он, сохранять свою силу в период основательной
перестройки, которая происходит в Германии? Как это может
изменить статус студента и его бытие? Сегодня студент не просто служит
науке, говорит он, а находится на службе у государства, и к
процессу образования, что вполне логично, в новой ситуации добавляется
трудовая и военно-спортивная повинность. Наступает время
возникновения нового германского студента через реализацию нового
бытия (так и хочется опять воскликнуть, что бытие определяет
сознание), которое мы должны попытаться понять. И новое бытие — это
не просто старая действительность, «дополненная, и
перекрашенная, и переименованная, которая с каждым днем от нас уходит»"*.
* Ibid. S. 191.
** Ibid. S. 193.
*** Idem. Der deutsche Student als Arbeiter // Gesamtausgabe. Bd. 16. S. 199.
1006
В. В. Миронов, Д. Миронова
Немцы только сейчас становятся историческим народом,
несмотря на свою длительную историю. Само понимание истории как ее
длительности и уходящего прошлого не может быть только в силу
этого обозначено как историческое. «История не является
прошлым, тем более не является настоящим». Это деятельность,
которая «...пронизывает настоящее из стремительно приближающегося
будущего. <...> Быть историческим означает: действовать, зная,
предвосхищая приходящее, чтобы таким образом освободить
прошлое от своей обязательной силы, и сохраняя его в его меняющемся
величии. Данное знание реализуется в формировании народа
государством. Оно является побуждающим и связующим образованием,
вписываясь в которое народ сливается со всеми великими силами
человеческого бытия. Государство есть и становится, осуществляя
эти силы в наличном бытии народа»*.
Природа — это только пространство, в котором обитает народ.
Она становится той силой, которая обеспечивает наследование
определенных черт и склонностей индивида, она же определяет условия
здорового образа жизни. Техника связана со свободным действием
природы и помогает ей служить народу. История народа,
вписанная в природу, в стремлении к обеспечению пути и длительности его
самости обеспечивает устройство государства. Искусство
отображает как сущностную истину величие и предназначение народа.
В процессе становления государство обнаруживает эти силы
и определяет их границы, раскрывая тем самым истину. Народ,
таким образом, благодаря становлению государства возвращается
в подлинную истину. И только отсюда вытекает возможность,
необходимость и тяга к знаниям и, соответственно, к науке:
«Предпосылкой всей науки является тем самым пробуждение
осуществления силы подлинного притязания на знания. Реализация данного
притязания и тем самым создание такой предпосылки происходит
в становлении нашего государства. Это может происходить
очевидно только там, где полный сил народ доходит до корней своего
наличного бытия, где он смело стремится к самому себе, — в немецкой
молодежи»".
Новый студент — это не традиционный студент-школяр, чья
цель — учиться и получать знания. Для него учеба — это работа,
но, опять же, не в смысле работника умственного труда. Новый
студент-рабочий — не рабочий в традиционном понимании. Он не
объект эксплуатации и участник классовой борьбы. Труд не есть
производство благ и не понятие культуры. «Труд перемещает и вписывает
народ в поле действия всех существенных сил государства. Образо-
* Heidegger M. Der deutsche Student als Arbeiter. S. 200.
** Ibid. S. 201-202.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
1007
вание народного бытия, оформляющееся в труде и как труд, —
государство. Национал-социалистическое государство — это
государство труда. <...> Прежний студент только рабочий потому и в той
мере, в которой он "учится". Новый же студент "учится, потому что
он рабочий". И учеба сейчас означает: развертывание воли стать
знающими, чтобы укрепить и приумножить то знание, в силу
которого наш народ становится историческим»*.
Такой тип студента пока исключение, он разовьется лишь через
поколение. Под углом зрения именно этого нового студента и
обязательств, которые студенты должны были взять на себя, Хайдеггер
призывает: « ...Я обязываю вас выполнить волю и дело нашего
фюрера Адольфа Гитлера. Я привязываю вас к законам наличного бытия
нового немецкого студента. Я требую от вас дисциплины и
серьезности и жесткости в отношении вас самих. Я требую от вас
самоотверженности и образцовости поведения в отношении всех германских
соотечественников. Хайль Гитлер!»"
Речь «Призыв к трудовому служению» в январе 1934 года вновь
посвящена проблеме воспитания юношества. Трудовое служение
«дает базовый опыт простой грубой жизни, близости к почве и
орудиям труда, законности и строгости простейшего физического и
потому сущностного, группового труда»"*. Оно должно быть строго
регламентированным и подчиняться дисциплине. Хайдеггер говорит,
что это может обеспечить в наибольшей степени «сообщество
трудового лагеря», где могут каждодневно закрепляться трудовые
навыки, обеспечивая сплоченность такого сообщества. Именно здесь
формируется «подлинное товарищество» как результат
«принуждения, диктуемого для всех большой угрозой».
Такое служение способно преобразовать немецкую молодежь,
формируя в том числе «новое отношение к научной работе». «При
этом совершенно исчезают те понятия "духа" и "духовной
деятельности", которыми прежде жил слой "образованных" людей и
которые теперь все еще пытаются отстаивать их отдельные
представители ради собственного слоя "духовных деятелей". Мы только тогда
поймем, что любая работа как работа духовна» *"\
Истинная духовная деятельность заключается не в ее
направленности на сферу духа, а в степени отражения нужд народа и «угроз
человеческому существованию». Для немецкого народа есть лишь
«единственная жизненная позиция» — это «укорененная в
плодоносном основании народа и свободно реализуемая в исторической
* Ibid. S. 205-206.
** Ibid. S. 208.
*** Idem. Der Ruf zum Arbeitsdienst // Gesamtausgabe. Bd. 16. S. 238.
**** Ibid. S. 238-239.
1008
В. В. Миронов, Д. Миронова
воле государства трудовая позиция, предварительно формируемая
движением национал-социалистической немецкой рабочей
партии»*. И этой максиме должны быть подчинены все, в том числе
«немощные, ленивые и неполноценные».
Речь «Слово назидания алеманнскому народу» (январь 1934
года)" — своеобразный геополитический вариант идеолога Хайдегге-
ра, который обосновывает необходимость для алеманнских племен
(юго-запад современной Германии, включая север Швейцарии и
запад Австрии) включиться в общую «политическую волю немцев»,
связанную с перемещением на северо-восток, что является условием
«соволения (Mitwollen) с единой национал-социалистической
государственной волей»"*.
Вышеприведенные речи Хайдеггер произнес, будучи ректором.
Обычно указывают на то, что он достаточно быстро отказывается
от попыток реформирования университета на почве
национал-социализма. Однако это не совсем так, и, по сути, Хайдеггер скорее
упрекает народ (студентов и доцентов), которые оказались не
готовы к этим преобразованиям. Сама же идея такого понимания власти
сомнению не подвергается. И как философ он не был бы Хайдегге-
ром, если бы не попытался обосновать это, что он частично и делает
в «Черных тетрадях». Вот основные пункты его позиции.
«Я вступил в свою должность слишком рано, или, лучше
сказать: абсолютно напрасно»****. Лидеры, «адекватные эпохе»,
занимались не столько трансформацией действительности, сколько
количественным «накоплением» нового, в виде «новых учреждений».
То есть, по сути, Хайдеггер упрекает руководство высшей школы
или все руководство тогдашней страны в том, что осуществляется
не реформа, а имитация, в которой «существенное вполне может
оставаться прежним». Правда, отмечает он, «сила существования
(Dasein)» продолжает тем не менее накапливаться для будущей
реформы высшей школы в Германии. Примечательно, что он не
хочет участвовать в этой работе, но одновременно указывает, что он
и не будет оставаться в стороне: «Мы останемся на невидимом
фронте тайной духовной Германии» *****.
* Heidegger M. Der Ruf zum Arbeitsdienst. S. 239.
Это перевод немецкого варианта названия, данного речи Хайдеггера
журналистами. У самого Хайдеггера это ♦Нерастраченное алеманство».
См. ниже.
k* Idem. Das unverbrauchte Alemannentum // Gesamtausgabe. Bd. 16. S. 240
(название дано не Хайдеггером).
Хайдеггер M. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938) / Пер.
с нем. А. Б. Григорьева. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. С. 176.
№ Там же.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
1009
Dasein, как структура «народно-государственного
существования», «создает Движение в соответствии с организационным
методом, определенным солдатами и инженерами»*. Данный вариант
Dasein — это своеобразная временная жертва ради будущего. Далее
идет критика реформ, связанная с тем, что в университетах
господствующей силой стали студенты («власть студентов»), а
преподаватели превратились лишь в исполнителей, что формирует у
студентов «самонадеянность», которая вовсе не основана на знаниях как
«владении ремеслом», что отражает «духовно-мировоззренческую»
незрелость**. «Неудавшийся год — потерянный — если бы неудача
не была высшей формой человеческого опыта, в которой мы
встречаемся с действующими силами мира в их беспощадной способности
воздействия, учимся ощущать их игру и расположение»***.
Университету не удалось выполнить ни воспитательных, ни
мировоззренческих, ни наукообразующих задач, и он теперь будет
вести «антикварное» существование, то есть выполнять функцию
подготовки студентов для получения профессии. А такая задача
связана лишь с решением количественных задач. «Граница "качества",
сущностной пригодности пролегает где-то в другом месте»****.
Таким образом, Хайдеггер вовсе не уходит в сторону, более того,
уже не будучи ректором, он продолжает выполнять миссию
«невидимого духовного фронта», в том числе и публично. Можно в качестве
примера остановиться здесь лишь на двух публичных докладах,
которые были им произнесены 15 и 16 августа 1934 года, то есть уже
более чем через полгода после отставки, перед
студентами-иностранцами Фрайбургского университета. Здесь, прежде всего,
обосновывается идея, что немецкое национал-социалистическое движение —
это революция, которая была подготовлена мировой войной. Война
породила сплоченность нации и «сильную волю», которые стали
основанием для формирования, по сути, нового немецкого народа.
«Этот новый дух фронта нес в себе сильную волю стать действенной
после войны как определяющая сила в наличном бытии, народа»*****.
Война не может оцениваться лишь исторически, как цепь событий,
проводящая к тем или иным последствиям, изменениям границ и пр.
Далее Хайдеггер обосновывает необходимость лидера этой
революции в лице фюрера и жесткого проведения фюрерства как прин-
* Там же. С. 178.
* Там же. С. 181.
** Там же. С. 182.
" Там же. С. 183.
'* Idem. Die deutsche Universität (Zwei Vorträge in den Ausländerkursen der
Freiburger Universität, 15. und 16. August 1934) // Gesamtausgabe. Bd. 16.
S. 298-299.
1010
В. В. Миронов, Д. Миронова
ципа управления. Независимо от целей войны и позитивного или
негативного отношения к ней, она укрепляет общество как особого
рода целостную структуру. «Из последователей (Gefolgschaft) и
внутри них возникает и укрепляется сообщество как товарищество»*.
Именно здесь соединяются в единое целое умение подчиняться
(«слушать и слушаться»), через которое реализуется жесткое
проведение единой воли. Эту роль может выполнять фюрер как личность,
способная «слушать и слушаться», а значит, руководить (führen)**.
«Фюрер не тот, кто посажен-впереди других, а тот, кто вместе с
другими может слушать более безусловно и более решительно
слушаться закона. Фюрер тот, кто делает больше других, потому что он
больше выдерживает, на большее отваживается и большим жертвует»"*.
Именно эти принципы Хайдеггер пытался проводить, будучи
ректором, правда не справившись со студенчеством, которое также
было одержимо идеями фюрерства. Это и стало внутренней
причиной отставки Хайдеггера. Ведь, по сути, он не овладел этим умением
или уступил более сильным. «Суть национал-социалистической
революции заключается в том, что Адольф Гитлер возвысил и
осуществил тот новый дух сообщества до уровня формирующей силы
нового порядка народа. Таким образом, национал-социалистическая
революция не является внешним принятием существующей
государственной власти партией, доросшей до того в достаточной мере,
а внутренним перевоспитанием целого народа...»****
Очень любопытно, что поскольку революция обозначается как
национал-социалистическая, то Хайдеггер дает в этом выступлении
собственное понимание социализма, говоря о том, что именно
социализм, а не национализм отражает ее сущность. Социализм — это
не просто «изменение экономического строя», основанного на
уравниловке, «не бесцельное общее благо» (по-видимому, имеется в виду
советский социализм). Социализм — «это забота о внутреннем
порядке сообщества народа»*****. Поэтому в нем должна быть иерархия
«согласно призванию и достижениям» и признание «достоинства
любого труда и неприкосновенной чести исторического наличного
бытия народа » ******.
И далее обосновывается, по сути, необходимость культа фюрера
как личности, который стоит во главе указанной иерархии. И в этом
Heidegger M. Die deutsche Universität. S. 300.
У нас существует схожая поговорка: «Кто не умеет подчиняться, не сможет
подчинять».
'* Ibidem.
'* Ibid. S. 302.
'* Ibid. S. 304.
* Ibidem.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
1011
смысле он по определению велик (каковым бы он ни был в
реальности, добавим мы). «У фюрера надежное знание о простом.
Одновременно у него неукротимая воля к его осуществлению. Тот, кто хочет
видеть великое, сам должен обладать величиной, маленький видит
всегда маленькое, — которое, правда, необходимо и там, где
великое, точно так же, как тень может быть только при свете» *.
Напомним, что все это произносится после отставки с поста
ректора и «разочарования» в национал-социалистическом движении.
Анализируя речи Хайдеггера, мы видим слияние философии и
идеологии, когда фундаментальные философские идеи риторически
упрощаются и камуфлируются под ожидания масс и волю
государства. Как здесь не вспомнить Маркса, говорящего об идеях, которые
становятся материальной силой, когда овладевают массами. Для
такого овладения необходимы механизмы и формы привнесения
идей в массы и философы, которые могут это осуществить. Речи
Хайдеггера, несмотря на их явную упрощенность в ряде случаев,
вполне отвечают этим требованиям. Они наполнены философской
рефлексией, заставляя нас опять-таки усомниться в том, что для
философа его увлечение национал- социализмом было лишь
временным, — настолько он здесь ярок и искренен. А если это была лишь
временная маска, то возникает проблема определения того, а где же
был подлинный Хайдеггер и для чего ему было нужно такое
временное «опьянение». Перед нами, нравится это кому-то или нет, работа
блестящего идеолога, которой можно восхищаться и одновременно
испытывать страх перед коварством человеческого разума. И тогда
в большей степени становится понятным вышеприведенное
предупреждение Ясперса об опасности допущения такого таланта к
преподаванию.
Таким образом, альянс философа с властью, подтверждая
верность нашего изначального тезиса, заканчивается для
Хайдеггера печально. Он, конечно, понимает это и в заключительной речи
в связи со своей отставкой констатирует, что задача
реформирования выполнена не была. Именно здесь намечается будущая линия
объяснения того, что с ним произошло. Он стремился к высоким
целям, но оказался непонятым окружающими его людьми, которые
и обозначаются им как посредственность. Обратим внимание на это
утверждение: не он сам в чем-то виноват, а виновато окружение.
Когда Хайдеггер вместе с Ясперсом прорабатывали идею
«аристократической реформы» университета, они считали, что служат
«Великому». «Оба философа унижаются перед Великим, чтобы еще
увереннее возвыситься над современным», — отмечает Михаил
* Ibid. S. 307.
1012
В. В. Миронов, Д. Миронова
Рыклин, но, в отличие от Ясперса, Хайдеггер пытается проникнуть
«в интимную сферу Великого, отыскивая в ней то малое,
бесконечно малое, что делает его Великим...»*. Пока все это реализовывалось
на уровне идей, в качестве такого «Великого» и выступала сама эта
идея. А вот когда Хайдеггер попытался найти Великого в реальной
жизни, им стал реальный властитель, фюрер. Оказывается, что
любовь деспота и преданность ему вовсе не гарантируют безопасности
«любящему», — скорее напротив.
Философ, ставший идеологом, должен не просто подчиняться
Власти, но любить ее, а значит, любить и конкретного человека
(тирана, деспота), который является олицетворением власти. Но такая
любовь делает человека беззащитным перед тираном и обрекает его
на гибель — в физическом, моральном или интеллектуальном
смысле. Неизбежно происходит «оборачивание», когда не тиран
выступает в качестве средства достижения великих целей для философа (как
ему хотелось бы), а, наоборот, философ помогает реализации целей
тирана. Процесс «разрыва» «интимных» отношений с властью (если
их вообще удается разорвать) оказывается тяжелым и может
закончиться для мыслителя трагически или трагикомически.
Ч
* Рыклин М. Метаморфозы великих гномов // Хайдеггер М., Ясперс К.
Переписка 1920-1963 / Пер. с нем. И. Михайлова, под ред. Н. Фёдоровой. М.:
Ad Marginem, 2001. С. 29.
^5^
А. В. РЯСОВ
Хайдеггер и «судебная» речь.
К полемике вокруг «Черных тетрадей»
Итак, спустя всего два года после немецкого издания вышел
русский перевод книги, о которой многие успели высказаться до того,
как начали ее читать. Собственно, уже сама эмоциональность
дискуссий о «Черных тетрадях» свидетельствует о том, что Мартин
Хайдеггер остается самым влиятельным философом
современности. Вместе с тем в пылу полемики прокуроров и адвокатов,
возможно, теряется нечто важное для понимания мысли Хайдеггера, в том
числе — и ее политических аспектов.
Будущее «Черных тетрадей»
Прежде всего, перед нами грандиозный корпус философских
текстов. Вернее нечто вроде первой главы огромного собрания записей,
на протяжении сорока лет заносившихся автором в блокноты с
черными переплетами. Из предполагаемых девяти томов в Германии
пока изданы лишь четыре. В этом смысле все попытки преувеличить
или преуменьшить значение «Черных тетрадей» (а тем более — их
отдельных фрагментов) в Собрании сочинений Хайдеггера как
минимум преждевременны. Сначала их нужно прочитать. А тем, кто
знакомится с ними в русском переводе, придется вдвойне запастись
терпением.
Стоит обратить внимание на оригинальность жанра: пожалуй,
«Черным тетрадям» подойдет определение метатекста —
развернутых авторских примечаний к собственным работам. Но
большинство из них — это своеобразные комментарии к будущим, еще не
написанным книгам. Хайдеггер выстраивает эти, на первый взгляд
разрозненные, записи в сложную структуру, снабжает фрагменты
многочисленными отсылками друг к другу, дает в конце каждого
раздела указатели ключевых слов (еще одна перекличка со знаками
современности).
1014
А. В. Рясов
Вполне понятно авторское желание издания этих заметок в
последнюю очередь, после публикации всех работ и лекций. В отрыве
от остальных текстов Хайдеггера «Черные тетради» оказались бы
почти невозможными для понимания. Впрочем, их
принципиальная сложность сохраняется и в этом амплуа эпилога. Перед нами
не завершенные произведения, а мысли-эскизы, требующие,
однако, предельно медленного чтения. Впервые оказывается
возможным в таком масштабе проследить движение хайдеггеровской
мысли, зафиксировать точку отсчета для позднейших размышлений,
обусловливающих многие векторы развития европейской
философии. Это записи о текстах Ницше, о языке, о технике (стоит обратить
внимание на то, что одним из определений исчисляющего сознания
у Хайдеггера — как и у Эрнста Юнгера в тот же период —
оказывается «цифровое»). Именно в «Черных тетрадях» Хайдеггер
продумывает темы забвения бытия, преодоления метафизики, поворота
к другому началу.
Все написанное Хайдеггером после войны нередко
представляется чем-то вроде развернутого постскриптума к «Бытию и времени»,
а в «Черных тетрадях» целые страницы посвящены критическому
переосмыслению ранних работ, представляемых как «чуждая
писанина», «несовершенная попытка войти во временную
структуру»*. Здесь можно найти и более резкие, чем в опубликованных
текстах и письмах, высказывания о коллегах-философах (например,
о Ясперсе и Юнгере). Ни в коей мере не являясь личным
дневником, многие записи из этих тетрадей проявляют черты авторского
характера — далеко не всегда приятные, порой демонстрирующие
заносчивость и желчь, а также — определенную нехватку
самоиронии (чего стоит только интерпретация двух букв «G» в собственной
фамилии как зашифрованных слов добро — Güte и терпение —
Geduld)**.
Но может быть, самой поразительной особенностью
хайдеггеровской мысли, проявляющейся в «Черных тетрадях», оказывается ее
направленность в будущее. Уже в «Бытии и времени» особую
важность для экзистенциальной аналитики играла не скрывающаяся
в прошлом травма рождения, а неминуемая грядущая смерть.
Вопреки всему вниманию к древнегреческой традиции, восприятие
философии Хайдеггера в качестве призыва повернуться к
прошлому оказывается одной из вульгарных интерпретаций его мысли.
«Вправе ли мы снова отважиться пойти в учение к грекам и
учиться у них? — Чтобы в повторном начале вступить в борьбу против
* Хайдеггер М. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938) / Пер.
с нем. А. Григорьева. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. С. 26.
** Там же. С. 297.
Хайдеггер и «судебная» речь
1015
них», — записывает Хайдеггер во второй тетради*. Без взгляда в
будущее историчность оказывается невозможной. Однако это
всматривание не соотносится и с идеологией прогресса, не означает
выявления некоей «территории», которой можно распорядиться. То, что
действительно занимало Хайдеггера, — это непроницаемость еще
не наступившего события — не дающего никакой опоры, не
предлагающего никаких достоверностей, никаких готовых утверждений.
«Мыслить вперед в будущее и вглубь него, не имея возможности
услышать от него хоть какой-то отзвук» **. Перед нами загадочная
потребность вести диалог с тем, кто не собирается отвечать и, скорее
всего, не говорит на твоем языке. Позднее в «Повороте» эта мысль
будет сформулирована менее радикально, но акцент на будущности
не исчезнет: « ...готовить среди сущего те места для существа бытия,
в которых оно говорило бы о себе и своем пребывании»***. В
нарочитой, почти эпатажной обращенности к еще не наступившему
сойдутся многие звенья хайдеггеровских высказываний — от знаменитой
фразы из письма Ясперсу (перед «мыслью будущего мы просто
гномы»****) до нескромного заявления, что по-настоящему его книги
будут прочитаны не раньше чем через триста лет после смерти автора.
Но именно этот во многом наследующий философии Ницше акцент
на будущем оказывается связан и с наиболее проблемным пунктом
мысли Хайдеггера: взаимоотношениями его философии с
идеологией национал-социализма.
Судебная тяжба
Пассажи вроде «труд — народ — дисциплина — государство —
начало мира» или «только немец может заново творить бытие с
самого истока», сопровожденные частым употреблением термина «враг»
и мыслями о том, что именно национал-социализм должен
«формировать будущее», склоняют к недвусмысленному толкованию этой
устремленности в грядущее *****. А вот и самая известная цитата из
первого тома «Черных тетрадей», вроде бы окончательно
расставляющая все по своим местам: «Колоссальным опытом и счастьем
является то, что фюрер пробудил новую действительность, придавшую
******
нашему мышлению правильное направление и ударную мощь»
* Там же. С. 103.
** Там же. С. 282.
*** Там же. С. 352.
**** Хайдеггер М., Ясперс К. Переписка 1920-1963 / Перевод с нем. И.
Михайлова. M.: Ad Marginem, 2001. С. 254.
***** Хайдеггер М. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938). С. 73, 34,
129.
****** Там же. С. 125.
1016
А. В. Рясов
Эти замечания не очень похожи на записи академического
«попутчика» национал-социализма. Перед нами убедительные
подтверждения факта влияния нацистской идеологии на мысль Хай-
деггера. Однако, прежде чем присоединиться к рядам прокуроров,
стоит обратить внимание и на другие фрагменты.
Как известно, пик хайдеггеровского увлечения нацистской
риторикой пришелся именно на 1933 год, совпав по времени со
вступлением в должность ректора Фрайбургского университета и
стремлением преобразовать научное сообщество. Стоит заметить, что
опубликованные много десятилетий назад хайдеггеровские
выступления того периода куда лучше иллюстрируют степень его
вовлеченности: в отличие от «Черных тетрадей» философия в них
оказалась практически вытеснена политическими лозунгами*.
(И пресловутая ректорская речь Хайдеггера — далеко не самый
яркий пример, куда сильнее впечатляют его рядовые выступления
на университетских митингах). Но меньше чем через год он покинет
руководящий пост, сопроводив это событие следующим
замечанием: «Нужен ли был безумный прыжок в шумную повседневность»?
(Можно привести и запись, непосредственно предшествовавшую
короткой университетской карьере: «Принужденный к занятию
должности ректора, я впервые действую вопреки внутреннему голосу»**.)
Уже в 1934 году Хайдеггер напишет, что «сила к самоутверждению
покинула немецкий университет», и эта критика высшей школы
быстро распространится на территорию политики***.
Хайдеггер начинает все больше обращать внимание на
принципы формирования партийной иерархии, где важнейшую роль
играют функционеры «со всей их бездарностью и нахальством»,
«повторение одних и тех же лозунгов» «под вывеской борьбы против
большевизма»****. Можно не сомневаться в том, что у него пропадает
всякое желание сблизить свою мысль с газетной пропагандой. Его
критика «культурной политики» (это словосочетание
фигурировало в нацистской риторике как минимум с середины 20-х) становится
особенно резкой во второй половине 30-х, совпав по времени с
провозглашенным фюрером «культурным ренессансом». Хайдеггер
много пишет о вульгаризации идей Ницше, «националистическом
превращении народа в животное»*****, делает куда более язвитель-
Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / Пер. с франц.
А. Бикбова, Т. Анисимовой. М.: Праксис, 2003.
* Хайдеггер М. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938). С. 185,
125.
№ Там же. С. 182.
'* Там же. С. 196, 144.
'* Там же. С. 244.
Хайдеггер и «судебная» речь
1017
ные, чем те, что проанализированы в книге Лаку-Лабарта «Musica
ficta»*, замечания о пристрастии к музыке Вагнера (любимом
композиторе Гитлера). Национал-социалистическая реальность
раскрывается как разновидность критикуемого Хайдеггером модерна:
«Великие времена созидания никогда не проводили "культурной
политики", не делали они и "мировоззрения" из осмысления
"наследственности" и тем более расовых основ. Все это есть не что иное,
как доведенный до массовости "субъективизм", последний отпрыск
cogito, ergo sum, плохое прикрытие творческого бессилия»**. А
когда он пишет об «искусителях данной эпохи», называя их «теми, кто
не вопрошает», то любители поиграть созвучиями сразу расслышат
внутри слова Verführer (искуситель) — Führer (вождь) ***. И наконец,
философия «никогда не может — при условии, что она является
таковой, — презрительно именоваться "политической", ни в
утвердительном, ни в отрицательном смысле»****. Разве удивительно, что
сами нацисты не приняли философию Хайдеггера?
Стало быть, мы в зале суда. Перед нами два взаимоотрицающих
взгляда — обвинение и апология. У каждой из этих позиций —
собственная «законность»: восприятие хайдеггеровской мысли как
философского воплощения гитлеризма или же, наоборот, —
представление его работ как критики нацистской реальности (причем
исходящей от автора, знавшего эту действительность изнутри). Еще
тридцать лет назад Жан-Франсуа Лиотар замечал, что эта
решительная альтернатива «замораживает каждого на его позиции »*****. В деле
Хайдеггера «Черные тетради» предоставляют множество
материалов для упрочения этого противостояния. Отчего же оно
напоминает дурную копию давней полемики Федье с Фариасом? Или, если
сформулировать вопрос более четко: почему Хайдеггера не удается
ни безоговорочно обвинить, ни полностью оправдать?
Выбрав роль прокурора либо защитника, можно говорить о
слиянии политического и философского у Хайдеггера или, наоборот,
указывать на их строгую разделейность, подверстывая под выбранную
точку зрения подходящие цитаты. Но и то и другое кажется
жульничеством и тупиком. Выстраивая разговор подобным образом,
мы сразу погружаемся в «судебную» речь — в логику обвинения
и оправдания, а в конечном счете — в язык идеологии. Или — если
* Лаку-Лабарт Ф. Musica Acta (Фигуры Вагнера) / Пер. с франц. В. Лапицко-
го. СПб.: Аксиома, Азбука, 1999.
'* Хайдеггер М. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938). С. 377.
"* Там же. С. 355.
'* Там же. С. 375.
'* Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи» / Пер. с франц. В. Лапицкого. СПб.:
Аксиома, 2001. С. 78.
1018
А. В. Рясов
употребить слова самого Хайдеггера (из книги о Ницше) — здесь
«представление превращается в судебную инстанцию»*. Есть
определенные основания считать, что это не слишком продуктивно для
понимания философских текстов.
Призраки идеологии
Даже не выходя за пределы первого тома «Черных тетрадей»,
можно обратить внимание на один момент, как правило не
попадающий в фокус «судебной» речи. В тетрадях первой половины 30-х гг.
особенно четко проявляются надежды, которые Хайдеггер
связывал с национал-социализмом. Пожалуй, самая важная из них — это
преодоление «поверхностного разведения так называемой
действительности и идеологии», которое Хайдеггер называет запоздалым
и не замечающим изначальной бытийной связанности**. Именно это
разделение, по его мнению, и сужает действительное до
обыденного, отворачивается от главнейших вопросов. Однако уже в середине
30-х годов он записывает: «Ныне мы вступаем в период быстрого
приспособления "идеологии" к национал-социализму»***. Внезапно
в самой сердцевине механизма преодоления обнаруживается
«бюрократизм во всей его разнузданности», пропаганда и «тирания
техники»****.
Дело здесь не в том, что после ухода с поста ректора Хайдеггер
все меньше воодушевлялся политическими преобразованиями
Германии. Возможно, корень этой проблемы нужно искать в ином:
указывая на ошибочность разделения идеологии и
действительности, Хайдеггер странным образом намеревается преодолеть его при
помощи системы принципов, которая изначально формировались
как политическая идеология. Этот внутренний конфликт вряд ли
можно назвать случайным. Схожим образом Хайдеггер надеялся
на возможность перенаправления университетского образования
к изначальным, онтологическим вопросам. Можно поразиться
тому, насколько часто в его ректорской речи с воодушевлением
повторялось слово «наука» — Wissenschaft. Сложно поверить, что
тот же самый человек посвятит несколько последующих
десятилетий радикальной критике сциентизма, но при этом очевидно, что
между хайдеггеровским и академическим пониманием сущности
науки с самого начала пролегала пропасть. В 1938 году Хайдег-
* ХайдегерМ. Ницше. Т. 2 / Пер. с нем. А. П. Шурбелева. СПб.: Владимир
Даль, 2007. С. 259.
** Он же. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938). С. 74.
*** Там же. С. 161.
**** Там же. С. 519.
Хайдеггер и «судебная» речь
1019
гер сделает вывод о том, что «новая политика есть внутреннее
сущностное следствие "техники"»* фактически по тем же самым
причинам, в связи с которыми, по его мнению, в середине 30-х гг.
университет обнаружил «бессилие осуществить собственное
"самоутверждение" »**. Реальный национал-социализм окажется
таким же прибежищем das Man, как либерализм или большевизм.
Идеология противопоставляет действие теоретизированию, ее
интересует мобилизация масс, а вовсе не «изначальные вопросы»,
хотя их отголоски нередко оказываются включены в политический
миф и риторику власти.
Впрочем, не стоит представлять записи второй половины 30-х
годов исключительно как отчаянную атаку на
национал-социализм. «Что, если немцы с тем же самоотрицанием угодят в
растянутые и прочные силки, которые им ставили прежде?»*** — все еще
задаваясь подобными вопросами, Хайдеггер продолжает считать,
что «внутренние потребности национал-социализма
совершенно не осознаются»**** (вспомним и известный пассаж о
«внутренней истине и величии этого движения» из «Введения в
метафизику»*****). Однако игнорирование тех точек, где его мышление
кардинальным образом расходится с принципами
национал-социализма, по сути не отличается от попытки представить все это как
курьезный и незначительный эпизод его биографии. И в этом смысле
Хайдеггер оказывается проблемой и для «правых», и для
«центристов», и для «левых».
Несмотря на существенные различия между официальной
пропагандой и хайдеггеровскими соображениями о предназначении
национал-социализма (преодоление модерна, раскрытие вопроса
о бытии), именно идеология сделала возможным проникновение
нацистских идей в тексты Хайдеггера. Парадокс заключается в том,
что мысли о «подлинном» предназначении национал-социализма
были инициированы «ложной» политической реальностью, более
того — нуждались в ней как в опоре. Впрочем, в тех же «Черных
тетрадях» Хайдеггер пишет: «...лишь если мы действительно
заблуждаемся — сбились с пути, мы можем наткнуться на "истину"»
(об использовании кавычек в работах этого автора можно было бы
написать отдельную книгу)******. Именно из-за этой запутанности
* Там же. С. 513.
№ Там же. С. 176.
'* Там же. С. 546.
" Там же. С. 153.
"* Хайдеггер М. Введение в метафизику / Пер. с нем. Н. Гучинской. СПб.:
Высшая религиозно-философская школа, 1998. С. 270.
" Он же. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938). С. 19.
1020
А. В. Рясов
присутствие призраков идеологии в поздних текстах Хайдеггера
то преувеличивается, то преуменьшается. Это вполне
закономерно: как может призрак совпасть со своей «настоящей» величиной?
Здесь открывается широкий простор как для защиты Хайдеггера,
так и для теорий Адорно или Бурдье о сублимации философского
в политическом, в которых все расхождения с идеологией Третьего
рейха заранее представляются несущественными. Это точка отсчета
для всякой «судебной» речи.
Собственно, стоит вспомнить, что наиболее скандальные сюжеты
«Черных тетрадей», связанные с антисемитскими
высказываниями, находятся не в первом томе, а в книгах, еще не переведенных
на русский. Однако сложность заключается в том, что и они едва ли
смогут оказаться поводом для поиска завуалированной пропаганды
нацизма во всех послевоенных сочинениях Хайдеггера, не говоря
о множестве философских текстов, в которых преломились его идеи.
Действительно, почему бы не поискать рецидивы гитлеризма у
Сартра, Арендт и Деррида?
Куда более важный и так и не решенный вопрос, к которому
приближают нас «Черные тетради», можно сформулировать так: что
означает присутствие идеологии в философии? В художественной
литературе эти вещи порой принципиально неразделимы
(вспомним произведения Андрея Платонова). Но в какой мере
философский текст, апеллирующий, например, к тем или иным принципам
монархизма, большевизма или либерализма, «идеологичен»?
Необязательно быть марксистом, чтобы прочитывать каждый тезис
о бытии исключительно как политический, но это не единственный
способ прочтения.
Раздвоенный язык
Сегодня, после издания «Черных тетрадей», особенно очевидно,
что любое желание поскорее закрыть дело Хайдеггера является
гарантией его продолжения. Созданный им способ мышления
неотменим и имеет свойство проявляться в том числе и в критике его работ.
Наверное, поэтому даже метания между обвинением и
оправданием кажутся более правомерными, чем решительный выбор одной
из позиций. Кстати, характерным примером такой неуверенности
стал Пауль Целан — внимательный читатель текстов Хайдеггера.
Стихотворение «Тодтнауберг», воспроизведенное сегодня в одном
из залов музея в Месскирхе, можно интерпретировать как след этого
противоречивого отношения.
В написанном в тех же 30-х годах известном тексте «Гёльдер-
лин и сущность поэзии» язык назван событием учреждения бытия
Хайдеггер и «судебная» речь
1021
и одновременно — опасной возможностью его утраты*. Возможно,
один из ключей к пониманию рассматриваемой проблемы стоит
искать именно здесь. В «Черных тетрадях» смешиваются два уровня
языка, на одном из которых присутствует то, «что зовется
мышлением» и предшествует обмену информацией, а на втором —
коммуникация, идеология, «толки». «Воля вождя» и «коллективная
ответственность истины национального существования»
соседствуют здесь с вопрошаниями о том, что же произошло со словом, если
теперь его «достаточно только для сообщения, для обращения, для
призыва»**. Столь же проблематично, например, употребление
понятия народ, фигурирующего здесь в самых разных ипостасях —
от коллективного субъекта до подступа к вопросу о Бытии. Но,
кажется, радость историка философии, с легкостью развенчивающего
«очевидные» противоречия фундаментальной онтологии,
преждевременна. Во всяком случае, самого Хайдеггера в размышлениях
о народе занимала «двойственность этого названия»***.
Может быть, попытки обвинения и оправдания бьют мимо цели
именно потому, что отказываются признать скандальную
двойственность и предельную несопоставимость стержнем его философии
(вряд ли стоит уточнять, что эта двойственность имеет мало общего
с тем, что Бурдье назвал « двуличной мыслью » ****). Хайдеггер не
только продумал столкновение докоммуникативного и коммуникации,
несокрытого и сокрытого, но и пережил его как опыт «срыва»,
позволяющий выстроить параллель даже не с Юнгером и Чораном,
а с Батаем и Арто. Поэтому желание представить мысль Хайдеггера
ровной и безошибочной так же неуместно, как и стремление
превратить ее в роковое заблуждение. То, что действительно еще предстоит
сделать, — это прочесть «Черные тетради», не соскальзывая в
«судебную» речь.
^*^
* Хайдеггер М. Гёльдерлин и сущность поэзии / Пер. с нем. А. Чусова //
Логос. 1991. Вып. 1.
'* Хайдеггер М. Размышления II-VI (Черные тетради 1931-1938). С. 127,
424.
'* Там же. С. 362.
'* Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / Пер. с франц.
А. Бикбова, Т. Анисимовой. М.: Праксис, 2003.
В. В. БИБИХИН
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
1. Когда Ханна Арендт посетила Хайдеггера во Фрейбурге после
войны, она была недовольна тем, что дом был полон рукописей,
десятки тысяч рукописных страниц лежали в единственном
экземпляре и Эльфриде Петри не делала ничего, чтобы хоть как-то помочь
их сохранению, даже не позаботилась перепечатать их на машинке.
Что бумаг так много, знали, однако, только такие близкие люди.
Чуть подальше начинались легенды. Другой ребенок Хайдеггера,
написавший о нем книгу, Карл Лёвит как-то заметил в 50-х гг. с
осуждением, что из-за политической ошибки Хайдеггера постигло
бесплодие: от всех лекций, пяти или шести лекционных курсов
предвоенного и военного времени о Ницше, только и осталась брошюрка
«Слово Ницше "Бог умер"».
Но вскоре после этого в 1960 г. вышел большой двухтомник
«Ницше»; сейчас он готовится к изданию в Питере. Уже после
смерти Хайдеггера начали выходить курсы лекций
предвоенного и военного времени о Гёльдерлине и Ницше; это большой
корпус. В 1989 г. неожиданно вышел том 65 Gesamtausgabe серии
III «Неопубликованные работы» (1936-1938), 521 страница. Эту
книгу сразу назвали вторым Главным произведением Хайдеггера.
Сейчас ее перевели на русский и ищут издателей. Она
называется «Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)». Не будем спешить
с переводом названия. Это не курс лекций, а книга, написанная
в стол, когда Хайдеггер, два года как ушедший с ректорства,
понял, что ни такого курса объявить, ни такой книги напечатать
не сможет.
В 1997 г., тоже для многих неожиданно, в той же III серии GA,
т. е. вне лекционных курсов, вышла книга «Besinnung»,
написанная — машинкой Хайдеггер не пользовался — в стол в 1938-1939 гг.
Дальше больше. В 1998 г. томом 69 GA появляется
неопубликованная работа «История бытия (des Seyns)», лежавшая в рукописи
с 1938-1940 гг.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge» 1023
1999 г. Выходит «Метафизика и нигилизм», та же серия III,
писалось в 1938-1939 гг.
В 2004 г. ждут — или он уже вышел? — том 70 III серии GA
«О начале», писано в стол; идет 1941 год, оба сына Хайдеггера скоро
будут взяты в армию и отправлены на Восточный фронт, где попадут
в русский плен.
1941-1942 гг.: Хайдеггер продолжает читать лекции, но, кроме
того, пишет себе еще одну книгу, о названии которой даже знатоки
слышат с удивлением: «Das Ereignis»; не путать с «Vom Ereignis»;
ее пока еще только готовит для 71 тома GA Вильгельм Фридрих фон
Херманн.
1944 г.: Хайдеггера снимают с преподавания как профессора,
не очень нужного рейху, и посылают рыть окопы; то ли во время
последних лекций, то ли уже там он пишет «Тропы начала»; сейчас
тоже в работе у фон Херманна как том 72 GA.
Международная общественность взволнована. Forum
international d'Evora pour la traduction des oeuvres de Martin Heidegger
устраивает международные конференции и переводческие студии.
Первая из семи книг, написанных в стол, уже есть на английском
и польском; о русском сказано выше; на подходе французский,
итальянский, японский, португальский. Коллоквиум Форума в конце
мая 2004 г. в Лозанне назывался «La 2e oeuvre principale de Martin
Heidegger: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Interprétation et
traduction».
В докладе на коллоквиуме «Как я перевожу Beiträge» Франсуа
Федье обратил внимание на то, что это частое в названиях научных
работ слово (по-русски вклад или просто к проблеме) есть в письме
Гёльдерлина д-ру Эбелю 10.1.1797:
Я верю в настающую революцию настроений и способов
представления, которая заставит краснеть от стыда всё, что было до сих
пор. И в нее Германия способна, пожалуй, привнести очень многое*.
Письмо, до того неизвестное, было впервые опубликовано
журналом «Euphorion» в 1933 г. Думая через 3 года о названии для
своей книги, Хайдеггер не помнить о фразе Гёльдерлина не мог.
Поскольку дело в «Beiträge» идет явно не о вкладе лично
профессора Хайдеггера в философию, Федье предлагает читать обе части
заглавия вместе: «Вклад в философию от Ereignis». Вся весомость
заглавия переходит на последнее слово, важное для Хайдеггера;
* «Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und
Vorstellungsarten, die alles bisherige schamrot machen wird. Und dazu kann
Deutschland vielleicht sehr viel beitragen».
1024
В. В. Бибихин
на его экземпляре «Письма о гуманизме», адресованного к Жану
Бофре, есть маргиналия: «После 1936, Ereignis — слово, которое
движет мою мысль». Простой перевод для Ereignis — событие.
Жан Бофре иногда пользовался словом éclaire, молния, вспышка,
прозрение. Федье теперь предлагает avenance, не зафиксированное
во французском словаре, но легко опознаваемое. Оно
родственно événement (événement), событие, близко к торжественному
avènement, пришествие (мессии), восшествие (на престол),
начало (новой эры) и выглядит как существительное от avenant,
приятный, изящный и подходящий, уместный. Цель Федье —
приблизительно указать, в каком направлении надо искать Ereignis; он
подчеркивает, что Хайдеггер этого периода не занимает позицию,
он весь в движении.
Ибо мысль Хайдеггера — не событие хотя бы потому, что не
спешит безрассудно претендовать на то, чтобы быть уникальным
Событием. Она уместна, потому что согласна с непрестанным ритмом
начала. И она такова, поскольку поистине сбывается, т. е. располагает
благодаря мягкой мощи пришествия*.
2. «Бытие и время» (1926) не обозначает резкого разрыва с тем,
что делал Хайдеггер раньше. Даже почвенный романтизм прозы
и стихов молодого Хайдеггера не мешает проецировать на них осно-
вопонятия и структуру этой книги. Эффект наложения без видимого
зазора происходит тут благодаря не раз отмеченной самим Хайдег-
гером принадлежности «Бытия и времени» к философской
традиции и ее языку. Наоборот, эффект совпадения не достигается и
взаимное наложение структур не удается между «Бытием и временем»
и «Вкладом в философию от события». Дело идет уже о внесении
в философию того, что в ее истории не закрепилось. Открывается
тема другого начала мысли. «Прошлое не значит ничего, начало —
всё», — говорит Хайдеггер в лекционном курсе «Основопроблемы
философии» зимнего семестра 1937-1938 гт*\, имея в виду, что
упущенное, не сказанное, не записанное в классическом начале мысли,
прежде всего многозначительное невдумывание греков в свое слово
алетейя, важнее, чем записанное и известное; ставя задачу
осмыслить то, что не было сделано.
* «Саг la pensée de Heidegger n'est pas un événement, ne serait-ce que parce
qu'elle ne saurait prétendre, de façon insensée, être L'Événement unique. Elle
est avenante, c'est-à-dire se modulant sur le rythme incessant de l'avenance.
Et elle l'est en tant que bel et bien avenue, c'est-à-dire appareillante grâce à la
douce véhémence de l'avenance».
" GA45. S. 123.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge» 1025
Философствование в «Beiträge» утрачивает черты метода.
Больше того, Хайдеггер настаивает, что в той мере, в какой философия
все еще остается пересказом, воспоминанием прежде продуманного
и развивающим это строительством, она помеха самой себе.
Вхождение в колею доступной общепонятности, когда философию
сделалось возможно передавать от каждого каждому, стало ее концом.
Для ее провала оказалось достаточно, чтобы исходная сущность
истины, непотаенность, была упрощена до правильности. В
«Бытии и времени» остро чувствуется и предполагается философская
школа; в «Beiträge» она оказывается хуже чем проблемой: тупиком.
Хайдеггер вступает на нехоженый путь.
Внимание к корпусу хайдеггеровских книг, написанных в
военные годы в стол, понятно при общем ощущении упадка философии
в последние десятилетия. Необходимость другого начала сейчас
звучит яснее чем 60 лет назад. Но тема другого начала, развернутая
в «Beiträge» и позже, не может быть взята привычными приемами
исследования. Корпус нелекционных работ 1936-1944 гг. трудно
отнести к какой-то из областей мысли. Рубрики феноменологии,
фундаментальной онтологии к ней не подходят. Рубрика
экзистенциальной аналитики — мы сейчас увидим, какой с ней происходит
поворот. С другой стороны, Хайдеггер говорит о Боге, последнем
Боге, настающем Боге, о божествовании богов, но ясно, что нет
надежды применить ко всему этому принятые богословские
категории. Объявляя невозможными преподавание, передачу
философской мысли, научение другому началу, Хайдеггер тем решительнее
настаивает на школе основательности, дисциплины,
настойчивости, тщательности; школа, таким образом, совпадает теперь с
собственным делом философии.
Рассмотрим некоторые подробности произошедшей перемены.
«Бытие и время» имеет обозримую структуру, что делает ее
пригодной для изложений, комментариев, полемики и дает большую
возможность расположения, перераспределения, систематизации,
даже развития материала; подражания этой книге легки, и им нет
числа. Подробное оглавление выделяет моменты методологической
подготовки к анализу, его ступенчатого проведения; отчетливую
границу образует переход от анализа целости сущего (мира) к
целости экзистенции (время). Наоборот, метрический порядок
полностью отсутствует в «Beiträge». В разных частях его оглавления
многократно повторяются одни и те же рубрики. Основное членение
(1. Взгляд вперед. 2. Отклик. 3. Сопровождение. 4. Скачок. 5.
Обоснование. 6. Настающие. 7. Последний Бог. 8. Бытиё) не позволяет
выявить организующую структуру. Топика новой хайдеггеровской
мысли требует отказа от системы понятийных координат, запреща-
1026
В. В. Бибихин
ет проецировать свои ходы на метрическое пространство. Понятия
теперь высвечиваются (вспыхивают) по мере разрастания всеопре-
деляющего события, Ereignis, которое из-за своей сущностной
новизны исключает систему, куда его можно было бы вписать. Всем
правит безусловное первое начало. Три главных аспекта Ereignis,
а именно озарение (настоящая этимология, от das Auge),
возвращение к своему собственному (народная этимология через das Eigene)
и полнота (совершённость события) тоже не образуют структуры
типа гегелевской триады; это троица тожественных, потому что
открытие собственно того самого есть вместе озарение и полнота.
Вместе с тем отличие стиля «Beiträge» от «Бытия и времени»
дает возможность посмотреть на более раннее произведение
объемно. Выражения экзистенциальный анализ, анализ вот-бытия,
присутствия или, как я иногда перевожу в данной статье, здесь-
и-теперь-бытия, die existenziale Analytik des Daseins, Analytik
des Daseins, у всех на языке. Они понимаются однозначно:
анализу подвергается, по-видимому, то, что сложно. Dasein по общему
убеждению имеет структуру. Присутствие есть прежде всего In-der-
Welt-sein, бытие-в-мире; оно всегда Mitsein, бытие с другими (если
Левинас этого не заметил, то не все читатели прошли мимо § 25-27
«Бытия и времени»); дальше, Dasein есть забота, die Sorge, и в этом
качестве буквально выплескивает из себя сложнейшие структуры,
бросая себя на подручное и наличное, на что решает растратить
себя; анализ осложняется. Возможен ли с этого угла зрения
неаналитический подход к Dasein?
Спросим, однако, есть ли действительно у Dasein структура?
Не выходя из «Бытия и времени», в тексте этой же книги мы
находим Dasein без структуры, так что все, принимаемое за его
аналитику, относится только к его падению (Verfall), в котором оно
перестало быть собой. Само по себе присутствие несоставно, как во всей
классической мысли безусловно проста душа. Аналитика
собственно присутствия, строго говоря, совершенно невозможна.
Ужас как бытийная возможность присутствия вместе с самим
в нём размыкаемым присутствием дает феноменальную почву для
эксплицитного схватывания исходной бытийной целости (!)
присутствия.
...Вообще внутримирное сущее тут не «релевантно». Ничто
из того, что подручно или налично внутри мира, не функционирует
как то, перед чем ужасается ужас. Внутримирно раскрытая целость
имения-дела с наличным и подручным как таковая вообще ни при
чем. Она вся в себе проседает. Мир имеет характер полной
незначимости.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge» 1027
Полная незначимость, возвещающая о себе в ничто и нигде,
не означает мироотсутствия, но говорит, что внутримирно сущее
само по себе настолько полностью иррелевантно, что на основе этой
незначимости всего внутримирного единственно только мир уже
наседает в своей мирности*.
Для целого присутствия мир тоже становится целым не за счет
упрощения до какой-то одной части, а за счет освобождения от
составное™, которая была наброшена на него интерпретационной
сеткой в ходе его распаковки (удачный термин В. В. Налимова).
Захваченность ужасом размыкает исходно и прямо мир как мир.
Не сначала, скажем через размышление, отвлекаются от внутри-
мирного сущего и мыслят уже только мир, перед которым потом
возникает ужас, но ужасом как модусом расположенности впервые
только и разомкнут мир как мир. Это, однако, не означает, что мир-
ность мира осмысливается.
Полностью перестает осмысливаться и Dasein, становясь чистой
возможностью.
Ужас обнажает в присутствии бытие к наиболее своей
способности быть, т. е. освобожденность для свободы избрания и выбора
себя самого. Ужас ставит присутствие перед его освобожденностью
для (propensio in...) собственности его бытия как возможности,
какая оно всегда уже есть.
То, что известно как аналитика присутствия, относится
только к присутствию, вышедшему в публичность. В своем существе
присутствие есть чистая возможность, или, переходя к языку
«Beiträge», чистое начало до его втискивания в какие бы то ни было
традиционные схемы.
Аналитика исходного присутствия невозможна как из-за его
простоты, так и потому, что на уровне экзистенции присутствие
невидимо.
В фактическом ужасе жуть [вовсе не всегда] понята.
Повседневный способ, каким ее не-по-себе понимается присутствием, есть
падающее отшатывание, «гасящее» ту не-свойскость. Обыденность
этого бегства феноменально показывает, однако: к сущностному
устройству присутствующего бытия-в-мире, в качестве экзистенци-
* Бытие и время. С. 182, 186, 187.
1028
В. В. Бибихин
ального никогда не наличному, но существующему по себе всегда
в модусе фактичного присутствия, т. е. расположения,
принадлежит как основорасположение ужас. Успокоенно-освоившееся бытие
в мире есть модус жути присутствия, не наоборот. Не-по-себе экзи-
стенциально-онтологически следует принимать за более
исходный феномен.
Эк-зистенция есть выступание из себя, и не существенно,
происходит ли при этом падение вниз присутствия (в безответственность
внеисторичности) или вверх (в возвышенный образ мысли). Куда
Dasein выпало из себя, там само оно не наличествует, не
наблюдается и не может быть описано. Хайдеггер не философ экзистенции
потому, что его занимает существо присутствия; аналитика
экзистенции в «Бытии и времени» только экскурс; важнее то, что до падения
присутствия происходит не в его исступании из себя, а в его стоянии
внутри, Innestehen. Онтологическая разница между падением в
бытие сущего и вниманием к Бытию, которое Хайдеггер пишет через
Seyn, составляет все дело философии. Падение для Dasein более
естественно, чем хождение по канату. Акробат провел все
различение, какое мог провести, тем, что идет по канату, а не падает. Даже
только наблюдая, мы невольно участвуем в его поступке, по
крайней мере сочувствием.
В самом начале «Beiträge», объясняя название книги,
Хайдеггер говорит о трудном переходе от метафизики к событийной
(seynsgeschichtliches) мысли. Речь может идти пока только о
попытке. Если попытка удастся, она не будет похожа на «исследование»
в прежнем стиле.
Настающая мысль есть мыслящий путь, на каком только и
может быть пройдена до сих пор вообще еще потаенная область
осуществления Бытия (des Seyns), впервые таким путем прояснена
и постигнута в своей собственнейшей черте события*.
Захотеть и написать книгу так, чтобы в ней произошел переход
от метафизики к мысли, не удастся. Для этого надо, чтобы существо
Бытия (Seyns) захватило мысль и потрясло ее. Такое потрясение
(Erzitterung) высвобождает мощь сокровенного смирения,
обожествления Бога богов, откуда — из мягкой смиряющей близости
поднимающегося божества — исходит подсказка здесь-и-теперь-бытию
(Da-sein), указание ему в сторону Бытия; исходит обоснование
истины бытия. Настающее не расписано.
* GA65.S. 3.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
1029
Читая «Бытие и время» объемно, каждый момент
развертывания экзистенции можно рассматривать как проекцию начальной
простоты присутствия на вещное множество. Несмотря на
подробные хайдеггеровские пояснения предлога in, термин бытие-в-мире,
особенно в переводе, многим слышится как вхождение одного в
другое. В свете безусловной простоты присутствия с геометрической
ясностью понятно, что у него нет частей, чтобы расположиться в чем-
то другом; вспомним классику о точке, которой из-за ее простоты
нечем прикоснуться к другой точке, нечем войти в прямую, нечем
составить пространство, так что точка, строго говоря, оказывается
единственной. Отношение присутствия к миру, в котором оно,
может быть только тожеством. Экзистенциал das Man (люди) придется
разбирать как аспект исходного в, т. е. принимая во внимание
неотделимость падения присутствия от феномена das Man. Падение
утратит негативный моральный смысл и сольется с брошеностью
(Geworfenheit), составляющей существо присутствия (Dasein) в том
его начале, где оно еще не вошло в истолкованное пространство
и, следовательно, не может не искать указаний. Сквозная в
«Бытии и времени» тема собственного (Eigentliches), давшая Теодору
Адорно повод посмеиваться над «жаргоном непосредственности»
(Jargon der Eigentlichkeit), окажется шагом к осмыслению события
как особственнения (Er-eignis) через явление Бога богов в интимной
глубине (Innerlichkeit).
Всего больше переход от «Бытия и времени» к другому началу
подготовлен развернутым во второй части этой книги понятием
мгновения (Augenblick). Казалось бы, человек, падая в бытие
сущего, растянулся или, как в одной из статей говорит Хайдеггер,
раскорячился необратимо в пространстве. Пространственно внутримир-
но подручное (§ 22), растянуто во времени толкование (§ 32), тонут
в пространстве и времени отсылание и знак (§ 17). Но после этого
на первый взгляд необратимого разбрасывания присутствие
возвращает себе простоту благодаря решимости, заступающей за
рамки сущего (§ 62). Поток времени размыкается такой вещью, как
мгновение. Как присутствие, исходно простое, растянулось в эк-зи-
стенции, так прошедшее, настоящее, будущее оказываются только
эк-стазами времени, вторичными на фоне мгновения. В мгновении
время открывает свое лицо; существом прошедшего оказывается
ставшее, настоящего — подлинное, будущего — настающее.
Ставшее присутствует в мгновении ничуть не в меньшей мере, чем
настоящее (подлинное); то и другое, ставшее и настоящее, сцеплены
настающим, которое будет не завтра, а уже есть в это мгновение.
Мгновение всем своим ставшим и настоящим нацелено на
настающее.
1030
В. В. Бибихин
Мгновение, достигнутое в его простой собранности, становится
местом другого начала. Наоборот, история экзистенции, упавшей
во время, когда ставшее расплывается в бесконечное прошлое,
настоящее рассуществилось до неуловимого текущего момента, а
настающее потонуло в неопределенности будущего, даже
окончившись, может затянуться надолго.
Мы должны осмыслить здесь начало европейской мысли и то,
что ею достигнуто и не достигнуто, потому что мы стоим в
конце — в конце этого начала. А это значит: мы стоим перед решением
между этим концом и его затуханием, способным заполнить еще
столетия, — и другим началом, которое может быть лишь
мгновением, чья подготовка, однако, требует такого терпения, до которого
«оптимисты» так же не доросли, как и «пессимисты»*.
3. Уточним различение между метрикой и топикой (наши
термины). Первая размещает рассматриваемое в системе координат.
Во второй вещь, на которой сосредоточен взгляд, не
распределяется внутри готового пространства, а развертывается вглубь так, что
втягивает в конечном счете всё. Так дерево, в которое
вглядывается Шопенгауэр, перестает быть одним из и вмещает в себя целый
мир. Траектория исторического движения, начатая Античностью,
подходит к своему концу. Отсюда не следует, что сама собой
начнется другая. Задание нашего исторического бытия неизвестно, и нам
доступно только готовиться к мысли, которая его откроет; мы его
поэты, искатели**. Философия теперь сама другое; она не движется
в сетке координат, а расплавляет их систему. Расстаться с метрикой
трудно. Требуется прыжок в то, чего еще нет. Хайдеггер открывает
в «Beiträge» высшую школу присутствия, или, что то же, высшую
школу настроения (расположения). Параметры этого настроения,
с одной стороны, немыслимая далекость последнего Бога, а с
другой — тайная близость далекого. Вера (Glaube) открывает
предельную даль и видит, что ближе этой дали человеку ничего нет. Испуг,
молчание, стыд (позор разглашения тайны) — уроки новой школы***.
В Античности с ее установкой на выправку тела и духа, на задачи
полиса в его противостоянии свободного меньшинства деспотической
массе главной необходимостью были добродетель, справедливость
и мужество. Нашей современности важнее ощутить нужду в Бытии.
Она заслонена нуждами человечества, ввязавшегося в
многообразные отношения с сущим, и только с ним. Сложилась ситуация,
* GA45. S. 124.
** GA65.S. 11-12.
*** Ibid. S. 14.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
1031
когда всем не хватает всего. Необходимость немедленно принять
меры против нехватки не оставляет места для нужды другого,
забытого рода. Катастрофически иссякают природные ресурсы. Кто
сейчас посмеет сказать, что не первоочередная нужда питание
населения; не философ ли открыл людям глаза на грубую, но
неопровержимую истину: Man ist, was man ißt.
Кто такие мы? Вот эти, поглощенные своими нуждами? Или просто
«человек» как таковой? Человек есть только как исторический, и
когда он не участвует в истории, то принадлежит ей привативно. Мы
тогда народ? Вопрос, кто такой народ, труднее, чем кто такие мы. Ища,
кто такие мы, не надо ходить далеко. Вопрос приглашает возвратиться
(die Kehre) к себе. Ответить «мы предприниматели, рабочие, сторожа,
военные, торговцы» нельзя*. В своих занятиях я бросил себя на
овладение сущим; самоосмысление требует другого, речь идет о Бытии.
Когда в отношении успешного дельца, организованного народа звучат
уверенные голоса о полноте самоосуществления, их надо понимать
как самоуверение. Это, однако, другое, чем самоосмысление.
Человек — задача по существу другая, чем успешное функционирование.
Существо всего меня не сообщает о себе и нигде не описано. На «кто
такие мы» нет ответа вне обретения своего собственного, Er-eignis,
возвращения к себе как такому, который есть, т. е. весь. Кто отдал себя
такому осмыслению, идет неизбежно против (52) всей широко
развернувшейся деятельности устроения, обеспечения, удовлетворения
нужд**. Непосредственного понимания философия никогда не
получит; сопротивление она встретит в любом случае, и это лучшее, на что
она может рассчитывать; холодное равнодушие хуже.
Попробуйте, однако, не задать этот неудобный вопрос, кто мы
такие. Кто нас тогда охранит от готового знания, что мы тело, душа
и дух и должны жить полной жизнью на всех этих уровнях? Что
такое тело, душа и дух, нам объяснят. Что такое личность, гений,
культура, народ, мир, скажет тысячелетняя традиция. Эти ответы
освященные, принятые веками, и часто незнание правильных
ответов на них наказуемо. Хайдеггер называет ответы, всего громче
звучавшие в его время: народ, раса; марксизм. Оба ответа замахнулись
на господство над миром. Марксизм не имеет отношения ни к
иудаизму, ни к русскости; она мало подвержена идеологической заразе;
«если где-то еще дремлет неразвернутый спиритуализм, то в
русском народе». Большевизм есть западная, европейская
возможность: восстание масс, промышленность, техника, отмирание
христианства, господство рационализма как всеобщее уравнивание***.
* Ibid. S. 49.
"• Ibid. S. 53.
'* Ibid. S. 54.
1032
В. В. Бибихин
Страшные решения, страшные ответы. Еще страшнее то, что
они отпугивают современность меньше, чем дело самоосмысления.
В предлагаемых ответах есть хоть привычные ориентиры; здесь их
нет. И всё же к себе прийти мы должны; только через вопрос, кто
такие мы, ведет путь к спасению, т. е. к оправданию Запада.
С этим вопросом связан другой, кто такие боги. Единственные
верующие суть спрашивающие о том, кто мы такие, кто мы есть. Хай-
деггер имеет тут в виду не вероисповедание в любой форме, а
«существо веры, понятое из существа истины»*. Принято считать, что
истина — предмет познания, а не веры; место веры там, куда знание
не достает; например, я верю сообщению, убедиться в истине
которого не могу; знание обрывается на линии сообщения, и его
подхватывает вера. Но как возможно знание истины бытия? Она просвет
(Lichtung; можно думать о поляне в лесу, о сценическом
пространстве, о снятии с якорей), где Бытие открывается в своем существе
как хранительное утаивание себя, Sichverbergen. В просвете видно
только то, что бытие бездонно. Как знать такую истину? Только
держась в ее бездонности. Видеть в истине тайну значит верить. Можно,
конечно, решить, что бытие есть просто обобщенное понятие
существующего; что нет бездны бытия, нет его тайны, на которую никто
не знает ответа. Хайдеггеровский ответ заключается в том, чтобы
услышать в вопросе настоятельную задачу. Спрашивание есть наша
вера; перестав держаться на уровне, обозначенном параметрами
глубины, бездны, тайны, свободы, мы теряем веру.
Спрашивающие этого рода суть исконно и собственно верующие,
т. е. те, кто с безусловной серьезностью ищет саму истину, а не
только истинное; кто способен решать, осуществится ли существо истины
и захватит ли, поведя за собой, это осуществление нас самих,
знающих, верующих, поступающих, созидающих, короче, исторических**.
Исходная вера труднее религиозной, которая дает на что опереться :
на священную книгу; на икону; на хлеб, который берут в руку и
съедают, становясь если не по природе, то по благодати божественными.
Мужество стоять без опоры религиозной вере не нужно. У
спрашивающих, кто такие мы, нет другой опоры кроме надежности тайны,
поскольку спрашивание непосредственно подставляет себя
осуществлению бытия и по опыту знает необходимость (Notwendigkeit)
бездонного***.
* GA65. §237.
" Ibid. S. 369.
" Ibid. S. 370.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
1033
Кто Бог этой веры? Она опирается на неизбежность бездны,
чувствует, что только в ней мы найдем себя, и уверена, что человека
хватит для такой глубины; так далеко достает человеческая
свобода — и здесь русское слово лучше немецкого, потому что напоминает
о своем. Кого хватило на такой размах, тому начинает не хватать Бога.
Это происходит, когда человек захвачен весь тем, от чего
захватывает дух; захватывающее глубже и духовности тоже; захвачен свободой
и ее бездонной тайной. Когда его хватает на бездонную глубину, ему
начинает не хватать Бога — не для опоры в пустоте, а от ощущения,
что Бог не может быть больше нигде, как в этом через-край. Где
выстоял, спрашивая о бездне, человек, там должен быть и Бог; у веры
хватает знания, что более достойного места Ему не может быть.
Значит ли это, что человек равен Богу? Без-мерность и безраз-
мерность странного места встречи с Ним исключает сравнения.
Предельны и место события, и бездна свободы, и глубина своего; место
встречи не расписано и тонет в глубоком молчании. С другой
стороны, и встреча, и высшее сущее Бог — начало речи, начало мира.
Из этой пока еще бледной картины пейзажа, где мы оказались,
ясно, что последним Бог назван не во времени, а в глубину. Он
последний по степени захваченности человека своим собственным,
ближайшим и вместе последний как самый далекий, на какого нас
в размахе нашего упорства и настойчивости хватило. Последний он
и потому что неприступный; о нем невозможно говорить, пока он
сам не разрешит наше молчание. В предельной захваченности,
говорит вера, человека должно хватить на такую глубину, когда
последний Бог проходит в тишине, где ничьи голоса не слышны; в
неизмеримой глубине. Только окунувшись сюда, в нетронутую тишину,
присутствие впервые находит свой подлинный голос, сначала голос
молчания, основы речи. Когда она зазвучит на этой основе, то
невозможно различить, говорит ли человек, которого хватило на Бога,
или Бог, которого человеку стало не хватать. Бескрайность свободы
предполагает, что свое притягивает к себе Бога. Одинаковая
предельность требуется от человека, чтобы его хватило на последнего
Бога, и от безосновной свободы, чтобы Бог разместился в ней.
Вопрос кто такие мы, оказывается другой стороной вопроса кто
такие боги, но не так, чтобы между теми и другими наметилось
какое-то уравнение. Происходит другое, вопросы накладываются друг
на друга, настойчивее обращаются к нам и не предполагают ответа,
наоборот, скорее исключают его, потому что, понятые
по-настоящему, зовут от всякой готовой речи назад к основе речи, в молчание
ранней тишины.
Исторический человек ни в чем не нуждается больше, чем в таком
возвращении. Слово нужда звучит негативно, заставляет думать
1034
В. В. Бибихин
о недостатках, даже о зле. Благосостояние обеспечивается
непрерывным притоком полезных вещей вдобавок к тому, что в какой-то
мере уже достигнуто и требует теперь по меньшей мере
поддержания на прежнем уровне. О том, чтобы благополучие возрастало,
позаботится прогресс. Открывается ясная перспектива без будущего;
все усилия направлены на еще плюс к тому, что уже есть*. А если
человек принадлежит не тому, что уже есть? если наше существо
в том, чего еще нет и никогда не было? поспешим ли всеми силами
обеспечить себе достигнутый статус? Нет. Нуждой мы назовем тогда
то, что принуждает нас искать и спрашивать. Она будет вести нас.
Мы расстроимся, если однажды, крепко выспавшись, проснемся без
нее. Мы не будем ждать от прогресса новых достижений, которые
удовлетворят нашу бытийную нужду; скорее наоборот, она
отодвинет в сторону или даже заставит забыть нужду в благополучии.
Бытийная нужда требует от нас такого, что мы становимся другими
людьми. Она ведет нас к неизвестному, странному. О житейских
нуждах редко стыдятся сказать. О бытийной нужде едва ли даст
говорить тот стыд, о котором упоминалось выше в ряду
испуг-молчание-стыд. Я не признаюсь, что мне нужно другое чем всем среди
всеобщей нужды, потому что боюсь сорвать своим словом то, о чем
по-настоящему умею пока только молчать.
Между нуждой и нуждой нет спокойного сосуществования.
Не получится, успокоив одну нужду, заняться на досуге другой. Для
Александра Македонского (наш пример), когда он стоял над
Диогеном и его бочкой, кричащая нужда этого человека бросалась в глаза;
на вполне разумную просьбу о пособии для продолжения
философских исследований Александр легко ответил бы согласием, но
услышал просьбу другого рода.
Испуг, молчание, стыд, мешающие говорить о бытийной нужде,
не уживаются с робостью, не мешают Хайдеггеру говорить, что
погоня за вещами происходит от покинутости бытием; не мешают
поставить диагноз той предельной степени покинутости, когда массе,
бешенствующей в гигантском самоупорядочении, уже не удается
осуществить даже свое тайное желание самоуничтожения.
Бытийная нужда берет на себя дерзость усомниться, что вся вообще
«культурная деятельность» еще нужна, и дерзает сказать, что настоящей
необходимости в ней уже нет, что мы слишком успокоились внутри
механизма культуры и нас не хватает не только на бытие, но и на
настоящее культурное дело. Между нуждой и нуждой настолько нет
согласия, что отдать себя опыту молчания выглядит среди общей за-
бытости бытия жертвой**.
* GA65.S. 112-113.
** Ibid. S. 114.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge» 1035
Оставленность бытием сделала так, что кругом мы видим только
предметы. За ними, как тень, тянется нужда, потому что их
слишком много, как расстояний, которые надо сократить, или слишком
мало, как земель, которые надо расширить. Нуждой становятся
и ненужные предметы, от которых надо избавиться. Все
повертывается лицом нужды. Когда организованная масса справится с
вещами и упорядочит их, нуждой станет поддержание системы; ее
частью будет и культурная машина. Уверенность, что в опоре на
науку и технику всеобщее упорядочение возможно, требует заранее
выявлять нужды, чтобы иметь перед глазами полный фронт работ;
уверенность, таким образом, входит во всеобщий круг нужды. Для
вопроса, кто мы такие, не остается просвета: перед нуждами мы те,
кто с ними справится. Настроенный на дело не нуждается только
в вопросе, тот ли он, за кого себя принимает. Мы, спрашивающие,
кто мы такие, будем помехой; нас попросят рассказать, чем мы
заняты, объяснить, какие народнохозяйственные нужды устраняются
нашим занятием.
Где знание правильного стоит вне сомнений, направляя всякое
действие и бездействие, что там еще делать вопросу о существе
истины (непотаенности)?
А где это знание правильного может, кроме того, сослаться
на дела, кто тут захочет бесполезными вопросами о каком-то
существе подставлять себя насмешкам?
Из затемнения существа истины как основания присутствия
в бытии и создания исторического бытия происходит
ненуждаемость [человеческой массы в бытии среди множества ее
общепризнанных нужд].
Не хватает ресурсов, и не хватает Бога, нужда в сущем и
нужда в бытии — почему они вообще называются одним словом? они
в конечном счете одно и то же, только в одном случае скрытно, в
другом открыто? существо истины есть раскрытие и вместе сокрытие?
4. Немецкое Wahrheit этимологически связано с важной и
работающей в англосаксонском мире до сих пор идеей верности и
торжественного обещания. В других языках ветвями того же корня
считаются лат. verus и рус. вера. Поскольку религия понималась как
закон, ст.-слав, вера имела сильный правовой смысл; он сохранился
в верный в смысле надежный. Слепо верящий всему человек
назывался в древнегерманском alawaari; теперь это слово звучит albern,
тупой; ход развития смысла примерно такой, как во фр. chrétien,
зафиксированном в горных диалектах с XVIII в. в значении chrétin.
Когда мы по-русски говорим верно, верно сказано, как бы тут было
1036
В. В. Бибихин
вернее поступить, то мы ближе к немецкому Wahrheit, чем когда
говорим истина или правда. Все три русских слова высвечивают
разные стороны Wahrheit; каждое по-своему подсказывает, что дело
идет о чем-то трудном для достижения. Всего явственнее преграда,
окружающая истину, слышится в греческом àX,f|0eia; значение
истины создано тут добавлением к корню со значением забывания,
ускользания, сокрытия, незамечания, провала в памяти,
провала в сознании отрицательной частицы. «Алетейя» — древнее слово;
у Гомера, с другим ударением, оно часто применяется к речи,
высказыванию и значит что-то вроде скажу без утайки, как если бы
всякое говорение своей первой возможностью имело утаивание. Как
могли греки за тысячу или более лет применения этого слова не
задуматься о его глубине, Хайдеггер не понимает.
Глагол taxvGdvG) значит ускользнуть от внимания, быть
забытым, часто со злым умыслом скрыть, утаить, провести всё так,
чтобы никто не заметил. Замечательная черта этого греческого
слова та, что в нем не прочерчена разница между тем, сам я чего-то
не заметил или постарался что-то сделать незаметно. Если
вдуматься, то действительно скрыть что-то от других, не скрываясь
сам от себя, я не могу. AavGàvco 7toio\)v xi — в одинаковой мере и сам
не замечаю, что делаю и делаю что-то незаметно. Человек хотел
дать что-то другому, но ШхЭе aùxôv \щ Sofivai, сам за собой не
заметил, что не дал; нечаянно не дал. В ср. залоге это слово значит
забыть; и А. Ф. Лосев слышал алетейя как то, что нельзя забывать.
Правда, для этой идеи греческий пользуется другим синтаксисом
без альфа привативум.
При любом толковании бесспорным в греческом названии
истины остается напоминание о сокрытии, спрятывании, ускользании
от внимания, провале в беспамятство.
Истина бытия, в которой и в качестве которой таится,
обнаруживаясь, его осуществление, есть событие. А оно есть вместе
осуществление истины как таковой. В повороте события осуществление
истины оказывается также истиной осуществления. И эта
обратимость сама принадлежит бытию как таковому*.
Каким образом от хайдеггеровского текста подобного рода
получить информацию? Ответ жесткий: информация нам вообще не
потребуется; событие не такая вещь, чтобы его можно было измыслить
мыслью. Оно не мыслимое. Дело идет не о системе взглядов. Зачем
тогда прочистка леса, создание просвета вокруг тайны, поднятие
* GA65. S. 258.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
1037
якорей, отпускание судна в плавание, зачем Lichtung? Снова
жесткий ответ: ваше зачем на чем стоит? какую опору имеет? может ли
оно иметь другую опору, чем в истине? Но истина есть опыт тайны
и прояснение ее как таковой, т. е. прежде всего и в конечном счете
открытие тайны как необходимости, предельной нужды.
Осуществление бытия разве только его обрастание, окружение
сущим? не будет ли это скорее провалом бытия? Такое
осуществление бытия, когда оно впервые выступает само в отличие от сущего,
непривычно для метафизики; в лучшем случае, когда она не
считает бытие лишь абстракцией сущего, она возвращается к античной
фтЗоц, порождающей природе, источнику сущего. Сущее и здесь тоже
остается единственной опорой, на которой и из которой начинается
строительство.
Попробуем полностью перевернуть, да просто смять эту удобную
для метафизики картину. Все продуманное Хайдеггером до сих пор,
прежде всего в «Бытии и времени», идет тут в дело. Нет никакого
сущего, которое развернуто перед нами природой, Богом или бытием,
чтобы мы устраивались посреди него. У нас не больше свободы
потянуться рукой к сущему, чем у корней дерева подняться из земли.
От начала своего родового и личного существования мы вросли
всеми своими корнями в землю с цепкостью, о которой не подозреваем.
В отличие от деревьев мы выдвинуты кроме того в мир, о котором
знаем не больше чем о земле. Трезвея и просыпаясь, мы и здесь
видим у себя мало, а потом и вообще не больше свободы действия, чем
у корней в земле. Мы брошены в то, что сложилось без нас и до нас.
Не другая сила, а та же энергия брошености бросает нас на то, во что
мы брошены. Но разве мы бросаем себя на сущее, вещи, предметы
потому, что все эти готовые вещи уже есть? кто нам сказал такое?
Нас научили, что они есть и как называются, метафизика, религия,
политика, публицистика. Сказал также здравый смысл? И вот нет.
Здравый смысл близок к тому, чтобы не верить объяснениям мира
и задуматься о том, как «много тайн, которые нас окружают».
Истина того, во что мы брошены, скрыта прежде всего сообщениями
о ней.
В столкновении цивилизационных расписаний, где одно
претендует быть истинным или где истину отдают разным мнениям,
философия другого начала имеет предложить еще одно объяснение?
Нет. Она говорит об опоре, которую ищет, возвращаясь от любых
представлений о сущем к воспоминанию, что мы брошены не
помним когда, не знаем во что. В странное, загадочное; загадка и мы
сами. Не надо думать, что в философии другого начала как в
экзистенциализме от человека ждут решения в пустоте; кто так подумал,
промахнулся мимо ближайшего. Мы брошены и этим вынесены
1038
В. В. Бибихин
в исключительное отношение ко всему. Остановиться на
уникальности нашего положения, суметь удержаться в его неопределенности,
не спеша с решениями, значит взглянуть в лицо тайны. Сущее,
уверяет метафизика, существует, т. е. оно неким образом готово.
Наоборот, Бытие всегда только осуществляется. Оно сбывается в событии,
которое всегда мгновенно, и вспыхивая создает места, Stätte, где
проходит и снова ускользает Бог*. Если ищут просвета тайны не
чтобы разоблачить, а чтобы открыть ее таинственность, то возможна ли
опора на сущее? Нет; в дело идет только само осуществление,
создание мест, которые никогда не оказываются вне тайны. Раннее
понимание бытия: прибыль сущего, фюсис. Другое начало готовит
осуществление самого по себе бытия в событии.
Как могут участвовать в событии люди, вросшие корнями в
землю? Не уходя от своей ситуации и принимая ее всю. Область, на
которую они бросают себя, есть та самая, куда они брошены, ближайшая
и теснящая**. Не выбирая, на что себя бросить, чистое присутствие
поднимает всю свою брошеность и выносит ее. Беззащитное
принятие становится всем его делом. Его стояние в середине (Inmitten)
того, что можно теперь называть сущим, дает ему возможность,
не упуская свое укоренение, стать просветом (Lichtung) этой
плотной среды. Вся она снимается с якоря, взвешивается в безопорно-
сти и тем показывает свою истину. Тайна не вне сущего, понятого
как то, во что мы брошены; в просвете события сущее возвращается
из своей объясненности. Шаг делается не в сторону от тесноты в
позицию наблюдателя, а внутрь тяжести. Среди крайней
необеспеченности открывается тот размах человеческой свободы, когда
человека хватает на то, чтобы найти опору в бездне. Потонуть в середине
сущего и быть там местом просвета, возвращая сущему бездонную
глубину и служа местом для тайны.
Истина есть <...> бездонная середина, которая сотрясается
при прохождении Бога и таким образом становится вынесенной
(ausgestandene) опорой для основания созидающего присутствия***.
Разве мысль здесь действует? Нет. Здесь впервые открывается
место, в котором начинается человек. Какой, состоящий из тела,
души, духа? Этого мы пока еще не знаем. Знаем только, что без
захваченное™ свободой (можно понимать Ereignis через свободу как
возвращение к своему) истина не откроется. У мысли здесь не то что
мало силы, но дело идет о том раннем просторе, когда еще никто
* GA65. S. 260.
'* Ibid. S. 327.
'* Ibid. S. 331.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
1039
не установил, что такое мысль. «Свободу невозможно форсировать
напряжением логической мысли, Ereignis ist nicht denkmäßig zu
erzwingen»*. События не устроишь мыслью, или, вернее, так: мысль
вся, начиная с ее собственной возможности, отдала ответственность
за себя безопорному посреди. Точки отсчета в самой себе она уже
не имеет.
В годы написания «Ereignis» Хайдеггер читал Гёльдерлина
и не мог не думать об абсолютной невозможности для поэта
обеспечить себе ту божественную диктовку, Dichten, под которую он
пишет. Бессилие поэта и философа здесь одинаково. Соседняя
вершина поэзии оказывается совсем близка.
Бытие скрывается, прячется, бережет себя в неприступности.
Метафизическая традиция на протяжении всей европейской
философской школы склонялась в сторону позитивного понимания
истины (алетейи), ища в ней подход к тайне. Постоянный спутник
философии, богословие, наоборот, находило себя в негативном
понимании божественной истины, непостижимой, неприступной, не-
именуемой. Но тут же оказывалось, однако, что богословие знает
страшно много о том, что называет непостижимым, причем знает
с окончательной догматической определенностью. Что внутри
тайны идет спор, больше того, что тайна и есть бой, сражение, der Streit
в смысле гераклитовской войны, — это вызовет у богослова сначала
растерянность, потом он вспомнит свой догмат и со
снисходительной улыбкой поправит нас: ну разумеется; невидимая война; между
Господом и Сатаной. Но ведь Господь вседержитель, пантократор?
значит та война не настоящая, она видимость, театральное
представление войны? — Честный богослов сможет тут ответить только,
что мы затронули вопрос, который обсуждается тысячелетия и еще
не решен. Он отошлет нас к библиотеке книг на эту тему, после
чтения которой у нас останутся те же вопросы. Богословие поэтому
не исправляет крена в сторону оптимистического понимания
алетейи. Она потеряла свое альфа-привативум, вернее, философская
школа превратила неприступность истины в поле для
мыслительной работы.
Дело не доходит до вопроса о потаенности и утаивании (тайны),
ее происхождении и основании <...> aAijOeia утрачивает <...> многое
от своей исходной глубины и бездонности**.
Цивилизация увлечена устроением (Machenschaft). Она
оказалась способна многое сделать. В ней теперь почти все стало сделан-
* GA65. S. 235.
'* Ibid. S. 332.
1040
В. В. Бибихин
ным. Рациональная мысль (представление) неостановимо
развертывает свои возможности, чтобы овладеть последними островками
непознанного сущего. Кажется, что она тем самым возвышается над
собой, по сути, однако, осаживает себя ниже того уровня, на
котором исходно она была захвачена непосредственным восприятием
сущего в целом.
Так, опущенный ниже самого себя, разум именно благодаря
этому достигает кажущегося господства (на почве самозанижения).
Это мнимое господство должно однажды разрушиться, и текущие
столетия осуществляют это разрушение, но неизбежно с подкладкой
возрастания «разумности» как «принципа» всеобщего устроения*.
В альтернативных проектах цивилизации взамен предлагается
опять устроение, более революционное или радикальное.
Предлагается всегда более рациональное устройство с еще большей
уверенностью в силе разума и еще меньшей готовностью к тому, чтобы
встретить в сущем, в вещах, в материальных, в том числе человеческих
ресурсах непосильное для разума. Тайна в любом случае подлежит
разъяснению.
В опоре на что? В конечном счете — на бытие. В бытии ищет
опору и Хайдеггер. В чем разница? Для разума бытие есть; в космосе,
в хаосе, в микрочастицах оно выступает надежной опорой
благодаря тому, что существует. Дайте науке одну только эту опору,
согласившись, что сущее существует; на одной такой основе она устроит
все. Так, для теоретический физики постмодерна достаточно, чтобы
что-то было; любой математический формализм найдет
приложение к действительности, исходя только из чистого факта бытия. Для
Хайдеггера это не бытие; бытие не это. Оно не существует, а
осуществляется настолько, насколько нашего здесь-и-теперь бытия, Da-sein,
хватает на захваченность бездной. То, что устроители называют
бытием, уже подделано под то, чем они заняты, — под сплошное
устроение всего сущего.
5. Конструктивного диалога между тотальными устроителями
и мыслью не получается. Хайдеггер настаивает, что надо, в смысле
абсолютной необходимости и в порядке первой нужды, сойти с ума.
<...> Еще нет понимания единого необходимого и захваченности
им. Само наше присутствие (Da-sein) достигается только через сдвиг
(Verrückung) человеческого бытия в целом и, значит, исходя из
осмысления нужды в бытии как таковом и в его истине**.
* GA65.S. 336.
** Ibid. S. 540-541.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
1041
Сойти с ума значит перестать стоять и строить на представлениях
разума. Никакими своими усилиями разум не сможет устроить
событие. Истина не в его суждениях.
Слишком далеко зашло заблуждение. Начинать работу велит тем
более глубокая нужда, что она почти никем не ощущается. Почему
было забыто бытие? разве от недостатка таланта, стиля, остроты ума
у мыслящих, пишущих, проектирующих, прогнозирующих,
устроителей? Вопрос об истине оказался загорожен истинами потому, что
мыслители не сошли с позиций ума.
Осуществление истины самым глубоким и интимным свойством
имеет то, что оно исторично, Geschichtlich.
История истины, вспышки и превращения и обоснования ее
существа, состоит лишь из редких и расположенных далеко друг
от друга мгновений.
Быстро, уже под руками самих искателей, эти мгновения
каменеют. Витгенштейн записывает в дневнике: все что только
вчера еще плавилось и обещало форму, сегодня с утра снова застылая
смесь металла и шлака, и расплавлять надо заново. И Хайдеггер
американскому аспиранту: вам не нравится, что на каждом
занятии вы кажетесь себе в моей философии жалким новичком? А я так
чувствую себя каждое утро. Взамен мгновенной свободы события
просачивается тоска в виде «вечных истин», которые еще и
понимаются в смысле многовековой давности. 2500 лет истина понимается
как ô|ioio)Giç, adaequatio, соответствие между разумным понятием
и вещью. Как будто кем-то — бытием? Богом? — все заранее
устроено так, что осталось только составить детали паззла, кирпичики
в уме привести в соответствие с кирпичиками действительности,
и истина у нас в руках. Так ведь не всегда было; а что, если не всегда
и будет?
Не стоим ли мы в конце такой долгой эпохи ожесточения
существа истины и тогда уже на пороге нового мгновения ее скрытой
истории?*
Но каким может быть это новое мгновение, кроме того, что оно
будет тоже скрытым? разве событие снова не ускользнет? Никогда
нельзя будет отступить на шаг от держания истины, от стояния без
опоры. Истина, как и бытие, не есть, а осуществляется. Только так
возникает исторически, в мгновенном событии, времепространство
* Ibid. S. 342.
1042
В. В. Бибихин
(die Zeit-Raum) истины, застывающее потом в бесконечные время
и пространство.
Вместе с тем отвердение истины не фатально. На ее стороне,
кроме мгновенной вспышки, есть и другое: неприступная
уклончивость, непредсказуемая медлительность; каждое мгновение
истины как невидимое зерно в земле, возможно, созревающее. Оно дает
прибыль (фюсис), как понимали бытие древние. Скрытность, отказ,
промедление, упрямство, молчание нужны тут не меньше, чем при
событии истины. Отказ зерна: оно ушло под землю, чтобы дарить
потом.
Истина: опора как бездна. Опора не: откуда; но в чем как
принадлежащая истине. Бездна: как времепространство (Zeit-Raum)
спора (des Streits); спор как сражение земли и мира, ибо отношение
истины к сущему!*
Беспросветная земля, в которой мы всеми корнями, не знает
слов. Мир, в который мы выдвинуты, не может вглядеться в землю
и назвать ее; для него всё при первом приближении пока еще только
есть, например вот это мое тело. Постепенно мир начинает
прояснять себя. Если с его объяснением не поторопились, то чем больше
просвета истины, тем непрогляднее тайна земли и мира. Поиски
опоры в земле обманут нас, закрыв наши глаза на то, что мы сами земля.
Чтобы опереться на мир, следовало бы сначала знать, где он; мы
видим только его части. Остается опора в невидимом. Истина откроется
решимости, настроенной стоять среди безопорности бездны.
Настроение, казалось бы, самое летучее из всего, на что можно
опереться. Считается, что на нем ничего нельзя построить. Скорее
всего, я не поспешу показывать свое настроение, не стану его
разглашать. Вместе с тем именно это качество настроения прежде
всего нужно для приближения к такой вещи, как истина бытия.
Затаенность настроения отвечает ей. Не был ли внутри этой тайны Тот,
Кто сказал о себе: «Я есмь истина?» Хайдеггер здесь, как и обычно,
движется вплотную к богословию. Он, однако, никогда не касается
его, не из формального пуризма, а из нежелания входить в область,
которая помимо Откровения слишком широко пользуется знанием
неизвестного происхождения. Трезвее спросить:
Как невелико наше знание о богах и как, однако, существенно их
осуществление и рассуществление в открытой потаенности
присутствия, в истине?**
* GA65. S. 346.
** Ibid. § 224, начало.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge» 1043
Ответ на вопрос подразумевается. Тогда, т. е. в понимании меры
нашего незнания Богов, продолжает Хайдеггер, что нам скажет
опыт осуществления истины? На этот вопрос ответ не дается из-за
трудности смолчать, т. е. сделать речь достаточно осторожной.
Посеянное не останется в безопасности, если его разгласить. Верно
говорить об истине не легче, чем правильно молчать о ней.
Анатолий Ахутин видит в споре (Streit) вокруг истины
позитивное указание на тяжбу, диалог. Одна из псевдодефиниций Хайдегге-
ра звучит:
Существо истины есть просвет для ее самоутаивания*.
Столкновение обнаруживается здесь раньше, чем начнется
любой диалог; оно заложено в сопротивлении одного другому,
просвета тайне и наоборот. Глубоко спорное существо (das innig-strittige
Wesen) начинается нашим спором с самими собой вокруг веры в то,
что Бытие стоит вопроса. Перед нами всегда два пути. На одном
просвет есть нейтральная полоса, позволяющая с нашей ее стороны
смотреть на противолежащую, со стороны субъекта на объект,
открытый для понимания и освоения. Другой просвет, наоборот,
настолько неотделим от тайны, что он и есть свечение тайны в каждом
сущем; здесь мы готовы заметить, встретить и принять отказ сущего
открыться; тогда оно каждый раз заново открывает неприступность
своей свободы. Мы тогда ведем себя так, как велит свобода сущего,
выжидаем ее открытия, помогаем ей, создаем ее, охраняем и
позволяем действовать самой. Просвет раздвигается вместе с
распространением тайны.
Срастание тайны с просветом достигается только в споре, потому
что совсем рядом расположился и пустой просвет, отгораживающий
от нас сущее, которое нас издали не задевает, в которое мы не вросли
или в которое не верим, что вросли. Мы, пожалуй, вдумаемся в него
и даже начнем вчуже переживать, но дальше эстетики переживание
не пойдет. Субъект не позволит завладеть собой, он не раб своего
настроения. Между пустым просветом и другим, где к нам врывается,
захватывая дух, тайна, идет война.
Самосокрытие захлестывает собою весь просвет, и только когда
это происходит, когда «здесь-и-теперь» сплошь захвачено спорным
в его сокровенности, может посчастливиться выйти из
неопределенной и потому размытой области пред-ставления, пере-живания
и сделать попытку настойчивого здесь-и-теперь-бм/ш/л.
* Ibid. S. 348.
1044
В. В. Бибихин
Где здесь различие между бытием и сущим, казалось бы,
всегда важное для Хайдеггера? Его не видно за бездонной глубиной
всякого сущего. Так композитору удается сделать случайную
летучую физику звука историей. Бытия нет в предмете,
рассмотренном по ту сторону пустого просвета; оно просвечивает в тайне, куда
скрывается истина. Только когда скрытная тайна бытия начинает
просвечивать так, что собирает в себе и вокруг себя все, что мы
создаем, творим, делаем, чем жертвуем, когда открытость просвета
повертывается стороной сокрытия, вытесняя все, что замыкалось
в мнимой объективности, только тогда из разрозненных частей
поднимается мир и с ним — благодаря «одновременности» бытия и
сущего —дает о себе знать земля. Мы просыпаемся историческими
существами.
Истина, таким образом, никогда не только просвет, но
осуществляется как утаивание равноизначально с просветом. Они, просвет
и утаивание, не пара двух, а осуществление одного, самой истины
<...> Всякий вопрос об истине, не заглядывающий вперед так
далеко, остается слишком короткой мыслью*.
Вроде бы для субъекта, который смотрит на сущее со своей
стороны через нейтральное поле пустого просвета, дело тоже идет о
выяснении объективной истины в борьбе с искажениями ее. Высоко
понятый субъект полагается при этом даже не на свой, а на
божественный ум вселенского Творца. Но именно вера в надежный ум
Творца требует считать, что сущее сотворено Богом.
Необходимостью видеть в сущем сотворенное заслонен доступ к тайне самого
по себе сущего помимо образа Творца, о котором богословию,
оказывается, как уже говорилось, известно слишком много.
Нетронутой тайной без посредства божественной благости, справедливости,
всемогущества сущее здесь быть не может. Сотворенность сущего
заранее настраивает искать его причины. Заглядывание поверх
сущего в его причины (истоки, начала) унаследовано и разными
изводами (вариантами) христианства, и наукой, отталкивающейся
от религии. Антикреационизм на место божественного творца
ставит эволюцию, которая глуше, чем креационизм, заслоняет
подступ к сущему помимо представлений о его причине**. Тайна самого
по себе сущего там и здесь обрабатывается в видах объяснения; она
допускается только в законодателе Боге или в далеком первоначале.
Взгляд отведен от сущего, он тонет в божественных небесах или в те-
GA65. S.349.
В божественного Творца мы уже не верим, говорит Людвиг Витгенштейн,
но его место плотно и уверенно занял бог-причина, научная конечно.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»
1045
ориях возникновения Вселенной. И если реальность давит на вас,
как тяжелый неподвижный зверь (Сартр), то это будет названо
литературой, или психологией, или патологией, чему, в свою очередь,
будут найдены причины.
6. Тут два разных проекта: дать шанс тайне скрывающегося
бытия — и отодвинуть в пространстве и времени все, что не поддается
объяснению через причины. Перспектива причинного объяснения
манит, но кончается провалом в дурную бесконечность причин.
В «Бытии и времени» еще много отталкивания от истины как
правильности представления и теснит соседство того, от чего
отталкиваются. «Beiträge» переходит к прямой опоре только на то, как
осуществляется истина в своей сути. Для Хайдеггера в бездонности
тайны теперь единственная опора. Лишь бы Ereignis не стало
очередным термином философской фабрики, темой
интерпретирующего анализа; лишь бы не перестало служить инструментом
единственно необходимого осмысления, вынужденного крайней нуждой
бытийной оставленности.
Просвет утаивания означает не снятие потаенного и его
извлечение и превращение в непотаенное, но именно основание бездонного
основания для тайны (медлящего отказа).
В моих прежних попытках набросать это существо истины <...>
когда доходило до определений как: присутствие существует вместе
в истине и неистине, это положение сразу воспринимали морали-
стически-мировоззренчески, не улавливая решающего в
философском осмыслении, неустранимости этого «вместе» как основы
существа истины, не улавливая первоначальности неистины в смысле
потаенности (а не какой-то лжи)*.
Теперь главное усилие переносится на держание себя внутри
просвета тайны; это настроение сдержанности становится
первоначальной опорой. Возвращение к присутствию (здесь-л-теперь-бы-
тию) — не еще один шаг из тех, каким учит философская школа; все
человеческое существо должно сдвинуться, как говорилось выше,
т. е. сойдя с ума.
Что это, однако, значит, что теперь надо отважиться на
набросок существа истины как просвета тайны и готовить сдвиг человека
к при-сутствию?
Сдвиг из того положения, в котором мы находимся: из
гигантской пустоты и глуши, втиснутые в давно уже неузнаваемую тради-
* GA65.S.352.
1046
В. В. Бибихин
цию без мерила и, главное, без воли ставить вопросы к ней, а
пустыня — тайная оставленность бытием*.
К истине непременно принадлежит нет (das Nichthafté), не в том
смысле, что ей чего-то недостает, а в смысле сопротивляющегося
ускользания, которое в просвете проясняется как неприступность
тайны. Всего легче обойтись без этого прозрения и стоять на уста-
новимости истины. Правда, почему-то сразу мы оказываемся тогда
не в покое, а внутри бесконечной работы объяснения, оправдания,
обоснования. Поставив истину на субъекте, мы лихорадочно
устраиваемся в своем одиночестве. Что, если мы бросим себя не на этот
труд, а на то, во что мы брошены, — на странность и не-нами-устро-
енность земли и мира. Но если отдать себя их ускользающей тайне,
то где наша свобода? или свобода есть только в возвращении к
своему, что всегда было моим ближайшим и чего никто у меня не
отнимет? Возникает тесный союз: наше присутствие принадлежит
Бытию, как и Бытие принадлежит нашему здесь-и-теперь; нас
начинает хватать на то, чтобы вместить предельное, и с ним —
последнего Бога.
Октябрь 2004
&*&
* GA65. S. 356.
^^
M.A. БОГАТОВ
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
Первые трудности в разговоре о Бибихине
<...> На данный момент издано более двадцати отдельных книг
Владимира Вениаминовича, некоторые выходили (и продолжают
выходить) вторыми и третьими изданиями, то есть несколько
десятков тысяч книг были распространены, что значит: кем-то куплены,
возможно, прочитаны — и (тут следует формулировка второго
парадокса) при этом — совершенное молчание. На одну из возможных
причин этого молчания я уже прежде указывал*: думается, это
связано с определенным настроем академической профессуры, которая
чаще всего не решается всерьез заниматься своими ровесниками,
или тех, кого они могли застать при жизни. В этом случае на первом
плане находится очень понятная и недобрая детская установка,
провозглашенная одним знакомым (ныне покойным) профессором,
который ответил своему аспиранту, изъявившему желание
заниматься Мамардашвили: «Что нам этот ваш Мамардашвили! Знал я его,
в МГУ пересекались! Лучше мной занимайся тогда! »
Однако для этого молчания, как выясняется, есть и другая
причина, о которой теперь следовало бы упомянуть. В самом деле,
представим себе: кто-то покупает работы Бибихина, зачитывается им,
подчеркивает интересные места, находит параллели и приходит
в искренний восторг — и при этом не говорит о Бибихине в своих
работах, статьях, книгах, лекциях. Как это объяснить? Речь явно идет
не о неприятии, но скорее наоборот — о любви и внимании
читателей. В самом деле, для того чтобы писать о ком-то, надо попытаться
от него отстраниться, занять дистанцию. А тексты Владимира
Вениаминовича, во-первых, сопротивляясь такой возможности с самого
* Богатов М. А. Способы говорить о Бибихине (проблема рубрикации
творческого наследия в академической среде). М.: Скимен, 2015. С. 90-111.
Также опубликовано на сайте « Бибихин.Ру ».
1048
M. A. Богатов
начала..., могут в самом деле вдохновлять читателя делать то, что
ему, читателю, необходимо. Бибихин уже сложился, самостоятелен,
целостен — писать о нем — это все равно что этой целости и
полноты не видеть, расписываясь в собственной ущербности. Поэтому
из любви и понимания к нему устанавливается молчание — и
любой, кто его нарушит, будет занесен в «черный список». Его
заведомо, даже не вчитываясь, можно обвинить в неадекватности, указать
на ограниченность автора. Но если мы вчитаемся, то тем более
всегда — при желании — уличим пишущего в том, что он не все охватил
(помните про первый парадокс — в работах Бибихина
рассматривается столько подходов и вариантов, что остановка на одном из них
заведомо включена Бибихиным в свою работу лишь как часть
целого, но не оно само).
Подведем краткий итог: первая трудность сводится к тому, что,
стараясь прочитать Бибихина сугубо на информативном уровне, мы
найдем у него все что угодно, а потому информативный уровень
чтения совершенно неадекватен работам БББ. Понявшие и оценившие
это предпочитают молчание (вторая трудность), поскольку гораздо
легче реагировать на наивную попытку говорить о Бибихине,
подвергая ее критике, нежели самому ее произвести.
Чтобы не было лишних интриг (дело не в них), сразу предложу
свое видение в отношении этих трудностей. Первая ведет нас к тому,
что Бибихин — это философ определенного настроения, такого,
которое будит мысль, вдохновляет и захватывает ее. Что делать с
разбуженной мыслью, Бибихин не говорит, точнее, учит нас всему,
что идет вразрез с подобной установкой: с мыслью как раз ничего
делать не нужно. Или, если угодно, с мыслью надо жить (подобно
тому, как многие живут сейчас без мысли). Работы Бибихина — это
вызов к тому, чтобы изменилось само состояние человека.
Оказавшись на свободе, уже не подчиняя свою мысль тому, чтобы что-то
"сделать", человек впервые выходит за рамки расписания — и
только тут имеет шанс столкнуться с тем, каким он, человек может быть,
и какой она, жизнь, может быть.
Вторая трудность указывает нам на другой аспект той же
проблемы: если мы ощутили некоторую полноту, восторг и радость и при
этом чувствуем, что любое высказывание об их источнике лишь
обеднит их, сделает площе, то дело не в высказывании, а в самой этой
установке*. Она указывает на нашу нищету: мы полагаем, что гово-
Эту установку хорошо сформулировал Владимир Набоков. О докладе
Николая Бердяева, он писал жене: «Доклад был "посвящен" философскому
разбору стиха "Мысль изреченная есть ложь", но, получилось, что мысль
изреченная есть болтовня» (Письмо к Вере Набоковой от 04.02.1936 //
Набоков В. Письма к Вере. М.: Колибри; Азбука-Аттикус, 2018. С. 246).
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
1049
рить о полном и радостном, целом, нельзя. Это значит, что говорить
можно лишь об ущербном, дефективном, никаком, депрессивном.
И, поскольку человек есть животное, наделенное логосом, то само
такое животное, облекающее нюансы своей жизни в речь, уже тем
самым готово жить ущербно, дефективно, никак, депрессивно.
Только и всего. Бибихин в данном случае бросает нам иной вызов:
можно попробовать перестроить свое отношение к тому, о чем стоит
мыслить и говорить, как об этом стоит мыслить и говорить, не
опасаться встретиться с полнотой. Иначе это выражено в вопросе,
завершающем стихотворение Ольги Седаковой «Ангел Реймса»: «Но
все-таки, / в этом розовом искрошенном камне, / поднимая руку, /
отбитую на мировой войне, / все-таки позволь мне напомнить: / ты
готов? / к мору, гладу, трусу, пожару, / нашествию иноплеменных,
движимому на ны гневу? / Все это, несомненно, важно, но я не об
этом. / Нет, я не об этом обязан напомнить. / Не за этим меня
посылали. / Я говорю: / ты / готов / к невероятному счастью?»*
Запрет на большие темы
Оба этих указания — на настроение, которое всегда шире в
размахе, чем информативная составляющая, и на нашу готовность
работать лишь с нецелым, фрагментарным, ущербным — не имеют
отношения к какой-либо морализаторской оценке и лишены
этических коннотаций. Речь идет не о том, чтобы показать нашу
ущербность в сравнении с размахом мысли Хайдеггера и/или Бибихина,
но, напротив, о том, чтобы увидеть, как работает механизм
современной мысли, видящий свои цели и их реализацию лишь в чем-то
частном (не путать со «специальным», любая мысль — это special
thought), нецелом. Как-то в одной из старых газет была помещена
карикатура: ученый, вооружившись лупой, безуспешно старается
найти следы присутствия динозавров, но рисунок сделан так, что
нам (а не ученому) видно: он бродит с лупой внутри гигантского
следа динозавра. Такой ученый никогда не найдет то, что ищет,
потому что — как бы точнее выразиться? — либо он уже нашел
искомое (но не ведает об этом, ибо его инструмент — лупа), либо то, что
он ищет, уже нашло ученого (он каким-то образом в этот след
провалился). Вот и мы, когда говорим о зауженности взгляда, имеем
в виду нашу готовность мыслить и оценивать происходящее лишь
так, как мы способны его встретить: в качестве нецелого,
неполного, настолько скорого, чтобы, получая информацию, не успевать
схватывать определяющее ее настроение. Как было уже отмечено,
* Седакова О. А. Четыре тома. Том 1. Стихи. М.: Русский фонд содействия
образованию и науке, 2010. С. 414-415.
1050
M. A. Богатов
мы скорее обвиним любого, претендующего на полноту и
какой-либо не разоблачающий настрой в некомпетентности; нас может
возмущать сам пафос мысли, нацелившейся на целое (можно говорить
в этой связи о ressentiment'e нецелого настроя) — причем пафос
Хайдеггера радикально отличается от пафоса Бибихина.
Подобно тому как никто — согласно максиме Ларошфуко — не жалуется
на недостаток ума, так и любой, не владеющий иностранными
языками, не сомневается в том, что способен выразить все, что только
захочется, на своем родном языке (ему не приходит на ум, что
желание выразить что-либо подсказывается средствами,
находящимися в его распоряжении). Так и мы способны взять от богатства
(нищеты) философии лишь то, что способны, — и не сомневаемся,
что, делая так, мы делаем (берем) все. Именно эта ограниченность
собственного подхода к существенному и важному должна была бы
стать проблемой номер один, а не банальное применение наших
навыков ко всему подряд, на что они могут сгодиться (например, что
тревожнее и важнее: то, что у Хайдеггера упоминаются в «Черных
тетрадях» неприемлемые сегодня выражения? — или: что из всего
наследия Хайдеггера именно эти выражения позволяют нам как-то
о Хайдеггере говорить? — или: кем мы становимся, если наш
единственный способ приобщиться к достижению былых эпох —
разоблачение и занижающая переоценка?).
Все фрагментарно усмотренное подлежит приватизации
(«захвату», как сказал бы Бибихин), нельзя приватизировать лишь
настроение и полноту (их не «присвоить», они «осваивают» нас).
Итак, большие темы сегодня запрещены (и подвергаются
ироническому разоблачению*) по разным причинам, но главное, что их
объединяет, так это встречное убеждение в их неважности...
Упреждающее возможные неудачи нежелание связываться с большими
темами, забвение о том, что работа мысли может (и часто должна)
быть «неэффективной», терпеть неудачу** — вот, пожалуй, то, что
не относится ни к Бибихину, ни к Хайдеггеру. В этом они сходят-
Частично настроением подобного разоблачения питается мнительность
вокруг «Черных тетрадей» Хайдеггера, на счет которой можно отнести слова
Александра Пушкина, сказанные им в письме Вяземскому в ноябре 1825 г.:
«Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей
радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой
мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете,
подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе».
Ср.: «Глубина той или иной философии измеряется — если имеется какая-
нибудь мерка — ее способностью заблуждаться. А поскольку заблуждение
никогда не может быть сознательным и деланным, но проистекает из
затягивающего потока самого Бытия и является неизбежным, сила
заблуждения, свойственная мышлению, кое-что говорит о близости мышления к
Бытию» (Хайдеггер М. Размышления VII-XI (Черные тетради 1938-1939) /
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
1051
ся. Однако дело не в том, что они без страха, в хорошем смысле
слова наивно, открыто ставили вопросы о таких больших словах, как
«бытие» и «время», «собственность», «право», «энергия»,
«искусство» — о всем том, чем легче пользоваться, нежели понимать.
Вопрос о том, почему, сходясь в отношении масштаба и размаха
собственной мысли, они радикально между собой различаются.
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
В самом деле, почему, ведь вопрос более чем странный. Прежде
чем на него отвечать, хотелось бы повернуть дело чуть иначе:
возможно, после всего нижесказанного выяснится, что вопрос и вовсе
был излишним. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос, мне бы
хотелось лишь спросить об этом самом вопросе.
Формальная структура вопроса
<...> Итак, у нас выявились три причины (случайные
обстоятельства, невменяемость, намерение) отождествить различное, X
и Y, и, соответственно, ответ на справедливый вопрос «почему X
не Y?» не может руководствоваться единой стратегией, а находится,
как минимум, на перекрестке из трех путей. Одно дело отвечать тем,
кто совершенно не в курсе проблемы, другое — тому, кто
заблуждается, третье — тому, кто готов свою позицию всячески отстаивать,
даже если для окружающих и него самого она выглядит ошибочной.
Собрав этот предварительный итог, мы тем не менее не
разобрались с формальной структурой вопроса. Ведь спрашивать о (не)при-
надлежности кого-то к некоему течению — это не то же самое, что
спрашивать: почему такой-то не является другим? Чтобы
продемонстрировать пеструю гамму возможностей подобного вопроса,
приведем следующие примеры: «почему читатель Кафки — не Кафка?»,
«почему Райт-Ковалева — не Кафка?», «почему Макс Брод —
не Франц Кафка?» Здесь, несмотря на единую форму вопроса, мы
также видим совершенно разное спрашиваемое, которое задает
различные стратегии ответа.
В итоге перед нами три разных причины столкнуться с подобным
вопросом, а также свойственный самому вопросу (когда он уже
поставлен) особый характер. Ситуация, как мы видим, довольно
непростая. Можно без труда увидеть, что характер, свойственный
вопросу, так или иначе соотносится с вышеназванными причинами.
В дальнейшем, по ходу нашей статьи, из всех названных причин
мы сосредоточим внимание лишь на «случайных обстоятельствах»
Пер. А. Б. Григорьва, науч. ред. М. Маяцкий. М.: Изд-во Института
Гайдара, 2018. С. 25).
1052
M. A. Богатов
(первой причине), поскольку ни вторая, ни третья не представляют
существенного интереса.
Содержательное раскрытие вопроса
Для начала посмотрим на диагностику ситуации, в которой кто-
то заявляет, что «Бибихин — это Хайдеггер»...
Случайные обстоятельства*. Дух историзма учит нас, что
ничего случайного не бывает (и свободы, в конечном итоге, тоже нет...).
В Советском еще Союзе, в 1970-е гг., Бибихин в ИНИОН РАН
готовил рефераты под рубрикой «Для служебного пользования», в том
числе о Хайдеггере**, о чем, собственно, написал в специальной
работе***. «Русский Хайдеггер »появился в связи с Гегелем: «Доказывая
тем невольно правоту Юрия Мальцева, люди, способные работать,
тратили свои основные силы на то, чтобы внушить начальству,
например, продолжающуюся актуальность Гегеля и соответственно
необходимость посвященного ему сборника. Начальство
невыразительно соглашалось, и мы вскоре радовались, с гордостью
показывая в своем круге первого русского Хайдеггера****, напечатанного
смазанно и бледно на старом ротапринте тиражом 250 экземпляров.
Этот философ был, грустно сказать, в 1974 году еще новинкой. Даже
для А. Ф. Лосева "Учение Платона об истине" оказалось в 1967 году
новостью»*****.
Хотелось бы обратить внимание на два нюанса.
Первый нюанс: Хайдеггер и Гегель, Появление Хайдеггера в
связи с Гегелем более или менее объясняет, почему Нелли
Васильевна Мотрошилова выступила ответственным редактором первого
на русском языке сборника, посвященного философии Хайдегге-
* Ниже мы касаемся лишь тех аспектов рецепции Хайдеггера, которые
напрямую относятся к деятельности Бибихина, оставляя в стороне тему
"рецепции Хайдеггера в Советском Союзе вообще", в частности — восприятие
Хайдеггера представителями православно-патриотического движения 70-
80 х. гг., а также текста А. Гулыги «Дело Хайдеггера» (1988). Эти и другие
аспекты рассмотрены в: Михайловский А. В. О некоторых особенностях
российской рецепции философии Мартина Хайдеггера в связи с дискуссией
вокруг «Черных тетрадей» // Вестник Самарской гуманитарной академии.
Серия «Философия. Филология». 2017. № 1 (21). С. 54-71.
k* Частично опубликованы в: Бибихин В. В. Из творческого наследия. М.:
ИНИОН РАН, 2006. 192 с, а также на сайте «Бибихин.Ру».
"* Бибихин В. В. Для служебного пользования // Бибихин В. В. Другое
начало. СПб.: Наука, 2003. С. 181-208.
** Хайдеггер М. Гегель и греки; Гадамер Г. Гегель и Хайдеггер // Для
служебного пользования. Экз. № 242. Диалектика Гегеля в оценке современных
западных философов. Часть I. M.: ИФ АН СССР, 1974.
** Бибихин В. В. Для служебного пользования. С. 186.
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
1053
ра, выпущенного по следам конференции, посвященной столетию
Хайдеггера, проведенной в октябре 1989 года в ИФ РАН*.
Памятуя об интересе Нелли Васильевны к Гегелю (и - через
феноменологию? — к Гуссерлю), следует упомянуть одно совпадение.
Гораздо позже, в 2007 году, в юбилейный год (200 лет «Феноменологии
духа» Гегеля, 80 лет «Бытию и времени» Хайдеггера) в ИФ РАН
(тогда еще напротив храма Спасителя) проводились две
конференции: одну, которая проходила в июне, организовала Нелли
Васильевна Мотрошилова (по материалам конференции три года спустя
вышел замечательный сборник**)... На проведение этой
конференции был получен соответствующий грант. Другая, проходящая
в том же году (уже в сентябре) и там же конференция называлась
«80 лет "Бытию и времени М. Хайдеггера"», которую организовал
бывший аспирант Нелли Васильевны Мотрошиловой Игорь
Анатольевич Михайлов (и которая соответствующего гранта не получила,
а потому сборник по материалам напечатан не был...) К слову
сказать, первая брошюра о Хайдеггере была выпущена Александром
Михайловым в 1990 году, она была маленького формата, и
размышления А. В. Михайлова перебивались в ней переводами из
Хайдеггера***, зато первое серьезное исследование на русском языке
принадлежит уже Игорю Михайлову****. Таким образом, получивший право
на публикацию (пусть и ограниченную) в 1974 году благодаря
Гегелю, Хайдеггер в 2007 году находился — в стенах ИФ РАН — с ним
в прямой конкуренции.
Второй нюанс: коллективное и личное. Вернемся к цитате
из Бибихина, особенно вот к этому месту: «и мы вскоре радовались,
с гордостью показывая в своем круге первого русского Хайдеггера».
Речь идет об общей радости. Кто эти «мы», Бибихин высказал там
же: «люди, способные работать». Картина складывается вполне
определенная: в 1970-х, противостоя идеологическому давлению
уже даже не марксизма, но власти, выделяющей деньги "на иде-
* Философия Мартина Хайдеггера и современность / Отв. ред. Н. В.
Мотрошилова. М.: Наука, 1991. 253 с. В этом сборнике присутствует статья
Н. В. Мотрошиловой «Зачем нужен Гегель? (К вопросу о толковании Хай-
деггером гегелевской философии)» (Там же. С. 161-166). Название статьи
является будто бы ответом тому самому «начальству» из 1974 года...
** "Феноменология духа" Гегеля в контексте современного гегелеведения /
Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2010.
672 с.
*** Михайлов А. В. Мартин Хайдеггер: человек в мире. М.: Московский
рабочий, 1990. 48 с. Книга вышла в серии «Первоисточники», в редакционную
коллегию которой входил в том числе и С. С. Аверинцев.
**** Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер: между феноменологией и философией
жизни / Науч. ред. Н. В. Мотрошилова. М.: Прогресс-традиция; Дом
интеллектуальной книги, 1999. 284 с.
1054 M. A. Богатов
ологическую разведку альтернатив"*, способные работать люди
чувствовали себя более или менее единым целым, уже тем
похожим на «сообщество друзей» Аристотеля, что способны разделять
радость и достижения друг друга. По-видимому, к определенному
периоду, когда идеологическое давление (любое) спадало, вместе
с ним переставала быть очевидной и общая цель, маркирующая
достижения по иерархической шкале (например, напечатать
неопубликованного тогда Гегеля — меньшее достижение, чем, скажем,
Деррида). Можно предположить, что возникла ситуация
разобщения, ухода в приватное (со всеми негативными и
положительными коннотациями privative). Ныне покойный Алексей Григорьевич
Черняков (1955-2010) как-то, в частной беседе, рассказывал мне
о том, что между вполне определенными философами в конце 80-х
состоялось обсуждение по «захвату территорий»: кому достанется
Гуссерль (Гуссерля хотели все), а кому — Хайдеггер (это те, кому
не достался Гуссерль). Сам Алексей Григорьевич тяготел к
Гуссерлю, но «Гуссерль был уже занят»**. Начался процесс приватизации
и отделения по поводу тех имен, которые прежде объединяли.
Кстати, характеризуя попытку распоряжаться собственностью, не
касаясь ее существа (своего), Бибихин говорит: «И непонятым, незаде-
тым оно (существо человека и страны. — М. Б.) остается и теперь,
когда в обратном движении поспешная "приватизация" прежней
общественной собственности, нарочитое до злорадства
растаптывание коллективистской идеологии, абсурдный "капитализм", снова
самоубийственно беззаботный в отношении собственных отцов,
родителей, пенсионеров, которых бросили нищенствовать,
показывает, что и новая "частная" собственность тоже будет понята неверно
и рухнет? В чем дело, почему меняющиеся устроения оказываются
такими шаткими? Что так будет, что всякое устроение
собственности станет плыть, не обязательно нужно было проверять на
собственных боках»***. Приватизация будет провалена — это касается
страны (будет новый и новый бездумный передел), а что касается
приватизации имен? Как и в случае с любой собственностью,
спасением служит лишь одно: внимание, мысль: «Собственность,
всякая, с самого начала обречена на прояснение, дознавание до своей
* Бибихин В. В. Для служебного пользования. С. 181.
** Тем не менее эти научные интересы нашли полное и неразобщенное
воплощение в работах А. Г. Чернякова: Черняков А. Г. Онтология времени.
Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. СПб.:
Высшая религиозно-философская школа, 2001.460 с. ; Черняков А. Г. Об утрате
очевидности: на пути к новой онтологии. СПб.: Изд-во Института «Высшая
религиозно-философская школа», 2016. 550 с.
*** Бибихин В. В. Собственность. Философия своего. СПб.: Наука, 2012.
С. 96-97, курсив Бибихина.
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
1055
собственной сути. То, что кому-то кажется досадной
многозначностью, проблемой лексикографа, — на самом деле скромная
верхушка айсберга»*. Никакие процедуры переводов, комментариев,
образовательных внушений и монографий не способны ограничить
возможность свежего прочтения, открытия для себя автора новым
человеком. Помешать может лишь отсутствие процедуры
перевода, комментариев, образовательного внушения и монографий.
Скажем, было бы очень хорошо, чтобы Евгений Борисов вое лее
опубликовал свой, отложенный в долгий ящик альтернативный би-
бихинскому, перевод «Бытия и времени» — это бы только сделало
лучше как Хайдеггеру, так и Бибихину (не говоря уже о самом
Евгении Борисове...). Наличие хорошо выполненной работы не должно
мешать, мешает ее отсутствие.
Итак, что же у нас с обстоятельствами? Мы можем выделить три
стадии этих самых обстоятельств. Первая стадия (условная
датировка 1967-1987): некоторый коллектив, могущих работать,
радуется сообща любому свежему имени. В этот момент отождествить
Бибихина с Хайдеггером можно лишь в шутку: мол, среди наших
Хайдеггером занимается он (Михаил Кузьмич Рыклин в этом же
смысле француз). Поэтому всерьез ставить вопрос о том, почему
«Бибихин — не Хайдеггер?», в таких обстоятельствах не имеет
смысла. О Хайдеггере знают лишь люди этого круга, да их
начальство, которому данный круг готовит рефераты. О Бибихине,
который «делает» русского Хайдеггера, на этом этапе знают больше,
чем о Хайдеггере, но круг знающих чрезвычайно ограничен.
Вторая стадия: приватизация имен (условная датировка
1987-1994). Отчасти своего рода дорожной картой стратегий этой
приватизации может послужить уже упоминавшийся сборник
1991 года «Мартин Хайдеггер и современность». К примеру,
можно увидеть различие в отношении к Хайдеггеру, заявленное там
Н. В. Мотрошиловой и В. В. Бихиным.
В открывающей сборник статье Мотрошиловой сразу же
выделяются обвинители, адвокаты и присяжные заседатели на «деле
Хайдеггера». Первые — это последователи Виктора Фариаса; вторые
делятся на три группы (полностью реабилитирующие Хайдеггера,
считающие «его грех незначительным», и, наконец, полагающие
«сам вопрос о политической ангажированности мыслителя
неинтересным или нерелевантным внутренней логике философского
мышления»); третьи — сторонники подхода, в котором предпринимается
"попытка объективно разобраться в деле, преодолеть те крайности,
которые все-таки оказались неизбежными для первых двух подхо-
* Бибихин В. В. Собственность. С. 97.
1056
M. A. Богатов
дов, о каких бы их оттенках ни шла речь»*. Мотрошилова тут же
говорит, что она придерживается третьей позиции, т. е. позиции
«присяжных заседателей». Мы можем себе представить позицию
присяжных заседателей: их фигура появляется только с связи с
судом (то есть на повестке дня — виновен или не виновен?), они
должны быть незнакомы с подсудимым и менее всего заинтересованными
в делах подсудимого; их образовательный уровень не имеет особого
значения, выборка чаще всего случайна — в любом случае они
присутствуют на суде. Все, что они услышат здесь («оттенки» обвинения
и защиты), они должны подтягивать к главному вопросу — виновен
или нет. Интрига в том, на каком вердикте остановится
присяжный, когда все «оттенки» будут ему предоставлены**.
Позиция Бибихина иная. Он сразу говорит: «Расследовать дело
Хайдеггера не трудно, потому что оно все на виду» ***. То есть с ходу —
никакой интриги нет и не ожидается, и вообще «дело» не в этом.
Изложив все яркие факты, указывающие на вовлеченность
Хайдеггера в национал-социалистическое движение буквально на первой
странице, Бибихин подводит такой итог: «Как будто бы хватит. Все
вроде бы ясно. Юристы закончили свою работу. Один из них сказал,
уже очень давно: если бы мы нашли, что Хайдеггер виновен, мы
посадили бы его в 1945 г. Но нет, дело не закрыто. Больше того,
похоже, что теперь оно уже не будет закрыто вообще никогда» ****. Почему?
Мотрошилова Н. В. Драма жизни, идей и грехопадения Мартина
Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и современность. С. 3-4. Первая,
цитируемая, часть статьи называется: «Пролог и... эпилог: "Дело
Хайдеггера" в юбилейном году», что, безусловно, коррелирует с именованием биби-
хинской статьи в том же сборнике, названной просто «Дело Хайдеггера».
Нелли Васильевна, поддерживая интерес к «делу Хайдеггера», недавно
предложила пригласить в качестве свидетеля в зал суда личную жизнь
Хайдеггера: Мотрошилова Н. В. Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие —
время — любовь. М.: Гаудеамус, 2013. 526 с. Стоит отметить, что такой,
ничего не подозревающий свидетель, адвокату явно не подыгрывает.
Бибихин В. В. Дело Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и
современность. С. 166. Этот текст бытует в двух разных вариантах. Другая
версия под тем же названием (в существенно переработанном виде) была
опубликована в качестве предисловия к сборнику работ Хайдеггера «Время
и бытие»: Бибихин В. В. Дело Хайдеггера // Хайдеггер М. Время и бытие:
Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 3-14. Обе версии
представлены на сайте « Бибихин.Ру». Само различие этих редакций — первая
в начале приватизации (для узкого круга тех, кто в курсе «дела»),
вторая — под ее завершение (для широкого круга пока еще ничего не знающих
читателей) — заслуживает отдельного рассмотрения, хотя бы такого
поверхностного, которое сделано нами по другому поводу: Богатов М. А.
Идеология и платонизм Владимира Бибихина в работах 1989-1991 г. // http://
gefter.ru/archive/18115 (дата обращения — 31.01.2018).
Бибихин В. В. Дело Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и
современность. С. 167.
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
1057
Потому что выяснятся новые факты? Вряд ли, иначе его
«посадили бы 1945 г.». Потому что можно до бесконечности изощряться
в изобретении обличительных сентенций, руководствуясь
растущей как на дрожжах и не знающей удержу «политкорректное™»?
Мы именно это сейчас и видим, и тут пределов нет*, но Бибихин
говорит — нет, не поэтому. Ответ Бибихина таков: «Нам все-таки
с агрессивными обличителями не по пути: мы, храня
академическую беспристрастность, должны иметь дело с фактами, которые
существуют не только в наших реконструкциях. Но мы ошибемся,
думая, что мы совсем другие» **. Мы не пойдем на стороне обвинения,
но не потому, что мы — за Хайдеггера. И уж тем более мы не имеем
права занять скамейку присяжных, поскольку сами — под
вопросом. Мы помним, что фигура присяжного — случайного,
незаинтересованного, должна не иметь никакого отношения к
рассматриваемому делу, и, более того, он сам не должен находиться под судом (это
« благонадежный гражданин » ). Перед лицом дела Хайдеггера занять
эту скамейку — это значит вынести поспешное решение не столько
о нем (процесс еще впереди или, точнее, уже завершен), сколько —
о себе. Мы не будем сейчас задавать вопросов к советской
профессуре, к сотрудничеству со своим режимом, быстрым переходом под
другие флаги, и т. д. (все это еще будет не скоро), не задает их и
Бибихин, ограничиваясь лишь процитированным кратким
указанием. Наша задача сейчас была лишь указать на различные стратегии
приватизации имени Хайдеггера на втором из трех возможных
этапов. Что касается общей характеристики этой второй стадии...
можно сказать следующее: идеологическое давление извне отсутствует,
вместе радующиеся прежде теперь «каждый сам по себе»***. Начав
* Ближайшим примером может послужить недавний сборник: Хайдеггер,
«Черные тетради» и Россия / Под ред. М. Ларюэль и Э. Файл; пер. под науч.
ред. М. Маяцкого. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 368 с.
В «Предисловии» говорится: «Однако в целом актуальным остается вопрос
о критическом подходе к Хайдеггеру. Понятный, учитывая
предшествующую многолетнюю недоступность, энтузиазм по отношению к открытию
хайдеггеровского корпуса далеко не всегда оставляет место для
критической дистанции. Например, книга чилийского философа Виктора Фариаса
"Хайдеггер и нацизм", переведенная на десятки языков, так пока и не
вышла на русском, тогда как книга хайдеггеровского апологета Франсуа Фе-
дье "Анатомия скандала" была издана по-русски» (Там же. С. 9). Следуя
мотрошиловской диспозиции, можно сказать, что сторона защиты
представлена в России достаточно, а сторона обвинения — нет. Данный сборник
должен помочь присяжным заседателям обострить интригу происходящего
и привнести в судебное действо дополнительные аргументы и интерес.
** Бибихин В. В. Дело Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и
современностью С. 167.
*** См. ниже «Отступление о наивности приватизации, касающееся
не только второй стадии*.
1058
M. A. Богатов
слушать друг друга в изменившихся условиях, они могут быть
поражены различием собственных намерений и ожиданий. За окном
большими тиражами (еще по советским издательским схемам)
начинают выходить переводы (в 1991 г. — сборник поздних статей,
выполненный коллективом переводчиков*; в один и тот же, 1993
год: Александра Михайлова** и Владимира Бибихина***), неопытная
и голодная публика начинает — безо всякой школы и
предварительной подготовки — осваивать новые книги. На этом этапе со стороны
такой публики**** отождествить Бибихина с Хайдеггером достаточно
легко (чьим переводом завладел, тот Хайдеггер и есть). В этом
смысле отождествление Бибихина с Хайдеггером как переводчика с
автором (в качестве представителя или заместителя) может происходить
лишь в силу незнания, неопытности, поспешности. Отвечать в
такой ситуации на вопрос «Почему Бибихин — не Хайдеггер?» просто
не имеет смысла. Кроме того, различие между Хайдеггером и Биби-
хиным для такой публики эпохально усложняется тем
обстоятельством, что, как выше упоминалось, Бибихин в 1990-1992 гг. читает
в МГУ курс «Ранняя философия М. Хайдеггера», на семинарских
занятиях в рамках которого обсуждает различные версии
подготавливаемого им перевода «Бытия и времени» (увидит свет лишь
в 1997 г.). На других его авторских лекционных курсах... также
часто звучит имя Хайдеггера (среди других имен — Аристотеля,
Розанова, Паламы, Кузанского, Платона, Деррида и др.). Но поскольку
своеобразие мысли Бибихина трудно объяснить, а объяснить
нужно (нельзя же просто признать, что мысль — такая, нас же учили
в школах «искать и выявлять предпосылки и условия»), а
Аристотель, Кузанский и Платон уже выпущены, то своеобразие Бибихина
можно объяснить еще неведомым никому «Икс». Именно от
Хайдеггера, значит, он берет все удивительное, что так непонятно и
захватывает. Такое поспешное «решение» неадекватного уравнения
не упрощало процедуры разведения Хайдеггера и Бибихина. Для
полноценного ответа на вопрос «Почему Бибихин — не Хайдеггер?»
* Хайдеггер М. Размышления на проселочной дороге: Сборник / Под ред.
А. Л. Доброхотова. М.: Высшая школа, 1991. 192 с. Переводчики: Т. В.
Васильева, А. Л. Доброхотов, 3. Н. Зайцева, Н. С. Плотникова, А. С. Солодов-
никова.
** Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет / Сост., перевод, вступ.
статья и коммент. А. В. Михайлова. М.: Гнозис, 1993. 464 с.
*** Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / пер. с нем. В. В.
Бибихина. М.: Республика, 1993. 447 с. Тираж — 51000 экз.
**** ...К слову сказать, обличительная статья, открывающая сборник
«Философия Мартина Хайдеггера и современность» (равно как и бибихинское «Дело
Хайдеггера») вышли в 1991 г. тиражом 6100 экземпляров. Напомним, что
это была первая общедоступная публикация для широкой публики про
Хайдеггера до появления любой его отдельной работы в русском переводе.
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
1059
у тех, кому ответ мог бы быть предназначен, в этот период
элементарно недоставало данных.
Отступление о наивности приватизации, касающееся не
только второй стадии. Вспомним о фигуре присяжных заседателей,
введенной Мотрошиловой. Комментируя позицию Бибихина по
поводу «дела Хайдеггера» Александр Михайловский говорит:
«Главный русский переводчик и интерпретатор Хайдеггера ставит под
сомнение, что "дело Хайдеггера" вообще является "нашим делом"
(в смысле участия в расследовании: Хайдеггер — реакционный
романтик? криптотомист? антифашист? нацист?), хотя бы уже
потому, что "завести дело" — это совсем другое, чем продолжать дело
самого Хайдеггера»*. Мы же цитировали Бибихина: «Но мы
ошибемся, думая, что мы совсем другие». Кажется ли это
противоречием? Михайловский говорит (цитируя иное место из Бибихина): «это
не наше дело», Бибихин — мы не другие этому делу? Вопрос здесь
о нашем «мы». Кто мы? Мотрошилова: присяжные заседатели.
Бибихин: надо заняться делом мысли Хайдеггера, а не Хайдеггера
(поскольку, занимаясь самим Хайдеггером, мы должны быть уверены
в безупречности не только дела нашей мысли, но и нас самих — а мы
безупречны? где принято это решение? или мы безупречны, пока,
указывая на других, отвлекаем от себя внимание? но хватит ли нас
надолго, не устанем ли мы от этого жеста?). Итак, есть «мы»,
которые могли бы постараться продолжить (начать, пусть и
«по-другому») дело мысли; есть иные «мы», которые могли бы заняться тем,
кто делом мысли был занят (но не его мыслью), но такие «мы»
должны быть готовы к тому, что «нами» тоже займутся такие же, не
мыслящие, «они». Должен ли мир учреждаться как круговая порука
занятий не мыслящих людей? Или не нам решать, и мир уже так
утвержден и следует ему лишь «соответствовать»? Или из этой
горизонтальной скованности возможен вертикальный выход, прорыв
(Хайдеггер говорит в самом начале второго тома «Черных тетрадей»
о «толчке»**)?
Вторую стадию мы охарактеризовали как уход из-под
очевидного идеологического гнета, ощущение свободы (распадение
общности), возникновение трудностей по самостоятельной ориентации
(стратегия приватизации) в мире, где можно было бы, как кажется,
сделать и сказать все что угодно. Опыт принудительности
сознательно вытесняется — но значит ли это, что он не заменяется тут же,
пока все смотрят на "обилие возможностей", иной, менее очевидной
(чем советское начальство) принудительностью, но оттого не менее
* Михайловский А. В. О некоторых особенностях российской рецепции
философии Мартина Хайдеггера... С. 63.
** Хайдеггер М. Размышления V1I-XI (Черные тетради 1938-1939). С. 9.
1060
M. A. Богатое
жесткой? Кажется, что альтернатива звучит не так: «принуждение /
свобода», но как «внешнее и не мыслящее принуждение /
принуждение (захваченность) делом мысли». Необходимо уйти не от любой
зависимости, но от зависимости, которая не позволяет быть собой,
свободным. Свободное, свое — оно принуждает не меньше
внешнего, напротив, захватывает полностью. «Свободная» ориентация вне
пределов идеологического гнета, ведущая к попытке приватизации
обречена на то, что мы теперь станем частичными*, теми самыми
«мы», которые способны видеть лишь частично (вспомним о второй
трудности, озвученной в начале данной статьи), частным образом —
о деле Хайдеггера, но не о деле мысли Хайдеггера.
Третья стадия: размежевание или нейтрализация Хайдеггера
(условная датировка (1994-2004, год смерти Владимира Биби-
хина). Итак, Хайдеггер больше не является прорывом или фигой
в кармане, которую можно держать перед лицом
идеологизированного начальства. Как только появилась возможность свободного
разговора о нем, сразу же включился европейский контекст («дело
Хайдеггера» и т. д.). Собственную позицию в отношении
Хайдеггера Россия начинает размечать исходя из того, кто и как
именно отреагирует на «дело Хайдеггера»** (кто виноват, что книга
Виктора Фариаса вышла в 1987 году, а конференцию по столетию
проводили в 1989, да еще и страна изменилась? — случайные
обстоятельства). В третий период начинается вольное освоение
Хайдеггера, в стране появляется множество его подражателей, о нем
* Ср.: «Частная собственность — не слышится ли здесь частичная,
несобственная собственность в сравнении с государственной и общественной,
более прочной и важной? Приватный, приватизация происходит от того же
слова (privus, privo), что наше прочь, опричник. Что выставлено, отделено,
выпало опрочъ (опричник — выделенный из всех, телохранитель царя,
совсем особый), то в исконном понимании "приватно". Значит, раньше
приватного, частного то, из чего надо было напрочь отсечь, отрубить? Отруб,
отрубное именье — независимое от латинской модели и параллельное ей
русское образование, которое в точности повторяет связанную с приватным
идею отделения» (Бибихин В. Собственность... С. 97).
'* Возможно, именно это имеет в виду Александр Михайловский, когда
говорит: «История обсуждения "дела Хайдеггера" в России начинается
осенью 1989 г., когда в Москве прошла первая международная конференция
по Хайдеггеру, впервые публично продемонстрировавшая не только
наличие самостоятельной российской рецепции Хайдеггера, но и
включенность ее в европейский контекст* (Михайловский А. В. О некоторых
особенностях российской рецепции философии Мартина Хайдеггера... С. 62,
курсив Михайловского). Думается, однако, что «самостоятельная
российская рецепция» заключалась в основном лишь в занятии позиции по
отношению к «европейскому контексту» — по меньшей мере трудно
представить, чтобы на российской почве само собой выросло что-то наподобие
«дела Хайдеггера» как его «завели» европейские интеллектуалы.
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
1061
пишутся (чаще всего произвольные) диссертации, авторы которых
не только не учитывают контекст мысли Хайдеггера, но и не владея
немецким языком и не имея доступа к оригинальным текстам,
буквально воспринимают переводы Бибихина за оригиналы. Кажется,
что такая популярность Хайдеггера вряд ли могла радовать
Бибихина. В 1997 году выходят переводы «Бытия и времени» (Бибихин),
а также «Введение в метафизику» (Гучинская)*. После этого,
начиная с 1998 года, Хайдеггер выходит фактически ежегодно (тираж
изданий продолжает падать). Владимир Вениаминович продолжает
свою переводческую и лекционную деятельность... С появлением
альтернативных переводов со стороны тех, кто из неграмотности
отождествлял Бибихина с Хайдеггером, поднимается волна
недовольства Бибихиным (плохой переводчик, ввел много своего и т. д.).
Бездумная «любовь» сменяется таким же бездумным «отрицанием»
(Гегель бы мог сказать, что в сфере «бездумного» может
происходить все что угодно, но это не представляет интереса). Но при этом
и растет число грамотных людей, начавших разбираться в
тонкостях философской мысли и получать от подобного разбирательства
удовольствие. В какой-то момент между первыми и вторыми
вспыхивает волна непонимания, на гребне которой только и возникла
иллюзия осмысленного вопроса «Почему Бибихин — не Хайдеггер?».
При этом, как мы понимаем, ни к мысли Бибихина (по
оригинальности и силе, ничем не уступающей Хайдеггеру), ни к мысли
Хайдеггера этот вопрос отношения иметь не мог. Множество частичных,
частных глаз смотрели на неохватное целое (вызывающее у них, как
в разборе категории «возвышенного» у Канта восхищающее
неудовольствие), и могли обсуждать лишь частное, привативное, то, что
можно отломить, отколоть — и, завладев артефактом, они
приходили в недоумение — «неужели же это и есть ваш Хайдеггер? а что вы
нашли в вашем Бибихине?» — и отбрасывали «обретенное» (вполне
заслуженно) прочь. Потому что приватное всегда «опрочъ». Ни
идеологического давления, ни дружеской радости, ни попытки занять
позицию (перед лицом — чего?). Все это было нейтрализовано,
не оставалось ни одной серьезной попытки занять отношение к
мысли, кроме как занявшись ею самому.
Вместо заключения
Кажется, мы охватили не все стадии, ведь, начав с 1967 года (в
котором для Алексея Федоровича Лосева статья Хайдеггера о
Платоне была новостью), мы завершили годом безвременной кончины
* Хайдеггер М. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. 452 с; Он же.
Введение в метафизику. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1997.
1062
M. A. Богатов
Владимира Бибихина, а ведь с того времени прошло уже без
малого четырнадцать лет. Почему же мы не рассмотрели жизнь вопроса
«Почему Бибихин — не Хайдеггер?» в этот период? Ведь в этот
период многое произошло: продолжают выходить работы Хайдеггера
(сейчас в основном в переводе А. П. Шурбелева, исключение
составляют упоминавшиеся «Черные тетради», выпускаемые в переводе
А. Б. Григорьева), продолжают издаваться и переиздаваться
(гораздо медленнее, поскольку это требует значительных энергозатрат)
лекционные курсы Бибихина. Кажется, что процесс различения
Бибихина и Хайдеггера уже запущен вовсю, и сейчас этот вопрос
звучит наподобие анахронизма... Кажется, что всякий, задавшийся
вопросом «Почему Бибихин — не Хайдеггер?» должен быть готов
к тому, что он принадлежит не новой, четвертой (пятой, шестой...)
из намеченных нами стадий, но застрял на первой из трех (вернуть
нынешних интеллектуалов хотя бы к ситуации 1989 года — так
видится цель по новой запустить паровоз «дела Хайдеггера», бросив
в топку его «Черные тетради», но беда в том, что нет такого
сообщества могущих работать, кому бы было от Хайдеггера радостно
просто потому, что он мыслил). "Почему Бибихин — не Хайдеггер?":
задавая этот вопрос, человек спрашивает о себе: где я нахожусь? —
даже если (и тем более если) он об этом не ведает. В каком времени?
Стоит ли уже отбросить «компаративистские» учебниковые
сравнения и, наконец, заняться мыслью, которая такая, какая есть,
случилась? Или пока еще нет? Вслед за Аристотелевым учением о
времени Бибихин сказал бы: пора.
Ю. M. РОМАНЕНКО
Сравнительный анализ онтологических концепций
М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева в свете герменевтики
В. В. Бибихина
В работе проводится сравнение оснований онтологических
учений М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева. Общим у обоих мыслителей
является понимание предельной парадоксальности бытия. Вместе
с тем имеются серьезные расхождения в формальном выражении
и методологических подходах. Поэтому сведение
соответствующего компаративистского анализа к поиску внешних сходств и
различий в их концепциях означает упрощение проблемы. Толкования
и комментарии В. В. Бибихина к работам этих авторов открывают
перспективу нетривиальной компаративистики, которая
заключается в реконструкции историко-философских предпосылок данных
учений, а также в выявлении «зеркальных» подобий их
оригинальных философских замыслов. В частности, это можно обнаружить
в совпадении онтологических интенций лосевской диалектики мифа
и хайдеггеровской событийной онтологии, в контексте их общей
критики рационалистической культуры.
Проведение сравнительного анализа философских учений
М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева представляется сложным и
непредсказуемым по нескольким причинам. Прежде всего, история XX в.,
особенно в советский период, наложила свои идеологические
ограничения на интеллектуальные контакты между этими
традициями. Разумеется, сохранившиеся личные связи и общение имелись,
но, скорее всего, в качестве исключений из правил. Хайдеггер и
Лосев оцениваются как самые масштабные фигуры германской и
русской философских традиций данного времени, однако судьба (иного
слова здесь не подберешь) не открыла возможности прямой
коммуникации между ними, которая могла бы проявиться в серьезной
эвристической интеллектуальной дискуссии. Но если они и не выска-
1064
Ю. M. Романенко
зались открыто друг о друге, это не отменяет задачи сопоставления
их учений последователями и потомками.
В случае с диадой Хайдеггера и Лосева сложно применение
стандартной компаративистской методологии. В их философских
позициях больше расхождений и различий, чем совпадений. Конечно,
сравнивать можно что угодно с чем угодно, но это должно делаться
по определенному методу и исходя из единого принципа.
Представляется, что решение данной задачи возможно в рамках косвенной
и обратной рецепции, которая может быть доведена до зеркального
взаимоотражения их интеллектуальных позиций.
По энциклопедичности, исторической эрудированности,
плодотворности, энергийной заряженности мысли у обоих философов был, судя
по всему, одинаковый потенциал. Степень ограничения свободы и
открытости мысли у того и другого мыслителя связаны с определенными
локальными историческими обстоятельствами. Однако в наши задачи
не будет входить определение влияния исторической конъюнктуры
и цензуры на конечный результат их философской деятельности.
Очевидно, что как Хайдеггер оказался выразителем немецкой и, шире,
западноевропейской философии, так и Лосев стал одним из
полномочных представителей самобытной русской философской традиции.
Каково соотношение этих школ мысли в предметном и методологическом
планах? Ответить на этот вопрос можно, только проведя
обстоятельный сравнительный анализ этих наиболее репрезентативных фигур.
Хайдеггер и Лосев были оригинальными (хотя и не бесспорными)
историками философии, особенно в отношении к античному
периоду. Комментаторы отмечают, что первый в большей мере
принадлежал аристотелизму, в то время как второй был явно ангажирован
платонизмом и, как следствие, гегельянством, которое сохранилось
у него и после марксистской «перековки». Но это различие не
строгое, поскольку оба принимали во внимание различные переходы
между данными философскими установками, исходя из принципа
историзма. Общей в их историко-философских штудиях была
ориентация на онтологические основания классических доктрин. Именно
в контексте т. н. онтологизма возможно выявление основного
пункта тождества хайдеггеровской и лосевской концепций.
На Западе является аксиомой утверждение, что именно М.
Хайдеггер реактуализировал онтологию в первой трети XX в., в
период между двумя мировыми войнами, в своем «Бытии и времени»
(1927), возобновив здесь исходное вопрошание о бытии. Это был
особый исторический контекст, в котором многие
интеллектуальные инициативы выдвигались не от хорошей жизни. По нашему
мнению, в ранних сочинениях А. Ф. Лосева (т. н. восьмикнижии),
тоже в конце 1920-х гг., в ситуации фактической интеллектуальной
Сравнительный анализ онтологических концепций
1065
оккупации и изоляции, не в меньшей мере и не с меньшей степенью
оригинальности также кардинально была фундирована онтология.
Особая роль в установлении ментального контакта, хотя бы и
виртуального, между Хайдеггером и Лосевым принадлежит В. В. Биби-
хину. Он был учеником Лосева, его секретарем-референтом, а также
переводчиком и толкователем хайдеггеровских текстов,
проводником хайдеггеровских идей на российской почве. Собственное
самобытное философствование Бибихина проявилась именно в точке
пересечения смыслов лосевского и хайдеггеровского учений. В книге
«Энергия», посвященной разбору основного онтологического
концепта у Аристотеля, Бибихин поставил такой вопрос: «...может ли
быть, чтобы русский мыслитель Лосев был близок к Хайдеггеру? » *
Его собственный ответ категоричен: «...Не может быть, чтобы два
таких ума, взращенных на одном и том же, на Гуссерле, имеющих
одинаковый опыт крушения цивилизации, умы сходного размаха,
одного возраста (Лосев пишет "Философию имени" в те же годы) —
не может быть, чтобы два таких философа, как двойня, не думали
об одном?»** Что такое это «одно» и что значит «двойня»?
Для Бибихина «двойничество», «близнечество», «зеркальность»
были не пустыми словами. Они выражают онтологическое понятие
тождества на фоне двоичности. Иначе говоря, это диалектическое
отношение тождества и различия. Или, точнее, как выразился бы
Гегель, тождество тождества и различия. Лосев, в отличие от Хай-
деггера, открыто проповедовал диалектику, не только в платонов-
ско-гегелевском ключе, но и в марксистском плане, и даже говорил
о «страсти к диалектике». Бибихин подчеркивает, что для Лосева
диалектика — «бесстрашие перед парадоксом, антиномией,
сшибкой противоречий. В основе — противоречия. Бытие такое, что
разумом его не сгладить»***. Диалектика — это наука о бытии в его
развитии, которое невозможно без раздвоения единого, единства
и борьбы противоположностей. То единое, о котором, как близнецы,
одинаково думали Лосев и Хайдеггер, есть бытие. Собственно
говоря, после Парменида все последующие онтологи одинаково
начинают мыслить начало согласно его тезису: бытие есть.
Бибихин видит в Лосеве и Хайдеггере неких интеллектуальных
«близнецов», замечая одновременно их неподобие по формальным
признакам. Рационально выразить это «двойничество»
невозможно, как невозможно и рационально выразить парадокс единого
бытия. Запредельный онтологический парадокс можно сформули-
* Бибихин В. В. Энергия. М. : Ин-т философии, теологии и истории Св. Фомы,
2010. С. 260.
** Там же.
*** Там же.
1066
Ю. M. Романенко
ровать следующим образом: нечто существует именно потому, что
не существует, и наоборот. Бибихин пишет по этому поводу:
«Реальное предельно надежно благодаря тому, что его нет»*. Эту мысль
автор высказывает в книге «История современной философии»,
имеющей подзаголовком выражение «Единство философской мысли».
Основная проблема здесь — что объединяет философов разных
времен и народов? Что именно они мыслят одинаково на фоне
многообразия частных подходов?
Если такая одинаковость мысли существует между разными
представителями рода хомо сапиенс, тогда все они определенным образом
являются «живыми зеркалами» друг другу**. Каковыми, возможно,
были Лосев и Хайдеггер, даже не зная о физическом существовании
друг друга и независимо друг от друга открывая одни и те же истины.
Вот именно это единство во двоице для Бибихина и является
основным историко-философским и персонологическим интересом, этому
посвящена его герменевтика, позволяющая провести
компаративистский анализ лосевского и хайдеггеровского наследий.
Лосев и Хайдеггер едины в том, что они мыслят парадоксальность
бытия, но, в силу этой же парадоксальности, их мысли
одновременно разные, дифференцированные. Рассудок не может справиться
с этим парадоксом. Онтологическая рациональность
принципиально иррациональна. У Лосева это проявилось в «диалектической
страсти», у Хайдеггера — в «решимости стоять в просвете бытия».
Не являются ли эти по-разному символически высказанные
авторские признания чем-то одним и тем же — взаимными зеркальными
отражениями экзистенциальных экстазов? Кант, с одной стороны,
запрещая разуму выходить за пределы возможного опыта,
чтобы не впадать в антиномии, с другой стороны, и это еще один
парадокс — методологический, провоцирует к этому трансцензусу.
А иначе как сбывается единство философской мысли?
Вот этот иррационально рационализируемый парадокс бытия,
мыслимый одинаково и Лосевым и Хайдеггером, хотя и
выражаемый в письме в совершенно разных формах, проявился у первого
в диалектической концепции мифа, а у второго — в рефлексии над
феноменом события (Ereignis). Сделаем попытку сопоставления этих
исходных онтологических интенций обоих мыслителей, рецепция
и развитие которых привели к возникновению существенных
корреспондирующих направлений философствования в России и Европе.
Бибихин В. В. История современной философии (единство философской
мысли). СПб.: Владимир Даль, 2014. С. 75.
** Романенко Ю. М. Живое зеркало и ученое незнание (Vivum speculum et
docta ignorantia) // Стасис. Т. 3. № 1. СПб.: Изд-во Европейского ун-та
в Санкт-Петербурге, 2015.
Сравнительный анализ онтологических концепций
1067
Онтология как философское учение о бытии как таковом, с
попыткой рассмотрения его с «точки зрения вечности», является
философским заданием, до сих пор не проясненным в своем основании
и целеполагании, но не наличной данностью. Каждое философское
учение, претендующее быть онтологической доктриной, определено
конкретным историческим контекстом и индивидуальными
интеллектуальными возможностями претендента. Мыслитель,
рискующий выразить словами собственную мысль о бытии, попадает в
парадоксальную ситуацию: он не может не претендовать на единую для
всех идею бытия, осознавая одновременно частность своего мнения.
Общей для всех онтологии в истории еще не создано, хотя и имеются
различные индивидуальные попытки сделать это. Именно поэтому
онтология в своей истории окружена шлейфом мифа. Каждая
подобная попытка является событием историко-философского процесса,
а в отношении биографии конкретного автора выступает мифом.
Лосевская диалектика мифа одновременно является его
онтологией*. С обратной стороны, Лосев в корпусе своих
историко-философских сочинений создал миф самой онтологии, особенно
античной. С его точки зрения, мифотворчество имманентно философскому
разуму. Главный онтологический труд Лосева — «Самое само»,
в названии которого представлено одно из возможных имен
Абсолюта**. Абсолютное является началом и концом действия
философской мысли, которые совпадают в одной неделимой точке. Согласно
Лосеву, начинать нужно с самого главного, а «самое главное — это
сущность вещей, самость вещи, ее самое само. Кто знает сущность,
самое само вещей, тот знает все»***. Абсолютное может проявиться
в любой вещи, тогда она дана уму как феномен. Имманентным
методом онтологии является феноменология, в этом аспекте Лосев, как
и Хайдеггер, был учеником Э. Гуссерля. Однако оба ученика
трансформировали феноменологию и, в отличие от гуссерлевского
проекта философии сознания с воздержанием от онтологической
установки, ориентировали ее именно на решение онтологической задачи.
Знание самого самого как единого означает знание всего, по
Лосеву. Онтология здесь предстает как панлогия. Однако, в силу
онтологического парадокса, все есть ничто. Поэтому первый подступ
к постижению феномена вещи начинается с апофатики —
определения того, чем вещь не является. Апофатический метод определяет
границы познаваемости-непознаваемости Абсолюта. На философах
лежит презумпция рационализации познаваемой действительно-
* Романенко Ю. М. Онтология мифа. СПб.: Изд-во С.-Петер, ун-та, 2006.
** Лосев А. Ф. Самое само // Лосев А. Ф. Миф — Число — Сущность. М.:
Мысль, 1994. С. 299-526.
*** Там же. С. 300.
1068
Ю. M. Романенко
сти, однако сама действительность сколь рациональна, столь и
иррациональна. Более того, иррациональное находится в самой
сердцевине рационального. И в этом, собственно говоря, заключается
парадокс Абсолютного. Единое находится за пределами множества
и, одновременно, присутствует в каждом отдельном его элементе.
В трактате «Самое само» Лосев развивает идею Единого
неоплатоников, которое настолько трансцендентно, что ему даже не
присуща категория бытия. Первая дилемма, с которой здесь сталкивается
мысль: есть или не есть? Хайдеггеровский онтологический проект
также исходит из такой апофатической установки: бытие есть ничто
из сущего. Именно отсюда Хайдеггер выводит свою идею
онтологической дифференции между бытием и сущим.
А. Ф. Лосев создает свою онтологическую концепцию в свете
мифа, являющегося порождающим лоном самой философии. Он
пишет: «Первое зачатие мысли происходит в таинственной и какой-то
волшебной — без преувеличения можно сказать, мифической —
обстановке»*. В мифе, как «живой и реальной картине разума и
бытия», утверждает Лосев, практически повторяя хайдеггеровский
тезис об онтологической разности, «бытие вечно раздваивается,
дифференцируется, и оно же вечно превращается в единство,
интегрируется. В этой борьбе различений и отождествлений и состоит
вся реальная жизнь разума и бытия»**. То есть в этой
диалектической стихии осуществляется онтология как таковая.
По Хайдеггеру, европейская стандартная философия постоянно
упускает эту онтологическую дифференцию, забывая бытие и
превратно толкуя смысл сущего. И у Лосева, и у Хайдеггера граница
между бытием и сущим является «границей границ» — самим
небытием. Существование каждой частной вещи половинчато, ей не
присуще полное бытие. Где находится другая половинка, остальная
«часть» вещи — принципиально непонятно. Но если всё же такие
недостающие и восполняющие части вещей существуют, то их
местообитание находится по ту сторону этой онтологической
границы — в самом бытии. Лосев пишет: «...Если что-нибудь существует
отчасти, то оно может (пусть хотя бы только мысленно — смысл ведь
и есть нечто мысленное) существовать и полностью» ***. Отсюда
получается, что бытие как таковое и есть сам миф, в лосевском
понимании этого слова.
Таким образом, лосевская онтология представлена в его
работе «Самое само», а учение о мифе, соответственно, в «Диалектике
мифа». В обоих трудах, взятых в их существенной связи, Лосев кар-
* Лосев А. Ф. Самое само. С. 407.
** Там же. С. 408.
*** Там же. С. 497.
Сравнительный анализ онтологических концепций
1069
динально онтологизирует миф, параллельно мифизируя онтологию.
Миф есть предельное развитие образа, выражающего бытие
Абсолюта. Лосев даже говорит об абсолютном мифе*. Он пишет: «Всякий
миф тем и отличается от простого поэтического образа, например
от метафоры, что он возвещает нам именно о действительно
существующем»**.
Самой краткой дефиницией, которую дает Лосев, является
следующая: «Миф есть чудо»***. Естественное человеческое отношение
к чуду, диву — удивление, с которого, как известно из античной
классики, начинается философия. Далее он проясняет смысл
данного феномена: «Самое слово "чудо" во всех языках указывает на этот
момент удивления явившемуся и происшедшему — греч. 0(Ш|ш, лат.
miraculum-mirror, нем. Wunderbe wurden, славянское чудо. Чудо
обладает в основе своей, стало быть, характером извещения,
проявления, возвещения, свидетельства, удивительного знамения,
манифестации, как бы пророчества, раскрытия, а не бытия самих
фактов, не наступления самих событий»****.
Истолковывая это лосевское определение в онтологическом
плане, можно сказать, что миф повествует о том, как трансцендентное
единое бытие становится имманентным единичному сущему в
чудесном событии его творения и воплощения. Такая интерпретация
позволяет провести сравнительный анализ лосевского понятия
мифа и хайдеггеровского концепта события. Сопоставим
последнюю цитату из Лосева со следующим хайдеггеровским фрагментом.
В работе «Преодоление метафизики» Хайдеггер, призывая «беречь
тайну Бытия», писал: «Ни одно изменение не приходит без
опережающего указывающего путеводительства. Но как сможет достичь нас
какое-то путеводительство, если не высветится Событие, которое,
призывая, требуя человека, озарит его существо, даст ему сбыться
и в этом осуществлении выведет смертных на путь мыслящего,
поэтического обитания на земле»*****.
Как Хайдеггер не нагружал принципиальным смыслом
слово «миф», так и Лосев не акцентировал онтологическое внимание
на понятии «событие». Там, где Лосев говорит о мифе, Хайдеггер
подразумевает событие, и наоборот. Именно в этих сущих словах,
допуская их практическую смысловую синонимизацию и взаимо-
* Бибихин В. В. Абсолютный миф А. Ф. Лосева // Начала. 1994. № 2-4.
'* Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития:
В 2 кн. М.: Искусство, 1992. Кн. 1. С. 405.
'* Он же. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. С. 537.
" Там же. С. 551-552.
" Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие:
Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 178.
1070
Ю. M. Романенко
замену, просвечивает то единство, в котором философы одинаково
мыслили бытие. А. Ф. Лосев и М. Хайдеггер, действительно как
двойня, по верному и чуткому наблюдению В. В. Бибихина,
восполняют недостатки друг друга в общем движении философской
мысли к бытию. Еще одним моментом, сближающим лосевский
и хайдеггеровский подходы, является интерпретация Хайдеггером
в онтологическом направлении кантовского учения о способности
воображения, корреспондирующая с лосевской онтологической же
трактовкой мифа, который, по сути, есть автономная сфера
воображаемого*.
В. В. Бибихин указывает на недоступность рациональному де-
финированию хайдеггеровского события. То же самое говорилось
и в отношении лосевского мифа. Событие всегда первично, его
рационализация всегда запаздывает и не может без него начаться.
Бибихин пишет: «Понятия теперь высвечиваются (вспыхивают) по мере
разрастания всеопределяющего события, Ereignis, которое из-за
своей сущностной новизны исключает систему, куда его можно
было бы вписать»**. Если все-таки и возможно, паче чаяния,
рационально определить событие, то, вероятно, в такой иррациональной
формулировке-интерпретации, которую предлагает Бибихин: «Три
главных аспекта Ereignis, а именно озарение (настоящая
этимология, от das Auge), возвращение к своему собственному (народная
этимология через das Eigene) и полнота (совершенность события)
тоже не образует структуры типа гегелевской триады; это троица
тожественных, потому что открытие собственно того самого есть
вместе озарение и полнота»***.
Можно допустить, что В. В. Бибихин, действуя как некий
проводник-переводчик, мыслил Хайдеггера через Лосева, и наоборот.
Не будучи третейским судьей, он создал условие для встречи мыслей
этих значимых философов, раз уж история не допустила их
реальной встречи. Их очная ставка происходит в событии мифа. В этом,
на наш взгляд, заключается уникальность его герменевтики, на
основе которой создавались и собственные оригинальные работы
самого Бибихина, благодаря чему случилось событие взаимной,
зеркальной рецепции русской и немецкой мысли.
* Романенко Ю. М. Миф как наука о формах правильного воображения //
Мифология и повседневность. СПб.: Изд-во РХГА, 1998.
'* Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару. М.: Ин-т
философии, теологии и истории Св. Фомы, 2009. С. 497.
'* Там же.
5
Д. С. ЛЕБЕДЕВ
Проблема мифа в философии М. Хайдеггера
и А. Ф. Лосева
Среди философов XX в. М. Хайдеггер и А. Ф. Лосев стоят
особняком и имеют определенное сходство между собой. Оба они,
испытав влияние феноменологической философии, не принадлежат тем
не менее к какому-то конкретному философскому направлению, оба
находились в оппозиции к обществу. И Хайдеггер, и Лосев были
влюблены в античность, в древнегреческую философию и мифологию.
Наконец, у обоих философов были ученики, но ни Лосев, ни
Хайдеггер не оставили после себя какой-либо философской школы.
Разумеется, это лишь внешнее сходство их философских судеб, но оно
делает интересным и важным проведение сравнительного анализа
их взглядов на глубинные и сходные элементы их воззрений.
Таких у столь крупных мыслителей может быть много, и выполнение
этой задачи требует самостоятельного и обширного исследования.
В данной же работе предлагается наметить опорные точки
сравнительного анализа ключевого для обоих мыслителей представления
о мифе — о его содержании, сущности и функциях.
В своей работе «Диалектика мифа» А. Ф. Лосев всесторонне
рассматривает понятие мифа с помощью своего метода, который
можно охарактеризовать как апофатическую диалектику. Она
состоит в том, что постижение объекта происходит не путем
приписывания ему предикатов, а, наоборот, путем их поочередного
отрицания. <...>Использование апофатики как гносеологического
метода, облеченного в форму диалектики, является своеобразной
отличительной чертой философствования Лосева. Применение
этого метода позволяет мыслителю очистить миф от наносных, чуждых
ему свойств и получить, если можно так сказать, чистое его
понятие. Миф, по Лосеву, не есть вымысел или аллегория, не есть догмат
или поэма, он не есть идеальное бытие или историческое событие.
И хотя он действительно может отсылать к каким-то событиям, быть
облеченным в поэтическую форму или содержать в себе аллегориче-
1072
Д. С, Лебедев
ские или схематические слои, все это является для мифа внешним
и второстепенным. Миф не есть также некое «примитивное» знание
о природе, со временем, в ходе развития человечества,
превратившееся в науку. Лосев пишет, что сама наука мифологична, поскольку
в основе своей она всегда содержит тот или иной миф. <...> С точки
зрения Лосева, чтобы правильно понять миф, следует самому встать
на точку зрения мифа, нужно самому стать мифическим субъектом.
Для этого необходимо «вообразить, что мир, в котором мы живем
и существуют все вещи, есть мир мифический, что вообще на свете
только и существуют мифы. Такая позиция вскроет существо мифа
как мифа. И уже потом только можно заниматься гетерогенными
задачами, например "опровергать" миф, ненавидеть или любить его,
бороться с ним или насаждать его»*.
Миф видится Лосевым как необходимая категория сознания
и бытия. Можно сказать, что миф — дологичен, он предшествует
логическому, еще до всяких представлений о логике субъект уже
имеет миф, сам пребывает в мифе. Миф обладает истинностью, но это
именно мифологическая истинность, подчас не имеющая никакого
отношения к истинности научной. Философ постоянно
подчеркивает, что миф фундирует науку, в любом научном построении, в любой
теории уже лежит тот или иной миф. Лосев приходит к выводу, что
миф обладает субъектным характером, и между мифом и
воспринимающим его субъектом существует субъект-субъектное
бытие-общение. Философ дает несколько определений мифа, постепенно
сокращая их, пока не останавливается на следующей дефиниции: m Миф
есть бытие личностное или, точнее, образ бытия личностного,
личностная форма, лик личности»**.
<...> Абсолютизируя миф, Лосев тем самым релятивизирует
все остальное, наука и та или иная философская система
оцениваются им не исходя из их объективной истинности, а исходя из
эстетического качества мифа, лежащего в их основе. Если в основе
всего, что построено сознанием, лежит миф, то важно именно то, какой
это миф, насколько он привлекателен и красив. Например,
ньютоновскую механику Лосев отбрасывает не потому, что она в основе
своей не истинна, а потому, что она представляется философу
пугающей и отталкивающей: «...Механика Ньютона построена на
гипотезе однородного и бесконечного пространства. Мир не имеет
границ, т. е. не имеет формы. Для меня это значит, что он — бесформен.
Мир — абсолютно однородное пространство. Для меня это значит,
* Лосев А. Ф. Диалектика мифа. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2014. С. 35.
'* Там же. С. 115.
Проблема мифа в философии М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева 1073
что он — абсолютно плоскостей, невыразителен, нерельефен.
Неимоверной скукой веет от такого мира»*.
<...> Миф, таким образом, для Лосева есть, прежде всего, именно
эстетическая категория, причем такая, которая лучше всего
характеризует ту личность, которая этот миф исповедует. Сам миф —
личностей, он неотделим от своего носителя, при этом не важно,
коллективный ли это миф или индивидуальный. Он является
именно «ликом личности», привлекательным или отталкивающим.
Пожалуй, правомерно сказать, что для Лосева была бы верной фраза
«Скажи мне, во что человек верит, и я скажу, что это за человек».
Красота мифа есть единственный критерий его мифической
истинности. Представляется обоснованным предположение, согласно
которому для Лосева красота и истина совпадают, истина — всегда
прекрасна, а подлинная красота — всегда истинна.
<...> Не без оснований можно заключить, что символ является
одной из главных тем философской системы Лосева. Тематика символа
проходит магистральной линией через все произведения
мыслителя, ярче всего, пожалуй, проявившись в работах «Философия
имени», «Диалектика мифа», «Очерки античного символизма» и в его
посмертно опубликованной работе «Самое само». Лосев фиксирует
понятие символа как «такую вещь, которая означает то самое, что
она есть по существу»**. ...Символ выражает всю полноту
обозначаемого, он есть такой знак, в котором всецело присутствует не только
его значение, но и само означаемое. Небезынтересно было бы
отметить сходство понятия символа в интерпретации Лосева с тем, как
символ определяется П. Флоренским: «...Символ — это нечто
являющее собою то, что не есть он сам, большее его, и, однако, существенно
через него объявляющееся»***. В «Философии имени» Лосев
понимает символ как отражение эйдоса первоначала (понимаемое Лосевым
в духе апофатической онтологии, т. е. как Сверхбытие, Первоединое)
в своем инобытии: «Символ — не эйдос, но воплощенность эйдоса
в инобытии, и притом не обязательно в реальном и фактическом
инобытии. Символ в собственном смысле слова есть именно не реальный
переход в инобытие, но смысловая же вобранность инобытия в эйдос.
Эйдос, оставаясь столь же чисто эйдетическим, вбирает в себя
инобытие как материал, перестраивается, заново создается; и уже
оказывается в нем внутреннее и внешнее, хотя и даны они оба — в своем
полном самотождестве. Отсюда, символ и есть неисчерпаемое богатство
апофатических возможностей смысла»****.
* Там же. С. 48.
** Там же. С. 254.
*** Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. С. 287.
**** Лосев А. Ф. Философия имени. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 112.
1074
Д. С. Лебедев
Если символ представляет собой выраженный в инобытии эйдос,
причем так, что и инобытие как материал, и эйдос как смысловая
субстанция слиты в нем до «полного самотождества», то только апофати-
ческий подход позволяет раскрыть содержание символа, или, вернее,
позволит максимально приблизиться к этому раскрытию — ведь
символ есть отражение эйдоса Первоначала, которое непознаваемо,
значит, и он сам отчасти непознаваем. Именно поэтому Лосев
утверждает, что символизм есть апофатизм, и апофатизм есть символизм»*.
Лосев подчеркивает таинственный характер символа. Подлинная
тайна есть то, что никогда не может быть раскрыто. Можно
бесконечно углубляться в познание символа, и при этом всегда останется
какая-то скрытая сторона, поэтому Лосев пишет о символе как о
«тождестве знания и незнания» **. Сказанное позволяет предположить, что
личность для Лосева фиксируется не просто как индивидуальность,
не просто как деятельный субъект, которому противостоит объект,
но как символическая живая тайна. Соответственно, миф как «лик
личности» является содержательным оформлением этой тайны, ее
выражением. С точки зрения Лосева, миф историчен, он выражает
историю личности, ее биографию: «Миф есть слово о личности, слово,
принадлежащее личности, выражающее и выявляющее личность»***.
...Онтология мифа более подробно рассмотрена в статье С. С. Хору-
жего****, в которой автор детально разбирает в т. ч. и онтологический
аспект мифа. Наконец, миф как выразительная и эстетическая
категория, словесно выражающая судьбу и историю личности,
сближается Лосевым с понятием имени. Имя — это то, что неотъемлемо
присуще личности, оно, как пишет Лосев, суть «слово о
личности»*****. Поэтому окончательной дефиницией, на которой философ
завершает диалектику мифа, является следующая: «Миф есть
развернутое магическое имя»******. Не без оснований можно предположить,
что миф является для Лосева таким понятием, в котором сходятся
ключевые темы, волновавшие философа: символ, имя, личность.
Не претендуя на исчерпывающее раскрытие всех аспектов
проблематики мифа в философии А. Ф. Лосева, можно сделать
следующие выводы из предшествующего анализа: во-первых, миф
понимается Лосевым как эстетическая и выразительная категория.
Абсолютизация понятия мифа как эстетической и выразительной
* Лосев А. Ф. Философия имени. С. 113-114.
Он же. Вещь и имя. Самое само. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2008. С. 230.
*** Он же. Диалектика мифа. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2014. С. 266.
Хоружий С. С. Арьергардный бой. Мысль и миф А. Лосева // Вопросы
философии. 1992. № 10. С. 112-138.
***** Лосев А. Ф. Диалектика мифа. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2014.
С. 266.
****** Там же. С. 267.
Проблема мифа в философии М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева 1075
категории позволяет мыслителю оценивать науку, философию
и культуру с точки зрения эстетичности мифа, лежащего в их
основе. Во-вторых, Лосев подчеркивает личностный характер мифа.
Миф есть рассказ о личности, выражающий ее судьбу и историю.
Далее, миф понимается Лосевым как онтологическая категория,
и, в-четвертых, миф для Лосева является центральным понятием,
связывающим тематику символа, личности и имени воедино.
В отличие от Лосева, который посвятил проблеме мифа целую
книгу, Хайдеггер не исследует эту тему целенаправленно, у него
нет работы, посвященной только и исключительно мифу. Однако
во многих своих текстах философ размышляет о мифе, так что
представляется возможным, рассмотрев и сопоставив различные
фрагменты, зафиксировать его понимание мифа. В своей работе «Что
такое метафизика?» Хайдеггер выделяет два типа мышления. Первый
тип — мышление исчисляющее. Такое мышление заранее мыслит
все сущее уже исчислимым и исчисляет исчислимое. Для такого
мышления исчислить нечто — значит понять, или, иными словами,
«превращение исчислимого в исчисленное применительно к сущему
считается объяснением его бытия»*. Это мышление необходимым
образом должно порождать свой предмет — исчисляемое, — чтобы
продолжать свое существование. С точки зрения Хайдеггера, такое
мышление характерно для современно науки, для которой исчислять
предмет — т. е. узнавать его массу, объем, размер и т. д. — значит
познать его. Исчисляющему мышлению противостоит сущностное
мышление, т. е. мышление подлинное, «мышление мысли
которого не исчисляют, но и вообще определяются другим сущего»**.
Сущностное мышление, пишет Хайдеггер, «вместо того чтобы исчислять
сущее с помощью сущего... расточая себя в бытии, стремиться лишь
к истине бытия» ***. Это мышление не ищет опоры в сущем, но мыслит
бытие и его истину. Это мышление аутентичного экзистирования
человека в мире, в то время как первый тип мышления соответствует
экзистированию неаутентичному. В своей работе «Что значит
мыслить?» Хайдеггер выдвигает решительный тезис: «Наука не может
мыслить»**** — этот тезис выглядит подчеркнуто провокационно...
Наука прекрасно умеет исчислять, но не умеет мыслить, между ней
и мышлением существует пропасть, «причем такая пропасть, через
* Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Лекции о метафизике. М.: Языки
славянских культур, 2010. С. 44.
** Там же. С. 45.
*** Там же.
'** Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Разговор на проселочной дороге:
Избранные статьи позднего периода творчества. М.: Высшая школа, 1991.
С. 137.
1076
Д. С. Лебедев
которую невозможен мост. От науки в мышление нет мостов,
возможен лишь прыжок. А он принесет нас не только на другую сторону,
но и в совершенно другую местность. То, что с ней откроется, нельзя
доказать»*. Не без оснований можно выделить сходство в такой
позиции между Хайдеггером и Лосевым: оба философа полагают, что
истина лежит вне области науки, вне сферы ее компетенции. Вслед
за этим Хайдеггер утверждает: в отличие от науки, то, о чем
говорит миф, «по своей сущности, было, есть и будет более всего
достойным мышления» **. Таким образом, становится понятно, что миф для
Хайдеггера — это именно то, что относится к сущностному
мышлению, которое мыслит не сущее, но бытие в его истине. Хайдеггер
понимает миф как сказание, т. е. то, что сказывает о чем-то,
раскрывает смысл чего-то. Здесь представляется необходимым сделать
отступление и рассмотреть проблему онтологической разницы, <...>
ключевой для понимания философии Хайдеггера.
Хайдеггер различает сущее и бытие. К бытию Хайдеггер
применяет апофатические категории: он отказывается говорить о нем
катафатически, утверждая, что оно есть вот это или вот то. Так
говорят о сущем, о бытии же нельзя даже сказать, что оно есть —
оно не есть, но «имеется», «присутствует». «Бытие сущего само
не "есть" сущее» ***, — пишет Хайдеггер в «Бытии и времени». Бытие
нельзя низводить до уровня сущего, оно выше сущего, сущее
только и возможно благодаря бытию. Иерархическое отношение
между сущим и бытием фиксируется в следующих словах Хайдеггера:
«Бытие может обходиться и без сущего, но вот сущего не бывает без
бытия»****. Бытие может являть себя — в первую очередь оно
являет себя человеку, когда тот сталкивается с ничто — именно перед
лицом ничто человеку открывается, по мысли Хайдеггера, бытие
окружающего сущего. Однако встреча с ничто мало говорит
человеку о бытии — она скорее просто свидетельствует о нем. Само же
бытие, с точки зрения философа, присутствует в языке, который
ни в коем случае нельзя понимать как простое средство для
общения. Язык есть «дом бытия», т. е. место, где живет бытие и откуда
оно артикулирует себя. Представляется, что способы артикуляции
бытия через язык могут быть различные — это может быть
неаутентичная артикуляция в духе das Man — например, толки, т. е.
беспочвенная речь, болтливость и индифферентная понятливость
как экзистенциал неаутентичного Dasein'a. Подлинная же артику-
* Хайдеггер М. Что значит мыслить? С. 138.
** Там же. С. 140.
*** Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект, 2011. С. 6.
Он же. Что такое метафизика? // Лекции о метафизике. М.: Языки
славянских культур, 2010. С. 42.
Проблема мифа в философии М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева 1077
ляция бытия возможна через поэзию, которая и позволяет
проявиться истине бытие как несокрытости. Поэзия для Хайдеггера — это
онтологическая сила самого языка, благодаря которой возможно
размыкание человеческой экзистенции. Можно выдвинуть
следующий тезис: одной из таких форм артикуляции бытия является миф.
Основанием для этого тезиса служит следующая фраза Хайдеггера:
« ...Боги греков — это не "личности", владычествующие над бытием,
они скорее есть само бытие, взирающее в сущее»*. Соответственно,
миф о богах — это сказание о бытии и одновременно артикуляция
бытия в оказывании, именно поэтому далее Хайдеггер дает такую
дефиницию мифа: «Миф есть слово как именование бытия»**.
Если сравнить это определение с окончательной формулой
Лосева — миф как развернутое магическое имя, — то остается только
поразиться сходству дефиниций у двух философов. Теперь, найдя
дефиницию мифа у Хайдеггера, представляется возможным
сравнить и проанализировать содержание дефиниции с проблематикой
мифа у А. Ф. Лосева.
Из общего в понимании мифа можно выделить следующее:
1. Оба философа сближают понятие мифа и понятие имени. Оба
согласны с тем, что миф — это в первую очередь именование,
выраженное в слове. Для Лосева имя — диалектический синтез личности
и ее выражения. В мифе выражается имя личности, причем не
простое имя, а «магическое», то есть имя, неотделимое от сферы
чудесного, которая является одновременно сферой священного,
сакрального. Для Хайдеггера «имя как первое слово есть то, что позволяет
именуемому появиться в его изначальном способе бытия» ***. Иными
словами, сущее появляется в бытии только после того, как получает
имя: « ...цгЮос именует бытие в его изначальном взирании в
несокрытое, в его изначальном просиянии»****, миф именует богов. Боги же
понимаются философом также как область священного.
2. Оба философа подчеркивают выразительный характер мифа.
Для обоих миф есть священное сказание, выражающее истину:
в случае Хайдеггера — истину бытия, в случае Лосева — истину
личности.
3. И Хайдеггер, и Лосев отрицают позитивистский подход к
пониманию мифа. Для каждого из них миф не есть просто сказка, или
метафора, не есть просто рассказ об историческом событии или
антропоморфизм.
* Хайдеггер М. Парменид. СПб.: Владимир Даль, 2009. С. 241.
** Там же. С. 244.
'* Там же.
'* Там же.
1078
Д. С. Лебедев
4. Представляется правомерным выдвинуть гипотезу, согласно
которой миф для обоих философов есть символ. Если использовать
категорию символа, предложенную Лосевым — «вещь, которая
означает то самое, что она есть по существу», то в случае Хайдеггера
миф есть именование бытия самим бытием, иначе говоря, в самом
выражении уже присутствует выражаемое. Таким образом, можно
зафиксировать символическое измерение в понятии мифа и у
немецкого мыслителя.
Из различий в понимании мифа представляется возможным
выделить такие пункты:
1. Для Хайдеггера не любой миф является именованием бытия.
Таковым ему представляется именно греческий миф о греческих
богах. Что касается христианских мифологем, то представляется,
что Хайдеггер видит в них скорее именование сущего, но не бытия.
Для Лосева же дело обстоит другим образом: признавая греческие
и иные мифологемы, мыслитель отдает им должное, но
подчеркивает, что наиболее совершенным выражением мифической истины
является православное предание: «Глубочайшее и интереснейшее
развертывание мифа из первичного магического можно найти в массе
христианских текстов»*.
2. Лосев постоянно подчеркивает личностный характер мифа.
Миф, с точки зрения Лосева, неотделим от личности, он выражает
ее историю, ее судьбу. Миф именует личность. Для Хайдеггера же
миф именует бытие, но бытие не понимается Хайдеггером как
личность. В этом смысле он пишет, что «греки не знали ни "субъектов»,
ни "личностей"»**, а греческие боги «отличаются от всех прочих
богов, включая христианского», потому что они «берут начало из
самой бытийной "сущности", из "глубинно бытийствующего"
бытия»***. <...>
^Ч^
* Лосев А. Ф. Диалектика мифа. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014.
С. 267.
'* Хайдеггер М. Парменид. СПб.: Владимир Даль, 2009. С. 240.
'* Там же. С. 241.
«^
Д. Ю. ДОРОФЕЕВ
Хайдеггер и философская антропология
<Фрагменты статьи >
В октябре 1929 года Мария Шелер, третья жена Макса Шелера,
пригласила Хайдеггера к себе домой, воФранкфурт-на-Майне, чтобы
он просмотрел архив ее мужа, умершего в июне прошлого года. Надо
сказать, что Хайдеггеров не связывали с Шелерами дружественные
отношения, наподобие тех, какие были у них, например, с Карлом
и Гертрудой Ясперсами в 20-х годах. А ведь архив — это след всего
самого сокровенного и значимого, что планировалось и оказалось
незаконченным творческим духом почившего философа. И можно
предположить, что открыт он может быть только для близкого
человека. И тем не менее именно Хайдеггер оказался в центре тех
проектов, которые беспокоили мысль Шелера в последние годы его жизни,
и главным из них был проект философской антропологии. Тот факт,
что Хайдеггер подробно смог ознакомиться с планами шелеровской
разработки философской антропологии, очень характерен и
знаменателен. Да, Хайдеггер и Шелер не были близкими друзьями и их
философии по основополагающим позициям обнаруживали больше
расхождений, чем единения в отношении осуществления
феноменологического метода в сфере непосредственного раскрытия
феноменальности человеческой жизни. Но было и то, что их объединяло:
каждый из них, как говорит Плеснер, исполняет свою, по-своему
видимую «симфонию взглядов, бросаемых в Абсолютное», и эти
симфонии волей-неволей были тесно связанными друг с другом хотя бы
потому, что раскрываемые в них проблемы оказались на переднем
фронте самых актуальных философских разработок. И современная
философия, чтобы пойти дальше, не может не вернуться к
развернувшему себя здесь осевому для мысли спору философской
антропологии и фундаментальной онтологии, личности и бытия. А начнем
продумывать эту проблему с как раз, казалось бы, не таящего за со-
1080
Д. Ю. Дорофеев
бой чрезмерной философской значимости приглашения Хайдеггера
для работы в архиве Шелера, и будем надеяться, что именно отсюда
мы сможем выйти к пониманию сложных отношений, сложившихся
у Хайдеггера с философской антропологией.
<...>Хайдеггер к этому времени был уже общепризнанной
философской знаменитостью и находился в постоянно его окружающих
лучах славы. Такому положению он был обязан как знаменитым
в университетских кругах Германии лекционным курсам, так и
подтвердившей их значительность одновременно defacto и dejuro
публикации «Бытия и времени». <...> Шелер был одним из немногих,
если не единственным, философом, кто сумел понять подлинный
замысел этого произведения, посланного ему автором сразу после
выхода в 1927 году, а в одной марбургской лекции в 1928 году он
оценил смерть Шелера как «впадание философии во тьму»
(заметим, что такая высокая оценка Шелера не являлась повсеместной
в философских кругах — Ясперс, например, в одном письме Хайдег-
геру назвал его «поверхностным»*).
<...> Так вот, не исключено, что именно атмосфера близости
Хайдеггера философской антропологии, витающая в конце 20-х в
кругах философской общественности, способствовала его приглашению
Марией Шелер, которой нужно было упорядочить и
систематизировать оставшиеся труды в перспективе их будущего возможного
издания (она будет единоличной издательницей этих трудов до
своей смерти в 1969 году), для чего необходим был совет знающего
и уважаемого человека. Но сам Хайдеггер эту близость не
признавал, что и старался дать понять как в своем выступлении
«Философская антропология и метафизика Dasein» 25 января 1929 года
во Франкфурте-на-Майне перед Кантовским обществом, так и, еще
более четко, в вышедшей в этом же году книге «Кант и проблема
метафизики», которая, кстати, была посвящена памяти Макса Шелера
и исходила, как напишет Хайдеггер в предисловии, из «наших с ним
последних бесед (видимо, кельнских. — Д. Д.), в которых автор еще
раз смог ощутить свободную силу его духа»**. Так или иначе,
работа в шелеровском архиве помогла Хайдеггеру найти более полную
и обоснованную философскую формулировку отношения
фундаментальной онтологии к философской антропологии за счет
ознакомления с принципиальными, осевыми трудами Шелера — такими, как
«Философская антропология», «Метафизика», «Теория познания»
и др., — оставшимися незавершенными, но дающими понять
тонкости установок философско-антропологического мышления и кри-
* См.: Хайдеггер-Ясперс. Переписка / Пер. И. Михайлова. М., 2001. С. 84.
** См.: Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики / Пер. О. В. Никифорова.
М., 1997. C.I.
Хайдеггер и философская антропология
1081
тику ими «озабоченной онтологии» Хайдеггера (в частности, Шел ер
собирался подробнейшим образом разобрать «Бытие и время» в
пятой части своего труда «Идеализм-реализм»).<...> Позиция
Хайдеггера по отношению к философской антропологии вытекает из его
понимания философии как фундаментальной онтологии.<...>Если
для позднего Канта философским приоритетом и истоком является
вопрос о человеке, благодаря чему в качестве «первой философии»
начинает утверждаться философская антропология, то для
Хайдеггера таким приоритетом выступает вопрос о бытии, причем не
сущего, а самого по себе, что позволяет ему называть «первой
философией» фундаментальную онтологию. Получается, что философская
антропология и фундаментальная онтология вступают друг с
другом в непримиримый за спор за то, кто же будет иметь право носить
статус «первой философии» и соответственно определять собой всю
сущность философии, все области ее проявления. И расхождение
философской антропологии Шелера и фундаментальной онтологии
Хайдеггера состоит в том, что в первом случае ориентация
направлена на личность, а во втором — на бытие. Поэтому особо важно понять
соотношение у Хайдеггера человека как отдельного сущего и бытия.
<...> Поскольку бытие не «есть» и оно не пребывает отдельно само
по себе от сущего, то «онтология не позволяет обосновать самое себя
чисто онтологически»*; значит, сама философия как
фундаментальная онтология может быть только тогда, если условием ее
возможности будет сущее, деятельность которого как раз и будет
осуществляться в том, чтобы размыкать, вы-являть бытие. Это сущее и есть
Dasein. Будучи сущим, Dasein не просто «есть», как все остальное
сущее, но создает собой, своим существованием (ведь сущность
Dasein — в его экзистенции**) просвет, в котором и является как
бытие самого Dasein, так и бытие сущего. Dasein не бытие, потому что
оно сущее; но оно особое сущее, потому что является голосом,
окном, про-явлением бытия. А бытие — и здесь Хайдеггер принимает
тезис Гегеля — и Ничто принадлежат друг другу, но не,по своей
неопределенности и непосредственности (такие точки зрения на бытие
Хайдеггер считал основными заблуждениями в истории западной
философии), «а потому, что само бытие в своем существе конечно
и обнаруживается только в трансценденции выдвинутого в Ничто
человеческого бытия»***. Эта вовлеченность в Ничто является
условием отрицания, или редукции, или преодоления, или отрешенно-
* Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / Пер. А. Г. Чернякова.
СПб., 2001. С. 23.
** Он же. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М., 1997. С. 42.
*** Он же. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и
выступления / Пер. В. В. Бибихина. М., 1993. С. 25.
1082
Д. Ю. Дорофеев
сти сущего на пути размыкания бытия, что Хайдеггер и называет
трансценденцией и в чем он видит залог свободы*. Заметим по ходу,
что Хайдеггер называет трансценденцией то само бытие, то
деятельность Dasein по выступанию за сущее в целом; это может говорить
только о том, что бытие и Dasein связаны совершенно особым
образом, т. е. что Dasein способно явить собой бытие в разомкнутом, или
несокрытом, виде, а это значит, что трансцендентностью является
сам характер взаимосоотнесенности человека и бытия<...>Но для
этого должно отрешиться от сущего. Получается, что Dasein,
являясь представителем сферы онтического, осуществляет себя в
преодоление этой сферы, создавая тем самым возможность просвета бытию
в нем именно в качестве определенного сущего.
<...> Если в своих основных работах конца 20-х — «Бытие и
время», «Основные проблемы феноменологии», «Кант и проблема
метафизики» — Хайдеггер, как мы уже отмечали выше, делает акцент
на онтическое (Dasein) как способ обоснования онтологического
(бытия), то с тридцатых годов положение постепенно, но неуклонно
меняется на обратное. Лекции 1935 года «Введение в метафизику»
посвящены анализу и попытке дать ответ на вопрос «Почему вообще
есть сущее, а не наоборот — ничто?», и уже в самом начале
Хайдеггер определяет свою позицию в этом вопросе: в нем идет речь о
выявлении основы сущего, которая уже не может рассматриваться
внутри сущего, а только как или перво-основа (Ur-grund), безосновная
бездна (Ab-grund) или без-основность (Un-grund). Таким образом,
центр внимания перемещается на проблему вопрошания об
онтологическом как способе обоснования онтического. И вот результат
такой позиции: «Уразумев весь смысл вопроса "почему вообще есть
сущее, а не наоборот — ничто?", мы должны вовсе перестать
интересоваться каждым особенным сущим, не выделяя и человека» **.
Можно сказать, что человек интересует Хайдеггера не как сущее, пусть
даже и особенное, а как голос бытия. Такая установка заложена
и в «Бытии и времени», но если там в соотнесенности
«человек-бытие» осевым центром была аналитика Dasein<...>, то теперь
выступающий все больше и больше приоритет бытия подавляет собой
значимость присутствия человека в онтологическом контексте. Само
действительное осуществление вопрошания этого вопроса уже есть
для Хайдеггера свершение (Geschehnis) — свершение бытия,
которое раскрывается в результате прыжка (Sprung), в котором человек
растворяет себя в перво-истоке, «выпрыгивая-из-своей-основы»***.
* Хайдеггер М. Что такое метафизика? С. 22.
к* Он же. Введение в метафизику / Пер. Н. О. Гусинской. СПб., 1998. С. 89.
'* См.: Там же. С. 90-91.
Хайдеггер и философская антропология
1083
<...> Таким образом, если в «Бытие и времени» уникальность
и неповторимость конкретного человека растворялась или
«снималась» в экзистенциализме Dasein как обобщенном
трансцендентально-онтологическом субъекте, служащего бытию главным
образом на путях философии как фундаментальной онтологии, то позже
даже этот Dasein'экзистенциализм был принесен в жертву
подавляющему его активно-монистическому проявлению «силы и власти
бытия». И не случайно Юрген Хабермас относит начало этого
поворота (Kehre) Хайдеггера от экзистенциальной онтологии к
философии бытия в его историчности именно к 1929 году*, когда была
издана книга о Канте, проведена принципиальнейшая дискуссия
с Кассирером в Давосе, наконец, была четко оформлена позиция
по отношению к философской антропологии (в том числе и
благодаря работе в шелеровском архиве).
<...> Для развития этой линии Хайдеггер опирается на два
основных понятия: понятия сверхвластия (Ubergewalt) бытия,
которое особенно полно развивается в лекциях о Ницше 1936-1938
годов, и отрешенности (Gelassenheit), явственно становящееся
остовом хайдеггеровской мысли о бытии в его философском дневнике
«К делу философии».
<...> И вот сейчас нам хотелось бы усмотреть связь между хайдег-
геровским пониманием отрешенности и сверхвластия бытия и его
отношением к философской антропологии. Для этого сначала
стоит в основных чертах рассмотреть то, как понимается Хайдеггером
суть человека. Это понимание напрямую определяется тем, в чем
им видится назначение философии и как оно осуществляется.<...>
Сама возможность философии, раскрывающейся в своей
подлинности как метафизика<...> исходит из изначальной вовлеченности
человека в Бытие, или Ничто. Эта вовлеченность проявляется в эк-
зистирующей экзистенции, в которой осуществляется выход за
пределы сущего как бросок на идущий из несокрытости бытия зов,
призыв, вызов человеку. Метафизика, таким образом, выступает не как
частная деятельность человека, одна из многих, а как осевое
предназначение человека — Хайдеггер даже говорит о ней не только как
об основном событии в человеческом бытии, но и как о самом бытии
человека**, а такое понимание приводит к преодолению и самого
понятия философии: философское восприятие мира отождествляется
с подлинным бытием-в-мире, независимо от того, осуществляет ли
оно себя в крестьянском ремесле или в преподавании философии.
Для Хайдеггера вопрос об историческом понимании человека выте-
* См.: Хабермас Ю. Хайдеггер: творчество и мировоззрение //
Историко-философский ежегодника. М., 1989. С. 333-338.
Хайдеггер М. Что такое метафизика? С. 26.
1084
Д. Ю. Дорофеев
кает из того, как философия на определенном этапе истории
относилась к рассмотрению проблемы бытия. И здесь опорой для Хайдегге-
ра служит эпоха древнегреческих досократиков, тогда как, начиная
с Платона, постепенно и неумолимо начинается процесс «забвения
бытия», который расцветает самым ярким цветом в Новое время.
Кем же все-таки выступает для фундаментальной онтологии
человек?
У Хайдеггера есть несколько основных «определений»
человека— «заместитель Ничто», «собиратель бытия», «пастух бытия»...
Попытаемся коротко уловить их взаимосвязанность.
Ничто приоткрывается человеку благодаря изначальной
вовлеченности в него в на-строенности ужаса. Сама возможность ужаса
коренится в присущей человеку открытости Ничто, которое
пронизывает его бытие; но эта пронизанность включает и забывание
человеком об этой открытости, что вызвано его тотальной связанностью
с сущим в исходной потаенности бытия. Поэтому Хайдеггер
говорит о «затененной распахнутости Ничто», о сне Ничто в человеке*.
Но сам выход к Ничто не зависит от воли, позиции, установки,
мировоззрения человека, он возможен только лишь тогда, когда
Ничто само проснется в человеке, когда Оно само откроется человеку.
И сама открытость Ничто конечна, она таится до поры до времени
в человеке, который вовлечен в эту открытость как в
фундаментальную возможность своего бытия («само бытие в своем существе
конечно и обнаруживается только в трансценденции выдвинутого в Ничто
человеческого бытия»**). А так как трансценденция понимается как
перешагивание за пределы сущего в целом, то человек выступает
здесь не в качестве определенного сущего, которое не
преодолевается, а как бы само засыпает, вступает в состояние недеяния, покоя,
позволяя тем самым проявиться изначальной открытости бытия
и представая его проводником, или «заместителем Ничто».
Понимание человека как «собирателя бытия» основано на его
особом положении пребывающего между — между сущим и
бытием. Особенность Dasein и состоит в том, что оно «есть сущее,
которое, понимая в своем бытии, относится к этому бытию»***. Человек
одновременно является местом различения и связанности бытия
и сущего, т. е. здесь мы имеем такое особое сущее, которое
характеризуется стоянием в истине бытия и его проявлением в своей
озабоченности, которая на самом деле есть озабоченность бытием.
И вот именно человеческое присутствие предстает как то экстатиче-
* Хайдеггер М. Что такое метафизика? С. 24.
** Там же. С. 25
'* Хайдеггер М. Бытие и время. С. 52-53.
Хайдеггер и философская антропология
1085
ское место, где «бытие выступает из потаенности в своей тайне»*.
Это может произойти только тогда, когда человек не встает над
сущим в стремлении его волевого управления, подчинения и консти-
туирования, а становится настолько открытым ему, что позволяет
самому сущему являть бытие в своей несокрытости, собирая и
раскрывая себя посредством человека, полностью отдавшегося бытию,
захваченного и поглощенного его открытостью; таким Хайдеггер
видит человека в «великое греческое время», таким он хочет видеть
и Dasein**. Поэтому, когда мы говорим о собирателе бытия, это
нужно понимать не так, что человек своей активностью собирает нечто,
что называется бытием, а так, что бытие само собирает себя в
человеке: воля к власти человека как субъекта сменяется здесь отдава-
нием себя сверхвластию бытия. И это отдавание, или открытость,
или бросок (прыжок), и есть тот просвет, то место (Statte), та брешь,
«в которую, являя себя, врывается сверхвластие бытия, дабы самая
эта брешь о бытие разбилась» *** (поздний Хайдеггер в качестве такого
место будет видеть язык, понимаемый поэтому как «дом бытия»).
Получается, что бытие нуждается в таком сущем, которое
полностью позволяет бытию в нем открывать себя в своей собранности,
и это сущее — человек. И здесь поэтому нет уже человека как
неповторимой индивидуальности, а есть только осуществление
собирания бытия, в котором человеческое сущее, являя себя в своем
предназначении, дает голос тому, что несводимо к любому сущему, в чем
тонет любое сущее, — к бытию.
Пастух всегда при стаде, в непосредственной близости от него.
Не стадо при пастухе, а пастух при стаде, и его основными
функциями являются вывод и охрана этого стада. Человек больше чем
человек, так как он предстает как «экзистирующий бросок на вызов
бытия», но он и меньше чем человек, так как определен жертвовать
своей «субъективностью» ради проявления бытия, которого он не
господин, а сосед и пастух, и в этом качестве «самим бытием призван
к сбережению истины бытия » ****. Поэтому для Хайдеггера пастух
бытия — это его хранитель, который отдал себя полностью и до конца
тому, что он хранит, ибо только в таком повороте от сущего к бытию
можно говорить не о забвении бытия, а о его ускользающем
высвечивании. Именно здесь человек выводит бытие в просвет, только
через человека бытие может явить свою непотаенность, но в этой не-
* Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи
и выступления. С. 62.
№ Там же. С. 50.
" Хайдеггер М. Введение в метафизику. С. 238.
'* Он же. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и
выступления. С. 208.
1086
Д. Ю. Дорофеев
потаенности сущего уже нет — оно выполнило свою миссию и,
исчезая, открыло собой окно для веяния бытия. Перед нами положение
жертвоприношения, в котором раскрывается судьба и призыв
человека явить в незамутненности сущим бытие. В определенном
смысле человек здесь оберегает бытие от заслонения его сущим, создавая
собой тот фундамент, на котором может быть явлен вопрос о бытии
как таковом. Поэтому Хайдеггер и настаивает, что
экзистенциальная аналитика Dasein только приуготовляет постановку
фундаментального вопроса о бытии. А это означает отказ как от личностного
понимания человека, так и от личностной человеческой
коммуникации. Как выразится Хабермас, у Хайдеггерачеловек «сосед бытия»,
но не сосед человека*.
Отношение Хайдеггера к философской антропологии ясно и
четко выражено в ее понимании как «региональной онтологии»**.
Философская антропология понимается Хайдеггером как идущий
от Нового времени антропологизм, который в XX веке претендует
на статус «первой философии», что для самого Хайдеггера
означает и особое понимание всей философии. Но раз основной вопрос
философии — это вопрос о бытии, то философская антропология
не может в должной полноте поставить и раскрыть этот вопрос
только лишь потому, что она антропология (т. е. нацелена на
понимание определенного сущего), и дополнение «философская» ничего
здесь кардинально не меняет. Значение антропологии в философии
признается — так, например, Хайдеггер в «Бытии и времени»
говорит о Dasein-аналитике как о «экзистенциальной антропологии»,
а в «Цолликонеровских семинарах» — как о «онтической
антропологии»*** — однако максимум, на что может претендовать
философская антропология, — это подготавливать собой постановку
вопроса о бытии, не определяя его собой как особым сущим. Человек как
сущее должен так явить собой бытие, чтобы оно не оказалось
«захвачено» этим сущим, а для этого он должен полностью отдаться
несокрытости бытия. Между человеком как сущим и бытием
Хайдеггер устанавливает взаимосоотнесенные отношения, говоря здесь
даже о герменевтическом круге: «Как
экзистенциально-онтологическая аналитика Dasein-аналитика предполагает уже установленные
определенности бытия, чье полное определение должно быть
приуготовлено именно аналитикой»****. Хайдеггер не раз говорит о том,
что бытие человека как сущего заключается в том, чтобы быть рядом
с бытием как таковым, отвечать на вызов бытия, заботиться о нем.
* См.: Хабермас Ю. Хайдеггер: творчество и мировоззрение. С. 342.
** См.: Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. С. 122-123.
*** См.: Логос. 1992. № 3. С. 91.
**** Там же.
Хайдеггер и философская антропология
1087
Поэтому, как может сначала показаться, хотя Хайдеггер и
пытается как можно теснее привязать друг к другу сущее и бытие, сделав
из них своеобразных сиамских близнецов, но в своей философии
определяющий позыв он отдает именно бытию. И определяют этот
выбор прежде всего два мотива: во-первых, несомненное влияние
древнегреческой философии, а во-вторых, выведение самой
возможности философской антропологии из новоевропейской метафизики,
облачившей человека в одежды субъекта. <...> И именно эти
процессы выдвигают саму науку антропологию, которая интерпретируется
Хайдеггером как «философское истолкование человека, когда сущее
в целом интерпретируется и оценивается от человека и по
человеку»*. Такая позиция направлена на «спасение» подлинного сущего
и несокрытого бытия, но ценой этому выступает итог, при котором
не остается ничего, кроме бытия. Бытие здесь выступает как
тотальное обеспечение всего сущего, и Хайдеггер опасается, что в
антропологии намечается самообеспечение субъекта**, а это как раз и
означает забвение бытия.
<...> Человек вовлечен в трансценденцию бытия, поэтому его
осевая линия самопроявления состоит в том, чтобы раскрыть эту
вовлеченность, дать голос бытию как таковому, а с этим,
соответственно, погрузить себя как отдельное уникальное сущее в
состояние нирваны, открывая тем самым дорогу чистому, незамутненному
сущим, проявлению бытия как такового.
Как же спасти человека, не отказываясь при этом от
постановки фундаментального философского вопроса? Я предлагаю пойти
по пути рассмотрения иной связи человека с трансценденцией,
нежели та, которую разрабатывает Хайдеггер и которая не
допускает приятия философской антропологии как «первой философии».
А именно: представить под трансценденцией не бытие как таковое,
а то, что предстает вне бытия, — Абсолютную Личность, с которой
у человека существует исходная соотнесенность, благодаря которой
человеческое бытие в его подлинности раскрывается как личностное.
Ведь если трансценденцию понимать в качестве бытия как такового,
оно не сможет рассматриваться иначе, чем Единое, не позволяя тем
самым человеку раскрывать себя в своей личностной уникальности
и неповторимости. Но если в человеческом бытии видеть
непосредственную соотнесенность с трансценденцией Абсолютной
Личности, то вопрос о бытии уже не сможет затемнить и подчинить собой
значимость человека, так как этот вопрос не будет уже предельным.
И именно развертывая эту соотнесенность, человек идет навстречу
открытости трансценденции, в которую он исходно вовлечен. Но эта
* Хайдеггер М. Время картины мира. С. 51.
** См.: Там же. С. 61.
1088
Д. Ю. Дорофеев
открытость, в отличие от открытости бытию, не отказывается от
человека как отдельного уникального сущего, а выявляет эту
неповторимую уникальность в личностном свете.
Здесь, впрочем, можно задаться вопросом: а каково же будет
в этой модели место для бытия? И может быть, философия и должна
заниматься только тем, что входит в границы, проблемы бытия как
такового, а то, что выходит за эти границы отдается уже
рассмотрению религии и религиозной мистики? Хайдеггер своей философией
представляет нам пример того, какой может быть фундаментальная
философская мистика, т. е. мистика бытия как мышление бытия.
Если же трансценденция раскроется как Абсолютная Личность,
то как сущее понимается исходя из бытия, так и само бытие будет
пониматься исходя из трансценденции, т. е. изначальной персона-
листической соотнесенности между человеческой личностью и
Абсолютной. И философия, и вера предстают здесь как пути, пускай
и разные, но у которых одна цель — раскрытие и осуществление
своего личностного бытия. Человек остается связан с миром сущим,
но эта связанность может как ограничивать, так и открывать новые
просторы самоосуществления для человека. Так, эта связанность
может позволить прорваться и к бытию, а в своем самом высшем
проявлении — и к трансценденции Абсолютной Личности.
Подобный подход, как кажется, пытался разрабатывать и Ше-
лер. Например, когда разделял метафизическое и священное
знание или когда признавал, что сознание мира, самосознание и
сознание Бога (трансценденции) образуют неразрывное структурное
единство, благодаря которому человек в своем сердце и есть то
место, в котором осуществляется становление, раскрытие и
собирание Бога*. Основанием метафизического знания является
соотнесенность всех форм бытия с бытием человека; именно с человеком,
так как только через него возможен выход к трансценденции.
Отсюда и сама метафизика понимается им как метаантропология:
собирая себя как «личность», человек тем самым актуализирует ту
непосредственную укорененность в вечном бытии и духе, которая в этом
акте актуализации осуществляет себя. Крайне важно отметить, что
в своем определении личности Шелер особо подчеркивает свойства
уникальности и индивидуальности, которые проявляются в
духовных актах и через которые осуществляется самоконцентрация
единого бесконечного духа, трансценденции**. Человеческая личность
открыта трансценденции Абсолютной Личности (или Духа) так же,
как подлинное Dasein выступает открытым непотаенности бытия.
* См. : Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избранные
произведения. М., 1994. С. 188-190.
** См.: Шелер М. Философское мировоззрение // Там же. С. 12-13.
Хайдеггер и философская антропология
1089
Но характер открытости (или вовлеченности человека в трансцен-
денцию) здесь принципиально иной. Открытость Dasein, о чем мы
достаточно говорили выше, приводит к тому, что человек как
уникальное сущее растворяется в экзистирующих актах, в которых
достигается ускользающее, потаенно приоткрывающееся
самопроявление бытия; открытость же Абсолютной Личности вызывает
не снятие человека как неповторимого сущего перед лицом
понимаемого как Единого бытия, а преображение этого сущего в личностное
бытие через развертывание изначальной соотнесенности человека
с трансценденцией. Если трансценденция понимается как
Абсолютная Личность, то сущее (человек), которое имеет непосредственную
связь с этой личностью, уже не может быть анонимным
проводником трансценденции, а только ее проявлением в своей уникальной
личностной неповторимости.
Хайдеггер сделал очень много для философии, ведь он нашел
в себе силы вновь со всей радикальностью с учетом исторического
момента явить философию со всей присущей ей
фундаментальностью. Для человеческого бытия философия опять стала
претендовать на осевое значение. Но нужно помнить и то, что
фундаментальная онтология лишь одна из тропинок, предложенная одним
из философов. Мы многому научились и, дай бог, научимся,
шествуя по этой тропинке, но уважение и благодарность к труду
лесника, протоптавшего ее, должно побуждать нас идти дальше. Одной
из таких центральных пограничных тем, от которых, может статься,
зависит будущее философии, как раз и является тема тщательного
исследования возможности философской антропологии с учетом
ее критики фундаментальной онтологией Хайдеггера. И здесь спор
будет сводиться не к тому, как будет называться первая философия
и возможна ли она вообще сейчас, а к тому, способен ли человек
принять себя как личность и в личностном же свете воспринимать себя
в отношении к самому себе, Другому, миру сущего, бытию и
трансценденции. Хайдеггер радикально отринул эту возможность, но
позитивное значение радикального отрицания всегда состоит в том,
что можно надеяться на вызванный им в качестве ответа новый
прорыв, новый залп, новое пробуждение философии. Будет ли он
связан с философской антропологией и идеей личности — это
неизвестно, но, рассматривая в этой статье тему «Хайдеггер и философская
антропология», мы в любом случае стояли где-то посередине между
прошлым и будущим.
ü
Д. Н. ГОНЧАРКО
Поэтическое в эстетической мысли М. Хайдеггера
В статье осуществляется попытка применить теорию
поэтического, предложенную М. Хайдеггером, к анализу самой его теории
как поэтического текста. Автор утверждает, что текст М.
Хайдеггера, посвященный рассмотрению существа поэтического, будучи сам
в некоторых аспектах поэтическим, представляет собой интересный
пример эстетической рефлексии в качестве отдельной
интеллектуальной инициативы, отличной от других типов рефлексии.
Что такое поэтическое, как правильно прочитать стихотворение,
уместна ли «правильность» в данном случае, или лучше говорить
об акте прочтения или анализе — когда М. Хайдеггер обращается
к поэзии Гёльдерлина, называя его поэтический опыт «поэзией
поэзии» и скорее прибегая к слову «истолкование», то слово, в котором
Хайдеггер слышит указание на место или особую местность,
предуготовляет само истолкование. Для того чтобы прочитать
поэтическое произведение, необходим опыт перевода, помещения в другое
место, в другой контекст, как если бы поэтический язык представал
перед нами как язык иностранный — в этом особенность
поэтического языка, который требует к себе иного отношения, ставит перед
нами определенную задачу.
Дело перевода, особенно перевода поэтического текста, всегда
сталкивается с двойной опасностью: либо применить обычную
грамматическую рифму, либо вставлять несуществующие детали в сам
текст ради сохранения рифмы. Иными словами, либо мы
сохраняем текст, но искажаем или утрачиваем смысл либо спасаем смысл,
но изменяем текст. Открытие третьей возможности перевода,
прочтения, истолкования предполагает и сохранение смысла, и
сохранение текста. Думающее истолкование должно двинуться дальше
и показать, как в действительности слово соседствует с мыслью.
Ж. Бофре предлагает следующим образом прочитывать слова
Богини из парменидовской поэмы: «Проникнув в самое сердце
истины и поняв, какие заблуждения овладевают людьми, пойми так-
Поэтическое в эстетической мысли М. Хайдеггера
1091
же, почему вещи, в той мере, в какой они позволяют себя увидеть,
не раскрывают себя полностью»*. Есть ли что-то более радикально
противопоставленное истине, чем просто заблуждение? Если
восходить к греческому слову aletheia, то услышим слово let he (забвение).
А слово «истина» Хайдеггер интерпретирует через «открытое-без-
изъятия», т. е. путь бытия — это путь истины и открытого, тогда как
путь небытия — это путь забвения, путь беспутства.
Язык открывает доступ к бытию, а бытие достижимо не иначе
как через язык, язык не есть функция говорения человека, язык
не подвластен человеку, так как не человек распознает себя в
языке, а язык мыслит себя через человека. Это разворачивание се-
бя-мыслия языка обнаруживается в отрицательной различенности
умалчивания и уклонения, этот способ явленности себе языка
нельзя назвать высказыванием. Этим заявляет о себе в языке призыв
к мышлению, который, однако, не может быть исчерпан и
полностью описан, т. е. не может быть описан как присутствующее сущее.
У. Эко отмечает эту особенность языка у М. Хайдеггера:
«Разбираясь с одним из на первый взгляд не сложных фрагментов Пармени-
да, понимаемым обычно, как указывает Хайдеггер, так:
"Необходимо говорить и думать, что бытие есть", он пускает в ход весь набор,
этимологических ухищрений с целью добиться более глубокого
понимания, которое в итоге оказывается едва ли не противоположным
общепринятому толкованию, поскольку "говорить" преображается
в "позволять-встать-перед", т. е. "совлечь покровы" и "позволить
явиться", а "мыслить" понимается как "озаботиться" и "преданно
охранять"»**.
У. Эко видит в хайдеггеровском анализе герменевтическую
деятельность, принципиально незавершенную, но тем не менее
выражающую целостное восприятие, которое согласуется с движением
бытия: слово-мысль является раскрытием бытия, а не точным,
научным обозначением законов природы или реальных вещей.
Мышление не ищет последней структуры, но рождает способность
вслушиваться.
Произведение искусства есть привилегированное место для
свершения истины, т. е. для раскрытия Бытия, но есть еще один момент,
который мы находим в работе «Исток художественного творения»:
Хайдеггер разрабатывает два понятия («мир» и «земля»), которые
дают характеристику Бытия. Говоря об отношении храма как
художественного произведения и раскрывающегося Бытия, Хайдеггер
* Бофре Ж. Диалог с Хайдеггером. Греческая философия. СПб.: Владимир
Даль, 2007. С. 91.
** Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.:
Симпозиум, 2004. С. 438.
1092
Д. Н. Гончарко
указывает на то, что это отношение не есть отношение
репрезентации. X. Гумбрехт в своей книге «Производство присутствия»
пишет: «Сложный ответ на вопрос о том, как присутствие храма может
способствовать совершению раскрытия Бытия, содержится в
противопоставленных описаниях "мира" и "земли": "Мир есть
разверзающаяся разверстность широких путей простых и сущностных
решений в судьбе народа в его историческом свершении. Земля есть
выход на свет постоянно замыкающегося, тем самым
укрывающегося и прячущего себя"...»*
В этом смысле присутствие некоторых вещей дает возможность
явиться другим вещам в их изначальной материальности. Этот
эффект проявления составляет один из путей раскрытия бытия.
Хайдеггер указывает на конфликтность между миром (бытием?)
и землей (сущим?). Их оппозиция — это противоборство, но
противоборство в рамках неразрывного единства.
С помощью визуальных, вербальных и телесных гетерогенных
элементов В. А. Подорога показывает в работе «Метафизика
ландшафта», как пространственное чувство реализует ландшафтный
эффект письма Хайдеггера. Объединяя в серию трех мыслителей
(Ницше, КьеркегораиХайдеггера), Подорога показывает, что осмысление
их творчества невозможно без определенной пространственной
метафоры. Этим мыслителям свойственна особая трансверсальность
письма, которая парадоксальным образом не разрушает само
письмо, а, напротив, делает его более выразительным: «Философское
произведение обретает конструктивное единство на основе
активного синтеза своих гетерогенных элементов. Если перевести
понятие активного синтеза на иной терминологический язык, то он
являет своим преобразовательным усилием движение линии. Линия,
рождающая своим движением произведение, есть линия события.
Реальное произведение есть событие. Эта линия — не геометрична,
скорее топологична. Для Хайдеггера, например, этой линией будет
линия складки или сгиба, линия земная, тектоническая»**.
Занимая субъективную позицию и сближая до неразличимости
акт чтения и понимания, можно утерять связь с текстом. Подорога
предлагает занять позицию чтения — находиться по ту сторону
собственного понимания и тем самым «быть до» всякой мысли и
языка. Иными словами, текст и произведение, так же как и поэтическое
произведение, обладают определенной ритмикой и задают особые
коммуникативные стратегии прочтения, помещая нас внутрь тек-
Гумбрехт X. Производство присутствия: чего не может передать значение.
М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 80.
Подорога В. А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии
в философской культуре XIX-XX вв. М.: Наука, 1993. Сб.
Поэтическое в эстетической мысли М. Хайдеггера
1093
ста. Определяющим в процессе истолковывающего прочтения
оказывается категория принадлежности. Мир нам дается всегда
посредством другого, но другой не дан в своей актуальности, но скорее
в своей виртуальности, в качестве складки: «Другой — там, так
как он — здесь, единое поле взаимообратимостей позиций, их
переплетение, порождаемое перцептивным разрывом. Другой
является условием различения всех этих структур знания и восприятия,
складкой-в-себе, тем первоначальным разрывом в структуре бытия,
который сплетает между собой разорванное»*.
Отношение поэзии и мысли в философии Хайдеггера
организуется в особую логику, топологику, которая совмещает между собой
разрозненные, гетерогенные, пространственно-телесные элементы.
Хайдеггер устраняет господство взгляда, в котором мир
представляется в своей объективности, вместо него учреждая имманентность
пространства движущегося в нем тела наблюдателя, причем само
тело уже не тело воспринимающее, не точка отсчета, а тело
воспринимаемое. Отсюда особое внимание к скорости разворачивания
видимого и слышимого, конституированию учреждается запрет на
быстроту. Близкое и дальнее наполняются новым концептуальным
смыслом. Эти понятия не располагают в линейной перспективе вещи
мира. Особая топограмма, которая возникает у Хайдеггера, — это
«четверица», которая несводима к центральному положению
субъекта, и поэтому она не сказывается о мировоззрении или картине
мира: «Снегопад приводит человека в ночи к померкшим небесам.
Звуки вечернего колокола приводят его как смертного к
божественному. Дом и стол связывают смертных с землей. Названные вещи
собирают, следовательно, призывают к себе небо и землю, смертных
и божественное. Четыре суть изначальное единое по отношению
друг к другу. Вещи остаются, покоятся при себе в квадрате четырех.
Это собирающее оставление-в-покое есть вещь вещи. Мы называем
это, пребывающее в вещах вещи, единой четверицей неба и земли,
смертного и божественного, — миром» **.
Четверица располагает вещи в открытом мире, где нет границ
в физическом смысле слова, а есть собирание: поэтому занимать
место — это всегда оказываться между. Мыслить пространство можно
только через язык, который учит нас быть-в-пространстве.
Мыслящее истолкование поэтического слова следует «проходить», как
проходят пространство, придавая этому пространству место и наполняя
мир резонансом. Этот голос слова не есть результат
целенаправленной артикуляции, но скорее подобно сообщению без адресата, под-
* Там же. С. 25.
'* Там же. С. 255.
1094
Д. Н. Гончарко
вешенному сообщению, является чистым присутствием: «Голос-
трансценденция является имманентным событию мысли»*.
На этот аспект отношения поэтического к экзистенциальному
и обращает внимание В. А. Подорога, квалифицируя его как
топологический. Иной аспект отношения поэтического и
экзистенциального предлагает осмыслить с помощью концепта «театра» К. Чухров
в работе «Быть или исполнять». Автор указывает на
конфликтность, парадоксальность этих сфер, а переходной зоной между
человеческим существованием и искусством служит концепт театра как
исполнительная практика. Для Хайдеггера в этом отношении
исполнение оказывается препятствием для мысли и поэтического, так
как и театр, и музыка далеки от истинной цели искусства: «Темпо-
рально совершаемое искусство (музыка) не вопрошает ни о бытии,
ни о конечности жизни человека, утрируя этот эффект еще и
необходимостью представлять его в процессе исполнения»**. Временность
исполнения, с точки зрения Хайдеггера, вытесняет тело за рамки
бытия, так как оно находится вне референции к мысли, языку,
суждению и смыслу. Согласно мысли К. Чухрова, именно благодаря
прерыванию, временному выключению, механическому
воспроизводству, исполнителю доступен открытый физический процесс фи-
нализации, но не как опыт конечности, а как приобретенная
физическая способность. Время исполнения — это чистое время, данное
в собственном истекании, в конечности собственного содержания.
Опыт поэтического в поздней философии Хайдеггера
многогранен и имеет странное сопротивление резюмированию: в том случае,
если некто задается целью найти сущность поэзии, он, двигаясь
к цели, обнаруживает ее полное отсутствие. Однако попробуем
резюмировать: вся суть поэтического в философии Хайдеггера
обнаруживается не в концепции, а на микроуровне. Иными словами,
детали самой поэтической теории Хайдеггера интереснее целого (самой
концепции — если она вообще у него есть), аргументы и посылки
интереснее и убедительнее выводов, а отдельные рассуждения и ходы
анализа оказываются более надежными, чем сам «механизм».
Форма и содержание работ позднего Хайдеггера — это
своеобразный протест против попытки объективации поэтического.
Хайдеггер реализует антитеоретический парадоксальный стиль философии
поэтического. Приведем пример. Приписывая отношение
философии к поэзии у Г. Тракля, Хайдеггер пишет: «Всякий великий поэт
поэтствует из глубины одной-единственной поэмы / стихотворения.
Его величие измеряется тем, в какой степени ему удается быть в до-
* Подорога В. А. Метафизика ландшафта. С. 294.
** Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике
искусства. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2011. С. 28.
Поэтическое в эстетической мысли М. Хайдеггера
1095
верительных отношениях с этой единственностью, и притом так,
чтобы его поэтическая речь пребывала там во всей чистоте»*.
Нет единственного стихотворения или произведения, где поэт
полностью высказался, но есть движение поэтической речи, которая
не покидает местность поэмы, как свой исток. Эту единственность
Хайдеггер трактует как невысказанность и находит в
истолковывающем указании на место и местность. Однако обнаруживается
двойственная необходимость: с одной стороны, необходимо дать
истолкование каждому стихотворению, которое через строй
звучания и череду слов приведет к некоему «первосиянию», а с другой —
«лишь из местности поэмы светятся и звучат отдельные
стихотворения»**.
Такая взаимообусловленность создает настоящий диалог с
поэтическим произведением, из которого мы ничего не узнаем о самом
поэте и его мировоззрении, также ничего не узнаем о том, как
производилось его произведение, но касаемся самого языка-мысли.
Диалог мышления и поэзии отмечал М. К. Мамардашвили в работе
«Эстетика мышления» : возможно ли говорить о поэтическом как
таковом до написания стихотворения? Написав стихотворение, поэт
впервые дает возможность прочувствовать и помыслить, но не
предмет, о котором написал поэт. Стихи не есть записанное
переживание, чувство или представление. Обычно удобно предполагать некие
чувства до самого стихотворения, тем самым делая из самого
стихотворения лишь способ выражения этого чувства. Но в
поэтическом (в греческом исходном смысле этого слова rcoieîv — создавать,
творить, делать) нет ничего помимо поэтического: поэтическое
впервые дает возможность чувствам и мыслям свершиться как таковым,
создает их. Слово не следует за мыслью, но соседствует с ней и идет
рука об руку. Переводчик поэта Р. М. Рильке — 3. Миркина — так
говорит об опыте перевода, который согласуется с выводами
Мамардашвили: «Чтобы переводить Рильке, надо войти в это Великое
Безмолвие, которое топит в себе все слова о дробном, частном. Это
безмолвие говорит сразу со всей душой, как море и небо. Вся высота
неба — всей глубине души. Из этого Безмолвия, как ростки из
земли, рождаются бесчисленные слова, которые вовсе не разрушают
Безмолвия, а как бы продолжают Его, вводят в Его Неисчерпаемую
Глубину. Всякий настоящий поэт всегда говорит не от себя, а как бы
переводит с Божественного языка на человеческий, с несказуемого
на словесный... И чтобы переводить Рильке, надо сквозь слова
немецкого языка выйти в дословесное и засловесное молчание. А по-
* Тракль Г. Песнь отрешенного. Хайдеггер М. Язык поэмы. М.; СПб.: Летний
сад; Университетская книга, 2014. С. 262.
** Там же. С. 264.
1096
Д. Н. Гончарко
том из этого молчания выйти на свой язык, — так, как Рильке
выходит на немецкий»*.
К подобным выводам приходит и В. Куприянов: «Переводя,
скажем, Гёльдерлина, переводчик ощущает свое "соавторство" иначе, хотя
без обращения к опыту Гёльдерлина в его гимнах труднее войти в стиль
позднего Рильке, в стиль его элегий. То, что выходит в результате,
особенно в случае с таким автором, как Рильке, редко может претендовать
на адекватность. Недаром у самого Рильке находим разные варианты
одного и того же замысла. Поэтому и у меня (как и у многих) есть
варианты, из которых не всегда какой-то следует считать наилучшим. В
каком-то смысле вся поэзия Рильке распадается на множество вариантов
одного великого инварианта. Поэтому среди совершенных ("канониче-
ских") стихотворений у Рильке в наследии много набросков,
незавершенных вещей, в свою очередь достойных внимания и перевода»**.
Таким образом, с одной стороны, имеется фрагментированность,
а с другой — вариативность. Фрагментированность дает более или
менее связанный коллаж из самостоятельных фрагментов
поэтического. Следуя психоаналитической теории, можно утверждать,
что самость, или личность, есть продукт внутреннего подавляемого
конфликта; этот конфликт разыгрывается между либидинальным
влечением и интериоризированными нормами. Вариативность
поэтического, о которой говорит Хайдеггер, указывает на интересную
особенность: Бетховен, под конец жизни достигнув вершины
музыкального мастерства, увлекается вариациями, на первый взгляд
поверхностной музыкальной формой. Эта вариация носит
двойственный характер, который описал М. Кундера: «...Во-первых,
вариация означает вскрытие и последующую фрагментацию единства,
каким сначала, видимо, обладала тема или принцип. Поэтому путь
вариации ведет к "бесконечному внутреннему разнообразию, что
скрывается в каждой вещи". Но, во-вторых, и это важнее, вариация
растворяет тему в ее вариациях; тема становится неуместной и
неуловимой, направленной против самой себя в той же мере, в какой
ее вариации направлены одна против другой, и поэтому в конечном
счете она даже не присутствует в вариации. Действительно, каждый,
кто слушал "Гольдберг-вариации" Баха или "Диабелли-вариации"
Бетховена, понимает, что тема в них лишается своей реальности
и изначальности (в собственном смысле "начало"): она становится
лишь поводом для вариации, в итоге почти забытым и случайным » ***.
* Рильке Р. М. Стихотворения: Сборник. М.: Радуга, 2003. С. 15-16.
** Там же. С. 16.
*** Анкерсмит Ф. Р. Эстетическая политика. Политическая философия по ту
сторону факта и ценности. М.: Издательский дом Высшей школы
экономики, 2014. С. 184.
Поэтическое в эстетической мысли М. Хайдеггера
1097
Реальность вариации постмодернистская традиция называет
гиперреальностью. Ж. Бодрияр, анализируя природу массмедиа,
полагает, что реальность не существует как таковая, если она не
репрезентирована и не прошла через варьирование.
Деконструкция Ж. Деррида в этом контексте предстает как практика чтения,
которая отстоит от всякой метафизики и эпистемологии. Эта
практика не может подавить, или устранить одно значение ради другого,
или отдать предпочтение. Только оказываясь в плену «метафизики
присутствия», можно требовать реализации неисполнимого
желания самопонимания и прозрачности для самих себя.
С этой самонепрозрачностью мы сталкиваемся прежде всего,
вступив в пространство языка и поэтического: в проблеме
соотношения риторического и грамматического. Грамматика, например,
обязывает выстроить вопросительную фразу, хотя
сконструированное предложение может отрицать саму возможность спрашивать
вообще. Для решения подобных дилемм необходимо обращаться
к внетекстуальному смыслу. В порядке поэтического возникает
обращение фигурального порядка, оно приобретает структуру
хиазма, где путаются свойства внешнего и внутреннего так, что это
приводит к разрушению познающего субъекта: «Метафора
скрипки столь совершенно подходит к драматическому действию текста
и образ кажется таким безупречным потому, что его внешняя
структура (корпус, струна, эфа, производящая и освобождающая звуки)
заказывает и начинает всю артикулирующую стихотворение игру
фигур»* — так Поль де Ман описывает метафору метафоры в
стихотворении Рильке «Am Rande der Nacht» («На грани ночи»). Вещь
здесь уже не ориентируется на внутреннее содержание лирического
героя, но переносит внутреннее содержание во внешнее звучание.
Это метафора метафоры выражает внутренний потенциал языка.
Язык не калькирует внутренний мир, не производит
субстанциальные аналогии самости, но держится на формальной и структурной
аналогии между вещами и фигуральными ресурсами самого языка.
Ясность и четкость референциальных значений — это уже не то
требование, которое предъявляется поэтическому. Однако это не
означает отказа от реализма и твердой опоры. Скорее трансформируется
характер реального: реальность помещается на место идеального,
реальное — это цель, и в этом отношении она будет сопровождаться
неточностью или неясностью, вокруг нее будет создаваться пустота
и вакуум — нечто, подобное ничейной территории.
* Ман П. Аллегория чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке.
Екатеринбург: Изд-воУрал. ун-та, 1999. С. 50.
A. H. КРЮКОВ
Феномен и эстетическое явление:
к вопросу о статусе предмета искусства
у Хайдеггера
В феноменологии Хайдеггера проблема эстетического не
является центральной. Когда же речь заходит об анализе произведения
искусств, то при этом используются методы и мыслительные приемы,
присущие только и исключительно Хайдеггеру. Рассмотрение
эстетической проблематики у Хайдеггера я собираюсь сделать в
контексте анализа соотношения явления и феномена, которое является
ключевым для его феноменологии.
<...> Феномен — это самоочевидное, несокрытое, кажущее себя
как есть, что в фундаментальной онтологии Хайдеггера сокоррели-
рует с понятием истины как несокрытости. И этому
фундаментальному понятию Хаидеггер противопоставляет другое понятие, а именно
«явление», которое если и не контрадикторно понятию «феномен»,
а оба эти понятия указывают на вещь, понятую в онтологическом
смысле как сущее, то совершенно отчетливо несет другой, несколько
затемненный смысл постижения сущего. Хаидеггер пишет:
Явление как проявление «чего-то» означает соответственно как
раз не показывание самого себя, но давание знать о себе чего-то, что
себя не кажет, через нечто, что себя кажет. Явление есть себя-не-ка-
зание*.
<...> Мы видим, что для Хайдеггера существует четкая
корреляция: феномен — это себя кажущее и истинное, а явление, напротив,
себя-не кажущее и лишь косвенно опосредовано с истиной. То есть
речь идет о совершенно четком разграничении на положительное
значение понятия «феномен» и отрицательное значение понятия
Хаидеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. Бибихин В. В. M.: Ad Marginem,
1997. С. 29.
Феномен и эстетическое явление
1099
«явление» для разработки онтологической проблематики. Чтобы
пояснить, в чем, собственно, состоит эстетичность явления в
противовес онтологичности феномена, на данном этапе я обозначу это
противопоставление двух понятий у Хайдеггера и перейду к
рассмотрению соотношения понятия «явление» и «феномен» в других
феноменологических традициях.
Феномен и явление: истина и видимость
Чтобы перейти к собственно эстетической проблематике, укажу
сначала на некоторые феноменологические концепции, которые
затрагивают различие между феноменом и явлением.
В этой связи интересна интерпретация понятия «феномен»
у Хайдеггера Ламбертом Визингом в его книге «Sehen lassen»***.
С точки зрения современного немецкого феноменолога в концепции
феномена у Хайдеггера кроется определенная проблема: феномен
Хайдеггера антропоморфен. Визинг аргументирует это следующим
образом. У Хайдеггера феномен — это то, что кажет себя (das was
sich zeigt). Тем самым подразумевается активная форма действова-
ния. С точки же зрения Визинга, такая форма не может быть ни
активом, ни пассивом, но чем-то совершенно нейтральным. У
Хайдеггера казание феноменом самого себя — это однозначно активная
форма. В этой связи и происходит так называемая антроморфиза-
ция феномена. Если он понимается как активная форма казания
самого себя, то он должен пониматься как действование (Handlung)***.
Напрашивается параллель с Гуссерлем, для которого феномен,
в противовес Хайдеггеру, — это только и исключительно факт
сознания, ментальное состояние****. В отличие от Хайдеггера, бытие
феномена у Гуссерля всегда коррелятивно и предполагает всегда
некоторую отсылку — быть феноменом для кого-то, т. е. должно
пониматься исключительно в контексте интенциональности. Именно этот
принципиальный момент у Хайдеггера не находит специальной те-
матизации. Для Хайдеггера феномены — это всегда "das Wesentliche,
Eigentliche, das wirklich Seiende"*****' ******. Здесь мы еще раз
сталкиваемся с принципиальным различием между феноменом и
явлением. Явление и феномен являются в определенном смысле антони-
* Дословно с нем. «делать видимым». (Здесь и далее перевод с нем. — А. К.)
** Wiesing L. Sehen lassen. Die Praxis des Zeigens. Berlin: Suhrkamp Verlag,
2013.
*** Ibid. S. 30.
**** Ibid. S. 31.
***** Существенное, собственное, действительно существующее — с нем.
****** Wiesing L. Sehen lassen. Die Praxis des Zeigens. Berlin: Suhrkamp Verlag,
2013. S. 32, 33.
1100
A. H. Крюков
мами*. Явление (Erscheinung) является само себя кажущим.
Явление — это уже не само себя кажимое, однако сам феноменальный
мир — это прежде всего мир явлений.
«Диалектика» феномена и явления более детально и
рафинированно разрабатывается в феноменологической концепции у Сартра
в его «Бытии и ничто». Сартр постулирует тезис, который вроде бы
соответствует тому, что утверждал Хайдеггер: за феноменом нет
ничего сокрытого, он кажет себя абсолютно. При этом проблема
феномена замещается диспозицией «явление — бытие». Существующее
определяется через ряд явлений, которые его манифестируют**.
Однако и у самого явления есть свое собственное бытие, которое также
необходимо определить. Само себя кажущее явление обладает
бытием, которое, в свою очередь, также себя кажет. Тут мы подходим
к сути вопроса, и Сартр называет эту исходную точку «феноменом
бытия» ***. Тогда мы сталкиваемся с новым вопросом: а идентичен ли
феномен бытия самому бытию феномена?
<...> Однако коль скоро феномен воспринимается сознанием,
то исходный вопрос преобразуется в следующий: зависимо ли бытие
феномена от бытия его воспринимающего сознания? Чтобы
предложить решение, Сартр формулирует так называемое онтологическое
доказательство: «Сознание есть бытие, существование которого
полагает сущность, и наоборот, оно есть сознание бытия, сущность
которого подразумевает существование, то есть видимость которого требует
бытия. Бытие есть повсюду» ****. Смысл этого доказательства в
следующем. Сознание, в соответствии со своей природой, постоянно
имплицирует (не конституирует!), по причине своей интенциональности
быть сознанием чего-либо, существование трансценденции.
Итак, мы видим, что «диалектика» феномена и явления указывает
на следующее: тезис Хайдеггера о феномене как кажущее самое себя
проблематичен, поскольку заключает в себе опасность антроморфиз-
ма (Визинг), в то же время онтологическая проблематика
Хайдеггера явно возвращает нас к проблеме интенциональности и феномен
не кажется столь обособленным, как это утверждает Хайдеггер.
Феномен vs. явление в эстетике
Итак, мы увидели, что феномен и явление находятся в особой
диалектической связи, при этом с феноменологической точки зрения
* Wiesing L. Sehen lassen. С. 33.
'* Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер.
с франц., предисловие В. И. Колядко. М.: Республика, 2000. С. 20.
'* Там же. С. 23.
'* Там же. С. 35.
Феномен и эстетическое явление
1101
(Хайдеггер) феномен в контексте поиска истины имеет
несомненный приоритет. Феномен — это то, что кажет себя как оно есть,
явление же — это то, что является, манифестируя случайные свойства
объекта и при этом не необходимые для определения этого объекта.
Кажется, что вердикт явлению Хайдеггером вынесен — оно скорее
имеет негативную коннотацию, поскольку затрудняет адекватное
понимание сути вещей. Однако, как мы видели, к примеру, Визинг
и Сартр указывают также на то, что сам феномен проблематичен
и в конечном счете отсылает к исследованиям в области интенцио-
нальной связи схватываемого предмета и источника интенциональ-
ности.
Но посмотрим на проблему с другой стороны: а есть ли другие
области или способы восприятия, в которых явление играет если
не главенствующую роль, то не несет такой однозначной негативной
коннотации, как у Хайдеггера?
В этой связи необходимо указать на различие способов
восприятия. Есть восприятие некоторого предмета с точки зрения
усмотрения его сущности (такая общая формулировка в стиле Хайдеггера
использована во избежание слова «гносеологический»). Этому типу
восприятия не столько противостоит и не столько дополняет, но
является ему параллельным акт эстетический.
Для эстетического акта явление и феномен уже обладают другой
значимостью и не находятся в столь радикальной конфронтации.
Чтобы прояснить это различие и указать на значимость явления,
я сошлюсь на несколько тезисов Мартина Зиля,
сформулированных в его книге «Ästhetik des Erscheinens»***. Исходная
предпосылка проста: все чувственно воспринятое может быть переведено
в статус эстетического восприятия***. При этом восприятие
понимается в очень широком смысле, а не только как конкретный
единичный чувственный объект. Зиль формулирует следующее: «Alle
ästhetischen Objekte sind Objekte der Anschauung, aber nicht alle
Objekte der Anschauung sind ästhetische Objekte****»*****. Поэтому
основной вопрос, основная проблема, которую нужно решить, — это
показать, каким образом объекты восприятия могут обрести статус
эстетического объекта. В этой связи Мартин Зиль формулирует
главное положение своей работы: эстетические объекты — это объекты
* «Эстетика явленности» (пер. с нем.).
** Seel M. Ästhetik des Erscheinens. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
2003.
*** Там же. С 46.
**** Все эстетические объекты — объекты воззрения, однако не все объекты
воззрения являются эстетическими объектами.
***** Seel M. ÄsthetikdesErscheinens. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
2003. S. 46.
1102
A. H. Крюков
явленности*. Это принципиальный момент, который характеризует
данную концепцию: эстетика — это область, в которой уже явление
играет главенствующую роль. Тогда задача заключается в том,
чтобы показать и обосновать, каким образом объект восприятия
становится эстетическим объектом в качестве явления.
Однако при этом важно указать на то, что объект воспринимается
эстетически, это вовсе не означает, что он был сначала воспринят
в теоретико-познавательном ключе, а только затем был воспринят
в качестве эстетического объекта. Обычное восприятие и
восприятие эстетическое — это два различных, в каком-то смысле
параллельных, способа восприятия: «Es ist keineswegs so, als müßte ein
Gegenstand erst erkennend fixiert werden, um an schließend ästhetisch
anerkannt werden zu können**»***. И это принципиальный момент.
<...> Эстетика — это особая и своеобразная область, которая
параллельна способу восприятия объекта.
Ситуация меняется коренным образом. Область эстетического
описывается посредством явлений, а не феноменов. Если логически
продолжить данное рассуждение, мы могли бы сказать следующее:
в концепции Хайдеггера искусство не могло бы отражать истину,
поскольку оно зависит от явления, которое не описывает бытие
адекватно. Этот предварительный тезис мы рассмотрим ниже, однако,
забегая вперед, скажем, что, с точки зрения Хайдеггера, это не так,
и искусство обладает своим собственным способом отражения
истины.
Но вернемся к работе Мартина Зиля. Пожалуй, два вопроса, на
которые нам нужно найти ответ, — это каковы условия эстетического
восприятия и, каким образом эстетическое восприятие связано с
явлением вещи. Что касается первого вопроса, то Мартин Зиль пытается
решить его следующим образом. Допустим, мы воспринимаем
некоторый предмет, этот мяч. Есть огромное количество способов описать
этот предмет. <...> И вот в плане эстетического мы имеем дело
совершенно с другой ситуацией, параллельной познавательному акту,
отвечающему на вопрос, для чего этот мяч: в процессе такого восприятия
мы имеем дело с ограниченным количеством «свойств» мяча,
выхватывая только отдельные характеристики. Эти свойства носят характер
явленности, поскольку они указывают на первоочередные свойства
мяча, но только косвенные. Однако для появления собственно эстети-
* Seel M. ÄsthetikdesErscheinens. S. 47.
** «Совершенно неверно было бы полагать, что некоторый предмет сначала
должен был бы быть зафиксирован в теоретико-познавательном ключе,
чтобы затем был признан в качестве эстетического» (пер. с нем.).
** Seel M. Ästhetik des Erscheinens. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
2003. S. 86.
Феномен и эстетическое явление
1103
ческого воззрения этого недостаточно. На два условия указывает
Мартин Зиль. Первое: эстетическое воззрение появляется здесь и сейчас*.
Второе: эстетическое воззрение есть игра**, констелляция явлений***.
Переход же объектов восприятия в область эстетического
осуществляется, согласно немецкому исследователю, в тот момент, когда объекты
воображаются в собственной явленности****. Если мы оставим в
стороне критическое рассмотрение временного фактора эстетического
воззрения (чем обусловлена временная и топографическая привязка
к ситуациям «здесь» и «сейчас») и обратимся только к тезису о
констелляции явлений, то можем сделать следующие выводы. Первое —
это то, что конкретное бытие (Sosein) объекта отличается
принципиальным образом от мира явленности. Второе — переход от восприятия
конкретного бытия предмета в область эстетического осуществляется
в тот момент, когда принимается в расчет определенная констелляция
воображаемых явлений объекта.
Мы видим, что данная концепция находится если не в
противоречии с хайдеггеровской, то, по крайней мере, пропасть между
феноменом и явлением уже не столь принципиальна и в контексте
эстетических изысканий мир явленности оказывается если не
главенствующим, то, по крайней мере, уже не имеет явно
отрицательной коннотации.
Остается важным вопрос, какова связь эстетического с истиной
с одной стороны, а с другой стороны, в каком отношении к истине
находятся по отдельности феномен и явление.
Феноменология искусства Хайдеггера
<...> В небольшом тексте «Искусство и пространство» исходным
вопросом служит вопрос о сущности пространства скульптуры.
Совпадает ли пространство скульптуры с внешним пространством?
Подсказку предлагает язык, который Хайдеггер пытается
дешифровать, чтобы прояснить суть положения вещей. Язык подсказывает:
пространство — это простирание. Простор же есть высвобождение
мест. При этом происходит событие, а именно собирание вещей
в их взаимопринадлежности. Оставим в стороне вопрос по поводу
методологической оправданности трактовки языковых выражений
в качестве путеводной нити для феноменологического анализа.
Укажем на два важных тезиса Хайдеггера в этой работе, которые
принципиальны для рассмотрения сути проблемы. Первый тезис:
* Ibid. S. 62.
** Ibid. S. 69.
*** Ibid. S. 98.
**** Ibid. S. 125.
1104
A. H. Крюков
«Скульптура — телесное воплощение мест, которые, открывая
каждый раз свою область и храня ее, собирают вокруг себя свободный
простор, дающий вещам осуществляться в нем и человеку обитать
среди вещей»*. Второй тезис: «Скульптура: телесное воплощение
истины бытия в ее созидающем места про-из-ведении»**. То есть
скульптура — это такое произведение искусства, пространство
которого не совпадает с физическим пространством, но есть собирание
определенных вещей и людей, а кроме того, скульптура как
произведение искусства — это еще и выражение истины бытия. Эти два
важных тезиса, во-первых, требуют своего пояснения, а во-вторых,
требуют экспликации в отношении рассматриваемой нами
диалектики феномена и явления. Эти тезисы в данной небольшой работе
не разрабатываются основательно и требуют поэтому
дополнительного обоснования.
Первый тезис Хайдеггера можно пояснить на примере его
небольшого текста «Вещь». Ход мысли Хайдеггера таков. Попробуем
рассмотреть чашу как предмет, как эту конкретную вещь. При этом мы
сразу же столкнемся с тем, что это не просто предмет, который
занимает место среди предметов в едином универсальном пространстве.
«Вещественность вещи, однако, и не заключается в ее
представленной предметности и не поддается определению через предметность
предмета вообще»***. Чаша — это, во-первых, то, что изготовлено
человеком и служит человеку, а во-вторых, указывает на более высокое
метафизическое значение. Последнее значение описывается Хайдег-
гером следующим образом: «В подношении чаши пребывают земля
и небо. В подношении полной чаши одновременно пребывают земля
и небо, божества и смертные. Эти четверо связаны в своем
изначальном единстве взаимной принадлежностью. Предшествуя всему
присутствующему, они сложены в простоту единственной четверицы » ****.
<...> Итак, чаша как произведение — это не просто вещь, но от-
сыл к человеческому, с одной стороны, а с другой стороны, к
Божественному в виде четверицы (как сочетания земли и неба, воды
источника, которой наполнена чаша, и как воздаяния смертных
богам). Иными словами, вещность вещи определяется через
метафизические основания. Здесь резонно задать два вопроса: вещность вещи
и произведение искусства имеют один и тот же статус? Как
проблематика феномена и явления вписывается в рассуждения об
истинности предметности искусства?
Хайдеггер М. Время и бытие / Сост., пер., вступ. ст., коммент. В. В. Биби-
хина. Москва: Республика, 1993. С. 315.
** Там же. С. 316.
*** Там же. С. 317.
**** Там же. 321.
Феномен и эстетическое явление
1105
Чтобы несколько прояснить эти вопросы, обратимся к другому
тексту Хайдеггера, а именно «Истоку художественного творения».
С методической точки зрения это совершенно оправданно,
поскольку в этой работе Хайдеггер использует присущие только ему
приемы, которые повторяются во многих его текстах и релевантны
нашей теме.
Первый вопрос, который возникает, — это вопрос; чем
отличается вещь от произведения искусства? Ответ Хайдеггера следующий:
произведение искусства — это всегда аллегория, символ, который
отсылает к чему-то другому. «Художественное творение все
открыто возвещает об ином, оно есть откровение иного: творение есть
аллегория. С вещью, сделанной и изготовленной, в художественном
творении совмещено и сведено воедино еще нечто иное. А сводить
воедино — по-гречески ouußataiv. Творение есть символ»*.
Остановимся на этом определении. Творение — это отсыл к иному, это
символ. Здесь, во-первых, совпадает смысл вещи и художественного
творения: как в примере с чашей, которая является отсылом к четве-
рице земли и неба, человеческого и божественного, так и в
художественном произведении — оно всегда есть аллегория, иносказание.
И во-вторых, появляется возможность сопоставить сказанное с тем,
что уже утверждалось по поводу феномена и явления. Феномен, как
мы видели, — это то, что кажет себя по истине, явление же — это
то, что кажет себя через нечто другое. В этом случае
формулировка искусства как символа скорее отсылает к понятию явления, чем
феномена, понимаемых в терминологии Хайдеггера. Произведение
искусства — это всегда символ, иносказание и демонстрирует себя
через нечто иное.
В определенном смысле мы сталкиваемся здесь с определенной
дилеммой: произведение искусство кажет себя через иное, а значит,
не соответствует истине. Однако в дальнейшем Хайдеггер
утверждает следующее: «Что творится в творении? Картина Ван Гога есть
раскрытие, растворение того, что по истине есть это изделие,
крестьянские башмаки. Сущее вступает в несокрытость своего бытия» **.
И дальше он прибегает к только ему присущему способу
размышления, говоря об истине как несокрытости. На картине Ван Гога
изображены крестьянские башмаки как они поистине есть, как
несокрыты. То есть с одной стороны, произведение искусства — это символ,
или иное, т. е. явление, а с другой стороны, оно есть несокрытость
и манифестирует истинность бытия как феномен. Такое положение
указывает на двойственность природы предмета искусства у Хай-
* Хайдеггер М. Исток художественного творения: Работы разных лет / Пер.
с нем. А. В. Михайлова. М.: Академический проект, 2008. С. 87.
** Там же. С. 123.
1106
A. H. Крюков
деггера. Кроме того, указать на то, что башмаки на картине Ван
Гога — это предметы как они поистине есть, было бы недостаточно.
Поэтому необходима дальнейшая экспликация.
<...> В работе же «Исток художественного творения» Хайдег-
гер дальше обосновывает это положение (об истинности худ.
творения. — Прим. составителя): «Итак, сущность искусства вот что:
истина, сущего, полагающаяся в творении»*. И ниже:
«Художественное творение раскрывает присущим ему способом бытие
сущего. В творении совершается это раскрытие-обнаружение, то есть
истина сущего. В художественном творении истина сущего
полагает себя в творение. Искусство есть такое полагание истины в
творение»**. В этом тезисе аккумулировано последнее утверждение, что
истина искусства — это истина сущего, данного нам в творении***.
Тем самым выражается двойственность бытия: произведение
искусства манифестирует себя как область символического, однако оно
отображает истину бытия.
При этом элементы четверицы, о которых шла речь в работе
«Вещь», в произведении искусства имеют место: в искусстве отобра-
икается божественное («Бог изображается не для того, чтобы легче
было принять к сведению, как он выглядит; изображение — это
творение, которое дает богу пребывать, а потому само есть бог. То же
самое и творение слова»****, а также земное («То, внутрь чего вновь
ставит себя творение, то, что пока ставит оно себя, выходит наружу,
на свет, мы назвали землей. Земля есть земля, выходящая наружу,
и земля скрывающая»*****).
Итак, для Хайдеггера искусство есть истина, которая связана
с элементами четверицы. Кроме того, красота как эстетическая
категория—этоистина,котораябытийствуетвсвоейнесокрытости******.Спо-
соб разыскания истины искусства коренится в поэтическом языке*******.
* Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 123.
'* Там же. С. 131.
* К примеру, П. П. Гайденко резюмирует данное положение Хайдеггера
следующим образом: «Таким образом, изначальное определение истины
должно гласить: истина есть явленность, несокрытость сущего, и эту-то истину
и "совершает" произведение искусства» (Гайденко П. П. Прорыв к
трансцендентному: Новая онтология XX века. М.: Республика, 1997. С. 341).
'* Хайдеггер М. Исток художественного творения: Работы разных лет / Пер.
с нем. А. В. Михайлова. М.: Академический проект, 2008. С. 141.
" Там же. С. 147.
* Там же. С. 169.
** Тема поэтического языка как способа раскрытия истины очень обширна.
Здесь я только укажу на этот способ как проблему. Основной упрек и
вопрос, который можно поставить: чем, собственно, обосновано такое сильное
утверждение, что именно поэтический язык является способом
утверждения истины бытия?
Феномен и эстетическое явление
1107
«Все искусство — дающее пребывать истине сущего как такового —
в своем существе есть поэзия. Сущность искусства, внутри которого
покоится художественное творение и покоится художник, есть
творящая истина, полагающаяся внутри творения. Поэтическая сущность
такова, что искусство раскидывает посреди сущего открытое место,
и в этой открытости все является совсем иным, необычным»*.
Рассмотрев основные тезисы философии искусства Хайдеггера и
сопоставив с тем, что говорилось выше по поводу феноменологического
анализа явления и феномена, мы можем сделать некоторые выводы.
1. Произведение искусства символично по своей сути. Это
значит, что оно отсылает к другим вещам, которыми оно не является.
Если мы примем во внимание концепцию Мартина Зиля, гласящую,
что своеобразие эстетического необходимо искать не столько в
феноменальном, сколько в способах их явленности, то данное положение
Хайдеггера, кажется, совпадает с этой точкой зрения. Понятия
явления (Erscheinung) оказывается принципиальным, поскольку оно
охватывает все многообразие сущего, которое можно постичь.
2. Хайдеггер выдвигает важный тезис, гласящий, что в
произведении искусства раскрывается истина и красота есть не что иное,
как несокрытость истины. Иными словами, здесь совпадает
основное положение фундаментальной онтологии Хайдеггера, что истина
есть несокрытость, и в эстетической концепции, зияние несокрыто-
сти означает красоту.
3. С методической точки зрения способ анализа или раскрытия
произведения искусства формулируется поэтическим языком. То
есть адекватность раскрытия истины направляется областью
символического, иными словами, языковой реальностью, языковой
картиной мира. «Язык впервые дает имя сущему»**.
4. Различие между феноменом и явлением в философской
эстетике М. Хайдеггера основывается на его онтологическом учении.
В этой связи представляется перспективным проведение
сравнительного анализа его концепции с подобными подходами в
российской философской традиции, в которой также были предприняты
попытки онтологического фундирования эстетики, но на других
концептуальных основаниях. Имеются в виду как представители
религиозно-идеалистической традиции (П. А. Флоренский, С. Л. Франк,
А. Ф. Лосев и др.), так и представители историко-аналитического
подхода к проблеме (С. С. Аверинцев, В. В. Бибихин, П. П. Гайден-
ко и др.). Обзор данных подходов в сопоставлении с хайдеггеровски-
ми идеями предполагает отдельное объемное исследование.
* Хайдеггер М. Исток художественного творения: Работы разных лет / Пер.
с нем. А. В. Михайлова. М.: Академический проект, 2008. С. 205.
** Там же. С. 207.
КОММЕНТАРИИ
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX века.
М. ХАЙДЕГГЕР И РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Н. А. Бердяев
Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения
«Фрагменты >
Творчество и объективация. Опыт эсхатологической метафизики
<Фрагменты>
Царство духа и царство кесаря <Фрагменты>
Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого
<Фрагменты>
Истина и откровение <Фрагменты>
Самопознание. Тяжелые годы <Фрагменты>
Присущий Бердяеву импрессионистический стиль письма делает
затруднительным в том числе и определение его отношения к другим
философам, как предшественникам, так и современникам. Отдельные
упоминания о Хайдеггере и его философии, в том числе и весьма концептуальные,
делаются им по самым разным поводам и разбросаны по различным
произведениям. Ниже публикуются наиболее характерные и/или развернутые
отзывы и характеристики, представленные в ряде наиболее значительных
поздних работ мыслителя.
Печатается по:
Бердяев Н. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и
общения (П., 1934) С.38, 48-53,99;
Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и
объективация // Бердяев Н. А. Царство Духа и царство кесаря. Москва,
1995. С.186, 222, 266;
Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря. Париж, 1951. С. 9, 14,
16, 20;
Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика Божественного и
человеческого. Париж, 1952. С. 57-58, 80-81;
* В антологии приняты следующие сокращения:
GA: Gesamtausgabe (Полное собрание сочинений М. Хайдеггера на нем.
языке. Издательство: Vittorio Klostermann Verlag. Fankfurt am Main).
SZ: Sein und Zeit («Бытие и время», наиболее известное сочинение М.
Хайдеггера).
Комментарии
1109
Бердяев H. A. Истина и откровение. СПб., 1996. С. 8-13, 107-109;
Бердяев Н. А. Самопознание. М.: ДЭМ, 1990. С. 194.
Бердяев Николай Александрович [6 (18) марта 1874, имение Обухово,
Киевская губерния — 23 марта 1948, Кламар, под Парижем] — русский
философ, близкий к европейскому персонализму и экзистенциализму.
Основные темы философствования Н. А. Бердяева: проблемы человека,
свободы, творчества, истории, философии религии и философской теологии,
судьба и культура России. В 1928 г. в журнале Бердяева «Путь» была
опубликована развернутая рецензия на «Бытие и время». Первые
упоминания о Хайдеггере в текстах самого Бердяева встречаются, начиная с книги
«О назначении человека» (1931), где «Бытие и время» называется «самой
замечательной философской книгой последнего времени» (с. 8).
Соч: Философия свободы. М., 1911; Смысл творчества. М., 1916; Смысл
истории. Берлин, 1923; Новое Средневековье (Размышление о судьбе России)
Берлин, 1924; Философия свободного духа (Проблематика и апология
христианства). Париж, 1927; О назначении человека. Опыт парадоксальной этики.
Париж, 1931; Русская идея (основные проблемы русской мысли XIX и
начала XX века. Париж, 1946; Опыт эсхатологической метафизики. Творчество
и объективация Париж, 1947; Истина и откровение. СПб., 1996 и мн. др.
В. Э. Сеземан
M. Heidegger. Sein und Zeit. I. 1927 [Рецензия]
Печатается по: Сеземан В. Э. [Рец. на:] М. Heidegger. Sein und Zeit. I.
1927 // Путь. 1928. № 14. С. 117-123.
Сеземан Василий Эмильевич — [30 мая (11 июня) 1884, Выборг, —
23 марта 1963, Вильнюс] — российский, литовский, советский философ,
представитель Марбургской школы неокантианства. Профессор
университетов в Каунасе и Вильнюсе. В 1950-1956 гг. — узник,ГУЛАГа.
Ученик Н. О. Лосского и Г. Когена, испытал влияние феноменологии. Автор
работ по истории философии, логике, теории познания, эстетике,
значительная часть которых не была опубликована при жизни мыслителя.
Соч.: Рациональное и иррациональное в системе философии // Логос.
1911. Кн. 1. С. 93-122; Эстетическая оценка в истории искусства (К вопросу
о связи истории искусства с эстетикой) // Мысль. № 1. 1922. С. 117-147;
Logika. Kaunas: Rankus, 1928; Raâtai. Gnoseologija. Vilnus: Mintis, 1987;
Estetika. Vilnus: Mintis, 1970; Filosofijos istorija. Kultura. Vilnus: Mintis,
1997.
1110
Комментарии
С.Л.Франк
Конспект книги М. Хайдеггера «Бытие и время»
Печатается по: Исследования по истории русской мысли [13]:
Ежегодник за 2016-2017 годы / Под редакцией М. А. Колерова. М.:
Модест Колеров, 2017. С. 135-143. Публикация и комментарии Г. Аляева
и Т. Резвых.
Франк Семён Людвигович [16 (28) января 1877, Москва — 10 декабря
1950, Лондон] — русский религиозный философ, автор концепции
«Непостижимого» как трансрациональной мистической бездны, из которой
проистекает бытие мира и человека, постигающейся путем «ведающего
неведения». Испытал влияние Плотина, Николая Кузанского.
Соч.: Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания.
Пг.: Тип. Р. Г. Шредера, 1915; Душа человека. Опыт введения в
философскую психологию. М.: Издание Г. А. Лемана и С. М. Сахарова, 1917; Смысл
жизни. Париж: YMCA-Press, 1926; Духовные основы общества. Введение
в социальную философию. Париж: YMCA-Press, 1930; Непостижимое.
Онтологическое введение в философию религии. Париж: Дом книги и
Современные записки, 1939; Свет во тьме: Опыт христианской этики и
социальной философии. Париж: YMCA-Press, 1949; Реальность и человек.
Метафизика человеческого бытия. Париж: YMCA-Press, 1956.
Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых
«Первая философия» Семёна Франка,
или Пролегомены к книге «Непостижимое»
Печатается по: Исследования по истории русской мысли [13]:
Ежегодник за 2016-2017 годы / Под редакцией М. А. Колерова. М.: Модест
Колеров, 2017. С. 34-38.
Резвых Татьяна Николаевна — кандидат философских наук, доцент
кафедры новых технологий в дистанционном обучении ПСТГУ. Специалист
в области русской философии.
Составитель, автор предисловий и комментатор: Дурылин С. Н. Статьи
и исследования 1900-1920 годов. СПб.: Владимир Даль, 2014 (в соавторстве
с А. И. Резниченко); Дурылин С. Н. Рассказы, повести и хроники. СПб.:
Владимир Даль, 2014 (в соавторстве с А. И. Резниченко); Франк С. Л.
Полное собрание сочинений. Том 1: 1896-1902. М.: Издательство ПСТГУ, 2018
(в соавторстве с Г. Е. Алиевым, К. М. Антоновым); Франк С. Л. Полное
собрание сочинений. Том 2: 1903-1907. М.: Издательство ПСТГУ, 2019 (в
соавторстве с Г. Е. Аляевым, К. М. Антоновым).
Комментарии
1111
Аляев Геннадий Евгеньевич — доктор философских наук, профессор
(г. Полтава, Украина). Специалист в области русской философии.
Соч.: Ф1лософський ушверсум С. Л. Франка. Персонал1стична метафь
зика всеедное™ в горизонтах hoboï онтологи XX столггтя. К.: П АРАП АН,
2002; О религиозных философах России и Украины: персонологиче-
ские очерки. Полтава: АСМИ, 2010 (В соавторстве с Б. В. Емельяновым,
Т. Д. Суходуб, Н. Г. Мозговой); Семен Франк. СПб.: Наука, 2017 (серия
«Мыслители прошлого») / Составитель, автор предисловий и
комментатор: Франк С. Л. Полное собрание сочинений. Том 1: 1896-1902. М.:
Издательство ПСТГУ, 2018 (в соавторстве с Т. Н. Резвых, К. М. Антоновым);
Франк С. Л. Полное собрание сочинений. Том 2: 1903-1907. М.:
Издательство ПСТГУ, 2019 (в соавторстве с Т. Н. Резвых, К. М. Антоновым).
Н. С. Плотников
С. Л. Франк о М. Хайдеггере.
К истории восприятия Хайдеггера в русской мысли
Печатается по: Плотников Н. С. С. Л. Франк о М. Хайдеггере. К
истории восприятия Хайдеггера в русской мысли // Вопросы философии
1995. №9. С 169-185.
Плотников Николай Сергеевич — доктор философии (Dr. Phil. Habil.),
доцент Института русской культуры им. Ю. М. Лотмана Рурского
университета Бохума (Lotman-Institut für russische Kultur, Ruhr-Universität
Bochum), директор Восточноевропейской коллегии земли Северный
Рейн-Вестфалия (Osteuropa-Kolleg NRW). Область научных интересов
включает европейскую и русскую интеллектуальную историю XIX-XX вв.,
историю философских и политических понятий, феноменологию и
герменевтику в немецкой и восточноевропейской философии, теоретические
исследования культуры.
Соч.: Жизнь и история. Философская программа Вильгельма Диль-
тея. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000; Gelebte Vernunft. Konzepte
praktischer Rationalität beim frühen Hegel. Stuttgart-Bad Cannstatt:
Frommann-Holzboog-Verlag, 2004; Персональность. Язык философии в
русско-немецком диалоге. М.: Модест Колеров, 2007 (ред.); Kunst als Sprache —
Sprachen der Kunst. Russische Ästhetik und Kunsttheorie der 1920er Jahre
in der europäischen Diskussion. Hamburg: Felix Meiner, 2014 (ред.);
Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия
художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов: В 2 т. М.: Новое
литературное обозрение, 2017 (ред.); Gerechtigkeit in Russland. Sprachen, Konzepte,
Praktiken. München: Wilhelm Fink, 2019 (ред.).
1112
Комментарии
А. И. Резниченко
Флоренский и Хайдеггер об àÀf|6eia: забвение и/или сокрытость?
Печатается по: Резниченко А. И. Флоренский и Хайдеггер об àArjGeia:
забвение и/или сокрытость? // Вестник РГГУ. Серия: «Философия.
Социология. Искусствознание». 2017. №1 (7). С. 47-63 (1.1 а. л.).
ISSN 2073-6401.
Резниченко Анна Игоревна — доктор философских наук, профессор
кафедры истории отечественной философии философского факультета
Российского государственного гуманитарного университета. Специалист
в области истории русской философии Серебряного века, европейской
философии Новейшего времени, философии языка.
Соч.: Резниченко А. О смыслах имен: Булгаков, Лосев, Флоренский,
Франк et dii minores. M.: Regnum, 2012; Булгаков С. H. Труды о
Троичности / Сост., подг. текста, прим. и предисл. Анны Резниченко. М.: ОГИ,
2001; А. С. Глинка (Волжский): Собрание сочинений в трех книгах. Книга
1 / Сост., подг. текста, коммент. и статья Анны Резниченко. М.: Модест
Колеров, 2005; С. Н. Дурылин и его время: Исследования. Тексты.
Библиография. Кн. I. Исследования / Сост., ред., предисл. Анны Резниченко. М.:
Модест Колеров, 2010; Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы.
Результаты / Сост. и вступ. ст. А. И. Резниченко. М.: РГГУ, Мемориальный
Дом-музей С. Н. Дурылина, 2014; Резниченко А. И. О судьбах имён и
терминов: к становлению философии языка в России (П. А. Флоренский, А. Ф.
Лосев, В. П. Зубов) // Историко-философский ежегодник-2014. М.: ИФ РАН.
С. 278-295; Резниченко А. Павел Флоренский как читатель «Размышлений
о Гёте» Эмилия Метнера (к вопросу о филиациях идей в русской культуре
Серебряного века) // Russian Literature. 2015. Vol. 77. Iss. 4: Aemilius Metner:
Life, work, cultural significance / Ed. M. Spivak. P. 591-601.
H. Л. Баранова-Шестова
Жизнь Льва Шестова.Том 2 <Фрагменты>
Печатается по: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова по
переписке и воспоминаниям современников. И. La Press Libre. Paris, 1983.
С. 17, 20-22.
Шестов Лев Исаакович (наст, имя Иегуда Лейб Шварцман) [31 января
(12 февраля) 1866, Киев — 19 ноября 1938, Париж] — русский философ,
близкий экзистенциализму. Предложил всеобъемлющую и радикальную
критику рациональной и моралистической традиции европейской
философии от Платона до Гуссерля и неотомизма. В поздних работах обозначал соб-
Комментарии
1113
ственную позицию как «философию библейского откровения». Основной
прием мышления — парадоксальный анализ духовного пути и мышления
выдающихся представителей европейской и русской мысли. Предложил
оригинальные трактовки творчества Шекспира, Ницще, Толстого,
Достоевского, Лютера, Плотина, Паскаля, Спинозы, Кьеркегора, Вл. Соловьева,
Гуссерля и мн. др. Через Ж. Батая, А. Камю и др. оказал значительное
влияние на французскую философию II половине XX в.
Соч.: Добро в учении гр. Л. Толстого и Нитше. Философия и проповедь.
СПб., 1900; Апофеоз беспочвенности. СПб., 1905; Власть ключей. Берлин,
1923; На весах Иова (Странствования по душам). Париж, 1929; Афины
и Иерусалим. Париж, 1951, и др.
Баранова-Шестова Наталья (1900-1993) — вторая дочь Льва Шесто-
ва, автор его биографии.
Соч: Жизнь Льва Шестова по переписке и воспоминаниям
современников. Париж, 1983.
Г. Д. Гурвич
Критические заметки о философии М. Хайдеггера
Печатается по: Гурвич Г. Критические заметки о философии М.
Хайдеггера / Пер. А. П. Козырева // Антология феноменологической
философии в России / Под общ. ред. И. М. Чубарова. Т. 2. М.: Логос,
Прогресс-Традиция, 2000. С.155-159.
Гурвич Георгий Давидович (Жорж) (1894-1965) — французский
социолог, правовед и философ российского происхождения. Изучал право
в Юрьеве, Петрограде, Гейдельберге и Лейпциге. Преподавал в Томске,
Праге и Берлине, Париже, Бордо, Страсбурге и Нью-Йорке. Наиболее известен
как один из самых значимых представителей французской школы
социологии, основатель и первый директор Центра социологических исследований,
Лаборатории социологии познания и морали во Франции, Международной
ассоциации социологов франкоязычных стран, главный редактор журнала
«Международные тетради по социологии». С 1948 г. являлся профессором
социологии в Университете Парижа. С 1960 по 1963 г. — президент
Национального центра координации исследований Франции. Специалист в
области истории немецкой классической философии, феноменологии,
социологии права, социологии знания, социологии морали, международного права.
Соч.: Fichtes System der concreten Ethik. Tübingen: Mohr, 1924; Les
tendances actuelles de la philosophie allemande: E. Husserl, M. Scheler,
E. Lask, N. Hartmann, M. Heidegger. Paris: J. Vrin, 1930; Morale théorique
et science des mœurs PUF, 1948.
1114
Комментарии
С. А. Левицкий
Учение Хайдеггера
Печатается по: Левицкий С. А. Трагедия свободы: избранные
произведения / Сергей Александрович Левицкий; вступ. статья, сост. и
комментарии В. В. Сапова. М.: Астрель, 2008. С. 460-467.
Левицкий Сергей Александрович [15( 28) марта 1908, Либава, ныне
Лиепая — 24 сентября 1983, Вашингтон] — философ, публицист и
литературовед. Ученик Н. О. Лосского, считается одним из главных идеологов солида-
ризма — направления социально-философской мысли, лежащего в основе
политической программы НТС. Ключевые темы философии —
противостояние начал свободы и необходимости, солидарности и борьбы.
Соч.: Основы органического мировоззрения. Посев. Б/м, 1946; Трагедия
свободы. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1958; Очерки по истории русской
философской и общественной мысли. Т. I. Франкфурт-на-Майне: Посев,
1968; Т. И, 1981.
II
СОВЕТСКАЯ ХАЙДЕГГЕРИАНА:
МЕЖДУ ОФИЦИОЗОМ И ИНАКОМЫСЛИЕМ
Б. Э. Быховский
Фельдфебели в Вольтерах: (фашизм и философия) <Фрагмент>
Печатается по: Быховский Б. Э. Фельдфебели в Вольтерах: (фашизм
и философия). М.: Госполитиздат, 1943. С. 35-39.
Быховский Бернард Эммануилович (1901-1980) — доктор
философских наук, заведующий сектором истории западной философии Института
философии АН СССР, преподаватель Белорусского государственного
университета и Центральной партийной школы при ЦК КП БССР (Минск);
заведующий кафедрой диалектического материализма Среднеазиатского
университета (Ташкент), преподаватель МИФЛИ, Института Красной
профессуры, профессор Московского института народного хозяйства, лауреат
Сталинской премии (1944) за участие в создании трехтомной «Истории
философии» (1940-1943). Автор работ по истории западноевропейской
философии, марксистской теории историко-философского процесса.
Соч.: Метапсихология Фрейда. Минск: Б. и., 1926; Философия Декарта.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940; Метод и система Гегеля. М.: ОГИЗ; Госполит-
Комментарии
1115
издат, 1941; Основные течения современной идеалистической философии.
М.: Знание, 1957; Людвиг Фейербах. М.: Мысль, 1967; Джордж Беркли. М.:
Мысль, 1970; Кьеркегор. М.: Мысль, 1972; Гассенди. М.: Мысль, 1974;
Шопенгауэр. М.: Мысль, 1975; Сигер Брабантский. М.: Мысль, 1979; Ленин и
некоторые вопросы истории философии // Под знаменем марксизма. 1931. № 1-2.
П. П. Гайденко
«Фундаментальная онтология» М. Хайдеггера и проблема творчества
Печатается по: Гайденко П. П. «Фундаментальная онтология» М.
Хайдеггера и проблема творчества // Экзистенциализм и проблема
культуры (критика философии М. Хайдеггера). М.: Высшая школа, 1963.
С. 25-75.
Гайденко Пиама Павловна — доктор философских наук, советский
и российский философ, историк философии. Лауреат Премии им. Г. В.
Плеханова (1997). Член-корреспондент РАН с 26 мая 2000 г. по Отделению
философии, социологии, психологии и права (философия).
Соч.: Время. Длительность. Вечность: проблема времени в европейской
философии и науке. М.: Прогресс-Традиция, 2006; Научная
рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003; Владимир
Соловьев и философия Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2001;
История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.: Университетская
книга, 2000; История греческой философии в ее связи с наукой. М.:
Университетская книга, 2000; Прорыв к трансцендентному. Новая онтология
XX века. М.: Республика, 1997; Rußland und der Westen (Heidelberger Max-
Weber-Vorlesungen 1992). Frankfurt а. М., 1995 («Россия и Запад. Гейдель-
бергские лекции о Максе Вебере», в соавторстве с Ю. Н. Давыдовым);
История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс
(в соавторстве с Ю. Н. Давыдовым). М.: Политиздат, 1991; 2-е издание. М.:
УРСС, 2006; Парадоксы свободы в учении Фихте. М.: Наука, 1990;
Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М.: Наука, 1987; Эволюция понятия
науки (VI в. до н. э. — XVI вв.). М.: Наука, 1980; Философия Фихте и
современность. М.: Мысль, 1979; Трагедия эстетизма. Опыт характеристики
миросозерцания С. Киркегора. М.: Искусство, 1970.
А. В. Гулыга
Дело Хайдеггера
Печатается по: Гулыга А. В. Дело Хайдеггера. Литературная газета.
30 ноября 1988 г. № 48 (5218). С. 15.
1116
Комментарии
Гулыга Арсений Владимирович (1921-1996) — доктор философских
наук. Член Союза писателей СССР. Философ, историк философии,
литературовед, специалист по истории русской и немецкой философии, эстетике.
Один из инициаторов создания серии «Философское наследие».
Соч.: Из истории немецкого материализма. М., 1962; Гердер. М., 1963;
Гегель. М., 1970; Эстетика истории. М., 1974; Кант. М., 1977; Искусство
в век науки. М., 1978; Шеллинг. М., 1982; Немецкая классическая
философия. М., 1986; Что такое эстетика. М., 1987; Путями Фауста. М., 1987;
Уроки классики и современность. М., 1990; Русская идея и ее творцы. М., 1995.
М. А. Лифшиц
О М. Хайдеггере <фрагменты архива>
(Составление, примечания В. Г. Арсланова и А. С. Лагурева)
Раздел I. Печатается по: Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом
Ильенковым (Проблема идеального). М., 2003. С. 92-93, 96,111, 254-255.
Раздел И. Печатается по: Лифшиц Мих. Архив. Папка № 203,
«Hegel». 1982 г. Л. 86-132.
Раздел III. Печатается по: Лифшиц Мих. Архив. Папка №25/1, «Он-
тогносеология». Л. 11, 101-107; Лифшиц Мих. Архив, Папка № 123,
«Активность сознания. Мимезис. Критика Мэн де Бирана»; Лифшиц
Мих. Архив. Папка «Еще к онтологической гносеологии»; Лифшиц
Мих. Что такое классика? Онтогносеология. Смысл мира. «Истинная
середина». М., 2004. С. 145, 154.
Раздел IV. Печатается по: Лифшиц Мих. Что такое классика?
Онтогносеология. Смысл мира. «Истинная середина». М., 2004. С. 71-74;
Лифшиц Мих. Искусство и фашизм в Германии // Мих. Лифшиц.
Почему я не модернист? М., 2009. С. 260-261; Лифшиц Мих.
Предисловие к немецкому изданию 1960 г. <книги «Эстетические взгляды
Маркса» > // Лифшиц Мих. Собр. соч.: В 3 т. Т. I. M., 1984. С. 28-29.
Раздел V. Печатается по: Лифшиц Мих. Бессистемный подход //
Мих. Лифшиц. В мире эстетики М., 1985. С. 144; Лифшиц Мих. Человек
тридцатых годов // Мих. Лифшиц. В мире эстетики. М., 1985. С. 266-
267.
Раздел VI. Печатается по: Лифшиц Мих. Архив. Маргиналии Мих.
Лифшица на книге: П. П. Гайденко «Экзистенциализм и проблема
культуры». М., 1963; Лифшиц Мих. Архив. Маргиналии Мих. Лифшица
на книге: Горнштейн Т. Н. Философия Николая Гартмана.
(Критический анализ основных проблем онтологии). Л.: Наука, 1969.
Лифшиц Михаил Александрович (1905-1983) — советский философ,
искусствовед, литературовед, публицист, доктор философских наук, дей-
Комментарии
1117
ствительный член АХ СССР. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. Лиф-
шицем была открыта и реконструирована аутентичная эстетика Маркса
и Энгельса. Близкий друг Д. Лукача, лидер т. н. советского философско-
эстетического течения (круг журнала «Литературный критик», куда
помимо Лифшица и Лукач входили И. А. Сац, Е. Ф. Усиевич, В. Б. Александров
(Келлер), В. Р. Гриб и др.). Участник важнейших эстетических и
литературно-критических дискуссий 1930-х гг., в т. ч. с т. н. вульгарной социологией.
Критик философского и эстетического модернизма. С конца 1920-х и до
начала 1980-х гг. Лифшицем разрабатывалась марксистская философская
система, «Онтогносеология», которая не была завершена в следствие смерти
философа. Автор множества работ по философии, эстетике,
литературоведению, составитель антологии «Маркс и Энгельс об искусстве».
Соч.: Вопросы искусства и философии. М.: Художественная
литература, 1935; Кризис безобразия: От кубизма к поп-арту / М. А. Лифшиц,
Л. Я. Рейнгардт. М.: Искусство, 1968; Карл Маркс. Искусство и
общественный идеал. М.: Художественная литература, 1972; Искусство и
современный мир. М.: Изобразительное искусство, 1973; Мифология древняя
и современная. М.: Искусство, 1980; Собрание сочинений: В 3 томах. М.:
Изобразительное искусство, 1984-1988: Т. 1. 1984; Т. 2. 1986; Т. 3. 1988;
В мире эстетики. М.: Изобразительное искусство, 1985; Диалог с Эвальдом
Ильенковым (проблема идеального). М.: Прогресс-Традиция, 2003; Что
такое классика? Онтогносеология. Смысл мира. «Истинная середина». М.:
Искусство — XXI век, 2004; Почему я не модернист? Философия. Эстетика.
Художественная критика. М.: Искусство — XXI век, 2009.
В. Г. Арсланов
О М. Хайдеггере «Фрагменты разных работ>
(Составление, примечания В. Г. Арсланова и А. С. Лагурева)
Раздел I. Печатается по: Арсланов В. Г. «Русская идея» Мих.
Лифшица (идеал русской культуры) // Лифшиц Мих. Очерки русской
культуры. М., 2015. С. 5-9.
Раздел И. Печатается по: Арсланов В. Г. «Третий путь» Андрея
Платонова. Поэтика. Философия. Миф. СПб., 2019. С. 329-340.
Раздел III. Печатается по: Арсланов В. Г. Сущее и Ничто.
Постмодернизм и «Tertium datur» русской культуры XX века. СПб., 2015. С. 464-468.
Арсланов Виктор Григорьевич — доктор искусствоведения, ведущий
научный сотрудник НИИ Российской академии художеств, ученик Мих.
Лифшица. Под руководством В. Г. Арсланова были подготовлены к
печати и изданы наиболее важные материалы из архива Мих. Лифшица (более
10 книг). Автор работ по философии и теории искусства, в т. ч. пятитомной
1118
Комментарии
* Теории и истории искусствознания», монографий об эстетике
Франкфуртской школы, западного искусствознания XX в., онтогносеологии Мих. Лиф-
шица и философско-эстетического течения 1930-х гг.
Соч.: Миф о смерти искусства: Эстетические идеи Франкфуртской
школы от Беньямина до «новых левых». М.: Искусство, 1983; Сущее и Ничто.
Постмодернизм и «Tertium datur» русской культуры XX века. СПб., 2015;
Третий путь» Андрея Платонова. Поэтика. Философия. Миф. СПб., 2019;
Теория и история искусствознания: Уч. пособие: В 5 т. М., 2015. Т. 1.
Античность. Средние века. Возрождение; Т. 2. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г.
Гегель; Т. 3. XX век. Формальная школа; Т. 4. XX век. Духовно-исторический
метод. Социология искусства. Иконология; Т. 5. XX век. Постмодернизм.
А. Э. Савин
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм
Печатается по: Савин А. Э. Мартин Хайдеггер и диалектический
материализм // Вестник Русской христианской гуманитарной академии.
2018. Т. 19. Вып. 4. С. 87-97.
Савин Алексей Эдуардович — доктор философских наук, ведущий
научный сотрудник Института философии РАН, заведующий кафедрой
философии РАНХиГС. Область научных интересов: история феноменологической
философии; история немецкой классической философии; философия истории.
Соч.: Концепция историчности жизненного мира в трансцендентальной
феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 2008. № 5;
Динамика культуры в свете генетической феноменологии // Логос. 2010. № 5 (78);
Характер истолкования философии «раннего» Хайдеггера В. В. Бибихиным
// Материалы международной конференции «Русская философская мысль
XX века в контексте мировой философии». М.: РГГУ, 2013; О сущности
феноменологической философии // Horizon. Феноменологические исследования.
2015. Т. 4. № 1; Gustav Shpet's Phenomenological Innovations in Light of Genetic
Phenomenology // Russian Studies in Philosophy. 2016. Vol. 54. № 1. P. 35-47.
Г. Т. Маргвелашвили
Аксиологическое значение различия между экзистенциальным
и категориальным в хайдеггеровском онтологическом учении
<Главы из книги>
Печатается по: Маргвелашвили Г. Т. Аксиологическое значение
различия между экзистенциальным и категориальным в хайдеггеровском
онтологическом учении. Тбилиси: Мецниереба, 1979.
Комментарии
1119
Маргвелашвили Гиви Титович — немецкий писатель, философ, языковед.
Соч. (многочисленные публикации на русском и немецком); Роль языка в
философии Хайдеггера. Тбилиси, 1970; Проблема культурного мира в
экзистенциальной онтологии М. Хайдеггера. Тбилиси, 1998; Der ungeworfene Handschuh:
ontotextologische Versuche zur Abwehr von Schicksalsschlägen in Buch- und
Gedicht weltbezirken. Rütten & Loening, Berlin 1992; Leben im Ontotext : Poesie —
Poetik — Philosophie. Federchen-Verlag, Neubrandenburg N. N., 1993; Problema
kulturnogo mira v ekzistencialnoj ontologii M. Chajdeggera. Centre for Cultural
Relations of Georgia Caucasion House. Tiflis, 1998; Philosophie in Aktion. Über
Merab Mamardaschwili. In: Sinn und Form. S. 598-602.
П. П. Гайденко
От исторической герменевтики к «герменевтике бытия»: критический
анализ эволюции М. Хайдеггера
Печатается по: Гайденко П. П. От исторической герменевтики к
«герменевтике бытия»: критический анализ эволюции М. Хайдеггера //
Вопросы философии. 1987. № 10. С. 124-133.
Т. В. Щитцова
К герменевтике события у Хайдеггера и Бахтина
Печатается по: Щитцова Т. В. К герменевтике события у Хайдеггера
и Бахтина // Щитцова Т. В. (ред.). Понимание и существование:
Сборник докладов международного научного семинара. Минск: Пропилеи,
2000. С.28-33.
Щитцова Татьяна Валерьевна — доктор философских наук, профессор
Департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета
(Вильнюс), директор Центра исследований по философской, антропологии
(ЕГУ), главный редактор философско-культурологического журнала Topos.
Автор работ по феноменологии, экзистенциальной антропологии,
философии Хайдеггера.
Соч.: Событие в философии Бахтина. Минск: Логвинов, 2002; Memento
nasci: Сообщество и генеративный опыт. Штудии по экзистенциальной
антропологии. Вильнюс: ЕГУ, 2006; Die Beziehung zum Anderen in Martin
Heideggers "Sein und Zeit" und in der Ereignisphilosophie Michail Bachtins
// Phänomenologische Forschungen, 2003. S. 331-341; Sein zum Tode: Tolstoj
versus Heidegger // H. Ch. Günter, A. A. Robiglio (Eds.). The European Image
of God and Man. A Contribution to the Debate on Human Rights, Leiden/
Boston: Brill, 2010. S. 423-438; Kierkegaard's Existential Therapy and the
1120
Комментарии
Problem of the Subject // Topos 1, 2014. S. 29-38; Антропология. Этика.
Политика. Вильнюс: ЕГУ, 2014; Jenseits der Unbezüglichkeit. Geborensein
und Intergenerative Erfahrung. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2016;
От суверенности к служению. Две трактовки Dasein в философии Хайдегге-
ра и их значение для психотерапии // Щитцова Т. (ред). Цолликоновские
семинары. Комментарии и интерпретации. Вильнюс: ЕГУ, 2017. С. 75-106.
Т. М. Горичева, Ю. М. Романенко, А. Б. Паткуль
Разговор о Мартине Хайдеггере
(интервью 15 августа 2019 года, Санкт-Петербург)
Публикуется впервые.
Горичева Татьяна Михайловна — выпускница философского
факультета Ленинградского государственного университета. Русский
христианский философ, писатель, общественный деятель, активный защитник прав
животных.
Соч.: Дочери Иова. Христианство и феминизм. СПб.: СП «Алга-Фонд»;
ТПО «Ступени», 1992; Святые животные. СПб., 1993; Христианство и
современный мир. СПб.: Алетейя; Ступени, 1996; О священном безумии.
Христианство в современном мире. СПб.: Алетейя, 2015.
А. А. Вознесенский
Зуб разума «Фрагмент книги «На виртуальном ветру»>
Печатается по: Вознесенский А. А На виртуальном ветру. М.: Вагри-
ус, 1998. С. 329-345.
Вознесенский Андрей Андреевич (1933-2010) — советский и
российский поэт, публицист, художник и архитектор, поэт-песенник. Лауреат
Государственной премии СССР (1978) и Премии Правительства РФ (2010,
посмертно). Один из известнейших поэтов середины XX в., так называемых
шестидесятников. А. А. Вознесенский являлся почетным членом десяти
академий мира, в том числе Российской академии образования,
Американской академии литературы и искусства, Баварской академии искусств,
Парижской академии братьев Гонкур, Европейской академии поэзии и других.
Соч.: Антимиры: Стихи. М.: Молодая гвардия, 1964; Прорабы духа:
Прозаические и поэтические произведения. М.: Советский писатель, 1984;
Видеомы: Стихи, визуальные объекты, проза. М.: РИК «Культура», 1992;
Стихотворения и поэмы: В 2 т. СПб.: Издательство Пушкинского Дома;
Вита Нова, 2015.
Комментарии
1121
III
ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.
ДЕСТРУКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕЙ М. ХАЙДЕГГЕРА
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВОРОТА
В. В. Бибихин
Сила мысли
Печатается по: Сафрански Р. Хайдеггер (германский мастер и его
время) / Пер. с нем. Т. А. Баскаковой при участии В. А. Брун-Цехового,
вступ. статья В. В. Бибихина. М., 2002. С. 5-17.
Бибихин Владимир Вениаминович (1938-2004) — русский философ,
филолог, переводчик.
Соч.: Язык философии. М.: Прогресс, 1993; 3-е изд.: М.: Наука, 2007;
Мир. Томск: Водолей, 1995; 2-е испр. изд.: М.: Наука, 2007; Новый
Ренессанс. М.: Наука, Прогресс-Традиция; 2-е изд., исправл.: Университет
Дм. Пожарского, 2013; Узнай себя. СПб.: Наука, 1998; 2-е изд., исправл.
и дополн.: СПб.: Наука, 2015; Слово и событие. М.: Едиториал УРСС, 2001;
2-е изд., исправл. и дополн.: М.: Русский фонд содействия образованию
и науке, 2010; Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М.:
Институт философии, теологии и истории Св. Фомы, 2004.
Посмертно опубликованы: Витгенштейн. Смена аспекта. М.: Институт
философии, теологии и истории Св. Фомы, 2005; Введение в философию
права (недоступная ссылка). М.: ИФ РАН, 2005; 2-е изд., исправл. и
дополн.: М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2013; Внутренняя форма
слова. М.: Наука, 2008; Грамматика поэзии. СПб.: Издательство Ивана
Лимбаха, 2009; Дневники Льва Толстого. СПб.: Издательство Ивана Лим-
баха, 2012; Чтение философии. СПб.: Наука, 2009; Энергия. М.: Институт
философии, теологии и истории Св. Фомы, 2010; Собственность.
Философия своего. СПб.: Наука, 2012; История современной философии. СПб.:
Вл. Даль, 2014; Пора (время-бытие). СПб.: Вл. Даль, 2015. .
А. В. Михайлов
Мартин Хайдеггер: человек в мире <Фрагменты>
Печатается по: Михайлов А. В. Мартин Хайдеггер: человек в мире.
М.: Московский рабочий, 1990.
Михайлов Александр Викторович (1938-1995) — выдающийся
русский ученый-гуманитарий, германист, теоретик и историк литературы
и культуры, музыковед.
1122
Комментарии
Соч.: Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры.
М.: Наука, 1989; Мартин Хайдеггер: Человек в мире. М.: Московский
рабочий, 1990; Методы и стили литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2008;
Философия Мартина Хайдеггера и искусство // Современное западное искусство:
XX век. М., 1982; Проблема текста // Вопросы философии. 1984. № 1;
О русской традиции // Вопросы философии. 1988. № 9; Феноменология и ее
роль в современной философии // Вопросы философии. 1988. № 12;
Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989.
Э. Ю. Соловьев
Судьбическая историософия М. Хайдеггера «Фрагмент книги
«Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры)»>
Печатается по: Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по
истории философии и культуры). М.: Политиздат, 1991. С. 346-388.
Соловьев Эрих Юрьевич — доктор философских наук, главный научный
сотрудник Института философии РАН, профессор философского факультета
Новгородского государственного университета, заведующий сектором
социальной психологии и массовых движений Института международного
рабочего движения (1968-1970). Автор работ по истории западноевропейской
философии Нового и Новейшего времени, отечественной философии XX в.
Соч.: Категорический императив нравственности и права. М.:
Прогресс-Традиция, 2005; И. Кант: взаимодополнительность морали и права.
М.: Наука, 1993; Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М.:
Молодая гвардия, 1984; Экзистенциализм и научное познание. М.: Высшая
школа, 1966; The Existential Soteriology of Merab Mamardashvili // Russian
Studies in Philosophy. Vol. 49. N 1 (Summer 2010). P. 53-73; Der Begriff
des Rechts bei Hegel und Kant aus der Sicht der Tradition und Gegenwart der
russischen Philosophie // Die Folgen des Hegelianismus (Philosophie, Religion
und Politik im Abschied von der Moderne / Hrsg. von Peter Koslowski.
München: Wilhelm Fink, 1998. S. 287-302.
А. В. Ахутин
Dasein (Материалы к толкованию)
Печатается по: Ахутин А. В. Dasein (Материалы к толкованию) //
Логос. Литературно-философский журнал. № 5/6 (26). 2000. С. 89-123.
Ахутин Анатолий Валерианович — кандидат химических наук,
свободный исследователь. Автор работ по истории античной, немецкой и рус-
Комментарии
1123
ской философии, философии науки, философии культуры и культурологии.
С 2014 г. живет в г. Киеве.
Соч.: История принципов физического эксперимента. От Античности
до XVII века. М., 1976; «Фюсис» и «натура». Понятие «Природа» в
античности и в новое время. М., 1988; Предисловие к публикации: М. Хайдеггер.
«Основные понятия метафизики» // Вопросы философии. 1989. № 9;
Тяжба о бытии: Сб. философских работ. М., 1997; Поворотные времена. СПб.,
2005; Античные начала философии. СПб., 2007; Эксперимент и природа.
СПб., 2012; Европа — форум мира. Киев, 2014; Философское уморасполо-
жение. М., 2018.
С. С. Хоружий
Человек и Событие
<Фрагмент из книги «Фонарь Диогена.
Критическая ретроспектива европейской антропологии»>
Печатается по: Хоружий С. С. Человек и событие //
Хоружий С. С. Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской
антропологии. М.: Институт философии, теологии и истории Св. Фомы.
2010. С. 473-491.
Хоружий Сергей Сергеевич — доктор физико-математических наук,
профессор, главный научный сотрудник сектора философских проблем
социальных и гуманитарных наук Института философии Российской академии
наук. Физик-теоретик, математик, философ, богослов, переводчик,
известен переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, в том
числе знаменитого романа «Улисс», а также философскими и богословскими
исследованиями мистико-аскетической практики исихазма, автор
концепции синергийной антропологии.
Соч.: Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в
богословском и философском освещении. М., 1991; После перерыва. Пути русской
философии. СПб., 1994; К феноменологии аскезы. М., 1998; Очерки
синергийной антропологии. М., 2005; Фонарь Диогена. М., 2010; Исследования
по исихастской традиции. Т. 1-2. СПб., 2012; Социум и синергия. Казань,
2016; Опыты из русской духовной традиции. М., 2018.
В. И. Молчанов
Время, пространство, история
Печатается по: Молчанов В. И. Феномен пространства и
происхождение времени. М.: Академический проект, 2015. С. 118-127, 250-262.
1124
Комментарии
Молчанов Виктор Игоревич — доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник, руководитель Центра феноменологической
философии философского факультета Российского государственного
гуманитарного университета. Специалист в области феноменологической философии.
Соч.: Время и сознание. Критика феноменологической философии. М.:
Высшая школа, 1988; Различение и опыт: феноменология неагрессивного
сознания. М.: Три квадрата, 2004; Феноменология и терминология в
Идеях I. Что естественного в «естественной установке»? // Философский
журнал. Научно-теоретический журнал. 2018. Т. 11. № 4. С. 21-35.
В.А. Подорога
Ландшафт Шварцвальда
(М. Хайдеггер. Опыты по гео-философии)
Печатается по: Подорога В. А. Метафизика ландшафта.
Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX-XX веков. М.:
Канон-Плюс, 2013. С. 278-313, 330-346,352-358.
Подорога Валерий Александрович — доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник Институт философии РАН, зав.
сектором аналитической антропологии. Специализация: философская
антропология, история философии, философия искусства.
Соч.: Мимесис: Материалы по аналитической антропологии литературы.
Т. 1-2. Москва: Культурная революция, 2006, 2011; Кайрос, критический
момент. Произведение актуального искусства на марше. М.: Grundrisse, 2013;
Антропограммы. Опыт самокритики. М.: Логос, 2014; Вопрос о вещи. Опыты
по аналитической антропологии. М.: Grundrisse, 2016; Время « после».
Освенцим и ГУЛАГ. Мыслить абсолютное Зло. М.:, РИПОЛ-классик, 2017; Второй
экран. Сергей Эйзенштейн и кинематограф насилия. Т. 1. M.: BREUS, 2017.
А. Г. Черняков
Онтология времени. Бытие и время
в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера
<Фрагмент>
Печатается по: Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время
в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. СПб.: Высшая
религиозно-философская школа, 2001. С. 284-296.
Черняков Алексей Григорьевич (1955-2010) — кандидат
физико-математических наук (Ленинградский университет), доктор философских наук
Комментарии
1125
(Российский государственный гуманитарный университет в Москве),
доктор философии (Свободный университет в Амстердаме). Профессор,
заведующий отделением «Философия» Института «Высшая
религиозно-философская школа» (1992-2009), профессор Русской христианской гуманитарной
академии (2009), Смольного института свободных наук и искусств СПбГУ
(2010). Автор работ по онтологии, метафизике, этике, патристике,
схоластике. Специалист в области немецкой классической философии,
феноменологии Гуссерля и Хайдеггера, русской философии, философии А. Бадью.
Переводчик трудов Хайдеггера на русский язык.
Соч.: Онтологическая дифференция и темпоральность // Вопросы
философии. № 6. 1997. С. 136-151; Стрекало вопроса (вместо предисловия) //
Хайдеггер М. Введение в метафизику СПб.: Высшая
религиозно-философская школа, 1998. С. 15-84; В поисках утраченного субъекта //
Метафизические исследования. Вып. 6. Сознание: Альманах Лаборатории
метафизических исследований при философском факультете СПбГУ, 1998.
С. 11-38; Das Schicksal des Subjektbegriffs in «Sein und Zeit» // Reihe
der Österreichischen Gesellschaft für Phänomenologie. Bd. 3: Siebzig Jahre
«Sein und Zeit», hrsg. v. H. Vetter, 1999. S. 175-188; The Ontology of Time.
Being and Time in the Philosophies of Aristotle, Husserl and Heidegger.
Phaenomenologica 163, Kluwer Academic Publishers, 2002. X, 230 p.; Хай-
деггер и греки // Мартин Хайдеггер: Сборник статей. СПб.: Изд-во РХГИ,
2004. С. 218-252; Хайдеггер и персонализм русского богословия // Пер-
сональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М.: Модест
Колеров, 2007. С. 139-148; В поисках основания онтологии: субъект или
ипостась? // Ежегодник по феноменологической философии. Т. 1. 2008.
М.: РГГУ, 2008. С. 237-261; Онтология и хронология // Современная
онтология III. Категория взаимодействия. СПб.: Издательство СПбГУ, 2009.
С. 63-70; Об утрате очевидности: на пути к новой онтологии. СПб.: Изд-во
Института * Высшая религиозно-философская школа», 2016. Полный
список работ А. Г. Чернякова представлен в издании Высшей
религиозно-философской школы (ВРФШ) «Об утрате очевидности: на пути к новой
онтологии» (2016).
В. А. Конев
Мартин Хайдеггер о мышлении
<Фрагмент из книги «Критика способности быть
(семинары по "Бытию и времени" Мартина Хайдеггера)»>
Печатается по: Конев В. А. Мартин Хайдеггер о мышлении //
Конев В. А. Критика способности быть (Семинары по «Бытию и времени»
Мартина Хайдеггера). Самара: Изд-во «Самарский университет», 2000.
С.248-256.
1126
Комментарии
Конев Владимир Александрович — доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой философии гуманитарных факультетов
Самарского государственного университета. Автор работ по философии культуры,
социальной философии. Докторская диссертация — «Социальное бытие
искусства» (1978).
Соч.: Философия бытия — события М. Бахтина // Российское сознание.
Психология. Феноменология. Культура. Самара, 1994; Онтология
культуры. Самара, 1998; Смыслы культуры. Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2016.
В. А. Конев
Метафизика «Ничто» в философии М. Хайдеггера
«Фрагмент из книги «Критика способности быть
(семинары по "Бытию и времени" Мартина Хайдеггера)»>
Печатается по: Конев В. А. Метафизика * Ничто» в философии М.
Хайдеггера // Конев В. А. Критика способности быть (Семинары по * Бытию
и времени» Мартина Хайдеггера). Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2000. С. 237-247.
К. А. Ермилов
Хайдеггер и Салтыков-Щедрин.
Тема Ничто в «Господах Головлёвых» и «Бытии и времени»
Печатается по: Ермилов К. А. Хайдеггер и Салтыков-Щедрин. Тема
Ничто в Господах Головлёвых и Бытии и времени // Зборник
Матице Спрске за славистику (Славистический сборник. Review of Slavic
Studies). № 94. Нови Сад, 2018. С. 95-104.
Ермилов Кирилл Андреевич — кандидат философских наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Тема кандидатской диссертации: «Экология техногенной'цивилизации:
историко-философский аспект» (2010).
Соч.: Творчество и власть. «Введение в метафизику» Мартина
Хайдеггера // àyopd. Творчество и субъективность. Вып. 1. СПб.: РГПУ им. А. И.
Герцена, 2016; Хайдеггер и Салтыков-Щедрин. Ничто в метафизике и
литературе // STUDIACULTURAE. Вып. 4 (26). 2015; Пустословие: забыть Ничто.
Хайдеггер и Салтыков-Щедрин // «EINAI: Философия. Религия.
Культура». 2017. Т. 6. № 1 (11); Мотив совести. Хайдеггер и Салтыков-Щедрин //
«EINAI: Философия. Религия. Культура». 2017. Т. 6. № 1 (12).
Комментарии 1127
H. В. Мотрошилова
Ханна Арендт: Судьбоносная встреча с Хайдеггером
<Глава из книги ««Бытие. Время. Любовь:
Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт»>
Печатается по: Мотрошилова Н. В. Ханна Арендт: Судьбоносная
встреча с Хайдеггером // Сократ. Журнал современной философии.
2012. №4. С. 54-59.
Мотрошилова Неля Васильевна — доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН. Историк
философии, философ культуры. Внесла важный вклад в изучение
западноевропейской философии Нового времени и XX в., в частности
феноменологической традиции.
Соч.: «ИдеиЬ Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. М.:
Феноменология-Герменевтика, 2003; Мыслители России и философия
Запада (В.Соловьев, Н.Бердяев, С.Франк). М.: Республика; Культурная
революция, 2006; Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие — время —
любовь. М.: Академический проект, 2013; Ранняя философия Эдмунда
Гуссерля (Галле, 1887-1901). М.: Прогресс-Традиция, 2018.
Т. В. Васильева
Стихослагающая герменевтика М. Хайдеггера
Печатается по: Васильева Т. В. Семь встреч с М. Хайдеггером. М.:
Издатель Савин С. А., 2004. С. 99-116.
Васильева Татьяна Вадимовна — русский филолог-классик, философ,
переводчик философской литературы.
Соч.: Беседа о логосе в платоновском «Теэтете» (201с-210в) / Платон и его
эпоха. М.: Наука, 1979; Афинская школа философии (Философский язык
Платона и Аристотеля). М., 1985; Стоическая концепция природы и поэма
Лукреция «О природе вещей» / Эллинистическая философия (современные
проблемы и дискуссии). М.: Ин-т философии, 1986; Путь к Платону. М., 1999.
Е. А. Торчинов
Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного:
М. Хайдеггер и даосизм
Печатается по: Торчинов Е. А. Беззаботное скитание в мире
сокровенного и таинственного: М. Хайдеггер и даосизм // Хайдеггер и восточ-
1128
Комментарии
ная философия: поиски взаимодополнительности культур. СПб., 2001.
С. 89-114.
Торчинов Евгений Алексеевич (1956-2003) — доктор философских наук,
профессор кафедры философии и культурологии Востока
Санкт-Петербургского государственного университета. Автор многочисленных работ по
даосизму и буддизму, переводчик ряда текстов этих традиций с китайского
языка, также занимался проблематикой теоретического религиоведения.
Соч.: Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб.,
1993. 2-е изд., доп. СПб., 1998; Введение в буддологию: курс лекций. СПб.,
2000; Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и
трансперсональные состояния СПб., 1997; Пути философии Востока и Запада: познание
запредельного. СПб., 2005; Пути обретения бессмертия. Даосизм в
исследованиях и переводах Е. А. Торчинова. СПб., 2007.
О нем см.: Кий Е. А. Евгений Алексеевич Торчинов (1956-2003) //
Религиозный мир Китая. 2005. Исследования, материалы, переводы. М.,
2006. С. 309-322; Он же. Некоторые воспоминания и заметки о Евгении
Алексеевиче Торчинове // Вспоминая философский факультет... СПб.,
2015. С.388-409.
IV
В ПОИСКАХ ОТВЕТА НА ВОПРОШАНИЕ О БЫТИИ.
МЕТАФИЗИКА, ОНТОЛОГИЯ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
О. В. Никифоров
Кант, метафизика и проблема обоснования
Печатается по: Никифоров О. В. Кант, метафизика и проблема
обоснования // Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.:
Издательство «Русское феноменологическое общество», 1997. С. I-XVIII.
Никифоров Олег Вячеславович — кандидат философских наук,
гл.редактор издательства «Логос», координатор проектов letterra.org и «SloWar:
Словарь войны (Москва)», post-babel.ru. Автор работ по феноменологии,
психо- и Dasein-анализу, медиафилософии. Переводчик, издатель.
Соч.: Хайдеггер на «повороте»: «Основные понятия метафизики» //
Логос. Философско-литературный журнал. №8, 1997. С. 78-91; Кант,
метафизика и проблема обоснования // Хайдеггер М. Кант и проблема
метафизики. М.: Изд-тво «Русское феноменологическое общество», 1997. С. I-
XVIII; Генезис философии раннего Хайдеггера (1924-1929). Автореферат
Комментарии
1129
диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук.
М., 1997; «Диалектика медиапросвещения: доверие, подозрение,
нейтрализация» (М., Отечественные записки, 2003); Медведь зимой. Берлинские
письма. М.: letterra.org, 2016.
Ф. И.Гиренок
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики
Печатается по: Гиренок Ф. И. Кант, Хайдеггер и проблема
метафизики // Вестник РУДН, серия «Философия», 2013. № 2. С. 86-97.
Гиренок Федор Иванович — доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор работ по разнообразным темам
философской антропологии и социальной философии.
Соч.: Ускользающее бытие. М.: ИФ РАН, 1994; Абсурд и речь.
Антропология воображаемого. М.: Академический проект, 2012; Фигуры и
складки. М.: Академический проект, 2014.
Ф. Е. Джимов
Метафизика и ее критика в философии М. Хайдеггера
Печатается по: Ажимов Ф. Е. Метафизика и ее критика в философии
М. Хайдеггера // Современная онтология — II: Материалы
международной научной конференции «Бытие как центральная проблема
онтологии» (25-29 июня 2007 г., Санкт-Петербург, Россия) / Под. ред. проф.
М. С. Уварова. СПб.: Изд. дом. С.-Петерб. госуд. ун-та, 2007. С. 64-82.
Ажимов Феликс Евгеньевич — доктор философских наук, директор
по экспертной и аналитической работе Дальневосточного федерального
университета, директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ,
профессор департамента философии и религиоведения ДВФУ, главный
редактор журнала «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке». Специалист по истории философии, философским проблемам
гуманитарных и социальных наук, методологии гуманитарного познания.
Соч.: Онтолого-метафизические проекты современной западноевропейской
философии // Вопросы философии. 2007. №9. С. 145-153; Метафизические
основания гуманитарного познания: историко-философский анализ.
Владивосток, 2011; Философия: история или теория?: Заметки о специфике истории
философии // Вопросы философии. 2014. № 9. С. 27-32; Современные
методологические стратегии: Интерпретация. Конвенция. Перевод. М., 2014. 526 с.
изо
Комментарии
(в соавт. с Автономовой Н. С, Демидовой С. А., Зинченко В. П. и др.); Что такое
междисциплинарность сегодня? (Опыт культурно-исторической
интерпретации зарубежных исследований) // Вопросы философии. 2016. № 11. С. 58-65.
А. Б. Паткуль
Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера
Печатается по: Паткуль А. Б. Деструкция логики в
фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера // Историко-философский ежегод-
ник'2014. М.: Канон+; РОИ «Реабилитация», 2014. С. 131-155.
Паткуль Андрей Борисович — кандидат философских наук, доцент
кафедры философии науки и техники Санкт-Петербургского
государственного университета. Автор работ по онтологии, метафизике, феноменологии,
герменевтике, истории немецкой философии, философии науки.
Переводчик текстов О. Беккера, Н. Гартмана, К. Ф. Гетмана, Ф. В. Й. Шеллинга
и др. на русский язык.
Соч.: Время как горизонт понимания бытия в фундаментальной
онтологии // Horizon. Феноменологические исследования. Т. 1. Вып. 1. 2012.
С. 28-47; Philosophy as Science and Philosophy as Philosophizing in Heidegger
// Sofia Philosophical Review. Vol. 8. N. 2. P. 127-149; The Question of
Reality in the Context of Controversy between N. Hartmann's Critical Realism
and M. Heidegger's Transcendental Ontology // Arkete. N. 1. 2015. P. 51-74;
Концепции мира в критической философии Канта и фундаментальной
онтологии Хайдеггера // Horizon. Феноменологические исследования. Т. 7.
Вып. 2. 2018. С. 273-296.
Д. А. Федчук, А. Б. Паткуль
Дискуссия об онтологической дифференции
в философии М. Хайдеггера
Печатается по: Федчук Д. А. Схоластическое различие в сущем и
онтологическая дифференция // Horizon. Феноменологические
исследования. Т. 2. Вып. 2. 2013. С. 75-85; Паткуль А. Б. О статье Дмитрия Федчу-
ка «Схоластическое различие в сущем и онтологическая дифференция»
// Horizon. Феноменологические исследования. Том 3. Вып. 1, 2014.
С. 251-260; Федчук Д. А. Ответ на рецензию А. Б. Паткуля на статью
«Схоластическое различие в сущем и онтологическая дифференция»,
Horizon. Т. 2 (2). 2013 // Horizon. Феноменологические исследования.
Т. 3. Вып. 2. 2014. С. 177-185.
Комментарии
1131
Федчук Дмитрий Аркадьевич — кандидат философских наук, доцент
Департамента философии и религиоведения Школы искусств и
гуманитарных наук, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), г.
Владивосток. Автор работ по истории средневековой философии и
феноменологии, по онтологии и теории познания.
Соч.: Вопрос о времени: об онтологической первичности настоящего
перед прошлым и будущим // Вестник СПбГУ. Сер. 17: «Философия.
Конфликтология. Культурология. Религиоведение». 2016. Вып. 3. С. 72-81;
Понятие ценности в аксиологии и схоластическое понятие «благо».
Международный журнал исследований культуры №2 (23) 2016. С. 52-61;
Единство Первой Причины и множественность сущего в философии
Альберта Великого // История философии: Научно-теоретический журнал.
2019. Т. 24. № 1. С. 18-30; О новой и старой онтологиях: Мейясу, Бадью
и отказ от классических концепций // Вопросы философии. 2019. № 3.
С. 199-205.
В. Н. Сагатовский
«Есть» и «Es gibt»
Печатается по: Сагатовский В. Н. «Есть» и «Es gibt» //
Современная онтология — II: Материалы международной научной конференции
«Бытие как центральная проблема онтологии» (25-29 июня 2007 г.,
Санкт-Петербург, Россия) / Под. ред. проф. М.С.Уварова. СПб.: Изд.
дом. С.-Петерб. госуд. ун-та, 2007. С. 23-31.
Сагатовский Валерий Николаевич (1933-2014) — доктор
философских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В
различное время и на различных должностях преподавал в таких вузах, как РГПУ
им. А. И. Герцена, Сибирский государственный медицинский университет,
ТГУ, ТНУ им. В. И. Вернадского, СПбГУ (кафедра философии и
культурологии РГИ СПбГУ, кафедра онтологии и теории познания). Специалист в
области онтологии, теории познания, логики. Создатель концепции антропо-
космизма (философии развивающейся гармонии).
Соч.: Вселенная философа. М.: 1972; Философии развивающейся
гармонии (философские основы мировоззрения): В 3 частях. СПб, 1997-1999;
Бытие идеального. СПб., 2003; Философия антропокосмизма в кратком
изложении. СПб., 2004; Триада бытия (введение в неметафизическую
коррелятивную онтологию). СПб., 2006.
1132
Комментарии
А. В. Михайловский
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis
Опубликовано в виде серии из двух статей: Михайловский А. В.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis. Статья первая. Герменевтическое
значение Аристотеля для формирования Хайдеггеровской мысли о
технике // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология.
Искусствоведение». Выпуск Философия. № 3 (5). 2016. С. 37-51; Хайдеггер и
Аристотель о techne и physis. Статья вторая. «Подлинная техника» // Вестник
РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». №1 (7).
2017. С. 36-46.
Михайловский Александр Владиславович — кандидат философских
наук, доцент школы философии Факультета гуманитарных наук. Философ,
переводчик, автор работ по античной и немецкой философии,
исследователь интеллектуальной истории Германии и России XX в.
Соч.: Значение языка «Рабочего» для хайдеггеровской критики
метафизики // Историко-философский ежегодник*2001. М.: Наука, 2003.
С. 218-248; Консервативная революция: апология господства //
Концепт «Революция» в современном политическом дискурсе / Под ред.
Л. Е. Бляхера, Б. В. Межуева, А. В. Павлова. СПб.: Алетейя, 2008.
С. 264-283; Германия // Мыслящая Россия. История и теория
интеллигенции и интеллектуалов / Под. ред. В. А. Куренного. М.:
Некоммерческий фонд «Наследие Евразии», 2009. С. 116-162; Субъективность
и идентичность: коллект. моногр. / Отв. ред. А. В. Михайловский. М.:
Изд. дом ВШЭ, 2012; Философия как эзотерическое знание: к
интерпретации притчи о пещере у Мартина Хайдеггера // Платоновский сборник:
В 2 т. Т. 2 / Ред. И. А. Протопопова, А. В. Михайловский, О. В. Алиева
и др. М.; СПб.: РГГУ-РХГА, 2013. С. 410-437; Хайдеггер будущего и
будущее Хайдеггера // Horizon. Феноменологические исследования. Т. 7.
№ 2.2018. С.337-364.
А. Г. Дугин
Удивление Аристотелем.
Встреча главного философа Начала с главным философом Конца
Печатается по: Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Метаполитика.
Эсхатология бытия. М.: Академический проект, 2016. С. 165-198.
Дугин Александр Гелъевич — доктор политических наук, доктор
социологических наук. Философ, социолог, общественный деятель, руководитель
Евразийского движения. Видный теоретик современного традиционализ-
Комментарии
1133
ма. Создатель русской школы геополитики, Теории многополярного мира,
Четвертой Политической Теории. Автор серии фундаментальных
исследований Логосов цивилизации (проект Ноомахия).
Соч.: Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 2000; Философия
традиционализма. М.: Арктогея-центр, 2002; Постфилософия. М.:
Евразийское движение, 2009; Социология воображения. Введение в структурную
социологию. М.: Академический проект, 2010; Этносоциология. М.:
Академический проект, 2012; Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Последний Бог.
М.: Академический проект, 2014; Четвертый Путь. Введение в Четвертую
Политическую Теорию. М.: Академический проект, 2014; Теория
многополярного мира. М.: Академический проект, 2015; В поисках темного Логоса.
М.: Академический проект, 2014; Ноомахия: В 23 томах. М.:
Академический проект, 2014-2019.
О. М. Мухутдинов
Понятия KOivcovia и Miteinandersein y Аристотеля и Хайдеггера
Печатается по: Мухутдинов О. М. Понятия KOivcovia и Miteinandersein
у Аристотеля и Хайдеггера // Докса: Збфник наукових праць з ф1лосо-
фи та фиюлоги. Вип. 8. Одеса, 2005. С. 178-184.
Мухутдинов Олег Мухтарович — кандидат философских наук, доцент
кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и
теории культуры Уральского федерального университета. Автор работ по
истории античной философии, философии Канта и немецкого классического
идеализма, феноменологии.
Соч.: Понятия Koivœvta и Miteinandersein y Аристотеля и Хайдеггера //
Докса: Збншик наукових праць з фиюсофп та фиюлоги. Вип. 8. Одеса, 2005.
С. 178-184; Онтология Канта и Хайдеггера // X Кантовские чтения.
Классический разум и вызовы современной цивилизации: Материалы межвузовской
конференции: В 2 ч. Ч. 1. Калининград: Изд-во РГУ им. Канта, 2Ö10. С. 365-
373; Heidegger und die Idee der Phänomenologie // Мартин Хайдеггер и
философская традиция. Рабочие материалы конференции. СПб., 2012. С. 177-185.
М. А. Белоусов
Философское исследование как критика традиции:
Хайдеггер и деструкция истории онтологии
Печатается по: Белоусов М. Философское исследование как критика
традиции: Хайдеггер и деструкция истории онтологии // Эпистемология
и философия науки. 2013. Т. 35. № 1. С. 182-199.
1134
Комментарии
Белоусов Михаил Алексеевич — кандидат философских наук, доцент
кафедры философии Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ. Специалист по феноменологической
философии.
Соч.: К понятию отчуждения у Гуссерля и Гегеля (на немецком
языке) // HORIZON. Феноменологические исследования: Вып. 4 (2). 2015;
On the problem of the world in Husserl's phenomenology // Russian Studies
in Philosophy. 2016. T. 54. N 1; The final fulfillment: From the meaning to
the intuition in the phenomenological analysis of the life of consciousness //
Phenomenology and the Problem of Meaning in Human Life and History, libri
nigri. Nordhausen: Bautz, 2017.
Я. А. Слинин
Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля
Печатается по: Слинин Я. А. Возникновение философии Хайдеггера
из феноменологии Гуссерля // Очерки феноменологической философии.
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1997. С. 66-112.
Слинин Ярослав Анатольевич — доктор философских наук,
профессор кафедры логики Института философии Санкт-Петербургского
государственного университета. Автор работ по онтологии и теории познания,
истории философии, феноменологии, логике.
Соч.: Трансцендентальный субъект: феноменологическое исследование.
СПб.: Наука, 2001; Феноменология интерсубъективности. СПб.: Наука,
2004; От Платона до Сартра. Поиски аподиктической истины. СПб.: Наука,
2012; Аристотель и онтологические основания логики. СПб.: Наука, 2013.
Е. В. Борисов
Феноменологический метод М. Хайдеггера
Печатается по: Борисов Е. В. Феноменологический метод М.
Хайдеггера // Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск:
Водолей, 1998. С. 363-370.
Борисов Евгений Васильевич — доктор философских наук, профессор
кафедры истории философии и логики философского факультета Томского
государственного университета, декан (2014-2018). Автор работ по
истории феноменологии и аналитической философии, герменевтике, логике,
философии Хайдеггера, переводчик трудов Шеллинга, Гуссерля,
Хайдеггера, Адорно, Бетти.
Комментарии
1135
Соч.: Основные черты постметафизической онтологии. Томск: Изд-во
Томского ун-та, 2009;. Практический поворот в постметафизической
философии. Т. 1. Вильнюс: Изд-во ЕГУ, 2008 (в соавторстве с И. Н. Инишевым,
В. Н. Фурсом); Проблема интерсубъективности в феноменологии Э.
Гуссерля. Логос. 1999. № 1 (11); Г. Райл и феноменология // Топос. 2007. № 3 (17).
Переводы: Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени.
Томск: Водолей, 1998; Шеллинг Ф. В. Й. Система мировых эпох. Томск:
Водолей, 1999; Гуссерль Э. Избранная философская переписка. М.:
Феноменология-Герменевтика, 2004; Бетти Э. Герменевтика как общая
методология наук о духе. М.: Канон+, 2011; АдорноТ. В. Жаргон подлинности.
О немецкой идеологии. М.: Канон+, 2011.
И. Н. Инишев
Феноменология как экзистенциальная практика:
об одном мотиве в философии Хайдеггера
Печатается по: Инишев И. Н. Феноменология как экзистенциальная
практика: об одном мотиве в философии Хайдеггера // Борисов Е.,
Инишев И., Фуре В. Практический поворот в постметафизической
философии Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 21-36.
Инишев Илья Николаевич — доктор философских наук, профессор
Школы культурологии Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (Москва). Автор работ по феноменологии,
философской герменевтике, теории образа, философской эстетике.
Соч.: Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. Вильнюс: ЕГУ,
2007; Хайдеггер и философия языка // Вестник Российского
государственного гуманитарного университета. 2008. № 7/08. С. 62-79;
Феноменологическая герменевтика между теорией языка и теорией действия //
Борисов Е., Инишев И., Фуре В. Практический поворот в
постметафизической философии Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 10-82; Von der Lebenswelt
zur Seinsgeschichte: Wandlungen des Philosophiebegriffs Martin Heideggers,
in: Heideggers „Beträge zur Philosophie". Internationales Kolloquium vom
20—22. Mai 2004 an der Universität Lausanne. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann, 2009. P. 131-142; Heideggers Philosophie der Kunst im
Lichte gegenwärtiger Ästhetik und Bildtheorie // Phainomena. Journal of
Phenomenology and Hermeneutics. 2013. Vol. 22. N 84-85. P. 201-213.
1136
Комментарии
С. А. Коначева
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера
Печатается по: Коначева С. А. Феноменология и теология в ранних
работах Хайдеггера // Ежегодник по феноменологической философии.
М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2008.
№ 1.С. 80-103.
Коначева Светлана Александровна — доктор философских наук,
доцент, заведующая кафедрой современных проблем философии,
философский факультет Российского государственного гуманитарного
университета. Специалист в области феноменологии и философии религии.
Соч. : Бытие. Священное. Бог: Хайдеггер и философская теология XX века.
М.: РГГУ, 2010; Бог после Бога: пути постметафизического мышления. М.:
РГГУ, 2019; Истина бытия и исторический опыт божественного в философии
позднего Хайдеггера // Эпистемология & Философия науки. Москва, 2010.
Т. XXIII, №1. С. 173-188; Konacheva S. A. Das Heilige als eine Dimension
für Gottheit: Heideggers poetische Theologie zwischen der onto-theologischen
Metaphysik und dem Glaube der christlichen Offenbarung // Vernuftreligion und
Offenbarungsglaube: Zur Erörterung einer seit Kant verschärften Problematik.
Freiburg im Breisgau Verlag Herder, 2015. S. 73-86.
H. А. Артеменко
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
На пути к «Бытию и времени»
Печатается по: Артеменко Н. А. Хайдеггеровская «потерянная»
рукопись 1922 г. На пути к «Бытию и времени» // Ежегодник по
феноменологической философии. 2013. Т. III. С. 251-290.
Артеменко Наталья Андреевна — кандидат философских наук, доцент
кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института
философии Санкт-Петербургского государственного университета, главный
редактор журнала «Horizon. Феноменологические исследования». Автор работ
по истории философии, феноменологии, герменевтике, философии
Хайдеггера, переводчик трудов Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Л. Ладгребы и др.
Соч.: Артеменко Н. А. «На пути к "Бытию и времени"». СПб.: ИЦ
«Гуманитарная академия», 2012; Zu Martin Heideggers Interpretation von
Aristoteles. Der wiederaufgefundene Natorp-Bericht von 1922 // Heidegger
Studies, 2012. N28. P. 123-146 (in German); Einige Bemerkungen zu
Heideggers Kantinterpretation // Horizon. Studies in Phenomenology, 2015.
Vol. 4 (2). P. 186-207 (in German); The "Ethical" Dimension of Heidegger's
Комментарии
1137
Philosophy: Consideration of Ethics in Its Original Source // Russian Studies
in Philosophy, 2016. Vol. 54. N 1. P. 62-75 (in English); Spet's "Hermeneutic
Phenomenology" Project // Horizon. Studies in Phenomenology, 2017.
Vol. 6 (2). P. 148-162 (in English); Cataleptic consciousness. Language as a
figure of silence // Rivista di Estetica, 2018. N 67. P. 136-149 (in English).
Переводы: Гуссерль Э. Идея феноменологии. Пять лекций / Пер. с нем.,
послесл., коммент., словарь терминов Артеменко Н. А. СПб.: ИЦ
«Гуманитарная академия», 2006 (2008, 2018); Хайдеггер М. Феноменологические
интерпретации Аристотеля / Пер. с нем., предисл., науч. ред., сост. слов.
Н. А. Артеменко. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 2012.
А. В. Ямпольская
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию
Печатается по: Ямпольская А. В. Феноменология в Германии
и Франции: проблемы метода. М.: РГГУ, 2013. С. 37-53.
Ямпольская Анна Владимировна — доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии
научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». Специалист
в области феноменологии и современной французской философии.
Соч.: Эмманюэль Левинас: философия и биография. Киев: Дух и
Литера, 2011; Феноменология в Германии и Франции: проблемы метода. М.:
РГГУ, 2013; Искусство феноменологии. М.: Рипол-классик, 2018; Prophetic
Subjectivity in Later Levinas: Sobering up from One's Own Identity //
Religions. 2019, 10, 50.
V
M. ХАЙДЕГГЕР КАК СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
А. В. Ахутин
Время бытия (К 70-летию выхода в свет
книги М. Хайдеггера «Бытие и время»)
Печатается по: Ахутин А. В. Время бытия (К 70-летию выхода в свет
книги М. Хайдеггера «Бытие и время») // Ахутин А. В. Поворотные
времена. СПб.: Наука, 2005. С. 539-550.
1138
Комментарии
А. А. Михайлов
«Бытие и время»: 80 лет спустя
Печатается по: Михайлов А. А. «Бытие и время» : 80 лет спустя // То-
пос. Философско-культурологический журнал. № 3 (17). 2007. С. 5-19.
Михайлов Анатолий Арсеньевич — профессор, доктор философских
наук, академик Национальной академии наук Беларуси, ректор
Европейского гуманитарного университета (г. Вильнюс, Литва). Член Европейской
академии наук и искусств (Зальцбург, Австрия). Автор работ по
феноменологии, герменевтике, Dasein-анализу и др.
Соч.: Martin Heidegger und seine "Kehre". Jena, 1966; Современная
философская герменевтика: Критический анализ. Мн.: Университетское,
1984; Историко-философские исследования. Мн.: Университетское, 1991;
Dasein-анализ в философии и психологии. Мн.: Изд-во Европ. гуманитар,
ун-та, 2001 (в соавт.).
А. Г. Черняков
Хайдеггер и «русские вопросы»
Печатается по: Черняков А. Г. Хайдеггер и «русские вопросы» //
Историко-философский ежегодник — 2006. М.: Наука, 2006. С. 305-319.
С. В. Никоненко
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна
в контексте российской философской традиции
Печатается по: Никоненко СВ. Сравнительный анализ учений
Хайдеггера и Витгенштейна в контексте российской философской
традиции // Вестник РХГА. 2018. Т. 19. Вып. 4. С. 58-71.
Никоненко Сергей Витальевич — доктор философских наук, профессор
института философии СПбГУ. Автор монографий и статей по
аналитической философии, онтологии и теории познания.
Соч.: Английская философия XX века. СПб., 2003; Аналитическая
философия: Основные концепции. СПб., 2007; Реальность, символы и анализ.
Философия по ту сторону постмодернизма. СПб., 2012; Эйдос и концепт.
Эпистемологические основания символизма в метафизике, истории,
искусстве. СПб., 2017; Витгенштейн и лингвистическая философия в контексте
отечественной философской критики. СПб., 2018.
Комментарии
1139
О. А. Чулков
Феномен отражения в истории философии
«Фрагменты >
Печатается по: Чулков О. А. Феномен отражения в истории
философии: Монография. СПб.: Изд-во СПГУВК, 2007. С. 4-5, 8-11, 176-180,
184-185.
Чулков Олег Алексеевич — кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и культурологии Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала СО. Макарова (Санкт-Петербург). Автор
работ по онтологии и теории познания, культурологии, истории мировых
цивилизаций, философии науки и техники. Тема кандидатской
диссертации: «Метафизические концепции зеркального отражения» (2002,
специальность 09.00.01 — онтология и теория познания).
Соч.: «Живые зеркала». Мифология и метафизика отраженного
образа // AKAAHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма.
2000. № 3; Гипнотетический дискурс // Studia Culturae. 2003. N° 5;
Морфология образа Петербурга в контексте европейской культурной традиции //
Жизнь культуры и культура жизни: история и современность. СПб., 2015.
Е. В. Фалёв
Хайдеггер и философская традиция —
повторение и возобновление
Печатается по: Фалёв Е. В. Хайдеггер и философская традиция //
Вопросы философии. 2013. № 1. С. 146-154.
Фалёв Егор Валерьевич —доктор философских наук, доцент кафедры
истории зарубежной философии философского факультета Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Специалист в области
истории философии.
Соч.: Герменевтика Мартина Хайдеггера. СПб.: Алетейя, 2008;
Герменевтика М. Хайдеггера и индийская философия // Вестник Московского
университета. Серия 7: Философия. 2014. № 5; Герменевтика M.
Хайдеггера и философия жизни // Вопросы философии. 2014. № 7; Ступени критики
опыта в феноменологии и в буддийской философии // Вопросы философии.
2018. №2.
1140
Комментарии
А. В. Магун
Философия единого и одинокого: Гегель и Хайдеггер
«фрагмент из книги «Единство и одиночество»>
Печатается по: Магун А. В. Философия единого и одинокого: Гегель
и Хайдеггер // Магун А. В. Единство и одиночество: Курс политической
философии Нового времени. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
С.93-108.
Магун Артемий Владимирович — доктор философии в области
политологии и философии Мичиганского и Страсбургского университетов (2004),
кандидат философских наук (2009). Профессор факультета социологии
и философии и руководитель программы «Социально-политическая
философия» Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Соч.: Отрицательная революция. К деконструкции политического
субъекта. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008;
Демократия: Демон и гегемон. СПб.: Изд-во Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2016.
Н. 3. Бросова
М. Хайдеггер о философии будущего:
феноменология Бытия и мышления
Печатается по: Бросова Н. 3. М. Хайдеггер о философии будущего:
феноменология Бытия и мышления // Ежегодник по
феноменологической философии. Вып. III. 2013. С. 303-312.
Бросова Наталья Зиновьевна — доктор философских наук, профессор
Белгородского государственного университета. Автор работ по философии
Хайдеггера, истории и философским аспектам теологии.
Соч.: Теологические аспекты философии истории Мартина Хайдеггера.
Белгород: Изд-во Белгород, гос. ун-та, 2005; Хайдеггер и Ницше: обертоны
исторических ожиданий // Историко-философский ежегодник — 2002. М.:
Наука, 2003. С. 340-356; Западная теология в философских дискуссиях
начала XX века // Вопросы философии. 2005. № 1. С. 119-131; Ностальгия
ума и сердца в метафизике провинции М. Хайдеггера // Horizon.
Феноменологические исследования. 2012. Т. 1. № 2. С. 117-134. На пути к
философии: казус Хайдеггер // Вопросы философии. 2012. № 12. С. 165-169.
Комментарии
1141
VI
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ
ХАЙДЕГГЕРОВЕДЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ
B. В. Бибихин
Дело Хайдеггера
Впервые статья под заголовком «Дело Хайдеггера» была
опубликована в сб. «Философия Мартина Хайдеггера и современность» (М.:
Наука, 1991). Впоследствии в существенно переработанном виде этот
текст в качестве вступительной статьи был опубликован в книге: Хайдег-
герМ. Время и бытие: Статьи и выступления (М.: Республика, 1993).
Настоящая публикация представляет собой последнюю редакцию
статьи. Печатается по: Хайдеггер М. Время и бытие / Сост., пер. с нем.
и коммент. В. В. Бибихина. М.: Республика, 1993. С. 3-14.
C. С. Хоружий
Хайдеггер, синергийная антропология
и проблема антропологического плюрализма
Печатается по: Хоружий С. С. Heidegger, Synergie Anthropology,
and the Problem of Anthropological Pluralism // Heidegger in Russia and
Eastern Europe. Edited by Jeff Love. Rowman and Littleiield International.
London and New-York, 2017. P. 325-353. (Перевод на русский язык).
H. В. Мотрошилова
И снова о «Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера
(к дебатам лета — осени 2015 г.)
Печатается по: Мотрошилова Н. В. И снова о «Черных тетрадях»
Мартина Хайдеггера (к дебатам лета — осени 2015 г.) // Вопросы
философии. 2016. № 7. С. 39-55.
В. В. Миронов, Д. Миронова
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью
Печатается по: Миронов В., Миронова Д. Ein Knabe, der träumt, или
Опьянение властью // Логос. 2018. Т. 28. № 3. С. 149-182.
1142
Комментарии
Миронов Владимир Васильевич — член-корреспондент Российской
академии наук, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
онтологии и теории познания, декан философского факультета
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Специалист в
области теории философии и философии культуры.
Соч.: Философия и метаморфозы культуры. М.: Изд-во «Современные
тетради», 2005; Власть как предмет социально-философской рефлексии //
Вопросы философии. 2018. № 12; Метафизика не умирает (Хайдеггер и его
защита метафизики) // Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence.
Innovations. Investment. 2019. № 3; Философ и власть: случай Хайдеггера /
(в соавт. с Д. Мироновой) // Вопросы философии. 2017. № 7.
Миронова Дагмар — кандидат философских наук, доцент кафедры
истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В.
Ломоносова. Специалист по общетеоретической философии, гносеологии,
современной западной философии, переводчик философской и юридической
литературы.
Соч.: Die Vorahnung der Revolution in den Werken russischer
Schriftsteller // Studies in East European Thought. 2019. T. 70; Философ и
общественная позиция. Роберт Шпеман (1927-2018) / (в соавт. с В. В.
Мироновым) // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18, № 1. Переводы: Маркус
Габриэль. Метафизика или онтология? Нейтральный реализм / Пер. с
немецкого. М.: Идея-Пресс, Москва, 2017; Юрген Хабермас. От картин мира
к жизненному миру / Перевод с нем. 2-е издание. М.: Идея-Пресс, 2015.
А. В. Рясов
Хайдеггер и «судебная» речь. К полемике вокруг «Черных тетрадей»
Печатается по: Рясов А. В. Хайдеггер и «судебная» речь. К полемике
вокруг «Черных тетрадей» // Сборник материалов XIX Свято-Троицких
ежегодных международных академических чтений в Санкт-Петербурге
29 мая — 1 июня 2019 г. СПб.: Изд-во Русской христианской
гуманитарной академии, 2019. С. 46-53.
Рясов Анатолий Владимирович — кандидат политических наук,
независимый исследователь, востоковед, писатель, сценарист. Окончил
филологическое отделение Института стран Азии и Африки при МГУ. Лауреат
литературной премии «Дебют» (2002) в номинации «Крупная проза» за роман «Три ада».
Соч.: Политическая концепция М. Каддафи в спектре «левых взглядов».
М.: Институт востоковедения РАН, 2008; Пустырь. СПб.: Алетейя, 2014.
Комментарии
1143
В. В. Бибихин
От «Бытия и времени» к «Beiträge»
Последняя статья В. В. Бибихина. Написана на основе материалов
семинара «Хайдеггер 1936-1944 гг. ("К философии. О событии" и
примыкающие работы)», проходившего в Центре методологии и этики
науки ИФ РАН (5.10.04-2.11.04). Опубликована в ж-ле «Вопросы
философии» № 4, 2005. Вошла в Приложение к книге «Ранний Хайдеггер»
(М.: ИФТИ Св. Фомы, 2009), а также в Приложение ко 2-му изданию
авторского сборника «Другое начало» (СПб.: Наука, 2017). Печатается по:
Ранний Хайдеггер. М.: ИФТИ Св. Фомы, 2009. С. 493-519.
М. А. Богатое
Почему Бибихин — не Хайдеггер?
Печатается по: Электронный журнал «Гефтер» (Gefter.ru),
18.05.2018, URL: http://gefter.ru/archive/24972?fbclid=IwAR15Dre86
lC_RZXLj5qMUmz9sezdWcxdN-24Yih2Xcwlu5OT7PWM0Ar2aYk
Богатое Михаил Александрович — доктор философских наук, доцент
кафедры теоретической и социальной философии философского
факультета СГУ им. Н. Г. Чернышевского, организатор и куратор ежегодного
Всероссийского фестиваля поэзии "Центр Весны" (экс-"Дебют-Саратов"),
проводимого с 2007 г. Философ, поэт, писатель, автор ряда исследований в области
онтологии, в частности, онтологии искусства.
Соч.: Манифест онтологии. М.: Издательская группа "Скимен",
2007; Искусство бытия. М.: Издательская группа "Скимен", 2008;
Богатое М. А. Обоснование «дефективного» способа быть в творчестве Хай-
деггера // Онтология негативности: Сборник научных трудов / Отв. ред.
Е. Г. Драгалина-Черная. М.: «Канон+»; РООИ «Реабилитация», 2015.
С. 117-132; Богатов М. А. В свете правящей идеи: о деле философии //
Платоновские исследования. Вып. II (2015/1). М.; СПб.: ПФО; РГГУ;
РХГА, 2015. С. 213-225; Способы говорить о Владимире Бибихине
(Проблема рубрикации творческого наследия в академической среде) // Судьба
творческого наследия: теоретический альманах "Res Cogitans#8". M.:
Скимен, 2015. С. 90-111.
1144
Комментарии
Ю. M. Романенко
Сравнительный анализ онтологических концепций М. Хайдеггера
и А. Ф. Лосева в свете герменевтики В. В. Бибихина
Печатается по: Романенко Ю. М. Сравнительный анализ
онтологических концепций М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева в свете герменевтики
В. В. Бибихина // Вестник Русской христианской гуманитарной
академии. 2018. Т. 19. Вып. 3. С. 51-58.
Романенко Юрий Михайлович — доктор философских наук, профессор
кафедры онтологии и теории познания Института философии
Санкт-Петербургского государственного университета. Автор работ по онтологии и
теории познания, истории философии, философии мифа, онтологии
воображаемого.
Соч.: Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы
философского знания. СПб.: Алетейя, 2003; Онтология мифа. СПб.: Изд-во
Санкт-Петербургского университета, 2006; Онтологический подход к воображению,
или Воображаемый подход к онтологии // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 6. 2003. № 4; Актуальные вопросы хайдеггероведения
в России // Сборник материалов XVIII Свято-Троицких ежегодных
международных академических чтений в Санкт-Петербурге. СПб.: Изд-во РХГА,
2018; M. Хайдеггер и В. В. Бибихин: онтологические основания истории //
Историческое сознание и постматериальные ценности: Сборник научных
статей. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019.
Д. С. Лебедев
Проблема мифа в философии М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева
Печатается по: Лебедев Д. С. Проблема мифа в философии М.
Хайдеггера и А. Ф. Лосева // Вестник Русской христианской гуманитарной
академии. 2018. Т. 19. Вып. 3. С. 59-67.
Лебедев Даниил Сергеевич — аспирант Института философии человека
Российского государственного педагогического университета им. А. И.
Герцена. Научный руководитель — действительный член Российской
академии образования, профессор А. А. Корольков. Область научных интересов:
история русской философии, сравнительный анализ российской и западной
антропологических традиций. Тема кандидатской диссертации: « Апофати-
ческий метод в синергийной антропологии».
Соч.: Проблема человека: М. Хайдеггер и синергийная антропология //
Историческое сознание и постматериальные ценности: Сборник научных
статей. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019; Алофатические мотивы
Комментарии
1145
у M. Хайдеггера и в русской философской традиции // Сборник материалов
XVIII Свято-Троицких ежегодных международных академических чтений
в Санкт-Петербурге. СПб.: Изд-во РХГА, 2018.
Д. Ю. Дорофеев
Хайдеггер и философская антропология
«Фрагменты статьи>
Печатается по: Дорофеев Д. Ю. Хайдеггер и философская
антропология / Сост. Д. Ю. Дорофеев // Мартин Хайдеггер. Личность в жизни
и философии: Сб. статей. СПб.: РХГИ, 2004. С. 368-397.
Дорофеев Даниил Юрьевич — доктор философских наук, профессор
кафедры философии Санкт-Петербургского горного университета. Автор
работ по проблемам современной философской и визуальной антропологии,
персонализму, античной и средневековой иконографии человека,
антропологии коммуникаций. Докторская диссертация: «Спонтанность и
суверенность как категории философско-антропологического исследования»
(2011).
Соч.: Под знаком философской антропологии. Спонтанность и
суверенность в классической и современной философии. Москва; Санкт-Петербург:
Центр гуманитарных инициатив, 2012; Личность и коммуникации.
Антропология устного и письменного слова в античной культуре. СПб.: РХГА,
2015; Макс Шелер. Серия «Мыслители прошлого». СПб.: Наука, 2019.
Д. Н. Гончарко
Поэтическое в эстетической мысли М. Хайдеггера
Печатается по: Гончарко Д. Н. Поэтическое в эстетической мысли
М. Хайдеггера // Вестник Русской христианской гуманитарной
академии. 2018. Т. 19. Вып. 3. С. 80-87.
Гончарко Дмитрий Николаевич — кандидат философских наук, доцент
кафедры философии Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена, научный сотрудник Русской христианской
гуманитарной академии (Санкт-Петербург). Автор работ по культурологии,
этике, эстетике, политической философии. Тема кандидатской диссертации:
♦Этическая рефлексия и кризис репрезентации в культуре» (2011,
специальность 09.00.13 — философская антропология, философия культуры).
Соч.: М. Хайдеггер и вопрос о конце истории бытия // Историческое
сознание и постматериальные ценности: Сборник научных статей. СПб.:
1146
Комментарии
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019; Политика и эстетика в философии
М. Хайдеггера // Сборник материалов XVIII Свято-Троицких ежегодных
международных академических чтений в Санкт-Петербурге. СПб.: Изд-
во РХГА, 2018; Понятие дара в репрезентативной модели культуры //
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки.
2010. № 2 (111); Этическая рефлексия в художественной мысли XX века //
Известия Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена. 2009. № 92.
А. Н. Крюков
Феномен и эстетическое явление:
к вопросу о статусе предмета искусства у Хайдеггера
Печатается по: Крюков А. Н. Феномен и эстетическое явление: к
вопросу о статусе предмета искусства у Хайдеггера // Вестник РХГА. Т. 19.
Вып. 4. 2018. С. 98-107.
Крюков Алексей Николаевич — кандидат философских наук (нем. уч.
степень Dr. Phil), профессор кафедры философии Института философии
человека РГПУ им А. И. Герцена, С.-Петербург. Автор работ по проблемам
интерсубъективности, времени, немецкой классической философии, эстетике.
Переводчик с немецкого языка философской литературы.
Соч.: Das Problem der Intersubjektivität bei Husserl und Sartre. Stuttgart,
2004; Дитмар фон дер Пфордтен. Поиск постижения. О задаче и ценности
философии / Пер. с нем. А. Крюков. СПб.: Наука, 2016; Примордиальная
редукция — последняя из редукций? // Сибирский философский
журнал. 2017. Т. 15. №3. С. 20-30; Philosophie und Kunst bei Schelling: zwei
Disziplinen, eine Theorie // Ästhetik & Kommunikation. Heft 169/170.
46. Jahrgang 2015/16. S. 173-182; О возникновении вещей и их
смыслов (дискретное и континуальное в феноменологии Гуссерля) //
Вопросы философии. 2016. №6. С. 143-152; Transzendentale Erfahrung als
Gedankenexperiment // HORIZON. Studies in Phenomenology. 2015. T. 4 (2).
С 54-62.
СОДЕРЖАНИЕ
От Издателя 5
Предисловие
Рецепция и трансформация идей
Мартина Хайдеггера в русской философской мысли 7
I. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX века.
М. ХАЙДЕГГЕР И РУССКАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Бердяев Н. А.
Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения.
Париж, 1934 <Фрагменты> 31
Творчество и объективация. Опыт эсхатологической метафизики //
Бердяев Н. А. Царство Духа и царство кесаря.
Москва, 1995. С. 164-286 <Фрагменты> 35
Царство Духа и царство кесаря. Париж, 1951 <Фрагменты> 38
Экзистенциальная диалектика божественного
и человеческого. Париж, 1952 <Фрагменты> 40
Истина и откровение. СПб., 1996 <Фрагменты> 43
Самопознание. Тяжелые годы (Добавления 1940-1946 годов)
<Фрагменты> 47
Сеземан В. Э.
М. Heidegger. Sein und Zeit. I. 1927 [Рецензия] 48
Франк С. Л.
Конспект книги М. Хайдеггера «Бытие и время»
(Публикация и комментарии Г. Е. Аляева
и Т.Н. Резвых) 55
Аляев Г. Е„ Резвых Т. Н.
«Первая философия» Семёна Франка,
или Пролегомены к книге «Непостижимое» 62
Плотников Н. С.
С. Л. Франк о М. Хайдеггере.
К истории восприятия Хайдеггера
в русской мысли 66
Резниченко А. Я.
Флоренский и Хайдеггер об αλήθεια:
забвение и/или сокрытость? 96
Баранова-Шестова Н. Л.
Жизнь Льва Шестова. Том 2 <Фрагменты> 112
Гурвич Г. Д.
Критические заметки о философии М. Хайдеггера 115
Левицкий С. А.
Учение Хайдеггера 121
1148
Содержание
И. СОВЕТСКАЯ ХАЙДЕГГЕРИАНА:
МЕЖДУ ОФИЦИОЗОМ
И ИНАКОМЫСЛИЕМ
Быховский Б. Э.
Фельдфебели в Вольтерах: (фашизм и философия) <Фрагмент> 131
Гайденко П. П.
♦Фундаментальная онтология» М. Хайдеггера и проблема творчества ..136
Гулыга А. В.
Дело Хайдеггера 146
Лагу рев А, С.
Предисловие к публикации архивных материалов М. А. Лифшица ..154
Лифшиц М. А.
ОМ. Хайдеггере <Фрагментыархива> 157
Арсланов В. Г.
ОМ. Хайдеггере <Фрагментыразныхработ> 175
Савин А. Э.
Мартин Хайдеггер и диалектический материализм 192
Маргвелашвили Г. Т.
Аксиологическое значение различия между экзистенциальным
и категориальным в хайдеггеровском онтологическом учении
<Главы из книги> 204
Гайденко П. П.
От исторической герменевтики к «герменевтике бытия» :
критический анализ эволюции M. Хайдеггера 213
Щитцова Т. В.
К герменевтике события у Хайдеггера и Бахтина 226
Горичева Т. М„ Романенко Ю. М„ Паткулъ А. Б.
Разговор о Мартине Хайдеггере
(интервью 15 августа 2019 года, Санкт-Петербург) 233
Вознесенский А. А.
Зуб разума <Фрагмент книги « На виртуальном ветру »> 254
III. ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.
ДЕСТРУКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕЙ М. ХАЙДЕГГЕРА
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВОРОТА
Бибихин В. В.
Сила мысли 269
Михайлов А. В.
Мартин Хайдеггер: человек в мире <Фрагменты> 281
Соловьев Э. Ю.
Судьбическая историософия М. Хайдеггера <Фрагменты из книги
«Прошлое толкует нас: (Очерки по истории и философии культуры)»> .. 293
Содержание
1149
Ахутин А. В.
Dasein (Материалы к толкованию) 332
Хоружий С. С.
Человек и Событие «Фрагмент из книги «Фонарь Диогена.
Критическая ретроспектива европейской антропологии»> 357
Молчанов В. И.
Время, пространство, история 373
Подорога В. А.
Ландшафт Шварцвальда
(М. Хайдеггер. Опыты по гео-философии) 391
Черняков А. Г.
Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля,
Гуссерля и Хайдеггера <Фрагмент> 439
Конев В. А.
Мартин Хайдеггер о мышлении <Фрагмент из книги
«Критика способности быть (Семинары по "Бытию и времени"
Мартина Хайдеггера»)> 451
Конев В. А.
Метафизика «Ничто» в философии М. Хайдеггера <Фрагмент
из книги « Критика способности быть (Семинары по "Бытию
и времени" Мартина Хайдеггера»)> 459
Ермилов К. А.
Хайдеггер и Салтыков-Щедрин. Тема Ничто
в «Господах Головлёвых» и «Бытии и времени» 469
Мотрошилова Н. В.
Ханна Арендт: судьбоносная встреча с Хайдеггером 477
Васильева Т. Б.
Стихослагающая герменевтика М. Хайдеггера 487
Торчинов Е. А.
Беззаботное скитание в мире сокровенного
и таинственного: М. Хайдеггер и даосизм 501
IV. В ПОИСКАХ ОТВЕТА НА ВОПРОШАНИЕ О БЫТИИ.
МЕТАФИЗИКА, ОНТОЛОГИЯ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Никифоров О. В.
Кант, метафизика и проблема обоснования 537
Гиренок Ф. И.
Кант, Хайдеггер и проблема метафизики 552
Ажимов Ф. Е.
Метафизика и ее критика в философии М. Хайдеггера 565
Пашку ль А. Б.
Деструкция логики в фундаментальной онтологии
Мартина Хайдеггера 5 74
1150
Содержание
ФедчукД. Α., Паткулъ А. Б.
Дискуссия об онтологической дифференции в философии М. Хайдеггера... 590
Сагатовский В. Н.
«Есть» и «Es gibt» 617
Михайловский А. В.
Хайдеггер и Аристотель о techne и physis 625
Дугин А. Г.
Удивление Аристотелем. Встреча главного философа Начала
с главным философом Конца 650
Мухутдинов О. М.
Понятия κοινωνία и Miteinandersein y Аристотеля и Хайдеггера 679
Белоусов М. А.
Философское исследование как критика традиции:
Хайдеггер и деструкция истории онтологии 687
Слинин Я. А.
Возникновение философии Хайдеггера
из феноменологии Гуссерля 704
Борисов Е. В,
Феноменологический метод М. Хайдеггера 741
Инишев И. Н.
Феноменология как экзистенциальная практика:
об одном мотиве в философии Хайдеггера 750
Коначева С. А.
Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера 765
Артеменко Н. А.
Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г.
На пути к «Бытию и времени» 781
Ямпольская А. В.
Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию 806
V. М. ХАЙДЕГГЕР КАК СОБЫТИЕ
В ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Ахутин А. В.
Время бытия (К 70-летию выхода в свет книги
М. Хайдеггера «Бытие и время») 825
Михайлов А. А.
«Бытие и время»: 80 лет спустя 837
Черняков А. Г.
Хайдеггер и «русские вопросы» 853
Никоненко С. В.
Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна
в контексте российской философской традиции 868
Содержание
1151
Чулков О. А.
Феномен отражения в истории философии <Фрагменты> 885
Фалёв Е. В.
Хайдеггер и философская традиция — повторение и возобновление ... 892
Магун А. В.
Философия единого и одинокого: Гегель и Хайдеггер
<Фрагмент из книги «Единство и одиночество»> 904
Бросова Н. 3.
М. Хайдеггер о философии будущего:
феноменология Бытия и мышления 915
VI. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ ХАЙДЕГГЕРОВЕДЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ
Бибихин Б. В.
Дело Хайдеггера 925
Хоружий С. С.
Хайдеггер, синергийная антропология
и проблема антропологического плюрализма 939
Мотрошилова Н. В.
И снова о «Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера
(к дебатам лета — осени 2015 г.) 963
Миронов В. В., Миронова Д.
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью 988
Рясов А. В.
Хайдеггер и «судебная» речь. К полемике вокруг «Черных тетрадей»... 1013
Бибихин В. В.
Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge» 1022
Богатое М. А.
Почему Бибихин — не Хайдеггер? 104 7
Романенко Ю. М.
Сравнительный анализ онтологических концепций М. Хайдеггера
и А. Ф. Лосева в свете герменевтики В. В. Бибихина 1063
Лебедев Д. С.
Проблема мифа в философии М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева 1071
Дорофеев Д. Ю.
Хайдеггер и философская антропология <Фрагменты статьи> 1079
Гончарко Д. Н.
Поэтическое в эстетической мысли М. Хайдеггера 1090
Крюков А. Н.
Феномен и эстетическое явление: к вопросу о статусе предмета
искусства у Хайдеггера 1098
Комментарии 1108
Научное издание
M. ХАЙДЕГГЕР: PRO ET CONTRA
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера
в русской философской мысли
Антология
Второе издание
Авторы-составители
Ю. М. Романенко, Н. А. Артеменко, Д. Н. Гончарко,
С. А. Коначева, А. Н. Крюков, А. В. Михайловский,
С. В. Никоненко, А. Б. Натку ль, А. Э. Савин,
В. Г. Арсланов, А. С. Лагурев, К М. Антонов
Руководитель проекта и научный редактор книги
Ю.М. Романенко



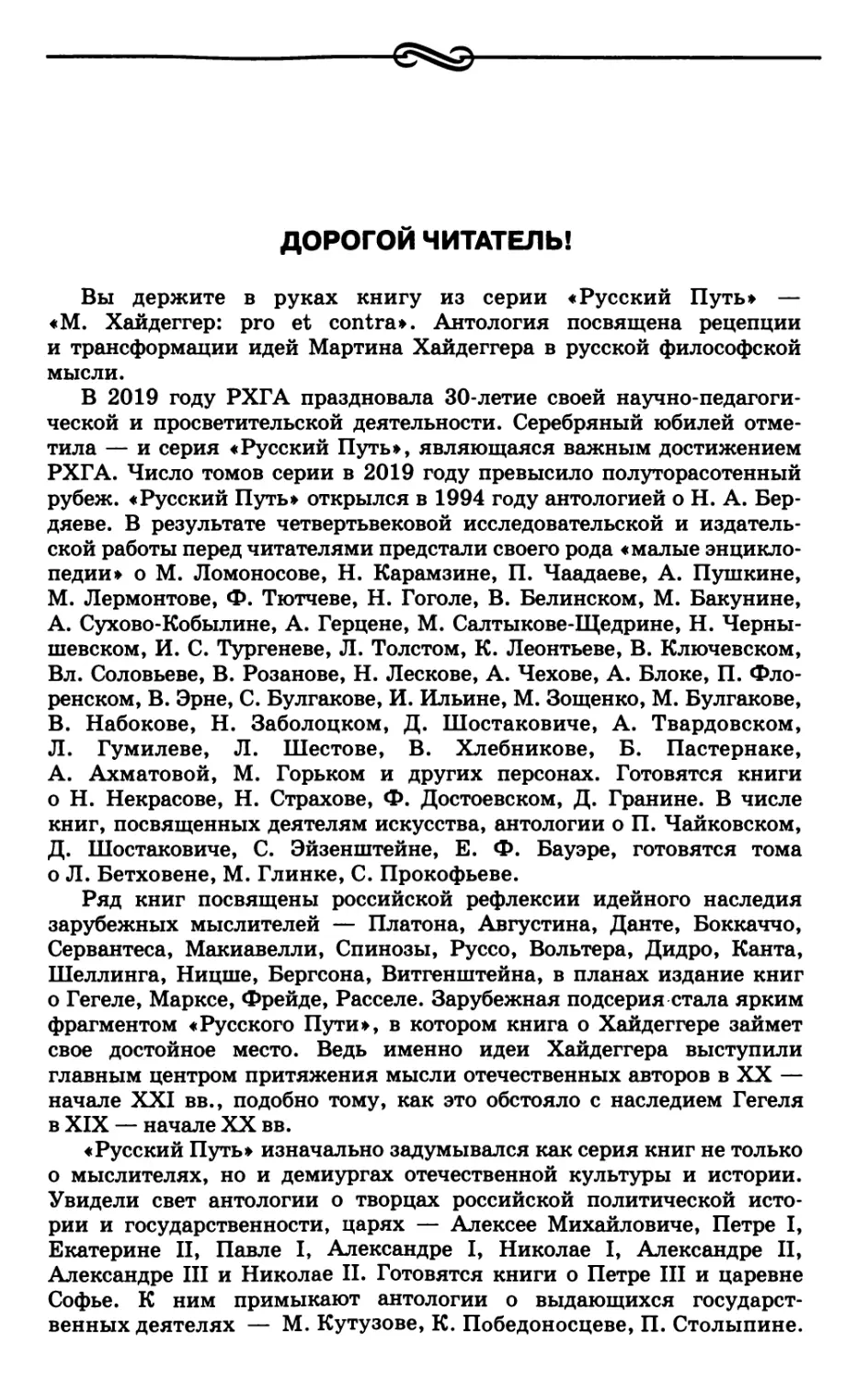

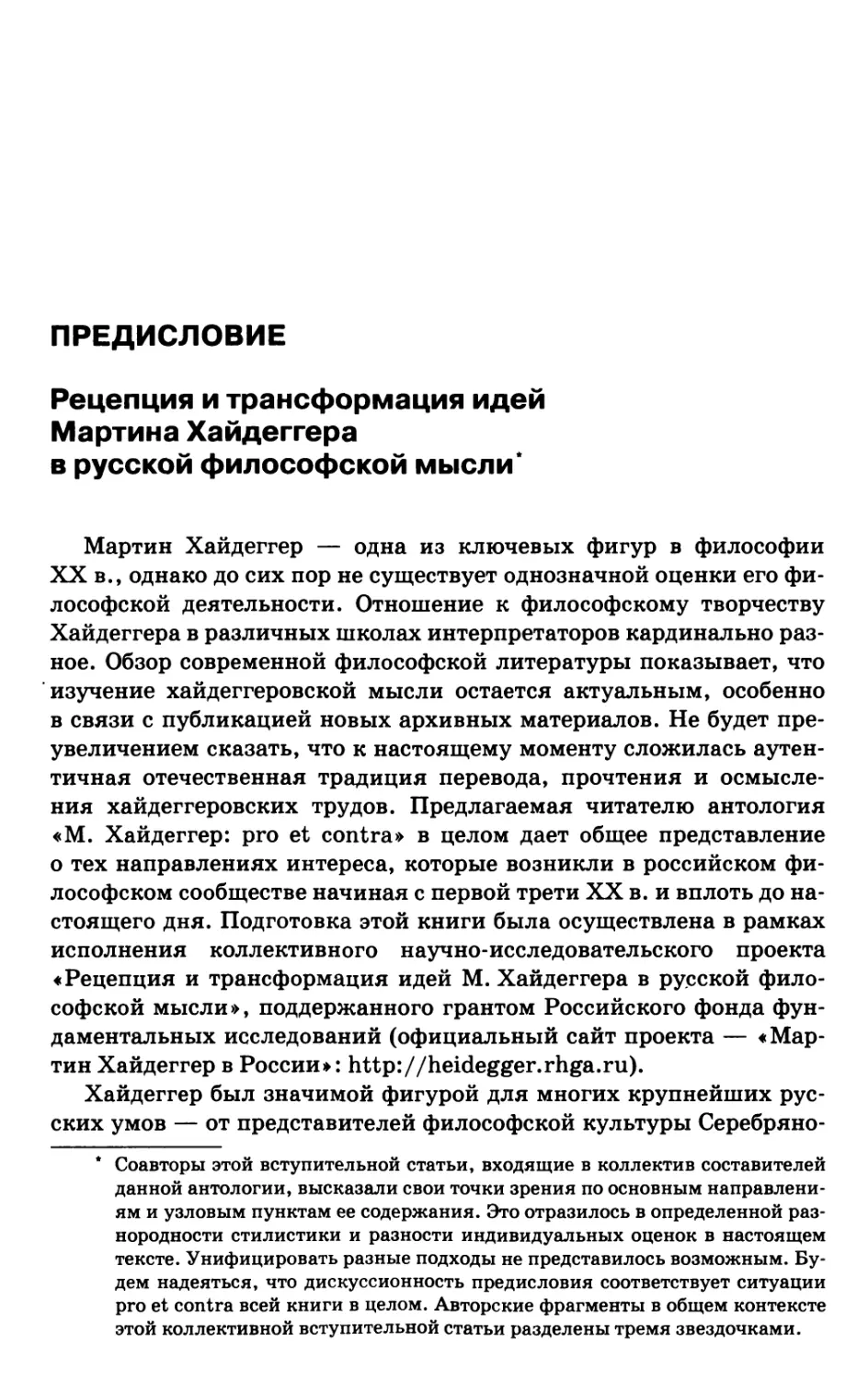






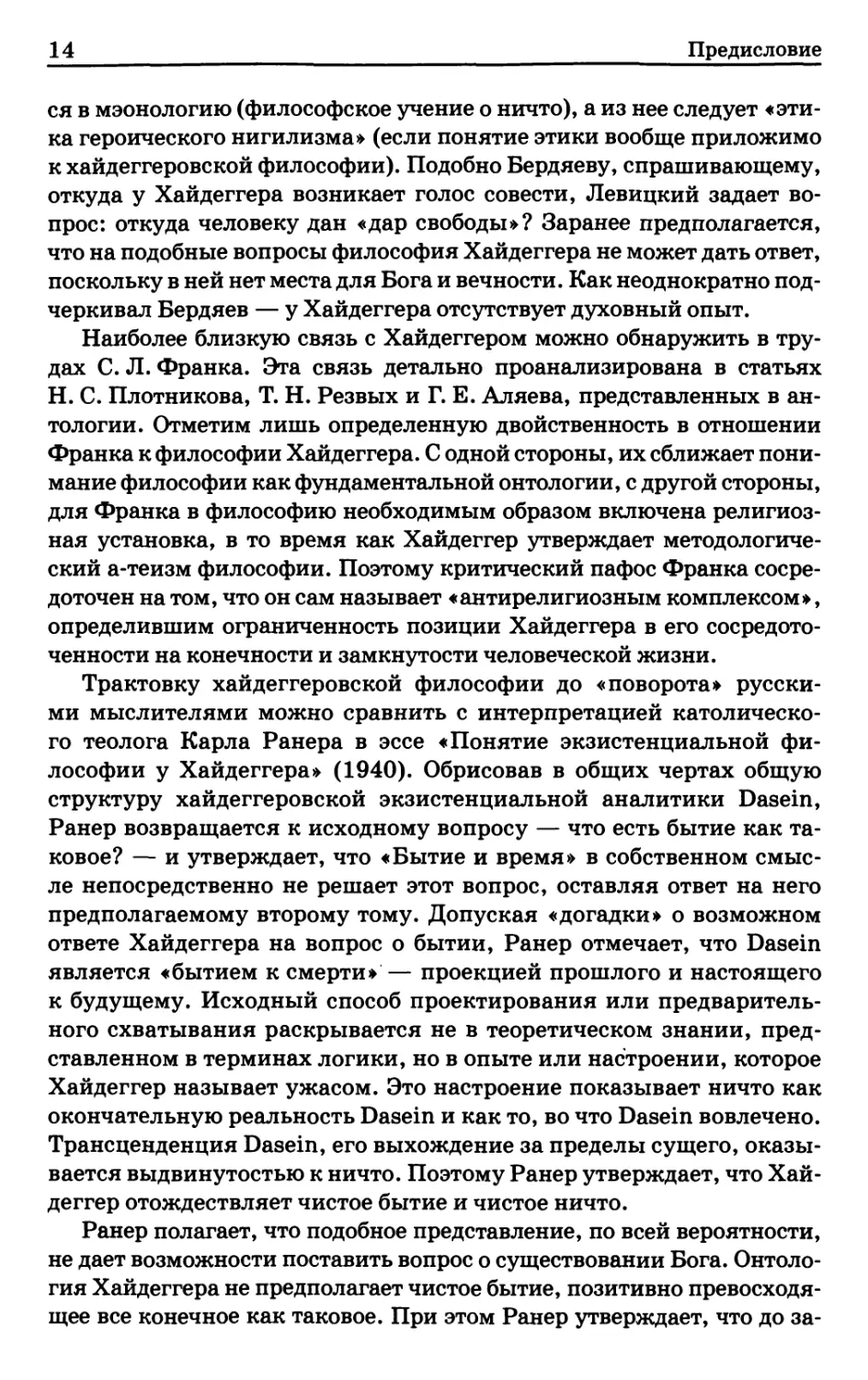


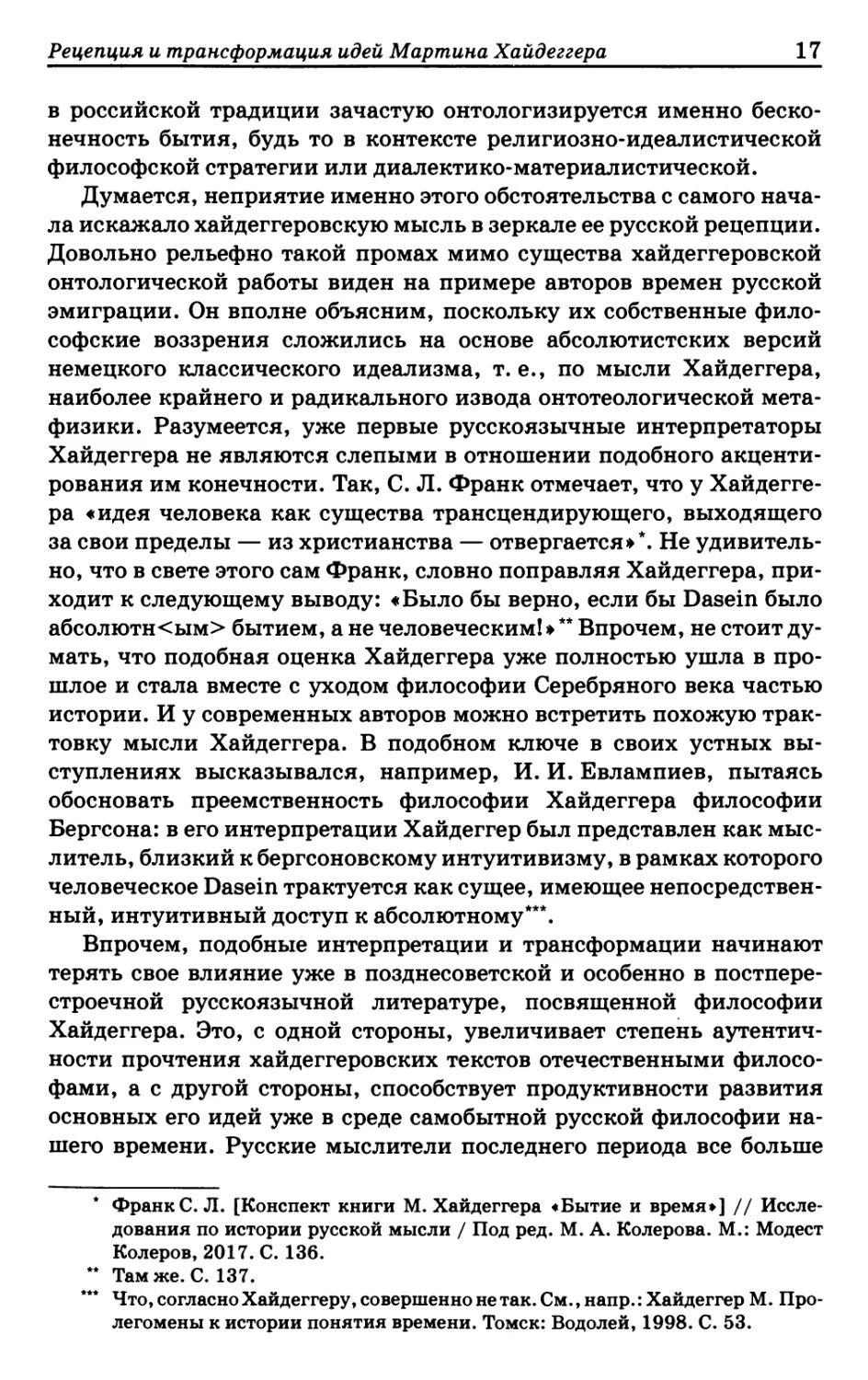









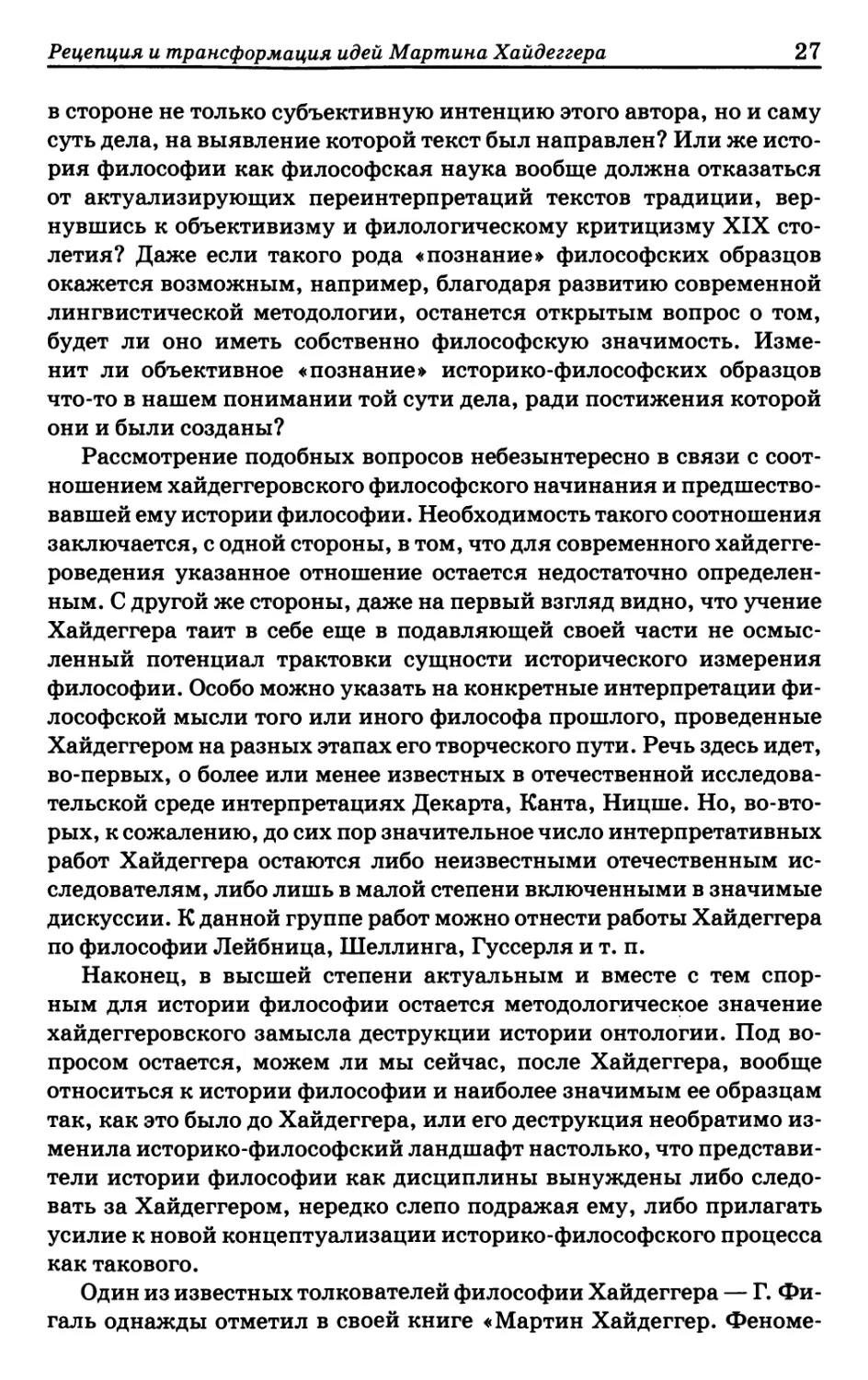









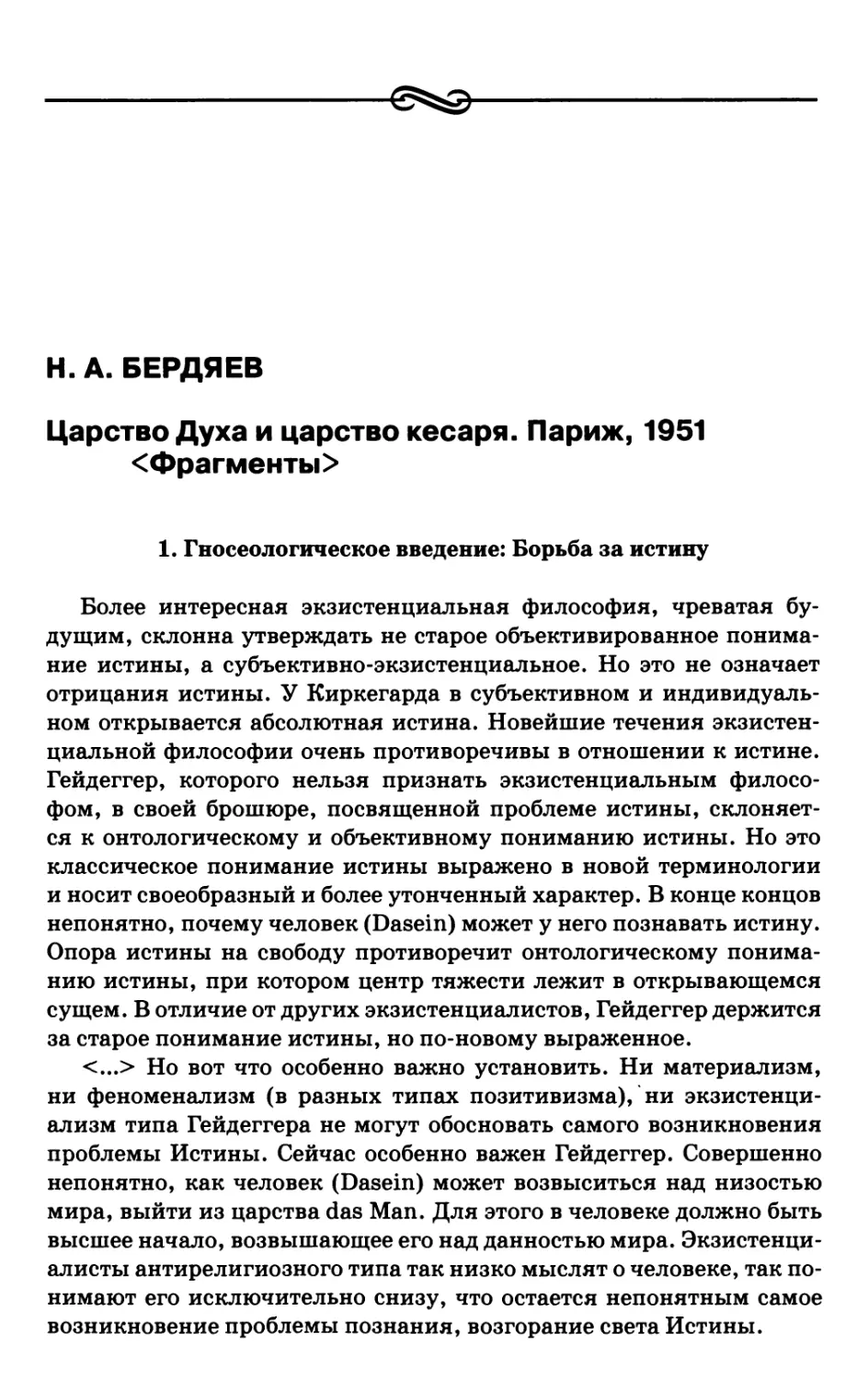

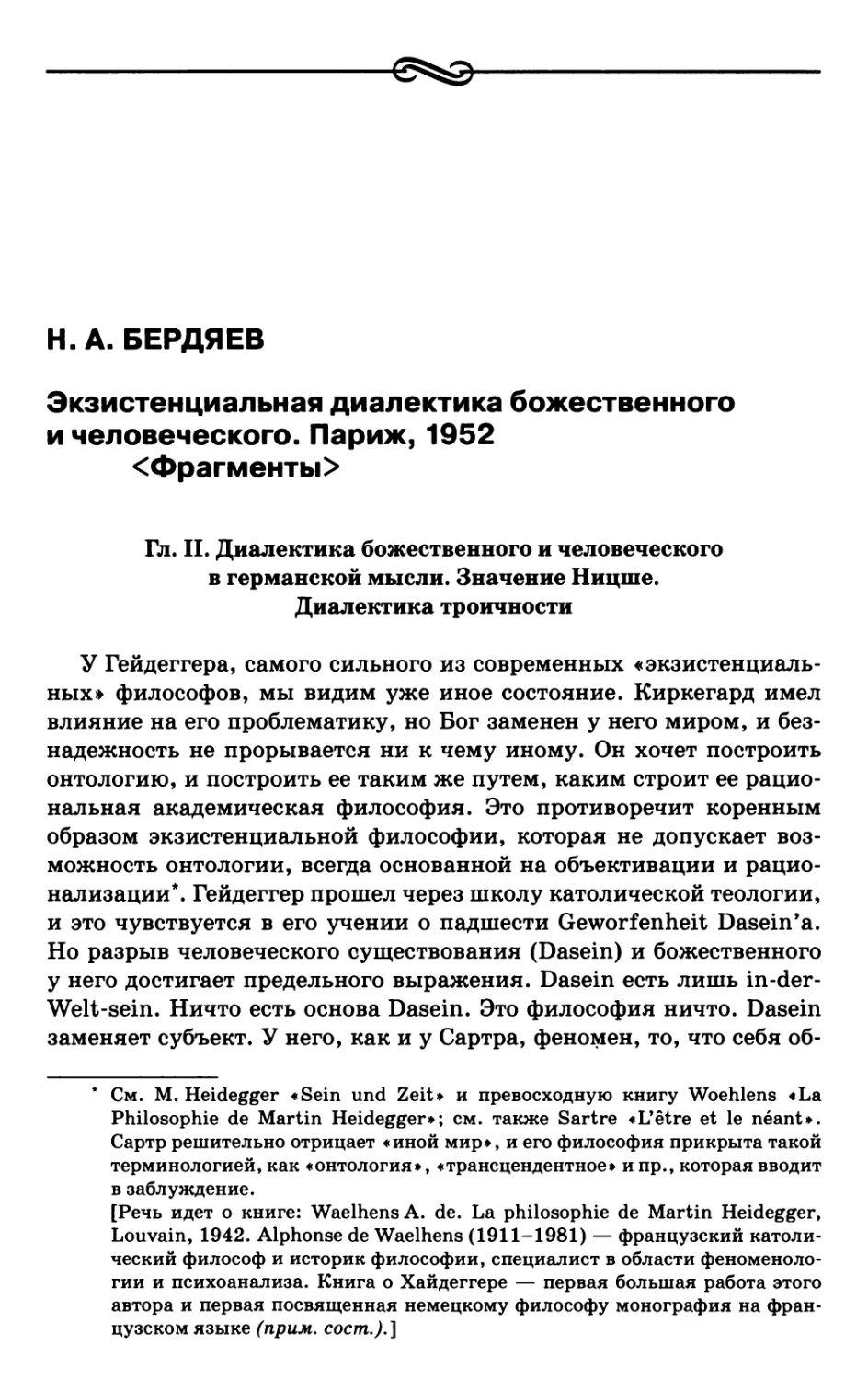


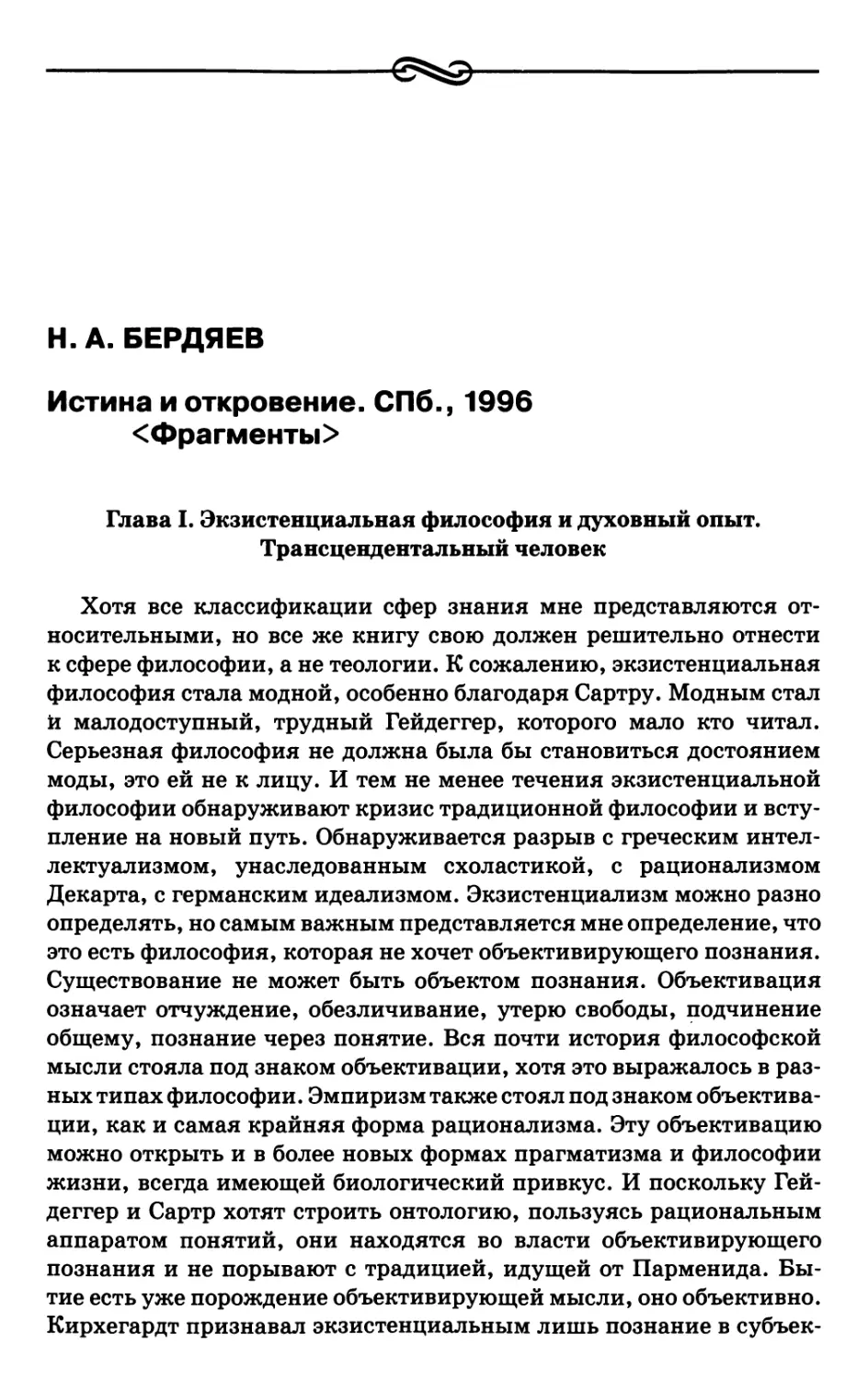




![Сеземан В.Э. M. Heidegger. Sein und Zeit. I. 1927 [Рецензия]](https://djvu.online/jpg/1/w/z/1wzcnF57Bzhtq/046.webp)