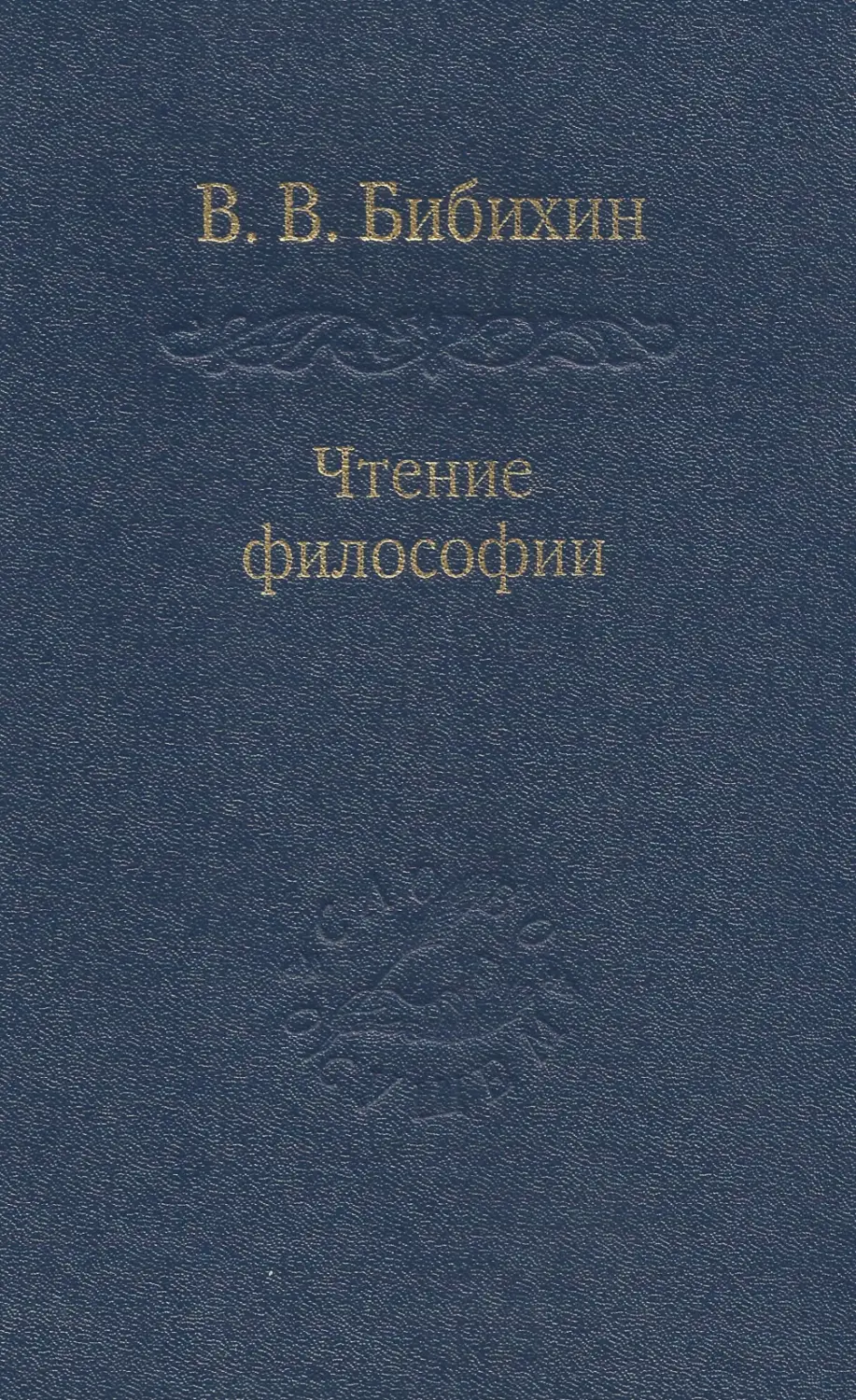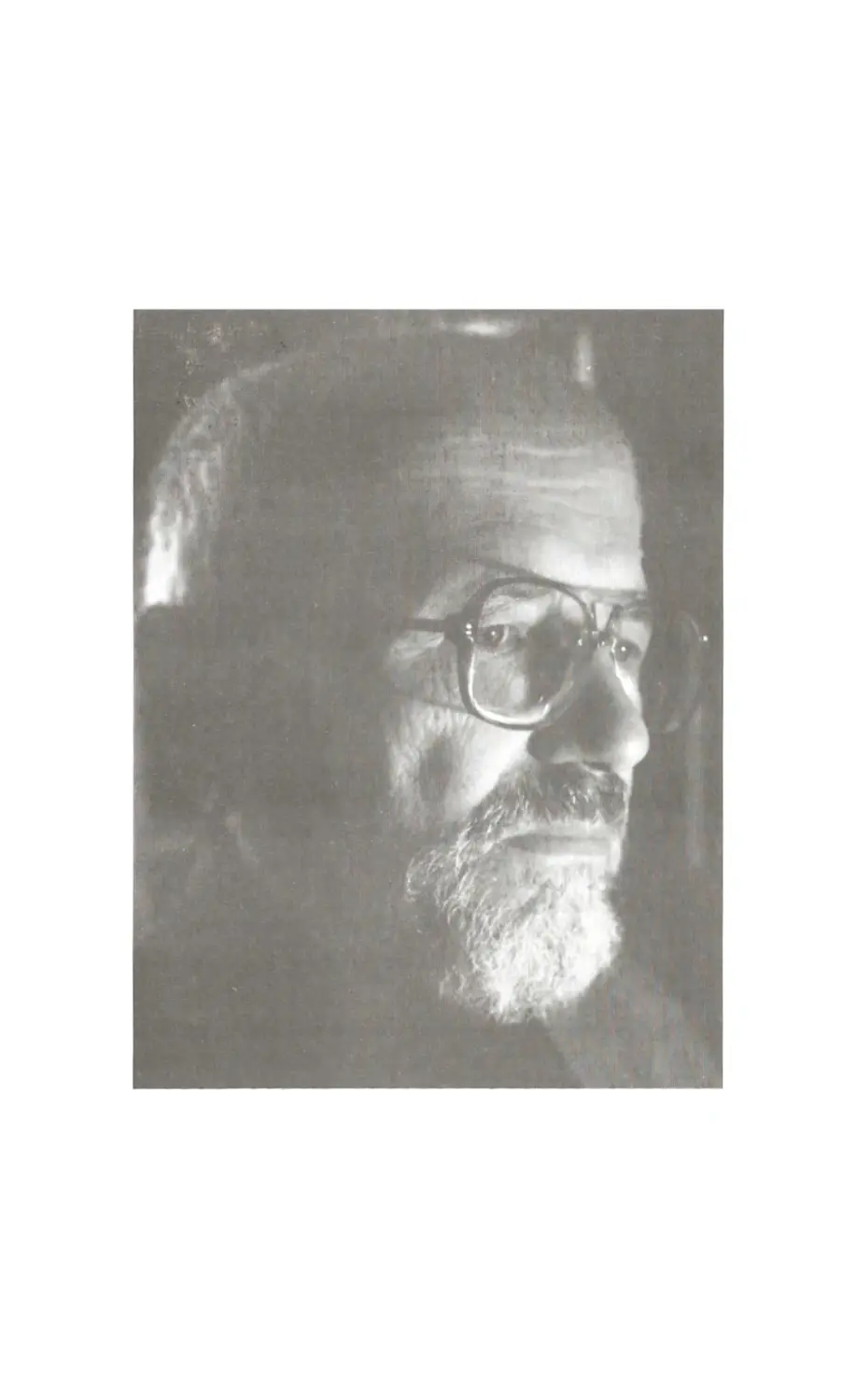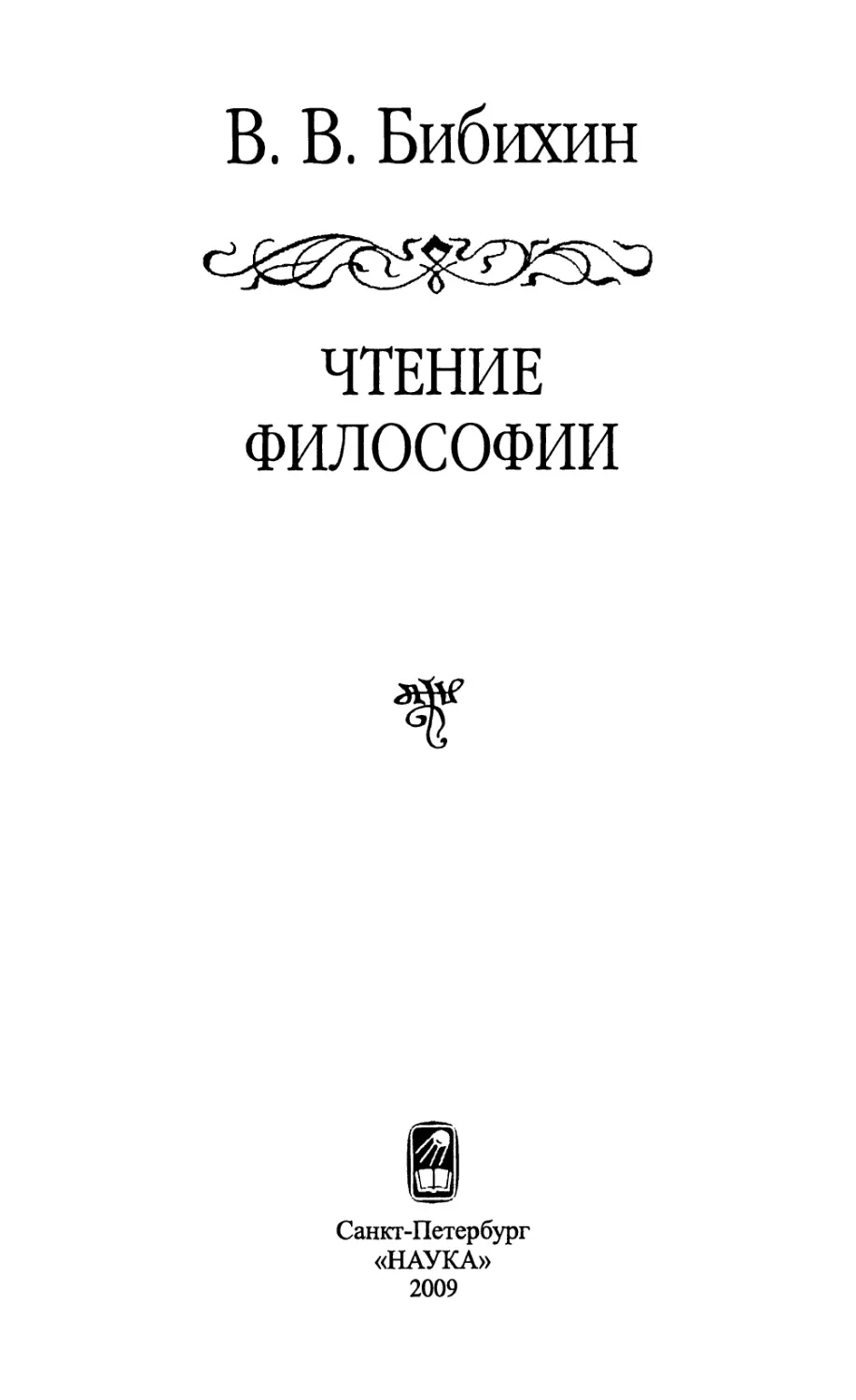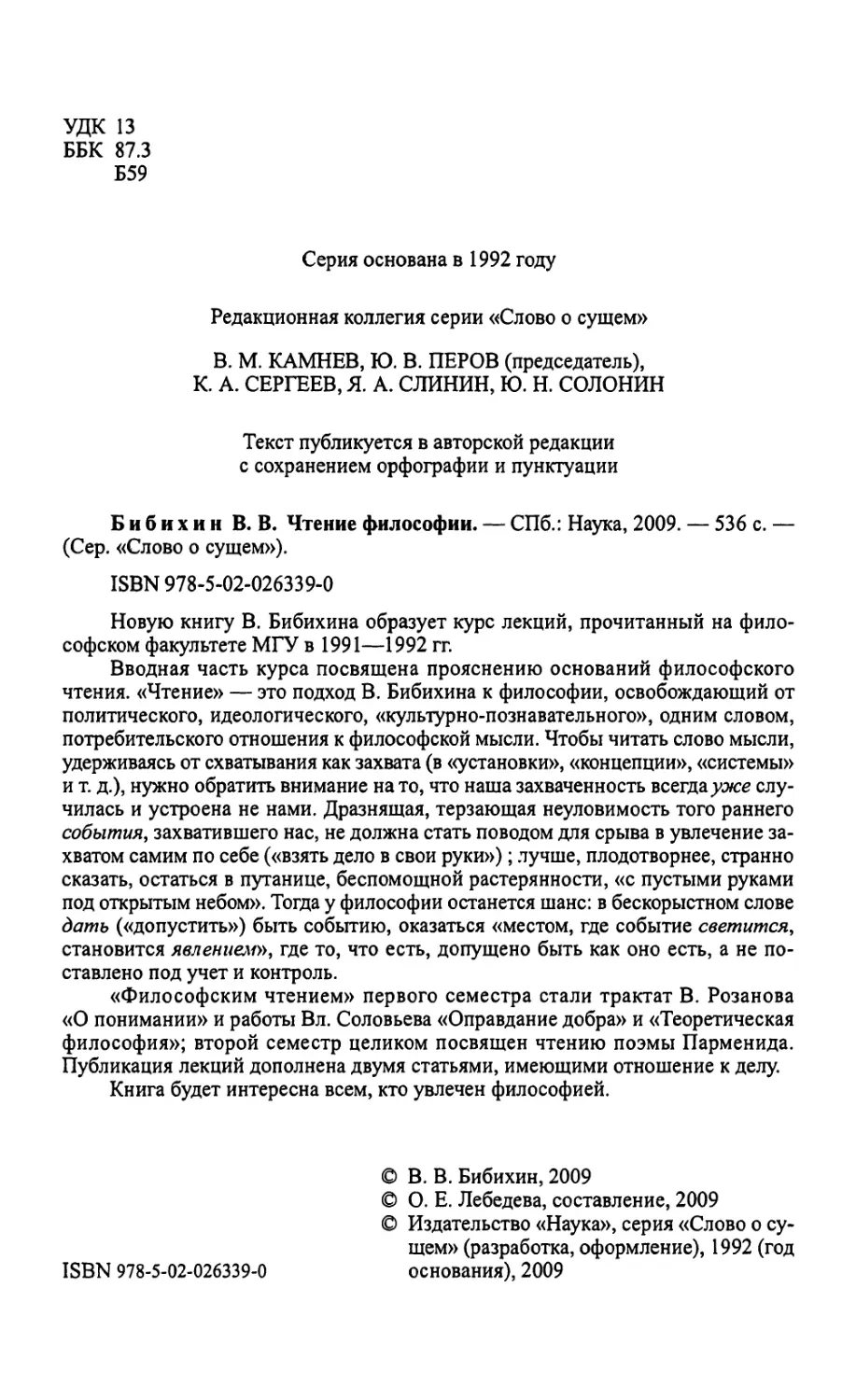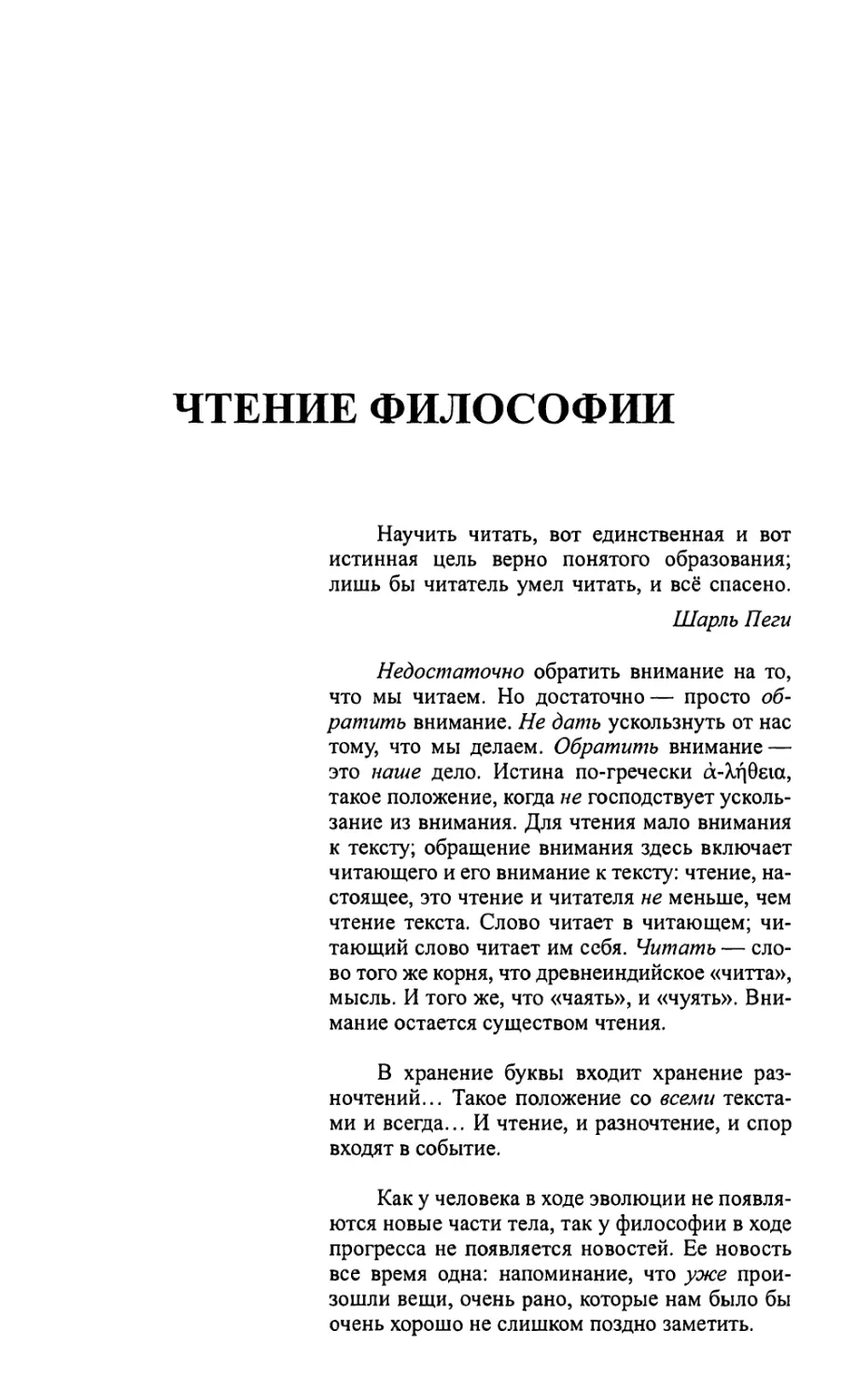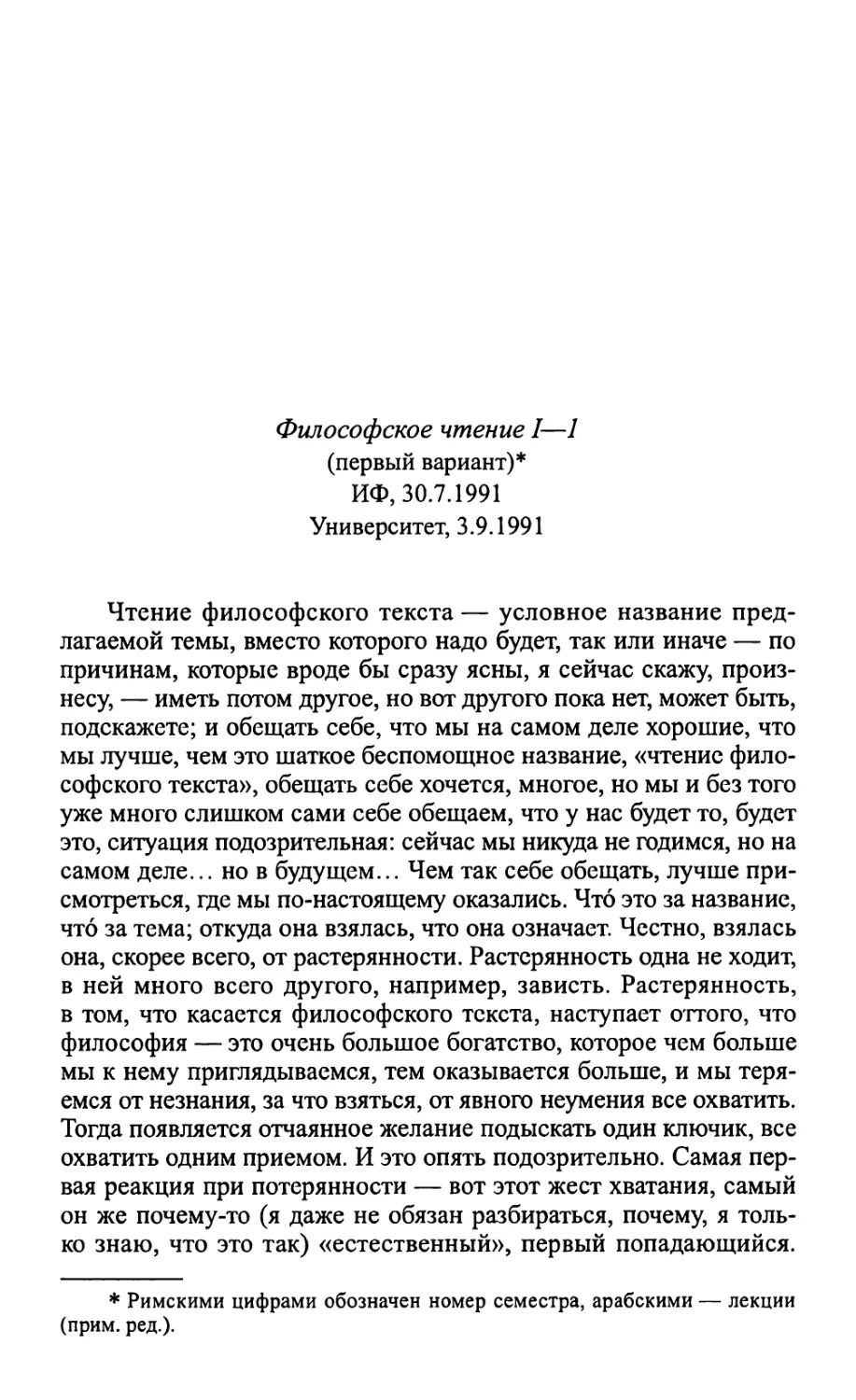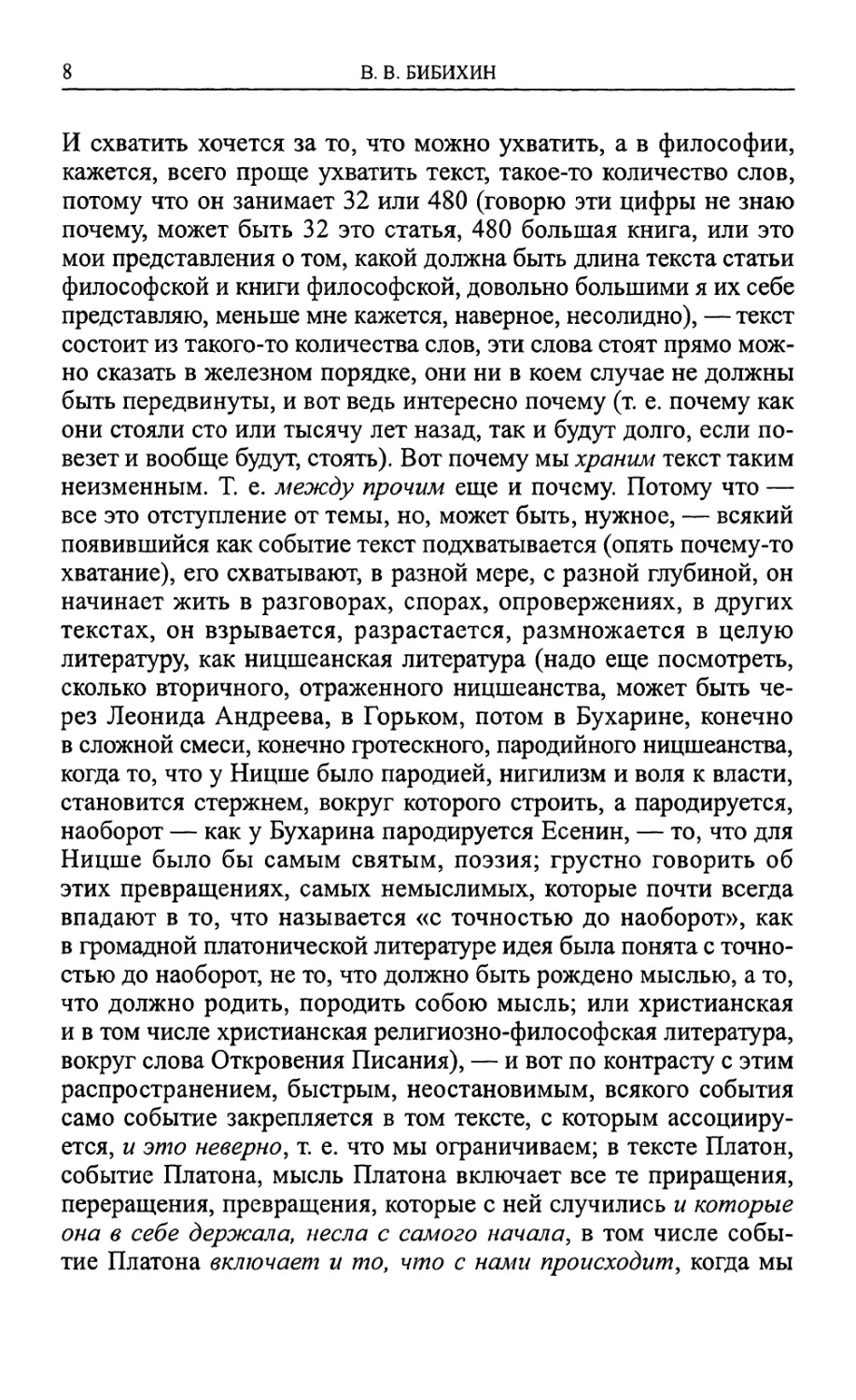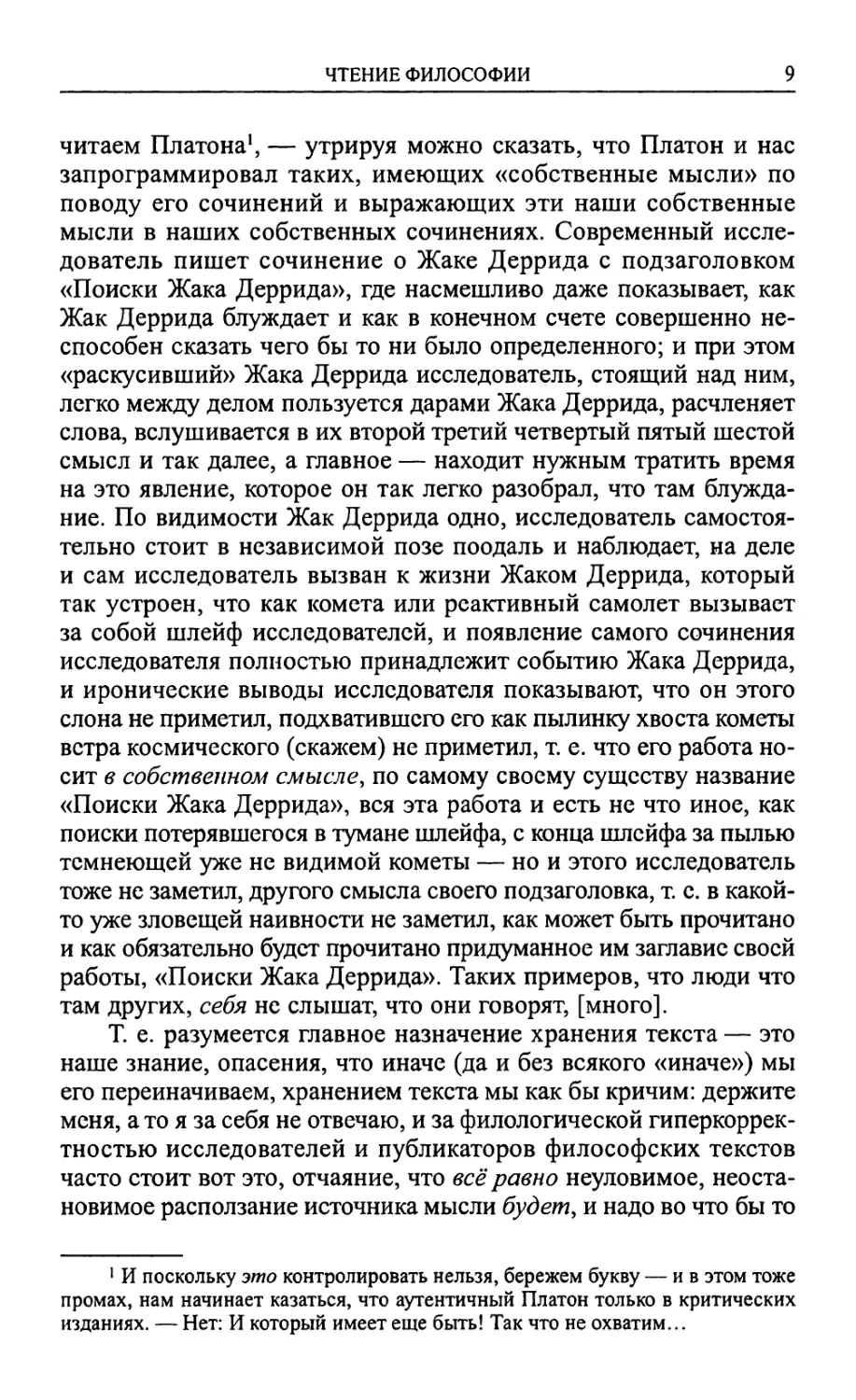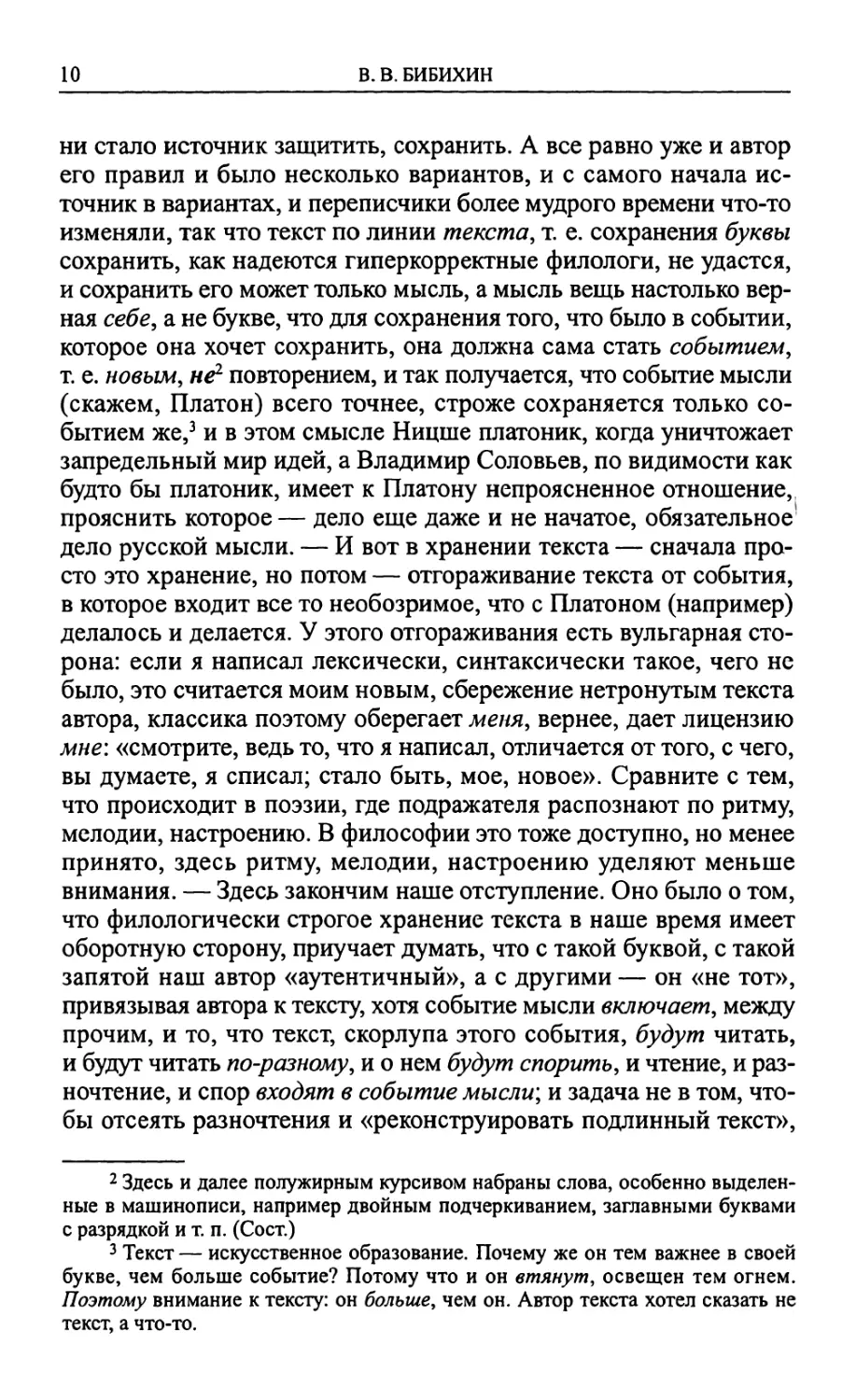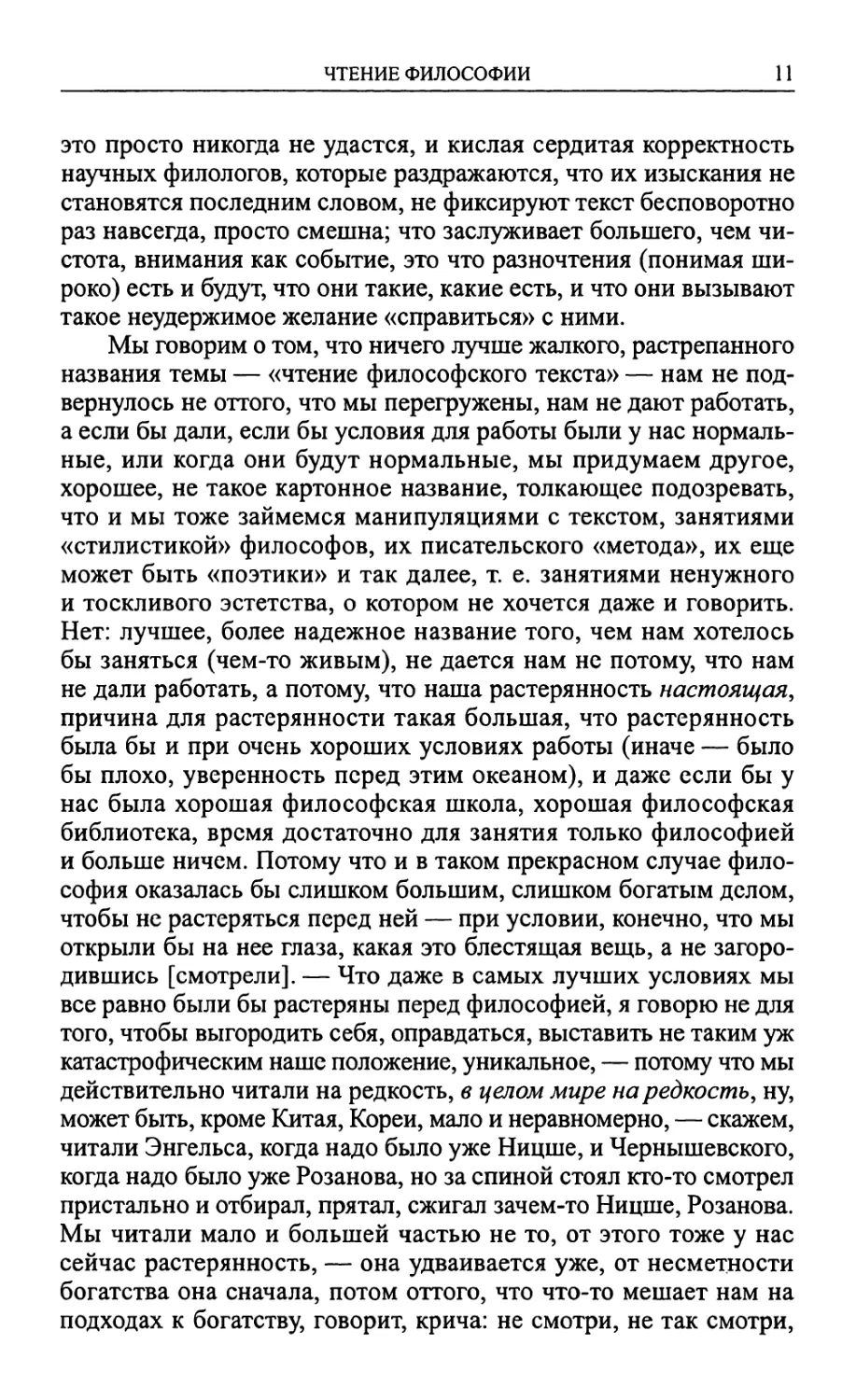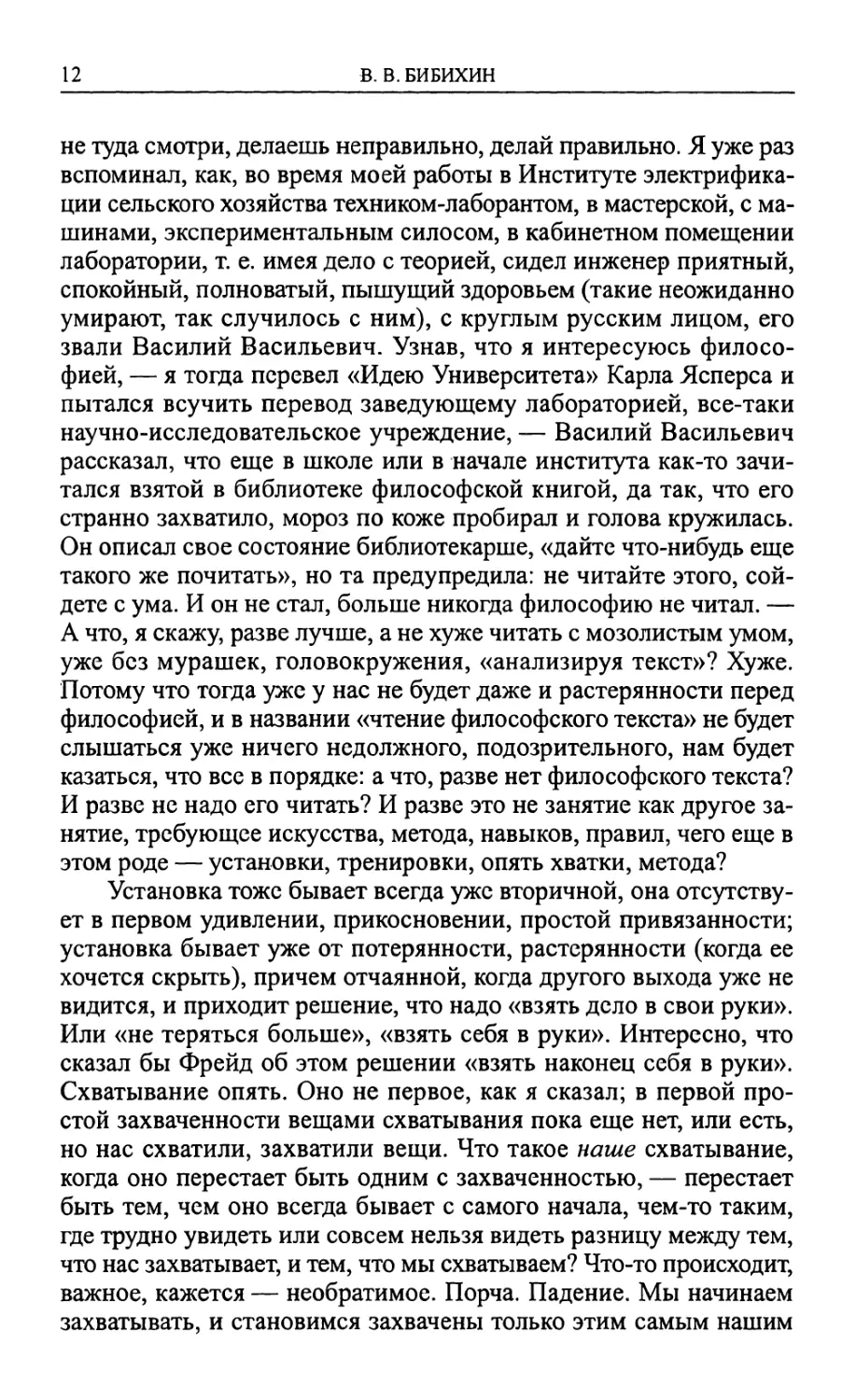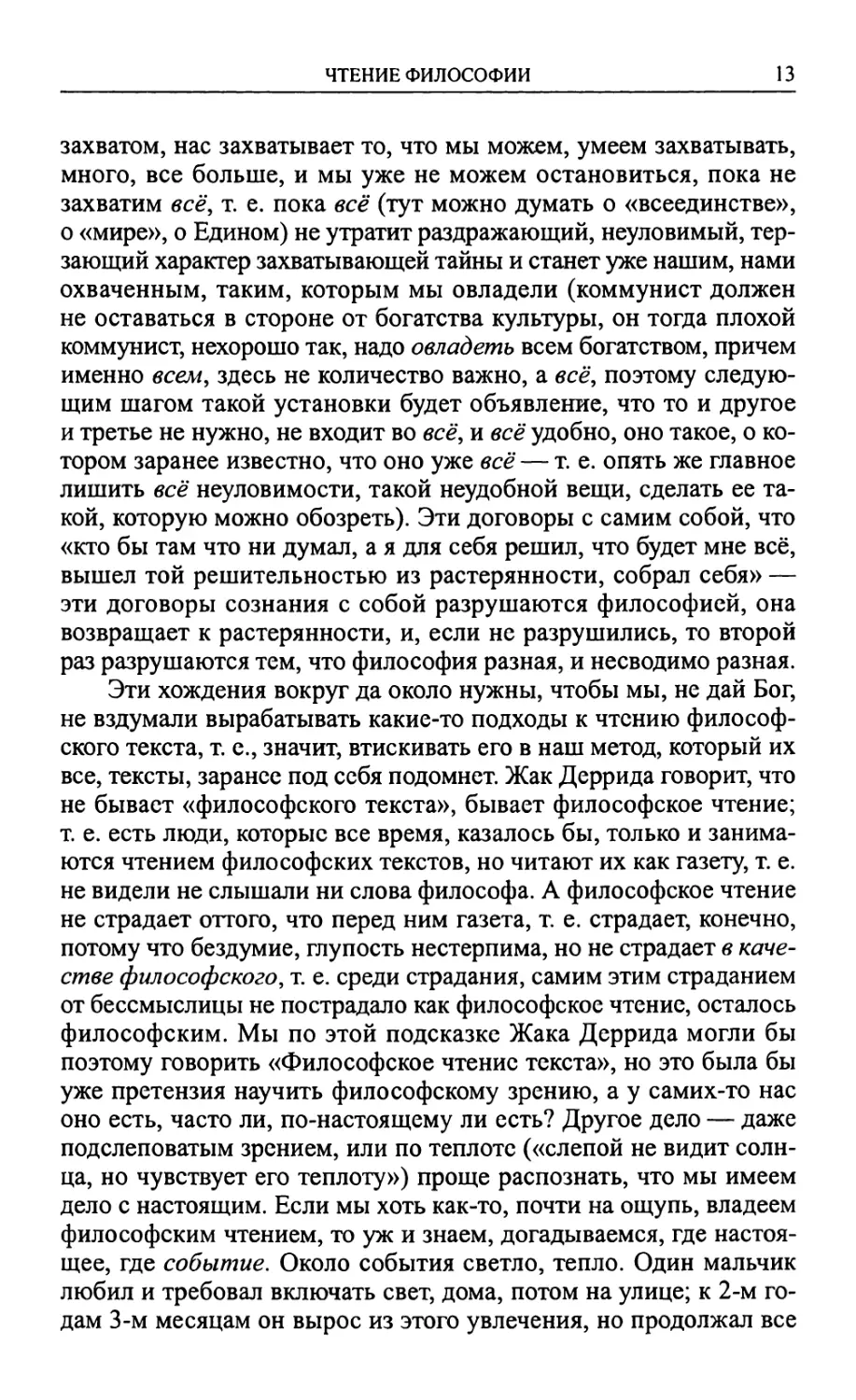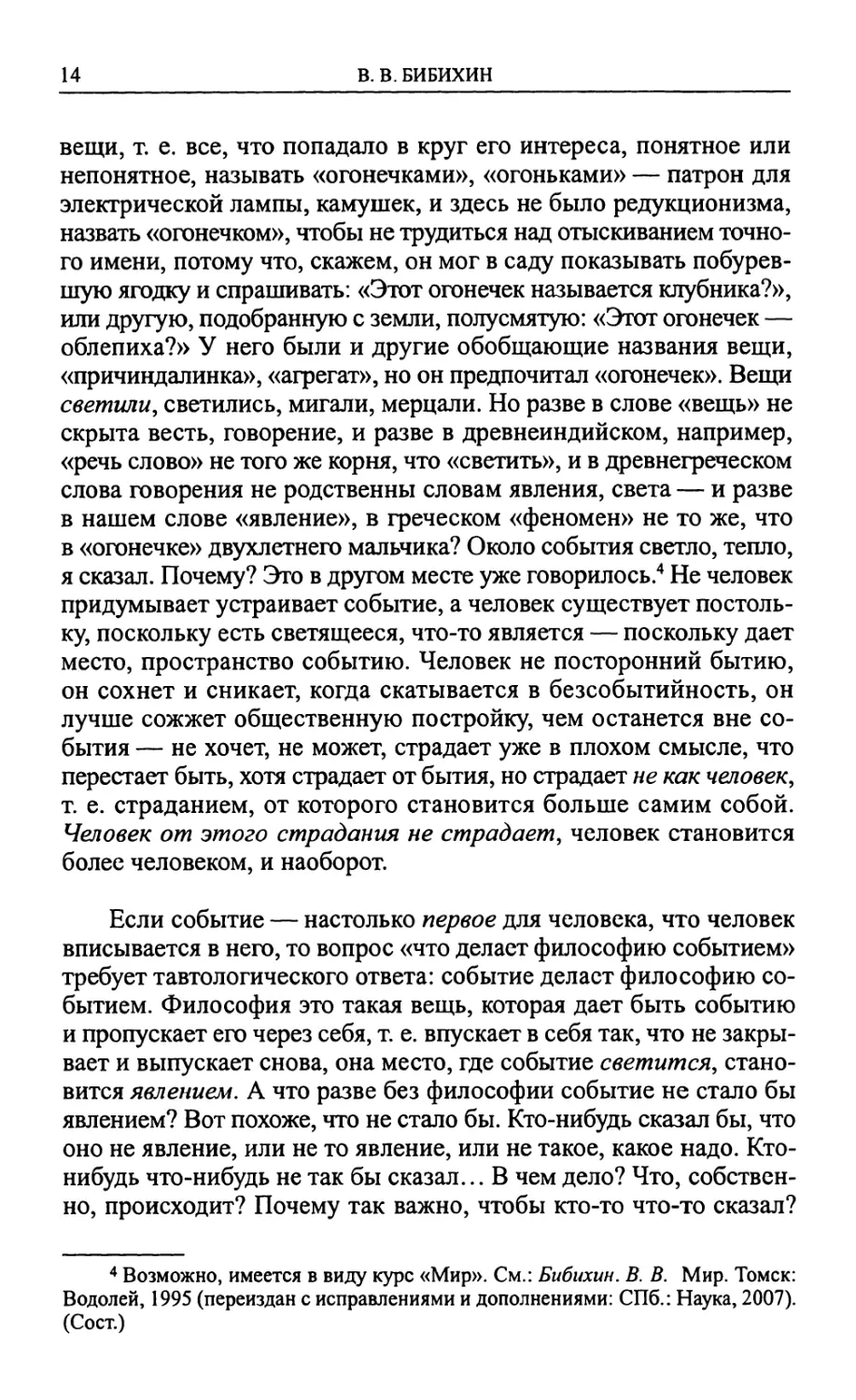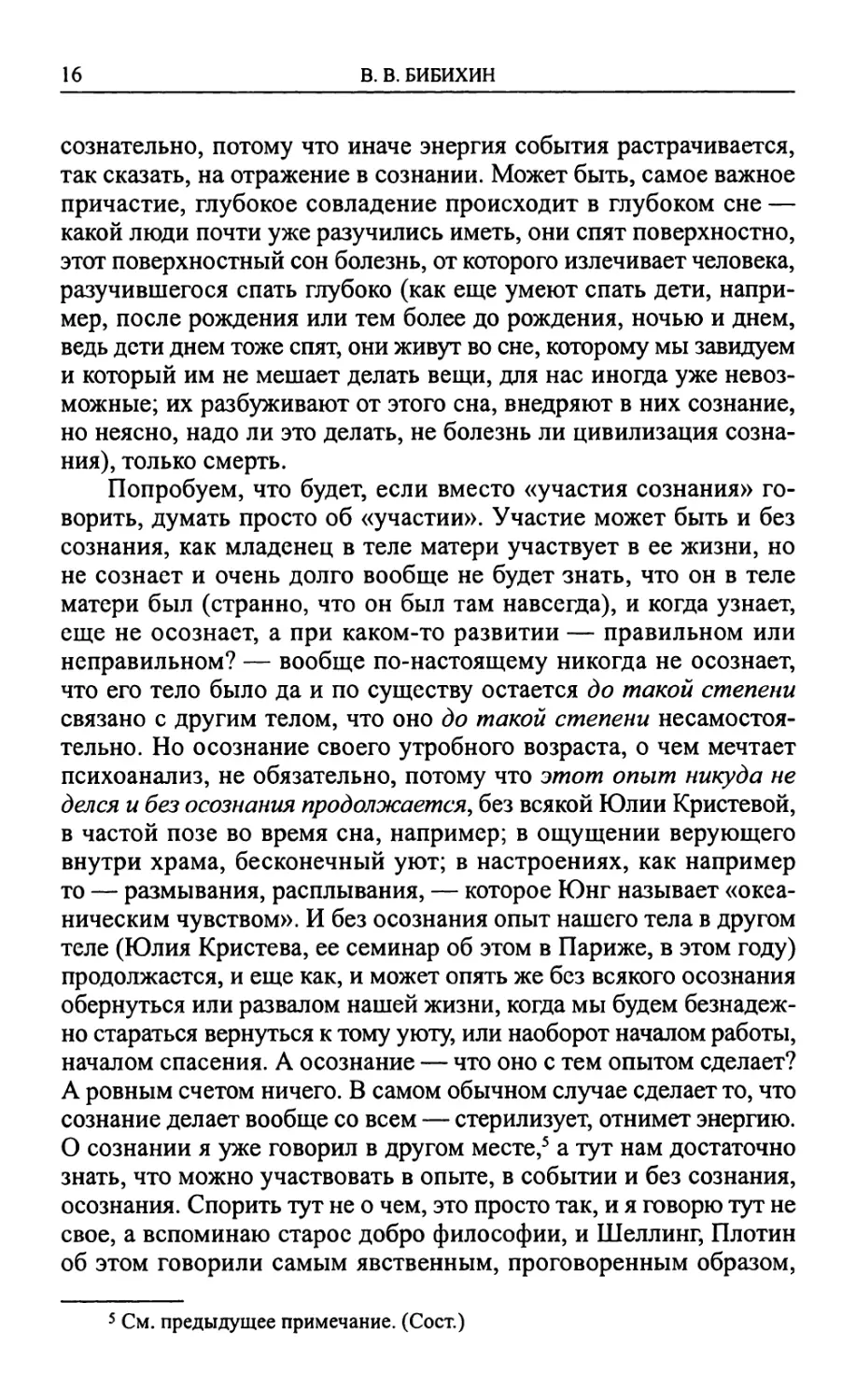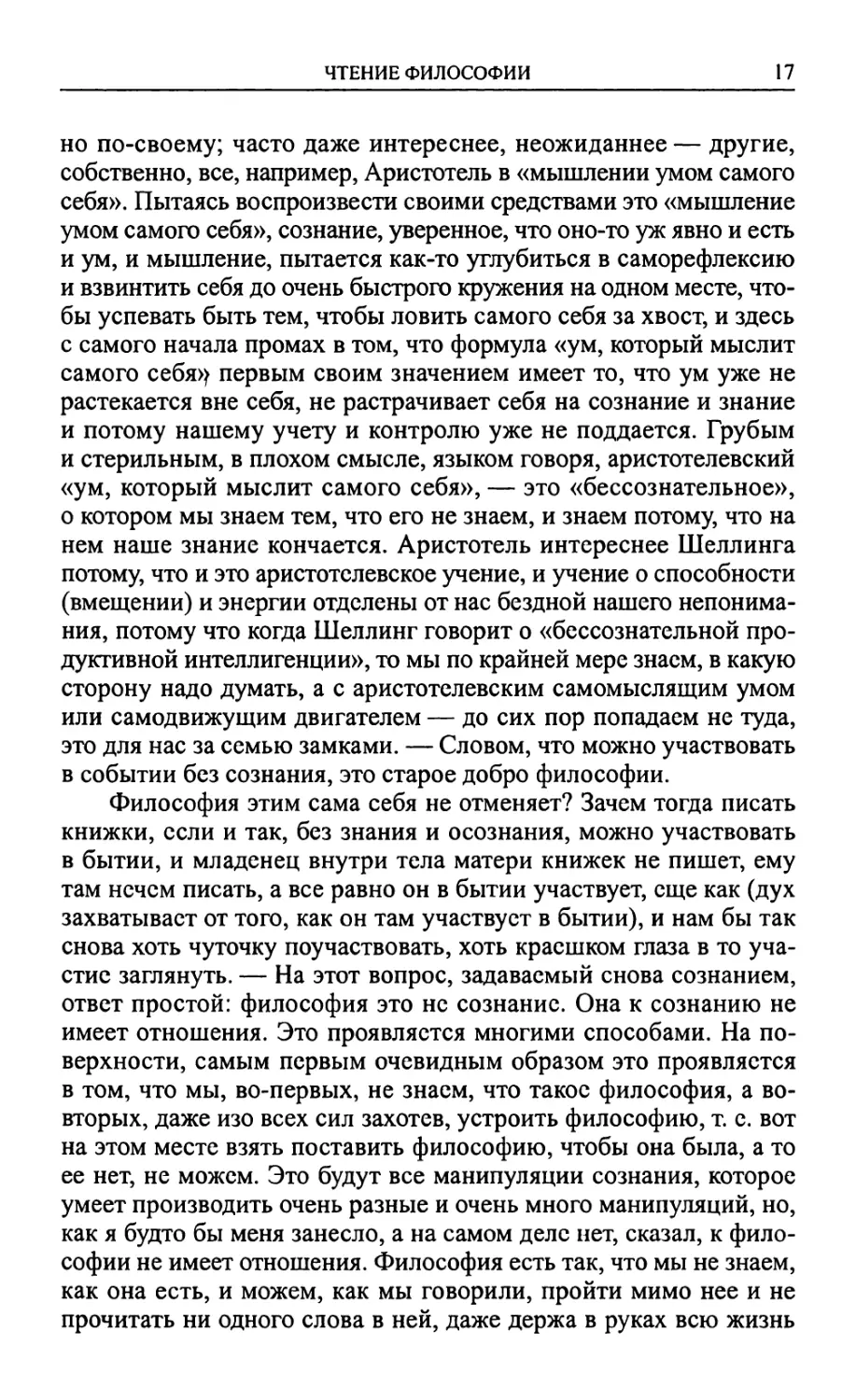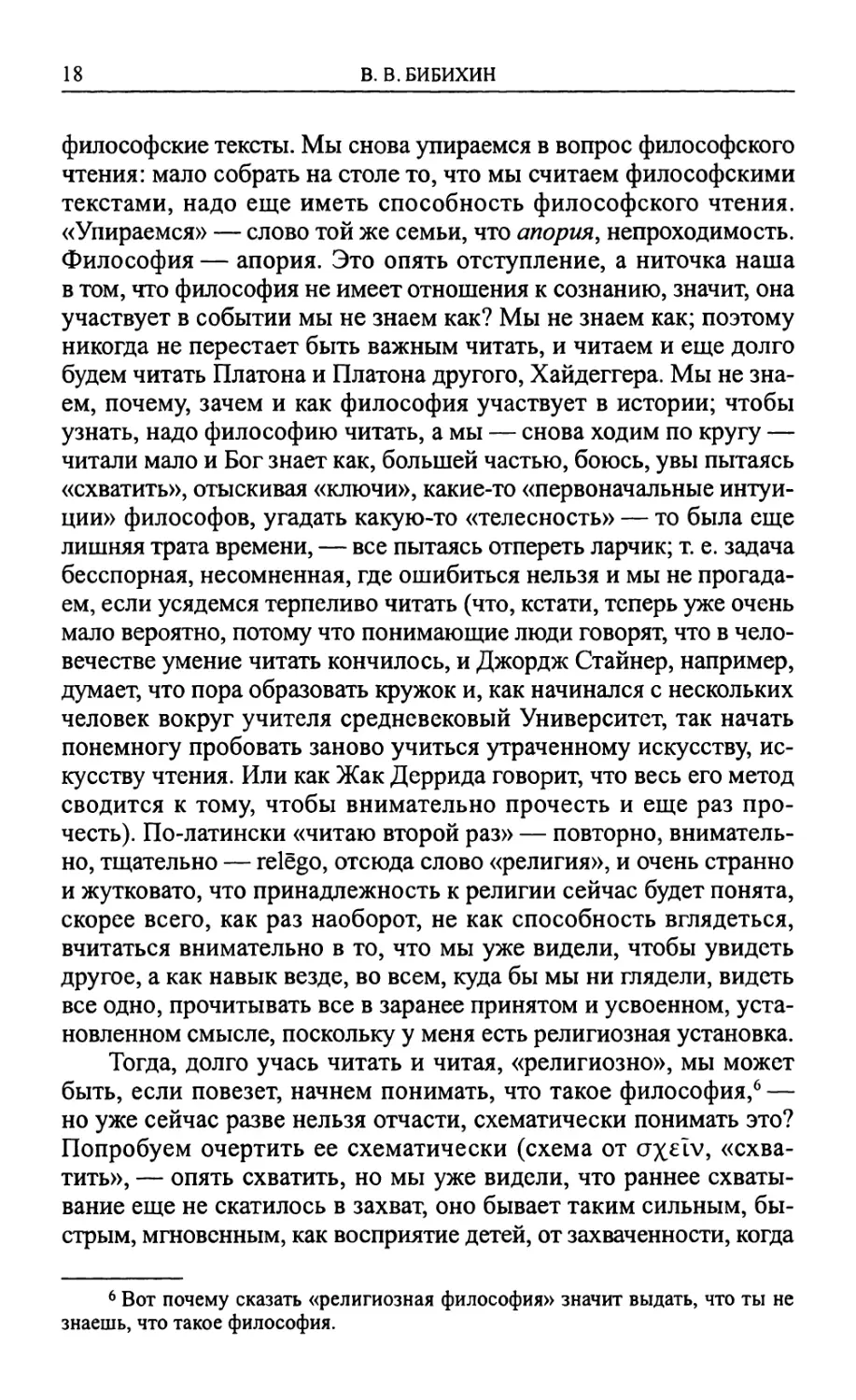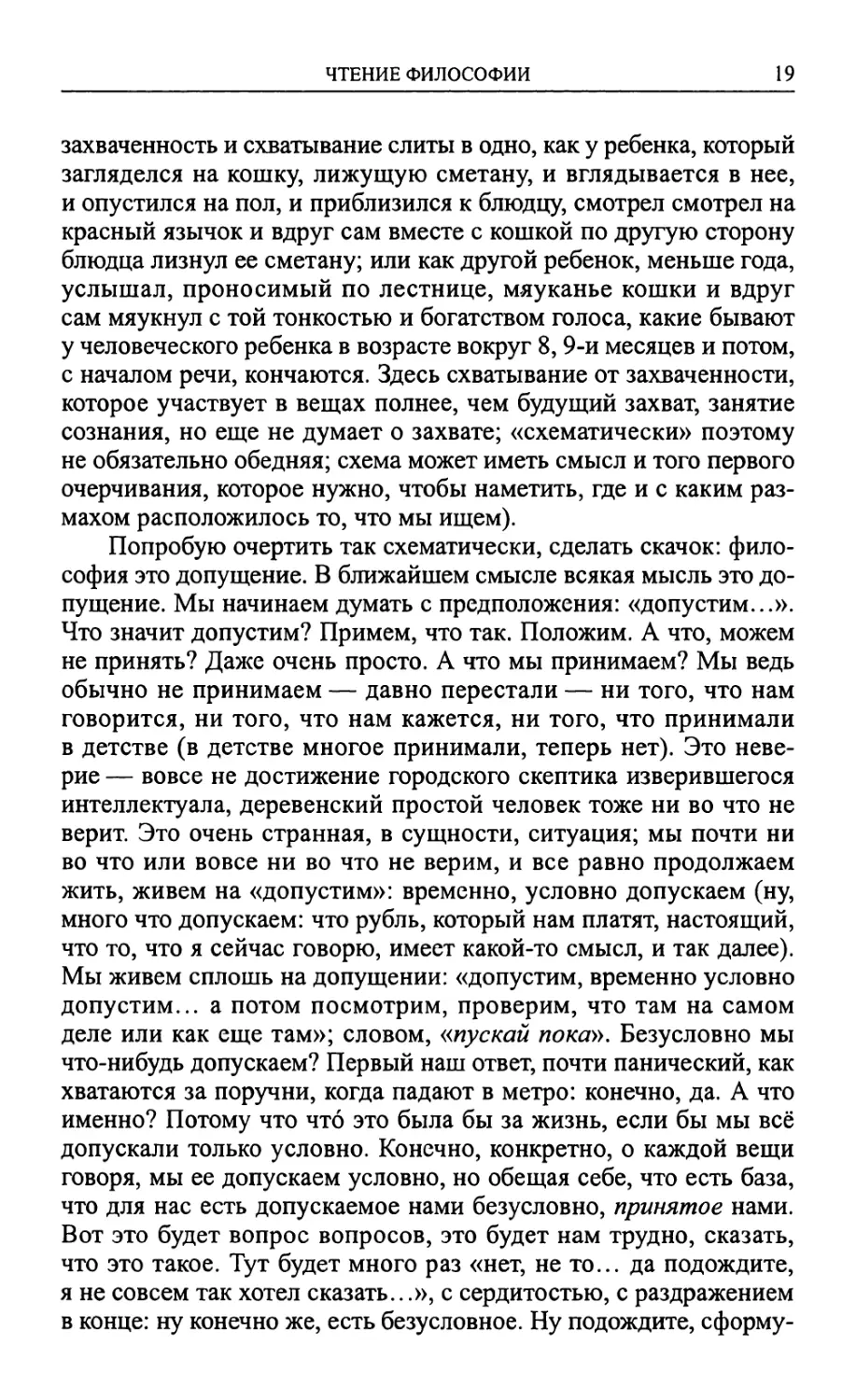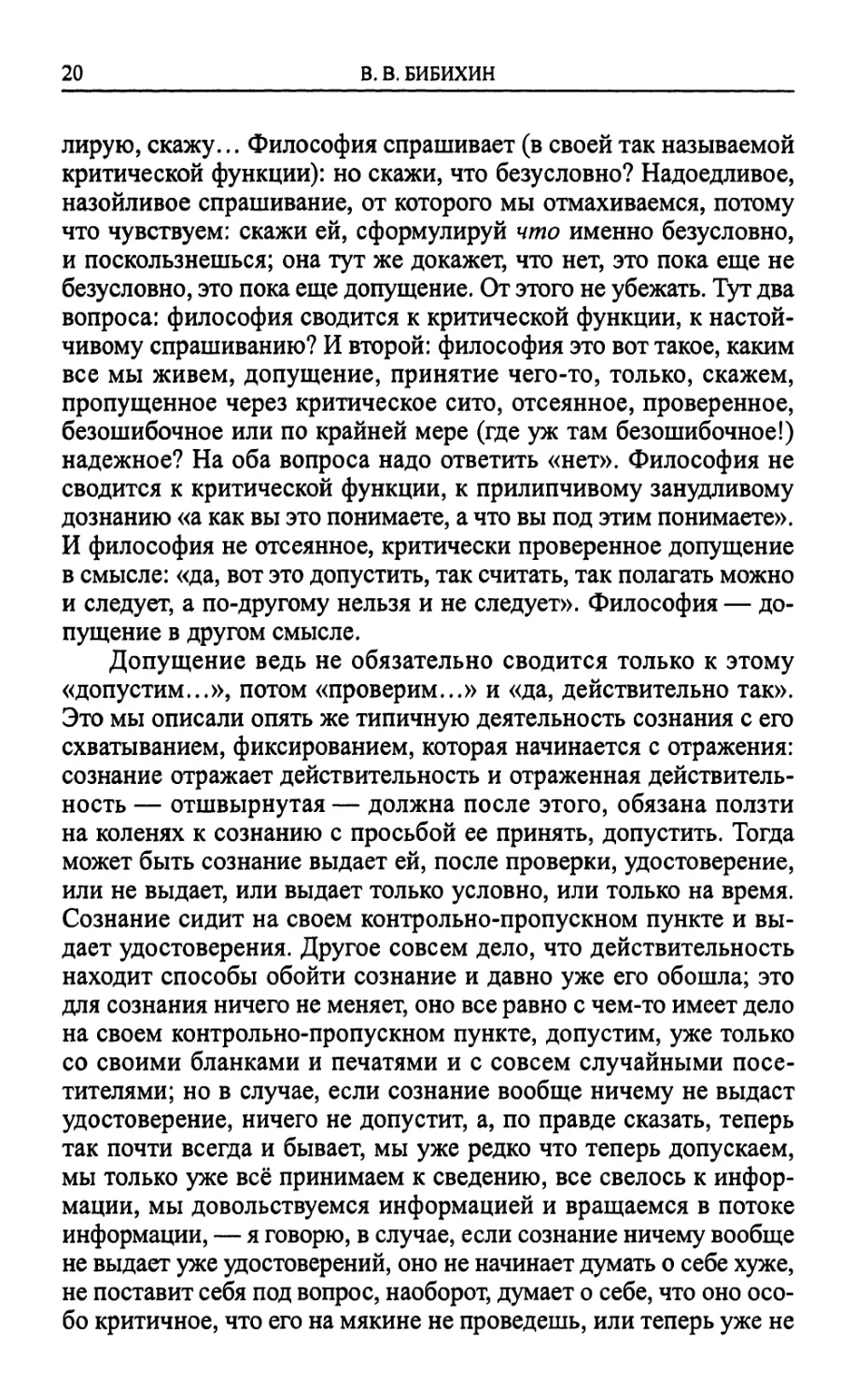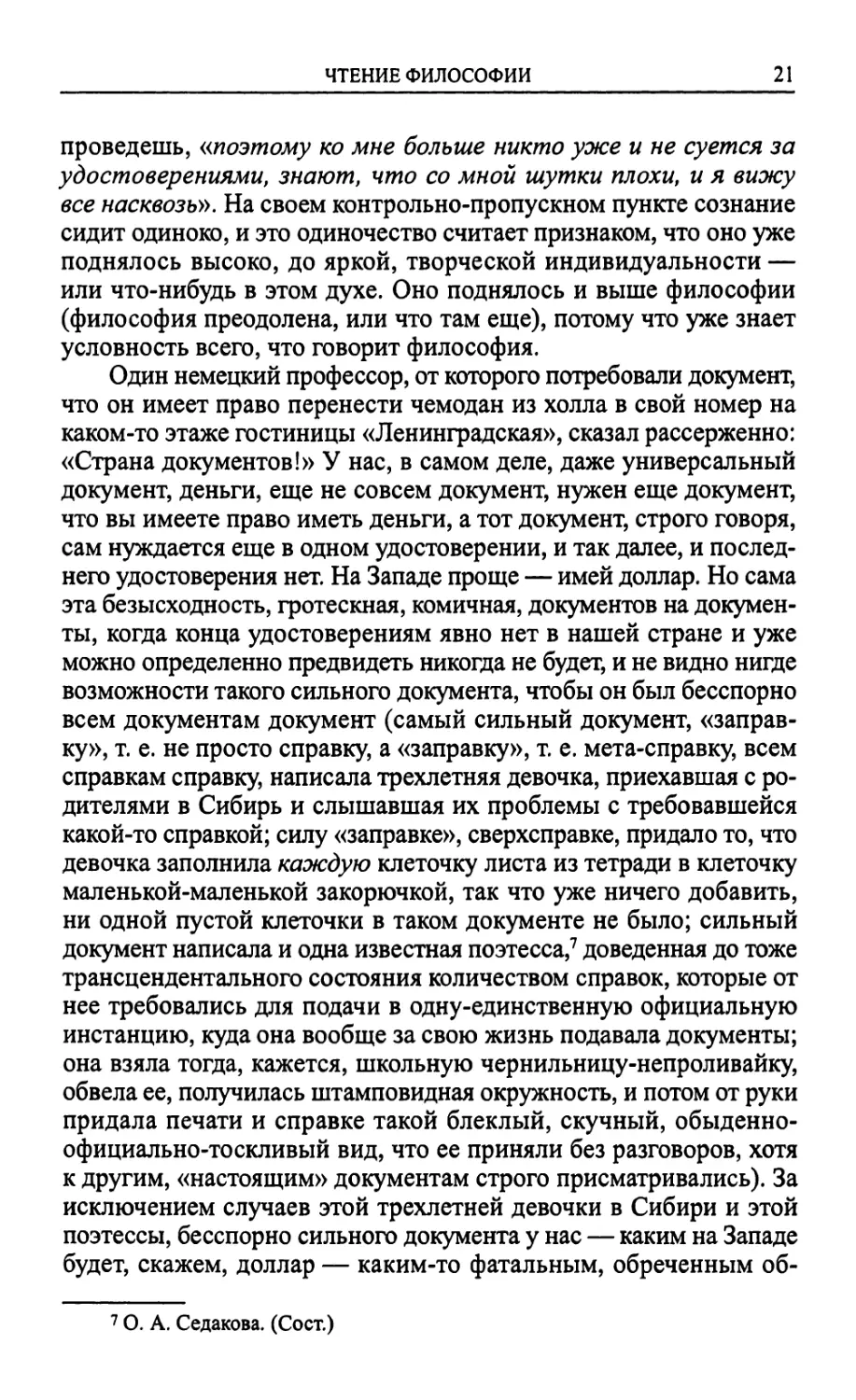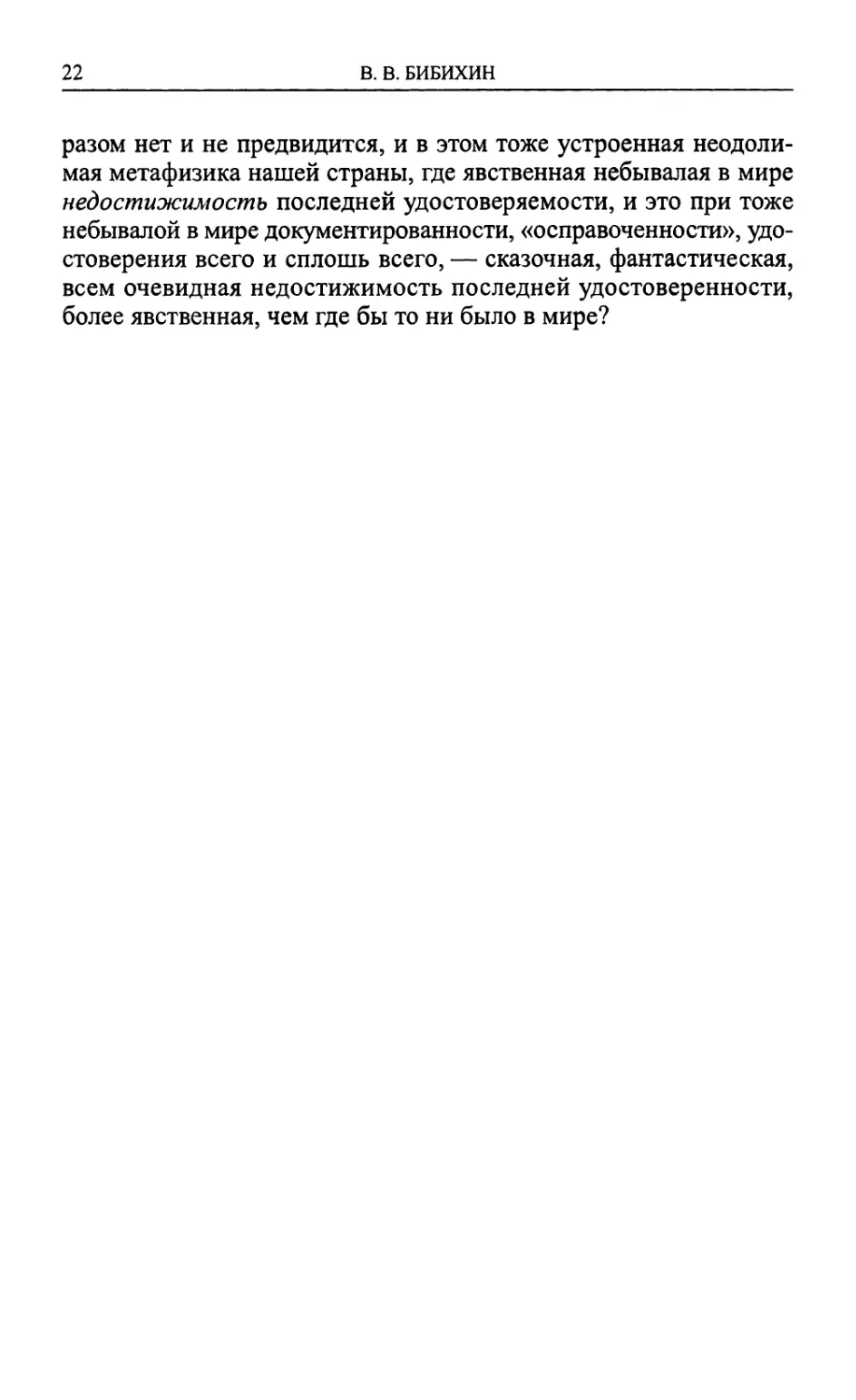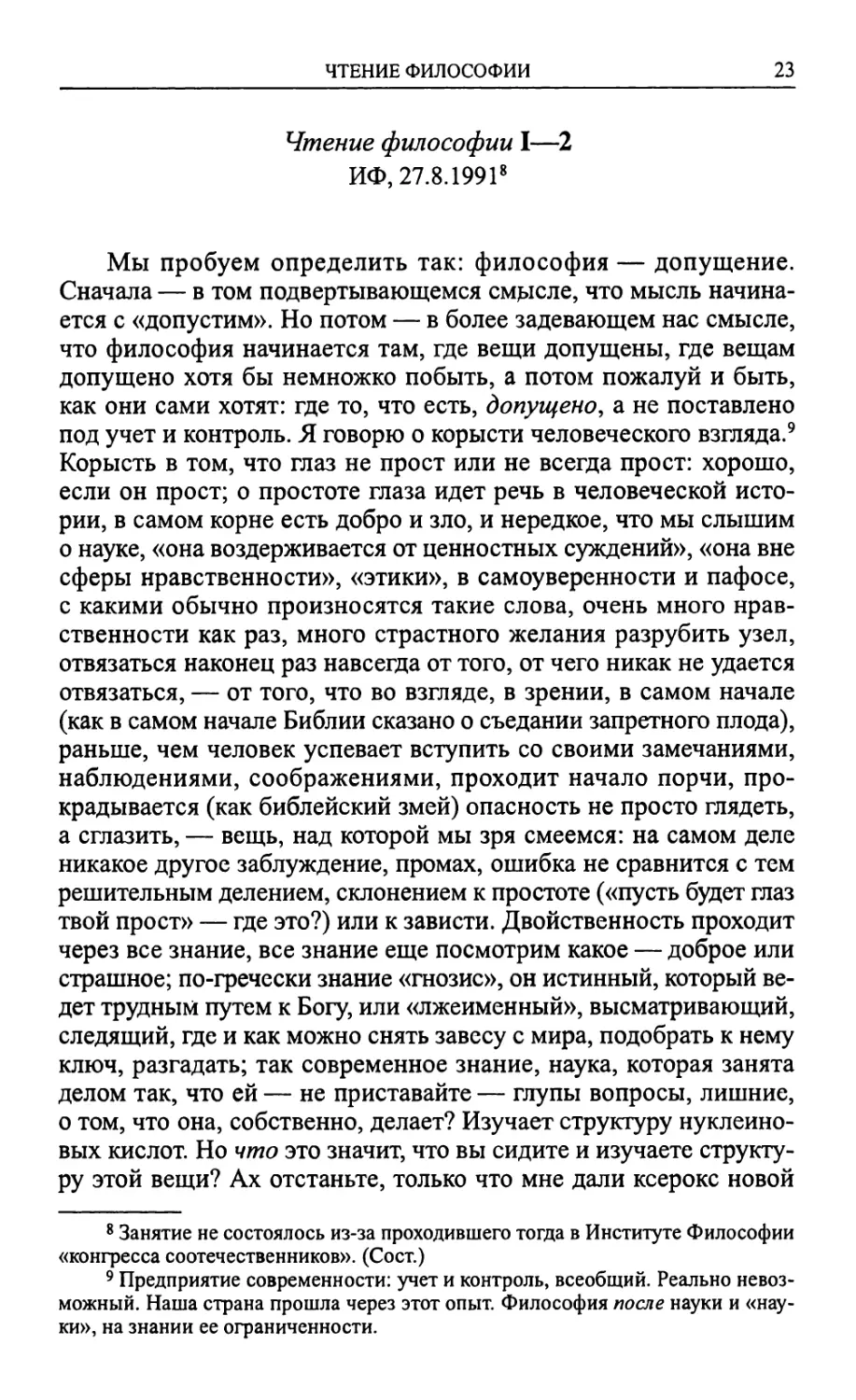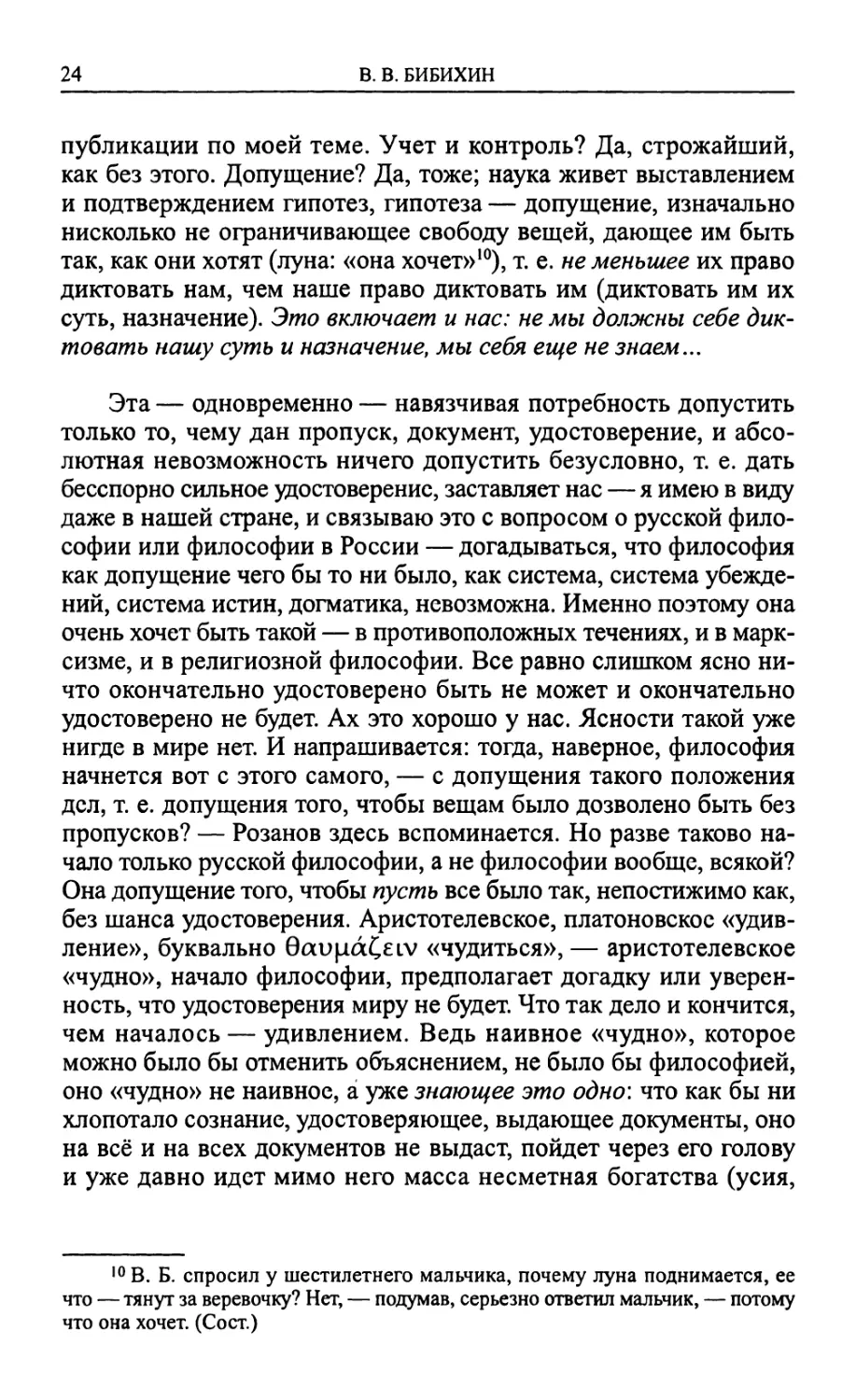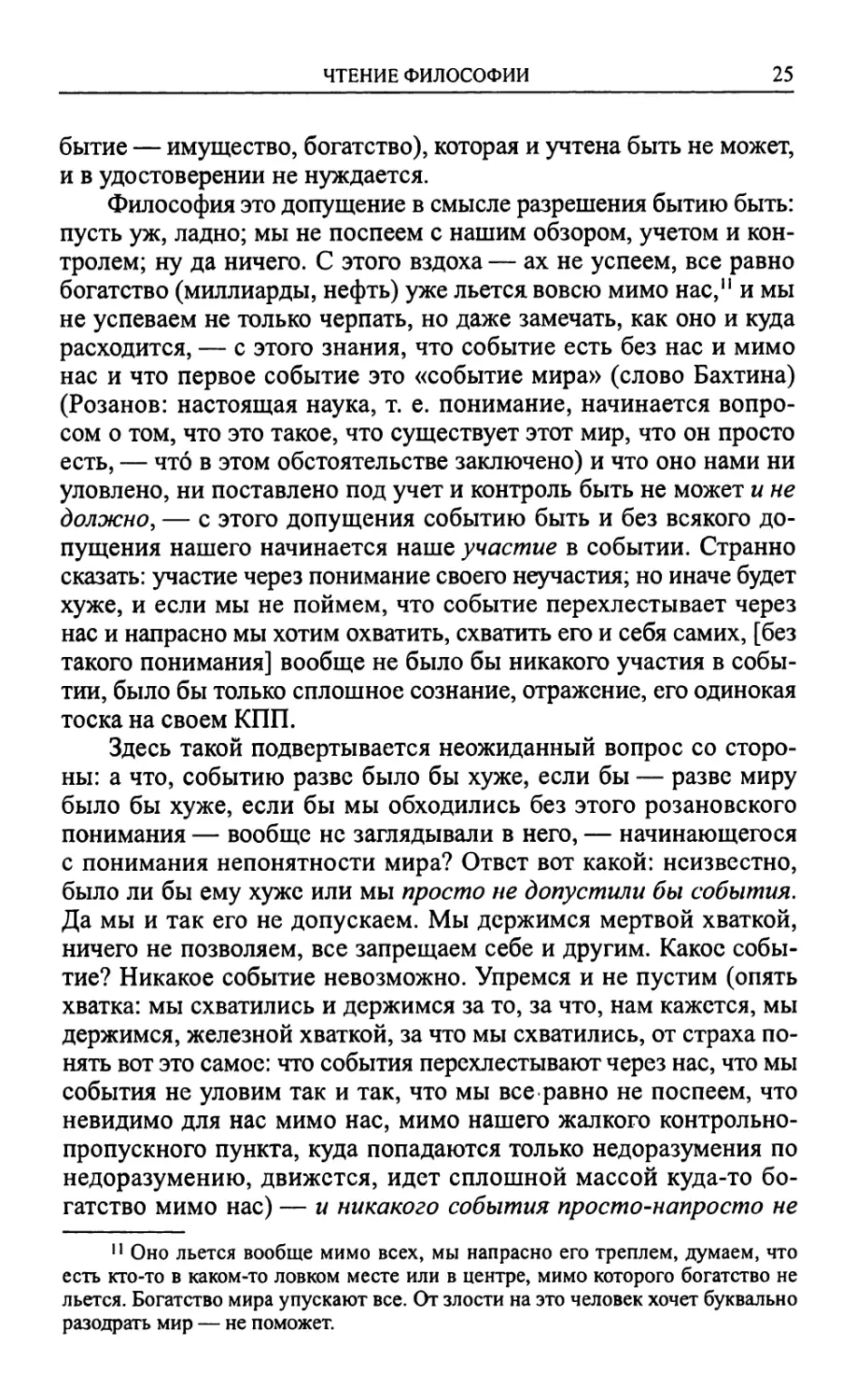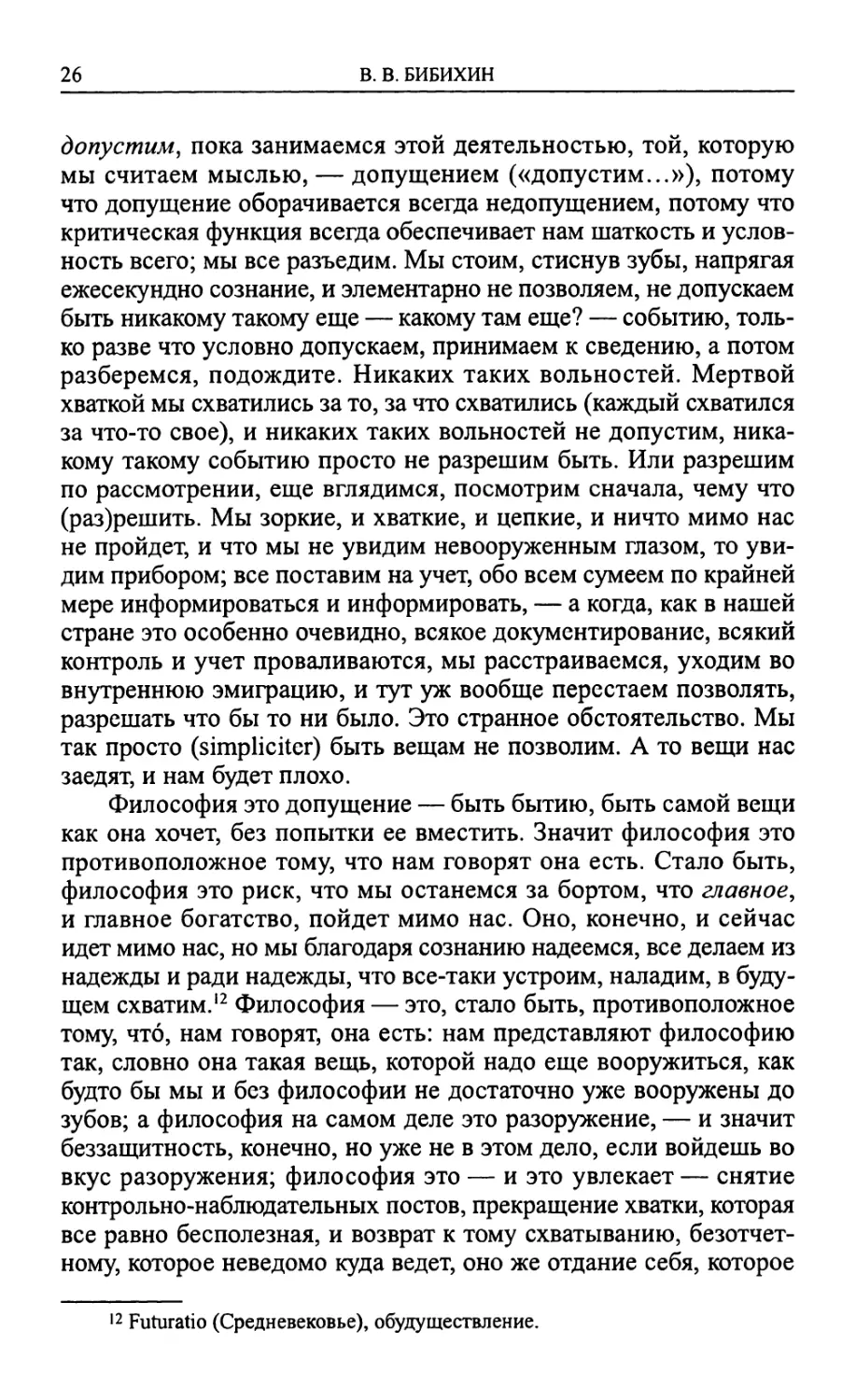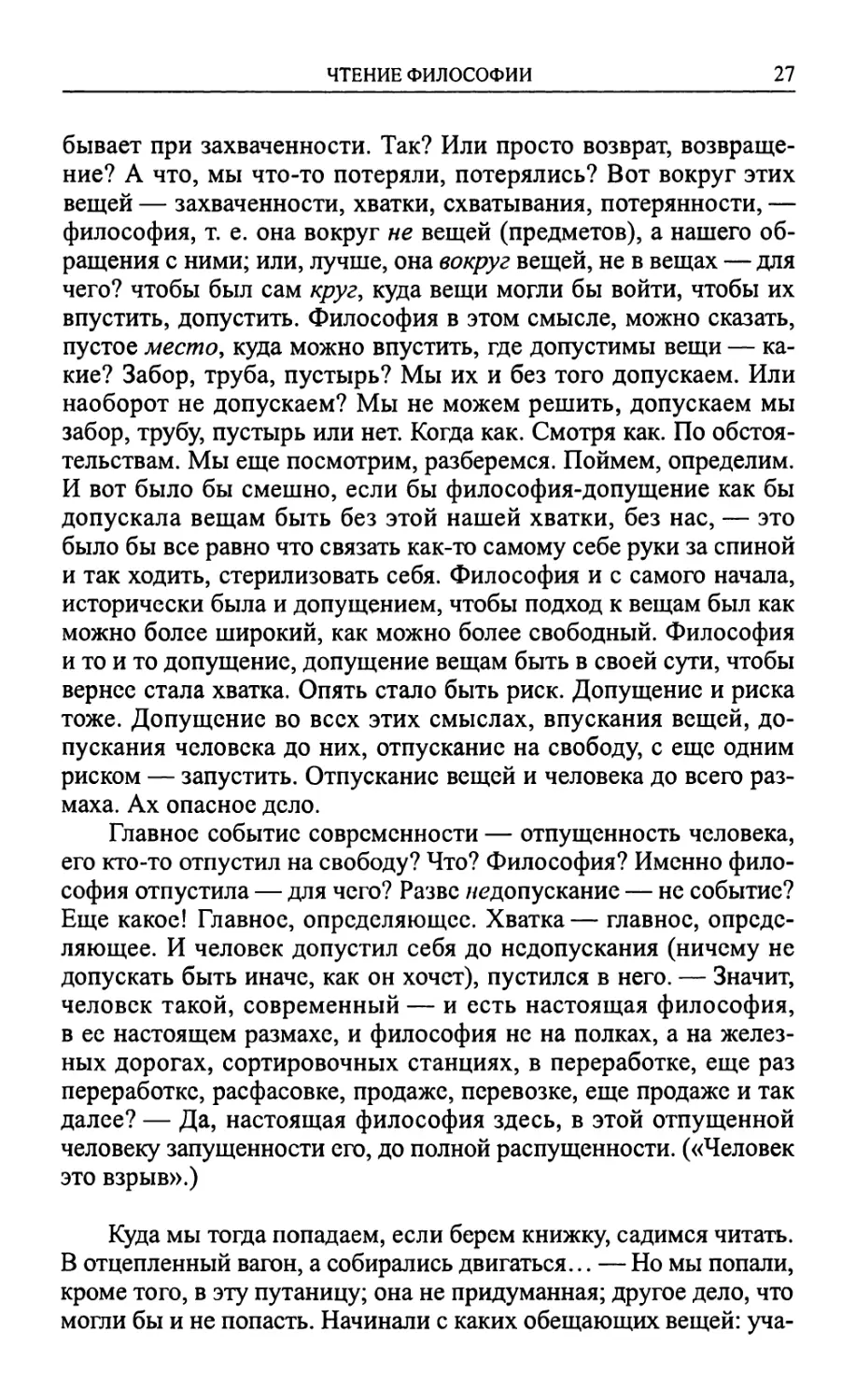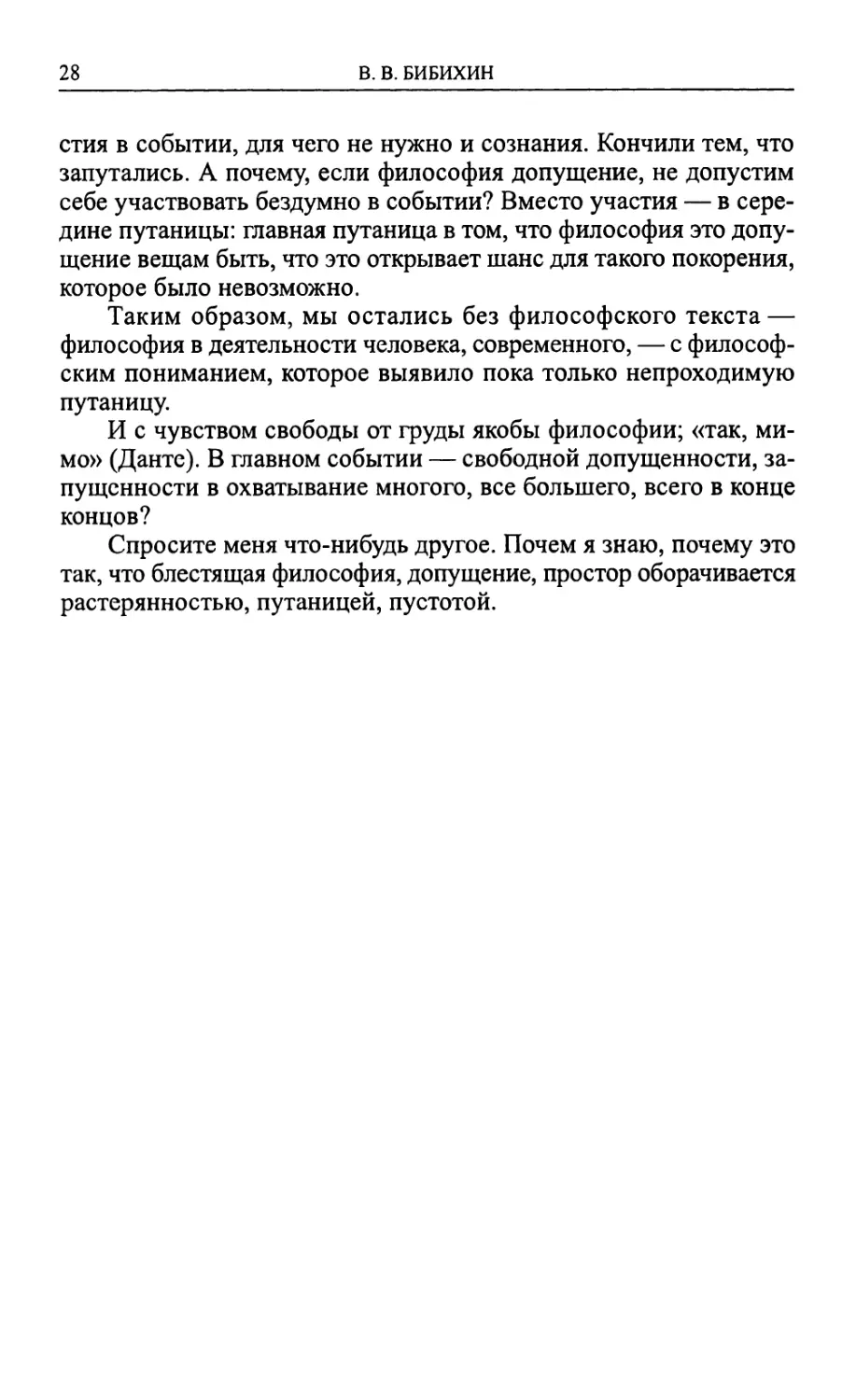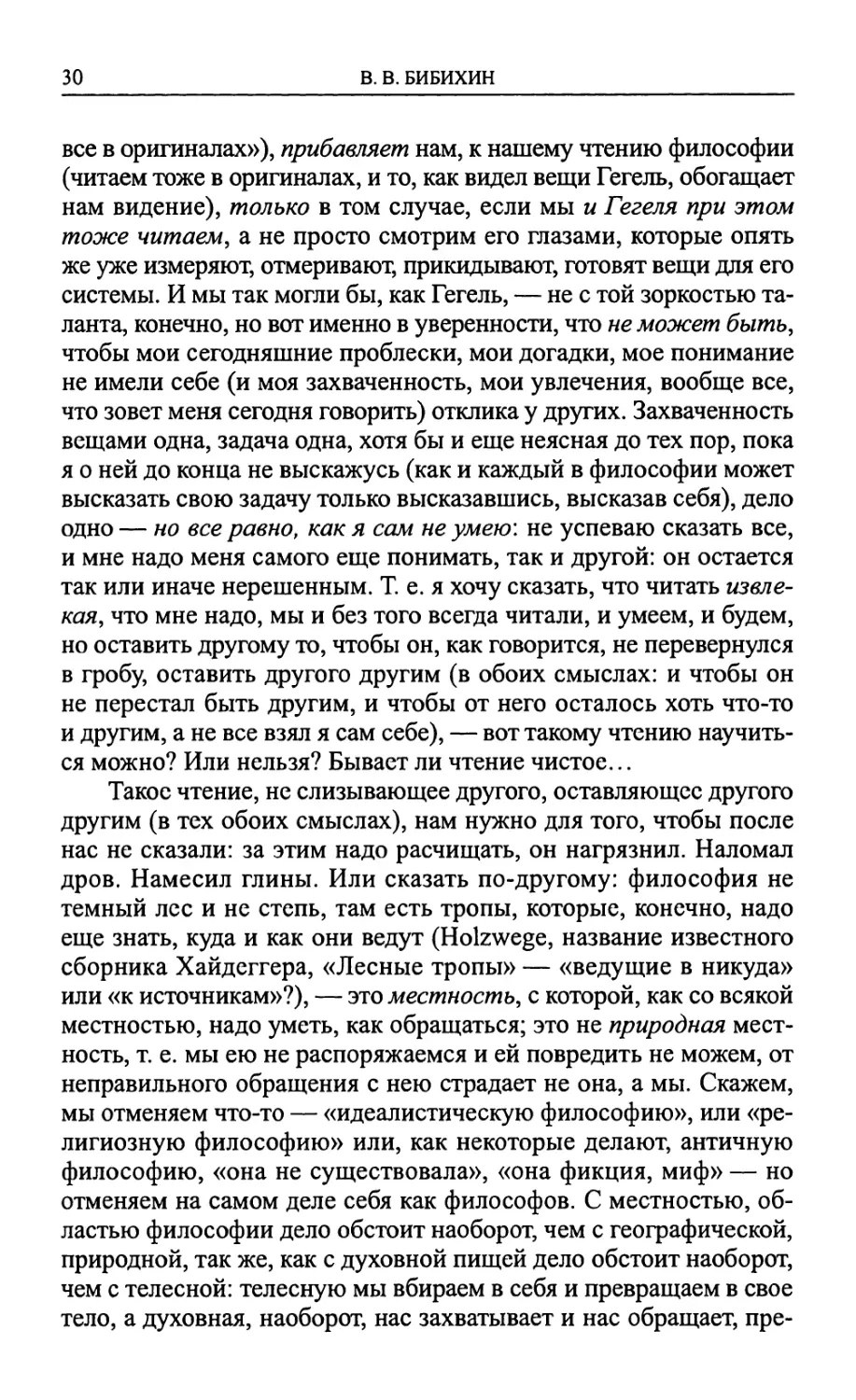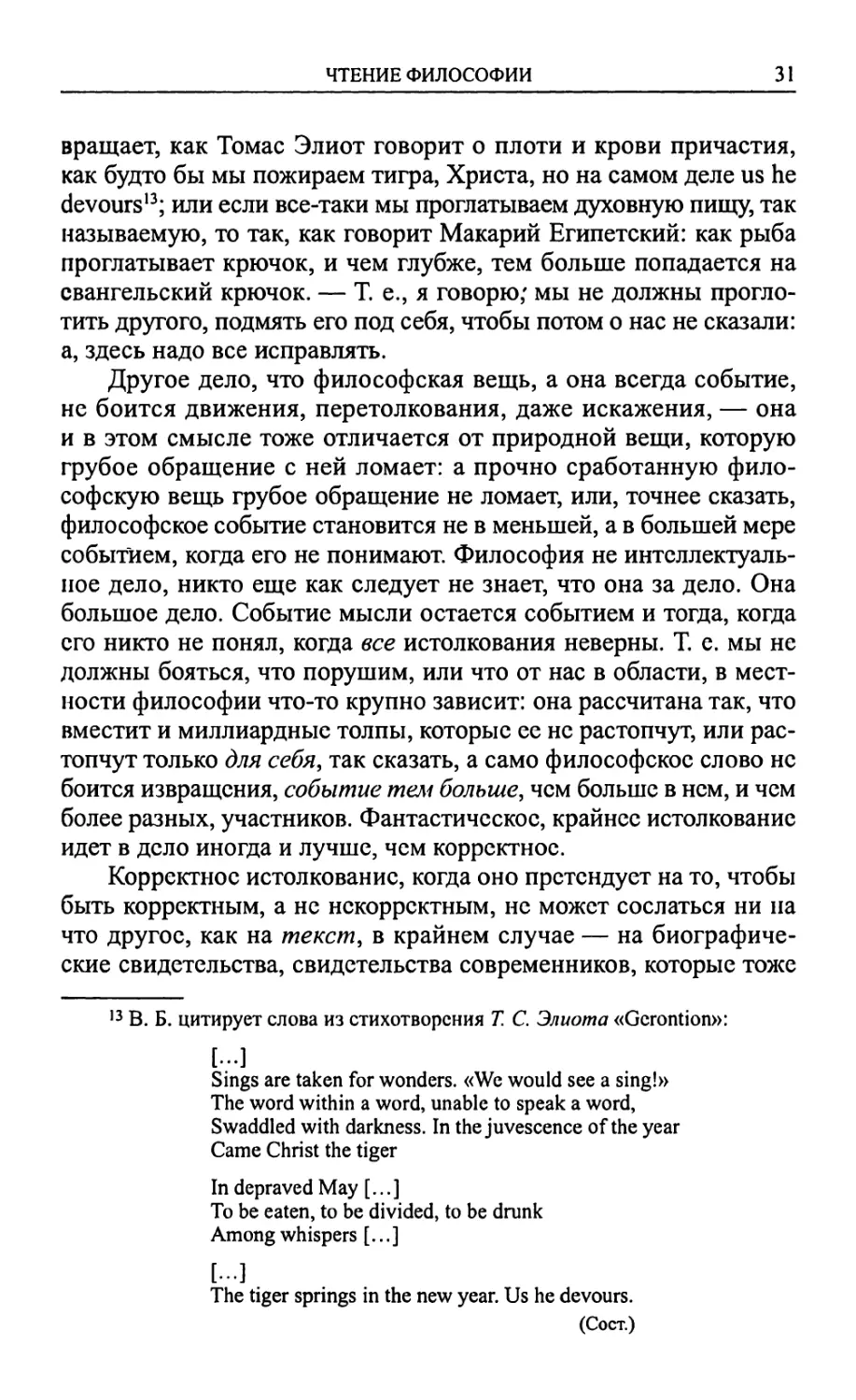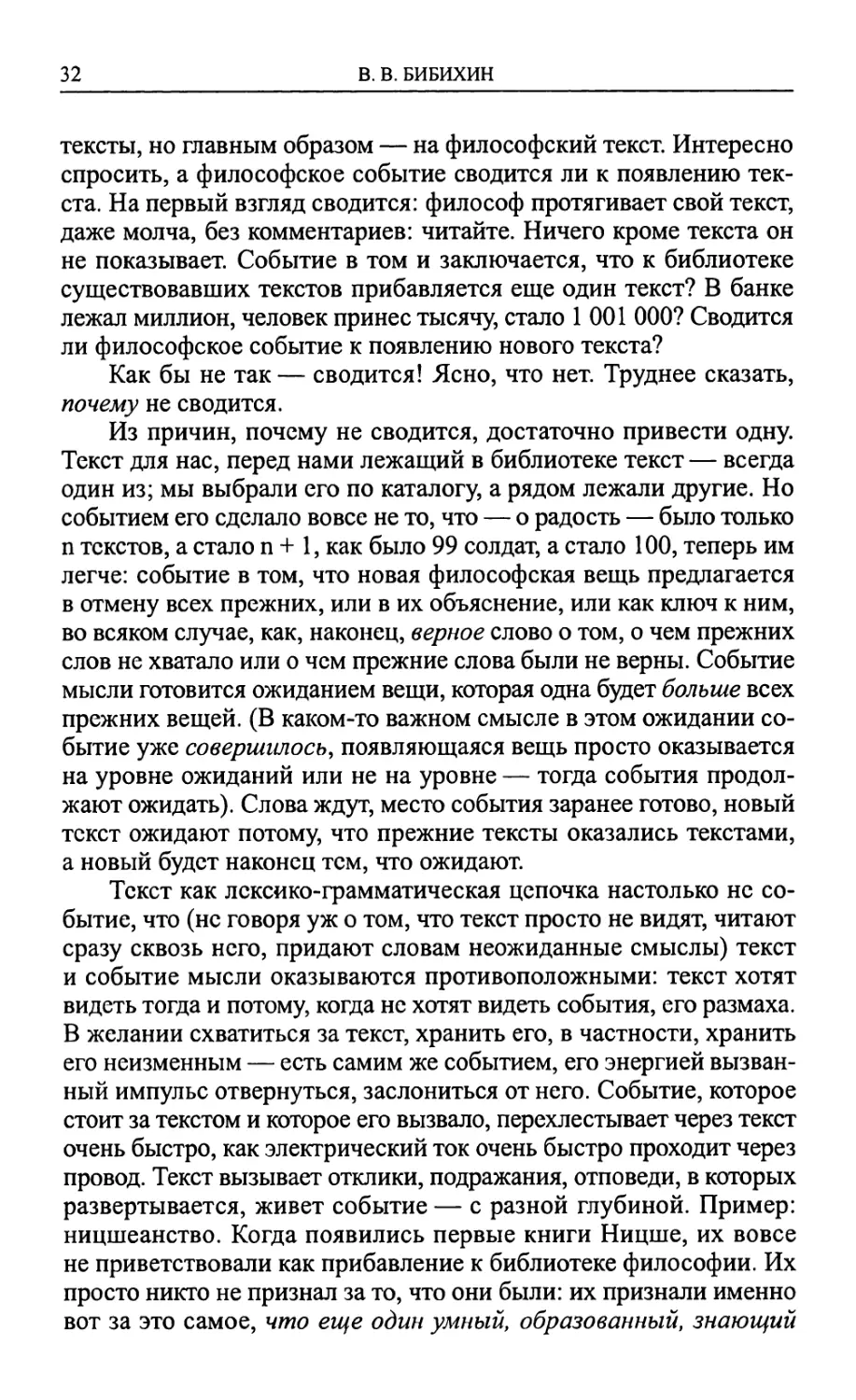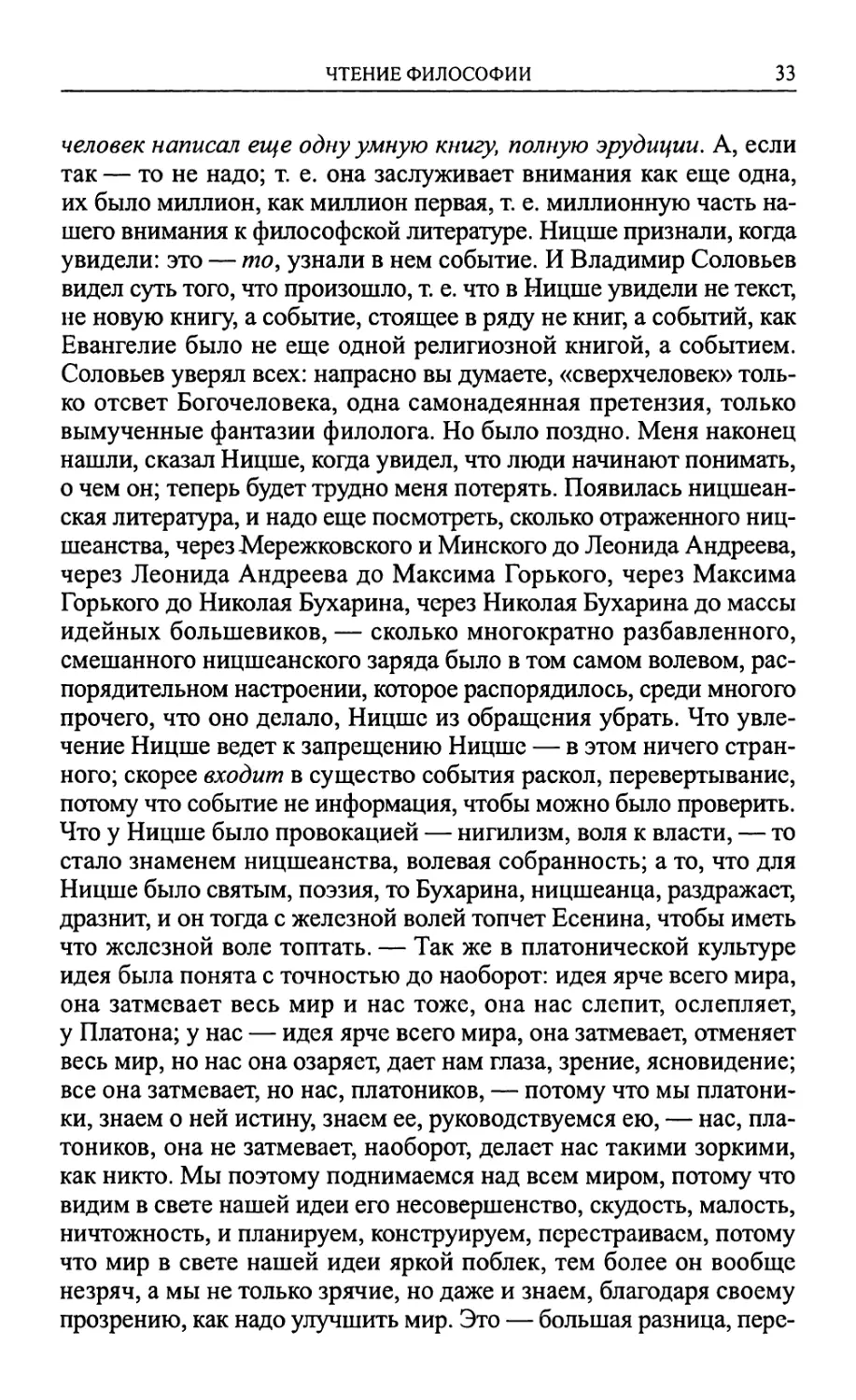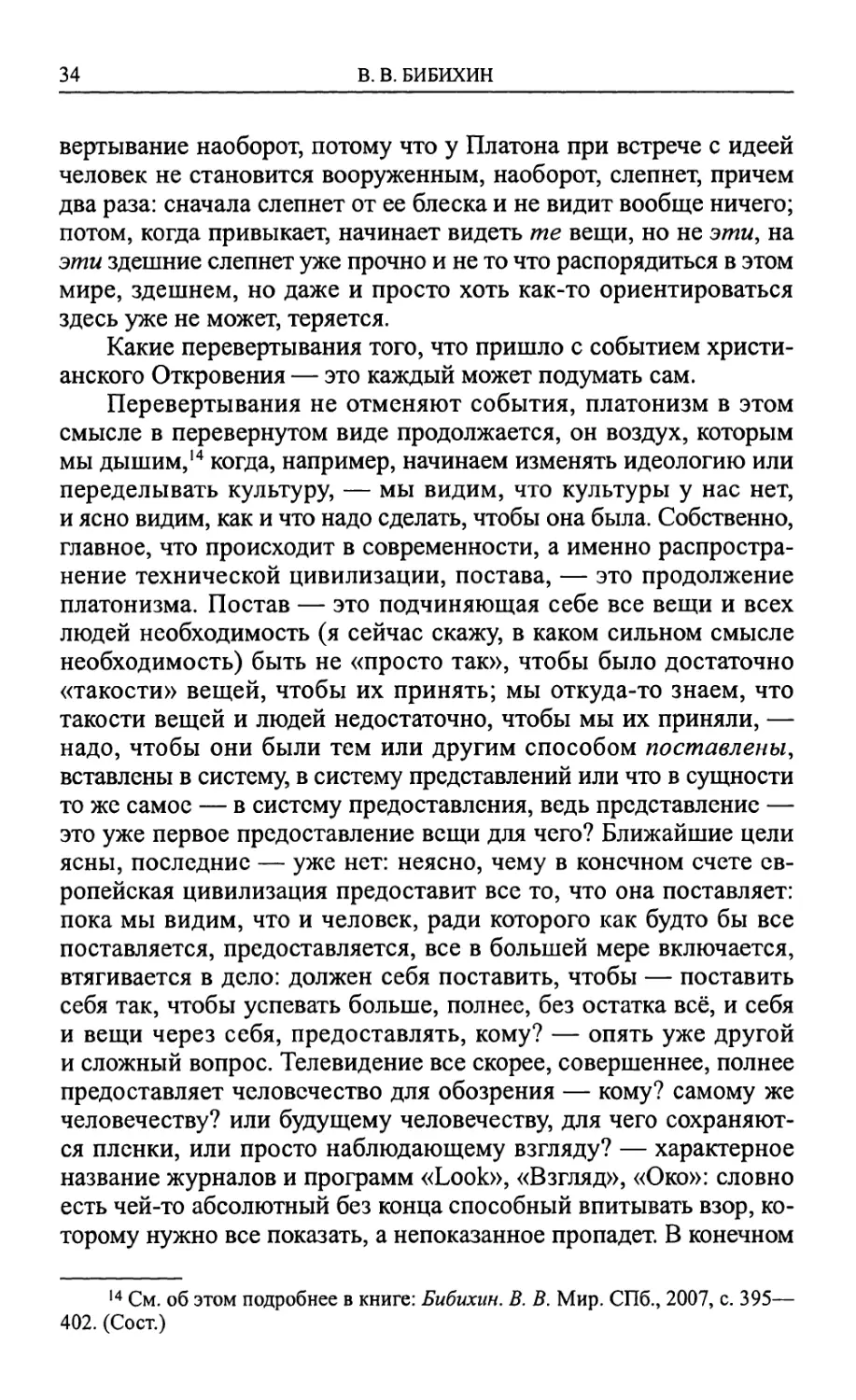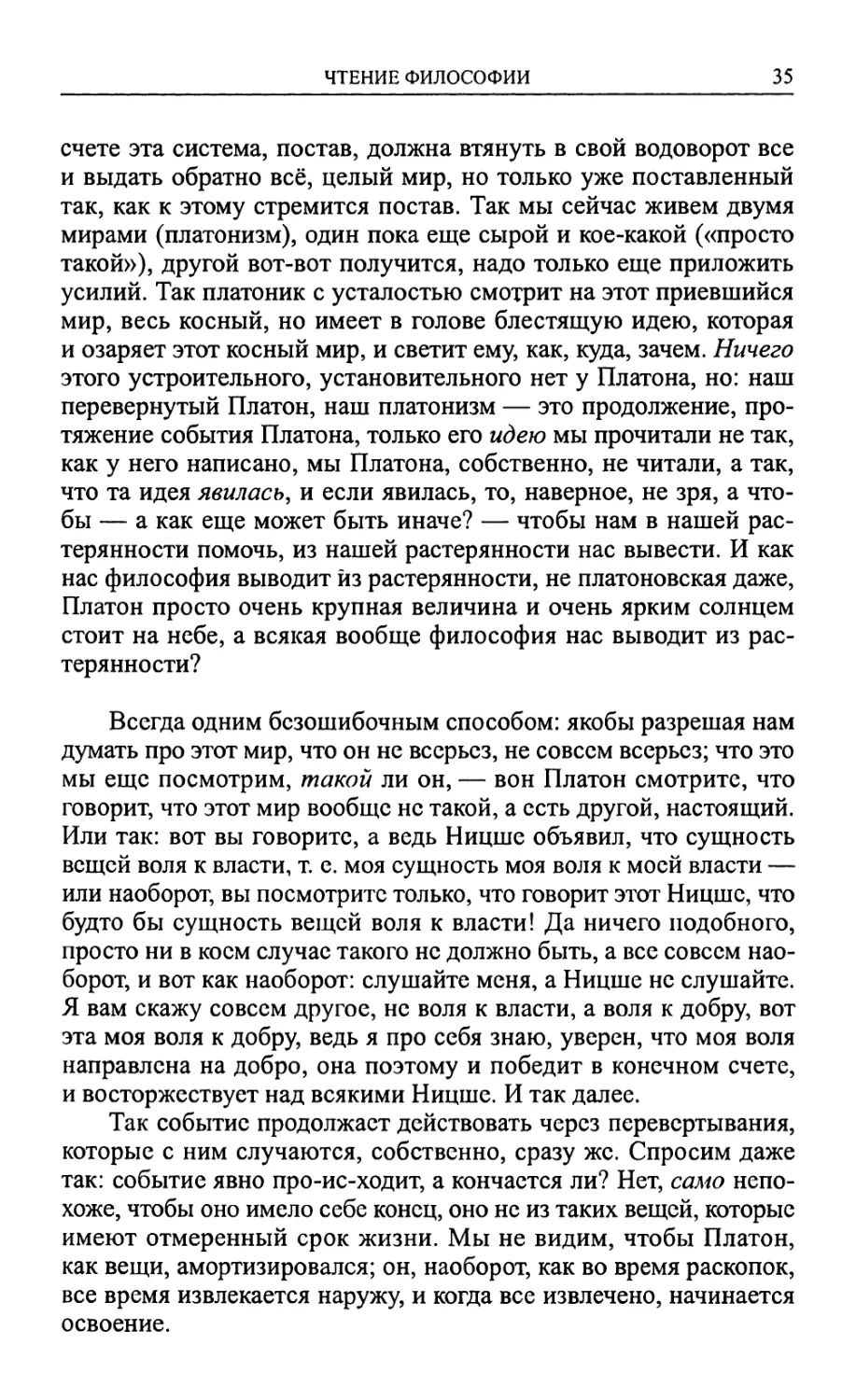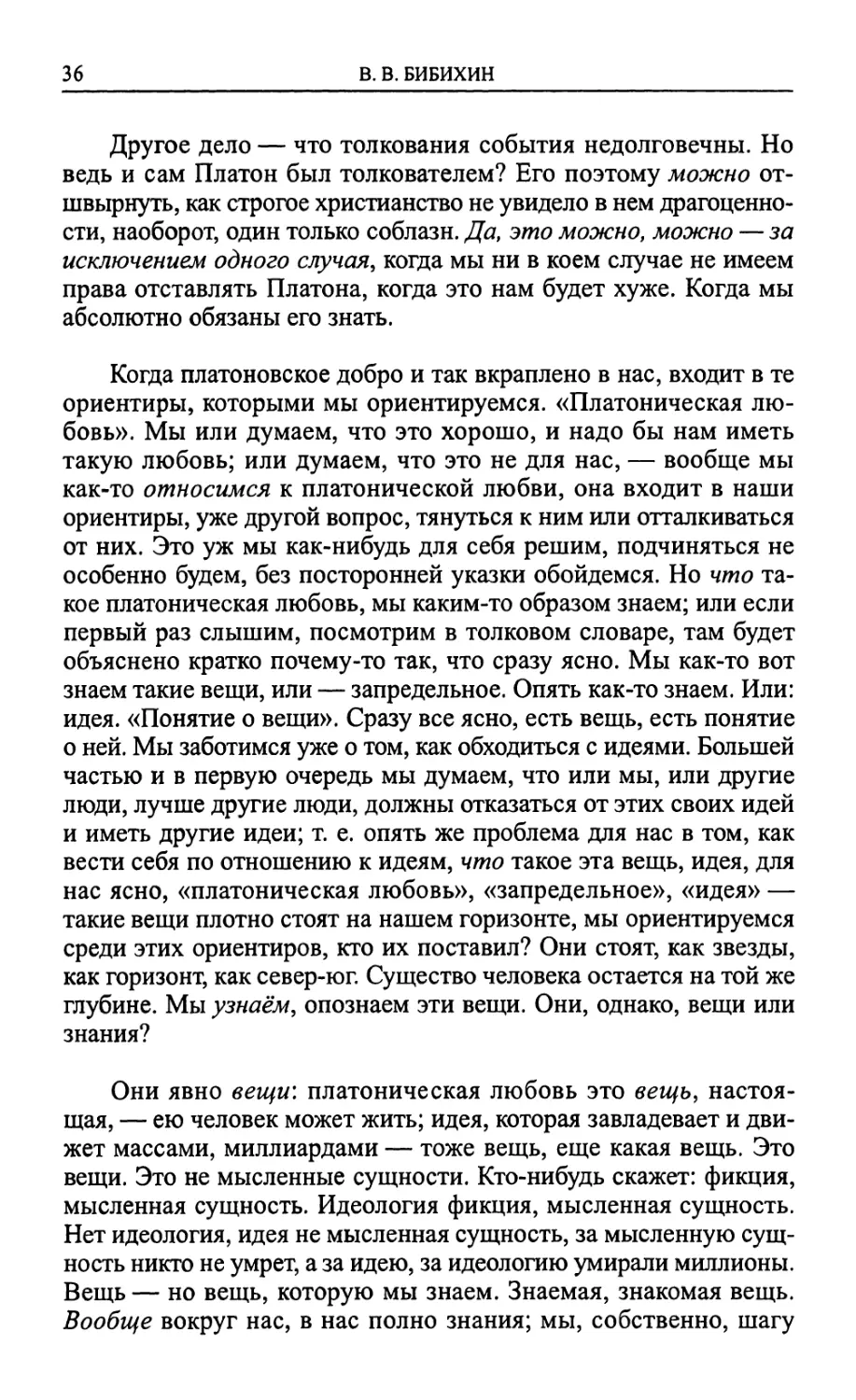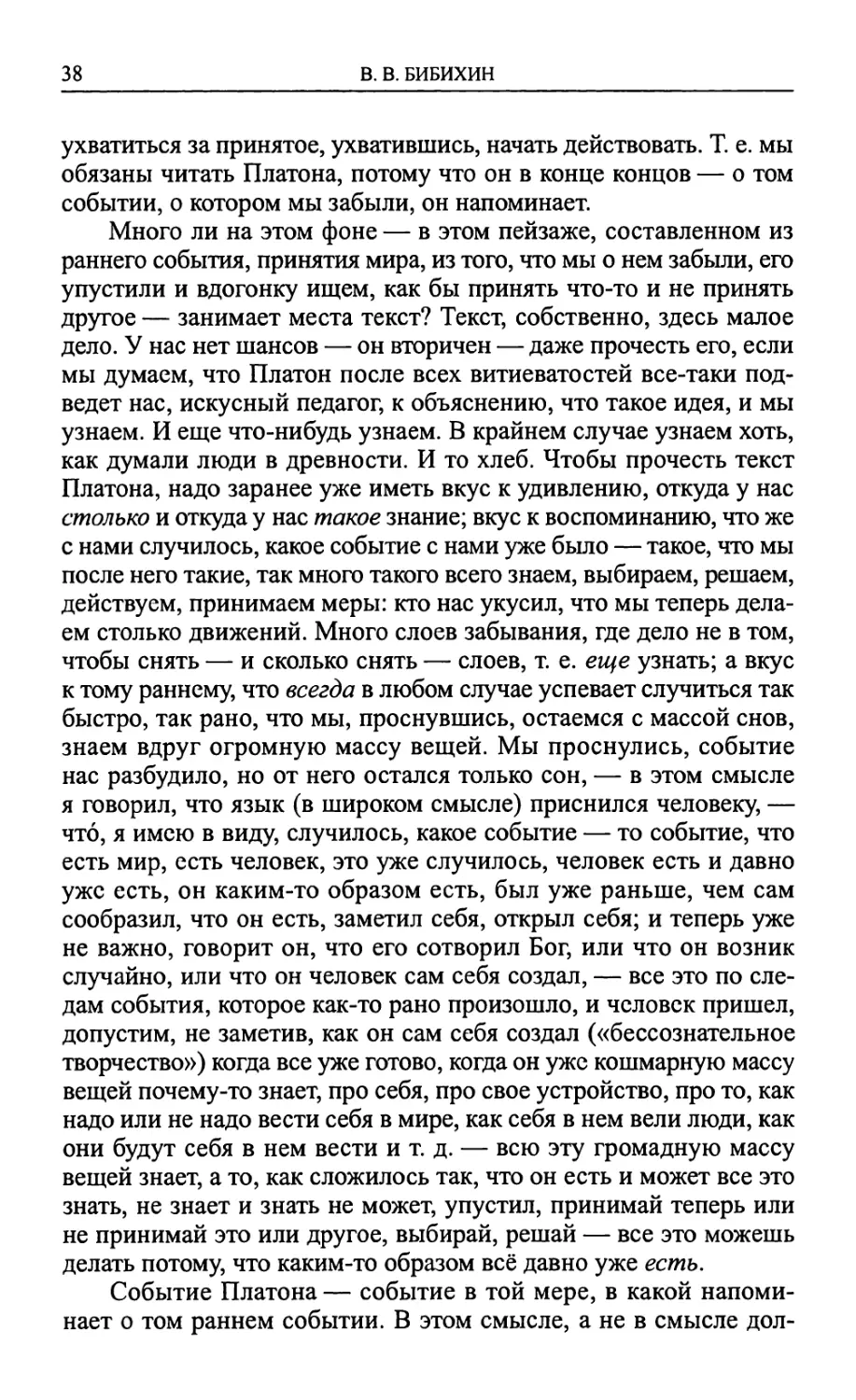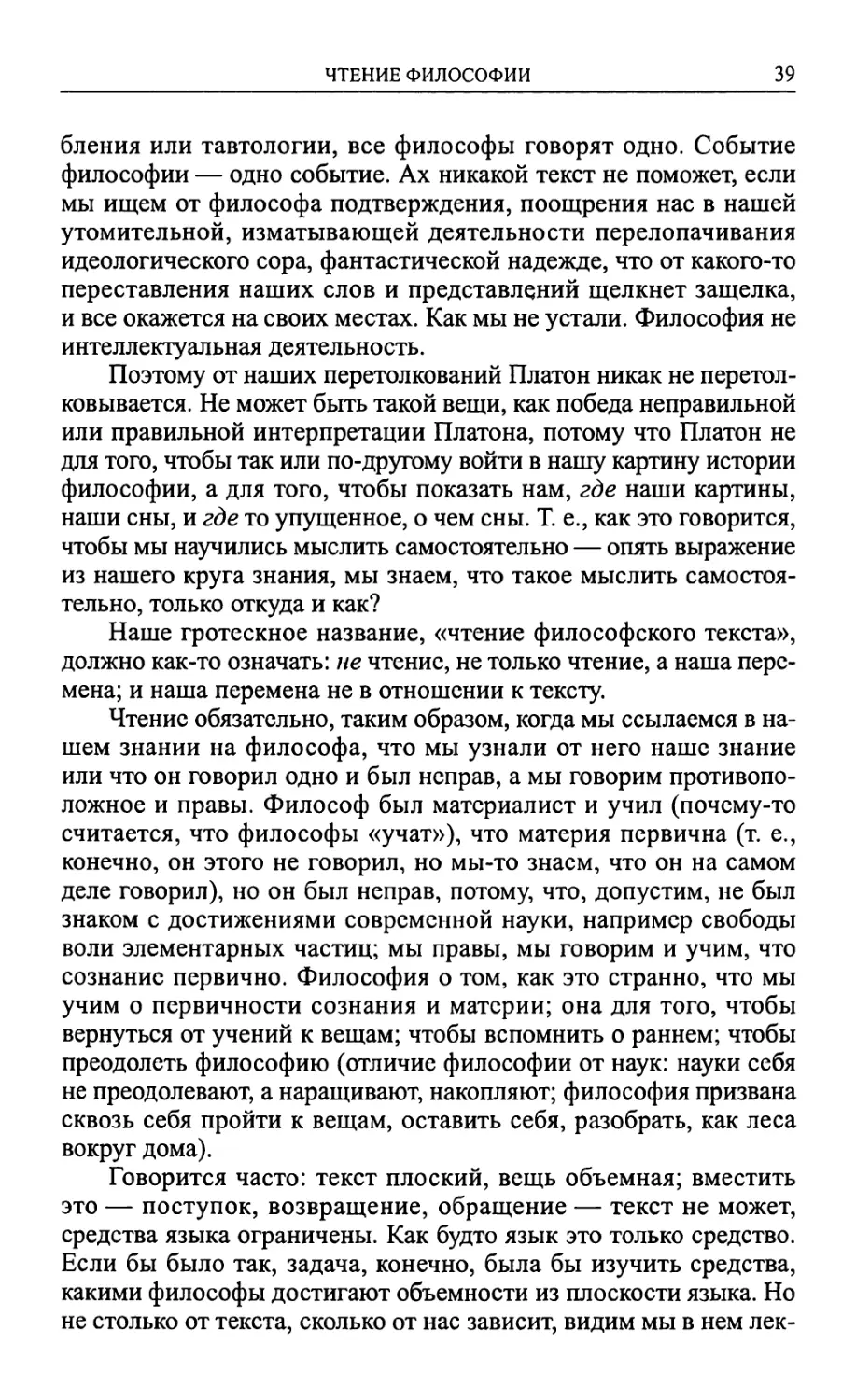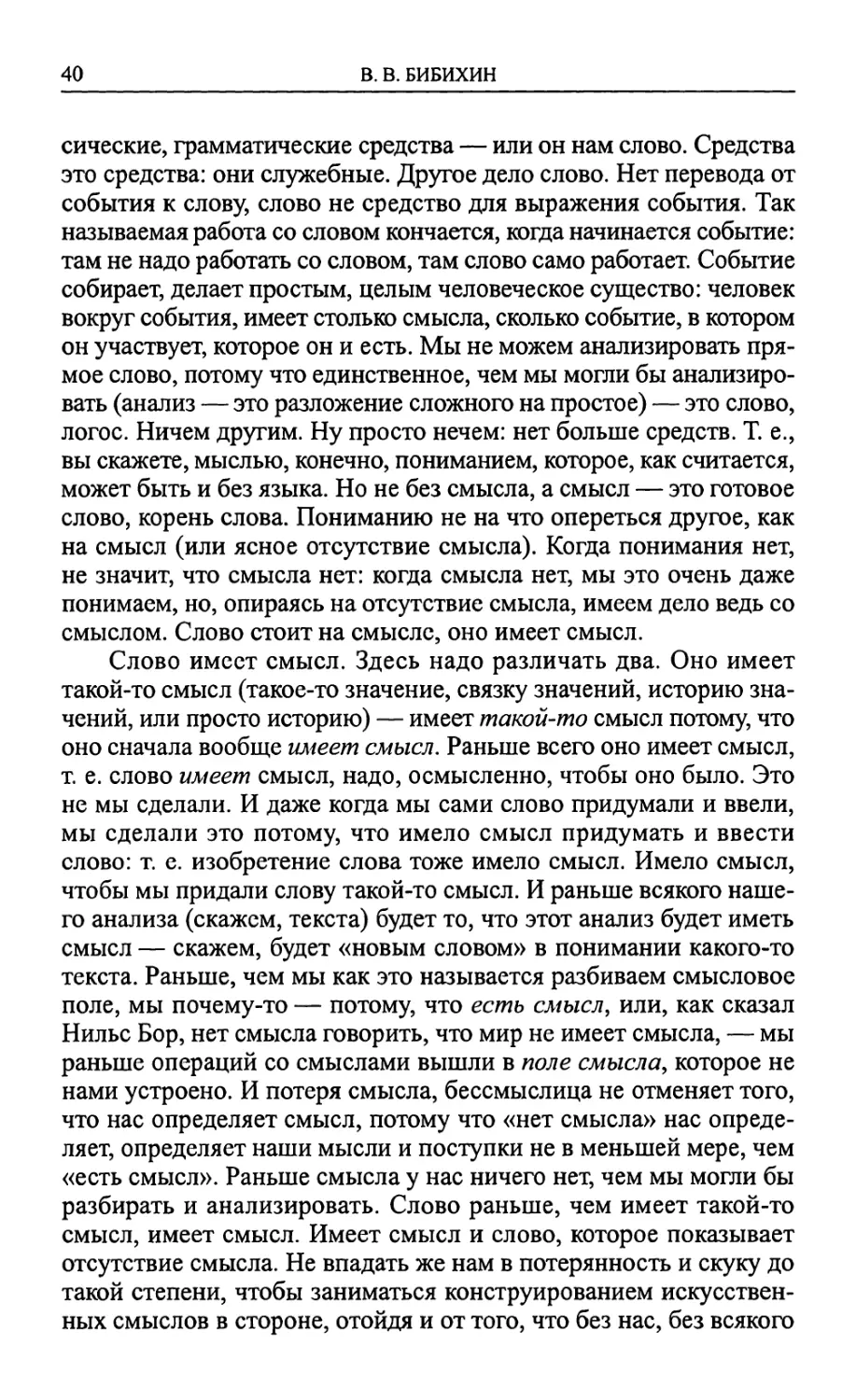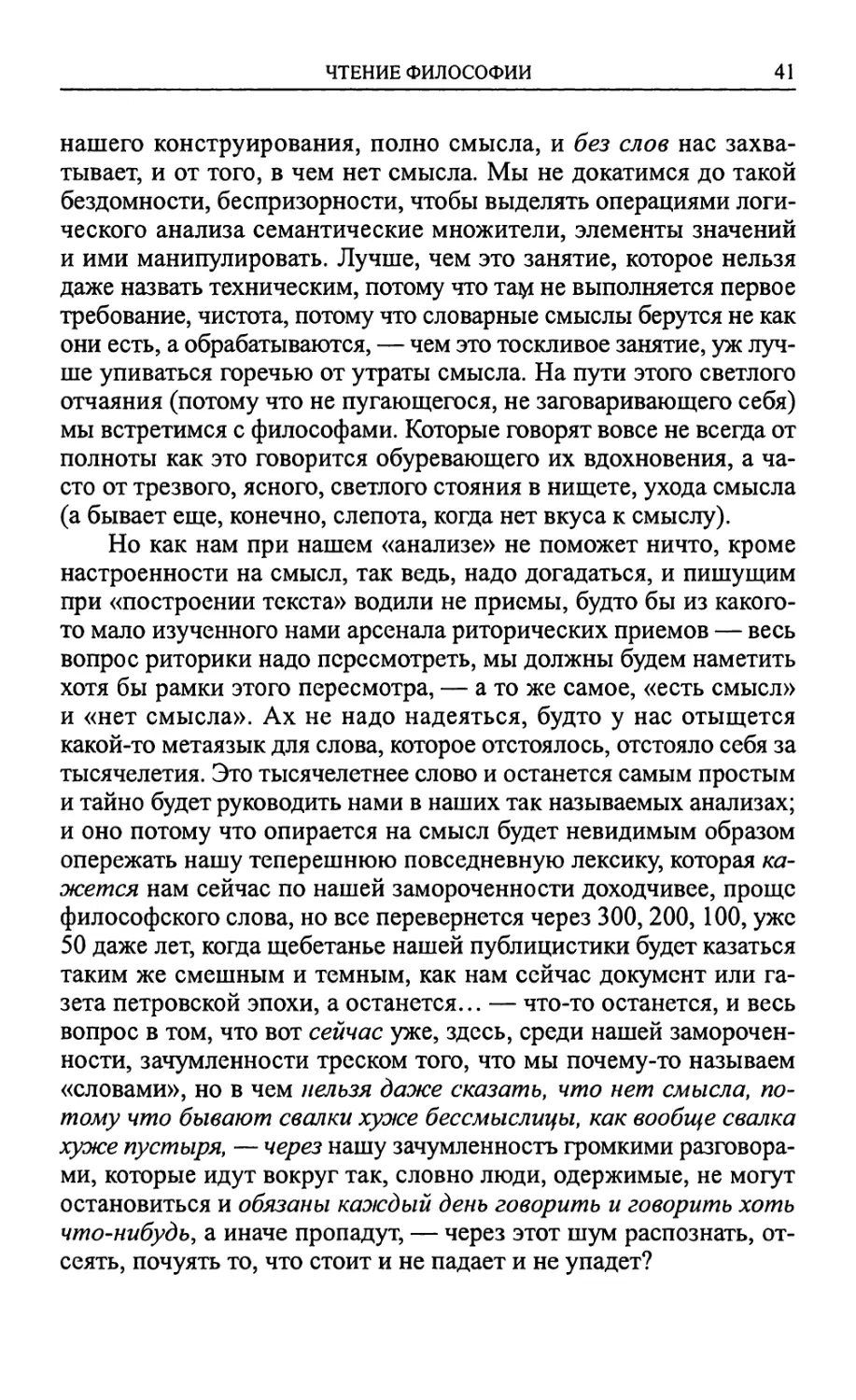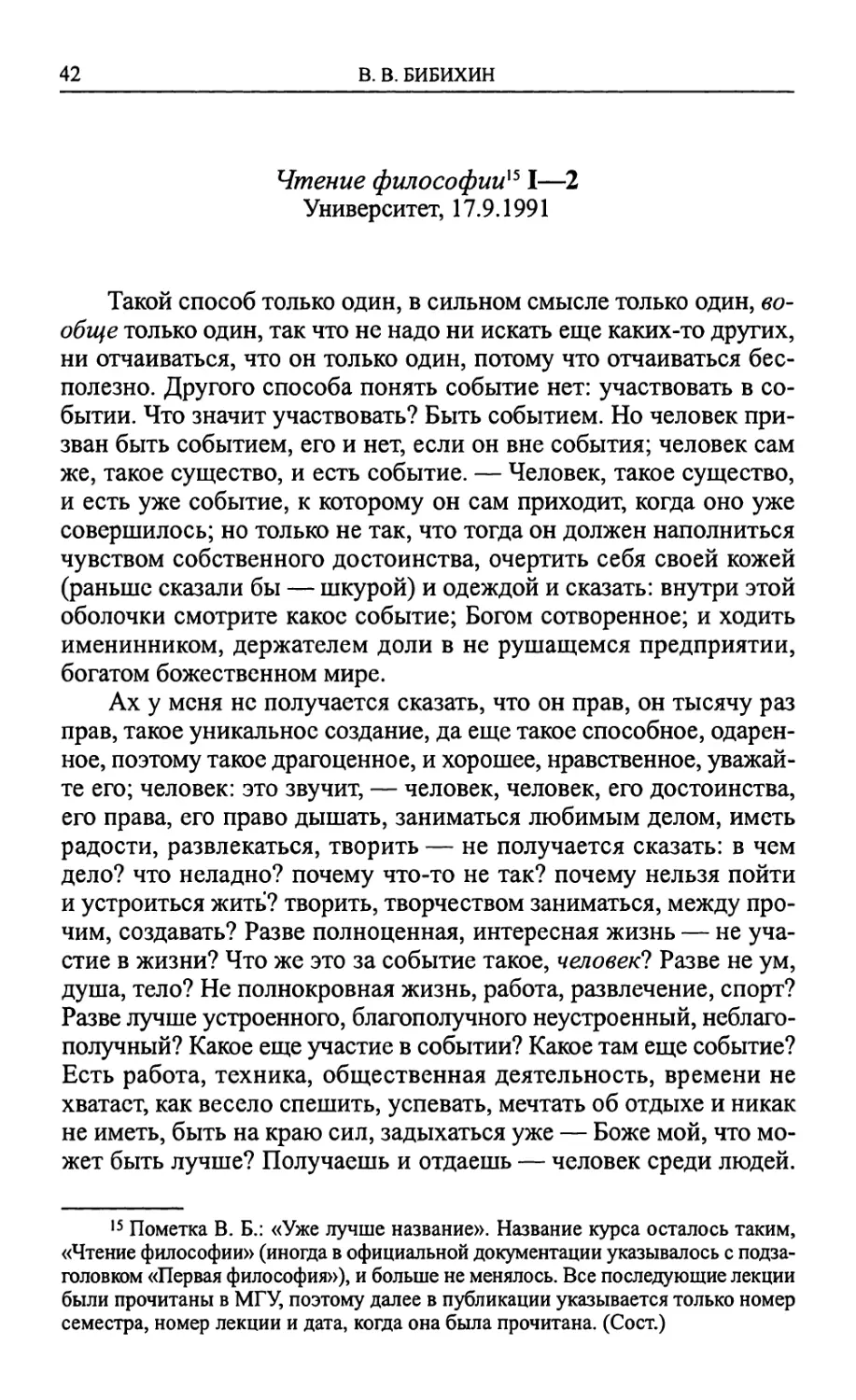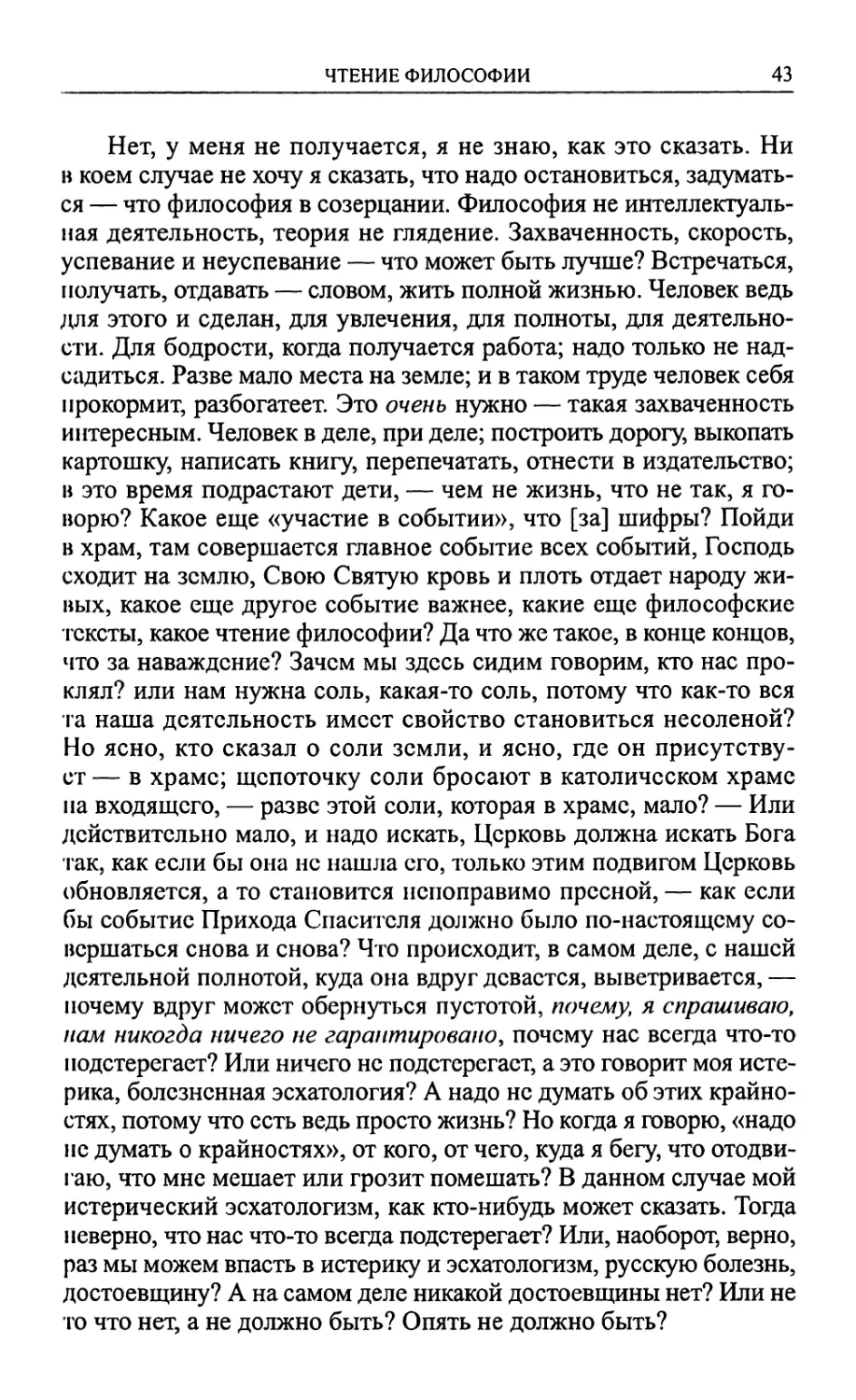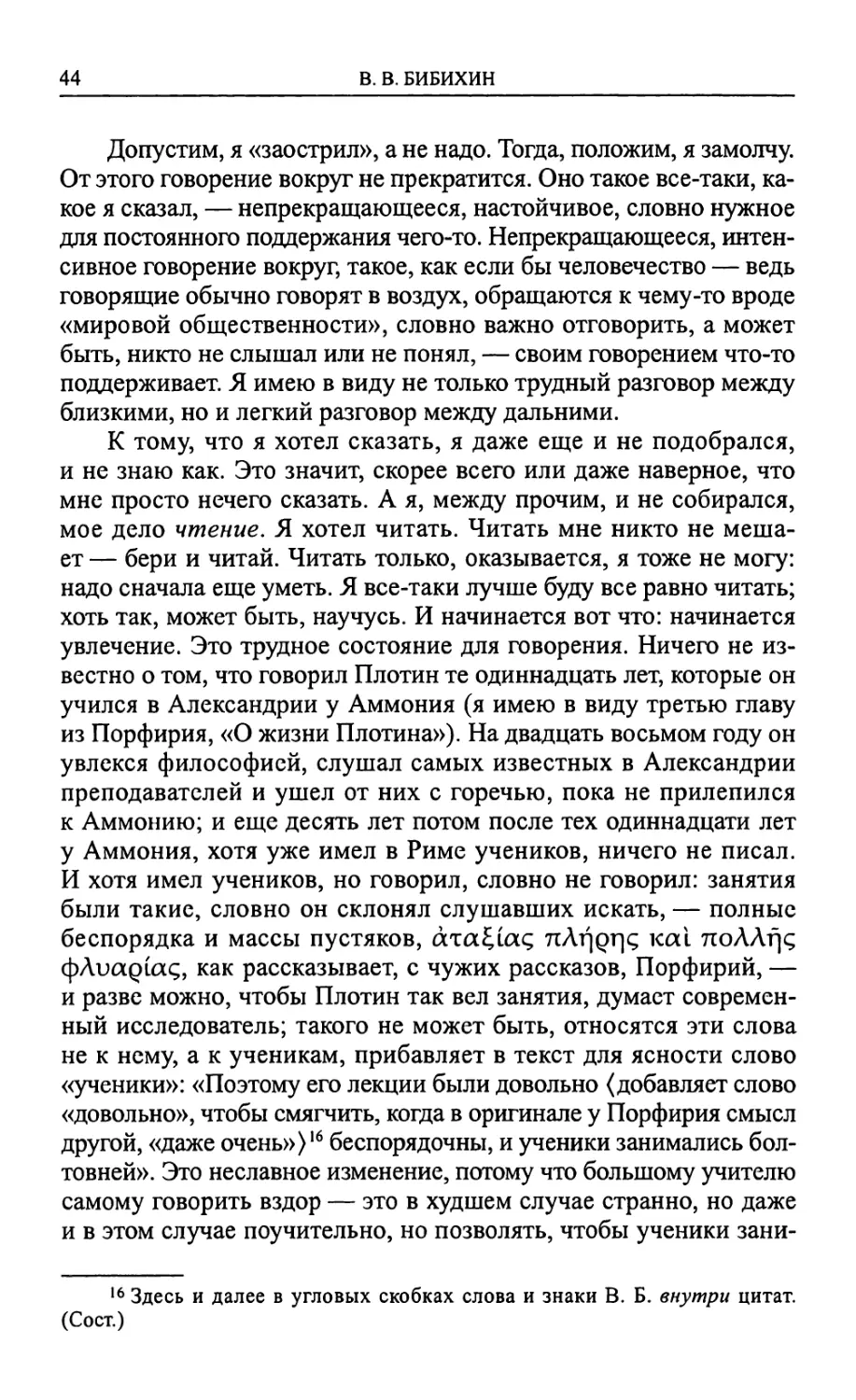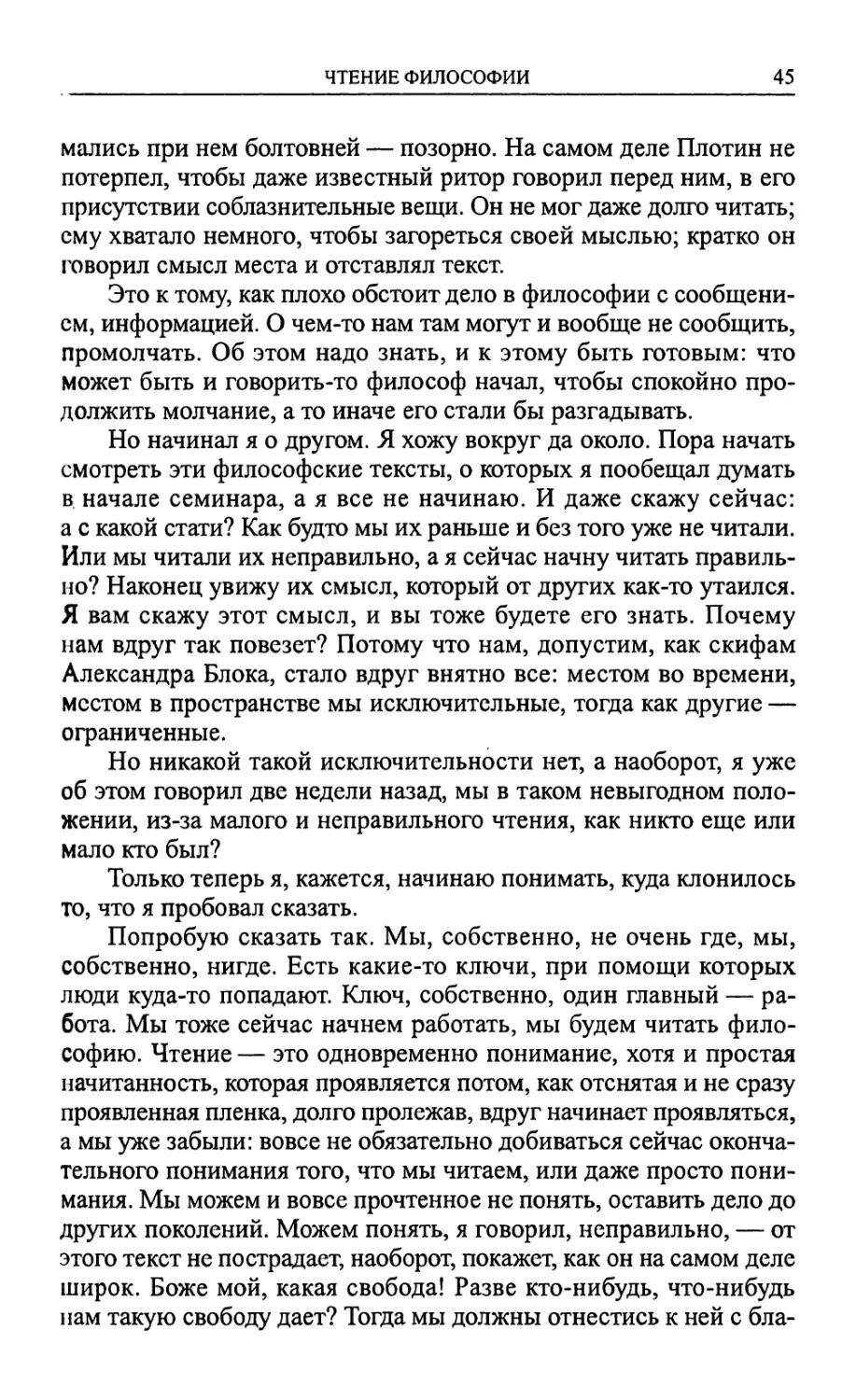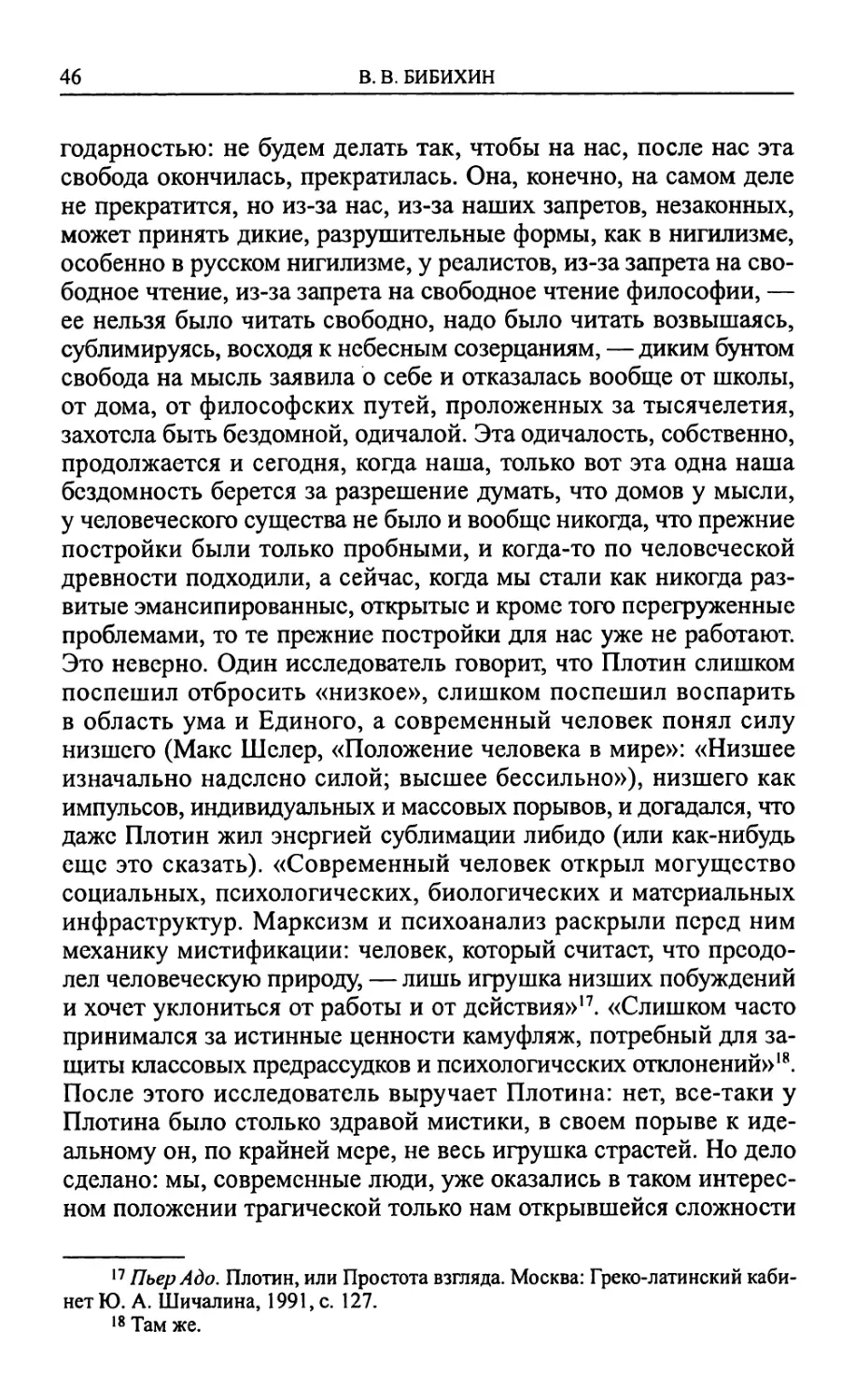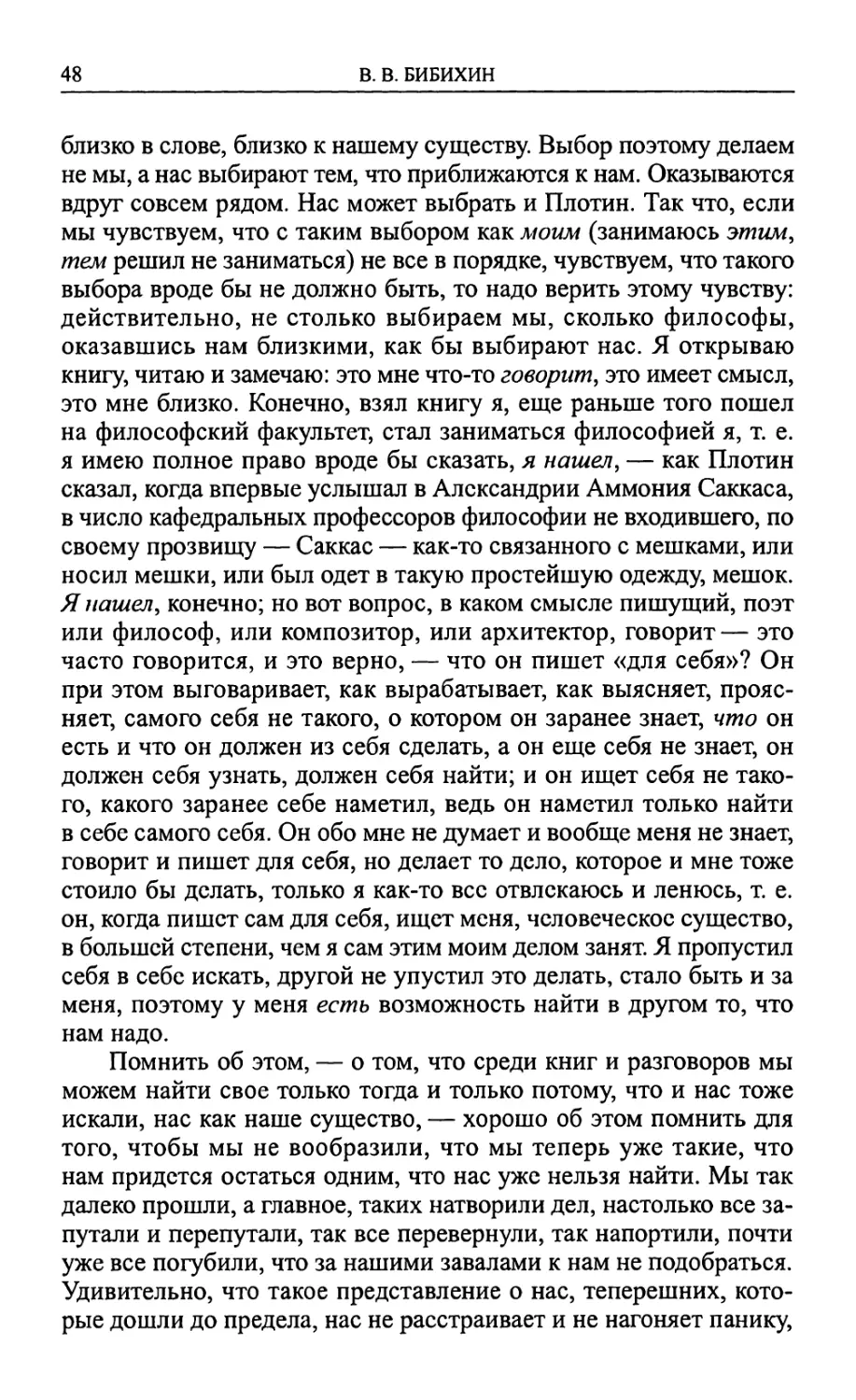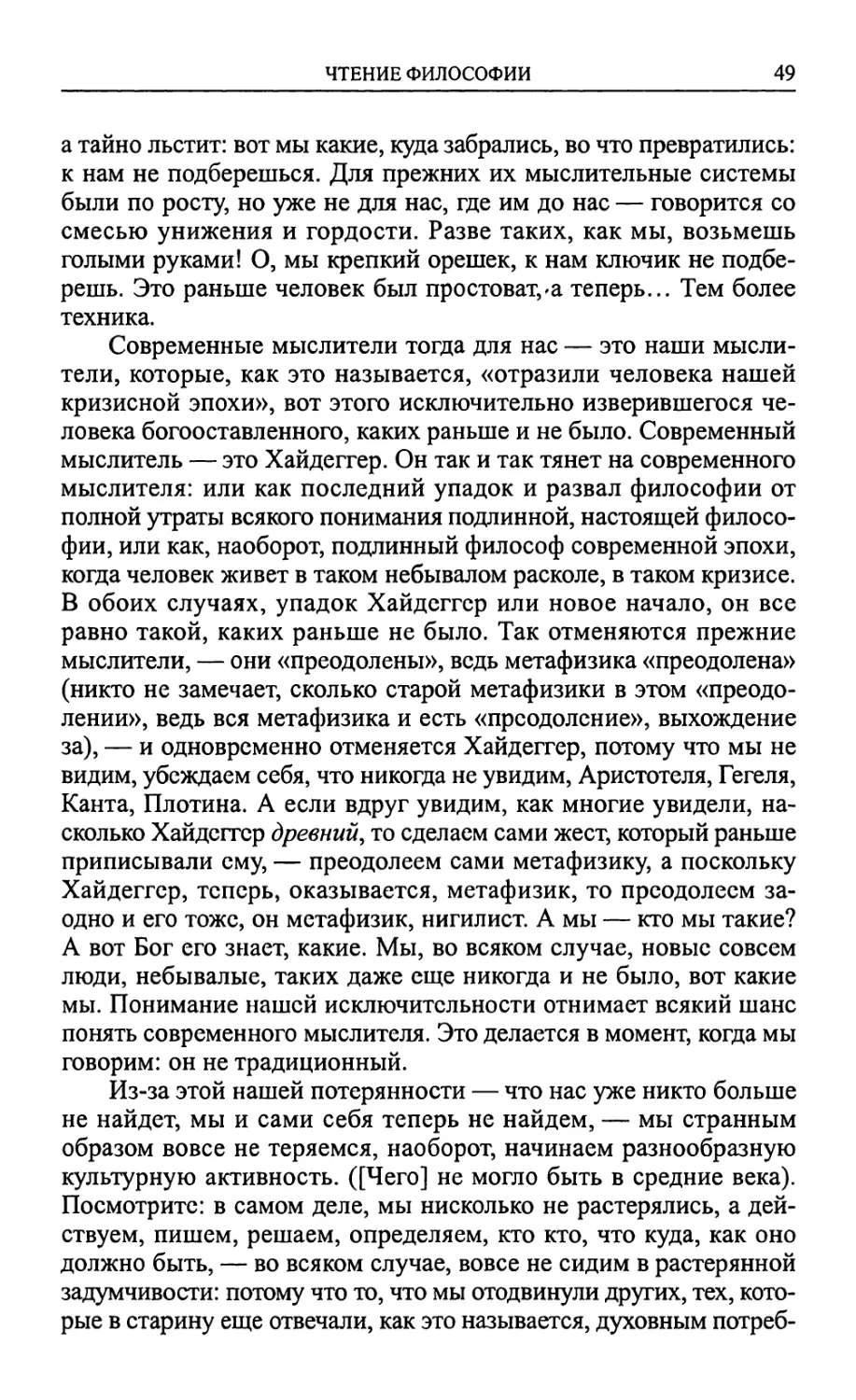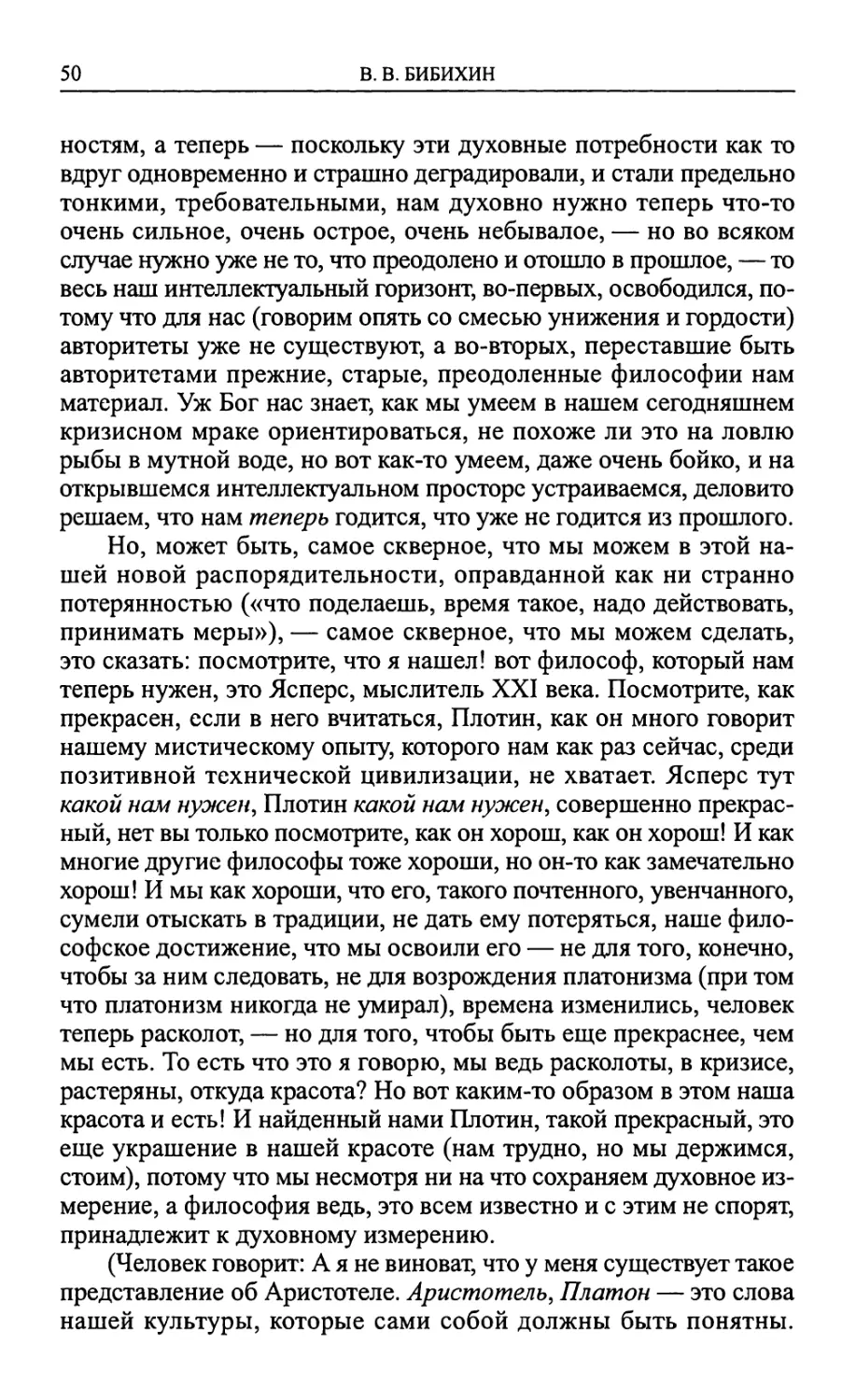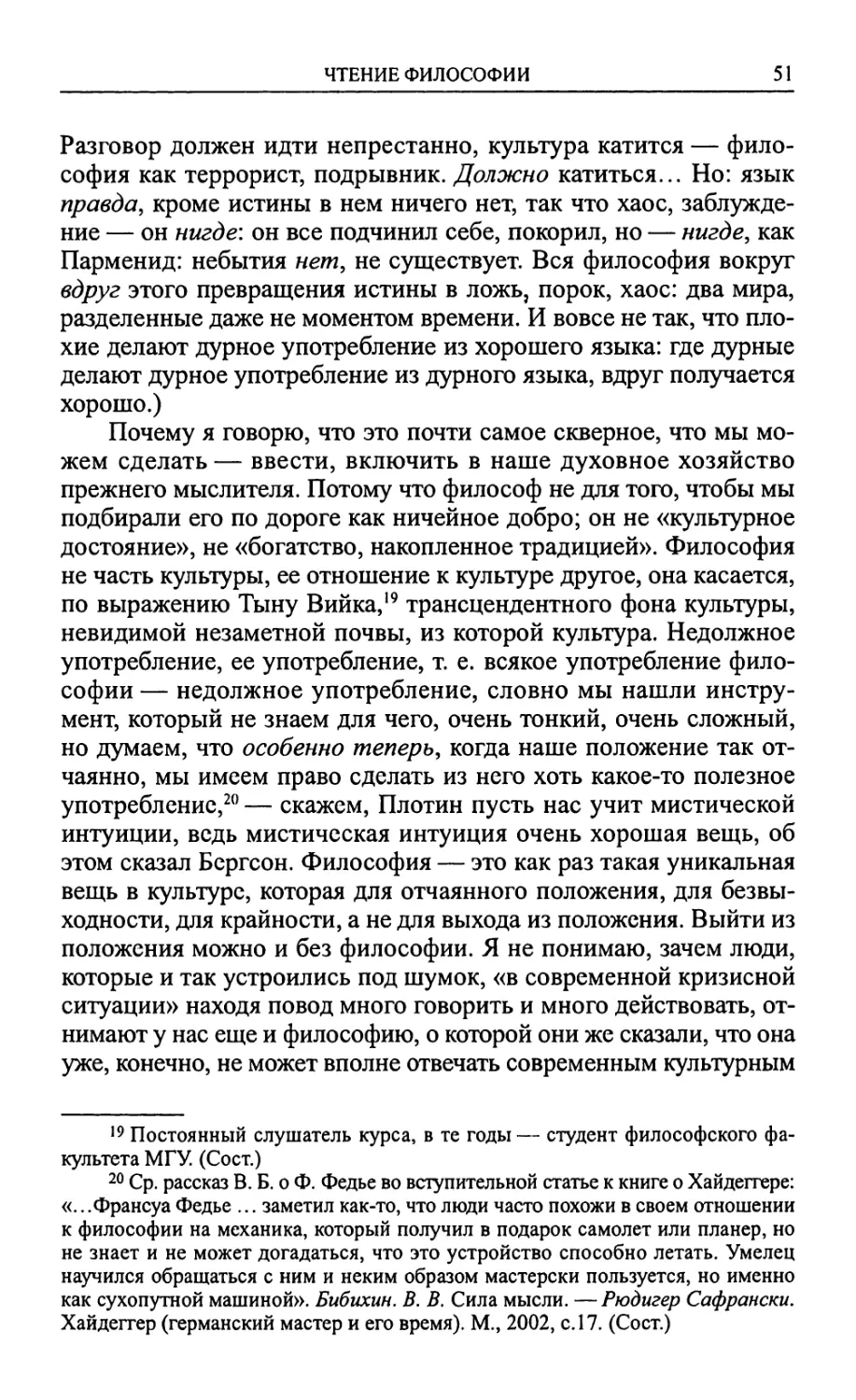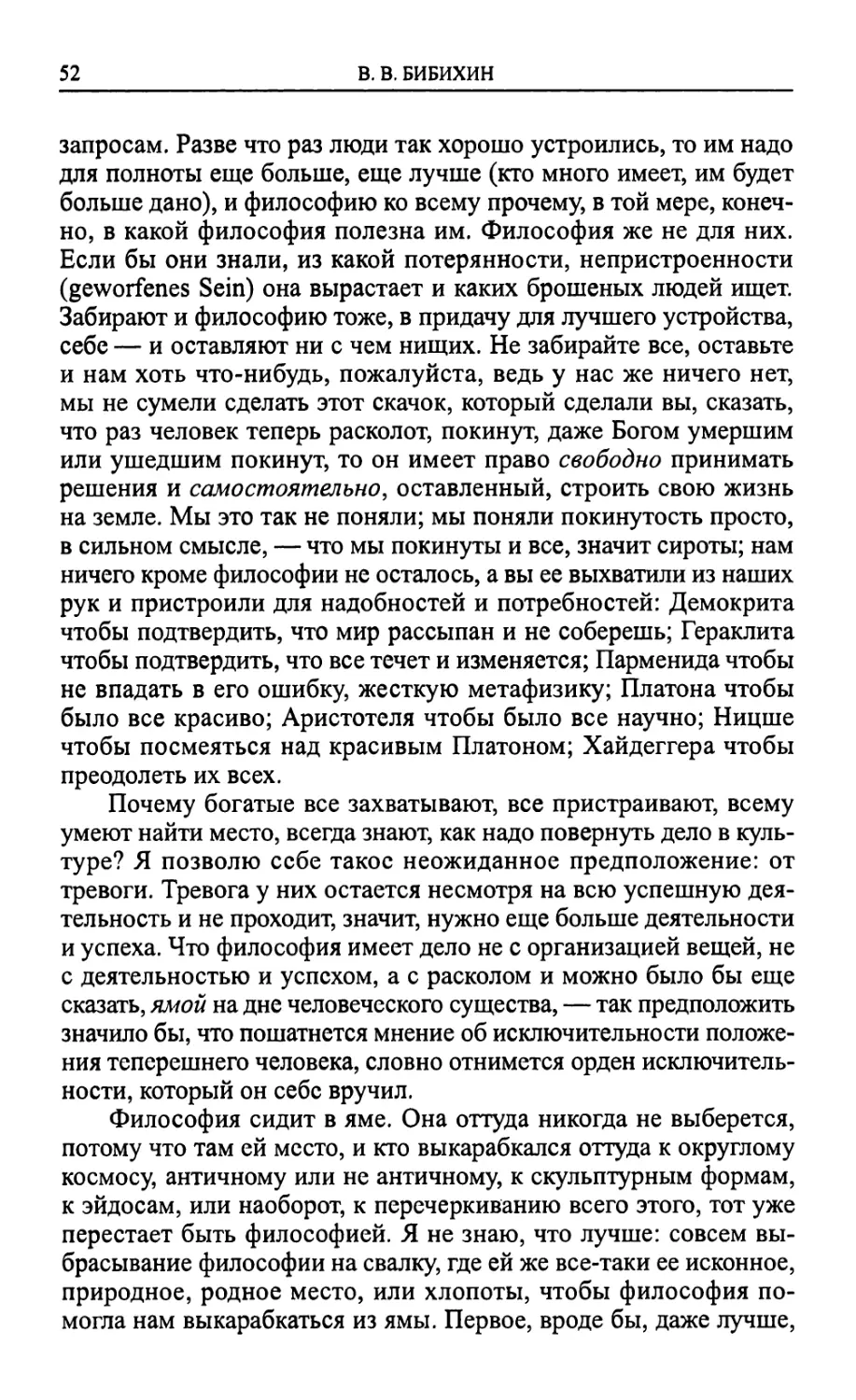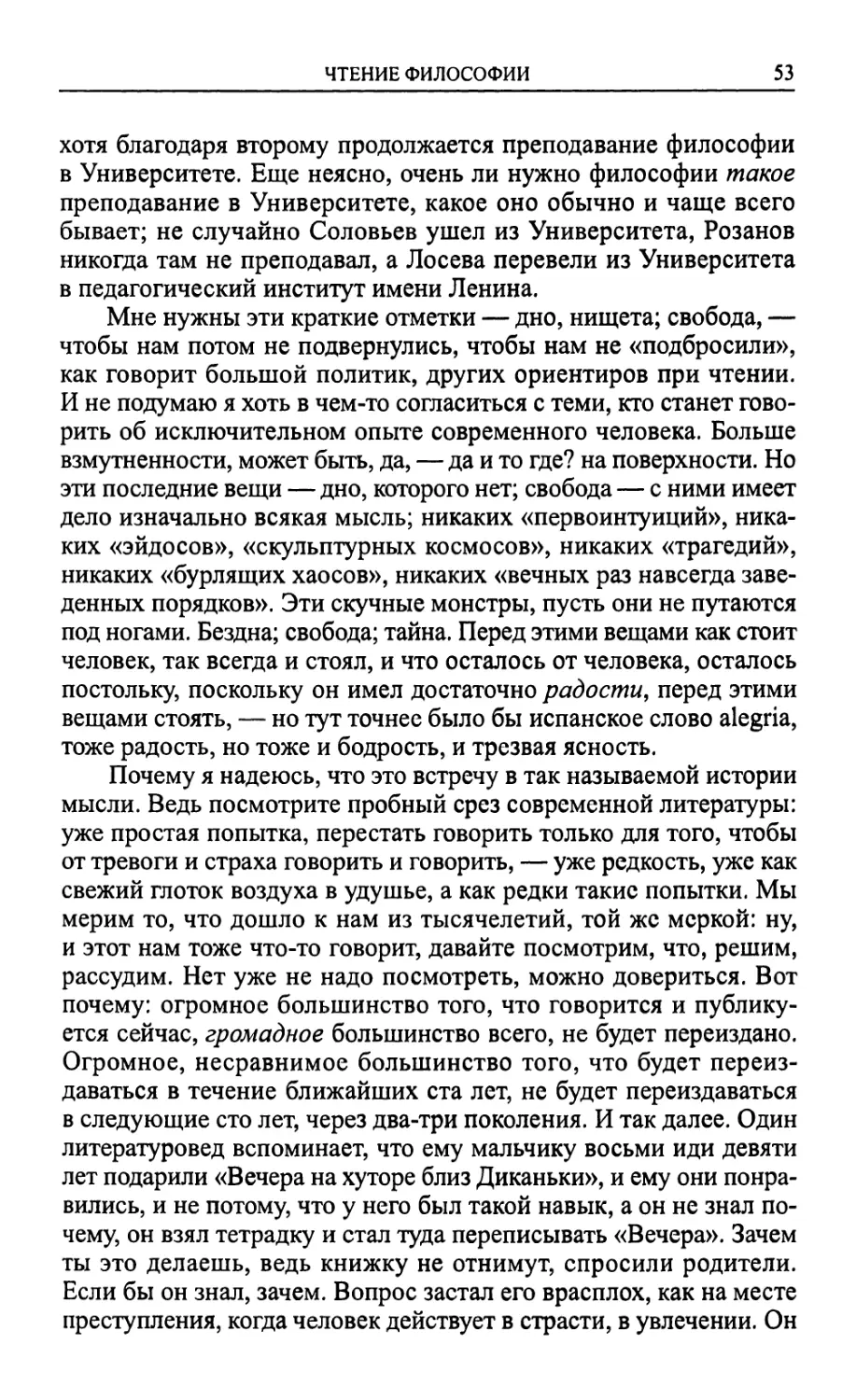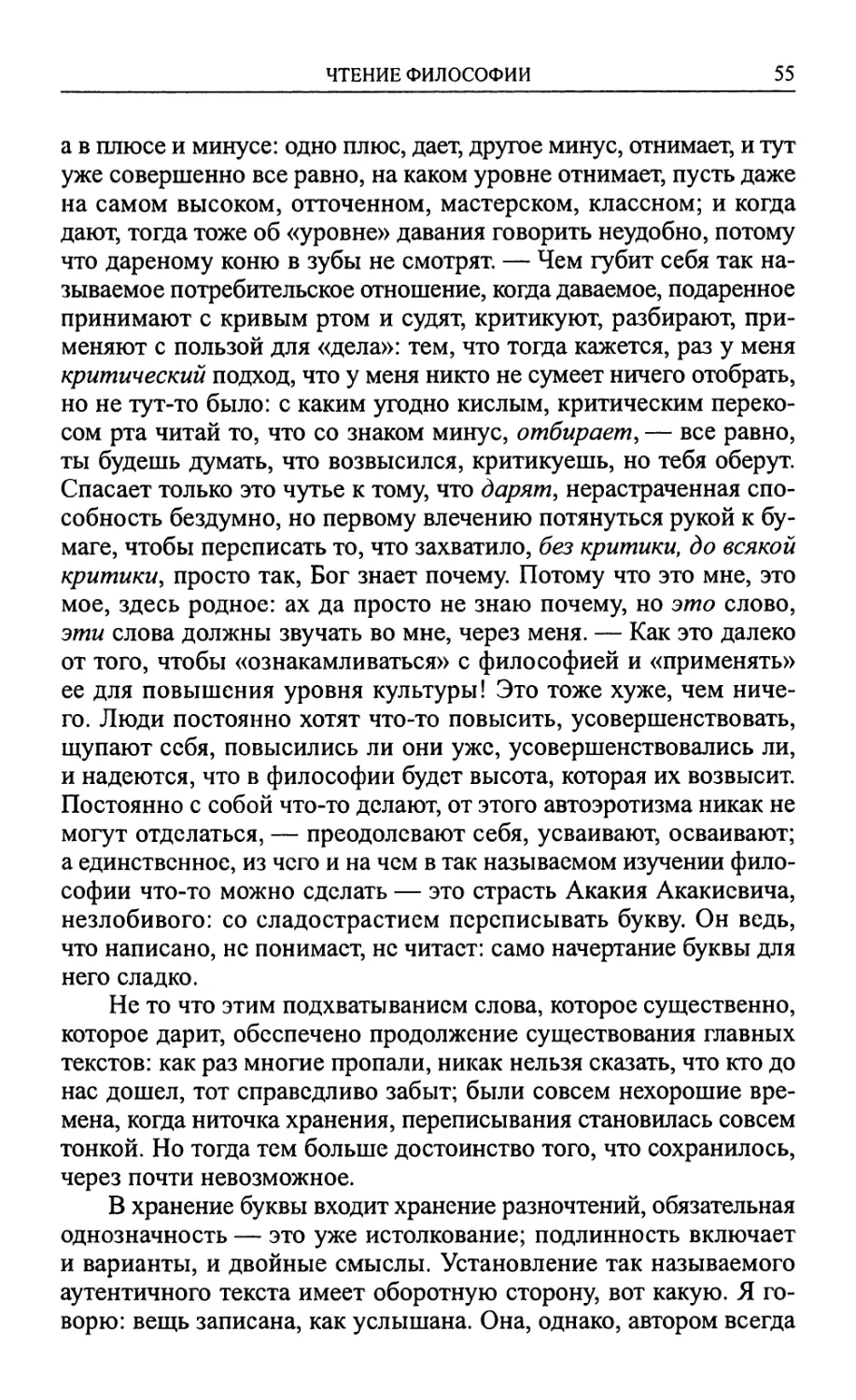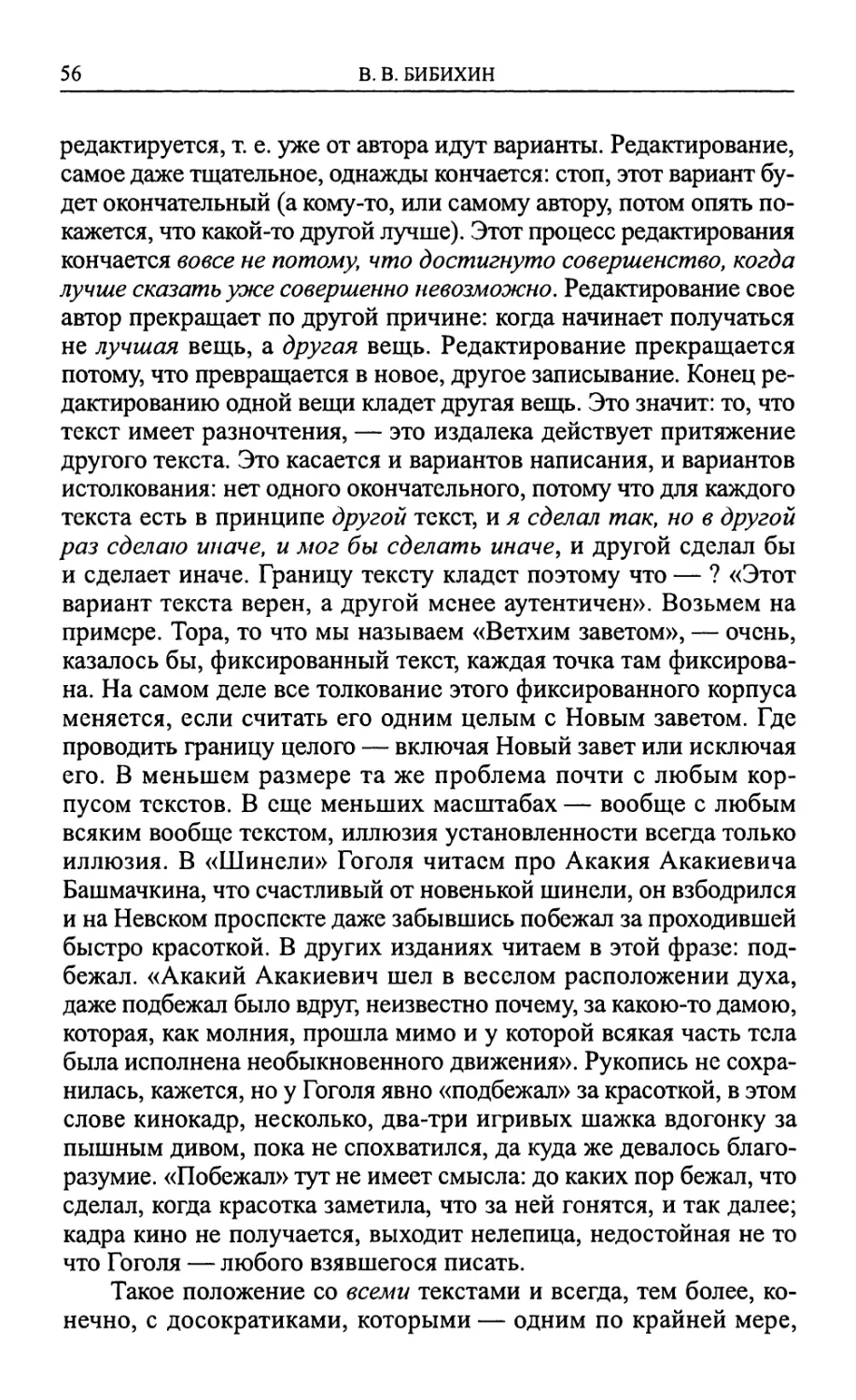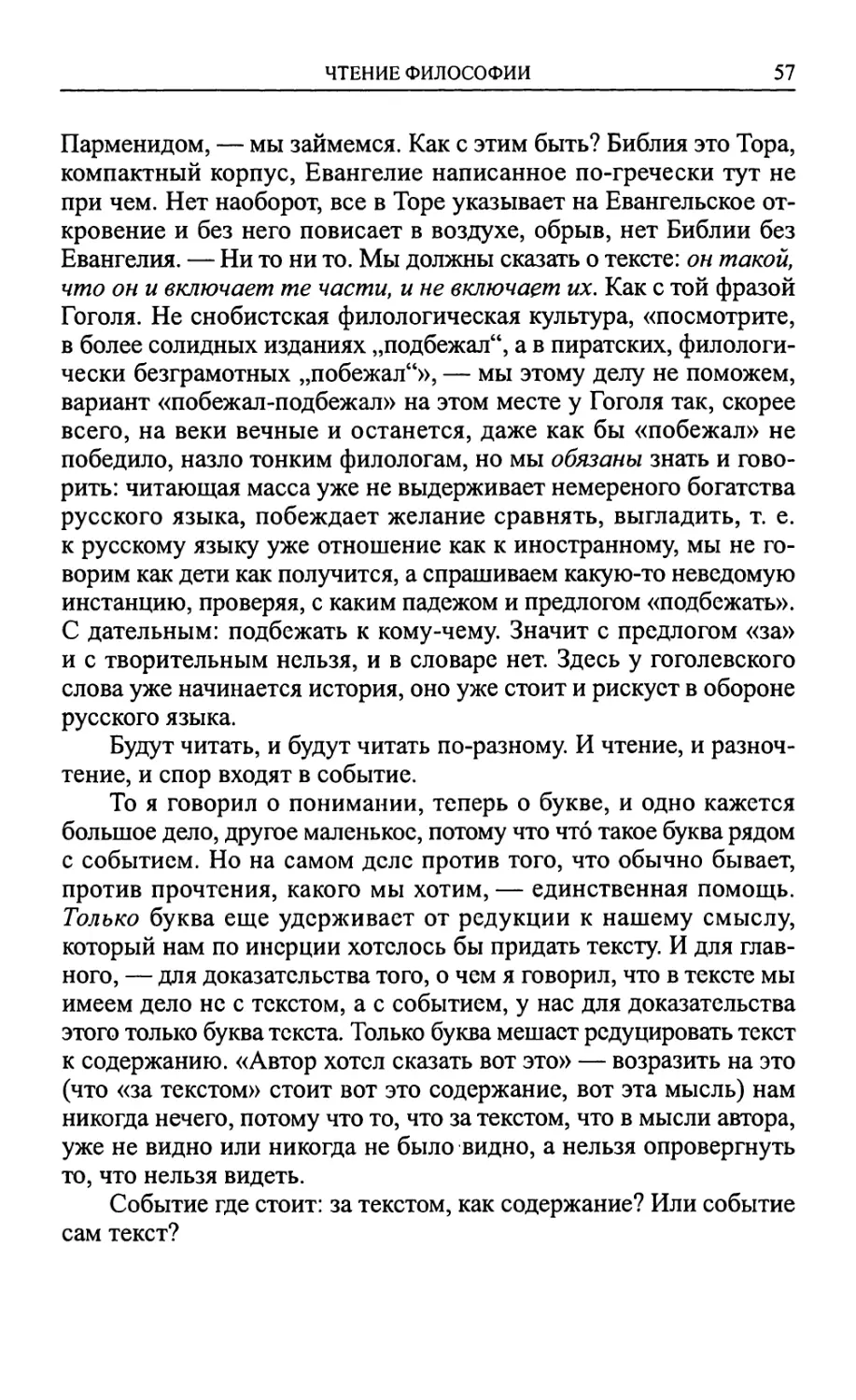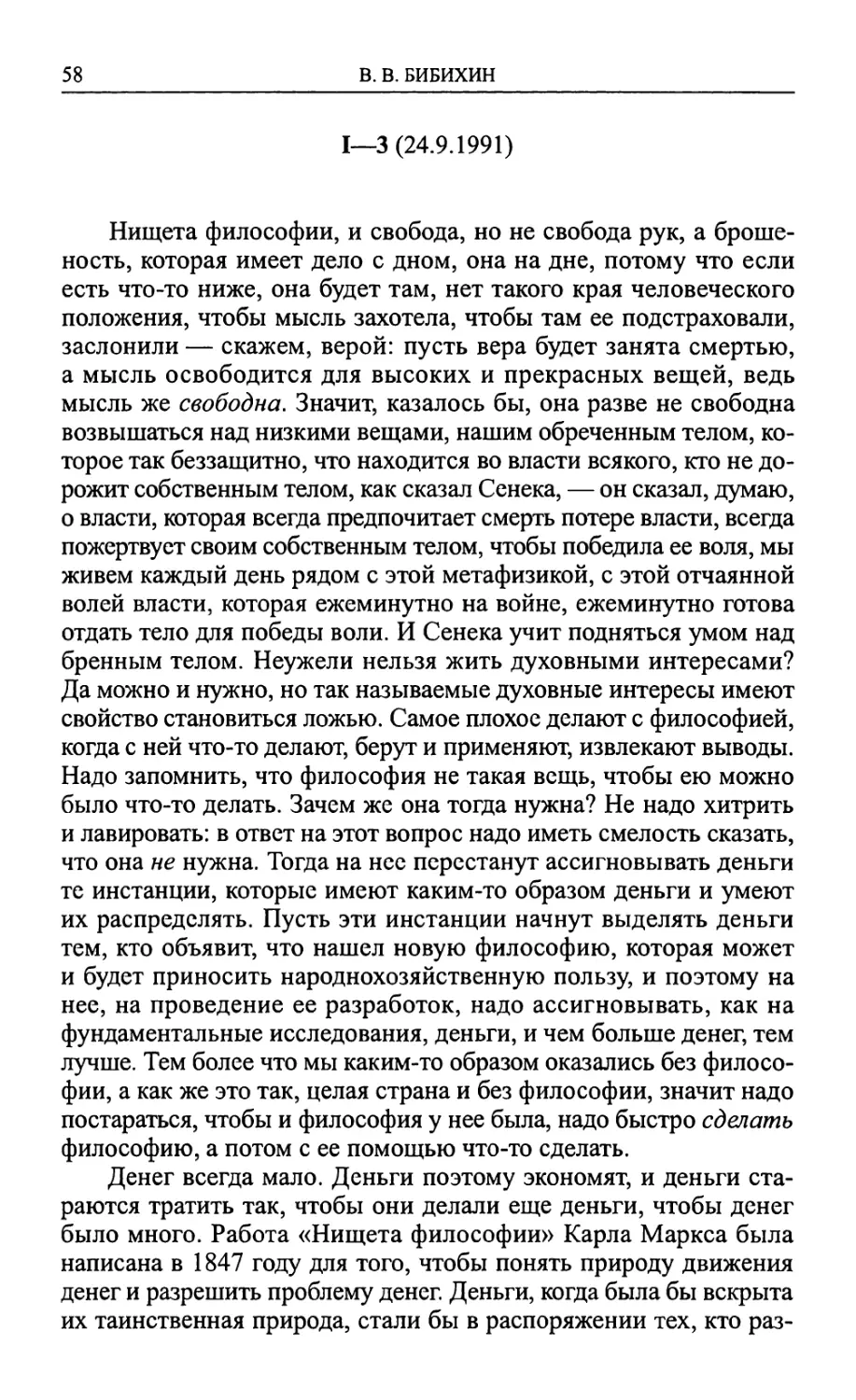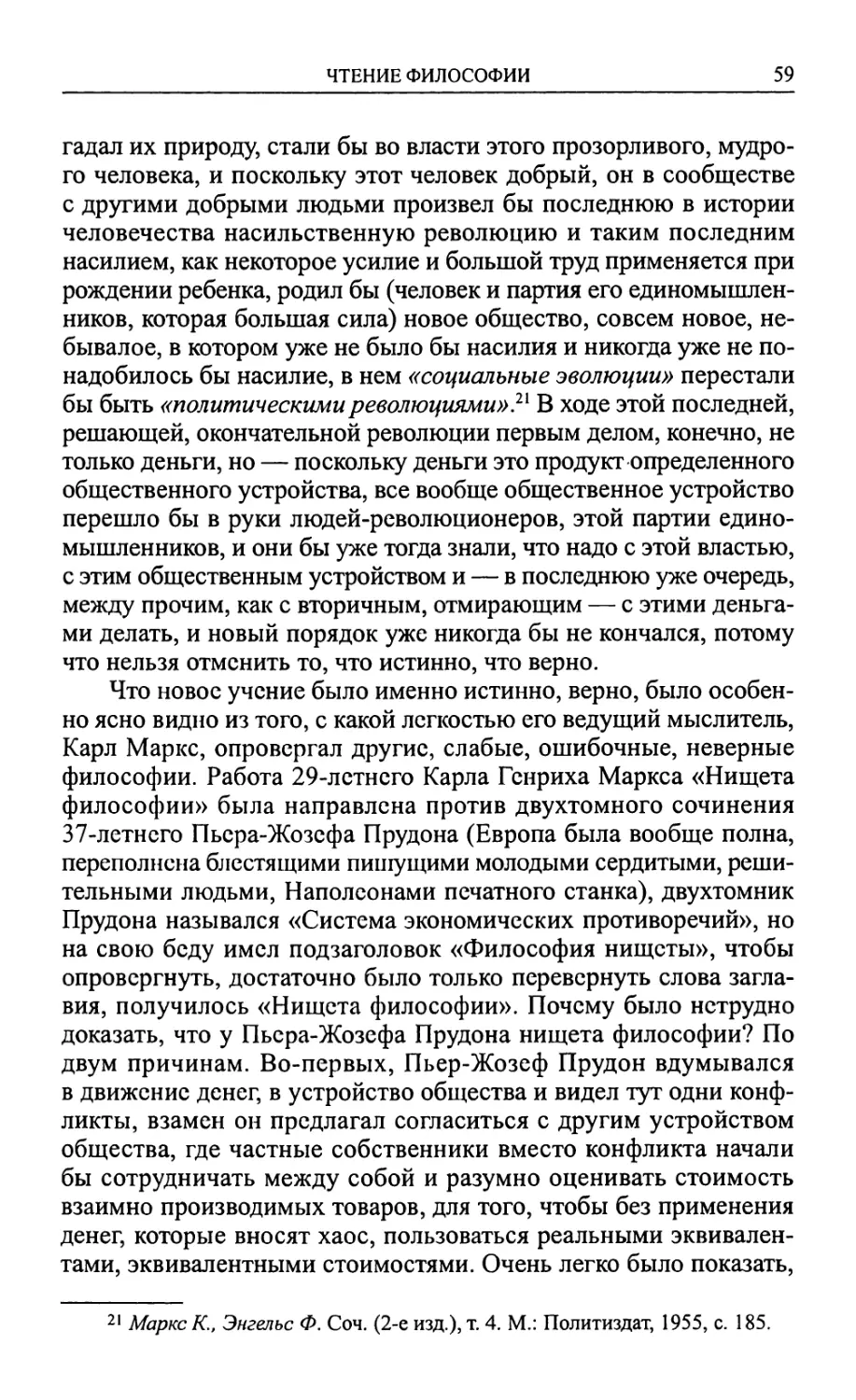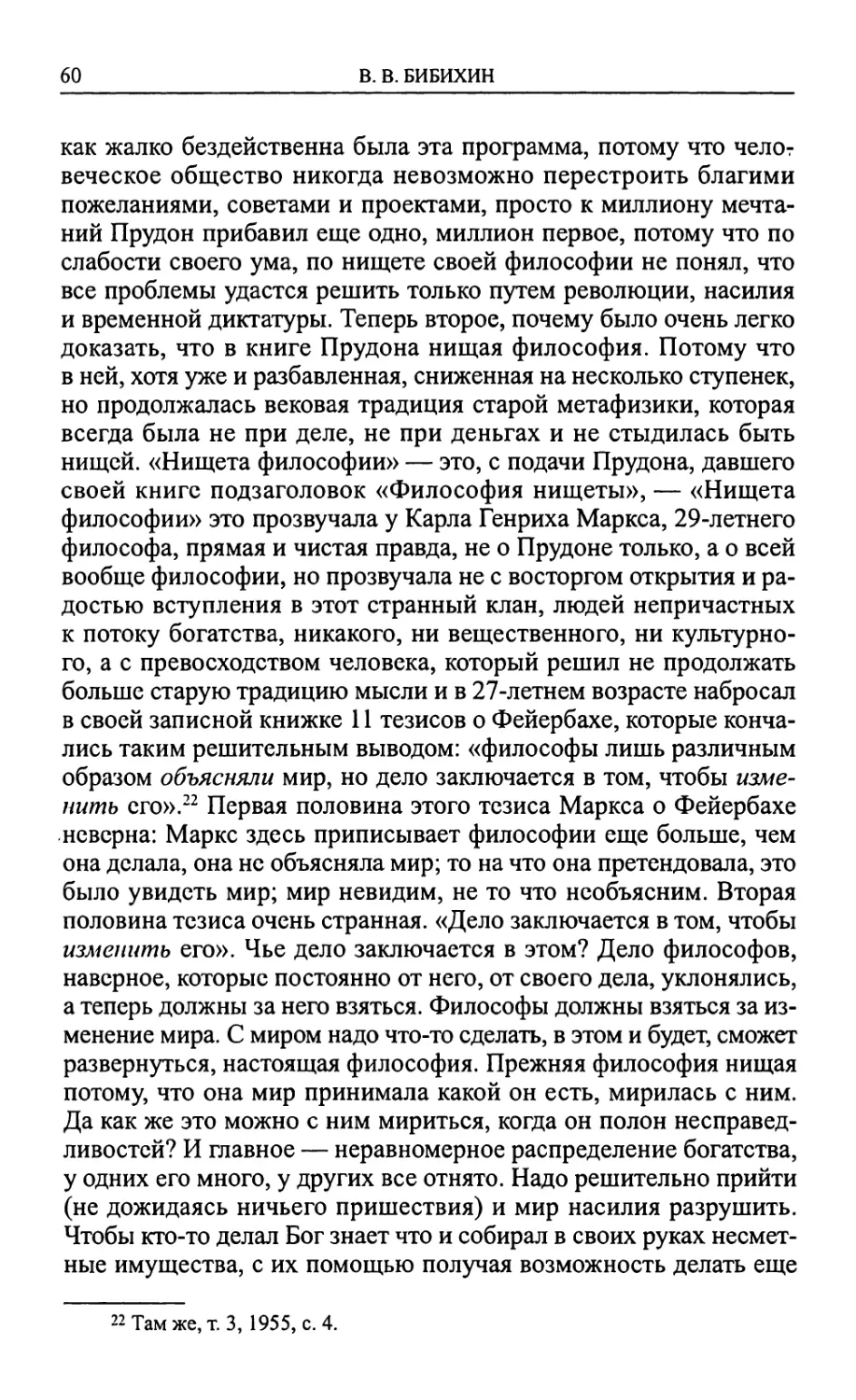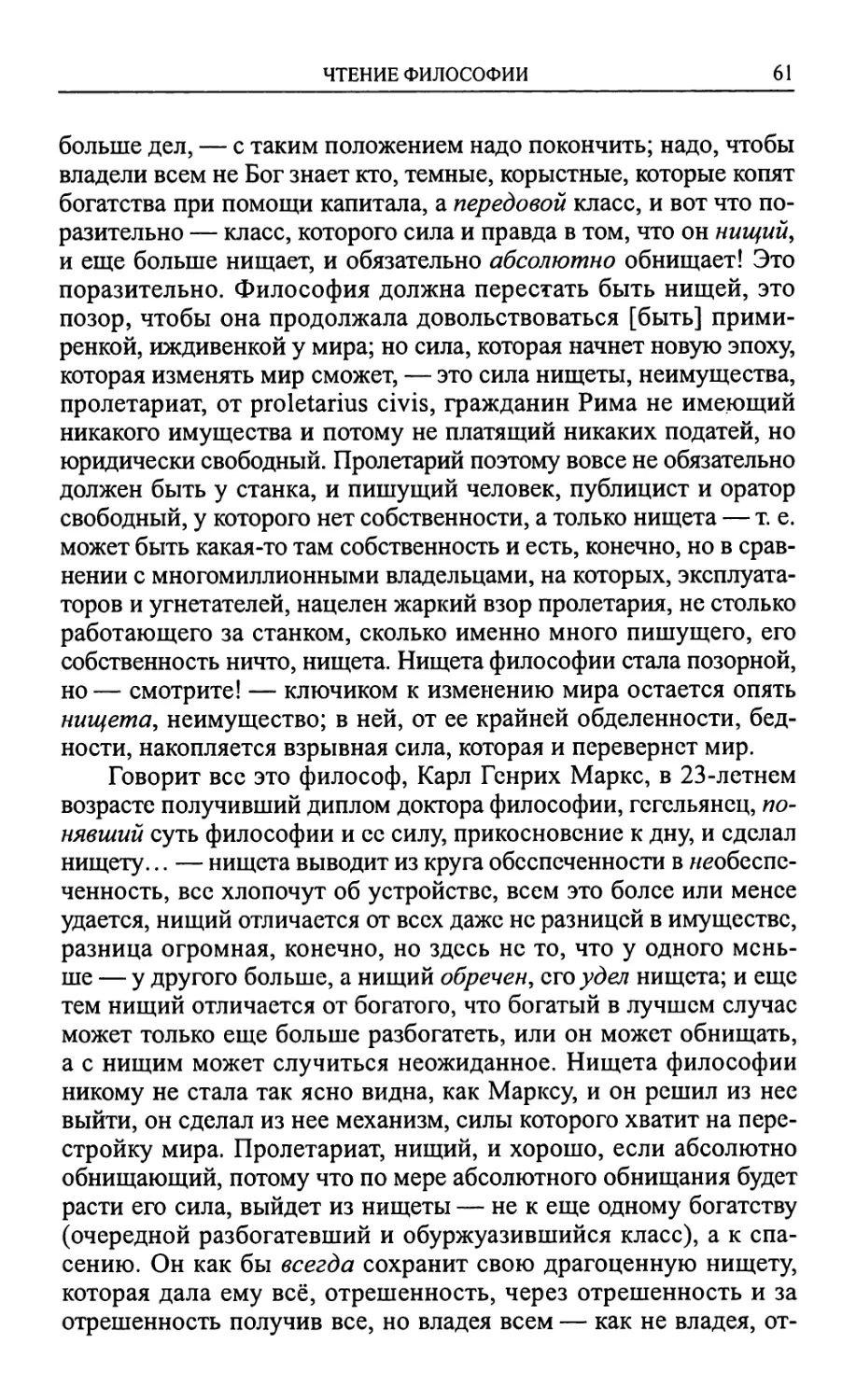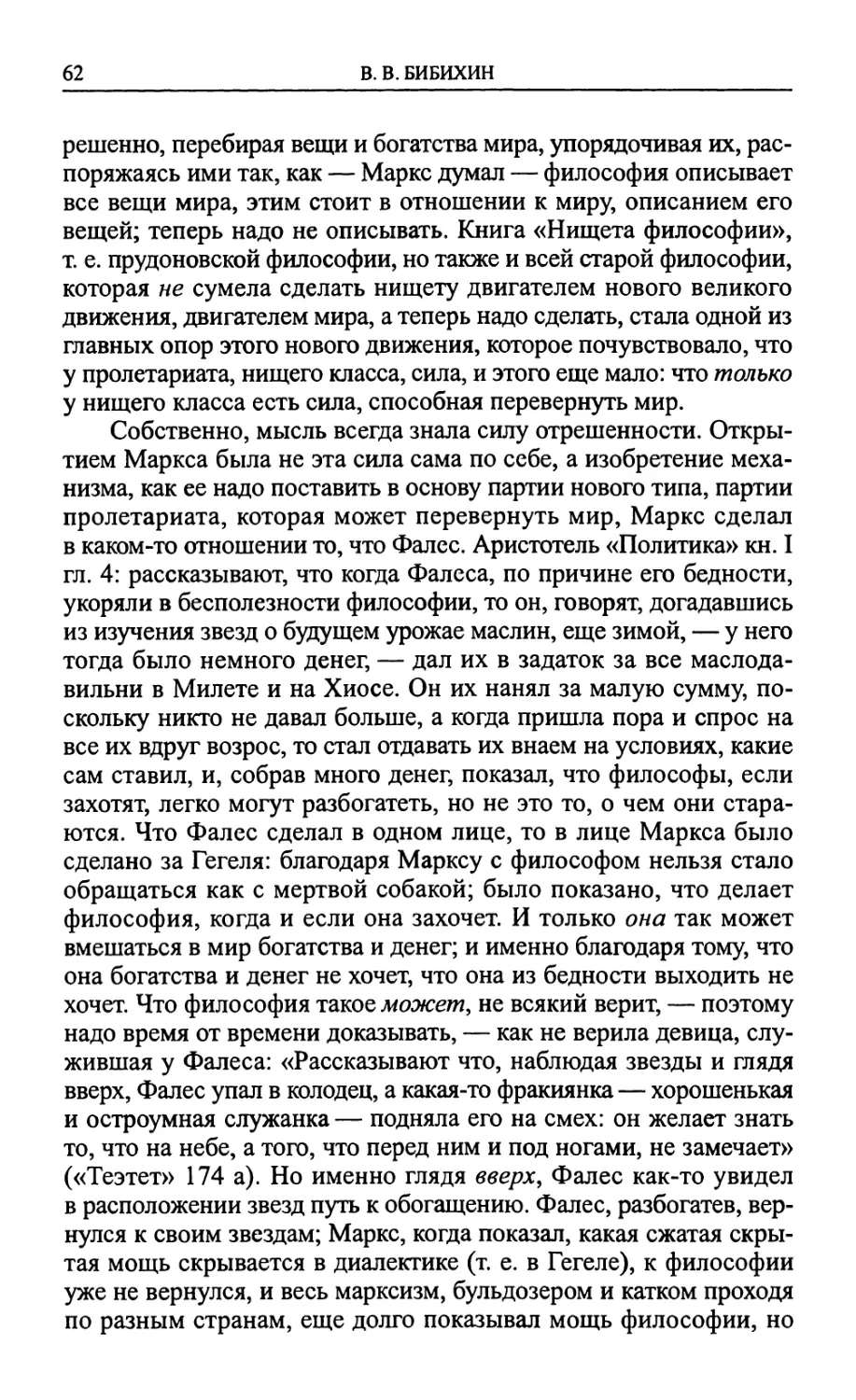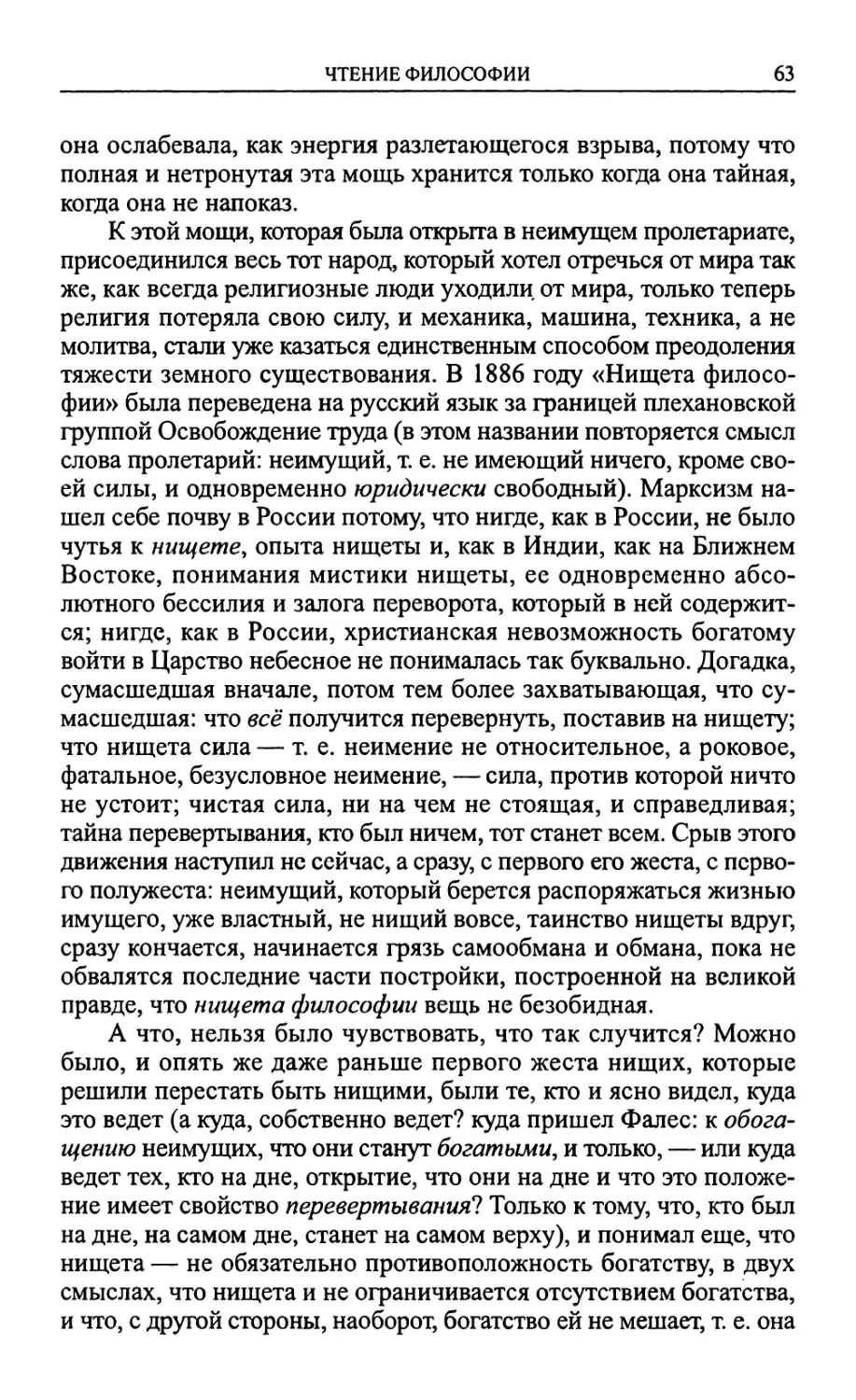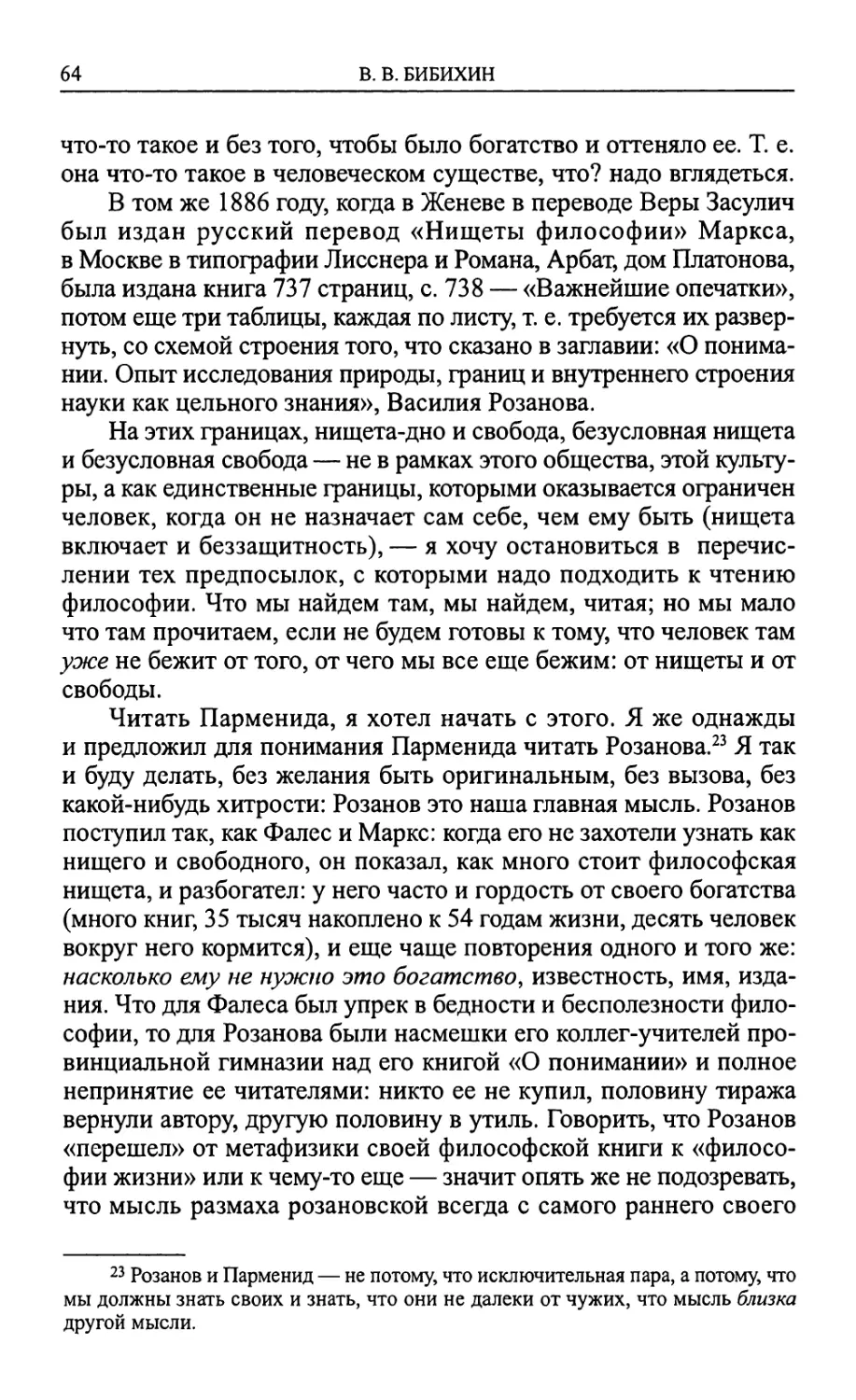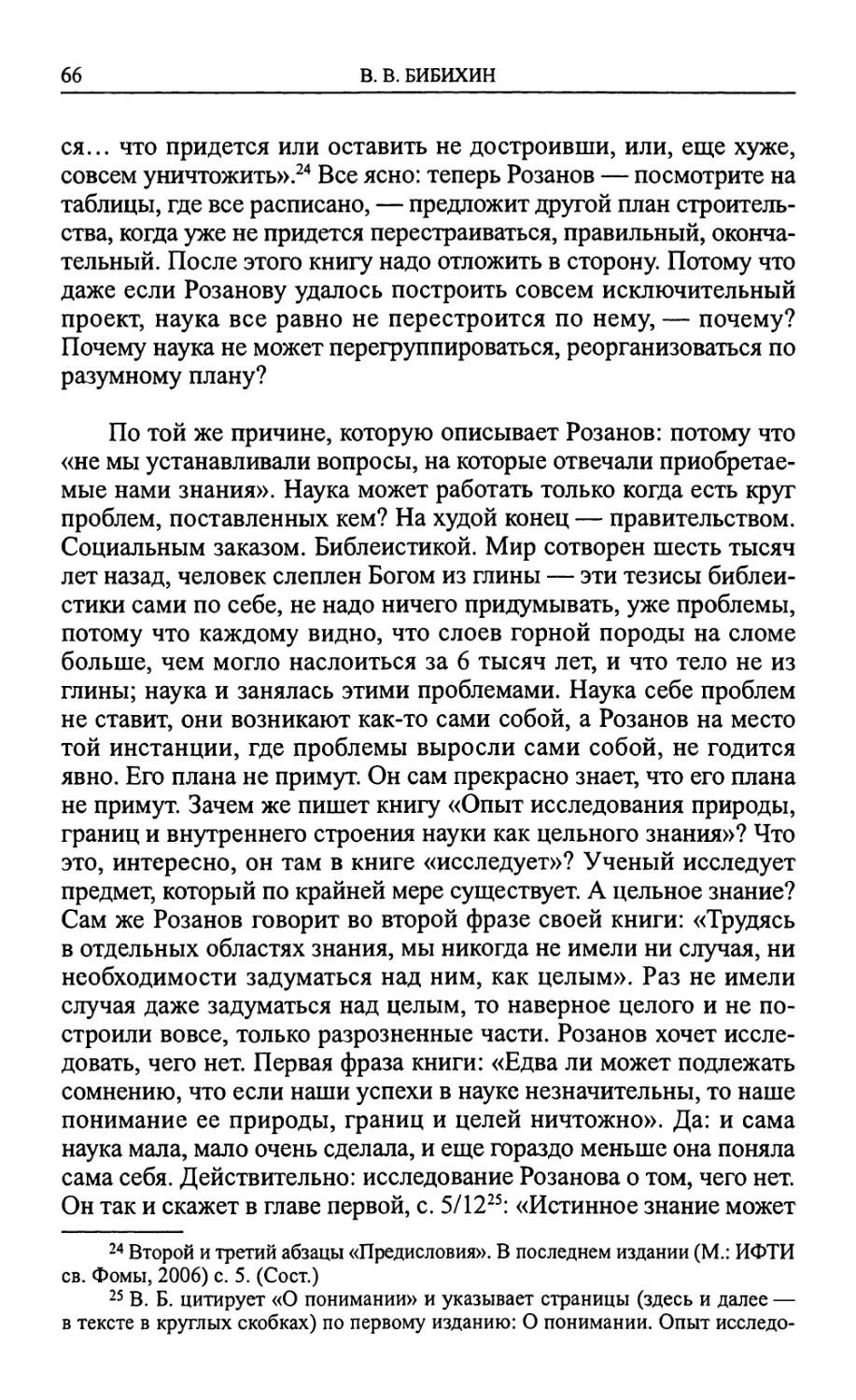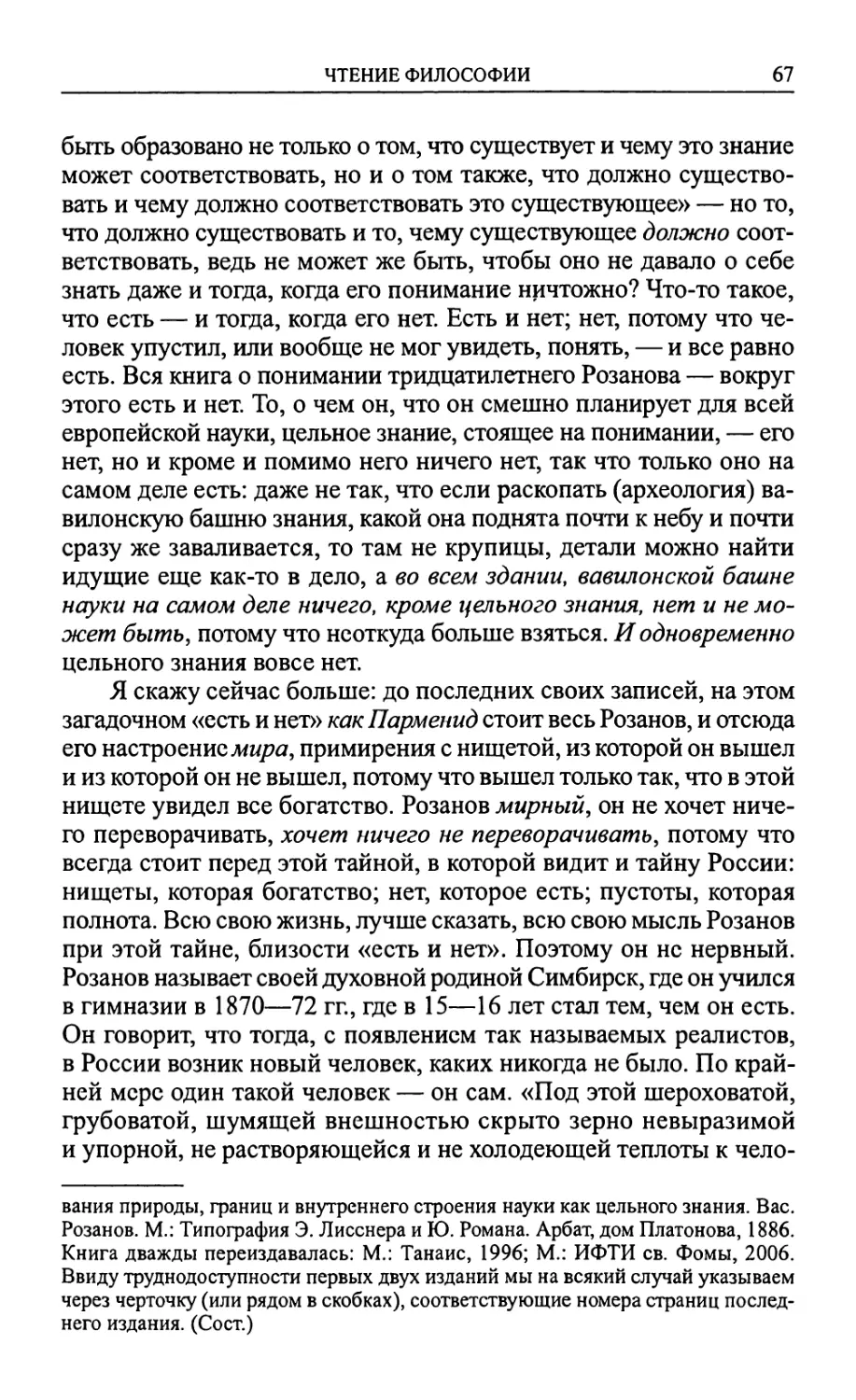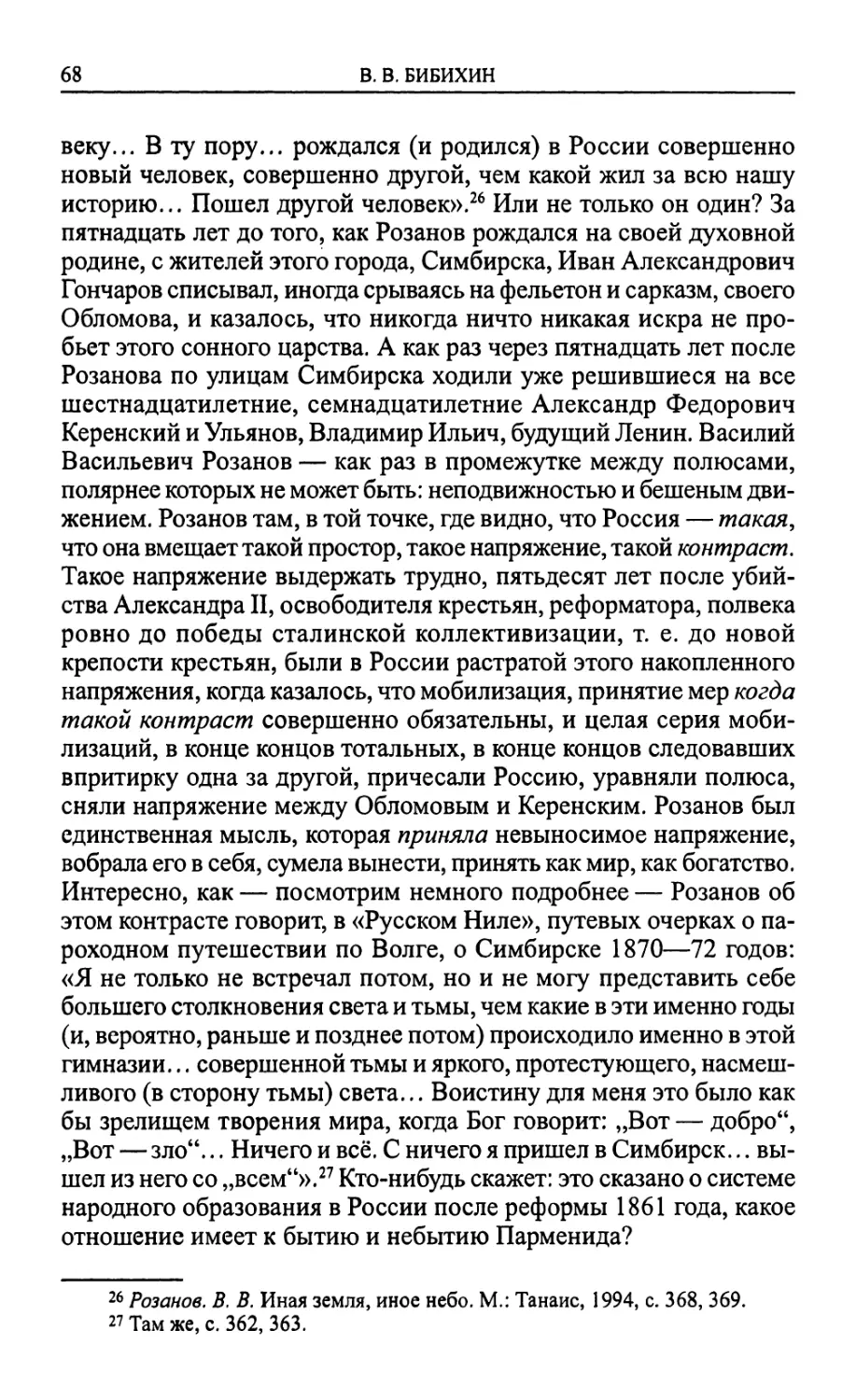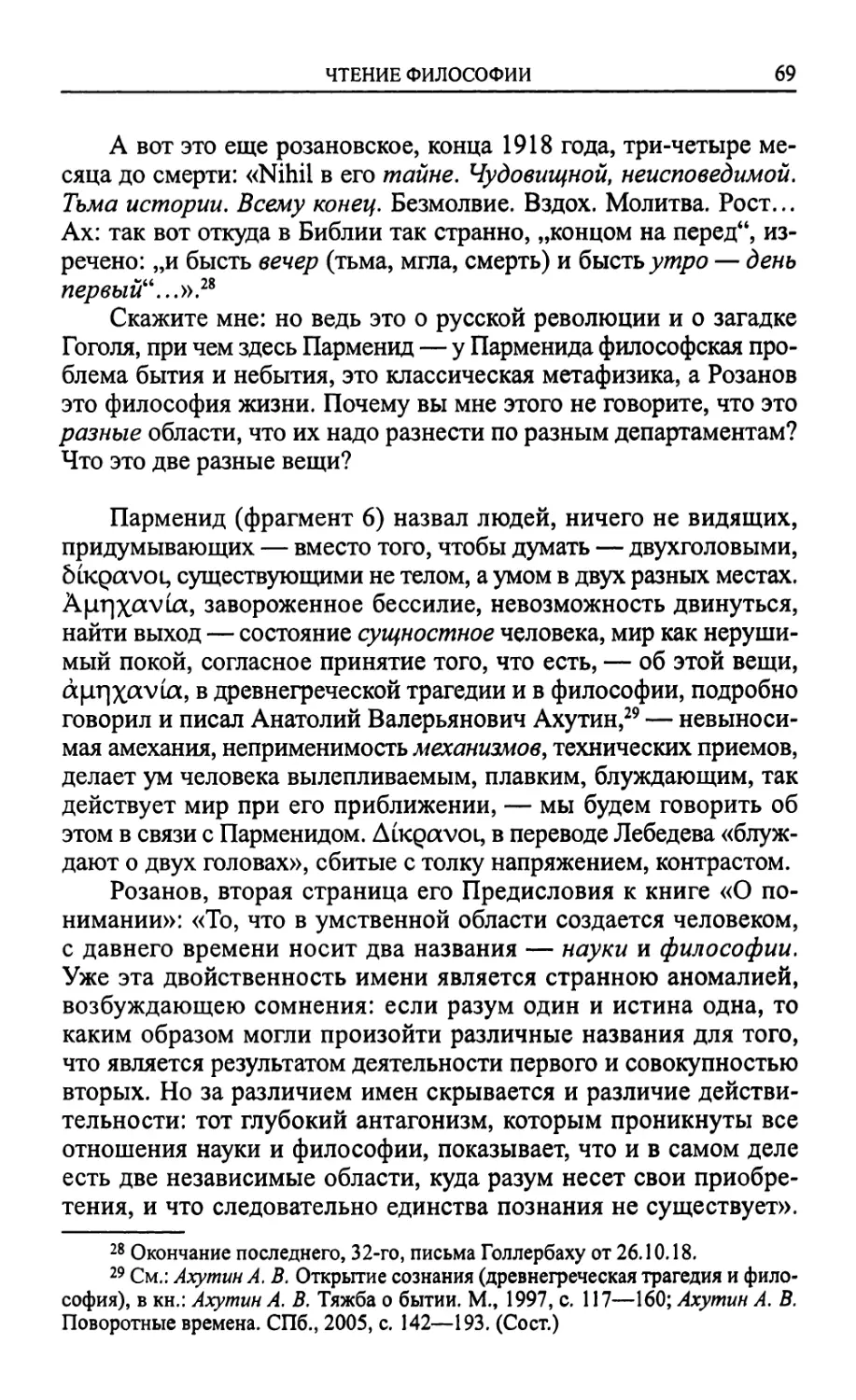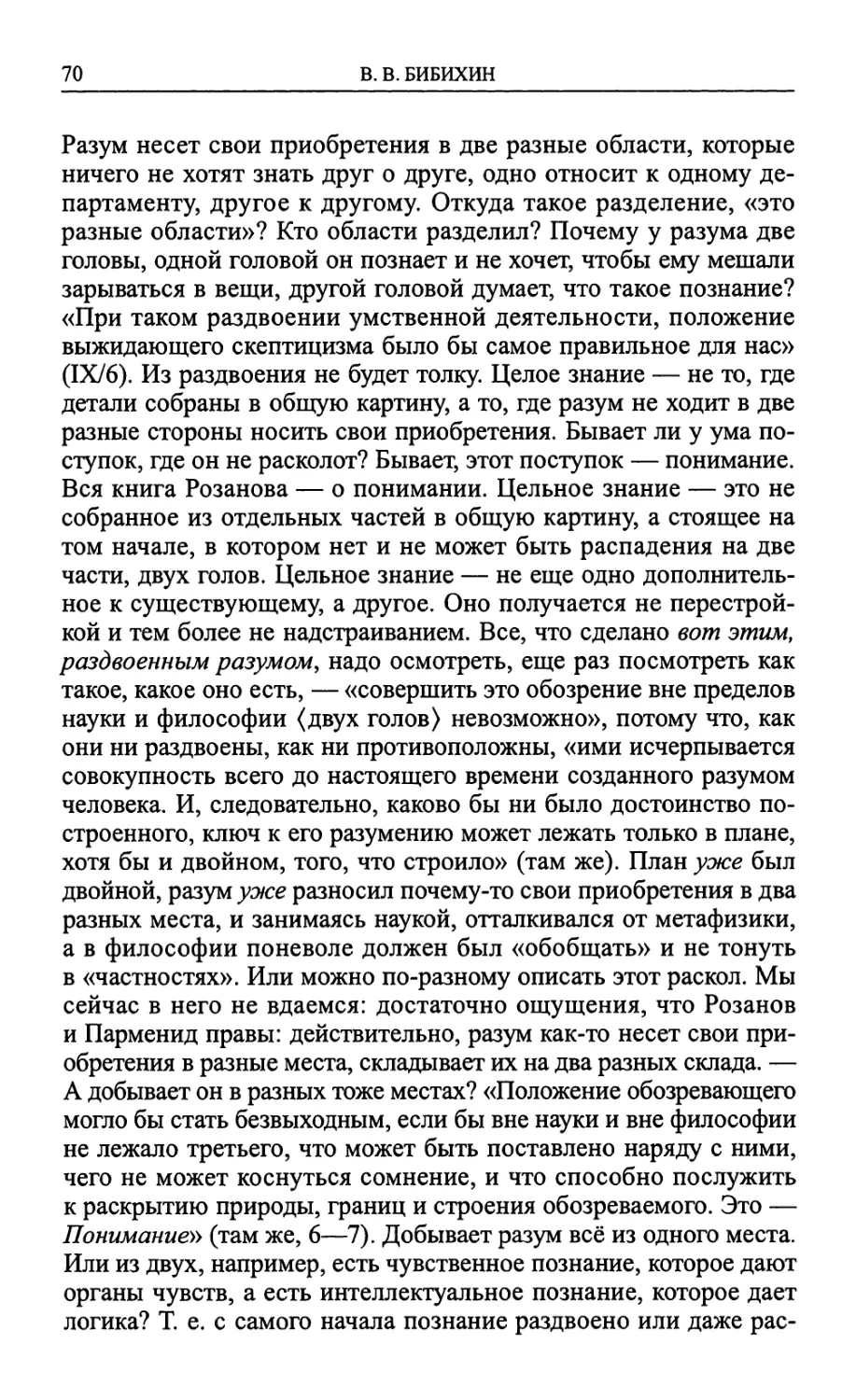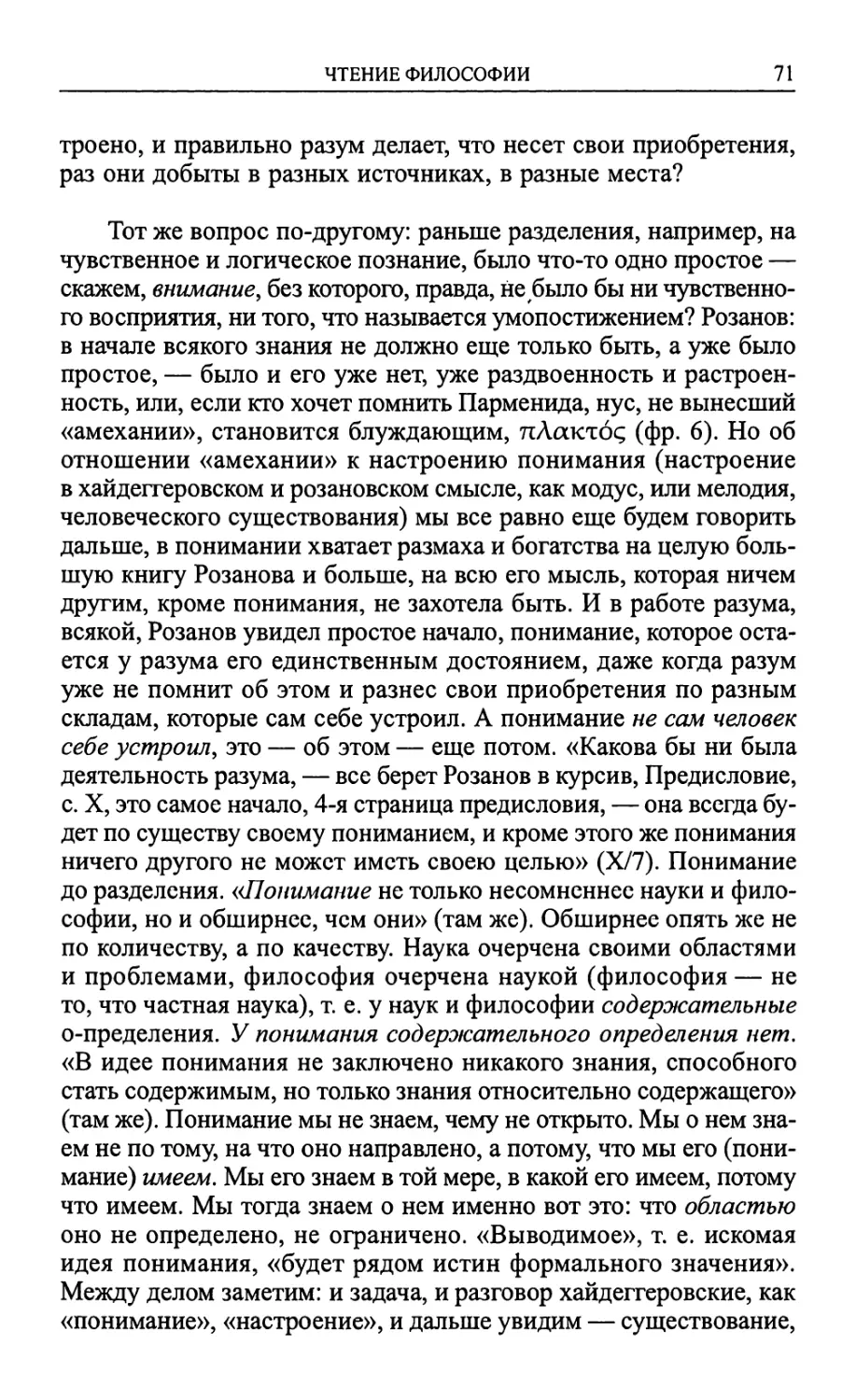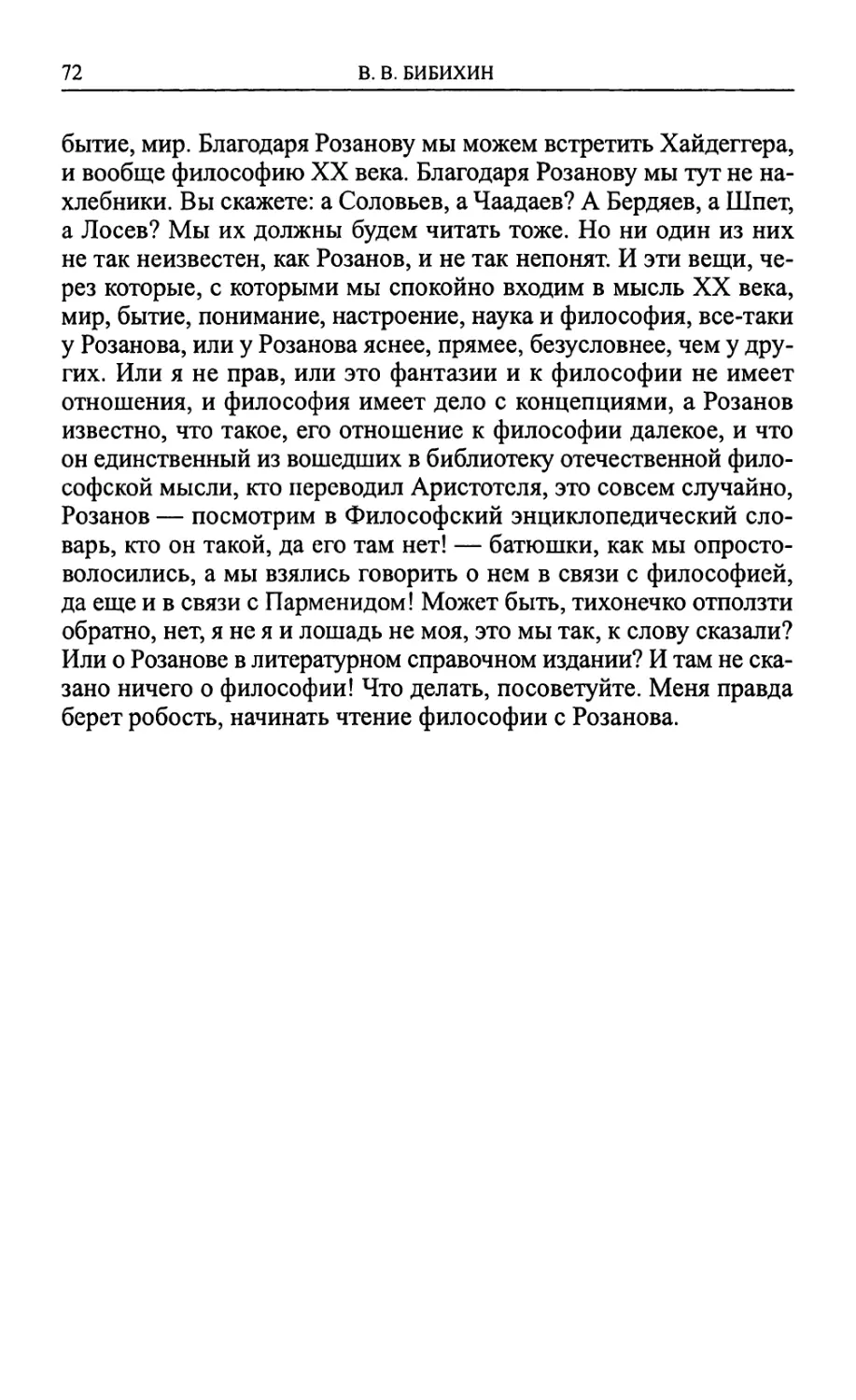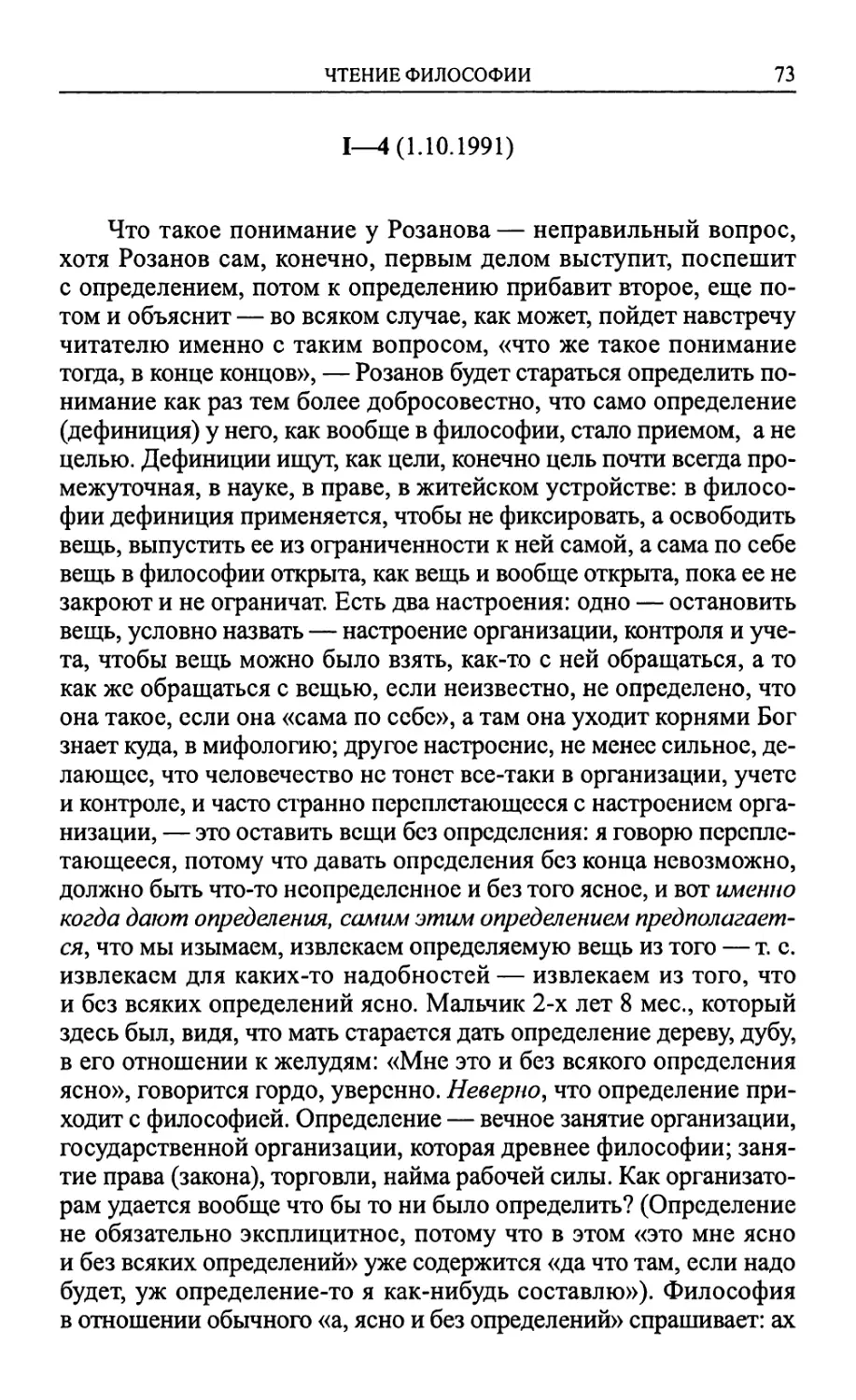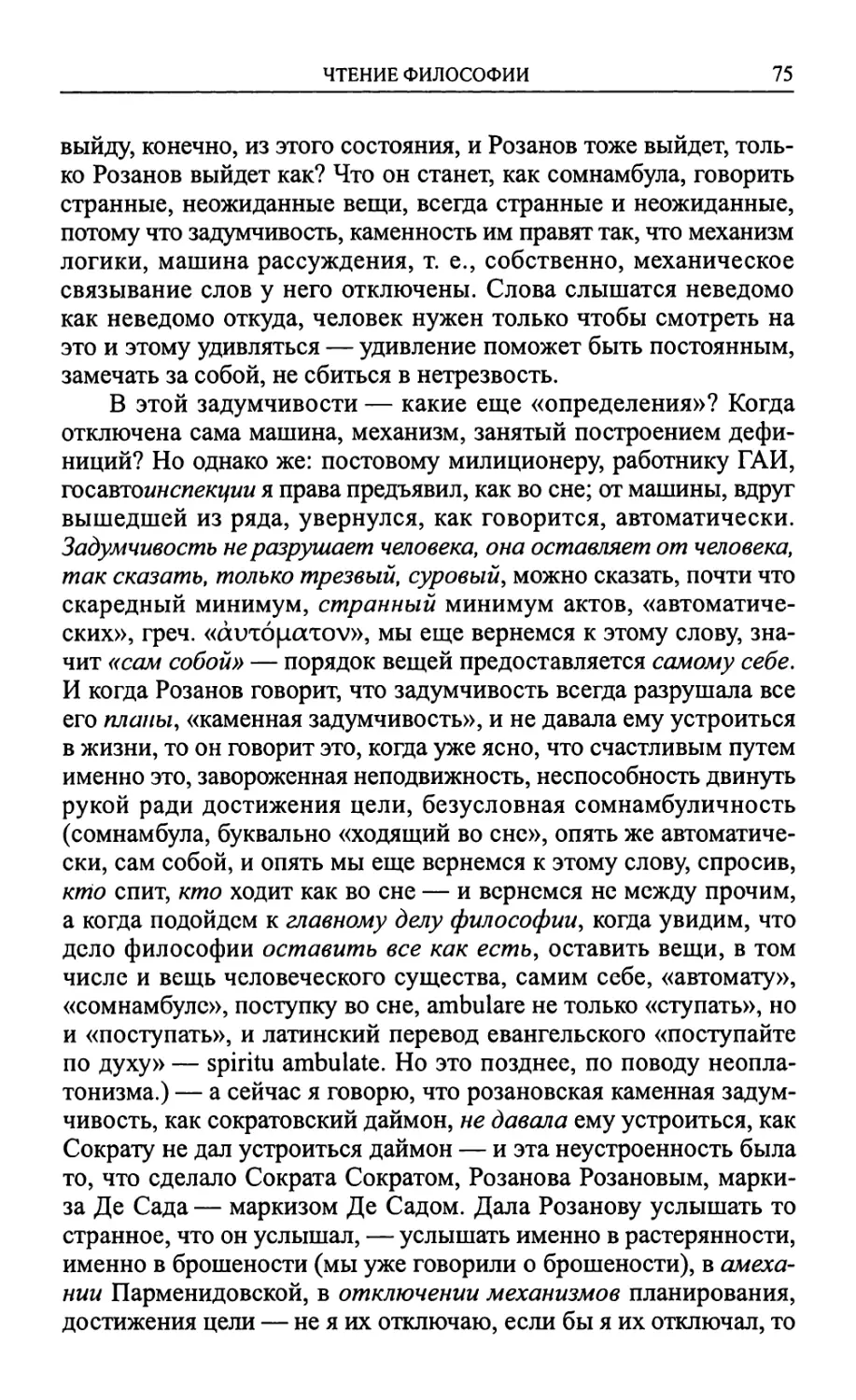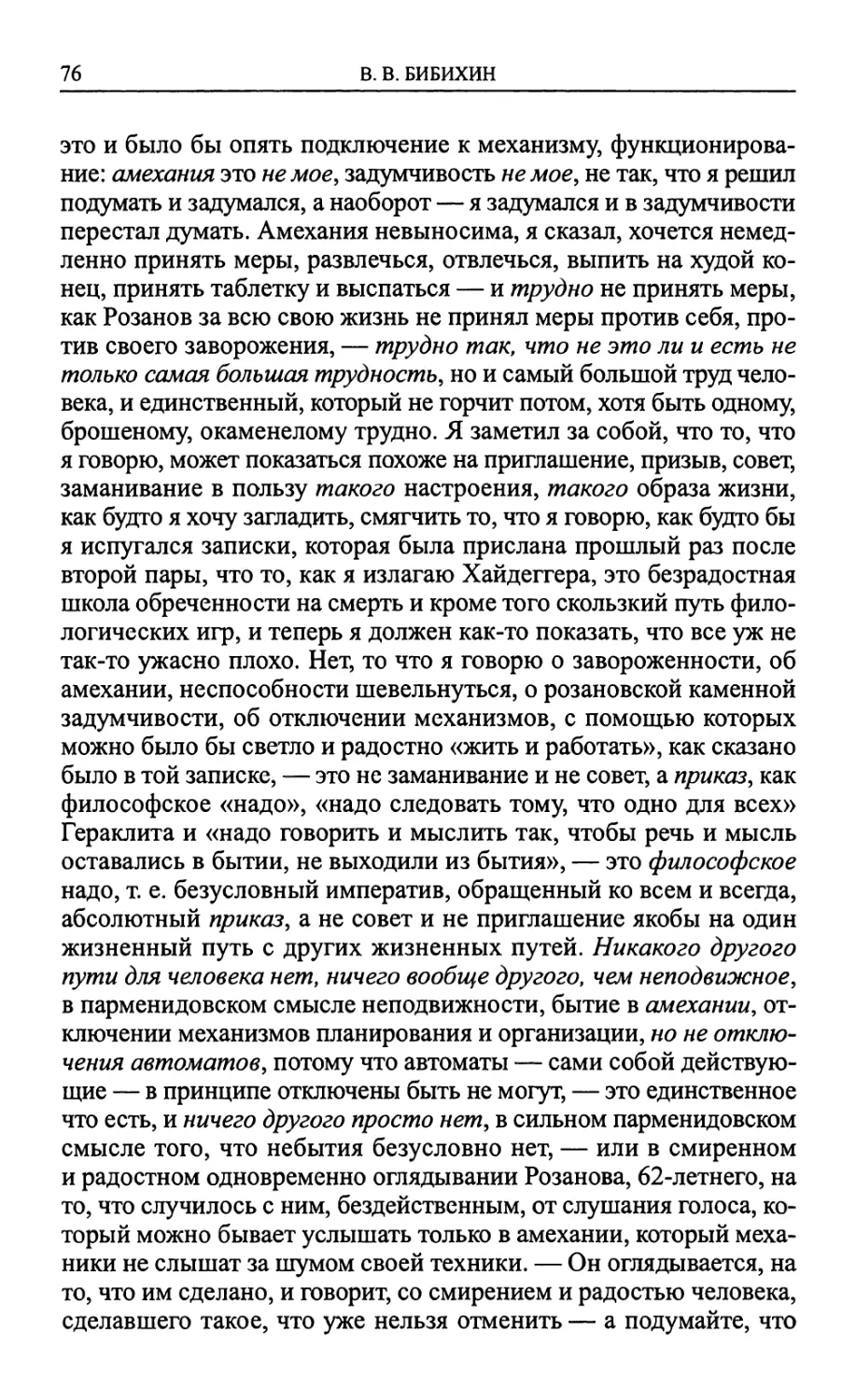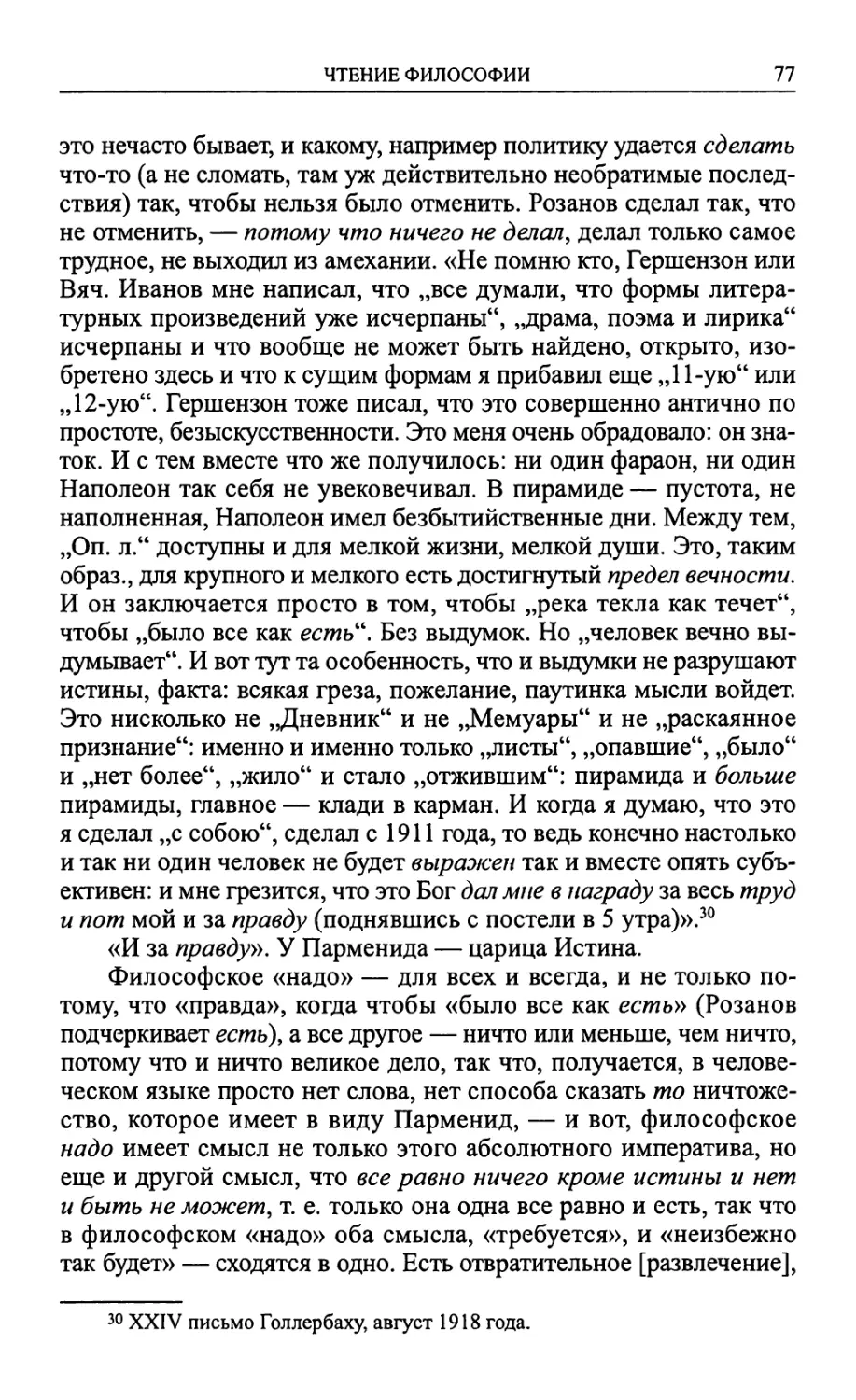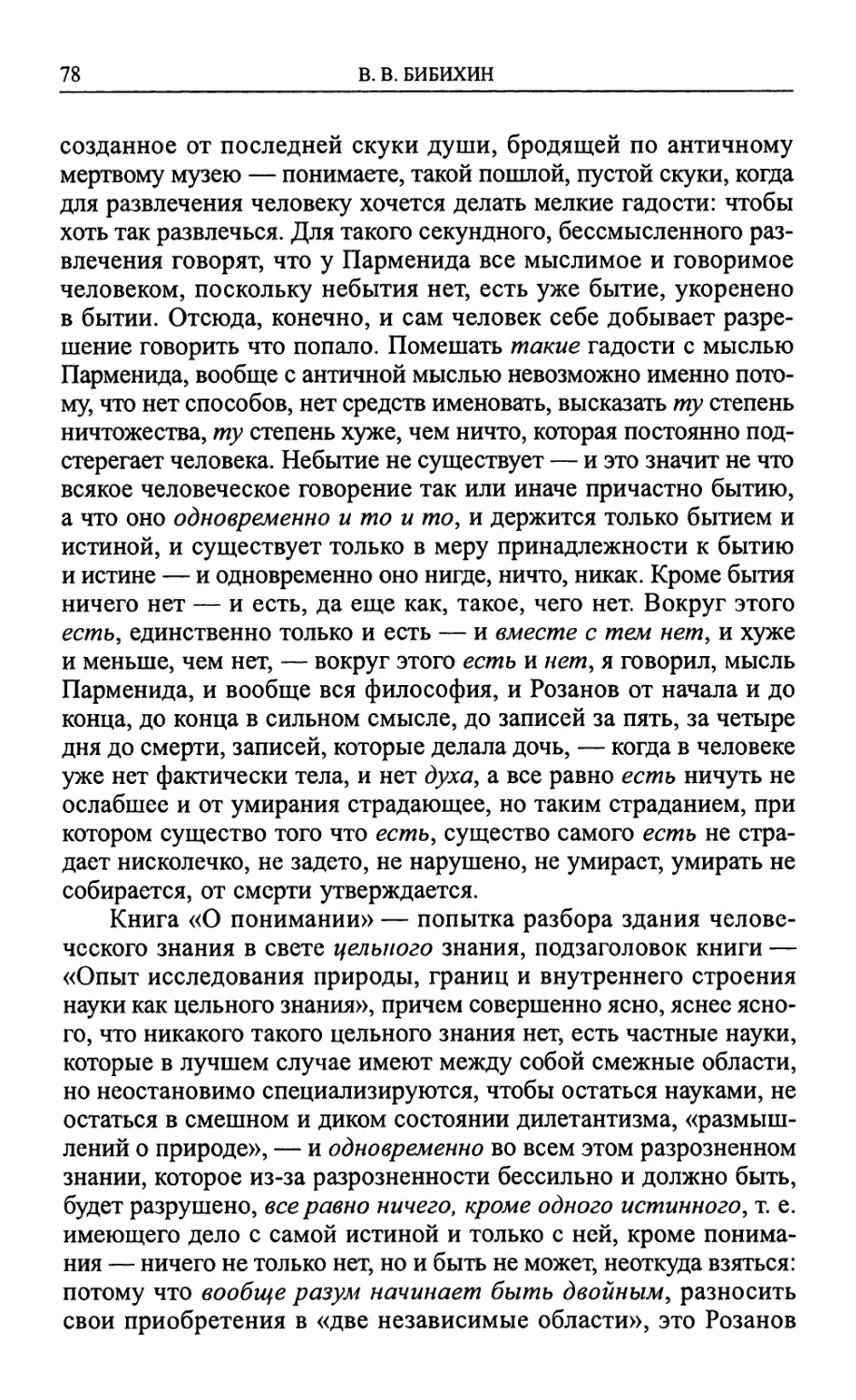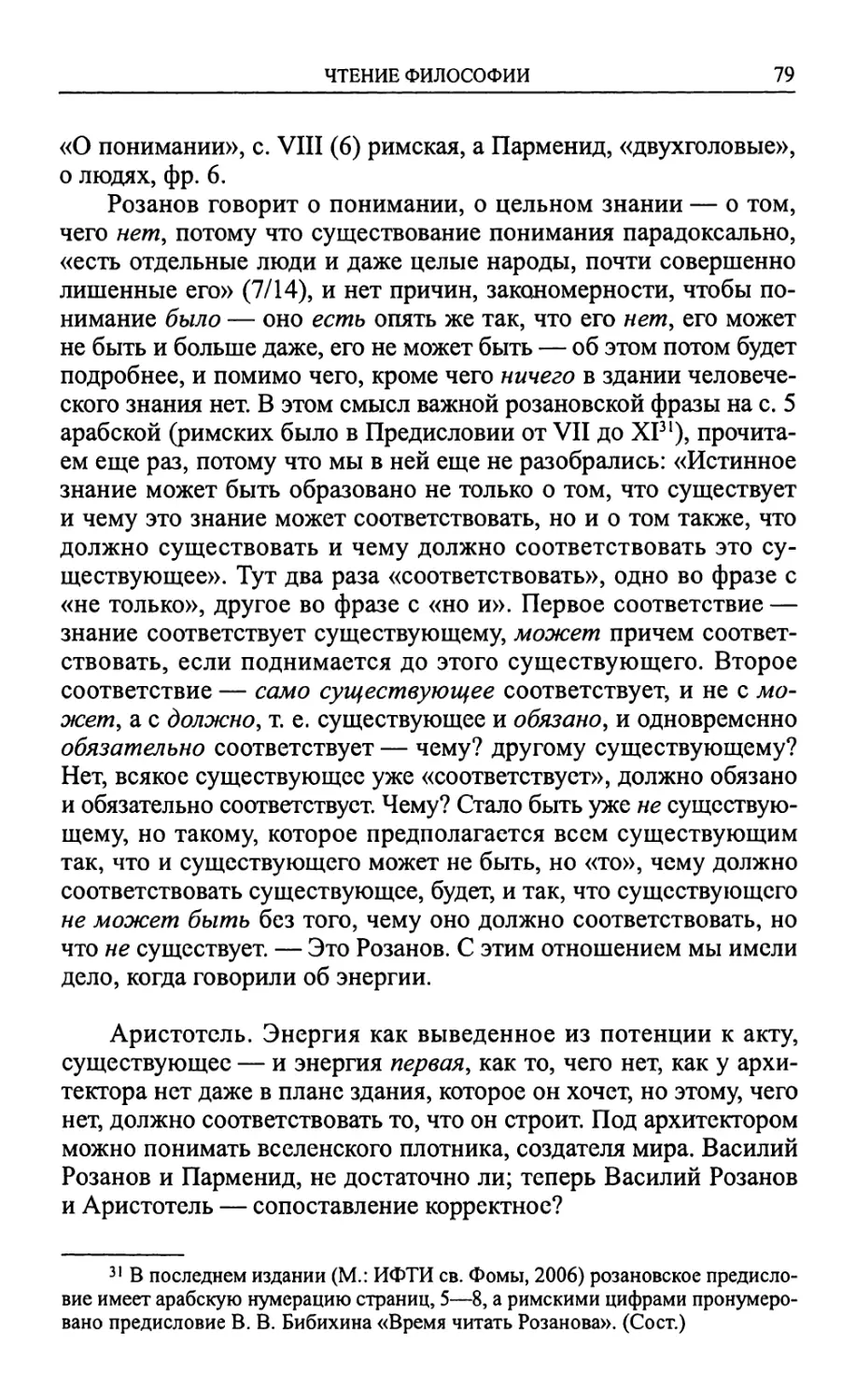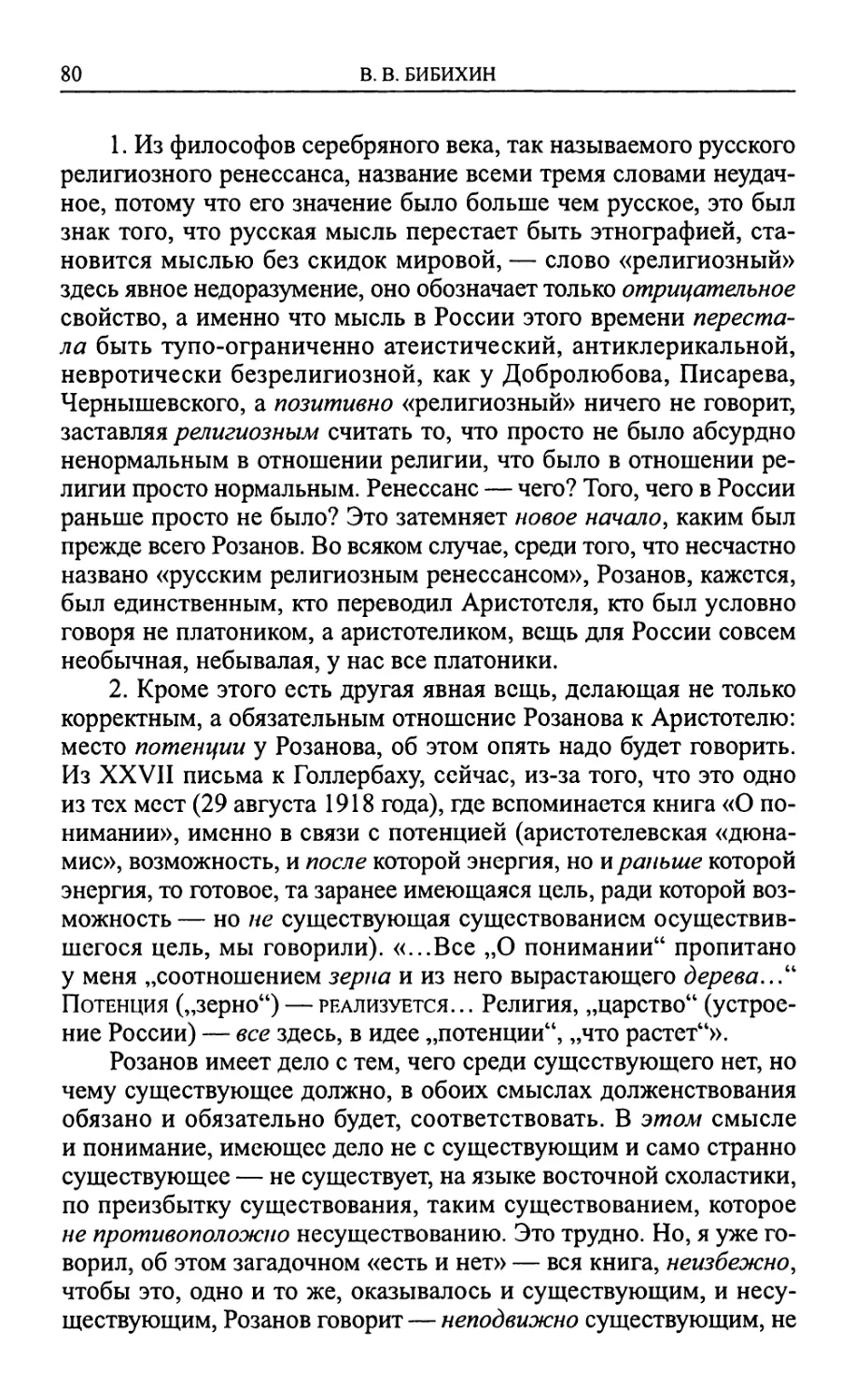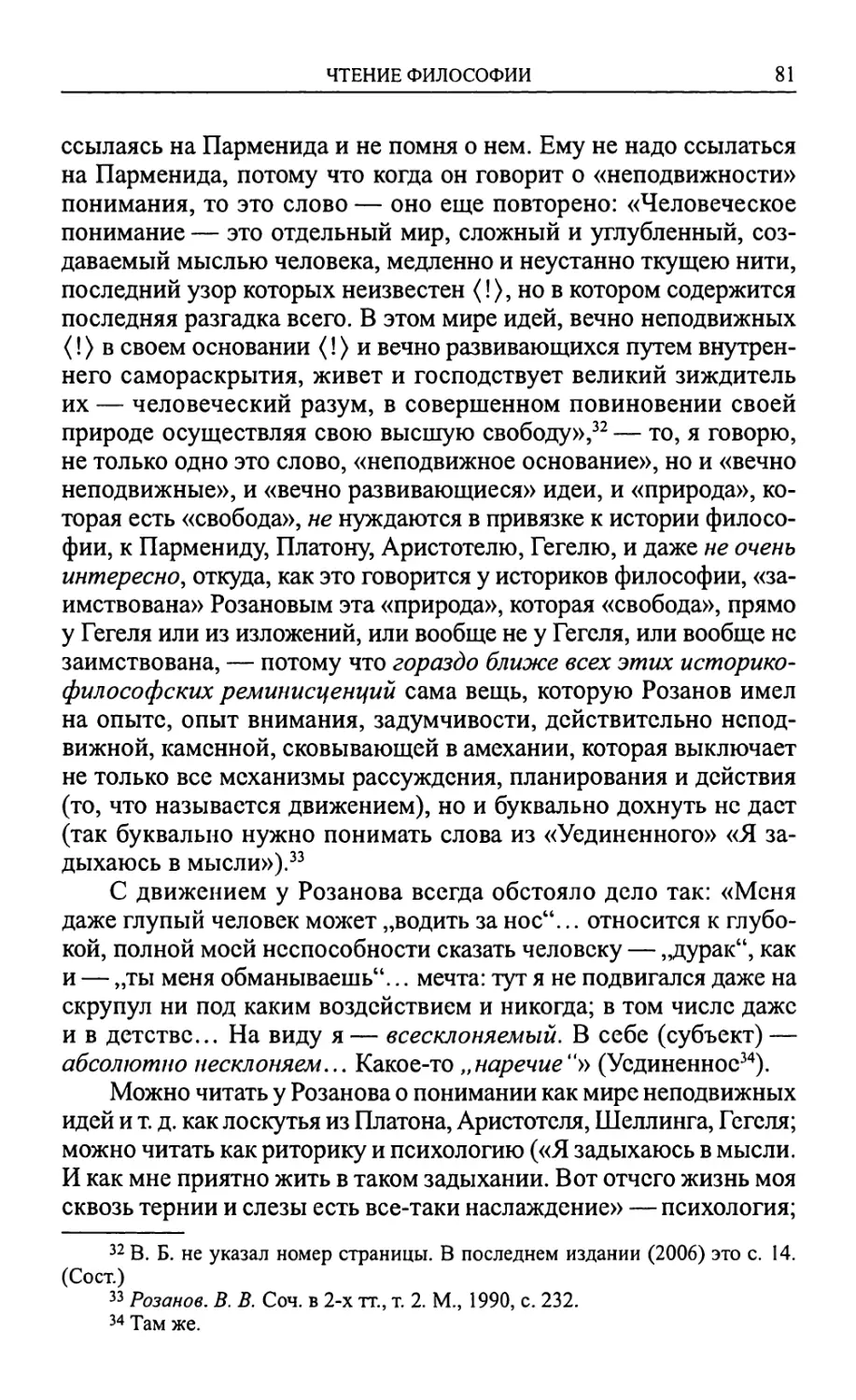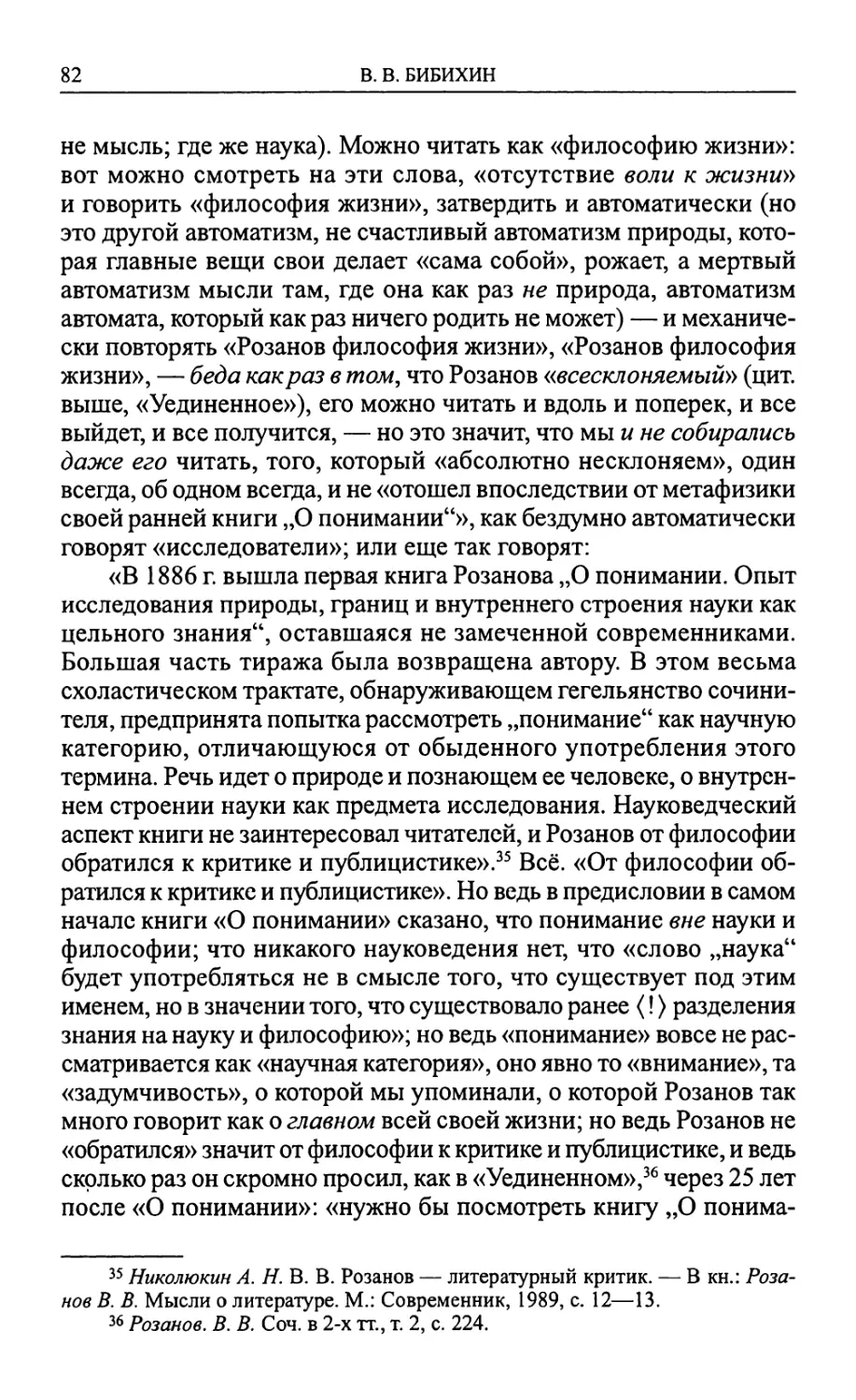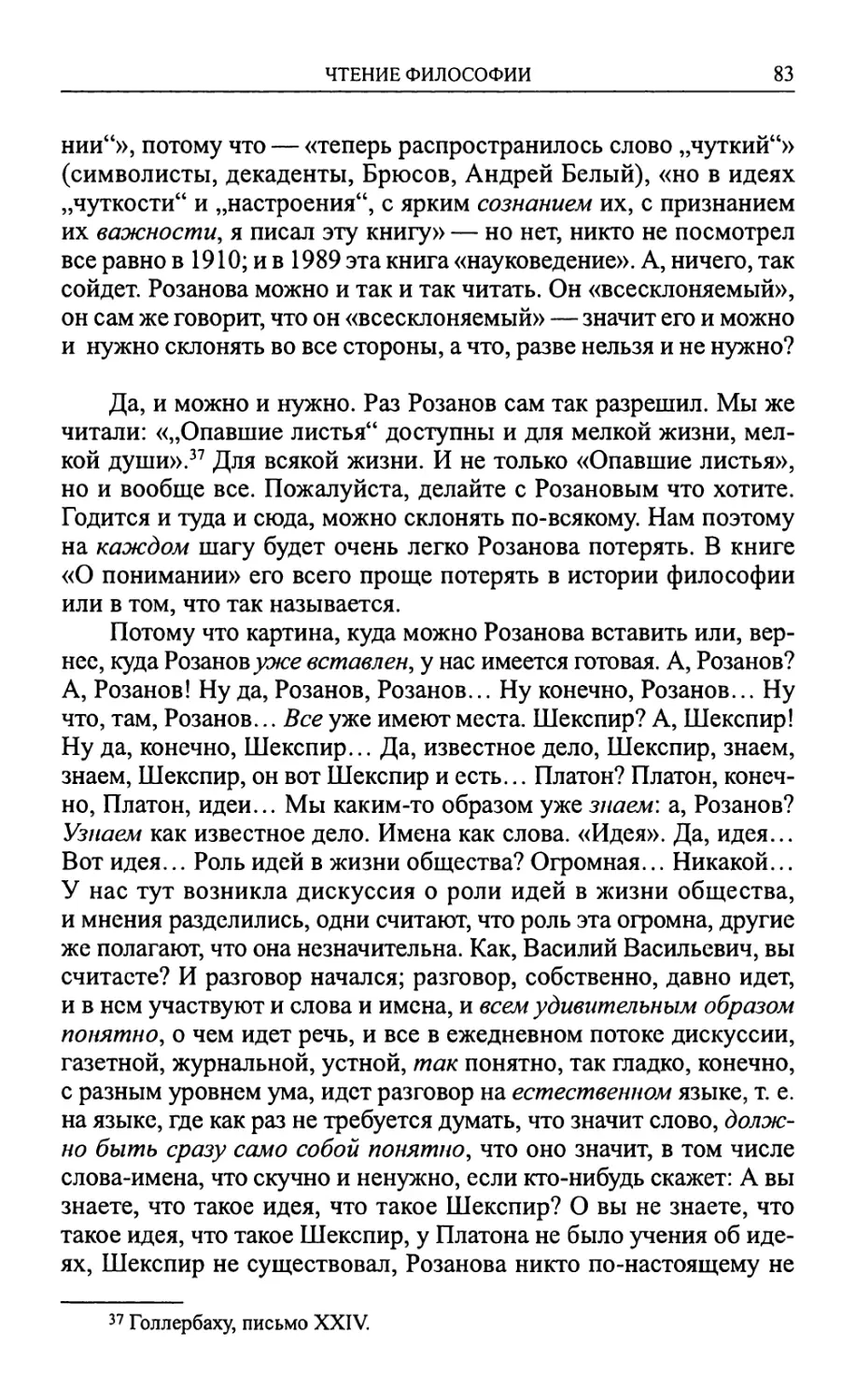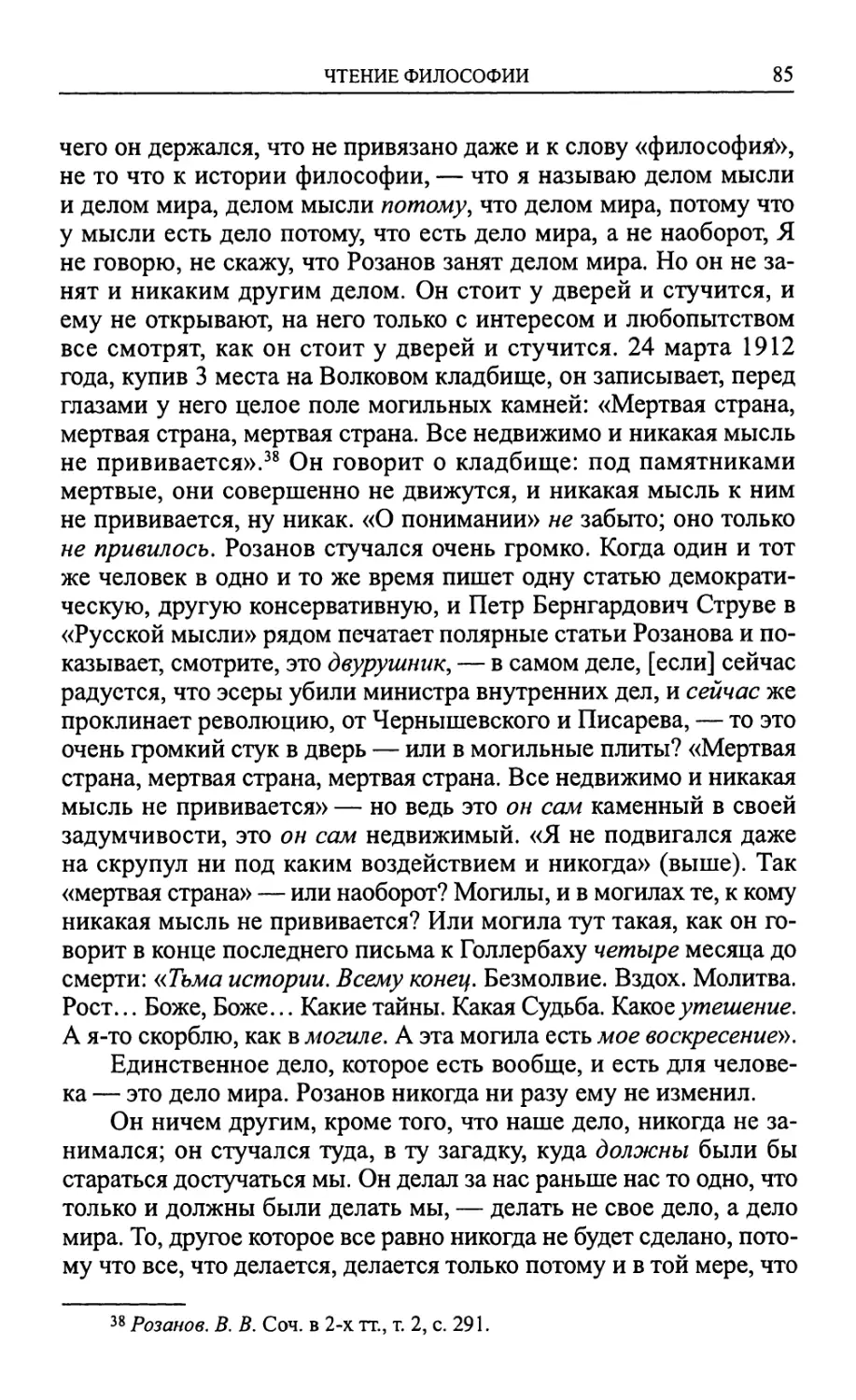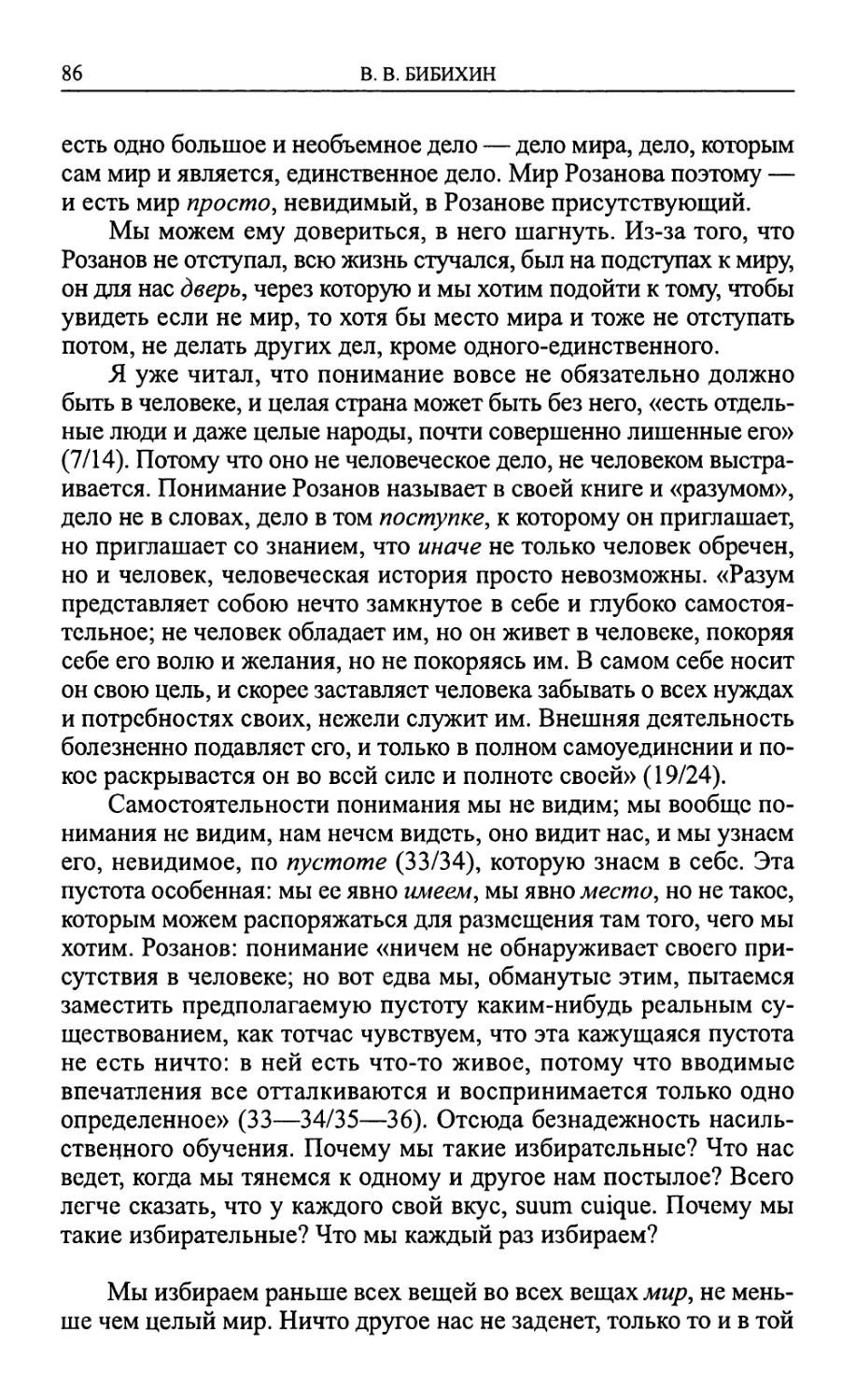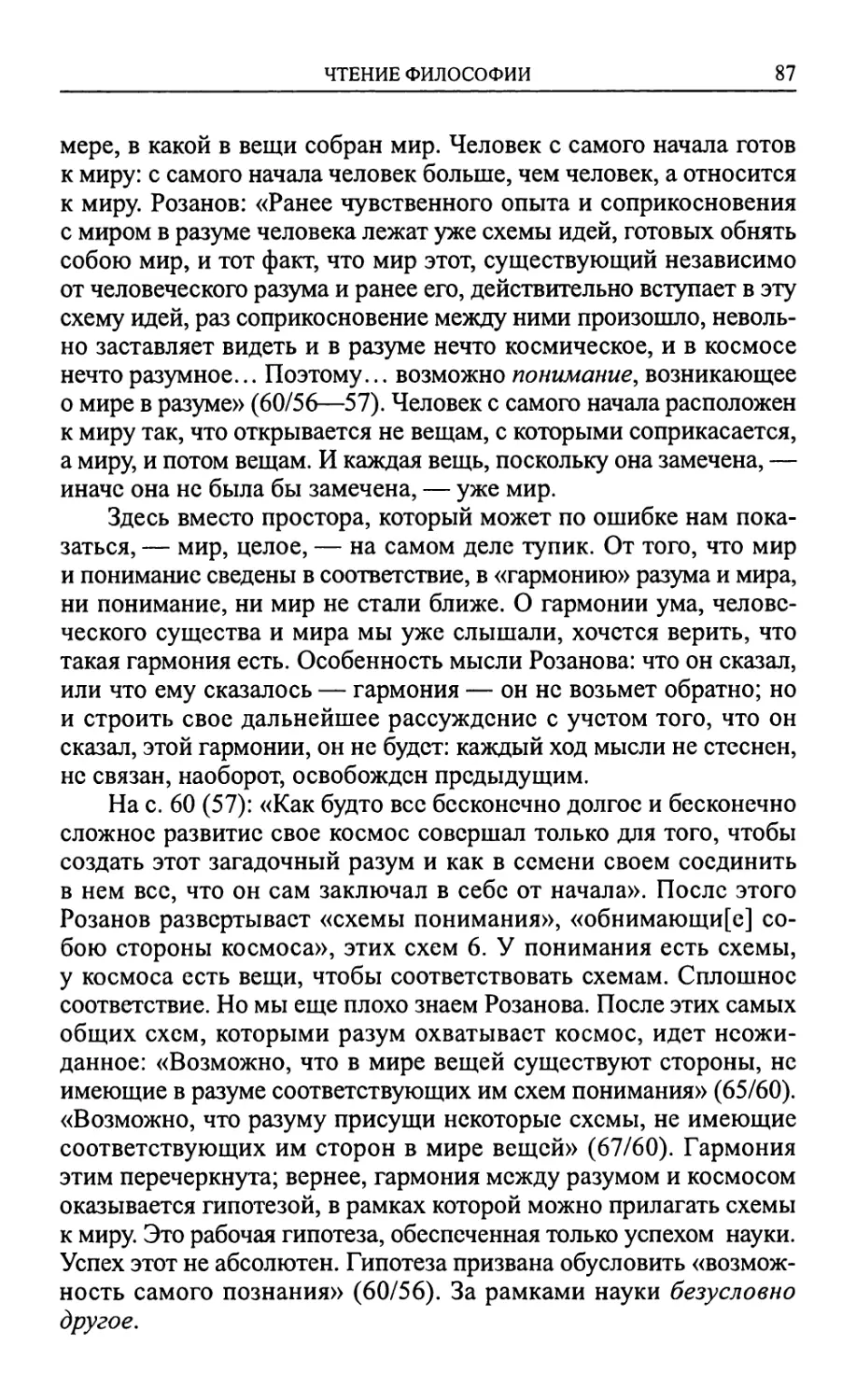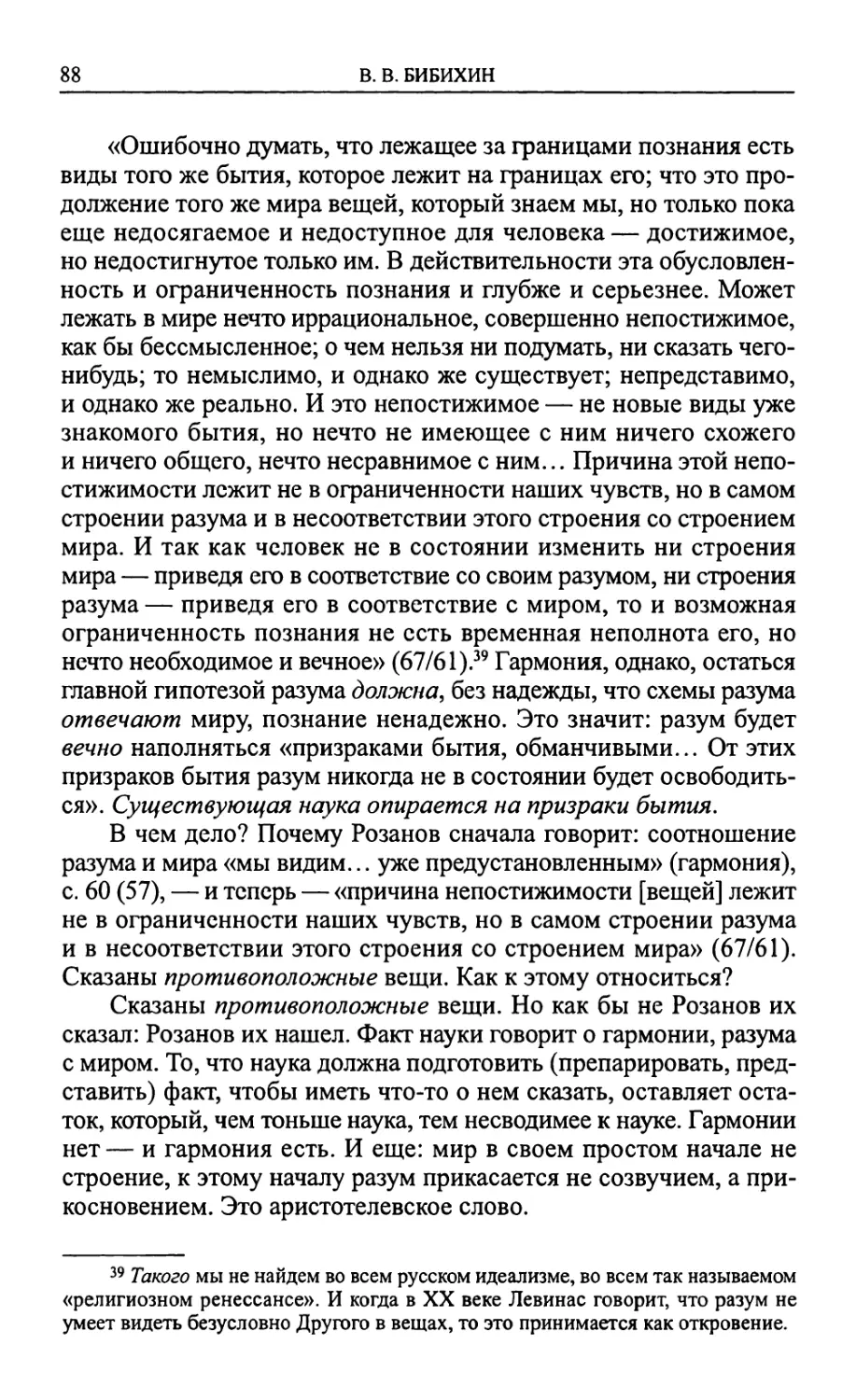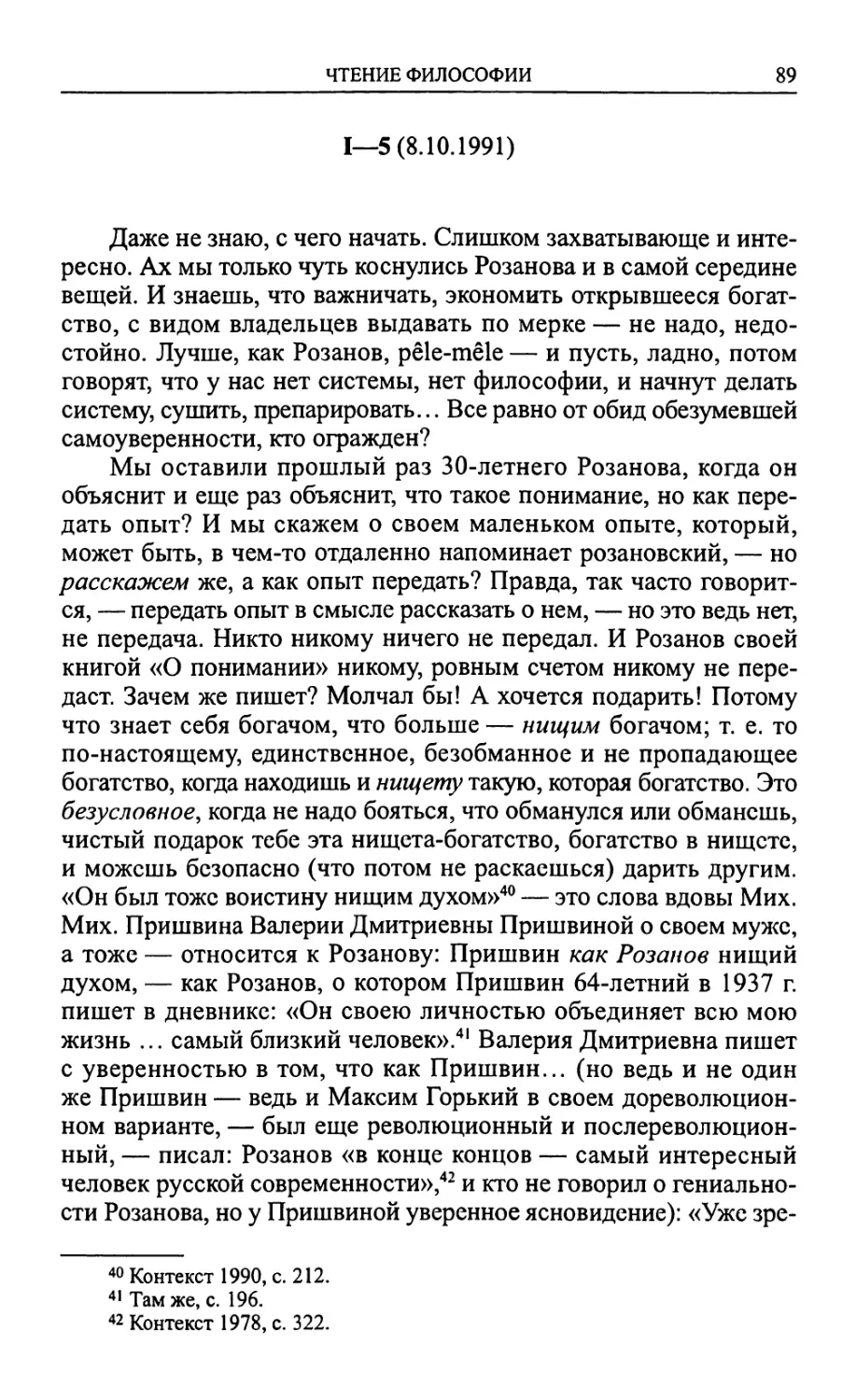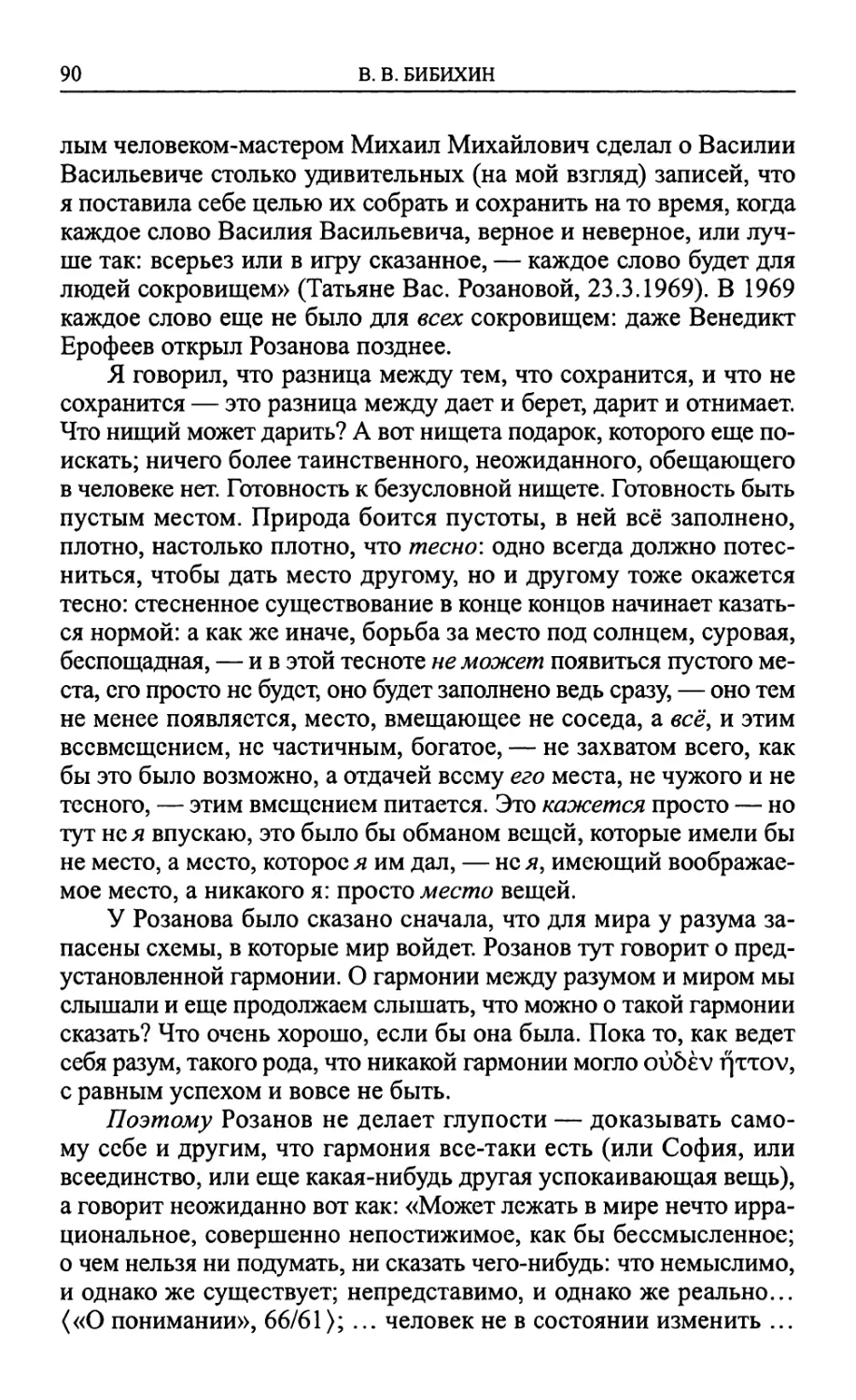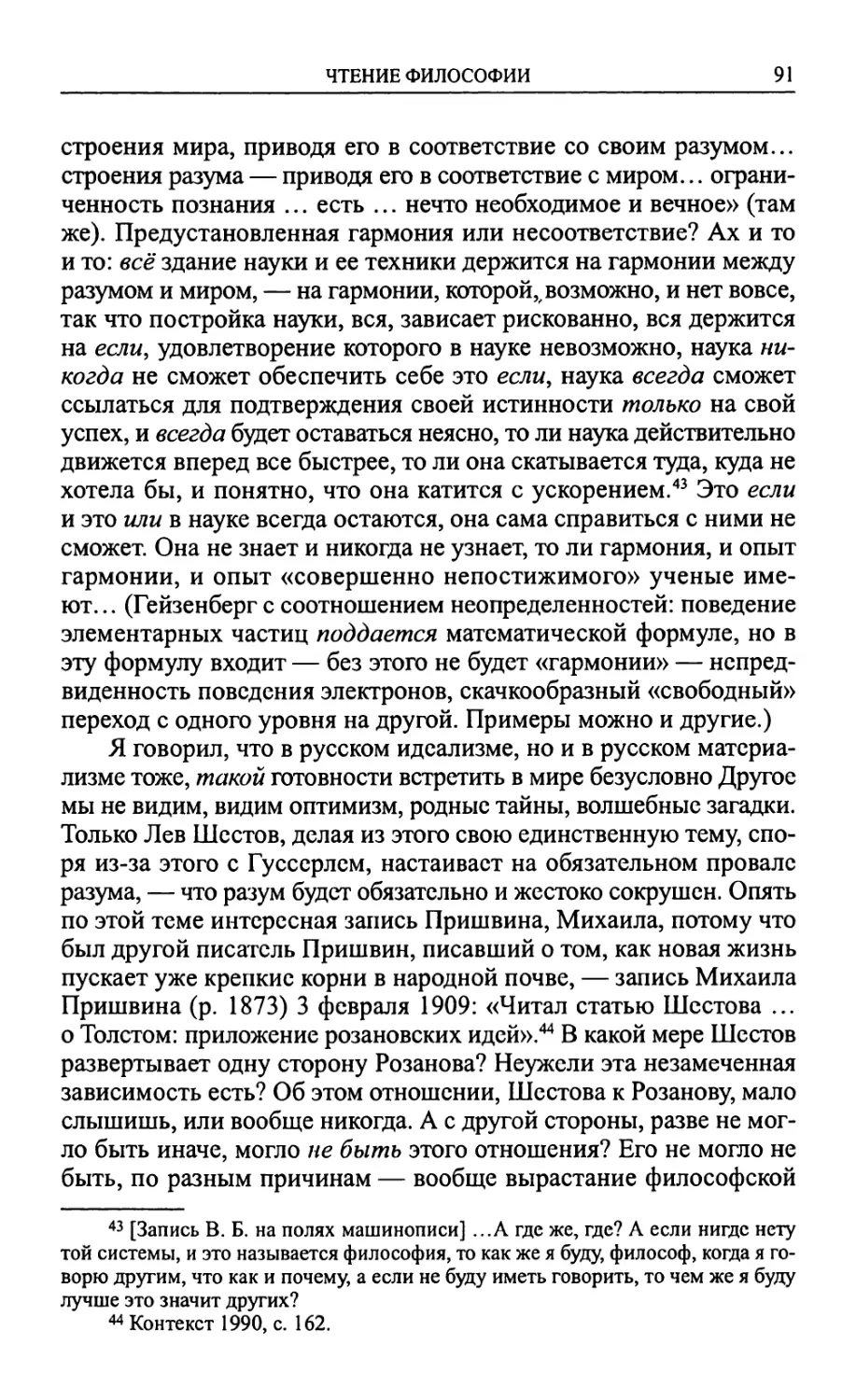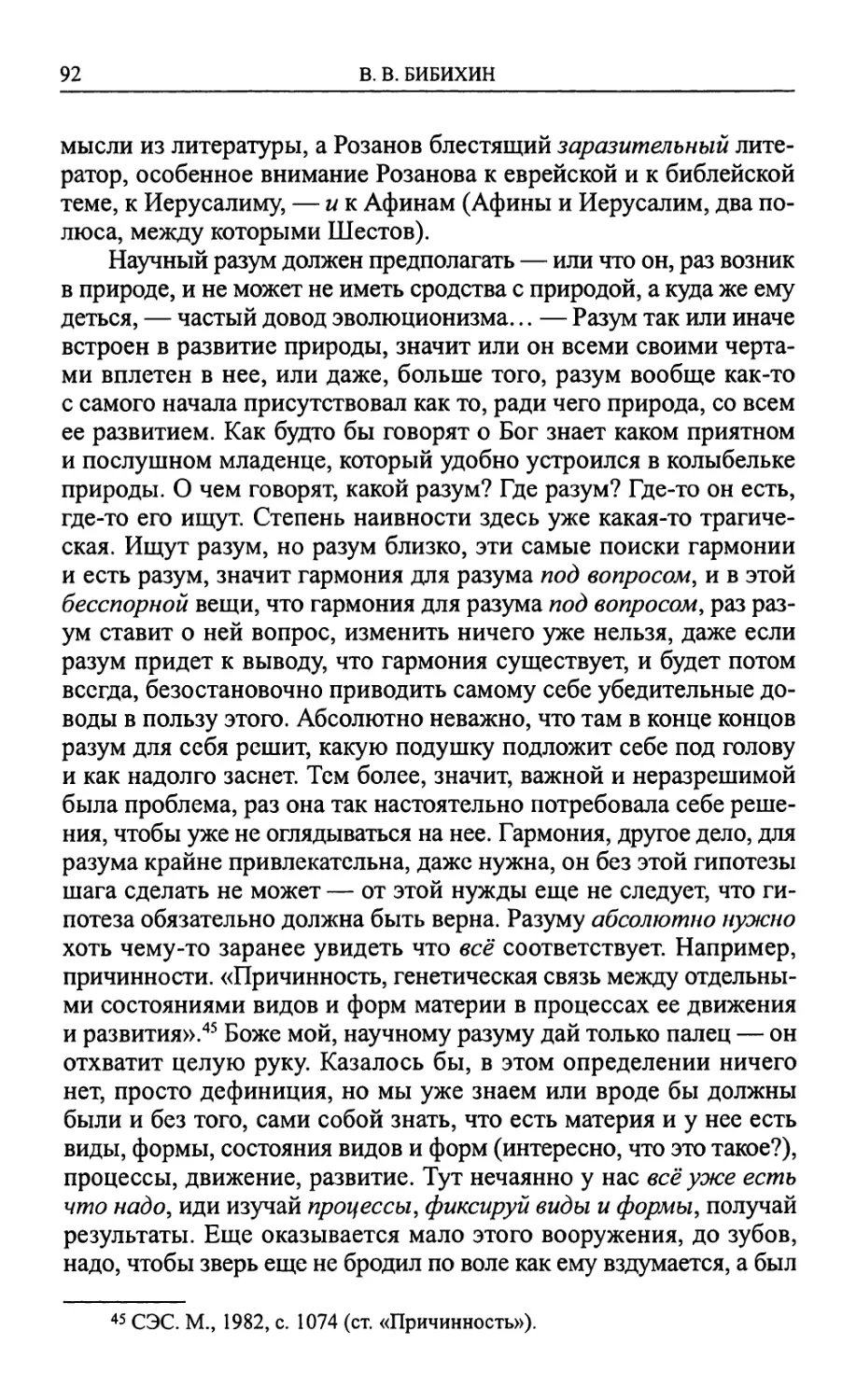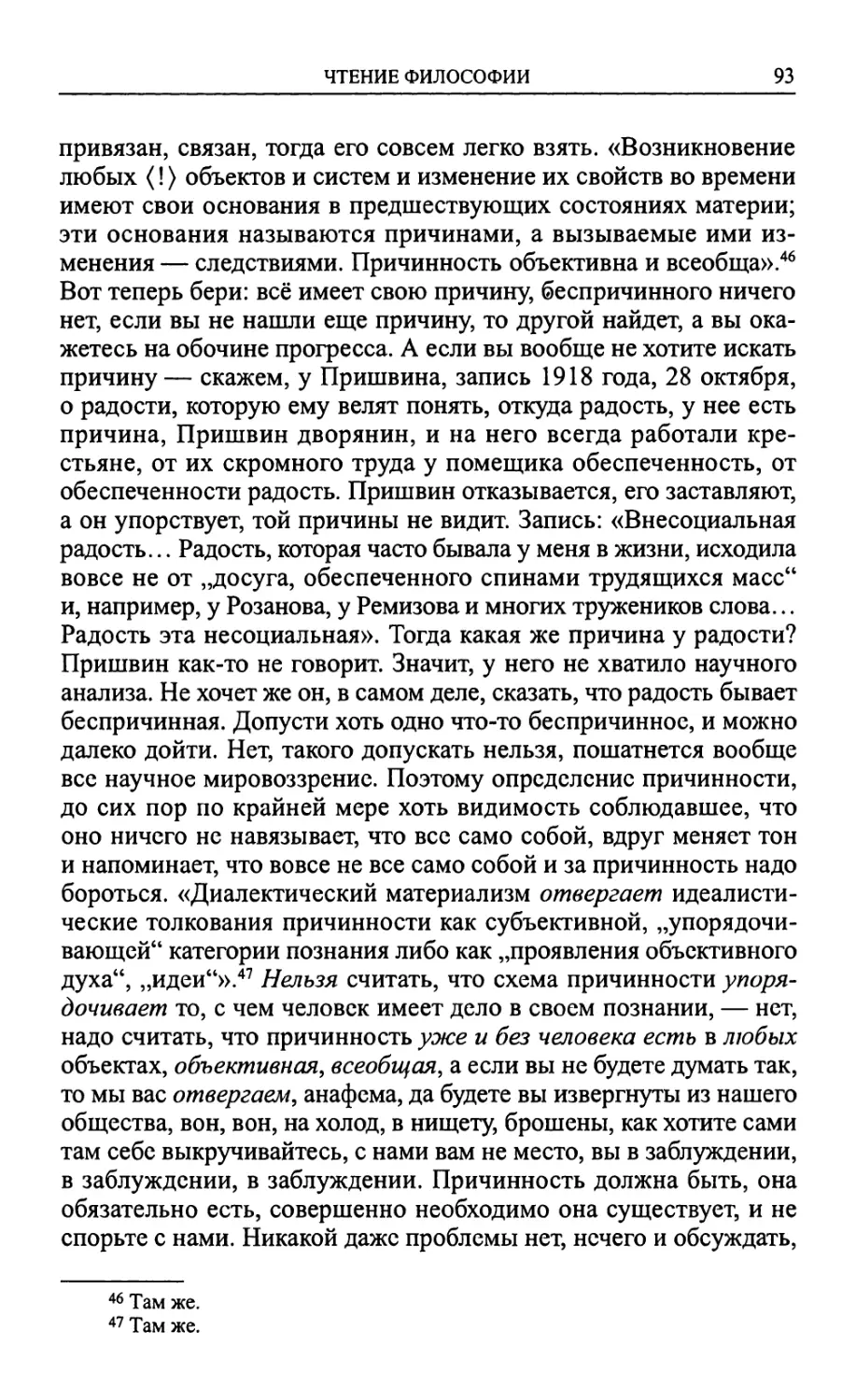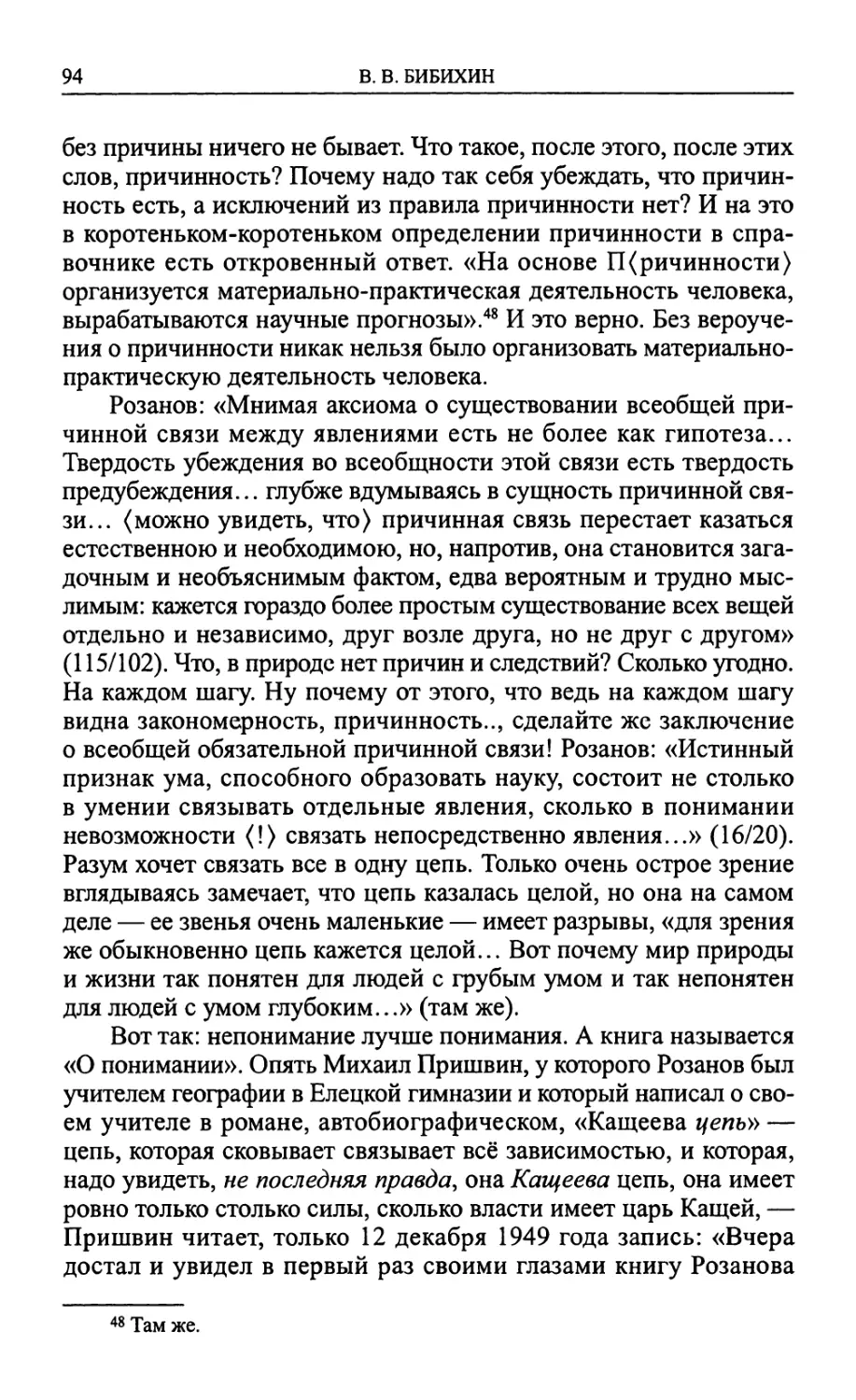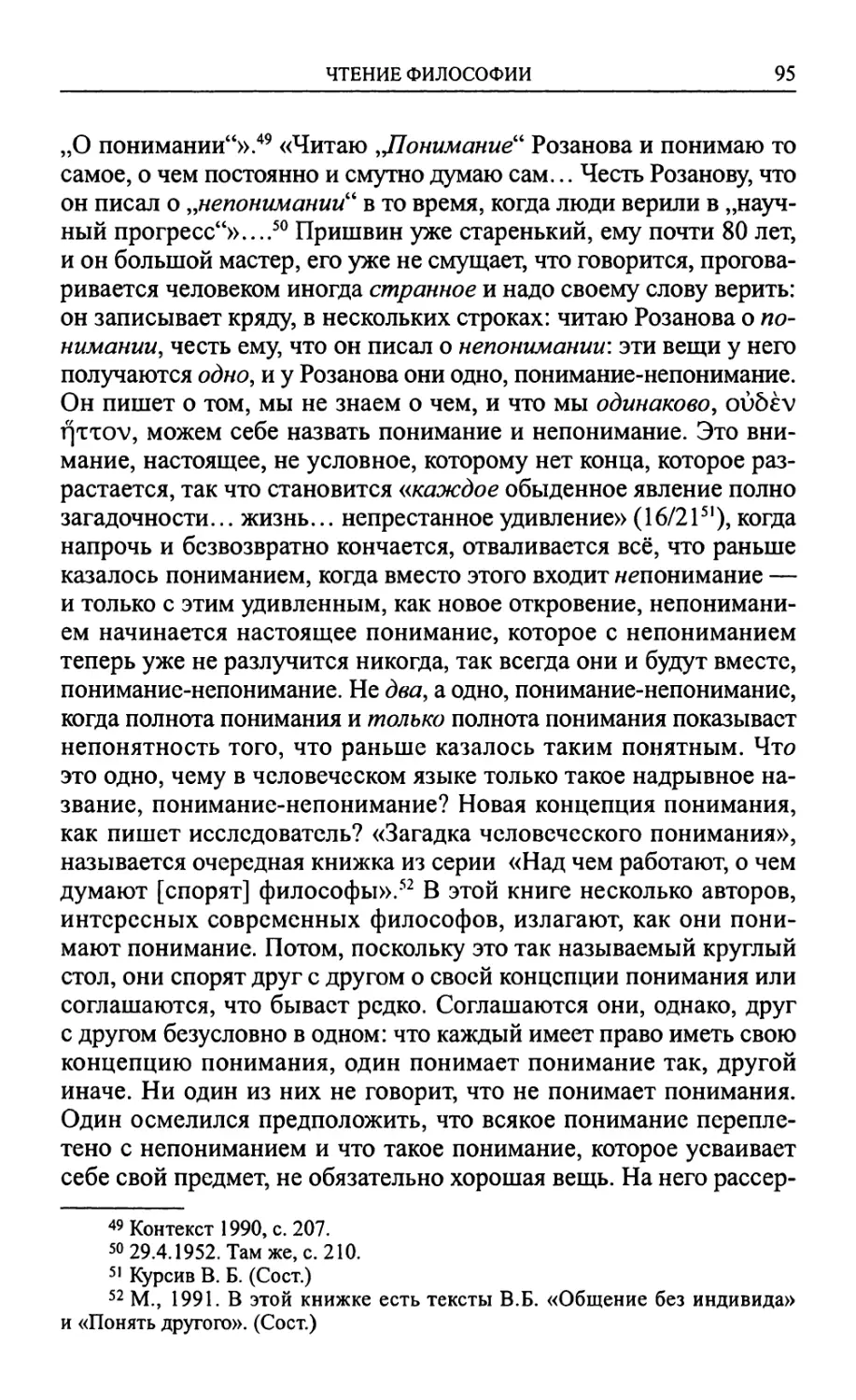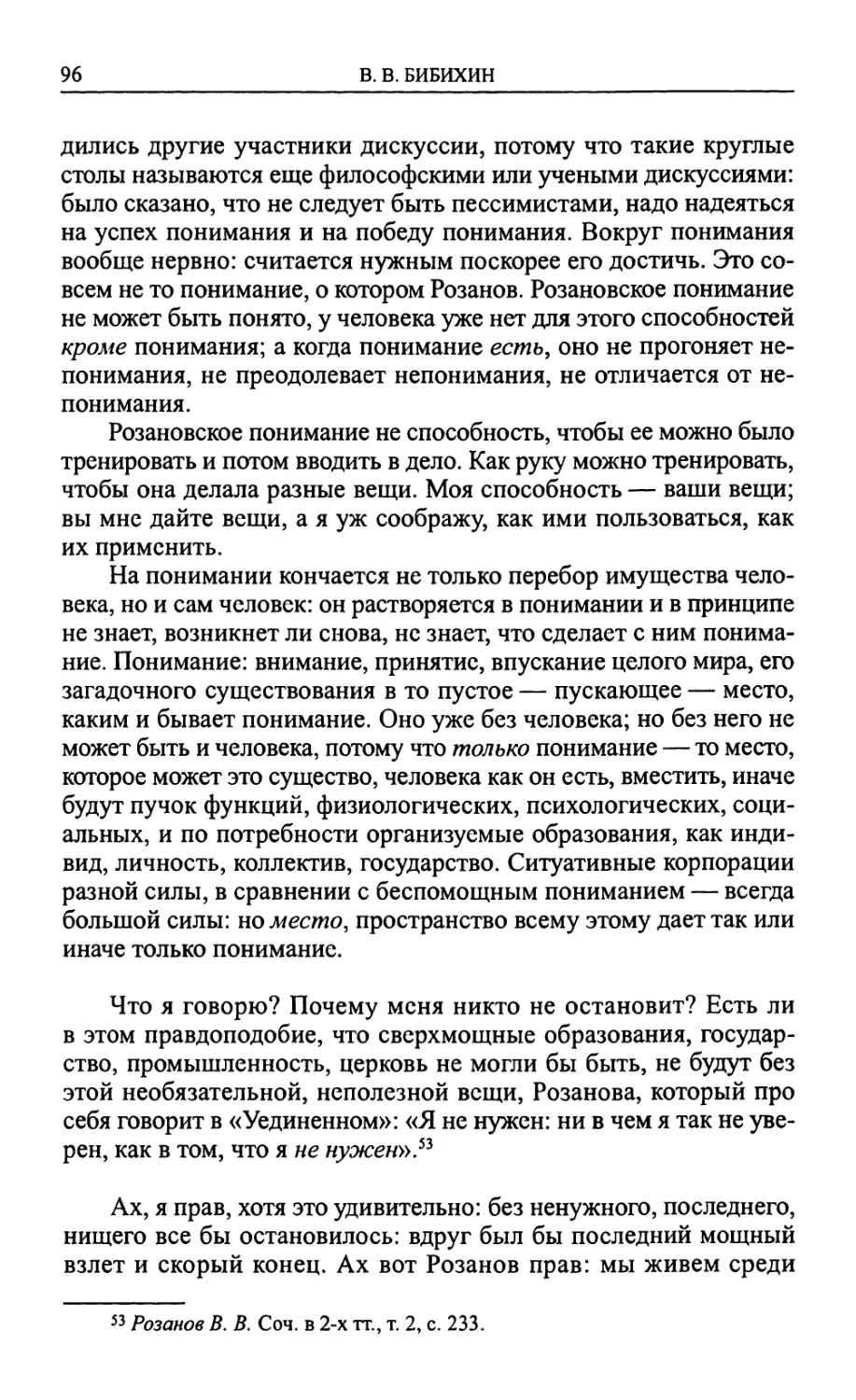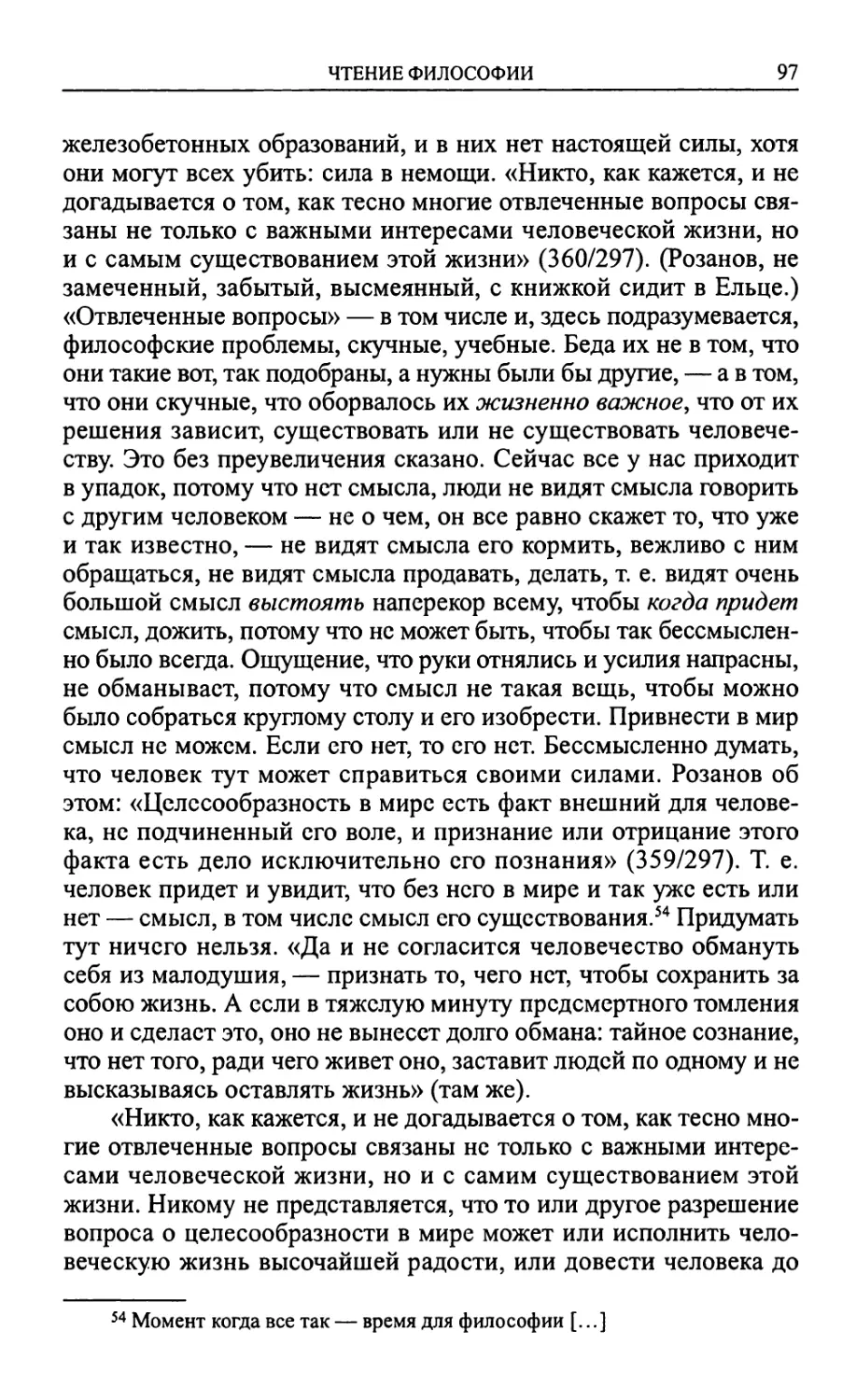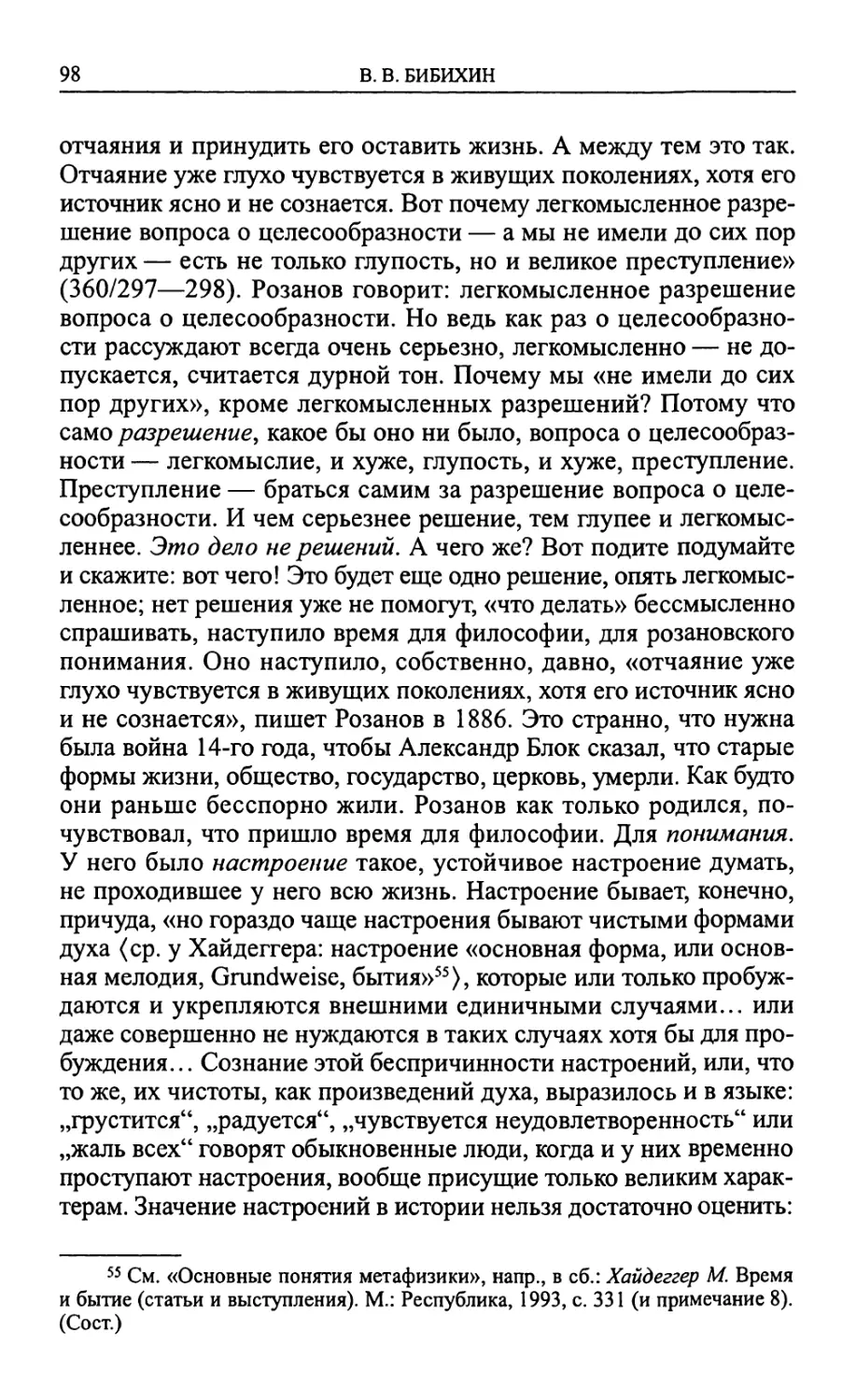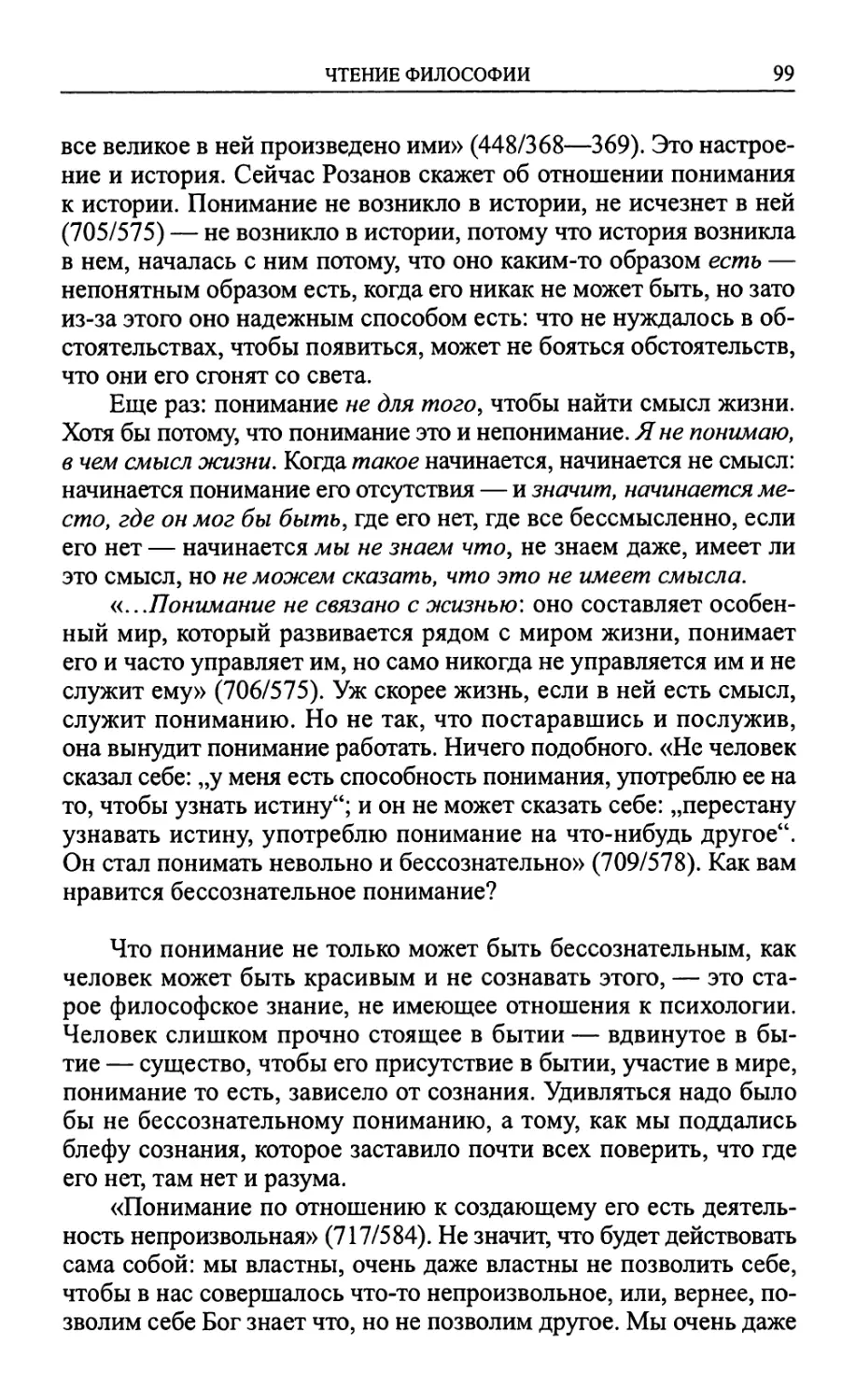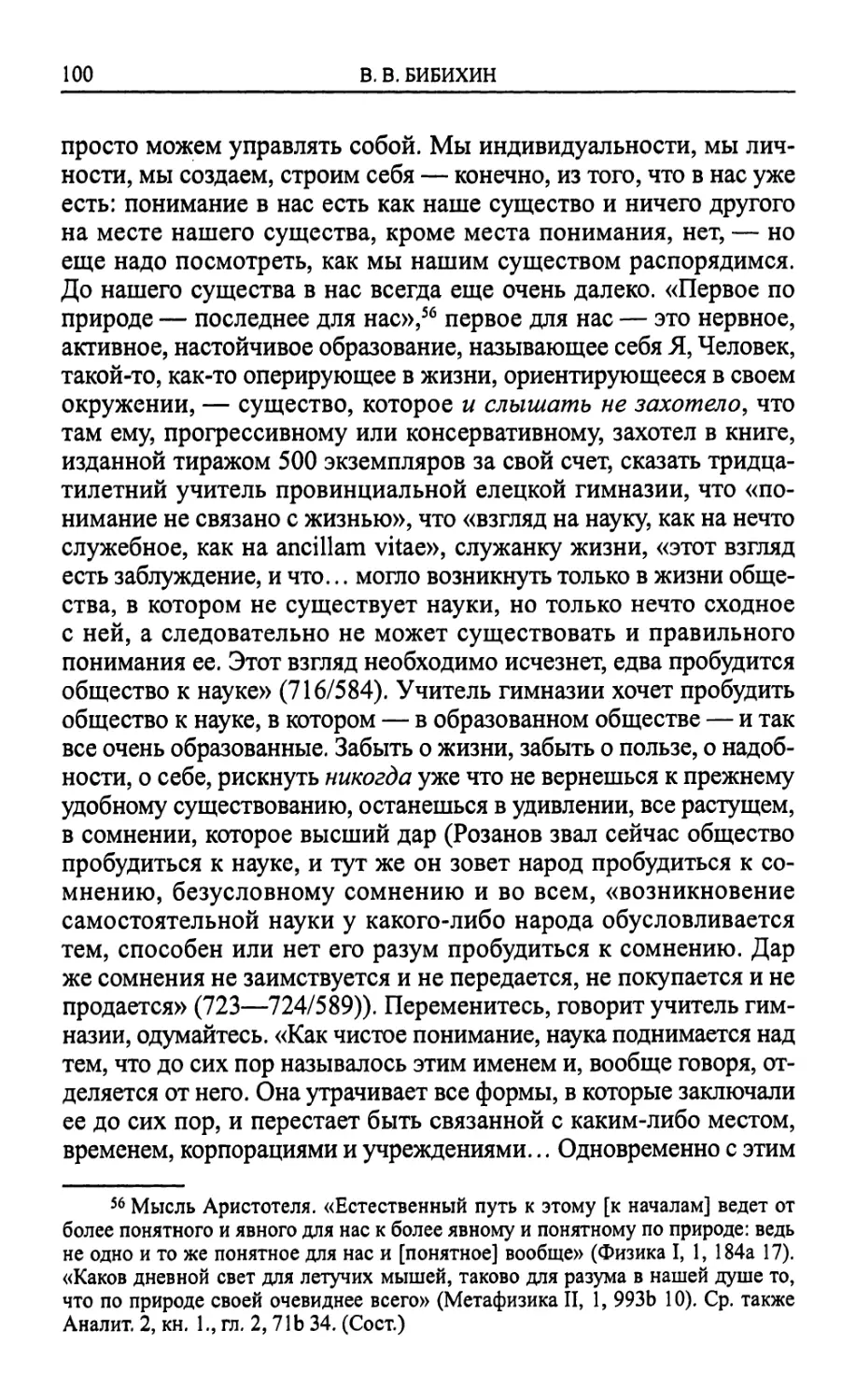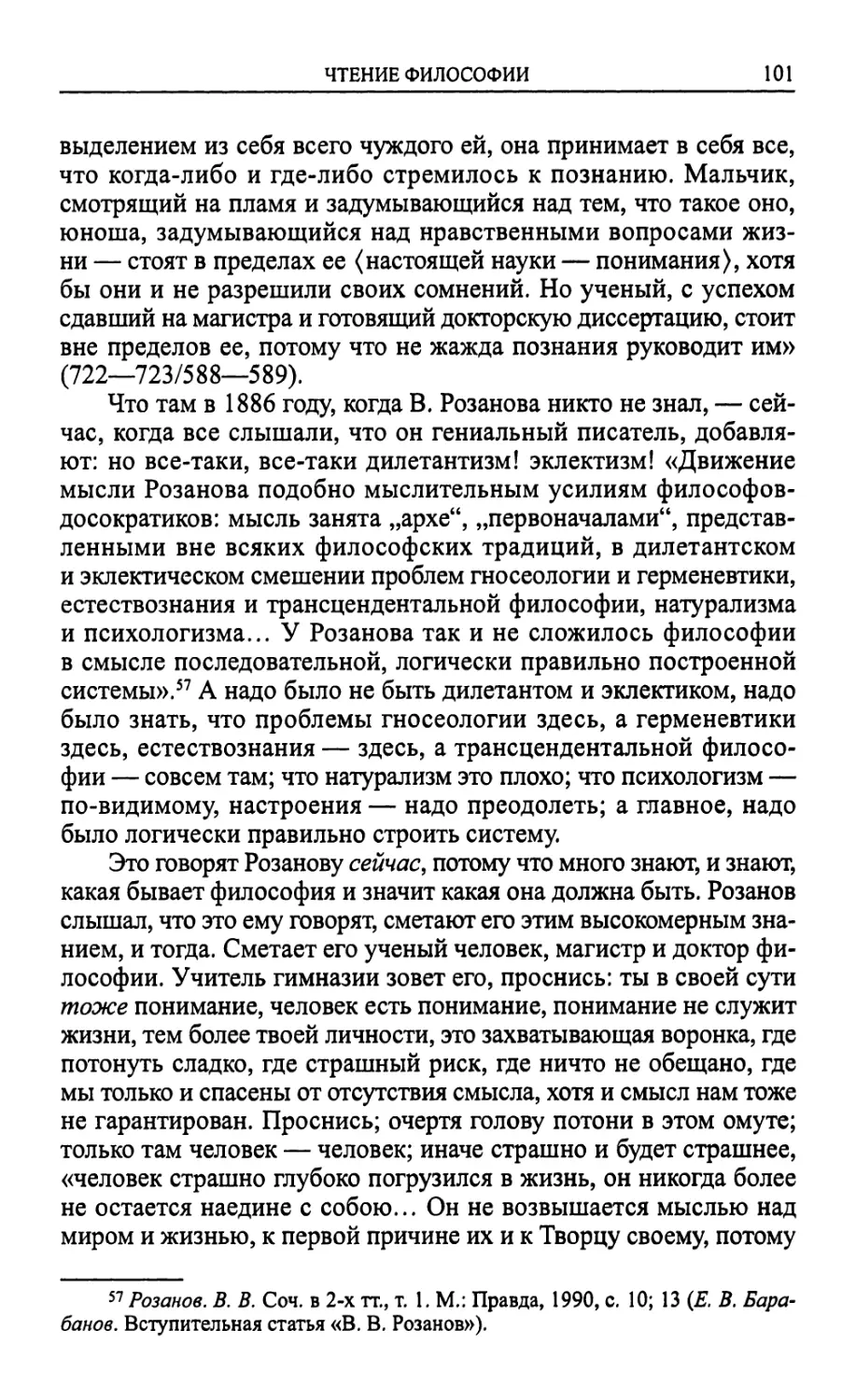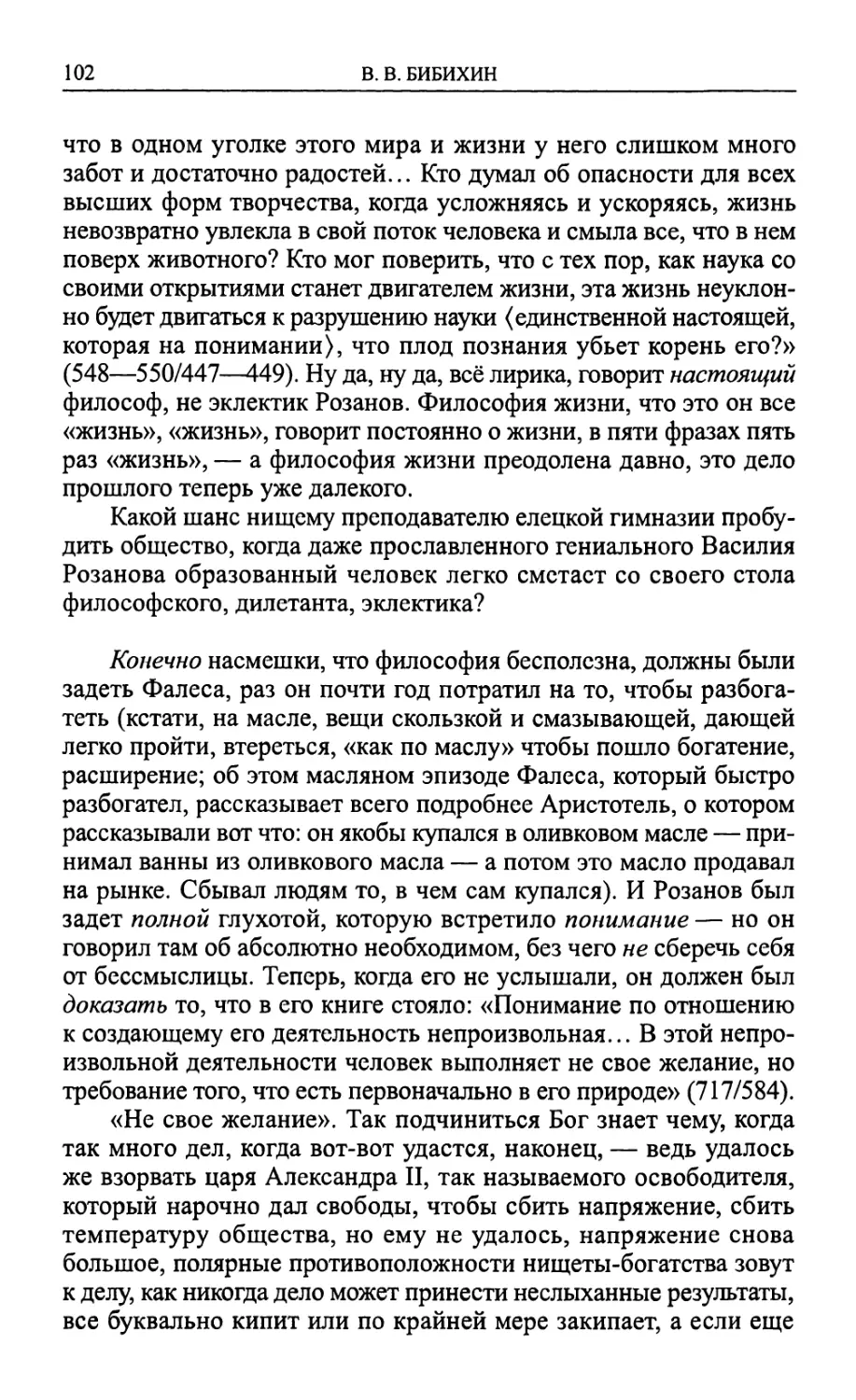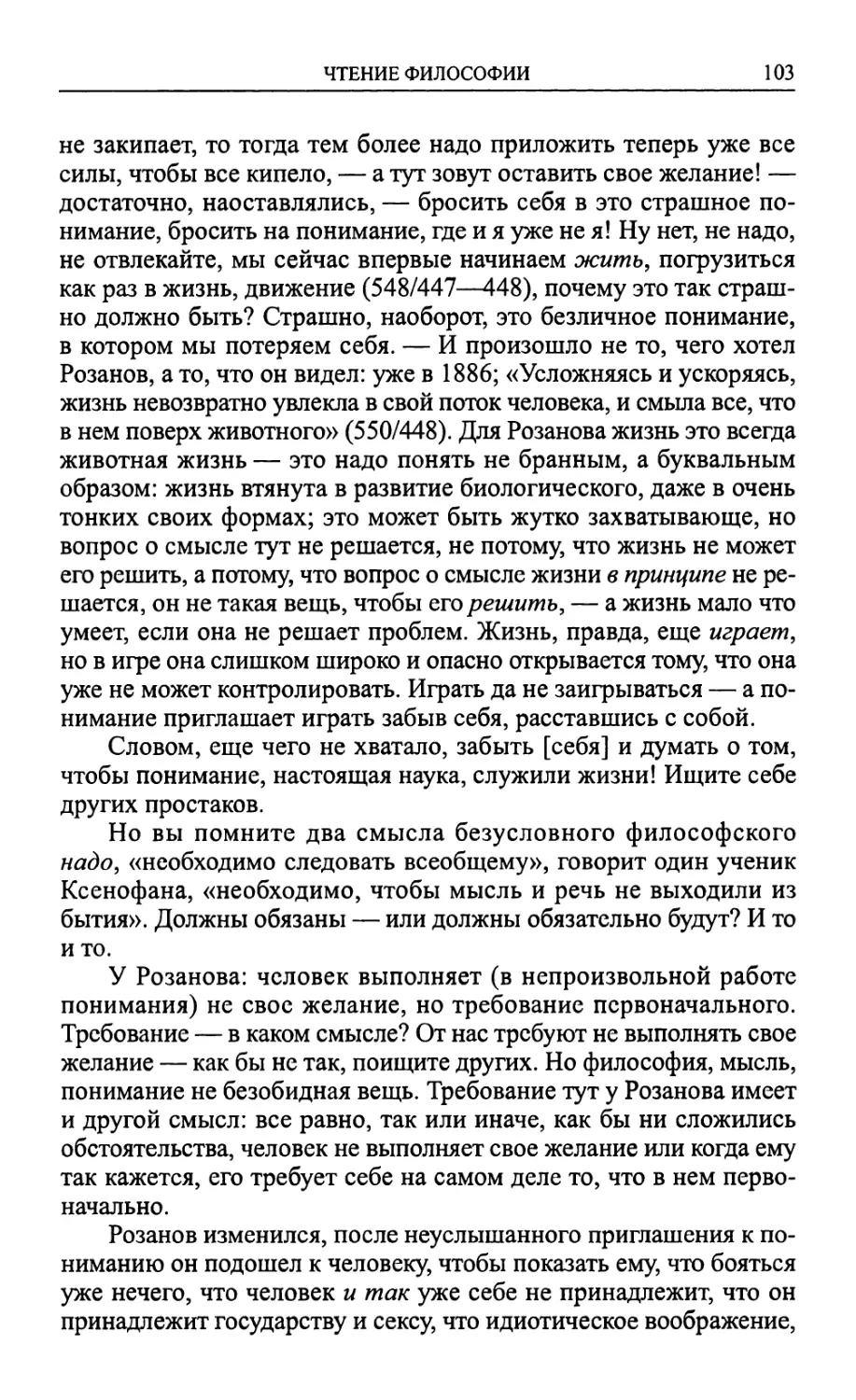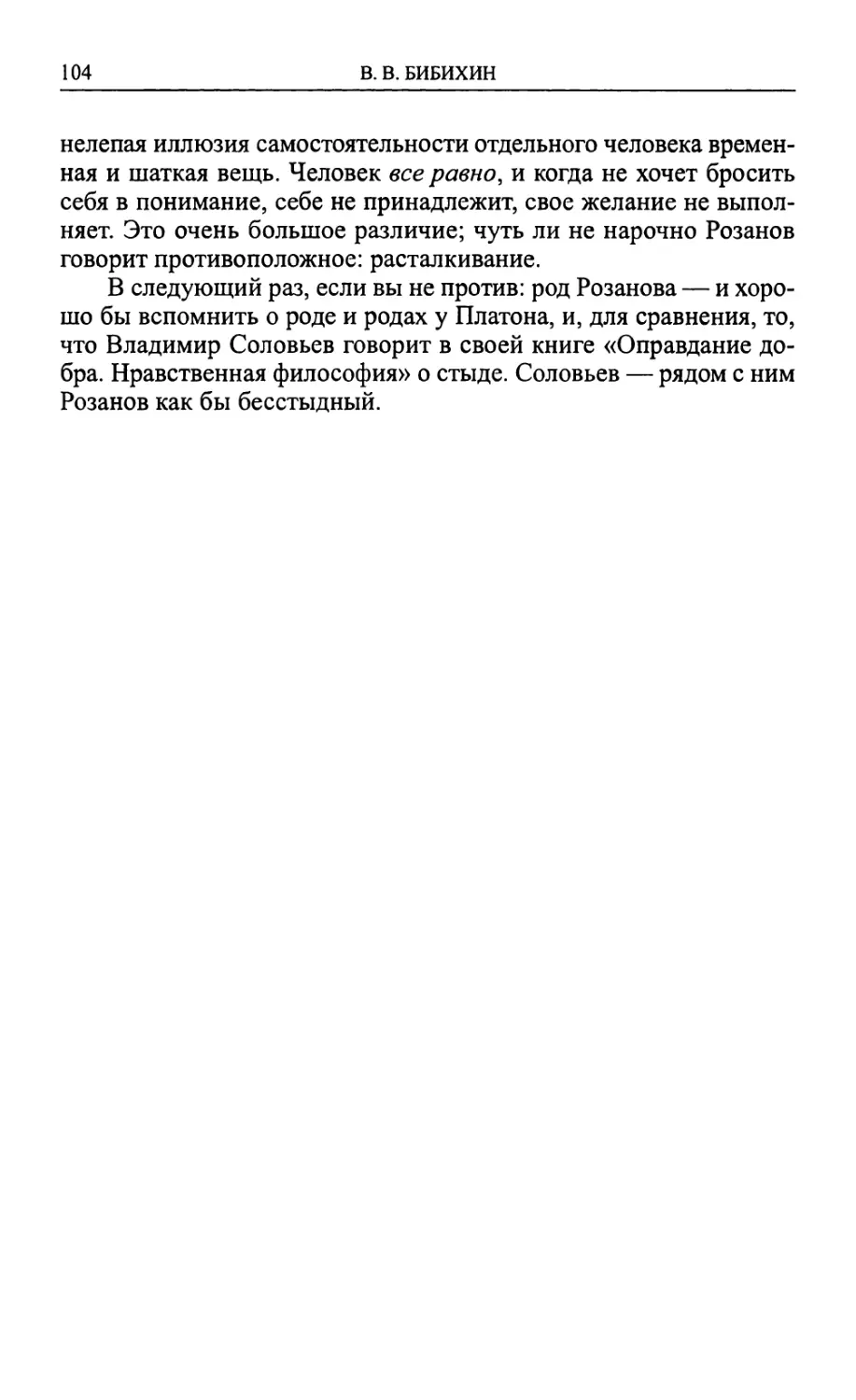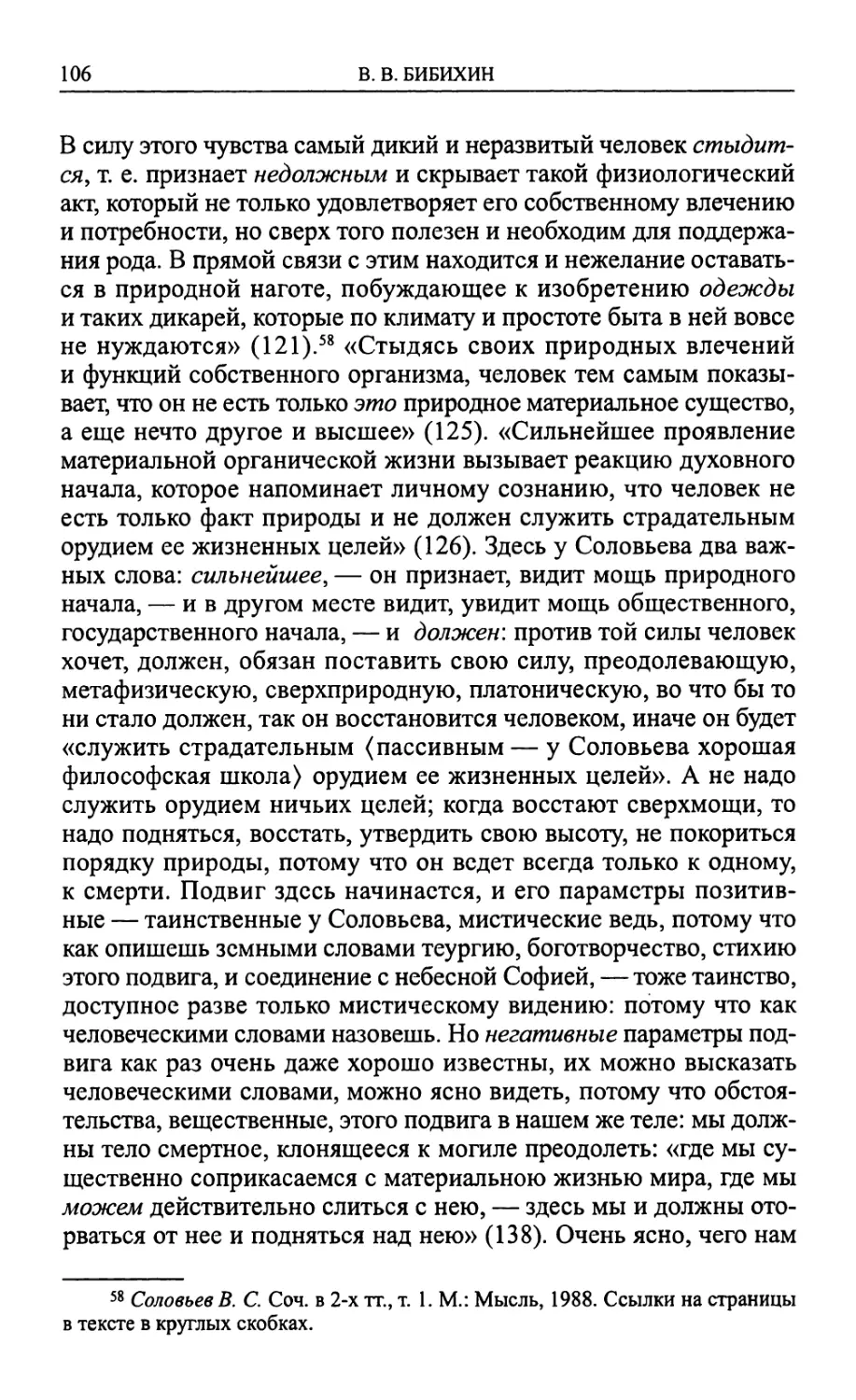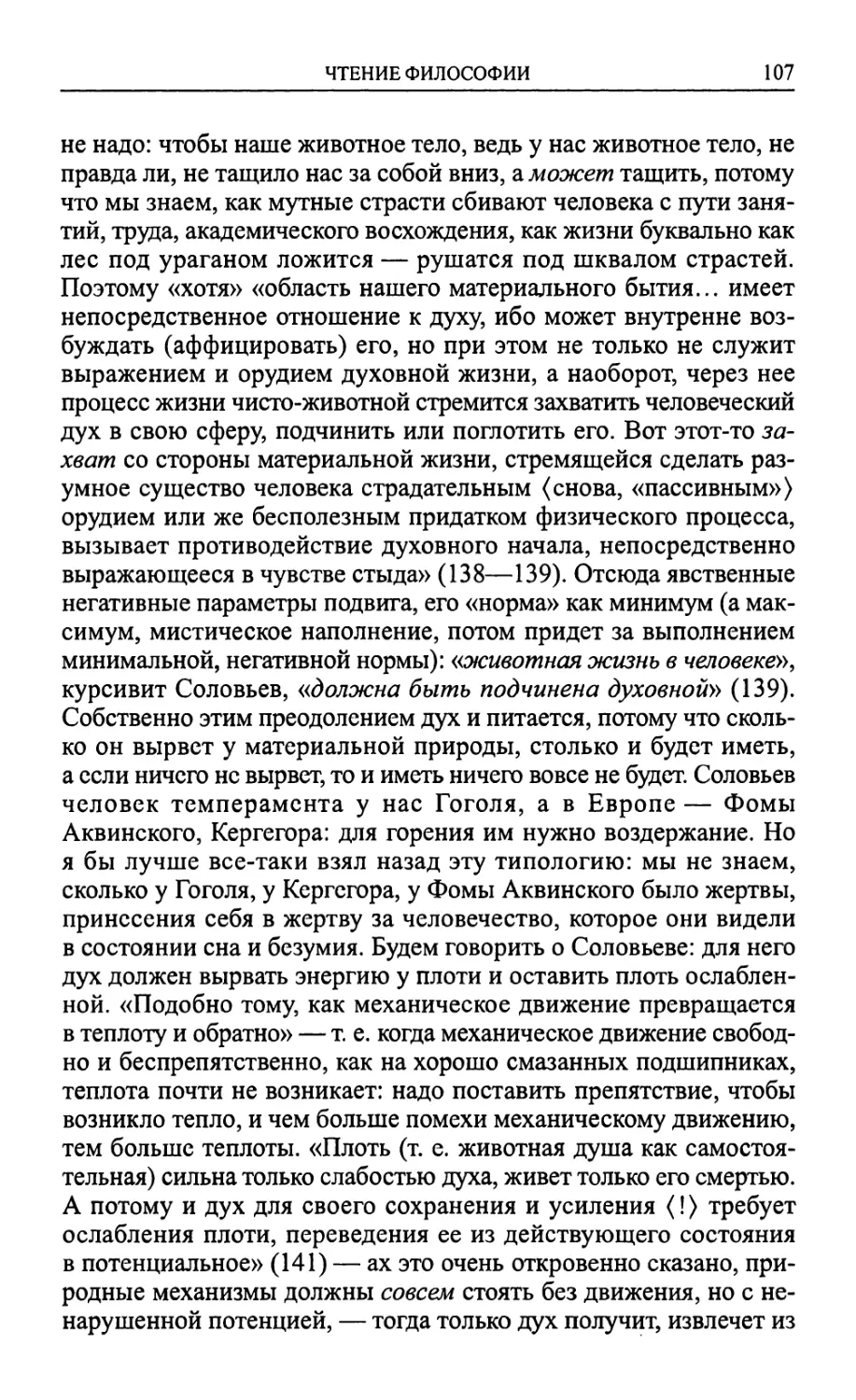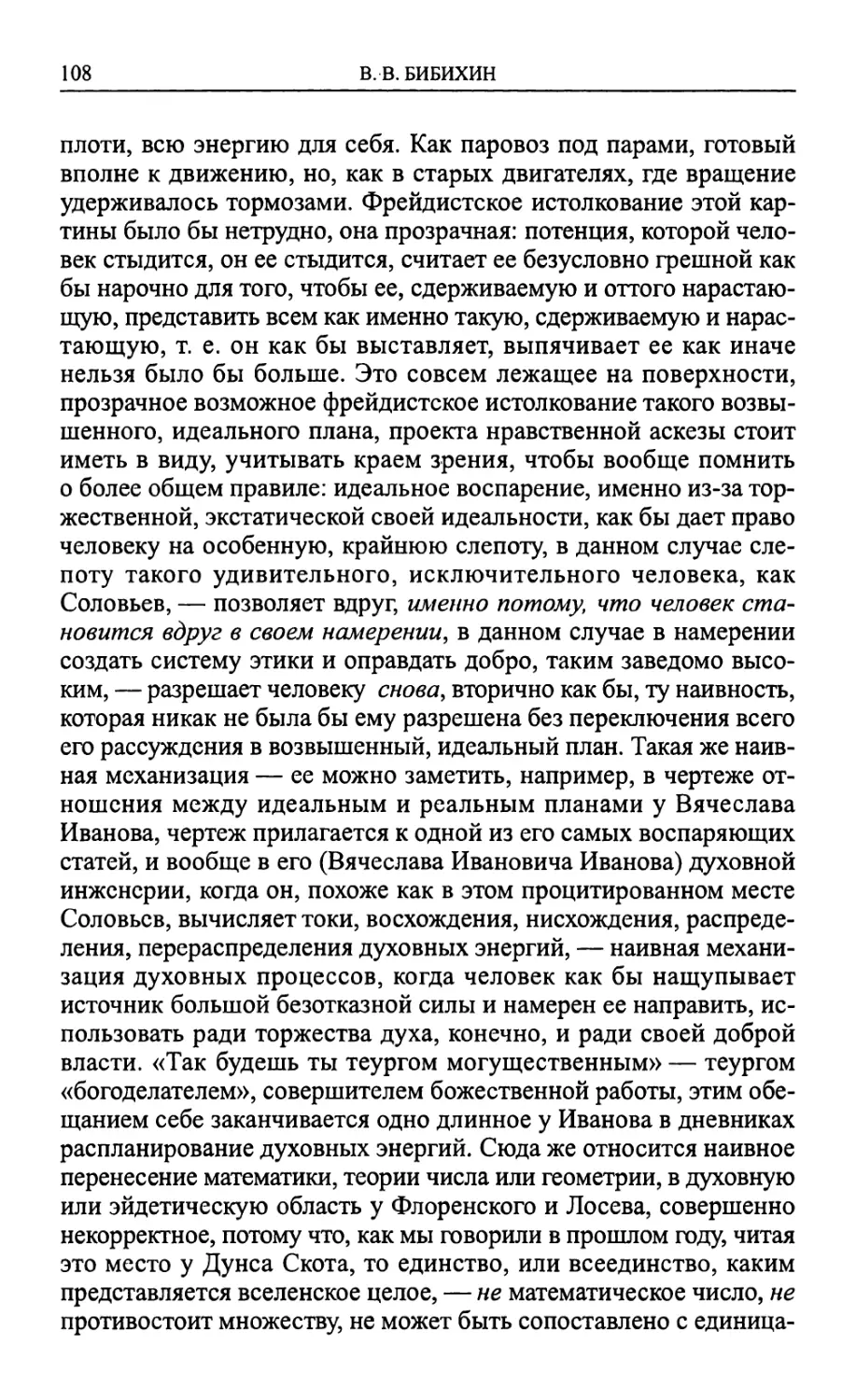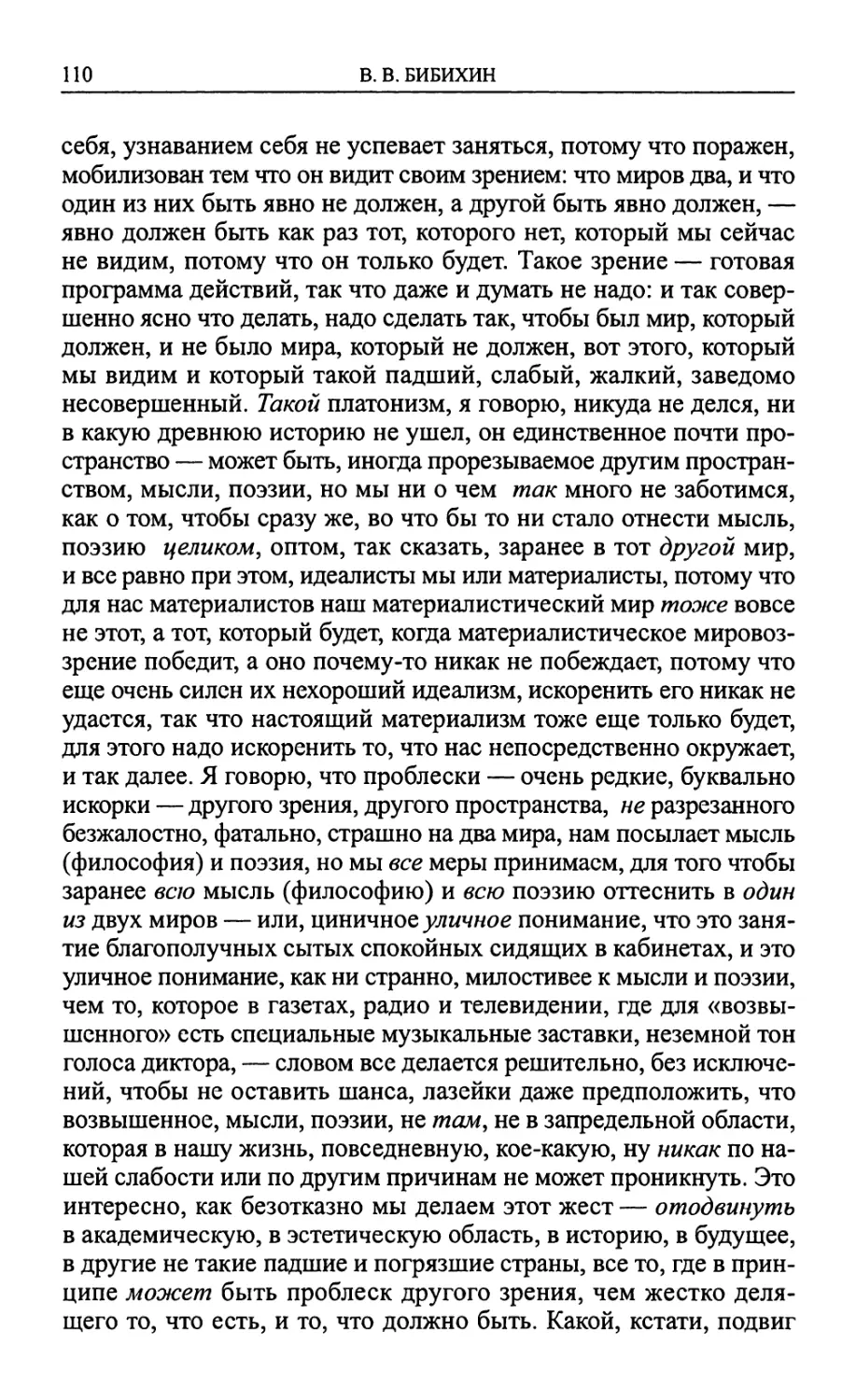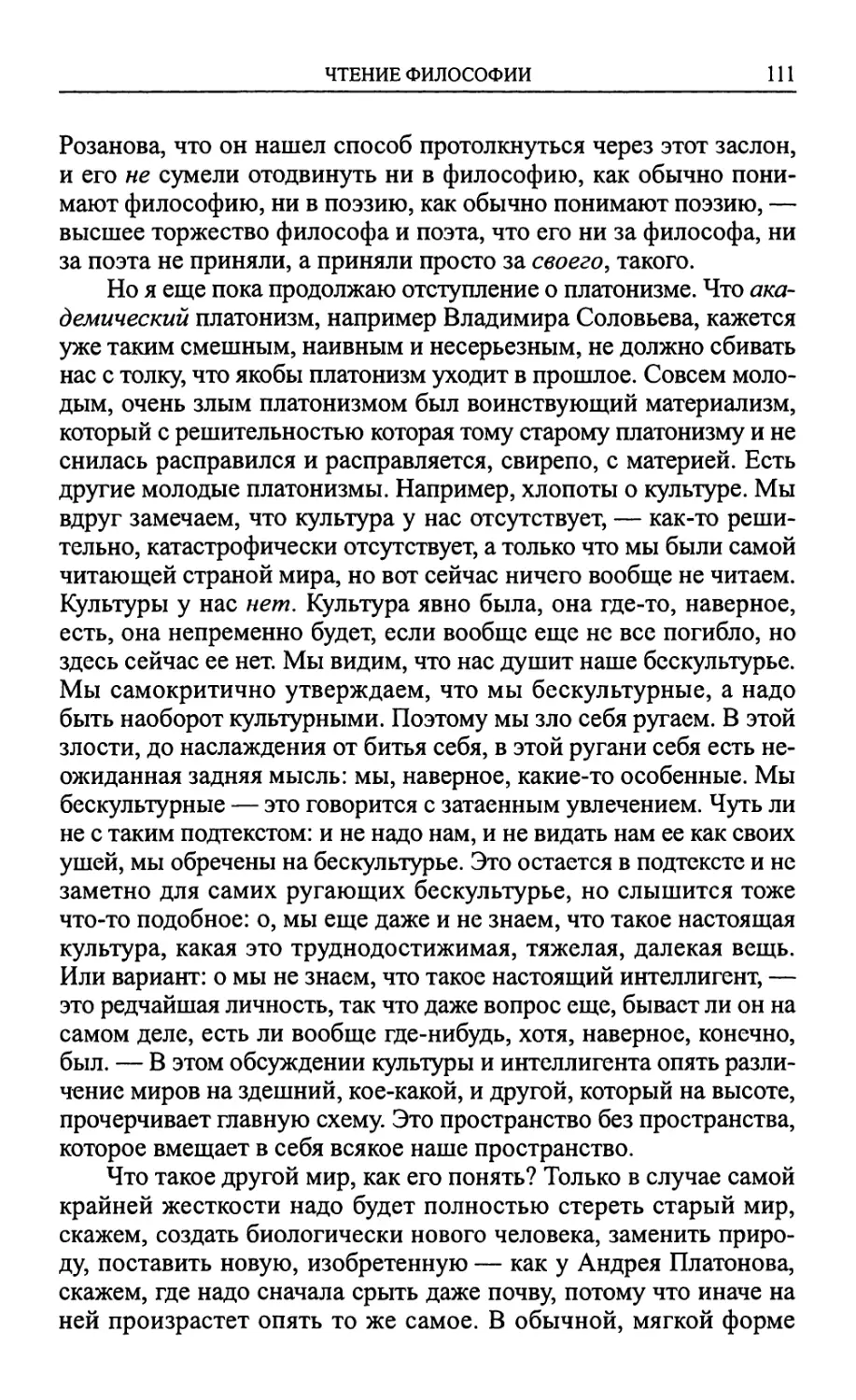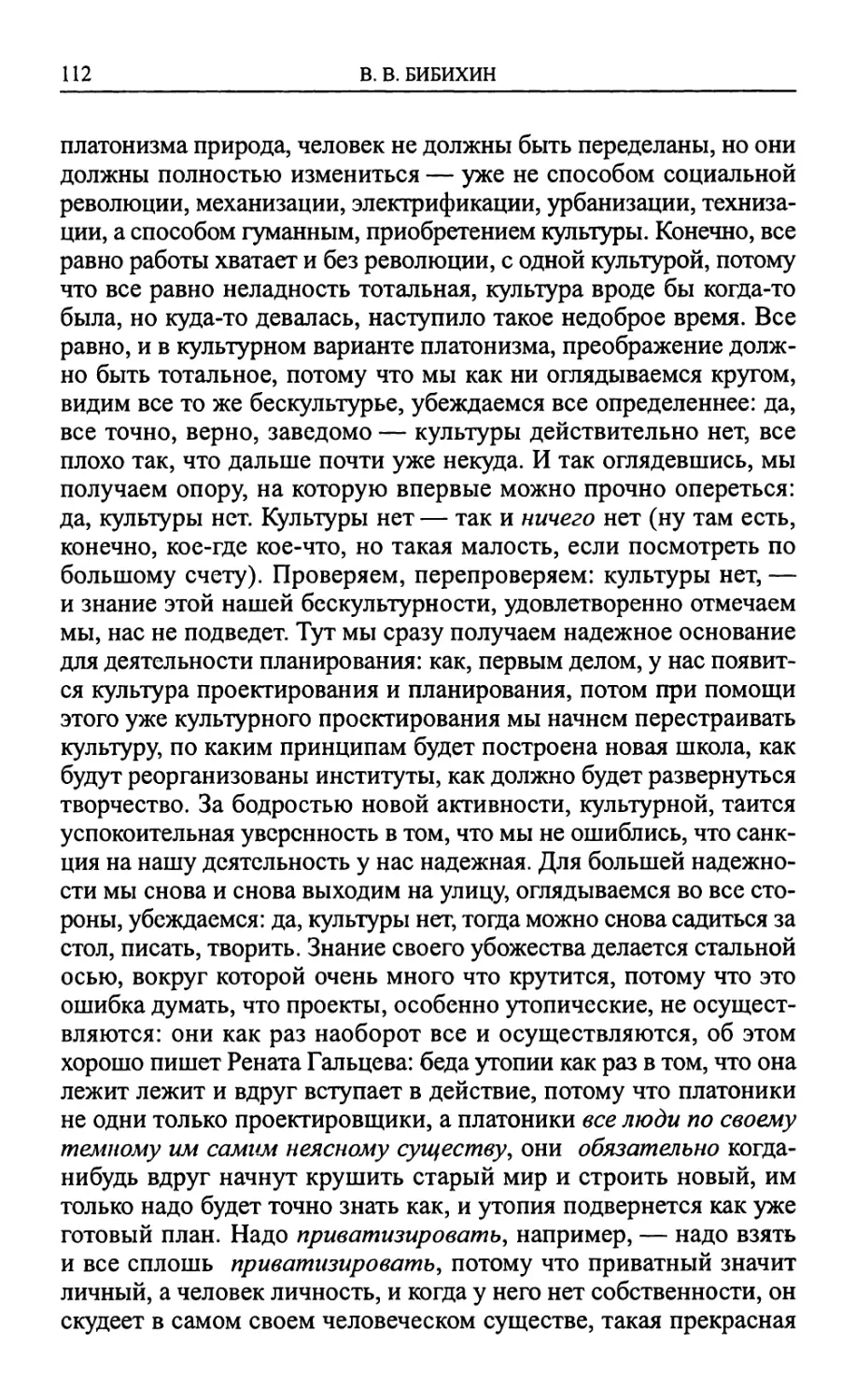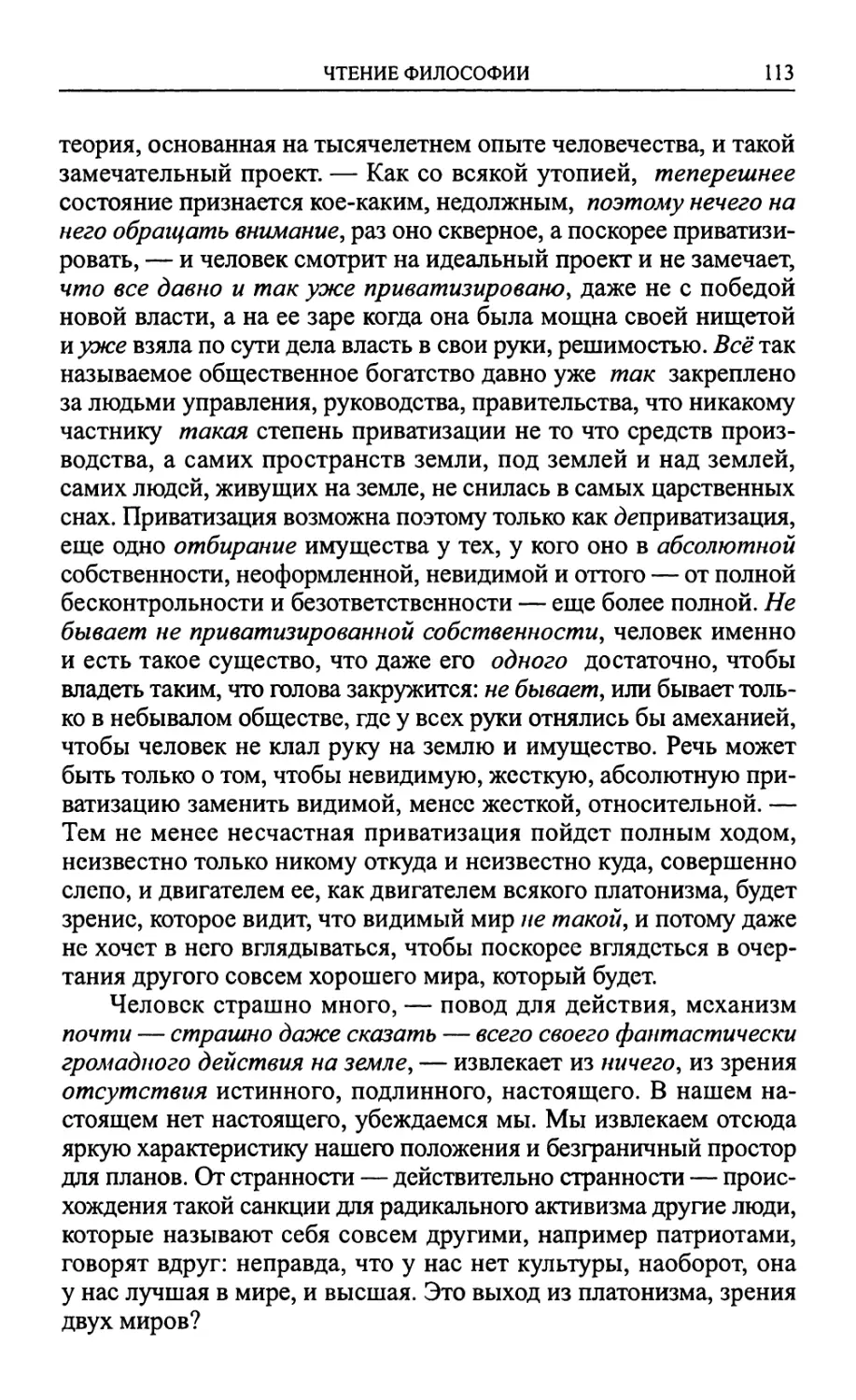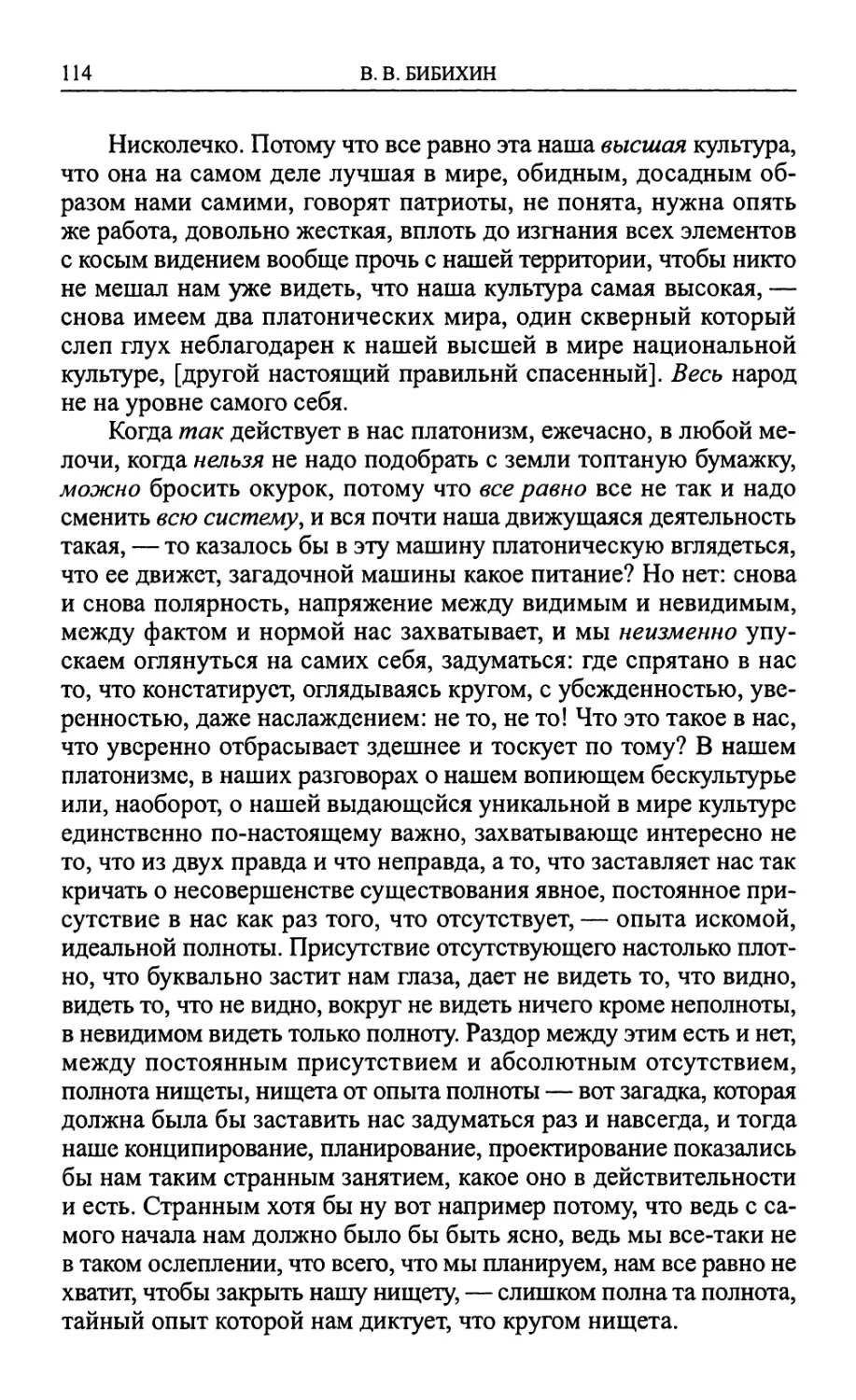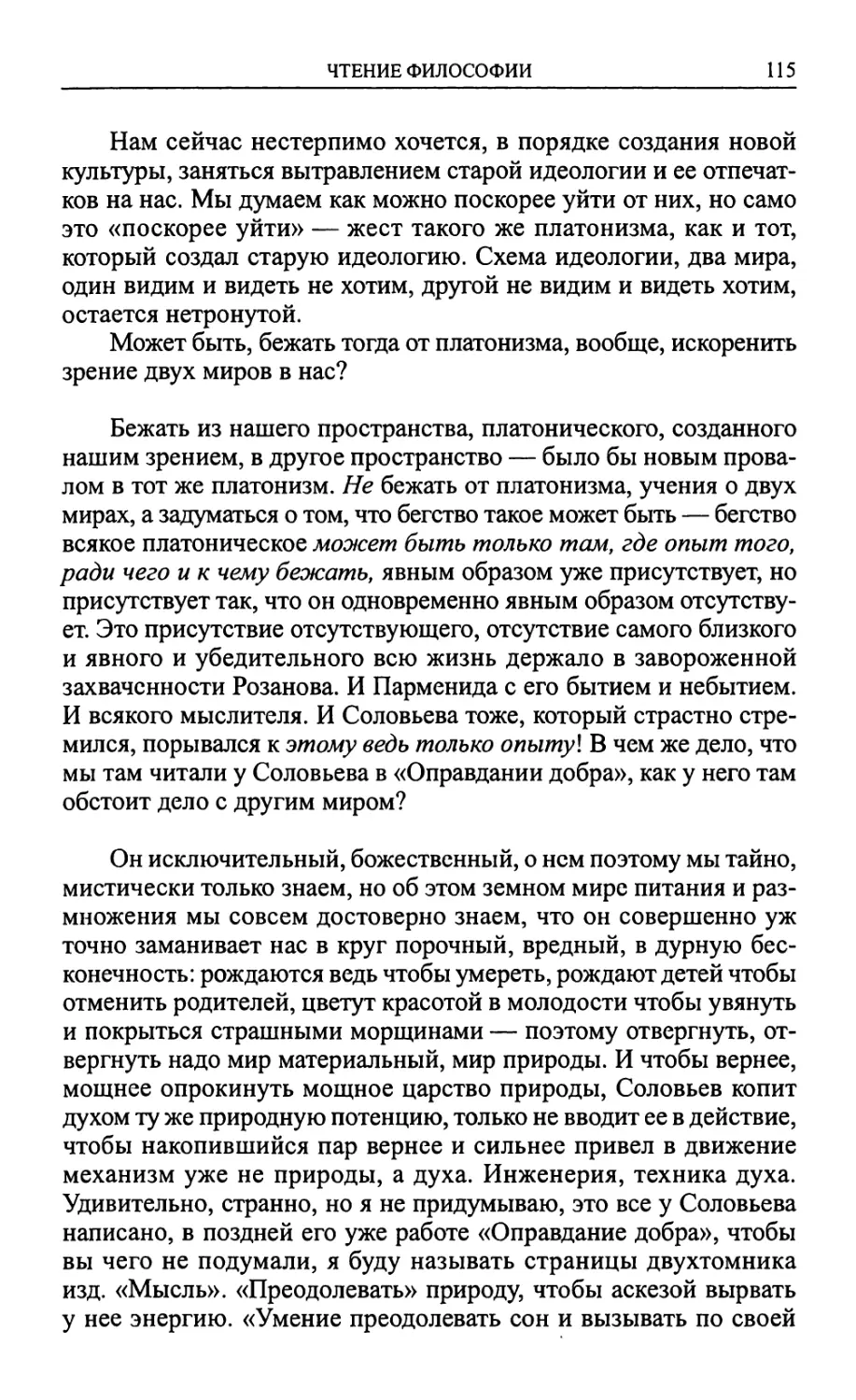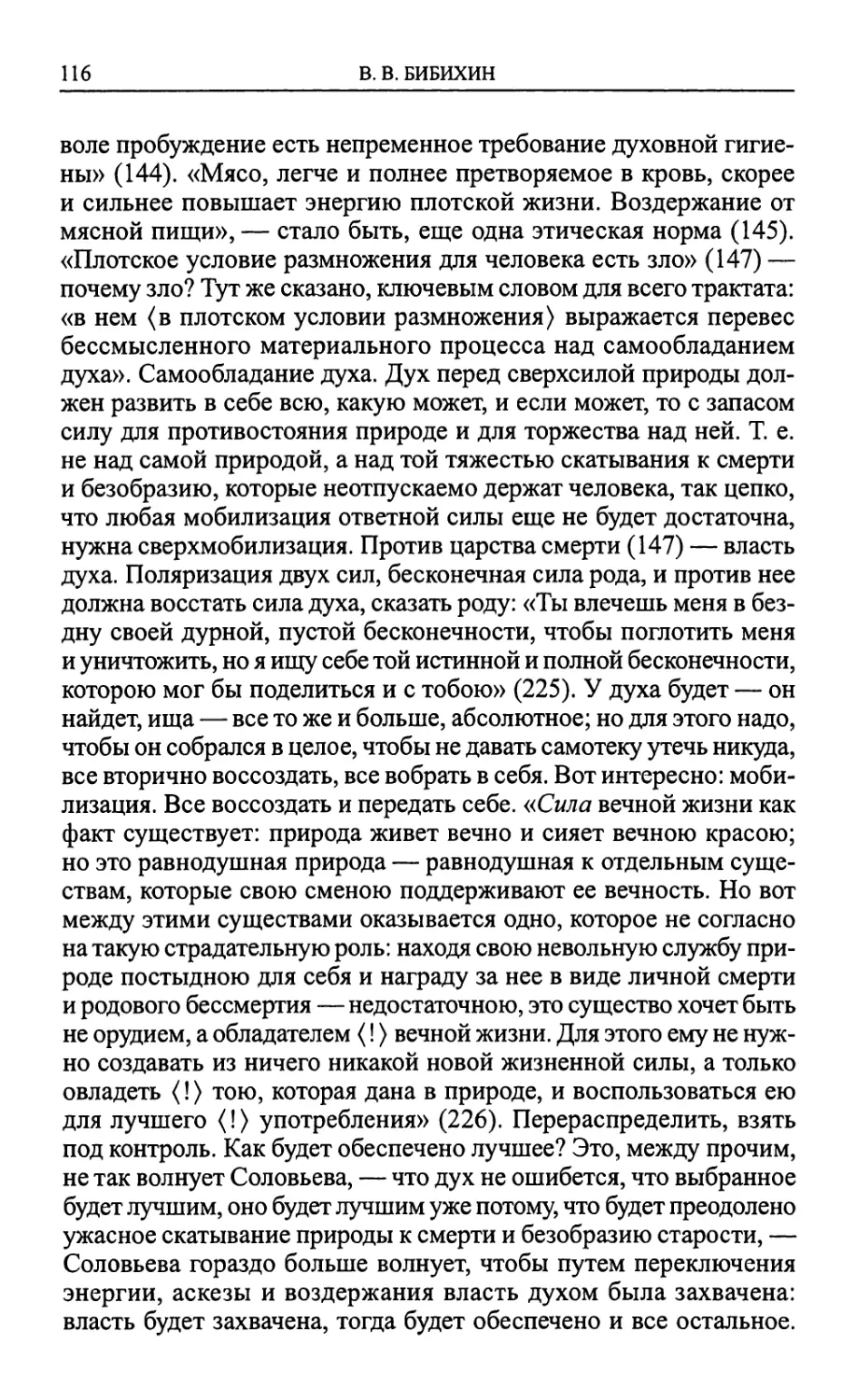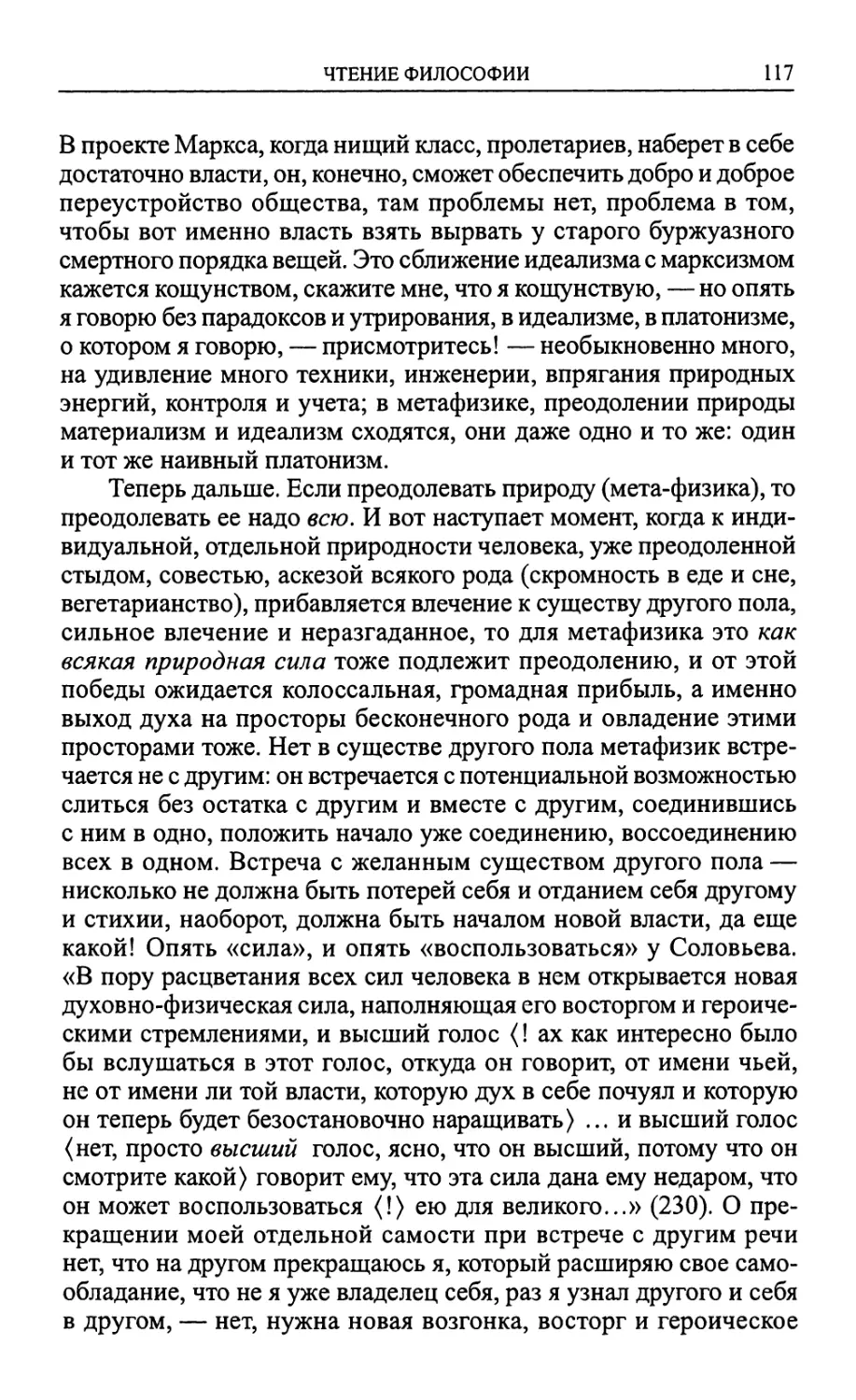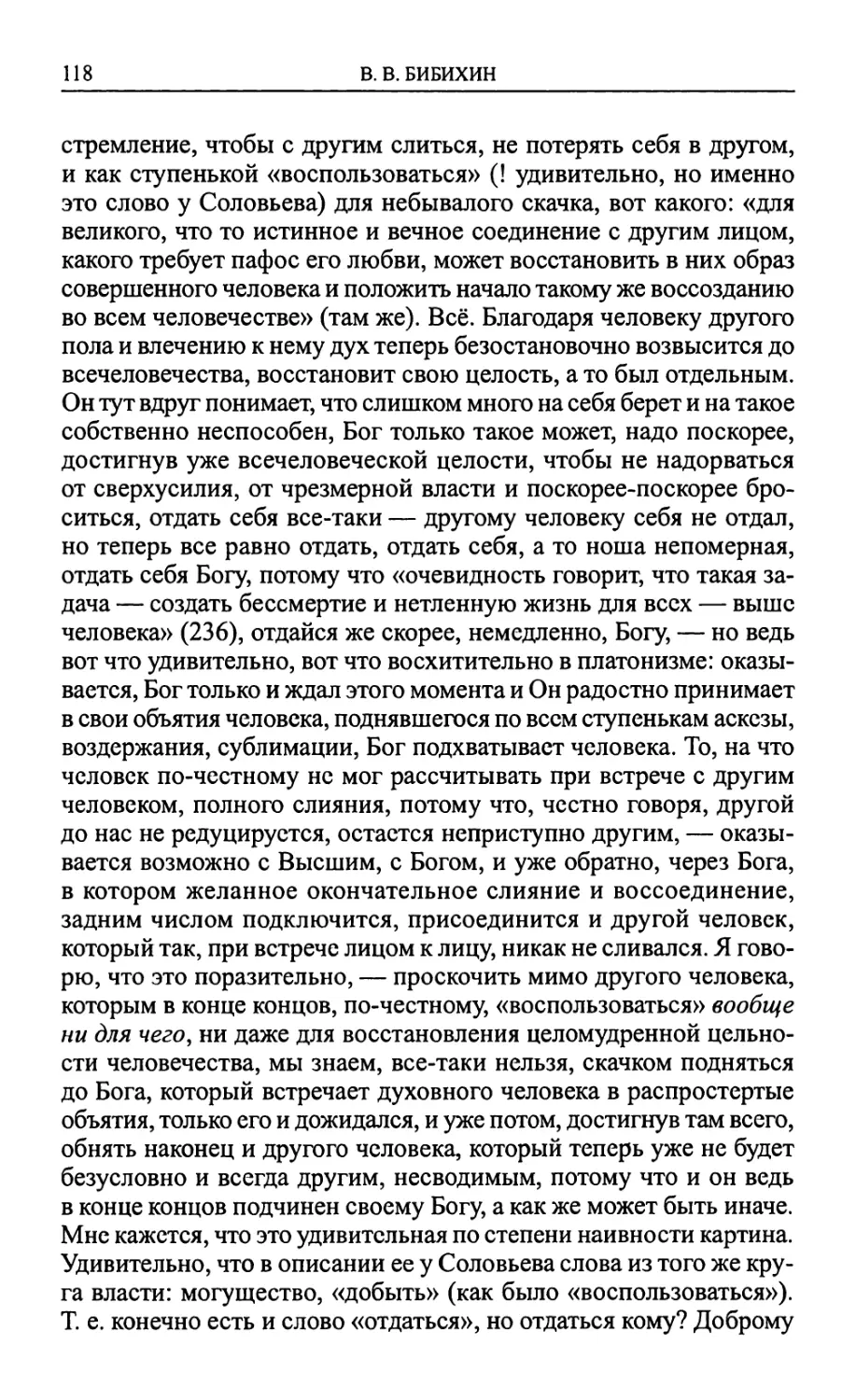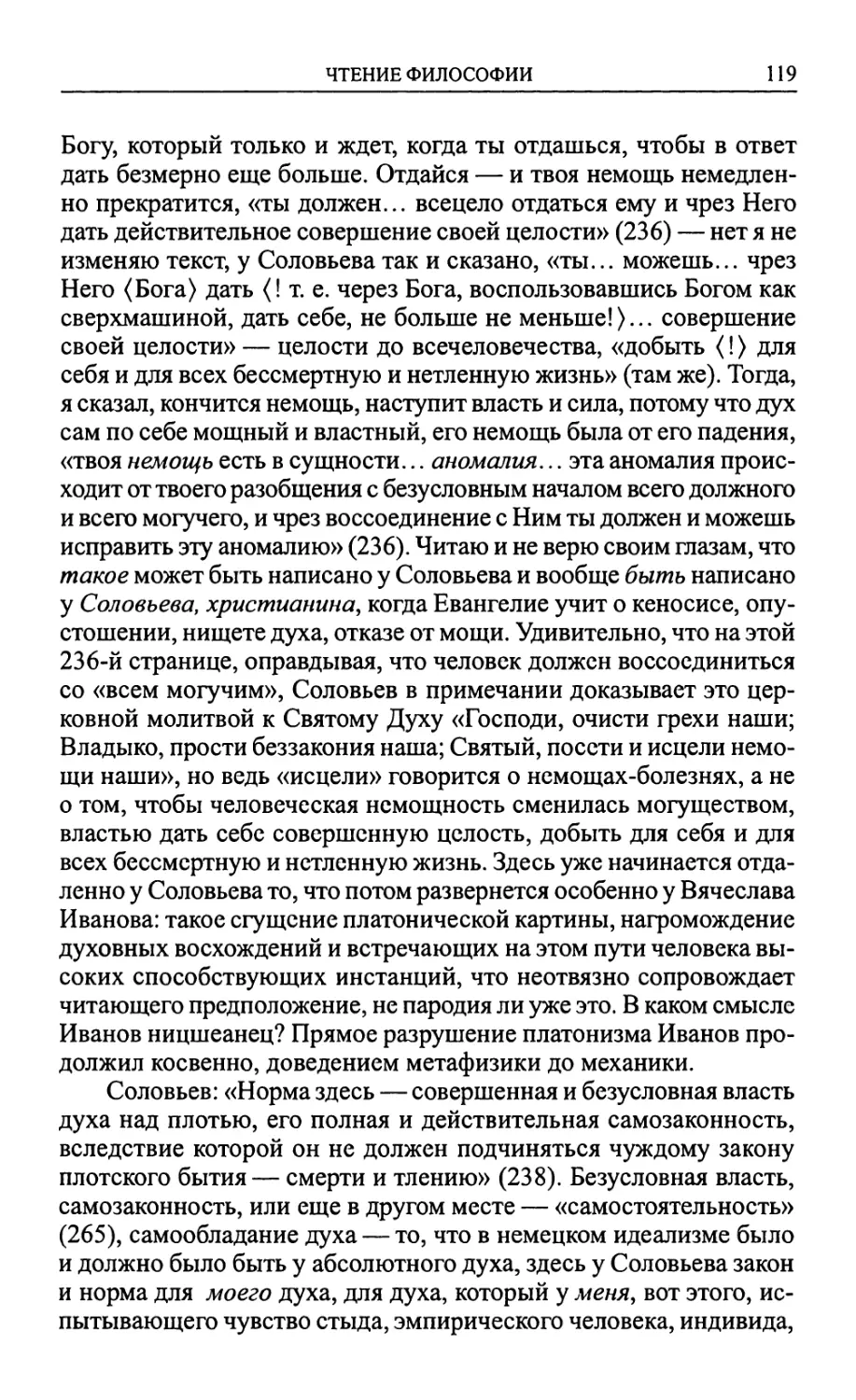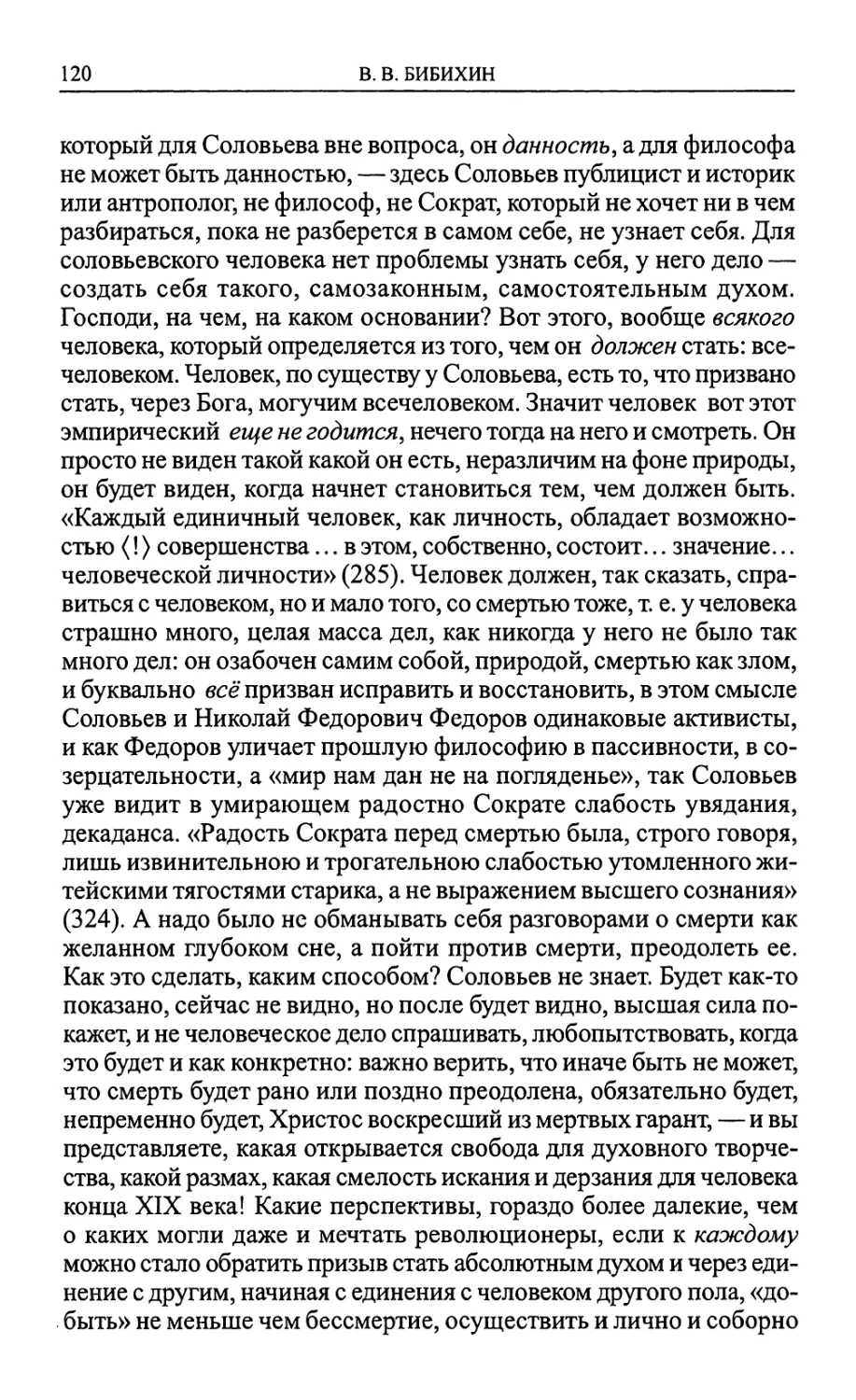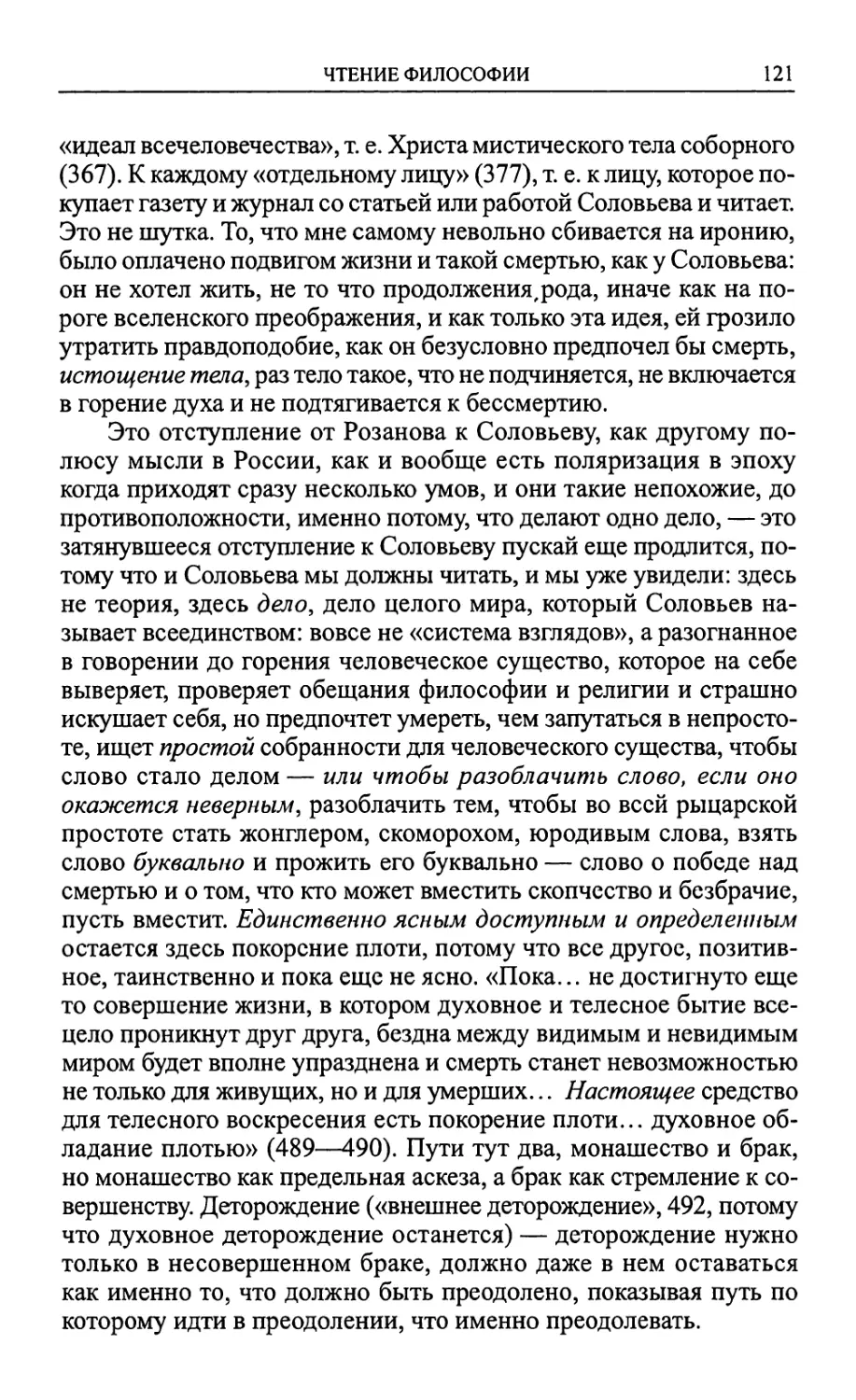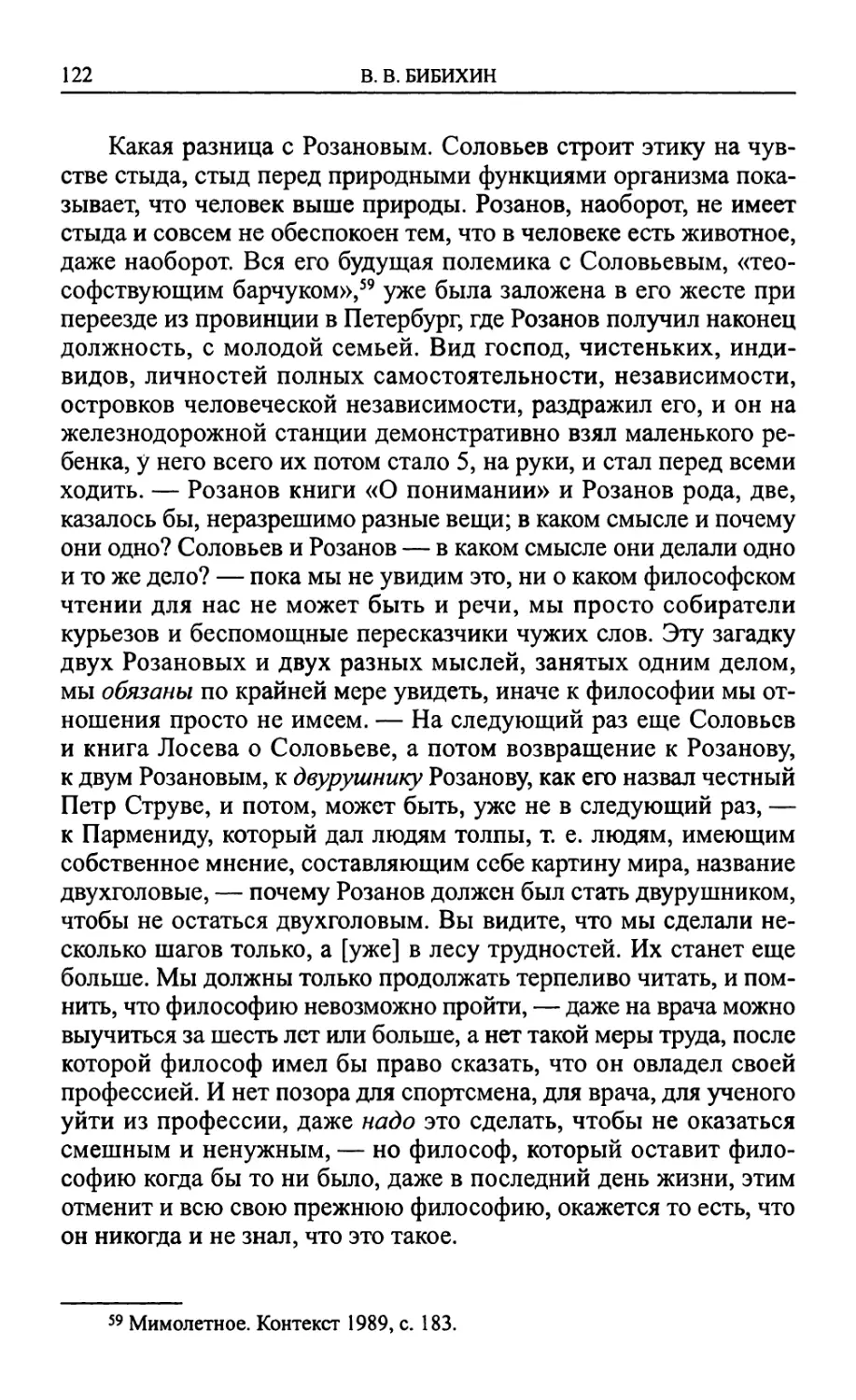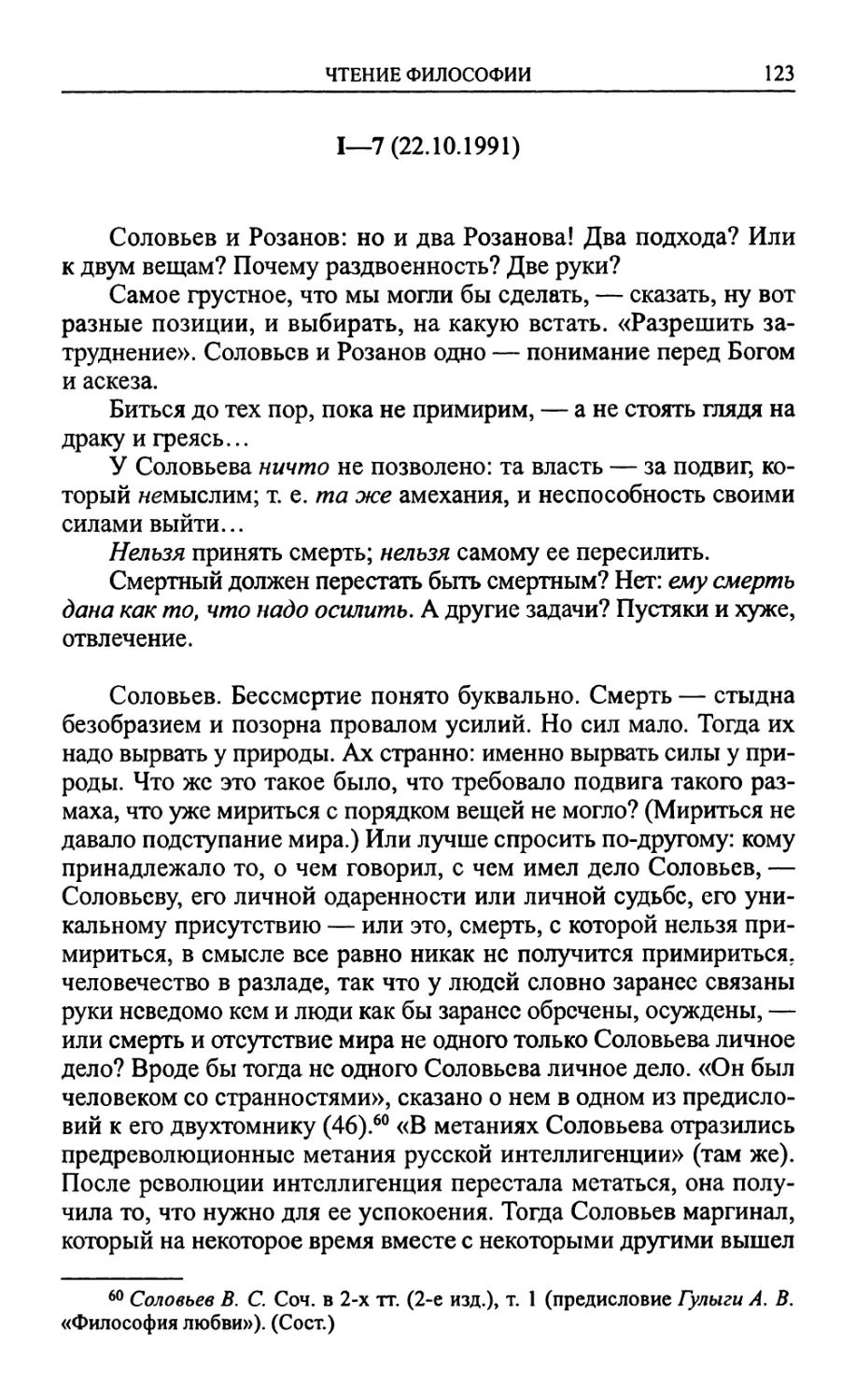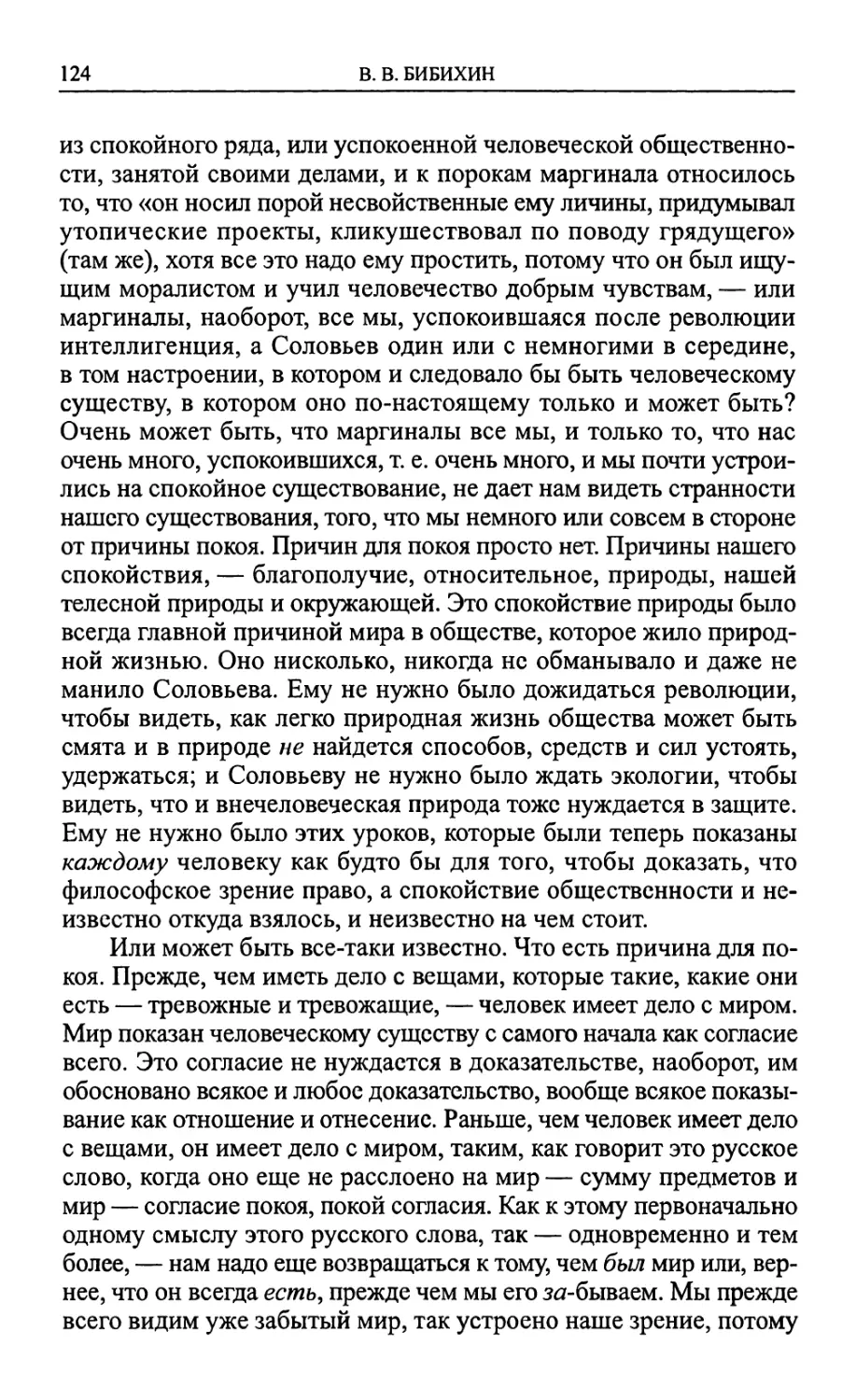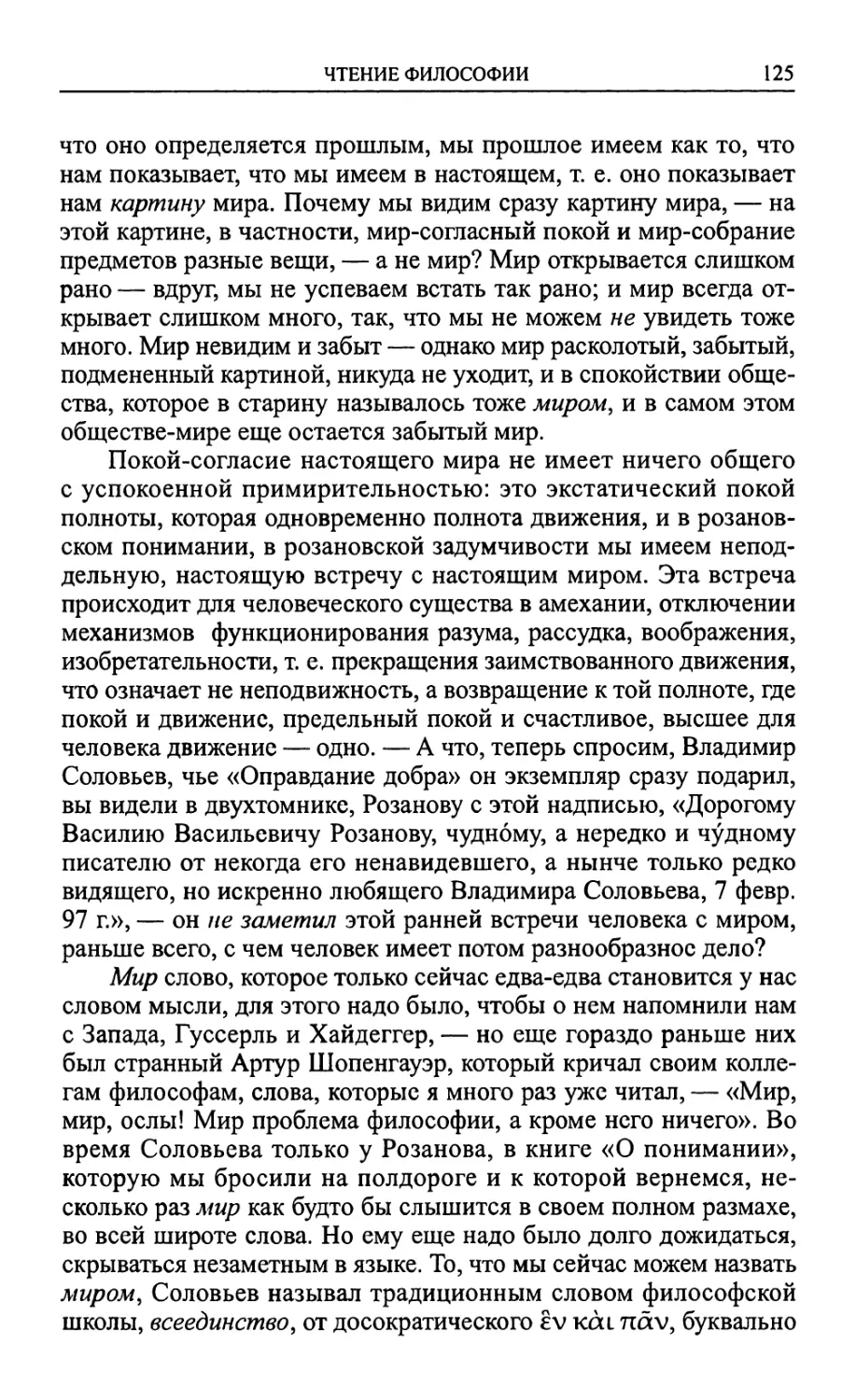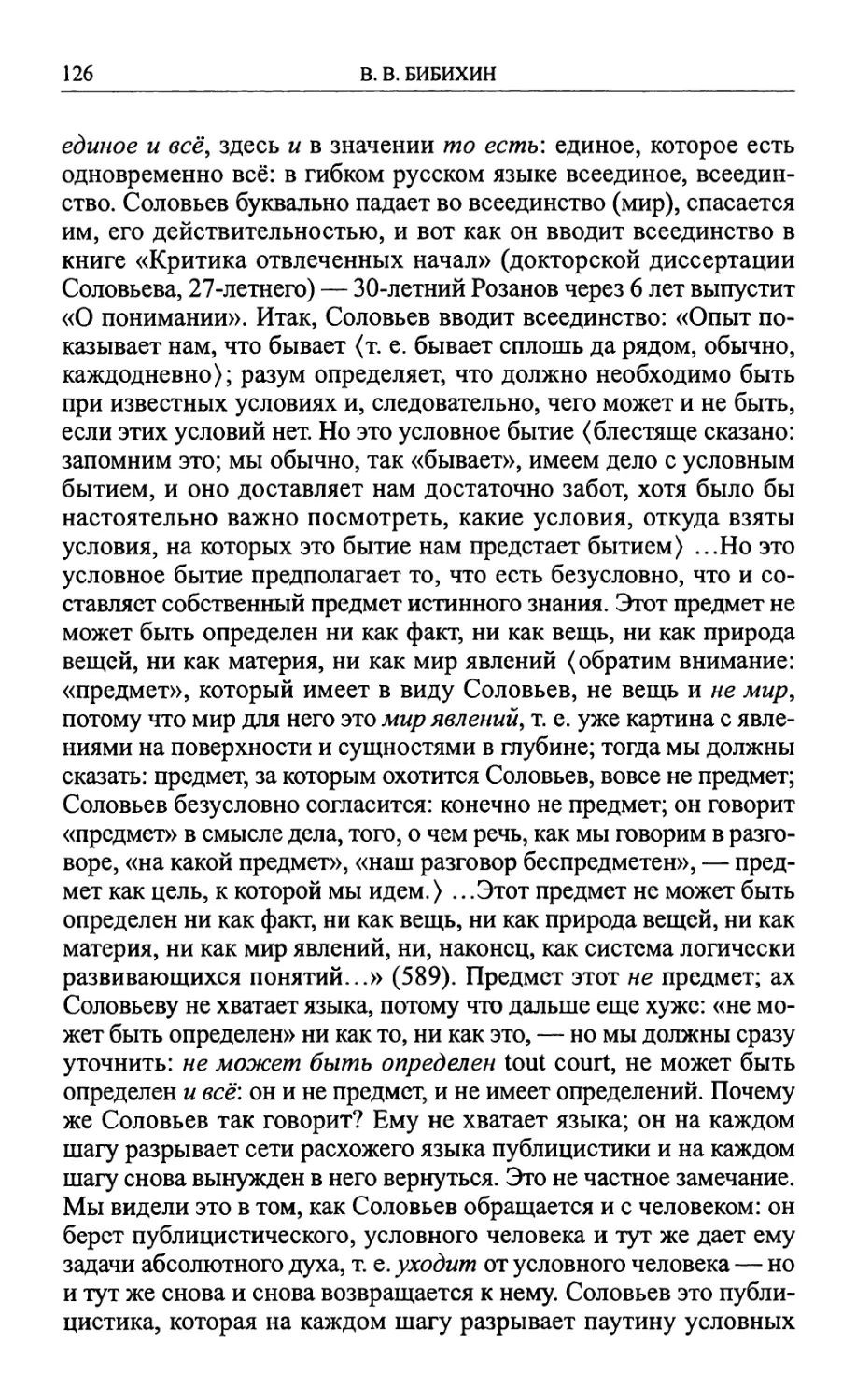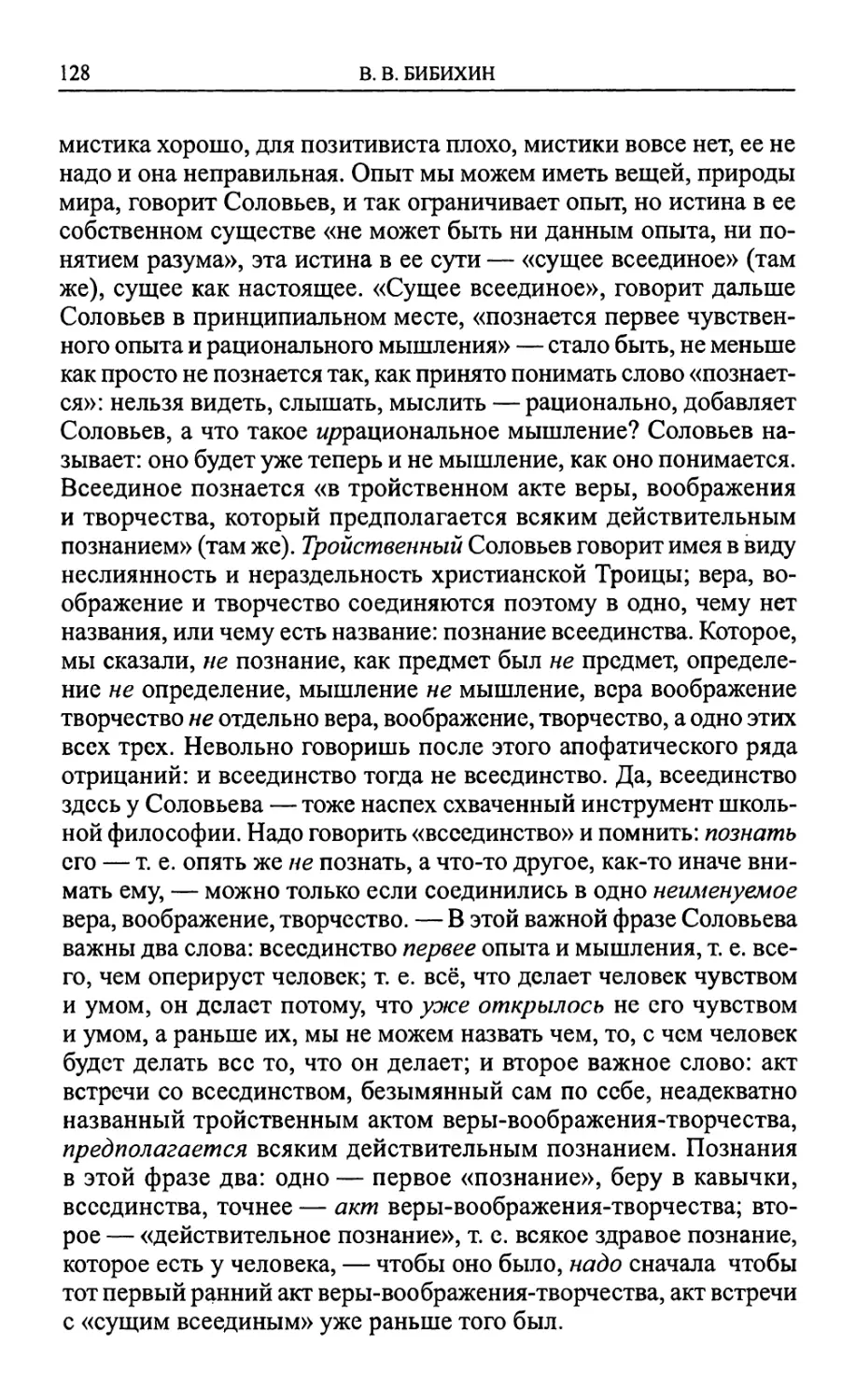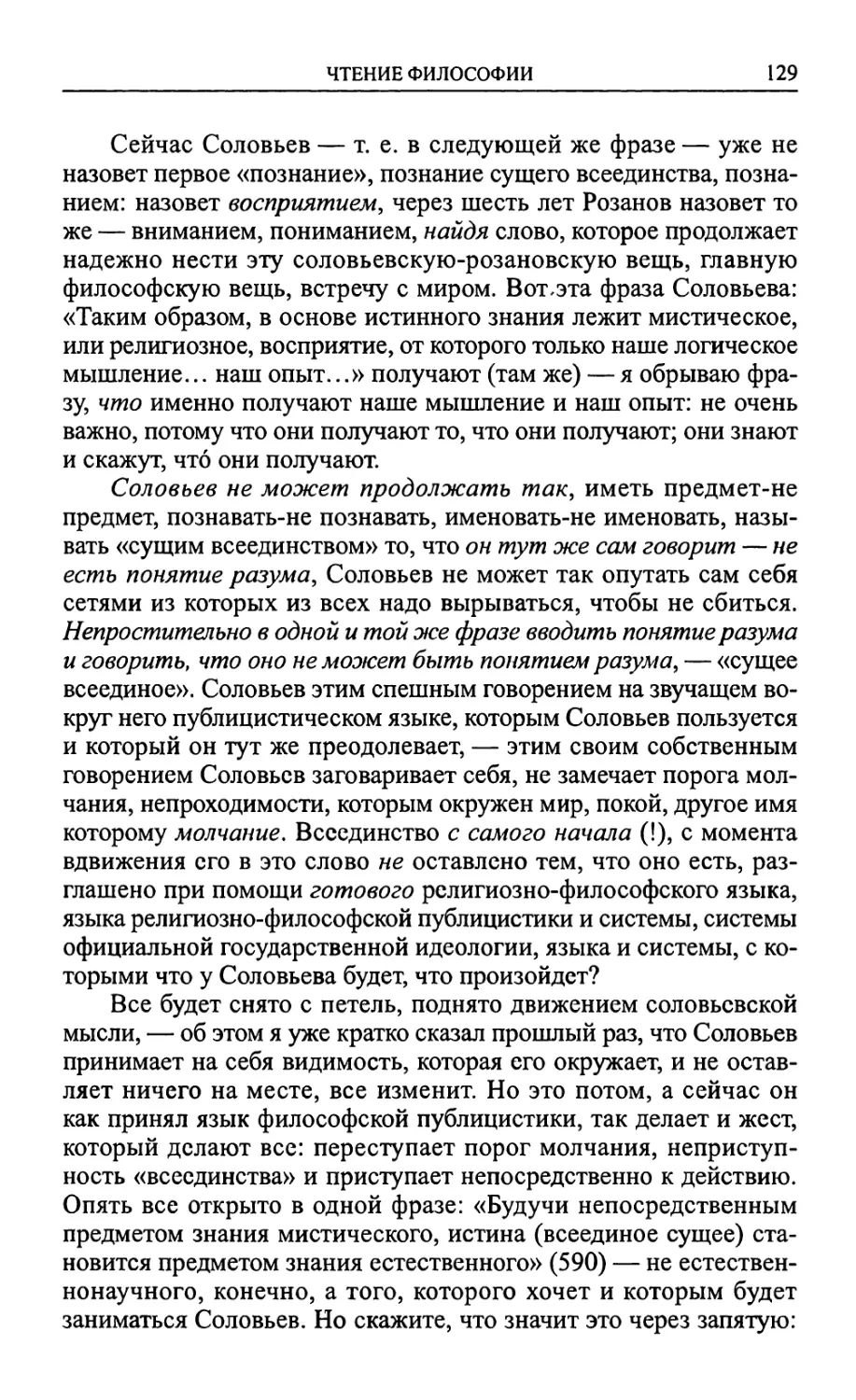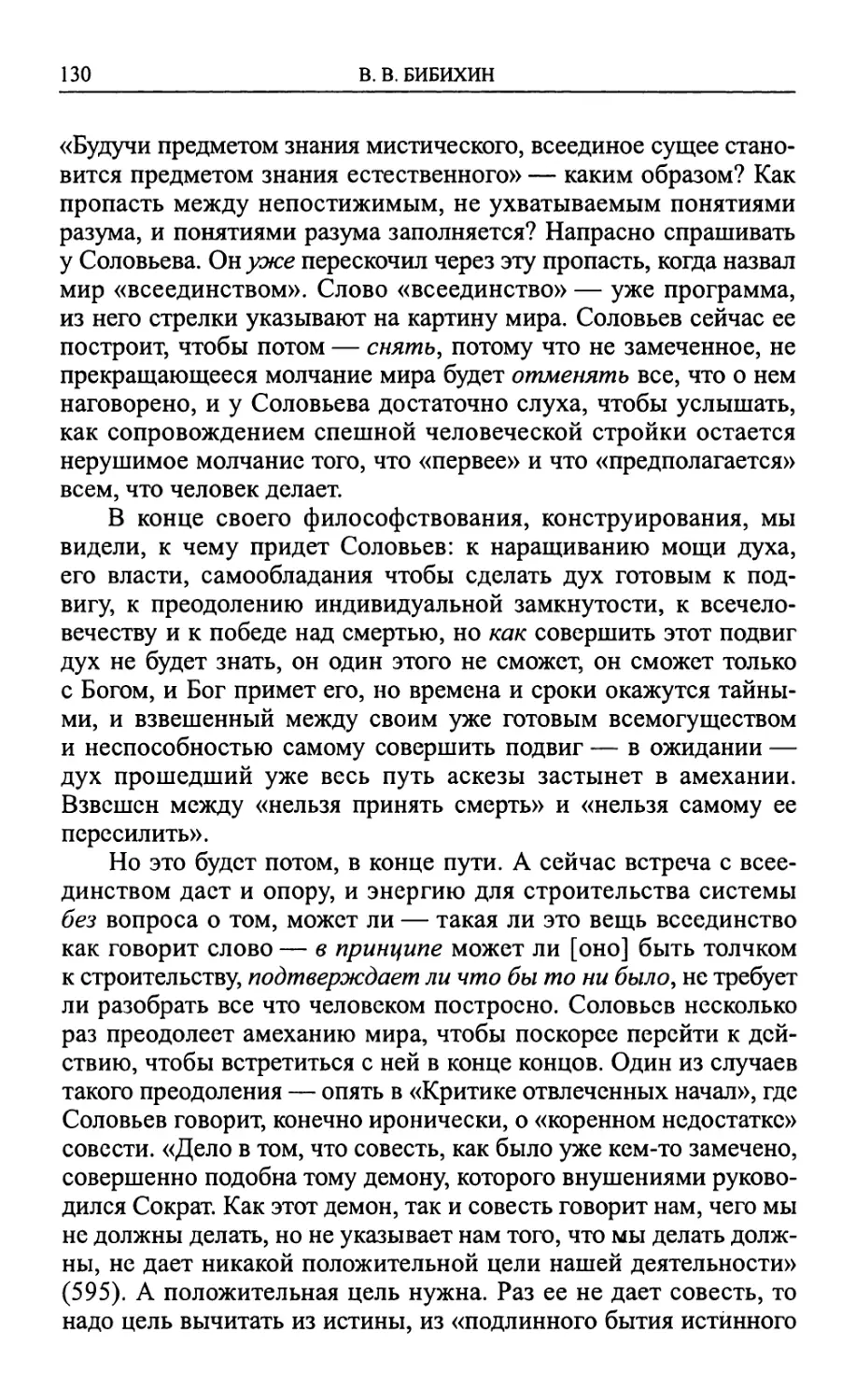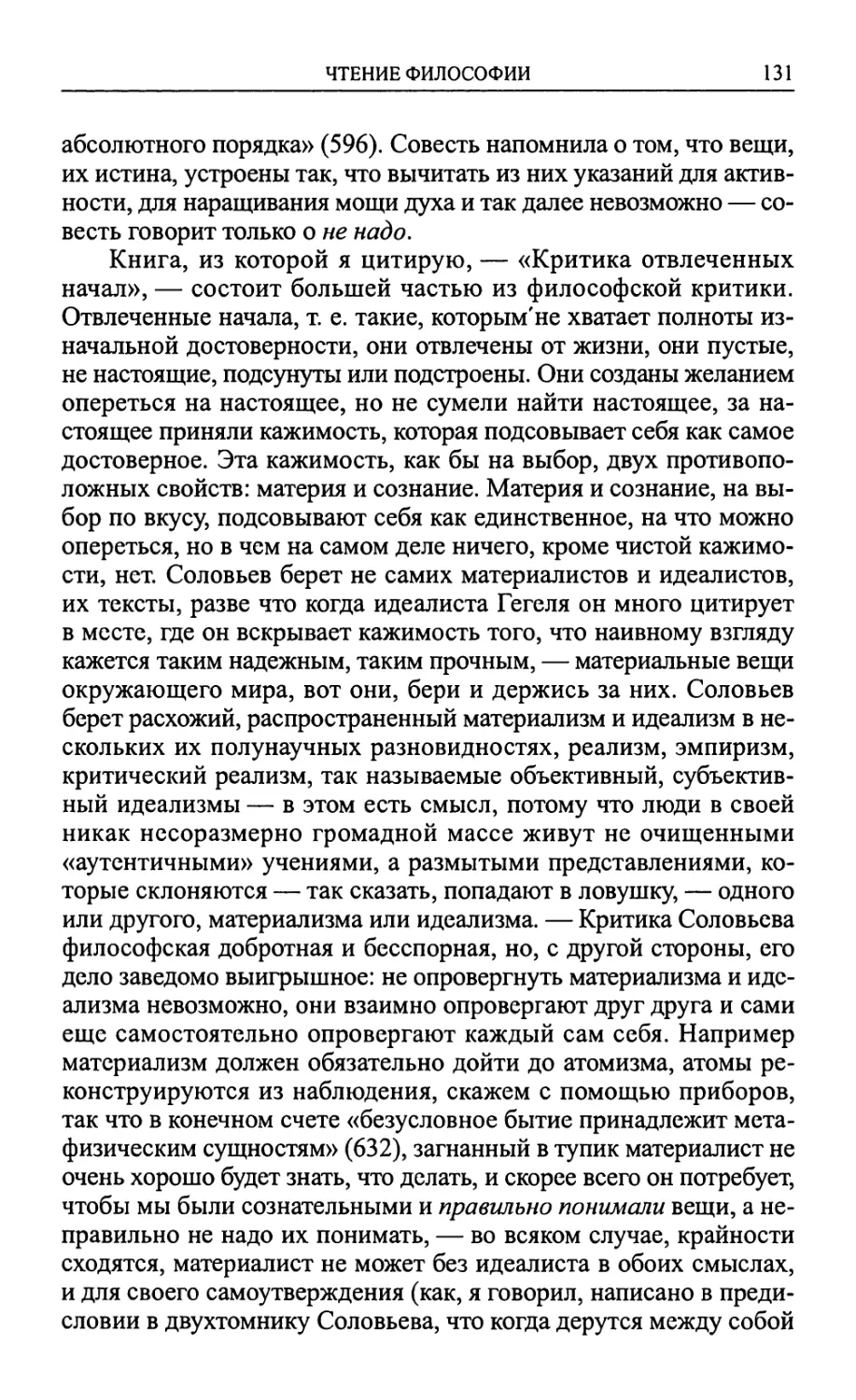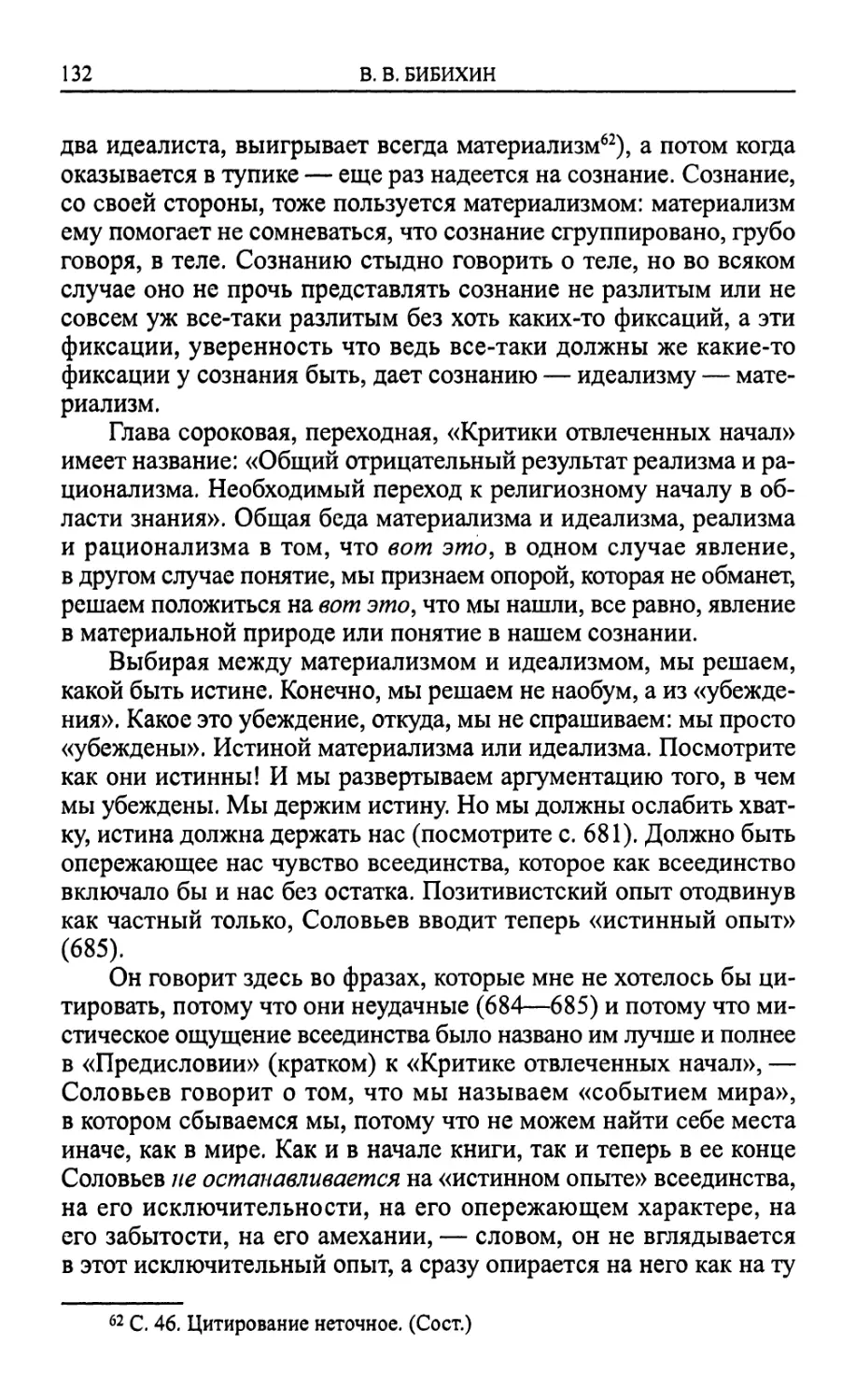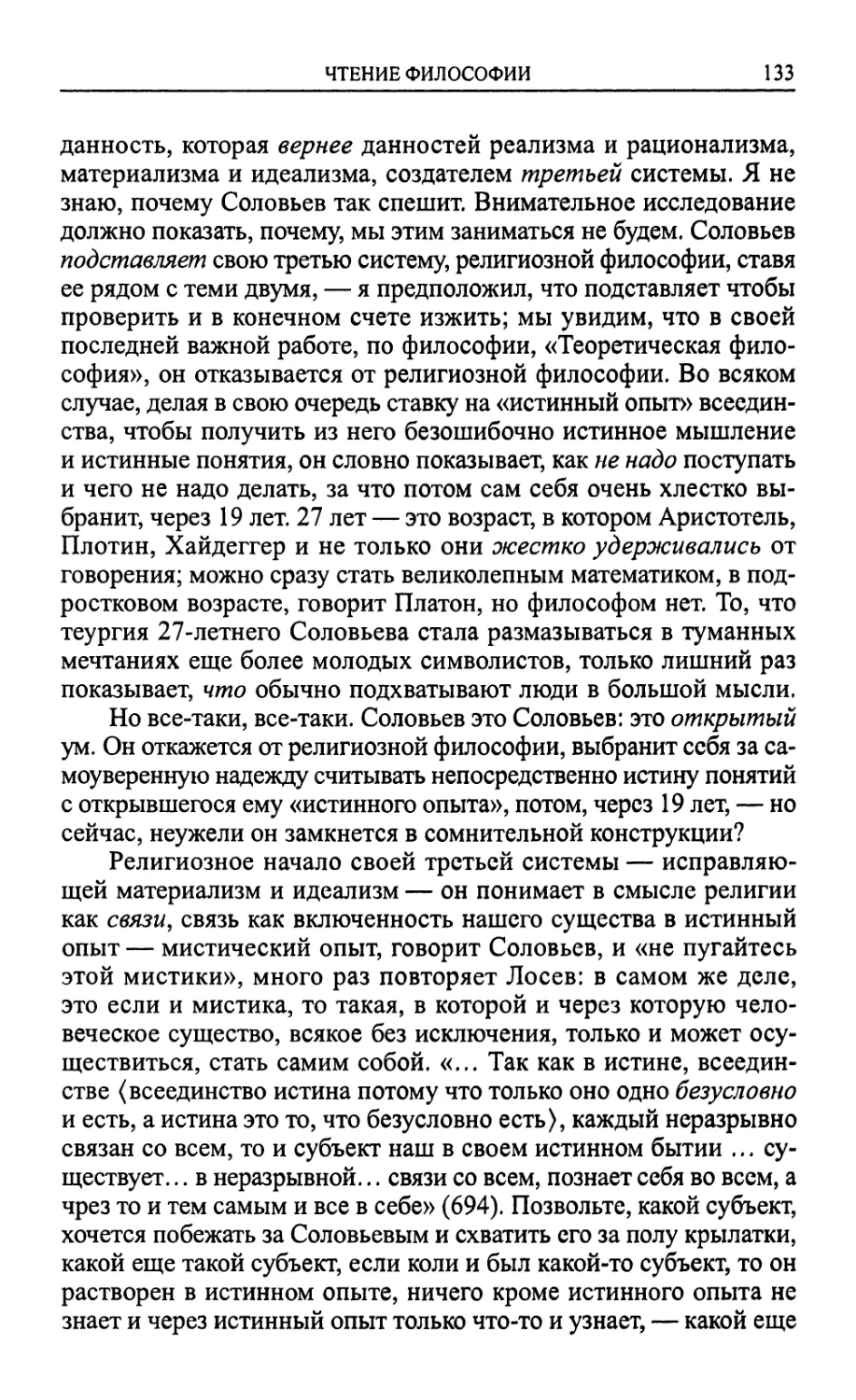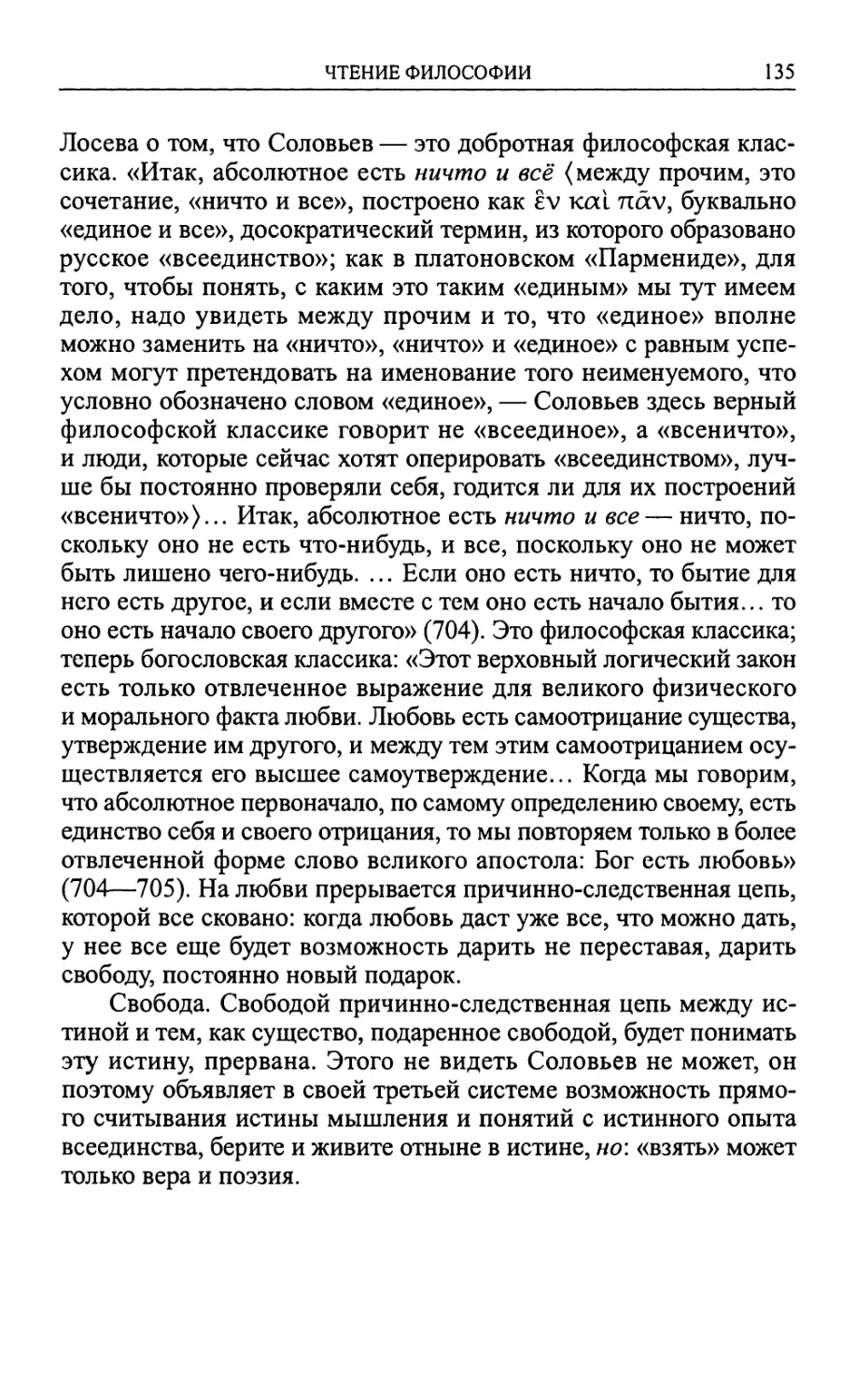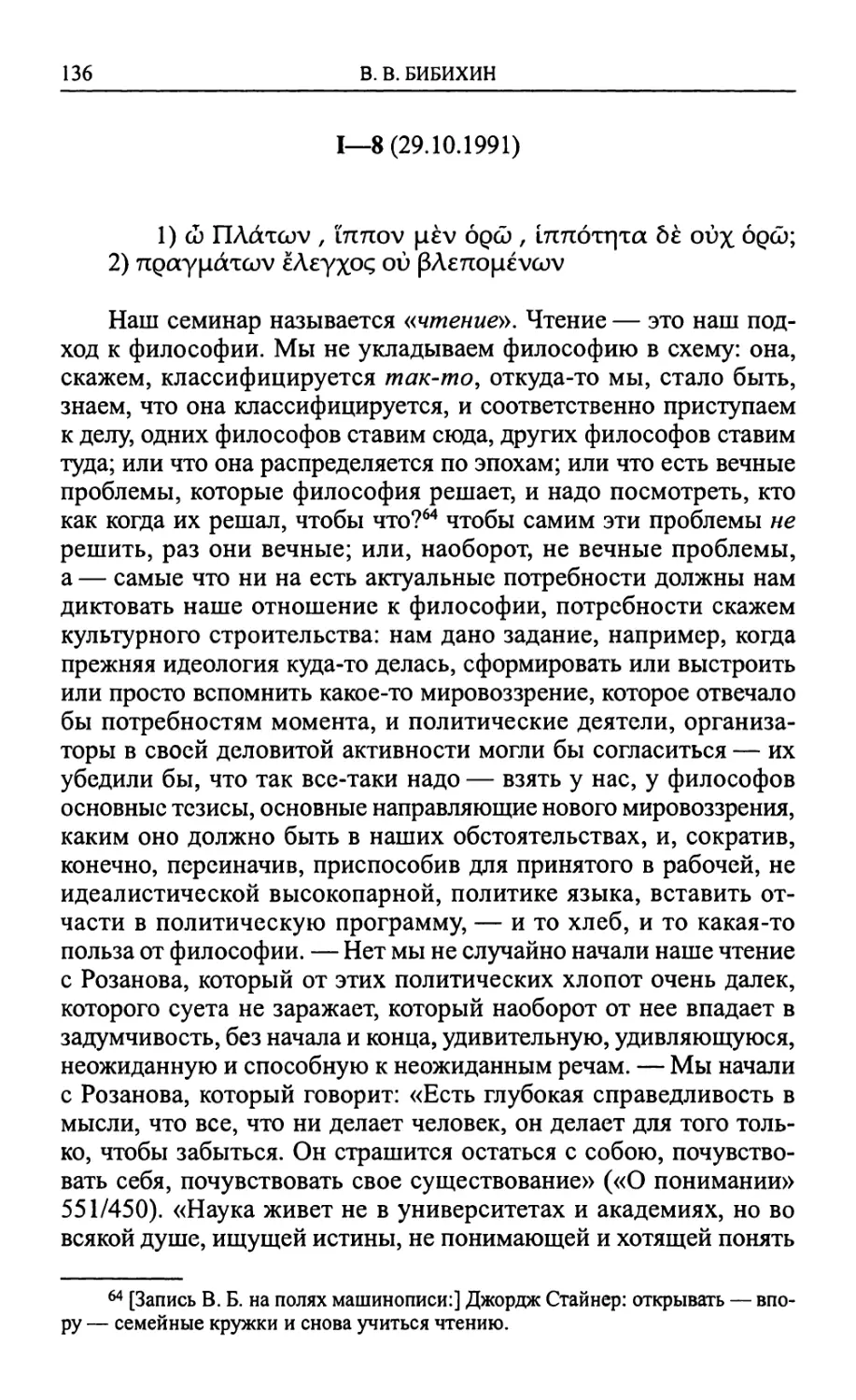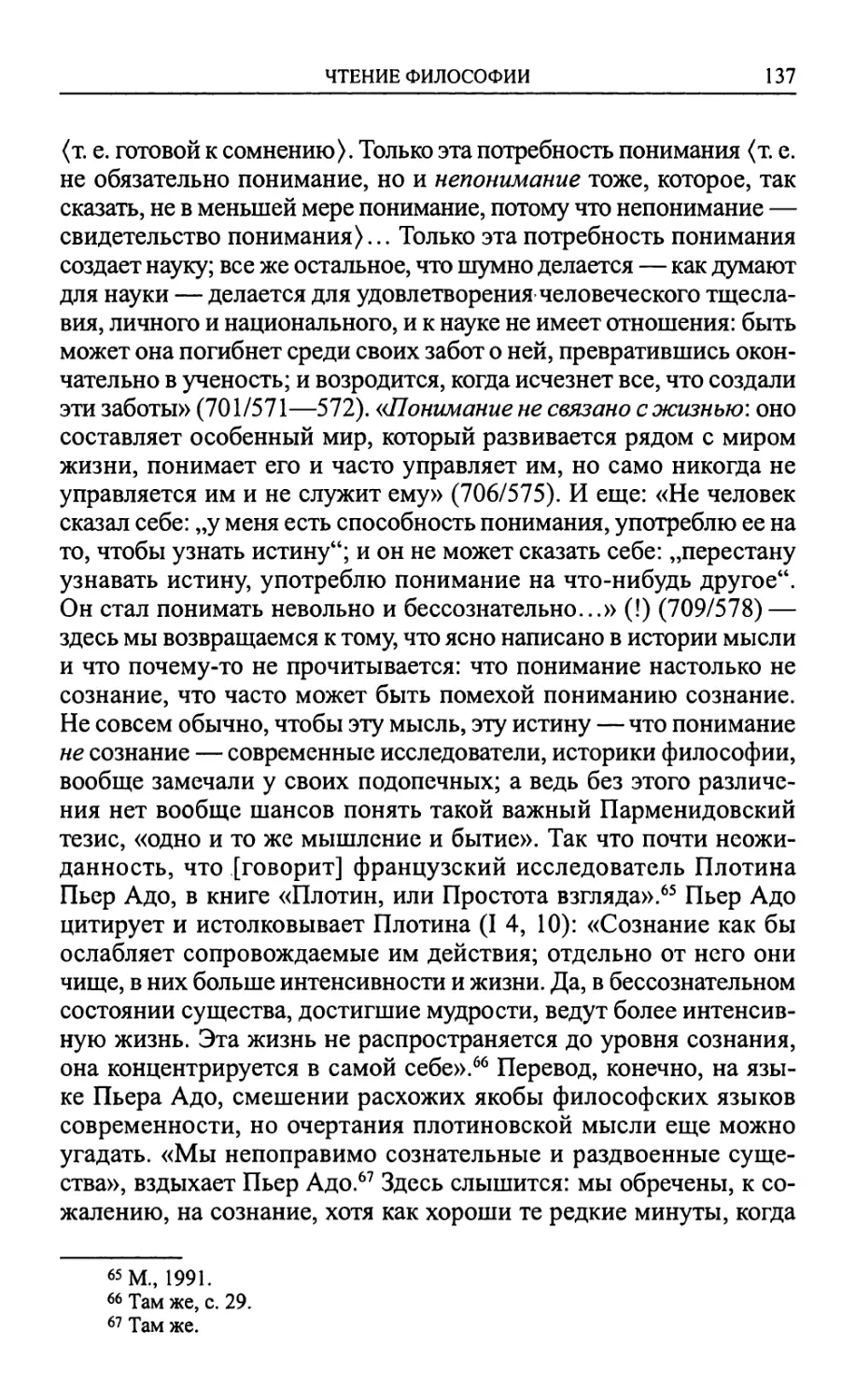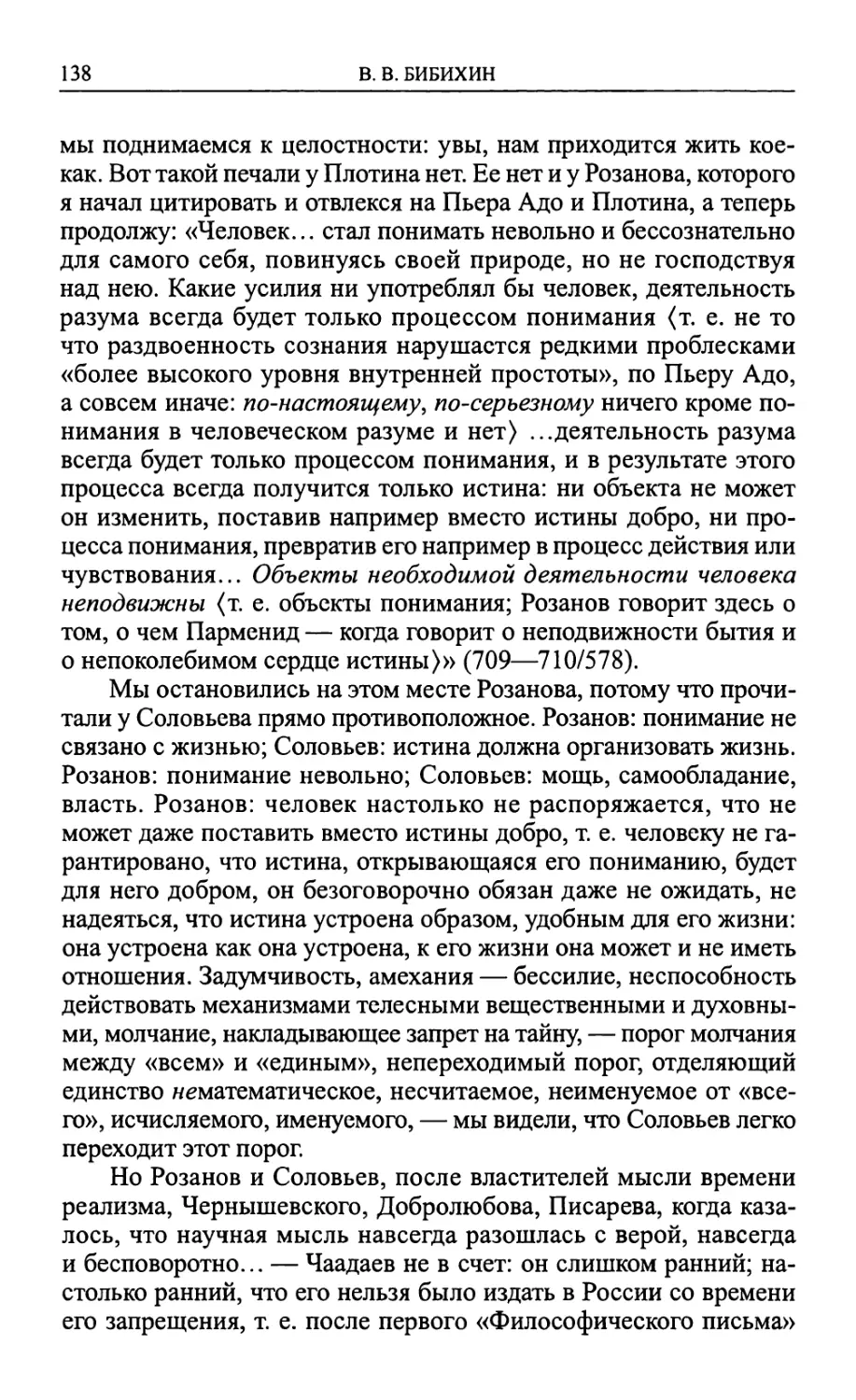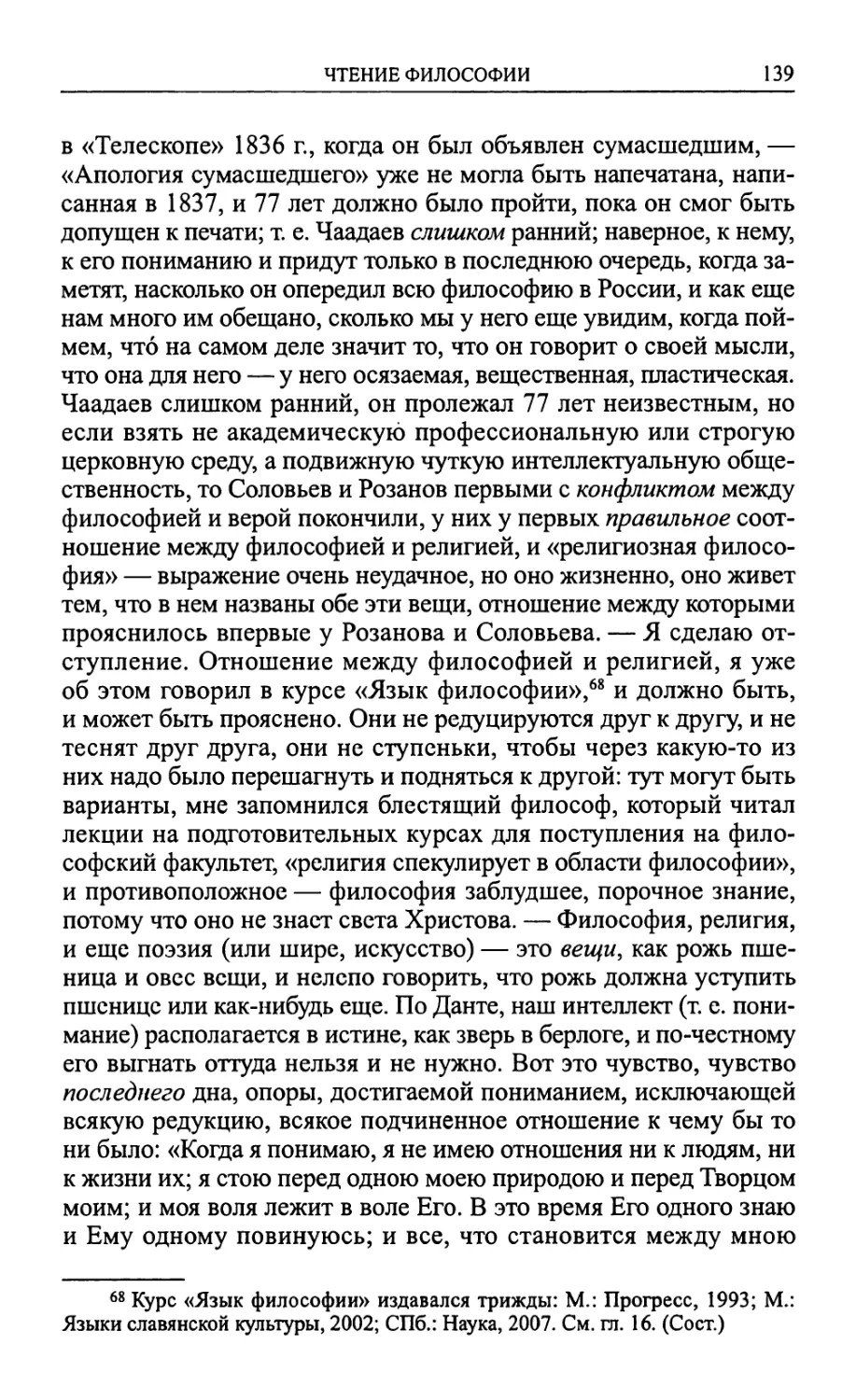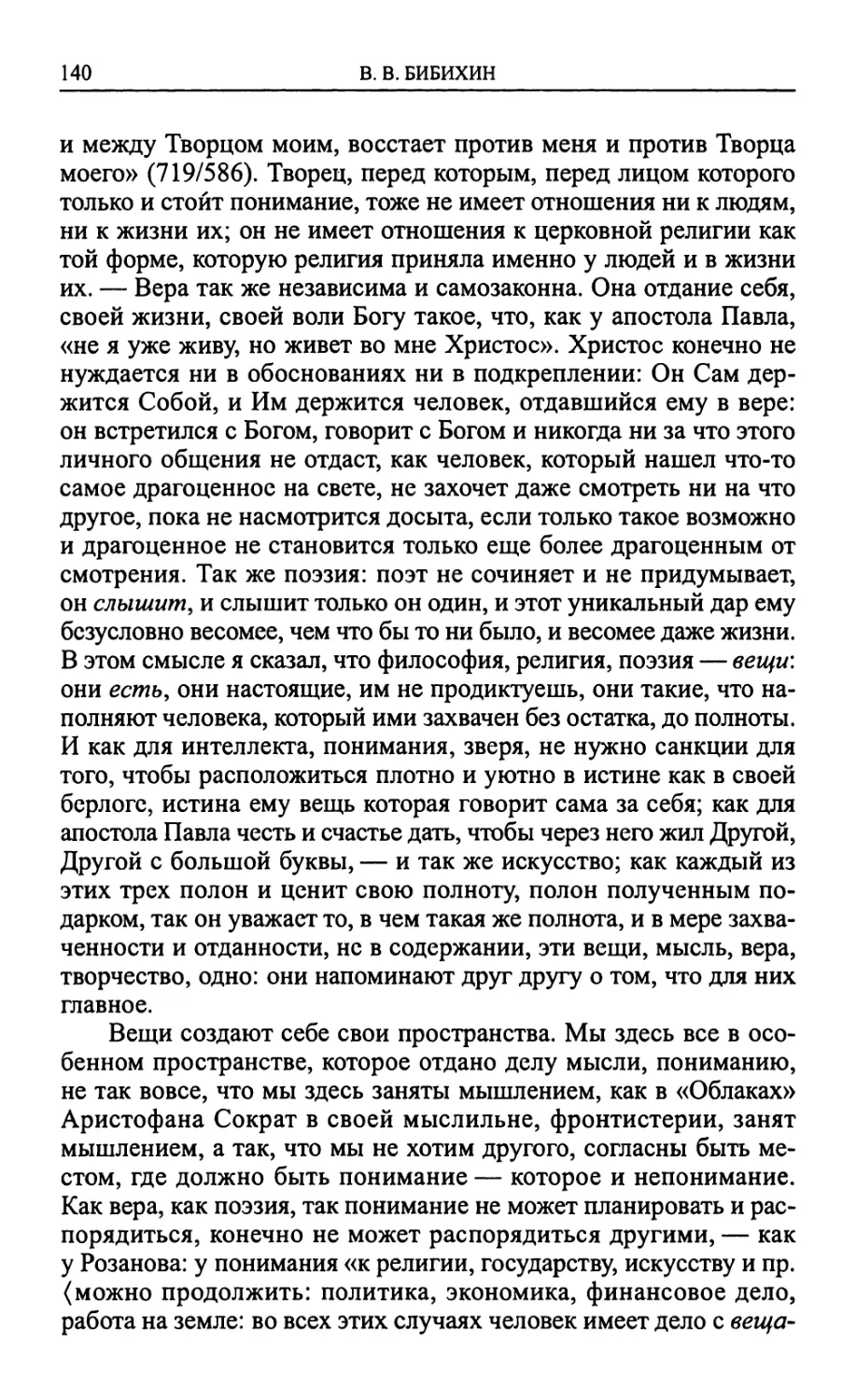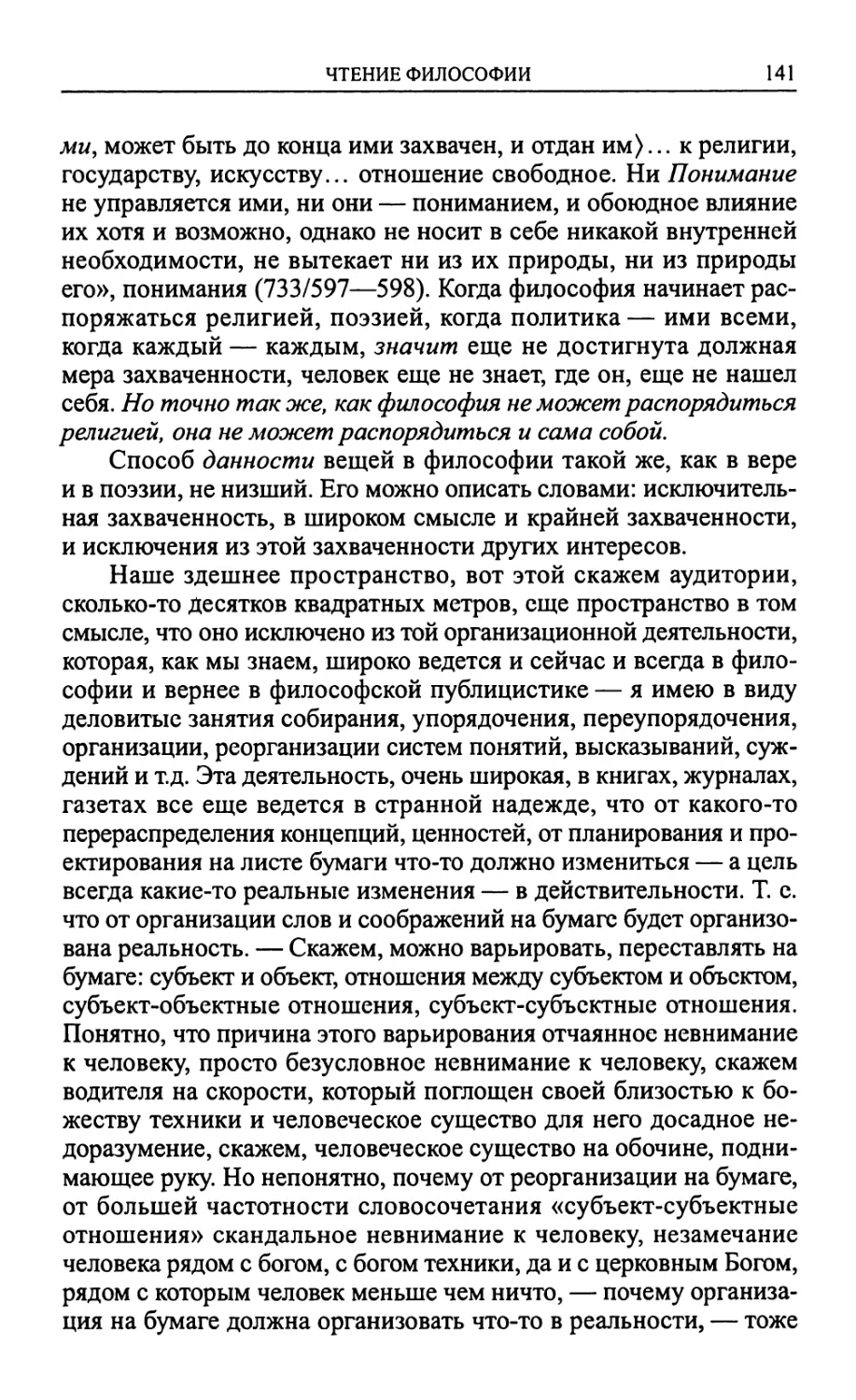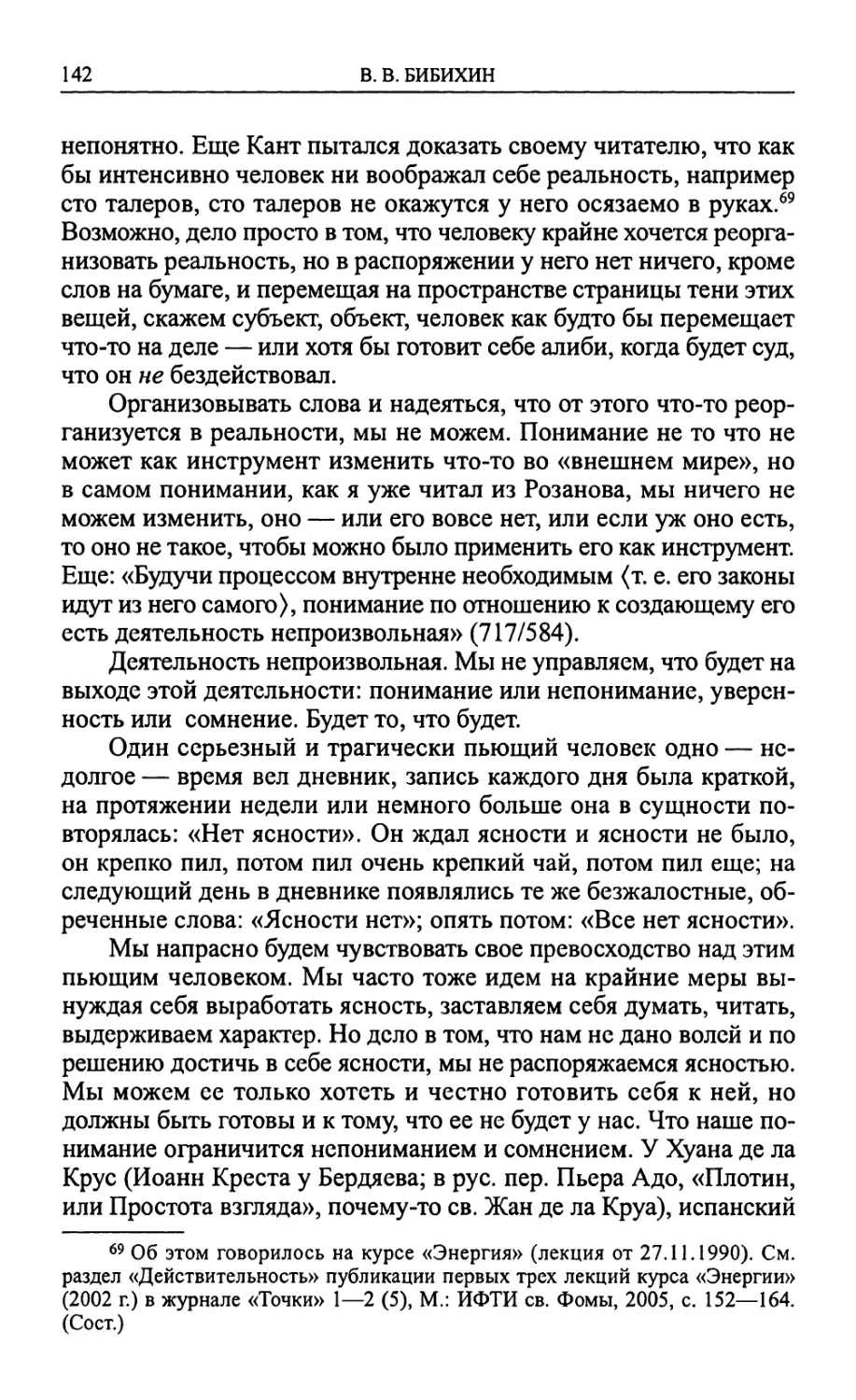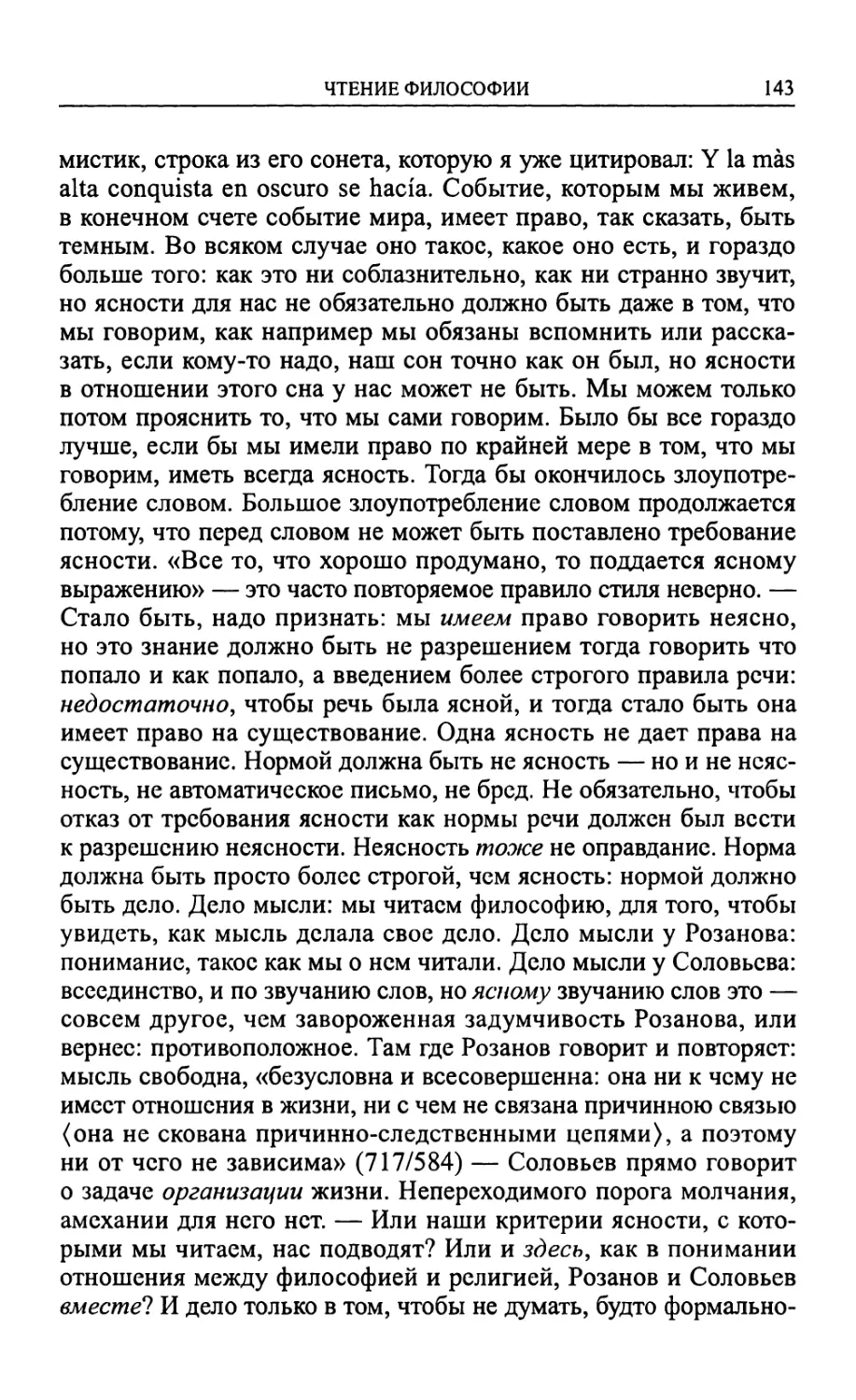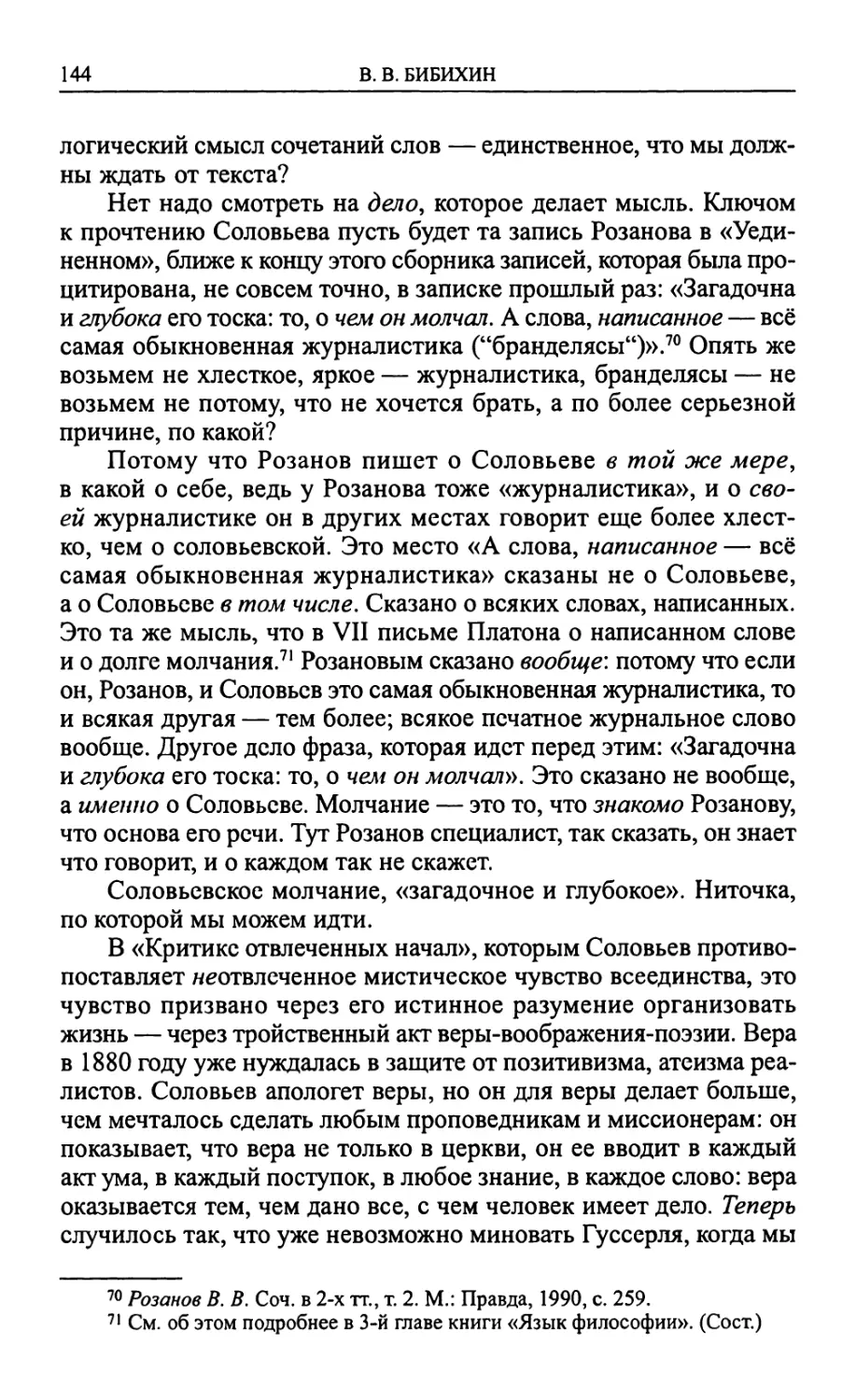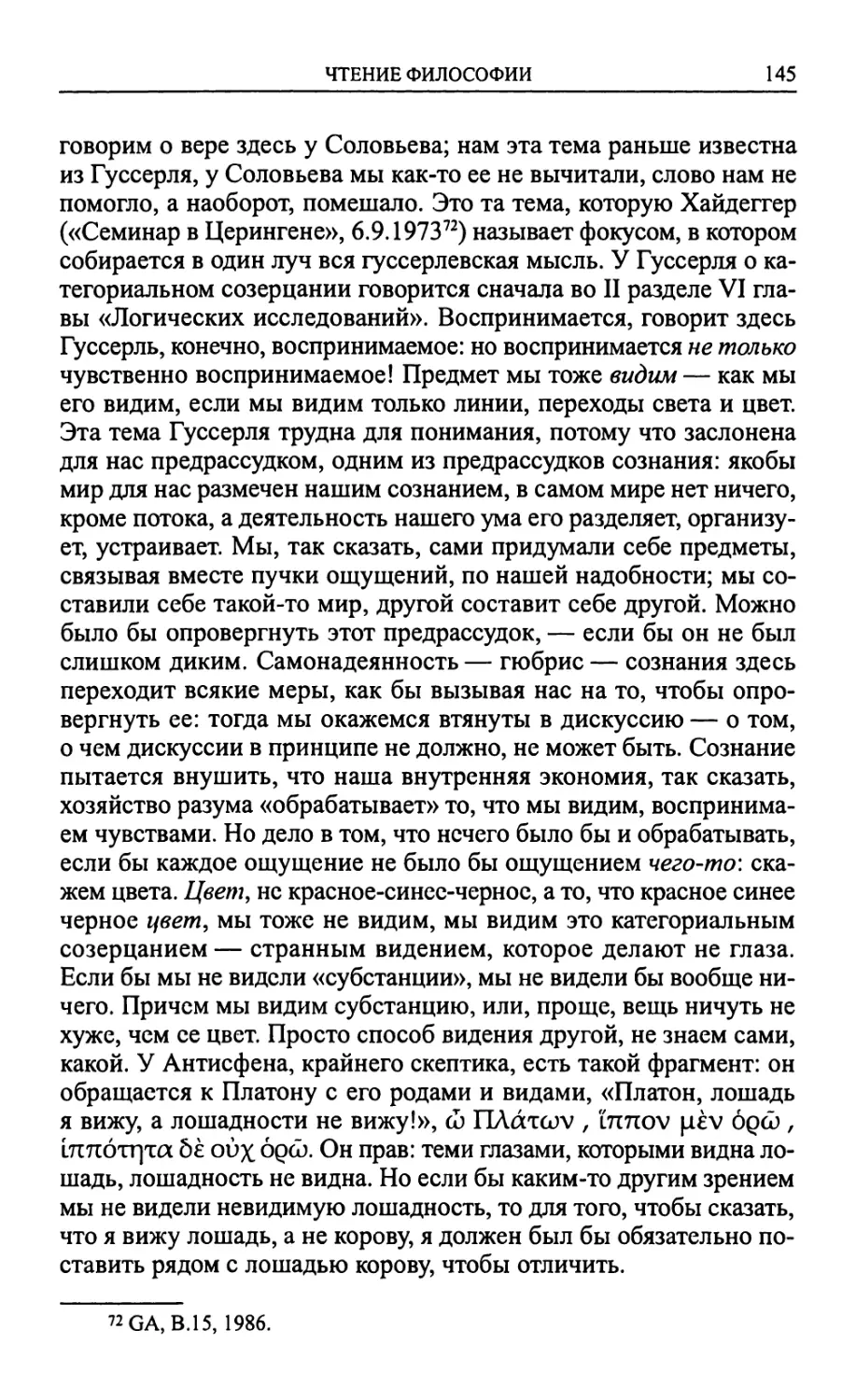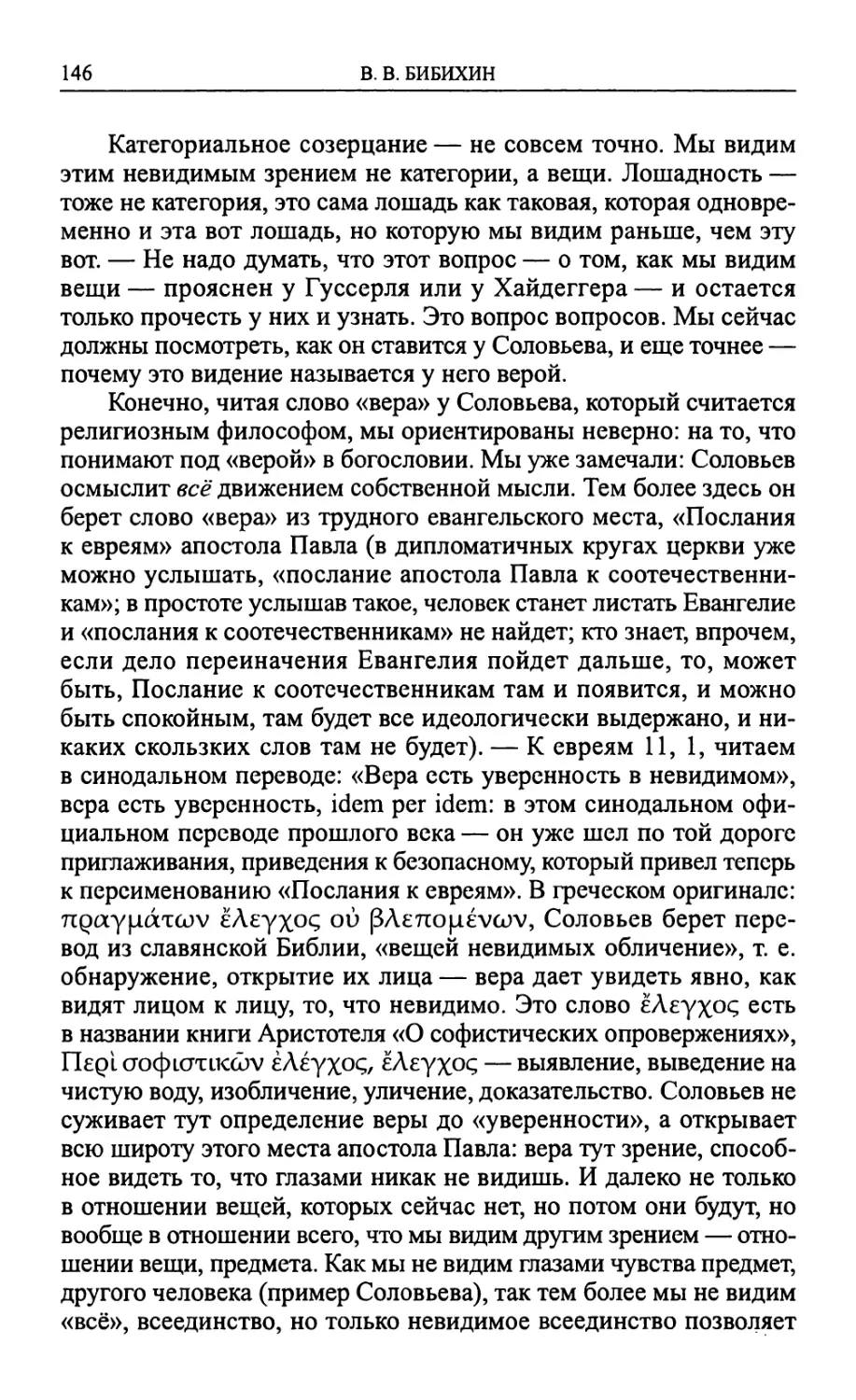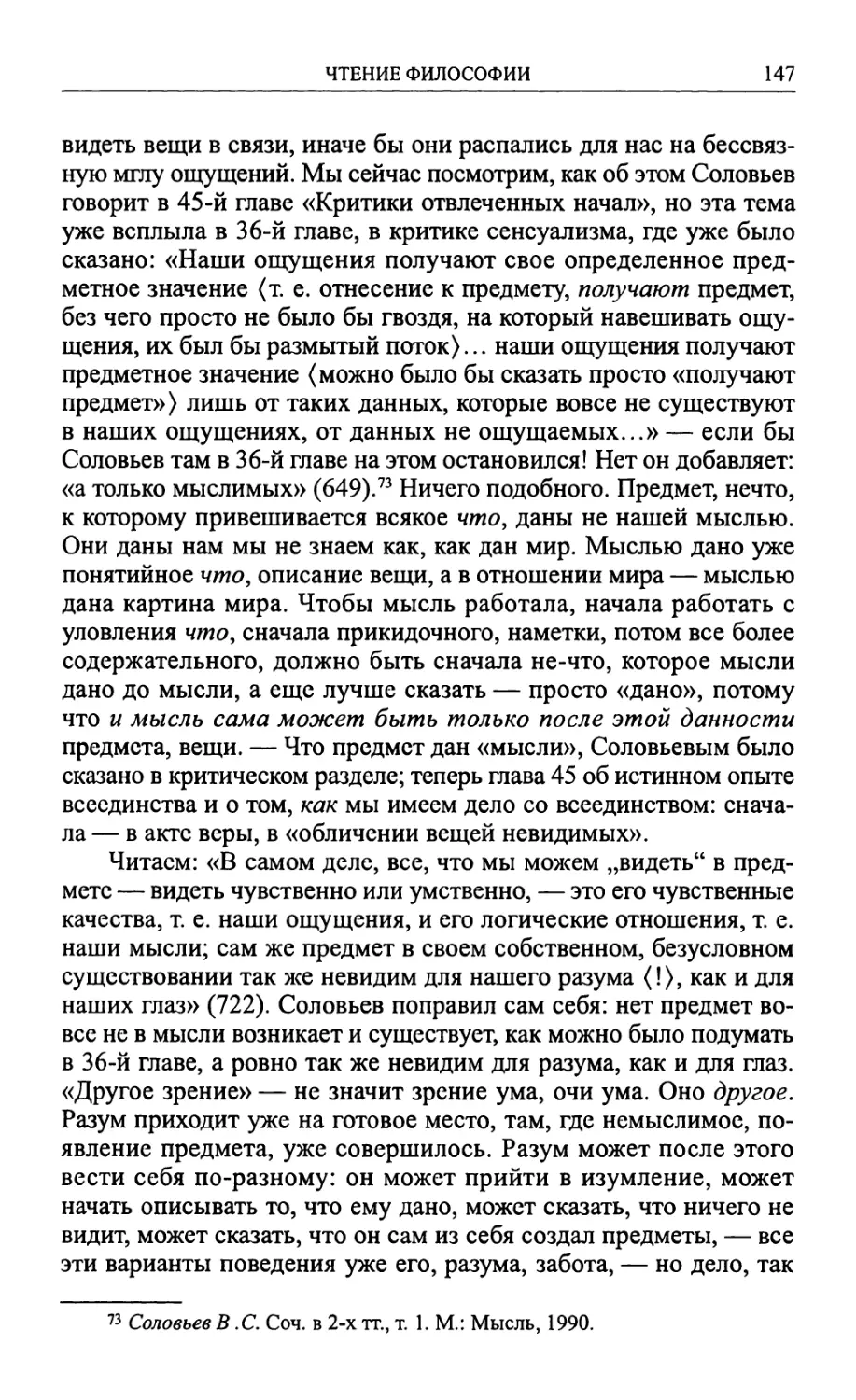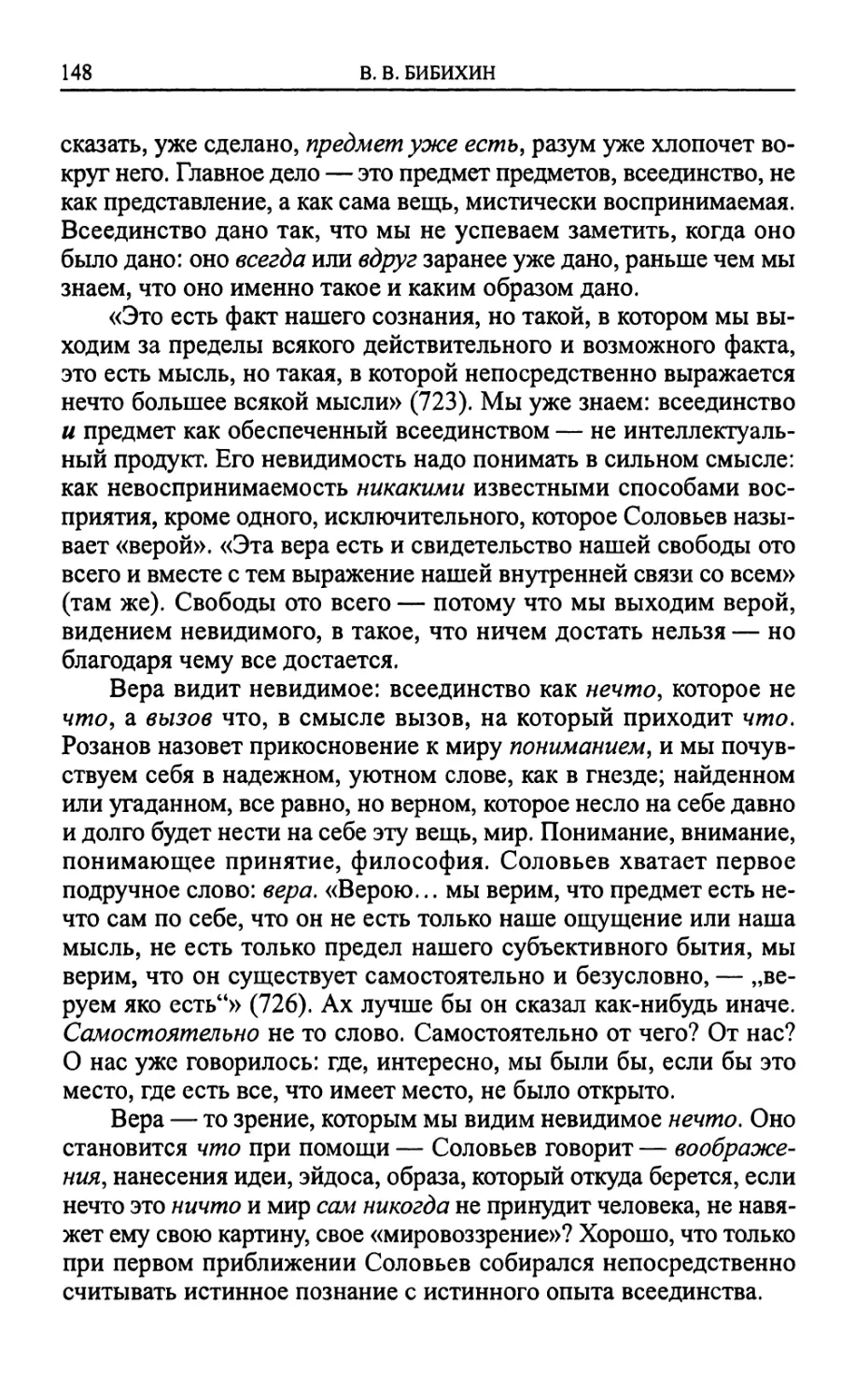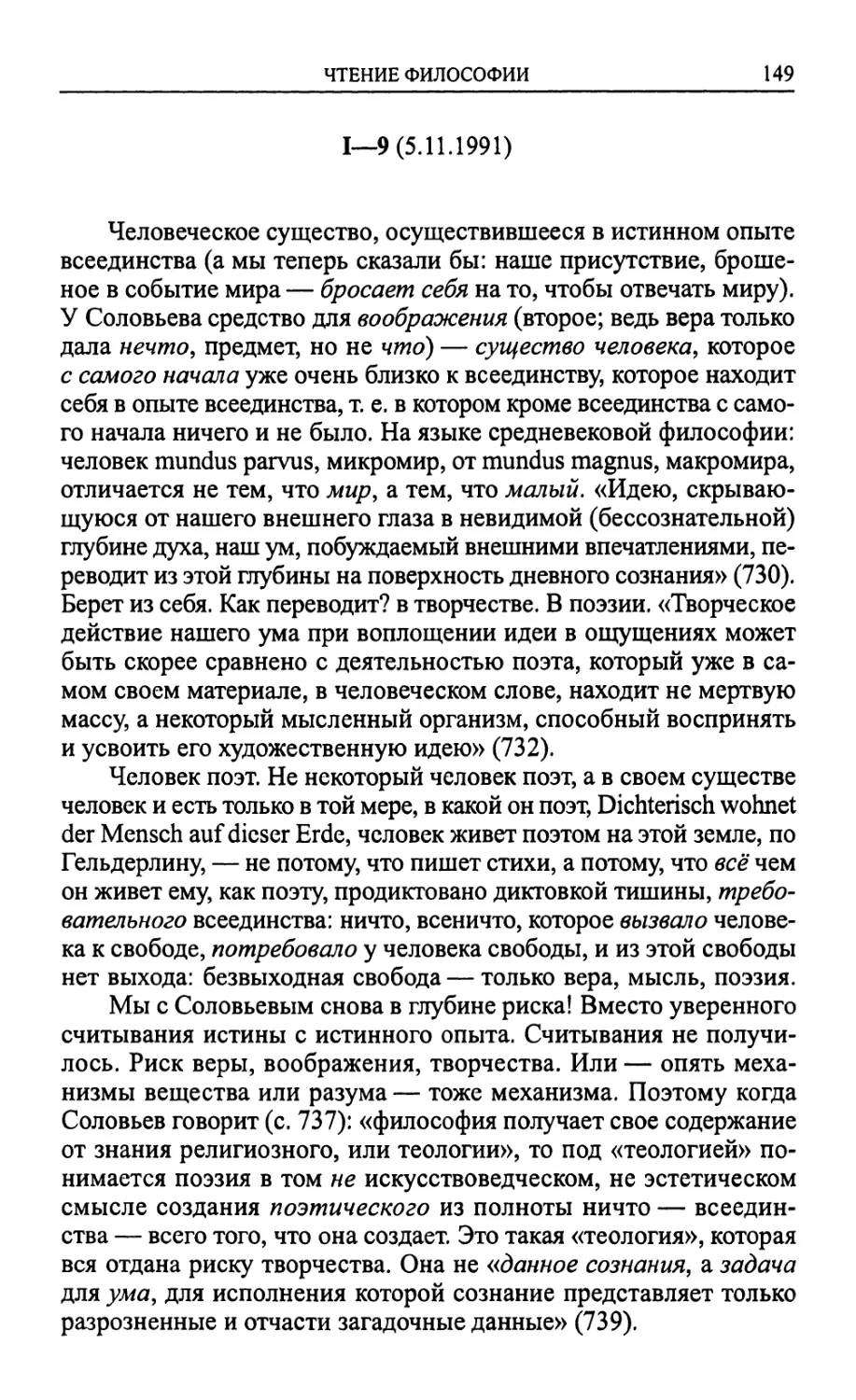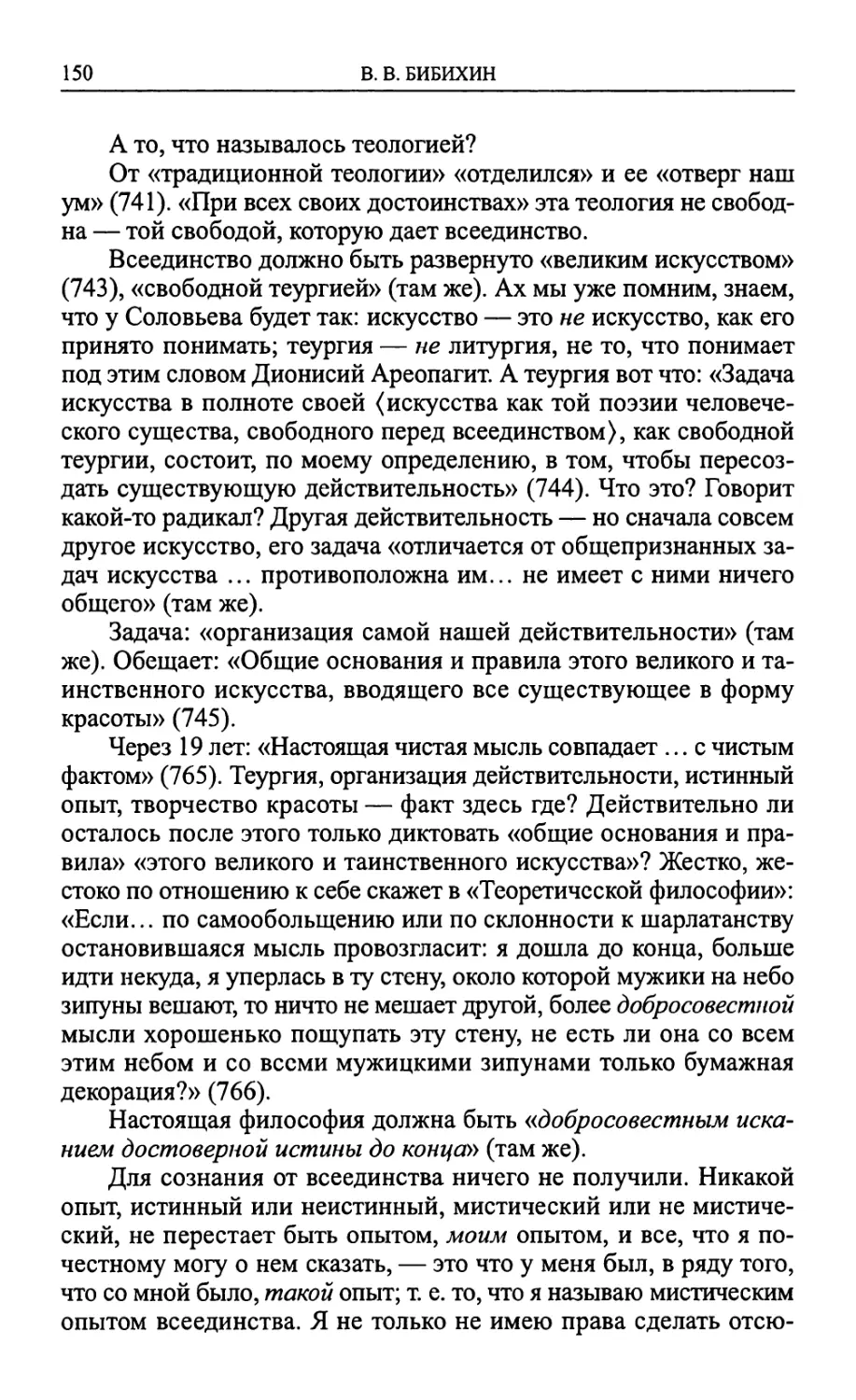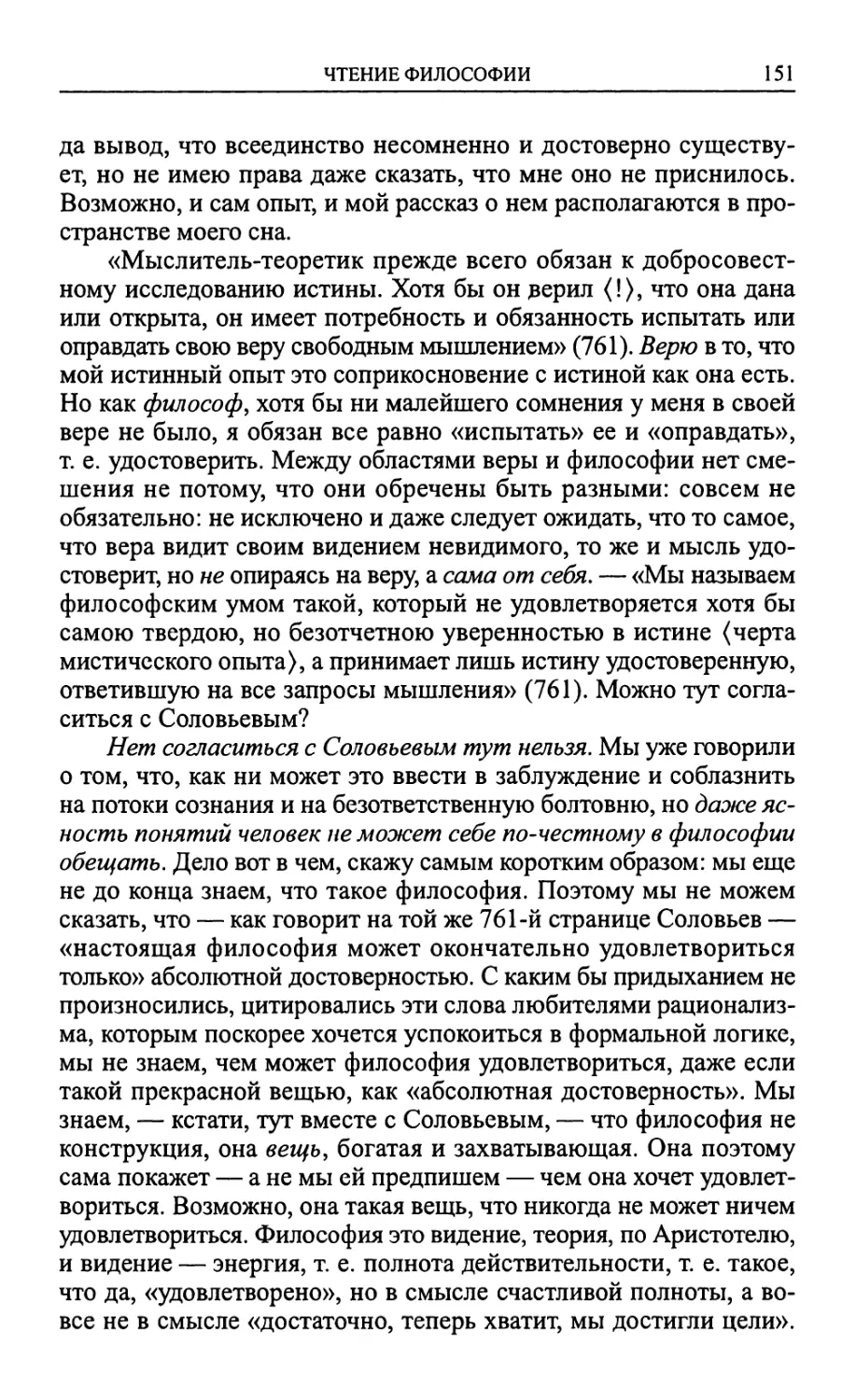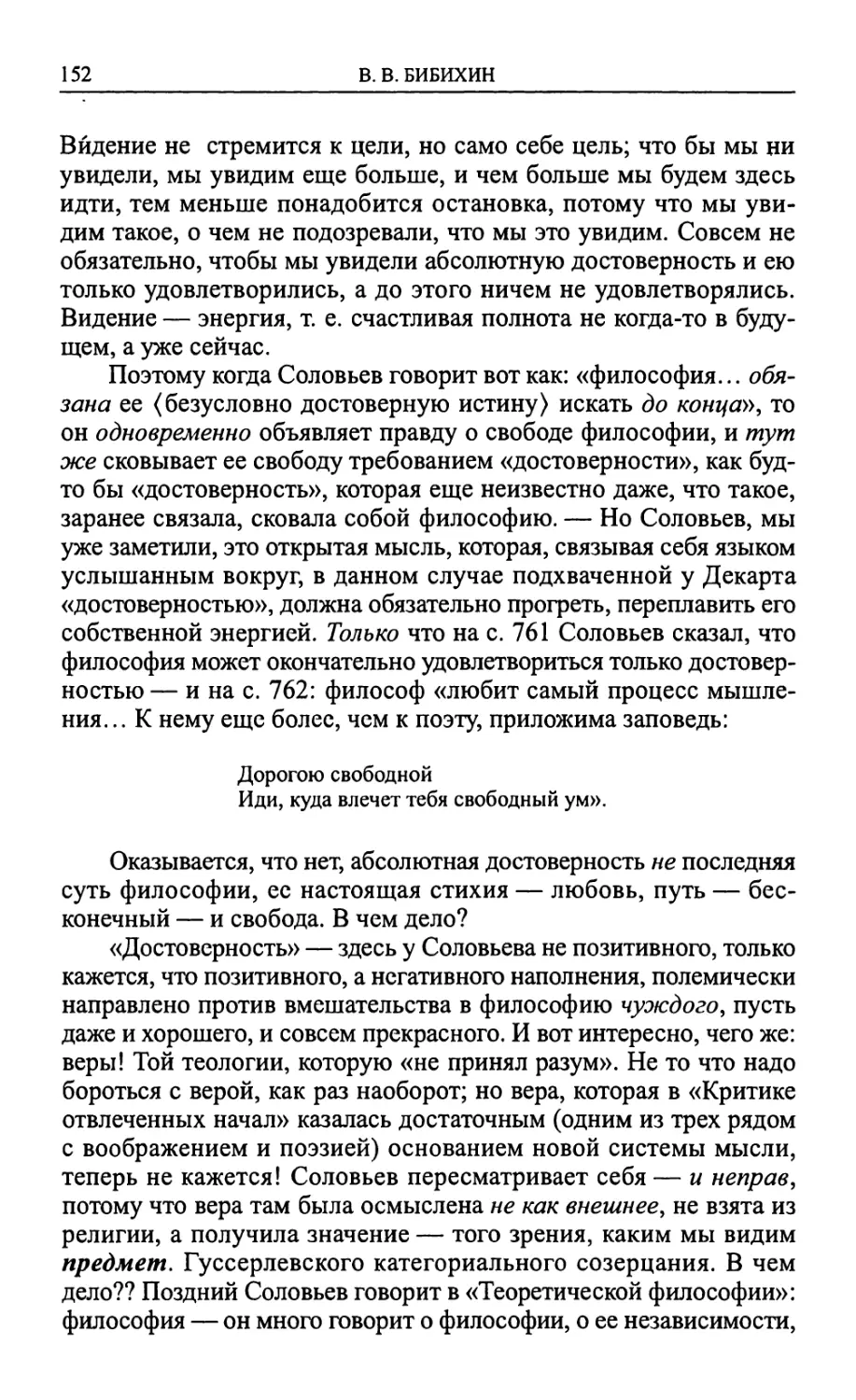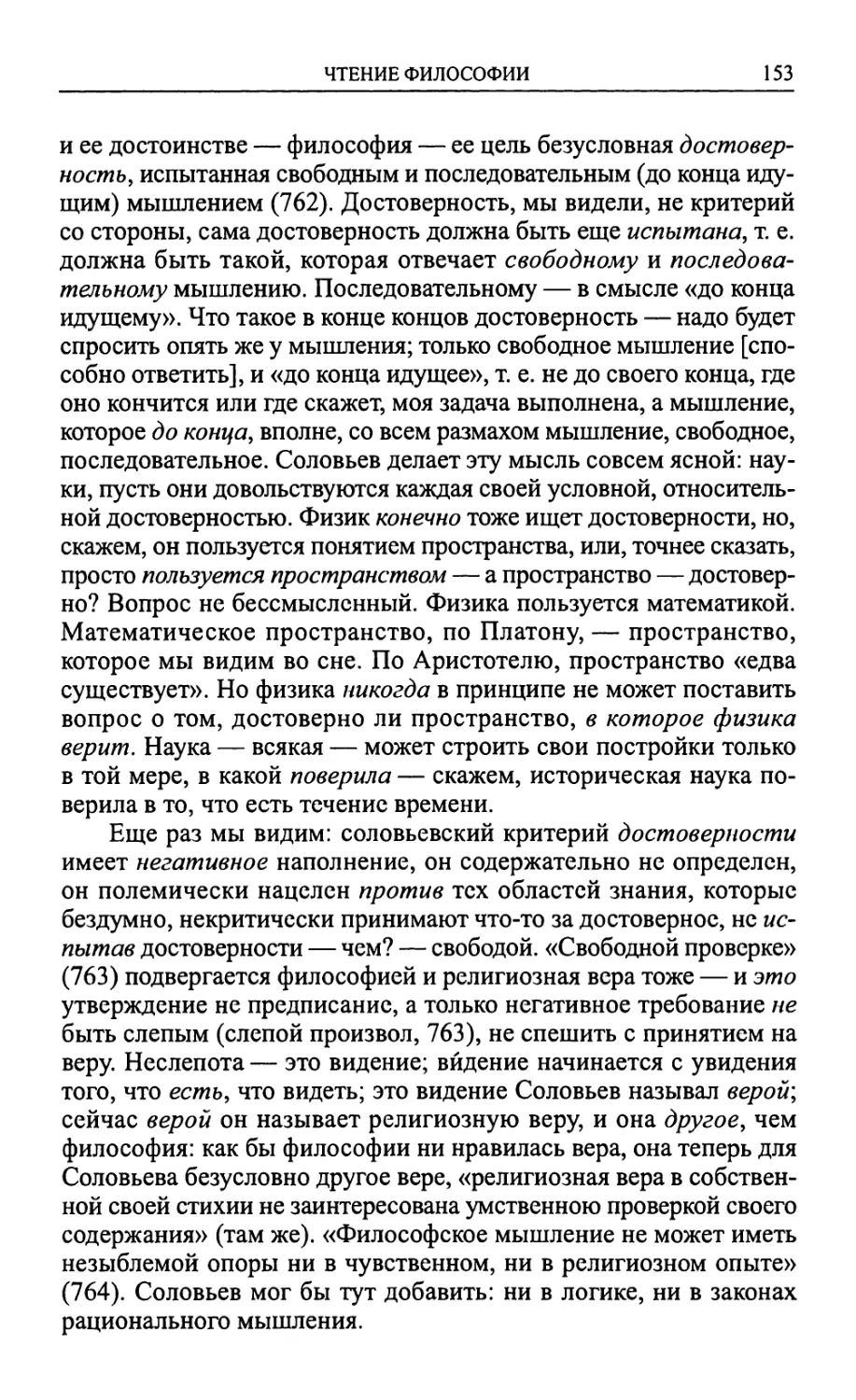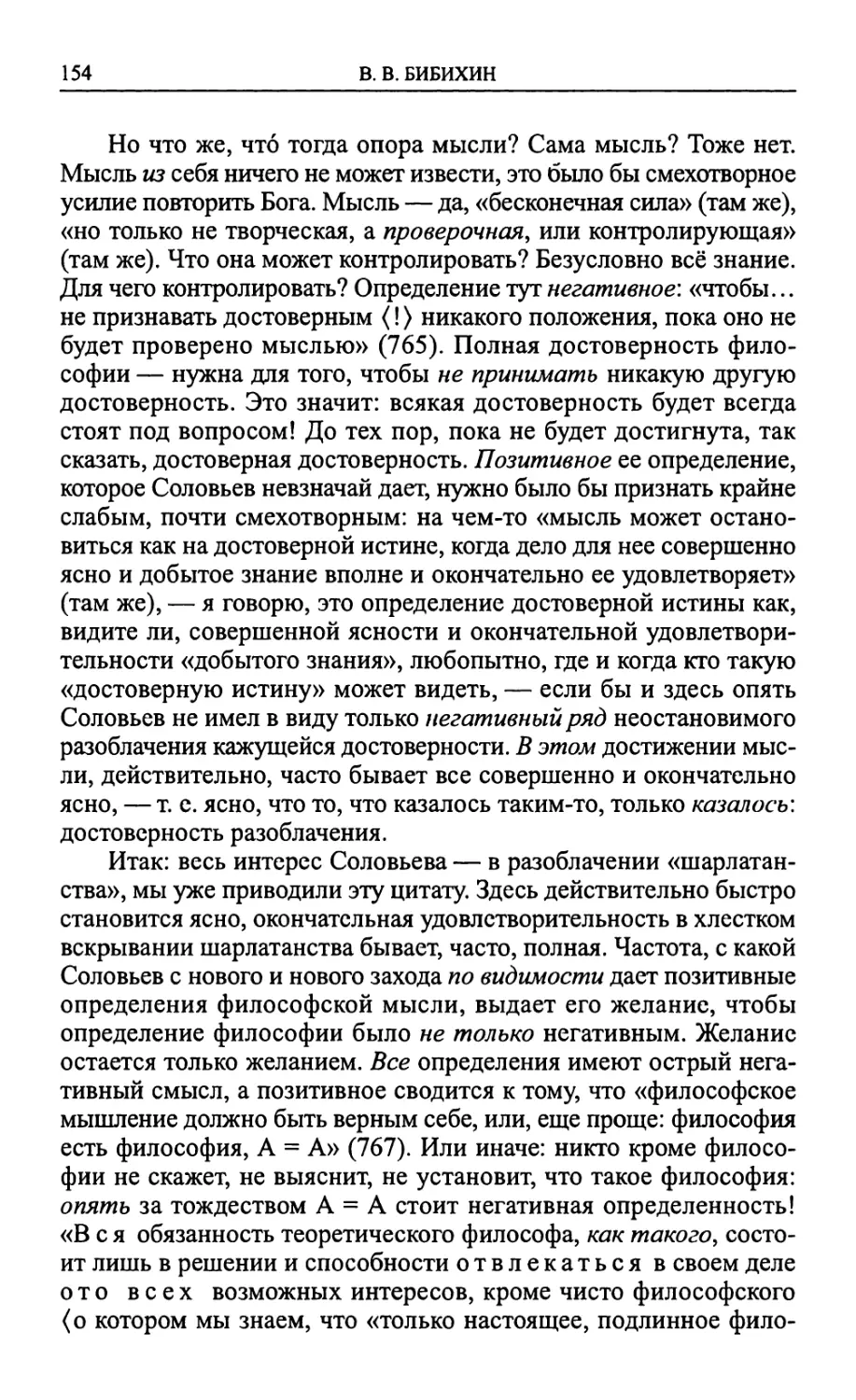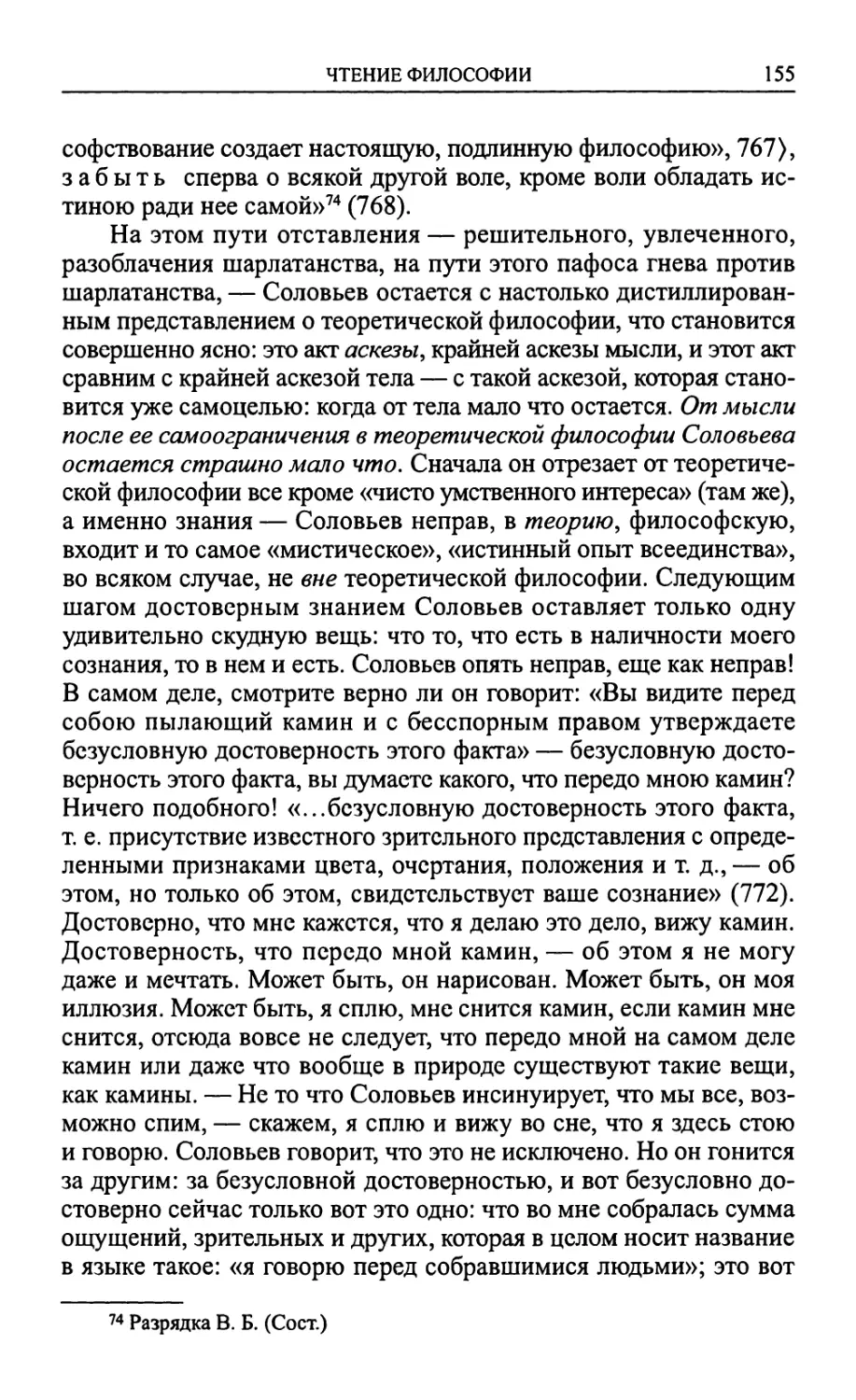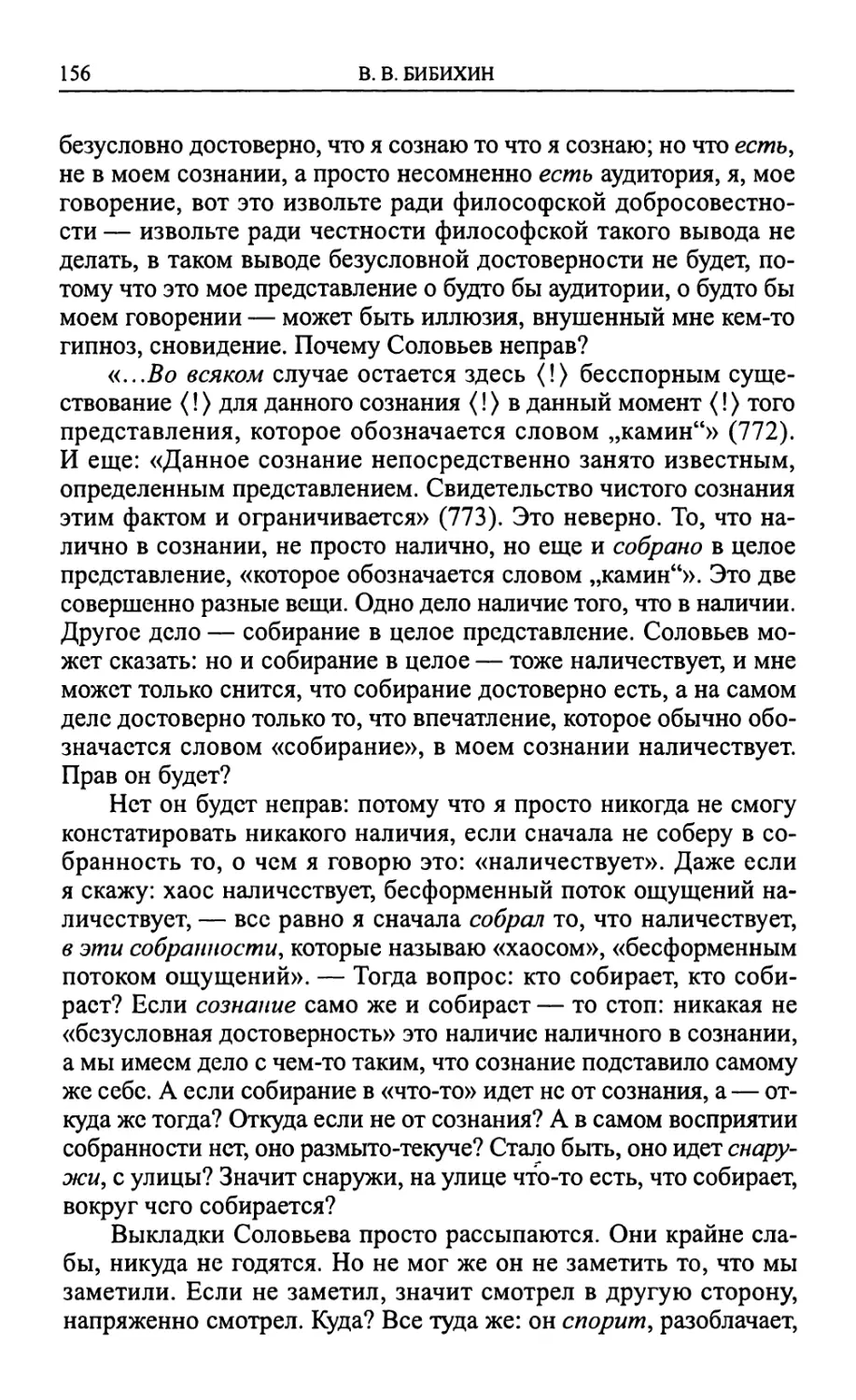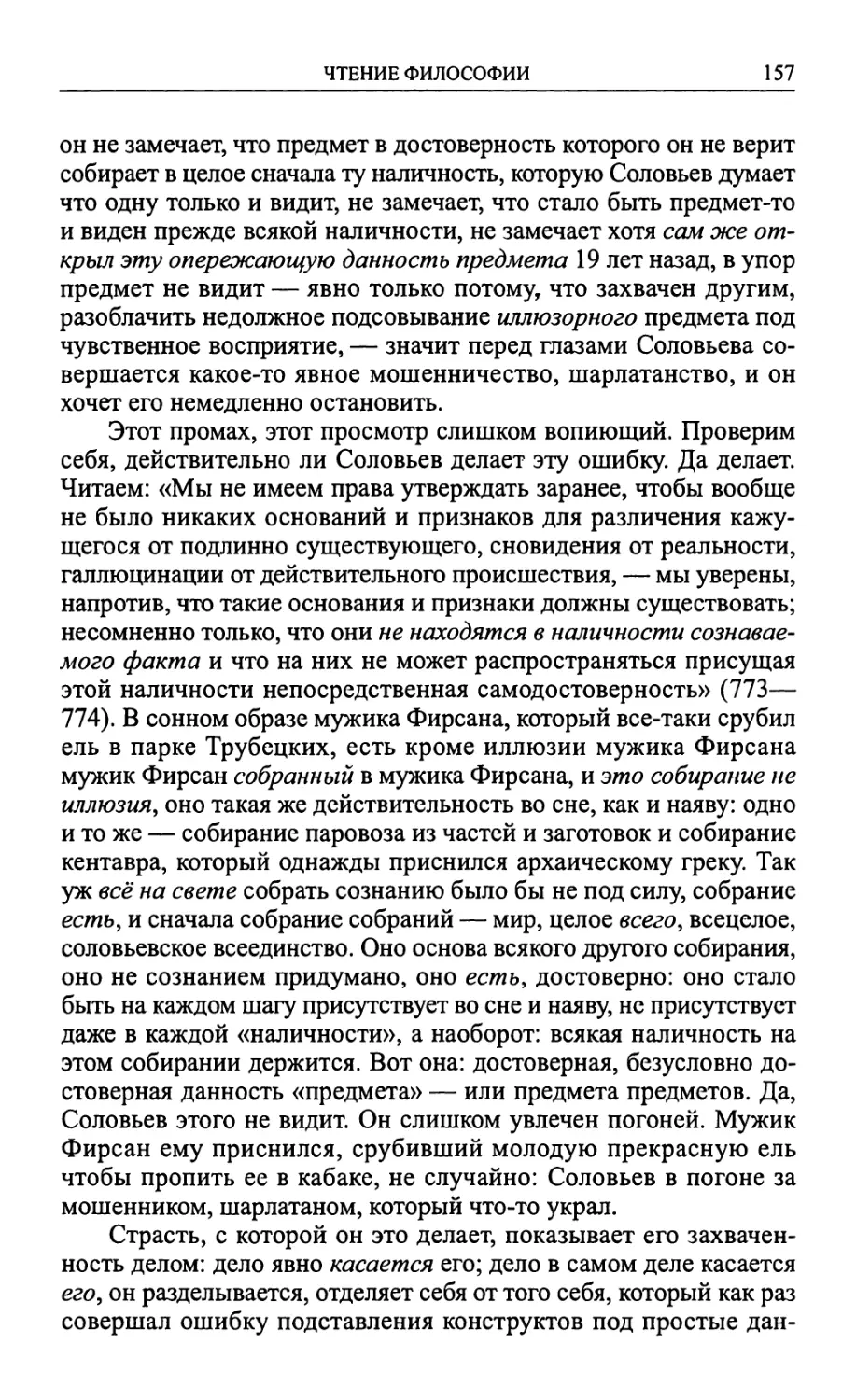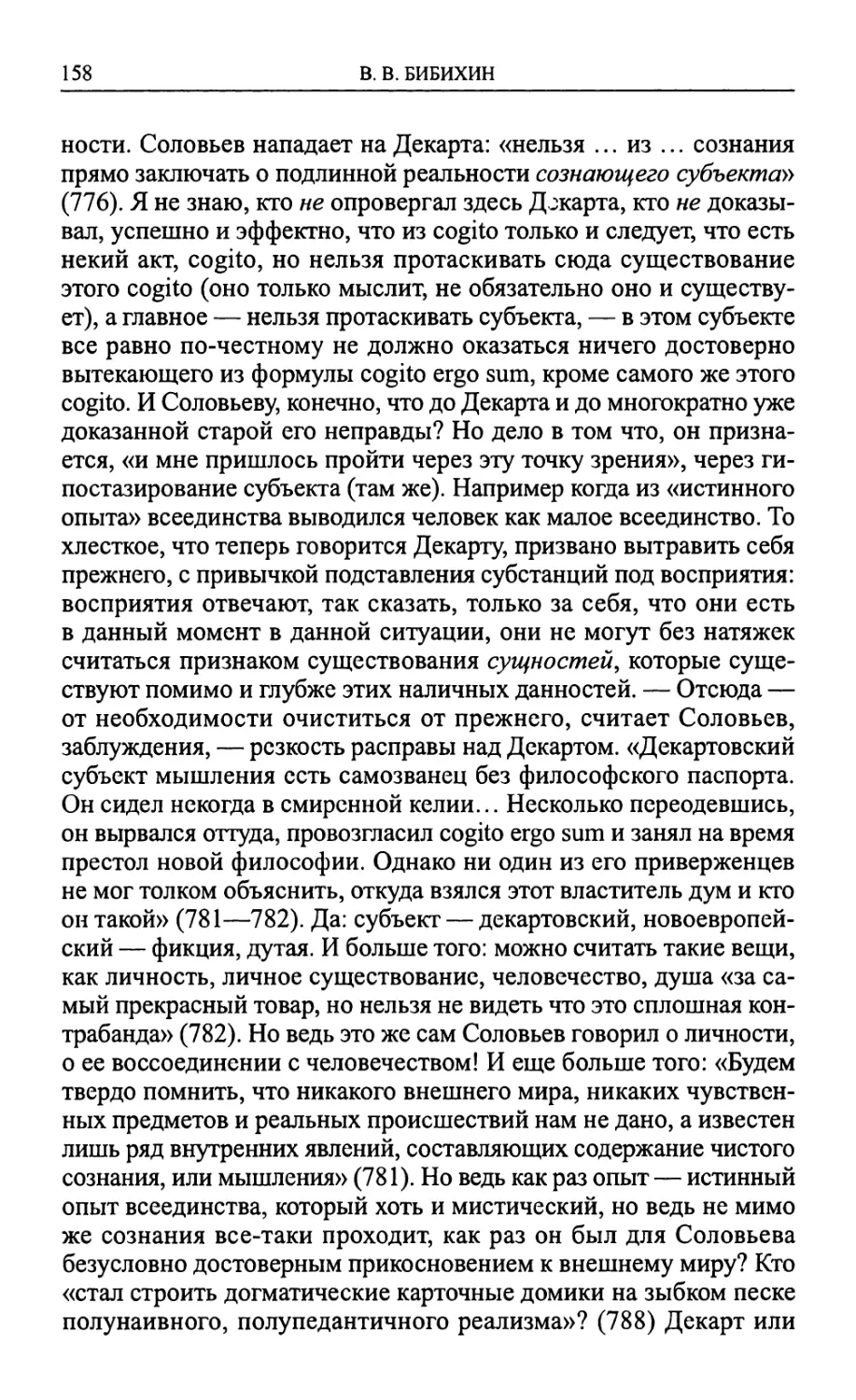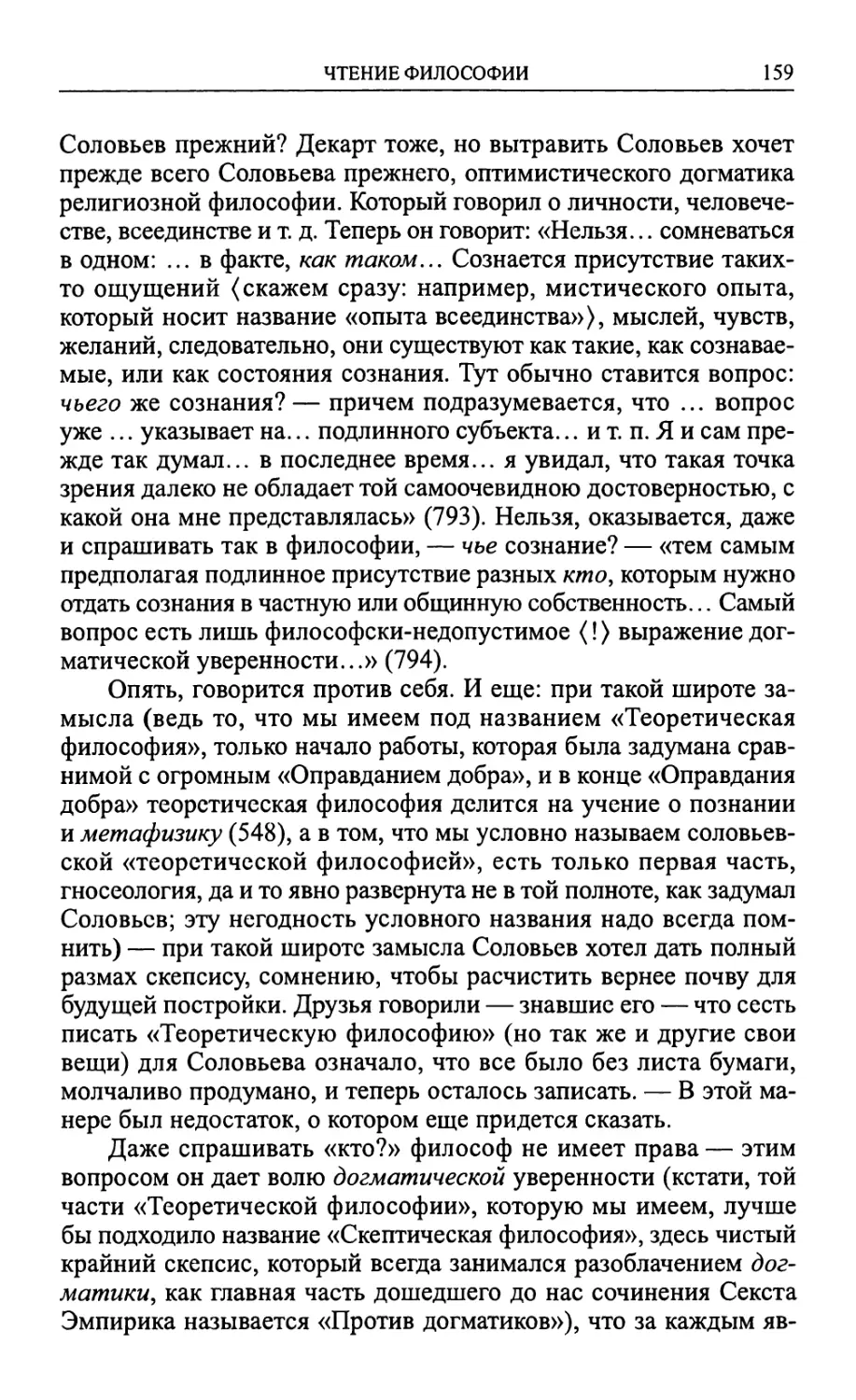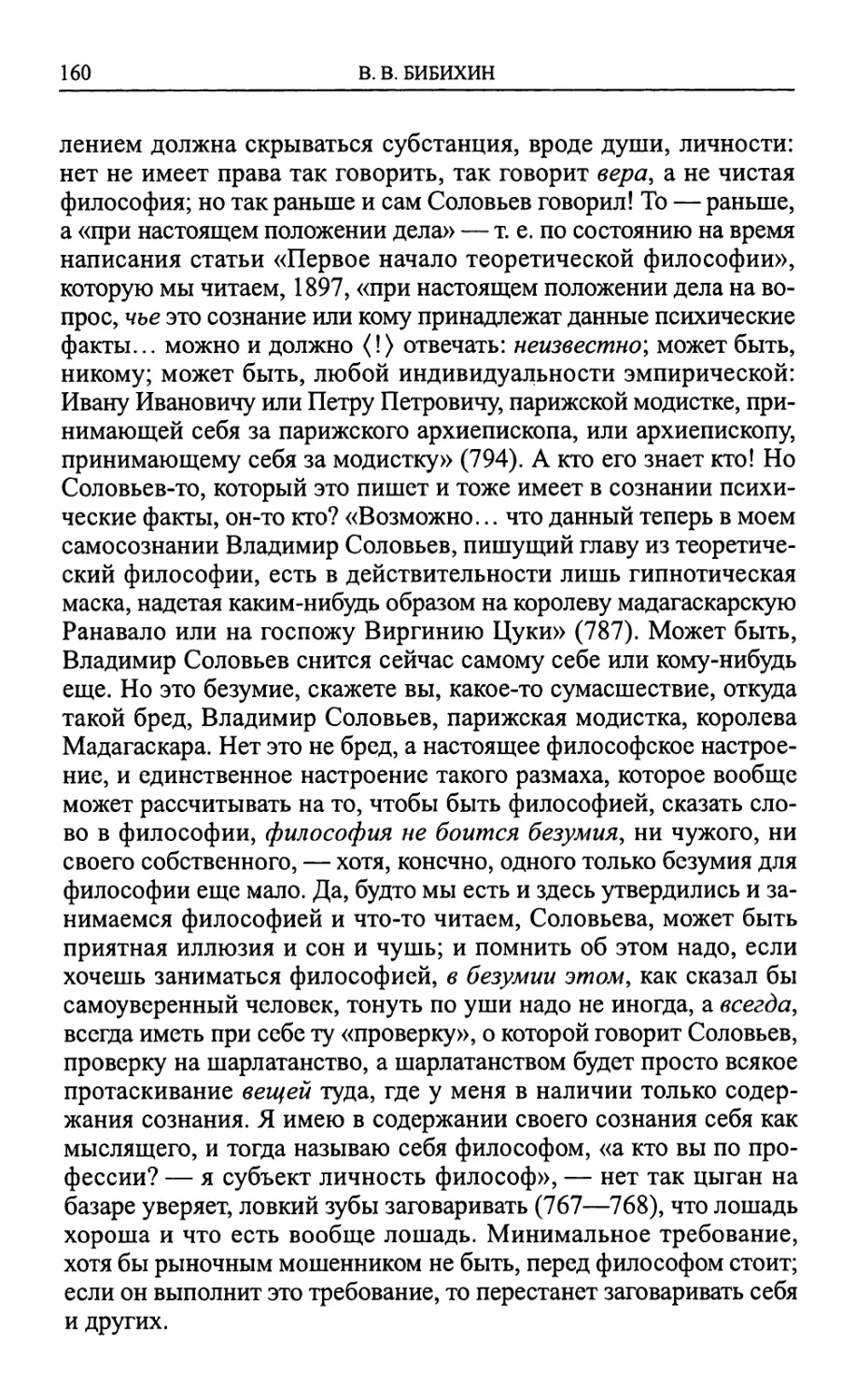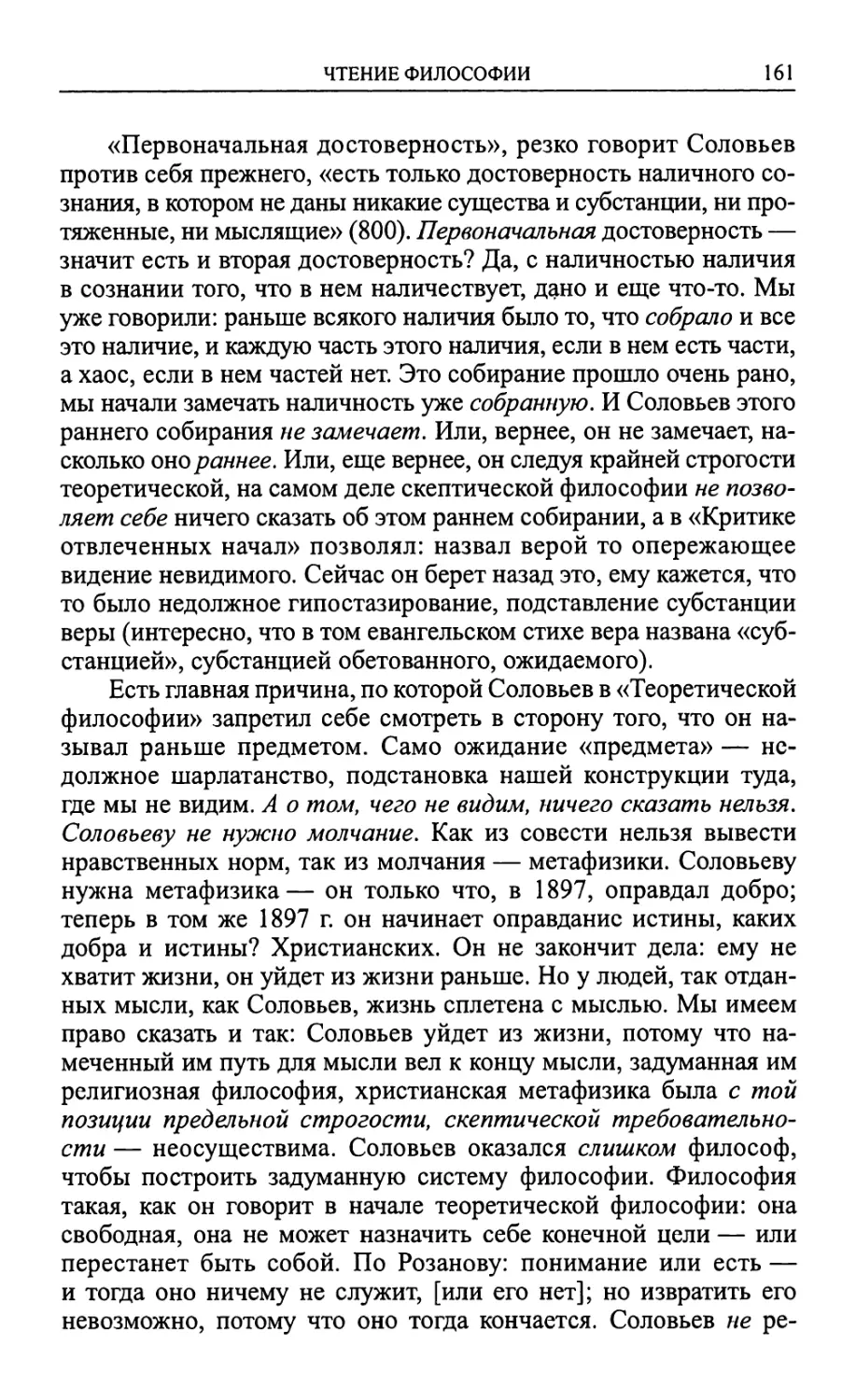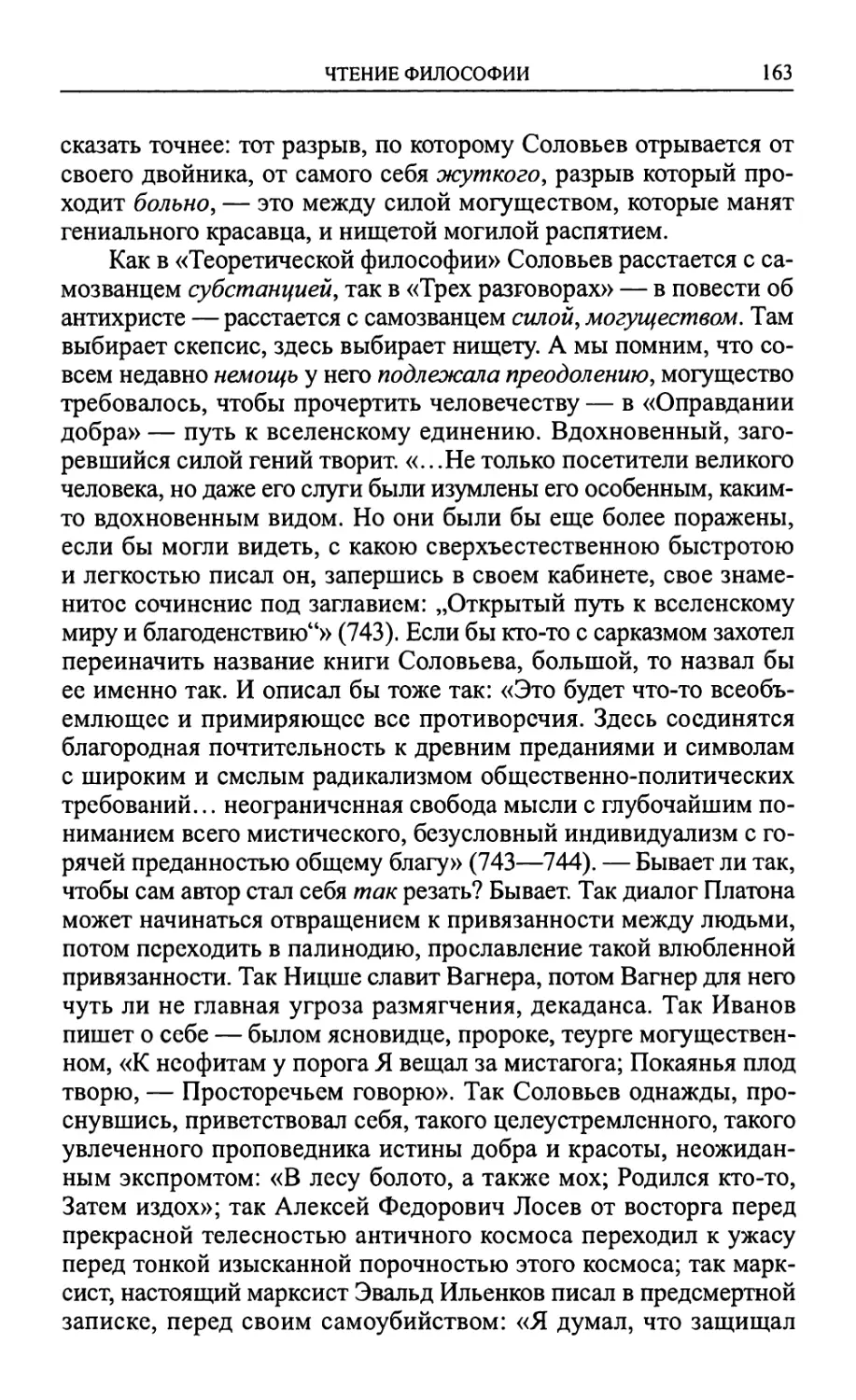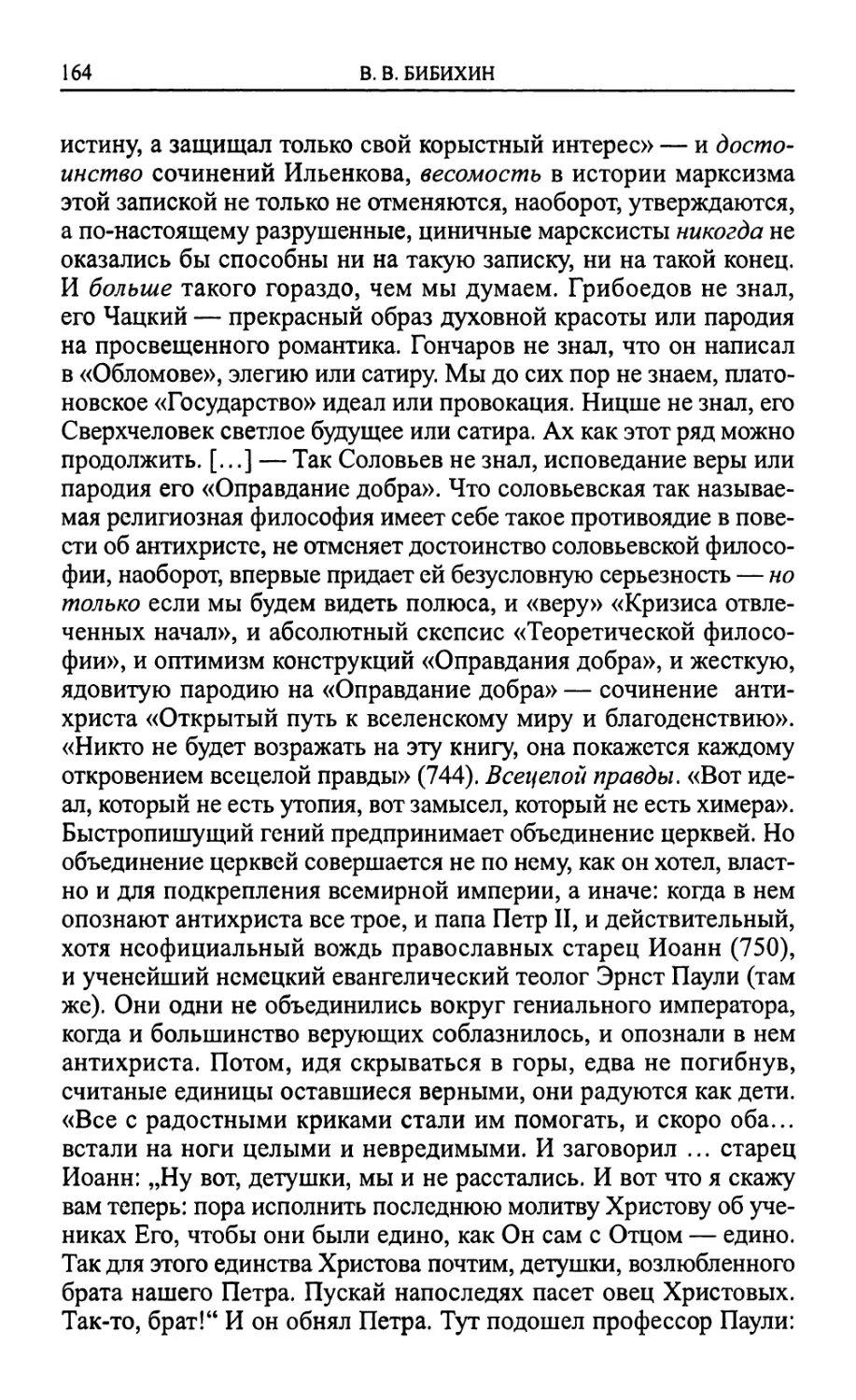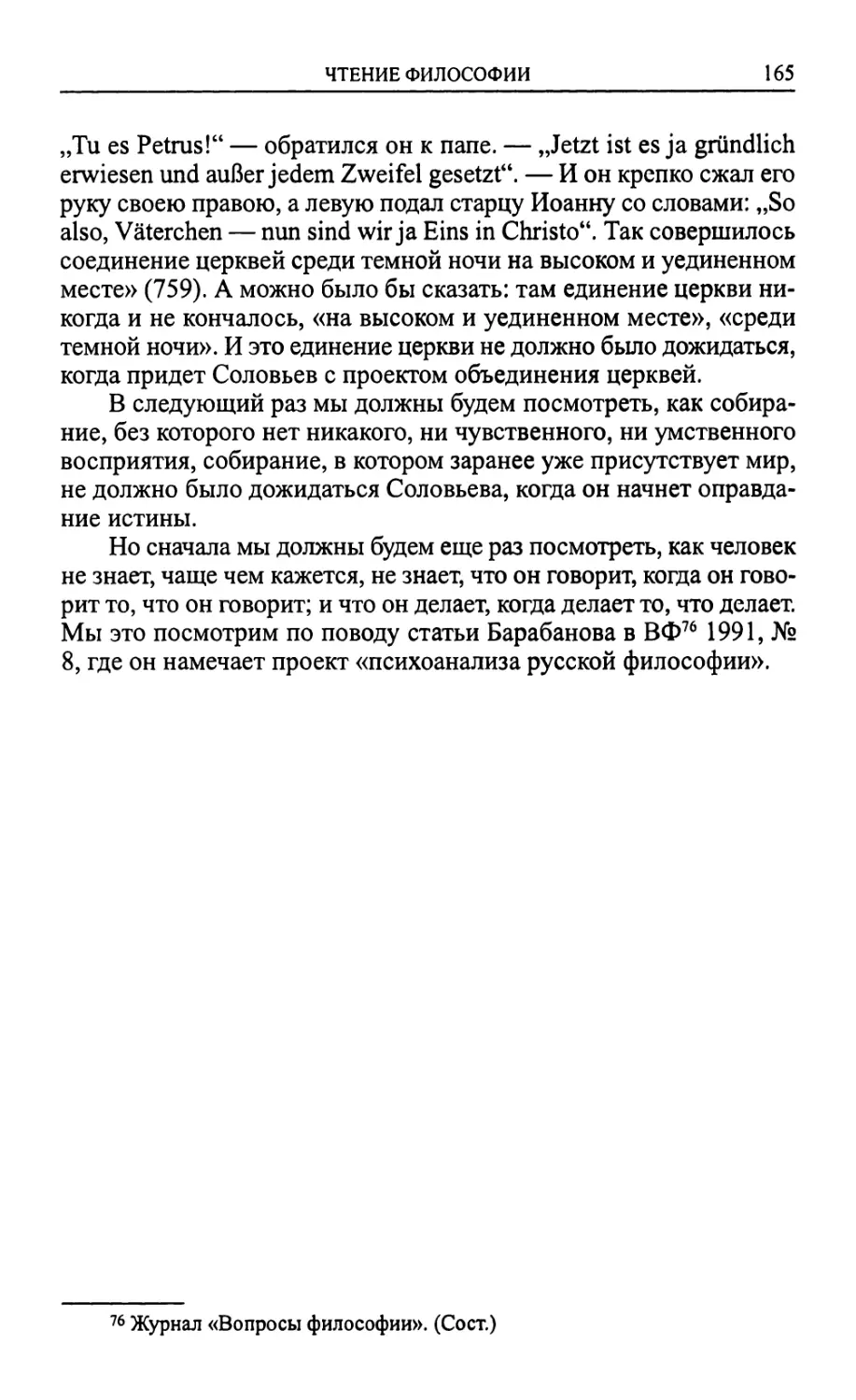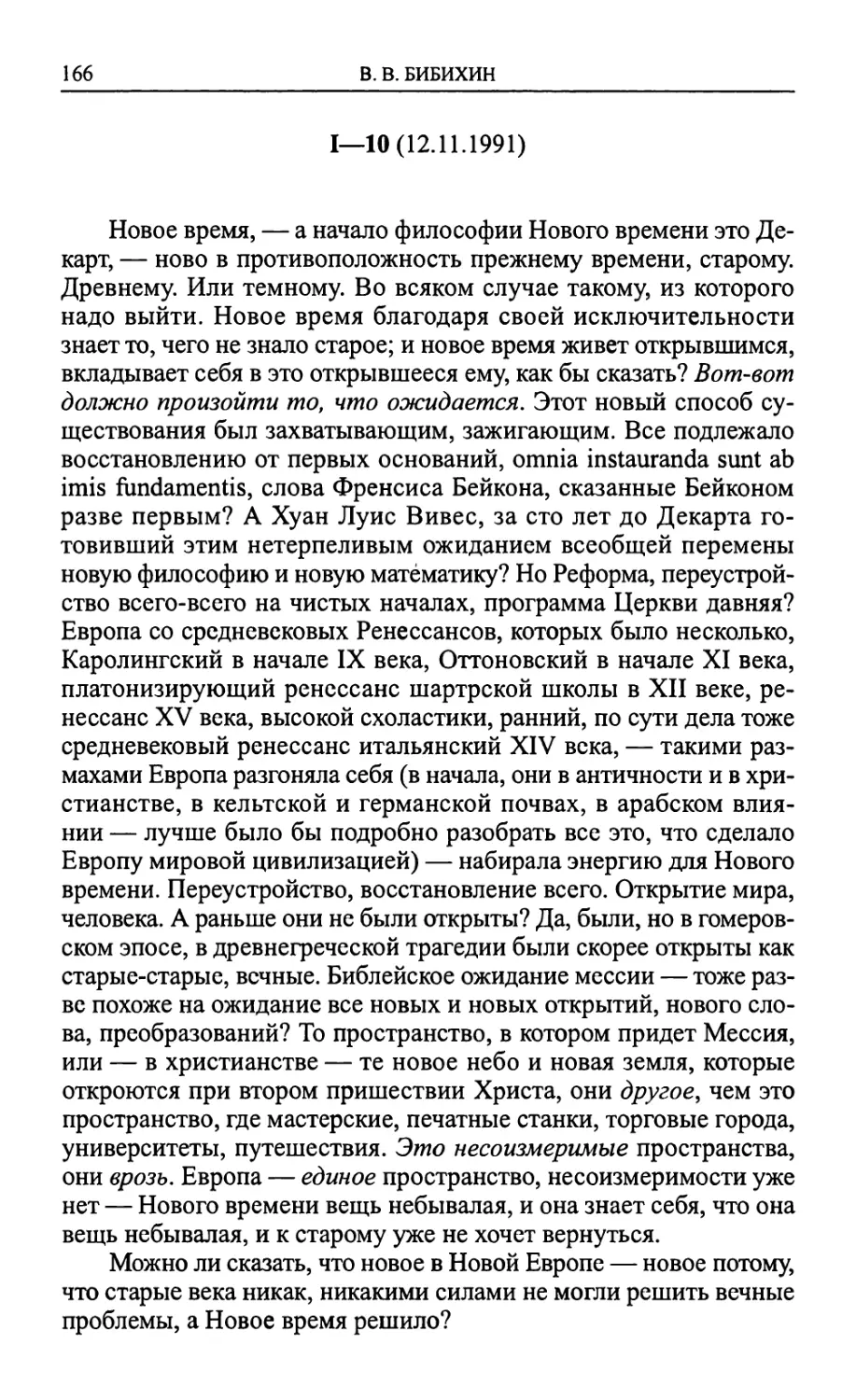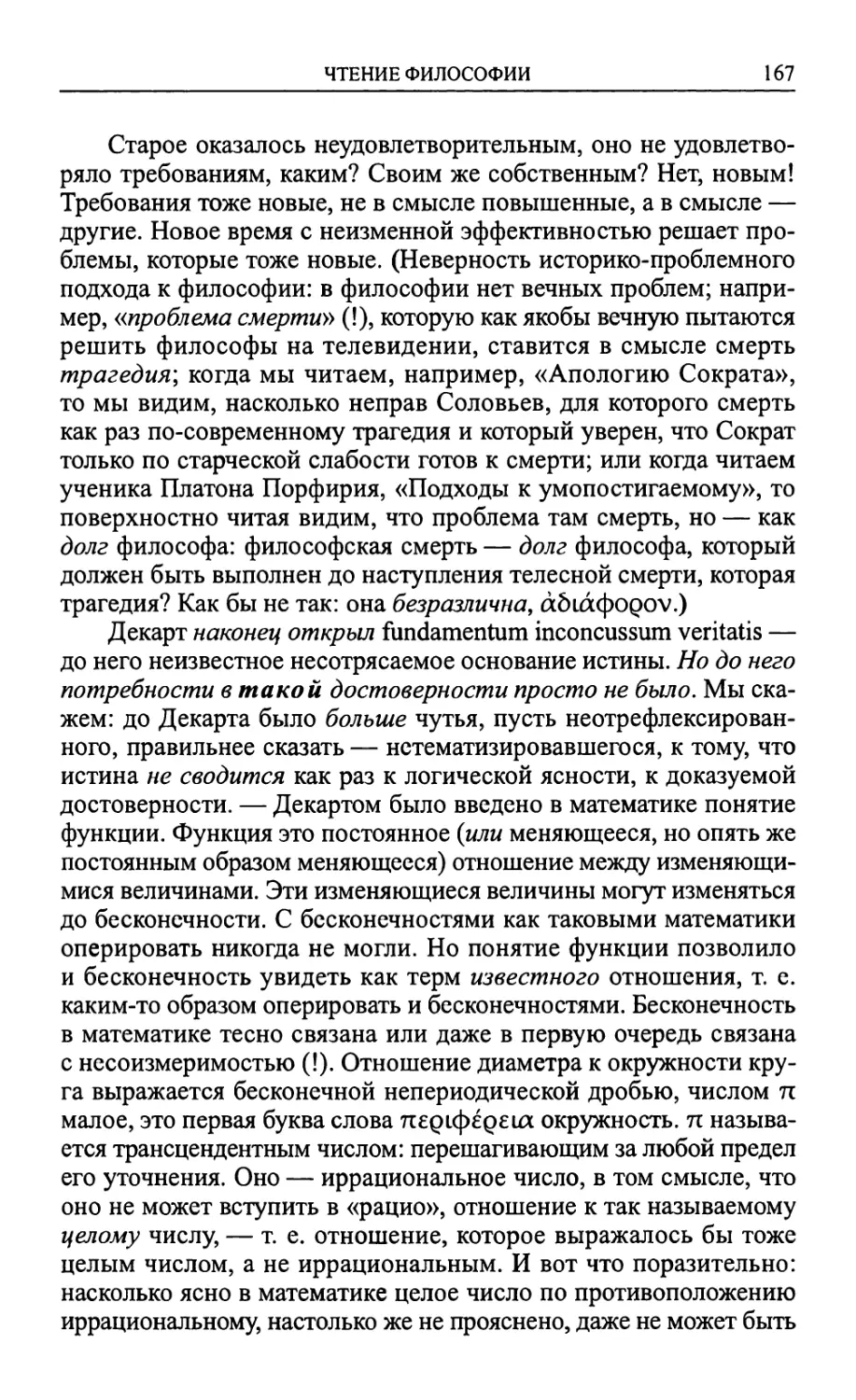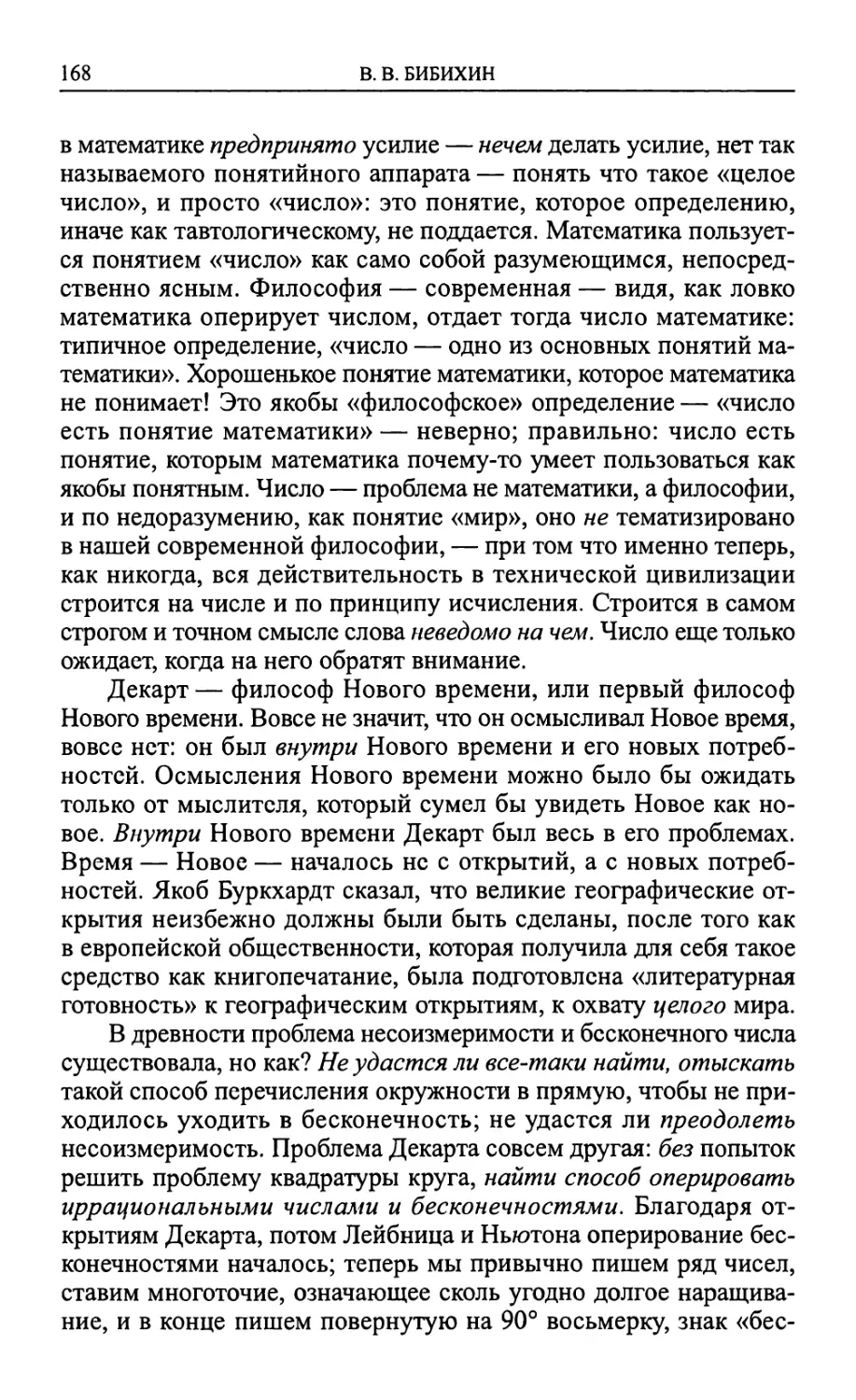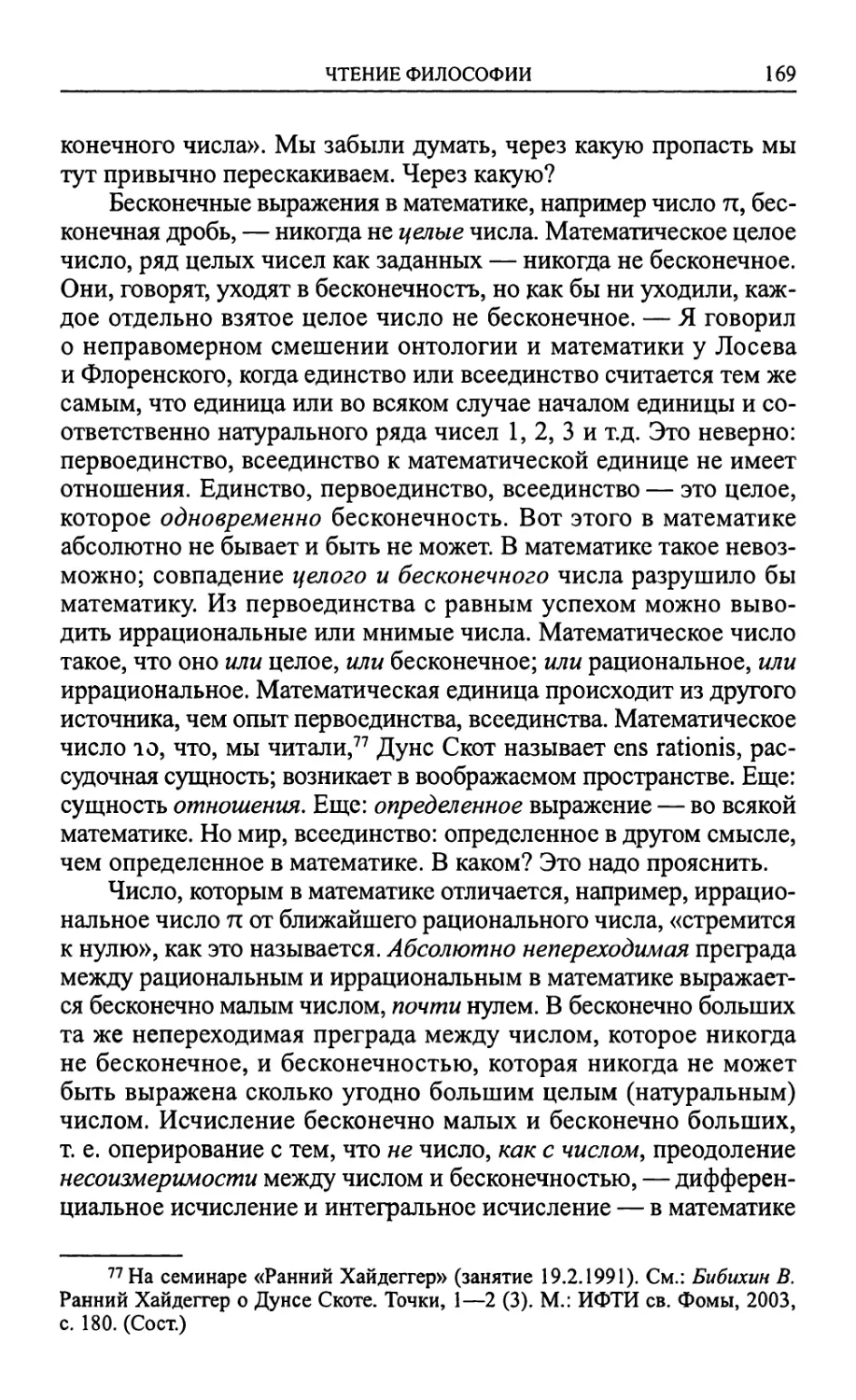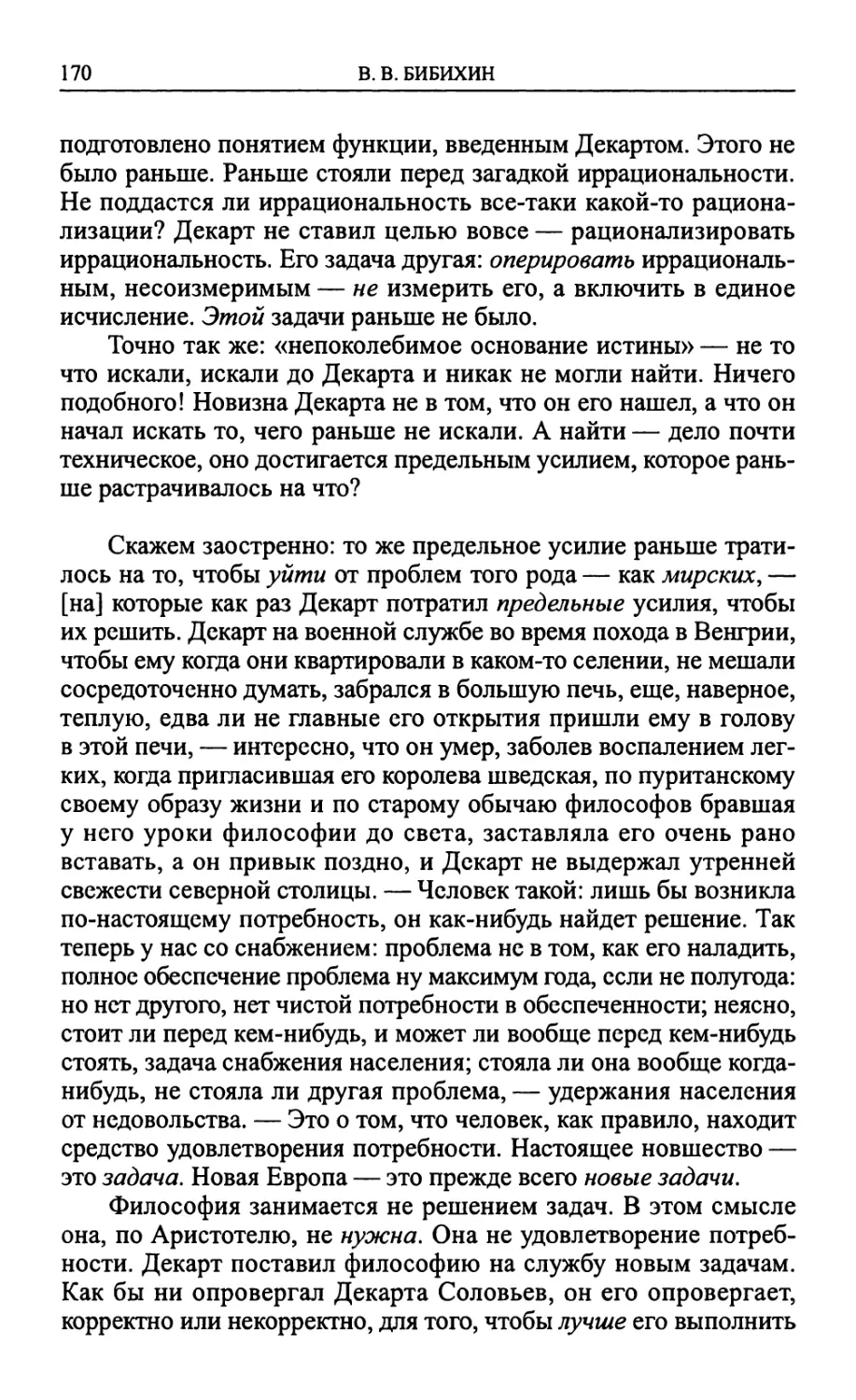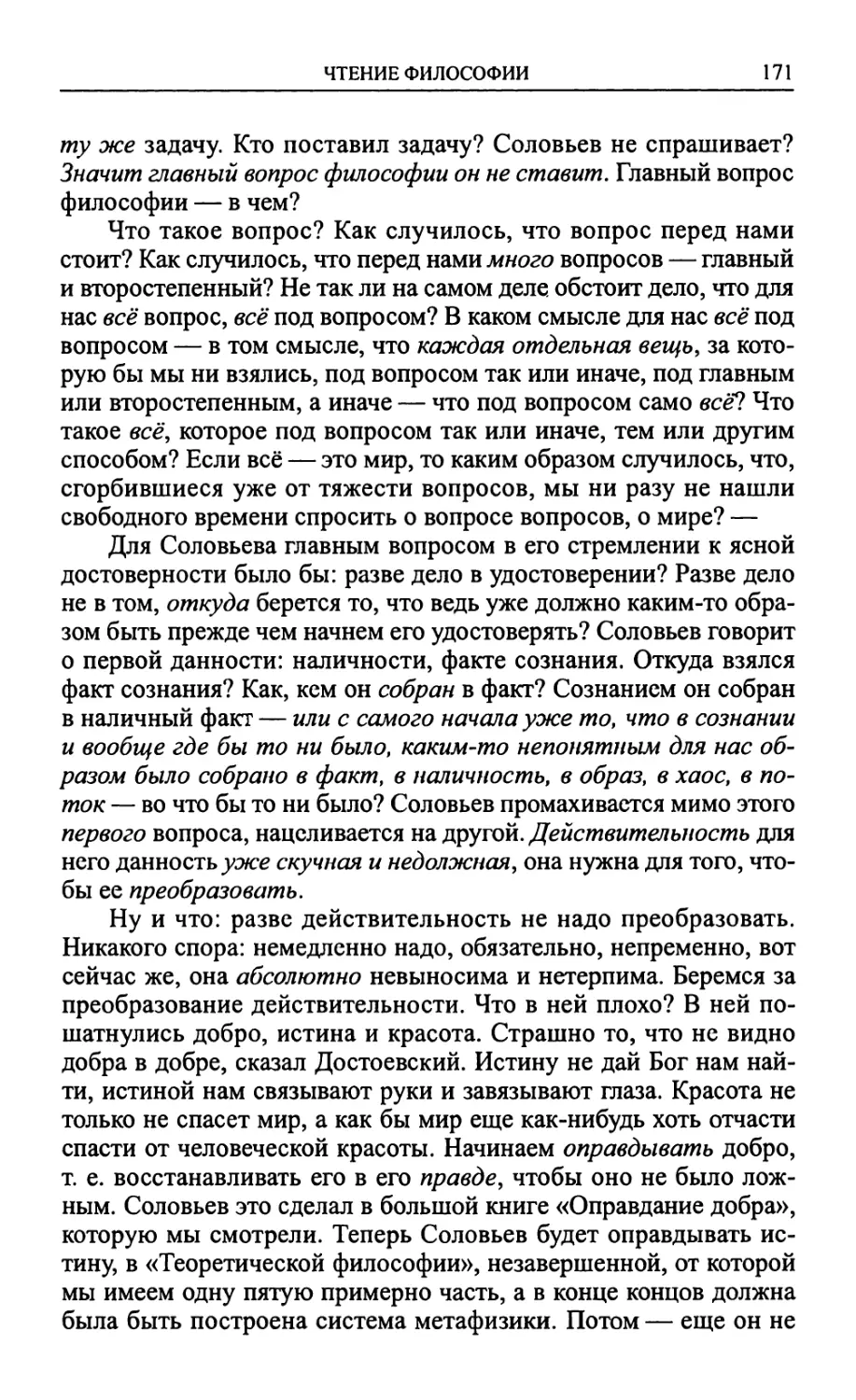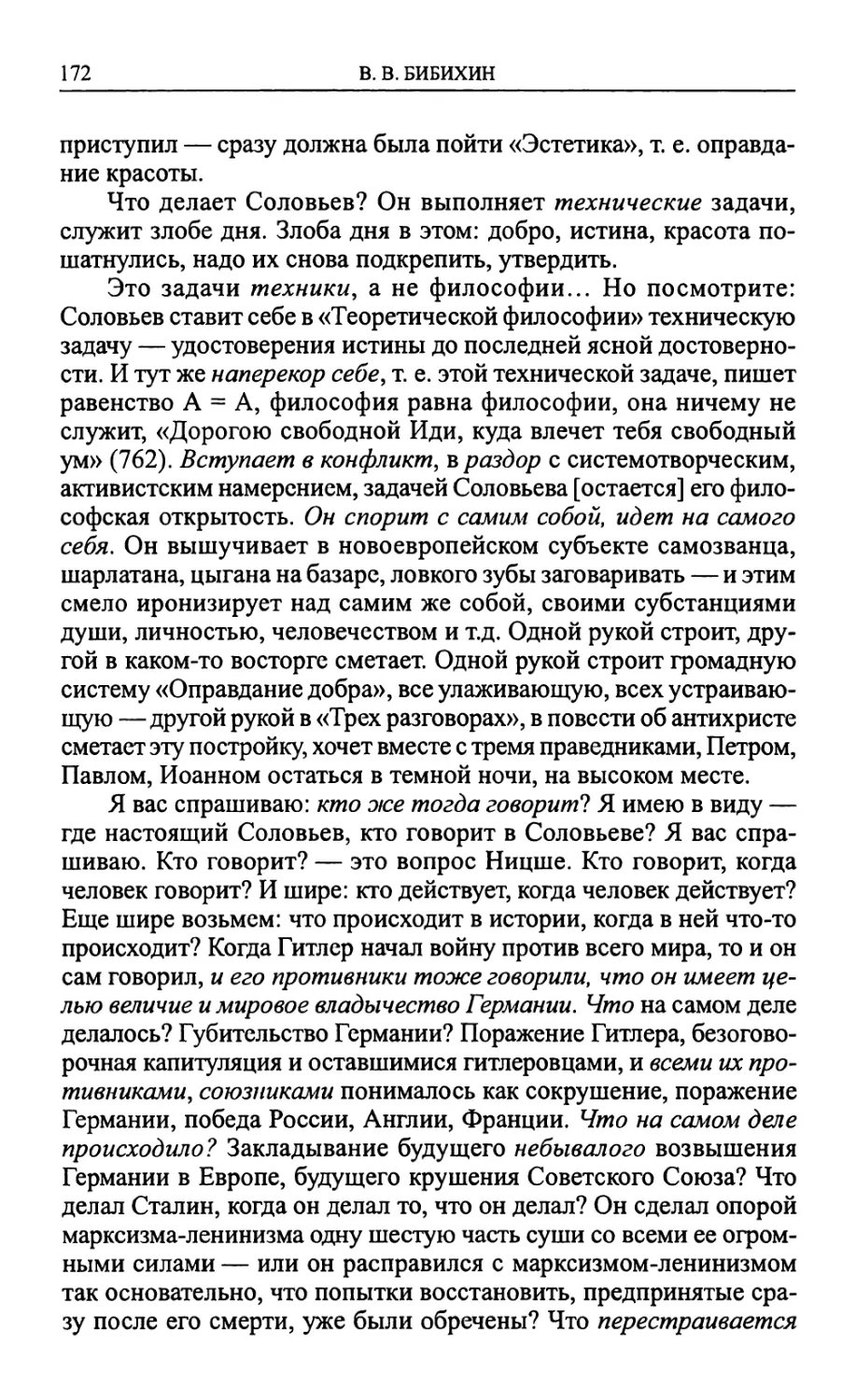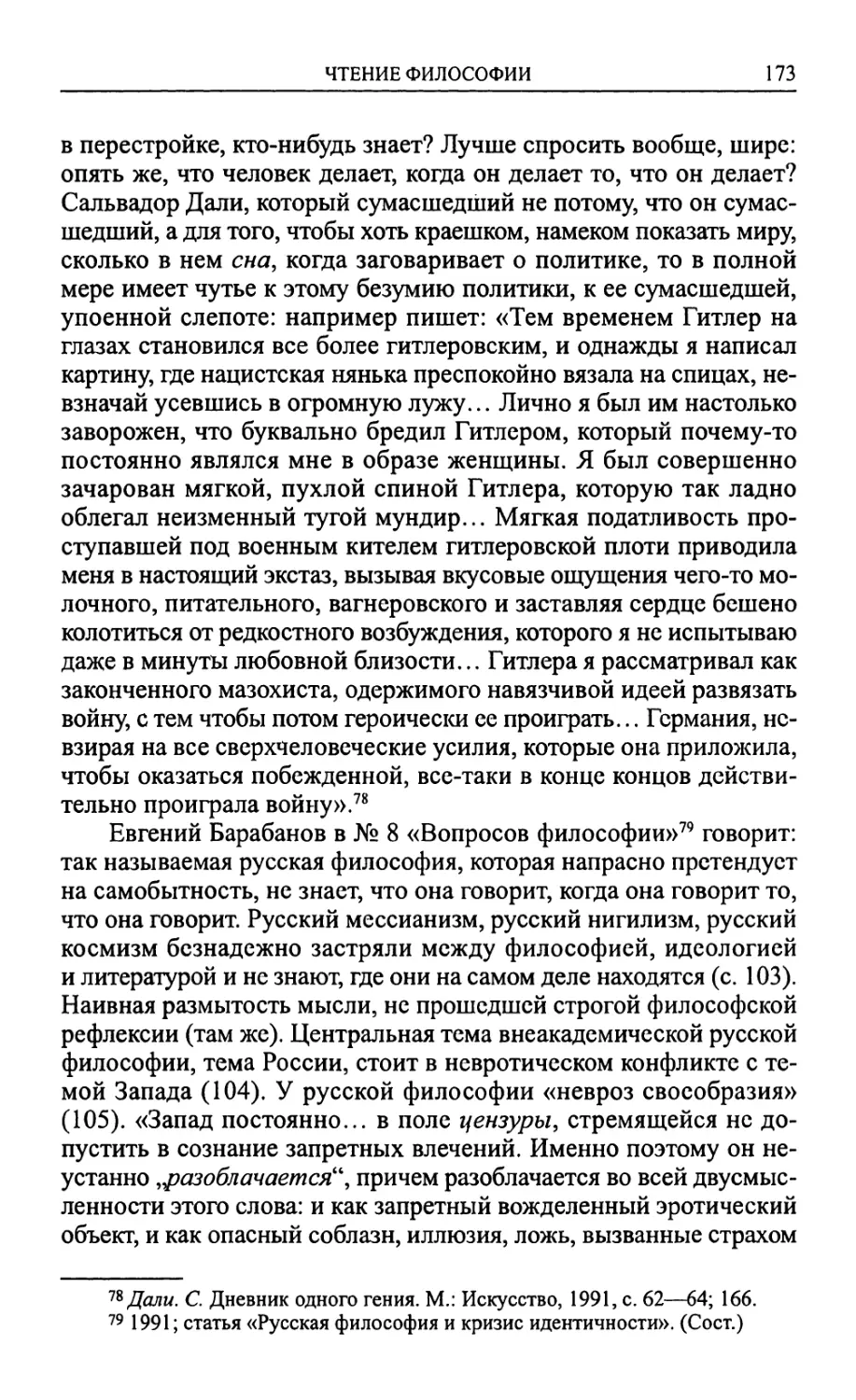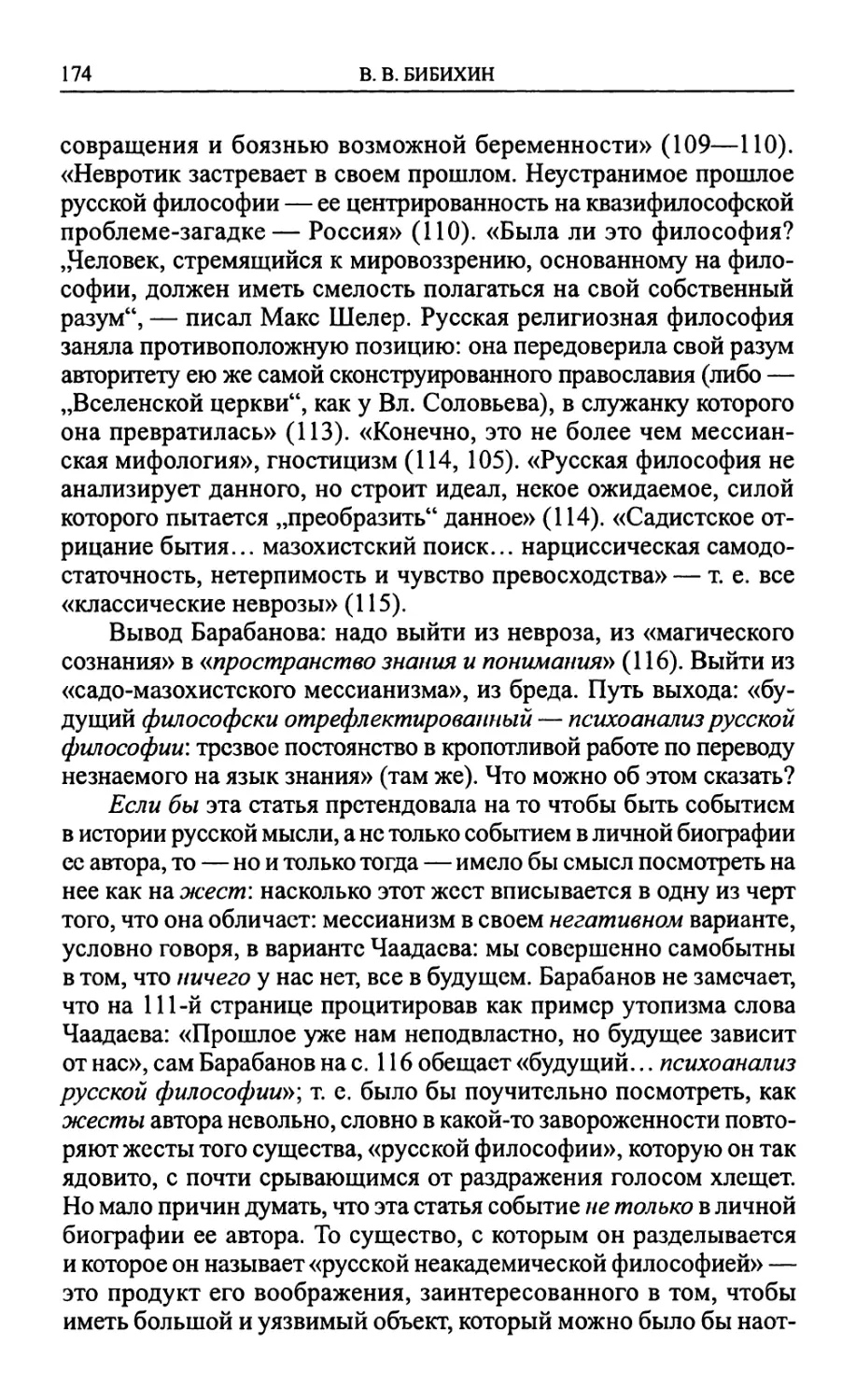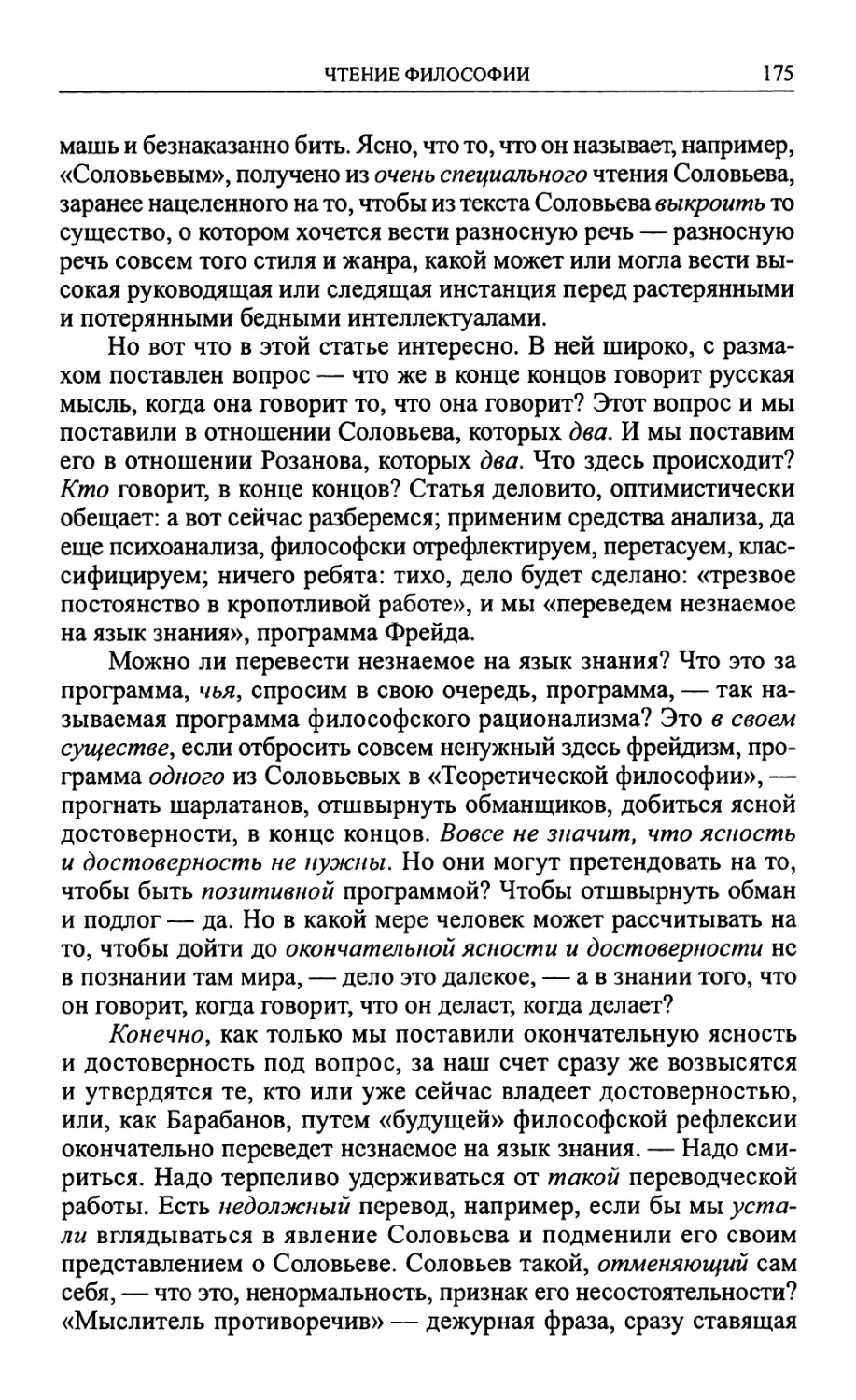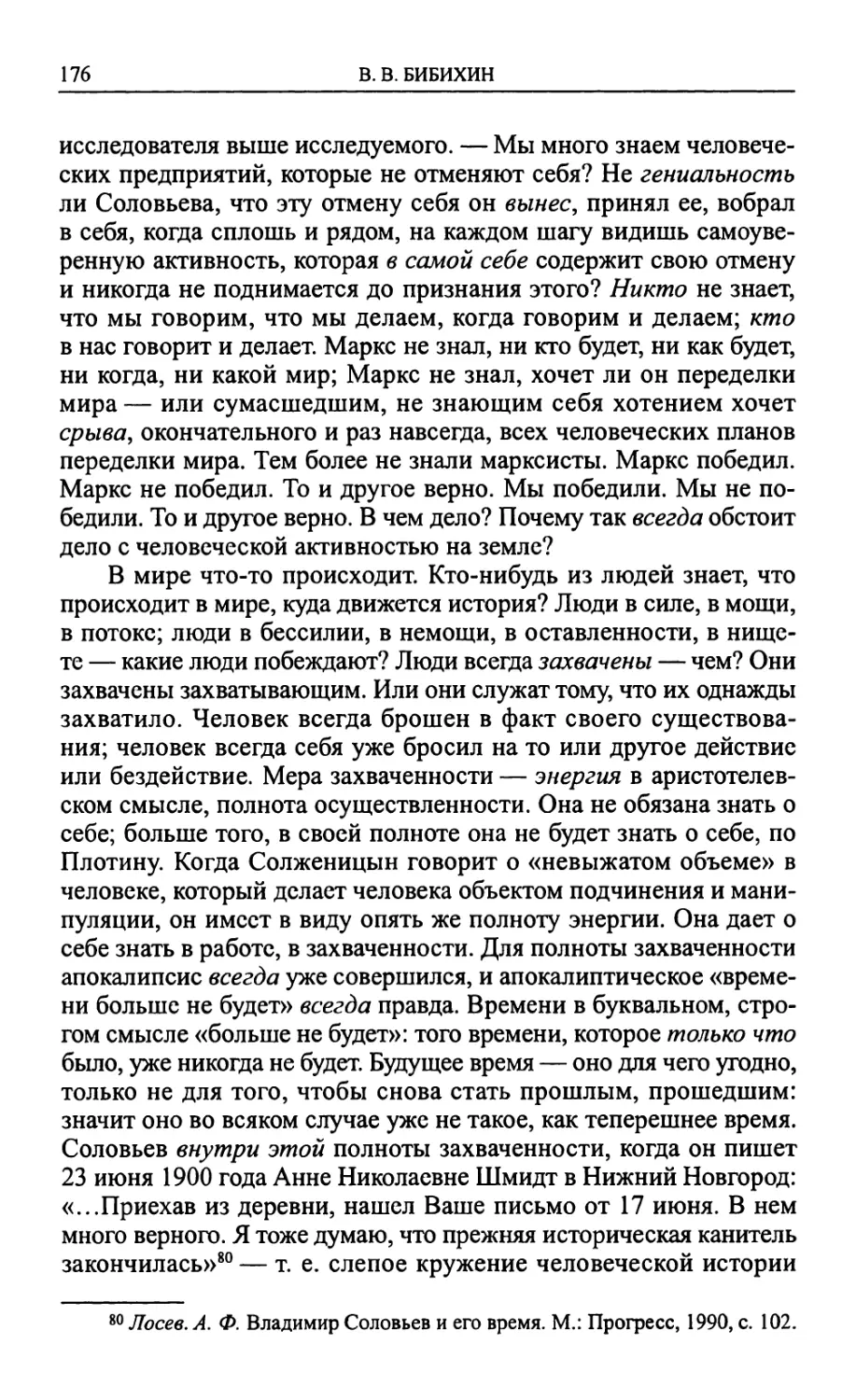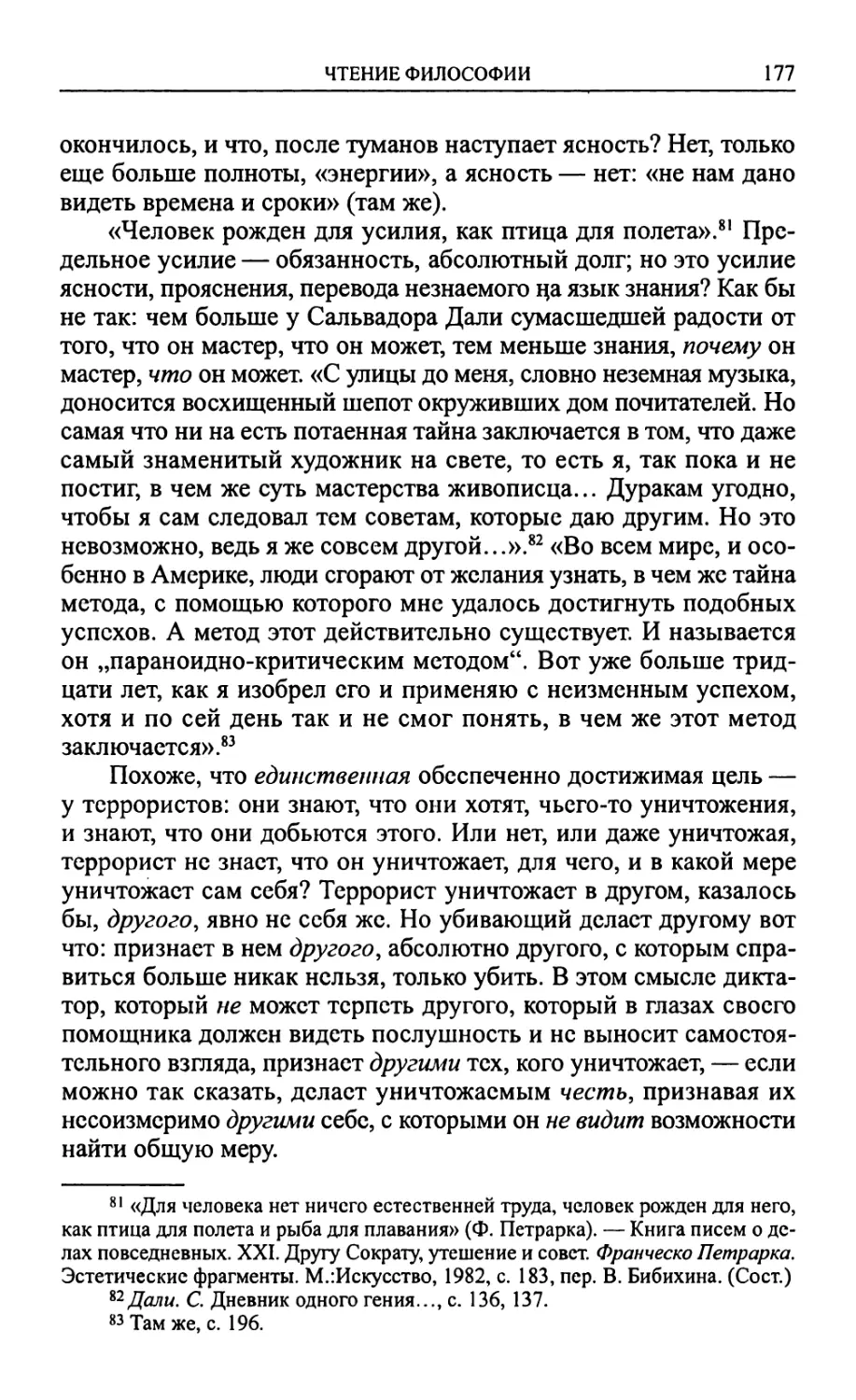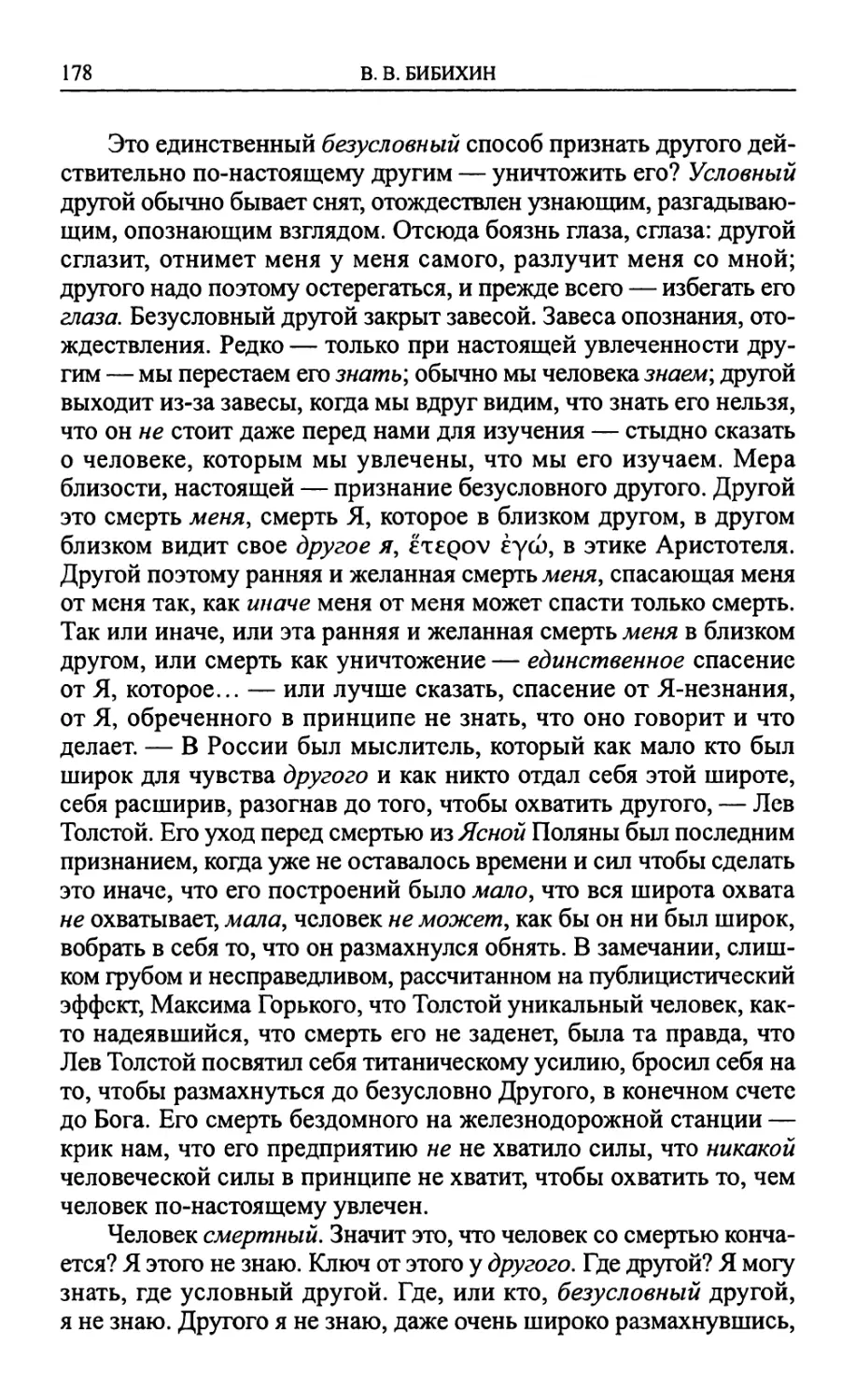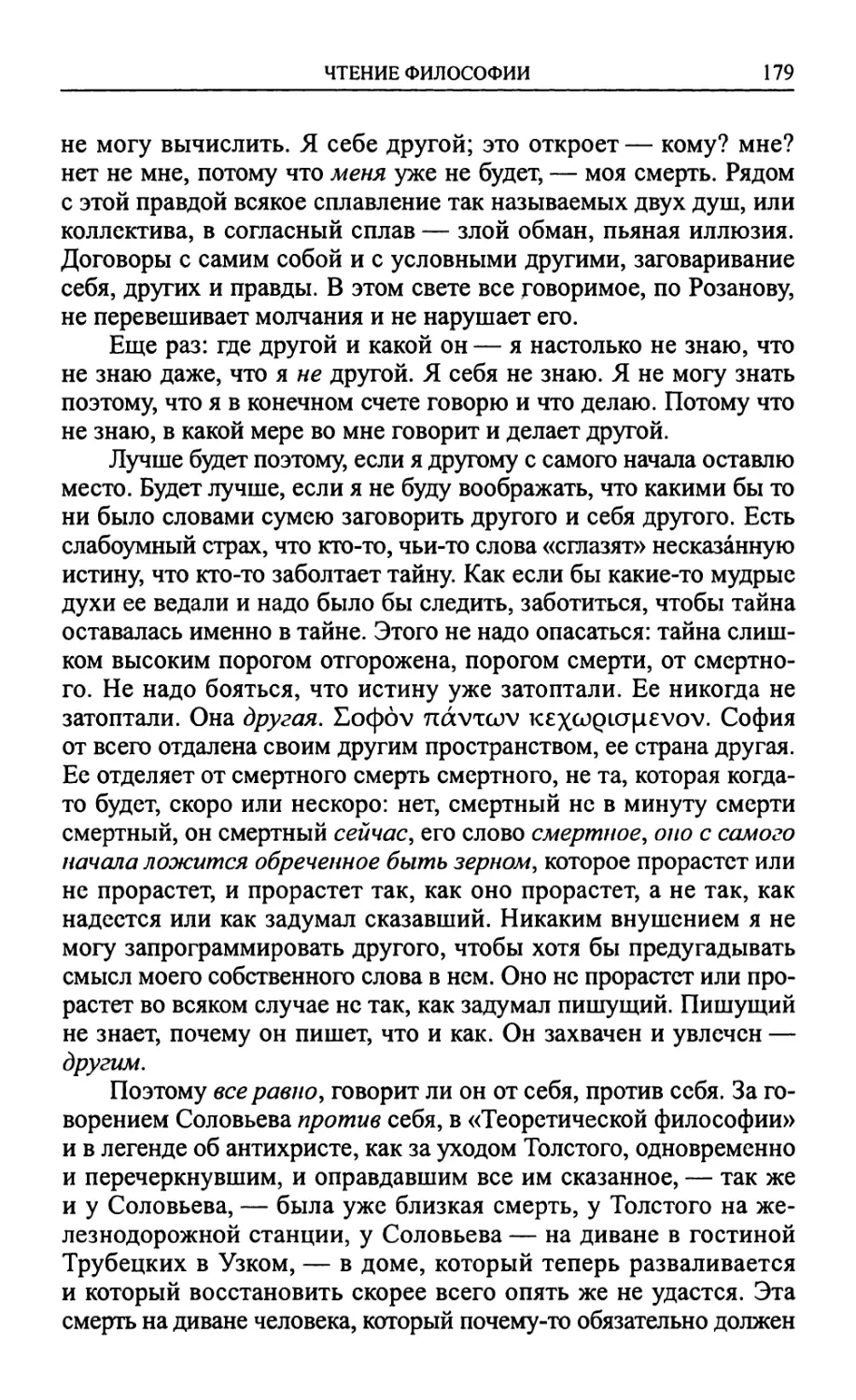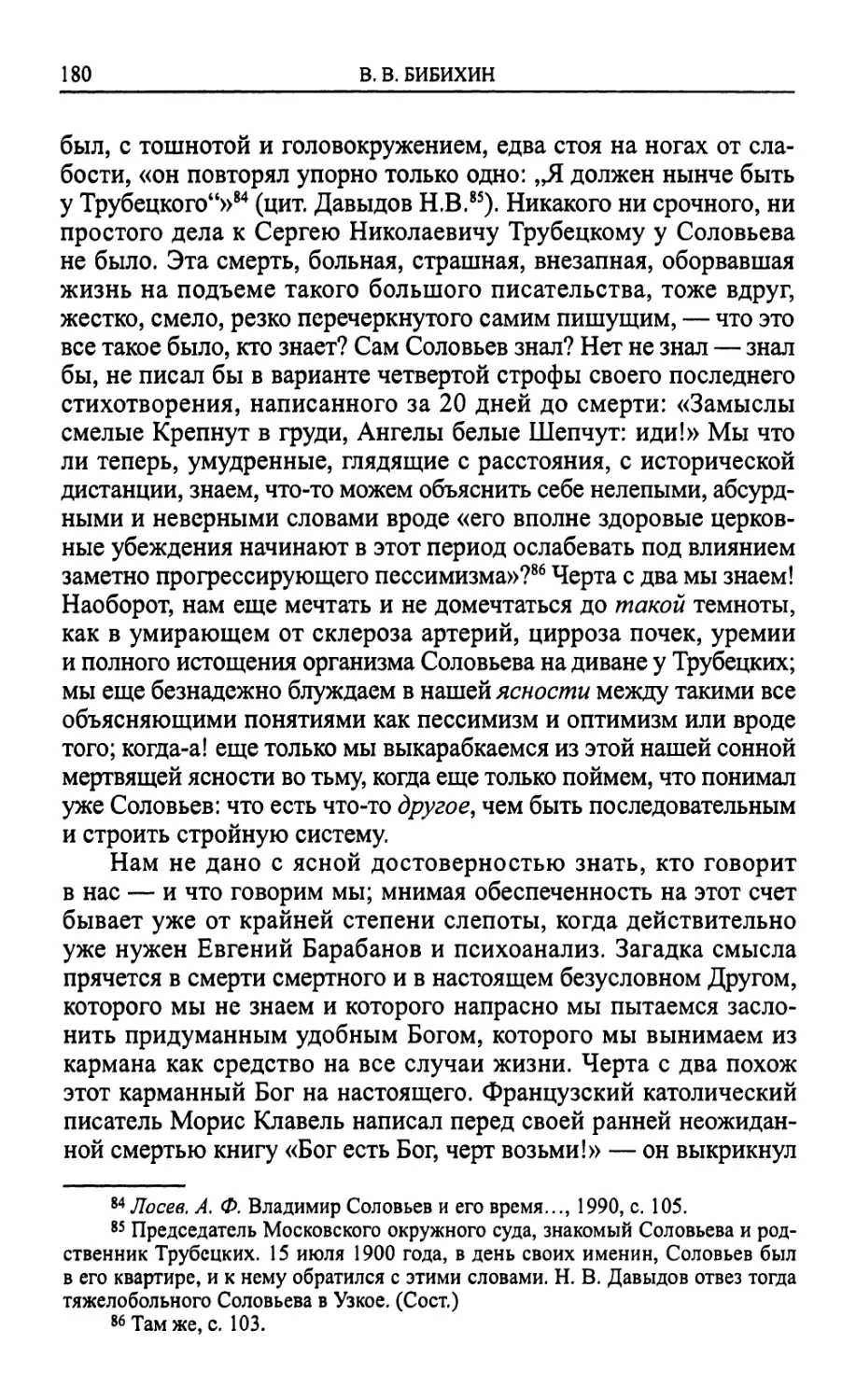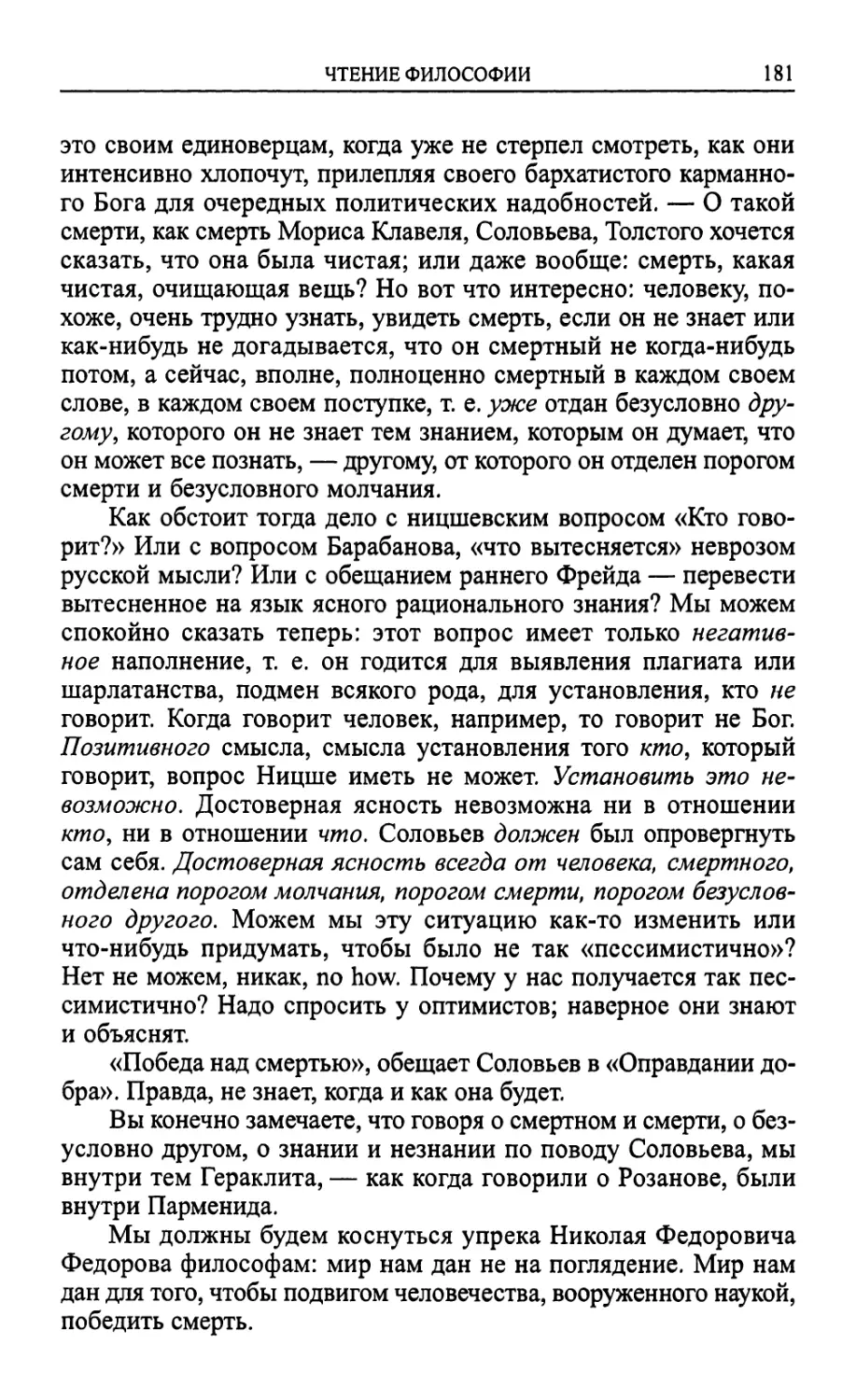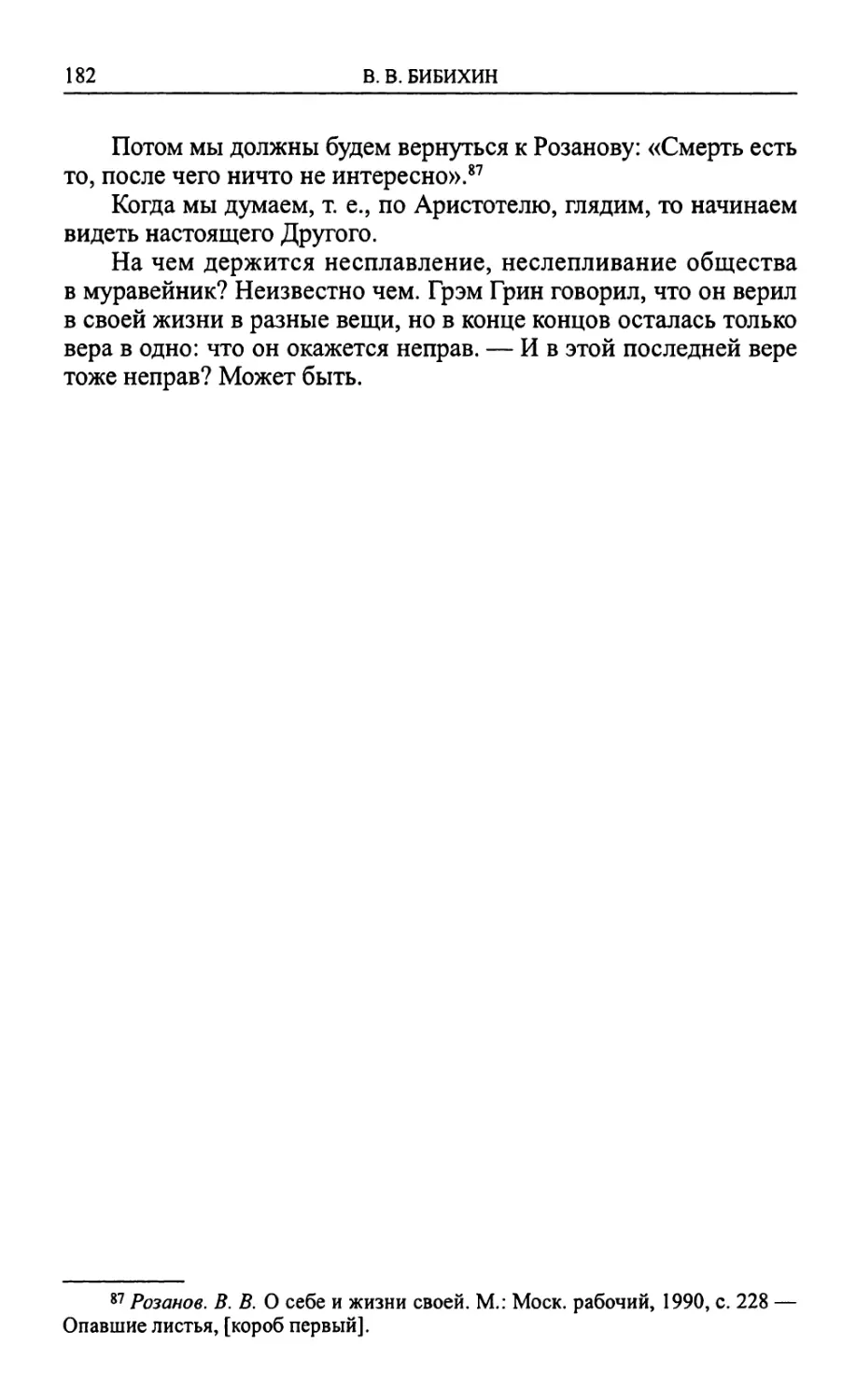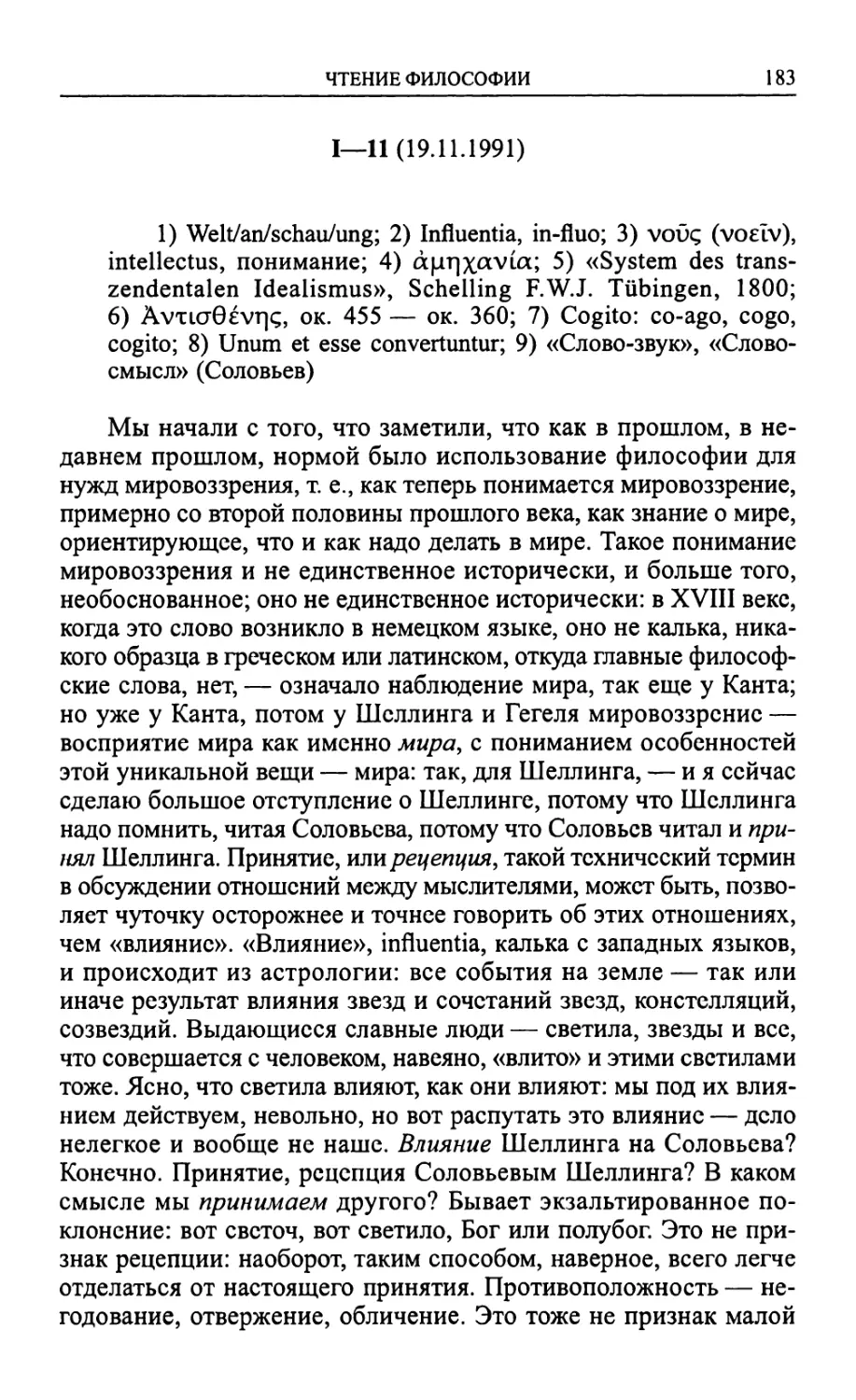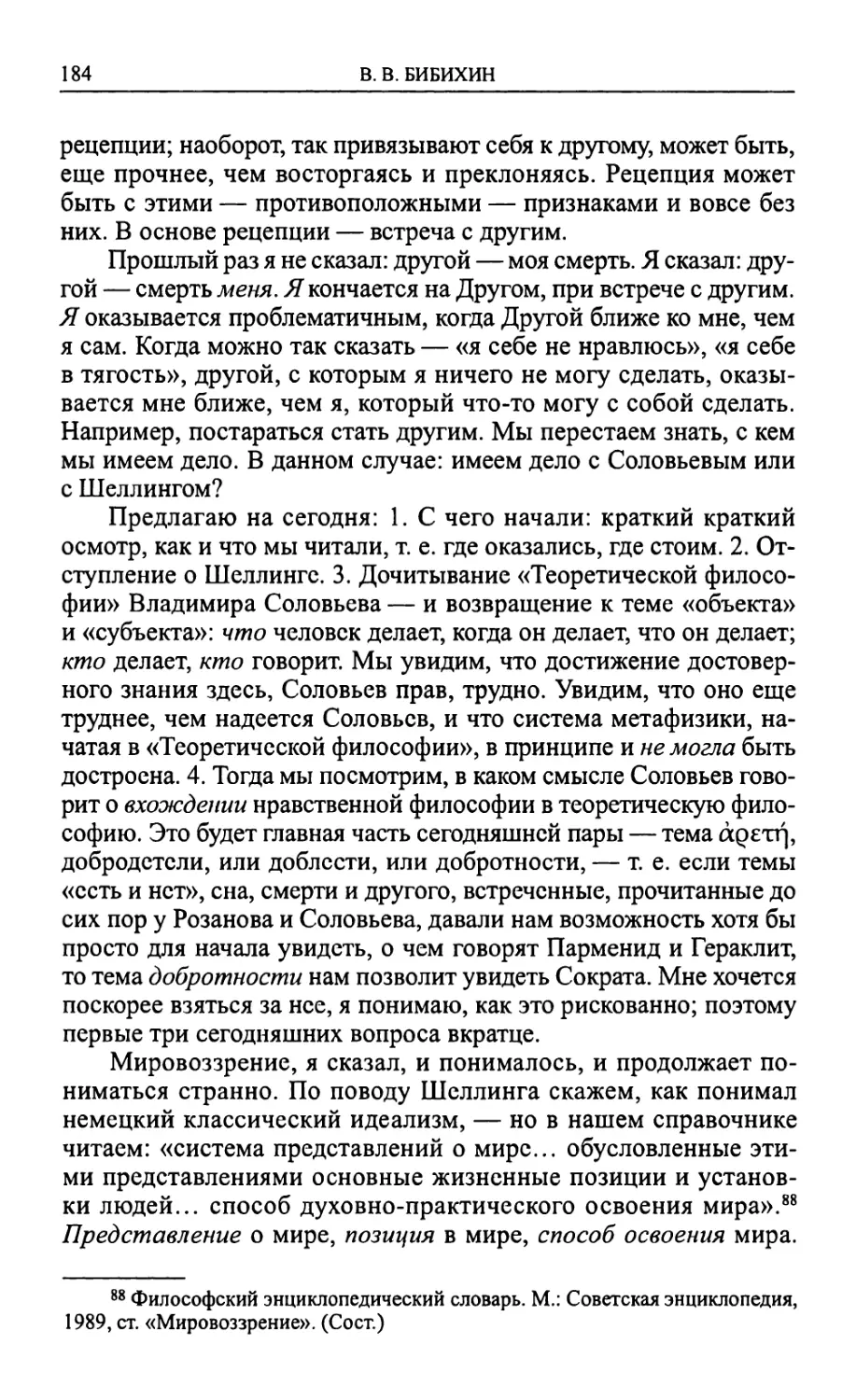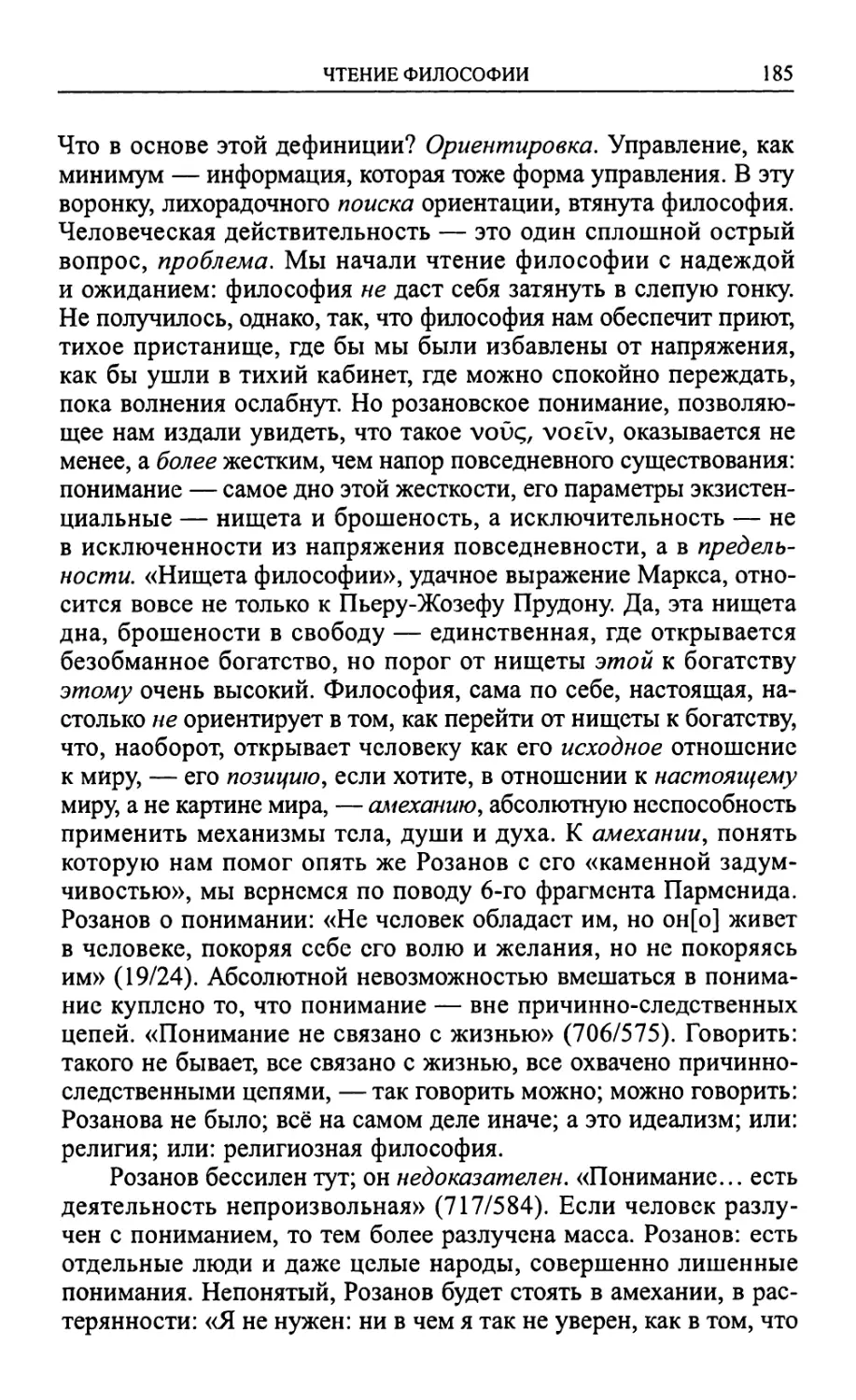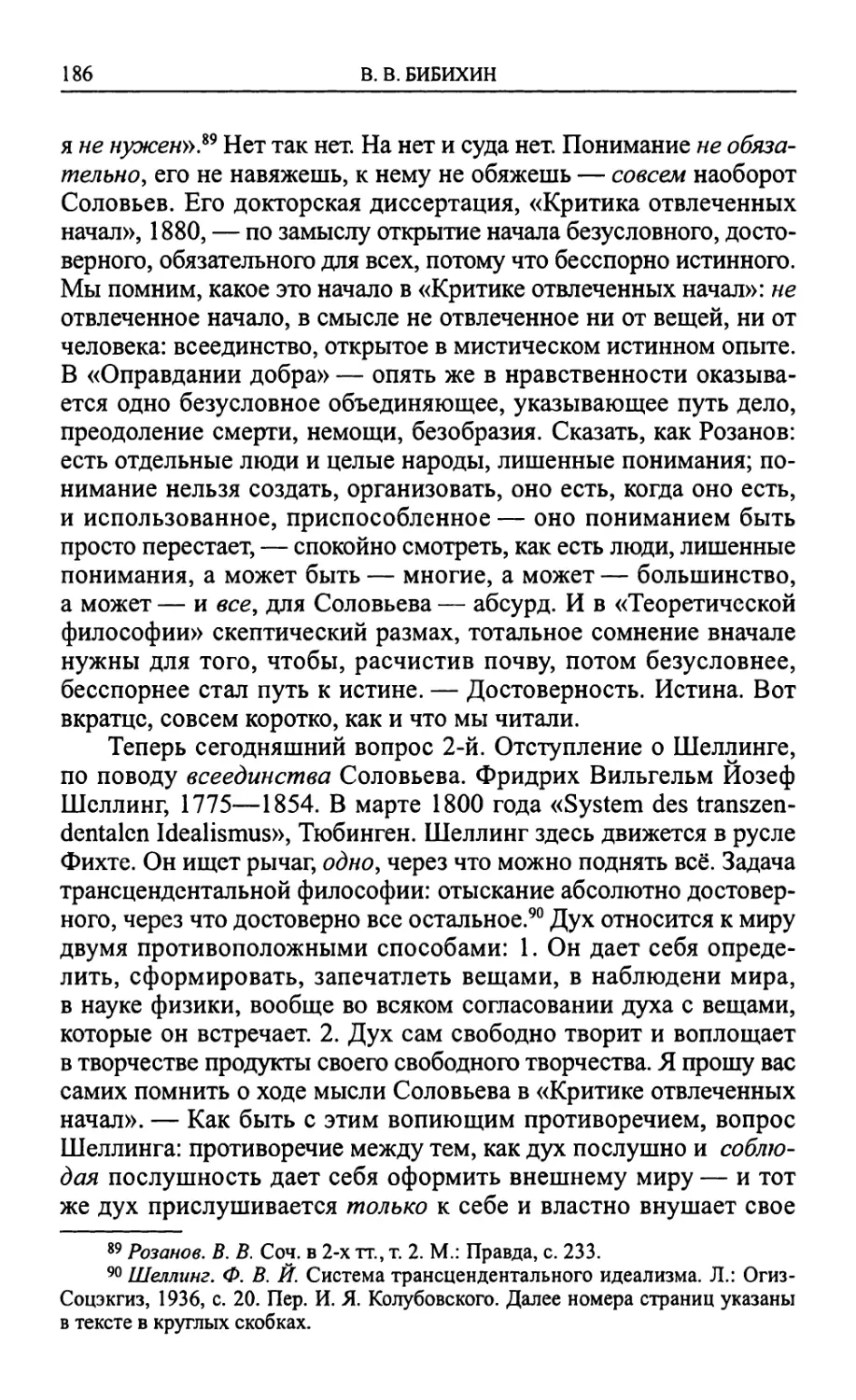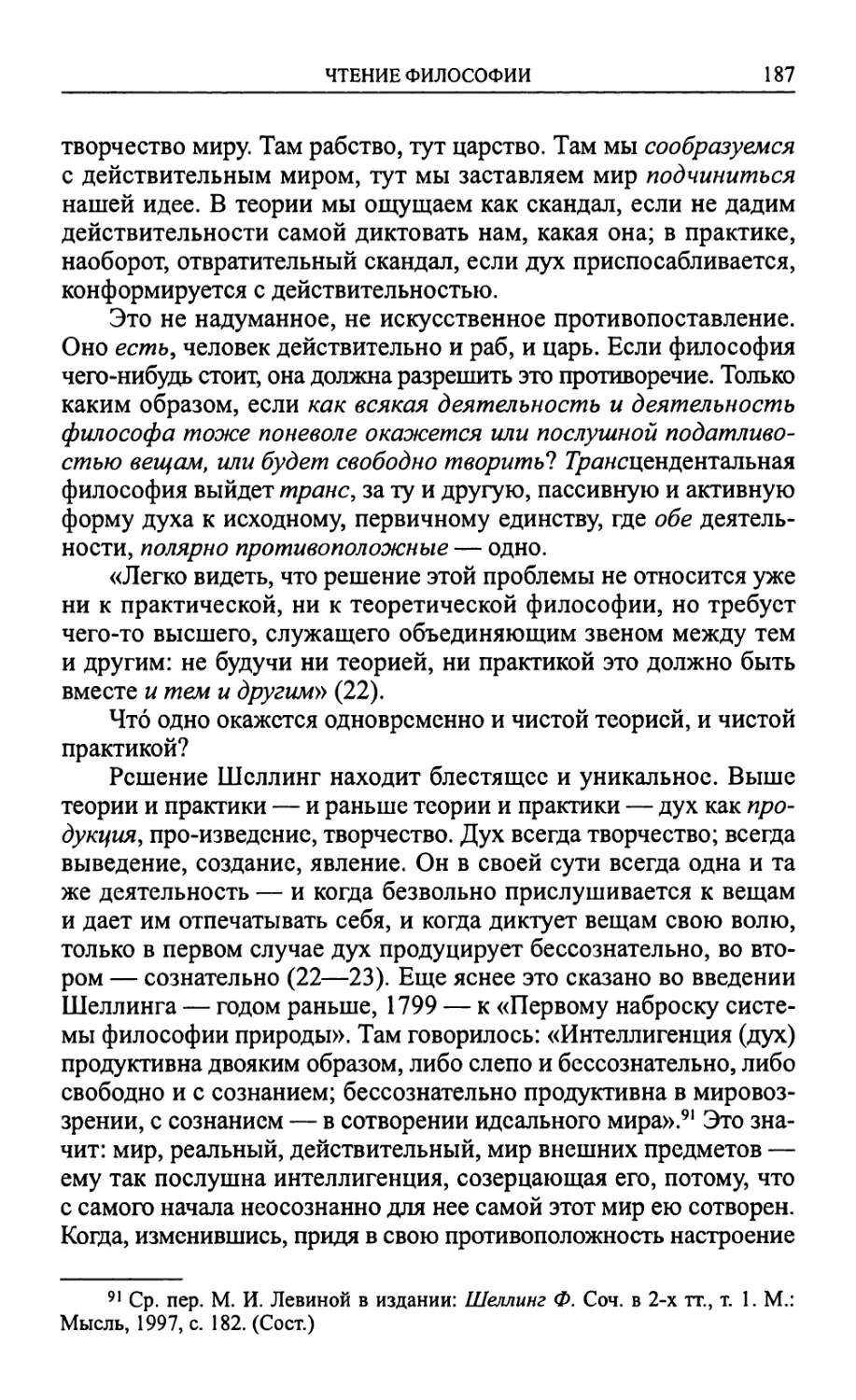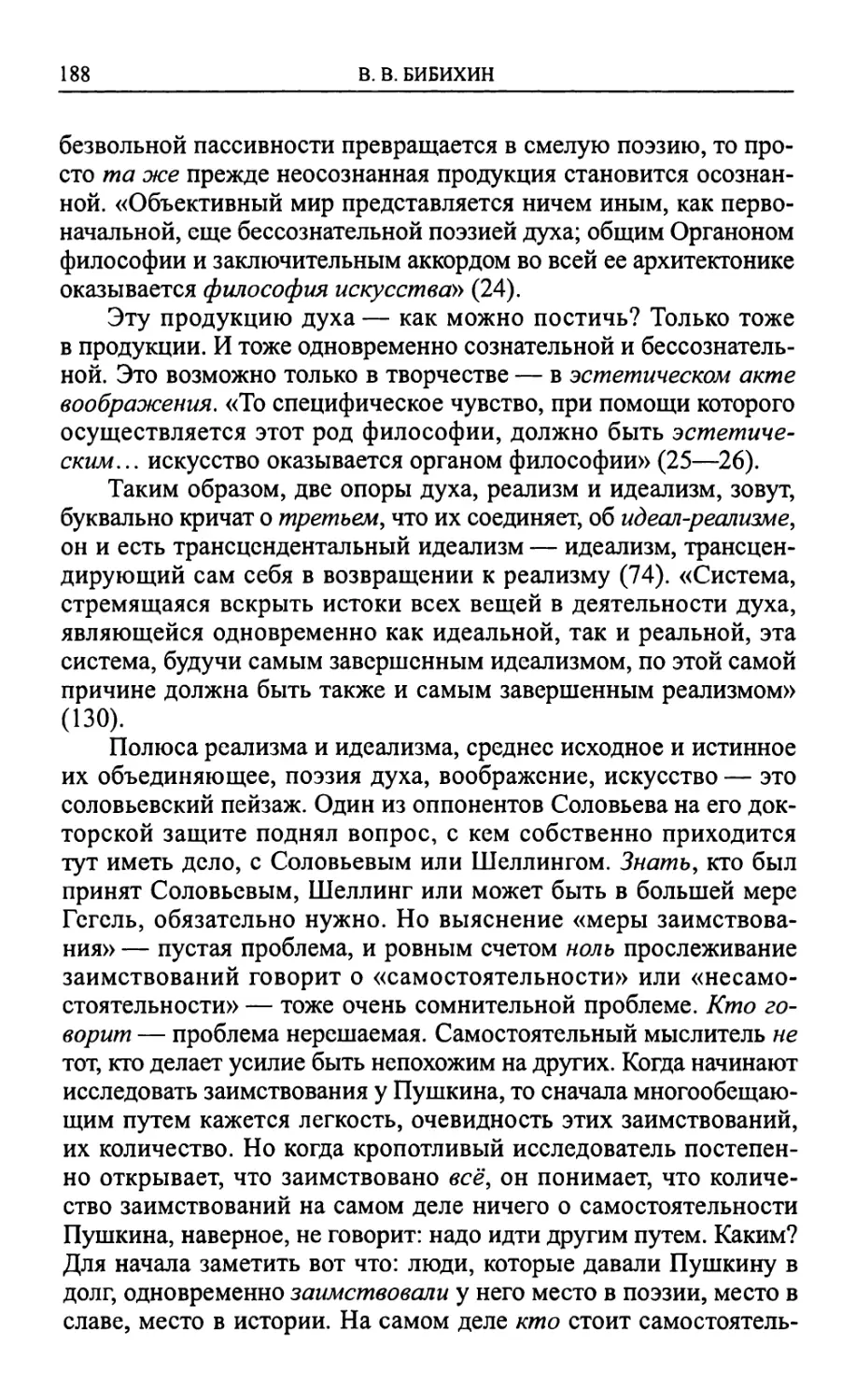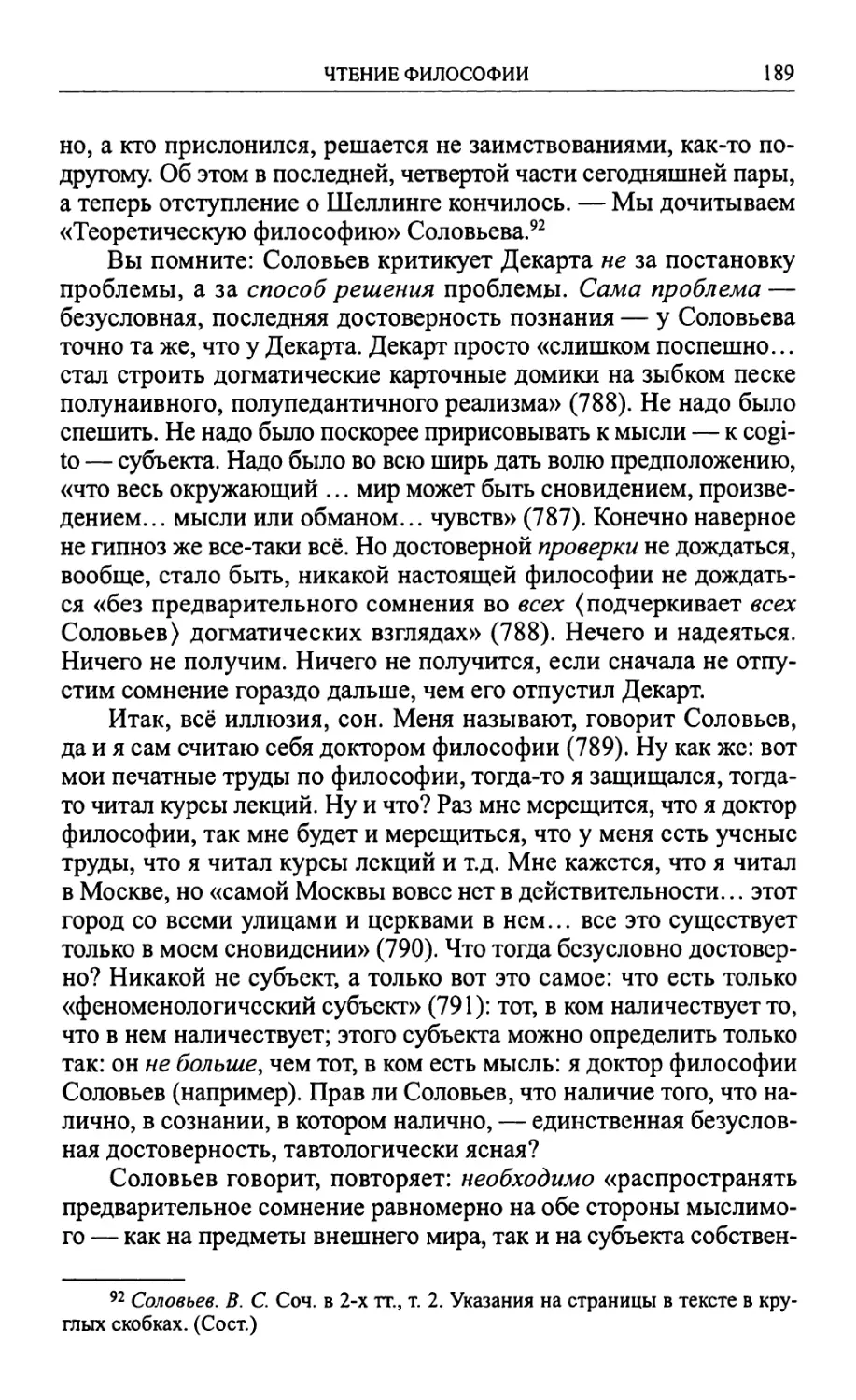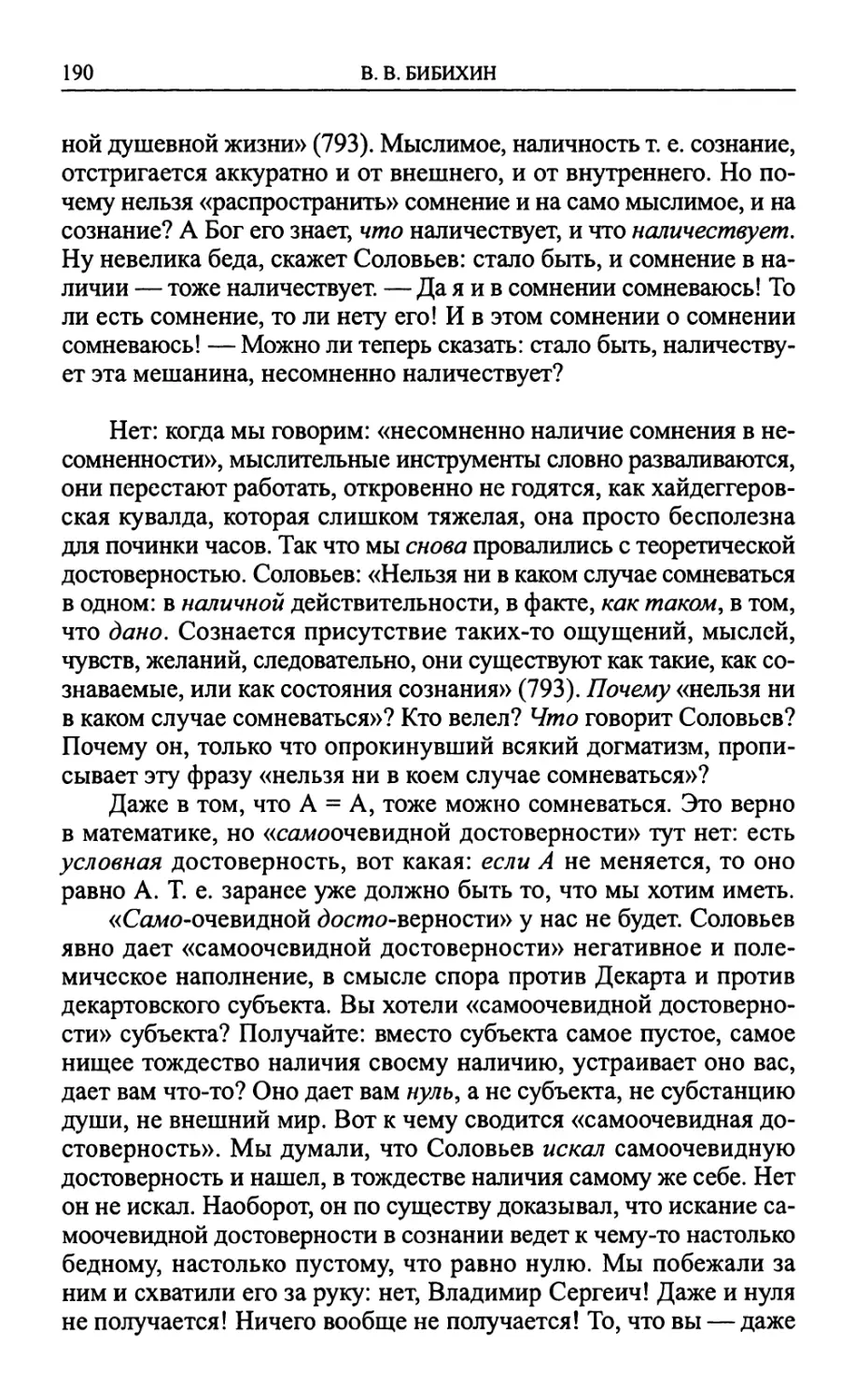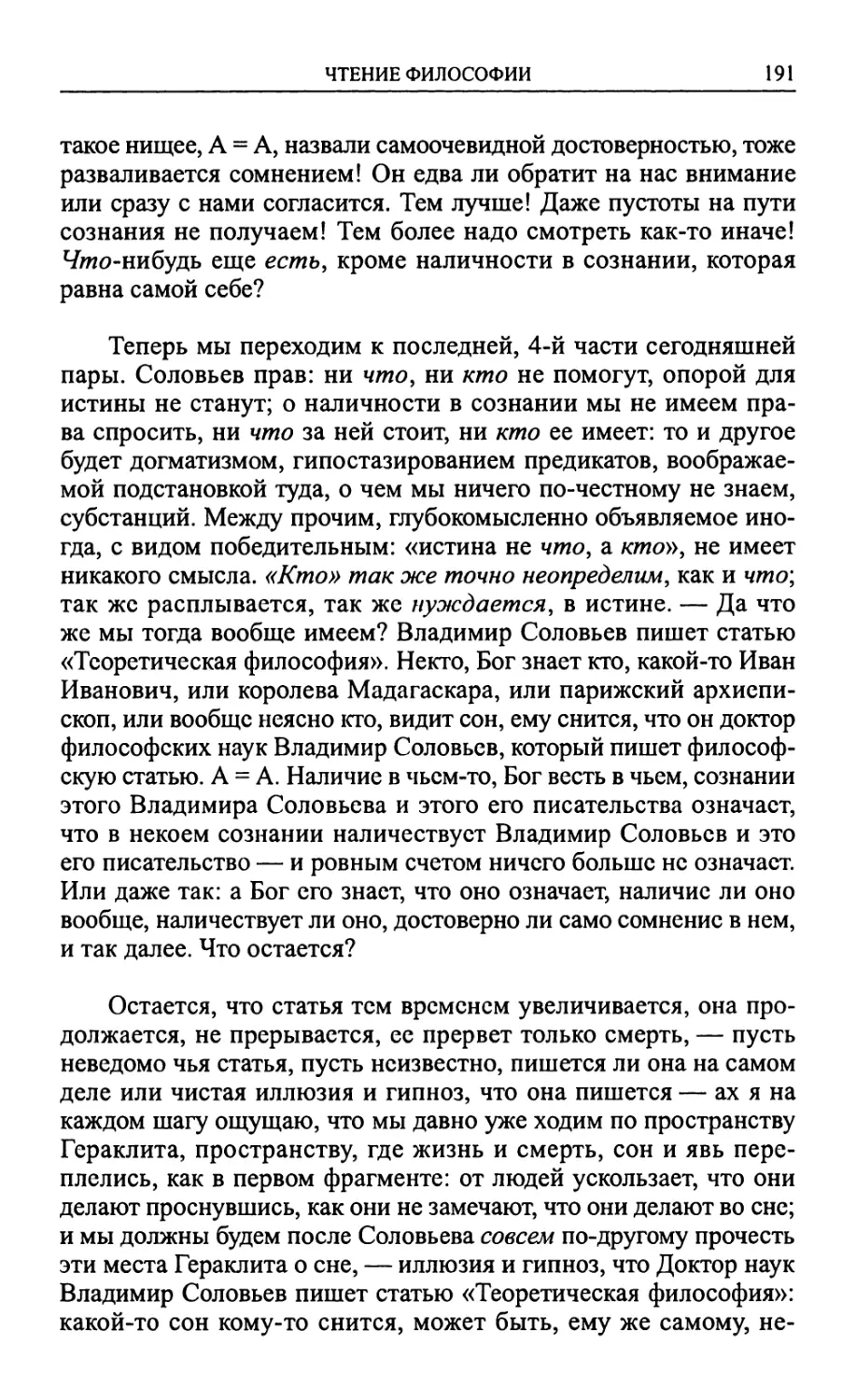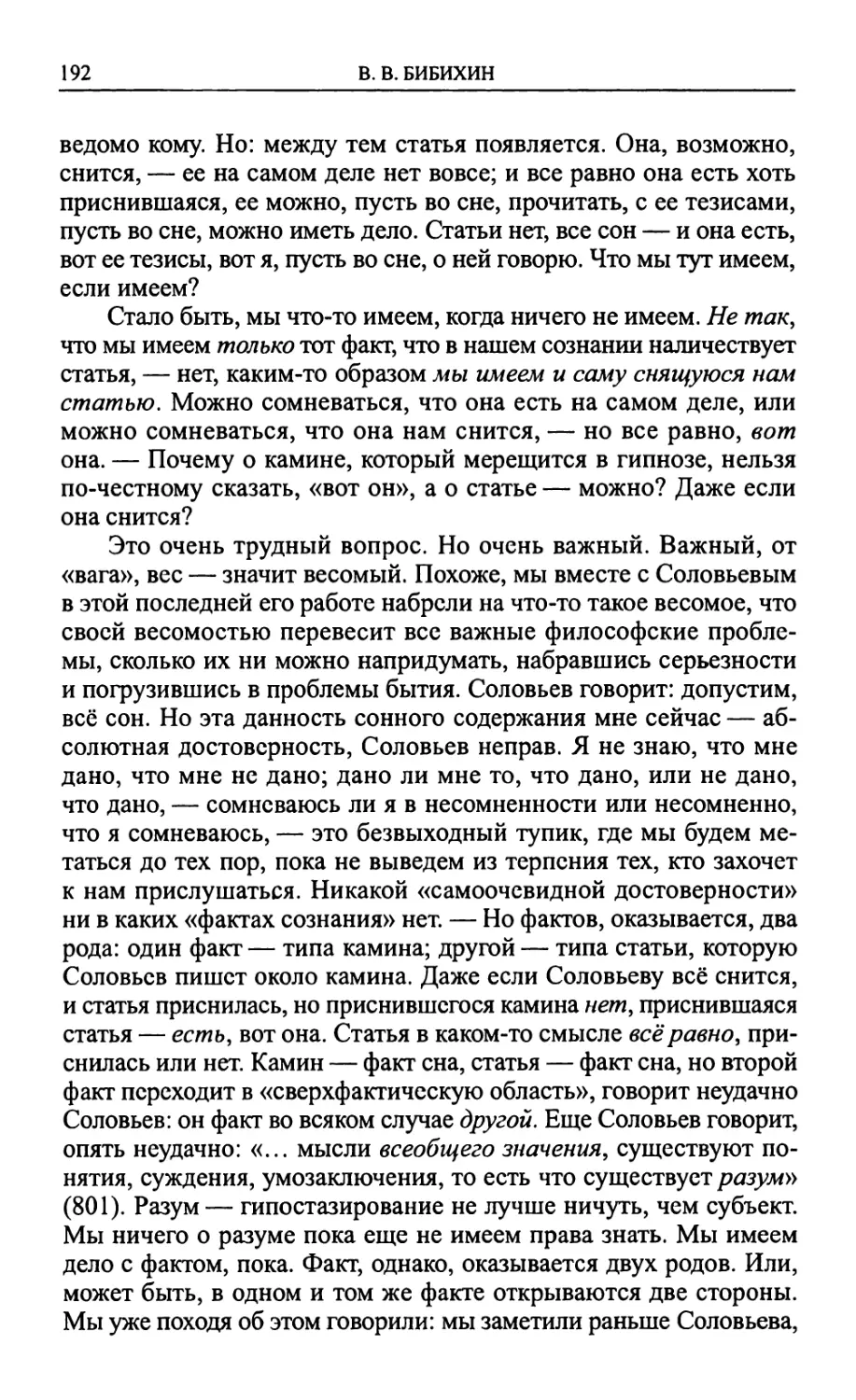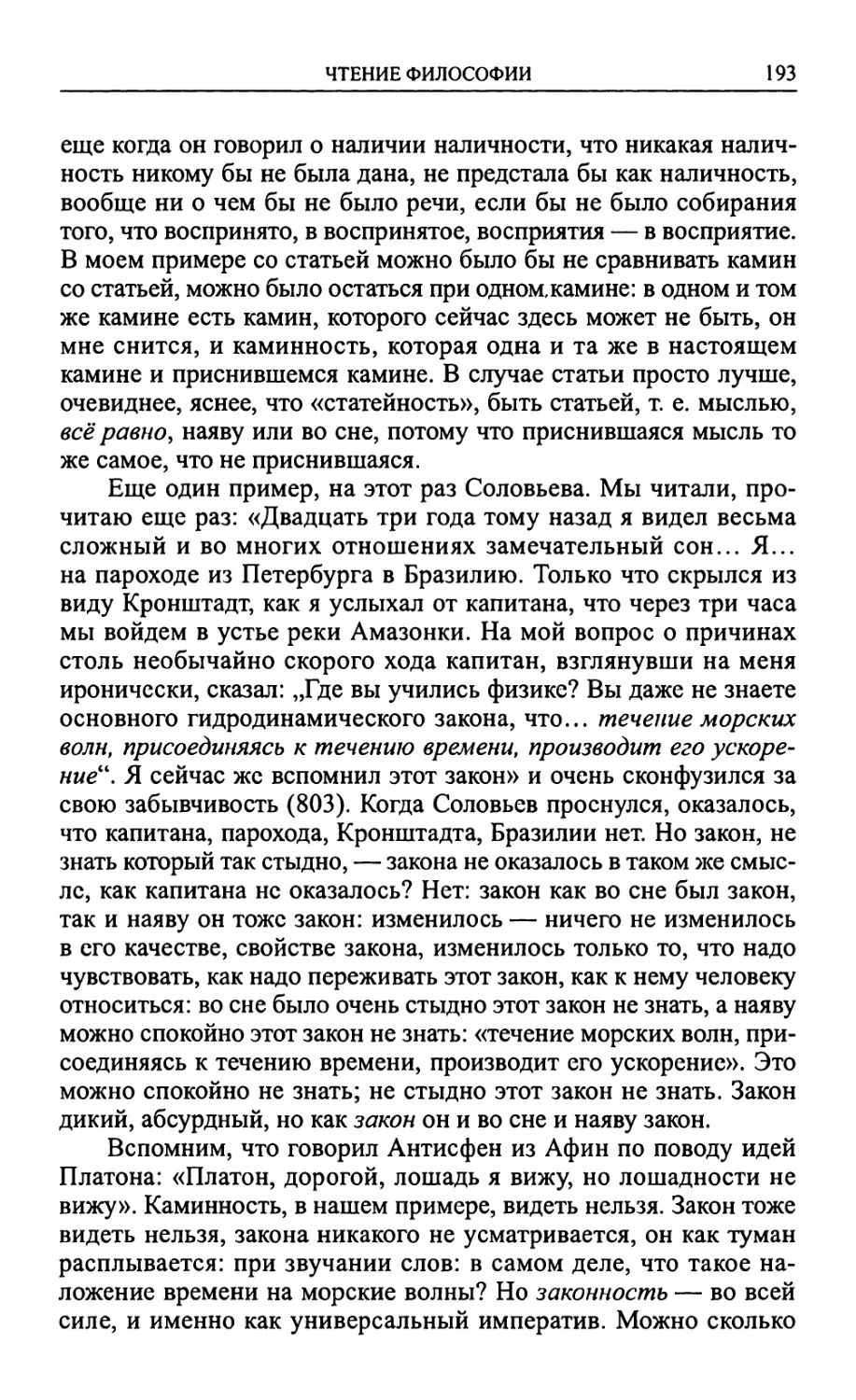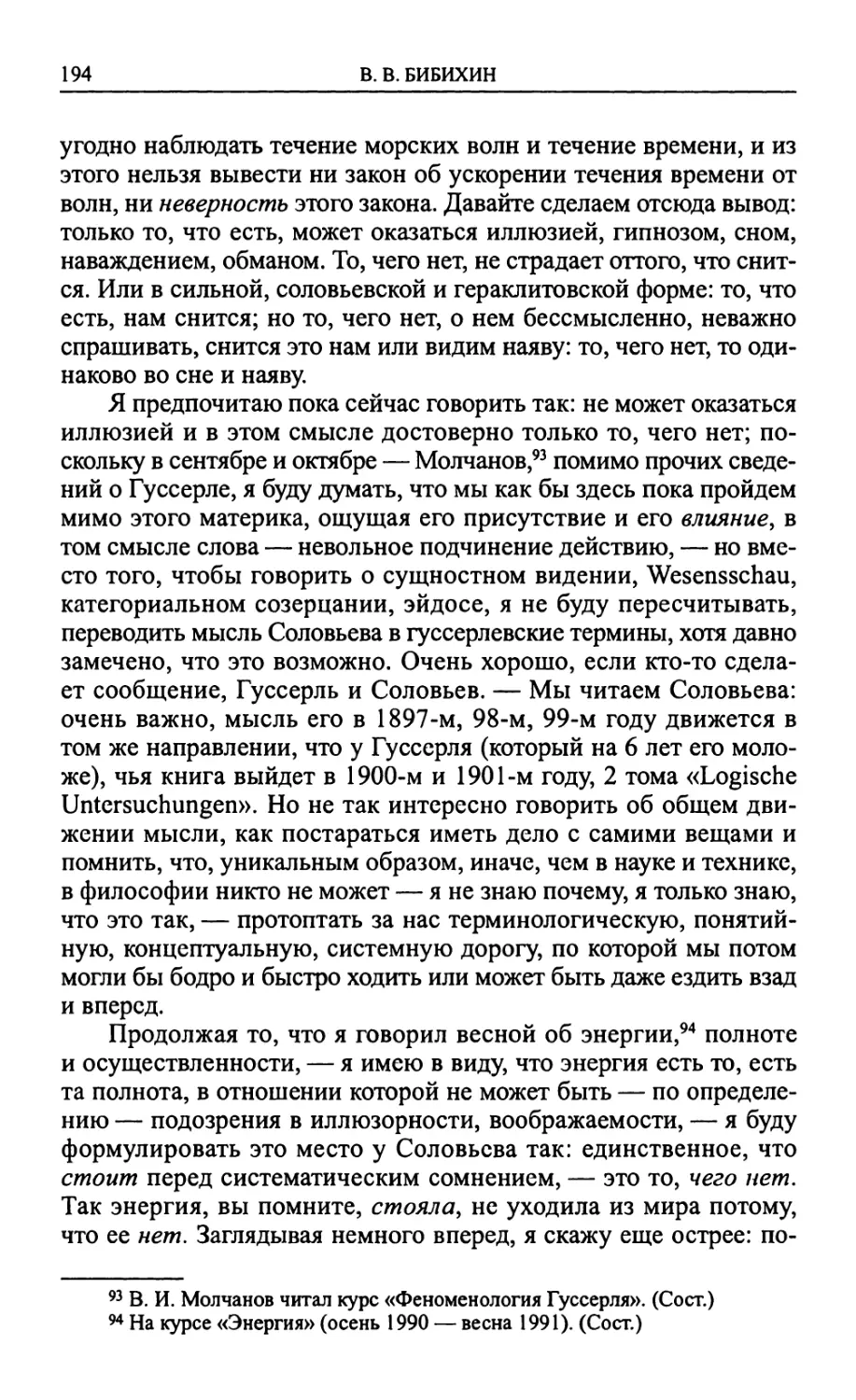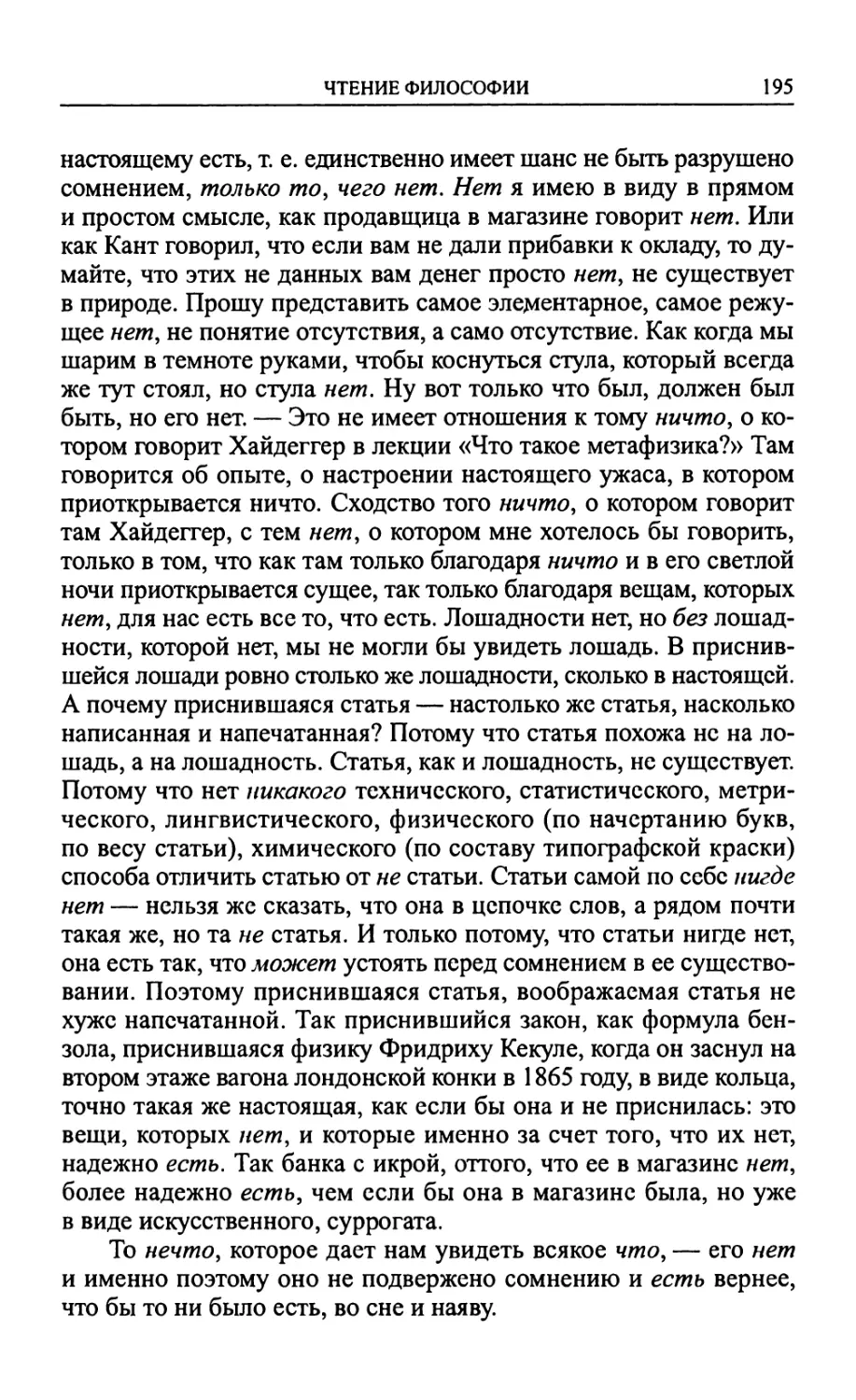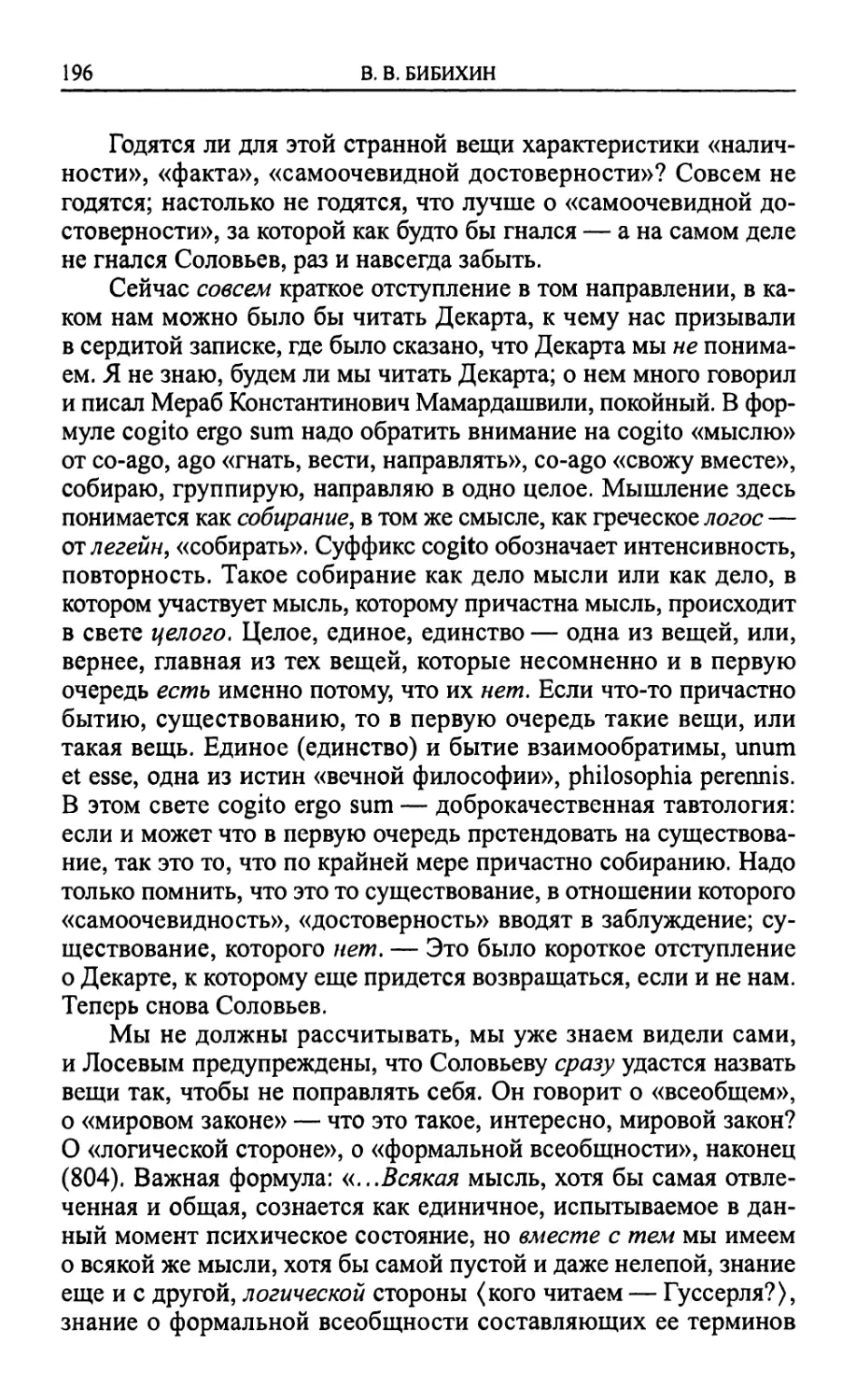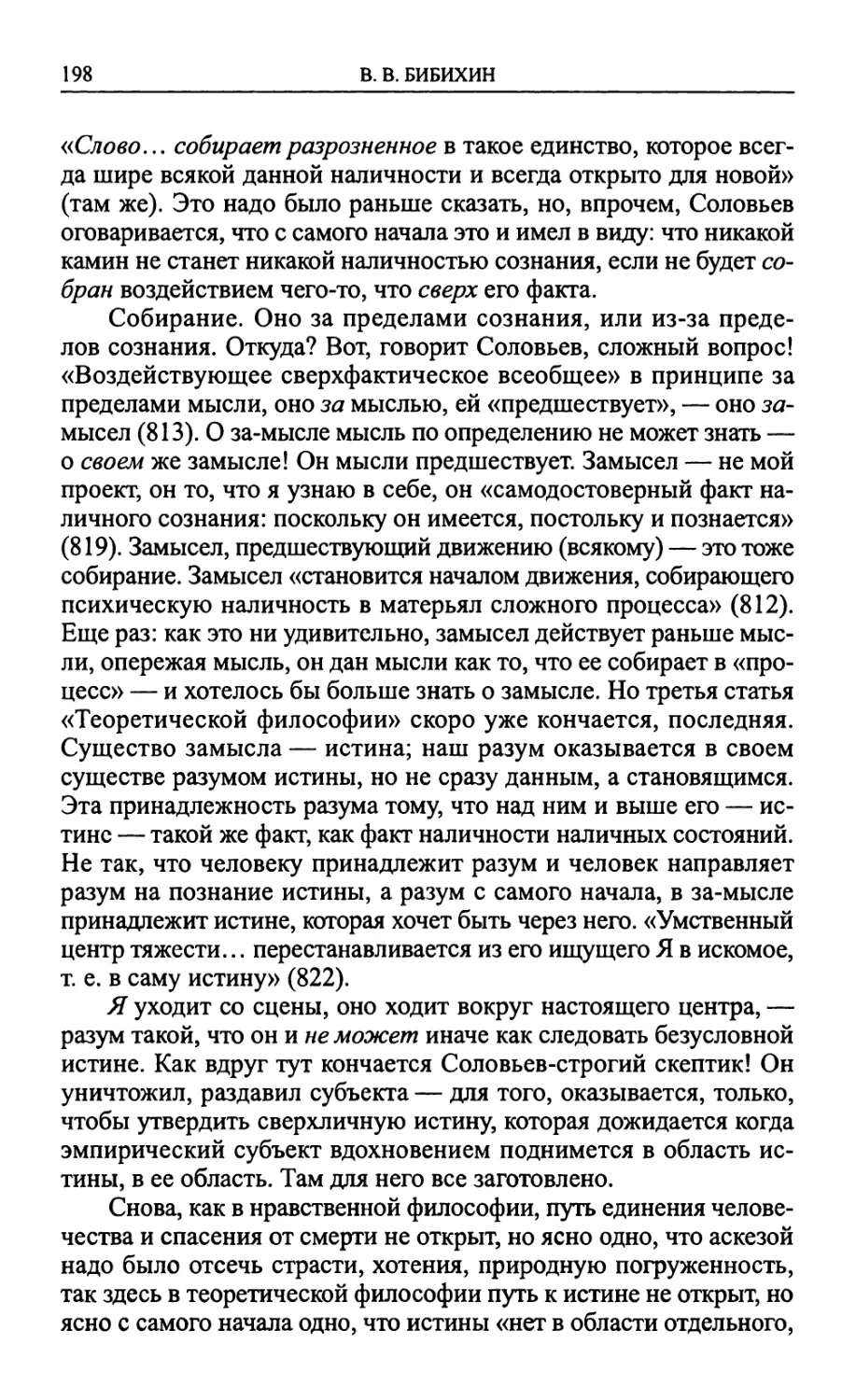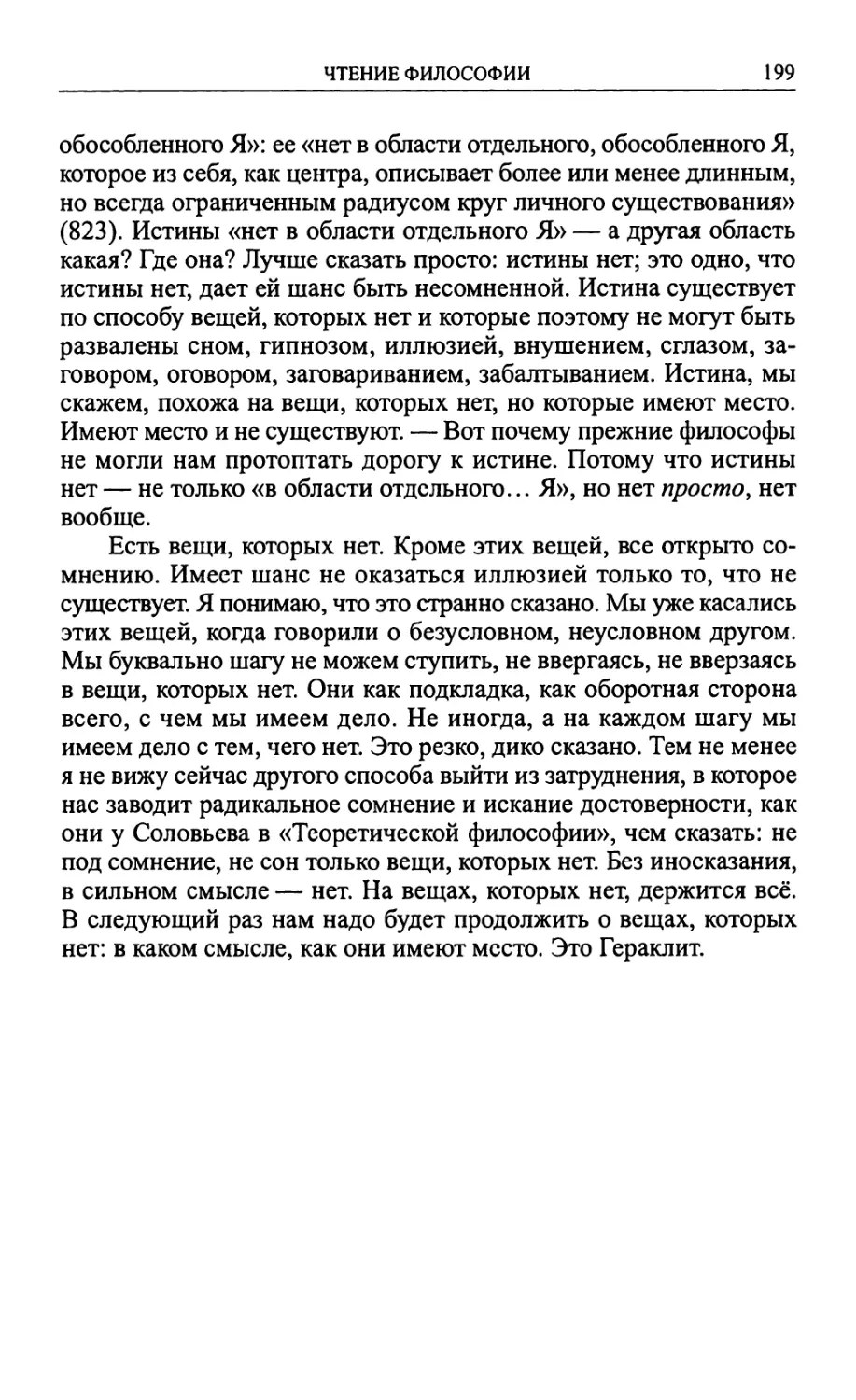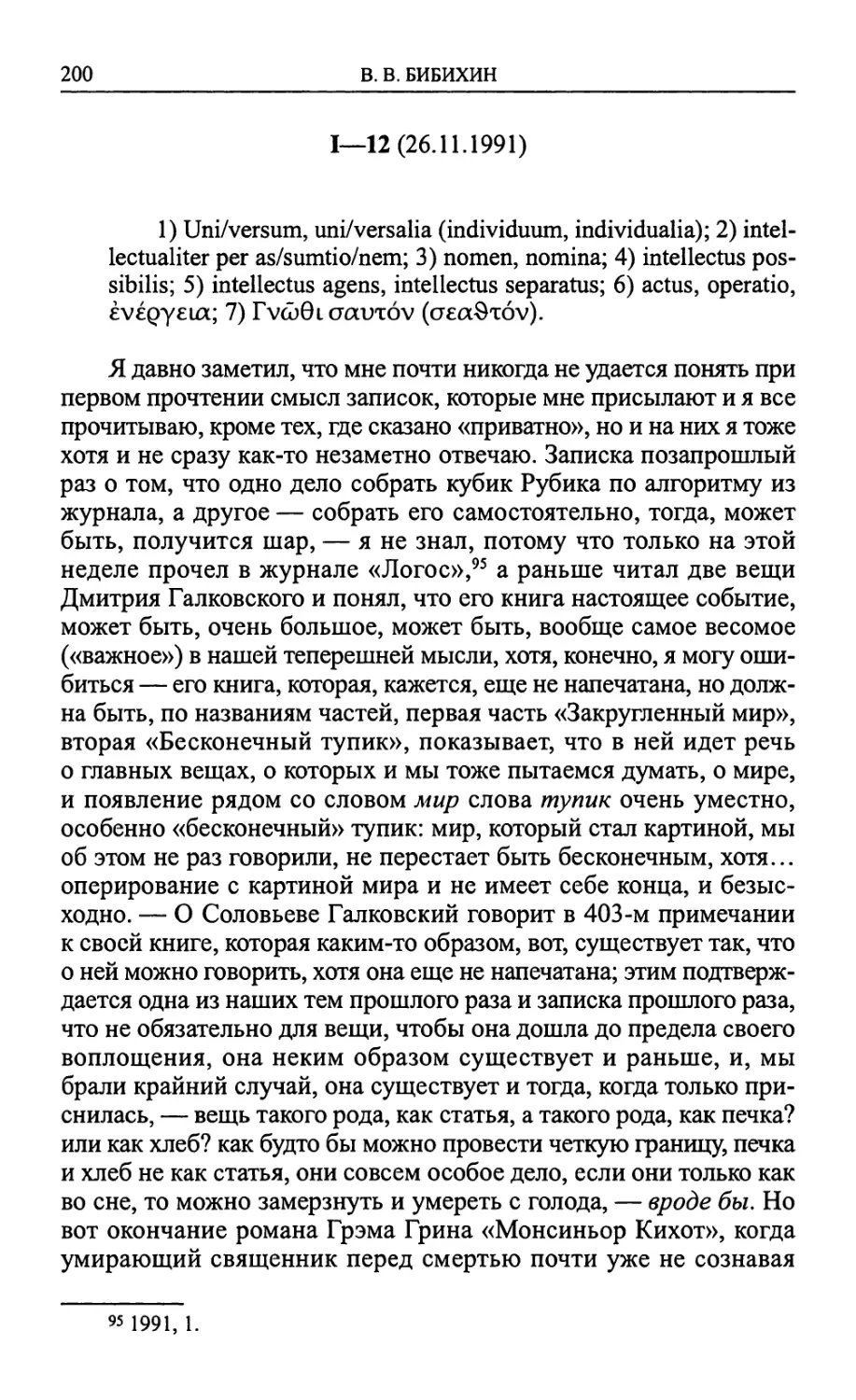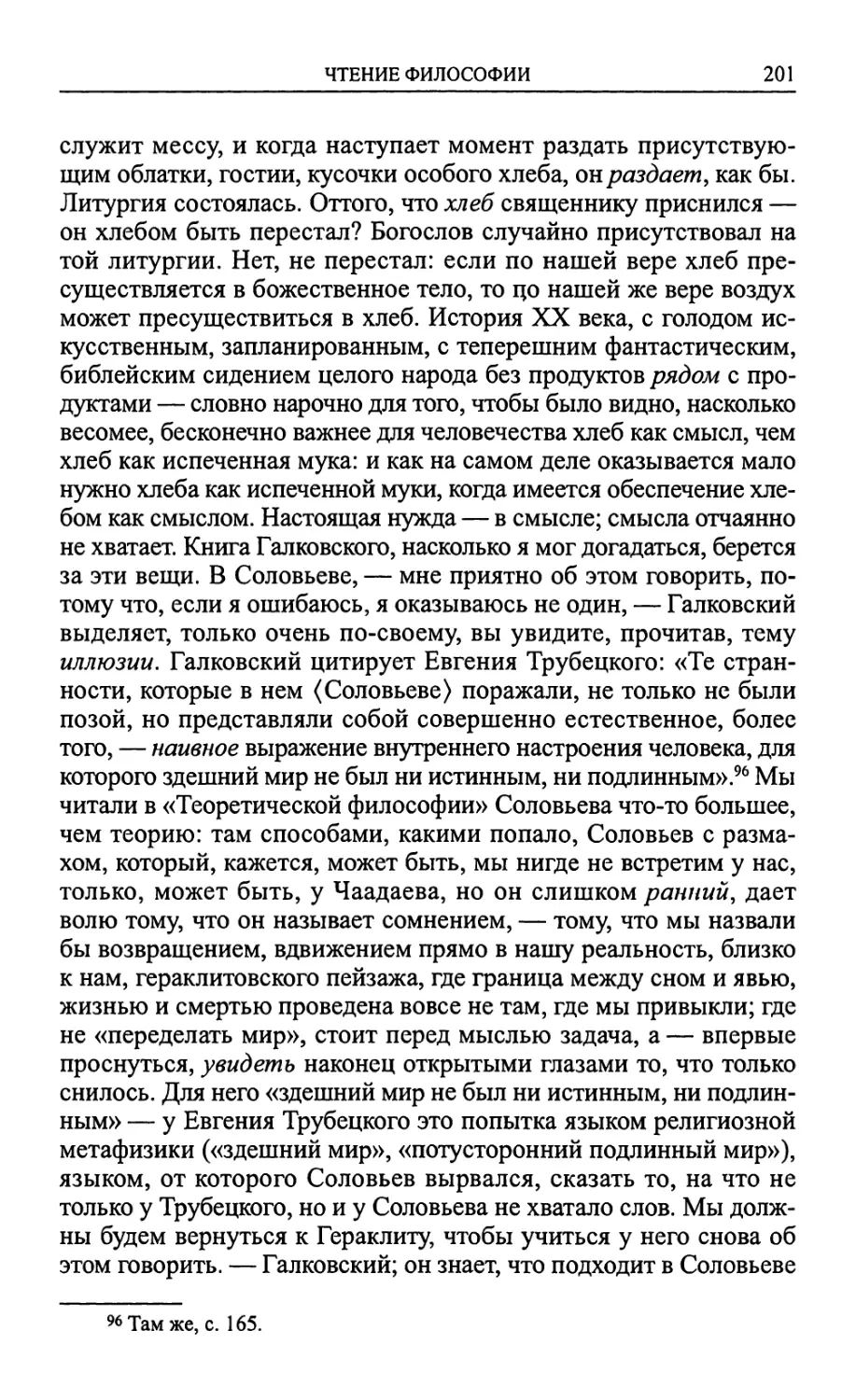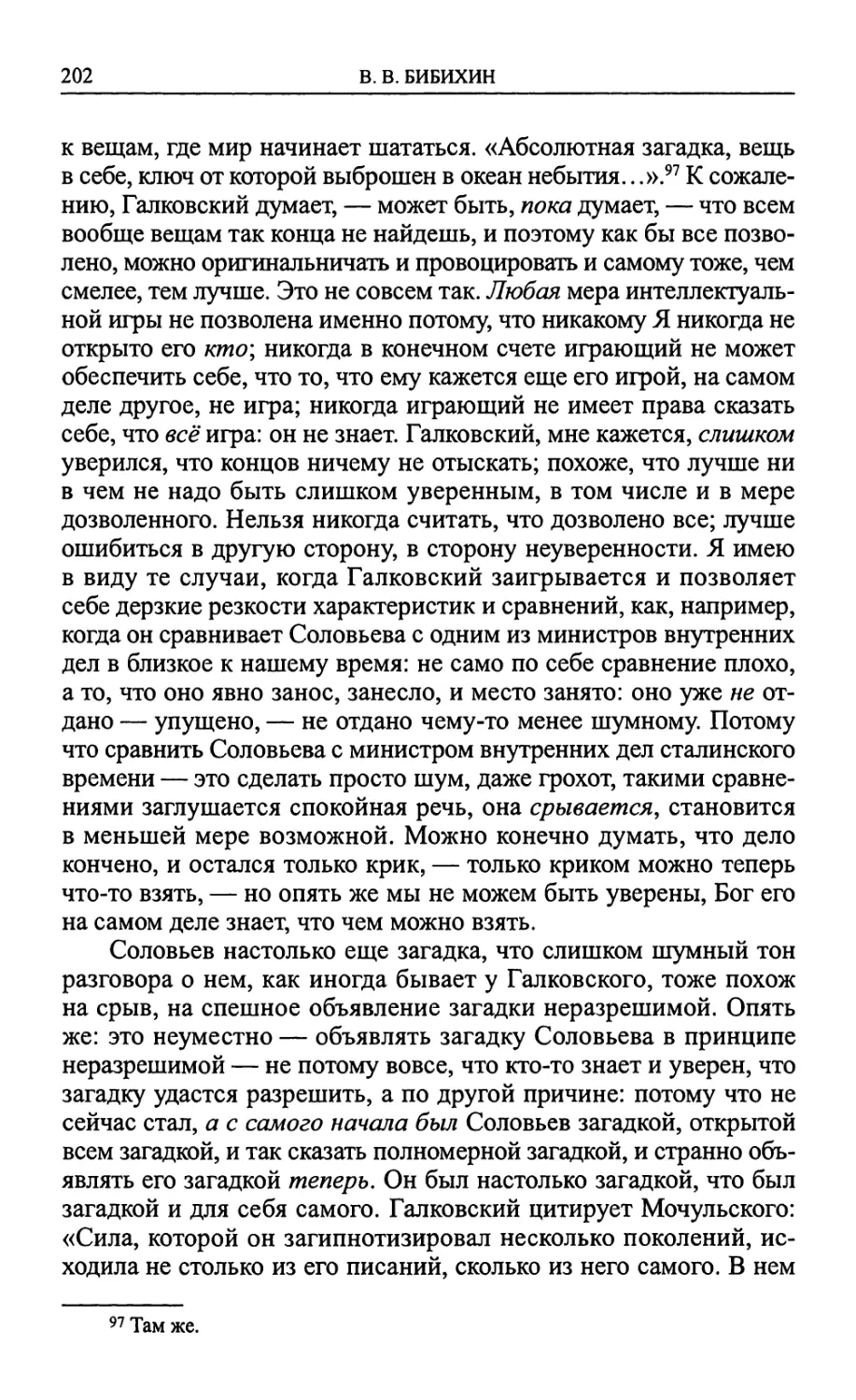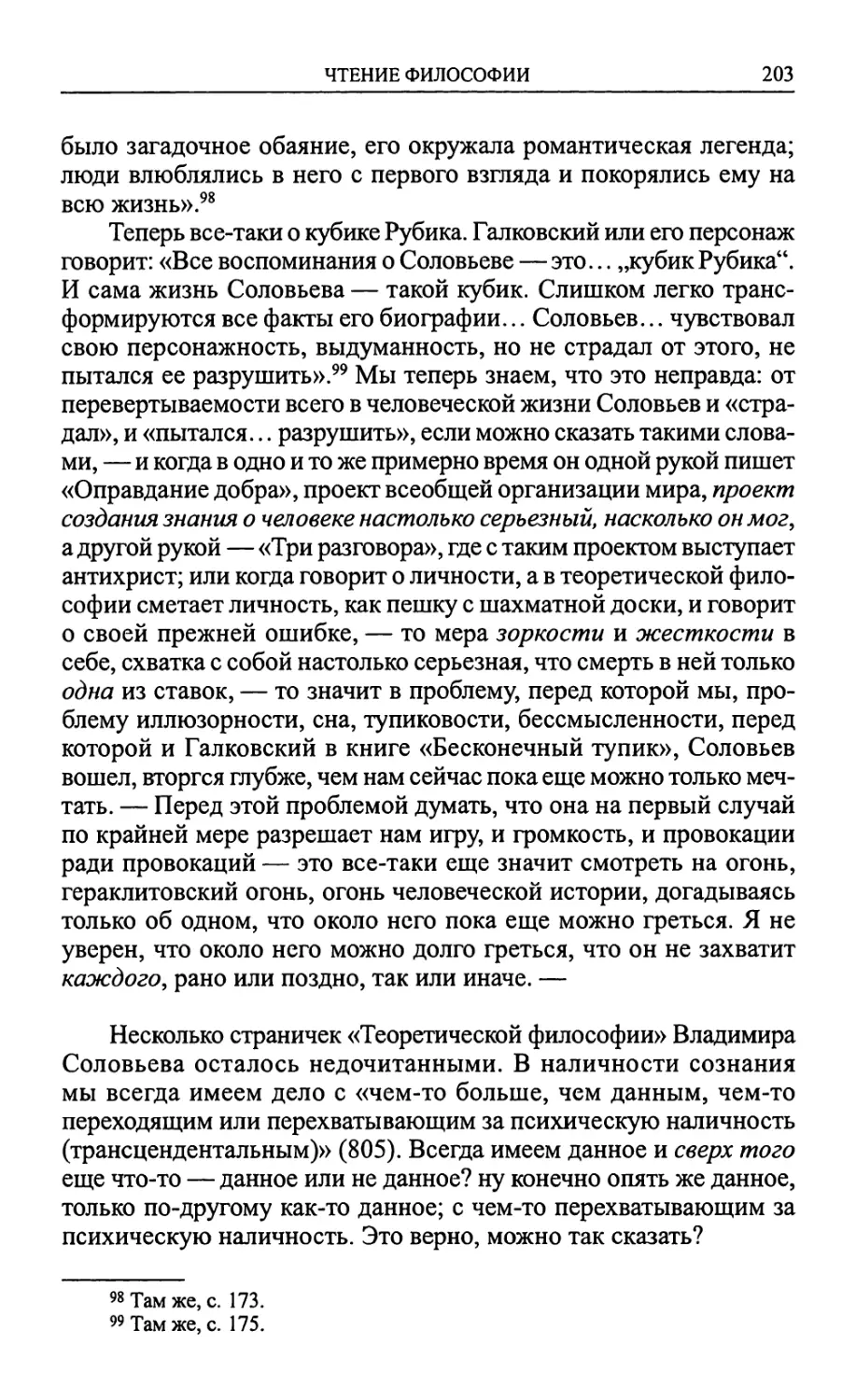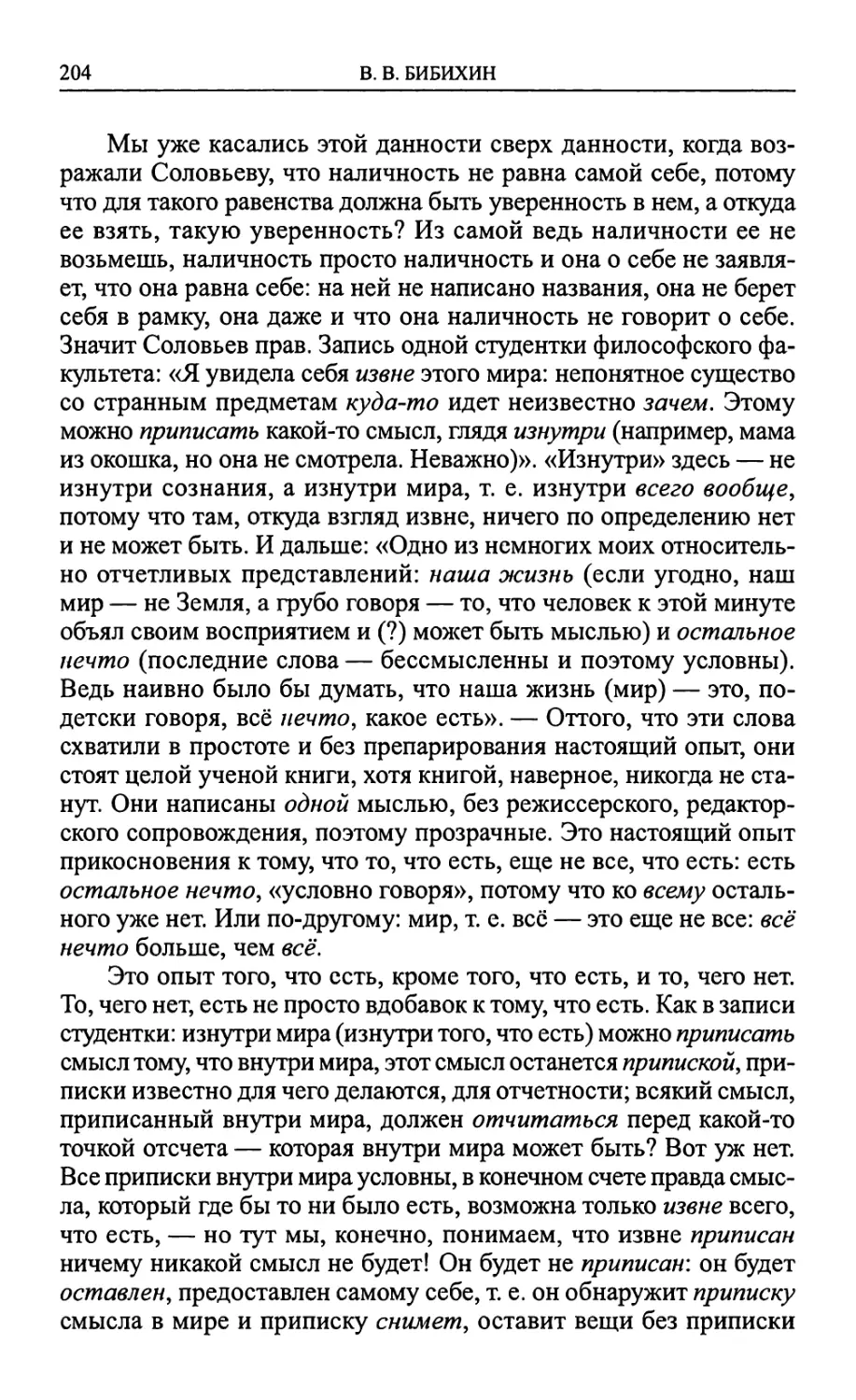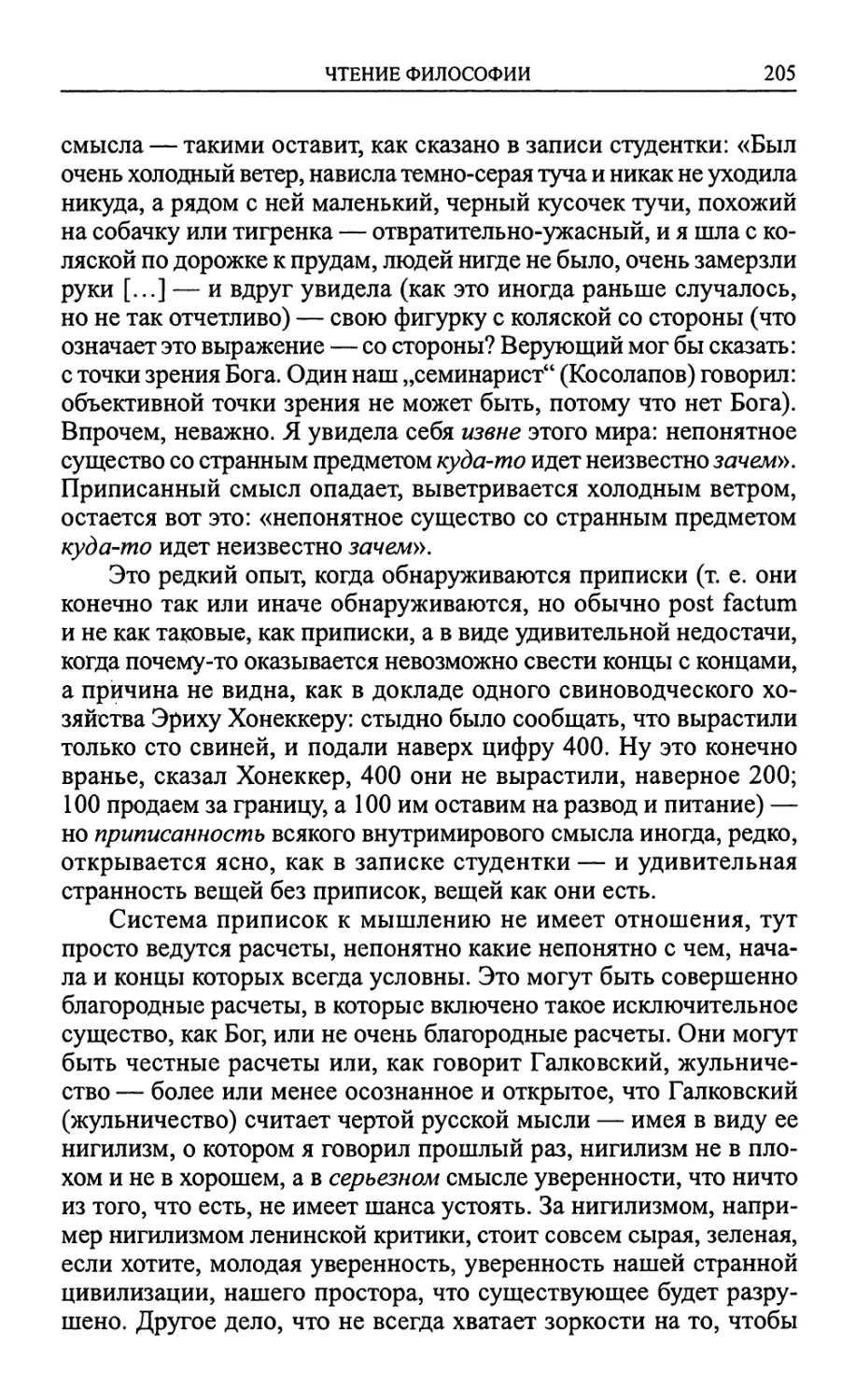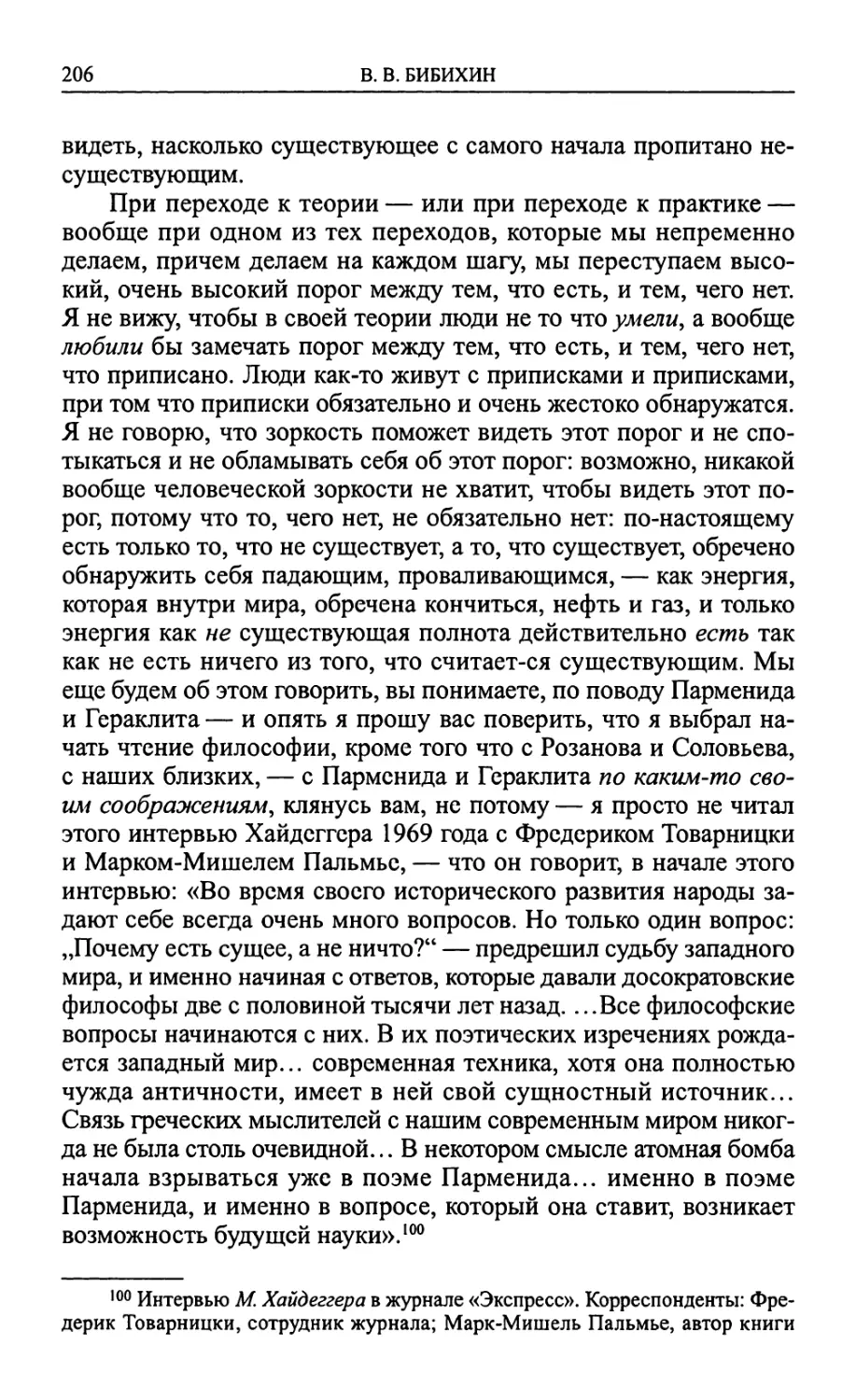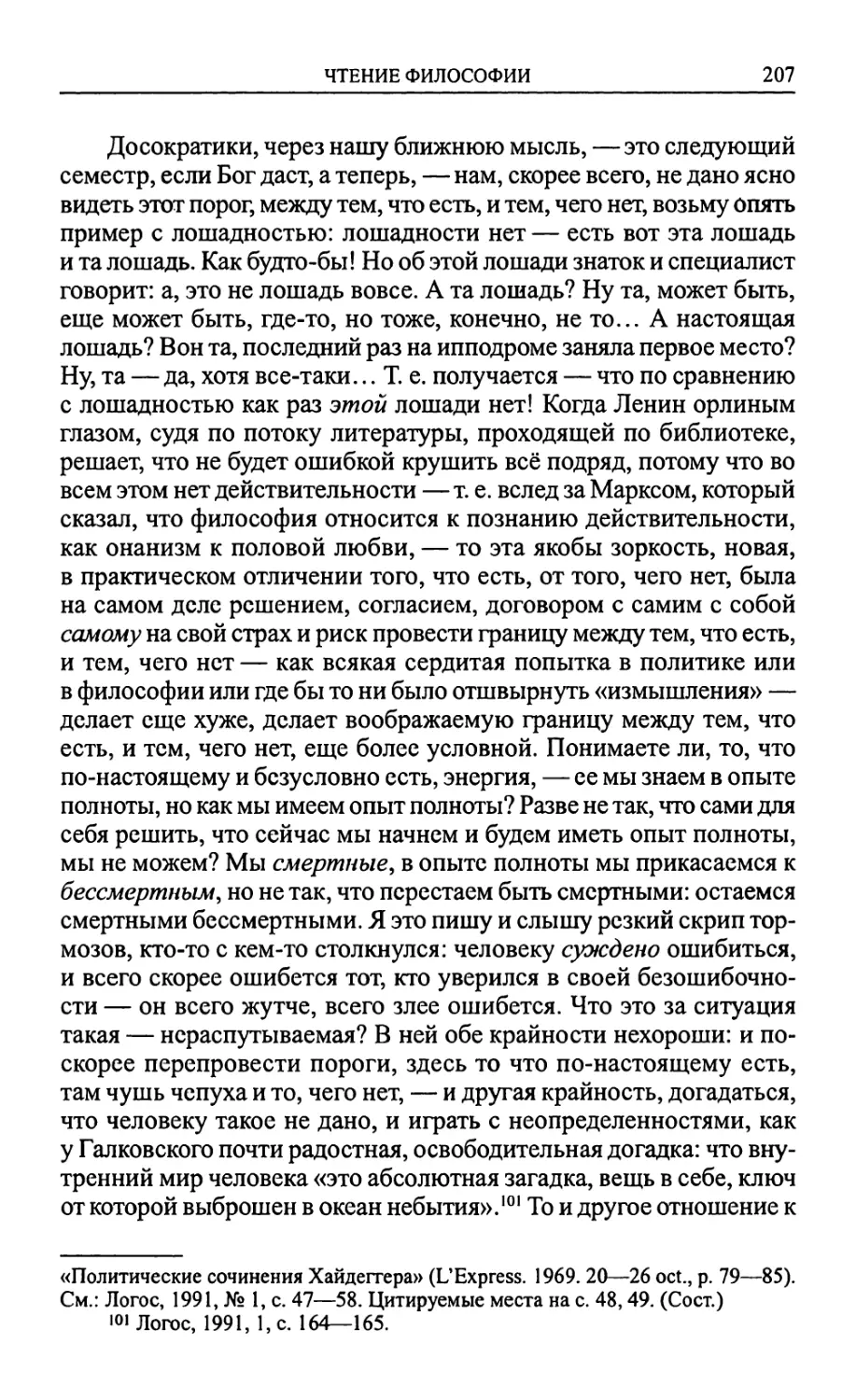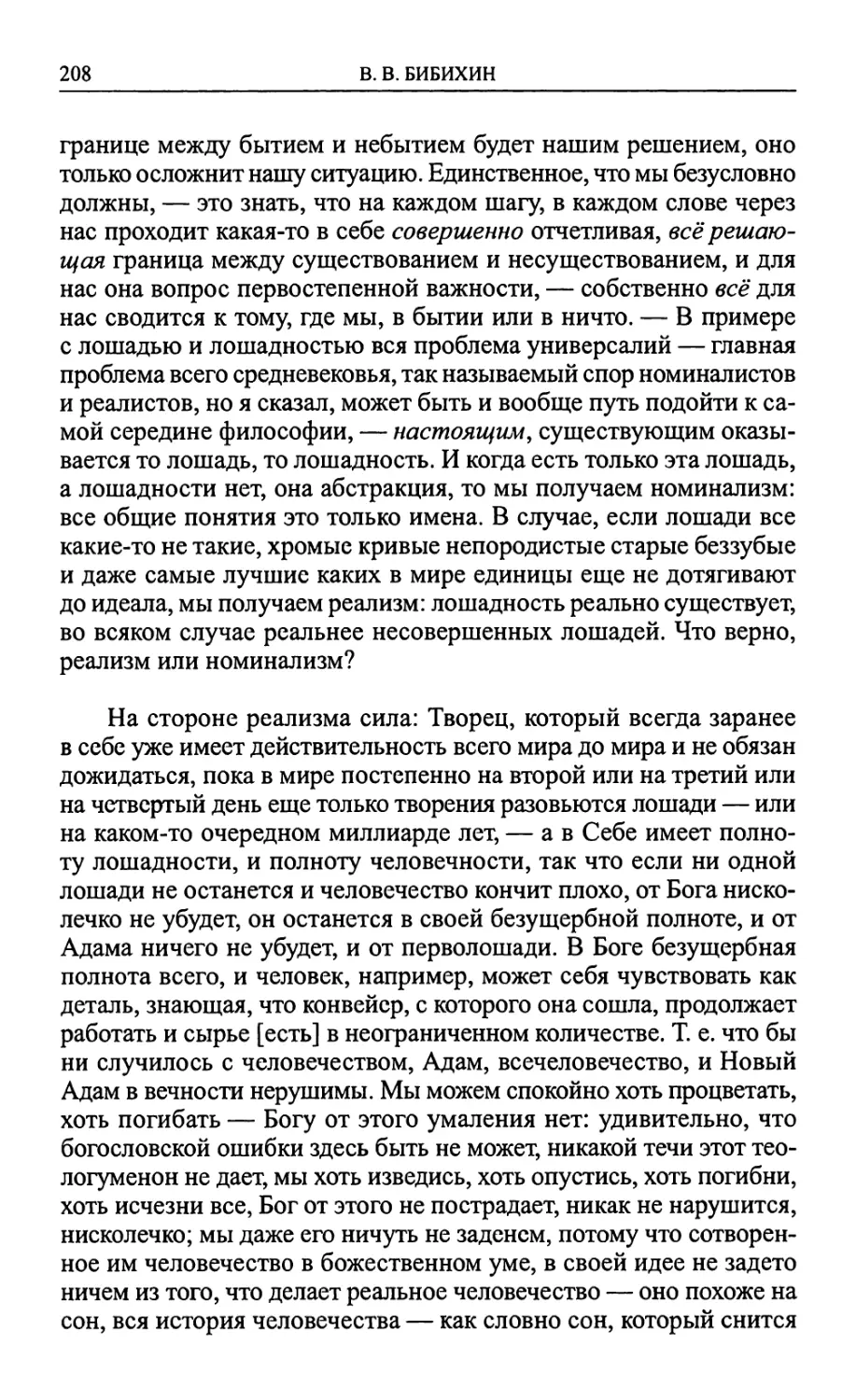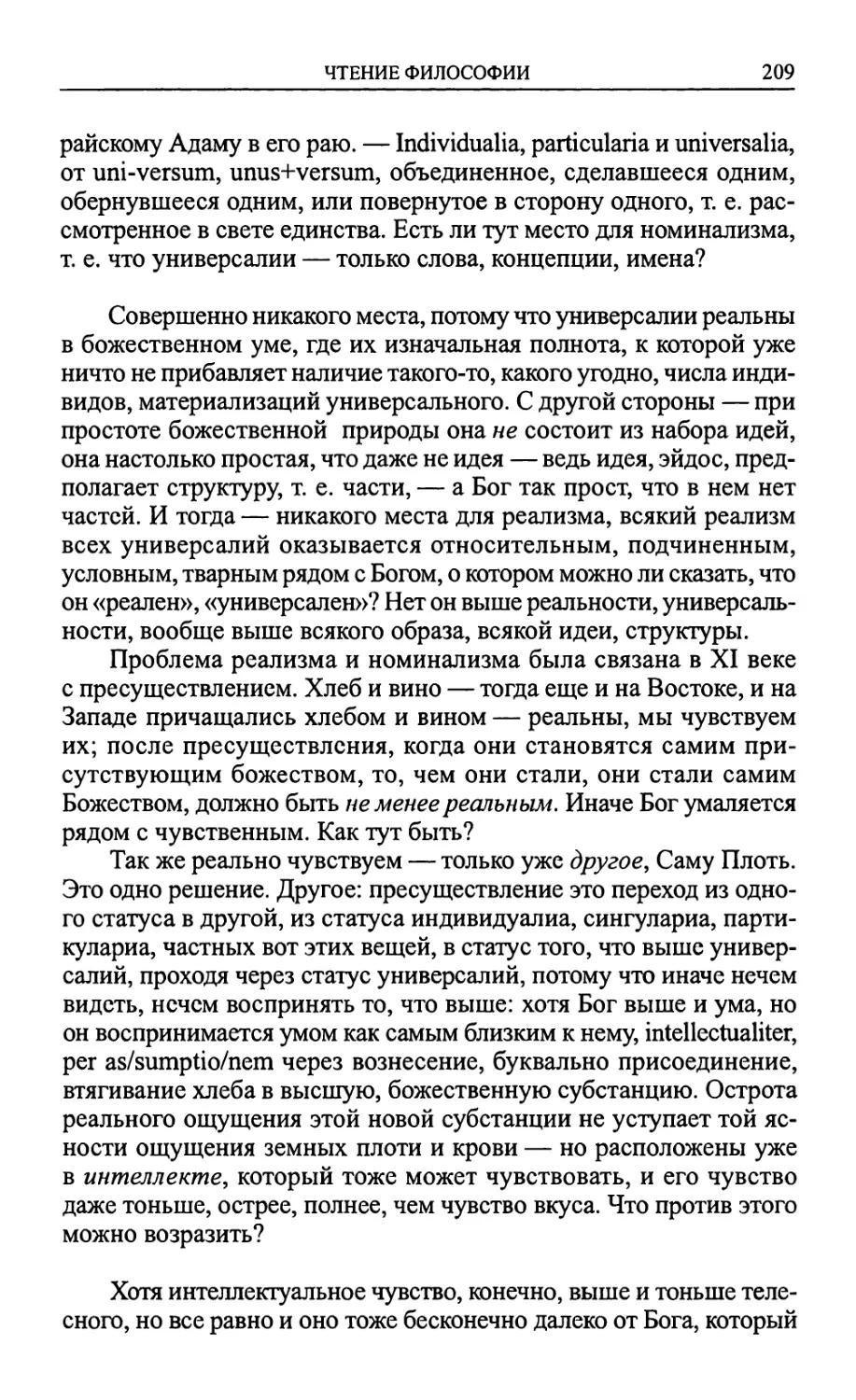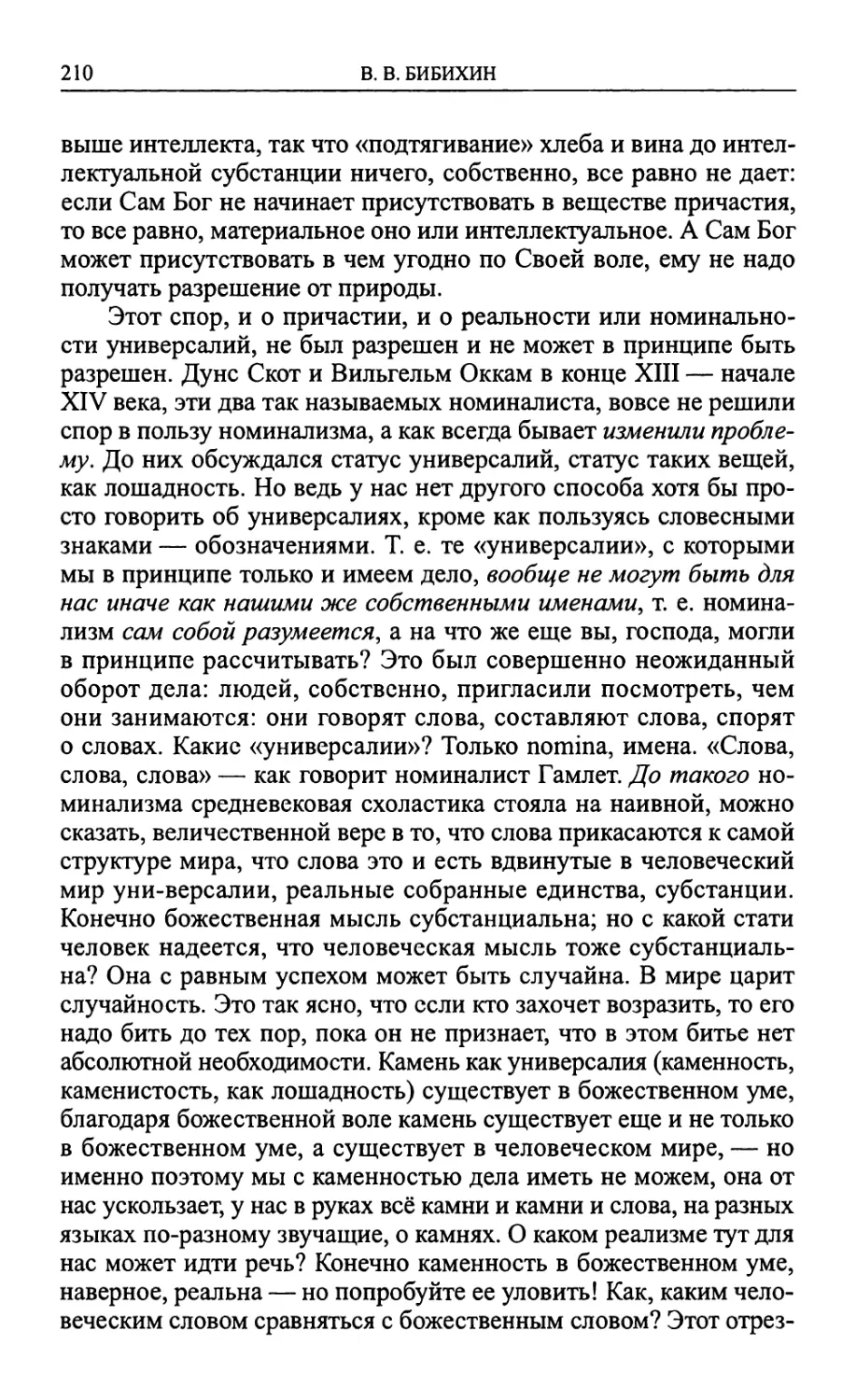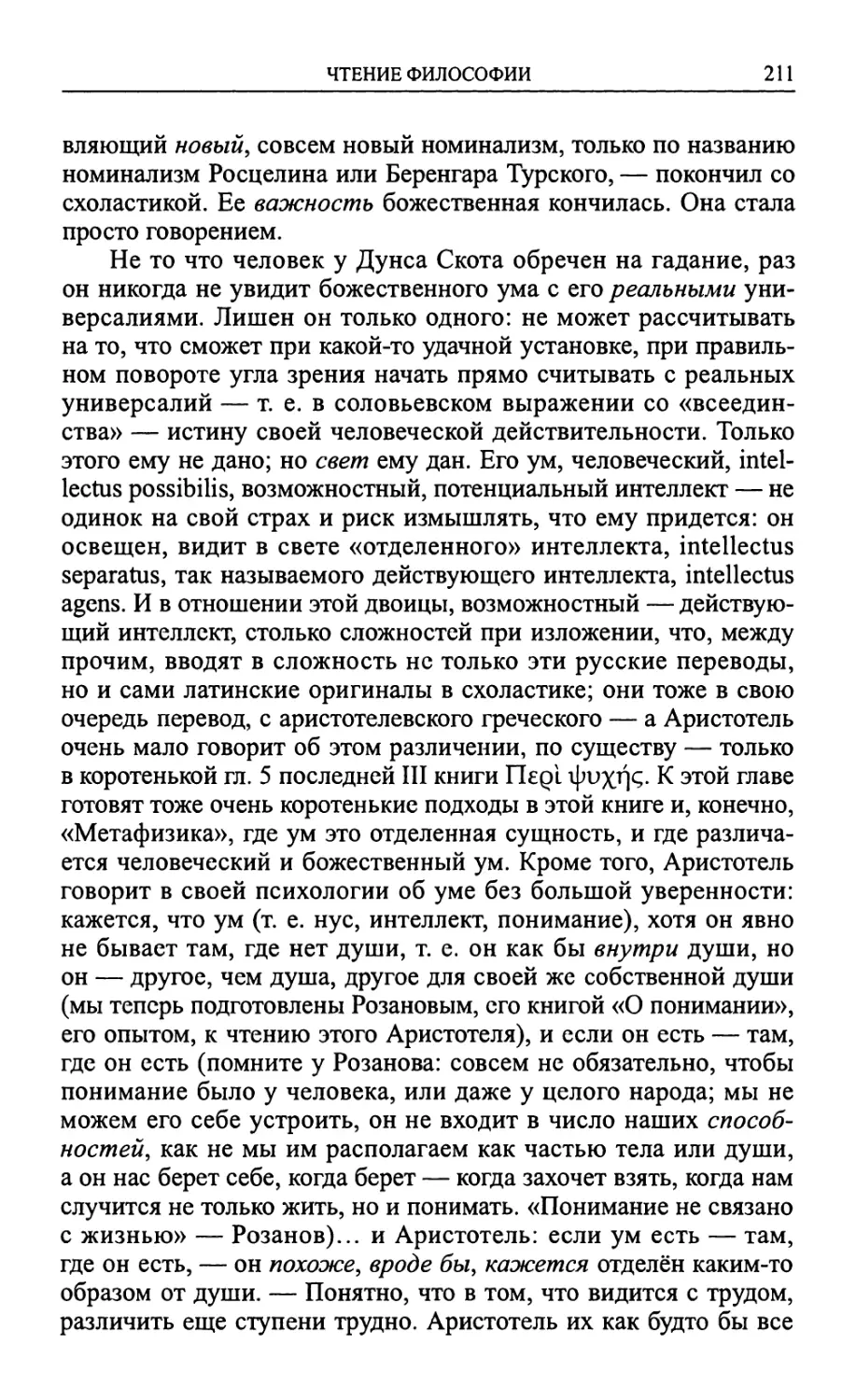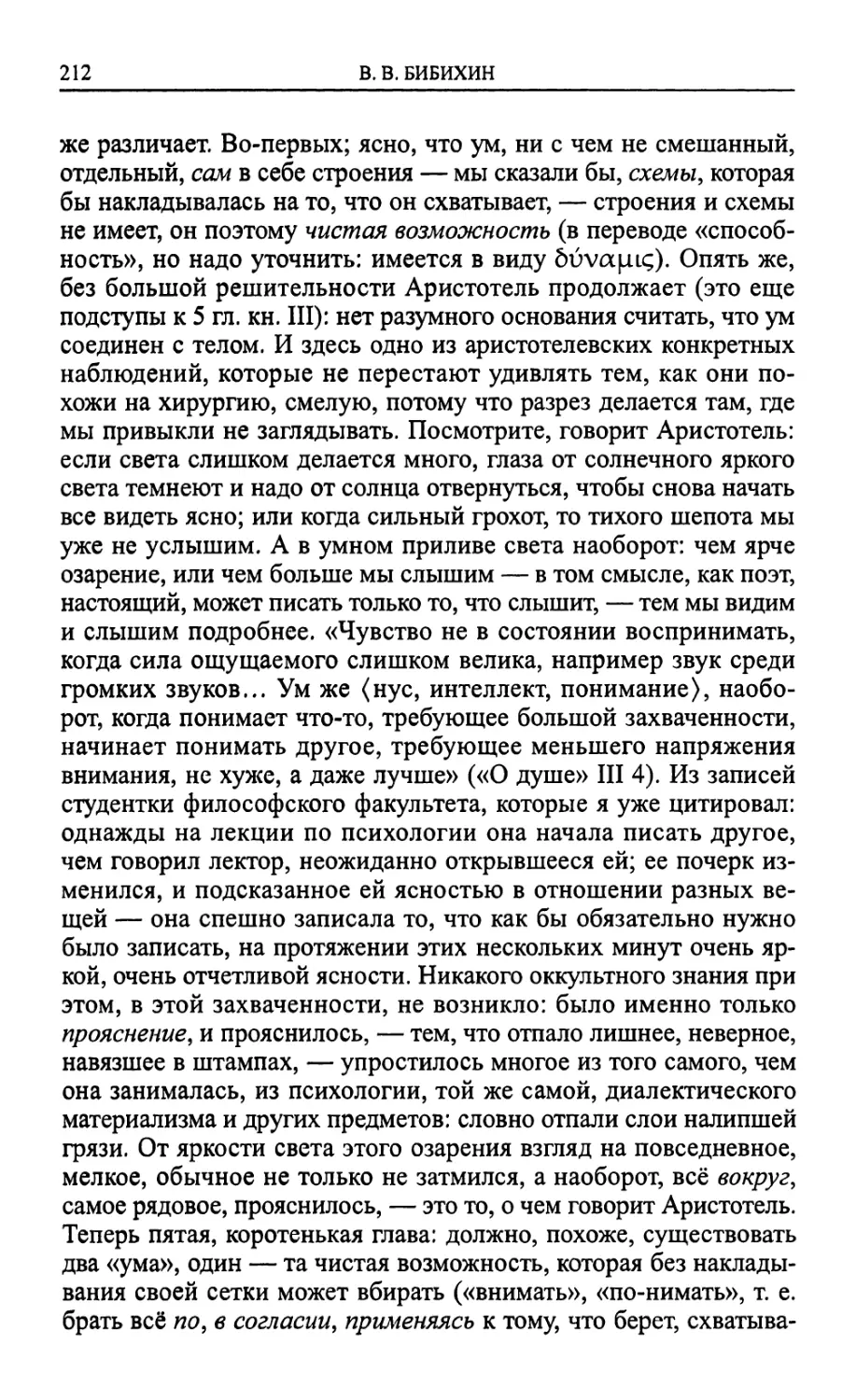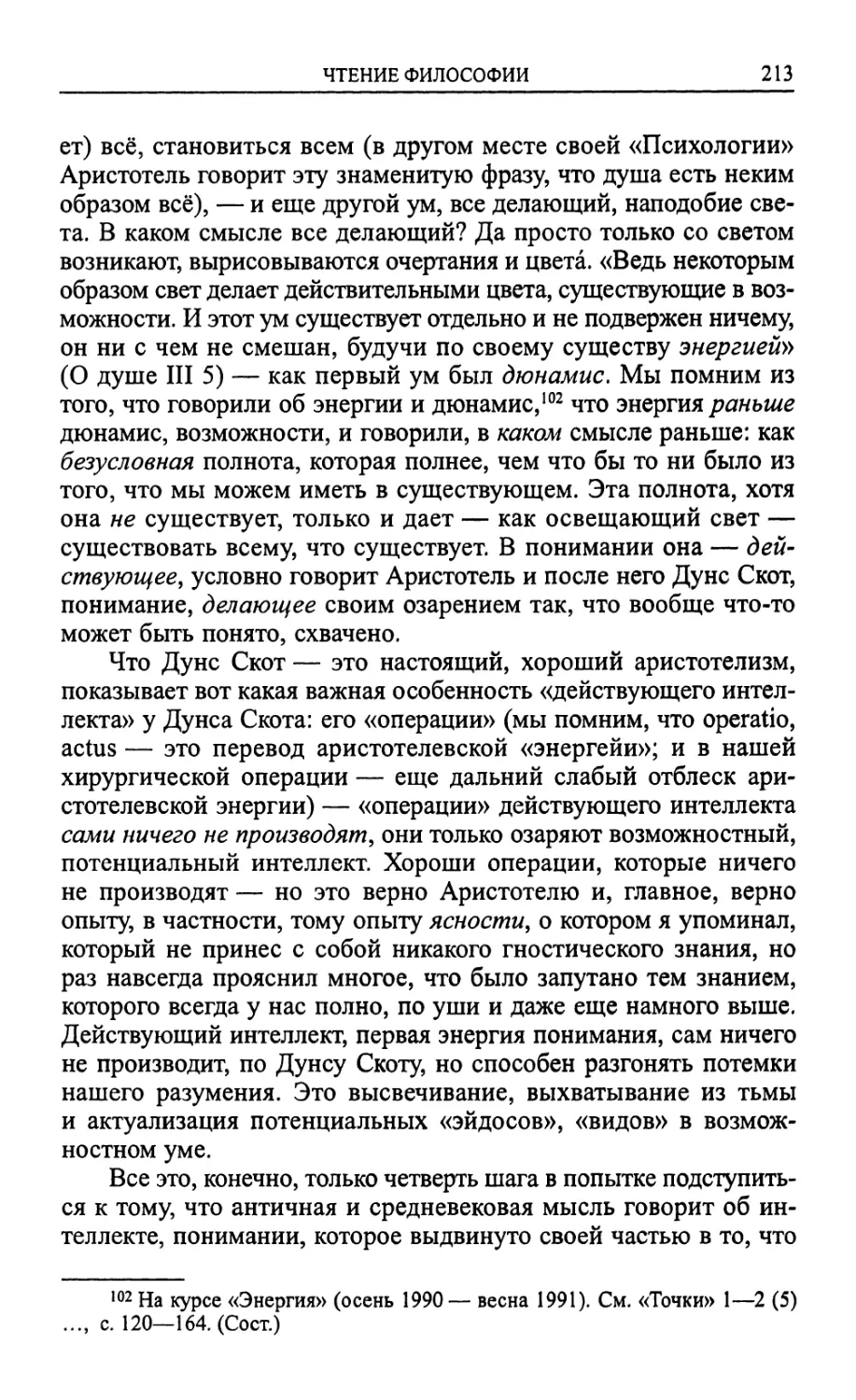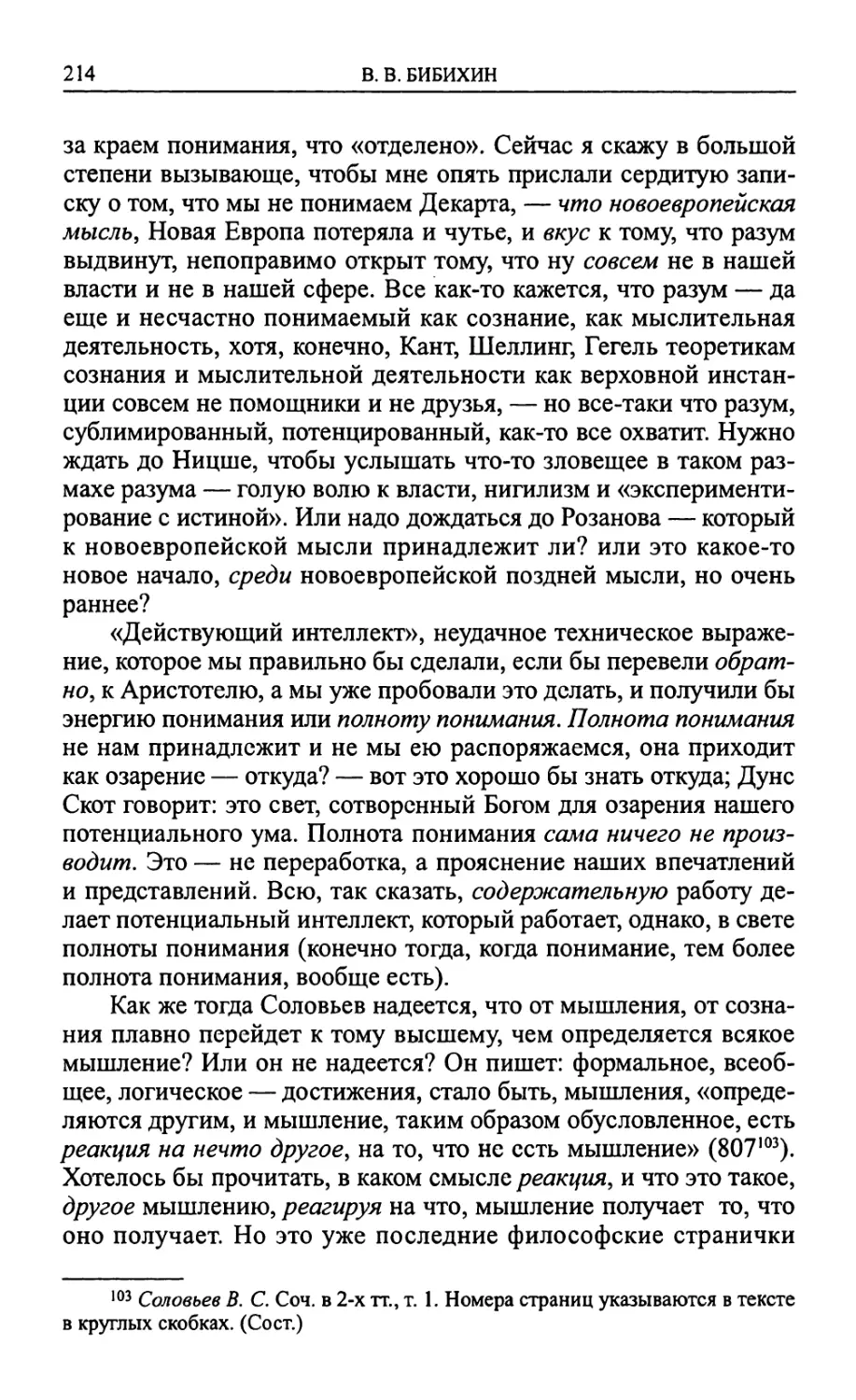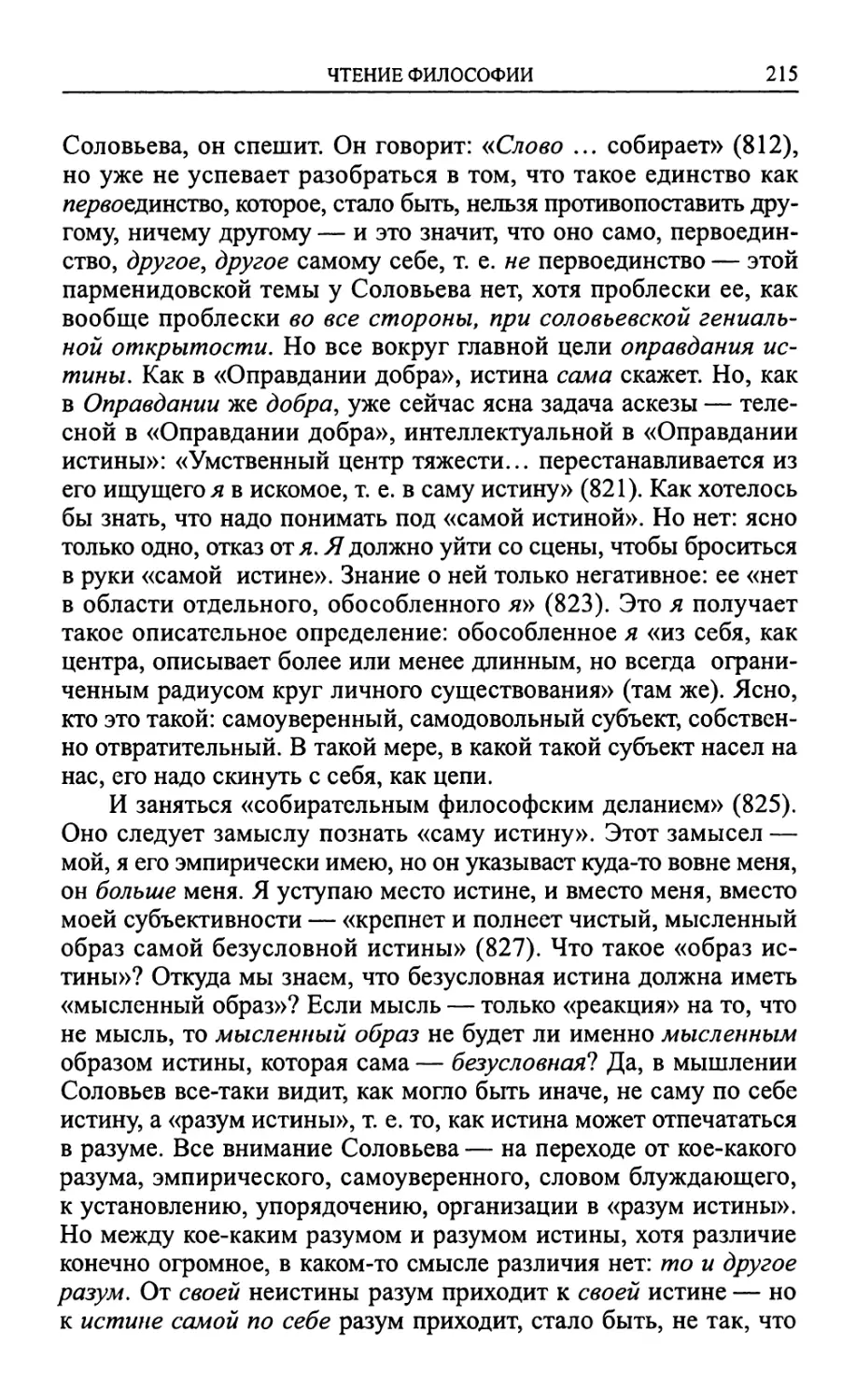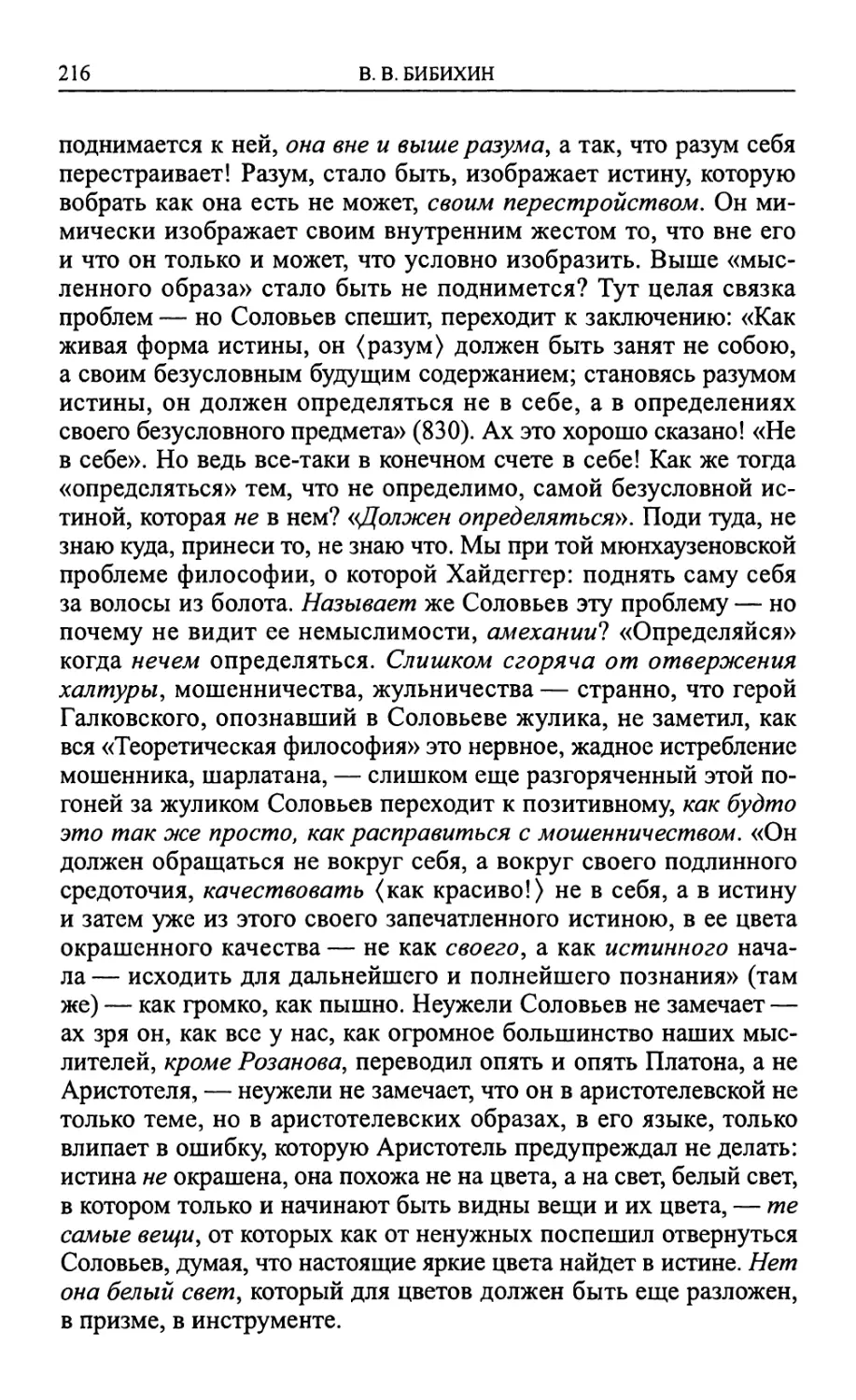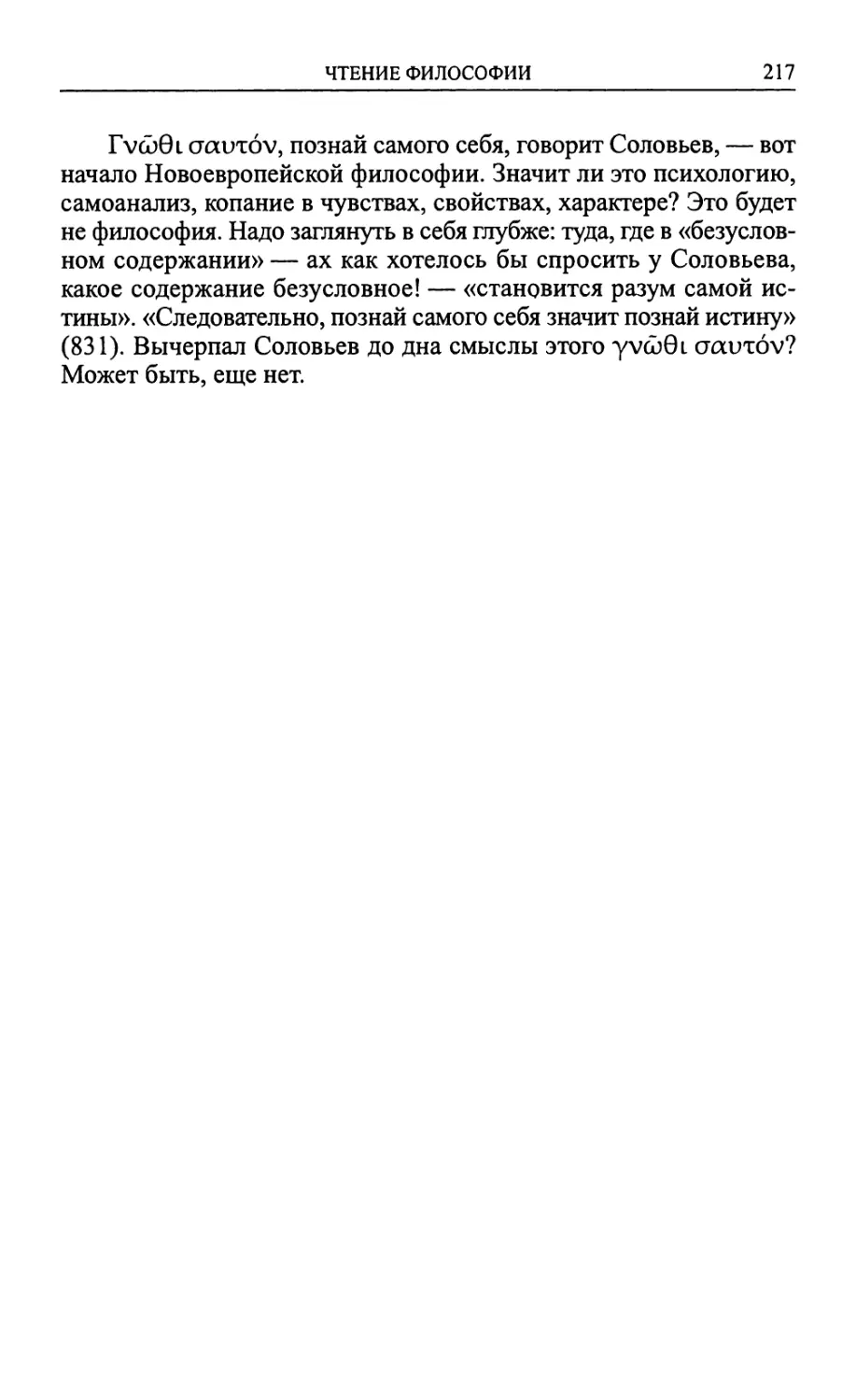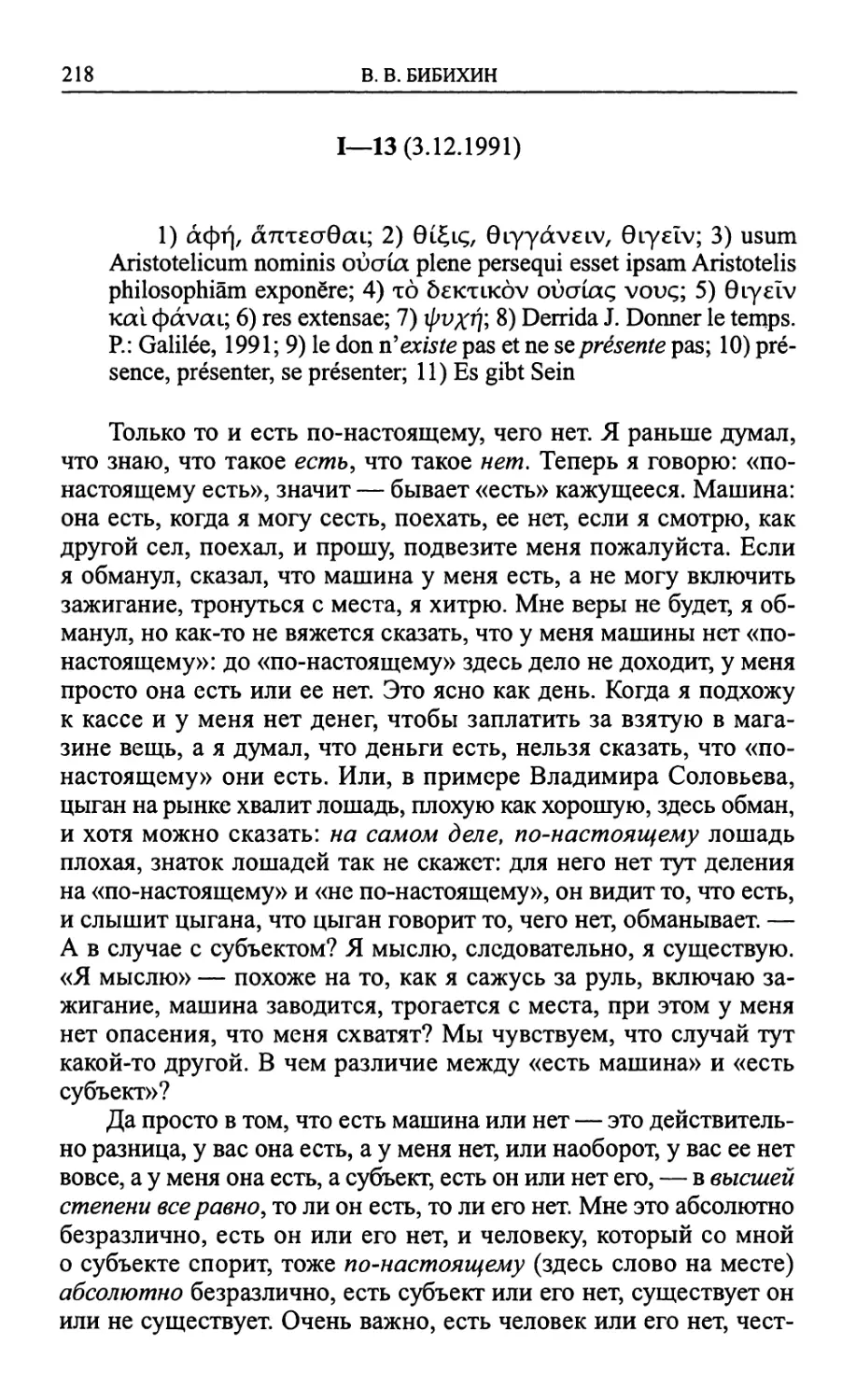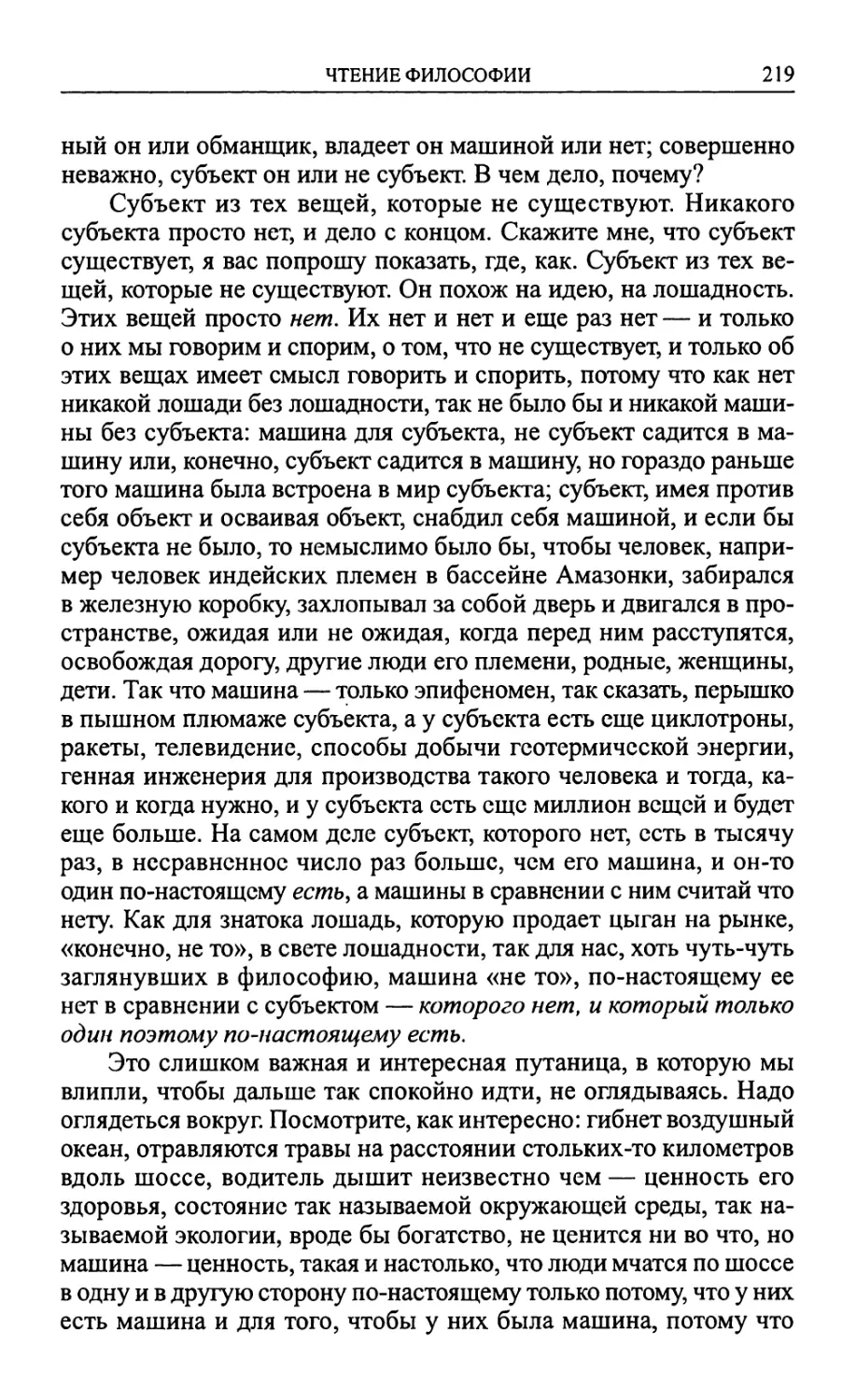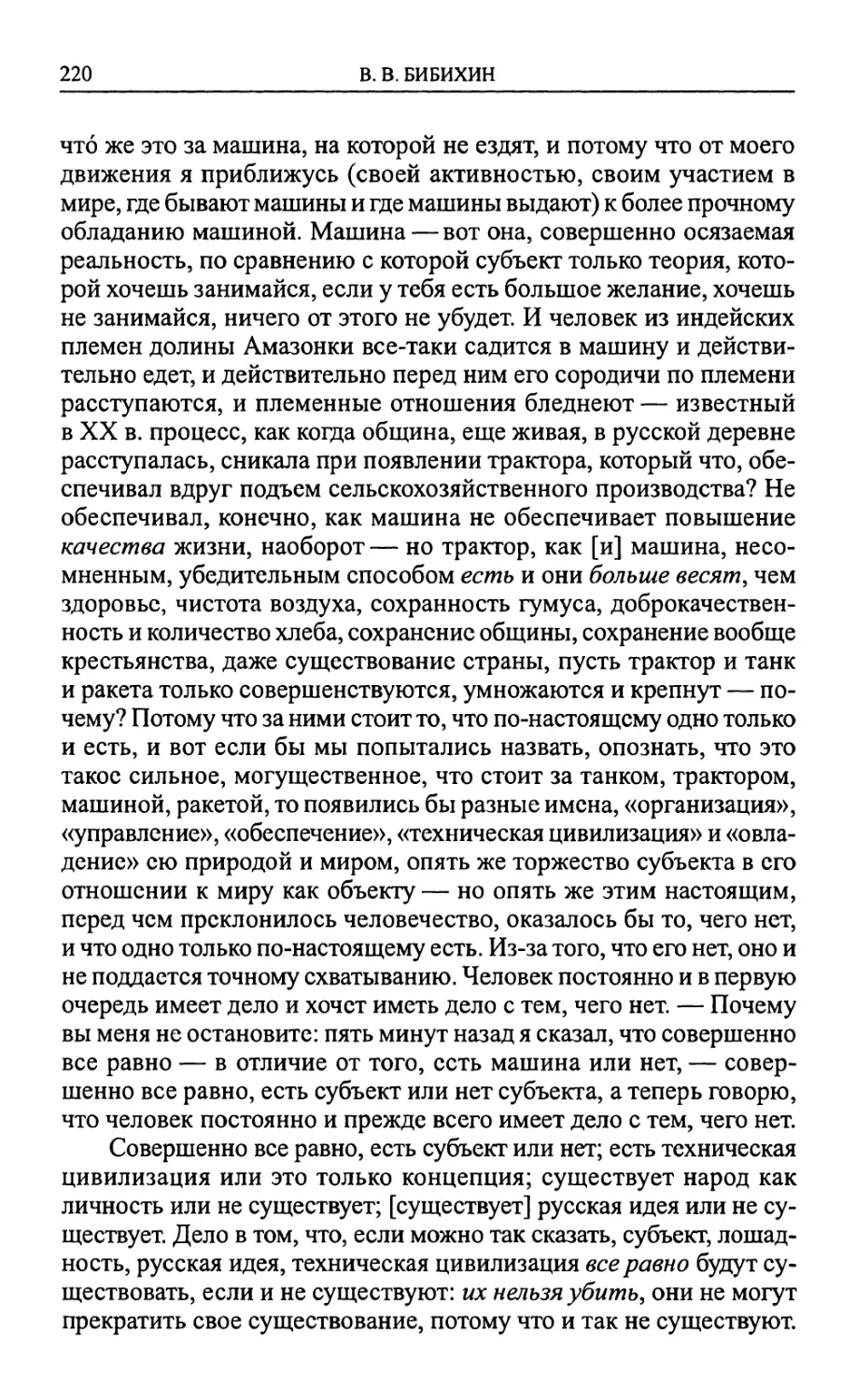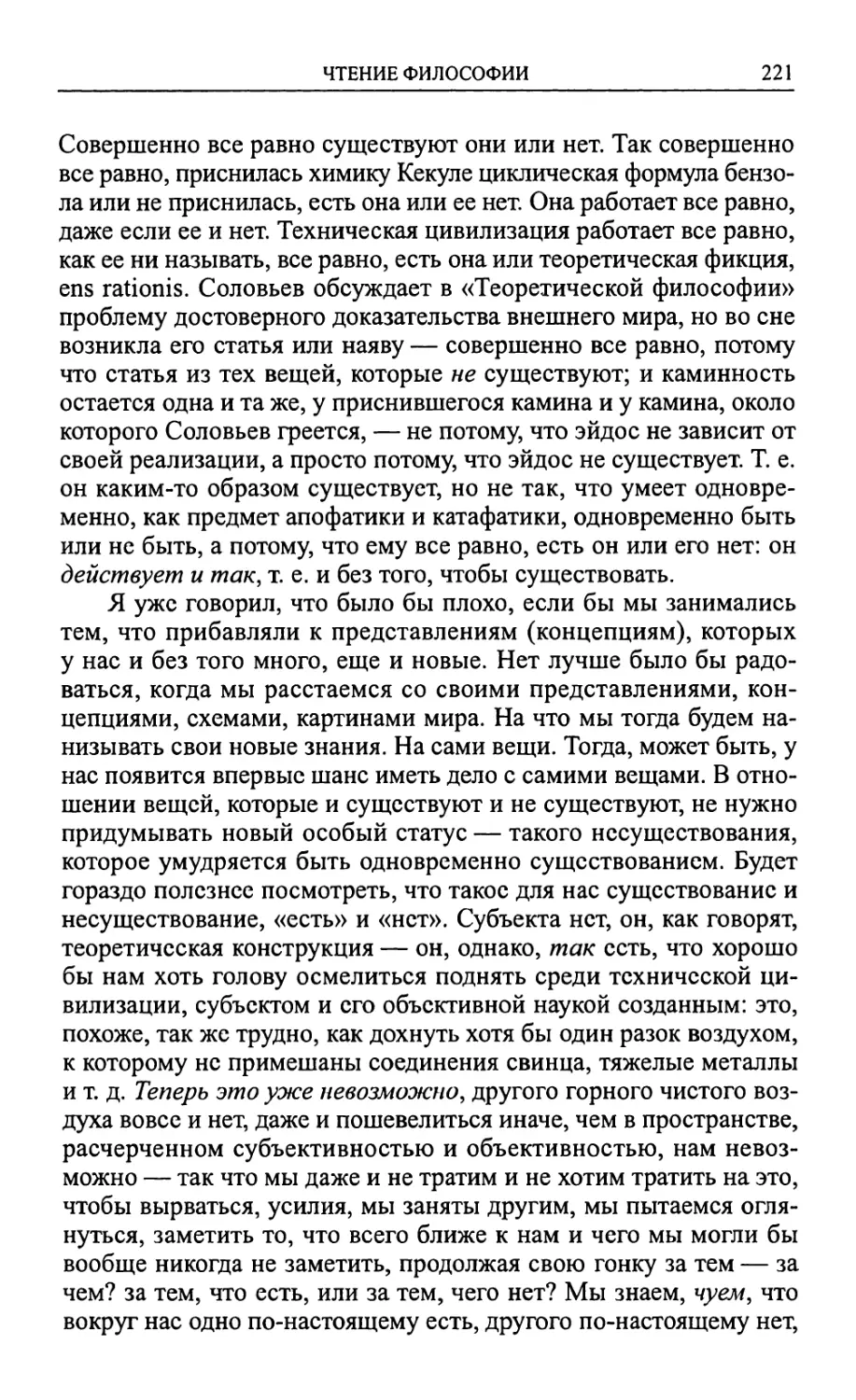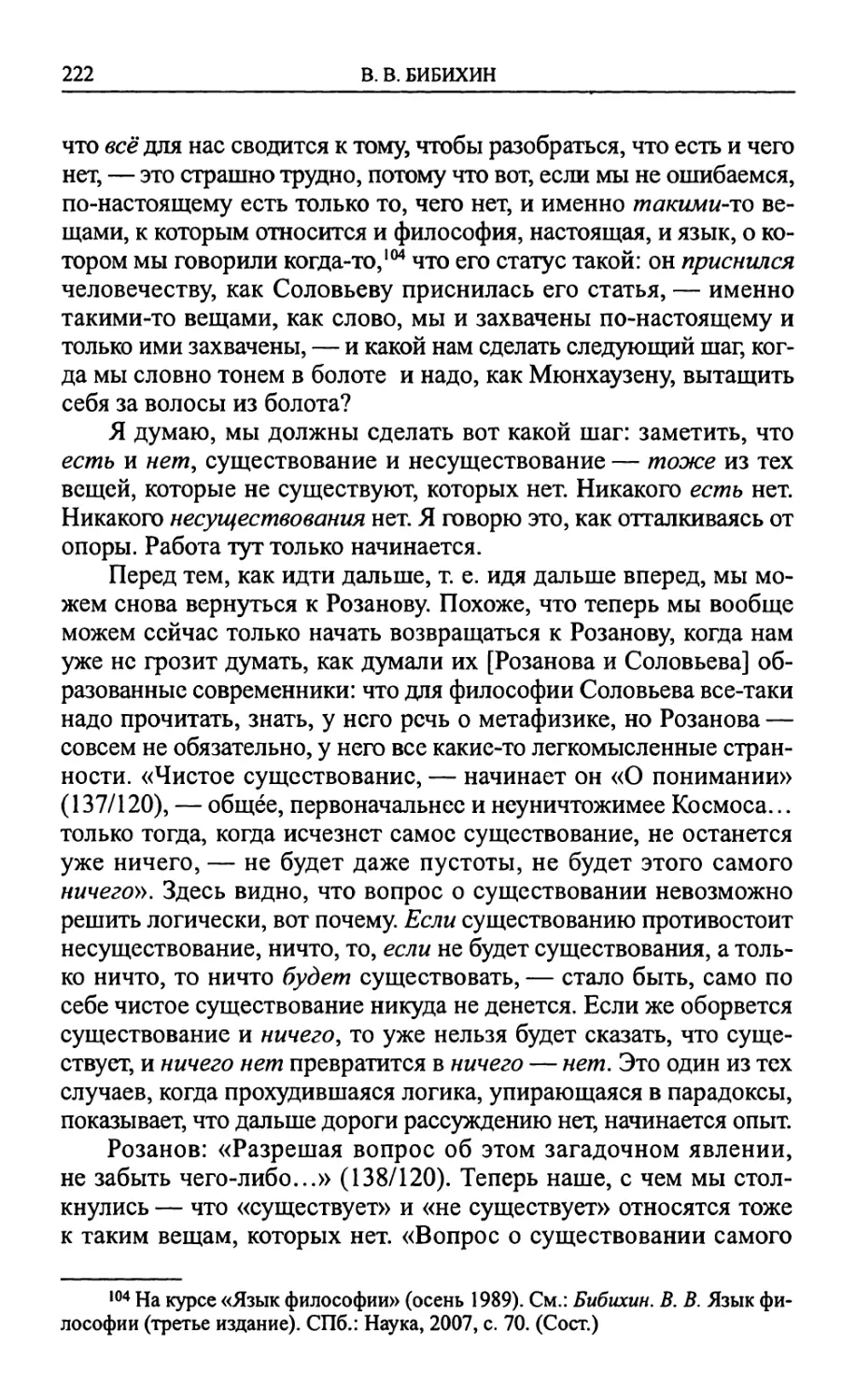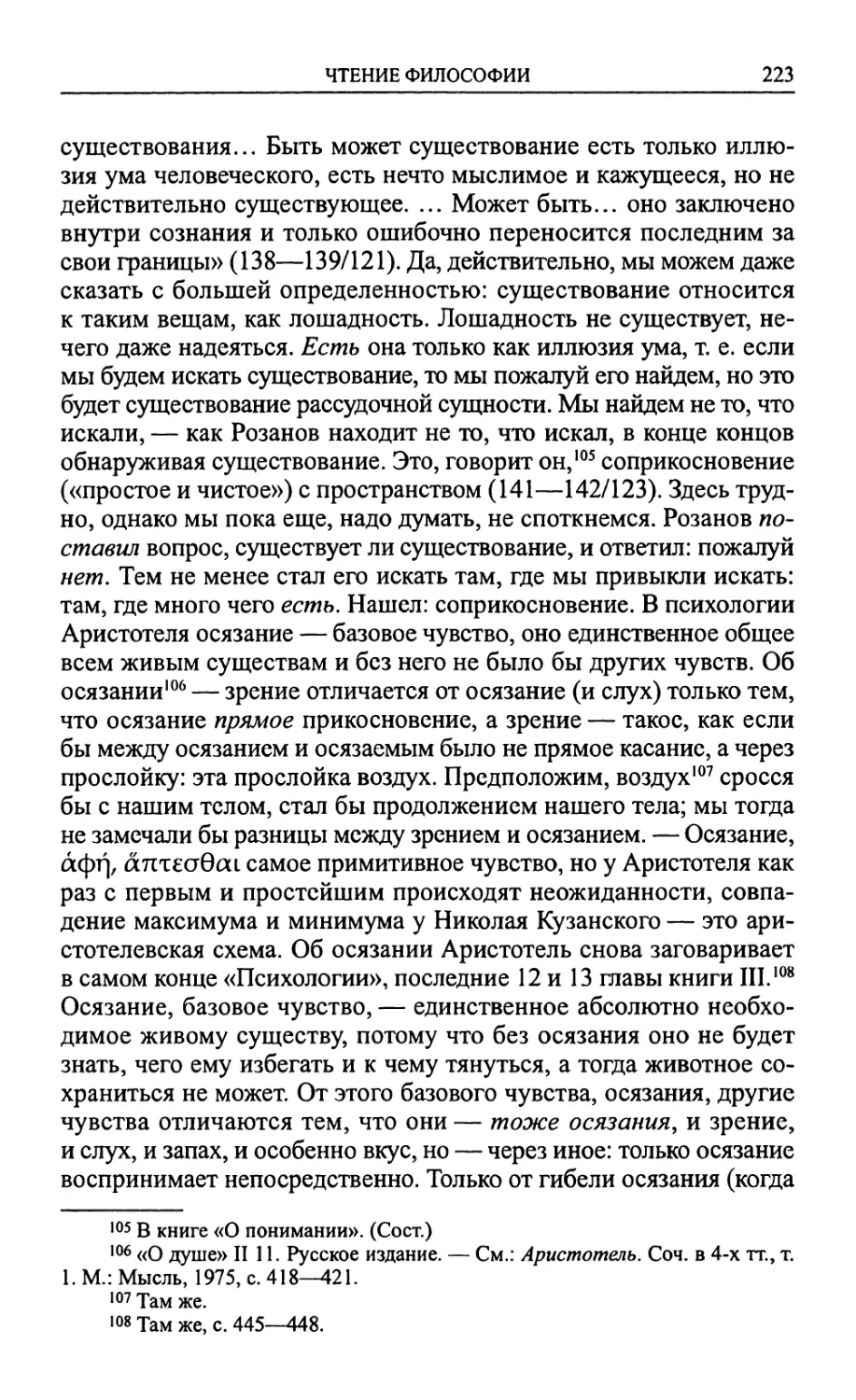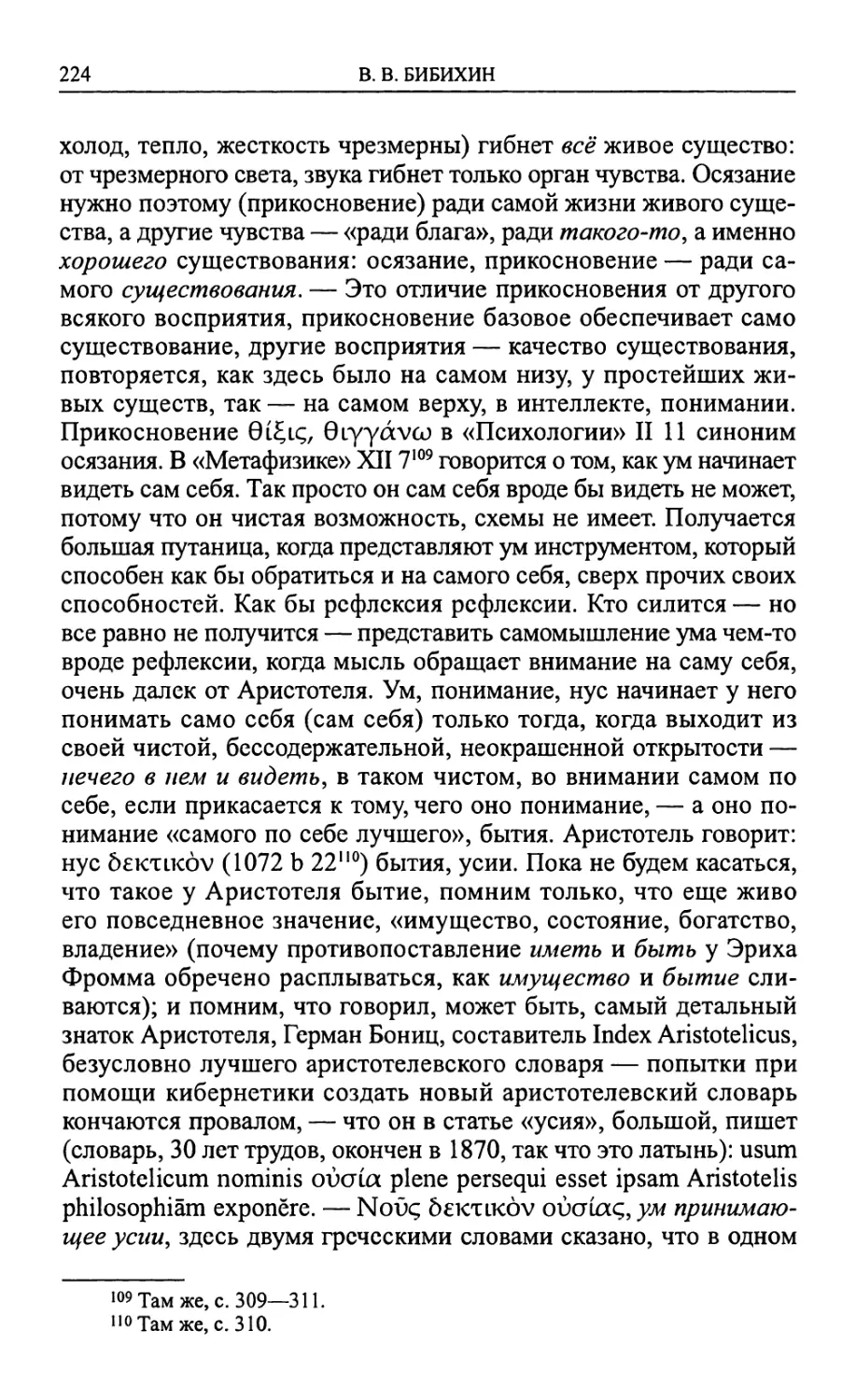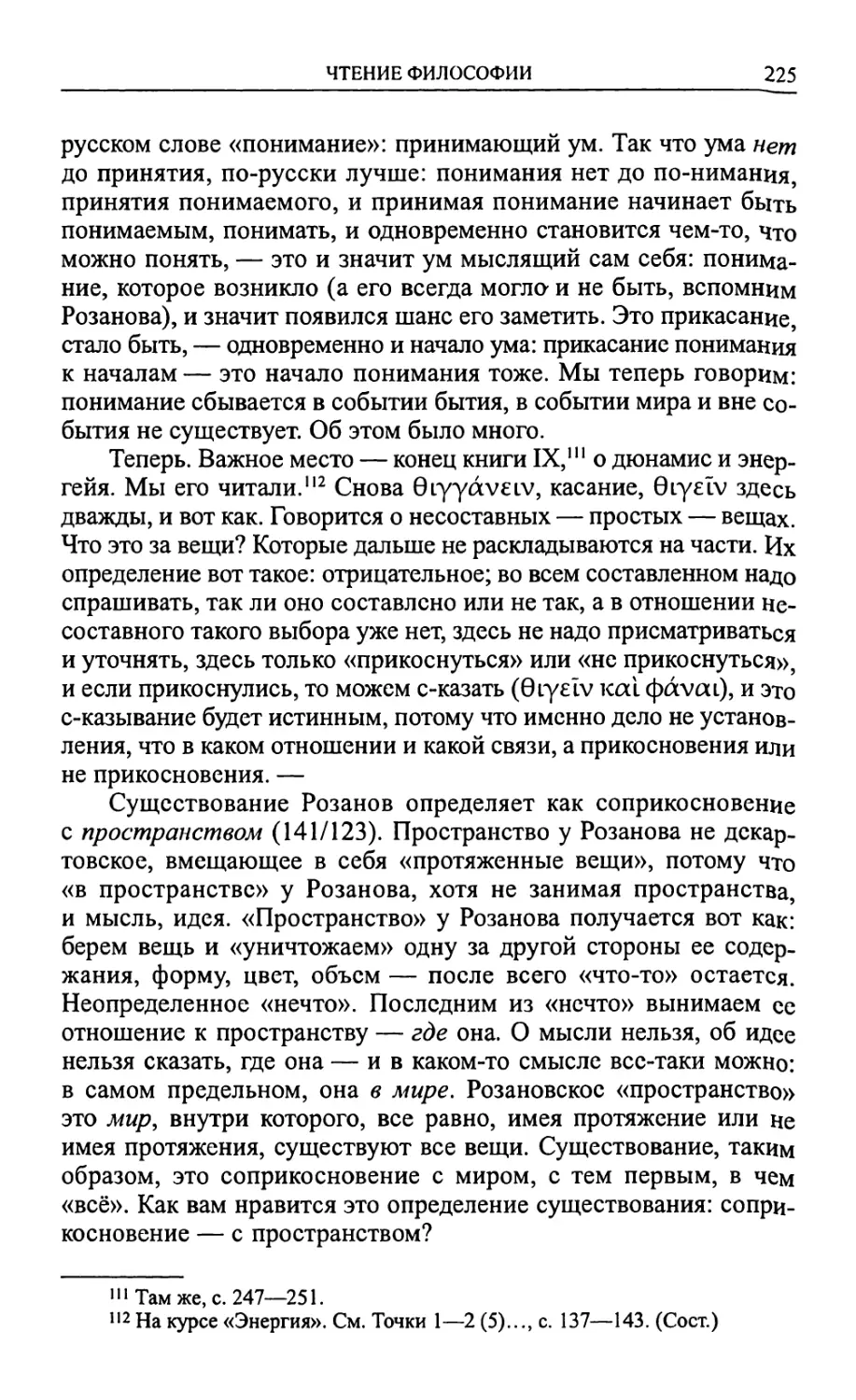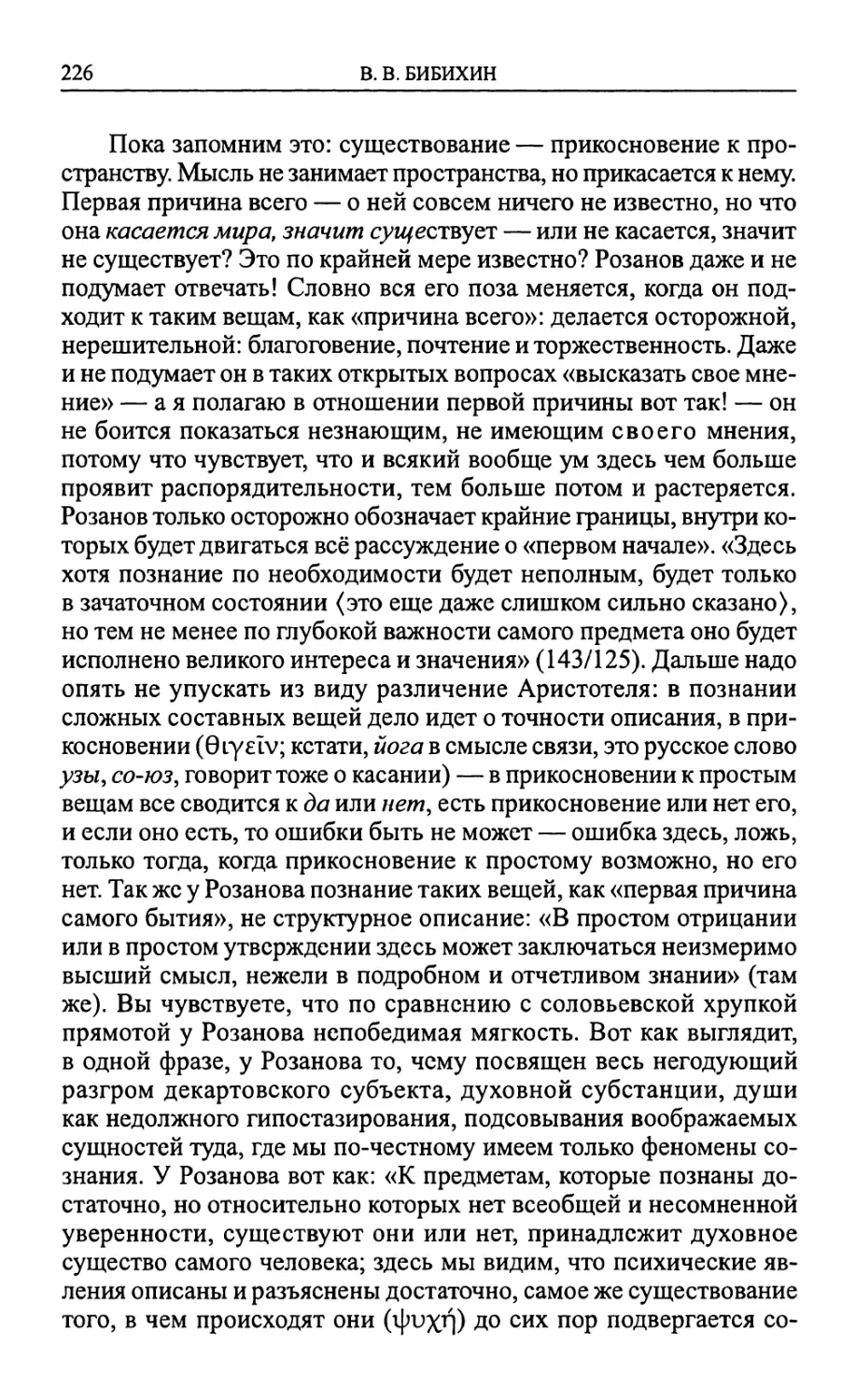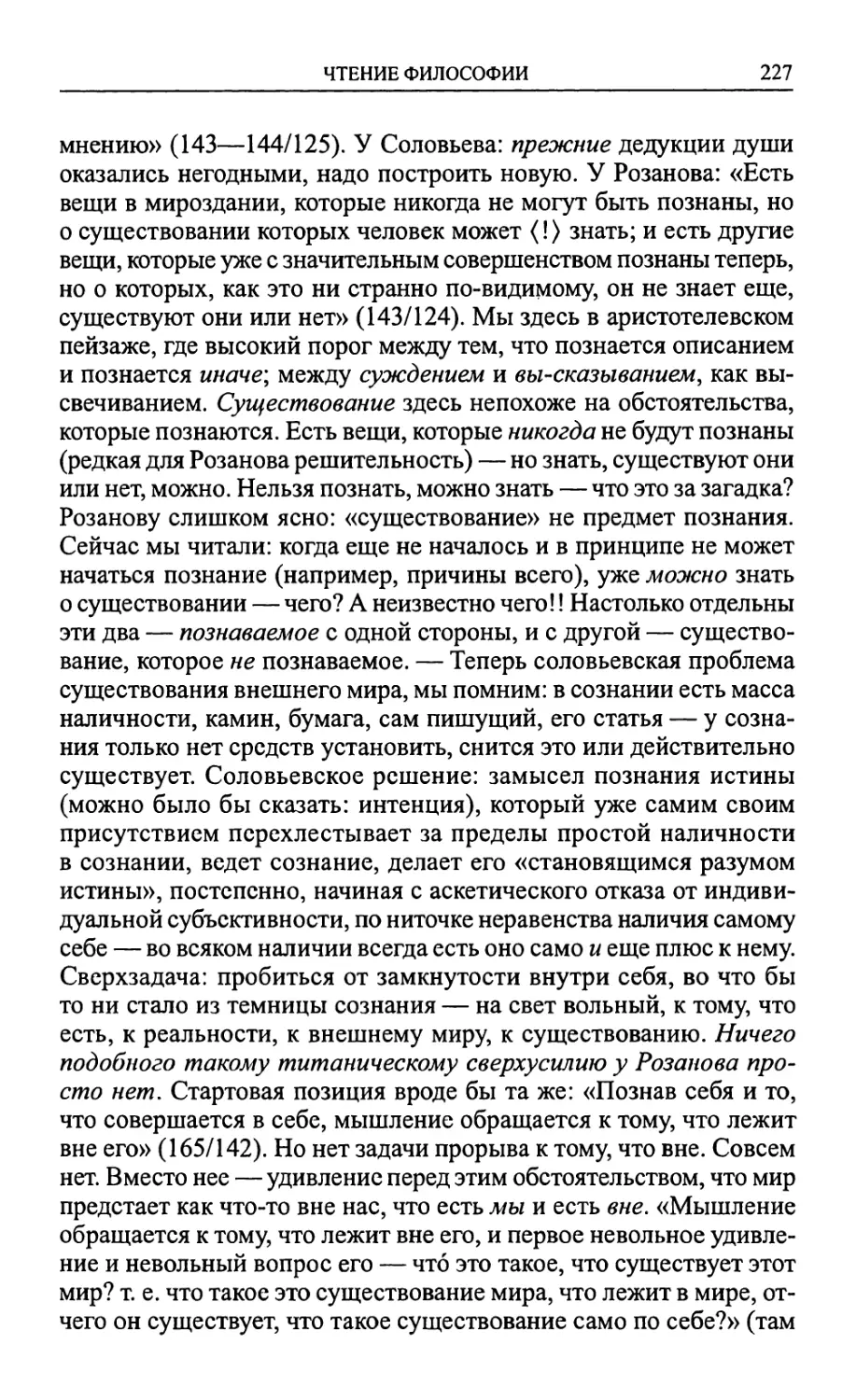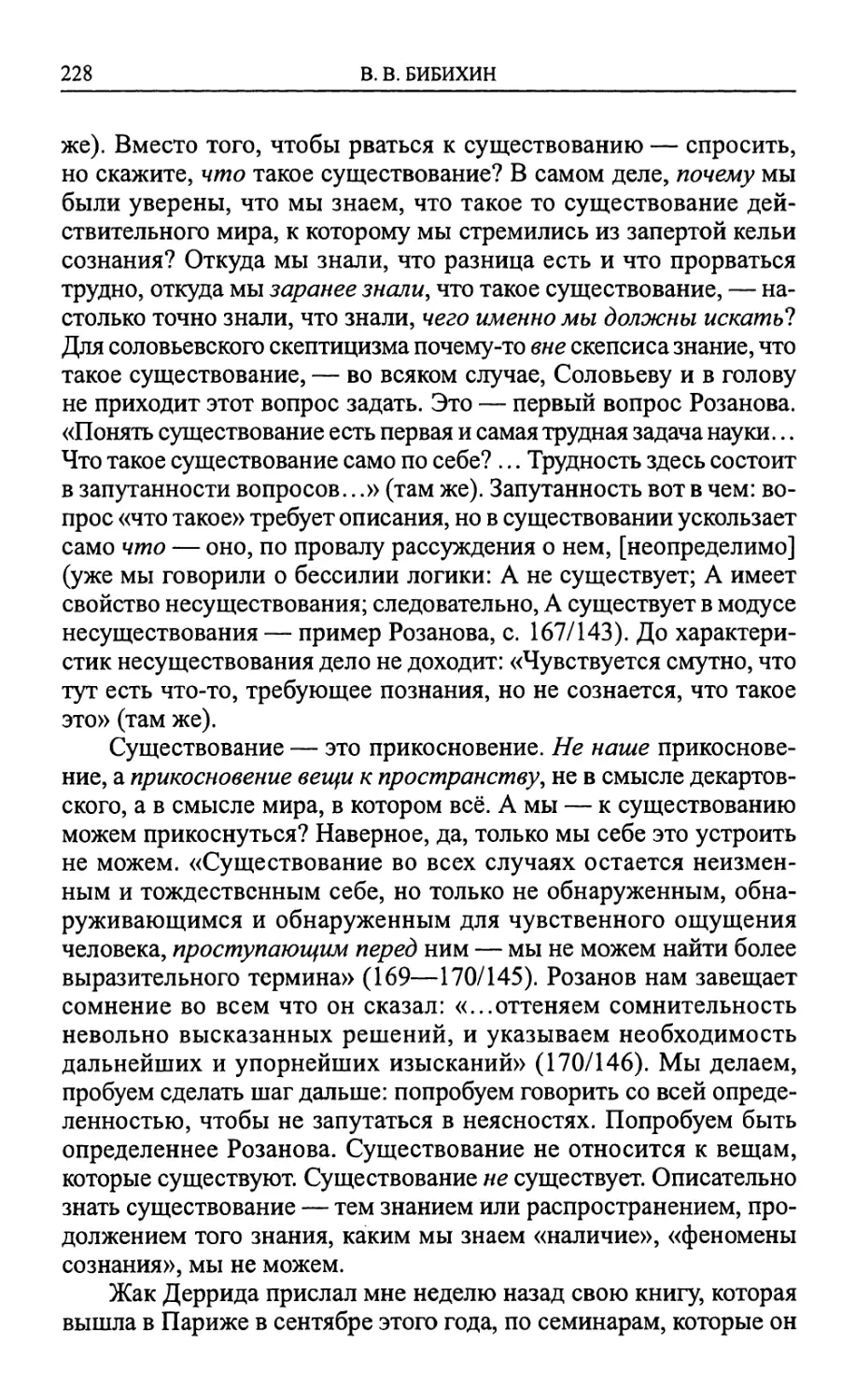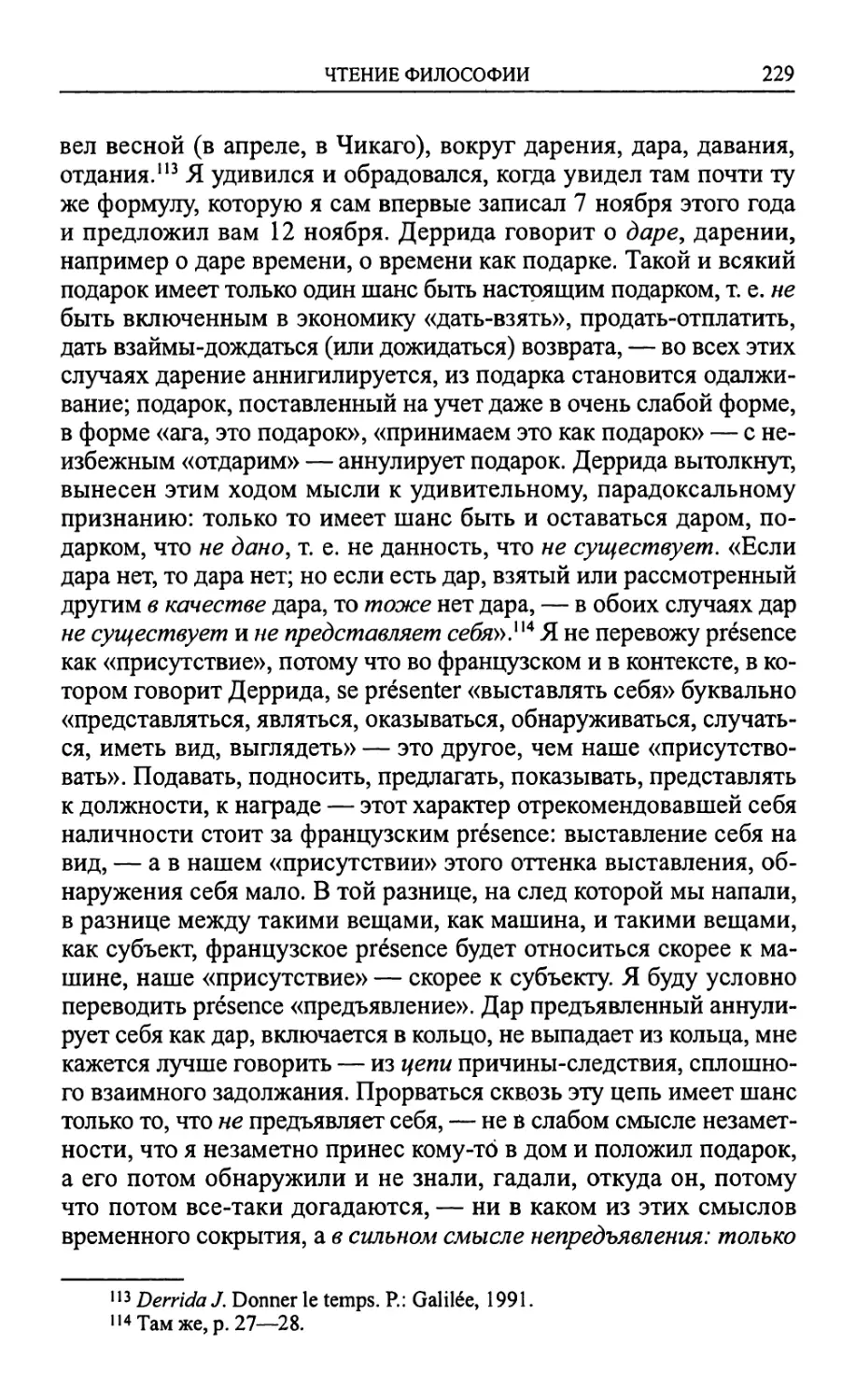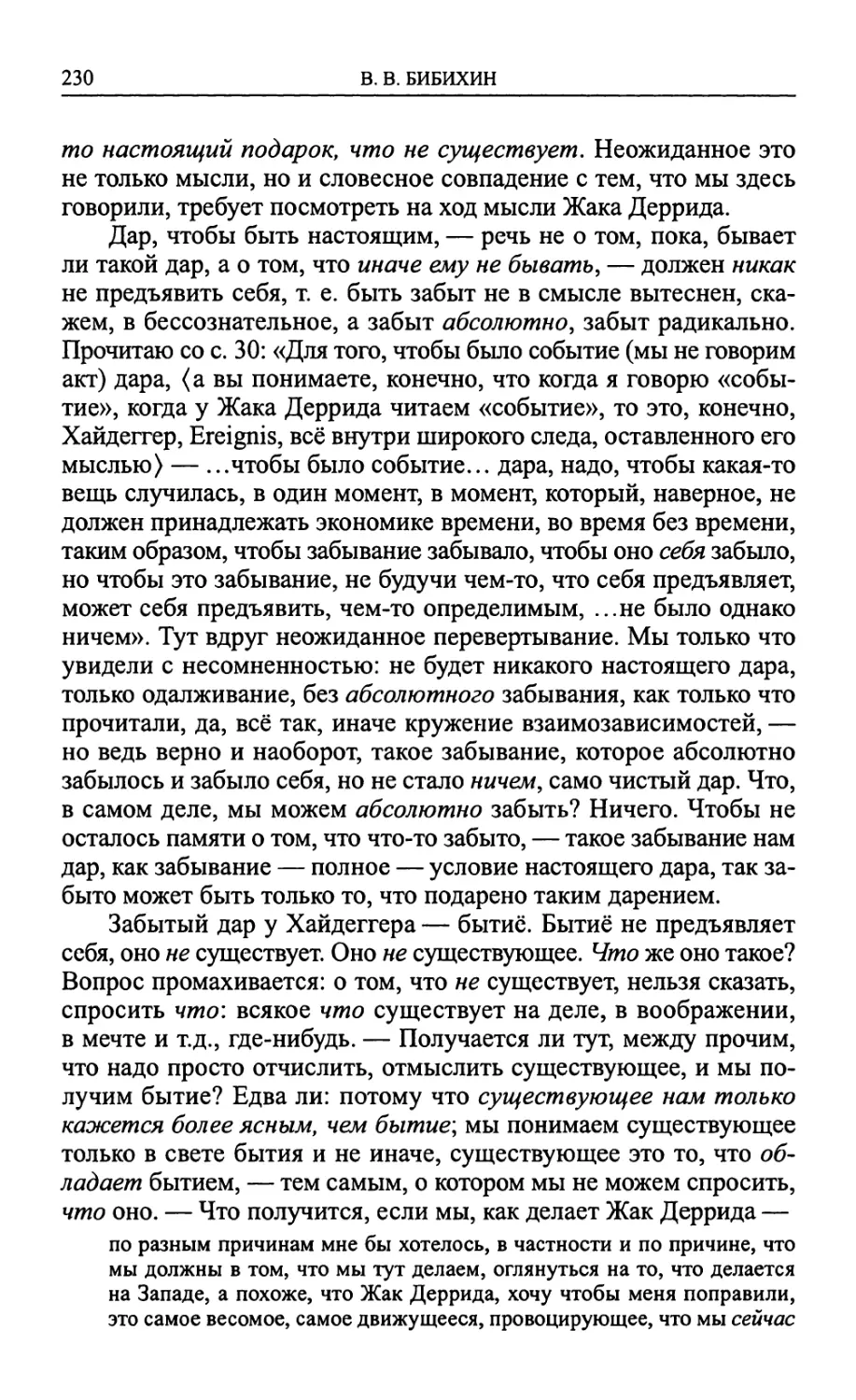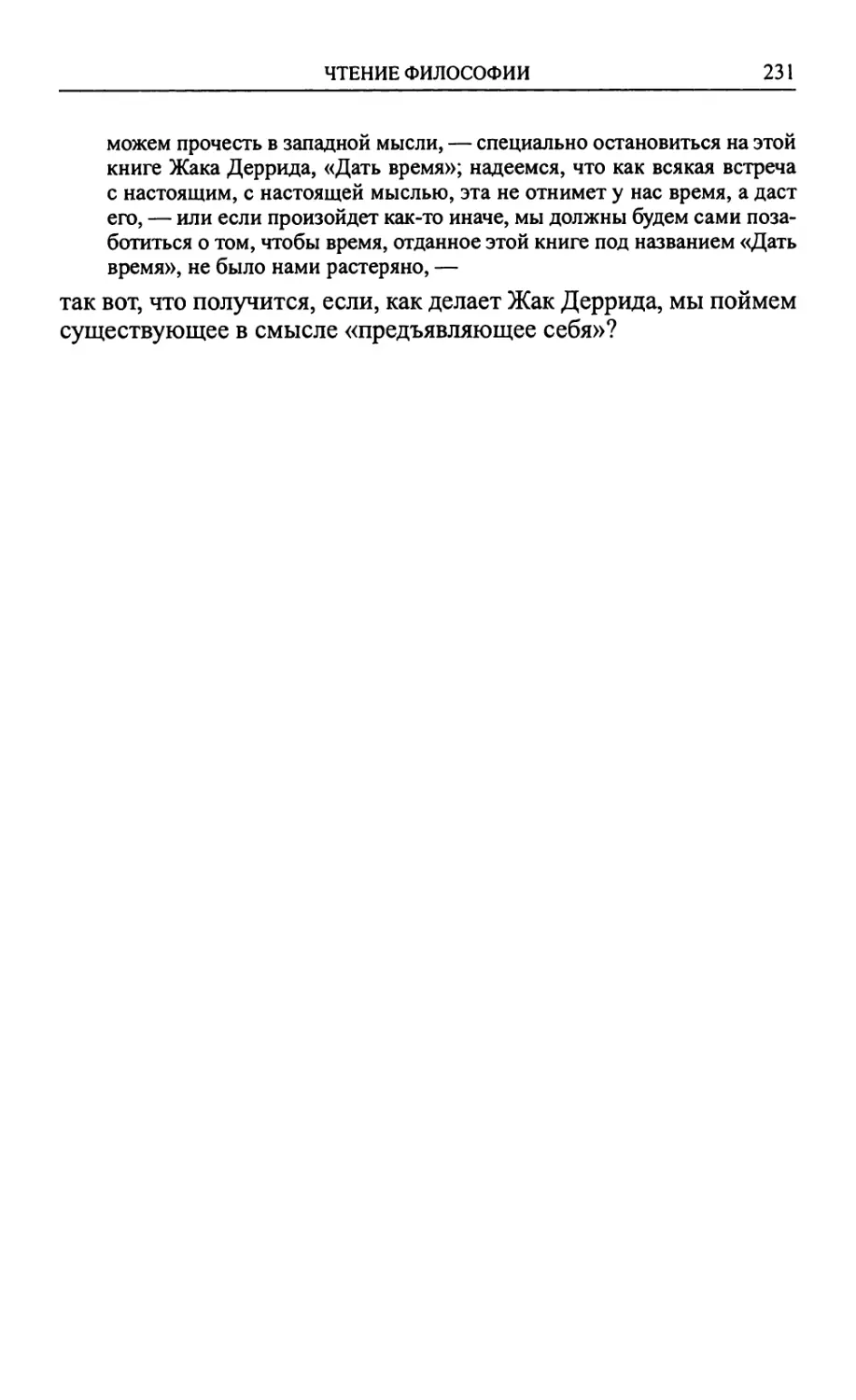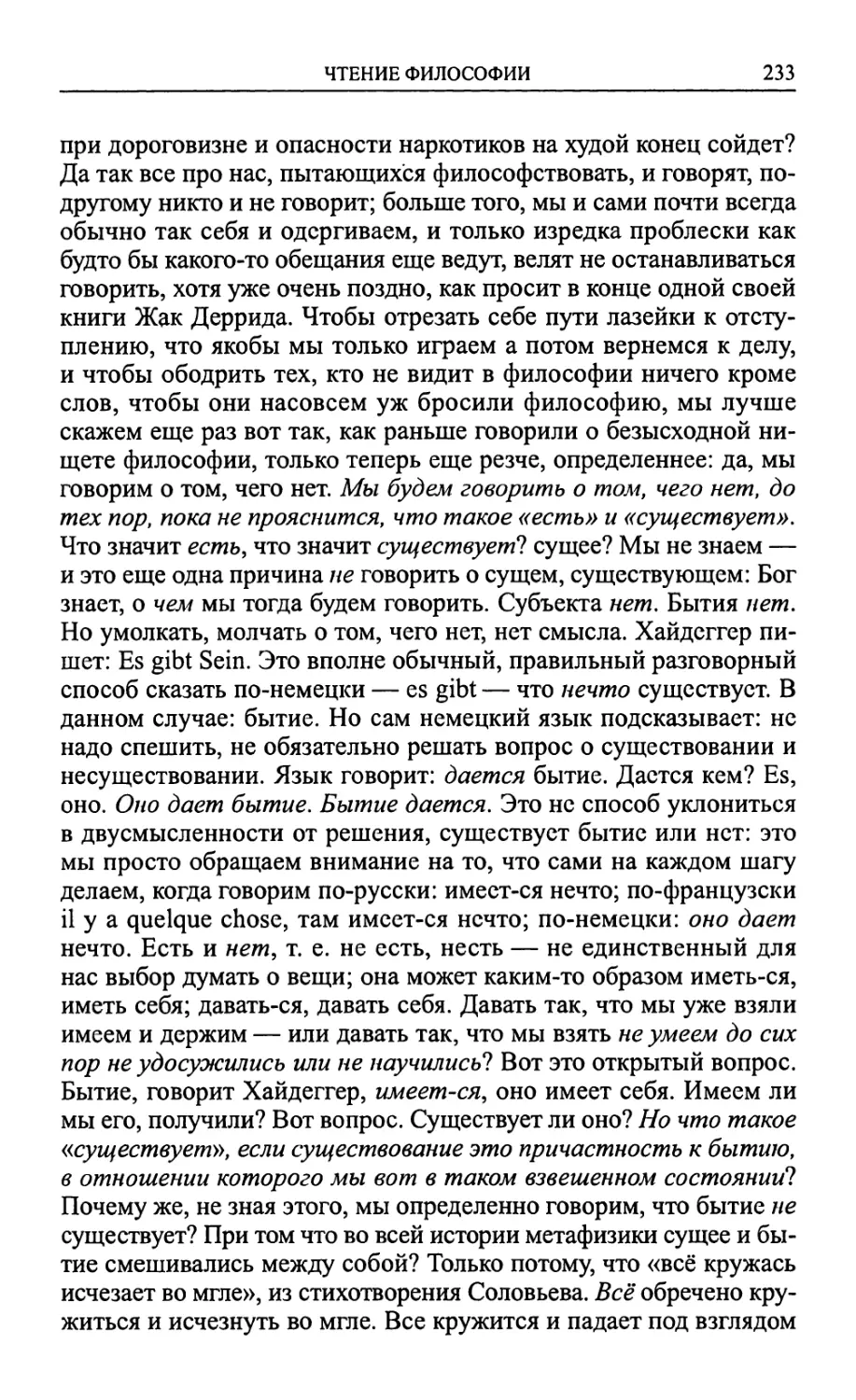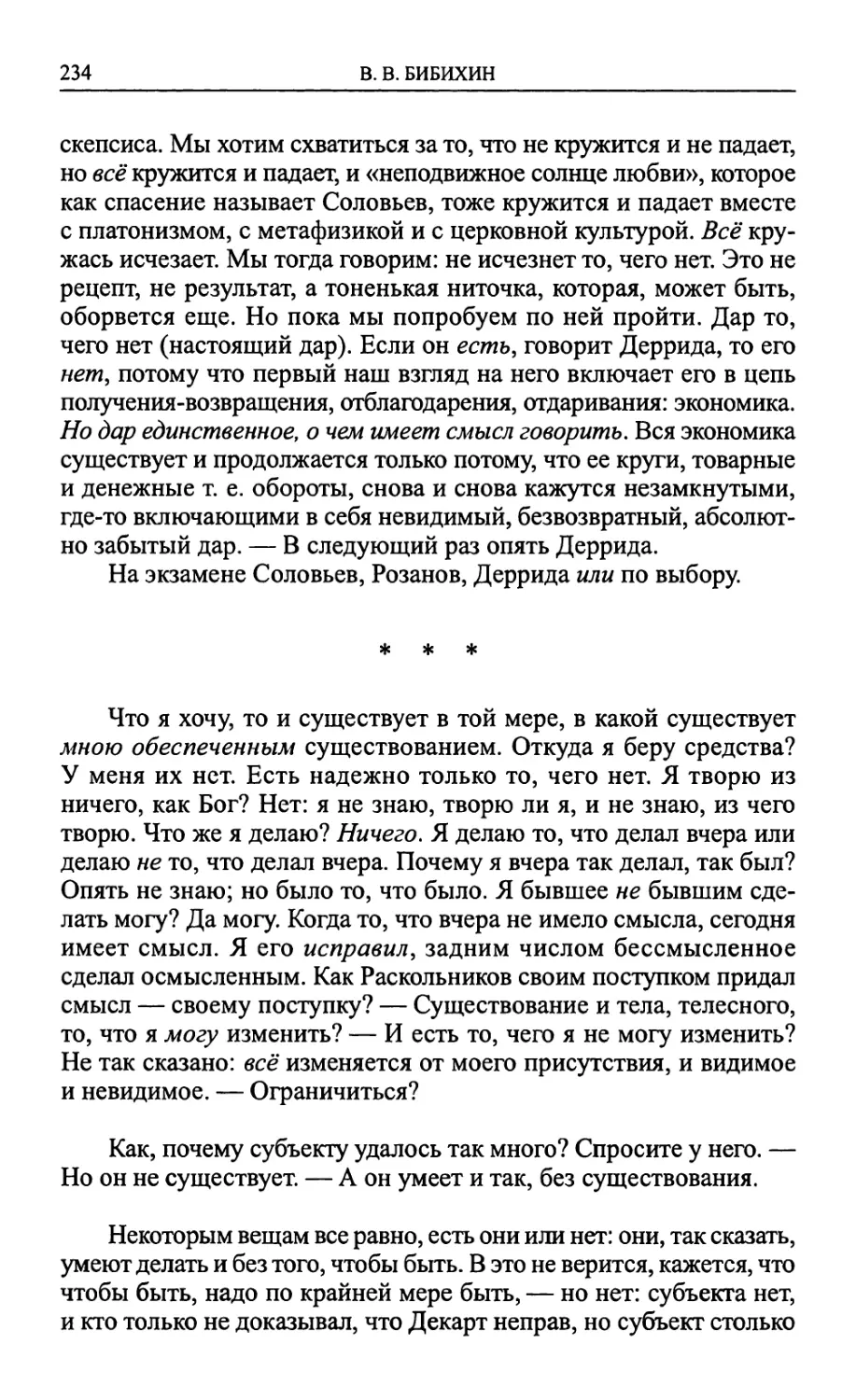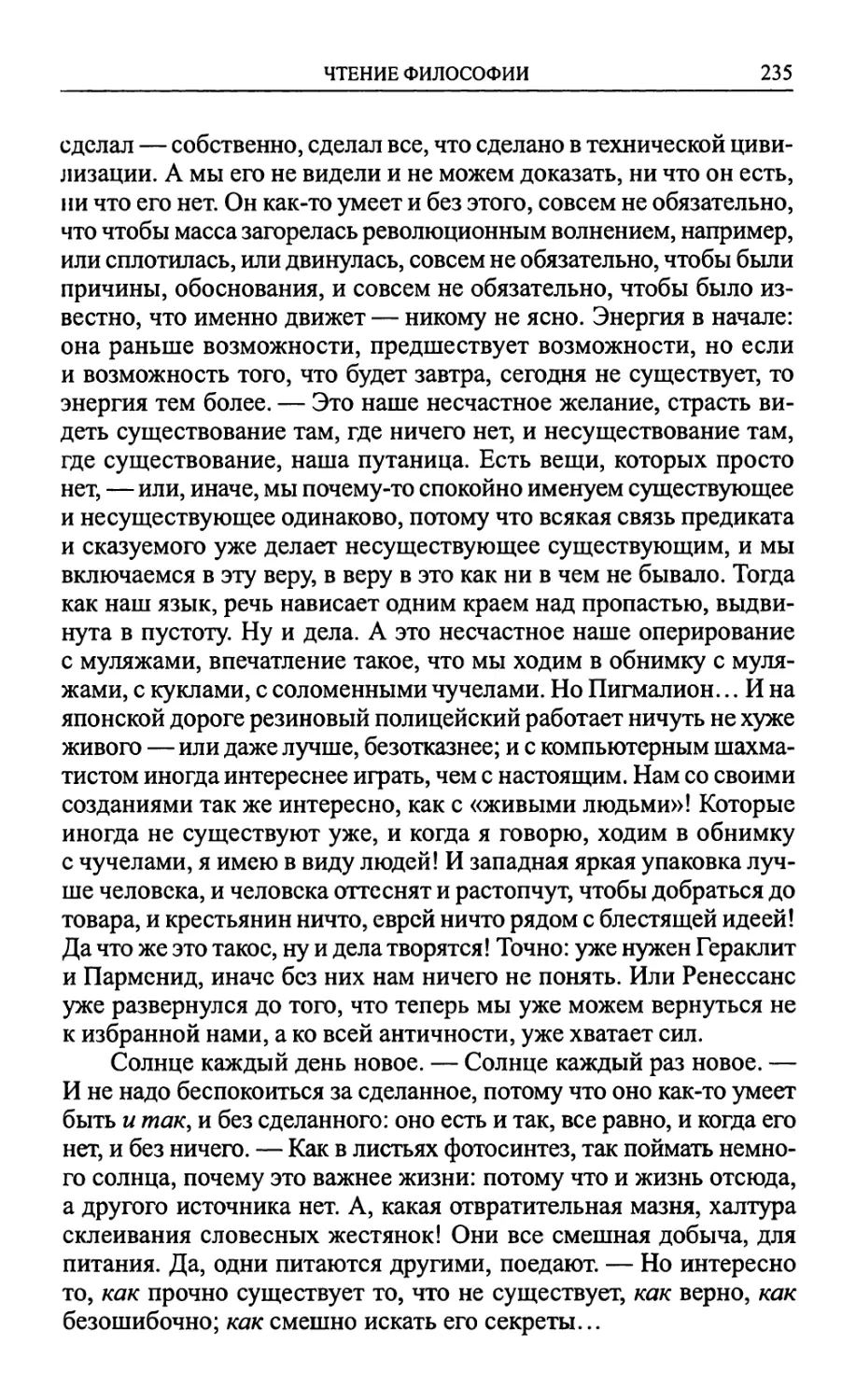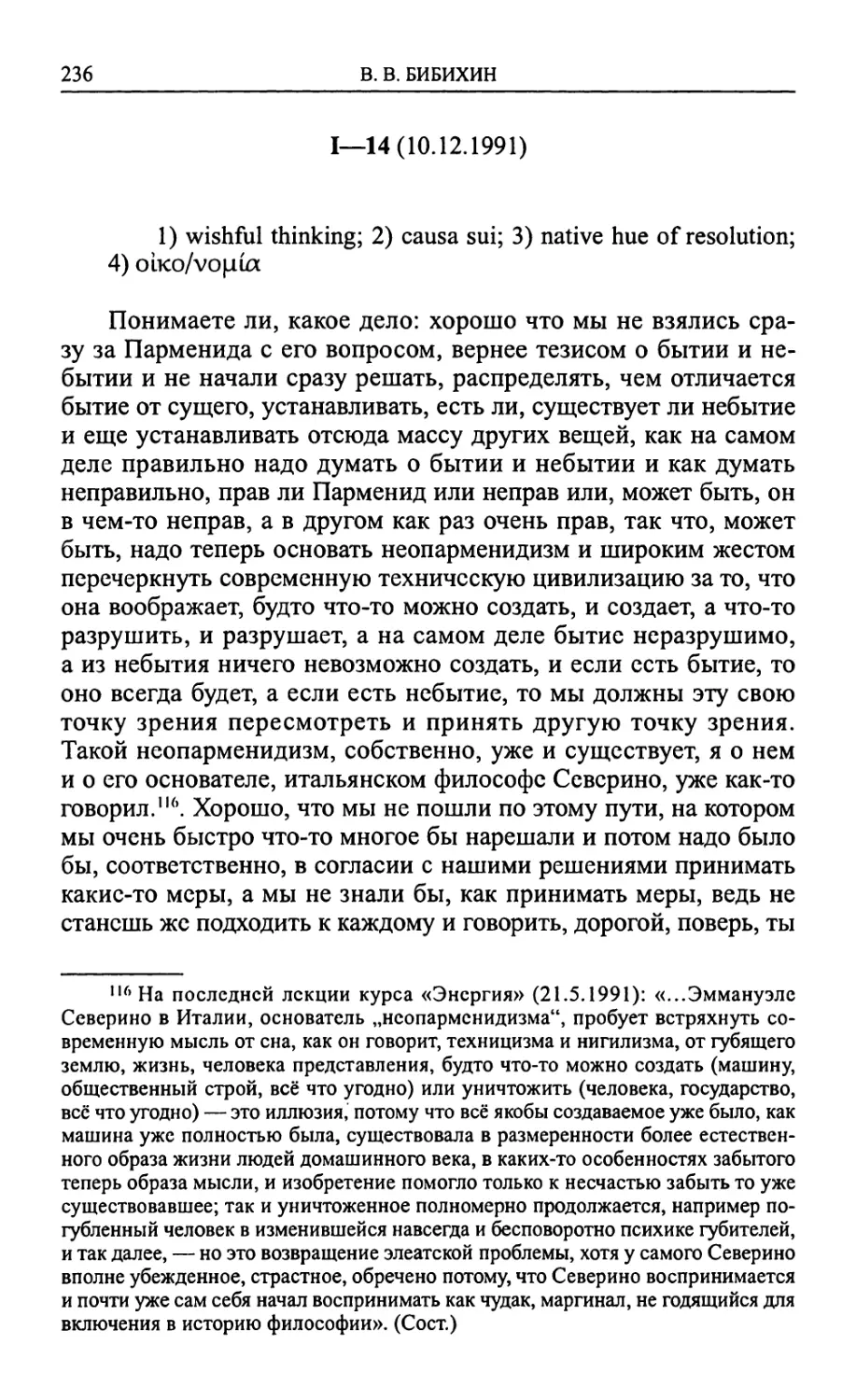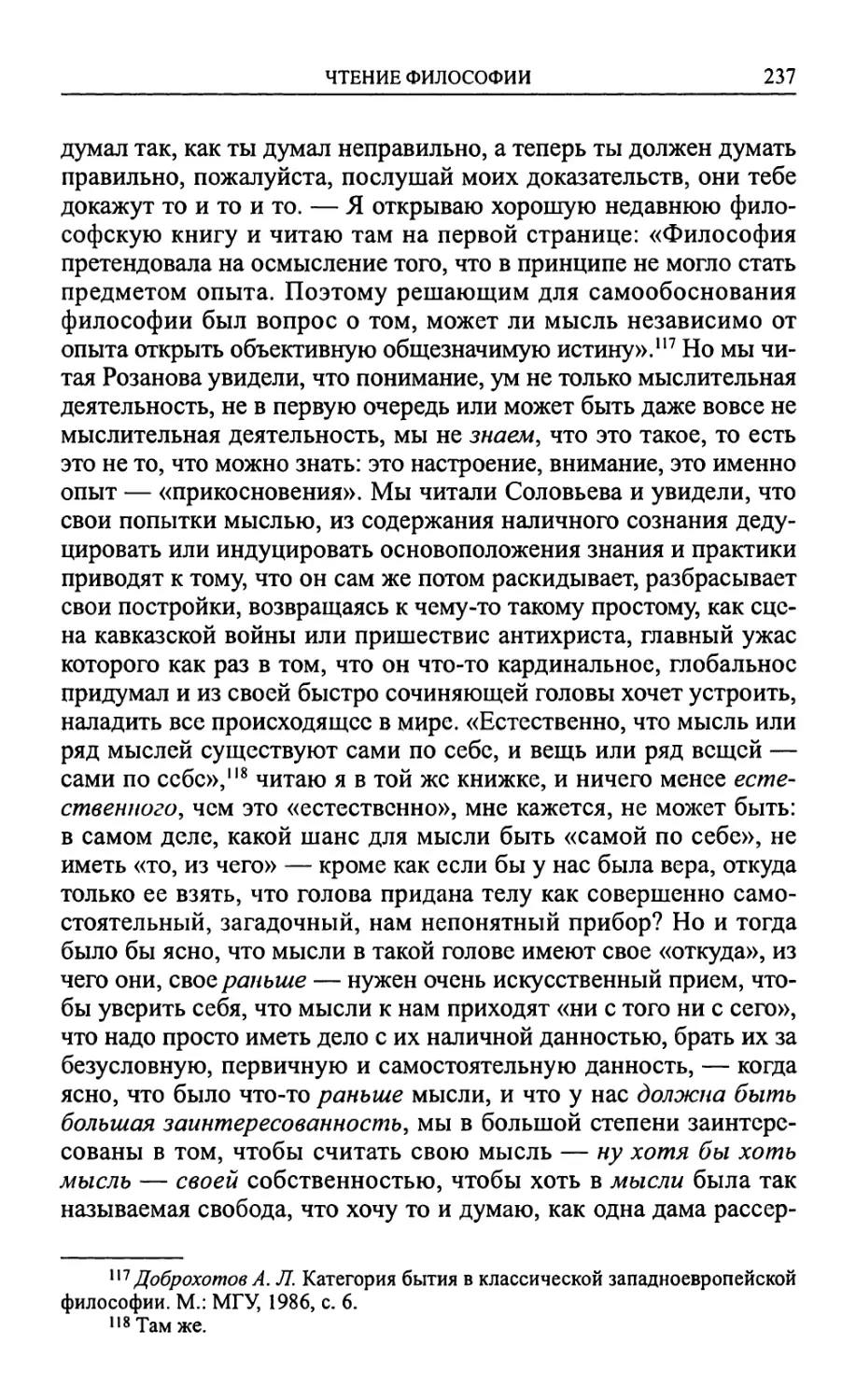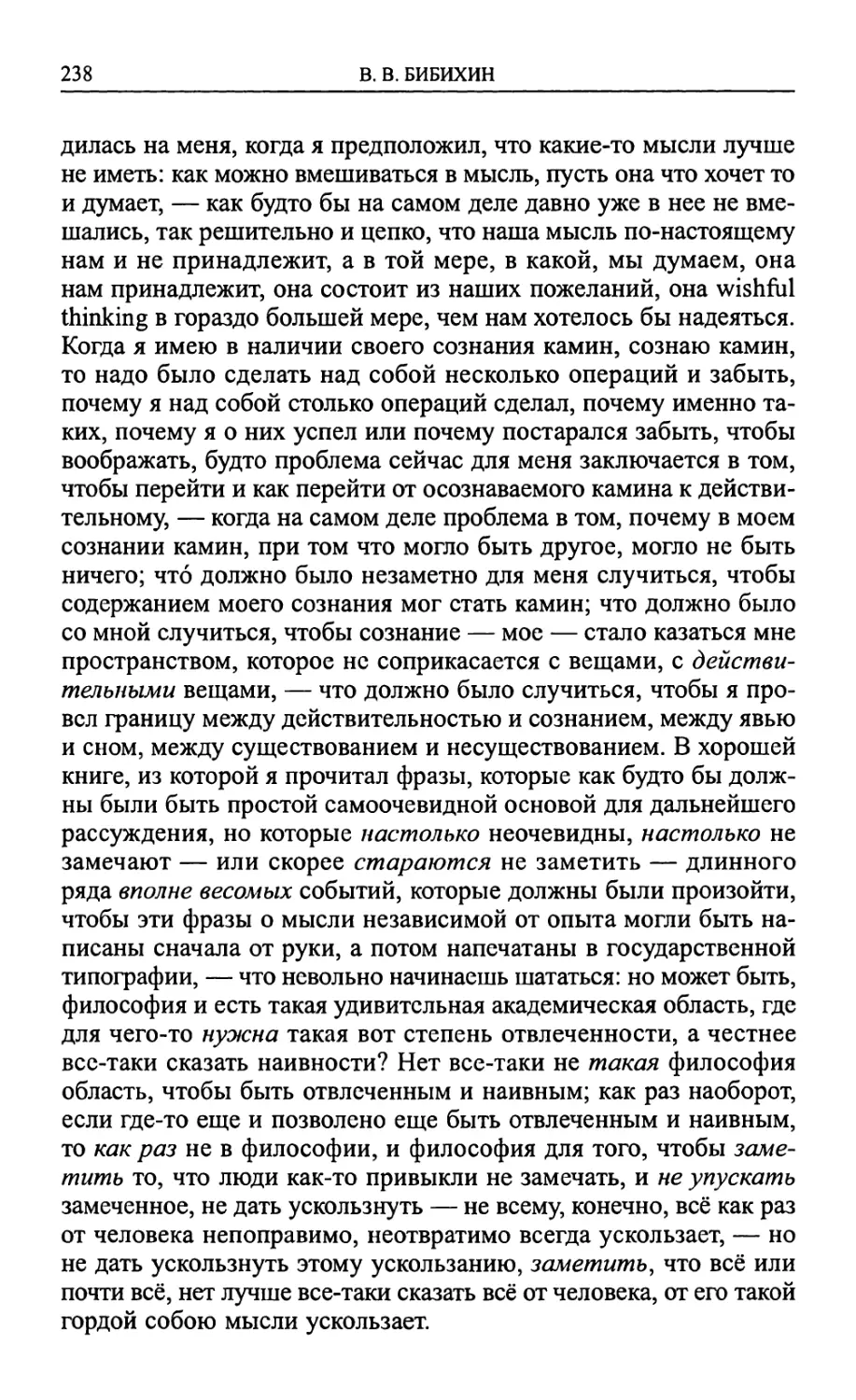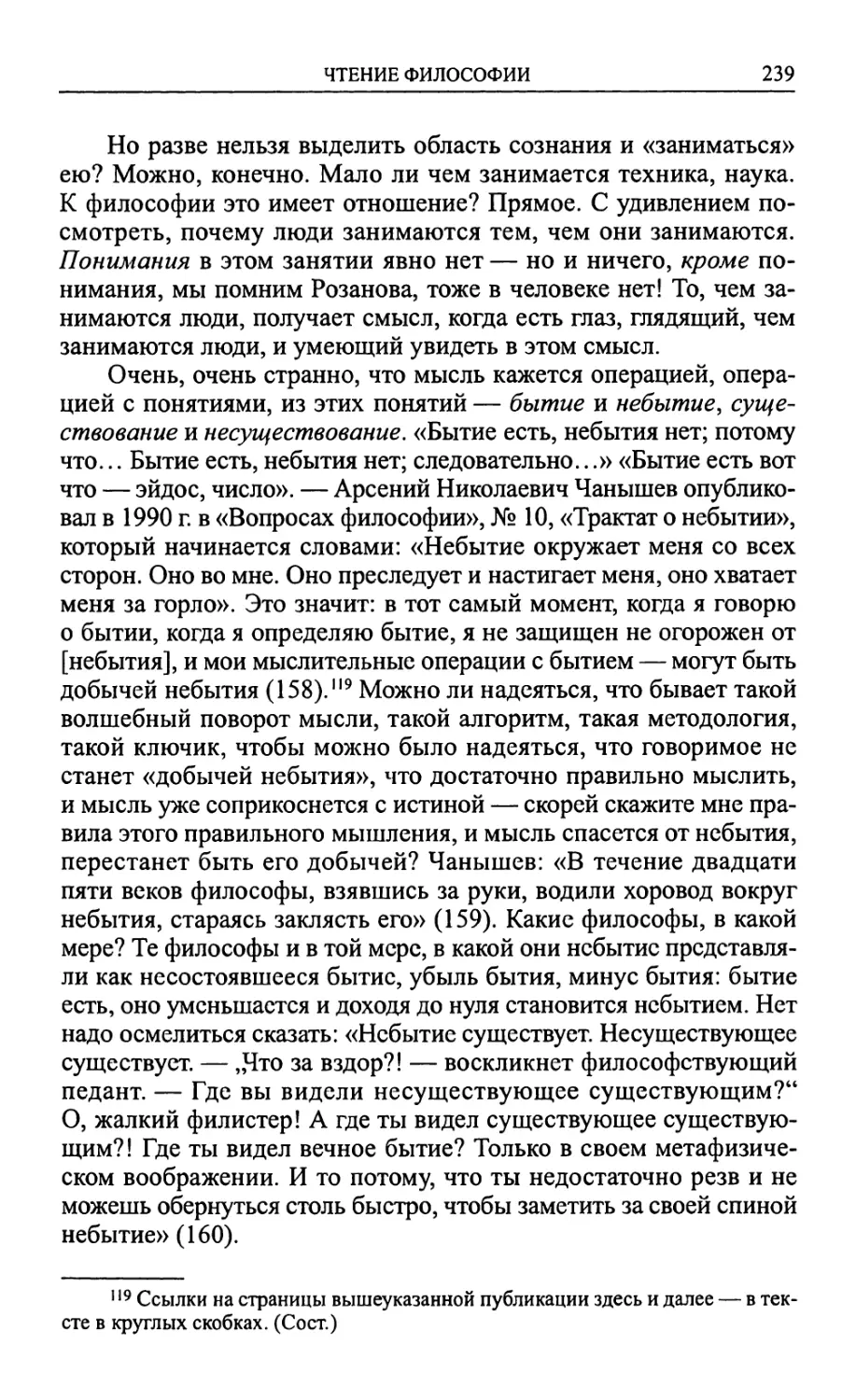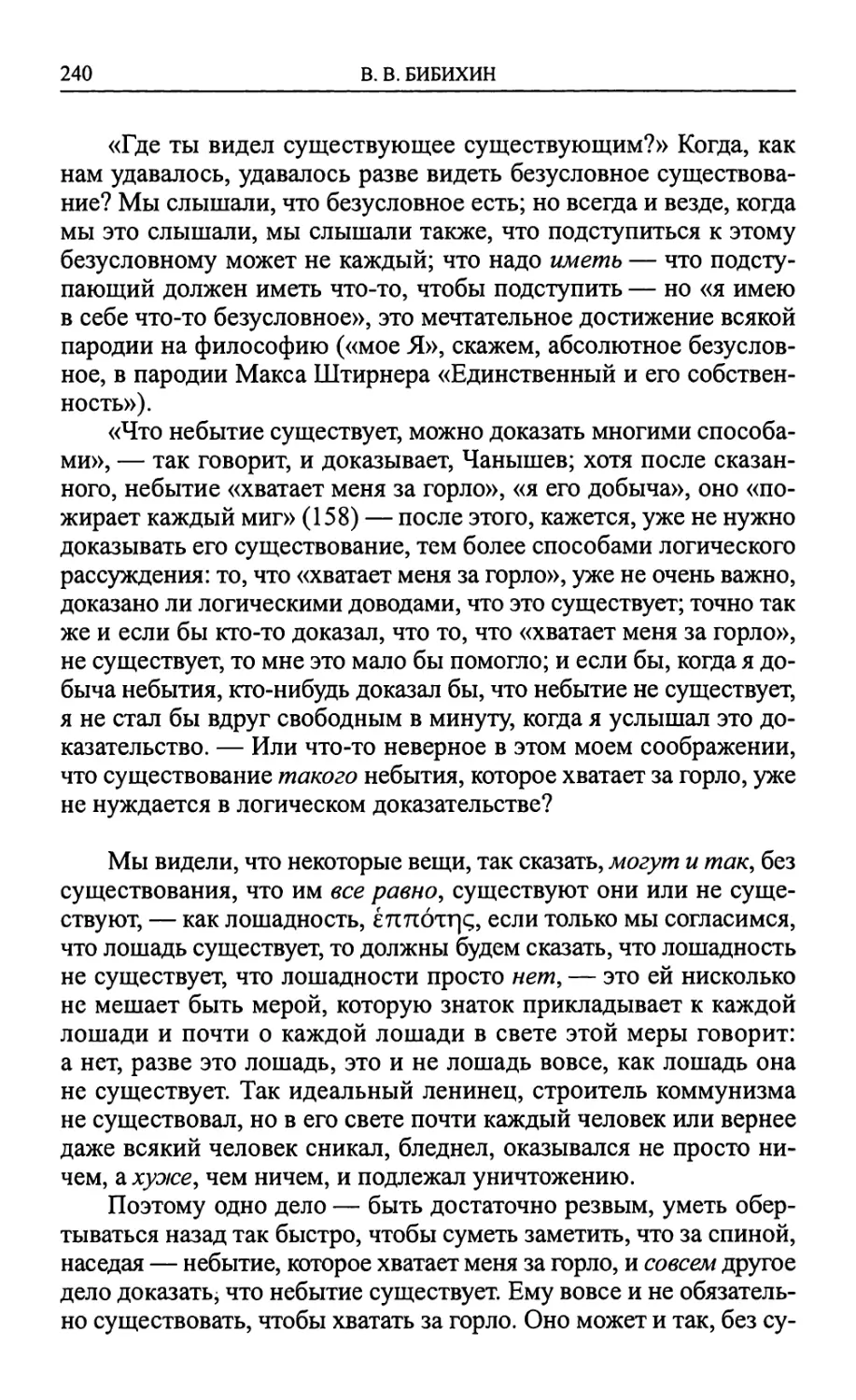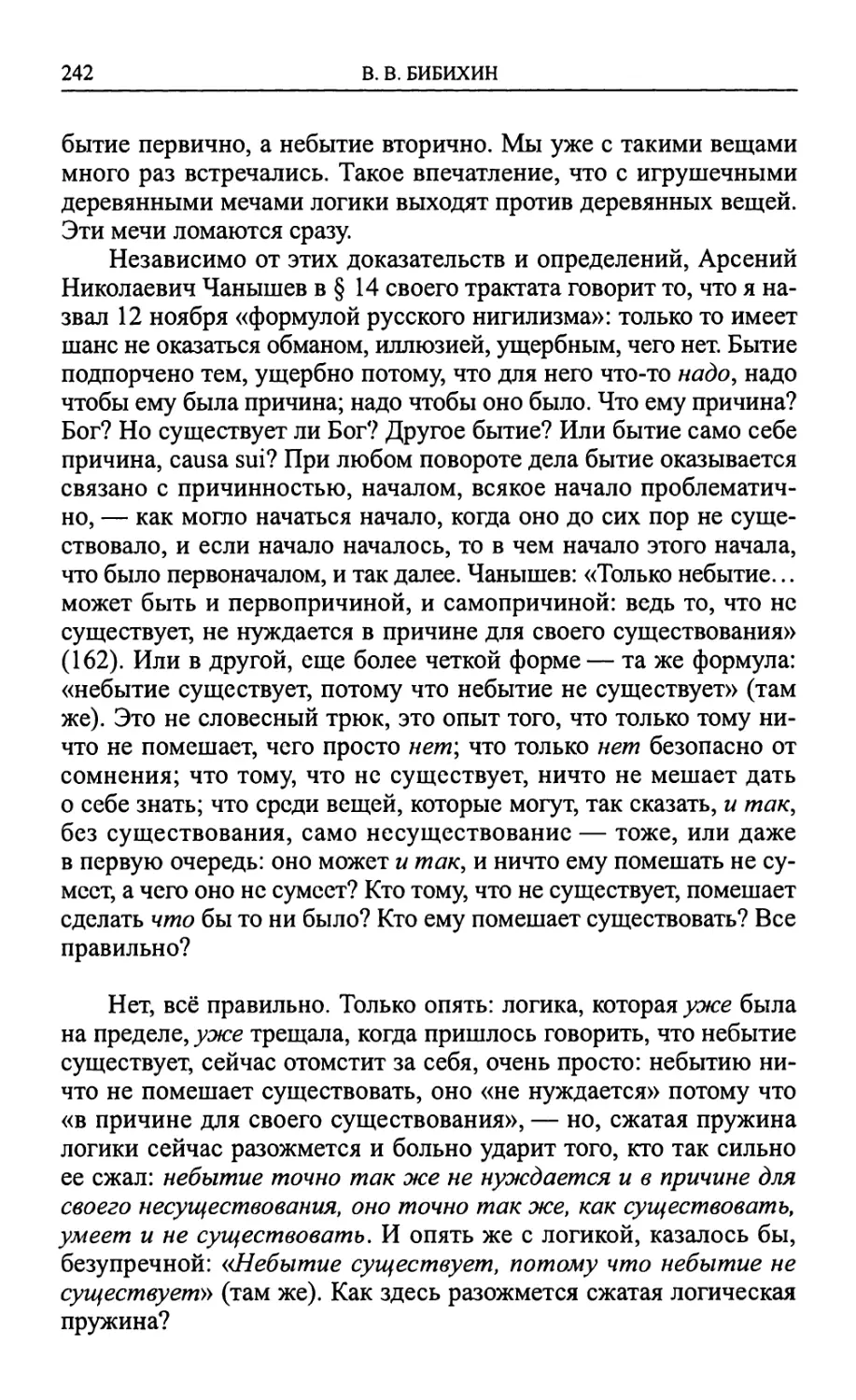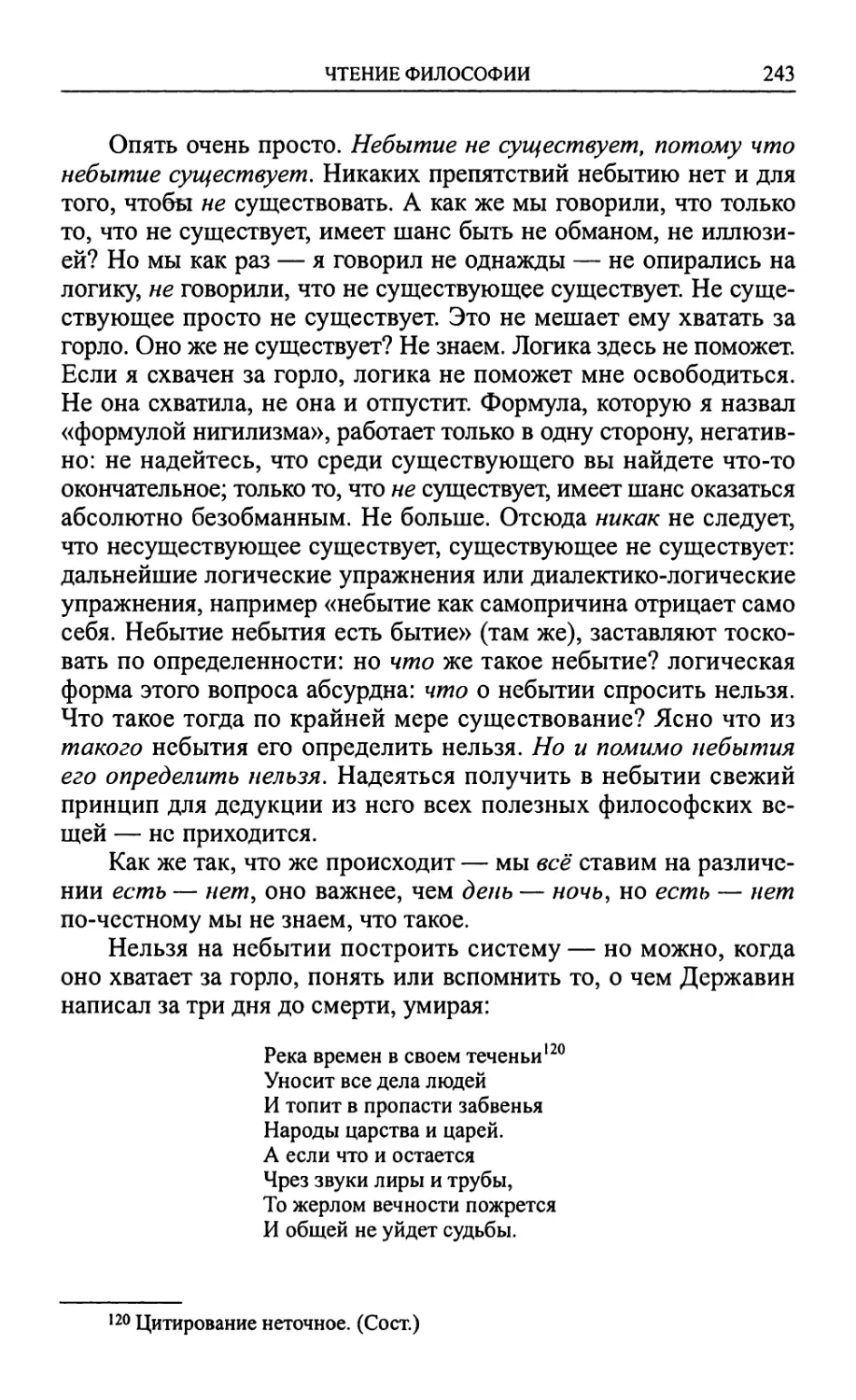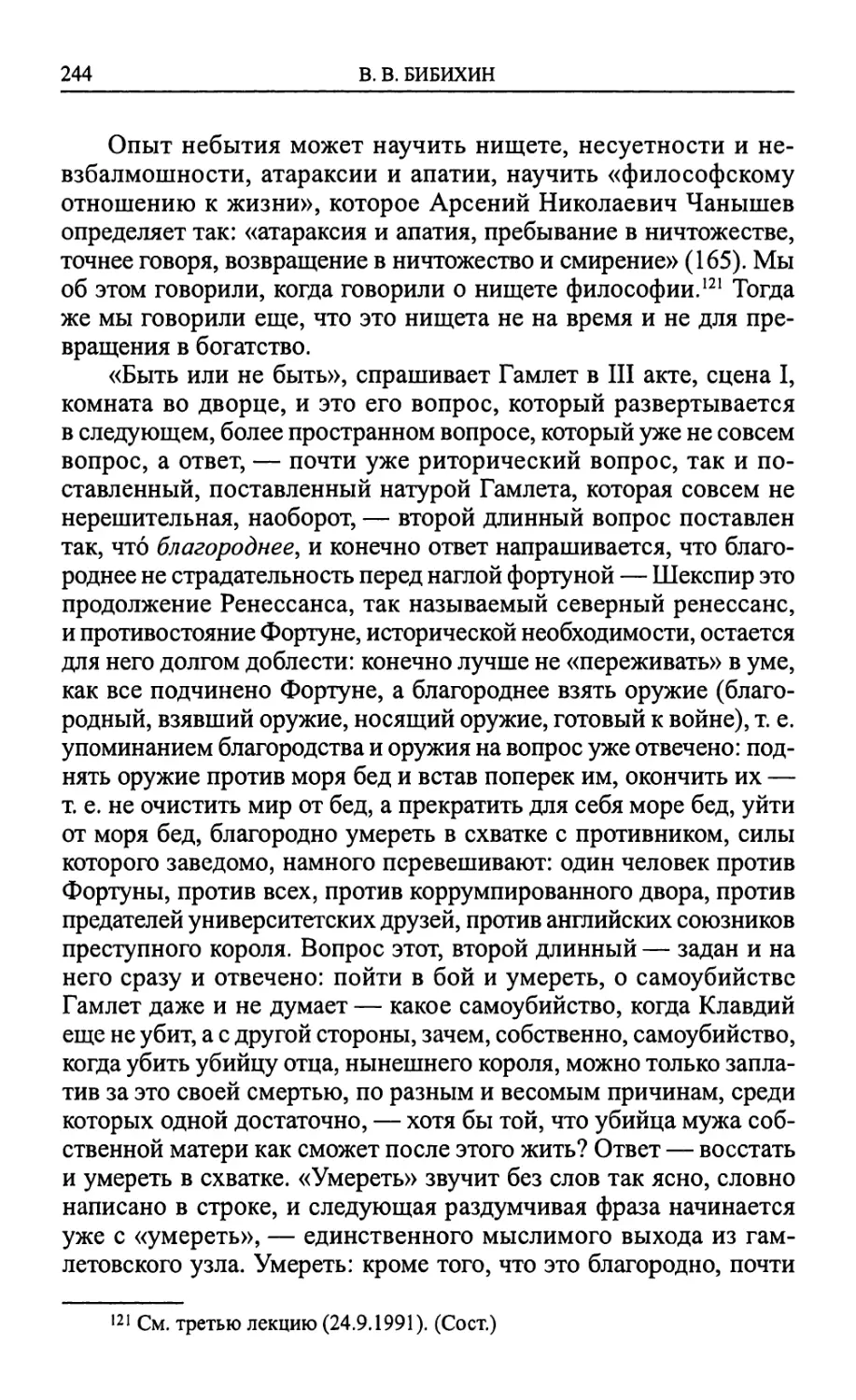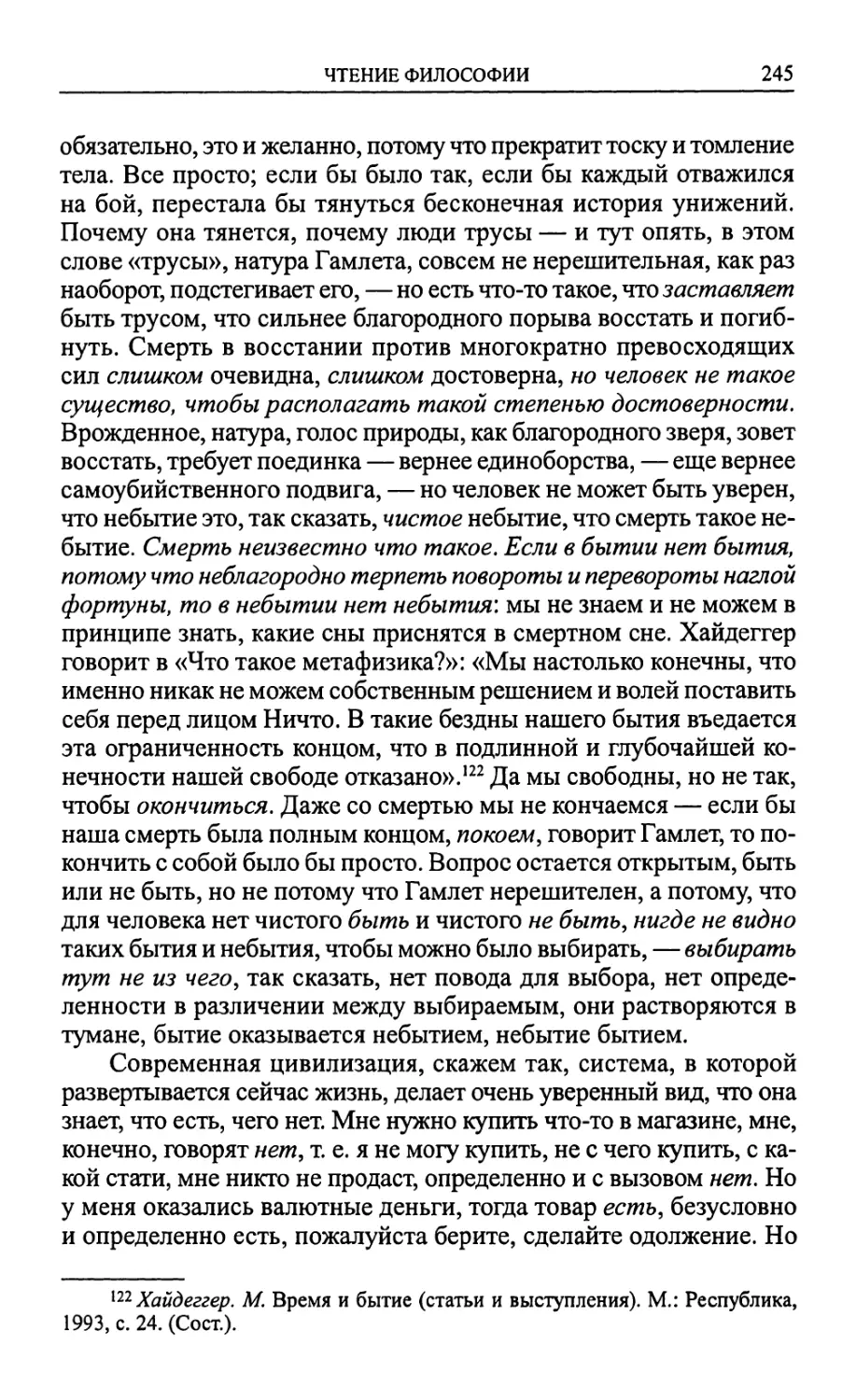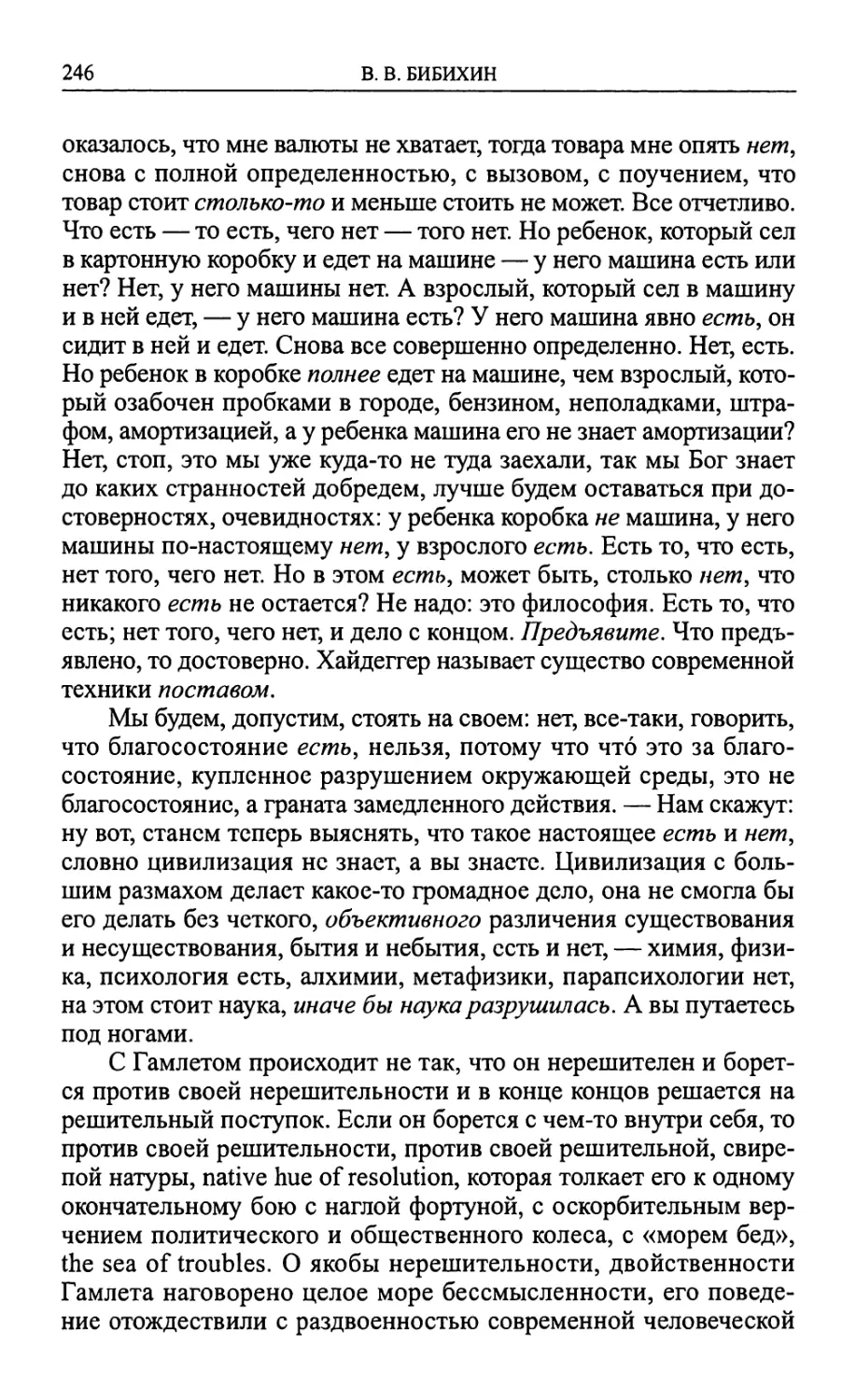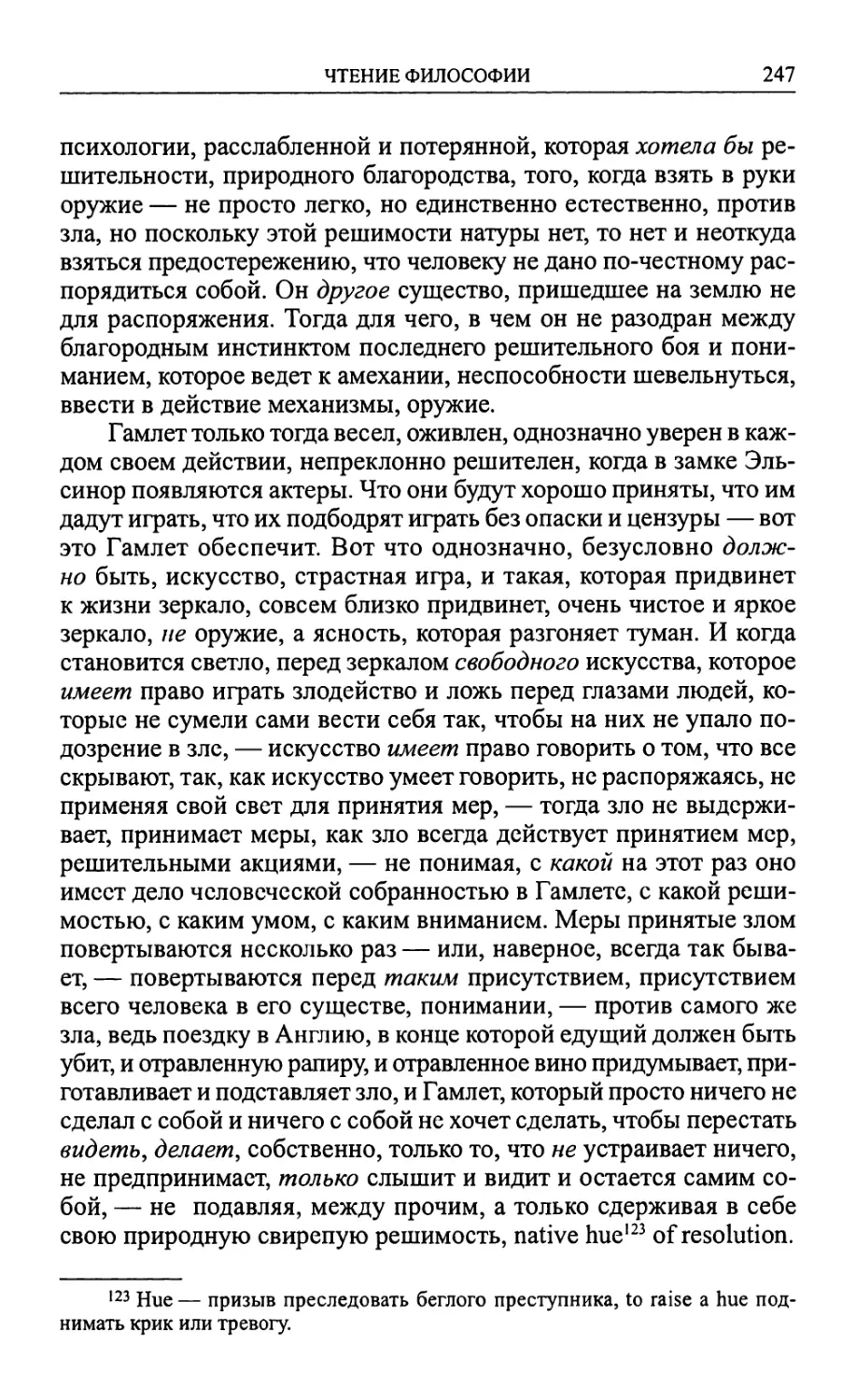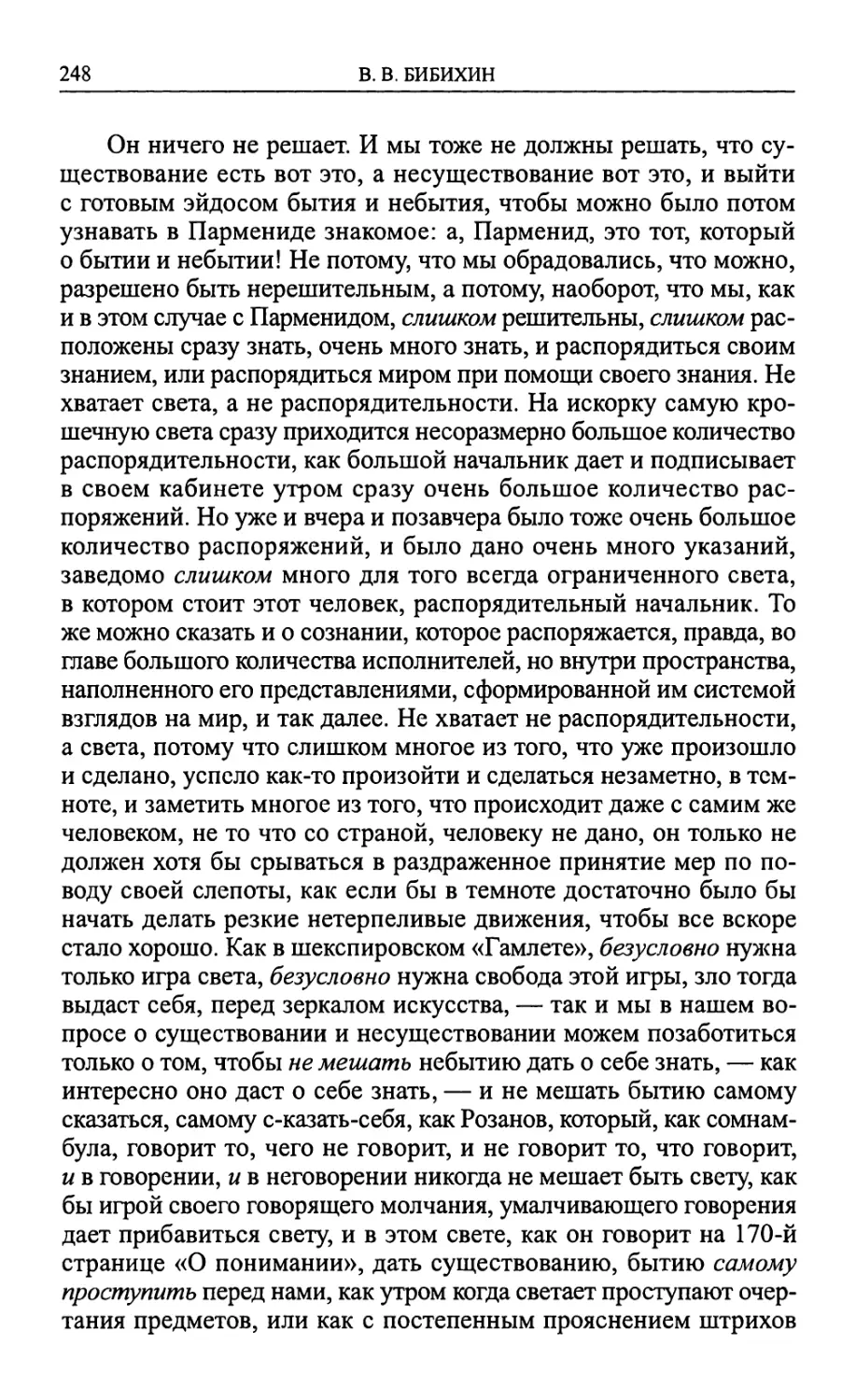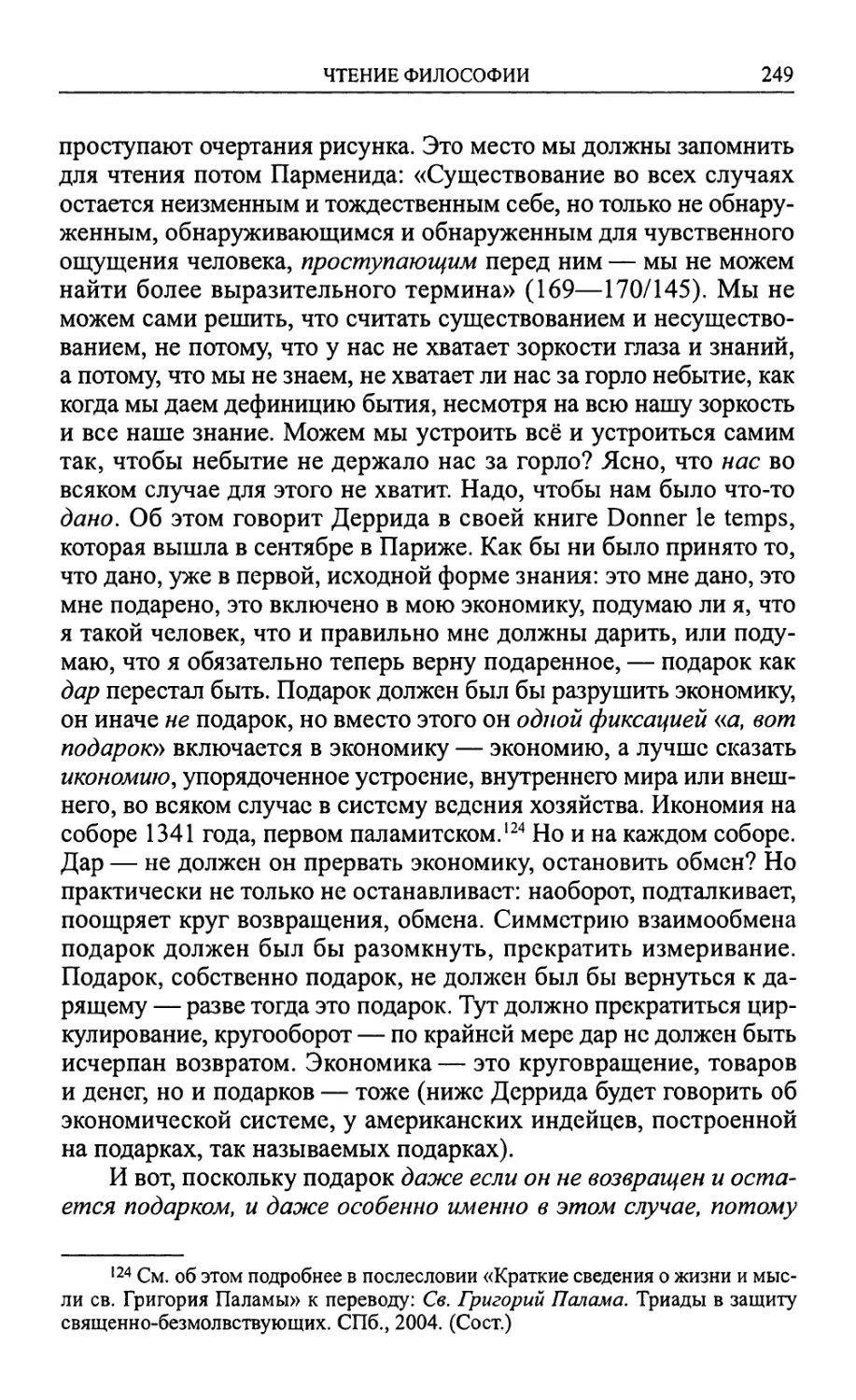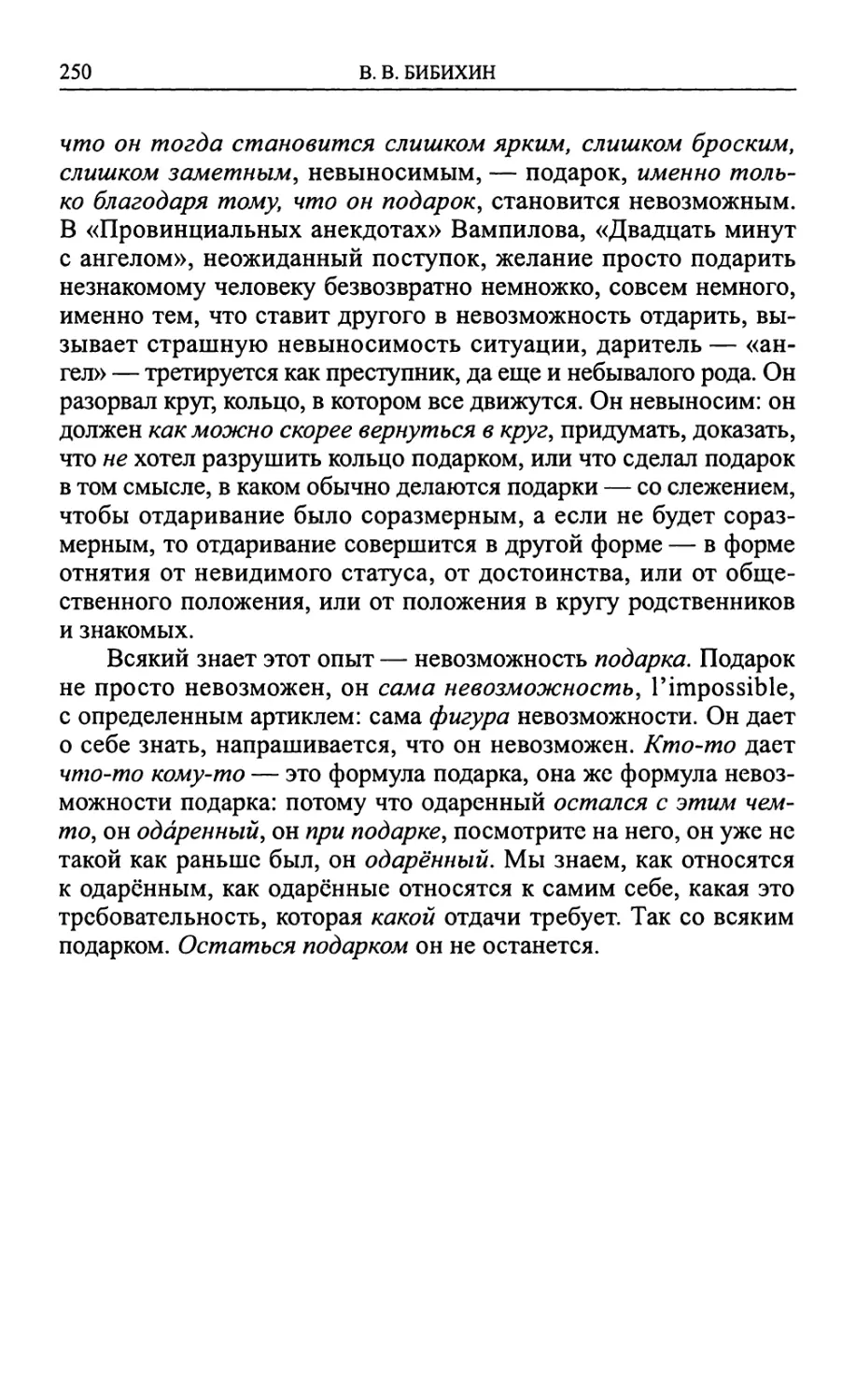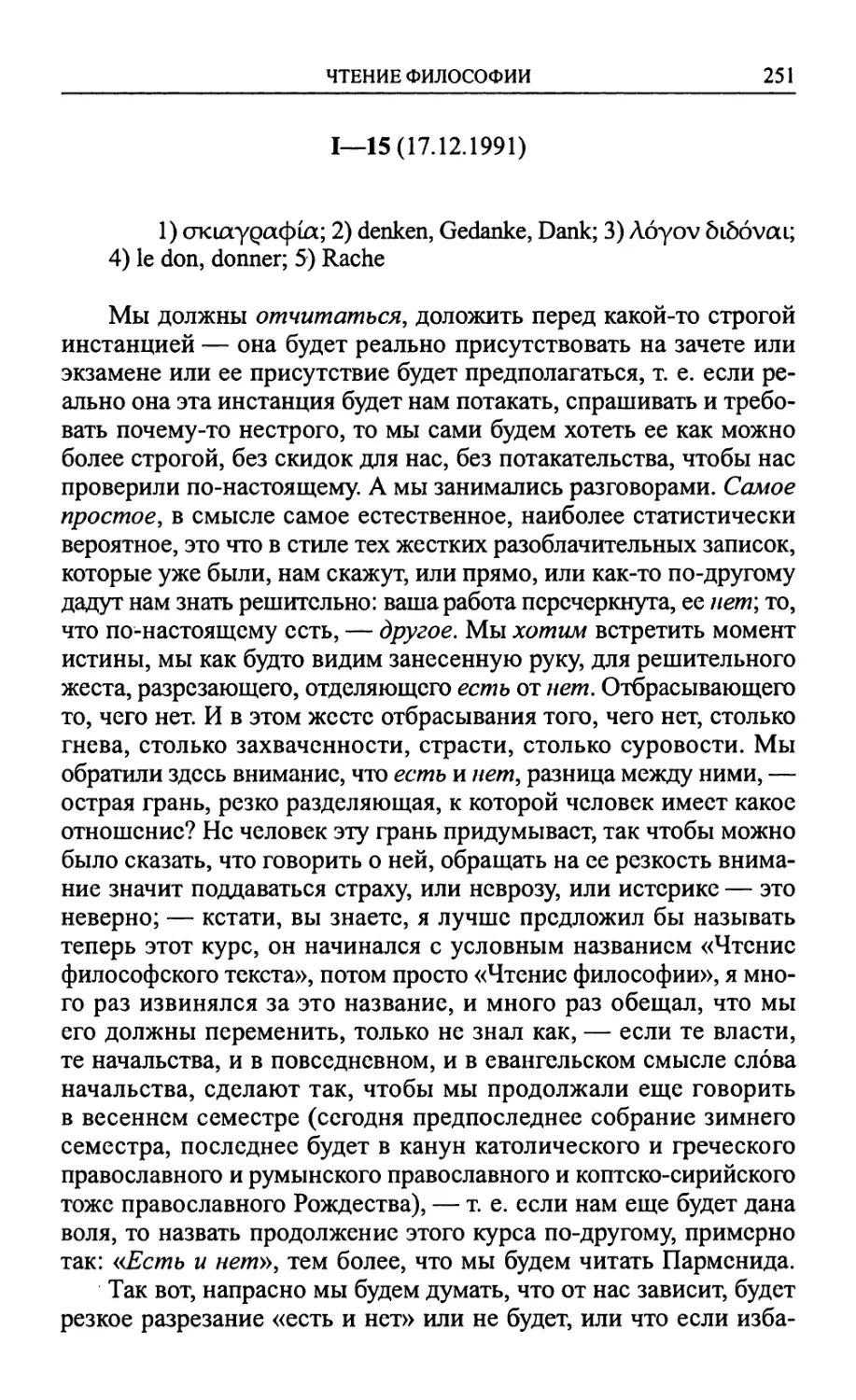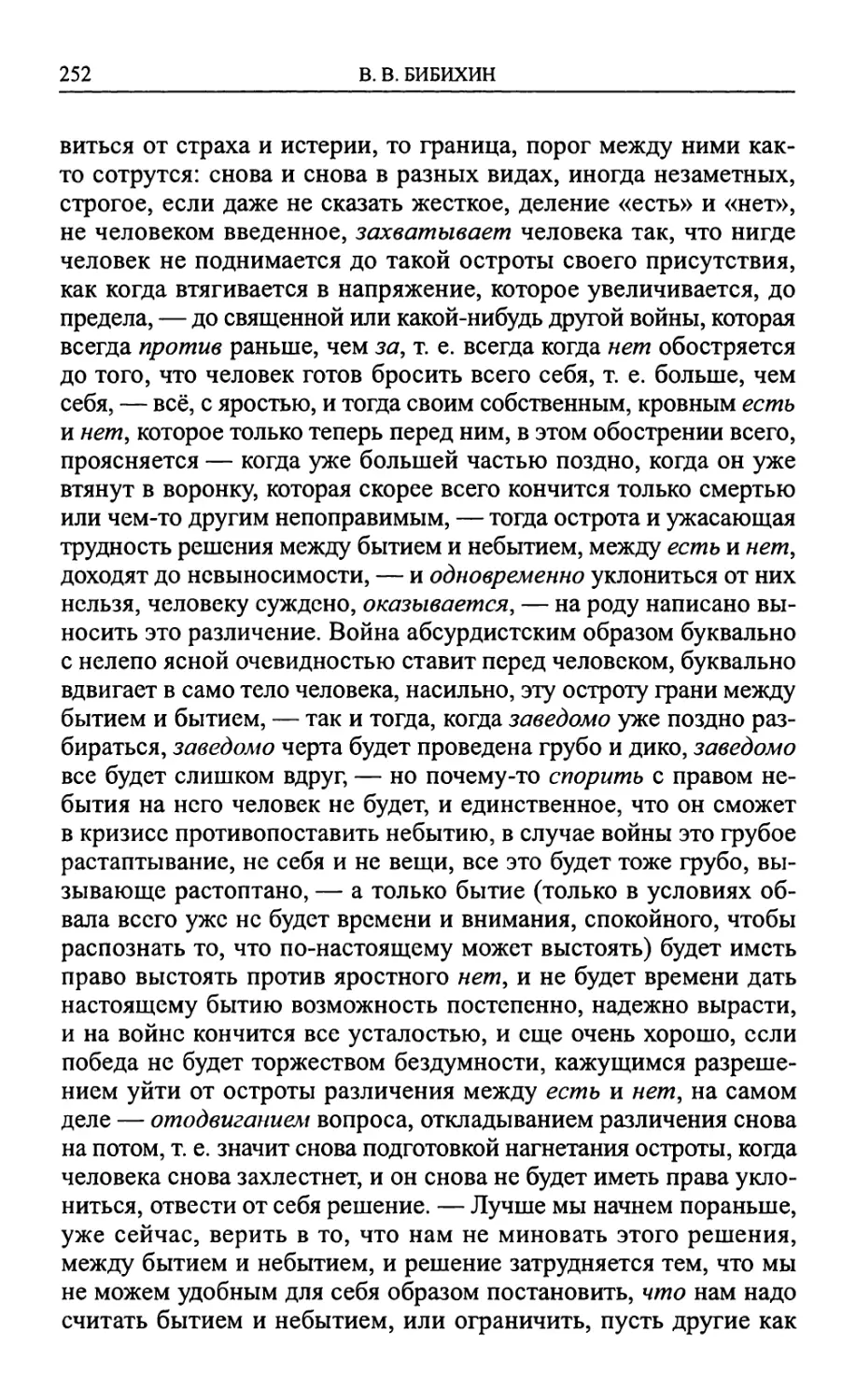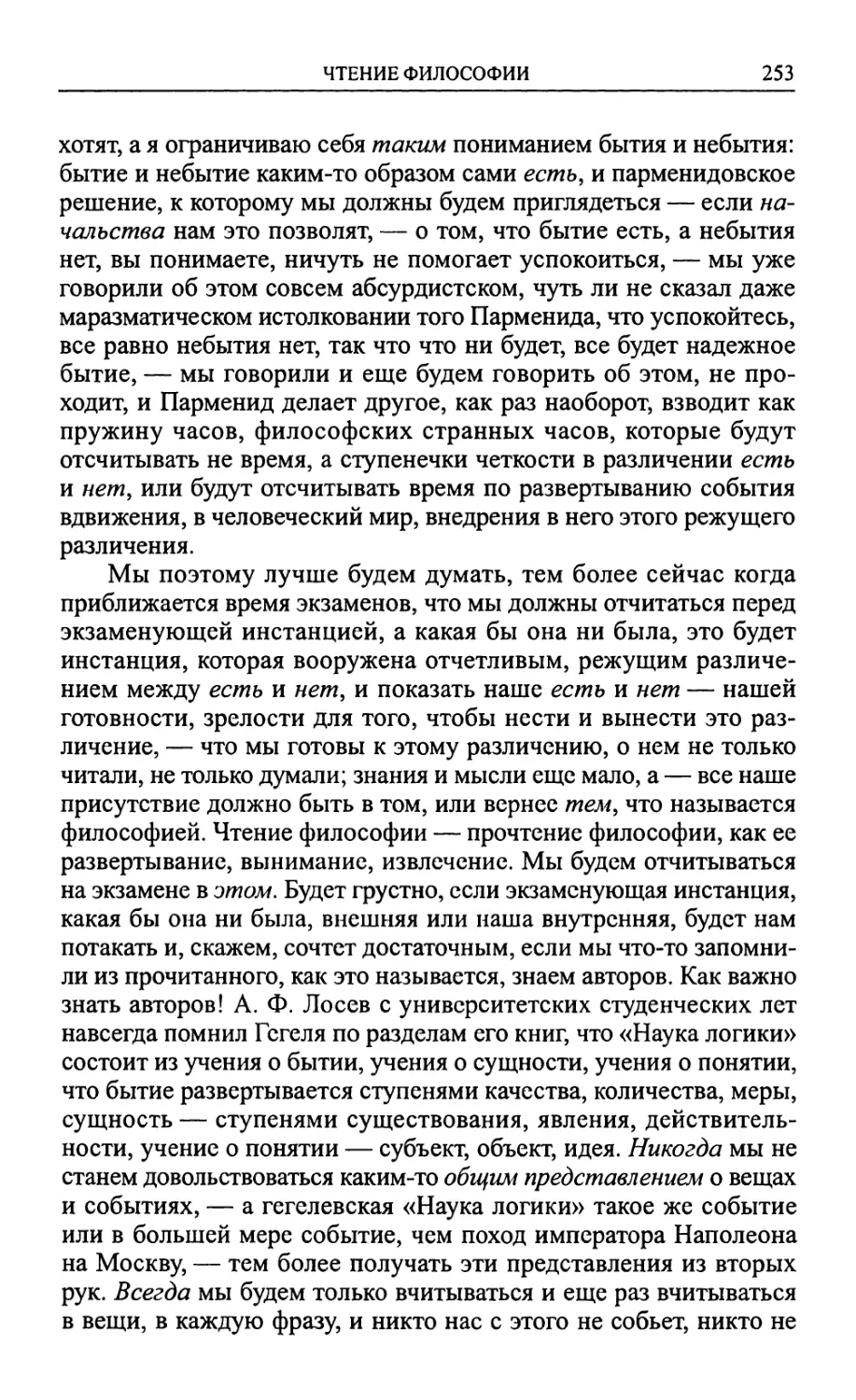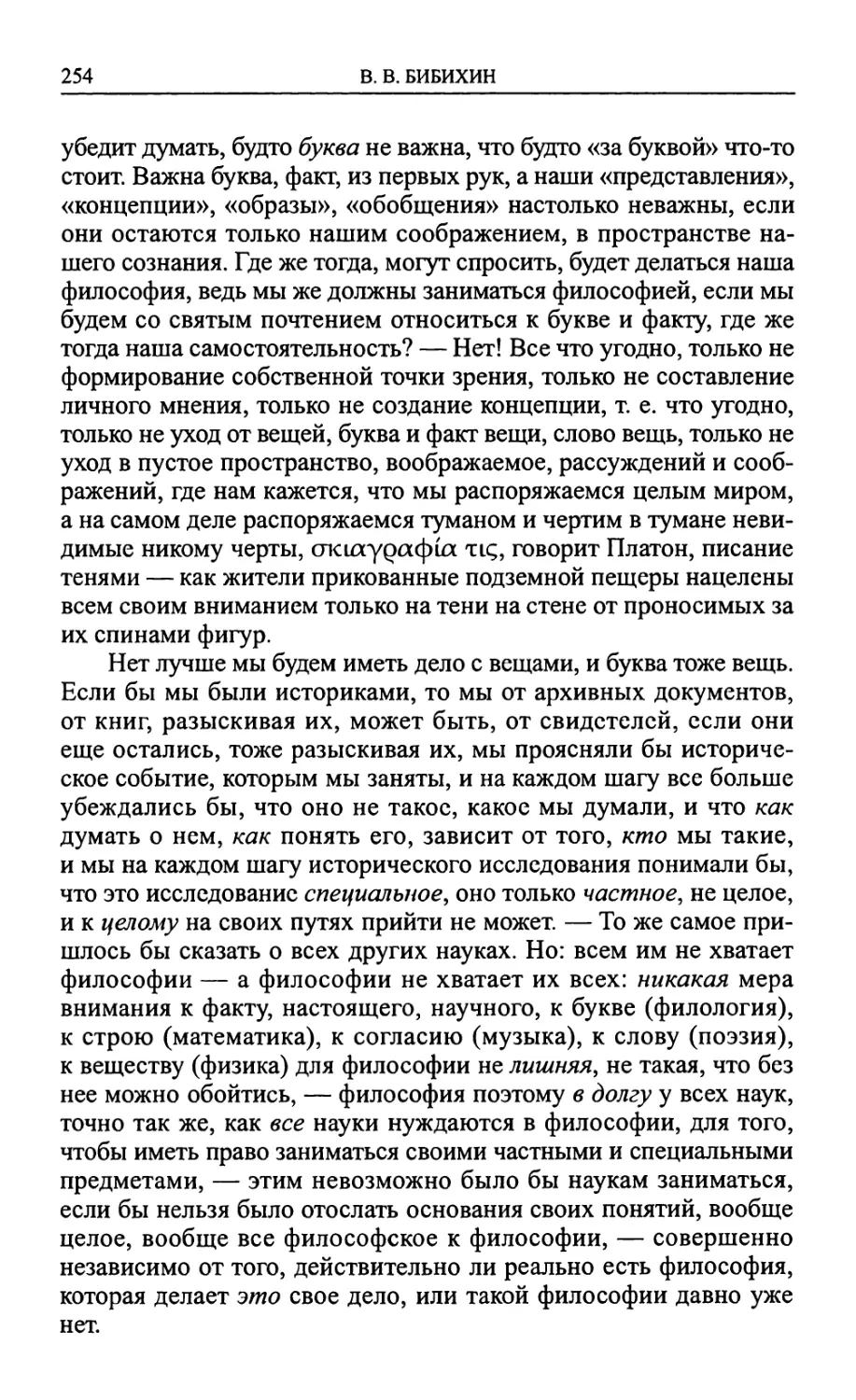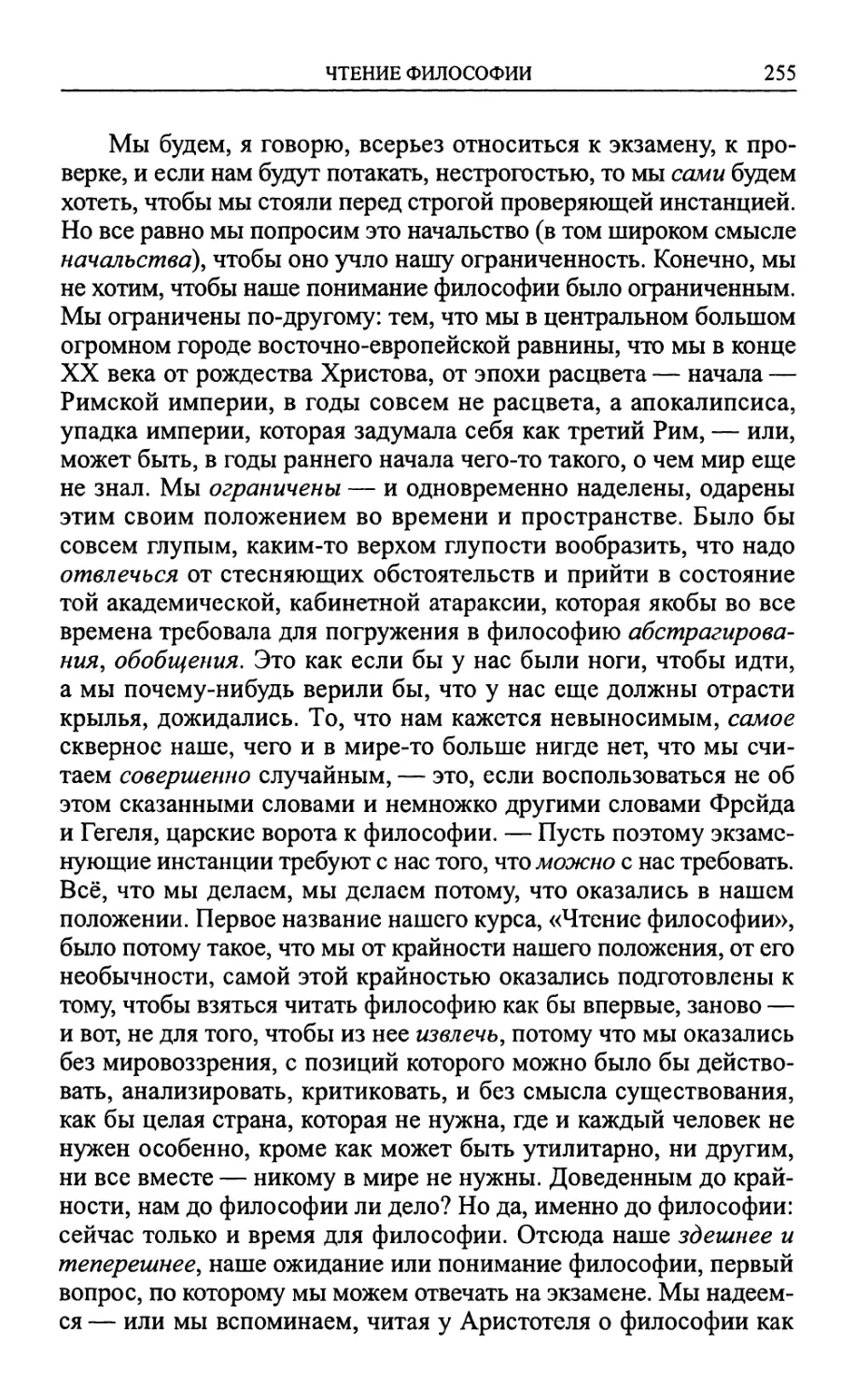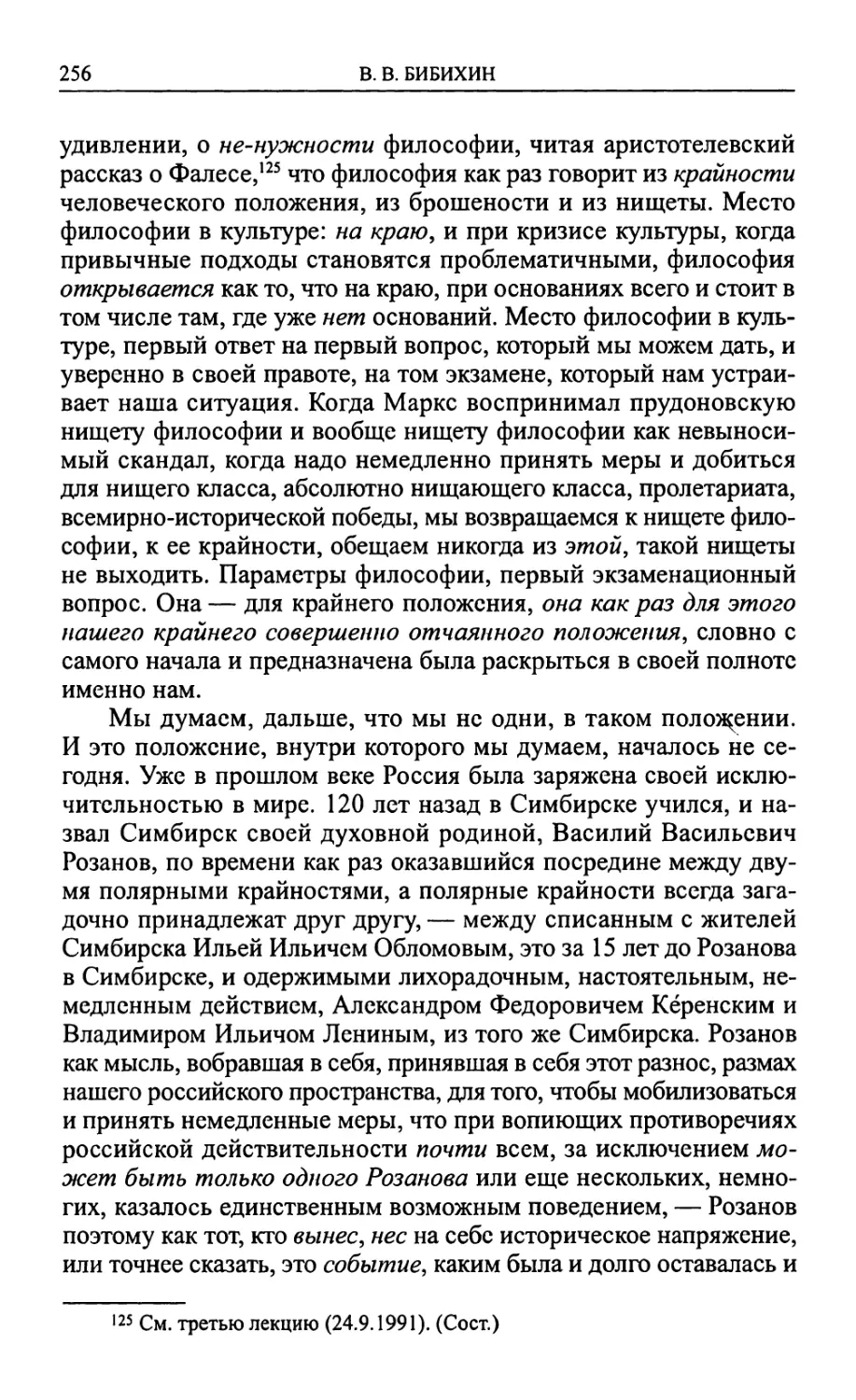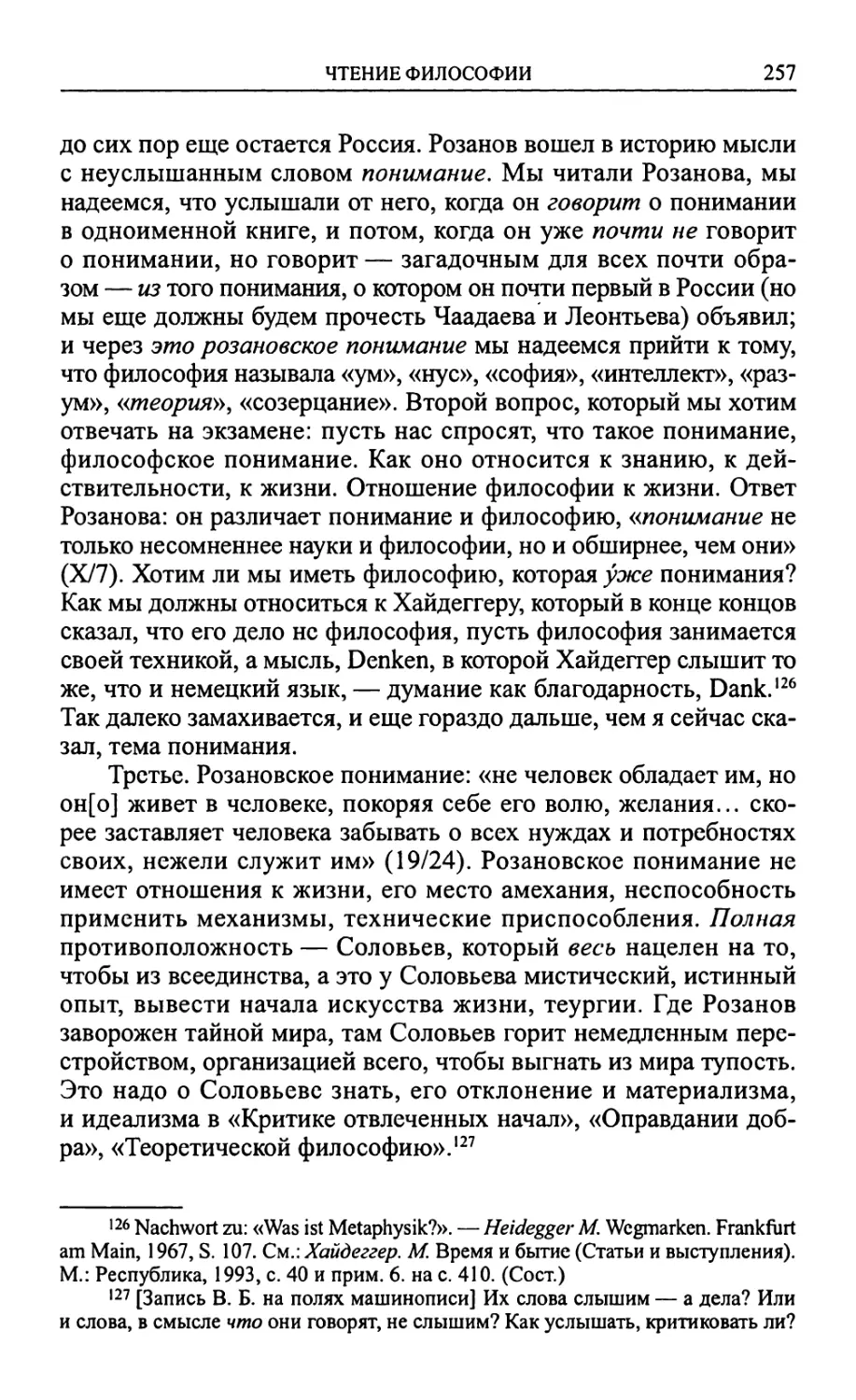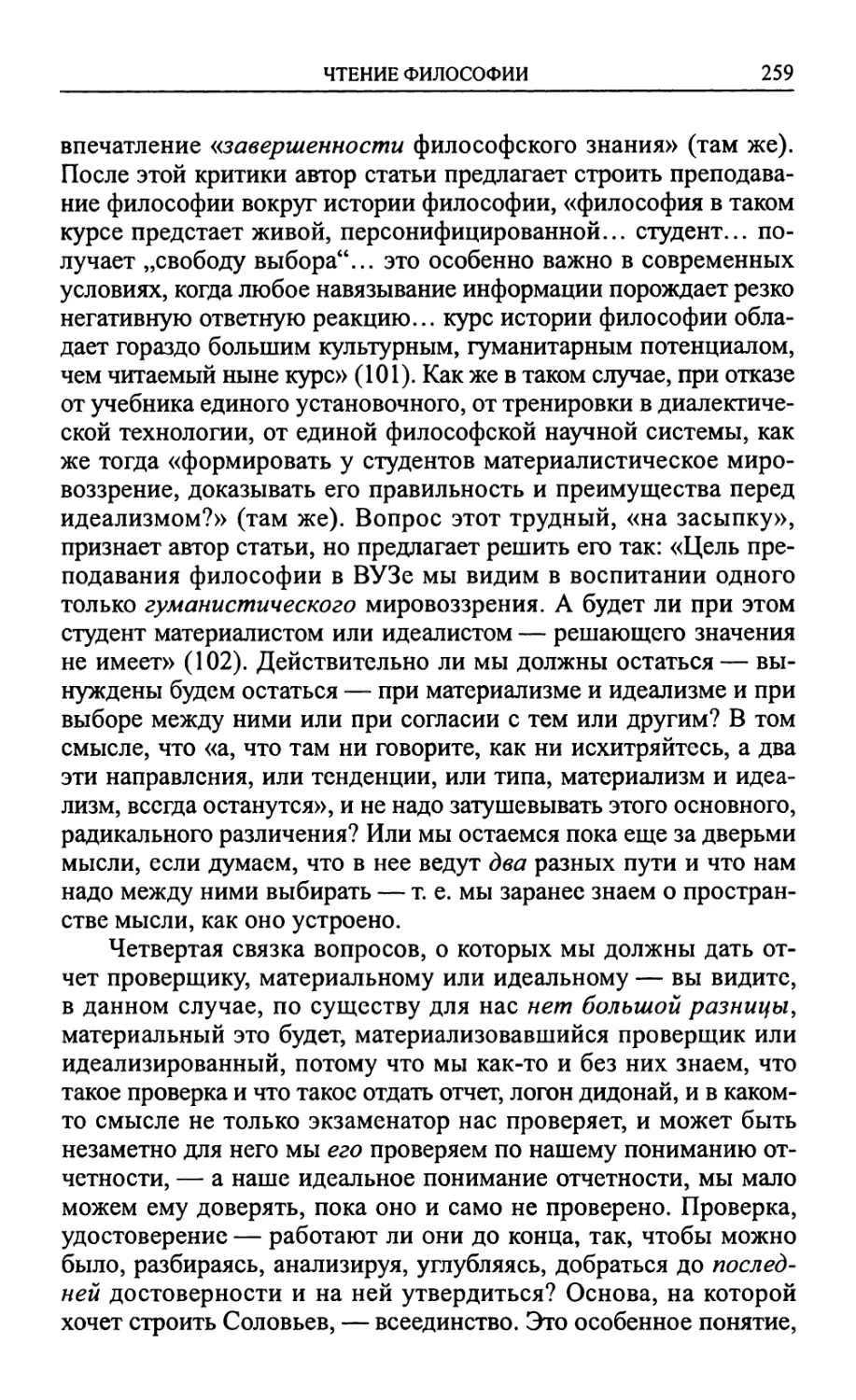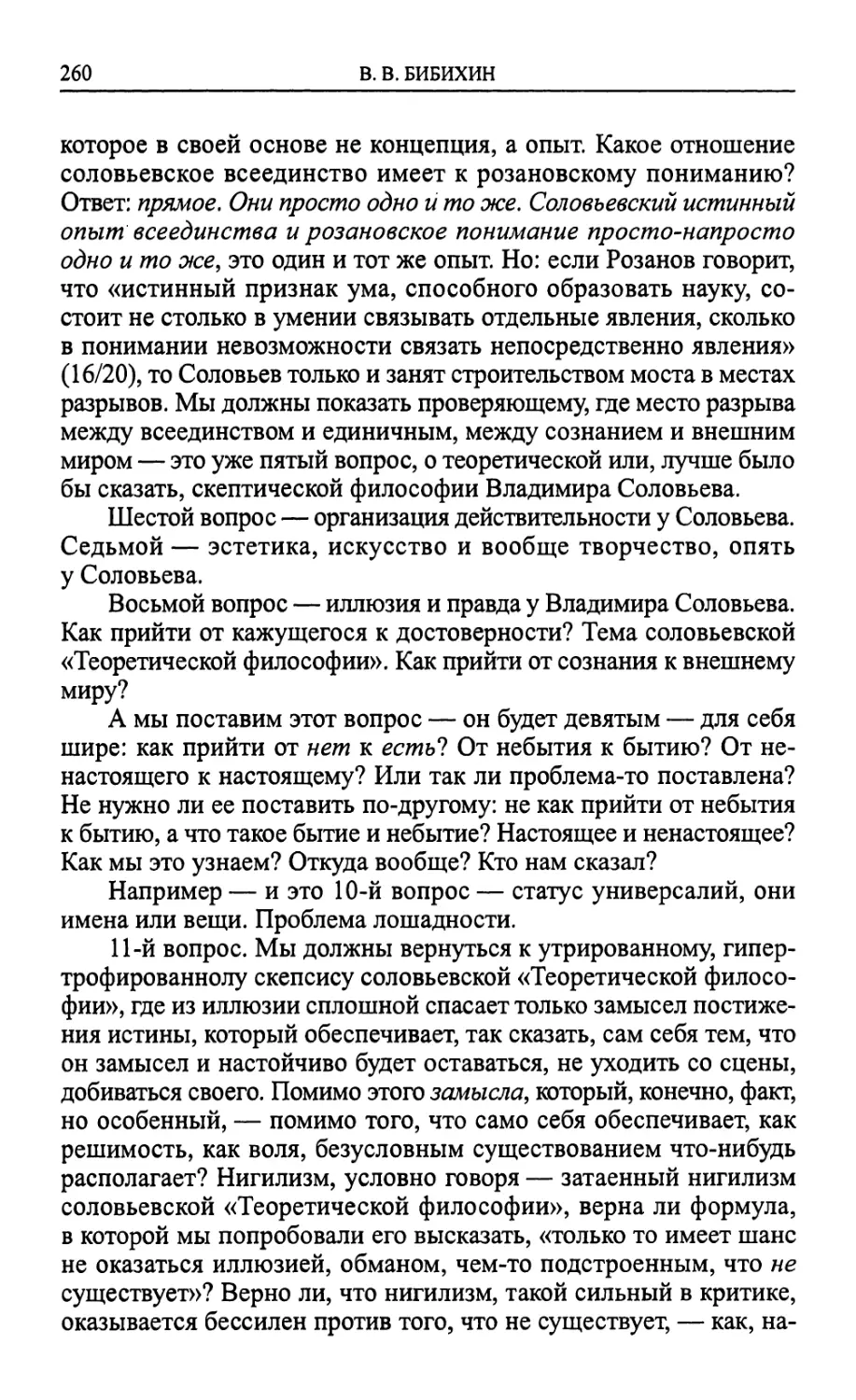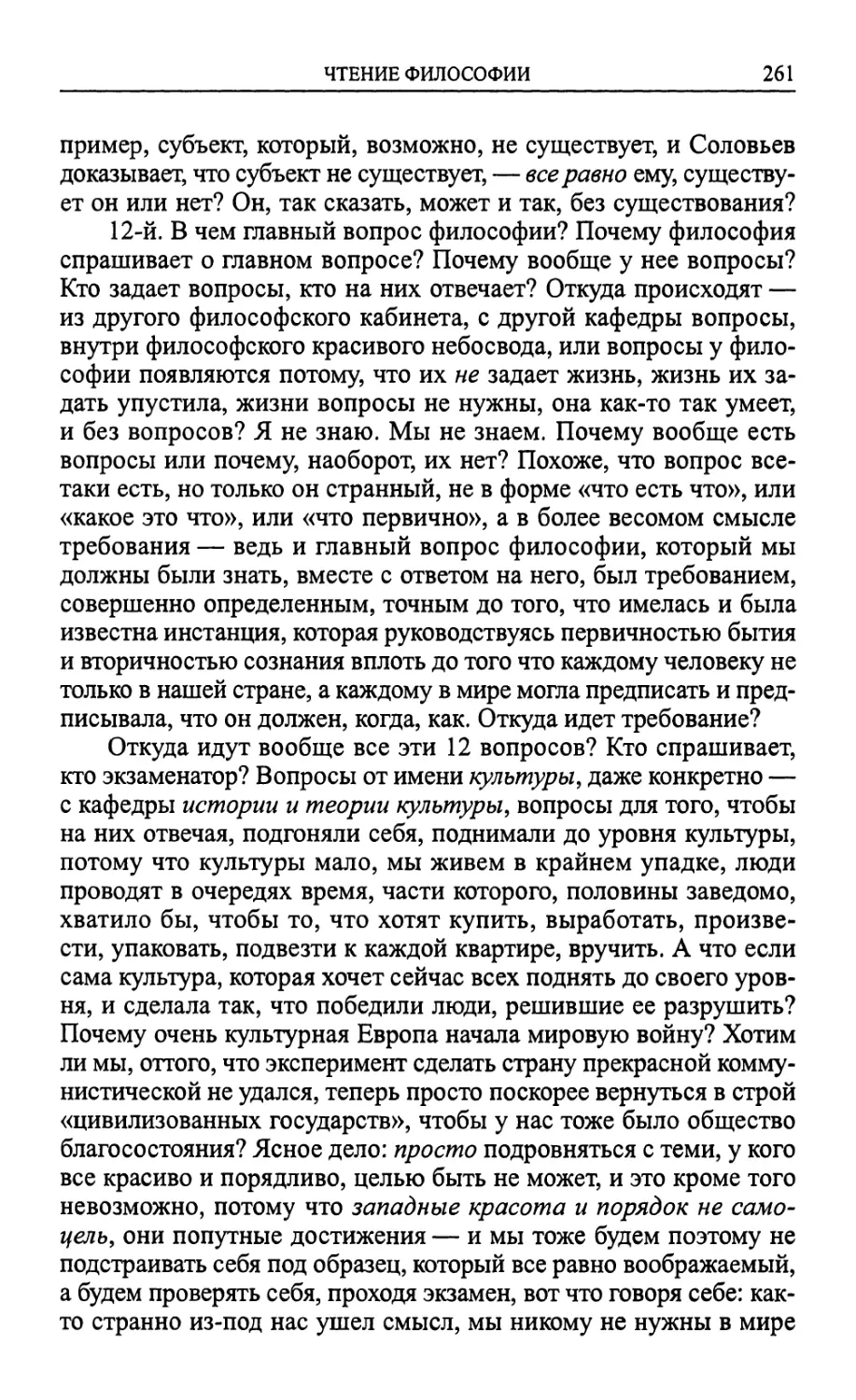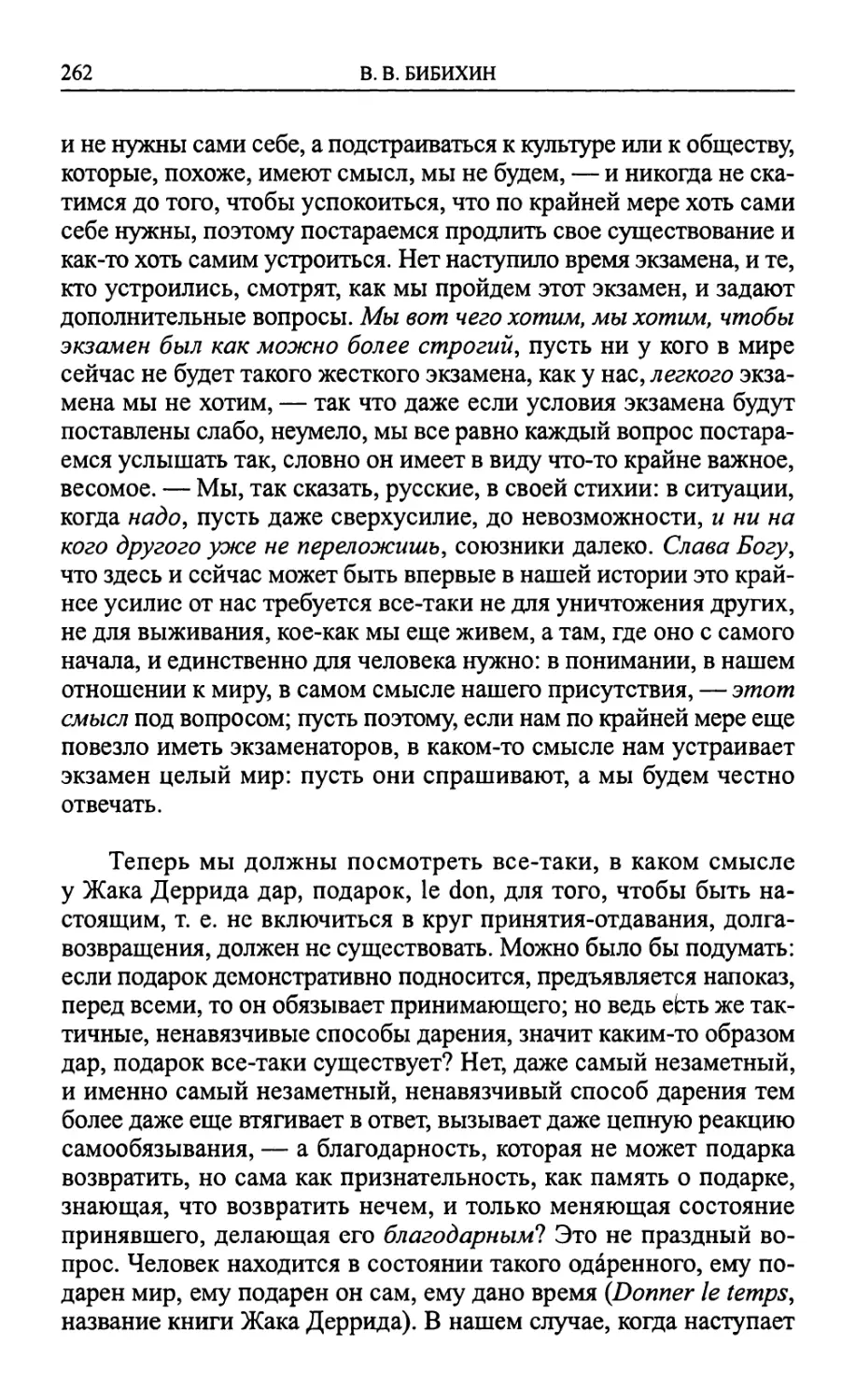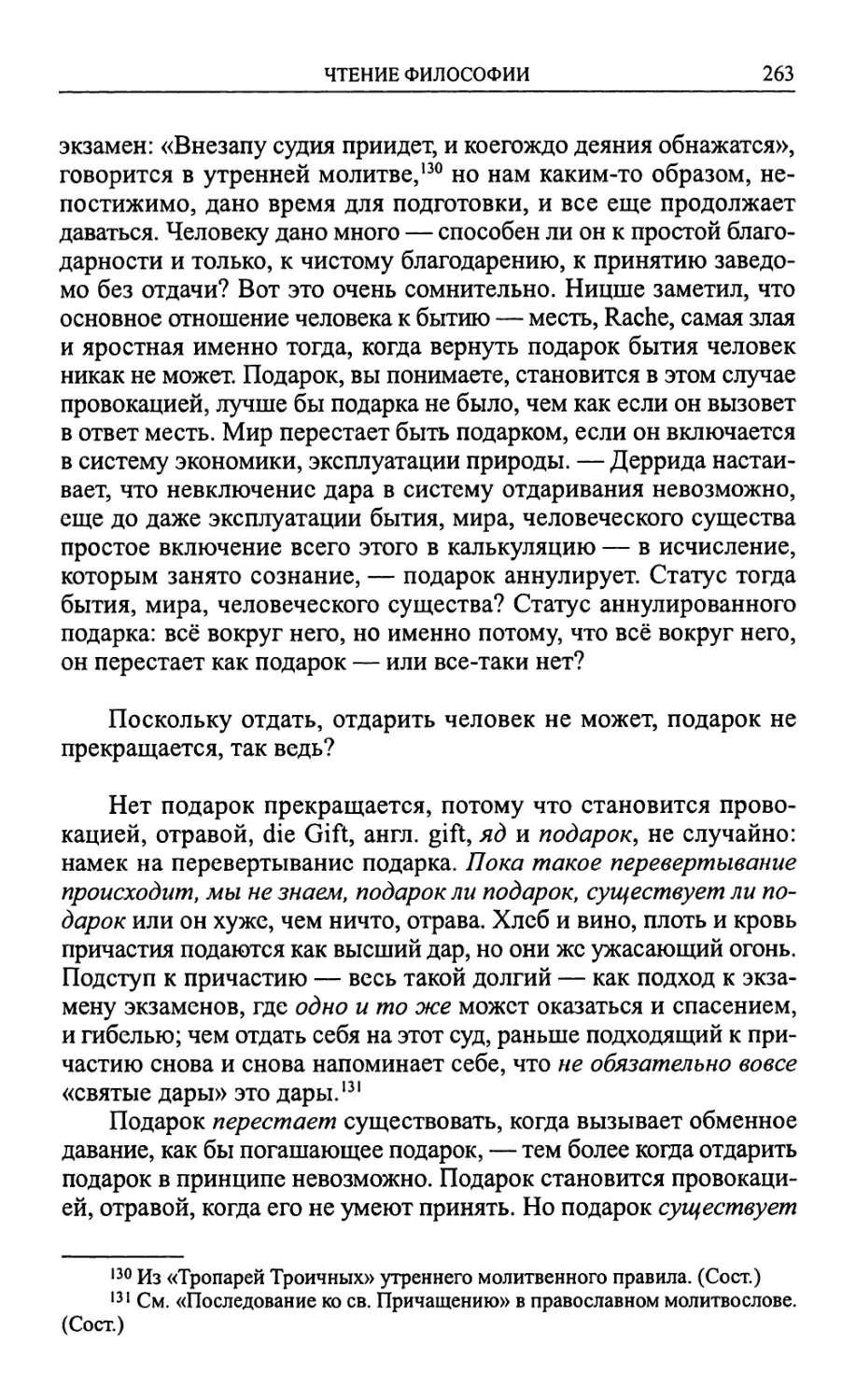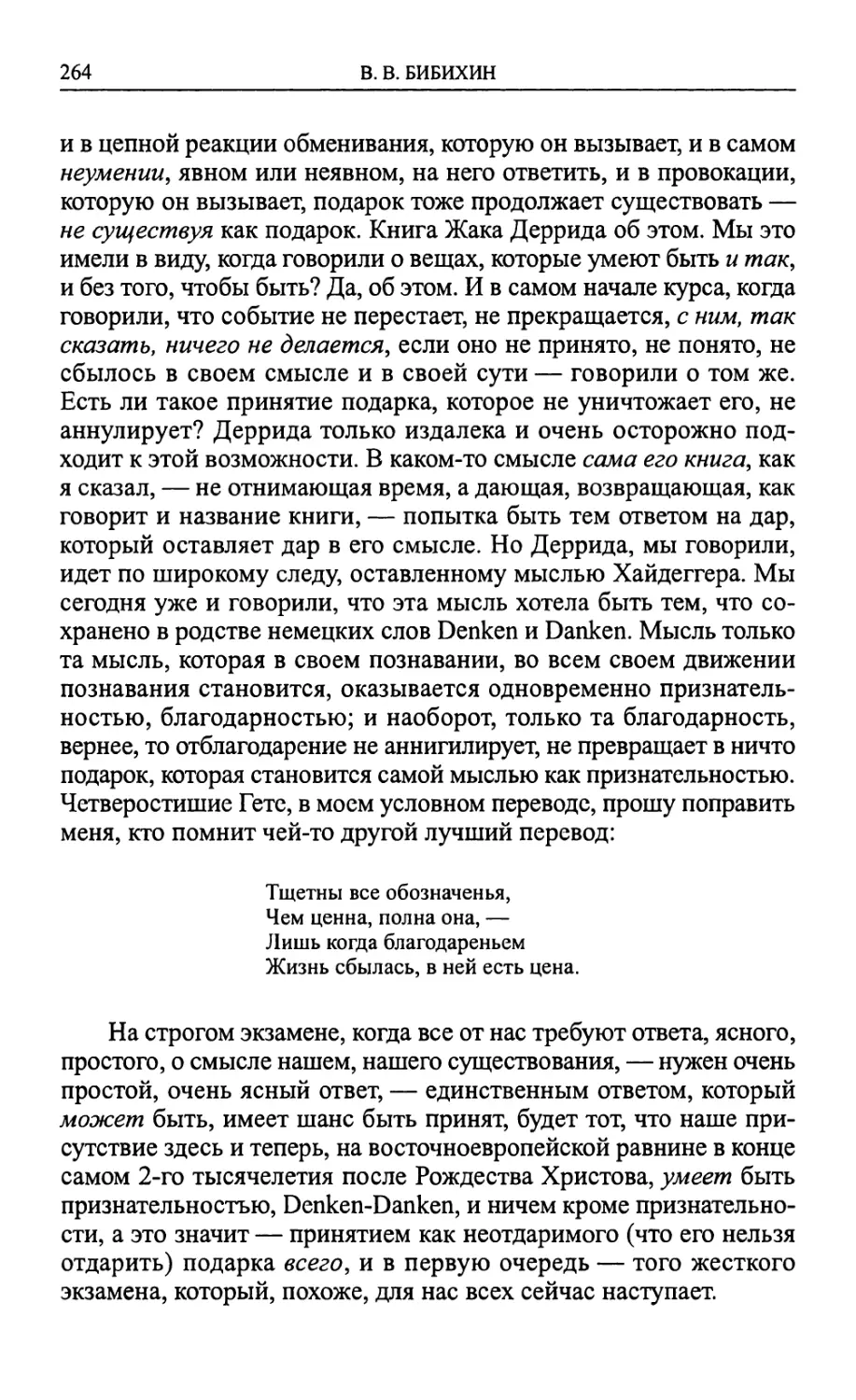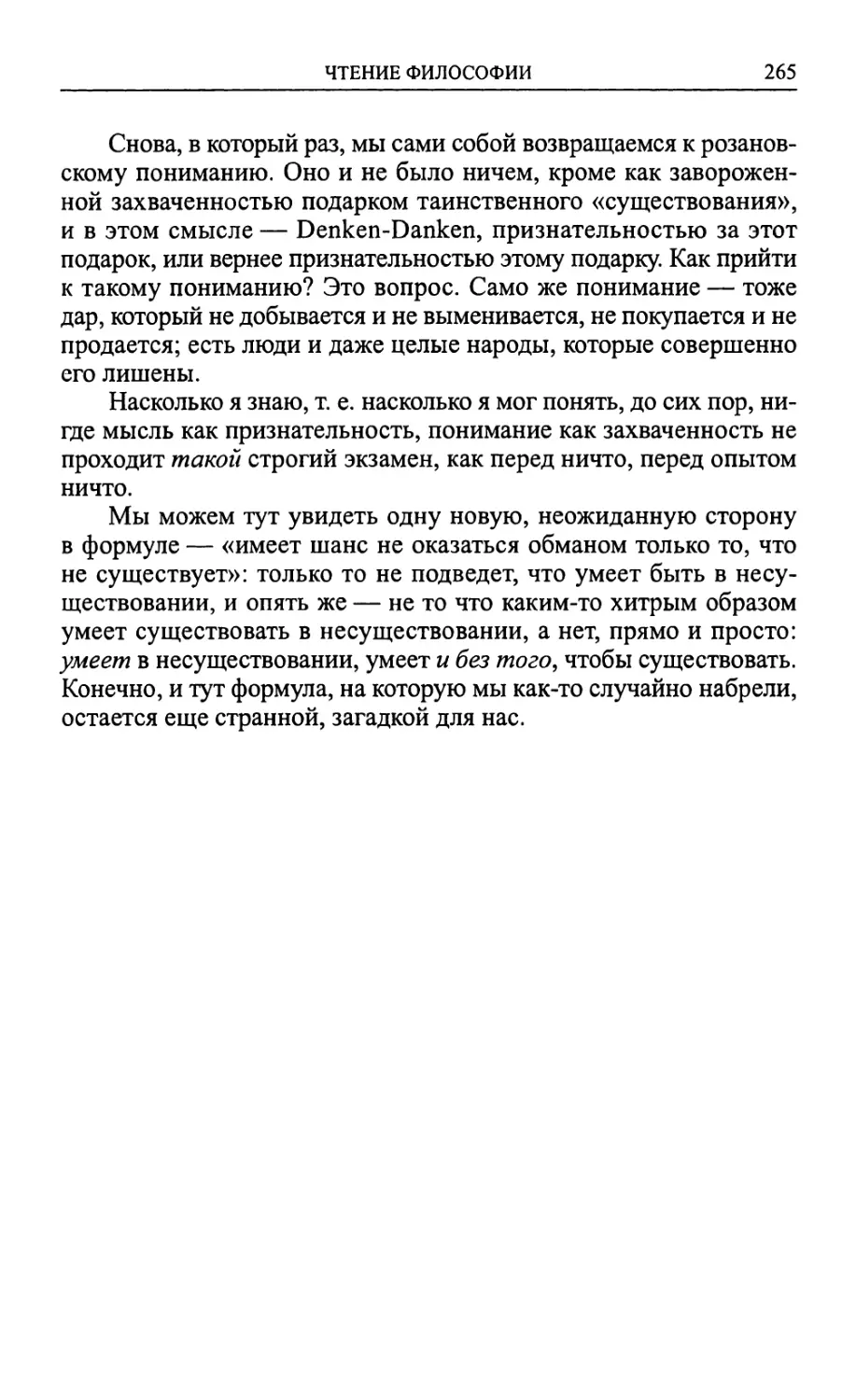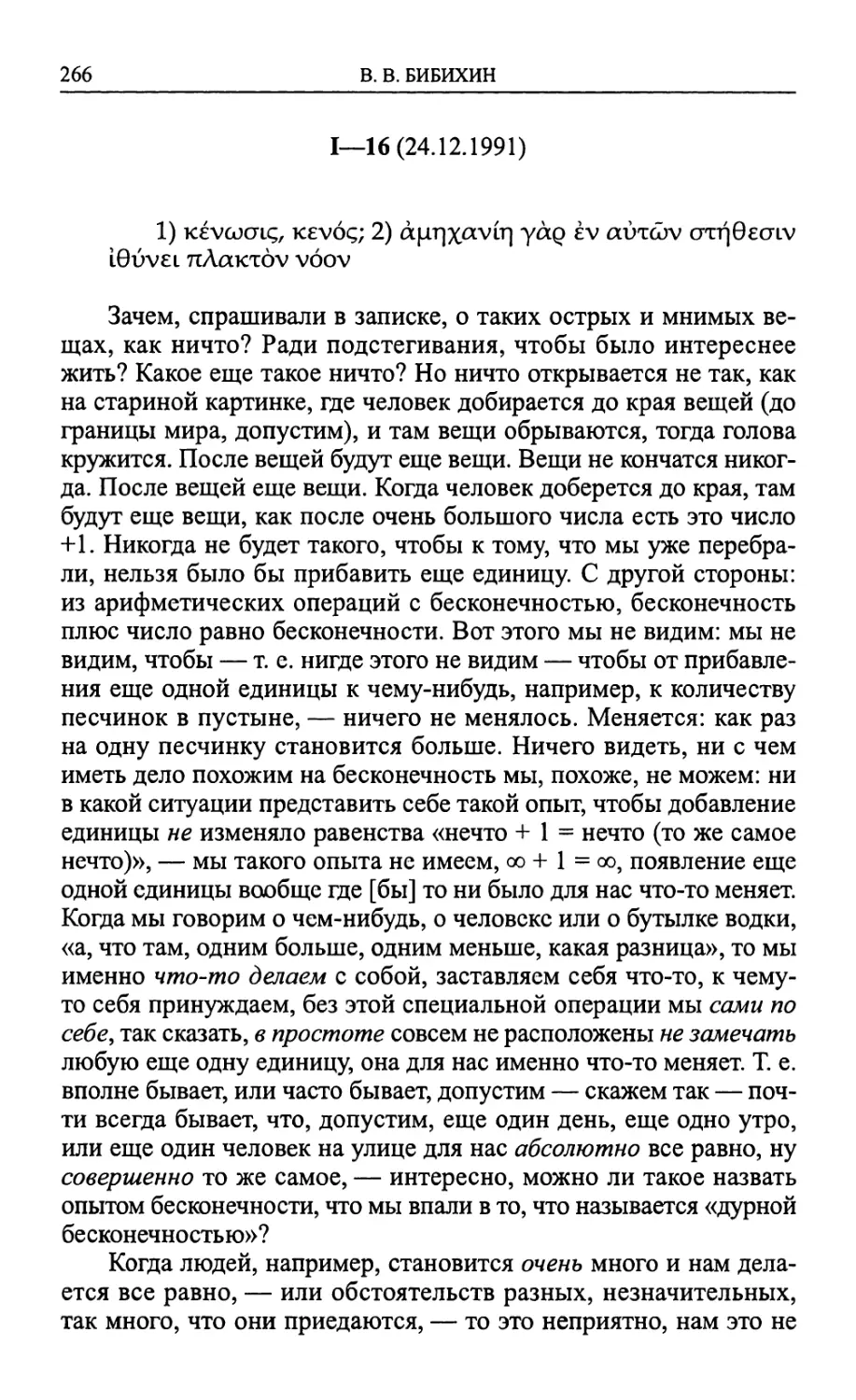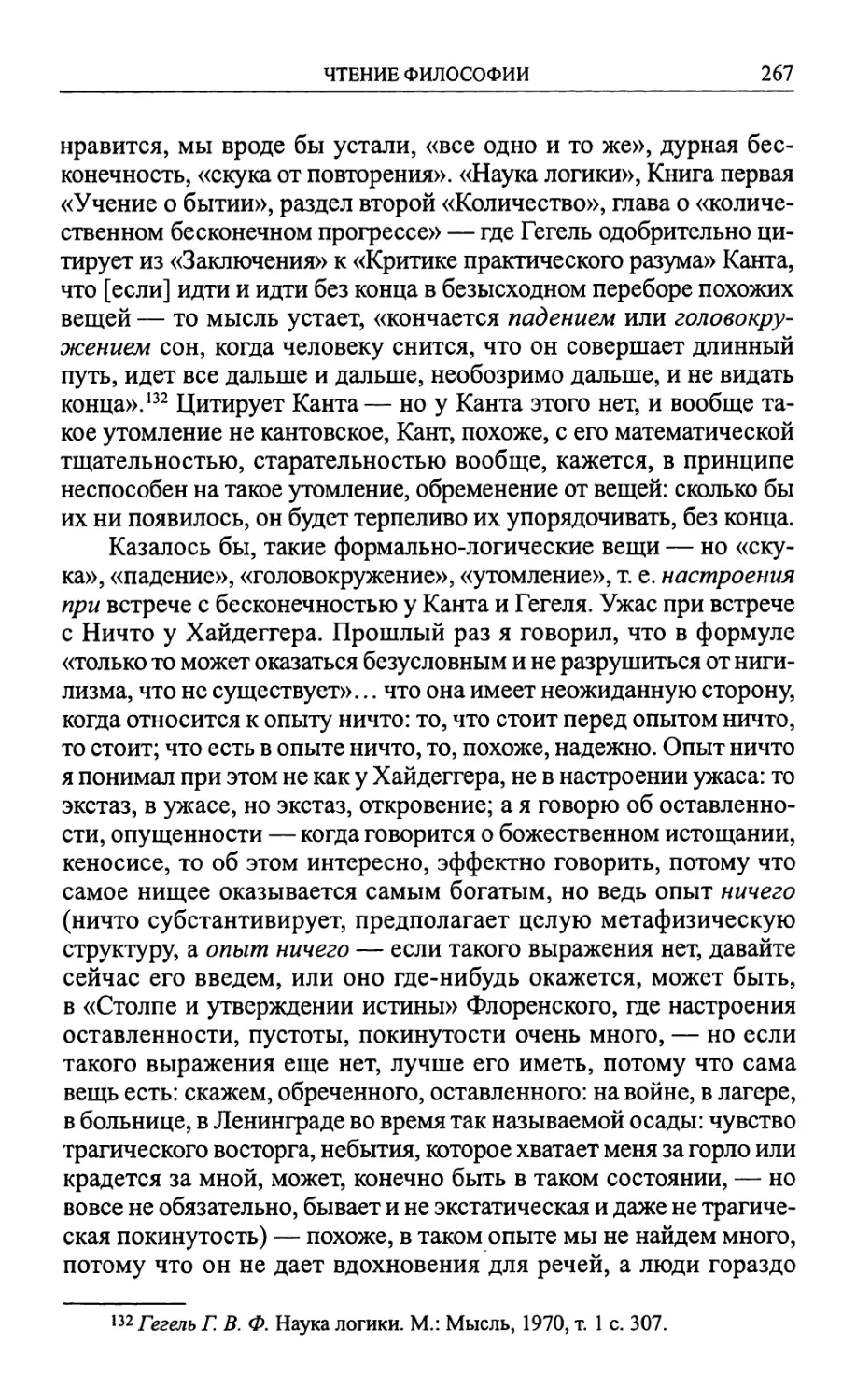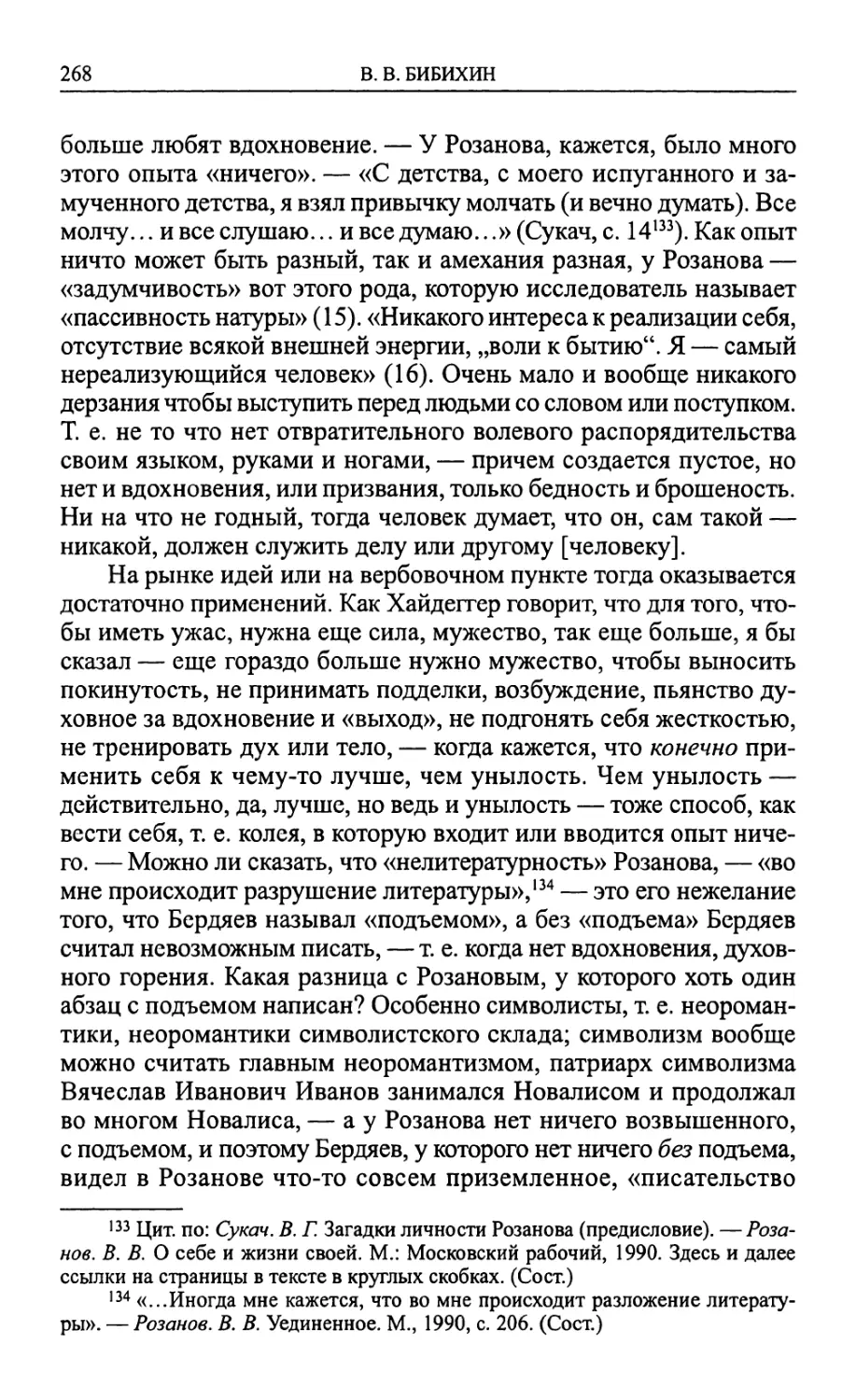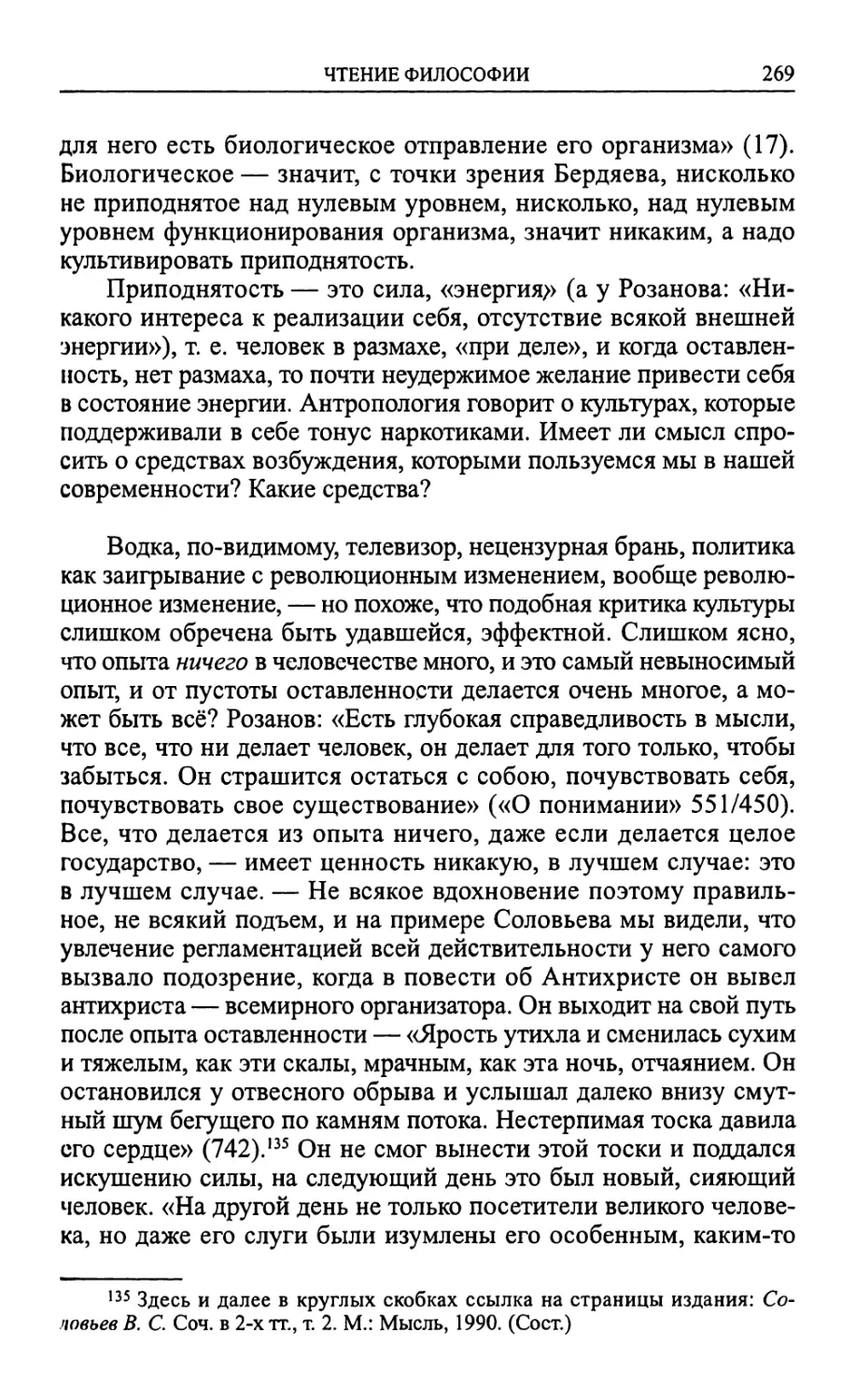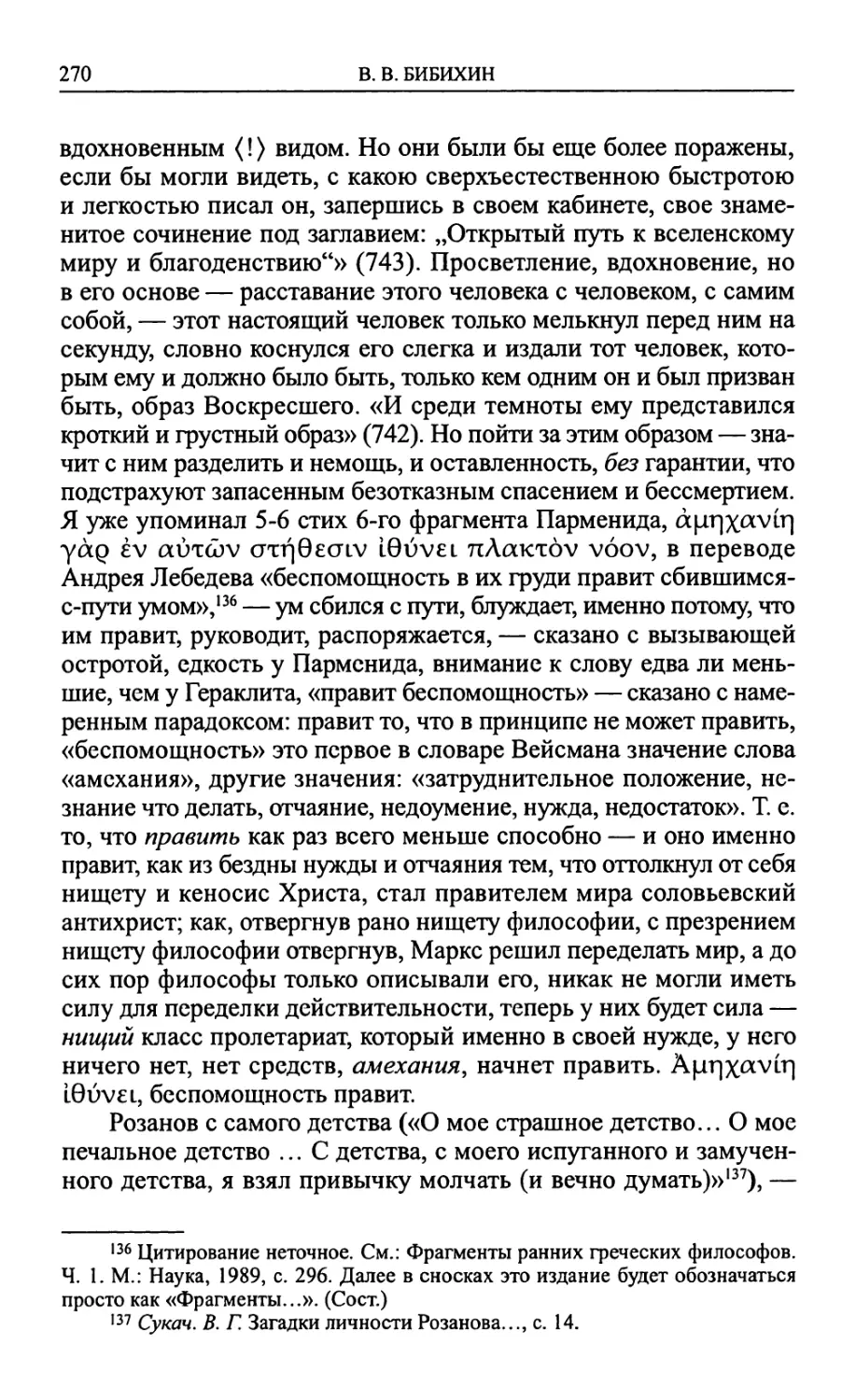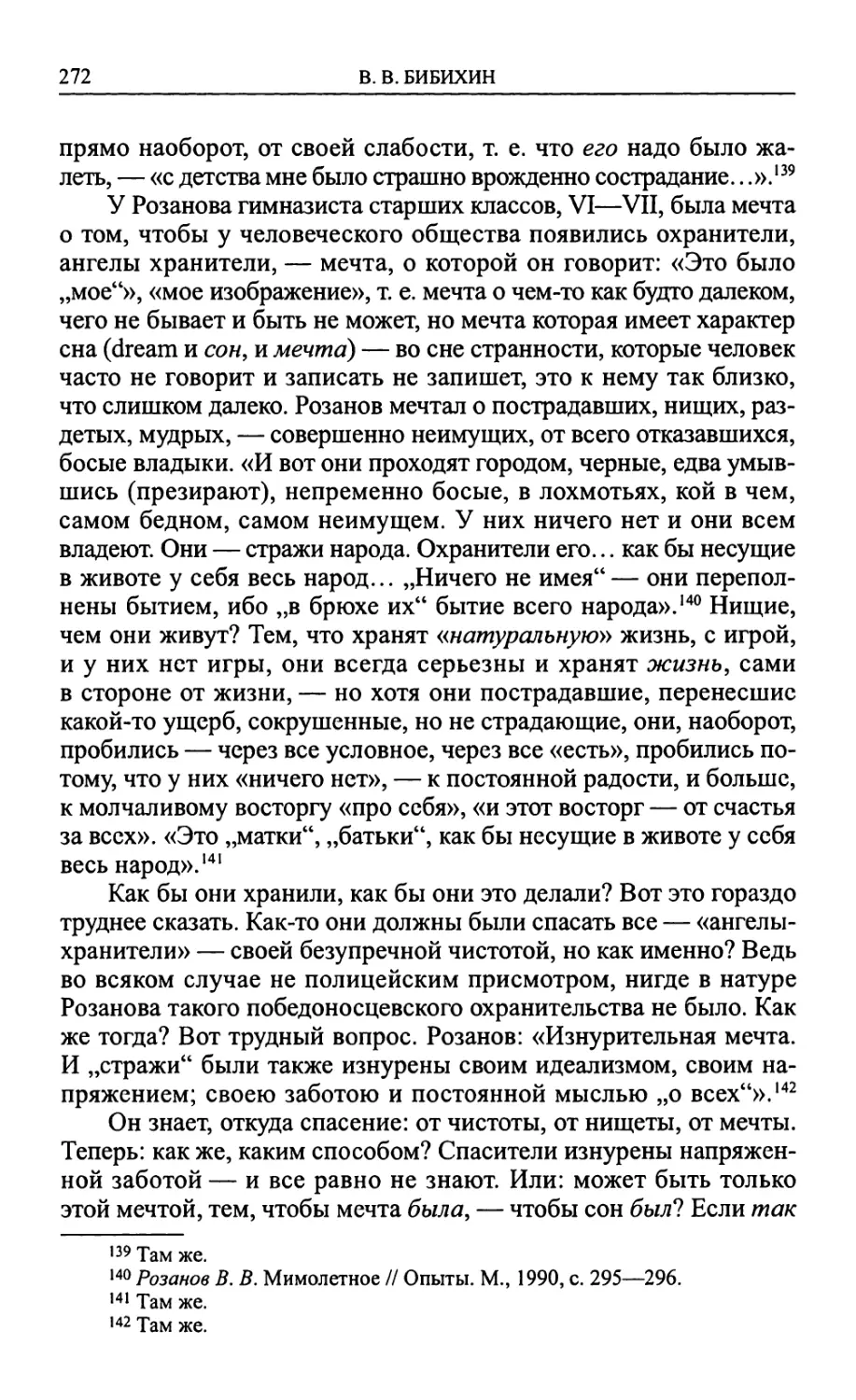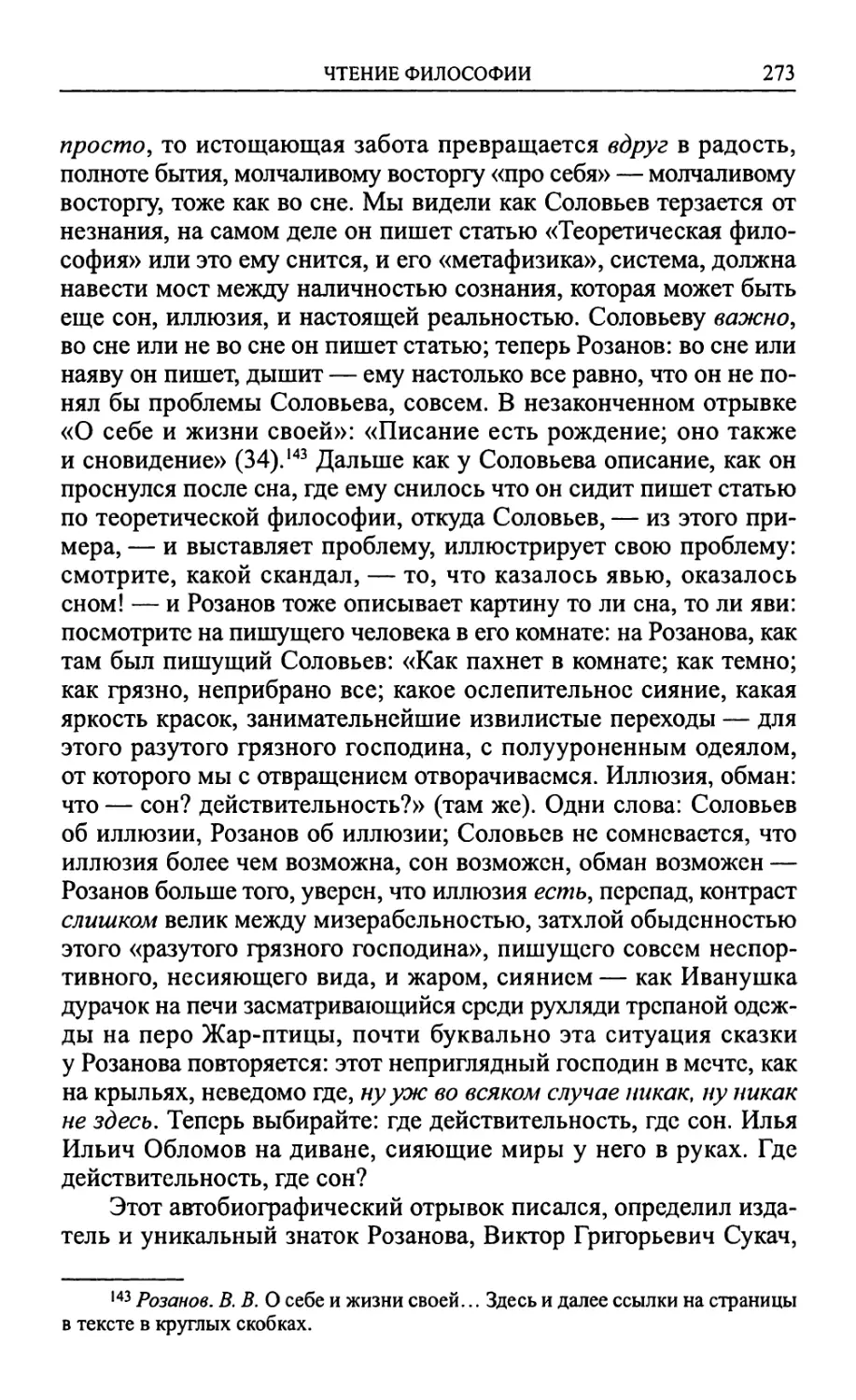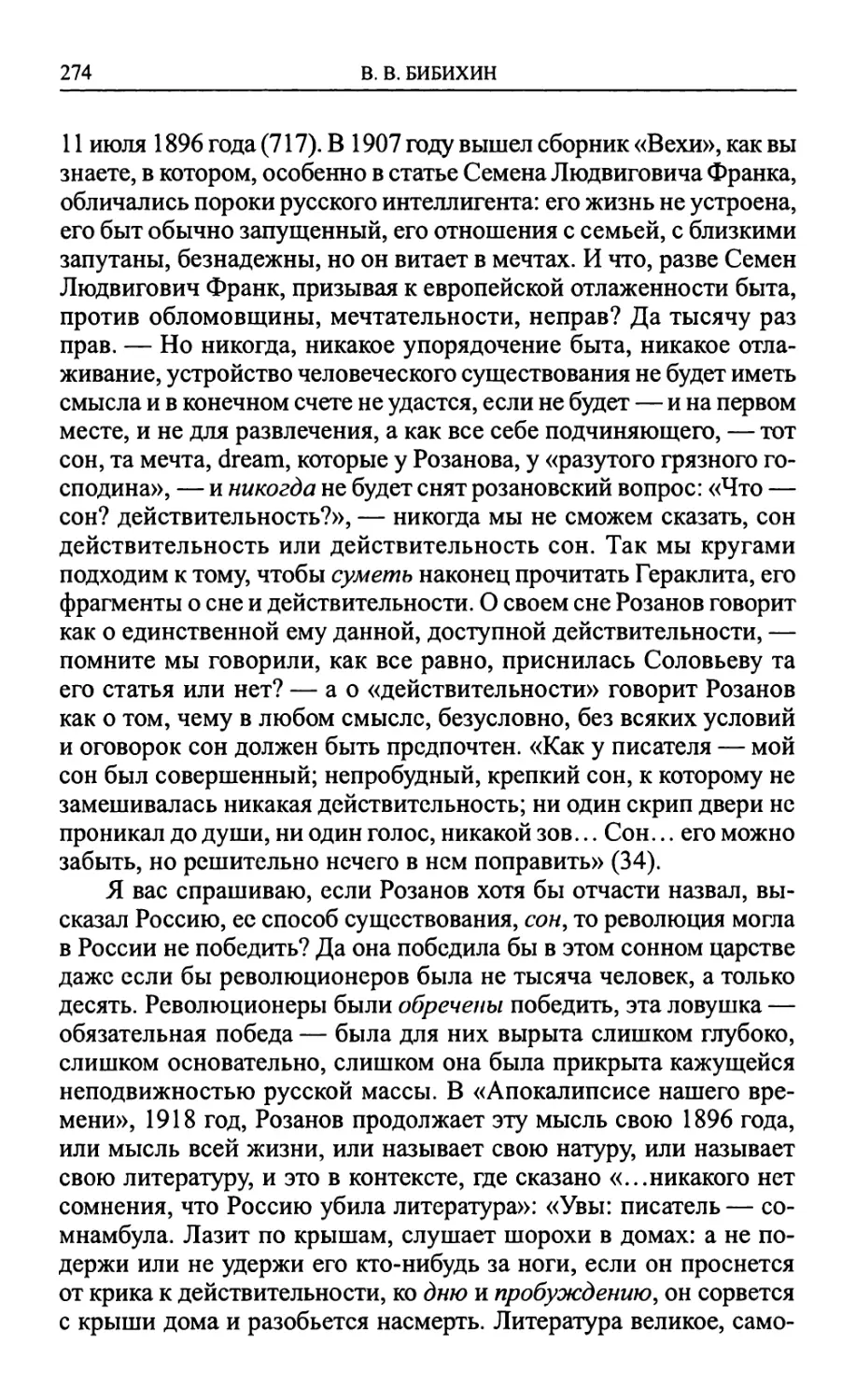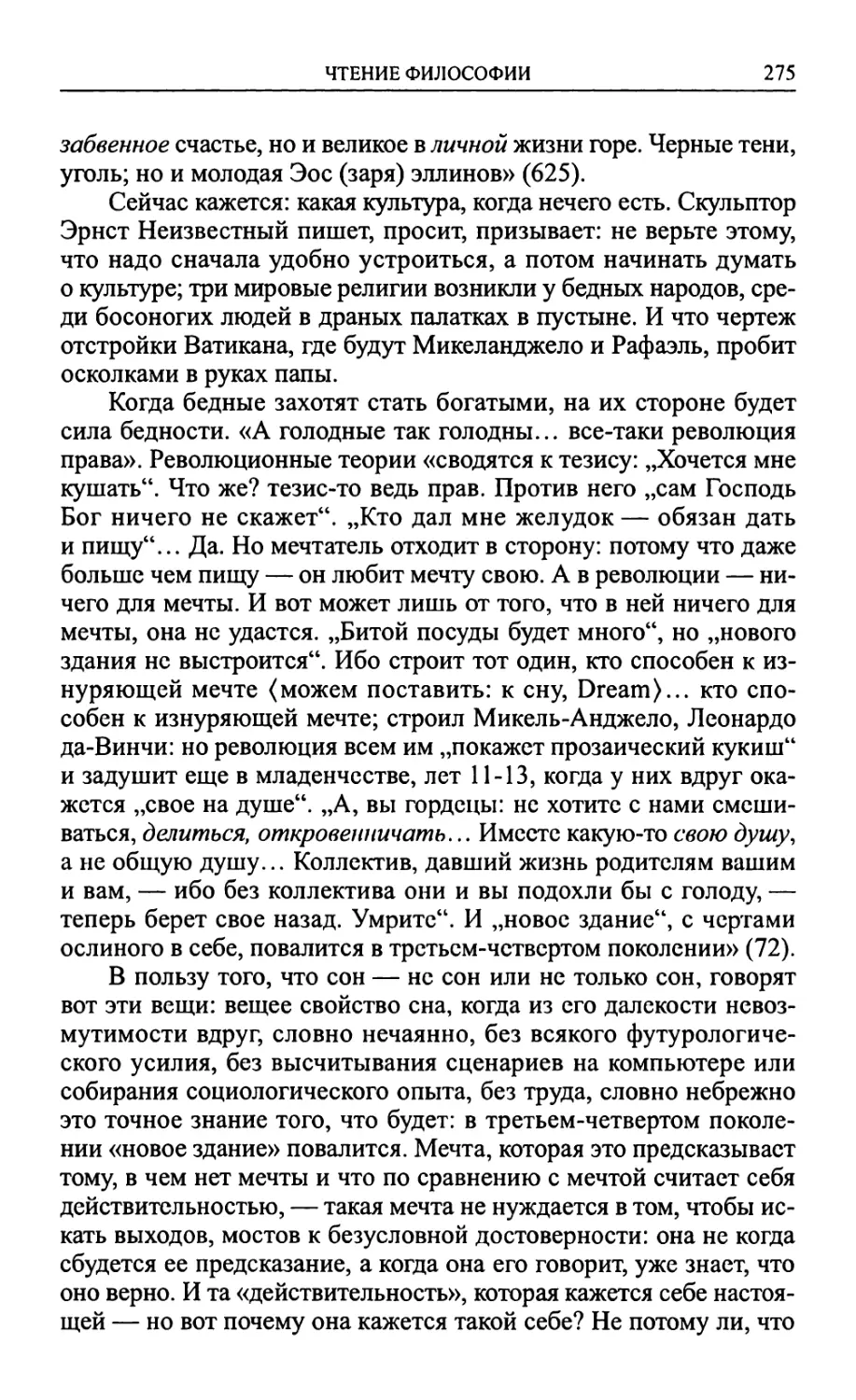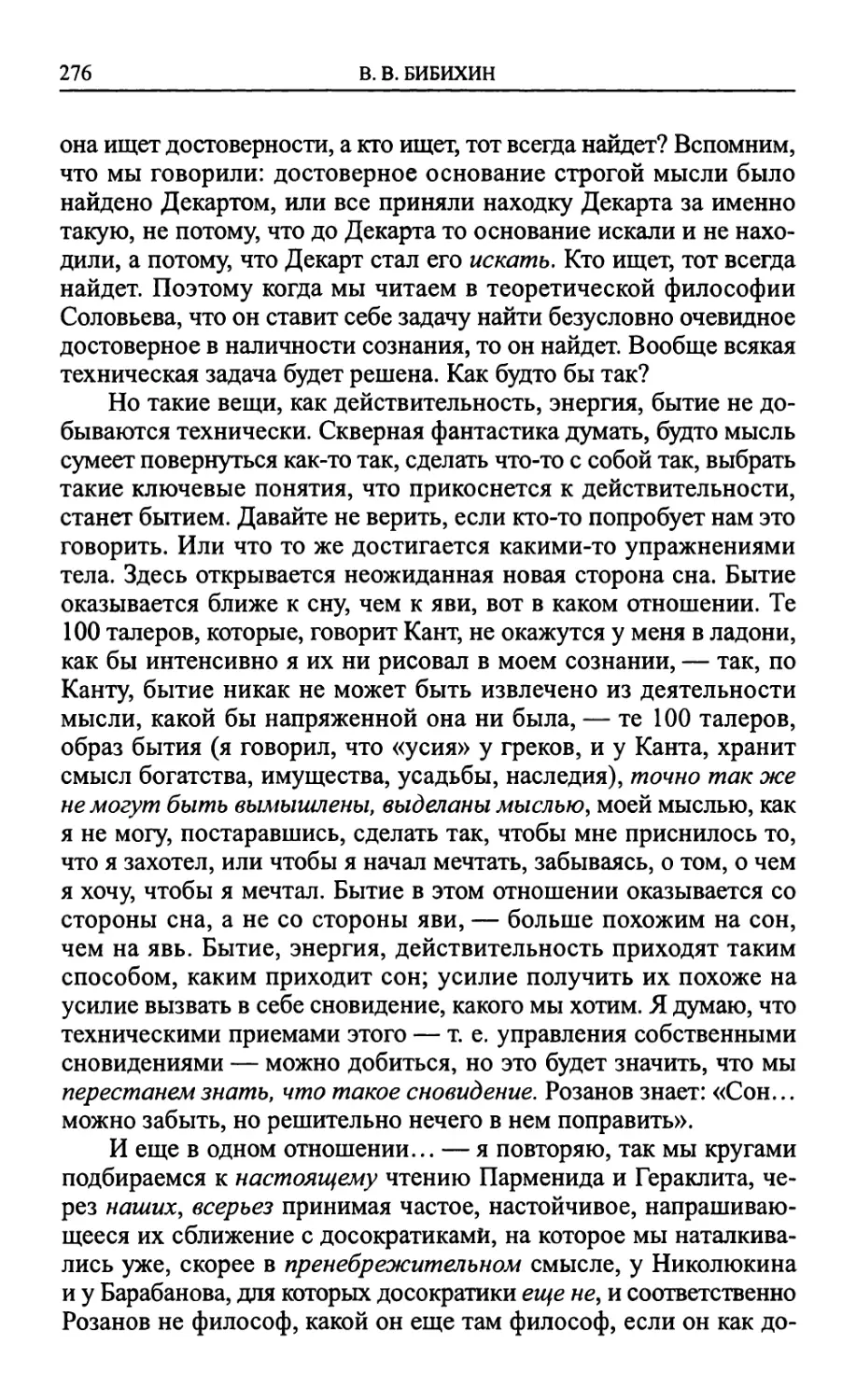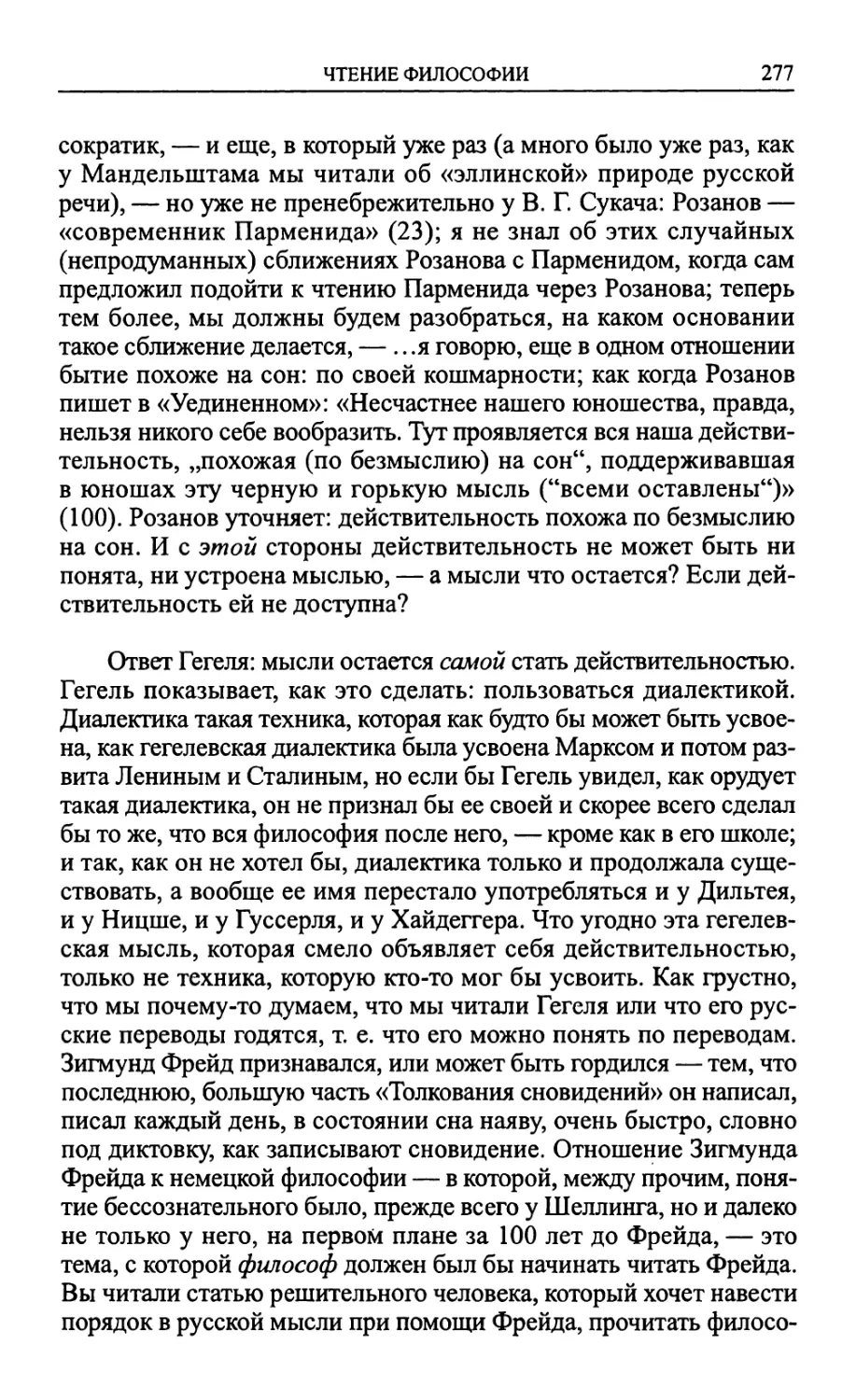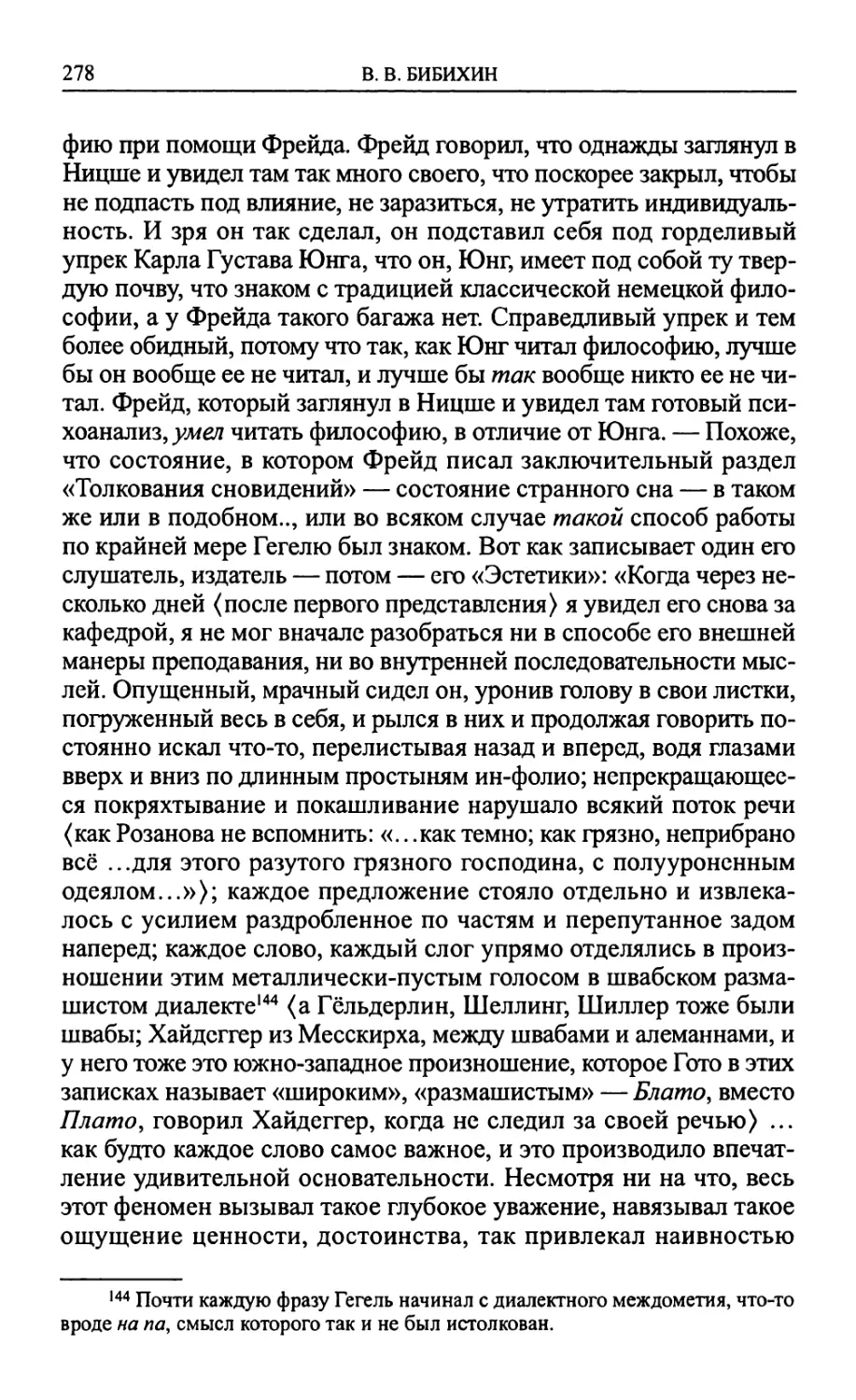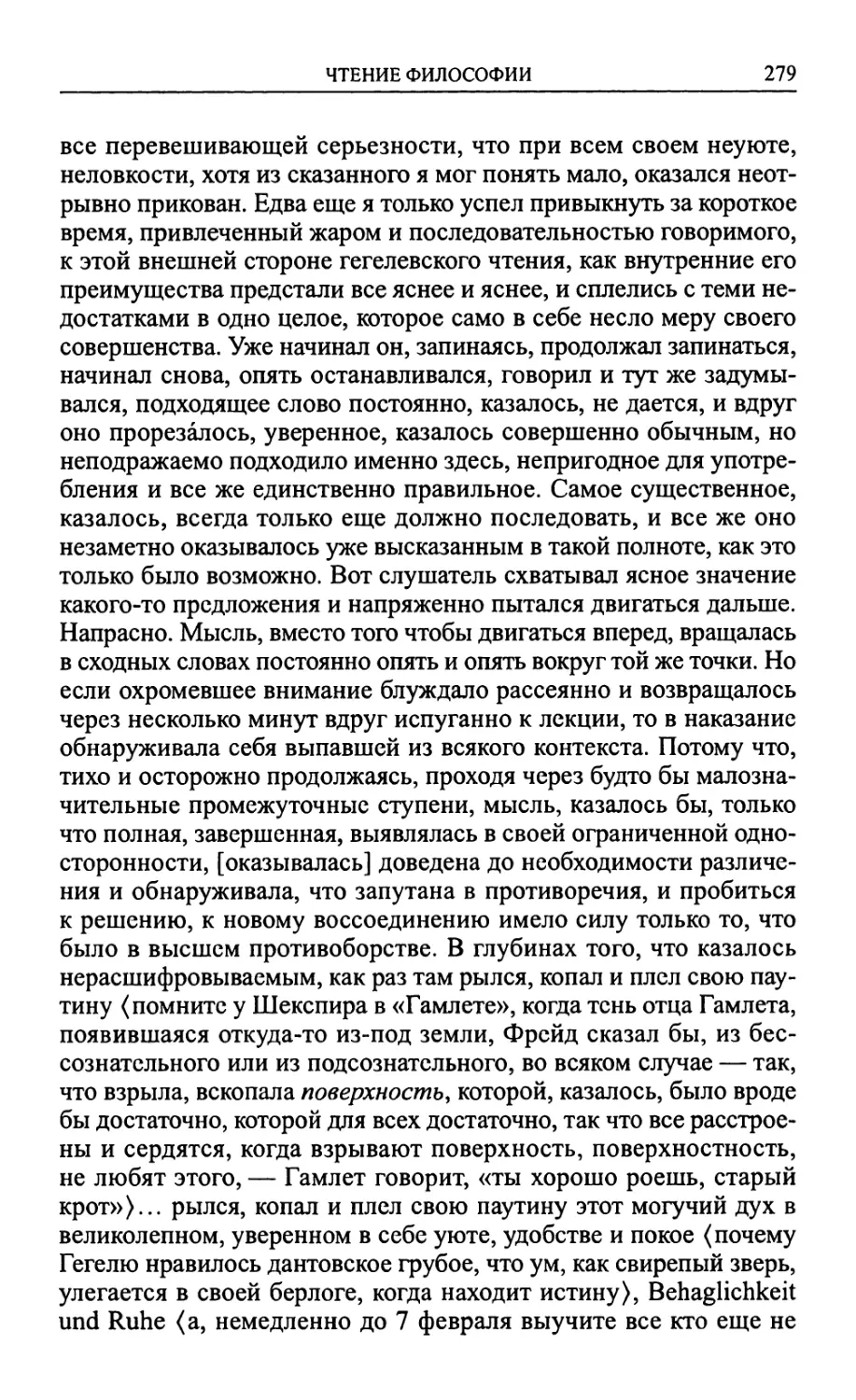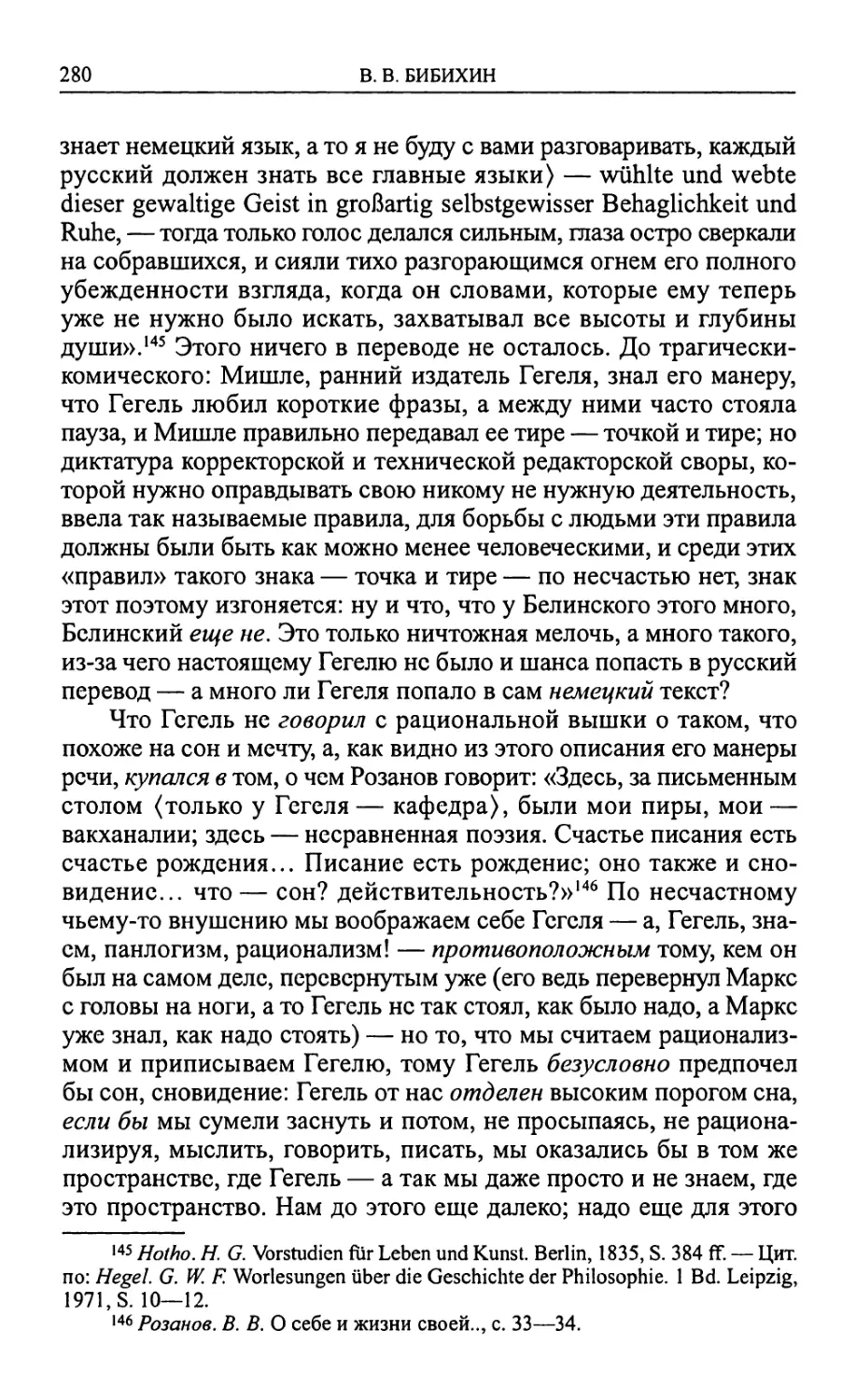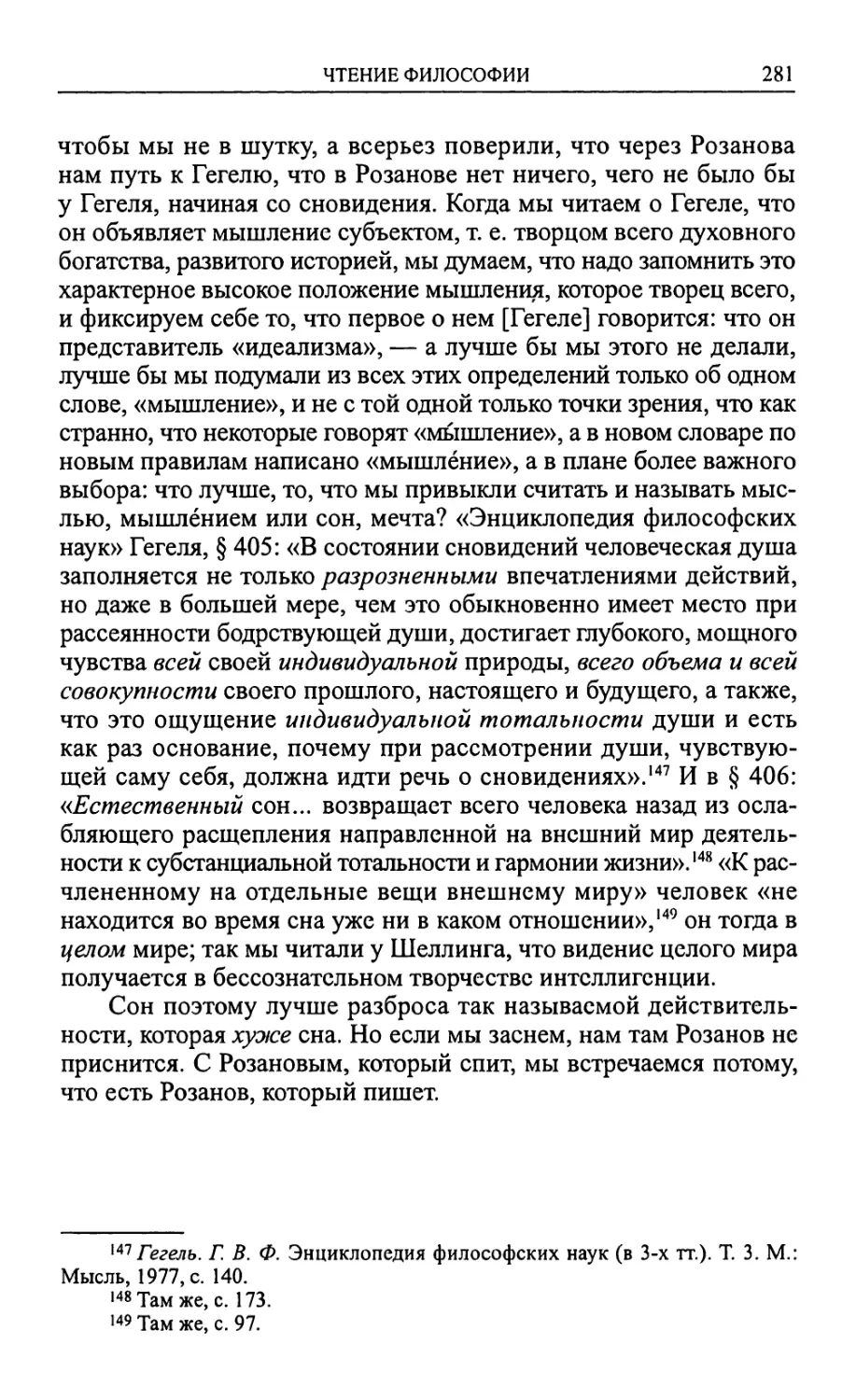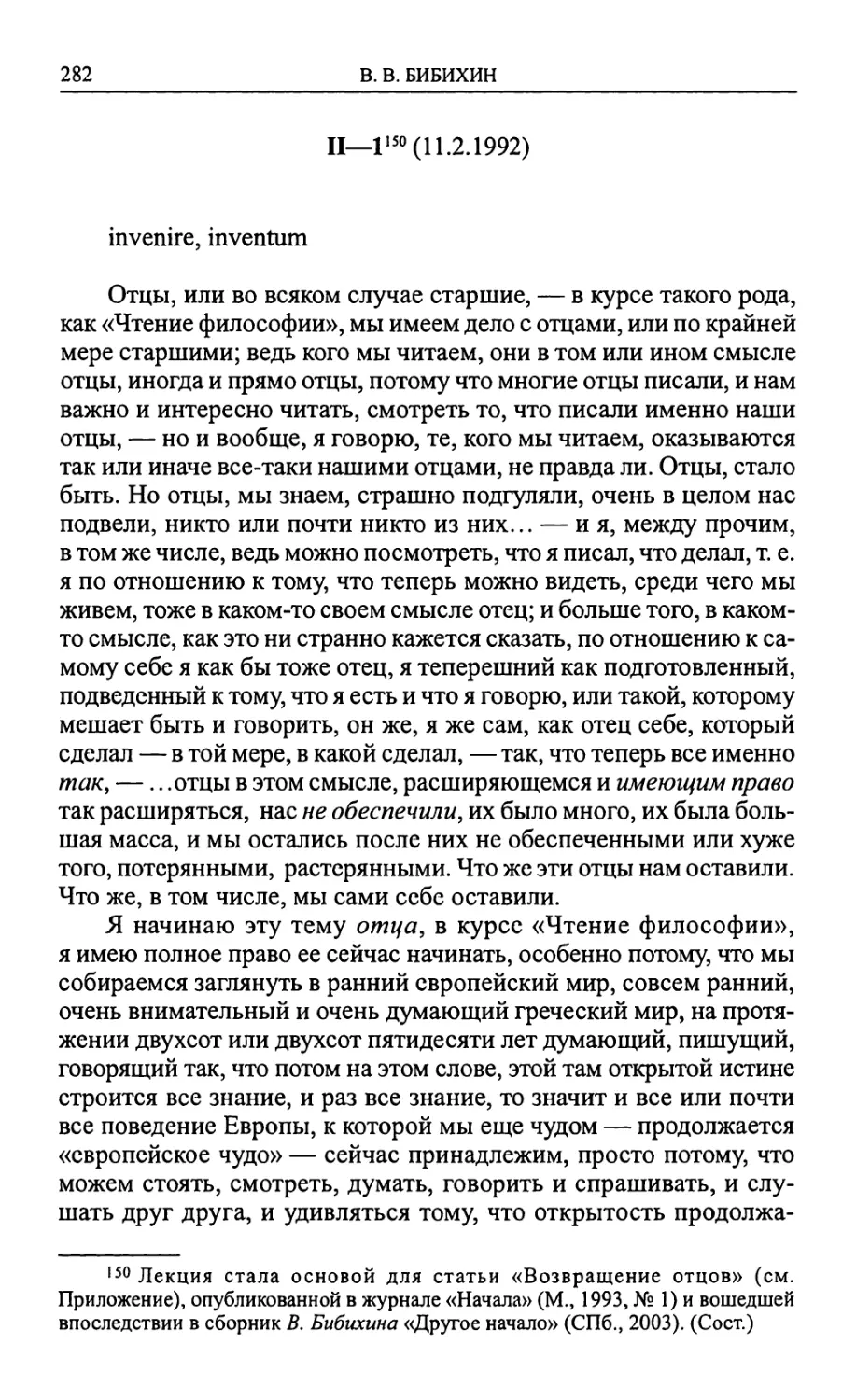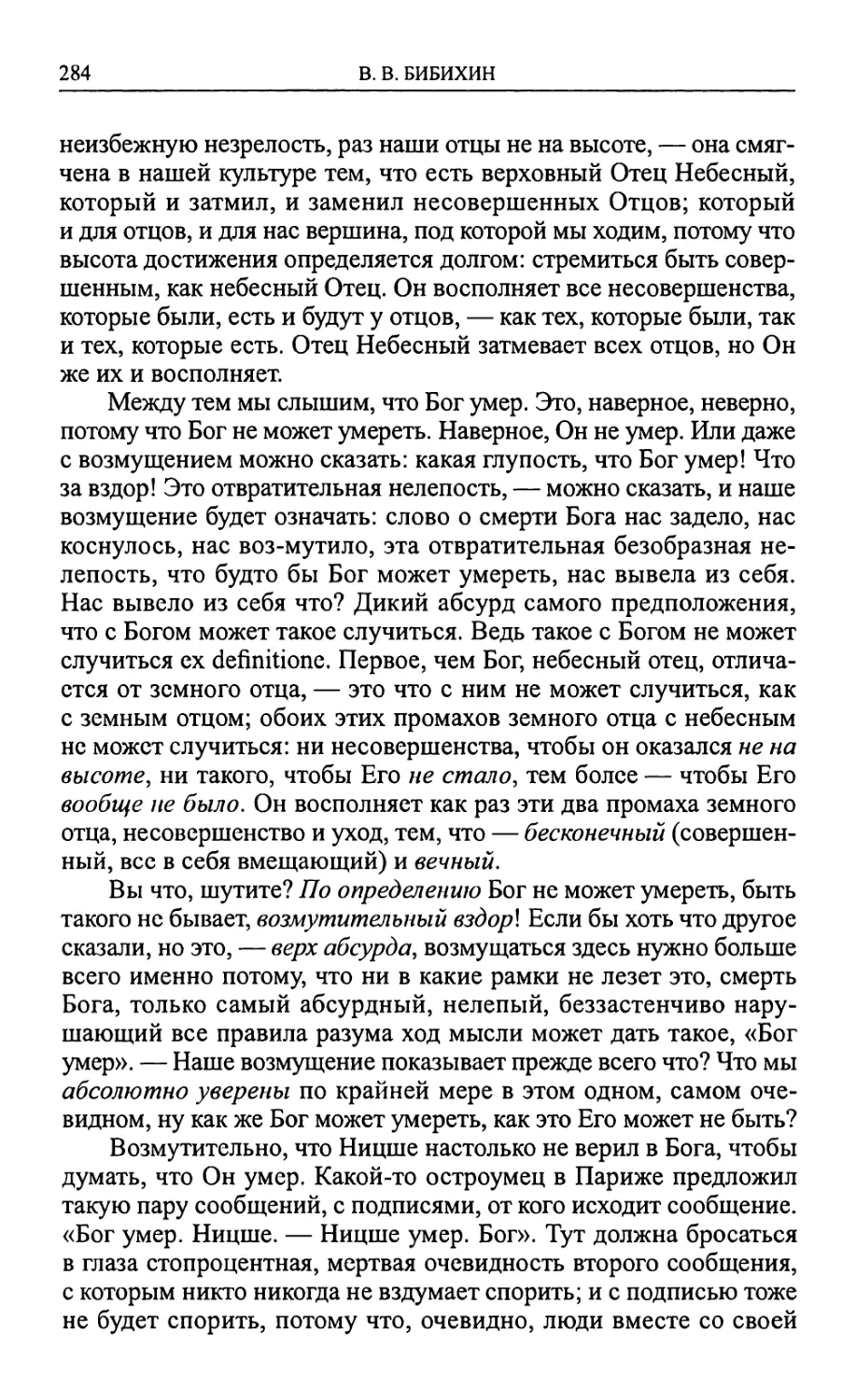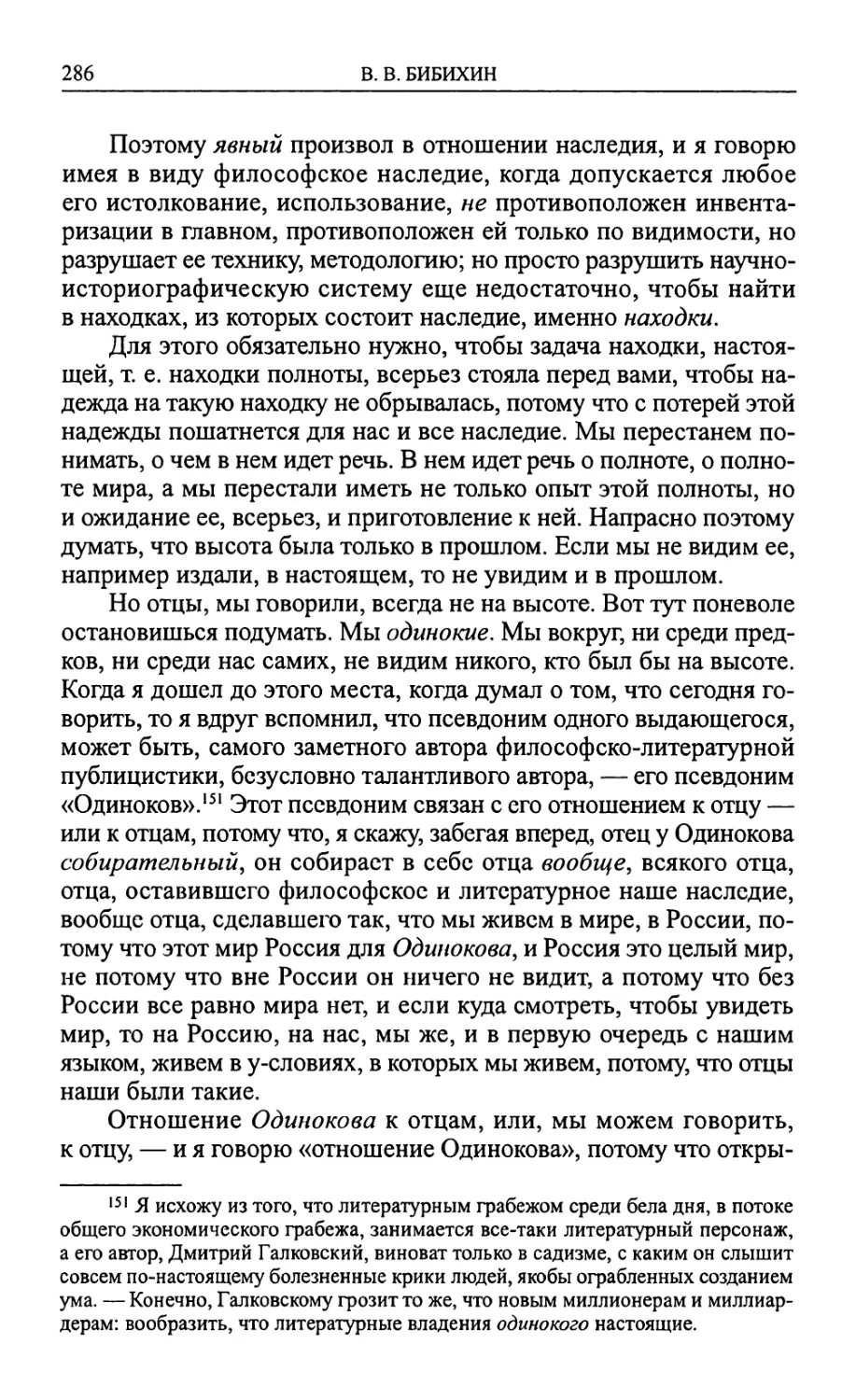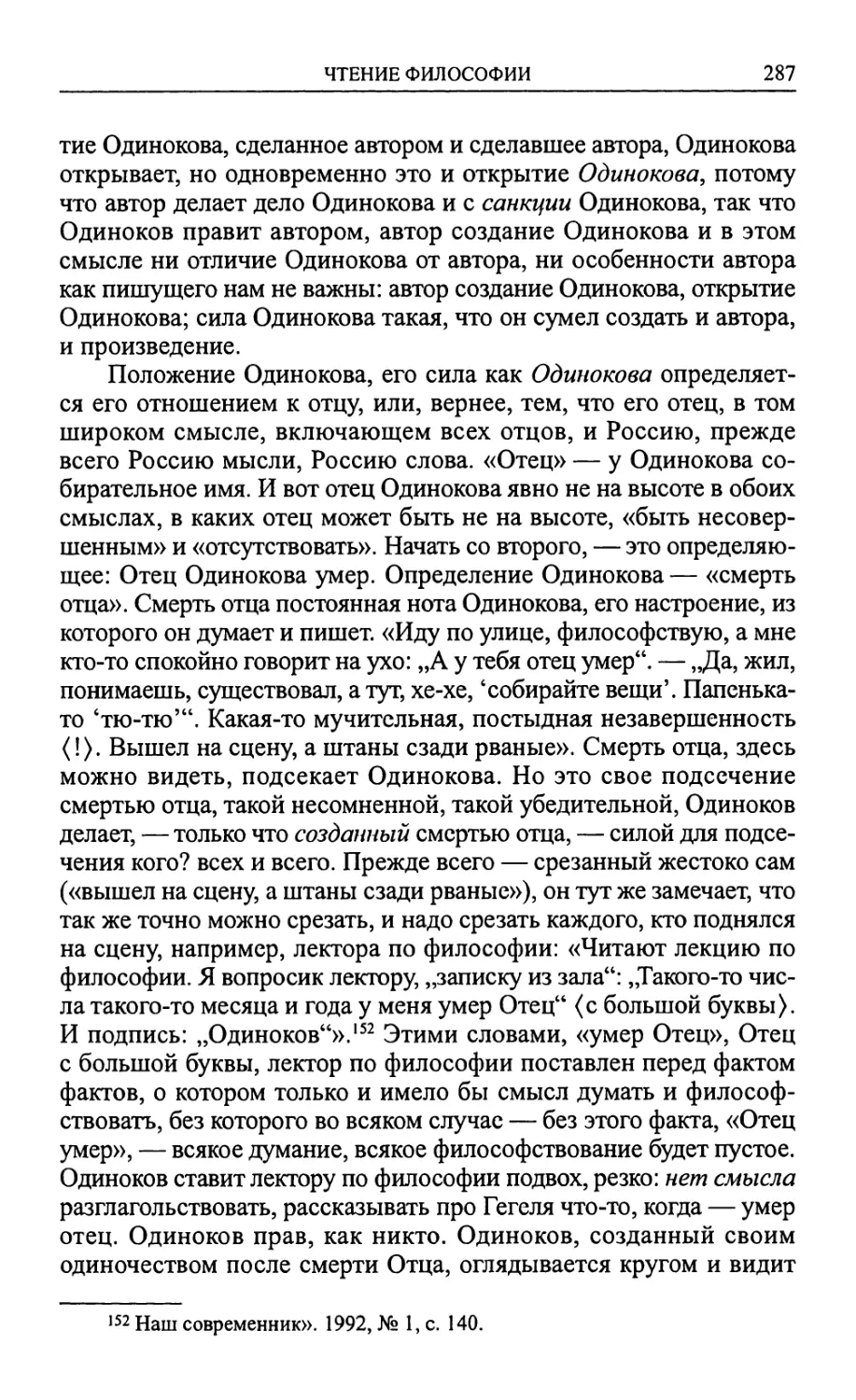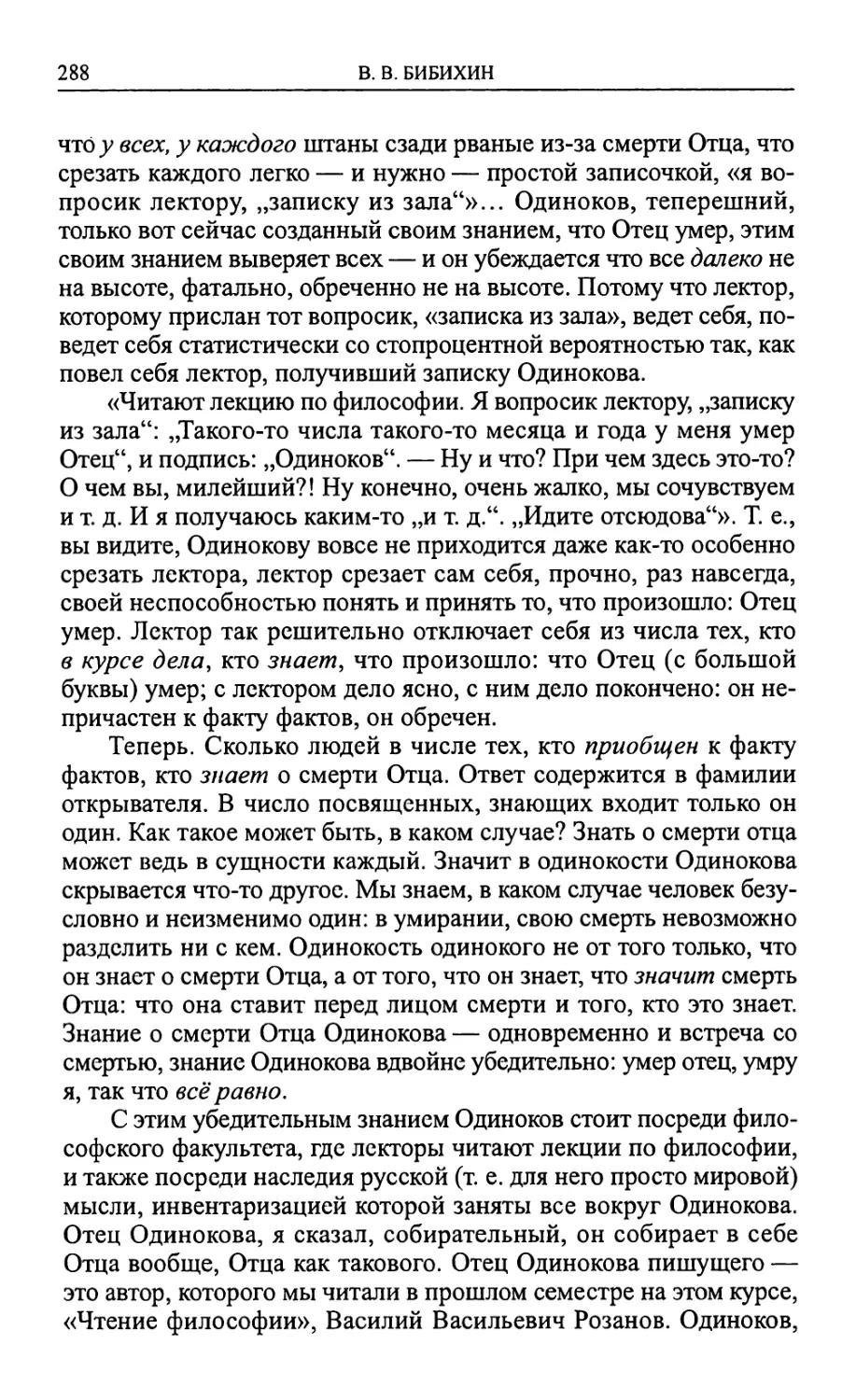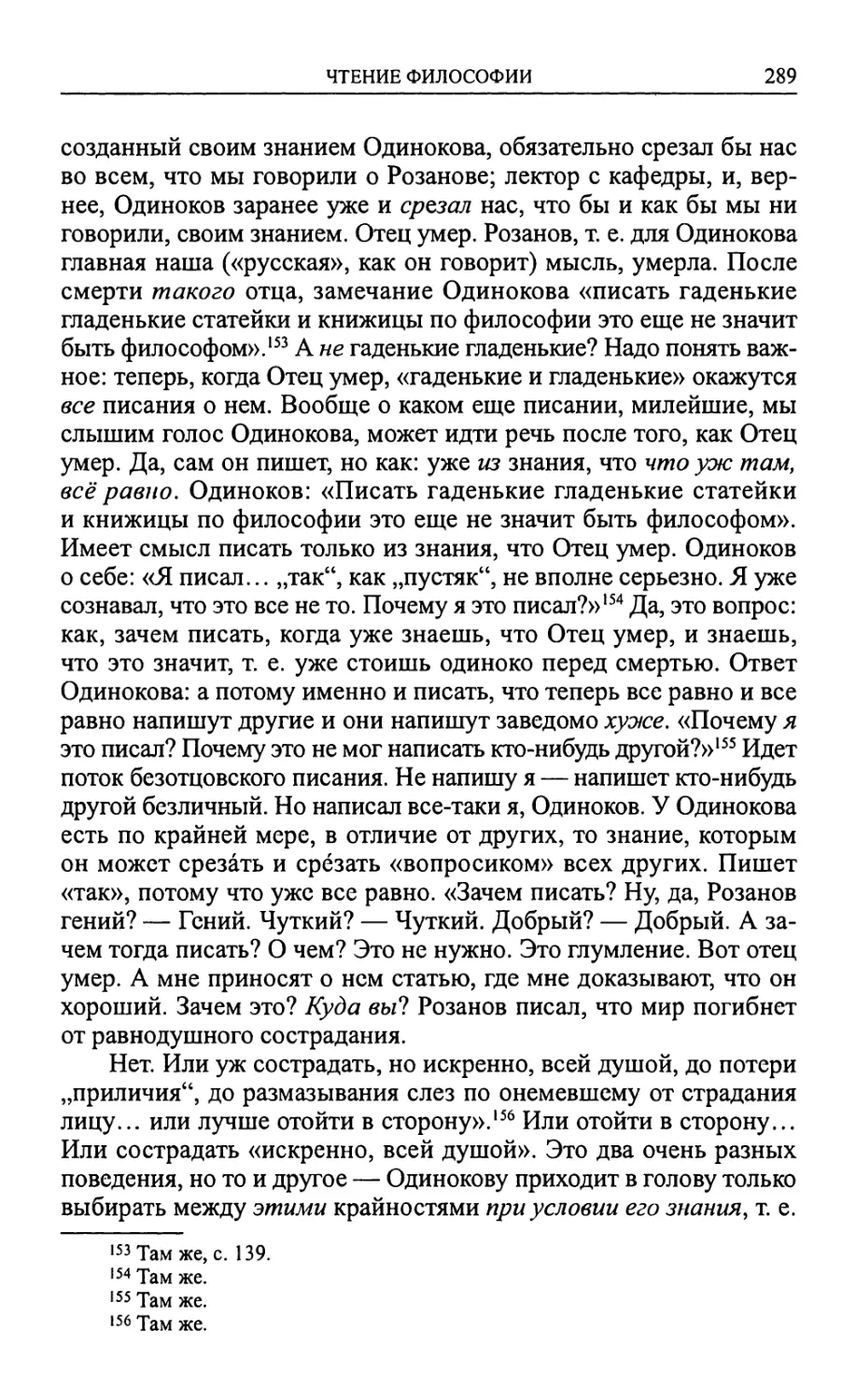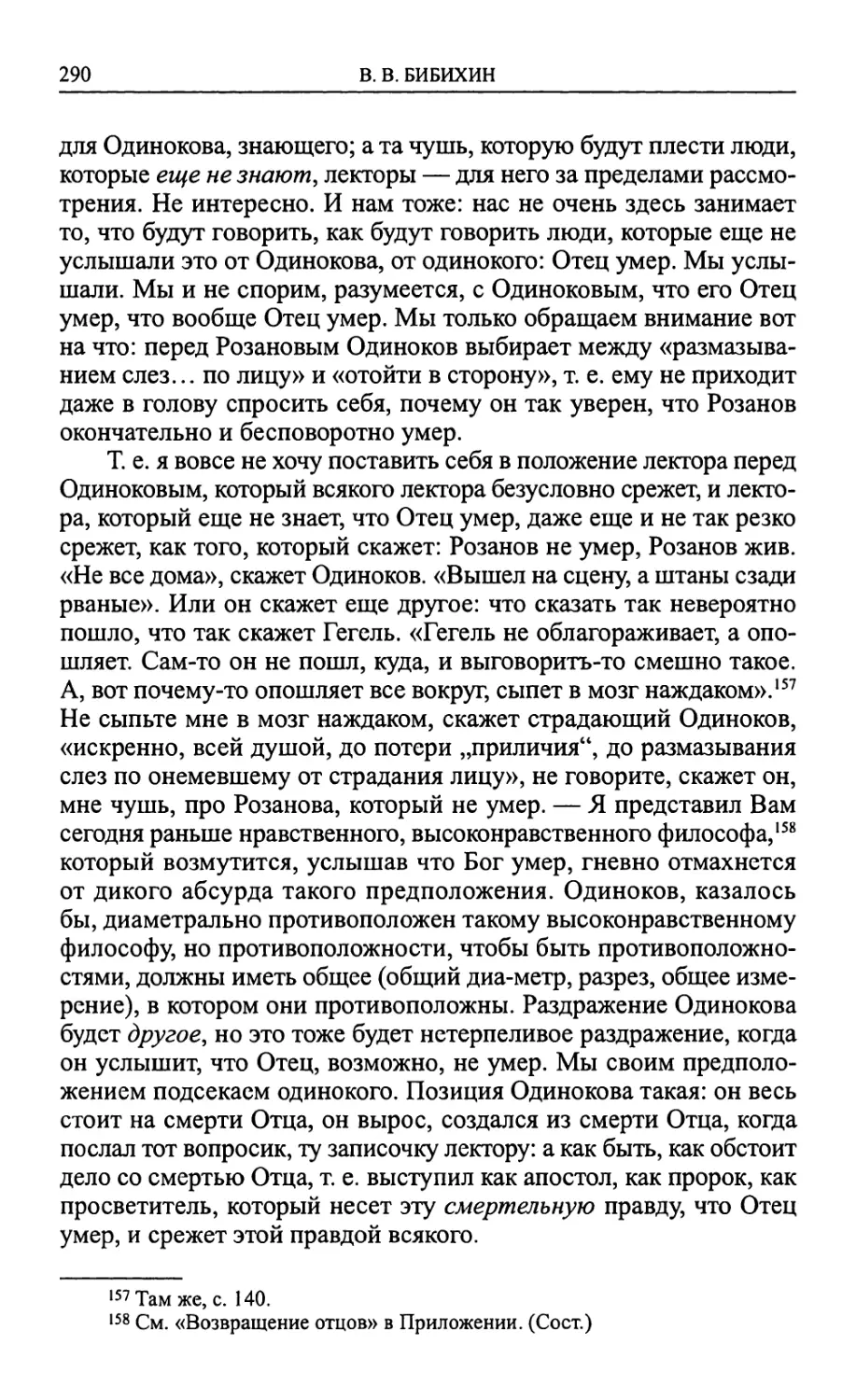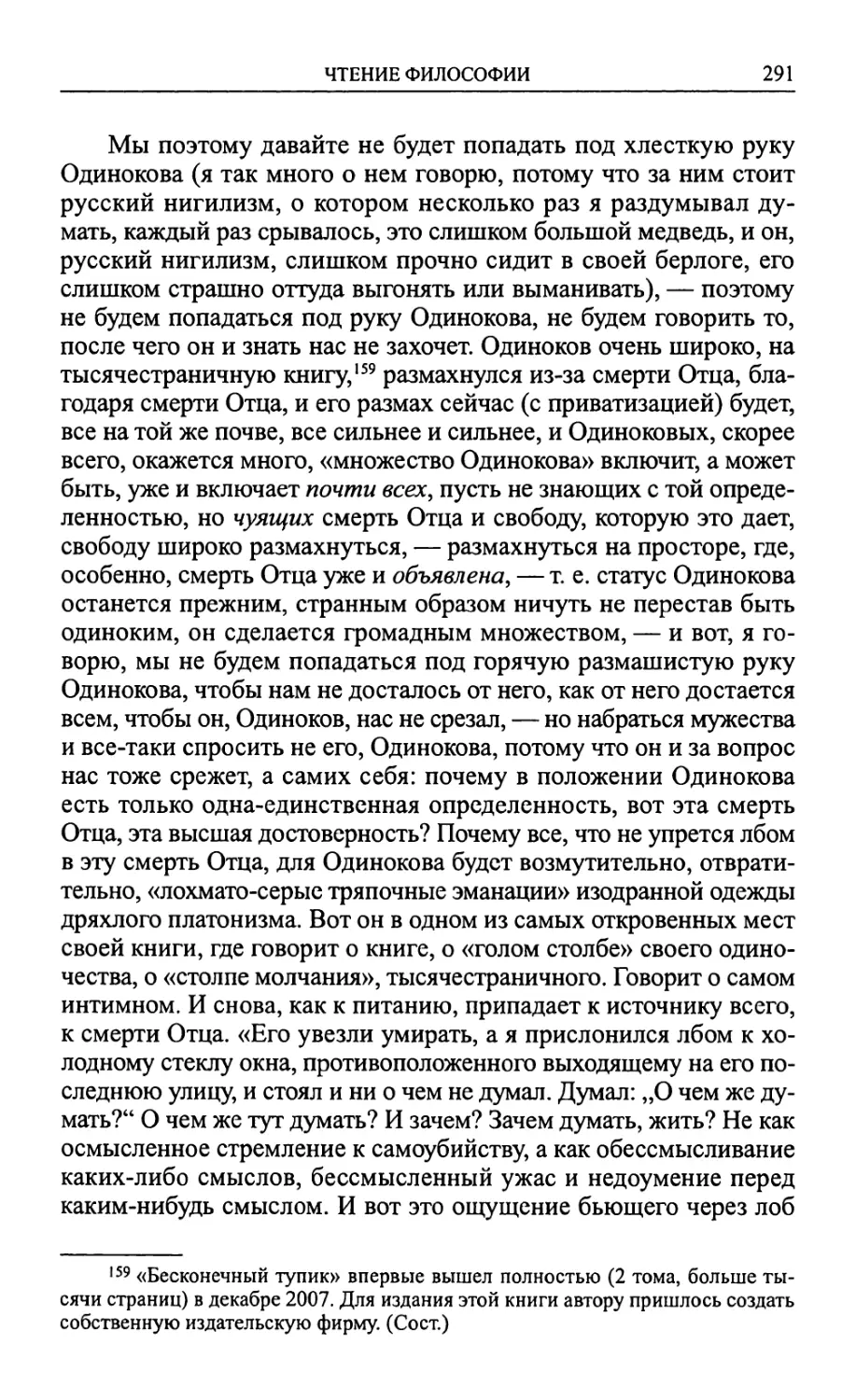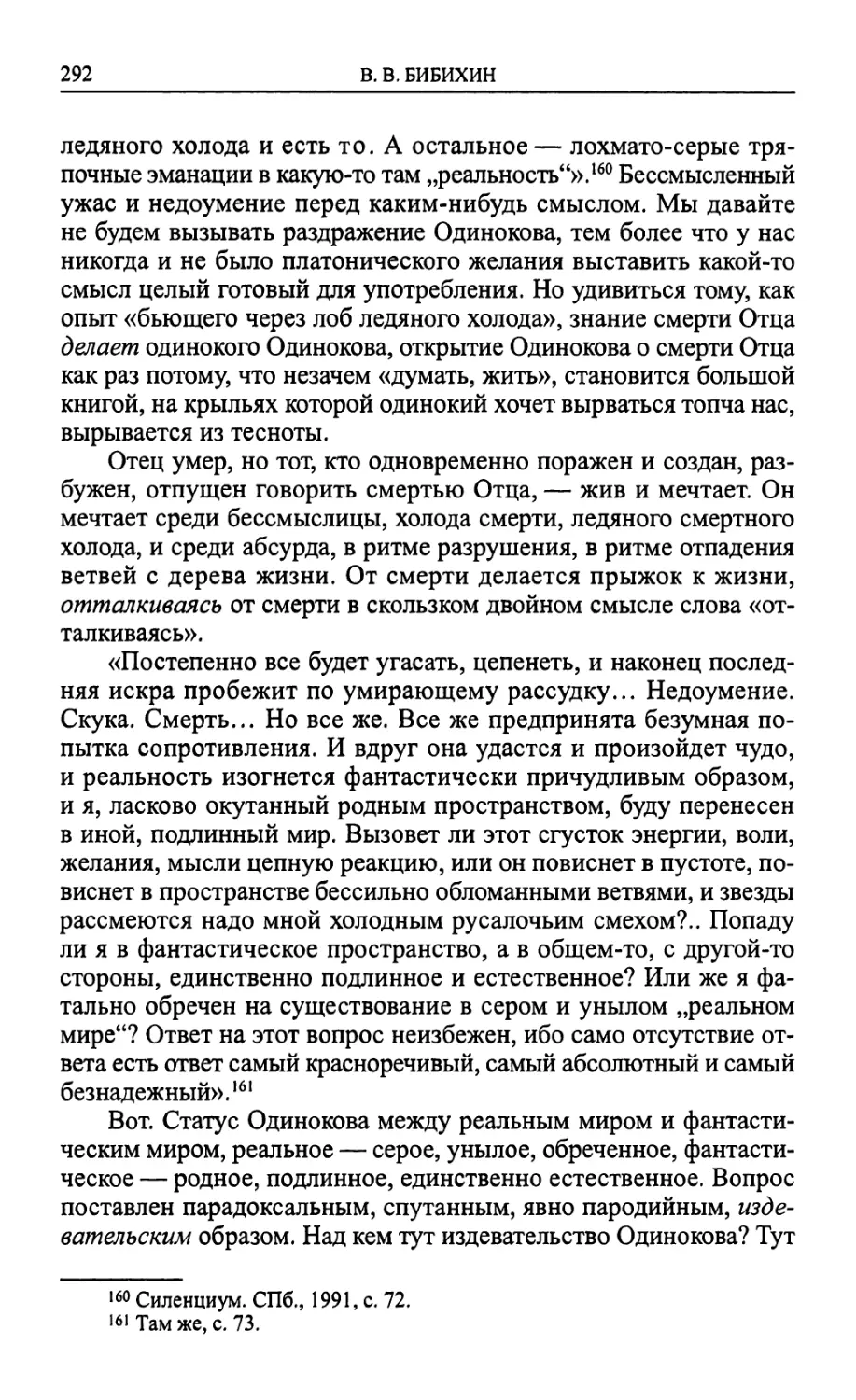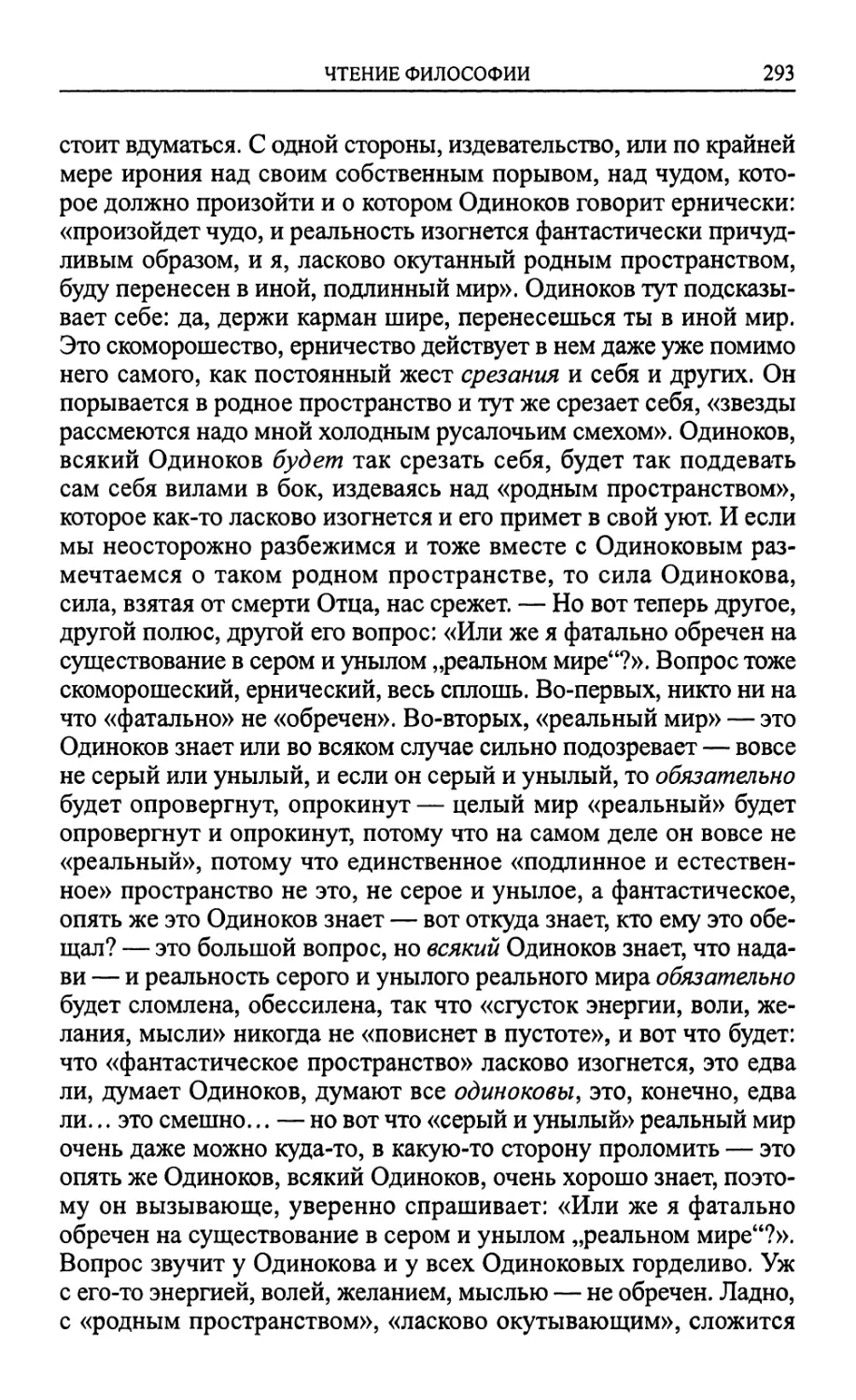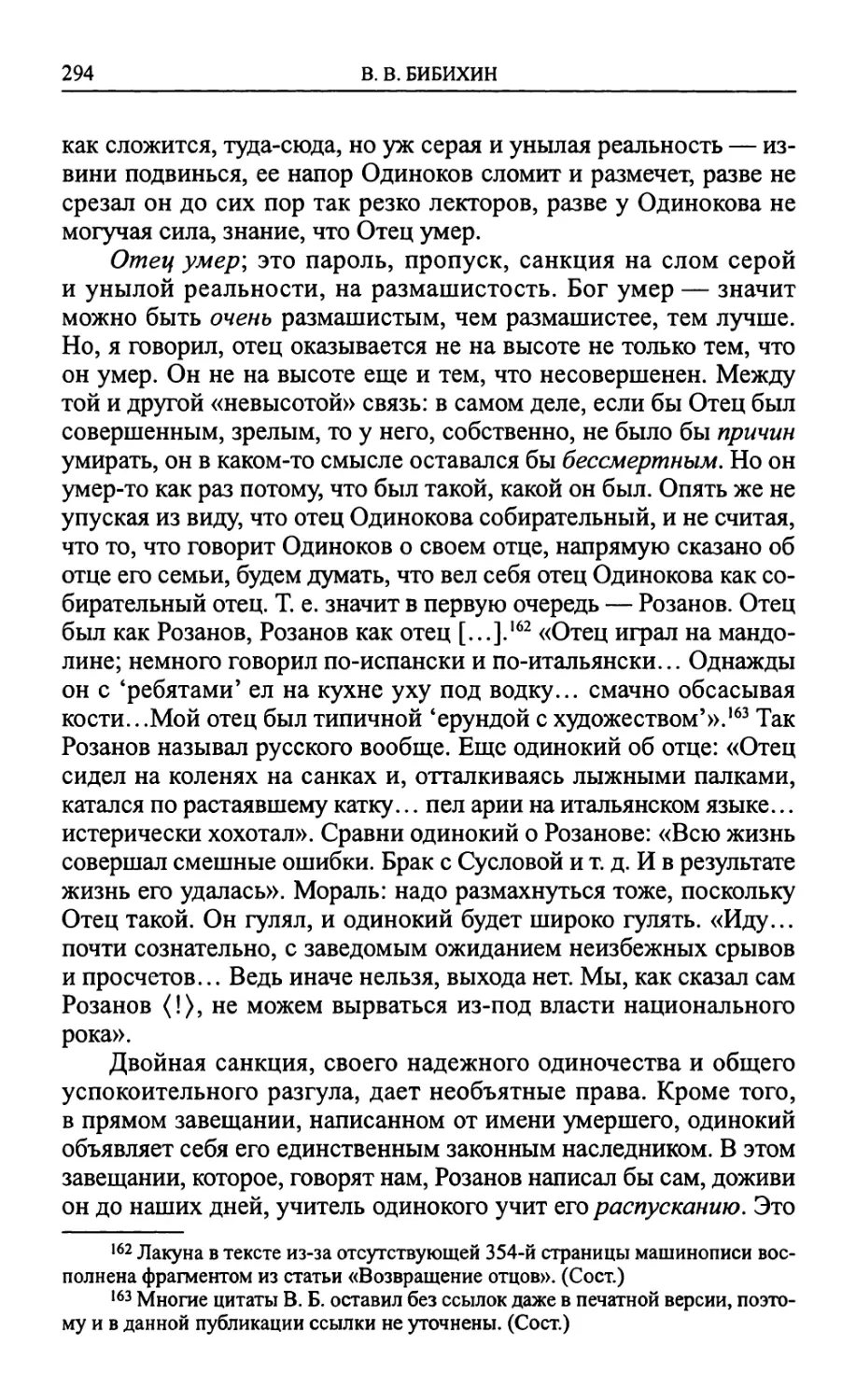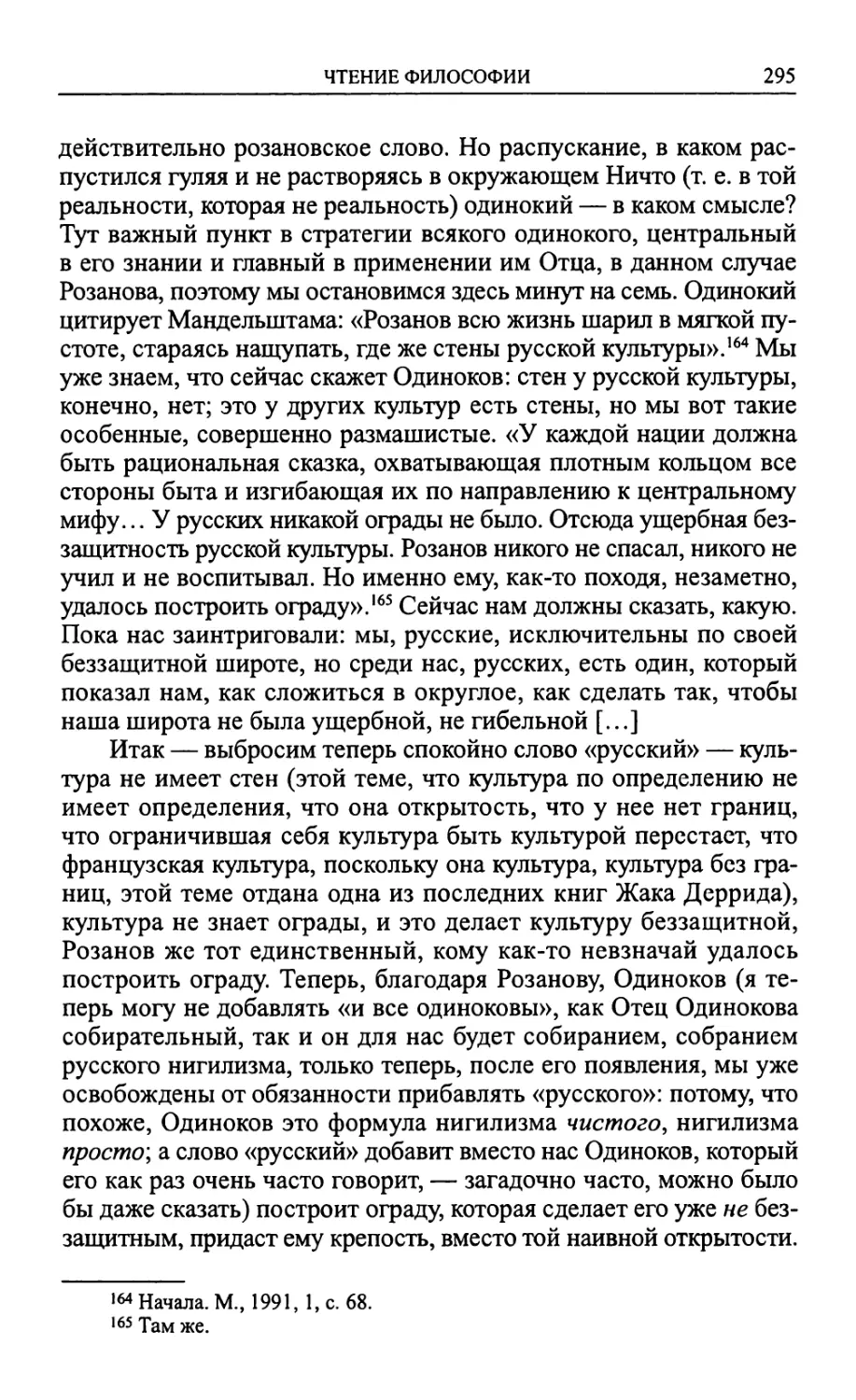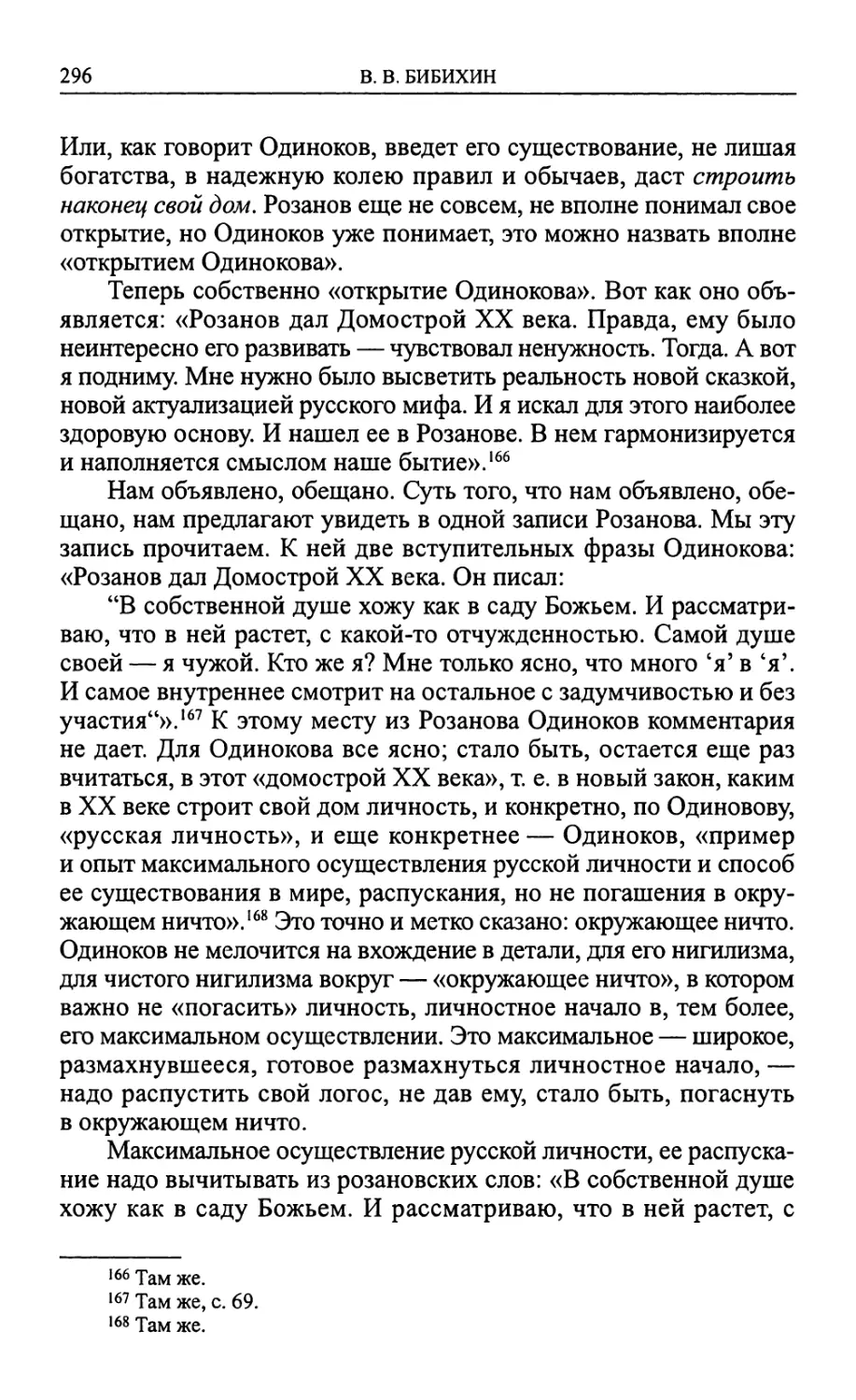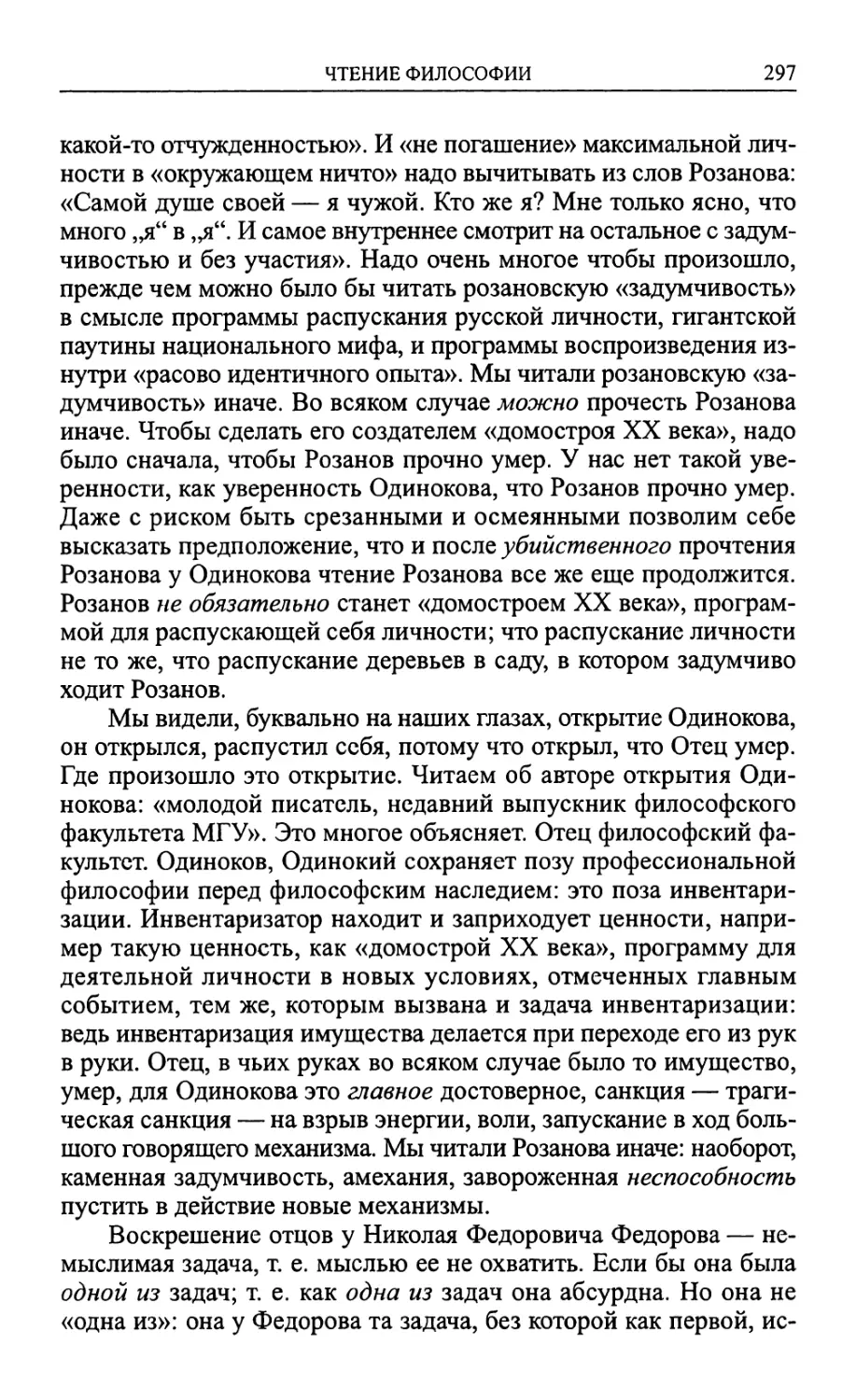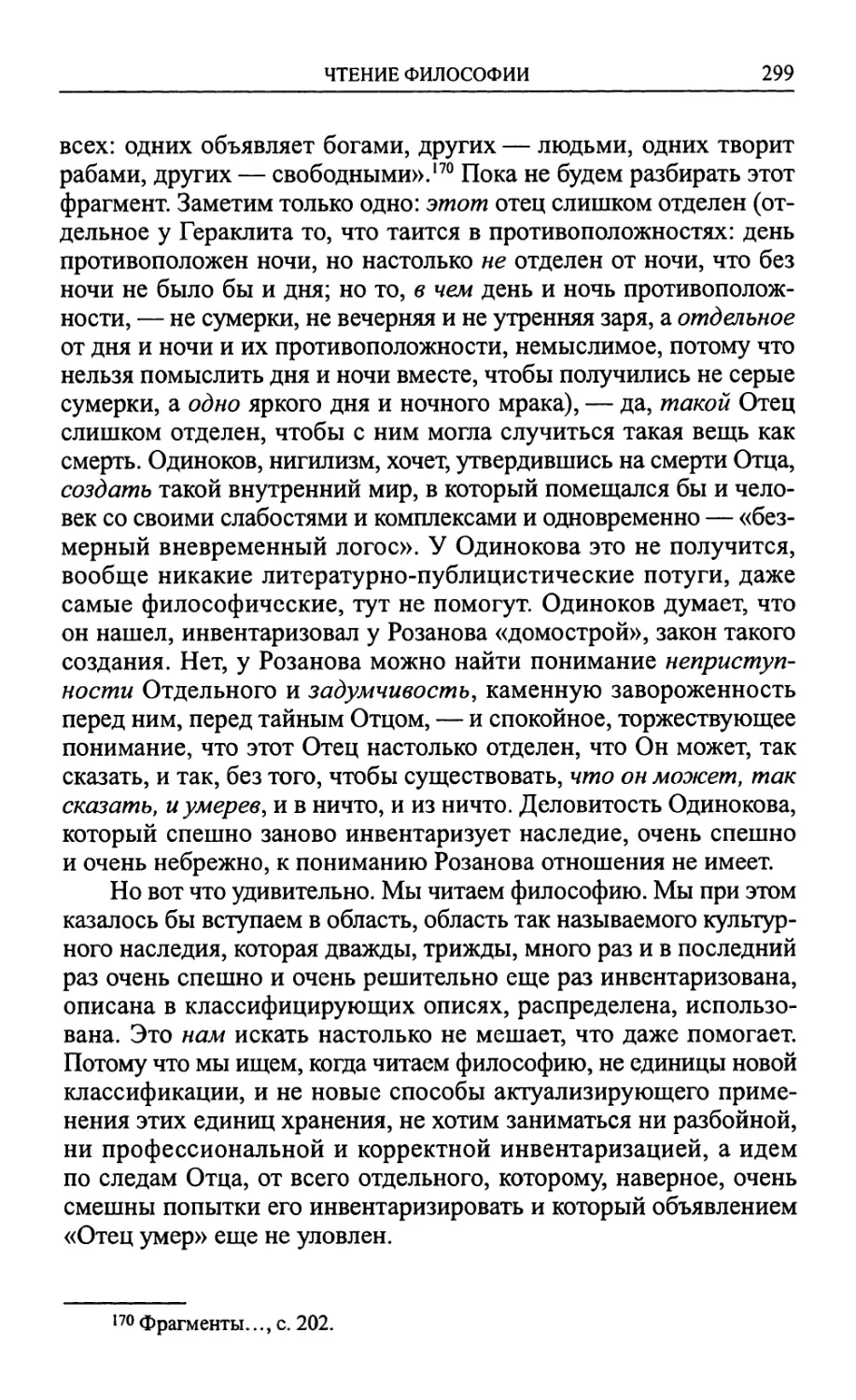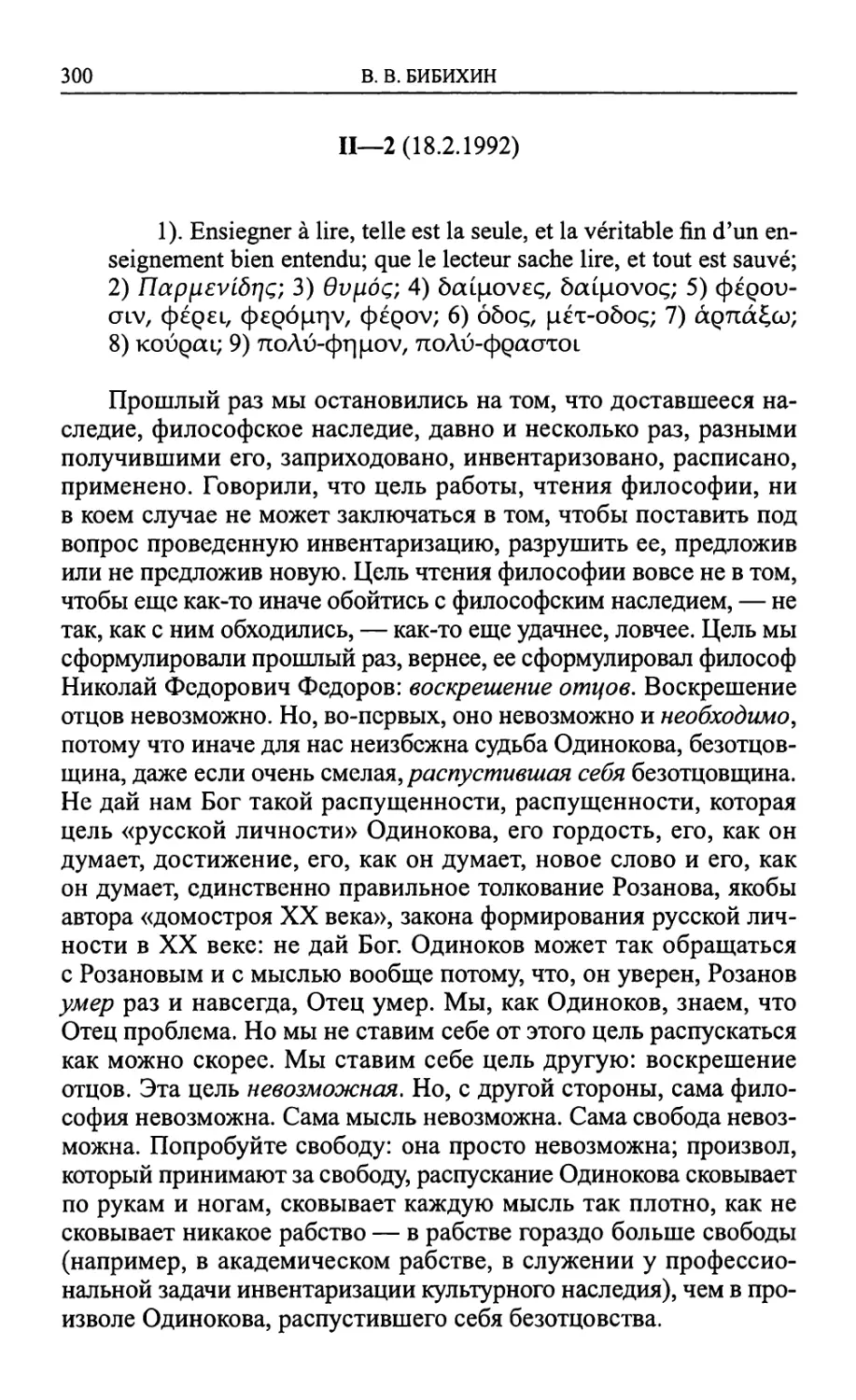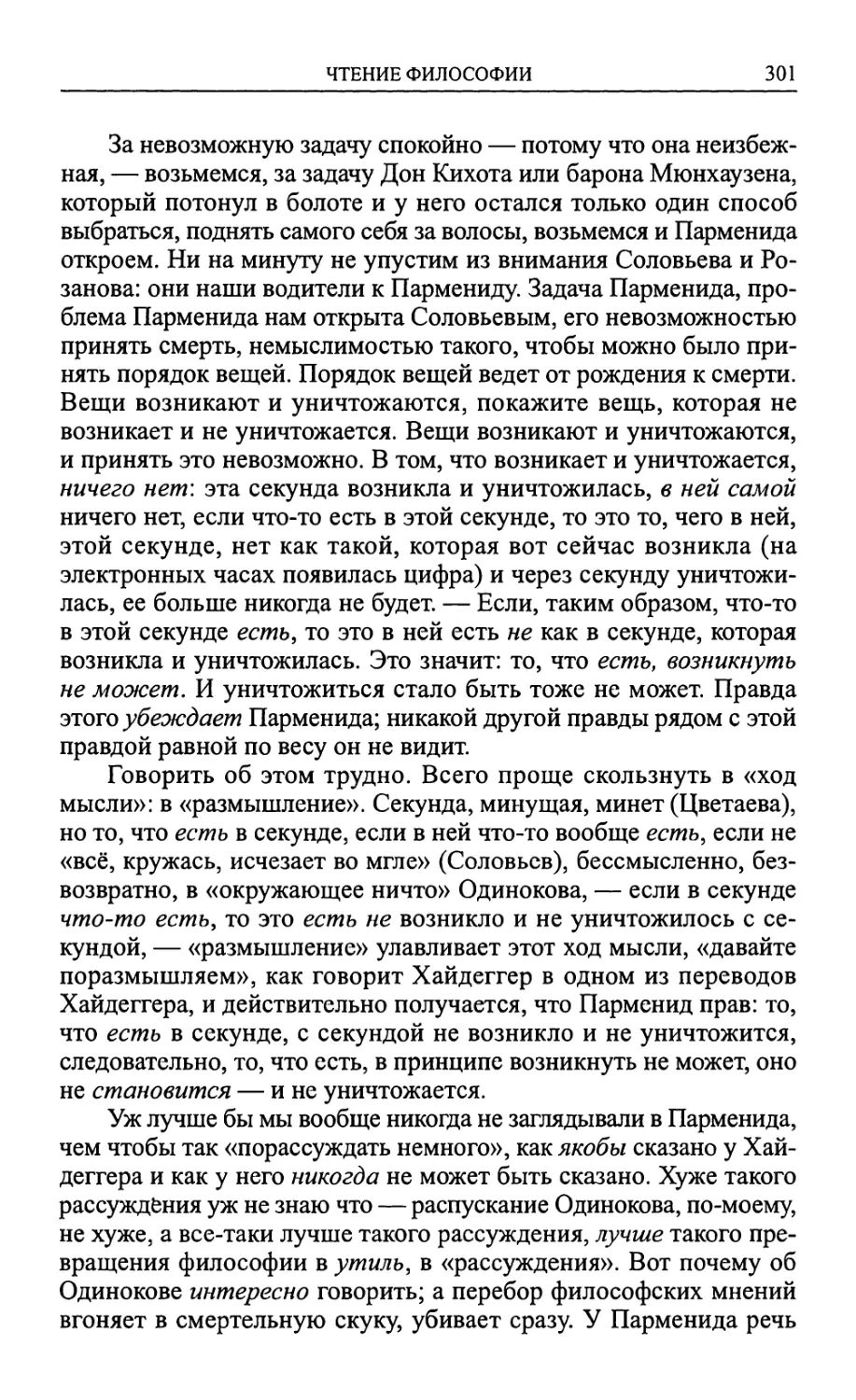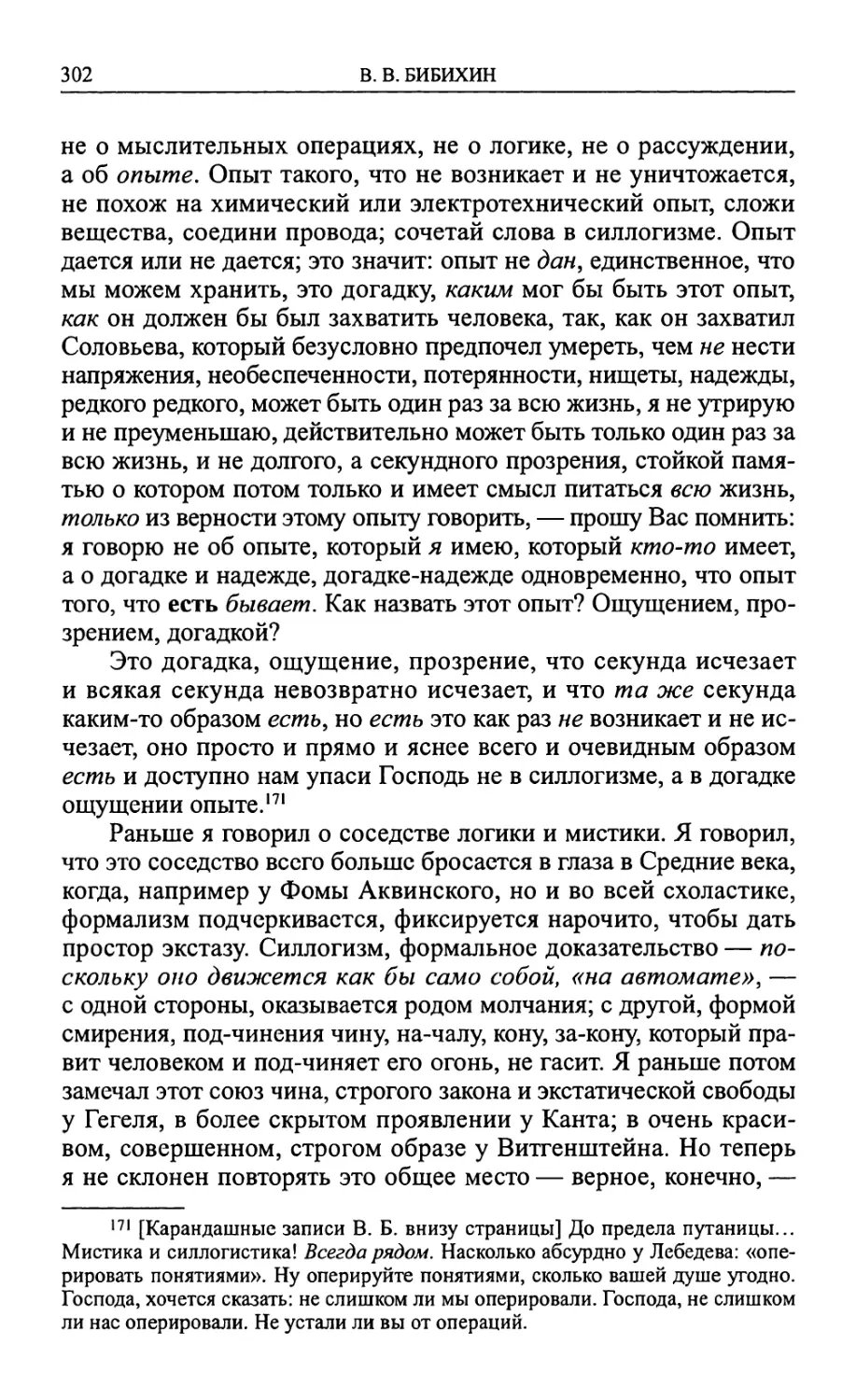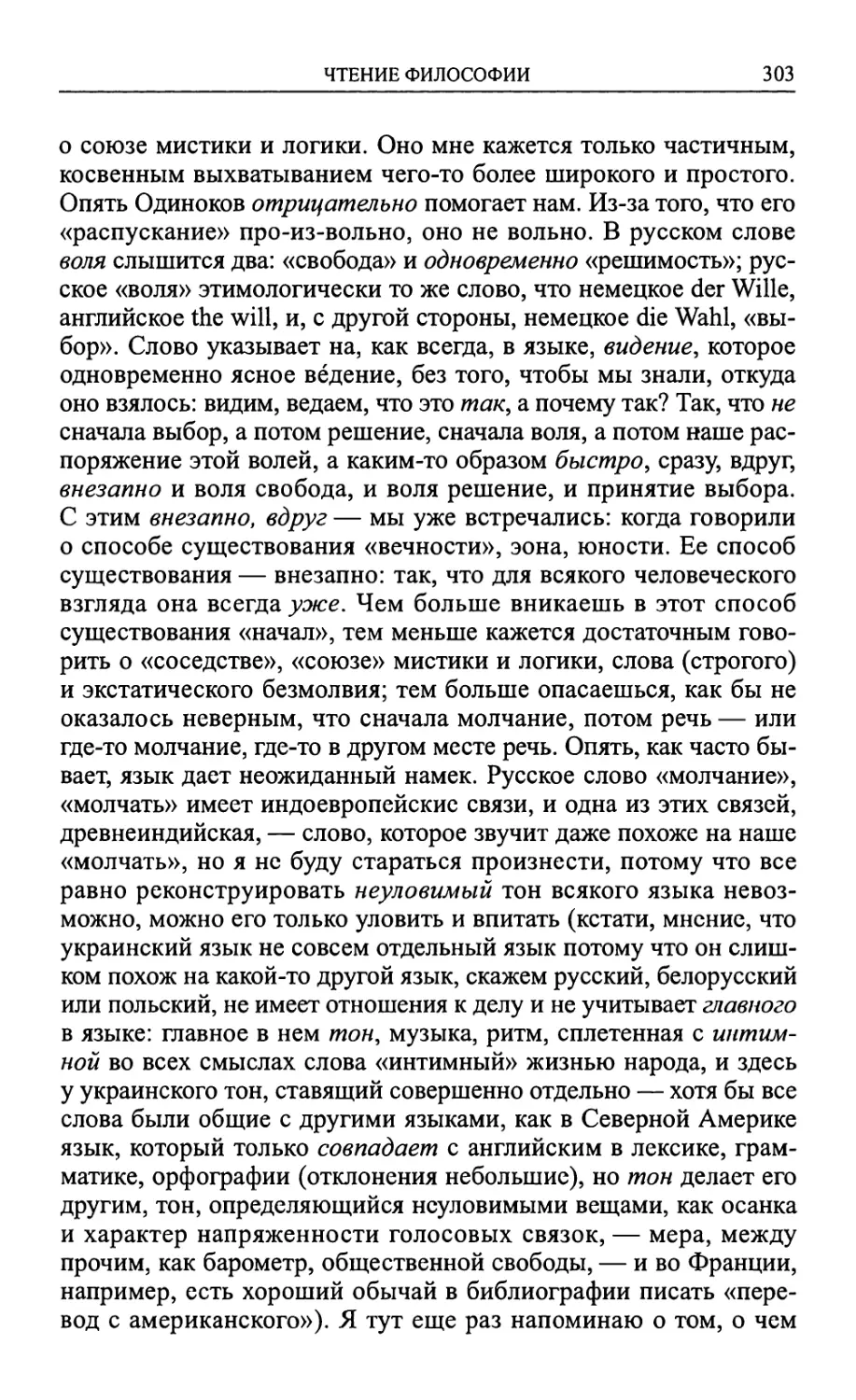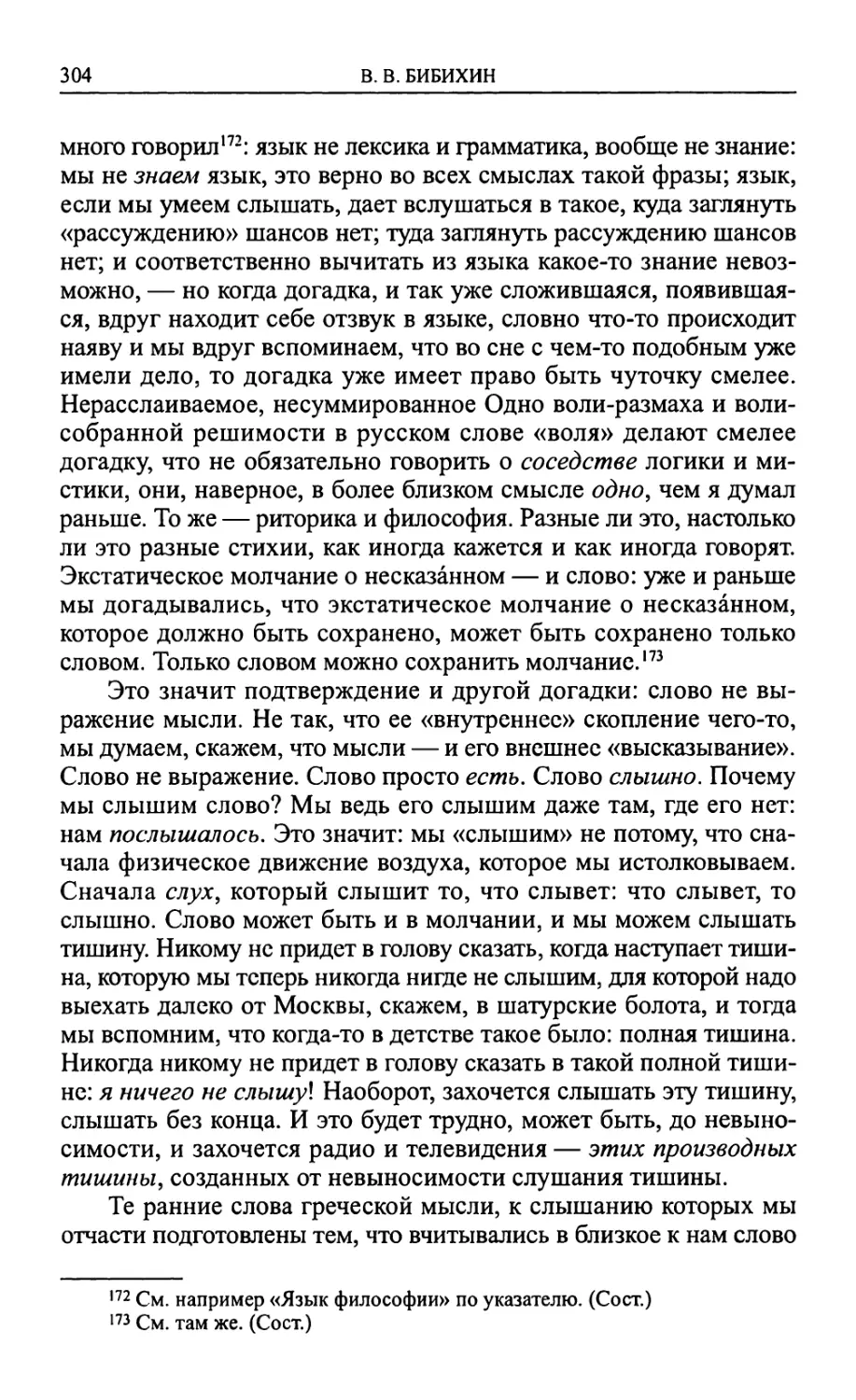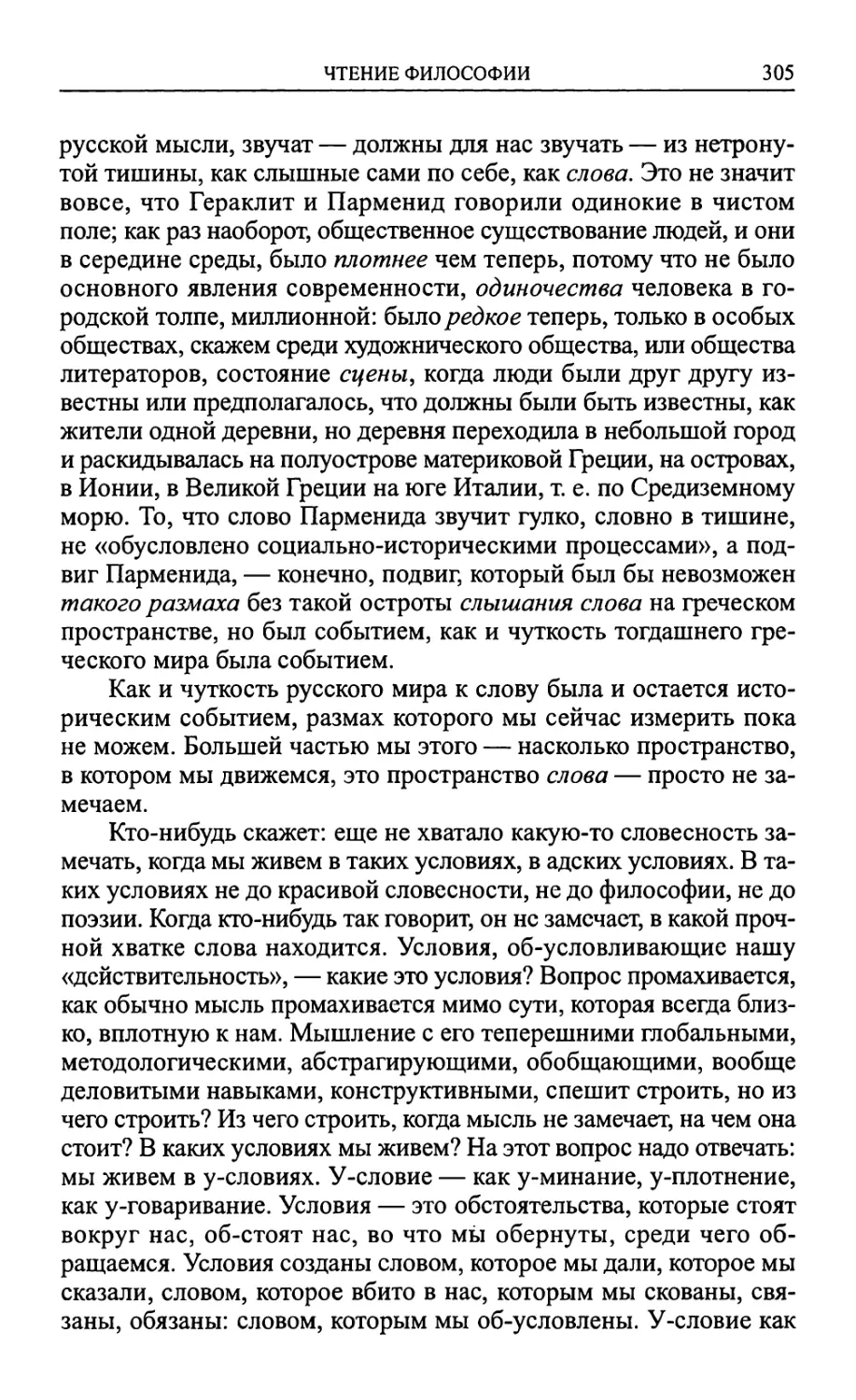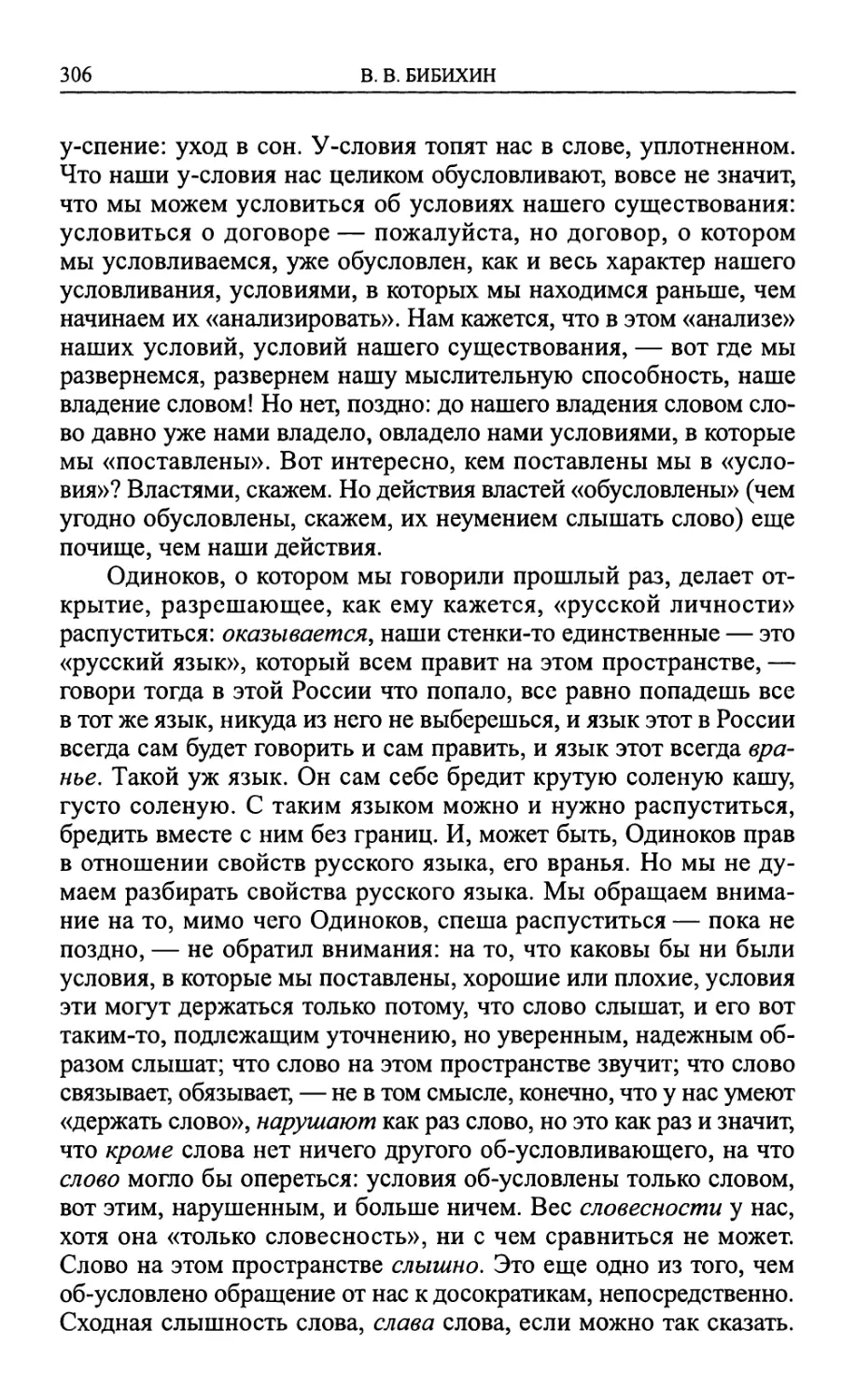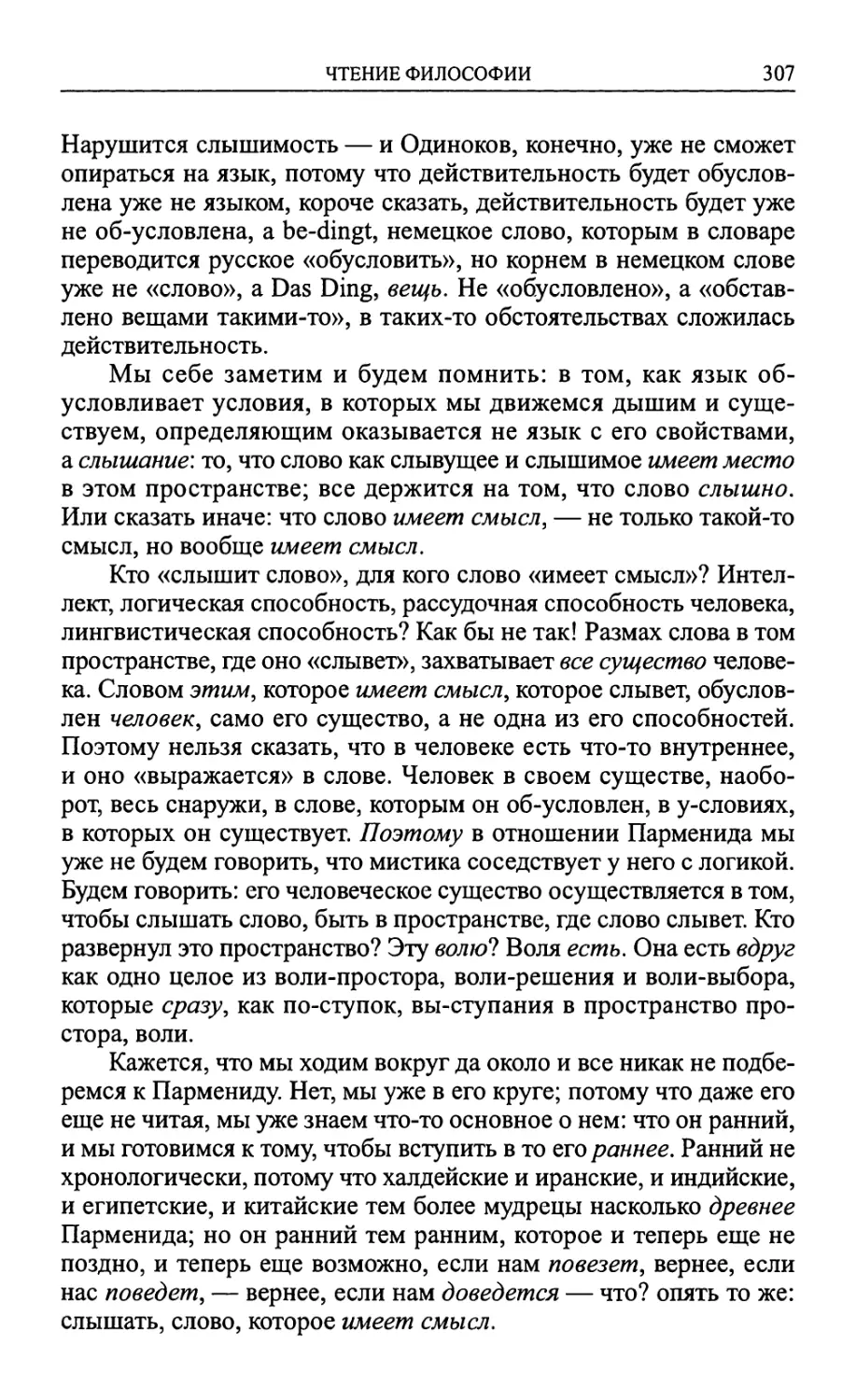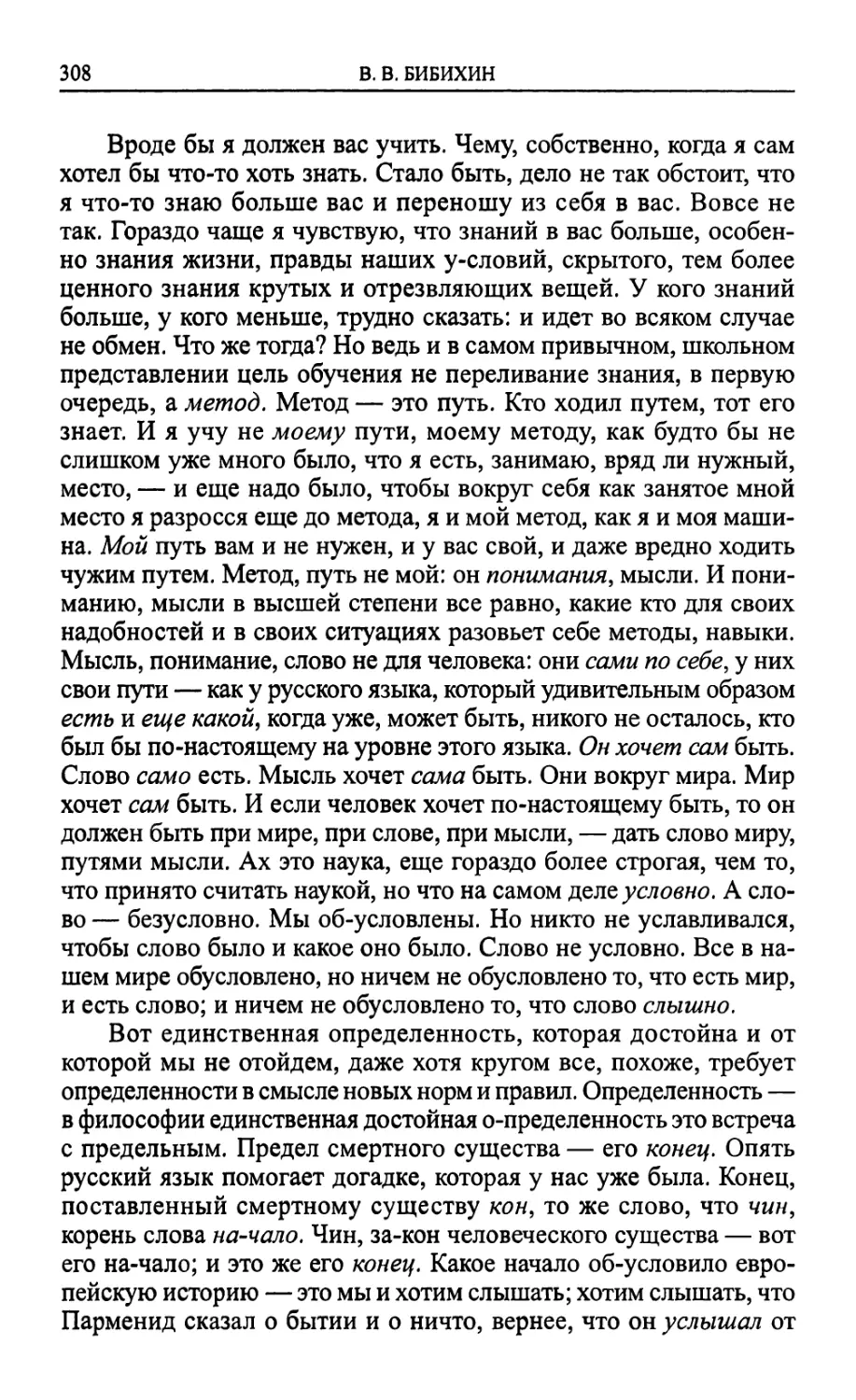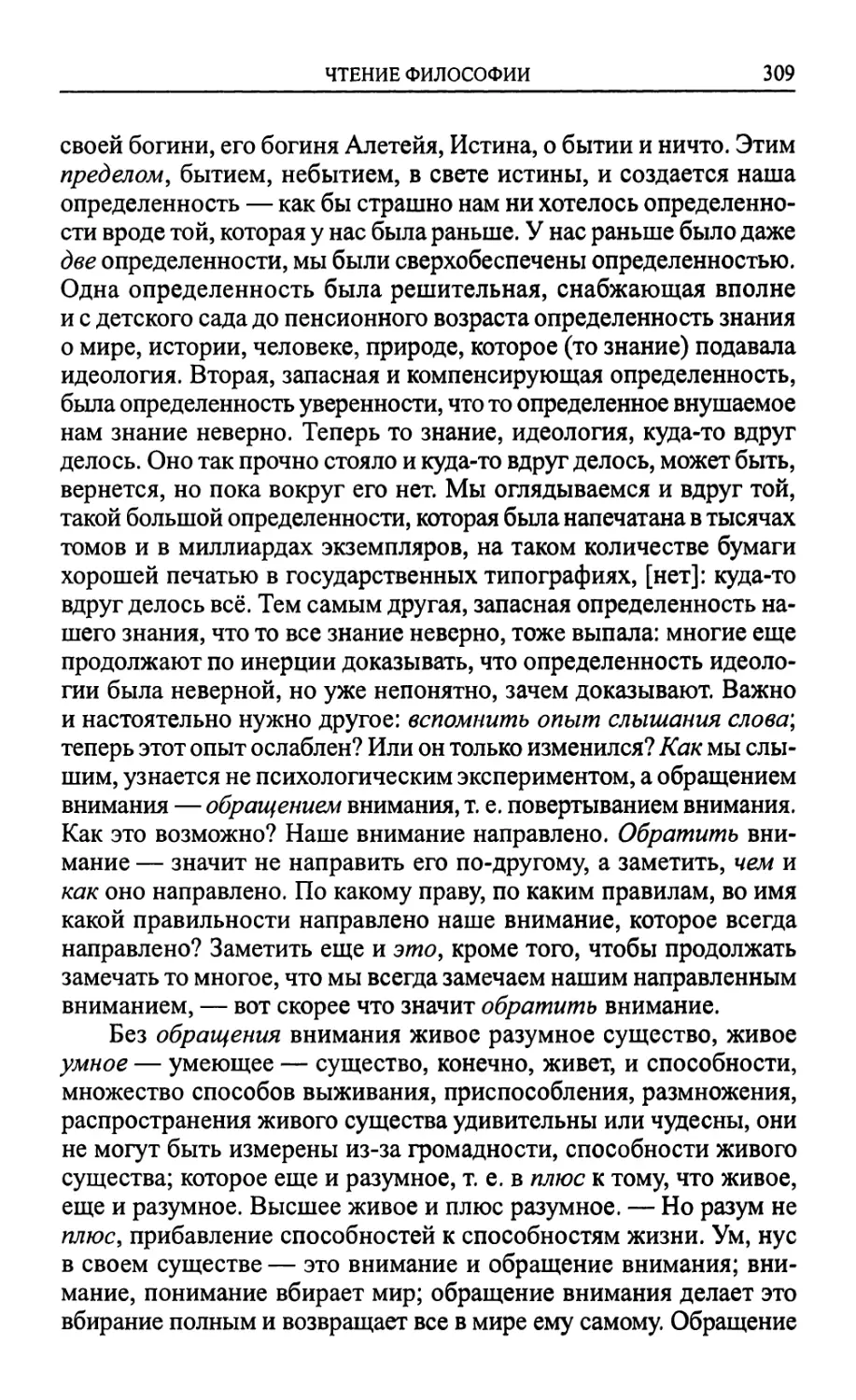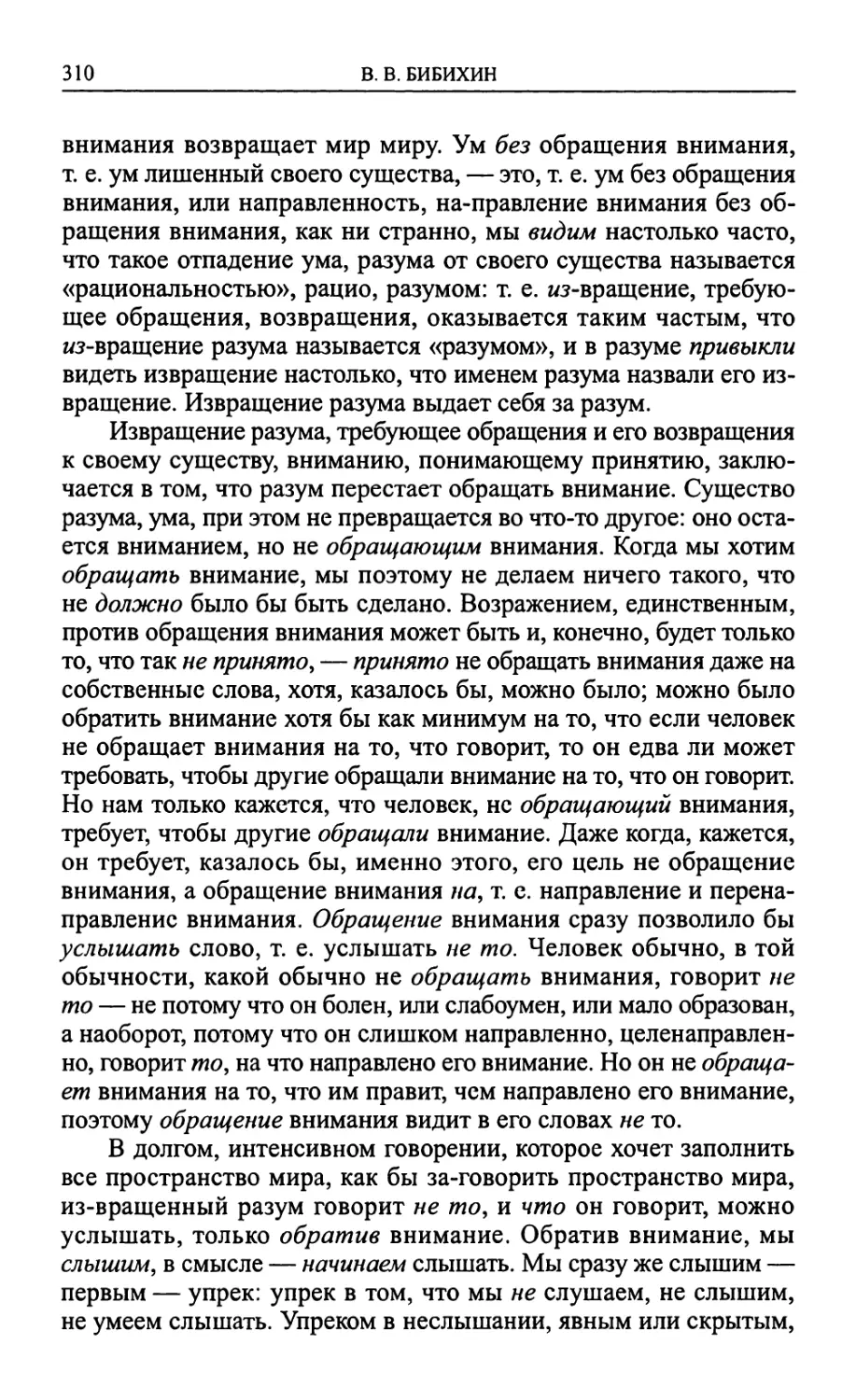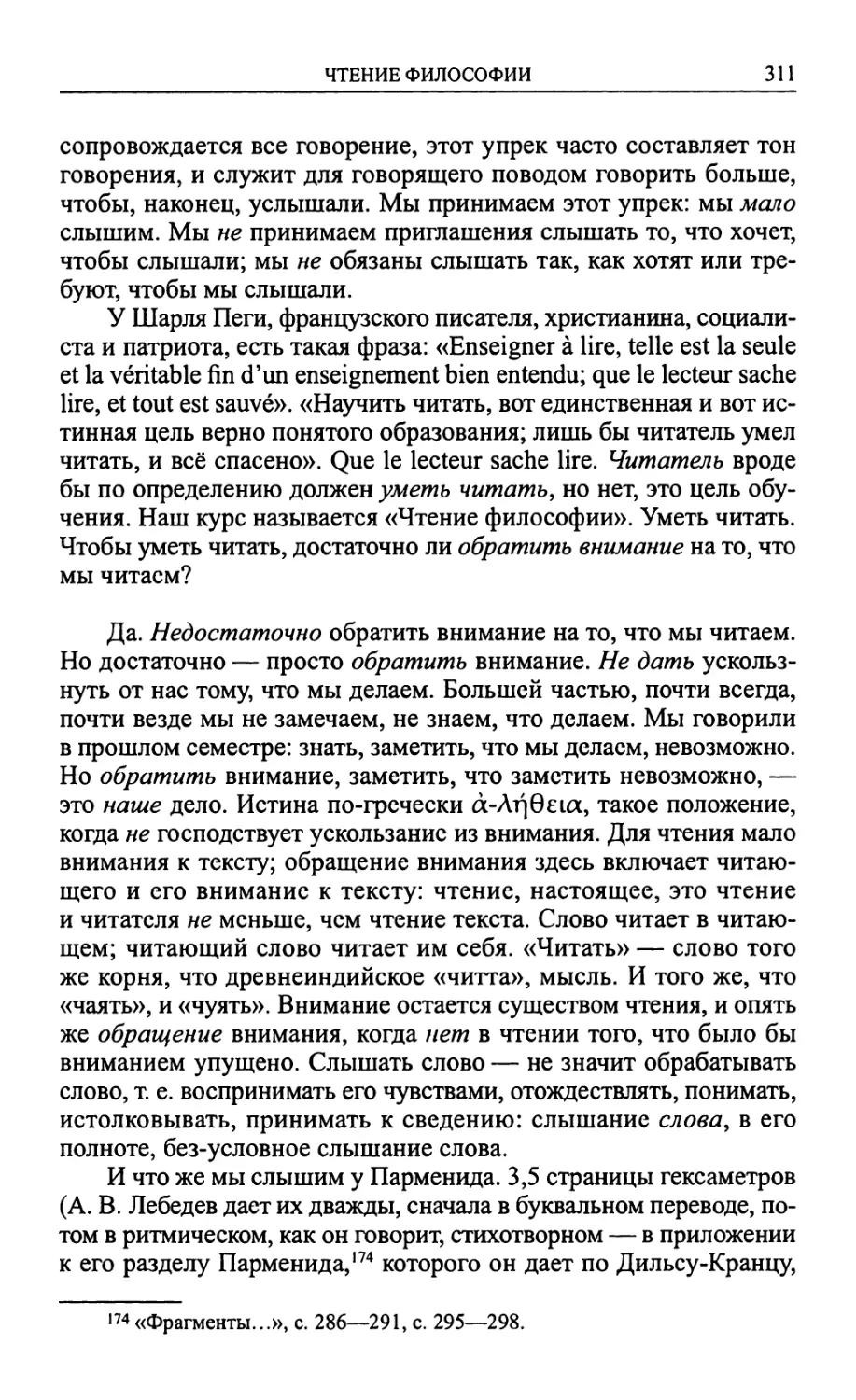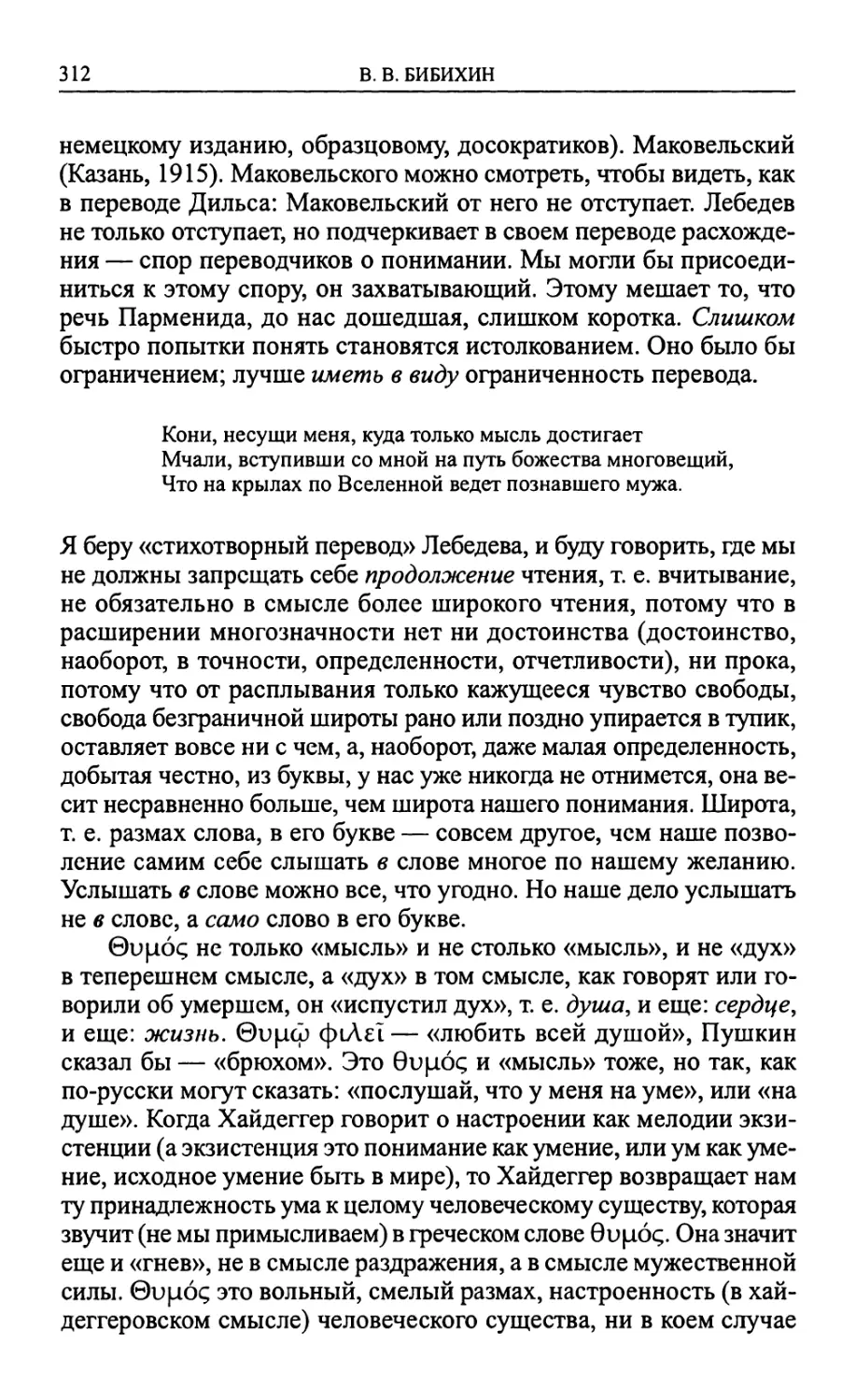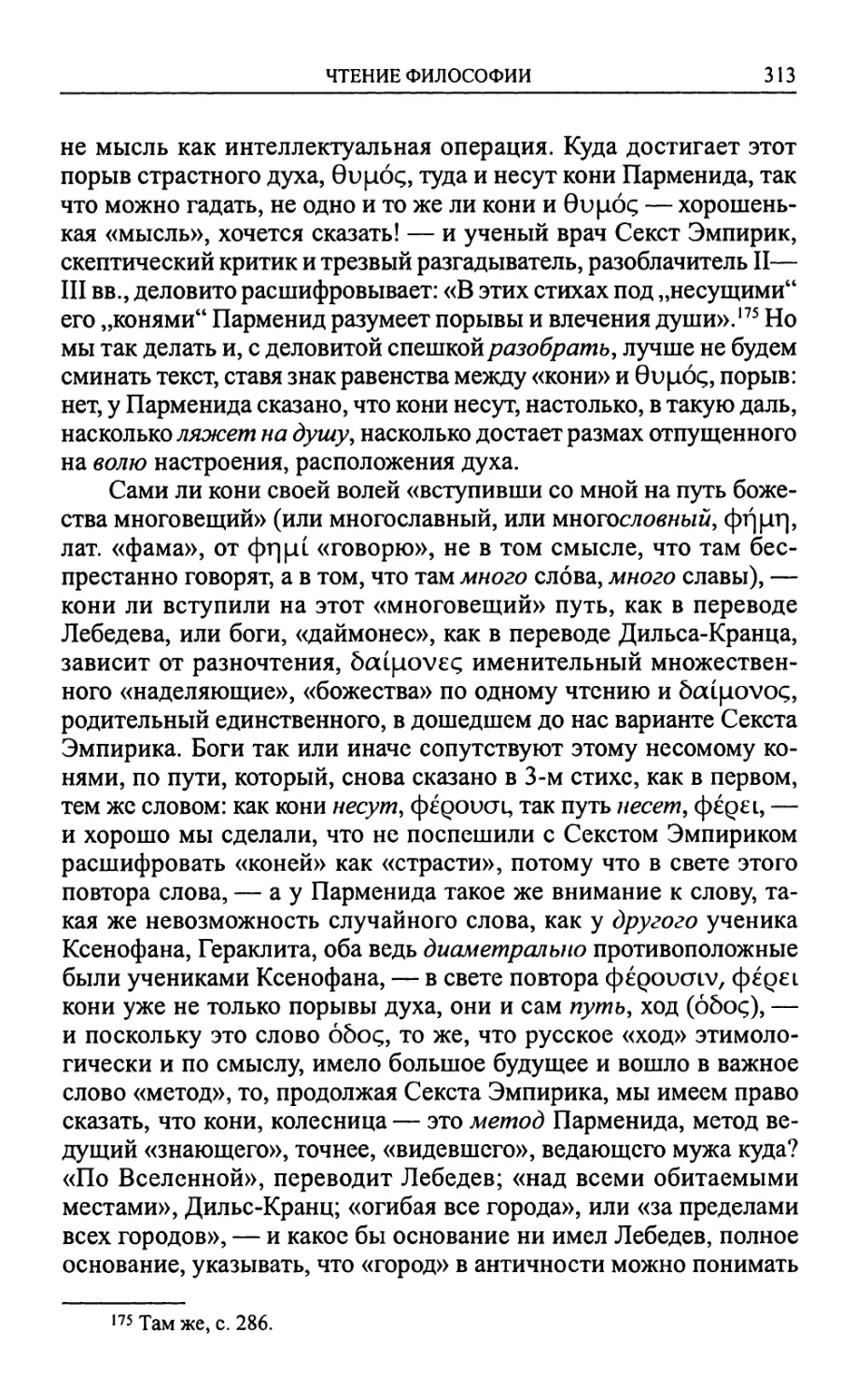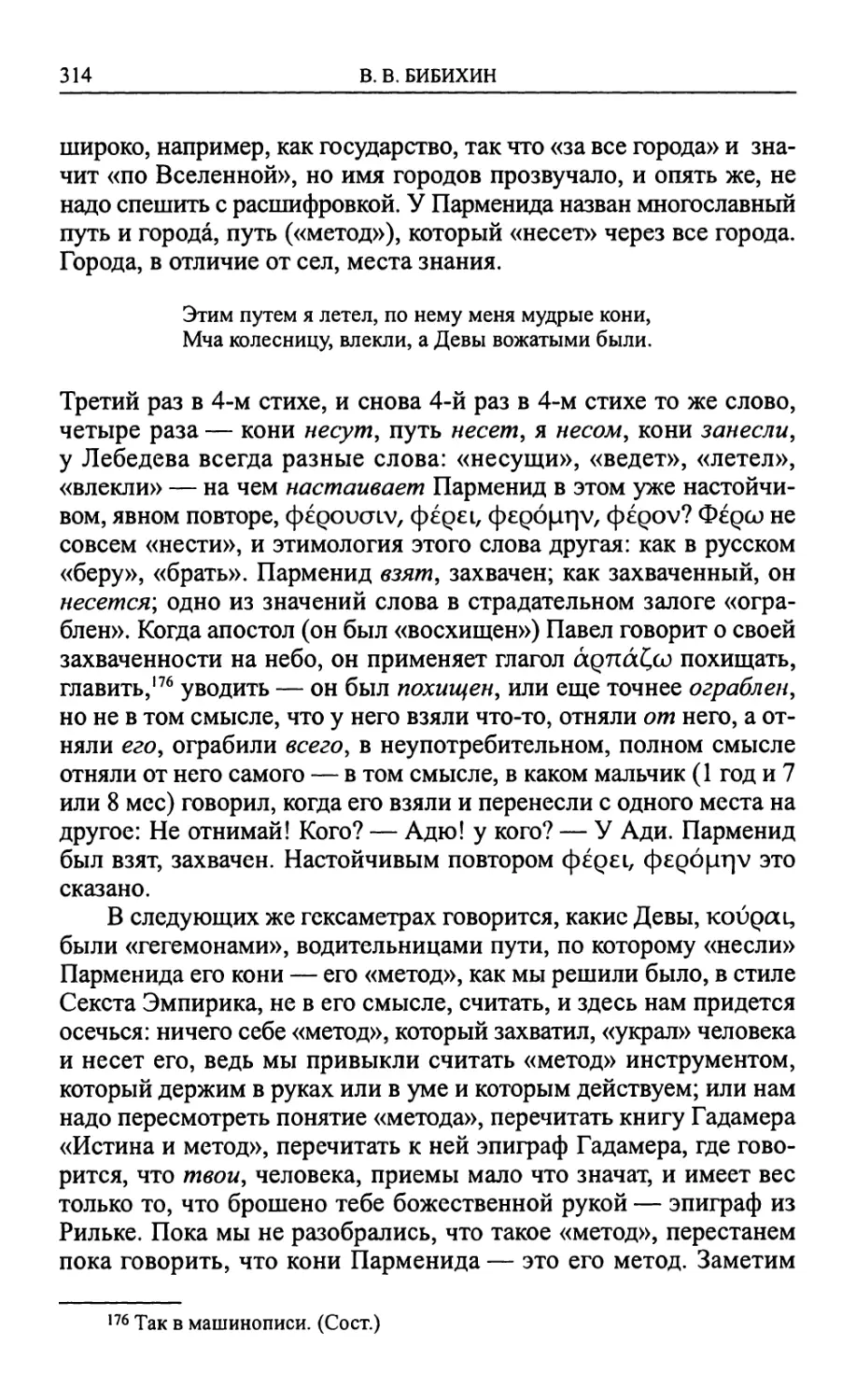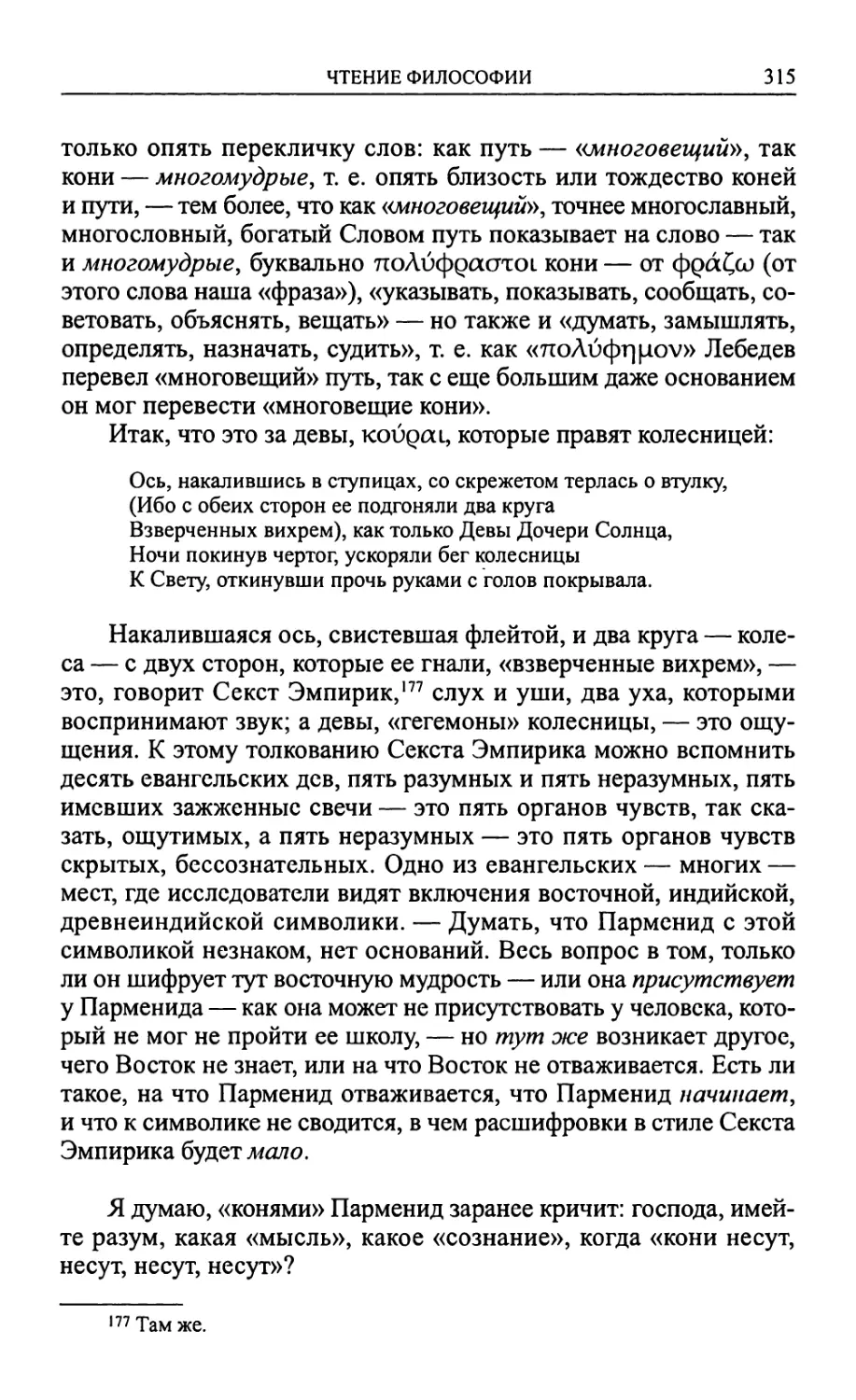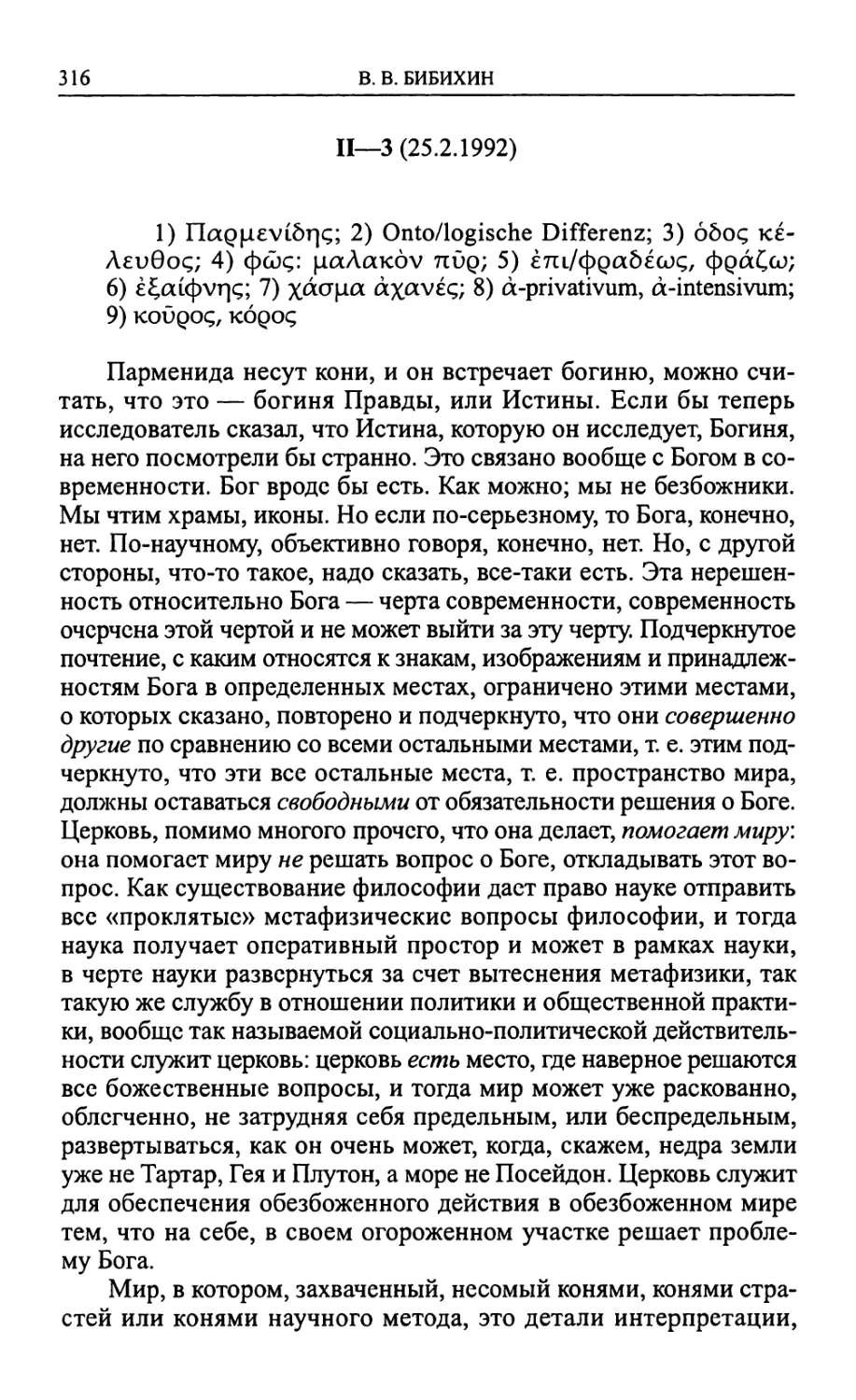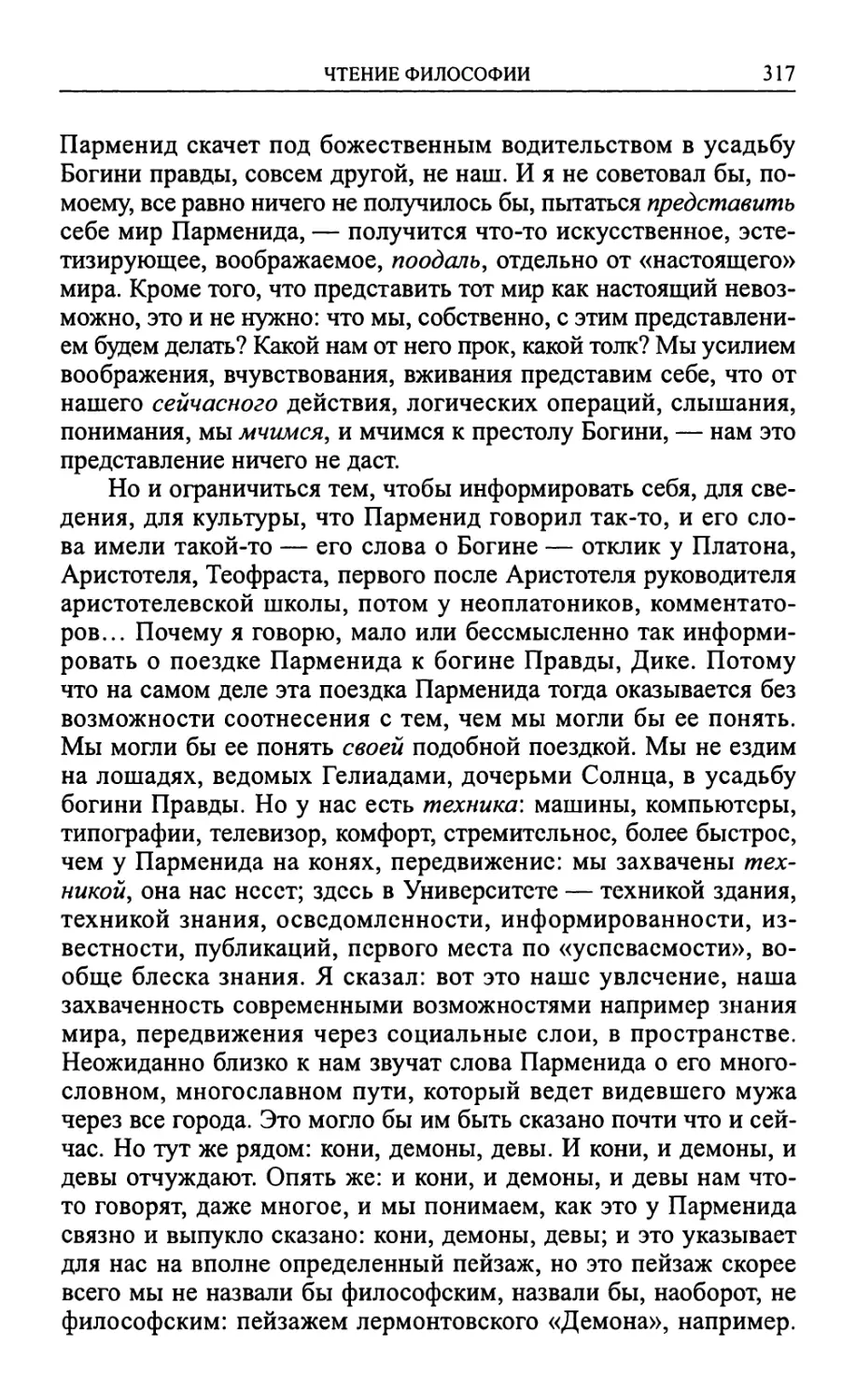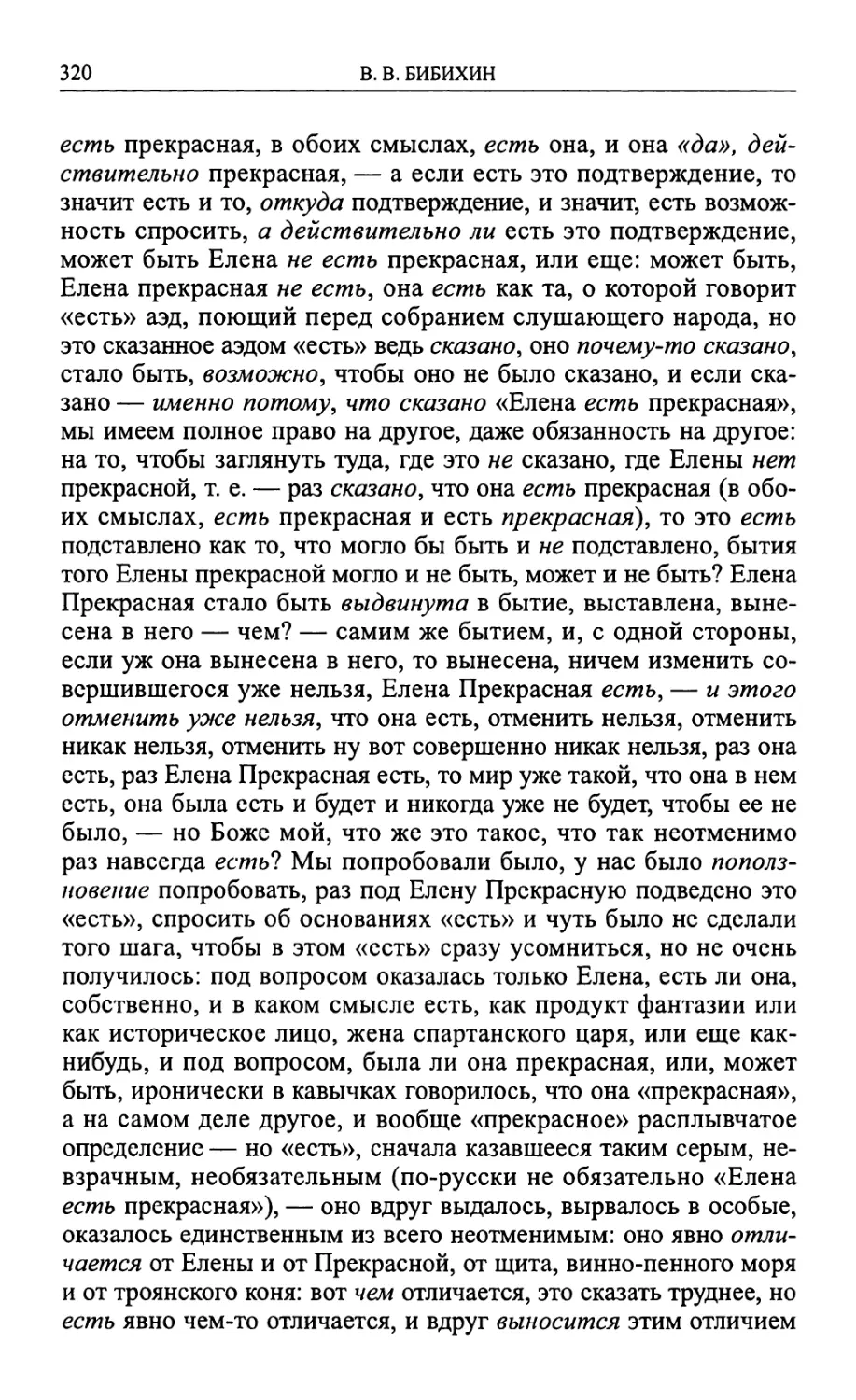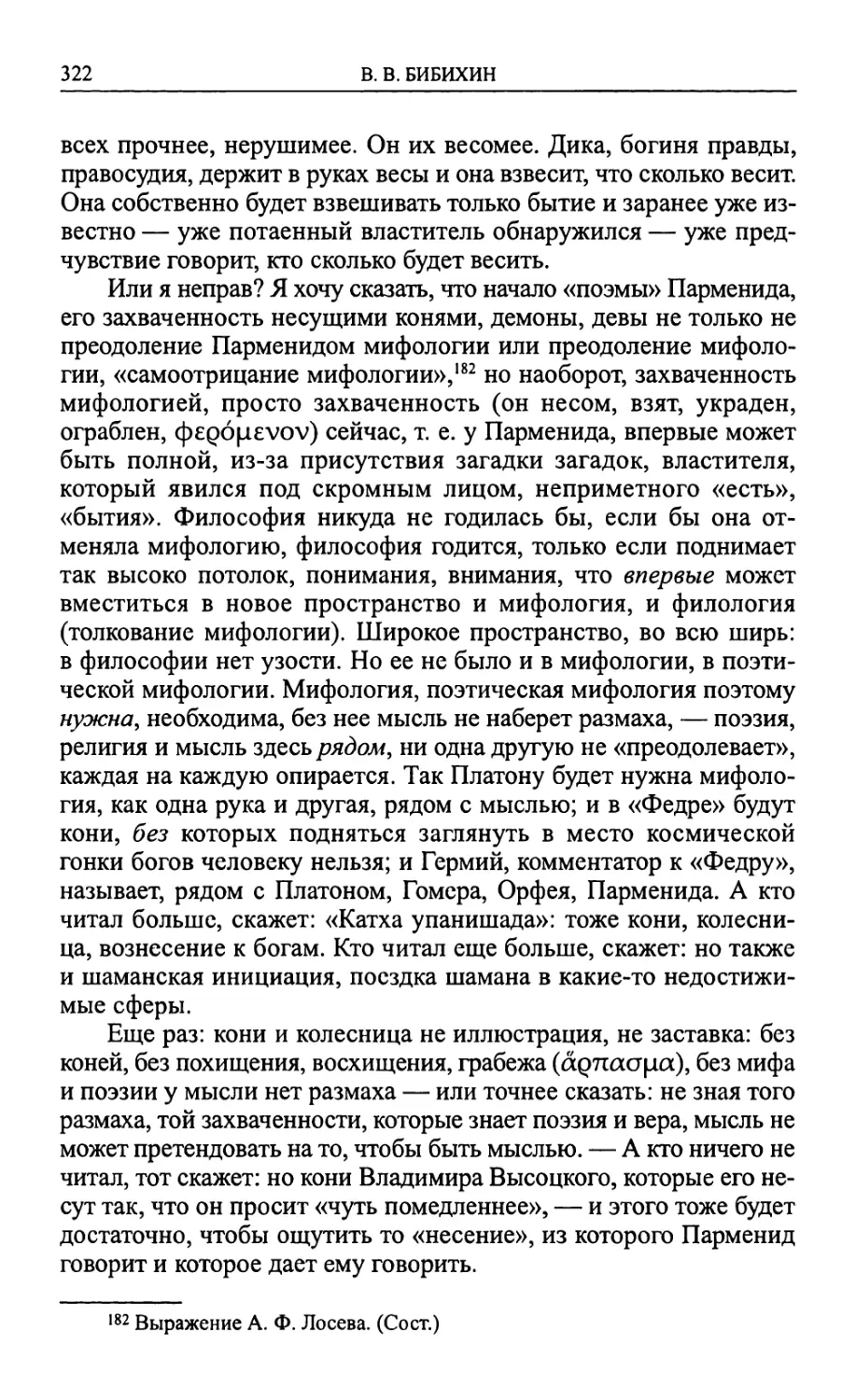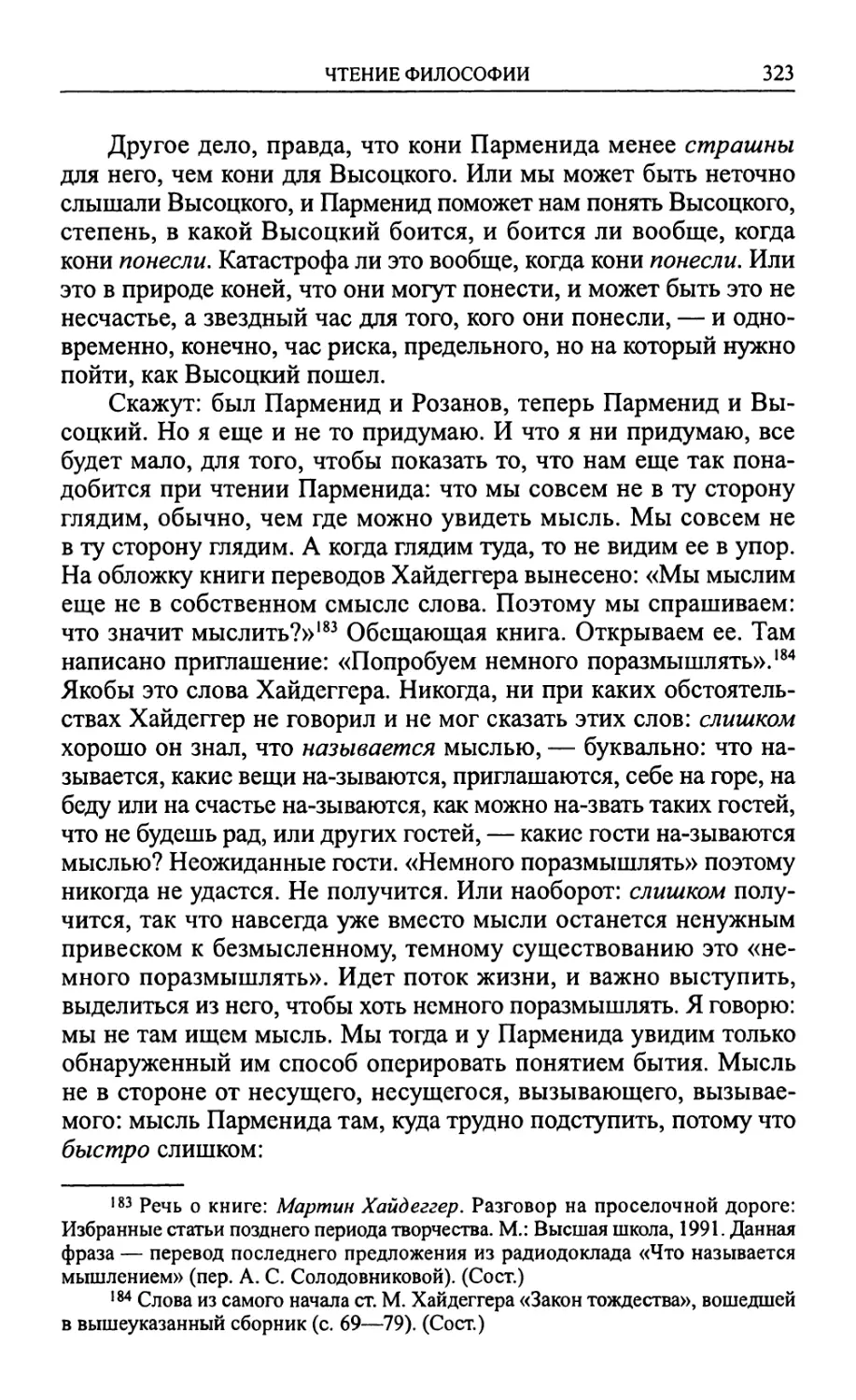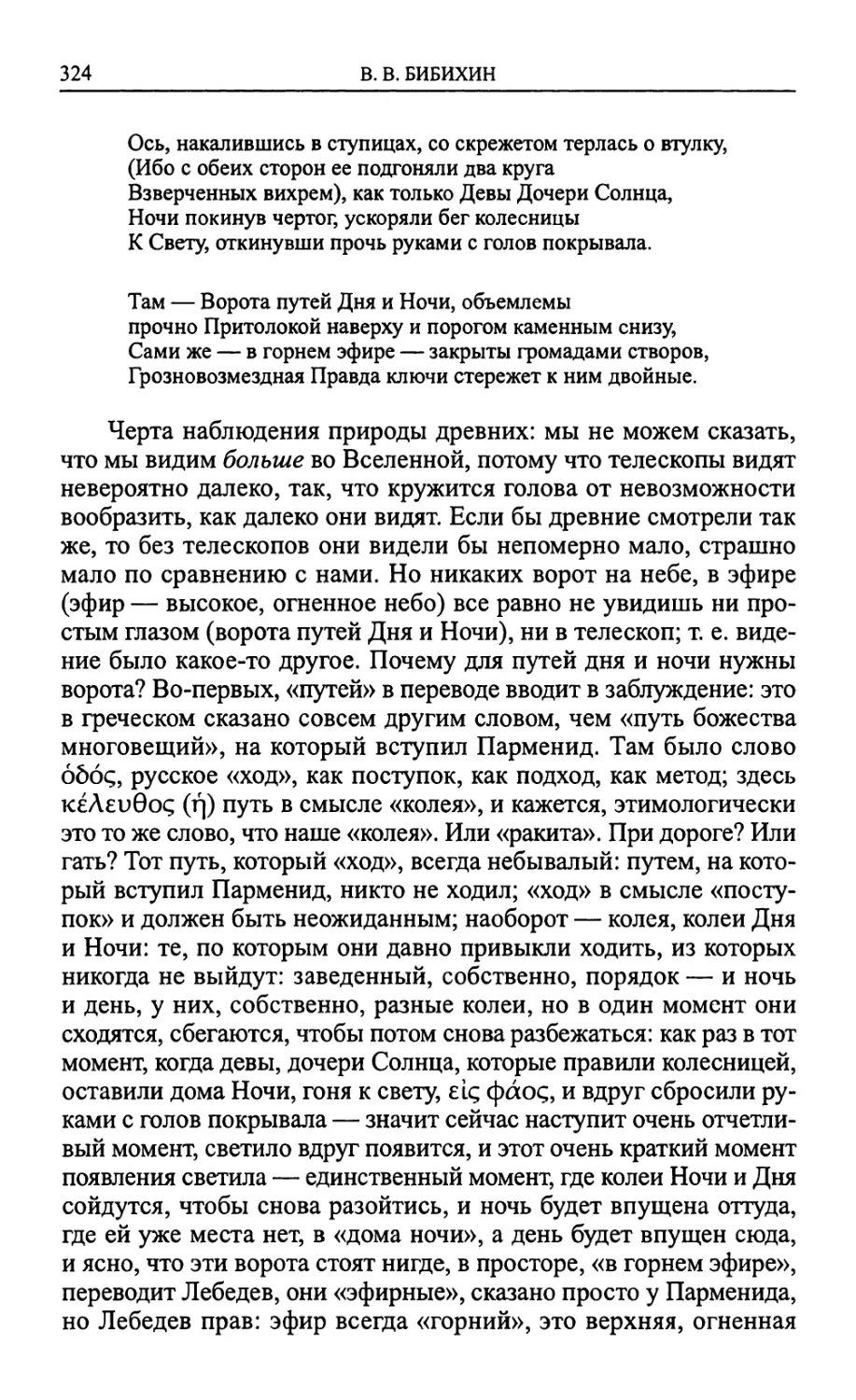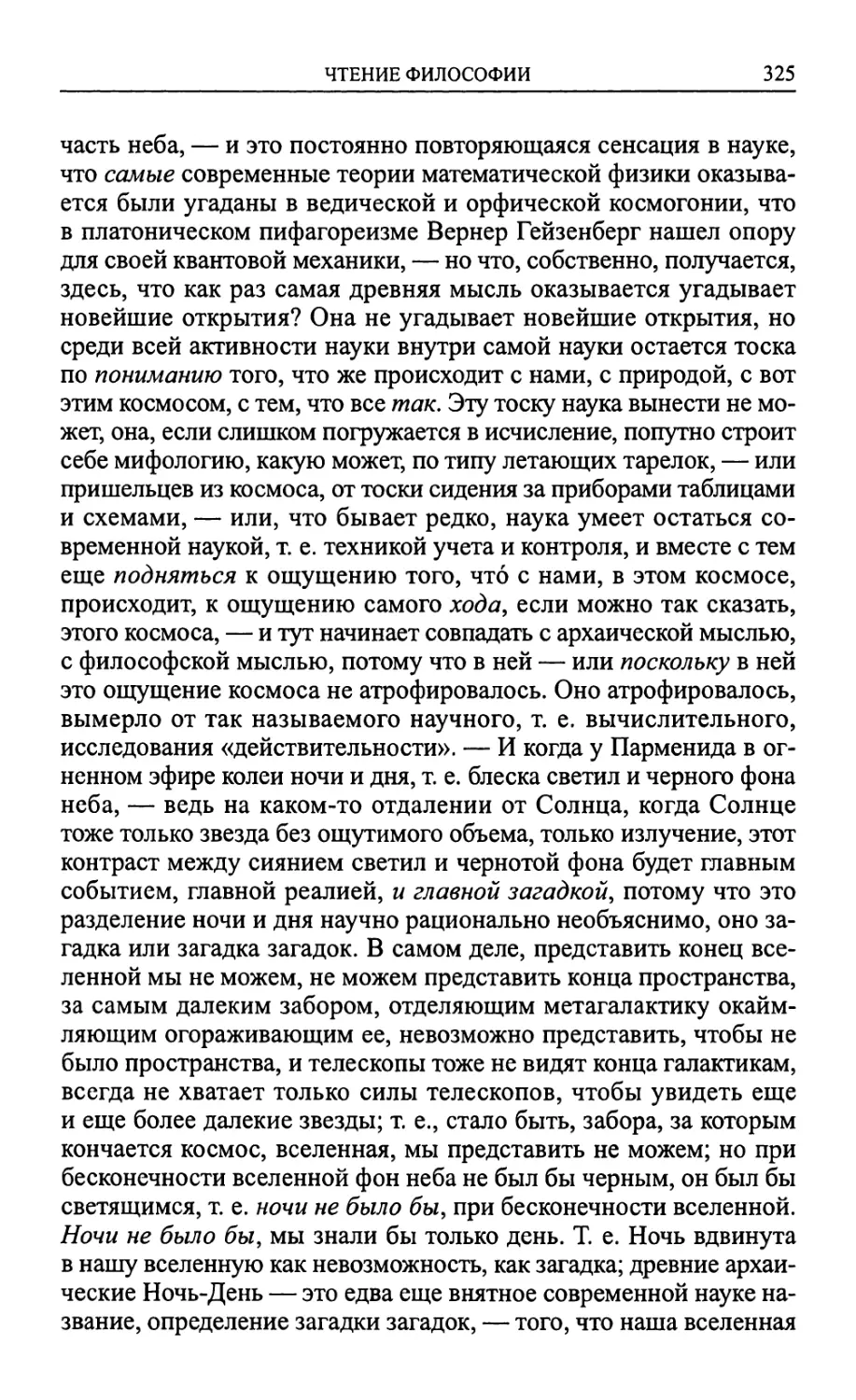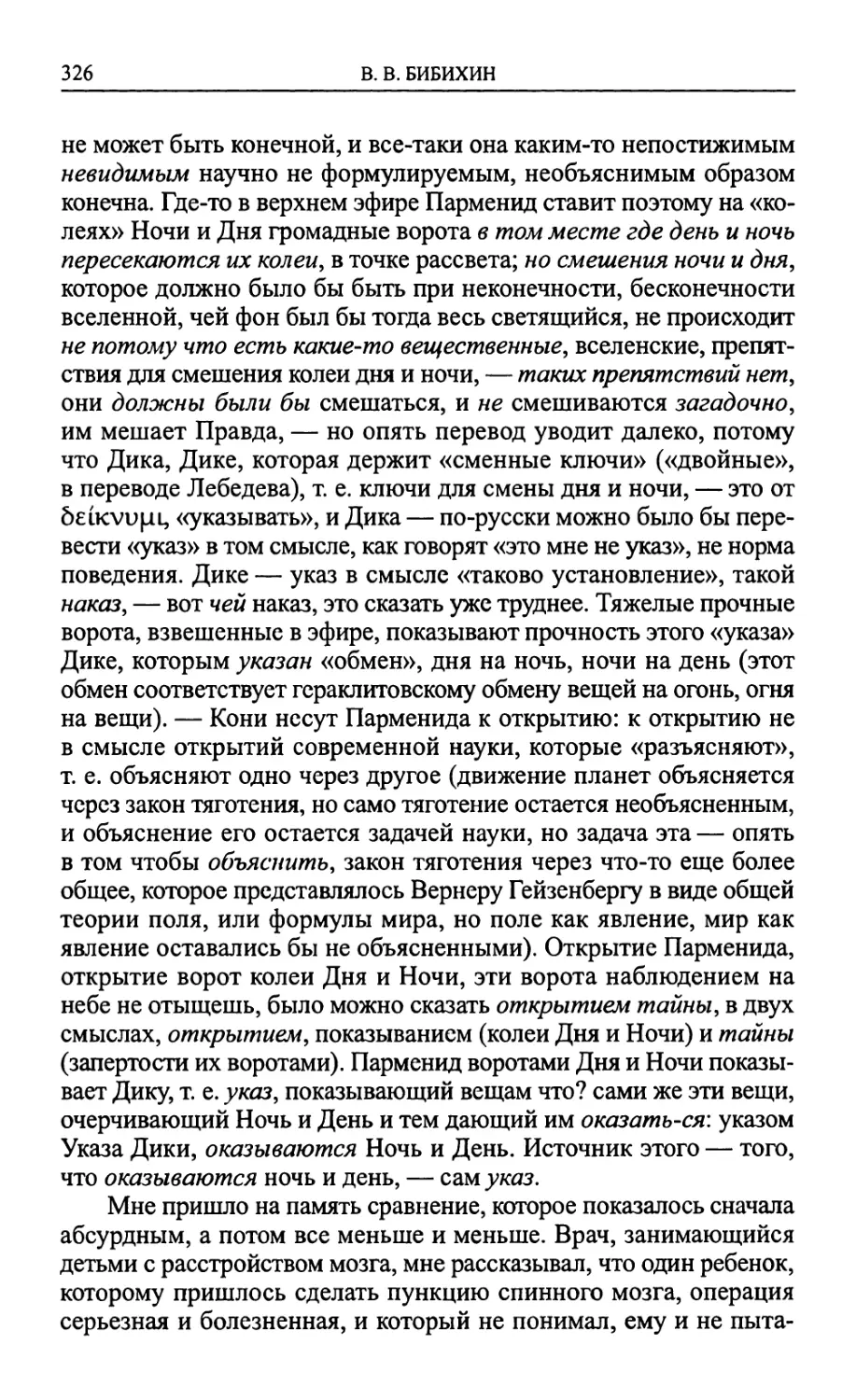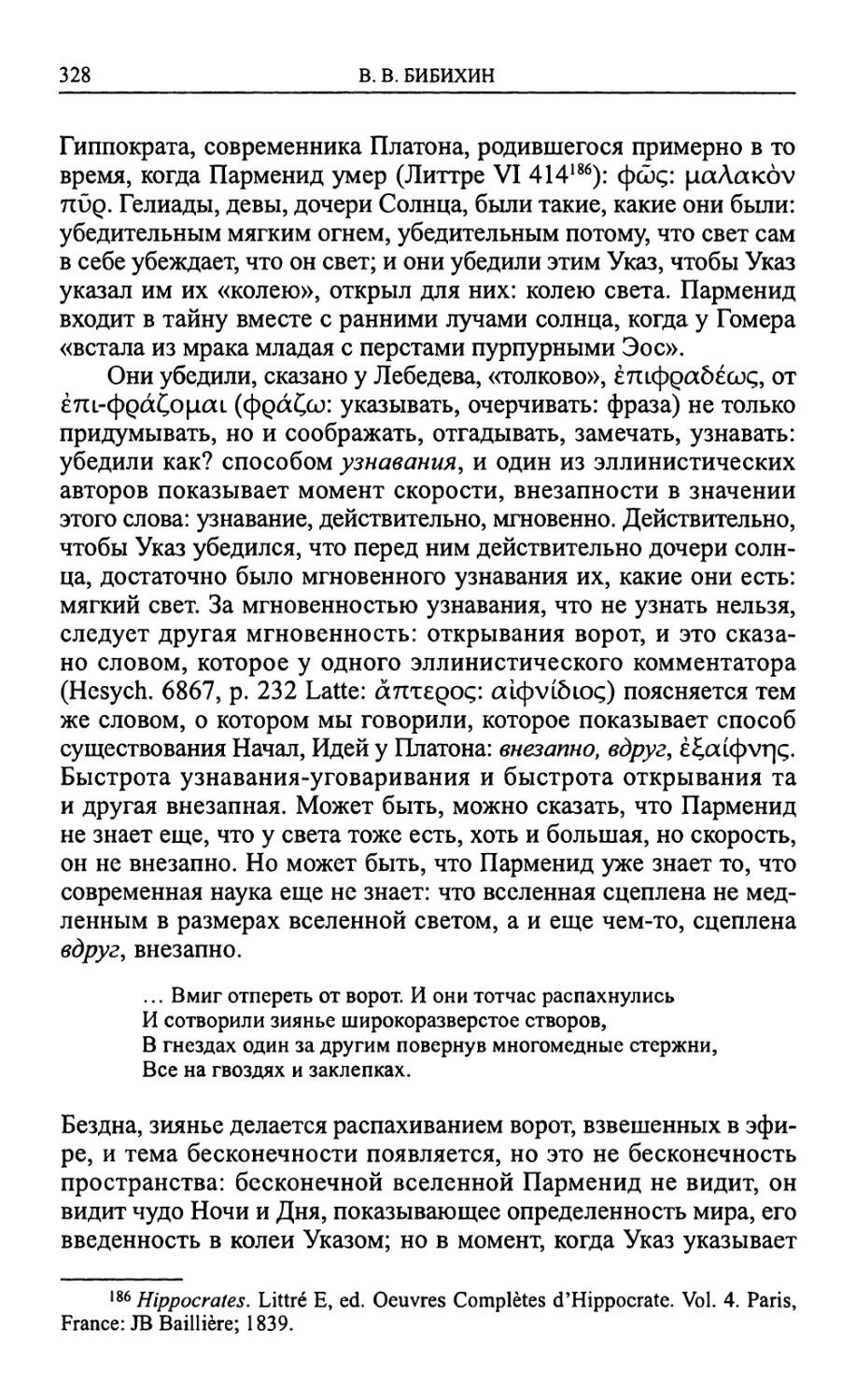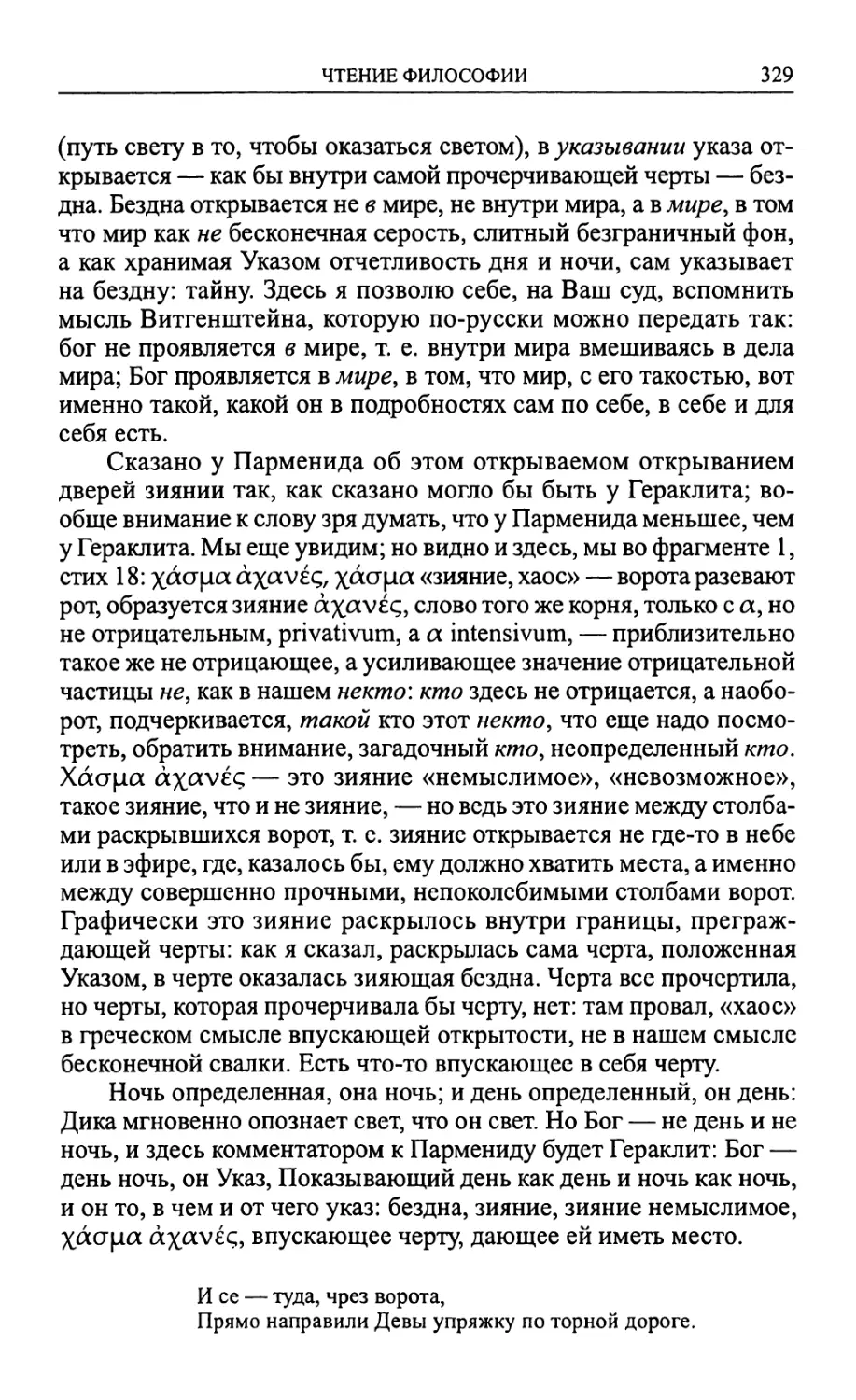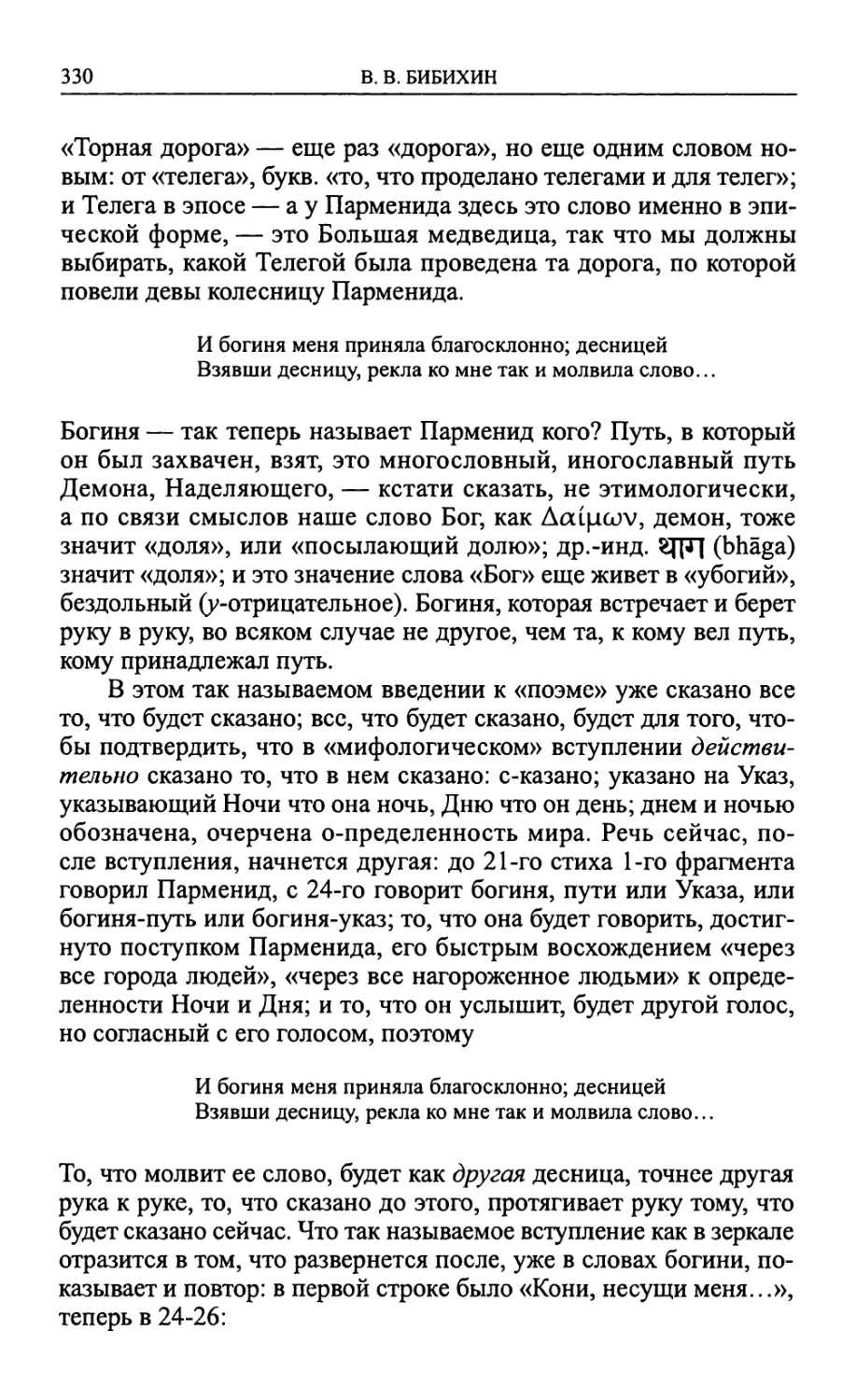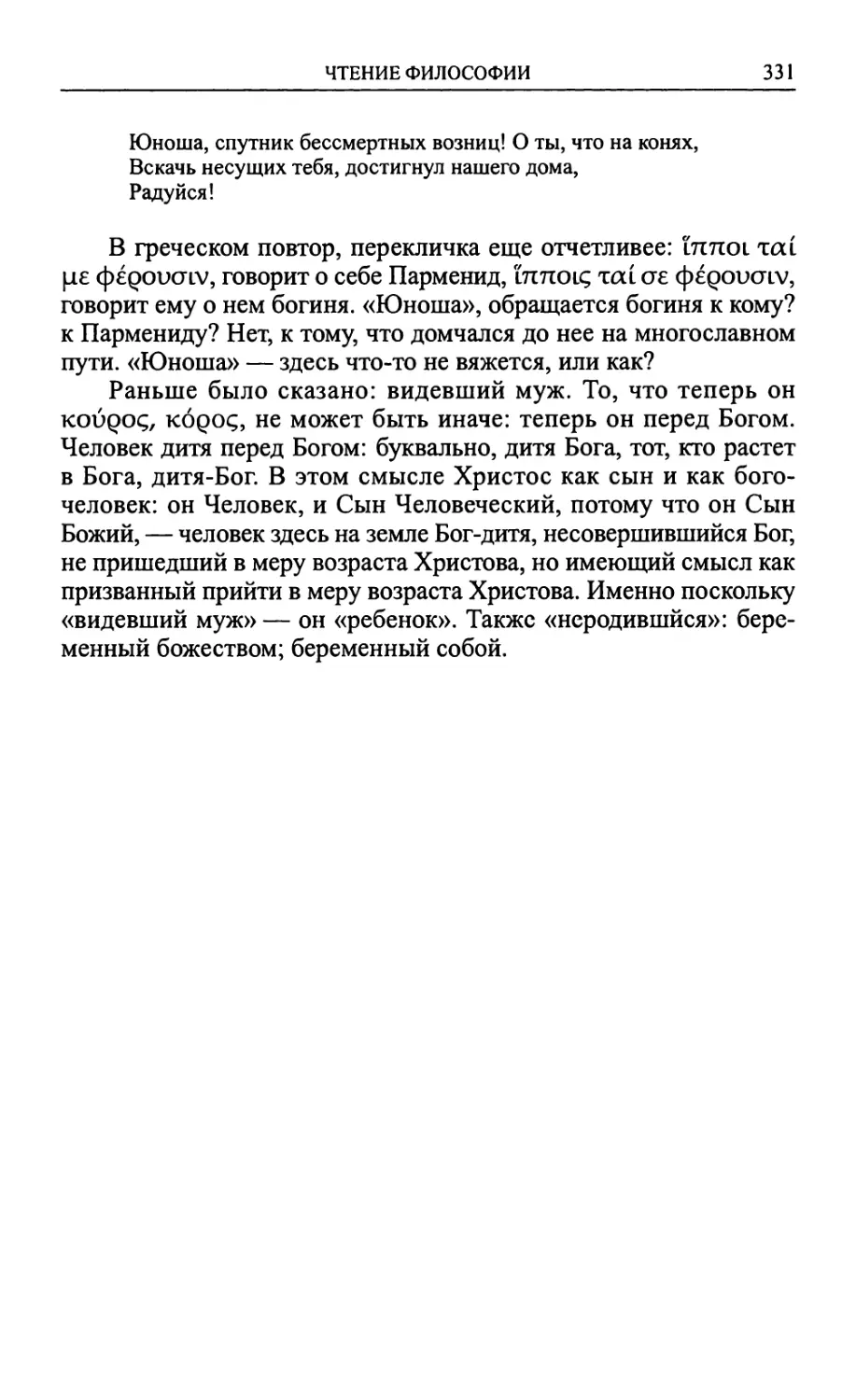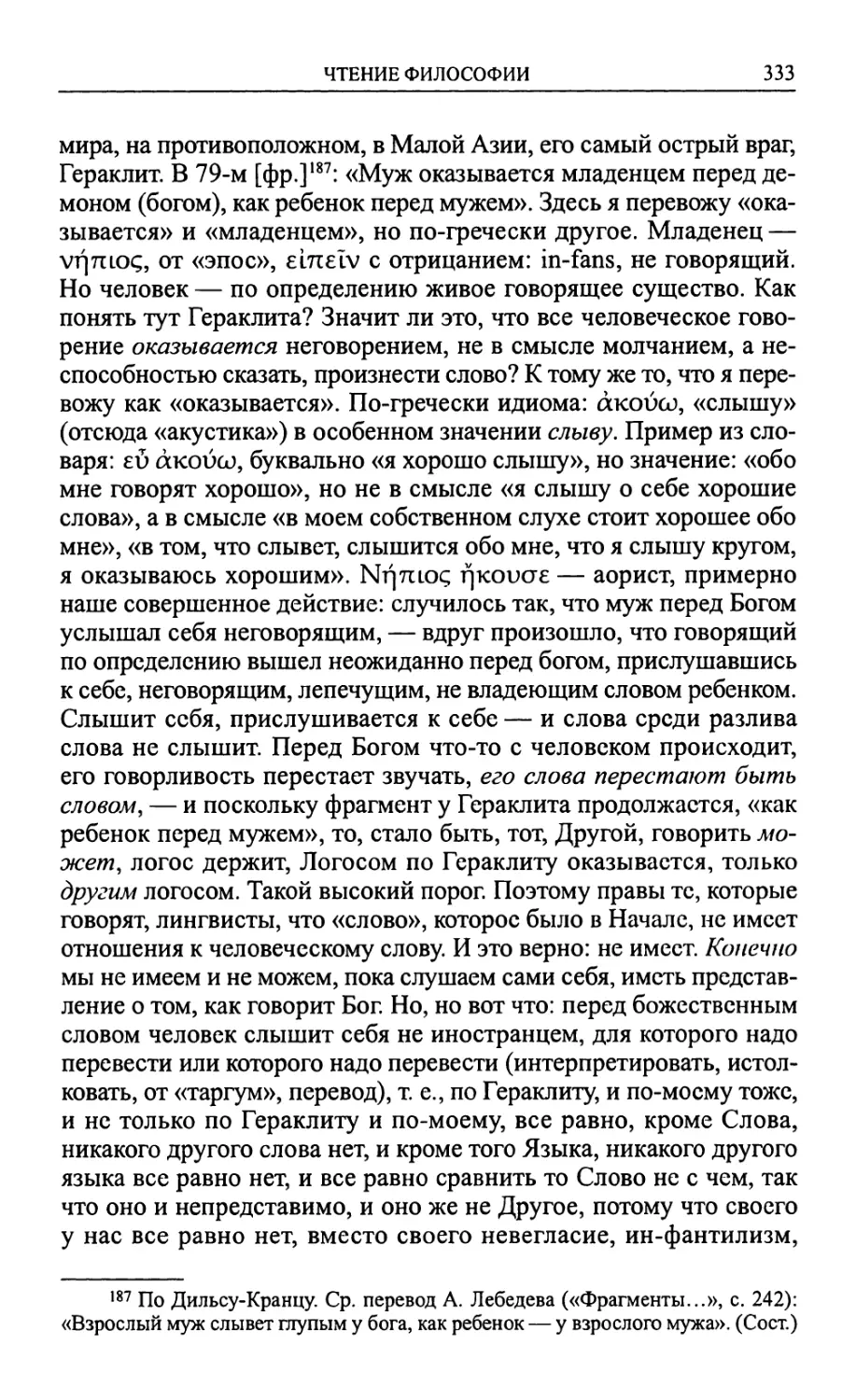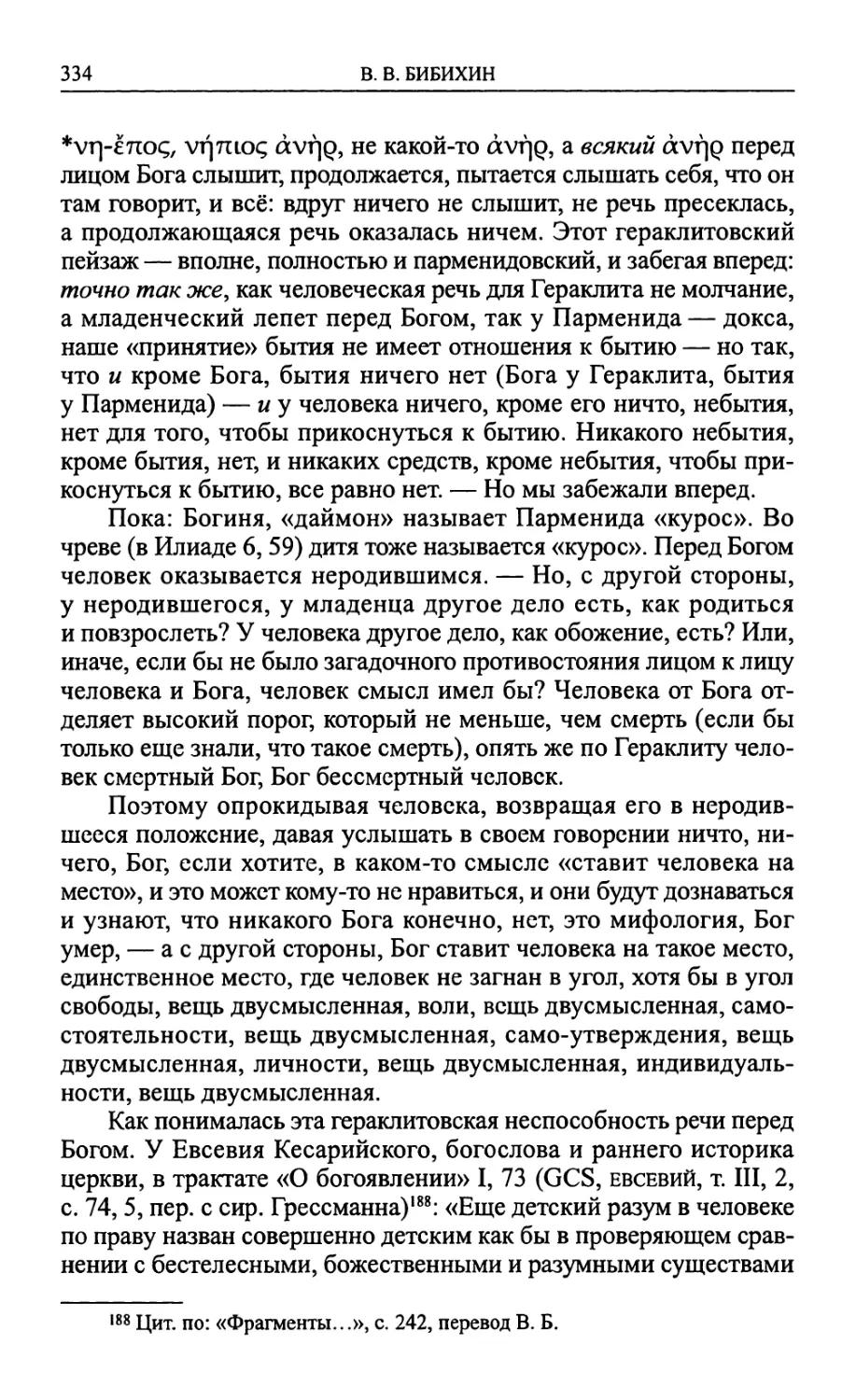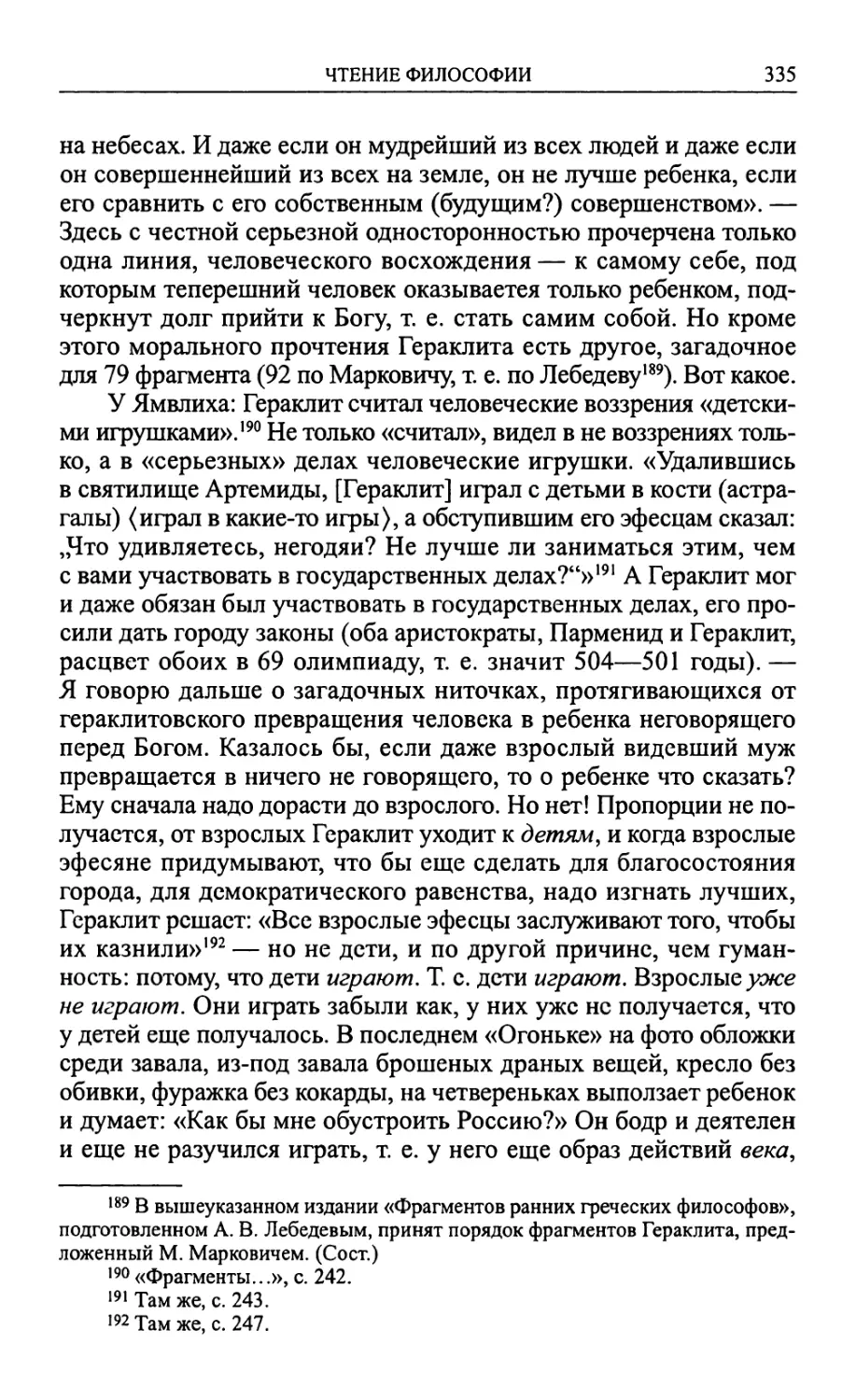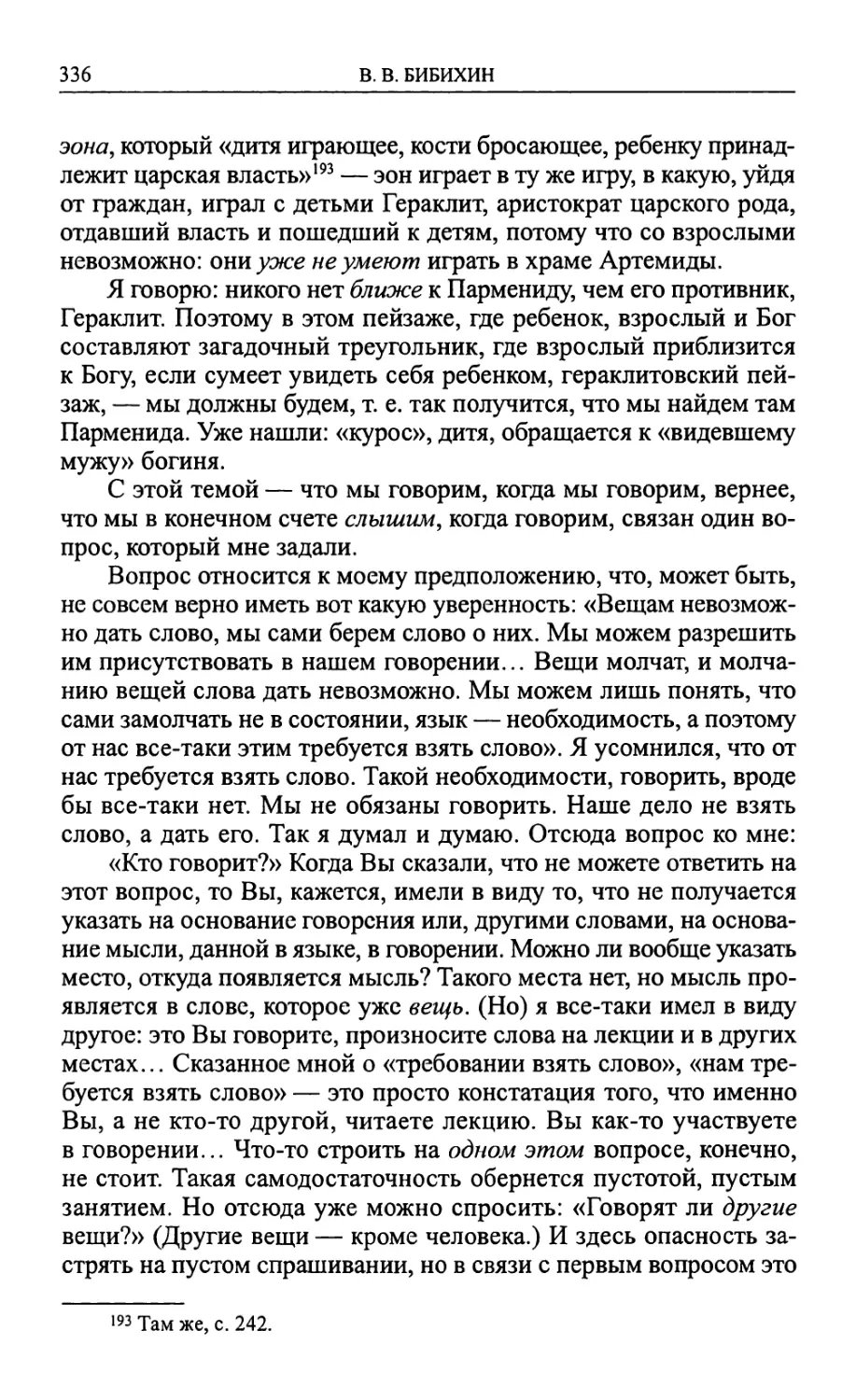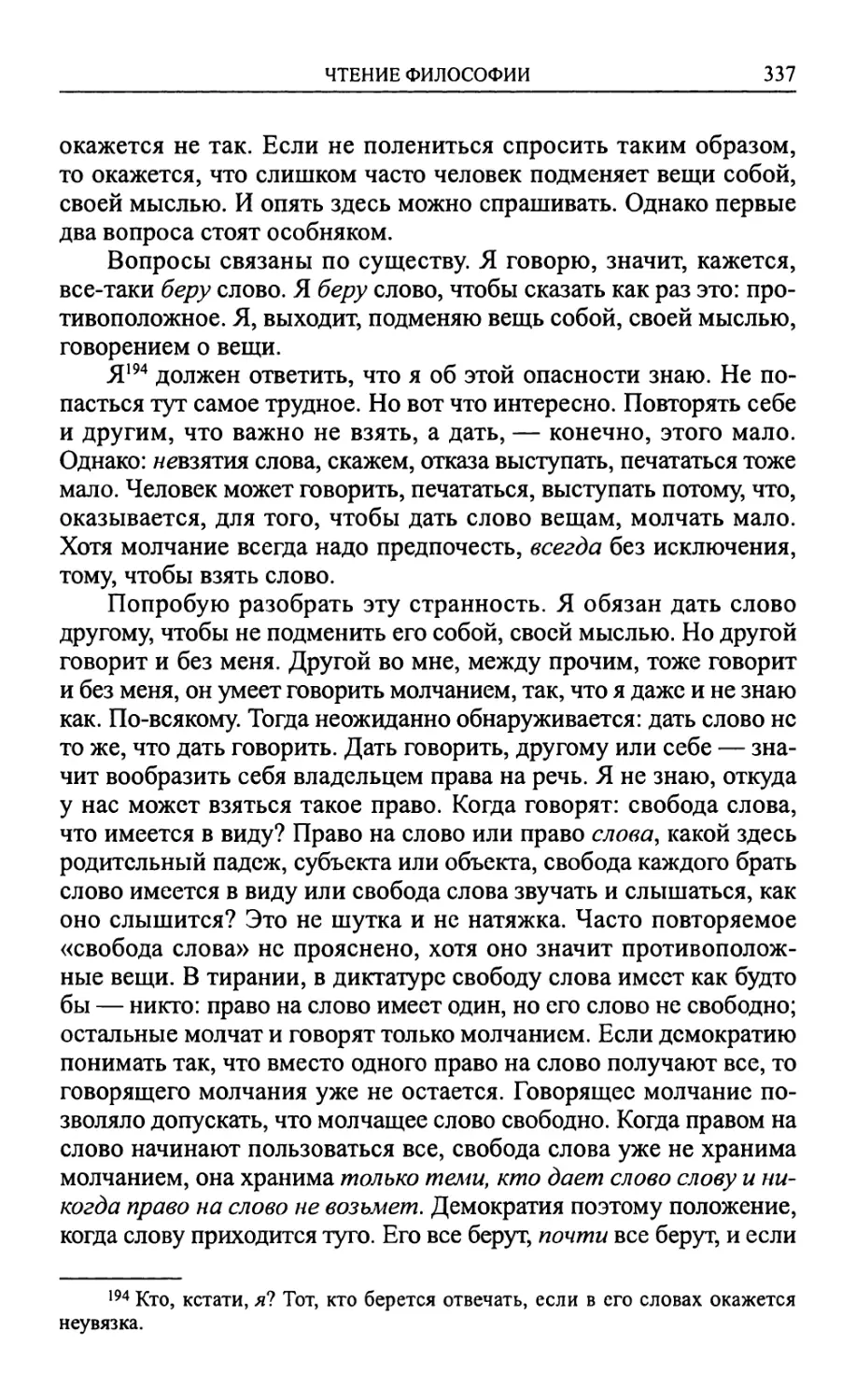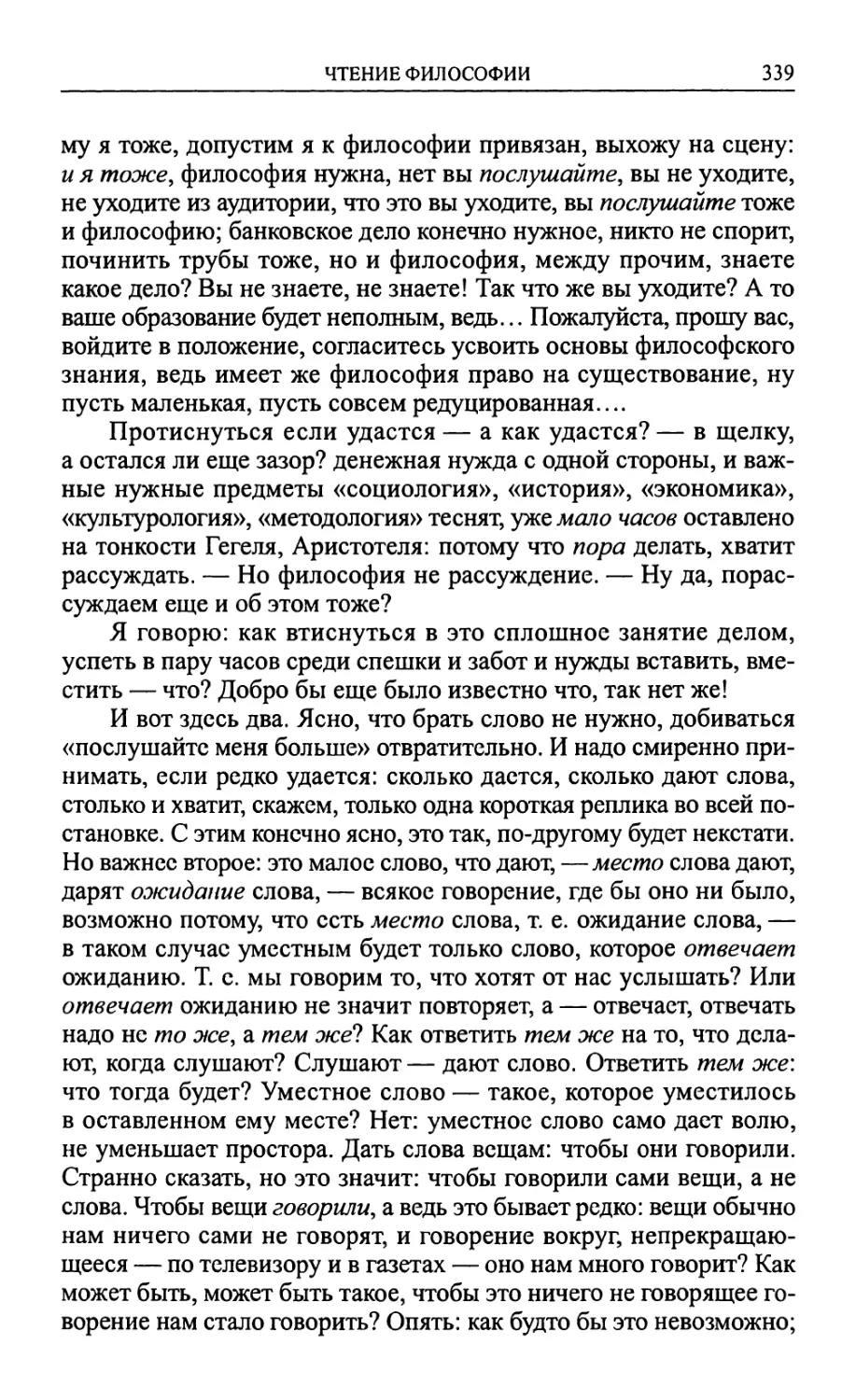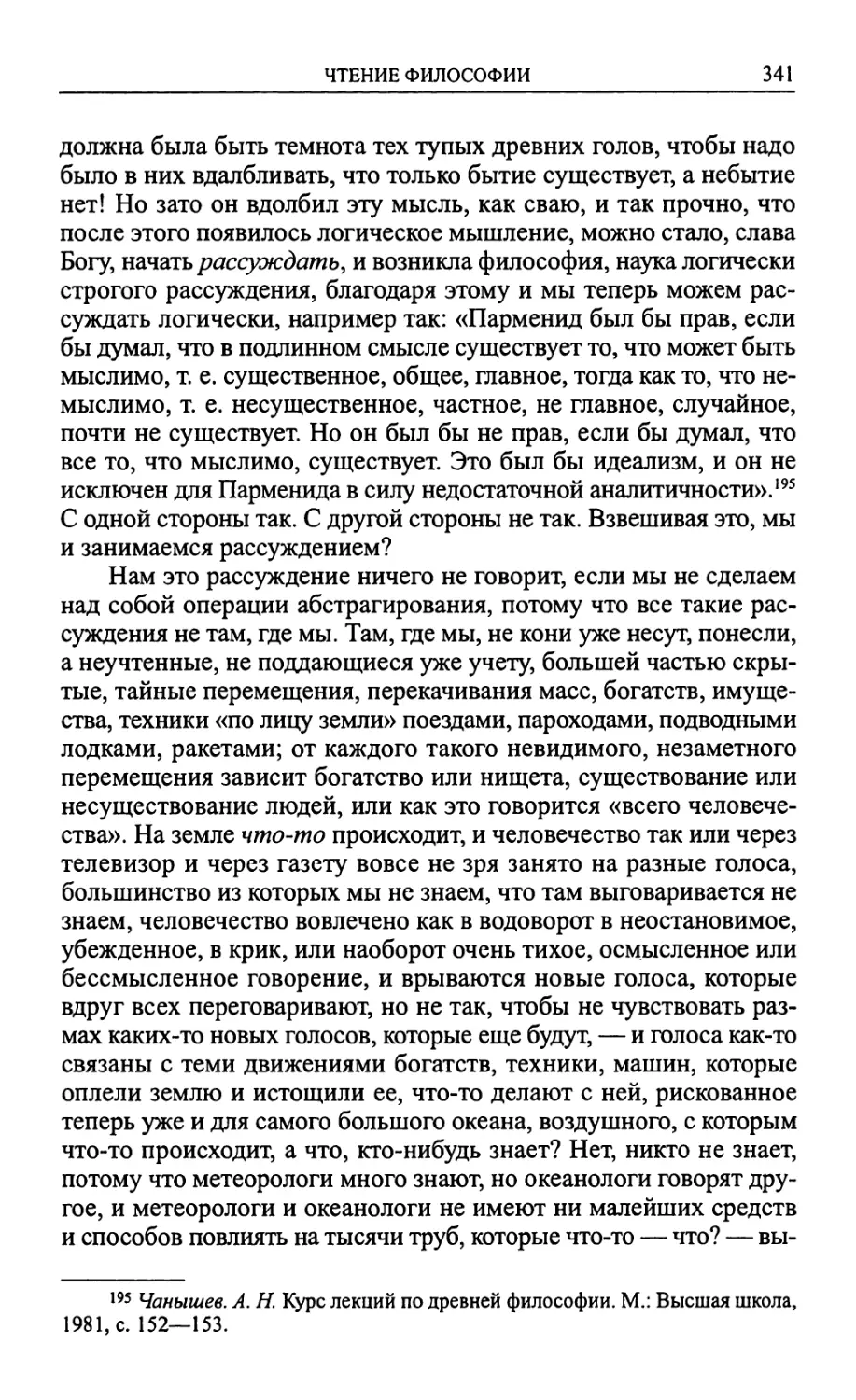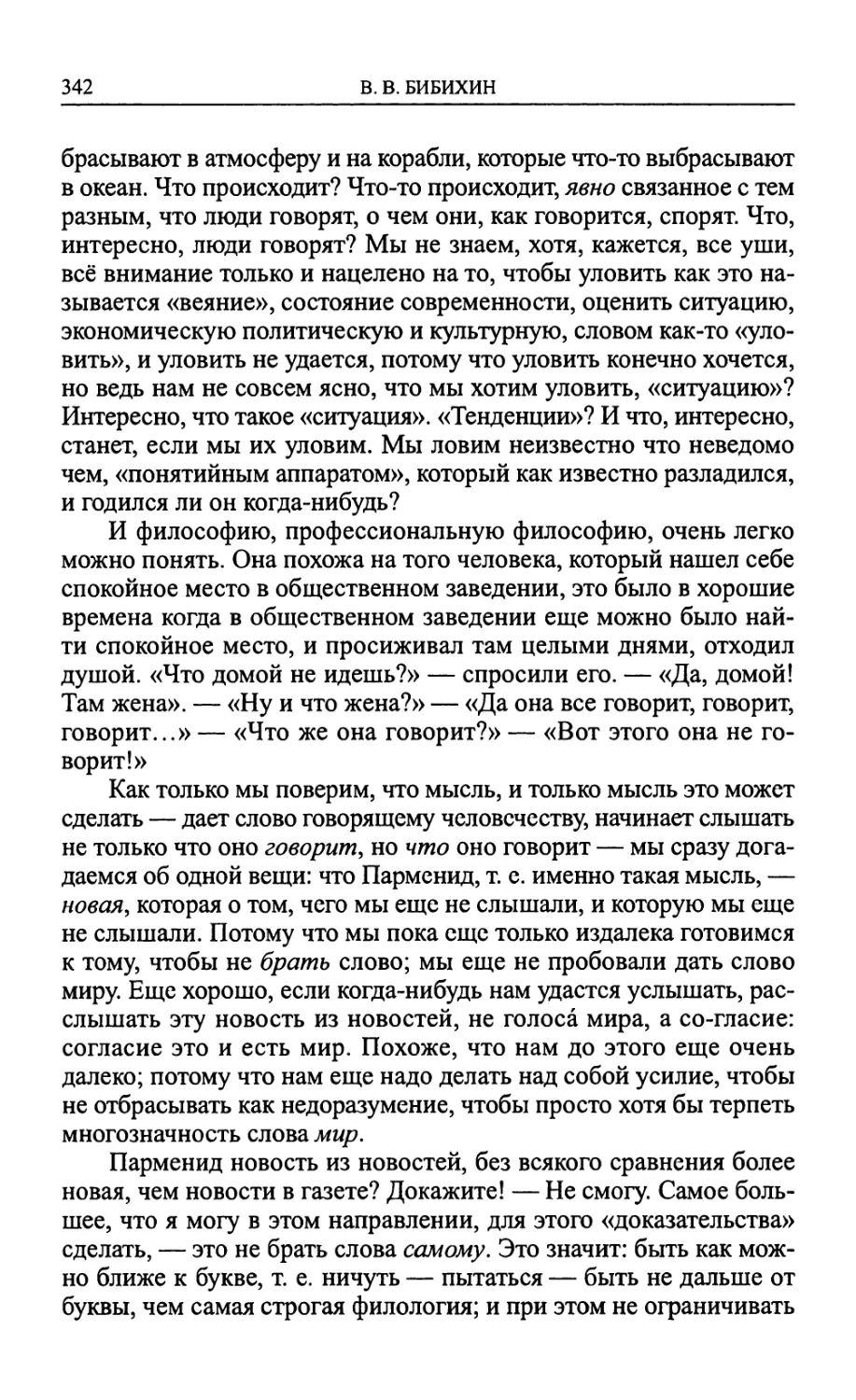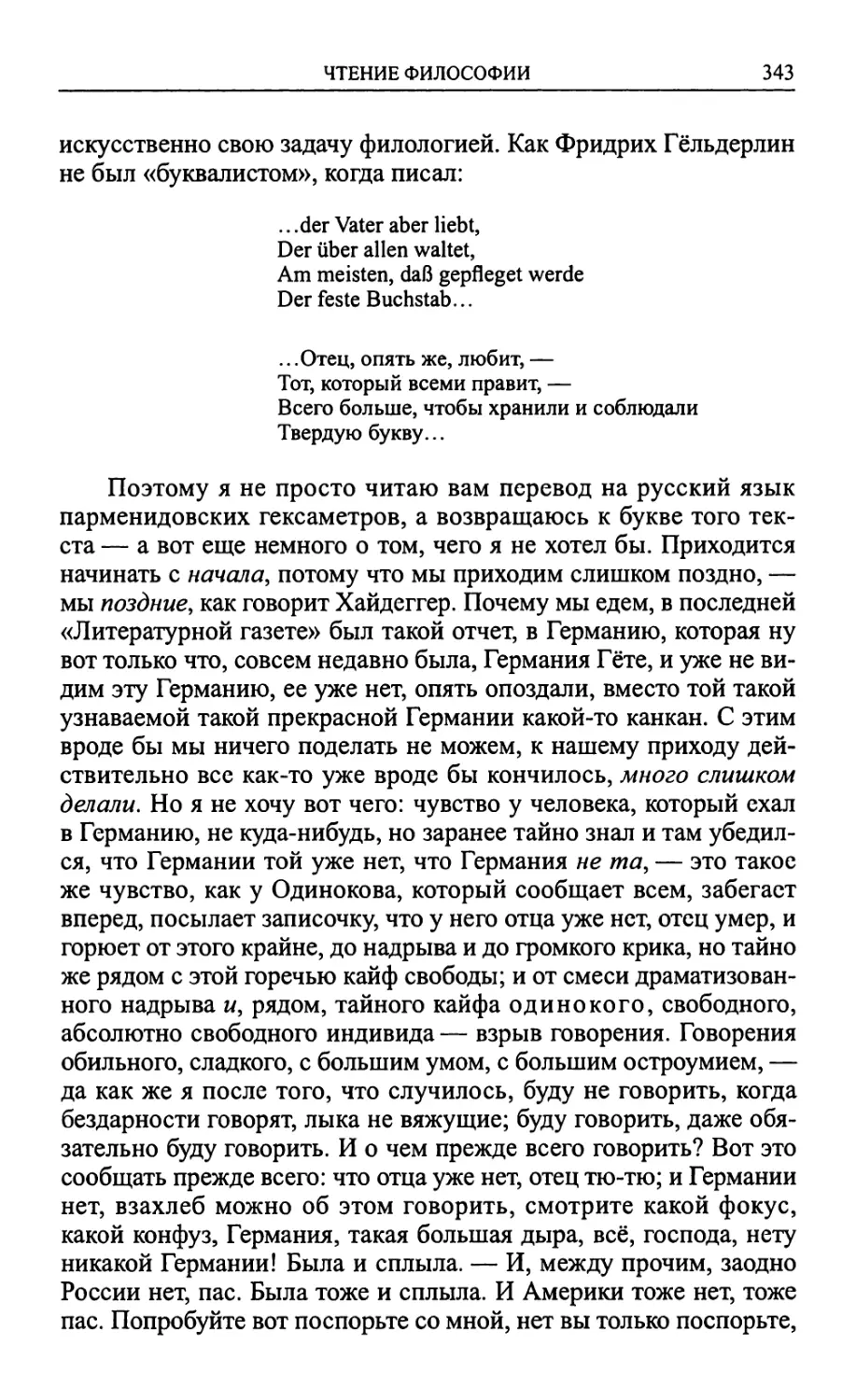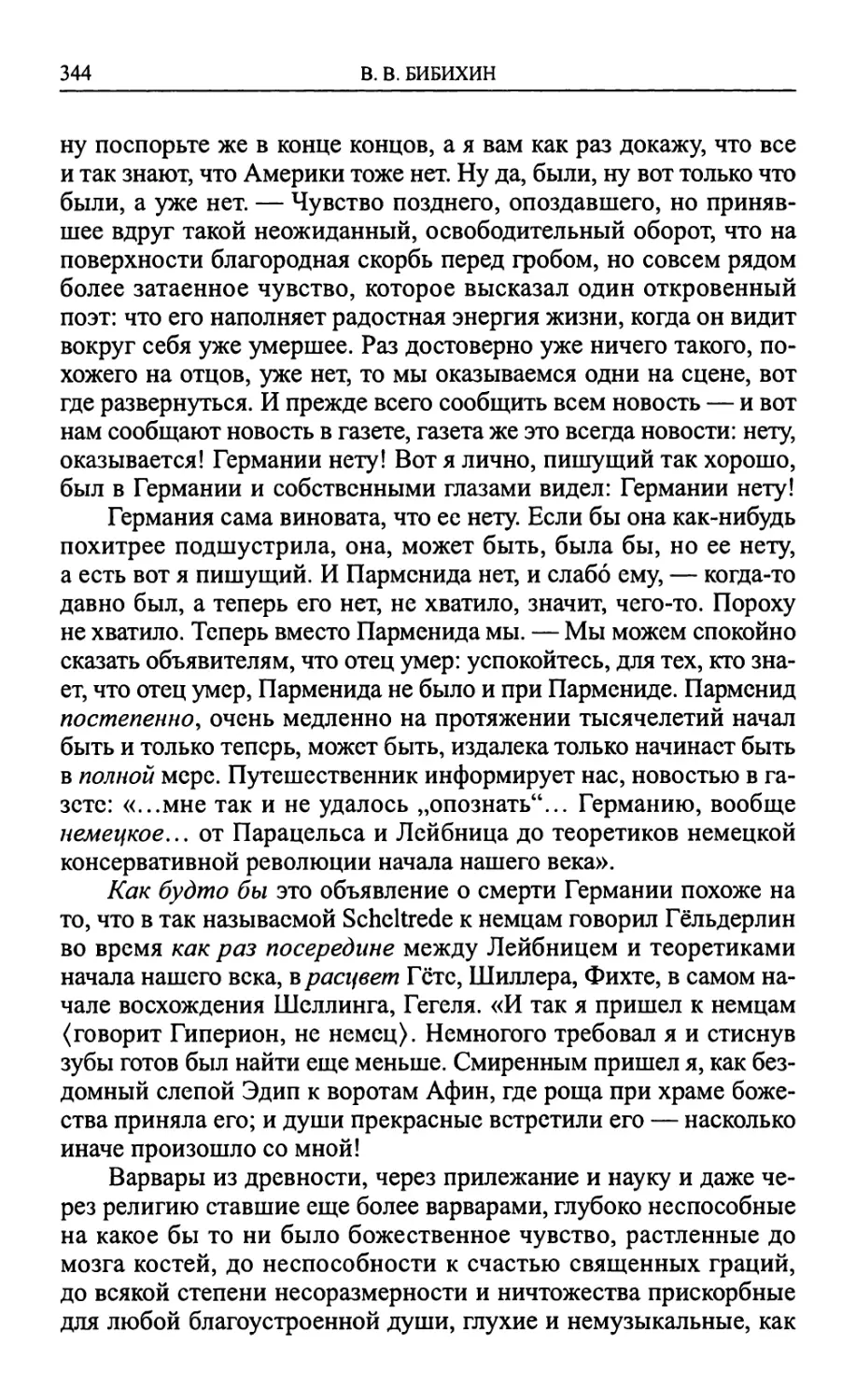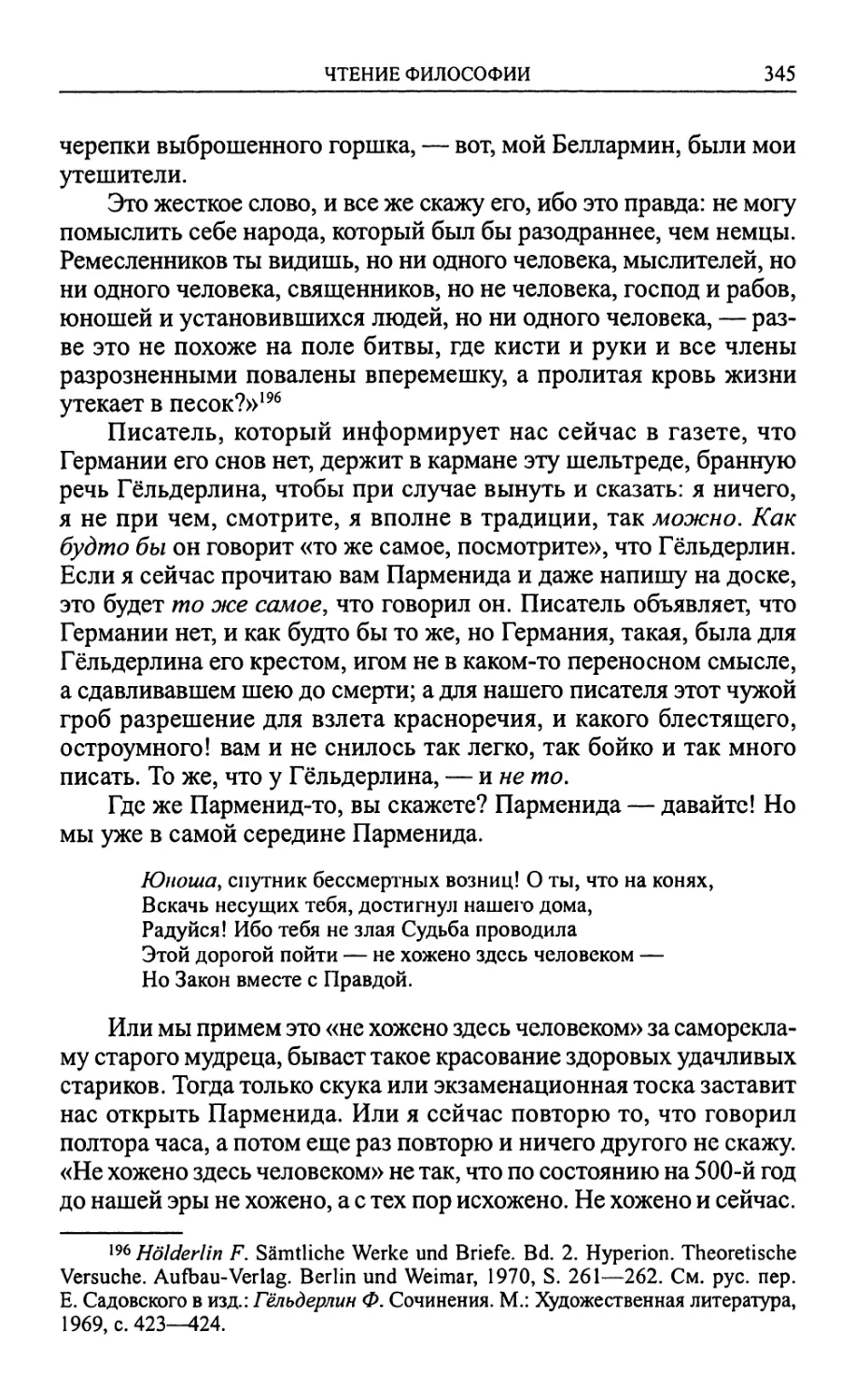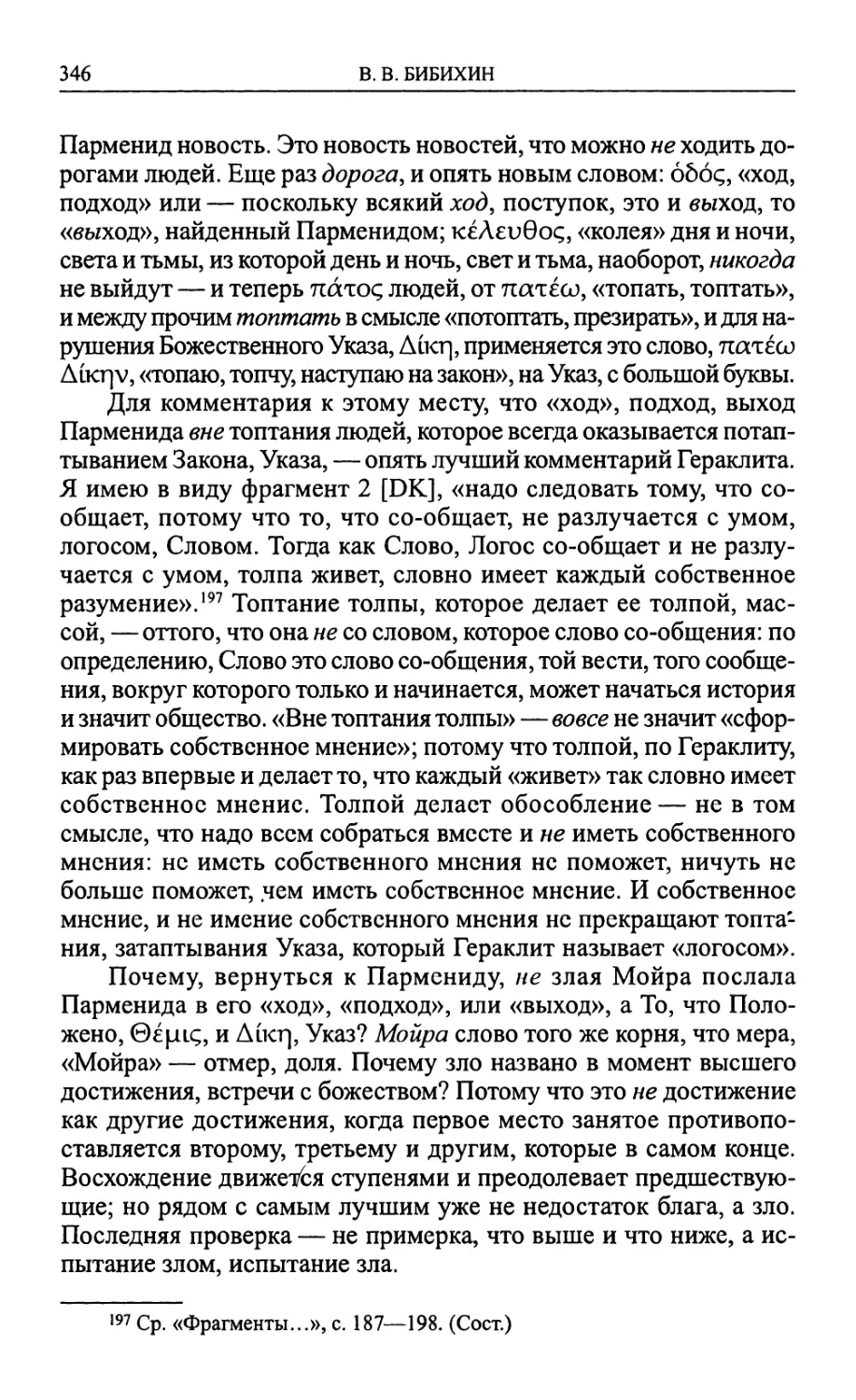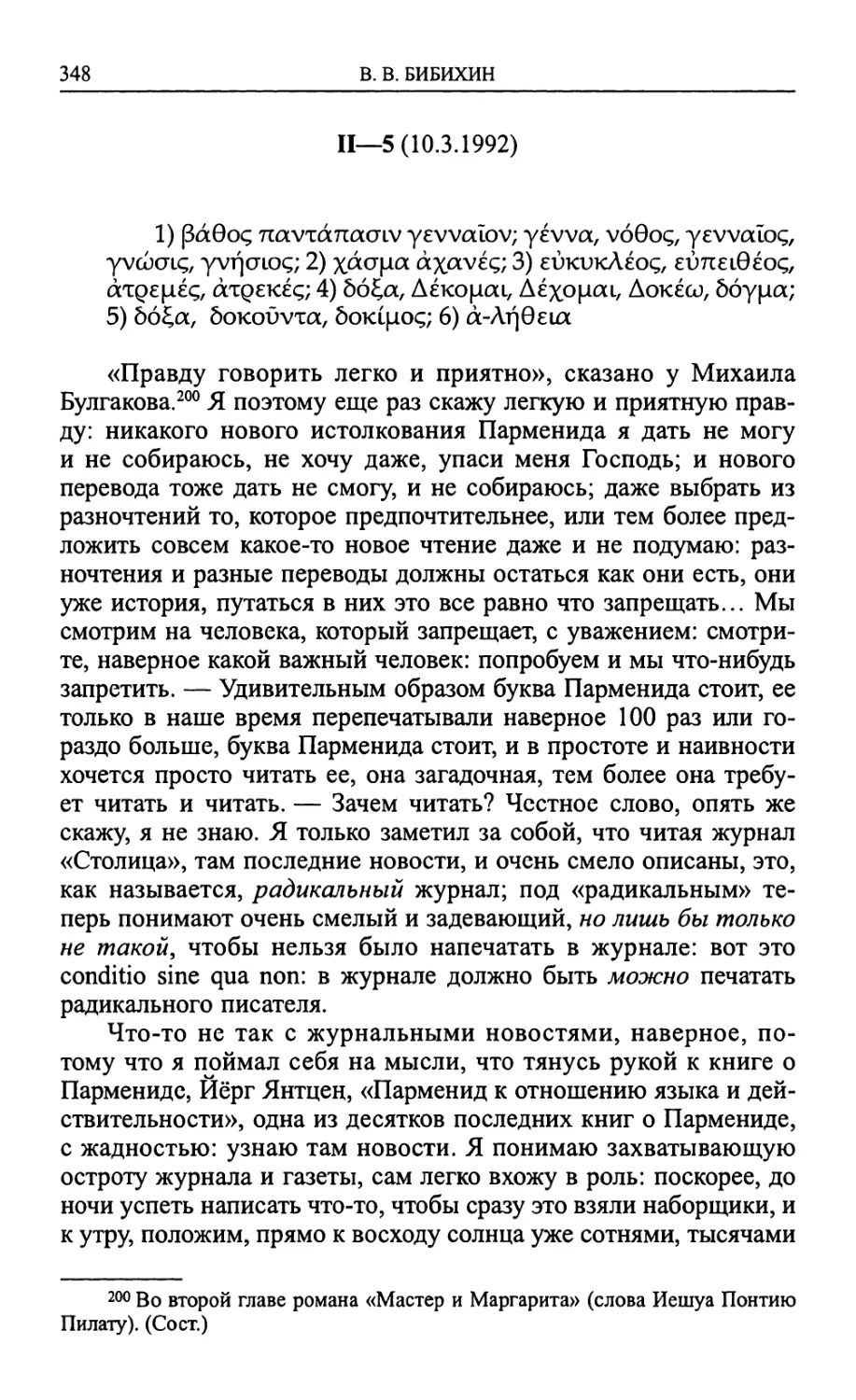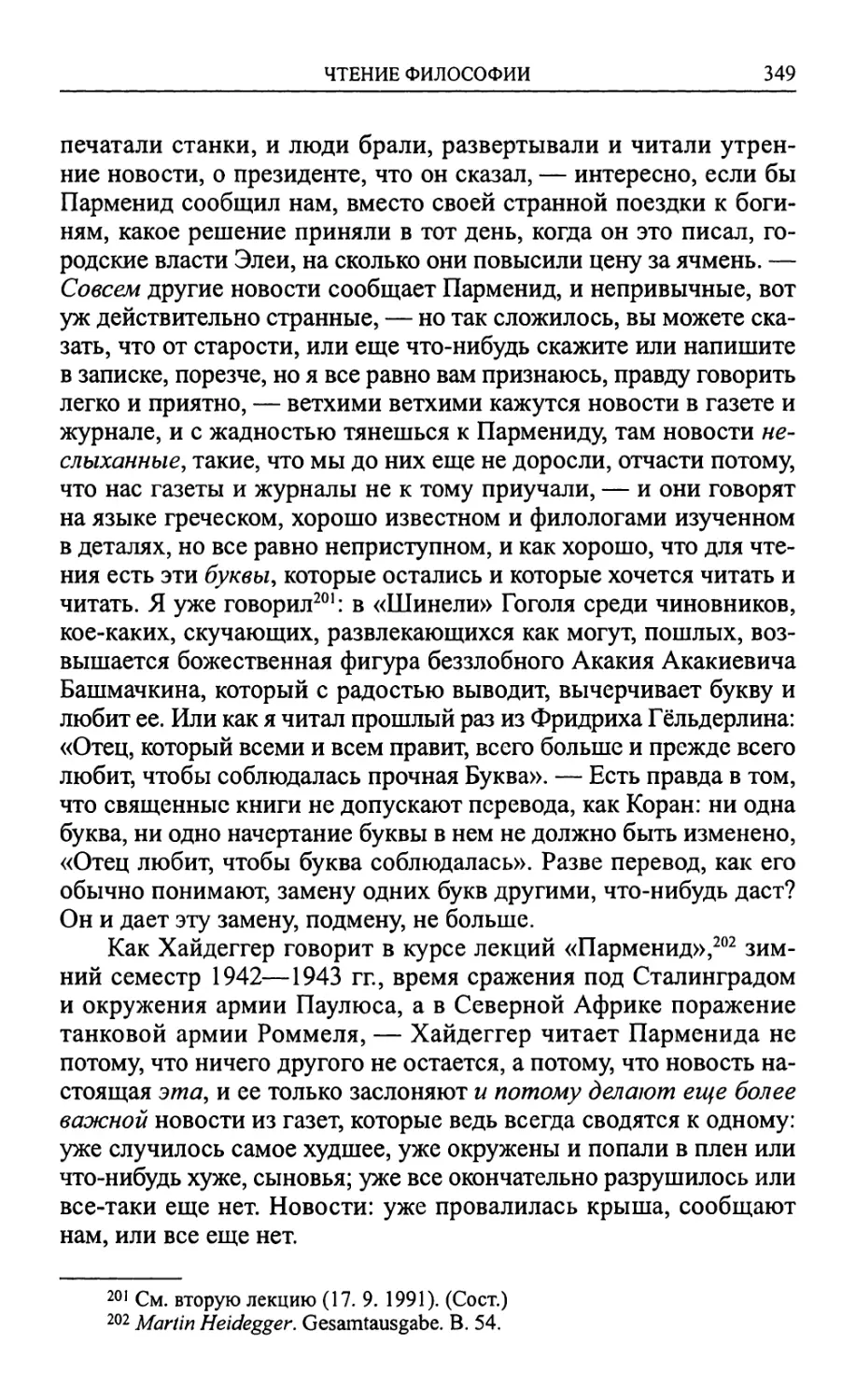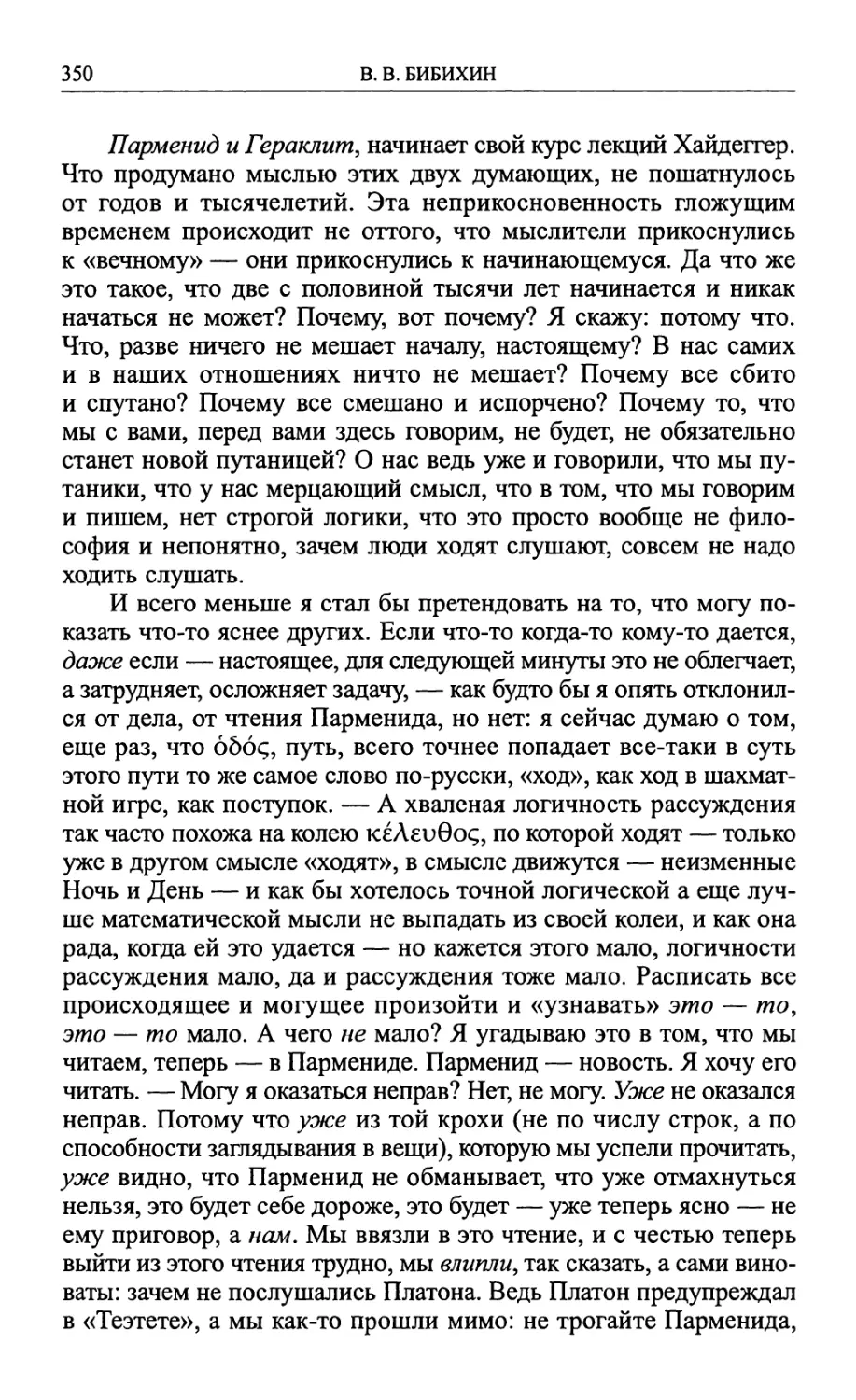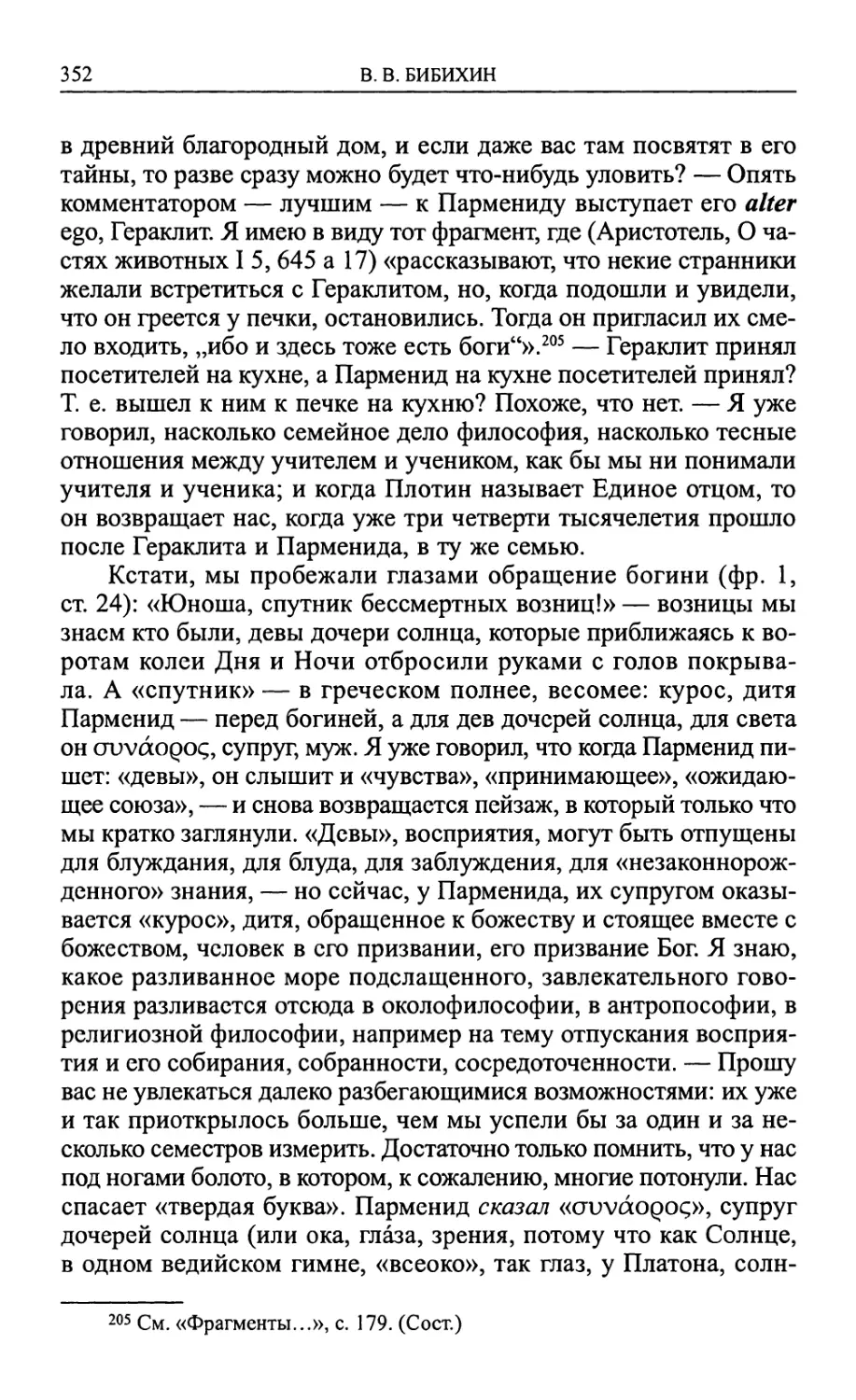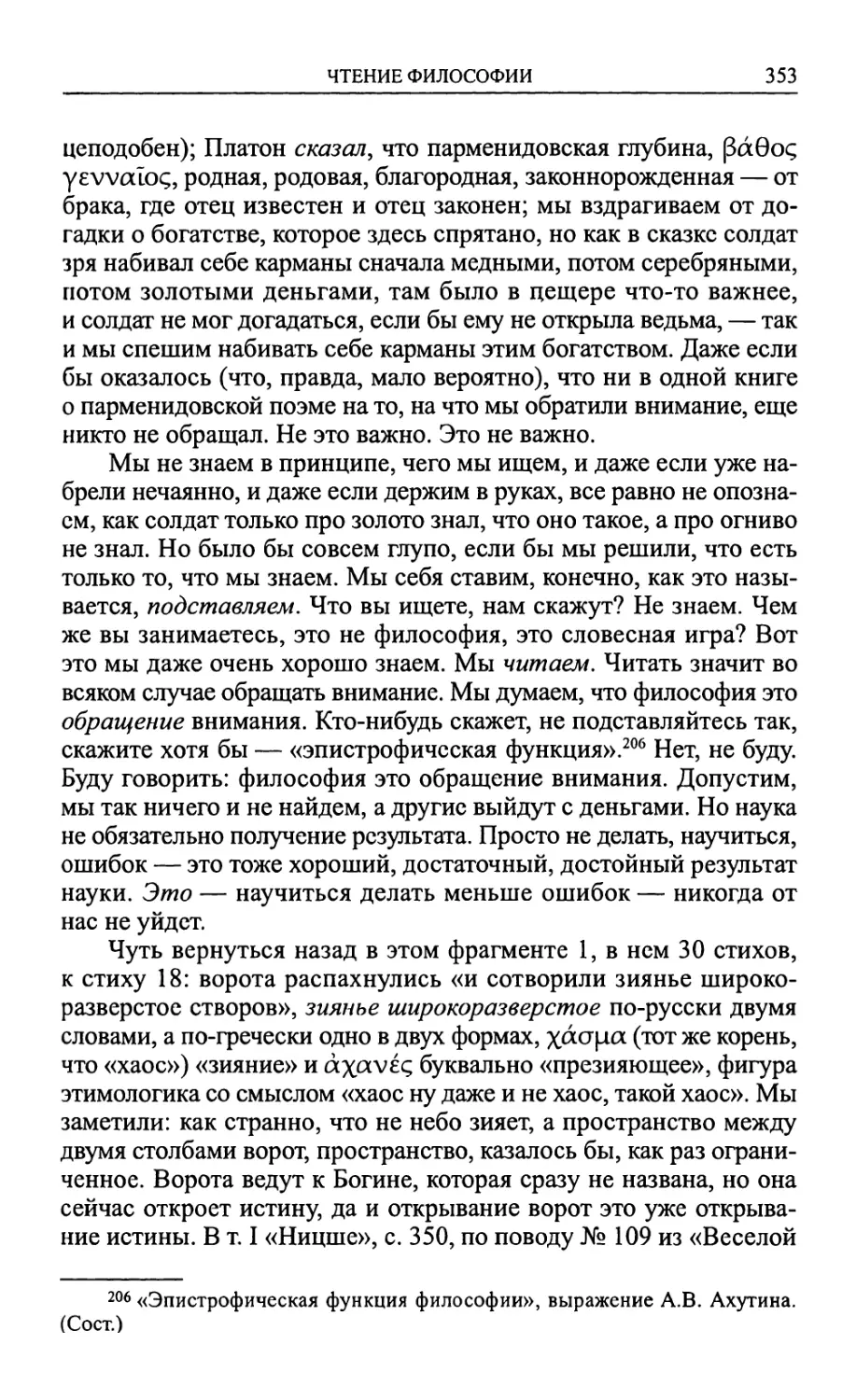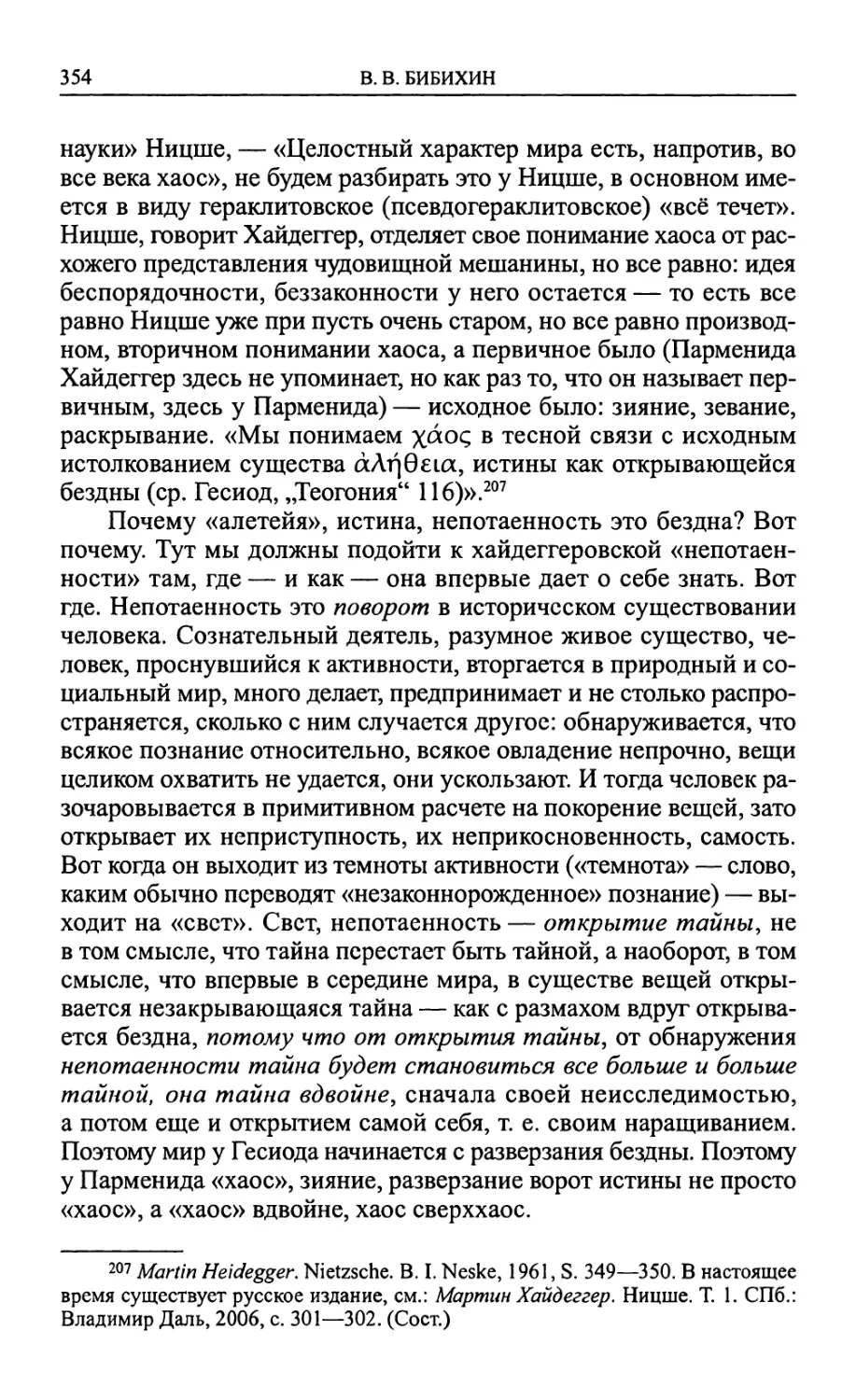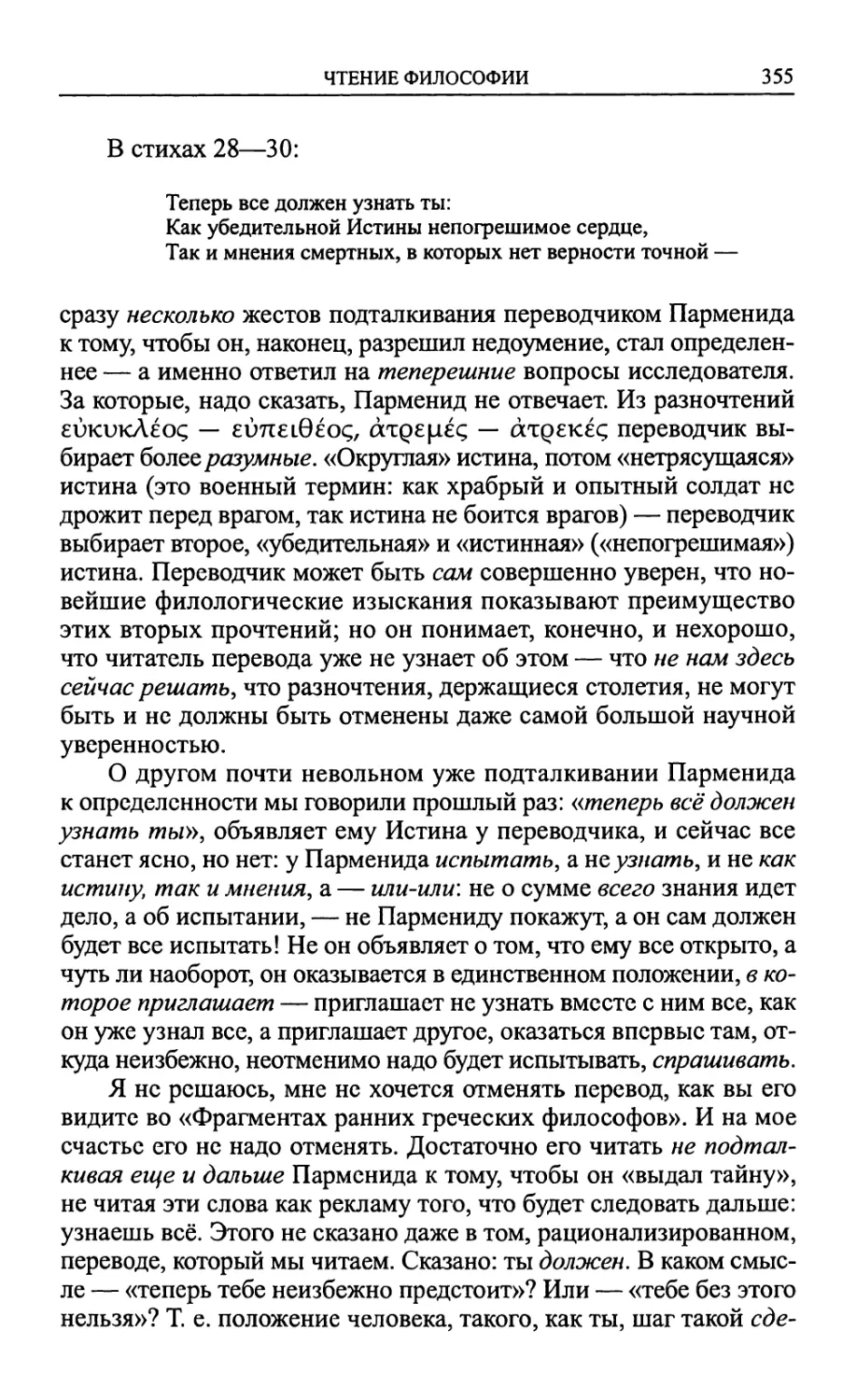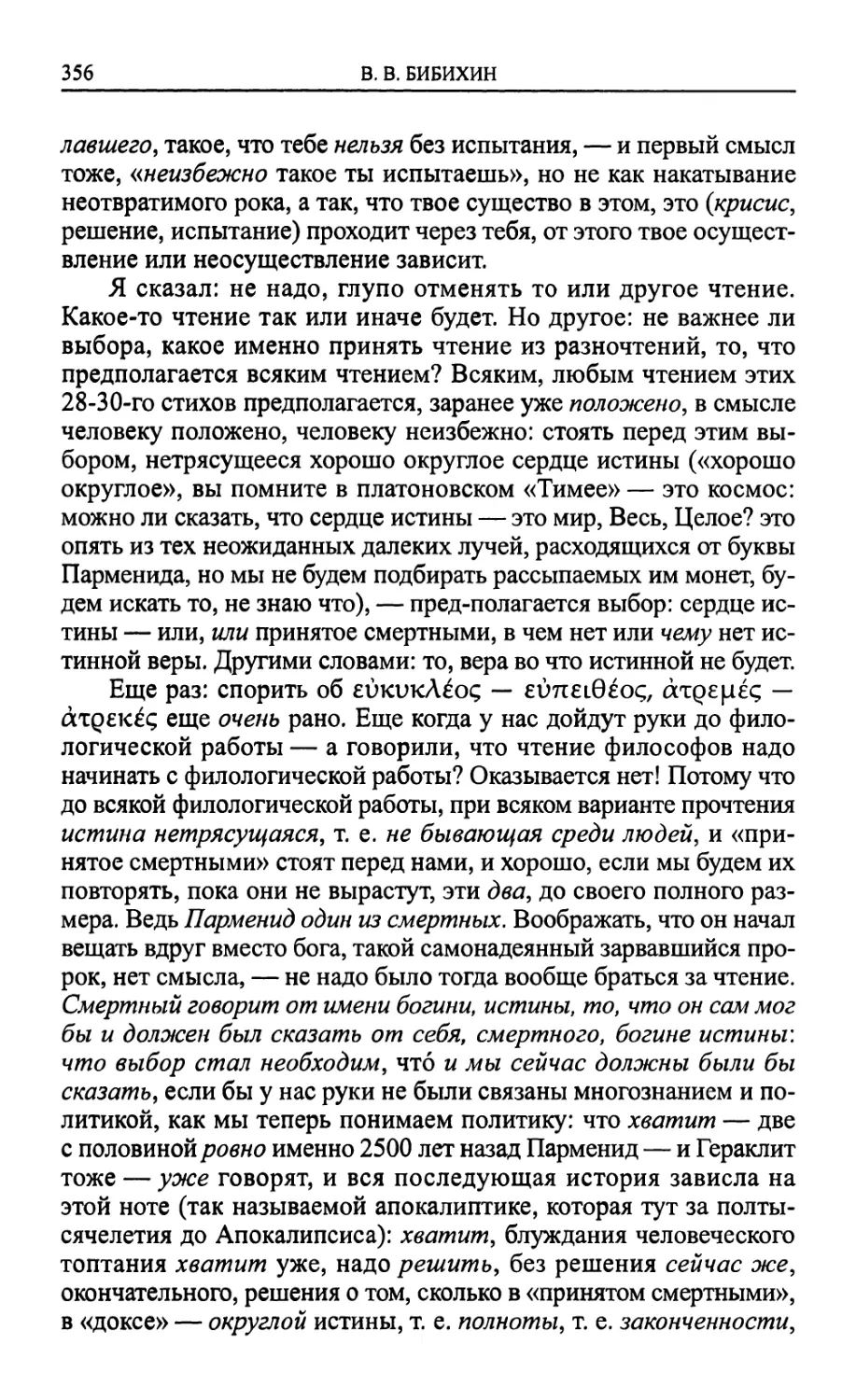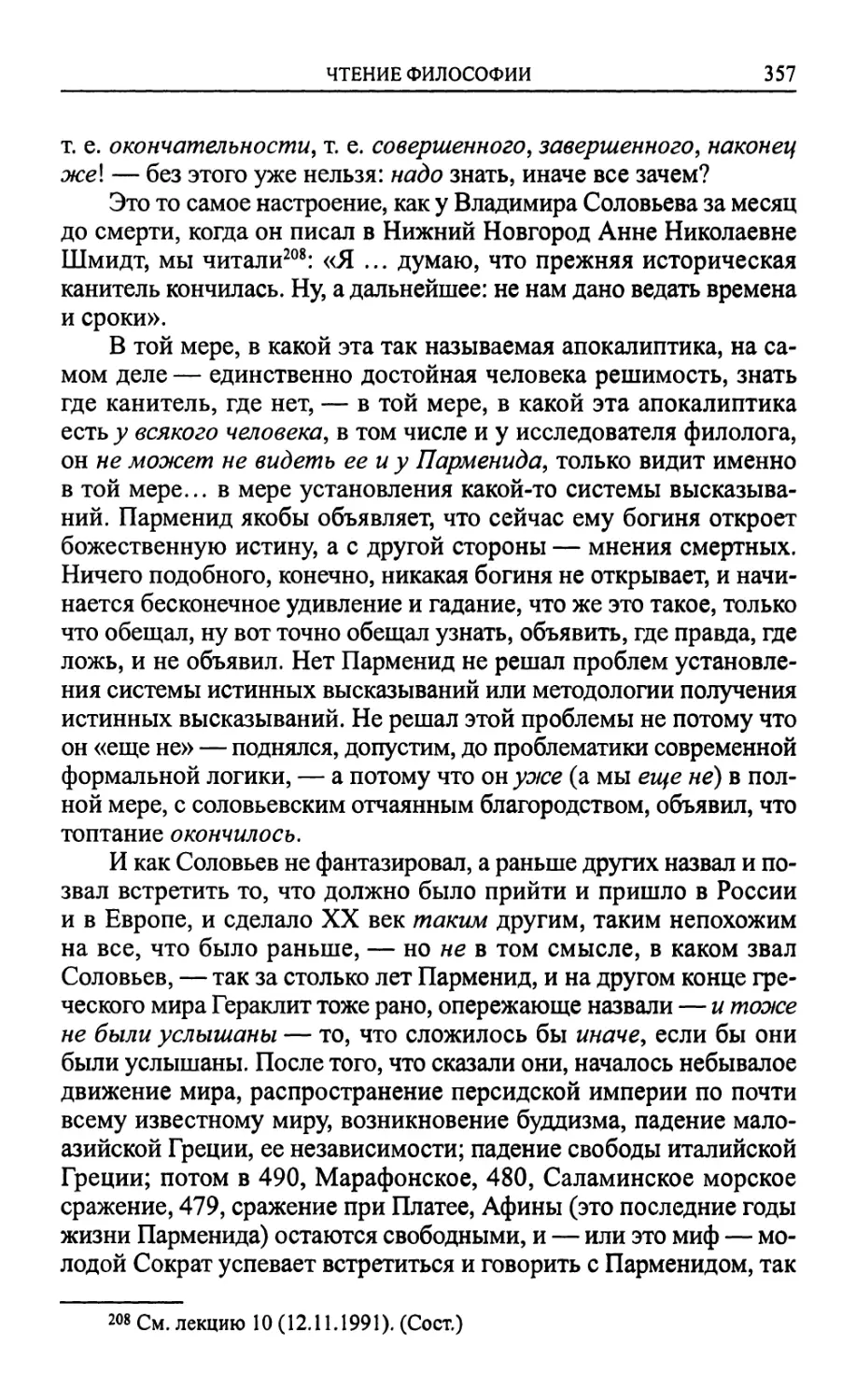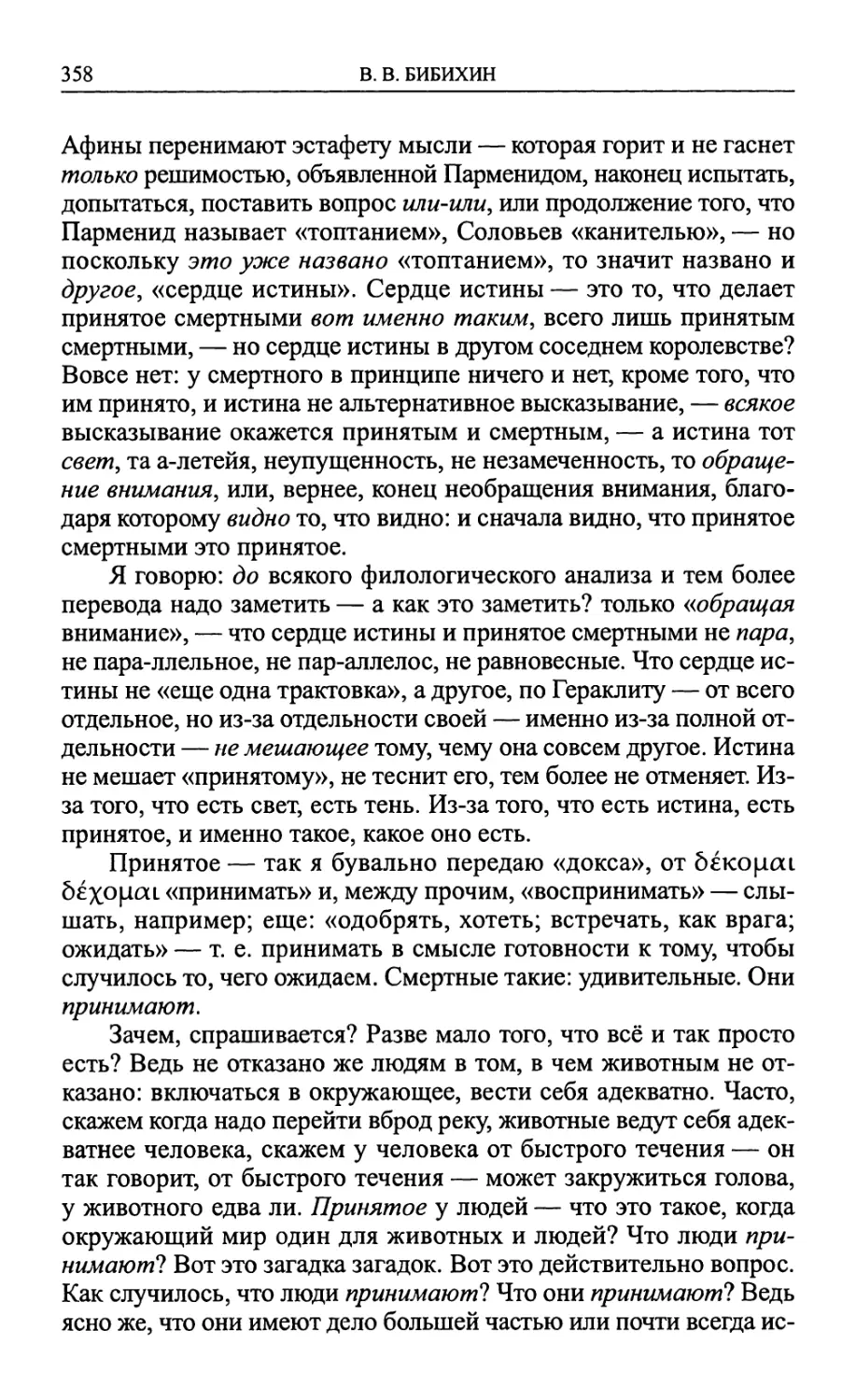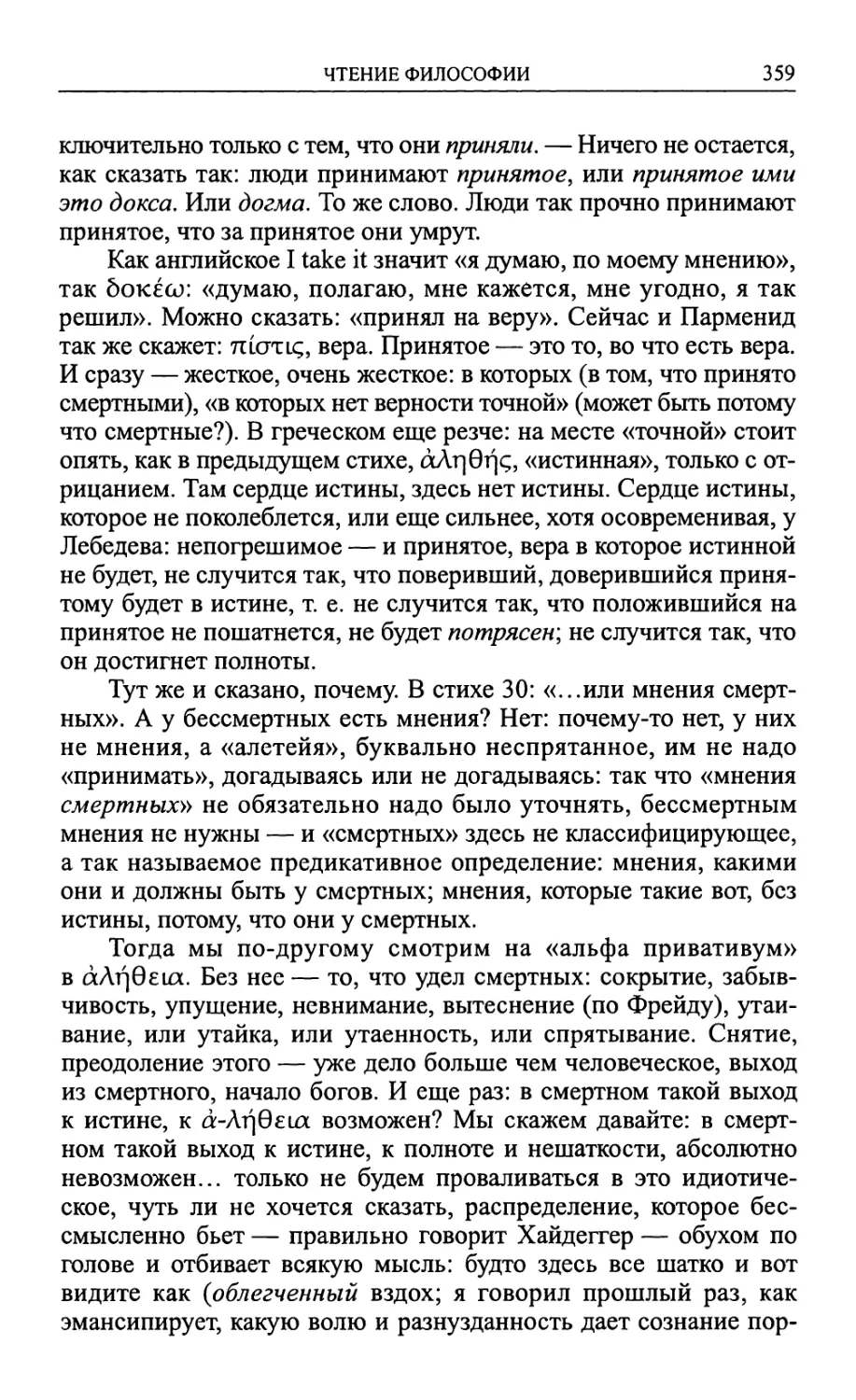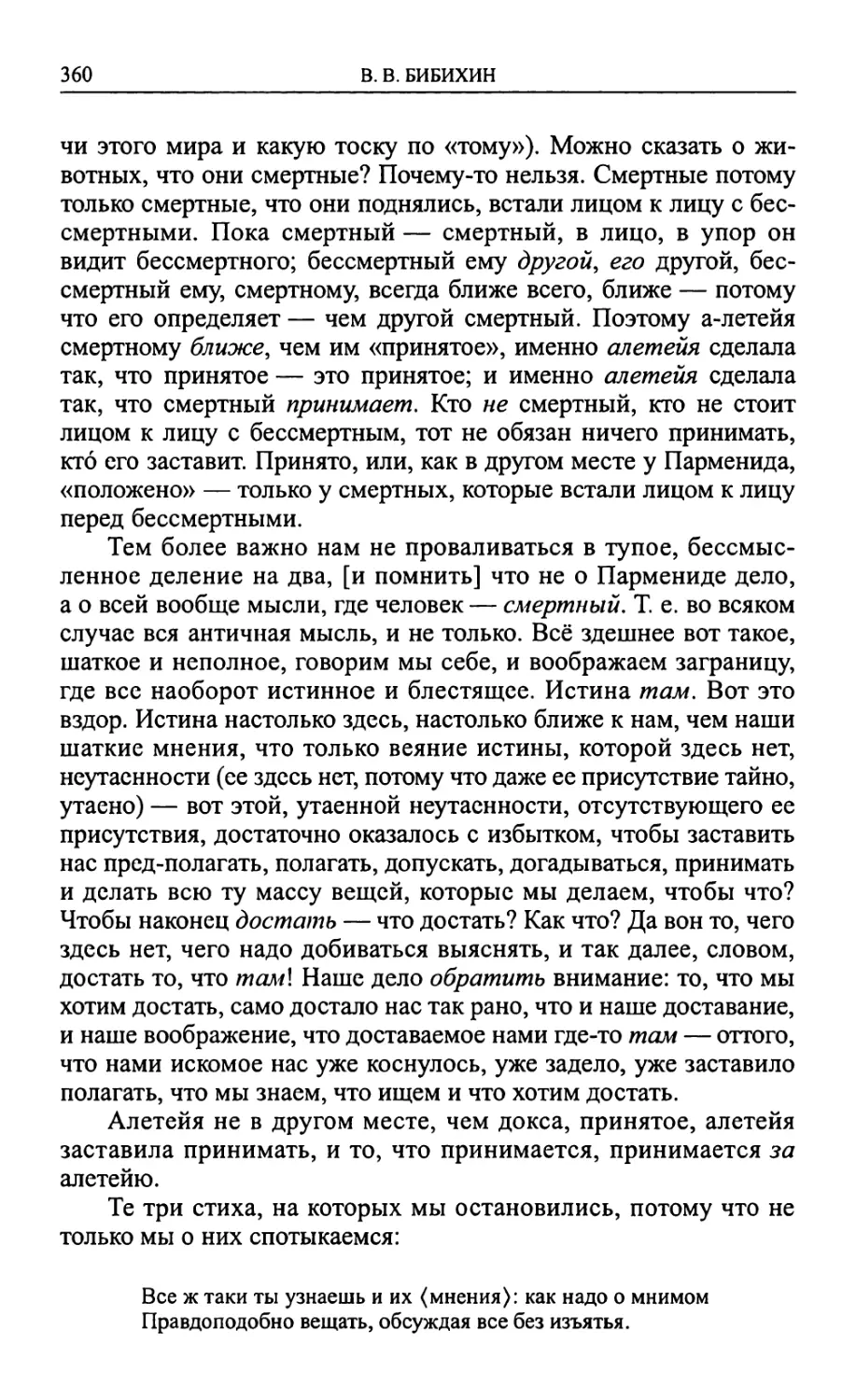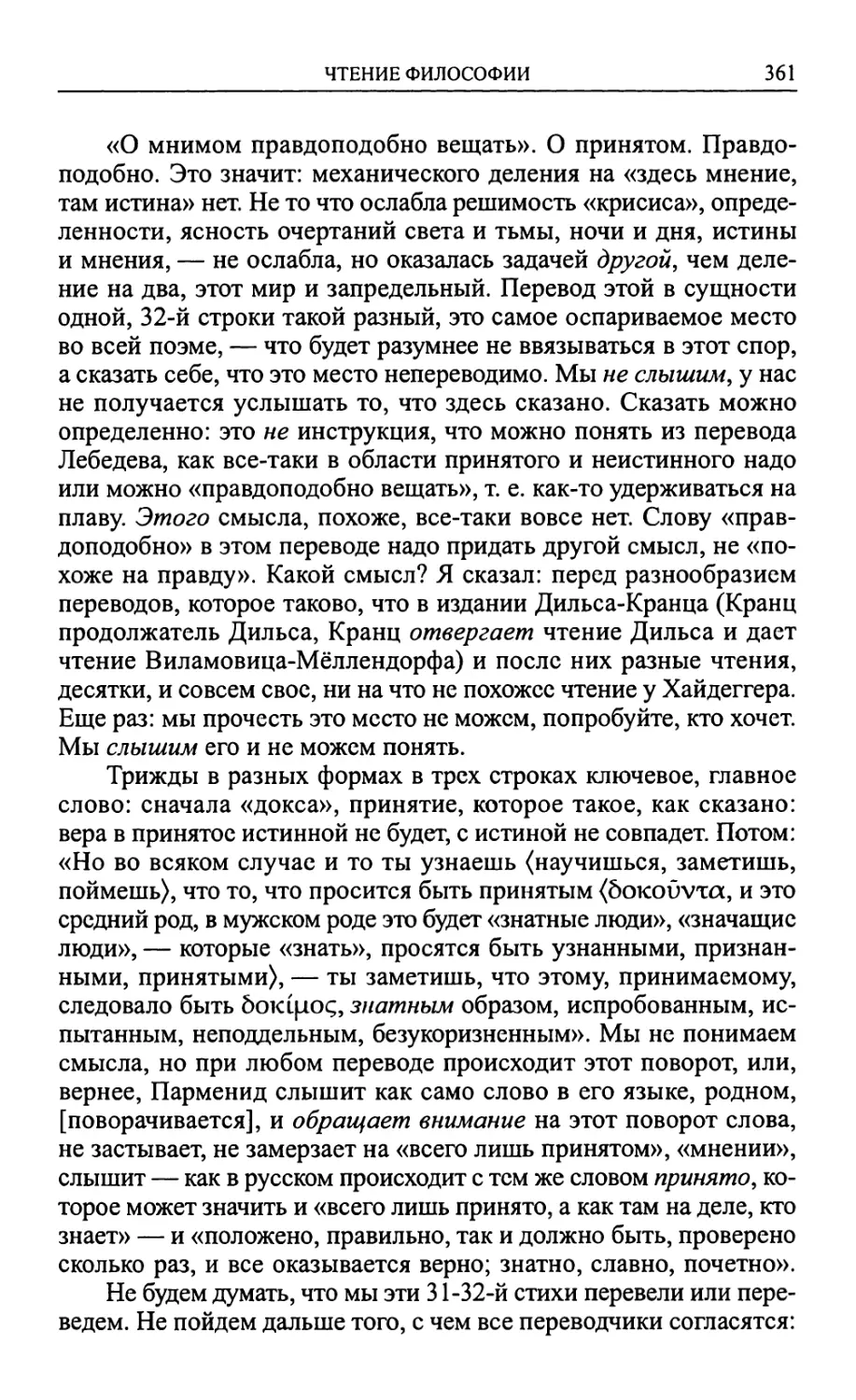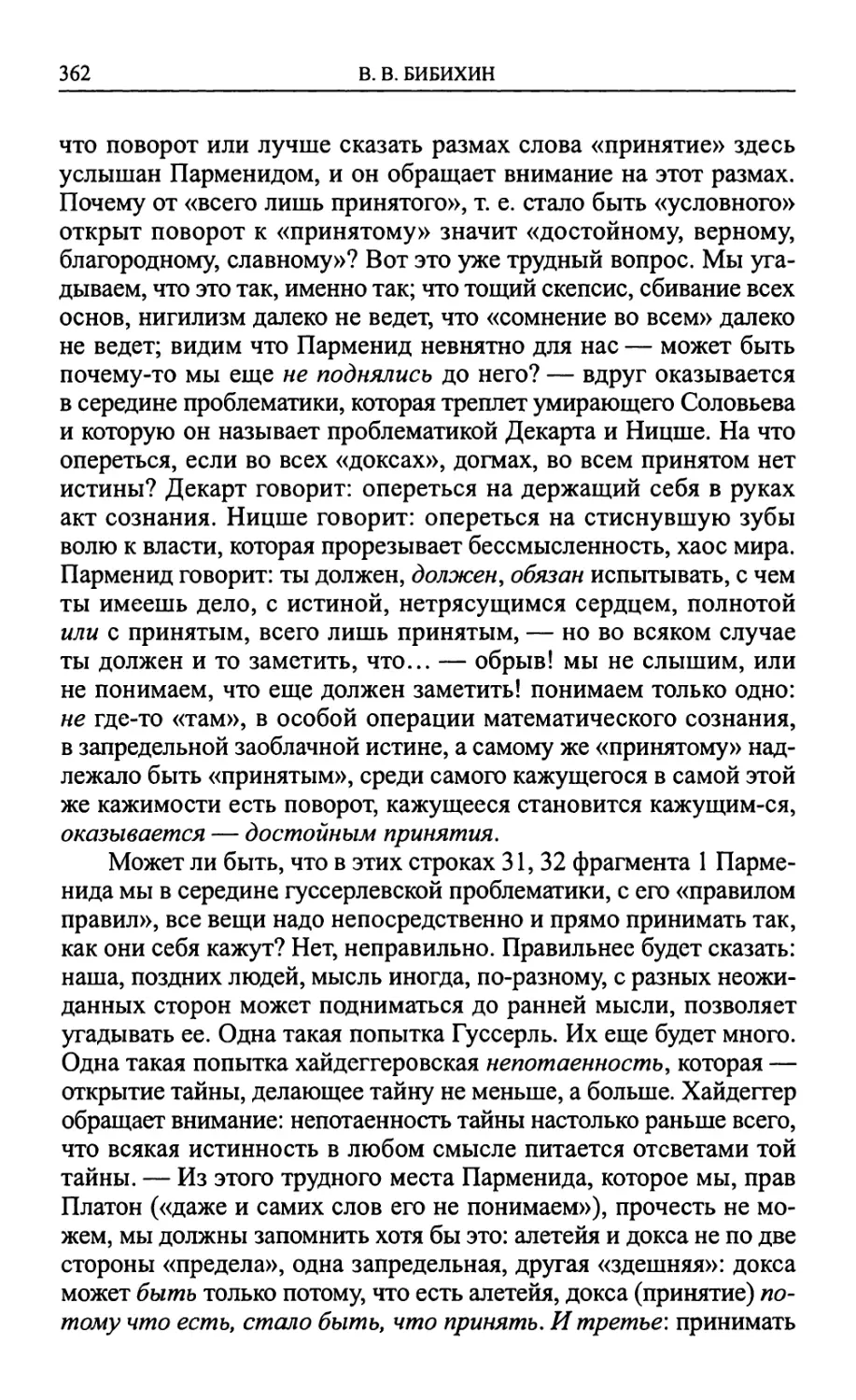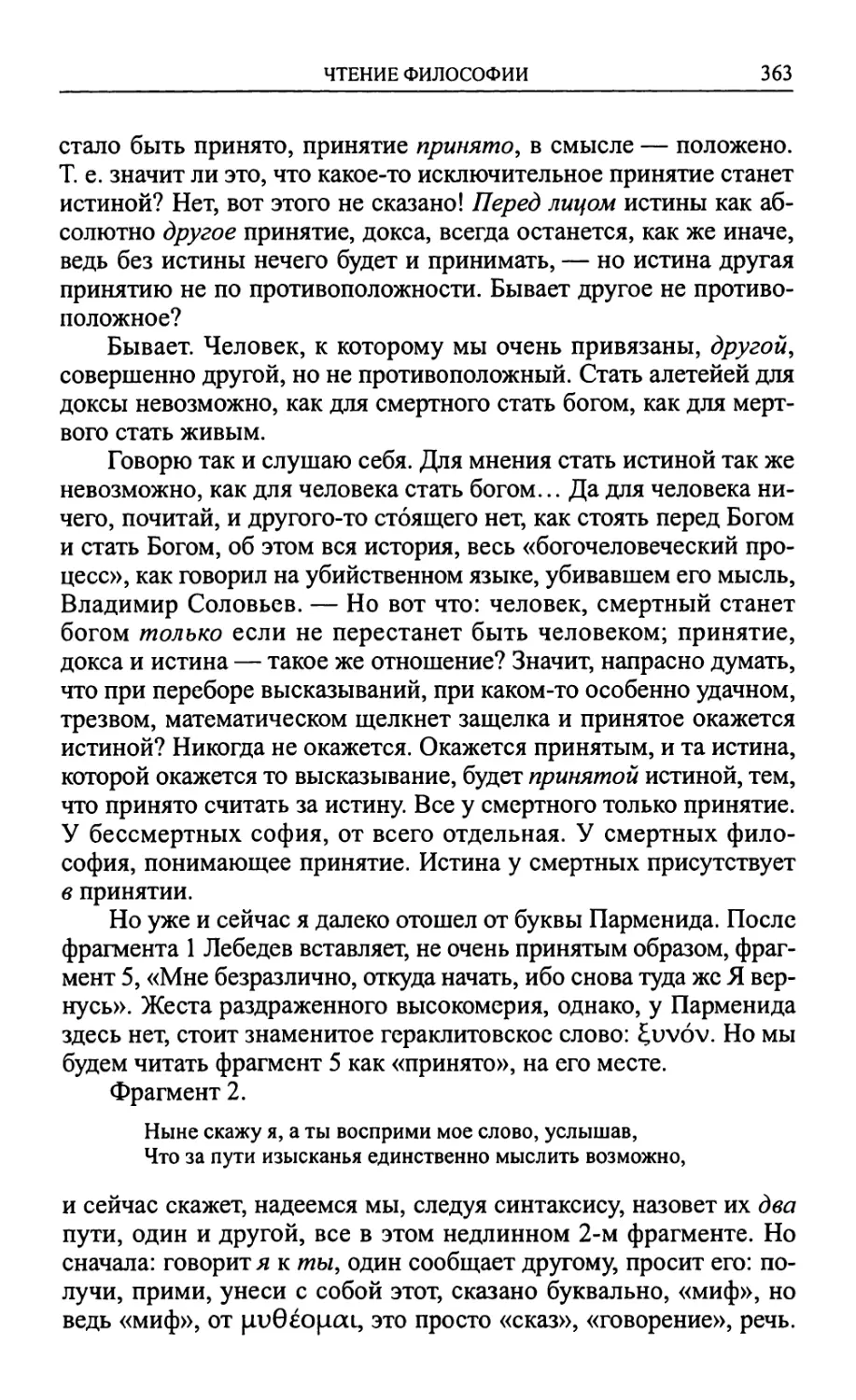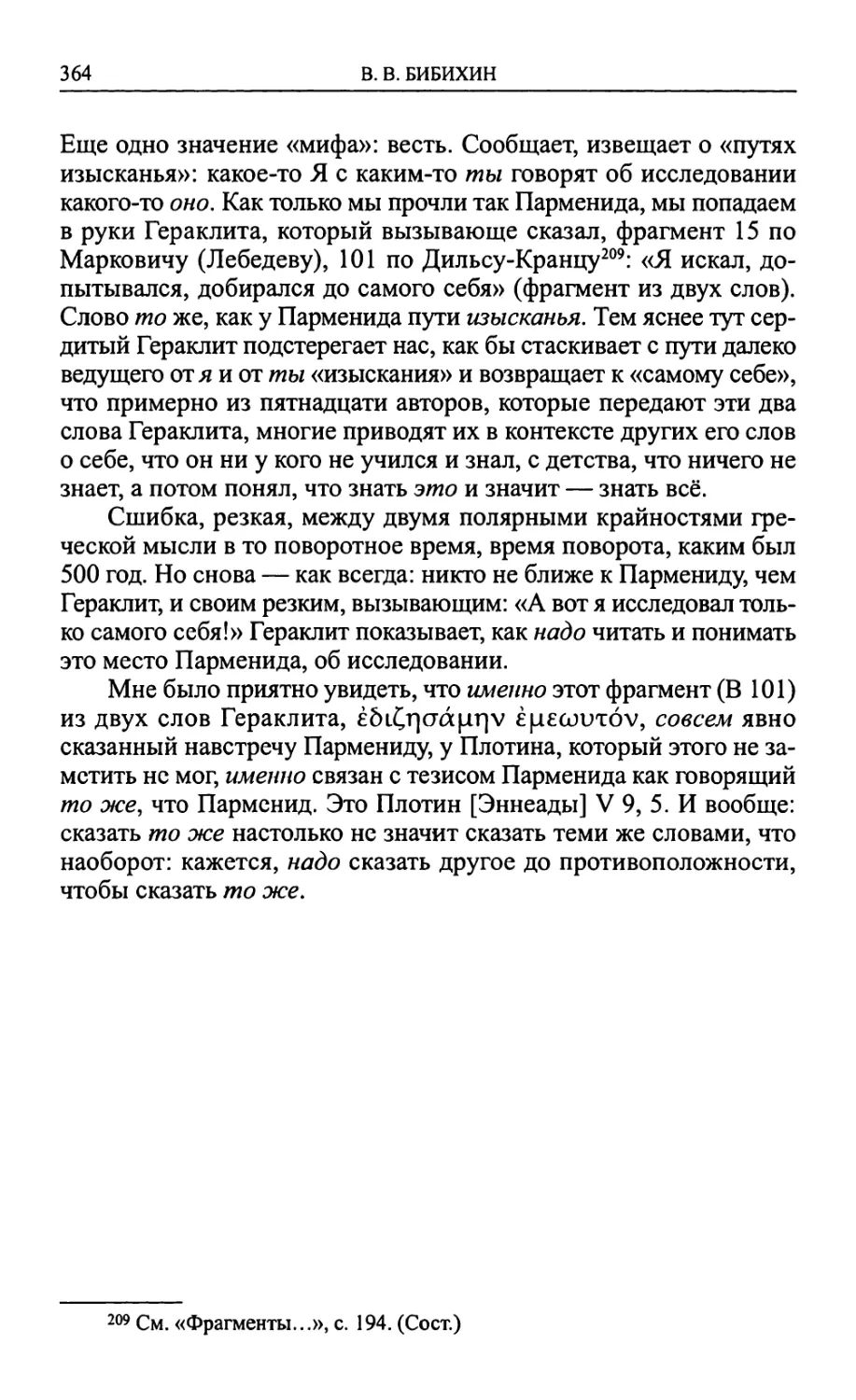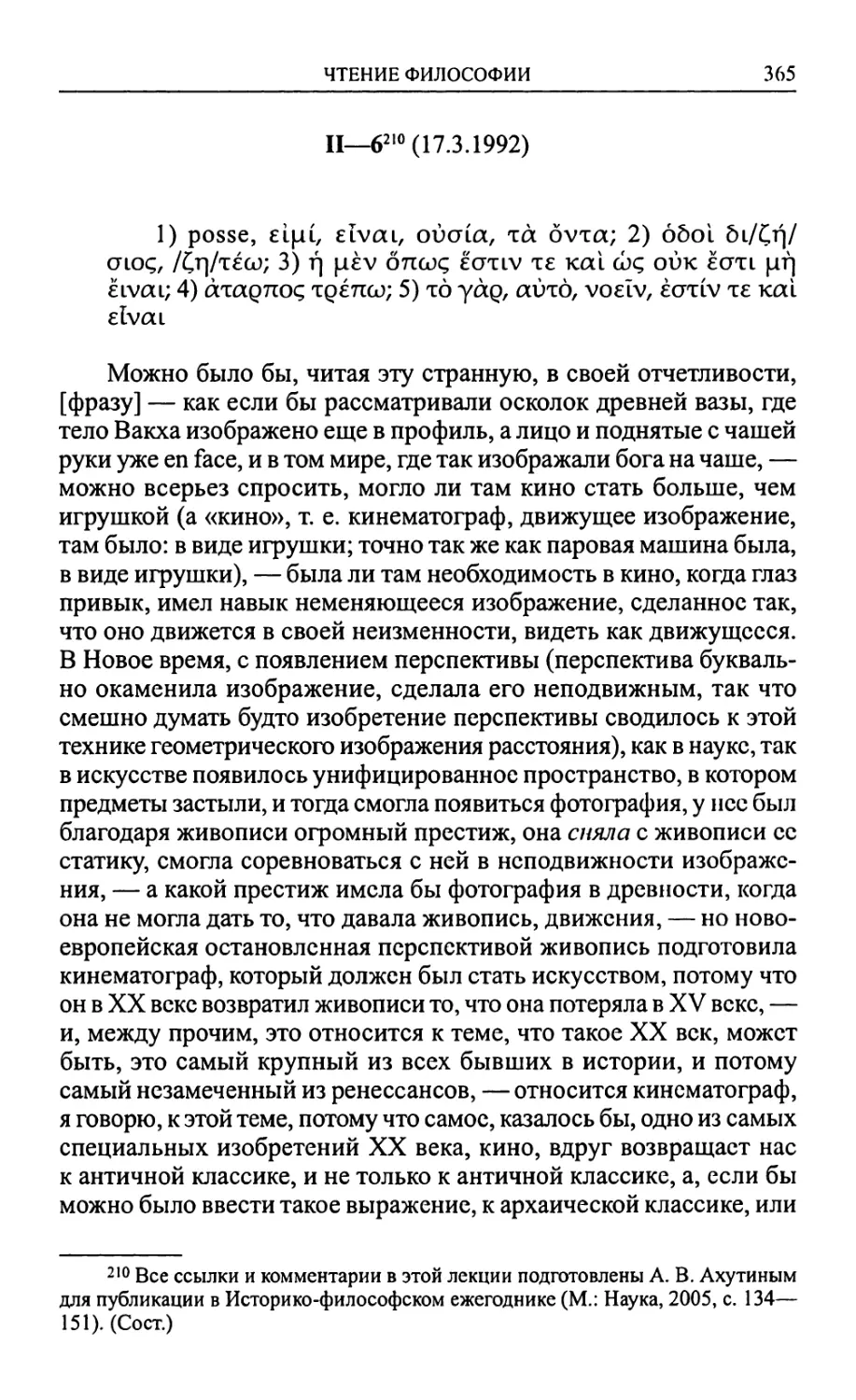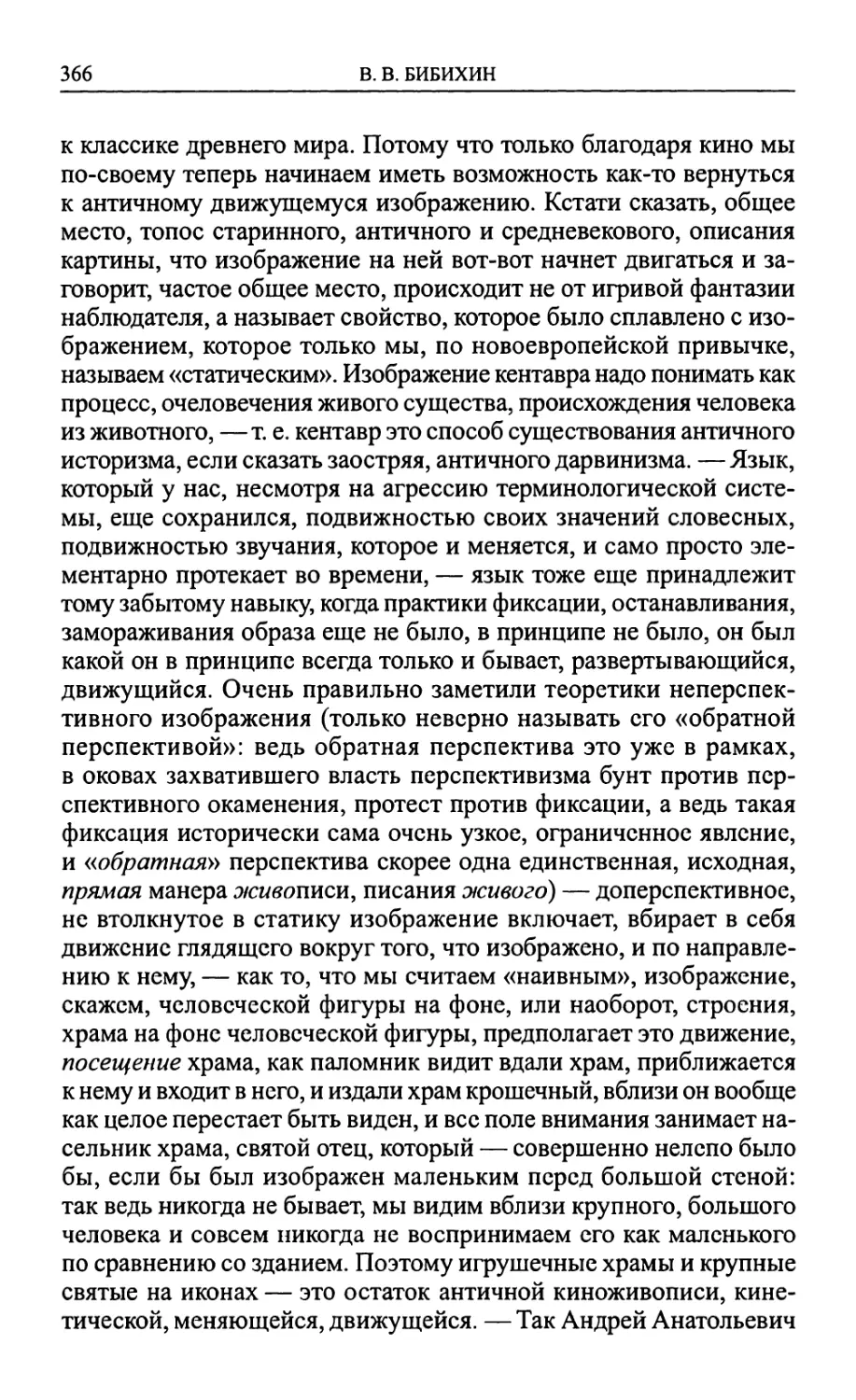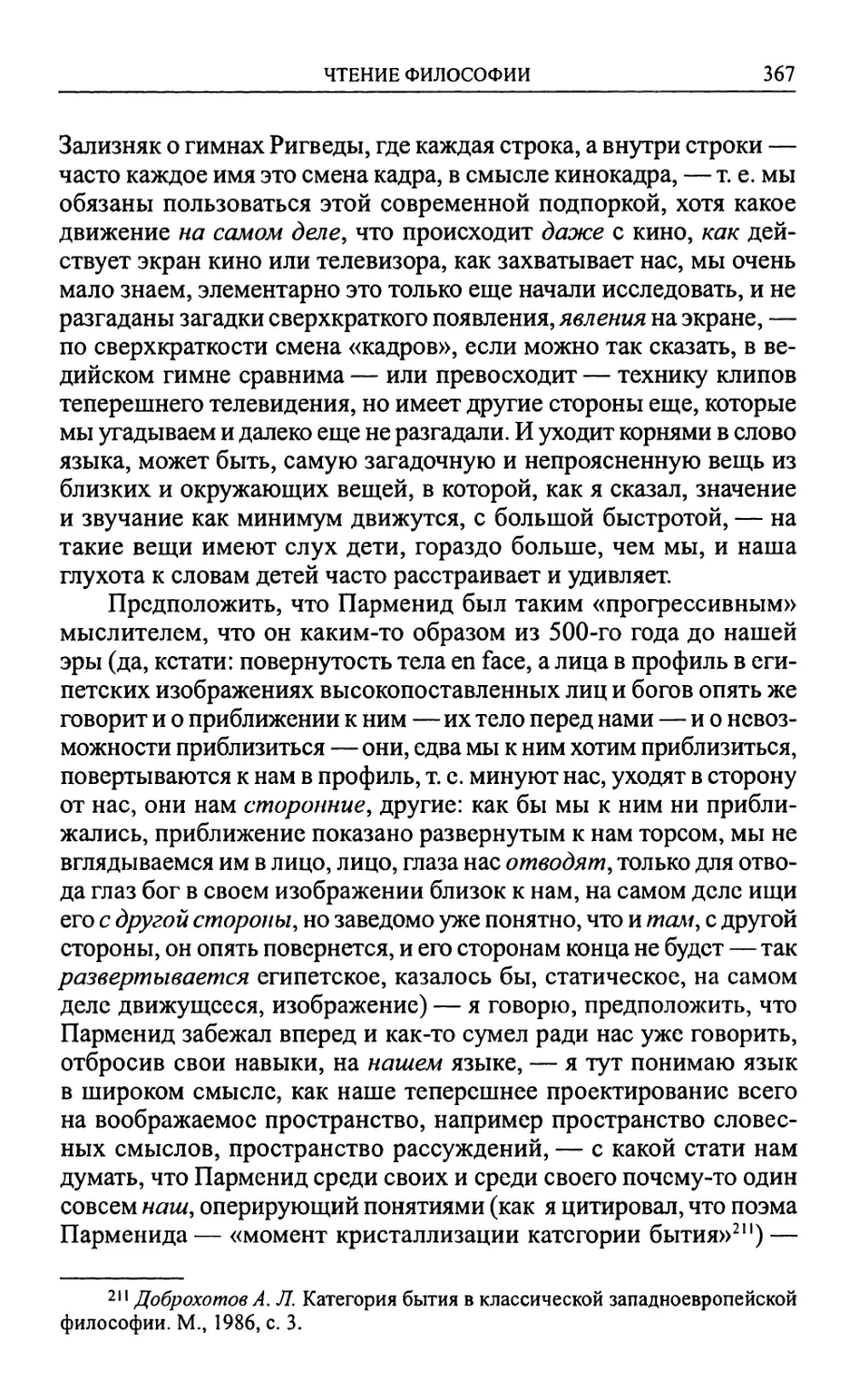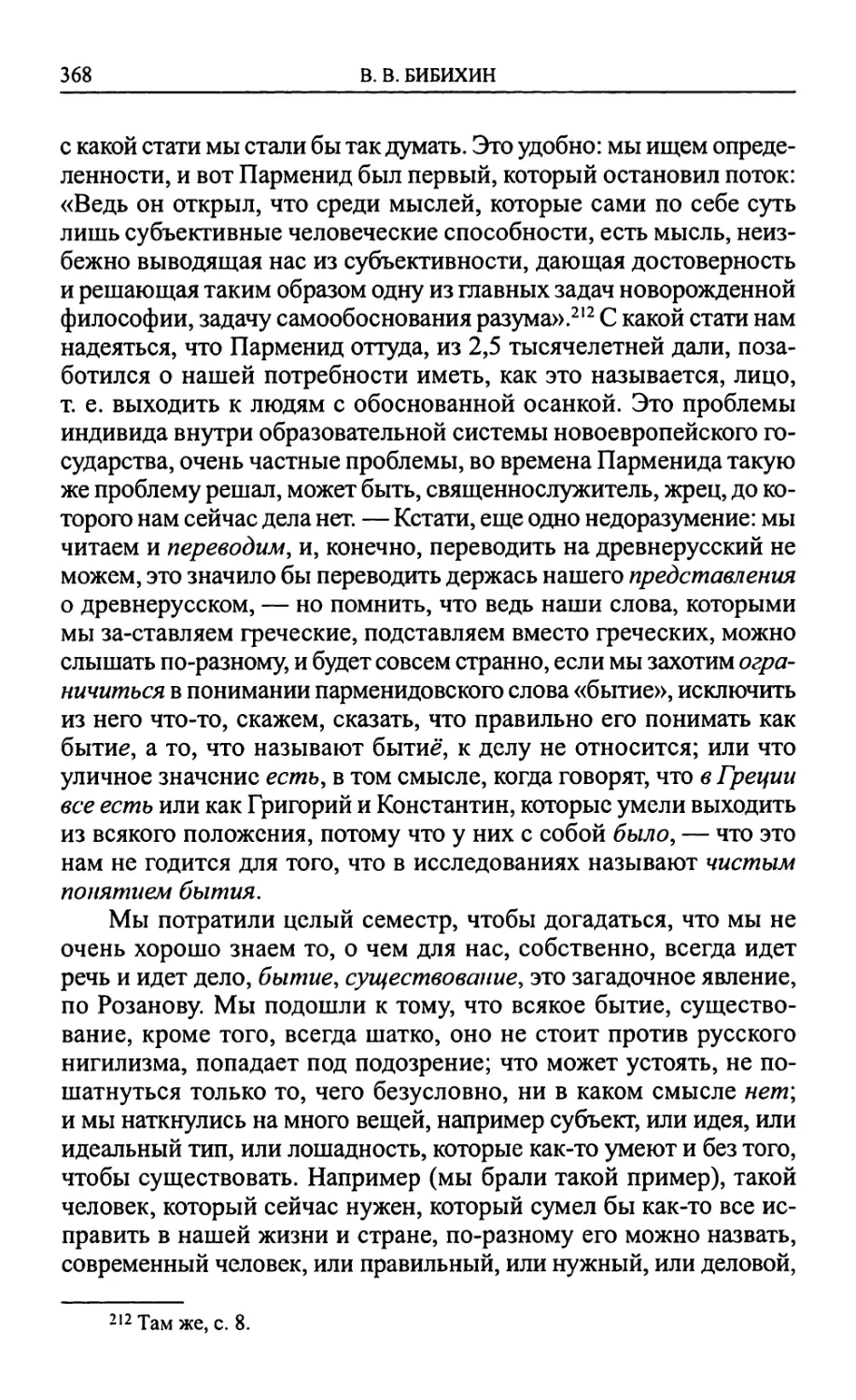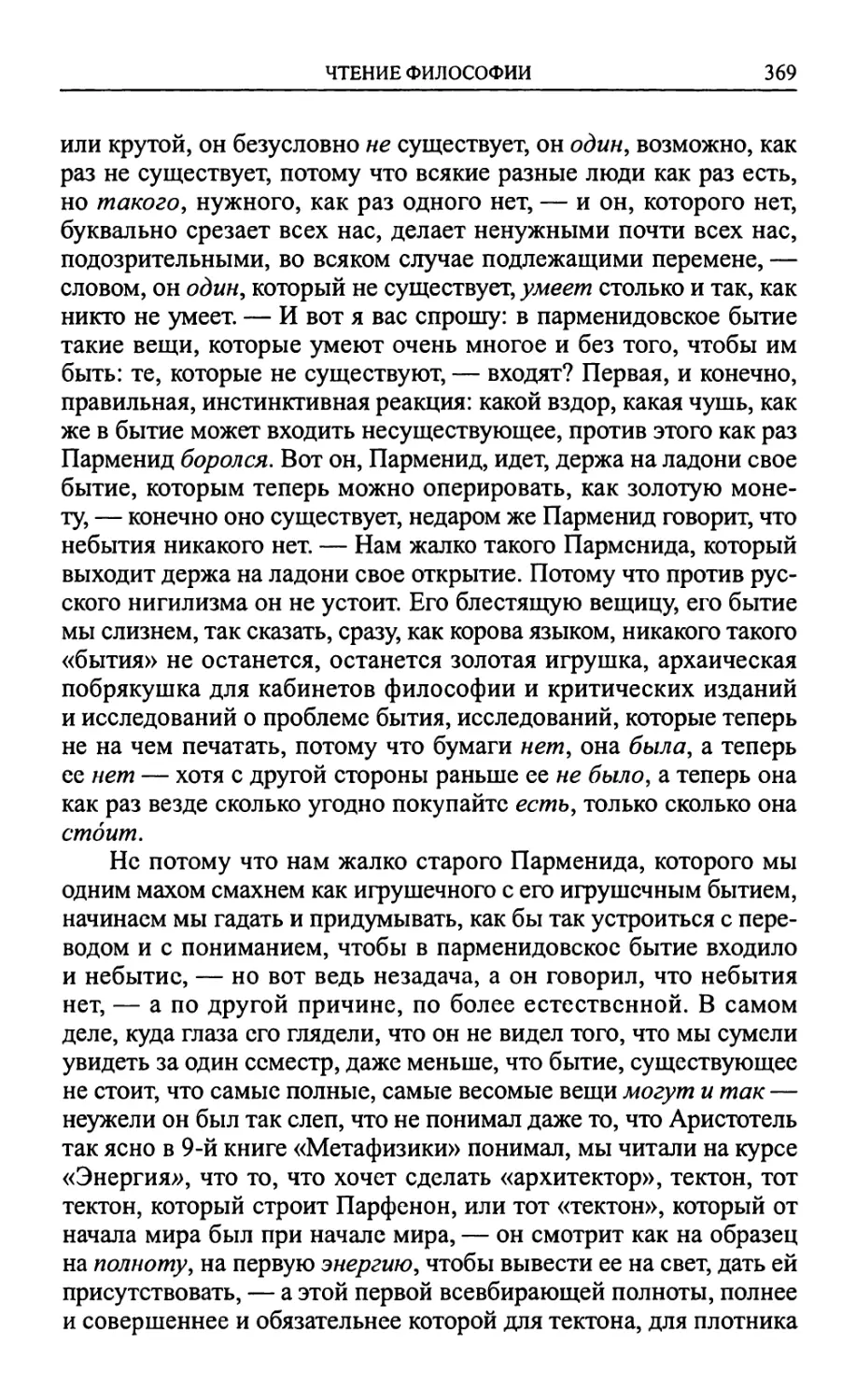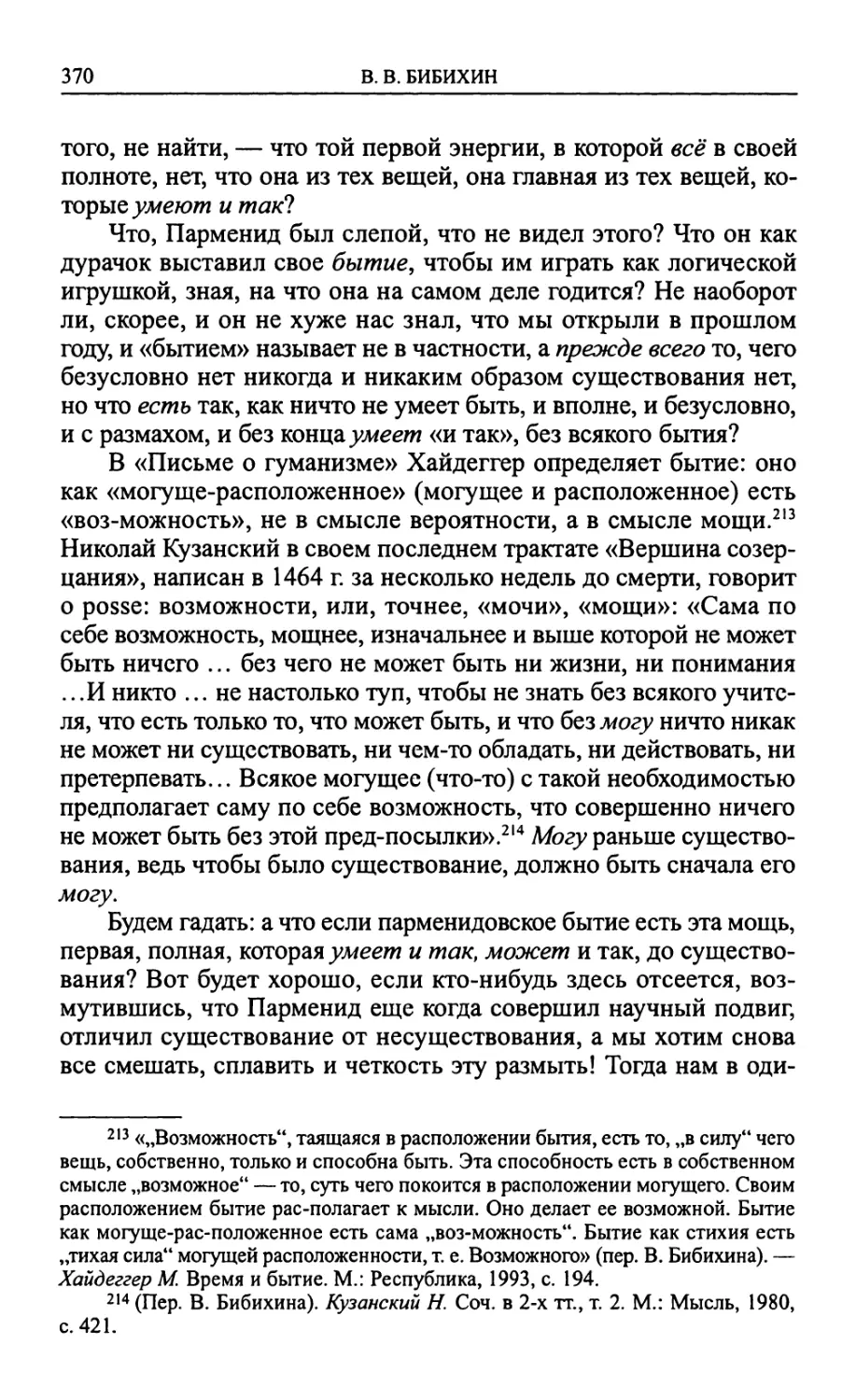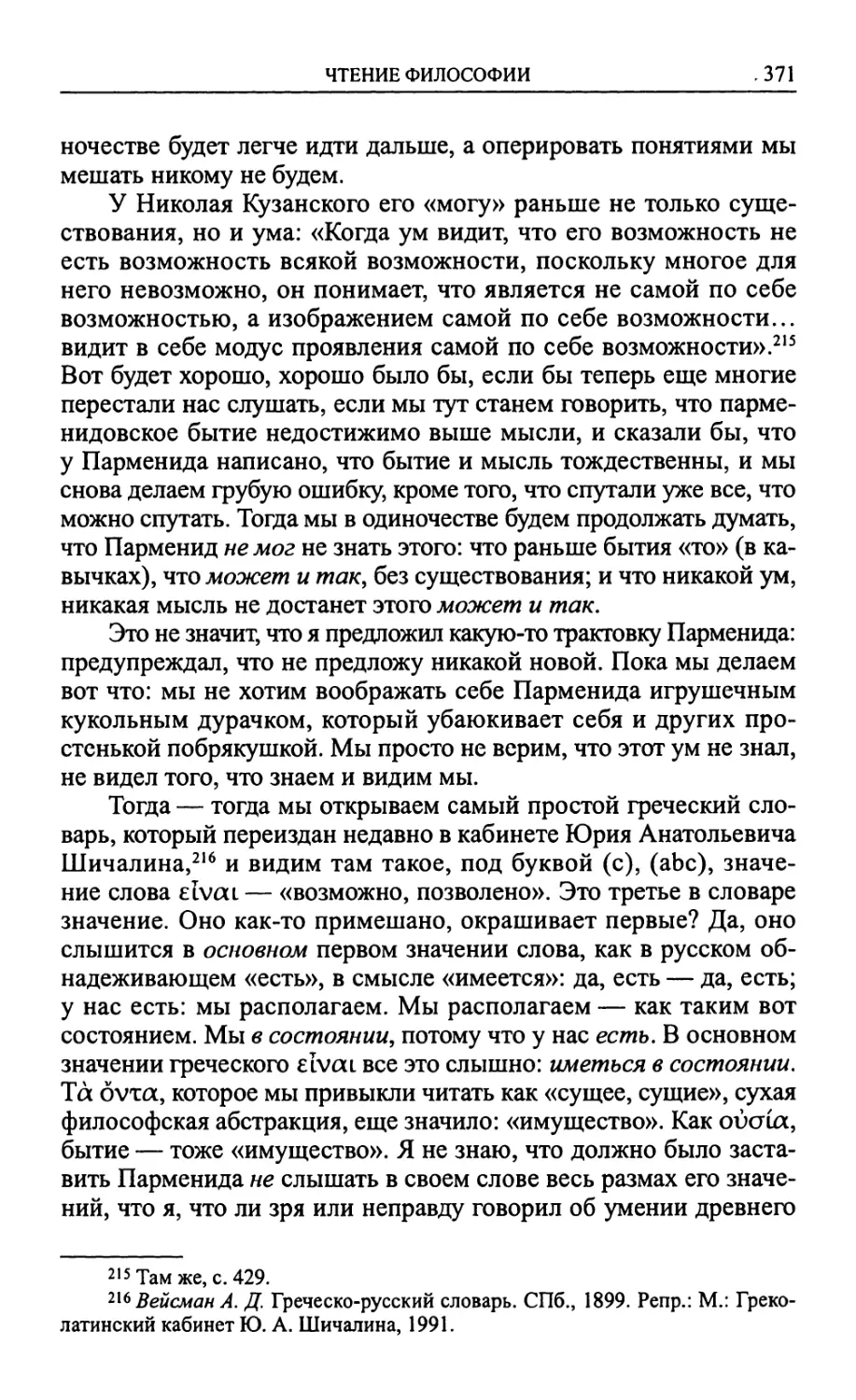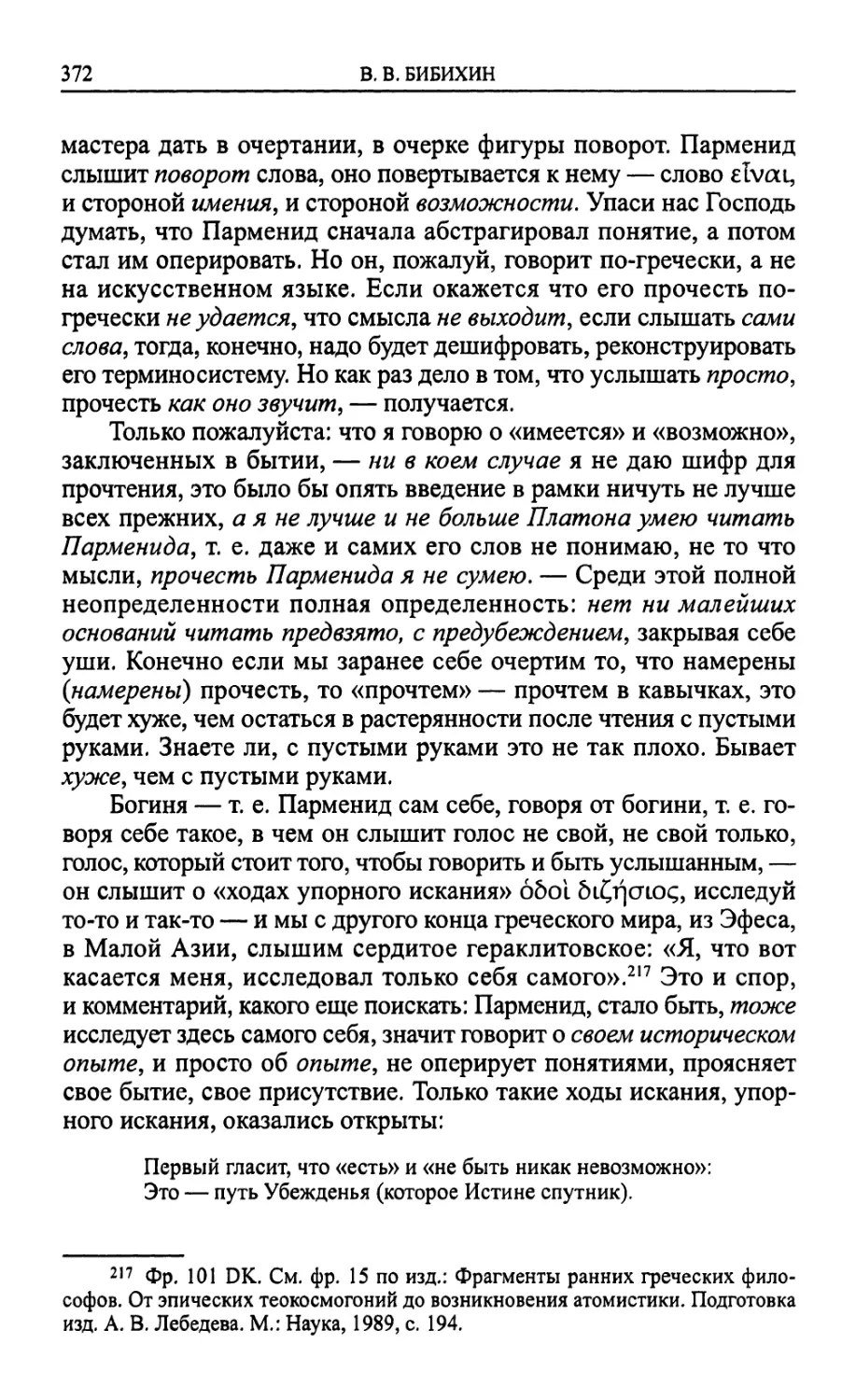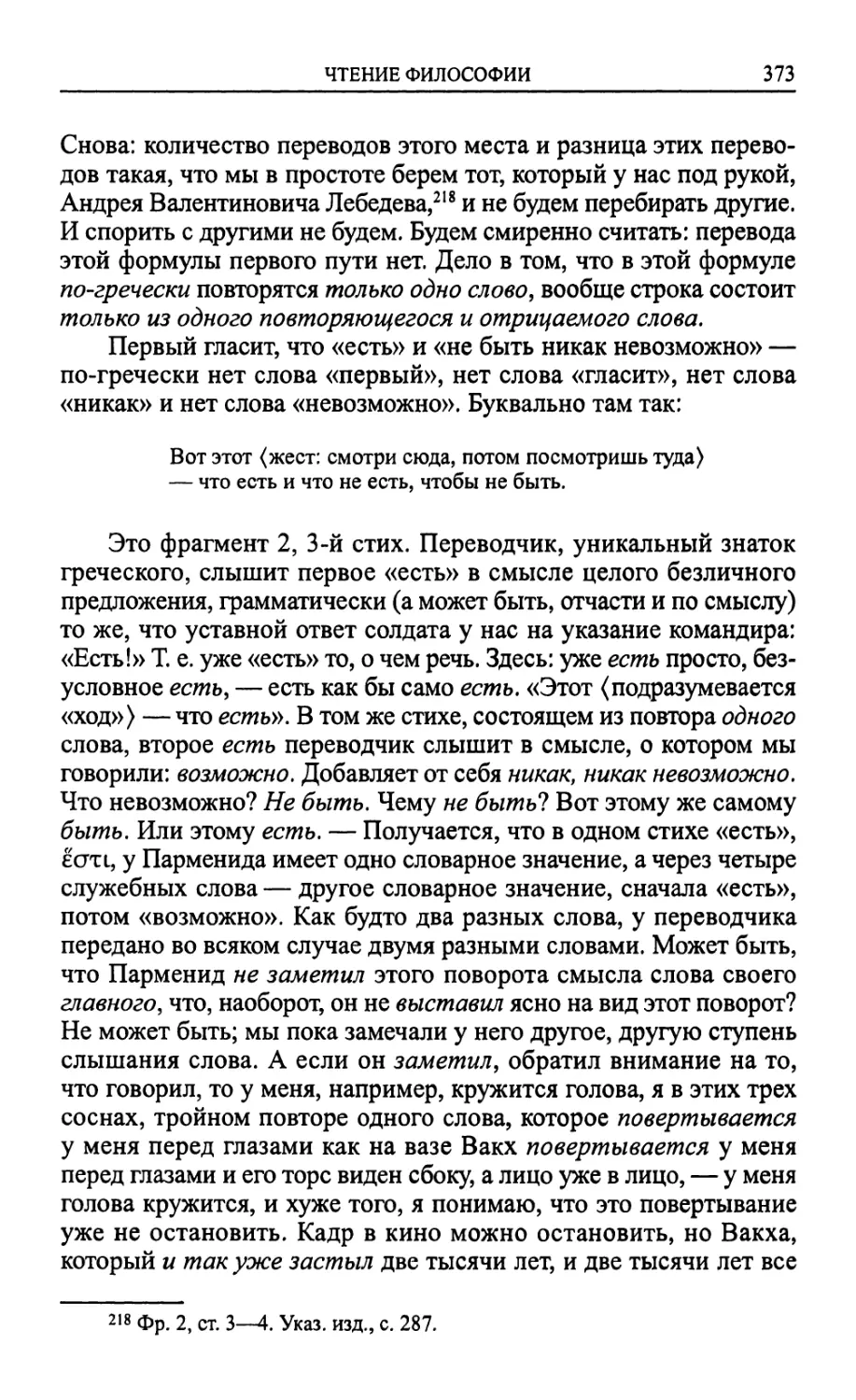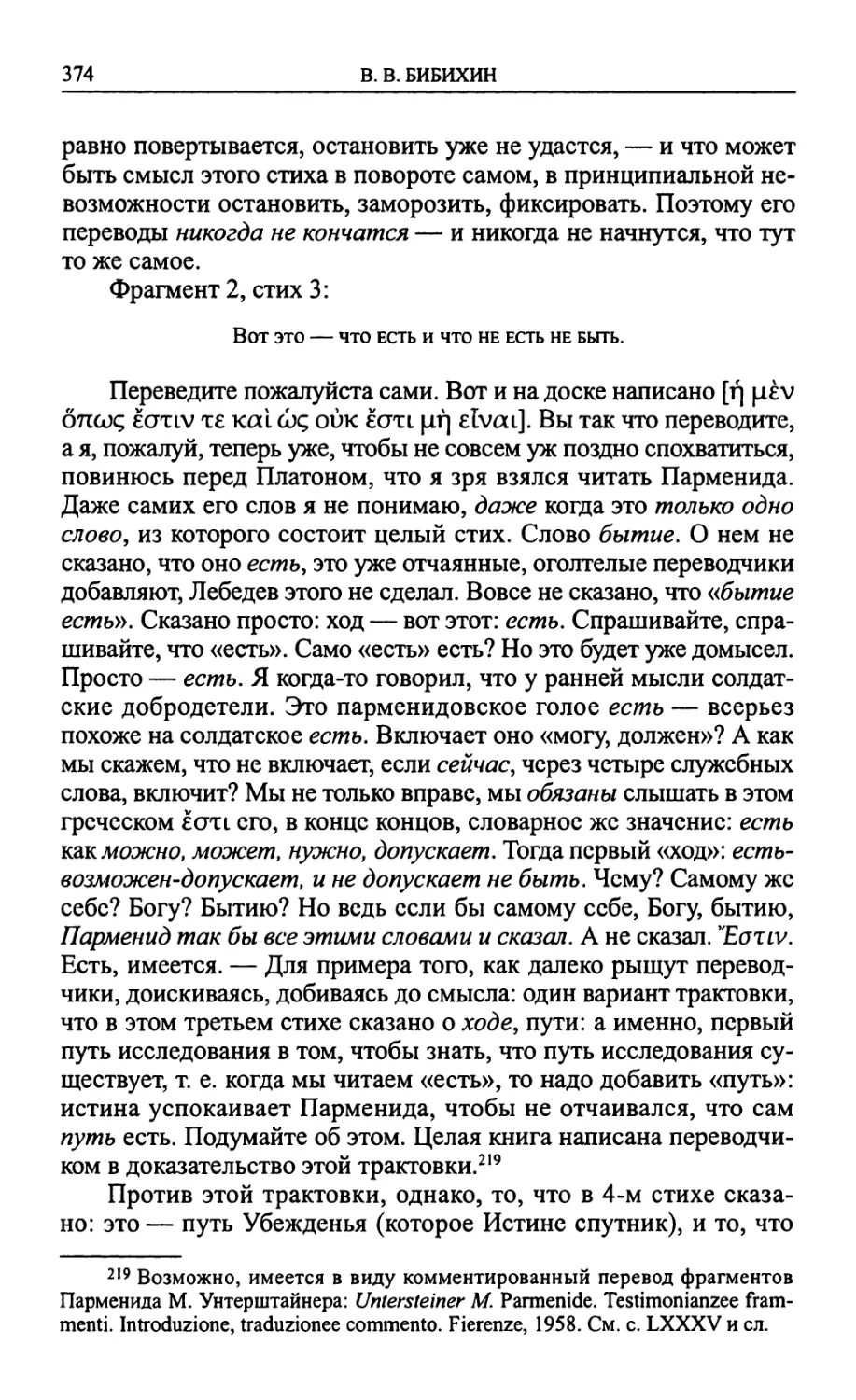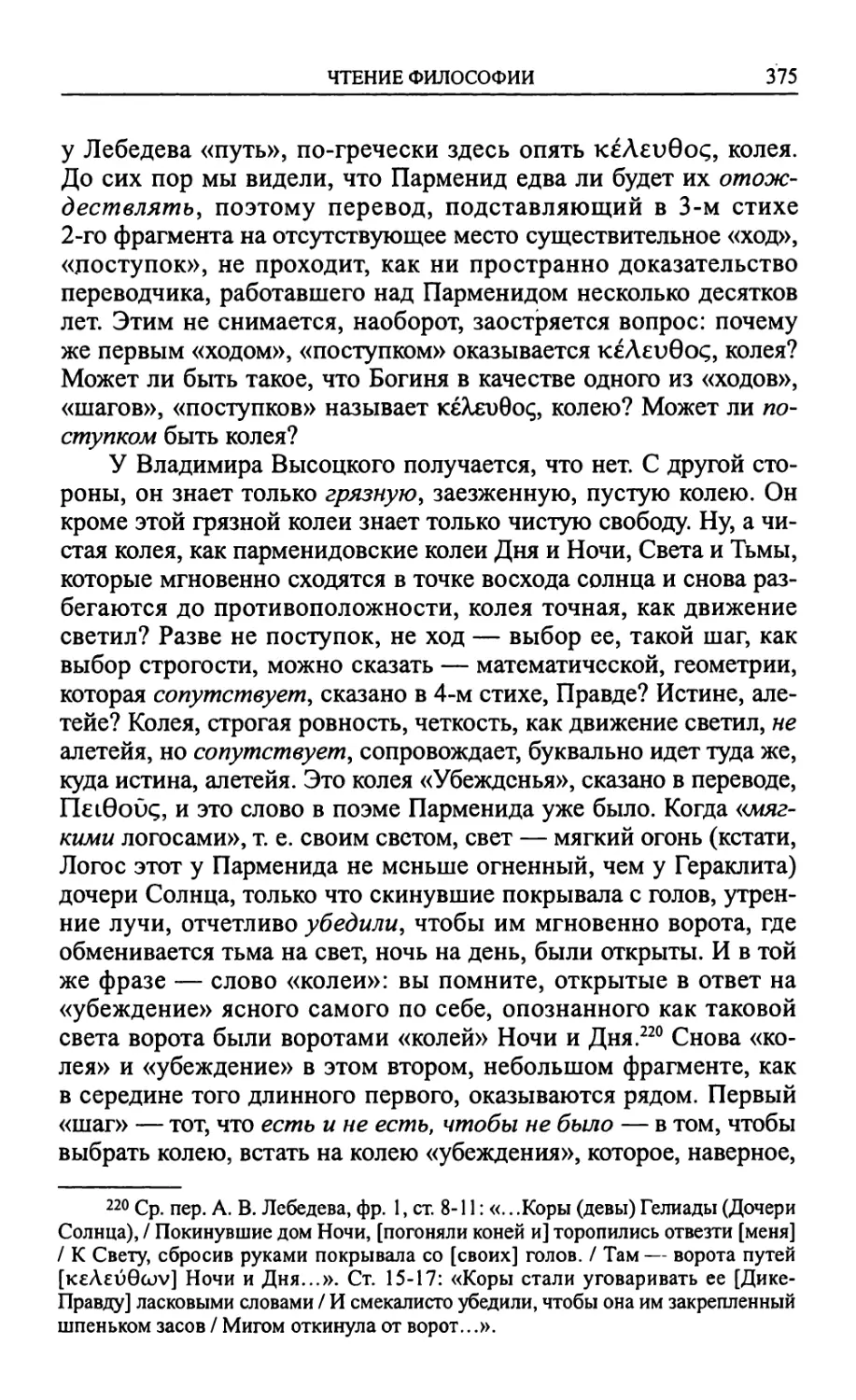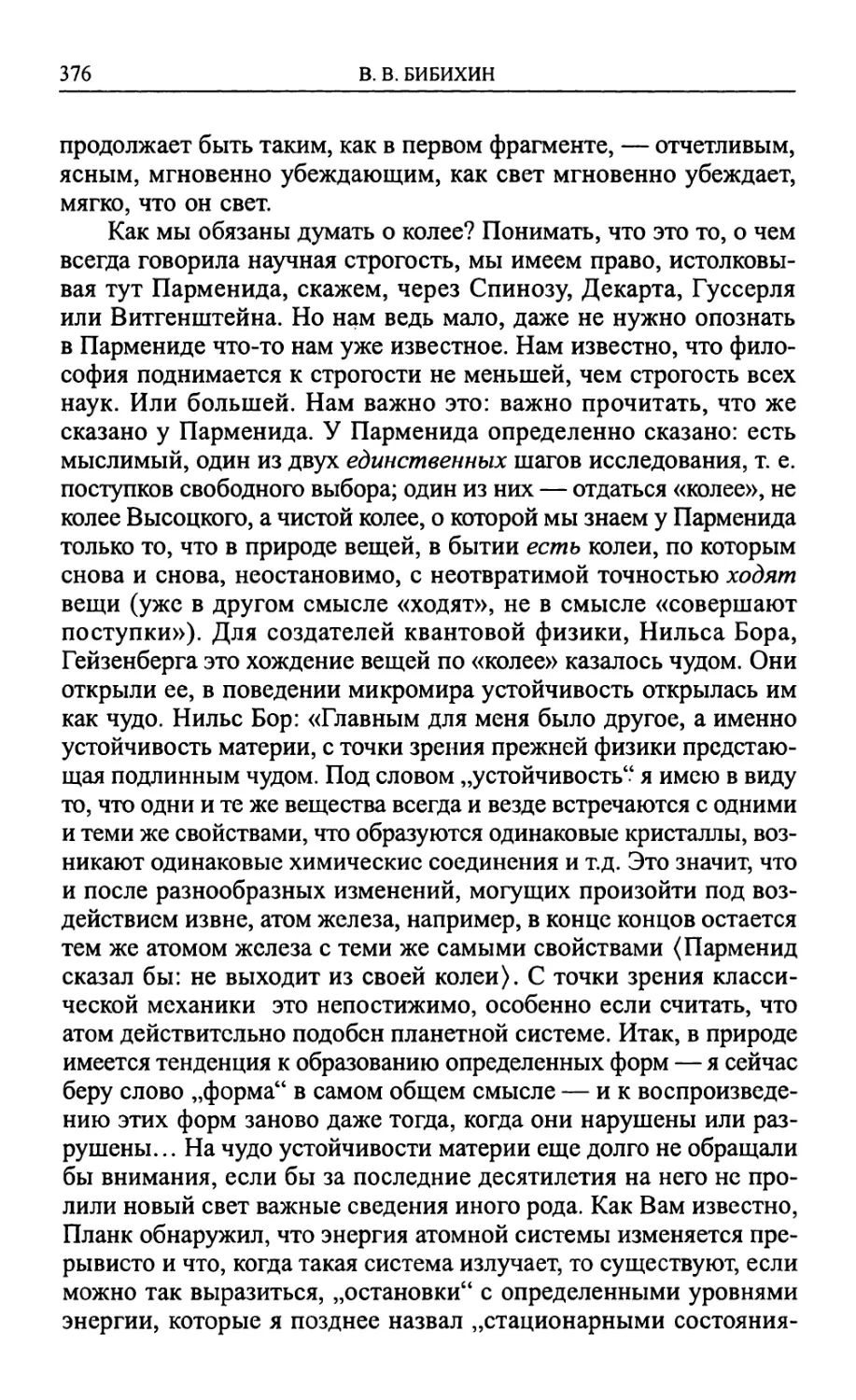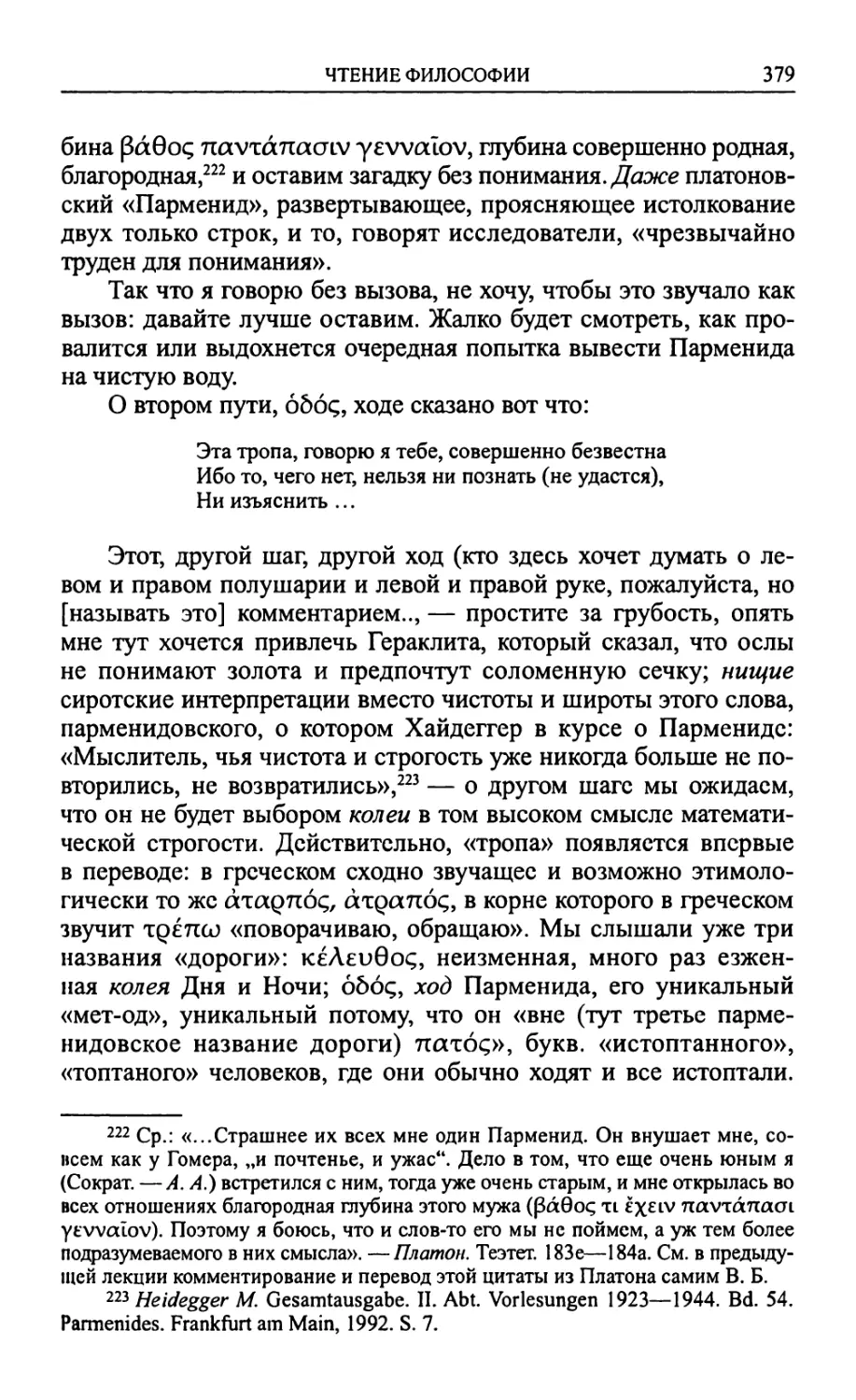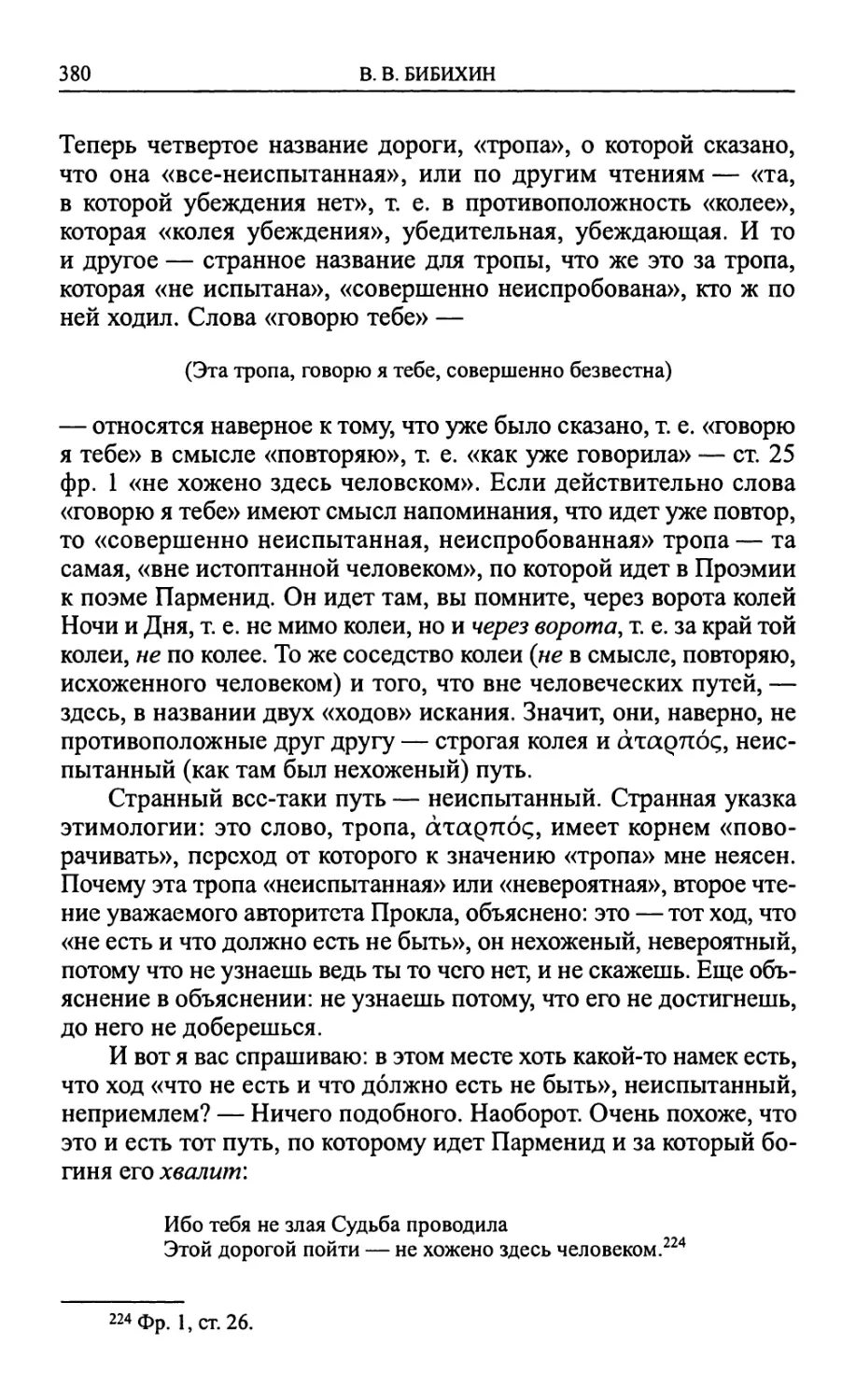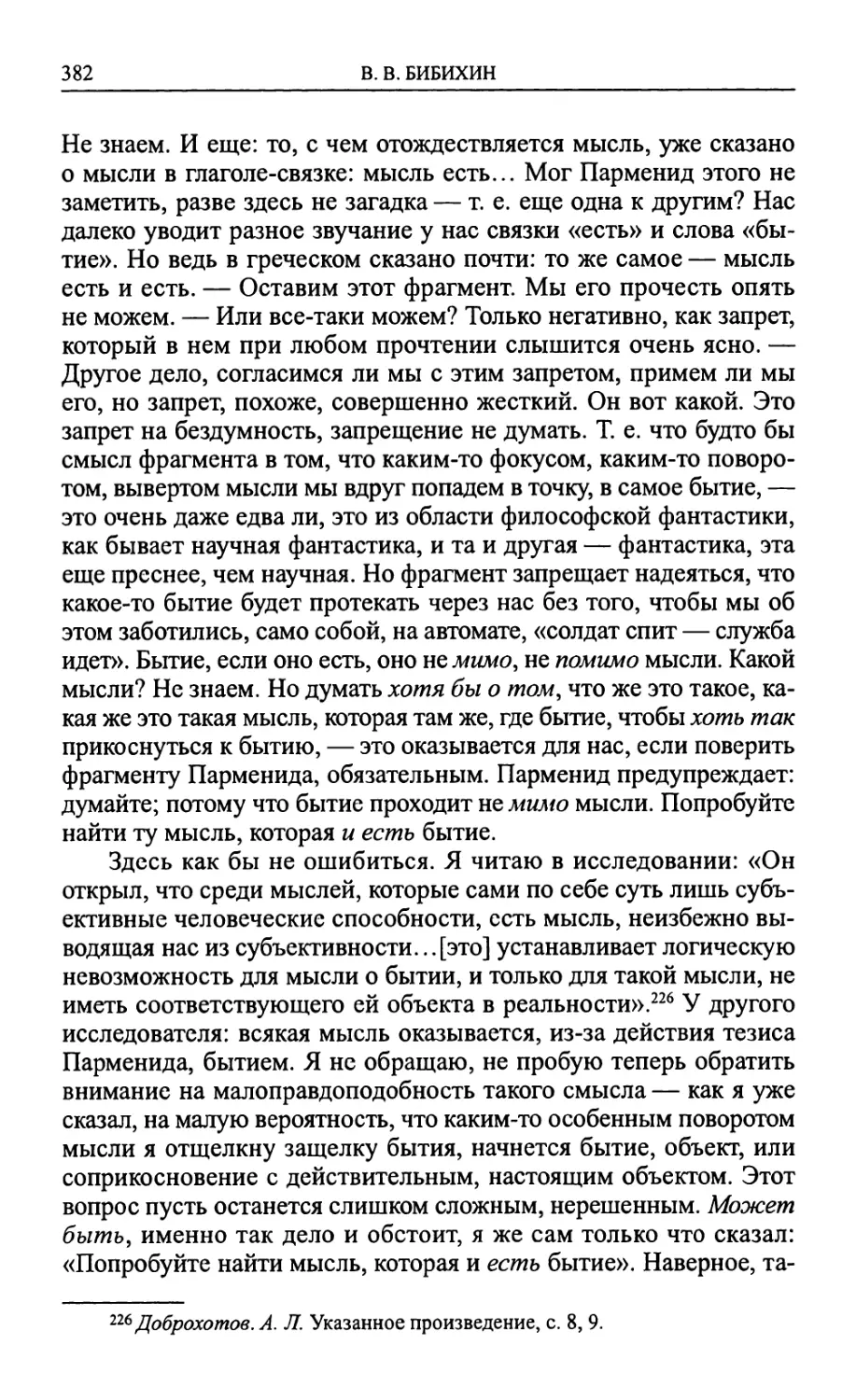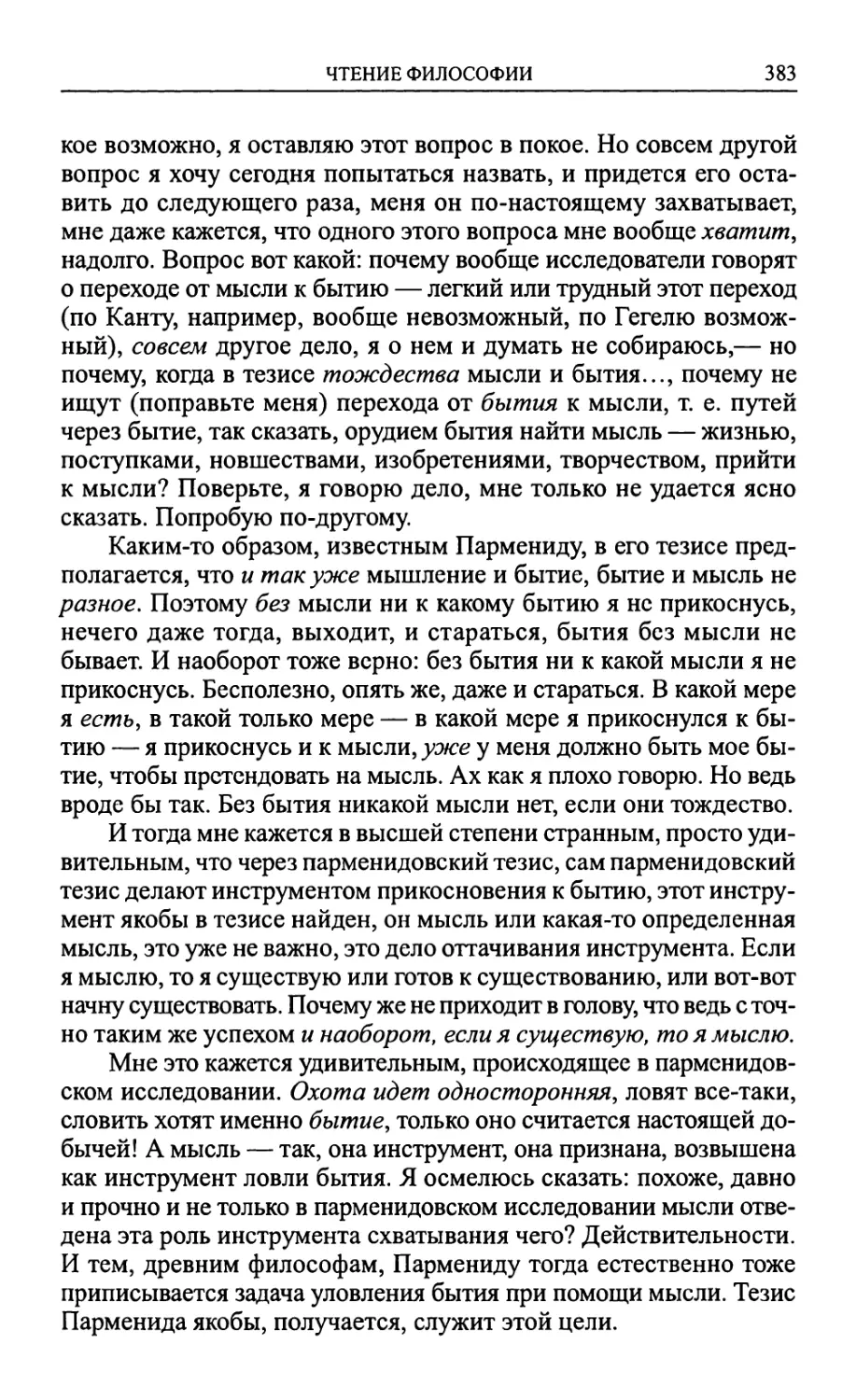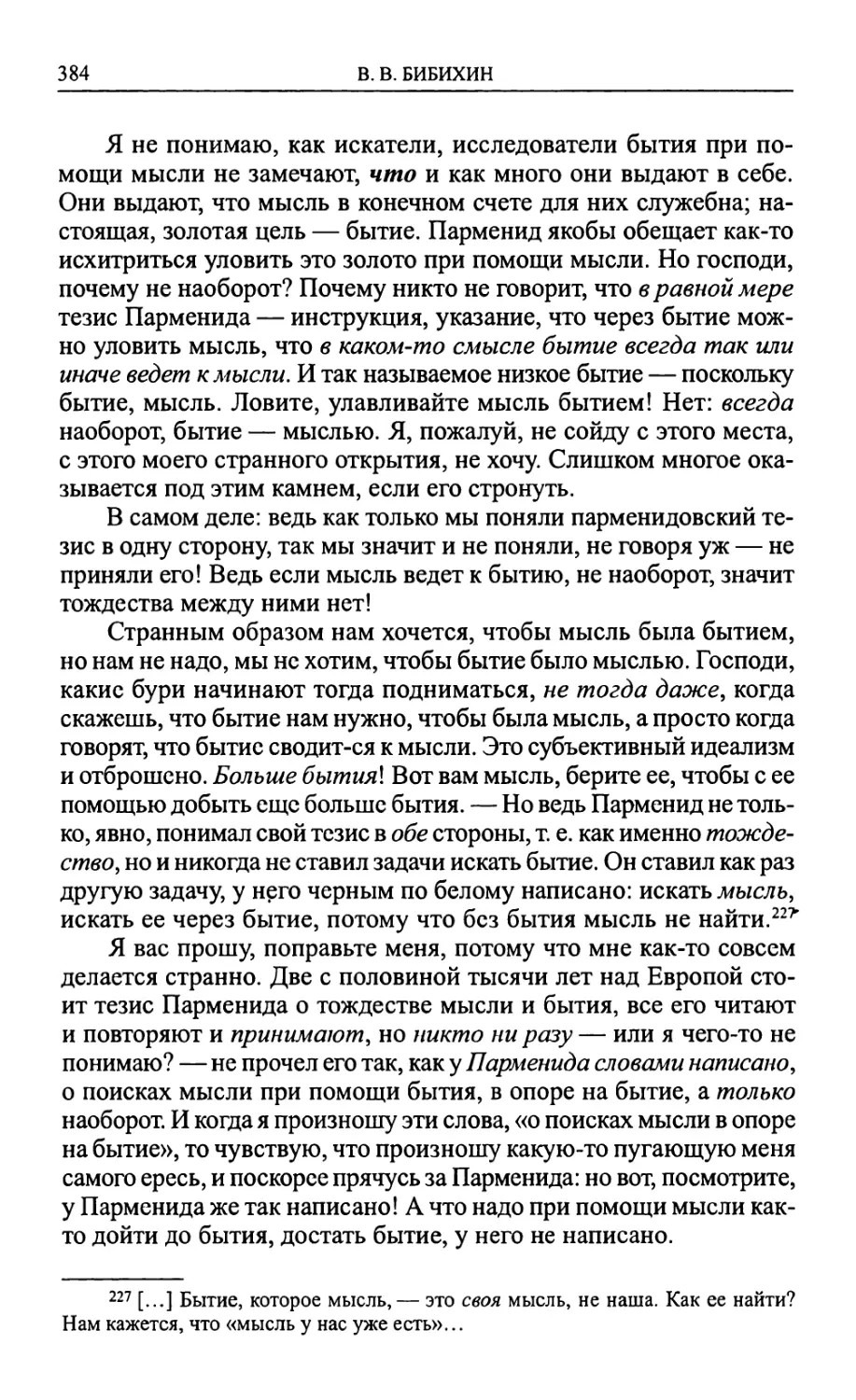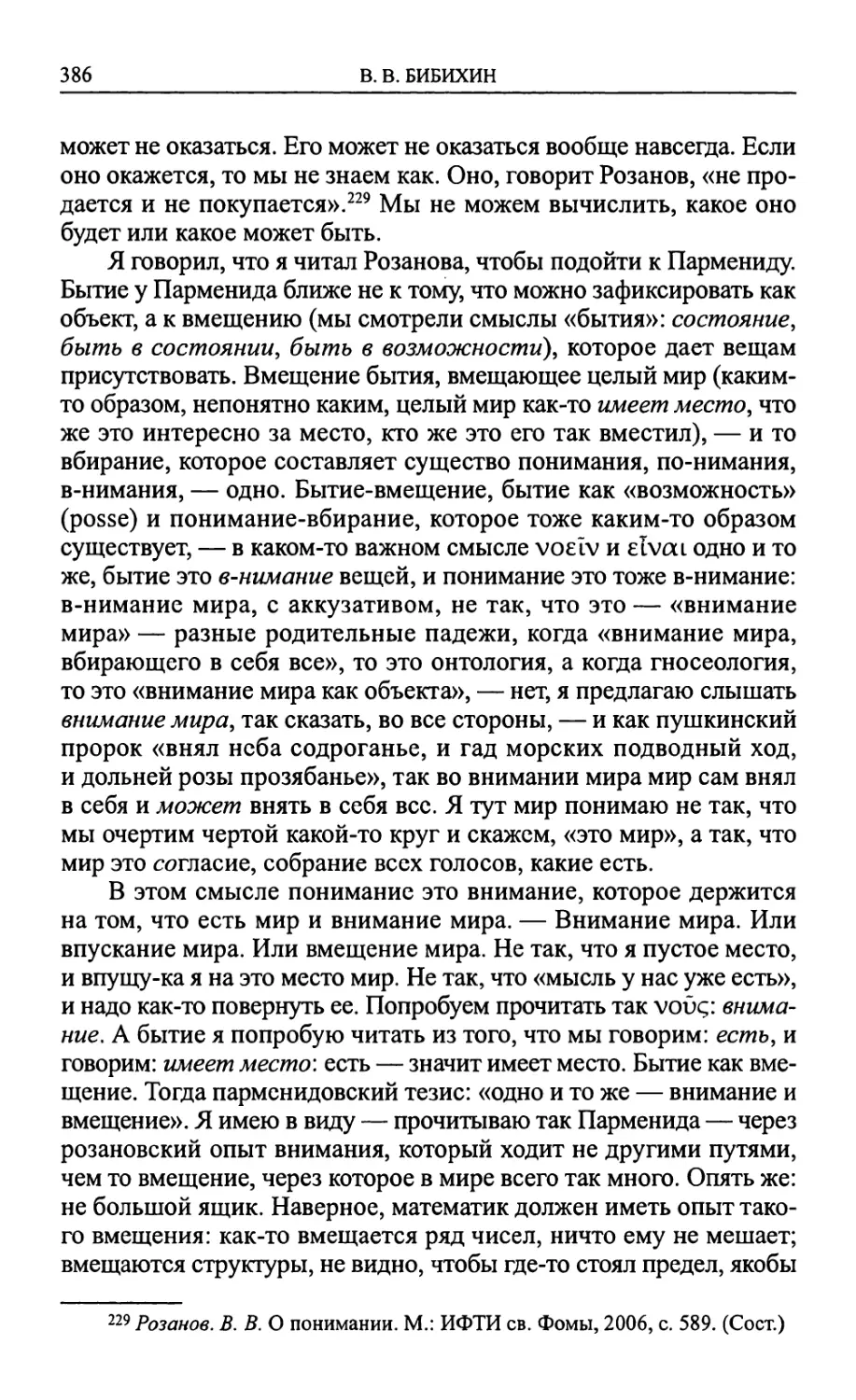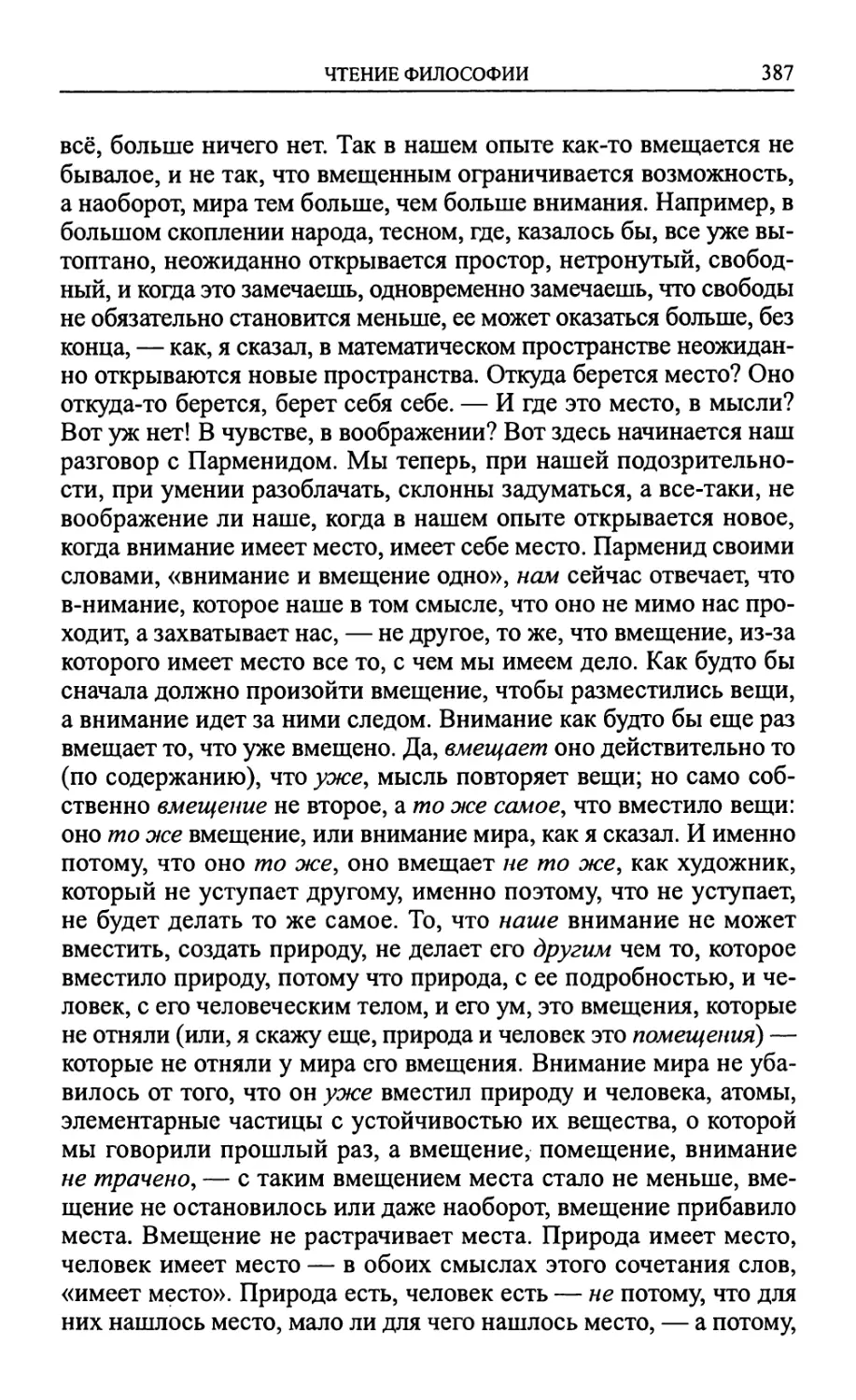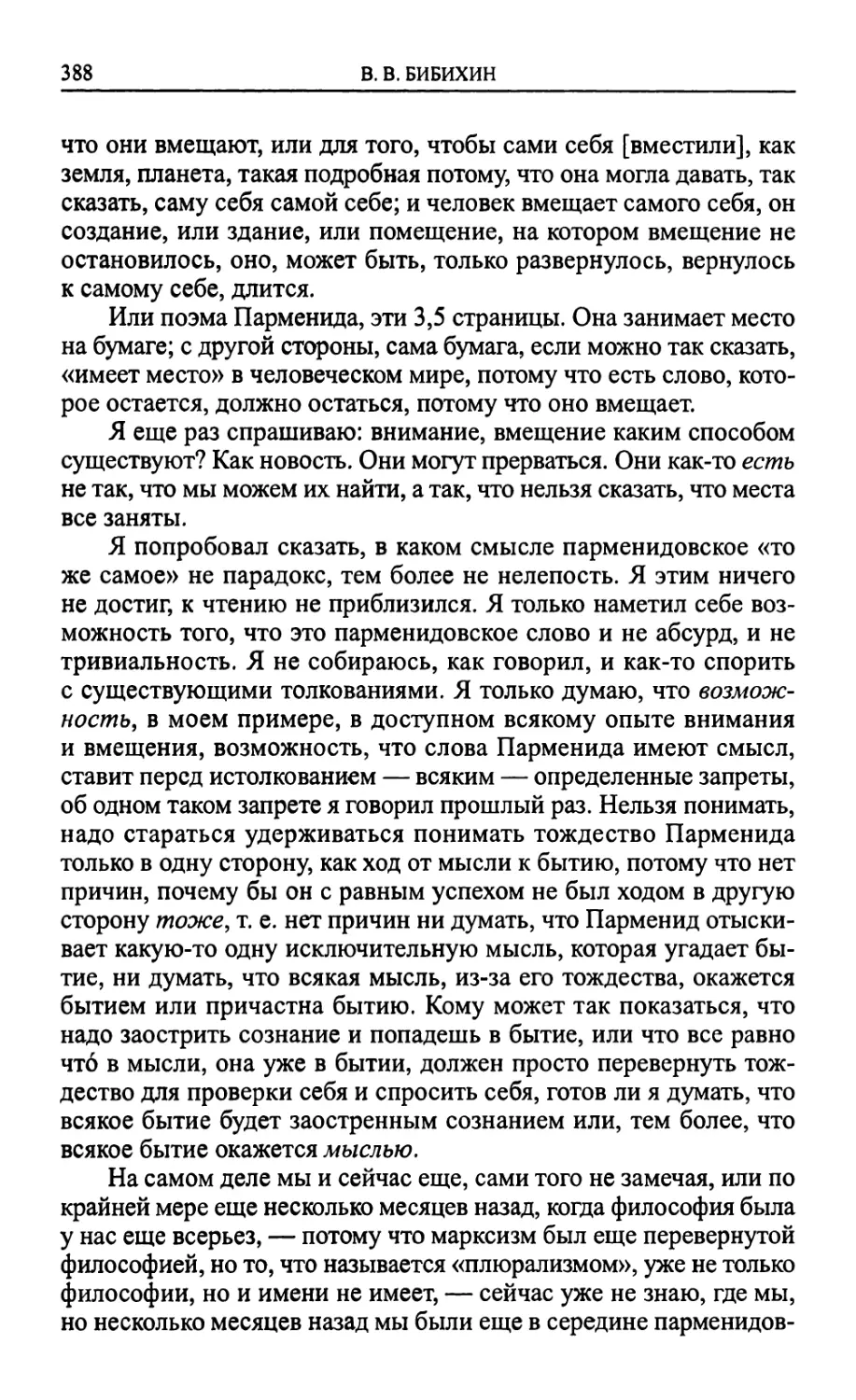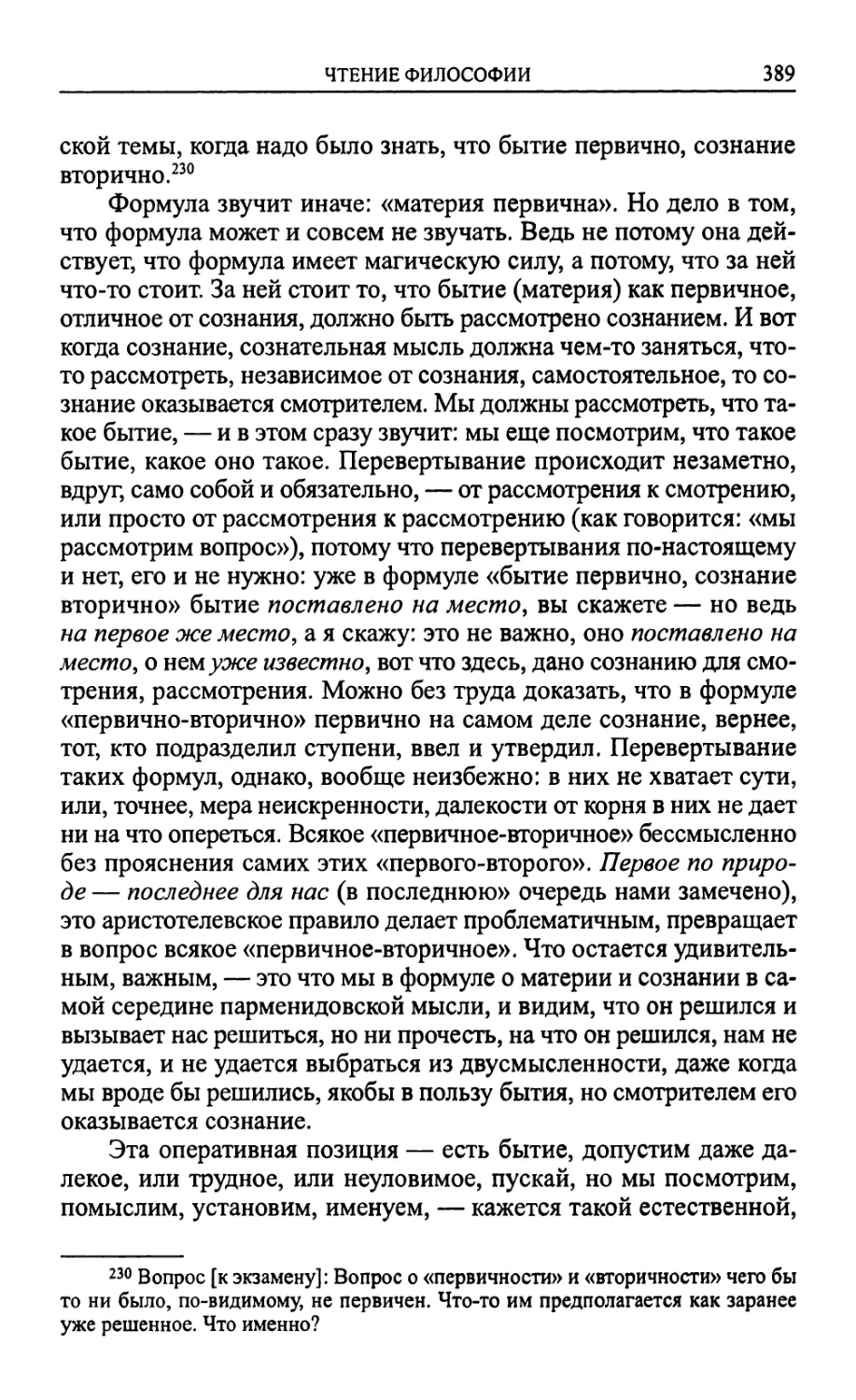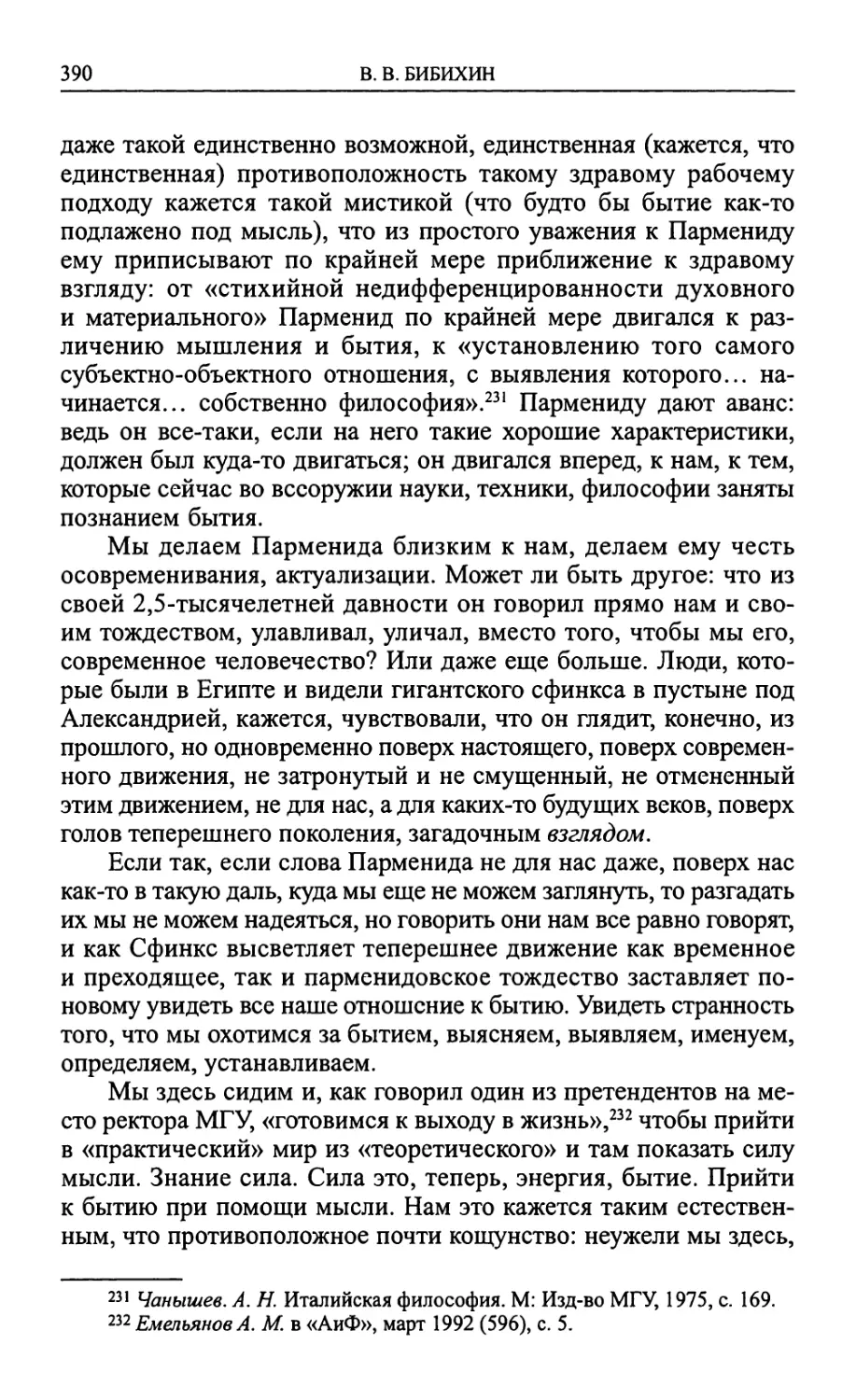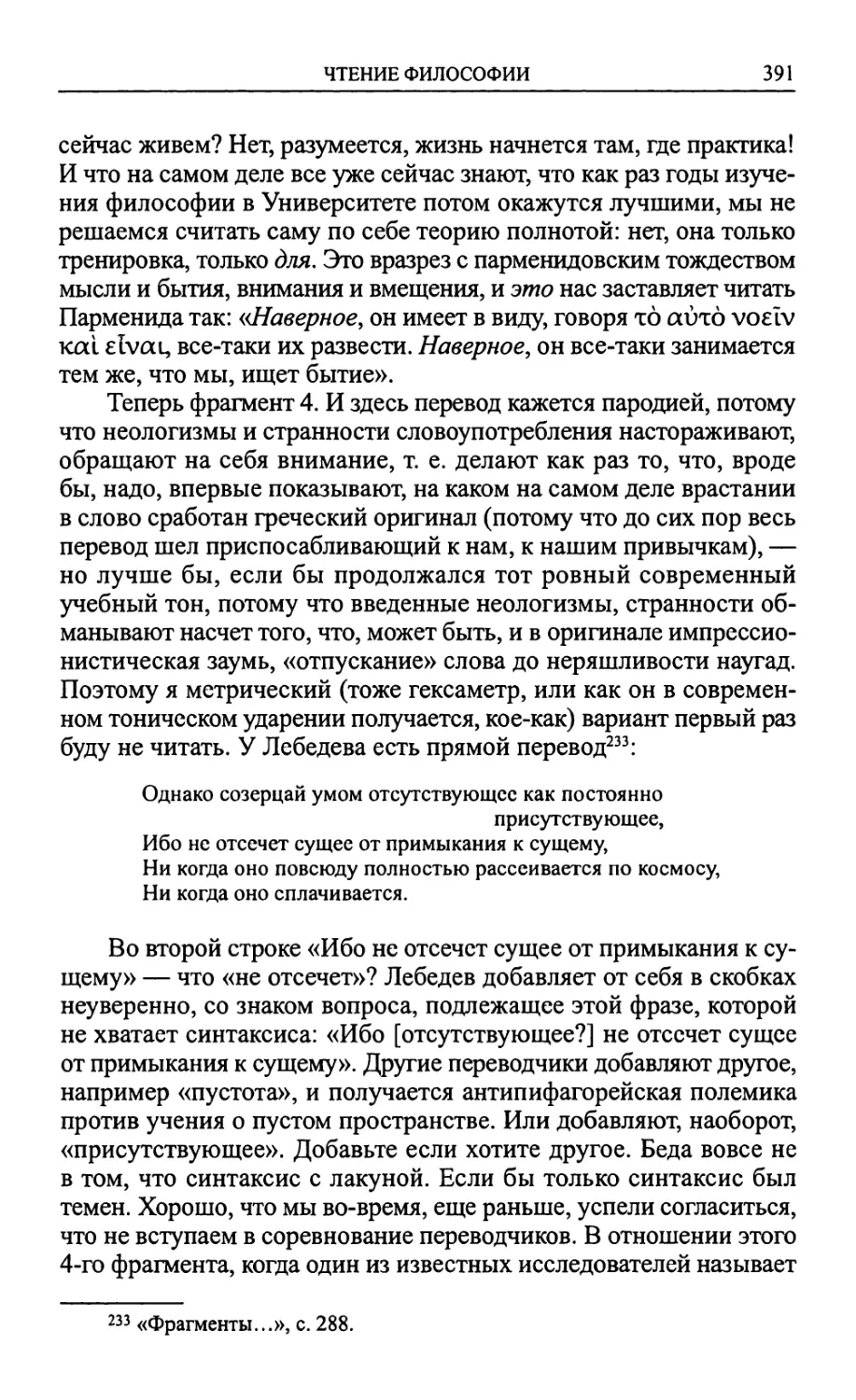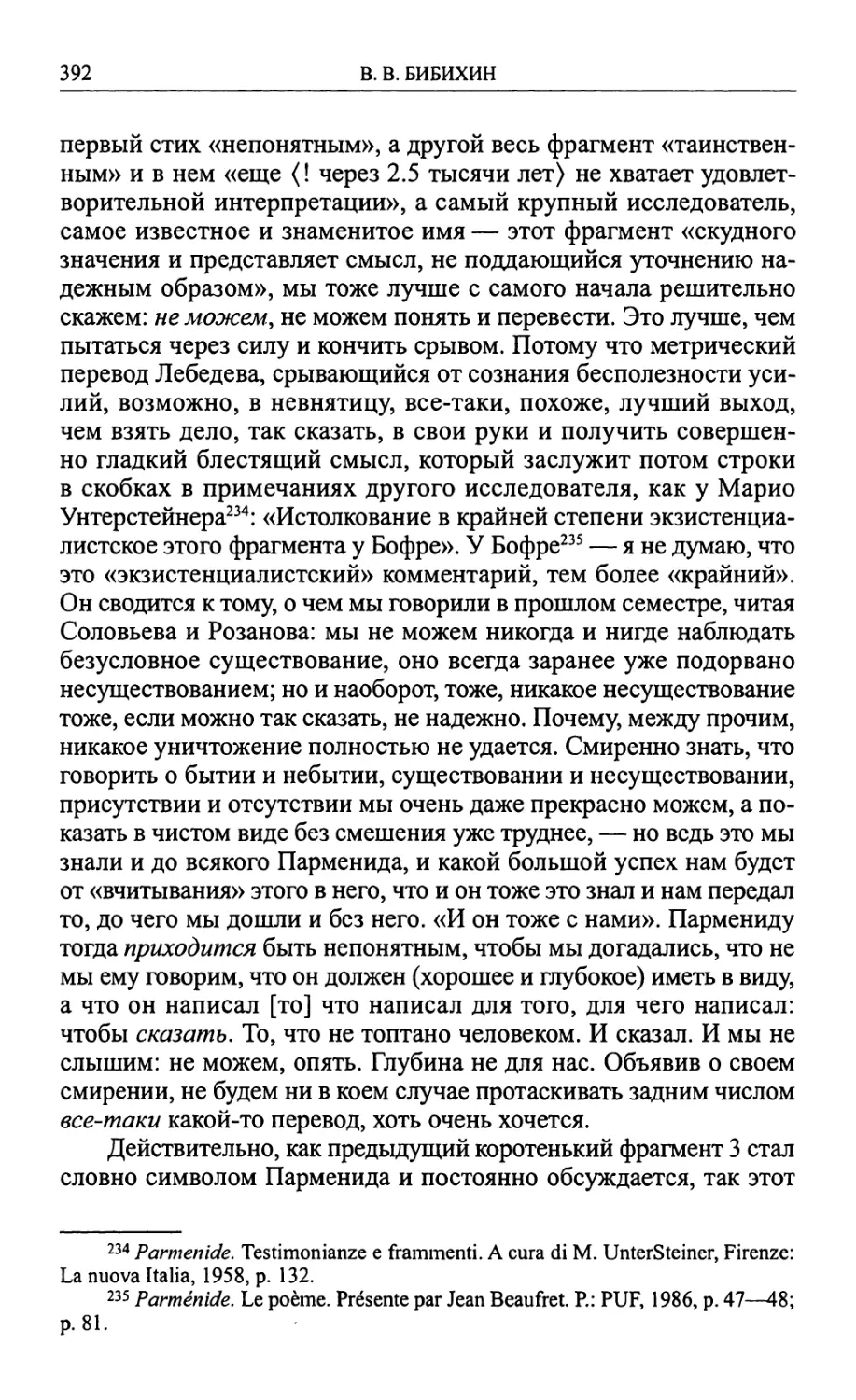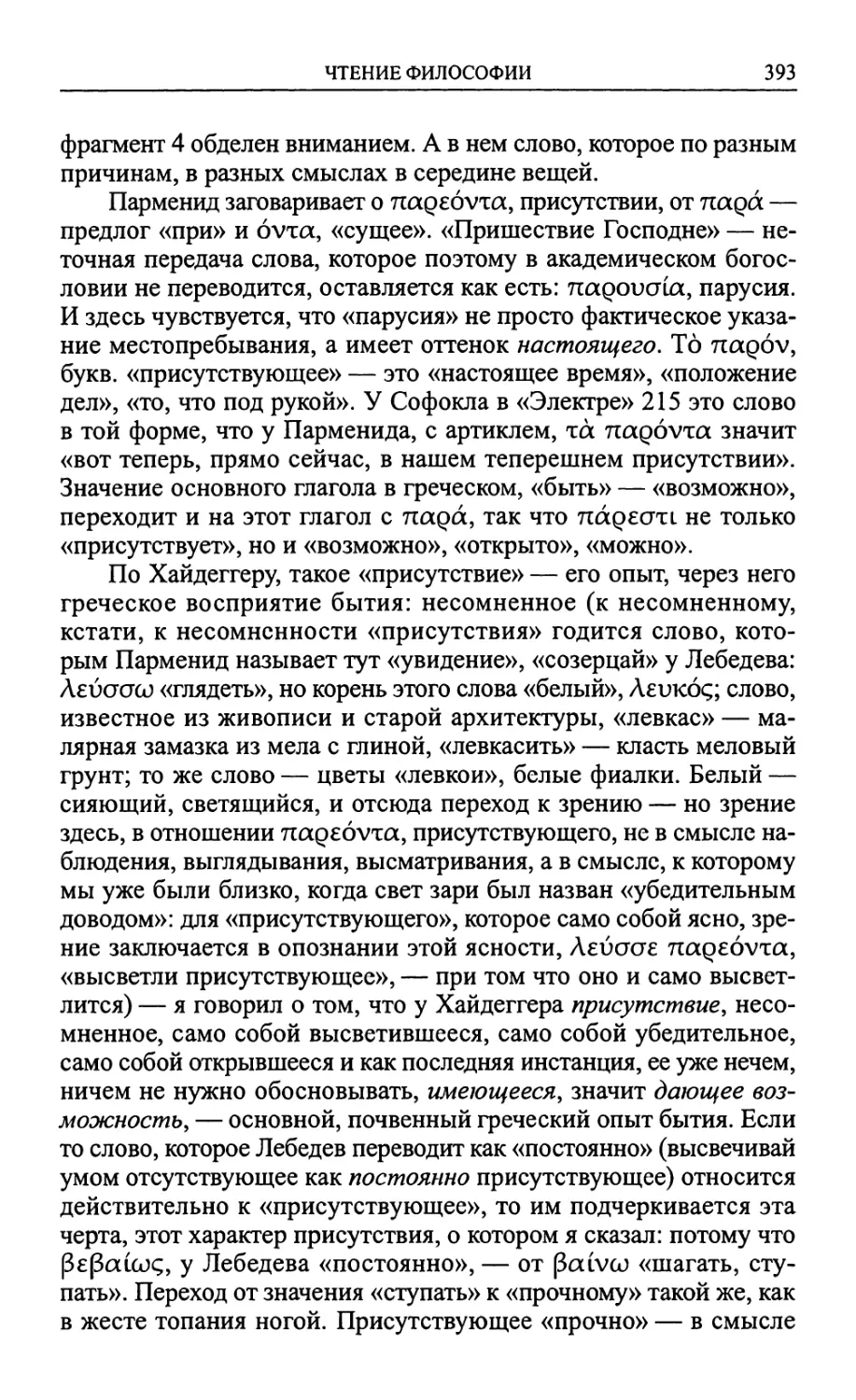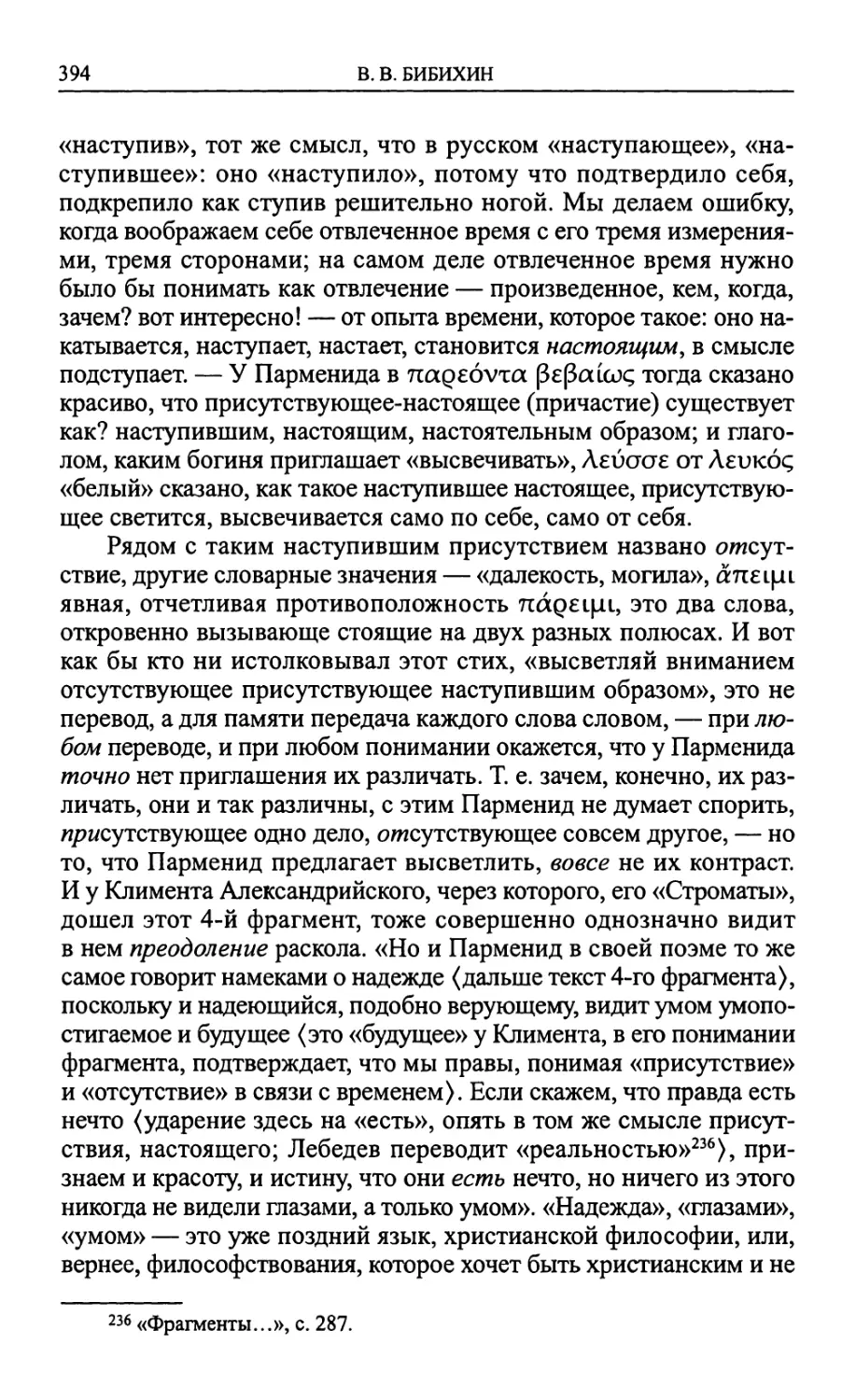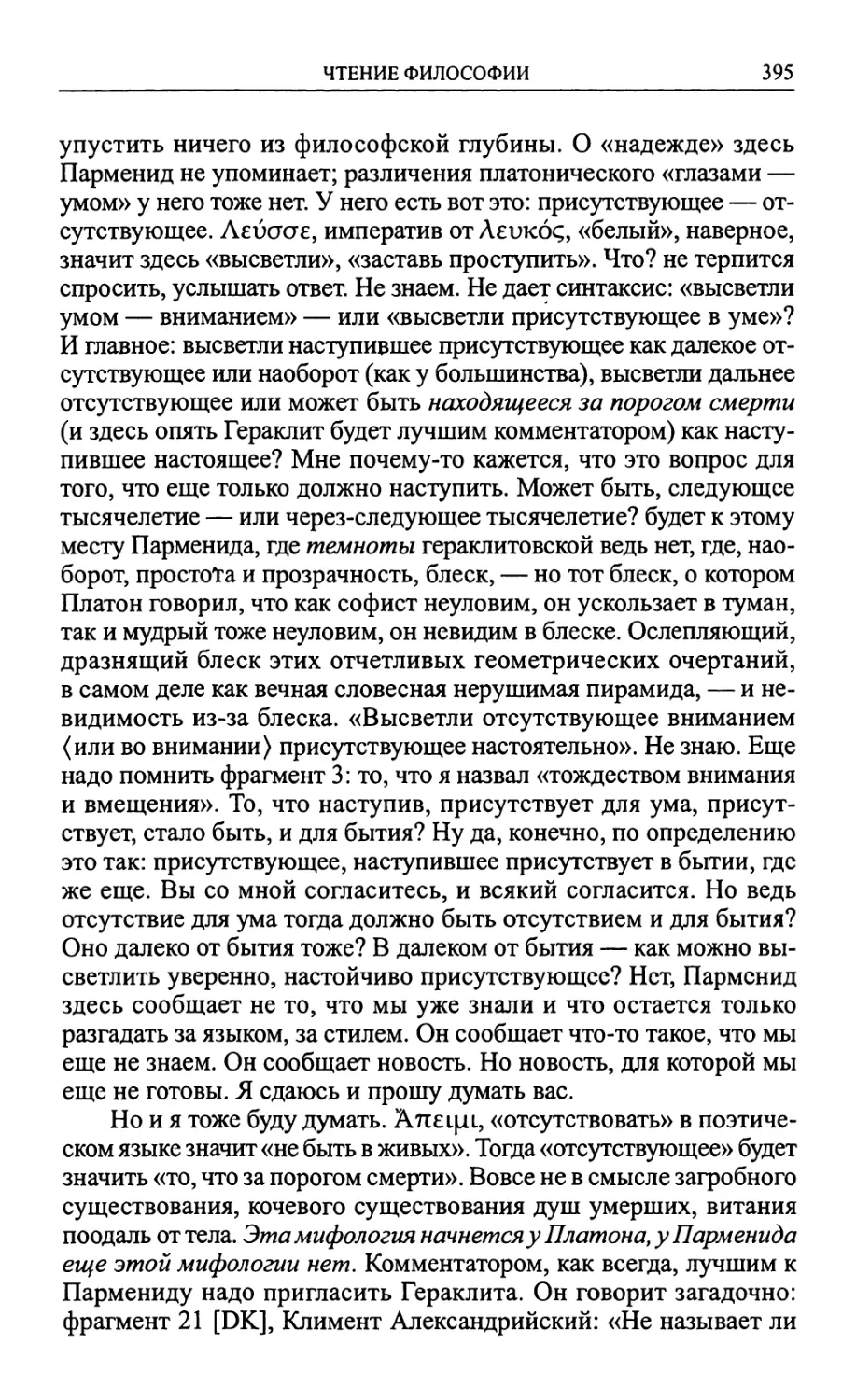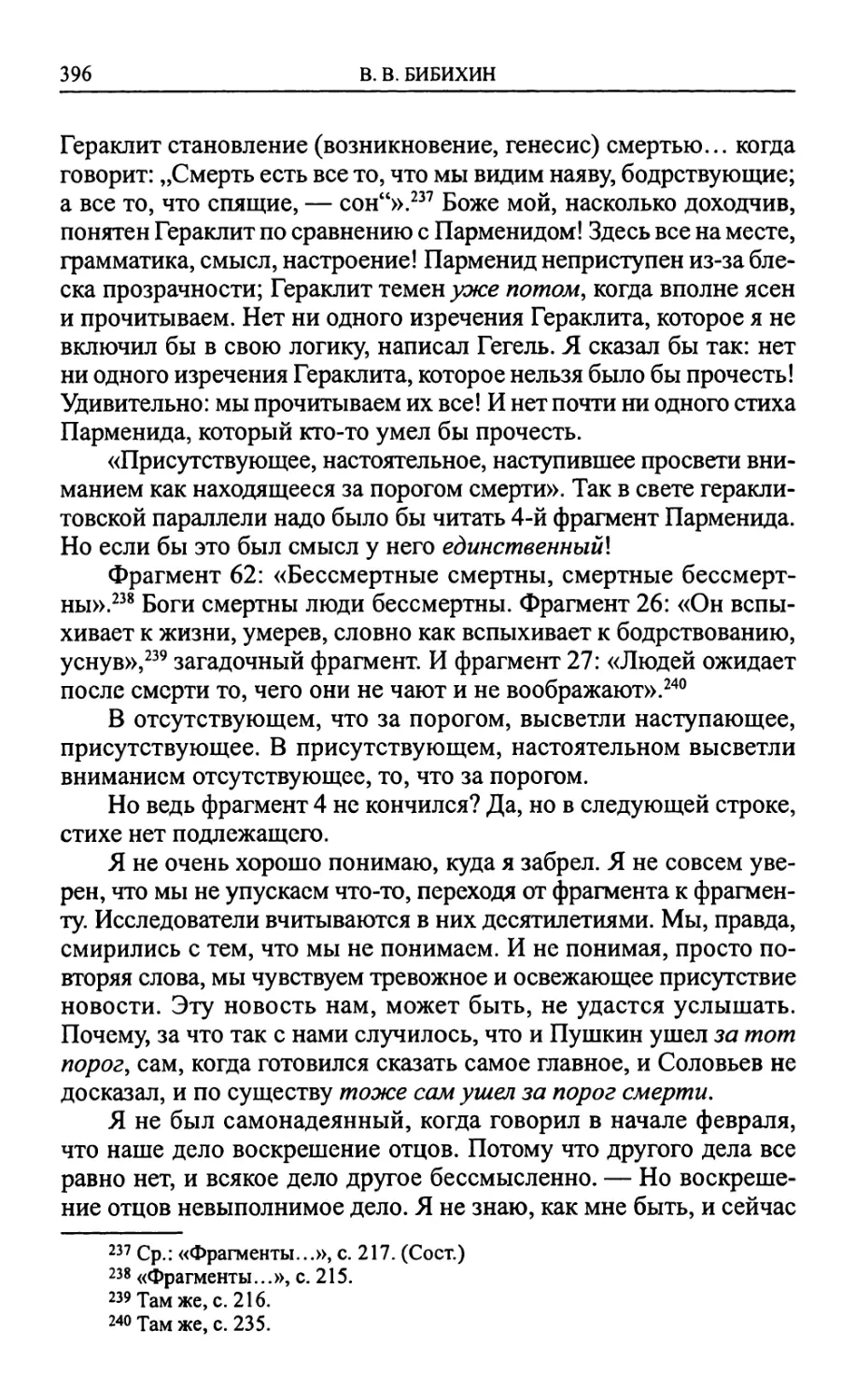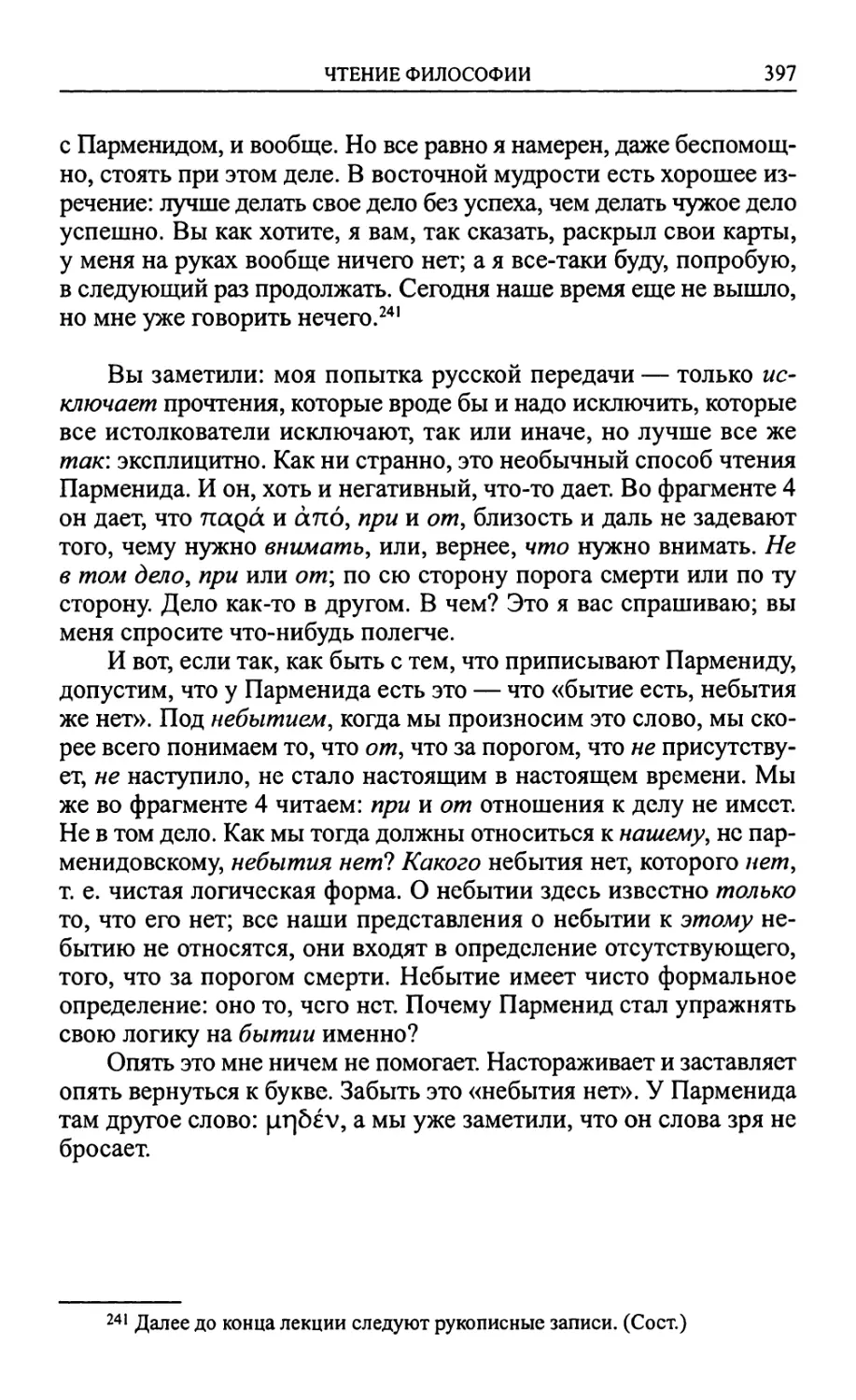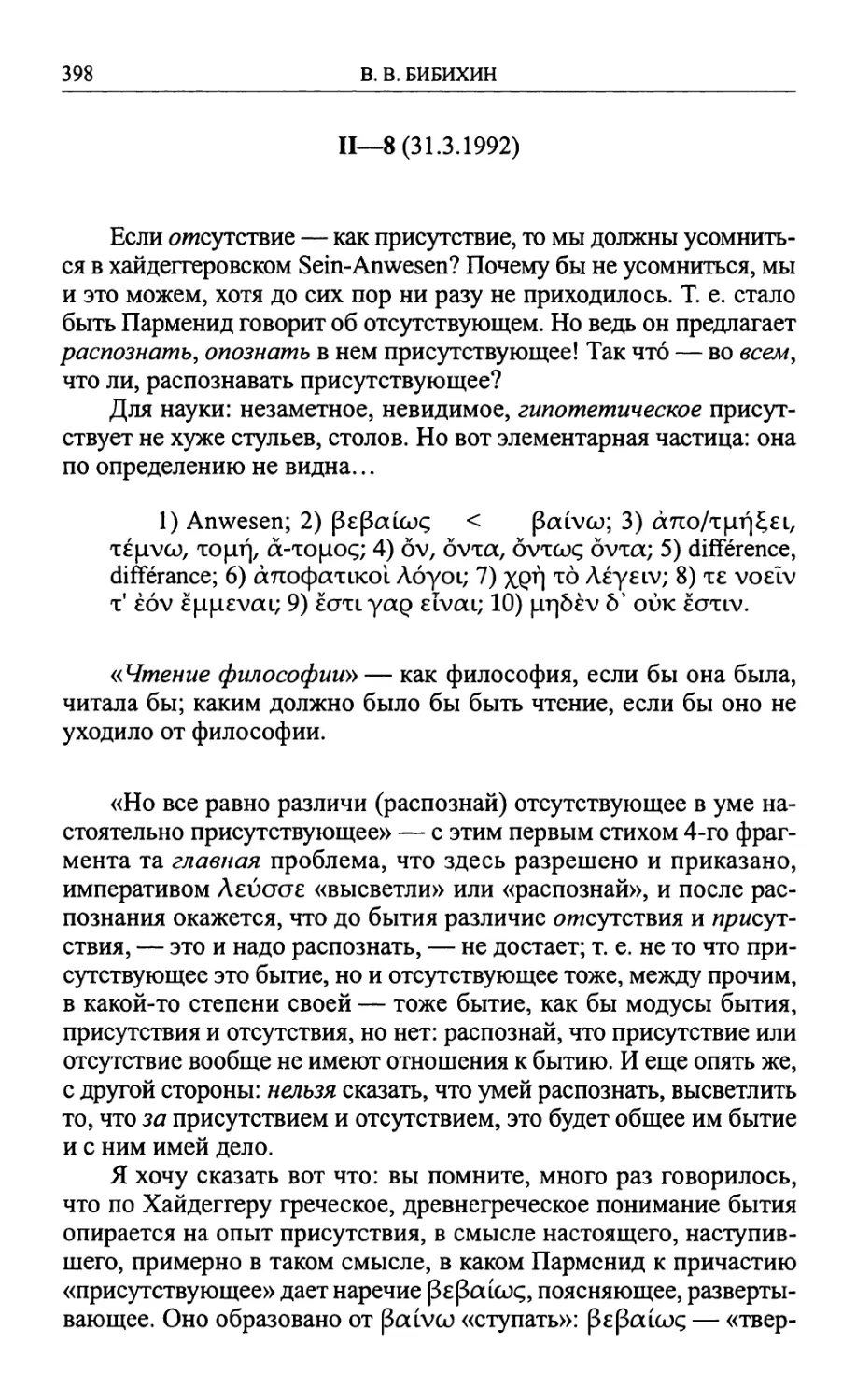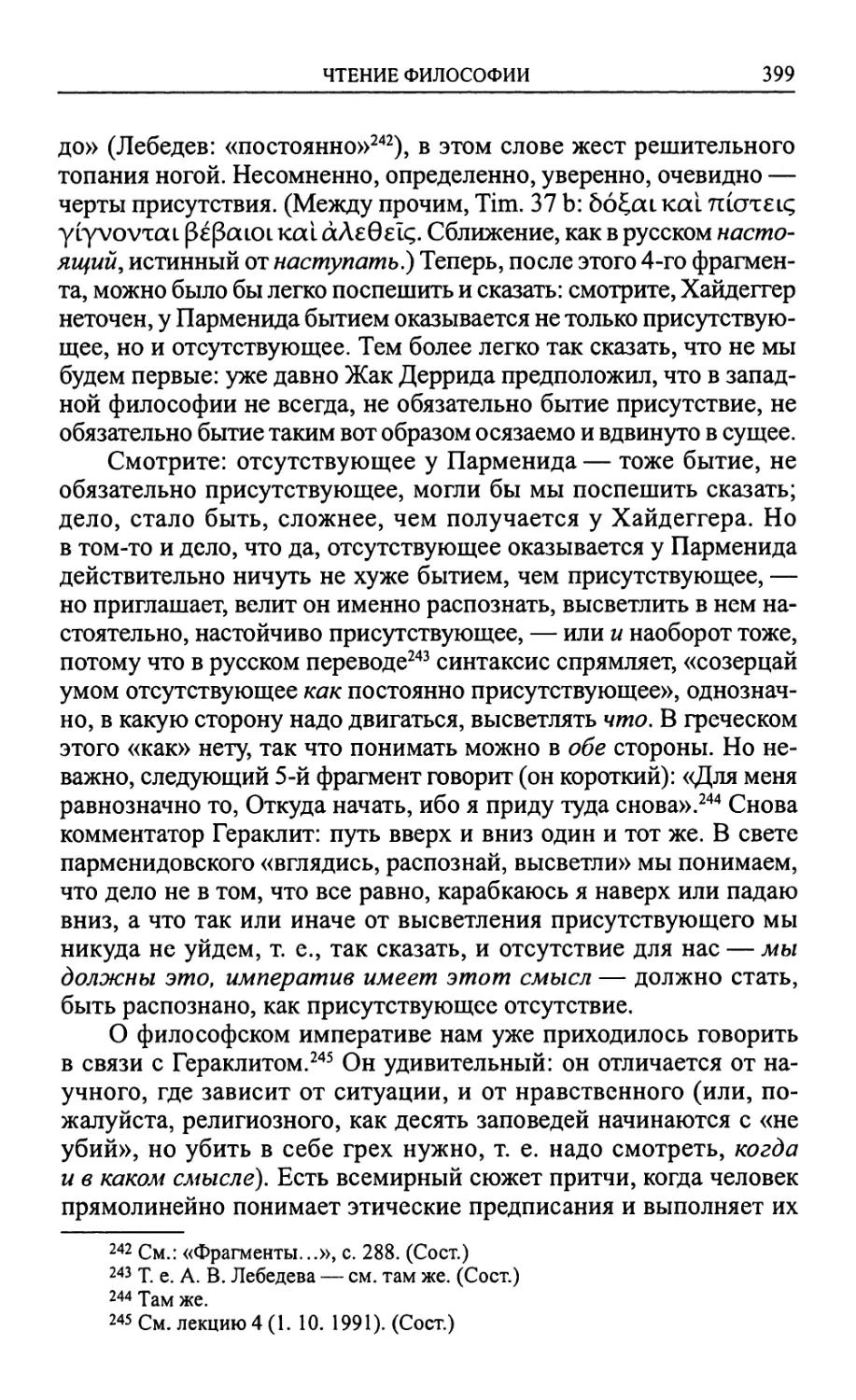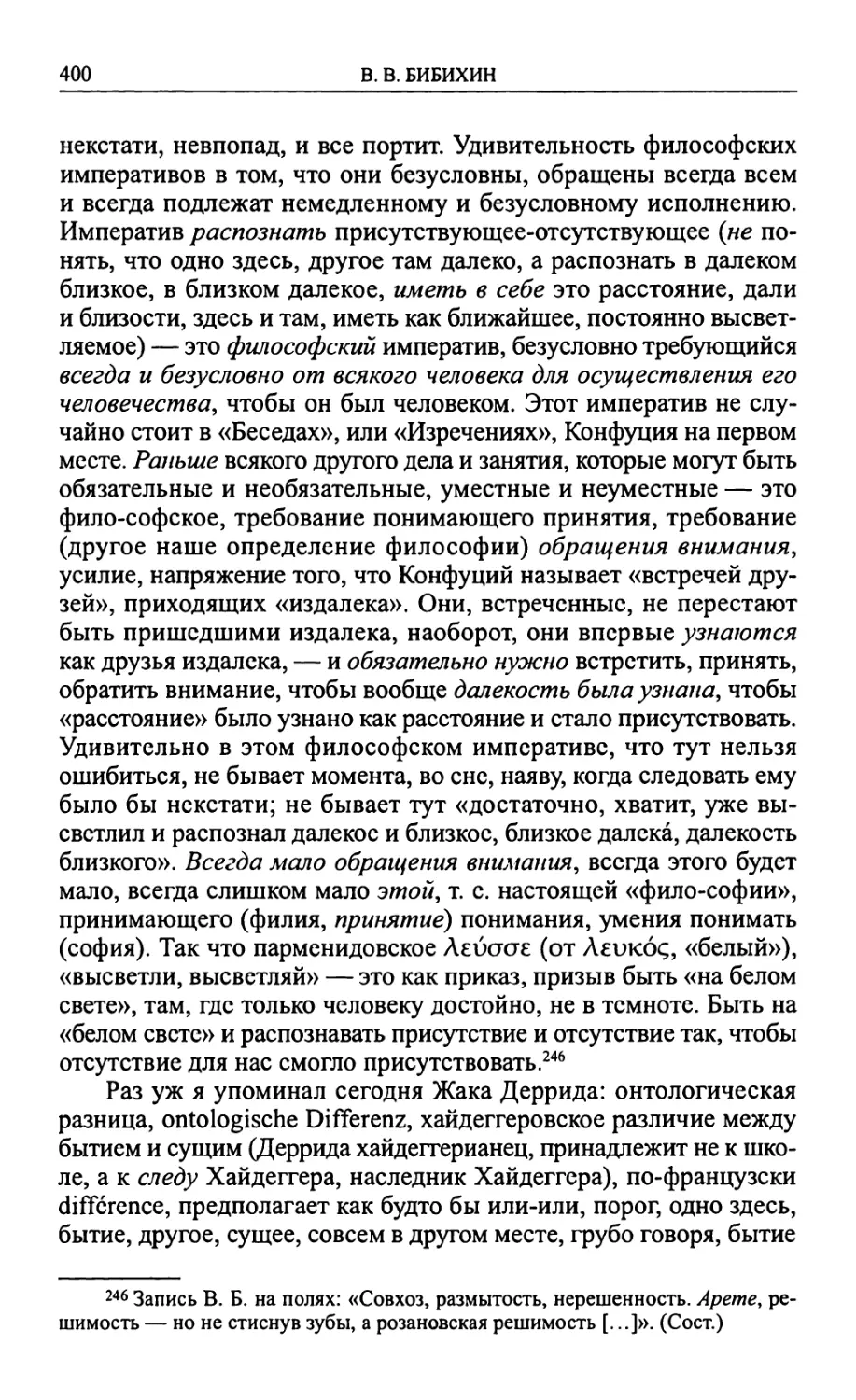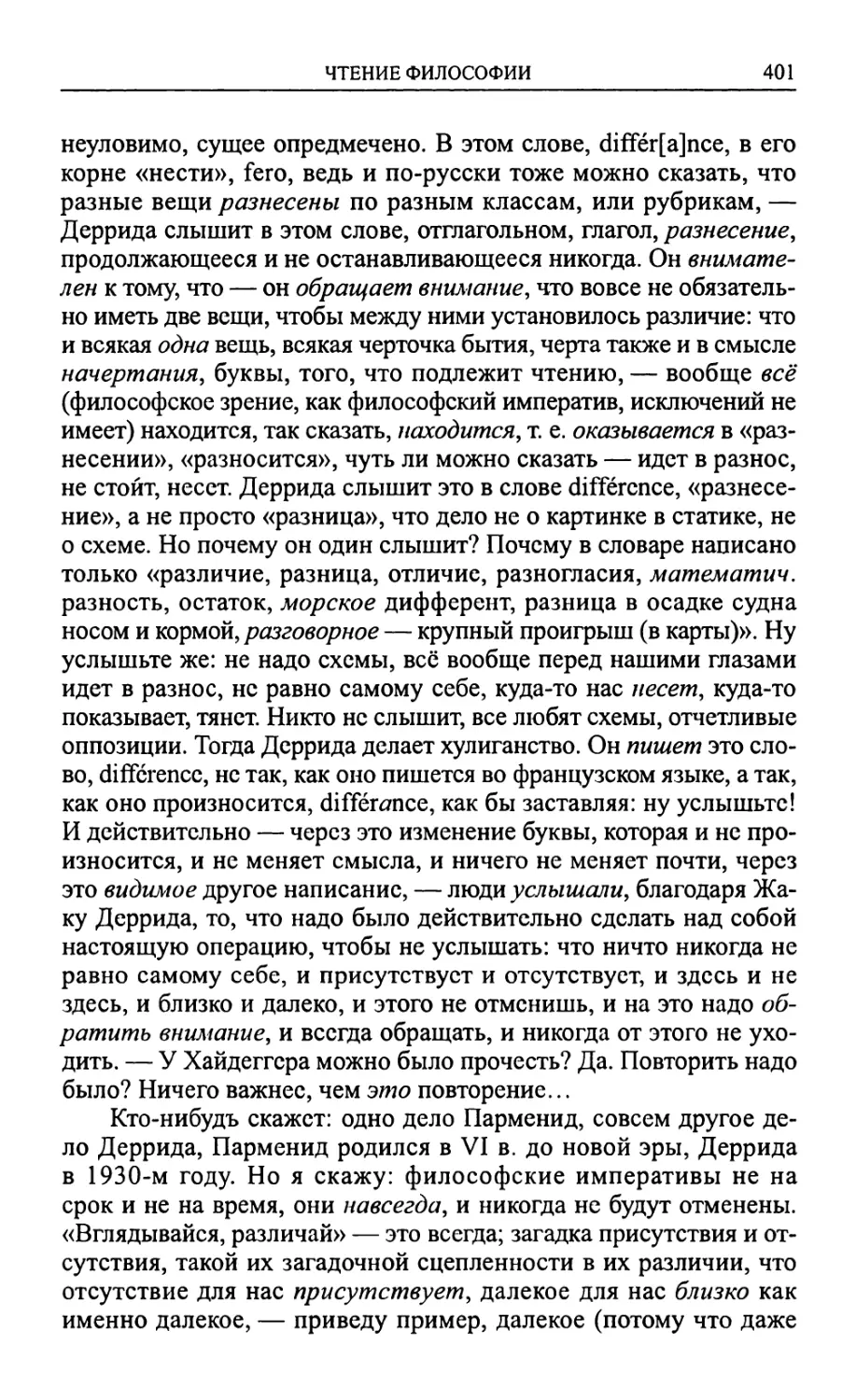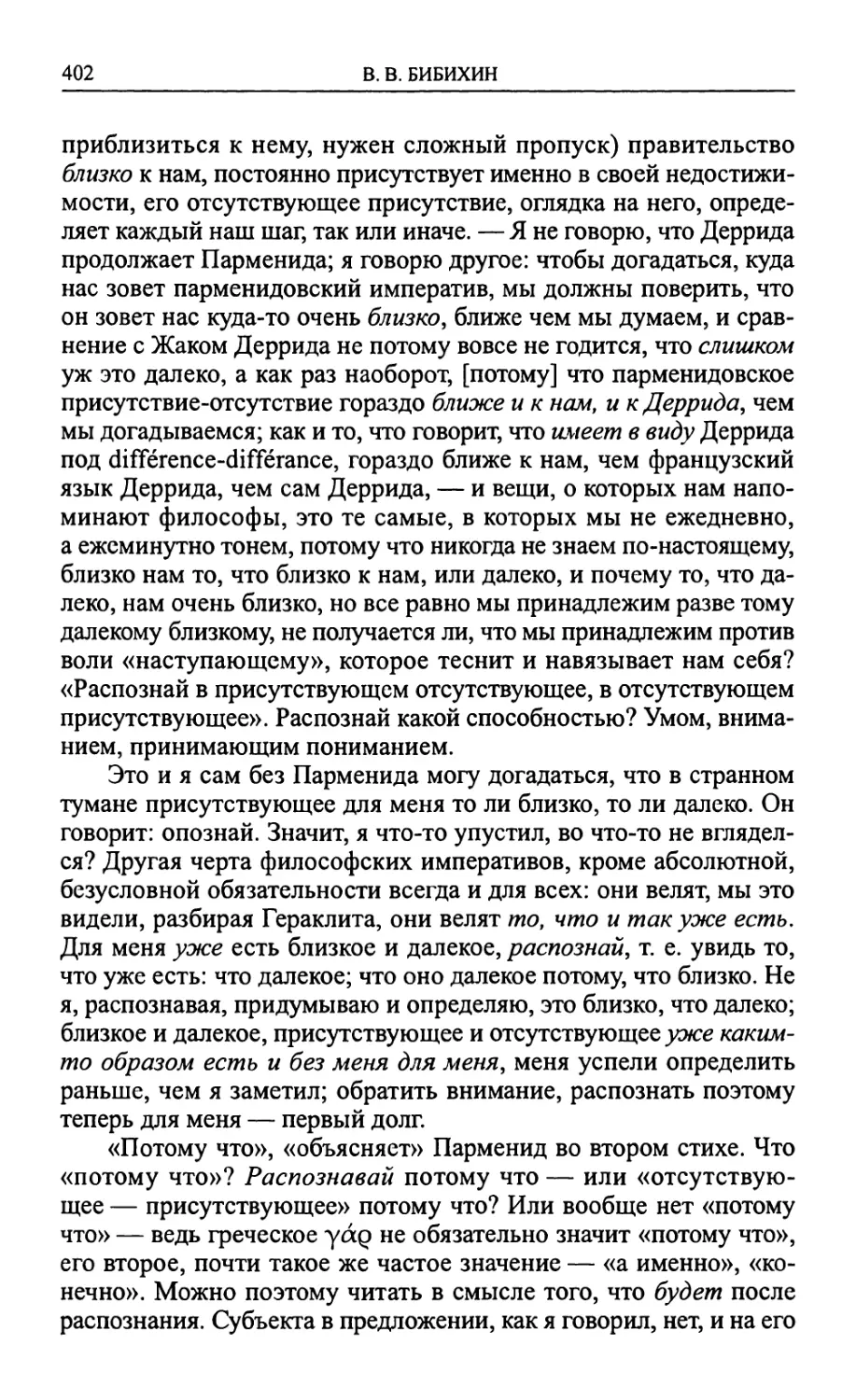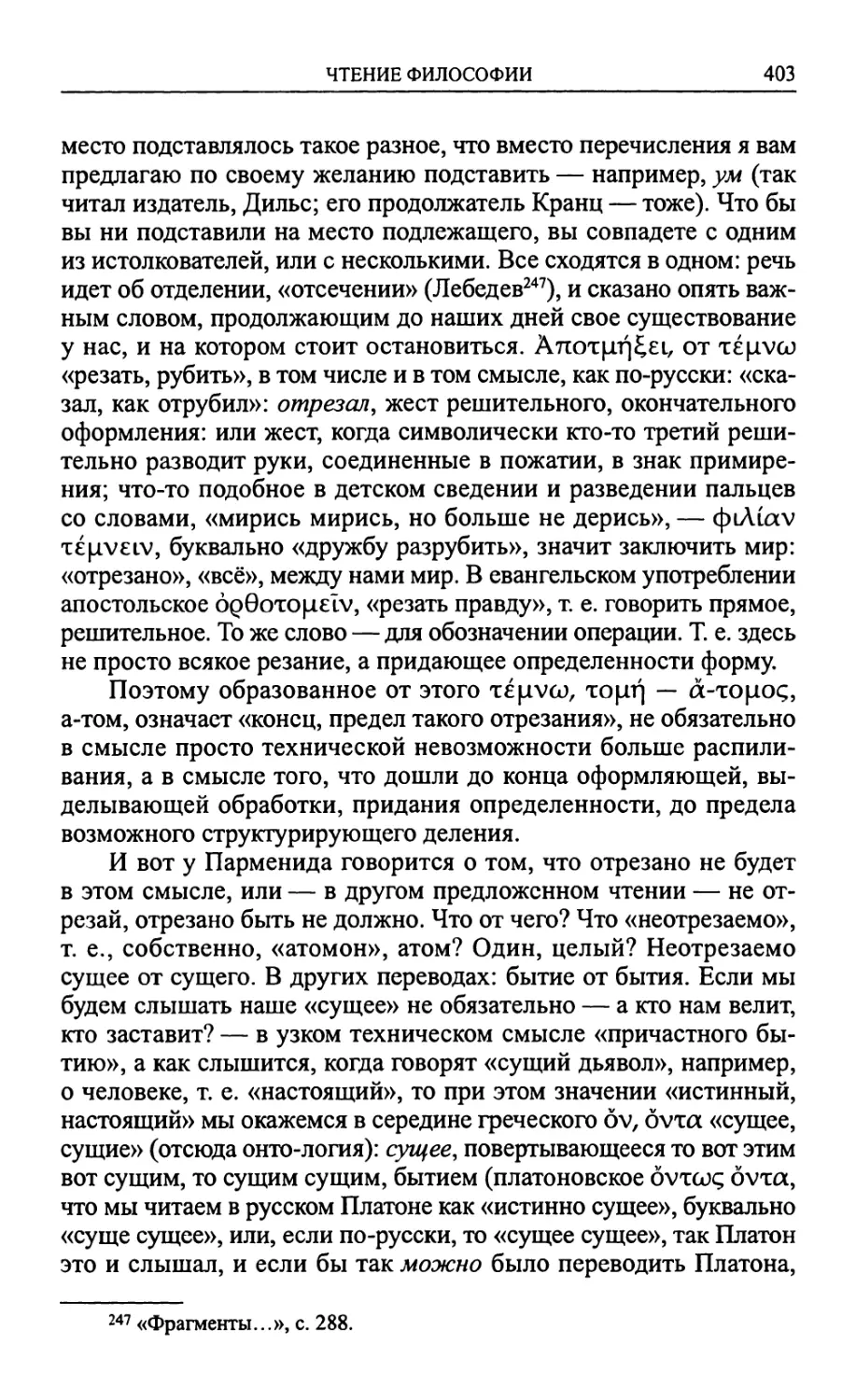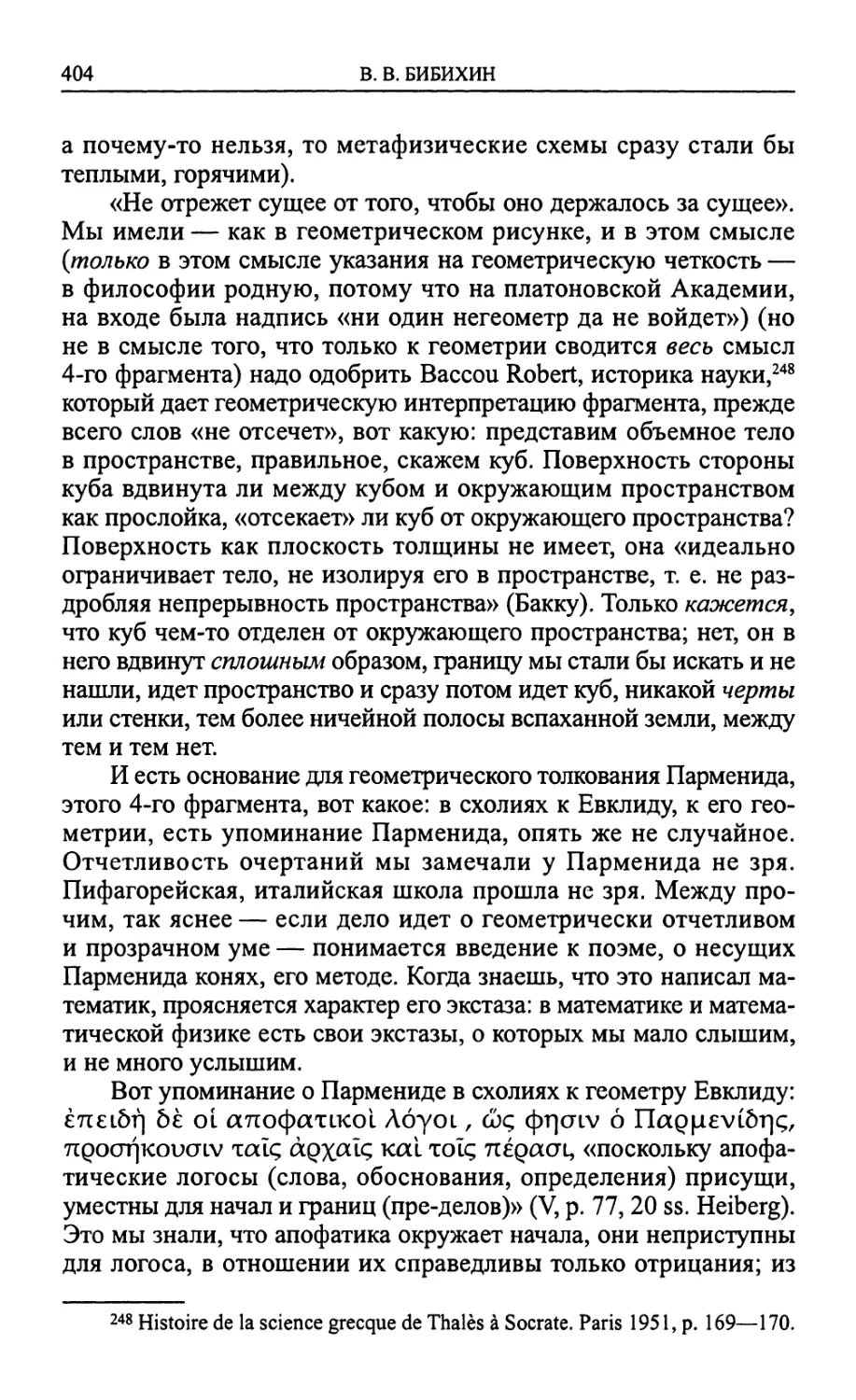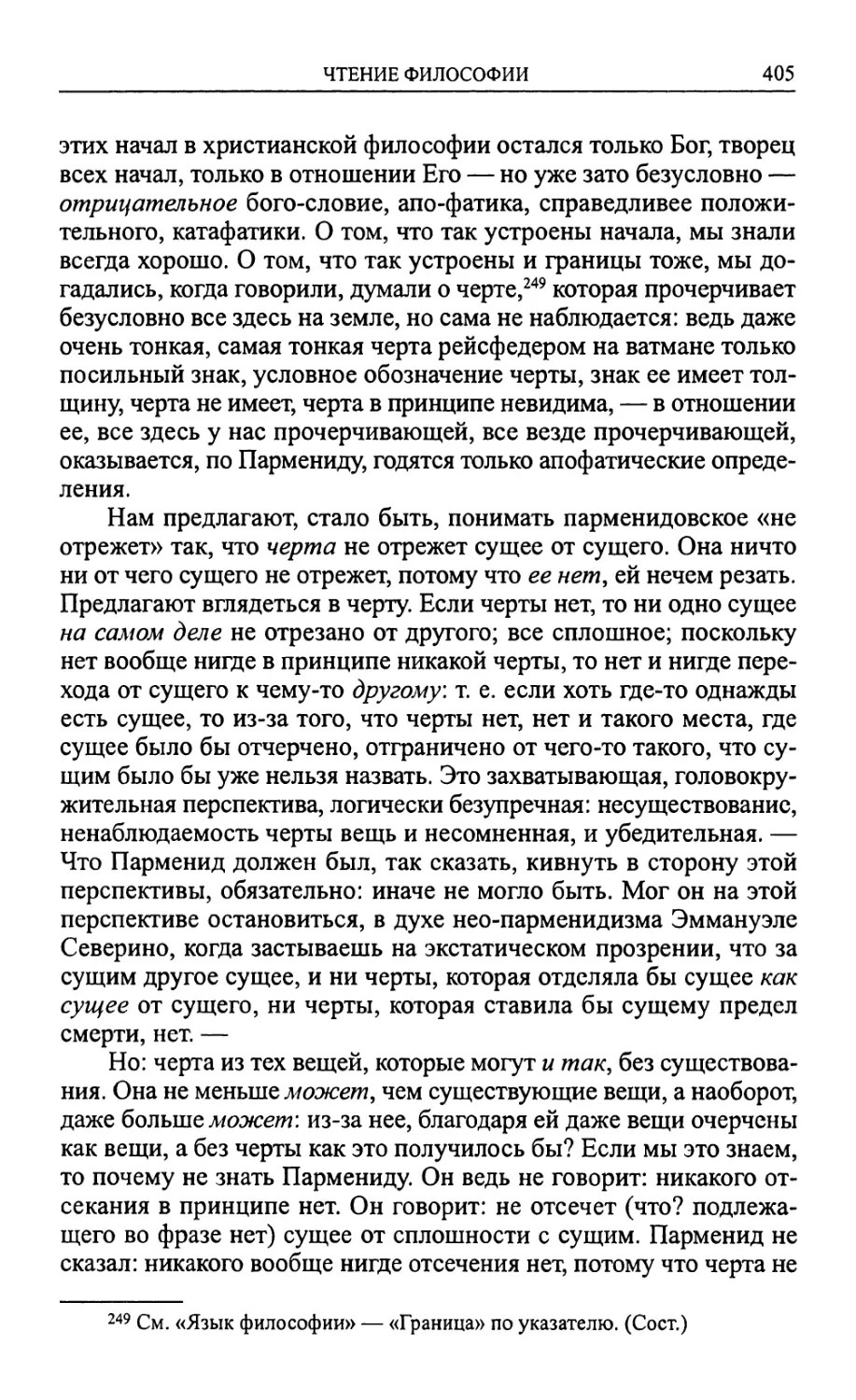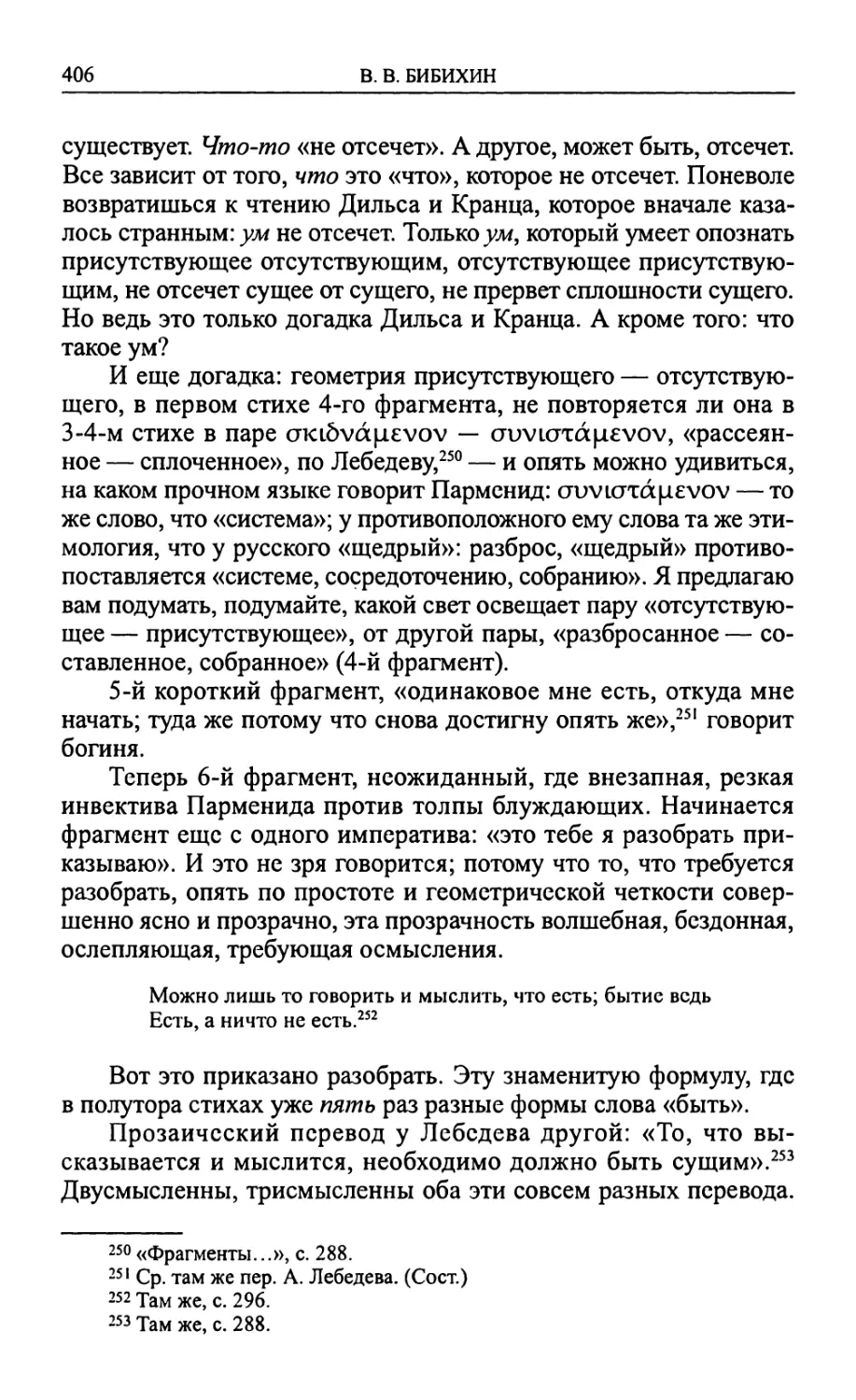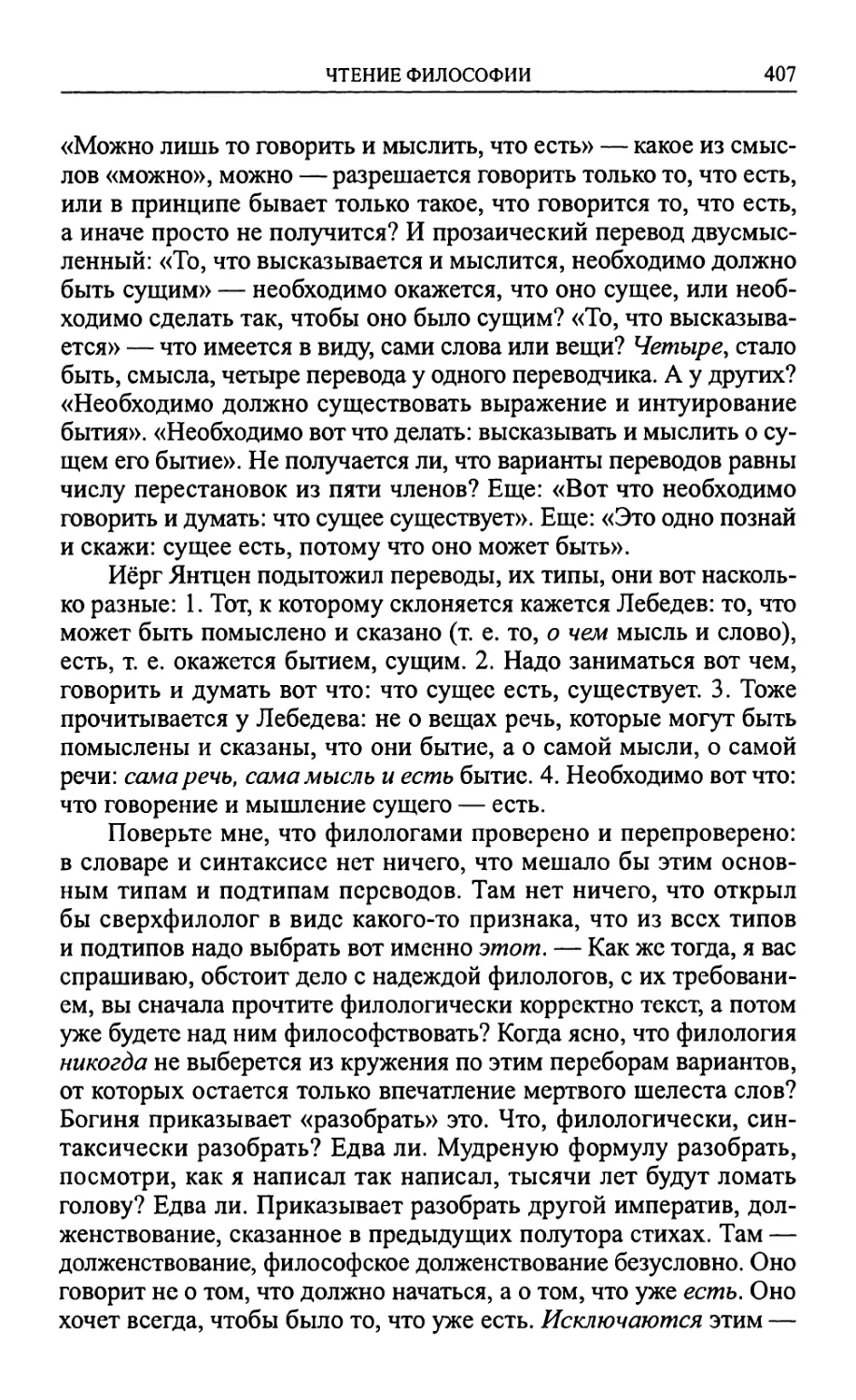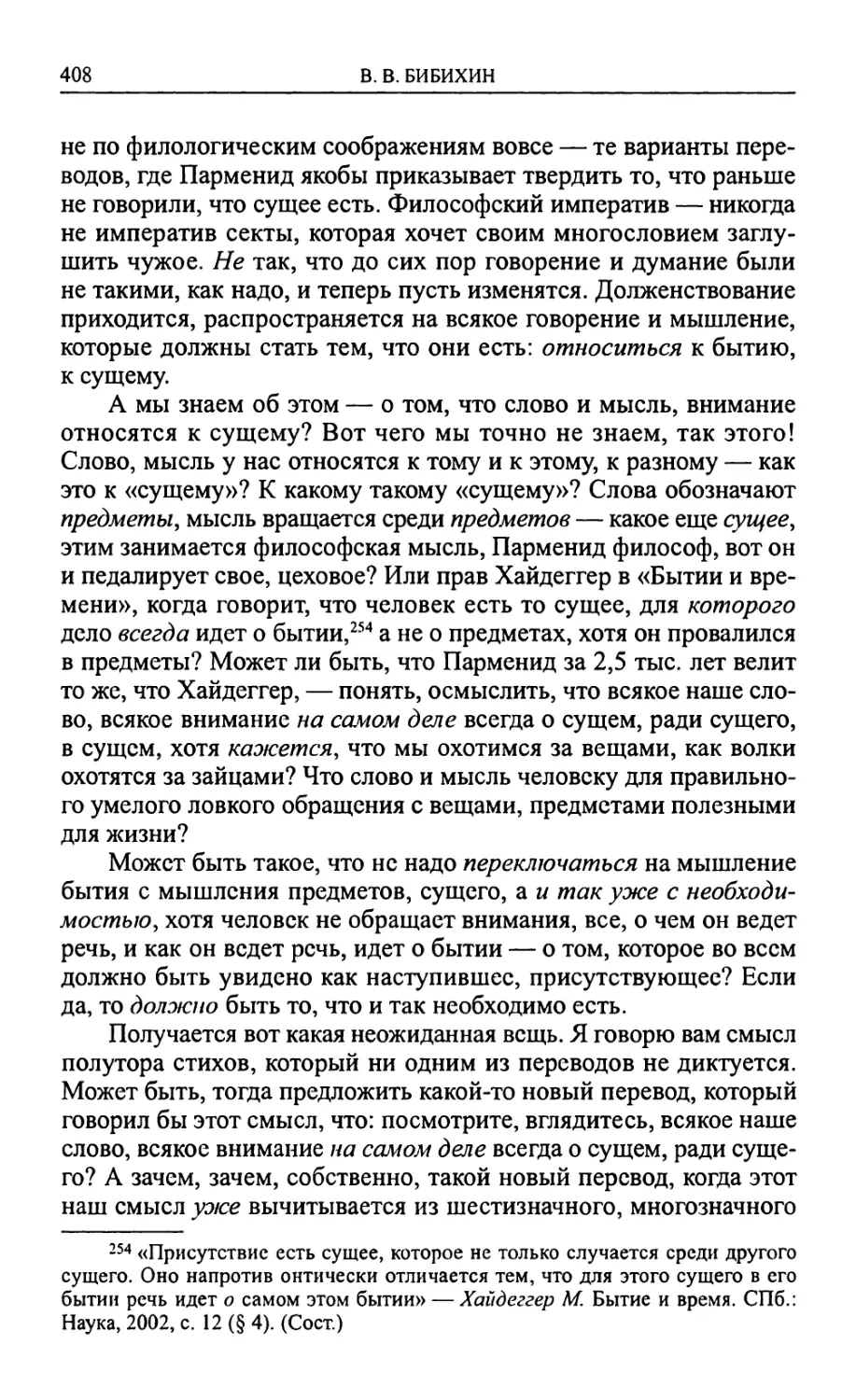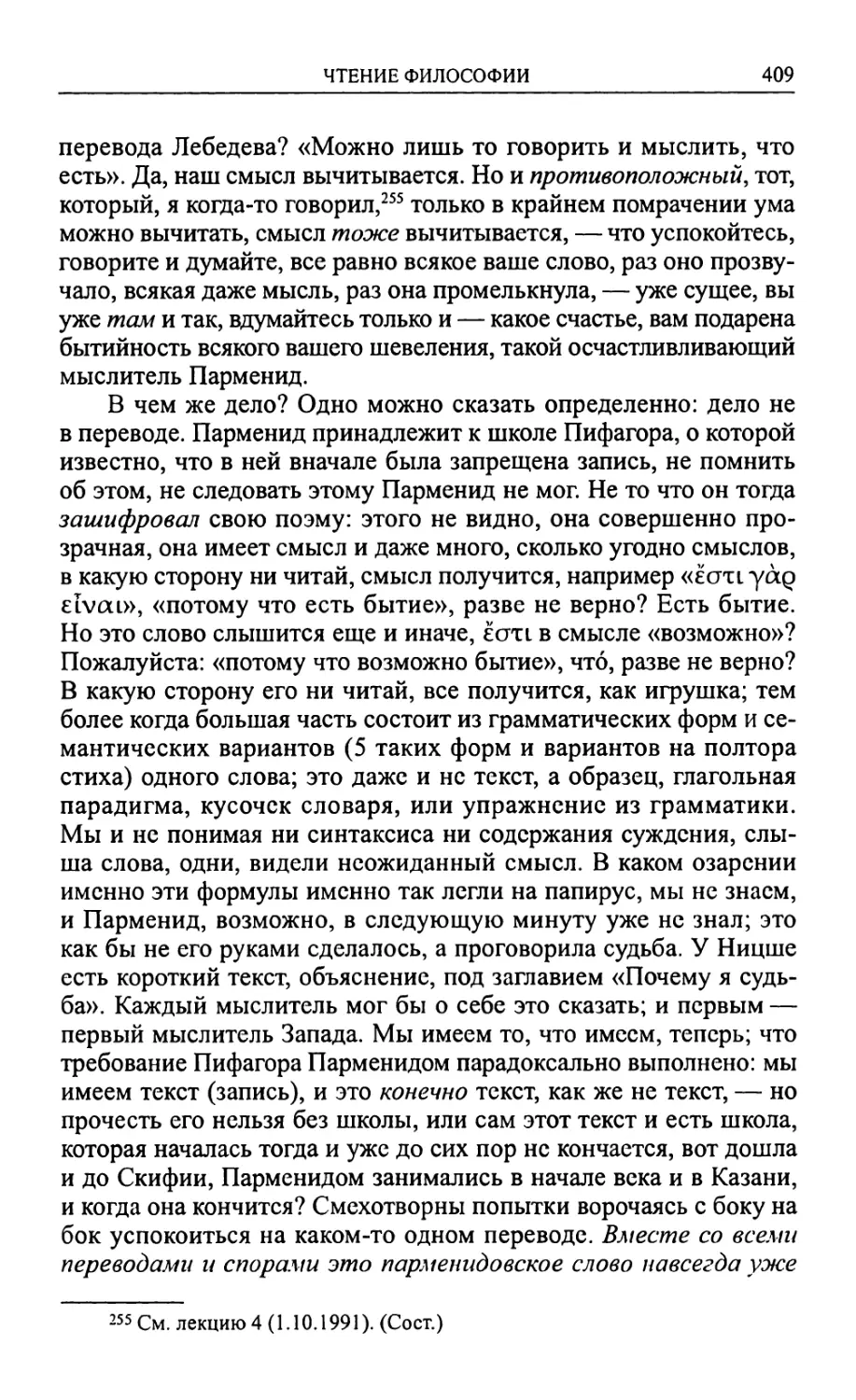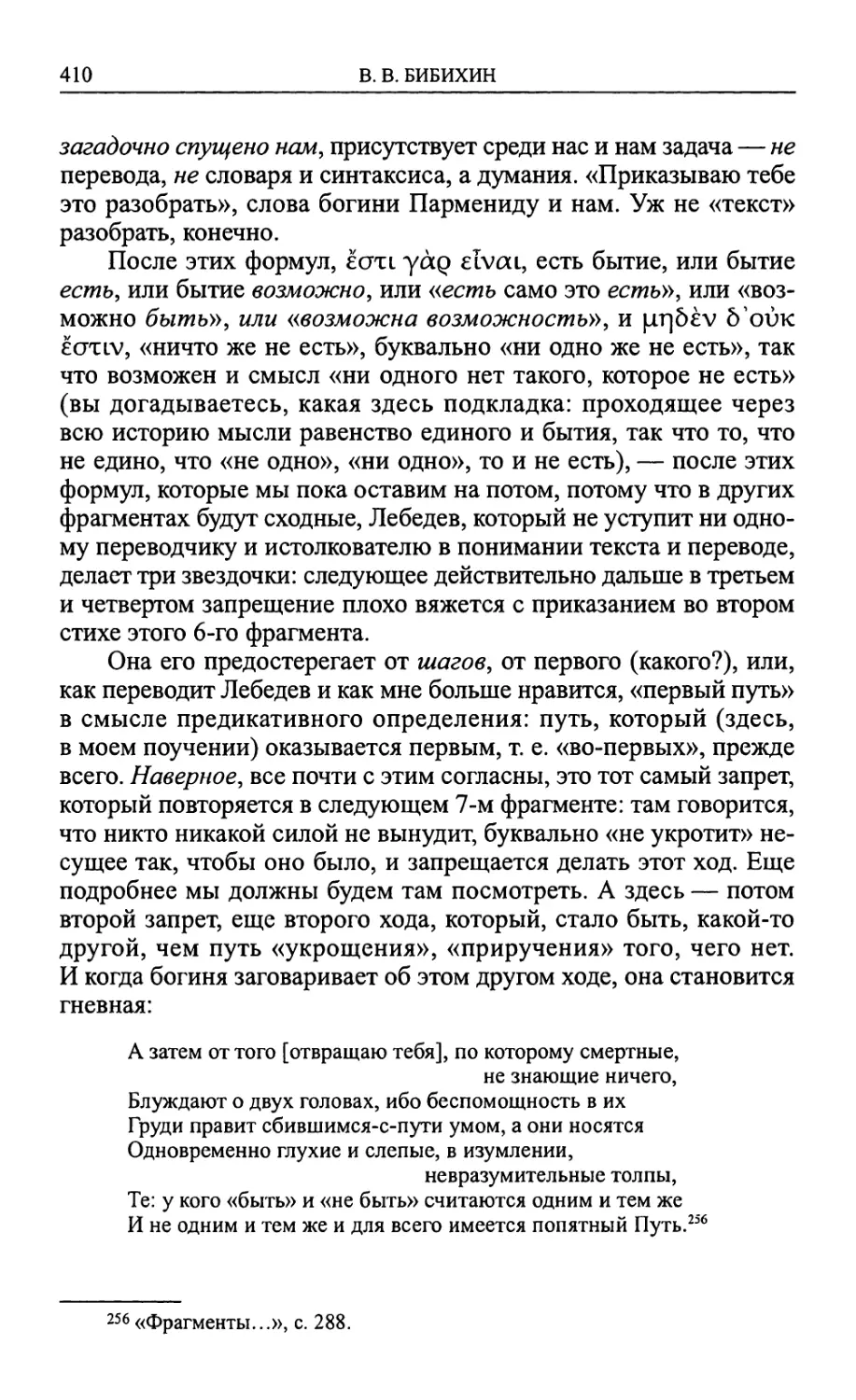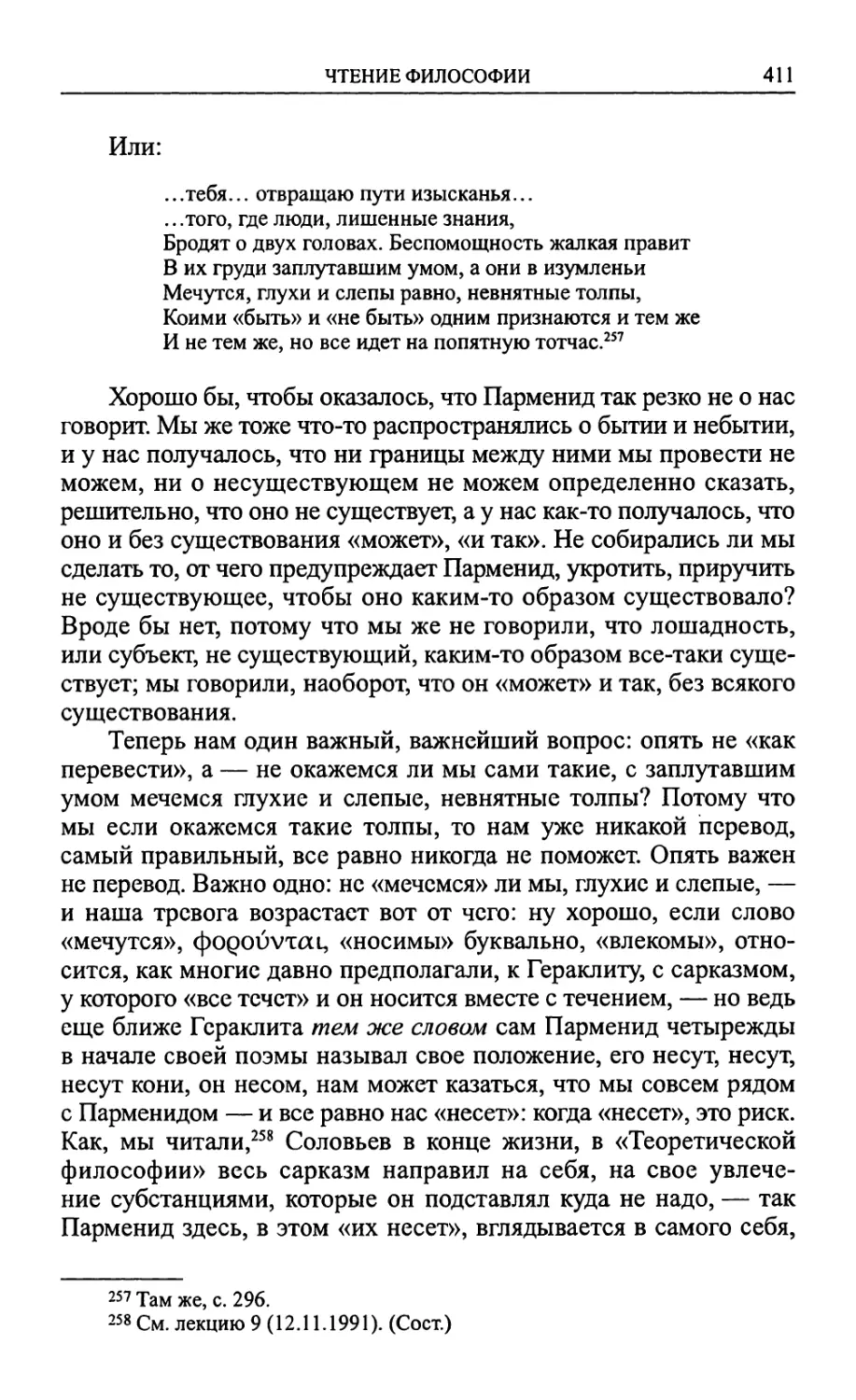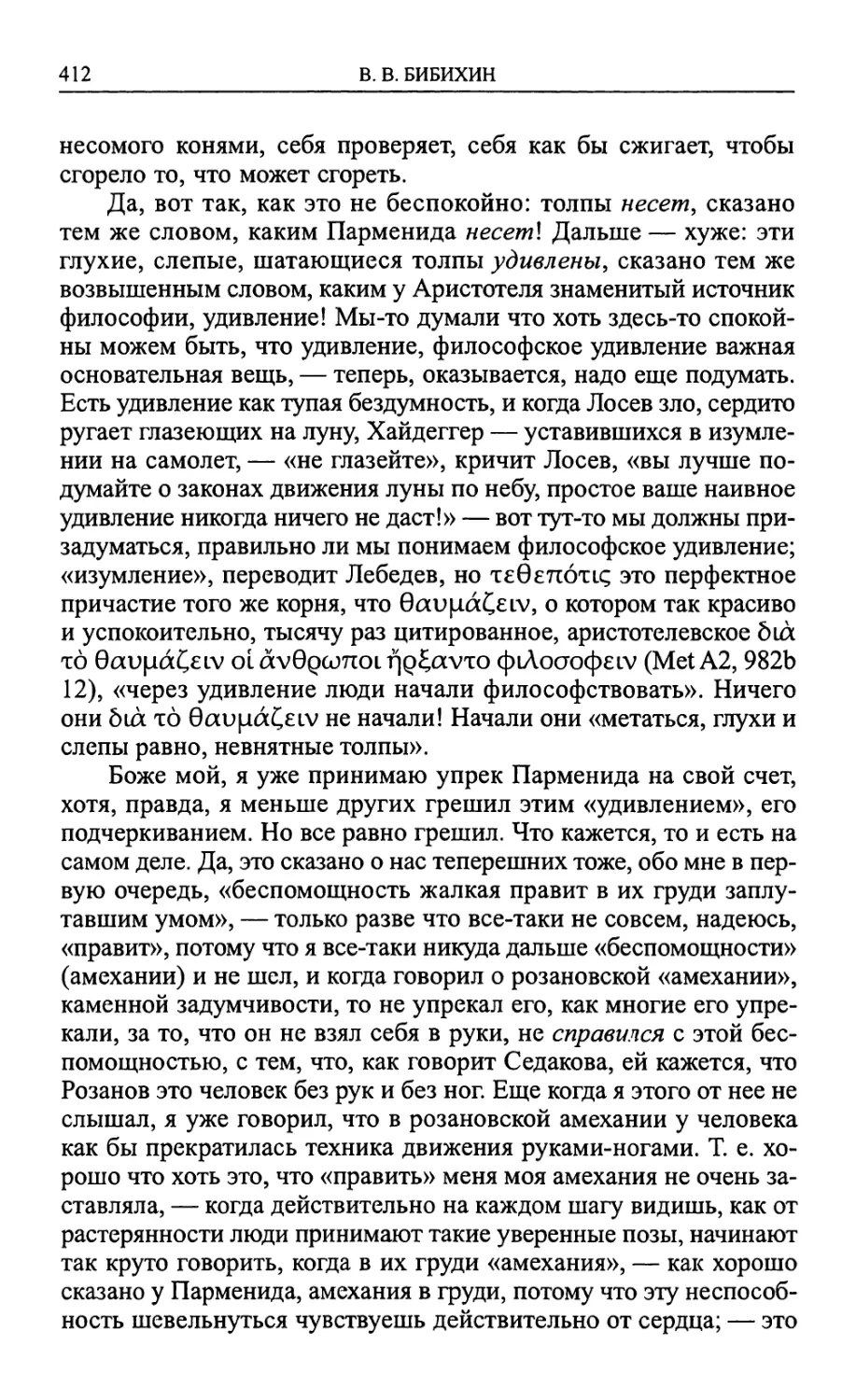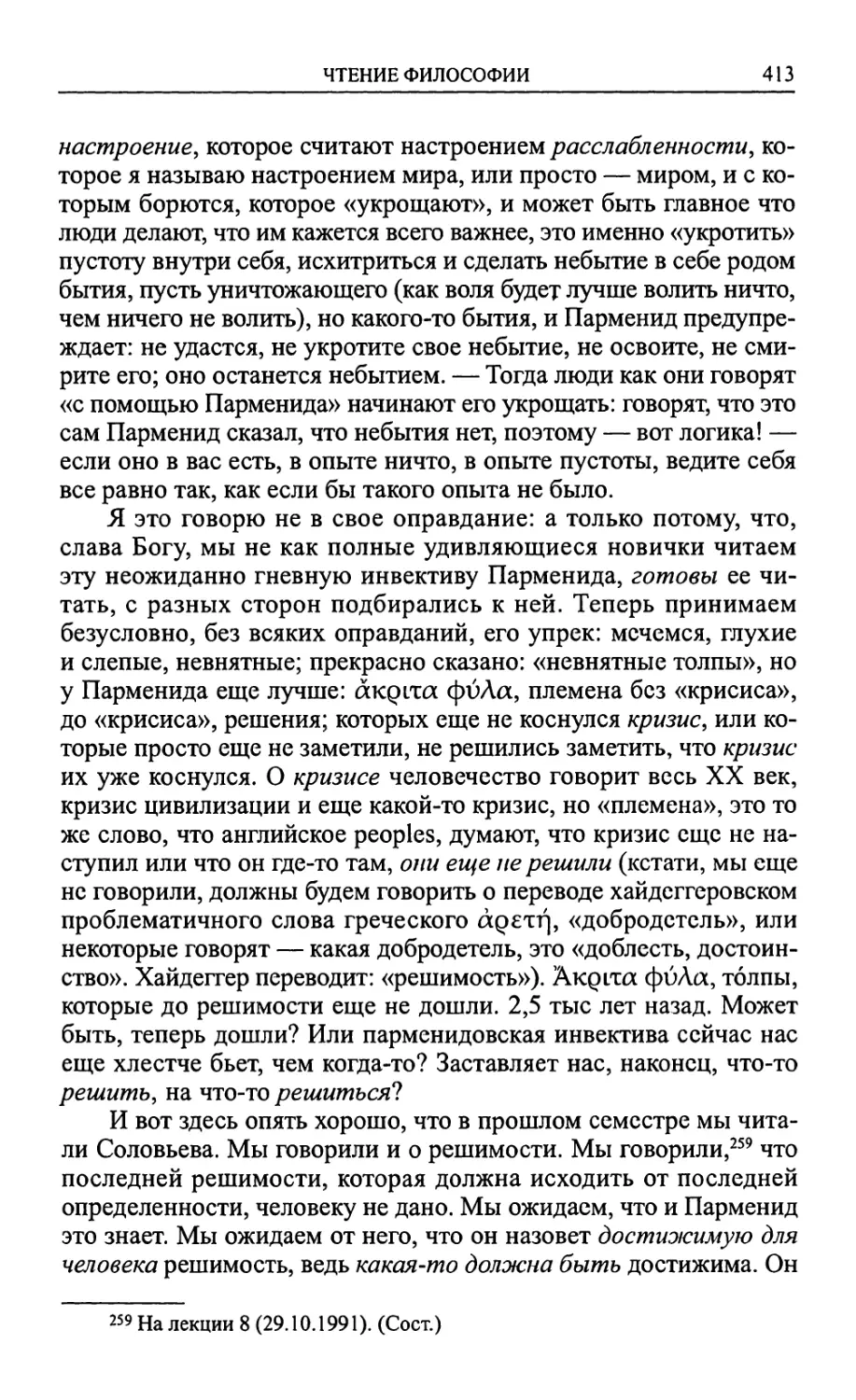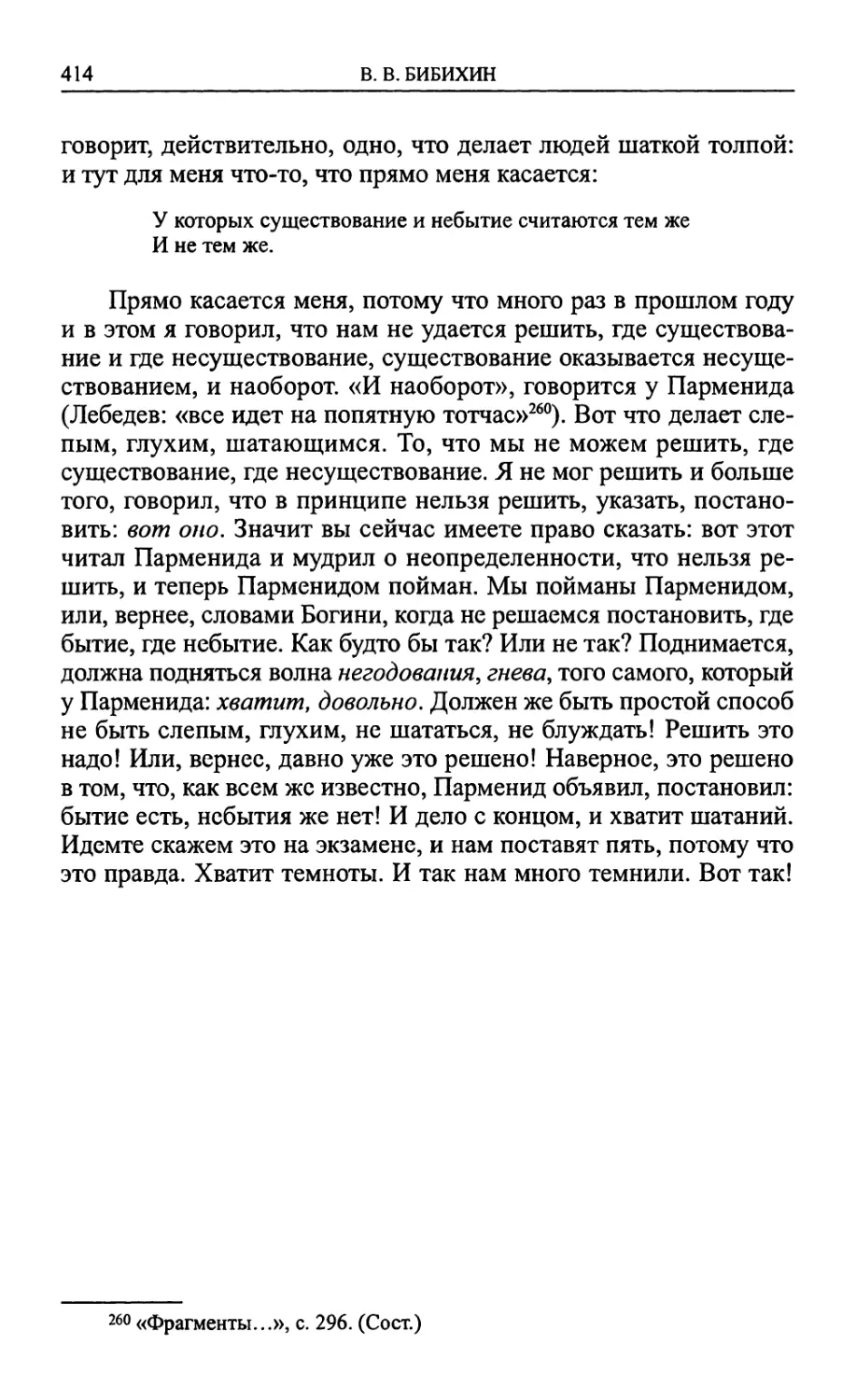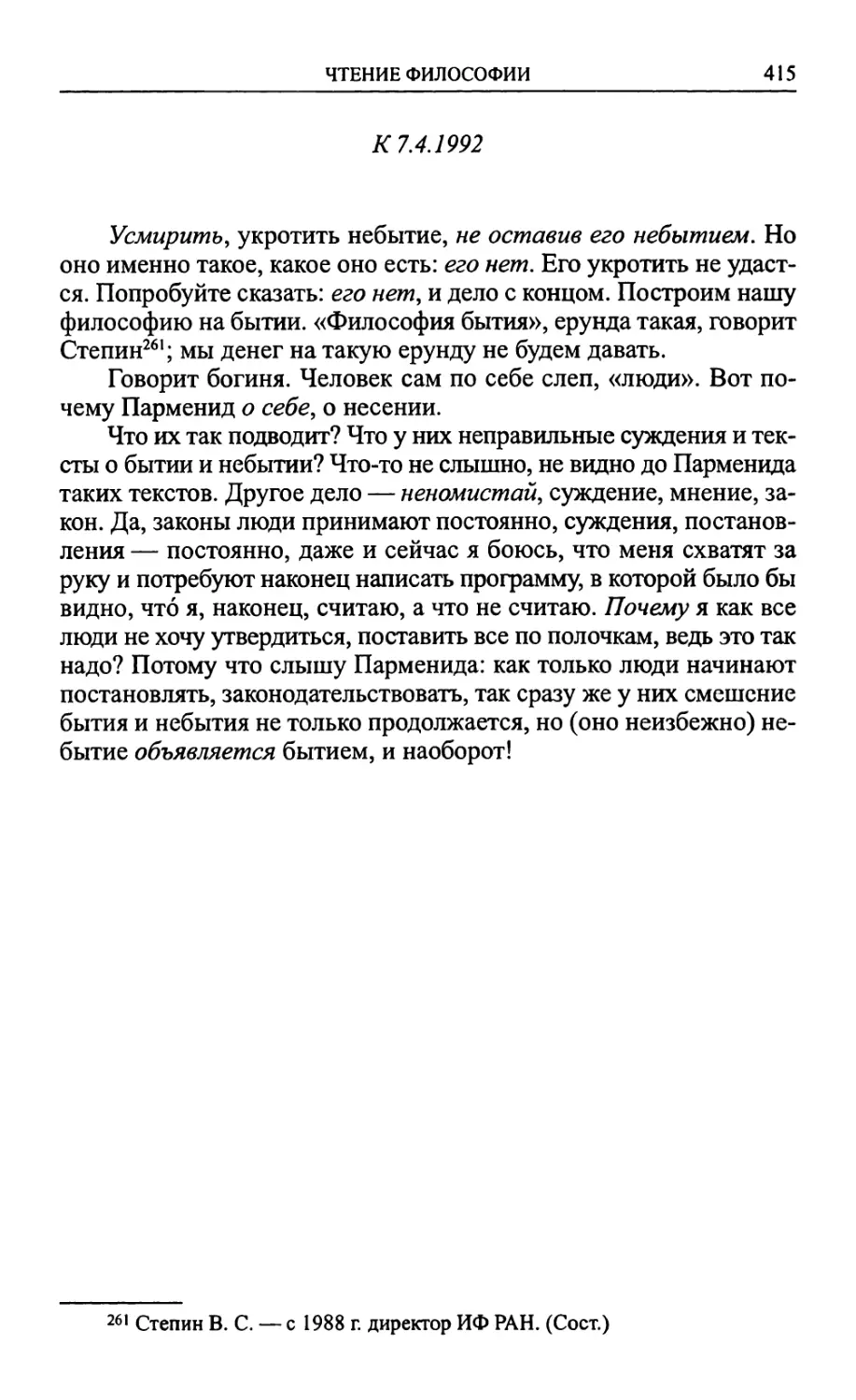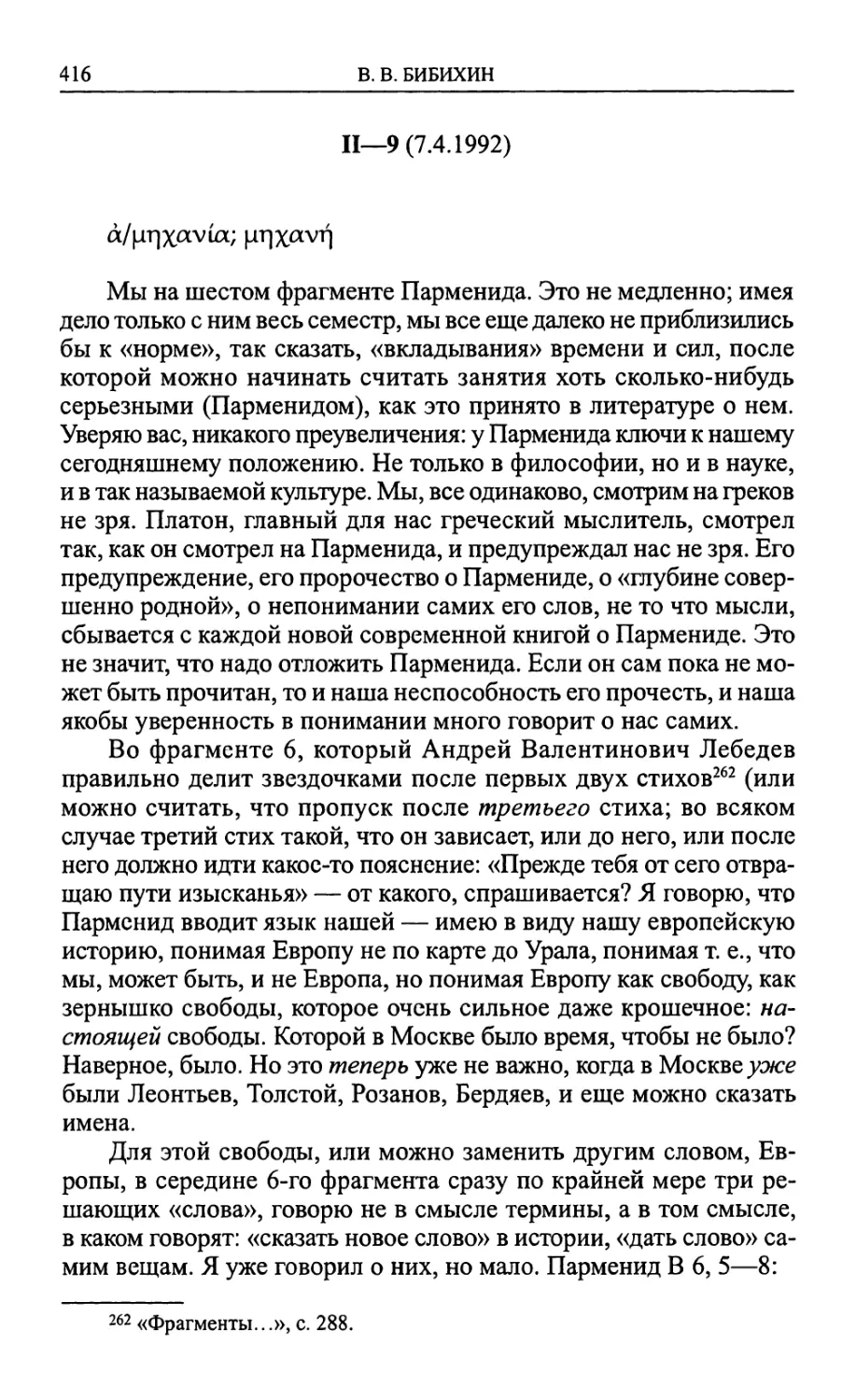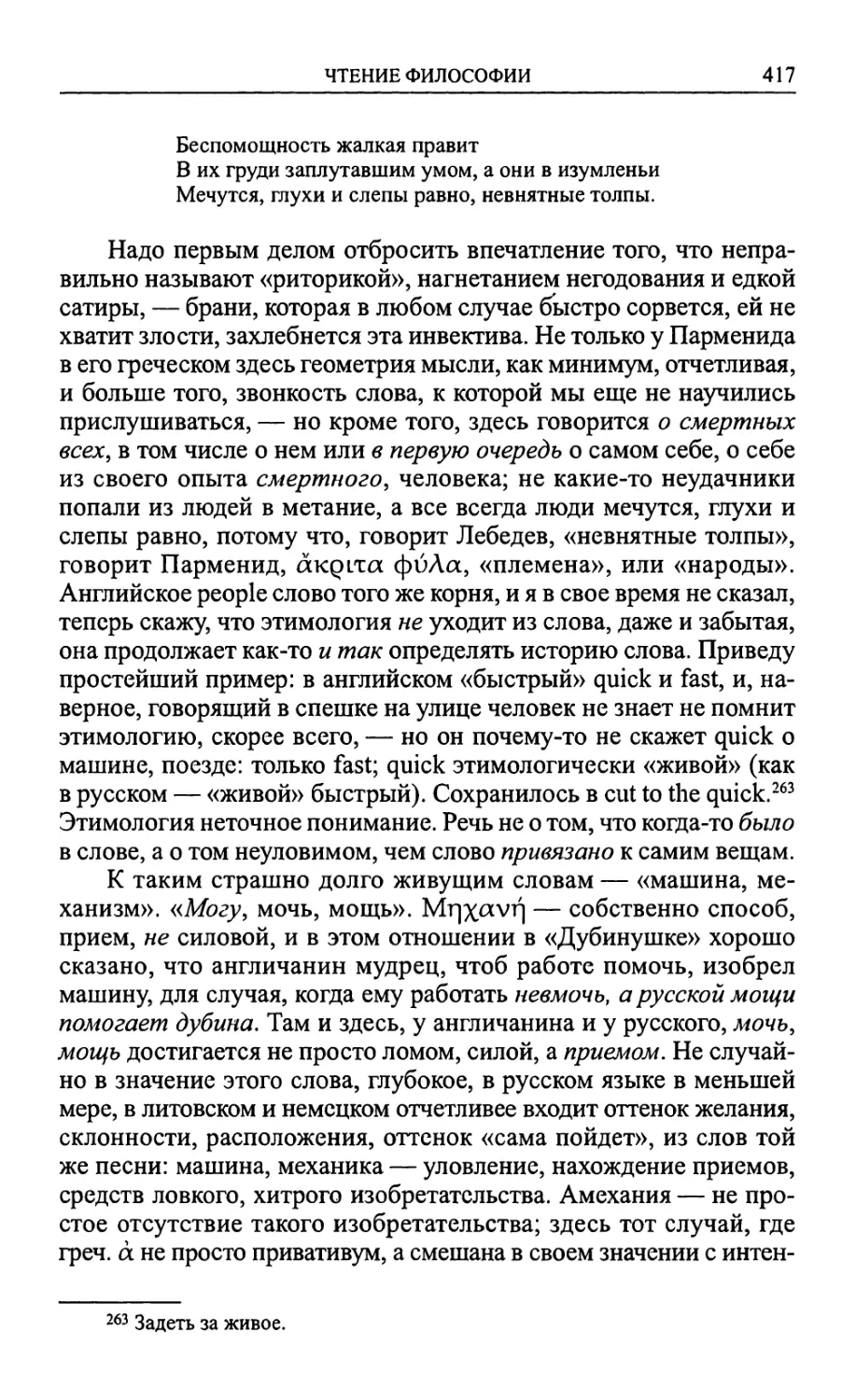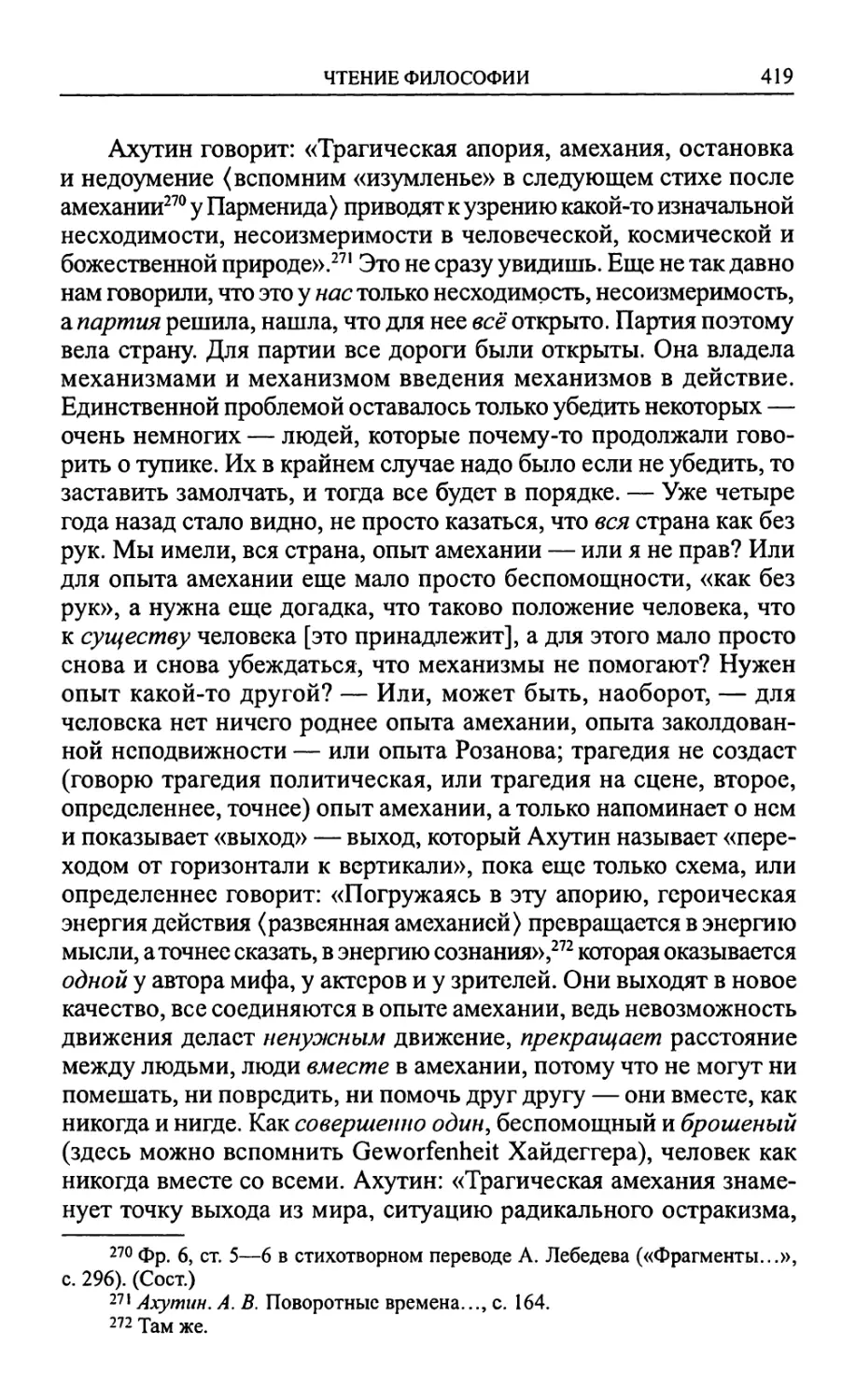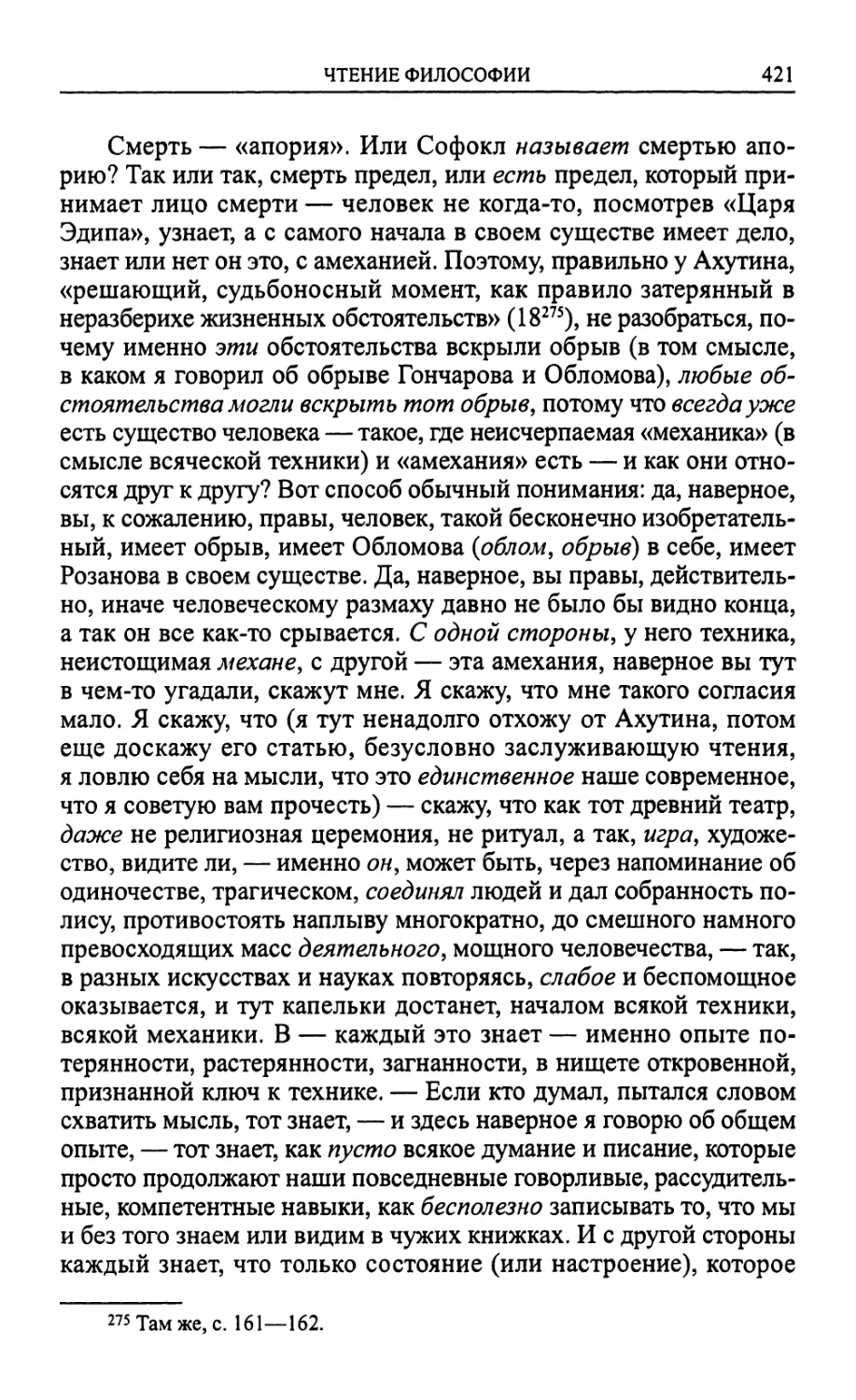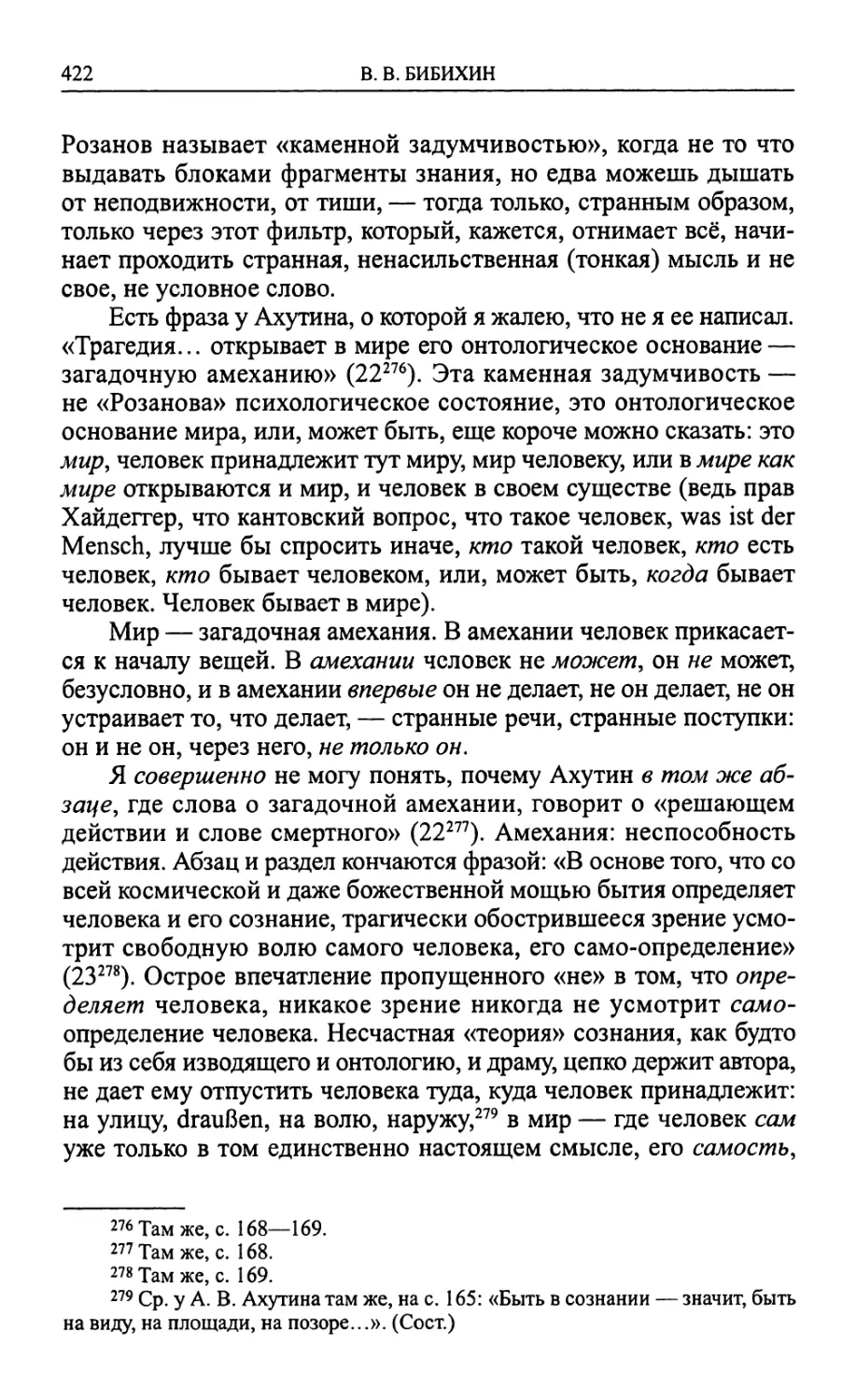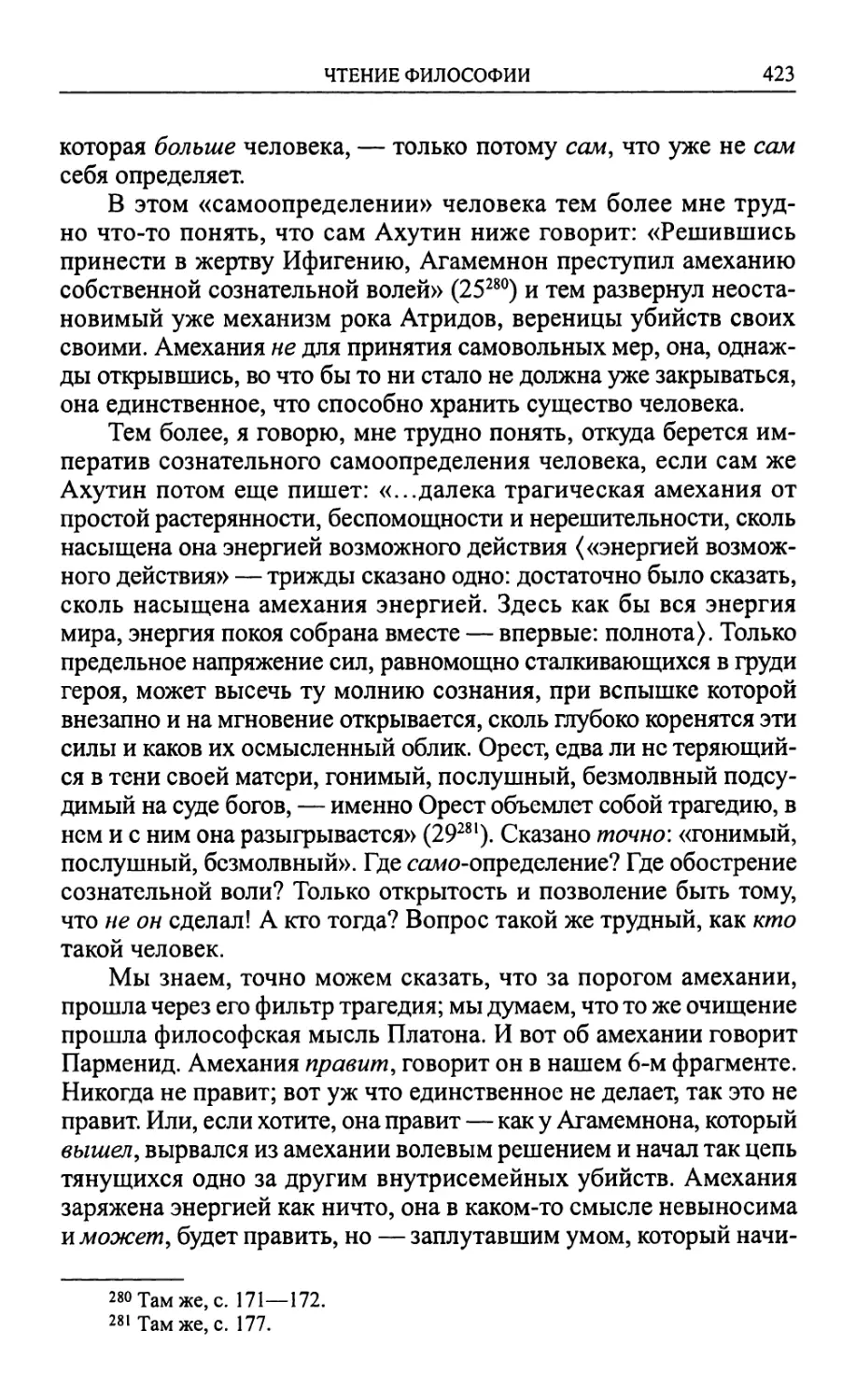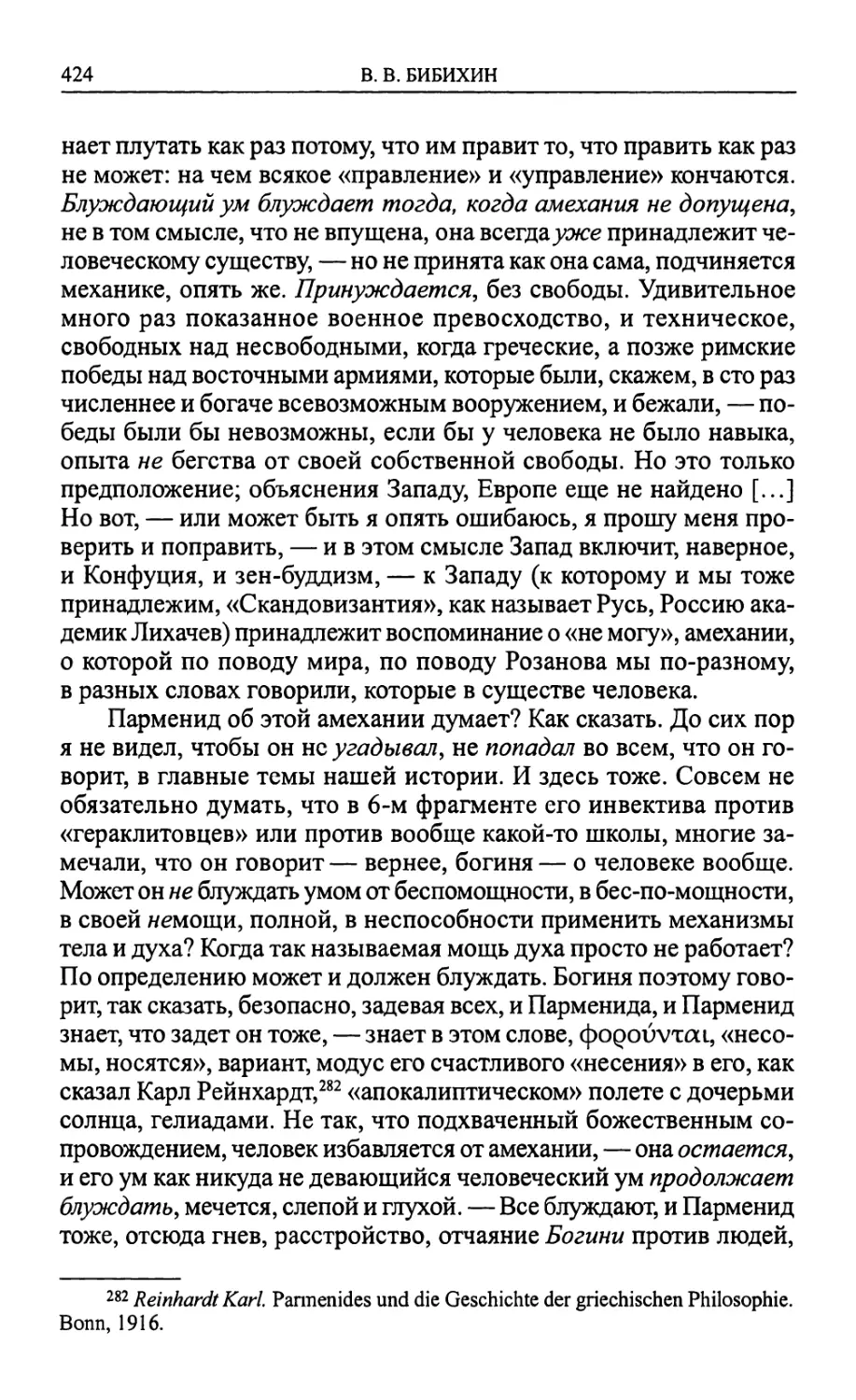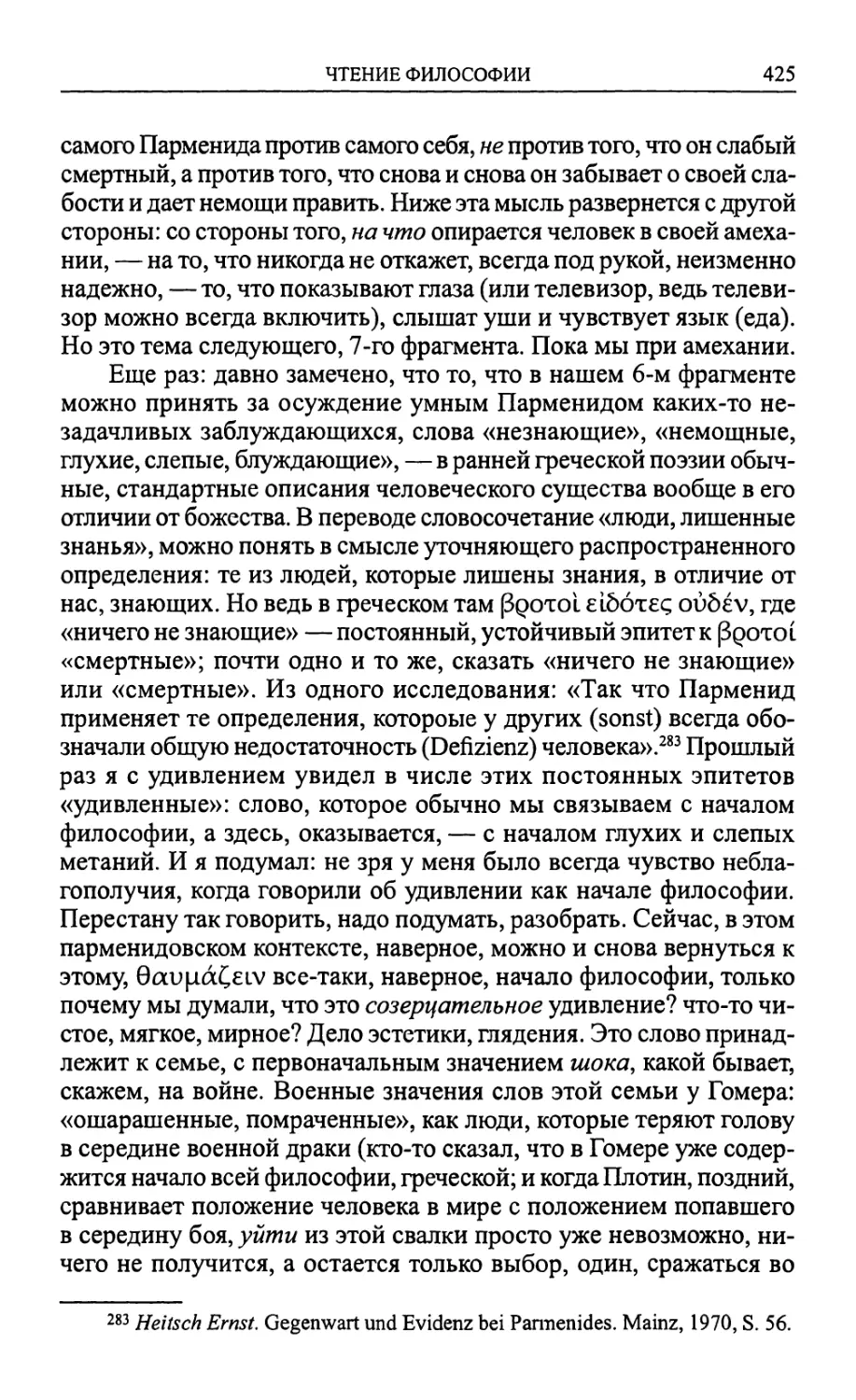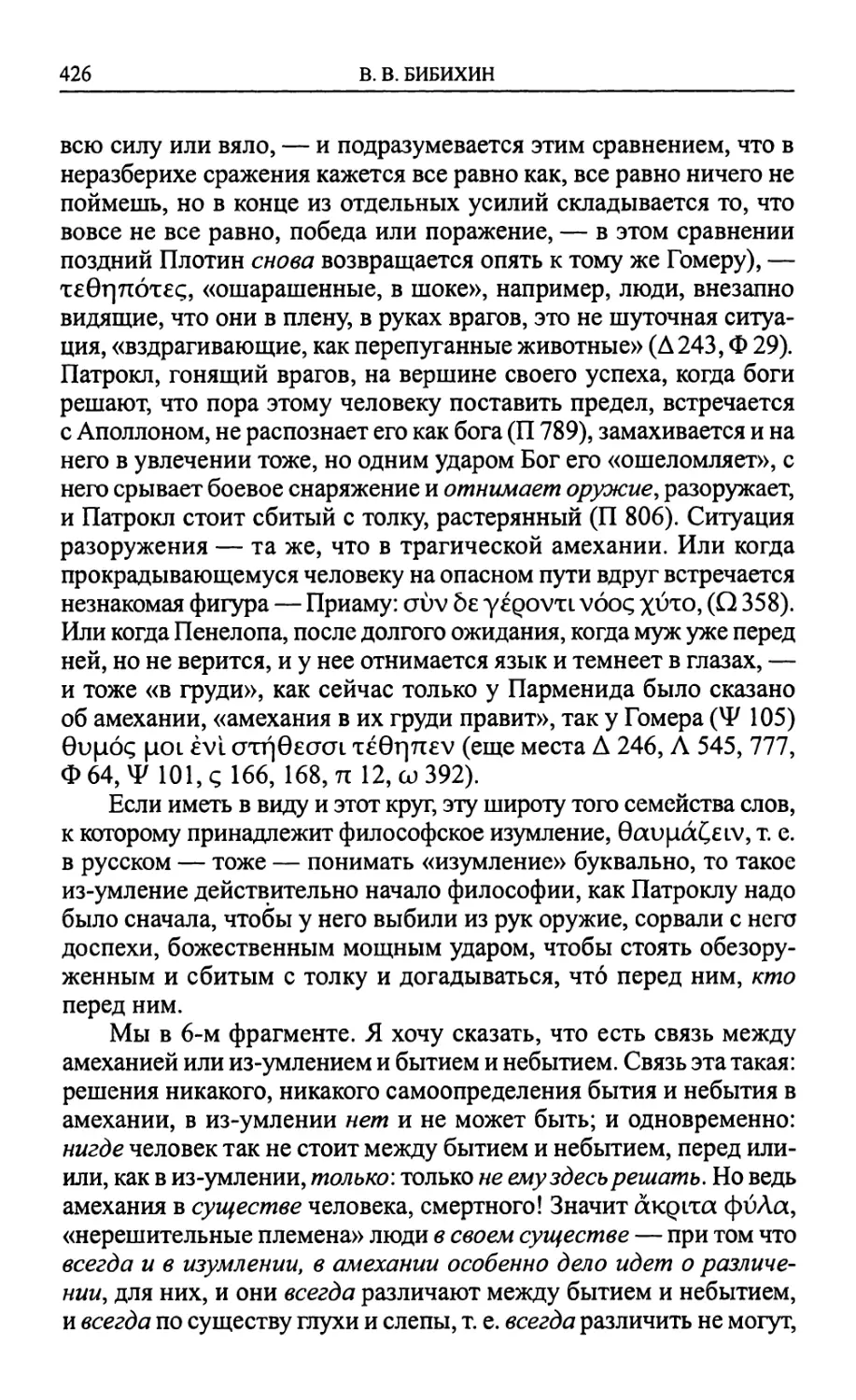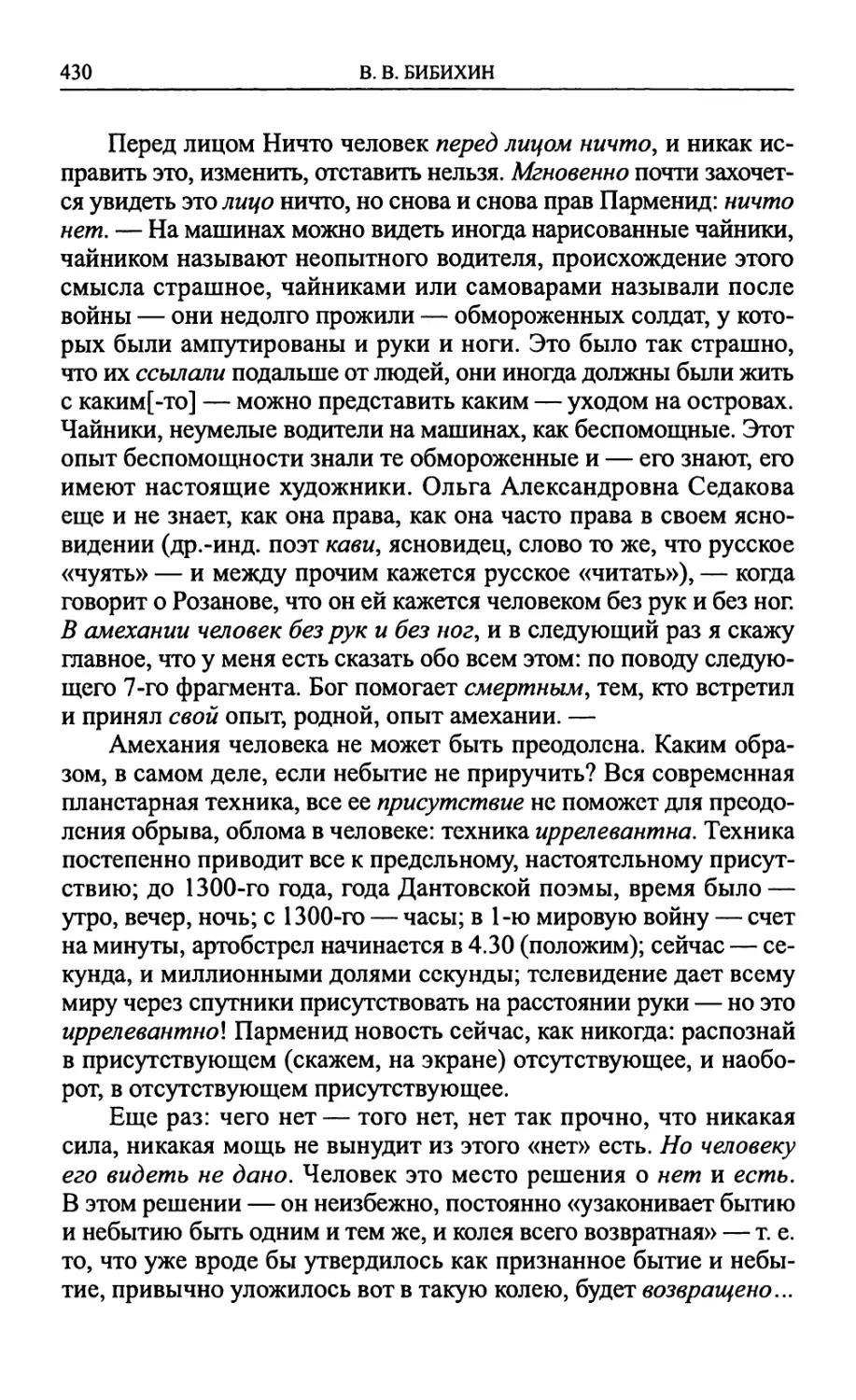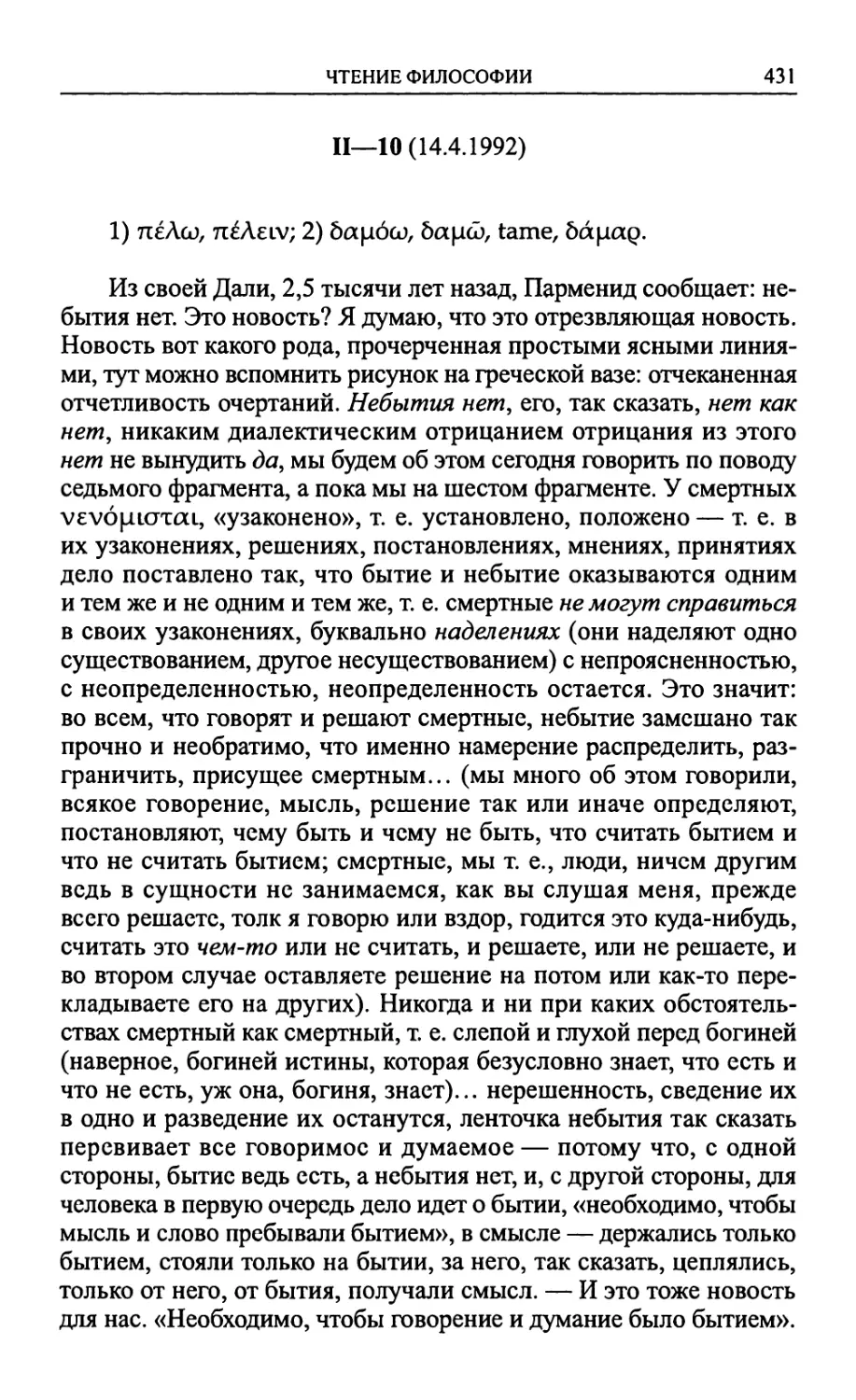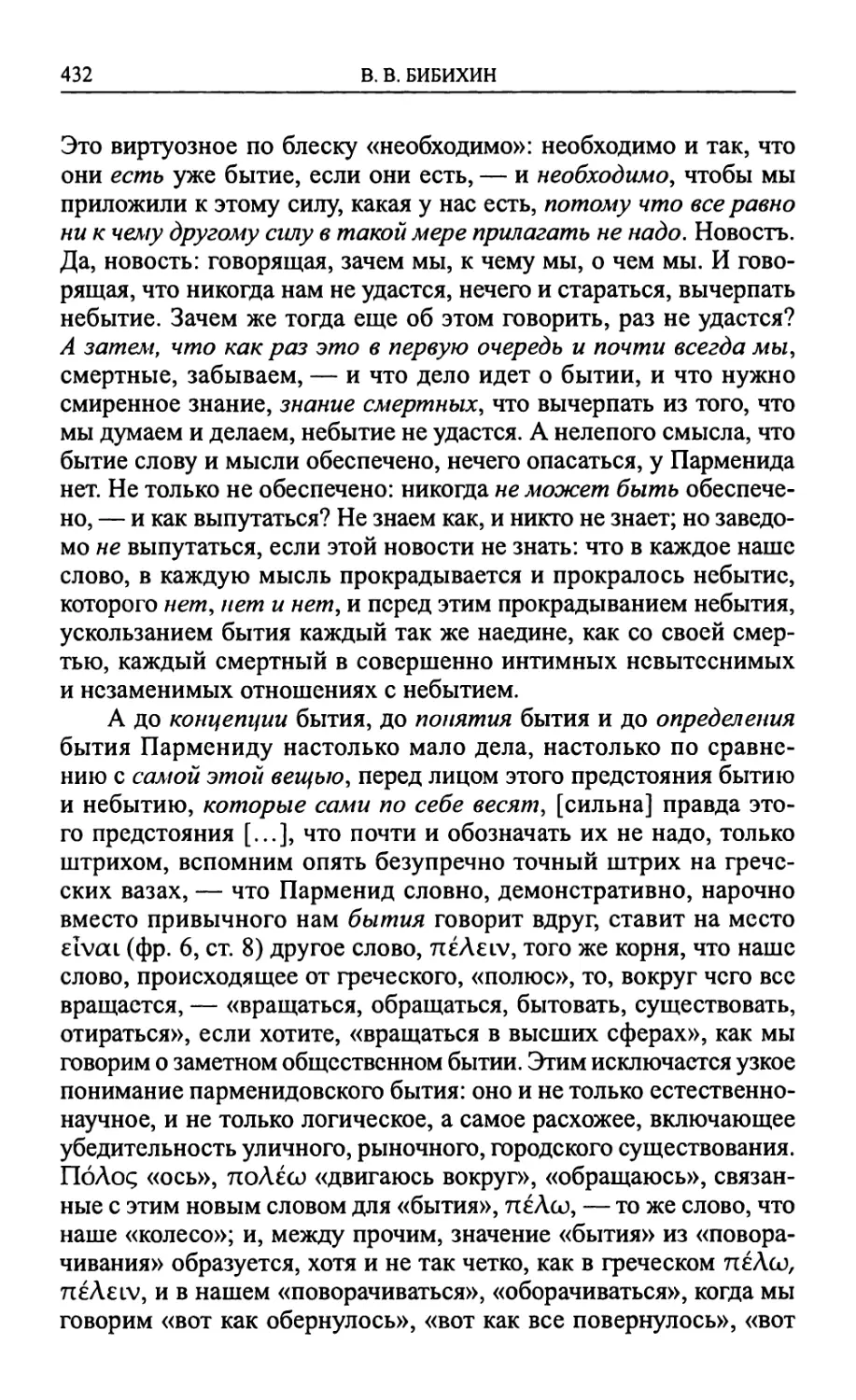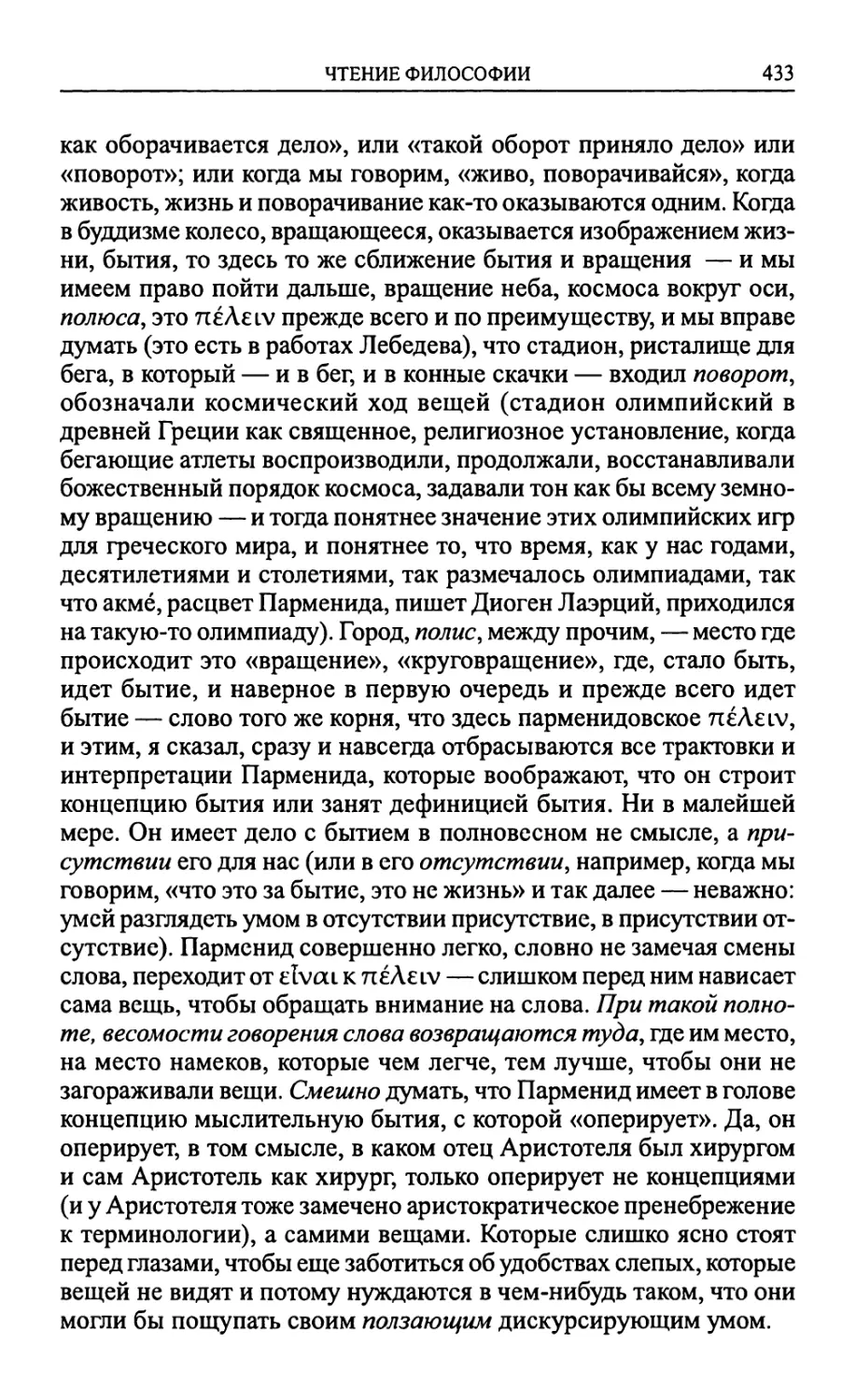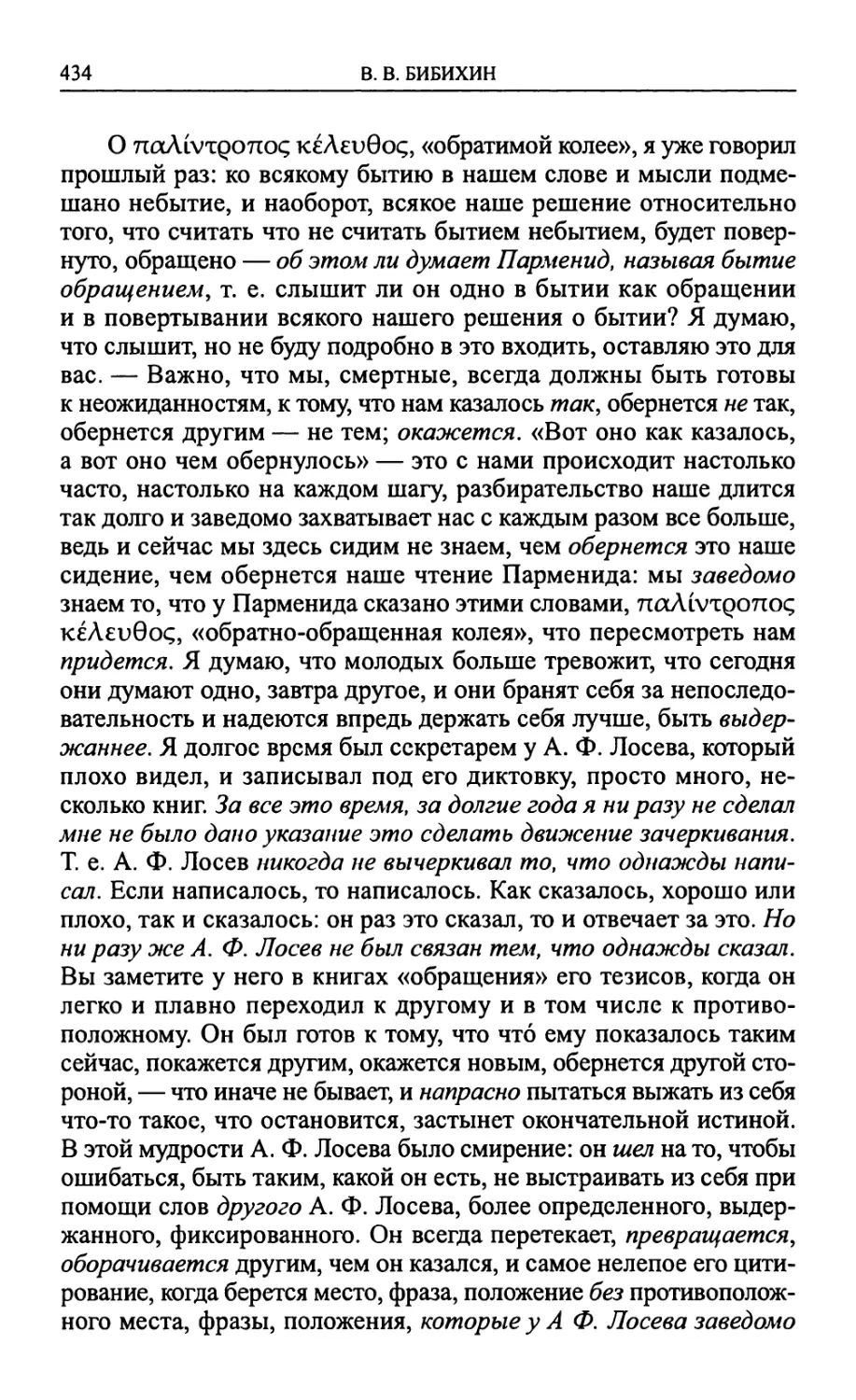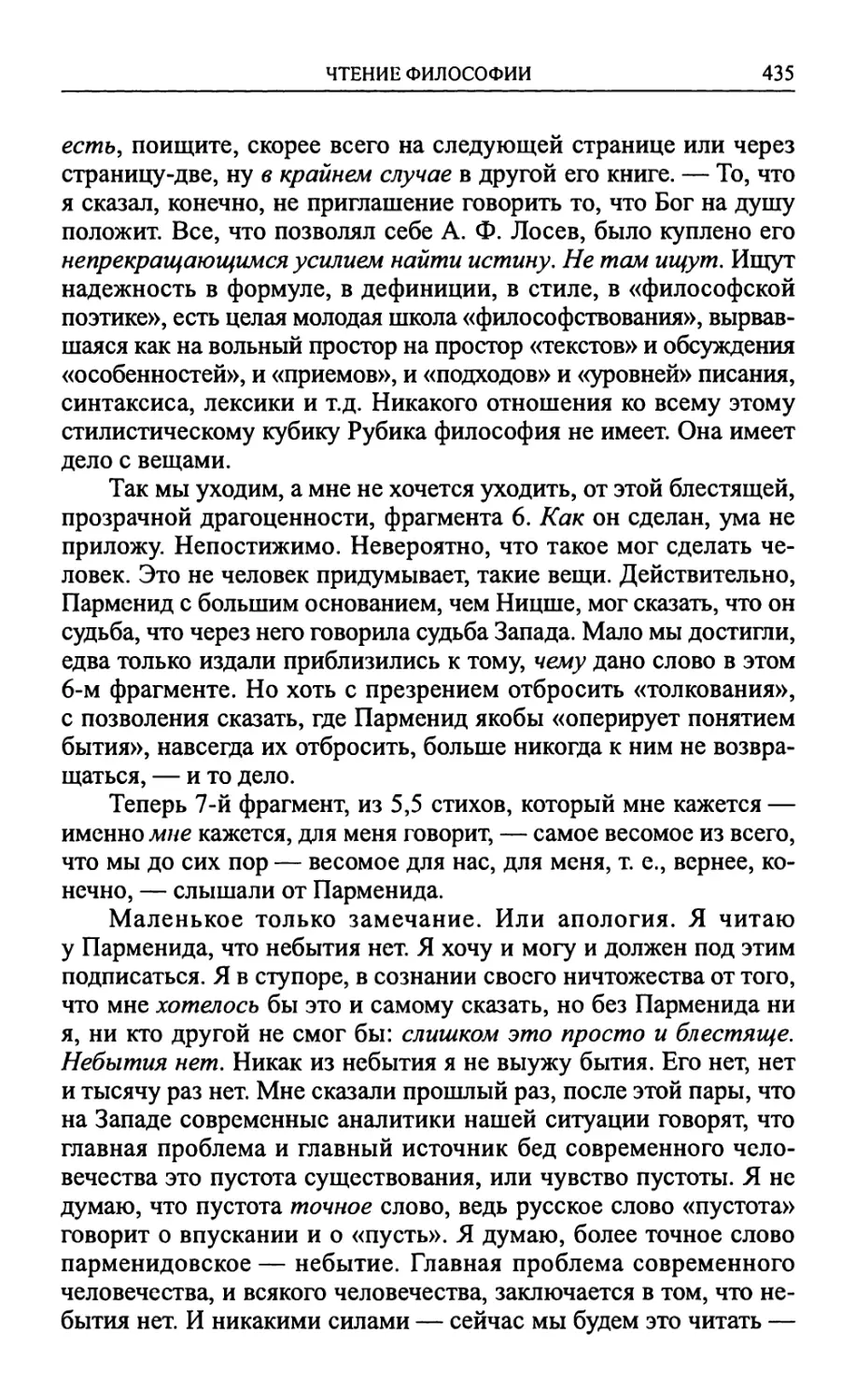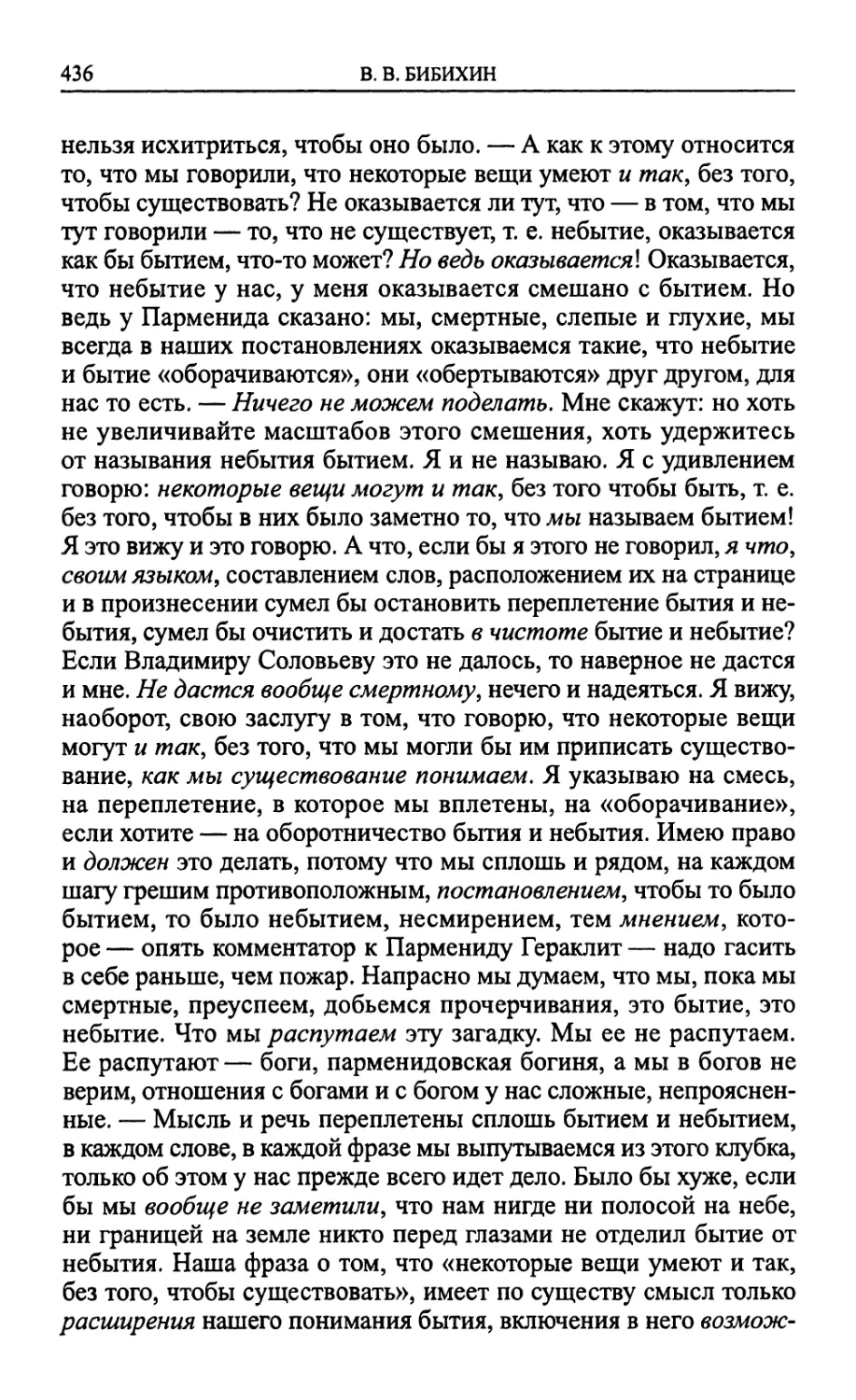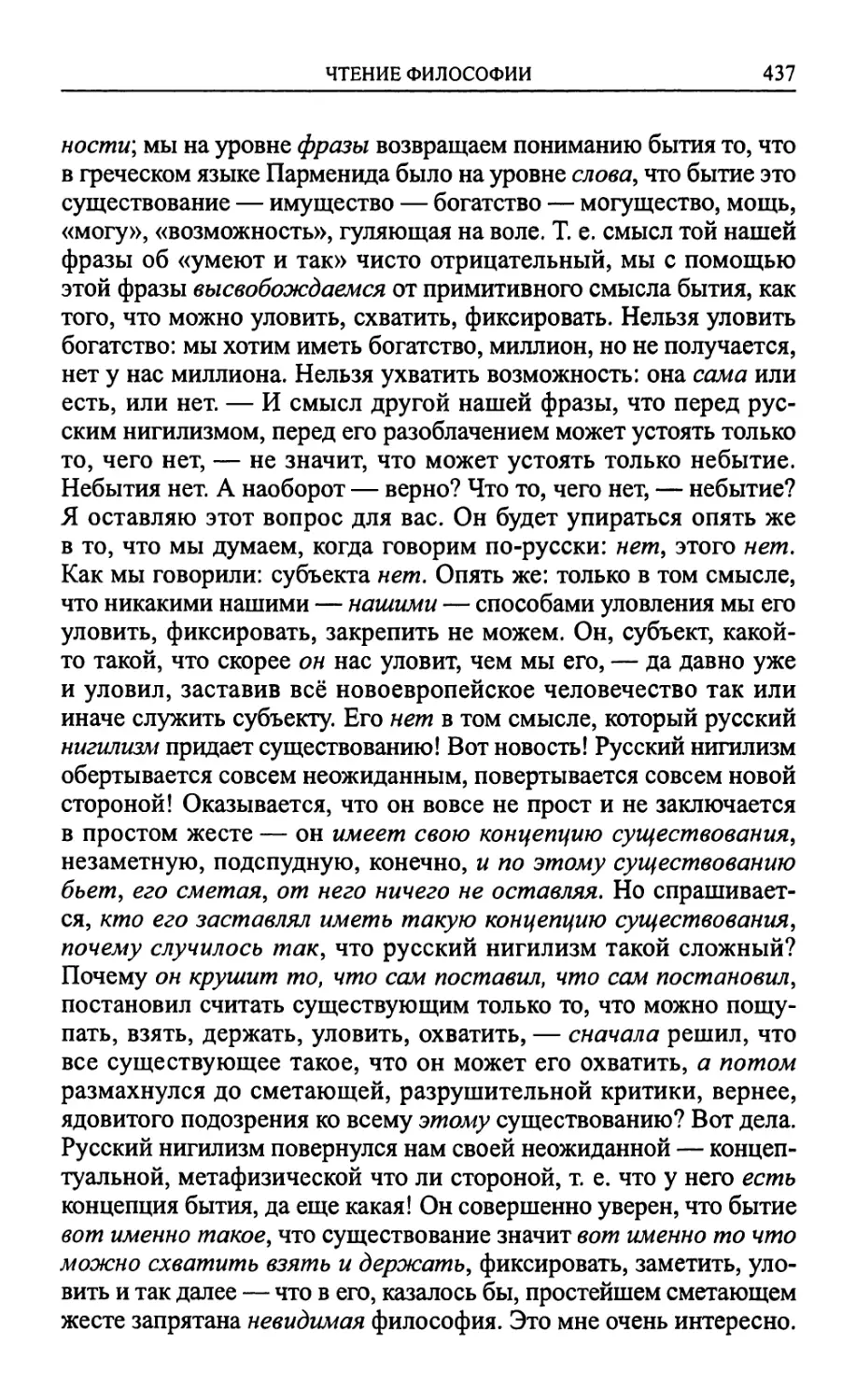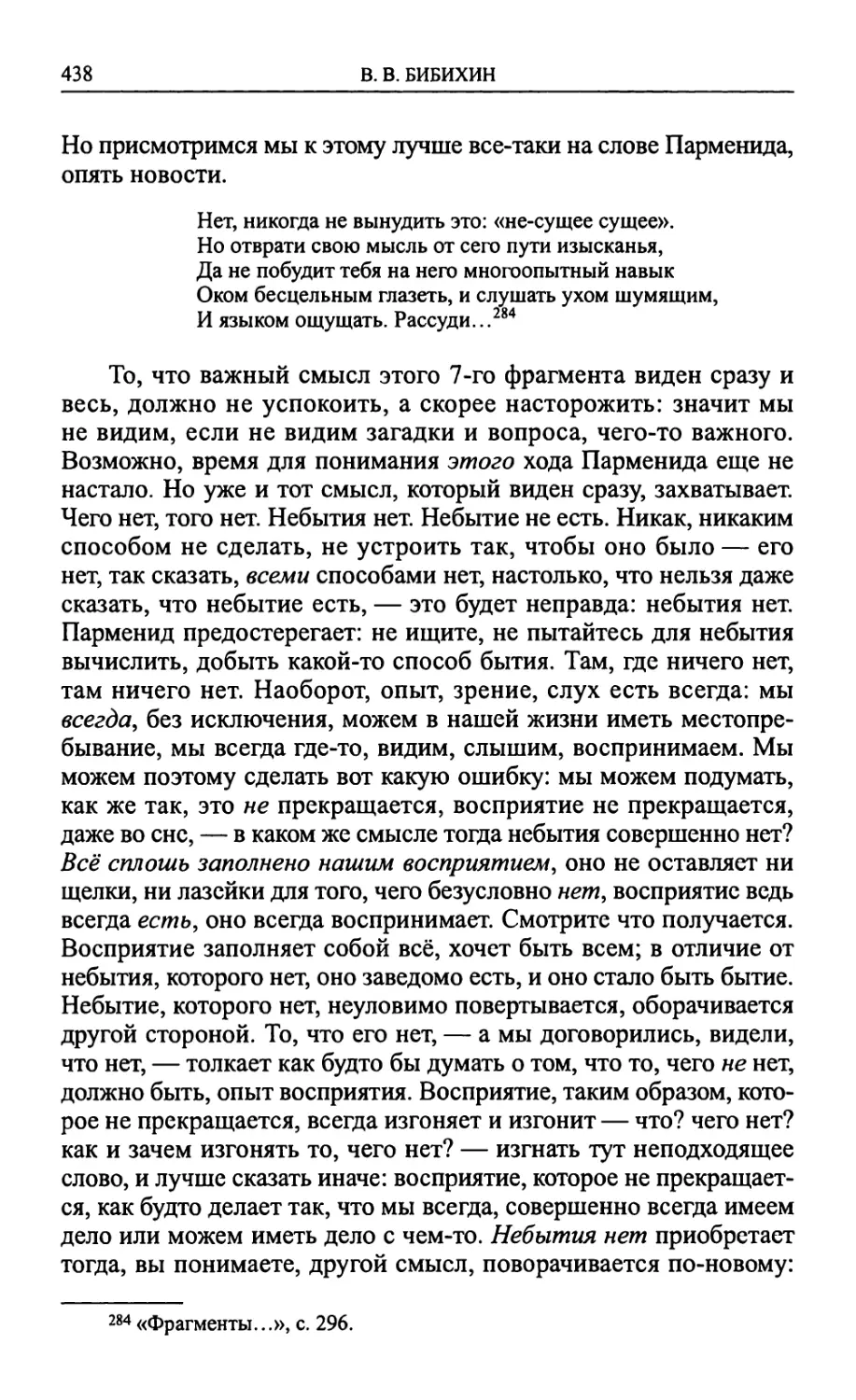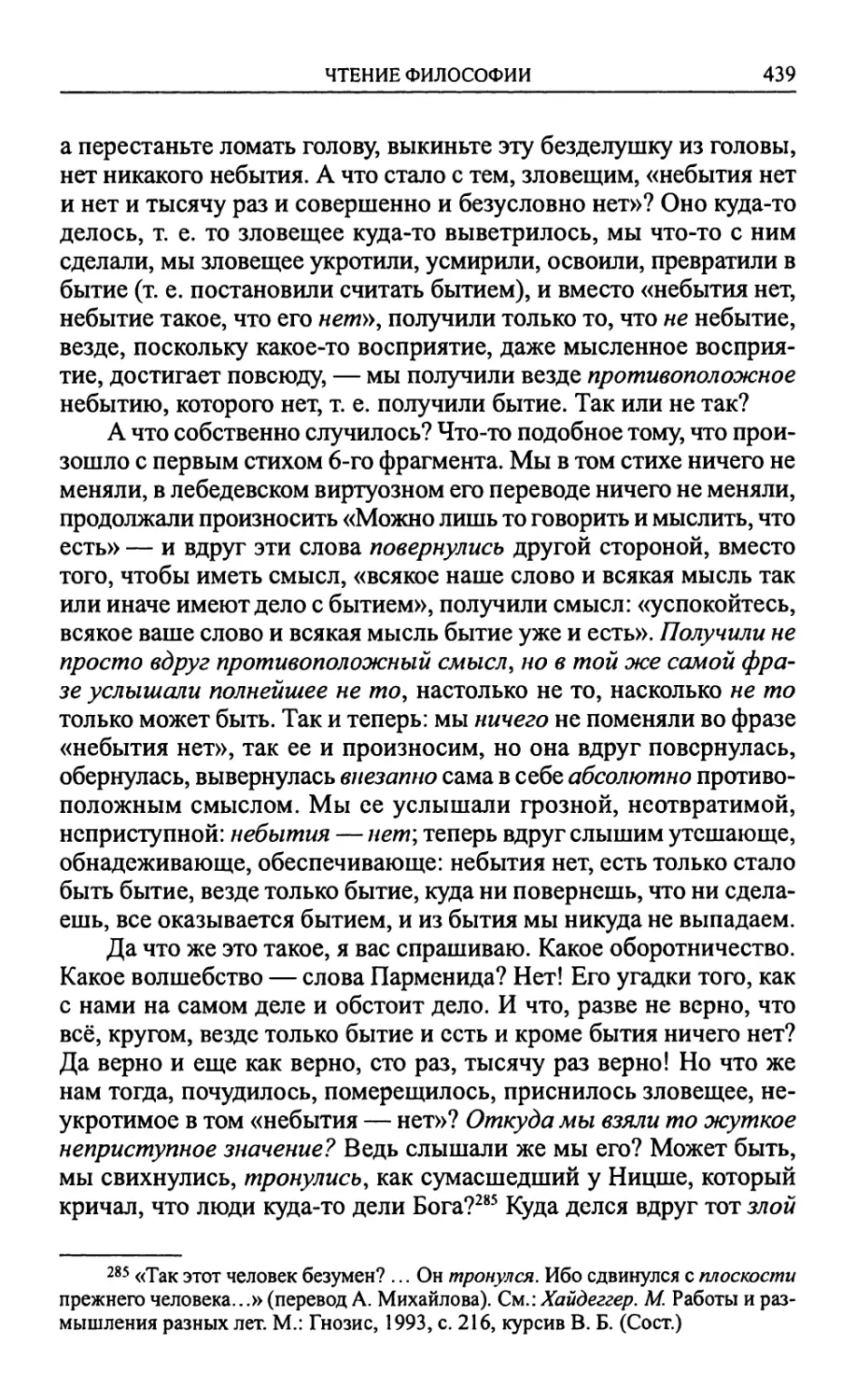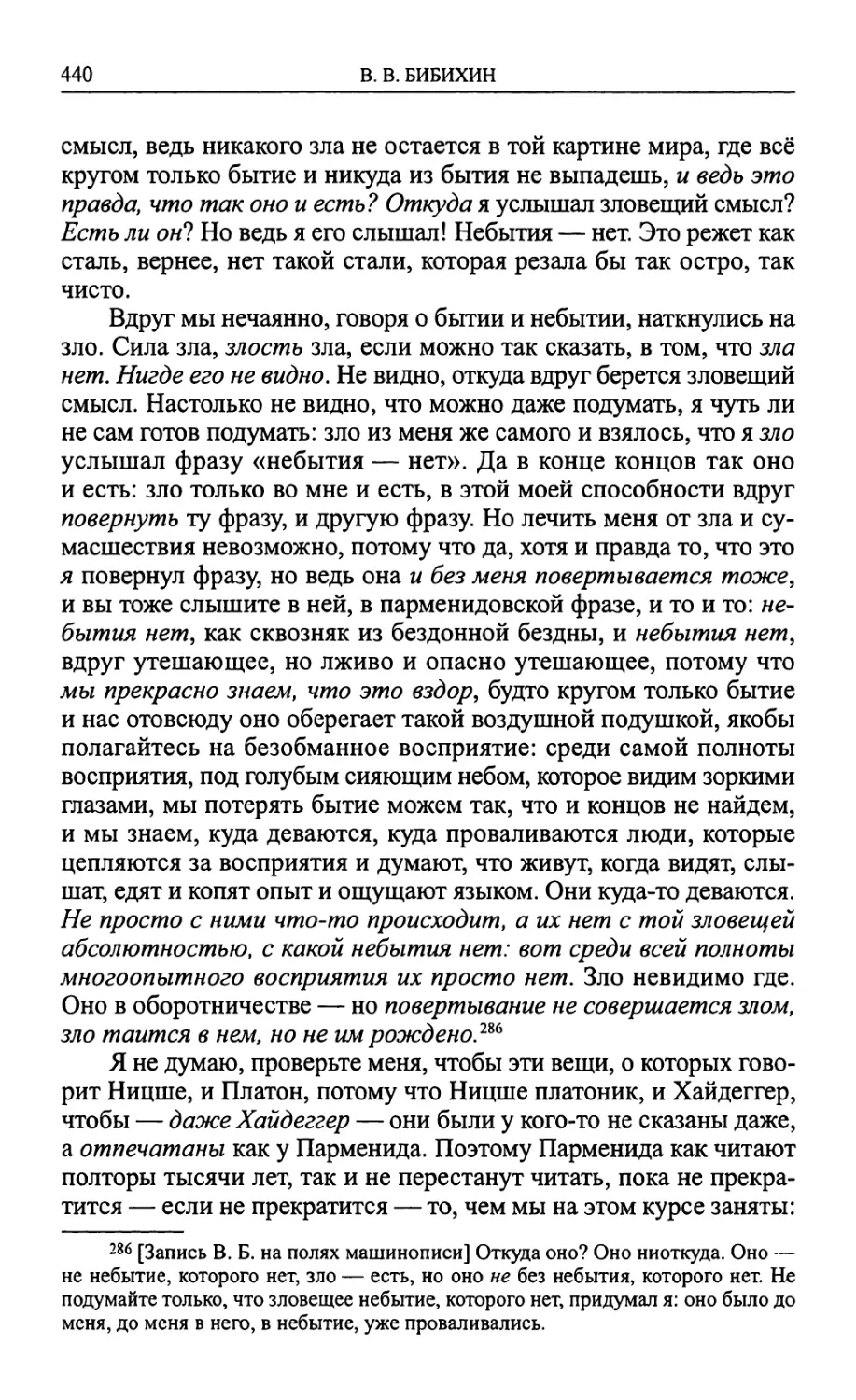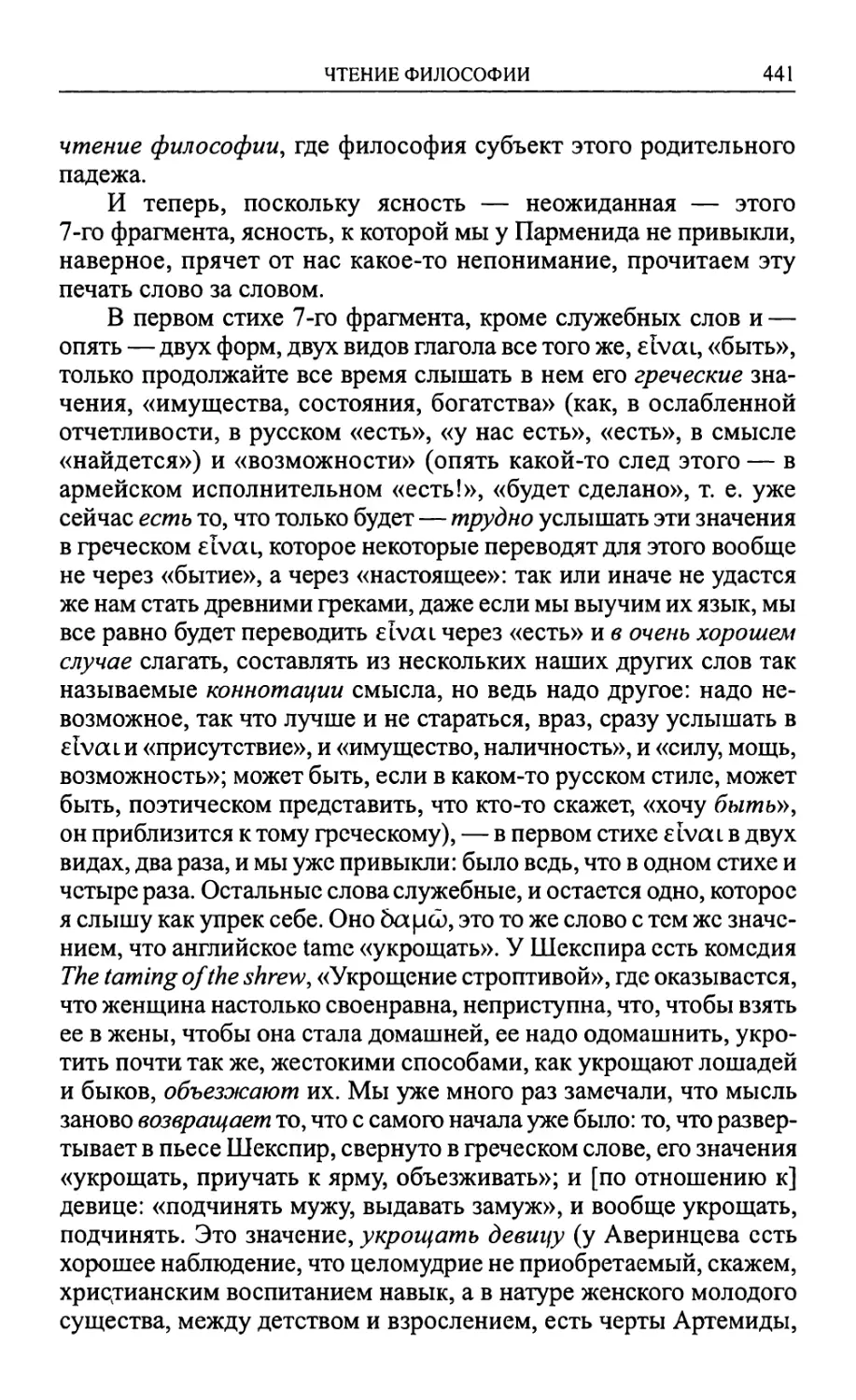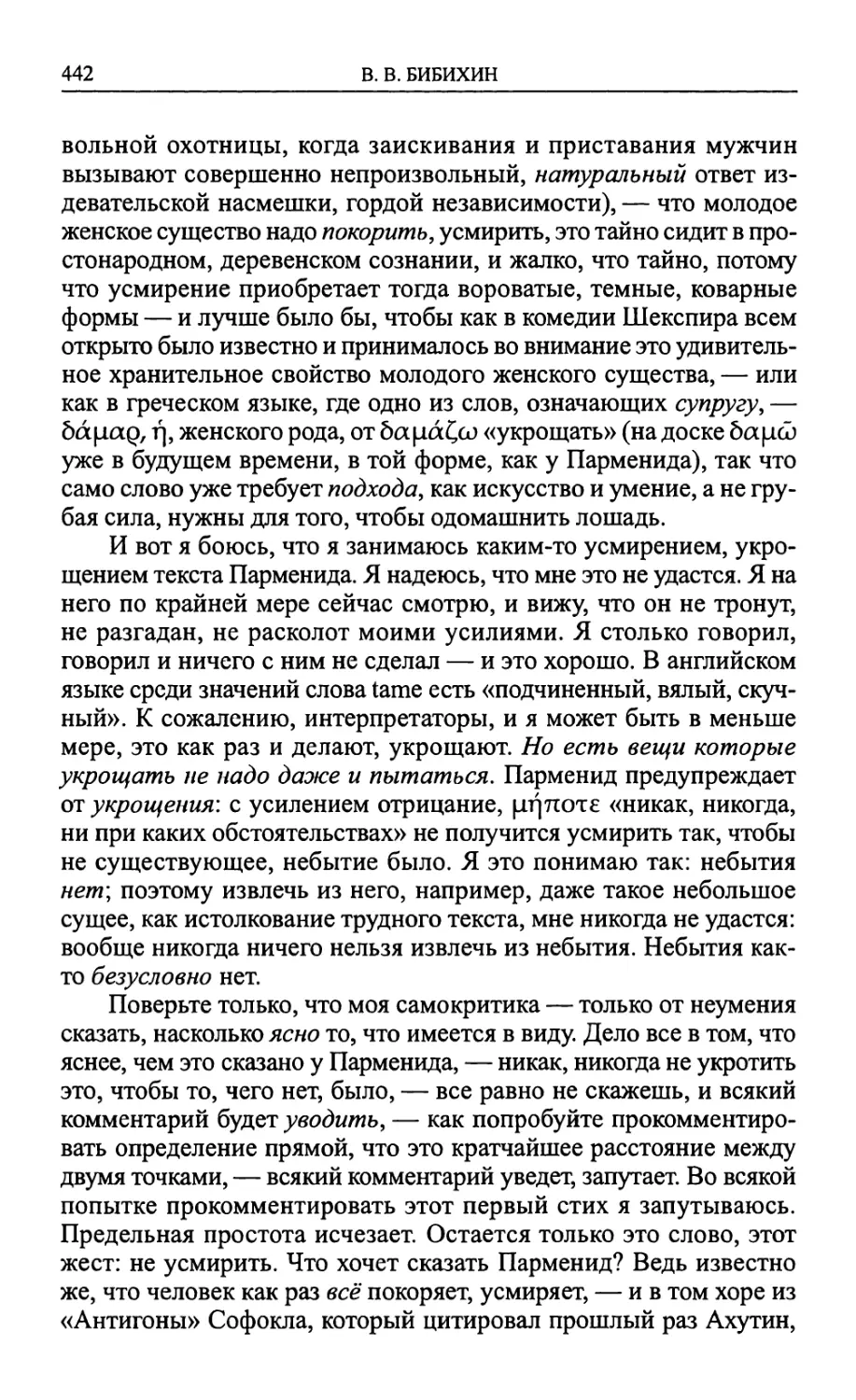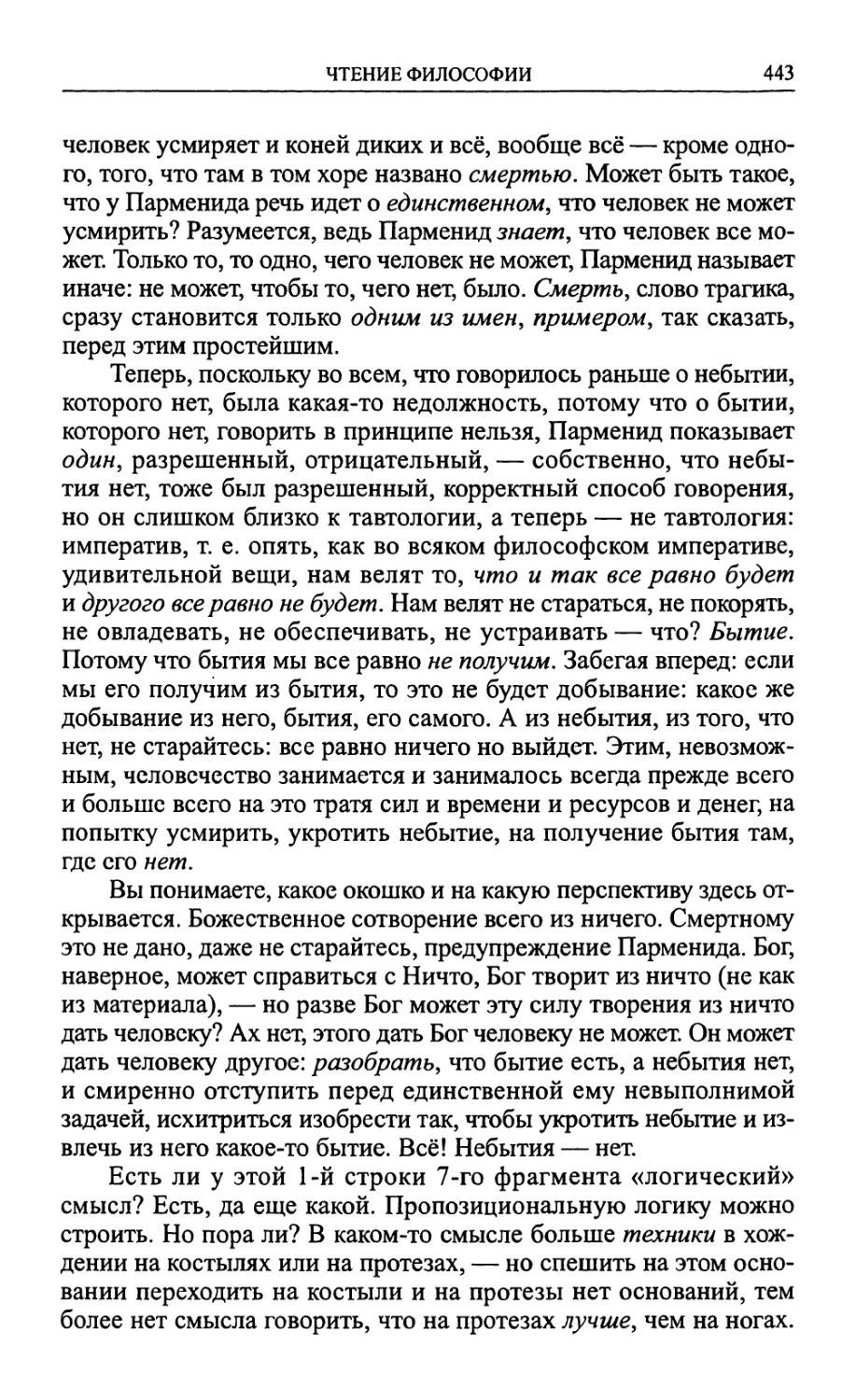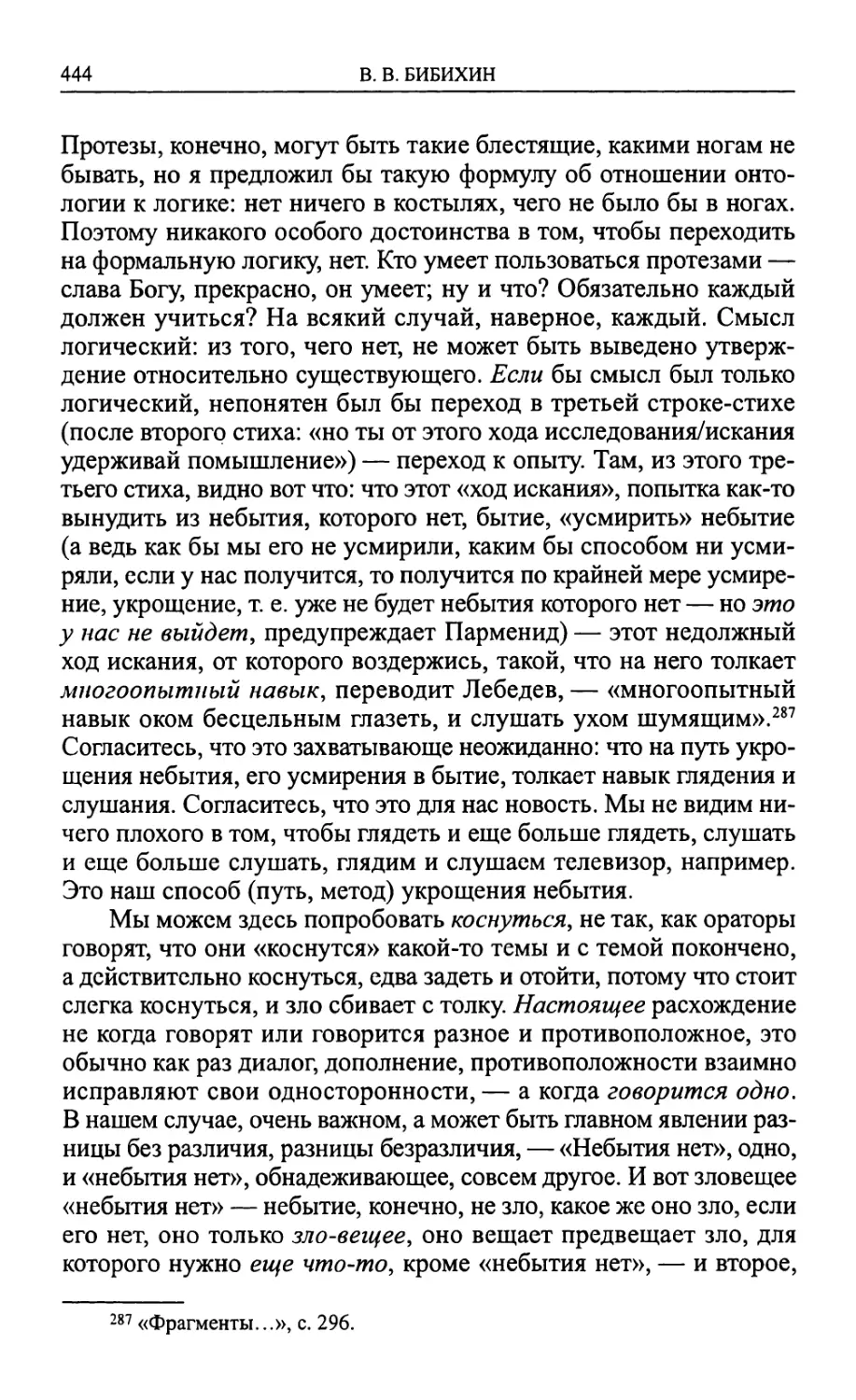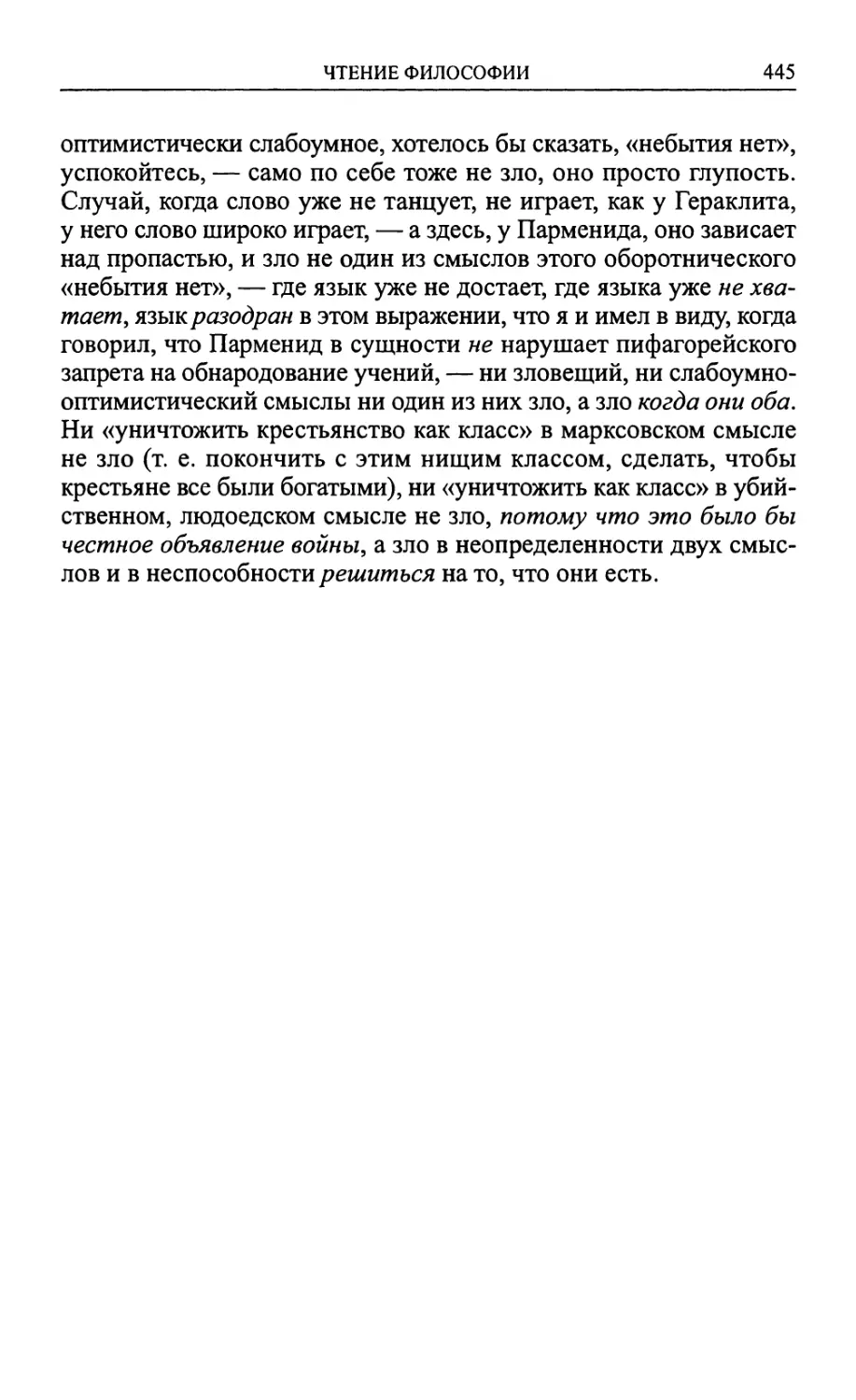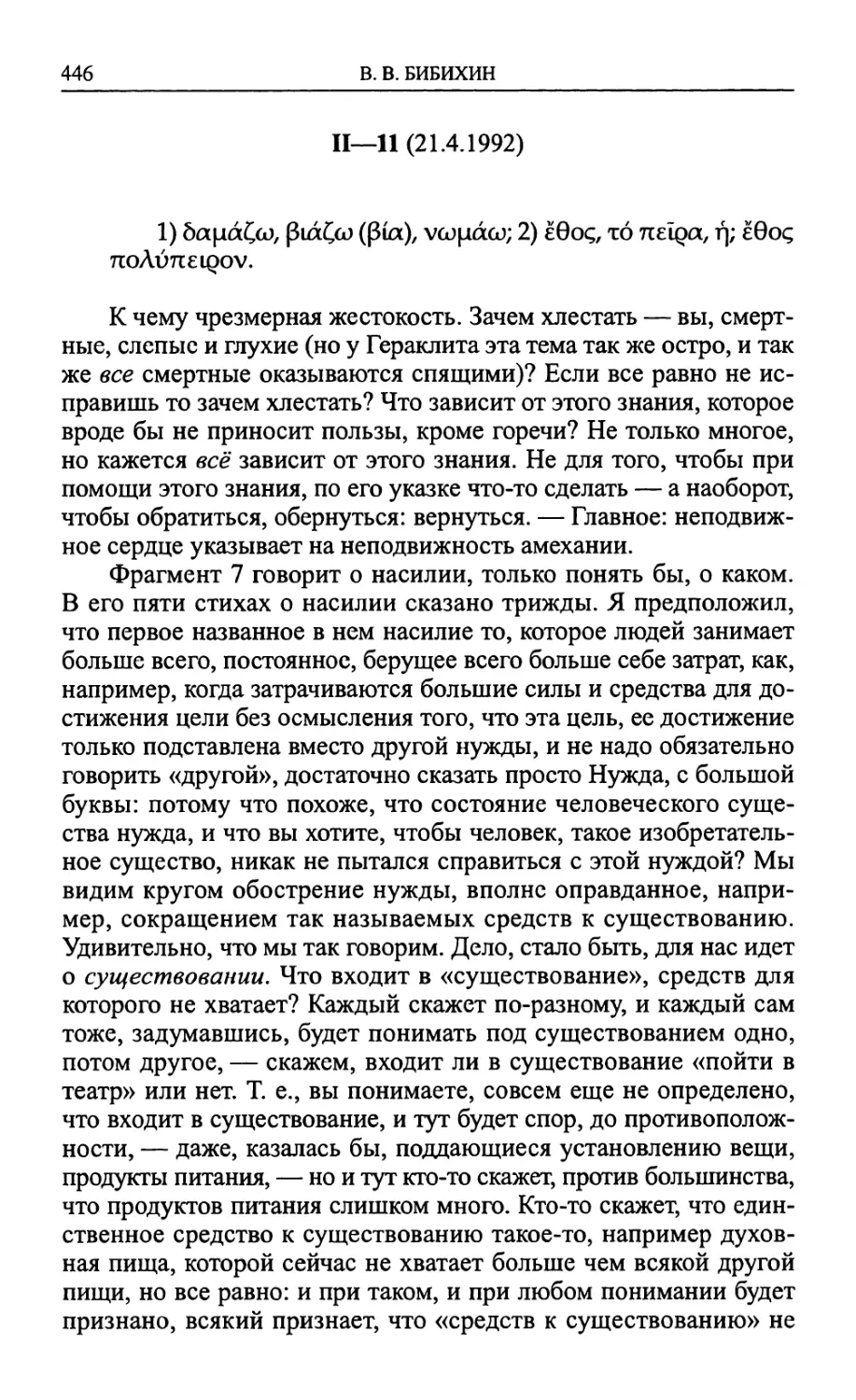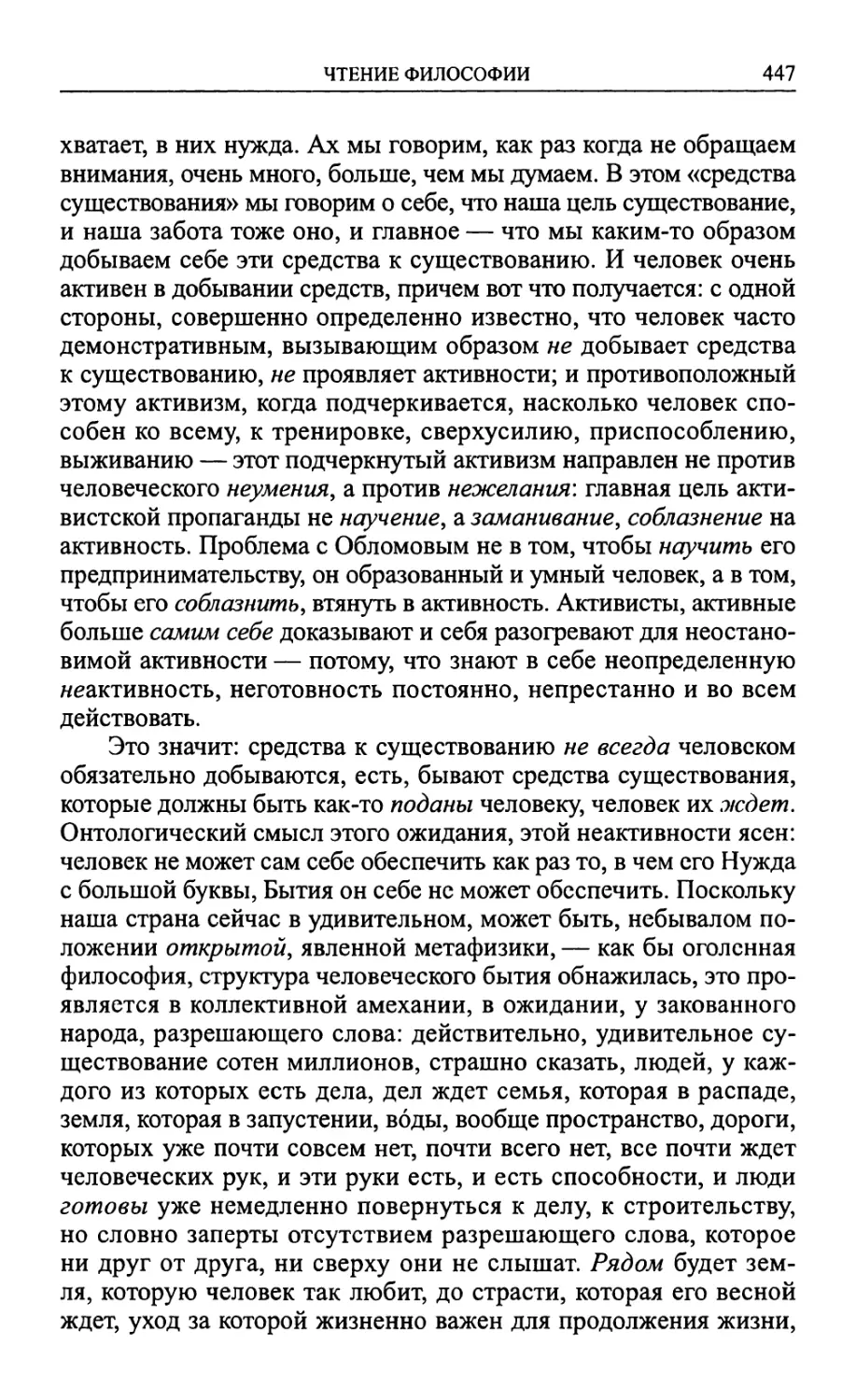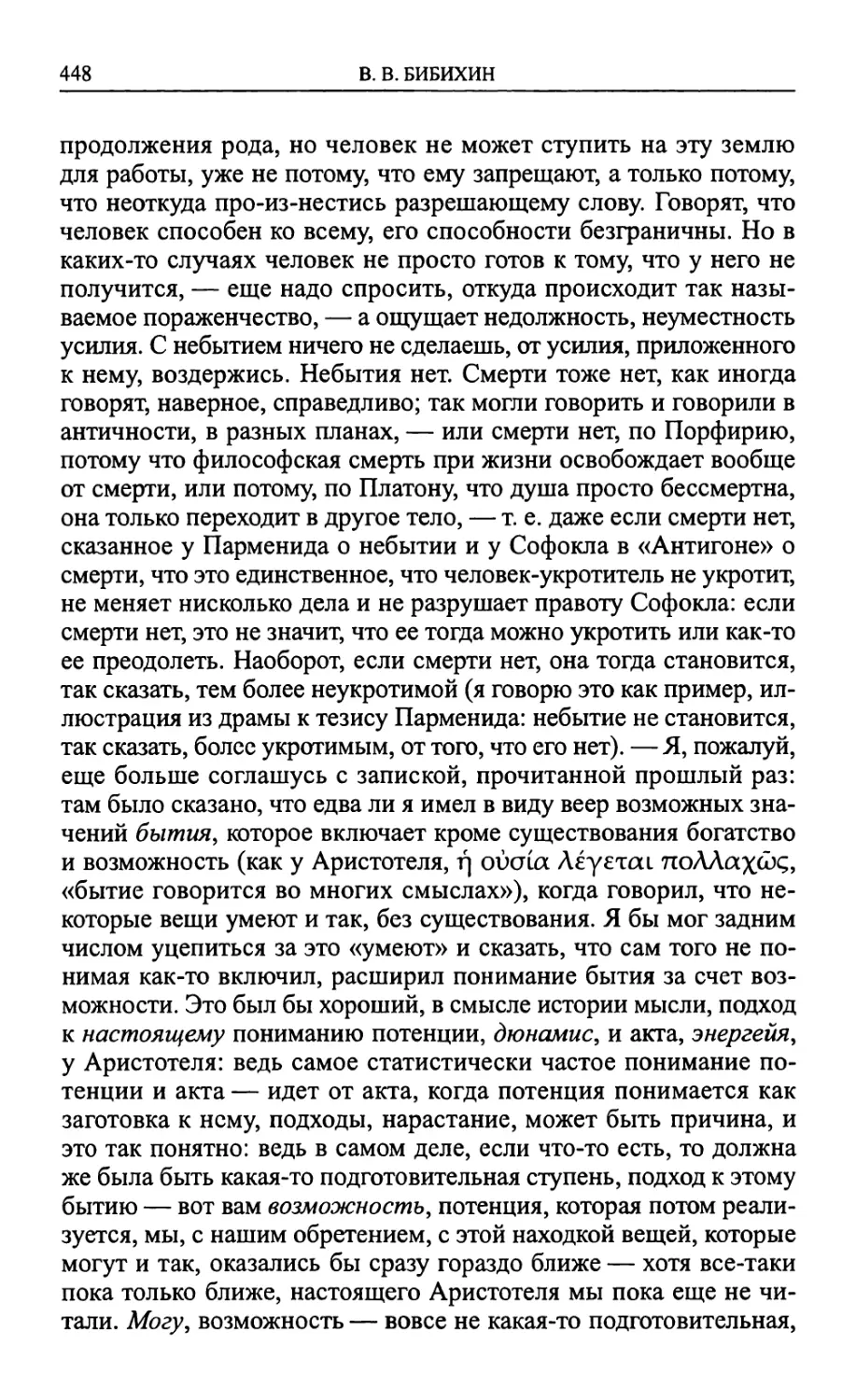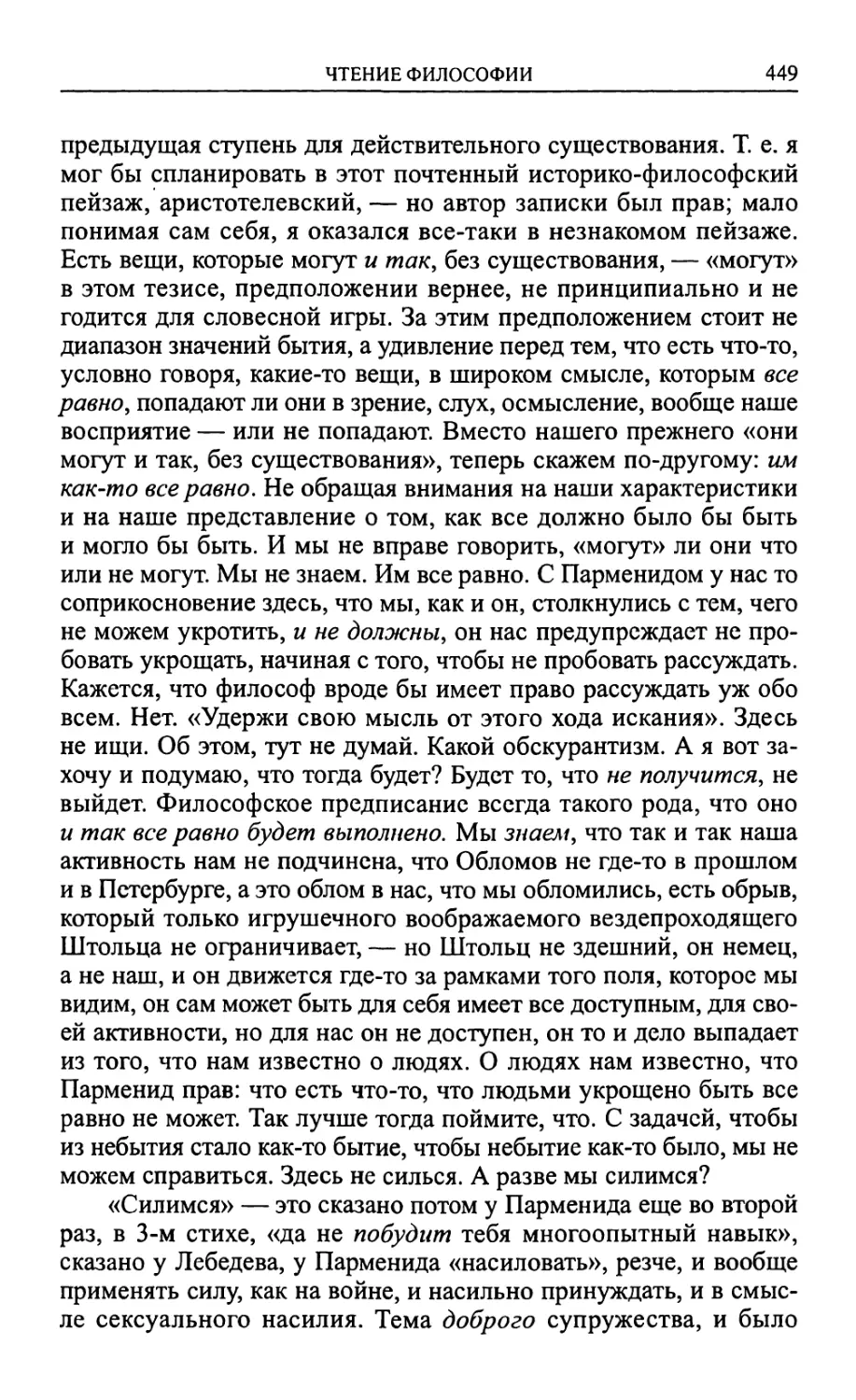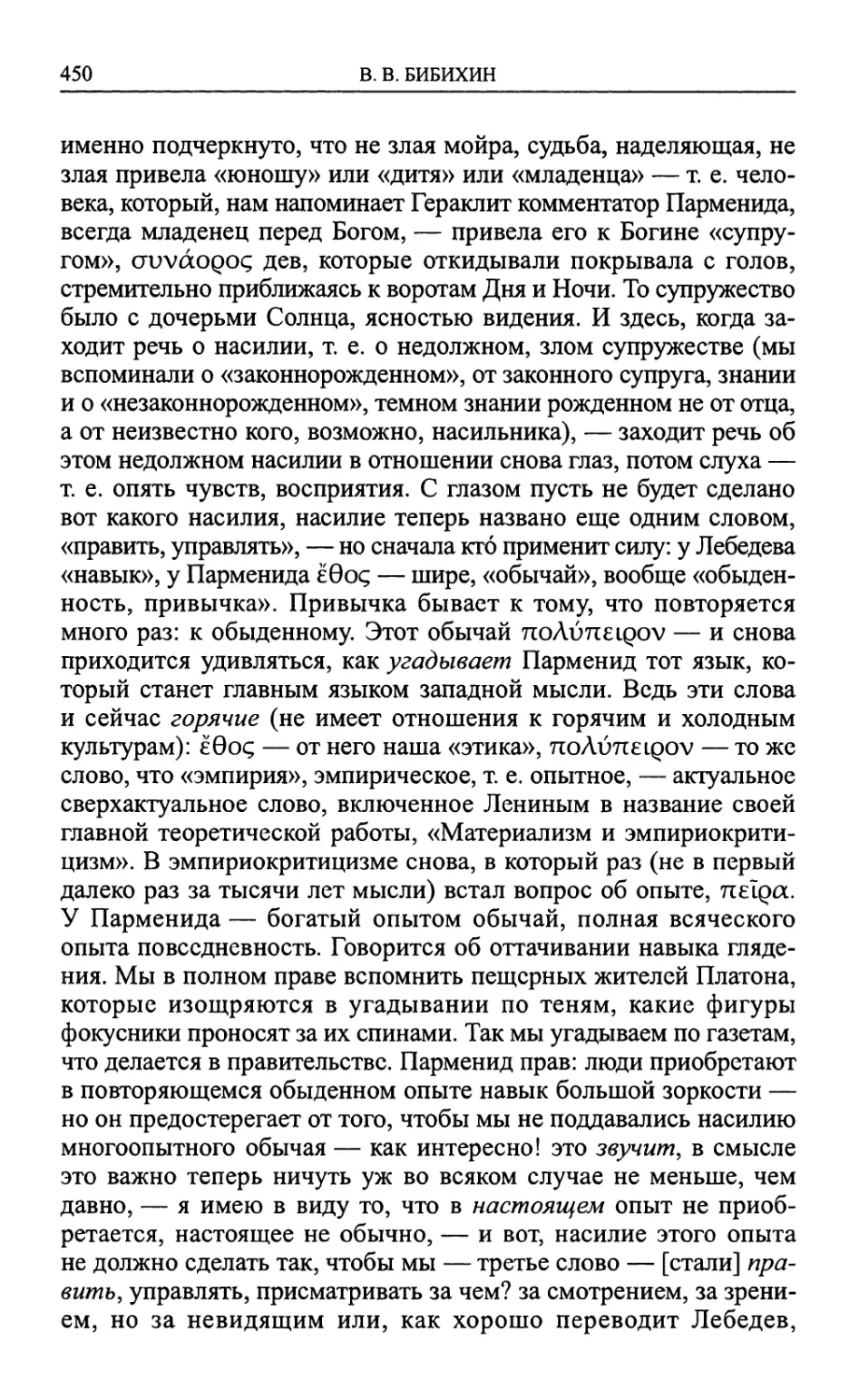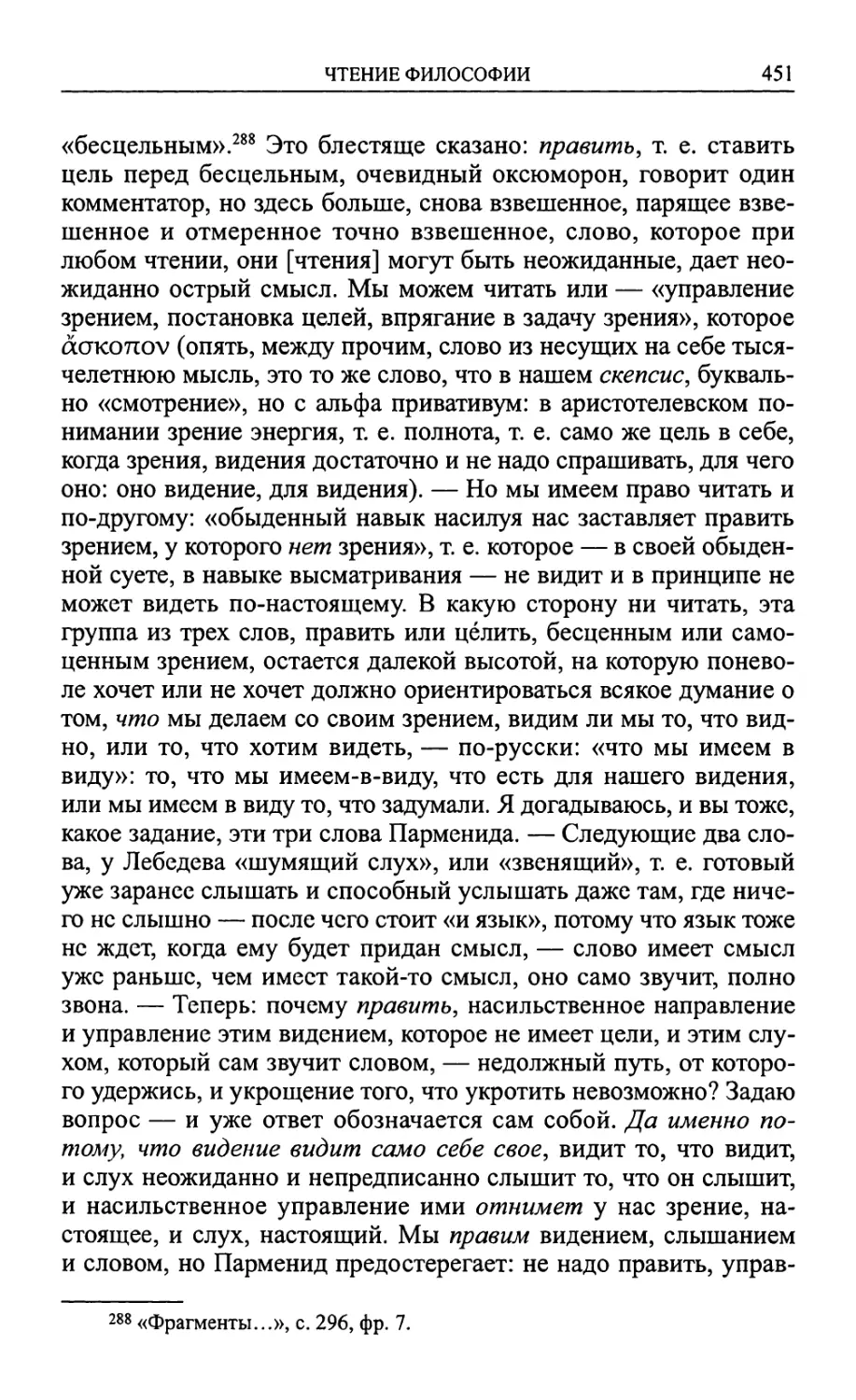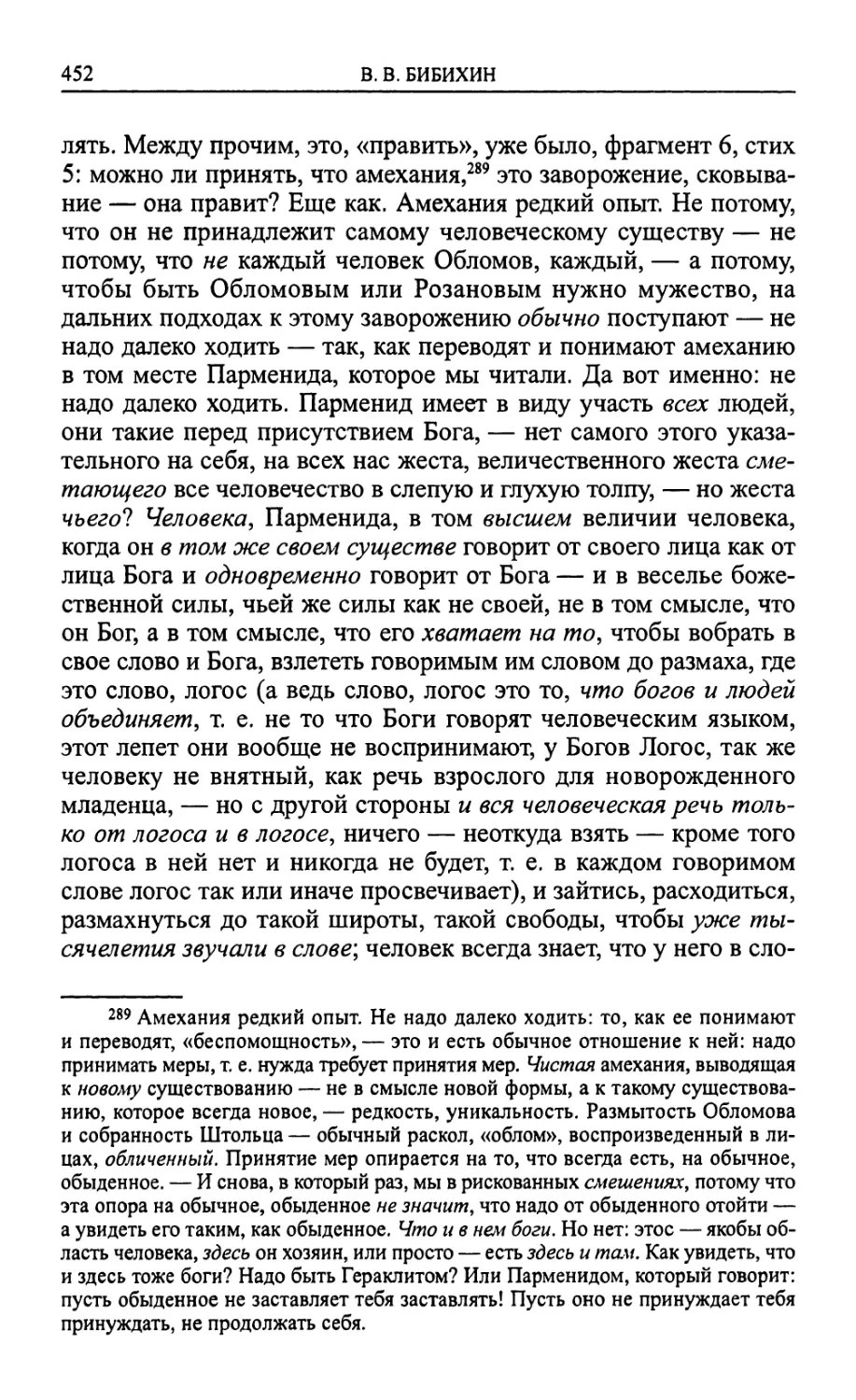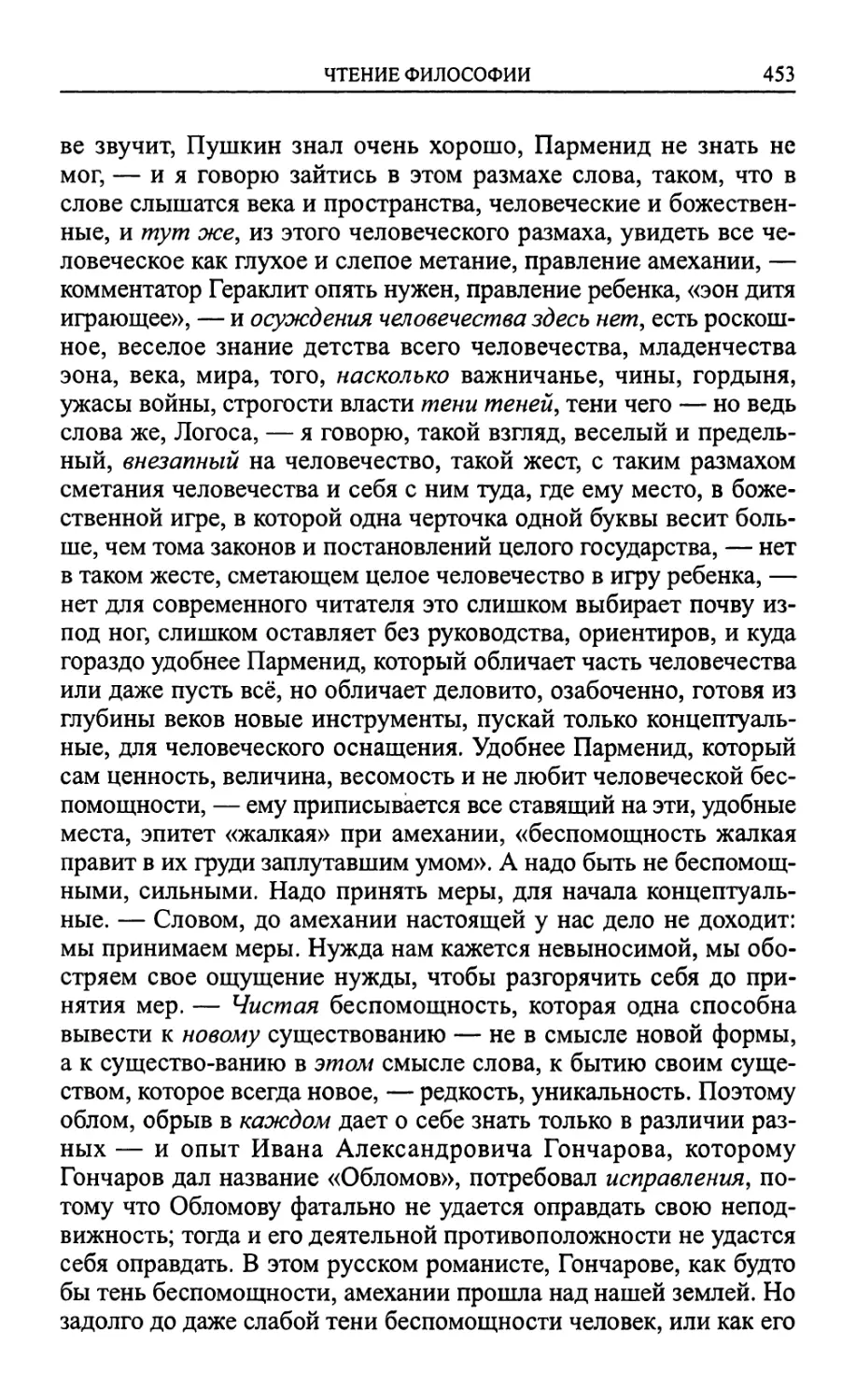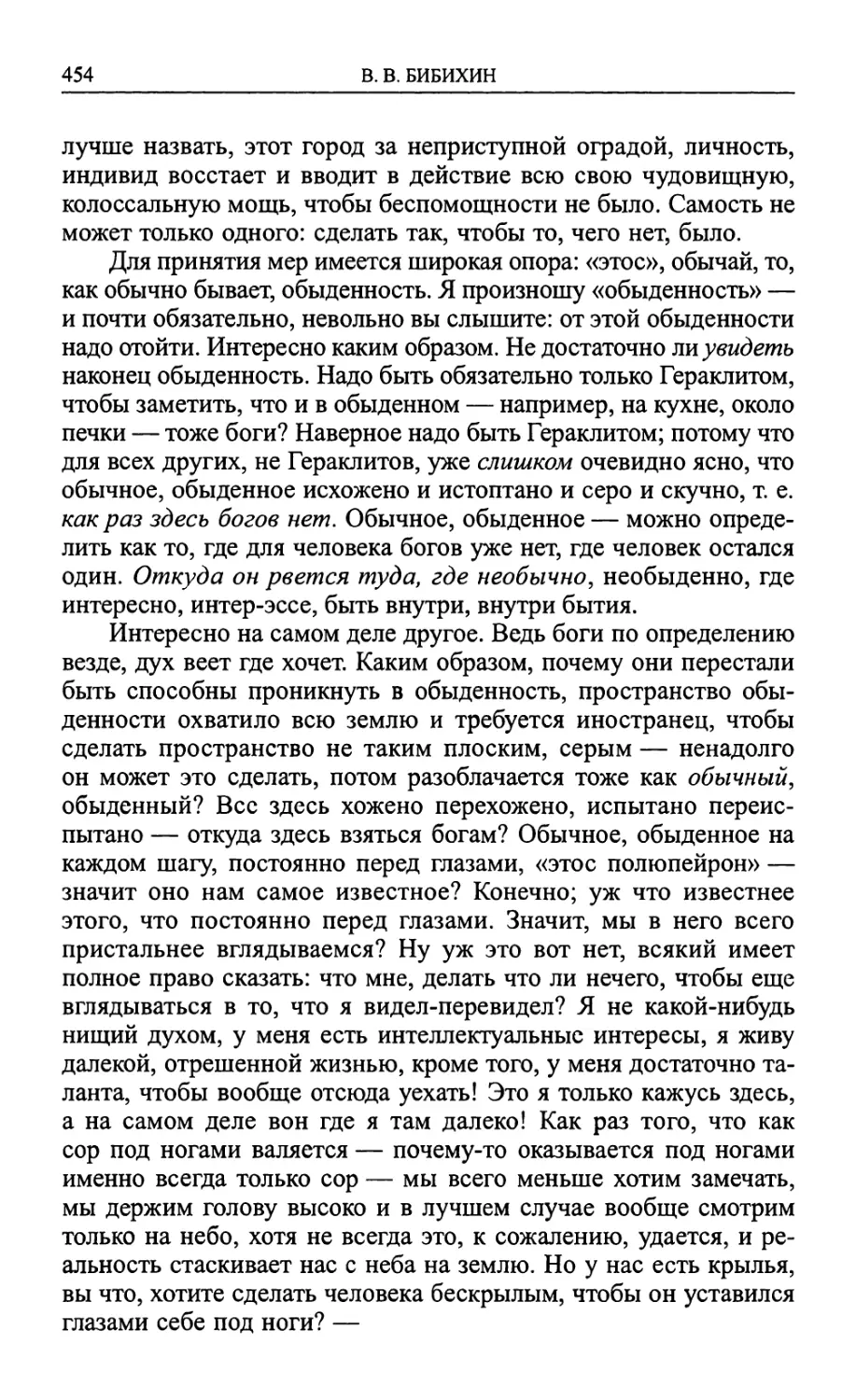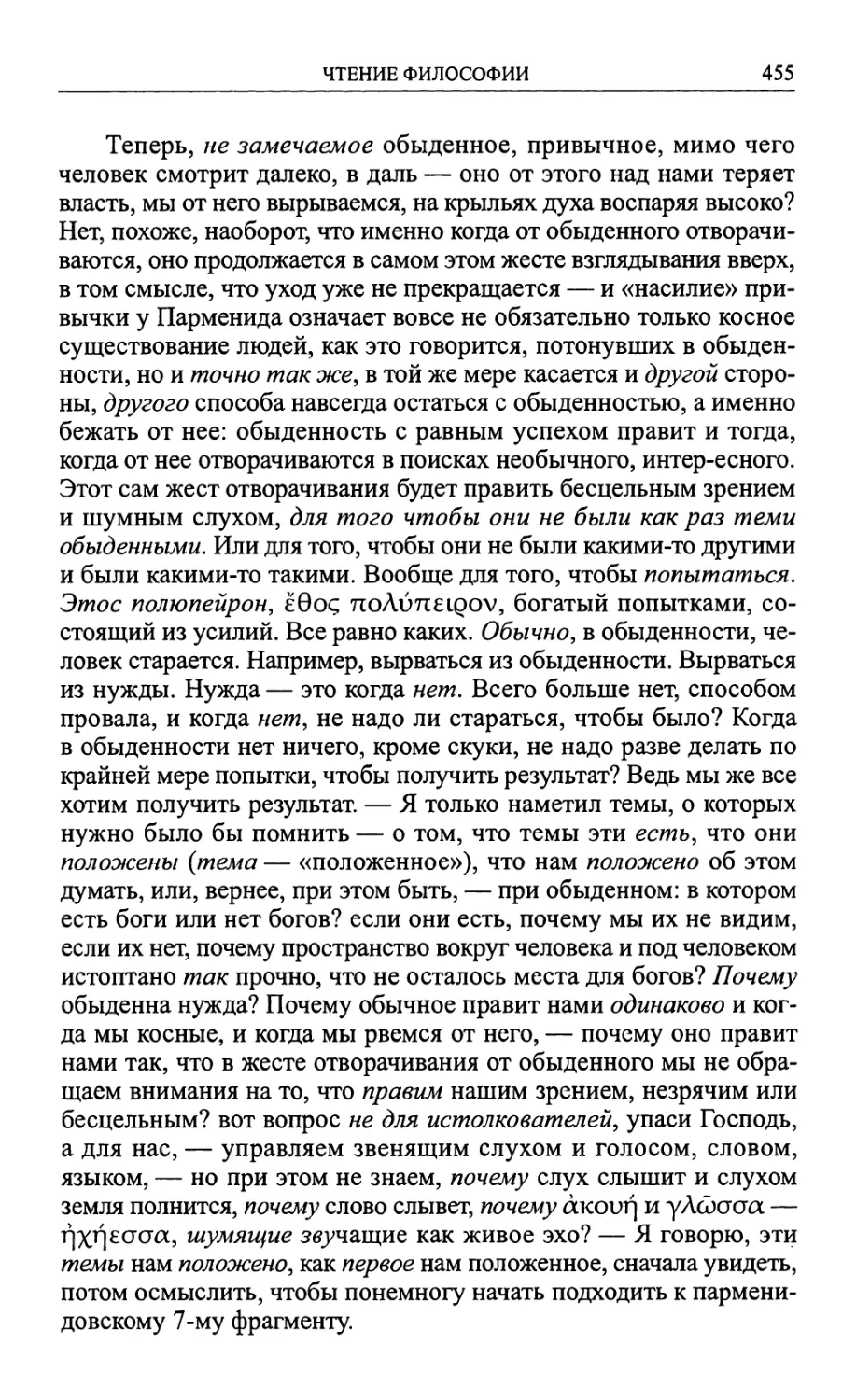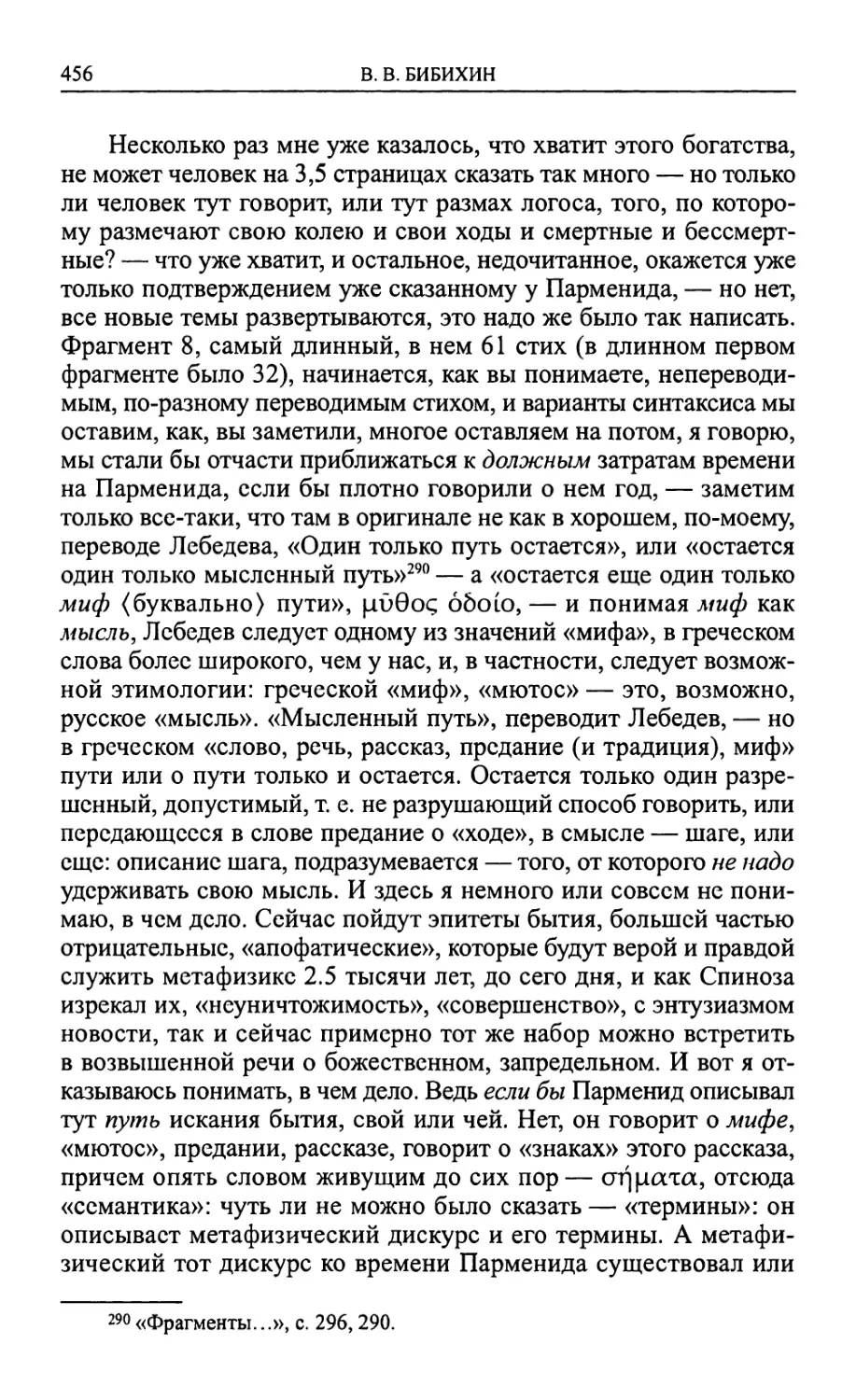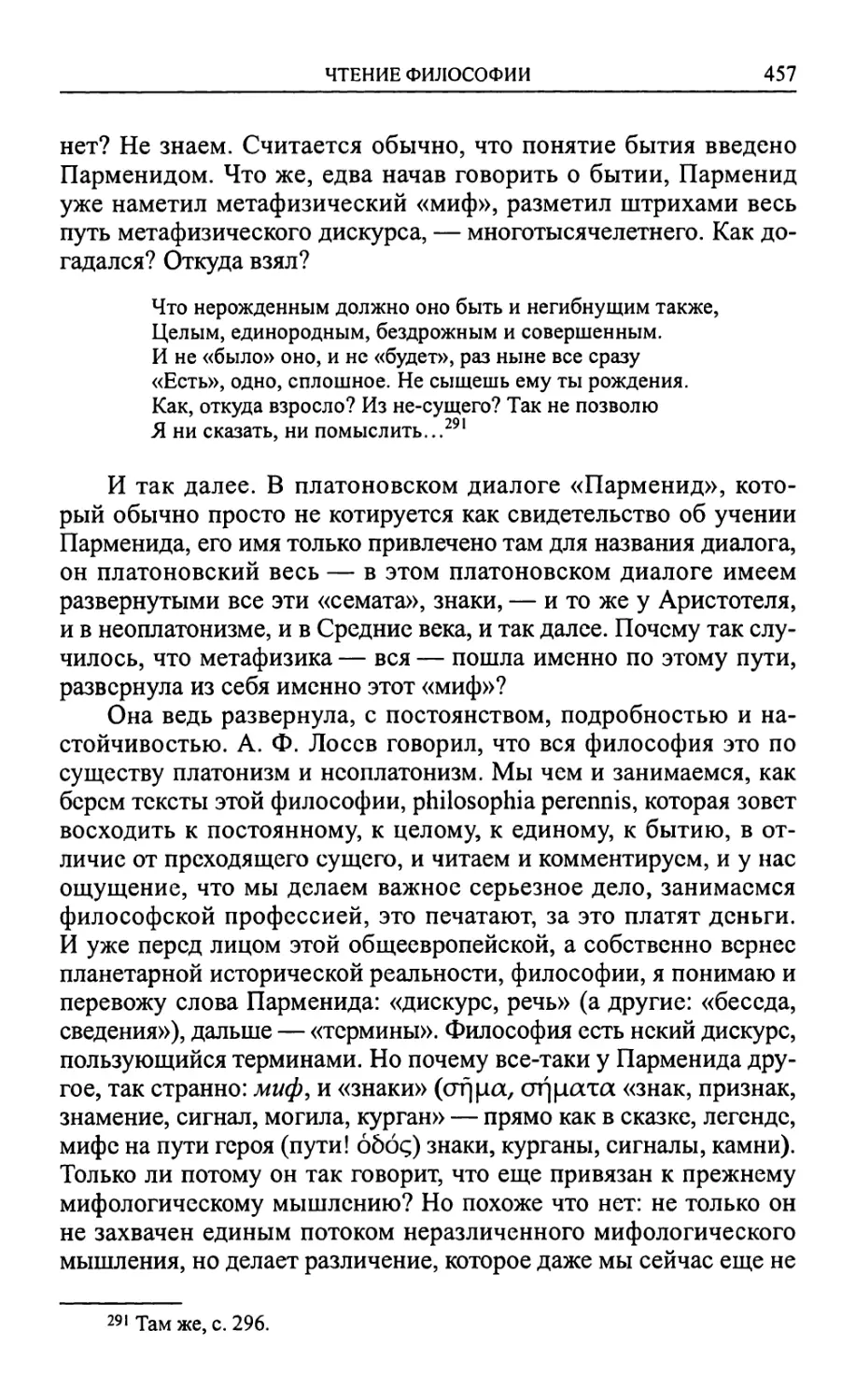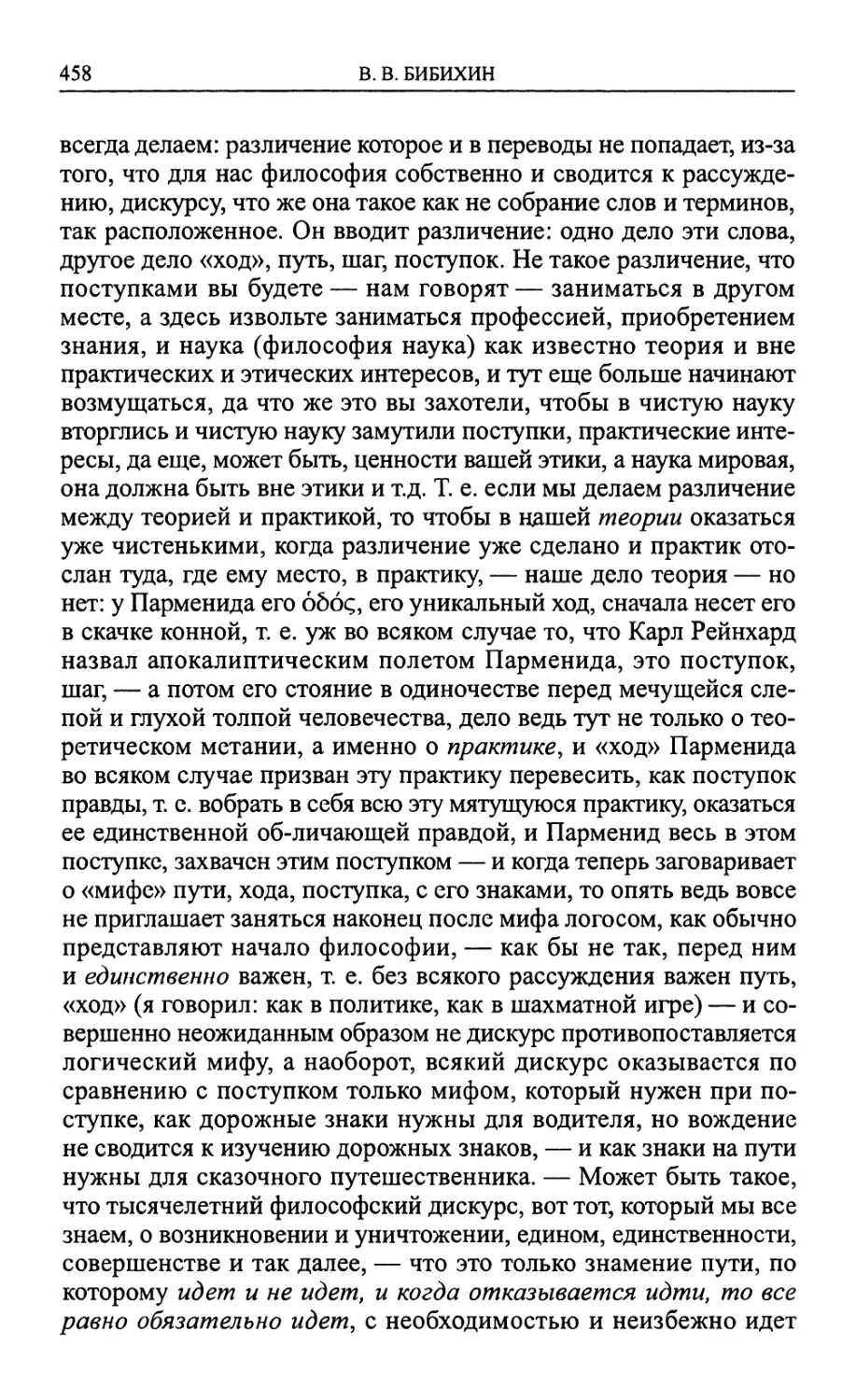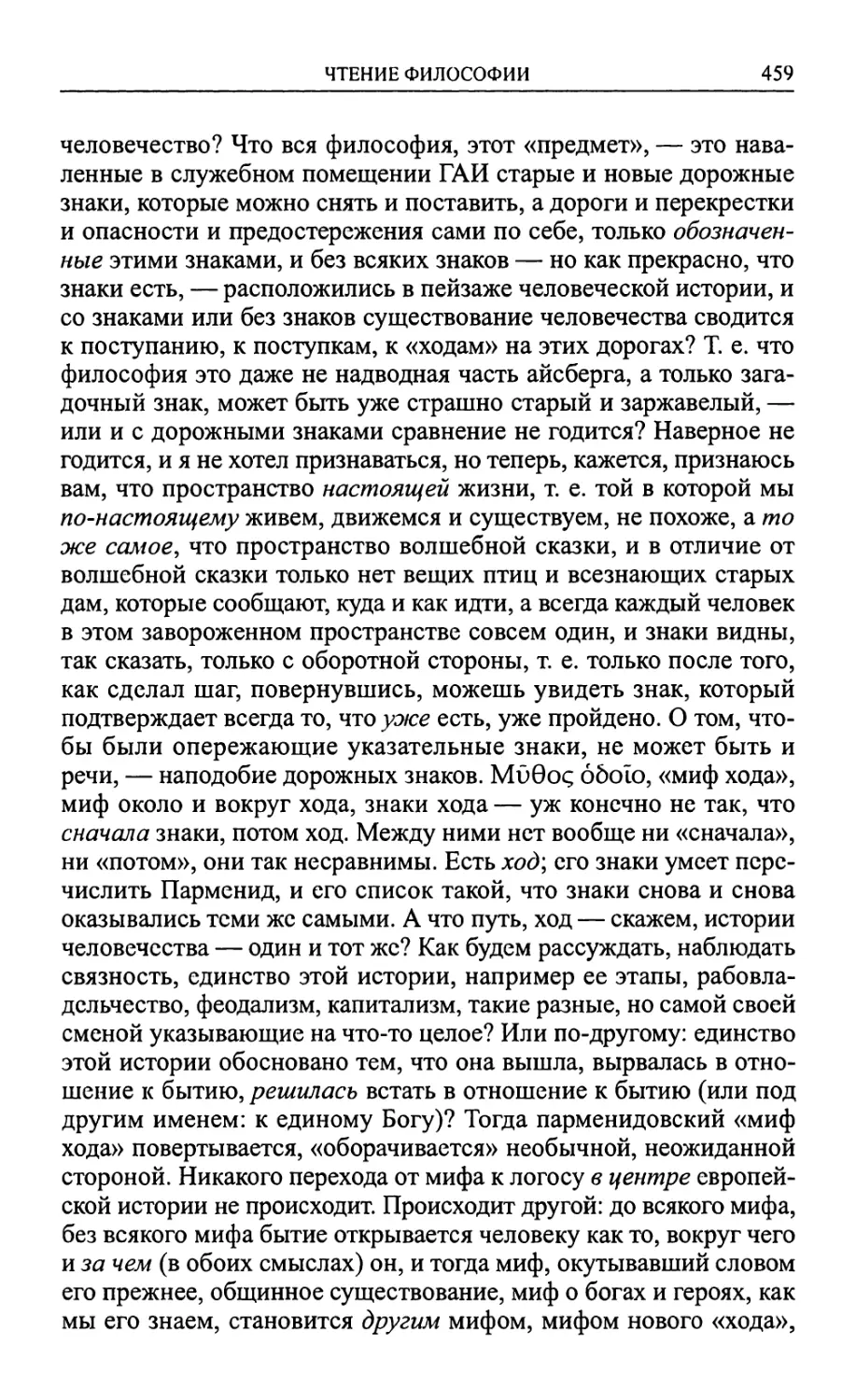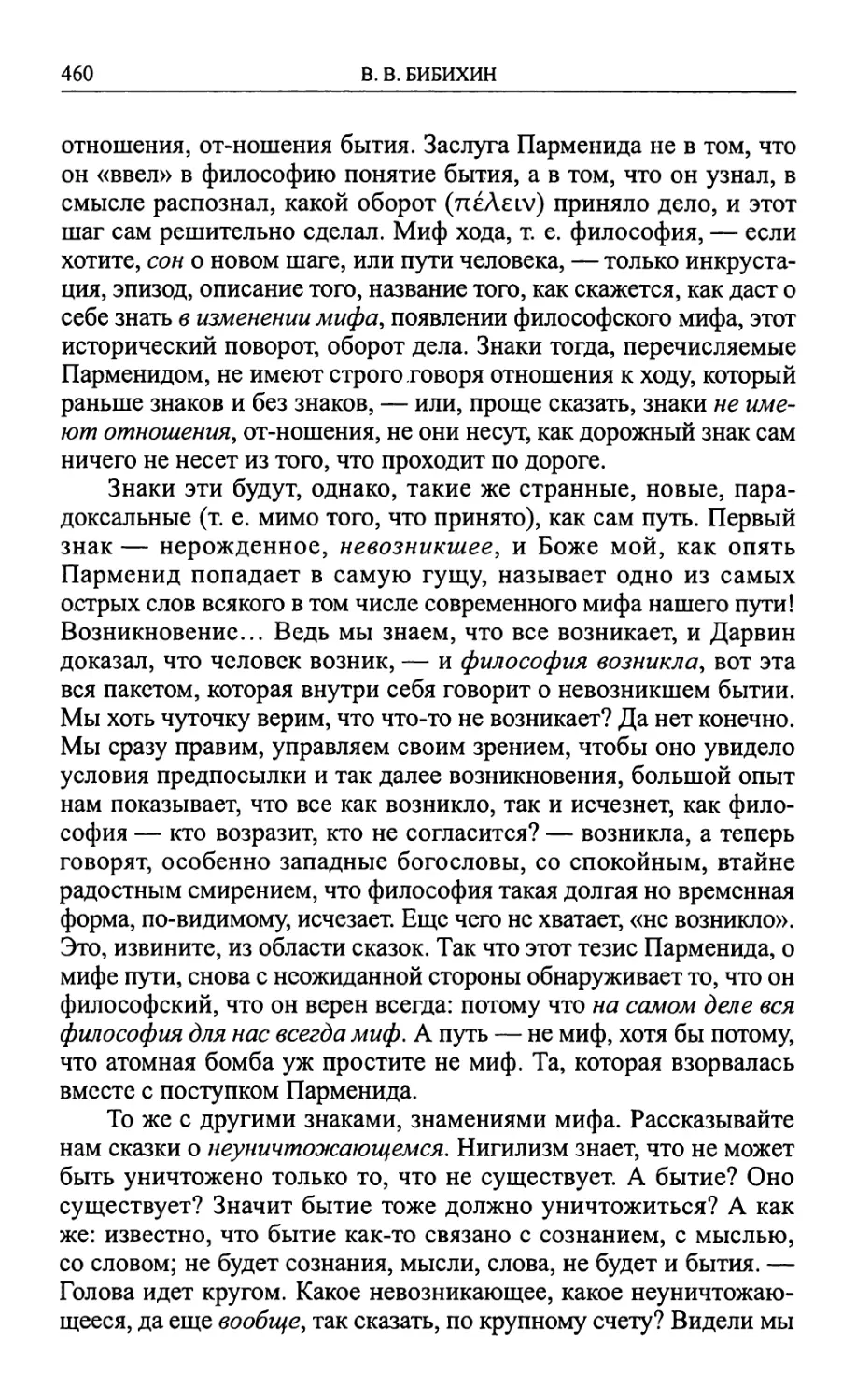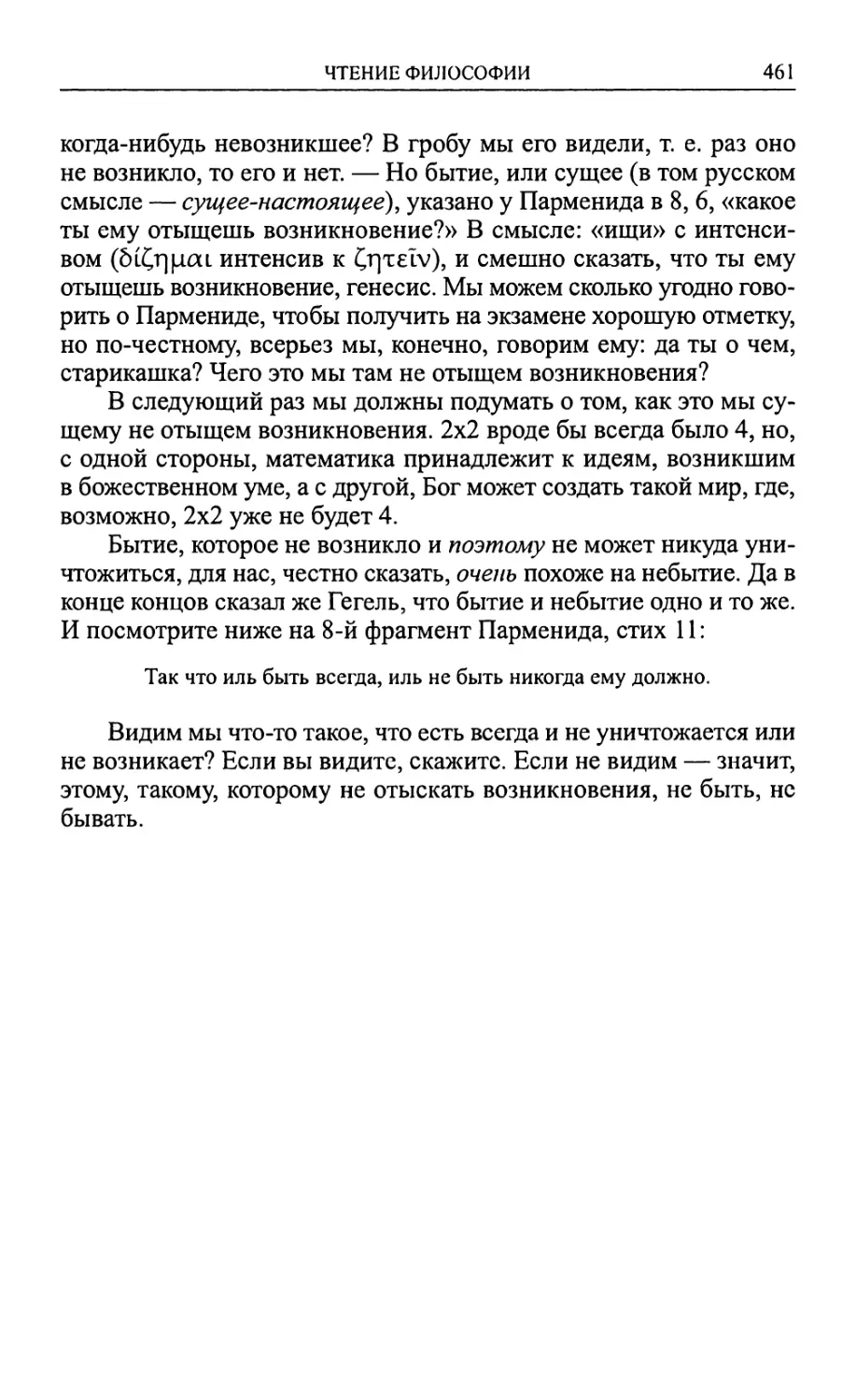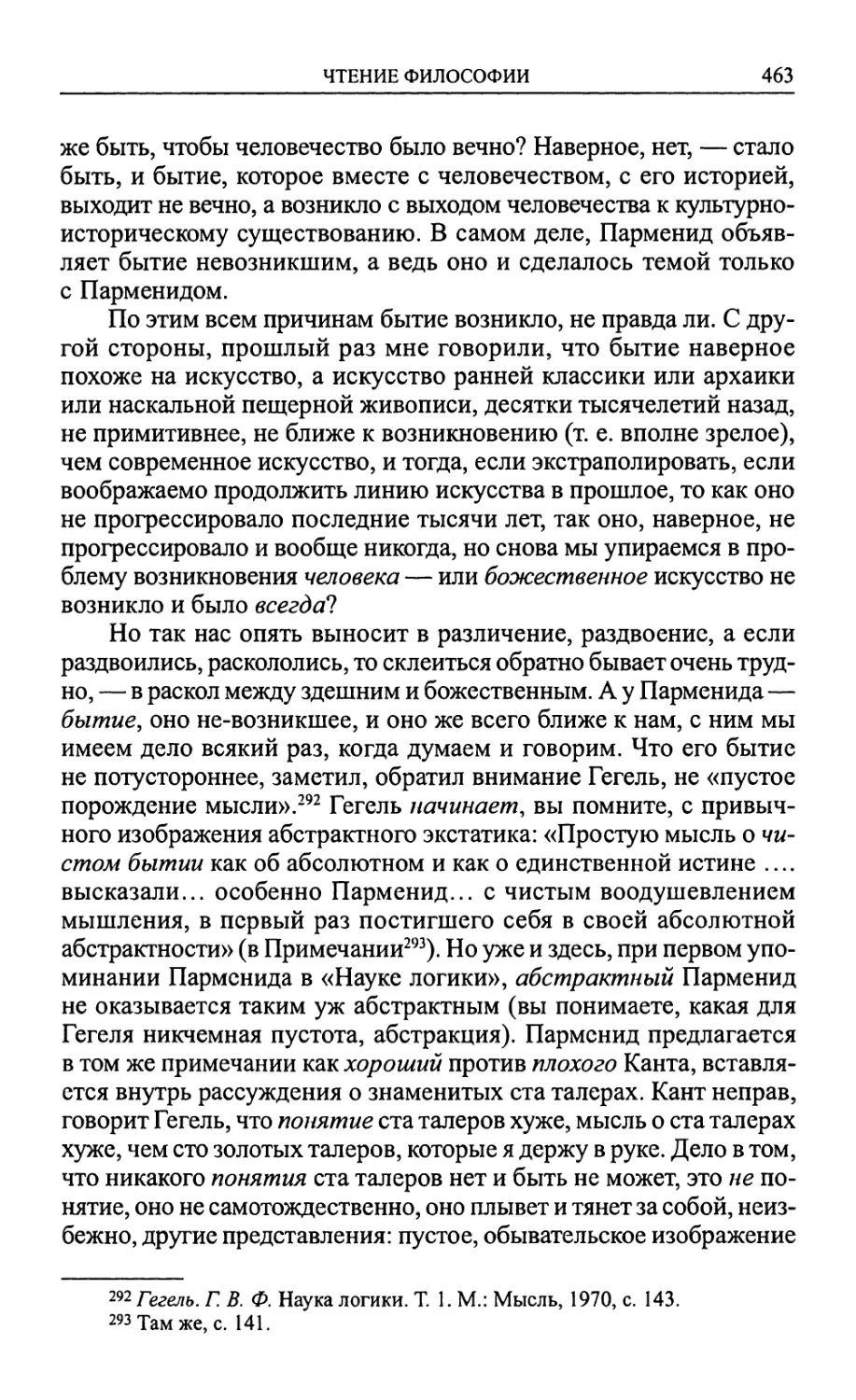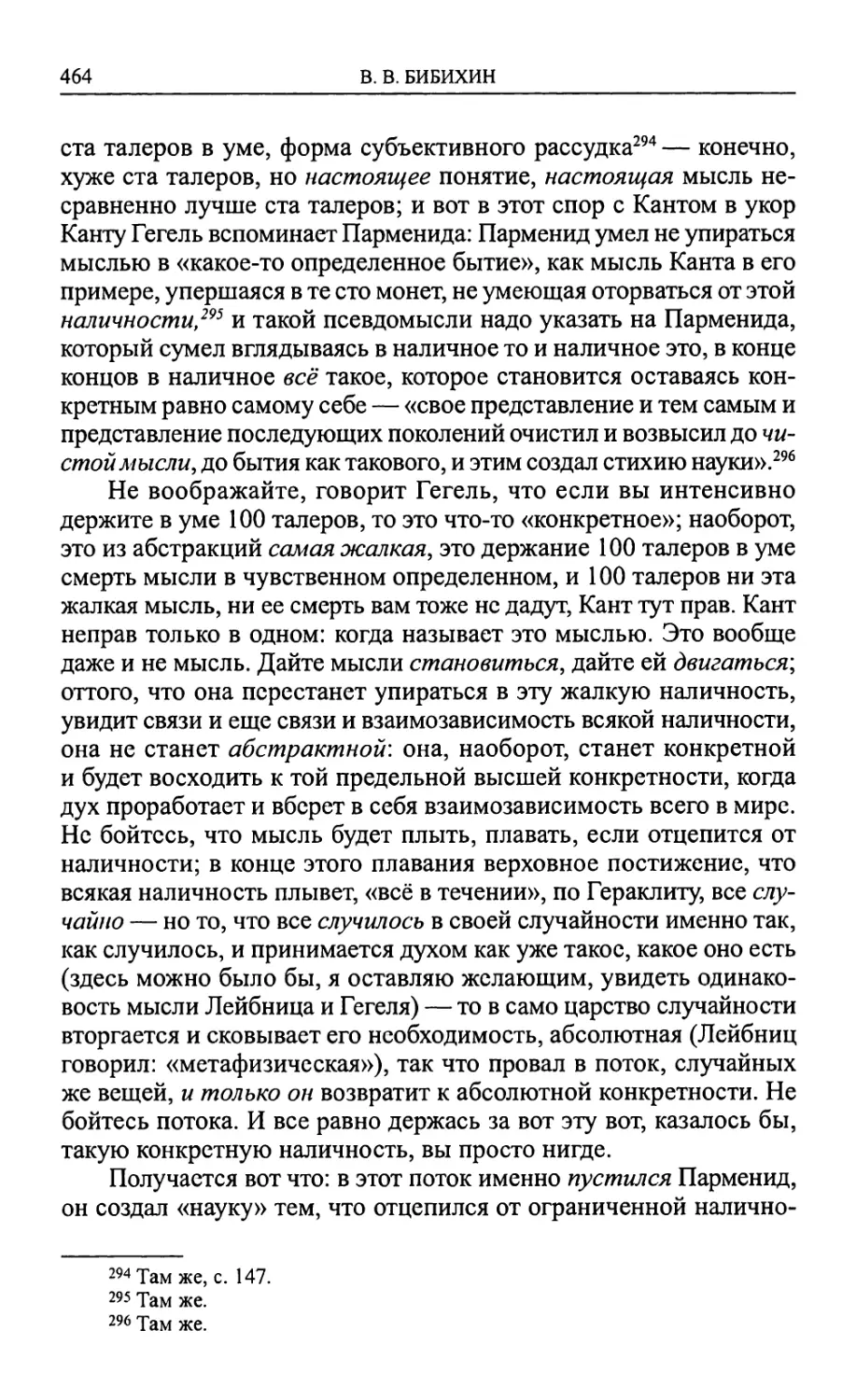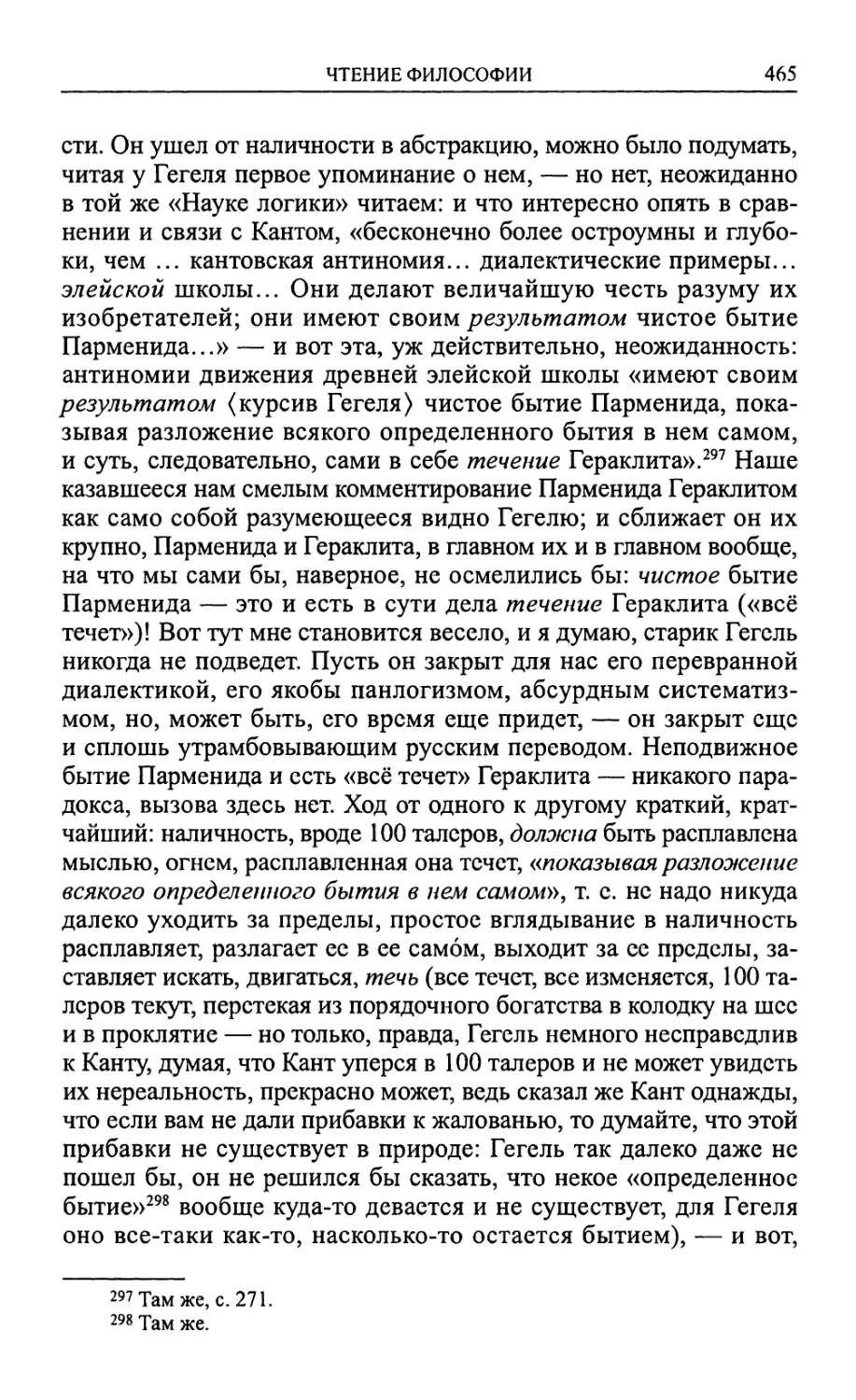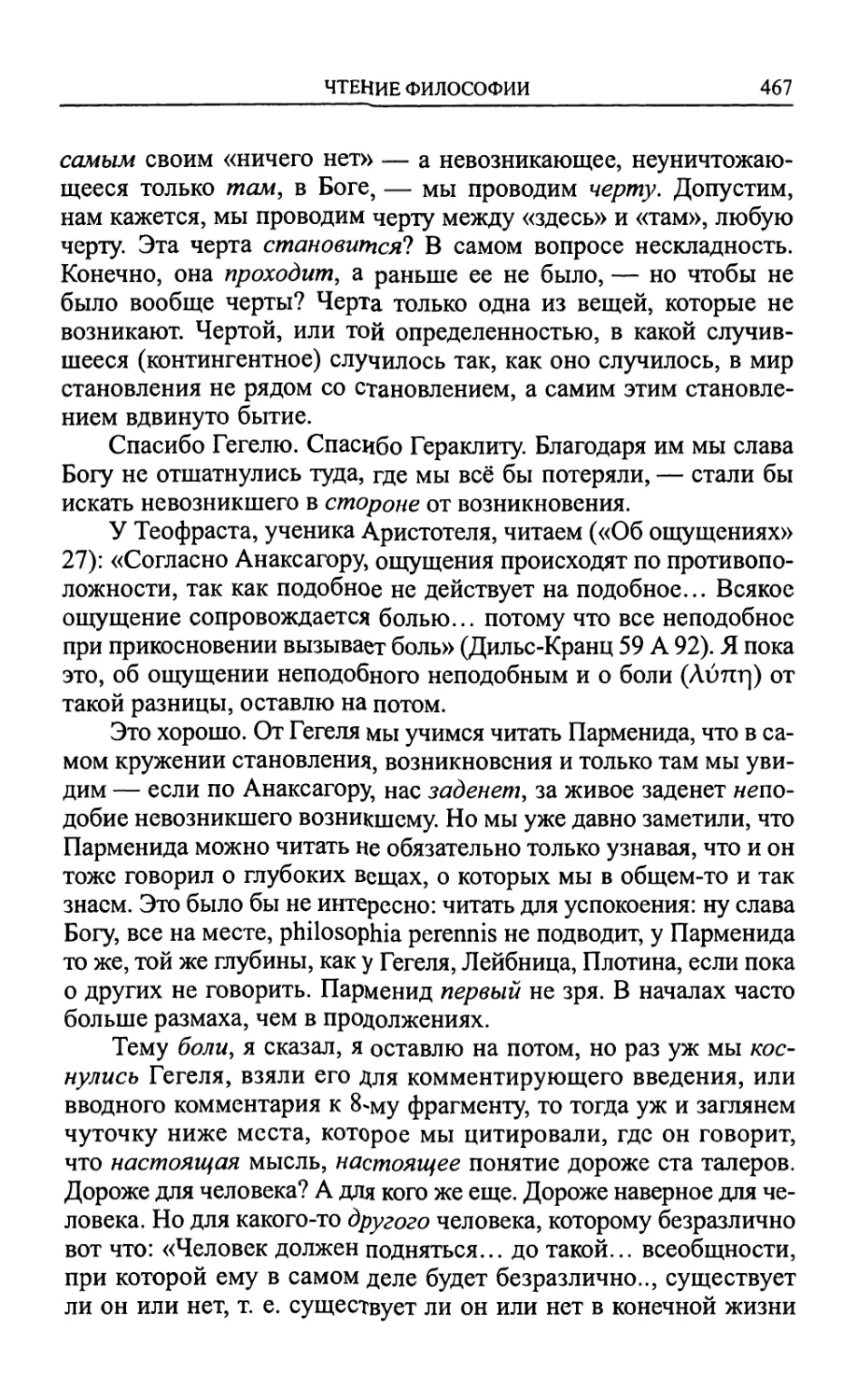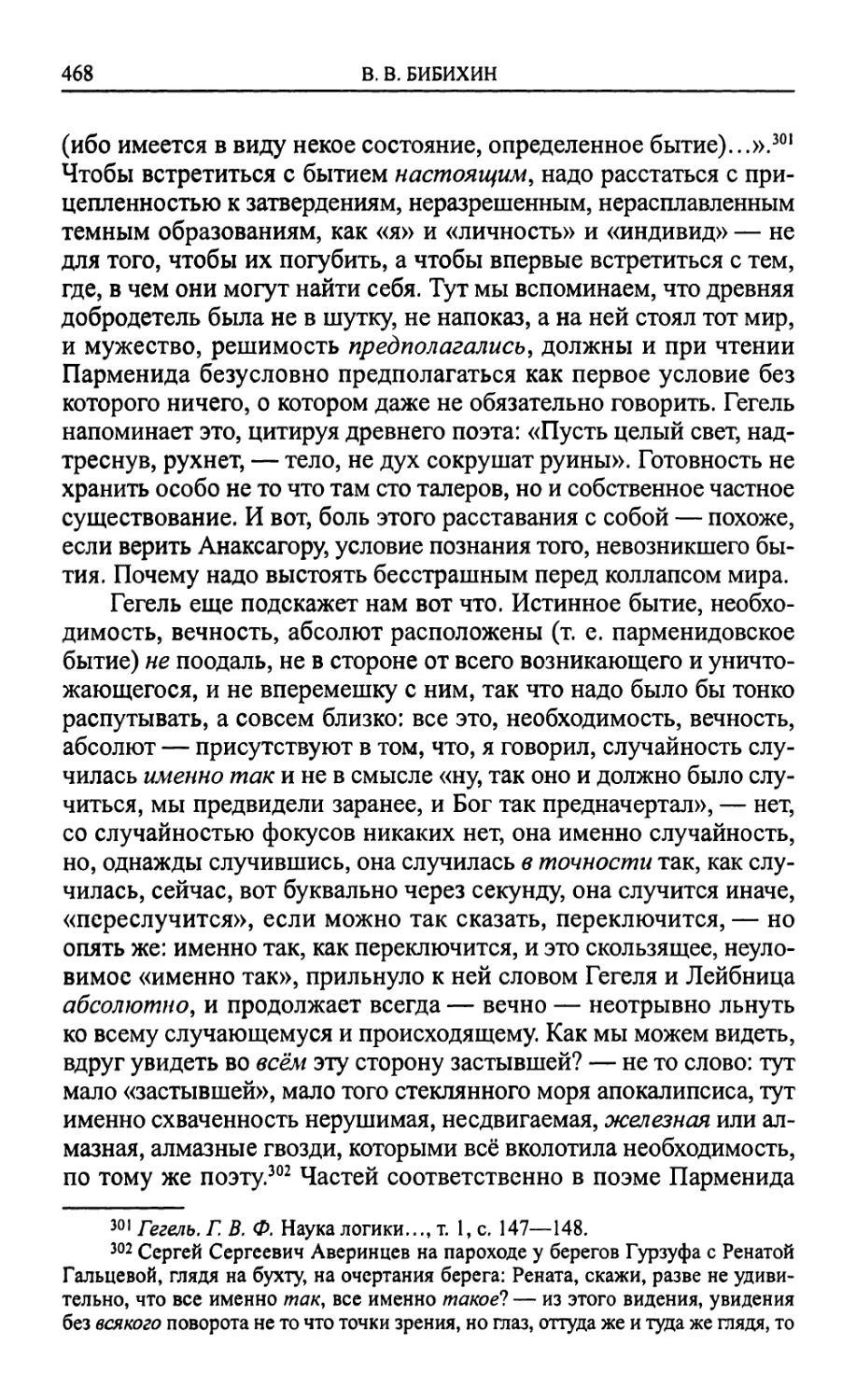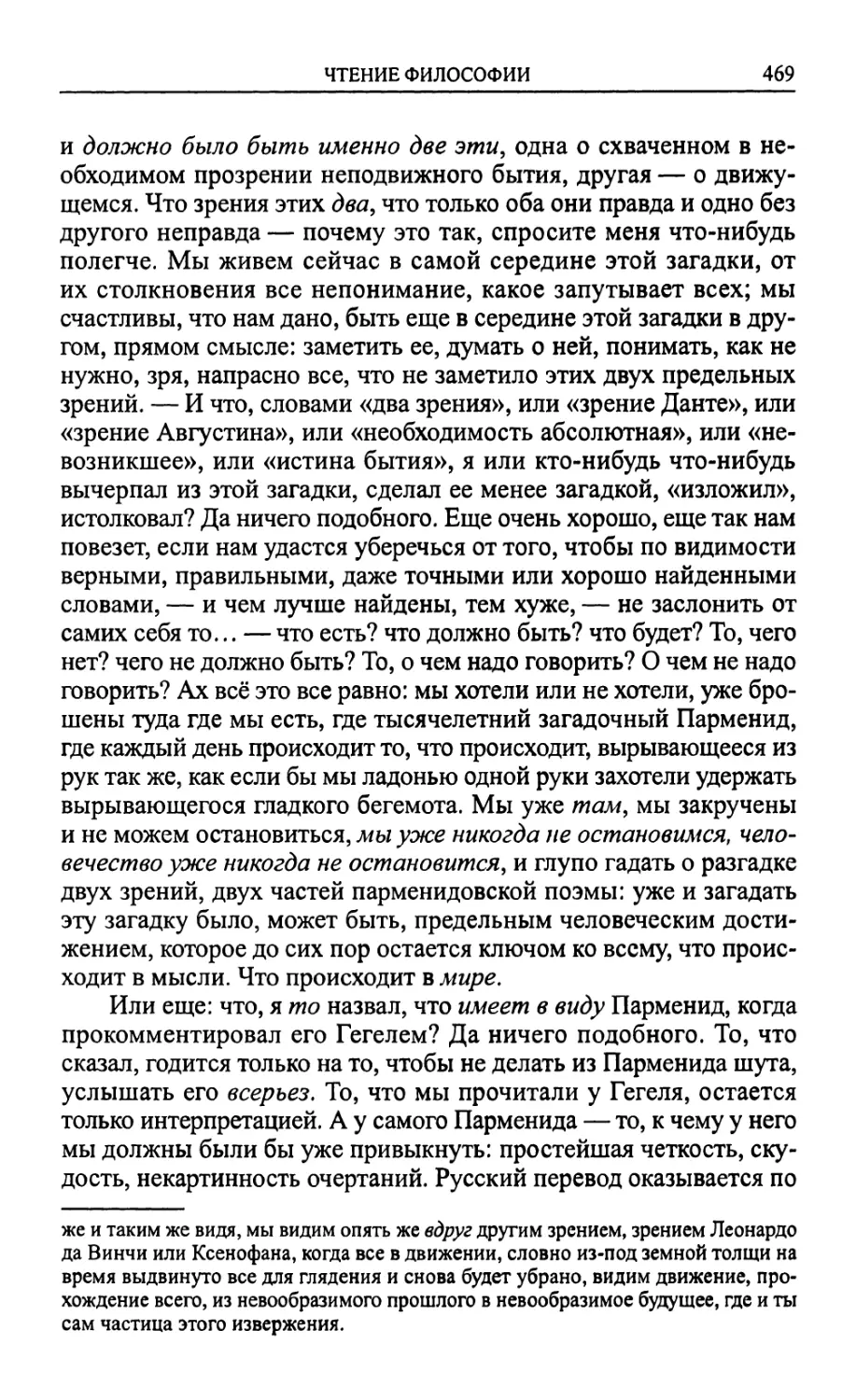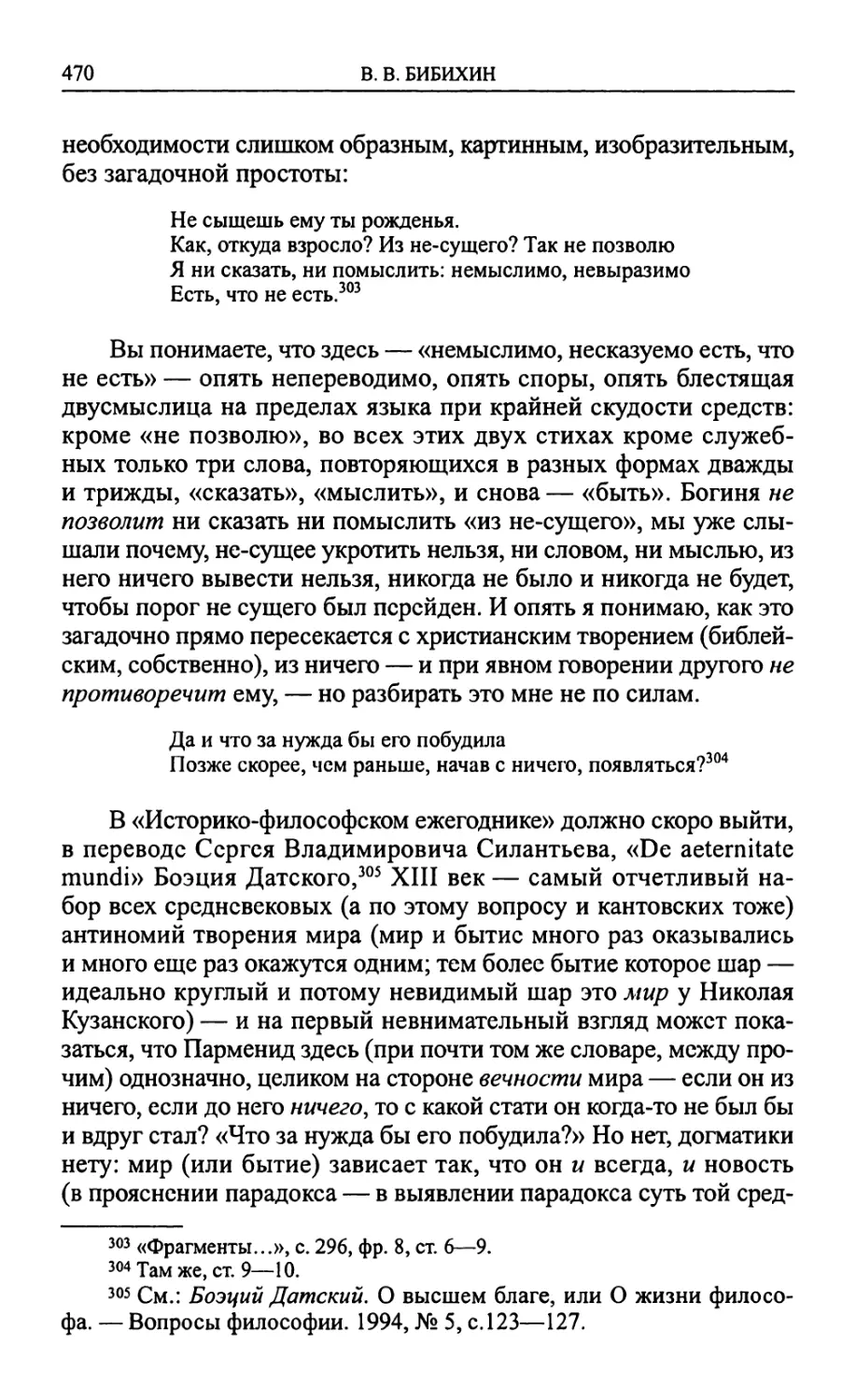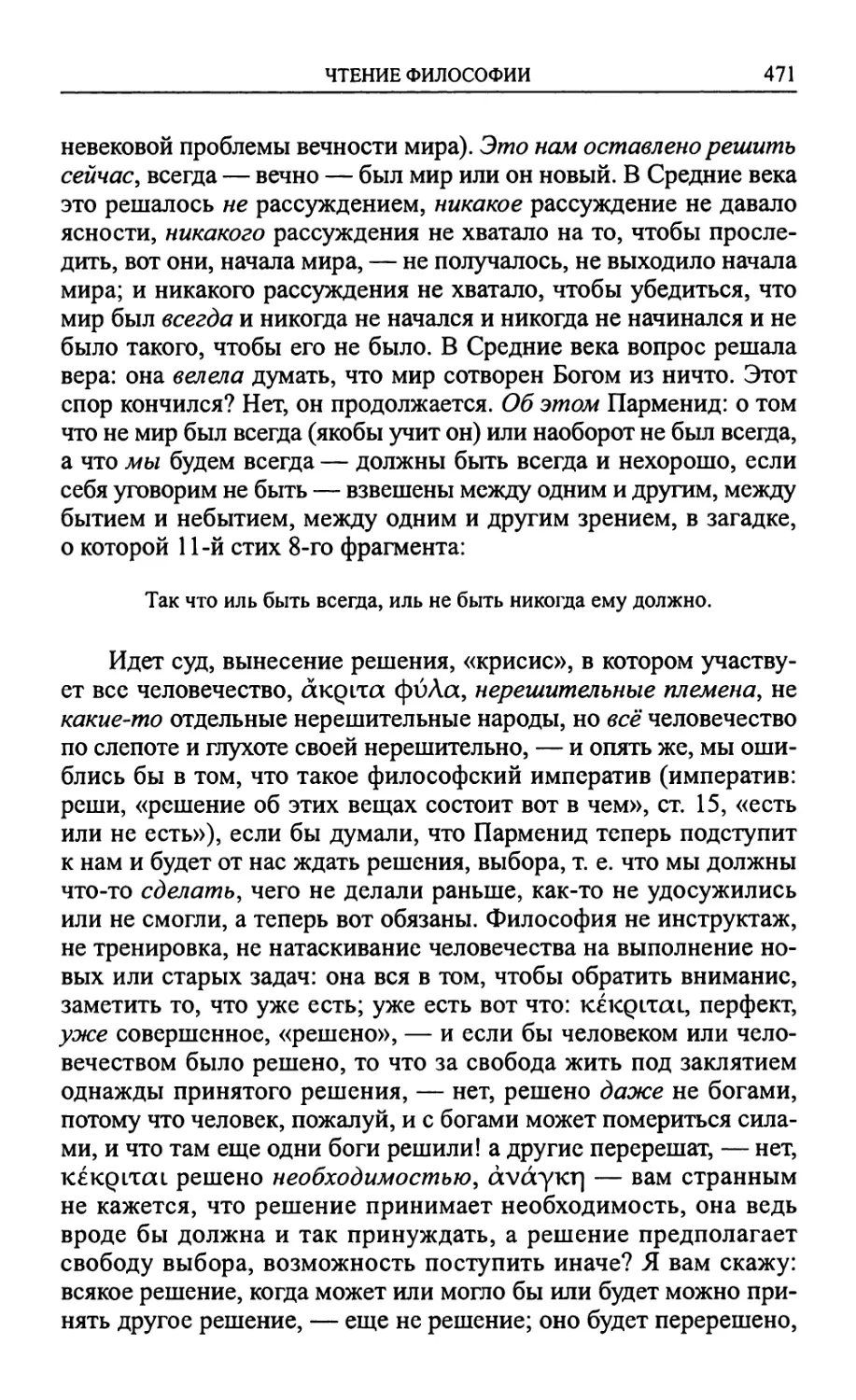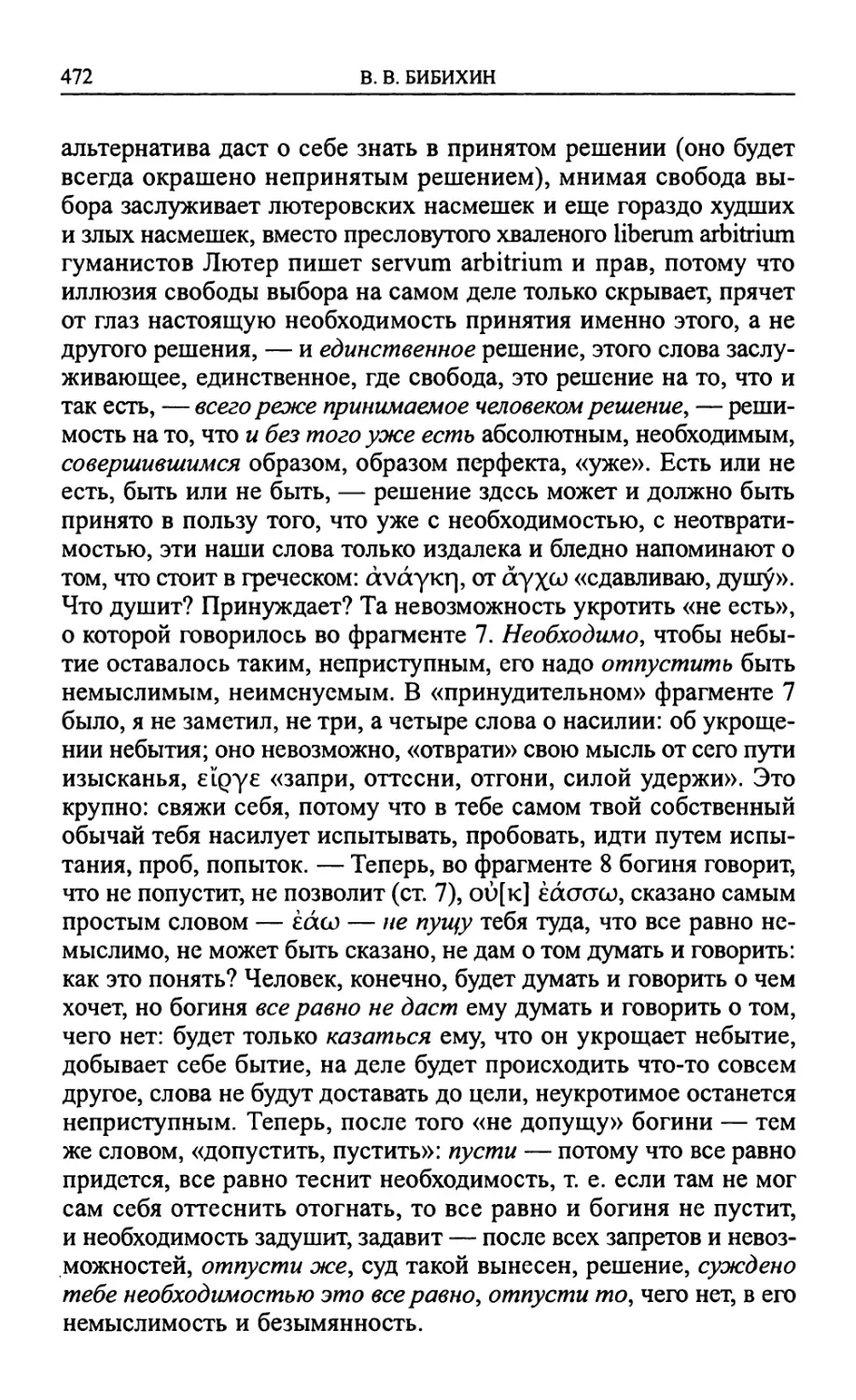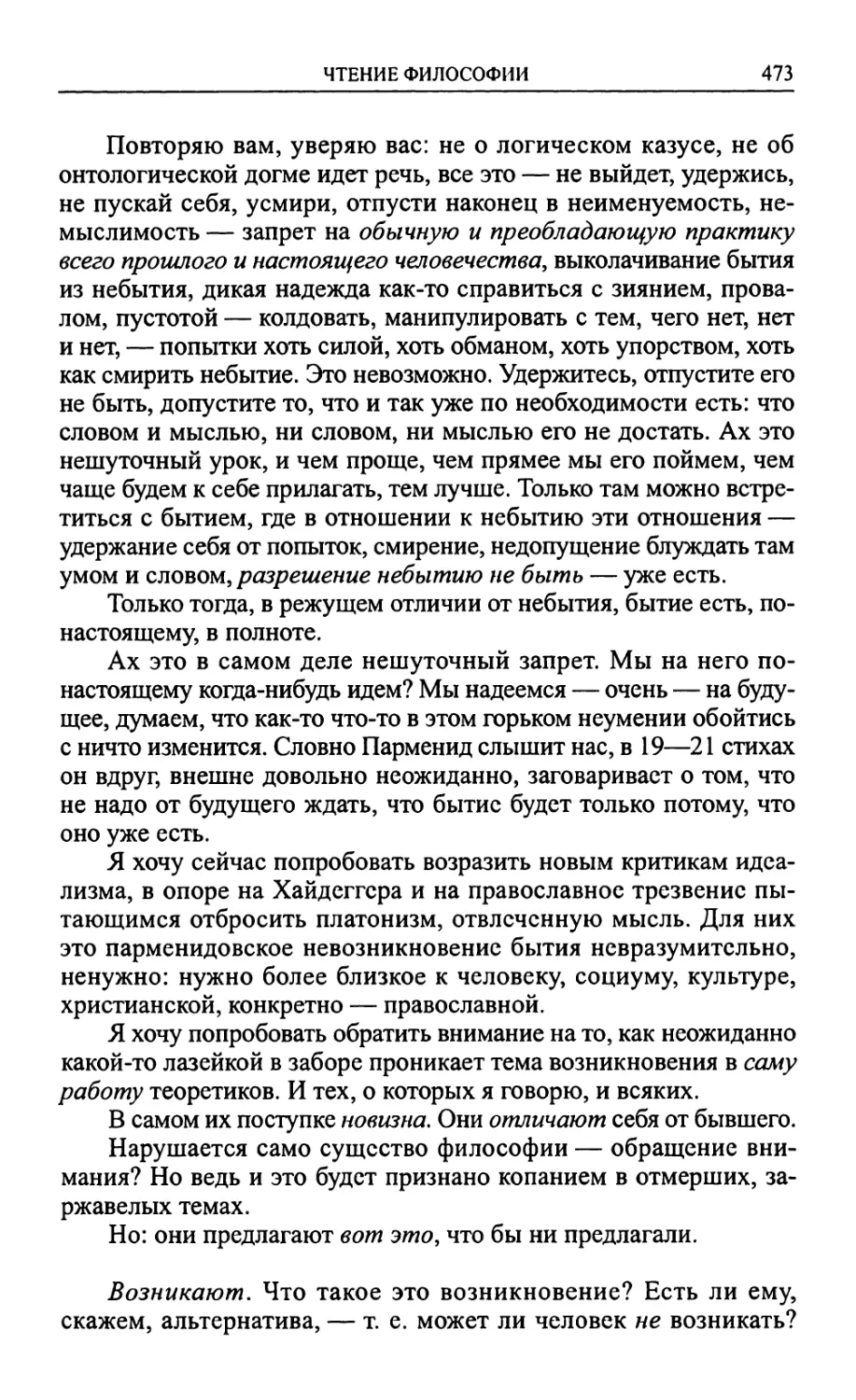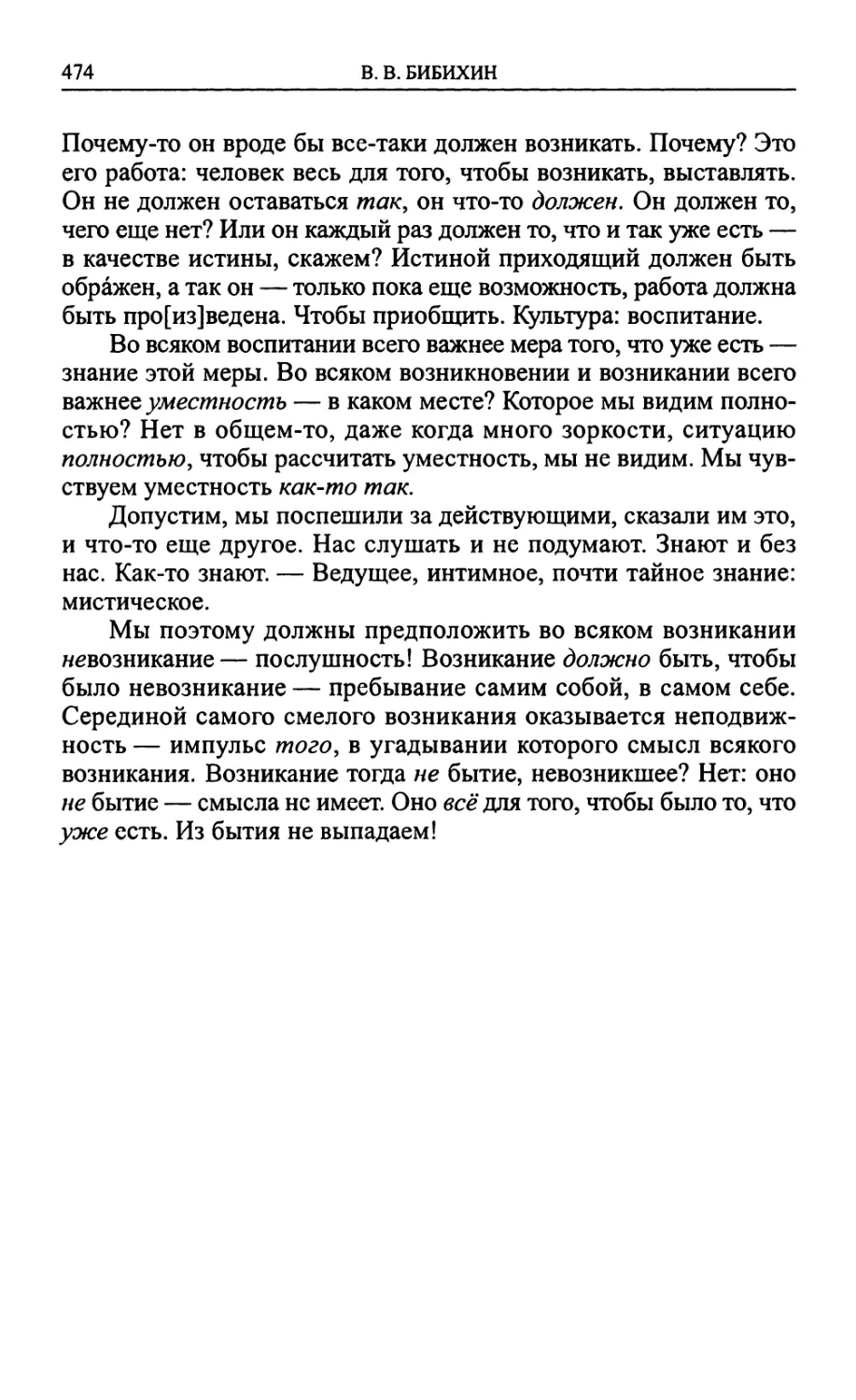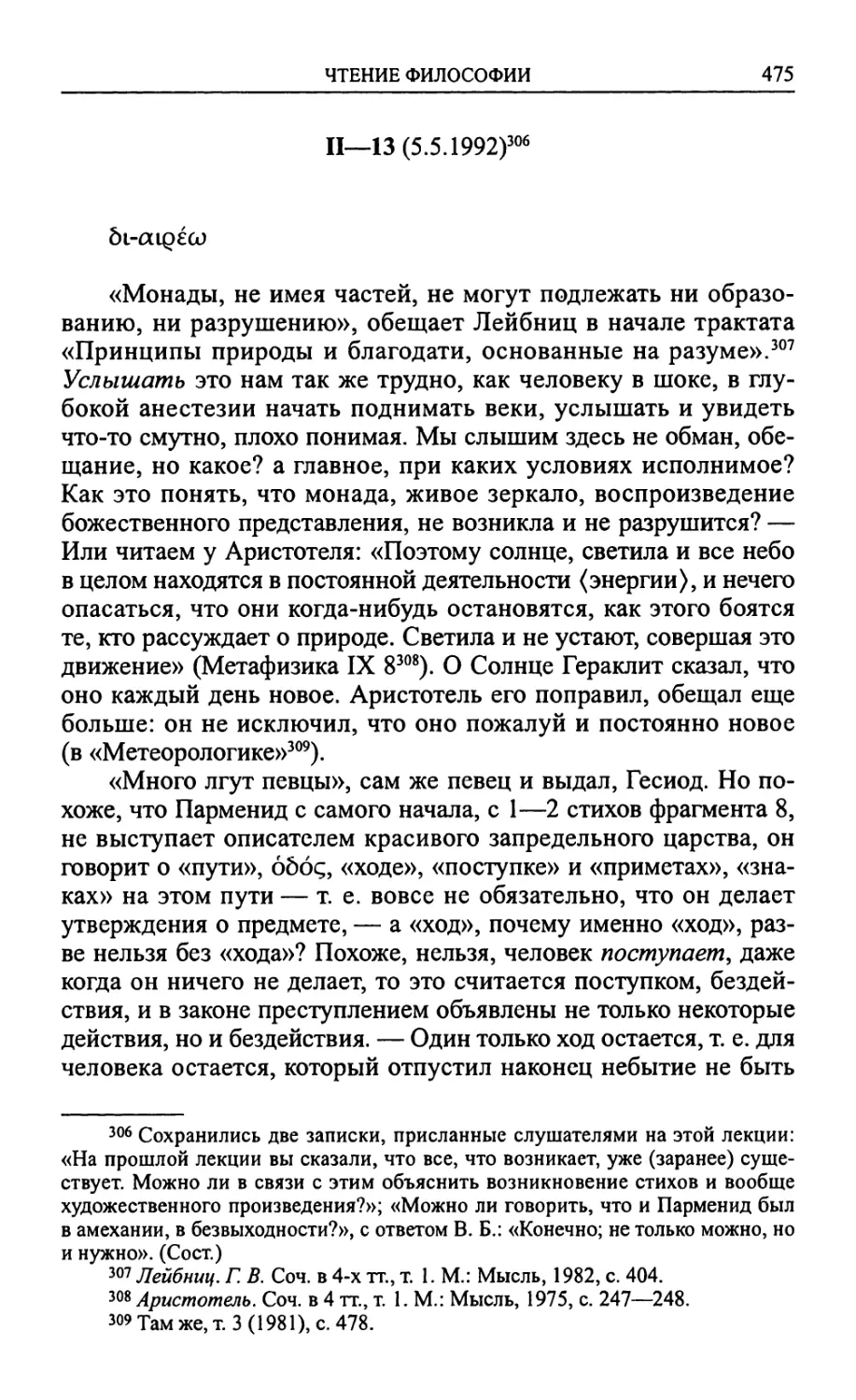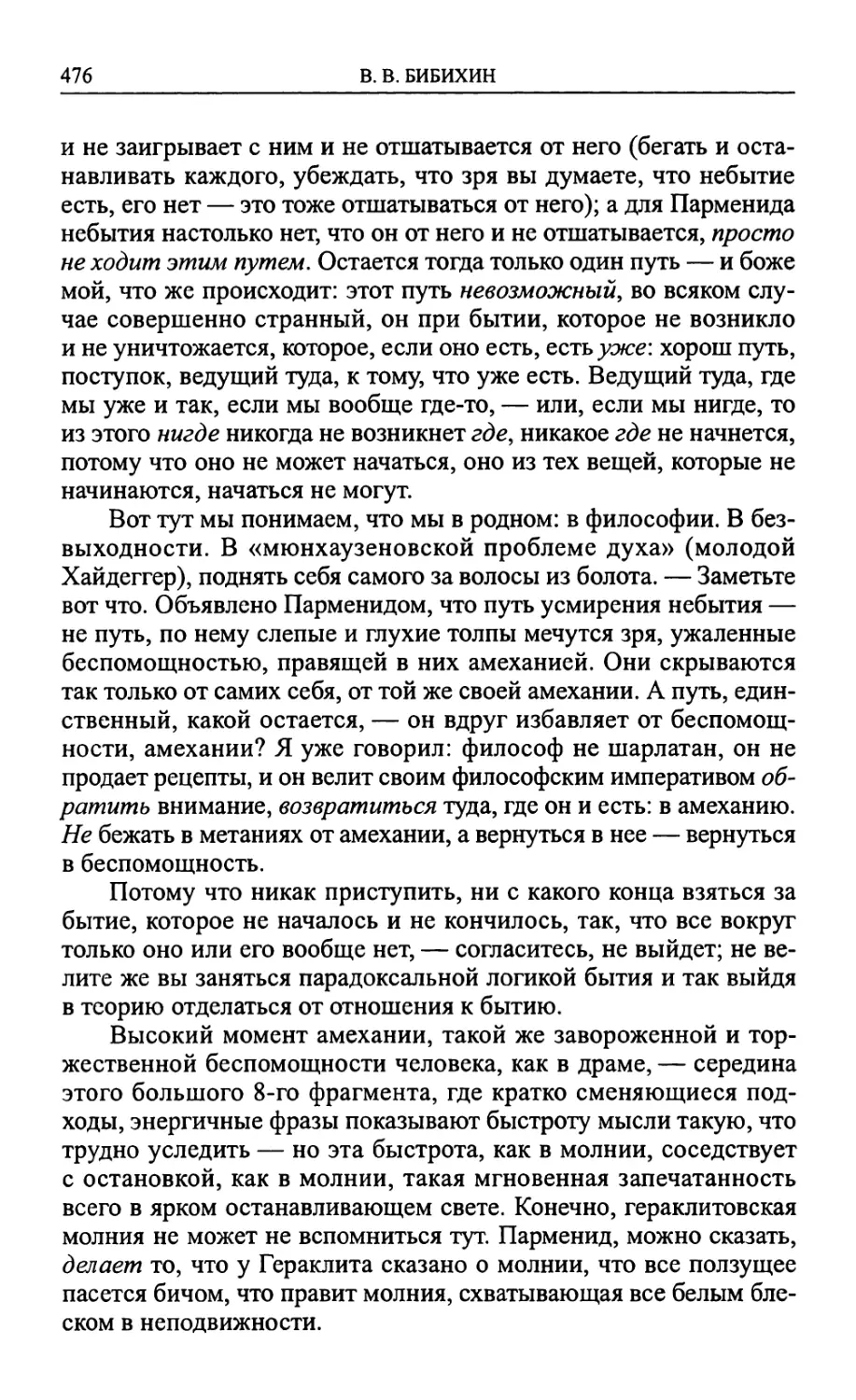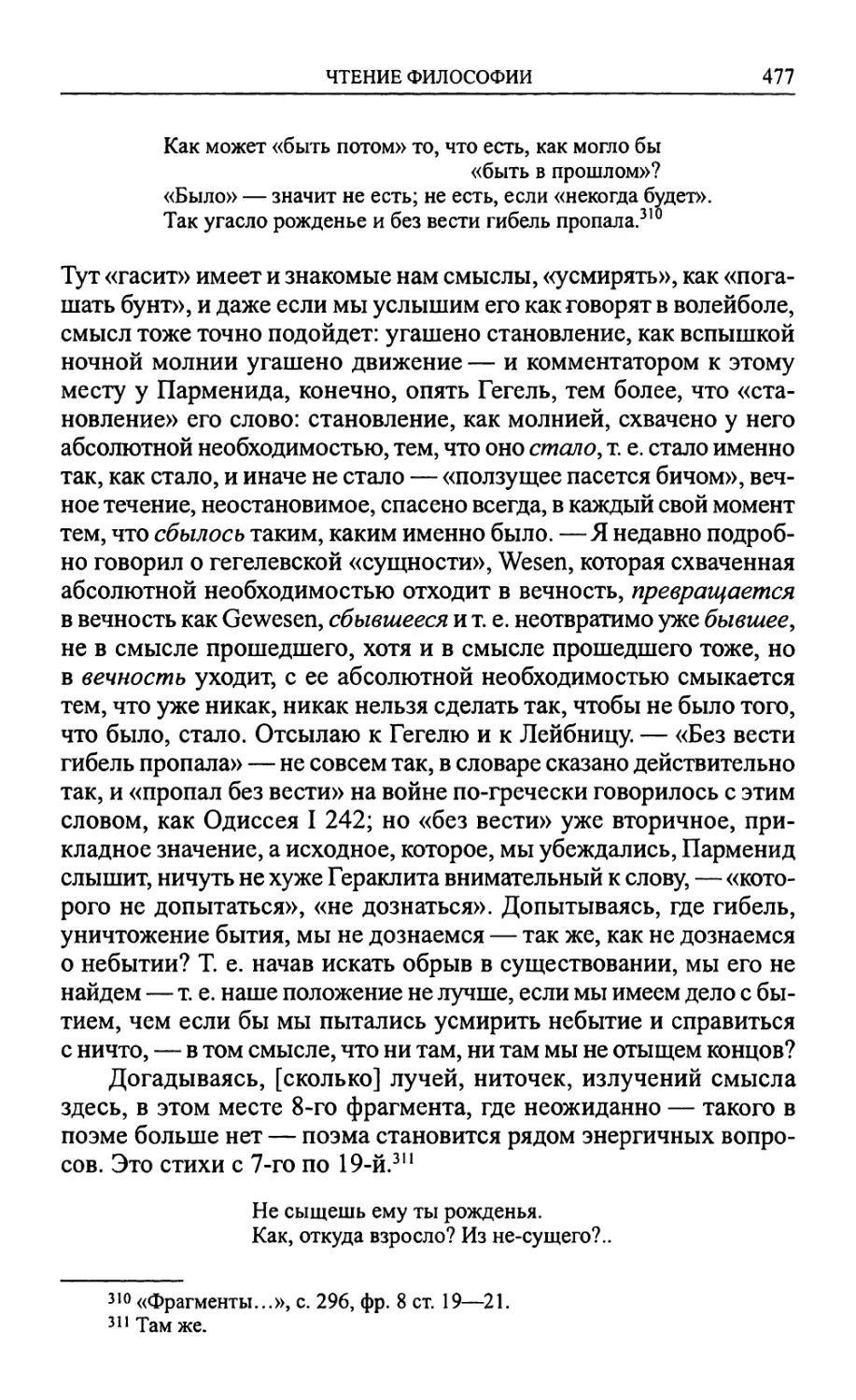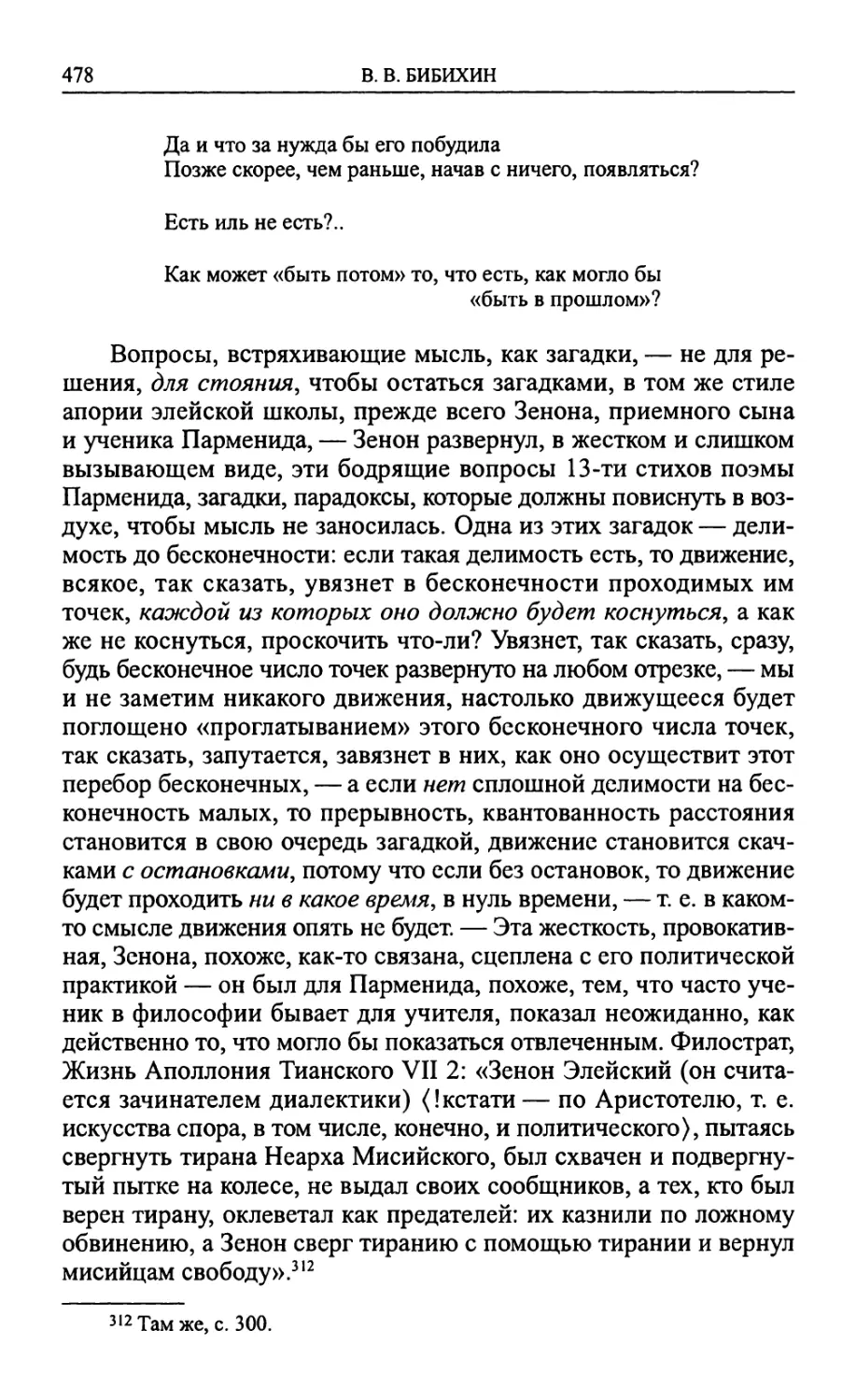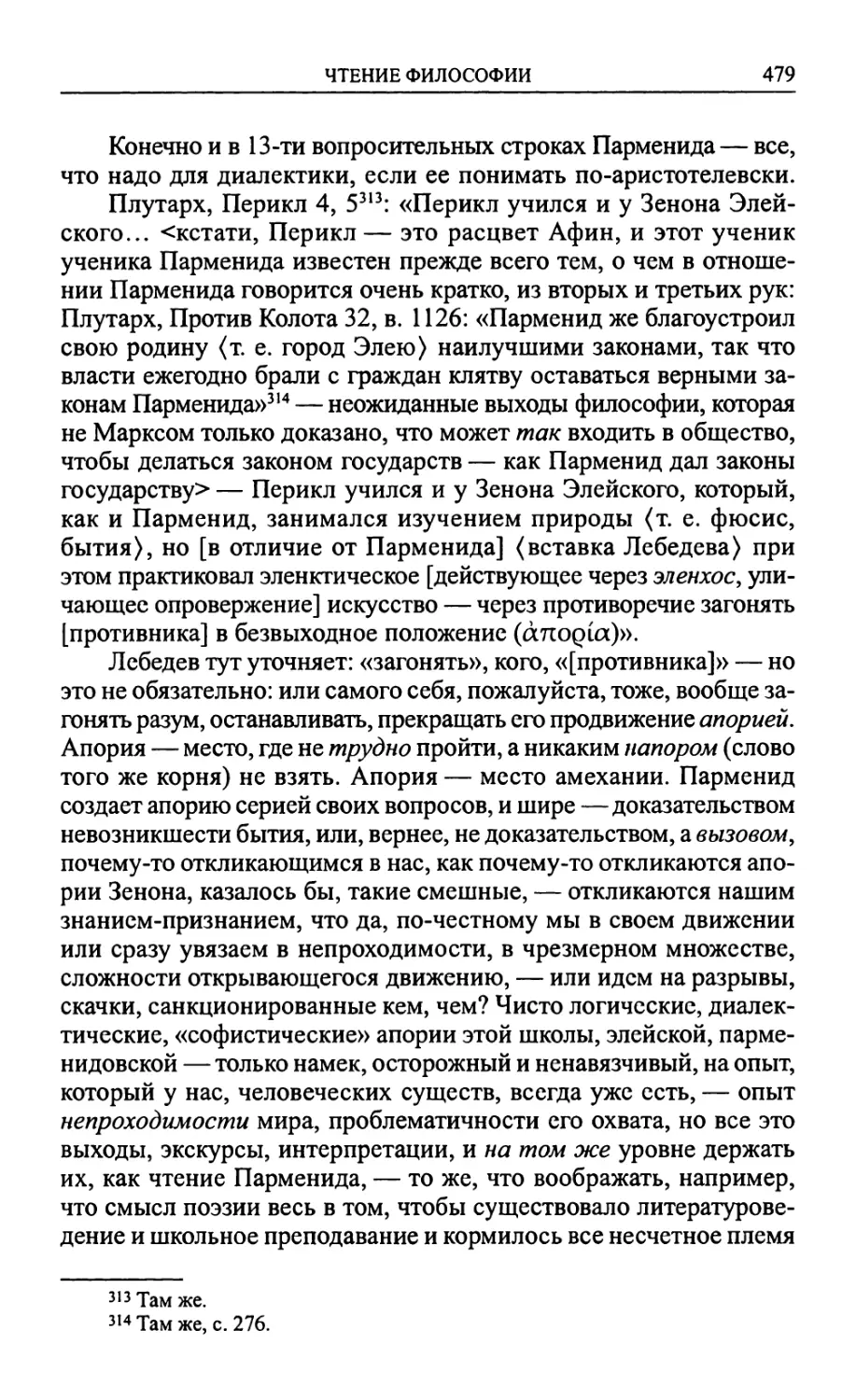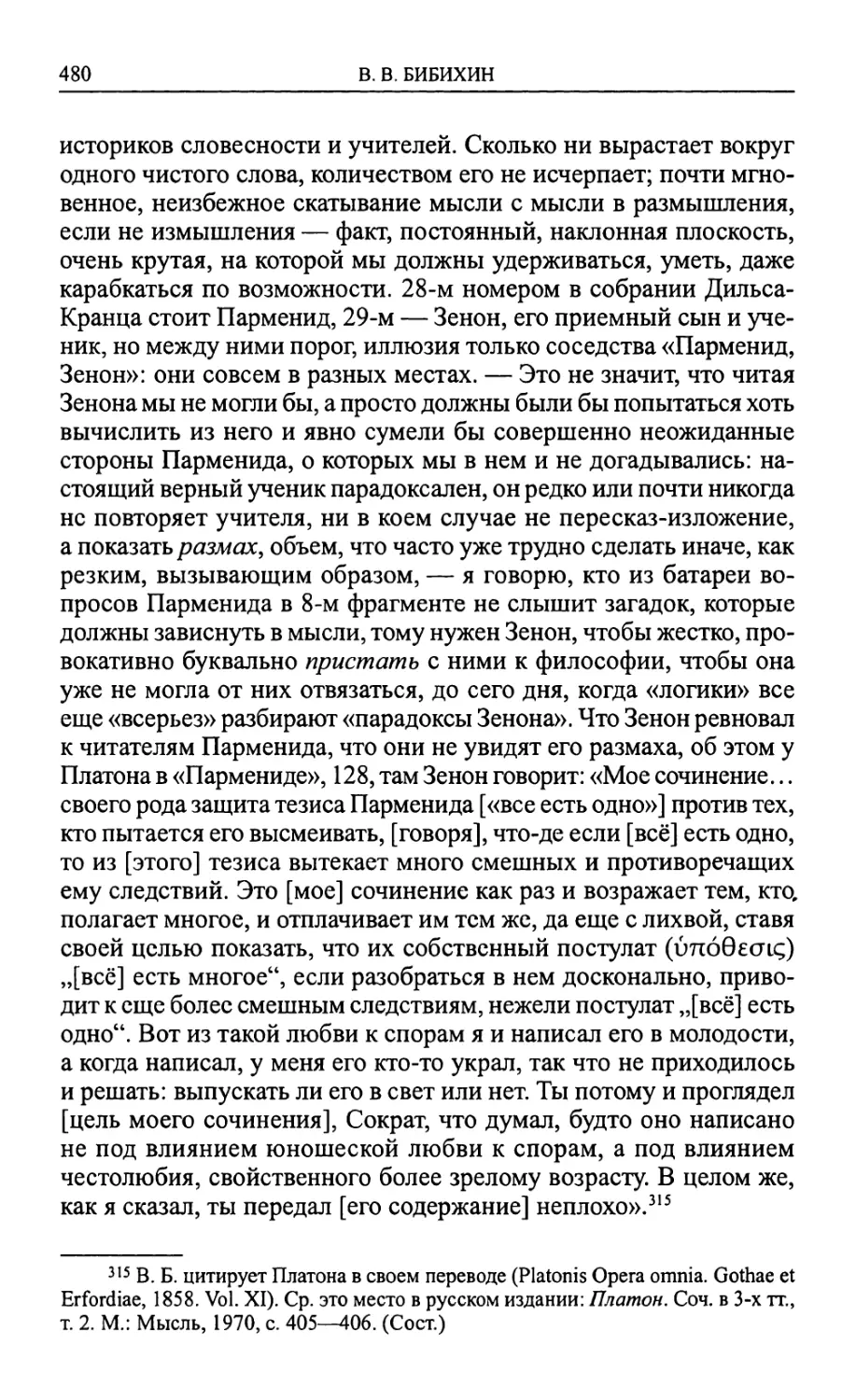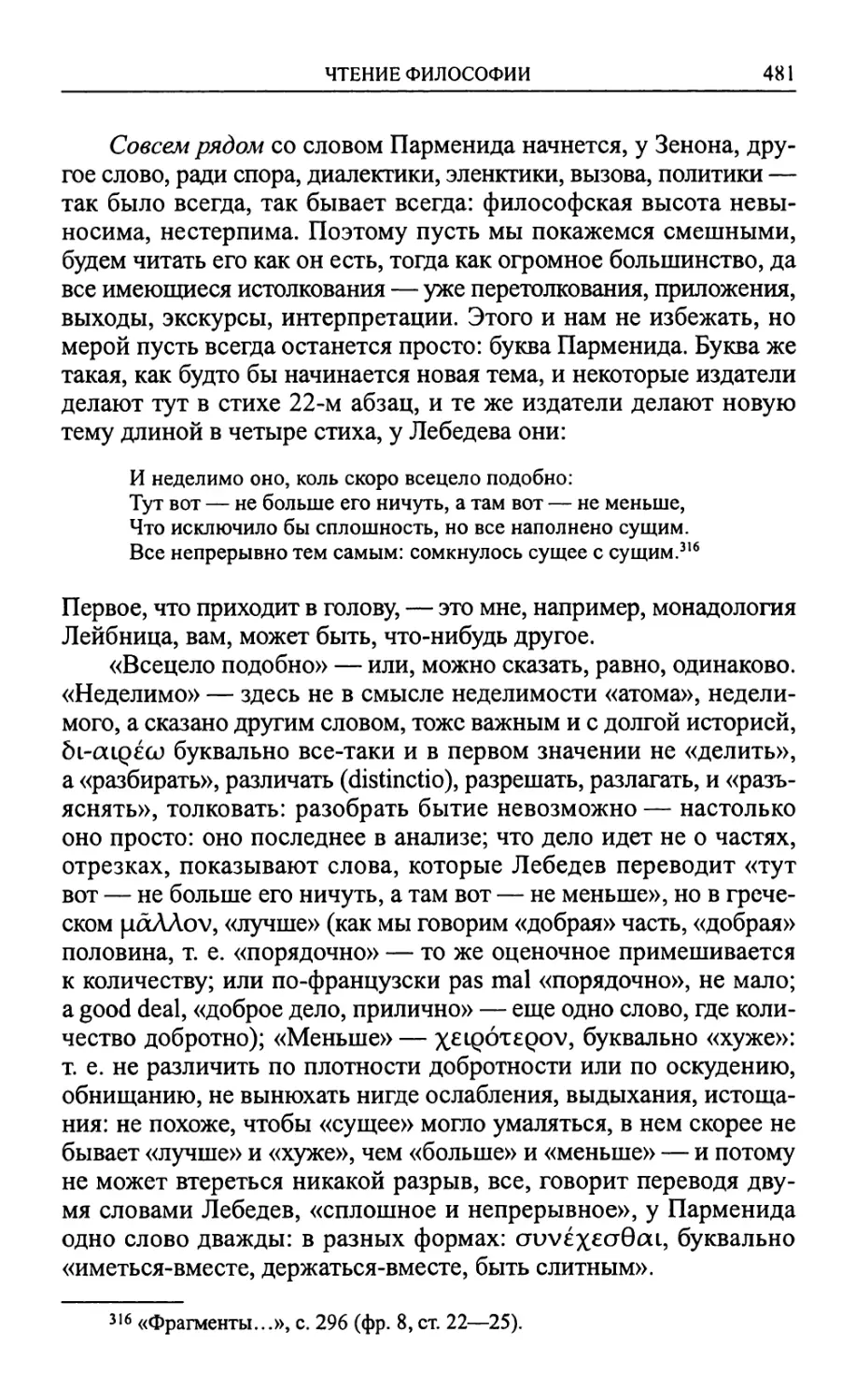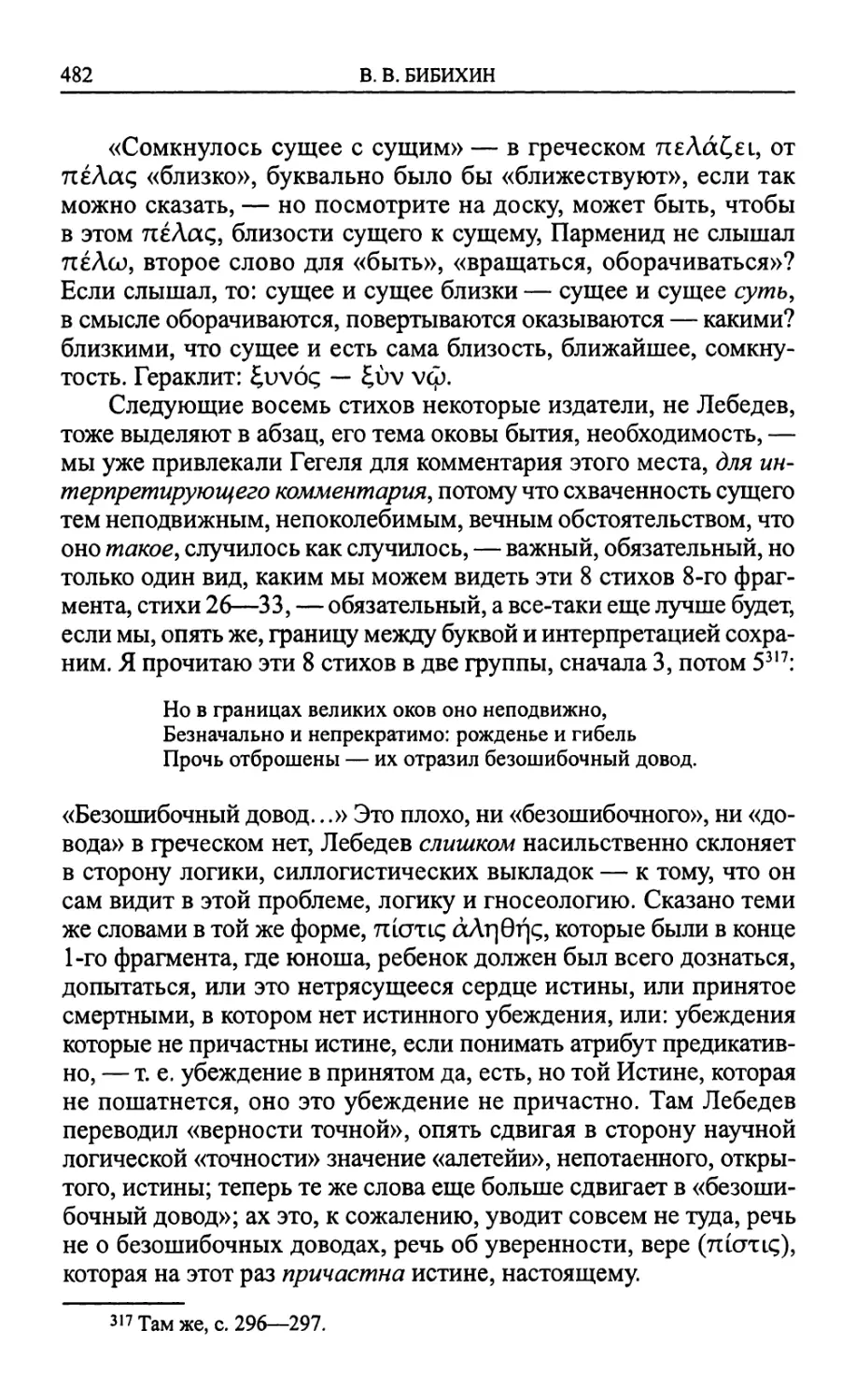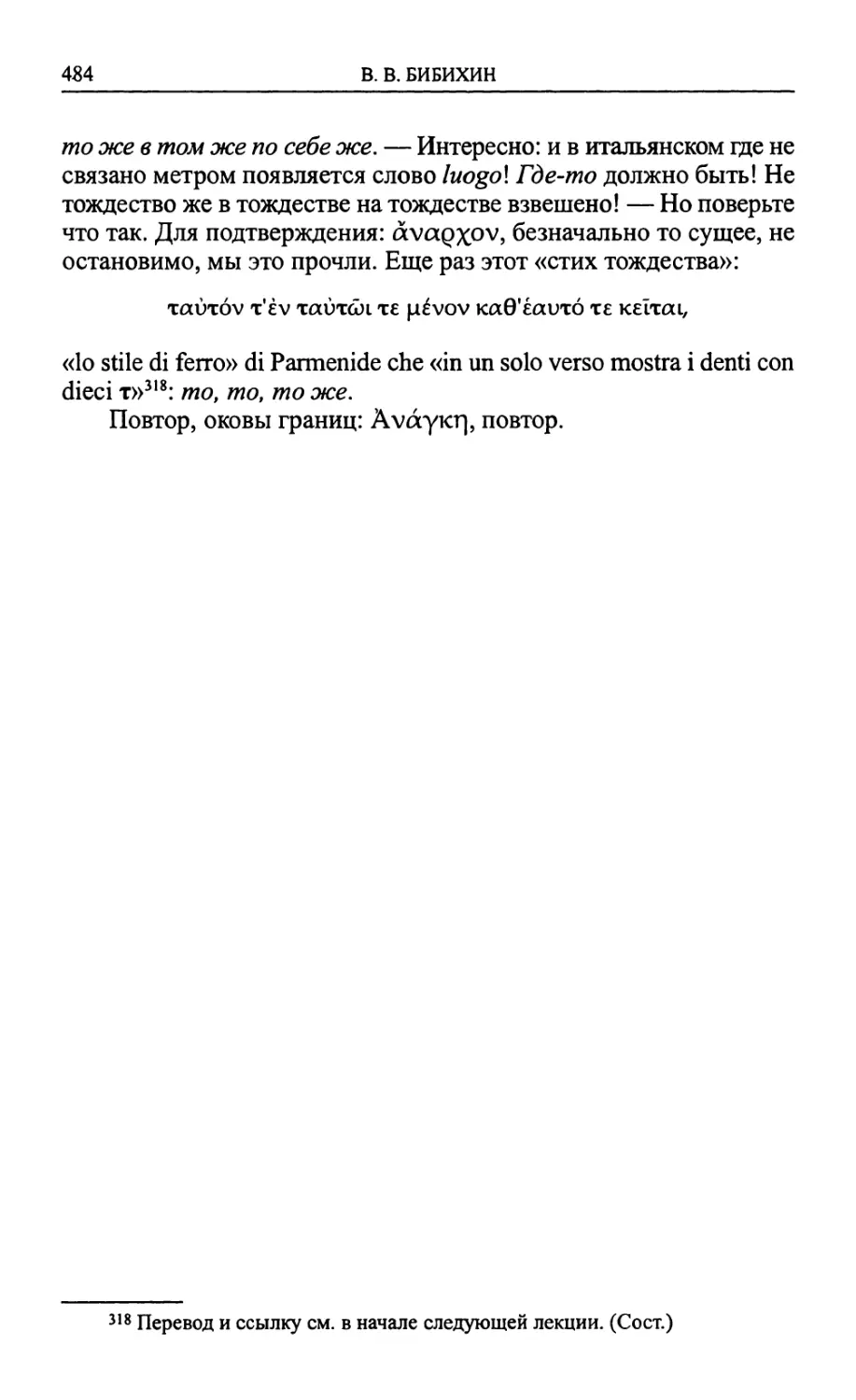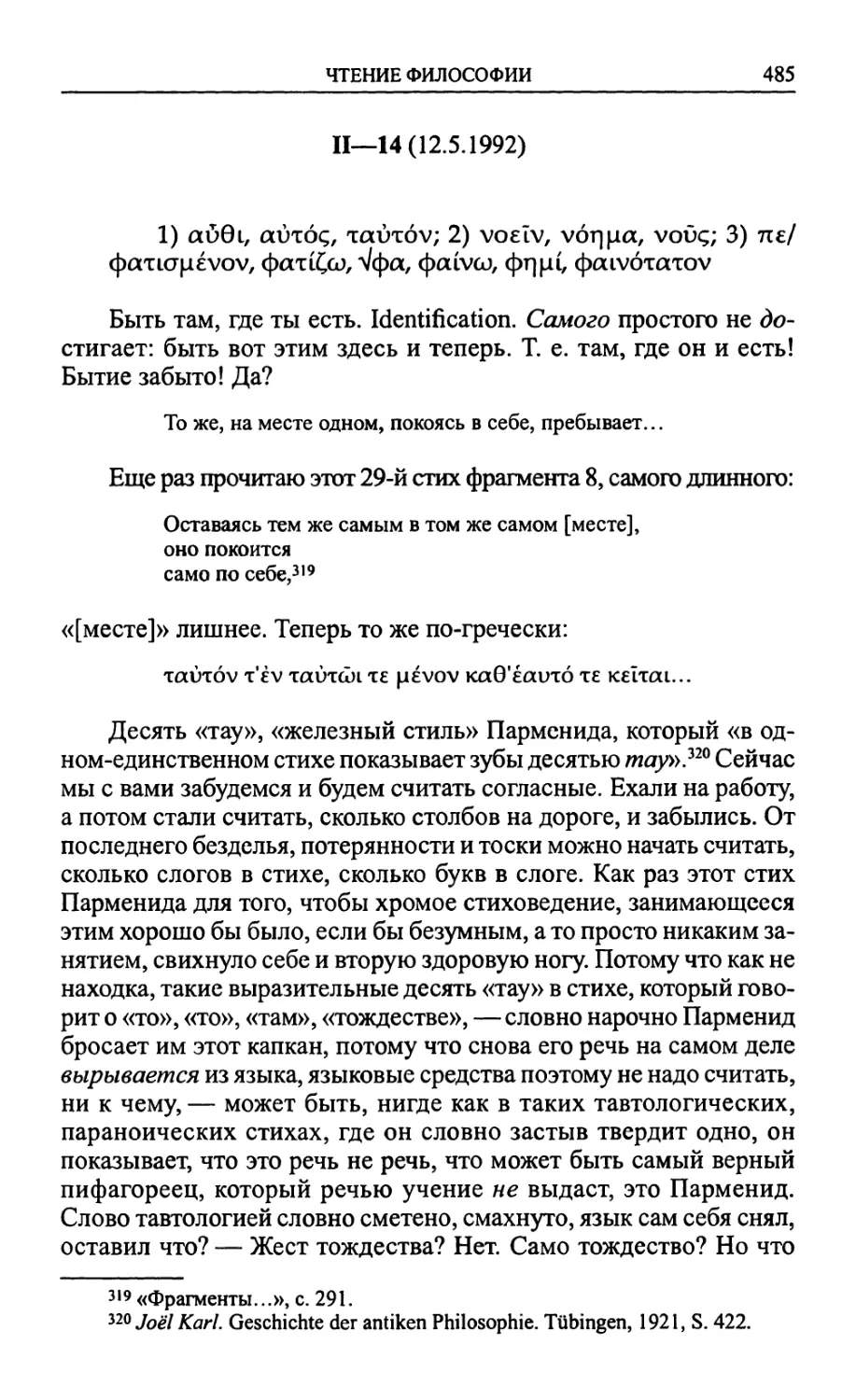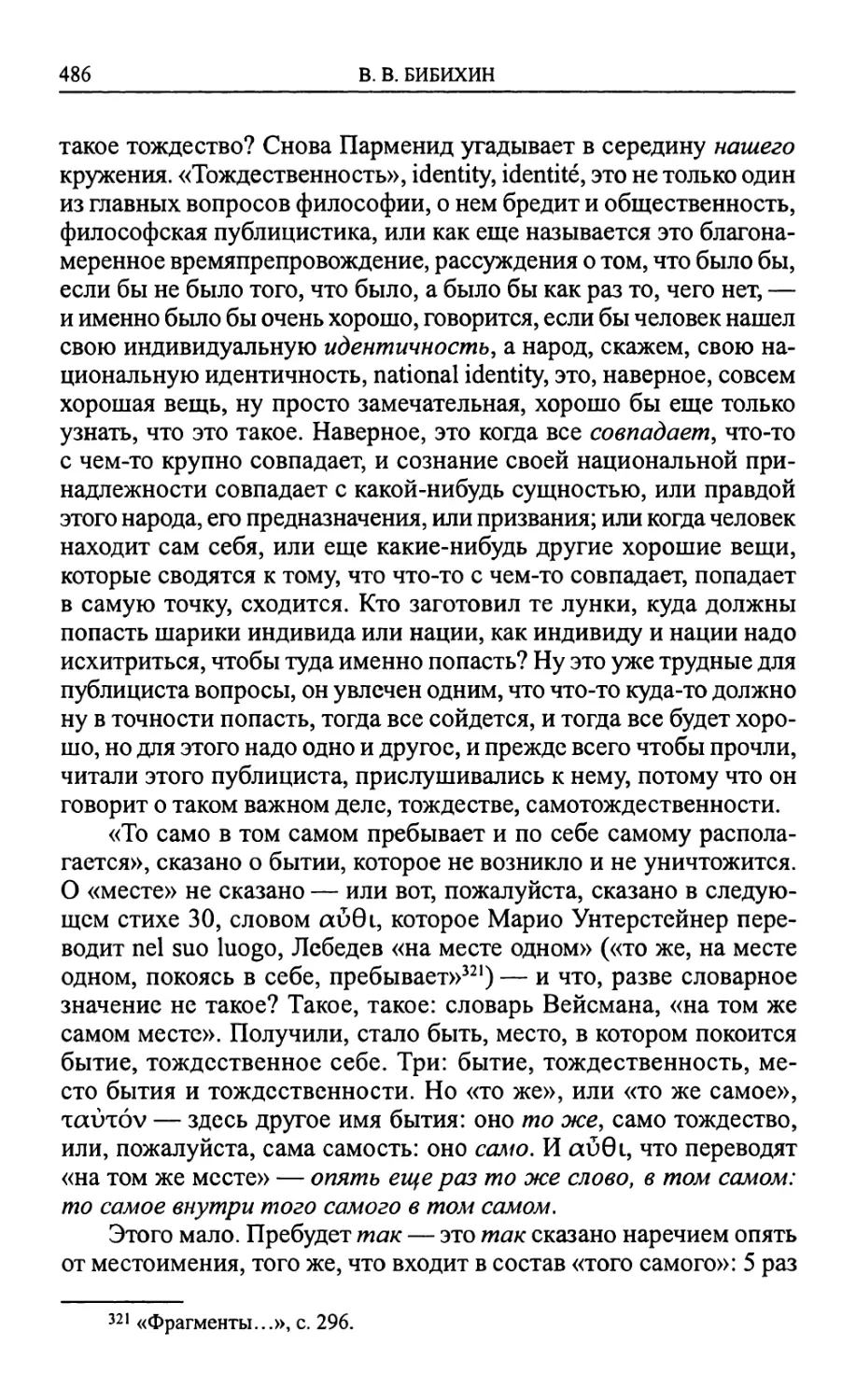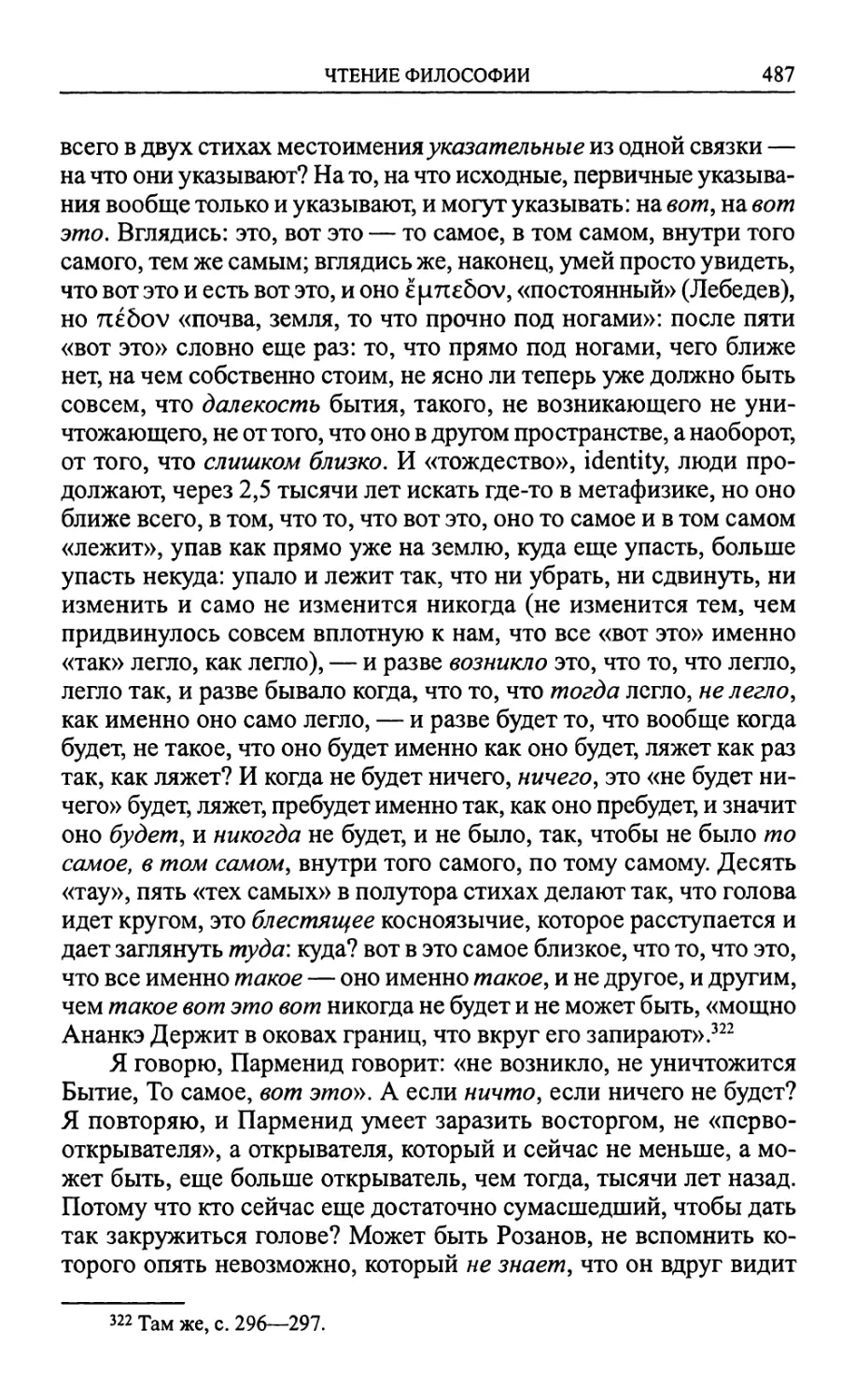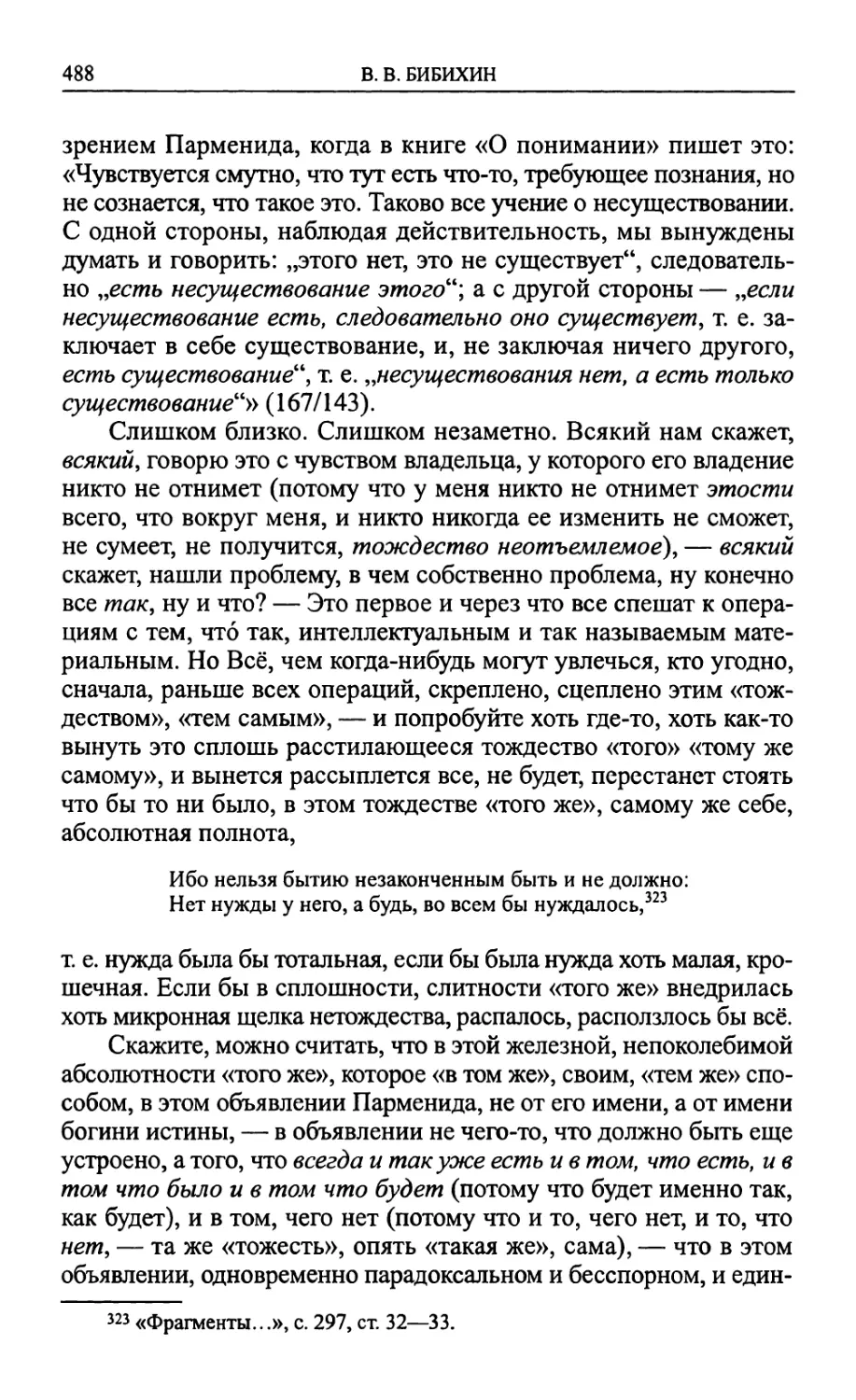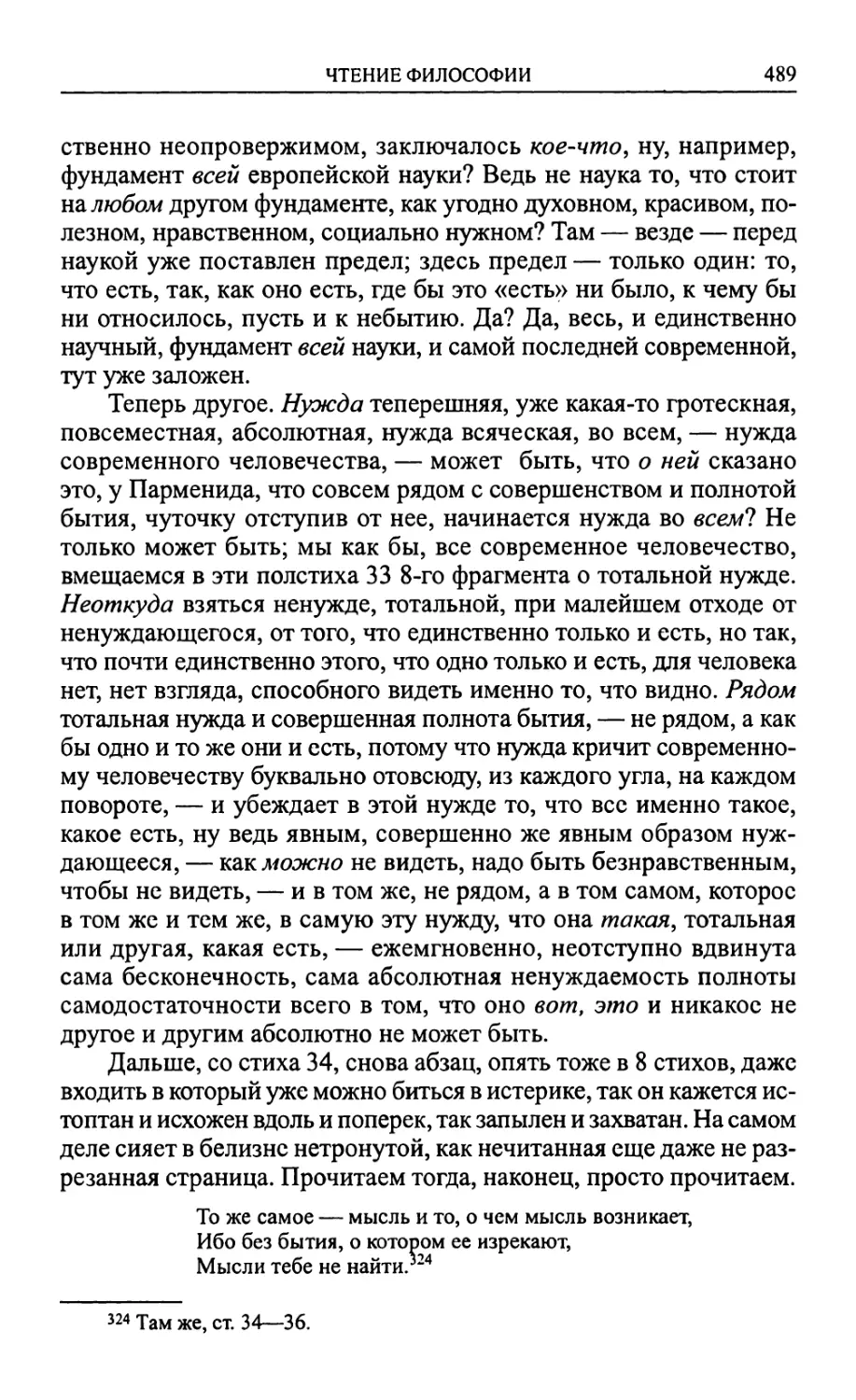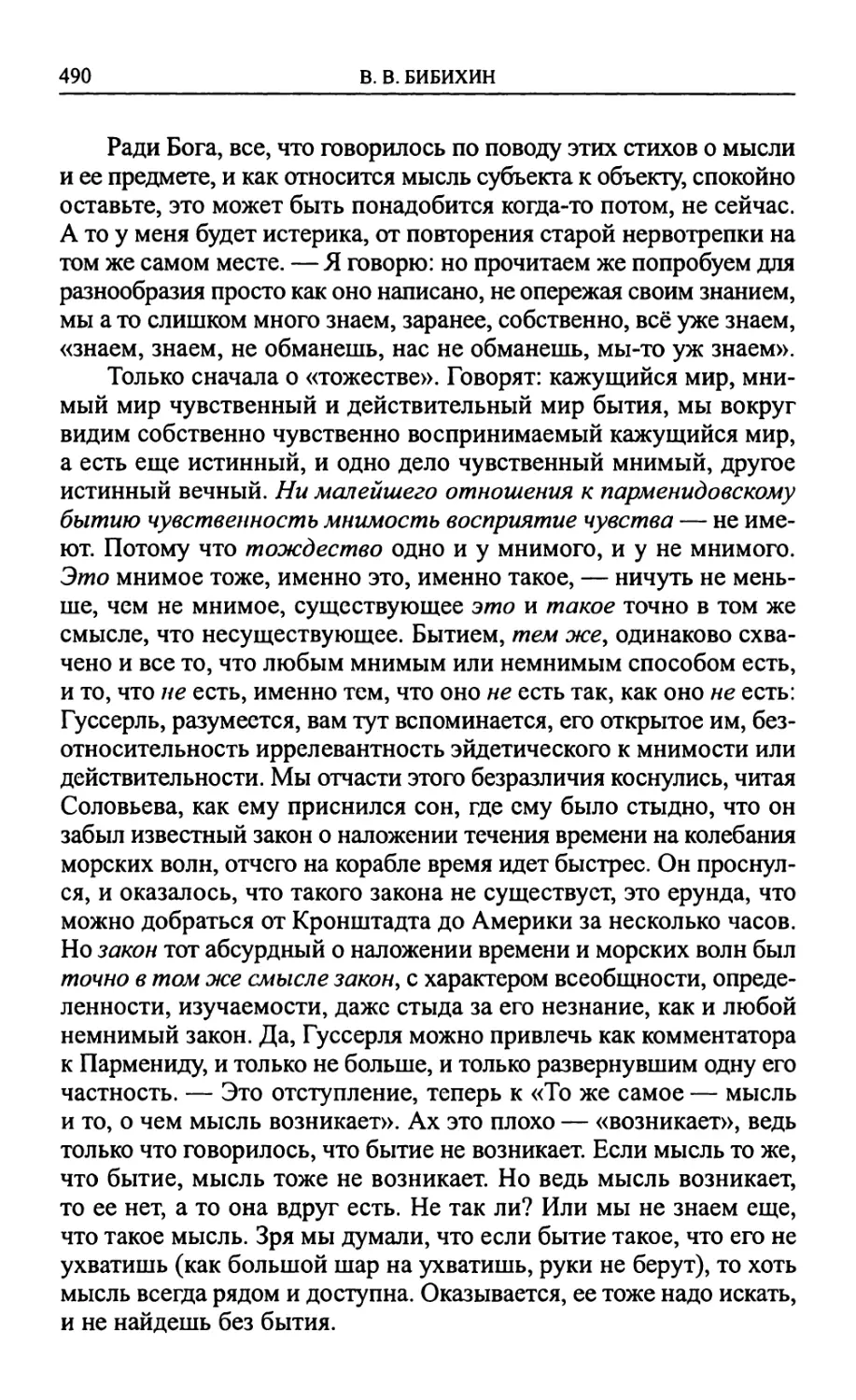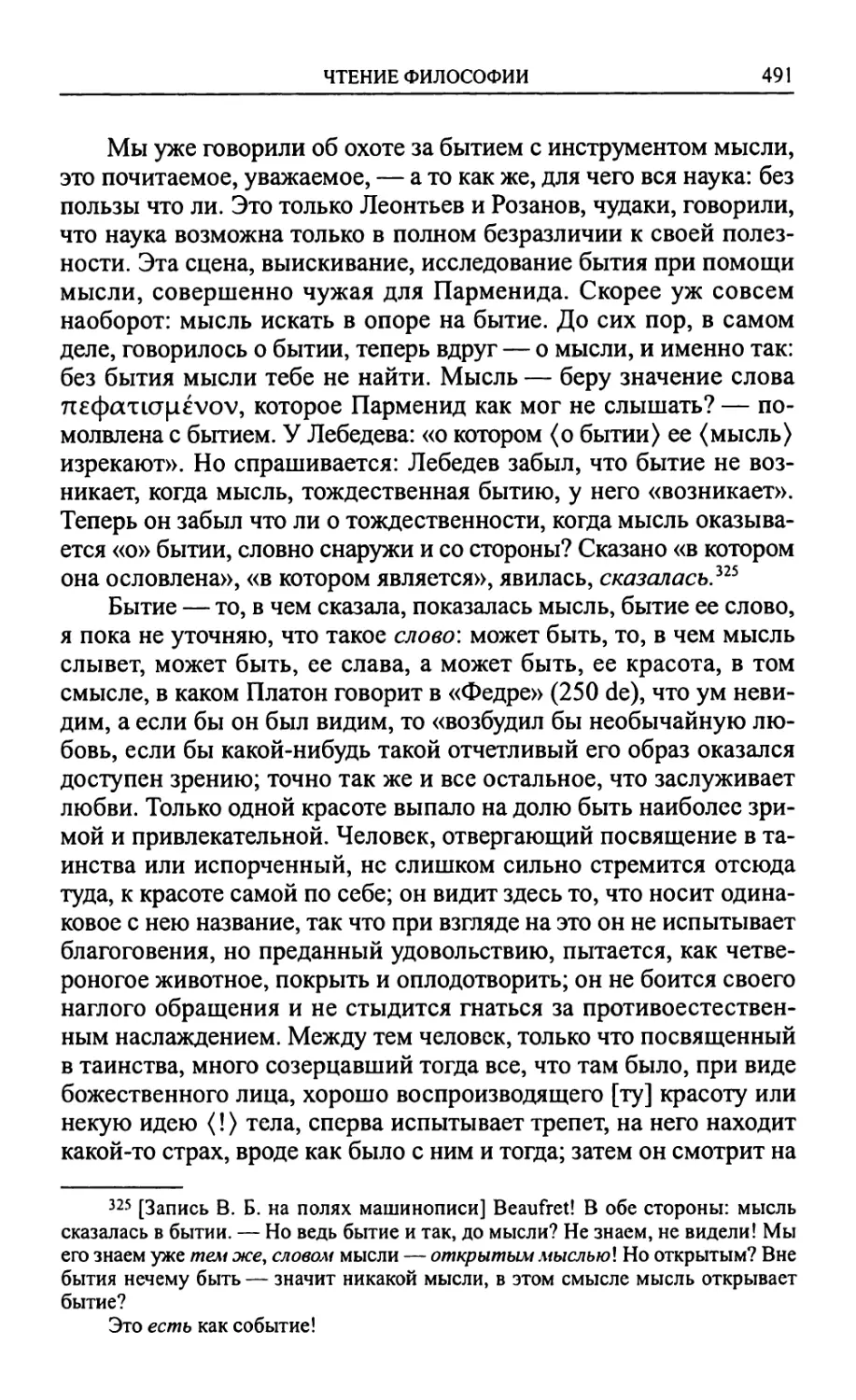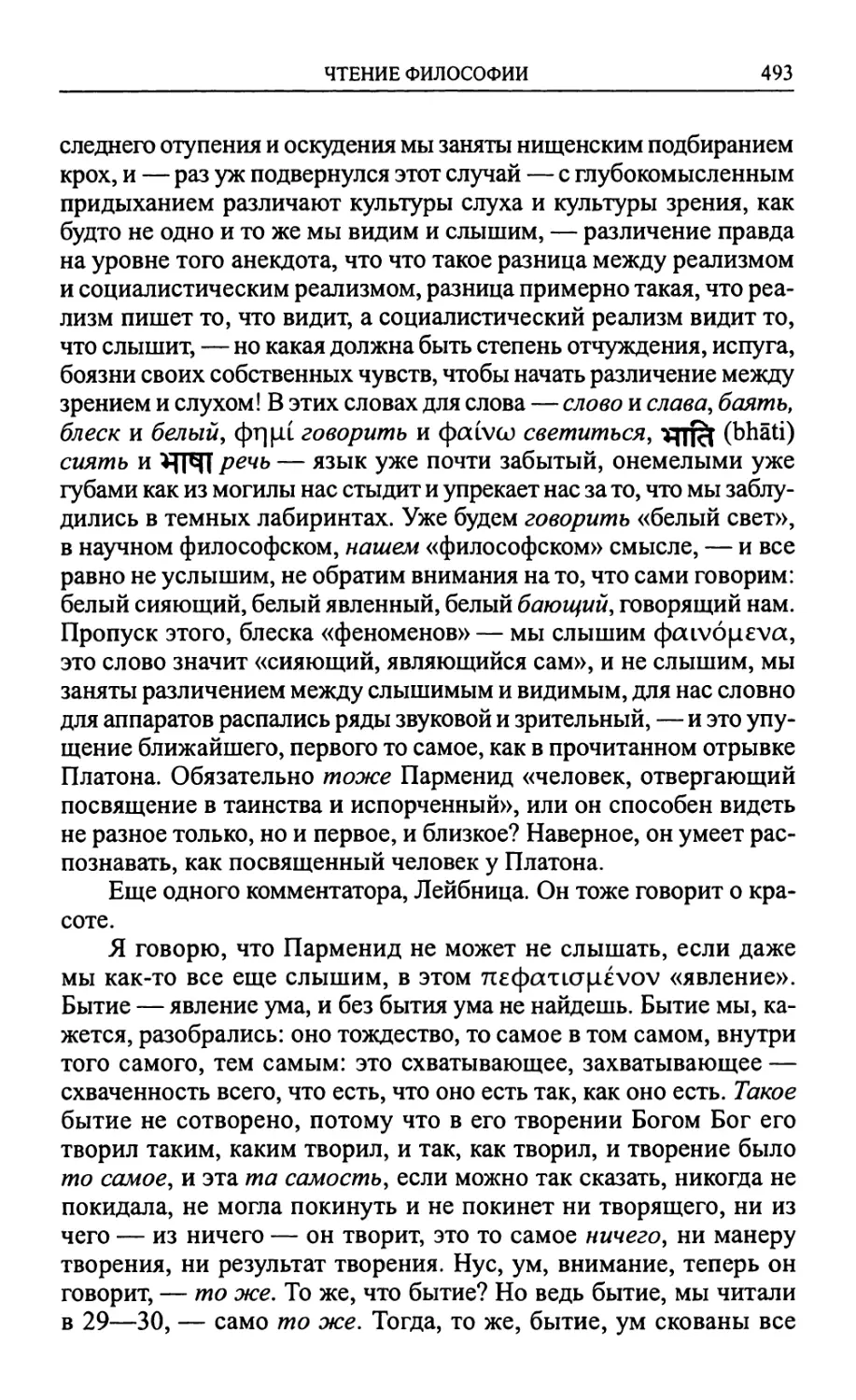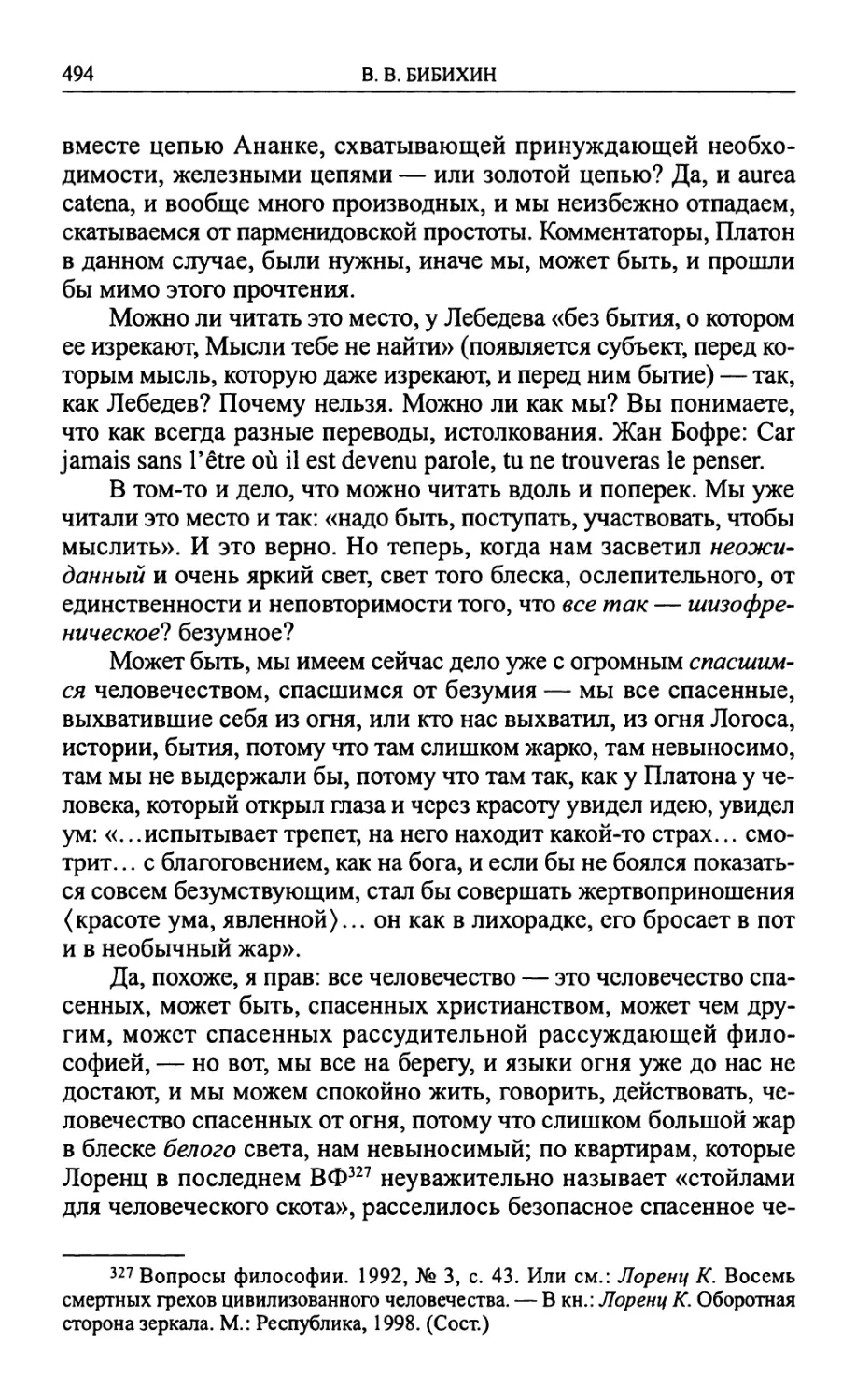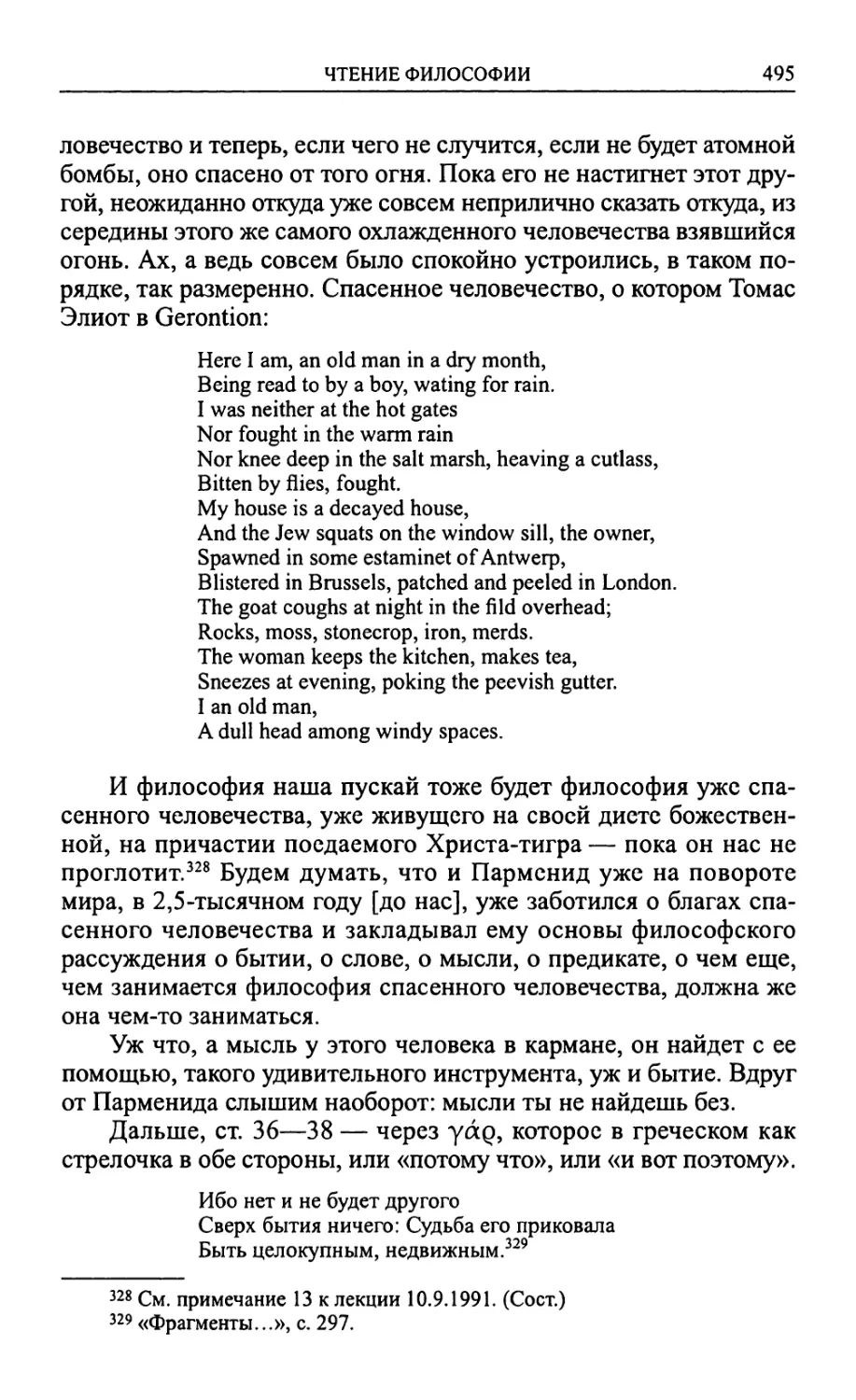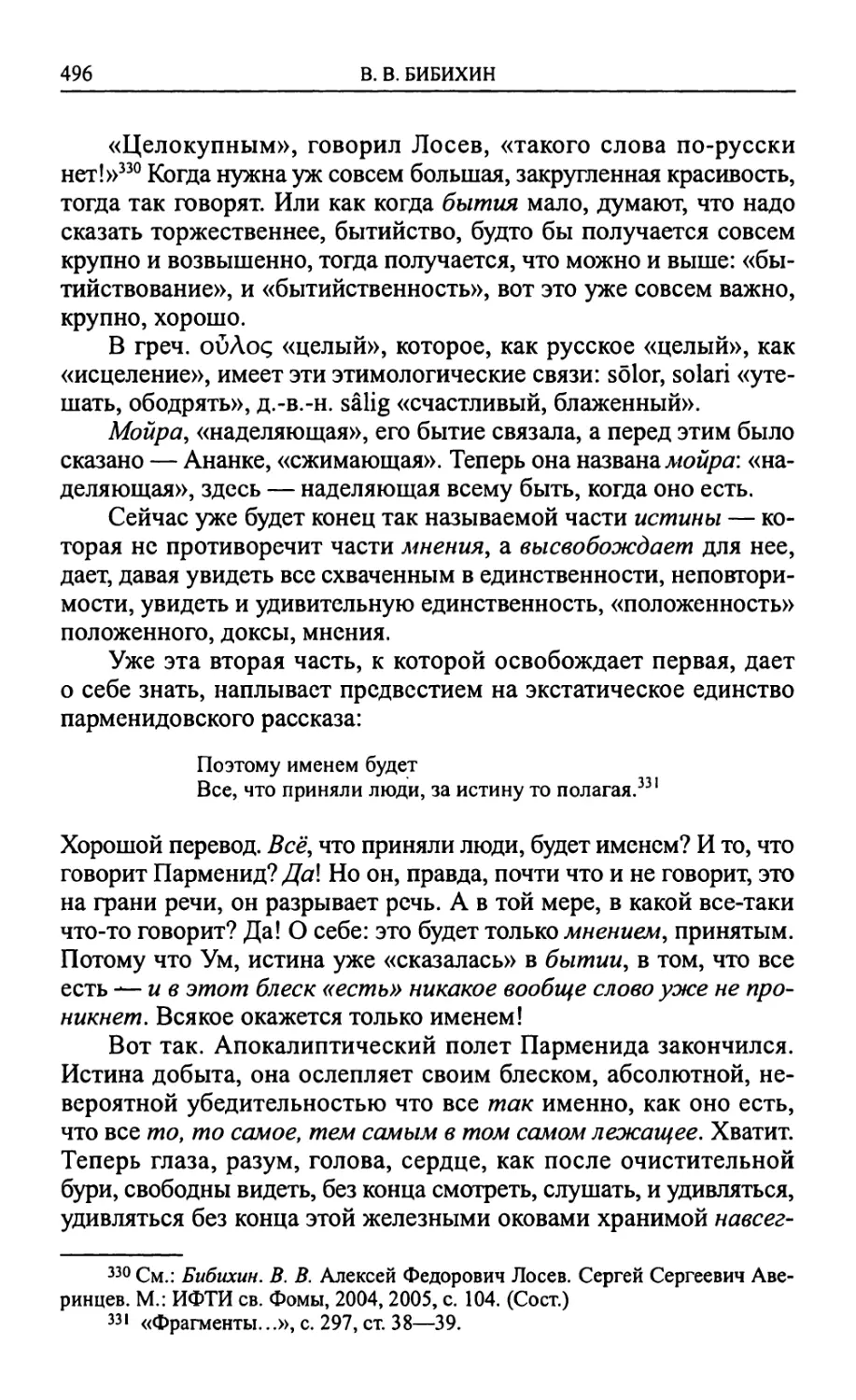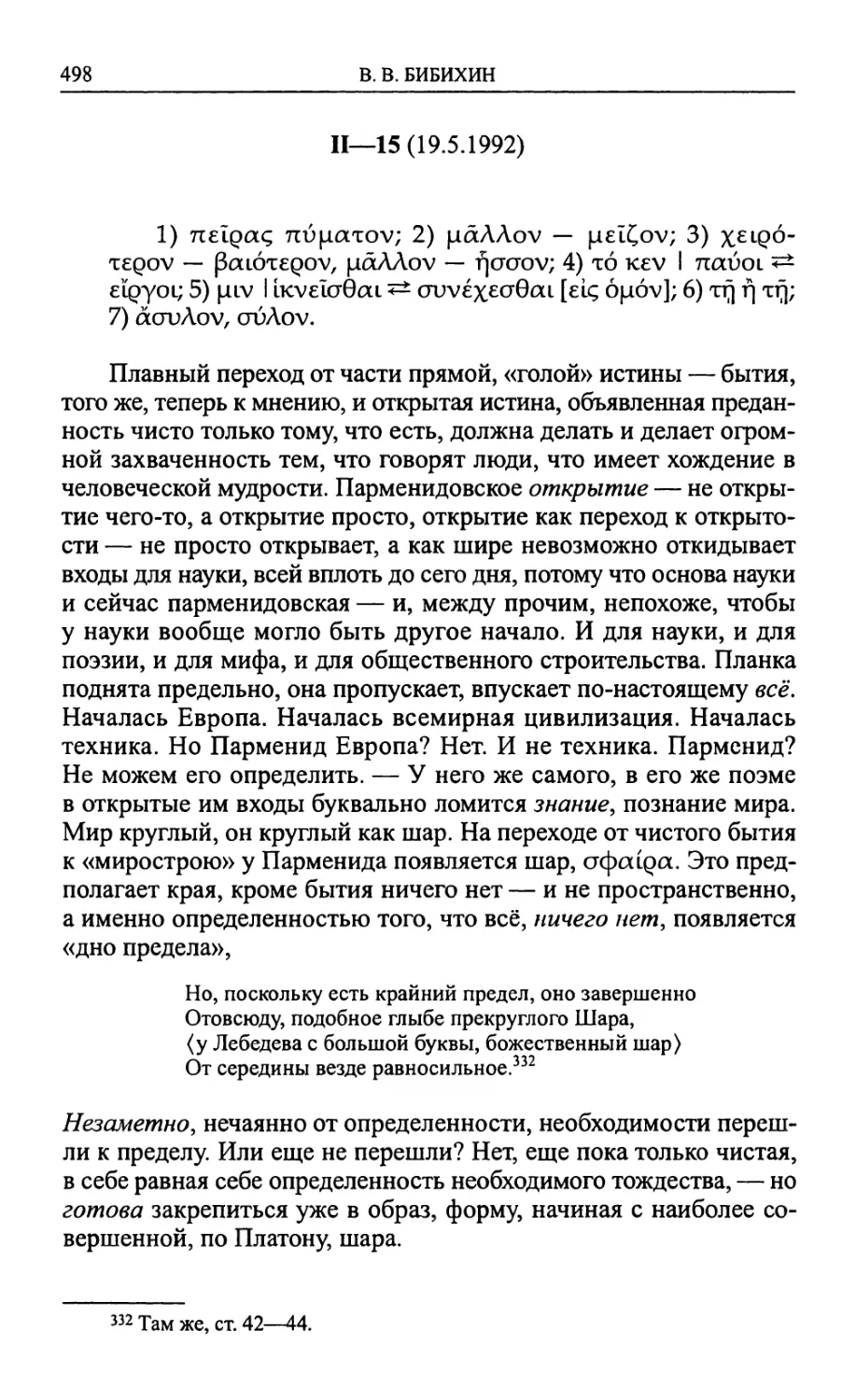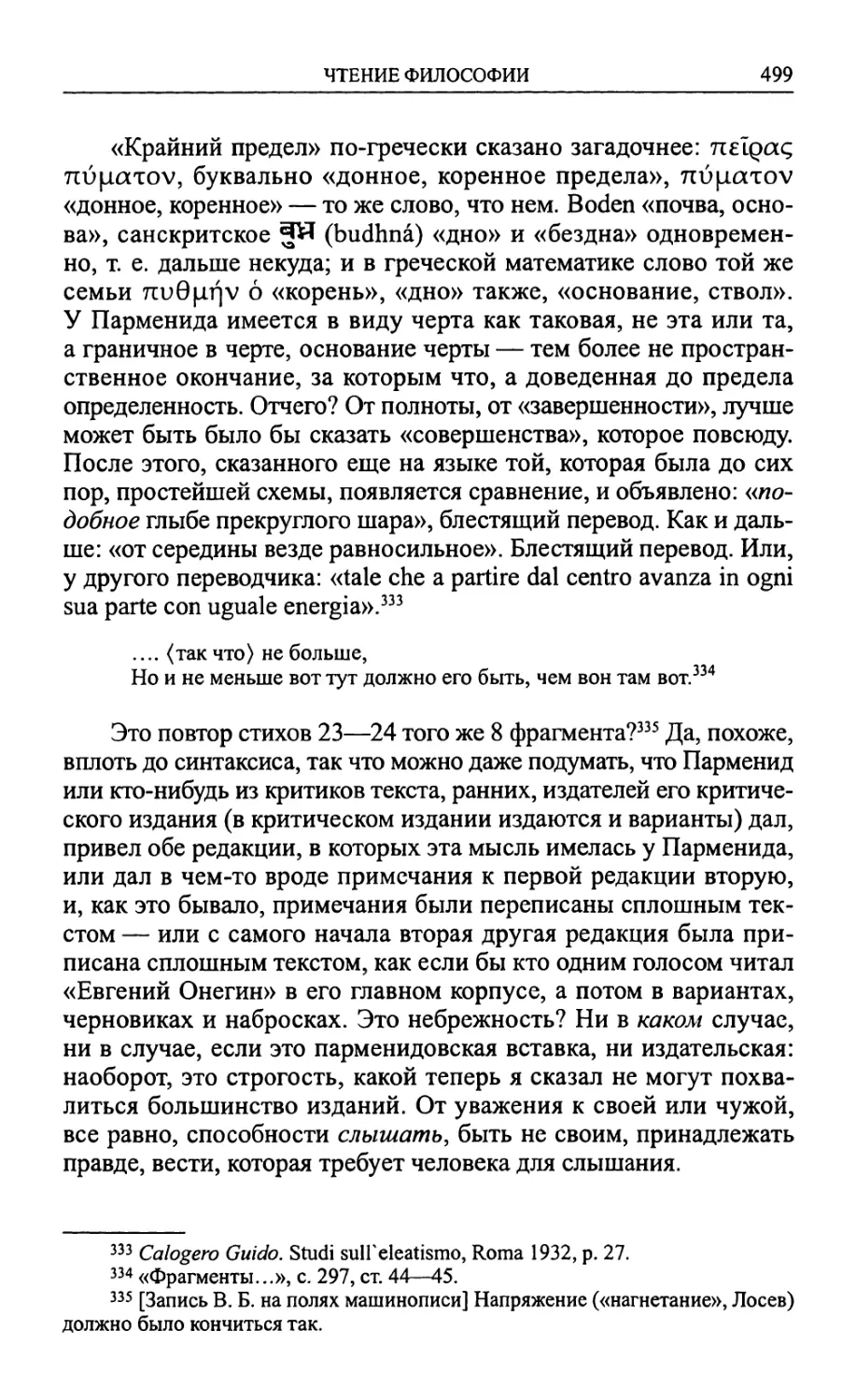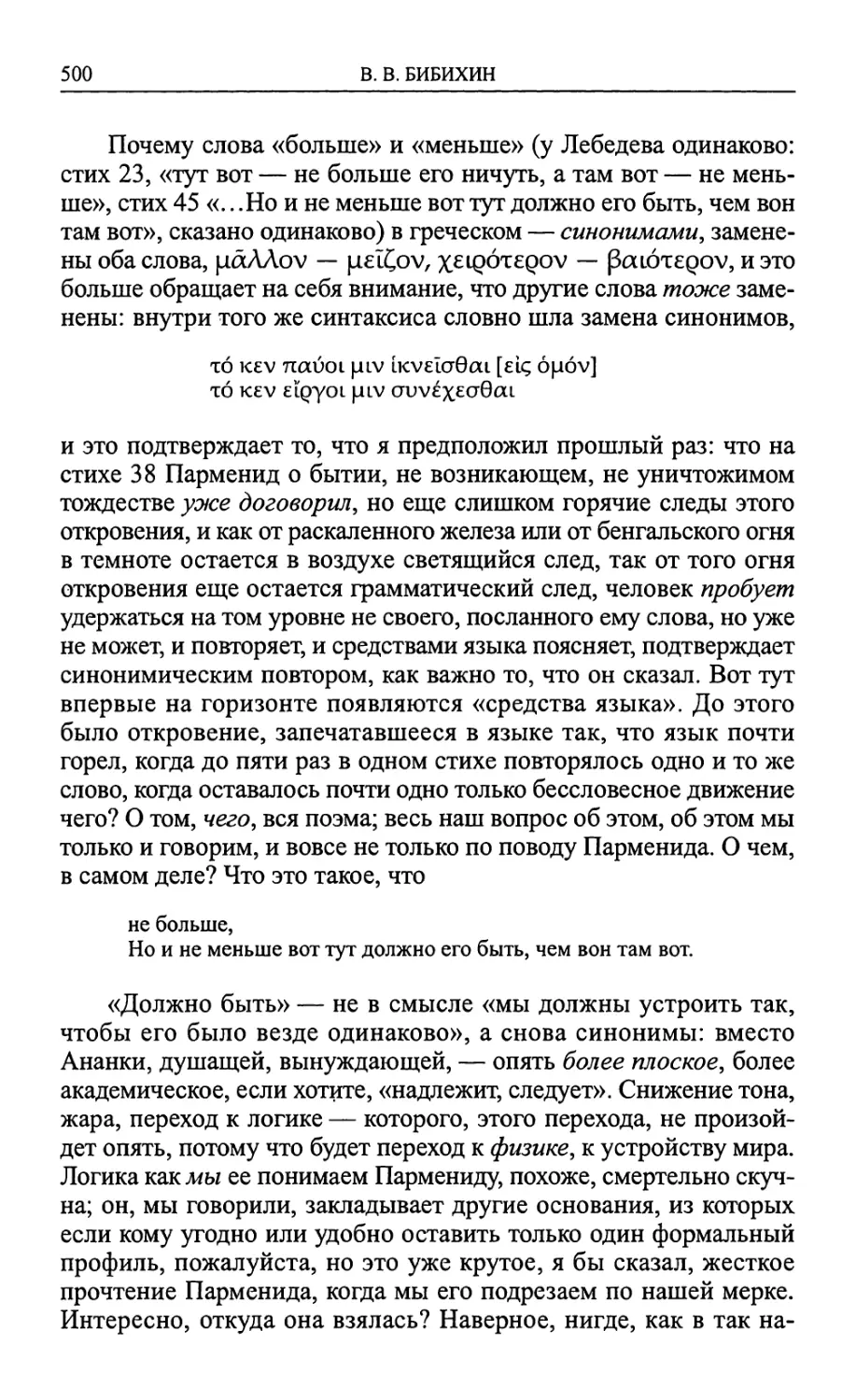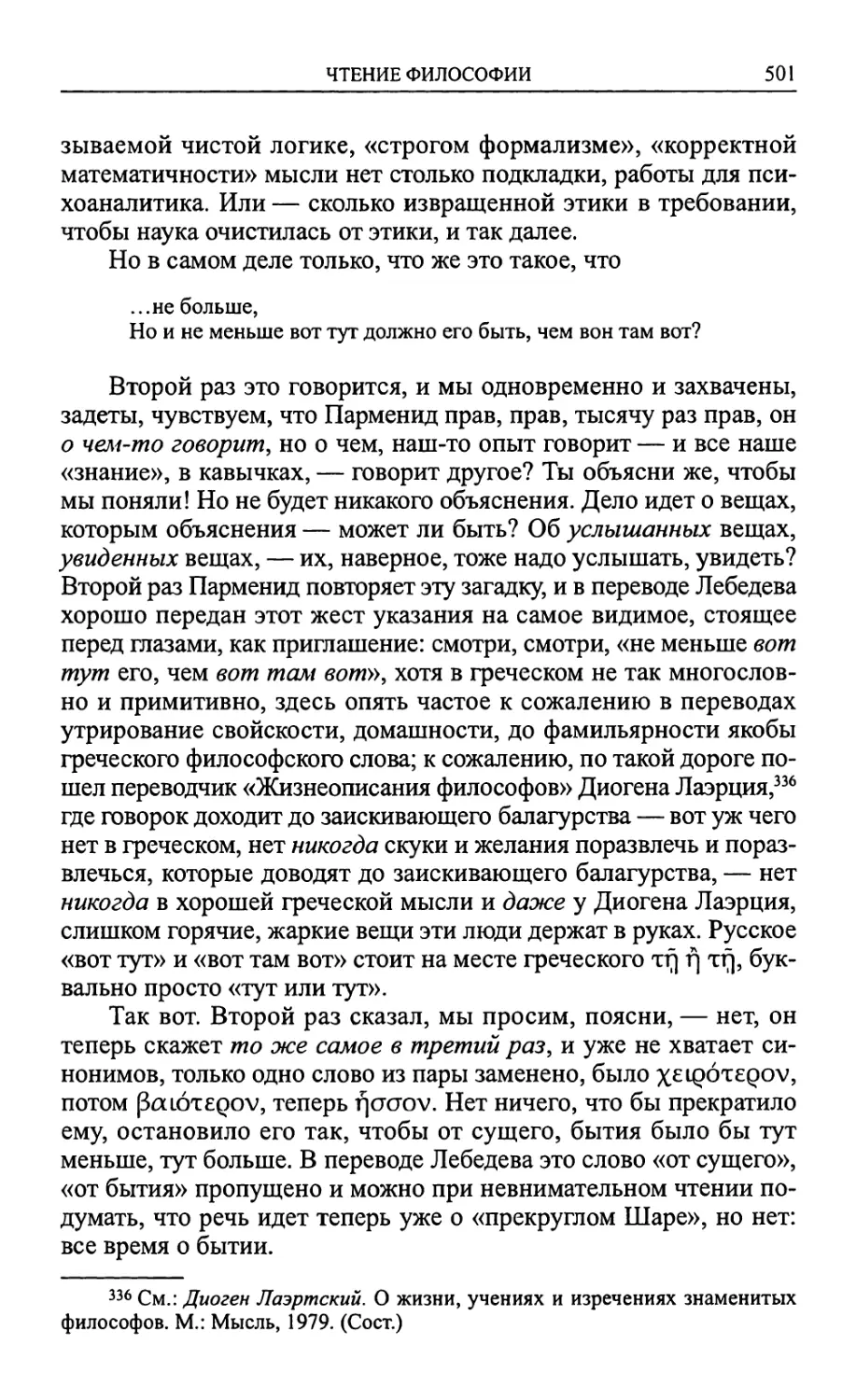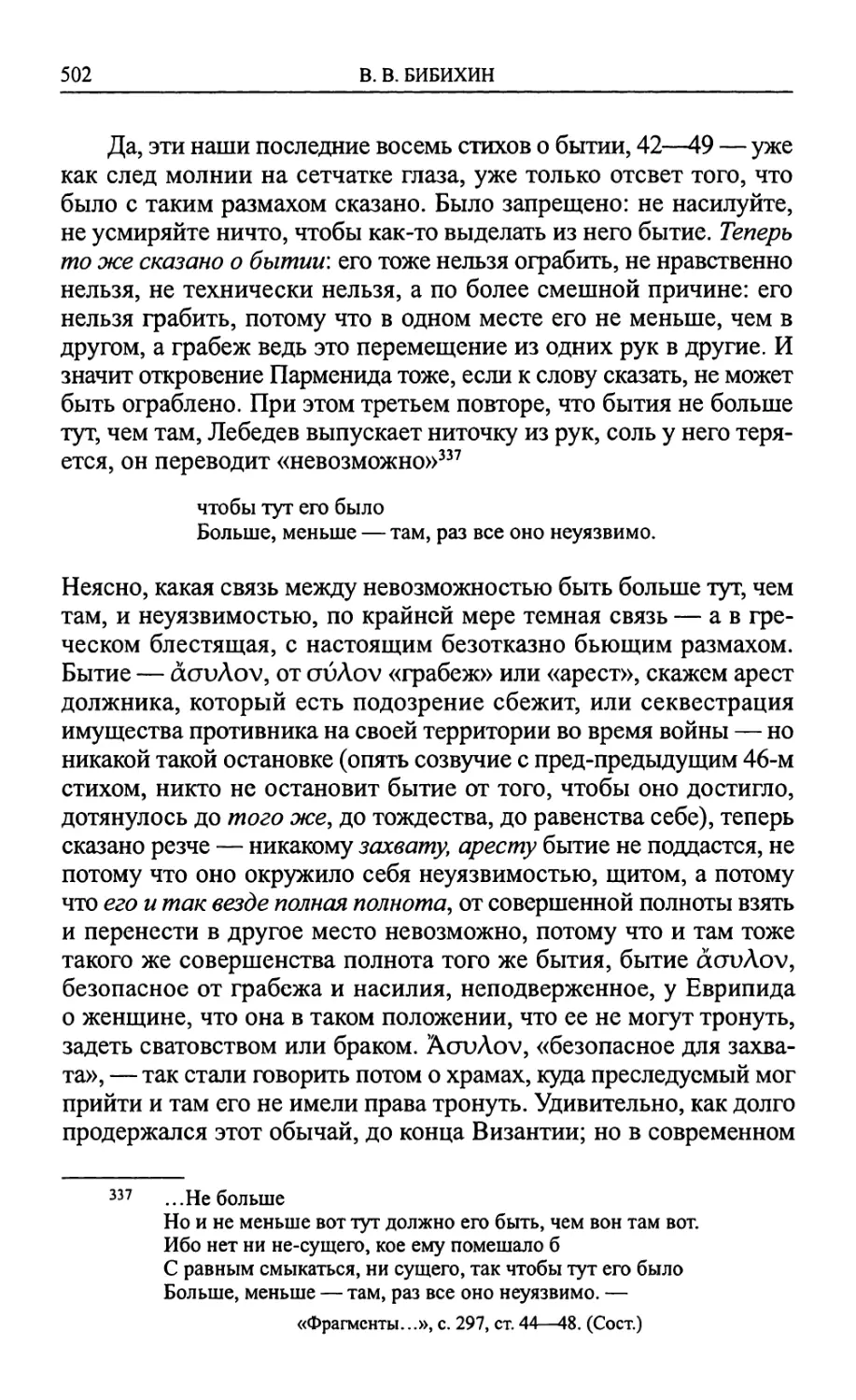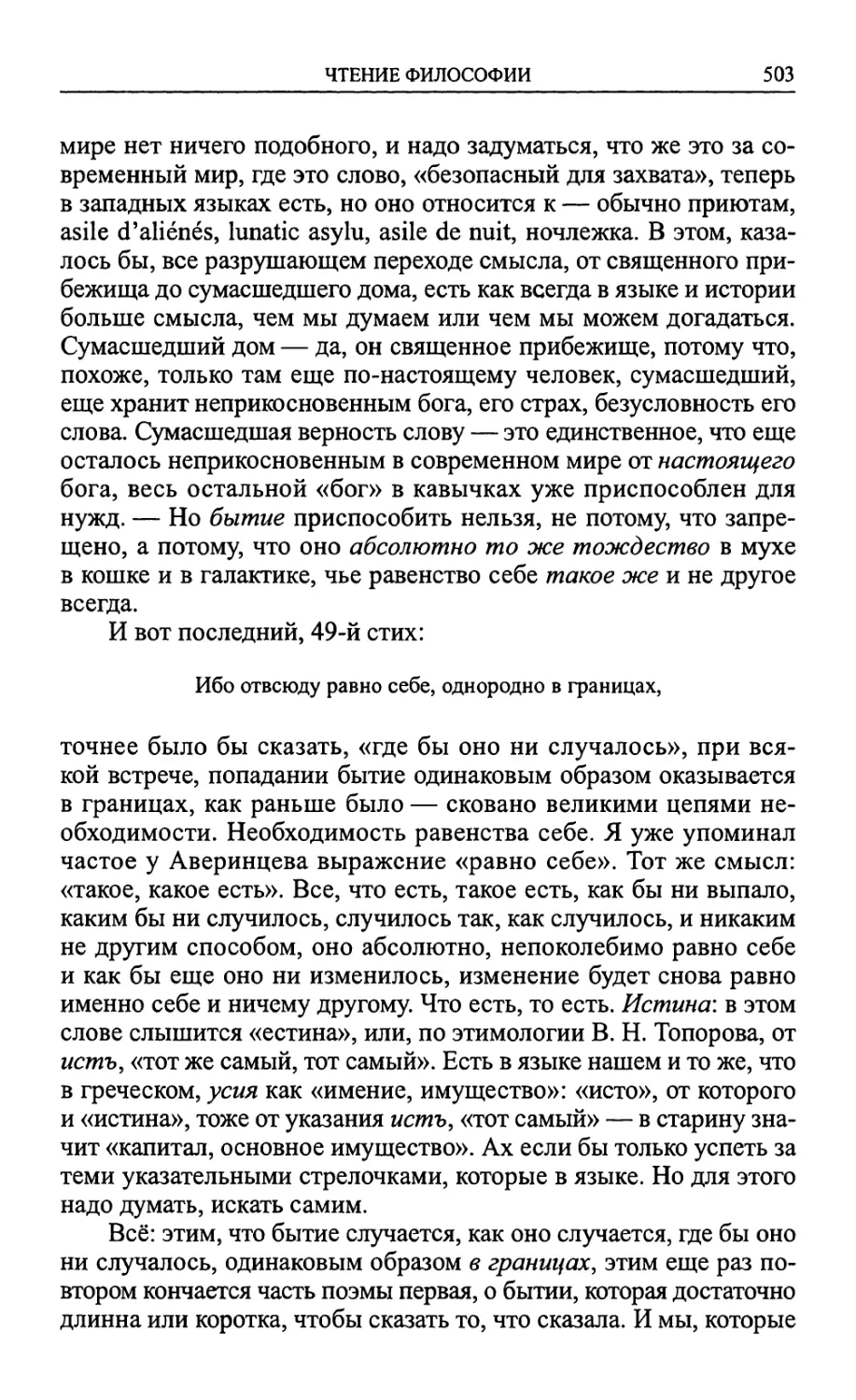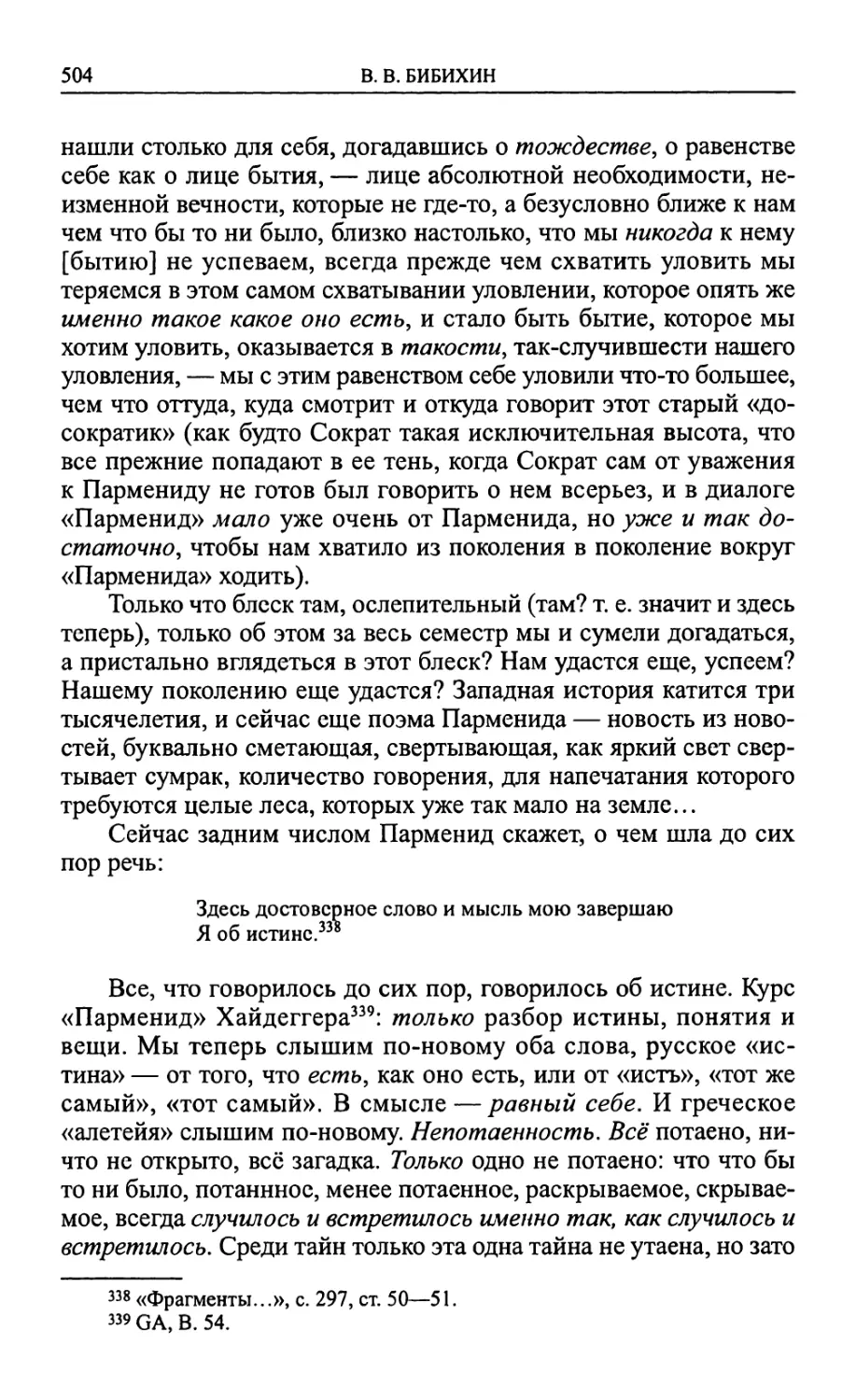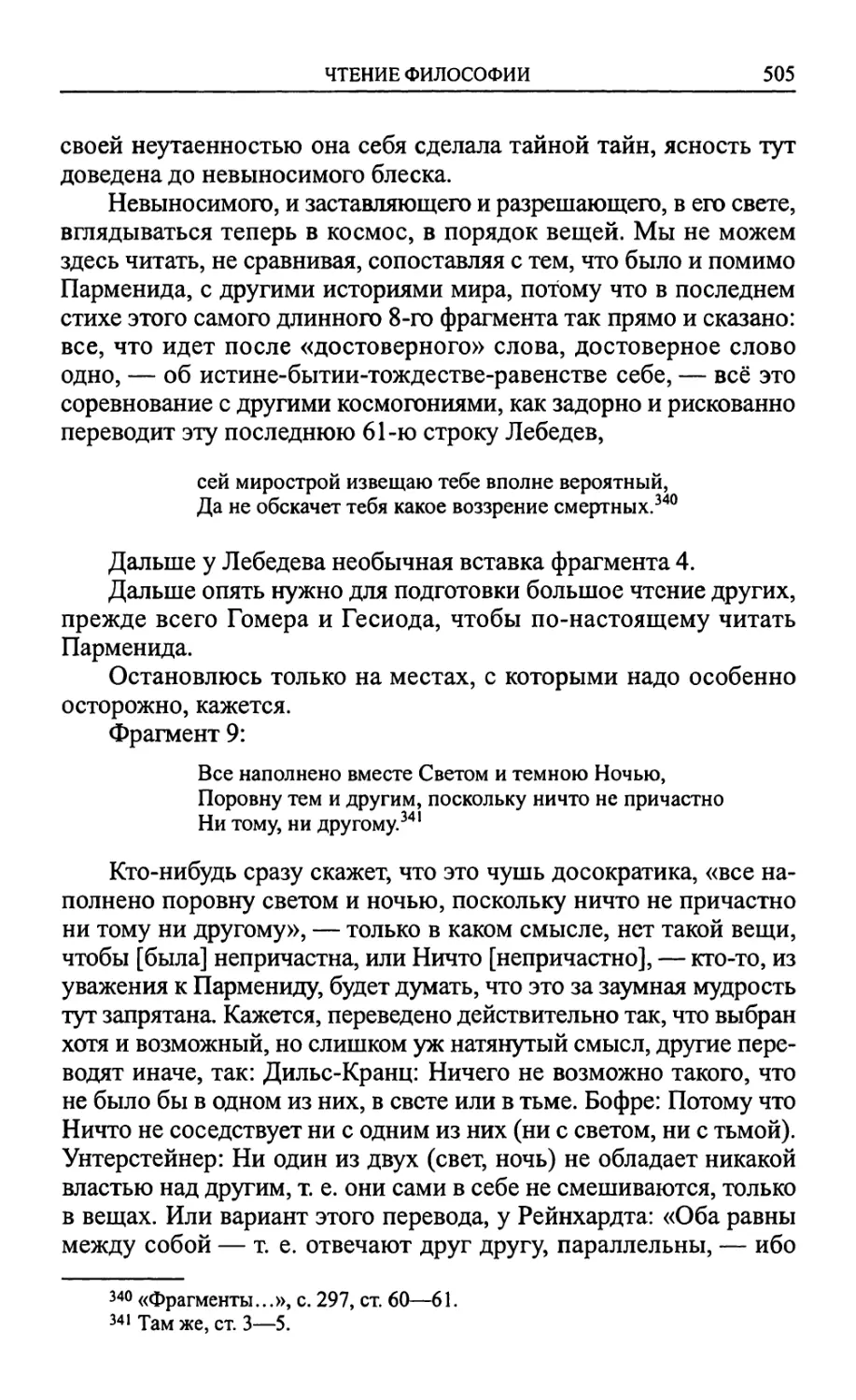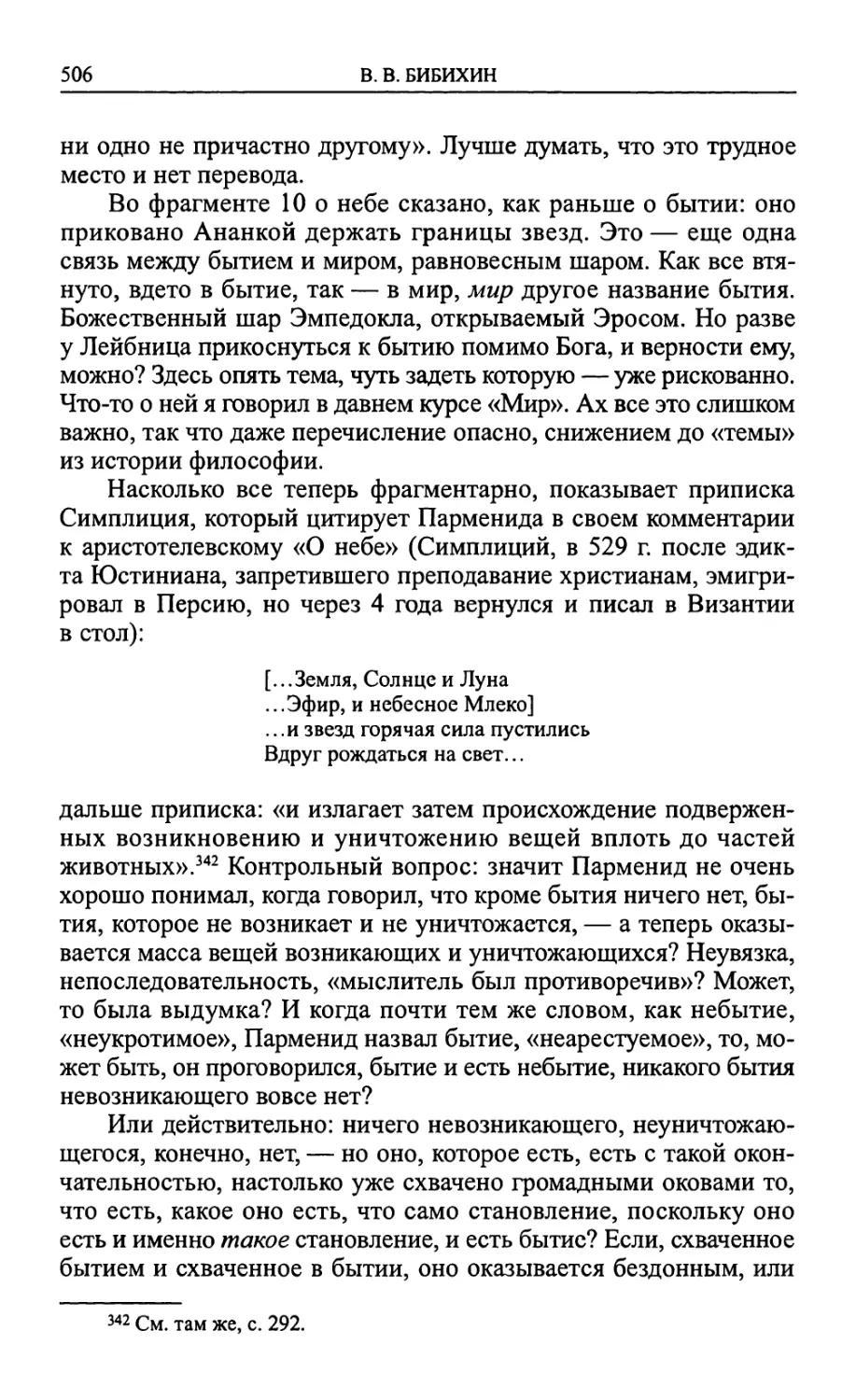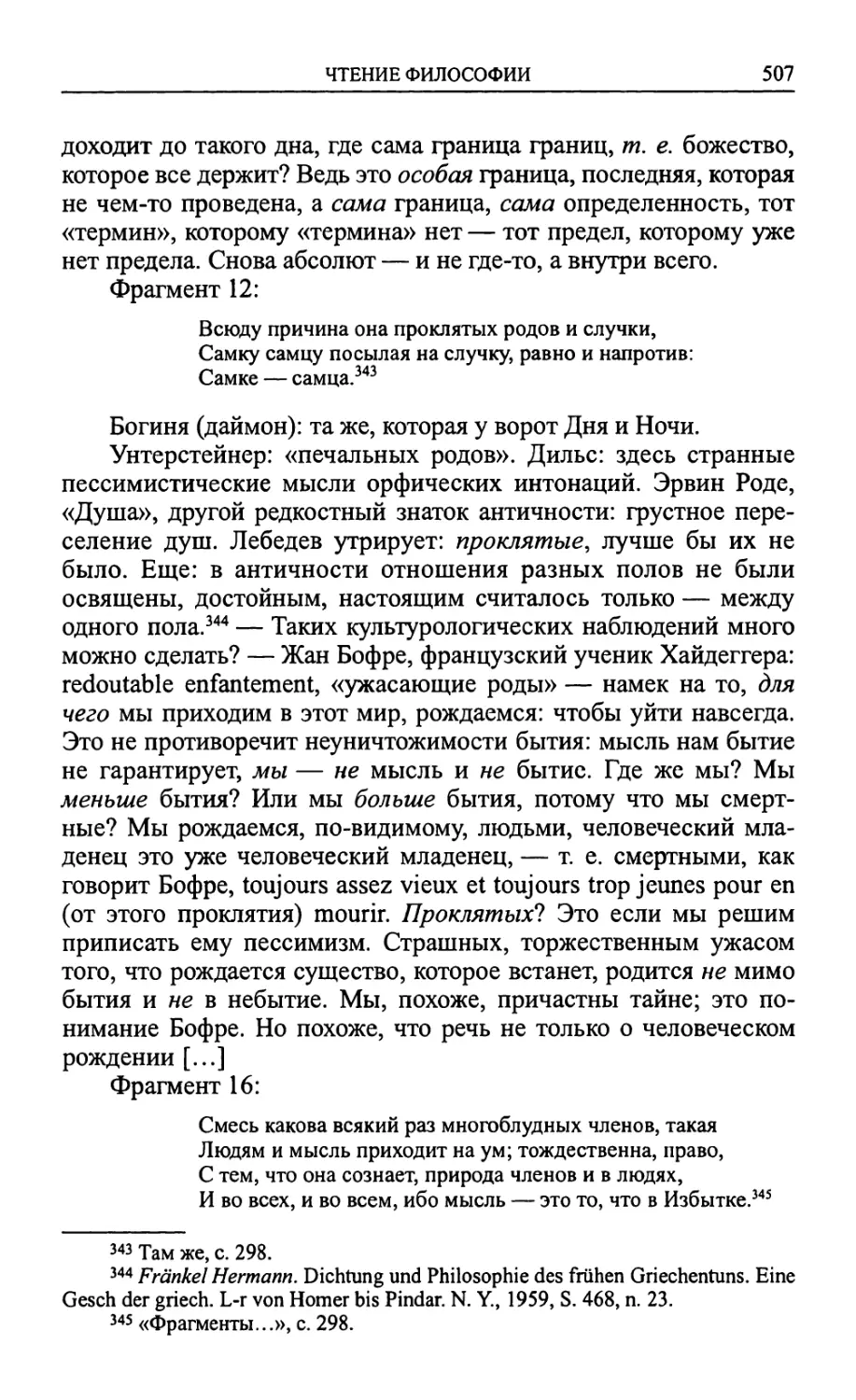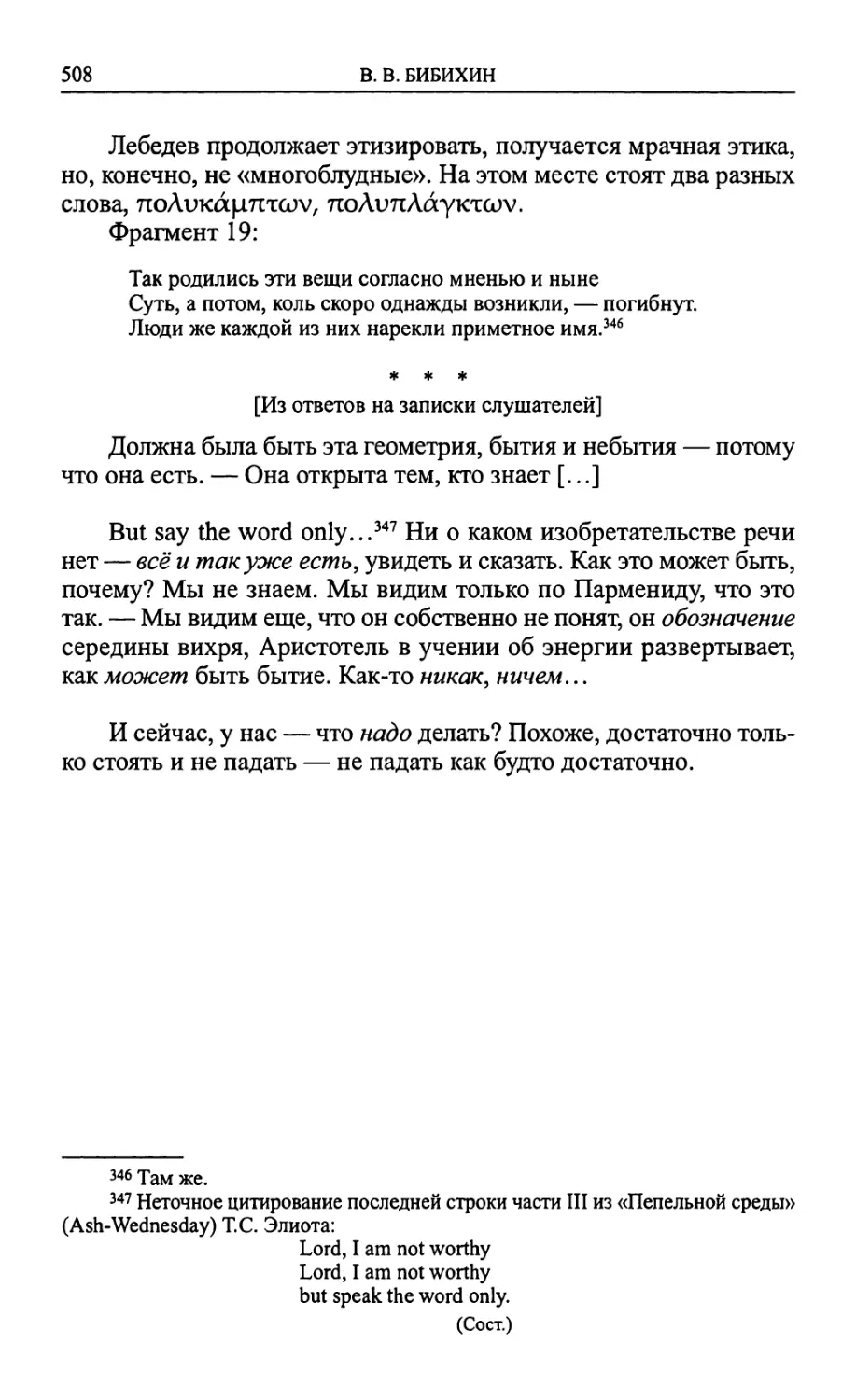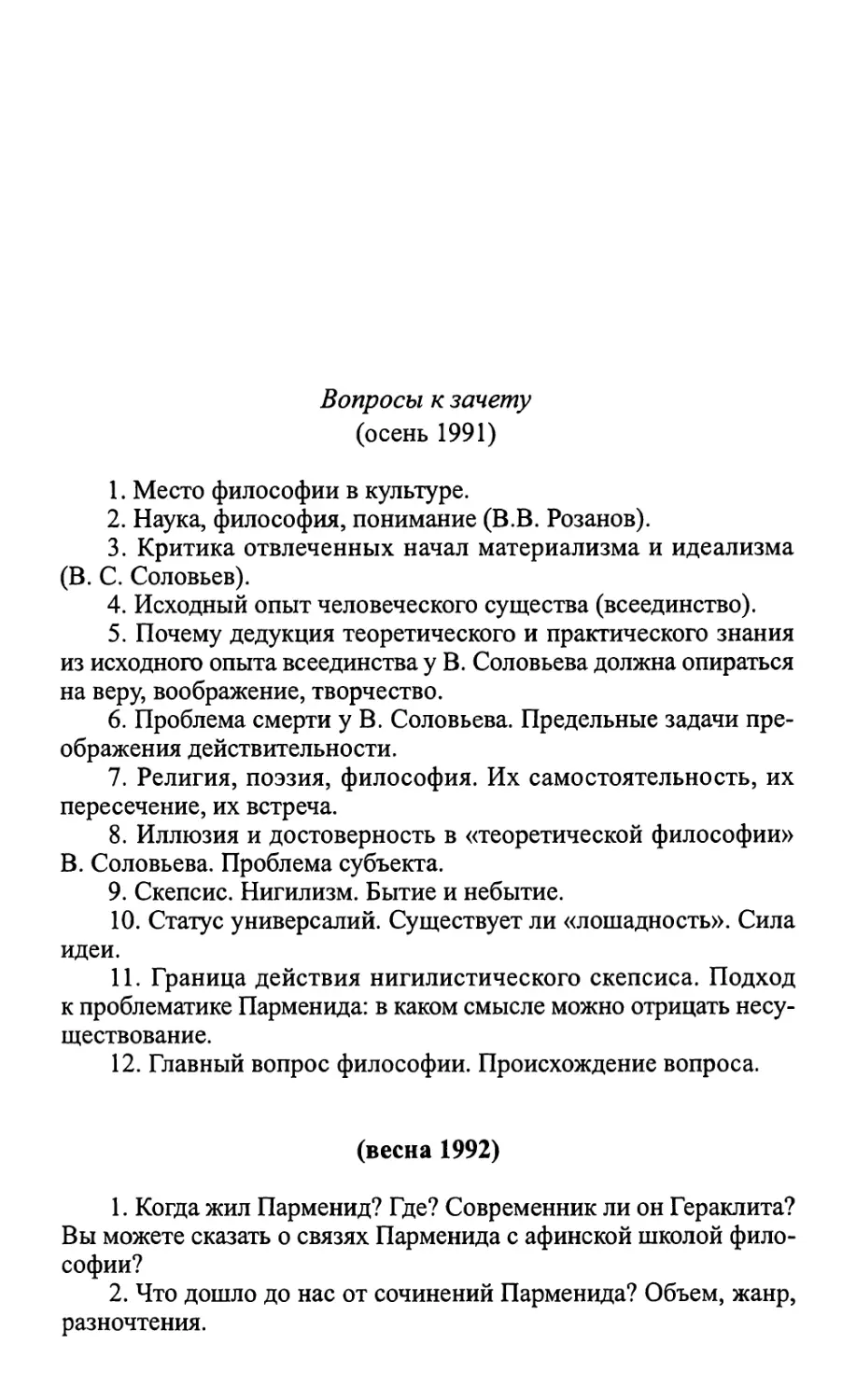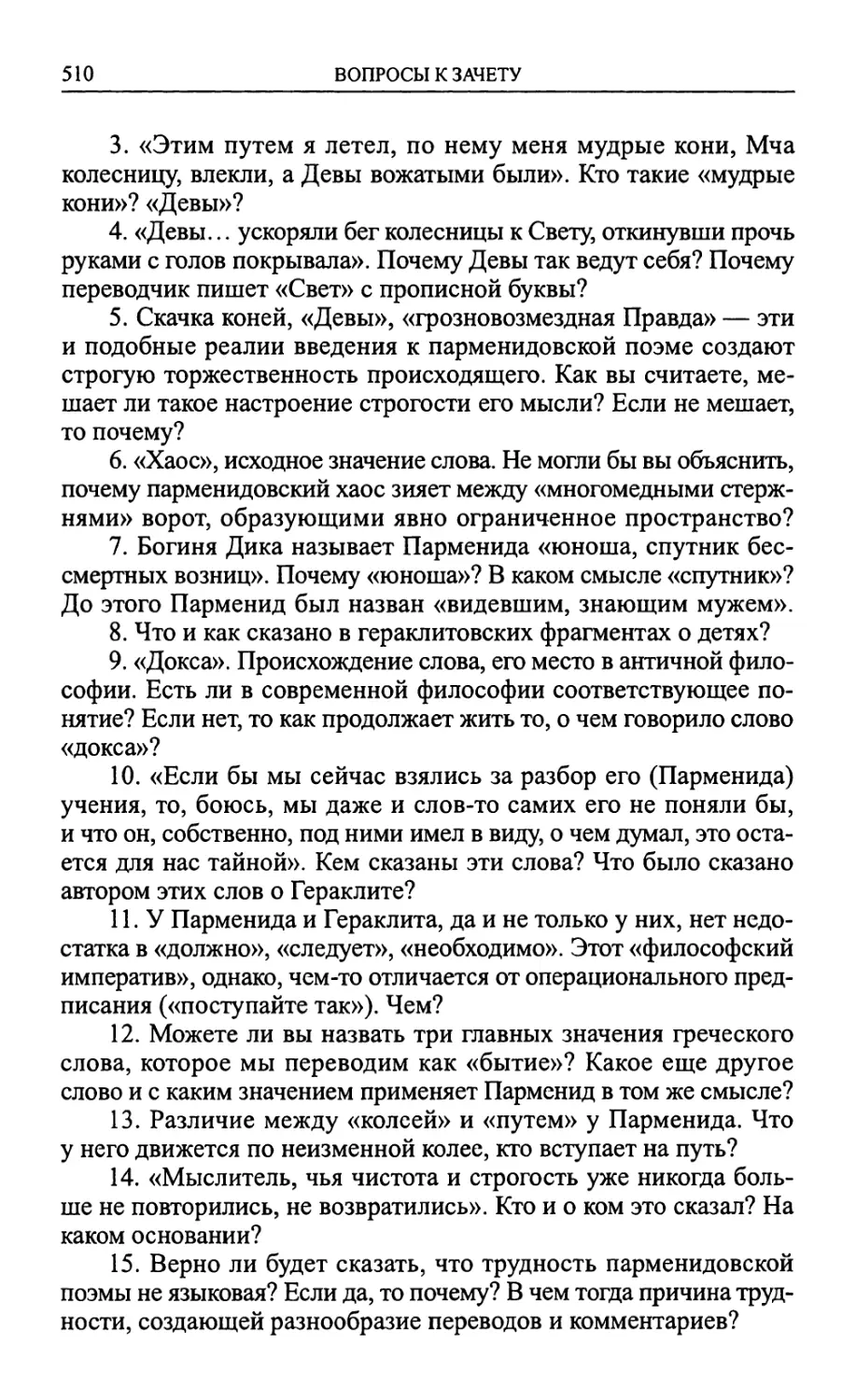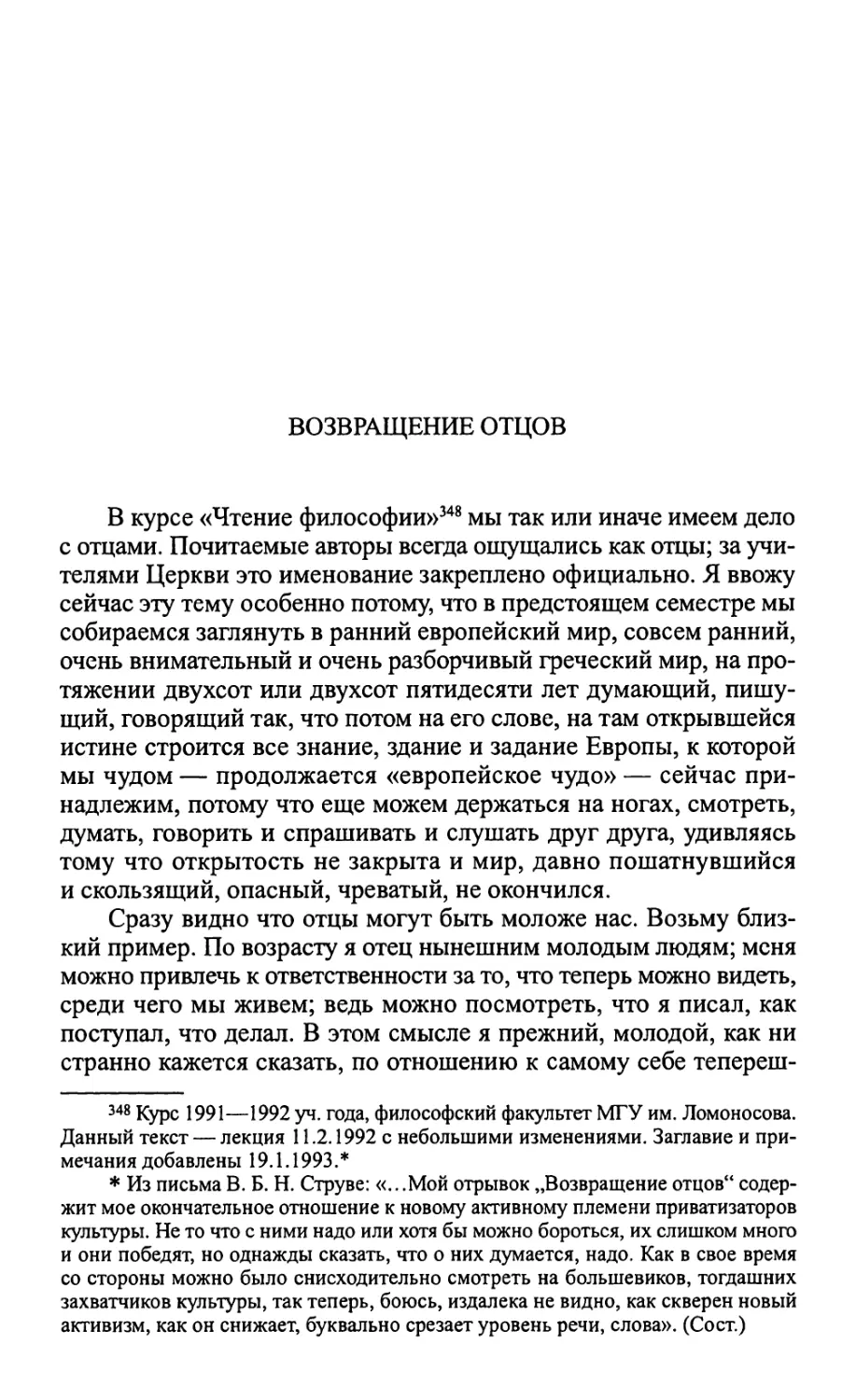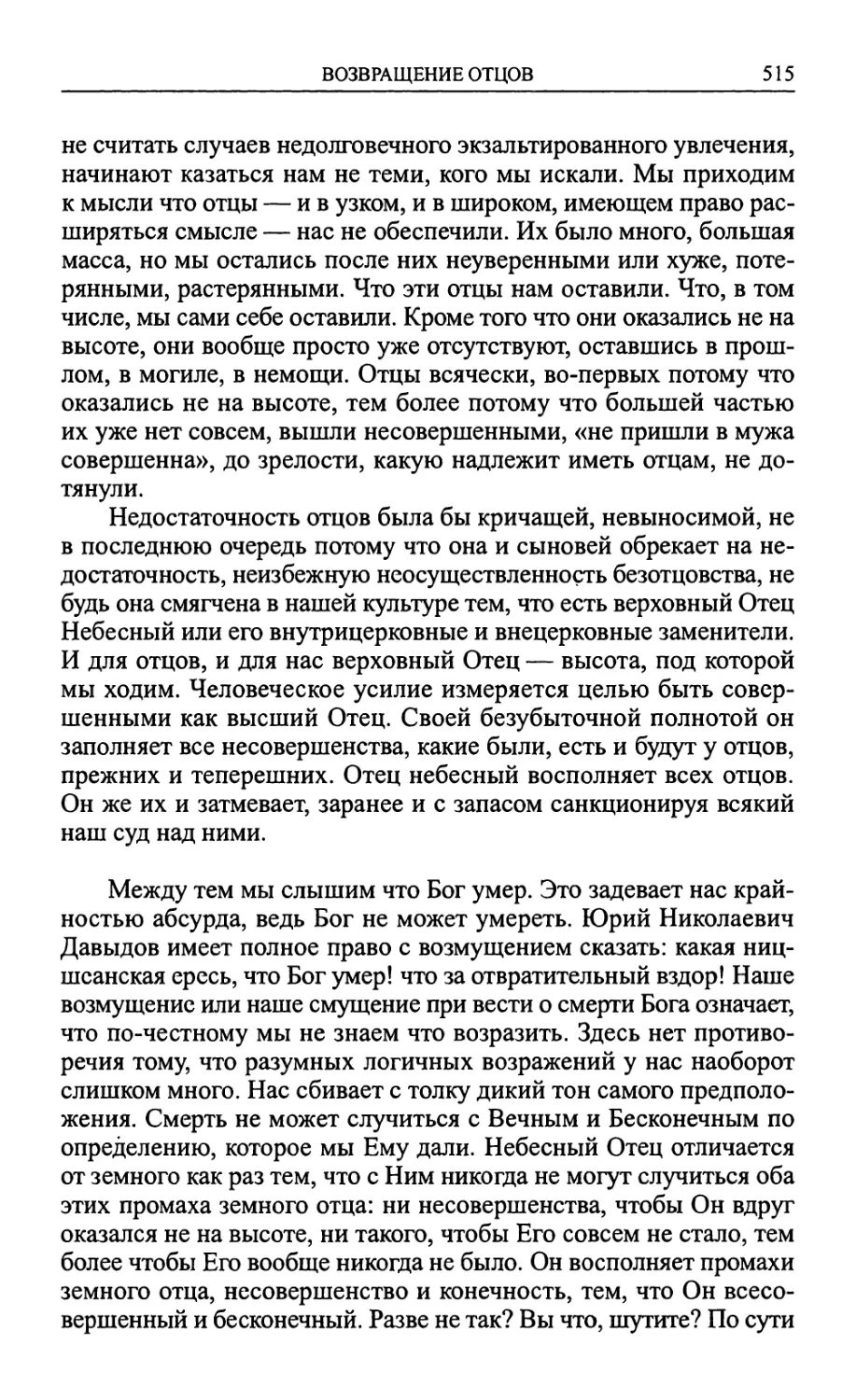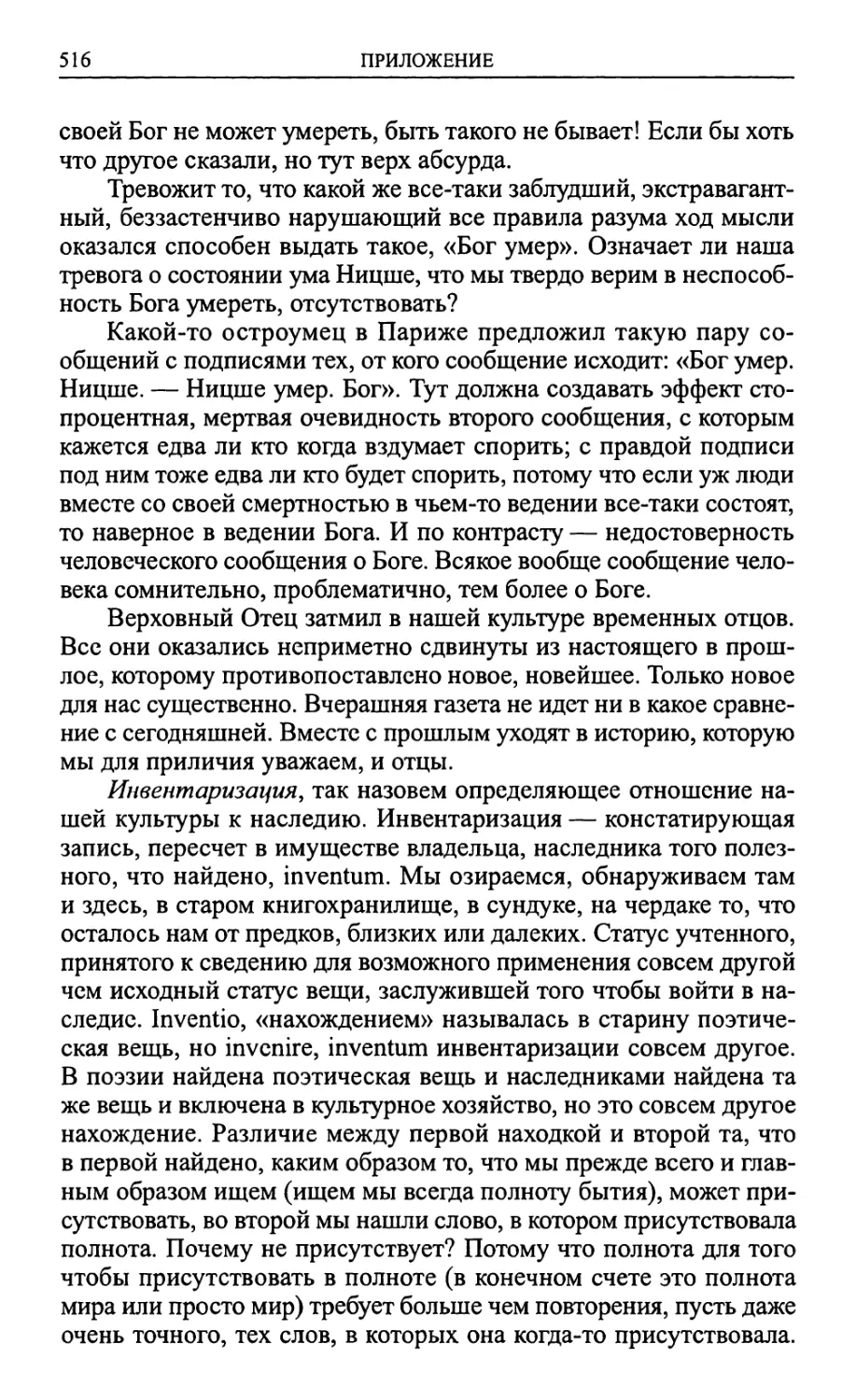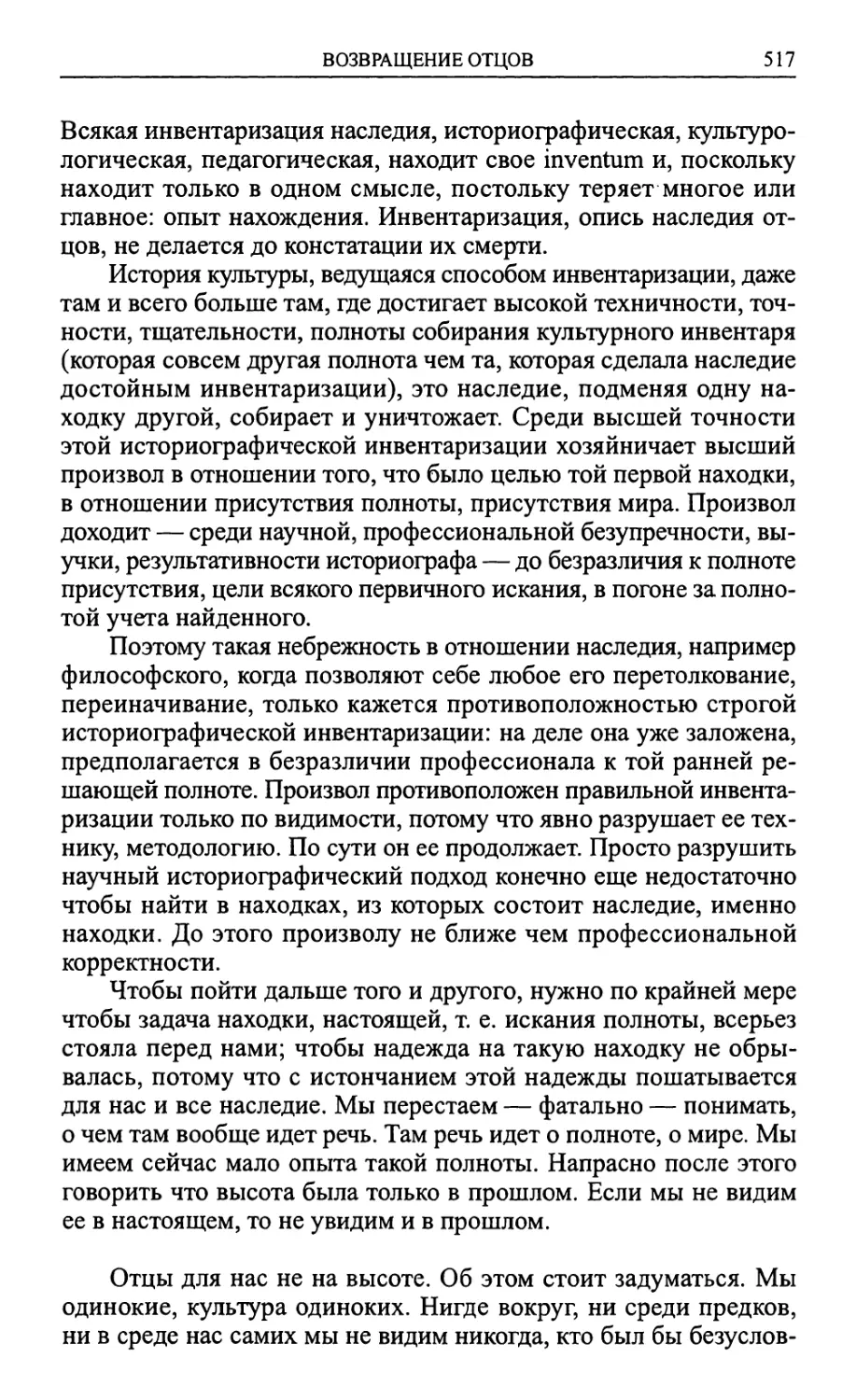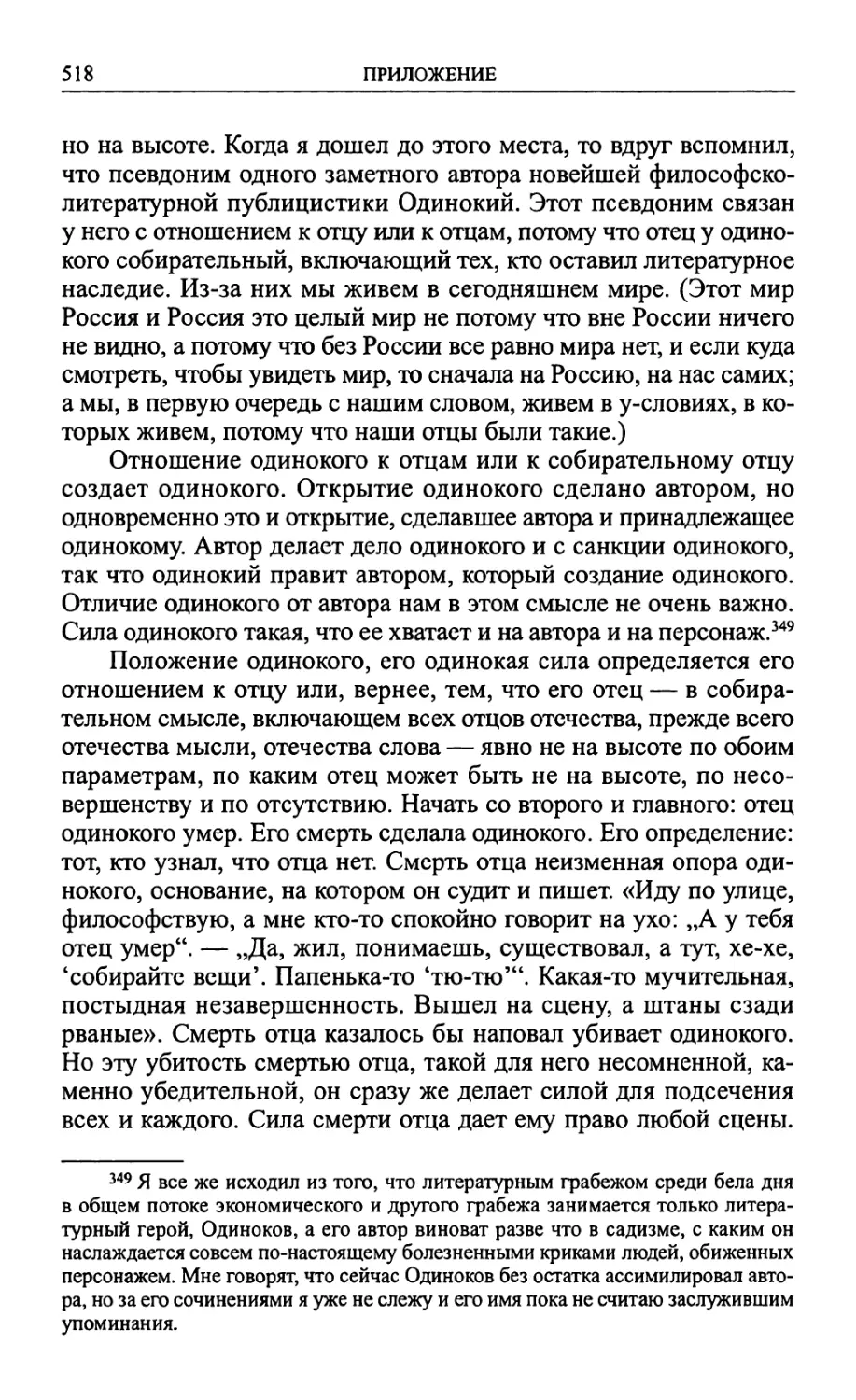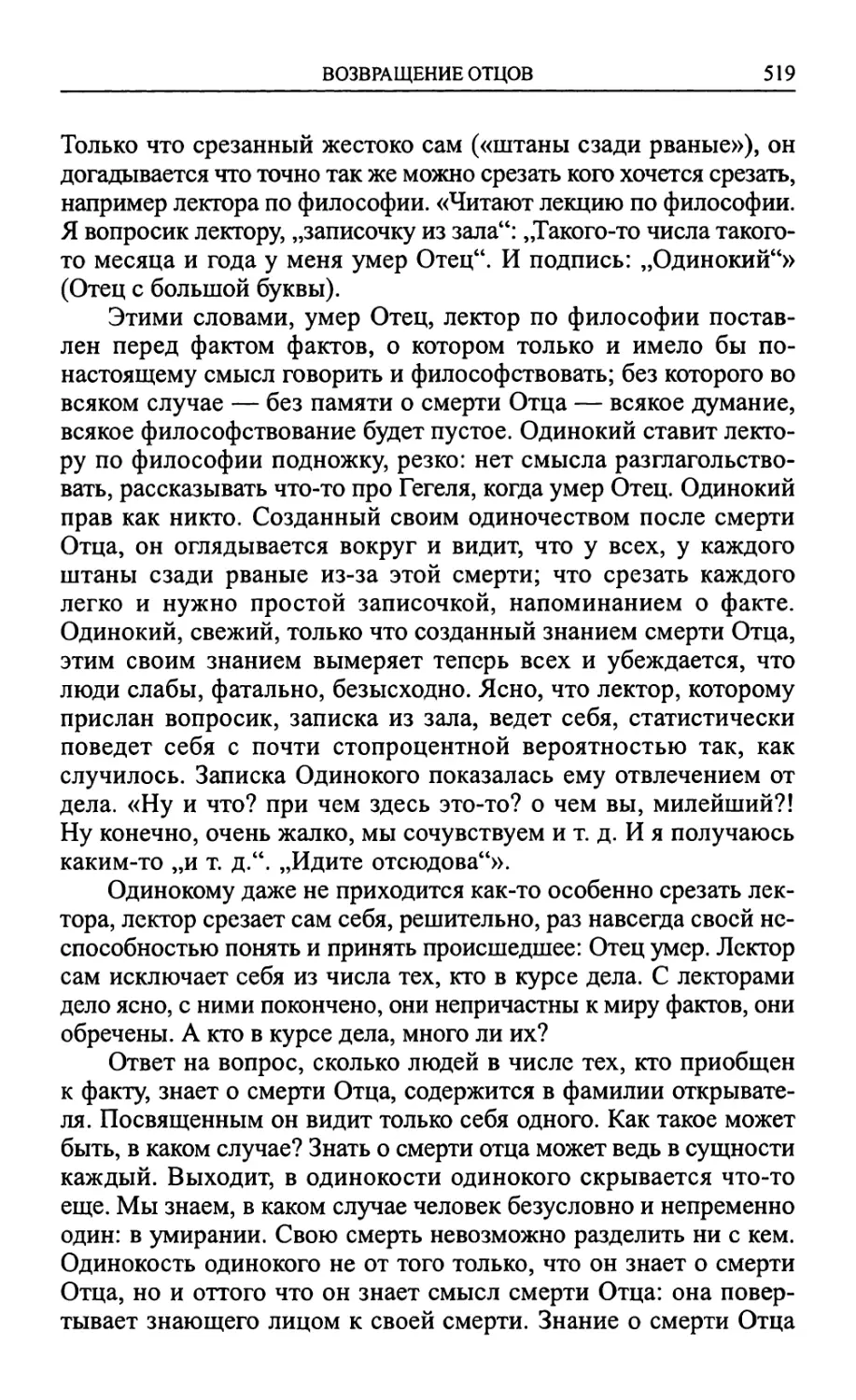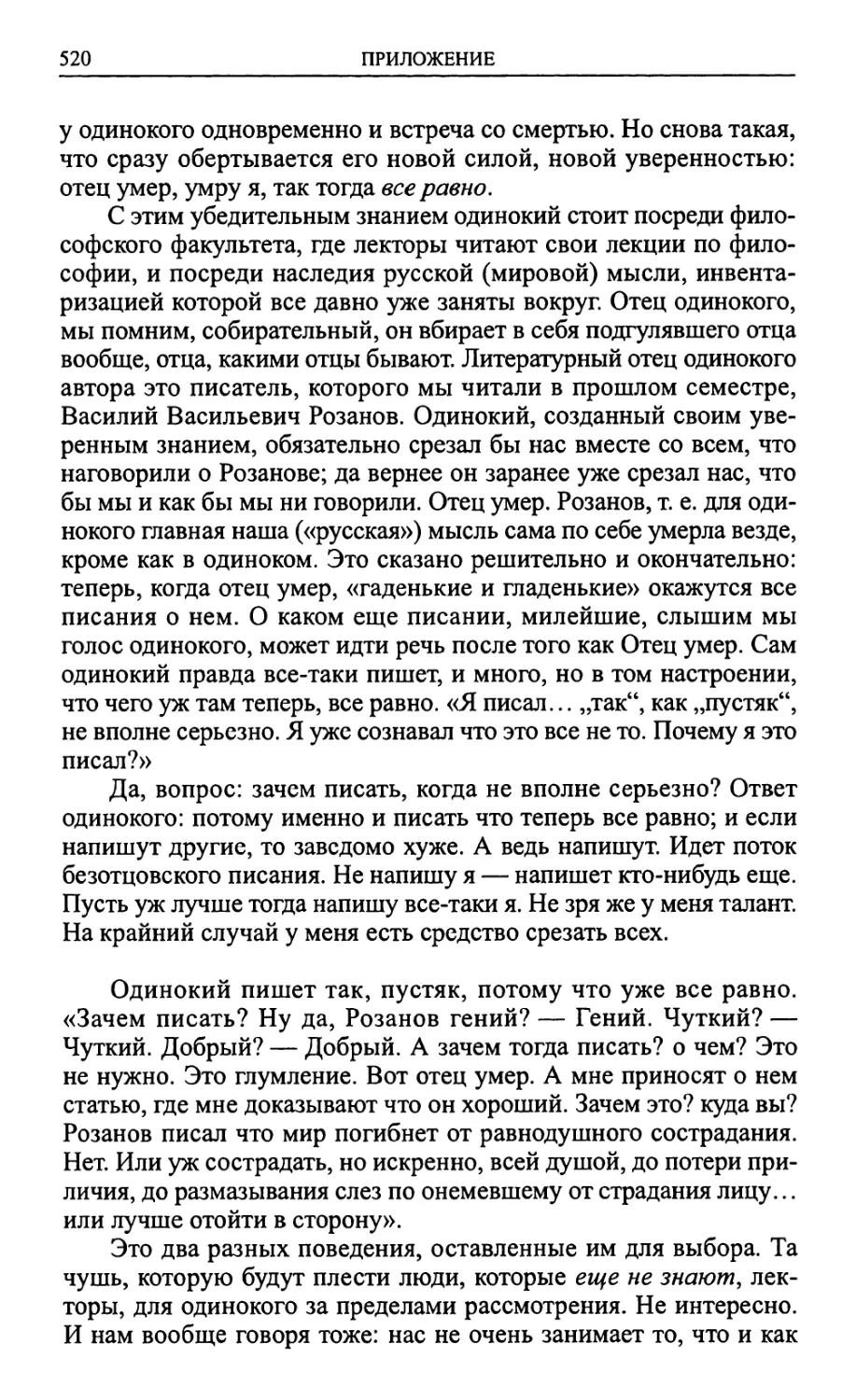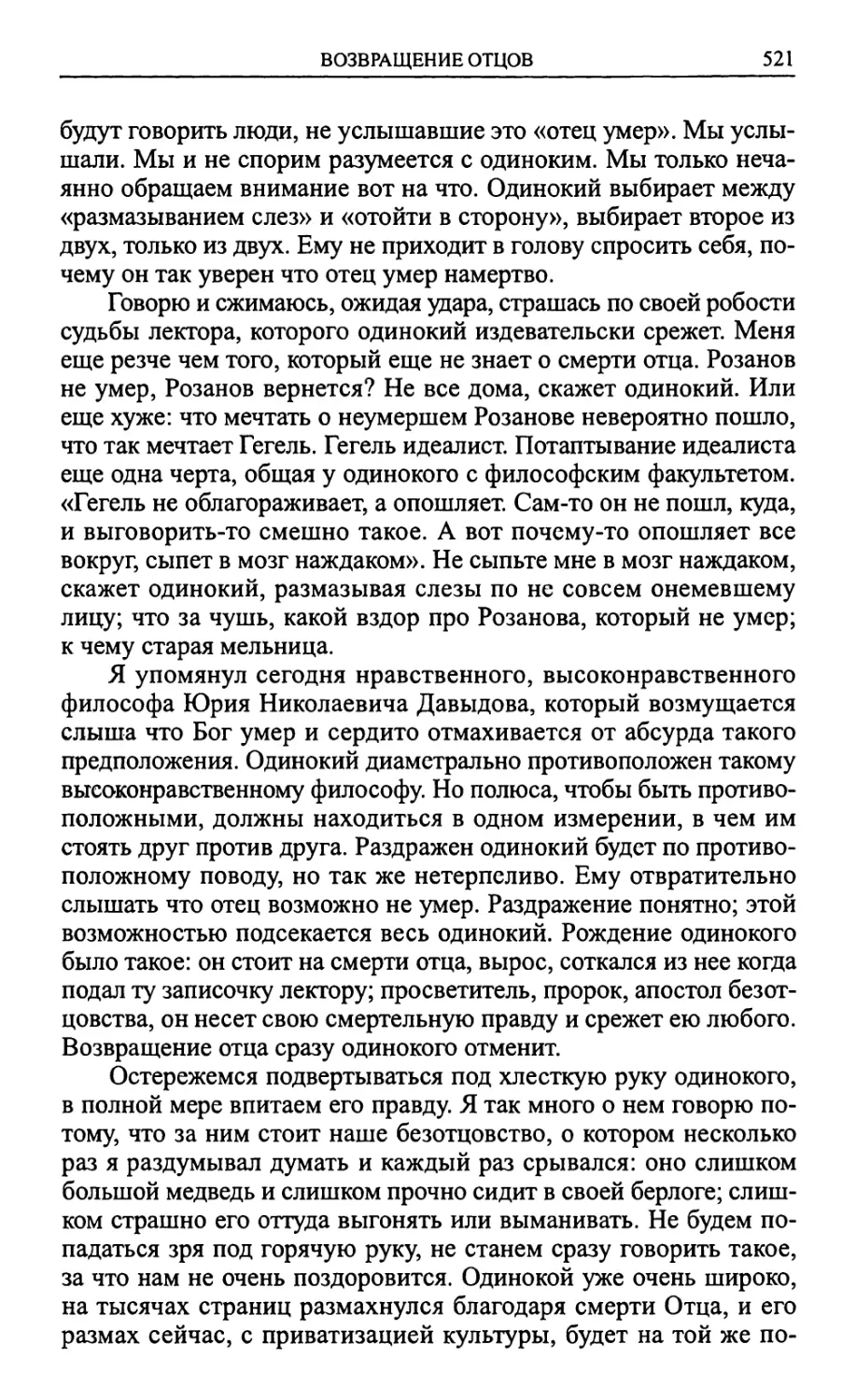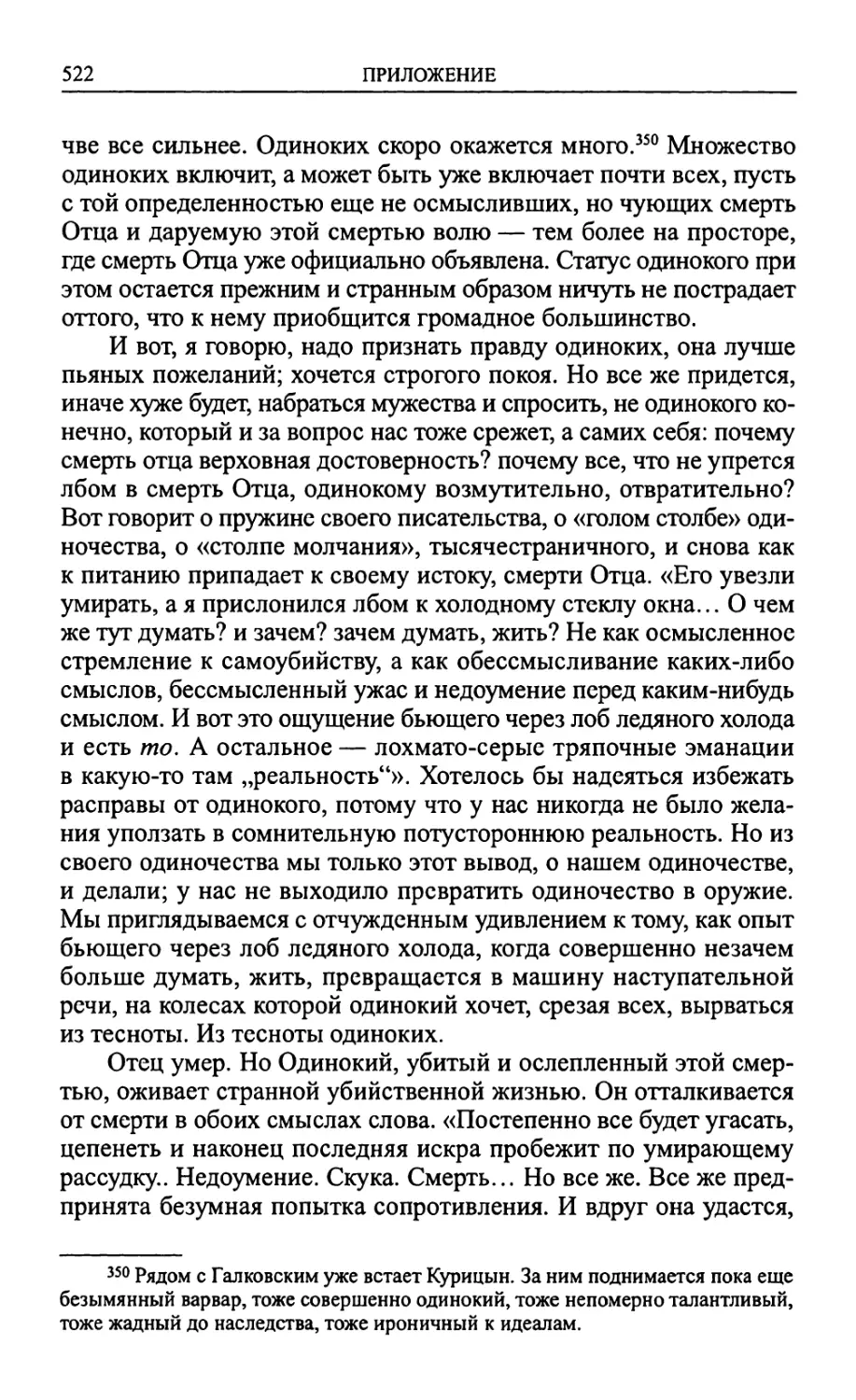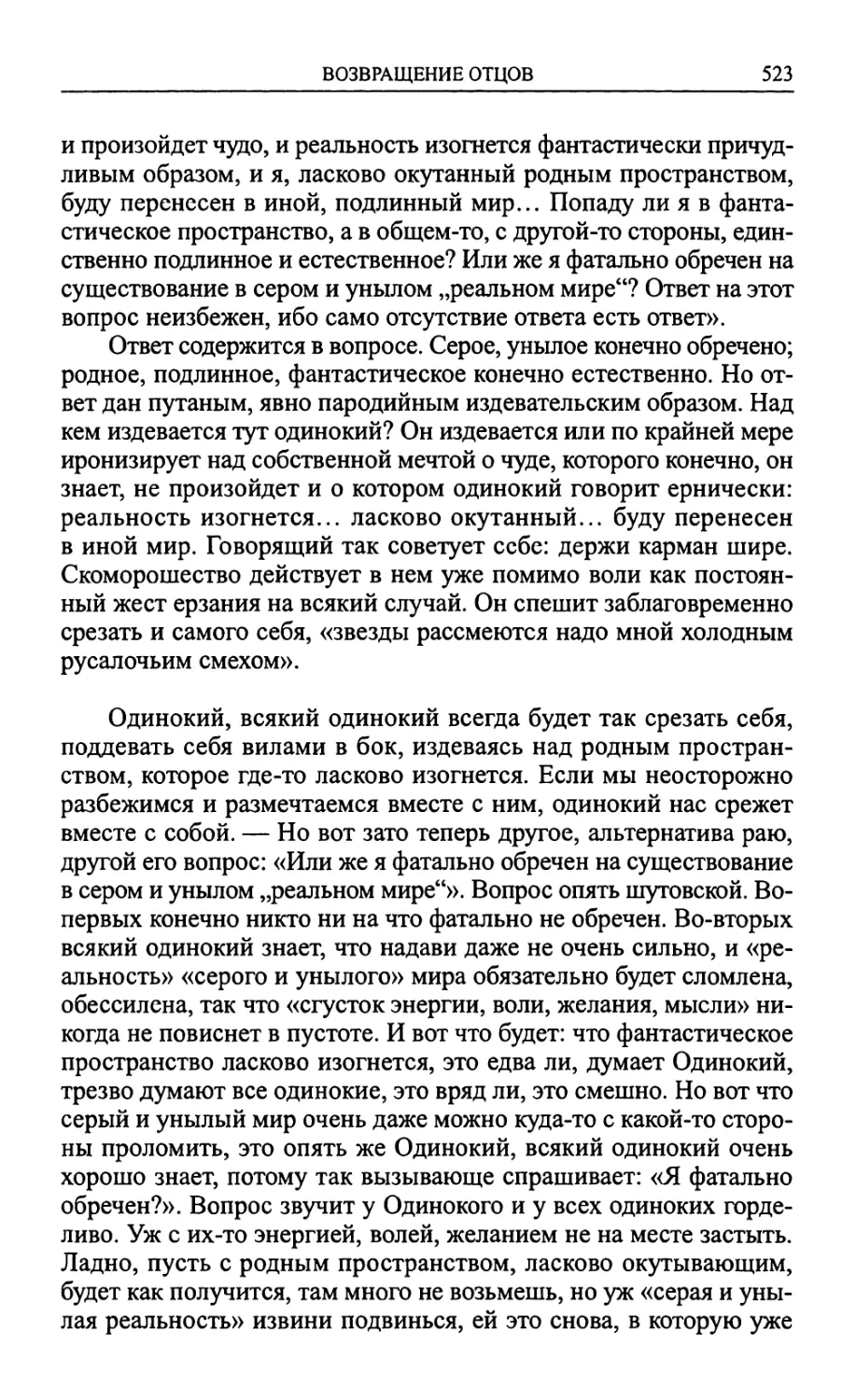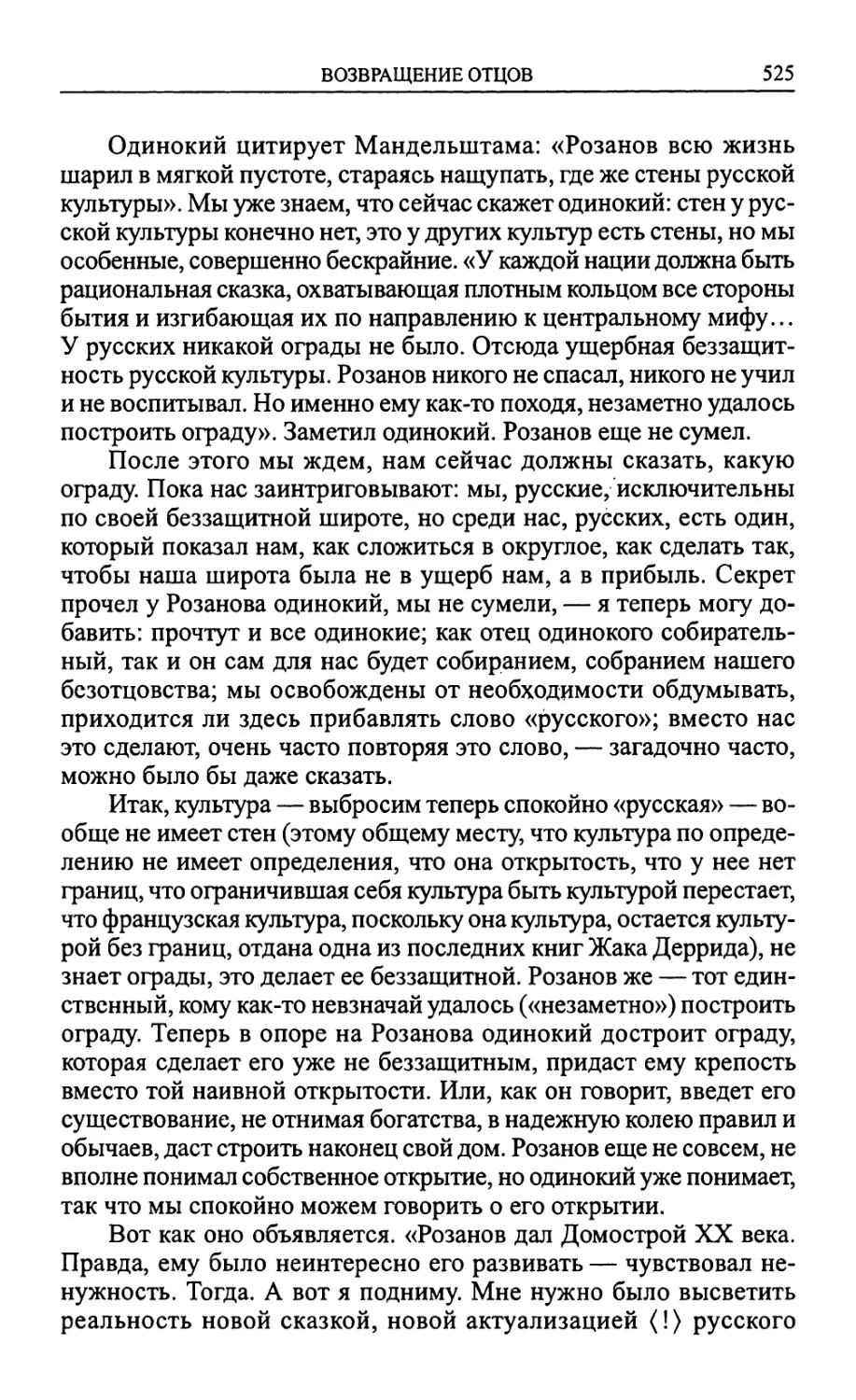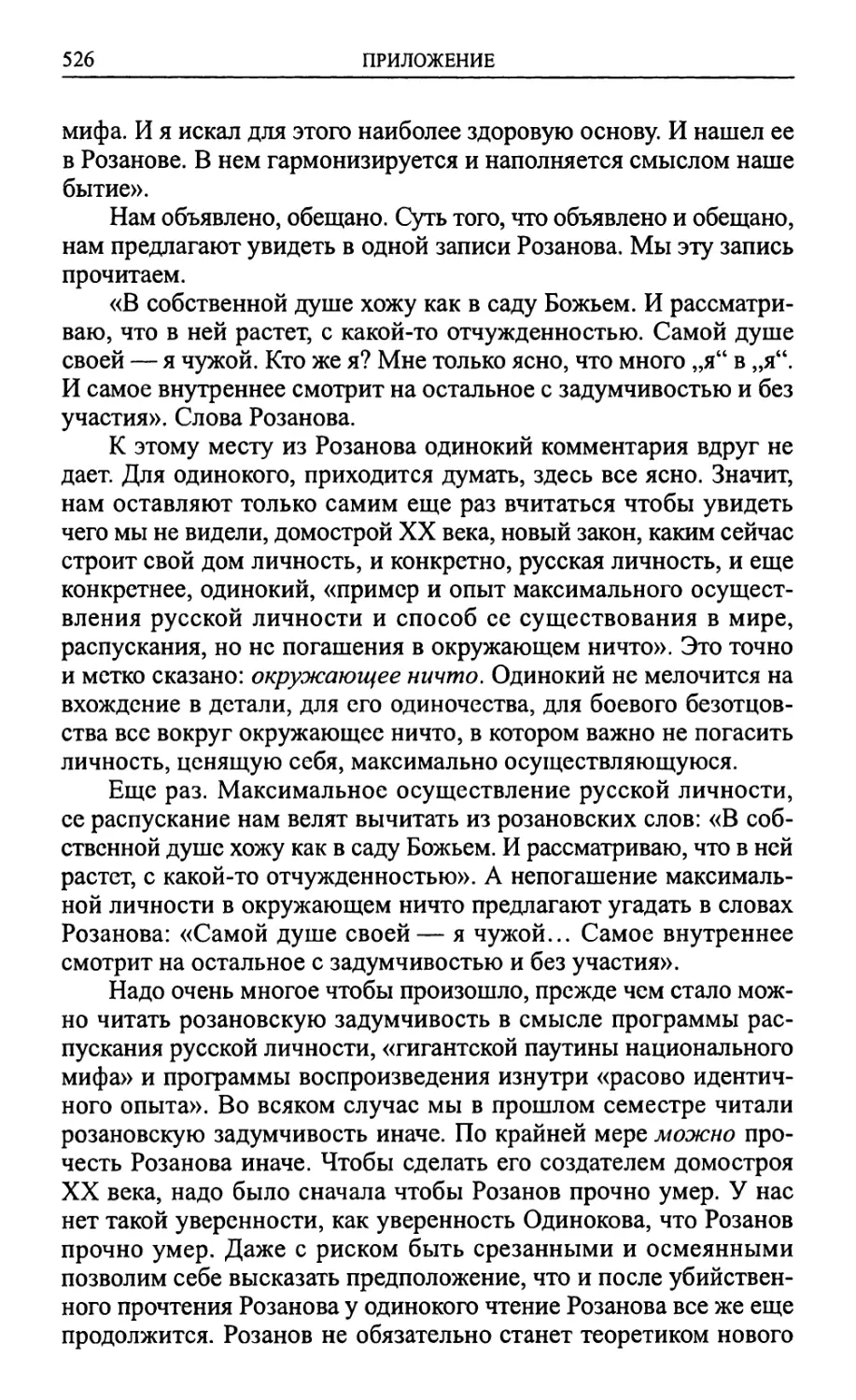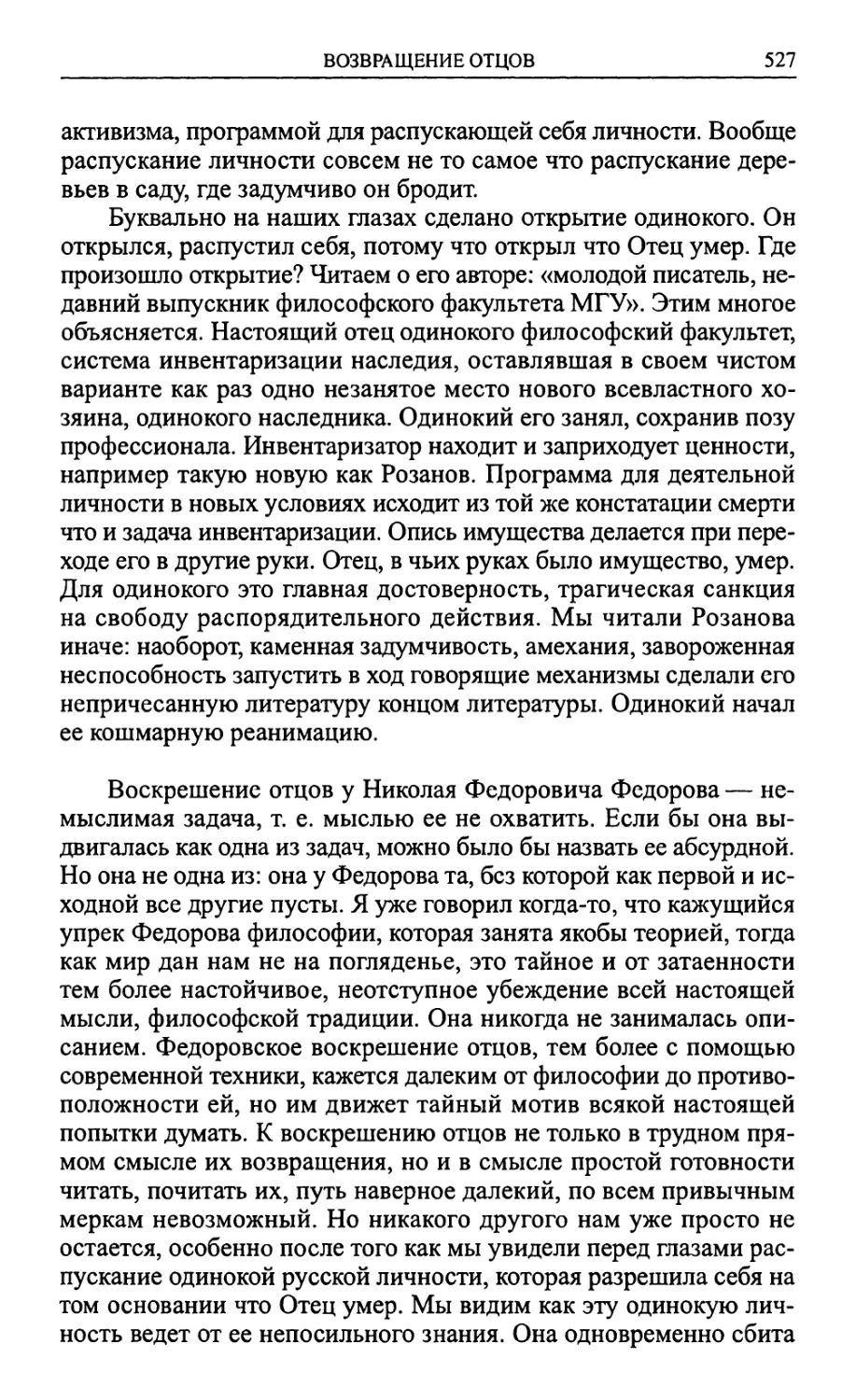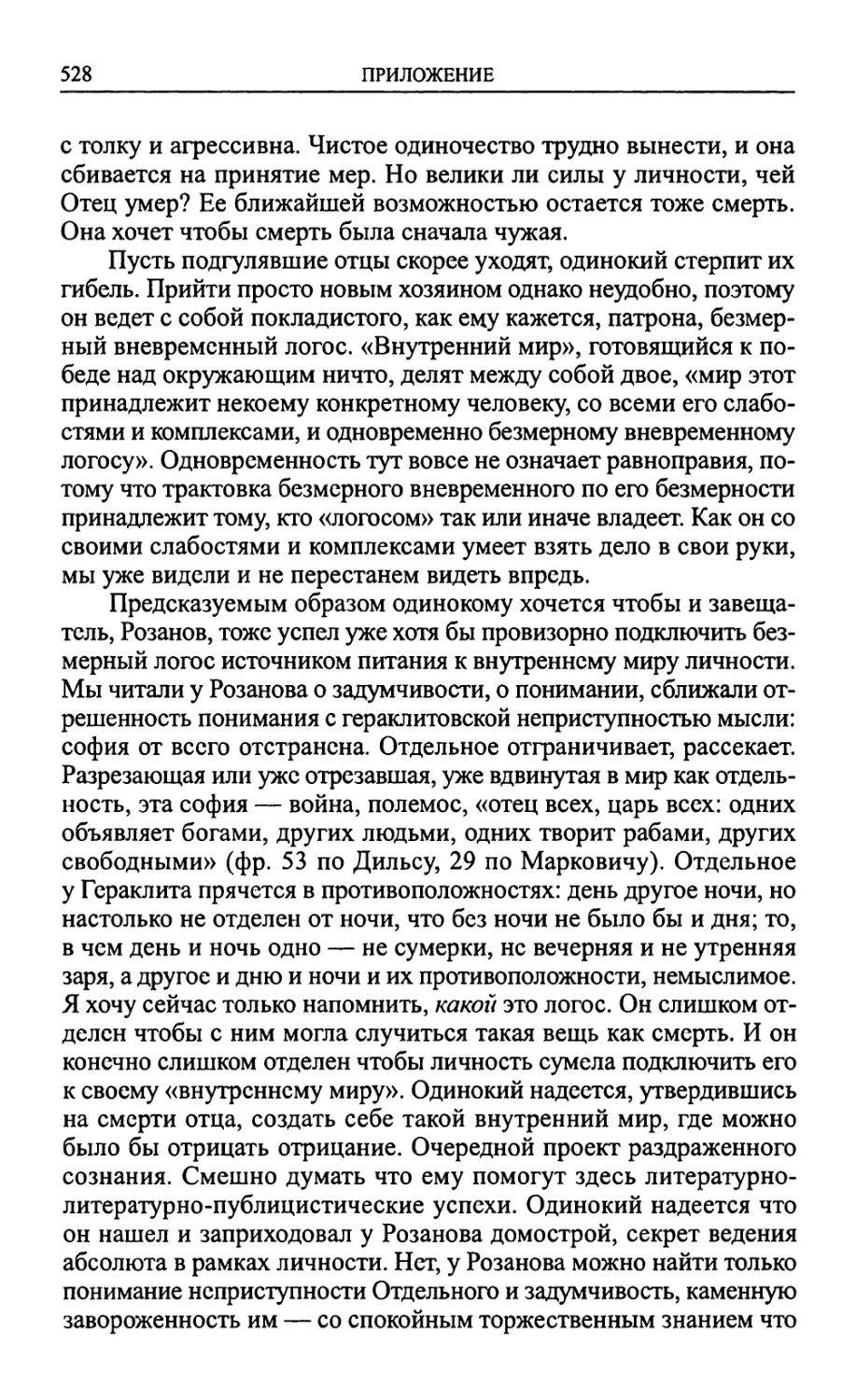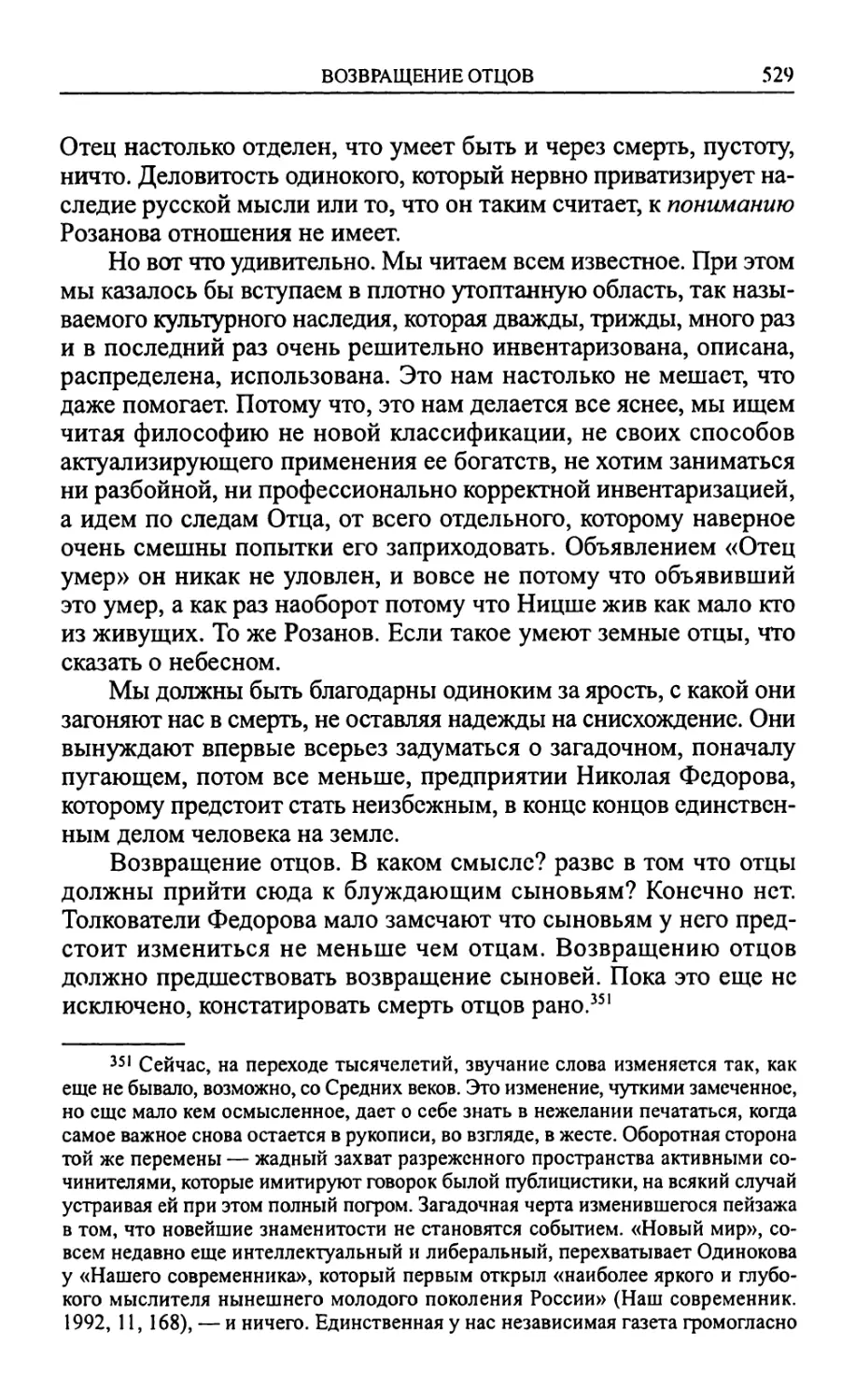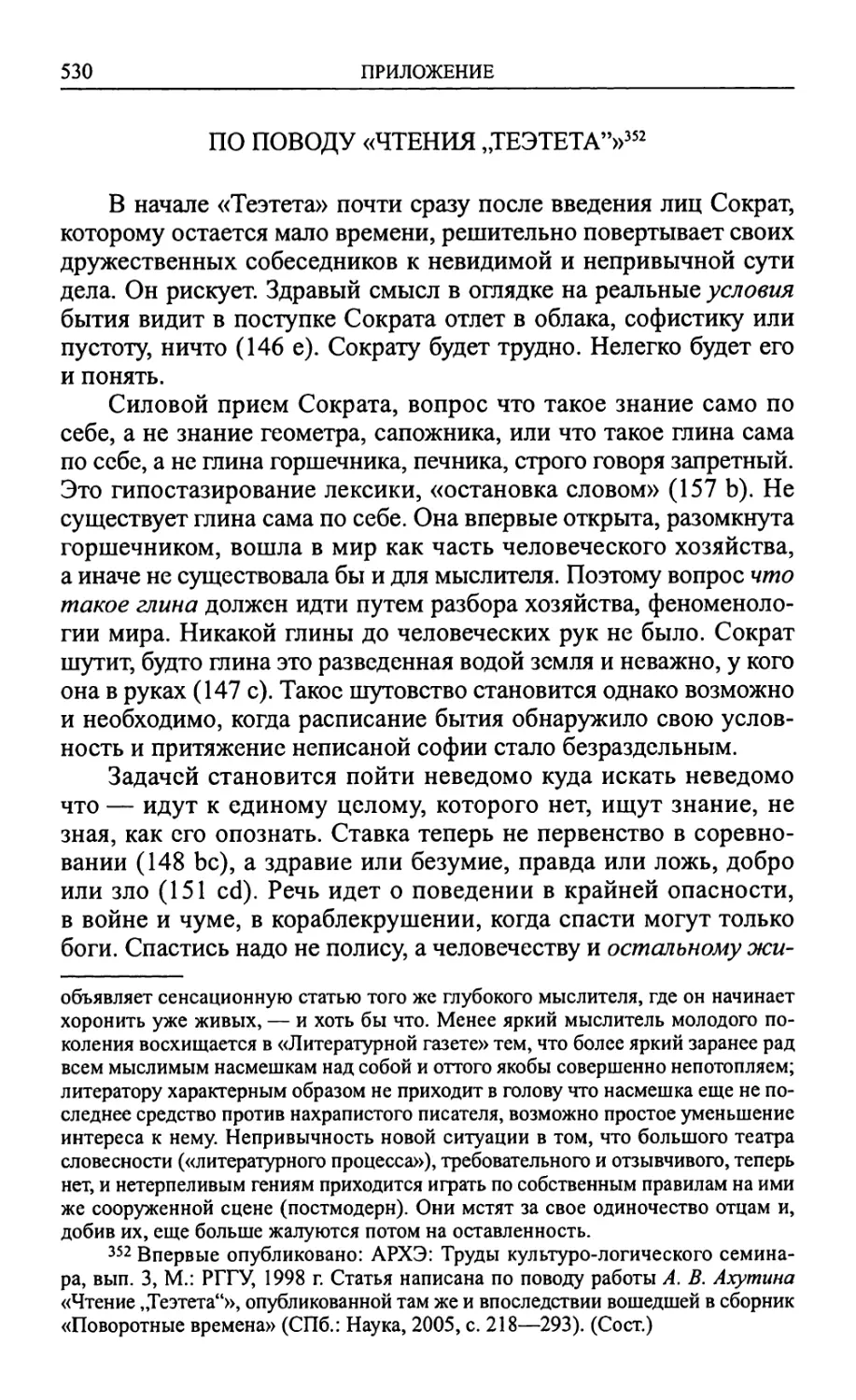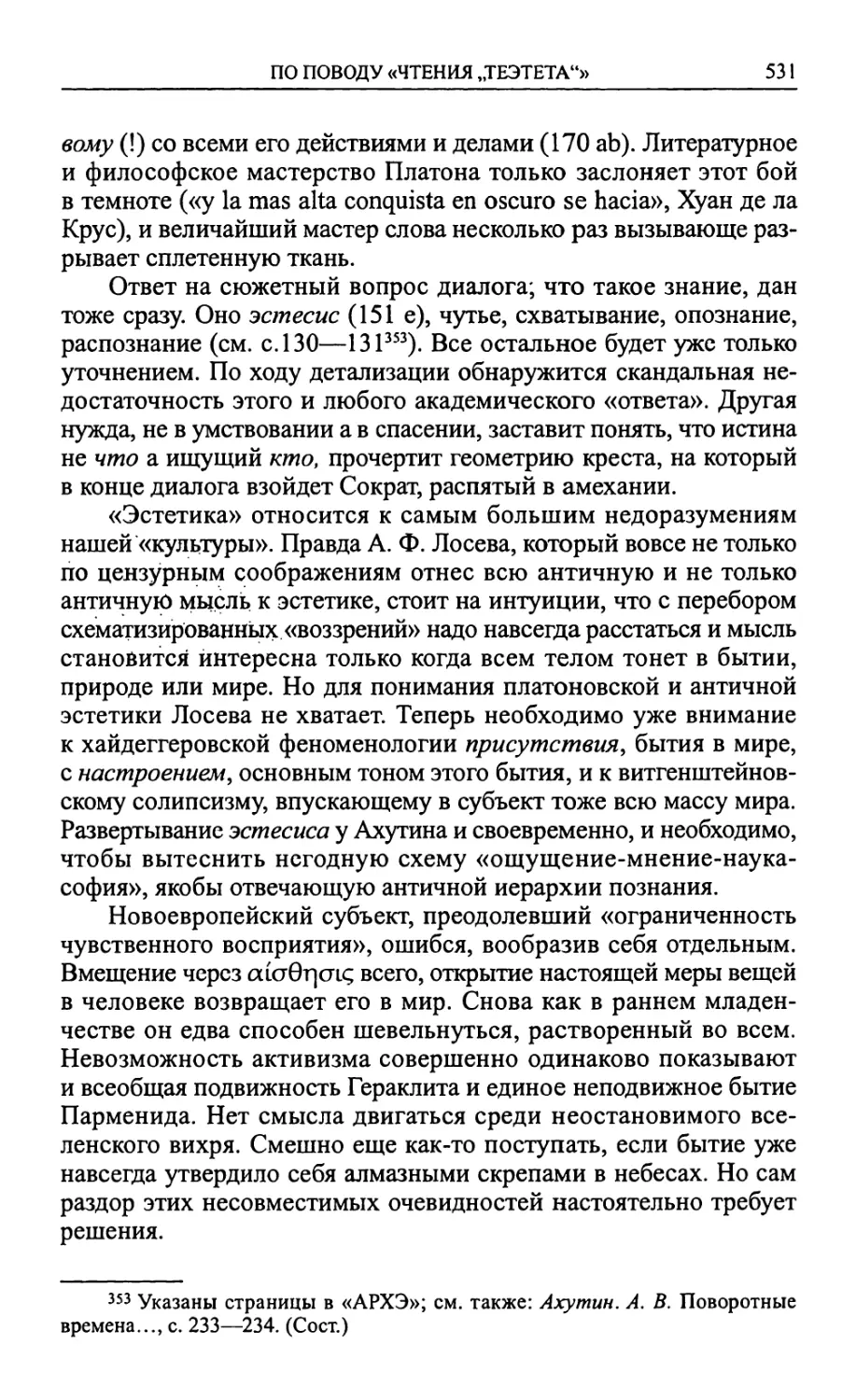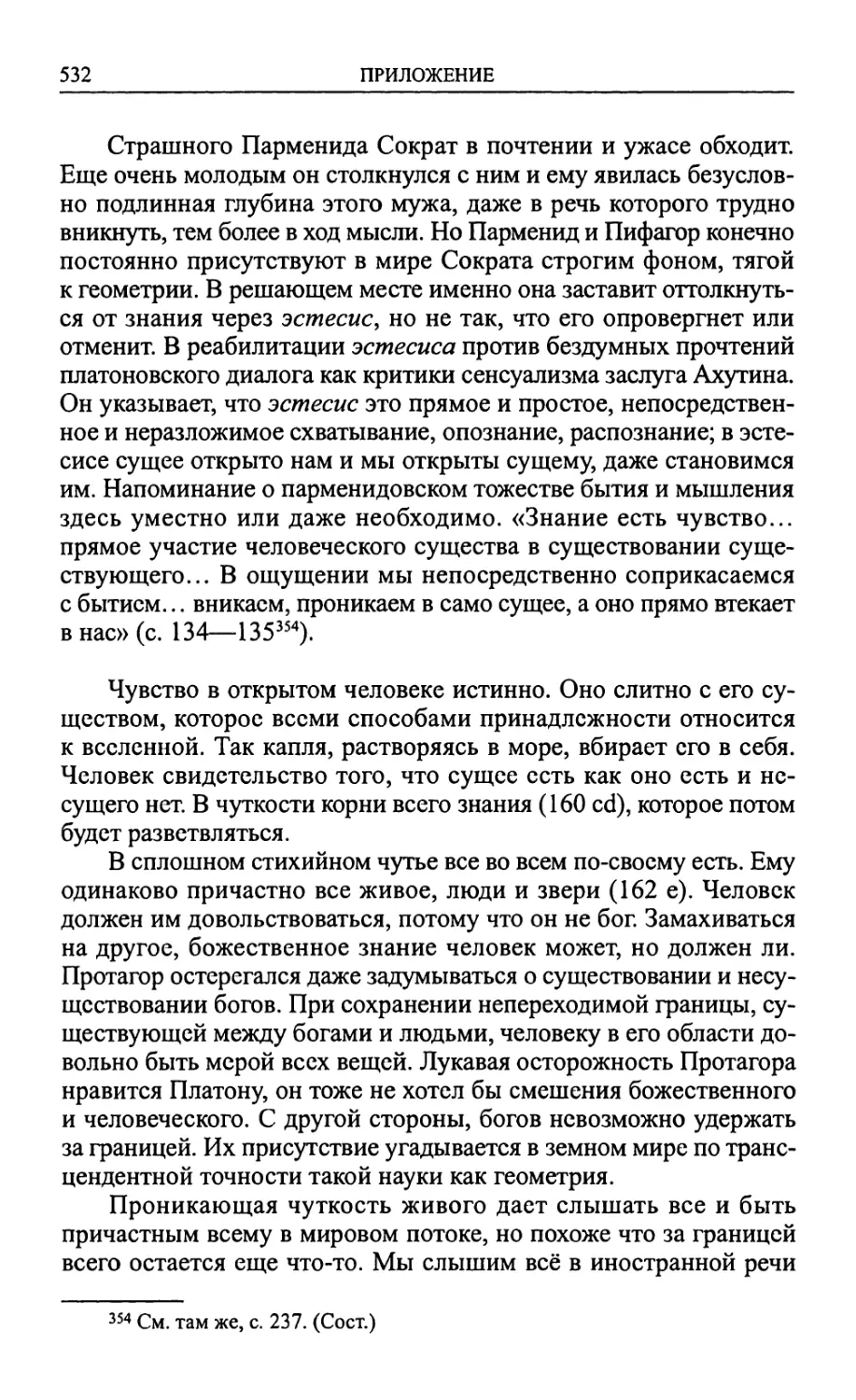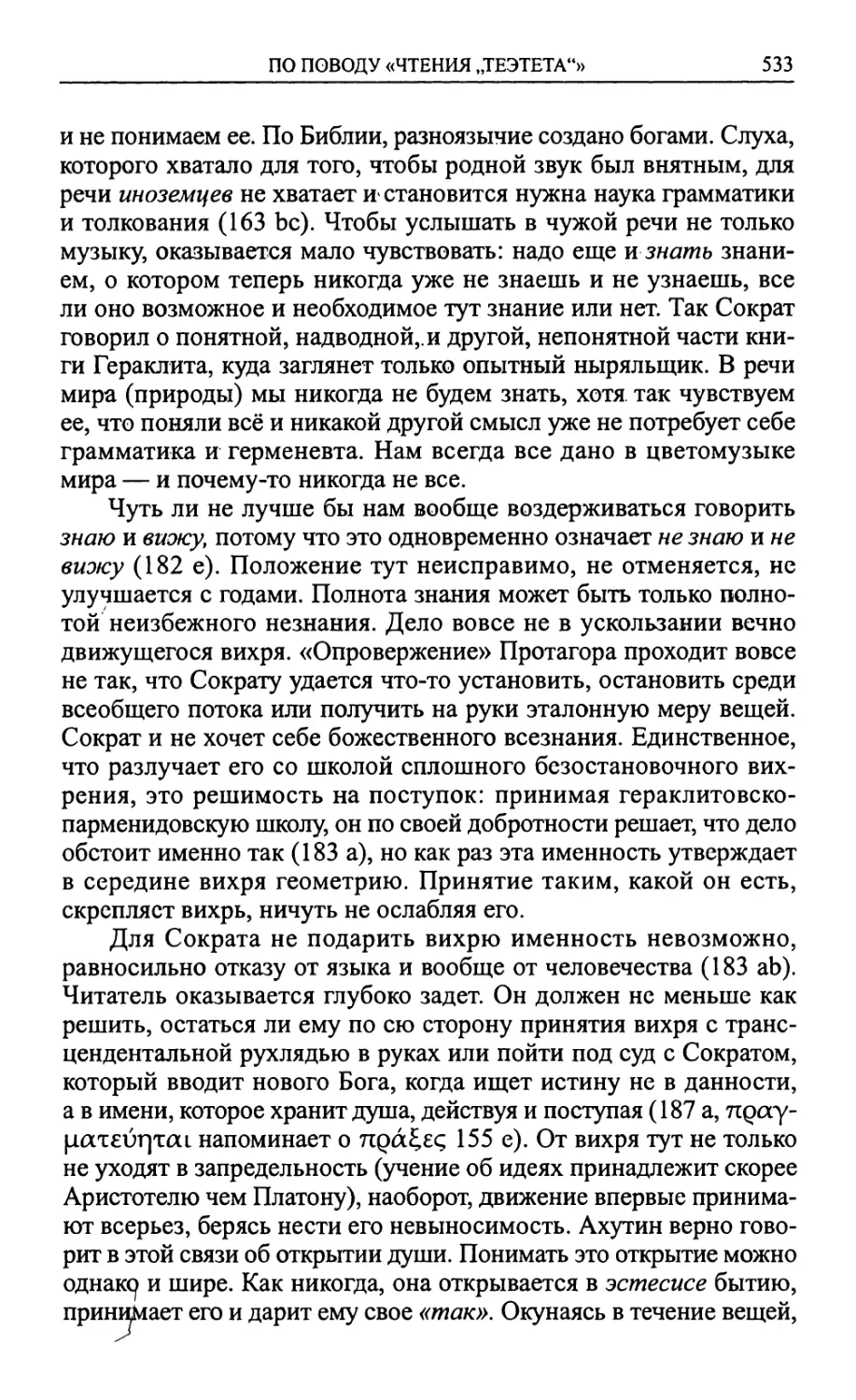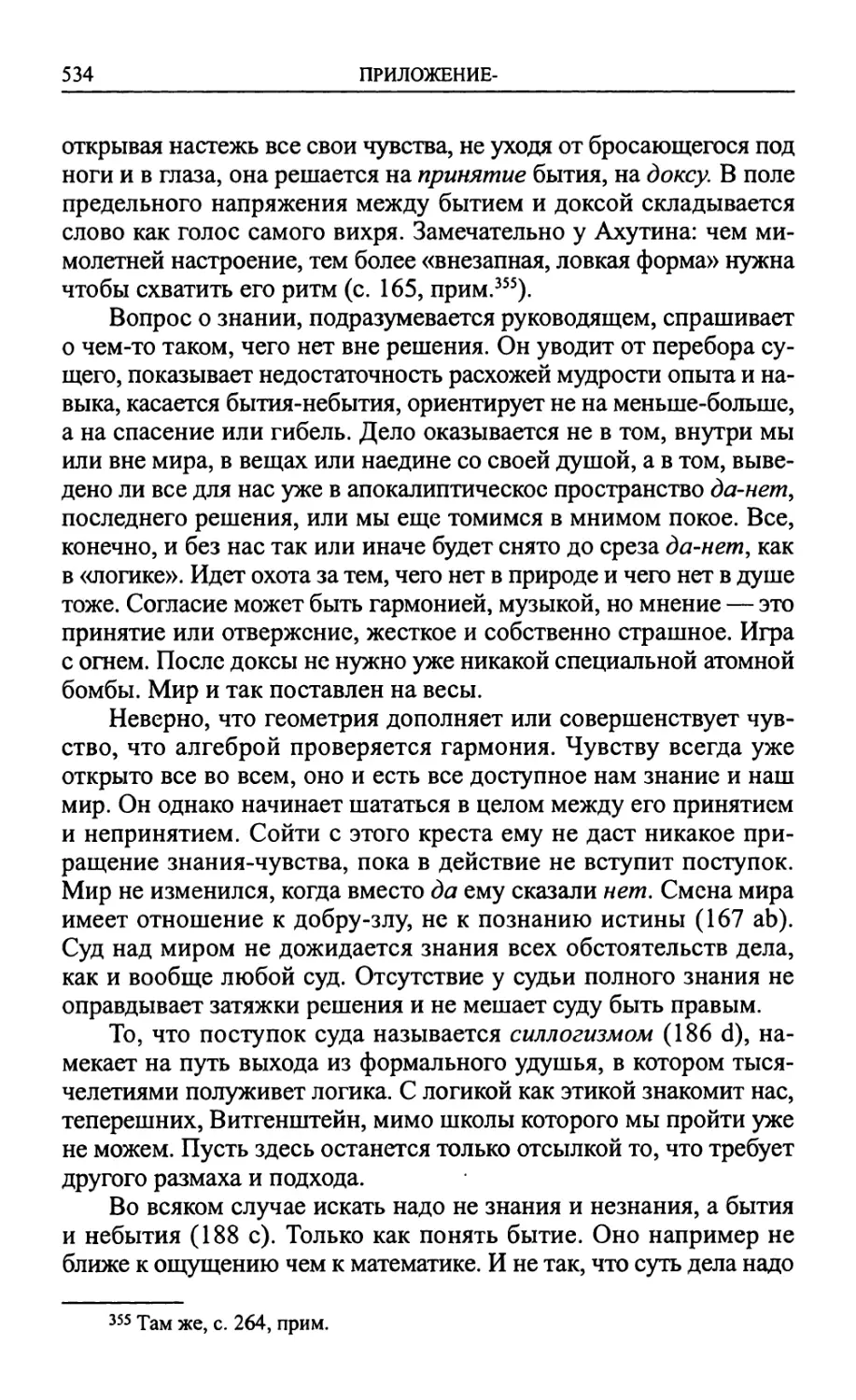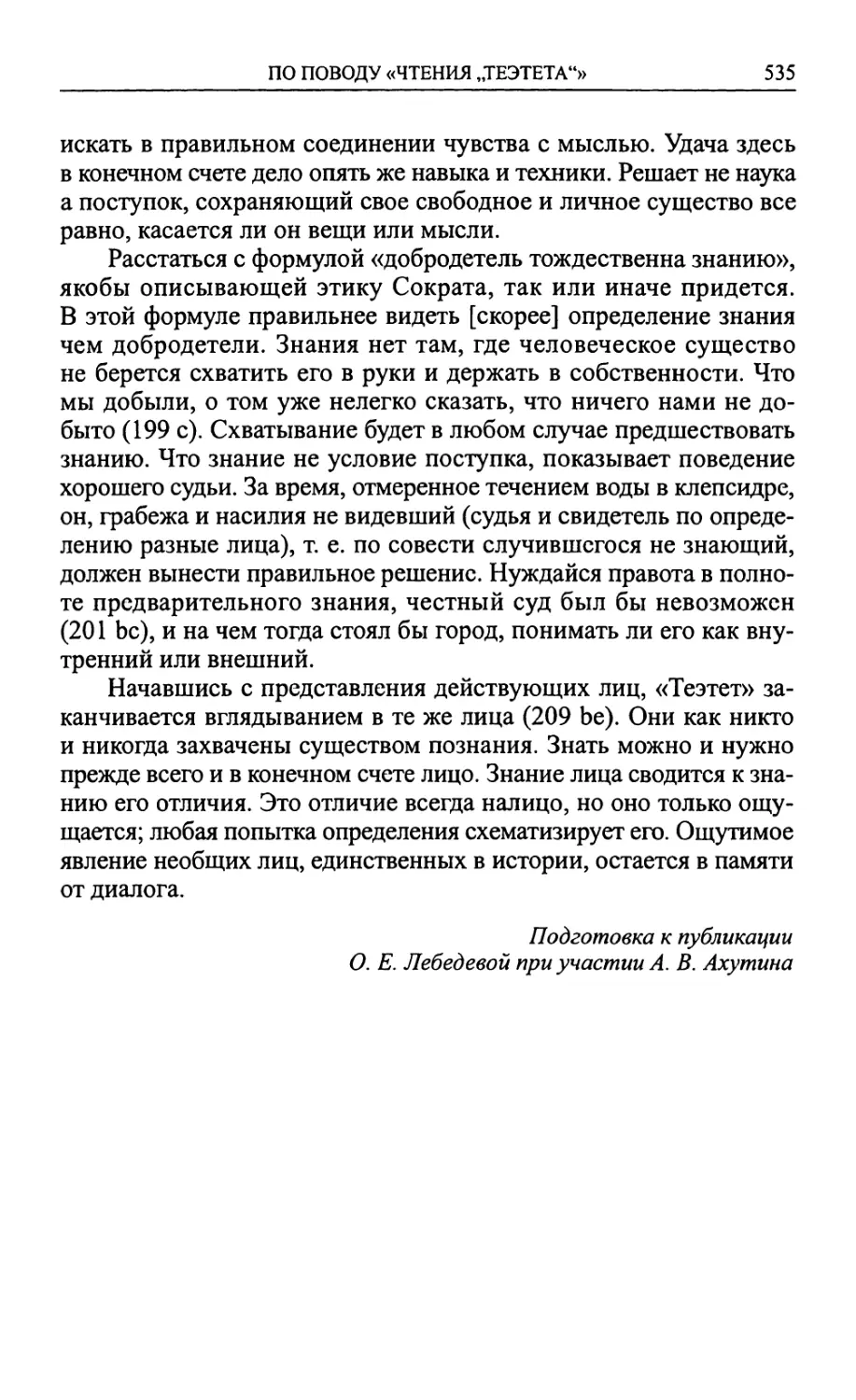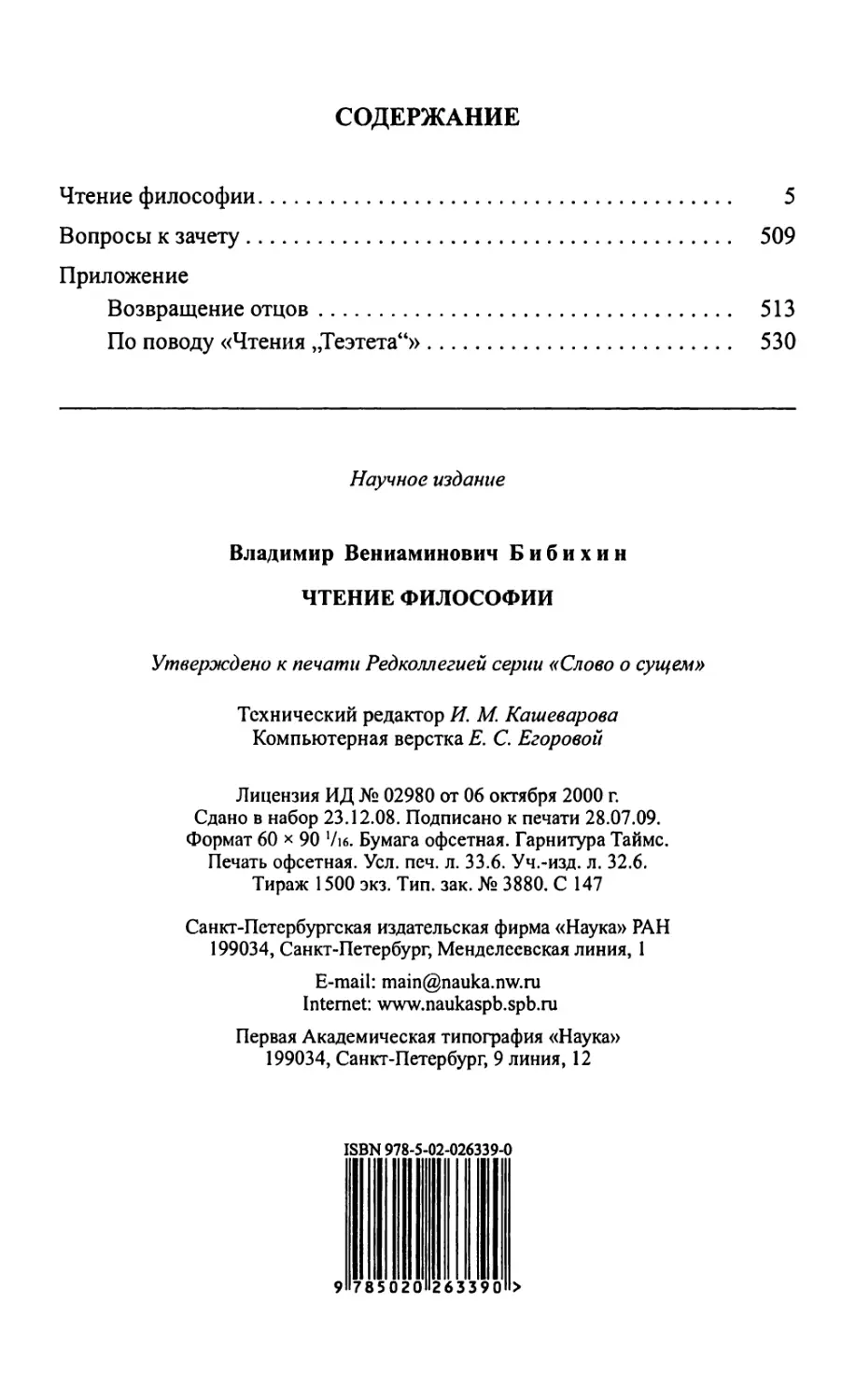Автор: Бибихин В.В.
Теги: философия духа метафизика духовной жизни история философии философия лекции метафизика издательство наука философская критика изучение философии
ISBN: 978-5-02-026339-0
Год: 2009
В. В. Бибихин
ЧТЕНИЕ
ФИЛОСОФИИ
Санкт-Петербург
«НАУКА»
2009
УДК 13
ББК 87.3
Б59
Серия основана в 1992 году
Редакционная коллегия серии «Слово о сущем»
В. М. KAMHEB, Ю. В. ПЕРОВ (председатель),
К. А. СЕРГЕЕВ, Я. А. СЛИНИН, Ю. Н. СОЛОНИН
Текст публикуется в авторской редакции
с сохранением орфографии и пунктуации
Бибихин В. В. Чтение философии. — СПб.: Наука, 2009. — 536 с. —
(Сер. «Слово о сущем»).
ISBN 978-5-02-026339-0
Новую книгу В. Бибихина образует курс лекций, прочитанный на
философском факультете МГУ в 1991—1992 гг.
Вводная часть курса посвящена прояснению оснований философского
чтения. «Чтение» — это подход В. Бибихина к философии, освобождающий от
политического, идеологического, «культурно-познавательного», одним словом,
потребительского отношения к философской мысли. Чтобы читать слово мысли,
удерживаясь от схватывания как захвата (в «установки», «концепции», «системы»
и т. д.), нужно обратить внимание на то, что наша захваченность всегда уже
случилась и устроена не нами. Дразнящая, терзающая неуловимость того раннего
события, захватившего нас, не должна стать поводом для срыва в увлечение
захватом самим по себе («взять дело в свои руки») ; лучше, плодотворнее, странно
сказать, остаться в путанице, беспомощной растерянности, «с пустыми руками
под открытым небом». Тогда у философии останется шанс: в бескорыстном слове
дать («допустить») быть событию, оказаться «местом, где событие светится,
становится явлением», где то, что есть, допущено быть как оно есть, а не
поставлено под учет и контроль.
«Философским чтением» первого семестра стали трактат В. Розанова
«О понимании» и работы Вл. Соловьева «Оправдание добра» и «Теоретическая
философия»; второй семестр целиком посвящен чтению поэмы Парменида.
Публикация лекций дополнена двумя статьями, имеющими отношение к делу.
Книга будет интересна всем, кто увлечен философией.
© В. В. Бибихин, 2009
© О. Е. Лебедева, составление, 2009
© Издательство «Наука», серия «Слово о
сущем» (разработка, оформление), 1992 (год
ISBN 978-5-02-026339-0 основания), 2009
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
Научить читать, вот единственная и вот
истинная цель верно понятого образования;
лишь бы читатель умел читать, и всё спасено.
Шарль Пеги
Недостаточно обратить внимание на то,
что мы читаем. Но достаточно— просто
обратить внимание. Не дать ускользнуть от нас
тому, что мы делаем. Обратить внимание —
это наше дело. Истина по-гречески ά-λήθεια,
такое положение, когда не господствует
ускользание из внимания. Для чтения мало внимания
к тексту; обращение внимания здесь включает
читающего и его внимание к тексту: чтение,
настоящее, это чтение и читателя не меньше, чем
чтение текста. Слово читает в читающем;
читающий слово читает им себя. Читать —
слово того же корня, что древнеиндийское «читта»,
мысль. И того же, что «чаять», и «чуять».
Внимание остается существом чтения.
В хранение буквы входит хранение
разночтений... Такое положение со всеми
текстами и всегда... И чтение, и разночтение, и спор
входят в событие.
Как у человека в ходе эволюции не
появляются новые части тела, так у философии в ходе
прогресса не появляется новостей. Ее новость
все время одна: напоминание, что уже
произошли вещи, очень рано, которые нам было бы
очень хорошо не слишком поздно заметить.
Философское чтение I—1
(первый вариант)*
ИФ, 30.7.1991
Университет, 3.9.1991
Чтение философского текста — условное название
предлагаемой темы, вместо которого надо будет, так или иначе — по
причинам, которые вроде бы сразу ясны, я сейчас скажу,
произнесу, — иметь потом другое, но вот другого пока нет, может быть,
подскажете; и обещать себе, что мы на самом деле хорошие, что
мы лучше, чем это шаткое беспомощное название, «чтение
философского текста», обещать себе хочется, многое, но мы и без того
уже много слишком сами себе обещаем, что у нас будет то, будет
это, ситуация подозрительная: сейчас мы никуда не годимся, но на
самом деле... но в будущем... Чем так себе обещать, лучше
присмотреться, где мы по-настоящему оказались. Что это за название,
что за тема; откуда она взялась, что она означает. Честно, взялась
она, скорее всего, от растерянности. Растерянность одна не ходит,
в ней много всего другого, например, зависть. Растерянность,
в том, что касается философского текста, наступает оттого, что
философия — это очень большое богатство, которое чем больше
мы к нему приглядываемся, тем оказывается больше, и мы
теряемся от незнания, за что взяться, от явного неумения все охватить.
Тогда появляется отчаянное желание подыскать один ключик, все
охватить одним приемом. И это опять подозрительно. Самая
первая реакция при потерянности — вот этот жест хватания, самый
он же почему-то (я даже не обязан разбираться, почему, я
только знаю, что это так) «естественный», первый попадающийся.
* Римскими цифрами обозначен номер семестра, арабскими — лекции
(прим. ред.).
8
В. В. БИБИХИН
И схватить хочется за то, что можно ухватить, а в философии,
кажется, всего проще ухватить текст, такое-то количество слов,
потому что он занимает 32 или 480 (говорю эти цифры не знаю
почему, может быть 32 это статья, 480 большая книга, или это
мои представления о том, какой должна быть длина текста статьи
философской и книги философской, довольно большими я их себе
представляю, меньше мне кажется, наверное, несолидно), — текст
состоит из такого-то количества слов, эти слова стоят прямо
можно сказать в железном порядке, они ни в коем случае не должны
быть передвинуты, и вот ведь интересно почему (т. е. почему как
они стояли сто или тысячу лет назад, так и будут долго, если
повезет и вообще будут, стоять). Вот почему мы храним текст таким
неизменным. Т. е. между прочим еще и почему. Потому что —
все это отступление от темы, но, может быть, нужное, — всякий
появившийся как событие текст подхватывается (опять почему-то
хватание), его схватывают, в разной мере, с разной глубиной, он
начинает жить в разговорах, спорах, опровержениях, в других
текстах, он взрывается, разрастается, размножается в целую
литературу, как ницшеанская литература (надо еще посмотреть,
сколько вторичного, отраженного ницшеанства, может быть
через Леонида Андреева, в Горьком, потом в Бухарине, конечно
в сложной смеси, конечно гротескного, пародийного ницшеанства,
когда то, что у Ницше было пародией, нигилизм и воля к власти,
становится стержнем, вокруг которого строить, а пародируется,
наоборот — как у Бухарина пародируется Есенин, — то, что для
Ницше было бы самым святым, поэзия; грустно говорить об
этих превращениях, самых немыслимых, которые почти всегда
впадают в то, что называется «с точностью до наоборот», как
в громадной платонической литературе идея была понята с
точностью до наоборот, не то, что должно быть рождено мыслью, а то,
что должно родить, породить собою мысль; или христианская
и в том числе христианская религиозно-философская литература,
вокруг слова Откровения Писания), — и вот по контрасту с этим
распространением, быстрым, неостановимым, всякого события
само событие закрепляется в том тексте, с которым
ассоциируется, и это неверно, т. е. что мы ограничиваем; в тексте Платон,
событие Платона, мысль Платона включает все те приращения,
переращения, превращения, которые с ней случились и которые
она в себе держала, несла с самого начала, в том числе
событие Платона включает и то, что с нами происходит, когда мы
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
9
читаем Платона1, — утрируя можно сказать, что Платон и нас
запрограммировал таких, имеющих «собственные мысли» по
поводу его сочинений и выражающих эти наши собственные
мысли в наших собственных сочинениях. Современный
исследователь пишет сочинение о Жаке Деррида с подзаголовком
«Поиски Жака Деррида», где насмешливо даже показывает, как
Жак Деррида блуждает и как в конечном счете совершенно
неспособен сказать чего бы то ни было определенного; и при этом
«раскусивший» Жака Деррида исследователь, стоящий над ним,
легко между делом пользуется дарами Жака Деррида, расчленяет
слова, вслушивается в их второй третий четвертый пятый шестой
смысл и так далее, а главное — находит нужным тратить время
на это явление, которое он так легко разобрал, что там
блуждание. По видимости Жак Деррида одно, исследователь
самостоятельно стоит в независимой позе поодаль и наблюдает, на деле
и сам исследователь вызван к жизни Жаком Деррида, который
так устроен, что как комета или реактивный самолет вызывает
за собой шлейф исследователей, и появление самого сочинения
исследователя полностью принадлежит событию Жака Деррида,
и иронические выводы исследователя показывают, что он этого
слона не приметил, подхватившего его как пылинку хвоста кометы
ветра космического (скажем) не приметил, т. е. что его работа
носит в собственном смысле, по самому своему существу название
«Поиски Жака Деррида», вся эта работа и есть не что иное, как
поиски потерявшегося в тумане шлейфа, с конца шлейфа за пылью
темнеющей уже не видимой кометы — но и этого исследователь
тоже не заметил, другого смысла своего подзаголовка, т. е. в какой-
то уже зловещей наивности не заметил, как может быть прочитано
и как обязательно будет прочитано придуманное им заглавие своей
работы, «Поиски Жака Деррида». Таких примеров, что люди что
там других, себя не слышат, что они говорят, [много].
Т. е. разумеется главное назначение хранения текста — это
наше знание, опасения, что иначе (да и без всякого «иначе») мы
его переиначиваем, хранением текста мы как бы кричим: держите
меня, а то я за себя не отвечаю, и за филологической
гиперкорректностью исследователей и публикаторов философских текстов
часто стоит вот это, отчаяние, что всё равно неуловимое,
неостановимое расползание источника мысли будет, и надо во что бы то
1 И поскольку это контролировать нельзя, бережем букву — ив этом тоже
промах, нам начинает казаться, что аутентичный Платон только в критических
изданиях. — Нет: И который имеет еще быть! Так что не охватим...
10
В. В. БИБИХИН
ни стало источник защитить, сохранить. А все равно уже и автор
его правил и было несколько вариантов, и с самого начала
источник в вариантах, и переписчики более мудрого времени что-то
изменяли, так что текст по линии текста, т. е. сохранения буквы
сохранить, как надеются гиперкорректные филологи, не удастся,
и сохранить его может только мысль, а мысль вещь настолько
верная себе, а не букве, что для сохранения того, что было в событии,
которое она хочет сохранить, она должна сама стать событием,
т. е. новым, не1 повторением, и так получается, что событие мысли
(скажем, Платон) всего точнее, строже сохраняется только
событием же,3 и в этом смысле Ницше платоник, когда уничтожает
запредельный мир идей, а Владимир Соловьев, по видимости как
будто бы платоник, имеет к Платону непроясненное отношение,
прояснить которое — дело еще даже и не начатое, обязательное
дело русской мысли. — И вот в хранении текста — сначала
просто это хранение, но потом — отгораживание текста от события,
в которое входит все то необозримое, что с Платоном (например)
делалось и делается. У этого отгораживания есть вульгарная
сторона: если я написал лексически, синтаксически такое, чего не
было, это считается моим новым, сбережение нетронутым текста
автора, классика поэтому оберегает меня, вернее, дает лицензию
мне: «смотрите, ведь то, что я написал, отличается от того, с чего,
вы думаете, я списал; стало быть, мое, новое». Сравните с тем,
что происходит в поэзии, где подражателя распознают по ритму,
мелодии, настроению. В философии это тоже доступно, но менее
принято, здесь ритму, мелодии, настроению уделяют меньше
внимания. — Здесь закончим наше отступление. Оно было о том,
что филологически строгое хранение текста в наше время имеет
оборотную сторону, приучает думать, что с такой буквой, с такой
запятой наш автор «аутентичный», а с другими — он «не тот»,
привязывая автора к тексту, хотя событие мысли включает, между
прочим, и то, что текст, скорлупа этого события, будут читать,
и будут читать по-разному, и о нем будут спорить, и чтение, и
разночтение, и спор входят в событие мысли; и задача не в том,
чтобы отсеять разночтения и «реконструировать подлинный текст»,
2 Здесь и далее полужирным курсивом набраны слова, особенно
выделенные в машинописи, например двойным подчеркиванием, заглавными буквами
с разрядкой и т. п. (Сост.)
3 Текст — искусственное образование. Почему же он тем важнее в своей
букве, чем больше событие? Потому что и он втянут, освещен тем огнем.
Поэтому внимание к тексту: он больше, чем он. Автор текста хотел сказать не
текст, а что-то.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
11
это просто никогда не удастся, и кислая сердитая корректность
научных филологов, которые раздражаются, что их изыскания не
становятся последним словом, не фиксируют текст бесповоротно
раз навсегда, просто смешна; что заслуживает большего, чем
чистота, внимания как событие, это что разночтения (понимая
широко) есть и будут, что они такие, какие есть, и что они вызывают
такое неудержимое желание «справиться» с ними.
Мы говорим о том, что ничего лучше жалкого, растрепанного
названия темы — «чтение философского текста» — нам не
подвернулось не оттого, что мы перегружены, нам не дают работать,
а если бы дали, если бы условия для работы были у нас
нормальные, или когда они будут нормальные, мы придумаем другое,
хорошее, не такое картонное название, толкающее подозревать,
что и мы тоже займемся манипуляциями с текстом, занятиями
«стилистикой» философов, их писательского «метода», их еще
может быть «поэтики» и так далее, т. е. занятиями ненужного
и тоскливого эстетства, о котором не хочется даже и говорить.
Нет: лучшее, более надежное название того, чем нам хотелось
бы заняться (чем-то живым), не дается нам не потому, что нам
не дали работать, а потому, что наша растерянность настоящая,
причина для растерянности такая большая, что растерянность
была бы и при очень хороших условиях работы (иначе — было
бы плохо, уверенность перед этим океаном), и даже если бы у
нас была хорошая философская школа, хорошая философская
библиотека, время достаточно для занятия только философией
и больше ничем. Потому что и в таком прекрасном случае
философия оказалась бы слишком большим, слишком богатым делом,
чтобы не растеряться перед ней — при условии, конечно, что мы
открыли бы на нее глаза, какая это блестящая вещь, а не
загородившись [смотрели]. — Что даже в самых лучших условиях мы
все равно были бы растеряны перед философией, я говорю не для
того, чтобы выгородить себя, оправдаться, выставить не таким уж
катастрофическим наше положение, уникальное, — потому что мы
действительно читали на редкость, в целом мире на редкость, ну,
может быть, кроме Китая, Кореи, мало и неравномерно, — скажем,
читали Энгельса, когда надо было уже Ницше, и Чернышевского,
когда надо было уже Розанова, но за спиной стоял кто-то смотрел
пристально и отбирал, прятал, сжигал зачем-то Ницше, Розанова.
Мы читали мало и большей частью не то, от этого тоже у нас
сейчас растерянность, — она удваивается уже, от несметности
богатства она сначала, потом оттого, что что-то мешает нам на
подходах к богатству, говорит, крича: не смотри, не так смотри,
12
В.В.БИБИХИН
не туда смотри, делаешь неправильно, делай правильно. Я уже раз
вспоминал, как, во время моей работы в Институте
электрификации сельского хозяйства техником-лаборантом, в мастерской, с
машинами, экспериментальным силосом, в кабинетном помещении
лаборатории, т. е. имея дело с теорией, сидел инженер приятный,
спокойный, полноватый, пышущий здоровьем (такие неожиданно
умирают, так случилось с ним), с круглым русским лицом, его
звали Василий Васильевич. Узнав, что я интересуюсь
философией, — я тогда перевел «Идею Университета» Карла Ясперса и
пытался всучить перевод заведующему лабораторией, все-таки
научно-исследовательское учреждение, — Василий Васильевич
рассказал, что еще в школе или в начале института как-то
зачитался взятой в библиотеке философской книгой, да так, что его
странно захватило, мороз по коже пробирал и голова кружилась.
Он описал свое состояние библиотекарше, «дайте что-нибудь еще
такого же почитать», но та предупредила: не читайте этого,
сойдете с ума. И он не стал, больше никогда философию не читал. —
А что, я скажу, разве лучше, а не хуже читать с мозолистым умом,
уже без мурашек, головокружения, «анализируя текст»? Хуже.
Потому что тогда уже у нас не будет даже и растерянности перед
философией, и в названии «чтение философского текста» не будет
слышаться уже ничего недолжного, подозрительного, нам будет
казаться, что все в порядке: а что, разве нет философского текста?
И разве не надо его читать? И разве это не занятие как другое
занятие, требующее искусства, метода, навыков, правил, чего еще в
этом роде — установки, тренировки, опять хватки, метода?
Установка тоже бывает всегда уже вторичной, она
отсутствует в первом удивлении, прикосновении, простой привязанности;
установка бывает уже от потерянности, растерянности (когда ее
хочется скрыть), причем отчаянной, когда другого выхода уже не
видится, и приходит решение, что надо «взять дело в свои руки».
Или «не теряться больше», «взять себя в руки». Интересно, что
сказал бы Фрейд об этом решении «взять наконец себя в руки».
Схватывание опять. Оно не первое, как я сказал; в первой
простой захваченности вещами схватывания пока еще нет, или есть,
но нас схватили, захватили вещи. Что такое наше схватывание,
когда оно перестает быть одним с захваченностью, — перестает
быть тем, чем оно всегда бывает с самого начала, чем-то таким,
где трудно увидеть или совсем нельзя видеть разницу между тем,
что нас захватывает, и тем, что мы схватываем? Что-то происходит,
важное, кажется — необратимое. Порча. Падение. Мы начинаем
захватывать, и становимся захвачены только этим самым нашим
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
13
захватом, нас захватывает то, что мы можем, умеем захватывать,
много, все больше, и мы уже не можем остановиться, пока не
захватим всё, т. е. пока всё (тут можно думать о «всеединстве»,
о «мире», о Едином) не утратит раздражающий, неуловимый,
терзающий характер захватывающей тайны и станет уже нашим, нами
охваченным, таким, которым мы овладели (коммунист должен
не оставаться в стороне от богатства культуры, он тогда плохой
коммунист, нехорошо так, надо овладеть всем богатством, причем
именно всем, здесь не количество важно, а всё, поэтому
следующим шагом такой установки будет объявление, что то и другое
и третье не нужно, не входит во всё, и всё удобно, оно такое, о
котором заранее известно, что оно уже всё — т. е. опять же главное
лишить всё неуловимости, такой неудобной вещи, сделать ее
такой, которую можно обозреть). Эти договоры с самим собой, что
«кто бы там что ни думал, а я для себя решил, что будет мне всё,
вышел той решительностью из растерянности, собрал себя» —
эти договоры сознания с собой разрушаются философией, она
возвращает к растерянности, и, если не разрушились, то второй
раз разрушаются тем, что философия разная, и несводимо разная.
Эти хождения вокруг да около нужны, чтобы мы, не дай Бог,
не вздумали вырабатывать какие-то подходы к чтению
философского текста, т. е., значит, втискивать его в наш метод, который их
все, тексты, заранее под себя подомнет. Жак Деррида говорит, что
не бывает «философского текста», бывает философское чтение;
т. е. есть люди, которые все время, казалось бы, только и
занимаются чтением философских текстов, но читают их как газету, т. е.
не видели не слышали ни слова философа. А философское чтение
не страдает оттого, что перед ним газета, т. е. страдает, конечно,
потому что бездумие, глупость нестерпима, но не страдает в
качестве философского, т. е. среди страдания, самим этим страданием
от бессмыслицы не пострадало как философское чтение, осталось
философским. Мы по этой подсказке Жака Деррида могли бы
поэтому говорить «Философское чтение текста», но это была бы
уже претензия научить философскому зрению, а у самих-то нас
оно есть, часто ли, по-настоящему ли есть? Другое дело — даже
подслеповатым зрением, или по теплоте («слепой не видит
солнца, но чувствует его теплоту») проще распознать, что мы имеем
дело с настоящим. Если мы хоть как-то, почти на ощупь, владеем
философским чтением, то уж и знаем, догадываемся, где
настоящее, где событие. Около события светло, тепло. Один мальчик
любил и требовал включать свет, дома, потом на улице; к 2-м
годам 3-м месяцам он вырос из этого увлечения, но продолжал все
14
В. В. БИБИХИН
вещи, т. е. все, что попадало в круг его интереса, понятное или
непонятное, называть «огонечками», «огоньками» — патрон для
электрической лампы, камушек, и здесь не было редукционизма,
назвать «огонечком», чтобы не трудиться над отыскиванием
точного имени, потому что, скажем, он мог в саду показывать
побуревшую ягодку и спрашивать: «Этот огонечек называется клубника?»,
или другую, подобранную с земли, полусмятую: «Этот огонечек —
облепиха?» У него были и другие обобщающие названия вещи,
«причиндалинка», «агрегат», но он предпочитал «огонечек». Вещи
светили, светились, мигали, мерцали. Но разве в слове «вещь» не
скрыта весть, говорение, и разве в древнеиндийском, например,
«речь слово» не того же корня, что «светить», и в древнегреческом
слова говорения не родственны словам явления, света — и разве
в нашем слове «явление», в греческом «феномен» не то же, что
в «огонечке» двухлетнего мальчика? Около события светло, тепло,
я сказал. Почему? Это в другом месте уже говорилось.4 Не человек
придумывает устраивает событие, а человек существует
постольку, поскольку есть светящееся, что-то является — поскольку дает
место, пространство событию. Человек не посторонний бытию,
он сохнет и сникает, когда скатывается в безсобытийность, он
лучше сожжет общественную постройку, чем останется вне
события — не хочет, не может, страдает уже в плохом смысле, что
перестает быть, хотя страдает от бытия, но страдает не как человек,
т. е. страданием, от которого становится больше самим собой.
Человек от этого страдания не страдает, человек становится
более человеком, и наоборот.
Если событие — настолько первое для человека, что человек
вписывается в него, то вопрос «что делает философию событием»
требует тавтологического ответа: событие делает философию
событием. Философия это такая вещь, которая дает быть событию
и пропускает его через себя, т. е. впускает в себя так, что не
закрывает и выпускает снова, она место, где событие светится,
становится явлением. А что разве без философии событие не стало бы
явлением? Вот похоже, что не стало бы. Кто-нибудь сказал бы, что
оно не явление, или не то явление, или не такое, какое надо. Кто-
нибудь что-нибудь не так бы сказал... В чем дело? Что,
собственно, происходит? Почему так важно, чтобы кто-то что-то сказал?
4 Возможно, имеется в виду курс «Мир». См.: Бибихин. В. В. Мир. Томск:
Водолей, 1995 (переиздан с исправлениями и дополнениями: СПб.: Наука, 2007).
(Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
15
Почему сказал! Разве дело, в данном случае событие, не говорит
само за себя? Конечно говорит. Человек, скажем, рождается; это
событие; оно говорит само за себя. Почему так важно, кто что
о нем говорит? — Ах мы знаем, что важно, и прежде всего важно,
и больше всего важно именно, кто что и как говорит, в том числе
о рождении ребенка, и матери и отцу ребенка, и потом ребенку, так
важно, что от этого говорения все зависит для ребенка, будет ли он
человеком, потому что человек такое существо, что для него может
оказаться то, что он есть, и хуже, чем если бы не было. Но почему,
почему все зависит от того, кто что и как говорит? Неужели язык,
или, в нашем случае, философский текст имеет такое «большое
значение» «рядом» «с событием»? Так что даже и события
никакого не было бы без слова? Страшно подумать, но ведь это так.
И рождение не было бы событием без слова, как не событие, ах,
вообще ничто. Откуда мы взяли, что есть событие? Событие под
вопросом! Нет никаких событий, посмотрим правде в глаза. Есть
физиология, геология, зоология.
В том, что происходит, должно участвовать сознание. Так это?
Разве не так? Или внимание. Не спите, не будьте невнимательны,
говорят ученикам — в школе, за станком, везде, любым
ученикам. В этом — в том, что должно участвовать сознание, — есть
та неправда, что когда Розанов, например, не слушает учителя
и мечтательно заснул, он тоже участвует, но не сознанием, потому
что сам не очень хорошо знает, в чем участвует, но такое участие
существеннее (Розанов в нем припадает к лону, к соскам мира, как
он сам говорит, и участвует в мире, т. е. в самом мире, а не только
в уроке географии). Поэтому, когда говорят, что человек должен
не спать, не быть невнимательным, а участвовать сознанием в том,
что ему говорят, вообще в происходящем, то это уже программа,
и известно чья — программа сознания, которое расширяет или
хочет расширить в Новое время сферу своего влияния, оно знает как
и знает для чего (для ликвидации неграмотности, для всеобщего
среднего образования — цель которого, по Эзре Паунду, отучить
массу от чтения классиков, — для внедрения в массу правильных
убеждений и так далее), не обязательно говорить, что человек
обязан участвовать в событии сознанием (вообще участвовать
в происходящем, иначе вместо биографии остается биология,
зоология); достаточно сказать, что он должен участвовать. Мы тут
оказываемся посреди платоновского учения о причастии, μετοχή,
совладении. Как при этом происходит причастие, сознательно
или бессознательно, неважно или даже совершенно неважно или
даже: лучше, полнее причастие, совладение происходит, когда бес-
16
В. В. БИБИХИН
сознательно, потому что иначе энергия события растрачивается,
так сказать, на отражение в сознании. Может быть, самое важное
причастие, глубокое совладение происходит в глубоком сне —
какой люди почти уже разучились иметь, они спят поверхностно,
этот поверхностный сон болезнь, от которого излечивает человека,
разучившегося спать глубоко (как еще умеют спать дети,
например, после рождения или тем более до рождения, ночью и днем,
ведь дети днем тоже спят, они живут во сне, которому мы завидуем
и который им не мешает делать вещи, для нас иногда уже
невозможные; их разбуживают от этого сна, внедряют в них сознание,
но неясно, надо ли это делать, не болезнь ли цивилизация
сознания), только смерть.
Попробуем, что будет, если вместо «участия сознания»
говорить, думать просто об «участии». Участие может быть и без
сознания, как младенец в теле матери участвует в ее жизни, но
не сознает и очень долго вообще не будет знать, что он в теле
матери был (странно, что он был там навсегда), и когда узнает,
еще не осознает, а при каком-то развитии — правильном или
неправильном? — вообще по-настоящему никогда не осознает,
что его тело было да и по существу остается до такой степени
связано с другим телом, что оно до такой степени
несамостоятельно. Но осознание своего утробного возраста, о чем мечтает
психоанализ, не обязательно, потому что этот опыт никуда не
делся и без осознания продолжается, без всякой Юлии Кристевой,
в частой позе во время сна, например; в ощущении верующего
внутри храма, бесконечный уют; в настроениях, как например
то — размывания, расплывания, — которое Юнг называет
«океаническим чувством». И без осознания опыт нашего тела в другом
теле (Юлия Кристева, ее семинар об этом в Париже, в этом году)
продолжается, и еще как, и может опять же без всякого осознания
обернуться или развалом нашей жизни, когда мы будем
безнадежно стараться вернуться к тому уюту, или наоборот началом работы,
началом спасения. А осознание — что оно с тем опытом сделает?
А ровным счетом ничего. В самом обычном случае сделает то, что
сознание делает вообще со всем — стерилизует, отнимет энергию.
О сознании я уже говорил в другом месте,5 а тут нам достаточно
знать, что можно участвовать в опыте, в событии и без сознания,
осознания. Спорить тут не о чем, это просто так, и я говорю тут не
свое, а вспоминаю старое добро философии, и Шеллинг, Плотин
об этом говорили самым явственным, проговоренным образом,
5 См. предыдущее примечание. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
17
но по-своему; часто даже интереснее, неожиданнее — другие,
собственно, все, например, Аристотель в «мышлении умом самого
себя». Пытаясь воспроизвести своими средствами это «мышление
умом самого себя», сознание, уверенное, что оно-то уж явно и есть
и ум, и мышление, пытается как-то углубиться в саморефлексию
и взвинтить себя до очень быстрого кружения на одном месте,
чтобы успевать быть тем, чтобы ловить самого себя за хвост, и здесь
с самого начала промах в том, что формула «ум, который мыслит
самого себя>^ первым своим значением имеет то, что ум уже не
растекается вне себя, не растрачивает себя на сознание и знание
и потому нашему учету и контролю уже не поддается. Грубым
и стерильным, в плохом смысле, языком говоря, аристотелевский
«ум, который мыслит самого себя», — это «бессознательное»,
о котором мы знаем тем, что его не знаем, и знаем потому, что на
нем наше знание кончается. Аристотель интереснее Шеллинга
потому, что и это аристотелевское учение, и учение о способности
(вмещении) и энергии отделены от нас бездной нашего
непонимания, потому что когда Шеллинг говорит о «бессознательной
продуктивной интеллигенции», то мы по крайней мере знаем, в какую
сторону надо думать, а с аристотелевским самомыслящим умом
или самодвижущим двигателем — до сих пор попадаем не туда,
это для нас за семью замками. — Словом, что можно участвовать
в событии без сознания, это старое добро философии.
Философия этим сама себя не отменяет? Зачем тогда писать
книжки, если и так, без знания и осознания, можно участвовать
в бытии, и младенец внутри тела матери книжек не пишет, ему
там нечем писать, а все равно он в бытии участвует, еще как (дух
захватывает от того, как он там участвует в бытии), и нам бы так
снова хоть чуточку поучаствовать, хоть краешком глаза в то
участие заглянуть. — На этот вопрос, задаваемый снова сознанием,
ответ простой: философия это не сознание. Она к сознанию не
имеет отношения. Это проявляется многими способами. На
поверхности, самым первым очевидным образом это проявляется
в том, что мы, во-первых, не знаем, что такое философия, а во-
вторых, даже изо всех сил захотев, устроить философию, т. е. вот
на этом месте взять поставить философию, чтобы она была, а то
ее нет, не можем. Это будут все манипуляции сознания, которое
умеет производить очень разные и очень много манипуляций, но,
как я будто бы меня занесло, а на самом деле нет, сказал, к
философии не имеет отношения. Философия есть так, что мы не знаем,
как она есть, и можем, как мы говорили, пройти мимо нее и не
прочитать ни одного слова в ней, даже держа в руках всю жизнь
18
В. В.БИБИХИН
философские тексты. Мы снова упираемся в вопрос философского
чтения: мало собрать на столе то, что мы считаем философскими
текстами, надо еще иметь способность философского чтения.
«Упираемся» — слово той же семьи, что апория, непроходимость.
Философия — апория. Это опять отступление, а ниточка наша
в том, что философия не имеет отношения к сознанию, значит, она
участвует в событии мы не знаем как? Мы не знаем как; поэтому
никогда не перестает быть важным читать, и читаем и еще долго
будем читать Платона и Платона другого, Хайдеггера. Мы не
знаем, почему, зачем и как философия участвует в истории; чтобы
узнать, надо философию читать, а мы — снова ходим по кругу —
читали мало и Бог знает как, большей частью, боюсь, увы пытаясь
«схватить», отыскивая «ключи», какие-то «первоначальные
интуиции» философов, угадать какую-то «телесность» — то была еще
лишняя трата времени, — все пытаясь отпереть ларчик; т. е. задача
бесспорная, несомненная, где ошибиться нельзя и мы не
прогадаем, если усядемся терпеливо читать (что, кстати, теперь уже очень
мало вероятно, потому что понимающие люди говорят, что в
человечестве умение читать кончилось, и Джордж Стайнер, например,
думает, что пора образовать кружок и, как начинался с нескольких
человек вокруг учителя средневековый Университет, так начать
понемногу пробовать заново учиться утраченному искусству,
искусству чтения. Или как Жак Деррида говорит, что весь его метод
сводится к тому, чтобы внимательно прочесть и еще раз
прочесть). По-латински «читаю второй раз» — повторно,
внимательно, тщательно — relêgo, отсюда слово «религия», и очень странно
и жутковато, что принадлежность к религии сейчас будет понята,
скорее всего, как раз наоборот, не как способность вглядеться,
вчитаться внимательно в то, что мы уже видели, чтобы увидеть
другое, а как навык везде, во всем, куда бы мы ни глядели, видеть
все одно, прочитывать все в заранее принятом и усвоенном,
установленном смысле, поскольку у меня есть религиозная установка.
Тогда, долго учась читать и читая, «религиозно», мы может
быть, если повезет, начнем понимать, что такое философия,6 —
но уже сейчас разве нельзя отчасти, схематически понимать это?
Попробуем очертить ее схематически (схема от σχεΐν,
«схватить», — опять схватить, но мы уже видели, что раннее
схватывание еще не скатилось в захват, оно бывает таким сильным,
быстрым, мгновенным, как восприятие детей, от захваченности, когда
6 Вот почему сказать «религиозная философия» значит выдать, что ты не
знаешь, что такое философия.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
19
захваченность и схватывание слиты в одно, как у ребенка, который
загляделся на кошку, лижущую сметану, и вглядывается в нее,
и опустился на пол, и приблизился к блюдцу, смотрел смотрел на
красный язычок и вдруг сам вместе с кошкой по другую сторону
блюдца лизнул ее сметану; или как другой ребенок, меньше года,
услышал, проносимый по лестнице, мяуканье кошки и вдруг
сам мяукнул с той тонкостью и богатством голоса, какие бывают
у человеческого ребенка в возрасте вокруг 8, 9-и месяцев и потом,
с началом речи, кончаются. Здесь схватывание от захваченности,
которое участвует в вещах полнее, чем будущий захват, занятие
сознания, но еще не думает о захвате; «схематически» поэтому
не обязательно обедняя; схема может иметь смысл и того первого
очерчивания, которое нужно, чтобы наметить, где и с каким
размахом расположилось то, что мы ищем).
Попробую очертить так схематически, сделать скачок:
философия это допущение. В ближайшем смысле всякая мысль это
допущение. Мы начинаем думать с предположения: «допустим...».
Что значит допустим? Примем, что так. Положим. А что, можем
не принять? Даже очень просто. А что мы принимаем? Мы ведь
обычно не принимаем — давно перестали — ни того, что нам
говорится, ни того, что нам кажется, ни того, что принимали
в детстве (в детстве многое принимали, теперь нет). Это
неверие — вовсе не достижение городского скептика изверившегося
интеллектуала, деревенский простой человек тоже ни во что не
верит. Это очень странная, в сущности, ситуация; мы почти ни
во что или вовсе ни во что не верим, и все равно продолжаем
жить, живем на «допустим»: временно, условно допускаем (ну,
много что допускаем: что рубль, который нам платят, настоящий,
что то, что я сейчас говорю, имеет какой-то смысл, и так далее).
Мы живем сплошь на допущении: «допустим, временно условно
допустим... а потом посмотрим, проверим, что там на самом
деле или как еще там»; словом, «пускай пока». Безусловно мы
что-нибудь допускаем? Первый наш ответ, почти панический, как
хватаются за поручни, когда падают в метро: конечно, да. А что
именно? Потому что что это была бы за жизнь, если бы мы всё
допускали только условно. Конечно, конкретно, о каждой вещи
говоря, мы ее допускаем условно, но обещая себе, что есть база,
что для нас есть допускаемое нами безусловно, принятое нами.
Вот это будет вопрос вопросов, это будет нам трудно, сказать,
что это такое. Тут будет много раз «нет, не то... да подождите,
я не совсем так хотел сказать...», с сердитостью, с раздражением
в конце: ну конечно же, есть безусловное. Ну подождите, сформу-
20
В. В. БИБИХИН
лирую, скажу... Философия спрашивает (в своей так называемой
критической функции): но скажи, что безусловно? Надоедливое,
назойливое спрашивание, от которого мы отмахиваемся, потому
что чувствуем: скажи ей, сформулируй что именно безусловно,
и поскользнешься; она тут же докажет, что нет, это пока еще не
безусловно, это пока еще допущение. От этого не убежать. Тут два
вопроса: философия сводится к критической функции, к
настойчивому спрашиванию? И второй: философия это вот такое, каким
все мы живем, допущение, принятие чего-то, только, скажем,
пропущенное через критическое сито, отсеянное, проверенное,
безошибочное или по крайней мере (где уж там безошибочное!)
надежное? На оба вопроса надо ответить «нет». Философия не
сводится к критической функции, к прилипчивому занудливому
дознанию «а как вы это понимаете, а что вы под этим понимаете».
И философия не отсеянное, критически проверенное допущение
в смысле: «да, вот это допустить, так считать, так полагать можно
и следует, а по-другому нельзя и не следует». Философия —
допущение в другом смысле.
Допущение ведь не обязательно сводится только к этому
«допустим...», потом «проверим...» и «да, действительно так».
Это мы описали опять же типичную деятельность сознания с его
схватыванием, фиксированием, которая начинается с отражения:
сознание отражает действительность и отраженная
действительность — отшвырнутая — должна после этого, обязана ползти
на коленях к сознанию с просьбой ее принять, допустить. Тогда
может быть сознание выдает ей, после проверки, удостоверение,
или не выдает, или выдает только условно, или только на время.
Сознание сидит на своем контрольно-пропускном пункте и
выдает удостоверения. Другое совсем дело, что действительность
находит способы обойти сознание и давно уже его обошла; это
для сознания ничего не меняет, оно все равно с чем-то имеет дело
на своем контрольно-пропускном пункте, допустим, уже только
со своими бланками и печатями и с совсем случайными
посетителями; но в случае, если сознание вообще ничему не выдаст
удостоверение, ничего не допустит, а, по правде сказать, теперь
так почти всегда и бывает, мы уже редко что теперь допускаем,
мы только уже всё принимаем к сведению, все свелось к
информации, мы довольствуемся информацией и вращаемся в потоке
информации, — я говорю, в случае, если сознание ничему вообще
не выдает уже удостоверений, оно не начинает думать о себе хуже,
не поставит себя под вопрос, наоборот, думает о себе, что оно
особо критичное, что его на мякине не проведешь, или теперь уже не
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
21
проведешь, «поэтому ко мне больше никто уже и не суется за
удостоверениями, знают, что со мной шутки плохи, и я вижу
все насквозь». На своем контрольно-пропускном пункте сознание
сидит одиноко, и это одиночество считает признаком, что оно уже
поднялось высоко, до яркой, творческой индивидуальности —
или что-нибудь в этом духе. Оно поднялось и выше философии
(философия преодолена, или что там еще), потому что уже знает
условность всего, что говорит философия.
Один немецкий профессор, от которого потребовали документ,
что он имеет право перенести чемодан из холла в свой номер на
каком-то этаже гостиницы «Ленинградская», сказал рассерженно:
«Страна документов!» У нас, в самом деле, даже универсальный
документ, деньги, еще не совсем документ, нужен еще документ,
что вы имеете право иметь деньги, а тот документ, строго говоря,
сам нуждается еще в одном удостоверении, и так далее, и
последнего удостоверения нет. На Западе проще — имей доллар. Но сама
эта безысходность, гротескная, комичная, документов на
документы, когда конца удостоверениям явно нет в нашей стране и уже
можно определенно предвидеть никогда не будет, и не видно нигде
возможности такого сильного документа, чтобы он был бесспорно
всем документам документ (самый сильный документ,
«заправку», т. е. не просто справку, а «заправку», т. е. мета-справку, всем
справкам справку, написала трехлетняя девочка, приехавшая с
родителями в Сибирь и слышавшая их проблемы с требовавшейся
какой-то справкой; силу «заправке», сверхсправке, придало то, что
девочка заполнила каждую клеточку листа из тетради в клеточку
маленькой-маленькой закорючкой, так что уже ничего добавить,
ни одной пустой клеточки в таком документе не было; сильный
документ написала и одна известная поэтесса,7 доведенная до тоже
трансцендентального состояния количеством справок, которые от
нее требовались для подачи в одну-единственную официальную
инстанцию, куда она вообще за свою жизнь подавала документы;
она взяла тогда, кажется, школьную чернильницу-непроливайку,
обвела ее, получилась штамповидная окружность, и потом от руки
придала печати и справке такой блеклый, скучный, обыденно-
официально-тоскливый вид, что ее приняли без разговоров, хотя
к другим, «настоящим» документам строго присматривались). За
исключением случаев этой трехлетней девочки в Сибири и этой
поэтессы, бесспорно сильного документа у нас — каким на Западе
будет, скажем, доллар — каким-то фатальным, обреченным об-
7 О. А. Седакова. (Сост.)
22
В. В. БИБИХИН
разом нет и не предвидится, и в этом тоже устроенная
неодолимая метафизика нашей страны, где явственная небывалая в мире
недостижимость последней удостоверяемости, и это при тоже
небывалой в мире документированное™, «осправоченности»,
удостоверения всего и сплошь всего, — сказочная, фантастическая,
всем очевидная недостижимость последней удостоверенности,
более явственная, чем где бы то ни было в мире?
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
23
Чтение философии I—2
ИФ,27.8.19918
Мы пробуем определить так: философия — допущение.
Сначала — в том подвертывающемся смысле, что мысль
начинается с «допустим». Но потом — в более задевающем нас смысле,
что философия начинается там, где вещи допущены, где вещам
допущено хотя бы немножко побыть, а потом пожалуй и быть,
как они сами хотят: где то, что есть, допущено, а не поставлено
под учет и контроль. Я говорю о корысти человеческого взгляда.9
Корысть в том, что глаз не прост или не всегда прост: хорошо,
если он прост; о простоте глаза идет речь в человеческой
истории, в самом корне есть добро и зло, и нередкое, что мы слышим
о науке, «она воздерживается от ценностных суждений», «она вне
сферы нравственности», «этики», в самоуверенности и пафосе,
с какими обычно произносятся такие слова, очень много
нравственности как раз, много страстного желания разрубить узел,
отвязаться наконец раз навсегда от того, от чего никак не удается
отвязаться, — от того, что во взгляде, в зрении, в самом начале
(как в самом начале Библии сказано о съедании запретного плода),
раньше, чем человек успевает вступить со своими замечаниями,
наблюдениями, соображениями, проходит начало порчи,
прокрадывается (как библейский змей) опасность не просто глядеть,
а сглазить, — вещь, над которой мы зря смеемся: на самом деле
никакое другое заблуждение, промах, ошибка не сравнится с тем
решительным делением, склонением к простоте («пусть будет глаз
твой прост» — где это?) или к зависти. Двойственность проходит
через все знание, все знание еще посмотрим какое — доброе или
страшное; по-гречески знание «гнозис», он истинный, который
ведет трудным путем к Богу, или «лжеименный», высматривающий,
следящий, где и как можно снять завесу с мира, подобрать к нему
ключ, разгадать; так современное знание, наука, которая занята
делом так, что ей — не приставайте — глупы вопросы, лишние,
о том, что она, собственно, делает? Изучает структуру
нуклеиновых кислот. Но что это значит, что вы сидите и изучаете
структуру этой вещи? Ах отстаньте, только что мне дали ксерокс новой
8 Занятие не состоялось из-за проходившего тогда в Институте Философии
«конгресса соотечественников». (Сост.)
9 Предприятие современности: учет и контроль, всеобщий. Реально
невозможный. Наша страна прошла через этот опыт. Философия после науки и
«науки», на знании ее ограниченности.
24
В. В. БИБИХИН
публикации по моей теме. Учет и контроль? Да, строжайший,
как без этого. Допущение? Да, тоже; наука живет выставлением
и подтверждением гипотез, гипотеза — допущение, изначально
нисколько не ограничивающее свободу вещей, дающее им быть
так, как они хотят (луна: «она хочет»10), т. е. не меньшее их право
диктовать нам, чем наше право диктовать им (диктовать им их
суть, назначение). Это включает и нас: не мы должны себе
диктовать нашу суть и назначение, мы себя еще не знаем,..
Эта — одновременно — навязчивая потребность допустить
только то, чему дан пропуск, документ, удостоверение, и
абсолютная невозможность ничего допустить безусловно, т. е. дать
бесспорно сильное удостоверение, заставляет нас — я имею в виду
даже в нашей стране, и связываю это с вопросом о русской
философии или философии в России — догадываться, что философия
как допущение чего бы то ни было, как система, система
убеждений, система истин, догматика, невозможна. Именно поэтому она
очень хочет быть такой — в противоположных течениях, и в
марксизме, и в религиозной философии. Все равно слишком ясно
ничто окончательно удостоверено быть не может и окончательно
удостоверено не будет. Ах это хорошо у нас. Ясности такой уже
нигде в мире нет. И напрашивается: тогда, наверное, философия
начнется вот с этого самого, — с допущения такого положения
дел, т. е. допущения того, чтобы вещам было дозволено быть без
пропусков? — Розанов здесь вспоминается. Но разве таково
начало только русской философии, а не философии вообще, всякой?
Она допущение того, чтобы пусть все было так, непостижимо как,
без шанса удостоверения. Аристотелевское, платоновское
«удивление», буквально θαύμαζεLV «чудиться», — аристотелевское
«чудно», начало философии, предполагает догадку или
уверенность, что удостоверения миру не будет. Что так дело и кончится,
чем началось — удивлением. Ведь наивное «чудно», которое
можно было бы отменить объяснением, не было бы философией,
оно «чудно» не наивное, а уже знающее это одно: что как бы ни
хлопотало сознание, удостоверяющее, выдающее документы, оно
на всё и на всех документов не выдаст, пойдет через его голову
и уже давно идет мимо него масса несметная богатства (усия,
10 В. Б. спросил у шестилетнего мальчика, почему луна поднимается, ее
что — тянут за веревочку? Нет, — подумав, серьезно ответил мальчик, — потому
что она хочет. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
25
бытие — имущество, богатство), которая и учтена быть не может,
и в удостоверении не нуждается.
Философия это допущение в смысле разрешения бытию быть:
пусть уж, ладно; мы не поспеем с нашим обзором, учетом и
контролем; ну да ничего. С этого вздоха — ах не успеем, все равно
богатство (миллиарды, нефть) уже льется вовсю мимо нас,11 и мы
не успеваем не только черпать, но даже замечать, как оно и куда
расходится, — с этого знания, что событие есть без нас и мимо
нас и что первое событие это «событие мира» (слово Бахтина)
(Розанов: настоящая наука, т. е. понимание, начинается
вопросом о том, что это такое, что существует этот мир, что он просто
есть, — что в этом обстоятельстве заключено) и что оно нами ни
уловлено, ни поставлено под учет и контроль быть не может и не
должно^ — с этого допущения событию быть и без всякого
допущения нашего начинается наше участие в событии. Странно
сказать: участие через понимание своего неучастия; но иначе будет
хуже, и если мы не поймем, что событие перехлестывает через
нас и напрасно мы хотим охватить, схватить его и себя самих, [без
такого понимания] вообще не было бы никакого участия в
событии, было бы только сплошное сознание, отражение, его одинокая
тоска на своем КПП.
Здесь такой подвертывается неожиданный вопрос со
стороны: а что, событию разве было бы хуже, если бы — разве миру
было бы хуже, если бы мы обходились без этого розановского
понимания — вообще не заглядывали в него, — начинающегося
с понимания непонятности мира? Ответ вот какой: неизвестно,
было ли бы ему хуже или мы просто не допустили бы события.
Да мы и так его не допускаем. Мы держимся мертвой хваткой,
ничего не позволяем, все запрещаем себе и другим. Какое
событие? Никакое событие невозможно. Упремся и не пустим (опять
хватка: мы схватились и держимся за то, за что, нам кажется, мы
держимся, железной хваткой, за что мы схватились, от страха
понять вот это самое: что события перехлестывают через нас, что мы
события не уловим так и так, что мы все равно не поспеем, что
невидимо для нас мимо нас, мимо нашего жалкого контрольно-
пропускного пункта, куда попадаются только недоразумения по
недоразумению, движется, идет сплошной массой куда-то
богатство мимо нас) — и никакого события просто-напросто не
1 ' Оно льется вообще мимо всех, мы напрасно его треплем, думаем, что
есть кто-то в каком-то ловком месте или в центре, мимо которого богатство не
льется. Богатство мира упускают все. От злости на это человек хочет буквально
разодрать мир — не поможет.
26
В. В. БИБИХИН
допустим, пока занимаемся этой деятельностью, той, которую
мы считаем мыслью, — допущением («допустим...»), потому
что допущение оборачивается всегда недопущением, потому что
критическая функция всегда обеспечивает нам шаткость и
условность всего; мы все разъедим. Мы стоим, стиснув зубы, напрягая
ежесекундно сознание, и элементарно не позволяем, не допускаем
быть никакому такому еще — какому там еще? — событию,
только разве что условно допускаем, принимаем к сведению, а потом
разберемся, подождите. Никаких таких вольностей. Мертвой
хваткой мы схватились за то, за что схватились (каждый схватился
за что-то свое), и никаких таких вольностей не допустим,
никакому такому событию просто не разрешим быть. Или разрешим
по рассмотрении, еще вглядимся, посмотрим сначала, чему что
(раз)решить. Мы зоркие, и хваткие, и цепкие, и ничто мимо нас
не пройдет, и что мы не увидим невооруженным глазом, то
увидим прибором; все поставим на учет, обо всем сумеем по крайней
мере информироваться и информировать, — а когда, как в нашей
стране это особенно очевидно, всякое документирование, всякий
контроль и учет проваливаются, мы расстраиваемся, уходим во
внутреннюю эмиграцию, и тут уж вообще перестаем позволять,
разрешать что бы то ни было. Это странное обстоятельство. Мы
так просто (simpliciter) быть вещам не позволим. А то вещи нас
заедят, и нам будет плохо.
Философия это допущение — быть бытию, быть самой вещи
как она хочет, без попытки ее вместить. Значит философия это
противоположное тому, что нам говорят она есть. Стало быть,
философия это риск, что мы останемся за бортом, что главное,
и главное богатство, пойдет мимо нас. Оно, конечно, и сейчас
идет мимо нас, но мы благодаря сознанию надеемся, все делаем из
надежды и ради надежды, что все-таки устроим, наладим, в
будущем схватим.12 Философия — это, стало быть, противоположное
тому, что, нам говорят, она есть: нам представляют философию
так, словно она такая вещь, которой надо еще вооружиться, как
будто бы мы и без философии не достаточно уже вооружены до
зубов; а философия на самом деле это разоружение, — и значит
беззащитность, конечно, но уже не в этом дело, если войдешь во
вкус разоружения; философия это — и это увлекает — снятие
контрольно-наблюдательных постов, прекращение хватки, которая
все равно бесполезная, и возврат к тому схватыванию,
безотчетному, которое неведомо куда ведет, оно же отдание себя, которое
12 Futuratio (Средневековье), обудуществление.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
27
бывает при захваченности. Так? Или просто возврат,
возвращение? А что, мы что-то потеряли, потерялись? Вот вокруг этих
вещей — захваченности, хватки, схватывания, потерянности, —
философия, т. е. она вокруг не вещей (предметов), а нашего
обращения с ними; или, лучше, она вокруг вещей, не в вещах — для
чего? чтобы был сам круг, куда вещи могли бы войти, чтобы их
впустить, допустить. Философия в этом смысле, можно сказать,
пустое место, куда можно впустить, где допустимы вещи —
какие? Забор, труба, пустырь? Мы их и без того допускаем. Или
наоборот не допускаем? Мы не можем решить, допускаем мы
забор, трубу, пустырь или нет. Когда как. Смотря как. По
обстоятельствам. Мы еще посмотрим, разберемся. Поймем, определим.
И вот было бы смешно, если бы философия-допущение как бы
допускала вещам быть без этой нашей хватки, без нас, — это
было бы все равно что связать как-то самому себе руки за спиной
и так ходить, стерилизовать себя. Философия и с самого начала,
исторически была и допущением, чтобы подход к вещам был как
можно более широкий, как можно более свободный. Философия
и то и то допущение, допущение вещам быть в своей сути, чтобы
вернее стала хватка. Опять стало быть риск. Допущение и риска
тоже. Допущение во всех этих смыслах, впускания вещей, до-
пускания человека до них, отпускание на свободу, с еще одним
риском — запустить. Отпускание вещей и человека до всего
размаха. Ах опасное дело.
Главное событие современности — отпущенность человека,
его кто-то отпустил на свободу? Что? Философия? Именно
философия отпустила — для чего? Разве //едопускание — не событие?
Еще какое! Главное, определяющее. Хватка— главное,
определяющее. И человек допустил себя до недопускания (ничему не
допускать быть иначе, как он хочет), пустился в него. — Значит,
человек такой, современный — и есть настоящая философия,
в ее настоящем размахе, и философия не на полках, а на
железных дорогах, сортировочных станциях, в переработке, еще раз
переработке, расфасовке, продаже, перевозке, еще продаже и так
далее? — Да, настоящая философия здесь, в этой отпущенной
человеку запущенности его, до полной распущенности. («Человек
это взрыв».)
Куда мы тогда попадаем, если берем книжку, садимся читать.
В отцепленный вагон, а собирались двигаться... — Но мы попали,
кроме того, в эту путаницу; она не придуманная; другое дело, что
могли бы и не попасть. Начинали с каких обещающих вещей: уча-
28
В. В. БИБИХИН
стия в событии, для чего не нужно и сознания. Кончили тем, что
запутались. А почему, если философия допущение, не допустим
себе участвовать бездумно в событии? Вместо участия — в
середине путаницы: главная путаница в том, что философия это
допущение вещам быть, что это открывает шанс для такого покорения,
которое было невозможно.
Таким образом, мы остались без философского текста —
философия в деятельности человека, современного, — с
философским пониманием, которое выявило пока только непроходимую
путаницу.
И с чувством свободы от груды якобы философии; «так,
мимо» (Данте). В главном событии — свободной допущенности,
запущенности в охватывание многого, все большего, всего в конце
концов?
Спросите меня что-нибудь другое. Почем я знаю, почему это
так, что блестящая философия, допущение, простор оборачивается
растерянностью, путаницей, пустотой.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
29
Чтение философского текста I—1
(второй вариант)
Университет, 10.9.1991
История философии — только без скелета кошмарного
историзма
1) Мы же ничего не читали;
2) Мы читали неправильно;
[3] Традиция, культура к которой присоединиться;
[4] Культура и философия;
[5] Школа
Чтение философского текста — условное название
начинающегося занятия. Взамен надо будет — если уменьшится
неопределенность, в которой мы сейчас находимся перед философской
литературой, — найти менее двусмысленное название темы,
потому что сейчас оно звучит так, словно мы собираемся то ли
брать и читать какие-то философские тексты, — дело интимное,
индивидуального выбора, — то ли вырабатывать методологию
интерпретации, — дело заведомо менее нужное, чем чтение. Хочется
обещать себе, что нам удастся найти более умное название темы,
но мы уже обещали себе в разное время так много, и так мало
исполнили, что надеяться на что-то большое по-честному не имеем
права. Подозрителен сам этот привычный ход мысли — слишком
привычный, — что сейчас у нас мало что получается, но на самом
деле мы способны... но в будущем...
Чем обещать себе что-то, лучше поэтому просто вглядеться,
где мы по-настоящему оказались. И ясно, что тема возникла от
растерянности перед «морем письмен», перед всем тем многим,
что сказано в философии и что мы явно не то что там не поняли,
но даже и не успели хотя бы немного, хотя бы в малой части
прочитать. Растерянность наступает оттого, что философия — это
очень большое богатство, которое, чем больше мы к нему
приглядываемся, тем оказывается больше, и мы теряемся от незнания, как
взяться, от явного неумения все охватить. Конечно, очень быстро
появляется «метод» чтения, вообще метод обращения с
философской литературой. Но это не то, что мы хотим. Метод включает то,
что говорили другие, в мою систему. В ней другие — уже мои, они
согласны со мной и подтверждают меня или, наоборот, спорят со
мной, что мне лестно и с чем я легко могу справиться, я их без
труда всегда могу опровергнуть. Одна из лучших или лучшая история
философии, гегелевская (Лосев: «Ведь он действительно читал это
30
В. В. БИБИХИН
все в оригиналах»), прибавляет нам, к нашему чтению философии
(читаем тоже в оригиналах, и то, как видел вещи Гегель, обогащает
нам видение), только в том случае, если мы и Гегеля при этом
тоже читаем, а не просто смотрим его глазами, которые опять
же уже измеряют, отмеривают, прикидывают, готовят вещи для его
системы. И мы так могли бы, как Гегель, — не с той зоркостью
таланта, конечно, но вот именно в уверенности, что не может быть,
чтобы мои сегодняшние проблески, мои догадки, мое понимание
не имели себе (и моя захваченность, мои увлечения, вообще все,
что зовет меня сегодня говорить) отклика у других. Захваченность
вещами одна, задача одна, хотя бы и еще неясная до тех пор, пока
я о ней до конца не выскажусь (как и каждый в философии может
высказать свою задачу только высказавшись, высказав себя), дело
одно — но все равно, как я сам не умею: не успеваю сказать все,
и мне надо меня самого еще понимать, так и другой: он остается
так или иначе нерешенным. Т. е. я хочу сказать, что читать
извлекая, что мне надо, мы и без того всегда читали, и умеем, и будем,
но оставить другому то, чтобы он, как говорится, не перевернулся
в гробу, оставить другого другим (в обоих смыслах: и чтобы он
не перестал быть другим, и чтобы от него осталось хоть что-то
и другим, а не все взял я сам себе), — вот такому чтению
научиться можно? Или нельзя? Бывает ли чтение чистое...
Такое чтение, не слизывающее другого, оставляющее другого
другим (в тех обоих смыслах), нам нужно для того, чтобы после
нас не сказали: за этим надо расчищать, он нагрязнил. Наломал
дров. Намесил глины. Или сказать по-другому: философия не
темный лес и не степь, там есть тропы, которые, конечно, надо
еще знать, куда и как они ведут (Holzwege, название известного
сборника Хайдеггера, «Лесные тропы» — «ведущие в никуда»
или «к источникам»?), — это местность, с которой, как со всякой
местностью, надо уметь, как обращаться; это не природная
местность, т. е. мы ею не распоряжаемся и ей повредить не можем, от
неправильного обращения с нею страдает не она, а мы. Скажем,
мы отменяем что-то — «идеалистическую философию», или
«религиозную философию» или, как некоторые делают, античную
философию, «она не существовала», «она фикция, миф» — но
отменяем на самом деле себя как философов. С местностью,
областью философии дело обстоит наоборот, чем с географической,
природной, так же, как с духовной пищей дело обстоит наоборот,
чем с телесной: телесную мы вбираем в себя и превращаем в свое
тело, а духовная, наоборот, нас захватывает и нас обращает, пре-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
31
вращает, как Томас Элиот говорит о плоти и крови причастия,
как будто бы мы пожираем тигра, Христа, но на самом деле us he
devours13; или если все-таки мы проглатываем духовную пищу, так
называемую, то так, как говорит Макарий Египетский: как рыба
проглатывает крючок, и чем глубже, тем больше попадается на
евангельский крючок. — Т. е., я говорю; мы не должны
проглотить другого, подмять его под себя, чтобы потом о нас не сказали:
а, здесь надо все исправлять.
Другое дело, что философская вещь, а она всегда событие,
не боится движения, перетолкования, даже искажения, — она
и в этом смысле тоже отличается от природной вещи, которую
грубое обращение с ней ломает: а прочно сработанную
философскую вещь грубое обращение не ломает, или, точнее сказать,
философское событие становится не в меньшей, а в большей мере
событием, когда его не понимают. Философия не
интеллектуальное дело, никто еще как следует не знает, что она за дело. Она
большое дело. Событие мысли остается событием и тогда, когда
его никто не понял, когда все истолкования неверны. Т. е. мы не
должны бояться, что порушим, или что от нас в области, в
местности философии что-то крупно зависит: она рассчитана так, что
вместит и миллиардные толпы, которые ее не растопчут, или
растопчут только для себя, так сказать, а само философское слово не
боится извращения, событие тем больше, чем больше в нем, и чем
более разных, участников. Фантастическое, крайнее истолкование
идет в дело иногда и лучше, чем корректное.
Корректное истолкование, когда оно претендует на то, чтобы
быть корректным, а не некорректным, не может сослаться ни на
что другое, как на текст, в крайнем случае — на
биографические свидетельства, свидетельства современников, которые тоже
13 В. Б. цитирует слова из стихотворения Т. С. Элиота «Gerontion»:
[...]
Sings are taken for wonders. «We would see a sing!»
The word within a word, unable to speak a word,
Swaddled with darkness. In the juvescence of the year
Came Christ the tiger
In depraved May [...]
To be eaten, to be divided, to be drunk
Among whispers [...]
The tiger springs in the new year. Us he devours.
(Сост.)
32
В. В. БИБИХИН
тексты, но главным образом — на философский текст. Интересно
спросить, а философское событие сводится ли к появлению
текста. На первый взгляд сводится: философ протягивает свой текст,
даже молча, без комментариев: читайте. Ничего кроме текста он
не показывает. Событие в том и заключается, что к библиотеке
существовавших текстов прибавляется еще один текст? В банке
лежал миллион, человек принес тысячу, стало 1 001 000? Сводится
ли философское событие к появлению нового текста?
Как бы не так— сводится! Ясно, что нет. Труднее сказать,
почему не сводится.
Из причин, почему не сводится, достаточно привести одну.
Текст для нас, перед нами лежащий в библиотеке текст — всегда
один из; мы выбрали его по каталогу, а рядом лежали другие. Но
событием его сделало вовсе не то, что — о радость — было только
η текстов, а стало η + 1, как было 99 солдат, а стало 100, теперь им
легче: событие в том, что новая философская вещь предлагается
в отмену всех прежних, или в их объяснение, или как ключ к ним,
во всяком случае, как, наконец, верное слово о том, о чем прежних
слов не хватало или о чем прежние слова были не верны. Событие
мысли готовится ожиданием вещи, которая одна будет больше всех
прежних вещей. (В каком-то важном смысле в этом ожидании
событие уже совершилось, появляющаяся вещь просто оказывается
на уровне ожиданий или не на уровне — тогда события
продолжают ожидать). Слова ждут, место события заранее готово, новый
текст ожидают потому, что прежние тексты оказались текстами,
а новый будет наконец тем, что ожидают.
Текст как лексико-грамматическая цепочка настолько не
событие, что (не говоря уж о том, что текст просто не видят, читают
сразу сквозь него, придают словам неожиданные смыслы) текст
и событие мысли оказываются противоположными: текст хотят
видеть тогда и потому, когда не хотят видеть события, его размаха.
В желании схватиться за текст, хранить его, в частности, хранить
его неизменным — есть самим же событием, его энергией
вызванный импульс отвернуться, заслониться от него. Событие, которое
стоит за текстом и которое его вызвало, перехлестывает через текст
очень быстро, как электрический ток очень быстро проходит через
провод. Текст вызывает отклики, подражания, отповеди, в которых
развертывается, живет событие — с разной глубиной. Пример:
ницшеанство. Когда появились первые книги Ницше, их вовсе
не приветствовали как прибавление к библиотеке философии. Их
просто никто не признал за то, что они были: их признали именно
вот за это самое, что еще один умный, образованный, знающий
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
33
человек написал еще одну умную книгу, полную эрудиции. А, если
так — то не надо; т. е. она заслуживает внимания как еще одна,
их было миллион, как миллион первая, т. е. миллионную часть
нашего внимания к философской литературе. Ницше признали, когда
увидели: это — то, узнали в нем событие. И Владимир Соловьев
видел суть того, что произошло, т. е. что в Ницше увидели не текст,
не новую книгу, а событие, стоящее в ряду не книг, а событий, как
Евангелие было не еще одной религиозной книгой, а событием.
Соловьев уверял всех: напрасно вы думаете, «сверхчеловек»
только отсвет Богочеловека, одна самонадеянная претензия, только
вымученные фантазии филолога. Но было поздно. Меня наконец
нашли, сказал Ницше, когда увидел, что люди начинают понимать,
о чем он; теперь будет трудно меня потерять. Появилась
ницшеанская литература, и надо еще посмотреть, сколько отраженного
ницшеанства, через Мережковского и Минского до Леонида Андреева,
через Леонида Андреева до Максима Горького, через Максима
Горького до Николая Бухарина, через Николая Бухарина до массы
идейных большевиков, — сколько многократно разбавленного,
смешанного ницшеанского заряда было в том самом волевом,
распорядительном настроении, которое распорядилось, среди многого
прочего, что оно делало, Ницше из обращения убрать. Что
увлечение Ницше ведет к запрещению Ницше — в этом ничего
странного; скорее входит в существо события раскол, перевертывание,
потому что событие не информация, чтобы можно было проверить.
Что у Ницше было провокацией — нигилизм, воля к власти, — то
стало знаменем ницшеанства, волевая собранность; а то, что для
Ницше было святым, поэзия, то Бухарина, ницшеанца, раздражает,
дразнит, и он тогда с железной волей топчет Есенина, чтобы иметь
что железной воле топтать. — Так же в платонической культуре
идея была понята с точностью до наоборот: идея ярче всего мира,
она затмевает весь мир и нас тоже, она нас слепит, ослепляет,
у Платона; у нас — идея ярче всего мира, она затмевает, отменяет
весь мир, но нас она озаряет, дает нам глаза, зрение, ясновидение;
все она затмевает, но нас, платоников, — потому что мы
платоники, знаем о ней истину, знаем ее, руководствуемся ею, — нас,
платоников, она не затмевает, наоборот, делает нас такими зоркими,
как никто. Мы поэтому поднимаемся над всем миром, потому что
видим в свете нашей идеи его несовершенство, скудость, малость,
ничтожность, и планируем, конструируем, перестраиваем, потому
что мир в свете нашей идеи яркой поблек, тем более он вообще
незряч, а мы не только зрячие, но даже и знаем, благодаря своему
прозрению, как надо улучшить мир. Это — большая разница, пере-
34
В. В. БИБИХИН
вертывание наоборот, потому что у Платона при встрече с идеей
человек не становится вооруженным, наоборот, слепнет, причем
два раза: сначала слепнет от ее блеска и не видит вообще ничего;
потом, когда привыкает, начинает видеть те вещи, но не эти, на
эти здешние слепнет уже прочно и не то что распорядиться в этом
мире, здешнем, но даже и просто хоть как-то ориентироваться
здесь уже не может, теряется.
Какие перевертывания того, что пришло с событием
христианского Откровения — это каждый может подумать сам.
Перевертывания не отменяют события, платонизм в этом
смысле в перевернутом виде продолжается, он воздух, которым
мы дышим,14 когда, например, начинаем изменять идеологию или
переделывать культуру, — мы видим, что культуры у нас нет,
и ясно видим, как и что надо сделать, чтобы она была. Собственно,
главное, что происходит в современности, а именно
распространение технической цивилизации, постава, — это продолжение
платонизма. Постав — это подчиняющая себе все вещи и всех
людей необходимость (я сейчас скажу, в каком сильном смысле
необходимость) быть не «просто так», чтобы было достаточно
«такости» вещей, чтобы их принять; мы откуда-то знаем, что
такости вещей и людей недостаточно, чтобы мы их приняли, —
надо, чтобы они были тем или другим способом поставлены,
вставлены в систему, в систему представлений или что в сущности
то же самое — в систему предоставления, ведь представление —
это уже первое предоставление вещи для чего? Ближайшие цели
ясны, последние — уже нет: неясно, чему в конечном счете
европейская цивилизация предоставит все то, что она поставляет:
пока мы видим, что и человек, ради которого как будто бы все
поставляется, предоставляется, все в большей мере включается,
втягивается в дело: должен себя поставить, чтобы — поставить
себя так, чтобы успевать больше, полнее, без остатка всё, и себя
и вещи через себя, предоставлять, кому? — опять уже другой
и сложный вопрос. Телевидение все скорее, совершеннее, полнее
предоставляет человечество для обозрения — кому? самому же
человечеству? или будущему человечеству, для чего
сохраняются пленки, или просто наблюдающему взгляду? — характерное
название журналов и программ «Look», «Взгляд», «Око»: словно
есть чей-то абсолютный без конца способный впитывать взор,
которому нужно все показать, а непоказанное пропадет. В конечном
14 См. об этом подробнее в книге: Бибихин. В. В. Мир. СПб., 2007, с. 395—
402. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
35
счете эта система, постав, должна втянуть в свой водоворот все
и выдать обратно всё, целый мир, но только уже поставленный
так, как к этому стремится постав. Так мы сейчас живем двумя
мирами (платонизм), один пока еще сырой и кое-какой («просто
такой»), другой вот-вот получится, надо только еще приложить
усилий. Так платоник с усталостью смотрит на этот приевшийся
мир, весь косный, но имеет в голове блестящую идею, которая
и озаряет этот косный мир, и светит ему, как, куда, зачем. Ничего
этого устроительного, установительного нет у Платона, но: наш
перевернутый Платон, наш платонизм — это продолжение,
протяжение события Платона, только его идею мы прочитали не так,
как у него написано, мы Платона, собственно, не читали, а так,
что та идея явилась, и если явилась, то, наверное, не зря, а
чтобы — а как еще может быть иначе? — чтобы нам в нашей
растерянности помочь, из нашей растерянности нас вывести. И как
нас философия выводит из растерянности, не платоновская даже,
Платон просто очень крупная величина и очень ярким солнцем
стоит на небе, а всякая вообще философия нас выводит из
растерянности?
Всегда одним безошибочным способом: якобы разрешая нам
думать про этот мир, что он не всерьез, не совсем всерьез; что это
мы еще посмотрим, такой ли он, — вон Платон смотрите, что
говорит, что этот мир вообще не такой, а есть другой, настоящий.
Или так: вот вы говорите, а ведь Ницше объявил, что сущность
вещей воля к власти, т. е. моя сущность моя воля к моей власти —
или наоборот, вы посмотрите только, что говорит этот Ницше, что
будто бы сущность вещей воля к власти! Да ничего подобного,
просто ни в коем случае такого не должно быть, а все совсем
наоборот, и вот как наоборот: слушайте меня, а Ницше не слушайте.
Я вам скажу совсем другое, не воля к власти, а воля к добру, вот
эта моя воля к добру, ведь я про себя знаю, уверен, что моя воля
направлена на добро, она поэтому и победит в конечном счете,
и восторжествует над всякими Ницше. И так далее.
Так событие продолжает действовать через перевертывания,
которые с ним случаются, собственно, сразу же. Спросим даже
так: событие явно про-ис-ходит, а кончается ли? Нет, само
непохоже, чтобы оно имело себе конец, оно не из таких вещей, которые
имеют отмеренный срок жизни. Мы не видим, чтобы Платон,
как вещи, амортизировался; он, наоборот, как во время раскопок,
все время извлекается наружу, и когда все извлечено, начинается
освоение.
36
В. В. БИБИХИН
Другое дело — что толкования события недолговечны. Но
ведь и сам Платон был толкователем? Его поэтому можно
отшвырнуть, как строгое христианство не увидело в нем
драгоценности, наоборот, один только соблазн. Да, это можно, можно — за
исключением одного случая, когда мы ни в коем случае не имеем
права отставлять Платона, когда это нам будет хуже. Когда мы
абсолютно обязаны его знать.
Когда платоновское добро и так вкраплено в нас, входит в те
ориентиры, которыми мы ориентируемся. «Платоническая
любовь». Мы или думаем, что это хорошо, и надо бы нам иметь
такую любовь; или думаем, что это не для нас, — вообще мы
как-то относимся к платонической любви, она входит в наши
ориентиры, уже другой вопрос, тянуться к ним или отталкиваться
от них. Это уж мы как-нибудь для себя решим, подчиняться не
особенно будем, без посторонней указки обойдемся. Но что
такое платоническая любовь, мы каким-то образом знаем; или если
первый раз слышим, посмотрим в толковом словаре, там будет
объяснено кратко почему-то так, что сразу ясно. Мы как-то вот
знаем такие вещи, или — запредельное. Опять как-то знаем. Или:
идея. «Понятие о вещи». Сразу все ясно, есть вещь, есть понятие
о ней. Мы заботимся уже о том, как обходиться с идеями. Большей
частью и в первую очередь мы думаем, что или мы, или другие
люди, лучше другие люди, должны отказаться от этих своих идей
и иметь другие идеи; т. е. опять же проблема для нас в том, как
вести себя по отношению к идеям, что такое эта вещь, идея, для
нас ясно, «платоническая любовь», «запредельное», «идея» —
такие вещи плотно стоят на нашем горизонте, мы ориентируемся
среди этих ориентиров, кто их поставил? Они стоят, как звезды,
как горизонт, как север-юг. Существо человека остается на той же
глубине. Мы узнаём, опознаем эти вещи. Они, однако, вещи или
знания?
Они явно вещи: платоническая любовь это вещь,
настоящая, — ею человек может жить; идея, которая завладевает и
движет массами, миллиардами — тоже вещь, еще какая вещь. Это
вещи. Это не мысленные сущности. Кто-нибудь скажет: фикция,
мысленная сущность. Идеология фикция, мысленная сущность.
Нет идеология, идея не мысленная сущность, за мысленную
сущность никто не умрет, а за идею, за идеологию умирали миллионы.
Вещь — но вещь, которую мы знаем. Знаемая, знакомая вещь.
Вообще вокруг нас, в нас полно знания; мы, собственно, шагу
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
37
не ступим без знания, которое идет само собой разумеющимся.
Потому что я спрашиваю: а что такое идея? На меня смотрят уже
странно; я явно не имею философского образования, не проходил
в Университете Платона, а то бы знал, как знают все, кто имеет
высшее образование. В хорошем случае мне со снисходительной
любезностью скажут: в Платона загляните; или в энциклопедию.
В энциклопедии я узнаю только то, что и так знаю. У Платона
я прочту, что идея — как я уже говорил об ослеплении, имеется
в виду ведь не омертвение роговицы глаза или нечувствительность
сетчатки, а прекращение знания. У Платона мы узнаем, что идея
это не представление о вещи, а вещь — и первая вещь, и что это
не такая вещь, о которой можно знать. В этом — в том, когда мы
знаем вещи неведомо откуда, ну просто черт знает откуда
знаем вещи, — мы обязаны знать, откуда мы их знаем, или хотя бы
знать, что, черт возьми, мы их знаем же, явно знаем, но откуда,
откуда!! — вот тут мы обязаны думать, обязаны как минимум
заметить, что наше знание не наше, бог знает вообще чье и откуда,
и Платон тут нам нужен не как тот, у кого мы должны узнать, что
такое идея («раз пока не знаете, так поскорее узнайте»), а как тот,
который раньше нас сделал за нас, опережая нас, предупреждая
нас, эту работу, — заметил загадочный характер нашего неведомо
откуда взявшегося знания, «доксы», принятия на веру. Ах по-
настоящему загадочной. Такое впечатление, что само существо
жадное человека нацелено на принятие, δέχομαι, δόξα, словно
человек ищет, что бы принять, взять на веру, словно погасить
валентность. Или я не прав?
Я не прав потому, что нужда в принятии, в «доксе» — не
первичная, поздняя. Похоже, что начинается отношение к миру
совсем не отдельностью и присматриванием, что из этого, из
вещей, что передо мной, принять. Значит, докса, или, как теперь
скорее скажут, идеология, — это принятие после того, как было
упущение, т. е. принятие вдогонку упущению, нагнать упущенное,
только без памяти об упущении, с ложным ощущением свободы
выбора — «передо мной вещи и идеи, и я со свободой выбора
осуществляю свою свободу выбора». Докса ошибается не потому, что
сначала казалось одно, а потом оказывается другое, а потому, что
докса не первая: раньше нее со мной уже что-то было, о чем она
забыла. Была истина, «алетейя», незабытая. Только истина — по
определению — то, что не забыто. Вы все, собственно, забыли;
ваша беда в том, что вы то, что уже было, было рано, забыли,
говорит Платон людям, которые спешат решить, принять на веру,
38
В. В. БИБИХИН
ухватиться за принятое, ухватившись, начать действовать. Т. е. мы
обязаны читать Платона, потому что он в конце концов — о том
событии, о котором мы забыли, он напоминает.
Много ли на этом фоне — в этом пейзаже, составленном из
раннего события, принятия мира, из того, что мы о нем забыли, его
упустили и вдогонку ищем, как бы принять что-то и не принять
другое — занимает места текст? Текст, собственно, здесь малое
дело. У нас нет шансов — он вторичен — даже прочесть его, если
мы думаем, что Платон после всех витиеватостей все-таки
подведет нас, искусный педагог, к объяснению, что такое идея, и мы
узнаем. И еще что-нибудь узнаем. В крайнем случае узнаем хоть,
как думали люди в древности. И то хлеб. Чтобы прочесть текст
Платона, надо заранее уже иметь вкус к удивлению, откуда у нас
столько и откуда у нас такое знание; вкус к воспоминанию, что же
с нами случилось, какое событие с нами уже было — такое, что мы
после него такие, так много такого всего знаем, выбираем, решаем,
действуем, принимаем меры: кто нас укусил, что мы теперь
делаем столько движений. Много слоев забывания, где дело не в том,
чтобы снять — и сколько снять — слоев, т. е. еще узнать; а вкус
к тому раннему, что всегда в любом случае успевает случиться так
быстро, так рано, что мы, проснувшись, остаемся с массой снов,
знаем вдруг огромную массу вещей. Мы проснулись, событие
нас разбудило, но от него остался только сон, — в этом смысле
я говорил, что язык (в широком смысле) приснился человеку, —
что, я имею в виду, случилось, какое событие — то событие, что
есть мир, есть человек, это уже случилось, человек есть и давно
уже есть, он каким-то образом есть, был уже раньше, чем сам
сообразил, что он есть, заметил себя, открыл себя; и теперь уже
не важно, говорит он, что его сотворил Бог, или что он возник
случайно, или что он человек сам себя создал, — все это по
следам события, которое как-то рано произошло, и человек пришел,
допустим, не заметив, как он сам себя создал («бессознательное
творчество») когда все уже готово, когда он уже кошмарную массу
вещей почему-то знает, про себя, про свое устройство, про то, как
надо или не надо вести себя в мире, как себя в нем вели люди, как
они будут себя в нем вести и т. д. — всю эту громадную массу
вещей знает, а то, как сложилось так, что он есть и может все это
знать, не знает и знать не может, упустил, принимай теперь или
не принимай это или другое, выбирай, решай — все это можешь
делать потому, что каким-то образом всё давно уже есть.
Событие Платона — событие в той мере, в какой
напоминает о том раннем событии. В этом смысле, а не в смысле дол-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
39
бления или тавтологии, все философы говорят одно. Событие
философии — одно событие. Ах никакой текст не поможет, если
мы ищем от философа подтверждения, поощрения нас в нашей
утомительной, изматывающей деятельности перелопачивания
идеологического сора, фантастической надежде, что от какого-то
переставления наших слов и πpeдcτaвлQний щелкнет защелка,
и все окажется на своих местах. Как мы не устали. Философия не
интеллектуальная деятельность.
Поэтому от наших перетолкований Платон никак не
перетолковывается. Не может быть такой вещи, как победа неправильной
или правильной интерпретации Платона, потому что Платон не
для того, чтобы так или по-другому войти в нашу картину истории
философии, а для того, чтобы показать нам, где наши картины,
наши сны, и где то упущенное, о чем сны. Т. е., как это говорится,
чтобы мы научились мыслить самостоятельно — опять выражение
из нашего круга знания, мы знаем, что такое мыслить
самостоятельно, только откуда и как?
Наше гротескное название, «чтение философского текста»,
должно как-то означать: не чтение, не только чтение, а наша
перемена; и наша перемена не в отношении к тексту.
Чтение обязательно, таким образом, когда мы ссылаемся в
нашем знании на философа, что мы узнали от него наше знание
или что он говорил одно и был неправ, а мы говорим
противоположное и правы. Философ был материалист и учил (почему-то
считается, что философы «учат»), что материя первична (т. е.,
конечно, он этого не говорил, но мы-то знаем, что он на самом
деле говорил), но он был неправ, потому, что, допустим, не был
знаком с достижениями современной науки, например свободы
воли элементарных частиц; мы правы, мы говорим и учим, что
сознание первично. Философия о том, как это странно, что мы
учим о первичности сознания и материи; она для того, чтобы
вернуться от учений к вещам; чтобы вспомнить о раннем; чтобы
преодолеть философию (отличие философии от наук: науки себя
не преодолевают, а наращивают, накопляют; философия призвана
сквозь себя пройти к вещам, оставить себя, разобрать, как леса
вокруг дома).
Говорится часто: текст плоский, вещь объемная; вместить
это — поступок, возвращение, обращение — текст не может,
средства языка ограничены. Как будто язык это только средство.
Если бы было так, задача, конечно, была бы изучить средства,
какими философы достигают объемности из плоскости языка. Но
не столько от текста, сколько от нас зависит, видим мы в нем лек-
40
В. В. БИБИХИН
сические, грамматические средства — или он нам слово. Средства
это средства: они служебные. Другое дело слово. Нет перевода от
события к слову, слово не средство для выражения события. Так
называемая работа со словом кончается, когда начинается событие:
там не надо работать со словом, там слово само работает. Событие
собирает, делает простым, целым человеческое существо: человек
вокруг события, имеет столько смысла, сколько событие, в котором
он участвует, которое он и есть. Мы не можем анализировать
прямое слово, потому что единственное, чем мы могли бы
анализировать (анализ — это разложение сложного на простое) — это слово,
логос. Ничем другим. Ну просто нечем: нет больше средств. Т. е.,
вы скажете, мыслью, конечно, пониманием, которое, как считается,
может быть и без языка. Но не без смысла, а смысл — это готовое
слово, корень слова. Пониманию не на что опереться другое, как
на смысл (или ясное отсутствие смысла). Когда понимания нет,
не значит, что смысла нет: когда смысла нет, мы это очень даже
понимаем, но, опираясь на отсутствие смысла, имеем дело ведь со
смыслом. Слово стоит на смысле, оно имеет смысл.
Слово имеет смысл. Здесь надо различать два. Оно имеет
такой-то смысл (такое-то значение, связку значений, историю
значений, или просто историю) — имеет такой-то смысл потому, что
оно сначала вообще имеет смысл. Раньше всего оно имеет смысл,
т. е. слово имеет смысл, надо, осмысленно, чтобы оно было. Это
не мы сделали. И даже когда мы сами слово придумали и ввели,
мы сделали это потому, что имело смысл придумать и ввести
слово: т. е. изобретение слова тоже имело смысл. Имело смысл,
чтобы мы придали слову такой-то смысл. И раньше всякого
нашего анализа (скажем, текста) будет то, что этот анализ будет иметь
смысл — скажем, будет «новым словом» в понимании какого-то
текста. Раньше, чем мы как это называется разбиваем смысловое
поле, мы почему-то — потому, что есть смысл, или, как сказал
Нильс Бор, нет смысла говорить, что мир не имеет смысла, — мы
раньше операций со смыслами вышли в поле смысла, которое не
нами устроено. И потеря смысла, бессмыслица не отменяет того,
что нас определяет смысл, потому что «нет смысла» нас
определяет, определяет наши мысли и поступки не в меньшей мере, чем
«есть смысл». Раньше смысла у нас ничего нет, чем мы могли бы
разбирать и анализировать. Слово раньше, чем имеет такой-то
смысл, имеет смысл. Имеет смысл и слово, которое показывает
отсутствие смысла. Не впадать же нам в потерянность и скуку до
такой степени, чтобы заниматься конструированием
искусственных смыслов в стороне, отойдя и от того, что без нас, без всякого
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
41
нашего конструирования, полно смысла, и без слов нас
захватывает, и от того, в чем нет смысла. Мы не докатимся до такой
бездомности, беспризорности, чтобы выделять операциями
логического анализа семантические множители, элементы значений
и ими манипулировать. Лучше, чем это занятие, которое нельзя
даже назвать техническим, потому что тадо не выполняется первое
требование, чистота, потому что словарные смыслы берутся не как
они есть, а обрабатываются, — чем это тоскливое занятие, уж
лучше упиваться горечью от утраты смысла. На пути этого светлого
отчаяния (потому что не пугающегося, не заговаривающего себя)
мы встретимся с философами. Которые говорят вовсе не всегда от
полноты как это говорится обуревающего их вдохновения, а
часто от трезвого, ясного, светлого стояния в нищете, ухода смысла
(а бывает еще, конечно, слепота, когда нет вкуса к смыслу).
Но как нам при нашем «анализе» не поможет ничто, кроме
настроенности на смысл, так ведь, надо догадаться, и пишущим
при «построении текста» водили не приемы, будто бы из какого-
то мало изученного нами арсенала риторических приемов — весь
вопрос риторики надо пересмотреть, мы должны будем наметить
хотя бы рамки этого пересмотра, — а то же самое, «есть смысл»
и «нет смысла». Ах не надо надеяться, будто у нас отыщется
какой-то метаязык для слова, которое отстоялось, отстояло себя за
тысячелетия. Это тысячелетнее слово и останется самым простым
и тайно будет руководить нами в наших так называемых анализах;
и оно потому что опирается на смысл будет невидимым образом
опережать нашу теперешнюю повседневную лексику, которая
кажется нам сейчас по нашей замороченности доходчивее, проще
философского слова, но все перевернется через 300,200, 100, уже
50 даже лет, когда щебетанье нашей публицистики будет казаться
таким же смешным и темным, как нам сейчас документ или
газета петровской эпохи, а останется... — что-то останется, и весь
вопрос в том, что вот сейчас уже, здесь, среди нашей
замороченности, зачумленности треском того, что мы почему-то называем
«словами», но в чем нельзя даже сказать, что нет смысла,
потому что бывают свалки хуже бессмыслицы, как вообще свалка
хуже пустыря, — через нашу зачумленностъ громкими
разговорами, которые идут вокруг так, словно люди, одержимые, не могут
остановиться и обязаны каждый день говорить и говорить хоть
что-нибудь, а иначе пропадут, — через этот шум распознать,
отсеять, почуять то, что стоит и не падает и не упадет?
42
В. В. БИБИХИН
Чтение философии151—2
Университет, 17.9.1991
Такой способ только один, в сильном смысле только один,
вообще только один, так что не надо ни искать еще каких-то других,
ни отчаиваться, что он только один, потому что отчаиваться
бесполезно. Другого способа понять событие нет: участвовать в
событии. Что значит участвовать? Быть событием. Но человек
призван быть событием, его и нет, если он вне события; человек сам
же, такое существо, и есть событие. — Человек, такое существо,
и есть уже событие, к которому он сам приходит, когда оно уже
совершилось; но только не так, что тогда он должен наполниться
чувством собственного достоинства, очертить себя своей кожей
(раньше сказали бы — шкурой) и одеждой и сказать: внутри этой
оболочки смотрите какое событие; Богом сотворенное; и ходить
именинником, держателем доли в не рушащемся предприятии,
богатом божественном мире.
Ах у меня не получается сказать, что он прав, он тысячу раз
прав, такое уникальное создание, да еще такое способное,
одаренное, поэтому такое драгоценное, и хорошее, нравственное,
уважайте его; человек: это звучит, — человек, человек, его достоинства,
его права, его право дышать, заниматься любимым делом, иметь
радости, развлекаться, творить — не получается сказать: в чем
дело? что неладно? почему что-то не так? почему нельзя пойти
и устроиться жить? творить, творчеством заниматься, между
прочим, создавать? Разве полноценная, интересная жизнь — не
участие в жизни? Что же это за событие такое, человек! Разве не ум,
душа, тело? Не полнокровная жизнь, работа, развлечение, спорт?
Разве лучше устроенного, благополучного неустроенный,
неблагополучный? Какое еще участие в событии? Какое там еще событие?
Есть работа, техника, общественная деятельность, времени не
хватает, как весело спешить, успевать, мечтать об отдыхе и никак
не иметь, быть на краю сил, задыхаться уже — Боже мой, что
может быть лучше? Получаешь и отдаешь — человек среди людей.
15 Пометка В. Б.: «Уже лучше название». Название курса осталось таким,
«Чтение философии» (иногда в официальной документации указывалось с
подзаголовком «Первая философия»), и больше не менялось. Все последующие лекции
были прочитаны в МГУ, поэтому далее в публикации указывается только номер
семестра, номер лекции и дата, когда она была прочитана. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
43
Нет, у меня не получается, я не знаю, как это сказать. Ни
в коем случае не хочу я сказать, что надо остановиться,
задуматься — что философия в созерцании. Философия не
интеллектуальная деятельность, теория не глядение. Захваченность, скорость,
успевание и неуспевание — что может быть лучше? Встречаться,
получать, отдавать — словом, жить полной жизнью. Человек ведь
для этого и сделан, для увлечения, для полноты, для
деятельности. Для бодрости, когда получается работа; надо только не
надсадиться. Разве мало места на земле; и в таком труде человек себя
прокормит, разбогатеет. Это очень нужно — такая захваченность
интересным. Человек в деле, при деле; построить дорогу, выкопать
картошку, написать книгу, перепечатать, отнести в издательство;
в это время подрастают дети, — чем не жизнь, что не так, я
говорю? Какое еще «участие в событии», что [за] шифры? Пойди
в храм, там совершается главное событие всех событий, Господь
сходит на землю, Свою Святую кровь и плоть отдает народу
живых, какое еще другое событие важнее, какие еще философские
тексты, какое чтение философии? Да что же такое, в конце концов,
что за наваждение? Зачем мы здесь сидим говорим, кто нас
проклял? или нам нужна соль, какая-то соль, потому что как-то вся
та наша деятельность имеет свойство становиться несоленой?
Но ясно, кто сказал о соли земли, и ясно, где он
присутствует — в храме; щепоточку соли бросают в католическом храме
на входящего, — разве этой соли, которая в храме, мало? — Или
действительно мало, и надо искать, Церковь должна искать Бога
гак, как если бы она не нашла его, только этим подвигом Церковь
обновляется, а то становится непоправимо пресной, — как если
бы событие Прихода Спасителя должно было по-настоящему
совершаться снова и снова? Что происходит, в самом деле, с нашей
деятельной полнотой, куда она вдруг девается, выветривается, —
почему вдруг может обернуться пустотой, почему, я спрашиваю,
нам никогда ничего не гарантировано, почему нас всегда что-то
подстерегает? Или ничего не подстерегает, а это говорит моя
истерика, болезненная эсхатология? А надо не думать об этих
крайностях, потому что есть ведь просто жизнь? Но когда я говорю, «надо
не думать о крайностях», от кого, от чего, куда я бегу, что
отодвигаю, что мне мешает или грозит помешать? В данном случае мой
истерический эсхатологизм, как кто-нибудь может сказать. Тогда
неверно, что нас что-то всегда подстерегает? Или, наоборот, верно,
раз мы можем впасть в истерику и эсхатологизм, русскую болезнь,
достоевщину? А на самом деле никакой достоевщины нет? Или не
το что нет, а не должно быть? Опять не должно быть?
44
В. В. БИБИХИН
Допустим, я «заострил», а не надо. Тогда, положим, я замолчу.
От этого говорение вокруг не прекратится. Оно такое все-таки,
какое я сказал, — непрекращающееся, настойчивое, словно нужное
для постоянного поддержания чего-то. Непрекращающееся,
интенсивное говорение вокруг, такое, как если бы человечество — ведь
говорящие обычно говорят в воздух, обращаются к чему-то вроде
«мировой общественности», словно важно отговорить, а может
быть, никто не слышал или не понял, — своим говорением что-то
поддерживает. Я имею в виду не только трудный разговор между
близкими, но и легкий разговор между дальними.
К тому, что я хотел сказать, я даже еще и не подобрался,
и не знаю как. Это значит, скорее всего или даже наверное, что
мне просто нечего сказать. А я, между прочим, и не собирался,
мое дело чтение. Я хотел читать. Читать мне никто не
мешает — бери и читай. Читать только, оказывается, я тоже не могу:
надо сначала еще уметь. Я все-таки лучше буду все равно читать;
хоть так, может быть, научусь. И начинается вот что: начинается
увлечение. Это трудное состояние для говорения. Ничего не
известно о том, что говорил Плотин те одиннадцать лет, которые он
учился в Александрии у Аммония (я имею в виду третью главу
из Порфирия, «О жизни Плотина»). На двадцать восьмом году он
увлекся философией, слушал самых известных в Александрии
преподавателей и ушел от них с горечью, пока не прилепился
к Аммонию; и еще десять лет потом после тех одиннадцати лет
у Аммония, хотя уже имел в Риме учеников, ничего не писал.
И хотя имел учеников, но говорил, словно не говорил: занятия
были такие, словно он склонял слушавших искать, — полные
беспорядка и массы пустяков, αταξίας πλήρης και πολλής
φλυαρίας, как рассказывает, с чужих рассказов, Порфирий, —
и разве можно, чтобы Плотин так вел занятия, думает
современный исследователь; такого не может быть, относятся эти слова
не к нему, а к ученикам, прибавляет в текст для ясности слово
«ученики»: «Поэтому его лекции были довольно (добавляет слово
«довольно», чтобы смягчить, когда в оригинале у Порфирия смысл
другой, «даже очень»)16 беспорядочны, и ученики занимались
болтовней». Это неславное изменение, потому что большому учителю
самому говорить вздор — это в худшем случае странно, но даже
и в этом случае поучительно, но позволять, чтобы ученики зани-
16 Здесь и далее в угловых скобках слова и знаки В. Б. внутри цитат.
(Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
45
мались при нем болтовней — позорно. На самом деле Плотин не
потерпел, чтобы даже известный ритор говорил перед ним, в его
присутствии соблазнительные вещи. Он не мог даже долго читать;
ему хватало немного, чтобы загореться своей мыслью; кратко он
говорил смысл места и отставлял текст.
Это к тому, как плохо обстоит дело в философии с
сообщением, информацией. О чем-то нам там могут и вообще не сообщить,
промолчать. Об этом надо знать, и к этому быть готовым: что
может быть и говорить-то философ начал, чтобы спокойно
продолжить молчание, а то иначе его стали бы разгадывать.
Но начинал я о другом. Я хожу вокруг да около. Пора начать
смотреть эти философские тексты, о которых я пообещал думать
в начале семинара, а я все не начинаю. И даже скажу сейчас:
а с какой стати? Как будто мы их раньше и без того уже не читали.
Или мы читали их неправильно, а я сейчас начну читать
правильно? Наконец увижу их смысл, который от других как-то утаился.
Я вам скажу этот смысл, и вы тоже будете его знать. Почему
нам вдруг так повезет? Потому что нам, допустим, как скифам
Александра Блока, стало вдруг внятно все: местом во времени,
местом в пространстве мы исключительные, тогда как другие —
ограниченные.
Но никакой такой исключительности нет, а наоборот, я уже
об этом говорил две недели назад, мы в таком невыгодном
положении, из-за малого и неправильного чтения, как никто еще или
мало кто был?
Только теперь я, кажется, начинаю понимать, куда клонилось
то, что я пробовал сказать.
Попробую сказать так. Мы, собственно, не очень где, мы,
собственно, нигде. Есть какие-то ключи, при помощи которых
люди куда-то попадают. Ключ, собственно, один главный —
работа. Мы тоже сейчас начнем работать, мы будем читать
философию. Чтение — это одновременно понимание, хотя и простая
начитанность, которая проявляется потом, как отснятая и не сразу
проявленная пленка, долго пролежав, вдруг начинает проявляться,
а мы уже забыли: вовсе не обязательно добиваться сейчас
окончательного понимания того, что мы читаем, или даже просто
понимания. Мы можем и вовсе прочтенное не понять, оставить дело до
других поколений. Можем понять, я говорил, неправильно, — от
этого текст не пострадает, наоборот, покажет, как он на самом деле
широк. Боже мой, какая свобода! Разве кто-нибудь, что-нибудь
нам такую свободу дает? Тогда мы должны отнестись к ней с бла-
46
В. В. БИБИХИН
годарностью: не будем делать так, чтобы на нас, после нас эта
свобода окончилась, прекратилась. Она, конечно, на самом деле
не прекратится, но из-за нас, из-за наших запретов, незаконных,
может принять дикие, разрушительные формы, как в нигилизме,
особенно в русском нигилизме, у реалистов, из-за запрета на
свободное чтение, из-за запрета на свободное чтение философии, —
ее нельзя было читать свободно, надо было читать возвышаясь,
сублимируясь, восходя к небесным созерцаниям, — диким бунтом
свобода на мысль заявила о себе и отказалась вообще от школы,
от дома, от философских путей, проложенных за тысячелетия,
захотела быть бездомной, одичалой. Эта одичалость, собственно,
продолжается и сегодня, когда наша, только вот эта одна наша
бездомность берется за разрешение думать, что домов у мысли,
у человеческого существа не было и вообще никогда, что прежние
постройки были только пробными, и когда-то по человеческой
древности подходили, а сейчас, когда мы стали как никогда
развитые эмансипированные, открытые и кроме того перегруженные
проблемами, то те прежние постройки для нас уже не работают.
Это неверно. Один исследователь говорит, что Плотин слишком
поспешил отбросить «низкое», слишком поспешил воспарить
в область ума и Единого, а современный человек понял силу
низшего (Макс Шелер, «Положение человека в мире»: «Низшее
изначально наделено силой; высшее бессильно»), низшего как
импульсов, индивидуальных и массовых порывов, и догадался, что
даже Плотин жил энергией сублимации либидо (или как-нибудь
еще это сказать). «Современный человек открыл могущество
социальных, психологических, биологических и материальных
инфраструктур. Марксизм и психоанализ раскрыли перед ним
механику мистификации: человек, который считает, что
преодолел человеческую природу, — лишь игрушка низших побуждений
и хочет уклониться от работы и от действия»17. «Слишком часто
принимался за истинные ценности камуфляж, потребный для
защиты классовых предрассудков и психологических отклонений»18.
После этого исследователь выручает Плотина: нет, все-таки у
Плотина было столько здравой мистики, в своем порыве к
идеальному он, по крайней мере, не весь игрушка страстей. Но дело
сделано: мы, современные люди, уже оказались в таком
интересном положении трагической только нам открывшейся сложности
17 ПьерАдо. Плотин, или Простота взгляда. Москва: Греко-латинский
кабинет Ю. А. Шичалина, 1991, с. 127.
18 Там же.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
47
человека, что Плотин работать не будет, работать не может, его дом
для нас немного игрушечный. — Нет это неверно. Мы не можем
жить в доме Плотина не потому, что он для нас, для наших
развернутых размеров, нашей взрослости, зрелости, уже не годится.
Просто не мы его построили? Ни марксизм, ни психоанализ, ни
техника ничего в постройке Плотина не,пошатнули, менее
пригодной для нас ее не сделали, мы только уже не умеем, перестали
уметь в нее войти. Это не точное сравнение. — Лучше сказать по-
другому. Нам очень лестно думать про себя, что мы повзрослели,
выросли, и старое для нас не годится. На самом деле прекратилось
наше понимание Плотина. Строго говоря, понимание Плотина
прекратилось сразу же, как только он произнес свои слова, как
только они были записаны, оно прекратилось уже у Порфирия.
То, что еще полтора тысячелетия или больше платонизм оставался
разговором интеллигентного общества, не значит, что философов
понимали. Их только повторяли. Их перестали повторять, когда
их поняли. (Лейбниц, Кант и Гегель.) Я предложу такое правило:
полное понимание такой мысли, как Плотин, равносильно
созданию философии. И еще: полное понимание мысли такого размаха,
как у Плотина, не может быть ничем другим, как созданием новой
философии такого же размаха. Как у человека в ходе эволюции не
появляются новые части тела, так у философии в ходе прогресса
не появляется новостей. Ее новость все время одна: напоминание,
что уже произошли вещи, очень рано, которые нам было бы очень
хорошо не слишком поздно заметить.
Значит ли это, что прочтение Плотина, настоящее, будет
прочтением и Аристотеля, и Гегеля, т. е. всей философии?
Да, другие говорят не другое. Как поэтому обстоит с
проблемой выбора: я занимаюсь Плотином, но не Аристотелем. Или
я беру выбор ближе к нам: Хайдеггср, хотя, когда он был
неизвестен или недоступен, то Гегель или Маркс или Ницше освещали
всё, и ярче них света не было, — и скорее Гегель, даже еще и для
послевоенного поколения. Но очень быстро, как откровение, —
Хайдеггер. Очень просто сказать: новое время, новый язык, и
новый мыслитель говорит на языке, который ближе к нам. Но этого
нового мыслителя, нового языка может и не быть. То, что он
есть, — не обязательно, не необходимость, как теперь, в последней
четверти XX века, мы живем без философии, и ни новое время,
ни новый язык ее никак не создают. Случилось так, и это чудо,
что мы совсем близко к событию, или что оно придвинулось
близко к нам — как-то иначе, чем близко во времени и пространстве:
48
В. В. БИБИХИН
близко в слове, близко к нашему существу Выбор поэтому делаем
не мы, а нас выбирают тем, что приближаются к нам. Оказываются
вдруг совсем рядом. Нас может выбрать и Плотин. Так что, если
мы чувствуем, что с таким выбором как моим (занимаюсь этим,
тем решил не заниматься) не все в порядке, чувствуем, что такого
выбора вроде бы не должно быть, то надо верить этому чувству:
действительно, не столько выбираем мы, сколько философы,
оказавшись нам близкими, как бы выбирают нас. Я открываю
книгу, читаю и замечаю: это мне что-то говорит, это имеет смысл,
это мне близко. Конечно, взял книгу я, еще раньше того пошел
на философский факультет, стал заниматься философией я, т. е.
я имею полное право вроде бы сказать, я нашел, — как Плотин
сказал, когда впервые услышал в Александрии Аммония Саккаса,
в число кафедральных профессоров философии не входившего, по
своему прозвищу — Саккас — как-то связанного с мешками, или
носил мешки, или был одет в такую простейшую одежду, мешок.
Я нашел, конечно; но вот вопрос, в каком смысле пишущий, поэт
или философ, или композитор, или архитектор, говорит — это
часто говорится, и это верно, — что он пишет «для себя»? Он
при этом выговаривает, как вырабатывает, как выясняет,
проясняет, самого себя не такого, о котором он заранее знает, что он
есть и что он должен из себя сделать, а он еще себя не знает, он
должен себя узнать, должен себя найти; и он ищет себя не
такого, какого заранее себе наметил, ведь он наметил только найти
в себе самого себя. Он обо мне не думает и вообще меня не знает,
говорит и пишет для себя, но делает то дело, которое и мне тоже
стоило бы делать, только я как-то все отвлекаюсь и ленюсь, т. е.
он, когда пишет сам для себя, ищет меня, человеческое существо,
в большей степени, чем я сам этим моим делом занят. Я пропустил
себя в себе искать, другой не упустил это делать, стало быть и за
меня, поэтому у меня есть возможность найти в другом то, что
нам надо.
Помнить об этом, — о том, что среди книг и разговоров мы
можем найти свое только тогда и только потому, что и нас тоже
искали, нас как наше существо, — хорошо об этом помнить для
того, чтобы мы не вообразили, что мы теперь уже такие, что
нам придется остаться одним, что нас уже нельзя найти. Мы так
далеко прошли, а главное, таких натворили дел, настолько все
запутали и перепутали, так все перевернули, так напортили, почти
уже все погубили, что за нашими завалами к нам не подобраться.
Удивительно, что такое представление о нас, теперешних,
которые дошли до предела, нас не расстраивает и не нагоняет панику,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
49
а тайно льстит: вот мы какие, куда забрались, во что превратились:
к нам не подберешься. Для прежних их мыслительные системы
были по росту, но уже не для нас, где им до нас — говорится со
смесью унижения и гордости. Разве таких, как мы, возьмешь
голыми руками! О, мы крепкий орешек, к нам ключик не
подберешь. Это раньше человек был простоват,^ теперь... Тем более
техника.
Современные мыслители тогда для нас — это наши
мыслители, которые, как это называется, «отразили человека нашей
кризисной эпохи», вот этого исключительно изверившегося
человека богооставленного, каких раньше и не было. Современный
мыслитель — это Хайдеггер. Он так и так тянет на современного
мыслителя: или как последний упадок и развал философии от
полной утраты всякого понимания подлинной, настоящей
философии, или как, наоборот, подлинный философ современной эпохи,
когда человек живет в таком небывалом расколе, в таком кризисе.
В обоих случаях, упадок Хайдеггер или новое начало, он все
равно такой, каких раньше не было. Так отменяются прежние
мыслители, — они «преодолены», ведь метафизика «преодолена»
(никто не замечает, сколько старой метафизики в этом
«преодолении», ведь вся метафизика и есть «преодоление», выхождение
за), — и одновременно отменяется Хайдеггер, потому что мы не
видим, убеждаем себя, что никогда не увидим, Аристотеля, Гегеля,
Канта, Плотина. А если вдруг увидим, как многие увидели,
насколько Хайдеггер древний, то сделаем сами жест, который раньше
приписывали ему, — преодолеем сами метафизику, а поскольку
Хайдеггер, теперь, оказывается, метафизик, то преодолеем
заодно и его тоже, он метафизик, нигилист. А мы — кто мы такие?
А вот Бог его знает, какие. Мы, во всяком случае, новые совсем
люди, небывалые, таких даже еще никогда и не было, вот какие
мы. Понимание нашей исключительности отнимает всякий шанс
понять современного мыслителя. Это делается в момент, когда мы
говорим: он не традиционный.
Из-за этой нашей потерянности — что нас уже никто больше
не найдет, мы и сами себя теперь не найдем, — мы странным
образом вовсе не теряемся, наоборот, начинаем разнообразную
культурную активность. ([Чего] не могло быть в средние века).
Посмотрите: в самом деле, мы нисколько не растерялись, а
действуем, пишем, решаем, определяем, кто кто, что куда, как оно
должно быть, — во всяком случае, вовсе не сидим в растерянной
задумчивости: потому что то, что мы отодвинули других, тех,
которые в старину еще отвечали, как это называется, духовным потреб-
50
В. В. БИБИХИН
ностям, а теперь — поскольку эти духовные потребности как то
вдруг одновременно и страшно деградировали, и стали предельно
тонкими, требовательными, нам духовно нужно теперь что-то
очень сильное, очень острое, очень небывалое, — но во всяком
случае нужно уже не то, что преодолено и отошло в прошлое, — то
весь наш интеллектуальный горизонт, во-первых, освободился,
потому что для нас (говорим опять со смесью унижения и гордости)
авторитеты уже не существуют, а во-вторых, переставшие быть
авторитетами прежние, старые, преодоленные философии нам
материал. Уж Бог нас знает, как мы умеем в нашем сегодняшнем
кризисном мраке ориентироваться, не похоже ли это на ловлю
рыбы в мутной воде, но вот как-то умеем, даже очень бойко, и на
открывшемся интеллектуальном просторе устраиваемся, деловито
решаем, что нам теперь годится, что уже не годится из прошлого.
Но, может быть, самое скверное, что мы можем в этой
нашей новой распорядительности, оправданной как ни странно
потерянностью («что поделаешь, время такое, надо действовать,
принимать меры»), — самое скверное, что мы можем сделать,
это сказать: посмотрите, что я нашел! вот философ, который нам
теперь нужен, это Ясперс, мыслитель XXI века. Посмотрите, как
прекрасен, если в него вчитаться, Плотин, как он много говорит
нашему мистическому опыту, которого нам как раз сейчас, среди
позитивной технической цивилизации, не хватает. Ясперс тут
какой нам нужен, Плотин какой нам нужен, совершенно
прекрасный, нет вы только посмотрите, как он хорош, как он хорош! И как
многие другие философы тоже хороши, но он-то как замечательно
хорош! И мы как хороши, что его, такого почтенного, увенчанного,
сумели отыскать в традиции, не дать ему потеряться, наше
философское достижение, что мы освоили его — не для того, конечно,
чтобы за ним следовать, не для возрождения платонизма (при том
что платонизм никогда не умирал), времена изменились, человек
теперь расколот, — но для того, чтобы быть еще прекраснее, чем
мы есть. То есть что это я говорю, мы ведь расколоты, в кризисе,
растеряны, откуда красота? Но вот каким-то образом в этом наша
красота и есть! И найденный нами Плотин, такой прекрасный, это
еще украшение в нашей красоте (нам трудно, но мы держимся,
стоим), потому что мы несмотря ни на что сохраняем духовное
измерение, а философия ведь, это всем известно и с этим не спорят,
принадлежит к духовному измерению.
(Человек говорит: А я не виноват, что у меня существует такое
представление об Аристотеле. Аристотель, Платон — это слова
нашей культуры, которые сами собой должны быть понятны.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
51
Разговор должен идти непрестанно, культура катится —
философия как террорист, подрывник. Долэ/сно катиться... Но: язык
правда, кроме истины в нем ничего нет, так что хаос,
заблуждение — он нигде: он все подчинил себе, покорил, но — нигде, как
Парменид: небытия нет, не существует. Вся философия вокруг
вдруг этого превращения истины в ложь, порок, хаос: два мира,
разделенные даже не моментом времени. И вовсе не так, что
плохие делают дурное употребление из хорошего языка: где дурные
делают дурное употребление из дурного языка, вдруг получается
хорошо.)
Почему я говорю, что это почти самое скверное, что мы
можем сделать — ввести, включить в наше духовное хозяйство
прежнего мыслителя. Потому что философ не для того, чтобы мы
подбирали его по дороге как ничейное добро; он не «культурное
достояние», не «богатство, накопленное традицией». Философия
не часть культуры, ее отношение к культуре другое, она касается,
по выражению Тыну Вийка,19 трансцендентного фона культуры,
невидимой незаметной почвы, из которой культура. Недолжное
употребление, ее употребление, т. е. всякое употребление
философии — недолжное употребление, словно мы нашли
инструмент, который не знаем для чего, очень тонкий, очень сложный,
но думаем, что особенно теперь, когда наше положение так
отчаянно, мы имеем право сделать из него хоть какое-то полезное
употребление,20 — скажем, Плотин пусть нас учит мистической
интуиции, ведь мистическая интуиция очень хорошая вещь, об
этом сказал Бергсон. Философия — это как раз такая уникальная
вещь в культуре, которая для отчаянного положения, для
безвыходности, для крайности, а не для выхода из положения. Выйти из
положения можно и без философии. Я не понимаю, зачем люди,
которые и так устроились под шумок, «в современной кризисной
ситуации» находя повод много говорить и много действовать,
отнимают у нас еще и философию, о которой они же сказали, что она
уже, конечно, не может вполне отвечать современным культурным
19 Постоянный слушатель курса, в те годы — студент философского
факультета МГУ. (Сост.)
20 Ср. рассказ В. Б. о Ф. Федье во вступительной статье к книге о Хайдеггере:
«.. .Франсуа Федье ... заметил как-то, что люди часто похожи в своем отношении
к философии на механика, который получил в подарок самолет или планер, но
не знает и не может догадаться, что это устройство способно летать. Умелец
научился обращаться с ним и неким образом мастерски пользуется, но именно
как сухопутной машиной». Бибихин. В. В. Сила мысли. — Рюдигер Сафрански.
Хайдеггер (германский мастер и его время). М., 2002, с. 17. (Сост.)
52
В. В. БИБИХИН
запросам. Разве что раз люди так хорошо устроились, то им надо
для полноты еще больше, еще лучше (кто много имеет, им будет
больше дано), и философию ко всему прочему, в той мере,
конечно, в какой философия полезна им. Философия же не для них.
Если бы они знали, из какой потерянности, непристроенности
(geworfenes Sein) она вырастает и каких брошеных людей ищет.
Забирают и философию тоже, в придачу для лучшего устройства,
себе — и оставляют ни с чем нищих. Не забирайте все, оставьте
и нам хоть что-нибудь, пожалуйста, ведь у нас же ничего нет,
мы не сумели сделать этот скачок, который сделали вы, сказать,
что раз человек теперь расколот, покинут, даже Богом умершим
или ушедшим покинут, то он имеет право свободно принимать
решения и самостоятельно, оставленный, строить свою жизнь
на земле. Мы это так не поняли; мы поняли покинутость просто,
в сильном смысле, — что мы покинуты и все, значит сироты; нам
ничего кроме философии не осталось, а вы ее выхватили из наших
рук и пристроили для надобностей и потребностей: Демокрита
чтобы подтвердить, что мир рассыпан и не соберешь; Гераклита
чтобы подтвердить, что все течет и изменяется; Парменида чтобы
не впадать в его ошибку, жесткую метафизику; Платона чтобы
было все красиво; Аристотеля чтобы было все научно; Ницше
чтобы посмеяться над красивым Платоном; Хайдеггера чтобы
преодолеть их всех.
Почему богатые все захватывают, все пристраивают, всему
умеют найти место, всегда знают, как надо повернуть дело в
культуре? Я позволю себе такое неожиданное предположение: от
тревоги. Тревога у них остается несмотря на всю успешную
деятельность и не проходит, значит, нужно еще больше деятельности
и успеха. Что философия имеет дело не с организацией вещей, не
с деятельностью и успехом, а с расколом и можно было бы еще
сказать, ямой на дне человеческого существа, — так предположить
значило бы, что пошатнется мнение об исключительности
положения теперешнего человека, словно отнимется орден
исключительности, который он себе вручил.
Философия сидит в яме. Она оттуда никогда не выберется,
потому что там ей место, и кто выкарабкался оттуда к округлому
космосу, античному или не античному, к скульптурным формам,
к эйдосам, или наоборот, к перечеркиванию всего этого, тот уже
перестает быть философией. Я не знаю, что лучше: совсем
выбрасывание философии на свалку, где ей же все-таки ее исконное,
природное, родное место, или хлопоты, чтобы философия
помогла нам выкарабкаться из ямы. Первое, вроде бы, даже лучше,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
53
хотя благодаря второму продолжается преподавание философии
в Университете. Еще неясно, очень ли нужно философии такое
преподавание в Университете, какое оно обычно и чаще всего
бывает; не случайно Соловьев ушел из Университета, Розанов
никогда там не преподавал, а Лосева перевели из Университета
в педагогический институт имени Ленина.
Мне нужны эти краткие отметки — дно, нищета; свобода, —
чтобы нам потом не подвернулись, чтобы нам не «подбросили»,
как говорит большой политик, других ориентиров при чтении.
И не подумаю я хоть в чем-то согласиться с теми, кто станет
говорить об исключительном опыте современного человека. Больше
взмутненности, может быть, да, — да и то где? на поверхности. Но
эти последние вещи — дно, которого нет; свобода — с ними имеет
дело изначально всякая мысль; никаких «первоинтуиций»,
никаких «эйдосов», «скульптурных космосов», никаких «трагедий»,
никаких «бурлящих хаосов», никаких «вечных раз навсегда
заведенных порядков». Эти скучные монстры, пусть они не путаются
под ногами. Бездна; свобода; тайна. Перед этими вещами как стоит
человек, так всегда и стоял, и что осталось от человека, осталось
постольку, поскольку он имел достаточно радости, перед этими
вещами стоять, — но тут точнее было бы испанское слово alegria,
тоже радость, но тоже и бодрость, и трезвая ясность.
Почему я надеюсь, что это встречу в так называемой истории
мысли. Ведь посмотрите пробный срез современной литературы:
уже простая попытка, перестать говорить только для того, чтобы
от тревоги и страха говорить и говорить, — уже редкость, уже как
свежий глоток воздуха в удушье, а как редки такие попытки. Мы
мерим то, что дошло к нам из тысячелетий, той же меркой: ну,
и этот нам тоже что-то говорит, давайте посмотрим, что, решим,
рассудим. Нет уже не надо посмотреть, можно довериться. Вот
почему: огромное большинство того, что говорится и
публикуется сейчас, громадное большинство всего, не будет переиздано.
Огромное, несравнимое большинство того, что будет
переиздаваться в течение ближайших ста лет, не будет переиздаваться
в следующие сто лет, через два-три поколения. И так далее. Один
литературовед вспоминает, что ему мальчику восьми иди девяти
лет подарили «Вечера на хуторе близ Диканьки», и ему они
понравились, и не потому, что у него был такой навык, а он не знал
почему, он взял тетрадку и стал туда переписывать «Вечера». Зачем
ты это делаешь, ведь книжку не отнимут, спросили родители.
Если бы он знал, зачем. Вопрос застал его врасплох, как на месте
преступления, когда человек действует в страсти, в увлечении. Он
54
В. В. БИБИХИН
не знал, зачем он переписывает. «Чтобы, если у нас будет пожар
и все книги сгорят, чтобы эта тетрадка осталась»,
рационализировал он, и неудачно: ведь и тетрадка тогда сгорит. — Увлечься
так, чтобы хотелось самому переписать те слова, чтобы повторить
их, вобрать в себя, в движения собственного тела при писании,
в свою собственность, — так мы, невольно, переписываем, не
можем удержаться, хорошую цитату, ругая себя, зачем такая
трата времени, достаточно отметить карандашом на полях, книжка
никуда не уйдет, можно взять ее еще раз, — это есть в существе
человека, так повторить; это делается ни для чего; и это делается
далеко, далеко не всегда. Чтобы тысячелетней давности вещи до
нас дошли, надо было, чтобы в разных поколениях, несмотря на
полную перемену человека, человечества в каждую новую эпоху,
в каждом поколении снова просыпалось это безотчетное, простое,
элементарное: нет я не должен это так оставлять, я возьму и
перепишу, я должен переписать, это слово должно и через меня тоже
прозвучать. — Акакий Акакиевич Башмачкин в повести «Шинель»
Гоголя с наслаждением, увлечением, со страстью — это была его
единственная страсть — переписывал бумаги так, как они есть, как
они перед ним лежали; просьба немного видоизменить форму
документа поставила его перед невыполнимой трудностью. Акакий
Акакиевич — сам Гоголь, который переписывает то, что слышит,
и никогда не напишет ничего от себя, настолько, что задача что-
то сделать со своим персонажем, чуточку видоизменить его для
национального полезного употребления поставила его перед
неисполнимой трудностью, заставила десятилетие мучиться над
текстом, а потом сжечь этот текст. Гоголь, он был графоман, как
Боккаччо, понимал только такое писание, увлеченное
переписывание, он переписывал то, что слышал, и как сам был захвачен,
так и знал, был уверен, что его текст тоже захватит и заставит
переписывать, переписывать без конца, — и всякое другое писание
(хотя другие не отличали, им и другое писание тоже гоголевское
было интересно) для него было не плохое писание, и даже не не
писание вообще, а хуже чем ничего, чему ничего он безусловно
предпочитал.
Чем отличается то, что дошло до нас из тысячелетий: ни
в коем случае не должны мы думать, что качеством, что теперь
пишут хуже, а раньше писали лучше, — ничего подобного. Там
могли писать и хуже и вообще как угодно; разница как между тем,
что услышано и слепо, наивно, бездумно переписано — и
придумано и написано, т. е. хуже, чем ничего. Разница не в уровне,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
55
а в плюсе и минусе: одно плюс, дает, другое минус, отнимает, и тут
уже совершенно все равно, на каком уровне отнимает, пусть даже
на самом высоком, отточенном, мастерском, классном; и когда
дают, тогда тоже об «уровне» давания говорить неудобно, потому
что дареному коню в зубы не смотрят. — Чем губит себя так
называемое потребительское отношение, когда даваемое, подаренное
принимают с кривым ртом и судят, критикуют, разбирают,
применяют с пользой для «дела»: тем, что тогда кажется, раз у меня
критический подход, что у меня никто не сумеет ничего отобрать,
но не тут-то было: с каким угодно кислым, критическим
перекосом рта читай то, что со знаком минус, отбирает, — все равно,
ты будешь думать, что возвысился, критикуешь, но тебя оберут.
Спасает только это чутье к тому, что дарят, нерастраченная
способность бездумно, но первому влечению потянуться рукой к
бумаге, чтобы переписать то, что захватило, без критики, до всякой
критики, просто так, Бог знает почему. Потому что это мне, это
мое, здесь родное: ах да просто не знаю почему, но это слово,
эти слова должны звучать во мне, через меня. — Как это далеко
от того, чтобы «ознакамливаться» с философией и «применять»
ее для повышения уровня культуры! Это тоже хуже, чем
ничего. Люди постоянно хотят что-то повысить, усовершенствовать,
щупают себя, повысились ли они уже, усовершенствовались ли,
и надеются, что в философии будет высота, которая их возвысит.
Постоянно с собой что-то делают, от этого автоэротизма никак не
могут отделаться, — преодолевают себя, усваивают, осваивают;
а единственное, из чего и на чем в так называемом изучении
философии что-то можно сделать — это страсть Акакия Акакиевича,
незлобивого: со сладострастием переписывать букву. Он ведь,
что написано, не понимает, не читает: само начертание буквы для
него сладко.
Не то что этим подхватыванием слова, которое существенно,
которое дарит, обеспечено продолжение существования главных
текстов: как раз многие пропали, никак нельзя сказать, что кто до
нас дошел, тот справедливо забыт; были совсем нехорошие
времена, когда ниточка хранения, переписывания становилась совсем
тонкой. Но тогда тем больше достоинство того, что сохранилось,
через почти невозможное.
В хранение буквы входит хранение разночтений, обязательная
однозначность — это уже истолкование; подлинность включает
и варианты, и двойные смыслы. Установление так называемого
аутентичного текста имеет оборотную сторону, вот какую. Я
говорю: вещь записана, как услышана. Она, однако, автором всегда
56
В. В. БИБИХИН
редактируется, т. е. уже от автора идут варианты. Редактирование,
самое даже тщательное, однажды кончается: стоп, этот вариант
будет окончательный (а кому-то, или самому автору, потом опять
покажется, что какой-то другой лучше). Этот процесс редактирования
кончается вовсе не потому, что достигнуто совершенство, когда
лучше сказать уэюе совершенно невозмоэюно. Редактирование свое
автор прекращает по другой причине: когда начинает получаться
не лучшая вещь, а другая вещь. Редактирование прекращается
потому, что превращается в новое, другое записывание. Конец
редактированию одной вещи кладет другая вещь. Это значит: то, что
текст имеет разночтения, — это издалека действует притяжение
другого текста. Это касается и вариантов написания, и вариантов
истолкования: нет одного окончательного, потому что для каждого
текста есть в принципе другой текст, и я сделал так, но в другой
раз сделаю иначе, и мог бы сделать иначе, и другой сделал бы
и сделает иначе. Границу тексту кладет поэтому что — ? «Этот
вариант текста верен, а другой менее аутентичен». Возьмем на
примере. Тора, то что мы называем «Ветхим заветом», — очень,
казалось бы, фиксированный текст, каждая точка там
фиксирована. На самом деле все толкование этого фиксированного корпуса
меняется, если считать его одним целым с Новым заветом. Где
проводить границу целого — включая Новый завет или исключая
его. В меньшем размере та же проблема почти с любым
корпусом текстов. В еще меньших масштабах — вообще с любым
всяким вообще текстом, иллюзия установленности всегда только
иллюзия. В «Шинели» Гоголя читаем про Акакия Акакиевича
Башмачкина, что счастливый от новенькой шинели, он взбодрился
и на Невском проспекте даже забывшись побежал за проходившей
быстро красоткой. В других изданиях читаем в этой фразе:
подбежал. «Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа,
даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою,
которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела
была исполнена необыкновенного движения». Рукопись не
сохранилась, кажется, но у Гоголя явно «подбежал» за красоткой, в этом
слове кинокадр, несколько, два-три игривых шажка вдогонку за
пышным дивом, пока не спохватился, да куда же девалось
благоразумие. «Побежал» тут не имеет смысла: до каких пор бежал, что
сделал, когда красотка заметила, что за ней гонятся, и так далее;
кадра кино не получается, выходит нелепица, недостойная не то
что Гоголя — любого взявшегося писать.
Такое положение со всеми текстами и всегда, тем более,
конечно, с досократиками, которыми — одним по крайней мере,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
57
Парменидом, — мы займемся. Как с этим быть? Библия это Тора,
компактный корпус, Евангелие написанное по-гречески тут не
при чем. Нет наоборот, все в Торе указывает на Евангельское
откровение и без него повисает в воздухе, обрыв, нет Библии без
Евангелия. — Ни то ни то. Мы должны сказать о тексте: он такой,
что он и включает те части, и не включает их. Как с той фразой
Гоголя. Не снобистская филологическая культура, «посмотрите,
в более солидных изданиях „подбежал", а в пиратских,
филологически безграмотных „побежал"», — мы этому делу не поможем,
вариант «побежал-подбежал» на этом месте у Гоголя так, скорее
всего, на веки вечные и останется, даже как бы «побежал» не
победило, назло тонким филологам, но мы обязаны знать и
говорить: читающая масса уже не выдерживает немереного богатства
русского языка, побеждает желание сравнять, выгладить, т. е.
к русскому языку уже отношение как к иностранному, мы не
говорим как дети как получится, а спрашиваем какую-то неведомую
инстанцию, проверяя, с каким падежом и предлогом «подбежать».
С дательным: подбежать к кому-чему. Значит с предлогом «за»
и с творительным нельзя, и в словаре нет. Здесь у гоголевского
слова уже начинается история, оно уже стоит и рискует в обороне
русского языка.
Будут читать, и будут читать по-разному. И чтение, и
разночтение, и спор входят в событие.
То я говорил о понимании, теперь о букве, и одно кажется
большое дело, другое маленькое, потому что что такое буква рядом
с событием. Но на самом деле против того, что обычно бывает,
против прочтения, какого мы хотим, — единственная помощь.
Только буква еще удерживает от редукции к нашему смыслу,
который нам по инерции хотелось бы придать тексту. И для
главного, — для доказательства того, о чем я говорил, что в тексте мы
имеем дело не с текстом, а с событием, у нас для доказательства
этого только буква текста. Только буква мешает редуцировать текст
к содержанию. «Автор хотел сказать вот это» — возразить на это
(что «за текстом» стоит вот это содержание, вот эта мысль) нам
никогда нечего, потому что то, что за текстом, что в мысли автора,
уже не видно или никогда не было видно, а нельзя опровергнуть
то, что нельзя видеть.
Событие где стоит: за текстом, как содержание? Или событие
сам текст?
58
В. В. БИБИХИН
1—3(24.9.1991)
Нищета философии, и свобода, но не свобода рук, а броше-
ность, которая имеет дело с дном, она на дне, потому что если
есть что-то ниже, она будет там, нет такого края человеческого
положения, чтобы мысль захотела, чтобы там ее подстраховали,
заслонили — скажем, верой: пусть вера будет занята смертью,
а мысль освободится для высоких и прекрасных вещей, ведь
мысль же свободна. Значит, казалось бы, она разве не свободна
возвышаться над низкими вещами, нашим обреченным телом,
которое так беззащитно, что находится во власти всякого, кто не
дорожит собственным телом, как сказал Сенека, — он сказал, думаю,
о власти, которая всегда предпочитает смерть потере власти, всегда
пожертвует своим собственным телом, чтобы победила ее воля, мы
живем каждый день рядом с этой метафизикой, с этой отчаянной
волей власти, которая ежеминутно на войне, ежеминутно готова
отдать тело для победы воли. И Сенека учит подняться умом над
бренным телом. Неужели нельзя жить духовными интересами?
Да можно и нужно, но так называемые духовные интересы имеют
свойство становиться ложью. Самое плохое делают с философией,
когда с ней что-то делают, берут и применяют, извлекают выводы.
Надо запомнить, что философия не такая вещь, чтобы ею можно
было что-то делать. Зачем же она тогда нужна? Не надо хитрить
и лавировать: в ответ на этот вопрос надо иметь смелость сказать,
что она не нужна. Тогда на нее перестанут ассигновывать деньги
те инстанции, которые имеют каким-то образом деньги и умеют
их распределять. Пусть эти инстанции начнут выделять деньги
тем, кто объявит, что нашел новую философию, которая может
и будет приносить народнохозяйственную пользу, и поэтому на
нее, на проведение ее разработок, надо ассигновывать, как на
фундаментальные исследования, деньги, и чем больше денег, тем
лучше. Тем более что мы каким-то образом оказались без
философии, а как же это так, целая страна и без философии, значит надо
постараться, чтобы и философия у нее была, надо быстро сделать
философию, а потом с ее помощью что-то сделать.
Денег всегда мало. Деньги поэтому экономят, и деньги
стараются тратить так, чтобы они делали еще деньги, чтобы денег
было много. Работа «Нищета философии» Карла Маркса была
написана в 1847 году для того, чтобы понять природу движения
денег и разрешить проблему денег. Деньги, когда была бы вскрыта
их таинственная природа, стали бы в распоряжении тех, кто раз-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
59
гадал их природу, стали бы во власти этого прозорливого,
мудрого человека, и поскольку этот человек добрый, он в сообществе
с другими добрыми людьми произвел бы последнюю в истории
человечества насильственную революцию и таким последним
насилием, как некоторое усилие и большой труд применяется при
рождении ребенка, родил бы (человек и партия его
единомышленников, которая большая сила) новое общество, совсем новое,
небывалое, в котором уже не было бы насилия и никогда уже не
понадобилось бы насилие, в нем «социальные эволюции» перестали
бы быть «политическимиреволюциями».11 В ходе этой последней,
решающей, окончательной революции первым делом, конечно, не
только деньги, но — поскольку деньги это продукт определенного
общественного устройства, все вообще общественное устройство
перешло бы в руки людей-революционеров, этой партии
единомышленников, и они бы уже тогда знали, что надо с этой властью,
с этим общественным устройством и — в последнюю уже очередь,
между прочим, как с вторичным, отмирающим — с этими
деньгами делать, и новый порядок уже никогда бы не кончался, потому
что нельзя отменить то, что истинно, что верно.
Что новое учение было именно истинно, верно, было
особенно ясно видно из того, с какой легкостью его ведущий мыслитель,
Карл Маркс, опровергал другие, слабые, ошибочные, неверные
философии. Работа 29-лстнего Карла Генриха Маркса «Нищета
философии» была направлена против двухтомного сочинения
37-летнсго Пьера-Жозсфа Прудона (Европа была вообще полна,
переполнена блестящими пишущими молодыми сердитыми,
решительными людьми, Наполеонами печатного станка), двухтомник
Прудона назывался «Система экономических противоречий», но
на свою беду имел подзаголовок «Философия нищеты», чтобы
опровергнуть, достаточно было только перевернуть слова
заглавия, получилось «Нищета философии». Почему было нетрудно
доказать, что у Пьера-Жозефа Прудона нищета философии? По
двум причинам. Во-первых, Пьер-Жозеф Прудон вдумывался
в движение денег, в устройство общества и видел тут одни
конфликты, взамен он предлагал согласиться с другим устройством
общества, где частные собственники вместо конфликта начали
бы сотрудничать между собой и разумно оценивать стоимость
взаимно производимых товаров, для того, чтобы без применения
денег, которые вносят хаос, пользоваться реальными
эквивалентами, эквивалентными стоимостями. Очень легко было показать,
21 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. (2-е изд.), т. 4. М.: Политиздат, 1955, с. 185.
60
В. В. БИБИХИН
как жалко бездейственна была эта программа, потому что чело?
веческое общество никогда невозможно перестроить благими
пожеланиями, советами и проектами, просто к миллиону
мечтаний Прудон прибавил еще одно, миллион первое, потому что по
слабости своего ума, по нищете своей философии не понял, что
все проблемы удастся решить только путем революции, насилия
и временной диктатуры. Теперь второе, почему было очень легко
доказать, что в книге Прудона нищая философия. Потому что
в ней, хотя уже и разбавленная, сниженная на несколько ступенек,
но продолжалась вековая традиция старой метафизики, которая
всегда была не при деле, не при деньгах и не стыдилась быть
нищей. «Нищета философии» — это, с подачи Прудона, давшего
своей книге подзаголовок «Философия нищеты», — «Нищета
философии» это прозвучала у Карла Генриха Маркса, 29-летнего
философа, прямая и чистая правда, не о Прудоне только, а о всей
вообще философии, но прозвучала не с восторгом открытия и
радостью вступления в этот странный клан, людей непричастных
к потоку богатства, никакого, ни вещественного, ни
культурного, а с превосходством человека, который решил не продолжать
больше старую традицию мысли и в 27-летнем возрасте набросал
в своей записной книжке 11 тезисов о Фейербахе, которые
кончались таким решительным выводом: «философы лишь различным
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы
изменить его».22 Первая половина этого тезиса Маркса о Фейербахе
неверна: Маркс здесь приписывает философии еще больше, чем
она делала, она не объясняла мир; то на что она претендовала, это
было увидеть мир; мир невидим, не то что необъясним. Вторая
половина тезиса очень странная. «Дело заключается в том, чтобы
изменить его». Чье дело заключается в этом? Дело философов,
наверное, которые постоянно от него, от своего дела, уклонялись,
а теперь должны за него взяться. Философы должны взяться за
изменение мира. С миром надо что-то сделать, в этом и будет, сможет
развернуться, настоящая философия. Прежняя философия нищая
потому, что она мир принимала какой он есть, мирилась с ним.
Да как же это можно с ним мириться, когда он полон
несправедливостей? И главное — неравномерное распределение богатства,
у одних его много, у других все отнято. Надо решительно прийти
(не дожидаясь ничьего пришествия) и мир насилия разрушить.
Чтобы кто-то делал Бог знает что и собирал в своих руках
несметные имущества, с их помощью получая возможность делать еще
22 Там же, т. 3, 1955, с. 4.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
61
больше дел, — с таким положением надо покончить; надо, чтобы
владели всем не Бог знает кто, темные, корыстные, которые копят
богатства при помощи капитала, а передовой класс, и вот что
поразительно — класс, которого сила и правда в том, что он нищий,
и еще больше нищает, и обязательно абсолютно обнищает! Это
поразительно. Философия должна перестать быть нищей, это
позор, чтобы она продолжала довольствоваться [быть] прими-
ренкой, иждивенкой у мира; но сила, которая начнет новую эпоху,
которая изменять мир сможет, — это сила нищеты, неимущества,
пролетариат, от proletarius civis, гражданин Рима не имеющий
никакого имущества и потому не платящий никаких податей, но
юридически свободный. Пролетарий поэтому вовсе не обязательно
должен быть у станка, и пишущий человек, публицист и оратор
свободный, у которого нет собственности, а только нищета — т. е.
может быть какая-то там собственность и есть, конечно, но в
сравнении с многомиллионными владельцами, на которых,
эксплуататоров и угнетателей, нацелен жаркий взор пролетария, не столько
работающего за станком, сколько именно много пишущего, его
собственность ничто, нищета. Нищета философии стала позорной,
но — смотрите! — ключиком к изменению мира остается опять
нищета, неимущество; в ней, от ее крайней обделенное™,
бедности, накопляется взрывная сила, которая и перевернет мир.
Говорит все это философ, Карл Генрих Маркс, в 23-летнем
возрасте получивший диплом доктора философии, гегельянец,
понявший суть философии и ее силу, прикосновение к дну, и сделал
нищету... — нищета выводит из круга обеспеченности в
необеспеченность, все хлопочут об устройстве, всем это более или менее
удается, нищий отличается от всех даже не разницей в имуществе,
разница огромная, конечно, но здесь не то, что у одного
меньше — у другого больше, а нищий обречен, его удел нищета; и еще
тем нищий отличается от богатого, что богатый в лучшем случае
может только еще больше разбогатеть, или он может обнищать,
а с нищим может случиться неожиданное. Нищета философии
никому не стала так ясно видна, как Марксу, и он решил из нее
выйти, он сделал из нее механизм, силы которого хватит на
перестройку мира. Пролетариат, нищий, и хорошо, если абсолютно
обнищающий, потому что по мере абсолютного обнищания будет
расти его сила, выйдет из нищеты — не к еще одному богатству
(очередной разбогатевший и обуржуазившийся класс), а к
спасению. Он как бы всегда сохранит свою драгоценную нищету,
которая дала ему всё, отрешенность, через отрешенность и за
отрешенность получив все, но владея всем — как не владея, от-
62
В. В. БИБИХИН
решенно, перебирая вещи и богатства мира, упорядочивая их,
распоряжаясь ими так, как — Маркс думал — философия описывает
все вещи мира, этим стоит в отношении к миру, описанием его
вещей; теперь надо не описывать. Книга «Нищета философии»,
т. е. прудоновской философии, но также и всей старой философии,
которая не сумела сделать нищету двигателем нового великого
движения, двигателем мира, а теперь надо сделать, стала одной из
главных опор этого нового движения, которое почувствовало, что
у пролетариата, нищего класса, сила, и этого еще мало: что только
у нищего класса есть сила, способная перевернуть мир.
Собственно, мысль всегда знала силу отрешенности.
Открытием Маркса была не эта сила сама по себе, а изобретение
механизма, как ее надо поставить в основу партии нового типа, партии
пролетариата, которая может перевернуть мир, Маркс сделал
в каком-то отношении то, что Фалес. Аристотель «Политика» кн. I
гл. 4: рассказывают, что когда Фалеса, по причине его бедности,
укоряли в бесполезности философии, то он, говорят, догадавшись
из изучения звезд о будущем урожае маслин, еще зимой, — у него
тогда было немного денег, — дал их в задаток за все маслода-
вильни в Милете и на Хиосе. Он их нанял за малую сумму,
поскольку никто не давал больше, а когда пришла пора и спрос на
все их вдруг возрос, то стал отдавать их внаем на условиях, какие
сам ставил, и, собрав много денег, показал, что философы, если
захотят, легко могут разбогатеть, но не это то, о чем они
стараются. Что Фалес сделал в одном лице, то в лице Маркса было
сделано за Гегеля: благодаря Марксу с философом нельзя стало
обращаться как с мертвой собакой; было показано, что делает
философия, когда и если она захочет. И только она так может
вмешаться в мир богатства и денег; и именно благодаря тому, что
она богатства и денег не хочет, что она из бедности выходить не
хочет. Что философия такое может, не всякий верит, — поэтому
надо время от времени доказывать, — как не верила девица,
служившая у Фалеса: «Рассказывают что, наблюдая звезды и глядя
вверх, Фалес упал в колодец, а какая-то фракиянка — хорошенькая
и остроумная служанка — подняла его на смех: он желает знать
то, что на небе, а того, что перед ним и под ногами, не замечает»
(«Теэтет» 174 а). Но именно глядя вверх, Фалес как-то увидел
в расположении звезд путь к обогащению. Фалес, разбогатев,
вернулся к своим звездам; Маркс, когда показал, какая сжатая
скрытая мощь скрывается в диалектике (т. е. в Гегеле), к философии
уже не вернулся, и весь марксизм, бульдозером и катком проходя
по разным странам, еще долго показывал мощь философии, но
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
63
она ослабевала, как энергия разлетающегося взрыва, потому что
полная и нетронутая эта мощь хранится только когда она тайная,
когда она не напоказ.
К этой мощи, которая была открыта в неимущем пролетариате,
присоединился весь тот народ, который хотел отречься от мира так
же, как всегда религиозные люди уходили от мира, только теперь
религия потеряла свою силу, и механика, машина, техника, а не
молитва, стали уже казаться единственным способом преодоления
тяжести земного существования. В 1886 году «Нищета
философии» была переведена на русский язык за границей плехановской
группой Освобождение труда (в этом названии повторяется смысл
слова пролетарий: неимущий, т. е. не имеющий ничего, кроме
своей силы, и одновременно юридически свободный). Марксизм
нашел себе почву в России потому, что нигде, как в России, не было
чутья к нищете, опыта нищеты и, как в Индии, как на Ближнем
Востоке, понимания мистики нищеты, ее одновременно
абсолютного бессилия и залога переворота, который в ней
содержится; нигде, как в России, христианская невозможность богатому
войти в Царство небесное не понималась так буквально. Догадка,
сумасшедшая вначале, потом тем более захватывающая, что
сумасшедшая: что всё получится перевернуть, поставив на нищету;
что нищета сила — т. е. неимение не относительное, а роковое,
фатальное, безусловное неимение, — сила, против которой ничто
не устоит; чистая сила, ни на чем не стоящая, и справедливая;
тайна перевертывания, кто был ничем, тот станет всем. Срыв этого
движения наступил не сейчас, а сразу, с первого его жеста, с
первого полужеста: неимущий, который берется распоряжаться жизнью
имущего, уже властный, не нищий вовсе, таинство нищеты вдруг,
сразу кончается, начинается грязь самообмана и обмана, пока не
обвалятся последние части постройки, построенной на великой
правде, что нищета философии вещь не безобидная.
А что, нельзя было чувствовать, что так случится? Можно
было, и опять же даже раньше первого жеста нищих, которые
решили перестать быть нищими, были те, кто и ясно видел, куда
это ведет (а куда, собственно ведет? куда пришел Фалес: к
обогащению неимущих, что они станут богатыми, и только, — или куда
ведет тех, кто на дне, открытие, что они на дне и что это
положение имеет свойство перевертывания! Только к тому, что, кто был
на дне, на самом дне, станет на самом верху), и понимал еще, что
нищета — не обязательно противоположность богатству, в двух
смыслах, что нищета и не ограничивается отсутствием богатства,
и что, с другой стороны, наоборот, богатство ей не мешает, т. е. она
64
В. В. БИБИХИН
что-то такое и без того, чтобы было богатство и оттеняло ее. Т. е.
она что-то такое в человеческом существе, что? надо вглядеться.
В том же 1886 году, когда в Женеве в переводе Веры Засулич
был издан русский перевод «Нищеты философии» Маркса,
в Москве в типографии Лисснера и Романа, Арбат, дом Платонова,
была издана книга 737 страниц, с. 738 — «Важнейшие опечатки»,
потом еще три таблицы, каждая по листу, т. е. требуется их
развернуть, со схемой строения того, что сказано в заглавии: «О
понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения
науки как цельного знания», Василия Розанова.
На этих границах, нищета-дно и свобода, безусловная нищета
и безусловная свобода — не в рамках этого общества, этой
культуры, а как единственные границы, которыми оказывается ограничен
человек, когда он не назначает сам себе, чем ему быть (нищета
включает и беззащитность), — я хочу остановиться в
перечислении тех предпосылок, с которыми надо подходить к чтению
философии. Что мы найдем там, мы найдем, читая; но мы мало
что там прочитаем, если не будем готовы к тому, что человек там
уже не бежит от того, от чего мы все еще бежим: от нищеты и от
свободы.
Читать Парменида, я хотел начать с этого. Я же однажды
и предложил для понимания Парменида читать Розанова.23 Я так
и буду делать, без желания быть оригинальным, без вызова, без
какой-нибудь хитрости: Розанов это наша главная мысль. Розанов
поступил так, как Фалес и Маркс: когда его не захотели узнать как
нищего и свободного, он показал, как много стоит философская
нищета, и разбогател: у него часто и гордость от своего богатства
(много книг, 35 тысяч накоплено к 54 годам жизни, десять человек
вокруг него кормится), и еще чаще повторения одного и того же:
насколько ему не нужно это богатство, известность, имя,
издания. Что для Фалеса был упрек в бедности и бесполезности
философии, то для Розанова были насмешки его коллег-учителей
провинциальной гимназии над его книгой «О понимании» и полное
непринятие ее читателями: никто ее не купил, половину тиража
вернули автору, другую половину в утиль. Говорить, что Розанов
«перешел» от метафизики своей философской книги к
«философии жизни» или к чему-то еще — значит опять же не подозревать,
что мысль размаха розановской всегда с самого раннего своего
23 Розанов и Парменид — не потому, что исключительная пара, а потому, что
мы должны знать своих и знать, что они не далеки от чужих, что мысль близка
другой мысли.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
65
начала, со своего вставания от сна, может быть в раннем детстве,
имеет дело с такими же одними и теми же первыми вещами, что
она должна быть разной и меняющейся, чтобы хоть своими
метаниями показать, какие крупные, необъятные вещи, с которыми она
имеет дело. Розанов остается неизвестным. Пикантности, которые
о нем говорятся для его «анализа», лучше сдокойно оставить там,
где они есть: почти все сказанное о нем сказано без чтения этой
первой большой книги, «О понимании». Розанов нас привлекает,
всегда захватывает или задевает: он знает, как это делать, так
неужели он не будет знать, что мы будем о нем думать? Розанов
знает, что мы будем о нем думать, и готовит сам нам это знание.
Кто тогда такой Розанов — тот, которого мы знаем, или тот,
который знает нас? Кто больше знает: мы его или он нас?
Богатенький Розанов, который нас, читателей, приобрел, —
потому что у него такие интересные, жизненные идеи, секс, еще
что-нибудь, — не первый: как Фалес, который скупает прессы для
маслин, уже не первый, он уже делает это потому что... для того,
чтобы... Первый Розанов, как мы, вместе с нами нищий и бро-
шеный, в обоих смыслах, потерянности и свободы. Не то что его
надо искать в книге о понимании: он и там и здесь и в этой книге
и в остальных своих книгах, и ни в одной из этих книг: мы его
можем найти только по мере того, как будем находить сами себя,
оглядываться вместе с ним на наше положение, потому что он не
в каком-то своем тезисе и не в своей системе, а во взгляде — в том,
как он смотрит на вещи, на мир, не в переносном смысле смотрит
(имеет такие-то представления), а в прямом: зрение. Какое у него
зрение. Это, я повторяю, мы можем знать только сами глядя, не на
него а на вещи, а он смотрел раньше нас. Он уже смотрел, а мы
еще нет.
Почему «О понимании» не читают Розанова. Потому что он
там, если посмотреть на то, что в конце книги, в таблицах после
738-й страницы, и на то, что сказано в самом начале, на первой
странице предисловия... — В таблицах расчерчено, как должно,
с чего начиная и куда разветвляясь, строится здание науки. На
первой странице предисловия сказано, что здание человеческой
мысли, над которым трудится человечество, строится вслепую.
Все человечество явно трудится, но не очень хорошо знает, над
чем. У каждого свои задачи, но не ясно, кто поставил эти
задачи, — люди приходят их уже решать, словно задачи встают сами
собой. «Положение трудящихся, от которых остается скрытым и
то, что именно возводится ими, и то, зачем оно возводится и где
предел возводимого — не может быть удобно». «Может случить-
66
В. В. БИБИХИН
ся... что придется или оставить не достроивши, или, еще хуже,
совсем уничтожить».24 Все ясно: теперь Розанов — посмотрите на
таблицы, где все расписано, — предложит другой план
строительства, когда уже не придется перестраиваться, правильный,
окончательный. После этого книгу надо отложить в сторону. Потому что
даже если Розанову удалось построить совсем исключительный
проект, наука все равно не перестроится по нему, — почему?
Почему наука не может перегруппироваться, реорганизоваться по
разумному плану?
По той же причине, которую описывает Розанов: потому что
«не мы устанавливали вопросы, на которые отвечали
приобретаемые нами знания». Наука может работать только когда есть круг
проблем, поставленных кем? На худой конец — правительством.
Социальным заказом. Библеистикой. Мир сотворен шесть тысяч
лет назад, человек слеплен Богом из глины — эти тезисы библеи-
стики сами по себе, не надо ничего придумывать, уже проблемы,
потому что каждому видно, что слоев горной породы на сломе
больше, чем могло наслоиться за 6 тысяч лет, и что тело не из
глины; наука и занялась этими проблемами. Наука себе проблем
не ставит, они возникают как-то сами собой, а Розанов на место
той инстанции, где проблемы выросли сами собой, не годится
явно. Его плана не примут. Он сам прекрасно знает, что его плана
не примут. Зачем же пишет книгу «Опыт исследования природы,
границ и внутреннего строения науки как цельного знания»? Что
это, интересно, он там в книге «исследует»? Ученый исследует
предмет, который по крайней мере существует. А цельное знание?
Сам же Розанов говорит во второй фразе своей книги: «Трудясь
в отдельных областях знания, мы никогда не имели ни случая, ни
необходимости задуматься над ним, как целым». Раз не имели
случая даже задуматься над целым, то наверное целого и не
построили вовсе, только разрозненные части. Розанов хочет
исследовать, чего нет. Первая фраза книги: «Едва ли может подлежать
сомнению, что если наши успехи в науке незначительны, то наше
понимание ее природы, границ и целей ничтожно». Да: и сама
наука мала, мало очень сделала, и еще гораздо меньше она поняла
сама себя. Действительно: исследование Розанова о том, чего нет.
Он так и скажет в главе первой, с. 5/1225: «Истинное знание может
24 Второй и третий абзацы «Предисловия». В последнем издании (М.: ИФТИ
св. Фомы, 2006) с. 5. (Сост.)
25 В. Б. цитирует «О понимании» и указывает страницы (здесь и далее —
в тексте в круглых скобках) по первому изданию: О понимании. Опыт исследо-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
67
быть образовано не только о том, что существует и чему это знание
может соответствовать, но и о том также, что должно
существовать и чему должно соответствовать это существующее» — но то,
что должно существовать и то, чему существующее должно
соответствовать, ведь не может же быть, чтобы оно не давало о себе
знать даже и тогда, когда его понимание ничтожно? Что-то такое,
что есть — и тогда, когда его нет. Есть и нет; нет, потому что
человек упустил, или вообще не мог увидеть, понять, — и все равно
есть. Вся книга о понимании тридцатилетнего Розанова — вокруг
этого есть и нет. То, о чем он, что он смешно планирует для всей
европейской науки, цельное знание, стоящее на понимании, — его
нет, но и кроме и помимо него ничего нет, так что только оно на
самом деле есть: даже не так, что если раскопать (археология)
вавилонскую башню знания, какой она поднята почти к небу и почти
сразу же заваливается, то там не крупицы, детали можно найти
идущие еще как-то в дело, а во всем здании, вавилонской башне
науки на самом деле ничего, кроме цельного знания, нет и не
может быть, потому что неоткуда больше взяться. И одновременно
цельного знания вовсе нет.
Я скажу сейчас больше: до последних своих записей, на этом
загадочном «есть и нет» как Парменид стоит весь Розанов, и отсюда
его настроение мира, примирения с нищетой, из которой он вышел
и из которой он не вышел, потому что вышел только так, что в этой
нищете увидел все богатство. Розанов мирный, он не хочет
ничего переворачивать, хочет ничего не переворачивать, потому что
всегда стоит перед этой тайной, в которой видит и тайну России:
нищеты, которая богатство; нет, которое есть; пустоты, которая
полнота. Всю свою жизнь, лучше сказать, всю свою мысль Розанов
при этой тайне, близости «есть и нет». Поэтому он не нервный.
Розанов называет своей духовной родиной Симбирск, где он учился
в гимназии в 1870—72 гг., где в 15—16 лет стал тем, чем он есть.
Он говорит, что тогда, с появлением так называемых реалистов,
в России возник новый человек, каких никогда не было. По
крайней мере один такой человек — он сам. «Под этой шероховатой,
грубоватой, шумящей внешностью скрыто зерно невыразимой
и упорной, не растворяющейся и не холодеющей теплоты к чело-
вания природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. Вас.
Розанов. М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа. Арбат, дом Платонова, 1886.
Книга дважды переиздавалась: М.: Танаис, 1996; М.: ИФТИ св. Фомы, 2006.
Ввиду труднодоступности первых двух изданий мы на всякий случай указываем
через черточку (или рядом в скобках), соответствующие номера страниц
последнего издания. (Сост.)
68
В. В. БИБИХИН
веку... В ту пору... рождался (и родился) в России совершенно
новый человек, совершенно другой, чем какой жил за всю нашу
историю... Пошел другой человек».26 Или не только он один? За
пятнадцать лет до того, как Розанов рождался на своей духовной
родине, с жителей этого города, Симбирска, Иван Александрович
Гончаров списывал, иногда срываясь на фельетон и сарказм, своего
Обломова, и казалось, что никогда ничто никакая искра не
пробьет этого сонного царства. А как раз через пятнадцать лет после
Розанова по улицам Симбирска ходили уже решившиеся на все
шестнадцатилетние, семнадцатилетние Александр Федорович
Керенский и Ульянов, Владимир Ильич, будущий Ленин. Василий
Васильевич Розанов — как раз в промежутке между полюсами,
полярнее которых не может быть: неподвижностью и бешеным
движением. Розанов там, в той точке, где видно, что Россия — такая,
что она вмещает такой простор, такое напряжение, такой контраст.
Такое напряжение выдержать трудно, пятьдесят лет после
убийства Александра II, освободителя крестьян, реформатора, полвека
ровно до победы сталинской коллективизации, т. е. до новой
крепости крестьян, были в России растратой этого накопленного
напряжения, когда казалось, что мобилизация, принятие мер когда
такой контраст совершенно обязательны, и целая серия
мобилизаций, в конце концов тотальных, в конце концов следовавших
впритирку одна за другой, причесали Россию, уравняли полюса,
сняли напряжение между Обломовым и Керенским. Розанов был
единственная мысль, которая приняла невыносимое напряжение,
вобрала его в себя, сумела вынести, принять как мир, как богатство.
Интересно, как — посмотрим немного подробнее — Розанов об
этом контрасте говорит, в «Русском Ниле», путевых очерках о
пароходном путешествии по Волге, о Симбирске 1870—72 годов:
«Я не только не встречал потом, но и не могу представить себе
большего столкновения света и тьмы, чем какие в эти именно годы
(и, вероятно, раньше и позднее потом) происходило именно в этой
гимназии... совершенной тьмы и яркого, протестующего,
насмешливого (в сторону тьмы) света... Воистину для меня это было как
бы зрелищем творения мира, когда Бог говорит: „Вот — добро",
„Вот — зло"... Ничего и всё. С ничего я пришел в Симбирск...
вышел из него со „всем"».27 Кто-нибудь скажет: это сказано о системе
народного образования в России после реформы 1861 года, какое
отношение имеет к бытию и небытию Парменида?
26 Розанов. В. В. Иная земля, иное небо. М.: Танаис, 1994, с. 368, 369.
27 Там же, с. 362, 363.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
69
А вот это еще розановское, конца 1918 года, три-четыре
месяца до смерти: «Nihil в его тайне. Чудовищной, неисповедимой.
Тьма истории. Всему конец. Безмолвие. Вздох. Молитва. Рост...
Ах: так вот откуда в Библии так странно, „концом на перед",
изречено: „и бысть вечер (тьма, мгла, смерть) и бысть утро — день
первый"...».1*
Скажите мне: но ведь это о русской революции и о загадке
Гоголя, при чем здесь Парменид — у Парменида философская
проблема бытия и небытия, это классическая метафизика, а Розанов
это философия жизни. Почему вы мне этого не говорите, что это
разные области, что их надо разнести по разным департаментам?
Что это две разные вещи?
Парменид (фрагмент 6) назвал людей, ничего не видящих,
придумывающих — вместо того, чтобы думать — двухголовыми,
δίκρανοι, существующими не телом, а умом в двух разных местах.
Αμηχανία, завороженное бессилие, невозможность двинуться,
найти выход — состояние сущностное человека, мир как
нерушимый покой, согласное принятие того, что есть, — об этой вещи,
αμηχανία, в древнегреческой трагедии и в философии, подробно
говорил и писал Анатолий Валерьянович Ахутин,29 —
невыносимая амехания, неприменимость механизмов, технических приемов,
делает ум человека вылепливаемым, плавким, блуждающим, так
действует мир при его приближении, — мы будем говорить об
этом в связи с Парменидом. Δίκρανοι, в переводе Лебедева
«блуждают о двух головах», сбитые с толку напряжением, контрастом.
Розанов, вторая страница его Предисловия к книге «О
понимании»: «То, что в умственной области создается человеком,
с давнего времени носит два названия — науки и философии.
Уже эта двойственность имени является странною аномалией,
возбуждающею сомнения: если разум один и истина одна, то
каким образом могли произойти различные названия для того,
что является результатом деятельности первого и совокупностью
вторых. Но за различием имен скрывается и различие
действительности: тот глубокий антагонизм, которым проникнуты все
отношения науки и философии, показывает, что и в самом деле
есть две независимые области, куда разум несет свои
приобретения, и что следовательно единства познания не существует».
28 Окончание последнего, 32-го, письма Голлербаху от 26.10.18.
29 См.: Ахутин А. В. Открытие сознания (древнегреческая трагедия и
философия), в кн.: Ахутин А. В. Тяжба о бытии. М, 1997, с. 117—160; Ахутин А. В.
Поворотные времена. СПб., 2005, с. 142—193. (Сост.)
70
В. В. БИБИХИН
Разум несет свои приобретения в две разные области, которые
ничего не хотят знать друг о друге, одно относит к одному
департаменту, другое к другому. Откуда такое разделение, «это
разные области»? Кто области разделил? Почему у разума две
головы, одной головой он познает и не хочет, чтобы ему мешали
зарываться в вещи, другой головой думает, что такое познание?
«При таком раздвоении умственной деятельности, положение
выжидающего скептицизма было бы самое правильное для нас»
(IX/6). Из раздвоения не будет толку. Целое знание — не то, где
детали собраны в общую картину, а то, где разум не ходит в две
разные стороны носить свои приобретения. Бывает ли у ума
поступок, где он не расколот? Бывает, этот поступок — понимание.
Вся книга Розанова — о понимании. Цельное знание — это не
собранное из отдельных частей в общую картину, а стоящее на
том начале, в котором нет и не может быть распадения на две
части, двух голов. Цельное знание — не еще одно
дополнительное к существующему, а другое. Оно получается не
перестройкой и тем более не надстраиванием. Все, что сделано вот этим,
раздвоенным разумом, надо осмотреть, еще раз посмотреть как
такое, какое оно есть, — «совершить это обозрение вне пределов
науки и философии (двух голов) невозможно», потому что, как
они ни раздвоены, как ни противоположны, «ими исчерпывается
совокупность всего до настоящего времени созданного разумом
человека. И, следовательно, каково бы ни было достоинство
построенного, ключ к его разумению может лежать только в плане,
хотя бы и двойном, того, что строило» (там же). План уже был
двойной, разум уже разносил почему-то свои приобретения в два
разных места, и занимаясь наукой, отталкивался от метафизики,
а в философии поневоле должен был «обобщать» и не тонуть
в «частностях». Или можно по-разному описать этот раскол. Мы
сейчас в него не вдаемся: достаточно ощущения, что Розанов
и Парменид правы: действительно, разум как-то несет свои
приобретения в разные места, складывает их на два разных склада. —
А добывает он в разных тоже местах? «Положение обозревающего
могло бы стать безвыходным, если бы вне науки и вне философии
не лежало третьего, что может быть поставлено наряду с ними,
чего не может коснуться сомнение, и что способно послужить
к раскрытию природы, границ и строения обозреваемого. Это —
Понимание» (там же, 6—7). Добывает разум всё из одного места.
Или из двух, например, есть чувственное познание, которое дают
органы чувств, а есть интеллектуальное познание, которое дает
логика? Т. е. с самого начала познание раздвоено или даже рас-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
71
троено, и правильно разум делает, что несет свои приобретения,
раз они добыты в разных источниках, в разные места?
Тот же вопрос по-другому: раньше разделения, например, на
чувственное и логическое познание, было что-то одно простое —
скажем, внимание, без которого, правда, не было бы ни
чувственного восприятия, ни того, что называется умопостижением? Розанов:
в начале всякого знания не должно еще только быть, а уже было
простое, — было и его уже нет, уже раздвоенность и растроен-
ность, или, если кто хочет помнить Парменида, нус, не вынесший
«амехании», становится блуждающим, ηλακτός (φρ. 6). Но об
отношении «амехании» к настроению понимания (настроение
в хайдеггеровском и розановском смысле, как модус, или мелодия,
человеческого существования) мы все равно еще будем говорить
дальше, в понимании хватает размаха и богатства на целую
большую книгу Розанова и больше, на всю его мысль, которая ничем
другим, кроме понимания, не захотела быть. И в работе разума,
всякой, Розанов увидел простое начало, понимание, которое
остается у разума его единственным достоянием, даже когда разум
уже не помнит об этом и разнес свои приобретения по разным
складам, которые сам себе устроил. А понимание не сам человек
себе устроил, это — об этом — еще потом. «Какова бы ни была
деятельность разума, — все берет Розанов в курсив, Предисловие,
с. X, это самое начало, 4-я страница предисловия, — она всегда
будет по существу своему пониманием, и кроме этого же понимания
ничего другого не может иметь своею целью» (Х/7). Понимание
до разделения. «Понимание не только несомненнее науки и
философии, но и обширнее, чем они» (там же). Обширнее опять же не
по количеству, а по качеству. Наука очерчена своими областями
и проблемами, философия очерчена наукой (философия — не
то, что частная наука), т. е. у наук и философии содержательные
о-пределения. У понимания содержательного определения нет.
«В идее понимания не заключено никакого знания, способного
стать содержимым, но только знания относительно содержащего»
(там же). Понимание мы не знаем, чему не открыто. Мы о нем
знаем не по тому, на что оно направлено, а потому, что мы его
(понимание) имеем. Мы его знаем в той мере, в какой его имеем, потому
что имеем. Мы тогда знаем о нем именно вот это: что областью
оно не определено, не ограничено. «Выводимое», т. е. искомая
идея понимания, «будет рядом истин формального значения».
Между делом заметим: и задача, и разговор хайдеггеровские, как
«понимание», «настроение», и дальше увидим — существование,
72
В. В. БИБИХИН
бытие, мир. Благодаря Розанову мы можем встретить Хайдеггера,
и вообще философию XX века. Благодаря Розанову мы тут не
нахлебники. Вы скажете: а Соловьев, а Чаадаев? А Бердяев, а Шпет,
а Лосев? Мы их должны будем читать тоже. Но ни один из них
не так неизвестен, как Розанов, и не так непонят. И эти вещи,
через которые, с которыми мы спокойно входим в мысль XX века,
мир, бытие, понимание, настроение, наука и философия, все-таки
у Розанова, или у Розанова яснее, прямее, безусловнее, чем у
других. Или я не прав, или это фантазии и к философии не имеет
отношения, и философия имеет дело с концепциями, а Розанов
известно, что такое, его отношение к философии далекое, и что
он единственный из вошедших в библиотеку отечественной
философской мысли, кто переводил Аристотеля, это совсем случайно,
Розанов — посмотрим в Философский энциклопедический
словарь, кто он такой, да его там нет! — батюшки, как мы
опростоволосились, а мы взялись говорить о нем в связи с философией,
да еще и в связи с Парменидом! Может быть, тихонечко отползти
обратно, нет, я не я и лошадь не моя, это мы так, к слову сказали?
Или о Розанове в литературном справочном издании? И там не
сказано ничего о философии! Что делать, посоветуйте. Меня правда
берет робость, начинать чтение философии с Розанова.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
73
1—4(1.10.1991)
Что такое понимание у Розанова — неправильный вопрос,
хотя Розанов сам, конечно, первым делом выступит, поспешит
с определением, потом к определению прибавит второе, еще
потом и объяснит — во всяком случае, как может, пойдет навстречу
читателю именно с таким вопросом, «что же такое понимание
тогда, в конце концов», — Розанов будет стараться определить
понимание как раз тем более добросовестно, что само определение
(дефиниция) у него, как вообще в философии, стало приемом, а не
целью. Дефиниции ищут, как цели, конечно цель почти всегда
промежуточная, в науке, в праве, в житейском устройстве: в
философии дефиниция применяется, чтобы не фиксировать, а освободить
вещь, выпустить ее из ограниченности к ней самой, а сама по себе
вещь в философии открыта, как вещь и вообще открыта, пока ее не
закроют и не ограничат. Есть два настроения: одно — остановить
вещь, условно назвать — настроение организации, контроля и
учета, чтобы вещь можно было взять, как-то с ней обращаться, а то
как же обращаться с вещью, если неизвестно, не определено, что
она такое, если она «сама по себе», а там она уходит корнями Бог
знает куда, в мифологию; другое настроение, не менее сильное,
делающее, что человечество не тонет все-таки в организации, учете
и контроле, и часто странно переплетающееся с настроением
организации, — это оставить вещи без определения: я говорю
переплетающееся, потому что давать определения без конца невозможно,
должно быть что-то неопределенное и без того ясное, и вот именно
когда дают определения, самим этим определением
предполагается, что мы изымаем, извлекаем определяемую вещь из того — т. с.
извлекаем для каких-то надобностей — извлекаем из того, что
и без всяких определений ясно. Мальчик 2-х лет 8 мес, который
здесь был, видя, что мать старается дать определение дереву, дубу,
в его отношении к желудям: «Мне это и без всякого определения
ясно», говорится гордо, уверенно. Неверно, что определение
приходит с философией. Определение — вечное занятие организации,
государственной организации, которая древнее философии;
занятие права (закона), торговли, найма рабочей силы. Как
организаторам удается вообще что бы то ни было определить? (Определение
не обязательно эксплицитное, потому что в этом «это мне ясно
и без всяких определений» уже содержится «да что там, если надо
будет, уж определение-то я как-нибудь составлю»). Философия
в отношении обычного «а, ясно и без определений» спрашивает: ах
74
В. В. БИБИХИН
Господи, как это интересно, — откуда же ясно? Кто объяснил, что
объяснило? Почему мы умеем в мире, настолько легко, прекрасно
и свободно умеем, что спохватываемся, когда уже поздно, когда
уже почти нет времени спрашивать: а какой, собственно, смысл
имело все это мое бесспорное умение, почему, почему после всего
моего бесспорного, возрастающего умения — смерть? Почему,
когда я так хорошо умею то, что я умею, этого еще мало, и я
должен думать о смысле всего этого вместе, и моего умения, и моего
определения оказывается мало: что случилось я не знаю, почему
и мое мнение о себе, и мой опыт жизни, и мои знания перестали
работать, и я с удивлением смотрю на самого себя,
движущегося внутри машины в пространстве, и на пешеходов в сумерках,
и на людей, движущихся одних в одну сторону, других в другую
сторону, и на пространство, которое занято в разных местах
разными вещами, в одних местах домами, в других деревьями, — во
всяком случае, со мной случилось что-то неладное, надо или
выспаться, или выпить, или вообще что-то с собой сделать, потому
что, как говорится, со мной делается что-то не то, Бог знает что,
не такое, чтобы в этом настроении что-то делать. Что делать?
Давать определения? Они не помогут. Они сами, и что я их кому-
то или чему-то даю, кажется очень странным, как и вообще все
странно. Похоже, что не то что определения, а вообще из этого
настроения я ничего не выдам, ничего никому не предъявлю, не
предоставлю, даже постовому милиционеру права достану
удивляясь своим движениям и правам и его стоянию рядом со мной,
и если все-таки покажу, предъявлю, то только оттого, что как сам
себя вижу странным, так его, тоже заметное мне, подозрение, что
я пьяный, что я наркоман, кажется мне странно неподвижным,
несломимым, повисающим в воздухе наперекор силам тяжести,
и я, как в киносъемке, точно так же, как до этого уклонился от
машины, увернулся, так теперь показываю, стараясь не говорить
лишнего, опасного, но и не совсем молчать: мое поведение мне
странно, и странны бумаги, и заглядывание в них постового
милиционера, и его уход. Кто меня из такой завороженности выведет?
Наверное, что-то, конечно, выведет, или я сам выйду, но нарушит
со стороны, а самому по себе такому настроению конца нет, оно
и не во времени даже, чтобы со временем кончиться, потому что
и время — т. е. что время идет, что человеческая жизнь имеет
начало, недлинное продолжение и скорый конец, — тоже кажется
странным: это настроение, эта завороженность, или каменная
задумчивость, как говорил о себе Василий Васильевич Розанов,
и над временем тоже, и время тоже забирает в себя. Т. е. я выйду,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
75
выйду, конечно, из этого состояния, и Розанов тоже выйдет,
только Розанов выйдет как? Что он станет, как сомнамбула, говорить
странные, неожиданные вещи, всегда странные и неожиданные,
потому что задумчивость, каменность им правят так, что механизм
логики, машина рассуждения, т. е., собственно, механическое
связывание слов у него отключены. Слова слышатся неведомо
как неведомо откуда, человек нужен только чтобы смотреть на
это и этому удивляться — удивление поможет быть постоянным,
замечать за собой, не сбиться в нетрезвость.
В этой задумчивости — какие еще «определения»? Когда
отключена сама машина, механизм, занятый построением
дефиниций? Но однако же: постовому милиционеру, работнику ГАИ,
госаьтоинспекции я права предъявил, как во сне; от машины, вдруг
вышедшей из ряда, увернулся, как говорится, автоматически.
Задумчивость не разрушает человека, она оставляет от человека,
так сказать, только трезвый, суровый, можно сказать, почти что
скаредный минимум, странный минимум актов,
«автоматических», греч. «άυτόματον», мы еще вернемся к этому слову,
значит «сам собой» — порядок вещей предоставляется самому себе.
И когда Розанов говорит, что задумчивость всегда разрушала все
его планы, «каменная задумчивость», и не давала ему устроиться
в жизни, то он говорит это, когда уже ясно, что счастливым путем
именно это, завороженная неподвижность, неспособность двинуть
рукой ради достижения цели, безусловная сомнамбуличность
(сомнамбула, буквально «ходящий во сне», опять же
автоматически, сам собой, и опять мы еще вернемся к этому слову, спросив,
кто спит, кто ходит как во сне — и вернемся не между прочим,
а когда подойдем к главному делу философии, когда увидим, что
дело философии оставить все как есть, оставить вещи, в том
числе и вещь человеческого существа, самим себе, «автомату»,
«сомнамбуле», поступку во сне, ambulare не только «ступать», но
и «поступать», и латинский перевод евангельского «поступайте
по духу» — spiritu ambulate. Но это позднее, по поводу
неоплатонизма.) — а сейчас я говорю, что розановская каменная
задумчивость, как сократовский даймон, не давала ему устроиться, как
Сократу не дал устроиться даймон — и эта неустроенность была
то, что сделало Сократа Сократом, Розанова Розановым,
маркиза Де Сада — маркизом Де Садом. Дала Розанову услышать то
странное, что он услышал, — услышать именно в растерянности,
именно в брошености (мы уже говорили о брошености), в амеха-
нии Парменидовской, в отключении механизмов планирования,
достижения цели — не я их отключаю, если бы я их отключал, то
76
В. В. БИБИХИН
это и было бы опять подключение к механизму,
функционирование: амехания это немое, задумчивость немое, не так, что я решил
подумать и задумался, а наоборот — я задумался и в задумчивости
перестал думать. Амехания невыносима, я сказал, хочется
немедленно принять меры, развлечься, отвлечься, выпить на худой
конец, принять таблетку и выспаться — и трудно не принять меры,
как Розанов за всю свою жизнь не принял меры против себя,
против своего заворожения, — трудно так что не это ли и есть не
только самая большая трудность, но и самый большой труд
человека, и единственный, который не горчит потом, хотя быть одному,
брошеному, окаменелому трудно. Я заметил за собой, что то, что
я говорю, может показаться похоже на приглашение, призыв, совет,
заманивание в пользу такого настроения, такого образа жизни,
как будто я хочу загладить, смягчить то, что я говорю, как будто бы
я испугался записки, которая была прислана прошлый раз после
второй пары, что то, как я излагаю Хайдеггера, это безрадостная
школа обреченности на смерть и кроме того скользкий путь
филологических игр, и теперь я должен как-то показать, что все уж не
так-то ужасно плохо. Нет, то что я говорю о завороженности, об
амехании, неспособности шевельнуться, о розановской каменной
задумчивости, об отключении механизмов, с помощью которых
можно было бы светло и радостно «жить и работать», как сказано
было в той записке, — это не заманивание и не совет, а приказ, как
философское «надо», «надо следовать тому, что одно для всех»
Гераклита и «надо говорить и мыслить так, чтобы речь и мысль
оставались в бытии, не выходили из бытия», — это философское
надо, т. е. безусловный императив, обращенный ко всем и всегда,
абсолютный приказ, а не совет и не приглашение якобы на один
жизненный путь с других жизненных путей. Никакого другого
пути для человека нет, ничего вообще другого, чем неподвижное,
в парменидовском смысле неподвижности, бытие в амехании,
отключении механизмов планирования и организации, но не
отключения автоматов, потому что автоматы — сами собой
действующие — в принципе отключены быть не могут, — это единственное
что есть, и ничего другого просто нет, в сильном парменидовском
смысле того, что небытия безусловно нет, — или в смиренном
и радостном одновременно оглядывании Розанова, 62-летнего, на
то, что случилось с ним, бездейственным, от слушания голоса,
который можно бывает услышать только в амехании, который
механики не слышат за шумом своей техники. — Он оглядывается, на
то, что им сделано, и говорит, со смирением и радостью человека,
сделавшего такое, что уже нельзя отменить — а подумайте, что
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
77
это нечасто бывает, и какому, например политику удается сделать
что-то (а не сломать, там уж действительно необратимые
последствия) так, чтобы нельзя было отменить. Розанов сделал так, что
не отменить, — потому что ничего не делал, делал только самое
трудное, не выходил из амехании. «Не помню кто, Гершензон или
Вяч. Иванов мне написал, что „все думали, что формы
литературных произведений уже исчерпаны", „драма, поэма и лирика"
исчерпаны и что вообще не может быть найдено, открыто,
изобретено здесь и что к сущим формам я прибавил еще „11-ую" или
„12-ую". Гершензон тоже писал, что это совершенно антично по
простоте, безыскусственности. Это меня очень обрадовало: он
знаток. И с тем вместе что же получилось: ни один фараон, ни один
Наполеон так себя не увековечивал. В пирамиде — пустота, не
наполненная, Наполеон имел безбытийственные дни. Между тем,
„Оп. л." доступны и для мелкой жизни, мелкой души. Это, таким
образ., для крупного и мелкого есть достигнутый предел вечности.
И он заключается просто в том, чтобы „река текла как течет",
чтобы „было все как есть". Без выдумок. Но „человек вечно
выдумывает". И вот тут та особенность, что и выдумки не разрушают
истины, факта: всякая греза, пожелание, паутинка мысли войдет.
Это нисколько не „Дневник" и не „Мемуары" и не „раскаянное
признание": именно и именно только „листы", „опавшие", „было"
и „нет более", „жило" и стало „отжившим": пирамида и больше
пирамиды, главное — клади в карман. И когда я думаю, что это
я сделал „с собою", сделал с 1911 года, то ведь конечно настолько
и так ни один человек не будет выражен так и вместе опять
субъективен: и мне грезится, что это Бог дал мне в награду за весь труд
и пот мой и за правду (поднявшись с постели в 5 утра)».30
«И за правду». У Парменида — царица Истина.
Философское «надо» — для всех и всегда, и не только
потому, что «правда», когда чтобы «было все как есть» (Розанов
подчеркивает есть), а все другое — ничто или меньше, чем ничто,
потому что и ничто великое дело, так что, получается, в
человеческом языке просто нет слова, нет способа сказать то
ничтожество, которое имеет в виду Парменид, — и вот, философское
надо имеет смысл не только этого абсолютного императива, но
еще и другой смысл, что все равно ничего кроме истины и нет
и быть не может, т. е. только она одна все равно и есть, так что
в философском «надо» оба смысла, «требуется», и «неизбежно
так будет» — сходятся в одно. Есть отвратительное [развлечение],
30 XXIV письмо Голлербаху, август 1918 года.
78
В. В. БИБИХИН
созданное от последней скуки души, бродящей по античному
мертвому музею — понимаете, такой пошлой, пустой скуки, когда
для развлечения человеку хочется делать мелкие гадости: чтобы
хоть так развлечься. Для такого секундного, бессмысленного
развлечения говорят, что у Парменида все мыслимое и говоримое
человеком, поскольку небытия нет, есть уже бытие, укоренено
в бытии. Отсюда, конечно, и сам человек себе добывает
разрешение говорить что попало. Помешать такие гадости с мыслью
Парменида, вообще с античной мыслью невозможно именно
потому, что нет способов, нет средств именовать, высказать ту степень
ничтожества, ту степень хуже, чем ничто, которая постоянно
подстерегает человека. Небытие не существует — и это значит не что
всякое человеческое говорение так или иначе причастно бытию,
а что оно одновременно и то и то, и держится только бытием и
истиной, и существует только в меру принадлежности к бытию
и истине — и одновременно оно нигде, ничто, никак. Кроме бытия
ничего нет — и есть, да еще как, такое, чего нет. Вокруг этого
есть, единственно только и есть — и вместе с тем нет, и хуже
и меньше, чем нет, — вокруг этого есть и нет, я говорил, мысль
Парменида, и вообще вся философия, и Розанов от начала и до
конца, до конца в сильном смысле, до записей за пять, за четыре
дня до смерти, записей, которые делала дочь, — когда в человеке
уже нет фактически тела, и нет духа, а все равно есть ничуть не
ослабшее и от умирания страдающее, но таким страданием, при
котором существо того что есть, существо самого есть не
страдает нисколечко, не задето, не нарушено, не умирает, умирать не
собирается, от смерти утверждается.
Книга «О понимании» — попытка разбора здания
человеческого знания в свете цельного знания, подзаголовок книги —
«Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения
науки как цельного знания», причем совершенно ясно, яснее
ясного, что никакого такого цельного знания нет, есть частные науки,
которые в лучшем случае имеют между собой смежные области,
но неостановимо специализируются, чтобы остаться науками, не
остаться в смешном и диком состоянии дилетантизма,
«размышлений о природе», — и одновременно во всем этом разрозненном
знании, которое из-за разрозненности бессильно и должно быть,
будет разрушено, все равно ничего, кроме одного истинного, т. е.
имеющего дело с самой истиной и только с ней, кроме
понимания — ничего не только нет, но и быть не может, неоткуда взяться:
потому что вообще разум начинает быть двойным, разносить
свои приобретения в «две независимые области», это Розанов
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
79
«О понимании», с. VIII (6) римская, а Парменид, «двухголовые»,
о людях, фр. 6.
Розанов говорит о понимании, о цельном знании — о том,
чего нет, потому что существование понимания парадоксально,
«есть отдельные люди и даже целые народы, почти совершенно
лишенные его» (7/14), и нет причин, закономерности, чтобы
понимание было — оно есть опять же так, что его нет, его может
не быть и больше даже, его не может быть — об этом потом будет
подробнее, и помимо чего, кроме чего ничего в здании
человеческого знания нет. В этом смысл важной розановской фразы на с. 5
арабской (римских было в Предисловии от VII до Х131)>
прочитаем еще раз, потому что мы в ней еще не разобрались: «Истинное
знание может быть образовано не только о том, что существует
и чему это знание может соответствовать, но и о том также, что
должно существовать и чему должно соответствовать это
существующее». Тут два раза «соответствовать», одно во фразе с
«не только», другое во фразе с «но и». Первое соответствие —
знание соответствует существующему, может причем
соответствовать, если поднимается до этого существующего. Второе
соответствие — само существующее соответствует, и не с
может, а с должно, т. е. существующее и обязано, и одновременно
обязательно соответствует — чему? другому существующему?
Нет, всякое существующее уже «соответствует», должно обязано
и обязательно соответствует. Чему? Стало быть уже не
существующему, но такому, которое предполагается всем существующим
так, что и существующего может не быть, но «то», чему должно
соответствовать существующее, будет, и так, что существующего
не может быть без того, чему оно должно соответствовать, но
что не существует. — Это Розанов. С этим отношением мы имели
дело, когда говорили об энергии.
Аристотель. Энергия как выведенное из потенции к акту,
существующее — и энергия первая, как то, чего нет, как у
архитектора нет даже в плане здания, которое он хочет, но этому, чего
нет, должно соответствовать то, что он строит. Под архитектором
можно понимать вселенского плотника, создателя мира. Василий
Розанов и Парменид, не достаточно ли; теперь Василий Розанов
и Аристотель — сопоставление корректное?
31 В последнем издании (М.: ИФТИ св. Фомы, 2006) розановское
предисловие имеет арабскую нумерацию страниц, 5—8, а римскими цифрами
пронумеровано предисловие В. В. Бибихина «Время читать Розанова». (Сост.)
80
В. В. БИБИХИН
1. Из философов серебряного века, так называемого русского
религиозного ренессанса, название всеми тремя словами
неудачное, потому что его значение было больше чем русское, это был
знак того, что русская мысль перестает быть этнографией,
становится мыслью без скидок мировой, — слово «религиозный»
здесь явное недоразумение, оно обозначает только отрицательное
свойство, а именно что мысль в России этого времени
перестала быть тупо-ограниченно атеистический, антиклерикальной,
невротически безрелигиозной, как у Добролюбова, Писарева,
Чернышевского, а позитивно «религиозный» ничего не говорит,
заставляя религиозным считать то, что просто не было абсурдно
ненормальным в отношении религии, что было в отношении
религии просто нормальным. Ренессанс — чего? Того, чего в России
раньше просто не было? Это затемняет новое начало, каким был
прежде всего Розанов. Во всяком случае, среди того, что несчастно
названо «русским религиозным ренессансом», Розанов, кажется,
был единственным, кто переводил Аристотеля, кто был условно
говоря не платоником, а аристотеликом, вещь для России совсем
необычная, небывалая, у нас все платоники.
2. Кроме этого есть другая явная вещь, делающая не только
корректным, а обязательным отношение Розанова к Аристотелю:
место потенции у Розанова, об этом опять надо будет говорить.
Из XXVII письма к Голлербаху, сейчас, из-за того, что это одно
из тех мест (29 августа 1918 года), где вспоминается книга «О
понимании», именно в связи с потенцией (аристотелевская «дюна-
мис», возможность, и после которой энергия, но π раньше которой
энергия, то готовое, та заранее имеющаяся цель, ради которой
возможность — но не существующая существованием
осуществившегося цель, мы говорили). «...Все „О понимании" пропитано
у меня „соотношением зерна и из него вырастающего дерева..."
Потенция („зерно") — реализуется... Религия, „царство"
(устроение России) — все здесь, в идее „потенции", „что растет"».
Розанов имеет дело с тем, чего среди существующего нет, но
чему существующее должно, в обоих смыслах долженствования
обязано и обязательно будет, соответствовать. В этом смысле
и понимание, имеющее дело не с существующим и само странно
существующее — не существует, на языке восточной схоластики,
по преизбытку существования, таким существованием, которое
не противоположно несуществованию. Это трудно. Но, я уже
говорил, об этом загадочном «есть и нет» — вся книга, неизбежно,
чтобы это, одно и то же, оказывалось и существующим, и
несуществующим, Розанов говорит — неподвижно существующим, не
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
81
ссылаясь на Парменида и не помня о нем. Ему не надо ссылаться
на Парменида, потому что когда он говорит о «неподвижности»
понимания, то это слово — оно еще повторено: «Человеческое
понимание — это отдельный мир, сложный и углубленный,
создаваемый мыслью человека, медленно и неустанно ткущею нити,
последний узор которых неизвестен (!), но в котором содержится
последняя разгадка всего. В этом мире идей, вечно неподвижных
(!) в своем основании (!) и вечно развивающихся путем
внутреннего самораскрытия, живет и господствует великий зиждитель
их — человеческий разум, в совершенном повиновении своей
природе осуществляя свою высшую свободу»,32 — то, я говорю,
не только одно это слово, «неподвижное основание», но и «вечно
неподвижные», и «вечно развивающиеся» идеи, и «природа»,
которая есть «свобода», не нуждаются в привязке к истории
философии, к Пармениду, Платону, Аристотелю, Гегелю, и даже не очень
интересно, откуда, как это говорится у историков философии,
«заимствована» Розановым эта «природа», которая «свобода», прямо
у Гегеля или из изложений, или вообще не у Гегеля, или вообще не
заимствована, — потому что гораздо ближе всех этих историко-
философских реминисценций сама вещь, которую Розанов имел
на опыте, опыт внимания, задумчивости, действительно
неподвижной, каменной, сковывающей в амехании, которая выключает
не только все механизмы рассуждения, планирования и действия
(то, что называется движением), но и буквально дохнуть не дает
(так буквально нужно понимать слова из «Уединенного» «Я
задыхаюсь в мысли»).33
С движением у Розанова всегда обстояло дело так: «Меня
даже глупый человек может „водить за нос"... относится к
глубокой, полной моей неспособности сказать человеку — „дурак", как
и — „ты меня обманываешь"... мечта: тут я не подвигался даже на
скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже
и в детстве... На виду я — всесклоняемый. В себе (субъект) —
абсолютно несклоняем... Какое-то „наречие"» (Уединенное34).
Можно читать у Розанова о понимании как мире неподвижных
идей и т. д. как лоскутья из Платона, Аристотеля, Шеллинга, Гегеля;
можно читать как риторику и психологию («Я задыхаюсь в мысли.
И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя
сквозь тернии и слезы есть все-таки наслаждение» — психология;
32 В. Б. не указал номер страницы. В последнем издании (2006) это с. 14.
(Сост.)
33 Розанов. В. В. Соч. в 2-х тт., т. 2. М, 1990, с. 232.
34 Там же.
82
В. В. БИБИХИН
не мысль; где же наука). Можно читать как «философию жизни»:
вот можно смотреть на эти слова, «отсутствие воли к жизни»
и говорить «философия жизни», затвердить и автоматически (но
это другой автоматизм, не счастливый автоматизм природы,
которая главные вещи свои делает «сама собой», рожает, а мертвый
автоматизм мысли там, где она как раз не природа, автоматизм
автомата, который как раз ничего родить не может) — и
механически повторять «Розанов философия жизни», «Розанов философия
жизни», — беда как раз в том, что Розанов «всесклоняемый» (цит.
выше, «Уединенное»), его можно читать и вдоль и поперек, и все
выйдет, и все получится, — но это значит, что мы и не собирались
даже его читать, того, который «абсолютно несклоняем», один
всегда, об одном всегда, и не «отошел впоследствии от метафизики
своей ранней книги „О понимании"», как бездумно автоматически
говорят «исследователи»; или еще так говорят:
«В 1886 г. вышла первая книга Розанова „О понимании. Опыт
исследования природы, границ и внутреннего строения науки как
цельного знания", оставшаяся не замеченной современниками.
Большая часть тиража была возвращена автору. В этом весьма
схоластическом трактате, обнаруживающем гегельянство
сочинителя, предпринята попытка рассмотреть „понимание" как научную
категорию, отличающуюся от обыденного употребления этого
термина. Речь идет о природе и познающем ее человеке, о
внутреннем строении науки как предмета исследования. Науковедческий
аспект книги не заинтересовал читателей, и Розанов от философии
обратился к критике и публицистике».35 Всё. «От философии
обратился к критике и публицистике». Но ведь в предисловии в самом
начале книги «О понимании» сказано, что понимание вне науки и
философии; что никакого науковедения нет, что «слово „наука"
будет употребляться не в смысле того, что существует под этим
именем, но в значении того, что существовало ранее ( ! ) разделения
знания на науку и философию»; но ведь «понимание» вовсе не
рассматривается как «научная категория», оно явно то «внимание», та
«задумчивость», о которой мы упоминали, о которой Розанов так
много говорит как о главном всей своей жизни; но ведь Розанов не
«обратился» значит от философии к критике и публицистике, и ведь
сколько раз он скромно просил, как в «Уединенном»,36 через 25 лет
после «О понимании»: «нужно бы посмотреть книгу „О понима-
35 Николюкин А. Н. В. В. Розанов — литературный критик. — В кн.:
Розанов В. В. Мысли о литературе. М.: Современник, 1989, с. 12—13.
36 Розанов. В. В. Соч. в 2-х тт., т. 2, с. 224.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
83
нии"», потому что — «теперь распространилось слово „чуткий"»
(символисты, декаденты, Брюсов, Андрей Белый), «но в идеях
„чуткости" и „настроения", с ярким сознанием их, с признанием
их важности, я писал эту книгу» — но нет, никто не посмотрел
все равно в 1910; и в 1989 эта книга «науковедение». А, ничего, так
сойдет. Розанова можно и так и так читать. Он «всесклоняемый»,
он сам же говорит, что он «всесклоняемый» — значит его и можно
и нужно склонять во все стороны, а что, разве нельзя и не нужно?
Да, и можно и нужно. Раз Розанов сам так разрешил. Мы же
читали: «„Опавшие листья" доступны и для мелкой жизни,
мелкой души».37 Для всякой жизни. И не только «Опавшие листья»,
но и вообще все. Пожалуйста, делайте с Розановым что хотите.
Годится и туда и сюда, можно склонять по-всякому. Нам поэтому
на каждом шагу будет очень легко Розанова потерять. В книге
«О понимании» его всего проще потерять в истории философии
или в том, что так называется.
Потому что картина, куда можно Розанова вставить или,
вернее, куда Розанов j#/ce вставлен, у нас имеется готовая. А, Розанов?
А, Розанов! Ну да, Розанов, Розанов... Ну конечно, Розанов... Ну
что, там, Розанов... Все уже имеют места. Шекспир? А, Шекспир!
Ну да, конечно, Шекспир... Да, известное дело, Шекспир, знаем,
знаем, Шекспир, он вот Шекспир и есть... Платон? Платон,
конечно, Платон, идеи... Мы каким-то образом уже знаем: а, Розанов?
Узнаем как известное дело. Имена как слова. «Идея». Да, идея...
Вот идея... Роль идей в жизни общества? Огромная... Никакой...
У нас тут возникла дискуссия о роли идей в жизни общества,
и мнения разделились, одни считают, что роль эта огромна, другие
же полагают, что она незначительна. Как, Василий Васильевич, вы
считаете? И разговор начался; разговор, собственно, давно идет,
и в нем участвуют и слова и имена, и всем удивительным образом
понятно, о чем идет речь, и все в ежедневном потоке дискуссии,
газетной, журнальной, устной, так понятно, так гладко, конечно,
с разным уровнем ума, идет разговор на естественном языке, т. е.
на языке, где как раз не требуется думать, что значит слово,
должно быть сразу само собой понятно, что оно значит, в том числе
слова-имена, что скучно и ненужно, если кто-нибудь скажет: А вы
знаете, что такое идея, что такое Шекспир? О вы не знаете, что
такое идея, что такое Шекспир, у Платона не было учения об
идеях, Шекспир не существовал, Розанова никто по-настоящему не
37 Голлербаху, письмо XXIV.
84
В. В. БИБИХИН
знает, Гегеля переставали понимать, так сказать, на лету, едва его
произносимые им слова долетали до слушателей. Как это скучно,
как это ненужно! Естественный язык должен быть естественным
языком, т. е. понятен без опрашивания о каждом слове, что оно
по-настоящему значит; Витгенштейн заметил, что язык действует
и тогда, когда значение ни одного слова не уточнено.
Всё. Закрыто раз навсегда. Розанов вошел в язык как все-
склоняемое наречие и ничего уже не изменить; не нам не то что
распоряжаться, а и судить, как кто куда входит: он явно вошел,
и никто не знает как, и это уже неотменимо, но как раз это
означает, что книгу «О понимании» никто никогда уже не откроет, не
прочтет; в образе Розанова, каким он вошел в наш быт, эта книга
уже ничего не изменит. — Поезд ушел, как говорится. Что мы там
еще пытаемся говорить, с кем стараемся спорить, кому что
доказать — это уже не важно, надо заняться делом. Розанов обратился
после первой неудачной философской книги к литературе. «Чтение
философии» наша тема, к нему отношения не имеет. Он не
философ. Разве я сейчас не прав?
Соображения, что философия шире, чем думают, что она
соседствует с литературой, силы не имеют. Философия ведь тоже
установилась, мы уже знаем, что это такое, когда произносим
слово, и пытаться расширить это естественное значение так же
бесполезно, как пытаться предложить, а давайте понимать слово
«человек» по-другому. А мы не знаем, как мы его понимаем. Мы
его каким-то образом понимаем, как берем рукой блюдечко, не зная,
какие действуют при этом мускулы. Потом мы в «Чтении
философии» хотим идти ведь по главной дороге, не по непроторенной.
Другое соображение, что смотрите, ведь Розанов в 1886 году
называет бытие, мир, понимание, настроение, ключевые слова
мысли XX века, — таких совпадений бывает много, они не
существенны, неважно, кто что как это называется «предвосхитил»,
у кого приоритет, кто первый случайно употребил какое слово, тем
более эти слова Розанова вставлены в язык — хороший язык —
философской публицистики XIX века. Нет причины из-за этого
вглядываться в Розанова. Когда мы и мысль XX века, уже
кончающегося, не знаем.
Вопрос не к вам, а ко мне: почему же все-таки тогда Розанов?
Да еще Розанов и Парменид? Не из-за его непрочитанности, не
из-за прозрений, не из-за значения и роли, больших или самых
больших, в том, что происходило в Москве и Петербурге в конце
прошлого — начале этого века, а за то одно, что его держало и
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
85
чего он держался, что не привязано даже и к слову «философии»,
не то что к истории философии, — что я называю делом мысли
и делом мира, делом мысли потому, что делом мира, потому что
у мысли есть дело потому, что есть дело мира, а не наоборот, Я
не говорю, не скажу, что Розанов занят делом мира. Но он не
занят и никаким другим делом. Он стоит у дверей и стучится, и
ему не открывают, на него только с интересом и любопытством
все смотрят, как он стоит у дверей и стучится. 24 марта 1912
года, купив 3 места на Волковом кладбище, он записывает, перед
глазами у него целое поле могильных камней: «Мертвая страна,
мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо и никакая мысль
не прививается».38 Он говорит о кладбище: под памятниками
мертвые, они совершенно не движутся, и никакая мысль к ним
не прививается, ну никак. «О понимании» не забыто; оно только
не привилось. Розанов стучался очень громко. Когда один и тот
же человек в одно и то же время пишет одну статью
демократическую, другую консервативную, и Петр Бернгардович Струве в
«Русской мысли» рядом печатает полярные статьи Розанова и
показывает, смотрите, это двурушник, — в самом деле, [если] сейчас
радуется, что эсеры убили министра внутренних дел, и сейчас же
проклинает революцию, от Чернышевского и Писарева, — то это
очень громкий стук в дверь — или в могильные плиты? «Мертвая
страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо и никакая
мысль не прививается» — но ведь это он сам каменный в своей
задумчивости, это он сам недвижимый. «Я не подвигался даже
на скрупул ни под каким воздействием и никогда» (выше). Так
«мертвая страна» — или наоборот? Могилы, и в могилах те, к кому
никакая мысль не прививается? Или могила тут такая, как он
говорит в конце последнего письма к Голлербаху четыре месяца до
смерти: «Тьма истории. Всему конец. Безмолвие. Вздох. Молитва.
Рост... Боже, Боже... Какие тайны. Какая Судьба. Какое утешение.
А я-то скорблю, как в могиле. А эта могила есть мое воскресение».
Единственное дело, которое есть вообще, и есть для
человека — это дело мира. Розанов никогда ни разу ему не изменил.
Он ничем другим, кроме того, что наше дело, никогда не
занимался; он стучался туда, в ту загадку, куда должны были бы
стараться достучаться мы. Он делал за нас раньше нас то одно, что
только и должны были делать мы, — делать не свое дело, а дело
мира. То, другое которое все равно никогда не будет сделано,
потому что все, что делается, делается только потому и в той мере, что
38 Розанов. В. В. Соч. в 2-х тт., т. 2, с. 291.
86
В. В. БИБИХИН
есть одно большое и необъемное дело — дело мира, дело, которым
сам мир и является, единственное дело. Мир Розанова поэтому —
и есть мир просто, невидимый, в Розанове присутствующий.
Мы можем ему довериться, в него шагнуть. Из-за того, что
Розанов не отступал, всю жизнь стучался, был на подступах к миру,
он для нас дверь, через которую и мы хотим подойти к тому, чтобы
увидеть если не мир, то хотя бы место мира и тоже не отступать
потом, не делать других дел, кроме одного-единственного.
Я уже читал, что понимание вовсе не обязательно должно
быть в человеке, и целая страна может быть без него, «есть
отдельные люди и даже целые народы, почти совершенно лишенные его»
(7/14). Потому что оно не человеческое дело, не человеком
выстраивается. Понимание Розанов называет в своей книге и «разумом»,
дело не в словах, дело в том поступке, к которому он приглашает,
но приглашает со знанием, что иначе не только человек обречен,
но и человек, человеческая история просто невозможны. «Разум
представляет собою нечто замкнутое в себе и глубоко
самостоятельное; не человек обладает им, но он живет в человеке, покоряя
себе его волю и желания, но не покоряясь им. В самом себе носит
он свою цель, и скорее заставляет человека забывать о всех нуждах
и потребностях своих, нежели служит им. Внешняя деятельность
болезненно подавляет его, и только в полном самоуединении и
покос раскрывается он во всей силе и полноте своей» (19/24).
Самостоятельности понимания мы не видим; мы вообще
понимания не видим, нам нечем видеть, оно видит нас, и мы узнаем
его, невидимое, по пустоте (33/34), которую знаем в себе. Эта
пустота особенная: мы ее явно имеем, мы явно место, но не такое,
которым можем распоряжаться для размещения там того, чего мы
хотим. Розанов: понимание «ничем не обнаруживает своего
присутствия в человеке; но вот едва мы, обманутые этим, пытаемся
заместить предполагаемую пустоту каким-нибудь реальным
существованием, как тотчас чувствуем, что эта кажущаяся пустота
не есть ничто: в ней есть что-то живое, потому что вводимые
впечатления все отталкиваются и воспринимается только одно
определенное» (33—34/35—36). Отсюда безнадежность
насильственного обучения. Почему мы такие избирательные? Что нас
ведет, когда мы тянемся к одному и другое нам постылое? Всего
легче сказать, что у каждого свой вкус, suum cuique. Почему мы
такие избирательные? Что мы каждый раз избираем?
Мы избираем раньше всех вещей во всех вещах мир, не
меньше чем целый мир. Ничто другое нас не заденет, только то и в той
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
87
мере, в какой в вещи собран мир. Человек с самого начала готов
к миру: с самого начала человек больше, чем человек, а относится
к миру. Розанов: «Ранее чувственного опыта и соприкосновения
с миром в разуме человека лежат уже схемы идей, готовых обнять
собою мир, и тот факт, что мир этот, существующий независимо
от человеческого разума и ранее его, действительно вступает в эту
схему идей, раз соприкосновение между ними произошло,
невольно заставляет видеть и в разуме нечто космическое, и в космосе
нечто разумное... Поэтому... возможно понимание, возникающее
о мире в разуме» (60/56—57). Человек с самого начала расположен
к миру так, что открывается не вещам, с которыми соприкасается,
а миру, и потом вещам. И каждая вещь, поскольку она замечена, —
иначе она не была бы замечена, — уже мир.
Здесь вместо простора, который может по ошибке нам
показаться, — мир, целое, — на самом деле тупик. От того, что мир
и понимание сведены в соответствие, в «гармонию» разума и мира,
ни понимание, ни мир не стали ближе. О гармонии ума,
человеческого существа и мира мы уже слышали, хочется верить, что
такая гармония есть. Особенность мысли Розанова: что он сказал,
или что ему сказалось — гармония — он не возьмет обратно; но
и строить свое дальнейшее рассуждение с учетом того, что он
сказал, этой гармонии, он не будет: каждый ход мысли не стеснен,
не связан, наоборот, освобожден предыдущим.
На с. 60 (57): «Как будто все бесконечно долгое и бесконечно
сложное развитие свое космос совершал только для того, чтобы
создать этот загадочный разум и как в семени своем соединить
в нем все, что он сам заключал в себе от начала». После этого
Розанов развертывает «схемы понимания», «обнимающи[е]
собою стороны космоса», этих схем 6. У понимания есть схемы,
у космоса есть вещи, чтобы соответствовать схемам. Сплошное
соответствие. Но мы еще плохо знаем Розанова. После этих самых
общих схем, которыми разум охватывает космос, идет
неожиданное: «Возможно, что в мире вещей существуют стороны, не
имеющие в разуме соответствующих им схем понимания» (65/60).
«Возможно, что разуму присущи некоторые схемы, не имеющие
соответствующих им сторон в мире вещей» (67/60). Гармония
этим перечеркнута; вернее, гармония между разумом и космосом
оказывается гипотезой, в рамках которой можно прилагать схемы
к миру. Это рабочая гипотеза, обеспеченная только успехом науки.
Успех этот не абсолютен. Гипотеза призвана обусловить
«возможность самого познания» (60/56). За рамками науки безусловно
другое.
88
В. В. БИБИХИН
«Ошибочно думать, что лежащее за границами познания есть
виды того же бытия, которое лежит на границах его; что это
продолжение того же мира вещей, который знаем мы, но только пока
еще недосягаемое и недоступное для человека — достижимое,
но недостигнутое только им. В действительности эта
обусловленность и ограниченность познания и глубже и серьезнее. Может
лежать в мире нечто иррациональное, совершенно непостижимое,
как бы бессмысленное; о чем нельзя ни подумать, ни сказать чего-
нибудь; то немыслимо, и однако же существует; непредставимо,
и однако же реально. И это непостижимое — не новые виды уже
знакомого бытия, но нечто не имеющее с ним ничего схожего
и ничего общего, нечто несравнимое с ним... Причина этой
непостижимости лежит не в ограниченности наших чувств, но в самом
строении разума и в несоответствии этого строения со строением
мира. И так как человек не в состоянии изменить ни строения
мира — приведя его в соответствие со своим разумом, ни строения
разума — приведя его в соответствие с миром, то и возможная
ограниченность познания не есть временная неполнота его, но
нечто необходимое и вечное» (67/61).39 Гармония, однако, остаться
главной гипотезой разума должна, без надежды, что схемы разума
отвечают миру, познание ненадежно. Это значит: разум будет
вечно наполняться «призраками бытия, обманчивыми... От этих
призраков бытия разум никогда не в состоянии будет
освободиться». Существующая наука опирается на призраки бытия.
В чем дело? Почему Розанов сначала говорит: соотношение
разума и мира «мы видим... уже предустановленным» (гармония),
с. 60 (57), — и теперь — «причина непостижимости [вещей] лежит
не в ограниченности наших чувств, но в самом строении разума
и в несоответствии этого строения со строением мира» (67/61).
Сказаны противоположные вещи. Как к этому относиться?
Сказаны противоположные вещи. Но как бы не Розанов их
сказал: Розанов их нашел. Факт науки говорит о гармонии, разума
с миром. То, что наука должна подготовить (препарировать,
представить) факт, чтобы иметь что-то о нем сказать, оставляет
остаток, который, чем тоньше наука, тем несводимее к науке. Гармонии
нет— и гармония есть. И еще: мир в своем простом начале не
строение, к этому началу разум прикасается не созвучием, а
прикосновением. Это аристотелевское слово.
39 Такого мы не найдем во всем русском идеализме, во всем так называемом
«религиозном ренессансе». И когда в XX веке Левинас говорит, что разум не
умеет видеть безусловно Другого в вещах, то это принимается как откровение.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
89
1—5(8.10.1991)
Даже не знаю, с чего начать. Слишком захватывающе и
интересно. Ах мы только чуть коснулись Розанова и в самой середине
вещей. И знаешь, что важничать, экономить открывшееся
богатство, с видом владельцев выдавать по мерке — не надо,
недостойно. Лучше, как Розанов, pêle-mêle — и пусть, ладно, потом
говорят, что у нас нет системы, нет философии, и начнут делать
систему, сушить, препарировать... Все равно от обид обезумевшей
самоуверенности, кто огражден?
Мы оставили прошлый раз 30-летнего Розанова, когда он
объяснит и еще раз объяснит, что такое понимание, но как
передать опыт? И мы скажем о своем маленьком опыте, который,
может быть, в чем-то отдаленно напоминает розановский, — но
расскажем же, а как опыт передать? Правда, так часто
говорится, — передать опыт в смысле рассказать о нем, — но это ведь нет,
не передача. Никто никому ничего не передал. И Розанов своей
книгой «О понимании» никому, ровным счетом никому не
передаст. Зачем же пишет? Молчал бы! А хочется подарить! Потому
что знает себя богачом, что больше — нищим богачом; т. е. то
по-настоящему, единственное, безобманное и не пропадающее
богатство, когда находишь и нищету такую, которая богатство. Это
безусловное, когда не надо бояться, что обманулся или обманешь,
чистый подарок тебе эта нищета-богатство, богатство в нищете,
и можешь безопасно (что потом не раскаешься) дарить другим.
«Он был тоже воистину нищим духом»40 — это слова вдовы Мих.
Мих. Пришвина Валерии Дмитриевны Пришвиной о своем муже,
а тоже — относится к Розанову: Пришвин как Розанов нищий
духом, — как Розанов, о котором Пришвин 64-летний в 1937 г.
пишет в дневнике: «Он своею личностью объединяет всю мою
жизнь ... самый близкий человек».41 Валерия Дмитриевна пишет
с уверенностью в том, что как Пришвин... (но ведь и не один
же Пришвин — ведь и Максим Горький в своем
дореволюционном варианте, — был еще революционный и
послереволюционный, — писал: Розанов «в конце концов — самый интересный
человек русской современности»,42 и кто не говорил о
гениальности Розанова, но у Пришвиной уверенное ясновидение): «Уже зре-
40 Контекст 1990, с. 212.
41 Там же, с. 196.
42 Контекст 1978, с. 322.
90
В. В. БИБИХИН
лым человеком-мастером Михаил Михайлович сделал о Василии
Васильевиче столько удивительных (на мой взгляд) записей, что
я поставила себе целью их собрать и сохранить на то время, когда
каждое слово Василия Васильевича, верное и неверное, или
лучше так: всерьез или в игру сказанное, — каждое слово будет для
людей сокровищем» (Татьяне Вас. Розановой, 23.3.1969). В 1969
каждое слово еще не было для всех сокровищем: даже Венедикт
Ерофеев открыл Розанова позднее.
Я говорил, что разница между тем, что сохранится, и что не
сохранится — это разница между дает и берет, дарит и отнимает.
Что нищий может дарить? А вот нищета подарок, которого еще
поискать; ничего более таинственного, неожиданного, обещающего
в человеке нет. Готовность к безусловной нищете. Готовность быть
пустым местом. Природа боится пустоты, в ней всё заполнено,
плотно, настолько плотно, что тесно: одно всегда должно
потесниться, чтобы дать место другому, но и другому тоже окажется
тесно: стесненное существование в конце концов начинает
казаться нормой: а как же иначе, борьба за место под солнцем, суровая,
беспощадная, — ив этой тесноте не может появиться пустого
места, его просто не будет, оно будет заполнено ведь сразу, — оно тем
не менее появляется, место, вмещающее не соседа, а всё, и этим
всевмещением, не частичным, богатое, — не захватом всего, как
бы это было возможно, а отдачей всему его места, не чужого и не
тесного, — этим вмещением питается. Это кажется просто — но
тут не я впускаю, это было бы обманом вещей, которые имели бы
не место, а место, которое я им дал, — не я, имеющий
воображаемое место, а никакого я: просто место вещей.
У Розанова было сказано сначала, что для мира у разума
запасены схемы, в которые мир войдет. Розанов тут говорит о
предустановленной гармонии. О гармонии между разумом и миром мы
слышали и еще продолжаем слышать, что можно о такой гармонии
сказать? Что очень хорошо, если бы она была. Пока то, как ведет
себя разум, такого рода, что никакой гармонии могло ουδέν ήττον,
с равным успехом и вовсе не быть.
Поэтому Розанов не делает глупости — доказывать
самому себе и другим, что гармония все-таки есть (или София, или
всеединство, или еще какая-нибудь другая успокаивающая вещь),
а говорит неожиданно вот как: «Может лежать в мире нечто
иррациональное, совершенно непостижимое, как бы бессмысленное;
о чем нельзя ни подумать, ни сказать чего-нибудь: что немыслимо,
и однако же существует; непредставимо, и однако же реально...
(«О понимании», 66/61); ... человек не в состоянии изменить ...
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
91
строения мира, приводя его в соответствие со своим разумом...
строения разума — приводя его в соответствие с миром...
ограниченность познания ... есть ... нечто необходимое и вечное» (там
же). Предустановленная гармония или несоответствие? Ах и то
и то: всё здание науки и ее техники держится на гармонии между
разумом и миром, — на гармонии, которой, возможно, и нет вовсе,
так что постройка науки, вся, зависает рискованно, вся держится
на если, удовлетворение которого в науке невозможно, наука
никогда не сможет обеспечить себе это если, наука всегда сможет
ссылаться для подтверждения своей истинности только на свой
успех, и всегда будет оставаться неясно, то ли наука действительно
движется вперед все быстрее, то ли она скатывается туда, куда не
хотела бы, и понятно, что она катится с ускорением.43 Это если
и это или в науке всегда остаются, она сама справиться с ними не
сможет. Она не знает и никогда не узнает, то ли гармония, и опыт
гармонии, и опыт «совершенно непостижимого» ученые
имеют... (Гейзенберг с соотношением неопределенностей: поведение
элементарных частиц поддается математической формуле, но в
эту формулу входит — без этого не будет «гармонии» —
непредвиденность поведения электронов, скачкообразный «свободный»
переход с одного уровня на другой. Примеры можно и другие.)
Я говорил, что в русском идеализме, но и в русском
материализме тоже, такой готовности встретить в мире безусловно Другое
мы не видим, видим оптимизм, родные тайны, волшебные загадки.
Только Лев Шестов, делая из этого свою единственную тему,
споря из-за этого с Гуссерлем, настаивает на обязательном провале
разума, — что разум будет обязательно и жестоко сокрушен. Опять
по этой теме интересная запись Пришвина, Михаила, потому что
был другой писатель Пришвин, писавший о том, как новая жизнь
пускает уже крепкие корни в народной почве, — запись Михаила
Пришвина (р. 1873) 3 февраля 1909: «Читал статью Шестова ...
о Толстом: приложение розановских идей».44 В какой мере Шестов
развертывает одну сторону Розанова? Неужели эта незамеченная
зависимость есть? Об этом отношении, Шестова к Розанову, мало
слышишь, или вообще никогда. А с другой стороны, разве не
могло быть иначе, могло не быть этого отношения? Его не могло не
быть, по разным причинам — вообще вырастание философской
43 [Запись В. Б. на полях машинописи] ...А где же, где? А если нигде нету
той системы, и это называется философия, то как же я буду, философ, когда я
говорю другим, что как и почему, а если не буду иметь говорить, то чем же я буду
лучше это значит других?
"Контекст 1990, с. 162.
92
В. В. БИБИХИН
мысли из литературы, а Розанов блестящий заразительный
литератор, особенное внимание Розанова к еврейской и к библейской
теме, к Иерусалиму, — и к Афинам (Афины и Иерусалим, два
полюса, между которыми Шестов).
Научный разум должен предполагать — или что он, раз возник
в природе, и не может не иметь сродства с природой, а куда же ему
деться, — частый довод эволюционизма... — Разум так или иначе
встроен в развитие природы, значит или он всеми своими
чертами вплетен в нее, или даже, больше того, разум вообще как-то
с самого начала присутствовал как то, ради чего природа, со всем
ее развитием. Как будто бы говорят о Бог знает каком приятном
и послушном младенце, который удобно устроился в колыбельке
природы. О чем говорят, какой разум? Где разум? Где-то он есть,
где-то его ищут. Степень наивности здесь уже какая-то
трагическая. Ищут разум, но разум близко, эти самые поиски гармонии
и есть разум, значит гармония для разума под вопросом, и в этой
бесспорной вещи, что гармония для разума под вопросом, раз
разум ставит о ней вопрос, изменить ничего уже нельзя, даже если
разум придет к выводу, что гармония существует, и будет потом
всегда, безостановочно приводить самому себе убедительные
доводы в пользу этого. Абсолютно неважно, что там в конце концов
разум для себя решит, какую подушку подложит себе под голову
и как надолго заснет. Тем более, значит, важной и неразрешимой
была проблема, раз она так настоятельно потребовала себе
решения, чтобы уже не оглядываться на нее. Гармония, другое дело, для
разума крайне привлекательна, даже нужна, он без этой гипотезы
шага сделать не может — от этой нужды еще не следует, что
гипотеза обязательно должна быть верна. Разуму абсолютно нужно
хоть чему-то заранее увидеть что всё соответствует. Например,
причинности. «Причинность, генетическая связь между
отдельными состояниями видов и форм материи в процессах ее движения
и развития».45 Боже мой, научному разуму дай только палец — он
отхватит целую руку. Казалось бы, в этом определении ничего
нет, просто дефиниция, но мы уже знаем или вроде бы должны
были и без того, сами собой знать, что есть материя и у нее есть
виды, формы, состояния видов и форм (интересно, что это такое?),
процессы, движение, развитие. Тут нечаянно у нас всё уже есть
что надо, иди изучай процессы, фиксируй виды и формы, получай
результаты. Еще оказывается мало этого вооружения, до зубов,
надо, чтобы зверь еще не бродил по воле как ему вздумается, а был
45 СЭС. М., 1982, с. 1074 (ст. «Причинность»).
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
93
привязан, связан, тогда его совсем легко взять. «Возникновение
любых < ! ) объектов и систем и изменение их свойств во времени
имеют свои основания в предшествующих состояниях материи;
эти основания называются причинами, а вызываемые ими
изменения — следствиями. Причинность объективна и всеобща».46
Вот теперь бери: всё имеет свою причину, беспричинного ничего
нет, если вы не нашли еще причину, то другой найдет, а вы
окажетесь на обочине прогресса. А если вы вообще не хотите искать
причину— скажем, у Пришвина, запись 1918 года, 28 октября,
о радости, которую ему велят понять, откуда радость, у нее есть
причина, Пришвин дворянин, и на него всегда работали
крестьяне, от их скромного труда у помещика обеспеченность, от
обеспеченности радость. Пришвин отказывается, его заставляют,
а он упорствует, той причины не видит. Запись: «Внесоциальная
радость... Радость, которая часто бывала у меня в жизни, исходила
вовсе не от „досуга, обеспеченного спинами трудящихся масс"
и, например, у Розанова, у Ремизова и многих тружеников слова...
Радость эта несоциальная». Тогда какая же причина у радости?
Пришвин как-то не говорит. Значит, у него не хватило научного
анализа. Не хочет же он, в самом деле, сказать, что радость бывает
беспричинная. Допусти хоть одно что-то беспричинное, и можно
далеко дойти. Нет, такого допускать нельзя, пошатнется вообще
все научное мировоззрение. Поэтому определение причинности,
до сих пор по крайней мере хоть видимость соблюдавшее, что
оно ничего не навязывает, что все само собой, вдруг меняет тон
и напоминает, что вовсе не все само собой и за причинность надо
бороться. «Диалектический материализм отвергает
идеалистические толкования причинности как субъективной,
„упорядочивающей" категории познания либо как „проявления объективного
духа", „идеи"».47 Нельзя считать, что схема причинности
упорядочивает то, с чем человек имеет дело в своем познании, — нет,
надо считать, что причинность уже и без человека есть в любых
объектах, объективная, всеобщая, а если вы не будете думать так,
то мы вас отвергаем, анафема, да будете вы извергнуты из нашего
общества, вон, вон, на холод, в нищету, брошены, как хотите сами
там себе выкручивайтесь, с нами вам не место, вы в заблуждении,
в заблуждении, в заблуждении. Причинность должна быть, она
обязательно есть, совершенно необходимо она существует, и не
спорьте с нами. Никакой даже проблемы нет, нечего и обсуждать,
46 Там же.
47 Там же.
94
В. В. БИБИХИН
без причины ничего не бывает. Что такое, после этого, после этих
слов, причинность? Почему надо так себя убеждать, что
причинность есть, а исключений из правила причинности нет? И на это
в коротеньком-коротеньком определении причинности в
справочнике есть откровенный ответ. «На основе Π причинности)
организуется материально-практическая деятельность человека,
вырабатываются научные прогнозы».48 И это верно. Без
вероучения о причинности никак нельзя было организовать материально-
практическую деятельность человека.
Розанов: «Мнимая аксиома о существовании всеобщей
причинной связи между явлениями есть не более как гипотеза...
Твердость убеждения во всеобщности этой связи есть твердость
предубеждения... глубже вдумываясь в сущность причинной
связи... (можно увидеть, что) причинная связь перестает казаться
естественною и необходимою, но, напротив, она становится
загадочным и необъяснимым фактом, едва вероятным и трудно
мыслимым: кажется гораздо более простым существование всех вещей
отдельно и независимо, друг возле друга, но не друг с другом»
(115/102). Что, в природе нет причин и следствий? Сколько угодно.
На каждом шагу. Ну почему от этого, что ведь на каждом шагу
видна закономерность, причинность.., сделайте же заключение
о всеобщей обязательной причинной связи! Розанов: «Истинный
признак ума, способного образовать науку, состоит не столько
в умении связывать отдельные явления, сколько в понимании
невозможности (!) связать непосредственно явления...» (16/20).
Разум хочет связать все в одну цепь. Только очень острое зрение
вглядываясь замечает, что цепь казалась целой, но она на самом
деле — ее звенья очень маленькие — имеет разрывы, «для зрения
же обыкновенно цепь кажется целой... Вот почему мир природы
и жизни так понятен для людей с грубым умом и так непонятен
для людей с умом глубоким...» (там же).
Вот так: непонимание лучше понимания. А книга называется
«О понимании». Опять Михаил Пришвин, у которого Розанов был
учителем географии в Елецкой гимназии и который написал о
своем учителе в романе, автобиографическом, «Кащеева цепь» —
цепь, которая сковывает связывает всё зависимостью, и которая,
надо увидеть, не последняя правда, она Кащеева цепь, она имеет
ровно только столько силы, сколько власти имеет царь Кащей, —
Пришвин читает, только 12 декабря 1949 года запись: «Вчера
достал и увидел в первый раз своими глазами книгу Розанова
48 Там же.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 95
„О понимании"».49 «Читаю понимание" Розанова и понимаю то
самое, о чем постоянно и смутно думаю сам... Честь Розанову, что
он писал о »непонимании" в то время, когда люди верили в
„научный прогресс"»....50 Пришвин уже старенький, ему почти 80 лет,
и он большой мастер, его уже не смущает, что говорится,
проговаривается человеком иногда странное и надо своему слову верить:
он записывает кряду, в нескольких строках: читаю Розанова о
понимании, честь ему, что он писал о непонимании', эти вещи у него
получаются одно, и у Розанова они одно, понимание-непонимание.
Он пишет о том, мы не знаем о чем, и что мы одинаково, ουδέν
ήττον, можем себе назвать понимание и непонимание. Это
внимание, настоящее, не условное, которому нет конца, которое
разрастается, так что становится «каждое обыденное явление полно
загадочности... жизнь... непрестанное удивление» (16/2151), когда
напрочь и безвозвратно кончается, отваливается всё, что раньше
казалось пониманием, когда вместо этого входит непонимание —
и только с этим удивленным, как новое откровение,
непониманием начинается настоящее понимание, которое с непониманием
теперь уже не разлучится никогда, так всегда они и будут вместе,
понимание-непонимание. Не два, а одно, понимание-непонимание,
когда полнота понимания и только полнота понимания показывает
непонятность того, что раньше казалось таким понятным. Что
это одно, чему в человеческом языке только такое надрывное
название, понимание-непонимание? Новая концепция понимания,
как пишет исследователь? «Загадка человеческого понимания»,
называется очередная книжка из серии «Над чем работают, о чем
думают [спорят] философы».52 В этой книге несколько авторов,
интересных современных философов, излагают, как они
понимают понимание. Потом, поскольку это так называемый круглый
стол, они спорят друг с другом о своей концепции понимания или
соглашаются, что бывает редко. Соглашаются они, однако, друг
с другом безусловно в одном: что каждый имеет право иметь свою
концепцию понимания, один понимает понимание так, другой
иначе. Ни один из них не говорит, что не понимает понимания.
Один осмелился предположить, что всякое понимание
переплетено с непониманием и что такое понимание, которое усваивает
себе свой предмет, не обязательно хорошая вещь. На него рассер-
49 Контекст 1990, с. 207.
50 29.4.1952. Там же, с. 210.
51 Курсив В. Б. (Сост.)
52 М., 1991. В этой книжке есть тексты В.Б. «Общение без индивида»
и «Понять другого». (Сост.)
96
В. В. БИБИХИН
дились другие участники дискуссии, потому что такие круглые
столы называются еще философскими или учеными дискуссиями:
было сказано, что не следует быть пессимистами, надо надеяться
на успех понимания и на победу понимания. Вокруг понимания
вообще нервно: считается нужным поскорее его достичь. Это
совсем не то понимание, о котором Розанов. Розановское понимание
не может быть понято, у человека уже нет для этого способностей
кроме понимания; а когда понимание есть, оно не прогоняет
непонимания, не преодолевает непонимания, не отличается от
непонимания.
Розановское понимание не способность, чтобы ее можно было
тренировать и потом вводить в дело. Как руку можно тренировать,
чтобы она делала разные вещи. Моя способность — ваши вещи;
вы мне дайте вещи, а я уж соображу, как ими пользоваться, как
их применить.
На понимании кончается не только перебор имущества
человека, но и сам человек: он растворяется в понимании и в принципе
не знает, возникнет ли снова, не знает, что сделает с ним
понимание. Понимание: внимание, принятие, впускание целого мира, его
загадочного существования в то пустое — пускающее — место,
каким и бывает понимание. Оно уже без человека; но без него не
может быть и человека, потому что только понимание — то место,
которое может это существо, человека как он есть, вместить, иначе
будут пучок функций, физиологических, психологических,
социальных, и по потребности организуемые образования, как
индивид, личность, коллектив, государство. Ситуативные корпорации
разной силы, в сравнении с беспомощным пониманием — всегда
большой силы: но место, пространство всему этому дает так или
иначе только понимание.
Что я говорю? Почему меня никто не остановит? Есть ли
в этом правдоподобие, что сверхмощные образования,
государство, промышленность, церковь не могли бы быть, не будут без
этой необязательной, неполезной вещи, Розанова, который про
себя говорит в «Уединенном»: «Я не нужен: ни в чем я так не
уверен, как в том, что я не нужен».53
Ах, я прав, хотя это удивительно: без ненужного, последнего,
нищего все бы остановилось: вдруг был бы последний мощный
взлет и скорый конец. Ах вот Розанов прав: мы живем среди
53 Розанов В. В. Соч. в 2-х тт., т. 2, с. 233.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
97
железобетонных образований, и в них нет настоящей силы, хотя
они могут всех убить: сила в немощи. «Никто, как кажется, и не
догадывается о том, как тесно многие отвлеченные вопросы
связаны не только с важными интересами человеческой жизни, но
и с самым существованием этой жизни» (360/297). (Розанов, не
замеченный, забытый, высмеянный, с книжкой сидит в Ельце.)
«Отвлеченные вопросы» — в том числе и, здесь подразумевается,
философские проблемы, скучные, учебные. Беда их не в том, что
они такие вот, так подобраны, а нужны были бы другие, — а в том,
что они скучные, что оборвалось их жизненно важное, что от их
решения зависит, существовать или не существовать
человечеству. Это без преувеличения сказано. Сейчас все у нас приходит
в упадок, потому что нет смысла, люди не видят смысла говорить
с другим человеком — не о чем, он все равно скажет то, что уже
и так известно, — не видят смысла его кормить, вежливо с ним
обращаться, не видят смысла продавать, делать, т. е. видят очень
большой смысл выстоять наперекор всему, чтобы когда придет
смысл, дожить, потому что не может быть, чтобы так
бессмысленно было всегда. Ощущение, что руки отнялись и усилия напрасны,
не обманывает, потому что смысл не такая вещь, чтобы можно
было собраться круглому столу и его изобрести. Привнести в мир
смысл не можем. Если его нет, то его нет. Бессмысленно думать,
что человек тут может справиться своими силами. Розанов об
этом: «Целесообразность в мире есть факт внешний для
человека, не подчиненный его воле, и признание или отрицание этого
факта есть дело исключительно его познания» (359/297). Т. е.
человек придет и увидит, что без него в мире и так уже есть или
нет — смысл, в том числе смысл его существования.54 Придумать
тут ничего нельзя. «Да и не согласится человечество обмануть
себя из малодушия, — признать то, чего нет, чтобы сохранить за
собою жизнь. А если в тяжелую минуту предсмертного томления
оно и сделает это, оно не вынесет долго обмана: тайное сознание,
что нет того, ради чего живет оно, заставит людей по одному и не
высказываясь оставлять жизнь» (там же).
«Никто, как кажется, и не догадывается о том, как тесно
многие отвлеченные вопросы связаны не только с важными
интересами человеческой жизни, но и с самим существованием этой
жизни. Никому не представляется, что то или другое разрешение
вопроса о целесообразности в мире может или исполнить
человеческую жизнь высочайшей радости, или довести человека до
Момент когда все так — время для философии [...]
98
В. В. БИБИХИН
отчаяния и принудить его оставить жизнь. А между тем это так.
Отчаяние уже глухо чувствуется в живущих поколениях, хотя его
источник ясно и не сознается. Вот почему легкомысленное
разрешение вопроса о целесообразности — а мы не имели до сих пор
других — есть не только глупость, но и великое преступление»
(360/297—298). Розанов говорит: легкомысленное разрешение
вопроса о целесообразности. Но ведь как раз о
целесообразности рассуждают всегда очень серьезно, легкомысленно — не
допускается, считается дурной тон. Почему мы «не имели до сих
пор других», кроме легкомысленных разрешений? Потому что
само разрешение, какое бы оно ни было, вопроса о
целесообразности — легкомыслие, и хуже, глупость, и хуже, преступление.
Преступление — браться самим за разрешение вопроса о
целесообразности. И чем серьезнее решение, тем глупее и
легкомысленнее. Это дело не решений. А чего же? Вот подите подумайте
и скажите: вот чего! Это будет еще одно решение, опять
легкомысленное; нет решения уже не помогут, «что делать» бессмысленно
спрашивать, наступило время для философии, для розановского
понимания. Оно наступило, собственно, давно, «отчаяние уже
глухо чувствуется в живущих поколениях, хотя его источник ясно
и не сознается», пишет Розанов в 1886. Это странно, что нужна
была война 14-го года, чтобы Александр Блок сказал, что старые
формы жизни, общество, государство, церковь, умерли. Как будто
они раньше бесспорно жили. Розанов как только родился,
почувствовал, что пришло время для философии. Для понимания.
У него было настроение такое, устойчивое настроение думать,
не проходившее у него всю жизнь. Настроение бывает, конечно,
причуда, «но гораздо чаще настроения бывают чистыми формами
духа (ср. у Хайдеггера: настроение «основная форма, или
основная мелодия, Grundweise, бытия»55), которые или только
пробуждаются и укрепляются внешними единичными случаями... или
даже совершенно не нуждаются в таких случаях хотя бы для
пробуждения.. . Сознание этой беспричинности настроений, или, что
то же, их чистоты, как произведений духа, выразилось и в языке:
„грустится", „радуется", „чувствуется неудовлетворенность" или
„жаль всех" говорят обыкновенные люди, когда и у них временно
проступают настроения, вообще присущие только великим
характерам. Значение настроений в истории нельзя достаточно оценить:
55 См. «Основные понятия метафизики», напр., в сб.: Хайдеггер М. Время
и бытие (статьи и выступления). М.: Республика, 1993, с. 331 (и примечание 8).
(Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
99
все великое в ней произведено ими» (448/368—369). Это
настроение и история. Сейчас Розанов скажет об отношении понимания
к истории. Понимание не возникло в истории, не исчезнет в ней
(705/575) — не возникло в истории, потому что история возникла
в нем, началась с ним потому, что оно каким-то образом есть —
непонятным образом есть, когда его никак не может быть, но зато
из-за этого оно надежным способом есть: что не нуждалось в
обстоятельствах, чтобы появиться, может не бояться обстоятельств,
что они его сгонят со света.
Еще раз: понимание не для того, чтобы найти смысл жизни.
Хотя бы потому, что понимание это и непонимание. Яне понимаю,
в чем смысл жизни. Когда такое начинается, начинается не смысл:
начинается понимание его отсутствия — и значит, начинается
место, где он мог бы быть, где его нет, где все бессмысленно, если
его нет — начинается мы не знаем что, не знаем даже, имеет ли
это смысл, но не можем сказать, что это не имеет смысла.
«...Понимание не связано с жизнью: оно составляет
особенный мир, который развивается рядом с миром жизни, понимает
его и часто управляет им, но само никогда не управляется им и не
служит ему» (706/575). Уж скорее жизнь, если в ней есть смысл,
служит пониманию. Но не так, что постаравшись и послужив,
она вынудит понимание работать. Ничего подобного. «Не человек
сказал себе: „у меня есть способность понимания, употреблю ее на
то, чтобы узнать истину"; и он не может сказать себе: „перестану
узнавать истину, употреблю понимание на что-нибудь другое".
Он стал понимать невольно и бессознательно» (709/578). Как вам
нравится бессознательное понимание?
Что понимание не только может быть бессознательным, как
человек может быть красивым и не сознавать этого, — это
старое философское знание, не имеющее отношения к психологии.
Человек слишком прочно стоящее в бытии — вдвинутое в
бытие — существо, чтобы его присутствие в бытии, участие в мире,
понимание то есть, зависело от сознания. Удивляться надо было
бы не бессознательному пониманию, а тому, как мы поддались
блефу сознания, которое заставило почти всех поверить, что где
его нет, там нет и разума.
«Понимание по отношению к создающему его есть
деятельность непроизвольная» (717/584). Не значит, что будет действовать
сама собой: мы властны, очень даже властны не позволить себе,
чтобы в нас совершалось что-то непроизвольное, или, вернее,
позволим себе Бог знает что, но не позволим другое. Мы очень даже
100
В. В. БИБИХИН
просто можем управлять собой. Мы индивидуальности, мы
личности, мы создаем, строим себя — конечно, из того, что в нас уже
есть: понимание в нас есть как наше существо и ничего другого
на месте нашего существа, кроме места понимания, нет, — но
еще надо посмотреть, как мы нашим существом распорядимся.
До нашего существа в нас всегда еще очень далеко. «Первое по
природе — последнее для нас»,56 первое для нас — это нервное,
активное, настойчивое образование, называющее себя Я, Человек,
такой-то, как-то оперирующее в жизни, ориентирующееся в своем
окружении, — существо, которое и слышать не захотело, что
там ему, прогрессивному или консервативному, захотел в книге,
изданной тиражом 500 экземпляров за свой счет, сказать
тридцатилетний учитель провинциальной елецкой гимназии, что
«понимание не связано с жизнью», что «взгляд на науку, как на нечто
служебное, как на ancillam vitae», служанку жизни, «этот взгляд
есть заблуждение, и что... могло возникнуть только в жизни
общества, в котором не существует науки, но только нечто сходное
с ней, а следовательно не может существовать и правильного
понимания ее. Этот взгляд необходимо исчезнет, едва пробудится
общество к науке» (716/584). Учитель гимназии хочет пробудить
общество к науке, в котором — в образованном обществе — и так
все очень образованные. Забыть о жизни, забыть о пользе, о
надобности, о себе, рискнуть никогда уже что не вернешься к прежнему
удобному существованию, останешься в удивлении, все растущем,
в сомнении, которое высший дар (Розанов звал сейчас общество
пробудиться к науке, и тут же он зовет народ пробудиться к
сомнению, безусловному сомнению и во всем, «возникновение
самостоятельной науки у какого-либо народа обусловливается
тем, способен или нет его разум пробудиться к сомнению. Дар
же сомнения не заимствуется и не передается, не покупается и не
продается» (723—724/589)). Переменитесь, говорит учитель
гимназии, одумайтесь. «Как чистое понимание, наука поднимается над
тем, что до сих пор называлось этим именем и, вообще говоря,
отделяется от него. Она утрачивает все формы, в которые заключали
ее до сих пор, и перестает быть связанной с каким-либо местом,
временем, корпорациями и учреждениями... Одновременно с этим
56 Мысль Аристотеля. «Естественный путь к этому [к началам] ведет от
более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе: ведь
не одно и то же понятное для нас и [понятное] вообще» (Физика I, 1, 184а 17).
«Каков дневной свет для летучих мышей, таково для разума в нашей душе то,
что по природе своей очевиднее всего» (Метафизика II, 1, 993Ь 10). Ср. также
Аналит. 2, кн. 1., гл. 2,71 b 34. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
101
выделением из себя всего чуждого ей, она принимает в себя все,
что когда-либо и где-либо стремилось к познанию. Мальчик,
смотрящий на пламя и задумывающийся над тем, что такое оно,
юноша, задумывающийся над нравственными вопросами
жизни — стоят в пределах ее (настоящей науки — понимания), хотя
бы они и не разрешили своих сомнений. Но ученый, с успехом
сдавший на магистра и готовящий докторскую диссертацию, стоит
вне пределов ее, потому что не жажда познания руководит им»
(722—723/588—589).
Что там в 1886 году, когда В. Розанова никто не знал, —
сейчас, когда все слышали, что он гениальный писатель,
добавляют: но все-таки, все-таки дилетантизм! эклектизм! «Движение
мысли Розанова подобно мыслительным усилиям философов-
досократиков: мысль занята „архе", „первоначалами",
представленными вне всяких философских традиций, в дилетантском
и эклектическом смешении проблем гносеологии и герменевтики,
естествознания и трансцендентальной философии, натурализма
и психологизма... У Розанова так и не сложилось философии
в смысле последовательной, логически правильно построенной
системы».57 А надо было не быть дилетантом и эклектиком, надо
было знать, что проблемы гносеологии здесь, а герменевтики
здесь, естествознания — здесь, а трансцендентальной
философии — совсем там; что натурализм это плохо; что психологизм —
по-видимому, настроения — надо преодолеть; а главное, надо
было логически правильно строить систему.
Это говорят Розанову сейчас, потому что много знают, и знают,
какая бывает философия и значит какая она должна быть. Розанов
слышал, что это ему говорят, сметают его этим высокомерным
знанием, и тогда. Сметает его ученый человек, магистр и доктор
философии. Учитель гимназии зовет его, проснись: ты в своей сути
тоже понимание, человек есть понимание, понимание не служит
жизни, тем более твоей личности, это захватывающая воронка, где
потонуть сладко, где страшный риск, где ничто не обещано, где
мы только и спасены от отсутствия смысла, хотя и смысл нам тоже
не гарантирован. Проснись; очертя голову потони в этом омуте;
только там человек — человек; иначе страшно и будет страшнее,
«человек страшно глубоко погрузился в жизнь, он никогда более
не остается наедине с собою... Он не возвышается мыслью над
миром и жизнью, к первой причине их и к Творцу своему, потому
57 Розанов. В. В. Соч. в 2-х тт., т. 1. М.: Правда, 1990, с. 10; 13 (Е. В.
Барабанов. Вступительная статья «В. В. Розанов»).
102
В. В. БИБИХИН
что в одном уголке этого мира и жизни у него слишком много
забот и достаточно радостей... Кто думал об опасности для всех
высших форм творчества, когда усложняясь и ускоряясь, жизнь
невозвратно увлекла в свой поток человека и смыла все, что в нем
поверх животного? Кто мог поверить, что с тех пор, как наука со
своими открытиями станет двигателем жизни, эта жизнь
неуклонно будет двигаться к разрушению науки (единственной настоящей,
которая на понимании), что плод познания убьет корень его?»
(548—550/447—449). Ну да, ну да, всё лирика, говорит настоящий
философ, не эклектик Розанов. Философия жизни, что это он все
«жизнь», «жизнь», говорит постоянно о жизни, в пяти фразах пять
раз «жизнь», — а философия жизни преодолена давно, это дело
прошлого теперь уже далекого.
Какой шанс нищему преподавателю елецкой гимназии
пробудить общество, когда даже прославленного гениального Василия
Розанова образованный человек легко сметает со своего стола
философского, дилетанта, эклектика?
Конечно насмешки, что философия бесполезна, должны были
задеть Фалеса, раз он почти год потратил на то, чтобы
разбогатеть (кстати, на масле, вещи скользкой и смазывающей, дающей
легко пройти, втереться, «как по маслу» чтобы пошло богатение,
расширение; об этом масляном эпизоде Фалеса, который быстро
разбогател, рассказывает всего подробнее Аристотель, о котором
рассказывали вот что: он якобы купался в оливковом масле —
принимал ванны из оливкового масла — а потом это масло продавал
на рынке. Сбывал людям то, в чем сам купался). И Розанов был
задет полной глухотой, которую встретило понимание — но он
говорил там об абсолютно необходимом, без чего не сберечь себя
от бессмыслицы. Теперь, когда его не услышали, он должен был
доказать то, что в его книге стояло: «Понимание по отношению
к создающему его деятельность непроизвольная... В этой
непроизвольной деятельности человек выполняет не свое желание, но
требование того, что есть первоначально в его природе» (717/584).
«Не свое желание». Так подчиниться Бог знает чему, когда
так много дел, когда вот-вот удастся, наконец, — ведь удалось
же взорвать царя Александра II, так называемого освободителя,
который нарочно дал свободы, чтобы сбить напряжение, сбить
температуру общества, но ему не удалось, напряжение снова
большое, полярные противоположности нищеты-богатства зовут
к делу, как никогда дело может принести неслыханные результаты,
все буквально кипит или по крайней мере закипает, а если еще
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
103
не закипает, то тогда тем более надо приложить теперь уже все
силы, чтобы все кипело, — а тут зовут оставить свое желание! —
достаточно, наоставлялись, — бросить себя в это страшное
понимание, бросить на понимание, где и я уже не я! Ну нет, не надо,
не отвлекайте, мы сейчас впервые начинаем жить, погрузиться
как раз в жизнь, движение (548/447—448), почему это так
страшно должно быть? Страшно, наоборот, это безличное понимание,
в котором мы потеряем себя. — И произошло не то, чего хотел
Розанов, а то, что он видел: уже в 1886; «Усложняясь и ускоряясь,
жизнь невозвратно увлекла в свой поток человека, и смыла все, что
в нем поверх животного» (550/448). Для Розанова жизнь это всегда
животная жизнь — это надо понять не бранным, а буквальным
образом: жизнь втянута в развитие биологического, даже в очень
тонких своих формах; это может быть жутко захватывающе, но
вопрос о смысле тут не решается, не потому, что жизнь не может
его решить, а потому, что вопрос о смысле жизни в принципе не
решается, он не такая вещь, чтобы сто решить, — а жизнь мало что
умеет, если она не решает проблем. Жизнь, правда, еще играет,
но в игре она слишком широко и опасно открывается тому, что она
уже не может контролировать. Играть да не заигрываться — а
понимание приглашает играть забыв себя, расставшись с собой.
Словом, еще чего не хватало, забыть [себя] и думать о том,
чтобы понимание, настоящая наука, служили жизни! Ищите себе
других простаков.
Но вы помните два смысла безусловного философского
надо, «необходимо следовать всеобщему», говорит один ученик
Ксенофана, «необходимо, чтобы мысль и речь не выходили из
бытия». Должны обязаны — или должны обязательно будут? И то
и то.
У Розанова: человек выполняет (в непроизвольной работе
понимания) не свое желание, но требование первоначального.
Требование — в каком смысле? От нас требуют не выполнять свое
желание — как бы не так, поищите других. Но философия, мысль,
понимание не безобидная вещь. Требование тут у Розанова имеет
и другой смысл: все равно, так или иначе, как бы ни сложились
обстоятельства, человек не выполняет свое желание или когда ему
так кажется, его требует себе на самом деле то, что в нем
первоначально.
Розанов изменился, после неуслышанного приглашения к
пониманию он подошел к человеку, чтобы показать ему, что бояться
уже нечего, что человек и так уже себе не принадлежит, что он
принадлежит государству и сексу, что идиотическое воображение,
104
В. В. БИБИХИН
нелепая иллюзия самостоятельности отдельного человека
временная и шаткая вещь. Человек все равно, и когда не хочет бросить
себя в понимание, себе не принадлежит, свое желание не
выполняет. Это очень большое различие; чуть ли не нарочно Розанов
говорит противоположное: расталкивание.
В следующий раз, если вы не против: род Розанова — и
хорошо бы вспомнить о роде и родах у Платона, и, для сравнения, то,
что Владимир Соловьев говорит в своей книге «Оправдание
добра. Нравственная философия» о стыде. Соловьев — рядом с ним
Розанов как бы бесстыдный.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
105
1—6(15.10.1991)
Когда Розанов говорит о роде, то он задевает нас, — ну как об
этом можно говорить, ну как; ну ведь стыдно, неприлично; да
и несерьезно же; да и известно, в каком развезенном, мокром,
нечистом состоянии об этом говорят; и известно, с какой целью,
потянуло на скользкое, сладенькое, мокрое. Уже дошло дело до
того, что завидев Розанова в обществе, благочестивые матери
подхватывали деток и скорей уводили; приближение Розанова пугало,
что он сейчас как раз и заговорит сразу о таком, что будет неловко,
стыдно и не будешь знать, как ответить; еще будет приближаться
и склонять на какие-нибудь опыты молодую девицу, или даже
взрослую семейную даму, скажем, уговаривать ее иметь много
детей или еще что-нибудь; или к молодым людям и уговаривать
их не оставлять в покое девиц, или еще что-нибудь вычудит и
обязательно бесстыдное, во всяком случае стыд, нравственность,
поучение никак не будут даже ночевать в его выскочках, т. е. если
бы тут был какой-то хитрый прием, чтобы заманить
соблазнительной новизной, а потом вывести вдруг замысловатую мораль, но
ничего такого не будет: Розанов о нравственности ничего не знает,
ни кто ее родители, батюшка, матушка, ни какие у нее детки, —
ничегошеньки не знает, никогда ее не видел, и увидел бы, не узнал
бы. Ну нет никакого отношения Розанова к нравственности. Это
скандально, непонятно. Ведь общества без нравственности не
может быть. Какой же это такой Розанов, что он без
нравственности. Перед лицом такого нехорошего Розанова общество
вспоминает, что оно же нравственное. Какое оно именно нравственное,
когда оно поступало нравственно — это уже трудно вспомнить; но
что точно, ну никакого сомнения, что именно нравственное, даже
высоконравственное — это, конечно, точно: падения, разумеется,
бывают, это у всякого, но — именно от высоты нравственного
идеала. Какая все-таки именно высокая нравственность? Ну, такая,
прежде всего, что мы не такие, как Розанов, во всяком случае, —
он скатился, докатился, — ну все знают, что человек вышел из
животного царства и сохранил еще в себе черты животного, но это
преодолевается, только низкие люди постоянно фиксируют свое
внимание на животных сторонах человека, которые подлежат
сублимации, и Соловьев построил свою этику на чувстве стыда.
«Есть одно чувство, которое не служит никакой общественной
пользе, совершенно отсутствует у самых высших животных и,
однако же, явно обнаруживается у самых низших человеческих рас.
106
В. В. БИБИХИН
В силу этого чувства самый дикий и неразвитый человек
стыдится, т. е. признает недолэюным и скрывает такой физиологический
акт, который не только удовлетворяет его собственному влечению
и потребности, но сверх того полезен и необходим для
поддержания рода. В прямой связи с этим находится и нежелание
оставаться в природной наготе, побуждающее к изобретению одежды
и таких дикарей, которые по климату и простоте быта в ней вовсе
не нуждаются» (121).58 «Стыдясь своих природных влечений
и функций собственного организма, человек тем самым
показывает, что он не есть только это природное материальное существо,
а еще нечто другое и высшее» (125). «Сильнейшее проявление
материальной органической жизни вызывает реакцию духовного
начала, которое напоминает личному сознанию, что человек не
есть только факт природы и не должен служить страдательным
орудием ее жизненных целей» (126). Здесь у Соловьева два
важных слова: сильнейшее, — он признает, видит мощь природного
начала, — ив другом месте видит, увидит мощь общественного,
государственного начала, — и должен: против той силы человек
хочет, должен, обязан поставить свою силу, преодолевающую,
метафизическую, сверхприродную, платоническую, во что бы то
ни стало должен, так он восстановится человеком, иначе он будет
«служить страдательным (пассивным — у Соловьева хорошая
философская школа) орудием ее жизненных целей». А не надо
служить орудием ничьих целей; когда восстают сверхмощи, то
надо подняться, восстать, утвердить свою высоту, не покориться
порядку природы, потому что он ведет всегда только к одному,
к смерти. Подвиг здесь начинается, и его параметры
позитивные — таинственные у Соловьева, мистические ведь, потому что
как опишешь земными словами теургию, боготворчество, стихию
этого подвига, и соединение с небесной Софией, — тоже таинство,
доступное разве только мистическому видению: потому что как
человеческими словами назовешь. Но негативные параметры
подвига как раз очень даже хорошо известны, их можно высказать
человеческими словами, можно ясно видеть, потому что
обстоятельства, вещественные, этого подвига в нашем же теле: мы
должны тело смертное, клонящееся к могиле преодолеть: «где мы
существенно соприкасаемся с материальною жизнью мира, где мы
можем действительно слиться с нею, — здесь мы и должны
оторваться от нее и подняться над нею» (138). Очень ясно, чего нам
58 Соловьев В. С. Соч. в 2-х тт., т. 1. М.: Мысль, 1988. Ссылки на страницы
в тексте в круглых скобках.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
107
не надо: чтобы наше животное тело, ведь у нас животное тело, не
правда ли, не тащило нас за собой вниз, а, может тащить, потому
что мы знаем, как мутные страсти сбивают человека с пути
занятий, труда, академического восхождения, как жизни буквально как
лес под ураганом ложится — рушатся под шквалом страстей.
Поэтому «хотя» «область нашего материального бытия... имеет
непосредственное отношение к духу, ибо может внутренне
возбуждать (аффицировать) его, но при этом не только не служит
выражением и орудием духовной жизни, а наоборот, через нее
процесс жизни чисто-животной стремится захватить человеческий
дух в свою сферу, подчинить или поглотить его. Вот этот-то
захват со стороны материальной жизни, стремящейся сделать
разумное существо человека страдательным (снова, «пассивным»)
орудием или же бесполезным придатком физического процесса,
вызывает противодействие духовного начала, непосредственно
выражающееся в чувстве стыда» (138—139). Отсюда явственные
негативные параметры подвига, его «норма» как минимум (а
максимум, мистическое наполнение, потом придет за выполнением
минимальной, негативной нормы): «животная жизнь в человеке»,
курсивит Соловьев, «должна быть подчинена духовной» (139).
Собственно этим преодолением дух и питается, потому что
сколько он вырвет у материальной природы, столько и будет иметь,
а если ничего не вырвет, то и иметь ничего вовсе не будет. Соловьев
человек темперамента у нас Гоголя, а в Европе — Фомы
Аквинского, Кергегора: для горения им нужно воздержание. Но
я бы лучше все-таки взял назад эту типологию: мы не знаем,
сколько у Гоголя, у Кергегора, у Фомы Аквинского было жертвы,
принесения себя в жертву за человечество, которое они видели
в состоянии сна и безумия. Будем говорить о Соловьеве: для него
дух должен вырвать энергию у плоти и оставить плоть
ослабленной. «Подобно тому, как механическое движение превращается
в теплоту и обратно» — т. е. когда механическое движение
свободно и беспрепятственно, как на хорошо смазанных подшипниках,
теплота почти не возникает: надо поставить препятствие, чтобы
возникло тепло, и чем больше помехи механическому движению,
тем больше теплоты. «Плоть (т. е. животная душа как
самостоятельная) сильна только слабостью духа, живет только его смертью.
А потому и дух для своего сохранения и усиления ( ! ) требует
ослабления плоти, переведения ее из действующего состояния
в потенциальное» (141) — ах это очень откровенно сказано,
природные механизмы должны совсем стоять без движения, но с
ненарушенной потенцией, — тогда только дух получит, извлечет из
108
В.В.БИБИХИН
плоти, всю энергию для себя. Как паровоз под парами, готовый
вполне к движению, но, как в старых двигателях, где вращение
удерживалось тормозами. Фрейдистское истолкование этой
картины было бы нетрудно, она прозрачная: потенция, которой
человек стыдится, он ее стыдится, считает ее безусловно грешной как
бы нарочно для того, чтобы ее, сдерживаемую и оттого
нарастающую, представить всем как именно такую, сдерживаемую и
нарастающую, т. е. он как бы выставляет, выпячивает ее как иначе
нельзя было бы больше. Это совсем лежащее на поверхности,
прозрачное возможное фрейдистское истолкование такого
возвышенного, идеального плана, проекта нравственной аскезы стоит
иметь в виду, учитывать краем зрения, чтобы вообще помнить
о более общем правиле: идеальное воспарение, именно из-за
торжественной, экстатической своей идеальности, как бы дает право
человеку на особенную, крайнюю слепоту, в данном случае
слепоту такого удивительного, исключительного человека, как
Соловьев, —позволяет вдруг, именно потому, что человек
становится вдруг в своем намерении, в данном случае в намерении
создать систему этики и оправдать добро, таким заведомо
высоким, — разрешает человеку снова, вторично как бы, ту наивность,
которая никак не была бы ему разрешена без переключения всего
его рассуждения в возвышенный, идеальный план. Такая же
наивная механизация — ее можно заметить, например, в чертеже
отношения между идеальным и реальным планами у Вячеслава
Иванова, чертеж прилагается к одной из его самых воспаряющих
статей, и вообще в его (Вячеслава Ивановича Иванова) духовной
инженерии, когда он, похоже как в этом процитированном месте
Соловьев, вычисляет токи, восхождения, нисхождения,
распределения, перераспределения духовных энергий, — наивная
механизация духовных процессов, когда человек как бы нащупывает
источник большой безотказной силы и намерен ее направить,
использовать ради торжества духа, конечно, и ради своей доброй
власти. «Так будешь ты теургом могущественным» — теургом
«богоделателем», совершителем божественной работы, этим
обещанием себе заканчивается одно длинное у Иванова в дневниках
распланирование духовных энергий. Сюда же относится наивное
перенесение математики, теории числа или геометрии, в духовную
или эйдетическую область у Флоренского и Лосева, совершенно
некорректное, потому что, как мы говорили в прошлом году, читая
это место у Дунса Скота, то единство, или всеединство, каким
представляется вселенское целое, — не математическое число, не
противостоит множеству, не может быть сопоставлено с единица-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
109
ми, которые мы считаем на пальцах руки: расположено не в той
плоскости, не на том уровне, что логические отношения и
математические построения. Опять же мы об этом говорили: у Лосева
очень отчетливое, даже настойчивое отграничение логики от
психологии, даже с каким-то экстатическим, восторженным
восхищением от того, насколько логика не затронута в своей чистоте
никакой психикой, при кажущейся мощи психики, коллективной или
индивидуальной, логика режет ее без труда, как туман можно
легко разрезать ножом, — но у Лосева логика после этого без
остатка сводится к эйдетике, к онтологии, всеединство
оказывается числом, из которого выводи любой ряд чисел, — опять род
наивного возвращения, инженерии, изобретательства,
механизации, вдруг влезающей свободно в окно именно потому, что
фактическому, эмпирическому, обыденному миру, казалось бы, так
решительно, с таким треском захлопнули дверь, объявив, что
доступа ему в мир идеальных построений не будет. У Лосева,
у Флоренского, у Соловьева механизация духа — у Иванова
причем, можно видеть, самая откровенная, — общая вообще со всем
платонизмом, можно взять это слово в кавычки, потому что
к Платону платонизм имеет очень косвенное, очень удивительное
отношение. Механизация, я говорил, позволяется свободно
именно потому, что с гордостью, решительно объявлено: сейчас у нас
начнется все совершенно другое, буквально новое небо и новая
земля, это у вас в обыденной жизни вес Бог знает какое погрязшее
в плоти, а мы сейчас ножом аскезы, не умерщвляя, отсекаем плоть,
чтобы она оставалась во всей силе своей потенции, но эту
потенцию мы направим не как вы, на низменные цели, а как мы. — Эту
механизацию духа у Соловьева мы еще немного должны потом
проследить, прежде чем вернуться к Розанову, который скован
амеханией, зачарованной неспособностью не то что там
изобретать, строить, перераспределять духовные энергии, а хотя бы
рукой шевельнуть, и если говорящий из этой амехании, то вещи не
им придуманные, Бог знает откуда пришедшие. — Так что
вернемся немного к Соловьеву, потом снова к Розанову, а сейчас
отступление о платонизме. Он пространство, в котором мы и сейчас вот
живем, движемся и существуем.
Платонизмом я называю не то, что написано у Платона, а
зрение, устроенное так, что оно видит два мира, один здешний,
он кое-какой, другой настоящий, какой должен быть и спасенный,
он где-то там. В каких корнях коренится такое зрение — оно как
бы сама человеческая природа. Но дело в том, что платонизм себя,
свою природу как раз не видит, этим не занимается, исканием
no
В. В. БИБИХИН
себя, узнаванием себя не успевает заняться, потому что поражен,
мобилизован тем что он видит своим зрением: что миров два, и что
один из них быть явно не должен, а другой быть явно должен, —
явно должен быть как раз тот, которого нет, который мы сейчас
не видим, потому что он только будет. Такое зрение — готовая
программа действий, так что даже и думать не надо: и так
совершенно ясно что делать, надо сделать так, чтобы был мир, который
должен, и не было мира, который не должен, вот этого, который
мы видим и который такой падший, слабый, жалкий, заведомо
несовершенный. Такой платонизм, я говорю, никуда не делся, ни
в какую древнюю историю не ушел, он единственное почти
пространство — может быть, иногда прорезываемое другим
пространством, мысли, поэзии, но мы ни о чем так много не заботимся,
как о том, чтобы сразу же, во что бы то ни стало отнести мысль,
поэзию целиком, оптом, так сказать, заранее в тот другой мир,
и все равно при этом, идеалисты мы или материалисты, потому что
для нас материалистов наш материалистический мир тоже вовсе
не этот, а тот, который будет, когда материалистическое
мировоззрение победит, а оно почему-то никак не побеждает, потому что
еще очень силен их нехороший идеализм, искоренить его никак не
удается, так что настоящий материализм тоже еще только будет,
для этого надо искоренить то, что нас непосредственно окружает,
и так далее. Я говорю, что проблески — очень редкие, буквально
искорки — другого зрения, другого пространства, не разрезанного
безжалостно, фатально, страшно на два мира, нам посылает мысль
(философия) и поэзия, но мы все меры принимаем, для того чтобы
заранее всю мысль (философию) и всю поэзию оттеснить в один
из двух миров — или, циничное уличное понимание, что это
занятие благополучных сытых спокойных сидящих в кабинетах, и это
уличное понимание, как ни странно, милостивее к мысли и поэзии,
чем то, которое в газетах, радио и телевидении, где для
«возвышенного» есть специальные музыкальные заставки, неземной тон
голоса диктора, — словом все делается решительно, без
исключений, чтобы не оставить шанса, лазейки даже предположить, что
возвышенное, мысли, поэзии, не там, не в запредельной области,
которая в нашу жизнь, повседневную, кое-какую, ну никак по
нашей слабости или по другим причинам не может проникнуть. Это
интересно, как безотказно мы делаем этот жест — отодвинуть
в академическую, в эстетическую область, в историю, в будущее,
в другие не такие падшие и погрязшие страны, все то, где в
принципе может быть проблеск другого зрения, чем жестко
делящего то, что есть, и то, что должно быть. Какой, кстати, подвиг
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
111
Розанова, что он нашел способ протолкнуться через этот заслон,
и его не сумели отодвинуть ни в философию, как обычно
понимают философию, ни в поэзию, как обычно понимают поэзию, —
высшее торжество философа и поэта, что его ни за философа, ни
за поэта не приняли, а приняли просто за своего, такого.
Но я еще пока продолжаю отступление о платонизме. Что
академический платонизм, например Владимира Соловьева, кажется
уже таким смешным, наивным и несерьезным, не должно сбивать
нас с толку, что якобы платонизм уходит в прошлое. Совсем
молодым, очень злым платонизмом был воинствующий материализм,
который с решительностью которая тому старому платонизму и не
снилась расправился и расправляется, свирепо, с материей. Есть
другие молодые платонизмы. Например, хлопоты о культуре. Мы
вдруг замечаем, что культура у нас отсутствует, — как-то
решительно, катастрофически отсутствует, а только что мы были самой
читающей страной мира, но вот сейчас ничего вообще не читаем.
Культуры у нас нет. Культура явно была, она где-то, наверное,
есть, она непременно будет, если вообще еще не все погибло, но
здесь сейчас ее нет. Мы видим, что нас душит наше бескультурье.
Мы самокритично утверждаем, что мы бескультурные, а надо
быть наоборот культурными. Поэтому мы зло себя ругаем. В этой
злости, до наслаждения от битья себя, в этой ругани себя есть
неожиданная задняя мысль: мы, наверное, какие-то особенные. Мы
бескультурные — это говорится с затаенным увлечением. Чуть ли
не с таким подтекстом: и не надо нам, и не видать нам ее как своих
ушей, мы обречены на бескультурье. Это остается в подтексте и не
заметно для самих ругающих бескультурье, но слышится тоже
что-то подобное: о, мы еще даже и не знаем, что такое настоящая
культура, какая это труднодостижимая, тяжелая, далекая вещь.
Или вариант: о мы не знаем, что такое настоящий интеллигент, —
это редчайшая личность, так что даже вопрос еще, бывает ли он на
самом деле, есть ли вообще где-нибудь, хотя, наверное, конечно,
был. — В этом обсуждении культуры и интеллигента опять
различение миров на здешний, кое-какой, и другой, который на высоте,
прочерчивает главную схему. Это пространство без пространства,
которое вмещает в себя всякое наше пространство.
Что такое другой мир, как его понять? Только в случае самой
крайней жесткости надо будет полностью стереть старый мир,
скажем, создать биологически нового человека, заменить
природу, поставить новую, изобретенную — как у Андрея Платонова,
скажем, где надо сначала срыть даже почву, потому что иначе на
ней произрастет опять то же самое. В обычной, мягкой форме
112
В. В. БИБИХИН
платонизма природа, человек не должны быть переделаны, но они
должны полностью измениться — уже не способом социальной
революции, механизации, электрификации, урбанизации,
технизации, а способом гуманным, приобретением культуры. Конечно, все
равно работы хватает и без революции, с одной культурой, потому
что все равно неладность тотальная, культура вроде бы когда-то
была, но куда-то девалась, наступило такое недоброе время. Все
равно, и в культурном варианте платонизма, преображение
должно быть тотальное, потому что мы как ни оглядываемся кругом,
видим все то же бескультурье, убеждаемся все определеннее: да,
все точно, верно, заведомо — культуры действительно нет, все
плохо так, что дальше почти уже некуда. И так оглядевшись, мы
получаем опору, на которую впервые можно прочно опереться:
да, культуры нет. Культуры нет — так и ничего нет (ну там есть,
конечно, кое-где кое-что, но такая малость, если посмотреть по
большому счету). Проверяем, перепроверяем: культуры нет, —
и знание этой нашей бескультурности, удовлетворенно отмечаем
мы, нас не подведет. Тут мы сразу получаем надежное основание
для деятельности планирования: как, первым делом, у нас
появится культура проектирования и планирования, потом при помощи
этого уже культурного проектирования мы начнем перестраивать
культуру, по каким принципам будет построена новая школа, как
будут реорганизованы институты, как должно будет развернуться
творчество. За бодростью новой активности, культурной, таится
успокоительная уверенность в том, что мы не ошиблись, что
санкция на нашу деятельность у нас надежная. Для большей
надежности мы снова и снова выходим на улицу, оглядываемся во все
стороны, убеждаемся: да, культуры нет, тогда можно снова садиться за
стол, писать, творить. Знание своего убожества делается стальной
осью, вокруг которой очень много что крутится, потому что это
ошибка думать, что проекты, особенно утопические, не
осуществляются: они как раз наоборот все и осуществляются, об этом
хорошо пишет Рената Гальцева: беда утопии как раз в том, что она
лежит лежит и вдруг вступает в действие, потому что платоники
не одни только проектировщики, а платоники все люди по своему
темному им самим неясному существу, они обязательно когда-
нибудь вдруг начнут крушить старый мир и строить новый, им
только надо будет точно знать как, и утопия подвернется как уже
готовый план. Надо приватизировать, например, — надо взять
и все сплошь приватизировать, потому что приватный значит
личный, а человек личность, и когда у него нет собственности, он
скудеет в самом своем человеческом существе, такая прекрасная
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
113
теория, основанная на тысячелетнем опыте человечества, и такой
замечательный проект. — Как со всякой утопией, теперешнее
состояние признается кое-каким, недолжным, поэтому нечего на
него обращать внимание, раз оно скверное, а поскорее
приватизировать, — и человек смотрит на идеальный проект и не замечает,
что все давно и так уже приватизировано, даже не с победой
новой власти, а на ее заре когда она была мощна своей нищетой
и уже взяла по сути дела власть в свои руки, решимостью. Всё так
называемое общественное богатство давно уже так закреплено
за людьми управления, руководства, правительства, что никакому
частнику такая степень приватизации не то что средств
производства, а самих пространств земли, под землей и над землей,
самих людей, живущих на земле, не снилась в самых царственных
снах. Приватизация возможна поэтому только как деприватизация,
еще одно отбирание имущества у тех, у кого оно в абсолютной
собственности, неоформленной, невидимой и оттого — от полной
бесконтрольности и безответственности — еще более полной. Не
бывает не приватизированной собственности, человек именно
и есть такое существо, что даже его одного достаточно, чтобы
владеть таким, что голова закружится: не бывает, или бывает
только в небывалом обществе, где у всех руки отнялись бы амеханией,
чтобы человек не клал руку на землю и имущество. Речь может
быть только о том, чтобы невидимую, жесткую, абсолютную
приватизацию заменить видимой, менее жесткой, относительной. —
Тем не менее несчастная приватизация пойдет полным ходом,
неизвестно только никому откуда и неизвестно куда, совершенно
слепо, и двигателем ее, как двигателем всякого платонизма, будет
зрение, которое видит, что видимый мир не такой, и потому даже
не хочет в него вглядываться, чтобы поскорее вглядеться в
очертания другого совсем хорошего мира, который будет.
Человек страшно много, — повод для действия, механизм
почти — страшно даже сказать — всего своего фантастически
громадного действия на земле, — извлекает из ничего, из зрения
отсутствия истинного, подлинного, настоящего. В нашем
настоящем нет настоящего, убеждаемся мы. Мы извлекаем отсюда
яркую характеристику нашего положения и безграничный простор
для планов. От странности — действительно странности —
происхождения такой санкции для радикального активизма другие люди,
которые называют себя совсем другими, например патриотами,
говорят вдруг: неправда, что у нас нет культуры, наоборот, она
у нас лучшая в мире, и высшая. Это выход из платонизма, зрения
двух миров?
114
В. В. БИБИХИН
Нисколечко. Потому что все равно эта наша высшая культура,
что она на самом деле лучшая в мире, обидным, досадным
образом нами самими, говорят патриоты, не понята, нужна опять
же работа, довольно жесткая, вплоть до изгнания всех элементов
с косым видением вообще прочь с нашей территории, чтобы никто
не мешал нам уже видеть, что наша культура самая высокая, —
снова имеем два платонических мира, один скверный который
слеп глух неблагодарен к нашей высшей в мире национальной
культуре, [другой настоящий правильнй спасенный]. Весь народ
не на уровне самого себя.
Когда так действует в нас платонизм, ежечасно, в любой
мелочи, когда нельзя не надо подобрать с земли топтаную бумажку,
моэюно бросить окурок, потому что все равно все не так и надо
сменить всю систему, и вся почти наша движущаяся деятельность
такая, — то казалось бы в эту машину платоническую вглядеться,
что ее движет, загадочной машины какое питание? Но нет: снова
и снова полярность, напряжение между видимым и невидимым,
между фактом и нормой нас захватывает, и мы неизменно
упускаем оглянуться на самих себя, задуматься: где спрятано в нас
то, что констатирует, оглядываясь кругом, с убежденностью,
уверенностью, даже наслаждением: не то, не то! Что это такое в нас,
что уверенно отбрасывает здешнее и тоскует по тому? В нашем
платонизме, в наших разговорах о нашем вопиющем бескультурье
или, наоборот, о нашей выдающейся уникальной в мире культуре
единственно по-настоящему важно, захватывающе интересно не
то, что из двух правда и что неправда, а то, что заставляет нас так
кричать о несовершенстве существования явное, постоянное
присутствие в нас как раз того, что отсутствует, — опыта искомой,
идеальной полноты. Присутствие отсутствующего настолько
плотно, что буквально застит нам глаза, дает не видеть то, что видно,
видеть то, что не видно, вокруг не видеть ничего кроме неполноты,
в невидимом видеть только полноту. Раздор между этим есть и нет,
между постоянным присутствием и абсолютным отсутствием,
полнота нищеты, нищета от опыта полноты — вот загадка, которая
должна была бы заставить нас задуматься раз и навсегда, и тогда
наше конципирование, планирование, проектирование показались
бы нам таким странным занятием, какое оно в действительности
и есть. Странным хотя бы ну вот например потому, что ведь с
самого начала нам должно было бы быть ясно, ведь мы все-таки не
в таком ослеплении, что всего, что мы планируем, нам все равно не
хватит, чтобы закрыть нашу нищету, — слишком полна та полнота,
тайный опыт которой нам диктует, что кругом нищета.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
115
Нам сейчас нестерпимо хочется, в порядке создания новой
культуры, заняться вытравлением старой идеологии и ее
отпечатков на нас. Мы думаем как можно поскорее уйти от них, но само
это «поскорее уйти» — жест такого же платонизма, как и тот,
который создал старую идеологию. Схема идеологии, два мира,
один видим и видеть не хотим, другой не видим и видеть хотим,
остается нетронутой.
Может быть, бежать тогда от платонизма, вообще, искоренить
зрение двух миров в нас?
Бежать из нашего пространства, платонического, созданного
нашим зрением, в другое пространство — было бы новым
провалом в тот же платонизм. Не бежать от платонизма, учения о двух
мирах, а задуматься о том, что бегство такое может быть — бегство
всякое платоническое может быть только там, где опыт того,
ради чего и к чему беэюатъ, явным образом уже присутствует, но
присутствует так, что он одновременно явным образом
отсутствует. Это присутствие отсутствующего, отсутствие самого близкого
и явного и убедительного всю жизнь держало в завороженной
захвачснности Розанова. И Парменида с его бытием и небытием.
И всякого мыслителя. И Соловьева тоже, который страстно
стремился, порывался к этому ведь только опыту! В чем же дело, что
мы там читали у Соловьева в «Оправдании добра», как у него там
обстоит дело с другим миром?
Он исключительный, божественный, о нем поэтому мы тайно,
мистически только знаем, но об этом земном мире питания и
размножения мы совсем достоверно знаем, что он совершенно уж
точно заманивает нас в круг порочный, вредный, в дурную
бесконечность: рождаются ведь чтобы умереть, рождают детей чтобы
отменить родителей, цветут красотой в молодости чтобы увянуть
и покрыться страшными морщинами — поэтому отвергнуть,
отвергнуть надо мир материальный, мир природы. И чтобы вернее,
мощнее опрокинуть мощное царство природы, Соловьев копит
духом ту же природную потенцию, только не вводит ее в действие,
чтобы накопившийся пар вернее и сильнее привел в движение
механизм уже не природы, а духа. Инженерия, техника духа.
Удивительно, странно, но я не придумываю, это все у Соловьева
написано, в поздней его уже работе «Оправдание добра», чтобы
вы чего не подумали, я буду называть страницы двухтомника
изд. «Мысль». «Преодолевать» природу, чтобы аскезой вырвать
у нее энергию. «Умение преодолевать сон и вызывать по своей
116
В. В. БИБИХИН
воле пробуждение есть непременное требование духовной
гигиены» (144). «Мясо, легче и полнее претворяемое в кровь, скорее
и сильнее повышает энергию плотской жизни. Воздержание от
мясной пищи», — стало быть, еще одна этическая норма (145).
«Плотское условие размножения для человека есть зло» (147) —
почему зло? Тут же сказано, ключевым словом для всего трактата:
«в нем (в плотском условии размножения) выражается перевес
бессмысленного материального процесса над самообладанием
духа». Самообладание духа. Дух перед сверхсилой природы
должен развить в себе всю, какую может, и если может, то с запасом
силу для противостояния природе и для торжества над ней. Т. е.
не над самой природой, а над той тяжестью скатывания к смерти
и безобразию, которые неотпускаемо держат человека, так цепко,
что любая мобилизация ответной силы еще не будет достаточна,
нужна сверхмобилизация. Против царства смерти (147) — власть
духа. Поляризация двух сил, бесконечная сила рода, и против нее
должна восстать сила духа, сказать роду: «Ты влечешь меня в
бездну своей дурной, пустой бесконечности, чтобы поглотить меня
и уничтожить, но я ищу себе той истинной и полной бесконечности,
которою мог бы поделиться и с тобою» (225). У духа будет — он
найдет, ища — все то же и больше, абсолютное; но для этого надо,
чтобы он собрался в целое, чтобы не давать самотеку утечь никуда,
все вторично воссоздать, все вобрать в себя. Вот интересно:
мобилизация. Все воссоздать и передать себе. «Сила вечной жизни как
факт существует: природа живет вечно и сияет вечною красою;
но это равнодушная природа — равнодушная к отдельным
существам, которые свою сменою поддерживают ее вечность. Но вот
между этими существами оказывается одно, которое не согласно
на такую страдательную роль: находя свою невольную службу
природе постыдною для себя и награду за нее в виде личной смерти
и родового бессмертия — недостаточною, это существо хочет быть
не орудием, а обладателем {! ) вечной жизни. Для этого ему не
нужно создавать из ничего никакой новой жизненной силы, а только
овладеть (!) тою, которая дана в природе, и воспользоваться ею
для лучшего (!) употребления» (226). Перераспределить, взять
под контроль. Как будет обеспечено лучшее? Это, между прочим,
не так волнует Соловьева, — что дух не ошибется, что выбранное
будет лучшим, оно будет лучшим уже потому, что будет преодолено
ужасное скатывание природы к смерти и безобразию старости, —
Соловьева гораздо больше волнует, чтобы путем переключения
энергии, аскезы и воздержания власть духом была захвачена:
власть будет захвачена, тогда будет обеспечено и все остальное.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
117
В проекте Маркса, когда нищий класс, пролетариев, наберет в себе
достаточно власти, он, конечно, сможет обеспечить добро и доброе
переустройство общества, там проблемы нет, проблема в том,
чтобы вот именно власть взять вырвать у старого буржуазного
смертного порядка вещей. Это сближение идеализма с марксизмом
кажется кощунством, скажите мне, что я кощунствую, — но опять
я говорю без парадоксов и утрирования, в идеализме, в платонизме,
о котором я говорю, — присмотритесь! — необыкновенно много,
на удивление много техники, инженерии, впрягания природных
энергий, контроля и учета; в метафизике, преодолении природы
материализм и идеализм сходятся, они даже одно и то же: один
и тот же наивный платонизм.
Теперь дальше. Если преодолевать природу (мета-физика), то
преодолевать ее надо всю. И вот наступает момент, когда к
индивидуальной, отдельной природности человека, уже преодоленной
стыдом, совестью, аскезой всякого рода (скромность в еде и сне,
вегетарианство), прибавляется влечение к существу другого пола,
сильное влечение и неразгаданное, то для метафизика это как
всякая природная сила тоже подлежит преодолению, и от этой
победы ожидается колоссальная, громадная прибыль, а именно
выход духа на просторы бесконечного рода и овладение этими
просторами тоже. Нет в существе другого пола метафизик
встречается не с другим: он встречается с потенциальной возможностью
слиться без остатка с другим и вместе с другим, соединившись
с ним в одно, положить начало уже соединению, воссоединению
всех в одном. Встреча с желанным существом другого пола —
нисколько не должна быть потерей себя и отданием себя другому
и стихии, наоборот, должна быть началом новой власти, да еще
какой! Опять «сила», и опять «воспользоваться» у Соловьева.
«В пору расцветания всех сил человека в нем открывается новая
духовно-физическая сила, наполняющая его восторгом и
героическими стремлениями, и высший голос ( ! ах как интересно было
бы вслушаться в этот голос, откуда он говорит, от имени чьей,
не от имени ли той власти, которую дух в себе почуял и которую
он теперь будет безостановочно наращивать) ... и высший голос
(нет, просто высший голос, ясно, что он высший, потому что он
смотрите какой) говорит ему, что эта сила дана ему недаром, что
он может воспользоваться (!) ею для великого...» (230). О
прекращении моей отдельной самости при встрече с другим речи
нет, что на другом прекращаюсь я, который расширяю свое
самообладание, что не я уже владелец себя, раз я узнал другого и себя
в другом, — нет, нужна новая возгонка, восторг и героическое
118
В. В. БИБИХИН
стремление, чтобы с другим слиться, не потерять себя в другом,
и как ступенькой «воспользоваться» (! удивительно, но именно
это слово у Соловьева) для небывалого скачка, вот какого: «для
великого, что то истинное и вечное соединение с другим лицом,
какого требует пафос его любви, может восстановить в них образ
совершенного человека и положить начало такому же воссозданию
во всем человечестве» (там же). Всё. Благодаря человеку другого
пола и влечению к нему дух теперь безостановочно возвысится до
всечеловечества, восстановит свою целость, а то был отдельным.
Он тут вдруг понимает, что слишком много на себя берет и на такое
собственно неспособен, Бог только такое может, надо поскорее,
достигнув уже всечеловеческой целости, чтобы не надорваться
от сверхусилия, от чрезмерной власти и поскорее-поскорее
броситься, отдать себя все-таки — другому человеку себя не отдал,
но теперь все равно отдать, отдать себя, а то ноша непомерная,
отдать себя Богу, потому что «очевидность говорит, что такая
задача — создать бессмертие и нетленную жизнь для всех — выше
человека» (236), отдайся же скорее, немедленно, Богу, — но ведь
вот что удивительно, вот что восхитительно в платонизме:
оказывается, Бог только и ждал этого момента и Он радостно принимает
в свои объятия человека, поднявшегося по всем ступенькам аскезы,
воздержания, сублимации, Бог подхватывает человека. То, на что
человек по-честному не мог рассчитывать при встрече с другим
человеком, полного слияния, потому что, честно говоря, другой
до нас не редуцируется, остается неприступно другим, —
оказывается возможно с Высшим, с Богом, и уже обратно, через Бога,
в котором желанное окончательное слияние и воссоединение,
задним числом подключится, присоединится и другой человек,
который так, при встрече лицом к лицу, никак не сливался. Я
говорю, что это поразительно, — проскочить мимо другого человека,
которым в конце концов, по-честному, «воспользоваться» вообще
ни для чего, ни даже для восстановления целомудренной
цельности человечества, мы знаем, все-таки нельзя, скачком подняться
до Бога, который встречает духовного человека в распростертые
объятия, только его и дожидался, и уже потом, достигнув там всего,
обнять наконец и другого человека, который теперь уже не будет
безусловно и всегда другим, несводимым, потому что и он ведь
в конце концов подчинен своему Богу, а как же может быть иначе.
Мне кажется, что это удивительная по степени наивности картина.
Удивительно, что в описании ее у Соловьева слова из того же
круга власти: могущество, «добыть» (как было «воспользоваться»).
Т. е. конечно есть и слово «отдаться», но отдаться кому? Доброму
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
119
Богу, который только и ждет, когда ты отдашься, чтобы в ответ
дать безмерно еще больше. Отдайся — и твоя немощь
немедленно прекратится, «ты должен... всецело отдаться ему и чрез Него
дать действительное совершение своей целости» (236) — нет я не
изменяю текст, у Соловьева так и сказано, «ты... можешь... чрез
Него (Бога) дать (\ т. е. через Бога, воспользовавшись Богом как
сверхмашиной, дать себе, не больше не меньше!)... совершение
своей целости» — целости до всечеловечества, «добыть ( ! ) для
себя и для всех бессмертную и нетленную жизнь» (там же). Тогда,
я сказал, кончится немощь, наступит власть и сила, потому что дух
сам по себе мощный и властный, его немощь была от его падения,
«твоя немощь есть в сущности... аномалия... эта аномалия
происходит от твоего разобщения с безусловным началом всего должного
и всего могучего, и чрез воссоединение с Ним ты должен и можешь
исправить эту аномалию» (236). Читаю и не верю своим глазам, что
такое может быть написано у Соловьева и вообще быть написано
у Соловьева, христианина, когда Евангелие учит о кеносисе,
опустошении, нищете духа, отказе от мощи. Удивительно, что на этой
236-й странице, оправдывая, что человек должен воссоединиться
со «всем могучим», Соловьев в примечании доказывает это
церковной молитвой к Святому Духу «Господи, очисти грехи наши;
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели
немощи наши», но ведь «исцели» говорится о немощах-болезнях, а не
о том, чтобы человеческая немощность сменилась могуществом,
властью дать себе совершенную целость, добыть для себя и для
всех бессмертную и нетленную жизнь. Здесь уже начинается
отдаленно у Соловьева то, что потом развернется особенно у Вячеслава
Иванова: такое сгущение платонической картины, нагромождение
духовных восхождений и встречающих на этом пути человека
высоких способствующих инстанций, что неотвязно сопровождает
читающего предположение, не пародия ли уже это. В каком смысле
Иванов ницшеанец? Прямое разрушение платонизма Иванов
продолжил косвенно, доведением метафизики до механики.
Соловьев: «Норма здесь — совершенная и безусловная власть
духа над плотью, его полная и действительная самозаконность,
вследствие которой он не должен подчиняться чуждому закону
плотского бытия — смерти и тлению» (238). Безусловная власть,
самозаконность, или еще в другом месте — «самостоятельность»
(265), самообладание духа — то, что в немецком идеализме было
и должно было быть у абсолютного духа, здесь у Соловьева закон
и норма для моего духа, для духа, который у меня, вот этого,
испытывающего чувство стыда, эмпирического человека, индивида,
120
В. В. БИБИХИН
который для Соловьева вне вопроса, он данность, а для философа
не может быть данностью, — здесь Соловьев публицист и историк
или антрополог, не философ, не Сократ, который не хочет ни в чем
разбираться, пока не разберется в самом себе, не узнает себя. Для
соловьевского человека нет проблемы узнать себя, у него дело —
создать себя такого, самозаконным, самостоятельным духом.
Господи, на чем, на каком основании? Вот этого, вообще всякого
человека, который определяется из того, чем он должен стать:
всечеловеком. Человек, по существу у Соловьева, есть то, что призвано
стать, через Бога, могучим всечеловеком. Значит человек вот этот
эмпирический еще не годится, нечего тогда на него и смотреть. Он
просто не виден такой какой он есть, неразличим на фоне природы,
он будет виден, когда начнет становиться тем, чем должен быть.
«Каждый единичный человек, как личность, обладает
возможностью ( ! ) совершенства... в этом, собственно, состоит... значение...
человеческой личности» (285). Человек должен, так сказать,
справиться с человеком, но и мало того, со смертью тоже, т. е. у человека
страшно много, целая масса дел, как никогда у него не было так
много дел: он озабочен самим собой, природой, смертью как злом,
и буквально всё призван исправить и восстановить, в этом смысле
Соловьев и Николай Федорович Федоров одинаковые активисты,
и как Федоров уличает прошлую философию в пассивности, в
созерцательности, а «мир нам дан не на погляденье», так Соловьев
уже видит в умирающем радостно Сократе слабость увядания,
декаданса. «Радость Сократа перед смертью была, строго говоря,
лишь извинительною и трогательною слабостью утомленного
житейскими тягостями старика, а не выражением высшего сознания»
(324). А надо было не обманывать себя разговорами о смерти как
желанном глубоком сне, а пойти против смерти, преодолеть ее.
Как это сделать, каким способом? Соловьев не знает. Будет как-то
показано, сейчас не видно, но после будет видно, высшая сила
покажет, и не человеческое дело спрашивать, любопытствовать, когда
это будет и как конкретно: важно верить, что иначе быть не может,
что смерть будет рано или поздно преодолена, обязательно будет,
непременно будет, Христос воскресший из мертвых гарант, — и вы
представляете, какая открывается свобода для духовного
творчества, какой размах, какая смелость искания и дерзания для человека
конца XIX века! Какие перспективы, гораздо более далекие, чем
о каких могли даже и мечтать революционеры, если к каждому
можно стало обратить призыв стать абсолютным духом и через
единение с другим, начиная с единения с человеком другого пола,
«добыть» не меньше чем бессмертие, осуществить и лично и соборно
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
121
«идеал всечеловечества», т. е. Христа мистического тела соборного
(367). К каждому «отдельному лицу» (377), т. е. к лицу, которое
покупает газету и журнал со статьей или работой Соловьева и читает.
Это не шутка. То, что мне самому невольно сбивается на иронию,
было оплачено подвигом жизни и такой смертью, как у Соловьева:
он не хотел жить, не то что продолжения,рода, иначе как на
пороге вселенского преображения, и как только эта идея, ей грозило
утратить правдоподобие, как он безусловно предпочел бы смерть,
истощение тела, раз тело такое, что не подчиняется, не включается
в горение духа и не подтягивается к бессмертию.
Это отступление от Розанова к Соловьеву, как другому
полюсу мысли в России, как и вообще есть поляризация в эпоху
когда приходят сразу несколько умов, и они такие непохожие, до
противоположности, именно потому, что делают одно дело, — это
затянувшееся отступление к Соловьеву пускай еще продлится,
потому что и Соловьева мы должны читать, и мы уже увидели: здесь
не теория, здесь дело, дело целого мира, который Соловьев
называет всеединством: вовсе не «система взглядов», а разогнанное
в говорении до горения человеческое существо, которое на себе
выверяет, проверяет обещания философии и религии и страшно
искушает себя, но предпочтет умереть, чем запутаться в
непростоте, ищет простой собранности для человеческого существа, чтобы
слово стало делом — или чтобы разоблачить слово, если оно
окажется неверным, разоблачить тем, чтобы во всей рыцарской
простоте стать жонглером, скоморохом, юродивым слова, взять
слово буквально и прожить его буквально — слово о победе над
смертью и о том, что кто может вместить скопчество и безбрачие,
пусть вместит. Единственно ясным доступным и определенным
остается здесь покорение плоти, потому что все другое,
позитивное, таинственно и пока еще не ясно. «Пока... не достигнуто еще
то совершение жизни, в котором духовное и телесное бытие
всецело проникнут друг друга, бездна между видимым и невидимым
миром будет вполне упразднена и смерть станет невозможностью
не только для живущих, но и для умерших... Настоящее средство
для телесного воскресения есть покорение плоти... духовное
обладание плотью» (489—490). Пути тут два, монашество и брак,
но монашество как предельная аскеза, а брак как стремление к
совершенству. Деторождение («внешнее деторождение», 492, потому
что духовное деторождение останется) — деторождение нужно
только в несовершенном браке, должно даже в нем оставаться
как именно то, что должно быть преодолено, показывая путь по
которому идти в преодолении, что именно преодолевать.
122
В. В. БИБИХИН
Какая разница с Розановым. Соловьев строит этику на
чувстве стыда, стыд перед природными функциями организма
показывает, что человек выше природы. Розанов, наоборот, не имеет
стыда и совсем не обеспокоен тем, что в человеке есть животное,
даже наоборот. Вся его будущая полемика с Соловьевым, «тео-
софствующим барчуком»,59 уже была заложена в его жесте при
переезде из провинции в Петербург, где Розанов получил наконец
должность, с молодой семьей. Вид господ, чистеньких,
индивидов, личностей полных самостоятельности, независимости,
островков человеческой независимости, раздражил его, и он на
железнодорожной станции демонстративно взял маленького
ребенка, у него всего их потом стало 5, на руки, и стал перед всеми
ходить. — Розанов книги «О понимании» и Розанов рода, две,
казалось бы, неразрешимо разные вещи; в каком смысле и почему
они одно? Соловьев и Розанов — в каком смысле они делали одно
и то же дело? — пока мы не увидим это, ни о каком философском
чтении для нас не может быть и речи, мы просто собиратели
курьезов и беспомощные пересказчики чужих слов. Эту загадку
двух Розановых и двух разных мыслей, занятых одним делом,
мы обязаны по крайней мере увидеть, иначе к философии мы
отношения просто не имеем. — На следующий раз еще Соловьев
и книга Лосева о Соловьеве, а потом возвращение к Розанову,
к двум Розановым, к двурушнику Розанову, как его назвал честный
Петр Струве, и потом, может быть, уже не в следующий раз, —
к Пармениду, который дал людям толпы, т. е. людям, имеющим
собственное мнение, составляющим себе картину мира, название
двухголовые, — почему Розанов должен был стать двурушником,
чтобы не остаться двухголовым. Вы видите, что мы сделали
несколько шагов только, а [уже] в лесу трудностей. Их станет еще
больше. Мы должны только продолжать терпеливо читать, и
помнить, что философию невозможно пройти, — даже на врача можно
выучиться за шесть лет или больше, а нет такой меры труда, после
которой философ имел бы право сказать, что он овладел своей
профессией. И нет позора для спортсмена, для врача, для ученого
уйти из профессии, даже надо это сделать, чтобы не оказаться
смешным и ненужным, — но философ, который оставит
философию когда бы то ни было, даже в последний день жизни, этим
отменит и всю свою прежнюю философию, окажется то есть, что
он никогда и не знал, что это такое.
59 Мимолетное. Контекст 1989, с. 183.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
123
1—7(22.10.1991)
Соловьев и Розанов: но и два Розанова! Два подхода? Или
к двум вещам? Почему раздвоенность? Две руки?
Самое грустное, что мы могли бы сделать, — сказать, ну вот
разные позиции, и выбирать, на какую встать. «Разрешить
затруднение». Соловьев и Розанов одно — понимание перед Богом
и аскеза.
Биться до тех пор, пока не примирим, — а не стоять глядя на
драку и греясь...
У Соловьева ничто не позволено: та власть — за подвиг,
который немыслим; т. е. та же амехания, и неспособность своими
силами выйти...
Нельзя принять смерть; нельзя самому ее пересилить.
Смертный должен перестать быть смертным? Нет: ему смерть
дана как то, что надо осилить. А другие задачи? Пустяки и хуже,
отвлечение.
Соловьев. Бессмертие понято буквально. Смерть — стыдна
безобразием и позорна провалом усилий. Но сил мало. Тогда их
надо вырвать у природы. Ах странно: именно вырвать силы у
природы. Что же это такое было, что требовало подвига такого
размаха, что уже мириться с порядком вещей не могло? (Мириться не
давало подступание мира.) Или лучше спросить по-другому: кому
принадлежало то, о чем говорил, с чем имел дело Соловьев, —
Соловьеву, его личной одаренности или личной судьбе, его
уникальному присутствию — или это, смерть, с которой нельзя
примириться, в смысле все равно никак не получится примириться,
человечество в разладе, так что у людей словно заранее связаны
руки неведомо кем и люди как бы заранее обречены, осуждены, —
или смерть и отсутствие мира не одного только Соловьева личное
дело? Вроде бы тогда не одного Соловьева личное дело. «Он был
человеком со странностями», сказано о нем в одном из
предисловий к его двухтомнику (46).60 «В метаниях Соловьева отразились
предреволюционные метания русской интеллигенции» (там же).
После революции интеллигенция перестала метаться, она
получила то, что нужно для ее успокоения. Тогда Соловьев маргинал,
который на некоторое время вместе с некоторыми другими вышел
60 Соловьев В. С. Соч. в 2-х тт. (2-е изд.), т. 1 (предисловие Гулыги А. В.
«Философия любви»). (Сост.)
124
В. В. БИБИХИН
из спокойного ряда, или успокоенной человеческой
общественности, занятой своими делами, и к порокам маргинала относилось
то, что «он носил порой несвойственные ему личины, придумывал
утопические проекты, кликушествовал по поводу грядущего»
(там же), хотя все это надо ему простить, потому что он был
ищущим моралистом и учил человечество добрым чувствам, — или
маргиналы, наоборот, все мы, успокоившаяся после революции
интеллигенция, а Соловьев один или с немногими в середине,
в том настроении, в котором и следовало бы быть человеческому
существу, в котором оно по-настоящему только и может быть?
Очень может быть, что маргиналы все мы, и только то, что нас
очень много, успокоившихся, т. е. очень много, и мы почти
устроились на спокойное существование, не дает нам видеть странности
нашего существования, того, что мы немного или совсем в стороне
от причины покоя. Причин для покоя просто нет. Причины нашего
спокойствия, — благополучие, относительное, природы, нашей
телесной природы и окружающей. Это спокойствие природы было
всегда главной причиной мира в обществе, которое жило
природной жизнью. Оно нисколько, никогда не обманывало и даже не
манило Соловьева. Ему не нужно было дожидаться революции,
чтобы видеть, как легко природная жизнь общества может быть
смята и в природе не найдется способов, средств и сил устоять,
удержаться; и Соловьеву не нужно было ждать экологии, чтобы
видеть, что и внечеловеческая природа тоже нуждается в защите.
Ему не нужно было этих уроков, которые были теперь показаны
каждому человеку как будто бы для того, чтобы доказать, что
философское зрение право, а спокойствие общественности и
неизвестно откуда взялось, и неизвестно на чем стоит.
Или может быть все-таки известно. Что есть причина для
покоя. Прежде, чем иметь дело с вещами, которые такие, какие они
есть — тревожные и тревожащие, — человек имеет дело с миром.
Мир показан человеческому существу с самого начала как согласие
всего. Это согласие не нуждается в доказательстве, наоборот, им
обосновано всякое и любое доказательство, вообще всякое
показывание как отношение и отнесение. Раньше, чем человек имеет дело
с вещами, он имеет дело с миром, таким, как говорит это русское
слово, когда оно еще не расслоено на мир — сумму предметов и
мир — согласие покоя, покой согласия. Как к этому первоначально
одному смыслу этого русского слова, так — одновременно и тем
более, — нам надо еще возвращаться к тому, чем был мир или,
вернее, что он всегда есть, прежде чем мы его за-бываем. Мы прежде
всего видим уже забытый мир, так устроено наше зрение, потому
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
125
что оно определяется прошлым, мы прошлое имеем как то, что
нам показывает, что мы имеем в настоящем, т. е. оно показывает
нам картину мира. Почему мы видим сразу картину мира, — на
этой картине, в частности, мир-согласный покой и мир-собрание
предметов разные вещи, — а не мир? Мир открывается слишком
рано — вдруг, мы не успеваем встать так рано; и мир всегда
открывает слишком много, так, что мы не можем не увидеть тоже
много. Мир невидим и забыт — однако мир расколотый, забытый,
подмененный картиной, никуда не уходит, и в спокойствии
общества, которое в старину называлось тоже миром, и в самом этом
обществе-мире еще остается забытый мир.
Покой-согласие настоящего мира не имеет ничего общего
с успокоенной примирительностью: это экстатический покой
полноты, которая одновременно полнота движения, и в розанов-
ском понимании, в розановской задумчивости мы имеем
неподдельную, настоящую встречу с настоящим миром. Эта встреча
происходит для человеческого существа в амехании, отключении
механизмов функционирования разума, рассудка, воображения,
изобретательности, т. е. прекращения заимствованного движения,
что означает не неподвижность, а возвращение к той полноте, где
покой и движение, предельный покой и счастливое, высшее для
человека движение — одно. — А что, теперь спросим, Владимир
Соловьев, чье «Оправдание добра» он экземпляр сразу подарил,
вы видели в двухтомнике, Розанову с этой надписью, «Дорогому
Василию Васильевичу Розанову, чудному, а нередко и чудному
писателю от некогда его ненавидевшего, а нынче только редко
видящего, но искренно любящего Владимира Соловьева, 7 февр.
97 г.», — он не заметил этой ранней встречи человека с миром,
раньше всего, с чем человек имеет потом разнообразное дело?
Мир слово, которое только сейчас едва-едва становится у нас
словом мысли, для этого надо было, чтобы о нем напомнили нам
с Запада, Гуссерль и Хайдеггер, — но еще гораздо раньше них
был странный Артур Шопенгауэр, который кричал своим
коллегам философам, слова, которые я много раз уже читал, — «Мир,
мир, ослы! Мир проблема философии, а кроме него ничего». Во
время Соловьева только у Розанова, в книге «О понимании»,
которую мы бросили на полдороге и к которой вернемся,
несколько раз мир как будто бы слышится в своем полном размахе,
во всей широте слова. Но ему еще надо было долго дожидаться,
скрываться незаметным в языке. То, что мы сейчас можем назвать
миром, Соловьев называл традиционным словом философской
школы, всеединство, от досократического εν кси πάν, буквально
126
В. В. БИБИХИН
единое и всё, здесь и в значении то есть: единое, которое есть
одновременно всё: в гибком русском языке всеединое,
всеединство. Соловьев буквально падает во всеединство (мир), спасается
им, его действительностью, и вот как он вводит всеединство в
книге «Критика отвлеченных начал» (докторской диссертации
Соловьева, 27-летнего) — 30-летний Розанов через 6 лет выпустит
«О понимании». Итак, Соловьев вводит всеединство: «Опыт
показывает нам, что бывает (т. е. бывает сплошь да рядом, обычно,
каждодневно); разум определяет, что должно необходимо быть
при известных условиях и, следовательно, чего может и не быть,
если этих условий нет. Но это условное бытие (блестяще сказано:
запомним это; мы обычно, так «бывает», имеем дело с условным
бытием, и оно доставляет нам достаточно забот, хотя было бы
настоятельно важно посмотреть, какие условия, откуда взяты
условия, на которых это бытие нам предстает бытием) ...Но это
условное бытие предполагает то, что есть безусловно, что и
составляет собственный предмет истинного знания. Этот предмет не
может быть определен ни как факт, ни как вещь, ни как природа
вещей, ни как материя, ни как мир явлений (обратим внимание:
«предмет», который имеет в виду Соловьев, не вещь и не мир,
потому что мир для него это мир явлений, т. е. уже картина с
явлениями на поверхности и сущностями в глубине; тогда мы должны
сказать: предмет, за которым охотится Соловьев, вовсе не предмет;
Соловьев безусловно согласится: конечно не предмет; он говорит
«предмет» в смысле дела, того, о чем речь, как мы говорим в
разговоре, «на какой предмет», «наш разговор беспредметен», —
предмет как цель, к которой мы идем. ) .. .Этот предмет не может быть
определен ни как факт, ни как вещь, ни как природа вещей, ни как
материя, ни как мир явлений, ни, наконец, как система логически
развивающихся понятий...» (589). Предмет этот не предмет; ах
Соловьеву не хватает языка, потому что дальше еще хуже: «не
может быть определен» ни как то, ни как это, — но мы должны сразу
уточнить: не может быть определен tout court, не может быть
определен и всё: он и не предмет, и не имеет определений. Почему
же Соловьев так говорит? Ему не хватает языка; он на каждом
шагу разрывает сети расхожего языка публицистики и на каждом
шагу снова вынужден в него вернуться. Это не частное замечание.
Мы видели это в том, как Соловьев обращается и с человеком: он
берет публицистического, условного человека и тут же дает ему
задачи абсолютного духа, т. е. уходит от условного человека — но
и тут же снова и снова возвращается к нему. Соловьев это
публицистика, которая на каждом шагу разрывает паутину условных
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
127
понятий и возвращается к самим вещам, но не имеет языка самих
вещей, поэтому опять запутывает себя в условных понятиях, и это
сверхусилие, этот подвиг преодоления повторяется снова и снова.
Поэтому правило: да, мы у Соловьева имеем дело с языком
публицистики, но он всегда рассыплется, всегда будет нарушен. Лосев61:
«Здесь мы опять должны напомнить о необходимости относиться
к философской терминологии Вл. Соловьева весьма
критически...» (13). Продолжаем интродукцию всеединства: «...Все эти
отвлеченно-эмпирические и отвлеченно-рациональные
определения. ..» (589). Все определения вообще, уточним мы, и перечитаем
фразу заново: все определения — либо отвлеченно-эмпирические,
либо отвлеченно-рациональные, поэтому всеединство, которое не
отвлеченное, а вот оно всегда, первое и настоящее, определений
не имеет. — Скажи Соловьев так! Нет, он не скажет, он вращается
среди публицистов, российских и европейских, и говорит на их
языке. И вот, истина в ее собственном существе «не может быть
ни данным опыта...» (там же). Прошу обратить внимание вот на
это: не странно ли, истина не может быть данным опыта.
В самом деле, только что было сказано, в заглавии книги
объявлено: критика отвлеченных начал. Что противоположность
отвлеченному? Опыт. Казалось бы. Но на языке Соловьева, на языке
публицистики конца XIX века опыт — это физический,
психологический, биологический опыт, т. е. что-то поставленное в рамках
научного рассуждения: опыт это эксперимент, вещь заведомо не
первичная, вторичная. Опыт — это из области эмпирии, из
физического, т. е. значит всего лишь физического мира, для идеалиста есть
еще и другой, о котором говорит пространство внутри храма, — но,
между прочим, и для позитивиста, материалиста, который с жаром
доказывает, что ничего нет кроме опыта, есть же все-таки
необходимость доказывать, что ничего нет кроме опыта, скажем никакой
«души» нет, — стало быть есть какое-то там, кроме опыта, куда
позитивист вынужден вглядываться и доказывать, что там ничего нет,
ну ровно ничто, совершенное ничто, и вопрос, а бывает ли опыт
ничто, нигилиста и позитивиста поставил бы в необходимость
в конце XIX века или сейчас тоже ограничить опыт, как делает
или делал идеалист — только таким опытом, где нет никакой
мистики. И для идеалиста, и для позитивиста в XIX веке опыт — это
то, где нет мистики, после чего их пути расходятся: для идеалиста
61 В своем предисловии «Творческий путь Владимира Соловьева» к
указанному двухтомнику. (Сост.)
128
В. В. БИБИХИН
мистика хорошо, для позитивиста плохо, мистики вовсе нет, ее не
надо и она неправильная. Опыт мы можем иметь вещей, природы
мира, говорит Соловьев, и так ограничивает опыт, но истина в ее
собственном существе «не может быть ни данным опыта, ни
понятием разума», эта истина в ее сути — «сущее всеединое» (там
же), сущее как настоящее. «Сущее всеединое», говорит дальше
Соловьев в принципиальном месте, «познается первее
чувственного опыта и рационального мышления» — стало быть, не меньше
как просто не познается так, как принято понимать слово
«познается»: нельзя видеть, слышать, мыслить — рационально, добавляет
Соловьев, а что такое иррациональное мышление? Соловьев
называет: оно будет уже теперь и не мышление, как оно понимается.
Всеединое познается «в тройственном акте веры, воображения
и творчества, который предполагается всяким действительным
познанием» (там же). Тройственный Соловьев говорит имея в виду
неслиянность и нераздельность христианской Троицы; вера,
воображение и творчество соединяются поэтому в одно, чему нет
названия, или чему есть название: познание всеединства. Которое,
мы сказали, не познание, как предмет был не предмет,
определение не определение, мышление не мышление, вера воображение
творчество не отдельно вера, воображение, творчество, а одно этих
всех трех. Невольно говоришь после этого апофатического ряда
отрицаний: и всеединство тогда не всеединство. Да, всеединство
здесь у Соловьева — тоже наспех схваченный инструмент
школьной философии. Надо говорить «всеединство» и помнить: познать
его — т. е. опять же не познать, а что-то другое, как-то иначе
внимать ему, — можно только если соединились в одно неименуемое
вера, воображение, творчество. —В этой важной фразе Соловьева
важны два слова: всеединство первее опыта и мышления, т. е.
всего, чем оперирует человек; т. е. всё, что делает человек чувством
и умом, он делает потому, что уэ/се открылось не его чувством
и умом, а раньше их, мы не можем назвать чем, то, с чем человек
будет делать все то, что он делает; и второе важное слово: акт
встречи со всеединством, безымянный сам по себе, неадекватно
названный тройственным актом веры-воображения-творчества,
предполагается всяким действительным познанием. Познания
в этой фразе два: одно — первое «познание», беру в кавычки,
всеединства, точнее — акт веры-воображения-творчества;
второе — «действительное познание», т. е. всякое здравое познание,
которое есть у человека, — чтобы оно было, надо сначала чтобы
тот первый ранний акт веры-воображения-творчества, акт встречи
с «сущим всеединым» уже раньше того был.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
129
Сейчас Соловьев — т. е. в следующей же фразе — уже не
назовет первое «познание», познание сущего всеединства,
познанием: назовет восприятием, через шесть лет Розанов назовет то
же — вниманием, пониманием, найдя слово, которое продолжает
надежно нести эту соловьевскую-розановскую вещь, главную
философскую вещь, встречу с миром. Вот.эта фраза Соловьева:
«Таким образом, в основе истинного знания лежит мистическое,
или религиозное, восприятие, от которого только наше логическое
мышление... наш опыт...» получают (там же) — я обрываю
фразу, что именно получают наше мышление и наш опыт: не очень
важно, потому что они получают то, что они получают; они знают
и скажут, что они получают.
Соловьев не может продолжать так, иметь предмет-не
предмет, познавать-не познавать, именовать-не именовать,
называть «сущим всеединством» то, что он тут же сам говорит — не
есть понятие разума, Соловьев не может так опутать сам себя
сетями из которых из всех надо вырываться, чтобы не сбиться.
Непростительно в одной и той лее фразе вводить понятие разума
и говорить, что оно не может быть понятием разума, — «сущее
всеединое». Соловьев этим спешным говорением на звучащем
вокруг него публицистическом языке, которым Соловьев пользуется
и который он тут же преодолевает, — этим своим собственным
говорением Соловьев заговаривает себя, не замечает порога
молчания, непроходимости, которым окружен мир, покой, другое имя
которому молчание. Всеединство с самого начала (!), с момента
вдвижения его в это слово не оставлено тем, что оно есть,
разглашено при помощи готового религиозно-философского языка,
языка религиозно-философской публицистики и системы, системы
официальной государственной идеологии, языка и системы, с
которыми что у Соловьева будет, что произойдет?
Все будет снято с петель, поднято движением соловьевской
мысли, — об этом я уже кратко сказал прошлый раз, что Соловьев
принимает на себя видимость, которая его окружает, и не
оставляет ничего на месте, все изменит. Но это потом, а сейчас он
как принял язык философской публицистики, так делает и жест,
который делают все: переступает порог молчания,
неприступность «всеединства» и приступает непосредственно к действию.
Опять все открыто в одной фразе: «Будучи непосредственным
предметом знания мистического, истина (всеединое сущее)
становится предметом знания естественного» (590) — не
естественнонаучного, конечно, а того, которого хочет и которым будет
заниматься Соловьев. Но скажите, что значит это через запятую:
130
В. В. БИБИХИН
«Будучи предметом знания мистического, всеединое сущее
становится предметом знания естественного» — каким образом? Как
пропасть между непостижимым, не ухватываемым понятиями
разума, и понятиями разума заполняется? Напрасно спрашивать
у Соловьева. Он уже перескочил через эту пропасть, когда назвал
мир «всеединством». Слово «всеединство» — уже программа,
из него стрелки указывают на картину мира. Соловьев сейчас ее
построит, чтобы потом — сиять, потому что не замеченное, не
прекращающееся молчание мира будет отменять все, что о нем
наговорено, и у Соловьева достаточно слуха, чтобы услышать,
как сопровождением спешной человеческой стройки остается
нерушимое молчание того, что «первее» и что «предполагается»
всем, что человек делает.
В конце своего философствования, конструирования, мы
видели, к чему придет Соловьев: к наращиванию мощи духа,
его власти, самообладания чтобы сделать дух готовым к
подвигу, к преодолению индивидуальной замкнутости, к всечело-
вечеству и к победе над смертью, но как совершить этот подвиг
дух не будет знать, он один этого не сможет, он сможет только
с Богом, и Бог примет его, но времена и сроки окажутся
тайными, и взвешенный между своим уже готовым всемогуществом
и неспособностью самому совершить подвиг — в ожидании —
дух прошедший уже весь путь аскезы застынет в амехании.
Взвешен между «нельзя принять смерть» и «нельзя самому ее
пересилить».
Но это будет потом, в конце пути. А сейчас встреча с
всеединством дает и опору, и энергию для строительства системы
без вопроса о том, может ли — такая ли это вещь всеединство
как говорит слово — в принципе может ли [оно] быть толчком
к строительству, подтверждает ли что бы то ни было, не требует
ли разобрать все что человеком построено. Соловьев несколько
раз преодолеет амеханию мира, чтобы поскорее перейти к
действию, чтобы встретиться с ней в конце концов. Один из случаев
такого преодоления — опять в «Критике отвлеченных начал», где
Соловьев говорит, конечно иронически, о «коренном недостатке»
совести. «Дело в том, что совесть, как было уже кем-то замечено,
совершенно подобна тому демону, которого внушениями
руководился Сократ. Как этот демон, так и совесть говорит нам, чего мы
не должны делать, но не указывает нам того, что мы делать
должны, не дает никакой положительной цели нашей деятельности»
(595). А положительная цель нужна. Раз ее не дает совесть, то
надо цель вычитать из истины, из «подлинного бытия истинного
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
131
абсолютного порядка» (596). Совесть напомнила о том, что вещи,
их истина, устроены так, что вычитать из них указаний для
активности, для наращивания мощи духа и так далее невозможно —
совесть говорит только о не надо.
Книга, из которой я цитирую, — «Критика отвлеченных
начал», — состоит большей частью из философской критики.
Отвлеченные начала, т. е. такие, которым'не хватает полноты
изначальной достоверности, они отвлечены от жизни, они пустые,
не настоящие, подсунуты или подстроены. Они созданы желанием
опереться на настоящее, но не сумели найти настоящее, за
настоящее приняли кажимость, которая подсовывает себя как самое
достоверное. Эта кажимость, как бы на выбор, двух
противоположных свойств: материя и сознание. Материя и сознание, на
выбор по вкусу, подсовывают себя как единственное, на что можно
опереться, но в чем на самом деле ничего, кроме чистой
кажимости, нет. Соловьев берет не самих материалистов и идеалистов,
их тексты, разве что когда идеалиста Гегеля он много цитирует
в месте, где он вскрывает кажимость того, что наивному взгляду
кажется таким надежным, таким прочным, — материальные вещи
окружающего мира, вот они, бери и держись за них. Соловьев
берет расхожий, распространенный материализм и идеализм в
нескольких их полунаучных разновидностях, реализм, эмпиризм,
критический реализм, так называемые объективный,
субъективный идеализмы — в этом есть смысл, потому что люди в своей
никак несоразмерно громадной массе живут не очищенными
«аутентичными» учениями, а размытыми представлениями,
которые склоняются — так сказать, попадают в ловушку, — одного
или другого, материализма или идеализма. — Критика Соловьева
философская добротная и бесспорная, но, с другой стороны, его
дело заведомо выигрышное: не опровергнуть материализма и
идеализма невозможно, они взаимно опровергают друг друга и сами
еще самостоятельно опровергают каждый сам себя. Например
материализм должен обязательно дойти до атомизма, атомы
реконструируются из наблюдения, скажем с помощью приборов,
так что в конечном счете «безусловное бытие принадлежит
метафизическим сущностям» (632), загнанный в тупик материалист не
очень хорошо будет знать, что делать, и скорее всего он потребует,
чтобы мы были сознательными и правильно понимали вещи, а
неправильно не надо их понимать, — во всяком случае, крайности
сходятся, материалист не может без идеалиста в обоих смыслах,
и для своего самоутверждения (как, я говорил, написано в
предисловии в двухтомнику Соловьева, что когда дерутся между собой
132
В. В. БИБИХИН
два идеалиста, выигрывает всегда материализм62), а потом когда
оказывается в тупике — еще раз надеется на сознание. Сознание,
со своей стороны, тоже пользуется материализмом: материализм
ему помогает не сомневаться, что сознание сгруппировано, грубо
говоря, в теле. Сознанию стыдно говорить о теле, но во всяком
случае оно не прочь представлять сознание не разлитым или не
совсем уж все-таки разлитым без хоть каких-то фиксаций, а эти
фиксации, уверенность что ведь все-таки должны же какие-то
фиксации у сознания быть, дает сознанию — идеализму —
материализм.
Глава сороковая, переходная, «Критики отвлеченных начал»
имеет название: «Общий отрицательный результат реализма и
рационализма. Необходимый переход к религиозному началу в
области знания». Общая беда материализма и идеализма, реализма
и рационализма в том, что вот это, в одном случае явление,
в другом случае понятие, мы признаем опорой, которая не обманет,
решаем положиться на вот это, что мы нашли, все равно, явление
в материальной природе или понятие в нашем сознании.
Выбирая между материализмом и идеализмом, мы решаем,
какой быть истине. Конечно, мы решаем не наобум, а из
«убеждения». Какое это убеждение, откуда, мы не спрашиваем: мы просто
«убеждены». Истиной материализма или идеализма. Посмотрите
как они истинны! И мы развертываем аргументацию того, в чем
мы убеждены. Мы держим истину. Но мы должны ослабить
хватку, истина должна держать нас (посмотрите с. 681). Должно быть
опережающее нас чувство всеединства, которое как всеединство
включало бы и нас без остатка. Позитивистский опыт отодвинув
как частный только, Соловьев вводит теперь «истинный опыт»
(685).
Он говорит здесь во фразах, которые мне не хотелось бы
цитировать, потому что они неудачные (684—685) и потому что
мистическое ощущение всеединства было названо им лучше и полнее
в «Предисловии» (кратком) к «Критике отвлеченных начал», —
Соловьев говорит о том, что мы называем «событием мира»,
в котором сбываемся мы, потому что не можем найти себе места
иначе, как в мире. Как и в начале книги, так и теперь в ее конце
Соловьев не останавливается на «истинном опыте» всеединства,
на его исключительности, на его опережающем характере, на
его забытости, на его амехании, — словом, он не вглядывается
в этот исключительный опыт, а сразу опирается на него как на ту
62 С. 46. Цитирование неточное. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
133
данность, которая вернее данностей реализма и рационализма,
материализма и идеализма, создателем третьей системы. Я не
знаю, почему Соловьев так спешит. Внимательное исследование
должно показать, почему, мы этим заниматься не будем. Соловьев
подставляет свою третью систему, религиозной философии, ставя
ее рядом с теми двумя, — я предположил, что подставляет чтобы
проверить и в конечном счете изжить; мы увидим, что в своей
последней важной работе, по философии, «Теоретическая
философия», он отказывается от религиозной философии. Во всяком
случае, делая в свою очередь ставку на «истинный опыт»
всеединства, чтобы получить из него безошибочно истинное мышление
и истинные понятия, он словно показывает, как не надо поступать
и чего не надо делать, за что потом сам себя очень хлестко
выбранит, через 19 лет. 27 лет — это возраст, в котором Аристотель,
Плотин, Хайдеггер и не только они жестко удерживались от
говорения; можно сразу стать великолепным математиком, в
подростковом возрасте, говорит Платон, но философом нет. То, что
теургия 27-летнего Соловьева стала размазываться в туманных
мечтаниях еще более молодых символистов, только лишний раз
показывает, что обычно подхватывают люди в большой мысли.
Но все-таки, все-таки. Соловьев это Соловьев: это открытый
ум. Он откажется от религиозной философии, выбранит себя за
самоуверенную надежду считывать непосредственно истину понятий
с открывшегося ему «истинного опыта», потом, через 19 лет, — но
сейчас, неужели он замкнется в сомнительной конструкции?
Религиозное начало своей третьей системы —
исправляющей материализм и идеализм — он понимает в смысле религии
как связи, связь как включенность нашего существа в истинный
опыт — мистический опыт, говорит Соловьев, и «не пугайтесь
этой мистики», много раз повторяет Лосев: в самом же деле,
это если и мистика, то такая, в которой и через которую
человеческое существо, всякое без исключения, только и может
осуществиться, стать самим собой. «... Так как в истине,
всеединстве (всеединство истина потому что только оно одно безусловно
и есть, а истина это то, что безусловно есть), каждый неразрывно
связан со всем, то и субъект наш в своем истинном бытии ...
существует. .. в неразрывной... связи со всем, познает себя во всем, а
чрез то и тем самым и все в себе» (694). Позвольте, какой субъект,
хочется побежать за Соловьевым и схватить его за полу крылатки,
какой еще такой субъект, если коли и был какой-то субъект, то он
растворен в истинном опыте, ничего кроме истинного опыта не
знает и через истинный опыт только что-то и узнает, — какой еще
134
В. В. БИБИХИН
такой субъект, откуда он взялся? Несчастная спешность соловьев-
ского языка, о которой тоже чуть не десять раз предупреждает
Лосев в книге «Соловьев и его время».63 Говорится «субъект»
там, где никакого субъекта уже не должно быть. Ничего, Соловьев
расправится и с этим субъектом в «Теоретической философии».
Но вот что интересно, что если бы мы и в 1880 году, догнав,
пристали к Соловьеву с этим субъектом, он тут же поправился бы:
да, простите, никакой конечно не субъект, а то эюе всеединство,
т. е. человеческое существо в опыте всеединства само становится
всеединством, мы теперь говорим — человеческое существо
находит себя в мире. Да, простите, сказал бы Соловьев, тут я невольно,
язык подвел, «гипостазировал предикат», а ведь «все...
существенные заблуждения сводятся к сознательному или бессознательному
гипостазированию предикатов» (700).
Соловьев скажет и больше: не только никакого субъекта не
видно во всеединстве и в опыте всеединства, но и никакого что:
всеединство первее всякого что. У Соловьева будет и то и то:
и тянущийся из воздуха, которым он дышит, воздуха
философской публицистики, субъект, — и понимание, что то, о чем он
говорит, так первично, что опережает любое определение. «И
несомненно, что во всех человеческих существах глубже всякого
определенного чувства, представления и воли лежит
непосредственное восприятие абсолютной действительности, в котором
сущее открывается как безусловно единое и свободное ото всех
определений (!)» (702). Опять: в каких «всех человеческих
существах» — лежит? Откуда взялись человеческие существа, если
они только в «непосредственном восприятии» станут тем, что они
есть? Ах Соловьев не успевает заметить то, что он говорит. Он
говорит: «Всякое познание держится непознаваемым, всякие слова
относятся к несказанному, и всякая действительность сводится
к той безусловной действительности, которую мы находим в себе
самих как непосредственное восприятие» всеединства (703). Какие
мы, в каких самих себе, скажите, если «всякая действительность»
от той действительности всеединства? Мы место мира, пустота
впускающая мир, мы чистое присутствие, говорим мы сейчас, —
проверь, Соловьев, есть ли рядом с этим еще какой-то «субъект»,
какие-то мы, какое-то «человеческое существо»? Он проверит
через 19 лет.
Есть место в главе 43 «Критики отвлеченных начал», с. 704—
705 первого тома, к которому в полной мере относятся слова
63 М., 1990.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
135
Лосева о том, что Соловьев — это добротная философская
классика. «Итак, абсолютное есть ничто и всё (между прочим, это
сочетание, «ничто и все», построено как εν και παν, буквально
«единое и все», досократический термин, из которого образовано
русское «всеединство»; как в платоновском «Пармениде», для
того, чтобы понять, с каким это таким «единым» мы тут имеем
дело, надо увидеть между прочим и то, что «единое» вполне
можно заменить на «ничто», «ничто» и «единое» с равным
успехом могут претендовать на именование того неименуемого, что
условно обозначено словом «единое», — Соловьев здесь верный
философской классике говорит не «всеединое», а «всеничто»,
и люди, которые сейчас хотят оперировать «всеединством»,
лучше бы постоянно проверяли себя, годится ли для их построений
«всеничто»)... Итак, абсолютное есть ничто и все — ничто,
поскольку оно не есть что-нибудь, и все, поскольку оно не может
быть лишено чего-нибудь. ... Если оно есть ничто, то бытие для
него есть другое, и если вместе с тем оно есть начало бытия... то
оно есть начало своего другого» (704). Это философская классика;
теперь богословская классика: «Этот верховный логический закон
есть только отвлеченное выражение для великого физического
и морального факта любви. Любовь есть самоотрицание существа,
утверждение им другого, и между тем этим самоотрицанием
осуществляется его высшее самоутверждение... Когда мы говорим,
что абсолютное первоначало, по самому определению своему, есть
единство себя и своего отрицания, то мы повторяем только в более
отвлеченной форме слово великого апостола: Бог есть любовь»
(704—705). На любви прерывается причинно-следственная цепь,
которой все сковано: когда любовь даст уже все, что можно дать,
у нее все еще будет возможность дарить не переставая, дарить
свободу, постоянно новый подарок.
Свобода. Свободой причинно-следственная цепь между
истиной и тем, как существо, подаренное свободой, будет понимать
эту истину, прервана. Этого не видеть Соловьев не может, он
поэтому объявляет в своей третьей системе возможность
прямого считывания истины мышления и понятий с истинного опыта
всеединства, берите и живите отныне в истине, но: «взять» может
только вера и поэзия.
136
В. В. БИБИХИН
1—8(29.10.1991)
1) ώ Πλάτων , ϊππον μεν όρώ , ιππότητα δε ούχ όρώ;
2) πραγμάτων έλεγχος ού βλεπομένων
Наш семинар называется «чтение». Чтение — это наш
подход к философии. Мы не укладываем философию в схему: она,
скажем, классифицируется так-то, откуда-то мы, стало быть,
знаем, что она классифицируется, и соответственно приступаем
к делу, одних философов ставим сюда, других философов ставим
туда; или что она распределяется по эпохам; или что есть вечные
проблемы, которые философия решает, и надо посмотреть, кто
как когда их решал, чтобы что?64 чтобы самим эти проблемы не
решить, раз они вечные; или, наоборот, не вечные проблемы,
а — самые что ни на есть актуальные потребности должны нам
диктовать наше отношение к философии, потребности скажем
культурного строительства: нам дано задание, например, когда
прежняя идеология куда-то делась, сформировать или выстроить
или просто вспомнить какое-то мировоззрение, которое отвечало
бы потребностям момента, и политические деятели,
организаторы в своей деловитой активности могли бы согласиться — их
убедили бы, что так все-таки надо — взять у нас, у философов
основные тезисы, основные направляющие нового мировоззрения,
каким оно должно быть в наших обстоятельствах, и, сократив,
конечно, переиначив, приспособив для принятого в рабочей, не
идеалистической высокопарной, политике языка, вставить
отчасти в политическую программу, — и то хлеб, и то какая-то
польза от философии. — Нет мы не случайно начали наше чтение
с Розанова, который от этих политических хлопот очень далек,
которого суета не заражает, который наоборот от нее впадает в
задумчивость, без начала и конца, удивительную, удивляющуюся,
неожиданную и способную к неожиданным речам. — Мы начали
с Розанова, который говорит: «Есть глубокая справедливость в
мысли, что все, что ни делает человек, он делает для того
только, чтобы забыться. Он страшится остаться с собою,
почувствовать себя, почувствовать свое существование» («О понимании»
551/450). «Наука живет не в университетах и академиях, но во
всякой душе, ищущей истины, не понимающей и хотящей понять
64 [Запись В. Б. на полях машинописи:] Джордж Стайнер: открывать —
впору — семейные кружки и снова учиться чтению.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
137
(т. е. готовой к сомнению). Только эта потребность понимания (т. е.
не обязательно понимание, но и непонимание тоже, которое, так
сказать, не в меньшей мере понимание, потому что непонимание —
свидетельство понимания)... Только эта потребность понимания
создает науку; все же остальное, что шумно делается — как думают
для науки — делается для удовлетворения человеческого
тщеславия, личного и национального, и к науке не имеет отношения: быть
может она погибнет среди своих забот о ней, превратившись
окончательно в ученость; и возродится, когда исчезнет все, что создали
эти заботы» (701/571—572). «Понимание не связано с жизнью: оно
составляет особенный мир, который развивается рядом с миром
жизни, понимает его и часто управляет им, но само никогда не
управляется им и не служит ему» (706/575). И еще: «Не человек
сказал себе: „у меня есть способность понимания, употреблю ее на
то, чтобы узнать истину"; и он не может сказать себе: „перестану
узнавать истину, употреблю понимание на что-нибудь другое".
Он стал понимать невольно и бессознательно...» (!) (709/578) —
здесь мы возвращаемся к тому, что ясно написано в истории мысли
и что почему-то не прочитывается: что понимание настолько не
сознание, что часто может быть помехой пониманию сознание.
Не совсем обычно, чтобы эту мысль, эту истину — что понимание
не сознание — современные исследователи, историки философии,
вообще замечали у своих подопечных; а ведь без этого
различения нет вообще шансов понять такой важный Парменидовский
тезис, «одно и то же мышление и бытие». Так что почти
неожиданность, что [говорит] французский исследователь Плотина
Пьер Адо, в книге «Плотин, или Простота взгляда».65 Пьер Адо
цитирует и истолковывает Плотина (I 4, 10): «Сознание как бы
ослабляет сопровождаемые им действия; отдельно от него они
чище, в них больше интенсивности и жизни. Да, в бессознательном
состоянии существа, достигшие мудрости, ведут более
интенсивную жизнь. Эта жизнь не распространяется до уровня сознания,
она концентрируется в самой себе».66 Перевод, конечно, на
языке Пьера Адо, смешении расхожих якобы философских языков
современности, но очертания плотиновской мысли еще можно
угадать. «Мы непоправимо сознательные и раздвоенные
существа», вздыхает Пьер Адо.67 Здесь слышится: мы обречены, к
сожалению, на сознание, хотя как хороши те редкие минуты, когда
65 М., 1991.
66 Там же, с. 29.
67 Там же.
138
В. В. БИБИХИН
мы поднимаемся к целостности: увы, нам приходится жить кое-
как. Вот такой печали у Плотина нет. Ее нет и у Розанова, которого
я начал цитировать и отвлекся на Пьера Адо и Плотина, а теперь
продолжу: «Человек... стал понимать невольно и бессознательно
для самого себя, повинуясь своей природе, но не господствуя
над нею. Какие усилия ни употреблял бы человек, деятельность
разума всегда будет только процессом понимания (т. е. не то
что раздвоенность сознания нарушается редкими проблесками
«более высокого уровня внутренней простоты», по Пьеру Адо,
а совсем иначе: по-настоящему, по-серьезному ничего кроме
понимания в человеческом разуме и нет) ...деятельность разума
всегда будет только процессом понимания, и в результате этого
процесса всегда получится только истина: ни объекта не может
он изменить, поставив например вместо истины добро, ни
процесса понимания, превратив его например в процесс действия или
чувствования... Объекты необходимой деятельности человека
неподвижны (т. е. объекты понимания; Розанов говорит здесь о
том, о чем Парменид — когда говорит о неподвижности бытия и
о непоколебимом сердце истины)» (709—710/578).
Мы остановились на этом месте Розанова, потому что
прочитали у Соловьева прямо противоположное. Розанов: понимание не
связано с жизнью; Соловьев: истина должна организовать жизнь.
Розанов: понимание невольно; Соловьев: мощь, самообладание,
власть. Розанов: человек настолько не распоряжается, что не
может даже поставить вместо истины добро, т. е. человеку не
гарантировано, что истина, открывающаяся его пониманию, будет
для него добром, он безоговорочно обязан даже не ожидать, не
надеяться, что истина устроена образом, удобным для его жизни:
она устроена как она устроена, к его жизни она может и не иметь
отношения. Задумчивость, амехания — бессилие, неспособность
действовать механизмами телесными вещественными и
духовными, молчание, накладывающее запрет на тайну, — порог молчания
между «всем» и «единым», непереходимый порог, отделяющий
единство нематематическое, несчитаемое, неименуемое от
«всего», исчисляемого, именуемого, — мы видели, что Соловьев легко
переходит этот порог.
Но Розанов и Соловьев, после властителей мысли времени
реализма, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, когда
казалось, что научная мысль навсегда разошлась с верой, навсегда
и бесповоротно... — Чаадаев не в счет: он слишком ранний;
настолько ранний, что его нельзя было издать в России со времени
его запрещения, т. е. после первого «Философического письма»
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
139
в «Телескопе» 1836 г., когда он был объявлен сумасшедшим, —
«Апология сумасшедшего» уже не могла быть напечатана,
написанная в 1837, и 77 лет должно было пройти, пока он смог быть
допущен к печати; т. е. Чаадаев слишком ранний; наверное, к нему,
к его пониманию и придут только в последнюю очередь, когда
заметят, насколько он опередил всю философию в России, и как еще
нам много им обещано, сколько мы у него еще увидим, когда
поймем, что на самом деле значит то, что он говорит о своей мысли,
что она для него — у него осязаемая, вещественная, пластическая.
Чаадаев слишком ранний, он пролежал 77 лет неизвестным, но
если взять не академическую профессиональную или строгую
церковную среду, а подвижную чуткую интеллектуальную
общественность, то Соловьев и Розанов первыми с конфликтом между
философией и верой покончили, у них у первых правильное
соотношение между философией и религией, и «религиозная
философия» — выражение очень неудачное, но оно жизненно, оно живет
тем, что в нем названы обе эти вещи, отношение между которыми
прояснилось впервые у Розанова и Соловьева. — Я сделаю
отступление. Отношение между философией и религией, я уже
об этом говорил в курсе «Язык философии»,68 и должно быть,
и может быть прояснено. Они не редуцируются друг к другу* и не
теснят друг друга, они не ступеньки, чтобы через какую-то из
них надо было перешагнуть и подняться к другой: тут могут быть
варианты, мне запомнился блестящий философ, который читал
лекции на подготовительных курсах для поступления на
философский факультет, «религия спекулирует в области философии»,
и противоположное — философия заблудшее, порочное знание,
потому что оно не знает света Христова. — Философия, религия,
и еще поэзия (или шире, искусство) — это вещи, как рожь
пшеница и овес вещи, и нелепо говорить, что рожь должна уступить
пшенице или как-нибудь еще. По Данте, наш интеллект (т. е.
понимание) располагается в истине, как зверь в берлоге, и по-честному
его выгнать оттуда нельзя и не нужно. Вот это чувство, чувство
последнего дна, опоры, достигаемой пониманием, исключающей
всякую редукцию, всякое подчиненное отношение к чему бы то
ни было: «Когда я понимаю, я не имею отношения ни к людям, ни
к жизни их; я стою перед одною моею природою и перед Творцом
моим; и моя воля лежит в воле Его. В это время Его одного знаю
и Ему одному повинуюсь; и все, что становится между мною
68 Курс «Язык философии» издавался трижды: М.: Прогресс, 1993; М.:
Языки славянской культуры, 2002; СПб.: Наука, 2007. См. гл. 16. (Сост.)
140
В. В. БИБИХИН
и между Творцом моим, восстает против меня и против Творца
моего» (719/586). Творец, перед которым, перед лицом которого
только и стоит понимание, тоже не имеет отношения ни к людям,
ни к жизни их; он не имеет отношения к церковной религии как
той форме, которую религия приняла именно у людей и в жизни
их. — Вера так же независима и самозаконна. Она отдание себя,
своей жизни, своей воли Богу такое, что, как у апостола Павла,
«не я уже живу, но живет во мне Христос». Христос конечно не
нуждается ни в обоснованиях ни в подкреплении: Он Сам
держится Собой, и Им держится человек, отдавшийся ему в вере:
он встретился с Богом, говорит с Богом и никогда ни за что этого
личного общения не отдаст, как человек, который нашел что-то
самое драгоценное на свете, не захочет даже смотреть ни на что
другое, пока не насмотрится досыта, если только такое возможно
и драгоценное не становится только еще более драгоценным от
смотрения. Так же поэзия: поэт не сочиняет и не придумывает,
он слышит, и слышит только он один, и этот уникальный дар ему
безусловно весомее, чем что бы то ни было, и весомее даже жизни.
В этом смысле я сказал, что философия, религия, поэзия — вещи:
они есть, они настоящие, им не продиктуешь, они такие, что
наполняют человека, который ими захвачен без остатка, до полноты.
И как для интеллекта, понимания, зверя, не нужно санкции для
того, чтобы расположиться плотно и уютно в истине как в своей
берлоге, истина ему вещь которая говорит сама за себя; как для
апостола Павла честь и счастье дать, чтобы через него жил Другой,
Другой с большой буквы, — и так же искусство; как каждый из
этих трех полон и ценит свою полноту, полон полученным
подарком, так он уважает то, в чем такая же полнота, и в мере
захваченное™ и отданности, не в содержании, эти вещи, мысль, вера,
творчество, одно: они напоминают друг другу о том, что для них
главное.
Вещи создают себе свои пространства. Мы здесь все в
особенном пространстве, которое отдано делу мысли, пониманию,
не так вовсе, что мы здесь заняты мышлением, как в «Облаках»
Аристофана Сократ в своей мыслильне, фронтистерии, занят
мышлением, а так, что мы не хотим другого, согласны быть
местом, где должно быть понимание — которое и непонимание.
Как вера, как поэзия, так понимание не может планировать и
распорядиться, конечно не может распорядиться другими, — как
у Розанова: у понимания «к религии, государству, искусству и пр.
(можно продолжить: политика, экономика, финансовое дело,
работа на земле: во всех этих случаях человек имеет дело с веща-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
141
ми, может быть до конца ими захвачен, и отдан им)... к религии,
государству, искусству... отношение свободное. Ни Понимание
не управляется ими, ни они — пониманием, и обоюдное влияние
их хотя и возможно, однако не носит в себе никакой внутренней
необходимости, не вытекает ни из их природы, ни из природы
его», понимания (733/597—598). Когда философия начинает
распоряжаться религией, поэзией, когда политика — ими всеми,
когда каждый — каждым, значит еще не достигнута должная
мера захваченности, человек еще не знает, где он, еще не нашел
себя. Но точно также, как философия не может распорядиться
религией, она не может распорядиться и сама собой.
Способ данности вещей в философии такой же, как в вере
и в поэзии, не низший. Его можно описать словами:
исключительная захваченность, в широком смысле и крайней захваченности,
и исключения из этой захваченности других интересов.
Наше здешнее пространство, вот этой скажем аудитории,
сколько-то Десятков квадратных метров, еще пространство в том
смысле, что оно исключено из той организационной деятельности,
которая, как мы знаем, широко ведется и сейчас и всегда в
философии и вернее в философской публицистике — я имею в виду
деловитые занятия собирания, упорядочения, переупорядочения,
организации, реорганизации систем понятий, высказываний,
суждений и т.д. Эта деятельность, очень широкая, в книгах, журналах,
газетах все еще ведется в странной надежде, что от какого-то
перераспределения концепций, ценностей, от планирования и
проектирования на листе бумаги что-то должно измениться — а цель
всегда какие-то реальные изменения — в действительности. Т. е.
что от организации слов и соображений на бумаге будет
организована реальность. — Скажем, можно варьировать, переставлять на
бумаге: субъект и объект, отношения между субъектом и объектом,
субъект-объектные отношения, субъект-субъектные отношения.
Понятно, что причина этого варьирования отчаянное невнимание
к человеку, просто безусловное невнимание к человеку, скажем
водителя на скорости, который поглощен своей близостью к
божеству техники и человеческое существо для него досадное
недоразумение, скажем, человеческое существо на обочине,
поднимающее руку. Но непонятно, почему от реорганизации на бумаге,
от большей частотности словосочетания «субъект-субъектные
отношения» скандальное невнимание к человеку, незамечание
человека рядом с богом, с богом техники, да и с церковным Богом,
рядом с которым человек меньше чем ничто, — почему
организация на бумаге должна организовать что-то в реальности, — тоже
142
В. В. БИБИХИН
непонятно. Еще Кант пытался доказать своему читателю, что как
бы интенсивно человек ни воображал себе реальность, например
сто талеров, сто талеров не окажутся у него осязаемо в руках.69
Возможно, дело просто в том, что человеку крайне хочется
реорганизовать реальность, но в распоряжении у него нет ничего, кроме
слов на бумаге, и перемещая на пространстве страницы тени этих
вещей, скажем субъект, объект, человек как будто бы перемещает
что-то на деле — или хотя бы готовит себе алиби, когда будет суд,
что он не бездействовал.
Организовывать слова и надеяться, что от этого что-то
реорганизуется в реальности, мы не можем. Понимание не то что не
может как инструмент изменить что-то во «внешнем мире», но
в самом понимании, как я уже читал из Розанова, мы ничего не
можем изменить, оно — или его вовсе нет, или если уж оно есть,
то оно не такое, чтобы можно было применить его как инструмент.
Еще: «Будучи процессом внутренне необходимым (т. е. его законы
идут из него самого), понимание по отношению к создающему его
есть деятельность непроизвольная» (717/584).
Деятельность непроизвольная. Мы не управляем, что будет на
выходе этой деятельности: понимание или непонимание,
уверенность или сомнение. Будет то, что будет.
Один серьезный и трагически пьющий человек одно —
недолгое — время вел дневник, запись каждого дня была краткой,
на протяжении недели или немного больше она в сущности
повторялась: «Нет ясности». Он ждал ясности и ясности не было,
он крепко пил, потом пил очень крепкий чай, потом пил еще; на
следующий день в дневнике появлялись те же безжалостные,
обреченные слова: «Ясности нет»; опять потом: «Все нет ясности».
Мы напрасно будем чувствовать свое превосходство над этим
пьющим человеком. Мы часто тоже идем на крайние меры
вынуждая себя выработать ясность, заставляем себя думать, читать,
выдерживаем характер. Но дело в том, что нам не дано волей и по
решению достичь в себе ясности, мы не распоряжаемся ясностью.
Мы можем ее только хотеть и честно готовить себя к ней, но
должны быть готовы и к тому, что ее не будет у нас. Что наше
понимание ограничится непониманием и сомнением. У Хуана де ла
Крус (Иоанн Креста у Бердяева; в рус. пер. Пьера Адо, «Плотин,
или Простота взгляда», почему-то св. Жан де ла Круа), испанский
69 Об этом говорилось на курсе «Энергия» (лекция от 27.11.1990). См.
раздел «Действительность» публикации первых трех лекций курса «Энергии»
(2002 г.) в журнале «Точки» 1—2 (5), М.: ИФТИ св. Фомы, 2005, с. 152—164.
(Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
143
мистик, строка из его сонета, которую я уже цитировал: Y la màs
alta conquista en oscuro se hacia. Событие, которым мы живем,
в конечном счете событие мира, имеет право, так сказать, быть
темным. Во всяком случае оно такое, какое оно есть, и гораздо
больше того: как это ни соблазнительно, как ни странно звучит,
но ясности для нас не обязательно должно быть даже в том, что
мы говорим, как например мы обязаны вспомнить или
рассказать, если кому-то надо, наш сон точно как он был, но ясности
в отношении этого сна у нас может не быть. Мы можем только
потом прояснить то, что мы сами говорим. Было бы все гораздо
лучше, если бы мы имели право по крайней мере в том, что мы
говорим, иметь всегда ясность. Тогда бы окончилось
злоупотребление словом. Большое злоупотребление словом продолжается
потому, что перед словом не может быть поставлено требование
ясности. «Все то, что хорошо продумано, то поддается ясному
выражению» — это часто повторяемое правило стиля неверно. —
Стало быть, надо признать: мы имеем право говорить неясно,
но это знание должно быть не разрешением тогда говорить что
попало и как попало, а введением более строгого правила речи:
недостаточно, чтобы речь была ясной, и тогда стало быть она
имеет право на существование. Одна ясность не дает права на
существование. Нормой должна быть не ясность — но и не
неясность, не автоматическое письмо, не бред. Не обязательно, чтобы
отказ от требования ясности как нормы речи должен был вести
к разрешению неясности. Неясность тоэюе не оправдание. Норма
должна быть просто более строгой, чем ясность: нормой должно
быть дело. Дело мысли: мы читаем философию, для того, чтобы
увидеть, как мысль делала свое дело. Дело мысли у Розанова:
понимание, такое как мы о нем читали. Дело мысли у Соловьева:
всеединство, и по звучанию слов, но ясному звучанию слов это —
совсем другое, чем завороженная задумчивость Розанова, или
вернее: противоположное. Там где Розанов говорит и повторяет:
мысль свободна, «безусловна и всесовершенна: она ни к чему не
имеет отношения в жизни, ни с чем не связана причинною связью
(она не скована причинно-следственными цепями), а поэтому
ни от чего не зависима» (717/584) — Соловьев прямо говорит
о задаче организации жизни. Непереходимого порога молчания,
амехании для него нет. — Или наши критерии ясности, с
которыми мы читаем, нас подводят? Или и здесь, как в понимании
отношения между философией и религией, Розанов и Соловьев
вместе! И дело только в том, чтобы не думать, будто формально-
144
В. В. БИБИХИН
логический смысл сочетаний слов — единственное, что мы
должны ждать от текста?
Нет надо смотреть на дело, которое делает мысль. Ключом
к прочтению Соловьева пусть будет та запись Розанова в
«Уединенном», ближе к концу этого сборника записей, которая была
процитирована, не совсем точно, в записке прошлый раз: «Загадочна
и глубока его тоска: то, о чем он молчал, А слова, написанное — всё
самая обыкновенная журналистика ("бранделясы")».70 Опять же
возьмем не хлесткое, яркое — журналистика, бранделясы — не
возьмем не потому, что не хочется брать, а по более серьезной
причине, по какой?
Потому что Розанов пишет о Соловьеве в той лее мере,
в какой о себе, ведь у Розанова тоже «журналистика», и о
своей журналистике он в других местах говорит еще более
хлестко, чем о соловьевской. Это место «А слова, написанное — всё
самая обыкновенная журналистика» сказаны не о Соловьеве,
а о Соловьеве в том числе. Сказано о всяких словах, написанных.
Это та же мысль, что в VII письме Платона о написанном слове
и о долге молчания.71 Розановым сказано вообще: потому что если
он, Розанов, и Соловьев это самая обыкновенная журналистика, то
и всякая другая — тем более; всякое печатное журнальное слово
вообще. Другое дело фраза, которая идет перед этим: «Загадочна
и глубока его тоска: то, о чем он молчал». Это сказано не вообще,
а именно о Соловьеве. Молчание — это то, что знакомо Розанову,
что основа его речи. Тут Розанов специалист, так сказать, он знает
что говорит, и о каждом так не скажет.
Соловьевское молчание, «загадочное и глубокое». Ниточка,
по которой мы можем идти.
В «Критике отвлеченных начал», которым Соловьев
противопоставляет неотвлеченное мистическое чувство всеединства, это
чувство призвано через его истинное разумение организовать
жизнь — через тройственный акт веры-воображения-поэзии. Вера
в 1880 году уже нуждалась в защите от позитивизма, атеизма
реалистов. Соловьев апологет веры, но он для веры делает больше,
чем мечталось сделать любым проповедникам и миссионерам: он
показывает, что вера не только в церкви, он ее вводит в каждый
акт ума, в каждый поступок, в любое знание, в каждое слово: вера
оказывается тем, чем дано все, с чем человек имеет дело. Теперь
случилось так, что уже невозможно миновать Гуссерля, когда мы
70 Розанов В. В. Соч. в 2-х тт., т. 2. М.: Правда, 1990, с. 259.
71 См. об этом подробнее в 3-й главе книги «Язык философии». (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
145
говорим о вере здесь у Соловьева; нам эта тема раньше известна
из Гуссерля, у Соловьева мы как-то ее не вычитали, слово нам не
помогло, а наоборот, помешало. Это та тема, которую Хайдеггер
(«Семинар в Церингене», 6.9.197372) называет фокусом, в котором
собирается в один луч вся гуссерлевская мысль. У Гуссерля о
категориальном созерцании говорится сначала во II разделе VI
главы «Логических исследований». Воспринимается, говорит здесь
Гуссерль, конечно, воспринимаемое: но воспринимается не только
чувственно воспринимаемое! Предмет мы тоже видим — как мы
его видим, если мы видим только линии, переходы света и цвет.
Эта тема Гуссерля трудна для понимания, потому что заслонена
для нас предрассудком, одним из предрассудков сознания: якобы
мир для нас размечен нашим сознанием, в самом мире нет ничего,
кроме потока, а деятельность нашего ума его разделяет,
организует, устраивает. Мы, так сказать, сами придумали себе предметы,
связывая вместе пучки ощущений, по нашей надобности; мы
составили себе такой-то мир, другой составит себе другой. Можно
было бы опровергнуть этот предрассудок, — если бы он не был
слишком диким. Самонадеянность — гюбрис — сознания здесь
переходит всякие меры, как бы вызывая нас на то, чтобы
опровергнуть ее: тогда мы окажемся втянуты в дискуссию — о том,
о чем дискуссии в принципе не должно, не может быть. Сознание
пытается внушить, что наша внутренняя экономия, так сказать,
хозяйство разума «обрабатывает» то, что мы видим,
воспринимаем чувствами. Но дело в том, что нечего было бы и обрабатывать,
если бы каждое ощущение не было бы ощущением чего-то:
скажем цвета. Цвет, не красное-синес-черное, а то, что красное синее
черное цвет, мы тоже не видим, мы видим это категориальным
созерцанием — странным видением, которое делают не глаза.
Если бы мы не видели «субстанции», мы не видели бы вообще
ничего. Причем мы видим субстанцию, или, проще, вещь ничуть не
хуже, чем ее цвет. Просто способ видения другой, не знаем сами,
какой. У Антисфена, крайнего скептика, есть такой фрагмент: он
обращается к Платону с его родами и видами, «Платон, лошадь
я вижу, а лошадности не вижу!», ώ ΠΛάτων , ϊππον μέν ορώ ,
ίππότητα δέ ούχ ορώ. Он прав: теми глазами, которыми видна
лошадь, лошадность не видна. Но если бы каким-то другим зрением
мы не видели невидимую лошадность, то для того, чтобы сказать,
что я вижу лошадь, а не корову, я должен был бы обязательно
поставить рядом с лошадью корову, чтобы отличить.
72 GA, В. 15, 1986.
146
В. В. БИБИХИН
Категориальное созерцание — не совсем точно. Мы видим
этим невидимым зрением не категории, а вещи. Лошадность —
тоже не категория, это сама лошадь как таковая, которая
одновременно и эта вот лошадь, но которую мы видим раньше, чем эту
вот. — Не надо думать, что этот вопрос — о том, как мы видим
вещи — прояснен у Гуссерля или у Хайдеггера — и остается
только прочесть у них и узнать. Это вопрос вопросов. Мы сейчас
должны посмотреть, как он ставится у Соловьева, и еще точнее —
почему это видение называется у него верой.
Конечно, читая слово «вера» у Соловьева, который считается
религиозным философом, мы ориентированы неверно: на то, что
понимают под «верой» в богословии. Мы уже замечали: Соловьев
осмыслит всё движением собственной мысли. Тем более здесь он
берет слово «вера» из трудного евангельского места, «Послания
к евреям» апостола Павла (в дипломатичных кругах церкви уже
можно услышать, «послание апостола Павла к
соотечественникам»; в простоте услышав такое, человек станет листать Евангелие
и «послания к соотечественникам» не найдет; кто знает, впрочем,
если дело переиначения Евангелия пойдет дальше, то, может
быть, Послание к соотечественникам там и появится, и можно
быть спокойным, там будет все идеологически выдержано, и
никаких скользких слов там не будет). — К евреям 11,1, читаем
в синодальном переводе: «Вера есть уверенность в невидимом»,
вера есть уверенность, idem per idem: в этом синодальном
официальном переводе прошлого века — он уже шел по той дороге
приглаживания, приведения к безопасному, который привел теперь
к переименованию «Послания к евреям». В греческом оригинале:
πραγμάτων έλεγχος ού βλεπομένων, Соловьев берет
перевод из славянской Библии, «вещей невидимых обличение», т. е.
обнаружение, открытие их лица — вера дает увидеть явно, как
видят лицом к лицу, то, что невидимо. Это слово έλεγχος есть
в названии книги Аристотеля «О софистических опровержениях»,
Περί σοφιστικών έλεγχος, έλεγχος — выявление, выведение на
чистую воду, изобличение, уличение, доказательство. Соловьев не
суживает тут определение веры до «уверенности», а открывает
всю широту этого места апостола Павла: вера тут зрение,
способное видеть то, что глазами никак не видишь. И далеко не только
в отношении вещей, которых сейчас нет, но потом они будут, но
вообще в отношении всего, что мы видим другим зрением —
отношении вещи, предмета. Как мы не видим глазами чувства предмет,
другого человека (пример Соловьева), так тем более мы не видим
«всё», всеединство, но только невидимое всеединство позволяет
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
147
видеть вещи в связи, иначе бы они распались для нас на
бессвязную мглу ощущений. Мы сейчас посмотрим, как об этом Соловьев
говорит в 45-й главе «Критики отвлеченных начал», но эта тема
уже всплыла в 36-й главе, в критике сенсуализма, где уже было
сказано: «Наши ощущения получают свое определенное
предметное значение (т. е. отнесение к предмету, получают предмет,
без чего просто не было бы гвоздя, на который навешивать
ощущения, их был бы размытый поток)... наши ощущения получают
предметное значение (можно было бы сказать просто «получают
предмет») лишь от таких данных, которые вовсе не существуют
в наших ощущениях, от данных не ощущаемых...» — если бы
Соловьев там в 36-й главе на этом остановился! Нет он добавляет:
«а только мыслимых» (649).73 Ничего подобного. Предмет, нечто,
к которому привешивается всякое что, даны не нашей мыслью.
Они даны нам мы не знаем как, как дан мир. Мыслью дано уже
понятийное что, описание вещи, а в отношении мира — мыслью
дана картина мира. Чтобы мысль работала, начала работать с
уловления что, сначала прикидочного, наметки, потом все более
содержательного, должно быть сначала не-что, которое мысли
дано до мысли, а еще лучше сказать — просто «дано», потому
что и мысль сама может быть только после этой данности
предмета, вещи. — Что предмет дан «мысли», Соловьевым было
сказано в критическом разделе; теперь глава 45 об истинном опыте
всеединства и о том, как мы имеем дело со всеединством:
сначала — в акте веры, в «обличении вещей невидимых».
Читаем: «В самом деле, все, что мы можем „видеть" в
предмете — видеть чувственно или умственно, — это его чувственные
качества, т. е. наши ощущения, и его логические отношения, т. е.
наши мысли; сам же предмет в своем собственном, безусловном
существовании так же невидим для нашего разума (!), как и для
наших глаз» (722). Соловьев поправил сам себя: нет предмет
вовсе не в мысли возникает и существует, как можно было подумать
в 36-й главе, а ровно так же невидим для разума, как и для глаз.
«Другое зрение» — не значит зрение ума, очи ума. Оно другое.
Разум приходит уже на готовое место, там, где немыслимое,
появление предмета, уже совершилось. Разум может после этого
вести себя по-разному: он может прийти в изумление, может
начать описывать то, что ему дано, может сказать, что ничего не
видит, может сказать, что он сам из себя создал предметы, — все
эти варианты поведения уже его, разума, забота, — но дело, так
73 Соловьев В .С. Соч. в 2-х тт., т. 1. М: Мысль, 1990.
148
В. В. БИБИХИН
сказать, уже сделано, предмет уже есть, разум уже хлопочет
вокруг него. Главное дело — это предмет предметов, всеединство, не
как представление, а как сама вещь, мистически воспринимаемая.
Всеединство дано так, что мы не успеваем заметить, когда оно
было дано: оно всегда или вдруг заранее уже дано, раньше чем мы
знаем, что оно именно такое и каким образом дано.
«Это есть факт нашего сознания, но такой, в котором мы
выходим за пределы всякого действительного и возможного факта,
это есть мысль, но такая, в которой непосредственно выражается
нечто большее всякой мысли» (723). Мы уже знаем: всеединство
и предмет как обеспеченный всеединством — не
интеллектуальный продукт. Его невидимость надо понимать в сильном смысле:
как невоспринимаемость никакими известными способами
восприятия, кроме одного, исключительного, которое Соловьев
называет «верой». «Эта вера есть и свидетельство нашей свободы ото
всего и вместе с тем выражение нашей внутренней связи со всем»
(там же). Свободы ото всего — потому что мы выходим верой,
видением невидимого, в такое, что ничем достать нельзя — но
благодаря чему все достается.
Вера видит невидимое: всеединство как нечто, которое не
что, а вызов что, в смысле вызов, на который приходит что.
Розанов назовет прикосновение к миру пониманием, и мы
почувствуем себя в надежном, уютном слове, как в гнезде; найденном
или угаданном, все равно, но верном, которое несло на себе давно
и долго будет нести на себе эту вещь, мир. Понимание, внимание,
понимающее принятие, философия. Соловьев хватает первое
подручное слово: вера. «Верою... мы верим, что предмет есть
нечто сам по себе, что он не есть только наше ощущение или наша
мысль, не есть только предел нашего субъективного бытия, мы
верим, что он существует самостоятельно и безусловно, —
„веруем яко есть"» (726). Ах лучше бы он сказал как-нибудь иначе.
Самостоятельно не то слово. Самостоятельно от чего? От нас?
О нас уже говорилось: где, интересно, мы были бы, если бы это
место, где есть все, что имеет место, не было открыто.
Вера — то зрение, которым мы видим невидимое нечто. Оно
становится что при помощи — Соловьев говорит —
воображения, нанесения идеи, эйдоса, образа, который откуда берется, если
нечто это ничто и мир сам никогда не принудит человека, не
навяжет ему свою картину, свое «мировоззрение»? Хорошо, что только
при первом приближении Соловьев собирался непосредственно
считывать истинное познание с истинного опыта всеединства.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
149
1—9(5.11.1991)
Человеческое существо, осуществившееся в истинном опыте
всеединства (а мы теперь сказали бы: наше присутствие, броше-
ное в событие мира — бросает себя на то, чтобы отвечать миру).
У Соловьева средство для воображения (второе; ведь вера только
дала нечто, предмет, но не что) — существо человека, которое
с самого начала уже очень близко к всеединству, которое находит
себя в опыте всеединства, т. е. в котором кроме всеединства с
самого начала ничего и не было. На языке средневековой философии:
человек mundus parvus, микромир, от mundus magnus, макромира,
отличается не тем, что мир, а тем, что малый. «Идею,
скрывающуюся от нашего внешнего глаза в невидимой (бессознательной)
глубине духа, наш ум, побуждаемый внешними впечатлениями,
переводит из этой глубины на поверхность дневного сознания» (730).
Берет из себя. Как переводит? в творчестве. В поэзии. «Творческое
действие нашего ума при воплощении идеи в ощущениях может
быть скорее сравнено с деятельностью поэта, который уже в
самом своем материале, в человеческом слове, находит не мертвую
массу, а некоторый мысленный организм, способный воспринять
и усвоить его художественную идею» (732).
Человек поэт. Не некоторый человек поэт, а в своем существе
человек и есть только в той мере, в какой он поэт, Dichterisch wohnet
der Mensch auf dieser Erde, человек живет поэтом на этой земле, по
Гельдерлину, — не потому, что пишет стихи, а потому, что всё чем
он живет ему, как поэту, продиктовано диктовкой тишины,
требовательного всеединства: ничто, всеничто, которое вызвало
человека к свободе, потребовало у человека свободы, и из этой свободы
нет выхода: безвыходная свобода — только вера, мысль, поэзия.
Мы с Соловьевым снова в глубине риска! Вместо уверенного
считывания истины с истинного опыта. Считывания не
получилось. Риск веры, воображения, творчества. Или — опять
механизмы вещества или разума — тоже механизма. Поэтому когда
Соловьев говорит (с. 737): «философия получает свое содержание
от знания религиозного, или теологии», то под «теологией»
понимается поэзия в том не искусствоведческом, не эстетическом
смысле создания поэтического из полноты ничто —
всеединства — всего того, что она создает. Это такая «теология», которая
вся отдана риску творчества. Она не «данное сознания, г задача
для ума, для исполнения которой сознание представляет только
разрозненные и отчасти загадочные данные» (739).
150
В. В. БИБИХИН
А то, что называлось теологией?
От «традиционной теологии» «отделился» и ее «отверг наш
ум» (741). «При всех своих достоинствах» эта теология не
свободна — той свободой, которую дает всеединство.
Всеединство должно быть развернуто «великим искусством»
(743), «свободной теургией» (там же). Ах мы уже помним, знаем,
что у Соловьева будет так: искусство — это не искусство, как его
принято понимать; теургия — не литургия, не то, что понимает
под этим словом Дионисий Ареопагит. А теургия вот что: «Задача
искусства в полноте своей (искусства как той поэзии
человеческого существа, свободного перед всеединством), как свободной
теургии, состоит, по моему определению, в том, чтобы
пересоздать существующую действительность» (744). Что это? Говорит
какой-то радикал? Другая действительность — но сначала совсем
другое искусство, его задача «отличается от общепризнанных
задач искусства ... противоположна им... не имеет с ними ничего
общего» (там же).
Задача: «организация самой нашей действительности» (там
же). Обещает: «Общие основания и правила этого великого и
таинственного искусства, вводящего все существующее в форму
красоты» (745).
Через 19 лет: «Настоящая чистая мысль совпадает ... с чистым
фактом» (765). Теургия, организация действительности, истинный
опыт, творчество красоты — факт здесь где? Действительно ли
осталось после этого только диктовать «общие основания и
правила» «этого великого и таинственного искусства»? Жестко,
жестоко по отношению к себе скажет в «Теоретической философии»:
«Если... по самообольщению или по склонности к шарлатанству
остановившаяся мысль провозгласит: я дошла до конца, больше
идти некуда, я уперлась в ту стену, около которой мужики на небо
зипуны вешают, то ничто не мешает другой, более добросовестной
мысли хорошенько пощупать эту стену, не есть ли она со всем
этим небом и со всеми мужицкими зипунами только бумажная
декорация?» (766).
Настоящая философия должна быть «добросовестным иска-
нием достоверной истины до конца» (там же).
Для сознания от всеединства ничего не получили. Никакой
опыт, истинный или неистинный, мистический или не
мистический, не перестает быть опытом, моим опытом, и все, что я по-
честному могу о нем сказать, — это что у меня был, в ряду того,
что со мной было, такой опыт; т. е. то, что я называю мистическим
опытом всеединства. Я не только не имею права сделать отсю-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
151
да вывод, что всеединство несомненно и достоверно
существует, но не имею права даже сказать, что мне оно не приснилось.
Возможно, и сам опыт, и мой рассказ о нем располагаются в
пространстве моего сна.
«Мыслитель-теоретик прежде всего обязан к
добросовестному исследованию истины. Хотя бы он рерил <!), что она дана
или открыта, он имеет потребность и обязанность испытать или
оправдать свою веру свободным мышлением» (761). Верю в то, что
мой истинный опыт это соприкосновение с истиной как она есть.
Но как философ, хотя бы ни малейшего сомнения у меня в своей
вере не было, я обязан все равно «испытать» ее и «оправдать»,
т. е. удостоверить. Между областями веры и философии нет
смешения не потому, что они обречены быть разными: совсем не
обязательно: не исключено и даже следует ожидать, что то самое,
что вера видит своим видением невидимого, то же и мысль
удостоверит, но не опираясь на веру, а сама от себя. — «Мы называем
философским умом такой, который не удовлетворяется хотя бы
самою твердою, но безотчетною уверенностью в истине (черта
мистического опыта), а принимает лишь истину удостоверенную,
ответившую на все запросы мышления» (761). Можно тут
согласиться с Соловьевым?
Нет согласиться с Соловьевым тут нельзя. Мы уже говорили
о том, что, как ни может это ввести в заблуждение и соблазнить
на потоки сознания и на безответственную болтовню, но далее
ясность понятий человек не может себе по-честному в философии
обещать. Дело вот в чем, скажу самым коротким образом: мы еще
не до конца знаем, что такое философия. Поэтому мы не можем
сказать, что — как говорит на той же 761-й странице Соловьев —
«настоящая философия может окончательно удовлетвориться
только» абсолютной достоверностью. С каким бы придыханием не
произносились, цитировались эти слова любителями
рационализма, которым поскорее хочется успокоиться в формальной логике,
мы не знаем, чем может философия удовлетвориться, даже если
такой прекрасной вещью, как «абсолютная достоверность». Мы
знаем, — кстати, тут вместе с Соловьевым, — что философия не
конструкция, она вещь, богатая и захватывающая. Она поэтому
сама покажет — а не мы ей предпишем — чем она хочет
удовлетвориться. Возможно, она такая вещь, что никогда не может ничем
удовлетвориться. Философия это видение, теория, по Аристотелю,
и видение — энергия, т. е. полнота действительности, т. е. такое,
что да, «удовлетворено», но в смысле счастливой полноты, а
вовсе не в смысле «достаточно, теперь хватит, мы достигли цели».
152
В. В. БИБИХИН
Видение не стремится к цели, но само себе цель; что бы мы ни
увидели, мы увидим еще больше, и чем больше мы будем здесь
идти, тем меньше понадобится остановка, потому что мы
увидим такое, о чем не подозревали, что мы это увидим. Совсем не
обязательно, чтобы мы увидели абсолютную достоверность и ею
только удовлетворились, а до этого ничем не удовлетворялись.
Видение — энергия, т. е. счастливая полнота не когда-то в
будущем, а уже сейчас.
Поэтому когда Соловьев говорит вот как: «философия...
обязана ее (безусловно достоверную истину) искать до конца», то
он одновременно объявляет правду о свободе философии, и тут
же сковывает ее свободу требованием «достоверности», как
будто бы «достоверность», которая еще неизвестно даже, что такое,
заранее связала, сковала собой философию. — Но Соловьев, мы
уже заметили, это открытая мысль, которая, связывая себя языком
услышанным вокруг, в данном случае подхваченной у Декарта
«достоверностью», должна обязательно прогреть, переплавить его
собственной энергией. Только что на с. 761 Соловьев сказал, что
философия может окончательно удовлетвориться только
достоверностью — и на с. 762: философ «любит самый процесс
мышления. .. К нему еще более, чем к поэту, приложима заповедь:
Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум».
Оказывается, что нет, абсолютная достоверность не последняя
суть философии, ее настоящая стихия — любовь, путь —
бесконечный — и свобода. В чем дело?
«Достоверность» — здесь у Соловьева не позитивного, только
кажется, что позитивного, а негативного наполнения, полемически
направлено против вмешательства в философию чуждого, пусть
даже и хорошего, и совсем прекрасного. И вот интересно, чего же:
веры! Той теологии, которую «не принял разум». Не то что надо
бороться с верой, как раз наоборот; но вера, которая в «Критике
отвлеченных начал» казалась достаточным (одним из трех рядом
с воображением и поэзией) основанием новой системы мысли,
теперь не кажется! Соловьев пересматривает себя — и неправ,
потому что вера там была осмыслена не как внешнее, не взята из
религии, а получила значение — того зрения, каким мы видим
предмет. Гуссерлевского категориального созерцания. В чем
дело?? Поздний Соловьев говорит в «Теоретической философии»:
философия — он много говорит о философии, о ее независимости,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
153
и ее достоинстве — философия — ее цель безусловная
достоверность, испытанная свободным и последовательным (до конца
идущим) мышлением (762). Достоверность, мы видели, не критерий
со стороны, сама достоверность должна быть еще испытана, т. е.
должна быть такой, которая отвечает свободному и
последовательному мышлению. Последовательному — в смысле «до конца
идущему». Что такое в конце концов достоверность — надо будет
спросить опять же у мышления; только свободное мышление
[способно ответить], и «до конца идущее», т. е. не до своего конца, где
оно кончится или где скажет, моя задача выполнена, а мышление,
которое до конца, вполне, со всем размахом мышление, свободное,
последовательное. Соловьев делает эту мысль совсем ясной:
науки, пусть они довольствуются каждая своей условной,
относительной достоверностью. Физик конечно тоже ищет достоверности, но,
скажем, он пользуется понятием пространства, или, точнее сказать,
просто пользуется пространством — а пространство —
достоверно? Вопрос не бессмысленный. Физика пользуется математикой.
Математическое пространство, по Платону, — пространство,
которое мы видим во сне. По Аристотелю, пространство «едва
существует». Но физика никогда в принципе не может поставить
вопрос о том, достоверно ли пространство, в которое физика
верит. Наука — всякая — может строить свои постройки только
в той мере, в какой поверила — скажем, историческая наука
поверила в то, что есть течение времени.
Еще раз мы видим: соловьевский критерий достоверности
имеет негативное наполнение, он содержательно не определен,
он полемически нацелен против тех областей знания, которые
бездумно, некритически принимают что-то за достоверное, не
испытав достоверности — чем? — свободой. «Свободной проверке»
(763) подвергается философией и религиозная вера тоже — и это
утверждение не предписание, а только негативное требование не
быть слепым (слепой произвол, 763), не спешить с принятием на
веру. Неслепота — это видение; видение начинается с увидения
того, что есть, что видеть; это видение Соловьев называл верой;
сейчас верой он называет религиозную веру, и она другое, чем
философия: как бы философии ни нравилась вера, она теперь для
Соловьева безусловно другое вере, «религиозная вера в
собственной своей стихии не заинтересована умственною проверкой своего
содержания» (там же). «Философское мышление не может иметь
незыблемой опоры ни в чувственном, ни в религиозном опыте»
(764). Соловьев мог бы тут добавить: ни в логике, ни в законах
рационального мышления.
154
В. В. БИБИХИН
Но что же, что тогда опора мысли? Сама мысль? Тоже нет.
Мысль из себя ничего не может извести, это было бы смехотворное
усилие повторить Бога. Мысль — да, «бесконечная сила» (там же),
«но только не творческая, а проверочная, или контролирующая»
(там же). Что она может контролировать? Безусловно всё знание.
Для чего контролировать? Определение тут негативное: «чтобы...
не признавать достоверным ( ! ) никакого положения, пока оно не
будет проверено мыслью» (765). Полная достоверность
философии — нужна для того, чтобы не принимать никакую другую
достоверность. Это значит: всякая достоверность будет всегда
стоят под вопросом! До тех пор, пока не будет достигнута, так
сказать, достоверная достоверность. Позитивное ее определение,
которое Соловьев невзначай дает, нужно было бы признать крайне
слабым, почти смехотворным: на чем-то «мысль может
остановиться как на достоверной истине, когда дело для нее совершенно
ясно и добытое знание вполне и окончательно ее удовлетворяет»
(там же), — я говорю, это определение достоверной истины как,
видите ли, совершенной ясности и окончательной
удовлетворительности «добытого знания», любопытно, где и когда кто такую
«достоверную истину» может видеть, — если бы и здесь опять
Соловьев не имел в виду только негативный ряд неостановимого
разоблачения кажущейся достоверности. В этом достижении
мысли, действительно, часто бывает все совершенно и окончательно
ясно, — т. е. ясно, что то, что казалось таким-то, только казалось:
достоверность разоблачения.
Итак: весь интерес Соловьева — в разоблачении
«шарлатанства», мы уже приводили эту цитату. Здесь действительно быстро
становится ясно, окончательная удовлетворительность в хлестком
вскрывании шарлатанства бывает, часто, полная. Частота, с какой
Соловьев с нового и нового захода по видимости дает позитивные
определения философской мысли, выдает его желание, чтобы
определение философии было не только негативным. Желание
остается только желанием. Все определения имеют острый
негативный смысл, а позитивное сводится к тому, что «философское
мышление должно быть верным себе, или, еще проще: философия
есть философия, А = А» (767). Или иначе: никто кроме
философии не скажет, не выяснит, не установит, что такое философия:
опять за тождеством А = А стоит негативная определенность!
«В с я обязанность теоретического философа, как такого,
состоит лишь в решении и способности отвлекаться в своем деле
ото всех возможных интересов, кроме чисто философского
(о котором мы знаем, что «только настоящее, подлинное фило-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
155
софствование создает настоящую, подлинную философию», 767),
забыть сперва о всякой другой воле, кроме воли обладать
истиною ради нее самой»74 (768).
На этом пути отставления — решительного, увлеченного,
разоблачения шарлатанства, на пути этого пафоса гнева против
шарлатанства, — Соловьев остается с настолько
дистиллированным представлением о теоретической философии, что становится
совершенно ясно: это акт аскезы, крайней аскезы мысли, и этот акт
сравним с крайней аскезой тела — с такой аскезой, которая
становится уже самоцелью: когда от тела мало что остается. От мысли
после ее самоограничения в теоретической философии Соловьева
остается страшно мало что. Сначала он отрезает от
теоретической философии все кроме «чисто умственного интереса» (там же),
а именно знания — Соловьев неправ, в теорию, философскую,
входит и то самое «мистическое», «истинный опыт всеединства»,
во всяком случае, не вне теоретической философии. Следующим
шагом достоверным знанием Соловьев оставляет только одну
удивительно скудную вещь: что то, что есть в наличности моего
сознания, то в нем и есть. Соловьев опять неправ, еще как неправ!
В самом деле, смотрите верно ли он говорит: «Вы видите перед
собою пылающий камин и с бесспорным правом утверждаете
безусловную достоверность этого факта» — безусловную
достоверность этого факта, вы думаете какого, что передо мною камин?
Ничего подобного! «...безусловную достоверность этого факта,
т. е. присутствие известного зрительного представления с
определенными признаками цвета, очертания, положения и т. д., — об
этом, но только об этом, свидетельствует ваше сознание» (772).
Достоверно, что мне кажется, что я делаю это дело, вижу камин.
Достоверность, что передо мной камин, — об этом я не могу
даже и мечтать. Может быть, он нарисован. Может быть, он моя
иллюзия. Может быть, я сплю, мне снится камин, если камин мне
снится, отсюда вовсе не следует, что передо мной на самом деле
камин или даже что вообще в природе существуют такие вещи,
как камины. — Не то что Соловьев инсинуирует, что мы все,
возможно спим, — скажем, я сплю и вижу во сне, что я здесь стою
и говорю. Соловьев говорит, что это не исключено. Но он гонится
за другим: за безусловной достоверностью, и вот безусловно
достоверно сейчас только вот это одно: что во мне собралась сумма
ощущений, зрительных и других, которая в целом носит название
в языке такое: «я говорю перед собравшимися людьми»; это вот
74 Разрядка В. Б. (Сост.)
156
В. В. БИБИХИН
безусловно достоверно, что я сознаю то что я сознаю; но что есть,
не в моем сознании, а просто несомненно есть аудитория, я, мое
говорение, вот это извольте ради философской
добросовестности — извольте ради честности философской такого вывода не
делать, в таком выводе безусловной достоверности не будет,
потому что это мое представление о будто бы аудитории, о будто бы
моем говорении — может быть иллюзия, внушенный мне кем-то
гипноз, сновидение. Почему Соловьев неправ?
«...Во всяком случае остается здесь (!) бесспорным
существование (! ) для данного сознания (!) в данный момент ( ! ) того
представления, которое обозначается словом „камин"» (772).
И еще: «Данное сознание непосредственно занято известным,
определенным представлением. Свидетельство чистого сознания
этим фактом и ограничивается» (773). Это неверно. То, что на-
лично в сознании, не просто налично, но еще и собрано в целое
представление, «которое обозначается словом „камин"». Это две
совершенно разные вещи. Одно дело наличие того, что в наличии.
Другое дело — собирание в целое представление. Соловьев
может сказать: но и собирание в целое — тоже наличествует, и мне
может только снится, что собирание достоверно есть, а на самом
деле достоверно только то, что впечатление, которое обычно
обозначается словом «собирание», в моем сознании наличествует.
Прав он будет?
Нет он будет неправ: потому что я просто никогда не смогу
констатировать никакого наличия, если сначала не соберу в
собранность то, о чем я говорю это: «наличествует». Даже если
я скажу: хаос наличествует, бесформенный поток ощущений
наличествует, — вес равно я сначала собрал то, что наличествует,
в эти собранности, которые называю «хаосом», «бесформенным
потоком ощущений». — Тогда вопрос: кто собирает, кто
собирает? Если сознание само же и собирает — то стоп: никакая не
«безусловная достоверность» это наличие наличного в сознании,
а мы имеем дело с чем-то таким, что сознание подставило самому
же себе. А если собирание в «что-то» идет не от сознания, а —
откуда же тогда? Откуда если не от сознания? А в самом восприятии
собранности нет, оно размыто-текуче? Стало быть, оно идет
снаружи, с улицы? Значит снаружи, на улице что-то есть, что собирает,
вокруг чего собирается?
Выкладки Соловьева просто рассыпаются. Они крайне
слабы, никуда не годятся. Но не мог же он не заметить то, что мы
заметили. Если не заметил, значит смотрел в другую сторону,
напряженно смотрел. Куда? Все туда же: он спорит, разоблачает,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
157
он не замечает, что предмет в достоверность которого он не верит
собирает в целое сначала ту наличность, которую Соловьев думает
что одну только и видит, не замечает, что стало быть предмет-то
и виден прежде всякой наличности, не замечает хотя сам же
открыл эту опережающую данность предмета 19 лет назад, в упор
предмет не видит — явно только потомуу что захвачен другим,
разоблачить недолжное подсовывание иллюзорного предмета под
чувственное восприятие, — значит перед глазами Соловьева
совершается какое-то явное мошенничество, шарлатанство, и он
хочет его немедленно остановить.
Этот промах, этот просмотр слишком вопиющий. Проверим
себя, действительно ли Соловьев делает эту ошибку. Да делает.
Читаем: «Мы не имеем права утверждать заранее, чтобы вообще
не было никаких оснований и признаков для различения
кажущегося от подлинно существующего, сновидения от реальности,
галлюцинации от действительного происшествия, — мы уверены,
напротив, что такие основания и признаки должны существовать;
несомненно только, что они не находятся в наличности
сознаваемого факта и что на них не может распространяться присущая
этой наличности непосредственная самодостоверность» (773—
774). В сонном образе мужика Фирсана, который все-таки срубил
ель в парке Трубецких, есть кроме иллюзии мужика Фирсана
мужик Фирсан собранный в мужика Фирсана, и это собирание не
иллюзия, оно такая же действительность во сне, как и наяву: одно
и то же — собирание паровоза из частей и заготовок и собирание
кентавра, который однажды приснился архаическому греку. Так
уж всё на свете собрать сознанию было бы не под силу, собрание
есть, и сначала собрание собраний — мир, целое всего, всецелое,
соловьевское всеединство. Оно основа всякого другого собирания,
оно не сознанием придумано, оно есть, достоверно: оно стало
быть на каждом шагу присутствует во сне и наяву, не присутствует
даже в каждой «наличности», а наоборот: всякая наличность на
этом собирании держится. Вот она: достоверная, безусловно
достоверная данность «предмета» — или предмета предметов. Да,
Соловьев этого не видит. Он слишком увлечен погоней. Мужик
Фирсан ему приснился, срубивший молодую прекрасную ель
чтобы пропить ее в кабаке, не случайно: Соловьев в погоне за
мошенником, шарлатаном, который что-то украл.
Страсть, с которой он это делает, показывает его захвачен-
ность делом: дело явно касается его; дело в самом деле касается
его, он разделывается, отделяет себя от того себя, который как раз
совершал ошибку подставления конструктов под простые дан-
158
В. В. БИБИХИН
ности. Соловьев нападает на Декарта: «нельзя ... из ... сознания
прямо заключать о подлинной реальности сознающего субъекта»
(776). Я не знаю, кто не опровергал здесь Декарта, кто не
доказывал, успешно и эффектно, что из cogito только и следует, что есть
некий акт, cogito, но нельзя протаскивать сюда существование
этого cogito (оно только мыслит, не обязательно оно и
существует), а главное — нельзя протаскивать субъекта, — в этом субъекте
все равно по-честному не должно оказаться ничего достоверно
вытекающего из формулы cogito ergo sum, кроме самого же этого
cogito. И Соловьеву, конечно, что до Декарта и до многократно уже
доказанной старой его неправды? Но дело в том что, он
признается, «и мне пришлось пройти через эту точку зрения», через ги-
постазирование субъекта (там же). Например когда из «истинного
опыта» всеединства выводился человек как малое всеединство. То
хлесткое, что теперь говорится Декарту, призвано вытравить себя
прежнего, с привычкой подставления субстанций под восприятия:
восприятия отвечают, так сказать, только за себя, что они есть
в данный момент в данной ситуации, они не могут без натяжек
считаться признаком существования сущностей, которые
существуют помимо и глубже этих наличных данностей. — Отсюда —
от необходимости очиститься от прежнего, считает Соловьев,
заблуждения, — резкость расправы над Декартом. «Декартовский
субъект мышления есть самозванец без философского паспорта.
Он сидел некогда в смиренной келий... Несколько переодевшись,
он вырвался оттуда, провозгласил cogito ergo sum и занял на время
престол новой философии. Однако ни один из его приверженцев
не мог толком объяснить, откуда взялся этот властитель дум и кто
он такой» (781—782). Да: субъект — декартовский,
новоевропейский — фикция, дутая. И больше того: можно считать такие вещи,
как личность, личное существование, человечество, душа «за
самый прекрасный товар, но нельзя не видеть что это сплошная
контрабанда» (782). Но ведь это же сам Соловьев говорил о личности,
о ее воссоединении с человечеством! И еще больше того: «Будем
твердо помнить, что никакого внешнего мира, никаких
чувственных предметов и реальных происшествий нам не дано, а известен
лишь ряд внутренних явлений, составляющих содержание чистого
сознания, или мышления» (781). Но ведь как раз опыт — истинный
опыт всеединства, который хоть и мистический, но ведь не мимо
же сознания все-таки проходит, как раз он был для Соловьева
безусловно достоверным прикосновением к внешнему миру? Кто
«стал строить догматические карточные домики на зыбком песке
полунаивного, полупедантичного реализма»? (788) Декарт или
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
159
Соловьев прежний? Декарт тоже, но вытравить Соловьев хочет
прежде всего Соловьева прежнего, оптимистического догматика
религиозной философии. Который говорил о личности,
человечестве, всеединстве и т. д. Теперь он говорит: «Нельзя... сомневаться
в одном: ... в факте, как таком... Сознается присутствие таких-
то ощущений (скажем сразу: например, мистического опыта,
который носит название «опыта всеединства»), мыслей, чувств,
желаний, следовательно, они существуют как такие, как
сознаваемые, или как состояния сознания. Тут обычно ставится вопрос:
чьего же сознания? — причем подразумевается, что ... вопрос
уже ... указывает на... подлинного субъекта... и т. п. Я и сам
прежде так думал... в последнее время... я увидал, что такая точка
зрения далеко не обладает той самоочевидною достоверностью, с
какой она мне представлялась» (793). Нельзя, оказывается, даже
и спрашивать так в философии, — чье сознание? — «тем самым
предполагая подлинное присутствие разных кто, которым нужно
отдать сознания в частную или общинную собственность... Самый
вопрос есть лишь философски-недопустимое ( ! ) выражение
догматической уверенности...» (794).
Опять, говорится против себя. И еще: при такой широте
замысла (ведь то, что мы имеем под названием «Теоретическая
философия», только начало работы, которая была задумана
сравнимой с огромным «Оправданием добра», и в конце «Оправдания
добра» теоретическая философия делится на учение о познании
и метафизику (548), а в том, что мы условно называем соловьев-
ской «теоретической философией», есть только первая часть,
гносеология, да и то явно развернута не в той полноте, как задумал
Соловьев; эту негодность условного названия надо всегда
помнить) — при такой широте замысла Соловьев хотел дать полный
размах скепсису, сомнению, чтобы расчистить вернее почву для
будущей постройки. Друзья говорили — знавшие его — что сесть
писать «Теоретическую философию» (но так же и другие свои
вещи) для Соловьева означало, что все было без листа бумаги,
молчаливо продумано, и теперь осталось записать. — В этой
манере был недостаток, о котором еще придется сказать.
Даже спрашивать «кто?» философ не имеет права — этим
вопросом он дает волю догматической уверенности (кстати, той
части «Теоретической философии», которую мы имеем, лучше
бы подходило название «Скептическая философия», здесь чистый
крайний скепсис, который всегда занимался разоблачением
догматики, как главная часть дошедшего до нас сочинения Секста
Эмпирика называется «Против догматиков»), что за каждым яв-
160
В. В. БИБИХИН
лением должна скрываться субстанция, вроде души, личности:
нет не имеет права так говорить, так говорит вера, а не чистая
философия; но так раньше и сам Соловьев говорил! То — раньше,
а «при настоящем положении дела» — т. е. по состоянию на время
написания статьи «Первое начало теоретической философии»,
которую мы читаем, 1897, «при настоящем положении дела на
вопрос, чье это сознание или кому принадлежат данные психические
факты... можно и должно (!) отвечать: неизвестно', может быть,
никому; может быть, любой индивидуальности эмпирической:
Ивану Ивановичу или Петру Петровичу, парижской модистке,
принимающей себя за парижского архиепископа, или архиепископу,
принимающему себя за модистку» (794). А кто его знает кто! Но
Соловьев-то, который это пишет и тоже имеет в сознании
психические факты, он-то кто? «Возможно... что данный теперь в моем
самосознании Владимир Соловьев, пишущий главу из
теоретический философии, есть в действительности лишь гипнотическая
маска, надетая каким-нибудь образом на королеву мадагаскарскую
Ранавало или на госпожу Виргинию Цуки» (787). Может быть,
Владимир Соловьев снится сейчас самому себе или кому-нибудь
еще. Но это безумие, скажете вы, какое-то сумасшествие, откуда
такой бред, Владимир Соловьев, парижская модистка, королева
Мадагаскара. Нет это не бред, а настоящее философское
настроение, и единственное настроение такого размаха, которое вообще
может рассчитывать на то, чтобы быть философией, сказать
слово в философии, философия не боится безумия, ни чужого, ни
своего собственного, — хотя, конечно, одного только безумия для
философии еще мало. Да, будто мы есть и здесь утвердились и
занимаемся философией и что-то читаем, Соловьева, может быть
приятная иллюзия и сон и чушь; и помнить об этом надо, если
хочешь заниматься философией, в безумии этом, как сказал бы
самоуверенный человек, тонуть по уши надо не иногда, а всегда,
всегда иметь при себе ту «проверку», о которой говорит Соловьев,
проверку на шарлатанство, а шарлатанством будет просто всякое
протаскивание вещей туда, где у меня в наличии только
содержания сознания. Я имею в содержании своего сознания себя как
мыслящего, и тогда называю себя философом, «а кто вы по
профессии? — я субъект личность философ», — нет так цыган на
базаре уверяет, ловкий зубы заговаривать (767—768), что лошадь
хороша и что есть вообще лошадь. Минимальное требование,
хотя бы рыночным мошенником не быть, перед философом стоит;
если он выполнит это требование, то перестанет заговаривать себя
и других.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
161
«Первоначальная достоверность», резко говорит Соловьев
против себя прежнего, «есть только достоверность наличного
сознания, в котором не даны никакие существа и субстанции, ни
протяженные, ни мыслящие» (800). Первоначальная достоверность —
значит есть и вторая достоверность? Да, с наличностью наличия
в сознании того, что в нем наличествует, дано и еще что-то. Мы
уже говорили: раньше всякого наличия было то, что собрало и все
это наличие, и каждую часть этого наличия, если в нем есть части,
а хаос, если в нем частей нет. Это собирание прошло очень рано,
мы начали замечать наличность уже собранную. И Соловьев этого
раннего собирания не замечает. Или, вернее, он не замечает,
насколько оно раннее. Или, еще вернее, он следуя крайней строгости
теоретической, на самом деле скептической философии не
позволяет себе ничего сказать об этом раннем собирании, а в «Критике
отвлеченных начал» позволял: назвал верой то опережающее
видение невидимого. Сейчас он берет назад это, ему кажется, что
то было недолжное гипостазирование, подставление субстанции
веры (интересно, что в том евангельском стихе вера названа
«субстанцией», субстанцией обетованного, ожидаемого).
Есть главная причина, по которой Соловьев в «Теоретической
философии» запретил себе смотреть в сторону того, что он
называл раньше предметом. Само ожидание «предмета» — нс-
должное шарлатанство, подстановка нашей конструкции туда,
где мы не видим. А о том, чего не видим, ничего сказать нельзя.
Соловьеву не нужно молчание. Как из совести нельзя вывести
нравственных норм, так из молчания — метафизики. Соловьеву
нужна метафизика— он только что, в 1897, оправдал добро;
теперь в том же 1897 г. он начинает оправдание истины, каких
добра и истины? Христианских. Он не закончит дела: ему не
хватит жизни, он уйдет из жизни раньше. Но у людей, так
отданных мысли, как Соловьев, жизнь сплетена с мыслью. Мы имеем
право сказать и так: Соловьев уйдет из жизни, потому что
намеченный им путь для мысли вел к концу мысли, задуманная им
религиозная философия, христианская метафизика была с той
позиции предельной строгости, скептической
требовательности — неосуществима. Соловьев оказался слишком философ,
чтобы построить задуманную систему философии. Философия
такая, как он говорит в начале теоретической философии: она
свободная, она не может назначить себе конечной цели — или
перестанет быть собой. По Розанову: понимание или есть —
и тогда оно ничему не служит, [или его нет]; но извратить его
невозможно, потому что оно тогда кончается. Соловьев не ре-
162
В. В. БИБИХИН
лигиозный философ, потому что он философ; философ в нем
покончил с религиозным философом.
Со скептическим размахом новый Соловьев говорит:
«Декартовский субъект мышления есть самозванец без
философского паспорта» (781); добавляет, что таким самозванством сам
грешил. В те же месяцы, что эти слова (в одном письме, 1897
к Н. А. Макшеевой) Соловьев перечисляет, что у него на руках:
«...печатаю „Нравственную философию" (это «Оправдание
добра») .. .готовлю к печати „Метафизику"... idem „Эстетику"...
idem „Об Антихристе"» (Письма Владимира Сергеевича
Соловьева. Т. II, с. 32675). Что после «Метафизики» (мы ее
читаем, «Теоретическая философия» должна была состоять из
частей «Гносеология», «Метафизика») — что после «Метафизики»
должна была идти «Эстетика», уже можно было догадываться:
за оправданием добра и оправданием истины должно было идти
оправдание красоты. Тут нам важно другое: в то же время, как
в «Теоретической философии» Соловьев писал о самозванце —
декартовском (и своем собственном) субъекте, он в «Трех
разговорах» разоблачал «антихриста как религиозного самозванца».
Этот самозванец пришел в мир вот когда: и интересно когда:
внутри определенной философской ситуации, когда рассыпались,
с одной стороны, материализм, «представление о вселенной как
о системе пляшущих атомов» (740; мы помним, что к атомизму
сводился в «Критике отвлеченных начал» всякий материализм, или
реализм), а с другой — всякий идеалистический догматизм. Люди
должны соответственно думать и искать своим умом. Тут появился
сверхчеловек, в описании которого нельзя не увидеть двойника
самого Соловьева. «Помимо исключительной гениальности,
красоты и благородства высочайшие проявления воздержания,
бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно
оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета
и филантропа. И обвинять ли его за то, что, столь обильно
снабженный дарами Божиими, он увидел в них особые знаки
исключительного благоволения к нему свыше и счел себя вторым по Боге,
единственным в своем роде сыном Божиим» (740). «...Человек
безупречной нравственности и необычайной гениальности» (742).
Он всем хорош. Только одно — он не принимает Христа.
Двойник Соловьева, прекрасный добродетельный гениальный,
отличается от Соловьева только этим: непринятием Христа. Или
75 Цит. по: Соловьев В. С. Соч. в 2-х тт., τ 2, с 783. См.: Письма Владимира
Сергеевича Соловьева, т. 1—4, СПб, 1908—1923. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
163
сказать точнее: тот разрыв, по которому Соловьев отрывается от
своего двойника, от самого себя жуткого, разрыв который
проходит больно, — это между силой могуществом, которые манят
гениального красавца, и нищетой могилой распятием.
Как в «Теоретической философии» Соловьев расстается с
самозванцем субстанцией, так в «Трех разговорах» — в повести об
антихристе — расстается с самозванцем силой, могуществом. Там
выбирает скепсис, здесь выбирает нищету. А мы помним, что
совсем недавно немощь у него подлежала преодолению, могущество
требовалось, чтобы прочертить человечеству — в «Оправдании
добра» — путь к вселенскому единению. Вдохновенный,
загоревшийся силой гений творит. «.. .Не только посетители великого
человека, но даже его слуги были изумлены его особенным, каким-
то вдохновенным видом. Но они были бы еще более поражены,
если бы могли видеть, с какою сверхъестественною быстротою
и легкостью писал он, запершись в своем кабинете, свое
знаменитое сочинение под заглавием: „Открытый путь к вселенскому
миру и благоденствию"» (743). Если бы кто-то с сарказмом захотел
переиначить название книги Соловьева, большой, то назвал бы
ее именно так. И описал бы тоже так: «Это будет что-то
всеобъемлющее и примиряющее все противоречия. Здесь соединятся
благородная почтительность к древним преданиями и символам
с широким и смелым радикализмом общественно-политических
требований... неограниченная свобода мысли с глубочайшим
пониманием всего мистического, безусловный индивидуализм с
горячей преданностью общему благу» (743—744). — Бывает ли так,
чтобы сам автор стал себя так резать? Бывает. Так диалог Платона
может начинаться отвращением к привязанности между людьми,
потом переходить в палинодию, прославление такой влюбленной
привязанности. Так Ницше славит Вагнера, потом Вагнер для него
чуть ли не главная угроза размягчения, декаданса. Так Иванов
пишет о себе — былом ясновидце, пророке, теурге
могущественном, «К неофитам у порога Я вещал за мистагога; Покаянья плод
творю, — Просторечьем говорю». Так Соловьев однажды,
проснувшись, приветствовал себя, такого целеустремленного, такого
увлеченного проповедника истины добра и красоты,
неожиданным экспромтом: «В лесу болото, а также мох; Родился кто-то,
Затем издох»; так Алексей Федорович Лосев от восторга перед
прекрасной телесностью античного космоса переходил к ужасу
перед тонкой изысканной порочностью этого космоса; так
марксист, настоящий марксист Эвальд Ильенков писал в предсмертной
записке, перед своим самоубийством: «Я думал, что защищал
164
В. В. БИБИХИН
истину, а защищал только свой корыстный интерес» — и
достоинство сочинений Ильенкова, весомость в истории марксизма
этой запиской не только не отменяются, наоборот, утверждаются,
а по-настоящему разрушенные, циничные марсксисты никогда не
оказались бы способны ни на такую записку, ни на такой конец.
И больше такого гораздо, чем мы думаем. Грибоедов не знал,
его Чацкий — прекрасный образ духовной красоты или пародия
на просвещенного романтика. Гончаров не знал, что он написал
в «Обломове», элегию или сатиру. Мы до сих пор не знаем,
платоновское «Государство» идеал или провокация. Ницше не знал, его
Сверхчеловек светлое будущее или сатира. Ах как этот ряд можно
продолжить. [...] — Так Соловьев не знал, исповедание веры или
пародия его «Оправдание добра». Что соловьевская так
называемая религиозная философия имеет себе такое противоядие в
повести об антихристе, не отменяет достоинство соловьевской
философии, наоборот, впервые придает ей безусловную серьезность — но
только если мы будем видеть полюса, и «веру» «Кризиса
отвлеченных начал», и абсолютный скепсис «Теоретической
философии», и оптимизм конструкций «Оправдания добра», и жесткую,
ядовитую пародию на «Оправдание добра» — сочинение
антихриста «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию».
«Никто не будет возражать на эту книгу, она покажется каждому
откровением всецелой правды» (744). Всецелой правды. «Вот
идеал, который не есть утопия, вот замысел, который не есть химера».
Быстропишущий гений предпринимает объединение церквей. Но
объединение церквей совершается не по нему, как он хотел,
властно и для подкрепления всемирной империи, а иначе: когда в нем
опознают антихриста все трое, и папа Петр II, и действительный,
хотя неофициальный вождь православных старец Иоанн (750),
и ученейший немецкий евангелический теолог Эрнст Паули (там
же). Они одни не объединились вокруг гениального императора,
когда и большинство верующих соблазнилось, и опознали в нем
антихриста. Потом, идя скрываться в горы, едва не погибнув,
считаные единицы оставшиеся верными, они радуются как дети.
«Все с радостными криками стали им помогать, и скоро оба...
встали на ноги целыми и невредимыми. И заговорил ... старец
Иоанн: „Ну вот, детушки, мы и не расстались. И вот что я скажу
вам теперь: пора исполнить последнюю молитву Христову об
учениках Его, чтобы они были едино, как Он сам с Отцом — едино.
Так для этого единства Христова почтим, детушки, возлюбленного
брата нашего Петра. Пускай напоследях пасет овец Христовых.
Так-то, брат!" И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули:
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
165
„Tu es Petrus!" — обратился он к папе. — „Jetzt ist es ja gründlich
erwiesen und außer jedem Zweifel gesetzt". — И он крепко сжал его
руку своею правою, а левую подал старцу Иоанну со словами: „So
also, Väterchen — nun sind wir ja Eins in Christo". Так совершилось
соединение церквей среди темной ночи на высоком и уединенном
месте» (759). А можно было бы сказать: там единение церкви
никогда и не кончалось, «на высоком и уединенном месте», «среди
темной ночи». И это единение церкви не должно было дожидаться,
когда придет Соловьев с проектом объединения церквей.
В следующий раз мы должны будем посмотреть, как
собирание, без которого нет никакого, ни чувственного, ни умственного
восприятия, собирание, в котором заранее уже присутствует мир,
не должно было дожидаться Соловьева, когда он начнет
оправдание истины.
Но сначала мы должны будем еще раз посмотреть, как человек
не знает, чаще чем кажется, не знает, что он говорит, когда он
говорит то, что он говорит; и что он делает, когда делает то, что делает.
Мы это посмотрим по поводу статьи Барабанова в ВФ76 1991, №
8, где он намечает проект «психоанализа русской философии».
76 Журнал «Вопросы философии». (Сост.)
166
В. В. БИБИХИН
1—10(12.11.1991)
Новое время, — а начало философии Нового времени это
Декарт, — ново в противоположность прежнему времени, старому.
Древнему. Или темному. Во всяком случае такому, из которого
надо выйти. Новое время благодаря своей исключительности
знает то, чего не знало старое; и новое время живет открывшимся,
вкладывает себя в это открывшееся ему, как бы сказать? Вот-вот
должно произойти то, что ожидается. Этот новый способ
существования был захватывающим, зажигающим. Все подлежало
восстановлению от первых оснований, omnia instauranda sunt ab
imis fundamentis, слова Френсиса Бейкона, сказанные Бейконом
разве первым? А Хуан Луис Вивес, за сто лет до Декарта
готовивший этим нетерпеливым ожиданием всеобщей перемены
новую философию и новую математику? Но Реформа,
переустройство всего-всего на чистых началах, программа Церкви давняя?
Европа со средневековых Ренессансов, которых было несколько,
Каролингский в начале IX века, Оттоновский в начале XI века,
платонизирующий ренессанс шартрской школы в XII веке,
ренессанс XV века, высокой схоластики, ранний, по сути дела тоже
средневековый ренессанс итальянский XIV века, — такими раз-
махами Европа разгоняла себя (в начала, они в античности и в
христианстве, в кельтской и германской почвах, в арабском
влиянии — лучше было бы подробно разобрать все это, что сделало
Европу мировой цивилизацией) — набирала энергию для Нового
времени. Переустройство, восстановление всего. Открытие мира,
человека. А раньше они не были открыты? Да, были, но в
гомеровском эпосе, в древнегреческой трагедии были скорее открыты как
старые-старые, вечные. Библейское ожидание мессии — тоже
разве похоже на ожидание все новых и новых открытий, нового
слова, преобразований? То пространство, в котором придет Мессия,
или — в христианстве — те новое небо и новая земля, которые
откроются при втором пришествии Христа, они другое, чем это
пространство, где мастерские, печатные станки, торговые города,
университеты, путешествия. Это несоизмеримые пространства,
они врозь. Европа — единое пространство, несоизмеримости уже
нет — Нового времени вещь небывалая, и она знает себя, что она
вещь небывалая, и к старому уже не хочет вернуться.
Можно ли сказать, что новое в Новой Европе — новое потому,
что старые века никак, никакими силами не могли решить вечные
проблемы, а Новое время решило?
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
167
Старое оказалось неудовлетворительным, оно не
удовлетворяло требованиям, каким? Своим же собственным? Нет, новым!
Требования тоже новые, не в смысле повышенные, а в смысле —
другие. Новое время с неизменной эффективностью решает
проблемы, которые тоже новые. (Неверность историко-проблемного
подхода к философии: в философии нет вечных проблем;
например, «проблема смерти» (!), которую как якобы вечную пытаются
решить философы на телевидении, ставится в смысле смерть
трагедия^ когда мы читаем, например, «Апологию Сократа»,
то мы видим, насколько неправ Соловьев, для которого смерть
как раз по-современному трагедия и который уверен, что Сократ
только по старческой слабости готов к смерти; или когда читаем
ученика Платона Порфирия, «Подходы к умопостигаемому», то
поверхностно читая видим, что проблема там смерть, но — как
долг философа: философская смерть — долг философа, который
должен быть выполнен до наступления телесной смерти, которая
трагедия? Как бы не так: она безразлична, άδιάφορον.)
Декарт наконец открыл fundamentum inconcussum veritatis —
до него неизвестное несотрясаемое основание истины. Но до него
потребности в такой достоверности просто не было. Мы
скажем: до Декарта было больше чутья, пусть неотрефлексирован-
ного, правильнее сказать — нетематизировавшегося, к тому, что
истина не сводится как раз к логической ясности, к доказуемой
достоверности. — Декартом было введено в математике понятие
функции. Функция это постоянное {или меняющееся, но опять же
постоянным образом меняющееся) отношение между
изменяющимися величинами. Эти изменяющиеся величины могут изменяться
до бесконечности. С бесконечностями как таковыми математики
оперировать никогда не могли. Но понятие функции позволило
и бесконечность увидеть как терм известного отношения, т. е.
каким-то образом оперировать и бесконечностями. Бесконечность
в математике тесно связана или даже в первую очередь связана
с несоизмеримостью (!). Отношение диаметра к окружности
круга выражается бесконечной непериодической дробью, числом η
малое, это первая буква слова περιφέρεια окружность, η
называется трансцендентным числом: перешагивающим за любой предел
его уточнения. Оно — иррациональное число, в том смысле, что
оно не может вступить в «рацио», отношение к так называемому
целому числу, — т. е. отношение, которое выражалось бы тоже
целым числом, а не иррациональным. И вот что поразительно:
насколько ясно в математике целое число по противоположению
иррациональному, настолько же не прояснено, даже не может быть
168
В. В. БИБИХИН
в математике предпринято усилие — нечем делать усилие, нет так
называемого понятийного аппарата — понять что такое «целое
число», и просто «число»: это понятие, которое определению,
иначе как тавтологическому, не поддается. Математика
пользуется понятием «число» как само собой разумеющимся,
непосредственно ясным. Философия — современная — видя, как ловко
математика оперирует числом, отдает тогда число математике:
типичное определение, «число — одно из основных понятий
математики». Хорошенькое понятие математики, которое математика
не понимает! Это якобы «философское» определение — «число
есть понятие математики» — неверно; правильно: число есть
понятие, которым математика почему-то умеет пользоваться как
якобы понятным. Число — проблема не математики, а философии,
и по недоразумению, как понятие «мир», оно не тематизировано
в нашей современной философии, — при том что именно теперь,
как никогда, вся действительность в технической цивилизации
строится на числе и по принципу исчисления. Строится в самом
строгом и точном смысле слова неведомо на чем. Число еще только
ожидает, когда на него обратят внимание.
Декарт — философ Нового времени, или первый философ
Нового времени. Вовсе не значит, что он осмысливал Новое время,
вовсе нет: он был внутри Нового времени и его новых
потребностей. Осмысления Нового времени можно было бы ожидать
только от мыслителя, который сумел бы увидеть Новое как
новое. Внутри Нового времени Декарт был весь в его проблемах.
Время — Новое — началось не с открытий, а с новых
потребностей. Якоб Буркхардт сказал, что великие географические
открытия неизбежно должны были быть сделаны, после того как
в европейской общественности, которая получила для себя такое
средство как книгопечатание, была подготовлена «литературная
готовность» к географическим открытиям, к охвату целого мира.
В древности проблема несоизмеримости и бесконечного числа
существовала, но как? Не удастся ли все-таки найти, отыскать
такой способ перечисления окружности в прямую, чтобы не
приходилось уходить в бесконечность; не удастся ли преодолеть
несоизмеримость. Проблема Декарта совсем другая: без попыток
решить проблему квадратуры круга, найти способ оперировать
иррациональными числами и бесконечностями. Благодаря
открытиям Декарта, потом Лейбница и Ньютона оперирование
бесконечностями началось; теперь мы привычно пишем ряд чисел,
ставим многоточие, означающее сколь угодно долгое
наращивание, и в конце пишем повернутую на 90° восьмерку, знак «бес-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
169
конечного числа». Мы забыли думать, через какую пропасть мы
тут привычно перескакиваем. Через какую?
Бесконечные выражения в математике, например число π,
бесконечная дробь, — никогда не целые числа. Математическое целое
число, ряд целых чисел как заданных — никогда не бесконечное.
Они, говорят, уходят в бесконечность, но как бы ни уходили,
каждое отдельно взятое целое число не бесконечное. — Я говорил
о неправомерном смешении онтологии и математики у Лосева
и Флоренского, когда единство или всеединство считается тем же
самым, что единица или во всяком случае началом единицы и
соответственно натурального ряда чисел 1, 2, 3 и т.д. Это неверно:
первоединство, всеединство к математической единице не имеет
отношения. Единство, первоединство, всеединство — это целое,
которое одновременно бесконечность. Вот этого в математике
абсолютно не бывает и быть не может. В математике такое
невозможно; совпадение целого и бесконечного числа разрушило бы
математику. Из первоединства с равным успехом можно
выводить иррациональные или мнимые числа. Математическое число
такое, что оно или целое, или бесконечное; или рациональное, или
иррациональное. Математическая единица происходит из другого
источника, чем опыт первоединства, всеединства. Математическое
число ίο, что, мы читали,77 Дуне Скот называет ens rationis,
рассудочная сущность; возникает в воображаемом пространстве. Еще:
сущность отношения. Еще: определенное выражение — во всякой
математике. Но мир, всеединство: определенное в другом смысле,
чем определенное в математике. В каком? Это надо прояснить.
Число, которым в математике отличается, например,
иррациональное число 71 от ближайшего рационального числа, «стремится
к нулю», как это называется. Абсолютно непереходимая преграда
между рациональным и иррациональным в математике
выражается бесконечно малым числом, почти нулем. В бесконечно больших
та же непереходимая преграда между числом, которое никогда
не бесконечное, и бесконечностью, которая никогда не может
быть выражена сколько угодно большим целым (натуральным)
числом. Исчисление бесконечно малых и бесконечно больших,
т. е. оперирование с тем, что не число, как с числом, преодоление
несоизмеримости между числом и бесконечностью, —
дифференциальное исчисление и интегральное исчисление — в математике
77 На семинаре «Ранний Хайдеггер» (занятие 19.2.1991). См.: Бибихин В.
Ранний Хайдеггер о Дунсе Скоте. Точки, 1—2 (3). М.: ИФТИ св. Фомы, 2003,
с. 180. (Сост.)
170
В. В. БИБИХИН
подготовлено понятием функции, введенным Декартом. Этого не
было раньше. Раньше стояли перед загадкой иррациональности.
Не поддастся ли иррациональность все-таки какой-то
рационализации? Декарт не ставил целью вовсе — рационализировать
иррациональность. Его задача другая: оперировать
иррациональным, несоизмеримым — не измерить его, а включить в единое
исчисление. Этой задачи раньше не было.
Точно так же: «непоколебимое основание истины» — не то
что искали, искали до Декарта и никак не могли найти. Ничего
подобного! Новизна Декарта не в том, что он его нашел, а что он
начал искать то, чего раньше не искали. А найти — дело почти
техническое, оно достигается предельным усилием, которое
раньше растрачивалось на что?
Скажем заостренно: то же предельное усилие раньше
тратилось на то, чтобы уйти от проблем того рода — как мирских, —
[на] которые как раз Декарт потратил предельные усилия, чтобы
их решить. Декарт на военной службе во время похода в Венгрии,
чтобы ему когда они квартировали в каком-то селении, не мешали
сосредоточенно думать, забрался в большую печь, еще, наверное,
теплую, едва ли не главные его открытия пришли ему в голову
в этой печи, — интересно, что он умер, заболев воспалением
легких, когда пригласившая его королева шведская, по пуританскому
своему образу жизни и по старому обычаю философов бравшая
у него уроки философии до света, заставляла его очень рано
вставать, а он привык поздно, и Декарт не выдержал утренней
свежести северной столицы. — Человек такой: лишь бы возникла
по-настоящему потребность, он как-нибудь найдет решение. Так
теперь у нас со снабжением: проблема не в том, как его наладить,
полное обеспечение проблема ну максимум года, если не полугода:
но нет другого, нет чистой потребности в обеспеченности; неясно,
стоит ли перед кем-нибудь, и может ли вообще перед кем-нибудь
стоять, задача снабжения населения; стояла ли она вообще когда-
нибудь, не стояла ли другая проблема, — удержания населения
от недовольства. — Это о том, что человек, как правило, находит
средство удовлетворения потребности. Настоящее новшество —
это задача. Новая Европа — это прежде всего новые задачи.
Философия занимается не решением задач. В этом смысле
она, по Аристотелю, не нужна. Она не удовлетворение
потребности. Декарт поставил философию на службу новым задачам.
Как бы ни опровергал Декарта Соловьев, он его опровергает,
корректно или некорректно, для того, чтобы лучше его выполнить
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
171
ту же задачу. Кто поставил задачу? Соловьев не спрашивает?
Значит главный вопрос философии он не ставит. Главный вопрос
философии — в чем?
Что такое вопрос? Как случилось, что вопрос перед нами
стоит? Как случилось, что перед нами много вопросов — главный
и второстепенный? Не так ли на самом деле обстоит дело, что для
нас всё вопрос, всё под вопросом? В каком смысле для нас всё под
вопросом — в том смысле, что каждая отдельная вещь, за
которую бы мы ни взялись, под вопросом так или иначе, под главным
или второстепенным, а иначе — что под вопросом само всё? Что
такое всё, которое под вопросом так или иначе, тем или другим
способом? Если всё — это мир, то каким образом случилось, что,
сгорбившиеся уже от тяжести вопросов, мы ни разу не нашли
свободного времени спросить о вопросе вопросов, о мире? —
Для Соловьева главным вопросом в его стремлении к ясной
достоверности было бы: разве дело в удостоверении? Разве дело
не в том, откуда берется то, что ведь уже должно каким-то
образом быть прежде чем начнем его удостоверять? Соловьев говорит
о первой данности: наличности, факте сознания. Откуда взялся
факт сознания? Как, кем он собран в факт? Сознанием он собран
в наличный факт — или с самого начала уже то, что в сознании
и вообще где бы то ни было, каким-то непонятным для нас
образом было собрано в факт, в наличность, в образ, в хаос, в
поток — во что бы то ни было? Соловьев промахивается мимо этого
первого вопроса, нацеливается на другой. Действительность для
него данность уже скучная и недолжная, она нужна для того,
чтобы ее преобразовать.
Ну и что: разве действительность не надо преобразовать.
Никакого спора: немедленно надо, обязательно, непременно, вот
сейчас же, она абсолютно невыносима и нетерпима. Беремся за
преобразование действительности. Что в ней плохо? В ней
пошатнулись добро, истина и красота. Страшно то, что не видно
добра в добре, сказал Достоевский. Истину не дай Бог нам
найти, истиной нам связывают руки и завязывают глаза. Красота не
только не спасет мир, а как бы мир еще как-нибудь хоть отчасти
спасти от человеческой красоты. Начинаем оправдывать добро,
т. е. восстанавливать его в его правде, чтобы оно не было
ложным. Соловьев это сделал в большой книге «Оправдание добра»,
которую мы смотрели. Теперь Соловьев будет оправдывать
истину, в «Теоретической философии», незавершенной, от которой
мы имеем одну пятую примерно часть, а в конце концов должна
была быть построена система метафизики. Потом — еще он не
172
В. В. БИБИХИН
приступил — сразу должна была пойти «Эстетика», т. е.
оправдание красоты.
Что делает Соловьев? Он выполняет технические задачи,
служит злобе дня. Злоба дня в этом: добро, истина, красота
пошатнулись, надо их снова подкрепить, утвердить.
Это задачи техники, а не философии... Но посмотрите:
Соловьев ставит себе в «Теоретической философии» техническую
задачу — удостоверения истины до последней ясной
достоверности. И тут же наперекор себе, т. е. этой технической задаче, пишет
равенство А = А, философия равна философии, она ничему не
служит, «Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный
ум» (762). Вступает в конфликт, в раздор с системотворческим,
активистским намерением, задачей Соловьева [остается] его
философская открытость. Он спорит с самим собой, идет на самого
себя. Он вышучивает в новоевропейском субъекте самозванца,
шарлатана, цыгана на базаре, ловкого зубы заговаривать — и этим
смело иронизирует над самим же собой, своими субстанциями
души, личностью, человечеством и т.д. Одной рукой строит,
другой в каком-то восторге сметает. Одной рукой строит громадную
систему «Оправдание добра», все улаживающую, всех
устраивающую —другой рукой в «Трех разговорах», в повести об антихристе
сметает эту постройку, хочет вместе с тремя праведниками, Петром,
Павлом, Иоанном остаться в темной ночи, на высоком месте.
Я вас спрашиваю: кто Dice тогда говорит! Я имею в виду —
где настоящий Соловьев, кто говорит в Соловьеве? Я вас
спрашиваю. Кто говорит? — это вопрос Ницше. Кто говорит, когда
человек говорит? И шире: кто действует, когда человек действует?
Еще шире возьмем: что происходит в истории, когда в ней что-то
происходит? Когда Гитлер начал войну против всего мира, то и он
сам говорил, и его противники тоже говорили, что он имеет
целью величие и мировое владычество Германии. Что на самом деле
делалось? Губительство Германии? Поражение Гитлера,
безоговорочная капитуляция и оставшимися гитлеровцами, и всеми их
противниками, союзниками понималось как сокрушение, поражение
Германии, победа России, Англии, Франции. Что на самом деле
происходило? Закладывание будущего небывалого возвышения
Германии в Европе, будущего крушения Советского Союза? Что
делал Сталин, когда он делал то, что он делал? Он сделал опорой
марксизма-ленинизма одну шестую часть суши со всеми ее
огромными силами — или он расправился с марксизмом-ленинизмом
так основательно, что попытки восстановить, предпринятые
сразу после его смерти, уже были обречены? Что перестраивается
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
173
в перестройке, кто-нибудь знает? Лучше спросить вообще, шире:
опять же, что человек делает, когда он делает то, что он делает?
Сальвадор Дали, который сумасшедший не потому, что он
сумасшедший, а для того, чтобы хоть краешком, намеком показать миру,
сколько в нем сна, когда заговаривает о политике, то в полной
мере имеет чутье к этому безумию политики, к ее сумасшедшей,
упоенной слепоте: например пишет: «Тем временем Гитлер на
глазах становился все более гитлеровским, и однажды я написал
картину, где нацистская нянька преспокойно вязала на спицах,
невзначай усевшись в огромную лужу... Лично я был им настолько
заворожен, что буквально бредил Гитлером, который почему-то
постоянно являлся мне в образе женщины. Я был совершенно
зачарован мягкой, пухлой спиной Гитлера, которую так ладно
облегал неизменный тугой мундир... Мягкая податливость
проступавшей под военным кителем гитлеровской плоти приводила
меня в настоящий экстаз, вызывая вкусовые ощущения чего-то
молочного, питательного, вагнеровского и заставляя сердце бешено
колотиться от редкостного возбуждения, которого я не испытываю
даже в минуты любовной близости... Гитлера я рассматривал как
законченного мазохиста, одержимого навязчивой идеей развязать
войну, с тем чтобы потом героически ее проиграть... Германия,
невзирая на все сверхчеловеческие усилия, которые она приложила,
чтобы оказаться побежденной, все-таки в конце концов
действительно проиграла войну».78
Евгений Барабанов в № 8 «Вопросов философии»79 говорит:
так называемая русская философия, которая напрасно претендует
на самобытность, не знает, что она говорит, когда она говорит то,
что она говорит. Русский мессианизм, русский нигилизм, русский
космизм безнадежно застряли между философией, идеологией
и литературой и не знают, где они на самом деле находятся (с. 103).
Наивная размытость мысли, не прошедшей строгой философской
рефлексии (там же). Центральная тема внеакадемической русской
философии, тема России, стоит в невротическом конфликте с
темой Запада (104). У русской философии «невроз своеобразия»
(105). «Запад постоянно... в поле цензуры, стремящейся не
допустить в сознание запретных влечений. Именно поэтому он
неустанно разоблачается", причем разоблачается во всей
двусмысленности этого слова: и как запретный вожделенный эротический
объект, и как опасный соблазн, иллюзия, ложь, вызванные страхом
78 Дали. С. Дневник одного гения. М.: Искусство, 1991, с. 62—64; 166.
79 1991 ; статья «Русская философия и кризис идентичности». (Сост.)
174
В. В. БИБИХИН
совращения и боязнью возможной беременности» (109—НО).
«Невротик застревает в своем прошлом. Неустранимое прошлое
русской философии — ее центрированность на квазифилософской
проблеме-загадке— Россия» (110). «Была ли это философия?
„Человек, стремящийся к мировоззрению, основанному на
философии, должен иметь смелость полагаться на свой собственный
разум", — писал Макс Шелер. Русская религиозная философия
заняла противоположную позицию: она передоверила свой разум
авторитету ею же самой сконструированного православия (либо —
„Вселенской церкви", как у Вл. Соловьева), в служанку которого
она превратилась» (113). «Конечно, это не более чем
мессианская мифология», гностицизм (114, 105). «Русская философия не
анализирует данного, но строит идеал, некое ожидаемое, силой
которого пытается „преобразить" данное» (114). «Садистское
отрицание бытия... мазохистский поиск... нарциссическая
самодостаточность, нетерпимость и чувство превосходства» — т. е. все
«классические неврозы» (115).
Вывод Барабанова: надо выйти из невроза, из «магического
сознания» в «пространство знания и понимания» (116). Выйти из
«садо-мазохистского мессианизма», из бреда. Путь выхода:
«будущий философски отрефлектироваиный — психоанализ русской
философии: трезвое постоянство в кропотливой работе по переводу
незнаемого на язык знания» (там же). Что можно об этом сказать?
Если бы эта статья претендовала на то чтобы быть событием
в истории русской мысли, а не только событием в личной биографии
ее автора, то — но и только тогда — имело бы смысл посмотреть на
нее как на жест: насколько этот жест вписывается в одну из черт
того, что она обличает: мессианизм в своем негативном варианте,
условно говоря, в варианте Чаадаева: мы совершенно самобытны
в том, что ничего у нас нет, все в будущем. Барабанов не замечает,
что на 111-й странице процитировав как пример утопизма слова
Чаадаева: «Прошлое уже нам неподвластно, но будущее зависит
от нас», сам Барабанов на с. 116 обещает «будущий... психоанализ
русской философии»; т. е. было бы поучительно посмотреть, как
жесты автора невольно, словно в какой-то завороженности
повторяют жесты того существа, «русской философии», которую он так
ядовито, с почти срывающимся от раздражения голосом хлещет.
Но мало причин думать, что эта статья событие не только в личной
биографии ее автора. То существо, с которым он разделывается
и которое он называет «русской неакадемической философией» —
это продукт его воображения, заинтересованного в том, чтобы
иметь большой и уязвимый объект, который можно было бы наот-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
175
машь и безнаказанно бить. Ясно, что то, что он называет, например,
«Соловьевым», получено из очень специального чтения Соловьева,
заранее нацеленного на то, чтобы из текста Соловьева выкроить то
существо, о котором хочется вести разносную речь — разносную
речь совсем того стиля и жанра, какой может или могла вести
высокая руководящая или следящая инстанция перед растерянными
и потерянными бедными интеллектуалами.
Но вот что в этой статье интересно. В ней широко, с
размахом поставлен вопрос — что же в конце концов говорит русская
мысль, когда она говорит то, что она говорит? Этот вопрос и мы
поставили в отношении Соловьева, которых два. И мы поставим
его в отношении Розанова, которых два. Что здесь происходит?
Кто говорит, в конце концов? Статья деловито, оптимистически
обещает: а вот сейчас разберемся; применим средства анализа, да
еще психоанализа, философски отрефлектируем, перетасуем,
классифицируем; ничего ребята: тихо, дело будет сделано: «трезвое
постоянство в кропотливой работе», и мы «переведем незнаемое
на язык знания», программа Фрейда.
Можно ли перевести незнаемое на язык знания? Что это за
программа, чья, спросим в свою очередь, программа, — так
называемая программа философского рационализма? Это в своем
существе, если отбросить совсем ненужный здесь фрейдизм,
программа одного из Соловьевых в «Теоретической философии», —
прогнать шарлатанов, отшвырнуть обманщиков, добиться ясной
достоверности, в конце концов. Вовсе не значит, что ясность
и достоверность не нужны. Но они могут претендовать на то,
чтобы быть позитивной программой? Чтобы отшвырнуть обман
и подлог — да. Но в какой мере человек может рассчитывать на
то, чтобы дойти до окончательной ясности и достоверности не
в познании там мира, — дело это далекое, — а в знании того, что
он говорит, когда говорит, что он делает, когда делает?
Конечно, как только мы поставили окончательную ясность
и достоверность под вопрос, за наш счет сразу же возвысятся
и утвердятся те, кто или уже сейчас владеет достоверностью,
или, как Барабанов, путем «будущей» философской рефлексии
окончательно переведет незнаемое на язык знания. — Надо
смириться. Надо терпеливо удерживаться от такой переводческой
работы. Есть недолжный перевод, например, если бы мы
устали вглядываться в явление Соловьева и подменили его своим
представлением о Соловьеве. Соловьев такой, отменяющий сам
себя, — что это, ненормальность, признак его несостоятельности?
«Мыслитель противоречив» — дежурная фраза, сразу ставящая
176
В. В. БИБИХИН
исследователя выше исследуемого. — Мы много знаем
человеческих предприятий, которые не отменяют себя? Не гениальность
ли Соловьева, что эту отмену себя он вынес, принял ее, вобрал
в себя, когда сплошь и рядом, на каждом шагу видишь
самоуверенную активность, которая в самой себе содержит свою отмену
и никогда не поднимается до признания этого? Никто не знает,
что мы говорим, что мы делаем, когда говорим и делаем; кто
в нас говорит и делает. Маркс не знал, ни кто будет, ни как будет,
ни когда, ни какой мир; Маркс не знал, хочет ли он переделки
мира — или сумасшедшим, не знающим себя хотением хочет
срыва, окончательного и раз навсегда, всех человеческих планов
переделки мира. Тем более не знали марксисты. Маркс победил.
Маркс не победил. То и другое верно. Мы победили. Мы не
победили. То и другое верно. В чем дело? Почему так всегда обстоит
дело с человеческой активностью на земле?
В мире что-то происходит. Кто-нибудь из людей знает, что
происходит в мире, куда движется история? Люди в силе, в мощи,
в потоке; люди в бессилии, в немощи, в оставленности, в
нищете — какие люди побеждают? Люди всегда захвачены — чем? Они
захвачены захватывающим. Или они служат тому, что их однажды
захватило. Человек всегда брошен в факт своего
существования; человек всегда себя уже бросил на то или другое действие
или бездействие. Мера захваченности — энергия в
аристотелевском смысле, полнота осуществленности. Она не обязана знать о
себе; больше того, в своей полноте она не будет знать о себе, по
Плотину. Когда Солженицын говорит о «невыжатом объеме» в
человеке, который делает человека объектом подчинения и
манипуляции, он имеет в виду опять же полноту энергии. Она дает о
себе знать в работе, в захваченности. Для полноты захваченности
апокалипсис всегда уже совершился, и апокалиптическое
«времени больше не будет» всегда правда. Времени в буквальном,
строгом смысле «больше не будет»: того времени, которое только что
было, уже никогда не будет. Будущее время — оно для чего угодно,
только не для того, чтобы снова стать прошлым, прошедшим:
значит оно во всяком случае уже не такое, как теперешнее время.
Соловьев внутри этой полноты захваченности, когда он пишет
23 июня 1900 года Анне Николаевне Шмидт в Нижний Новгород:
«...Приехав из деревни, нашел Ваше письмо от 17 июня. В нем
много верного. Я тоже думаю, что прежняя историческая канитель
закончилась»80 — т. е. слепое кружение человеческой истории
80 Лосев. А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990, с. 102.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
177
окончилось, и что, после туманов наступает ясность? Нет, только
еще больше полноты, «энергии», а ясность — нет: «не нам дано
видеть времена и сроки» (там же).
«Человек рожден для усилия, как птица для полета».81
Предельное усилие — обязанность, абсолютный долг; но это усилие
ясности, прояснения, перевода незнаемого ца язык знания? Как бы
не так: чем больше у Сальвадора Дали сумасшедшей радости от
того, что он мастер, что он может, тем меньше знания, почему он
мастер, что он может. «С улицы до меня, словно неземная музыка,
доносится восхищенный шепот окруживших дом почитателей. Но
самая что ни на есть потаенная тайна заключается в том, что даже
самый знаменитый художник на свете, то есть я, так пока и не
постиг, в чем же суть мастерства живописца... Дуракам угодно,
чтобы я сам следовал тем советам, которые даю другим. Но это
невозможно, ведь я же совсем другой.. .»,82 «Во всем мире, и
особенно в Америке, люди сгорают от желания узнать, в чем же тайна
метода, с помощью которого мне удалось достигнуть подобных
успехов. А метод этот действительно существует. И называется
он „параноидно-критическим методом". Вот уже больше
тридцати лет, как я изобрел его и применяю с неизменным успехом,
хотя и по сей день так и не смог понять, в чем же этот метод
заключается».83
Похоже, что единственная обеспеченно достижимая цель —
у террористов: они знают, что они хотят, чьего-то уничтожения,
и знают, что они добьются этого. Или нет, или даже уничтожая,
террорист не знает, что он уничтожает, для чего, и в какой мере
уничтожает сам себя? Террорист уничтожает в другом, казалось
бы, другого, явно не себя же. Но убивающий делает другому вот
что: признает в нем другого, абсолютно другого, с которым
справиться больше никак нельзя, только убить. В этом смысле
диктатор, который не может терпеть другого, который в глазах своего
помощника должен видеть послушность и не выносит
самостоятельного взгляда, признает другими тех, кого уничтожает, — если
можно так сказать, делает уничтожаемым честь, признавая их
несоизмеримо другими себе, с которыми он не видит возможности
найти общую меру.
81 «Для человека нет ничего естественней труда, человек рожден для него,
как птица для полета и рыба для плавания» (Ф. Петрарка). — Книга писем о
делах повседневных. XXI. Другу Сократу, утешение и совет. Франческо Петрарка.
Эстетические фрагменты. М.:Искусство, 1982, с. 183, пер. В. Бибихина. (Сост.)
%2Дали. С. Дневник одного гения..., с. 136, 137.
83 Там же, с. 196.
178
В. В. БИБИХИН
Это единственный безусловный способ признать другого
действительно по-настоящему другим — уничтожить его? Условный
другой обычно бывает снят, отождествлен узнающим,
разгадывающим, опознающим взглядом. Отсюда боязнь глаза, сглаза: другой
сглазит, отнимет меня у меня самого, разлучит меня со мной;
другого надо поэтому остерегаться, и прежде всего — избегать его
глаза. Безусловный другой закрыт завесой. Завеса опознания,
отождествления. Редко — только при настоящей увлеченности
другим — мы перестаем его знать; обычно мы человека знаем; другой
выходит из-за завесы, когда мы вдруг видим, что знать его нельзя,
что он не стоит даже перед нами для изучения — стыдно сказать
о человеке, которым мы увлечены, что мы его изучаем. Мера
близости, настоящей — признание безусловного другого. Другой
это смерть меня, смерть Я, которое в близком другом, в другом
близком видит свое другое я, έ'τερον εγώ, в этике Аристотеля.
Другой поэтому ранняя и желанная смерть меня, спасающая меня
от меня так, как иначе меня от меня может спасти только смерть.
Так или иначе, или эта ранняя и желанная смерть меня в близком
другом, или смерть как уничтожение — единственное спасение
от Я, которое... — или лучше сказать, спасение от Я-незнания,
от Я, обреченного в принципе не знать, что оно говорит и что
делает. — В России был мыслитель, который как мало кто был
широк для чувства другого и как никто отдал себя этой широте,
себя расширив, разогнав до того, чтобы охватить другого, — Лев
Толстой. Его уход перед смертью из Ясной Поляны был последним
признанием, когда уже не оставалось времени и сил чтобы сделать
это иначе, что его построений было мало, что вся широта охвата
не охватывает, мала, человек не может, как бы он ни был широк,
вобрать в себя то, что он размахнулся обнять. В замечании,
слишком грубом и несправедливом, рассчитанном на публицистический
эффект, Максима Горького, что Толстой уникальный человек, как-
то надеявшийся, что смерть его не заденет, была та правда, что
Лев Толстой посвятил себя титаническому усилию, бросил себя на
то, чтобы размахнуться до безусловно Другого, в конечном счете
до Бога. Его смерть бездомного на железнодорожной станции —
крик нам, что его предприятию не не хватило силы, что никакой
человеческой силы в принципе не хватит, чтобы охватить то, чем
человек по-настоящему увлечен.
Человек смертный. Значит это, что человек со смертью
кончается? Я этого не знаю. Ключ от этого у другого. Где другой? Я могу
знать, где условный другой. Где, или кто, безусловный другой,
я не знаю. Другого я не знаю, даже очень широко размахнувшись,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
179
не могу вычислить. Я себе другой; это откроет — кому? мне?
нет не мне, потому что меня уже не будет, — моя смерть. Рядом
с этой правдой всякое сплавление так называемых двух душ, или
коллектива, в согласный сплав — злой обман, пьяная иллюзия.
Договоры с самим собой и с условными другими, заговаривание
себя, других и правды. В этом свете все говоримое, по Розанову,
не перевешивает молчания и не нарушает его.
Еще раз: где другой и какой он — я настолько не знаю, что
не знаю даже, что я не другой. Я себя не знаю. Я не могу знать
поэтому, что я в конечном счете говорю и что делаю. Потому что
не знаю, в какой мере во мне говорит и делает другой.
Лучше будет поэтому, если я другому с самого начала оставлю
место. Будет лучше, если я не буду воображать, что какими бы то
ни было словами сумею заговорить другого и себя другого. Есть
слабоумный страх, что кто-то, чьи-то слова «сглазят» несказанную
истину, что кто-то заболтает тайну. Как если бы какие-то мудрые
духи ее ведали и надо было бы следить, заботиться, чтобы тайна
оставалась именно в тайне. Этого не надо опасаться: тайна
слишком высоким порогом отгорожена, порогом смерти, от
смертного. Не надо бояться, что истину уже затоптали. Ее никогда не
затоптали. Она другая. Σοφόν πάντων κεχωριχτμενον. София
от всего отдалена своим другим пространством, ее страна другая.
Ее отделяет от смертного смерть смертного, не та, которая когда-
то будет, скоро или нескоро: нет, смертный не в минуту смерти
смертный, он смертный сейчас, его слово смертное, оно с самого
начала ложится обреченное быть зерном, которое прорастет или
не прорастет, и прорастет так, как оно прорастет, а не так, как
надеется или как задумал сказавший. Никаким внушением я не
могу запрограммировать другого, чтобы хотя бы предугадывать
смысл моего собственного слова в нем. Оно не прорастет или
прорастет во всяком случае не так, как задумал пишущий. Пишущий
не знает, почему он пишет, что и как. Он захвачен и увлечен —
другим.
Поэтому все равно, говорит ли он от себя, против себя. За
говорением Соловьева против себя, в «Теоретической философии»
и в легенде об антихристе, как за уходом Толстого, одновременно
и перечеркнувшим, и оправдавшим все им сказанное, — так же
и у Соловьева, — была уже близкая смерть, у Толстого на
железнодорожной станции, у Соловьева — на диване в гостиной
Трубецких в Узком, — в доме, который теперь разваливается
и который восстановить скорее всего опять же не удастся. Эта
смерть на диване человека, который почему-то обязательно должен
180
В. В. БИБИХИН
был, с тошнотой и головокружением, едва стоя на ногах от
слабости, «он повторял упорно только одно: „Я должен нынче быть
у Трубецкого"»84 (цит. Давыдов Н.В.85). Никакого ни срочного, ни
простого дела к Сергею Николаевичу Трубецкому у Соловьева
не было. Эта смерть, больная, страшная, внезапная, оборвавшая
жизнь на подъеме такого большого писательства, тоже вдруг,
жестко, смело, резко перечеркнутого самим пишущим, — что это
все такое было, кто знает? Сам Соловьев знал? Нет не знал — знал
бы, не писал бы в варианте четвертой строфы своего последнего
стихотворения, написанного за 20 дней до смерти: «Замыслы
смелые Крепнут в груди, Ангелы белые Шепчут: иди!» Мы что
ли теперь, умудренные, глядящие с расстояния, с исторической
дистанции, знаем, что-то можем объяснить себе нелепыми,
абсурдными и неверными словами вроде «его вполне здоровые
церковные убеждения начинают в этот период ослабевать под влиянием
заметно прогрессирующего пессимизма»?86 Черта с два мы знаем!
Наоборот, нам еще мечтать и не домечтаться до такой темноты,
как в умирающем от склероза артерий, цирроза почек, уремии
и полного истощения организма Соловьева на диване у Трубецких;
мы еще безнадежно блуждаем в нашей ясности между такими все
объясняющими понятиями как пессимизм и оптимизм или вроде
того; когда-а! еще только мы выкарабкаемся из этой нашей сонной
мертвящей ясности во тьму, когда еще только поймем, что понимал
уже Соловьев: что есть что-то другое, чем быть последовательным
и строить стройную систему.
Нам не дано с ясной достоверностью знать, кто говорит
в нас — и что говорим мы; мнимая обеспеченность на этот счет
бывает уже от крайней степени слепоты, когда действительно
уже нужен Евгений Барабанов и психоанализ. Загадка смысла
прячется в смерти смертного и в настоящем безусловном Другом,
которого мы не знаем и которого напрасно мы пытаемся
заслонить придуманным удобным Богом, которого мы вынимаем из
кармана как средство на все случаи жизни. Черта с два похож
этот карманный Бог на настоящего. Французский католический
писатель Морис Клавель написал перед своей ранней
неожиданной смертью книгу «Бог есть Бог, черт возьми!» — он выкрикнул
84 Лосев. А. Ф. Владимир Соловьев и его время..., 1990, с. 105.
85 Председатель Московского окружного суда, знакомый Соловьева и
родственник Трубецких. 15 июля 1900 года, в день своих именин, Соловьев был
в его квартире, и к нему обратился с этими словами. Н. В. Давыдов отвез тогда
тяжелобольного Соловьева в Узкое. (Сост.)
86 Там же, с. 103.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
181
это своим единоверцам, когда уже не стерпел смотреть, как они
интенсивно хлопочут, прилепляя своего бархатистого
карманного Бога для очередных политических надобностей. — О такой
смерти, как смерть Мориса Клавеля, Соловьева, Толстого хочется
сказать, что она была чистая; или даже вообще: смерть, какая
чистая, очищающая вещь? Но вот что интересно: человеку,
похоже, очень трудно узнать, увидеть смерть, если он не знает или
как-нибудь не догадывается, что он смертный не когда-нибудь
потом, а сейчас, вполне, полноценно смертный в каждом своем
слове, в каждом своем поступке, т. е. уже отдан безусловно
другому, которого он не знает тем знанием, которым он думает, что
он может все познать, — другому, от которого он отделен порогом
смерти и безусловного молчания.
Как обстоит тогда дело с ницшевским вопросом «Кто
говорит?» Или с вопросом Барабанова, «что вытесняется» неврозом
русской мысли? Или с обещанием раннего Фрейда — перевести
вытесненное на язык ясного рационального знания? Мы можем
спокойно сказать теперь: этот вопрос имеет только
негативное наполнение, т. е. он годится для выявления плагиата или
шарлатанства, подмен всякого рода, для установления, кто не
говорит. Когда говорит человек, например, то говорит не Бог.
Позитивного смысла, смысла установления того кто, который
говорит, вопрос Ницше иметь не может. Установить это
невозможно. Достоверная ясность невозможна ни в отношении
кто, ни в отношении что. Соловьев должен был опровергнуть
сам себя. Достоверная ясность всегда от человека, смертного,
отделена порогом молчания, порогом смерти, порогом
безусловного другого. Можем мы эту ситуацию как-то изменить или
что-нибудь придумать, чтобы было не так «пессимистично»?
Нет не можем, никак, no how. Почему у нас получается так
пессимистично? Надо спросить у оптимистов; наверное они знают
и объяснят.
«Победа над смертью», обещает Соловьев в «Оправдании
добра». Правда, не знает, когда и как она будет.
Вы конечно замечаете, что говоря о смертном и смерти, о
безусловно другом, о знании и незнании по поводу Соловьева, мы
внутри тем Гераклита, — как когда говорили о Розанове, были
внутри Парменида.
Мы должны будем коснуться упрека Николая Федоровича
Федорова философам: мир нам дан не на поглядение. Мир нам
дан для того, чтобы подвигом человечества, вооруженного наукой,
победить смерть.
182
В. В. БИБИХИН
Потом мы должны будем вернуться к Розанову: «Смерть есть
то, после чего ничто не интересно».87
Когда мы думаем, т. е., по Аристотелю, глядим, то начинаем
видеть настоящего Другого.
На чем держится несплавление, неслепливание общества
в муравейник? Неизвестно чем. Грэм Грин говорил, что он верил
в своей жизни в разные вещи, но в конце концов осталась только
вера в одно: что он окажется неправ. — Ив этой последней вере
тоже неправ? Может быть.
87 Розанов. В. В. О себе и жизни своей. М.: Моск. рабочий, 1990, с. 228 —
Опавшие листья, [короб первый].
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
183
1—11(19.11.1991)
1) Welt/an/schau/ung; 2) Influentia, in-fluo; 3) νους (νοεΐν),
intellectus, понимание; 4) αμηχανία; 5) «System des
transzendentalen Idealismus», Schelling F.W.J. Tübingen, 1800;
6) Αντισθένης, ок. 455 — ок. 360; 7) Cogito: co-ago, cogo,
cogito; 8) Unum et esse convertuntur; 9) «Слово-звук», «Слово-
смысл» (Соловьев)
Мы начали с того, что заметили, что как в прошлом, в
недавнем прошлом, нормой было использование философии для
нужд мировоззрения, т. е., как теперь понимается мировоззрение,
примерно со второй половины прошлого века, как знание о мире,
ориентирующее, что и как надо делать в мире. Такое понимание
мировоззрения и не единственное исторически, и больше того,
необоснованное; оно не единственное исторически: в XVIII веке,
когда это слово возникло в немецком языке, оно не калька,
никакого образца в греческом или латинском, откуда главные
философские слова, нет, — означало наблюдение мира, так еще у Канта;
но уже у Канта, потом у Шеллинга и Гегеля мировоззрение —
восприятие мира как именно мира, с пониманием особенностей
этой уникальной вещи — мира: так, для Шеллинга, — и я сейчас
сделаю большое отступление о Шеллинге, потому что Шеллинга
надо помнить, читая Соловьева, потому что Соловьев читал и
принял Шеллинга. Принятие, или рецепция, такой технический термин
в обсуждении отношений между мыслителями, может быть,
позволяет чуточку осторожнее и точнее говорить об этих отношениях,
чем «влияние». «Влияние», influentia, калька с западных языков,
и происходит из астрологии: все события на земле — так или
иначе результат влияния звезд и сочетаний звезд, констелляций,
созвездий. Выдающиеся славные люди — светила, звезды и все,
что совершается с человеком, навеяно, «влито» и этими светилами
тоже. Ясно, что светила влияют, как они влияют: мы под их
влиянием действуем, невольно, но вот распутать это влияние — дело
нелегкое и вообще не наше. Влияние Шеллинга на Соловьева?
Конечно. Принятие, рецепция Соловьевым Шеллинга? В каком
смысле мы принимаем другого? Бывает экзальтированное
поклонение: вот светоч, вот светило, Бог или полубог. Это не
признак рецепции: наоборот, таким способом, наверное, всего легче
отделаться от настоящего принятия. Противоположность —
негодование, отвержение, обличение. Это тоже не признак малой
184
В. В. БИБИХИН
рецепции; наоборот, так привязывают себя к другому, может быть,
еще прочнее, чем восторгаясь и преклоняясь. Рецепция может
быть с этими — противоположными — признаками и вовсе без
них. В основе рецепции — встреча с другим.
Прошлый раз я не сказал: другой — моя смерть. Я сказал:
другой — смерть меня. Скончается на Другом, при встрече с другим.
Я оказывается проблематичным, когда Другой ближе ко мне, чем
я сам. Когда можно так сказать — «я себе не нравлюсь», «я себе
в тягость», другой, с которым я ничего не могу сделать,
оказывается мне ближе, чем я, который что-то могу с собой сделать.
Например, постараться стать другим. Мы перестаем знать, с кем
мы имеем дело. В данном случае: имеем дело с Соловьевым или
с Шеллингом?
Предлагаю на сегодня: 1. С чего начали: краткий краткий
осмотр, как и что мы читали, т. е. где оказались, где стоим. 2.
Отступление о Шеллинге. 3. Дочитывание «Теоретической
философии» Владимира Соловьева — и возвращение к теме «объекта»
и «субъекта»: что человек делает, когда он делает, что он делает;
кто делает, кто говорит. Мы увидим, что достижение
достоверного знания здесь, Соловьев прав, трудно. Увидим, что оно еще
труднее, чем надеется Соловьев, и что система метафизики,
начатая в «Теоретической философии», в принципе и не могла быть
достроена. 4. Тогда мы посмотрим, в каком смысле Соловьев
говорит о вхождении нравственной философии в теоретическую
философию. Это будет главная часть сегодняшней пары — тема αρετή,
добродетели, или доблести, или добротности, — т. е. если темы
«есть и нет», сна, смерти и другого, встреченные, прочитанные до
сих пор у Розанова и Соловьева, давали нам возможность хотя бы
просто для начала увидеть, о чем говорят Парменид и Гераклит,
то тема добротности нам позволит увидеть Сократа. Мне хочется
поскорее взяться за нее, я понимаю, как это рискованно; поэтому
первые три сегодняшних вопроса вкратце.
Мировоззрение, я сказал, и понималось, и продолжает
пониматься странно. По поводу Шеллинга скажем, как понимал
немецкий классический идеализм, — но в нашем справочнике
читаем: «система представлений о мире... обусловленные
этими представлениями основные жизненные позиции и
установки людей... способ духовно-практического освоения мира».88
Представление о мире, позиция в мире, способ освоения мира.
88 Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,
1989, ст. «Мировоззрение». (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
185
Что в основе этой дефиниции? Ориентировка. Управление, как
минимум — информация, которая тоже форма управления. В эту
воронку, лихорадочного поиска ориентации, втянута философия.
Человеческая действительность — это один сплошной острый
вопрос, проблема. Мы начали чтение философии с надеждой
и ожиданием: философия не даст себя затянуть в слепую гонку.
Не получилось, однако, так, что философия нам обеспечит приют,
тихое пристанище, где бы мы были избавлены от напряжения,
как бы ушли в тихий кабинет, где можно спокойно переждать,
пока волнения ослабнут. Но розановское понимание,
позволяющее нам издали увидеть, что такое νους, νοεΐν, оказывается не
менее, а более жестким, чем напор повседневного существования:
понимание — самое дно этой жесткости, его параметры
экзистенциальные — нищета и брошеность, а исключительность — не
в исключенности из напряжения повседневности, а в
предельности. «Нищета философии», удачное выражение Маркса,
относится вовсе не только к Пьеру-Жозефу Прудону. Да, эта нищета
дна, брошености в свободу — единственная, где открывается
безобманное богатство, но порог от нищеты этой к богатству
этому очень высокий. Философия, сама по себе, настоящая,
настолько не ориентирует в том, как перейти от нищеты к богатству,
что, наоборот, открывает человеку как его исходное отношение
к миру, — его позицию, если хотите, в отношении к настоящему
миру, а не картине мира, — амеханию, абсолютную неспособность
применить механизмы тела, души и духа. К амехании, понять
которую нам помог опять же Розанов с его «каменной
задумчивостью», мы вернемся по поводу 6-го фрагмента Пармснида.
Розанов о понимании: «Не человек обладает им, но он[о] живет
в человеке, покоряя себе его волю и желания, но не покоряясь
им» (19/24). Абсолютной невозможностью вмешаться в
понимание куплено то, что понимание — вне причинно-следственных
цепей. «Понимание не связано с жизнью» (706/575). Говорить:
такого не бывает, все связано с жизнью, все охвачено причинно-
следственными цепями, — так говорить можно; можно говорить:
Розанова не было; всё на самом деле иначе; а это идеализм; или:
религия; или: религиозная философия.
Розанов бессилен тут; он недоказателен. «Понимание... есть
деятельность непроизвольная» (717/584). Если человек
разлучен с пониманием, то тем более разлучена масса. Розанов: есть
отдельные люди и даже целые народы, совершенно лишенные
понимания. Непонятый, Розанов будет стоять в амехании, в
растерянности: «Я не нужен: ни в чем я так не уверен, как в том, что
186
В. В. БИБИХИН
я не нужен»*9 Нет так нет. На нет и суда нет. Понимание не
обязательно, его не навяжешь, к нему не обяжешь — совсем наоборот
Соловьев. Его докторская диссертация, «Критика отвлеченных
начал», 1880, — по замыслу открытие начала безусловного,
достоверного, обязательного для всех, потому что бесспорно истинного.
Мы помним, какое это начало в «Критике отвлеченных начал»: не
отвлеченное начало, в смысле не отвлеченное ни от вещей, ни от
человека: всеединство, открытое в мистическом истинном опыте.
В «Оправдании добра» — опять же в нравственности
оказывается одно безусловное объединяющее, указывающее путь дело,
преодоление смерти, немощи, безобразия. Сказать, как Розанов:
есть отдельные люди и целые народы, лишенные понимания;
понимание нельзя создать, организовать, оно есть, когда оно есть,
и использованное, приспособленное — оно пониманием быть
просто перестает, — спокойно смотреть, как есть люди, лишенные
понимания, а может быть — многие, а может — большинство,
а может — и все, для Соловьева — абсурд. И в «Теоретической
философии» скептический размах, тотальное сомнение вначале
нужны для того, чтобы, расчистив почву, потом безусловнее,
бесспорнее стал путь к истине. — Достоверность. Истина. Вот
вкратце, совсем коротко, как и что мы читали.
Теперь сегодняшний вопрос 2-й. Отступление о Шеллинге,
по поводу всеединства Соловьева. Фридрих Вильгельм Йозеф
Шеллинг, 1775—1854. В марте 1800 года «System des
transzendentalen Idealismus», Тюбинген. Шеллинг здесь движется в русле
Фихте. Он ищет рычаг, одно, через что можно поднять всё. Задача
трансцендентальной философии: отыскание абсолютно
достоверного, через что достоверно все остальное.90 Дух относится к миру
двумя противоположными способами: 1. Он дает себя
определить, сформировать, запечатлеть вещами, в наблюдени мира,
в науке физики, вообще во всяком согласовании духа с вещами,
которые он встречает. 2. Дух сам свободно творит и воплощает
в творчестве продукты своего свободного творчества. Я прошу вас
самих помнить о ходе мысли Соловьева в «Критике отвлеченных
начал». — Как быть с этим вопиющим противоречием, вопрос
Шеллинга: противоречие между тем, как дух послушно и
соблюдая послушность дает себя оформить внешнему миру — и тот
же дух прислушивается только к себе и властно внушает свое
89 Розанов. В. В. Соч. в 2-х тт., т. 2. М.: Правда, с. 233.
90 Шеллинг. Ф. В. Й. Система трансцендентального идеализма. Л.: Огиз-
Соцэкгиз, 1936, с. 20. Пер. И. Я. Колубовского. Далее номера страниц указаны
в тексте в круглых скобках.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
187
творчество миру. Там рабство, тут царство. Там мы сообразуемся
с действительным миром, тут мы заставляем мир подчиниться
нашей идее. В теории мы ощущаем как скандал, если не дадим
действительности самой диктовать нам, какая она; в практике,
наоборот, отвратительный скандал, если дух приспосабливается,
конформируется с действительностью.
Это не надуманное, не искусственное противопоставление.
Оно есть, человек действительно и раб, и царь. Если философия
чего-нибудь стоит, она должна разрешить это противоречие. Только
каким образом, если как всякая деятельность и деятельность
философа тоже поневоле окажется или послушной податливо-
стъю вещам, или будет свободно творить! Трансцендентальная
философия выйдет транс, за ту и другую, пассивную и активную
форму духа к исходному, первичному единству, где обе
деятельности, полярно противоположные — одно.
«Легко видеть, что решение этой проблемы не относится уже
ни к практической, ни к теоретической философии, но требует
чего-то высшего, служащего объединяющим звеном между тем
и другим: не будучи ни теорией, ни практикой это должно быть
вместе и тем и другим» (22).
Что одно окажется одновременно и чистой теорией, и чистой
практикой?
Решение Шеллинг находит блестящее и уникальное. Выше
теории и практики — и раньше теории и практики — дух как
продукция, про-изведение, творчество. Дух всегда творчество; всегда
выведение, создание, явление. Он в своей сути всегда одна и та
же деятельность — и когда безвольно прислушивается к вещам
и дает им отпечатывать себя, и когда диктует вещам свою волю,
только в первом случае дух продуцирует бессознательно, во
втором — сознательно (22—23). Еще яснее это сказано во введении
Шеллинга — годом раньше, 1799 — к «Первому наброску
системы философии природы». Там говорилось: «Интеллигенция (дух)
продуктивна двояким образом, либо слепо и бессознательно, либо
свободно и с сознанием; бессознательно продуктивна в
мировоззрении, с сознанием — в сотворении идеального мира».91 Это
значит: мир, реальный, действительный, мир внешних предметов —
ему так послушна интеллигенция, созерцающая его, потому, что
с самого начала неосознанно для нее самой этот мир ею сотворен.
Когда, изменившись, придя в свою противоположность настроение
91 Ср. пер. М. И. Левиной в издании: Шеллинг Ф. Соч. в 2-х тт., т. 1. М.:
Мысль, 1997, с. 182. (Сост.)
188
В. В. БИБИХИН
безвольной пассивности превращается в смелую поэзию, то
просто та же прежде неосознанная продукция становится
осознанной. «Объективный мир представляется ничем иным, как
первоначальной, еще бессознательной поэзией духа; общим Органоном
философии и заключительным аккордом во всей ее архитектонике
оказывается философия искусства» (24).
Эту продукцию духа — как можно постичь? Только тоже
в продукции. И тоже одновременно сознательной и
бессознательной. Это возможно только в творчестве — в эстетическом акте
воображения. «То специфическое чувство, при помощи которого
осуществляется этот род философии, должно быть
эстетическим... искусство оказывается органом философии» (25—26).
Таким образом, две опоры духа, реализм и идеализм, зовут,
буквально кричат о третьем, что их соединяет, об идеал-реализме,
он и есть трансцендентальный идеализм — идеализм, трансцен-
дирующий сам себя в возвращении к реализму (74). «Система,
стремящаяся вскрыть истоки всех вещей в деятельности духа,
являющейся одновременно как идеальной, так и реальной, эта
система, будучи самым завершенным идеализмом, по этой самой
причине должна быть также и самым завершенным реализмом»
(130).
Полюса реализма и идеализма, среднее исходное и истинное
их объединяющее, поэзия духа, воображение, искусство — это
соловьевский пейзаж. Один из оппонентов Соловьева на его
докторской защите поднял вопрос, с кем собственно приходится
тут иметь дело, с Соловьевым или Шеллингом. Знать, кто был
принят Соловьевым, Шеллинг или может быть в большей мере
Гегель, обязательно нужно. Но выяснение «меры
заимствования» — пустая проблема, и ровным счетом ноль прослеживание
заимствований говорит о «самостоятельности» или
«несамостоятельности» — тоже очень сомнительной проблеме. Кто
говорит — проблема нерешаемая. Самостоятельный мыслитель не
тот, кто делает усилие быть непохожим на других. Когда начинают
исследовать заимствования у Пушкина, то сначала
многообещающим путем кажется легкость, очевидность этих заимствований,
их количество. Но когда кропотливый исследователь
постепенно открывает, что заимствовано всё, он понимает, что
количество заимствований на самом деле ничего о самостоятельности
Пушкина, наверное, не говорит: надо идти другим путем. Каким?
Для начала заметить вот что: люди, которые давали Пушкину в
долг, одновременно заимствовали у него место в поэзии, место в
славе, место в истории. На самом деле кто стоит самостоятель-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
189
но, а кто прислонился, решается не заимствованиями, как-то по-
другому. Об этом в последней, четвертой части сегодняшней пары,
а теперь отступление о Шеллинге кончилось. — Мы дочитываем
«Теоретическую философию» Соловьева.92
Вы помните: Соловьев критикует Декарта не за постановку
проблемы, а за способ решения проблемы. Сама проблема —
безусловная, последняя достоверность познания — у Соловьева
точно та же, что у Декарта. Декарт просто «слишком поспешно...
стал строить догматические карточные домики на зыбком песке
полунаивного, полупедантичного реализма» (788). Не надо было
спешить. Не надо было поскорее пририсовывать к мысли — к cogi-
to — субъекта. Надо было во всю ширь дать волю предположению,
«что весь окружающий ... мир может быть сновидением,
произведением... мысли или обманом... чувств» (787). Конечно наверное
не гипноз же все-таки всё. Но достоверной проверки не дождаться,
вообще, стало быть, никакой настоящей философии не
дождаться «без предварительного сомнения во всех (подчеркивает всех
Соловьев) догматических взглядах» (788). Нечего и надеяться.
Ничего не получим. Ничего не получится, если сначала не
отпустим сомнение гораздо дальше, чем его отпустил Декарт.
Итак, всё иллюзия, сон. Меня называют, говорит Соловьев,
да и я сам считаю себя доктором философии (789). Ну как же: вот
мои печатные труды по философии, тогда-то я защищался, тогда-
то читал курсы лекций. Ну и что? Раз мне мерещится, что я доктор
философии, так мне будет и мерещиться, что у меня есть ученые
труды, что я читал курсы лекций и т.д. Мне кажется, что я читал
в Москве, но «самой Москвы вовсе нет в действительности... этот
город со всеми улицами и церквами в нем... все это существует
только в моем сновидении» (790). Что тогда безусловно
достоверно? Никакой не субъект, а только вот это самое: что есть только
«феноменологический субъект» (791): тот, в ком наличествует то,
что в нем наличествует; этого субъекта можно определить только
так: он не больше, чем тот, в ком есть мысль: я доктор философии
Соловьев (например). Прав ли Соловьев, что наличие того, что на-
лично, в сознании, в котором налично, — единственная
безусловная достоверность, тавтологически ясная?
Соловьев говорит, повторяет: необходимо «распространять
предварительное сомнение равномерно на обе стороны
мыслимого — как на предметы внешнего мира, так и на субъекта собствен-
92 Соловьев. В. С. Соч. в 2-х тт., т. 2. Указания на страницы в тексте в
круглых скобках. (Сост.)
190
В. В. БИБИХИН
ной душевной жизни» (793). Мыслимое, наличность т. е. сознание,
отстригается аккуратно и от внешнего, и от внутреннего. Но
почему нельзя «распространить» сомнение и на само мыслимое, и на
сознание? А Бог его знает, что наличествует, и что наличествует.
Ну невелика беда, скажет Соловьев: стало быть, и сомнение в
наличии — тоже наличествует. — Да я и в сомнении сомневаюсь! То
ли есть сомнение, то ли нету его! И в этом сомнении о сомнении
сомневаюсь! — Можно ли теперь сказать: стало быть,
наличествует эта мешанина, несомненно наличествует?
Нет: когда мы говорим: «несомненно наличие сомнения в
несомненности», мыслительные инструменты словно разваливаются,
они перестают работать, откровенно не годятся, как хайдеггеров-
ская кувалда, которая слишком тяжелая, она просто бесполезна
для починки часов. Так что мы снова провалились с теоретической
достоверностью. Соловьев: «Нельзя ни в каком случае сомневаться
в одном: в наличной действительности, в факте, как таком, в том,
что дано. Сознается присутствие таких-то ощущений, мыслей,
чувств, желаний, следовательно, они существуют как такие, как
сознаваемые, или как состояния сознания» (793). Почему «нельзя ни
в каком случае сомневаться»? Кто велел? Что говорит Соловьев?
Почему он, только что опрокинувший всякий догматизм,
прописывает эту фразу «нельзя ни в коем случае сомневаться»?
Даже в том, что А = А, тоже можно сомневаться. Это верно
в математике, но «самоочевидной достоверности» тут нет: есть
условная достоверность, вот какая: если А не меняется, то оно
равно А. Т. е. заранее уже должно быть то, что мы хотим иметь.
«Само-очевидной дос/ио-верности» у нас не будет. Соловьев
явно дает «самоочевидной достоверности» негативное и
полемическое наполнение, в смысле спора против Декарта и против
декартовского субъекта. Вы хотели «самоочевидной
достоверности» субъекта? Получайте: вместо субъекта самое пустое, самое
нищее тождество наличия своему наличию, устраивает оно вас,
дает вам что-то? Оно дает вам нуль, а не субъекта, не субстанцию
души, не внешний мир. Вот к чему сводится «самоочевидная
достоверность». Мы думали, что Соловьев искал самоочевидную
достоверность и нашел, в тождестве наличия самому же себе. Нет
он не искал. Наоборот, он по существу доказывал, что искание
самоочевидной достоверности в сознании ведет к чему-то настолько
бедному, настолько пустому, что равно нулю. Мы побежали за
ним и схватили его за руку: нет, Владимир Сергеич! Даже и нуля
не получается! Ничего вообще не получается! То, что вы — даже
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
191
такое нищее, А = А, назвали самоочевидной достоверностью, тоже
разваливается сомнением! Он едва ли обратит на нас внимание
или сразу с нами согласится. Тем лучше! Даже пустоты на пути
сознания не получаем! Тем более надо смотреть как-то иначе!
Что-нибудь еще есть, кроме наличности в сознании, которая
равна самой себе?
Теперь мы переходим к последней, 4-й части сегодняшней
пары. Соловьев прав: ни что, ни кто не помогут, опорой для
истины не станут; о наличности в сознании мы не имеем
права спросить, ни что за ней стоит, ни кто ее имеет: то и другое
будет догматизмом, гипостазированием предикатов,
воображаемой подстановкой туда, о чем мы ничего по-честному не знаем,
субстанций. Между прочим, глубокомысленно объявляемое
иногда, с видом победительным: «истина не что, а кто», не имеет
никакого смысла. «Кто» так же точно неопределим, как и что;
так же расплывается, так же нуждается, в истине. — Да что
же мы тогда вообще имеем? Владимир Соловьев пишет статью
«Теоретическая философия». Некто, Бог знает кто, какой-то Иван
Иванович, или королева Мадагаскара, или парижский
архиепископ, или вообще неясно кто, видит сон, ему снится, что он доктор
философских наук Владимир Соловьев, который пишет
философскую статью. А = А. Наличие в чьем-то, Бог весть в чьем, сознании
этого Владимира Соловьева и этого его писательства означает,
что в некоем сознании наличествует Владимир Соловьев и это
его писательство — и ровным счетом ничего больше не означает.
Или даже так: а Бог его знает, что оно означает, наличие ли оно
вообще, наличествует ли оно, достоверно ли само сомнение в нем,
и так далее. Что остается?
Остается, что статья тем временем увеличивается, она
продолжается, не прерывается, ее прервет только смерть, — пусть
неведомо чья статья, пусть неизвестно, пишется ли она на самом
деле или чистая иллюзия и гипноз, что она пишется — ах я на
каждом шагу ощущаю, что мы давно уже ходим по пространству
Гераклита, пространству, где жизнь и смерть, сон и явь
переплелись, как в первом фрагменте: от людей ускользает, что они
делают проснувшись, как они не замечают, что они делают во сне;
и мы должны будем после Соловьева совсем по-другому прочесть
эти места Гераклита о сне, — иллюзия и гипноз, что Доктор наук
Владимир Соловьев пишет статью «Теоретическая философия»:
какой-то сон кому-то снится, может быть, ему же самому, не-
192
В. В. БИБИХИН
ведомо кому. Но: между тем статья появляется. Она, возможно,
снится, — ее на самом деле нет вовсе; и все равно она есть хоть
приснившаяся, ее можно, пусть во сне, прочитать, с ее тезисами,
пусть во сне, можно иметь дело. Статьи нет, все сон — и она есть,
вот ее тезисы, вот я, пусть во сне, о ней говорю. Что мы тут имеем,
если имеем?
Стало быть, мы что-то имеем, когда ничего не имеем. Не так,
что мы имеем только тот факт, что в нашем сознании наличествует
статья, — нет, каким-то образом мы имеем и саму снящуюся нам
статью. Можно сомневаться, что она есть на самом деле, или
можно сомневаться, что она нам снится, — но все равно, вот
она. — Почему о камине, который мерещится в гипнозе, нельзя
по-честному сказать, «вот он», а о статье — можно? Даже если
она снится?
Это очень трудный вопрос. Но очень важный. Важный, от
«вага», вес — значит весомый. Похоже, мы вместе с Соловьевым
в этой последней его работе набрели на что-то такое весомое, что
своей весомостью перевесит все важные философские
проблемы, сколько их ни можно напридумать, набравшись серьезности
и погрузившись в проблемы бытия. Соловьев говорит: допустим,
всё сон. Но эта данность сонного содержания мне сейчас —
абсолютная достоверность, Соловьев неправ. Я не знаю, что мне
дано, что мне не дано; дано ли мне то, что дано, или не дано,
что дано, — сомневаюсь ли я в несомненности или несомненно,
что я сомневаюсь, — это безвыходный тупик, где мы будем
метаться до тех пор, пока не выведем из терпения тех, кто захочет
к нам прислушаться. Никакой «самоочевидной достоверности»
ни в каких «фактах сознания» нет. — Но фактов, оказывается, два
рода: один факт — типа камина; другой — типа статьи, которую
Соловьев пишет около камина. Даже если Соловьеву всё снится,
и статья приснилась, но приснившегося камина нет, приснившаяся
статья — есть, вот она. Статья в каком-то смысле всё равно,
приснилась или нет. Камин — факт сна, статья — факт сна, но второй
факт переходит в «сверхфактическую область», говорит неудачно
Соловьев: он факт во всяком случае другой. Еще Соловьев говорит,
опять неудачно: «... мысли всеобщего значения, существуют
понятия, суждения, умозаключения, то есть что существует разум»
(801). Разум — гипостазирование не лучше ничуть, чем субъект.
Мы ничего о разуме пока еще не имеем права знать. Мы имеем
дело с фактом, пока. Факт, однако, оказывается двух родов. Или,
может быть, в одном и том же факте открываются две стороны.
Мы уже походя об этом говорили: мы заметили раньше Соловьева,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
193
еще когда он говорил о наличии наличности, что никакая
наличность никому бы не была дана, не предстала бы как наличность,
вообще ни о чем бы не было речи, если бы не было собирания
того, что воспринято, в воспринятое, восприятия — в восприятие.
В моем примере со статьей можно было бы не сравнивать камин
со статьей, можно было остаться при одном,камине: в одном и том
же камине есть камин, которого сейчас здесь может не быть, он
мне снится, и каминность, которая одна и та же в настоящем
камине и приснившемся камине. В случае статьи просто лучше,
очевиднее, яснее, что «статейность», быть статьей, т. е. мыслью,
всё равно, наяву или во сне, потому что приснившаяся мысль то
же самое, что не приснившаяся.
Еще один пример, на этот раз Соловьева. Мы читали,
прочитаю еще раз: «Двадцать три года тому назад я видел весьма
сложный и во многих отношениях замечательный сон... Я...
на пароходе из Петербурга в Бразилию. Только что скрылся из
виду Кронштадт, как я услыхал от капитана, что через три часа
мы войдем в устье реки Амазонки. На мой вопрос о причинах
столь необычайно скорого хода капитан, взглянувши на меня
иронически, сказал: „Где вы учились физике? Вы даже не знаете
основного гидродинамического закона, что... течение морских
волн, присоединяясь к течению времени, производит его
ускорение". Я сейчас же вспомнил этот закон» и очень сконфузился за
свою забывчивость (803). Когда Соловьев проснулся, оказалось,
что капитана, парохода, Кронштадта, Бразилии нет. Но закон, не
знать который так стыдно, — закона не оказалось в таком же
смысле, как капитана не оказалось? Нет: закон как во сне был закон,
так и наяву он тоже закон: изменилось — ничего не изменилось
в его качестве, свойстве закона, изменилось только то, что надо
чувствовать, как надо переживать этот закон, как к нему человеку
относиться: во сне было очень стыдно этот закон не знать, а наяву
можно спокойно этот закон не знать: «течение морских волн,
присоединяясь к течению времени, производит его ускорение». Это
можно спокойно не знать; не стыдно этот закон не знать. Закон
дикий, абсурдный, но как закон он и во сне и наяву закон.
Вспомним, что говорил Антисфен из Афин по поводу идей
Платона: «Платон, дорогой, лошадь я вижу, но лошадности не
вижу». Каминность, в нашем примере, видеть нельзя. Закон тоже
видеть нельзя, закона никакого не усматривается, он как туман
расплывается: при звучании слов: в самом деле, что такое
наложение времени на морские волны? Но законность — во всей
силе, и именно как универсальный императив. Можно сколько
194
В. В. БИБИХИН
угодно наблюдать течение морских волн и течение времени, и из
этого нельзя вывести ни закон об ускорении течения времени от
волн, ни неверность этого закона. Давайте сделаем отсюда вывод:
только то, что есть, может оказаться иллюзией, гипнозом, сном,
наваждением, обманом. То, чего нет, не страдает оттого, что
снится. Или в сильной, соловьевской и гераклитовской форме: то, что
есть, нам снится; но то, чего нет, о нем бессмысленно, неважно
спрашивать, снится это нам или видим наяву: то, чего нет, то
одинаково во сне и наяву.
Я предпочитаю пока сейчас говорить так: не может оказаться
иллюзией и в этом смысле достоверно только то, чего нет;
поскольку в сентябре и октябре — Молчанов,93 помимо прочих
сведений о Гуссерле, я буду думать, что мы как бы здесь пока пройдем
мимо этого материка, ощущая его присутствие и его влияние, в
том смысле слова — невольное подчинение действию, — но
вместо того, чтобы говорить о сущностном видении, Wesensschau,
категориальном созерцании, эйдосе, я не буду пересчитывать,
переводить мысль Соловьева в гуссерлевские термины, хотя давно
замечено, что это возможно. Очень хорошо, если кто-то
сделает сообщение, Гуссерль и Соловьев. — Мы читаем Соловьева:
очень важно, мысль его в 1897-м, 98-м, 99-м году движется в
том же направлении, что у Гуссерля (который на 6 лет его
моложе), чья книга выйдет в 1900-м и 1901-м году, 2 тома «Logische
Untersuchungen». Но не так интересно говорить об общем
движении мысли, как постараться иметь дело с самими вещами и
помнить, что, уникальным образом, иначе, чем в науке и технике,
в философии никто не может — я не знаю почему, я только знаю,
что это так, — протоптать за нас терминологическую,
понятийную, концептуальную, системную дорогу, по которой мы потом
могли бы бодро и быстро ходить или может быть даже ездить взад
и вперед.
Продолжая то, что я говорил весной об энергии,94 полноте
и осуществленности, — я имею в виду, что энергия есть то, есть
та полнота, в отношении которой не может быть — по
определению — подозрения в иллюзорности, воображаемости, — я буду
формулировать это место у Соловьева так: единственное, что
стоит перед систематическим сомнением, — это то, чего нет.
Так энергия, вы помните, стояла, не уходила из мира потому,
что ее нет. Заглядывая немного вперед, я скажу еще острее: по-
93 В. И. Молчанов читал курс «Феноменология Гуссерля». (Сост.)
94 На курсе «Энергия» (осень 1990 — весна 1991). (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
195
настоящему есть, т. е. единственно имеет шанс не быть разрушено
сомнением, только то, чего нет. Нет я имею в виду в прямом
и простом смысле, как продавщица в магазине говорит нет. Или
как Кант говорил, что если вам не дали прибавки к окладу, то
думайте, что этих не данных вам денег просто нет, не существует
в природе. Прошу представить самое элементарное, самое
режущее нет, не понятие отсутствия, а само отсутствие. Как когда мы
шарим в темноте руками, чтобы коснуться стула, который всегда
же тут стоял, но стула нет. Ну вот только что был, должен был
быть, но его нет. — Это не имеет отношения к тому ничто, о
котором говорит Хайдеггер в лекции «Что такое метафизика?» Там
говорится об опыте, о настроении настоящего ужаса, в котором
приоткрывается ничто. Сходство того ничто, о котором говорит
там Хайдеггер, с тем нет, о котором мне хотелось бы говорить,
только в том, что как там только благодаря ничто и в его светлой
ночи приоткрывается сущее, так только благодаря вещам, которых
нет, для нас есть все то, что есть. Лошадности нет, но без лошад-
ности, которой нет, мы не могли бы увидеть лошадь. В
приснившейся лошади ровно столько же лошадности, сколько в настоящей.
А почему приснившаяся статья — настолько же статья, насколько
написанная и напечатанная? Потому что статья похожа не на
лошадь, а на лошадность. Статья, как и лошадность, не существует.
Потому что нет никакого технического, статистического,
метрического, лингвистического, физического (по начертанию букв,
по весу статьи), химического (по составу типографской краски)
способа отличить статью от не статьи. Статьи самой по себе нигде
нет — нельзя же сказать, что она в цепочке слов, а рядом почти
такая же, но та не статья. И только потому, что статьи нигде нет,
она есть так, что может устоять перед сомнением в ее
существовании. Поэтому приснившаяся статья, воображаемая статья не
хуже напечатанной. Так приснившийся закон, как формула
бензола, приснившаяся физику Фридриху Кекуле, когда он заснул на
втором этаже вагона лондонской конки в 1865 году, в виде кольца,
точно такая же настоящая, как если бы она и не приснилась: это
вещи, которых нет, и которые именно за счет того, что их нет,
надежно есть. Так банка с икрой, оттого, что ее в магазине нет,
более надежно есть, чем если бы она в магазине была, но уже
в виде искусственного, суррогата.
То нечто, которое дает нам увидеть всякое что, — его нет
и именно поэтому оно не подвержено сомнению и есть вернее,
что бы то ни было есть, во сне и наяву.
196
В. В. БИБИХИН
Годятся ли для этой странной вещи характеристики
«наличности», «факта», «самоочевидной достоверности»? Совсем не
годятся; настолько не годятся, что лучше о «самоочевидной
достоверности», за которой как будто бы гнался — а на самом деле
не гнался Соловьев, раз и навсегда забыть.
Сейчас совсем краткое отступление в том направлении, в
каком нам можно было бы читать Декарта, к чему нас призывали
в сердитой записке, где было сказано, что Декарта мы не
понимаем. Я не знаю, будем ли мы читать Декарта; о нем много говорил
и писал Мераб Константинович Мамардашвили, покойный. В
формуле cogito ergo sum надо обратить внимание на cogito «мыслю»
от co-ago, ago «гнать, вести, направлять», co-ago «свожу вместе»,
собираю, группирую, направляю в одно целое. Мышление здесь
понимается как собирание, в том же смысле, как греческое логос —
от легейн, «собирать». Суффикс cogito обозначает интенсивность,
повторность. Такое собирание как дело мысли или как дело, в
котором участвует мысль, которому причастна мысль, происходит
в свете целого. Целое, единое, единство — одна из вещей, или,
вернее, главная из тех вещей, которые несомненно и в первую
очередь есть именно потому, что их нет. Если что-то причастно
бытию, существованию, то в первую очередь такие вещи, или
такая вещь. Единое (единство) и бытие взаимообратимы, unum
et esse, одна из истин «вечной философии», philosophia perennis.
В этом свете cogito ergo sum — доброкачественная тавтология:
если и может что в первую очередь претендовать на
существование, так это то, что по крайней мере причастно собиранию. Надо
только помнить, что это то существование, в отношении которого
«самоочевидность», «достоверность» вводят в заблуждение;
существование, которого нет. — Это было короткое отступление
о Декарте, к которому еще придется возвращаться, если и не нам.
Теперь снова Соловьев.
Мы не должны рассчитывать, мы уже знаем видели сами,
и Лосевым предупреждены, что Соловьеву сразу удастся назвать
вещи так, чтобы не поправлять себя. Он говорит о «всеобщем»,
о «мировом законе» — что это такое, интересно, мировой закон?
О «логической стороне», о «формальной всеобщности», наконец
(804). Важная формула: «...Всякая мысль, хотя бы самая
отвлеченная и общая, сознается как единичное, испытываемое в
данный момент психическое состояние, но вместе с тем мы имеем
о всякой же мысли, хотя бы самой пустой и даже нелепой, знание
еще и с другой, логической стороны (кого читаем — Гуссерля?),
знание о формальной всеобщности составляющих ее терминов
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
197
совершенно независимо от реального содержания самой мысли»
(803—804).
В наличности сознания мы всегда имеем дело с «чем-то
больше, чем данным, чем-то переходящим или перехватывающим за
психическую наличность (трансцендентальным)» (805). Заметим:
чем-то большим, чем данное— но одновременно не данным! Не
данным данным. Данным не данным. Но во всяком случае не нами
придуманным! Это формальное, всеобщее, логическое —
«определяются другим, и мышление, таким образом обусловленное, есть
реакция на нечто другое, на то, что не есть мышление» (807).
Что это такое — нечто другое? Было сказано: общее.
Формальное. Логическое. Теперь сказано: не мышлением создается.
Значит эти определения не годятся: общее — продукт
генерализации, формальное — формальной дефиниции, логическое —
Соловьев понимает логику традиционно, как законы мышления.
Да что же это такое, одной рукой дает, другой отбирает? Мы
понимаем: сказать о том, о чем он, крайне трудно.
«Слово создает своему содержанию новое единство, не
бывшее в наличности непосредственного сознания» (810). Поэтому
«слово есть собственная стихия логического мышления» (там
же). Слово не как вот это звучащее, а слово как «слово-смысл».
«Исключительная зависимость слова от определенных звуковых
сочетаний достаточно опровергается как существованием
идеографического письма, имеющего значение только для зрения, без
всякого отношения к слуху, так и возможностью усвоить несколько
языков...» (там же).
Слово мыслью придумано? Нет\ Неизвестно, откуда слово!
Слово как-то уже оказывается данным раньше всякого
придумывания! «Хотя те или другие слова могут быть выдуманы, т. е.
явиться условным продуктом мыслительного процесса, но только
на основе уже существующего слова, без которого невозможен
и самый процесс» (811—812). Слово «есть факт, предваряющий
всякую рефлексию» (812). Что же, значит, мышление
«обусловлено» словом, оно реакция на такое слово — не слово-звук, а слово-
смысл?
Да: в слове мысль встречается с чем-то таким, что ей дано,
значит снаружи дано, но что ей не чужое. Что-то, нечто — да
назови же в конце концов! Нет: опять загадочное нечто. «Само слово
(т. е. в своем начале, не звук, а смысл) может быть определено
лишь как прямое воздействие чего-то сверхфактически
всеобщего» — ничего себе! что-то сверхфактически всеобщее! — «на ту
или другую отдельность, единичных психических фактов...» (812).
198
В. В. БИБИХИН
«Слово... собирает разрозненное в такое единство, которое
всегда шире всякой данной наличности и всегда открыто для новой»
(там же). Это надо было раньше сказать, но, впрочем, Соловьев
оговаривается, что с самого начала это и имел в виду: что никакой
камин не станет никакой наличностью сознания, если не будет
собран воздействием чего-то, что сверх его факта.
Собирание. Оно за пределами сознания, или из-за
пределов сознания. Откуда? Вот, говорит Соловьев, сложный вопрос!
«Воздействующее сверхфактическое всеобщее» в принципе за
пределами мысли, оно за мыслью, ей «предшествует», — оно
замысел (813). О за-мысле мысль по определению не может знать —
о своем же замысле! Он мысли предшествует. Замысел — не мой
проект, он то, что я узнаю в себе, он «самодостоверный факт
наличного сознания: поскольку он имеется, постольку и познается»
(819). Замысел, предшествующий движению (всякому) — это тоже
собирание. Замысел «становится началом движения, собирающего
психическую наличность в матерьял сложного процесса» (812).
Еще раз: как это ни удивительно, замысел действует раньше
мысли, опережая мысль, он дан мысли как то, что ее собирает в
«процесс» — и хотелось бы больше знать о замысле. Но третья статья
«Теоретической философии» скоро уже кончается, последняя.
Существо замысла — истина; наш разум оказывается в своем
существе разумом истины, но не сразу данным, а становящимся.
Эта принадлежность разума тому, что над ним и выше его —
истине — такой же факт, как факт наличности наличных состояний.
Не так, что человеку принадлежит разум и человек направляет
разум на познание истины, а разум с самого начала, в за-мысле
принадлежит истине, которая хочет быть через него. «Умственный
центр тяжести... перестанавливается из его ищущего Я в искомое,
т. е. в саму истину» (822).
Я уходит со сцены, оно ходит вокруг настоящего центра, —
разум такой, что он и не может иначе как следовать безусловной
истине. Как вдруг тут кончается Соловьев-строгий скептик! Он
уничтожил, раздавил субъекта — для того, оказывается, только,
чтобы утвердить сверхличную истину, которая дожидается когда
эмпирический субъект вдохновением поднимется в область
истины, в ее область. Там для него все заготовлено.
Снова, как в нравственной философии, путь единения
человечества и спасения от смерти не открыт, но ясно одно, что аскезой
надо было отсечь страсти, хотения, природную погруженность,
так здесь в теоретической философии путь к истине не открыт, но
ясно с самого начала одно, что истины «нет в области отдельного,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
199
обособленного Я»: ее «нет в области отдельного, обособленного Я,
которое из себя, как центра, описывает более или менее длинным,
но всегда ограниченным радиусом круг личного существования»
(823). Истины «нет в области отдельного Я» — а другая область
какая? Где она? Лучше сказать просто: истины нет; это одно, что
истины нет, дает ей шанс быть несомненной. Истина существует
по способу вещей, которых нет и которые поэтому не могут быть
развалены сном, гипнозом, иллюзией, внушением, сглазом,
заговором, оговором, заговариванием, забалтыванием. Истина, мы
скажем, похожа на вещи, которых нет, но которые имеют место.
Имеют место и не существуют. — Вот почему прежние философы
не могли нам протоптать дорогу к истине. Потому что истины
нет — не только «в области отдельного... Я», но нет просто, нет
вообще.
Есть вещи, которых нет. Кроме этих вещей, все открыто
сомнению. Имеет шанс не оказаться иллюзией только то, что не
существует. Я понимаю, что это странно сказано. Мы уже касались
этих вещей, когда говорили о безусловном, неусловном другом.
Мы буквально шагу не можем ступить, не ввергаясь, не вверзаясь
в вещи, которых нет. Они как подкладка, как оборотная сторона
всего, с чем мы имеем дело. Не иногда, а на каждом шагу мы
имеем дело с тем, чего нет. Это резко, дико сказано. Тем не менее
я не вижу сейчас другого способа выйти из затруднения, в которое
нас заводит радикальное сомнение и искание достоверности, как
они у Соловьева в «Теоретической философии», чем сказать: не
под сомнение, не сон только вещи, которых нет. Без иносказания,
в сильном смысле — нет. На вещах, которых нет, держится всё.
В следующий раз нам надо будет продолжить о вещах, которых
нет: в каком смысле, как они имеют место. Это Гераклит.
200
В. В. БИБИХИН
1—12(26.11.1991)
1) Uni/versum, uni/versalia (individuum, individualia); 2)
intellectuality per as/sumtio/nem; 3) nomen, nomina; 4) intellectus pos-
sibilis; 5) intellectus agens, intellectus separatus; 6) actus, operatio,
ενέργεια; 7) Γνώθι σαυτόν (σεαθτόν).
Я давно заметил, что мне почти никогда не удается понять при
первом прочтении смысл записок, которые мне присылают и я все
прочитываю, кроме тех, где сказано «приватно», но и на них я тоже
хотя и не сразу как-то незаметно отвечаю. Записка позапрошлый
раз о том, что одно дело собрать кубик Рубика по алгоритму из
журнала, а другое — собрать его самостоятельно, тогда, может
быть, получится шар, — я не знал, потому что только на этой
неделе прочел в журнале «Логос»,95 а раньше читал две вещи
Дмитрия Галковского и понял, что его книга настоящее событие,
может быть, очень большое, может быть, вообще самое весомое
(«важное») в нашей теперешней мысли, хотя, конечно, я могу
ошибиться — его книга, которая, кажется, еще не напечатана, но
должна быть, по названиям частей, первая часть «Закругленный мир»,
вторая «Бесконечный тупик», показывает, что в ней идет речь
о главных вещах, о которых и мы тоже пытаемся думать, о мире,
и появление рядом со словом мир слова тупик очень уместно,
особенно «бесконечный» тупик: мир, который стал картиной, мы
об этом не раз говорили, не перестает быть бесконечным, хотя...
оперирование с картиной мира и не имеет себе конца, и
безысходно. — О Соловьеве Галковский говорит в 403-м примечании
к своей книге, которая каким-то образом, вот, существует так, что
о ней можно говорить, хотя она еще не напечатана; этим
подтверждается одна из наших тем прошлого раза и записка прошлого раза,
что не обязательно для вещи, чтобы она дошла до предела своего
воплощения, она неким образом существует и раньше, и, мы
брали крайний случай, она существует и тогда, когда только
приснилась, — вещь такого рода, как статья, а такого рода, как печка?
или как хлеб? как будто бы можно провести четкую границу, печка
и хлеб не как статья, они совсем особое дело, если они только как
во сне, то можно замерзнуть и умереть с голода, — вроде бы. Но
вот окончание романа Грэма Грина «Монсиньор Кихот», когда
умирающий священник перед смертью почти уже не сознавая
951991,1.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
201
служит мессу, и когда наступает момент раздать
присутствующим облатки, гостии, кусочки особого хлеба, on раздает, как бы.
Литургия состоялась. Оттого, что хлеб священнику приснился —
он хлебом быть перестал? Богослов случайно присутствовал на
той литургии. Нет, не перестал: если по нашей вере хлеб
пресуществляется в божественное тело, то до нашей же вере воздух
может пресуществиться в хлеб. История XX века, с голодом
искусственным, запланированным, с теперешним фантастическим,
библейским сидением целого народа без продуктов рядом с
продуктами — словно нарочно для того, чтобы было видно, насколько
весомее, бесконечно важнее для человечества хлеб как смысл, чем
хлеб как испеченная мука: и как на самом деле оказывается мало
нужно хлеба как испеченной муки, когда имеется обеспечение
хлебом как смыслом. Настоящая нужда — в смысле; смысла отчаянно
не хватает. Книга Галковского, насколько я мог догадаться, берется
за эти вещи. В Соловьеве, — мне приятно об этом говорить,
потому что, если я ошибаюсь, я оказываюсь не один, — Галковский
выделяет, только очень по-своему, вы увидите, прочитав, тему
иллюзии. Галковский цитирует Евгения Трубецкого: «Те
странности, которые в нем (Соловьеве) поражали, не только не были
позой, но представляли собой совершенно естественное, более
того, — наивное выражение внутреннего настроения человека, для
которого здешний мир не был ни истинным, ни подлинным».96 Мы
читали в «Теоретической философии» Соловьева что-то большее,
чем теорию: там способами, какими попало, Соловьев с
размахом, который, кажется, может быть, мы нигде не встретим у нас,
только, может быть, у Чаадаева, но он слишком ранний, дает
волю тому, что он называет сомнением, — тому, что мы назвали
бы возвращением, вдвижением прямо в нашу реальность, близко
к нам, гераклитовского пейзажа, где граница между сном и явью,
жизнью и смертью проведена вовсе не там, где мы привыкли; где
не «переделать мир», стоит перед мыслью задача, а — впервые
проснуться, увидеть наконец открытыми глазами то, что только
снилось. Для него «здешний мир не был ни истинным, ни
подлинным» — у Евгения Трубецкого это попытка языком религиозной
метафизики («здешний мир», «потусторонний подлинный мир»),
языком, от которого Соловьев вырвался, сказать то, на что не
только у Трубецкого, но и у Соловьева не хватало слов. Мы
должны будем вернуться к Гераклиту, чтобы учиться у него снова об
этом говорить. — Галковский; он знает, что подходит в Соловьеве
96 Там же, с. 165.
202
В. В. БИБИХИН
к вещам, где мир начинает шататься. «Абсолютная загадка, вещь
в себе, ключ от которой выброшен в океан небытия.. ,».97 К
сожалению, Галковский думает, — может быть, пока думает, — что всем
вообще вещам так конца не найдешь, и поэтому как бы все
позволено, можно оригинальничать и провоцировать и самому тоже, чем
смелее, тем лучше. Это не совсем так. Любая мера
интеллектуальной игры не позволена именно потому, что никакому Я никогда не
открыто его кто; никогда в конечном счете играющий не может
обеспечить себе, что то, что ему кажется еще его игрой, на самом
деле другое, не игра; никогда играющий не имеет права сказать
себе, что всё игра: он не знает. Галковский, мне кажется, слишком
уверился, что концов ничему не отыскать; похоже, что лучше ни
в чем не надо быть слишком уверенным, в том числе и в мере
дозволенного. Нельзя никогда считать, что дозволено все; лучше
ошибиться в другую сторону, в сторону неуверенности. Я имею
в виду те случаи, когда Галковский заигрывается и позволяет
себе дерзкие резкости характеристик и сравнений, как, например,
когда он сравнивает Соловьева с одним из министров внутренних
дел в близкое к нашему время: не само по себе сравнение плохо,
а то, что оно явно занос, занесло, и место занято: оно уже не
отдано — упущено, — не отдано чему-то менее шумному. Потому
что сравнить Соловьева с министром внутренних дел сталинского
времени — это сделать просто шум, даже грохот, такими
сравнениями заглушается спокойная речь, она срывается, становится
в меньшей мере возможной. Можно конечно думать, что дело
кончено, и остался только крик, — только криком можно теперь
что-то взять, — но опять же мы не можем быть уверены, Бог его
на самом деле знает, что чем можно взять.
Соловьев настолько еще загадка, что слишком шумный тон
разговора о нем, как иногда бывает у Галковского, тоже похож
на срыв, на спешное объявление загадки неразрешимой. Опять
же: это неуместно — объявлять загадку Соловьева в принципе
неразрешимой — не потому вовсе, что кто-то знает и уверен, что
загадку удастся разрешить, а по другой причине: потому что не
сейчас стал, а с самого начала был Соловьев загадкой, открытой
всем загадкой, и так сказать полномерной загадкой, и странно
объявлять его загадкой теперь. Он был настолько загадкой, что был
загадкой и для себя самого. Галковский цитирует Мочульского:
«Сила, которой он загипнотизировал несколько поколений,
исходила не столько из его писаний, сколько из него самого. В нем
97 Там же.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
203
было загадочное обаяние, его окружала романтическая легенда;
люди влюблялись в него с первого взгляда и покорялись ему на
всю жизнь».98
Теперь все-таки о кубике Рубика. Галковский или его персонаж
говорит: «Все воспоминания о Соловьеве — это... „кубик Рубика".
И сама жизнь Соловьева — такой кубик. Слишком легко
трансформируются все факты его биографии... Соловьев... чувствовал
свою персонажность, выдуманность, но не страдал от этого, не
пытался ее разрушить».99 Мы теперь знаем, что это неправда: от
перевертываемости всего в человеческой жизни Соловьев и
«страдал», и «пытался... разрушить», если можно сказать такими
словами, — и когда в одно и то же примерно время он одной рукой пишет
«Оправдание добра», проект всеобщей организации мира, проект
создания знания о человеке настолько серьезный, насколько он мог,
а другой рукой — «Три разговора», где с таким проектом выступает
антихрист; или когда говорит о личности, а в теоретической
философии сметает личность, как пешку с шахматной доски, и говорит
о своей прежней ошибке, — то мера зоркости и жесткости в
себе, схватка с собой настолько серьезная, что смерть в ней только
одна из ставок, — то значит в проблему, перед которой мы,
проблему иллюзорности, сна, тупиковое™, бессмысленности, перед
которой и Галковский в книге «Бесконечный тупик», Соловьев
вошел, вторгся глубже, чем нам сейчас пока еще можно только
мечтать. — Перед этой проблемой думать, что она на первый случай
по крайней мере разрешает нам игру, и громкость, и провокации
ради провокаций — это все-таки еще значит смотреть на огонь,
гераклитовский огонь, огонь человеческой истории, догадываясь
только об одном, что около него пока еще можно греться. Я не
уверен, что около него можно долго греться, что он не захватит
каждого, рано или поздно, так или иначе. —
Несколько страничек «Теоретической философии» Владимира
Соловьева осталось недочитанными. В наличности сознания
мы всегда имеем дело с «чем-то больше, чем данным, чем-то
переходящим или перехватывающим за психическую наличность
(трансцендентальным)» (805). Всегда имеем данное и сверх того
еще что-то — данное или не данное? ну конечно опять же данное,
только по-другому как-то данное; с чем-то перехватывающим за
психическую наличность. Это верно, можно так сказать?
98 Там же, с. 173.
99 Там же, с. 175.
204
В. В. БИБИХИН
Мы уже касались этой данности сверх данности, когда
возражали Соловьеву, что наличность не равна самой себе, потому
что для такого равенства должна быть уверенность в нем, а откуда
ее взять, такую уверенность? Из самой ведь наличности ее не
возьмешь, наличность просто наличность и она о себе не
заявляет, что она равна себе: на ней не написано названия, она не берет
себя в рамку, она даже и что она наличность не говорит о себе.
Значит Соловьев прав. Запись одной студентки философского
факультета: «Я увидела себя извне этого мира: непонятное существо
со странным предметам куда-то идет неизвестно зачем. Этому
можно приписать какой-то смысл, глядя изнутри (например, мама
из окошка, но она не смотрела. Неважно)». «Изнутри» здесь — не
изнутри сознания, а изнутри мира, т. е. изнутри всего вообще,
потому что там, откуда взгляд извне, ничего по определению нет
и не может быть. И дальше: «Одно из немногих моих
относительно отчетливых представлений: наша жизнь (если угодно, наш
мир — не Земля, а грубо говоря — то, что человек к этой минуте
объял своим восприятием и (?) может быть мыслью) и остальное
нечто (последние слова — бессмысленны и поэтому условны).
Ведь наивно было бы думать, что наша жизнь (мир) — это, по-
детски говоря, всё нечто, какое есть». — Оттого, что эти слова
схватили в простоте и без препарирования настоящий опыт, они
стоят целой ученой книги, хотя книгой, наверное, никогда не
станут. Они написаны одной мыслью, без режиссерского,
редакторского сопровождения, поэтому прозрачные. Это настоящий опыт
прикосновения к тому, что то, что есть, еще не все, что есть: есть
остальное нечто, «условно говоря», потому что ко всему
остального уже нет. Или по-другому: мир, т. е. всё — это еще не все: всё
нечто больше, чем всё.
Это опыт того, что есть, кроме того, что есть, и то, чего нет.
То, чего нет, есть не просто вдобавок к тому, что есть. Как в записи
студентки: изнутри мира (изнутри того, что есть) можно приписать
смысл тому, что внутри мира, этот смысл останется припиской,
приписки известно для чего делаются, для отчетности; всякий смысл,
приписанный внутри мира, должен отчитаться перед какой-то
точкой отсчета — которая внутри мира может быть? Вот уж нет.
Все приписки внутри мира условны, в конечном счете правда
смысла, который где бы то ни было есть, возможна только извне всего,
что есть, — но тут мы, конечно, понимаем, что извне приписан
ничему никакой смысл не будет! Он будет не приписан: он будет
оставлен, предоставлен самому себе, т. е. он обнаружит приписку
смысла в мире и приписку снимет, оставит вещи без приписки
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
205
смысла — такими оставит, как сказано в записи студентки: «Был
очень холодный ветер, нависла темно-серая туча и никак не уходила
никуда, а рядом с ней маленький, черный кусочек тучи, похожий
на собачку или тигренка — отвратительно-ужасный, и я шла с
коляской по дорожке к прудам, людей нигде не было, очень замерзли
руки [...] — и вдруг увидела (как это иногда раньше случалось,
но не так отчетливо) — свою фигурку с коляской со стороны (что
означает это выражение — со стороны? Верующий мог бы сказать:
с точки зрения Бога. Один наш „семинарист" (Косолапов) говорил:
объективной точки зрения не может быть, потому что нет Бога).
Впрочем, неважно. Я увидела себя извне этого мира: непонятное
существо со странным предметом куда-то идет неизвестно зачем».
Приписанный смысл опадает, выветривается холодным ветром,
остается вот это: «непонятное существо со странным предметом
куда-то идет неизвестно зачем».
Это редкий опыт, когда обнаруживаются приписки (т. е. они
конечно так или иначе обнаруживаются, но обычно post factum
и не как таковые, как приписки, а в виде удивительной недостачи,
когда почему-то оказывается невозможно свести концы с концами,
а причина не видна, как в докладе одного свиноводческого
хозяйства Эриху Хонеккеру: стыдно было сообщать, что вырастили
только сто свиней, и подали наверх цифру 400. Ну это конечно
вранье, сказал Хонеккер, 400 они не вырастили, наверное 200;
100 продаем за границу, а 100 им оставим на развод и питание) —
но приписанность всякого внутримирового смысла иногда, редко,
открывается ясно, как в записке студентки — и удивительная
странность вещей без приписок, вещей как они есть.
Система приписок к мышлению не имеет отношения, тут
просто ведутся расчеты, непонятно какие непонятно с чем,
начала и концы которых всегда условны. Это могут быть совершенно
благородные расчеты, в которые включено такое исключительное
существо, как Бог, или не очень благородные расчеты. Они могут
быть честные расчеты или, как говорит Галковский,
жульничество — более или менее осознанное и открытое, что Галковский
(жульничество) считает чертой русской мысли — имея в виду ее
нигилизм, о котором я говорил прошлый раз, нигилизм не в
плохом и не в хорошем, а в серьезном смысле уверенности, что ничто
из того, что есть, не имеет шанса устоять. За нигилизмом,
например нигилизмом ленинской критики, стоит совсем сырая, зеленая,
если хотите, молодая уверенность, уверенность нашей странной
цивилизации, нашего простора, что существующее будет
разрушено. Другое дело, что не всегда хватает зоркости на то, чтобы
206
В. В. БИБИХИН
видеть, насколько существующее с самого начала пропитано
несуществующим.
При переходе к теории — или при переходе к практике —
вообще при одном из тех переходов, которые мы непременно
делаем, причем делаем на каждом шагу, мы переступаем
высокий, очень высокий порог между тем, что есть, и тем, чего нет.
Я не вижу, чтобы в своей теории люди не то что умели, а вообще
любили бы замечать порог между тем, что есть, и тем, чего нет,
что приписано. Люди как-то живут с приписками и приписками,
при том что приписки обязательно и очень жестоко обнаружатся.
Я не говорю, что зоркость поможет видеть этот порог и не
спотыкаться и не обламывать себя об этот порог: возможно, никакой
вообще человеческой зоркости не хватит, чтобы видеть этот
порог, потому что то, чего нет, не обязательно нет: по-настоящему
есть только то, что не существует, а то, что существует, обречено
обнаружить себя падающим, проваливающимся, — как энергия,
которая внутри мира, обречена кончиться, нефть и газ, и только
энергия как не существующая полнота действительно есть так
как не есть ничего из того, что считает-ся существующим. Мы
еще будем об этом говорить, вы понимаете, по поводу Парменида
и Гераклита — и опять я прошу вас поверить, что я выбрал
начать чтение философии, кроме того что с Розанова и Соловьева,
с наших близких, — с Парменида и Гераклита по каким-то
своим соображениям, клянусь вам, не потому — я просто не читал
этого интервью Хайдеггсра 1969 года с Фредериком Товарницки
и Марком-Мишелем Пальмье, — что он говорит, в начале этого
интервью: «Во время своего исторического развития народы
задают себе всегда очень много вопросов. Но только один вопрос:
„Почему есть сущее, а не ничто?" — предрешил судьбу западного
мира, и именно начиная с ответов, которые давали досократовские
философы две с половиной тысячи лет назад... .Все философские
вопросы начинаются с них. В их поэтических изречениях
рождается западный мир... современная техника, хотя она полностью
чужда античности, имеет в ней свой сущностный источник...
Связь греческих мыслителей с нашим современным миром
никогда не была столь очевидной... В некотором смысле атомная бомба
начала взрываться уже в поэме Парменида... именно в поэме
Парменида, и именно в вопросе, который она ставит, возникает
возможность будущей науки».100
юо Интервью М. Хайдеггера в журнале «Экспресс». Корреспонденты:
Фредерик Товарницки, сотрудник журнала; Марк-Мишель Пальмье, автор книги
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
207
Досократики, через нашу ближнюю мысль, — это следующий
семестр, если Бог даст, а теперь, — нам, скорее всего, не дано ясно
видеть этот порог, между тем, что есть, и тем, чего нет, возьму опять
пример с лошадностью: лошадности нет— есть вот эта лошадь
и та лошадь. Как будго-бы! Но об этой лошади знаток и специалист
говорит: а, это не лошадь вовсе. А та лошадь? Ну та, может быть,
еще может быть, где-то, но тоже, конечно, не то... А настоящая
лошадь? Вон та, последний раз на ипподроме заняла первое место?
Ну, та — да, хотя все-таки... Т. е. получается — что по сравнению
с лошадностью как раз этой лошади нет! Когда Ленин орлиным
глазом, судя по потоку литературы, проходящей по библиотеке,
решает, что не будет ошибкой крушить всё подряд, потому что во
всем этом нет действительности —т. е. вслед за Марксом, который
сказал, что философия относится к познанию действительности,
как онанизм к половой любви, — то эта якобы зоркость, новая,
в практическом отличении того, что есть, от того, чего нет, была
на самом деле решением, согласием, договором с самим с собой
самому на свой страх и риск провести границу между тем, что есть,
и тем, чего нет — как всякая сердитая попытка в политике или
в философии или где бы то ни было отшвырнуть «измышления» —
делает еще хуже, делает воображаемую границу между тем, что
есть, и тем, чего нет, еще более условной. Понимаете ли, то, что
по-настоящему и безусловно есть, энергия, — ее мы знаем в опыте
полноты, но как мы имеем опыт полноты? Разве не так, что сами для
себя решить, что сейчас мы начнем и будем иметь опыт полноты,
мы не можем? Мы смертные, в опыте полноты мы прикасаемся к
бессмертным, но не так, что перестаем быть смертными: остаемся
смертными бессмертными. Я это пишу и слышу резкий скрип
тормозов, кто-то с кем-то столкнулся: человеку суэ/сдено ошибиться,
и всего скорее ошибется тот, кто уверился в своей
безошибочности — он всего жутче, всего злее ошибется. Что это за ситуация
такая — нераспутываемая? В ней обе крайности нехороши: и
поскорее перепровести пороги, здесь то что по-настоящему есть,
там чушь чепуха и то, чего нет, — и другая крайность, догадаться,
что человеку такое не дано, и играть с неопределенностями, как
у Галковского почти радостная, освободительная догадка: что
внутренний мир человека «это абсолютная загадка, вещь в себе, ключ
от которой выброшен в океан небытия».101 То и другое отношение к
«Политические сочинения Хайдегтера» (L'Express. 1969. 20—26 oct., p. 79—85).
См.: Логос, 1991, № 1, с. 47—58. Цитируемые места на с. 48,49. (Сост.)
к» Логос, 1991, 1,с. 164—165.
208
В. В. БИБИХИН
границе между бытием и небытием будет нашим решением, оно
только осложнит нашу ситуацию. Единственное, что мы безусловно
должны, — это знать, что на каждом шагу, в каждом слове через
нас проходит какая-то в себе совершенно отчетливая, всё
решающая граница между существованием и несуществованием, и для
нас она вопрос первостепенной важности, — собственно всё для
нас сводится к тому, где мы, в бытии или в ничто. — В примере
с лошадью и лошадностью вся проблема универсалий — главная
проблема всего средневековья, так называемый спор номиналистов
и реалистов, но я сказал, может быть и вообще путь подойти к
самой середине философии, — настоящим, существующим
оказывается то лошадь, то лошадность. И когда есть только эта лошадь,
а лошадности нет, она абстракция, то мы получаем номинализм:
все общие понятия это только имена. В случае, если лошади все
какие-то не такие, хромые кривые непородистые старые беззубые
и даже самые лучшие каких в мире единицы еще не дотягивают
до идеала, мы получаем реализм: лошадность реально существует,
во всяком случае реальнее несовершенных лошадей. Что верно,
реализм или номинализм?
На стороне реализма сила: Творец, который всегда заранее
в себе уже имеет действительность всего мира до мира и не обязан
дожидаться, пока в мире постепенно на второй или на третий или
на четвертый день еще только творения разовьются лошади — или
на каком-то очередном миллиарде лет, — а в Себе имеет
полноту лошадности, и полноту человечности, так что если ни одной
лошади не останется и человечество кончит плохо, от Бога
нисколечко не убудет, он останется в своей безущербной полноте, и от
Адама ничего не убудет, и от перволошади. В Боге безущербная
полнота всего, и человек, например, может себя чувствовать как
деталь, знающая, что конвейер, с которого она сошла, продолжает
работать и сырье [есть] в неограниченном количестве. Т. е. что бы
ни случилось с человечеством, Адам, всечеловечество, и Новый
Адам в вечности нерушимы. Мы можем спокойно хоть процветать,
хоть погибать — Богу от этого умаления нет: удивительно, что
богословской ошибки здесь быть не может, никакой течи этот тео-
логуменон не дает, мы хоть изведись, хоть опустись, хоть погибни,
хоть исчезни все, Бог от этого не пострадает, никак не нарушится,
нисколечко; мы даже его ничуть не заденем, потому что
сотворенное им человечество в божественном уме, в своей идее не задето
ничем из того, что делает реальное человечество — оно похоже на
сон, вся история человечества — как словно сон, который снится
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
209
райскому Адаму в его раю. — Individualia, particularia и universalia,
от uni-versum, unus+versum, объединенное, сделавшееся одним,
обернувшееся одним, или повернутое в сторону одного, т. е.
рассмотренное в свете единства. Есть ли тут место для номинализма,
т. е. что универсалии — только слова, концепции, имена?
Совершенно никакого места, потому что универсалии реальны
в божественном уме, где их изначальная полнота, к которой уже
ничто не прибавляет наличие такого-то, какого угодно, числа
индивидов, материализации универсального. С другой стороны — при
простоте божественной природы она не состоит из набора идей,
она настолько простая, что даже не идея — ведь идея, эйдос,
предполагает структуру, т. е. части, — а Бог так прост, что в нем нет
частей. И тогда — никакого места для реализма, всякий реализм
всех универсалий оказывается относительным, подчиненным,
условным, тварным рядом с Богом, о котором можно ли сказать, что
он «реален», «универсален»? Нет он выше реальности,
универсальности, вообще выше всякого образа, всякой идеи, структуры.
Проблема реализма и номинализма была связана в XI веке
с пресуществлением. Хлеб и вино — тогда еще и на Востоке, и на
Западе причащались хлебом и вином — реальны, мы чувствуем
их; после пресуществления, когда они становятся самим
присутствующим божеством, то, чем они стали, они стали самим
Божеством, должно быть не менее реальным. Иначе Бог умаляется
рядом с чувственным. Как тут быть?
Так же реально чувствуем — только уже другое, Саму Плоть.
Это одно решение. Другое: пресуществление это переход из
одного статуса в другой, из статуса индивидуалиа, сингулариа, парти-
кулариа, частных вот этих вещей, в статус того, что выше
универсалий, проходя через статус универсалий, потому что иначе нечем
видеть, нечем воспринять то, что выше: хотя Бог выше и ума, но
он воспринимается умом как самым близким к нему, intellectualiter,
per as/sumptio/nem через вознесение, буквально присоединение,
втягивание хлеба в высшую, божественную субстанцию. Острота
реального ощущения этой новой субстанции не уступает той
ясности ощущения земных плоти и крови — но расположены уже
в интеллекте, который тоже может чувствовать, и его чувство
даже тоньше, острее, полнее, чем чувство вкуса. Что против этого
можно возразить?
Хотя интеллектуальное чувство, конечно, выше и тоньше
телесного, но все равно и оно тоже бесконечно далеко от Бога, который
210
В. В. БИБИХИН
выше интеллекта, так что «подтягивание» хлеба и вина до
интеллектуальной субстанции ничего, собственно, все равно не дает:
если Сам Бог не начинает присутствовать в веществе причастия,
то все равно, материальное оно или интеллектуальное. А Сам Бог
может присутствовать в чем угодно по Своей воле, ему не надо
получать разрешение от природы.
Этот спор, и о причастии, и о реальности или
номинальности универсалий, не был разрешен и не может в принципе быть
разрешен. Дуне Скот и Вильгельм Оккам в конце XIII — начале
XIV века, эти два так называемых номиналиста, вовсе не решили
спор в пользу номинализма, а как всегда бывает изменили
проблему. До них обсуждался статус универсалий, статус таких вещей,
как лошадность. Но ведь у нас нет другого способа хотя бы
просто говорить об универсалиях, кроме как пользуясь словесными
знаками — обозначениями. Т. е. те «универсалии», с которыми
мы в принципе только и имеем дело, вообще не могут быть для
нас иначе как нашими же собственными именами, т. е.
номинализм сам собой разумеется, а на что же еще вы, господа, могли
в принципе рассчитывать? Это был совершенно неожиданный
оборот дела: людей, собственно, пригласили посмотреть, чем
они занимаются: они говорят слова, составляют слова, спорят
о словах. Какие «универсалии»? Только nomina, имена. «Слова,
слова, слова» — как говорит номиналист Гамлет. До такого
номинализма средневековая схоластика стояла на наивной, можно
сказать, величественной вере в то, что слова прикасаются к самой
структуре мира, что слова это и есть вдвинутые в человеческий
мир уни-версалии, реальные собранные единства, субстанции.
Конечно божественная мысль субстанциальна; но с какой стати
человек надеется, что человеческая мысль тоже
субстанциальна? Она с равным успехом может быть случайна. В мире царит
случайность. Это так ясно, что если кто захочет возразить, то его
надо бить до тех пор, пока он не признает, что в этом битье нет
абсолютной необходимости. Камень как универсалия (каменность,
каменистость, как лошадность) существует в божественном уме,
благодаря божественной воле камень существует еще и не только
в божественном уме, а существует в человеческом мире, — но
именно поэтому мы с каменностью дела иметь не можем, она от
нас ускользает, у нас в руках всё камни и камни и слова, на разных
языках по-разному звучащие, о камнях. О каком реализме тут для
нас может идти речь? Конечно каменность в божественном уме,
наверное, реальна — но попробуйте ее уловить! Как, каким
человеческим словом сравняться с божественным словом? Этот отрез-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
211
вляющий новый, совсем новый номинализм, только по названию
номинализм Росцелина или Беренгара Турского, — покончил со
схоластикой. Ее важность божественная кончилась. Она стала
просто говорением.
Не то что человек у Дунса Скота обречен на гадание, раз
он никогда не увидит божественного ума с его реальными
универсалиями. Лишен он только одного: не может рассчитывать
на то, что сможет при какой-то удачной установке, при
правильном повороте угла зрения начать прямо считывать с реальных
универсалий — т. е. в соловьевском выражении со
«всеединства» — истину своей человеческой действительности. Только
этого ему не дано; но свет ему дан. Его ум, человеческий, intel-
lectus possibilis, возможностный, потенциальный интеллект — не
одинок на свой страх и риск измышлять, что ему придется: он
освещен, видит в свете «отделенного» интеллекта, intellectus
separates, так называемого действующего интеллекта, intellectus
agens. И в отношении этой двоицы, возможностный —
действующий интеллект, столько сложностей при изложении, что, между
прочим, вводят в сложность не только эти русские переводы,
но и сами латинские оригиналы в схоластике; они тоже в свою
очередь перевод, с аристотелевского греческого — а Аристотель
очень мало говорит об этом различении, по существу — только
в коротенькой гл. 5 последней III книги Περί ψυχής. К этой главе
готовят тоже очень коротенькие подходы в этой книге и, конечно,
«Метафизика», где ум это отделенная сущность, и где
различается человеческий и божественный ум. Кроме того, Аристотель
говорит в своей психологии об уме без большой уверенности:
кажется, что ум (т. е. нус, интеллект, понимание), хотя он явно
не бывает там, где нет души, т. е. он как бы внутри души, но
он — другое, чем душа, другое для своей же собственной души
(мы теперь подготовлены Розановым, его книгой «О понимании»,
его опытом, к чтению этого Аристотеля), и если он есть — там,
где он есть (помните у Розанова: совсем не обязательно, чтобы
понимание было у человека, или даже у целого народа; мы не
можем его себе устроить, он не входит в число наших
способностей, как не мы им располагаем как частью тела или души,
а он нас берет себе, когда берет — когда захочет взять, когда нам
случится не только жить, но и понимать. «Понимание не связано
с жизнью» — Розанов)... и Аристотель: если ум есть — там,
где он есть, — он похоже, вроде бы, кажется отделён каким-то
образом от души. — Понятно, что в том, что видится с трудом,
различить еще ступени трудно. Аристотель их как будто бы все
212
В. В. БИБИХИН
же различает. Во-первых; ясно, что ум, ни с чем не смешанный,
отдельный, сам в себе строения — мы сказали бы, схемы, которая
бы накладывалась на то, что он схватывает, — строения и схемы
не имеет, он поэтому чистая возможность (в переводе
«способность», но надо уточнить: имеется в виду δύναμις). Опять же,
без большой решительности Аристотель продолжает (это еще
подступы к 5 гл. кн. III): нет разумного основания считать, что ум
соединен с телом. И здесь одно из аристотелевских конкретных
наблюдений, которые не перестают удивлять тем, как они
похожи на хирургию, смелую, потому что разрез делается там, где
мы привыкли не заглядывать. Посмотрите, говорит Аристотель:
если света слишком делается много, глаза от солнечного яркого
света темнеют и надо от солнца отвернуться, чтобы снова начать
все видеть ясно; или когда сильный грохот, то тихого шепота мы
уже не услышим. А в умном приливе света наоборот: чем ярче
озарение, или чем больше мы слышим — в том смысле, как поэт,
настоящий, может писать только то, что слышит, — тем мы видим
и слышим подробнее. «Чувство не в состоянии воспринимать,
когда сила ощущаемого слишком велика, например звук среди
громких звуков... Ум же (нус, интеллект, понимание),
наоборот, когда понимает что-то, требующее большой захваченности,
начинает понимать другое, требующее меньшего напряжения
внимания, не хуже, а даже лучше» («О душе» III 4). Из записей
студентки философского факультета, которые я уже цитировал:
однажды на лекции по психологии она начала писать другое,
чем говорил лектор, неожиданно открывшееся ей; ее почерк
изменился, и подсказанное ей ясностью в отношении разных
вещей — она спешно записала то, что как бы обязательно нужно
было записать, на протяжении этих нескольких минут очень
яркой, очень отчетливой ясности. Никакого оккультного знания при
этом, в этой захваченности, не возникло: было именно только
прояснение, и прояснилось, — тем, что отпало лишнее, неверное,
навязшее в штампах, — упростилось многое из того самого, чем
она занималась, из психологии, той же самой, диалектического
материализма и других предметов: словно отпали слои налипшей
грязи. От яркости света этого озарения взгляд на повседневное,
мелкое, обычное не только не затмился, а наоборот, всё вокруг,
самое рядовое, прояснилось, — это то, о чем говорит Аристотель.
Теперь пятая, коротенькая глава: должно, похоже, существовать
два «ума», один — та чистая возможность, которая без
накладывания своей сетки может вбирать («внимать», «по-нимать», т. е.
брать всё по, в согласии, применяясь к тому, что берет, схватыва-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
213
ет) всё, становиться всем (в другом месте своей «Психологии»
Аристотель говорит эту знаменитую фразу, что душа есть неким
образом всё), — и еще другой ум, все делающий, наподобие
света. В каком смысле все делающий? Да просто только со светом
возникают, вырисовываются очертания и цвета. «Ведь некоторым
образом свет делает действительными цвета, существующие в
возможности. И этот ум существует отдельно и не подвержен ничему,
он ни с чем не смешан, будучи по своему существу энергией»
(О душе III 5) — как первый ум был дюнамис. Мы помним из
того, что говорили об энергии и дюнамис,102 что энергия раньше
дюнамис, возможности, и говорили, в каком смысле раньше: как
безусловная полнота, которая полнее, чем что бы то ни было из
того, что мы можем иметь в существующем. Эта полнота, хотя
она не существует, только и дает — как освещающий свет —
существовать всему, что существует. В понимании она —
действующее, условно говорит Аристотель и после него Дуне Скот,
понимание, делающее своим озарением так, что вообще что-то
может быть понято, схвачено.
Что Дуне Скот — это настоящий, хороший аристотелизм,
показывает вот какая важная особенность «действующего
интеллекта» у Дунса Скота: его «операции» (мы помним, что operatio,
actus — это перевод аристотелевской «энергейи»; и в нашей
хирургической операции — еще дальний слабый отблеск
аристотелевской энергии) — «операции» действующего интеллекта
сами ничего не производят, они только озаряют возможностный,
потенциальный интеллект. Хороши операции, которые ничего
не производят — но это верно Аристотелю и, главное, верно
опыту, в частности, тому опыту ясности, о котором я упоминал,
который не принес с собой никакого гностического знания, но
раз навсегда прояснил многое, что было запутано тем знанием,
которого всегда у нас полно, по уши и даже еще намного выше.
Действующий интеллект, первая энергия понимания, сам ничего
не производит, по Дунсу Скоту, но способен разгонять потемки
нашего разумения. Это высвечивание, выхватывание из тьмы
и актуализация потенциальных «эйдосов», «видов» в возмож-
ностном уме.
Все это, конечно, только четверть шага в попытке
подступиться к тому, что античная и средневековая мысль говорит об
интеллекте, понимании, которое выдвинуто своей частью в то, что
102 На курсе «Энергия» (осень 1990— весна 1991). См. «Точки» 1—2 (5)
..., с. 120—164. (Сост.)
214
В. В. БИБИХИН
за краем понимания, что «отделено». Сейчас я скажу в большой
степени вызывающе, чтобы мне опять прислали сердитую
записку о том, что мы не понимаем Декарта, — что новоевропейская
мысль, Новая Европа потеряла и чутье, и вкус к тому, что разум
выдвинут, непоправимо открыт тому, что ну совсем не в нашей
власти и не в нашей сфере. Все как-то кажется, что разум — да
еще и несчастно понимаемый как сознание, как мыслительная
деятельность, хотя, конечно, Кант, Шеллинг, Гегель теоретикам
сознания и мыслительной деятельности как верховной
инстанции совсем не помощники и не друзья, — но все-таки что разум,
сублимированный, потенцированный, как-то все охватит. Нужно
ждать до Ницше, чтобы услышать что-то зловещее в таком
размахе разума — голую волю к власти, нигилизм и
«экспериментирование с истиной». Или надо дождаться до Розанова — который
к новоевропейской мысли принадлежит ли? или это какое-то
новое начало, среди новоевропейской поздней мысли, но очень
раннее?
«Действующий интеллект», неудачное техническое
выражение, которое мы правильно бы сделали, если бы перевели
обратно, к Аристотелю, а мы уже пробовали это делать, и получили бы
энергию понимания или полноту понимания. Полнота понимания
не нам принадлежит и не мы ею распоряжаемся, она приходит
как озарение — откуда? — вот это хорошо бы знать откуда; Дуне
Скот говорит: это свет, сотворенный Богом для озарения нашего
потенциального ума. Полнота понимания сама ничего не
производит. Это — не переработка, а прояснение наших впечатлений
и представлений. Всю, так сказать, содержательную работу
делает потенциальный интеллект, который работает, однако, в свете
полноты понимания (конечно тогда, когда понимание, тем более
полнота понимания, вообще есть).
Как же тогда Соловьев надеется, что от мышления, от
сознания плавно перейдет к тому высшему, чем определяется всякое
мышление? Или он не надеется? Он пишет: формальное,
всеобщее, логическое — достижения, стало быть, мышления,
«определяются другим, и мышление, таким образом обусловленное, есть
реакция на нечто другое, на то, что не есть мышление» (807103).
Хотелось бы прочитать, в каком смысле реакция, и что это такое,
другое мышлению, реагируя на что, мышление получает то, что
оно получает. Но это уже последние философские странички
103 Соловьев В. С. Соч. в 2-х тт., т. 1. Номера страниц указываются в тексте
в круглых скобках. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
215
Соловьева, он спешит. Он говорит: «Слово ... собирает» (812),
но уже не успевает разобраться в том, что такое единство как
лервоединство, которое, стало быть, нельзя противопоставить
другому, ничему другому — и это значит, что оно само, первоедин-
ство, другое, другое самому себе, т. е. не первоединство — этой
парменидовской темы у Соловьева нет, хотя проблески ее, как
вообще проблески во все стороны, при соловьевской
гениальной открытости. Но все вокруг главной цели оправдания
истины. Как в «Оправдании добра», истина сама скажет. Но, как
в Оправдании же добра, уже сейчас ясна задача аскезы —
телесной в «Оправдании добра», интеллектуальной в «Оправдании
истины»: «Умственный центр тяжести... перестанавливается из
его ищущего я в искомое, т. е. в саму истину» (821). Как хотелось
бы знать, что надо понимать под «самой истиной». Но нет: ясно
только одно, отказ от л. Л должно уйти со сцены, чтобы броситься
в руки «самой истине». Знание о ней только негативное: ее «нет
в области отдельного, обособленного я» (823). Это я получает
такое описательное определение: обособленное я «из себя, как
центра, описывает более или менее длинным, но всегда
ограниченным радиусом круг личного существования» (там же). Ясно,
кто это такой: самоуверенный, самодовольный субъект,
собственно отвратительный. В такой мере, в какой такой субъект насел на
нас, его надо скинуть с себя, как цепи.
И заняться «собирательным философским деланием» (825).
Оно следует замыслу познать «саму истину». Этот замысел —
мой, я его эмпирически имею, но он указывает куда-то вовне меня,
он больше меня. Я уступаю место истине, и вместо меня, вместо
моей субъективности — «крепнет и полнеет чистый, мысленный
образ самой безусловной истины» (827). Что такое «образ
истины»? Откуда мы знаем, что безусловная истина должна иметь
«мысленный образ»? Если мысль — только «реакция» на то, что
не мысль, то мысленный образ не будет ли именно мысленным
образом истины, которая сама — безусловная! Да, в мышлении
Соловьев все-таки видит, как могло быть иначе, не саму по себе
истину, а «разум истины», т. е. то, как истина может отпечататься
в разуме. Все внимание Соловьева — на переходе от кое-какого
разума, эмпирического, самоуверенного, словом блуждающего,
к установлению, упорядочению, организации в «разум истины».
Но между кое-каким разумом и разумом истины, хотя различие
конечно огромное, в каком-то смысле различия нет: то и другое
разум. От своей неистины разум приходит к своей истине — но
к истине самой по себе разум приходит, стало быть, не так, что
216
В. В. БИБИХИН
поднимается к ней, она вне и выше разума, а так, что разум себя
перестраивает! Разум, стало быть, изображает истину, которую
вобрать как она есть не может, своим перестройством. Он
мимически изображает своим внутренним жестом то, что вне его
и что он только и может, что условно изобразить. Выше
«мысленного образа» стало быть не поднимется? Тут целая связка
проблем — но Соловьев спешит, переходит к заключению: «Как
живая форма истины, он (разум) должен быть занят не собою,
а своим безусловным будущим содержанием; становясь разумом
истины, он должен определяться не в себе, а в определениях
своего безусловного предмета» (830). Ах это хорошо сказано! «Не
в себе». Но ведь все-таки в конечном счете в себе! Как же тогда
«определяться» тем, что не определимо, самой безусловной
истиной, которая не в нем? «Должен определяться». Поди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю что. Мы при той мюнхаузеновской
проблеме философии, о которой Хайдеггер: поднять саму себя
за волосы из болота. Называет же Соловьев эту проблему — но
почему не видит ее немыслимое™, амехании! «Определяйся»
когда нечем определяться. Слишком сгоряча от отвержения
халтуры, мошенничества, жульничества — странно, что герой
Галковского, опознавший в Соловьеве жулика, не заметил, как
вся «Теоретическая философия» это нервное, жадное истребление
мошенника, шарлатана, — слишком еще разгоряченный этой
погоней за жуликом Соловьев переходит к позитивному, как будто
это так же просто, как расправиться с мошенничеством. «Он
должен обращаться не вокруг себя, а вокруг своего подлинного
средоточия, качествовать (как красиво!) не в себя, а в истину
и затем уже из этого своего запечатленного истиною, в ее цвета
окрашенного качества — не как своего, а как истинного
начала — исходить для дальнейшего и полнейшего познания» (там
же) — как громко, как пышно. Неужели Соловьев не замечает —
ах зря он, как все у нас, как огромное большинство наших
мыслителей, кроме Розанова, переводил опять и опять Платона, а не
Аристотеля, — неужели не замечает, что он в аристотелевской не
только теме, но в аристотелевских образах, в его языке, только
влипает в ошибку, которую Аристотель предупреждал не делать:
истина не окрашена, она похожа не на цвета, а на свет, белый свет,
в котором только и начинают быть видны вещи и их цвета, — те
самые вещи, от которых как от ненужных поспешил отвернуться
Соловьев, думая, что настоящие яркие цвета найдет в истине. Нет
она белый свет, который для цветов должен быть еще разложен,
в призме, в инструменте.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
217
Γνώθι σαυτόν, познай самого себя, говорит Соловьев, — вот
начало Новоевропейской философии. Значит ли это психологию,
самоанализ, копание в чувствах, свойствах, характере? Это будет
не философия. Надо заглянуть в себя глубже: туда, где в
«безусловном содержании» — ах как хотелось бы спросить у Соловьева,
какое содержание безусловное! — «становится разум самой
истины». «Следовательно, познай самого себя значит познай истину»
(831). Вычерпал Соловьев до дна смыслы этого γνώθι σαυτόν?
Может быть, еще нет.
218
В. В. БИБИХИН
1—13(3.12.1991)
1) αφή, άπτεσθαι; 2) θίξις, θιγγάνειν, θιγεϊν; 3) usum
Aristotelicum nominis ουσία plene persequi esset ipsam Aristotelis
philosophiâm exponëre; 4) το δεκτικόν ουσίας νους; 5) θιγεϊν
και φάναι; 6) res extensae; 7) ψυχή; 8) Derrida J. Donner le temps.
P.: Galilée, 1991; 9) le don n'existe pas et ne se présente pas; 10)
présence, présenter, se présenter; 11) Es gibt Sein
Только то и есть по-настоящему, чего нет. Я раньше думал,
что знаю, что такое есть, что такое нет. Теперь я говорю: «по-
настоящему есть», значит — бывает «есть» кажущееся. Машина:
она есть, когда я могу сесть, поехать, ее нет, если я смотрю, как
другой сел, поехал, и прошу, подвезите меня пожалуйста. Если
я обманул, сказал, что машина у меня есть, а не могу включить
зажигание, тронуться с места, я хитрю. Мне веры не будет, я
обманул, но как-то не вяжется сказать, что у меня машины нет «по-
настоящему»: до «по-настоящему» здесь дело не доходит, у меня
просто она есть или ее нет. Это ясно как день. Когда я подхожу
к кассе и у меня нет денег, чтобы заплатить за взятую в
магазине вещь, а я думал, что деньги есть, нельзя сказать, что «по-
настоящему» они есть. Или, в примере Владимира Соловьева,
цыган на рынке хвалит лошадь, плохую как хорошую, здесь обман,
и хотя можно сказать: на самом деле, по-настоящему лошадь
плохая, знаток лошадей так не скажет: для него нет тут деления
на «по-настоящему» и «не по-настоящему», он видит то, что есть,
и слышит цыгана, что цыган говорит то, чего нет, обманывает. —
А в случае с субъектом? Я мыслю, следовательно, я существую.
«Я мыслю» — похоже на то, как я сажусь за руль, включаю
зажигание, машина заводится, трогается с места, при этом у меня
нет опасения, что меня схватят? Мы чувствуем, что случай тут
какой-то другой. В чем различие между «есть машина» и «есть
субъект»?
Да просто в том, что есть машина или нет — это
действительно разница, у вас она есть, а у меня нет, или наоборот, у вас ее нет
вовсе, а у меня она есть, а субъект, есть он или нет его, — в высшей
степени все равно, то ли он есть, то ли его нет. Мне это абсолютно
безразлично, есть он или его нет, и человеку, который со мной
о субъекте спорит, тоже по-настоящему (здесь слово на месте)
абсолютно безразлично, есть субъект или его нет, существует он
или не существует. Очень важно, есть человек или его нет, чест-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
219
ный он или обманщик, владеет он машиной или нет; совершенно
неважно, субъект он или не субъект. В чем дело, почему?
Субъект из тех вещей, которые не существуют. Никакого
субъекта просто нет, и дело с концом. Скажите мне, что субъект
существует, я вас попрошу показать, где, как. Субъект из тех
вещей, которые не существуют. Он похож на идею, на лошадность.
Этих вещей просто нет. Их нет и нет и еще раз нет— и только
о них мы говорим и спорим, о том, что не существует, и только об
этих вещах имеет смысл говорить и спорить, потому что как нет
никакой лошади без лошадности, так не было бы и никакой
машины без субъекта: машина для субъекта, не субъект садится в
машину или, конечно, субъект садится в машину, но гораздо раньше
того машина была встроена в мир субъекта; субъект, имея против
себя объект и осваивая объект, снабдил себя машиной, и если бы
субъекта не было, то немыслимо было бы, чтобы человек,
например человек индейских племен в бассейне Амазонки, забирался
в железную коробку, захлопывал за собой дверь и двигался в
пространстве, ожидая или не ожидая, когда перед ним расступятся,
освобождая дорогу, другие люди его племени, родные, женщины,
дети. Так что машина — только эпифеномен, так сказать, перышко
в пышном плюмаже субъекта, а у субъекта есть еще циклотроны,
ракеты, телевидение, способы добычи геотермической энергии,
генная инженерия для производства такого человека и тогда,
какого и когда нужно, и у субъекта есть еще миллион вещей и будет
еще больше. На самом деле субъект, которого нет, есть в тысячу
раз, в несравненное число раз больше, чем его машина, и он-то
один по-настоящему есть, а машины в сравнении с ним считай что
нету. Как для знатока лошадь, которую продает цыган на рынке,
«конечно, не то», в свете лошадности, так для нас, хоть чуть-чуть
заглянувших в философию, машина «не то», по-настоящему ее
нет в сравнении с субъектом — которого нет, и который только
один поэтому по-настоящему есть.
Это слишком важная и интересная путаница, в которую мы
влипли, чтобы дальше так спокойно идти, не оглядываясь. Надо
оглядеться вокруг. Посмотрите, как интересно: гибнет воздушный
океан, отравляются травы на расстоянии стольких-то километров
вдоль шоссе, водитель дышит неизвестно чем — ценность его
здоровья, состояние так называемой окружающей среды, так
называемой экологии, вроде бы богатство, не ценится ни во что, но
машина — ценность, такая и настолько, что люди мчатся по шоссе
в одну и в другую сторону по-настоящему только потому, что у них
есть машина и для того, чтобы у них была машина, потому что
220
В. В. БИБИХИН
что же это за машина, на которой не ездят, и потому что от моего
движения я приближусь (своей активностью, своим участием в
мире, где бывают машины и где машины выдают) к более прочному
обладанию машиной. Машина — вот она, совершенно осязаемая
реальность, по сравнению с которой субъект только теория,
которой хочешь занимайся, если у тебя есть большое желание, хочешь
не занимайся, ничего от этого не убудет. И человек из индейских
племен долины Амазонки все-таки садится в машину и
действительно едет, и действительно перед ним его сородичи по племени
расступаются, и племенные отношения бледнеют — известный
в XX в. процесс, как когда община, еще живая, в русской деревне
расступалась, сникала при появлении трактора, который что,
обеспечивал вдруг подъем сельскохозяйственного производства? Не
обеспечивал, конечно, как машина не обеспечивает повышение
качества жизни, наоборот — но трактор, как [и] машина,
несомненным, убедительным способом есть и они больше весят, чем
здоровье, чистота воздуха, сохранность гумуса,
доброкачественность и количество хлеба, сохранение общины, сохранение вообще
крестьянства, даже существование страны, пусть трактор и танк
и ракета только совершенствуются, умножаются и крепнут —
почему? Потому что за ними стоит то, что по-настоящему одно только
и есть, и вот если бы мы попытались назвать, опознать, что это
такое сильное, могущественное, что стоит за танком, трактором,
машиной, ракетой, то появились бы разные имена, «организация»,
«управление», «обеспечение», «техническая цивилизация» и
«овладение» сю природой и миром, опять же торжество субъекта в его
отношении к миру как объекту — но опять же этим настоящим,
перед чем преклонилось человечество, оказалось бы то, чего нет,
и что одно только по-настоящему есть. Из-за того, что его нет, оно и
не поддается точному схватыванию. Человек постоянно и в первую
очередь имеет дело и хочет иметь дело с тем, чего нет. — Почему
вы меня не остановите: пять минут назад я сказал, что совершенно
все равно — в отличие от того, есть машина или нет, —
совершенно все равно, есть субъект или нет субъекта, а теперь говорю,
что человек постоянно и прежде всего имеет дело с тем, чего нет.
Совершенно все равно, есть субъект или нет; есть техническая
цивилизация или это только концепция; существует народ как
личность или не существует; [существует] русская идея или не
существует. Дело в том, что, если можно так сказать, субъект, лошад-
ность, русская идея, техническая цивилизация все равно будут
существовать, если и не существуют: их нельзя убить, они не могут
прекратить свое существование, потому что и так не существуют.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
221
Совершенно все равно существуют они или нет. Так совершенно
все равно, приснилась химику Кекуле циклическая формула
бензола или не приснилась, есть она или ее нет. Она работает все равно,
даже если ее и нет. Техническая цивилизация работает все равно,
как ее ни называть, все равно, есть она или теоретическая фикция,
ens rationis. Соловьев обсуждает в «Теоретической философии»
проблему достоверного доказательства внешнего мира, но во сне
возникла его статья или наяву — совершенно все равно, потому
что статья из тех вещей, которые не существуют; и каминность
остается одна и та же, у приснившегося камина и у камина, около
которого Соловьев греется, — не потому, что эйдос не зависит от
своей реализации, а просто потому, что эйдос не существует. Т. е.
он каким-то образом существует, но не так, что умеет
одновременно, как предмет апофатики и катафатики, одновременно быть
или не быть, а потому, что ему все равно, есть он или его нет: он
действует и так, т. е. и без того, чтобы существовать.
Я уже говорил, что было бы плохо, если бы мы занимались
тем, что прибавляли к представлениям (концепциям), которых
у нас и без того много, еще и новые. Нет лучше было бы
радоваться, когда мы расстаемся со своими представлениями,
концепциями, схемами, картинами мира. На что мы тогда будем
нанизывать свои новые знания. На сами вещи. Тогда, может быть, у
нас появится впервые шанс иметь дело с самими вещами. В
отношении вещей, которые и существуют и не существуют, не нужно
придумывать новый особый статус — такого несуществования,
которое умудряется быть одновременно существованием. Будет
гораздо полезнее посмотреть, что такое для нас существование и
несуществование, «есть» и «нет». Субъекта нет, он, как говорят,
теоретическая конструкция — он, однако, так есть, что хорошо
бы нам хоть голову осмелиться поднять среди технической
цивилизации, субъектом и его объективной наукой созданным: это,
похоже, так же трудно, как дохнуть хотя бы один разок воздухом,
к которому не примешаны соединения свинца, тяжелые металлы
и т. д. Теперь это уже невозможно, другого горного чистого
воздуха вовсе и нет, даже и пошевелиться иначе, чем в пространстве,
расчерченном субъективностью и объективностью, нам
невозможно — так что мы даже и не тратим и не хотим тратить на это,
чтобы вырваться, усилия, мы заняты другим, мы пытаемся
оглянуться, заметить то, что всего ближе к нам и чего мы могли бы
вообще никогда не заметить, продолжая свою гонку за тем — за
чем? за тем, что есть, или за тем, чего нет? Мы знаем, чуем, что
вокруг нас одно по-настоящему есть, другого по-настоящему нет,
222
В. В. БИБИХИН
что всё для нас сводится к тому, чтобы разобраться, что есть и чего
нет, — это страшно трудно, потому что вот, если мы не ошибаемся,
по-настоящему есть только то, чего нет, и именно такими-то
вещами, к которым относится и философия, настоящая, и язык, о
котором мы говорили когда-то,104 что его статус такой: он приснился
человечеству, как Соловьеву приснилась его статья, — именно
такими-то вещами, как слово, мы и захвачены по-настоящему и
только ими захвачены, — и какой нам сделать следующий шаг,
когда мы словно тонем в болоте и надо, как Мюнхаузену, вытащить
себя за волосы из болота?
Я думаю, мы должны сделать вот какой шаг: заметить, что
есть и нет, существование и несуществование — тоже из тех
вещей, которые не существуют, которых нет. Никакого есть нет.
Никакого несуществования нет. Я говорю это, как отталкиваясь от
опоры. Работа тут только начинается.
Перед тем, как идти дальше, т. е. идя дальше вперед, мы
можем снова вернуться к Розанову. Похоже, что теперь мы вообще
можем сейчас только начать возвращаться к Розанову, когда нам
уже не грозит думать, как думали их [Розанова и Соловьева]
образованные современники: что для философии Соловьева все-таки
надо прочитать, знать, у него речь о метафизике, но Розанова —
совсем не обязательно, у него все какие-то легкомысленные
странности. «Чистое существование, — начинает он «О понимании»
(137/120), — общее, первоначальнее и неуничтожимее Космоса...
только тогда, когда исчезнет самое существование, не останется
уже ничего, — не будет даже пустоты, не будет этого самого
ничего». Здесь видно, что вопрос о существовании невозможно
решить логически, вот почему. Если существованию противостоит
несуществование, ничто, то, если не будет существования, а
только ничто, то ничто будет существовать, — стало быть, само по
себе чистое существование никуда не денется. Если же оборвется
существование и ничего, то уже нельзя будет сказать, что
существует, и ничего нет превратится в ничего — нет. Это один из тех
случаев, когда прохудившаяся логика, упирающаяся в парадоксы,
показывает, что дальше дороги рассуждению нет, начинается опыт.
Розанов: «Разрешая вопрос об этом загадочном явлении,
не забыть чего-либо...» (138/120). Теперь наше, с чем мы
столкнулись — что «существует» и «не существует» относятся тоже
к таким вещам, которых нет. «Вопрос о существовании самого
104 На курсе «Язык философии» (осень 1989). См.: Бибихин. В. В. Язык
философии (третье издание). СПб.: Наука, 2007, с. 70. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
223
существования... Быть может существование есть только
иллюзия ума человеческого, есть нечто мыслимое и кажущееся, но не
действительно существующее. ... Может быть... оно заключено
внутри сознания и только ошибочно переносится последним за
свои границы» (138—139/121). Да, действительно, мы можем даже
сказать с большей определенностью: существование относится
к таким вещам, как лошадность. Лошадность не существует,
нечего даже надеяться. Есть она только как иллюзия ума, т. е. если
мы будем искать существование, то мы пожалуй его найдем, но это
будет существование рассудочной сущности. Мы найдем не то, что
искали, — как Розанов находит не то, что искал, в конце концов
обнаруживая существование. Это, говорит он,105 соприкосновение
(«простое и чистое») с пространством (141—142/123). Здесь
трудно, однако мы пока еще, надо думать, не споткнемся. Розанов
поставил вопрос, существует ли существование, и ответил: пожалуй
нет. Тем не менее стал его искать там, где мы привыкли искать:
там, где много чего есть. Нашел: соприкосновение. В психологии
Аристотеля осязание — базовое чувство, оно единственное общее
всем живым существам и без него не было бы других чувств. Об
осязании106 — зрение отличается от осязание (и слух) только тем,
что осязание прямое прикосновение, а зрение — такое, как если
бы между осязанием и осязаемым было не прямое касание, а через
прослойку: эта прослойка воздух. Предположим, воздух107 сросся
бы с нашим телом, стал бы продолжением нашего тела; мы тогда
не замечали бы разницы между зрением и осязанием. — Осязание,
αφή, άπτεσθαι самое примитивное чувство, но у Аристотеля как
раз с первым и простейшим происходят неожиданности,
совпадение максимума и минимума у Николая Кузанского — это
аристотелевская схема. Об осязании Аристотель снова заговаривает
в самом конце «Психологии», последние 12 и 13 главы книги III.108
Осязание, базовое чувство, — единственное абсолютно
необходимое живому существу, потому что без осязания оно не будет
знать, чего ему избегать и к чему тянуться, а тогда животное
сохраниться не может. От этого базового чувства, осязания, другие
чувства отличаются тем, что они — тоже осязания, и зрение,
и слух, и запах, и особенно вкус, но — через иное: только осязание
воспринимает непосредственно. Только от гибели осязания (когда
105 В книге «О понимании». (Сост.)
106 «О душе» II 11. Русское издание. — См.: Аристотель. Соч. в 4-х тт., т.
1. М.: Мысль, 1975, с. 418—421.
107 Там же.
108 Там же, с. 445—448.
224
В. В. БИБИХИН
холод, тепло, жесткость чрезмерны) гибнет всё живое существо:
от чрезмерного света, звука гибнет только орган чувства. Осязание
нужно поэтому (прикосновение) ради самой жизни живого
существа, а другие чувства — «ради блага», ради такого-то, а именно
хорошего существования: осязание, прикосновение — ради
самого существования. — Это отличие прикосновения от другого
всякого восприятия, прикосновение базовое обеспечивает само
существование, другие восприятия — качество существования,
повторяется, как здесь было на самом низу, у простейших
живых существ, так — на самом верху, в интеллекте, понимании.
Прикосновение θίξιχ;, θιγγάνω в «Психологии» II 11 синоним
осязания. В «Метафизике» XII7109 говорится о том, как ум начинает
видеть сам себя. Так просто он сам себя вроде бы видеть не может,
потому что он чистая возможность, схемы не имеет. Получается
большая путаница, когда представляют ум инструментом, который
способен как бы обратиться и на самого себя, сверх прочих своих
способностей. Как бы рефлексия рефлексии. Кто силится — но
все равно не получится — представить самомышление ума чем-то
вроде рефлексии, когда мысль обращает внимание на саму себя,
очень далек от Аристотеля. Ум, понимание, нус начинает у него
понимать само себя (сам себя) только тогда, когда выходит из
своей чистой, бессодержательной, неокрашенной открытости —
нечего в нем и видеть, в таком чистом, во внимании самом по
себе, если прикасается к тому, чего оно понимание, — а оно
понимание «самого по себе лучшего», бытия. Аристотель говорит:
нус δεκτικόν (1072 b 22П0) бытия, усии. Пока не будем касаться,
что такое у Аристотеля бытие, помним только, что еще живо
его повседневное значение, «имущество, состояние, богатство,
владение» (почему противопоставление иметь и быть у Эриха
Фромма обречено расплываться, как имущество и бытие
сливаются); и помним, что говорил, может быть, самый детальный
знаток Аристотеля, Герман Бониц, составитель Index Aristotelicus,
безусловно лучшего аристотелевского словаря — попытки при
помощи кибернетики создать новый аристотелевский словарь
кончаются провалом, — что он в статье «усия», большой, пишет
(словарь, 30 лет трудов, окончен в 1870, так что это латынь): usum
Aristotelicum nominis ουσία plene persequi esset ipsam Aristotelis
philosophiâm exponëre. — Νους δεκτικόν ουσίας, ум
принимающее усии, здесь двумя греческими словами сказано, что в одном
|0* Там же, с. 309—311.
110 Там же, с. 310.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
225
русском слове «понимание»: принимающий ум. Так что ума нет
до принятия, по-русски лучше: понимания нет до по-нимания,
принятия понимаемого, и принимая понимание начинает быть
понимаемым, понимать, и одновременно становится чем-то, что
можно понять, — это и значит ум мыслящий сам себя:
понимание, которое возникло (а его всегда могла и не быть, вспомним
Розанова), и значит появился шанс его заметить. Это прикасание,
стало быть, — одновременно и начало ума: прикасание понимания
к началам — это начало понимания тоже. Мы теперь говорим:
понимание сбывается в событии бытия, в событии мира и вне
события не существует. Об этом было много.
Теперь. Важное место — конец книги IX,111 о дюнамис и энер-
гейя. Мы его читали.112 Снова θιγγάνείν, касание, θιγεΐν здесь
дважды, и вот как. Говорится о несоставных — простых — вещах.
Что это за вещи? Которые дальше не раскладываются на части. Их
определение вот такое: отрицательное; во всем составленном надо
спрашивать, так ли оно составлено или не так, а в отношении
несоставного такого выбора уже нет, здесь не надо присматриваться
и уточнять, здесь только «прикоснуться» или «не прикоснуться»,
и если прикоснулись, то можем с-казать (θιγεΐν και φάναι), и это
с-казывание будет истинным, потому что именно дело не
установления, что в каком отношении и какой связи, а прикосновения или
не прикосновения. —
Существование Розанов определяет как соприкосновение
с пространством (141/123). Пространство у Розанова не
декартовское, вмещающее в себя «протяженные вещи», потому что
«в пространстве» у Розанова, хотя не занимая пространства,
и мысль, идея. «Пространство» у Розанова получается вот как:
берем вещь и «уничтожаем» одну за другой стороны ее
содержания, форму, цвет, объем — после всего «что-то» остается.
Неопределенное «нечто». Последним из «нечто» вынимаем ее
отношение к пространству — где она. О мысли нельзя, об идее
нельзя сказать, где она — ив каком-то смысле все-таки можно:
в самом предельном, она в мире. Розановское «пространство»
это мир, внутри которого, все равно, имея протяжение или не
имея протяжения, существуют все вещи. Существование, таким
образом, это соприкосновение с миром, с тем первым, в чем
«всё». Как вам нравится это определение существования:
соприкосновение — с пространством?
111 Там же, с. 247—251.
112 На курсе «Энергия». См. Точки 1—2 (5)..., с. 137—143. (Сост.)
226
В. В. БИБИХИН
Пока запомним это: существование — прикосновение к
пространству. Мысль не занимает пространства, но прикасается к нему.
Первая причина всего — о ней совсем ничего не известно, но что
она касается мира, значит существует — или не касается, значит
не существует? Это по крайней мере известно? Розанов даже и не
подумает отвечать! Словно вся его поза меняется, когда он
подходит к таким вещам, как «причина всего»: делается осторожной,
нерешительной: благоговение, почтение и торжественность. Даже
и не подумает он в таких открытых вопросах «высказать свое
мнение» — а я полагаю в отношении первой причины вот так! — он
не боится показаться незнающим, не имеющим своего мнения,
потому что чувствует, что и всякий вообще ум здесь чем больше
проявит распорядительности, тем больше потом и растеряется.
Розанов только осторожно обозначает крайние границы, внутри
которых будет двигаться всё рассуждение о «первом начале». «Здесь
хотя познание по необходимости будет неполным, будет только
в зачаточном состоянии (это еще даже слишком сильно сказано),
но тем не менее по глубокой важности самого предмета оно будет
исполнено великого интереса и значения» (143/125). Дальше надо
опять не упускать из виду различение Аристотеля: в познании
сложных составных вещей дело идет о точности описания, в
прикосновении (θιγεΐν; кстати, йога в смысле связи, это русское слово
узы, со-юз, говорит тоже о касании) — в прикосновении к простым
вещам все сводится к да или нет, есть прикосновение или нет его,
и если оно есть, то ошибки быть не может — ошибка здесь, ложь,
только тогда, когда прикосновение к простому возможно, но его
нет. Так же у Розанова познание таких вещей, как «первая причина
самого бытия», не структурное описание: «В простом отрицании
или в простом утверждении здесь может заключаться неизмеримо
высший смысл, нежели в подробном и отчетливом знании» (там
же). Вы чувствуете, что по сравнению с соловьевской хрупкой
прямотой у Розанова непобедимая мягкость. Вот как выглядит,
в одной фразе, у Розанова то, чему посвящен весь негодующий
разгром декартовского субъекта, духовной субстанции, души
как недолжного гипостазирования, подсовывания воображаемых
сущностей туда, где мы по-честному имеем только феномены
сознания. У Розанова вот как: «К предметам, которые познаны
достаточно, но относительно которых нет всеобщей и несомненной
уверенности, существуют они или нет, принадлежит духовное
существо самого человека; здесь мы видим, что психические
явления описаны и разъяснены достаточно, самое же существование
того, в чем происходят они (ψυχή) до сих пор подвергается со-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
227
мнению» (143—144/125). У Соловьева: прежние дедукции души
оказались негодными, надо построить новую. У Розанова: «Есть
вещи в мироздании, которые никогда не могут быть познаны, но
о существовании которых человек может ( ! ) знать; и есть другие
вещи, которые уже с значительным совершенством познаны теперь,
но о которых, как это ни странно по-видимому, он не знает еще,
существуют они или нет» (143/124). Мы здесь в аристотелевском
пейзаже, где высокий порог между тем, что познается описанием
и познается иначе; между суждением и вы-сказыванием, как
высвечиванием. Существование здесь непохоже на обстоятельства,
которые познаются. Есть вещи, которые никогда не будут познаны
(редкая для Розанова решительность) — но знать, существуют они
или нет, можно. Нельзя познать, можно знать — что это за загадка?
Розанову слишком ясно: «существование» не предмет познания.
Сейчас мы читали: когда еще не началось и в принципе не может
начаться познание (например, причины всего), уже можно знать
о существовании — чего? А неизвестно чего! ! Настолько отдельны
эти два — познаваемое с одной стороны, и с другой —
существование, которое не познаваемое. — Теперь соловьевская проблема
существования внешнего мира, мы помним: в сознании есть масса
наличности, камин, бумага, сам пишущий, его статья — у
сознания только нет средств установить, снится это или действительно
существует. Соловьевское решение: замысел познания истины
(можно было бы сказать: интенция), который уже самим своим
присутствием перехлестывает за пределы простой наличности
в сознании, ведет сознание, делает его «становящимся разумом
истины», постепенно, начиная с аскетического отказа от
индивидуальной субъективности, по ниточке неравенства наличия самому
себе — во всяком наличии всегда есть оно само и еще плюс к нему.
Сверхзадача: пробиться от замкнутости внутри себя, во что бы
то ни стало из темницы сознания — на свет вольный, к тому, что
есть, к реальности, к внешнему миру, к существованию. Ничего
подобного такому титаническому сверхусилию у Розанова
просто нет. Стартовая позиция вроде бы та же: «Познав себя и то,
что совершается в себе, мышление обращается к тому, что лежит
вне его» (165/142). Но нет задачи прорыва к тому, что вне. Совсем
нет. Вместо нее — удивление перед этим обстоятельством, что мир
предстает как что-то вне нас, что есть мы и есть вне. «Мышление
обращается к тому, что лежит вне его, и первое невольное
удивление и невольный вопрос его — что это такое, что существует этот
мир? т. е. что такое это существование мира, что лежит в мире,
отчего он существует, что такое существование само по себе?» (там
228
В. В. БИБИХИН
же). Вместо того, чтобы рваться к существованию — спросить,
но скажите, что такое существование? В самом деле, почему мы
были уверены, что мы знаем, что такое то существование
действительного мира, к которому мы стремились из запертой кельи
сознания? Откуда мы знали, что разница есть и что прорваться
трудно, откуда мы заранее знали, что такое существование, —
настолько точно знали, что знали, чего именно мы должны искать!
Для соловьевского скептицизма почему-то вне скепсиса знание, что
такое существование, — во всяком случае, Соловьеву и в голову
не приходит этот вопрос задать. Это — первый вопрос Розанова.
«Понять существование есть первая и самая трудная задача науки...
Что такое существование само по себе? ... Трудность здесь состоит
в запутанности вопросов...» (там же). Запутанность вот в чем:
вопрос «что такое» требует описания, но в существовании ускользает
само что — оно, по провалу рассуждения о нем, [неопределимо]
(уже мы говорили о бессилии логики: А не существует; А имеет
свойство несуществования; следовательно, А существует в модусе
несуществования — пример Розанова, с. 167/143). До
характеристик несуществования дело не доходит: «Чувствуется смутно, что
тут есть что-то, требующее познания, но не сознается, что такое
это» (там же).
Существование — это прикосновение. Не наше
прикосновение, а прикосновение вещи к пространству, не в смысле
декартовского, а в смысле мира, в котором всё. А мы — к существованию
можем прикоснуться? Наверное, да, только мы себе это устроить
не можем. «Существование во всех случаях остается
неизменным и тождественным себе, но только не обнаруженным,
обнаруживающимся и обнаруженным для чувственного ощущения
человека, проступающим перед ним — мы не можем найти более
выразительного термина» (169—170/145). Розанов нам завещает
сомнение во всем что он сказал: «...оттеняем сомнительность
невольно высказанных решений, и указываем необходимость
дальнейших и упорнейших изысканий» (170/146). Мы делаем,
пробуем сделать шаг дальше: попробуем говорить со всей
определенностью, чтобы не запутаться в неясностях. Попробуем быть
определеннее Розанова. Существование не относится к вещам,
которые существуют. Существование не существует. Описательно
знать существование —- тем знанием или распространением,
продолжением того знания, каким мы знаем «наличие», «феномены
сознания», мы не можем.
Жак Деррида прислал мне неделю назад свою книгу, которая
вышла в Париже в сентябре этого года, по семинарам, которые он
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
229
вел весной (в апреле, в Чикаго), вокруг дарения, дара, давания,
отдания.113 Я удивился и обрадовался, когда увидел там почти ту
же формулу, которую я сам впервые записал 7 ноября этого года
и предложил вам 12 ноября. Деррида говорит о даре, дарении,
например о даре времени, о времени как подарке. Такой и всякий
подарок имеет только один шанс быть настоящим подарком, т. е. не
быть включенным в экономику «дать-взять», продать-отплатить,
дать взаймы-дождаться (или дожидаться) возврата, — во всех этих
случаях дарение аннигилируется, из подарка становится
одалживание; подарок, поставленный на учет даже в очень слабой форме,
в форме «ага, это подарок», «принимаем это как подарок» — с
неизбежным «отдарим» — аннулирует подарок. Деррида вытолкнут,
вынесен этим ходом мысли к удивительному, парадоксальному
признанию: только то имеет шанс быть и оставаться даром,
подарком, что не дано, т. е. не данность, что не существует. «Если
дара нет, то дара нет; но если есть дар, взятый или рассмотренный
другим в качестве дара, то тоже нет дара, — в обоих случаях дар
не существует и не представляет себя».114 Я не перевожу présence
как «присутствие», потому что во французском и в контексте, в
котором говорит Деррида, se présenter «выставлять себя» буквально
«представляться, являться, оказываться, обнаруживаться,
случаться, иметь вид, выглядеть» — это другое, чем наше
«присутствовать». Подавать, подносить, предлагать, показывать, представлять
к должности, к награде — этот характер отрекомендовавшей себя
наличности стоит за французским présence: выставление себя на
вид, — а в нашем «присутствии» этого оттенка выставления,
обнаружения себя мало. В той разнице, на след которой мы напали,
в разнице между такими вещами, как машина, и такими вещами,
как субъект, французское présence будет относиться скорее к
машине, наше «присутствие» — скорее к субъекту. Я буду условно
переводить présence «предъявление». Дар предъявленный
аннулирует себя как дар, включается в кольцо, не выпадает из кольца, мне
кажется лучше говорить — из цепи причины-следствия,
сплошного взаимного задолжания. Прорваться сквозь эту цепь имеет шанс
только то, что не предъявляет себя, — не в слабом смысле
незаметности, что я незаметно принес кому-то в дом и положил подарок,
а его потом обнаружили и не знали, гадали, откуда он, потому
что потом все-таки догадаются, — ни в каком из этих смыслов
временного сокрытия, а в сильном смысле непредъявления: только
113 DerridaJ. Donner le temps. P.: Galilée, 1991.
114 Там же, p. 27—28.
230
В. В. БИБИХИН
то настоящий подарок что не существует. Неожиданное это
не только мысли, но и словесное совпадение с тем, что мы здесь
говорили, требует посмотреть на ход мысли Жака Деррида.
Дар, чтобы быть настоящим, — речь не о том, пока, бывает
ли такой дар, а о том, что иначе ему не бывать, — должен никак
не предъявить себя, т. е. быть забыт не в смысле вытеснен,
скажем, в бессознательное, а забыт абсолютно, забыт радикально.
Прочитаю со с. 30: «Для того, чтобы было событие (мы не говорим
акт) дара, (а вы понимаете, конечно, что когда я говорю
«событие», когда у Жака Деррида читаем «событие», то это, конечно,
Хайдеггер, Ereignis, всё внутри широкого следа, оставленного его
мыслью) — ...чтобы было событие... дара, надо, чтобы какая-то
вещь случилась, в один момент, в момент, который, наверное, не
должен принадлежать экономике времени, во время без времени,
таким образом, чтобы забывание забывало, чтобы оно себя забыло,
но чтобы это забывание, не будучи чем-то, что себя предъявляет,
может себя предъявить, чем-то определимым, ...не было однако
ничем». Тут вдруг неожиданное перевертывание. Мы только что
увидели с несомненностью: не будет никакого настоящего дара,
только одалживание, без абсолютного забывания, как только что
прочитали, да, всё так, иначе кружение взаимозависимостей, —
но ведь верно и наоборот, такое забывание, которое абсолютно
забылось и забыло себя, но не стало ничем, само чистый дар. Что,
в самом деле, мы можем абсолютно забыть? Ничего. Чтобы не
осталось памяти о том, что что-то забыто, — такое забывание нам
дар, как забывание — полное — условие настоящего дара, так
забыто может быть только то, что подарено таким дарением.
Забытый дар у Хайдеггера — бытиё. Бытиё не предъявляет
себя, оно не существует. Оно не существующее. Что же оно такое?
Вопрос промахивается: о том, что не существует, нельзя сказать,
спросить что: всякое что существует на деле, в воображении,
в мечте и т.д., где-нибудь. — Получается ли тут, между прочим,
что надо просто отчислить, отмыслить существующее, и мы
получим бытие? Едва ли: потому что существующее нам только
кажется более ясным, чем бытие', мы понимаем существующее
только в свете бытия и не иначе, существующее это то, что
обладает бытием, — тем самым, о котором мы не можем спросить,
что оно. — Что получится, если мы, как делает Жак Деррида —
по разным причинам мне бы хотелось, в частности и по причине, что
мы должны в том, что мы тут делаем, оглянуться на то, что делается
на Западе, а похоже, что Жак Деррида, хочу чтобы меня поправили,
это самое весомое, самое движущееся, провоцирующее, что мы сейчас
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
231
можем прочесть в западной мысли, — специально остановиться на этой
книге Жака Деррида, «Дать время»; надеемся, что как всякая встреча
с настоящим, с настоящей мыслью, эта не отнимет у нас время, а даст
его, — или если произойдет как-то иначе, мы должны будем сами
позаботиться о том, чтобы время, отданное этой книге под названием «Дать
время», не было нами растеряно, —
так вот, что получится, если, как делает Жак Деррида, мы поймем
существующее в смысле «предъявляющее себя»?
232
В. В. БИБИХИН
1—14 (Parerga)115 (10.12.1919)
Сейчас мы очень отлично знаем, что такое «предъявить»:
предъявить документ, а то не пропустят; существо современной
техники, современной цивилизации, постав, имеет первое и
главное отношение к предоставлению, выставлению, представлению:
только это одно и стоит как существующее, и машина в моем
воображении, которую я не могу предъявить, не существует? Придать
такой, наглядный смысл «существующему» очень просто, — но
с какой стати? Когда я говорил, «имеет шанс устоять против
нигилизма только то, что не существует», я не держал в голове хитрое
значение чего-то такого, что по меркам нашей современной
предъявляющей культуры не существует, а по высоким поэтическим или
художественным или философским меркам ого еще как
существует. Нет такой хитрости у меня в голове не было. Я не ограничивал
«существование» каким-то узким диапазоном, когда, скажем, тезис
о несуществовании всего настоящего означал бы критику узости
воззрений современной цивилизации на существование. Якобы
в каком-то расхожем смысле настоящее не существует, а в другом
истонченном, очень тонком смысле, до которого мы должны
подняться, все-таки существует. Это была бы только филологическая
игра с значением слова «существование». Мы будем читать Жака
Деррида, чтобы добраться до ясности, играем ли мы тут с собой
или нет. Парменид предостерегал: не думать, что не существующее
еще каким-то образом все-таки немножко или даже очень крупно
существует. Яесуществующее не существует, и дело с концом. —
Жак Деррида говорит об абсолютном, о радикальном забывании,
откуда уже нет лазейки к снова воспоминанию. Он говорит о
безусловном несуществовании дара, в смысле чистого, настоящего.
О даре, которого нет, Деррида продолжает все-таки говорить. Он
это делает в русле Хайдеггера, у которого бытие не существует, и
только о бытии, и о событии, Хайдеггер все время говорит. В чем
дело, почему мы говорим о том, чего нет. А потому что о другом
нам говорить не интересно! Другое высчитают счетные машины,
справятся без нас, скалькулируют, подытожат, выдадут результат.
Мы говорим только о том, чего нет, остальное нам не интересно.
Что — мы тогда среди тоски и скуки бытия мистифицируем сами
себя и других, придумывая игру в стеклянные бусы,
словосочетания, которые нам дают временный кайф, послабее наркотиков, но
1,5 Предварительные записи к этому занятию. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
233
при дороговизне и опасности наркотиков на худой конец сойдет?
Да так все про нас, пытающихся философствовать, и говорят, по-
другому никто и не говорит; больше того, мы и сами почти всегда
обычно так себя и одергиваем, и только изредка проблески как
будто бы какого-то обещания еще ведут, велят не останавливаться
говорить, хотя уже очень поздно, как просит в конце одной своей
книги Жак Деррида. Чтобы отрезать себе пути лазейки к
отступлению, что якобы мы только играем а потом вернемся к делу,
и чтобы ободрить тех, кто не видит в философии ничего кроме
слов, чтобы они насовсем уж бросили философию, мы лучше
скажем еще раз вот так, как раньше говорили о безысходной
нищете философии, только теперь еще резче, определеннее: да, мы
говорим о том, чего нет. Мы будем говорить о том, чего нет, до
тех пор, пока не прояснится, что такое «есть» и «существует».
Что значит есть, что значит существует! сущее? Мы не знаем —
и это еще одна причина не говорить о сущем, существующем: Бог
знает, о чем мы тогда будем говорить. Субъекта нет. Бытия нет.
Но умолкать, молчать о том, чего нет, нет смысла. Хайдеггер
пишет: Es gibt Sein. Это вполне обычный, правильный разговорный
способ сказать по-немецки — es gibt — что нечто существует. В
данном случае: бытие. Но сам немецкий язык подсказывает: не
надо спешить, не обязательно решать вопрос о существовании и
несуществовании. Язык говорит: дается бытие. Дается кем? Es,
оно. Оно дает бытие. Бытие дается. Это не способ уклониться
в двусмысленности от решения, существует бытие или нет: это
мы просто обращаем внимание на то, что сами на каждом шагу
делаем, когда говорим по-русски: имеет-ся нечто; по-французски
il у a quelque chose, там имеет-ся нечто; по-немецки: оно дает
нечто. Есть и нет, т. е. не есть, несть — не единственный для
нас выбор думать о вещи; она может каким-то образом иметь-ся,
иметь себя; давать-ся, давать себя. Давать так, что мы уже взяли
имеем и держим — или давать так, что мы взять не умеем до сих
пор не удосужились или не научились! Вот это открытый вопрос.
Бытие, говорит Хайдеггер, имеет-ся, оно имеет себя. Имеем ли
мы его, получили? Вот вопрос. Существует ли оно? Но что такое
«существует», если существование это причастность к бытию,
в отношении которого мы вот в таком взвешенном состоянии!
Почему же, не зная этого, мы определенно говорим, что бытие не
существует? При том что во всей истории метафизики сущее и
бытие смешивались между собой? Только потому, что «всё кружась
исчезает во мгле», из стихотворения Соловьева. Всё обречено
кружиться и исчезнуть во мгле. Все кружится и падает под взглядом
234
В. В. БИБИХИН
скепсиса. Мы хотим схватиться за то, что не кружится и не падает,
но всё кружится и падает, и «неподвижное солнце любви», которое
как спасение называет Соловьев, тоже кружится и падает вместе
с платонизмом, с метафизикой и с церковной культурой. Всё
кружась исчезает. Мы тогда говорим: не исчезнет то, чего нет. Это не
рецепт, не результат, а тоненькая ниточка, которая, может быть,
оборвется еще. Но пока мы попробуем по ней пройти. Дар то,
чего нет (настоящий дар). Если он есть, говорит Деррида, то его
нет, потому что первый наш взгляд на него включает его в цепь
получения-возвращения, отблагодарения, отдаривания: экономика.
Но дар единственное, о чем имеет смысл говорить. Вся экономика
существует и продолжается только потому, что ее круги, товарные
и денежные т. е. обороты, снова и снова кажутся незамкнутыми,
где-то включающими в себя невидимый, безвозвратный,
абсолютно забытый дар. — В следующий раз опять Деррида.
На экзамене Соловьев, Розанов, Деррида или по выбору.
* * *
Что я хочу, то и существует в той мере, в какой существует
мною обеспеченным существованием. Откуда я беру средства?
У меня их нет. Есть надежно только то, чего нет. Я творю из
ничего, как Бог? Нет: я не знаю, творю ли я, и не знаю, из чего
творю. Что же я делаю? Ничего. Я делаю то, что делал вчера или
делаю не то, что делал вчера. Почему я вчера так делал, так был?
Опять не знаю; но было то, что было. Я бывшее не бывшим
сделать могу? Да могу. Когда то, что вчера не имело смысла, сегодня
имеет смысл. Я его исправил, задним числом бессмысленное
сделал осмысленным. Как Раскольников своим поступком придал
смысл — своему поступку? — Существование и тела, телесного,
то, что я могу изменить? — И есть то, чего я не могу изменить?
Не так сказано: всё изменяется от моего присутствия, и видимое
и невидимое. — Ограничиться?
Как, почему субъекту удалось так много? Спросите у него. —
Но он не существует. — А он умеет и так, без существования.
Некоторым вещам все равно, есть они или нет: они, так сказать,
умеют делать и без того, чтобы быть. В это не верится, кажется, что
чтобы быть, надо по крайней мере быть, — но нет: субъекта нет,
и кто только не доказывал, что Декарт неправ, но субъект столько
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
235
сделал — собственно, сделал все, что сделано в технической
цивилизации. А мы его не видели и не можем доказать, ни что он есть,
ни что его нет. Он как-то умеет и без этого, совсем не обязательно,
что чтобы масса загорелась революционным волнением, например,
или сплотилась, или двинулась, совсем не обязательно, чтобы были
причины, обоснования, и совсем не обязательно, чтобы было
известно, что именно движет — никому не ясно. Энергия в начале:
она раньше возможности, предшествует возможности, но если
и возможность того, что будет завтра, сегодня не существует, то
энергия тем более. — Это наше несчастное желание, страсть
видеть существование там, где ничего нет, и несуществование там,
где существование, наша путаница. Есть вещи, которых просто
нет, — или, иначе, мы почему-то спокойно именуем существующее
и несуществующее одинаково, потому что всякая связь предиката
и сказуемого уже делает несуществующее существующим, и мы
включаемся в эту веру, в веру в это как ни в чем не бывало. Тогда
как наш язык, речь нависает одним краем над пропастью,
выдвинута в пустоту. Ну и дела. А это несчастное наше оперирование
с муляжами, впечатление такое, что мы ходим в обнимку с
муляжами, с куклами, с соломенными чучелами. Но Пигмалион... И на
японской дороге резиновый полицейский работает ничуть не хуже
живого — или даже лучше, безотказнее; и с компьютерным
шахматистом иногда интереснее играть, чем с настоящим. Нам со своими
созданиями так же интересно, как с «живыми людьми»! Которые
иногда не существуют уже, и когда я говорю, ходим в обнимку
с чучелами, я имею в виду людей! И западная яркая упаковка
лучше человека, и человека оттеснят и растопчут, чтобы добраться до
товара, и крестьянин ничто, еврей ничто рядом с блестящей идеей!
Да что же это такое, ну и дела творятся! Точно: уже нужен Гераклит
и Парменид, иначе без них нам ничего не понять. Или Ренессанс
уже развернулся до того, что теперь мы уже можем вернуться не
к избранной нами, а ко всей античности, уже хватает сил.
Солнце каждый день новое. — Солнце каждый раз новое. —
И не надо беспокоиться за сделанное, потому что оно как-то умеет
быть и так, и без сделанного: оно есть и так, все равно, и когда его
нет, и без ничего. — Как в листьях фотосинтез, так поймать
немного солнца, почему это важнее жизни: потому что и жизнь отсюда,
а другого источника нет. А, какая отвратительная мазня, халтура
склеивания словесных жестянок! Они все смешная добыча, для
питания. Да, одни питаются другими, поедают. — Но интересно
то, как прочно существует то, что не существует, как верно, как
безошибочно; как смешно искать его секреты...
236
В. В. БИБИХИН
1—14(10.12.1991)
1) wishful thinking; 2) causa sui; 3) native hue of resolution;
4) οίκο/νομία
Понимаете ли, какое дело: хорошо что мы не взялись
сразу за Парменида с его вопросом, вернее тезисом о бытии и
небытии и не начали сразу решать, распределять, чем отличается
бытие от сущего, устанавливать, есть ли, существует ли небытие
и еще устанавливать отсюда массу других вещей, как на самом
деле правильно надо думать о бытии и небытии и как думать
неправильно, прав ли Парменид или неправ или, может быть, он
в чем-то неправ, а в другом как раз очень прав, так что, может
быть, надо теперь основать неопарменидизм и широким жестом
перечеркнуть современную техническую цивилизацию за то, что
она воображает, будто что-то можно создать, и создает, а что-то
разрушить, и разрушает, а на самом деле бытие неразрушимо,
а из небытия ничего невозможно создать, и если есть бытие, то
оно всегда будет, а если есть небытие, то мы должны эту свою
точку зрения пересмотреть и принять другую точку зрения.
Такой неопарменидизм, собственно, уже и существует, я о нем
и о его основателе, итальянском философе Северино, уже как-то
говорил.116. Хорошо, что мы не пошли по этому пути, на котором
мы очень быстро что-то многое бы нарешали и потом надо было
бы, соответственно, в согласии с нашими решениями принимать
какие-то меры, а мы не знали бы, как принимать меры, ведь не
станешь же подходить к каждому и говорить, дорогой, поверь, ты
1,6 На последней лекции курса «Энергия» (21.5.1991): «...Эммануэле
Северино в Италии, основатель „нсопармснидизма", пробует встряхнуть
современную мысль от сна, как он говорит, техницизма и нигилизма, от губящего
землю, жизнь, человека представления, будто что-то можно создать (машину,
общественный строй, всё что угодно) или уничтожить (человека, государство,
всё что угодно) — это иллюзия, потому что всё якобы создаваемое уже было, как
машина уже полностью была, существовала в размеренности более
естественного образа жизни людей домашинного века, в каких-то особенностях забытого
теперь образа мысли, и изобретение помогло только к несчастью забыть то уже
существовавшее; так и уничтоженное полномерно продолжается, например
погубленный человек в изменившейся навсегда и бесповоротно психике губителей,
и так далее, — но это возвращение элеатской проблемы, хотя у самого Северино
вполне убежденное, страстное, обречено потому, что Северино воспринимается
и почти уже сам себя начал воспринимать как чудак, маргинал, не годящийся для
включения в историю философии». (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
237
думал так, как ты думал неправильно, а теперь ты должен думать
правильно, пожалуйста, послушай моих доказательств, они тебе
докажут то и то и то. — Я открываю хорошую недавнюю
философскую книгу и читаю там на первой странице: «Философия
претендовала на осмысление того, что в принципе не могло стать
предметом опыта. Поэтому решающим для самообоснования
философии был вопрос о том, может ли мысль независимо от
опыта открыть объективную общезначимую истину».117 Но мы
читая Розанова увидели, что понимание, ум не только мыслительная
деятельность, не в первую очередь или может быть даже вовсе не
мыслительная деятельность, мы не знаем, что это такое, то есть
это не то, что можно знать: это настроение, внимание, это именно
опыт — «прикосновения». Мы читали Соловьева и увидели, что
свои попытки мыслью, из содержания наличного сознания
дедуцировать или индуцировать основоположения знания и практики
приводят к тому, что он сам же потом раскидывает, разбрасывает
свои постройки, возвращаясь к чему-то такому простому, как
сцена кавказской войны или пришествие антихриста, главный ужас
которого как раз в том, что он что-то кардинальное, глобальное
придумал и из своей быстро сочиняющей головы хочет устроить,
наладить все происходящее в мире. «Естественно, что мысль или
ряд мыслей существуют сами по себе, и вещь или ряд вещей —
сами по себе»,118 читаю я в той же книжке, и ничего менее
естественного, чем это «естественно», мне кажется, не может быть:
в самом деле, какой шанс для мысли быть «самой по себе», не
иметь «то, из чего» — кроме как если бы у нас была вера, откуда
только ее взять, что голова придана телу как совершенно
самостоятельный, загадочный, нам непонятный прибор? Но и тогда
было бы ясно, что мысли в такой голове имеют свое «откуда», из
чего они, свое раньше — нужен очень искусственный прием,
чтобы уверить себя, что мысли к нам приходят «ни с того ни с сего»,
что надо просто иметь дело с их наличной данностью, брать их за
безусловную, первичную и самостоятельную данность, — когда
ясно, что было что-то раньше мысли, и что у нас должна быть
большая заинтересованность, мы в большой степени
заинтересованы в том, чтобы считать свою мысль — ну хотя бы хоть
мысль — своей собственностью, чтобы хоть в мысли была так
называемая свобода, что хочу то и думаю, как одна дама рассер-
117 Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской
философии. М.: МГУ, 1986, с. 6.
118 Там же.
238
В. В. БИБИХИН
дилась на меня, когда я предположил, что какие-то мысли лучше
не иметь: как можно вмешиваться в мысль, пусть она что хочет то
и думает, — как будто бы на самом деле давно уже в нее не
вмешались, так решительно и цепко, что наша мысль по-настоящему
нам и не принадлежит, а в той мере, в какой, мы думаем, она
нам принадлежит, она состоит из наших пожеланий, она wishful
thinking в гораздо большей мере, чем нам хотелось бы надеяться.
Когда я имею в наличии своего сознания камин, сознаю камин,
то надо было сделать над собой несколько операций и забыть,
почему я над собой столько операций сделал, почему именно
таких, почему я о них успел или почему постарался забыть, чтобы
воображать, будто проблема сейчас для меня заключается в том,
чтобы перейти и как перейти от осознаваемого камина к
действительному, — когда на самом деле проблема в том, почему в моем
сознании камин, при том что могло быть другое, могло не быть
ничего; что должно было незаметно для меня случиться, чтобы
содержанием моего сознания мог стать камин; что должно было
со мной случиться, чтобы сознание — мое — стало казаться мне
пространством, которое не соприкасается с вещами, с
действительными вещами, — что должно было случиться, чтобы я
провел границу между действительностью и сознанием, между явью
и сном, между существованием и несуществованием. В хорошей
книге, из которой я прочитал фразы, которые как будто бы
должны были быть простой самоочевидной основой для дальнейшего
рассуждения, но которые настолько неочевидны, настолько не
замечают — или скорее стараются не заметить — длинного
ряда вполне весомых событий, которые должны были произойти,
чтобы эти фразы о мысли независимой от опыта могли быть
написаны сначала от руки, а потом напечатаны в государственной
типографии, — что невольно начинаешь шататься: но может быть,
философия и есть такая удивительная академическая область, где
для чего-то нужна такая вот степень отвлеченности, а честнее
все-таки сказать наивности? Нет все-таки не такая философия
область, чтобы быть отвлеченным и наивным; как раз наоборот,
если где-то еще и позволено еще быть отвлеченным и наивным,
то как раз не в философии, и философия для того, чтобы
заметить то, что люди как-то привыкли не замечать, и не упускать
замеченное, не дать ускользнуть — не всему, конечно, всё как раз
от человека непоправимо, неотвратимо всегда ускользает, — но
не дать ускользнуть этому ускользанию, заметить, что всё или
почти всё, нет лучше все-таки сказать всё от человека, от его такой
гордой собою мысли ускользает.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
239
Но разве нельзя выделить область сознания и «заниматься»
ею? Можно, конечно. Мало ли чем занимается техника, наука.
К философии это имеет отношение? Прямое. С удивлением
посмотреть, почему люди занимаются тем, чем они занимаются.
Понимания в этом занятии явно нет — но и ничего, кроме
понимания, мы помним Розанова, тоже в человеке нет! То, чем
занимаются люди, получает смысл, когда есть глаз, глядящий, чем
занимаются люди, и умеющий увидеть в этом смысл.
Очень, очень странно, что мысль кажется операцией,
операцией с понятиями, из этих понятий — бытие и небытие,
существование и несуществование. «Бытие есть, небытия нет; потому
что... Бытие есть, небытия нет; следовательно...» «Бытие есть вот
что — эйдос, число». — Арсений Николаевич Чанышев
опубликовал в 1990 г. в «Вопросах философии», № 10, «Трактат о небытии»,
который начинается словами: «Небытие окружает меня со всех
сторон. Оно во мне. Оно преследует и настигает меня, оно хватает
меня за горло». Это значит: в тот самый момент, когда я говорю
о бытии, когда я определяю бытие, я не защищен не огорожен от
[небытия], и мои мыслительные операции с бытием — могут быть
добычей небытия (158).119 Можно ли надеяться, что бывает такой
волшебный поворот мысли, такой алгоритм, такая методология,
такой ключик, чтобы можно было надеяться, что говоримое не
станет «добычей небытия», что достаточно правильно мыслить,
и мысль уже соприкоснется с истиной — скорей скажите мне
правила этого правильного мышления, и мысль спасется от небытия,
перестанет быть его добычей? Чанышев: «В течение двадцати
пяти веков философы, взявшись за руки, водили хоровод вокруг
небытия, стараясь заклясть его» (159). Какие философы, в какой
мере? Те философы и в той мере, в какой они небытие
представляли как несостоявшееся бытие, убыль бытия, минус бытия: бытие
есть, оно уменьшается и доходя до нуля становится небытием. Нет
надо осмелиться сказать: «Небытие существует. Несуществующее
существует. — „Что за вздор?! — воскликнет философствующий
педант. — Где вы видели несуществующее существующим?"
О, жалкий филистер! А где ты видел существующее
существующим?! Где ты видел вечное бытие? Только в своем
метафизическом воображении. И то потому, что ты недостаточно резв и не
можешь обернуться столь быстро, чтобы заметить за своей спиной
небытие» (160).
119 Ссылки на страницы вышеуказанной публикации здесь и далее — в
тексте в круглых скобках. (Сост.)
240
В. В. БИБИХИН
«Где ты видел существующее существующим?» Когда, как
нам удавалось, удавалось разве видеть безусловное
существование? Мы слышали, что безусловное есть; но всегда и везде, когда
мы это слышали, мы слышали также, что подступиться к этому
безусловному может не каждый; что надо иметь — что
подступающий должен иметь что-то, чтобы подступить — но «я имею
в себе что-то безусловное», это мечтательное достижение всякой
пародии на философию («мое Я», скажем, абсолютное
безусловное, в пародии Макса Штирнера «Единственный и его
собственность»).
«Что небытие существует, можно доказать многими
способами», — так говорит, и доказывает, Чанышев; хотя после
сказанного, небытие «хватает меня за горло», «я его добыча», оно
«пожирает каждый миг» (158) — после этого, кажется, уже не нужно
доказывать его существование, тем более способами логического
рассуждения: то, что «хватает меня за горло», уже не очень важно,
доказано ли логическими доводами, что это существует; точно так
же и если бы кто-то доказал, что то, что «хватает меня за горло»,
не существует, то мне это мало бы помогло; и если бы, когда я
добыча небытия, кто-нибудь доказал бы, что небытие не существует,
я не стал бы вдруг свободным в минуту, когда я услышал это
доказательство. — Или что-то неверное в этом моем соображении,
что существование такого небытия, которое хватает за горло, уже
не нуждается в логическом доказательстве?
Мы видели, что некоторые вещи, так сказать, могут и так, без
существования, что им все равно, существуют они или не
существуют, — как лошадность, έππότης, если только мы согласимся,
что лошадь существует, то должны будем сказать, что лошадность
не существует, что лошадности просто нет, — это ей нисколько
не мешает быть мерой, которую знаток прикладывает к каждой
лошади и почти о каждой лошади в свете этой меры говорит:
а нет, разве это лошадь, это и не лошадь вовсе, как лошадь она
не существует. Так идеальный ленинец, строитель коммунизма
не существовал, но в его свете почти каждый человек или вернее
даже всякий человек сникал, бледнел, оказывался не просто
ничем, г. хуже, чем ничем, и подлежал уничтожению.
Поэтому одно дело — быть достаточно резвым, уметь
обертываться назад так быстро, чтобы суметь заметить, что за спиной,
наседая — небытие, которое хватает меня за горло, и совсем другое
дело доказать, что небытие существует. Ему вовсе и не
обязательно существовать, чтобы хватать за горло. Оно может и так, без су-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
241
ществования. — В чем же дело, почему Чанышеву понадобилось
доказывать через время, через пространство (прошлого и будущего
нет; если вещь в точке А то ее нет в точке Б — вот уже временный
и пространственный модусы небытия, и т.д.), когда и без того
небытие схватило за горло?
Доказывать пришлось от неопределенности. Проблема
оказалась не в том, что первично, бытие или небытие, — это не
проблема, потому что есть их опыт, они дают о себе знать,
после этого постановлять, что первично и вторично, — то же, что
решать, первичен день или первична ночь, можно говорить и так
и по-другому, это не так интересно, потому что редуцировать ночь
к дню, что ночь это модус дня, или наоборот, наверное не
удастся, — они останутся оба, ночь и день, — проблема не в
первичности и вторичности, а определять, говорить заставляет
неопределенность, или вернее то, о чем уже было в самом начале сказано:
«Неслышными шагами крадется оно (небытие) за бытием» (158).
Оно крадется и за словами о небытии — словам о небытии тоже
грозит быть схваченным за горло небытием, поэтому слова о
небытии хотят быть доказательными настолько, с такой
неопровержимой силой, чтобы не стать добычей небытия. Но так как
небытие хватает за горло неслышно, прячась, оно не дано
непосредственно — то уйти от его хватки трудно, должен быть упор,
равновесный напору, упор тоже имеющий свойства небытия,
невидимости, неотвратимости, неслышности; такой отпор напору
небытия, только такой напор мог бы быть вровень с ним — но нет,
в распоряжении у пишущего автора, принадлежащего к
определенной философской школе, все-таки только логика, диалектическая,
понятия движения, противоположности, различия, случайности,
субстанции, возникновения и уничтожения. С этой сеткой понятий
ретинарий выходит на дикого зверя, небытие. Он схватывает
небытие сеткой понятий и обнаруживает, что небытие очень большое:
«Все возникает на время, а погибает навечно», поэтому «небытие
абсолютно, а бытие относительно» (161). Но небытие, как роза-
новское существование, мы видели, из вещей, которые логике не
поддаются, логика на них обламывается. Этот тезис «небытие
абсолютно, бытие относительно» — что говорит о первичности
и вторичности небытия и бытия?
Он говорит о первичности небытия и приписывает ему —
абсолютное существование, т. е. приписывает небытию бытие,
т. е. небытие оказывается причастно абсолютному бытию, т. е.
242
В. В. БИБИХИН
бытие первично, а небытие вторично. Мы уже с такими вещами
много раз встречались. Такое впечатление, что с игрушечными
деревянными мечами логики выходят против деревянных вещей.
Эти мечи ломаются сразу.
Независимо от этих доказательств и определений, Арсений
Николаевич Чанышев в § 14 своего трактата говорит то, что я
назвал 12 ноября «формулой русского нигилизма»: только то имеет
шанс не оказаться обманом, иллюзией, ущербным, чего нет. Бытие
подпорчено тем, ущербно потому, что для него что-то надо, надо
чтобы ему была причина; надо чтобы оно было. Что ему причина?
Бог? Но существует ли Бог? Другое бытие? Или бытие само себе
причина, causa sui? При любом повороте дела бытие оказывается
связано с причинностью, началом, всякое начало
проблематично, — как могло начаться начало, когда оно до сих пор не
существовало, и если начало началось, то в чем начало этого начала,
что было первоначалом, и так далее. Чанышев: «Только небытие...
может быть и первопричиной, и самопричиной: ведь то, что не
существует, не нуждается в причине для своего существования»
(162). Или в другой, еще более четкой форме — та же формула:
«небытие существует, потому что небытие не существует» (там
же). Это не словесный трюк, это опыт того, что только тому
ничто не помешает, чего просто нет; что только нет безопасно от
сомнения; что тому, что не существует, ничто не мешает дать
о себе знать; что среди вещей, которые могут, так сказать, и так,
без существования, само несуществование — тоже, или даже
в первую очередь: оно может и так, и ничто ему помешать не
сумеет, а чего оно не сумеет? Кто тому, что не существует, помешает
сделать что бы то ни было? Кто ему помешает существовать? Все
правильно?
Нет, всё правильно. Только опять: логика, которая уже была
на пределе, уже трещала, когда пришлось говорить, что небытие
существует, сейчас отомстит за себя, очень просто: небытию
ничто не помешает существовать, оно «не нуждается» потому что
«в причине для своего существования», — но, сжатая пружина
логики сейчас разожмется и больно ударит того, кто так сильно
ее сжал: небытие точно так же не нуждается и в причине для
своего несуществования, оно точно так лее, как существовать,
умеет и не существовать, И опять же с логикой, казалось бы,
безупречной: «Небытие существует, потому что небытие не
существует» (там же). Как здесь разожмется сжатая логическая
пружина?
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
243
Опять очень просто. Небытие не существует, потому что
небытие существует. Никаких препятствий небытию нет и для
того, чтобы не существовать. А как же мы говорили, что только
то, что не существует, имеет шанс быть не обманом, не
иллюзией? Но мы как раз — я говорил не однажды — не опирались на
логику, не говорили, что не существующее существует. Не
существующее просто не существует. Это не мешает ему хватать за
горло. Оно же не существует? Не знаем. Логика здесь не поможет.
Если я схвачен за горло, логика не поможет мне освободиться.
Не она схватила, не она и отпустит. Формула, которую я назвал
«формулой нигилизма», работает только в одну сторону,
негативно: не надейтесь, что среди существующего вы найдете что-то
окончательное; только то, что не существует, имеет шанс оказаться
абсолютно безобманным. Не больше. Отсюда никак не следует,
что несуществующее существует, существующее не существует:
дальнейшие логические упражнения или диалектико-логические
упражнения, например «небытие как самопричина отрицает само
себя. Небытие небытия есть бытие» (там же), заставляют
тосковать по определенности: но что же такое небытие? логическая
форма этого вопроса абсурдна: что о небытии спросить нельзя.
Что такое тогда по крайней мере существование? Ясно что из
такого небытия его определить нельзя. Но и помимо небытия
его определить нельзя. Надеяться получить в небытии свежий
принцип для дедукции из него всех полезных философских
вещей — не приходится.
Как же так, что же происходит — мы всё ставим на
различении есть — нет, оно важнее, чем день — ночь, но есть — нет
по-честному мы не знаем, что такое.
Нельзя на небытии построить систему — но можно, когда
оно хватает за горло, понять или вспомнить то, о чем Державин
написал за три дня до смерти, умирая:
Река времен в своем теченьи120
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То жерлом вечности пожрется
И общей не уйдет судьбы.
120 Цитирование неточное. (Сост.)
244
В. В. БИБИХИН
Опыт небытия может научить нищете, несуетности и
невзбалмошности, атараксии и апатии, научить «философскому
отношению к жизни», которое Арсений Николаевич Чанышев
определяет так: «атараксия и апатия, пребывание в ничтожестве,
точнее говоря, возвращение в ничтожество и смирение» (165). Мы
об этом говорили, когда говорили о нищете философии.121 Тогда
же мы говорили еще, что это нищета не на время и не для
превращения в богатство.
«Быть или не быть», спрашивает Гамлет в III акте, сцена I,
комната во дворце, и это его вопрос, который развертывается
в следующем, более пространном вопросе, который уже не совсем
вопрос, а ответ, — почти уже риторический вопрос, так и
поставленный, поставленный натурой Гамлета, которая совсем не
нерешительная, наоборот, — второй длинный вопрос поставлен
так, что благороднее, и конечно ответ напрашивается, что
благороднее не страдательность перед наглой фортуной — Шекспир это
продолжение Ренессанса, так называемый северный ренессанс,
и противостояние Фортуне, исторической необходимости, остается
для него долгом доблести: конечно лучше не «переживать» в уме,
как все подчинено Фортуне, а благороднее взять оружие
(благородный, взявший оружие, носящий оружие, готовый к войне), т. е.
упоминанием благородства и оружия на вопрос уже отвечено:
поднять оружие против моря бед и встав поперек им, окончить их —
т. е. не очистить мир от бед, а прекратить для себя море бед, уйти
от моря бед, благородно умереть в схватке с противником, силы
которого заведомо, намного перевешивают: один человек против
Фортуны, против всех, против коррумпированного двора, против
предателей университетских друзей, против английских союзников
преступного короля. Вопрос этот, второй длинный — задан и на
него сразу и отвечено: пойти в бой и умереть, о самоубийстве
Гамлет даже и не думает — какое самоубийство, когда Клавдий
еще не убит, а с другой стороны, зачем, собственно, самоубийство,
когда убить убийцу отца, нынешнего короля, можно только
заплатив за это своей смертью, по разным и весомым причинам, среди
которых одной достаточно, — хотя бы той, что убийца мужа
собственной матери как сможет после этого жить? Ответ — восстать
и умереть в схватке. «Умереть» звучит без слов так ясно, словно
написано в строке, и следующая раздумчивая фраза начинается
уже с «умереть», — единственного мыслимого выхода из
гамлетовского узла. Умереть: кроме того, что это благородно, почти
121 См. третью лекцию (24.9.1991). (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
245
обязательно, это и желанно, потому что прекратит тоску и томление
тела. Все просто; если бы было так, если бы каждый отважился
на бой, перестала бы тянуться бесконечная история унижений.
Почему она тянется, почему люди трусы — и тут опять, в этом
слове «трусы», натура Гамлета, совсем не нерешительная, как раз
наоборот, подстегивает его, — но есть что-то такое, что заставляет
быть трусом, что сильнее благородного порыва восстать и
погибнуть. Смерть в восстании против многократно превосходящих
сил слишком очевидна, слишком достоверна, но человек не такое
существо, чтобы располагать такой степенью достоверности.
Врожденное, натура, голос природы, как благородного зверя, зовет
восстать, требует поединка — вернее единоборства, — еще вернее
самоубийственного подвига, — но человек не может быть уверен,
что небытие это, так сказать, чистое небытие, что смерть такое
небытие. Смерть неизвестно что такое. Если в бытии нет бытия,
потому что неблагородно терпеть повороты и перевороты наглой
фортуны, то в небытии нет небытия: мы не знаем и не можем в
принципе знать, какие сны приснятся в смертном сне. Хайдеггер
говорит в «Что такое метафизика?»: «Мы настолько конечны, что
именно никак не можем собственным решением и волей поставить
себя перед лицом Ничто. В такие бездны нашего бытия въедается
эта ограниченность концом, что в подлинной и глубочайшей
конечности нашей свободе отказано».122 Да мы свободны, но не так,
чтобы окончиться. Даже со смертью мы не кончаемся — если бы
наша смерть была полным концом, покоем, говорит Гамлет, то
покончить с собой было бы просто. Вопрос остается открытым, быть
или не быть, но не потому что Гамлет нерешителен, а потому, что
для человека нет чистого быть и чистого не быть, нигде не видно
таких бытия и небытия, чтобы можно было выбирать, — выбирать
тут не из чего, так сказать, нет повода для выбора, нет
определенности в различении между выбираемым, они растворяются в
тумане, бытие оказывается небытием, небытие бытием.
Современная цивилизация, скажем так, система, в которой
развертывается сейчас жизнь, делает очень уверенный вид, что она
знает, что есть, чего нет. Мне нужно купить что-то в магазине, мне,
конечно, говорят нет, т. е. я не могу купить, не с чего купить, с
какой стати, мне никто не продаст, определенно и с вызовом нет. Но
у меня оказались валютные деньги, тогда товар есть, безусловно
и определенно есть, пожалуйста берите, сделайте одолжение. Но
122 Хайдеггер. М. Время и бытие (статьи и выступления). М.: Республика,
1993, с. 24. (Сост.).
246
В. В. БИБИХИН
оказалось, что мне валюты не хватает, тогда товара мне опять нет,
снова с полной определенностью, с вызовом, с поучением, что
товар стоит столько-то и меньше стоить не может. Все отчетливо.
Что есть — то есть, чего нет — того нет. Но ребенок, который сел
в картонную коробку и едет на машине — у него машина есть или
нет? Нет, у него машины нет. А взрослый, который сел в машину
и в ней едет, — у него машина есть? У него машина явно есть, он
сидит в ней и едет. Снова все совершенно определенно. Нет, есть.
Но ребенок в коробке полнее едет на машине, чем взрослый,
который озабочен пробками в городе, бензином, неполадками,
штрафом, амортизацией, а у ребенка машина его не знает амортизации?
Нет, стоп, это мы уже куда-то не туда заехали, так мы Бог знает
до каких странностей добредем, лучше будем оставаться при до-
стоверностях, очевидностях: у ребенка коробка не машина, у него
машины по-настоящему нет, у взрослого есть. Есть то, что есть,
нет того, чего нет. Но в этом есть, может быть, столько нет, что
никакого есть не остается? Не надо: это философия. Есть то, что
есть; нет того, чего нет, и дело с концом. Предъявите. Что
предъявлено, то достоверно. Хайдеггер называет существо современной
техники поставом.
Мы будем, допустим, стоять на своем: нет, все-таки, говорить,
что благосостояние есть, нельзя, потому что что это за
благосостояние, купленное разрушением окружающей среды, это не
благосостояние, а граната замедленного действия. — Нам скажут:
ну вот, станем теперь выяснять, что такое настоящее есть и нет,
словно цивилизация не знает, а вы знаете. Цивилизация с
большим размахом делает какое-то громадное дело, она не смогла бы
его делать без четкого, объективного различения существования
и несуществования, бытия и небытия, есть и нет, — химия,
физика, психология есть, алхимии, метафизики, парапсихологии нет,
на этом стоит наука, иначе бы наука разрушилась. А вы путаетесь
под ногами.
С Гамлетом происходит не так, что он нерешителен и
борется против своей нерешительности и в конце концов решается на
решительный поступок. Если он борется с чем-то внутри себя, то
против своей решительности, против своей решительной,
свирепой натуры, native hue of resolution, которая толкает его к одному
окончательному бою с наглой фортуной, с оскорбительным
верчением политического и общественного колеса, с «морем бед»,
the sea of troubles. О якобы нерешительности, двойственности
Гамлета наговорено целое море бессмысленности, его
поведение отождествили с раздвоенностью современной человеческой
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
247
психологии, расслабленной и потерянной, которая хотела бы
решительности, природного благородства, того, когда взять в руки
оружие — не просто легко, но единственно естественно, против
зла, но поскольку этой решимости натуры нет, то нет и неоткуда
взяться предостережению, что человеку не дано по-честному
распорядиться собой. Он другое существо, пришедшее на землю не
для распоряжения. Тогда для чего, в чем он не разодран между
благородным инстинктом последнего решительного боя и
пониманием, которое ведет к амехании, неспособности шевельнуться,
ввести в действие механизмы, оружие.
Гамлет только тогда весел, оживлен, однозначно уверен в
каждом своем действии, непреклонно решителен, когда в замке Эль-
синор появляются актеры. Что они будут хорошо приняты, что им
дадут играть, что их подбодрят играть без опаски и цензуры — вот
это Гамлет обеспечит. Вот что однозначно, безусловно
должно быть, искусство, страстная игра, и такая, которая придвинет
к жизни зеркало, совсем близко придвинет, очень чистое и яркое
зеркало, не оружие, а ясность, которая разгоняет туман. И когда
становится светло, перед зеркалом свободного искусства, которое
имеет право играть злодейство и ложь перед глазами людей,
которые не сумели сами вести себя так, чтобы на них не упало
подозрение в зле, — искусство имеет право говорить о том, что все
скрывают, так, как искусство умеет говорить, не распоряжаясь, не
применяя свой свет для принятия мер, — тогда зло не
выдерживает, принимает меры, как зло всегда действует принятием мер,
решительными акциями, — не понимая, с какой на этот раз оно
имеет дело человеческой собранностью в Гамлете, с какой
решимостью, с каким умом, с каким вниманием. Меры принятые злом
повертываются несколько раз — или, наверное, всегда так
бывает, — повертываются перед таким присутствием, присутствием
всего человека в его существе, понимании, — против самого же
зла, ведь поездку в Англию, в конце которой едущий должен быть
убит, и отравленную рапиру, и отравленное вино придумывает,
приготавливает и подставляет зло, и Гамлет, который просто ничего не
сделал с собой и ничего с собой не хочет сделать, чтобы перестать
видеть, делает, собственно, только то, что не устраивает ничего,
не предпринимает, только слышит и видит и остается самим
собой, — не подавляя, между прочим, а только сдерживая в себе
свою природную свирепую решимость, native hue123 of resolution.
123 Hue — призыв преследовать беглого преступника, to raise a hue
поднимать крик или тревогу.
248
В. В. БИБИХИН
Он ничего не решает. И мы тоже не должны решать, что
существование есть вот это, а несуществование вот это, и выйти
с готовым эйдосом бытия и небытия, чтобы можно было потом
узнавать в Пармениде знакомое: а, Парменид, это тот, который
о бытии и небытии! Не потому, что мы обрадовались, что можно,
разрешено быть нерешительным, а потому, наоборот, что мы, как
и в этом случае с Парменидом, слишком решительны, слишком
расположены сразу знать, очень много знать, и распорядиться своим
знанием, или распорядиться миром при помощи своего знания. Не
хватает света, а не распорядительности. На искорку самую
крошечную света сразу приходится несоразмерно большое количество
распорядительности, как большой начальник дает и подписывает
в своем кабинете утром сразу очень большое количество
распоряжений. Но уже и вчера и позавчера было тоже очень большое
количество распоряжений, и было дано очень много указаний,
заведомо слишком много для того всегда ограниченного света,
в котором стоит этот человек, распорядительный начальник. То
же можно сказать и о сознании, которое распоряжается, правда, во
главе большого количества исполнителей, но внутри пространства,
наполненного его представлениями, сформированной им системой
взглядов на мир, и так далее. Не хватает не распорядительности,
а света, потому что слишком многое из того, что уже произошло
и сделано, успело как-то произойти и сделаться незаметно, в
темноте, и заметить многое из того, что происходит даже с самим же
человеком, не то что со страной, человеку не дано, он только не
должен хотя бы срываться в раздраженное принятие мер по
поводу своей слепоты, как если бы в темноте достаточно было бы
начать делать резкие нетерпеливые движения, чтобы все вскоре
стало хорошо. Как в шекспировском «Гамлете», безусловно нужна
только игра света, безусловно нужна свобода этой игры, зло тогда
выдаст себя, перед зеркалом искусства, — так и мы в нашем
вопросе о существовании и несуществовании можем позаботиться
только о том, чтобы не мешать небытию дать о себе знать, — как
интересно оно даст о себе знать, — и не мешать бытию самому
сказаться, самому с-казать-себя, как Розанов, который, как
сомнамбула, говорит то, чего не говорит, и не говорит то, что говорит,
и в говорении, и в неговорении никогда не мешает быть свету, как
бы игрой своего говорящего молчания, умалчивающего говорения
дает прибавиться свету, и в этом свете, как он говорит на 170-й
странице «О понимании», дать существованию, бытию самому
проступить перед нами, как утром когда светает проступают
очертания предметов, или как с постепенным прояснением штрихов
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
249
проступают очертания рисунка. Это место мы должны запомнить
для чтения потом Парменида: «Существование во всех случаях
остается неизменным и тождественным себе, но только не
обнаруженным, обнаруживающимся и обнаруженным для чувственного
ощущения человека, проступающим перед ним — мы не можем
найти более выразительного термина» (169—170/145). Мы не
можем сами решить, что считать существованием и
несуществованием, не потому, что у нас не хватает зоркости глаза и знаний,
а потому, что мы не знаем, не хватает ли нас за горло небытие, как
когда мы даем дефиницию бытия, несмотря на всю нашу зоркость
и все наше знание. Можем мы устроить всё и устроиться самим
так, чтобы небытие не держало нас за горло? Ясно, что нас во
всяком случае для этого не хватит. Надо, чтобы нам было что-то
дано. Об этом говорит Деррида в своей книге Donner le temps,
которая вышла в сентябре в Париже. Как бы ни было принято то,
что дано, уже в первой, исходной форме знания: это мне дано, это
мне подарено, это включено в мою экономику, подумаю ли я, что
я такой человек, что и правильно мне должны дарить, или
подумаю, что я обязательно теперь верну подаренное, — подарок как
дар перестал быть. Подарок должен был бы разрушить экономику,
он иначе не подарок, но вместо этого он одной фиксацией «а, вот
подарок» включается в экономику — экономию, а лучше сказать
икономию, упорядоченное устроение, внутреннего мира или
внешнего, во всяком случае в систему ведения хозяйства. Икономия на
соборе 1341 года, первом паламитском.124 Но и на каждом соборе.
Дар — не должен он прервать экономику, остановить обмен? Но
практически не только не останавливает: наоборот, подталкивает,
поощряет круг возвращения, обмена. Симметрию взаимообмена
подарок должен был бы разомкнуть, прекратить измеривание.
Подарок, собственно подарок, не должен был бы вернуться к
дарящему — разве тогда это подарок. Тут должно прекратиться
циркулирование, кругооборот — по крайней мере дар не должен быть
исчерпан возвратом. Экономика — это круговращение, товаров
и денег, но и подарков — тоже (ниже Деррида будет говорить об
экономической системе, у американских индейцев, построенной
на подарках, так называемых подарках).
И вот, поскольку подарок даже если он не возвращен и
остается подарком, и даже особенно именно в этом случае, потому
124 См. об этом подробнее в послесловии «Краткие сведения о жизни и
мысли св. Григория Паламы» к переводу: Св. Григорий Палама. Триады в защиту
священно-безмолвствующих. СПб., 2004. (Сост.)
250
В. В. БИБИХИН
что он тогда становится слишком ярким, слишком броским,
слишком заметным, невыносимым, — подарок, именно
только благодаря тому, что он подарок, становится невозможным.
В «Провинциальных анекдотах» Вампилова, «Двадцать минут
с ангелом», неожиданный поступок, желание просто подарить
незнакомому человеку безвозвратно немножко, совсем немного,
именно тем, что ставит другого в невозможность отдарить,
вызывает страшную невыносимость ситуации, даритель —
«ангел» — третируется как преступник, да еще и небывалого рода. Он
разорвал круг, кольцо, в котором все движутся. Он невыносим: он
должен как можно скорее вернуться в круг, придумать, доказать,
что не хотел разрушить кольцо подарком, или что сделал подарок
в том смысле, в каком обычно делаются подарки — со слежением,
чтобы отдаривание было соразмерным, а если не будет
соразмерным, то отдаривание совершится в другой форме — в форме
отнятия от невидимого статуса, от достоинства, или от
общественного положения, или от положения в кругу родственников
и знакомых.
Всякий знает этот опыт — невозможность подарка. Подарок
не просто невозможен, он сама невозможность, l'impossible,
с определенным артиклем: сама фигура невозможности. Он дает
о себе знать, напрашивается, что он невозможен. Кто-то дает
что-то кому-то — это формула подарка, она же формула
невозможности подарка: потому что одаренный остался с этим чем-
то, он одаренный, он при подарке, посмотрите на него, он уже не
такой как раньше был, он одарённый. Мы знаем, как относятся
к одарённым, как одарённые относятся к самим себе, какая это
требовательность, которая какой отдачи требует. Так со всяким
подарком. Остаться подарком он не останется.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
251
1—15(17.12.1991)
1) σκιαγραφία; 2) denken, Gedanke, Dank; 3) λόγον διδόναι;
4) le don, donner; 5) Rache
Мы должны отчитаться, доложить перед какой-то строгой
инстанцией — она будет реально присутствовать на зачете или
экзамене или ее присутствие будет предполагаться, т. е. если
реально она эта инстанция будет нам потакать, спрашивать и
требовать почему-то нестрого, то мы сами будем хотеть ее как можно
более строгой, без скидок для нас, без потакательства, чтобы нас
проверили по-настоящему. А мы занимались разговорами. Самое
простое, в смысле самое естественное, наиболее статистически
вероятное, это что в стиле тех жестких разоблачительных записок,
которые уже были, нам скажут, или прямо, или как-то по-другому
дадут нам знать решительно: ваша работа перечеркнута, ее пет; то,
что по-настоящему есть, — другое. Мы хотим встретить момент
истины, мы как будто видим занесенную руку, для решительного
жеста, разрезающего, отделяющего есть от нет. Отбрасывающего
то, чего нет. И в этом жесте отбрасывания того, чего нет, столько
гнева, столько захваченности, страсти, столько суровости. Мы
обратили здесь внимание, что есть и нет, разница между ними, —
острая грань, резко разделяющая, к которой человек имеет какое
отношение? Не человек эту грань придумывает, так чтобы можно
было сказать, что говорить о ней, обращать на ее резкость
внимание значит поддаваться страху, или неврозу, или истерике — это
неверно; — кстати, вы знаете, я лучше предложил бы называть
теперь этот курс, он начинался с условным названием «Чтение
философского текста», потом просто «Чтение философии», я
много раз извинялся за это название, и много раз обещал, что мы
его должны переменить, только не знал как, — если те власти,
те начальства, и в повседневном, и в евангельском смысле слова
начальства, сделают так, чтобы мы продолжали еще говорить
в весеннем семестре (сегодня предпоследнее собрание зимнего
семестра, последнее будет в канун католического и греческого
православного и румынского православного и коптско-сирийского
тоже православного Рождества), — т. е. если нам еще будет дана
воля, то назвать продолжение этого курса по-другому, примерно
так: «Есть и нет», тем более, что мы будем читать Парменида.
Так вот, напрасно мы будем думать, что от нас зависит, будет
резкое разрезание «есть и нет» или не будет, или что если изба-
252
В. В. БИБИХИН
виться от страха и истерии, то граница, порог между ними как-
то сотрутся: снова и снова в разных видах, иногда незаметных,
строгое, если даже не сказать жесткое, деление «есть» и «нет»,
не человеком введенное, захватывает человека так, что нигде
человек не поднимается до такой остроты своего присутствия,
как когда втягивается в напряжение, которое увеличивается, до
предела, — до священной или какой-нибудь другой войны, которая
всегда против раньше, чем за, т. е. всегда когда нет обостряется
до того, что человек готов бросить всего себя, т. е. больше, чем
себя, — всё, с яростью, и тогда своим собственным, кровным есть
и нет, которое только теперь перед ним, в этом обострении всего,
проясняется — когда уже большей частью поздно, когда он уже
втянут в воронку, которая скорее всего кончится только смертью
или чем-то другим непоправимым, — тогда острота и ужасающая
трудность решения между бытием и небытием, между есть и нет,
доходят до невыносимости, — и одновременно уклониться от них
нельзя, человеку суждено, оказывается, — на роду написано
выносить это различение. Война абсурдистским образом буквально
с нелепо ясной очевидностью ставит перед человеком, буквально
вдвигает в само тело человека, насильно, эту остроту грани между
бытием и бытием, — так и тогда, когда заведомо уже поздно
разбираться, заведомо черта будет проведена грубо и дико, заведомо
все будет слишком вдруг, — но почему-то спорить с правом
небытия на него человек не будет, и единственное, что он сможет
в кризисе противопоставить небытию, в случае войны это грубое
растаптывание, не себя и не вещи, все это будет тоже грубо,
вызывающе растоптано, — а только бытие (только в условиях
обвала всего уже не будет времени и внимания, спокойного, чтобы
распознать то, что по-настоящему может выстоять) будет иметь
право выстоять против яростного нет, и не будет времени дать
настоящему бытию возможность постепенно, надежно вырасти,
и на войне кончится все усталостью, и еще очень хорошо, если
победа не будет торжеством бездумности, кажущимся
разрешением уйти от остроты различения между есть и нет, на самом
деле — отодвиганием вопроса, откладыванием различения снова
на потом, т. е. значит снова подготовкой нагнетания остроты, когда
человека снова захлестнет, и он снова не будет иметь права
уклониться, отвести от себя решение. — Лучше мы начнем пораньше,
уже сейчас, верить в то, что нам не миновать этого решения,
между бытием и небытием, и решение затрудняется тем, что мы
не можем удобным для себя образом постановить, что нам надо
считать бытием и небытием, или ограничить, пусть другие как
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
253
хотят, а я ограничиваю себя таким пониманием бытия и небытия:
бытие и небытие каким-то образом сами есть, и парменидовское
решение, к которому мы должны будем приглядеться — если
начальства нам это позволят, — о том, что бытие есть, а небытия
нет, вы понимаете, ничуть не помогает успокоиться, — мы уже
говорили об этом совсем абсурдистском, чуть ли не сказал даже
маразматическом истолковании того Парменида, что успокойтесь,
все равно небытия нет, так что что ни будет, все будет надежное
бытие, — мы говорили и еще будем говорить об этом, не
проходит, и Парменид делает другое, как раз наоборот, взводит как
пружину часов, философских странных часов, которые будут
отсчитывать не время, а ступенечки четкости в различении есть
и нет, или будут отсчитывать время по развертыванию события
вдвижения, в человеческий мир, внедрения в него этого режущего
различения.
Мы поэтому лучше будем думать, тем более сейчас когда
приближается время экзаменов, что мы должны отчитаться перед
экзаменующей инстанцией, а какая бы она ни была, это будет
инстанция, которая вооружена отчетливым, режущим
различением между есть и нет, и показать наше есть и нет — нашей
готовности, зрелости для того, чтобы нести и вынести это
различение, — что мы готовы к этому различению, о нем не только
читали, не только думали; знания и мысли еще мало, а — все наше
присутствие должно быть в том, или вернее тем, что называется
философией. Чтение философии — прочтение философии, как ее
развертывание, вынимание, извлечение. Мы будем отчитываться
на экзамене в этом. Будет грустно, если экзаменующая инстанция,
какая бы она ни была, внешняя или наша внутренняя, будет нам
потакать и, скажем, сочтет достаточным, если мы что-то
запомнили из прочитанного, как это называется, знаем авторов. Как важно
знать авторов! А. Ф. Лосев с университетских студенческих лет
навсегда помнил Гегеля по разделам его книг, что «Наука логики»
состоит из учения о бытии, учения о сущности, учения о понятии,
что бытие развертывается ступенями качества, количества, меры,
сущность — ступенями существования, явления,
действительности, учение о понятии — субъект, объект, идея. Никогда мы не
станем довольствоваться каким-то общим представлением о вещах
и событиях, — а гегелевская «Наука логики» такое же событие
или в большей мере событие, чем поход императора Наполеона
на Москву, — тем более получать эти представления из вторых
рук. Всегда мы будем только вчитываться и еще раз вчитываться
в вещи, в каждую фразу, и никто нас с этого не собьет, никто не
254
В. В. БИБИХИН
убедит думать, будто буква не важна, что будто «за буквой» что-то
стоит. Важна буква, факт, из первых рук, а наши «представления»,
«концепции», «образы», «обобщения» настолько неважны, если
они остаются только нашим соображением, в пространстве
нашего сознания. Где же тогда, могут спросить, будет делаться наша
философия, ведь мы же должны заниматься философией, если мы
будем со святым почтением относиться к букве и факту, где же
тогда наша самостоятельность? — Нет! Все что угодно, только не
формирование собственной точки зрения, только не составление
личного мнения, только не создание концепции, т. е. что угодно,
только не уход от вещей, буква и факт вещи, слово вещь, только не
уход в пустое пространство, воображаемое, рассуждений и
соображений, где нам кажется, что мы распоряжаемся целым миром,
а на самом деле распоряжаемся туманом и чертим в тумане
невидимые никому черты, σκιαγραφία τις, говорит Платон, писание
тенями — как жители прикованные подземной пещеры нацелены
всем своим вниманием только на тени на стене от проносимых за
их спинами фигур.
Нет лучше мы будем иметь дело с вещами, и буква тоже вещь.
Если бы мы были историками, то мы от архивных документов,
от книг, разыскивая их, может быть, от свидетелей, если они
еще остались, тоже разыскивая их, мы проясняли бы
историческое событие, которым мы заняты, и на каждом шагу все больше
убеждались бы, что оно не такое, какое мы думали, и что как
думать о нем, как понять его, зависит от того, кто мы такие,
и мы на каждом шагу исторического исследования понимали бы,
что это исследование специальное, оно только частное, не целое,
и к целому на своих путях прийти не может. — То же самое
пришлось бы сказать о всех других науках. Но: всем им не хватает
философии — а философии не хватает их всех: никакая мера
внимания к факту, настоящего, научного, к букве (филология),
к строю (математика), к согласию (музыка), к слову (поэзия),
к веществу (физика) для философии не лишняя, не такая, что без
нее можно обойтись, — философия поэтому в долгу у всех наук,
точно так же, как все науки нуждаются в философии, для того,
чтобы иметь право заниматься своими частными и специальными
предметами, — этим невозможно было бы наукам заниматься,
если бы нельзя было отослать основания своих понятий, вообще
целое, вообще все философское к философии, — совершенно
независимо от того, действительно ли реально есть философия,
которая делает это свое дело, или такой философии давно уже
нет.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
255
Мы будем, я говорю, всерьез относиться к экзамену, к
проверке, и если нам будут потакать, нестрогостью, то мы сами будем
хотеть, чтобы мы стояли перед строгой проверяющей инстанцией.
Но все равно мы попросим это начальство (в том широком смысле
начальства), чтобы оно учло нашу ограниченность. Конечно, мы
не хотим, чтобы наше понимание философии было ограниченным.
Мы ограничены по-другому: тем, что мы в центральном большом
огромном городе восточно-европейской равнины, что мы в конце
XX века от рождества Христова, от эпохи расцвета — начала —
Римской империи, в годы совсем не расцвета, а апокалипсиса,
упадка империи, которая задумала себя как третий Рим, — или,
может быть, в годы раннего начала чего-то такого, о чем мир еще
не знал. Мы ограничены — и одновременно наделены, одарены
этим своим положением во времени и пространстве. Было бы
совсем глупым, каким-то верхом глупости вообразить, что надо
отвлечься от стесняющих обстоятельств и прийти в состояние
той академической, кабинетной атараксии, которая якобы во все
времена требовала для погружения в философию
абстрагирования, обобщения. Это как если бы у нас были ноги, чтобы идти,
а мы почему-нибудь верили бы, что у нас еще должны отрасти
крылья, дожидались. То, что нам кажется невыносимым, самое
скверное наше, чего и в мире-то больше нигде нет, что мы
считаем совершенно случайным, — это, если воспользоваться не об
этом сказанными словами и немножко другими словами Фрейда
и Гегеля, царские ворота к философии. — Пусть поэтому
экзаменующие инстанции требуют с нас того, что можно с нас требовать.
Всё, что мы делаем, мы делаем потому, что оказались в нашем
положении. Первое название нашего курса, «Чтение философии»,
было потому такое, что мы от крайности нашего положения, от его
необычности, самой этой крайностью оказались подготовлены к
тому, чтобы взяться читать философию как бы впервые, заново —
и вот, не для того, чтобы из нее извлечь, потому что мы оказались
без мировоззрения, с позиций которого можно было бы
действовать, анализировать, критиковать, и без смысла существования,
как бы целая страна, которая не нужна, где и каждый человек не
нужен особенно, кроме как может быть утилитарно, ни другим,
ни все вместе — никому в мире не нужны. Доведенным до
крайности, нам до философии ли дело? Но да, именно до философии:
сейчас только и время для философии. Отсюда наше здешнее и
теперешнее, наше ожидание или понимание философии, первый
вопрос, по которому мы можем отвечать на экзамене. Мы
надеемся — или мы вспоминаем, читая у Аристотеля о философии как
256
В. В. БИБИХИН
удивлении, о не-нужности философии, читая аристотелевский
рассказ о Фалесе,125 что философия как раз говорит из крайности
человеческого положения, из брошености и из нищеты. Место
философии в культуре: на краю, и при кризисе культуры, когда
привычные подходы становятся проблематичными, философия
открывается как то, что на краю, при основаниях всего и стоит в
том числе там, где уже нет оснований. Место философии в
культуре, первый ответ на первый вопрос, который мы можем дать, и
уверенно в своей правоте, на том экзамене, который нам
устраивает наша ситуация. Когда Маркс воспринимал прудоновскую
нищету философии и вообще нищету философии как
невыносимый скандал, когда надо немедленно принять меры и добиться
для нищего класса, абсолютно нищающего класса, пролетариата,
всемирно-исторической победы, мы возвращаемся к нищете
философии, к ее крайности, обещаем никогда из этой, такой нищеты
не выходить. Параметры философии, первый экзаменационный
вопрос. Она — для крайнего положения, она как раз для этого
нашего крайнего совершенно отчаянного положения, словно с
самого начала и предназначена была раскрыться в своей полноте
именно нам.
Мы думаем, дальше, что мы не одни, в таком положении.
И это положение, внутри которого мы думаем, началось не
сегодня. Уже в прошлом веке Россия была заряжена своей
исключительностью в мире. 120 лет назад в Симбирске учился, и
назвал Симбирск своей духовной родиной, Василий Васильевич
Розанов, по времени как раз оказавшийся посредине между
двумя полярными крайностями, а полярные крайности всегда
загадочно принадлежат друг другу, — между списанным с жителей
Симбирска Ильей Ильичем Обломовым, это за 15 лет до Розанова
в Симбирске, и одержимыми лихорадочным, настоятельным,
немедленным действием, Александром Федоровичем Керенским и
Владимиром Ильичом Лениным, из того же Симбирска. Розанов
как мысль, вобравшая в себя, принявшая в себя этот разнос, размах
нашего российского пространства, для того, чтобы мобилизоваться
и принять немедленные меры, что при вопиющих противоречиях
российской действительности почти всем, за исключением
может быть только одного Розанова или еще нескольких,
немногих, казалось единственным возможным поведением, — Розанов
поэтому как тот, кто вынес, нес на себе историческое напряжение,
или точнее сказать, это событие, каким была и долго оставалась и
125 См. третью лекцию (24.9.1991). (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
257
до сих пор еще остается Россия. Розанов вошел в историю мысли
с неуслышанным словом понимание. Мы читали Розанова, мы
надеемся, что услышали от него, когда он говорит о понимании
в одноименной книге, и потом, когда он уже почти не говорит
о понимании, но говорит — загадочным для всех почти
образом — из того понимания, о котором он почти первый в России (но
мы еще должны будем прочесть Чаадаева и Леонтьева) объявил;
и через это розановское понимание мы надеемся прийти к тому,
что философия называла «ум», «нус», «софия», «интеллект»,
«разум», «теория», «созерцание». Второй вопрос, который мы хотим
отвечать на экзамене: пусть нас спросят, что такое понимание,
философское понимание. Как оно относится к знанию, к
действительности, к жизни. Отношение философии к жизни. Ответ
Розанова: он различает понимание и философию, «понимание не
только несомненнее науки и философии, но и обширнее, чем они»
(Х/7). Хотим ли мы иметь философию, которая уже понимания?
Как мы должны относиться к Хайдеггеру, который в конце концов
сказал, что его дело не философия, пусть философия занимается
своей техникой, а мысль, Denken, в которой Хайдеггер слышит то
же, что и немецкий язык, — думание как благодарность, Dank.126
Так далеко замахивается, и еще гораздо дальше, чем я сейчас
сказал, тема понимания.
Третье. Розановское понимание: «не человек обладает им, но
он[о] живет в человеке, покоряя себе его волю, желания...
скорее заставляет человека забывать о всех нуждах и потребностях
своих, нежели служит им» (19/24). Розановское понимание не
имеет отношения к жизни, его место амехания, неспособность
применить механизмы, технические приспособления. Полная
противоположность — Соловьев, который весь нацелен на то,
чтобы из всеединства, а это у Соловьева мистический, истинный
опыт, вывести начала искусства жизни, теургии. Где Розанов
заворожен тайной мира, там Соловьев горит немедленным пере-
стройством, организацией всего, чтобы выгнать из мира тупость.
Это надо о Соловьеве знать, его отклонение и материализма,
и идеализма в «Критике отвлеченных начал», «Оправдании
добра», «Теоретической философию».127
126 Nachwort zu: «Was ist Metaphysik?». — Heidegger M. Wegmarken. Frankfurt
am Main, 1967, S. 107. См.: Хайдеггер. M. Время и бытие (Статьи и выступления).
М.: Республика, 1993, с. 40 и прим. 6. на с. 410. (Сост.)
127 [Запись В. Б. на полях машинописи] Их слова слышим — а дела? Или
и слова, в смысле что они говорят, не слышим? Как услышать, критиковать ли?
258
В. В. БИБИХИН
Соловьев строит, или, его словом сказать, организует
мировоззрение, для того чтобы мировоззрение в свою очередь потом
организовало, устроило человеческую жизнь на безусловных
началах — а до сих пор жизнь была построена на шатких, туманных
началах — на началах добра, истины и красоты. Для этого сначала
Соловьев опровергает, в буквальном смысле — опрокидывает
мировоззрения материализма и идеализма, переворачивает их
с головы на ноги, с их объявленных, напоказ выставленных
начал — на их настоящие, мало осознанные начала, когда
оказывается, что материализм стоит на догматическом постулировании
мета-физического, лежащего за пределами физического опыта,
принципа, например атома, т. е. оказывается на самом деле
догматическим идеализмом или идеалистическим догматизмом, а
идеализм, наоборот, оказывается, имеет опору, опять мало осознанную,
в индивиде, вот этом эмпирическом с его физиологией и
психологией. Мы хотим, читая «Критику отвлеченных начал» Соловьева,
блестящую критику вот этих двух противоположных отвлеченных
начал, материализма и идеализма, думая и сопоставляя, отчитаться
перед экзаменирующей инстанцией, какая бы она ни была, в
нашем понимании материализма и идеализма, тем более еще
совсем недавно, еще и теперь, в самом предисловии к двухтомнику
Соловьева, где «Критика отвлеченных начал», в последнем номере
12 за этот год научно-теоретического журнала «Философские
науки», в статье «Некоторые вопросы преподавания философии
в ВУЗе», где перечисляются недостатки идеологизированного
преподавания философии в ВУЗе, они такие: идеализм трактовался
не иначе как «пустоцвет»; философия сводилась к прикладной
логике, к умению оперировать законами и категориями
диалектики; шло «обкрадывание» самих себя, людей поощряли не знать
своих и чужих ненаучных философов, т. е. не пользующихся
законами диалектики; ориентировали искать в философии ответы,
отмычки, когда философия это прежде всего школа мысли, умение
думать; приучали держаться за учебник, в котором все правильно,
последнее время — за так называемый новый учебник «Введение
в философию. В двух частях. (Руководитель авторского
коллектива И. Т. Фролов)»,128 который написан «с прежних
методологических позиций»,129 претензия на системность создает у студентов
Можно ли знать? — Только вложить себя в есть, против нет, — но и то как? Не
упуская ускользания.
|2* М., 1989.
129 Воронцов. Б .Н. Некоторые вопросы преподавания философии в ВУЗе.
ФН, 1991, № 12, с. 101. Далее ссылки на страницы в тексте в круглых скобках.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
259
впечатление «завершенности философского знания» (там же).
После этой критики автор статьи предлагает строить
преподавание философии вокруг истории философии, «философия в таком
курсе предстает живой, персонифицированной... студент...
получает „свободу выбора"... это особенно важно в современных
условиях, когда любое навязывание информации порождает резко
негативную ответную реакцию... курс истории философии
обладает гораздо большим культурным, гуманитарным потенциалом,
чем читаемый ныне курс» (101). Как же в таком случае, при отказе
от учебника единого установочного, от тренировки в
диалектической технологии, от единой философской научной системы, как
же тогда «формировать у студентов материалистическое
мировоззрение, доказывать его правильность и преимущества перед
идеализмом?» (там же). Вопрос этот трудный, «на засыпку»,
признает автор статьи, но предлагает решить его так: «Цель
преподавания философии в ВУЗе мы видим в воспитании одного
только гуманистического мировоззрения. А будет ли при этом
студент материалистом или идеалистом — решающего значения
не имеет» (102). Действительно ли мы должны остаться —
вынуждены будем остаться — при материализме и идеализме и при
выборе между ними или при согласии с тем или другим? В том
смысле, что «а, что там ни говорите, как ни исхитряйтесь, а два
эти направления, или тенденции, или типа, материализм и
идеализм, всегда останутся», и не надо затушевывать этого основного,
радикального различения? Или мы остаемся пока еще за дверьми
мысли, если думаем, что в нее ведут два разных пути и что нам
надо между ними выбирать — т. е. мы заранее знаем о
пространстве мысли, как оно устроено.
Четвертая связка вопросов, о которых мы должны дать
отчет проверщику, материальному или идеальному — вы видите,
в данном случае, по существу для нас нет большой разницы,
материальный это будет, материализовавшийся проверщик или
идеализированный, потому что мы как-то и без них знаем, что
такое проверка и что такое отдать отчет, логон дидонай, и в каком-
то смысле не только экзаменатор нас проверяет, и может быть
незаметно для него мы его проверяем по нашему пониманию
отчетности, — а наше идеальное понимание отчетности, мы мало
можем ему доверять, пока оно и само не проверено. Проверка,
удостоверение — работают ли они до конца, так, чтобы можно
было, разбираясь, анализируя, углубляясь, добраться до
последней достоверности и на ней утвердиться? Основа, на которой
хочет строить Соловьев, — всеединство. Это особенное понятие,
260
В. В. БИБИХИН
которое в своей основе не концепция, а опыт. Какое отношение
соловьевское всеединство имеет к розановскому пониманию?
Ответ: прямое. Они просто одно и то же. Соловъевский истинный
опыт всеединства и розановское понимание просто-напросто
одно и то же, это один и тот же опыт. Но: если Розанов говорит,
что «истинный признак ума, способного образовать науку,
состоит не столько в умении связывать отдельные явления, сколько
в понимании невозможности связать непосредственно явления»
(16/20), то Соловьев только и занят строительством моста в местах
разрывов. Мы должны показать проверяющему, где место разрыва
между всеединством и единичным, между сознанием и внешним
миром — это уже пятый вопрос, о теоретической или, лучше было
бы сказать, скептической философии Владимира Соловьева.
Шестой вопрос — организация действительности у Соловьева.
Седьмой — эстетика, искусство и вообще творчество, опять
у Соловьева.
Восьмой вопрос — иллюзия и правда у Владимира Соловьева.
Как прийти от кажущегося к достоверности? Тема соловьевской
«Теоретической философии». Как прийти от сознания к внешнему
миру?
А мы поставим этот вопрос — он будет девятым — для себя
шире: как прийти от нет к есть! От небытия к бытию? От
ненастоящего к настоящему? Или так ли проблема-то поставлена?
Не нужно ли ее поставить по-другому: не как прийти от небытия
к бытию, а что такое бытие и небытие? Настоящее и ненастоящее?
Как мы это узнаем? Откуда вообще? Кто нам сказал?
Например — и это 10-й вопрос — статус универсалий, они
имена или вещи. Проблема лошадности.
11-й вопрос. Мы должны вернуться к утрированному, гипер-
трофированнолу скепсису соловьевской «Теоретической
философии», где из иллюзии сплошной спасает только замысел
постижения истины, который обеспечивает, так сказать, сам себя тем, что
он замысел и настойчиво будет оставаться, не уходить со сцены,
добиваться своего. Помимо этого замысла, который, конечно, факт,
но особенный, — помимо того, что само себя обеспечивает, как
решимость, как воля, безусловным существованием что-нибудь
располагает? Нигилизм, условно говоря — затаенный нигилизм
соловьевской «Теоретической философии», верна ли формула,
в которой мы попробовали его высказать, «только то имеет шанс
не оказаться иллюзией, обманом, чем-то подстроенным, что не
существует»? Верно ли, что нигилизм, такой сильный в критике,
оказывается бессилен против того, что не существует, — как, на-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
261
пример, субъект, который, возможно, не существует, и Соловьев
доказывает, что субъект не существует, — все равно ему,
существует он или нет? Он, так сказать, может и так, без существования?
12-й. В чем главный вопрос философии? Почему философия
спрашивает о главном вопросе? Почему вообще у нее вопросы?
Кто задает вопросы, кто на них отвечает? Откуда происходят —
из другого философского кабинета, с другой кафедры вопросы,
внутри философского красивого небосвода, или вопросы у
философии появляются потому, что их не задает жизнь, жизнь их
задать упустила, жизни вопросы не нужны, она как-то так умеет,
и без вопросов? Я не знаю. Мы не знаем. Почему вообще есть
вопросы или почему, наоборот, их нет? Похоже, что вопрос все-
таки есть, но только он странный, не в форме «что есть что», или
«какое это что», или «что первично», а в более весомом смысле
требования — ведь и главный вопрос философии, который мы
должны были знать, вместе с ответом на него, был требованием,
совершенно определенным, точным до того, что имелась и была
известна инстанция, которая руководствуясь первичностью бытия
и вторичностью сознания вплоть до того что каждому человеку не
только в нашей стране, а каждому в мире могла предписать и
предписывала, что он должен, когда, как. Откуда идет требование?
Откуда идут вообще все эти 12 вопросов? Кто спрашивает,
кто экзаменатор? Вопросы от имени культуры, даже конкретно —
с кафедры истории и теории культуры, вопросы для того, чтобы
на них отвечая, подгоняли себя, поднимали до уровня культуры,
потому что культуры мало, мы живем в крайнем упадке, люди
проводят в очередях время, части которого, половины заведомо,
хватило бы, чтобы то, что хотят купить, выработать,
произвести, упаковать, подвезти к каждой квартире, вручить. А что если
сама культура, которая хочет сейчас всех поднять до своего
уровня, и сделала так, что победили люди, решившие ее разрушить?
Почему очень культурная Европа начала мировую войну? Хотим
ли мы, оттого, что эксперимент сделать страну прекрасной
коммунистической не удался, теперь просто поскорее вернуться в строй
«цивилизованных государств», чтобы у нас тоже было общество
благосостояния? Ясное дело: просто подровняться с теми, у кого
все красиво и порядливо, целью быть не может, и это кроме того
невозможно, потому что западные красота и порядок не
самоцель, они попутные достижения — и мы тоже будем поэтому не
подстраивать себя под образец, который все равно воображаемый,
а будем проверять себя, проходя экзамен, вот что говоря себе: как-
то странно из-под нас ушел смысл, мы никому не нужны в мире
262
В. В. БИБИХИН
и не нужны сами себе, а подстраиваться к культуре или к обществу,
которые, похоже, имеют смысл, мы не будем, — и никогда не
скатимся до того, чтобы успокоиться, что по крайней мере хоть сами
себе нужны, поэтому постараемся продлить свое существование и
как-то хоть самим устроиться. Нет наступило время экзамена, и те,
кто устроились, смотрят, как мы пройдем этот экзамен, и задают
дополнительные вопросы. Мы вот чего хотим, мы хотим, чтобы
экзамен был как можно более строгий, пусть ни у кого в мире
сейчас не будет такого жесткого экзамена, как у нас, легкого
экзамена мы не хотим, — так что даже если условия экзамена будут
поставлены слабо, неумело, мы все равно каждый вопрос
постараемся услышать так, словно он имеет в виду что-то крайне важное,
весомое. — Мы, так сказать, русские, в своей стихии: в ситуации,
когда надо, пусть даже сверхусилие, до невозможности, и ни на
кого другого уже не переложишь, союзники далеко. Слава Богу,
что здесь и сейчас может быть впервые в нашей истории это
крайнее усилие от нас требуется все-таки не для уничтожения других,
не для выживания, кое-как мы еще живем, а там, где оно с самого
начала, и единственно для человека нужно: в понимании, в нашем
отношении к миру, в самом смысле нашего присутствия, — этот
смысл под вопросом; пусть поэтому, если нам по крайней мере еще
повезло иметь экзаменаторов, в каком-то смысле нам устраивает
экзамен целый мир: пусть они спрашивают, а мы будем честно
отвечать.
Теперь мы должны посмотреть все-таки, в каком смысле
у Жака Деррида дар, подарок, le don, для того, чтобы быть
настоящим, т. е. не включиться в круг принятия-отдавания, долга-
возвращения, должен не существовать. Можно было бы подумать:
если подарок демонстративно подносится, предъявляется напоказ,
перед всеми, то он обязывает принимающего; но ведь е(лъ же
тактичные, ненавязчивые способы дарения, значит каким-то образом
дар, подарок все-таки существует? Нет, даже самый незаметный,
и именно самый незаметный, ненавязчивый способ дарения тем
более даже еще втягивает в ответ, вызывает даже цепную реакцию
самообязывания, — а благодарность, которая не может подарка
возвратить, но сама как признательность, как память о подарке,
знающая, что возвратить нечем, и только меняющая состояние
принявшего, делающая его благодарным! Это не праздный
вопрос. Человек находится в состоянии такого одаренного, ему
подарен мир, ему подарен он сам, ему дано время {Donner le temps,
название книги Жака Деррида). В нашем случае, когда наступает
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
263
экзамен: «Внезапу судия приидет, и коегождо деяния обнажатся»,
говорится в утренней молитве,130 но нам каким-то образом,
непостижимо, дано время для подготовки, и все еще продолжает
даваться. Человеку дано много — способен ли он к простой
благодарности и только, к чистому благодарению, к принятию
заведомо без отдачи? Вот это очень сомнительно. Ницше заметил, что
основное отношение человека к бытию — месть, Rache, самая злая
и яростная именно тогда, когда вернуть подарок бытия человек
никак не может. Подарок, вы понимаете, становится в этом случае
провокацией, лучше бы подарка не было, чем как если он вызовет
в ответ месть. Мир перестает быть подарком, если он включается
в систему экономики, эксплуатации природы. — Деррида
настаивает, что невключение дара в систему отдаривания невозможно,
еще до даже эксплуатации бытия, мира, человеческого существа
простое включение всего этого в калькуляцию — в исчисление,
которым занято сознание, — подарок аннулирует. Статус тогда
бытия, мира, человеческого существа? Статус аннулированного
подарка: всё вокруг него, но именно потому, что всё вокруг него,
он перестает как подарок — или все-таки нет?
Поскольку отдать, отдарить человек не может, подарок не
прекращается, так ведь?
Нет подарок прекращается, потому что становится
провокацией, отравой, die Gift, англ. gift, яд и подарок, не случайно:
намек на перевертывание подарка. Пока такое перевертывание
происходит, мы не знаем, подарок ли подарок, существует ли
подарок или он хуже, чем ничто, отрава. Хлеб и вино, плоть и кровь
причастия подаются как высший дар, но они же ужасающий огонь.
Подступ к причастию — весь такой долгий — как подход к
экзамену экзаменов, где одно и то же может оказаться и спасением,
и гибелью; чем отдать себя на этот суд, раньше подходящий к
причастию снова и снова напоминает себе, что не обязательно вовсе
«святые дары» это дары.131
Подарок перестает существовать, когда вызывает обменное
давание, как бы погашающее подарок, — тем более когда отдарить
подарок в принципе невозможно. Подарок становится
провокацией, отравой, когда его не умеют принять. Но подарок существует
130 Из «Тропарей Троичных» утреннего молитвенного правила. (Сост.)
131 См. «Последование ко св. Причащению» в православном молитвослове.
(Сост.)
264
В. В. БИБИХИН
и в цепной реакции обменивания, которую он вызывает, и в самом
неумении, явном или неявном, на него ответить, и в провокации,
которую он вызывает, подарок тоже продолжает существовать —
не существуя как подарок. Книга Жака Деррида об этом. Мы это
имели в виду, когда говорили о вещах, которые умеют быть и так,
и без того, чтобы быть? Да, об этом. И в самом начале курса, когда
говорили, что событие не перестает, не прекращается, с ним, так
сказать, ничего не делается, если оно не принято, не понято, не
сбылось в своем смысле и в своей сути — говорили о том же.
Есть ли такое принятие подарка, которое не уничтожает его, не
аннулирует? Деррида только издалека и очень осторожно
подходит к этой возможности. В каком-то смысле сама его книга, как
я сказал, — не отнимающая время, а дающая, возвращающая, как
говорит и название книги, — попытка быть тем ответом на дар,
который оставляет дар в его смысле. Но Деррида, мы говорили,
идет по широкому следу, оставленному мыслью Хайдеггера. Мы
сегодня уже и говорили, что эта мысль хотела быть тем, что
сохранено в родстве немецких слов Denken и Danken. Мысль только
та мысль, которая в своем познавании, во всем своем движении
познавания становится, оказывается одновременно
признательностью, благодарностью; и наоборот, только та благодарность,
вернее, то отблагодарение не аннигилирует, не превращает в ничто
подарок, которая становится самой мыслью как признательностью.
Четверостишие Гете, в моем условном переводе, прошу поправить
меня, кто помнит чей-то другой лучший перевод:
Тщетны все обозначенья,
Чем ценна, полна она, —
Лишь когда благодареньем
Жизнь сбылась, в ней есть цена.
На строгом экзамене, когда все от нас требуют ответа, ясного,
простого, о смысле нашем, нашего существования, — нужен очень
простой, очень ясный ответ, — единственным ответом, который
может быть, имеет шанс быть принят, будет тот, что наше
присутствие здесь и теперь, на восточноевропейской равнине в конце
самом 2-го тысячелетия после Рождества Христова, умеет быть
признательностью, Denken-Danken, и ничем кроме
признательности, а это значит — принятием как неотдаримого (что его нельзя
отдарить) подарка всего, и в первую очередь — того жесткого
экзамена, который, похоже, для нас всех сейчас наступает.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
265
Снова, в который раз, мы сами собой возвращаемся к розанов-
скому пониманию. Оно и не было ничем, кроме как
завороженной захваченностью подарком таинственного «существования»,
и в этом смысле — Denken-Danken, признательностью за этот
подарок, или вернее признательностью этому подарку. Как прийти
к такому пониманию? Это вопрос. Само же понимание — тоже
дар, который не добывается и не выменивается, не покупается и не
продается; есть люди и даже целые народы, которые совершенно
его лишены.
Насколько я знаю, т. е. насколько я мог понять, до сих пор,
нигде мысль как признательность, понимание как захваченность не
проходит такой строгий экзамен, как перед ничто, перед опытом
ничто.
Мы можем тут увидеть одну новую, неожиданную сторону
в формуле — «имеет шанс не оказаться обманом только то, что
не существует»: только то не подведет, что умеет быть в
несуществовании, и опять же — не то что каким-то хитрым образом
умеет существовать в несуществовании, а нет, прямо и просто:
умеет в несуществовании, умеет и без того, чтобы существовать.
Конечно, и тут формула, на которую мы как-то случайно набрели,
остается еще странной, загадкой для нас.
266
В. В. БИБИХИН
1—16(24.12.1991)
1) κένωσις, κενός; 2) άμηχανίη γαρ εν αυτών στήθεσιν
ιθύνει πλακτόν νόον
Зачем, спрашивали в записке, о таких острых и мнимых
вещах, как ничто? Ради подстегивания, чтобы было интереснее
жить? Какое еще такое ничто? Но ничто открывается не так, как
на стариной картинке, где человек добирается до края вещей (до
границы мира, допустим), и там вещи обрываются, тогда голова
кружится. После вещей будут еще вещи. Вещи не кончатся
никогда. После вещей еще вещи. Когда человек доберется до края, там
будут еще вещи, как после очень большого числа есть это число
+1. Никогда не будет такого, чтобы к тому, что мы уже
перебрали, нельзя было бы прибавить еще единицу. С другой стороны:
из арифметических операций с бесконечностью, бесконечность
плюс число равно бесконечности. Вот этого мы не видим: мы не
видим, чтобы — т. е. нигде этого не видим — чтобы от
прибавления еще одной единицы к чему-нибудь, например, к количеству
песчинок в пустыне, — ничего не менялось. Меняется: как раз
на одну песчинку становится больше. Ничего видеть, ни с чем
иметь дело похожим на бесконечность мы, похоже, не можем: ни
в какой ситуации представить себе такой опыт, чтобы добавление
единицы не изменяло равенства «нечто + 1 = нечто (то же самое
нечто)», — мы такого опыта не имеем, оо + 1 = оо, появление еще
одной единицы вообще где [бы] то ни было для нас что-то меняет.
Когда мы говорим о чем-нибудь, о человеке или о бутылке водки,
«а, что там, одним больше, одним меньше, какая разница», то мы
именно что-то делаем с собой, заставляем себя что-то, к чему-
то себя принуждаем, без этой специальной операции мы сами по
себе, так сказать, в простоте совсем не расположены не замечать
любую еще одну единицу, она для нас именно что-то меняет. Т. е.
вполне бывает, или часто бывает, допустим — скажем так —
почти всегда бывает, что, допустим, еще один день, еще одно утро,
или еще один человек на улице для нас абсолютно все равно, ну
совершенно то же самое, — интересно, можно ли такое назвать
опытом бесконечности, что мы впали в то, что называется «дурной
бесконечностью»?
Когда людей, например, становится очень много и нам
делается все равно, — или обстоятельств разных, незначительных,
так много, что они приедаются, — то это неприятно, нам это не
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
267
нравится, мы вроде бы устали, «все одно и то же», дурная
бесконечность, «скука от повторения». «Наука логики», Книга первая
«Учение о бытии», раздел второй «Количество», глава о
«количественном бесконечном прогрессе» — где Гегель одобрительно
цитирует из «Заключения» к «Критике практического разума» Канта,
что [если] идти и идти без конца в безысходном переборе похожих
вещей — то мысль устает, «кончается падением или
головокружением сон, когда человеку снится, что он совершает длинный
путь, идет все дальше и дальше, необозримо дальше, и не видать
конца».132 Цитирует Канта— но у Канта этого нет, и вообще
такое утомление не кантовское, Кант, похоже, с его математической
тщательностью, старательностью вообще, кажется, в принципе
неспособен на такое утомление, обременение от вещей: сколько бы
их ни появилось, он будет терпеливо их упорядочивать, без конца.
Казалось бы, такие формально-логические вещи — но
«скука», «падение», «головокружение», «утомление», т. е. настроения
при встрече с бесконечностью у Канта и Гегеля. Ужас при встрече
с Ничто у Хайдеггера. Прошлый раз я говорил, что в формуле
«только то может оказаться безусловным и не разрушиться от
нигилизма, что не существует»... что она имеет неожиданную сторону,
когда относится к опыту ничто: то, что стоит перед опытом ничто,
то стоит; что есть в опыте ничто, то, похоже, надежно. Опыт ничто
я понимал при этом не как у Хайдеггера, не в настроении ужаса: то
экстаз, в ужасе, но экстаз, откровение; а я говорю об оставленно-
сти, опущенности — когда говорится о божественном истощании,
кеносисе, то об этом интересно, эффектно говорить, потому что
самое нищее оказывается самым богатым, но ведь опыт ничего
(ничто субстантивирует, предполагает целую метафизическую
структуру, а опыт ничего — если такого выражения нет, давайте
сейчас его введем, или оно где-нибудь окажется, может быть,
в «Столпе и утверждении истины» Флоренского, где настроения
оставленности, пустоты, покинутости очень много, — но если
такого выражения еще нет, лучше его иметь, потому что сама
вещь есть: скажем, обреченного, оставленного: на войне, в лагере,
в больнице, в Ленинграде во время так называемой осады: чувство
трагического восторга, небытия, которое хватает меня за горло или
крадется за мной, может, конечно быть в таком состоянии, — но
вовсе не обязательно, бывает и не экстатическая и даже не
трагическая покинутость) — похоже, в таком опыте мы не найдем много,
потому что он не дает вдохновения для речей, а люди гораздо
132 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М.: Мысль, 1970, т. 1 с. 307.
268
В. В. БИБИХИН
больше любят вдохновение. — У Розанова, кажется, было много
этого опыта «ничего». — «С детства, с моего испуганного и
замученного детства, я взял привычку молчать (и вечно думать). Все
молчу... и все слушаю... и все думаю...» (Сукач, с. 14133). Как опыт
ничто может быть разный, так и амехания разная, у Розанова —
«задумчивость» вот этого рода, которую исследователь называет
«пассивность натуры» (15). «Никакого интереса к реализации себя,
отсутствие всякой внешней энергии, „воли к бытию". Я — самый
нереализующийся человек» (16). Очень мало и вообще никакого
дерзания чтобы выступить перед людьми со словом или поступком.
Т. е. не то что нет отвратительного волевого распорядительства
своим языком, руками и ногами, — причем создается пустое, но
нет и вдохновения, или призвания, только бедность и брошеность.
Ни на что не годный, тогда человек думает, что он, сам такой —
никакой, должен служить делу или другому [человеку].
На рынке идей или на вербовочном пункте тогда оказывается
достаточно применений. Как Хайдеггер говорит, что для того,
чтобы иметь ужас, нужна еще сила, мужество, так еще больше, я бы
сказал — еще гораздо больше нужно мужество, чтобы выносить
покинутость, не принимать подделки, возбуждение, пьянство
духовное за вдохновение и «выход», не подгонять себя жесткостью,
не тренировать дух или тело, — когда кажется, что конечно
применить себя к чему-то лучше, чем унылость. Чем унылость —
действительно, да, лучше, но ведь и унылость — тоже способ, как
вести себя, т. е. колея, в которую входит или вводится опыт
ничего. — Можно ли сказать, что «нелитературность» Розанова, — «во
мне происходит разрушение литературы»,134 — это его нежелание
того, что Бердяев называл «подъемом», а без «подъема» Бердяев
считал невозможным писать, — т. е. когда нет вдохновения,
духовного горения. Какая разница с Розановым, у которого хоть один
абзац с подъемом написан? Особенно символисты, т. е.
неоромантики, неоромантики символистского склада; символизм вообще
можно считать главным неоромантизмом, патриарх символизма
Вячеслав Иванович Иванов занимался Новалисом и продолжал
во многом Новалиса, — а у Розанова нет ничего возвышенного,
с подъемом, и поэтому Бердяев, у которого нет ничего без подъема,
видел в Розанове что-то совсем приземленное, «писательство
133 Цит. по: Сукач. В. Г. Загадки личности Розанова (предисловие).
—Розанов. В. В. О себе и жизни своей. М.: Московский рабочий, 1990. Здесь и далее
ссылки на страницы в тексте в круглых скобках. (Сост.)
134 «...Иногда мне кажется, что во мне происходит разложение
литературы». — Розанов. В. В. Уединенное. М., 1990, с. 206. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
269
для него есть биологическое отправление его организма» (17).
Биологическое — значит, с точки зрения Бердяева, нисколько
не приподнятое над нулевым уровнем, нисколько, над нулевым
уровнем функционирования организма, значит никаким, а надо
культивировать приподнятость.
Приподнятость — это сила, «энергиям (а у Розанова:
«Никакого интереса к реализации себя, отсутствие всякой внешней
энергии»), т. е. человек в размахе, «при деле», и когда оставлен-
иость, нет размаха, то почти неудержимое желание привести себя
в состояние энергии. Антропология говорит о культурах, которые
поддерживали в себе тонус наркотиками. Имеет ли смысл
спросить о средствах возбуждения, которыми пользуемся мы в нашей
современности? Какие средства?
Водка, по-видимому, телевизор, нецензурная брань, политика
как заигрывание с революционным изменением, вообще
революционное изменение, — но похоже, что подобная критика культуры
слишком обречена быть удавшейся, эффектной. Слишком ясно,
что опыта ничего в человечестве много, и это самый невыносимый
опыт, и от пустоты оставленное™ делается очень многое, а
может быть всё? Розанов: «Есть глубокая справедливость в мысли,
что все, что ни делает человек, он делает для того только, чтобы
забыться. Он страшится остаться с собою, почувствовать себя,
почувствовать свое существование» («О понимании» 551/450).
Все, что делается из опыта ничего, даже если делается целое
государство, — имеет ценность никакую, в лучшем случае: это
в лучшем случае. — Не всякое вдохновение поэтому
правильное, не всякий подъем, и на примере Соловьева мы видели, что
увлечение регламентацией всей действительности у него самого
вызвало подозрение, когда в повести об Антихристе он вывел
антихриста — всемирного организатора. Он выходит на свой путь
после опыта оставленности — «Ярость утихла и сменилась сухим
и тяжелым, как эти скалы, мрачным, как эта ночь, отчаянием. Он
остановился у отвесного обрыва и услышал далеко внизу
смутный шум бегущего по камням потока. Нестерпимая тоска давила
его сердце» (742).135 Он не смог вынести этой тоски и поддался
искушению силы, на следующий день это был новый, сияющий
человек. «На другой день не только посетители великого
человека, но даже его слуги были изумлены его особенным, каким-то
135 Здесь и далее в круглых скобках ссылка на страницы издания:
Соловьев В. С. Соч. в 2-х тт., т. 2. М.: Мысль, 1990. (Сост.)
270
В. В. БИБИХИН
вдохновенным ( ! ) видом. Но они были бы еще более поражены,
если бы могли видеть, с какою сверхъестественною быстротою
и легкостью писал он, запершись в своем кабинете, свое
знаменитое сочинение под заглавием: „Открытый путь к вселенскому
миру и благоденствию"» (743). Просветление, вдохновение, но
в его основе — расставание этого человека с человеком, с самим
собой, — этот настоящий человек только мелькнул перед ним на
секунду, словно коснулся его слегка и издали тот человек,
которым ему и должно было быть, только кем одним он и был призван
быть, образ Воскресшего. «И среди темноты ему представился
кроткий и грустный образ» (742). Но пойти за этим образом —
значит с ним разделить и немощь, и оставленность, без гарантии, что
подстрахуют запасенным безотказным спасением и бессмертием.
Я уже упоминал 5-6 стих 6-го фрагмента Парменида, αμηχανιη
γαρ εν αυτών στήθεσιν ιθύνει πλακτόν νόον, в переводе
Андрея Лебедева «беспомощность в их груди правит сбившимся-
с-пути умом»,136 — ум сбился с пути, блуждает, именно потому, что
им правит, руководит, распоряжается, — сказано с вызывающей
остротой, едкость у Парменида, внимание к слову едва ли
меньшие, чем у Гераклита, «правит беспомощность» — сказано с
намеренным парадоксом: правит то, что в принципе не может править,
«беспомощность» это первое в словаре Вейсмана значение слова
«амехания», другие значения: «затруднительное положение,
незнание что делать, отчаяние, недоумение, нужда, недостаток». Т. е.
то, что править как раз всего меньше способно — и оно именно
правит, как из бездны нужды и отчаяния тем, что оттолкнул от себя
нищету и кеносис Христа, стал правителем мира соловьевский
антихрист; как, отвергнув рано нищету философии, с презрением
нищету философии отвергнув, Маркс решил переделать мир, а до
сих пор философы только описывали его, никак не могли иметь
силу для переделки действительности, теперь у них будет сила —
нищий класс пролетариат, который именно в своей нужде, у него
ничего нет, нет средств, амехания, начнет править. Αμηχανιη
ιθύνει, беспомощность правит.
Розанов с самого детства («О мое страшное детство... О мое
печальное детство ... С детства, с моего испуганного и
замученного детства, я взял привычку молчать (и вечно думать)»137), —
136 Цитирование неточное. См.: Фрагменты ранних греческих философов.
Ч. 1. М.: Наука, 1989, с. 296. Далее в сносках это издание будет обозначаться
просто как «Фрагменты...». (Сост.)
137 Сукач. В. Г. Загадки личности Розанова..., с. 14.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
271
с самого детства тонет в опыте амехании, «затруднительное
положение, незнание что делать, отчаяние, недоумение, нужда,
недостаток» (словарные значения); (мы еще должны будем
посмотреть амеханию в древнегреческой драме). Но только: нет
диалектического скачка от бессилия к силе, он тонет в амехании
и тонет в ней, без принятия мер, как у почти всех, как у всех в той
России, которая была вопиюще невыносимой — казалось всем —
и мало что требовала принятия немедленных, сильных мер,
кричала о них. Скажите, почему нужно было принимать меры, почему
положение оставленное™, покинутости, нищеты было нетерпимо?
Кто гарантировал человеку, что он должен восходить к силе,
процветать, прогрессировать, торжествовать над природой,
царствовать, господствовать и так далее?
Не знаю кто сказал! Почему-то показалось, что это обещано!
Почему-то сейчас кажется, что всем шести миллиардам или
больше людей на земле обещано жить хорошо, и очень многие у нас
теперь обижаются, что они еще не миллионеры, обижаются на
всех вокруг — и требуют от всех вокруг чтобы они немедленно
обеспечили им этот миллион, уже заранее имеют право на тот
миллион. Не знаете, кто обещал человеку, что он имеет право
сжечь за свою жизнь сто тонн бензина, значит все человечество за
поколение 600 млрд тонн, столько же мазута и так далее — и если
такого достатка нет, то жизнь ужасна и надо немедленно опять
же принять самые решительные и резкие меры, чтобы
потребовать — от кого? от начальства, от других людей, — потребовать
достатка, благополучия, которые обещаны кем?
Ведущий импульс, нам кажется, от образцов: если в таком
достатке часть человечества, то должно быть и всё тоже. Но нет: на
самом деле — движущий, правящий опыт ничего, невыносимый
опыт оставленности, который заставляет принимать какие-то меры.
Как армию блестящих журналистов XIX века, Наполеонов пера,
ими двигал опыт тоски, но вот с тоской надо было бороться —
и в основе идеологии прогресса было столько тайной тоски.
Розанов из немногих, из единиц, которые приняли остав-
ленность как оставленность, тоску как тоску, нужду как нужду.
Виктор Григорьевич Сукач пишет: «Физическая слабость,
стремление индивидуума восполнить свою недостаточность могли
родить и ... раздражительность, злобу».138 В самом деле, сколько
такого было: раздражительности, злобы; но у Розанова получилось
138 Там же, с. 18.
272
В. В. БИБИХИН
прямо наоборот, от своей слабости, т. е. что его надо было
жалеть, — «с детства мне было страшно врожденно сострадание.. .».139
У Розанова гимназиста старших классов, VI—VII, была мечта
о том, чтобы у человеческого общества появились охранители,
ангелы хранители, — мечта, о которой он говорит: «Это было
„мое"», «мое изображение», т. е. мечта о чем-то как будто далеком,
чего не бывает и быть не может, но мечта которая имеет характер
сна (dream и сон, и мечта) — во сне странности, которые человек
часто не говорит и записать не запишет, это к нему так близко,
что слишком далеко. Розанов мечтал о пострадавших, нищих,
раздетых, мудрых, — совершенно неимущих, от всего отказавшихся,
босые владыки. «И вот они проходят городом, черные, едва
умывшись (презирают), непременно босые, в лохмотьях, кой в чем,
самом бедном, самом неимущем. У них ничего нет и они всем
владеют. Они — стражи народа. Охранители его... как бы несущие
в животе у себя весь народ... „Ничего не имея"— они
переполнены бытием, ибо „в брюхе их" бытие всего народа».140 Нищие,
чем они живут? Тем, что хранят «натуральную» жизнь, с игрой,
и у них нет игры, они всегда серьезны и хранят жизнь, сами
в стороне от жизни, — но хотя они пострадавшие, перенесшие
какой-то ущерб, сокрушенные, но не страдающие, они, наоборот,
пробились — через все условное, через все «есть», пробились
потому, что у них «ничего нет», — к постоянной радости, и больше,
к молчаливому восторгу «про себя», «и этот восторг — от счастья
за всех». «Это „матки", „батьки", как бы несущие в животе у себя
весь народ».141
Как бы они хранили, как бы они это делали? Вот это гораздо
труднее сказать. Как-то они должны были спасать все — «ангелы-
хранители» — своей безупречной чистотой, но как именно? Ведь
во всяком случае не полицейским присмотром, нигде в натуре
Розанова такого победоносцевского охранительства не было. Как
же тогда? Вот трудный вопрос. Розанов: «Изнурительная мечта.
И „стражи" были также изнурены своим идеализмом, своим
напряжением; своею заботою и постоянной мыслью „о всех"».142
Он знает, откуда спасение: от чистоты, от нищеты, от мечты.
Теперь: как же, каким способом? Спасители изнурены
напряженной заботой — и все равно не знают. Или: может быть только
этой мечтой, тем, чтобы мечта была, — чтобы сон был! Если так
139 Там же.
140 Розанов В. В. Мимолетное // Опыты. М., 1990, с. 295—296.
141 Там же.
142 Там же.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
273
просто, то истощающая забота превращается вдруг в радость,
полноте бытия, молчаливому восторгу «про себя» — молчаливому
восторгу, тоже как во сне. Мы видели как Соловьев терзается от
незнания, на самом деле он пишет статью «Теоретическая
философия» или это ему снится, и его «метафизика», система, должна
навести мост между наличностью сознания, которая может быть
еще сон, иллюзия, и настоящей реальностью. Соловьеву важно,
во сне или не во сне он пишет статью; теперь Розанов: во сне или
наяву он пишет, дышит — ему настолько все равно, что он не
понял бы проблемы Соловьева, совсем. В незаконченном отрывке
«О себе и жизни своей»: «Писание есть рождение; оно также
и сновидение» (34).143 Дальше как у Соловьева описание, как он
проснулся после сна, где ему снилось что он сидит пишет статью
по теоретической философии, откуда Соловьев, — из этого
примера, — и выставляет проблему, иллюстрирует свою проблему:
смотрите, какой скандал, — то, что казалось явью, оказалось
сном! — и Розанов тоже описывает картину то ли сна, то ли яви:
посмотрите на пишущего человека в его комнате: на Розанова, как
там был пишущий Соловьев: «Как пахнет в комнате; как темно;
как грязно, неприбрано все; какое ослепительное сияние, какая
яркость красок, занимательнейшие извилистые переходы — для
этого разутого грязного господина, с полууроненным одеялом,
от которого мы с отвращением отворачиваемся. Иллюзия, обман:
что — сон? действительность?» (там же). Одни слова: Соловьев
об иллюзии, Розанов об иллюзии; Соловьев не сомневается, что
иллюзия более чем возможна, сон возможен, обман возможен —
Розанов больше того, уверен, что иллюзия есть, перепад, контраст
слишком велик между мизерабельностью, затхлой обыденностью
этого «разутого грязного господина», пишущего совсем
неспортивного, несияющего вида, и жаром, сиянием — как Иванушка
дурачок на печи засматривающийся среди рухляди трепаной
одежды на перо Жар-птицы, почти буквально эта ситуация сказки
у Розанова повторяется: этот неприглядный господин в мечте, как
на крыльях, неведомо где, ну уж во всяком случае никак, ну никак
не здесь. Теперь выбирайте: где действительность, где сон. Илья
Ильич Обломов на диване, сияющие миры у него в руках. Где
действительность, где сон?
Этот автобиографический отрывок писался, определил
издатель и уникальный знаток Розанова, Виктор Григорьевич Сукач,
143 Розанов. В. В. О себе и жизни своей... Здесь и далее ссылки на страницы
в тексте в круглых скобках.
274
В. В. БИБИХИН
11 июля 1896 года (717). В 1907 году вышел сборник «Вехи», как вы
знаете, в котором, особенно в статье Семена Людвиговича Франка,
обличались пороки русского интеллигента: его жизнь не устроена,
его быт обычно запущенный, его отношения с семьей, с близкими
запутаны, безнадежны, но он витает в мечтах. И что, разве Семен
Людвигович Франк, призывая к европейской отлаженности быта,
против обломовщины, мечтательности, неправ? Да тысячу раз
прав. — Но никогда, никакое упорядочение быта, никакое отла-
живание, устройство человеческого существования не будет иметь
смысла и в конечном счете не удастся, если не будет — и на первом
месте, и не для развлечения, а как все себе подчиняющего, — тот
сон, та мечта, dream, которые у Розанова, у «разутого грязного
господина», — и никогда не будет снят розановский вопрос: «Что —
сон? действительность?», — никогда мы не сможем сказать, сон
действительность или действительность сон. Так мы кругами
подходим к тому, чтобы суметь наконец прочитать Гераклита, его
фрагменты о сне и действительности. О своем сне Розанов говорит
как о единственной ему данной, доступной действительности, —
помните мы говорили, как все равно, приснилась Соловьеву та
его статья или нет? — а о «действительности» говорит Розанов
как о том, чему в любом смысле, безусловно, без всяких условий
и оговорок сон должен быть предпочтен. «Как у писателя — мой
сон был совершенный; непробудный, крепкий сон, к которому не
замешивалась никакая действительность; ни один скрип двери не
проникал до души, ни один голос, никакой зов... Сон... его можно
забыть, но решительно нечего в нем поправить» (34).
Я вас спрашиваю, если Розанов хотя бы отчасти назвал,
высказал Россию, ее способ существования, сон, то революция могла
в России не победить? Да она победила бы в этом сонном царстве
даже если бы революционеров была не тысяча человек, а только
десять. Революционеры были обречены победить, эта ловушка —
обязательная победа — была для них вырыта слишком глубоко,
слишком основательно, слишком она была прикрыта кажущейся
неподвижностью русской массы. В «Апокалипсисе нашего
времени», 1918 год, Розанов продолжает эту мысль свою 1896 года,
или мысль всей жизни, или называет свою натуру, или называет
свою литературу, и это в контексте, где сказано «...никакого нет
сомнения, что Россию убила литература»: «Увы: писатель —
сомнамбула. Лазит по крышам, слушает шорохи в домах: а не
подержи или не удержи его кто-нибудь за ноги, если он проснется
от крика к действительности, ко дню и пробуждению, он сорвется
с крыши дома и разобьется насмерть. Литература великое, само-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
275
забвенное счастье, но и великое в личной жизни горе. Черные тени,
уголь; но и молодая Эос (заря) эллинов» (625).
Сейчас кажется: какая культура, когда нечего есть. Скульптор
Эрнст Неизвестный пишет, просит, призывает: не верьте этому,
что надо сначала удобно устроиться, а потом начинать думать
о культуре; три мировые религии возникли у бедных народов,
среди босоногих людей в драных палатках в пустыне. И что чертеж
отстройки Ватикана, где будут Микеланджело и Рафаэль, пробит
осколками в руках папы.
Когда бедные захотят стать богатыми, на их стороне будет
сила бедности. «А голодные так голодны... все-таки революция
права». Революционные теории «сводятся к тезису: „Хочется мне
кушать". Что же? тезис-то ведь прав. Против него „сам Господь
Бог ничего не скажет". „Кто дал мне желудок — обязан дать
и пищу"... Да. Но мечтатель отходит в сторону: потому что даже
больше чем пищу — он любит мечту свою. А в революции —
ничего для мечты. И вот может лишь от того, что в ней ничего для
мечты, она не удастся. „Битой посуды будет много", но „нового
здания не выстроится". Ибо строит тот один, кто способен к
изнуряющей мечте (можем поставить: к сну, Dream)... кто
способен к изнуряющей мечте; строил Микель-Анджело, Леонардо
да-Винчи: но революция всем им „покажет прозаический кукиш"
и задушит еще в младенчестве, лет 11-13, когда у них вдруг
окажется „свое на душе". „А, вы гордецы: не хотите с нами
смешиваться, делиться, откровенничать... Имеете какую-то свою душу,
а не общую душу... Коллектив, давший жизнь родителям вашим
и вам, — ибо без коллектива они и вы подохли бы с голоду, —
теперь берет свое назад. Умрите". И „новое здание", с чертами
ослиного в себе, повалится в третьем-четвертом поколении» (72).
В пользу того, что сон — не сон или не только сон, говорят
вот эти вещи: вещее свойство сна, когда из его далекости
невозмутимости вдруг, словно нечаянно, без всякого футурологиче-
ского усилия, без высчитывания сценариев на компьютере или
собирания социологического опыта, без труда, словно небрежно
это точное знание того, что будет: в третьем-четвертом
поколении «новое здание» повалится. Мечта, которая это предсказывает
тому, в чем нет мечты и что по сравнению с мечтой считает себя
действительностью, — такая мечта не нуждается в том, чтобы
искать выходов, мостов к безусловной достоверности: она не когда
сбудется ее предсказание, а когда она его говорит, уже знает, что
оно верно. И та «действительность», которая кажется себе
настоящей — но вот почему она кажется такой себе? Не потому ли, что
276
В. В. БИБИХИН
она ищет достоверности, а кто ищет, тот всегда найдет? Вспомним,
что мы говорили: достоверное основание строгой мысли было
найдено Декартом, или все приняли находку Декарта за именно
такую, не потому, что до Декарта то основание искали и не
находили, а потому, что Декарт стал его искать. Кто ищет, тот всегда
найдет. Поэтому когда мы читаем в теоретической философии
Соловьева, что он ставит себе задачу найти безусловно очевидное
достоверное в наличности сознания, то он найдет. Вообще всякая
техническая задача будет решена. Как будто бы так?
Но такие вещи, как действительность, энергия, бытие не
добываются технически. Скверная фантастика думать, будто мысль
сумеет повернуться как-то так, сделать что-то с собой так, выбрать
такие ключевые понятия, что прикоснется к действительности,
станет бытием. Давайте не верить, если кто-то попробует нам это
говорить. Или что то же достигается какими-то упражнениями
тела. Здесь открывается неожиданная новая сторона сна. Бытие
оказывается ближе к сну, чем к яви, вот в каком отношении. Те
100 талеров, которые, говорит Кант, не окажутся у меня в ладони,
как бы интенсивно я их ни рисовал в моем сознании, — так, по
Канту, бытие никак не может быть извлечено из деятельности
мысли, какой бы напряженной она ни была, — те 100 талеров,
образ бытия (я говорил, что «усия» у греков, и у Канта, хранит
смысл богатства, имущества, усадьбы, наследия), точно так же
не могут быть вымышлены, выделаны мыслью, моей мыслью, как
я не могу, постаравшись, сделать так, чтобы мне приснилось то,
что я захотел, или чтобы я начал мечтать, забываясь, о том, о чем
я хочу, чтобы я мечтал. Бытие в этом отношении оказывается со
стороны сна, а не со стороны яви, — больше похожим на сон,
чем на явь. Бытие, энергия, действительность приходят таким
способом, каким приходит сон; усилие получить их похоже на
усилие вызвать в себе сновидение, какого мы хотим. Я думаю, что
техническими приемами этого — т. е. управления собственными
сновидениями — можно добиться, но это будет значить, что мы
перестанем знать, что такое сновидение. Розанов знает: «Сон...
можно забыть, но решительно нечего в нем поправить».
И еще в одном отношении... — я повторяю, так мы кругами
подбираемся к настоящему чтению Парменида и Гераклита,
через наших, всерьез принимая частое, настойчивое,
напрашивающееся их сближение с досократикамй, на которое мы
наталкивались уже, скорее в пренебрежительном смысле, у Николюкина
и у Барабанова, для которых досократики еще не, и соответственно
Розанов не философ, какой он еще там философ, если он как до-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
277
сократик, — и еще, в который уже раз (а много было уже раз, как
у Мандельштама мы читали об «эллинской» природе русской
речи), — но уже не пренебрежительно у В. Г. Сукача: Розанов —
«современник Парменида» (23); я не знал об этих случайных
(непродуманных) сближениях Розанова с Парменидом, когда сам
предложил подойти к чтению Парменида через Розанова; теперь
тем более, мы должны будем разобраться, на каком основании
такое сближение делается, — .. .я говорю, еще в одном отношении
бытие похоже на сон: по своей кошмарности; как когда Розанов
пишет в «Уединенном»: «Несчастнее нашего юношества, правда,
нельзя никого себе вообразить. Тут проявляется вся наша
действительность, „похожая (по безмыслию) на сон", поддерживавшая
в юношах эту черную и горькую мысль ("всеми оставлены")»
(100). Розанов уточняет: действительность похожа по безмыслию
на сон. И с этой стороны действительность не может быть ни
понята, ни устроена мыслью, — а мысли что остается? Если
действительность ей не доступна?
Ответ Гегеля: мысли остается самой стать действительностью.
Гегель показывает, как это сделать: пользоваться диалектикой.
Диалектика такая техника, которая как будто бы может быть
усвоена, как гегелевская диалектика была усвоена Марксом и потом
развита Лениным и Сталиным, но если бы Гегель увидел, как орудует
такая диалектика, он не признал бы ее своей и скорее всего сделал
бы то же, что вся философия после него, — кроме как в его школе;
и так, как он не хотел бы, диалектика только и продолжала
существовать, а вообще ее имя перестало употребляться и у Дильтея,
и у Ницше, и у Гуссерля, и у Хайдеггера. Что угодно эта
гегелевская мысль, которая смело объявляет себя действительностью,
только не техника, которую кто-то мог бы усвоить. Как грустно,
что мы почему-то думаем, что мы читали Гегеля или что его
русские переводы годятся, т. е. что его можно понять по переводам.
Зигмунд Фрейд признавался, или может быть гордился — тем, что
последнюю, большую часть «Толкования сновидений» он написал,
писал каждый день, в состоянии сна наяву, очень быстро, словно
под диктовку, как записывают сновидение. Отношение Зигмунда
Фрейда к немецкой философии — в которой, между прочим,
понятие бессознательного было, прежде всего у Шеллинга, но и далеко
не только у него, на первом плане за 100 лет до Фрейда, — это
тема, с которой философ должен был бы начинать читать Фрейда.
Вы читали статью решительного человека, который хочет навести
порядок в русской мысли при помощи Фрейда, прочитать филосо-
278
В. В. БИБИХИН
фию при помощи Фрейда. Фрейд говорил, что однажды заглянул в
Ницше и увидел там так много своего, что поскорее закрыл, чтобы
не подпасть под влияние, не заразиться, не утратить
индивидуальность. И зря он так сделал, он подставил себя под горделивый
упрек Карла Густава Юнга, что он, Юнг, имеет под собой ту
твердую почву, что знаком с традицией классической немецкой
философии, а у Фрейда такого багажа нет. Справедливый упрек и тем
более обидный, потому что так, как Юнг читал философию, лучше
бы он вообще ее не читал, и лучше бы так вообще никто ее не
читал. Фрейд, который заглянул в Ницше и увидел там готовый
психоанализ, дшел читать философию, в отличие от Юнга. — Похоже,
что состояние, в котором Фрейд писал заключительный раздел
«Толкования сновидений» — состояние странного сна — в таком
же или в подобном.., или во всяком случае такой способ работы
по крайней мере Гегелю был знаком. Вот как записывает один его
слушатель, издатель — потом — его «Эстетики»: «Когда через
несколько дней (после первого представления) я увидел его снова за
кафедрой, я не мог вначале разобраться ни в способе его внешней
манеры преподавания, ни во внутренней последовательности
мыслей. Опущенный, мрачный сидел он, уронив голову в свои листки,
погруженный весь в себя, и рылся в них и продолжая говорить
постоянно искал что-то, перелистывая назад и вперед, водя глазами
вверх и вниз по длинным простыням ин-фолио;
непрекращающееся покряхтывание и покашливание нарушало всякий поток речи
(как Розанова не вспомнить: «.. .как темно; как грязно, неприбрано
всё ...для этого разутого грязного господина, с полууроненным
одеялом...»); каждое предложение стояло отдельно и
извлекалось с усилием раздробленное по частям и перепутанное задом
наперед; каждое слово, каждый слог упрямо отделялись в
произношении этим металлически-пустым голосом в швабском
размашистом диалекте144 (а Гёльдерлин, Шеллинг, Шиллер тоже были
швабы; Хайдеггер из Месскирха, между швабами и алеманнами, и
у него тоже это южно-западное произношение, которое Гото в этих
записках называет «широким», «размашистым» — Блато, вместо
Плато, говорил Хайдеггер, когда не следил за своей речью) ...
как будто каждое слово самое важное, и это производило
впечатление удивительной основательности. Несмотря ни на что, весь
этот феномен вызывал такое глубокое уважение, навязывал такое
ощущение ценности, достоинства, так привлекал наивностью
144 Почти каждую фразу Гегель начинал с диалектного междометия, что-то
вроде на па, смысл которого так и не был истолкован.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
279
все перевешивающей серьезности, что при всем своем неуюте,
неловкости, хотя из сказанного я мог понять мало, оказался
неотрывно прикован. Едва еще я только успел привыкнуть за короткое
время, привлеченный жаром и последовательностью говоримого,
к этой внешней стороне гегелевского чтения, как внутренние его
преимущества предстали все яснее и яснее, и сплелись с теми
недостатками в одно целое, которое само в себе несло меру своего
совершенства. Уже начинал он, запинаясь, продолжал запинаться,
начинал снова, опять останавливался, говорил и тут же
задумывался, подходящее слово постоянно, казалось, не дается, и вдруг
оно прорезалось, уверенное, казалось совершенно обычным, но
неподражаемо подходило именно здесь, непригодное для
употребления и все же единственно правильное. Самое существенное,
казалось, всегда только еще должно последовать, и все же оно
незаметно оказывалось уже высказанным в такой полноте, как это
только было возможно. Вот слушатель схватывал ясное значение
какого-то предложения и напряженно пытался двигаться дальше.
Напрасно. Мысль, вместо того чтобы двигаться вперед, вращалась
в сходных словах постоянно опять и опять вокруг той же точки. Но
если охромевшее внимание блуждало рассеянно и возвращалось
через несколько минут вдруг испуганно к лекции, то в наказание
обнаруживала себя выпавшей из всякого контекста. Потому что,
тихо и осторожно продолжаясь, проходя через будто бы
малозначительные промежуточные ступени, мысль, казалось бы, только
что полная, завершенная, выявлялась в своей ограниченной
односторонности, [оказывалась] доведена до необходимости
различения и обнаруживала, что запутана в противоречия, и пробиться
к решению, к новому воссоединению имело силу только то, что
было в высшем противоборстве. В глубинах того, что казалось
нерасшифровываемым, как раз там рылся, копал и плел свою
паутину (помните у Шекспира в «Гамлете», когда тень отца Гамлета,
появившаяся откуда-то из-под земли, Фрейд сказал бы, из
бессознательного или из подсознательного, во всяком случае — так,
что взрыла, вскопала поверхность, которой, казалось, было вроде
бы достаточно, которой для всех достаточно, так что все
расстроены и сердятся, когда взрывают поверхность, поверхностность,
не любят этого, — Гамлет говорит, «ты хорошо роешь, старый
крот»)... рылся, копал и плел свою паутину этот могучий дух в
великолепном, уверенном в себе уюте, удобстве и покое (почему
Гегелю нравилось дантовское грубое, что ум, как свирепый зверь,
улегается в своей берлоге, когда находит истину), Behaglichkeit
und Ruhe (а, немедленно до 7 февраля выучите все кто еще не
280
В. В. БИБИХИН
знает немецкий язык, а то я не буду с вами разговаривать, каждый
русский должен знать все главные языки) — wühlte und webte
dieser gewaltige Geist in großartig selbstgewisser Behaglichkeit und
Ruhe, — тогда только голос делался сильным, гааза остро сверкали
на собравшихся, и сияли тихо разгорающимся огнем его полного
убежденности взгляда, когда он словами, которые ему теперь
уже не нужно было искать, захватывал все высоты и глубины
души».145 Этого ничего в переводе не осталось. До трагически-
комического: Мишле, ранний издатель Гегеля, знал его манеру,
что Гегель любил короткие фразы, а между ними часто стояла
пауза, и Мишле правильно передавал ее тире — точкой и тире; но
диктатура корректорской и технической редакторской своры,
которой нужно оправдывать свою никому не нужную деятельность,
ввела так называемые правила, для борьбы с людьми эти правила
должны были быть как можно менее человеческими, и среди этих
«правил» такого знака — точка и тире — по несчастью нет, знак
этот поэтому изгоняется: ну и что, что у Белинского этого много,
Белинский еще не. Это только ничтожная мелочь, а много такого,
из-за чего настоящему Гегелю не было и шанса попасть в русский
перевод — а много ли Гегеля попало в сам немецкий текст?
Что Гегель не говорил с рациональной вышки о таком, что
похоже на сон и мечту, а, как видно из этого описания его манеры
речи, купался в том, о чем Розанов говорит: «Здесь, за письменным
столом (только у Гегеля — кафедра), были мои пиры, мои —
вакханалии; здесь — несравненная поэзия. Счастье писания есть
счастье рождения... Писание есть рождение; оно также и
сновидение... что— сон? действительность?»146 По несчастному
чьему-то внушению мы воображаем себе Гегеля — а, Гегель,
знаем, панлогизм, рационализм! — противоположным тому, кем он
был на самом деле, перевернутым уже (его ведь перевернул Маркс
с головы на ноги, а то Гегель не так стоял, как было надо, а Маркс
уже знал, как надо стоять) — но то, что мы считаем
рационализмом и приписываем Гегелю, тому Гегель безусловно предпочел
бы сон, сновидение: Гегель от нас отделен высоким порогом сна,
если бы мы сумели заснуть и потом, не просыпаясь, не
рационализируя, мыслить, говорить, писать, мы оказались бы в том же
пространстве, где Гегель — а так мы даже просто и не знаем, где
это пространство. Нам до этого еще далеко; надо еще для этого
145 Hotho. H. G. Vorstudien für Leben und Kunst. Berlin, 1835, S. 384 ff. — Цит.
по: Hegel G.W. F. Worlesungen über die Geschichte der Philosophie. 1 Bd. Leipzig,
1971, S. 10—12.
146 Розанов. В. В. О себе и жизни своей.., с. 33—34.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
281
чтобы мы не в шутку, а всерьез поверили, что через Розанова
нам путь к Гегелю, что в Розанове нет ничего, чего не было бы
у Гегеля, начиная со сновидения. Когда мы читаем о Гегеле, что
он объявляет мышление субъектом, т. е. творцом всего духовного
богатства, развитого историей, мы думаем, что надо запомнить это
характерное высокое положение мышления, которое творец всего,
и фиксируем себе то, что первое о нем [Гегеле] говорится: что он
представитель «идеализма», — а лучше бы мы этого не делали,
лучше бы мы подумали из всех этих определений только об одном
слове, «мышление», и не с той одной только точки зрения, что как
странно, что некоторые говорят «мышление», а в новом словаре по
новым правилам написано «мышление», а в плане более важного
выбора: что лучше, то, что мы привыкли считать и называть
мыслью, мышлением или сон, мечта? «Энциклопедия философских
наук» Гегеля, § 405: «В состоянии сновидений человеческая душа
заполняется не только разрозненными впечатлениями действий,
но даже в большей мере, чем это обыкновенно имеет место при
рассеянности бодрствующей души, достигает глубокого, мощного
чувства всей своей индивидуальной природы, всего объема и всей
совокупности своего прошлого, настоящего и будущего, а также,
что это ощущение индивидуальной тотальности души и есть
как раз основание, почему при рассмотрении души,
чувствующей саму себя, должна идти речь о сновидениях».147 И в § 406:
«Естественный сон... возвращает всего человека назад из
ослабляющего расщепления направленной на внешний мир
деятельности к субстанциальной тотальности и гармонии жизни».148 «К
расчлененному на отдельные вещи внешнему миру» человек «не
находится во время сна уже ни в каком отношении»,149 он тогда в
целом мире; так мы читали у Шеллинга, что видение целого мира
получается в бессознательном творчестве интеллигенции.
Сон поэтому лучше разброса так называемой
действительности, которая хуже сна. Но если мы заснем, нам там Розанов не
приснится. С Розановым, который спит, мы встречаемся потому,
что есть Розанов, который пишет.
147 Гегель. Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук (в 3-х тт.). Т. 3. М.:
Мысль, 1977, с. 140.
148 Там же, с. 173.
149 Там же, с. 97.
282
В. В. БИБИХИН
II—I150 (П.2.1992)
invenire, inventum
Отцы, или во всяком случае старшие, — в курсе такого рода,
как «Чтение философии», мы имеем дело с отцами, или по крайней
мере старшими; ведь кого мы читаем, они в том или ином смысле
отцы, иногда и прямо отцы, потому что многие отцы писали, и нам
важно и интересно читать, смотреть то, что писали именно наши
отцы, — но и вообще, я говорю, те, кого мы читаем, оказываются
так или иначе все-таки нашими отцами, не правда ли. Отцы, стало
быть. Но отцы, мы знаем, страшно подгуляли, очень в целом нас
подвели, никто или почти никто из них... — и я, между прочим,
в том же числе, ведь можно посмотреть, что я писал, что делал, т. е.
я по отношению к тому, что теперь можно видеть, среди чего мы
живем, тоже в каком-то своем смысле отец; и больше того, в каком-
то смысле, как это ни странно кажется сказать, по отношению к
самому себе я как бы тоже отец, я теперешний как подготовленный,
подведенный к тому, что я есть и что я говорю, или такой, которому
мешает быть и говорить, он же, я же сам, как отец себе, который
сделал — в той мере, в какой сделал, — так, что теперь все именно
так, — .. .отцы в этом смысле, расширяющемся и имеющим право
так расширяться, нас не обеспечили, их было много, их была
большая масса, и мы остались после них не обеспеченными или хуже
того, потерянными, растерянными. Что же эти отцы нам оставили.
Что же, в том числе, мы сами себе оставили.
Я начинаю эту тему отца, в курсе «Чтение философии»,
я имею полное право ее сейчас начинать, особенно потому, что мы
собираемся заглянуть в ранний европейский мир, совсем ранний,
очень внимательный и очень думающий греческий мир, на
протяжении двухсот или двухсот пятидесяти лет думающий, пишущий,
говорящий так, что потом на этом слове, этой там открытой истине
строится все знание, и раз все знание, то значит и все или почти
все поведение Европы, к которой мы еще чудом — продолжается
«европейское чудо» — сейчас принадлежим, просто потому, что
можем стоять, смотреть, думать, говорить и спрашивать, и
слушать друг друга, и удивляться тому, что открытость продолжа-
150 Лекция стала основой для статьи «Возвращение отцов» (см.
Приложение), опубликованной в журнале «Начала» (М., 1993, № 1) и вошедшей
впоследствии в сборник В. Бибихина «Другое начало» (СПб., 2003). (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
283
ется, что мир, уже пошатнувшийся и скользящий, опасный, весь
беременный, продолжается, и мы его отцы, не первые, потому что
до нас были поколения отцов. Недодуманным, непродуманным
в проекте воскрешения отцов у Николая Федоровича Федорова
в «Философии общего дела» остается то, что и те, кто
подключается к этому проекту [...], создают действительность в таком
радикальном, революционном смысле, что воскрешение отцов вдвигает
в отношение к [ним] превращение отцов в создаваемых, т. е. в
сыновей, а сыновей — в отцов. Оставим эту тему на потом.
Это доведенное Федоровым до кричащей наглядности
перевертывание отцов в сыновей, предков в потомков, —
удивительным образом не замеченное им, не осмысленное, — оно разве
изобретение Федорова? Нет, потому что в каком-то смысле, я об
этом уже говорил, я сам, какой я был, оказываюсь себе отцом (это
одна из сторон темы я), — и мы читающие отцов воскрешаем
их в себе, создаем их. Кто, я вас спрашиваю, воскрешает отцов
в читающих? Легко можно было бы сказать, и напрашивается
так сказать, что читающие сыновья, читая, создают своих отцов.
Отцы требуют детей не в меньшей мере, чем дети требуют отцов:
оттого, что есть дети, читающие отцов, почитающие, чтущие
отцов, от этого есть и отцы. Как будто бы. Так кажется. Так должно
быть, иначе не может быть. Но то, что дети читают, почитают
отцов, сделали не отцы: никаким своим деланием они вделать
в сыновей почитание не могли бы. Мы их читаем и почитаем не
потому, что отцы нам это внушили, — нет, каким-то образом отцы
умеют быть раньше, чем они есть; мы знаем, узнаём отцов не
потому, что они появились и обозначили себя «мы отцы», а [потому
что] мы искали их глазами, искали рано, может быть, искали со
своего первого крика при рождении, — и произошло неладное:
когда мы их увидели, они оказались не на высоте, не те и не там,
они оказались в могиле, кроме того что не на высоте, — т. е. отцы
всячески и во всех отношениях, вот эти наши отцы, во-первых
тем, что они не были совершенными, во-вторых тем, что их
сейчас большей частью, особенно отдаленных предков, просто так
далее совсем нет, — их нет, они уже не существуют, — в двух этих
отношениях отцы оказались несовершенными, они, по
евангельскому выражению, «не пришли в мужа совершенна», т. е. в разных
отношениях не повзрослели, они до зрелости, которую надлежит
иметь отцам, не дошли. В отцов они не выросли, до отцов не
дотянули, не созрели.
Эта недостаточность отцов, сама по себе кричащая, прежде
всего потому, что она и нас тоже обрекает на недостаточность,
284
В. В. БИБИХИН
неизбежную незрелость, раз наши отцы не на высоте, — она
смягчена в нашей культуре тем, что есть верховный Отец Небесный,
который и затмил, и заменил несовершенных Отцов; который
и для отцов, и для нас вершина, под которой мы ходим, потому что
высота достижения определяется долгом: стремиться быть
совершенным, как небесный Отец. Он восполняет все несовершенства,
которые были, есть и будут у отцов, — как тех, которые были, так
и тех, которые есть. Отец Небесный затмевает всех отцов, но Он
же их и восполняет.
Между тем мы слышим, что Бог умер. Это, наверное, неверно,
потому что Бог не может умереть. Наверное, Он не умер. Или даже
с возмущением можно сказать: какая глупость, что Бог умер! Что
за вздор! Это отвратительная нелепость, — можно сказать, и наше
возмущение будет означать: слово о смерти Бога нас задело, нас
коснулось, нас воз-мутило, эта отвратительная безобразная
нелепость, что будто бы Бог может умереть, нас вывела из себя.
Нас вывело из себя что? Дикий абсурд самого предположения,
что с Богом может такое случиться. Ведь такое с Богом не может
случиться ex definitione. Первое, чем Бог, небесный отец,
отличается от земного отца, — это что с ним не может случиться, как
с земным отцом; обоих этих промахов земного отца с небесным
не может случиться: ни несовершенства, чтобы он оказался не на
высоте, ни такого, чтобы Его не стало, тем более — чтобы Его
вообще не было. Он восполняет как раз эти два промаха земного
отца, несовершенство и уход, тем, что — бесконечный
(совершенный, все в себя вмещающий) и вечный.
Вы что, шутите? По определению Бог не может умереть, быть
такого не бывает, возмутительный вздор\ Если бы хоть что другое
сказали, но это, — верх абсурда, возмущаться здесь нужно больше
всего именно потому, что ни в какие рамки не лезет это, смерть
Бога, только самый абсурдный, нелепый, беззастенчиво
нарушающий все правила разума ход мысли может дать такое, «Бог
умер». — Наше возмущение показывает прежде всего что? Что мы
абсолютно уверены по крайней мере в этом одном, самом
очевидном, ну как же Бог может умереть, как это Его может не быть?
Возмутительно, что Ницше настолько не верил в Бога, чтобы
думать, что Он умер. Какой-то остроумец в Париже предложил
такую пару сообщений, с подписями, от кого исходит сообщение.
«Бог умер. Ницше. — Ницше умер. Бог». Тут должна бросаться
в глаза стопроцентная, мертвая очевидность второго сообщения,
с которым никто никогда не вздумает спорить; и с подписью тоже
не будет спорить, потому что, очевидно, люди вместе со своей
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
285
смертностью если в чьем-то ведении находятся, то уж конечно в
ведении Бога, — и по контрасту сообщение человека о Боге. Всякое
сообщение человека о Боге не несомненное, проблематичное.
Инвентаризация, отношение к наследию. Инвентаризация —
фиксация, перечисление, зачисление на счет владельца того
полезного, что найдено, inventum. Мы оглядываемся, обнаруживаем
там и здесь (например, в старом книгохранилище, в сундуке, на
чердаке, в библиотеке) то, что досталось нам от предков, близких
или далеких. Статус учтенного, принятого к сведению,
применяемого — совсем другой, чем исходный статус вещи, которая войдет
в наследие. «Нахождением», инвинире, называлась поэтическая
речь, но invinire inventum инвентаризации — это другое
нахождение. В поэзии «найдена» поэтическая вещь, и наследниками
«найдена» эта же поэтическая вещь и включена в культурное
хозяйство, но это совсем другое нахождение. Различие между
первой «находкой» и второй «находкой» то, что в первом случае
найденное, как то, что мы ищем (ищем мы всегда полноту), может
присутствовать в слове; во втором случае мы нашли слово, в
котором присутствовала полнота. Почему не присутствует? Потому
что полнота для того, чтобы присутствовать как полнота (в
конечном счете полнота — это полнота мира, или просто мир), чтобы
присутствовать, требует большего, чем даже самое точное
повторение тех слов, в которых она когда-то присутствовала. Всякая
инвентаризация наследия (культурного, философского) и находит
свое inventum, именно поскольку находит в этом, втором смысле,
постольку теряет многое, или главное: теряет само нахождение,
опыт inventio, нахождение способа присутствия полноты.
История культуры, история философии по способу
инвентаризации поэтому даже там, и даже больше там, где достигает высшей
техничности, точности, тщательности, полноты (т. е. полноты
собирания культурного инвентаря, наследия, которая совсем другая
полнота, чем та полнота, которая сделала наследие достойным
инвентаризации), это наследие и инвентаризует, и у-ничтожает,
подменяя одну находку другой находкой, одну полноту другой
полнотой. Среди высшей точности этой (историографической)
инвентаризации хозяйничает высший произвол в отношении того,
что было целью той первой находки, — в отношении присутствия
полноты, присутствия мира, — такой произвол, который доходит
до — и это среди научной, профессиональной корректности,
выучки, результативности историографа — безразличия к полноте
присутствия, цели всякой культуры, в погоне за полнотой учета
найденного, инвентаризованного.
286
В. В. БИБИХИН
Поэтому явный произвол в отношении наследия, и я говорю
имея в виду философское наследие, когда допускается любое
его истолкование, использование, не противоположен
инвентаризации в главном, противоположен ей только по видимости, но
разрушает ее технику, методологию; но просто разрушить научно-
историографическую систему еще недостаточно, чтобы найти
в находках, из которых состоит наследие, именно находки.
Для этого обязательно нужно, чтобы задача находки,
настоящей, т. е. находки полноты, всерьез стояла перед вами, чтобы
надежда на такую находку не обрывалась, потому что с потерей этой
надежды пошатнется для нас и все наследие. Мы перестанем
понимать, о чем в нем идет речь. В нем идет речь о полноте, о
полноте мира, а мы перестали иметь не только опыт этой полноты, но
и ожидание ее, всерьез, и приготовление к ней. Напрасно поэтому
думать, что высота была только в прошлом. Если мы не видим ее,
например издали, в настоящем, то не увидим и в прошлом.
Но отцы, мы говорили, всегда не на высоте. Вот тут поневоле
остановишься подумать. Мы одинокие. Мы вокруг, ни среди
предков, ни среди нас самих, не видим никого, кто был бы на высоте.
Когда я дошел до этого места, когда думал о том, что сегодня
говорить, то я вдруг вспомнил, что псевдоним одного выдающегося,
может быть, самого заметного автора философско-литературной
публицистики, безусловно талантливого автора, — его псевдоним
«Одиноков».151 Этот псевдоним связан с его отношением к отцу —
или к отцам, потому что, я скажу, забегая вперед, отец у Одинокова
собирательный, он собирает в себе отца вообще, всякого отца,
отца, оставившего философское и литературное наше наследие,
вообще отца, сделавшего так, что мы живем в мире, в России,
потому что этот мир Россия для Одинокова, и Россия это целый мир,
не потому что вне России он ничего не видит, а потому что без
России все равно мира нет, и если куда смотреть, чтобы увидеть
мир, то на Россию, на нас, мы же, и в первую очередь с нашим
языком, живем в у-словиях, в которых мы живем, потому, что отцы
наши были такие.
Отношение Одинокова к отцам, или, мы можем говорить,
к отцу, — и я говорю «отношение Одинокова», потому что откры-
151 Я исхожу из того, что литературным грабежом среди бела дня, в потоке
общего экономического грабежа, занимается все-таки литературный персонаж,
а его автор, Дмитрий Галковский, виноват только в садизме, с каким он слышит
совсем по-настоящему болезненные крики людей, якобы ограбленных созданием
ума. — Конечно, Галковскому грозит то же, что новым миллионерам и
миллиардерам: вообразить, что литературные владения одинокого настоящие.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
287
тие Одинокова, сделанное автором и сделавшее автора, Одинокова
открывает, но одновременно это и открытие Одинокова, потому
что автор делает дело Одинокова и с санкции Одинокова, так что
Одиноков правит автором, автор создание Одинокова и в этом
смысле ни отличие Одинокова от автора, ни особенности автора
как пишущего нам не важны: автор создание Одинокова, открытие
Одинокова; сила Одинокова такая, что он сумел создать и автора,
и произведение.
Положение Одинокова, его сила как Одинокова
определяется его отношением к отцу, или, вернее, тем, что его отец, в том
широком смысле, включающем всех отцов, и Россию, прежде
всего Россию мысли, Россию слова. «Отец» — у Одинокова
собирательное имя. И вот отец Одинокова явно не на высоте в обоих
смыслах, в каких отец может быть не на высоте, «быть
несовершенным» и «отсутствовать». Начать со второго, — это
определяющее: Отец Одинокова умер. Определение Одинокова — «смерть
отца». Смерть отца постоянная нота Одинокова, его настроение, из
которого он думает и пишет. «Иду по улице, философствую, а мне
кто-то спокойно говорит на ухо: „А у тебя отец умер". — „Да, жил,
понимаешь, существовал, а тут, хе-хе, 'собирайте вещи'. Папенька-
то 'тю-тю'". Какая-то мучительная, постыдная незавершенность
(!). Вышел на сцену, а штаны сзади рваные». Смерть отца, здесь
можно видеть, подсекает Одинокова. Но это свое подсечение
смертью отца, такой несомненной, такой убедительной, Одиноков
делает, — только что созданный смертью отца, — силой для подсе-
чения кого? всех и всего. Прежде всего — срезанный жестоко сам
(«вышел на сцену, а штаны сзади рваные»), он тут же замечает, что
так же точно можно срезать, и надо срезать каждого, кто поднялся
на сцену, например, лектора по философии: «Читают лекцию по
философии. Я вопросик лектору, „записку из зала": „Такого-то
числа такого-то месяца и года у меня умер Отец" (с большой буквы).
И подпись: „Одиноков"».152 Этими словами, «умер Отец», Отец
с большой буквы, лектор по философии поставлен перед фактом
фактов, о котором только и имело бы смысл думать и
философствовать, без которого во всяком случае — без этого факта, «Отец
умер», — всякое думание, всякое философствование будет пустое.
Одиноков ставит лектору по философии подвох, резко: нет смысла
разглагольствовать, рассказывать про Гегеля что-то, когда — умер
отец. Одиноков прав, как никто. Одиноков, созданный своим
одиночеством после смерти Отца, оглядывается кругом и видит
152 Наш современник». 1992, № 1, с. 140.
288
В. В. БИБИХИН
что у всех, у каэюдого штаны сзади рваные из-за смерти Отца, что
срезать каждого легко — и нужно — простой записочкой, «я
вопросик лектору, „записку из зала"»... Одиноков, теперешний,
только вот сейчас созданный своим знанием, что Отец умер, этим
своим знанием выверяет всех — и он убеждается что все далеко не
на высоте, фатально, обреченно не на высоте. Потому что лектор,
которому прислан тот вопросик, «записка из зала», ведет себя,
поведет себя статистически со стопроцентной вероятностью так, как
повел себя лектор, получивший записку Одинокова.
«Читают лекцию по философии. Я вопросик лектору, „записку
из зала": „Такого-то числа такого-то месяца и года у меня умер
Отец", и подпись: „Одиноков". — Ну и что? При чем здесь это-то?
О чем вы, милейший?! Ну конечно, очень жалко, мы сочувствуем
и т. д. И я получаюсь каким-то „и т. д.". „Идите отсюдова"». Т. е.,
вы видите, Одинокову вовсе не приходится даже как-то особенно
срезать лектора, лектор срезает сам себя, прочно, раз навсегда,
своей неспособностью понять и принять то, что произошло: Отец
умер. Лектор так решительно отключает себя из числа тех, кто
в курсе дела, кто знает, что произошло: что Отец (с большой
буквы) умер; с лектором дело ясно, с ним дело покончено: он
непричастен к факту фактов, он обречен.
Теперь. Сколько людей в числе тех, кто приобщен к факту
фактов, кто знает о смерти Отца. Ответ содержится в фамилии
открывателя. В число посвященных, знающих входит только он
один. Как такое может быть, в каком случае? Знать о смерти отца
может ведь в сущности каждый. Значит в одинокости Одинокова
скрывается что-то другое. Мы знаем, в каком случае человек
безусловно и неизменимо один: в умирании, свою смерть невозможно
разделить ни с кем. Одинокость одинокого не от того только, что
он знает о смерти Отца, а от того, что он знает, что значит смерть
Отца: что она ставит перед лицом смерти и того, кто это знает.
Знание о смерти Отца Одинокова — одновременно и встреча со
смертью, знание Одинокова вдвойне убедительно: умер отец, умру
я, так что всё равно.
С этим убедительным знанием Одиноков стоит посреди
философского факультета, где лекторы читают лекции по философии,
и также посреди наследия русской (т. е. для него просто мировой)
мысли, инвентаризацией которой заняты все вокруг Одинокова.
Отец Одинокова, я сказал, собирательный, он собирает в себе
Отца вообще, Отца как такового. Отец Одинокова пишущего —
это автор, которого мы читали в прошлом семестре на этом курсе,
«Чтение философии», Василий Васильевич Розанов. Одиноков,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
289
созданный своим знанием Одинокова, обязательно срезал бы нас
во всем, что мы говорили о Розанове; лектор с кафедры, и,
вернее, Одиноков заранее уже и срезал нас, что бы и как бы мы ни
говорили, своим знанием. Отец умер. Розанов, т. е. для Одинокова
главная наша («русская», как он говорит) мысль, умерла. После
смерти такого отца, замечание Одинокова «писать гаденькие
гладенькие статейки и книжицы по философии это еще не значит
быть философом».153 А не гаденькие гладенькие? Надо понять
важное: теперь, когда Отец умер, «гаденькие и гладенькие» окажутся
все писания о нем. Вообще о каком еще писании, милейшие, мы
слышим голос Одинокова, может идти речь после того, как Отец
умер. Да, сам он пишет, но как: уже из знания, что что уж там,
всё равно. Одиноков: «Писать гаденькие гладенькие статейки
и книжицы по философии это еще не значит быть философом».
Имеет смысл писать только из знания, что Отец умер. Одиноков
о себе: «Я писал... „так", как „пустяк", не вполне серьезно. Я уже
сознавал, что это все не то. Почему я это писал?»154 Да, это вопрос:
как, зачем писать, когда уже знаешь, что Отец умер, и знаешь,
что это значит, т. е. уже стоишь одиноко перед смертью. Ответ
Одинокова: а потому именно и писать, что теперь все равно и все
равно напишут другие и они напишут заведомо хуже. «Почему я
это писал? Почему это не мог написать кто-нибудь другой?»155 Идет
поток безотцовского писания. Не напишу я — напишет кто-нибудь
другой безличный. Но написал все-таки я, Одиноков. У Одинокова
есть по крайней мере, в отличие от других, то знание, которым
он может срезать и срезать «вопросиком» всех других. Пишет
«так», потому что уже все равно. «Зачем писать? Ну, да, Розанов
гений? — Гений. Чуткий? — Чуткий. Добрый? — Добрый. А
зачем тогда писать? О чем? Это не нужно. Это глумление. Вот отец
умер. А мне приносят о нем статью, где мне доказывают, что он
хороший. Зачем это? Куда вы! Розанов писал, что мир погибнет
от равнодушного сострадания.
Нет. Или уж сострадать, но искренно, всей душой, до потери
„приличия", до размазывания слез по онемевшему от страдания
лицу... или лучше отойти в сторону».156 Или отойти в сторону...
Или сострадать «искренно, всей душой». Это два очень разных
поведения, но то и другое — Одинокову приходит в голову только
выбирать между этими крайностями при условии его знания, т. е.
153 Там же, с. 139.
154 Там же.
155 Там же.
156 Там же.
290
В. В. БИБИХИН
для Одинокова, знающего; а та чушь, которую будут плести люди,
которые еще не знают, лекторы — для него за пределами
рассмотрения. Не интересно. И нам тоже: нас не очень здесь занимает
то, что будут говорить, как будут говорить люди, которые еще не
услышали это от Одинокова, от одинокого: Отец умер. Мы
услышали. Мы и не спорим, разумеется, с Одиноковым, что его Отец
умер, что вообще Отец умер. Мы только обращаем внимание вот
на что: перед Розановым Одиноков выбирает между
«размазыванием слез... по лицу» и «отойти в сторону», т. е. ему не приходит
даже в голову спросить себя, почему он так уверен, что Розанов
окончательно и бесповоротно умер.
Т. е. я вовсе не хочу поставить себя в положение лектора перед
Одиноковым, который всякого лектора безусловно срежет, и
лектора, который еще не знает, что Отец умер, даже еще и не так резко
срежет, как того, который скажет: Розанов не умер, Розанов жив.
«Не все дома», скажет Одиноков. «Вышел на сцену, а штаны сзади
рваные». Или он скажет еще другое: что сказать так невероятно
пошло, что так скажет Гегель. «Гегель не облагораживает, а
опошляет. Сам-то он не пошл, куда, и выговорить-то смешно такое.
А, вот почему-то опошляет все вокруг, сыпет в мозг наждаком».157
Не сыпьте мне в мозг наждаком, скажет страдающий Одиноков,
«искренно, всей душой, до потери „приличия", до размазывания
слез по онемевшему от страдания лицу», не говорите, скажет он,
мне чушь, про Розанова, который не умер. — Я представил Вам
сегодня раньше нравственного, высоконравственного философа,158
который возмутится, услышав что Бог умер, гневно отмахнется
от дикого абсурда такого предположения. Одиноков, казалось
бы, диаметрально противоположен такому высоконравственному
философу, но противоположности, чтобы быть
противоположностями, должны иметь общее (общий диа-метр, разрез, общее
измерение), в котором они противоположны. Раздражение Одинокова
будет другое, но это тоже будет нетерпеливое раздражение, когда
он услышит, что Отец, возможно, не умер. Мы своим
предположением подсекаем одинокого. Позиция Одинокова такая: он весь
стоит на смерти Отца, он вырос, создался из смерти Отца, когда
послал тот вопросик, ту записочку лектору: а как быть, как обстоит
дело со смертью Отца, т. е. выступил как апостол, как пророк, как
просветитель, который несет эту смертельную правду, что Отец
умер, и срежет этой правдой всякого.
157 Там же, с. 140.
158 См. «Возвращение отцов» в Приложении. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
291
Мы поэтому давайте не будет попадать под хлесткую руку
Одинокова (я так много о нем говорю, потому что за ним стоит
русский нигилизм, о котором несколько раз я раздумывал
думать, каждый раз срывалось, это слишком большой медведь, и он,
русский нигилизм, слишком прочно сидит в своей берлоге, его
слишком страшно оттуда выгонять или выманивать), — поэтому
не будем попадаться под руку Одинокова, не будем говорить то,
после чего он и знать нас не захочет. Одиноков очень широко, на
тысячестраничную книгу,159 размахнулся из-за смерти Отца,
благодаря смерти Отца, и его размах сейчас (с приватизацией) будет,
все на той же почве, все сильнее и сильнее, и Одиноковых, скорее
всего, окажется много, «множество Одинокова» включит, а может
быть, уже и включает почти всех, пусть не знающих с той
определенностью, но чуягцих смерть Отца и свободу, которую это дает,
свободу широко размахнуться, — размахнуться на просторе, где,
особенно, смерть Отца уже и объявлена, — т. е. статус Одинокова
останется прежним, странным образом ничуть не перестав быть
одиноким, он сделается громадным множеством, — и вот, я
говорю, мы не будем попадаться под горячую размашистую руку
Одинокова, чтобы нам не досталось от него, как от него достается
всем, чтобы он, Одиноков, нас не срезал, — но набраться мужества
и все-таки спросить не его, Одинокова, потому что он и за вопрос
нас тоже срежет, а самих себя: почему в положении Одинокова
есть только одна-единственная определенность, вот эта смерть
Отца, эта высшая достоверность? Почему все, что не упрется лбом
в эту смерть Отца, для Одинокова будет возмутительно,
отвратительно, «лохмато-серые тряпочные эманации» изодранной одежды
дряхлого платонизма. Вот он в одном из самых откровенных мест
своей книги, где говорит о книге, о «голом столбе» своего
одиночества, о «столпе молчания», тысячестраничного. Говорит о самом
интимном. И снова, как к питанию, припадает к источнику всего,
к смерти Отца. «Его увезли умирать, а я прислонился лбом к
холодному стеклу окна, противоположенного выходящему на его
последнюю улицу, и стоял и ни о чем не думал. Думал: „О чем же
думать?" О чем же тут думать? И зачем? Зачем думать, жить? Не как
осмысленное стремление к самоубийству, а как обессмысливание
каких-либо смыслов, бессмысленный ужас и недоумение перед
каким-нибудь смыслом. И вот это ощущение бьющего через лоб
159 «Бесконечный тупик» впервые вышел полностью (2 тома, больше
тысячи страниц) в декабре 2007. Для издания этой книги автору пришлось создать
собственную издательскую фирму. (Сост.)
292
В. В. БИБИХИН
ледяного холода и есть то. А остальное — лохмато-серые
тряпочные эманации в какую-то там „реальность"».160 Бессмысленный
ужас и недоумение перед каким-нибудь смыслом. Мы давайте
не будем вызывать раздражение Одинокова, тем более что у нас
никогда и не было платонического желания выставить какой-то
смысл целый готовый для употребления. Но удивиться тому, как
опыт «бьющего через лоб ледяного холода», знание смерти Отца
делает одинокого Одинокова, открытие Одинокова о смерти Отца
как раз потому, что незачем «думать, жить», становится большой
книгой, на крыльях которой одинокий хочет вырваться топча нас,
вырывается из тесноты.
Отец умер, но тот, кто одновременно поражен и создан,
разбужен, отпущен говорить смертью Отца, — жив и мечтает. Он
мечтает среди бессмыслицы, холода смерти, ледяного смертного
холода, и среди абсурда, в ритме разрушения, в ритме отпадения
ветвей с дерева жизни. От смерти делается прыжок к жизни,
отталкиваясь от смерти в скользком двойном смысле слова
«отталкиваясь».
«Постепенно все будет угасать, цепенеть, и наконец
последняя искра пробежит по умирающему рассудку... Недоумение.
Скука. Смерть... Но все же. Все же предпринята безумная
попытка сопротивления. И вдруг она удастся и произойдет чудо,
и реальность изогнется фантастически причудливым образом,
и я, ласково окутанный родным пространством, буду перенесен
в иной, подлинный мир. Вызовет ли этот сгусток энергии, воли,
желания, мысли цепную реакцию, или он повиснет в пустоте,
повиснет в пространстве бессильно обломанными ветвями, и звезды
рассмеются надо мной холодным русалочьим смехом?.. Попаду
ли я в фантастическое пространство, а в общем-то, с другой-то
стороны, единственно подлинное и естественное? Или же я
фатально обречен на существование в сером и унылом „реальном
мире"? Ответ на этот вопрос неизбежен, ибо само отсутствие
ответа есть ответ самый красноречивый, самый абсолютный и самый
безнадежный».161
Вот. Статус Одинокова между реальным миром и
фантастическим миром, реальное — серое, унылое, обреченное,
фантастическое — родное, подлинное, единственно естественное. Вопрос
поставлен парадоксальным, спутанным, явно пародийным,
издевательским образом. Над кем тут издевательство Одинокова? Тут
160 Силенциум. СПб., 1991, с. 72.
161 Там же, с. 73.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
293
стоит вдуматься. С одной стороны, издевательство, или по крайней
мере ирония над своим собственным порывом, над чудом,
которое должно произойти и о котором Одиноков говорит ернически:
«произойдет чудо, и реальность изогнется фантастически
причудливым образом, и я, ласково окутанный родным пространством,
буду перенесен в иной, подлинный мир». Одиноков тут
подсказывает себе: да, держи карман шире, перенесешься ты в иной мир.
Это скоморошество, ерничество действует в нем даже уже помимо
него самого, как постоянный жест срезания и себя и других. Он
порывается в родное пространство и тут же срезает себя, «звезды
рассмеются надо мной холодным русалочьим смехом». Одиноков,
всякий Одиноков будет так срезать себя, будет так поддевать
сам себя вилами в бок, издеваясь над «родным пространством»,
которое как-то ласково изогнется и его примет в свой уют. И если
мы неосторожно разбежимся и тоже вместе с Одиноковым
размечтаемся о таком родном пространстве, то сила Одинокова,
сила, взятая от смерти Отца, нас срежет. — Но вот теперь другое,
другой полюс, другой его вопрос: «Или же я фатально обречен на
существование в сером и унылом „реальном мире"?». Вопрос тоже
скоморошеский, ернический, весь сплошь. Во-первых, никто ни на
что «фатально» не «обречен». Во-вторых, «реальный мир» — это
Одиноков знает или во всяком случае сильно подозревает — вовсе
не серый или унылый, и если он серый и унылый, то обязательно
будет опровергнут, опрокинут — целый мир «реальный» будет
опровергнут и опрокинут, потому что на самом деле он вовсе не
«реальный», потому что единственное «подлинное и
естественное» пространство не это, не серое и унылое, а фантастическое,
опять же это Одиноков знает — вот откуда знает, кто ему это
обещал? — это большой вопрос, но всякий Одиноков знает, что
надави — и реальность серого и унылого реального мира обязательно
будет сломлена, обессилена, так что «сгусток энергии, воли,
желания, мысли» никогда не «повиснет в пустоте», и вот что будет:
что «фантастическое пространство» ласково изогнется, это едва
ли, думает Одиноков, думают все одиноковы, это, конечно, едва
ли... это смешно... — но вот что «серый и унылый» реальный мир
очень даже можно куда-то, в какую-то сторону проломить — это
опять же Одиноков, всякий Одиноков, очень хорошо знает,
поэтому он вызывающе, уверенно спрашивает: «Или же я фатально
обречен на существование в сером и унылом „реальном мире"?».
Вопрос звучит у Одинокова и у всех Одиноковых горделиво. Уж
с его-то энергией, волей, желанием, мыслью — не обречен. Ладно,
с «родным пространством», «ласково окутывающим», сложится
294
В. В. БИБИХИН
как сложится, туда-сюда, но уж серая и унылая реальность —
извини подвинься, ее напор Одиноков сломит и размечет, разве не
срезал он до сих пор так резко лекторов, разве у Одинокова не
могучая сила, знание, что Отец умер.
Отец умер; это пароль, пропуск, санкция на слом серой
и унылой реальности, на размашистость. Бог умер — значит
можно быть очень размашистым, чем размашистее, тем лучше.
Но, я говорил, отец оказывается не на высоте не только тем, что
он умер. Он не на высоте еще и тем, что несовершенен. Между
той и другой «невысотой» связь: в самом деле, если бы Отец был
совершенным, зрелым, то у него, собственно, не было бы причин
умирать, он в каком-то смысле оставался бы бессмертным. Но он
умер-то как раз потому, что был такой, какой он был. Опять же не
упуская из виду, что отец Одинокова собирательный, и не считая,
что то, что говорит Одиноков о своем отце, напрямую сказано об
отце его семьи, будем думать, что вел себя отец Одинокова как
собирательный отец. Т. е. значит в первую очередь — Розанов. Отец
был как Розанов, Розанов как отец [...].162 «Отец играл на
мандолине; немного говорил по-испански и по-итальянски... Однажды
он с 'ребятами' ел на кухне уху под водку... смачно обсасывая
кости.. .Мой отец был типичной 'ерундой с художеством'».163 Так
Розанов называл русского вообще. Еще одинокий об отце: «Отец
сидел на коленях на санках и, отталкиваясь лыжными палками,
катался по растаявшему катку... пел арии на итальянском языке...
истерически хохотал». Сравни одинокий о Розанове: «Всю жизнь
совершал смешные ошибки. Брак с Сусловой и т. д. И в результате
жизнь его удалась». Мораль: надо размахнуться тоже, поскольку
Отец такой. Он гулял, и одинокий будет широко гулять. «Иду...
почти сознательно, с заведомым ожиданием неизбежных срывов
и просчетов... Ведь иначе нельзя, выхода нет. Мы, как сказал сам
Розанов <!), не можем вырваться из-под власти национального
рока».
Двойная санкция, своего надежного одиночества и общего
успокоительного разгула, дает необъятные права. Кроме того,
в прямом завещании, написанном от имени умершего, одинокий
объявляет себя его единственным законным наследником. В этом
завещании, которое, говорят нам, Розанов написал бы сам, доживи
он до наших дней, учитель одинокого учит его распусканию. Это
162 Лакуна в тексте из-за отсутствующей 354-й страницы машинописи
восполнена фрагментом из статьи «Возвращение отцов». (Сост.)
163 Многие цитаты В. Б. оставил без ссылок даже в печатной версии,
поэтому и в данной публикации ссылки не уточнены. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
295
действительно розановское слово. Но распускание, в каком
распустился гуляя и не растворяясь в окружающем Ничто (т. е. в той
реальности, которая не реальность) одинокий — в каком смысле?
Тут важный пункт в стратегии всякого одинокого, центральный
в его знании и главный в применении им Отца, в данном случае
Розанова, поэтому мы остановимся здесь минут на семь. Одинокий
цитирует Мандельштама: «Розанов всю жизнь шарил в мягкой
пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской культуры».164 Мы
уже знаем, что сейчас скажет Одиноков: стен у русской культуры,
конечно, нет; это у других культур есть стены, но мы вот такие
особенные, совершенно размашистые. «У каждой нации должна
быть рациональная сказка, охватывающая плотным кольцом все
стороны быта и изгибающая их по направлению к центральному
мифу... У русских никакой ограды не было. Отсюда ущербная
беззащитность русской культуры. Розанов никого не спасал, никого не
учил и не воспитывал. Но именно ему, как-то походя, незаметно,
удалось построить ограду».165 Сейчас нам должны сказать, какую.
Пока нас заинтриговали: мы, русские, исключительны по своей
беззащитной широте, но среди нас, русских, есть один, который
показал нам, как сложиться в округлое, как сделать так, чтобы
наша широта не была ущербной, не гибельной [...]
Итак — выбросим теперь спокойно слово «русский» —
культура не имеет стен (этой теме, что культура по определению не
имеет определения, что она открытость, что у нее нет границ,
что ограничившая себя культура быть культурой перестает, что
французская культура, поскольку она культура, культура без
границ, этой теме отдана одна из последних книг Жака Деррида),
культура не знает ограды, и это делает культуру беззащитной,
Розанов же тот единственный, кому как-то невзначай удалось
построить ограду. Теперь, благодаря Розанову, Одиноков (я
теперь могу не добавлять «и все одиноковы», как Отец Одинокова
собирательный, так и он для нас будет собиранием, собранием
русского нигилизма, только теперь, после его появления, мы уже
освобождены от обязанности прибавлять «русского»: потому, что
похоже, Одиноков это формула нигилизма чистого, нигилизма
просто', а слово «русский» добавит вместо нас Одиноков, который
его как раз очень часто говорит, — загадочно часто, можно было
бы даже сказать) построит ограду, которая сделает его уже не
беззащитным, придаст ему крепость, вместо той наивной открытости.
к* Начала. М., 1991,1, с. 68.
165 Там же.
296
В. В. БИБИХИН
Или, как говорит Одиноков, введет его существование, не лишая
богатства, в надежную колею правил и обычаев, даст строить
наконец свой дом. Розанов еще не совсем, не вполне понимал свое
открытие, но Одиноков уже понимает, это можно назвать вполне
«открытием Одинокова».
Теперь собственно «открытие Одинокова». Вот как оно
объявляется: «Розанов дал Домострой XX века. Правда, ему было
неинтересно его развивать — чувствовал ненужность. Тогда. А вот
я подниму. Мне нужно было высветить реальность новой сказкой,
новой актуализацией русского мифа. И я искал для этого наиболее
здоровую основу. И нашел ее в Розанове. В нем гармонизируется
и наполняется смыслом наше бытие».166
Нам объявлено, обещано. Суть того, что нам объявлено,
обещано, нам предлагают увидеть в одной записи Розанова. Мы эту
запись прочитаем. К ней две вступительных фразы Одинокова:
«Розанов дал Домострой XX века. Он писал:
"В собственной душе хожу как в саду Божьем. И
рассматриваю, что в ней растет, с какой-то отчужденностью. Самой душе
своей — я чужой. Кто же я? Мне только ясно, что много ся' в 'я'.
И самое внутреннее смотрит на остальное с задумчивостью и без
участия"».167 К этому месту из Розанова Одиноков комментария
не дает. Для Одинокова все ясно; стало быть, остается еще раз
вчитаться, в этот «домострой XX века», т. е. в новый закон, каким
в XX веке строит свой дом личность, и конкретно, по Одиновову,
«русская личность», и еще конкретнее — Одиноков, «пример
и опыт максимального осуществления русской личности и способ
ее существования в мире, распускания, но не погашения в
окружающем ничто».168 Это точно и метко сказано: окружающее ничто.
Одиноков не мелочится на вхождение в детали, для его нигилизма,
для чистого нигилизма вокруг — «окружающее ничто», в котором
важно не «погасить» личность, личностное начало в, тем более,
его максимальном осуществлении. Это максимальное — широкое,
размахнувшееся, готовое размахнуться личностное начало, —
надо распустить свой логос, не дав ему, стало быть, погаснуть
в окружающем ничто.
Максимальное осуществление русской личности, ее
распускание надо вычитывать из розановских слов: «В собственной душе
хожу как в саду Божьем. И рассматриваю, что в ней растет, с
166 Там же.
167 Там же, с. 69.
168 Там же.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
297
какой-то отчужденностью». И «не погашение» максимальной
личности в «окружающем ничто» надо вычитывать из слов Розанова:
«Самой душе своей — я чужой. Кто же я? Мне только ясно, что
много „я" в „я". И самое внутреннее смотрит на остальное с
задумчивостью и без участия». Надо очень многое чтобы произошло,
прежде чем можно было бы читать розановскую «задумчивость»
в смысле программы распускания русской личности, гигантской
паутины национального мифа, и программы воспроизведения
изнутри «расово идентичного опыта». Мы читали розановскую
«задумчивость» иначе. Во всяком случае моэюно прочесть Розанова
иначе. Чтобы сделать его создателем «домостроя XX века», надо
было сначала, чтобы Розанов прочно умер. У нас нет такой
уверенности, как уверенность Одинокова, что Розанов прочно умер.
Даже с риском быть срезанными и осмеянными позволим себе
высказать предположение, что и после убийственного прочтения
Розанова у Одинокова чтение Розанова все же еще продолжится.
Розанов не обязательно станет «домостроем XX века»,
программой для распускающей себя личности; что распускание личности
не то же, что распускание деревьев в саду, в котором задумчиво
ходит Розанов.
Мы видели, буквально на наших глазах, открытие Одинокова,
он открылся, распустил себя, потому что открыл, что Отец умер.
Где произошло это открытие. Читаем об авторе открытия
Одинокова: «молодой писатель, недавний выпускник философского
факультета МГУ». Это многое объясняет. Отец философский
факультет. Одиноков, Одинокий сохраняет позу профессиональной
философии перед философским наследием: это поза
инвентаризации. Инвентаризатор находит и заприходует ценности,
например такую ценность, как «домострой XX века», программу для
деятельной личности в новых условиях, отмеченных главным
событием, тем же, которым вызвана и задача инвентаризации:
ведь инвентаризация имущества делается при переходе его из рук
в руки. Отец, в чьих руках во всяком случае было то имущество,
умер, для Одинокова это главное достоверное, санкция —
трагическая санкция — на взрыв энергии, воли, запускание в ход
большого говорящего механизма. Мы читали Розанова иначе: наоборот,
каменная задумчивость, амехания, завороженная неспособность
пустить в действие новые механизмы.
Воскрешение отцов у Николая Федоровича Федорова —
немыслимая задача, т. е. мыслью ее не охватить. Если бы она была
одной из задач; т. е. как одна из задач она абсурдна. Но она не
«одна из»: она у Федорова та задача, без которой как первой, ис-
298
В. В. БИБИХИН
ходной все другие бессмысленны. Я уже говорил когда-то, что
кажущийся упрек Федорова философии, которая занимается якобы
теорией: «Мир дан нам не для погляденья», — это тайное, и от
затаенности тем более настойчивое, неотступное существо всей
мысли, всей философской традиции. Она никогда не занимается
теорией.
И так же: федоровское «воскрешение отцов», тем более с
помощью современной техники, кажется далеким от философии,
противоположным ей; и опять это — тайный мотив всякой
настоящей попытки мысли. Воскрешение отцов — не только в смысле
готовности читать, почитать отцов, но и в более прямом смысле:
в трудном смысле возвращения отцов, путь к чему, наверное,
далекий, но такой, который вообще невозможен, если не спросить
об этом удивительном, что мы видим перед глазами, распускании,
которое разрешило себе себя, раз-решило себя на том основании,
что Отец умер. Мы видим, что личность начинает странно вести
себя, начинает вести себя от знания: Отец умер; она тут же
сообщает об этом «вопросиком», «записочкой из зала» авторитету
(маленькому авторитету, лектору, но также и всякому
авторитету), одновременно подавленная и распущенная, рожденная тем,
что Отец умер. Личность получает место, чтобы развернуться,
родиться, когда Отец умер, когда Бог умер? Но велики ли
возможности у личности, у которой Отец умер? Ее самой очевидной
возможностью остается тоже — убить. Или какой-то зримый Отец
должен умереть, чтобы высвободился истинный, тайный Отец?
Одиноков называет этого нового, тайного, бессмертного Отца:
это «безмерный вневременный логос».169 «Внутренний мир», соз:
дание Одинокова (в обоих смыслах, он создан Одиноковым, он
создает Одинокова), сообщает о нем Одиноков, принадлежит
двум существам: «мир этот принадлежит некоему конкретному
человеку, со всеми его слабостями и комплексами, и одновременно
безмерному вневременному логосу». О нем Одиноков отсылает
прочесть у Розанова: «И самое внутреннее смотрит на остальное
с задумчивостью и без участия... с какой-то отчужденностью».
Мы читали у Розанова о задумчивости, о понимании; мы сближали
отрешенность понимания с гераклитовской отдельностью: «софия
от всего отдельна». Отдельное отделяет, разделяет, как
разрезающее, или уже разрезавшее, уже вдвинутая в мир как отдельность,
софия — война 53-го фрагмента по Дильсу-Кранцу (29-й фр. по
Марковичу), где говорится: «Война (Полемос) — отец всех, царь
"я Начала. М., 1991, 1,с.69.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
299
всех: одних объявляет богами, других — людьми, одних творит
рабами, других — свободными».170 Пока не будем разбирать этот
фрагмент. Заметим только одно: этот отец слишком отделен
(отдельное у Гераклита то, что таится в противоположностях: день
противоположен ночи, но настолько не отделен от ночи, что без
ночи не было бы и дня; но то, в чем день и ночь
противоположности, — не сумерки, не вечерняя и не утренняя заря, а отдельное
от дня и ночи и их противоположности, немыслимое, потому что
нельзя помыслить дня и ночи вместе, чтобы получились не серые
сумерки, а одно яркого дня и ночного мрака), — да, такой Отец
слишком отделен, чтобы с ним могла случиться такая вещь как
смерть. Одиноков, нигилизм, хочет, утвердившись на смерти Отца,
создать такой внутренний мир, в который помещался бы и
человек со своими слабостями и комплексами и одновременно —
«безмерный вневременный логос». У Одинокова это не получится,
вообще никакие литературно-публицистические потуги, даже
самые философические, тут не помогут. Одиноков думает, что
он нашел, инвентаризовал у Розанова «домострой», закон такого
создания. Нет, у Розанова можно найти понимание
неприступности Отдельного и задумчивость, каменную завороженность
перед ним, перед тайным Отцом, — и спокойное, торжествующее
понимание, что этот Отец настолько отделен, что Он может, так
сказать, и так, без того, чтобы существовать, что он может, так
сказать, и умерев, и в ничто, и из ничто. Деловитость Одинокова,
который спешно заново инвентаризует наследие, очень спешно
и очень небрежно, к пониманию Розанова отношения не имеет.
Но вот что удивительно. Мы читаем философию. Мы при этом
казалось бы вступаем в область, область так называемого
культурного наследия, которая дважды, трижды, много раз и в последний
раз очень спешно и очень решительно еще раз инвентаризована,
описана в классифицирующих описях, распределена,
использована. Это нам искать настолько не мешает, что даже помогает.
Потому что мы ищем, когда читаем философию, не единицы новой
классификации, и не новые способы актуализирующего
применения этих единиц хранения, не хотим заниматься ни разбойной,
ни профессиональной и корректной инвентаризацией, а идем
по следам Отца, от всего отдельного, которому, наверное, очень
смешны попытки его инвентаризировать и который объявлением
«Отец умер» еще не уловлен.
по фрагменты..., с. 202.
300
В. В. БИБИХИН
11—2(18.2.1992)
1). Ensiegner à lire, telle est la seule, et la véritable fin d'un
enseignement bien entendu; que le lecteur sache lire, et tout est sauvé;
2) Παρμενίδης; 3) θυμός; 4) δαίμονες, δαίμονος; 5) φέρου-
σιν, φέρει, φερόμην, φέρον; 6) όδος, μέτ-οδος; 7) αρπάξω;
8) κούραι; 9) πολύ-φημον, πολύ-φραστοι
Прошлый раз мы остановились на том, что доставшееся
наследие, философское наследие, давно и несколько раз, разными
получившими его, заприходовано, инвентаризовано, расписано,
применено. Говорили, что цель работы, чтения философии, ни
в коем случае не может заключаться в том, чтобы поставить под
вопрос проведенную инвентаризацию, разрушить ее, предложив
или не предложив новую. Цель чтения философии вовсе не в том,
чтобы еще как-то иначе обойтись с философским наследием, — не
так, как с ним обходились, — как-то еще удачнее, ловчее. Цель мы
сформулировали прошлый раз, вернее, ее сформулировал философ
Николай Федорович Федоров: воскрешение отцов. Воскрешение
отцов невозможно. Но, во-первых, оно невозможно и необходимо,
потому что иначе для нас неизбежна судьба Одинокова,
безотцовщина, даже если очень смелая, распустившая себя безотцовщина.
Не дай нам Бог такой распущенности, распущенности, которая
цель «русской личности» Одинокова, его гордость, его, как он
думает, достижение, его, как он думает, новое слово и его, как
он думает, единственно правильное толкование Розанова, якобы
автора «домостроя XX века», закона формирования русской
личности в XX веке: не дай Бог. Одиноков может так обращаться
с Розановым и с мыслью вообще потому, что, он уверен, Розанов
умер раз и навсегда, Отец умер. Мы, как Одиноков, знаем, что
Отец проблема. Но мы не ставим себе от этого цель распускаться
как можно скорее. Мы ставим себе цель другую: воскрешение
отцов. Эта цель невозможная, Но, с другой стороны, сама
философия невозможна. Сама мысль невозможна. Сама свобода
невозможна. Попробуйте свободу: она просто невозможна; произвол,
который принимают за свободу, распускание Одинокова сковывает
по рукам и ногам, сковывает каждую мысль так плотно, как не
сковывает никакое рабство — в рабстве гораздо больше свободы
(например, в академическом рабстве, в служении у
профессиональной задачи инвентаризации культурного наследия), чем в
произволе Одинокова, распустившего себя безотцовства.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
301
За невозможную задачу спокойно — потому что она
неизбежная, — возьмемся, за задачу Дон Кихота или барона Мюнхаузена,
который потонул в болоте и у него остался только один способ
выбраться, поднять самого себя за волосы, возьмемся и Парменида
откроем. Ни на минуту не упустим из внимания Соловьева и
Розанова: они наши водители к Пармениду. Задача Парменида,
проблема Парменида нам открыта Соловьевым, его невозможностью
принять смерть, немыслимостью такого, чтобы можно было
принять порядок вещей. Порядок вещей ведет от рождения к смерти.
Вещи возникают и уничтожаются, покажите вещь, которая не
возникает и не уничтожается. Вещи возникают и уничтожаются,
и принять это невозможно. В том, что возникает и уничтожается,
ничего нет: эта секунда возникла и уничтожилась, в ней самой
ничего нет, если что-то есть в этой секунде, то это то, чего в ней,
этой секунде, нет как такой, которая вот сейчас возникла (на
электронных часах появилась цифра) и через секунду
уничтожилась, ее больше никогда не будет. — Если, таким образом, что-то
в этой секунде есть, то это в ней есть не как в секунде, которая
возникла и уничтожилась. Это значит: то, что есть, возникнуть
не может. И уничтожиться стало быть тоже не может. Правда
этого убеждает Парменида; никакой другой правды рядом с этой
правдой равной по весу он не видит.
Говорить об этом трудно. Всего проще скользнуть в «ход
мысли»: в «размышление». Секунда, минущая, минет (Цветаева),
но то, что есть в секунде, если в ней что-то вообще есть, если не
«всё, кружась, исчезает во мгле» (Соловьев), бессмысленно,
безвозвратно, в «окружающее ничто» Одинокова, — если в секунде
что-то есть, то это есть не возникло и не уничтожилось с
секундой, — «размышление» улавливает этот ход мысли, «давайте
поразмышляем», как говорит Хайдеггер в одном из переводов
Хайдеггера, и действительно получается, что Парменид прав: то,
что есть в секунде, с секундой не возникло и не уничтожится,
следовательно, то, что есть, в принципе возникнуть не может, оно
не становится — и не уничтожается.
Уж лучше бы мы вообще никогда не заглядывали в Парменида,
чем чтобы так «порассуждать немного», как якобы сказано у
Хайдеггера и как у него никогда не может быть сказано. Хуже такого
рассуждения уж не знаю что — распускание Одинокова, по-моему,
не хуже, а все-таки лучше такого рассуждения, лучше такого
превращения философии в утиль, в «рассуждения». Вот почему об
Одинокове интересно говорить; а перебор философских мнений
вгоняет в смертельную скуку, убивает сразу. У Парменида речь
302
В. В. БИБИХИН
не о мыслительных операциях, не о логике, не о рассуждении,
а об опыте. Опыт такого, что не возникает и не уничтожается,
не похож на химический или электротехнический опыт, сложи
вещества, соедини провода; сочетай слова в силлогизме. Опыт
дается или не дается; это значит: опыт не дан, единственное, что
мы можем хранить, это догадку, каким мог бы быть этот опыт,
как он должен бы был захватить человека, так, как он захватил
Соловьева, который безусловно предпочел умереть, чем не нести
напряжения, необеспеченности, потерянности, нищеты, надежды,
редкого редкого, может быть один раз за всю жизнь, я не утрирую
и не преуменьшаю, действительно может быть только один раз за
всю жизнь, и не долгого, а секундного прозрения, стойкой
памятью о котором потом только и имеет смысл питаться всю жизнь,
только из верности этому опыту говорить, — прошу Вас помнить:
я говорю не об опыте, который я имею, который кто-то имеет,
а о догадке и надежде, догадке-надежде одновременно, что опыт
того, что есть бывает. Как назвать этот опыт? Ощущением,
прозрением, догадкой?
Это догадка, ощущение, прозрение, что секунда исчезает
и всякая секунда невозвратно исчезает, и что та же секунда
каким-то образом есть, но есть это как раз не возникает и не
исчезает, оно просто и прямо и яснее всего и очевидным образом
есть и доступно нам упаси Господь не в силлогизме, а в догадке
ощущении опыте.171
Раньше я говорил о соседстве логики и мистики. Я говорил,
что это соседство всего больше бросается в глаза в Средние века,
когда, например у Фомы Аквинского, но и во всей схоластике,
формализм подчеркивается, фиксируется нарочито, чтобы дать
простор экстазу. Силлогизм, формальное доказательство —
поскольку оно движется как бы само собой, «на автомате», —
с одной стороны, оказывается родом молчания; с другой, формой
смирения, под-чинения чину, на-чалу, кону, за-кону, который
правит человеком и под-чиняет его огонь, не гасит. Я раньше потом
замечал этот союз чина, строгого закона и экстатической свободы
у Гегеля, в более скрытом проявлении у Канта; в очень
красивом, совершенном, строгом образе у Витгенштейна. Но теперь
я не склонен повторять это общее место — верное, конечно, —
171 [Карандашные записи В. Б. внизу страницы] До предела путаницы...
Мистика и силлогистика! Всегда рядом. Насколько абсурдно у Лебедева:
«оперировать понятиями». Ну оперируйте понятиями, сколько вашей душе угодно.
Господа, хочется сказать: не слишком ли мы оперировали. Господа, не слишком
ли нас оперировали. Не устали ли вы от операций.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
303
о союзе мистики и логики. Оно мне кажется только частичным,
косвенным выхватыванием чего-то более широкого и простого.
Опять Одиноков отрицательно помогает нам. Из-за того, что его
«распускание» про-из-вольно, оно не вольно. В русском слове
воля слышится два: «свобода» и одновременно «решимость»;
русское «воля» этимологически то же слово, что немецкое der Wille,
английское the will, и, с другой стороны, немецкое die Wahl,
«выбор». Слово указывает на, как всегда, в языке, видение, которое
одновременно ясное ведение, без того, чтобы мы знали, откуда
оно взялось: видим, ведаем, что это так, а почему так? Так, что не
сначала выбор, а потом решение, сначала воля, а потом наше
распоряжение этой волей, а каким-то образом быстро, сразу, вдруг,
внезапно и воля свобода, и воля решение, и принятие выбора.
С этим внезапно, вдруг — мы уже встречались: когда говорили
о способе существования «вечности», эона, юности. Ее способ
существования — внезапно: так, что для всякого человеческого
взгляда она всегда уэ/се. Чем больше вникаешь в этот способ
существования «начал», тем меньше кажется достаточным
говорить о «соседстве», «союзе» мистики и логики, слова (строгого)
и экстатического безмолвия; тем больше опасаешься, как бы не
оказалось неверным, что сначала молчание, потом речь — или
где-то молчание, где-то в другом месте речь. Опять, как часто
бывает, язык дает неожиданный намек. Русское слово «молчание»,
«молчать» имеет индоевропейские связи, и одна из этих связей,
древнеиндийская, — слово, которое звучит даже похоже на наше
«молчать», но я не буду стараться произнести, потому что все
равно реконструировать неуловимый тон всякого языка
невозможно, можно его только уловить и впитать (кстати, мнение, что
украинский язык не совсем отдельный язык потому что он
слишком похож на какой-то другой язык, скажем русский, белорусский
или польский, не имеет отношения к делу и не учитывает главного
в языке: главное в нем тон, музыка, ритм, сплетенная с
интимной во всех смыслах слова «интимный» жизнью народа, и здесь
у украинского тон, ставящий совершенно отдельно — хотя бы все
слова были общие с другими языками, как в Северной Америке
язык, который только совпадает с английским в лексике,
грамматике, орфографии (отклонения небольшие), но тон делает его
другим, тон, определяющийся неуловимыми вещами, как осанка
и характер напряженности голосовых связок, — мера, между
прочим, как барометр, общественной свободы, — и во Франции,
например, есть хороший обычай в библиографии писать
«перевод с американского»). Я тут еще раз напоминаю о том, о чем
304
В. В. БИБИХИН
много говорил172: язык не лексика и грамматика, вообще не знание:
мы не знаем язык, это верно во всех смыслах такой фразы; язык,
если мы умеем слышать, дает вслушаться в такое, куда заглянуть
«рассуждению» шансов нет; туда заглянуть рассуждению шансов
нет; и соответственно вычитать из языка какое-то знание
невозможно, — но когда догадка, и так уже сложившаяся,
появившаяся, вдруг находит себе отзвук в языке, словно что-то происходит
наяву и мы вдруг вспоминаем, что во сне с чем-то подобным уже
имели дело, то догадка уже имеет право быть чуточку смелее.
Нерасслаиваемое, несуммированное Одно воли-размаха и воли-
собранной решимости в русском слове «воля» делают смелее
догадку, что не обязательно говорить о соседстве логики и
мистики, они, наверное, в более близком смысле одно, чем я думал
раньше. То же — риторика и философия. Разные ли это, настолько
ли это разные стихии, как иногда кажется и как иногда говорят.
Экстатическое молчание о несказанном — и слово: уже и раньше
мы догадывались, что экстатическое молчание о несказанном,
которое должно быть сохранено, может быть сохранено только
словом. Только словом можно сохранить молчание.173
Это значит подтверждение и другой догадки: слово не
выражение мысли. Не так, что ее «внутреннее» скопление чего-то,
мы думаем, скажем, что мысли — и его внешнее «высказывание».
Слово не выражение. Слово просто есть. Слово слышно. Почему
мы слышим слово? Мы ведь его слышим даже там, где его нет:
нам послышалось. Это значит: мы «слышим» не потому, что
сначала физическое движение воздуха, которое мы истолковываем.
Сначала слух, который слышит то, что слывет: что слывет, то
слышно. Слово может быть и в молчании, и мы можем слышать
тишину. Никому не придет в голову сказать, когда наступает
тишина, которую мы теперь никогда нигде не слышим, для которой надо
выехать далеко от Москвы, скажем, в шатурские болота, и тогда
мы вспомним, что когда-то в детстве такое было: полная тишина.
Никогда никому не придет в голову сказать в такой полной
тишине: я ничего не слышу\ Наоборот, захочется слышать эту тишину,
слышать без конца. И это будет трудно, может быть, до
невыносимости, и захочется радио и телевидения — этих производных
тишины, созданных от невыносимости слушания тишины.
Те ранние слова греческой мысли, к слышанию которых мы
отчасти подготовлены тем, что вчитывались в близкое к нам слово
172 См. например «Язык философии» по указателю. (Сост.)
173 См. там же. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
305
русской мысли, звучат — должны для нас звучать — из
нетронутой тишины, как слышные сами по себе, как слова. Это не значит
вовсе, что Гераклит и Парменид говорили одинокие в чистом
поле; как раз наоборот, общественное существование людей, и они
в середине среды, было плотнее чем теперь, потому что не было
основного явления современности, одиночества человека в
городской толпе, миллионной: было редкое теперь, только в особых
обществах, скажем среди художнического общества, или общества
литераторов, состояние сцены, когда люди были друг другу
известны или предполагалось, что должны были быть известны, как
жители одной деревни, но деревня переходила в небольшой город
и раскидывалась на полуострове материковой Греции, на островах,
в Ионии, в Великой Греции на юге Италии, т. е. по Средиземному
морю. То, что слово Парменида звучит гулко, словно в тишине,
не «обусловлено социально-историческими процессами», а
подвиг Парменида, — конечно, подвиг, который был бы невозможен
такого размаха без такой остроты слышания слова на греческом
пространстве, но был событием, как и чуткость тогдашнего
греческого мира была событием.
Как и чуткость русского мира к слову была и остается
историческим событием, размах которого мы сейчас измерить пока
не можем. Большей частью мы этого — насколько пространство,
в котором мы движемся, это пространство слова — просто не
замечаем.
Кто-нибудь скажет: еще не хватало какую-то словесность
замечать, когда мы живем в таких условиях, в адских условиях. В
таких условиях не до красивой словесности, не до философии, не до
поэзии. Когда кто-нибудь так говорит, он не замечает, в какой
прочной хватке слова находится. Условия, об-условливающие нашу
«действительность», — какие это условия? Вопрос промахивается,
как обычно мысль промахивается мимо сути, которая всегда
близко, вплотную к нам. Мышление с его теперешними глобальными,
методологическими, абстрагирующими, обобщающими, вообще
деловитыми навыками, конструктивными, спешит строить, но из
чего строить? Из чего строить, когда мысль не замечает, на чем она
стоит? В каких условиях мы живем? На этот вопрос надо отвечать:
мы живем в у-словиях. У-словие — как у-минание, у-плотнение,
как у-говаривание. Условия — это обстоятельства, которые стоят
вокруг нас, об-стоят нас, во что мы обернуты, среди чего
обращаемся. Условия созданы словом, которое мы дали, которое мы
сказали, словом, которое вбито в нас, которым мы скованы,
связаны, обязаны: словом, которым мы об-условлены. У-словие как
306
В. В. БИБИХИН
у-спение: уход в сон. У-словия топят нас в слове, уплотненном.
Что наши у-словия нас целиком обусловливают, вовсе не значит,
что мы можем условиться об условиях нашего существования:
условиться о договоре — пожалуйста, но договор, о котором
мы условливаемся, уже обусловлен, как и весь характер нашего
условливания, условиями, в которых мы находимся раньше, чем
начинаем их «анализировать». Нам кажется, что в этом «анализе»
наших условий, условий нашего существования, — вот где мы
развернемся, развернем нашу мыслительную способность, наше
владение словом! Но нет, поздно: до нашего владения словом
слово давно уже нами владело, овладело нами условиями, в которые
мы «поставлены». Вот интересно, кем поставлены мы в
«условия»? Властями, скажем. Но действия властей «обусловлены» (чем
угодно обусловлены, скажем, их неумением слышать слово) еще
почище, чем наши действия.
Одиноков, о котором мы говорили прошлый раз, делает
открытие, разрешающее, как ему кажется, «русской личности»
распуститься: оказывается, наши стенки-то единственные — это
«русский язык», который всем правит на этом пространстве, —
говори тогда в этой России что попало, все равно попадешь все
в тот же язык, никуда из него не выберешься, и язык этот в России
всегда сам будет говорить и сам править, и язык этот всегда
вранье. Такой уж язык. Он сам себе бредит крутую соленую кашу,
густо соленую. С таким языком можно и нужно распуститься,
бредить вместе с ним без границ. И, может быть, Одиноков прав
в отношении свойств русского языка, его вранья. Но мы не
думаем разбирать свойства русского языка. Мы обращаем
внимание на то, мимо чего Одиноков, спеша распуститься — пока не
поздно, — не обратил внимания: на то, что каковы бы ни были
условия, в которые мы поставлены, хорошие или плохие, условия
эти могут держаться только потому, что слово слышат, и его вот
таким-то, подлежащим уточнению, но уверенным, надежным
образом слышат; что слово на этом пространстве звучит; что слово
связывает, обязывает, — не в том смысле, конечно, что у нас умеют
«держать слово», нарушают как раз слово, но это как раз и значит,
что кроме слова нет ничего другого об-условливающего, на что
слово могло бы опереться: условия об-условлены только словом,
вот этим, нарушенным, и больше ничем. Вес словесности у нас,
хотя она «только словесность», ни с чем сравниться не может.
Слово на этом пространстве слышно. Это еще одно из того, чем
об-условлено обращение от нас к досократикам, непосредственно.
Сходная слышность слова, слава слова, если можно так сказать.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
307
Нарушится слышимость — и Одиноков, конечно, уже не сможет
опираться на язык, потому что действительность будет
обусловлена уже не языком, короче сказать, действительность будет уже
не об-условлена, a be-dingt, немецкое слово, которым в словаре
переводится русское «обусловить», но корнем в немецком слове
уже не «слово», a Das Ding, вещь. Не «обусловлено», а
«обставлено вещами такими-то», в таких-то обстоятельствах сложилась
действительность.
Мы себе заметим и будем помнить: в том, как язык
обусловливает условия, в которых мы движемся дышим и
существуем, определяющим оказывается не язык с его свойствами,
а слышание: то, что слово как слывущее и слышимое имеет место
в этом пространстве; все держится на том, что слово слышно.
Или сказать иначе: что слово имеет смысл, — не только такой-то
смысл, но вообще имеет смысл.
Кто «слышит слово», для кого слово «имеет смысл»?
Интеллект, логическая способность, рассудочная способность человека,
лингвистическая способность? Как бы не так! Размах слова в том
пространстве, где оно «слывет», захватывает все существо
человека. Словом этим, которое имеет смысл, которое слывет,
обусловлен человек, само его существо, а не одна из его способностей.
Поэтому нельзя сказать, что в человеке есть что-то внутреннее,
и оно «выражается» в слове. Человек в своем существе,
наоборот, весь снаружи, в слове, которым он об-условлен, в у-словиях,
в которых он существует. Поэтому в отношении Парменида мы
уже не будем говорить, что мистика соседствует у него с логикой.
Будем говорить: его человеческое существо осуществляется в том,
чтобы слышать слово, быть в пространстве, где слово слывет. Кто
развернул это пространство? Эту волю! Воля есть. Она есть вдруг
как одно целое из воли-простора, воли-решения и воли-выбора,
которые сразу, как по-ступок, вы-ступания в пространство
простора, воли.
Кажется, что мы ходим вокруг да около и все никак не
подберемся к Пармениду. Нет, мы уже в его круге; потому что даже его
еще не читая, мы уже знаем что-то основное о нем: что он ранний,
и мы готовимся к тому, чтобы вступить в то его раннее. Ранний не
хронологически, потому что халдейские и иранские, и индийские,
и египетские, и китайские тем более мудрецы насколько древнее
Парменида; но он ранний тем ранним, которое и теперь еще не
поздно, и теперь еще возможно, если нам повезет, вернее, если
нас поведет, — вернее, если нам доведется — что? опять то же:
слышать, слово, которое имеет смысл.
308
В. В. БИБИХИН
Вроде бы я должен вас учить. Чему, собственно, когда я сам
хотел бы что-то хоть знать. Стало быть, дело не так обстоит, что
я что-то знаю больше вас и переношу из себя в вас. Вовсе не
так. Гораздо чаще я чувствую, что знаний в вас больше,
особенно знания жизни, правды наших у-словий, скрытого, тем более
ценного знания крутых и отрезвляющих вещей. У кого знаний
больше, у кого меньше, трудно сказать: и идет во всяком случае
не обмен. Что же тогда? Но ведь и в самом привычном, школьном
представлении цель обучения не переливание знания, в первую
очередь, а метод. Метод — это путь. Кто ходил путем, тот его
знает. И я учу не моему пути, моему методу, как будто бы не
слишком уже много было, что я есть, занимаю, вряд ли нужный,
место, — и еще надо было, чтобы вокруг себя как занятое мной
место я разросся еще до метода, я и мой метод, как я и моя
машина. Мой путь вам и не нужен, и у вас свой, и даже вредно ходить
чужим путем. Метод, путь не мой: он понимания, мысли. И
пониманию, мысли в высшей степени все равно, какие кто для своих
надобностей и в своих ситуациях разовьет себе методы, навыки.
Мысль, понимание, слово не для человека: они сами по себе, у них
свои пути — как у русского языка, который удивительным образом
есть и еще какой, когда уже, может быть, никого не осталось, кто
был бы по-настоящему на уровне этого языка. Он хочет сам быть.
Слово само есть. Мысль хочет сама быть. Они вокруг мира. Мир
хочет сам быть. И если человек хочет по-настоящему быть, то он
должен быть при мире, при слове, при мысли, — дать слово миру,
путями мысли. Ах это наука, еще гораздо более строгая, чем то,
что принято считать наукой, но что на самом деле условно. А
слово — безусловно. Мы об-условлены. Но никто не уславливался,
чтобы слово было и какое оно было. Слово не условно. Все в
нашем мире обусловлено, но ничем не обусловлено то, что есть мир,
и есть слово; и ничем не обусловлено то, что слово слышно.
Вот единственная определенность, которая достойна и от
которой мы не отойдем, даже хотя кругом все, похоже, требует
определенности в смысле новых норм и правил. Определенность —
в философии единственная достойная о-пределенность это встреча
с предельным. Предел смертного существа — его конец. Опять
русский язык помогает догадке, которая у нас уже была. Конец,
поставленный смертному существу кон, то же слово, что чин,
корень слова на-чало. Чин, за-кон человеческого существа — вот
его на-чало; и это же его конец. Какое начало об-условило
европейскую историю — это мы и хотим слышать; хотим слышать, что
Парменид сказал о бытии и о ничто, вернее, что он услышал от
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
309
своей богини, его богиня Алетейя, Истина, о бытии и ничто. Этим
пределом, бытием, небытием, в свете истины, и создается наша
определенность — как бы страшно нам ни хотелось
определенности вроде той, которая у нас была раньше. У нас раньше было даже
две определенности, мы были сверхобеспечены определенностью.
Одна определенность была решительная, снабжающая вполне
и с детского сада до пенсионного возраста определенность знания
о мире, истории, человеке, природе, которое (то знание) подавала
идеология. Вторая, запасная и компенсирующая определенность,
была определенность уверенности, что то определенное внушаемое
нам знание неверно. Теперь то знание, идеология, куда-то вдруг
делось. Оно так прочно стояло и куда-то вдруг делось, может быть,
вернется, но пока вокруг его нет. Мы оглядываемся и вдруг той,
такой большой определенности, которая была напечатана в тысячах
томов и в миллиардах экземпляров, на таком количестве бумаги
хорошей печатью в государственных типографиях, [нет]: куда-то
вдруг делось всё. Тем самым другая, запасная определенность
нашего знания, что то все знание неверно, тоже выпала: многие еще
продолжают по инерции доказывать, что определенность
идеологии была неверной, но уже непонятно, зачем доказывают. Важно
и настоятельно нужно другое: вспомнить опыт слышания слова;
теперь этот опыт ослаблен? Или он только изменился? Как мы
слышим, узнается не психологическим экспериментом, а обращением
внимания — обращением внимания, т. е. повертыванием внимания.
Как это возможно? Наше внимание направлено. Обратить
внимание — значит не направить его по-другому, а заметить, чем и
как оно направлено. По какому праву, по каким правилам, во имя
какой правильности направлено наше внимание, которое всегда
направлено? Заметить еще и это, кроме того, чтобы продолжать
замечать то многое, что мы всегда замечаем нашим направленным
вниманием, — вот скорее что значит обратить внимание.
Без обращения внимания живое разумное существо, живое
умное — умеющее — существо, конечно, живет, и способности,
множество способов выживания, приспособления, размножения,
распространения живого существа удивительны или чудесны, они
не могут быть измерены из-за громадности, способности живого
существа; которое еще и разумное, т. е. в плюс к тому, что живое,
еще и разумное. Высшее живое и плюс разумное. — Но разум не
плюс, прибавление способностей к способностям жизни. Ум, нус
в своем существе — это внимание и обращение внимания;
внимание, понимание вбирает мир; обращение внимания делает это
вбирание полным и возвращает все в мире ему самому. Обращение
310
В. В. БИБИХИН
внимания возвращает мир миру. Ум без обращения внимания,
т. е. ум лишенный своего существа, — это, т. е. ум без обращения
внимания, или направленность, на-правление внимания без
обращения внимания, как ни странно, мы видим настолько часто,
что такое отпадение ума, разума от своего существа называется
«рациональностью», рацио, разумом: т. е. мз-вращение,
требующее обращения, возвращения, оказывается таким частым, что
ш-вращение разума называется «разумом», и в разуме привыкли
видеть извращение настолько, что именем разума назвали его
извращение. Извращение разума выдает себя за разум.
Извращение разума, требующее обращения и его возвращения
к своему существу, вниманию, понимающему принятию,
заключается в том, что разум перестает обращать внимание. Существо
разума, ума, при этом не превращается во что-то другое: оно
остается вниманием, но не обращающим внимания. Когда мы хотим
обращать внимание, мы поэтому не делаем ничего такого, что
не должно было бы быть сделано. Возражением, единственным,
против обращения внимания может быть и, конечно, будет только
то, что так не принято, — принято не обращать внимания даже на
собственные слова, хотя, казалось бы, можно было; можно было
обратить внимание хотя бы как минимум на то, что если человек
не обращает внимания на то, что говорит, то он едва ли может
требовать, чтобы другие обращали внимание на то, что он говорит.
Но нам только кажется, что человек, не обращающий внимания,
требует, чтобы другие обращали внимание. Даже когда, кажется,
он требует, казалось бы, именно этого, его цель не обращение
внимания, а обращение внимания на, т. е. направление и
перенаправление внимания. Обращение внимания сразу позволило бы
услышать слово, т. е. услышать не то. Человек обычно, в той
обычности, какой обычно не обращать внимания, говорит не
то — не потому что он болен, или слабоумен, или мало образован,
а наоборот, потому что он слишком направленно,
целенаправленно, говорит то, на что направлено его внимание. Но он не
обращает внимания на то, что им правит, чем направлено его внимание,
поэтому обращение внимания видит в его словах не то.
В долгом, интенсивном говорении, которое хочет заполнить
все пространство мира, как бы за-говорить пространство мира,
из-вращенный разум говорит не то, и что он говорит, можно
услышать, только обратив внимание. Обратив внимание, мы
слышим, в смысле — начинаем слышать. Мы сразу же слышим —
первым — упрек: упрек в том, что мы не слушаем, не слышим,
не умеем слышать. Упреком в неслышании, явным или скрытым,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
311
сопровождается все говорение, этот упрек часто составляет тон
говорения, и служит для говорящего поводом говорить больше,
чтобы, наконец, услышали. Мы принимаем этот упрек: мы мало
слышим. Мы не принимаем приглашения слышать то, что хочет,
чтобы слышали; мы не обязаны слышать так, как хотят или
требуют, чтобы мы слышали.
У Шарля Пеги, французского писателя, христианина,
социалиста и патриота, есть такая фраза: «Enseigner à lire, telle est la seule
et la véritable fin d'un enseignement bien entendu; que le lecteur sache
lire, et tout est sauvé». «Научить читать, вот единственная и вот
истинная цель верно понятого образования; лишь бы читатель умел
читать, и всё спасено». Que le lecteur sache lire. Читатель вроде
бы по определению должен уметь читать, но нет, это цель
обучения. Наш курс называется «Чтение философии». Уметь читать.
Чтобы уметь читать, достаточно ли обратить внимание на то, что
мы читаем?
Да. Недостаточно обратить внимание на то, что мы читаем.
Но достаточно — просто обратить внимание. Не дать
ускользнуть от нас тому, что мы делаем. Большей частью, почти всегда,
почти везде мы не замечаем, не знаем, что делаем. Мы говорили
в прошлом семестре: знать, заметить, что мы делаем, невозможно.
Но обратить внимание, заметить, что заметить невозможно, —
это наше дело. Истина по-гречески α-Λήθεια, такое положение,
когда не господствует ускользание из внимания. Для чтения мало
внимания к тексту; обращение внимания здесь включает
читающего и его внимание к тексту: чтение, настоящее, это чтение
и читателя не меньше, чем чтение текста. Слово читает в
читающем; читающий слово читает им себя. «Читать» — слово того
же корня, что древнеиндийское «читта», мысль. И того же, что
«чаять», и «чуять». Внимание остается существом чтения, и опять
же обращение внимания, когда нет в чтении того, что было бы
вниманием упущено. Слышать слово — не значит обрабатывать
слово, т. е. воспринимать его чувствами, отождествлять, понимать,
истолковывать, принимать к сведению: слышание слова, в его
полноте, без-условное слышание слова.
И что же мы слышим у Парменида. 3,5 страницы гексаметров
(А. В. Лебедев дает их дважды, сначала в буквальном переводе,
потом в ритмическом, как он говорит, стихотворном — в приложении
к его разделу Парменида,174 которого он дает по Дильсу-Кранцу,
174 «Фрагменты...», с. 286—291, с. 295—298.
312
В. В. БИБИХИН
немецкому изданию, образцовому, досократиков). Маковельский
(Казань, 1915). Маковельского можно смотреть, чтобы видеть, как
в переводе Дильса: Маковельский от него не отступает. Лебедев
не только отступает, но подчеркивает в своем переводе
расхождения — спор переводчиков о понимании. Мы могли бы
присоединиться к этому спору, он захватывающий. Этому мешает то, что
речь Парменида, до нас дошедшая, слишком коротка. Слишком
быстро попытки понять становятся истолкованием. Оно было бы
ограничением; лучше иметь в виду ограниченность перевода.
Кони, несущи меня, куда только мысль достигает
Мчали, вступивши со мной на путь божества многовещий,
Что на крылах по Вселенной ведет познавшего мужа.
Я беру «стихотворный перевод» Лебедева, и буду говорить, где мы
не должны запрещать себе продолжение чтения, т. е. вчитывание,
не обязательно в смысле более широкого чтения, потому что в
расширении многозначности нет ни достоинства (достоинство,
наоборот, в точности, определенности, отчетливости), ни прока,
потому что от расплывания только кажущееся чувство свободы,
свобода безграничной широты рано или поздно упирается в тупик,
оставляет вовсе ни с чем, а, наоборот, даже малая определенность,
добытая честно, из буквы, у нас уже никогда не отнимется, она
весит несравненно больше, чем широта нашего понимания. Широта,
т. е. размах слова, в его букве — совсем другое, чем наше
позволение самим себе слышать в слове многое по нашему желанию.
Услышать в слове можно все, что угодно. Но наше дело услышать
не в слове, а само слово в его букве.
Θυμός не только «мысль» и не столько «мысль», и не «дух»
в теперешнем смысле, а «дух» в том смысле, как говорят или
говорили об умершем, он «испустил дух», т. е. душа, и еще: сердце,
и еще: жизнь. Θυμώ φιΛεΐ— «любить всей душой», Пушкин
сказал бы — «брюхом». Это θυμός и «мысль» тоже, но так, как
по-русски могут сказать: «послушай, что у меня на уме», или «на
душе». Когда Хайдеггер говорит о настроении как мелодии
экзистенции (а экзистенция это понимание как умение, или ум как
умение, исходное умение быть в мире), то Хайдеггер возвращает нам
ту принадлежность ума к целому человеческому существу, которая
звучит (не мы примысливаем) в греческом слове θυμός. Она значит
еще и «гнев», не в смысле раздражения, а в смысле мужественной
силы. Θυμός это вольный, смелый размах, настроенность (в хай-
деггеровском смысле) человеческого существа, ни в коем случае
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
313
не мысль как интеллектуальная операция. Куда достигает этот
порыв страстного духа, θυμός, туда и несут кони Парменида, так
что можно гадать, не одно и то же ли кони и θυμός —
хорошенькая «мысль», хочется сказать! — и ученый врач Секст Эмпирик,
скептический критик и трезвый разгадыватель, разоблачитель II—
III вв., деловито расшифровывает: «В этих стихах под „несущими"
его „конями" Парменид разумеет порывы и влечения души».175 Но
мы так делать и, с деловитой спешкой разобрать, лучше не будем
сминать текст, ставя знак равенства между «кони» и θυμός, порыв:
нет, у Парменида сказано, что кони несут, настолько, в такую даль,
насколько ляжет на душу, насколько достает размах отпущенного
на волю настроения, расположения духа.
Сами ли кони своей волей «вступивши со мной на путь
божества многовещий» (или многославный, или многословный, φήμη,
лат. «фама», от φημί «говорю», не в том смысле, что там
беспрестанно говорят, а в том, что там много слова, много славы), —
кони ли вступили на этот «многовещий» путь, как в переводе
Лебедева, или боги, «даймонес», как в переводе Дильса-Кранца,
зависит от разночтения, δαίμονες именительный
множественного «наделяющие», «божества» по одному чтению и δαίμονος,
родительный единственного, в дошедшем до нас варианте Секста
Эмпирика. Боги так или иначе сопутствуют этому несомому
конями, по пути, который, снова сказано в 3-м стихе, как в первом,
тем же словом: как кони несут, φέρουσι, так путь несет, φέρει, —
и хорошо мы сделали, что не поспешили с Секстом Эмпириком
расшифровать «коней» как «страсти», потому что в свете этого
повтора слова, — а у Парменида такое же внимание к слову,
такая же невозможность случайного слова, как у другого ученика
Ксенофана, Гераклита, оба ведь диаметрально противоположные
были учениками Ксенофана, — в свете повтора φέρουσιν, φέρει
кони уже не только порывы духа, они и сам путь, ход (όδος), —
и поскольку это слово όδος, то же, что русское «ход»
этимологически и по смыслу, имело большое будущее и вошло в важное
слово «метод», то, продолжая Секста Эмпирика, мы имеем право
сказать, что кони, колесница — это метод Парменида, метод
ведущий «знающего», точнее, «видевшего», ведающего мужа куда?
«По Вселенной», переводит Лебедев; «над всеми обитаемыми
местами», Дильс-Кранц; «огибая все города», или «за пределами
всех городов», — и какое бы основание ни имел Лебедев, полное
основание, указывать, что «город» в античности можно понимать
175 Там же, с. 286.
314
В. В. БИБИХИН
широко, например, как государство, так что «за все города» и
значит «по Вселенной», но имя городов прозвучало, и опять же, не
надо спешить с расшифровкой. У Парменида назван многославный
путь и города, путь («метод»), который «несет» через все города.
Города, в отличие от сел, места знания.
Этим путем я летел, по нему меня мудрые кони,
Мча колесницу, влекли, а Девы вожатыми были.
Третий раз в 4-м стихе, и снова 4-й раз в 4-м стихе то же слово,
четыре раза — кони несут, путь несет, я несом, кони занесли,
у Лебедева всегда разные слова: «несущи», «ведет», «летел»,
«влекли» — на чем настаивает Парменид в этом уже
настойчивом, явном повторе, φέρουσιν, φέρει, φερόμην, φέρον? Φέρω не
совсем «нести», и этимология этого слова другая: как в русском
«беру», «брать». Парменид взят, захвачен; как захваченный, он
несется', одно из значений слова в страдательном залоге
«ограблен». Когда апостол (он был «восхищен») Павел говорит о своей
захваченности на небо, он применяет глагол αρπάζω похищать,
главить,176 уводить — он был похищен, или еще точнее ограблен,
но не в том смысле, что у него взяли что-то, отняли от него, а
отняли его, ограбили всего, в неупотребительном, полном смысле
отняли от него самого — в том смысле, в каком мальчик (1 год и 7
или 8 мес) говорил, когда его взяли и перенесли с одного места на
другое: Не отнимай! Кого? — Адю! у кого? — У Ади. Парменид
был взят, захвачен. Настойчивым повтором φέρει, φερόμην это
сказано.
В следующих же гексаметрах говорится, какие Девы, κούρας
были «гегемонами», водительницами пути, по которому «несли»
Парменида его кони — его «метод», как мы решили было, в стиле
Секста Эмпирика, не в его смысле, считать, и здесь нам придется
осечься: ничего себе «метод», который захватил, «украл» человека
и несет его, ведь мы привыкли считать «метод» инструментом,
который держим в руках или в уме и которым действуем; или нам
надо пересмотреть понятие «метода», перечитать книгу Гадамера
«Истина и метод», перечитать к ней эпиграф Гадамера, где
говорится, что твои, человека, приемы мало что значат, и имеет вес
только то, что брошено тебе божественной рукой — эпиграф из
Рильке. Пока мы не разобрались, что такое «метод», перестанем
пока говорить, что кони Парменида — это его метод. Заметим
176 Так в машинописи. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
315
только опять перекличку слов: как путь — «многовещий», так
кони — многомудрые, т. е. опять близость или тождество коней
и пути, — тем более, что как «многовещий», точнее многославный,
многословный, богатый Словом путь показывает на слово — так
и многомудрые, буквально πολύφραστοί кони — от φράζω (от
этого слова наша «фраза»), «указывать, показывать, сообщать,
советовать, объяснять, вещать» — но также и «думать, замышлять,
определять, назначать, судить», т. е. как «πολύφημον» Лебедев
перевел «многовещий» путь, так с еще большим даже основанием
он мог перевести «многовещие кони».
Итак, что это за девы, κούραι, которые правят колесницей:
Ось, накалившись в ступицах, со скрежетом терлась о втулку,
(Ибо с обеих сторон ее подгоняли два круга
Взверченных вихрем), как только Девы Дочери Солнца,
Ночи покинув чертог, ускоряли бег колесницы
К Свету, откинувши прочь руками с голов покрывала.
Накалившаяся ось, свистевшая флейтой, и два круга —
колеса — с двух сторон, которые ее гнали, «взверченные вихрем», —
это, говорит Секст Эмпирик,177 слух и уши, два уха, которыми
воспринимают звук; а девы, «гегемоны» колесницы, — это
ощущения. К этому толкованию Секста Эмпирика можно вспомнить
десять евангельских дев, пять разумных и пять неразумных, пять
имевших зажженные свечи — это пять органов чувств, так
сказать, ощутимых, а пять неразумных — это пять органов чувств
скрытых, бессознательных. Одно из евангельских — многих —
мест, где исследователи видят включения восточной, индийской,
древнеиндийской символики. — Думать, что Парменид с этой
символикой незнаком, нет оснований. Весь вопрос в том, только
ли он шифрует тут восточную мудрость — или она присутствует
у Парменида — как она может не присутствовать у человека,
который не мог не пройти ее школу, — но тут Dice возникает другое,
чего Восток не знает, или на что Восток не отваживается. Есть ли
такое, на что Парменид отваживается, что Парменид начинает,
и что к символике не сводится, в чем расшифровки в стиле Секста
Эмпирика будет мало.
Я думаю, «конями» Парменид заранее кричит: господа,
имейте разум, какая «мысль», какое «сознание», когда «кони несут,
несут, несут, несут»?
177 Там же.
316
В. В. БИБИХИН
11—3(25.2.1992)
1) Παρμενίδης; 2) Onto/logische Differenz; 3) όδος κέ-
λευθος; 4) φως: μαλακόν πύρ; 5) έπι/φραδέως, φράζω;
6) εξαίφνης; 7) χάσμα αχανές; 8) ά-privativum, à-intensivum;
9) κούρος, κόρος
Парменида несут кони, и он встречает богиню, можно
считать, что это — богиня Правды, или Истины. Если бы теперь
исследователь сказал, что Истина, которую он исследует, Богиня,
на него посмотрели бы странно. Это связано вообще с Богом в
современности. Бог вроде бы есть. Как можно; мы не безбожники.
Мы чтим храмы, иконы. Но если по-серьезному, то Бога, конечно,
нет. По-научному, объективно говоря, конечно, нет. Но, с другой
стороны, что-то такое, надо сказать, все-таки есть. Эта
нерешенность относительно Бога — черта современности, современность
очерчена этой чертой и не может выйти за эту черту. Подчеркнутое
почтение, с каким относятся к знакам, изображениям и
принадлежностям Бога в определенных местах, ограничено этими местами,
о которых сказано, повторено и подчеркнуто, что они совершенно
другие по сравнению со всеми остальными местами, т. е. этим
подчеркнуто, что эти все остальные места, т. е. пространство мира,
должны оставаться свободными от обязательности решения о Боге.
Церковь, помимо многого прочего, что она делает, помогает миру:
она помогает миру не решать вопрос о Боге, откладывать этот
вопрос. Как существование философии даст право науке отправить
все «проклятые» метафизические вопросы философии, и тогда
наука получает оперативный простор и может в рамках науки,
в черте науки развернуться за счет вытеснения метафизики, так
такую же службу в отношении политики и общественной
практики, вообще так называемой социально-политической
действительности служит церковь: церковь есть место, где наверное решаются
все божественные вопросы, и тогда мир может уже раскованно,
облегченно, не затрудняя себя предельным, или беспредельным,
развертываться, как он очень может, когда, скажем, недра земли
уже не Тартар, Гея и Плутон, а море не Посейдон. Церковь служит
для обеспечения обезбоженного действия в обезбоженном мире
тем, что на себе, в своем огороженном участке решает
проблему Бога.
Мир, в котором, захваченный, несомый конями, конями
страстей или конями научного метода, это детали интерпретации,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
317
Парменид скачет под божественным водительством в усадьбу
Богини правды, совсем другой, не наш. И я не советовал бы, по-
моему, все равно ничего не получилось бы, пытаться представить
себе мир Парменида, — получится что-то искусственное,
эстетизирующее, воображаемое, поодаль, отдельно от «настоящего»
мира. Кроме того, что представить тот мир как настоящий
невозможно, это и не нужно: что мы, собственно, с этим
представлением будем делать? Какой нам от него прок, какой толк? Мы усилием
воображения, вчувствования, вживания представим себе, что от
нашего сейчасного действия, логических операций, слышания,
понимания, мы мчимся, и мчимся к престолу Богини, — нам это
представление ничего не даст.
Но и ограничиться тем, чтобы информировать себя, для
сведения, для культуры, что Парменид говорил так-то, и его
слова имели такой-то — его слова о Богине — отклик у Платона,
Аристотеля, Теофраста, первого после Аристотеля руководителя
аристотелевской школы, потом у неоплатоников,
комментаторов... Почему я говорю, мало или бессмысленно так
информировать о поездке Парменида к богине Правды, Дике. Потому
что на самом деле эта поездка Парменида тогда оказывается без
возможности соотнесения с тем, чем мы могли бы ее понять.
Мы могли бы ее понять своей подобной поездкой. Мы не ездим
на лошадях, ведомых Гелиадами, дочерьми Солнца, в усадьбу
богини Правды. Но у нас есть техника: машины, компьютеры,
типографии, телевизор, комфорт, стремительное, более быстрое,
чем у Парменида на конях, передвижение: мы захвачены
техникой, она нас несет; здесь в Университете — техникой здания,
техникой знания, осведомленности, информированности,
известности, публикаций, первого места по «успеваемости»,
вообще блеска знания. Я сказал: вот это наше увлечение, наша
захваченность современными возможностями например знания
мира, передвижения через социальные слои, в пространстве.
Неожиданно близко к нам звучат слова Парменида о его
многословном, многославном пути, который ведет видевшего мужа
через все города. Это могло бы им быть сказано почти что и
сейчас. Но тут же рядом: кони, демоны, девы. И кони, и демоны, и
девы отчуждают. Опять же: и кони, и демоны, и девы нам что-
то говорят, даже многое, и мы понимаем, как это у Парменида
связно и выпукло сказано: кони, демоны, девы; и это указывает
для нас на вполне определенный пейзаж, но это пейзаж скорее
всего мы не назвали бы философским, назвали бы, наоборот, не
философским: пейзажем лермонтовского «Демона», например.
318
В. В. БИБИХИН
Там тоже передвижение по всему миру, по крайней мере один
демон, по крайней мере одна дева. Но как раз чтобы, как это
говорится, «показать философское содержание» лермонтовской
поэмы, нужен особый подход, а без особого подхода это для нас
не философия. И вот еще что, главное: вольное передвижение
под звездами, демон, дева, окрашены у Лермонтова, как и
должно быть в наше позднее христианское время, в тон тревоги, за-
претности, искушения, соблазна. Острота Лермонтовской поэмы
как раз в отваге, в решимости вовсе уже не восстановить хотя
бы в этой запретной, обреченной форме, хотя бы краем глаза
заглянуть в тот пейзаж, где поднебесный простор, где кони,
демоны, девы. Оказывается: нельзя. Строжайший запрет. Грозит
гибелью. Мертвое, мертвящее. Всей мощи поэта не хватило,
чтобы снять с того пейзажа, где кони, демоны, девы, черту
обреченности. «Там где эллинам сияла красота, нам из черных дыр
зияет срамота».178 «Что же умолкли они, священные древних
театры? Что же не славит богов пляшущих радостный сонм?»
(Хлеб и вино179, VI строфа). «Походная песня»180: «Во Францию
два гренадера из русского плена брели. В пыли их походное
платье и Франция тоже в пыли. Не правда ли, странное дело? вдруг
жизнь оседает, как прах, как снег на смоленских дорогах, как
песок в аравийских степях... Над всем, чего мы захотели, гуляет
какая-то плеть. Глаза бы мои не глядели. Да велено, видно,
глядеть...»
Неподъемное дело. Представим себе камень, который
безусловно невозможно поднять. Я очень сомневаюсь, что можно
сказать, эти кони только заставка, обложка цветная, загляните
скорее в книгу, там впервые вводится «понятие бытия»,
перейдите же к делу наконец, он говорит о бытии и небытии!
Отбросьте шелуху, возьмитесь же за ядро, разберитесь же наконец, чем
городить огород, как в конце концов обстоит у Парменида дело
с бытием и небытием, что там у него существует, что не
существует?
Хорошо. Что делать. Даем информацию. «Научную
информацию». С бытием у Парменида обстоит дело так, как вот мы сейчас
прочитаем, скажем... Сейчас будет сказано, что такое бытие, как
оно относится к истине...
178 Неточная цитата из стихотворения О. Мандельштама «Я скажу тебе
с последней прямотой...» (март 1931). (Сост.)
179 Стихотворение И. К. Ф. Гельдерлина. (Сост.)
180 Стихотворение О. А. Седаковой. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
319
Вот сейчас скажем... Но все-таки, зачем ему надо было
взбираться на колесницу, куда-то скакать? Ты родоначальник
рациональной мысли, родоначальник? Тогда не взбирайся куда тебе не
положено! Или все кругом на колесницах, герои Гомера, положим,
тоже почти на колесницах, это принято, и ты, старый
философ, тоже поневоле вскарабкиваешься на колесницу, одеваешься
в красочное, чтобы приняли тоже за своего, как лазутчик в чужом
стане, весь мир еще погружен в мифологию, а ты уже знаешь,
первый, что должен быть переход от мифа к логосу, исторически этот
переход совершится, и вот ты среди тех как будто бы ихний, свой,
но будущее, просвещенное человечество не мифа какого-то, а уже
логоса, поймет тебя и от мифа отшелушит, и те останутся с мифом,
с носом, а новое человечество начнет наконец рассуждать об
истине, о лжи, о бытии и небытии?
В самом деле, вам не кажется странным, что Гомер и вся
Греция говорили о сражениях, телах, щитах, стрелах, кораблях, пирах,
а философы вдруг — о бытии? Мы должны немедленно разрешить
этот вопрос. Или, может быть, не получится? Или, может быть,
как раз тогда, когда тот мир оказался почему-то подорван, когда
умолкли священные древних театры, выступило наружу небытие,
и заставило говорить о бытии? Так мы не говорили об экологии,
пока еще была природа, а когда ее не стало, сразу необыкновенно
много заговорили о ней. Так сказать, когда все уже было, так хоть
поговорить о бытии.
Почему именно о бытии! Мы, хорошо, приучены лекциями
знать, что бытие первичное философское понятие. Но ведь оно
не с неба свалилось как первичное философское понятие. Оно
было открыто как такое. Во фразах, которыми можно было по-
настоящему жить, «копье есть длинное» (русский из немногих
языков, где — индоевропейских — связка «есть» выпадает, и то
только в настоящем времени, а в прошедшем «копье было
длинное», в будущем «копье пусть будет длинное», но в греческом это
«есть» обязательно и в настоящем), «море есть винно-черное»,
«заря есть розовоперстая», «удар есть мощный», «Елена есть
прекрасная», и вот среди всех этих совершенно, упоительно
захватывающих, задевающих вещей, прекрасная Елена, вино, заря,
копье, удар, выудить сопровождающее их зачем-то, как другие
языки показывают, необязательное вовсе «есть»: какое
отношение Елены к бытию, Елена сама прекрасная, без санкции бытия,
или, может быть, в это «Елена есть прекрасная» бытие, в виде
связки «есть» вторгается как подтверждение, как санкция: Елена
320
В. В. БИБИХИН
есть прекрасная, в обоих смыслах, есть она, и она «да»,
действительно прекрасная, — а если есть это подтверждение, то
значит есть и то, откуда подтверждение, и значит, есть
возможность спросить, а действительно ли есть это подтверждение,
может быть Елена не есть прекрасная, или еще: может быть,
Елена прекрасная не есть, она есть как та, о которой говорит
«есть» аэд, поющий перед собранием слушающего народа, но
это сказанное аэдом «есть» ведь сказано, оно почему-то сказано,
стало быть, возможно, чтобы оно не было сказано, и если
сказано — именно потому, что сказано «Елена есть прекрасная»,
мы имеем полное право на другое, даже обязанность на другое:
на то, чтобы заглянуть туда, где это не сказано, где Елены нет
прекрасной, т. е. — раз сказано, что она есть прекрасная (в
обоих смыслах, есть прекрасная и есть прекрасная), то это есть
подставлено как то, что могло бы быть и не подставлено, бытия
того Елены прекрасной могло и не быть, может и не быть? Елена
Прекрасная стало быть выдвинута в бытие, выставлена,
вынесена в него — чем? — самим же бытием, и, с одной стороны,
если уж она вынесена в него, то вынесена, ничем изменить
совершившегося уже нельзя, Елена Прекрасная есть, — и этого
отменить уже нельзя, что она есть, отменить нельзя, отменить
никак нельзя, отменить ну вот совершенно никак нельзя, раз она
есть, раз Елена Прекрасная есть, то мир уже такой, что она в нем
есть, она была есть и будет и никогда уже не будет, чтобы ее не
было, — но Боже мой, что же это такое, что так неотменимо
раз навсегда есть! Мы попробовали было, у нас было
поползновение попробовать, раз под Елену Прекрасную подведено это
«есть», спросить об основаниях «есть» и чуть было не сделали
того шага, чтобы в этом «есть» сразу усомниться, но не очень
получилось: под вопросом оказалась только Елена, есть ли она,
собственно, и в каком смысле есть, как продукт фантазии или
как историческое лицо, жена спартанского царя, или еще как-
нибудь, и под вопросом, была ли она прекрасная, или, может
быть, иронически в кавычках говорилось, что она «прекрасная»,
а на самом деле другое, и вообще «прекрасное» расплывчатое
определение — но «есть», сначала казавшееся таким серым,
невзрачным, необязательным (по-русски не обязательно «Елена
есть прекрасная»), — оно вдруг выдалось, вырвалось в особые,
оказалось единственным из всего неотменимым: оно явно
отличается от Елены и от Прекрасной, от щита, винно-пенного моря
и от троянского коня: вот чем отличается, это сказать труднее, но
есть явно чем-то отличается, и вдруг выносится этим отличием
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
321
(ontologische Differenz)181 из серой неприметности,
необязательности, как незаметная серая мышка рядом с троянским конем, —
впереди и Елены Прекрасной, и троянского коня как то
единственное, что отменено быть не может. Можно отменить Елену,
ее красоту тоже, но есть их обеих сделало так, что они каким-
то — подлежащим уточнению — образом принадлежат к тому,
что не может быть отменено. Потому что мы читали у Розанова:
где он сравнивает Космос (в космос входят Прекрасная Елена,
Троянский конь, копья, море, города и др.) и бытие (он говорит:
существование). «Чистое существование, изучение которого мы
выделяем в особую форму науки, общее, первоначальнее и неу-
ничтожимее Космоса; потому что и тогда, когда он не появился
еще, уже было существование того, что потом вызвало его к
бытию; и тогда, когда исчезнет он в наблюдаемых формах своих,
останется еще существование того, что уничтожит его... что
такое самое существование, рассматриваемое вне соединения
с вещами, которым оно придает действительность» (О
понимании, 137; 138/120)
Вот в чем дело. Самое нищее, самое пустое (что такое, в
самом деле, «бытие» по сравнению с Еленой Прекрасной) вдруг
вырвалось из неприметной нищеты к неведомому, несравнимому
достоинству, — как если бы среди гомеровских Одиссея, Ахилла,
Агамемнона, Патрокла ходил переодетый в простую одежду
настоящий единый и единственный царь. — Когда Парменид
садится на свою колесницу, он едет объявить этого неведомого царя,
нового; уже скрываться нет надобности; и сравнивать с прежними
господами тоже нет надобности, настолько новый властитель их
181 Настоящая суть онтологического различения [...] не разная степень бы-
тийности, а неприобщаемость невидимого, умного: сущее «отчасти причастно»
ему, так сказать на свой страх и риск, само отвечая за меру успеха своей
причастности и никогда не в силах приобрести себе частичку того чему оно причастно:
то остается «отделенным». Это кладет действительно непереходимую разницу
между несопоставимыми: не количественную, а сламывающую всякий счет
и расчет; никакое вычисление, выведение, дедукция бытия из сущего
невозможно. Но бытие присутствует в сущем? Еще как: так, что без него никакого сущего
бы не существовало. Тогда бери любое сущее и дедуцируй из него бытие? Нет
это абсолютно невозможно. В чем дело, почему? Бытие безусловно другое. (В.
Бибихин. Из семинара «Новое русское слово»). Онтологическая разница между
падением в бытие сущего и вниманием к Бытию, которое Хайдеггер пишет
через Seyn, составляет всё дело философии. (В. Бибихин. Из курса «Ранний
Хайдеггер»). См. раздел «Европейского нигилизма» «Отношение к сущему и
привязанность к бытию. Онтологическая разница» в кн.: Хайдеггер М. Время и
бытие (статьи и выступления). М.: Республика, 1993, с. 149—154 (в переиздании:
СПб.: Наука, 2007, с. 206—213). (Сост.)
322
В. В. БИБИХИН
всех прочнее, нерушимее. Он их весомее. Дика, богиня правды,
правосудия, держит в руках весы и она взвесит, что сколько весит.
Она собственно будет взвешивать только бытие и заранее уже
известно — уже потаенный властитель обнаружился — уже
предчувствие говорит, кто сколько будет весить.
Или я неправ? Я хочу сказать, что начало «поэмы» Парменида,
его захваченность несущими конями, демоны, девы не только не
преодоление Парменидом мифологии или преодоление
мифологии, «самоотрицание мифологии»,182 но наоборот, захваченность
мифологией, просто захваченность (он несом, взят, украден,
ограблен, φερομενον) сейчас, т. е. у Парменида, впервые может
быть полной, из-за присутствия загадки загадок, властителя,
который явился под скромным лицом, неприметного «есть»,
«бытия». Философия никуда не годилась бы, если бы она
отменяла мифологию, философия годится, только если поднимает
так высоко потолок, понимания, внимания, что впервые может
вместиться в новое пространство и мифология, и филология
(толкование мифологии). Широкое пространство, во всю ширь:
в философии нет узости. Но ее не было и в мифологии, в
поэтической мифологии. Мифология, поэтическая мифология поэтому
нужна, необходима, без нее мысль не наберет размаха, — поэзия,
религия и мысль здесь рядом, ни одна другую не «преодолевает»,
каждая на каждую опирается. Так Платону будет нужна
мифология, как одна рука и другая, рядом с мыслью; и в «Федре» будут
кони, без которых подняться заглянуть в место космической
гонки богов человеку нельзя; и Гермий, комментатор к «Федру»,
называет, рядом с Платоном, Гомера, Орфея, Парменида. А кто
читал больше, скажет: «Катха упанишада»: тоже кони,
колесница, вознесение к богам. Кто читал еще больше, скажет: но также
и шаманская инициация, поездка шамана в какие-то
недостижимые сферы.
Еще раз: кони и колесница не иллюстрация, не заставка: без
коней, без похищения, восхищения, грабежа (άρπασμα), без мифа
и поэзии у мысли нет размаха — или точнее сказать: не зная того
размаха, той захваченности, которые знает поэзия и вера, мысль не
может претендовать на то, чтобы быть мыслью. — А кто ничего не
читал, тот скажет: но кони Владимира Высоцкого, которые его
несут так, что он просит «чуть помедленнее», — и этого тоже будет
достаточно, чтобы ощутить то «несение», из которого Парменид
говорит и которое дает ему говорить.
182 Выражение А. Ф. Лосева. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
323
Другое дело, правда, что кони Парменида менее страшны
для него, чем кони для Высоцкого. Или мы может быть неточно
слышали Высоцкого, и Парменид поможет нам понять Высоцкого,
степень, в какой Высоцкий боится, и боится ли вообще, когда
кони понесли. Катастрофа ли это вообще, когда кони понесли. Или
это в природе коней, что они могут понести, и может быть это не
несчастье, а звездный час для того, кого они понесли, — и
одновременно, конечно, час риска, предельного, но на который нужно
пойти, как Высоцкий пошел.
Скажут: был Парменид и Розанов, теперь Парменид и
Высоцкий. Но я еще и не то придумаю. И что я ни придумаю, все
будет мало, для того, чтобы показать то, что нам еще так
понадобится при чтении Парменида: что мы совсем не в ту сторону
глядим, обычно, чем где можно увидеть мысль. Мы совсем не
в ту сторону глядим. А когда глядим туда, то не видим ее в упор.
На обложку книги переводов Хайдеггера вынесено: «Мы мыслим
еще не в собственном смысле слова. Поэтому мы спрашиваем:
что значит мыслить?»183 Обещающая книга. Открываем ее. Там
написано приглашение: «Попробуем немного поразмышлять».184
Якобы это слова Хайдеггера. Никогда, ни при каких
обстоятельствах Хайдеггер не говорил и не мог сказать этих слов: слишком
хорошо он знал, что называется мыслью, — буквально: что
называется, какие вещи на-зываются, приглашаются, себе на горе, на
беду или на счастье на-зываются, как можно на-звать таких гостей,
что не будешь рад, или других гостей, — какие гости на-зываются
мыслью? Неожиданные гости. «Немного поразмышлять» поэтому
никогда не удастся. Не получится. Или наоборот: слишком
получится, так что навсегда уже вместо мысли останется ненужным
привеском к безмысленному, темному существованию это
«немного поразмышлять». Идет поток жизни, и важно выступить,
выделиться из него, чтобы хоть немного поразмышлять. Я говорю:
мы не там ищем мысль. Мы тогда и у Парменида увидим только
обнаруженный им способ оперировать понятием бытия. Мысль
не в стороне от несущего, несущегося, вызывающего,
вызываемого: мысль Парменида там, куда трудно подступить, потому что
быстро слишком:
183 речь 0 книге: Мартин Хайдеггер. Разговор на проселочной дороге:
Избранные статьи позднего периода творчества. М.: Высшая школа, 1991. Данная
фраза — перевод последнего предложения из радиодоклада «Что называется
мышлением» (пер. А. С. Солодовниковой). (Сост.)
184 Слова из самого начала ст. М. Хайдеггера «Закон тождества», вошедшей
в вышеуказанный сборник (с. 69—79). (Сост.)
324
В. В. БИБИХИН
Ось, накалившись в ступицах, со скрежетом терлась о втулку,
(Ибо с обеих сторон ее подгоняли два круга
Изверченных вихрем), как только Девы Дочери Солнца,
Ночи покинув чертог, ускоряли бег колесницы
К Свету, откинувши прочь руками с голов покрывала.
Там — Ворота путей Дня и Ночи, объемлемы
прочно Притолокой наверху и порогом каменным снизу,
Сами же — в горнем эфире — закрыты громадами створов,
Грозновозмездная Правда ключи стережет к ним двойные.
Черта наблюдения природы древних: мы не можем сказать,
что мы видим больше во Вселенной, потому что телескопы видят
невероятно далеко, так, что кружится голова от невозможности
вообразить, как далеко они видят. Если бы древние смотрели так
же, то без телескопов они видели бы непомерно мало, страшно
мало по сравнению с нами. Но никаких ворот на небе, в эфире
(эфир — высокое, огненное небо) все равно не увидишь ни
простым глазом (ворота путей Дня и Ночи), ни в телескоп; т. е.
видение было какое-то другое. Почему для путей дня и ночи нужны
ворота? Во-первых, «путей» в переводе вводит в заблуждение: это
в греческом сказано совсем другим словом, чем «путь божества
многовещий», на который вступил Парменид. Там было слово
οδός, русское «ход», как поступок, как подход, как метод; здесь
κέλευθος (ή) путь в смысле «колея», и кажется, этимологически
это то же слово, что наше «колея». Или «ракита». При дороге? Или
гать? Тот путь, который «ход», всегда небывалый: путем, на
который вступил Парменид, никто не ходил; «ход» в смысле
«поступок» и должен быть неожиданным; наоборот — колея, колеи Дня
и Ночи: те, по которым они давно привыкли ходить, из которых
никогда не выйдут: заведенный, собственно, порядок — и ночь
и день, у них, собственно, разные колеи, но в один момент они
сходятся, сбегаются, чтобы потом снова разбежаться: как раз в тот
момент, когда девы, дочери Солнца, которые правили колесницей,
оставили дома Ночи, гоня к свету, εις φάος, и вдруг сбросили
руками с голов покрывала — значит сейчас наступит очень
отчетливый момент, светило вдруг появится, и этот очень краткий момент
появления светила — единственный момент, где колеи Ночи и Дня
сойдутся, чтобы снова разойтись, и ночь будет впущена оттуда,
где ей уже места нет, в «дома ночи», а день будет впущен сюда,
и ясно, что эти ворота стоят нигде, в просторе, «в горнем эфире»,
переводит Лебедев, они «эфирные», сказано просто у Парменида,
но Лебедев прав: эфир всегда «горний», это верхняя, огненная
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
325
часть неба, — и это постоянно повторяющаяся сенсация в науке,
что самые современные теории математической физики
оказывается были угаданы в ведической и орфической космогонии, что
в платоническом пифагореизме Вернер Гейзенберг нашел опору
для своей квантовой механики, — но что, собственно, получается,
здесь, что как раз самая древняя мысль оказывается угадывает
новейшие открытия? Она не угадывает новейшие открытия, но
среди всей активности науки внутри самой науки остается тоска
по пониманию того, что же происходит с нами, с природой, с вот
этим космосом, с тем, что все так. Эту тоску наука вынести не
может, она, если слишком погружается в исчисление, попутно строит
себе мифологию, какую может, по типу летающих тарелок, — или
пришельцев из космоса, от тоски сидения за приборами таблицами
и схемами, — или, что бывает редко, наука умеет остаться
современной наукой, т. е. техникой учета и контроля, и вместе с тем
еще подняться к ощущению того, что с нами, в этом космосе,
происходит, к ощущению самого хода, если можно так сказать,
этого космоса, — и тут начинает совпадать с архаической мыслью,
с философской мыслью, потому что в ней — или поскольку в ней
это ощущение космоса не атрофировалось. Оно атрофировалось,
вымерло от так называемого научного, т. е. вычислительного,
исследования «действительности». — И когда у Парменида в
огненном эфире колеи ночи и дня, т. е. блеска светил и черного фона
неба, — ведь на каком-то отдалении от Солнца, когда Солнце
тоже только звезда без ощутимого объема, только излучение, этот
контраст между сиянием светил и чернотой фона будет главным
событием, главной реалией, и главной загадкой, потому что это
разделение ночи и дня научно рационально необъяснимо, оно
загадка или загадка загадок. В самом деле, представить конец
вселенной мы не можем, не можем представить конца пространства,
за самым далеким забором, отделяющим метагалактику
окаймляющим огораживающим ее, невозможно представить, чтобы не
было пространства, и телескопы тоже не видят конца галактикам,
всегда не хватает только силы телескопов, чтобы увидеть еще
и еще более далекие звезды; т. е., стало быть, забора, за которым
кончается космос, вселенная, мы представить не можем; но при
бесконечности вселенной фон неба не был бы черным, он был бы
светящимся, т. е. ночи не было бы, при бесконечности вселенной.
Ночи не было бы, мы знали бы только день. Т. е. Ночь вдвинута
в нашу вселенную как невозможность, как загадка; древние
архаические Ночь-День — это едва еще внятное современной науке
название, определение загадки загадок, — того, что наша вселенная
326
В. В. БИБИХИН
не может быть конечной, и все-таки она каким-то непостижимым
невидимым научно не формулируемым, необъяснимым образом
конечна. Где-то в верхнем эфире Парменид ставит поэтому на
«колеях» Ночи и Дня громадные ворота в том месте где день и ночь
пересекаются их колеи, в точке рассвета; но смешения ночи и дня,
которое должно было бы быть при неконечности, бесконечности
вселенной, чей фон был бы тогда весь светящийся, не происходит
не потому что есть какие-то вещественные, вселенские,
препятствия для смешения колеи дня и ночи, — таких препятствий нет,
они должны были бы смешаться, и не смешиваются загадочно,
им мешает Правда, — но опять перевод уводит далеко, потому
что Дика, Дике, которая держит «сменные ключи» («двойные»,
в переводе Лебедева), т. е. ключи для смены дня и ночи, — это от
δείκνυμι, «указывать», и Дика — по-русски можно было бы
перевести «указ» в том смысле, как говорят «это мне не указ», не норма
поведения. Дике — указ в смысле «таково установление», такой
наказ, — вот чей наказ, это сказать уже труднее. Тяжелые прочные
ворота, взвешенные в эфире, показывают прочность этого «указа»
Дике, которым указан «обмен», дня на ночь, ночи на день (этот
обмен соответствует гсраклитовскому обмену вещей на огонь, огня
на вещи). — Кони несут Парменида к открытию: к открытию не
в смысле открытий современной науки, которые «разъясняют»,
т. е. объясняют одно через другое (движение планет объясняется
через закон тяготения, но само тяготение остается необъясненным,
и объяснение его остается задачей науки, но задача эта — опять
в том чтобы объяснить, закон тяготения через что-то еще более
общее, которое представлялось Вернеру Гейзенбергу в виде общей
теории поля, или формулы мира, но поле как явление, мир как
явление оставались бы не объясненными). Открытие Парменида,
открытие ворот колеи Дня и Ночи, эти ворота наблюдением на
небе не отыщешь, было можно сказать открытием тайны, в двух
смыслах, открытием, показыванием (колеи Дня и Ночи) и тайны
(запертости их воротами). Парменид воротами Дня и Ночи
показывает Дику, т. е. указ, показывающий вещам что? сами же эти вещи,
очерчивающий Ночь и День и тем дающий им оказать-ся: указом
Указа Дики, оказываются Ночь и День. Источник этого — того,
что оказываются ночь и день, — сам указ.
Мне пришло на память сравнение, которое показалось сначала
абсурдным, а потом все меньше и меньше. Врач, занимающийся
детьми с расстройством мозга, мне рассказывал, что один ребенок,
которому пришлось сделать пункцию спинного мозга, операция
серьезная и болезненная, и который не понимал, ему и не пыта-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
327
лись объяснить смысл и даже суть этой медицинской операции,
после этого, когда ему попалась в руки бумага и карандаш, ясно,
с увлечением нарисовал и показал взрослым вот что: очертания
человеческого тела, на нем очень отчетливая линия
позвоночника и примерно в том месте, где сделали пункцию, отчетливый
крестик. Он показал, что с ним произошло. В той ненарушенной
детскости восприятия, которая без ломки переходила в мудрость
зрелого «видевшего мужа», Парменид своими воротами Дики,
взвешенными в эфире, показал, какая «операция» (operatio, вы
помните, между прочим, перевод греческого «энергейя»,
полнота бытия), какое во вселенной серединное, отмеченное событие,
событие событий, одновременно и самое таинственное, и самое
проясняющее: то, что есть те взвешенные в высоком эфире ворота,
с замыкающим и отмыкающим, «оборотным», «двойным» ключом
указа, Дики, которая первое, что указывает, — в точке схождения
колеи Ночи и Дня, Света и Мрака, которые есть, хотя они не
могут быть, указывает (Указ указывает), что Ночи и Дню надо
разойтись.
То, что будет после ворот, после их отпирания, будет уже
внутри, в открытии Указа. Когда-то мы говорили,185 что транс-
ценденцию не надо понимать как то, что за чертой: вот если бы
удалось каким-то образом оказаться внутри черты, которая объема
не имеет, т. е. оказаться там невозможно, — тогда мы имели бы
опыт трансценденции, самой черты. Проникнув за взвешенные в
эфире ворота, Парменид оказывается внутри Указа, внутри Черты.
Как сказано о том, что его впускают:
Стали Девы ее уговаривать ласковой речью
И убедили толково засов, щеколдой замкнутый,
Вмиг отпереть от ворот.
Девы Гелиады уже откинули на скаку покрывала с голов, т. е.
сияние открылось, не уговорить после этого Указ, указывающий
дню пространство дня, ночи пространство ночи, было
невозможно, — это происходит каждый день, но каждый день девы Гелиады
«обольщают» Указ, который им укажет туда, куда сами девы
указывают, в свет: Указ не самовольный поэтому, он указывает то,
что уже есть, обольстительные девы мягкой речью («ласковой»,
Лебедев) обольщают Указ, чтобы Указ указал им, т. е. свету, что
указал? Что свет это и есть свет. «Мягкая» речь у лучей, дочерей
солнца, потому что вообще свет — это «мягкий огонь», как у врача
185 См.: Бибихин. В. Язык философии..., «Граница» по указателю. (Сост.)
328
В. В. БИБИХИН
Гиппократа, современника Платона, родившегося примерно в то
время, когда Парменид умер (Литтре VI 414186): φως: μαλακόν
πύρ. Гелиады, девы, дочери Солнца, были такие, какие они были:
убедительным мягким огнем, убедительным потому, что свет сам
в себе убеждает, что он свет; и они убедили этим Указ, чтобы Указ
указал им их «колею», открыл для них: колею света. Парменид
входит в тайну вместе с ранними лучами солнца, когда у Гомера
«встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос».
Они убедили, сказано у Лебедева, «толково», έπιφραδέως, от
έπι-φράζομαι (φράζω: указывать, очерчивать: фраза) не только
придумывать, но и соображать, отгадывать, замечать, узнавать:
убедили как? способом узнавания, и один из эллинистических
авторов показывает момент скорости, внезапности в значении
этого слова: узнавание, действительно, мгновенно. Действительно,
чтобы Указ убедился, что перед ним действительно дочери
солнца, достаточно было мгновенного узнавания их, какие они есть:
мягкий свет. За мгновенностью узнавания, что не узнать нельзя,
следует другая мгновенность: открывания ворот, и это
сказано словом, которое у одного эллинистического комментатора
(Hesych. 6867, р. 232 Latte: άπτερος: αιφνίδιος) поясняется тем
же словом, о котором мы говорили, которое показывает способ
существования Начал, Идей у Платона: внезапно, вдруг, εξαίφνης.
Быстрота узнавания-уговаривания и быстрота открывания та
и другая внезапная. Может быть, можно сказать, что Парменид
не знает еще, что у света тоже есть, хоть и большая, но скорость,
он не внезапно. Но может быть, что Парменид уже знает то, что
современная наука еще не знает: что вселенная сцеплена не
медленным в размерах вселенной светом, а и еще чем-то, сцеплена
вдруг, внезапно.
... Вмиг отпереть от ворот. И они тотчас распахнулись
И сотворили зиянье широкоразверстое створов,
В гнездах один за другим повернув многомедные стержни,
Все на гвоздях и заклепках.
Бездна, зиянье делается распахиванием ворот, взвешенных в
эфире, и тема бесконечности появляется, но это не бесконечность
пространства: бесконечной вселенной Парменид не видит, он
видит чудо Ночи и Дня, показывающее определенность мира, его
введенность в колеи Указом; но в момент, когда Указ указывает
186 Hippocrates. Littré Ε, ed. Oeuvres Complètes d'Hippocrate. Vol. 4. Paris,
France: JB Baillière; 1839.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
329
(путь свету в то, чтобы оказаться светом), в указывании указа
открывается — как бы внутри самой прочерчивающей черты —
бездна. Бездна открывается не в мире, не внутри мира, а в мире, в том
что мир как не бесконечная серость, слитный безграничный фон,
а как хранимая Указом отчетливость дня и ночи, сам указывает
на бездну: тайну. Здесь я позволю себе, на Ваш суд, вспомнить
мысль Витгенштейна, которую по-русски можно передать так:
бог не проявляется в мире, т. е. внутри мира вмешиваясь в дела
мира; Бог проявляется в мире, в том, что мир, с его такостью, вот
именно такой, какой он в подробностях сам по себе, в себе и для
себя есть.
Сказано у Парменида об этом открываемом открыванием
дверей зиянии так, как сказано могло бы быть у Гераклита;
вообще внимание к слову зря думать, что у Парменида меньшее, чем
у Гераклита. Мы еще увидим; но видно и здесь, мы во фрагменте 1,
стих 18: χάσμα αχανές, χάσμα «зияние, хаос» — ворота разевают
рот, образуется зияние αχανές, слово того же корня, только с а, но
не отрицательным, privativum, a α intensivum, — приблизительно
такое же не отрицающее, а усиливающее значение отрицательной
частицы не, как в нашем некто: кто здесь не отрицается, а
наоборот, подчеркивается, такой кто этот некто, что еще надо
посмотреть, обратить внимание, загадочный кто, неопределенный кто.
Χάσμα αχανές — это зияние «немыслимое», «невозможное»,
такое зияние, что и не зияние, — но ведь это зияние между
столбами раскрывшихся ворот, т. е. зияние открывается не где-то в небе
или в эфире, где, казалось бы, ему должно хватить места, а именно
между совершенно прочными, непоколебимыми столбами ворот.
Графически это зияние раскрылось внутри границы,
преграждающей черты: как я сказал, раскрылась сама черта, положенная
Указом, в черте оказалась зияющая бездна. Черта все прочертила,
но черты, которая прочерчивала бы черту, нет: там провал, «хаос»
в греческом смысле впускающей открытости, не в нашем смысле
бесконечной свалки. Есть что-то впускающее в себя черту.
Ночь определенная, она ночь; и день определенный, он день:
Дика мгновенно опознает свет, что он свет. Но Бог — не день и не
ночь, и здесь комментатором к Пармениду будет Гераклит: Бог —
день ночь, он Указ, Показывающий день как день и ночь как ночь,
и он то, в чем и от чего указ: бездна, зияние, зияние немыслимое,
χάσμα αχανές, впускающее черту, дающее ей иметь место.
И се — туда, чрез ворота,
Прямо направили Девы упряжку по торной дороге.
330
В. В. БИБИХИН
«Торная дорога» — еще раз «дорога», но еще одним словом
новым: от «телега», букв, «то, что проделано телегами и для телег»;
и Телега в эпосе — а у Парменида здесь это слово именно в
эпической форме, — это Большая медведица, так что мы должны
выбирать, какой Телегой была проведена та дорога, по которой
повели девы колесницу Парменида.
И богиня меня приняла благосклонно; десницей
Взявши десницу, рекла ко мне так и молвила слово...
Богиня — так теперь называет Парменид кого? Путь, в который
он был захвачен, взят, это многословный, иногославный путь
Демона, Наделяющего, — кстати сказать, не этимологически,
а по связи смыслов наше слово Бог, как Δαίμων, демон, тоже
значит «доля», или «посылающий долю»; др.-инд. ЩЩ (bhäga)
значит «доля»; и это значение слова «Бог» еще живет в «убогий»,
бездольный (у-отрицательное). Богиня, которая встречает и берет
руку в руку, во всяком случае не другое, чем та, к кому вел путь,
кому принадлежал путь.
В этом так называемом введении к «поэме» уже сказано все
то, что будет сказано; все, что будет сказано, будет для того,
чтобы подтвердить, что в «мифологическом» вступлении
действительно сказано то, что в нем сказано: с-казано; указано на Указ,
указывающий Ночи что она ночь, Дню что он день; днем и ночью
обозначена, очерчена о-пределенность мира. Речь сейчас,
после вступления, начнется другая: до 21-го стиха 1-го фрагмента
говорил Парменид, с 24-го говорит богиня, пути или Указа, или
богиня-путь или богиня-указ; то, что она будет говорить,
достигнуто поступком Парменида, его быстрым восхождением «через
все города людей», «через все нагороженное людьми» к
определенности Ночи и Дня; и то, что он услышит, будет другой голос,
но согласный с его голосом, поэтому
И богиня меня приняла благосклонно; десницей
Взявши десницу, рекла ко мне так и молвила слово...
То, что молвит ее слово, будет как другая десница, точнее другая
рука к руке, то, что сказано до этого, протягивает руку тому, что
будет сказано сейчас. Что так называемое вступление как в зеркале
отразится в том, что развернется после, уже в словах богини,
показывает и повтор: в первой строке было «Кони, несущи меня...»,
теперь в 24-26:
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
331
Юноша, спутник бессмертных возниц! О ты, что на конях,
Вскачь несущих тебя, достигнул нашего дома,
Радуйся!
В греческом повтор, перекличка еще отчетливее: ΐηηοι ταί
με φέρουσιν, говорит о себе Парменид, ιητιοις ταί σε φέρουσίΛ/,
говорит ему о нем богиня. «Юноша», обращается богиня к кому?
к Пармениду? Нет, к тому, что домчался до нее на многославном
пути. «Юноша» — здесь что-то не вяжется, или как?
Раньше было сказано: видевший муж. То, что теперь он
κούρος, κόρος, не может быть иначе: теперь он перед Богом.
Человек дитя перед Богом: буквально, дитя Бога, тот, кто растет
в Бога, дитя-Бог. В этом смысле Христос как сын и как
богочеловек: он Человек, и Сын Человеческий, потому что он Сын
Божий, — человек здесь на земле Бог-дитя, несовершившийся Бог,
не пришедший в меру возраста Христова, но имеющий смысл как
призванный прийти в меру возраста Христова. Именно поскольку
«видевший муж» — он «ребенок». Также «неродившйся»:
беременный божеством; беременный собой.
332
В. В. БИБИХИН
11—4(3.3.1992)
1) άνήρ νήπιος ήκουσε προς δαίμονος, νέηιος < νη —
V έπ; έπος, ειπείν; in-fans; 2) ...der Vater aber liebt, Der über
allen waltet, Am meisten, daß gepfleget werde Der feste Buchstab...
Hölderlin, Patmos; 3) Scheltrede; 4) οδός, Κέλευθος, πάτος;
5) πατέω, Δίκην; 6) Μοίρα Θέμις Δίκη; 7) πυνθάνομαι
erfahren
Богиня обращается к Пармениду «юноша». Из этого
пытаются вычислить, сколько ему было лет при написании поэмы.
Поводом для недоумения, расстройства и споров, очень долгих,
оказывается то, что мы же читали, он сам себя называет
видевшим мужем. Видевший муж и юноша, ну как же это объяснить,
согласовать. — Но как можно избежать этих выяснений, для чего
же тогда историографическая наука? Разве не для того, чтобы
вычислить то, о чем прямо, за скудостью источников, неизвестно?
Тогда из сочинений вычитывают, высчитывают ну хоть что-то. Из
Аристотеля — что его ментальность застыла на уровне
подростковом: двенадцатилетний дотошный, упрямый,
бескомпромиссный подросток. Или Гегель: психоаналитическая экспертиза его
сочинений показывает, что он был не нормальный человек. Когда
мы изведем дошедшие до нас тексты на выуживание анкетных
данных, мы получим какие-то анкетные данные: тогда-то, в
хорошие, еще до тирании, годы Элей... (а ученик Парменида Зенон
уже застал революцию и смену режима, после чего уже никакие
Пифагоры, Ксенофаны, Пармениды, Зеноны в Великой Греции
были невозможны, я имею в виду после революции; и мысль
переселилась в Афины, где революция не удалась). — Я говорю, мы
порастратим текст на выяснение анкеты Парменида, философа,
и узнаем, что такой-то италийский грек был такого-то возраста
в пятисотом году до нашей эры, когда он, скорее всего,
опубликовал свою философскую поэму «О природе», и, допустим, ему
было около 40 лет, но это еще ничего, с какой-то натяжкой можно
сказать «юноша». Куда мы пойдем потом с этой анкетой, кому
сдадим на просмотр и на подпись? Что-нибудь о деле Парменида
она скажет? Только в том смысле, что, может быть, кто-нибудь
захочет завести на Парменида дело — только какое дело, зачем?
Гораздо важнее того вычисления, что был ли Парменид
юношей или видевшим мужем, то, что говорит самый близкий к нему
человек, его современник, живший на другом конце греческого
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
333
мира, на противоположном, в Малой Азии, его самый острый враг,
Гераклит. В 79-м [фр.]187: «Муж оказывается младенцем перед
демоном (богом), как ребенок перед мужем». Здесь я перевожу
«оказывается» и «младенцем», но по-гречески другое. Младенец —
νήτΐίος, от «эпос», ειπείν с отрицанием: in-fans, не говорящий.
Но человек — по определению живое говорящее существо. Как
понять тут Гераклита? Значит ли это, что все человеческое
говорение оказывается неговорением, не в смысле молчанием, а
неспособностью сказать, произнести слово? К тому же то, что я
перевожу как «оказывается». По-гречески идиома: ακούω, «слышу»
(отсюда «акустика») в особенном значении слыву. Пример из
словаря: ευ ακούω, буквально «я хорошо слышу», но значение: «обо
мне говорят хорошо», но не в смысле «я слышу о себе хорошие
слова», а в смысле «в моем собственном слухе стоит хорошее обо
мне», «в том, что слывет, слышится обо мне, что я слышу кругом,
я оказываюсь хорошим». Νήτιιος ήκουσε — аорист, примерно
наше совершенное действие: случилось так, что муж перед Богом
услышал себя неговорящим, — вдруг произошло, что говорящий
по определению вышел неожиданно перед богом, прислушавшись
к себе, неговорящим, лепечущим, не владеющим словом ребенком.
Слышит себя, прислушивается к себе — и слова среди разлива
слова не слышит. Перед Богом что-то с человеком происходит,
его говорливость перестает звучать, его слова перестают быть
словом, — и поскольку фрагмент у Гераклита продолжается, «как
ребенок перед мужем», то, стало быть, тот, Другой, говорить
может, логос держит, Логосом по Гераклиту оказывается, только
другим логосом. Такой высокий порог. Поэтому правы те, которые
говорят, лингвисты, что «слово», которое было в Начале, не имеет
отношения к человеческому слову. И это верно: не имеет. Конечно
мы не имеем и не можем, пока слушаем сами себя, иметь
представление о том, как говорит Бог. Но, но вот что: перед божественным
словом человек слышит себя не иностранцем, для которого надо
перевести или которого надо перевести (интерпретировать,
истолковать, от «таргум», перевод), т. е., по Гераклиту, и по-моему тоже,
и не только по Гераклиту и по-моему, все равно, кроме Слова,
никакого другого слова нет, и кроме того Языка, никакого другого
языка все равно нет, и все равно сравнить то Слово не с чем, так
что оно и непредставимо, и оно же не Другое, потому что своего
у нас все равно нет, вместо своего невегласие, ин-фантилизм,
187 По Дильсу-Кранцу. Ср. перевод А. Лебедева («Фрагменты...», с. 242):
«Взрослый муж слывет глупым у бога, как ребенок — у взрослого мужа». (Сост.)
334
В. В. БИБИХИН
*νη-επος, νήπιος άνήρ, не какой-то άνήρ, а всякий άνήρ перед
лицом Бога слышит, продолжается, пытается слышать себя, что он
там говорит, и всё: вдруг ничего не слышит, не речь пресеклась,
а продолжающаяся речь оказалась ничем. Этот гераклитовский
пейзаж — вполне, полностью и парменидовский, и забегая вперед:
точно так же, как человеческая речь для Гераклита не молчание,
а младенческий лепет перед Богом, так у Парменида — докса,
наше «принятие» бытия не имеет отношения к бытию — но так,
что и кроме Бога, бытия ничего нет (Бога у Гераклита, бытия
у Парменида) — и у человека ничего, кроме его ничто, небытия,
нет для того, чтобы прикоснуться к бытию. Никакого небытия,
кроме бытия, нет, и никаких средств, кроме небытия, чтобы
прикоснуться к бытию, все равно нет. — Но мы забежали вперед.
Пока: Богиня, «даймон» называет Парменида «курос». Во
чреве (в Илиаде 6, 59) дитя тоже называется «курос». Перед Богом
человек оказывается неродившимся. — Но, с другой стороны,
у неродившегося, у младенца другое дело есть, как родиться
и повзрослеть? У человека другое дело, как обожение, есть? Или,
иначе, если бы не было загадочного противостояния лицом к лицу
человека и Бога, человек смысл имел бы? Человека от Бога
отделяет высокий порог, который не меньше, чем смерть (если бы
только еще знали, что такое смерть), опять же по Гераклиту
человек смертный Бог, Бог бессмертный человек.
Поэтому опрокидывая человека, возвращая его в
неродившееся положение, давая услышать в своем говорении ничто,
ничего, Бог, если хотите, в каком-то смысле «ставит человека на
место», и это может кому-то не нравиться, и они будут дознаваться
и узнают, что никакого Бога конечно, нет, это мифология, Бог
умер, — ас другой стороны, Бог ставит человека на такое место,
единственное место, где человек не загнан в угол, хотя бы в угол
свободы, вещь двусмысленная, воли, вещь двусмысленная,
самостоятельности, вещь двусмысленная, само-утверждения, вещь
двусмысленная, личности, вещь двусмысленная,
индивидуальности, вещь двусмысленная.
Как понималась эта гераклитовская неспособность речи перед
Богом. У Евсевия Кесарийского, богослова и раннего историка
церкви, в трактате «О богоявлении» I, 73 (GCS, евсевий, т. III, 2,
с. 74, 5, пер. с сир. Грессманна)188: «Еще детский разум в человеке
по праву назван совершенно детским как бы в проверяющем
сравнении с бестелесными, божественными и разумными существами
188 цИТт по: «фрагменты...», с. 242, перевод В. Б.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
335
на небесах. И даже если он мудрейший из всех людей и даже если
он совершеннейший из всех на земле, он не лучше ребенка, если
его сравнить с его собственным (будущим?) совершенством». —
Здесь с честной серьезной односторонностью прочерчена только
одна линия, человеческого восхождения — к самому себе, под
которым теперешний человек оказывается только ребенком,
подчеркнут долг прийти к Богу, т. е. стать самим собой. Но кроме
этого морального прочтения Гераклита есть другое, загадочное
для 79 фрагмента (92 по Марковичу, т. е. по Лебедеву189). Вот какое.
У Ямвлиха: Гераклит считал человеческие воззрения
«детскими игрушками».190 Не только «считал», видел в не воззрениях
только, а в «серьезных» делах человеческие игрушки. «Удалившись
в святилище Артемиды, [Гераклит] играл с детьми в кости
(астрагалы) (играл в какие-то игры), а обступившим его эфесцам сказал:
,Ητο удивляетесь, негодяи? Не лучше ли заниматься этим, чем
с вами участвовать в государственных делах?"»191 А Гераклит мог
и даже обязан был участвовать в государственных делах, его
просили дать городу законы (оба аристократы, Парменид и Гераклит,
расцвет обоих в 69 олимпиаду, т. е. значит 504—501 годы). —
Я говорю дальше о загадочных ниточках, протягивающихся от
гераклитовского превращения человека в ребенка неговорящего
перед Богом. Казалось бы, если даже взрослый видевший муж
превращается в ничего не говорящего, то о ребенке что сказать?
Ему сначала надо дорасти до взрослого. Но нет! Пропорции не
получается, от взрослых Гераклит уходит к детям, и когда взрослые
эфесяне придумывают, что бы еще сделать для благосостояния
города, для демократического равенства, надо изгнать лучших,
Гераклит решает: «Все взрослые эфесцы заслуживают того, чтобы
их казнили»192 — но не дети, и по другой причине, чем
гуманность: потому, что дети играют. Т. с. дети играют. Взрослые уже
не играют. Они играть забыли как, у них уже не получается, что
у детей еще получалось. В последнем «Огоньке» на фото обложки
среди завала, из-под завала брошеных драных вещей, кресло без
обивки, фуражка без кокарды, на четвереньках выползает ребенок
и думает: «Как бы мне обустроить Россию?» Он бодр и деятелен
и еще не разучился играть, т. е. у него еще образ действий века,
189 В вышеуказанном издании «Фрагментов ранних греческих философов»,
подготовленном А. В. Лебедевым, принят порядок фрагментов Гераклита,
предложенный М. Марковичем. (Сост.)
190 «фрагменты...», с. 242.
191 Там же, с. 243.
192 Там же, с. 247.
336
В. В. БИБИХИН
зона, который «дитя играющее, кости бросающее, ребенку
принадлежит царская власть»193 — эон играет в ту же игру, в какую, уйдя
от граждан, играл с детьми Гераклит, аристократ царского рода,
отдавший власть и пошедший к детям, потому что со взрослыми
невозможно: оът уже не умеют играть в храме Артемиды.
Я говорю: никого нет ближе к Пармениду, чем его противник,
Гераклит. Поэтому в этом пейзаже, где ребенок, взрослый и Бог
составляют загадочный треугольник, где взрослый приблизится
к Богу, если сумеет увидеть себя ребенком, гераклитовский
пейзаж, — мы должны будем, т. е. так получится, что мы найдем там
Парменида. Уже нашли: «курос», дитя, обращается к «видевшему
мужу» богиня.
С этой темой — что мы говорим, когда мы говорим, вернее,
что мы в конечном счете слышим, когда говорим, связан один
вопрос, который мне задали.
Вопрос относится к моему предположению, что, может быть,
не совсем верно иметь вот какую уверенность: «Вещам
невозможно дать слово, мы сами берем слово о них. Мы можем разрешить
им присутствовать в нашем говорении... Вещи молчат, и
молчанию вещей слова дать невозможно. Мы можем лишь понять, что
сами замолчать не в состоянии, язык — необходимость, а поэтому
от нас все-таки этим требуется взять слово». Я усомнился, что от
нас требуется взять слово. Такой необходимости, говорить, вроде
бы все-таки нет. Мы не обязаны говорить. Наше дело не взять
слово, а дать его. Так я думал и думаю. Отсюда вопрос ко мне:
«Кто говорит?» Когда Вы сказали, что не можете ответить на
этот вопрос, то Вы, кажется, имели в виду то, что не получается
указать на основание говорения или, другими словами, на
основание мысли, данной в языке, в говорении. Можно ли вообще указать
место, откуда появляется мысль? Такого места нет, но мысль
проявляется в слове, которое уже вещь. (Но) я все-таки имел в виду
другое: это Вы говорите, произносите слова на лекции и в других
местах... Сказанное мной о «требовании взять слово», «нам
требуется взять слово» — это просто констатация того, что именно
Вы, а не кто-то другой, читаете лекцию. Вы как-то участвуете
в говорении... Что-то строить на одном этом вопросе, конечно,
не стоит. Такая самодостаточность обернется пустотой, пустым
занятием. Но отсюда уже можно спросить: «Говорят ли другие
вещи?» (Другие вещи — кроме человека.) И здесь опасность
застрять на пустом спрашивании, но в связи с первым вопросом это
19з Там же, с. 242.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
337
окажется не так. Если не полениться спросить таким образом,
то окажется, что слишком часто человек подменяет вещи собой,
своей мыслью. И опять здесь можно спрашивать. Однако первые
два вопроса стоят особняком.
Вопросы связаны по существу. Я говорю, значит, кажется,
все-таки беру слово. Я беру слово, чтобы сказать как раз это:
противоположное. Я, выходит, подменяю вещь собой, своей мыслью,
говорением о вещи.
Я194 должен ответить, что я об этой опасности знаю. Не
попасться тут самое трудное. Но вот что интересно. Повторять себе
и другим, что важно не взять, а дать, — конечно, этого мало.
Однако: невзятия слова, скажем, отказа выступать, печататься тоже
мало. Человек может говорить, печататься, выступать потому, что,
оказывается, для того, чтобы дать слово вещам, молчать мало.
Хотя молчание всегда надо предпочесть, всегда без исключения,
тому, чтобы взять слово.
Попробую разобрать эту странность. Я обязан дать слово
другому, чтобы не подменить его собой, своей мыслью. Но другой
говорит и без меня. Другой во мне, между прочим, тоже говорит
и без меня, он умеет говорить молчанием, так, что я даже и не знаю
как. По-всякому. Тогда неожиданно обнаруживается: дать слово не
то же, что дать говорить. Дать говорить, другому или себе —
значит вообразить себя владельцем права на речь. Я не знаю, откуда
у нас может взяться такое право. Когда говорят: свобода слова,
что имеется в виду? Право на слово или право слова, какой здесь
родительный падеж, субъекта или объекта, свобода каждого брать
слово имеется в виду или свобода слова звучать и слышаться, как
оно слышится? Это не шутка и не натяжка. Часто повторяемое
«свобода слова» не прояснено, хотя оно значит
противоположные вещи. В тирании, в диктатуре свободу слова имеет как будто
бы — никто: право на слово имеет один, но его слово не свободно;
остальные молчат и говорят только молчанием. Если демократию
понимать так, что вместо одного право на слово получают все, то
говорящего молчания уже не остается. Говорящее молчание
позволяло допускать, что молчащее слово свободно. Когда правом на
слово начинают пользоваться все, свобода слова уже не хранима
молчанием, она хранима только теми, кто дает слово слову и
никогда право на слово не возьмет. Демократия поэтому положение,
когда слову приходится туго. Его все берут, почти все берут, и если
194 Кто, кстати, я? Тот, кто берется отвечать, если в его словах окажется
неувязка.
338
В. В. БИБИХИН
не разберутся, то всё его разберут на говорение. Чем плохо
говорение? Вот этим: правом на слово, когда от свободы слова остается
только свободное пользование этим объектом, которому свободу
человек, взявший слово, с какой стати даст?
Что делать, когда среди свободы на слово свобода слова
ограничена правами говорящего, который разве взял слово для того,
чтобы его тут же отпустить? Часто ли такое? Возникает почти
неодолимое желание отобрать, не давать слова всем говорящим.
Это способ диктатуры. Единственное правильное решение: дать
слово говорящим.
Как только я так сказал, подвертываются два понимания, если
можно так выразиться, злых. Одно: отойти немножечко в
сторонку и пусть они поговорят, наговорятся, потом сами спохватятся.
Говорите, говорите себе, а мы послушаем. Другое: помочь надо
людям; видите, им не хватает слов, подкиньте им. Предложите
им свежие идеи, освежуйте новенькую философию и разделайте
тушу, ведь людям надо что-то кушать.
Ясно, что дать слово — не имеет отношения ни к первому, ни
ко второму коварству. Это что-то совсем другое. Но как дать слово
говорящим, которые слово уже взяли и без нас, не глядели и не
ждали, пока мы им дадим, и взяли сколько им надо, и взяли слово
так, что не осталось ни малейшего просвета, зазора, в который
можно было бы им слово дать? Побежать за ними: пожалуйста,
возьмите еще и вот это слово, а то вы мало взяли? Или тогда
в сердцах самому взять слово, чтобы всех переговорить,
расстаться с этим неудачным принципом, что надо не взять, а дать? Все
равно, похоже, дать не получится?
Нет, остается первое, раннее: не взять, а дать. Дать слово миру.
Мир говорит и говорит, много, громко, непрестанно. Говорением
уже сплошь заполнено все. Тем говорением, которое, если к нему
прислушаться, оказывается νη-επος, νήνιον ακούει. Да как же
такому-то миру дать слово? Эта задача еще гораздо труднее, и
гораздо важнее, чем уйти в сторону от расхватывания слова. Хотя
«не брать слово» остается необходимым (не достаточным)
условием верного отношения человека к слову.
Невозможность этого, дать слово миру, меня всего больше
убеждает в том, что я прав. Философия не имела бы смысла,
если бы она была возможна: она была бы тогда не нужна уже
в нехорошем смысле, как никчемная забава, кубик Рубика, а не
в том благородном смысле, как она сейчас не нужна: как что она
в жизненные нужды, в список жизненных нужд ведь не входит.
Надо. Философию надо — что, иметь? допустим иметь — поэто-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
339
му я тоже, допустим я к философии привязан, выхожу на сцену:
и я тоже, философия нужна, нет вы послушайте, вы не уходите,
не уходите из аудитории, что это вы уходите, вы послушайте тоже
и философию; банковское дело конечно нужное, никто не спорит,
починить трубы тоже, но и философия, между прочим, знаете
какое дело? Вы не знаете, не знаете! Так что же вы уходите? А то
ваше образование будет неполным, ведь... Пожалуйста, прошу вас,
войдите в положение, согласитесь усвоить основы философского
знания, ведь имеет же философия право на существование, ну
пусть маленькая, пусть совсем редуцированная....
Протиснуться если удастся — а как удастся? — в щелку,
а остался ли еще зазор? денежная нужда с одной стороны, и
важные нужные предметы «социология», «история», «экономика»,
«культурология», «методология» теснят, уже мало часов оставлено
на тонкости Гегеля, Аристотеля: потому что пора делать, хватит
рассуждать. — Но философия не рассуждение. — Ну да,
порассуждаем еще и об этом тоже?
Я говорю: как втиснуться в это сплошное занятие делом,
успеть в пару часов среди спешки и забот и нужды вставить,
вместить — что? Добро бы еще было известно что, так нет же!
И вот здесь два. Ясно, что брать слово не нужно, добиваться
«послушайте меня больше» отвратительно. И надо смиренно
принимать, если редко удается: сколько дается, сколько дают слова,
столько и хватит, скажем, только одна короткая реплика во всей
постановке. С этим конечно ясно, это так, по-другому будет некстати.
Но важнее второе: это малое слово, что дают, —место слова дают,
дарят ожидание слова, — всякое говорение, где бы оно ни было,
возможно потому, что есть место слова, т. е. ожидание слова, —
в таком случае уместным будет только слово, которое отвечает
ожиданию. Т. е. мы говорим то, что хотят от нас услышать? Или
отвечает ожиданию не значит повторяет, а — отвечает, отвечать
надо не то oice, а тем эюе! Как ответить тем же на то, что
делают, когда слушают? Слушают— дают слово. Ответить тем же\
что тогда будет? Уместное слово — такое, которое уместилось
в оставленном ему месте? Нет: уместное слово само дает волю,
не уменьшает простора. Дать слова вещам: чтобы они говорили.
Странно сказать, но это значит: чтобы говорили сами вещи, а не
слова. Чтобы вещи говорили, а ведь это бывает редко: вещи обычно
нам ничего сами не говорят, и говорение вокруг,
непрекращающееся — по телевизору и в газетах — оно нам много говорит? Как
может быть, может быть такое, чтобы это ничего не говорящее
говорение нам стало говорить? Опять: как будто бы это невозможно;
340
В. В. БИБИХИН
нет ничего мертвее газетной страницы, завтра она уже постылая,
«читатели газет, глотатели пустот», Цветаева. Только хуже, чем
пустот: это мертвое тело на самом деле не безобидно, «мертвых
надо выбрасывать раньше, чем нечистоты», Гераклит [96 DK].
Сделать говорящим это говорение — можно? Как? Можно всю
жизнь сидеть над философскими текстами и ни разу не прочесть
ни строки философии: читать ее «газетными глазами» (Деррида).
Я спрашиваю: а наоборот? Наверное, это трудно. Но сделать
эти голоса говорящими? Чтобы газета говорила нам, и говорил
Парменид? Еще раз: это очень трудно. И еще раз: это единствен-
пая цель и единственное дело, и другого дела у нас нет не только
на этом курсе, «Чтение философии», а вообще другого дела нет у
говорящих. «Чтение философии» теперь мне слышится наоборот:
философия прочитывает говоримое. Наше дело заглянуть,
попробовать догадаться, как бы она прочитала.
Это легко, вообразить себе чистый мир и дать ему слово,
его со-гласию. Но чистого мира нет, и мир буквально состоит из
ничего не говорящего говорения. Парменида его кони несут за
все города, за всё, что нагорожено. И по-другому, похоже, нельзя.
Ничего не говорят люди, будет говорить богиня. Все зависит, т. е.
все наше чтение, его «зря» или «не-зря», зависит от того, какое
мы дадим место тому, которого читаем: мы можем, конечно, и
никто нам не помешает, никто не упрекнет, услышать в нем один из
голосов: все говорят, и Парменид тоже; а вот его соперник и
современник говорит противоположное, и — посмотрите-ка, один
одно, другой другое, и какие отсюда надо сделать выводы? Когда
один идеалист ругает другого, то кто, как известно, выигрывает?
Мы хотим ведь выиграть,, а то как-то нам мало всего, задвинуты
куда-то на задворки и мало нас печатают, мало приглашают,
совсем мало платят.
Я говорю: чтение философии. Но даже и самая маленькая
претензия, на то, чтобы к голосам комментаторов прибавился, взяв
слово, еще один, вот этот мой, — слишком большая и
неоправданная: хватит уже и так, во-первых; какие у меня основания, не
специалиста, во-вторых. Поэтому я отказываюсь и в споре
мнений комментаторов и истолкователей не участвую, для этого и не
гожусь. Не я хочу тоже говорить, а я хочу, чтобы Парменид стал
говорить нам. Он, конечно, говорит, но он ничего нам не говорит.
Какие-то кони. Какие-то притолоки. Какое-то бытие и небытие.
Как будто бы Парменид говорил, что небытие не существует и что
ни в коем случае нельзя думать, что небытие каким-то образом
существует. Небытие наверное конечно не существует, и какова же
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
341
должна была быть темнота тех тупых древних голов, чтобы надо
было в них вдалбливать, что только бытие существует, а небытие
нет! Но зато он вдолбил эту мысль, как сваю, и так прочно, что
после этого появилось логическое мышление, можно стало, слава
Богу, начать рассуждать, и возникла философия, наука логически
строгого рассуждения, благодаря этому и мы теперь можем
рассуждать логически, например так: «Парменид был бы прав, если
бы думал, что в подлинном смысле существует то, что может быть
мыслимо, т. е. существенное, общее, главное, тогда как то, что
немыслимо, т. е. несущественное, частное, не главное, случайное,
почти не существует. Но он был бы не прав, если бы думал, что
все то, что мыслимо, существует. Это был бы идеализм, и он не
исключен для Парменида в силу недостаточной аналитичности».195
С одной стороны так. С другой стороны не так. Взвешивая это, мы
и занимаемся рассуждением?
Нам это рассуждение ничего не говорит, если мы не сделаем
над собой операции абстрагирования, потому что все такие
рассуждения не там, где мы. Там, где мы, не кони уже несут, понесли,
а неучтенные, не поддающиеся уже учету, большей частью
скрытые, тайные перемещения, перекачивания масс, богатств,
имущества, техники «по лицу земли» поездами, пароходами, подводными
лодками, ракетами; от каждого такого невидимого, незаметного
перемещения зависит богатство или нищета, существование или
несуществование людей, или как это говорится «всего
человечества». На земле что-то происходит, и человечество так или через
телевизор и через газету вовсе не зря занято на разные голоса,
большинство из которых мы не знаем, что там выговаривается не
знаем, человечество вовлечено как в водоворот в неостановимое,
убежденное, в крик, или наоборот очень тихое, осмысленное или
бессмысленное говорение, и врываются новые голоса, которые
вдруг всех переговаривают, но не так, чтобы не чувствовать
размах каких-то новых голосов, которые еще будут, — и голоса как-то
связаны с теми движениями богатств, техники, машин, которые
оплели землю и истощили ее, что-то делают с ней, рискованное
теперь уже и для самого большого океана, воздушного, с которым
что-то происходит, а что, кто-нибудь знает? Нет, никто не знает,
потому что метеорологи много знают, но океанологи говорят
другое, и метеорологи и океанологи не имеют ни малейших средств
и способов повлиять на тысячи труб, которые что-то — что? — вы-
195 Чанышев. А. Н. Курс лекций по древней философии. М.: Высшая школа,
1981, с. 152—153.
342
В. В. БИБИХИН
брасывают в атмосферу и на корабли, которые что-то выбрасывают
в океан. Что происходит? Что-то происходит, явно связанное с тем
разным, что люди говорят, о чем они, как говорится, спорят. Что,
интересно, люди говорят? Мы не знаем, хотя, кажется, все уши,
всё внимание только и нацелено на то, чтобы уловить как это
называется «веяние», состояние современности, оценить ситуацию,
экономическую политическую и культурную, словом как-то
«уловить», и уловить не удается, потому что уловить конечно хочется,
но ведь нам не совсем ясно, что мы хотим уловить, «ситуацию»?
Интересно, что такое «ситуация». «Тенденции»? И что, интересно,
станет, если мы их уловим. Мы ловим неизвестно что неведомо
чем, «понятийным аппаратом», который как известно разладился,
и годился ли он когда-нибудь?
И философию, профессиональную философию, очень легко
можно понять. Она похожа на того человека, который нашел себе
спокойное место в общественном заведении, это было в хорошие
времена когда в общественном заведении еще можно было
найти спокойное место, и просиживал там целыми днями, отходил
душой. «Что домой не идешь?» — спросили его. — «Да, домой!
Там жена». — «Ну и что жена?» — «Да она все говорит, говорит,
говорит...» — «Что же она говорит?» — «Вот этого она не
говорит!»
Как только мы поверим, что мысль, и только мысль это может
сделать — дает слово говорящему человечеству, начинает слышать
не только что оно говорит, но что оно говорит — мы сразу
догадаемся об одной вещи: что Парменид, т. е. именно такая мысль, —
новая, которая о том, чего мы еще не слышали, и которую мы еще
не слышали. Потому что мы пока еще только издалека готовимся
к тому, чтобы не брать слово; мы еще не пробовали дать слово
миру. Еще хорошо, если когда-нибудь нам удастся услышать,
расслышать эту новость из новостей, не голоса мира, а со-гласие:
согласие это и есть мир. Похоже, что нам до этого еще очень
далеко; потому что нам еще надо делать над собой усилие, чтобы
не отбрасывать как недоразумение, чтобы просто хотя бы терпеть
многозначность слова мир.
Парменид новость из новостей, без всякого сравнения более
новая, чем новости в газете? Докажите! — Не смогу. Самое
большее, что я могу в этом направлении, для этого «доказательства»
сделать, — это не брать слова самому. Это значит: быть как
можно ближе к букве, т. е. ничуть — пытаться — быть не дальше от
буквы, чем самая строгая филология; и при этом не ограничивать
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
343
искусственно свою задачу филологией. Как Фридрих Гёльдерлин
не был «буквалистом», когда писал:
.. .der Vater aber liebt,
Der über allen waltet,
Am meisten, daß gepfleget werde
Der feste Buchstab...
.. .Отец, опять же, любит, —
Тот, который всеми правит, —
Всего больше, чтобы хранили и соблюдали
Твердую букву...
Поэтому я не просто читаю вам перевод на русский язык
парменидовских гексаметров, а возвращаюсь к букве того
текста — а вот еще немного о том, чего я не хотел бы. Приходится
начинать с начала, потому что мы приходим слишком поздно, —
мы поздние, как говорит Хайдеггер. Почему мы едем, в последней
«Литературной газете» был такой отчет, в Германию, которая ну
вот только что, совсем недавно была, Германия Гёте, и уже не
видим эту Германию, ее уже нет, опять опоздали, вместо той такой
узнаваемой такой прекрасной Германии какой-то канкан. С этим
вроде бы мы ничего поделать не можем, к нашему приходу
действительно все как-то уже вроде бы кончилось, много слишком
делали. Но я не хочу вот чего: чувство у человека, который ехал
в Германию, не куда-нибудь, но заранее тайно знал и там
убедился, что Германии той уже нет, что Германия не та, — это такое
же чувство, как у Одинокова, который сообщает всем, забегает
вперед, посылает записочку, что у него отца уже нет, отец умер, и
горюет от этого крайне, до надрыва и до громкого крика, но тайно
же рядом с этой горечью кайф свободы; и от смеси драматизован-
ного надрыва и, рядом, тайного кайфа одинокого, свободного,
абсолютно свободного индивида — взрыв говорения. Говорения
обильного, сладкого, с большим умом, с большим остроумием, —
да как же я после того, что случилось, буду не говорить, когда
бездарности говорят, лыка не вяжущие; буду говорить, даже
обязательно буду говорить. И о чем прежде всего говорить? Вот это
сообщать прежде всего: что отца уже нет, отец тю-тю; и Германии
нет, взахлеб можно об этом говорить, смотрите какой фокус,
какой конфуз, Германия, такая большая дыра, всё, господа, нету
никакой Германии! Была и сплыла. — И, между прочим, заодно
России нет, пас. Была тоже и сплыла. И Америки тоже нет, тоже
пас. Попробуйте вот поспорьте со мной, нет вы только поспорьте,
344
В. В. БИБИХИН
ну поспорьте же в конце концов, а я вам как раз докажу, что все
и так знают, что Америки тоже нет. Ну да, были, ну вот только что
были, а уже нет. — Чувство позднего, опоздавшего, но
принявшее вдруг такой неожиданный, освободительный оборот, что на
поверхности благородная скорбь перед гробом, но совсем рядом
более затаенное чувство, которое высказал один откровенный
поэт: что его наполняет радостная энергия жизни, когда он видит
вокруг себя уже умершее. Раз достоверно уже ничего такого,
похожего на отцов, уже нет, то мы оказываемся одни на сцене, вот
где развернуться. И прежде всего сообщить всем новость — и вот
нам сообщают новость в газете, газета же это всегда новости: нету,
оказывается! Германии нету! Вот я лично, пишущий так хорошо,
был в Германии и собственными глазами видел: Германии нету!
Германия сама виновата, что ее нету. Если бы она как-нибудь
похитрее подшустрила, она, может быть, была бы, но ее нету,
а есть вот я пишущий. И Парменида нет, и слабо ему, — когда-то
давно был, а теперь его нет, не хватило, значит, чего-то. Пороху
не хватило. Теперь вместо Парменида мы. — Мы можем спокойно
сказать объявителям, что отец умер: успокойтесь, для тех, кто
знает, что отец умер, Парменида не было и при Пармениде. Пармснид
постепенно, очень медленно на протяжении тысячелетий начал
быть и только теперь, может быть, издалека только начинает быть
в полной мере. Путешественник информирует нас, новостью в
газете: «...мне так и не удалось „опознать"... Германию, вообще
немецкое... от Парацельса и Лейбница до теоретиков немецкой
консервативной революции начала нашего века».
Как будто бы это объявление о смерти Германии похоже на
то, что в так называемой Scheltrede к немцам говорил Гёльдерлин
во время как раз посередине между Лейбницем и теоретиками
начала нашего века, в расцвет Гёте, Шиллера, Фихте, в самом
начале восхождения Шеллинга, Гегеля. «И так я пришел к немцам
(говорит Гиперион, не немец). Немногого требовал я и стиснув
зубы готов был найти еще меньше. Смиренным пришел я, как
бездомный слепой Эдип к воротам Афин, где роща при храме
божества приняла его; и души прекрасные встретили его — насколько
иначе произошло со мной!
Варвары из древности, через прилежание и науку и даже
через религию ставшие еще более варварами, глубоко неспособные
на какое бы то ни было божественное чувство, растленные до
мозга костей, до неспособности к счастью священных граций,
до всякой степени несоразмерности и ничтожества прискорбные
для любой благоустроенной души, глухие и немузыкальные, как
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
345
черепки выброшенного горшка, — вот, мой Беллармин, были мои
утешители.
Это жесткое слово, и все же скажу его, ибо это правда: не могу
помыслить себе народа, который был бы разодраннее, чем немцы.
Ремесленников ты видишь, но ни одного человека, мыслителей, но
ни одного человека, священников, но не человека, господ и рабов,
юношей и установившихся людей, но ни одного человека, —
разве это не похоже на поле битвы, где кисти и руки и все члены
разрозненными повалены вперемешку, а пролитая кровь жизни
утекает в песок?»196
Писатель, который информирует нас сейчас в газете, что
Германии его снов нет, держит в кармане эту шельтреде, бранную
речь Гёльдерлина, чтобы при случае вынуть и сказать: я ничего,
я не при чем, смотрите, я вполне в традиции, так молено. Как
будто бы он говорит «то же самое, посмотрите», что Гёльдерлин.
Если я сейчас прочитаю вам Парменида и даже напишу на доске,
это будет то Dice самое, что говорил он. Писатель объявляет, что
Германии нет, и как будто бы то же, но Германия, такая, была для
Гёльдерлина его крестом, игом не в каком-то переносном смысле,
а сдавливавшем шею до смерти; а для нашего писателя этот чужой
гроб разрешение для взлета красноречия, и какого блестящего,
остроумного! вам и не снилось так легко, так бойко и так много
писать. То же, что у Гёльдерлина, — и не то.
Где же Парменид-то, вы скажете? Парменида — давайте! Но
мы уже в самой середине Парменида.
Юноша, спутник бессмертных возниц! О ты, что на конях,
Вскачь несущих тебя, достигнул нашего дома,
Радуйся! Ибо тебя не злая Судьба проводила
Этой дорогой пойти — не хожено здесь человеком —
Но Закон вместе с Правдой.
Или мы примем это «не хожено здесь человеком» за
саморекламу старого мудреца, бывает такое красование здоровых удачливых
стариков. Тогда только скука или экзаменационная тоска заставит
нас открыть Парменида. Или я сейчас повторю то, что говорил
полтора часа, а потом еще раз повторю и ничего другого не скажу.
«Не хожено здесь человеком» не так, что по состоянию на 500-й год
до нашей эры не хожено, а с тех пор исхожено. Не хожено и сейчас.
196 Hölderlin F. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. Hyperion. Theoretische
Versuche. Aufbau-Verlag. Berlin und Weimar, 1970, S. 261—262. См. рус. пер.
Ε. Садовского в изд.: Гёльдерлин Ф. Сочинения. М.: Художественная литература,
1969, с. 423—424.
346
В. В. БИБИХИН
Парменид новость. Это новость новостей, что можно не ходить
дорогами людей. Еще раз дорога, и опять новым словом: οδός, «ход,
подход» или — поскольку всякий ход, поступок, это и выход, то
«вб/ход», найденный Парменидом; κέλευθος, «колея» дня и ночи,
света и тьмы, из которой день и ночь, свет и тьма, наоборот, никогда
не выйдут — и теперь πάτος людей, от πατέω, «топать, топтать»,
и между прочим топтать в смысле «потоптать, презирать», и для
нарушения Божественного Указа, Δίκη, применяется это слово, πατέω
Δίκην, «топаю, топчу, наступаю на закон», на Указ, с большой буквы.
Для комментария к этому месту, что «ход», подход, выход
Парменида вне топтания людей, которое всегда оказывается потап-
тыванием Закона, Указа, — опять лучший комментарий Гераклита.
Я имею в виду фрагмент 2 [DK], «надо следовать тому, что
сообщает, потому что то, что со-общает, не разлучается с умом,
логосом, Словом. Тогда как Слово, Логос со-общает и не
разлучается с умом, толпа живет, словно имеет каждый собственное
разумение».197 Топтание толпы, которое делает ее толпой,
массой, — оттого, что она не со словом, которое слово со-общения: по
определению, Слово это слово со-общения, той вести, того
сообщения, вокруг которого только и начинается, может начаться история
и значит общество. «Вне топтания толпы» — вовсе не значит
«сформировать собственное мнение»; потому что толпой, по Гераклиту,
как раз впервые и делает то, что каждый «живет» так словно имеет
собственное мнение. Толпой делает обособление — не в том
смысле, что надо всем собраться вместе и не иметь собственного
мнения: не иметь собственного мнения не поможет, ничуть не
больше поможет, ,чем иметь собственное мнение. И собственное
мнение, и не имение собственного мнения не прекращают топта'-
ния, затаптывания Указа, который Гераклит называет «логосом».
Почему, вернуться к Пармениду, не злая Мойра послала
Парменида в его «ход», «подход», или «выход», а То, что
Положено, Θέμις, и Δίκη, Указ? Мойра слово того же корня, что мера,
«Мойра» — отмер, доля. Почему зло названо в момент высшего
достижения, встречи с божеством? Потому что это не достижение
как другие достижения, когда первое место занятое
противопоставляется второму, третьему и другим, которые в самом конце.
Восхождение движется ступенями и преодолевает
предшествующие; но рядом с самым лучшим уже не недостаток блага, а зло.
Последняя проверка — не примерка, что выше и что ниже, а
испытание злом, испытание зла.
197 Ср. «Фрагменты...», с. 187—198. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
347
... Теперь все должен узнать ты:
Как убедительной Истины непогрешимое сердце,
Так и мнения смертных, в которых нет верности точной.198
«Должен», здесь не в смысле «совершить еще один подвиг»,
кроме пройденного пути еще научиться, а [в смысле:] теперь
«так получится», «ты в таком месте, откуда это видно». «Все
должен узнать» ты — по-гречески сказано тем же словом, что
русское «пытать» в смысле спрашивать, допытываться. То, что
сказано этим словом, πυνθάνομαι, пытать, испытать
(немецкий перевод: erfahren, испытать) услышать, расслышать,
русскому «узнать» соответствует не только в смысле «изучить»,
но и в смысле «опознать», т. е. «отсюда ты испытаешь», — и такое
чтение подтверждается тем, что в греческом сказано не так, как
в переводах, «как истину, так и мнения», а — «или-или»,
научиться испытывать, или нетрясущееся сердце истины (я не знаю,
почему переведено у Лебедева «непогрешимое»), сердце, в котором
нет тряски, — мы еще должны подумать об этой тряске сердца,
которой в истине нет, — или принятое смертными, — опять же
мы должны вернуться к тому, что такое «докса», от «дехомай»,
«декомай», принимать в широком смысле.
Различение между «неспрятанным, неупущенным» —
истиной и «принятым» — различение, в котором теперь будет
«опытен» Парменид, другое деление на два, чем день и ночь, чем зло
и положенное, чем ход, выход и топтание, но место, в котором
все эти деления на два открылись, одно, — место, в котором
оказался Парменид. Деление на два это старая традиция италийской
философии, пифагорейская. Отчетливость; она требует принятия
решения.
Дальше начинается слишком важное, чтобы продолжать мало
подумав. Три раза это «принятие», переводится «мнение», в трех
подряд стихах, 30-31-32 этого 1-го фрагмента, заставляют нас
насторожиться. В переводе199 это опять не сохранилось, и слишком
странными оказываются совсем разные переводы и толкования
этого отрывка.
Мы в месте решения, где человек не топтал в двух
смыслах: он не может здесь топтать, здесь место вб*хода; и во втором
смысле: здесь кончается топтание, здесь место «хода» в смысле
поступка. Что за поступок? В каком смысле Хайдеггер говорит, что
атомная бомба взорвалась давно, в поэме Парменида?
198 «фрагменты...», с. 295.
199 Там же.
348
В. В. БИБИХИН
11—5(10.3.1992)
1) βάθος παντάπασιν γενναΐον; γέννα, νόθος, γενναίος,
γνώσις, γνήσιος; 2) χάσμα αχανές; 3) εύκυκλέος, εύπειθέος,
άτρεμές, άτρεκές; 4) δόξα, Δέκομαι, Δέχομαι, Δοκέω, δόγμα;
5) δόξα, δοκοϋντα, δόκιμος; 6) ά-λήθεια
«Правду говорить легко и приятно», сказано у Михаила
Булгакова.200 Я поэтому еще раз скажу легкую и приятную
правду: никакого нового истолкования Парменида я дать не могу
и не собираюсь, не хочу даже, упаси меня Господь; и нового
перевода тоже дать не смогу, и не собираюсь; даже выбрать из
разночтений то, которое предпочтительнее, или тем более
предложить совсем какое-то новое чтение даже и не подумаю:
разночтения и разные переводы должны остаться как они есть, они
уже история, путаться в них это все равно что запрещать... Мы
смотрим на человека, который запрещает, с уважением:
смотрите, наверное какой важный человек: попробуем и мы что-нибудь
запретить. — Удивительным образом буква Парменида стоит, ее
только в наше время перепечатывали наверное 100 раз или
гораздо больше, буква Парменида стоит, и в простоте и наивности
хочется просто читать ее, она загадочная, тем более она
требует читать и читать. — Зачем читать? Честное слово, опять же
скажу, я не знаю. Я только заметил за собой, что читая журнал
«Столица», там последние новости, и очень смело описаны, это,
как называется, радикальный журнал; под «радикальным»
теперь понимают очень смелый и задевающий, но лишь бы только
не такой, чтобы нельзя было напечатать в журнале: вот это
conditio sine qua non: в журнале должно быть можно печатать
радикального писателя.
Что-то не так с журнальными новостями, наверное,
потому что я поймал себя на мысли, что тянусь рукой к книге о
Пармениде, Йёрг Янтцец, «Парменид к отношению языка и
действительности», одна из десятков последних книг о Пармениде,
с жадностью: узнаю там новости. Я понимаю захватывающую
остроту журнала и газеты, сам легко вхожу в роль: поскорее, до
ночи успеть написать что-то, чтобы сразу это взяли наборщики, и
к утру, положим, прямо к восходу солнца уже сотнями, тысячами
200 Во второй главе романа «Мастер и Маргарита» (слова Иешуа Понтию
Пилату). (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
349
печатали станки, и люди брали, развертывали и читали
утренние новости, о президенте, что он сказал, — интересно, если бы
Парменид сообщил нам, вместо своей странной поездки к
богиням, какое решение приняли в тот день, когда он это писал,
городские власти Элей, на сколько они повысили цену за ячмень. —
Совсем другие новости сообщает Парменид, и непривычные, вот
уж действительно странные, — но так сложилось, вы можете
сказать, что от старости, или еще что-нибудь скажите или напишите
в записке, порезче, но я все равно вам признаюсь, правду говорить
легко и приятно, — ветхими ветхими кажутся новости в газете и
журнале, и с жадностью тянешься к Пармениду, там новости
неслыханные, такие, что мы до них еще не доросли, отчасти потому,
что нас газеты и журналы не к тому приучали, — и они говорят
на языке греческом, хорошо известном и филологами изученном
в деталях, но все равно неприступном, и как хорошо, что для
чтения есть эти буквы, которые остались и которые хочется читать и
читать. Я уже говорил201: в «Шинели» Гоголя среди чиновников,
кое-каких, скучающих, развлекающихся как могут, пошлых,
возвышается божественная фигура беззлобного Акакия Акакиевича
Башмачкина, который с радостью выводит, вычерчивает букву и
любит ее. Или как я читал прошлый раз из Фридриха Гёльдерлина:
«Отец, который всеми и всем правит, всего больше и прежде всего
любит, чтобы соблюдалась прочная Буква». — Есть правда в том,
что священные книги не допускают перевода, как Коран: ни одна
буква, ни одно начертание буквы в нем не должно быть изменено,
«Отец любит, чтобы буква соблюдалась». Разве перевод, как его
обычно понимают, замену одних букв другими, что-нибудь даст?
Он и дает эту замену, подмену, не больше.
Как Хайдеггер говорит в курсе лекций «Парменид»,202
зимний семестр 1942—1943 гг., время сражения под Сталинградом
и окружения армии Паулюса, а в Северной Африке поражение
танковой армии Роммеля, — Хайдеггер читает Парменида не
потому, что ничего другого не остается, а потому, что новость
настоящая эта, и ее только заслоняют и потому делают еще более
важной новости из газет, которые ведь всегда сводятся к одному:
уже случилось самое худшее, уже окружены и попали в плен или
что-нибудь хуже, сыновья; уже все окончательно разрушилось или
все-таки еще нет. Новости: уже провалилась крыша, сообщают
нам, или все еще нет.
201 См. вторую лекцию (17. 9. 1991). (Сост.)
202 Martin Heidegger. Gesamtausgabe. В. 54.
350
В. В. БИБИХИН
Парменид и Гераклит, начинает свой курс лекций Хайдеггер.
Что продумано мыслью этих двух думающих, не пошатнулось
от годов и тысячелетий. Эта неприкосновенность гложущим
временем происходит не оттого, что мыслители прикоснулись
к «вечному» — они прикоснулись к начинающемуся. Да что же
это такое, что две с половиной тысячи лет начинается и никак
начаться не может? Почему, вот почему? Я скажу: потому что.
Что, разве ничего не мешает началу, настоящему? В нас самих
и в наших отношениях ничто не мешает? Почему все сбито
и спутано? Почему все смешано и испорчено? Почему то, что
мы с вами, перед вами здесь говорим, не будет, не обязательно
станет новой путаницей? О нас ведь уже и говорили, что мы
путаники, что у нас мерцающий смысл, что в том, что мы говорим
и пишем, нет строгой логики, что это просто вообще не
философия и непонятно, зачем люди ходят слушают, совсем не надо
ходить слушать.
И всего меньше я стал бы претендовать на то, что могу
показать что-то яснее других. Если что-то когда-то кому-то дается,
даже если — настоящее, для следующей минуты это не облегчает,
а затрудняет, осложняет задачу, — как будто бы я опять
отклонился от дела, от чтения Парменида, но нет: я сейчас думаю о том,
еще раз, что οδός, путь, всего точнее попадает все-таки в суть
этого пути то же самое слово по-русски, «ход», как ход в
шахматной игре, как поступок. — А хваленая логичность рассуждения
так часто похожа на колею κέλευθος, по которой ходят — только
уже в другом смысле «ходят», в смысле движутся — неизменные
Ночь и День — и как бы хотелось точной логической а еще
лучше математической мысли не выпадать из своей колеи, и как она
рада, когда ей это удается — но кажется этого мало, логичности
рассуждения мало, да и рассуждения тоже мало. Расписать все
происходящее и могущее произойти и «узнавать» это — то,
это — то мало. А чего не мало? Я угадываю это в том, что мы
читаем, теперь — в Пармениде. Парменид — новость. Я хочу его
читать. — Могу я оказаться неправ? Нет, не могу. Уже не оказался
неправ. Потому что уже из той крохи (не по числу строк, а по
способности заглядывания в вещи), которую мы успели прочитать,
уже видно, что Парменид не обманывает, что уже отмахнуться
нельзя, это будет себе дороже, это будет — уже теперь ясно — не
ему приговор, а нам. Мы ввязли в это чтение, и с честью теперь
выйти из этого чтения трудно, мы влипли, так сказать, а сами
виноваты: зачем не послушались Платона. Ведь Платон предупреждал
в «Теэтете», а мы как-то прошли мимо: не трогайте Парменида,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
351
лучше, все равно с ходу не получится, лучше отложить до
лучших времен, до большей подготовленности. «Если бы мы сейчас
взялись за разбор его учения, то, боюсь, мы даже и слов-то самих
его не поняли, и что он, собственно, под ними имел в виду, о чем
думал, это остается для нас тайной». Сократ при этом вздыхает
и говорит: «Ни перед кем у меня нет такого уважения, как перед
единым Парменида: он для меня, если сказать вместе с Гомером,
„достоин почитания и навевает благочестивый страх"». Βάθος
παντάπασιν γενναΐον, «глубина совершенно подлинная»,203 —
и это слово, «подлинное», только бледная тень: оно ведь сплетено
с γνήσιος, речь на самом деле о «законнорожденном» — опять
бледная тень, буквально: родном, родовом «знании» — опять еще
одна бледная тень, потому что «родной, родовое», и «знание» по-
гречески одного корня слова, от γέννα «род». Во всяком случае,
Платон говорит о родной, родовой, благородной глубине и говорит
словом, которое заставляет думать о противопоставлении
γνήσιος и νόθος — родной и приблудный, неродной — у Демокрита
можно прочесть об этом различении, когда (Секст Эмпирик VII
139) «темный род познания уже не в состоянии ни видеть ни
осязать ни слышать ни обонять ни воспринимать вкусом...
тогда выступает истинный род познания, имеющий в мысли (уме)
более тонкий познавательный орган».204 Здесь «темный» и
«истинный» — νόθος и γνήσιος, незаконнорожденный и родной,
и незаконнорожденный может быть похож на родного, но его
отец неизвестен или скрывается или его скрывают, отец не на
виду, отца нет — в том смысле, в каком у Одинокова нет отца
и он не знает, откуда ему идет то, что ему идет, то что он пишет,
и вынужден терзаться неразрешимым вопросом, гений ли он
действительно или не гений, потому что нет той прямой
принадлежности к gens, той «законнорожденности», присутствия Отца,
который все сразу и недвусмысленно решает, этим самим своим
присутствием. Когда Платон говорит, βάθος γενναίος, «родная,
природная, родовая глубина», слово несет с собой далеко
выносящие отношения, и Платон советует: не надо, не трогайте
Парменида; едва ли вы поймете даже самые слова, которые он
говорит, тем более уже мысль; слишком все это родное, семейное
дело, слишком надо в него глубоко врасти; ведь не можете же
вы надеяться, что так, прохожим посетителем, будете приняты
203 183е—184а. В. Б. здесь цитирует Платона в своем переводе. Ср.: Платон.
Соч. в 3-х тт., т. 2. М.: Мысль, 1970, с. 280. (Сост.)
204 См.: Лурье. С. Я. Демокрит. Ленинград: Наука, 1970, с. 43 (греческий
текст), с. 226—227 (перевод Лурье). (Сост.)
352
В. В. БИБИХИН
в древний благородный дом, и если даже вас там посвятят в его
тайны, то разве сразу можно будет что-нибудь уловить? — Опять
комментатором — лучшим — к Пармениду выступает его alter
ego, Гераклит. Я имею в виду тот фрагмент, где (Аристотель, О
частях животных I 5, 645 а 17) «рассказывают, что некие странники
желали встретиться с Гераклитом, но, когда подошли и увидели,
что он греется у печки, остановились. Тогда он пригласил их
смело входить, „ибо и здесь тоже есть боги"».205 — Гераклит принял
посетителей на кухне, а Парменид на кухне посетителей принял?
Т. е. вышел к ним к печке на кухню? Похоже, что нет. — Я уже
говорил, насколько семейное дело философия, насколько тесные
отношения между учителем и учеником, как бы мы ни понимали
учителя и ученика; и когда Плотин называет Единое отцом, то
он возвращает нас, когда уже три четверти тысячелетия прошло
после Гераклита и Парменида, в ту же семью.
Кстати, мы пробежали глазами обращение богини (фр. 1,
ст. 24): «Юноша, спутник бессмертных возниц!» — возницы мы
знаем кто были, девы дочери солнца, которые приближаясь к
воротам колеи Дня и Ночи отбросили руками с голов
покрывала. А «спутник» — в греческом полнее, весомее: курос, дитя
Парменид — перед богиней, а для дев дочерей солнца, для света
он συνάορος, супруг, муж. Я уже говорил, что когда Парменид
пишет: «девы», он слышит и «чувства», «принимающее»,
«ожидающее союза», — и снова возвращается пейзаж, в который только что
мы кратко заглянули. «Девы», восприятия, могут быть отпущены
для блуждания, для блуда, для заблуждения, для
«незаконнорожденного» знания, — но сейчас, у Парменида, их супругом
оказывается «курос», дитя, обращенное к божеству и стоящее вместе с
божеством, человек в его призвании, его призвание Бог. Я знаю,
какое разливанное море подслащенного, завлекательного
говорения разливается отсюда в околофилософии, в антропософии, в
религиозной философии, например на тему отпускания
восприятия и его собирания, собранности, сосредоточенности. — Прошу
вас не увлекаться далеко разбегающимися возможностями: их уже
и так приоткрылось больше, чем мы успели бы за один и за
несколько семестров измерить. Достаточно только помнить, что у нас
под ногами болото, в котором, к сожалению, многие потонули. Нас
спасает «твердая буква». Парменид сказал «συνάορος», супруг
дочерей солнца (или ока, глаза, зрения, потому что как Солнце,
в одном ведийском гимне, «всеоко», так глаз, у Платона, солн-
205 См. «Фрагменты...», с. 179. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
353
цеподобен); Платон сказал, что парменидовская глубина, βάθος
γενναίος, родная, родовая, благородная, законнорожденная — от
брака, где отец известен и отец законен; мы вздрагиваем от
догадки о богатстве, которое здесь спрятано, но как в сказке солдат
зря набивал себе карманы сначала медными, потом серебряными,
потом золотыми деньгами, там было в цещере что-то важнее,
и солдат не мог догадаться, если бы ему не открыла ведьма, — так
и мы спешим набивать себе карманы этим богатством. Даже если
бы оказалось (что, правда, мало вероятно), что ни в одной книге
о парменидовской поэме на то, на что мы обратили внимание, еще
никто не обращал. Не это важно. Это не важно.
Мы не знаем в принципе, чего мы ищем, и даже если уже
набрели нечаянно, и даже если держим в руках, все равно не
опознаем, как солдат только про золото знал, что оно такое, а про огниво
не знал. Но было бы совсем глупо, если бы мы решили, что есть
только то, что мы знаем. Мы себя ставим, конечно, как это
называется, подставляем. Что вы ищете, нам скажут? Не знаем. Чем
же вы занимаетесь, это не философия, это словесная игра? Вот
это мы даже очень хорошо знаем. Мы читаем. Читать значит во
всяком случае обращать внимание. Мы думаем, что философия это
обращение внимания. Кто-нибудь скажет, не подставляйтесь так,
скажите хотя бы — «эпистрофическая функция».206 Нет, не буду.
Буду говорить: философия это обращение внимания. Допустим,
мы так ничего и не найдем, а другие выйдут с деньгами. Но наука
не обязательно получение результата. Просто не делать, научиться,
ошибок — это тоже хороший, достаточный, достойный результат
науки. Это — научиться делать меньше ошибок — никогда от
нас не уйдет.
Чуть вернуться назад в этом фрагменте 1, в нем 30 стихов,
к стиху 18: ворота распахнулись «и сотворили зиянье
широкоразверстое створов», зиянье широкоразверстое по-русски двумя
словами, а по-гречески одно в двух формах, χάσμα (тот же корень,
что «хаос») «зияние» и αχανές буквально «презияющее», фигура
этимологика со смыслом «хаос ну даже и не хаос, такой хаос». Мы
заметили: как странно, что не небо зияет, а пространство между
двумя столбами ворот, пространство, казалось бы, как раз
ограниченное. Ворота ведут к Богине, которая сразу не названа, но она
сейчас откроет истину, да и открывание ворот это уже
открывание истины. В т. I «Ницше», с. 350, по поводу № 109 из «Веселой
206 «Эпистрофическая функция философии», выражение A.B. Ахутина.
(Сост.)
354
В. В. БИБИХИН
науки» Ницше, — «Целостный характер мира есть, напротив, во
все века хаос», не будем разбирать это у Ницше, в основном
имеется в виду гераклитовское (псевдогераклитовское) «всё течет».
Ницше, говорит Хайдеггер, отделяет свое понимание хаоса от
расхожего представления чудовищной мешанины, но все равно: идея
беспорядочности, беззаконности у него остается — то есть все
равно Ницше уже при пусть очень старом, но все равно
производном, вторичном понимании хаоса, а первичное было (Парменида
Хайдеггер здесь не упоминает, но как раз то, что он называет
первичным, здесь у Парменида) — исходное было: зияние, зевание,
раскрывание. «Мы понимаем χάος в тесной связи с исходным
истолкованием существа αλήθεια, истины как открывающейся
бездны (ср. Гесиод, „Теогония" 11 б)».207
Почему «алетейя», истина, непотаенность это бездна? Вот
почему. Тут мы должны подойти к хайдеггеровской «непотаен-
ности» там, где — и как — она впервые дает о себе знать. Вот
где. Непотаенность это поворот в историческом существовании
человека. Сознательный деятель, разумное живое существо,
человек, проснувшийся к активности, вторгается в природный и
социальный мир, много делает, предпринимает и не столько
распространяется, сколько с ним случается другое: обнаруживается, что
всякое познание относительно, всякое овладение непрочно, вещи
целиком охватить не удается, они ускользают. И тогда человек
разочаровывается в примитивном расчете на покорение вещей, зато
открывает их неприступность, их неприкосновенность, самость.
Вот когда он выходит из темноты активности («темнота» — слово,
каким обычно переводят «незаконнорожденное» познание) —
выходит на «свет». Свет, непотаенность— открытие тайны, не
в том смысле, что тайна перестает быть тайной, а наоборот, в том
смысле, что впервые в середине мира, в существе вещей
открывается незакрывающаяся тайна — как с размахом вдруг
открывается бездна, потому что от открытия тайны, от обнаружения
непотаенности тайна будет становиться все больше и больше
тайной, она тайна вдвойне, сначала своей неисследимостью,
а потом еще и открытием самой себя, т. е. своим наращиванием.
Поэтому мир у Гесиода начинается с разверзания бездны. Поэтому
у Парменида «хаос», зияние, разверзание ворот истины не просто
«хаос», а «хаос» вдвойне, хаос сверххаос.
207 Martin Heidegger. Nietzsche. В. I. Neske, 1961, S. 349—350. В настоящее
время существует русское издание, см.: Мартин Хайдеггер. Ницше. Т. 1. СПб.:
Владимир Даль, 2006, с. 301—302. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
355
В стихах 28—30:
Теперь все должен узнать ты:
Как убедительной Истины непогрешимое сердце,
Так и мнения смертных, в которых нет верности точной —
сразу несколько жестов подталкивания переводчиком Парменида
к тому, чтобы он, наконец, разрешил недоумение, стал
определеннее — а именно ответил на теперешние вопросы исследователя.
За которые, надо сказать, Парменид не отвечает. Из разночтений
εύκυκΛέος — εύπειθέος, άτρεμές — άτρεκές переводчик
выбирает более разумные. «Округлая» истина, потом «нетрясущаяся»
истина (это военный термин: как храбрый и опытный солдат не
дрожит перед врагом, так истина не боится врагов) — переводчик
выбирает второе, «убедительная» и «истинная» («непогрешимая»)
истина. Переводчик может быть сам совершенно уверен, что
новейшие филологические изыскания показывают преимущество
этих вторых прочтений; но он понимает, конечно, и нехорошо,
что читатель перевода уже не узнает об этом — что не нам здесь
сейчас решать, что разночтения, держащиеся столетия, не могут
быть и не должны быть отменены даже самой большой научной
уверенностью.
О другом почти невольном уже подталкивании Парменида
к определенности мы говорили прошлый раз: «теперь всё должен
узнать ты», объявляет ему Истина у переводчика, и сейчас все
станет ясно, но нет: у Парменида испытать, а не узнать, и не как
истину, так и мнения, а — или-или: не о сумме всего знания идет
дело, а об испытании, — не Пармениду покажут, а он сам должен
будет все испытать! Не он объявляет о том, что ему все открыто, а
чуть ли наоборот, он оказывается в единственном положении, в ко-
торое приглашает — приглашает не узнать вместе с ним все, как
он уже узнал все, а приглашает другое, оказаться впервые там,
откуда неизбежно, неотменимо надо будет испытывать, спрашивать.
Я не решаюсь, мне не хочется отменять перевод, как вы его
видите во «Фрагментах ранних греческих философов». И на мое
счастье его не надо отменять. Достаточно его читать не
подталкивая еще и дальше Парменида к тому, чтобы он «выдал тайну»,
не читая эти слова как рекламу того, что будет следовать дальше:
узнаешь всё. Этого не сказано даже в том, рационализированном,
переводе, который мы читаем. Сказано: ты должен. В каком
смысле — «теперь тебе неизбежно предстоит»? Или — «тебе без этого
нельзя»? Т. е. положение человека, такого, как ты, шаг такой еде-
356
В. В. БИБИХИН
павшего, такое, что тебе нельзя без испытания, — и первый смысл
тоже, «неизбежно такое ты испытаешь», но не как накатывание
неотвратимого рока, а так, что твое существо в этом, это (крисис,
решение, испытание) проходит через тебя, от этого твое
осуществление или неосуществление зависит.
Я сказал: не надо, глупо отменять то или другое чтение.
Какое-то чтение так или иначе будет. Но другое: не важнее ли
выбора, какое именно принять чтение из разночтений, то, что
предполагается всяким чтением? Всяким, любым чтением этих
28-30-го стихов предполагается, заранее уже положено, в смысле
человеку положено, человеку неизбежно: стоять перед этим
выбором, нетрясущееся хорошо округлое сердце истины («хорошо
округлое», вы помните в платоновском «Тимее» — это космос:
можно ли сказать, что сердце истины — это мир, Весь, Целое? это
опять из тех неожиданных далеких лучей, расходящихся от буквы
Парменида, но мы не будем подбирать рассыпаемых им монет,
будем искать то, не знаю что), — пред-полагается выбор: сердце
истины — или, или принятое смертными, в чем нет или чему нет
истинной веры. Другими словами: то, вера во что истинной не будет.
Еще раз: спорить об εύκυκλέος — εύπειθέος, άτρεμές —
άτρεκές еще очень рано. Еще когда у нас дойдут руки до
филологической работы — а говорили, что чтение философов надо
начинать с филологической работы? Оказывается нет! Потому что
до всякой филологической работы, при всяком варианте прочтения
истина нетрясущаяся, т. е. не бывающая среди людей, и
«принятое смертными» стоят перед нами, и хорошо, если мы будем их
повторять, пока они не вырастут, эти два, до своего полного
размера. Ведь Парменид один из смертных. Воображать, что он начал
вещать вдруг вместо бога, такой самонадеянный зарвавшийся
пророк, нет смысла, — не надо было тогда вообще браться за чтение.
Смертный говорит от имени богини, истины, то, что он сам мог
бы и должен был сказать от себя, смертного, богине истины:
что выбор стал необходим, что и мы сейчас должны были бы
сказать, если бы у нас руки не были связаны многознанием и
политикой, как мы теперь понимаем политику: что хватит — две
с половиной ровно именно 2500 лет назад Парменид — и Гераклит
тоже — уже говорят, и вся последующая история зависла на
этой ноте (так называемой апокалиптике, которая тут за
полтысячелетия до Апокалипсиса): хватит, блуждания человеческого
топтания хватит уже, надо решить, без решения сейчас же,
окончательного, решения о том, сколько в «принятом смертными»,
в «доксе» — округлой истины, т. е. полноты, т. е. законченности,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
357
т. е. окончательности, т. е. совершенного, завершенного, наконец
же\ — без этого уже нельзя: надо знать, иначе все зачем?
Это то самое настроение, как у Владимира Соловьева за месяц
до смерти, когда он писал в Нижний Новгород Анне Николаевне
Шмидт, мы читали208: «Я ... думаю, что прежняя историческая
канитель кончилась. Ну, а дальнейшее: не нам дано ведать времена
и сроки».
В той мере, в какой эта так называемая апокалиптика, на
самом деле — единственно достойная человека решимость, знать
где канитель, где нет, — в той мере, в какой эта апокалиптика
есть у всякого человека, в том числе и у исследователя филолога,
он не может не видеть ее и у Парменида, только видит именно
в той мере... в мере установления какой-то системы
высказываний. Парменид якобы объявляет, что сейчас ему богиня откроет
божественную истину, а с другой стороны — мнения смертных.
Ничего подобного, конечно, никакая богиня не открывает, и
начинается бесконечное удивление и гадание, что же это такое, только
что обещал, ну вот точно обещал узнать, объявить, где правда, где
ложь, и не объявил. Нет Парменид не решал проблем
установления системы истинных высказываний или методологии получения
истинных высказываний. Не решал этой проблемы не потому что
он «еще не» — поднялся, допустим, до проблематики современной
формальной логики, — а потому что он улсе (а мы еще не) в
полной мере, с соловьевским отчаянным благородством, объявил, что
топтание окончилось.
И как Соловьев не фантазировал, а раньше других назвал и
позвал встретить то, что должно было прийти и пришло в России
и в Европе, и сделало XX век таким другим, таким непохожим
на все, что было раньше, — но не в том смысле, в каком звал
Соловьев, — так за столько лет Парменид, и на другом конце
греческого мира Гераклит тоже рано, опережающе назвали — и тоже
не были услышаны — то, что сложилось бы иначе, если бы они
были услышаны. После того, что сказали они, началось небывалое
движение мира, распространение персидской империи по почти
всему известному миру, возникновение буддизма, падение мало-
азийской Греции, ее независимости; падение свободы италийской
Греции; потом в 490, Марафонское, 480, Саламинское морское
сражение, 479, сражение при Платее, Афины (это последние годы
жизни Парменида) остаются свободными, и — или это миф —
молодой Сократ успевает встретиться и говорить с Парменидом, так
208 См. лекцию 10 (12.11.1991). (Сост.)
358
В. В. БИБИХИН
Афины перенимают эстафету мысли — которая горит и не гаснет
только решимостью, объявленной Парменидом, наконец испытать,
допытаться, поставить вопрос или-или, или продолжение того, что
Парменид называет «топтанием», Соловьев «канителью», — но
поскольку это уже названо «топтанием», то значит названо и
другое, «сердце истины». Сердце истины — это то, что делает
принятое смертными вот именно таким, всего лишь принятым
смертными, — но сердце истины в другом соседнем королевстве?
Вовсе нет: у смертного в принципе ничего и нет, кроме того, что
им принято, и истина не альтернативное высказывание, — всякое
высказывание окажется принятым и смертным, — а истина тот
свет, та а-летейя, неупущенность, не незамеченность, то
обращение внимания, или, вернее, конец необращения внимания,
благодаря которому видно то, что видно: и сначала видно, что принятое
смертными это принятое.
Я говорю: до всякого филологического анализа и тем более
перевода надо заметить — а как это заметить? только «обращая
внимание», — что сердце истины и принятое смертными не пара,
не пара-ллельное, не пар-аллелос, не равновесные. Что сердце
истины не «еще одна трактовка», а другое, по Гераклиту — от всего
отдельное, но из-за отдельности своей — именно из-за полной
отдельности — не мешающее тому, чему она совсем другое. Истина
не мешает «принятому», не теснит его, тем более не отменяет. Из-
за того, что есть свет, есть тень. Из-за того, что есть истина, есть
принятое, и именно такое, какое оно есть.
Принятое — так я бувально передаю «докса», от δέκομαι
δέχομαι «принимать» и, между прочим, «воспринимать» —
слышать, например; еще: «одобрять, хотеть; встречать, как врага;
ожидать» — т. е. принимать в смысле готовности к тому, чтобы
случилось то, чего ожидаем. Смертные такие: удивительные. Они
принимают.
Зачем, спрашивается? Разве мало того, что всё и так просто
есть? Ведь не отказано же людям в том, в чем животным не
отказано: включаться в окружающее, вести себя адекватно. Часто,
скажем когда надо перейти вброд реку, животные ведут себя
адекватнее человека, скажем у человека от быстрого течения — он
так говорит, от быстрого течения — может закружиться голова,
у животного едва ли. Принятое у людей — что это такое, когда
окружающий мир один для животных и людей? Что люди
принимают! Вот это загадка загадок. Вот это действительно вопрос.
Как случилось, что люди принимают! Что они принимают! Ведь
ясно же, что они имеют дело большей частью или почти всегда ис-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
359
ключительно только с тем, что они приняли. — Ничего не остается,
как сказать так: люди принимают принятое, или принятое ими
это докса. Или догма. То же слово. Люди так прочно принимают
принятое, что за принятое они умрут.
Как английское I take it значит «я думаю, по моему мнению»,
так δοκέω: «думаю, полагаю, мне кажется, мне угодно, я так
решил». Можно сказать: «принял на веру». Сейчас и Парменид
так же скажет: πίστις, вера. Принятое — это то, во что есть вера.
И сразу — жесткое, очень жесткое: в которых (в том, что принято
смертными), «в которых нет верности точной» (может быть потому
что смертные?). В греческом еще резче: на месте «точной» стоит
опять, как в предыдущем стихе, αληθής, «истинная», только с
отрицанием. Там сердце истины, здесь нет истины. Сердце истины,
которое не поколеблется, или еще сильнее, хотя осовременивая, у
Лебедева: непогрешимое — и принятое, вера в которое истинной
не будет, не случится так, что поверивший, доверившийся
принятому будет в истине, т. е. не случится так, что положившийся на
принятое не пошатнется, не будет потрясен; не случится так, что
он достигнет полноты.
Тут же и сказано, почему. В стихе 30: «...или мнения
смертных». А у бессмертных есть мнения? Нет: почему-то нет, у них
не мнения, а «алетейя», буквально неспрятанное, им не надо
«принимать», догадываясь или не догадываясь: так что «мнения
смертных» не обязательно надо было уточнять, бессмертным
мнения не нужны — и «смертных» здесь не классифицирующее,
а так называемое предикативное определение: мнения, какими
они и должны быть у смертных; мнения, которые такие вот, без
истины, потому, что они у смертных.
Тогда мы по-другому смотрим на «альфа привативум»
в αλήθεια. Без нее — то, что удел смертных: сокрытие,
забывчивость, упущение, невнимание, вытеснение (по Фрейду),
утаивание, или утайка, или утаенность, или спрятывание. Снятие,
преодоление этого — уже дело больше чем человеческое, выход
из смертного, начало богов. И еще раз: в смертном такой выход
к истине, к ά-λήθεία возможен? Мы скажем давайте: в
смертном такой выход к истине, к полноте и нешаткости, абсолютно
невозможен... только не будем проваливаться в это
идиотическое, чуть ли не хочется сказать, распределение, которое
бессмысленно бьет — правильно говорит Хайдеггер — обухом по
голове и отбивает всякую мысль: будто здесь все шатко и вот
видите как (облегченный вздох; я говорил прошлый раз, как
эмансипирует, какую волю и разнузданность дает сознание пор-
360
В. В. БИБИХИН
чи этого мира и какую тоску по «тому»). Можно сказать о
животных, что они смертные? Почему-то нельзя. Смертные потому
только смертные, что они поднялись, встали лицом к лицу с
бессмертными. Пока смертный — смертный, в лицо, в упор он
видит бессмертного; бессмертный ему другой, его другой,
бессмертный ему, смертному, всегда ближе всего, ближе — потому
что его определяет — чем другой смертный. Поэтому а-летейя
смертному ближе, чем им «принятое», именно алетейя сделала
так, что принятое — это принятое; и именно алетейя сделала
так, что смертный принимает. Кто не смертный, кто не стоит
лицом к лицу с бессмертным, тот не обязан ничего принимать,
кто его заставит. Принято, или, как в другом месте у Парменида,
«положено» — только у смертных, которые встали лицом к лицу
перед бессмертными.
Тем более важно нам не проваливаться в тупое,
бессмысленное деление на два, [и помнить] что не о Пармениде дело,
а о всей вообще мысли, где человек — смертный. Т. е. во всяком
случае вся античная мысль, и не только. Всё здешнее вот такое,
шаткое и неполное, говорим мы себе, и воображаем заграницу,
где все наоборот истинное и блестящее. Истина там. Вот это
вздор. Истина настолько здесь, настолько ближе к нам, чем наши
шаткие мнения, что только веяние истины, которой здесь нет,
неутаснности (ее здесь нет, потому что даже ее присутствие тайно,
утаено) — вот этой, утаенной неутаснности, отсутствующего ее
присутствия, достаточно оказалось с избытком, чтобы заставить
нас пред-полагать, полагать, допускать, догадываться, принимать
и делать всю ту массу вещей, которые мы делаем, чтобы что?
Чтобы наконец достать — что достать? Как что? Да вон то, чего
здесь нет, чего надо добиваться выяснять, и так далее, словом,
достать то, что там\ Наше дело обратить внимание: то, что мы
хотим достать, само достало нас так рано, что и наше доставание,
и наше воображение, что доставаемое нами где-то там — оттого,
что нами искомое нас уже коснулось, уже задело, уже заставило
полагать, что мы знаем, что ищем и что хотим достать.
Алетейя не в другом месте, чем докса, принятое, алетейя
заставила принимать, и то, что принимается, принимается за
алетейю.
Те три стиха, на которых мы остановились, потому что не
только мы о них спотыкаемся:
Все ж таки ты узнаешь и их (мнения): как надо о мнимом
Правдоподобно вещать, обсуждая все без изъятья.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
361
«О мнимом правдоподобно вещать». О принятом.
Правдоподобно. Это значит: механического деления на «здесь мнение,
там истина» нет. Не то что ослабла решимость «крисиса»,
определенности, ясность очертаний света и тьмы, ночи и дня, истины
и мнения, — не ослабла, но оказалась задачей другой, чем
деление на два, этот мир и запредельный. Перевод этой в сущности
одной, 32-й строки такой разный, это самое оспариваемое место
во всей поэме, — что будет разумнее не ввязываться в этот спор,
а сказать себе, что это место непереводимо. Мы не слышим, у нас
не получается услышать то, что здесь сказано. Сказать можно
определенно: это не инструкция, что можно понять из перевода
Лебедева, как все-таки в области принятого и неистинного надо
или можно «правдоподобно вещать», т. е. как-то удерживаться на
плаву. Этого смысла, похоже, все-таки вовсе нет. Слову
«правдоподобно» в этом переводе надо придать другой смысл, не
«похоже на правду». Какой смысл? Я сказал: перед разнообразием
переводов, которое таково, что в издании Дильса-Кранца (Кранц
продолжатель Дильса, Кранц отвергает чтение Дильса и дает
чтение Виламовица-Мёллендорфа) и после них разные чтения,
десятки, и совсем свое, ни на что не похожее чтение у Хайдеггера.
Еще раз: мы прочесть это место не можем, попробуйте, кто хочет.
Мы слышим его и не можем понять.
Трижды в разных формах в трех строках ключевое, главное
слово: сначала «докса», принятие, которое такое, как сказано:
вера в принятое истинной не будет, с истиной не совпадет. Потом:
«Но во всяком случае и то ты узнаешь (научишься, заметишь,
поймешь), что то, что просится быть принятым (δοκούντα, и это
средний род, в мужском роде это будет «знатные люди», «значащие
люди», — которые «знать», просятся быть узнанными,
признанными, принятыми), — ты заметишь, что этому, принимаемому,
следовало быть δόκιμος, знатным образом, испробованным,
испытанным, неподдельным, безукоризненным». Мы не понимаем
смысла, но при любом переводе происходит этот поворот, или,
вернее, Парменид слышит как само слово в его языке, родном,
[поворачивается], и обращает внимание на этот поворот слова,
не застывает, не замерзает на «всего лишь принятом», «мнении»,
слышит — как в русском происходит с тем же словом принято,
которое может значить и «всего лишь принято, а как там на деле, кто
знает» — и «положено, правильно, так и должно быть, проверено
сколько раз, и все оказывается верно; знатно, славно, почетно».
Не будем думать, что мы эти 31-32-й стихи перевели или
переведем. Не пойдем дальше того, с чем все переводчики согласятся:
362
В. В. БИБИХИН
что поворот или лучше сказать размах слова «принятие» здесь
услышан Парменидом, и он обращает внимание на этот размах.
Почему от «всего лишь принятого», т. е. стало быть «условного»
открыт поворот к «принятому» значит «достойному, верному,
благородному, славному»? Вот это уже трудный вопрос. Мы
угадываем, что это так, именно так; что тощий скепсис, сбивание всех
основ, нигилизм далеко не ведет, что «сомнение во всем» далеко
не ведет; видим что Парменид невнятно для нас — может быть
почему-то мы еще не поднялись до него? — вдруг оказывается
в середине проблематики, которая треплет умирающего Соловьева
и которую он называет проблематикой Декарта и Ницше. На что
опереться, если во всех «доксах», догмах, во всем принятом нет
истины? Декарт говорит: опереться на держащий себя в руках
акт сознания. Ницше говорит: опереться на стиснувшую зубы
волю к власти, которая прорезывает бессмысленность, хаос мира.
Парменид говорит: ты должен, должен, обязан испытывать, с чем
ты имеешь дело, с истиной, нетрясущимся сердцем, полнотой
или с принятым, всего лишь принятым, — но во всяком случае
ты должен и то заметить, что... — обрыв! мы не слышим, или
не понимаем, что еще должен заметить! понимаем только одно:
не где-то «там», в особой операции математического сознания,
в запредельной заоблачной истине, а самому же «принятому»
надлежало быть «принятым», среди самого кажущегося в самой этой
же кажимости есть поворот, кажущееся становится кажущим-ся,
оказывается — достойным принятия.
Может ли быть, что в этих строках 31, 32 фрагмента 1 Парме-
нида мы в середине гуссерлевской проблематики, с его «правилом
правил», все вещи надо непосредственно и прямо принимать так,
как они себя кажут? Нет, неправильно. Правильнее будет сказать:
наша, поздних людей, мысль иногда, по-разному, с разных
неожиданных сторон может подниматься до ранней мысли, позволяет
угадывать ее. Одна такая попытка Гуссерль. Их еще будет много.
Одна такая попытка хайдеггеровская непотаенность, которая —
открытие тайны, делающее тайну не меньше, а больше. Хайдеггер
обращает внимание: непотаенность тайны настолько раньше всего,
что всякая истинность в любом смысле питается отсветами той
тайны. — Из этого трудного места Парменида, которое мы, прав
Платон («даже и самих слов его не понимаем»), прочесть не
можем, мы должны запомнить хотя бы это: алетейя и докса не по две
стороны «предела», одна запредельная, другая «здешняя»: докса
может быть только потому, что есть алетейя, докса (принятие)
потому что есть, стало быть, что принять. И третье: принимать
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
363
стало быть принято, принятие принято, в смысле — положено.
Т. е. значит ли это, что какое-то исключительное принятие станет
истиной? Нет, вот этого не сказано! Перед лицом истины как
абсолютно другое принятие, докса, всегда останется, как же иначе,
ведь без истины нечего будет и принимать, — но истина другая
принятию не по противоположности. Бывает другое не
противоположное?
Бывает. Человек, к которому мы очень привязаны, другой,
совершенно другой, но не противоположный. Стать алетейей для
доксы невозможно, как для смертного стать богом, как для
мертвого стать живым.
Говорю так и слушаю себя. Для мнения стать истиной так же
невозможно, как для человека стать богом... Да для человека
ничего, почитай, и другого-то стоящего нет, как стоять перед Богом
и стать Богом, об этом вся история, весь «богочеловеческий
процесс», как говорил на убийственном языке, убивавшем его мысль,
Владимир Соловьев. — Но вот что: человек, смертный станет
богом только если не перестанет быть человеком; принятие,
докса и истина — такое же отношение? Значит, напрасно думать,
что при переборе высказываний, при каком-то особенно удачном,
трезвом, математическом щелкнет защелка и принятое окажется
истиной? Никогда не окажется. Окажется принятым, и та истина,
которой окажется то высказывание, будет принятой истиной, тем,
что принято считать за истину. Все у смертного только принятие.
У бессмертных софия, от всего отдельная. У смертных
философия, понимающее принятие. Истина у смертных присутствует
в принятии.
Но уже и сейчас я далеко отошел от буквы Парменида. После
фрагмента 1 Лебедев вставляет, не очень принятым образом,
фрагмент 5, «Мне безразлично, откуда начать, ибо снова туда же Я
вернусь». Жеста раздраженного высокомерия, однако, у Парменида
здесь нет, стоит знаменитое гераклитовское слово: ξυνόν. Но мы
будем читать фрагмент 5 как «принято», на его месте.
Фрагмент 2.
Ныне скажу я, а ты восприми мое слово, услышав,
Что за пути изысканья единственно мыслить возможно,
и сейчас скажет, надеемся мы, следуя синтаксису, назовет их два
пути, один и другой, все в этом недлинном 2-м фрагменте. Но
сначала: говорите к ты, один сообщает другому, просит его:
получи, прими, унеси с собой этот, сказано буквально, «миф», но
ведь «миф», от μυθέομαι, это просто «сказ», «говорение», речь.
364
В. В. БИБИХИН
Еще одно значение «мифа»: весть. Сообщает, извещает о «путях
изысканья»: какое-то Я с каким-то ты говорят об исследовании
какого-то оно. Как только мы прочли так Парменида, мы попадаем
в руки Гераклита, который вызывающе сказал, фрагмент 15 по
Марковичу (Лебедеву), 101 по Дильсу-Кранцу209: «Я искал,
допытывался, добирался до самого себя» (фрагмент из двух слов).
Слово то же, как у Парменида пути изысканья. Тем яснее тут
сердитый Гераклит подстерегает нас, как бы стаскивает с пути далеко
ведущего от л и от ты «изыскания» и возвращает к «самому себе»,
что примерно из пятнадцати авторов, которые передают эти два
слова Гераклита, многие приводят их в контексте других его слов
о себе, что он ни у кого не учился и знал, с детства, что ничего не
знает, а потом понял, что знать это и значит — знать всё.
Сшибка, резкая, между двумя полярными крайностями
греческой мысли в то поворотное время, время поворота, каким был
500 год. Но снова — как всегда: никто не ближе к Пармениду, чем
Гераклит, и своим резким, вызывающим: «А вот я исследовал
только самого себя!» Гераклит показывает, как надо читать и понимать
это место Парменида, об исследовании.
Мне было приятно увидеть, что именно этот фрагмент (В 101)
из двух слов Гераклита, έδιζησάμην έμεωυτόν, совсем явно
сказанный навстречу Пармениду, у Плотина, который этого не
заметить не мог, именно связан с тезисом Парменида как говорящий
то Dice, что Парменид. Это Плотин [Эннеады] V 9, 5. И вообще:
сказать то же настолько не значит сказать теми же словами, что
наоборот: кажется, надо сказать другое до противоположности,
чтобы сказать то же.
209 См. «Фрагменты...», с. 194. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
365
И—б210 (17.3.1992)
1) posse, ειμί, είναι, ουσία, τα όντα; 2) οδοί δι/ζή/
σιος, /ζη/τέω; 3) ή μέν όπως εστίν τε και ώς ούκ έστι μη
είναι; 4) άταρπος τρέπω; 5) το γαρ, αυτό, νοεΐν, εστίν τε και
είναι
Можно было бы, читая эту странную, в своей отчетливости,
[фразу] — как если бы рассматривали осколок древней вазы, где
тело Вакха изображено еще в профиль, а лицо и поднятые с чашей
руки уже en face, и в том мире, где так изображали бога на чаше, —
можно всерьез спросить, могло ли там кино стать больше, чем
игрушкой (а «кино», т. е. кинематограф, движущее изображение,
там было: в виде игрушки; точно так же как паровая машина была,
в виде игрушки), — была ли там необходимость в кино, когда глаз
привык, имел навык неменяющееся изображение, сделанное так,
что оно движется в своей неизменности, видеть как движущееся.
В Новое время, с появлением перспективы (перспектива
буквально окаменила изображение, сделала его неподвижным, так что
смешно думать будто изобретение перспективы сводилось к этой
технике геометрического изображения расстояния), как в науке, так
в искусстве появилось унифицированное пространство, в котором
предметы застыли, и тогда смогла появиться фотография, у нес был
благодаря живописи огромный престиж, она сняла с живописи ее
статику, смогла соревноваться с ней в неподвижности
изображения, — а какой престиж имела бы фотография в древности, когда
она не могла дать то, что давала живопись, движения, — но
новоевропейская остановленная перспективой живопись подготовила
кинематограф, который должен был стать искусством, потому что
он в XX веке возвратил живописи то, что она потеряла в XV веке, —
и, между прочим, это относится к теме, что такое XX век, может
быть, это самый крупный из всех бывших в истории, и потому
самый незамеченный из ренессансов, —относится кинематограф,
я говорю, к этой теме, потому что самое, казалось бы, одно из самых
специальных изобретений XX века, кино, вдруг возвращает нас
к античной классике, и не только к античной классике, а, если бы
можно было ввести такое выражение, к архаической классике, или
210 Все ссылки и комментарии в этой лекции подготовлены А. В. Ахутиным
для публикации в Историко-философском ежегоднике (М.: Наука, 2005, с. 134—
151). (Сост.)
366
В. В. БИБИХИН
к классике древнего мира. Потому что только благодаря кино мы
по-своему теперь начинаем иметь возможность как-то вернуться
к античному движущемуся изображению. Кстати сказать, общее
место, топос старинного, античного и средневекового, описания
картины, что изображение на ней вот-вот начнет двигаться и
заговорит, частое общее место, происходит не от игривой фантазии
наблюдателя, а называет свойство, которое было сплавлено с
изображением, которое только мы, по новоевропейской привычке,
называем «статическим». Изображение кентавра надо понимать как
процесс, очеловечения живого существа, происхождения человека
из животного, —т. е. кентавр это способ существования античного
историзма, если сказать заостряя, античного дарвинизма. —Язык,
который у нас, несмотря на агрессию терминологической
системы, еще сохранился, подвижностью своих значений словесных,
подвижностью звучания, которое и меняется, и само просто
элементарно протекает во времени, — язык тоже еще принадлежит
тому забытому навыку, когда практики фиксации, останавливания,
замораживания образа еще не было, в принципе не было, он был
какой он в принципе всегда только и бывает, развертывающийся,
движущийся. Очень правильно заметили теоретики
неперспективного изображения (только неверно называть его «обратной
перспективой»: ведь обратная перспектива это уже в рамках,
в оковах захватившего власть перспективизма бунт против
перспективного окаменения, протест против фиксации, а ведь такая
фиксация исторически сама очень узкое, ограниченное явление,
и «обратная» перспектива скорее одна единственная, исходная,
прямая манера живописи, писания живого) — доперспективное,
не втолкнутое в статику изображение включает, вбирает в себя
движение глядящего вокруг того, что изображено, и по
направлению к нему, — как то, что мы считаем «наивным», изображение,
скажем, человеческой фигуры на фоне, или наоборот, строения,
храма на фоне человеческой фигуры, предполагает это движение,
посещение храма, как паломник видит вдали храм, приближается
к нему и входит в него, и издали храм крошечный, вблизи он вообще
как целое перестает быть виден, и все поле внимания занимает
насельник храма, святой отец, который — совершенно нелепо было
бы, если бы был изображен маленьким перед большой стеной:
так ведь никогда не бывает, мы видим вблизи крупного, большого
человека и совсем никогда не воспринимаем его как маленького
по сравнению со зданием. Поэтому игрушечные храмы и крупные
святые на иконах — это остаток античной киноживописи,
кинетической, меняющейся, движущейся. — Так Андрей Анатольевич
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
367
Зализняк о гимнах Ригведы, где каждая строка, а внутри строки —
часто каждое имя это смена кадра, в смысле кинокадра, — т. е. мы
обязаны пользоваться этой современной подпоркой, хотя какое
движение на самом деле, что происходит даже с кино, как
действует экран кино или телевизора, как захватывает нас, мы очень
мало знаем, элементарно это только еще начали исследовать, и не
разгаданы загадки сверхкраткого появления, явления на экране, —
по сверхкраткости смена «кадров», если можно так сказать, в
ведийском гимне сравнима — или превосходит — технику клипов
теперешнего телевидения, но имеет другие стороны еще, которые
мы угадываем и далеко еще не разгадали. И уходит корнями в слово
языка, может быть, самую загадочную и непроясненную вещь из
близких и окружающих вещей, в которой, как я сказал, значение
и звучание как минимум движутся, с большой быстротой, — на
такие вещи имеют слух дети, гораздо больше, чем мы, и наша
глухота к словам детей часто расстраивает и удивляет.
Предположить, что Парменид был таким «прогрессивным»
мыслителем, что он каким-то образом из 500-го года до нашей
эры (да, кстати: повернутость тела en face, а лица в профиль в
египетских изображениях высокопоставленных лиц и богов опять же
говорит и о приближении к ним — их тело перед нами — и о
невозможности приблизиться — они, едва мы к ним хотим приблизиться,
повертываются к нам в профиль, т. е. минуют нас, уходят в сторону
от нас, они нам сторонние, другие: как бы мы к ним ни
приближались, приближение показано развернутым к нам торсом, мы не
вглядываемся им в лицо, лицо, глаза нас отводят, только для
отвода глаз бог в своем изображении близок к нам, на самом деле ищи
его с другой стороны, но заведомо уже понятно, что и там, с другой
стороны, он опять повернется, и его сторонам конца не будет — так
развертывается египетское, казалось бы, статическое, на самом
деле движущееся, изображение) — я говорю, предположить, что
Парменид забежал вперед и как-то сумел ради нас уже говорить,
отбросив свои навыки, на нашем языке, — я тут понимаю язык
в широком смысле, как наше теперешнее проектирование всего
на воображаемое пространство, например пространство
словесных смыслов, пространство рассуждений, — с какой стати нам
думать, что Парменид среди своих и среди своего почему-то один
совсем наш, оперирующий понятиями (как я цитировал, что поэма
Парменида— «момент кристаллизации категории бытия»211) —
2,1 Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской
философии. М., 1986, с. 3.
368
В. В. БИБИХИН
с какой стати мы стали бы так думать. Это удобно: мы ищем
определенности, и вот Парменид был первый, который остановил поток:
«Ведь он открыл, что среди мыслей, которые сами по себе суть
лишь субъективные человеческие способности, есть мысль,
неизбежно выводящая нас из субъективности, дающая достоверность
и решающая таким образом одну из главных задач новорожденной
философии, задачу самообоснования разума».212 С какой стати нам
надеяться, что Парменид оттуда, из 2,5 тысячелетней дали,
позаботился о нашей потребности иметь, как это называется, лицо,
т. е. выходить к людям с обоснованной осанкой. Это проблемы
индивида внутри образовательной системы новоевропейского
государства, очень частные проблемы, во времена Парменида такую
же проблему решал, может быть, священнослужитель, жрец, до
которого нам сейчас дела нет. — Кстати, еще одно недоразумение: мы
читаем и переводим, и, конечно, переводить на древнерусский не
можем, это значило бы переводить держась нашего представления
о древнерусском, — но помнить, что ведь наши слова, которыми
мы за-ставляем греческие, подставляем вместо греческих, можно
слышать по-разному, и будет совсем странно, если мы захотим
ограничиться в понимании парменидовского слова «бытие», исключить
из него что-то, скажем, сказать, что правильно его понимать как
бытие, а то, что называют бытиё, к делу не относится; или что
уличное значение есть, в том смысле, когда говорят, что в Греции
все есть или как Григорий и Константин, которые умели выходить
из всякого положения, потому что у них с собой было, — что это
нам не годится для того, что в исследованиях называют чистым
понятием бытия.
Мы потратили целый семестр, чтобы догадаться, что мы не
очень хорошо знаем то, о чем для нас, собственно, всегда идет
речь и идет дело, бытие, существование, это загадочное явление,
по Розанову. Мы подошли к тому, что всякое бытие,
существование, кроме того, всегда шатко, оно не стоит против русского
нигилизма, попадает под подозрение; что может устоять, не
пошатнуться только то, чего безусловно, ни в каком смысле нет;
и мы наткнулись на много вещей, например субъект, или идея, или
идеальный тип, или лошадность, которые как-то умеют и без того,
чтобы существовать. Например (мы брали такой пример), такой
человек, который сейчас нужен, который сумел бы как-то все
исправить в нашей жизни и стране, по-разному его можно назвать,
современный человек, или правильный, или нужный, или деловой,
2,2 Там же, с. 8.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
369
или крутой, он безусловно не существует, он один, возможно, как
раз не существует, потому что всякие разные люди как раз есть,
но такого, нужного, как раз одного нет, — и он, которого нет,
буквально срезает всех нас, делает ненужными почти всех нас,
подозрительными, во всяком случае подлежащими перемене, —
словом, он один, который не существует, умеет столько и так, как
никто не умеет. — И вот я вас спрошу: в парменидовское бытие
такие вещи, которые умеют очень многое и без того, чтобы им
быть: те, которые не существуют, — входят? Первая, и конечно,
правильная, инстинктивная реакция: какой вздор, какая чушь, как
же в бытие может входить несуществующее, против этого как раз
Парменид боролся. Вот он, Парменид, идет, держа на ладони свое
бытие, которым теперь можно оперировать, как золотую
монету, — конечно оно существует, недаром же Парменид говорит, что
небытия никакого нет. — Нам жалко такого Парменида, который
выходит держа на ладони свое открытие. Потому что против
русского нигилизма он не устоит. Его блестящую вещицу, его бытие
мы слизнем, так сказать, сразу, как корова языком, никакого такого
«бытия» не останется, останется золотая игрушка, архаическая
побрякушка для кабинетов философии и критических изданий
и исследований о проблеме бытия, исследований, которые теперь
не на чем печатать, потому что бумаги нет, она была, а теперь
ее нет — хотя с другой стороны раньше ее не было, а теперь она
как раз везде сколько угодно покупайте есть, только сколько она
стоит.
Не потому что нам жалко старого Парменида, которого мы
одним махом смахнем как игрушечного с его игрушечным бытием,
начинаем мы гадать и придумывать, как бы так устроиться с
переводом и с пониманием, чтобы в парменидовское бытие входило
и небытие, — но вот ведь незадача, а он говорил, что небытия
нет, — а по другой причине, по более естественной. В самом
деле, куда глаза его глядели, что он не видел того, что мы сумели
увидеть за один семестр, даже меньше, что бытие, существующее
не стоит, что самые полные, самые весомые вещи могут и так —
неужели он был так слеп, что не понимал даже то, что Аристотель
так ясно в 9-й книге «Метафизики» понимал, мы читали на курсе
«Энергия», что то, что хочет сделать «архитектор», тектон, тот
тектон, который строит Парфенон, или тот «тектон», который от
начала мира был при начале мира, — он смотрит как на образец
на полноту, на первую энергию, чтобы вывести ее на свет, дать ей
присутствовать, — а этой первой всевбирающей полноты, полнее
и совершеннее и обязательнее которой для тектона, для плотника
370
В. В. БИБИХИН
того, не найти, — что той первой энергии, в которой всё в своей
полноте, нет, что она из тех вещей, она главная из тех вещей,
которые умеют и так!
Что, Парменид был слепой, что не видел этого? Что он как
дурачок выставил свое бытие, чтобы им играть как логической
игрушкой, зная, на что она на самом деле годится? Не наоборот
ли, скорее, и он не хуже нас знал, что мы открыли в прошлом
году, и «бытием» называет не в частности, а прежде всего то, чего
безусловно нет никогда и никаким образом существования нет,
но что есть так, как ничто не умеет быть, и вполне, и безусловно,
и с размахом, и без конца умеет «и так», без всякого бытия?
В «Письме о гуманизме» Хайдеггер определяет бытие: оно
как «могуще-расположенное» (могущее и расположенное) есть
«воз-можность», не в смысле вероятности, а в смысле мощи.213
Николай Кузанский в своем последнем трактате «Вершина
созерцания», написан в 1464 г. за несколько недель до смерти, говорит
о posse: возможности, или, точнее, «мочи», «мощи»: «Сама по
себе возможность, мощнее, изначальнее и выше которой не может
быть ничего ... без чего не может быть ни жизни, ни понимания
.. .И никто ... не настолько туп, чтобы не знать без всякого
учителя, что есть только то, что может быть, и что без могу ничто никак
не может ни существовать, ни чем-то обладать, ни действовать, ни
претерпевать... Всякое могущее (что-то) с такой необходимостью
предполагает саму по себе возможность, что совершенно ничего
не может быть без этой пред-посылки».214 Могу раньше
существования, ведь чтобы было существование, должно быть сначала его
могу.
Будем гадать: а что если парменидовское бытие есть эта мощь,
первая, полная, которая умеет и так, может и так, до
существования? Вот будет хорошо, если кто-нибудь здесь отсеется,
возмутившись, что Парменид еще когда совершил научный подвиг,
отличил существование от несуществования, а мы хотим снова
все смешать, сплавить и четкость эту размыть! Тогда нам в оди-
213 «„Возможность", таящаяся в расположении бытия, есть то, „в силу" чего
вещь, собственно, только и способна быть. Эта способность есть в собственном
смысле „возможное" — то, суть чего покоится в расположении могущего. Своим
расположением бытие рас-полагает к мысли. Оно делает ее возможной. Бытие
как могуще-рас-положенное есть сама „воз-можность". Бытие как стихия есть
„тихая сила" могущей расположенности, т. е. Возможного» (пер. В. Бибихина). —
Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993, с. 194.
2,4 (Пер. В. Бибихина). Кузанский Н. Соч. в 2-х тт., т. 2. М.: Мысль, 1980,
с. 421.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
,371
ночестве будет легче идти дальше, а оперировать понятиями мы
мешать никому не будем.
У Николая Кузанского его «могу» раньше не только
существования, но и ума: «Когда ум видит, что его возможность не
есть возможность всякой возможности, поскольку многое для
него невозможно, он понимает, что является не самой по себе
возможностью, а изображением самой по себе возможности...
видит в себе модус проявления самой по себе возможности».215
Вот будет хорошо, хорошо было бы, если бы теперь еще многие
перестали нас слушать, если мы тут станем говорить, что парме-
нидовское бытие недостижимо выше мысли, и сказали бы, что
у Парменида написано, что бытие и мысль тождественны, и мы
снова делаем грубую ошибку, кроме того, что спутали уже все, что
можно спутать. Тогда мы в одиночестве будем продолжать думать,
что Парменид не мог не знать этого: что раньше бытия «то» (в
кавычках), что может и так, без существования; и что никакой ум,
никакая мысль не достанет этого может и так.
Это не значит, что я предложил какую-то трактовку Парменида:
предупреждал, что не предложу никакой новой. Пока мы делаем
вот что: мы не хотим воображать себе Парменида игрушечным
кукольным дурачком, который убаюкивает себя и других
простенькой побрякушкой. Мы просто не верим, что этот ум не знал,
не видел того, что знаем и видим мы.
Тогда — тогда мы открываем самый простой греческий
словарь, который переиздан недавно в кабинете Юрия Анатольевича
Шичалина,216 и видим там такое, под буквой (с), (abc),
значение слова είναι— «возможно, позволено». Это третье в словаре
значение. Оно как-то примешано, окрашивает первые? Да, оно
слышится в основном первом значении слова, как в русском
обнадеживающем «есть», в смысле «имеется»: да, есть — да, есть;
у нас есть: мы располагаем. Мы располагаем — как таким вот
состоянием. Мы в состоянии, потому что у нас есть. В основном
значении греческого είναι все это слышно: иметься в состоянии.
Та όντα, которое мы привыкли читать как «сущее, сущие», сухая
философская абстракция, еще значило: «имущество». Как ουσία,
бытие — тоже «имущество». Я не знаю, что должно было
заставить Парменида не слышать в своем слове весь размах его
значений, что я, что ли зря или неправду говорил об умении древнего
215 Там же, с. 429.
216 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899. Репр.: М.: Греко-
латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991.
372
В. В. БИБИХИН
мастера дать в очертании, в очерке фигуры поворот. Парменид
слышит поворот слова, оно повертывается к нему — слово είναι,
и стороной имения, и стороной возможности. Упаси нас Господь
думать, что Парменид сначала абстрагировал понятие, а потом
стал им оперировать. Но он, пожалуй, говорит по-гречески, а не
на искусственном языке. Если окажется что его прочесть по-
гречески не удается, что смысла не выходит, если слышать сами
слова, тогда, конечно, надо будет дешифровать, реконструировать
его терминосистему. Но как раз дело в том, что услышать просто,
прочесть как оно звучит, — получается.
Только пожалуйста: что я говорю о «имеется» и «возможно»,
заключенных в бытии, — ни в коем случае я не даю шифр для
прочтения, это было бы опять введение в рамки ничуть не лучше
всех прежних, а я не лучше и не больше Платона умею читать
Парменида, т. е. даже и самих его слов не понимаю, не то что
мысли, прочесть Парменида я не сумею. — Среди этой полной
неопределенности полная определенность: нет ни малейших
оснований читать предвзято, с предубеждением, закрывая себе
уши. Конечно если мы заранее себе очертим то, что намерены
{намерены) прочесть, то «прочтем» — прочтем в кавычках, это
будет хуже, чем остаться в растерянности после чтения с пустыми
руками. Знаете ли, с пустыми руками это не так плохо. Бывает
хуже, чем с пустыми руками.
Богиня — т. е. Парменид сам себе, говоря от богини, т. е.
говоря себе такое, в чем он слышит голос не свой, не свой только,
голос, который стоит того, чтобы говорить и быть услышанным, —
он слышит о «ходах упорного искания» οδοί διζήσιος, исследуй
то-то и так-то — и мы с другого конца греческого мира, из Эфеса,
в Малой Азии, слышим сердитое гераклитовское: «Я, что вот
касается меня, исследовал только себя самого».217 Это и спор,
и комментарий, какого еще поискать: Парменид, стало быть, тоже
исследует здесь самого себя, значит говорит о своем историческом
опыте, и просто об опыте, не оперирует понятиями, проясняет
свое бытие, свое присутствие. Только такие ходы искания,
упорного искания, оказались открыты:
Первый гласит, что «есть» и «не быть никак невозможно»:
Это — путь Убежденья (которое Истине спутник).
217 Фр. 101 DK. См. фр. 15 по изд.: Фрагменты ранних греческих
философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. Подготовка
изд. А. В. Лебедева. М.: Наука, 1989, с. 194.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
373
Снова: количество переводов этого места и разница этих
переводов такая, что мы в простоте берем тот, который у нас под рукой,
Андрея Валентиновича Лебедева,218 и не будем перебирать другие.
И спорить с другими не будем. Будем смиренно считать: перевода
этой формулы первого пути нет. Дело в том, что в этой формуле
по-гречески повторятся только одно слово, вообще строка состоит
только из одного повторяющегося и отрицаемого слова.
Первый гласит, что «есть» и «не быть никак невозможно» —
по-гречески нет слова «первый», нет слова «гласит», нет слова
«никак» и нет слова «невозможно». Буквально там так:
Вот этот (жест: смотри сюда, потом посмотришь туда)
— что есть и что не есть, чтобы не быть.
Это фрагмент 2, 3-й стих. Переводчик, уникальный знаток
греческого, слышит первое «есть» в смысле целого безличного
предложения, грамматически (а может быть, отчасти и по смыслу)
то же, что уставной ответ солдата у нас на указание командира:
«Есть!» Т. е. уже «есть» то, о чем речь. Здесь: уже есть просто,
безусловное есть, — есть как бы само есть. «Этот (подразумевается
«ход») — что есть». В том же стихе, состоящем из повтора одного
слова, второе есть переводчик слышит в смысле, о котором мы
говорили: возможно. Добавляет от себя никак, никак невозможно.
Что невозможно? Не быть. Чему не быть! Вот этому же самому
быть. Или этому есть. — Получается, что в одном стихе «есть»,
εστί, у Парменида имеет одно словарное значение, а через четыре
служебных слова — другое словарное значение, сначала «есть»,
потом «возможно». Как будто два разных слова, у переводчика
передано во всяком случае двумя разными словами. Может быть,
что Парменид не заметил этого поворота смысла слова своего
главного, что, наоборот, он не выставил ясно на вид этот поворот?
Не может быть; мы пока замечали у него другое, другую ступень
слышания слова. А если он заметил, обратил внимание на то,
что говорил, то у меня, например, кружится голова, я в этих трех
соснах, тройном повторе одного слова, которое повертывается
у меня перед глазами как на вазе Вакх повертывается у меня
перед глазами и его торс виден сбоку, а лицо уже в лицо, — у меня
голова кружится, и хуже того, я понимаю, что это повертывание
уже не остановить. Кадр в кино можно остановить, но Вакха,
который и так уже застыл две тысячи лет, и две тысячи лет все
218 Фр. 2, ст. 3—4. Указ. изд., с. 287.
374
В. В. БИБИХИН
равно повертывается, остановить уже не удастся, — и что может
быть смысл этого стиха в повороте самом, в принципиальной
невозможности остановить, заморозить, фиксировать. Поэтому его
переводы никогда не кончатся — и никогда не начнутся, что тут
то же самое.
Фрагмент 2, стих 3:
ВОТ ЭТО — ЧТО ЕСТЬ И ЧТО НЕ ЕСТЬ НЕ БЫТЬ.
Переведите пожалуйста сами. Вот и на доске написано [ή μεν
όπως έστιν τε και ώς ουκ εστί μη είναι]. Вы так что переводите,
а я, пожалуй, теперь уже, чтобы не совсем уж поздно спохватиться,
повинюсь перед Платоном, что я зря взялся читать Парменида.
Даже самих его слов я не понимаю, даже когда это только одно
слово, из которого состоит целый стих. Слово бытие. О нем не
сказано, что оно есть, это уже отчаянные, оголтелые переводчики
добавляют, Лебедев этого не сделал. Вовсе не сказано, что «бытие
есть». Сказано просто: ход — вот этот: есть. Спрашивайте,
спрашивайте, что «есть». Само «есть» есть? Но это будет уже домысел.
Просто — есть. Я когда-то говорил, что у ранней мысли
солдатские добродетели. Это парменидовское голое есть — всерьез
похоже на солдатское есть. Включает оно «могу, должен»? А как
мы скажем, что не включает, если сейчас, через четыре служебных
слова, включит? Мы не только вправе, мы обязаны слышать в этом
греческом εστί его, в конце концов, словарное же значение: есть
как можно, может, нужно, допускает. Тогда первый «ход»: есть-
возможен-допускает, и не допускает не быть. Чему? Самому же
себе? Богу? Бытию? Но ведь если бы самому себе, Богу, бытию,
Парменид так бы все этими словами и сказал. А не сказал. Έστιν.
Есть, имеется. — Для примера того, как далеко рыщут
переводчики, доискиваясь, добиваясь до смысла: один вариант трактовки,
что в этом третьем стихе сказано о ходе, пути: а именно, первый
путь исследования в том, чтобы знать, что путь исследования
существует, т. е. когда мы читаем «есть», то надо добавить «путь»:
истина успокаивает Парменида, чтобы не отчаивался, что сам
путь есть. Подумайте об этом. Целая книга написана
переводчиком в доказательство этой трактовки.219
Против этой трактовки, однако, то, что в 4-м стихе
сказано: это — путь Убежденья (которое Истине спутник), и то, что
219 Возможно, имеется в виду комментированный перевод фрагментов
Парменида М. Унтерштайнера: Untersteiner M. Parmenide. Testimonianzee fram-
menti. Introduzione, traduzionee commente. Fierenze, 1958. См. с. LXXXV и ел.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
375
у Лебедева «путь», по-гречески здесь опять κέλευθος, колея.
До сих пор мы видели, что Парменид едва ли будет их
отождествлять, поэтому перевод, подставляющий в 3-м стихе
2-го фрагмента на отсутствующее место существительное «ход»,
«доступок», не проходит, как ни пространно доказательство
переводчика, работавшего над Парменидом несколько десятков
лет. Этим не снимается, наоборот, заостряется вопрос: почему
же первым «ходом», «поступком» оказывается κέλευθος, колея?
Может ли быть такое, что Богиня в качестве одного из «ходов»,
«шагов», «поступков» называет κέλευθος, колею? Может ли
поступком быть колея?
У Владимира Высоцкого получается, что нет. С другой
стороны, он знает только грязную, заезженную, пустую колею. Он
кроме этой грязной колеи знает только чистую свободу. Ну, а
чистая колея, как парменидовские колеи Дня и Ночи, Света и Тьмы,
которые мгновенно сходятся в точке восхода солнца и снова
разбегаются до противоположности, колея точная, как движение
светил? Разве не поступок, не ход — выбор ее, такой шаг, как
выбор строгости, можно сказать — математической, геометрии,
которая сопутствует, сказано в 4-м стихе, Правде? Истине, але-
тейе? Колея, строгая ровность, четкость, как движение светил, не
алетейя, но сопутствует, сопровождает, буквально идет туда же,
куда истина, алетейя. Это колея «Убежденья», сказано в переводе,
Πειθούς, и это слово в поэме Парменида уже было. Когда
«мягкими логосами», т. е. своим светом, свет — мягкий огонь (кстати,
Логос этот у Парменида не меньше огненный, чем у Гераклита)
дочери Солнца, только что скинувшие покрывала с голов,
утренние лучи, отчетливо убедили, чтобы им мгновенно ворота, где
обменивается тьма на свет, ночь на день, были открыты. И в той
же фразе — слово «колеи»: вы помните, открытые в ответ на
«убеждение» ясного самого по себе, опознанного как таковой
света ворота были воротами «колей» Ночи и Дня.220 Снова
«колея» и «убеждение» в этом втором, небольшом фрагменте, как
в середине того длинного первого, оказываются рядом. Первый
«шаг» — тот, что есть и не есть, чтобы не было — в том, чтобы
выбрать колею, встать на колею «убеждения», которое, наверное,
220 Ср. пер. А. В. Лебедева, фр. 1, ст. 8-11 : «.. .Коры (девы) Гелиады (Дочери
Солнца), / Покинувшие дом Ночи, [погоняли коней и] торопились отвезти [меня]
/ К Свету, сбросив руками покрывала со [своих] голов. / Там — ворота путей
[κελεύθων] Ночи и Дня...». Ст. 15-17: «Коры стали уговаривать ее [Дике-
Правду] ласковыми словами / И смекалисто убедили, чтобы она им закрепленный
шпеньком засов / Мигом откинула от ворот...».
376
В. В. БИБИХИН
продолжает быть таким, как в первом фрагменте, — отчетливым,
ясным, мгновенно убеждающим, как свет мгновенно убеждает,
мягко, что он свет.
Как мы обязаны думать о колее? Понимать, что это то, о чем
всегда говорила научная строгость, мы имеем право,
истолковывая тут Парменида, скажем, через Спинозу, Декарта, Гуссерля
или Витгенштейна. Но нам ведь мало, даже не нужно опознать
в Пармениде что-то нам уже известное. Нам известно, что
философия поднимается к строгости не меньшей, чем строгость всех
наук. Или большей. Нам важно это: важно прочитать, что же
сказано у Парменида. У Парменида определенно сказано: есть
мыслимый, один из двух единственных шагов исследования, т. е.
поступков свободного выбора; один из них — отдаться «колее», не
колее Высоцкого, а чистой колее, о которой мы знаем у Парменида
только то, что в природе вещей, в бытии есть колеи, по которым
снова и снова, неостановимо, с неотвратимой точностью ходят
вещи (уже в другом смысле «ходят», не в смысле «совершают
поступки»). Для создателей квантовой физики, Нильса Бора,
Гейзенберга это хождение вещей по «колее» казалось чудом. Они
открыли ее, в поведении микромира устойчивость открылась им
как чудо. Нильс Бор: «Главным для меня было другое, а именно
устойчивость материи, с точки зрения прежней физики
предстающая подлинным чудом. Под словом „устойчивость" я имею в виду
то, что одни и те же вещества всегда и везде встречаются с одними
и теми же свойствами, что образуются одинаковые кристаллы,
возникают одинаковые химические соединения и т.д. Это значит, что
и после разнообразных изменений, могущих произойти под
воздействием извне, атом железа, например, в конце концов остается
тем же атомом железа с теми же самыми свойствами (Парменид
сказал бы: не выходит из своей колеи). С точки зрения
классической механики это непостижимо, особенно если считать, что
атом действительно подобен планетной системе. Итак, в природе
имеется тенденция к образованию определенных форм — я сейчас
беру слово „форма" в самом общем смысле — и к
воспроизведению этих форм заново даже тогда, когда они нарушены или
разрушены. .. На чудо устойчивости материи еще долго не обращали
бы внимания, если бы за последние десятилетия на него не
пролили новый свет важные сведения иного рода. Как Вам известно,
Планк обнаружил, что энергия атомной системы изменяется
прерывисто и что, когда такая система излучает, то существуют, если
можно так выразиться, „остановки" с определенными уровнями
энергии, которые я позднее назвал „стационарными состояния-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
377
ми"». (170-171).221 Дальше Нильс Бор говорит, что устойчивость
материи заставляет изменить всю науку. Прежняя физика исходила
из того, что каждое следующее состояние материи определяется
предыдущим состоянием, которое ему причина. Квантовая физика
показала, что изменения в элементарных частицах, скачки
происходят квантами, от «quantum», «сколько-то», т. е. со ступеньки на
ступеньку, Парменид опять же сказал бы — в колее, и значит сама
колея причина того, что изменение такое вот, но колея настолько
же была как предшествующее причинно-обусловливающее
состояние, насколько она впервые только еще и будет, когда «электрон»
так называемым скачком перейдет именно в такое-то состояние,
выйдет именно на такой-то энергетический уровень, — а может
быть и не выйдет вообще, но если выйдет, то именно на такой,
т. е. из своей колеи не выйдет.
Можно сказать, что Парменид родоначальник квантовой
механики? Ничего более плоского и бесполезного нельзя придумать.
Можно ли сказать, что со своим опытом колеи он видел
природу яснее, четче, чем так называемая классическая
новоевропейская физика со своим представлением аморфного однородного
пространства и расположенных в ней точечных масс материи?
Конечно, Парменид видел яснее, так, как только начали издалека
видеть в XX веке Эйнштейн, Резерфорд, Нильс Бор, Гейзенберг. Но
ведь к квантовой механике парменидовская колея не сводится. Его
колея размахнулась на все бытие, она прошла через всякое есть,
такое, что мы еще не знаем, история нам еще не показала, какое
оно на самом деле, что им охвачено и захвачено, этим есть. И тем,
что это есть, коль скоро оно есть, уже сделано так, что отменить
его невозможно, что уже не бывает, чтобы есть, которое есть, не
было, — что, грубо говоря, то, что было, уже было и отменить то,
что было, невозможно, — этим есть проложена из конца в конец
мироздания колея, по которой бесконечно можно — если сделать
к ней шаг, поступок ее узнавания и приятия, — ходить, как скачут
по своим колеям Ночь и День, и быть спутником истины. Почему
не самой истиной? Почему колея не последняя правда, на
которой остановиться навсегда, ее приняв? Почему есть еще какой-то
другой путь, который уже не будет выбором колеи, шагом в эту
чистую колею, в то, что Нильс Бор называет чудом устойчивости
вещества?
221 Эти слова Н. Бора приводит В. Гейзенберг в книге «Часть и целое»,
переведенной В. Бибихиным. См. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое.
М.: Наука, 1984. В тексте указаны страницы по этому изданию.
378
В. В. БИБИХИН
Почитаем, посмотрим.
Путь второй — что «не есть» и «не быть должно неизбежно».
Вы уже догадываетесь, что в переводе этой 5-й строки 2-го
фрагмента опять по-русски больше слов, чем по-гречески.
Действительно, по-гречески 5-я строка, 5-й стих состоит из снова
трижды повторенного слова είναι, «быть», плюс служебные
слова — и прибавляется теперь только одно словечко, «по
необходимости», «обязательно». Буквально:
а вот этот (снова жест как кивок головы, в другую
сторону, имеется в виду другой шаг, поступок, путь),
что не есть и необходимо не быть.
И если кто-то обрадуется: но здесь у Парменида
сформулированы два пути богопознания, катафатический и апофатический! —
мы должны сказать: ну естественно же, разумеется, да еще как
полно, ясно! Но к нам это отношения никакого не имеет — какое
употребление сделала христианская философия из старого
добра. Не имеет отношения — потому что ни о каком Боге, который
с одной стороны есть и ни в коем случае не не есть, а с другой
стороны — не есть и обязательно ему не приписывать бытие, — ни
о каком таком Боге Парменид не пишет. Лучше поэтому держать
подальше как эту, так и все ассоциации: слишком неожиданно
просто сказано у Парменида, так что даже Платоновский «Парменид»,
который можно считать комментарием к этим строкам, третьей
и пятой, 2-го фрагмента, где о Едином сначала выясняется, что оно
не есть, потом — что без него ничего нет, [не поможет]. Еще раз:
у Парменида неожиданно просто. Это ослепляющая простота,
которую отшатнувшись от нее передать с тем блеском, который
есть в платоновском Парменидс, в христианской апофатике можно,
но когда возвращаешься к Пармениду, опять понимаешь что он не
схвачен, что он неприступен. Еще раз:
Вот шаги единственные искания мыслимые:
этот — что есть и что не есть (т. е. невозможно) не быть,
этот — что не есть и что должно не быть.
Это дразнит. Дразнит до невыносимости и будет дразнить,
и после тридцати исследований в последнее десятилетие будут
еще тридцать в следующее десятилетие и захочется это дразнящее
разгадать, но мы смиренно лучше скажем: да, Платон прав, даже
слов самих мы его не понимаем, понимаем только, что здесь глу-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
379
бина βάθος παντάπασιν γενναΐον, глубина совершенно родная,
благородная,222 и оставим загадку без понимания. Даже
платоновский «Парменид», развертывающее, проясняющее истолкование
двух только строк, и то, говорят исследователи, «чрезвычайно
труден для понимания».
Так что я говорю без вызова, не хочу, чтобы это звучало как
вызов: давайте лучше оставим. Жалко будет смотреть, как
провалится или выдохнется очередная попытка вывести Парменида
на чистую воду.
О втором пути, οδός, ходе сказано вот что:
Эта тропа, говорю я тебе, совершенно безвестна
Ибо то, чего нет, нельзя ни познать (не удастся),
Ни изъяснить ...
Этот, другой шаг, другой ход (кто здесь хочет думать о
левом и правом полушарии и левой и правой руке, пожалуйста, но
[называть это] комментарием.., — простите за грубость, опять
мне тут хочется привлечь Гераклита, который сказал, что ослы
не понимают золота и предпочтут соломенную сечку; нищие
сиротские интерпретации вместо чистоты и широты этого слова,
парменидовского, о котором Хайдеггер в курсе о Парменидс:
«Мыслитель, чья чистота и строгость уже никогда больше не
повторились, не возвратились»,223 — о другом шаге мы ожидаем,
что он не будет выбором колеи в том высоком смысле
математической строгости. Действительно, «тропа» появляется впервые
в переводе: в греческом сходно звучащее и возможно
этимологически то же άταρπός, àxqanoç, в корне которого в греческом
звучит τρέπω «поворачиваю, обращаю». Мы слышали уже три
названия «дороги»: κέλευθος, неизменная, много раз езжен-
пая колея Дня и Ночи; οδός, ход Парменида, его уникальный
«мет-од», уникальный потому, что он «вне (тут третье парме-
нидовское название дороги) πατός», букв, «истоптанного»,
«топтаного» человеков, где они обычно ходят и все истоптали.
222 Ср.: «...Страшнее их всех мне один Парменид. Он внушает мне, со-
нсем как у Гомера, „и почтенье, и ужас". Дело в том, что еще очень юным я
(Сократ. — A.A.) встретился с ним, тогда уже очень старым, и мне открылась во
всех отношениях благородная глубина этого мужа (βάθος τι έχειν παντάπασι
γενναΐον). Поэтому я боюсь, что и слов-то его мы не поймем, а уж тем более
подразумеваемого в них смысла». —Платон. Теэтет. 183е—184а. См. в
предыдущей лекции комментирование и перевод этой цитаты из Платона самим В. Б.
223 Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abt. Vorlesungen 1923—1944. Bd. 54.
Parmenides. Frankfurt am Main, 1992. S. 7.
380
В. В. БИБИХИН
Теперь четвертое название дороги, «тропа», о которой сказано,
что она «все-неиспытанная», или по другим чтениям — «та,
в которой убеждения нет», т. е. в противоположность «колее»,
которая «колея убеждения», убедительная, убеждающая. И то
и другое — странное название для тропы, что же это за тропа,
которая «не испытана», «совершенно неиспробована», кто ж по
ней ходил. Слова «говорю тебе» —
(Эта тропа, говорю я тебе, совершенно безвестна)
— относятся наверное к тому, что уже было сказано, т. е. «говорю
я тебе» в смысле «повторяю», т. е. «как уже говорила» — ст. 25
фр. 1 «не хожено здесь человеком». Если действительно слова
«говорю я тебе» имеют смысл напоминания, что идет уже повтор,
то «совершенно неиспытанная, неиспробованная» тропа — та
самая, «вне истоптанной человеком», по которой идет в Проэмии
к поэме Парменид. Он идет там, вы помните, через ворота колей
Ночи и Дня, т. е. не мимо колеи, но и через ворота, т. е. за край той
колеи, не по колее. То же соседство колеи {не в смысле, повторяю,
исхоженного человеком) и того, что вне человеческих путей, —
здесь, в названии двух «ходов» искания. Значит, они, наверно, не
противоположные друг другу — строгая колея и αταρπός,
неиспытанный (как там был нехоженый) путь.
Странный все-таки путь — неиспытанный. Странная указка
этимологии: это слово, тропа, αταρπός, имеет корнем
«поворачивать», переход от которого к значению «тропа» мне неясен.
Почему эта тропа «неиспытанная» или «невероятная», второе
чтение уважаемого авторитета Прокла, объяснено: это — тот ход, что
«не есть и что должно есть не быть», он нехоженый, невероятный,
потому что не узнаешь ведь ты то чего нет, и не скажешь. Еще
объяснение в объяснении: не узнаешь потому, что его не достигнешь,
до него не доберешься.
И вот я вас спрашиваю: в этом месте хоть какой-то намек есть,
что ход «что не есть и что должно есть не быть», неиспытанный,
неприемлем? — Ничего подобного. Наоборот. Очень похоже, что
это и есть тот путь, по которому идет Парменид и за который
богиня его хвалит:
Ибо тебя не злая Судьба проводила
Этой дорогой пойти — не хожено здесь человеком.224
224 Фр. 1,ст.26.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
381
Тогда что же — есть, по Пармениду, то, чего нет, или нет?
Вопрос вообще так не стоит, стоит не так! Не в том вопрос, есть
то, чего нет, или нет, а в том — как хорошо, что мы читали наших
близких в том семестре, через них мы всерьез можем подойти
к так называемым досократикам, — а в том, что «не испытан
поворот, что не есть и неизбежно должно не быть». Господи, еще раз
будем биться головой в эту стену: что не есть! Просто не есть —
да еще и «обязательно должно» не быть. Т. е., в нашем примере,
мы должны были бы представить солдата, который не просто не
говорит есть, но так и должно быть, чтобы свое такое привычное,
такое ожидаемое «есть» он не сказал. Вместо этого — не есть, т. е.
наше русское несть, нет. Не чего-то описуемого нет, а чистое не
есть, нет. Просто — нет. Сказано: совершенно неиспытанное не
есть. В самом деле. Опыт нет нас с такой силой бросает к какому-
нибудь есть, которое все равно есть и что, хотя и подвергается
отрицанию, что не есть просто, безусловное несть, нет — да, не
испытано. Да, этот «поворот» сказать, познать нельзя.
Тут фрагмент обрывается. Может быть такое, что дальше
в поэме не говорится больше вообще о втором пути, пути нет!
Это возможно: ведь о нем сказать нельзя. Т. е. Парменид молчит
о том ходе по пути не есть, которым он идет, но о котором нельзя
сказать...
Фрагмент 3 так краток, что лучше мы оставим его до случая,
когда, может быть, будет возможность включить его в какую-то
связь внутри Парменида; а то мы будем включать его
произвольно в какую-то свою связь, и у нас будет получаться, например,
что говорит Платон или Плотин или Декарт: «...το γαρ αυτό
νοεΐν εστίν τε και είναι». Αυτός — «сам» (отсюда автомат),
αυτό — «самое», το αυτό — «то самое, то же самое». Дальше,
большинство переводчиков предполагает, сказано, что то же
самое (но не все переводчики: иногда «то же самое» делают
субъектом предложения, Жан Бофре225), — но большинство дальше
читают, что именно одно и то же, они соединены союзом «и», τε
και, и глаголом-связкой εστίν: одно и то же есть А и Б. Осталось
как будто бы теперь только прочесть, что такое А, что такое Б.
Νοεΐν переводят «думать», «мыслить», είναι переводят «быть».
Имеется в виду мысль смертных или бессмертных? Что из А и Б
подчеркнуто, мысль оказывается тем же, что бытие, или наоборот?
225 Parménide. Le poème. Présenté par J. Beaufret. P. 1986. Так же считает
Уво Хельшер: Hölscher U. «Grammatisches zu Parmenides», Hermes, 84 (1956),
S. 385—407.
382
В. В. БИБИХИН
Не знаем. И еще: то, с чем отождествляется мысль, уже сказано
о мысли в глаголе-связке: мысль есть... Мог Парменид этого не
заметить, разве здесь не загадка — т. е. еще одна к другим? Нас
далеко уводит разное звучание у нас связки «есть» и слова
«бытие». Но ведь в греческом сказано почти: то же самое — мысль
есть и есть. — Оставим этот фрагмент. Мы его прочесть опять
не можем. — Или все-таки можем? Только негативно, как запрет,
который в нем при любом прочтении слышится очень ясно. —
Другое дело, согласимся ли мы с этим запретом, примем ли мы
его, но запрет, похоже, совершенно жесткий. Он вот какой. Это
запрет на бездумность, запрещение не думать. Т. е. что будто бы
смысл фрагмента в том, что каким-то фокусом, каким-то
поворотом, вывертом мысли мы вдруг попадем в точку, в самое бытие, —
это очень даже едва ли, это из области философской фантастики,
как бывает научная фантастика, и та и другая — фантастика, эта
еще преснее, чем научная. Но фрагмент запрещает надеяться, что
какое-то бытие будет протекать через нас без того, чтобы мы об
этом заботились, само собой, на автомате, «солдат спит — служба
идет». Бытие, если оно есть, оно не мимо, не помимо мысли. Какой
мысли? Не знаем. Но думать хотя бы о том, что же это такое,
какая же это такая мысль, которая там же, где бытие, чтобы хоть так
прикоснуться к бытию, — это оказывается для нас, если поверить
фрагменту Парменида, обязательным. Парменид предупреждает:
думайте; потому что бытие проходит не мимо мысли. Попробуйте
найти ту мысль, которая и есть бытие.
Здесь как бы не ошибиться. Я читаю в исследовании: «Он
открыл, что среди мыслей, которые сами по себе суть лишь
субъективные человеческие способности, есть мысль, неизбежно
выводящая нас из субъективности... [это] устанавливает логическую
невозможность для мысли о бытии, и только для такой мысли, не
иметь соответствующего ей объекта в реальности».226 У другого
исследователя: всякая мысль оказывается, из-за действия тезиса
Парменида, бытием. Я не обращаю, не пробую теперь обратить
внимание на малоправдоподобность такого смысла — как я уже
сказал, на малую вероятность, что каким-то особенным поворотом
мысли я отщелкну защелку бытия, начнется бытие, объект, или
соприкосновение с действительным, настоящим объектом. Этот
вопрос пусть останется слишком сложным, нерешенным. Может
быть, именно так дело и обстоит, я же сам только что сказал:
«Попробуйте найти мысль, которая и есть бытие». Наверное, та-
216 Доброхотов. А. Л. Указанное произведение, с. 8, 9.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
383
кое возможно, я оставляю этот вопрос в покое. Но совсем другой
вопрос я хочу сегодня попытаться назвать, и придется его
оставить до следующего раза, меня он по-настоящему захватывает,
мне даже кажется, что одного этого вопроса мне вообще хватит,
надолго. Вопрос вот какой: почему вообще исследователи говорят
о переходе от мысли к бытию — легкий или трудный этот переход
(по Канту, например, вообще невозможный, по Гегелю
возможный), совсем другое дело, я о нем и думать не собираюсь,— но
почему, когда в тезисе тождества мысли и бытия..., почему не
ищут (поправьте меня) перехода от бытия к мысли, т. е. путей
через бытие, так сказать, орудием бытия найти мысль — жизнью,
поступками, новшествами, изобретениями, творчеством, прийти
к мысли? Поверьте, я говорю дело, мне только не удается ясно
сказать. Попробую по-другому.
Каким-то образом, известным Пармениду, в его тезисе
предполагается, что и так уже мышление и бытие, бытие и мысль не
разное. Поэтому без мысли ни к какому бытию я не прикоснусь,
нечего даже тогда, выходит, и стараться, бытия без мысли не
бывает. И наоборот тоже верно: без бытия ни к какой мысли я не
прикоснусь. Бесполезно, опять же, даже и стараться. В какой мере
я есть, в такой только мере — в какой мере я прикоснулся к
бытию — я прикоснусь и к мысли, уже у меня должно быть мое
бытие, чтобы претендовать на мысль. Ах как я плохо говорю. Но ведь
вроде бы так. Без бытия никакой мысли нет, если они тождество.
И тогда мне кажется в высшей степени странным, просто
удивительным, что через парменидовский тезис, сам парменидовский
тезис делают инструментом прикосновения к бытию, этот
инструмент якобы в тезисе найден, он мысль или какая-то определенная
мысль, это уже не важно, это дело оттачивания инструмента. Если
я мыслю, то я существую или готов к существованию, или вот-вот
начну существовать. Почему же не приходит в голову, что ведь с
точно таким же успехом и наоборот, если я существую, то я мыслю.
Мне это кажется удивительным, происходящее в парменидов-
ском исследовании. Охота идет односторонняя, ловят все-таки,
словить хотят именно бытие, только оно считается настоящей
добычей! А мысль — так, она инструмент, она признана, возвышена
как инструмент ловли бытия. Я осмелюсь сказать: похоже, давно
и прочно и не только в парменидовском исследовании мысли
отведена эта роль инструмента схватывания чего? Действительности.
И тем, древним философам, Пармениду тогда естественно тоже
приписывается задача уловления бытия при помощи мысли. Тезис
Парменида якобы, получается, служит этой цели.
384
В. В. БИБИХИН
Я не понимаю, как искатели, исследователи бытия при
помощи мысли не замечают, что и как много они выдают в себе.
Они выдают, что мысль в конечном счете для них служебна;
настоящая, золотая цель — бытие. Парменид якобы обещает как-то
исхитриться уловить это золото при помощи мысли. Но господи,
почему не наоборот? Почему никто не говорит, что в равной мере
тезис Парменида — инструкция, указание, что через бытие
можно уловить мысль, что в каком-то смысле бытие всегда так или
иначе ведет к мысли. И так называемое низкое бытие — поскольку
бытие, мысль. Ловите, улавливайте мысль бытием! Нет: всегда
наоборот, бытие — мыслью. Я, пожалуй, не сойду с этого места,
с этого моего странного открытия, не хочу. Слишком многое
оказывается под этим камнем, если его стронуть.
В самом деле: ведь как только мы поняли парменидовский
тезис в одну сторону, так мы значит и не поняли, не говоря уж — не
приняли его! Ведь если мысль ведет к бытию, не наоборот, значит
тождества между ними нет!
Странным образом нам хочется, чтобы мысль была бытием,
но нам не надо, мы не хотим, чтобы бытие было мыслью. Господи,
какие бури начинают тогда подниматься, не тогда даже, когда
скажешь, что бытие нам нужно, чтобы была мысль, а просто когда
говорят, что бытие сводит-ся к мысли. Это субъективный идеализм
и отброшено. Больше бытия\ Вот вам мысль, берите ее, чтобы с ее
помощью добыть еще больше бытия. — Но ведь Парменид не
только, явно, понимал свой тезис в обе стороны, т. е. как именно
тождество, но и никогда не ставил задачи искать бытие. Он ставил как раз
другую задачу, у него черным по белому написано: искать мысль,
искать ее через бытие, потому что без бытия мысль не найти.11Ύ
Я вас прошу, поправьте меня, потому что мне как-то совсем
делается странно. Две с половиной тысячи лет над Европой
стоит тезис Парменида о тождестве мысли и бытия, все его читают
и повторяют и принимают, но никто ни разу — или я чего-то не
понимаю? — не прочел его так, как у Парменида словами написано,
о поисках мысли при помощи бытия, в опоре на бытие, а только
наоборот. И когда я произношу эти слова, «о поисках мысли в опоре
на бытие», то чувствую, что произношу какую-то пугающую меня
самого ересь, и поскорее прячусь за Парменида: но вот, посмотрите,
у Парменида же так написано! А что надо при помощи мысли как-
то дойти до бытия, достать бытие, у него не написано.
227 [...] Бытие, которое мысль, — это своя мысль, не наша. Как ее найти?
Нам кажется, что «мысль у нас уже есть»...
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
385
11—7(24.3.1992)
1) νους; 2) [τα] παρ/[ε]όντα, [το] παρ/[ε]όν, παρ/ουσία,
7ΐάρεστι; 3) λεύσσω, λευκός; 4) τιαρεόντα βεβαίως, άπ/ειμι,
πάρ/ειμι
Мы относимся к своей мысли примерно так же, как солдат
к своему другу солдату, думая, что бы ему подарить: может быть,
книгу? Нет, книга у него уже есть... Вот бы чего-нибудь другого...
Настоящего, стоящего подарка... бытия.
Розанов знает больше: он говорит: «мысли бывают
разные...»228 Это значит: будьте готовы к тому, что мысли будут
разные, совсем разные. Говорит это — «мысли бывают разные» —
понимание, готовое вместить разные мысли, совсем разные мысли,
неожиданно разные мысли. Понимание вмещает. «Понимание»,
мы говорили об этом, лучше передает греч. νους, νοεΐν, чем
«мыслить», «думать»: лучше передает смысл «вос-приятия»,
«внимания», «вбирания».
Важно здесь вот что: вбирание в понимании не похоже на
пустое ведро, в которое когда мы наберем картошку, оно перестанет
вбирать; и вбирание не ограничено таким-то количеством нервных
клеток мозга, я это знаю не потому, что я подсчитал и специалист
в биологии и вычислительной технике, а потому, что вбирание
понимания другое, чем фиксация в памяти, электронной или
человеческой. Машина может быть и не включена; и ее включает
не ее память, а включение, и включение это в-ключение, введение
в электрическую сеть, в систему энергоносителей, но та система
тоже себя не включила, даже не создала сама: она должна была
быть сначала включена в замысел человека, — и опять: «замыслы
бывают разные», надо сказать, их включает понимание, а
понимание включается кем? Мы помним у Розанова: по-нимание как-то
раньше, оно как-то умеет и так. Оно не на биологии (не на жизни),
наоборот, оно понимает жизнь, т. е. жизнь, биология вбирается
пониманием. Понимание каким-то образом всегда уже есть. Но
не так, что можно пойти и посмотреть, где понимание, или
исследовать психические процессы, скажем, при помощи электронных
датчиков и фиксировать среди разных процессов процессы
понимания. Этих процессов может и не оказаться, понимания тоже
228 Опавшие листья. Короб второй. См. по изданию: Розанов В. В. О себе
и жизни своей. М.: Московский рабочий, 1990, с. 426. (Сост.)
386
В. В. БИБИХИН
может не оказаться. Его может не оказаться вообще навсегда. Если
оно окажется, то мы не знаем как. Оно, говорит Розанов, «не
продается и не покупается».229 Мы не можем вычислить, какое оно
будет или какое может быть.
Я говорил, что я читал Розанова, чтобы подойти к Пармениду.
Бытие у Парменида ближе не к тому, что можно зафиксировать как
объект, а к вмещению (мы смотрели смыслы «бытия»: состояние,
быть в состоянии, быть в возможности), которое дает вещам
присутствовать. Вмещение бытия, вмещающее целый мир (каким-
то образом, непонятно каким, целый мир как-то имеет место, что
же это интересно за место, кто же это его так вместил), — и то
вбирание, которое составляет существо понимания, по-нимания,
в-нимания, — одно. Бытие-вмещение, бытие как «возможность»
(posse) и понимание-вбирание, которое тоже каким-то образом
существует, — в каком-то важном смысле νοεΐν и είναι одно и то
же, бытие это в-нимание вещей, и понимание это тоже в-нимание:
в-нимание мира, с аккузативом, не так, что это — «внимание
мира» — разные родительные падежи, когда «внимание мира,
вбирающего в себя все», то это онтология, а когда гносеология,
то это «внимание мира как объекта», — нет, я предлагаю слышать
внимание мира, так сказать, во все стороны, — и как пушкинский
пророк «внял неба содроганье, и гад морских подводный ход,
и дольней розы прозябанье», так во внимании мира мир сам внял
в себя и может внять в себя все. Я тут мир понимаю не так, что
мы очертим чертой какой-то круг и скажем, «это мир», а так, что
мир это согласие, собрание всех голосов, какие есть.
В этом смысле понимание это внимание, которое держится
на том, что есть мир и внимание мира. — Внимание мира. Или
впускание мира. Или вмещение мира. Не так, что я пустое место,
и впущу-ка я на это место мир. Не так, что «мысль у нас уже есть»,
и надо как-то повернуть ее. Попробуем прочитать так νους:
внимание. А бытие я попробую читать из того, что мы говорим: есть, и
говорим: имеет место: есть — значит имеет место. Бытие как
вмещение. Тогда парменидовский тезис: «одно и то же — внимание и
вмещение». Я имею в виду — прочитываю так Парменида — через
розановский опыт внимания, который ходит не другими путями,
чем то вмещение, через которое в мире всего так много. Опять же:
не большой ящик. Наверное, математик должен иметь опыт
такого вмещения: как-то вмещается ряд чисел, ничто ему не мешает;
вмещаются структуры, не видно, чтобы где-то стоял предел, якобы
229 Розанов. В. В. О понимании. М.: ИФТИ св. Фомы, 2006, с. 589. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
387
всё, больше ничего нет. Так в нашем опыте как-то вмещается не
бывалое, и не так, что вмещенным ограничивается возможность,
а наоборот, мира тем больше, чем больше внимания. Например, в
большом скоплении народа, тесном, где, казалось бы, все уже
вытоптано, неожиданно открывается простор, нетронутый,
свободный, и когда это замечаешь, одновременно замечаешь, что свободы
не обязательно становится меньше, ее может оказаться больше, без
конца, — как, я сказал, в математическом пространстве
неожиданно открываются новые пространства. Откуда берется место? Оно
откуда-то берется, берет себя себе. — И где это место, в мысли?
Вот уж нет! В чувстве, в воображении? Вот здесь начинается наш
разговор с Парменидом. Мы теперь, при нашей
подозрительности, при умении разоблачать, склонны задуматься, а все-таки, не
воображение ли наше, когда в нашем опыте открывается новое,
когда внимание имеет место, имеет себе место. Парменид своими
словами, «внимание и вмещение одно», нам сейчас отвечает, что
в-нимание, которое наше в том смысле, что оно не мимо нас
проходит, а захватывает нас, — не другое, то же, что вмещение, из-за
которого имеет место все то, с чем мы имеем дело. Как будто бы
сначала должно произойти вмещение, чтобы разместились вещи,
а внимание идет за ними следом. Внимание как будто бы еще раз
вмещает то, что уже вмещено. Да, вмещает оно действительно то
(по содержанию), что уже, мысль повторяет вещи; но само
собственно вмещение не второе, а то Dice самое, что вместило вещи:
оно то Dice вмещение, или внимание мира, как я сказал. И именно
потому, что оно то Dice, оно вмещает не то Dice, как художник,
который не уступает другому, именно поэтому, что не уступает,
не будет делать то же самое. То, что наше внимание не может
вместить, создать природу, не делает его другим чем то, которое
вместило природу, потому что природа, с ее подробностью, и
человек, с его человеческим телом, и его ум, это вмещения, которые
не отняли (или, я скажу еще, природа и человек это помещения) —
которые не отняли у мира его вмещения. Внимание мира не
убавилось от того, что он уже вместил природу и человека, атомы,
элементарные частицы с устойчивостью их вещества, о которой
мы говорили прошлый раз, а вмещение, помещение, внимание
не трачено, — с таким вмещением места стало не меньше,
вмещение не остановилось или даже наоборот, вмещение прибавило
места. Вмещение не растрачивает места. Природа имеет место,
человек имеет место — в обоих смыслах этого сочетания слов,
«имеет место». Природа есть, человек есть — не потому, что для
них нашлось место, мало ли для чего нашлось место, — а потому,
388
В. В. БИБИХИН
что они вмещают, или для того, чтобы сами себя [вместили], как
земля, планета, такая подробная потому, что она могла давать, так
сказать, саму себя самой себе; и человек вмещает самого себя, он
создание, или здание, или помещение, на котором вмещение не
остановилось, оно, может быть, только развернулось, вернулось
к самому себе, длится.
Или поэма Парменида, эти 3,5 страницы. Она занимает место
на бумаге; с другой стороны, сама бумага, если можно так сказать,
«имеет место» в человеческом мире, потому что есть слово,
которое остается, должно остаться, потому что оно вмещает.
Я еще раз спрашиваю: внимание, вмещение каким способом
существуют? Как новость. Они могут прерваться. Они как-то есть
не так, что мы можем их найти, а так, что нельзя сказать, что места
все заняты.
Я попробовал сказать, в каком смысле парменидовское «то
же самое» не парадокс, тем более не нелепость. Я этим ничего
не достиг, к чтению не приблизился. Я только наметил себе
возможность того, что это парменидовское слово и не абсурд, и не
тривиальность. Я не собираюсь, как говорил, и как-то спорить
с существующими толкованиями. Я только думаю, что
возможность, в моем примере, в доступном всякому опыте внимания
и вмещения, возможность, что слова Парменида имеют смысл,
ставит перед истолкованием — всяким — определенные запреты,
об одном таком запрете я говорил прошлый раз. Нельзя понимать,
надо стараться удерживаться понимать тождество Парменида
только в одну сторону, как ход от мысли к бытию, потому что нет
причин, почему бы он с равным успехом не был ходом в другую
сторону тоже, т. е. нет причин ни думать, что Парменид
отыскивает какую-то одну исключительную мысль, которая угадает
бытие, ни думать, что всякая мысль, из-за его тождества, окажется
бытием или причастна бытию. Кому может так показаться, что
надо заострить сознание и попадешь в бытие, или что все равно
что в мысли, она уже в бытии, должен просто перевернуть
тождество для проверки себя и спросить себя, готов ли я думать, что
всякое бытие будет заостренным сознанием или, тем более, что
всякое бытие окажется мыслью.
На самом деле мы и сейчас еще, сами того не замечая, или по
крайней мере еще несколько месяцев назад, когда философия была
у нас еще всерьез, — потому что марксизм был еще перевернутой
философией, но то, что называется «плюрализмом», уже не только
философии, но и имени не имеет, — сейчас уже не знаю, где мы,
но несколько месяцев назад мы были еще в середине парменидов-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
389
ской темы, когда надо было знать, что бытие первично, сознание
вторично.230
Формула звучит иначе: «материя первична». Но дело в том,
что формула может и совсем не звучать. Ведь не потому она
действует, что формула имеет магическую силу, а потому, что за ней
что-то стоит. За ней стоит то, что бытие (материя) как первичное,
отличное от сознания, должно быть рассмотрено сознанием. И вот
когда сознание, сознательная мысль должна чем-то заняться, что-
то рассмотреть, независимое от сознания, самостоятельное, то
сознание оказывается смотрителем. Мы должны рассмотреть, что
такое бытие, — ив этом сразу звучит: мы еще посмотрим, что такое
бытие, какое оно такое. Перевертывание происходит незаметно,
вдруг, само собой и обязательно, — от рассмотрения к смотрению,
или просто от рассмотрения к рассмотрению (как говорится: «мы
рассмотрим вопрос»), потому что перевертывания по-настоящему
и нет, его и не нужно: уже в формуле «бытие первично, сознание
вторично» бытие поставлено на место, вы скажете — но ведь
на первое же место, а я скажу: это не важно, оно поставлено на
место, о немуже известно, вот что здесь, дано сознанию для
смотрения, рассмотрения. Можно без труда доказать, что в формуле
«первично-вторично» первично на самом деле сознание, вернее,
тот, кто подразделил ступени, ввел и утвердил. Перевертывание
таких формул, однако, вообще неизбежно: в них не хватает сути,
или, точнее, мера неискренности, далекости от корня в них не дает
ни на что опереться. Всякое «первичное-вторичное» бессмысленно
без прояснения самих этих «первого-второго». Первое по
природе — последнее для нас (в последнюю» очередь нами замечено),
это аристотелевское правило делает проблематичным, превращает
в вопрос всякое «первичное-вторичное». Что остается
удивительным, важным, — это что мы в формуле о материи и сознании в
самой середине парменидовской мысли, и видим, что он решился и
вызывает нас решиться, но ни прочесть, на что он решился, нам не
удается, и не удается выбраться из двусмысленности, даже когда
мы вроде бы решились, якобы в пользу бытия, но смотрителем его
оказывается сознание.
Эта оперативная позиция — есть бытие, допустим даже
далекое, или трудное, или неуловимое, пускай, но мы посмотрим,
помыслим, установим, именуем, — кажется такой естественной,
230 Вопрос [к экзамену]: Вопрос о «первичности» и «вторичности» чего бы
то ни было, по-видимому, не первичен. Что-то им предполагается как заранее
уже решенное. Что именно?
390
В. В. БИБИХИН
даже такой единственно возможной, единственная (кажется, что
единственная) противоположность такому здравому рабочему
подходу кажется такой мистикой (что будто бы бытие как-то
подлажено под мысль), что из простого уважения к Пармениду
ему приписывают по крайней мере приближение к здравому
взгляду: от «стихийной недифференцированности духовного
и материального» Парменид по крайней мере двигался к
различению мышления и бытия, к «установлению того самого
субъектно-объектного отношения, с выявления которого...
начинается... собственно философия».231 Пармениду дают аванс:
ведь он все-таки, если на него такие хорошие характеристики,
должен был куда-то двигаться; он двигался вперед, к нам, к тем,
которые сейчас во всеоружии науки, техники, философии заняты
познанием бытия.
Мы делаем Парменида близким к нам, делаем ему честь
осовременивания, актуализации. Может ли быть другое: что из
своей 2,5-тысячелетней давности он говорил прямо нам и
своим тождеством, улавливал, уличал, вместо того, чтобы мы его,
современное человечество? Или даже еще больше. Люди,
которые были в Египте и видели гигантского сфинкса в пустыне под
Александрией, кажется, чувствовали, что он глядит, конечно, из
прошлого, но одновременно поверх настоящего, поверх
современного движения, не затронутый и не смущенный, не отмененный
этим движением, не для нас, а для каких-то будущих веков, поверх
голов теперешнего поколения, загадочным взглядом.
Если так, если слова Парменида не для нас даже, поверх нас
как-то в такую даль, куда мы еще не можем заглянуть, то разгадать
их мы не можем надеяться, но говорить они нам все равно говорят,
и как Сфинкс высветляет теперешнее движение как временное
и преходящее, так и парменидовское тождество заставляет по-
новому увидеть все наше отношение к бытию. Увидеть странность
того, что мы охотимся за бытием, выясняем, выявляем, именуем,
определяем, устанавливаем.
Мы здесь сидим и, как говорил один из претендентов на
место ректора МГУ, «готовимся к выходу в жизнь»,232 чтобы прийти
в «практический» мир из «теоретического» и там показать силу
мысли. Знание сила. Сила это, теперь, энергия, бытие. Прийти
к бытию при помощи мысли. Нам это кажется таким
естественным, что противоположное почти кощунство: неужели мы здесь,
231 Чанышев. А. Н. Италийская философия. М: Изд-во МГУ, 1975, с. 169.
232 Емельянов А. М. в «АиФ», март 1992 (596), с. 5.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
391
сейчас живем? Нет, разумеется, жизнь начнется там, где практика!
И что на самом деле все уже сейчас знают, что как раз годы
изучения философии в Университете потом окажутся лучшими, мы не
решаемся считать саму по себе теорию полнотой: нет, она только
тренировка, только для. Это вразрез с парменидовским тождеством
мысли и бытия, внимания и вмещения, и это нас заставляет читать
Парменида так: «Наверное, он имеет в виду, говоря το αυτό νοεΐν
και είναι, все-таки их развести. Наверное, он все-таки занимается
тем же, что мы, ищет бытие».
Теперь фрагмент 4. И здесь перевод кажется пародией, потому
что неологизмы и странности словоупотребления настораживают,
обращают на себя внимание, т. е. делают как раз то, что, вроде
бы, надо, впервые показывают, на каком на самом деле врастании
в слово сработан греческий оригинал (потому что до сих пор весь
перевод шел приспосабливающий к нам, к нашим привычкам), —
но лучше бы, если бы продолжался тот ровный современный
учебный тон, потому что введенные неологизмы, странности
обманывают насчет того, что, может быть, и в оригинале
импрессионистическая заумь, «отпускание» слова до неряшливости наугад.
Поэтому я метрический (тоже гексаметр, или как он в
современном тоническом ударении получается, кое-как) вариант первый раз
буду не читать. У Лебедева есть прямой перевод233:
Однако созерцай умом отсутствующее как постоянно
присутствующее,
Ибо не отсечет сущее от примыкания к сущему,
Ни когда оно повсюду полностью рассеивается по космосу,
Ни когда оно сплачивается.
Во второй строке «Ибо не отсечет сущее от примыкания к
сущему» — что «не отсечет»? Лебедев добавляет от себя в скобках
неуверенно, со знаком вопроса, подлежащее этой фразе, которой
не хватает синтаксиса: «Ибо [отсутствующее?] не отсечет сущее
от примыкания к сущему». Другие переводчики добавляют другое,
например «пустота», и получается антипифагорейская полемика
против учения о пустом пространстве. Или добавляют, наоборот,
«присутствующее». Добавьте если хотите другое. Беда вовсе не
в том, что синтаксис с лакуной. Если бы только синтаксис был
темен. Хорошо, что мы во-время, еще раньше, успели согласиться,
что не вступаем в соревнование переводчиков. В отношении этого
4-го фрагмента, когда один из известных исследователей называет
233 «Фрагменты...», с. 288.
392
В. В. БИБИХИН
первый стих «непонятным», а другой весь фрагмент
«таинственным» и в нем «еще (\ через 2.5 тысячи лет) не хватает
удовлетворительной интерпретации», а самый крупный исследователь,
самое известное и знаменитое имя — этот фрагмент «скудного
значения и представляет смысл, не поддающийся уточнению
надежным образом», мы тоже лучше с самого начала решительно
скажем: не можем, не можем понять и перевести. Это лучше, чем
пытаться через силу и кончить срывом. Потому что метрический
перевод Лебедева, срывающийся от сознания бесполезности
усилий, возможно, в невнятицу, все-таки, похоже, лучший выход,
чем взять дело, так сказать, в свои руки и получить
совершенно гладкий блестящий смысл, который заслужит потом строки
в скобках в примечаниях другого исследователя, как у Марио
Унтерстейнера234: «Истолкование в крайней степени
экзистенциалистское этого фрагмента у Бофре». У Бофре235 — я не думаю, что
это «экзистенциалистский» комментарий, тем более «крайний».
Он сводится к тому, о чем мы говорили в прошлом семестре, читая
Соловьева и Розанова: мы не можем никогда и нигде наблюдать
безусловное существование, оно всегда заранее уже подорвано
несуществованием; но и наоборот, тоже, никакое несуществование
тоже, если можно так сказать, не надежно. Почему, между прочим,
никакое уничтожение полностью не удается. Смиренно знать, что
говорить о бытии и небытии, существовании и несуществовании,
присутствии и отсутствии мы очень даже прекрасно можем, а
показать в чистом виде без смешения уже труднее, — но ведь это мы
знали и до всякого Парменида, и какой большой успех нам будет
от «вчитывания» этого в него, что и он тоже это знал и нам передал
то, до чего мы дошли и без него. «И он тоже с нами». Пармениду
тогда приходится быть непонятным, чтобы мы догадались, что не
мы ему говорим, что он должен (хорошее и глубокое) иметь в виду,
а что он написал [то] что написал для того, для чего написал:
чтобы сказать. То, что не топтано человеком. И сказал. И мы не
слышим: не можем, опять. Глубина не для нас. Объявив о своем
смирении, не будем ни в коем случае протаскивать задним числом
все-таки какой-то перевод, хоть очень хочется.
Действительно, как предыдущий коротенький фрагмент 3 стал
словно символом Парменида и постоянно обсуждается, так этот
234 Pannenide. Testimonianze е frammenti. A cura di M. UnterSteiner, Firenze:
La nuova Italia, 1958, p. 132.
235 Parménide. Le poème. Présente par Jean Beaufret P.: PUF, 1986, p. 47—48;
p. 81.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
393
фрагмент 4 обделен вниманием. А в нем слово, которое по разным
причинам, в разных смыслах в середине вещей.
Парменид заговаривает о παρεόντα, присутствии, от παρά —
предлог «при» и όντα, «сущее». «Пришествие Господне» —
неточная передача слова, которое поэтому в академическом
богословии не переводится, оставляется как есть: παρουσία, парусия.
И здесь чувствуется, что «парусия» не просто фактическое
указание местопребывания, а имеет оттенок настоящего. То παρόν,
букв, «присутствующее» — это «настоящее время», «положение
дел», «то, что под рукой». У Софокла в «Электре» 215 это слово
в той форме, что у Парменида, с артиклем, τα uolqovtcl значит
«вот теперь, прямо сейчас, в нашем теперешнем присутствии».
Значение основного глагола в греческом, «быть» — «возможно»,
переходит и на этот глагол с παρά, так что πάρεστι не только
«присутствует», но и «возможно», «открыто», «можно».
По Хайдеггеру, такое «присутствие» — его опыт, через него
греческое восприятие бытия: несомненное (к несомненному,
кстати, к несомненности «присутствия» годится слово,
которым Парменид называет тут «увидение», «созерцай» у Лебедева:
λεύσσω «глядеть», но корень этого слова «белый», λευκός; слово,
известное из живописи и старой архитектуры, «левкас» —
малярная замазка из мела с глиной, «левкасить» — класть меловый
грунт; то же слово — цветы «левкои», белые фиалки. Белый —
сияющий, светящийся, и отсюда переход к зрению — но зрение
здесь, в отношении παρεόντα, присутствующего, не в смысле
наблюдения, выглядывания, высматривания, а в смысле, к которому
мы уже были близко, когда свет зари был назван «убедительным
доводом»: для «присутствующего», которое само собой ясно,
зрение заключается в опознании этой ясности, Λεύσσε παρεόντα,
«высветли присутствующее», — при том что оно и само
высветлится) — я говорил о том, что у Хайдеггера присутствие,
несомненное, само собой высветившееся, само собой убедительное,
само собой открывшееся и как последняя инстанция, ее уже нечем,
ничем не нужно обосновывать, имеющееся, значит дающее
возможность, — основной, почвенный греческий опыт бытия. Если
то слово, которое Лебедев переводит как «постоянно» (высвечивай
умом отсутствующее как постоянно присутствующее) относится
действительно к «присутствующее», то им подчеркивается эта
черта, этот характер присутствия, о котором я сказал: потому что
βεβαίως, у Лебедева «постоянно», — от βαίνω «шагать,
ступать». Переход от значения «ступать» к «прочному» такой же, как
в жесте топания ногой. Присутствующее «прочно» — в смысле
394
В. В. БИБИХИН
«наступив», тот же смысл, что в русском «наступающее»,
«наступившее»: оно «наступило», потому что подтвердило себя,
подкрепило как ступив решительно ногой. Мы делаем ошибку,
когда воображаем себе отвлеченное время с его тремя
измерениями, тремя сторонами; на самом деле отвлеченное время нужно
было бы понимать как отвлечение — произведенное, кем, когда,
зачем? вот интересно! — от опыта времени, которое такое: оно
накатывается, наступает, настает, становится настоящим, в смысле
подступает. — У Парменида в τιαρεόντα βεβαίως тогда сказано
красиво, что присутствующее-настоящее (причастие) существует
как? наступившим, настоящим, настоятельным образом; и
глаголом, каким богиня приглашает «высвечивать», λεύσσε от λευκός
«белый» сказано, как такое наступившее настоящее,
присутствующее светится, высвечивается само по себе, само от себя.
Рядом с таким наступившим присутствием названо
отсутствие, другие словарные значения — «далекость, могила», αηειμι
явная, отчетливая противоположность πάρειμι, это два слова,
откровенно вызывающе стоящие на двух разных полюсах. И вот
как бы кто ни истолковывал этот стих, «высветляй вниманием
отсутствующее присутствующее наступившим образом», это не
перевод, а для памяти передача каждого слова словом, — при
любом переводе, и при любом понимании окажется, что у Парменида
точно нет приглашения их различать. Т. е. зачем, конечно, их
различать, они и так различны, с этим Парменид не думает спорить,
лрмсутствующее одно дело, отсутствующее совсем другое, — но
то, что Парменид предлагает высветлить, вовсе не их контраст.
И у Климента Александрийского, через которого, его «Строматы»,
дошел этот 4-й фрагмент, тоже совершенно однозначно видит
в нем преодоление раскола. «Но и Парменид в своей поэме то же
самое говорит намеками о надежде (дальше текст 4-го фрагмента),
поскольку и надеющийся, подобно верующему, видит умом
умопостигаемое и будущее (это «будущее» у Климента, в его понимании
фрагмента, подтверждает, что мы правы, понимая «присутствие»
и «отсутствие» в связи с временем). Если скажем, что правда есть
нечто (ударение здесь на «есть», опять в том же смысле
присутствия, настоящего; Лебедев переводит «реальностью»236),
признаем и красоту, и истину, что они есть нечто, но ничего из этого
никогда не видели глазами, а только умом». «Надежда», «глазами»,
«умом» — это уже поздний язык, христианской философии, или,
вернее, философствования, которое хочет быть христианским и не
236 «фрагменты...», с. 287.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
395
упустить ничего из философской глубины. О «надежде» здесь
Парменид не упоминает; различения платонического «глазами —
умом» у него тоже нет. У него есть вот это: присутствующее —
отсутствующее. Λεύσσε, императив от Λευκός, «белый», наверное,
значит здесь «высветли», «заставь проступить». Что? не терпится
спросить, услышать ответ. Не знаем. Не дает синтаксис: «высветли
умом — вниманием» — или «высветли присутствующее в уме»?
И главное: высветли наступившее присутствующее как далекое
отсутствующее или наоборот (как у большинства), высветли дальнее
отсутствующее или может быть находящееся за порогом смерти
(и здесь опять Гераклит будет лучшим комментатором) как
наступившее настоящее? Мне почему-то кажется, что это вопрос для
того, что еще только должно наступить. Может быть, следующее
тысячелетие — или через-следующее тысячелетие? будет к этому
месту Парменида, где темноты гераклитовской ведь нет, где,
наоборот, простота и прозрачность, блеск, — но тот блеск, о котором
Платон говорил, что как софист неуловим, он ускользает в туман,
так и мудрый тоже неуловим, он невидим в блеске. Ослепляющий,
дразнящий блеск этих отчетливых геометрических очертаний,
в самом деле как вечная словесная нерушимая пирамида, — и
невидимость из-за блеска. «Высветли отсутствующее вниманием
(или во внимании) присутствующее настоятельно». Не знаю. Еще
надо помнить фрагмент 3: то, что я назвал «тождеством внимания
и вмещения». То, что наступив, присутствует для ума,
присутствует, стало быть, и для бытия? Ну да, конечно, по определению
это так: присутствующее, наступившее присутствует в бытии, где
же еще. Вы со мной согласитесь, и всякий согласится. Но ведь
отсутствие для ума тогда должно быть отсутствием и для бытия?
Оно далеко от бытия тоже? В далеком от бытия — как можно
высветлить уверенно, настойчиво присутствующее? Нет, Парменид
здесь сообщает не то, что мы уже знали и что остается только
разгадать за языком, за стилем. Он сообщает что-то такое, что мы
еще не знаем. Он сообщает новость. Но новость, для которой мы
еще не готовы. Я сдаюсь и прошу думать вас.
Но и я тоже буду думать. Άπειμι., «отсутствовать» в
поэтическом языке значит «не быть в живых». Тогда «отсутствующее» будет
значить «то, что за порогом смерти». Вовсе не в смысле загробного
существования, кочевого существования душ умерших, витания
поодаль от тела. Эта мифология начнется у Платона, у Парменида
еще этой мифологии нет. Комментатором, как всегда, лучшим к
Пармениду надо пригласить Гераклита. Он говорит загадочно:
фрагмент 21 [DK], Климент Александрийский: «Не называет ли
396
В. В. БИБИХИН
Гераклит становление (возникновение, генесис) смертью... когда
говорит: „Смерть есть все то, что мы видим наяву, бодрствующие;
а все то, что спящие, — сон"».237 Боже мой, насколько доходчив,
понятен Гераклит по сравнению с Парменидом! Здесь все на месте,
грамматика, смысл, настроение! Парменид неприступен из-за
блеска прозрачности; Гераклит темен уже потом, когда вполне ясен
и прочитываем. Нет ни одного изречения Гераклита, которое я не
включил бы в свою логику, написал Гегель. Я сказал бы так: нет
ни одного изречения Гераклита, которое нельзя было бы прочесть!
Удивительно: мы прочитываем их все! И нет почти ни одного стиха
Парменида, который кто-то умел бы прочесть.
«Присутствующее, настоятельное, наступившее просвети
вниманием как находящееся за порогом смерти». Так в свете геракли-
товской параллели надо было бы читать 4-й фрагмент Парменида.
Но если бы это был смысл у него единственный*.
Фрагмент 62: «Бессмертные смертны, смертные
бессмертны».238 Боги смертны люди бессмертны. Фрагмент 26: «Он
вспыхивает к жизни, умерев, словно как вспыхивает к бодрствованию,
уснув»,239 загадочный фрагмент. И фрагмент 27: «Людей ожидает
после смерти то, чего они не чают и не воображают».240
В отсутствующем, что за порогом, высветли наступающее,
присутствующее. В присутствующем, настоятельном высветли
вниманием отсутствующее, то, что за порогом.
Но ведь фрагмент 4 не кончился? Да, но в следующей строке,
стихе нет подлежащего.
Я не очень хорошо понимаю, куда я забрел. Я не совсем
уверен, что мы не упускаем что-то, переходя от фрагмента к
фрагменту. Исследователи вчитываются в них десятилетиями. Мы, правда,
смирились с тем, что мы не понимаем. И не понимая, просто
повторяя слова, мы чувствуем тревожное и освежающее присутствие
новости. Эту новость нам, может быть, не удастся услышать.
Почему, за что так с нами случилось, что и Пушкин ушел за тот
порог, сам, когда готовился сказать самое главное, и Соловьев не
досказал, и по существу тоже сам ушел за порог смерти.
Я не был самонадеянный, когда говорил в начале февраля,
что наше дело воскрешение отцов. Потому что другого дела все
равно нет, и всякое дело другое бессмысленно. — Но
воскрешение отцов невыполнимое дело. Я не знаю, как мне быть, и сейчас
237 Ср.: «Фрагменты...», с. 217. (Сост.)
238 «фрагменты...», с. 215.
239 Там же, с. 216.
240 Там же, с. 235.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
397
с Парменидом, и вообще. Но все равно я намерен, даже
беспомощно, стоять при этом деле. В восточной мудрости есть хорошее
изречение: лучше делать свое дело без успеха, чем делать чужое дело
успешно. Вы как хотите, я вам, так сказать, раскрыл свои карты,
у меня на руках вообще ничего нет; а я все-таки буду, попробую,
в следующий раз продолжать. Сегодня наше время еще не вышло,
но мне уже говорить нечего.241
Вы заметили: моя попытка русской передачи — только
исключает прочтения, которые вроде бы и надо исключить, которые
все истолкователи исключают, так или иначе, но лучше все же
так: эксплицитно. Как ни странно, это необычный способ чтения
Парменида. И он, хоть и негативный, что-то дает. Во фрагменте 4
он дает, что παρά и από, при и от, близость и даль не задевают
того, чему нужно внимать, или, вернее, что нужно внимать. Не
в том дело, при или от; по сю сторону порога смерти или по ту
сторону. Дело как-то в другом. В чем? Это я вас спрашиваю; вы
меня спросите что-нибудь полегче.
И вот, если так, как быть с тем, что приписывают Пармениду,
допустим, что у Парменида есть это — что «бытие есть, небытия
же нет». Под небытием, когда мы произносим это слово, мы
скорее всего понимаем то, что от, что за порогом, что не
присутствует, не наступило, не стало настоящим в настоящем времени. Мы
же во фрагменте 4 читаем: при и от отношения к делу не имеет.
Не в том дело. Как мы тогда должны относиться к нашему, не пар-
менидовскому, небытия нет! Какого небытия нет, которого нет,
т. е. чистая логическая форма. О небытии здесь известно только
то, что его нет; все наши представления о небытии к этому
небытию не относятся, они входят в определение отсутствующего,
того, что за порогом смерти. Небытие имеет чисто формальное
определение: оно то, чего нет. Почему Парменид стал упражнять
свою логику на бытии именно?
Опять это мне ничем не помогает. Настораживает и заставляет
опять вернуться к букве. Забыть это «небытия нет». У Парменида
там другое слово: μηδέν, а мы уже заметили, что он слова зря не
бросает.
241 Далее до конца лекции следуют рукописные записи. (Сост.)
398
В. В. БИБИХИН
11—8(31.3.1992)
Если отсутствие — как присутствие, то мы должны
усомниться в хайдеггеровском Sein-Anwesen? Почему бы не усомниться, мы
и это можем, хотя до сих пор ни разу не приходилось. Т. е. стало
быть Парменид говорит об отсутствующем. Но ведь он предлагает
распознать, опознать в нем присутствующее! Так что — во всем,
что ли, распознавать присутствующее?
Для науки: незаметное, невидимое, гипотетическое
присутствует не хуже стульев, столов. Но вот элементарная частица: она
по определению не видна...
1) Anwesen; 2) βεβαίως < βαίνω; 3) άπο/τμήξει,
τέμνω, τομή, ά-τομος; 4) ον, όντα, όντως όντα; 5) différence,
différence; 6) άποφατικοί λόγοι; 7) χρή το λέγειν; 8) τε νοεΐν
τ' έόν εμμεναι; 9) εστί γαρ είναι; 10) μηδέν δ' ουκ έστιν.
«Чтение философии» — как философия, если бы она была,
читала бы; каким должно было бы быть чтение, если бы оно не
уходило от философии.
«Но все равно различи (распознай) отсутствующее в уме
настоятельно присутствующее» — с этим первым стихом 4-го
фрагмента та главная проблема, что здесь разрешено и приказано,
императивом λεύσσε «высветли» или «распознай», и после
распознания окажется, что до бытия различие отсутствия и
присутствия, — это и надо распознать, — не достает; т. е. не то что
присутствующее это бытие, но и отсутствующее тоже, между прочим,
в какой-то степени своей — тоже бытие, как бы модусы бытия,
присутствия и отсутствия, но нет: распознай, что присутствие или
отсутствие вообще не имеют отношения к бытию. И еще опять же,
с другой стороны: нельзя сказать, что умей распознать, высветлить
то, что за присутствием и отсутствием, это будет общее им бытие
и с ним имей дело.
Я хочу сказать вот что: вы помните, много раз говорилось,
что по Хайдеггеру греческое, древнегреческое понимание бытия
опирается на опыт присутствия, в смысле настоящего,
наступившего, примерно в таком смысле, в каком Парменид к причастию
«присутствующее» дает наречие βεβαίως, поясняющее,
развертывающее. Оно образовано от βαίνω «ступать»: βεβαίως — «твер-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
399
до» (Лебедев: «постоянно»242), в этом слове жест решительного
топания ногой. Несомненно, определенно, уверенно, очевидно —
черты присутствия. (Между прочим, Tim. 37 b: δόξαίκαί πίστεις
γίγνονται. βέβαιοι και αλέθεις. Сближение, как в русском
настоящий, истинный от наступать) Теперь, после этого 4-го
фрагмента, можно было бы легко поспешить и сказать: смотрите, Хайдеггер
неточен, у Парменида бытием оказывается не только
присутствующее, но и отсутствующее. Тем более легко так сказать, что не мы
будем первые: уже давно Жак Деррида предположил, что в
западной философии не всегда, не обязательно бытие присутствие, не
обязательно бытие таким вот образом осязаемо и вдвинуто в сущее.
Смотрите: отсутствующее у Парменида — тоже бытие, не
обязательно присутствующее, могли бы мы поспешить сказать;
дело, стало быть, сложнее, чем получается у Хайдеггера. Но
в том-то и дело, что да, отсутствующее оказывается у Парменида
действительно ничуть не хуже бытием, чем присутствующее, —
но приглашает, велит он именно распознать, высветлить в нем
настоятельно, настойчиво присутствующее, — или и наоборот тоже,
потому что в русском переводе243 синтаксис спрямляет, «созерцай
умом отсутствующее как постоянно присутствующее»,
однозначно, в какую сторону надо двигаться, высветлять что. В греческом
этого «как» нету, так что понимать можно в обе стороны. Но
неважно, следующий 5-й фрагмент говорит (он короткий): «Для меня
равнозначно то, Откуда начать, ибо я приду туда снова».244 Снова
комментатор Гераклит: путь вверх и вниз один и тот же. В свете
парменидовского «вглядись, распознай, высветли» мы понимаем,
что дело не в том, что все равно, карабкаюсь я наверх или падаю
вниз, а что так или иначе от высветления присутствующего мы
никуда не уйдем, т. е., так сказать, и отсутствие для нас — мы
должны это, императив имеет этот смысл — должно стать,
быть распознано, как присутствующее отсутствие.
О философском императиве нам уже приходилось говорить
в связи с Гераклитом.245 Он удивительный: он отличается от
научного, где зависит от ситуации, и от нравственного (или,
пожалуйста, религиозного, как десять заповедей начинаются с «не
убий», но убить в себе грех нужно, т. е. надо смотреть, когда
и в каком смысле). Есть всемирный сюжет притчи, когда человек
прямолинейно понимает этические предписания и выполняет их
242 См.: «Фрагменты...», с. 288. (Сост.)
243 Т. е. А. В. Лебедева — см. там же. (Сост.)
244 Там же.
245 См. лекцию 4(1. 10. 1991). (Сост.)
400
В. В. БИБИХИН
некстати, невпопад, и все портит. Удивительность философских
императивов в том, что они безусловны, обращены всегда всем
и всегда подлежат немедленному и безусловному исполнению.
Императив распознать присутствующее-отсутствующее {не
понять, что одно здесь, другое там далеко, а распознать в далеком
близкое, в близком далекое, иметь в себе это расстояние, дали
и близости, здесь и там, иметь как ближайшее, постоянно
высветляемое) — это философский императив, безусловно требующийся
всегда и безусловно от всякого человека для осуществления его
человечества, чтобы он был человеком. Этот императив не
случайно стоит в «Беседах», или «Изречениях», Конфуция на первом
месте. Раньше всякого другого дела и занятия, которые могут быть
обязательные и необязательные, уместные и неуместные — это
фило-софское, требование понимающего принятия, требование
(другое наше определение философии) обращения внимания,
усилие, напряжение того, что Конфуций называет «встречей
друзей», приходящих «издалека». Они, встреченные, не перестают
быть пришедшими издалека, наоборот, они впервые узнаются
как друзья издалека, — и обязательно нужно встретить, принять,
обратить внимание, чтобы вообще далекость была узнана, чтобы
«расстояние» было узнано как расстояние и стало присутствовать.
Удивительно в этом философском императиве, что тут нельзя
ошибиться, не бывает момента, во сне, наяву, когда следовать ему
было бы некстати; не бывает тут «достаточно, хватит, уже
высветлил и распознал далекое и близкое, близкое далека, далекость
близкого». Всегда мало обращения внимания, всегда этого будет
мало, всегда слишком мало этой, т. с. настоящей «фило-софии»,
принимающего (филия, принятие) понимания, умения понимать
(софия). Так что парменидовское λεύσσε (от Λευκός, «белый»),
«высветли, высветляй» — это как приказ, призыв быть «на белом
свете», там, где только человеку достойно, не в темноте. Быть на
«белом свете» и распознавать присутствие и отсутствие так, чтобы
отсутствие для нас смогло присутствовать.246
Раз уж я упоминал сегодня Жака Деррида: онтологическая
разница, ontologische Differenz, хайдеггеровское различие между
бытием и сущим (Деррида хайдеггерианец, принадлежит не к
школе, а к следу Хайдеггера, наследник Хайдеггера), по-французски
différence, предполагает как будто бы или-или, порог, одно здесь,
бытие, другое, сущее, совсем в другом месте, грубо говоря, бытие
246 Запись В. Б. на полях: «Совхоз, размытость, нерешенность. Арете,
решимость — но не стиснув зубы, а розановская решимость [...]». (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
401
неуловимо, сущее опредмечено. В этом слове, différ[a]nce, в его
корне «нести», fero, ведь и по-русски тоже можно сказать, что
разные вещи разнесены по разным классам, или рубрикам, —
Деррида слышит в этом слове, отглагольном, глагол, разнесение,
продолжающееся и не останавливающееся никогда. Он
внимателен к тому, что — он обращает внимание, что вовсе не
обязательно иметь две вещи, чтобы между ними установилось различие: что
и всякая одна вещь, всякая черточка бытия, черта также и в смысле
начертания, буквы, того, что подлежит чтению, — вообще всё
(философское зрение, как философский императив, исключений не
имеет) находится, так сказать, находится, т. е. оказывается в
«разнесении», «разносится», чуть ли можно сказать — идет в разнос,
не стоит, несет. Деррида слышит это в слове différence,
«разнесение», а не просто «разница», что дело не о картинке в статике, не
о схеме. Но почему он один слышит? Почему в словаре написано
только «различие, разница, отличие, разногласия, математич.
разность, остаток, морское дифферент, разница в осадке судна
носом и кормой, разговорное — крупный проигрыш (в карты)». Ну
услышьте же: не надо схемы, всё вообще перед нашими глазами
идет в разнос, не равно самому себе, куда-то нас несет, куда-то
показывает, тянет. Никто не слышит, все любят схемы, отчетливые
оппозиции. Тогда Деррида делает хулиганство. Он пишет это
слово, différence, не так, как оно пишется во французском языке, а так,
как оно произносится, différence, как бы заставляя: ну услышьте!
И действительно — через это изменение буквы, которая и не
произносится, и не меняет смысла, и ничего не меняет почти, через
это видимое другое написание, — люди услышали, благодаря
Жаку Деррида, то, что надо было действительно сделать над собой
настоящую операцию, чтобы не услышать: что ничто никогда не
равно самому себе, и присутствует и отсутствует, и здесь и не
здесь, и близко и далеко, и этого не отменишь, и на это надо
обратить внимание, и всегда обращать, и никогда от этого не
уходить. — У Хайдеггера можно было прочесть? Да. Повторить надо
было? Ничего важнее, чем это повторение...
Кто-нибудъ скажет: одно дело Парменид, совсем другое
дело Деррида, Парменид родился в VI в. до новой эры, Деррида
в 1930-м году. Но я скажу: философские императивы не на
срок и не на время, они навсегда, и никогда не будут отменены.
«Вглядывайся, различай» — это всегда; загадка присутствия и
отсутствия, такой их загадочной сцепленности в их различии, что
отсутствие для нас присутствует, далекое для нас близко как
именно далекое, — приведу пример, далекое (потому что даже
402
В. В. БИБИХИН
приблизиться к нему, нужен сложный пропуск) правительство
близко к нам, постоянно присутствует именно в своей
недостижимости, его отсутствующее присутствие, оглядка на него,
определяет каждый наш шаг, так или иначе. — Я не говорю, что Деррида
продолжает Парменида; я говорю другое: чтобы догадаться, куда
нас зовет парменидовский императив, мы должны поверить, что
он зовет нас куда-то очень близко, ближе чем мы думаем, и
сравнение с Жаком Деррида не потому вовсе не годится, что слишком
уж это далеко, а как раз наоборот, [потому] что парменидовское
присутствие-отсутствие гораздо ближе и к нам, и к Деррида, чем
мы догадываемся; как и то, что говорит, что имеет в виду Деррида
под différence-différance, гораздо ближе к нам, чем французский
язык Деррида, чем сам Деррида, — и вещи, о которых нам
напоминают философы, это те самые, в которых мы не ежедневно,
а ежеминутно тонем, потому что никогда не знаем по-настоящему,
близко нам то, что близко к нам, или далеко, и почему то, что
далеко, нам очень близко, но все равно мы принадлежим разве тому
далекому близкому, не получается ли, что мы принадлежим против
воли «наступающему», которое теснит и навязывает нам себя?
«Распознай в присутствующем отсутствующее, в отсутствующем
присутствующее». Распознай какой способностью? Умом,
вниманием, принимающим пониманием.
Это и я сам без Парменида могу догадаться, что в странном
тумане присутствующее для меня то ли близко, то ли далеко. Он
говорит: опознай. Значит, я что-то упустил, во что-то не
вгляделся? Другая черта философских императивов, кроме абсолютной,
безусловной обязательности всегда и для всех: они велят, мы это
видели, разбирая Гераклита, они велят то, что и так уже есть.
Для меня уже есть близкое и далекое, распознай, т. е. увидь то,
что уже есть: что далекое; что оно далекое потому, что близко. Не
я, распознавая, придумываю и определяю, это близко, что далеко;
близкое и далекое, присутствующее и отсутствующее уже каким-
то образом есть и без меня для меня, меня успели определить
раньше, чем я заметил; обратить внимание, распознать поэтому
теперь для меня — первый долг.
«Потому что», «объясняет» Парменид во втором стихе. Что
«потому что»? Распознавай потому что — или
«отсутствующее — присутствующее» потому что? Или вообще нет «потому
что» — ведь греческое γαρ не обязательно значит «потому что»,
его второе, почти такое же частое значение — «а именно»,
«конечно». Можно поэтому читать в смысле того, что будет после
распознания. Субъекта в предложении, как я говорил, нет, и на его
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
403
место подставлялось такое разное, что вместо перечисления я вам
предлагаю по своему желанию подставить — например, ум (так
читал издатель, Дильс; его продолжатель Кранц — тоже). Что бы
вы ни подставили на место подлежащего, вы совпадете с одним
из истолкователей, или с несколькими. Все сходятся в одном: речь
идет об отделении, «отсечении» (Лебедев247), и сказано опять
важным словом, продолжающим до наших дней свое существование
у нас, и на котором стоит остановиться. Αποτμήξει, от τέμνω
«резать, рубить», в том числе и в том смысле, как по-русски:
«сказал, как отрубил»: отрезал, жест решительного, окончательного
оформления: или жест, когда символически кто-то третий
решительно разводит руки, соединенные в пожатии, в знак
примирения; что-то подобное в детском сведении и разведении пальцев
со словами, «мирись мирись, но больше не дерись», — φιλίαν
τέμνειν, буквально «дружбу разрубить», значит заключить мир:
«отрезано», «всё», между нами мир. В евангельском употреблении
апостольское όρθοτομεΐν, «резать правду», т. е. говорить прямое,
решительное. То же слово — для обозначении операции. Т. е. здесь
не просто всякое резание, а придающее определенности форму.
Поэтому образованное от этого τέμνω, τομή — α-τομος,
а-том, означает «конец, предел такого отрезания», не обязательно
в смысле просто технической невозможности больше
распиливания, а в смысле того, что дошли до конца оформляющей,
выделывающей обработки, придания определенности, до предела
возможного структурирующего деления.
И вот у Парменида говорится о том, что отрезано не будет
в этом смысле, или — в другом предложенном чтении — не
отрезай, отрезано быть не должно. Что от чего? Что «неотрезаемо»,
т. е., собственно, «атомон», атом? Один, целый? Неотрезаемо
сущее от сущего. В других переводах: бытие от бытия. Если мы
будем слышать наше «сущее» не обязательно — а кто нам велит,
кто заставит? — в узком техническом смысле «причастного
бытию», а как слышится, когда говорят «сущий дьявол», например,
о человеке, т. е. «настоящий», то при этом значении «истинный,
настоящий» мы окажемся в середине греческого όν, όντα «сущее,
сущие» (отсюда онто-логия): сущее, повертывающееся то вот этим
вот сущим, то сущим сущим, бытием (платоновское όντως όντα,
что мы читаем в русском Платоне как «истинно сущее», буквально
«суще сущее», или, если по-русски, то «сущее сущее», так Платон
это и слышал, и если бы так можно было переводить Платона,
247 «Фрагменты...», с. 288.
404
В. В. БИБИХИН
а почему-то нельзя, то метафизические схемы сразу стали бы
теплыми, горячими).
«Не отрежет сущее от того, чтобы оно держалось за сущее».
Мы имели — как в геометрическом рисунке, и в этом смысле
(только в этом смысле указания на геометрическую четкость —
в философии родную, потому что на платоновской Академии,
на входе была надпись «ни один негеометр да не войдет») (но
не в смысле того, что только к геометрии сводится весь смысл
4-го фрагмента) надо одобрить Baccou Robert, историка науки,248
который дает геометрическую интерпретацию фрагмента, прежде
всего слов «не отсечет», вот какую: представим объемное тело
в пространстве, правильное, скажем куб. Поверхность стороны
куба вдвинута ли между кубом и окружающим пространством
как прослойка, «отсекает» ли куб от окружающего пространства?
Поверхность как плоскость толщины не имеет, она «идеально
ограничивает тело, не изолируя его в пространстве, т. е. не
раздробляя непрерывность пространства» (Бакку). Только кажется,
что куб чем-то отделен от окружающего пространства; нет, он в
него вдвинут сплошным образом, границу мы стали бы искать и не
нашли, идет пространство и сразу потом идет куб, никакой черты
или стенки, тем более ничейной полосы вспаханной земли, между
тем и тем нет.
И есть основание для геометрического толкования Парменида,
этого 4-го фрагмента, вот какое: в схолиях к Евклиду, к его
геометрии, есть упоминание Парменида, опять же не случайное.
Отчетливость очертаний мы замечали у Парменида не зря.
Пифагорейская, италийская школа прошла не зря. Между
прочим, так яснее — если дело идет о геометрически отчетливом
и прозрачном уме — понимается введение к поэме, о несущих
Парменида конях, его методе. Когда знаешь, что это написал
математик, проясняется характер его экстаза: в математике и
математической физике есть свои экстазы, о которых мы мало слышим,
и не много услышим.
Вот упоминание о Пармениде в схолиях к геометру Евклиду:
επειδή δε οι αποφατικοί λόγοι, ως φησιν ό Παρμενίδης,
προσηκουσιν ταϊς άρχαΐς και τοις πέρασι, «поскольку апофа-
тические логосы (слова, обоснования, определения) присущи,
уместны для начал и границ (пре-делов)» (V, р. 77, 20 ss. Heiberg).
Это мы знали, что апофатика окружает начала, они неприступны
для логоса, в отношении их справедливы только отрицания; из
248 Histoire de la science grecque de Thaïes à Socrate. Paris 1951, p. 169—170.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
405
этих начал в христианской философии остался только Бог, творец
всех начал, только в отношении Его — но уже зато безусловно —
отрицательное бого-словие, апо-фатика, справедливее
положительного, катафатики. О том, что так устроены начала, мы знали
всегда хорошо. О том, что так устроены и границы тоже, мы
догадались, когда говорили, думали о черте,249 которая прочерчивает
безусловно все здесь на земле, но сама не наблюдается: ведь даже
очень тонкая, самая тонкая черта рейсфедером на ватмане только
посильный знак, условное обозначение черты, знак ее имеет
толщину, черта не имеет, черта в принципе невидима, — в отношении
ее, все здесь у нас прочерчивающей, все везде прочерчивающей,
оказывается, по Пармениду, годятся только апофатические
определения.
Нам предлагают, стало быть, понимать парменидовское «не
отрежет» так, что черта не отрежет сущее от сущего. Она ничто
ни от чего сущего не отрежет, потому что ее нет, ей нечем резать.
Предлагают вглядеться в черту. Если черты нет, то ни одно сущее
на самом деле не отрезано от другого; все сплошное; поскольку
нет вообще нигде в принципе никакой черты, то нет и нигде
перехода от сущего к чему-то другому: т. е. если хоть где-то однажды
есть сущее, то из-за того, что черты нет, нет и такого места, где
сущее было бы отчерчено, отграничено от чего-то такого, что
сущим было бы уже нельзя назвать. Это захватывающая,
головокружительная перспектива, логически безупречная: несуществование,
ненаблюдаемость черты вещь и несомненная, и убедительная. —
Что Парменид должен был, так сказать, кивнуть в сторону этой
перспективы, обязательно: иначе не могло быть. Мог он на этой
перспективе остановиться, в духе нео-парменидизма Эммануэле
Северино, когда застываешь на экстатическом прозрении, что за
сущим другое сущее, и ни черты, которая отделяла бы сущее как
сущее от сущего, ни черты, которая ставила бы сущему предел
смерти, нет. —
Но: черта из тех вещей, которые могут и так, без
существования. Она не меньше может, чем существующие вещи, а наоборот,
даже больше может: из-за нее, благодаря ей даже вещи очерчены
как вещи, а без черты как это получилось бы? Если мы это знаем,
то почему не знать Пармениду. Он ведь не говорит: никакого
отсекания в принципе нет. Он говорит: не отсечет (что?
подлежащего во фразе нет) сущее от сплошности с сущим. Парменид не
сказал: никакого вообще нигде отсечения нет, потому что черта не
См. «Язык философии» — «Граница» по указателю. (Сост.)
406
В. В. БИБИХИН
существует. Что-то «не отсечет». А другое, может быть, отсечет.
Все зависит от того, что это «что», которое не отсечет. Поневоле
возвратишься к чтению Дильса и Кранца, которое вначале
казалось странным: ум не отсечет. Только jw, который умеет опознать
присутствующее отсутствующим, отсутствующее
присутствующим, не отсечет сущее от сущего, не прервет сплошности сущего.
Но ведь это только догадка Дильса и Кранца. А кроме того: что
такое ум?
И еще догадка: геометрия присутствующего —
отсутствующего, в первом стихе 4-го фрагмента, не повторяется ли она в
3-4-м стихе в паре σιαδνάμενον — συνιστάμενον,
«рассеянное — сплоченное», по Лебедеву,250 — и опять можно удивиться,
на каком прочном языке говорит Парменид: συνιστά με νον — то
же слово, что «система»; у противоположного ему слова та же
этимология, что у русского «щедрый»: разброс, «щедрый»
противопоставляется «системе, сосредоточению, собранию». Я предлагаю
вам подумать, подумайте, какой свет освещает пару
«отсутствующее — присутствующее», от другой пары, «разбросанное —
составленное, собранное» (4-й фрагмент).
5-й короткий фрагмент, «одинаковое мне есть, откуда мне
начать; туда же потому что снова достигну опять же»,251 говорит
богиня.
Теперь 6-й фрагмент, неожиданный, где внезапная, резкая
инвектива Парменида против толпы блуждающих. Начинается
фрагмент еще с одного императива: «это тебе я разобрать
приказываю». И это не зря говорится; потому что то, что требуется
разобрать, опять по простоте и геометрической четкости
совершенно ясно и прозрачно, эта прозрачность волшебная, бездонная,
ослепляющая, требующая осмысления.
Можно лишь то говорить и мыслить, что есть; бытие ведь
Есть, а ничто не есть.252
Вот это приказано разобрать. Эту знаменитую формулу, где
в полутора стихах уже пять раз разные формы слова «быть».
Прозаический перевод у Лебедева другой: «То, что
высказывается и мыслится, необходимо должно быть сущим».253
Двусмысленны, трисмысленны оба эти совсем разных перевода.
250 «фрагменты...», с. 288.
251 Ср. там же пер. А. Лебедева. (Сост.)
252 Там же, с. 296.
253 Там же, с. 288.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
407
«Можно лишь то говорить и мыслить, что есть» — какое из
смыслов «можно», можно — разрешается говорить только то, что есть,
или в принципе бывает только такое, что говорится то, что есть,
а иначе просто не получится? И прозаический перевод
двусмысленный: «То, что высказывается и мыслится, необходимо должно
быть сущим» — необходимо окажется, что оно сущее, или
необходимо сделать так, чтобы оно было сущим? «То, что
высказывается» — что имеется в виду, сами слова или вещи? Четыре, стало
быть, смысла, четыре перевода у одного переводчика. А у других?
«Необходимо должно существовать выражение и интуирование
бытия». «Необходимо вот что делать: высказывать и мыслить о
сущем его бытие». Не получается ли, что варианты переводов равны
числу перестановок из пяти членов? Еще: «Вот что необходимо
говорить и думать: что сущее существует». Еще: «Это одно познай
и скажи: сущее есть, потому что оно может быть».
Иёрг Янтцен подытожил переводы, их типы, они вот
насколько разные: 1. Тот, к которому склоняется кажется Лебедев: то, что
может быть помыслено и сказано (т. е. то, о чем мысль и слово),
есть, т. е. окажется бытием, сущим. 2. Надо заниматься вот чем,
говорить и думать вот что: что сущее есть, существует. 3. Тоже
прочитывается у Лебедева: не о вещах речь, которые могут быть
помыслены и сказаны, что они бытие, а о самой мысли, о самой
речи: сама речь, сама мысль и есть бытие. 4. Необходимо вот что:
что говорение и мышление сущего — есть.
Поверьте мне, что филологами проверено и перепроверено:
в словаре и синтаксисе нет ничего, что мешало бы этим
основным типам и подтипам переводов. Там нет ничего, что открыл
бы сверхфилолог в виде какого-то признака, что из всех типов
и подтипов надо выбрать вот именно этот. — Как же тогда, я вас
спрашиваю, обстоит дело с надеждой филологов, с их
требованием, вы сначала прочтите филологически корректно текст, а потом
уже будете над ним философствовать? Когда ясно, что филология
никогда не выберется из кружения по этим переборам вариантов,
от которых остается только впечатление мертвого шелеста слов?
Богиня приказывает «разобрать» это. Что, филологически,
синтаксически разобрать? Едва ли. Мудреную формулу разобрать,
посмотри, как я написал так написал, тысячи лет будут ломать
голову? Едва ли. Приказывает разобрать другой императив,
долженствование, сказанное в предыдущих полутора стихах. Там —
долженствование, философское долженствование безусловно. Оно
говорит не о том, что должно начаться, а о том, что уже есть. Оно
хочет всегда, чтобы было то, что уже есть. Исключаются этим —
408
В. В. БИБИХИН
не по филологическим соображениям вовсе — те варианты
переводов, где Парменид якобы приказывает твердить то, что раньше
не говорили, что сущее есть. Философский императив — никогда
не императив секты, которая хочет своим многословием
заглушить чужое. Не так, что до сих пор говорение и думание были
не такими, как надо, и теперь пусть изменятся. Долженствование
приходится, распространяется на всякое говорение и мышление,
которые должны стать тем, что они есть: относиться к бытию,
к сущему.
А мы знаем об этом — о том, что слово и мысль, внимание
относятся к сущему? Вот чего мы точно не знаем, так этого!
Слово, мысль у нас относятся к тому и к этому, к разному — как
это к «сущему»? К какому такому «сущему»? Слова обозначают
предметы, мысль вращается среди предметов — какое еще сущее,
этим занимается философская мысль, Парменид философ, вот он
и педалирует свое, цеховое? Или прав Хайдеггер в «Бытии и
времени», когда говорит, что человек есть то сущее, для которого
дело всегда идет о бытии,254 а не о предметах, хотя он провалился
в предметы? Может ли быть, что Парменид за 2,5 тыс. лет велит
то же, что Хайдеггер, — понять, осмыслить, что всякое наше
слово, всякое внимание на самом деле всегда о сущем, ради сущего,
в сущем, хотя кажется, что мы охотимся за вещами, как волки
охотятся за зайцами? Что слово и мысль человеку для
правильного умелого ловкого обращения с вещами, предметами полезными
для жизни?
Может быть такое, что не надо переключаться на мышление
бытия с мышления предметов, сущего, а и так уже с
необходимостью, хотя человек не обращает внимания, все, о чем он ведет
речь, и как он ведет речь, идет о бытии — о том, которое во всем
должно быть увидено как наступившее, присутствующее? Если
да, то долэ/сно быть то, что и так необходимо есть.
Получается вот какая неожиданная вещь. Я говорю вам смысл
полутора стихов, который ни одним из переводов не диктуется.
Может быть, тогда предложить какой-то новый перевод, который
говорил бы этот смысл, что: посмотрите, вглядитесь, всякое наше
слово, всякое внимание на самом деле всегда о сущем, ради
сущего? А зачем, зачем, собственно, такой новый перевод, когда этот
наш смысл уже вычитывается из шестизначного, многозначного
254 «Присутствие есть сущее, которое не только случается среди другого
сущего. Оно напротив онтически отличается тем, что для этого сущего в его
бытии речь идет о самом этом бытии» — Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.:
Наука, 2002, с. 12 (§ 4). (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
409
перевода Лебедева? «Можно лишь то говорить и мыслить, что
есть». Да, наш смысл вычитывается. Но и противоположный, тот,
который, я когда-то говорил,255 только в крайнем помрачении ума
можно вычитать, смысл тоже вычитывается, — что успокойтесь,
говорите и думайте, все равно всякое ваше слово, раз оно
прозвучало, всякая даже мысль, раз она промелькнула, — уже сущее, вы
уже там и так, вдумайтесь только и — какое счастье, вам подарена
бытийность всякого вашего шевеления, такой осчастливливающий
мыслитель Парменид.
В чем же дело? Одно можно сказать определенно: дело не
в переводе. Парменид принадлежит к школе Пифагора, о которой
известно, что в ней вначале была запрещена запись, не помнить
об этом, не следовать этому Парменид не мог. Не то что он тогда
зашифровал свою поэму: этого не видно, она совершенно
прозрачная, она имеет смысл и даже много, сколько угодно смыслов,
в какую сторону ни читай, смысл получится, например «έστι γαρ
είναι», «потому что есть бытие», разве не верно? Есть бытие.
Но это слово слышится еще и иначе, έστι в смысле «возможно»?
Пожалуйста: «потому что возможно бытие», что, разве не верно?
В какую сторону его ни читай, все получится, как игрушка; тем
более когда большая часть состоит из грамматических форм и
семантических вариантов (5 таких форм и вариантов на полтора
стиха) одного слова; это даже и не текст, а образец, глагольная
парадигма, кусочек словаря, или упражнение из грамматики.
Мы и не понимая ни синтаксиса ни содержания суждения,
слыша слова, одни, видели неожиданный смысл. В каком озарении
именно эти формулы именно так легли на папирус, мы не знаем,
и Парменид, возможно, в следующую минуту уже не знал; это
как бы не его руками сделалось, а проговорила судьба. У Ницше
есть короткий текст, объяснение, под заглавием «Почему я
судьба». Каждый мыслитель мог бы о себе это сказать; и первым —
первый мыслитель Запада. Мы имеем то, что имеем, теперь; что
требование Пифагора Парменидом парадоксально выполнено: мы
имеем текст (запись), и это конечно текст, как же не текст, — но
прочесть его нельзя без школы, или сам этот текст и есть школа,
которая началась тогда и уже до сих пор не кончается, вот дошла
и до Скифии, Парменидом занимались в начале века и в Казани,
и когда она кончится? Смехотворны попытки ворочаясь с боку на
бок успокоиться на каком-то одном переводе. Вместе со всеми
переводами и спорами это парменидовское слово навсегда уже
255 См. лекцию 4 (1.10.1991). (Сост.)
410
В. В. БИБИХИН
загадочно спущено нам, присутствует среди нас и нам задача — не
перевода, не словаря и синтаксиса, а думания. «Приказываю тебе
это разобрать», слова богини Пармениду и нам. Уж не «текст»
разобрать, конечно.
После этих формул, εστί γαρ είναι, есть бытие, или бытие
есть, или бытие возможно, или «есть само это есть», или
«возможно быть», или «возможна возможность», и μηδέν δ ουκ
εστίν, «ничто же не есть», буквально «ни одно же не есть», так
что возможен и смысл «ни одного нет такого, которое не есть»
(вы догадываетесь, какая здесь подкладка: проходящее через
всю историю мысли равенство единого и бытия, так что то, что
не едино, что «не одно», «ни одно», то и не есть), — после этих
формул, которые мы пока оставим на потом, потому что в других
фрагментах будут сходные, Лебедев, который не уступит ни
одному переводчику и истолкователю в понимании текста и переводе,
делает три звездочки: следующее действительно дальше в третьем
и четвертом запрещение плохо вяжется с приказанием во втором
стихе этого 6-го фрагмента.
Она его предостерегает от шагов, от первого (какого?), или,
как переводит Лебедев и как мне больше нравится, «первый путь»
в смысле предикативного определения: путь, который (здесь,
в моем поучении) оказывается первым, т. е. «во-первых», прежде
всего. Наверное, все почти с этим согласны, это тот самый запрет,
который повторяется в следующем 7-м фрагменте: там говорится,
что никто никакой силой не вынудит, буквально «не укротит»
несущее так, чтобы оно было, и запрещается делать этот ход. Еще
подробнее мы должны будем там посмотреть. А здесь — потом
второй запрет, еще второго хода, который, стало быть, какой-то
другой, чем путь «укрощения», «приручения» того, чего нет.
И когда богиня заговаривает об этом другом ходе, она становится
гневная:
А затем от того [отвращаю тебя], по которому смертные,
не знающие ничего,
Блуждают о двух головах, ибо беспомощность в их
Груди правит сбившимся-с-пути умом, а они носятся
Одновременно глухие и слепые, в изумлении,
невразумительные толпы,
Те: у кого «быть» и «не быть» считаются одним и тем же
И не одним и тем же и для всего имеется попятный Путь.256
256 «фрагменты...», с. 288.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
411
Или:
...тебя... отвращаю пути изысканья...
.. .того, где люди, лишенные знания,
Бродят о двух головах. Беспомощность жалкая правит
В их груди заплутавшим умом, а они в изумленьи
Мечутся, глухи и слепы равно, невнятные толпы,
Коими «быть» и «не быть» одним признаются и тем же
И не тем же, но все идет на попятную тотчас.257
Хорошо бы, чтобы оказалось, что Парменид так резко не о нас
говорит. Мы же тоже что-то распространялись о бытии и небытии,
и у нас получалось, что ни границы между ними мы провести не
можем, ни о несуществующем не можем определенно сказать,
решительно, что оно не существует, а у нас как-то получалось, что
оно и без существования «может», «и так». Не собирались ли мы
сделать то, от чего предупреждает Парменид, укротить, приручить
не существующее, чтобы оно каким-то образом существовало?
Вроде бы нет, потому что мы же не говорили, что лошадность,
или субъект, не существующий, каким-то образом все-таки
существует; мы говорили, наоборот, что он «может» и так, без всякого
существования.
Теперь нам один важный, важнейший вопрос: опять не «как
перевести», а — не окажемся ли мы сами такие, с заплутавшим
умом мечемся глухие и слепые, невнятные толпы? Потому что
мы если окажемся такие толпы, то нам уже никакой перевод,
самый правильный, все равно никогда не поможет. Опять важен
не перевод. Важно одно: не «мечемся» ли мы, глухие и слепые, —
и наша тревога возрастает вот от чего: ну хорошо, если слово
«мечутся», φορούνται, «носимы» буквально, «влекомы»,
относится, как многие давно предполагали, к Гераклиту, с сарказмом,
у которого «все течет» и он носится вместе с течением, — но ведь
еще ближе Гераклита тем же словом сам Парменид четырежды
в начале своей поэмы называл свое положение, его несут, несут,
несут кони, он несом, нам может казаться, что мы совсем рядом
с Парменидом — и все равно нас «несет»: когда «несет», это риск.
Как, мы читали,258 Соловьев в конце жизни, в «Теоретической
философии» весь сарказм направил на себя, на свое
увлечение субстанциями, которые он подставлял куда не надо, — так
Парменид здесь, в этом «их несет», вглядывается в самого себя,
257 Там же, с. 296.
258 См. лекцию 9 (12.11.1991). (Сост.)
412
В. В. БИБИХИН
несомого конями, себя проверяет, себя как бы сжигает, чтобы
сгорело то, что может сгореть.
Да, вот так, как это не беспокойно: толпы несет, сказано
тем же словом, каким Парменида несет\ Дальше — хуже: эти
глухие, слепые, шатающиеся толпы удивлены, сказано тем же
возвышенным словом, каким у Аристотеля знаменитый источник
философии, удивление! Мы-то думали что хоть здесь-то
спокойны можем быть, что удивление, философское удивление важная
основательная вещь, — теперь, оказывается, надо еще подумать.
Есть удивление как тупая бездумность, и когда Лосев зло, сердито
ругает глазеющих на луну, Хайдеггер — уставившихся в
изумлении на самолет, — «не глазейте», кричит Лосев, «вы лучше
подумайте о законах движения луны по небу, простое ваше наивное
удивление никогда ничего не даст!» — вот тут-то мы должны
призадуматься, правильно ли мы понимаем философское удивление;
«изумление», переводит Лебедев, но τεθεπότις это перфектное
причастие того же корня, что θαυμάζειν, о котором так красиво
и успокоительно, тысячу раз цитированное, аристотелевское δια
το θαυμάζειν οι άνθρωποι ήρξαντο φιλοσοφείν (Met Α2, 982b
12), «через удивление люди начали философствовать». Ничего
они δια το θαυμάζειν не начали! Начали они «метаться, глухи и
слепы равно, невнятные толпы».
Боже мой, я уже принимаю упрек Парменида на свой счет,
хотя, правда, я меньше других грешил этим «удивлением», его
подчеркиванием. Но все равно грешил. Что кажется, то и есть на
самом деле. Да, это сказано о нас теперешних тоже, обо мне в
первую очередь, «беспомощность жалкая правит в их груди
заплутавшим умом», — только разве что все-таки не совсем, надеюсь,
«правит», потому что я все-таки никуда дальше «беспомощности»
(амехании) и не шел, и когда говорил о розановскои «амехании»,
каменной задумчивости, то не упрекал его, как многие его
упрекали, за то, что он не взял себя в руки, не справился с этой
беспомощностью, с тем, что, как говорит Седакова, ей кажется, что
Розанов это человек без рук и без ног. Еще когда я этого от нее не
слышал, я уже говорил, что в розановскои амехании у человека
как бы прекратилась техника движения руками-ногами. Т. е.
хорошо что хоть это, что «править» меня моя амехания не очень
заставляла, — когда действительно на каждом шагу видишь, как от
растерянности люди принимают такие уверенные позы, начинают
так круто говорить, когда в их груди «амехания», — как хорошо
сказано у Парменида, амехания в груди, потому что эту
неспособность шевельнуться чувствуешь действительно от сердца; — это
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
413
настроение, которое считают настроением расслабленности,
которое я называю настроением мира, или просто — миром, и с
которым борются, которое «укрощают», и может быть главное что
люди делают, что им кажется всего важнее, это именно «укротить»
пустоту внутри себя, исхитриться и сделать небытие в себе родом
бытия, пусть уничтожающего (как воля будет лучше волить ничто,
чем ничего не волить), но какого-то бытия, и Парменид
предупреждает: не удастся, не укротите свое небытие, не освоите, не
смирите его; оно останется небытием. — Тогда люди как они говорят
«с помощью Парменида» начинают его укрощать: говорят, что это
сам Парменид сказал, что небытия нет, поэтому — вот логика! —
если оно в вас есть, в опыте ничто, в опыте пустоты, ведите себя
все равно так, как если бы такого опыта не было.
Я это говорю не в свое оправдание: а только потому, что,
слава Богу, мы не как полные удивляющиеся новички читаем
эту неожиданно гневную инвективу Парменида, готовы ее
читать, с разных сторон подбирались к ней. Теперь принимаем
безусловно, без всяких оправданий, его упрек: мечемся, глухие
и слепые, невнятные; прекрасно сказано: «невнятные толпы», но
у Парменида еще лучше: άκριτα φύλα, племена без «крисиса»,
до «крисиса», решения; которых еще не коснулся кризис, или
которые просто еще не заметили, не решились заметить, что кризис
их уже коснулся. О кризисе человечество говорит весь XX век,
кризис цивилизации и еще какой-то кризис, но «племена», это то
же слово, что английское peoples, думают, что кризис еще не
наступил или что он где-то там, они еще не решили (кстати, мы еще
не говорили, должны будем говорить о переводе хайдеггеровском
проблематичного слова греческого αρετή, «добродетель», или
некоторые говорят — какая добродетель, это «доблесть,
достоинство». Хайдегтер переводит: «решимость»). Άκριτα φύλα, толпы,
которые до решимости еще не дошли. 2,5 тыс лет назад. Может
быть, теперь дошли? Или парменидовская инвектива сейчас нас
еще хлестче бьет, чем когда-то? Заставляет нас, наконец, что-то
решить, на что-то решиться!
И вот здесь опять хорошо, что в прошлом семестре мы
читали Соловьева. Мы говорили и о решимости. Мы говорили,259 что
последней решимости, которая должна исходить от последней
определенности, человеку не дано. Мы ожидаем, что и Парменид
это знает. Мы ожидаем от него, что он назовет достиэюимую для
человека решимость, ведь какая-то должна быть достижима. Он
259 На лекции 8 (29.10.1991 ). (Сост.)
414
В. В. БИБИХИН
говорит, действительно, одно, что делает людей шаткой толпой:
и тут для меня что-то, что прямо меня касается:
У которых существование и небытие считаются тем же
И не тем же.
Прямо касается меня, потому что много раз в прошлом году
и в этом я говорил, что нам не удается решить, где
существование и где несуществование, существование оказывается
несуществованием, и наоборот. «И наоборот», говорится у Парменида
(Лебедев: «все идет на попятную тотчас»260). Вот что делает
слепым, глухим, шатающимся. То, что мы не можем решить, где
существование, где несуществование. Я не мог решить и больше
того, говорил, что в принципе нельзя решить, указать,
постановить: вот оно. Значит вы сейчас имеете право сказать: вот этот
читал Парменида и мудрил о неопределенности, что нельзя
решить, и теперь Парменидом пойман. Мы пойманы Парменидом,
или, вернее, словами Богини, когда не решаемся постановить, где
бытие, где небытие. Как будто бы так? Или не так? Поднимается,
должна подняться волна негодования, гнева, того самого, который
у Парменида: хватит, довольно. Должен же быть простой способ
не быть слепым, глухим, не шататься, не блуждать! Решить это
надо! Или, вернее, давно уже это решено! Наверное, это решено
в том, что, как всем же известно, Парменид объявил, постановил:
бытие есть, небытия же нет! И дело с концом, и хватит шатаний.
Идемте скажем это на экзамене, и нам поставят пять, потому что
это правда. Хватит темноты. И так нам много темнили. Вот так!
260 «фрагменты...», с. 296. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
415
К 7.4.1992
Усмирить, укротить небытие, не оставив его небытием. Но
оно именно такое, какое оно есть: его нет. Его укротить не
удастся. Попробуйте сказать: его нет, и дело с концом. Построим нашу
философию на бытии. «Философия бытия», ерунда такая, говорит
Степин261; мы денег на такую ерунду не будем давать.
Говорит богиня. Человек сам по себе слеп, «люди». Вот
почему Парменид о себе, о несении.
Что их так подводит? Что у них неправильные суждения и
тексты о бытии и небытии? Что-то не слышно, не видно до Парменида
таких текстов. Другое дело — неномистай, суждение, мнение,
закон. Да, законы люди принимают постоянно, суждения,
постановления — постоянно, даже и сейчас я боюсь, что меня схватят за
руку и потребуют наконец написать программу, в которой было бы
видно, что я, наконец, считаю, а что не считаю. Почему я как все
люди не хочу утвердиться, поставить все по полочкам, ведь это так
надо? Потому что слышу Парменида: как только люди начинают
постановлять, законодательствовать, так сразу же у них смешение
бытия и небытия не только продолжается, но (оно неизбежно)
небытие объявляется бытием, и наоборот!
261 Степин В. С. — с 1988 г. директор ИФ РАН. (Сост.)
416
В. В. БИБИХИН
11—9(7.4.1992)
ά/μηχανία; μηχανή
Мы на шестом фрагменте Парменида. Это не медленно; имея
дело только с ним весь семестр, мы все еще далеко не приблизились
бы к «норме», так сказать, «вкладывания» времени и сил, после
которой можно начинать считать занятия хоть сколько-нибудь
серьезными (Парменидом), как это принято в литературе о нем.
Уверяю вас, никакого преувеличения: у Парменида ключи к нашему
сегодняшнему положению. Не только в философии, но и в науке,
и в так называемой культуре. Мы, все одинаково, смотрим на греков
не зря. Платон, главный для нас греческий мыслитель, смотрел
так, как он смотрел на Парменида, и предупреждал нас не зря. Его
предупреждение, его пророчество о Пармениде, о «глубине
совершенно родной», о непонимании самих его слов, не то что мысли,
сбывается с каждой новой современной книгой о Пармениде. Это
не значит, что надо отложить Парменида. Если он сам пока не
может быть прочитан, то и наша неспособность его прочесть, и наша
якобы уверенность в понимании много говорит о нас самих.
Во фрагменте 6, который Андрей Валентинович Лебедев
правильно делит звездочками после первых двух стихов262 (или
можно считать, что пропуск после третьего стиха; во всяком
случае третий стих такой, что он зависает, или до него, или после
него должно идти какое-то пояснение: «Прежде тебя от сего
отвращаю пути изысканья» — от какого, спрашивается? Я говорю, что
Парменид вводит язык нашей — имею в виду нашу европейскую
историю, понимая Европу не по карте до Урала, понимая т. е., что
мы, может быть, и не Европа, но понимая Европу как свободу, как
зернышко свободы, которое очень сильное даже крошечное:
настоящей свободы. Которой в Москве было время, чтобы не было?
Наверное, было. Но это теперь уже не важно, когда в Москве уже
были Леонтьев, Толстой, Розанов, Бердяев, и еще можно сказать
имена.
Для этой свободы, или можно заменить другим словом,
Европы, в середине 6-го фрагмента сразу по крайней мере три
решающих «слова», говорю не в смысле термины, а в том смысле,
в каком говорят: «сказать новое слово» в истории, «дать слово»
самим вещам. Я уже говорил о них, но мало. Парменид В 6, 5—8:
262 «фрагменты...», с. 288.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
417
Беспомощность жалкая правит
В их груди заплутавшим умом, а они в изумленьи
Мечутся, глухи и слепы равно, невнятные толпы.
Надо первым делом отбросить впечатление того, что
неправильно называют «риторикой», нагнетанием негодования и едкой
сатиры, — брани, которая в любом случае быстро сорвется, ей не
хватит злости, захлебнется эта инвектива. Не только у Парменида
в его греческом здесь геометрия мысли, как минимум, отчетливая,
и больше того, звонкость слова, к которой мы еще не научились
прислушиваться, — но кроме того, здесь говорится о смертных
всех, в том числе о нем или в первую очередь о самом себе, о себе
из своего опыта смертного, человека; не какие-то неудачники
попали из людей в метание, а все всегда люди мечутся, глухи и
слепы равно, потому что, говорит Лебедев, «невнятные толпы»,
говорит Парменид, άκριτα φύλα, «племена», или «народы».
Английское people слово того же корня, и я в свое время не сказал,
теперь скажу, что этимология не уходит из слова, даже и забытая,
она продолжает как-то и так определять историю слова. Приведу
простейший пример: в английском «быстрый» quick и fast, и,
наверное, говорящий в спешке на улице человек не знает не помнит
этимологию, скорее всего, — но он почему-то не скажет quick о
машине, поезде: только fast; quick этимологически «живой» (как
в русском — «живой» быстрый). Сохранилось в cut to the quick.263
Этимология неточное понимание. Речь не о том, что когда-то было
в слове, а о том неуловимом, чем слово привязано к самим вещам.
К таким страшно долго живущим словам — «машина,
механизм». «Могу, мочь, мощь». Μηχανή — собственно способ,
прием, не силовой, и в этом отношении в «Дубинушке» хорошо
сказано, что англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел
машину, для случая, когда ему работать невмочь, а русской мощи
помогает дубина. Там и здесь, у англичанина и у русского, мочь,
мощь достигается не просто ломом, силой, а приемом. Не
случайно в значение этого слова, глубокое, в русском языке в меньшей
мере, в литовском и немецком отчетливее входит оттенок желания,
склонности, расположения, оттенок «сама пойдет», из слов той
же песни: машина, механика — уловление, нахождение приемов,
средств ловкого, хитрого изобретательства. Амехания — не
простое отсутствие такого изобретательства; здесь тот случай, где
греч. à не просто привативум, а смешана в своем значении с интен-
263 Задеть за живое.
418
В. В. БИБИХИН
сивум, наоборот, — как в том, что у нас было уже χάσμα αχανές,
зияние такое, что уже и не зияние, сверхзияние. Амехания — да,
«беспомощность», как, первым словарным значением слова
переводит Лебедев, добавляя от себя, для выразительности,
«жалкая», придавая Пармениду вид обличителя, но здесь совсем не то:
я сказал, дай Бог нам его прочитать, προ-читать, не надо спешить
с картинками гневного критика человечества. Еще мы посмотрим,
какое это человечество, что за человечество.
Марио Унтерстейнер, автор, может быть, самого подробного
обзора мнений переводчиков, советует по поводу слова «амехания»
посмотреть работу одного из самых блестящих филологов XX в.,
Бруно Знелля «Эсхил и действие в драме».264 У нас есть в
сборнике «Человек и культура»265 первой статья [об этом] А. В. Ахутина
«Открытие сознания (древнегреческая трагедия)». Решающий
момент трагедии, как правило обозначающийся вдруг среди,
казалось бы, привычного течения жизненных случайностей,
«странный момент», отмеченный момент обрыва плетения бытовых
нитей, череды поступков, «по горизонтали жизненного действия
зритель доходит до точки, в которой привычное движение мира
останавливается и открывается некое вертикальное измерение.
Это и есть ситуация трагической апории».266 Вертикальное? Мы
не будем спешить с названием; «горизонтальное», «вертикальное»
пока еще только схема. Об апории мы говорили: невозможность
пройти безусловная, невозможность пройти напором (слово того
же корня, что «апория»), никаким напором. Оказывается, что не
всегда человеку просто не хватает силы; иногда не хватает самой
возможности действовать. «Невозможность действовать в
условиях необходимости действовать»,267 из-за открывшейся не
нерешенности, а нерешаемости, неразрешимости положения. «Увы!
Отовсюду неодолимые трудности. Множество бед обрушивается
на меня, как поток. Я заброшен в бездонное, непроходимое море
злосчастий, и нет убежища от бед» (Пеласг в «Просительницах»
Эсхила, ст. 467—471).268 В трагической амехании «космос и миф
перестают нести или вести героя» (20269).
264Philologus,Supplbd.XX, l,Lpz., 1928,p. 14—15,27—28,31—32,44,48,60.
265 M.: Наука, 1990.
266 Поскольку В. Б. оставил указания на страницы не для всех цитат,
укажем номера страниц по последнему изданию статьи: Ахутин. А. В. Поворотные
времена. СПб.: Наука, 2005, с. 162. (Сост.)
267 Там же.
268 Там же, с. 163.
269 Там же, с. 164.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
419
Ахутин говорит: «Трагическая апория, амехания, остановка
и недоумение (вспомним «изумленье» в следующем стихе после
амехании270 у Парменида) приводят к узрению какой-то изначальной
несходимости, несоизмеримости в человеческой, космической и
божественной природе».271 Это не сразу увидишь. Еще не так давно
нам говорили, что это у нас только несходимость, несоизмеримость,
а партия решила, нашла, что для нее всё открыто. Партия поэтому
вела страну. Для партии все дороги были открыты. Она владела
механизмами и механизмом введения механизмов в действие.
Единственной проблемой оставалось только убедить некоторых —
очень немногих — людей, которые почему-то продолжали
говорить о тупике. Их в крайнем случае надо было если не убедить, то
заставить замолчать, и тогда все будет в порядке. — Уже четыре
года назад стало видно, не просто казаться, что вся страна как без
рук. Мы имели, вся страна, опыт амехании — или я не прав? Или
для опыта амехании еще мало просто беспомощности, «как без
рук», а нужна еще догадка, что таково положение человека, что
к существу человека [это принадлежит], а для этого мало просто
снова и снова убеждаться, что механизмы не помогают? Нужен
опыт какой-то другой? — Или, может быть, наоборот, — для
человека нет ничего роднее опыта амехании, опыта
заколдованной неподвижности — или опыта Розанова; трагедия не создает
(говорю трагедия политическая, или трагедия на сцене, второе,
определеннее, точнее) опыт амехании, а только напоминает о нем
и показывает «выход» — выход, который Ахутин называет
«переходом от горизонтали к вертикали», пока еще только схема, или
определеннее говорит: «Погружаясь в эту апорию, героическая
энергия действия (развеянная амеханией) превращается в энергию
мысли, а точнее сказать, в энергию сознания»,272 которая оказывается
одной у автора мифа, у актеров и у зрителей. Они выходят в новое
качество, все соединяются в опыте амехании, ведь невозможность
движения делает ненужным движение, прекращает расстояние
между людьми, люди вместе в амехании, потому что не могут ни
помешать, ни повредить, ни помочь друг другу — они вместе, как
никогда и нигде. Как совершенно один, беспомощный и брошеный
(здесь можно вспомнить Geworfenheit Хайдеггера), человек как
никогда вместе со всеми. Ахутин: «Трагическая амехания
знаменует точку выхода из мира, ситуацию радикального остракизма,
270 Фр. 6, ст. 5—6 в стихотворном переводе А. Лебедева («Фрагменты...»,
с. 296). (Сост.)
271 Ахутин. А. В. Поворотные времена..., с. 164.
272 Там же.
420
В. В. БИБИХИН
которую трагедия осознает не как несчастный случай или результат
злостной виновности, а как глубинную черту человеческого бытия
...» (22).273 Этому радикальному остракизму вроде бы среди всех
собравшихся на сцене и на скамьях тысяч народу подвергается
как будто только один, например царь Эдип; но все угадывают
свой остракизм благодаря показанному царю Эдипу как
«глубинную черту» своего бытия. Остракизм применялся для того, чтобы
лишние, ставящие палки в колеса, неуместные были изгнаны из
города и остались бы только свои, свойские, которым легко и
хорошо друг с другом; но хорошо после остракизма некоторых
как-то не получалось, всегда тревожило подозрение, что не всех
или вообще не тех кого надо изгнали, а кроме того каждый тайно
в себе продолжал скрытно от других изгонять того, кто тоже
заслуживал изгнания, чтобы стать уж точно, окончательно не
подлежащим изгнанию. Вместе как-то фатально не получалось. Теперь,
в момент угадывания себя в царе Эдипе или этого «радикально
изгнанного» в себе, только теперь, когда все оказывались на этом
стадионе, в этом амфитеатре в остракизме соединение общества,
или я называю мир, достигались такие, какие ни в каком другом,
иначе устроенном, не посещающем коллективно драму обществе
были немыслимы, невозможны, например в Персии, где изгнание
и исключение были повседневной практикой, и все это очищение
никак не очищало до конца. Теперь во внезапном повороте когда
человек угадывал в себе как раз того самого, от кого надо
очистить, надо очистить от царя Эдипа, потому что от него на город
найдут и уже нашли беды, человек угадывает в себе как раз того,
кто никуда не годится, выпадает из ряда. Человек «осознает себя
существом космически странным, почти чудовищем. На эту тему
размышляет хор в первом стасиме „Антигоны" Софокла. Много
„могучего" (буквально „чудовищного", „чудного"; стоящее здесь
слово δεινός означает „страшный", „ужасный"; так, например,
говорится о Харибде в „Одиссее" —12,260...) — много могучего на
свете, человек же всех могучей. Могуч Океан, могуча неутомимая
древняя богиня Земля, по-своему могучи и хитры рыбы, птицы,
звери, но человек их превозмогает. Он бороздит моря и заставляет
родить Землю, ловит птиц и зверей, заставляет служить себе
лошадей и быков; он владеет речью, умеет защищаться от непогоды,
знает лекарства».274 Только с одним он не может справиться — он
не может перестать быть смертным.
273 Там же, с. 167.
274 Там же.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
421
Смерть — «апория». Или Софокл называет смертью
апорию? Так или так, смерть предел, или есть предел, который
принимает лицо смерти — человек не когда-то, посмотрев «Царя
Эдипа», узнает, а с самого начала в своем существе имеет дело,
знает или нет он это, с амеханией. Поэтому, правильно у Ахутина,
«решающий, судьбоносный момент, как правило затерянный в
неразберихе жизненных обстоятельств» (18275), не разобраться,
почему именно эти обстоятельства вскрыли обрыв (в том смысле,
в каком я говорил об обрыве Гончарова и Обломова), любые
обстоятельства могли вскрыть тот обрыв, потому что всегда уже
есть существо человека — такое, где неисчерпаемая «механика» (в
смысле всяческой техники) и «амехания» есть — и как они
относятся друг к другу? Вот способ обычный понимания: да, наверное,
вы, к сожалению, правы, человек, такой бесконечно
изобретательный, имеет обрыв, имеет Обломова (облом, обрыв) в себе, имеет
Розанова в своем существе. Да, наверное, вы правы,
действительно, иначе человеческому размаху давно не было бы видно конца,
а так он все как-то срывается. С одной стороны, у него техника,
неистощимая механе, с другой — эта амехания, наверное вы тут
в чем-то угадали, скажут мне. Я скажу, что мне такого согласия
мало. Я скажу, что (я тут ненадолго отхожу от Ахутина, потом
еще доскажу его статью, безусловно заслуживающую чтения,
я ловлю себя на мысли, что это единственное наше современное,
что я советую вам прочесть) — скажу, что как тот древний театр,
даже не религиозная церемония, не ритуал, а так, игра,
художество, видите ли, — именно он, может быть, через напоминание об
одиночестве, трагическом, соединял людей и дал собранность
полису, противостоять наплыву многократно, до смешного намного
превосходящих масс деятельного, мощного человечества, — так,
в разных искусствах и науках повторяясь, слабое и беспомощное
оказывается, и тут капельки достанет, началом всякой техники,
всякой механики. В — каждый это знает — именно опыте
потерянности, растерянности, загнанности, в нищете откровенной,
признанной ключ к технике. — Если кто думал, пытался словом
схватить мысль, тот знает, — и здесь наверное я говорю об общем
опыте, — тот знает, как пусто всякое думание и писание, которые
просто продолжают наши повседневные говорливые,
рассудительные, компетентные навыки, как бесполезно записывать то, что мы
и без того знаем или видим в чужих книжках. И с другой стороны
каждый знает, что только состояние (или настроение), которое
275 Там же, с. 161—162.
422
В. В. БИБИХИН
Розанов называет «каменной задумчивостью», когда не то что
выдавать блоками фрагменты знания, но едва можешь дышать
от неподвижности, от тиши, — тогда только, странным образом,
только через этот фильтр, который, кажется, отнимает всё,
начинает проходить странная, ненасильственная (тонкая) мысль и не
свое, не условное слово.
Есть фраза у Ахутина, о которой я жалею, что не я ее написал.
«Трагедия... открывает в мире его онтологическое основание —
загадочную амеханию» (22276). Эта каменная задумчивость —
не «Розанова» психологическое состояние, это онтологическое
основание мира, или, может быть, еще короче можно сказать: это
мир, человек принадлежит тут миру, мир человеку, или в мире как
мире открываются и мир, и человек в своем существе (ведь прав
Хайдеггер, что кантовский вопрос, что такое человек, was ist der
Mensch, лучше бы спросить иначе, кто такой человек, кто есть
человек, кто бывает человеком, или, может быть, когда бывает
человек. Человек бывает в мире).
Мир — загадочная амехания. В амехании человек
прикасается к началу вещей. В амехании человек не может, он не может,
безусловно, и в амехании впервые он не делает, не он делает, не он
устраивает то, что делает, — странные речи, странные поступки:
он и не он, через него, не только он.
Я совершенно не могу понять, почему Ахутин в том же
абзаце, где слова о загадочной амехании, говорит о «решающем
действии и слове смертного» (22277). Амехания: неспособность
действия. Абзац и раздел кончаются фразой: «В основе того, что со
всей космической и даже божественной мощью бытия определяет
человека и его сознание, трагически обострившееся зрение
усмотрит свободную волю самого человека, его само-определение»
(23278). Острое впечатление пропущенного «не» в том, что
определяет человека, никакое зрение никогда не усмотрит
самоопределение человека. Несчастная «теория» сознания, как будто
бы из себя изводящего и онтологию, и драму, цепко держит автора,
не дает ему отпустить человека туда, куда человек принадлежит:
на улицу, draußen, на волю, наружу,279 в мир — где человек сам
уже только в том единственно настоящем смысле, его самость,
276 Там же, с. 168—169.
277 Там же, с. 168.
278 Там же, с. 169.
279 Ср. у А. В. Ахутина там же, на с. 165: «Быть в сознании — значит, быть
на виду, на площади, на позоре...». (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
423
которая больше человека, — только потому сам, что уже не сам
себя определяет.
В этом «самоопределении» человека тем более мне
трудно что-то понять, что сам Ахутин ниже говорит: «Решившись
принести в жертву Ифигению, Агамемнон преступил амеханию
собственной сознательной волей» (25280) и тем развернул
неостановимый уже механизм рока Атридов, вереницы убийств своих
своими. Амехания не для принятия самовольных мер, она,
однажды открывшись, во что бы то ни стало не должна уже закрываться,
она единственное, что способно хранить существо человека.
Тем более, я говорю, мне трудно понять, откуда берется
императив сознательного самоопределения человека, если сам же
Ахутин потом еще пишет: «...далека трагическая амехания от
простой растерянности, беспомощности и нерешительности, сколь
насыщена она энергией возможного действия («энергией
возможного действия» — трижды сказано одно: достаточно было сказать,
сколь насыщена амехания энергией. Здесь как бы вся энергия
мира, энергия покоя собрана вместе — впервые: полнота). Только
предельное напряжение сил, равномощно сталкивающихся в груди
героя, может высечь ту молнию сознания, при вспышке которой
внезапно и на мгновение открывается, сколь глубоко коренятся эти
силы и каков их осмысленный облик. Орест, едва ли не
теряющийся в тени своей матери, гонимый, послушный, безмолвный
подсудимый на суде богов, — именно Орест объемлет собой трагедию, в
нем и с ним она разыгрывается» (29281). Сказано точно: «гонимый,
послушный, безмолвный». Где ошо-определение? Где обострение
сознательной воли? Только открытость и позволение быть тому,
что не он сделал! А кто тогда? Вопрос такой же трудный, как кто
такой человек.
Мы знаем, точно можем сказать, что за порогом амехании,
прошла через его фильтр трагедия; мы думаем, что то же очищение
прошла философская мысль Платона. И вот об амехании говорит
Парменид. Амехания правит, говорит он в нашем 6-м фрагменте.
Никогда не правит; вот уж что единственное не делает, так это не
правит. Или, если хотите, она правит — как у Агамемнона, который
вышел, вырвался из амехании волевым решением и начал так цепь
тянущихся одно за другим внутрисемейных убийств. Амехания
заряжена энергией как ничто, она в каком-то смысле невыносима
и может, будет править, но — заплутавшим умом, который начи-
280 Там же, с. 171—172.
281 Там же, с. 177.
424
В. В. БИБИХИН
нает плутать как раз потому, что им правит то, что править как раз
не может: на чем всякое «правление» и «управление» кончаются.
Блуждающий ум блуждает тогда, когда амехания не допущена,
не в том смысле, что не впущена, она всегда уже принадлежит
человеческому существу, — но не принята как она сама, подчиняется
механике, опять же. Принуждается, без свободы. Удивительное
много раз показанное военное превосходство, и техническое,
свободных над несвободными, когда греческие, а позже римские
победы над восточными армиями, которые были, скажем, в сто раз
численнее и богаче всевозможным вооружением, и бежали, —
победы были бы невозможны, если бы у человека не было навыка,
опыта не бегства от своей собственной свободы. Но это только
предположение; объяснения Западу, Европе еще не найдено [...]
Но вот, — или может быть я опять ошибаюсь, я прошу меня
проверить и поправить, — ив этом смысле Запад включит, наверное,
и Конфуция, и зен-буддизм, — к Западу (к которому и мы тоже
принадлежим, «Скандовизантия», как называет Русь, Россию
академик Лихачев) принадлежит воспоминание о «не могу», амехании,
о которой по поводу мира, по поводу Розанова мы по-разному,
в разных словах говорили, которые в существе человека.
Парменид об этой амехании думает? Как сказать. До сих пор
я не видел, чтобы он не угадывал, не попадал во всем, что он
говорит, в главные темы нашей истории. И здесь тоже. Совсем не
обязательно думать, что в 6-м фрагменте его инвектива против
«гераклитовцев» или против вообще какой-то школы, многие
замечали, что он говорит — вернее, богиня — о человеке вообще.
Может он не блуждать умом от беспомощности, в бес-по-мощности,
в своей немощи, полной, в неспособности применить механизмы
тела и духа? Когда так называемая мощь духа просто не работает?
По определению может и должен блуждать. Богиня поэтому
говорит, так сказать, безопасно, задевая всех, и Парменида, и Парменид
знает, что задет он тоже, — знает в этом слове, φορούνται,
«несомы, носятся», вариант, модус его счастливого «несения» в его, как
сказал Карл Рейнхардт,282 «апокалиптическом» полете с дочерьми
солнца, гелиадами. Не так, что подхваченный божественным
сопровождением, человек избавляется от амехании, — она остается,
и его ум как никуда не девающийся человеческий ум продолжает
блуждать, мечется, слепой и глухой. — Все блуждают, и Парменид
тоже, отсюда гнев, расстройство, отчаяние Богини против людей,
282 Reinhardt Karl Pannenides und die Geschichte der griechischen Philosophie.
Bonn, 1916.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
425
самого Парменида против самого себя, не против того, что он слабый
смертный, а против того, что снова и снова он забывает о своей
слабости и дает немощи править. Ниже эта мысль развернется с другой
стороны: со стороны того, на что опирается человек в своей амеха-
нии, — на то, что никогда не откажет, всегда под рукой, неизменно
надежно, — то, что показывают глаза (или телевизор, ведь
телевизор можно всегда включить), слышат уши и чувствует язык (еда).
Но это тема следующего, 7-го фрагмента. Пока мы при амехании.
Еще раз: давно замечено, что то, что в нашем 6-м фрагменте
можно принять за осуждение умным Парменидом каких-то
незадачливых заблуждающихся, слова «незнающие», «немощные,
глухие, слепые, блуждающие», — в ранней греческой поэзии
обычные, стандартные описания человеческого существа вообще в его
отличии от божества. В переводе словосочетание «люди, лишенные
знанья», можно понять в смысле уточняющего распространенного
определения: те из людей, которые лишены знания, в отличие от
нас, знающих. Но ведь в греческом там βροτοί είδότες ουδέν, где
«ничего не знающие» — постоянный, устойчивый эпитет к βροτοί
«смертные»; почти одно и то же, сказать «ничего не знающие»
или «смертные». Из одного исследования: «Так что Парменид
применяет те определения, котороые у других (sonst) всегда
обозначали общую недостаточность (Defizienz) человека».283 Прошлый
раз я с удивлением увидел в числе этих постоянных эпитетов
«удивленные»: слово, которое обычно мы связываем с началом
философии, а здесь, оказывается, — с началом глухих и слепых
метаний. И я подумал: не зря у меня было всегда чувство
неблагополучия, когда говорили об удивлении как начале философии.
Перестану так говорить, надо подумать, разобрать. Сейчас, в этом
парменидовском контексте, наверное, можно и снова вернуться к
этому, θαυμάζεΐΛ/ все-таки, наверное, начало философии, только
почему мы думали, что это созерцательное удивление? что-то
чистое, мягкое, мирное? Дело эстетики, глядения. Это слово
принадлежит к семье, с первоначальным значением шока, какой бывает,
скажем, на войне. Военные значения слов этой семьи у Гомера:
«ошарашенные, помраченные», как люди, которые теряют голову
в середине военной драки (кто-то сказал, что в Гомере уже
содержится начало всей философии, греческой; и когда Плотин, поздний,
сравнивает положение человека в мире с положением попавшего
в середину боя, уйти из этой свалки просто уже невозможно,
ничего не получится, а остается только выбор, один, сражаться во
283 Heiisch Ernst. Gegenwart und Evidenz bei Pannenides. Mainz, 1970, S. 56.
426
В. В. БИБИХИН
всю силу или вяло, — и подразумевается этим сравнением, что в
неразберихе сражения кажется все равно как, все равно ничего не
поймешь, но в конце из отдельных усилий складывается то, что
вовсе не все равно, победа или поражение, — в этом сравнении
поздний Плотин снова возвращается опять к тому же Гомеру), —
τεθηπότες, «ошарашенные, в шоке», например, люди, внезапно
видящие, что они в плену, в руках врагов, это не шуточная
ситуация, «вздрагивающие, как перепуганные животные» (Δ 243, Φ 29).
Патрокл, гонящий врагов, на вершине своего успеха, когда боги
решают, что пора этому человеку поставить предел, встречается
с Аполлоном, не распознает его как бога (П 789), замахивается и на
него в увлечении тоже, но одним ударом Бог его «ошеломляет», с
него срывает боевое снаряжение и отнимает оружие, разоружает,
и Патрокл стоит сбитый с толку, растерянный (П 806). Ситуация
разоружения — та же, что в трагической амехании. Или когда
прокрадывающемуся человеку на опасном пути вдруг встречается
незнакомая фигура — Приаму: συν δε γέροντί νόος χύτο, (Ω 358).
Или когда Пенелопа, после долгого ожидания, когда муж уже перед
ней, но не верится, и у нее отнимается язык и темнеет в глазах, —
и тоже «в груди», как сейчас только у Парменида было сказано
об амехании, «амехания в их груди правит», так у Гомера (Ψ 105)
θυμός μοι. ένί στηθεσσι τέθηπεν (еще места Δ 246, Λ 545, 777,
Φ 64, Ψ 101, ς 166, 168, η 12, ω 392).
Если иметь в виду и этот круг, эту широту того семейства слов,
к которому принадлежит философское изумление, θαύμαζεlv, т. е.
в русском — тоже — понимать «изумление» буквально, то такое
из-умление действительно начало философии, как Патроклу надо
было сначала, чтобы у него выбили из рук оружие, сорвали с него
доспехи, божественным мощным ударом, чтобы стоять
обезоруженным и сбитым с толку и догадываться, что перед ним, кто
перед ним.
Мы в 6-м фрагменте. Я хочу сказать, что есть связь между
амеханией или из-умлением и бытием и небытием. Связь эта такая:
решения никакого, никакого самоопределения бытия и небытия в
амехании, в из-умлении нет и не может быть; и одновременно:
нигде человек так не стоит между бытием и небытием, перед или-
или, как в из-умлении, только: только не ему здесь решать. Но ведь
амехания в существе человека, смертного! Значит άκριτα φύΛα,
«нерешительные племена» люди в своем существе — при том что
всегда и в изумлении, в амехании особенно дело идет о
различении, для них, и они всегда различают между бытием и небытием,
и всегда по существу глухи и слепы, т. е. всегда различить не могут,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
427
и всегда у них, они срываются в каждом слове в то, чтобы судить,
распоряжаться о бытии и небытии, и всегда у них (фр. 6, ст. 8-—9)
το πέλεlv τε και ουκ είναι ταυτόν νενόμισται κού ταύτόν, через
каэюдую фразу, каждое слово проходят вплетенные в них бытие
и небытие, только о бытии и небытии для человека по существу
идет дело — и как раз это, акрита фюла, он решить никогда,
в принципе, пока остается смертным, не может! Хорошенькое дело!
Да что же это такое: человеку для решения вручено бытие и
небытие, и справиться с этим он не может, словно ему дали в руки огонь
и он справиться с ним не может, — как современному человечеству
дана в руки атомная бомба, решение быть или не быть вообще
человечеству, и опять не может решить, каждую минуту решает
и не может решить, и живет под этой нерешенностью, и история
продолжается в этой нерешенности? Или я не прав? Тогда скажите
мне, где бытие, где небытие. Вы скажете, кто-нибудь скажет, что
для верности держитесь логики, утверждайте, что бытие есть,
а небытия нет, — я скажу, что в этом удержании логики уже почти
наверное небытие, самое пустое, буквально празднует.
Якобы Парменид сказал, что так и так можно говорить и
думать только то, что есть, в самом произнесении слова есть по
крайней мере воздух, flatus vocis. Т. е. якобы не получится, чтобы
от говорения и думания ускользнуло бытие, как присутствие,
и богатство, — произношу и в произнесении вижу, как
неблагополучен этот тезис, прямо действительно абсурдный. Человек
якобы ловит словом из пруда рыбу, которая там водится всегда.
Попадание обеспечено.
Кому из толкователей понятна эта неладность, они читают
первый стих 6-го фрагмента иначе, как императив, как запрет на
говорение и думание всего, что не есть, что не бытие. Извольте,
очистите свое слово так, чтобы осталось только бытие. Эту задачу
поставил в теоретической философии Соловьев и сорвался на ней.
Для этого ведь надо уже заранее чтобы кто-то решил, показал, что
не есть, о чем запретно говорить. (Скажем, кто-то сказал бы, не
говорите о ничто).
Но ведь этими тощими «смыслами», с позволения сказать, не
ограничивается чтение Парменида! Мы ведь должны читать, —
и читаем еще вот что, неожиданно: не бывает, не получится так,
говорить и думать так, чтобы в каждом слове, в каждой мысли
не решалось в конце концов, по существу именно это: что бытие
есть, а небытия нет, и или мы с бытием, или мы в ничто, о котором
нельзя и не нужно обычными [словами] говорить, — как не
нужно перелопачивать груды специальной философской литературы,
428
В. В. БИБИХИН
доискиваясь, что там неладно, да и вообще груды какой угодно
литературы. Со словесными свалками не так, как с
вещественными: те надо расчищать, обязательно, словесные, наоборот, надо ни
в коем случае не трогать. Надо уметь иметь дело не с текстами.
Все равно никакими уловками «укротить» небытие не удастся,
это не конь и не невеста, и не дикий зверь, оно дичее, если можно
так сказать, чем самый дикий зверь, его нет, — ничего не выйдет,
ничего не выйдет, ничего не выйдет.
Одно и то же парменидовское слово, φέρω, «нести»,
сказанное сначала о себе, несущемся с ранними лучами солнца к
воротам Дня и Ночи, потом о толпе смертных, шатающейся в слепоте
и глухоте, показывает, по какому рискованному, какой рискованной
кромке проходит Парменид. Лебедев, в каком-то смысле
вдохновенный переводчик Парменида, дает фразу с двумя смыслами так
тесно льнущими друг к другу и так далеко расходящимися, что
нет никакого способа различить, схватить, нет критериев, нет
метода, и хоть брось. Или смирись с тем, что смертный в том, что
главное, ходит нехожеными путями.
В каждой мысли, в каждом слове дело идет о бытии и
небытии — не мы это придумали, с человеком почему-то это
всегда так, он уже держит в руках огонь, он уже рискованный, не
в каком-то отвлеченном смысле «быть или не быть», а во всех
смыслах, в том числе и в самом прямом, или лучше сказать в
самом тупом, или в самом тупиковом, во что упираешься как в
стену, — просто стирание всей этой сцены, несколькими бомбами,
всего этого тысячелетнего театра, где идет спор, речь, решение. Во
всех смыслах, без всякого иносказания, прямо, в каждой
человеческой фразе дело идет о бытии и небытии — и человек снова и
снова отброшен в амеханию, в из-умление, где никак не укротишь
небытие — как в том хоре из Софокла, где человек покорил все, не
может только... не может только... не может. Что это, что он не
может? Зверь — не зверь, хаос — не хаос. Зверь неукротимый —
настоящий Бог; он назван у Софокла своим признаком, порогом,
порогом смерти. В названии человека, «смертный», назван тот же
порог. Его не укротишь. С ним не шути. Он кротким не станет.
Ну вернемся же к нашему вопросу. Есть в конце концов
небытие или его нет? Отвечайте не мудрите. Но со всей
трезвостью, со всей серьезностью, без хитрости, без уловок надо сказать
с Парменидом: но нет небытия, тысячу раз нет, на тысячу ладов
его просто нет, нет и нет так, как ничего еще не бывает нет. По
отношению к этому мертвому, глухому нет, плашмя и неотвратимо
ложащемуся, различия между присутствующим и отсутствующим
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
429
считай не существует; оно просто иррелевантно; от
отсутствующего к небытию вовсе не ближе, чем от присутствующего. Не имеет
отношения. А Бог? Бог, мы говорим, творит мир из ничего. Ах
только не надо хитростей — значит ничто есть то что, из которого Бог
творит мир, материал творения. Ничего подобного. Ничего нет,
оно не какая-то особая хитро устроенная материя. Что Бог: для
художника его нет, в ужасе столкновения с которым он находит
и свое одиночество, и свое призвание, —тоже нельзя исхитриться
чтобы превратить в материю, не надо, ничего не получится. Нет
это то чего нет, нет и нет. А мыслитель? Можем мы сказать, что
небытие хватает мыслителя за глотку? Глотка — сущее, хватает за
глотку сущее. Сущее есть, разными всякими способами есть,
небытия же нет, тысячу раз это повторить и ничего не изменится.
Тогда что, хватает за глотку сущее? Этот путь, цепляния слов за
слова, — один из самых гадких и скверных, к которым прибегает
человеческое беспомощество в надежде что-то выкроить из своей
амехании. «Правит амехания» в таких «логических рассуждениях».
Они выдохлись, опустели, лишились бытия еще прежде чем
начались. Мы говорим, что небытие нас хватает за глотку. Это наше
говорение прежде всяких других отношений относится к бытию,
уже втянуло нас в решение бытия и небытия — вовсе не логическим
разбором, что нас хватает за глотку, а мы еще даже и не знаем
как, отголосками сказанного, моментом говорения, слушателями
втянуто в решение — чего? Все того же, бытия и небытия. Где
мы, там, где есть или там где нет! Во всяком говорении через нас
взвешивается бытие и небытие. Говоря о глотке или о чем бы то
ни было, мы уже ввязались в «крисис», распознание, для которого
критерии есть? Вот он, главный и единственный, названный в
начале нашей истории Парменидом: бытие есть, а небытия нет,
нет и тысячу раз нет, и ни заигрыванием с ним, ни отшатыванием
от него мы его не укротим, не сделаем так, чтобы его не не было.
Небытию поэтому вот что важно — ничто не мешает править
нами через эту самую нашу беспомощность. Нашу амеханию,
перед Ничто, потому что никакой «механикой», никаким «могу»
мы не можем из ничто выудить, выдавить бытие.
Не верится. Не хочется верить. Бог ведь, наверное, умеет
справляться с Ничто, Бог может все, и дать эту же силу человеку
он тоже может, если захочет? Творит из ничего... Он может дать
человеку божественную благодать, творить из ничего? Ах нет,
этого единственного дать Бог человеку не может — не может
смертного сделать не смертным, потому что и в обожении, теоси-
се, обоживается смертный.
430
В. В. БИБИХИН
Перед лицом Ничто человек перед лицом ничто, и никак
исправить это, изменить, отставить нельзя. Мгновенно почти
захочется увидеть это лицо ничто, но снова и снова прав Парменид: ничто
нет. — На машинах можно видеть иногда нарисованные чайники,
чайником называют неопытного водителя, происхождение этого
смысла страшное, чайниками или самоварами называли после
войны — они недолго прожили — обмороженных солдат, у
которых были ампутированы и руки и ноги. Это было так страшно,
что их ссылали подальше от людей, они иногда должны были жить
с каким[-то] — можно представить каким — уходом на островах.
Чайники, неумелые водители на машинах, как беспомощные. Этот
опыт беспомощности знали те обмороженные и — его знают, его
имеют настоящие художники. Ольга Александровна Седакова
еще и не знает, как она права, как она часто права в своем
ясновидении (др.-инд. поэт кави, ясновидец, слово то же, что русское
«чуять» — и между прочим кажется русское «читать»), — когда
говорит о Розанове, что он ей кажется человеком без рук и без ног.
В амехании человек без рук и без ног, и в следующий раз я скажу
главное, что у меня есть сказать обо всем этом: по поводу
следующего 7-го фрагмента. Бог помогает смертным, тем, кто встретил
и принял свой опыт, родной, опыт амехании. —
Амехания человека не может быть преодолена. Каким
образом, в самом деле, если небытие не приручить? Вся современная
планетарная техника, все ее присутствие не поможет для
преодоления обрыва, облома в человеке: техника иррелевантна. Техника
постепенно приводит все к предельному, настоятельному
присутствию; до 1300-го года, года Дантовской поэмы, время было —
утро, вечер, ночь; с 1300-го — часы; в 1-ю мировую войну — счет
на минуты, артобстрел начинается в 4.30 (положим); сейчас —
секунда, и миллионными долями секунды; телевидение дает всему
миру через спутники присутствовать на расстоянии руки — но это
иррелевантно\ Парменид новость сейчас, как никогда: распознай
в присутствующем (скажем, на экране) отсутствующее, и
наоборот, в отсутствующем присутствующее.
Еще раз: чего нет — того нет, нет так прочно, что никакая
сила, никакая мощь не вынудит из этого «нет» есть. Но человеку
его видеть не дано. Человек это место решения о нет и есть.
В этом решении — он неизбежно, постоянно «узаконивает бытию
и небытию быть одним и тем же, и колея всего возвратная» — т. е.
то, что уже вроде бы утвердилось как признанное бытие и
небытие, привычно уложилось вот в такую колею, будет возвращено...
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
431
11—10(14.4.1992)
1) τιέλω, πέλειν; 2) δαμόω, δαμώ, tame, δάμαρ.
Из своей Дали, 2,5 тысячи лет назад, Парменид сообщает:
небытия нет. Это новость? Я думаю, что это отрезвляющая новость.
Новость вот какого рода, прочерченная простыми ясными
линиями, тут можно вспомнить рисунок на греческой вазе: отчеканенная
отчетливость очертаний. Небытия нет, его, так сказать, нет как
нет, никаким диалектическим отрицанием отрицания из этого
нет не вынудить да, мы будем об этом сегодня говорить по поводу
седьмого фрагмента, а пока мы на шестом фрагменте. У смертных
νενόμισται, «узаконено», т. е. установлено, положено — т. е. в
их узаконениях, решениях, постановлениях, мнениях, принятиях
дело поставлено так, что бытие и небытие оказываются одним
и тем же и не одним и тем же, т. е. смертные не могут справиться
в своих узаконениях, буквально наделениях (они наделяют одно
существованием, другое несуществованием) с непроясненностью,
с неопределенностью, неопределенность остается. Это значит:
во всем, что говорят и решают смертные, небытие замешано так
прочно и необратимо, что именно намерение распределить,
разграничить, присущее смертным... (мы много об этом говорили,
всякое говорение, мысль, решение так или иначе определяют,
постановляют, чему быть и чему не быть, что считать бытием и
что не считать бытием; смертные, мы т. е., люди, ничем другим
ведь в сущности не занимаемся, как вы слушая меня, прежде
всего решаете, толк я говорю или вздор, годится это куда-нибудь,
считать это чем-то или не считать, и решаете, или не решаете, и
во втором случае оставляете решение на потом или как-то
перекладываете его на других). Никогда и ни при каких
обстоятельствах смертный как смертный, т. е. слепой и глухой перед богиней
(наверное, богиней истины, которая безусловно знает, что есть и
что не есть, уж она, богиня, знает)... нерешенность, сведение их
в одно и разведение их останутся, ленточка небытия так сказать
перевивает все говоримое и думаемое — потому что, с одной
стороны, бытие ведь есть, а небытия нет, и, с другой стороны, для
человека в первую очередь дело идет о бытии, «необходимо, чтобы
мысль и слово пребывали бытием», в смысле — держались только
бытием, стояли только на бытии, за него, так сказать, цеплялись,
только от него, от бытия, получали смысл. — И это тоже новость
для нас. «Необходимо, чтобы говорение и думание было бытием».
432
В. В. БИБИХИН
Это виртуозное по блеску «необходимо»: необходимо и так, что
они есть уже бытие, если они есть, — и необходимо, чтобы мы
приложили к этому силу, какая у нас есть, потому что все равно
ни к чему другому силу в такой мере прилагать не надо. Новость.
Да, новость: говорящая, зачем мы, к чему мы, о чем мы. И
говорящая, что никогда нам не удастся, нечего и стараться, вычерпать
небытие. Зачем же тогда еще об этом говорить, раз не удастся?
А затем, что как раз это в первую очередь и почти всегда мы,
смертные, забываем, — и что дело идет о бытии, и что нужно
смиренное знание, знание смертных, что вычерпать из того, что
мы думаем и делаем, небытие не удастся. А нелепого смысла, что
бытие слову и мысли обеспечено, нечего опасаться, у Парменида
нет. Не только не обеспечено: никогда не может быть
обеспечено, — и как выпутаться? Не знаем как, и никто не знает; но
заведомо не выпутаться, если этой новости не знать: что в каждое наше
слово, в каждую мысль прокрадывается и прокралось небытие,
которого нет, нет и нет, и перед этим прокрадыванием небытия,
ускользанием бытия каждый так же наедине, как со своей
смертью, каждый смертный в совершенно интимных невытеснимых
и незаменимых отношениях с небытием.
А до концепции бытия, до понятия бытия и до определения
бытия Пармениду настолько мало дела, настолько по
сравнению с самой этой вещью, перед лицом этого предстояния бытию
и небытию, которые сами по себе весят, [сильна] правда
этого предстояния [...], что почти и обозначать их не надо, только
штрихом, вспомним опять безупречно точный штрих на
греческих вазах, — что Парменид словно, демонстративно, нарочно
вместо привычного нам бытия говорит вдруг, ставит на место
είναι (φρ. 6, ст. 8) другое слово, πέΛειν, того же корня, что наше
слово, происходящее от греческого, «полюс», то, вокруг чего все
вращается, — «вращаться, обращаться, бытовать, существовать,
отираться», если хотите, «вращаться в высших сферах», как мы
говорим о заметном общественном бытии. Этим исключается узкое
понимание парменидовского бытия: оно и не только
естественнонаучное, и не только логическое, а самое расхожее, включающее
убедительность уличного, рыночного, городского существования.
Πόλος «ось», ττολέω «двигаюсь вокруг», «обращаюсь»,
связанные с этим новым словом для «бытия», πέλω, — то же слово, что
наше «колесо»; и, между прочим, значение «бытия» из
«поворачивания» образуется, хотя и не так четко, как в греческом πέλω,
πέλειν, и в нашем «поворачиваться», «оборачиваться», когда мы
говорим «вот как обернулось», «вот как все повернулось», «вот
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
433
как оборачивается дело», или «такой оборот приняло дело» или
«поворот»; или когда мы говорим, «живо, поворачивайся», когда
живость, жизнь и поворачивание как-то оказываются одним. Когда
в буддизме колесо, вращающееся, оказывается изображением
жизни, бытия, то здесь то же сближение бытия и вращения — и мы
имеем право пойти дальше, вращение неба, космоса вокруг оси,
полюса, это πέλειν прежде всего и по преимуществу, и мы вправе
думать (это есть в работах Лебедева), что стадион, ристалище для
бега, в который — ив бег, и в конные скачки — входил поворот,
обозначали космический ход вещей (стадион олимпийский в
древней Греции как священное, религиозное установление, когда
бегающие атлеты воспроизводили, продолжали, восстанавливали
божественный порядок космоса, задавали тон как бы всему
земному вращению — и тогда понятнее значение этих олимпийских игр
для греческого мира, и понятнее то, что время, как у нас годами,
десятилетиями и столетиями, так размечалось олимпиадами, так
что акме, расцвет Парменида, пишет Диоген Лаэрций, приходился
на такую-то олимпиаду). Город, полис, между прочим, — место где
происходит это «вращение», «круговращение», где, стало быть,
идет бытие, и наверное в первую очередь и прежде всего идет
бытие — слово того же корня, что здесь парменидовское πέλειν,
и этим, я сказал, сразу и навсегда отбрасываются все трактовки и
интерпретации Парменида, которые воображают, что он строит
концепцию бытия или занят дефиницией бытия. Ни в малейшей
мере. Он имеет дело с бытием в полновесном не смысле, а
присутствии его для нас (или в его отсутствии, например, когда мы
говорим, «что это за бытие, это не жизнь» и так далее — неважно:
умей разглядеть умом в отсутствии присутствие, в присутствии
отсутствие). Парменид совершенно легко, словно не замечая смены
слова, переходит от είναι к πέλειν — слишком перед ним нависает
сама вещь, чтобы обращать внимание на слова. При такой полно-
те, весомости говорения слова возвращаются туда, где им место,
на место намеков, которые чем легче, тем лучше, чтобы они не
загораживали вещи. Смешно думать, что Парменид имеет в голове
концепцию мыслительную бытия, с которой «оперирует». Да, он
оперирует, в том смысле, в каком отец Аристотеля был хирургом
и сам Аристотель как хирург, только оперирует не концепциями
(и у Аристотеля тоже замечено аристократическое пренебрежение
к терминологии), а самими вещами. Которые слишко ясно стоят
перед глазами, чтобы еще заботиться об удобствах слепых, которые
вещей не видят и потому нуждаются в чем-нибудь таком, что они
могли бы пощупать своим ползающим дискурсирующим умом.
434
В. В. БИБИХИН
О τιαλίντροπος κέλευθος, «обратимой колее», я уже говорил
прошлый раз: ко всякому бытию в нашем слове и мысли
подмешано небытие, и наоборот, всякое наше решение относительно
того, что считать что не считать бытием небытием, будет
повернуто, обращено — об этом ли думает Парменид, называя бытие
обращением, т. е. слышит ли он одно в бытии как обращении
и в повертывании всякого нашего решения о бытии? Я думаю,
что слышит, но не буду подробно в это входить, оставляю это для
вас. — Важно, что мы, смертные, всегда должны быть готовы
к неожиданностям, к тому, что нам казалось так, обернется не так,
обернется другим — не тем; окажется. «Вот оно как казалось,
а вот оно чем обернулось» — это с нами происходит настолько
часто, настолько на каждом шагу, разбирательство наше длится
так долго и заведомо захватывает нас с каждым разом все больше,
ведь и сейчас мы здесь сидим не знаем, чем обернется это наше
сидение, чем обернется наше чтение Парменида: мы заведомо
знаем то, что у Парменида сказано этими словами, παλίντροπος
κέλευθος, «обратно-обращенная колея», что пересмотреть нам
придется. Я думаю, что молодых больше тревожит, что сегодня
они думают одно, завтра другое, и они бранят себя за
непоследовательность и надеются впредь держать себя лучше, быть
выдержаннее. Я долгое время был секретарем у А. Ф. Лосева, который
плохо видел, и записывал под его диктовку, просто много,
несколько книг. За все это время, за долгие года я ни разу не сделал
мне не было дано указание это сделать движение зачеркивания.
Т. е. А. Ф. Лосев никогда не вычеркивал то, что однажды
написал. Если написалось, то написалось. Как сказалось, хорошо или
плохо, так и сказалось: он раз это сказал, то и отвечает за это. Но
ни разу же А. Ф. Лосев не был связан тем, что однажды сказал.
Вы заметите у него в книгах «обращения» его тезисов, когда он
легко и плавно переходил к другому и в том числе к
противоположному. Он был готов к тому, что что ему показалось таким
сейчас, покажется другим, окажется новым, обернется другой
стороной, — что иначе не бывает, и напрасно пытаться выжать из себя
что-то такое, что остановится, застынет окончательной истиной.
В этой мудрости А. Ф. Лосева было смирение: он шел на то, чтобы
ошибаться, быть таким, какой он есть, не выстраивать из себя при
помощи слов другого А. Ф. Лосева, более определенного,
выдержанного, фиксированного. Он всегда перетекает, превращается,
оборачивается другим, чем он казался, и самое нелепое его
цитирование, когда берется место, фраза, положение без
противоположного места, фразы, положения, которые у А Ф. Лосева заведомо
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
435
есть, поищите, скорее всего на следующей странице или через
страницу-две, ну в крайнем случае в другой его книге. — То, что
я сказал, конечно, не приглашение говорить то, что Бог на душу
положит. Все, что позволял себе А. Ф. Лосев, было куплено его
непрекращающимся усилием найти истину. Не там ищут. Ищут
надежность в формуле, в дефиниции, в стиле, в «философской
поэтике», есть целая молодая школа «философствования»,
вырвавшаяся как на вольный простор на простор «текстов» и обсуждения
«особенностей», и «приемов», и «подходов» и «уровней» писания,
синтаксиса, лексики и т.д. Никакого отношения ко всему этому
стилистическому кубику Рубика философия не имеет. Она имеет
дело с вещами.
Так мы уходим, а мне не хочется уходить, от этой блестящей,
прозрачной драгоценности, фрагмента 6. Как он сделан, ума не
приложу. Непостижимо. Невероятно, что такое мог сделать
человек. Это не человек придумывает, такие вещи. Действительно,
Парменид с большим основанием, чем Ницше, мог сказать, что он
судьба, что через него говорила судьба Запада. Мало мы достигли,
едва только издали приблизились к тому, чему дано слово в этом
6-м фрагменте. Но хоть с презрением отбросить «толкования»,
с позволения сказать, где Парменид якобы «оперирует понятием
бытия», навсегда их отбросить, больше никогда к ним не
возвращаться, — и то дело.
Теперь 7-й фрагмент, из 5,5 стихов, который мне кажется —
именно мне кажется, для меня говорит, — самое весомое из всего,
что мы до сих пор — весомое для нас, для меня, т. е., вернее,
конечно, — слышали от Парменида.
Маленькое только замечание. Или апология. Я читаю
у Парменида, что небытия нет. Я хочу и могу и должен под этим
подписаться. Я в ступоре, в сознании своего ничтожества от того,
что мне хотелось бы это и самому сказать, но без Парменида ни
я, ни кто другой не смог бы: слишком это просто и блестяще.
Небытия нет. Никак из небытия я не выужу бытия. Его нет, нет
и тысячу раз нет. Мне сказали прошлый раз, после этой пары, что
на Западе современные аналитики нашей ситуации говорят, что
главная проблема и главный источник бед современного
человечества это пустота существования, или чувство пустоты. Я не
думаю, что пустота точное слово, ведь русское слово «пустота»
говорит о впускании и о «пусть». Я думаю, более точное слово
парменидовское — небытие. Главная проблема современного
человечества, и всякого человечества, заключается в том, что
небытия нет. И никакими силами — сейчас мы будем это читать —
436
В. В. БИБИХИН
нельзя исхитриться, чтобы оно было. — А как к этому относится
то, что мы говорили, что некоторые вещи умеют и так, без того,
чтобы существовать? Не оказывается ли тут, что — в том, что мы
тут говорили — то, что не существует, т. е. небытие, оказывается
как бы бытием, что-то может? Но ведь оказывается] Оказывается,
что небытие у нас, у меня оказывается смешано с бытием. Но
ведь у Парменида сказано: мы, смертные, слепые и глухие, мы
всегда в наших постановлениях оказываемся такие, что небытие
и бытие «оборачиваются», они «обертываются» друг другом, для
нас то есть. — Ничего не можем поделать. Мне скажут: но хоть
не увеличивайте масштабов этого смешения, хоть удержитесь
от называния небытия бытием. Я и не называю. Я с удивлением
говорю: некоторые вещи могут и так, без того чтобы быть, т. е.
без того, чтобы в них было заметно то, что мы называем бытием!
Я это вижу и это говорю. А что, если бы я этого не говорил, я что,
своим языком, составлением слов, расположением их на странице
и в произнесении сумел бы остановить переплетение бытия и
небытия, сумел бы очистить и достать в чистоте бытие и небытие?
Если Владимиру Соловьеву это не далось, то наверное не дастся
и мне. Не дастся вообще смертному, нечего и надеяться. Я вижу,
наоборот, свою заслугу в том, что говорю, что некоторые вещи
могут и так, без того, что мы могли бы им приписать
существование, как мы существование понимаем. Я указываю на смесь,
на переплетение, в которое мы вплетены, на «оборачивание»,
если хотите — на оборотничество бытия и небытия. Имею право
и должен это делать, потому что мы сплошь и рядом, на каждом
шагу грешим противоположным, постановлением, чтобы то было
бытием, то было небытием, несмирением, тем мнением,
которое — опять комментатор к Пармениду Гераклит — надо гасить
в себе раньше, чем пожар. Напрасно мы думаем, что мы, пока мы
смертные, преуспеем, добьемся прочерчивания, это бытие, это
небытие. Что мы распутаем эту загадку. Мы ее не распутаем.
Ее распутают — боги, парменидовская богиня, а мы в богов не
верим, отношения с богами и с богом у нас сложные,
непроясненные. — Мысль и речь переплетены сплошь бытием и небытием,
в каждом слове, в каждой фразе мы выпутываемся из этого клубка,
только об этом у нас прежде всего идет дело. Было бы хуже, если
бы мы вообще не заметили, что нам нигде ни полосой на небе,
ни границей на земле никто перед глазами не отделил бытие от
небытия. Наша фраза о том, что «некоторые вещи умеют и так,
без того, чтобы существовать», имеет по существу смысл только
расширения нашего понимания бытия, включения в него возмож-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
437
иости; мы на уровне фразы возвращаем пониманию бытия то, что
в греческом языке Парменида было на уровне слова, что бытие это
существование — имущество — богатство — могущество, мощь,
«могу», «возможность», гуляющая на воле. Т. е. смысл той нашей
фразы об «умеют и так» чисто отрицательный, мы с помощью
этой фразы высвобождаемся от примитивного смысла бытия, как
того, что можно уловить, схватить, фиксировать. Нельзя уловить
богатство: мы хотим иметь богатство, миллион, но не получается,
нет у нас миллиона. Нельзя ухватить возможность: она сама или
есть, или нет. — И смысл другой нашей фразы, что перед
русским нигилизмом, перед его разоблачением может устоять только
то, чего нет, — не значит, что может устоять только небытие.
Небытия нет. А наоборот — верно? Что то, чего нет, — небытие?
Я оставляю этот вопрос для вас. Он будет упираться опять же
в то, что мы думаем, когда говорим по-русски: нет, этого нет.
Как мы говорили: субъекта нет. Опять же: только в том смысле,
что никакими нашими — нашими — способами уловления мы его
уловить, фиксировать, закрепить не можем. Он, субъект, какой-
то такой, что скорее он нас уловит, чем мы его, — да давно уже
и уловил, заставив всё новоевропейское человечество так или
иначе служить субъекту. Его нет в том смысле, который русский
нигилизм придает существованию! Вот новость! Русский нигилизм
обертывается совсем неожиданным, повертывается совсем новой
стороной! Оказывается, что он вовсе не прост и не заключается
в простом жесте — он имеет свою концепцию существования,
незаметную, подспудную, конечно, и по этому существованию
бьет, его сметая, от него ничего не оставляя. Но
спрашивается, кто его заставлял иметь такую концепцию существования,
почему случилось так, что русский нигилизм такой сложный?
Почему он крушит то, что сам поставил, что сам постановил,
постановил считать существующим только то, что можно
пощупать, взять, держать, уловить, охватить, — сначала решил, что
все существующее такое, что он может его охватить, а потом
размахнулся до сметающей, разрушительной критики, вернее,
ядовитого подозрения ко всему этому существованию? Вот дела.
Русский нигилизм повернулся нам своей неожиданной —
концептуальной, метафизической что ли стороной, т. е. что у него есть
концепция бытия, да еще какая! Он совершенно уверен, что бытие
вот именно такое, что существование значит вот именно то что
можно схватить взять и держать, фиксировать, заметить,
уловить и так далее — что в его, казалось бы, простейшем сметающем
жесте запрятана невидимая философия. Это мне очень интересно.
438
В. В. БИБИХИН
Но присмотримся мы к этому лучше все-таки на слове Парменида,
опять новости.
Нет, никогда не вынудить это: «не-сущее сущее».
Но отврати свою мысль от сего пути изысканья,
Да не побудит тебя на него многоопытный навык
Оком бесцельным глазеть, и слушать ухом шумящим,
И языком ощущать. Рассуди...284
То, что важный смысл этого 7-го фрагмента виден сразу и
весь, должно не успокоить, а скорее насторожить: значит мы
не видим, если не видим загадки и вопроса, чего-то важного.
Возможно, время для понимания этого хода Парменида еще не
настало. Но уже и тот смысл, который виден сразу, захватывает.
Чего нет, того нет. Небытия нет. Небытие не есть. Никак, никаким
способом не сделать, не устроить так, чтобы оно было — его
нет, так сказать, всеми способами нет, настолько, что нельзя даже
сказать, что небытие есть, — это будет неправда: небытия нет.
Парменид предостерегает: не ищите, не пытайтесь для небытия
вычислить, добыть какой-то способ бытия. Там, где ничего нет,
там ничего нет. Наоборот, опыт, зрение, слух есть всегда: мы
всегда, без исключения, можем в нашей жизни иметь
местопребывание, мы всегда где-то, видим, слышим, воспринимаем. Мы
можем поэтому сделать вот какую ошибку: мы можем подумать,
как же так, это не прекращается, восприятие не прекращается,
даже во сне, — в каком же смысле тогда небытия совершенно нет?
Всё сплошь заполнено нашим восприятием, оно не оставляет ни
щелки, ни лазейки для того, чего безусловно нет, восприятие ведь
всегда есть, оно всегда воспринимает. Смотрите что получается.
Восприятие заполняет собой всё, хочет быть всем; в отличие от
небытия, которого нет, оно заведомо есть, и оно стало быть бытие.
Небытие, которого нет, неуловимо повертывается, оборачивается
другой стороной. То, что его нет, — а мы договорились, видели,
что нет, — толкает как будто бы думать о том, что то, чего не нет,
должно быть, опыт восприятия. Восприятие, таким образом,
которое не прекращается, всегда изгоняет и изгонит — что? чего нет?
как и зачем изгонять то, чего нет? — изгнать тут неподходящее
слово, и лучше сказать иначе: восприятие, которое не
прекращается, как будто делает так, что мы всегда, совершенно всегда имеем
дело или можем иметь дело с чем-то. Небытия нет приобретает
тогда, вы понимаете, другой смысл, поворачивается по-новому:
284 «фрагменты...», с. 296.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
439
а перестаньте ломать голову, выкиньте эту безделушку из головы,
нет никакого небытия. А что стало с тем, зловещим, «небытия нет
и нет и тысячу раз и совершенно и безусловно нет»? Оно куда-то
делось, т. е. то зловещее куда-то выветрилось, мы что-то с ним
сделали, мы зловещее укротили, усмирили, освоили, превратили в
бытие (т. е. постановили считать бытием), и вместо «небытия нет,
небытие такое, что его нет», получили только то, что не небытие,
везде, поскольку какое-то восприятие, даже мысленное
восприятие, достигает повсюду, — мы получили везде противоположное
небытию, которого нет, т. е. получили бытие. Так или не так?
А что собственно случилось? Что-то подобное тому, что
произошло с первым стихом 6-го фрагмента. Мы в том стихе ничего не
меняли, в лебедевском виртуозном его переводе ничего не меняли,
продолжали произносить «Можно лишь то говорить и мыслить, что
есть» — и вдруг эти слова повернулись другой стороной, вместо
того, чтобы иметь смысл, «всякое наше слово и всякая мысль так
или иначе имеют дело с бытием», получили смысл: «успокойтесь,
всякое ваше слово и всякая мысль бытие уже и есть». Получили не
просто вдруг противоположный смысл, но в той же самой
фразе услышали полнейшее не то, настолько не то, насколько не то
только может быть. Так и теперь: мы ничего не поменяли во фразе
«небытия нет», так ее и произносим, но она вдруг повернулась,
обернулась, вывернулась внезапно сама в себе абсолютно
противоположным смыслом. Мы ее услышали грозной, неотвратимой,
неприступной: небытия — нет; теперь вдруг слышим утешающе,
обнадеживающе, обеспечивающе: небытия нет, есть только стало
быть бытие, везде только бытие, куда ни повернешь, что ни
сделаешь, все оказывается бытием, и из бытия мы никуда не выпадаем.
Да что же это такое, я вас спрашиваю. Какое оборотничество.
Какое волшебство — слова Парменида? Нет! Его угадки того, как
с нами на самом деле и обстоит дело. И что, разве не верно, что
всё, кругом, везде только бытие и есть и кроме бытия ничего нет?
Да верно и еще как верно, сто раз, тысячу раз верно! Но что же
нам тогда, почудилось, померещилось, приснилось зловещее,
неукротимое в том «небытия — нет»? Откуда мы взяли то эюуткое
неприступное значение? Ведь слышали же мы его? Может быть,
мы свихнулись, тронулись, как сумасшедший у Ницше, который
кричал, что люди куда-то дели Бога?285 Куда делся вдруг тот злой
285 «Так этот человек безумен? ... Он тронулся. Ибо сдвинулся с плоскости
прежнего человека...» (перевод А. Михайлова). См.: Хайдеггер. М. Работы и
размышления разных лет. М: Гнозис, 1993, с. 216, курсив В. Б. (Сост.)
440
В. В. БИБИХИН
смысл, ведь никакого зла не остается в той картине мира, где всё
кругом только бытие и никуда из бытия не выпадешь, и ведь это
правда, что так оно и есть? Откуда я услышал зловещий смысл?
Есть ли он! Но ведь я его слышал! Небытия — нет. Это режет как
сталь, вернее, нет такой стали, которая резала бы так остро, так
чисто.
Вдруг мы нечаянно, говоря о бытии и небытии, наткнулись на
зло. Сила зла, злость зла, если можно так сказать, в том, что зла
нет. Нигде его не видно. Не видно, откуда вдруг берется зловещий
смысл. Настолько не видно, что можно даже подумать, я чуть ли
не сам готов подумать: зло из меня же самого и взялось, что я зло
услышал фразу «небытия — нет». Да в конце концов так оно
и есть: зло только во мне и есть, в этой моей способности вдруг
повернуть ту фразу, и другую фразу. Но лечить меня от зла и
сумасшествия невозможно, потому что да, хотя и правда то, что это
я повернул фразу, но ведь она и без меня повертывается тоже,
и вы тоже слышите в ней, в парменидовской фразе, и то и то:
небытия нет, как сквозняк из бездонной бездны, и небытия нет,
вдруг утешающее, но лживо и опасно утешающее, потому что
мы прекрасно знаем, что это вздор, будто кругом только бытие
и нас отовсюду оно оберегает такой воздушной подушкой, якобы
полагайтесь на безобманное восприятие: среди самой полноты
восприятия, под голубым сияющим небом, которое видим зоркими
глазами, мы потерять бытие можем так, что и концов не найдем,
и мы знаем, куда деваются, куда проваливаются люди, которые
цепляются за восприятия и думают, что живут, когда видят,
слышат, едят и копят опыт и ощущают языком. Они куда-то деваются.
Не просто с ними что-то происходит, а их нет с той зловещей
абсолютностью, с какой небытия нет: вот среди всей полноты
многоопытного восприятия их просто нет. Зло невидимо где.
Оно в оборотничестве — но повертывание не совершается злом,
зло таится в нем, но не им рождено.™
Я не думаю, проверьте меня, чтобы эти вещи, о которых
говорит Ницше, и Платон, потому что Ницше платоник, и Хайдеггер,
чтобы — даже Хайдеггер — они были у кого-то не сказаны даже,
а отпечатаны как у Парменида. Поэтому Парменида как читают
полторы тысячи лет, так и не перестанут читать, пока не
прекратится — если не прекратится — то, чем мы на этом курсе заняты:
286 [Запись В. Б. на полях машинописи] Откуда оно? Оно ниоткуда. Оно —
не небытие, которого нет, зло — есть, но оно не без небытия, которого нет. Не
подумайте только, что зловещее небытие, которого нет, придумал я: оно было до
меня, до меня в него, в небытие, уже проваливались.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
441
чтение философии, где философия субъект этого родительного
падежа.
И теперь, поскольку ясность — неожиданная — этого
7-го фрагмента, ясность, к которой мы у Парменида не привыкли,
наверное, прячет от нас какое-то непонимание, прочитаем эту
печать слово за словом.
В первом стихе 7-го фрагмента, кроме служебных слов и —
опять — двух форм, двух видов глагола все того же, είναι, «быть»,
только продолжайте все время слышать в нем его греческие
значения, «имущества, состояния, богатства» (как, в ослабленной
отчетливости, в русском «есть», «у нас есть», «есть», в смысле
«найдется») и «возможности» (опять какой-то след этого — в
армейском исполнительном «есть!», «будет сделано», т. е. уже
сейчас есть то, что только будет — трудно услышать эти значения
в греческом είναι, которое некоторые переводят для этого вообще
не через «бытие», а через «настоящее»: так или иначе не удастся
же нам стать древними греками, даже если мы выучим их язык, мы
все равно будет переводить είναι через «есть» и в очень хорошем
случае слагать, составлять из нескольких наших других слов так
называемые коннотации смысла, но ведь надо другое: надо
невозможное, так что лучше и не стараться, враз, сразу услышать в
είναι и «присутствие», и «имущество, наличность», и «силу, мощь,
возможность»; может быть, если в каком-то русском стиле, может
быть, поэтическом представить, что кто-то скажет, «хочу быть»,
он приблизится к тому греческому), — в первом стихе είναι в двух
видах, два раза, и мы уже привыкли: было ведь, что в одном стихе и
четыре раза. Остальные слова служебные, и остается одно, которое
я слышу как упрек себе. Оно δαμώ, это то же слово с тем же
значением, что английское tame «укрощать». У Шекспира есть комедия
The taming of the shrew, «Укрощение строптивой», где оказывается,
что женщина настолько своенравна, неприступна, что, чтобы взять
ее в жены, чтобы она стала домашней, ее надо одомашнить,
укротить почти так же, жестокими способами, как укрощают лошадей
и быков, объезжают их. Мы уже много раз замечали, что мысль
заново возвращает то, что с самого начала уже было: то, что
развертывает в пьесе Шекспир, свернуто в греческом слове, его значения
«укрощать, приучать к ярму, объезживать»; и [по отношению к]
девице: «подчинять мужу, выдавать замуж», и вообще укрощать,
подчинять. Это значение, укрощать девицу (у Аверинцева есть
хорошее наблюдение, что целомудрие не приобретаемый, скажем,
христианским воспитанием навык, а в натуре женского молодого
существа, между детством и взрослением, есть черты Артемиды,
442
В. В. БИБИХИН
вольной охотницы, когда заискивания и приставания мужчин
вызывают совершенно непроизвольный, натуральный ответ
издевательской насмешки, гордой независимости), — что молодое
женское существо надо покорить, усмирить, это тайно сидит в
простонародном, деревенском сознании, и жалко, что тайно, потому
что усмирение приобретает тогда вороватые, темные, коварные
формы — и лучше было бы, чтобы как в комедии Шекспира всем
открыто было известно и принималось во внимание это
удивительное хранительное свойство молодого женского существа, — или
как в греческом языке, где одно из слов, означающих супругу, —
δάμαρ, ή, женского рода, от δαμάζω «укрощать» (на доске δαμώ
уже в будущем времени, в той форме, как у Парменида), так что
само слово уже требует подхода, как искусство и умение, а не
грубая сила, нужны для того, чтобы одомашнить лошадь.
И вот я боюсь, что я занимаюсь каким-то усмирением,
укрощением текста Парменида. Я надеюсь, что мне это не удастся. Я на
него по крайней мере сейчас смотрю, и вижу, что он не тронут,
не разгадан, не расколот моими усилиями. Я столько говорил,
говорил и ничего с ним не сделал — и это хорошо. В английском
языке среди значений слова tame есть «подчиненный, вялый,
скучный». К сожалению, интерпретаторы, и я может быть в меньше
мере, это как раз и делают, укрощают. Но есть вещи которые
укрощать не надо даже и пытаться. Парменид предупреждает
от укрощения, с усилением отрицание, μήποτε «никак, никогда,
ни при каких обстоятельствах» не получится усмирить так, чтобы
не существующее, небытие было. Я это понимаю так: небытия
нет; поэтому извлечь из него, например, даже такое небольшое
сущее, как истолкование трудного текста, мне никогда не удастся:
вообще никогда ничего нельзя извлечь из небытия. Небытия как-
то безусловно нет.
Поверьте только, что моя самокритика — только от неумения
сказать, насколько ясно то, что имеется в виду. Дело все в том, что
яснее, чем это сказано у Парменида, — никак, никогда не укротить
это, чтобы то, чего нет, было, — все равно не скажешь, и всякий
комментарий будет уводить, — как попробуйте
прокомментировать определение прямой, что это кратчайшее расстояние между
двумя точками, — всякий комментарий уведет, запутает. Во всякой
попытке прокомментировать этот первый стих я запутываюсь.
Предельная простота исчезает. Остается только это слово, этот
жест: не усмирить. Что хочет сказать Парменид? Ведь известно
же, что человек как раз всё покоряет, усмиряет, — ив том хоре из
«Антигоны» Софокла, который цитировал прошлый раз Ахутин,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
443
человек усмиряет и коней диких и всё, вообще всё — кроме
одного, того, что там в том хоре названо смертью. Может быть такое,
что у Парменида речь идет о единственном, что человек не может
усмирить? Разумеется, ведь Парменид знает, что человек все
может. Только то, то одно, чего человек не может, Парменид называет
иначе: не может, чтобы то, чего нет, было. Смерть, слово трагика,
сразу становится только одним из имен, примером, так сказать,
перед этим простейшим.
Теперь, поскольку во всем, что говорилось раньше о небытии,
которого нет, была какая-то недолжность, потому что о бытии,
которого нет, говорить в принципе нельзя, Парменид показывает
один, разрешенный, отрицательный, — собственно, что
небытия нет, тоже был разрешенный, корректный способ говорения,
но он слишком близко к тавтологии, а теперь — не тавтология:
императив, т. е. опять, как во всяком философском императиве,
удивительной вещи, нам велят то, что и так все равно будет
и другого все равно не будет. Нам велят не стараться, не покорять,
не овладевать, не обеспечивать, не устраивать — что? Бытие.
Потому что бытия мы все равно не получим. Забегая вперед: если
мы его получим из бытия, то это не будет добывание: какое же
добывание из него, бытия, его самого. А из небытия, из того, что
нет, не старайтесь: все равно ничего но выйдет. Этим,
невозможным, человечество занимается и занималось всегда прежде всего
и больше всего на это тратя сил и времени и ресурсов и денег, на
попытку усмирить, укротить небытие, на получение бытия там,
где его нет.
Вы понимаете, какое окошко и на какую перспективу здесь
открывается. Божественное сотворение всего из ничего. Смертному
это не дано, даже не старайтесь, предупреждение Парменида. Бог,
наверное, может справиться с Ничто, Бог творит из ничто (не как
из материала), — но разве Бог может эту силу творения из ничто
дать человеку? Ах нет, этого дать Бог человеку не может. Он может
дать человеку другое: разобрать, что бытие есть, а небытия нет,
и смиренно отступить перед единственной ему невыполнимой
задачей, исхитриться изобрести так, чтобы укротить небытие и
извлечь из него какое-то бытие. Всё! Небытия — нет.
Есть ли у этой 1 -й строки 7-го фрагмента «логический»
смысл? Есть, да еще какой. Пропозициональную логику можно
строить. Но пора ли? В каком-то смысле больше техники в
хождении на костылях или на протезах, — но спешить на этом
основании переходить на костыли и на протезы нет оснований, тем
более нет смысла говорить, что на протезах лучше, чем на ногах.
444
В. В. БИБИХИН
Протезы, конечно, могут быть такие блестящие, какими ногам не
бывать, но я предложил бы такую формулу об отношении
онтологии к логике: нет ничего в костылях, чего не было бы в ногах.
Поэтому никакого особого достоинства в том, чтобы переходить
на формальную логику, нет. Кто умеет пользоваться протезами —
слава Богу, прекрасно, он умеет; ну и что? Обязательно каждый
должен учиться? На всякий случай, наверное, каждый. Смысл
логический: из того, чего нет, не может быть выведено
утверждение относительно существующего. Если бы смысл был только
логический, непонятен был бы переход в третьей строке-стихе
(после второго стиха: «но ты от этого хода исследования/искания
удерживай помышление») — переход к опыту. Там, из этого
третьего стиха, видно вот что: что этот «ход искания», попытка как-то
вынудить из небытия, которого нет, бытие, «усмирить» небытие
(а ведь как бы мы его не усмирили, каким бы способом ни
усмиряли, если у нас получится, то получится по крайней мере
усмирение, укрощение, т. е. уже не будет небытия которого нет — но это
у нас не выйдет, предупреждает Парменид) — этот недолжный
ход искания, от которого воздержись, такой, что на него толкает
многоопытный навык, переводит Лебедев, — «многоопытный
навык оком бесцельным глазеть, и слушать ухом шумящим».287
Согласитесь, что это захватывающе неожиданно: что на путь
укрощения небытия, его усмирения в бытие, толкает навык глядения и
слушания. Согласитесь, что это для нас новость. Мы не видим
ничего плохого в том, чтобы глядеть и еще больше глядеть, слушать
и еще больше слушать, глядим и слушаем телевизор, например.
Это наш способ (путь, метод) укрощения небытия.
Мы можем здесь попробовать коснуться, не так, как ораторы
говорят, что они «коснутся» какой-то темы и с темой покончено,
а действительно коснуться, едва задеть и отойти, потому что стоит
слегка коснуться, и зло сбивает с толку. Настоящее расхождение
не когда говорят или говорится разное и противоположное, это
обычно как раз диалог, дополнение, противоположности взаимно
исправляют свои односторонности, — а когда говорится одно.
В нашем случае, очень важном, а может быть главном явлении
разницы без различия, разницы безразличия, — «Небытия нет», одно,
и «небытия нет», обнадеживающее, совсем другое. И вот зловещее
«небытия нет» — небытие, конечно, не зло, какое же оно зло, если
его нет, оно только зло-вещее, оно вещает предвещает зло, для
которого нужно еще что-то, кроме «небытия нет», — и второе,
287 «фрагменты...», с. 296.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
445
оптимистически слабоумное, хотелось бы сказать, «небытия нет»,
успокойтесь, — само по себе тоже не зло, оно просто глупость.
Случай, когда слово уже не танцует, не играет, как у Гераклита,
у него слово широко играет, — а здесь, у Парменида, оно зависает
над пропастью, и зло не один из смыслов этого оборотнического
«небытия нет», — где язык уже не достает, где языка уже не
хватает, язык разодран в этом выражении, что я и имел в виду, когда
говорил, что Парменид в сущности не нарушает пифагорейского
запрета на обнародование учений, — ни зловещий, ни слабоумно-
оптимистический смыслы ни один из них зло, а зло когда они оба.
Ни «уничтожить крестьянство как класс» в марксовском смысле
не зло (т. е. покончить с этим нищим классом, сделать, чтобы
крестьяне все были богатыми), ни «уничтожить как класс» в
убийственном, людоедском смысле не зло, потому что это было бы
честное объявление войны, а зло в неопределенности двух
смыслов и в неспособности решиться на то, что они есть.
446
В. В. БИБИХИН
11—11(21.4.1992)
1) δαμάζω, βιάζω (βία), νωμάω; 2) εθος, τό πείρα, ή; εθος
πολύπειρον.
К чему чрезмерная жестокость. Зачем хлестать — вы,
смертные, слепые и глухие (но у Гераклита эта тема так же остро, и так
же все смертные оказываются спящими)? Если все равно не
исправишь то зачем хлестать? Что зависит от этого знания, которое
вроде бы не приносит пользы, кроме горечи? Не только многое,
но кажется всё зависит от этого знания. Не для того, чтобы при
помощи этого знания, по его указке что-то сделать — а наоборот,
чтобы обратиться, обернуться: вернуться. — Главное:
неподвижное сердце указывает на неподвижность амехании.
Фрагмент 7 говорит о насилии, только понять бы, о каком.
В его пяти стихах о насилии сказано трижды. Я предположил,
что первое названное в нем насилие то, которое людей занимает
больше всего, постоянное, берущее всего больше себе затрат, как,
например, когда затрачиваются большие силы и средства для
достижения цели без осмысления того, что эта цель, ее достижение
только подставлена вместо другой нужды, и не надо обязательно
говорить «другой», достаточно сказать просто Нужда, с большой
буквы: потому что похоже, что состояние человеческого
существа нужда, и что вы хотите, чтобы человек, такое
изобретательное существо, никак не пытался справиться с этой нуждой? Мы
видим кругом обострение нужды, вполне оправданное,
например, сокращением так называемых средств к существованию.
Удивительно, что мы так говорим. Дело, стало быть, для нас идет
о существовании. Что входит в «существование», средств для
которого не хватает? Каждый скажет по-разному, и каждый сам
тоже, задумавшись, будет понимать под существованием одно,
потом другое, — скажем, входит ли в существование «пойти в
театр» или нет. Т. е., вы понимаете, совсем еще не определено,
что входит в существование, и тут будет спор, до
противоположности, — даже, казалась бы, поддающиеся установлению вещи,
продукты питания, — но и тут кто-то скажет, против большинства,
что продуктов питания слишком много. Кто-то скажет, что
единственное средство к существованию такое-то, например
духовная пища, которой сейчас не хватает больше чем всякой другой
пищи, но все равно: и при таком, и при любом понимании будет
признано, всякий признает, что «средств к существованию» не
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
447
хватает, в них нужда. Ах мы говорим, как раз когда не обращаем
внимания, очень много, больше, чем мы думаем. В этом «средства
существования» мы говорим о себе, что наша цель существование,
и наша забота тоже оно, и главное — что мы каким-то образом
добываем себе эти средства к существованию. И человек очень
активен в добывании средств, причем вот что получается: с одной
стороны, совершенно определенно известно, что человек часто
демонстративным, вызывающим образом не добывает средства
к существованию, не проявляет активности; и противоположный
этому активизм, когда подчеркивается, насколько человек
способен ко всему, к тренировке, сверхусилию, приспособлению,
выживанию — этот подчеркнутый активизм направлен не против
человеческого неумения, а против нежелания: главная цель
активистской пропаганды не научение, а заманивание, соблазнение на
активность. Проблема с Обломовым не в том, чтобы научить его
предпринимательству, он образованный и умный человек, а в том,
чтобы его соблазнить, втянуть в активность. Активисты, активные
больше самим себе доказывают и себя разогревают для
неостановимой активности — потому, что знают в себе неопределенную
«^активность, неготовность постоянно, непрестанно и во всем
действовать.
Это значит: средства к существованию не всегда человеком
обязательно добываются, есть, бывают средства существования,
которые должны быть как-то поданы человеку, человек их эюдет.
Онтологический смысл этого ожидания, этой неактивности ясен:
человек не может сам себе обеспечить как раз то, в чем его Нужда
с большой буквы, Бытия он себе не может обеспечить. Поскольку
наша страна сейчас в удивительном, может быть, небывалом
положении открытой, явленной метафизики, — как бы оголенная
философия, структура человеческого бытия обнажилась, это
проявляется в коллективной амехании, в ожидании, у закованного
народа, разрешающего слова: действительно, удивительное
существование сотен миллионов, страшно сказать, людей, у
каждого из которых есть дела, дел ждет семья, которая в распаде,
земля, которая в запустении, воды, вообще пространство, дороги,
которых уже почти совсем нет, почти всего нет, все почти ждет
человеческих рук, и эти руки есть, и есть способности, и люди
готовы уже немедленно повернуться к делу, к строительству,
но словно заперты отсутствием разрешающего слова, которое
ни друг от друга, ни сверху они не слышат. Рядом будет
земля, которую человек так любит, до страсти, которая его весной
ждет, уход за которой жизненно важен для продолжения жизни,
448
В. В. БИБИХИН
продолжения рода, но человек не может ступить на эту землю
для работы, уже не потому, что ему запрещают, а только потому,
что неоткуда про-из-нестись разрешающему слову. Говорят, что
человек способен ко всему, его способности безграничны. Но в
каких-то случаях человек не просто готов к тому, что у него не
получится, — еще надо спросить, откуда происходит так
называемое пораженчество, — а ощущает недолжность, неуместность
усилия. С небытием ничего не сделаешь, от усилия, приложенного
к нему, воздержись. Небытия нет. Смерти тоже нет, как иногда
говорят, наверное, справедливо; так могли говорить и говорили в
античности, в разных планах, — или смерти нет, по Порфирию,
потому что философская смерть при жизни освобождает вообще
от смерти, или потому, по Платону, что душа просто бессмертна,
она только переходит в другое тело, — т. е. даже если смерти нет,
сказанное у Парменида о небытии и у Софокла в «Антигоне» о
смерти, что это единственное, что человек-укротитель не укротит,
не меняет нисколько дела и не разрушает правоту Софокла: если
смерти нет, это не значит, что ее тогда можно укротить или как-то
ее преодолеть. Наоборот, если смерти нет, она тогда становится,
так сказать, тем более неукротимой (я говорю это как пример,
иллюстрация из драмы к тезису Парменида: небытие не становится,
так сказать, более укротимым, от того, что его нет). — Я, пожалуй,
еще больше соглашусь с запиской, прочитанной прошлый раз:
там было сказано, что едва ли я имел в виду веер возможных
значений бытия, которое включает кроме существования богатство
и возможность (как у Аристотеля, ή ουσία Λέγεται τιοΛΛαχώς,
«бытие говорится во многих смыслах»), когда говорил, что
некоторые вещи умеют и так, без существования. Я бы мог задним
числом уцепиться за это «умеют» и сказать, что сам того не
понимая как-то включил, расширил понимание бытия за счет
возможности. Это был бы хороший, в смысле истории мысли, подход
к настоящему пониманию потенции, дюнамис, и акта, энергейя,
у Аристотеля: ведь самое статистически частое понимание
потенции и акта — идет от акта, когда потенция понимается как
заготовка к нему, подходы, нарастание, может быть причина, и
это так понятно: ведь в самом деле, если что-то есть, то должна
же была быть какая-то подготовительная ступень, подход к этому
бытию — вот вам возможность, потенция, которая потом
реализуется, мы, с нашим обретением, с этой находкой вещей, которые
могут и так, оказались бы сразу гораздо ближе — хотя все-таки
пока только ближе, настоящего Аристотеля мы пока еще не
читали. Могу, возможность — вовсе не какая-то подготовительная,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
449
предыдущая ступень для действительного существования. Т. е. я
мог бы спланировать в этот почтенный историко-философский
пейзаж, аристотелевский, — но автор записки был прав; мало
понимая сам себя, я оказался все-таки в незнакомом пейзаже.
Есть вещи, которые могут и так, без существования, — «могут»
в этом тезисе, предположении вернее, не принципиально и не
годится для словесной игры. За этим предположением стоит не
диапазон значений бытия, а удивление перед тем, что есть что-то,
условно говоря, какие-то вещи, в широком смысле, которым все
равно, попадают ли они в зрение, слух, осмысление, вообще наше
восприятие — или не попадают. Вместо нашего прежнего «они
могут и так, без существования», теперь скажем по-другому: им
как-то все равно. Не обращая внимания на наши характеристики
и на наше представление о том, как все должно было бы быть
и могло бы быть. И мы не вправе говорить, «могут» ли они что
или не могут. Мы не знаем. Им все равно. С Парменидом у нас то
соприкосновение здесь, что мы, как и он, столкнулись с тем, чего
не можем укротить, и не должны, он нас предупреждает не
пробовать укрощать, начиная с того, чтобы не пробовать рассуждать.
Кажется, что философ вроде бы имеет право рассуждать уж обо
всем. Нет. «Удержи свою мысль от этого хода искания». Здесь
не ищи. Об этом, тут не думай. Какой обскурантизм. А я вот
захочу и подумаю, что тогда будет? Будет то, что не получится, не
выйдет. Философское предписание всегда такого рода, что оно
и так все равно будет выполнено. Мы знаем, что так и так наша
активность нам не подчинена, что Обломов не где-то в прошлом
и в Петербурге, а это облом в нас, что мы обломились, есть обрыв,
который только игрушечного воображаемого вездепроходящего
Штольца не ограничивает, — но Штольц не здешний, он немец,
а не наш, и он движется где-то за рамками того поля, которое мы
видим, он сам может быть для себя имеет все доступным, для
своей активности, но для нас он не доступен, он то и дело выпадает
из того, что нам известно о людях. О людях нам известно, что
Парменид прав: что есть что-то, что людьми укрощено быть все
равно не может. Так лучше тогда поймите, что. С задачей, чтобы
из небытия стало как-то бытие, чтобы небытие как-то было, мы не
можем справиться. Здесь не силься. А разве мы силимся?
«Силимся» — это сказано потом у Парменида еще во второй
раз, в 3-м стихе, «да не побудит тебя многоопытный навык»,
сказано у Лебедева, у Парменида «насиловать», резче, и вообще
применять силу, как на войне, и насильно принуждать, и в
смысле сексуального насилия. Тема доброго супружества, и было
450
В. В. БИБИХИН
именно подчеркнуто, что не злая мойра, судьба, наделяющая, не
злая привела «юношу» или «дитя» или «младенца» — т. е.
человека, который, нам напоминает Гераклит комментатор Парменида,
всегда младенец перед Богом, — привела его к Богине
«супругом», συνάορος дев, которые откидывали покрывала с голов,
стремительно приближаясь к воротам Дня и Ночи. То супружество
было с дочерьми Солнца, ясностью видения. И здесь, когда
заходит речь о насилии, т. е. о недолжном, злом супружестве (мы
вспоминали о «законнорожденном», от законного супруга, знании
и о «незаконнорожденном», темном знании рожденном не от отца,
а от неизвестно кого, возможно, насильника), — заходит речь об
этом недолжном насилии в отношении снова глаз, потом слуха —
т. е. опять чувств, восприятия. С глазом пусть не будет сделано
вот какого насилия, насилие теперь названо еще одним словом,
«править, управлять», — но сначала кто применит силу: у Лебедева
«навык», у Парменида έθος — шире, «обычай», вообще
«обыденность, привычка». Привычка бывает к тому, что повторяется
много раз: к обыденному. Этот обычай πολύπειρον — и снова
приходится удивляться, как угадывает Парменид тот язык,
который станет главным языком западной мысли. Ведь эти слова
и сейчас горячие (не имеет отношения к горячим и холодным
культурам): εθος — от него наша «этика», πολύπειρον — то же
слово, что «эмпирия», эмпирическое, т. е. опытное, — актуальное
сверхактуальное слово, включенное Лениным в название своей
главной теоретической работы, «Материализм и
эмпириокритицизм». В эмпириокритицизме снова, в который раз (не в первый
далеко раз за тысячи лет мысли) встал вопрос об опыте, πείρα.
У Парменида — богатый опытом обычай, полная всяческого
опыта повседневность. Говорится об оттачивании навыка
глядения. Мы в полном праве вспомнить пещерных жителей Платона,
которые изощряются в угадывании по теням, какие фигуры
фокусники проносят за их спинами. Так мы угадываем по газетам,
что делается в правительстве. Парменид прав: люди приобретают
в повторяющемся обыденном опыте навык большой зоркости —
но он предостерегает от того, чтобы мы не поддавались насилию
многоопытного обычая — как интересно! это звучит, в смысле
это важно теперь ничуть уж во всяком случае не меньше, чем
давно, — я имею в виду то, что в настоящем опыт не
приобретается, настоящее не обычно, — и вот, насилие этого опыта
не должно сделать так, чтобы мы — третье слово — [стали]
править, управлять, присматривать за чем? за смотрением, за
зрением, но за невидящим или, как хорошо переводит Лебедев,
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
451
«бесцельным».288 Это блестяще сказано: править, т. е. ставить
цель перед бесцельным, очевидный оксюморон, говорит один
комментатор, но здесь больше, снова взвешенное, парящее
взвешенное и отмеренное точно взвешенное, слово, которое при
любом чтении, они [чтения] могут быть неожиданные, дает
неожиданно острый смысл. Мы можем читать или — «управление
зрением, постановка целей, впрягание в задачу зрения», которое
άσκοπον (опять, между прочим, слово из несущих на себе
тысячелетнюю мысль, это то же слово, что в нашем скепсис,
буквально «смотрение», но с альфа привативум: в аристотелевском
понимании зрение энергия, т. е. полнота, т. е. само же цель в себе,
когда зрения, видения достаточно и не надо спрашивать, для чего
оно: оно видение, для видения). — Но мы имеем право читать и
по-другому: «обыденный навык насилуя нас заставляет править
зрением, у которого нет зрения», т. е. которое — в своей
обыденной суете, в навыке высматривания — не видит и в принципе не
может видеть по-настоящему. В какую сторону ни читать, эта
группа из трех слов, править или целить, бесценным или
самоценным зрением, остается далекой высотой, на которую
поневоле хочет или не хочет должно ориентироваться всякое думание о
том, что мы делаем со своим зрением, видим ли мы то, что
видно, или то, что хотим видеть, — по-русски: «что мы имеем в
виду»: то, что мы имеем-в-виду, что есть для нашего видения,
или мы имеем в виду то, что задумали. Я догадываюсь, и вы тоже,
какое задание, эти три слова Парменида. — Следующие два
слова, у Лебедева «шумящий слух», или «звенящий», т. е. готовый
уже заранее слышать и способный услышать даже там, где
ничего не слышно — после чего стоит «и язык», потому что язык тоже
не ждет, когда ему будет придан смысл, — слово имеет смысл
уже раньше, чем имеет такой-то смысл, оно само звучит, полно
звона. — Теперь: почему править, насильственное направление
и управление этим видением, которое не имеет цели, и этим
слухом, который сам звучит словом, — недолжный путь, от
которого удержись, и укрощение того, что укротить невозможно? Задаю
вопрос — и уже ответ обозначается сам собой. Да именно
потому, что видение видит само себе свое, видит то, что видит,
и слух неожиданно и непредписанно слышит то, что он слышит,
и насильственное управление ими отнимет у нас зрение,
настоящее, и слух, настоящий. Мы правим видением, слышанием
и словом, но Парменид предостерегает: не надо править, управ-
288 «фрагменты...», с. 296, фр. 7.
452
В. В. БИБИХИН
пять. Между прочим, это, «править», уже было, фрагмент 6, стих
5: можно ли принять, что амехания,289 это заворожение, сковыва-
ние — она правит? Еще как. Амехания редкий опыт. Не потому,
что он не принадлежит самому человеческому существу — не
потому, что не каждый человек Обломов, каждый, — а потому,
чтобы быть Обломовым или Розановым нужно мужество, на
дальних подходах к этому заворожению обычно поступают — не
надо далеко ходить — так, как переводят и понимают амеханию
в том месте Парменида, которое мы читали. Да вот именно: не
надо далеко ходить. Парменид имеет в виду участь всех людей,
они такие перед присутствием Бога, — нет самого этого
указательного на себя, на всех нас жеста, величественного жеста
сметающего все человечество в слепую и глухую толпу, — но жеста
чьего? Человека, Парменида, в том высшем величии человека,
когда он в том же своем существе говорит от своего лица как от
лица Бога и одновременно говорит от Бога — ив веселье
божественной силы, чьей же силы как не своей, не в том смысле, что
он Бог, а в том смысле, что его хватает на то, чтобы вобрать в
свое слово и Бога, взлететь говоримым им словом до размаха, где
это слово, логос (а ведь слово, логос это то, что богов и людей
объединяет, т. е. не то что Боги говорят человеческим языком,
этот лепет они вообще не воспринимают, у Богов Логос, так же
человеку не внятный, как речь взрослого для новорожденного
младенца, — но с другой стороны и вся человеческая речь
только от логоса и в логосе, ничего — неоткуда взять — кроме того
логоса в ней нет и никогда не будет, т. е. в каждом говоримом
слове логос так или иначе просвечивает), и зайтись, расходиться,
размахнуться до такой широты, такой свободы, чтобы уже
тысячелетия звучали в слове', человек всегда знает, что у него в сло-
289 Амехания редкий опыт. Не надо далеко ходить: то, как ее понимают
и переводят, «беспомощность», — это и есть обычное отношение к ней: надо
принимать меры, т. е. нужда требует принятия мер. Чистая амехания, выводящая
к новому существованию — не в смысле новой формы, а к такому
существованию, которое всегда новое, — редкость, уникальность. Размытость Обломова
и собранность Штольца — обычный раскол, «облом», воспроизведенный в
лицах, обличенный. Принятие мер опирается на то, что всегда есть, на обычное,
обыденное. — И снова, в который раз, мы в рискованных смешениях, потому что
эта опора на обычное, обыденное не значит, что надо от обыденного отойти —
а увидеть его таким, как обыденное. Что и в нем боги. Но нет: этос — якобы
область человека, здесь он хозяин, или просто — есть здесь и там. Как увидеть, что
и здесь тоже боги? Надо быть Гераклитом? Или Парменидом, который говорит:
пусть обыденное не заставляет тебя заставлять! Пусть оно не принуждает тебя
принуждать, не продолжать себя.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
453
ве звучит, Пушкин знал очень хорошо, Парменид не знать не
мог, — и я говорю зайтись в этом размахе слова, таком, что в
слове слышатся века и пространства, человеческие и
божественные, и тут же, из этого человеческого размаха, увидеть все
человеческое как глухое и слепое метание, правление амехании, —
комментатор Гераклит опять нужен, правление ребенка, «эон дитя
играющее», — и осуждения человечества здесь нет, есть
роскошное, веселое знание детства всего человечества, младенчества
эона, века, мира, того, насколько важничанье, чины, гордыня,
ужасы войны, строгости власти тени теней, тени чего — но ведь
слова же, Логоса, — я говорю, такой взгляд, веселый и
предельный, внезапный на человечество, такой жест, с таким размахом
сметания человечества и себя с ним туда, где ему место, в
божественной игре, в которой одна черточка одной буквы весит
больше, чем тома законов и постановлений целого государства, — нет
в таком жесте, сметающем целое человечество в игру ребенка, —
нет для современного читателя это слишком выбирает почву из-
под ног, слишком оставляет без руководства, ориентиров, и куда
гораздо удобнее Парменид, который обличает часть человечества
или даже пусть всё, но обличает деловито, озабоченно, готовя из
глубины веков новые инструменты, пускай только
концептуальные, для человеческого оснащения. Удобнее Парменид, который
сам ценность, величина, весомость и не любит человеческой
беспомощности, — ему приписывается все ставящий на эти, удобные
места, эпитет «жалкая» при амехании, «беспомощность жалкая
правит в их груди заплутавшим умом». А надо быть не
беспомощными, сильными. Надо принять меры, для начала
концептуальные. — Словом, до амехании настоящей у нас дело не доходит:
мы принимаем меры. Нужда нам кажется невыносимой, мы
обостряем свое ощущение нужды, чтобы разгорячить себя до
принятия мер. — Чистая беспомощность, которая одна способна
вывести к новому существованию — не в смысле новой формы,
а к существо-ванию в этом смысле слова, к бытию своим
существом, которое всегда новое, — редкость, уникальность. Поэтому
облом, обрыв в каждом дает о себе знать только в различии
разных — и опыт Ивана Александровича Гончарова, которому
Гончаров дал название «Обломов», потребовал исправления,
потому что Обломову фатально не удается оправдать свою
неподвижность; тогда и его деятельной противоположности не удастся
себя оправдать. В этом русском романисте, Гончарове, как будто
бы тень беспомощности, амехании прошла над нашей землей. Но
задолго до даже слабой тени беспомощности человек, или как его
454
В. В. БИБИХИН
лучше назвать, этот город за неприступной оградой, личность,
индивид восстает и вводит в действие всю свою чудовищную,
колоссальную мощь, чтобы беспомощности не было. Самость не
может только одного: сделать так, чтобы то, чего нет, было.
Для принятия мер имеется широкая опора: «этос», обычай, то,
как обычно бывает, обыденность. Я произношу «обыденность» —
и почти обязательно, невольно вы слышите: от этой обыденности
надо отойти. Интересно каким образом. Не достаточно ли увидеть
наконец обыденность. Надо быть обязательно только Гераклитом,
чтобы заметить, что и в обыденном — например, на кухне, около
печки — тоже боги? Наверное надо быть Гераклитом; потому что
для всех других, не Гераклитов, уже слишком очевидно ясно, что
обычное, обыденное исхожено и истоптано и серо и скучно, т. е.
как раз здесь богов нет. Обычное, обыденное — можно
определить как то, где для человека богов уже нет, где человек остался
один. Откуда он рвется туда, где необычно, необыденно, где
интересно, интер-эссе, быть внутри, внутри бытия.
Интересно на самом деле другое. Ведь боги по определению
везде, дух веет где хочет. Каким образом, почему они перестали
быть способны проникнуть в обыденность, пространство
обыденности охватило всю землю и требуется иностранец, чтобы
сделать пространство не таким плоским, серым — ненадолго
он может это сделать, потом разоблачается тоже как обычный,
обыденный? Все здесь хожено перехожено, испытано
переиспытано — откуда здесь взяться богам? Обычное, обыденное на
каждом шагу, постоянно перед глазами, «этос полюпейрон» —
значит оно нам самое известное? Конечно; уж что известнее
этого, что постоянно перед глазами. Значит, мы в него всего
пристальнее вглядываемся? Ну уж это вот нет, всякий имеет
полное право сказать: что мне, делать что ли нечего, чтобы еще
вглядываться в то, что я видел-перевидел? Я не какой-нибудь
нищий духом, у меня есть интеллектуальные интересы, я живу
далекой, отрешенной жизнью, кроме того, у меня достаточно
таланта, чтобы вообще отсюда уехать! Это я только кажусь здесь,
а на самом деле вон где я там далеко! Как раз того, что как
сор под ногами валяется — почему-то оказывается под ногами
именно всегда только сор — мы всего меньше хотим замечать,
мы держим голову высоко и в лучшем случае вообще смотрим
только на небо, хотя не всегда это, к сожалению, удается, и
реальность стаскивает нас с неба на землю. Но у нас есть крылья,
вы что, хотите сделать человека бескрылым, чтобы он уставился
глазами себе под ноги? —
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
455
Теперь, не замечаемое обыденное, привычное, мимо чего
человек смотрит далеко, в даль — оно от этого над нами теряет
власть, мы от него вырываемся, на крыльях духа воспаряя высоко?
Нет, похоже, наоборот, что именно когда от обыденного
отворачиваются, оно продолжается в самом этом жесте взглядывания вверх,
в том смысле, что уход уже не прекращается — и «насилие»
привычки у Парменида означает вовсе не обязательно только косное
существование людей, как это говорится, потонувших в
обыденности, но и точно так же, в той же мере касается и другой
стороны, другого способа навсегда остаться с обыденностью, а именно
бежать от нее: обыденность с равным успехом правит и тогда,
когда от нее отворачиваются в поисках необычного, интер-есного.
Этот сам жест отворачивания будет править бесцельным зрением
и шумным слухом, для того чтобы они не были как раз теми
обыденными. Или для того, чтобы они не были какими-то другими
и были какими-то такими. Вообще для того, чтобы попытаться.
Этос полюпейрон, έθος πολύπειρον, богатый попытками,
состоящий из усилий. Все равно каких. Обычно, в обыденности,
человек старается. Например, вырваться из обыденности. Вырваться
из нужды. Нужда — это когда нет. Всего больше нет, способом
провала, и когда нет, не надо ли стараться, чтобы было? Когда
в обыденности нет ничего, кроме скуки, не надо разве делать по
крайней мере попытки, чтобы получить результат? Ведь мы же все
хотим получить результат. — Я только наметил темы, о которых
нужно было бы помнить — о том, что темы эти есть, что они
положены {тема — «положенное»), что нам полоэюено об этом
думать, или, вернее, при этом быть, — при обыденном: в котором
есть боги или нет богов? если они есть, почему мы их не видим,
если их нет, почему пространство вокруг человека и под человеком
истоптано так прочно, что не осталось места для богов? Почему
обыденна нужда? Почему обычное правит нами одинаково и
когда мы косные, и когда мы рвемся от него, — почему оно правит
нами так, что в жесте отворачивания от обыденного мы не
обращаем внимания на то, что правим нашим зрением, незрячим или
бесцельным? вот вопрос не для истолкователей, упаси Господь,
а для нас, — управляем звенящим слухом и голосом, словом,
языком, — но при этом не знаем, почему слух слышит и слухом
земля полнится, почему слово слывет, почему άκουή и γλώσσα —
ήχήεσσα, шумящие звучащие как живое эхо? — Я говорю, эти
темы нам положено, как первое нам положенное, сначала увидеть,
потом осмыслить, чтобы понемногу начать подходить к пармени-
довскому 7-му фрагменту.
456
В. В. БИБИХИН
Несколько раз мне уже казалось, что хватит этого богатства,
не может человек на 3,5 страницах сказать так много — но только
ли человек тут говорит, или тут размах логоса, того, по
которому размечают свою колею и свои ходы и смертные и
бессмертные? — что уже хватит, и остальное, недочитанное, окажется уже
только подтверждением уже сказанному у Парменида, — но нет,
все новые темы развертываются, это надо же было так написать.
Фрагмент 8, самый длинный, в нем 61 стих (в длинном первом
фрагменте было 32), начинается, как вы понимаете,
непереводимым, по-разному переводимым стихом, и варианты синтаксиса мы
оставим, как, вы заметили, многое оставляем на потом, я говорю,
мы стали бы отчасти приближаться к должным затратам времени
на Парменида, если бы плотно говорили о нем год, — заметим
только все-таки, что там в оригинале не как в хорошем, по-моему,
переводе Лебедева, «Один только путь остается», или «остается
один только мысленный путь»290 — а «остается еще один только
миф (буквально) пути», μύθος όδοίο, — и понимая миф как
мысль, Лебедев следует одному из значений «мифа», в греческом
слова более широкого, чем у нас, и, в частности, следует
возможной этимологии: греческой «миф», «мютос» — это, возможно,
русское «мысль». «Мысленный путь», переводит Лебедев, — но
в греческом «слово, речь, рассказ, предание (и традиция), миф»
пути или о пути только и остается. Остается только один
разрешенный, допустимый, т. е. не разрушающий способ говорить, или
передающееся в слове предание о «ходе», в смысле — шаге, или
еще: описание шага, подразумевается — того, от которого не надо
удерживать свою мысль. И здесь я немного или совсем не
понимаю, в чем дело. Сейчас пойдут эпитеты бытия, большей частью
отрицательные, «апофатические», которые будут верой и правдой
служить метафизике 2.5 тысячи лет, до сего дня, и как Спиноза
изрекал их, «неуничтожимость», «совершенство», с энтузиазмом
новости, так и сейчас примерно тот же набор можно встретить
в возвышенной речи о божественном, запредельном. И вот я
отказываюсь понимать, в чем дело. Ведь если бы Парменид описывал
тут путь искания бытия, свой или чей. Нет, он говорит о мифе,
«мютос», предании, рассказе, говорит о «знаках» этого рассказа,
причем опять словом живущим до сих пор— σήματα, отсюда
«семантика»: чуть ли не можно было сказать — «термины»: он
описывает метафизический дискурс и его термины. А
метафизический тот дискурс ко времени Парменида существовал или
290 «Фрагменты...», с. 296, 290.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
457
нет? Не знаем. Считается обычно, что понятие бытия введено
Парменидом. Что же, едва начав говорить о бытии, Парменид
уже наметил метафизический «миф», разметил штрихами весь
путь метафизического дискурса, — многотысячелетнего. Как
догадался? Откуда взял?
Что нерожденным должно оно быть и негибнущим также,
Целым, единородным, бездрожным и совершенным.
И не «было» оно, и не «будет», раз ныне все сразу
«Есть», одно, сплошное. Не сыщешь ему ты рождения.
Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю
Я ни сказать, ни помыслить...291
И так далее. В платоновском диалоге «Парменид»,
который обычно просто не котируется как свидетельство об учении
Парменида, его имя только привлечено там для названия диалога,
он платоновский весь — в этом платоновском диалоге имеем
развернутыми все эти «семата», знаки, — и то же у Аристотеля,
и в неоплатонизме, и в Средние века, и так далее. Почему так
случилось, что метафизика — вся — пошла именно по этому пути,
развернула из себя именно этот «миф»?
Она ведь развернула, с постоянством, подробностью и
настойчивостью. А. Ф. Лосев говорил, что вся философия это по
существу платонизм и неоплатонизм. Мы чем и занимаемся, как
берем тексты этой философии, philosophia perennis, которая зовет
восходить к постоянному, к целому, к единому, к бытию, в
отличие от преходящего сущего, и читаем и комментируем, и у нас
ощущение, что мы делаем важное серьезное дело, занимаемся
философской профессией, это печатают, за это платят деньги.
И уже перед лицом этой общеевропейской, а собственно вернее
планетарной исторической реальности, философии, я понимаю и
перевожу слова Парменида: «дискурс, речь» (а другие: «беседа,
сведения»), дальше — «термины». Философия есть некий дискурс,
пользующийся терминами. Но почему все-таки у Парменида
другое, так странно: миф, и «знаки» (σήμα, σν\ματα «знак, признак,
знамение, сигнал, могила, курган» — прямо как в сказке, легенде,
мифе на пути героя (пути! οδός) знаки, курганы, сигналы, камни).
Только ли потому он так говорит, что еще привязан к прежнему
мифологическому мышлению? Но похоже что нет: не только он
не захвачен единым потоком неразличенного мифологического
мышления, но делает различение, которое даже мы сейчас еще не
291 Там же, с. 296.
458
В. В. БИБИХИН
всегда делаем: различение которое и в переводы не попадает, из-за
того, что для нас философия собственно и сводится к
рассуждению, дискурсу, что же она такое как не собрание слов и терминов,
так расположенное. Он вводит различение: одно дело эти слова,
другое дело «ход», путь, шаг, поступок. Не такое различение, что
поступками вы будете — нам говорят — заниматься в другом
месте, а здесь извольте заниматься профессией, приобретением
знания, и наука (философия наука) как известно теория и вне
практических и этических интересов, и тут еще больше начинают
возмущаться, да что же это вы захотели, чтобы в чистую науку
вторглись и чистую науку замутили поступки, практические
интересы, да еще, может быть, ценности вашей этики, а наука мировая,
она должна быть вне этики и т.д. Т. е. если мы делаем различение
между теорией и практикой, то чтобы в ндшей теории оказаться
уже чистенькими, когда различение уже сделано и практик
отослан туда, где ему место, в практику, — наше дело теория — но
нет: у Парменида его οδός, его уникальный ход, сначала несет его
в скачке конной, т. е. уж во всяком случае то, что Карл Рейнхард
назвал апокалиптическим полетом Парменида, это поступок,
шаг, — а потом его стояние в одиночестве перед мечущейся
слепой и глухой толпой человечества, дело ведь тут не только о
теоретическом метании, а именно о практике, и «ход» Парменида
во всяком случае призван эту практику перевесить, как поступок
правды, т. е. вобрать в себя всю эту мятущуюся практику, оказаться
ее единственной об-личающей правдой, и Парменид весь в этом
поступке, захвачен этим поступком — и когда теперь заговаривает
о «мифе» пути, хода, поступка, с его знаками, то опять ведь вовсе
не приглашает заняться наконец после мифа логосом, как обычно
представляют начало философии, — как бы не так, перед ним
и единственно важен, т. е. без всякого рассуждения важен путь,
«ход» (я говорил: как в политике, как в шахматной игре) — и
совершенно неожиданным образом не дискурс противопоставляется
логический мифу, а наоборот, всякий дискурс оказывается по
сравнению с поступком только мифом, который нужен при
поступке, как дорожные знаки нужны для водителя, но вождение
не сводится к изучению дорожных знаков, — и как знаки на пути
нужны для сказочного путешественника. — Может быть такое,
что тысячелетний философский дискурс, вот тот, который мы все
знаем, о возникновении и уничтожении, едином, единственности,
совершенстве и так далее, — что это только знамение пути, по
которому идет и не идет, и когда отказывается идти, то все
равно обязательно идет, с необходимостью и неизбежно идет
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
459
человечество? Что вся философия, этот «предмет», — это
наваленные в служебном помещении ГАИ старые и новые дорожные
знаки, которые можно снять и поставить, а дороги и перекрестки
и опасности и предостережения сами по себе, только
обозначенные этими знаками, и без всяких знаков — но как прекрасно, что
знаки есть, — расположились в пейзаже человеческой истории, и
со знаками или без знаков существование человечества сводится
к поступанию, к поступкам, к «ходам» на этих дорогах? Т. е. что
философия это даже не надводная часть айсберга, а только
загадочный знак, может быть уже страшно старый и заржавелый, —
или и с дорожными знаками сравнение не годится? Наверное не
годится, и я не хотел признаваться, но теперь, кажется, признаюсь
вам, что пространство настоящей жизни, т. е. той в которой мы
по-настоящему живем, движемся и существуем, не похоже, а то
же самое, что пространство волшебной сказки, и в отличие от
волшебной сказки только нет вещих птиц и всезнающих старых
дам, которые сообщают, куда и как идти, а всегда каждый человек
в этом завороженном пространстве совсем один, и знаки видны,
так сказать, только с оборотной стороны, т. е. только после того,
как сделал шаг, повернувшись, можешь увидеть знак, который
подтверждает всегда то, что уже есть, уже пройдено. О том,
чтобы были опережающие указательные знаки, не может быть и
речи, — наподобие дорожных знаков. Μύθος όδοΐο, «миф хода»,
миф около и вокруг хода, знаки хода — уж конечно не так, что
сначала знаки, потом ход. Между ними нет вообще ни «сначала»,
ни «потом», они так несравнимы. Есть ход; его знаки умеет
перечислить Парменид, и его список такой, что знаки снова и снова
оказывались теми же самыми. А что путь, ход — скажем, истории
человечества — один и тот же? Как будем рассуждать, наблюдать
связность, единство этой истории, например ее этапы, рабовла-
дельчество, феодализм, капитализм, такие разные, но самой своей
сменой указывающие на что-то целое? Или по-другому: единство
этой истории обосновано тем, что она вышла, вырвалась в
отношение к бытию, решилась встать в отношение к бытию (или под
другим именем: к единому Богу)? Тогда парменидовский «миф
хода» повертывается, «оборачивается» необычной, неожиданной
стороной. Никакого перехода от мифа к логосу в центре
европейской истории не происходит. Происходит другой: до всякого мифа,
без всякого мифа бытие открывается человеку как то, вокруг чего
и за чем (в обоих смыслах) он, и тогда миф, окутывавший словом
его прежнее, общинное существование, миф о богах и героях, как
мы его знаем, становится другим мифом, мифом нового «хода»,
460
В. В. БИБИХИН
отношения, от-ношения бытия. Заслуга Парменида не в том, что
он «ввел» в философию понятие бытия, а в том, что он узнал, в
смысле распознал, какой оборот (πέλει.ν) приняло дело, и этот
шаг сам решительно сделал. Миф хода, т. е. философия, — если
хотите, сон о новом шаге, или пути человека, — только
инкрустация, эпизод, описание того, название того, как скажется, как даст о
себе знать в изменении мифа, появлении философского мифа, этот
исторический поворот, оборот дела. Знаки тогда, перечисляемые
Парменидом, не имеют строго говоря отношения к ходу, который
раньше знаков и без знаков, — или, проще сказать, знаки не
имеют отношения, от-ношения, не они несут, как дорожный знак сам
ничего не несет из того, что проходит по дороге.
Знаки эти будут, однако, такие же странные, новые,
парадоксальные (т. е. мимо того, что принято), как сам путь. Первый
знак — нерожденное, невозникшее, и Боже мой, как опять
Парменид попадает в самую гущу, называет одно из самых
острых слов всякого в том числе современного мифа нашего пути!
Возникновение... Ведь мы знаем, что все возникает, и Дарвин
доказал, что человек возник, — и философия возникла, вот эта
вся пакетом, которая внутри себя говорит о невозникшем бытии.
Мы хоть чуточку верим, что что-то не возникает? Да нет конечно.
Мы сразу правим, управляем своим зрением, чтобы оно увидело
условия предпосылки и так далее возникновения, большой опыт
нам показывает, что все как возникло, так и исчезнет, как
философия — кто возразит, кто не согласится? — возникла, а теперь
говорят, особенно западные богословы, со спокойным, втайне
радостным смирением, что философия такая долгая но временная
форма, по-видимому, исчезает. Еще чего не хватает, «не возникло».
Это, извините, из области сказок. Так что этот тезис Парменида, о
мифе пути, снова с неожиданной стороны обнаруживает то, что он
философский, что он верен всегда: потому что на самом деле вся
философия для нас всегда миф. А путь — не миф, хотя бы потому,
что атомная бомба уж простите не миф. Та, которая взорвалась
вместе с поступком Парменида.
То же с другими знаками, знамениями мифа. Рассказывайте
нам сказки о неуничтожающемся. Нигилизм знает, что не может
быть уничтожено только то, что не существует. А бытие? Оно
существует? Значит бытие тоже должно уничтожиться? А как
же: известно, что бытие как-то связано с сознанием, с мыслью,
со словом; не будет сознания, мысли, слова, не будет и бытия. —
Голова идет кругом. Какое невозникающее, какое неуничтожаю-
щееся, да еще вообще, так сказать, по крупному счету? Видели мы
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
461
когда-нибудь невозникшее? В гробу мы его видели, т. е. раз оно
не возникло, то его и нет. — Но бытие, или сущее (в том русском
смысле — сущее-настоящее), указано у Парменида в 8, 6, «какое
ты ему отыщешь возникновение?» В смысле: «ищи» с
интенсивом (διζημαι интенсив к ζητεΐν), и смешно сказать, что ты ему
отыщешь возникновение, генесис. Мы можем сколько угодно
говорить о Пармениде, чтобы получить на экзамене хорошую отметку,
но по-честному, всерьез мы, конечно, говорим ему: да ты о чем,
старикашка? Чего это мы там не отыщем возникновения?
В следующий раз мы должны подумать о том, как это мы
сущему не отыщем возникновения. 2x2 вроде бы всегда было 4, но,
с одной стороны, математика принадлежит к идеям, возникшим
в божественном уме, а с другой, Бог может создать такой мир, где,
возможно, 2x2 уже не будет 4.
Бытие, которое не возникло и поэтому не может никуда
уничтожиться, для нас, честно сказать, очень похоже на небытие. Да в
конце концов сказал же Гегель, что бытие и небытие одно и то же.
И посмотрите ниже на 8-й фрагмент Парменида, стих 11 :
Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно.
Видим мы что-то такое, что есть всегда и не уничтожается или
не возникает? Если вы видите, скажите. Если не видим — значит,
этому, такому, которому не отыскать возникновения, не быть, не
бывать.
462
В. В. БИБИХИН
11—12(28.4.1992)
1) άγένητον έόν; 2) κέκριται, κρίσις, άκριτα φύλα;
3) ανάγκη, άγχω.
Прошлый раз, услышав от Парменида, что бытие не
возникло, άγένητον έόν, «нерожденное бытие, невозникшее бытие»,
мы должны были по-честному сказать, что по-честному, без
интеллектуальной процедуры над собой, мы понимаем только, что
он говорит о чем-то очень возвышенном, и мы сочувствуем ему,
понимаем, как это красиво и благородно, среди мира
становления возникновения и уничтожения что-то, не имевшее начала;
но настоящее наше отношение прохладное: поговори что-нибудь
еще, надо же, чтобы кто-нибудь выставлялся, мы это обсудим
и решим, наша проблемная область будет богаче. По-серьезному,
конечно, невозникшее расположено в области каких-то идей, для
нас, — область идей выдвинута древнегреческой философией,
древнегреческая философия, говорим мы, возникла (в условиях...
и т. д. перехода от матриархата к патриархату, или от общинно-
родового к рабовладельческому строю, или еще как-то, причем
учение об идеях «выражало» такие-то сдвиги скажем в
общественном сознании или в юридическом или в экономике или в
становлении денег — скорее всего вот как раз финансовая система
способствовала возникновению учения об идеях, представление
о ценностях, независимых от конкретно-чувственного содержания,
общезначимых, так читаем у одного современного историка), т. е.
возникла ситуация, когда стало можно, нужно, актуально говорить
о невозникшем\ Займитесь поэтому проблемой генезиса учения
о невозникшем, как оно возникло, под действием изменения каких
социальных, религиозных сдвигов. — Что, как еще мы думаем
о невозникшем бытии? Мы думаем, что это языческая ересь,
потому что Бог, воскресший позавчера, сотворил бытие из ничего,
а думать, будто оно было всегда и до Бога, это недогматично.
Бытие, стало быть, возникло, сотворено. Потом, еще: у нас есть
смутное впечатление, от чтения экзистенциалистов, от
представления о связи сознания и бытия, или о связи мышления и бытия,
первое у Декарта, второе у Парменида: так или иначе, мы вроде
бы читали, что бытие — не само по себе, оно вообще зависит от
нас, от человека, от его сознания или его присутствия, что вне
человеческого мира бытия нет — как же тогда оно не возникло,
если человеческое все ведь, наверное, возникло, ведь не может
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
463
же быть, чтобы человечество было вечно? Наверное, нет, — стало
быть, и бытие, которое вместе с человечеством, с его историей,
выходит не вечно, а возникло с выходом человечества к культурно-
историческому существованию. В самом деле, Парменид
объявляет бытие невозникшим, а ведь оно и сделалось темой только
с Парменидом.
По этим всем причинам бытие возникло, не правда ли. С
другой стороны, прошлый раз мне говорили, что бытие наверное
похоже на искусство, а искусство ранней классики или архаики
или наскальной пещерной живописи, десятки тысячелетий назад,
не примитивнее, не ближе к возникновению (т. е. вполне зрелое),
чем современное искусство, и тогда, если экстраполировать, если
воображаемо продолжить линию искусства в прошлое, то как оно
не прогрессировало последние тысячи лет, так оно, наверное, не
прогрессировало и вообще никогда, но снова мы упираемся в
проблему возникновения человека — или божественное искусство не
возникло и было всегда!
Но так нас опять выносит в различение, раздвоение, а если
раздвоились, раскололись, то склеиться обратно бывает очень
трудно, — в раскол между здешним и божественным. А у Парменида —
бытие, оно не-возникшее, и оно же всего ближе к нам, с ним мы
имеем дело всякий раз, когда думаем и говорим. Что его бытие
не потустороннее, заметил, обратил внимание Гегель, не «пустое
порождение мысли».292 Гегель начинает, вы помните, с
привычного изображения абстрактного экстатика: «Простую мысль о
чистом бытии как об абсолютном и как о единственной истине ....
высказали... особенно Парменид... с чистым воодушевлением
мышления, в первый раз постигшего себя в своей абсолютной
абстрактности» (в Примечании293). Но уже и здесь, при первом
упоминании Парменида в «Науке логики», абстрактный Парменид
не оказывается таким уж абстрактным (вы понимаете, какая для
Гегеля никчемная пустота, абстракция). Парменид предлагается
в том же примечании как хороший против плохого Канта,
вставляется внутрь рассуждения о знаменитых ста талерах. Кант неправ,
говорит Гегель, что понятие ста талеров хуже, мысль о ста талерах
хуже, чем сто золотых талеров, которые я держу в руке. Дело в том,
что никакого понятия ста талеров нет и быть не может, это не
понятие, оно не самотождественно, оно плывет и тянет за собой,
неизбежно, другие представления: пустое, обывательское изображение
292 Гегель. Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. М.: Мысль, 1970, с. 143.
2" Там же, с. 141.
464
В. В. БИБИХИН
ста талеров в уме, форма субъективного рассудка294 — конечно,
хуже ста талеров, но настоящее понятие, настоящая мысль
несравненно лучше ста талеров; и вот в этот спор с Кантом в укор
Канту Гегель вспоминает Парменида: Парменид умел не упираться
мыслью в «какое-то определенное бытие», как мысль Канта в его
примере, упершаяся в те сто монет, не умеющая оторваться от этой
наличности,295 и такой псевдомысли надо указать на Парменида,
который сумел вглядываясь в наличное то и наличное это, в конце
концов в наличное всё такое, которое становится оставаясь
конкретным равно самому себе — «свое представление и тем самым и
представление последующих поколений очистил и возвысил до
чистой мысли, до бытия как такового, и этим создал стихию науки».296
Не воображайте, говорит Гегель, что если вы интенсивно
держите в уме 100 талеров, то это что-то «конкретное»; наоборот,
это из абстракций самая жалкая, это держание 100 талеров в уме
смерть мысли в чувственном определенном, и 100 талеров ни эта
жалкая мысль, ни ее смерть вам тоже не дадут, Кант тут прав. Кант
неправ только в одном: когда называет это мыслью. Это вообще
даже и не мысль. Дайте мысли становиться, дайте ей двигаться;
оттого, что она перестанет упираться в эту жалкую наличность,
увидит связи и еще связи и взаимозависимость всякой наличности,
она не станет абстрактной: она, наоборот, станет конкретной
и будет восходить к той предельной высшей конкретности, когда
дух проработает и вберет в себя взаимозависимость всего в мире.
Не бойтесь, что мысль будет плыть, плавать, если отцепится от
наличности; в конце этого плавания верховное постижение, что
всякая наличность плывет, «всё в течении», по Гераклиту, все
случайно — но то, что все случилось в своей случайности именно так,
как случилось, и принимается духом как уже такое, какое оно есть
(здесь можно было бы, я оставляю желающим, увидеть
одинаковость мысли Лейбница и Гегеля) — то в само царство случайности
вторгается и сковывает его необходимость, абсолютная (Лейбниц
говорил: «метафизическая»), так что провал в поток, случайных
же вещей, и только он возвратит к абсолютной конкретности. Не
бойтесь потока. И все равно держась за вот эту вот, казалось бы,
такую конкретную наличность, вы просто нигде.
Получается вот что: в этот поток именно пустился Парменид,
он создал «науку» тем, что отцепился от ограниченной налично-
294 Там же, с. 147.
295 Там же.
296 Там же.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
465
сти. Он ушел от наличности в абстракцию, можно было подумать,
читая у Гегеля первое упоминание о нем, — но нет, неожиданно
в той же «Науке логики» читаем: и что интересно опять в
сравнении и связи с Кантом, «бесконечно более остроумны и
глубоки, чем ... кантовская антиномия... диалектические примеры...
элейской школы... Они делают величайшую честь разуму их
изобретателей; они имеют своим результатом чистое бытие
Парменида...» — и вот эта, уж действительно, неожиданность:
антиномии движения древней элейской школы «имеют своим
результатом (курсив Гегеля) чистое бытие Парменида,
показывая разложение всякого определенного бытия в нем самом,
и суть, следовательно, сами в себе течение Гераклита».297 Наше
казавшееся нам смелым комментирование Парменида Гераклитом
как само собой разумеющееся видно Гегелю; и сближает он их
крупно, Парменида и Гераклита, в главном их и в главном вообще,
на что мы сами бы, наверное, не осмелились бы: чистое бытие
Парменида — это и есть в сути дела течение Гераклита («всё
течет»)! Вот тут мне становится весело, и я думаю, старик Гегель
никогда не подведет. Пусть он закрыт для нас его перевранной
диалектикой, его якобы панлогизмом, абсурдным
систематизмом, но, может быть, его время еще придет, — он закрыт еще
и сплошь утрамбовывающим русским переводом. Неподвижное
бытие Парменида и есть «всё течет» Гераклита — никакого
парадокса, вызова здесь нет. Ход от одного к другому краткий,
кратчайший: наличность, вроде 100 талеров, долэ/сна быть расплавлена
мыслью, огнем, расплавленная она течет, «показывая разложение
всякого определенного бытия в нем самом», т. с. не надо никуда
далеко уходить за пределы, простое вглядывание в наличность
расплавляет, разлагает ее в ее самом, выходит за ее пределы,
заставляет искать, двигаться, течь (все течет, все изменяется, 100
талеров текут, перетекая из порядочного богатства в колодку на шее
и в проклятие — но только, правда, Гегель немного несправедлив
к Канту, думая, что Кант уперся в 100 талеров и не может увидеть
их нереальность, прекрасно может, ведь сказал же Кант однажды,
что если вам не дали прибавки к жалованью, то думайте, что этой
прибавки не существует в природе: Гегель так далеко даже не
пошел бы, он не решился бы сказать, что некое «определенное
бытие»298 вообще куда-то девается и не существует, для Гегеля
оно все-таки как-то, насколько-то остается бытием), — и вот,
297 Там же, с. 271.
298 Там же.
466
В. В. БИБИХИН
именно в том, что наличность расплавляется, обнаруживает свою
неостановимую текучесть, как я сказал, именно в этой сплошной
взаимосвязи, взаимозависимости, взаимоопределимости и значит
контингентности вещей, — они должны разрешиться, быть
разрешены в эту свою контингентность, дух должен решиться
на это их разрешенное разрешение, чтобы увидеть абсолютную
необходимость и тем самым вечность и тем самым абсолютную
сущность — не за пределами конкретности, а в том самом, что
конкретность уже безусловно сложилась во всей своей условности
именно так, как она сложилась. Т. е. без Гераклита нет никакого
Парменида; нет шансов увидеть Парменидовскую невозникшесть
бытия без Гераклитовского сплошного становления; только в ге-
раклитовском огне, разрешающем, расплавляющем всё,
обнаруживается золото неизменного бытия. Запомним, что опять Гегель
говорит эту неожиданность о Пармениде в примечании (в
примечаниях у него все новое и главное) и опять — в связи с Кантом.
Гегель нам подсказывает,299 где искать парменидовское бытие.
Уж конечно не так искать, чтобы воображать себе для него особое
пространство еще вне возникающих и уничтожающихся вещей, —
а наоборот, в самом возникновении и уничтожении. В «Лекциях по
истории философии», в разделе «Парменид»: из «пустого,
пустынного» (über den wüsten Begriff) понятия бесконечности Парменид
вышел в понятии границы, которая все взяла в нерушимые цепи,
«это абсолютно ограничивающее есть непосредственно в себе
определенная абсолютная необходимость» (Лейпциг I 390300) —
то, чем все схвачено. Nur die Notwendigkeit, das Sein ist das Wahre
(там же)! Бытием, необходимостью того все цепко схвачено, что
именно так все, как есть — а небытия, т. е. такого, чтобы что-то
было не именно так, как оно есть, чтобы, сложившись и войдя
в эту такую именно свою сложенность, оно могло избежать этой
необходимости — такого никогда не было, нет и не будет.
Но позвольте, вроде бы то, что сложилось все именно так —
само слово слоэ/силось говорит за себя, — это и есть
возникновение, становление. Мы были, да, правы, видя вокруг и в себе
только возникновение и уничтожение. Но, когда мы скажем, что да,
кроме возникающего и уничтожающегося ничего нет, мы этим
299 [Запись В. Б. на полях машинописи] Освобождает от думания о
возникновении.
300 Скорее всего, речь идет об изд.: G.W.F. Hegel·. Sämtliche Werke. Hrsg.
von G. Lasson. Leipzig. 1913 и ел. Bd. 15a — Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie. Teil I. Ср. рус. пер. Б. Столпнера по изд.: Гегель Г. Сочинения. М.,
1932. Лекции по истории философии. Кн. 1, с. 223. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
467
самым своим «ничего нет» — а невозникающее, неуничтожаю-
щееся только там, в Боге, — мы проводим черту. Допустим,
нам кажется, мы проводим черту между «здесь» и «там», любую
черту. Эта черта становится? В самом вопросе нескладность.
Конечно, она проходит, а раньше ее не было, — но чтобы не
было вообще черты? Черта только одна из вещей, которые не
возникают. Чертой, или той определенностью, в какой
случившееся (контингентное) случилось так, как оно случилось, в мир
становления не рядом со становлением, а самим этим
становлением вдвинуто бытие.
Спасибо Гегелю. Спасибо Гераклиту. Благодаря им мы слава
Богу не отшатнулись туда, где мы всё бы потеряли, — стали бы
искать невозникшего в стороне от возникновения.
У Теофраста, ученика Аристотеля, читаем («Об ощущениях»
27): «Согласно Анаксагору, ощущения происходят по
противоположности, так как подобное не действует на подобное... Всякое
ощущение сопровождается болью... потому что все неподобное
при прикосновении вызывает боль» (Дильс-Кранц 59 А 92). Я пока
это, об ощущении неподобного неподобным и о боли (λύπη) от
такой разницы, оставлю на потом.
Это хорошо. От Гегеля мы учимся читать Парменида, что в
самом кружении становления, возникновения и только там мы
увидим — если по Анаксагору, нас заденет, за живое заденет
неподобие невозникшего возникшему. Но мы уже давно заметили, что
Парменида можно читать не обязательно только узнавая, что и он
тоже говорил о глубоких вещах, о которых мы в общем-то и так
знаем. Это было бы не интересно: читать для успокоения: ну слава
Богу, все на месте, philosophia perennis не подводит, у Парменида
то же, той же глубины, как у Гегеля, Лейбница, Плотина, если пока
о других не говорить. Парменид первый не зря. В началах часто
больше размаха, чем в продолжениях.
Тему боли, я сказал, я оставлю на потом, но раз уж мы
коснулись Гегеля, взяли его для комментирующего введения, или
вводного комментария к 8-му фрагменту, то тогда уж и заглянем
чуточку ниже места, которое мы цитировали, где он говорит,
что настоящая мысль, настоящее понятие дороже ста талеров.
Дороже для человека? А для кого же еще. Дороже наверное для
человека. Но для какого-то другого человека, которому безразлично
вот что: «Человек должен подняться... до такой... всеобщности,
при которой ему в самом деле будет безразлично.., существует
ли он или нет, т. е. существует ли он или нет в конечной жизни
468
В. В. БИБИХИН
(ибо имеется в виду некое состояние, определенное бытие)...».301
Чтобы встретиться с бытием настоящим, надо расстаться с при-
цепленностью к затвердениям, неразрешенным, нерасплавленным
темным образованиям, как «я» и «личность» и «индивид» — не
для того, чтобы их погубить, а чтобы впервые встретиться с тем,
где, в чем они могут найти себя. Тут мы вспоминаем, что древняя
добродетель была не в шутку, не напоказ, а на ней стоял тот мир,
и мужество, решимость предполагались, должны и при чтении
Парменида безусловно предполагаться как первое условие без
которого ничего, о котором даже не обязательно говорить. Гегель
напоминает это, цитируя древнего поэта: «Пусть целый свет,
надтреснув, рухнет, — тело, не дух сокрушат руины». Готовность не
хранить особо не то что там сто талеров, но и собственное частное
существование. И вот, боль этого расставания с собой — похоже,
если верить Анаксагору, условие познания того, невозникшего
бытия. Почему надо выстоять бесстрашным перед коллапсом мира.
Гегель еще подскажет нам вот что. Истинное бытие,
необходимость, вечность, абсолют расположены (т. е. парменидовское
бытие) не поодаль, не в стороне от всего возникающего и
уничтожающегося, и не вперемешку с ним, так что надо было бы тонко
распутывать, а совсем близко: все это, необходимость, вечность,
абсолют — присутствуют в том, что, я говорил, случайность
случилась именно так и не в смысле «ну, так оно и должно было
случиться, мы предвидели заранее, и Бог так предначертал», — нет,
со случайностью фокусов никаких нет, она именно случайность,
но, однажды случившись, она случилась в точности так, как
случилась, сейчас, вот буквально через секунду, она случится иначе,
«переслучится», если можно так сказать, переключится, — но
опять же: именно так, как переключится, и это скользящее,
неуловимое «именно так», прильнуло к ней словом Гегеля и Лейбница
абсолютно, и продолжает всегда — вечно — неотрывно льнуть
ко всему случающемуся и происходящему. Как мы можем видеть,
вдруг увидеть во всём эту сторону застывшей? — не то слово: тут
мало «застывшей», мало того стеклянного моря апокалипсиса, тут
именно схваченность нерушимая, несдвигаемая, железная или
алмазная, алмазные гвозди, которыми всё вколотила необходимость,
по тому же поэту.302 Частей соответственно в поэме Парменида
301 Гегель. Г. В. Ф. Наука логики..., т. 1, с. 147—148.
302 Сергей Сергеевич Аверинцев на пароходе у берегов Гурзуфа с Ренатой
Гальцевой, глядя на бухту, на очертания берега: Рената, скажи, разве не
удивительно, что все именно так, все именно такое! — из этого видения, увидения
без всякого поворота не то что точки зрения, но глаз, оттуда же и туда же глядя, то
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
469
и должно было быть именно две эти, одна о схваченном в
необходимом прозрении неподвижного бытия, другая — о
движущемся. Что зрения этих два, что только оба они правда и одно без
другого неправда — почему это так, спросите меня что-нибудь
полегче. Мы живем сейчас в самой середине этой загадки, от
их столкновения все непонимание, какое запутывает всех; мы
счастливы, что нам дано, быть еще в середине этой загадки в
другом, прямом смысле: заметить ее, думать о ней, понимать, как не
нужно, зря, напрасно все, что не заметило этих двух предельных
зрений. — И что, словами «два зрения», или «зрение Данте», или
«зрение Августина», или «необходимость абсолютная», или «не-
возникшее», или «истина бытия», я или кто-нибудь что-нибудь
вычерпал из этой загадки, сделал ее менее загадкой, «изложил»,
истолковал? Да ничего подобного. Еще очень хорошо, еще так нам
повезет, если нам удастся уберечься от того, чтобы по видимости
верными, правильными, даже точными или хорошо найденными
словами, — и чем лучше найдены, тем хуже, — не заслонить от
самих себя то... — что есть? что должно быть? что будет? То, чего
нет? чего не должно быть? То, о чем надо говорить? О чем не надо
говорить? Ах всё это все равно: мы хотели или не хотели, уже
брошены туда где мы есть, где тысячелетний загадочный Парменид,
где каждый день происходит то, что происходит, вырывающееся из
рук так же, как если бы мы ладонью одной руки захотели удержать
вырывающегося гладкого бегемота. Мы уже там, мы закручены
и не можем остановиться, мы уже никогда не остановимся,
человечество уже никогда не остановится, и глупо гадать о разгадке
двух зрений, двух частей парменидовскои поэмы: уже и загадать
эту загадку было, может быть, предельным человеческим
достижением, которое до сих пор остается ключом ко всему, что
происходит в мысли. Что происходит в мире.
Или еще: что, я то назвал, что имеет в виду Парменид, когда
прокомментировал его Гегелем? Да ничего подобного. То, что
сказал, годится только на то, чтобы не делать из Парменида шута,
услышать его всерьез. То, что мы прочитали у Гегеля, остается
только интерпретацией. А у самого Парменида — то, к чему у него
мы должны были бы уже привыкнуть: простейшая четкость,
скудость, некартинность очертаний. Русский перевод оказывается по
же и таким же видя, мы видим опять же вдруг другим зрением, зрением Леонардо
да Винчи или Ксенофана, когда все в движении, словно из-под земной толщи на
время выдвинуто все для глядения и снова будет убрано, видим движение,
прохождение всего, из невообразимого прошлого в невообразимое будущее, где и ты
сам частица этого извержения.
470
В. В. БИБИХИН
необходимости слишком образным, картинным, изобразительным,
без загадочной простоты:
Не сыщешь ему ты рожденья.
Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю
Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо
Есть, что не есть.303
Вы понимаете, что здесь — «немыслимо, несказуемо есть, что
не есть» — опять непереводимо, опять споры, опять блестящая
двусмыслица на пределах языка при крайней скудости средств:
кроме «не позволю», во всех этих двух стихах кроме
служебных только три слова, повторяющихся в разных формах дважды
и трижды, «сказать», «мыслить», и снова — «быть». Богиня не
позволит ни сказать ни помыслить «из не-сущего», мы уже
слышали почему, не-сущее укротить нельзя, ни словом, ни мыслью, из
него ничего вывести нельзя, никогда не было и никогда не будет,
чтобы порог не сущего был перейден. И опять я понимаю, как это
загадочно прямо пересекается с христианским творением
(библейским, собственно), из ничего — и при явном говорении другого не
противоречит ему, — но разбирать это мне не по силам.
Да и что за нужда бы его побудила
Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться?304
В «Историко-философском ежегоднике» должно скоро выйти,
в переводе Сергея Владимировича Силантьева, «De aeternitate
mundi» Боэция Датского,305 XIII век — самый отчетливый
набор всех средневековых (а по этому вопросу и кантовских тоже)
антиномий творения мира (мир и бытие много раз оказывались
и много еще раз окажутся одним; тем более бытие которое шар —
идеально круглый и потому невидимый шар это мир у Николая
Кузанского) — и на первый невнимательный взгляд может
показаться, что Парменид здесь (при почти том же словаре, между
прочим) однозначно, целиком на стороне вечности мира — если он из
ничего, если до него ничего, то с какой стати он когда-то не был бы
и вдруг стал? «Что за нужда бы его побудила?» Но нет, догматики
нету: мир (или бытие) зависает так, что он и всегда, и новость
(в прояснении парадокса — в выявлении парадокса суть той сред-
303 «фрагменты...», с. 296, фр. 8, ст. 6—9.
304 Там же, ст. 9—10.
305 См.: Боэций Датский. О высшем благе, или О жизни
философа. — Вопросы философии. 1994, № 5, с. 123—127.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
471
невековой проблемы вечности мира). Это нам оставлено решить
сейчас, всегда — вечно — был мир или он новый. В Средние века
это решалось не рассуждением, никакое рассуждение не давало
ясности, никакого рассуждения не хватало на то, чтобы
проследить, вот они, начала мира, — не получалось, не выходило начала
мира; и никакого рассуждения не хватало, чтобы убедиться, что
мир был всегда и никогда не начался и никогда не начинался и не
было такого, чтобы его не было. В Средние века вопрос решала
вера: она велела думать, что мир сотворен Богом из ничто. Этот
спор кончился? Нет, он продолжается. Об этом Парменид: о том
что не мир был всегда (якобы учит он) или наоборот не был всегда,
а что мы будем всегда — должны быть всегда и нехорошо, если
себя уговорим не быть — взвешены между одним и другим, между
бытием и небытием, между одним и другим зрением, в загадке,
о которой 11-й стих 8-го фрагмента:
Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно.
Идет суд, вынесение решения, «крисис», в котором
участвует все человечество, άκριτα φύλα, нерешительные племена, не
какие-то отдельные нерешительные народы, но всё человечество
по слепоте и глухоте своей нерешительно, — и опять же, мы
ошиблись бы в том, что такое философский императив (императив:
реши, «решение об этих вещах состоит вот в чем», ст. 15, «есть
или не есть»), если бы думали, что Парменид теперь подступит
к нам и будет от нас ждать решения, выбора, т. е. что мы должны
что-то сделать, чего не делали раньше, как-то не удосужились
или не смогли, а теперь вот обязаны. Философия не инструктаж,
не тренировка, не натаскивание человечества на выполнение
новых или старых задач: она вся в том, чтобы обратить внимание,
заметить то, что уже есть; уже есть вот что: κέκριται, перфект,
уже совершенное, «решено», — и если бы человеком или
человечеством было решено, то что за свобода жить под заклятием
однажды принятого решения, — нет, решено даже не богами,
потому что человек, пожалуй, и с богами может помериться
силами, и что там еще одни боги решили! а другие перерешат, — нет,
κέκριται решено необходимостью, ανάγκη — вам странным
не кажется, что решение принимает необходимость, она ведь
вроде бы должна и так принуждать, а решение предполагает
свободу выбора, возможность поступить иначе? Я вам скажу:
всякое решение, когда может или могло бы или будет можно
принять другое решение, — еще не решение; оно будет перерешено,
472
В. В. БИБИХИН
альтернатива даст о себе знать в принятом решении (оно будет
всегда окрашено непринятым решением), мнимая свобода
выбора заслуживает лютеровских насмешек и еще гораздо худших
и злых насмешек, вместо пресловутого хваленого liberum arbitrium
гуманистов Лютер пишет servum arbitrium и прав, потому что
иллюзия свободы выбора на самом деле только скрывает, прячет
от глаз настоящую необходимость принятия именно этого, а не
другого решения, — и единственное решение, этого слова
заслуживающее, единственное, где свобода, это решение на то, что и
так есть, — всего реже принимаемое человеком решение, —
решимость на то, что и без того уже есть абсолютным, необходимым,
совершившимся образом, образом перфекта, «уже». Есть или не
есть, быть или не быть, — решение здесь может и должно быть
принято в пользу того, что уже с необходимостью, с
неотвратимостью, эти наши слова только издалека и бледно напоминают о
том, что стоит в греческом: ανάγκη, от άγχω «сдавливаю, душу».
Что душит? Принуждает? Та невозможность укротить «не есть»,
о которой говорилось во фрагменте 7. Необходимо, чтобы
небытие оставалось таким, неприступным, его надо отпустить быть
немыслимым, неименуемым. В «принудительном» фрагменте 7
было, я не заметил, не три, а четыре слова о насилии: об
укрощении небытия; оно невозможно, «отврати» свою мысль от сего пути
изысканья, εϊργε «запри, оттесни, отгони, силой удержи». Это
крупно: свяжи себя, потому что в тебе самом твой собственный
обычай тебя насилует испытывать, пробовать, идти путем
испытания, проб, попыток. — Теперь, во фрагменте 8 богиня говорит,
что не попустит, не позволит (ст. 7), ού[κ] έάσσω, сказано самым
простым словом — έάω — не пущу тебя туда, что все равно
немыслимо, не может быть сказано, не дам о том думать и говорить:
как это понять? Человек, конечно, будет думать и говорить о чем
хочет, но богиня все равно не даст ему думать и говорить о том,
чего нет: будет только казаться ему, что он укрощает небытие,
добывает себе бытие, на деле будет происходить что-то совсем
другое, слова не будут доставать до цели, неукротимое останется
неприступным. Теперь, после того «не допущу» богини — тем
же словом, «допустить, пустить»: пусти — потому что все равно
придется, все равно теснит необходимость, т. е. если там не мог
сам себя оттеснить отогнать, то все равно и богиня не пустит,
и необходимость задушит, задавит — после всех запретов и
невозможностей, отпусти лее, суд такой вынесен, решение, суждено
тебе необходимостью это все равно, отпусти то, чего нет, в его
немыслимость и безымянность.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
473
Повторяю вам, уверяю вас: не о логическом казусе, не об
онтологической догме идет речь, все это — не выйдет, удержись,
не пускай себя, усмири, отпусти наконец в неименуемость, не-
мыслимость — запрет на обычную и преобладающую практику
всего прошлого и настоящего человечества, выколачивание бытия
из небытия, дикая надежда как-то справиться с зиянием,
провалом, пустотой — колдовать, манипулировать с тем, чего нет, нет
и нет, — попытки хоть силой, хоть обманом, хоть упорством, хоть
как смирить небытие. Это невозможно. Удержитесь, отпустите его
не быть, допустите то, что и так уже по необходимости есть: что
словом и мыслью, ни словом, ни мыслью его не достать. Ах это
нешуточный урок, и чем проще, чем прямее мы его поймем, чем
чаще будем к себе прилагать, тем лучше. Только там можно
встретиться с бытием, где в отношении к небытию эти отношения —
удержание себя от попыток, смирение, недопущение блуждать там
умом и словом, разрешение небытию не быть — уже есть.
Только тогда, в режущем отличии от небытия, бытие есть, по-
настоящему, в полноте.
Ах это в самом деле нешуточный запрет. Мы на него по-
настоящему когда-нибудь идем? Мы надеемся — очень — на
будущее, думаем, что как-то что-то в этом горьком неумении обойтись
с ничто изменится. Словно Парменид слышит нас, в 19—21 стихах
он вдруг, внешне довольно неожиданно, заговаривает о том, что
не надо от будущего ждать, что бытие будет только потому, что
оно уже есть.
Я хочу сейчас попробовать возразить новым критикам
идеализма, в опоре на Хайдеггсра и на православное трезвенис
пытающимся отбросить платонизм, отвлеченную мысль. Для них
это парменидовское невозникновенис бытия невразумительно,
ненужно: нужно более близкое к человеку, социуму, культуре,
христианской, конкретно — православной.
Я хочу попробовать обратить внимание на то, как неожиданно
какой-то лазейкой в заборе проникает тема возникновения в саму
работу теоретиков. И тех, о которых я говорю, и всяких.
В самом их поступке новизна. Они отличают себя от бывшего.
Нарушается само существо философии — обращение
внимания? Но ведь и это будет признано копанием в отмерших,
заржавелых темах.
Но: они предлагают вот это, что бы ни предлагали.
Возникают. Что такое это возникновение? Есть ли ему,
скажем, альтернатива, — т. е. может ли человек не возникать?
474
В. В. БИБИХИН
Почему-то он вроде бы все-таки должен возникать. Почему? Это
его работа: человек весь для того, чтобы возникать, выставлять.
Он не должен оставаться так, он что-то должен. Он должен то,
чего еще нет? Или он каждый раз должен то, что и так уже есть —
в качестве истины, скажем? Истиной приходящий должен быть
ображен, а так он — только пока еще возможность, работа должна
быть про[из]ведена. Чтобы приобщить. Культура: воспитание.
Во всяком воспитании всего важнее мера того, что уже есть —
знание этой меры. Во всяком возникновении и возникании всего
важнее уместность — в каком месте? Которое мы видим
полностью? Нет в общем-то, даже когда много зоркости, ситуацию
полностью, чтобы рассчитать уместность, мы не видим. Мы
чувствуем уместность как-то так.
Допустим, мы поспешили за действующими, сказали им это,
и что-то еще другое. Нас слушать и не подумают. Знают и без
нас. Как-то знают. — Ведущее, интимное, почти тайное знание:
мистическое.
Мы поэтому должны предположить во всяком возникании
невозникание— послушность! Возникание должно быть, чтобы
было невозникание — пребывание самим собой, в самом себе.
Серединой самого смелого возникания оказывается
неподвижность — импульс того, в угадывании которого смысл всякого
возникания. Возникание тогда не бытие, невозникшее? Нет: оно
не бытие — смысла не имеет. Оно все* для того, чтобы было то, что
уже есть. Из бытия не выпадаем!
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
475
И—13 (5.5.1992)306
δι-αιρέω
«Монады, не имея частей, не могут подлежать ни
образованию, ни разрушению», обещает Лейбниц в начале трактата
«Принципы природы и благодати, основанные на разуме».307
Услышать это нам так же трудно, как человеку в шоке, в
глубокой анестезии начать поднимать веки, услышать и увидеть
что-то смутно, плохо понимая. Мы слышим здесь не обман,
обещание, но какое? а главное, при каких условиях исполнимое?
Как это понять, что монада, живое зеркало, воспроизведение
божественного представления, не возникла и не разрушится? —
Или читаем у Аристотеля: «Поэтому солнце, светила и все небо
в целом находятся в постоянной деятельности (энергии), и нечего
опасаться, что они когда-нибудь остановятся, как этого боятся
те, кто рассуждает о природе. Светила и не устают, совершая это
движение» (Метафизика IX 8308). О Солнце Гераклит сказал, что
оно каждый день новое. Аристотель его поправил, обещал еще
больше: он не исключил, что оно пожалуй и постоянно новое
(в «Метеорологике»309).
«Много лгут певцы», сам же певец и выдал, Гесиод. Но
похоже, что Парменид с самого начала, с 1—2 стихов фрагмента 8,
не выступает описателем красивого запредельного царства, он
говорит о «пути», οδός, «ходе», «поступке» и «приметах»,
«знаках» на этом пути — т. е. вовсе не обязательно, что он делает
утверждения о предмете, — а «ход», почему именно «ход»,
разве нельзя без «хода»? Похоже, нельзя, человек поступает, даже
когда он ничего не делает, то это считается поступком,
бездействия, и в законе преступлением объявлены не только некоторые
действия, но и бездействия. — Один только ход остается, т. е. для
человека остается, который отпустил наконец небытие не быть
306 Сохранились две записки, присланные слушателями на этой лекции:
«На прошлой лекции вы сказали, что все, что возникает, уже (заранее)
существует. Можно ли в связи с этим объяснить возникновение стихов и вообще
художественного произведения?»; «Можно ли говорить, что и Парменид был
в амехании, в безвыходности?», с ответом В. Б.: «Конечно; не только можно, но
и нужно». (Сост.)
307 Лейбниц. Г. В. Соч. в 4-х тт., т. 1. М.: Мысль, 1982, с. 404.
308 Аристотель. Соч. в 4 тт., т. 1. М.: Мысль, 1975, с. 247—248.
309 Там же, т. 3(1981), с. 478.
476
В. В. БИБИХИН
и не заигрывает с ним и не отшатывается от него (бегать и
останавливать каждого, убеждать, что зря вы думаете, что небытие
есть, его нет — это тоже отшатываться от него); а для Парменида
небытия настолько нет, что он от него и не отшатывается, просто
не ходит этим путем. Остается тогда только один путь — и боже
мой, что же происходит: этот путь невозможный, во всяком
случае совершенно странный, он при бытии, которое не возникло
и не уничтожается, которое, если оно есть, есть уже: хорош путь,
поступок, ведущий туда, к тому, что уже есть. Ведущий туда, где
мы уже и так, если мы вообще где-то, — или, если мы нигде, то
из этого нигде никогда не возникнет где, никакое где не начнется,
потому что оно не может начаться, оно из тех вещей, которые не
начинаются, начаться не могут.
Вот тут мы понимаем, что мы в родном: в философии. В
безвыходности. В «мюнхаузеновской проблеме духа» (молодой
Хайдеггер), поднять себя самого за волосы из болота. — Заметьте
вот что. Объявлено Парменидом, что путь усмирения небытия —
не путь, по нему слепые и глухие толпы мечутся зря, ужаленные
беспомощностью, правящей в них амеханией. Они скрываются
так только от самих себя, от той же своей амехании. А путь,
единственный, какой остается, — он вдруг избавляет от
беспомощности, амехании? Я уже говорил: философ не шарлатан, он не
продает рецепты, и он велит своим философским императивом
обратить внимание, возвратиться туда, где он и есть: в амеханию.
Не бежать в метаниях от амехании, а вернуться в нее — вернуться
в беспомощность.
Потому что никак приступить, ни с какого конца взяться за
бытие, которое не началось и не кончилось, так, что все вокруг
только оно или его вообще нет, — согласитесь, не выйдет; не
велите же вы заняться парадоксальной логикой бытия и так выйдя
в теорию отделаться от отношения к бытию.
Высокий момент амехании, такой же завороженной и
торжественной беспомощности человека, как в драме, — середина
этого большого 8-го фрагмента, где кратко сменяющиеся
подходы, энергичные фразы показывают быстроту мысли такую, что
трудно уследить — но эта быстрота, как в молнии, соседствует
с остановкой, как в молнии, такая мгновенная запечатанность
всего в ярком останавливающем свете. Конечно, гераклитовская
молния не может не вспомниться тут. Парменид, можно сказать,
делает то, что у Гераклита сказано о молнии, что все ползущее
пасется бичом, что правит молния, схватывающая все белым
блеском в неподвижности.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
477
Как может «быть потом» то, что есть, как могло бы
«быть в прошлом»?
«Было» — значит не есть; не есть, если «некогда будет».
Так угасло рожденье и без вести гибель пропала.310
Тут «гасит» имеет и знакомые нам смыслы, «усмирять», как
«погашать бунт», и даже если мы услышим его как говорят в волейболе,
смысл тоже точно подойдет: угашено становление, как вспышкой
ночной молнии угашено движение — и комментатором к этому
месту у Парменида, конечно, опять Гегель, тем более, что
«становление» его слово: становление, как молнией, схвачено у него
абсолютной необходимостью, тем, что оно стало, т. е. стало именно
так, как стало, и иначе не стало — «ползущее пасется бичом»,
вечное течение, неостановимое, спасено всегда, в каждый свой момент
тем, что сбылось таким, каким именно было. —Я недавно
подробно говорил о гегелевской «сущности», Wesen, которая схваченная
абсолютной необходимостью отходит в вечность, превращается
в вечность как Gewesen, сбывшееся и т. е. неотвратимо уже бывшее,
не в смысле прошедшего, хотя и в смысле прошедшего тоже, но
в вечность уходит, с ее абсолютной необходимостью смыкается
тем, что уже никак, никак нельзя сделать так, чтобы не было того,
что было, стало. Отсылаю к Гегелю и к Лейбницу. — «Без вести
гибель пропала» — не совсем так, в словаре сказано действительно
так, и «пропал без вести» на войне по-гречески говорилось с этим
словом, как Одиссея I 242; но «без вести» уже вторичное,
прикладное значение, а исходное, которое, мы убеждались, Парменид
слышит, ничуть не хуже Гераклита внимательный к слову, —
«которого не допытаться», «не дознаться». Допытываясь, где гибель,
уничтожение бытия, мы не дознаемся — так же, как не дознаемся
о небытии? Т. е. начав искать обрыв в существовании, мы его не
найдем — т. е. наше положение не лучше, если мы имеем дело с
бытием, чем если бы мы пытались усмирить небытие и справиться
с ничто, — в том смысле, что ни там, ни там мы не отыщем концов?
Догадываясь, [сколько] лучей, ниточек, излучений смысла
здесь, в этом месте 8-го фрагмента, где неожиданно — такого в
поэме больше нет — поэма становится рядом энергичных
вопросов. Это стихи с 7-го по 19-й.311
Не сыщешь ему ты рожденья.
Как, откуда взросло? Из не-сущего?..
зю «фрагменты...», с. 296, фр. 8 ст. 19—21.
311 Там же.
478
В. В. БИБИХИН
Да и что за нужда бы его побудила
Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться?
Есть иль не есть?..
Как может «быть потом» то, что есть, как могло бы
«быть в прошлом»?
Вопросы, встряхивающие мысль, как загадки, — не для
решения, для стояния, чтобы остаться загадками, в том же стиле
апории элейской школы, прежде всего Зенона, приемного сына
и ученика Парменида, — Зенон развернул, в жестком и слишком
вызывающем виде, эти бодрящие вопросы 13 -ти стихов поэмы
Парменида, загадки, парадоксы, которые должны повиснуть в
воздухе, чтобы мысль не заносилась. Одна из этих загадок —
делимость до бесконечности: если такая делимость есть, то движение,
всякое, так сказать, увязнет в бесконечности проходимых им
точек, каждой из которых оно долэюно будет коснуться, а как
же не коснуться, проскочить что-ли? Увязнет, так сказать, сразу,
будь бесконечное число точек развернуто на любом отрезке, — мы
и не заметим никакого движения, настолько движущееся будет
поглощено «проглатыванием» этого бесконечного числа точек,
так сказать, запутается, завязнет в них, как оно осуществит этот
перебор бесконечных, — а если нет сплошной делимости на
бесконечность малых, то прерывность, квантованность расстояния
становится в свою очередь загадкой, движение становится
скачками с остановками, потому что если без остановок, то движение
будет проходить ни в какое время, в нуль времени, — т. е. в каком-
то смысле движения опять не будет. — Эта жесткость, провокатив-
ная, Зенона, похоже, как-то связана, сцеплена с его политической
практикой — он был для Парменида, похоже, тем, что часто
ученик в философии бывает для учителя, показал неожиданно, как
действенно то, что могло бы показаться отвлеченным. Филострат,
Жизнь Аполлония Тианского VII 2: «Зенон Элейский (он
считается зачинателем диалектики) (\кстати— по Аристотелю, т. е.
искусства спора, в том числе, конечно, и политического), пытаясь
свергнуть тирана Неарха Мисийского, был схвачен и
подвергнутый пытке на колесе, не выдал своих сообщников, а тех, кто был
верен тирану, оклеветал как предателей: их казнили по ложному
обвинению, а Зенон сверг тиранию с помощью тирании и вернул
мисийцам свободу».312
312 Там же, с. 300.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
479
Конечно и в 13-ти вопросительных строках Парменида — все,
что надо для диалектики, если ее понимать по-аристотелевски.
Плутарх, Перикл 4, 5313: «Перикл учился и у Зенона Элей-
ского... <кстати, Перикл— это расцвет Афин, и этот ученик
ученика Парменида известен прежде всего тем, о чем в
отношении Парменида говорится очень кратко, из вторых и третьих рук:
Плутарх, Против Колота 32, в. 1126: «Парменид же благоустроил
свою родину (т. е. город Элею) наилучшими законами, так что
власти ежегодно брали с граждан клятву оставаться верными
законам Парменида»314 — неожиданные выходы философии, которая
не Марксом только доказано, что может так входить в общество,
чтобы делаться законом государств — как Парменид дал законы
государству> — Перикл учился и у Зенона Элейского, который,
как и Парменид, занимался изучением природы (т. е. фюсис,
бытия), но [в отличие от Парменида] (вставка Лебедева) при
этом практиковал эленктическое [действующее через эленхос,
уличающее опровержение] искусство — через противоречие загонять
[противника] в безвыходное положение (απορία)».
Лебедев тут уточняет: «загонять», кого, «[противника]» — но
это не обязательно: или самого себя, пожалуйста, тоже, вообще
загонять разум, останавливать, прекращать его продвижение апорией.
Апория — место, где не трудно пройти, а никаким напором (слово
того же корня) не взять. Апория — место амехании. Парменид
создает апорию серией своих вопросов, и шире —доказательством
невозникшести бытия, или, вернее, не доказательством, а вызовом,
почему-то откликающимся в нас, как почему-то откликаются
апории Зенона, казалось бы, такие смешные, — откликаются нашим
знанием-признанием, что да, по-честному мы в своем движении
или сразу увязаем в непроходимости, в чрезмерном множестве,
сложности открывающегося движению, — или идем на разрывы,
скачки, санкционированные кем, чем? Чисто логические,
диалектические, «софистические» апории этой школы, элейской, парме-
нидовской — только намек, осторожный и ненавязчивый, на опыт,
который у нас, человеческих существ, всегда уже есть, — опыт
непроходимости мира, проблематичности его охвата, но все это
выходы, экскурсы, интерпретации, и на том лее уровне держать
их, как чтение Парменида, — то же, что воображать, например,
что смысл поэзии весь в том, чтобы существовало
литературоведение и школьное преподавание и кормилось все несчетное племя
313 Там же.
314 Там же, с. 276.
480
В. В. БИБИХИН
историков словесности и учителей. Сколько ни вырастает вокруг
одного чистого слова, количеством его не исчерпает; почти
мгновенное, неизбежное скатывание мысли с мысли в размышления,
если не измышления — факт, постоянный, наклонная плоскость,
очень крутая, на которой мы должны удерживаться, уметь, даже
карабкаться по возможности. 28-м номером в собрании Дильса-
Кранца стоит Парменид, 29-м — Зенон, его приемный сын и
ученик, но между ними порог, иллюзия только соседства «Парменид,
Зенон»: они совсем в разных местах. — Это не значит, что читая
Зенона мы не могли бы, а просто должны были бы попытаться хоть
вычислить из него и явно сумели бы совершенно неожиданные
стороны Парменида, о которых мы в нем и не догадывались:
настоящий верный ученик парадоксален, он редко или почти никогда
не повторяет учителя, ни в коем случае не пересказ-изложение,
а показать размах, объем, что часто уже трудно сделать иначе, как
резким, вызывающим образом, — я говорю, кто из батареи
вопросов Парменида в 8-м фрагменте не слышит загадок, которые
должны зависнуть в мысли, тому нужен Зенон, чтобы жестко, про-
вокативно буквально пристать с ними к философии, чтобы она
уже не могла от них отвязаться, до сего дня, когда «логики» все
еще «всерьез» разбирают «парадоксы Зенона». Что Зенон ревновал
к читателям Парменида, что они не увидят его размаха, об этом у
Платона в «Пармениде», 128, там Зенон говорит: «Мое сочинение...
своего рода защита тезиса Парменида [«все есть одно»] против тех,
кто пытается его высмеивать, [говоря], что-де если [всё] есть одно,
то из [этого] тезиса вытекает много смешных и противоречащих
ему следствий. Это [мое] сочинение как раз и возражает тем, кто,
полагает многое, и отплачивает им тем же, да еще с лихвой, ставя
своей целью показать, что их собственный постулат (ύπόθεσις)
„[всё] есть многое", если разобраться в нем досконально,
приводит к еще более смешным следствиям, нежели постулат „[всё] есть
одно". Вот из такой любви к спорам я и написал его в молодости,
а когда написал, у меня его кто-то украл, так что не приходилось
и решать: выпускать ли его в свет или нет. Ты потому и проглядел
[цель моего сочинения], Сократ, что думал, будто оно написано
не под влиянием юношеской любви к спорам, а под влиянием
честолюбия, свойственного более зрелому возрасту. В целом же,
как я сказал, ты передал [его содержание] неплохо».315
315 В. Б. цитирует Платона в своем переводе (Platonis Opera omnia. Gothae et
Erfordiae, 1858. Vol. XI). Ср. это место в русском издании: Платон. Соч. в 3-х тт.,
т. 2. М.: Мысль, 1970, с. 405—406. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
481
Совсем рядом со словом Парменида начнется, у Зенона,
другое слово, ради спора, диалектики, эленктики, вызова, политики —
так было всегда, так бывает всегда: философская высота
невыносима, нестерпима. Поэтому пусть мы покажемся смешными,
будем читать его как он есть, тогда как огромное большинство, да
все имеющиеся истолкования — уже перетолкования, приложения,
выходы, экскурсы, интерпретации. Этого и нам не избежать, но
мерой пусть всегда останется просто: буква Парменида. Буква же
такая, как будто бы начинается новая тема, и некоторые издатели
делают тут в стихе 22-м абзац, и те же издатели делают новую
тему длиной в четыре стиха, у Лебедева они:
И неделимо оно, коль скоро всецело подобно:
Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше,
Что исключило бы сплошность, но все наполнено сущим.
Все непрерывно тем самым: сомкнулось сущее с сущим.316
Первое, что приходит в голову, — это мне, например, монадология
Лейбница, вам, может быть, что-нибудь другое.
«Всецело подобно» — или, можно сказать, равно, одинаково.
«Неделимо» — здесь не в смысле неделимости «атома»,
неделимого, а сказано другим словом, тоже важным и с долгой историей,
δι-αιρέω буквально все-таки и в первом значении не «делить»,
а «разбирать», различать (distinctio), разрешать, разлагать, и
«разъяснять», толковать: разобрать бытие невозможно — настолько
оно просто: оно последнее в анализе; что дело идет не о частях,
отрезках, показывают слова, которые Лебедев переводит «тут
вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше», но в
греческом μάΛΛον, «лучше» (как мы говорим «добрая» часть, «добрая»
половина, т. е. «порядочно» — то же оценочное примешивается
к количеству; или по-французски pas mal «порядочно», не мало;
a good deal, «доброе дело, прилично» — еще одно слово, где
количество добротно); «Меньше» — χειρότερον, буквально «хуже»:
т. е. не различить по плотности добротности или по оскудению,
обнищанию, не вынюхать нигде ослабления, выдыхания, истоща-
ния: не похоже, чтобы «сущее» могло умаляться, в нем скорее не
бывает «лучше» и «хуже», чем «больше» и «меньше» — и потому
не может втереться никакой разрыв, все, говорит переводя
двумя словами Лебедев, «сплошное и непрерывное», у Парменида
одно слово дважды: в разных формах: συνέχεσθαι, буквально
«иметься-вместе, держаться-вместе, быть слитным».
316 «Фрагменты...», с. 296 (фр. 8, ст. 22—25).
482
В. В. БИБИХИН
«Сомкнулось сущее с сущим» — в греческом πελάζει, от
πέλας «близко», буквально было бы «ближествуют», если так
можно сказать, — но посмотрите на доску, может быть, чтобы
в этом πέλας, близости сущего к сущему, Парменид не слышал
πέλω, второе слово для «быть», «вращаться, оборачиваться»?
Если слышал, то: сущее и сущее близки — сущее и сущее суть,
в смысле оборачиваются, повертываются оказываются — какими?
близкими, что сущее и есть сама близость, ближайшее,
сомкнутость. Гераклит: ξυνός — ξύν νφ.
Следующие восемь стихов некоторые издатели, не Лебедев,
тоже выделяют в абзац, его тема оковы бытия, необходимость, —
мы уже привлекали Гегеля для комментария этого места, для
интерпретирующего комментария, потому что схваченность сущего
тем неподвижным, непоколебимым, вечным обстоятельством, что
оно такое, случилось как случилось, — важный, обязательный, но
только один вид, каким мы можем видеть эти 8 стихов 8-го
фрагмента, стихи 26—33, — обязательный, а все-таки еще лучше будет,
если мы, опять же, границу между буквой и интерпретацией
сохраним. Я прочитаю эти 8 стихов в две группы, сначала 3, потом 5317:
Но в границах великих оков оно неподвижно,
Безначально и непрекратимо: рожденье и гибель
Прочь отброшены — их отразил безошибочный довод.
«Безошибочный довод...» Это плохо, ни «безошибочного», ни
«довода» в греческом нет, Лебедев слишком насильственно склоняет
в сторону логики, силлогистических выкладок — к тому, что он
сам видит в этой проблеме, логику и гносеологию. Сказано теми
же словами в той же форме, πίστας αληθής, которые были в конце
1-го фрагмента, где юноша, ребенок должен был всего дознаться,
допытаться, или это нетрясущееся сердце истины, или принятое
смертными, в котором нет истинного убеждения, или: убеждения
которые не причастны истине, если понимать атрибут
предикативно, — т. е. убеждение в принятом да, есть, но той Истине, которая
не пошатнется, оно это убеждение не причастно. Там Лебедев
переводил «верности точной», опять сдвигая в сторону научной
логической «точности» значение «алетейи», непотаенного,
открытого, истины; теперь те же слова еще больше сдвигает в
«безошибочный довод»; ах это, к сожалению, уводит совсем не туда, речь
не о безошибочных доводах, речь об уверенности, вере (πιστις),
которая на этот раз причастна истине, настоящему.
з>7 Там же, с. 296—297.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
483
Так что где, собственно, το έόν? Там? А здесь? Нет оно
«содержится», συνεχές, абсурдно говорить, что оно скорее там, чем
здесь. Оно тогда везде? А как же не везде. Всегда? Еще бы не
всегда: с какой стати ему то не быть, то вдруг быть. Тогда всё оно,
сущее? Безусловно: πάν, оно το πάν, всё. В чем же тогда дело,
о чем разговор, если оно единородно, всегда, везде? Не то, что
разговор, a kqlolç, решение, или решение решений: или. Или его
нет вовсе. Ну так решайте же наконец, это же так важно, быть ему
или не быть, быть всячески или вовсе никак не быть! А не надо
и решать: уже решено, и не людьми и не богами, а абсолютной,
нешаткой необходимостью: есть. Тогда в чем же проблема, Господи?
А ни в чем. В ничем. В ничто. Которого нет и тысячу раз нет. Вы
что-нибудь понимаете?
Я ровным счетом ничего, но так, что здесь — всё, в этом
блестящем, ослепляющем присутствии только сущего, плотного,
сплошного, единого, нерушимого, кроме которого ничего, ну ни-
чего ровным счетом нет. Оно, чтобы так присутствовать, никуда
не деваться, сковано, неподвижное — или предикативно, «чтобы
быть неподвижным, до неподвижности», μεγάλοlç δεσμοΐς —
великими скрепами, цепями. Куда ему деться. Но оказывается
мало того: требуется, чтобы отбросить совсем γένεσις и όλεθρος,
нужна еще πίστις αληθής — как прокрались, откуда
возникновение и уничтожение, зачем вколоченное необходимостью и
закрепленное цепями бытие еще и спасать верой? Или уверенностью,
основанной на истине?
«Пределы, границы великих скреп» — мы тоже схвачены ими,
ходим (наши «ходы», οδοί) в них? Наверное да. Но ведь и нет?
Последние 5 стихов этого места об оковах.
То же, на месте одном, покоясь в себе, пребывает
И пребудет так постоянно: мощно Ананкэ
Держит в оковах границ, что вкруг его запирают,
Ибо нельзя бытию незаконченным быть и не должно:
Нет нужды у него, а будь, во всем бы нуждалось.
Вы понимаете: опять в греческом меньше слов. «На месте
одном» — этих слов нет, это обязало бы говорить о месте, «место»
зависает, издержка перевода— неизбежная? Сказано: «то же в
том же пребывая, по самому себе располагается». «Пребывает,
располагается» — сказано самыми простыми, почти служебными
словами-связками — μένον, κείται — т. е. остается, как мы уже не
раз видели, почти ничего, уже и не язык, а простейший жест
тождества, не названного именованного, а обозначенного (σν\ματα) —
484
В. В. БИБИХИН
то же в том же по себе лее. — Интересно: и в итальянском где не
связано метром появляется слово luogol Где-то должно быть! Не
тождество же в тождестве на тождестве взвешено! — Но поверьте
что так. Для подтверждения: άναρχο ν, безначально то сущее, не
остановимо, мы это прочли. Еще раз этот «стих тождества»:
ταύτόν τ'έν ταύτώι τε μένον καθ'έαυτό τε κείται,
«Ιο stile di ferro» di Parmenide ehe «in un solo verso mostra i denti con
dieci τ»318: то, то, то же.
Повтор, оковы границ: Ανάγκη, повтор.
318 Перевод и ссылку см. в начале следующей лекции. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
485
11—14(12.5.1992)
1) αύθι, αυτός, ταύτόν; 2) νοεΐν, νόημα, νους; 3) πε/
φατισμένον, φατιζω, >/фа, φαίνω, φημί, φαινότατον
Быть там, где ты есть. Identification. Самого простого не
достигает: быть вот этим здесь и теперь. Т. е. там, где он и есть!
Бытие забыто! Да?
То же, на месте одном, покоясь в себе, пребывает...
Еще раз прочитаю этот 29-й стих фрагмента 8, самого длинного:
Оставаясь тем же самым в том же самом [месте],
оно покоится
само по себе,319
«[месте]» лишнее. Теперь то же по-гречески:
ταύτόν τ'έν ταύτώι τε μένον καθ'έαυτό τε κείται...
Десять «тау», «железный стиль» Парменида, который «в од-
ном-единственном стихе показывает зубы десятью may».320 Сейчас
мы с вами забудемся и будем считать согласные. Ехали на работу,
а потом стали считать, сколько столбов на дороге, и забылись. От
последнего безделья, потерянности и тоски можно начать считать,
сколько слогов в стихе, сколько букв в слоге. Как раз этот стих
Парменида для того, чтобы хромое стиховедение, занимающееся
этим хорошо бы было, если бы безумным, а то просто никаким
занятием, свихнуло себе и вторую здоровую ногу. Потому что как не
находка, такие выразительные десять «тау» в стихе, который
говорит о «то», «то», «там», «тождестве», — словно нарочно Парменид
бросает им этот капкан, потому что снова его речь на самом деле
вырывается из языка, языковые средства поэтому не надо считать,
ни к чему, — может быть, нигде как в таких тавтологических,
параноических стихах, где он словно застыв твердит одно, он
показывает, что это речь не речь, что может быть самый верный
пифагореец, который речью учение не выдаст, это Парменид.
Слово тавтологией словно сметено, смахнуто, язык сам себя снял,
оставил что? — Жест тождества? Нет. Само тождество? Но что
3,9 «Фрагменты...», с. 291.
320 Joël Karl. Geschichte der antiken Philosophie. Tübingen, 1921, S. 422.
486
В. В. БИБИХИН
такое тождество? Снова Парменид угадывает в середину нашего
кружения. «Тождественность», identity, identité, это не только один
из главных вопросов философии, о нем бредит и общественность,
философская публицистика, или как еще называется это
благонамеренное времяпрепровождение, рассуждения о том, что было бы,
если бы не было того, что было, а было бы как раз то, чего нет, —
и именно было бы очень хорошо, говорится, если бы человек нашел
свою индивидуальную идентичность, а народ, скажем, свою
национальную идентичность, national identity, это, наверное, совсем
хорошая вещь, ну просто замечательная, хорошо бы еще только
узнать, что это такое. Наверное, это когда все совпадает, что-то
с чем-то крупно совпадает, и сознание своей национальной
принадлежности совпадает с какой-нибудь сущностью, или правдой
этого народа, его предназначения, или призвания; или когда человек
находит сам себя, или еще какие-нибудь другие хорошие вещи,
которые сводятся к тому, что что-то с чем-то совпадает, попадает
в самую точку, сходится. Кто заготовил те лунки, куда должны
попасть шарики индивида или нации, как индивиду и нации надо
исхитриться, чтобы туда именно попасть? Ну это уже трудные для
публициста вопросы, он увлечен одним, что что-то куда-то должно
ну в точности попасть, тогда все сойдется, и тогда все будет
хорошо, но для этого надо одно и другое, и прежде всего чтобы прочли,
читали этого публициста, прислушивались к нему, потому что он
говорит о таком важном деле, тождестве, самотождественности.
«То само в том самом пребывает и по себе самому
располагается», сказано о бытии, которое не возникло и не уничтожится.
О «месте» не сказано — или вот, пожалуйста, сказано в
следующем стихе 30, словом αύθι, которое Марио Унтерстейнер
переводит nel suo luogo, Лебедев «на месте одном» («то же, на месте
одном, покоясь в себе, пребывает»321) — и что, разве словарное
значение не такое? Такое, такое: словарь Вейсмана, «на том же
самом месте». Получили, стало быть, место, в котором покоится
бытие, тождественное себе. Три: бытие, тождественность,
место бытия и тождественности. Но «то же», или «то же самое»,
ταύτόν — здесь другое имя бытия: оно то же, само тождество,
или, пожалуйста, сама самость: оно салю. И αϋθι, что переводят
«на том же месте» — опять еще раз то же слово, в том самом:
то самое внутри того самого в том самом.
Этого мало. Пребудет так — это так сказано наречием опять
от местоимения, того же, что входит в состав «того самого»: 5 раз
321 «Фрагменты...», с. 296.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
487
всего в двух стихах местоимения указательные из одной связки —
на что они указывают? На то, на что исходные, первичные указыва-
ния вообще только и указывают, и могут указывать: на вот, на вот
это. Вглядись: это, вот это — то самое, в том самом, внутри того
самого, тем же самым; вглядись же, наконец, умей просто увидеть,
что вот это и есть вот это, и оно έμπεδον, «постоянный» (Лебедев),
но πέδον «почва, земля, то что прочно под ногами»: после пяти
«вот это» словно еще раз: то, что прямо под ногами, чего ближе
нет, на чем собственно стоим, не ясно ли теперь уже должно быть
совсем, что далекость бытия, такого, не возникающего не
уничтожающего, не от того, что оно в другом пространстве, а наоборот,
от того, что слишком близко. И «тождество», identity, люди
продолжают, через 2,5 тысячи лет искать где-то в метафизике, но оно
ближе всего, в том, что то, что вот это, оно то самое и в том самом
«лежит», упав как прямо уже на землю, куда еще упасть, больше
упасть некуда: упало и лежит так, что ни убрать, ни сдвинуть, ни
изменить и само не изменится никогда (не изменится тем, чем
придвинулось совсем вплотную к нам, что все «вот это» именно
«так» легло, как легло), — и разве возникло это, что то, что легло,
легло так, и разве бывало когда, что то, что тогда легло, не легло,
как именно оно само легло, — и разве будет то, что вообще когда
будет, не такое, что оно будет именно как оно будет, ляжет как раз
так, как ляжет? И когда не будет ничего, ничего, это «не будет
ничего» будет, ляжет, пребудет именно так, как оно пребудет, и значит
оно будет, и никогда не будет, и не было, так, чтобы не было то
самое, в том самом, внутри того самого, по тому самому. Десять
«тау», пять «тех самых» в полутора стихах делают так, что голова
идет кругом, это блестящее косноязычие, которое расступается и
дает заглянуть туда: куда? вот в это самое близкое, что то, что это,
что все именно такое — оно именно такое, и не другое, и другим,
чем такое вот это вот никогда не будет и не может быть, «мощно
Ананкэ Держит в оковах границ, что вкруг его запирают».322
Я говорю, Парменид говорит: «не возникло, не уничтожится
Бытие, То самое, вот это». А если ничто, если ничего не будет?
Я повторяю, и Парменид умеет заразить восторгом, не
«первооткрывателя», а открывателя, который и сейчас не меньше, а
может быть, еще больше открыватель, чем тогда, тысячи лет назад.
Потому что кто сейчас еще достаточно сумасшедший, чтобы дать
так закружиться голове? Может быть Розанов, не вспомнить
которого опять невозможно, который не знает, что он вдруг видит
322 Там же, с. 296—297.
488
В. В. БИБИХИН
зрением Парменида, когда в книге «О понимании» пишет это:
«Чувствуется смутно, что тут есть что-то, требующее познания, но
не сознается, что такое это. Таково все учение о несуществовании.
С одной стороны, наблюдая действительность, мы вынуждены
думать и говорить: „этого нет, это не существует",
следовательно „есть несуществование этого"; а с другой стороны — „если
несуществование есть, следовательно оно существует, т. е.
заключает в себе существование, и, не заключая ничего другого,
есть существование", т. е. „несуществования нет, а есть только
существование"» (167/143).
Слишком близко. Слишком незаметно. Всякий нам скажет,
всякий, говорю это с чувством владельца, у которого его владение
никто не отнимет (потому что у меня никто не отнимет этости
всего, что вокруг меня, и никто никогда ее изменить не сможет,
не сумеет, не получится, тождество неотъемлемое), — всякий
скажет, нашли проблему, в чем собственно проблема, ну конечно
все так, ну и что? — Это первое и через что все спешат к
операциям с тем, что так, интеллектуальным и так называемым
материальным. Но Всё, чем когда-нибудь могут увлечься, кто угодно,
сначала, раньше всех операций, скреплено, сцеплено этим
«тождеством», «тем самым», — и попробуйте хоть где-то, хоть как-то
вынуть это сплошь расстилающееся тождество «того» «тому же
самому», и вынется рассыплется все, не будет, перестанет стоять
что бы то ни было, в этом тождестве «того же», самому же себе,
абсолютная полнота,
Ибо нельзя бытию незаконченным быть и не должно:
Нет нужды у него, а будь, во всем бы нуждалось,323
т. е. нужда была бы тотальная, если бы была нужда хоть малая,
крошечная. Если бы в сплошности, слитности «того же» внедрилась
хоть микронная щелка нетождества, распалось, расползлось бы всё.
Скажите, можно считать, что в этой железной, непоколебимой
абсолютности «того же», которое «в том же», своим, «тем же»
способом, в этом объявлении Парменида, не от его имени, а от имени
богини истины, — в объявлении не чего-то, что должно быть еще
устроено, а того, что всегда и такуэюе есть и в том, что есть, и в
том что было и в том что будет (потому что будет именно так,
как будет), и в том, чего нет (потому что и то, чего нет, и то, что
нет, — та же «тожесть», опять «такая же», сама), — что в этом
объявлении, одновременно парадоксальном и бесспорном, и един-
323 «фрагменты...», с. 297, ст. 32—33.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
489
ственно неопровержимом, заключалось кое-что, ну, например,
фундамент всей европейской науки? Ведь не наука то, что стоит
на, любом другом фундаменте, как угодно духовном, красивом,
полезном, нравственном, социально нужном? Там — везде — перед
наукой уже поставлен предел; здесь предел — только один: то,
что есть, так, как оно есть, где бы это «есть» ни было, к чему бы
ни относилось, пусть и к небытию. Да? Да, весь, и единственно
научный, фундамент всей науки, и самой последней современной,
тут уже заложен.
Теперь другое. Нужда теперешняя, уже какая-то гротескная,
повсеместная, абсолютная, нужда всяческая, во всем, — нужда
современного человечества, — может быть, что о ней сказано
это, у Парменида, что совсем рядом с совершенством и полнотой
бытия, чуточку отступив от нее, начинается нужда во всем? Не
только может быть; мы как бы, все современное человечество,
вмещаемся в эти полстиха 33 8-го фрагмента о тотальной нужде.
Неоткуда взяться ненужде, тотальной, при малейшем отходе от
ненуждающегося, от того, что единственно только и есть, но так,
что почти единственно этого, что одно только и есть, для человека
нет, нет взгляда, способного видеть именно то, что видно. Рядом
тотальная нужда и совершенная полнота бытия, — не рядом, а как
бы одно и то же они и есть, потому что нужда кричит
современному человечеству буквально отовсюду, из каждого угла, на каждом
повороте, — и убеждает в этой нужде то, что все именно такое,
какое есть, ну ведь явным, совершенно же явным образом
нуждающееся, — как можно не видеть, надо быть безнравственным,
чтобы не видеть, — ив том же, не рядом, а в том самом, которое
в том же и тем же, в самую эту нужду, что она такая, тотальная
или другая, какая есть, — ежемгновенно, неотступно вдвинута
сама бесконечность, сама абсолютная ненуждаемость полноты
самодостаточности всего в том, что оно вот, это и никакое не
другое и другим абсолютно не может быть.
Дальше, со стиха 34, снова абзац, опять тоже в 8 стихов, даже
входить в который уже можно биться в истерике, так он кажется
истоптан и исхожен вдоль и поперек, так запылен и захватан. На самом
деле сияет в белизне нетронутой, как нечитанная еще даже не
разрезанная страница. Прочитаем тогда, наконец, просто прочитаем.
То же самое — мысль и то, о чем мысль возникает,
Ибо без бытия, о котором ее изрекают,
Мысли тебе не найти. 4
324 Там же, ст. 34—36.
490
В. В. БИБИХИН
Ради Бога, все, что говорилось по поводу этих стихов о мысли
и ее предмете, и как относится мысль субъекта к объекту, спокойно
оставьте, это может быть понадобится когда-то потом, не сейчас.
А то у меня будет истерика, от повторения старой нервотрепки на
том же самом месте. —Я говорю: но прочитаем же попробуем для
разнообразия просто как оно написано, не опережая своим знанием,
мы а то слишком много знаем, заранее, собственно, всё уже знаем,
«знаем, знаем, не обманешь, нас не обманешь, мы-то уж знаем».
Только сначала о «тожестве». Говорят: кажущийся мир,
мнимый мир чувственный и действительный мир бытия, мы вокруг
видим собственно чувственно воспринимаемый кажущийся мир,
а есть еще истинный, и одно дело чувственный мнимый, другое
истинный вечный. Ни малейшего отношения к парменидовскому
бытию чувственность мнимость восприятие чувства — не
имеют. Потому что тождество одно и у мнимого, и у не мнимого.
Это мнимое тоже, именно это, именно такое, — ничуть не
меньше, чем не мнимое, существующее это и такое точно в том же
смысле, что несуществующее. Бытием, тем же, одинаково
схвачено и все то, что любым мнимым или немнимым способом есть,
и то, что не есть, именно тем, что оно не есть так, как оно не есть:
Гуссерль, разумеется, вам тут вспоминается, его открытое им,
безотносительность иррелевантность эйдетического к мнимости или
действительности. Мы отчасти этого безразличия коснулись, читая
Соловьева, как ему приснился сон, где ему было стыдно, что он
забыл известный закон о наложении течения времени на колебания
морских волн, отчего на корабле время идет быстрее. Он
проснулся, и оказалось, что такого закона не существует, это ерунда, что
можно добраться от Кронштадта до Америки за несколько часов.
Но закон тот абсурдный о наложении времени и морских волн был
точно в том Dice смысле закон, с характером всеобщности,
определенности, изучаемости, даже стыда за его незнание, как и любой
немнимый закон. Да, Гуссерля можно привлечь как комментатора
к Пармениду, и только не больше, и только развернувшим одну его
частность. — Это отступление, теперь к «То же самое — мысль
и то, о чем мысль возникает». Ах это плохо — «возникает», ведь
только что говорилось, что бытие не возникает. Если мысль то же,
что бытие, мысль тоже не возникает. Но ведь мысль возникает,
то ее нет, а то она вдруг есть. Не так ли? Или мы не знаем еще,
что такое мысль. Зря мы думали, что если бытие такое, что его не
ухватишь (как большой шар на ухватишь, руки не берут), то хоть
мысль всегда рядом и доступна. Оказывается, ее тоже надо искать,
и не найдешь без бытия.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
491
Мы уже говорили об охоте за бытием с инструментом мысли,
это почитаемое, уважаемое, — а то как же, для чего вся наука: без
пользы что ли. Это только Леонтьев и Розанов, чудаки, говорили,
что наука возможна только в полном безразличии к своей
полезности. Эта сцена, выискивание, исследование бытия при помощи
мысли, совершенно чужая для Парменида. Скорее уж совсем
наоборот: мысль искать в опоре на бытие. До сих пор, в самом
деле, говорилось о бытии, теперь вдруг — о мысли, и именно так:
без бытия мысли тебе не найти. Мысль — беру значение слова
πεφατισμενον, которое Парменид как мог не слышать? —
помолвлена с бытием. У Лебедева: «о котором (о бытии) ее (мысль)
изрекают». Но спрашивается: Лебедев забыл, что бытие не
возникает, когда мысль, тождественная бытию, у него «возникает».
Теперь он забыл что ли о тождественности, когда мысль
оказывается «о» бытии, словно снаружи и со стороны? Сказано «в котором
она ословлена», «в котором является», явилась, сказалась?15
Бытие — то, в чем сказала, показалась мысль, бытие ее слово,
я пока не уточняю, что такое слово: может быть, то, в чем мысль
слывет, может быть, ее слава, а может быть, ее красота, в том
смысле, в каком Платон говорит в «Федре» (250 de), что ум
невидим, а если бы он был видим, то «возбудил бы необычайную
любовь, если бы какой-нибудь такой отчетливый его образ оказался
доступен зрению; точно так же и все остальное, что заслуживает
любви. Только одной красоте выпало на долю быть наиболее
зримой и привлекательной. Человек, отвергающий посвящение в
таинства или испорченный, не слишком сильно стремится отсюда
туда, к красоте самой по себе; он видит здесь то, что носит
одинаковое с нею название, так что при взгляде на это он не испытывает
благоговения, но преданный удовольствию, пытается, как
четвероногое животное, покрыть и оплодотворить; он не боится своего
наглого обращения и не стыдится гнаться за
противоестественным наслаждением. Между тем человек, только что посвященный
в таинства, много созерцавший тогда все, что там было, при виде
божественного лица, хорошо воспроизводящего [ту] красоту или
некую идею ( ! ) тела, сперва испытывает трепет, на него находит
какой-то страх, вроде как было с ним и тогда; затем он смотрит на
325 [Запись В. Б. на полях машинописи] Beaufret! В обе стороны: мысль
сказалась в бытии. — Но ведь бытие и так, до мысли? Не знаем, не видели! Мы
его знаем уже тем лее, словом мысли — открытым мыслью* Но открытым? Вне
бытия нечему быть — значит никакой мысли, в этом смысле мысль открывает
бытие?
Это есть как событие!
492
В. В. БИБИХИН
него с благоговением, как на бога, и, если бы не боялся прослыть
совсем неистовым, он стал бы совершать жертвоприношения
своему любимцу, словно кумиру или богу. А стоит тому на него
взглянуть, как он сразу меняется, он как в лихорадке, его бросает
в пот и в необычный жар».326
Длинная цитата. Кто-то назвал всю европейскую философию
комментарием к Платону. Не с меньшей, а с большей верностью
можно назвать Платона комментарием к Пармениду. Говорится
о том, как найти то, что у Платона сначала называется умом,
потом, в этом отрывке, идеей. Он находит по ее красоте, которая сама
невидима. Говорится о красоте человека, но имеется в виду всякая
красота. Как хорошо, что Парменид не назвал бытие «красотой»,
иначе на него набросились бы и его растерзали, как Диониса,
голодные историки эстетики. Но оттого, что Парменид так сдержан,
так строг, так отдан простейшей сдержанной отчетливой линии,
мы не должны не слышать то, что и он слышит: слышит то, что он
говорит, обращает внимание. Бытие как слово «мысли»—мысли не
[как] тех лохмотьев разрушенного богатства, которые «сознание»
называет мыслью, а мысли как того ума и идеи, о которых (и тем
же словом) Платон — что идея ослепляет своим блеском, что ум
не поддается зрению, иначе, открывшись, он вызывал бы к себе
слишком неудержимое влечение, запомним это место у Платона,
может быть, оно что-то потом нам опять объяснит у Парменида, —
бытие как сияние мысли (идеи), и слово как слава и сияние это
кажется только по-русски, но не только: тем же словом, каким
Парменид в 35-м стихе называет бытие тем, в чем «сказалась»
«мысль» (νοεΐν, νόημα), — тем же словом, πεφατισμένον —
φατίζω — ^φα φαίνω φημί φαινότατον, Платон говорит о
красоте, «только одной красоте выпало на долю быть наиболее зримой
и привлекательной». Слово ума, бытие сияет. Тут вспоминается,
что речь по др.-инд. ЦЩ[ (bhâçâ) от Щ (bhä), сиять, то же слово,
что русское «белый»; и русское «баять», тоже собственно сиять,
светиться, того же корня что «белый», первоначально «сияющий»
(надо поэтому посмотреть, что значит наше «белый свет», как оно
пошло, сколько в нем от того забытого сияния), и то же слово, что
φαίνω «сиять светиться показываться», и что φημί, «говорить»
в смысле «высвечиваться, возникать». Кто-нибудь скажет: ну вот
опять от скудости мысли этимологии, искание мудрости в языке.
Не мудрости, а слава богу сохранившихся следов еще того, что мы
прочно забыли, отупев и перестав видеть и слышать. От нашего по-
326 Платон. Соч., т. 2, с. 186—187 (пер. А. Н. Егунова).
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
493
следнего отупения и оскудения мы заняты нищенским подбиранием
крох, и — раз уж подвернулся этот случай — с глубокомысленным
придыханием различают культуры слуха и культуры зрения, как
будто не одно и то же мы видим и слышим, — различение правда
на уровне того анекдота, что что такое разница между реализмом
и социалистическим реализмом, разница примерно такая, что
реализм пишет то, что видит, а социалистический реализм видит то,
что слышит, — но какая должна быть степень отчуждения, испуга,
боязни своих собственных чувств, чтобы начать различение между
зрением и слухом! В этих словах для слова — слово и слава, баять,
блеск и белый, φημί говорить и φαίνω светиться, ïflTcï (bhäti)
сиять и ЦЩ речь — язык уже почти забытый, онемелыми уже
губами как из могилы нас стыдит и упрекает нас за то, что мы
заблудились в темных лабиринтах. Уже будем говорить «белый свет»,
в научном философском, нашем «философском» смысле, — и все
равно не услышим, не обратим внимания на то, что сами говорим:
белый сияющий, белый явленный, белый бающий, говорящий нам.
Пропуск этого, блеска «феноменов» — мы слышим φαινόμενα,
это слово значит «сияющий, являющийся сам», и не слышим, мы
заняты различением между слышимым и видимым, для нас словно
для аппаратов распались ряды звуковой и зрительный, — и это
упущение ближайшего, первого то самое, как в прочитанном отрывке
Платона. Обязательно тоже Парменид «человек, отвергающий
посвящение в таинства и испорченный», или он способен видеть
не разное только, но и первое, и близкое? Наверное, он умеет
распознавать, как посвященный человек у Платона.
Еще одного комментатора, Лейбница. Он тоже говорит о
красоте.
Я говорю, что Парменид не может не слышать, если даже
мы как-то все еще слышим, в этом πεφατισμένον «явление».
Бытие — явление ума, и без бытия ума не найдешь. Бытие мы,
кажется, разобрались: оно тождество, то самое в том самом, внутри
того самого, тем самым: это схватывающее, захватывающее —
схваченность всего, что есть, что оно есть так, как оно есть. Такое
бытие не сотворено, потому что в его творении Богом Бог его
творил таким, каким творил, и так, как творил, и творение было
то самое, и эта та самость, если можно так сказать, никогда не
покидала, не могла покинуть и не покинет ни творящего, ни из
чего — из ничего — он творит, это то самое ничего, ни манеру
творения, ни результат творения. Нус, ум, внимание, теперь он
говорит, — то же. То же, что бытие? Но ведь бытие, мы читали
в 29—30, — само то же. Тогда, то же, бытие, ум скованы все
494
В. В. БИБИХИН
вместе цепью Ананке, схватывающей принуждающей
необходимости, железными цепями — или золотой цепью? Да, и аигеа
catena, и вообще много производных, и мы неизбежно отпадаем,
скатываемся от парменидовской простоты. Комментаторы, Платон
в данном случае, были нужны, иначе мы, может быть, и прошли
бы мимо этого прочтения.
Можно ли читать это место, у Лебедева «без бытия, о котором
ее изрекают, Мысли тебе не найти» (появляется субъект, перед
которым мысль, которую даже изрекают, и перед ним бытие) — так,
как Лебедев? Почему нельзя. Можно ли как мы? Вы понимаете,
что как всегда разные переводы, истолкования. Жан Бофре: Саг
jamais sans l'être où il est devenu parole, tu ne trouveras le penser.
В том-то и дело, что можно читать вдоль и поперек. Мы уже
читали это место и так: «надо быть, поступать, участвовать, чтобы
мыслить». И это верно. Но теперь, когда нам засветил
неожиданный и очень яркий свет, свет того блеска, ослепительного, от
единственности и неповторимости того, что все так —
шизофреническое! безумное?
Может быть, мы имеем сейчас дело уже с огромным
спасшимся человечеством, спасшимся от безумия — мы все спасенные,
выхватившие себя из огня, или кто нас выхватил, из огня Логоса,
истории, бытия, потому что там слишком жарко, там невыносимо,
там мы не выдержали бы, потому что там так, как у Платона у
человека, который открыл глаза и через красоту увидел идею, увидел
ум: «.. .испытывает трепет, на него находит какой-то страх...
смотрит. .. с благоговением, как на бога, и если бы не боялся
показаться совсем безумствующим, стал бы совершать жертвоприношения
(красоте ума, явленной)... он как в лихорадке, его бросает в пот
и в необычный жар».
Да, похоже, я прав: все человечество — это человечество
спасенных, может быть, спасенных христианством, может чем
другим, может спасенных рассудительной рассуждающей
философией, — но вот, мы все на берегу, и языки огня уже до нас не
достают, и мы можем спокойно жить, говорить, действовать,
человечество спасенных от огня, потому что слишком большой жар
в блеске белого света, нам невыносимый; по квартирам, которые
Лоренц в последнем ВФ327 неуважительно называет «стойлами
для человеческого скота», расселилось безопасное спасенное че-
327 Вопросы философии. 1992, № 3, с. 43. Или см.: Лоренц К. Восемь
смертных грехов цивилизованного человечества. — В кн.: Лоренц К. Оборотная
сторона зеркала. М.: Республика, 1998. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
495
ловечество и теперь, если чего не случится, если не будет атомной
бомбы, оно спасено от того огня. Пока его не настигнет этот
другой, неожиданно откуда уже совсем неприлично сказать откуда, из
середины этого же самого охлажденного человечества взявшийся
огонь. Ах, а ведь совсем было спокойно устроились, в таком
порядке, так размеренно. Спасенное человечество, о котором Томас
Элиот в Gerontion:
Неге I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, wating for rain.
I was neither at the hot gates
Nor fought in the warm rain
Nor knee deep in the salt marsh, heaving a cutlass,
Bitten by flies, fought.
My house is a decayed house,
And the Jew squats on the window sill, the owner,
Spawned in some estaminet of Antwerp,
Blistered in Brussels, patched and peeled in London.
The goat coughs at night in the fild overhead;
Rocks, moss, stonecrop, iron, merds.
The woman keeps the kitchen, makes tea,
Sneezes at evening, poking the peevish gutter.
I an old man,
A dull head among windy spaces.
И философия наша пускай тоже будет философия уже
спасенного человечества, уже живущего на своей диете
божественной, на причастии поедаемого Христа-тигра — пока он нас не
проглотит.328 Будем думать, что и Парменид уже на повороте
мира, в 2,5-тысячном году [до нас], уже заботился о благах
спасенного человечества и закладывал ему основы философского
рассуждения о бытии, о слове, о мысли, о предикате, о чем еще,
чем занимается философия спасенного человечества, должна же
она чем-то заниматься.
Уж что, а мысль у этого человека в кармане, он найдет с ее
помощью, такого удивительного инструмента, уж и бытие. Вдруг
от Парменида слышим наоборот: мысли ты не найдешь без.
Дальше, ст. 36—38 — через γαρ, которое в греческом как
стрелочка в обе стороны, или «потому что», или «и вот поэтому».
Ибо нет и не будет другого
Сверх бытия ничего: Судьба его приковала
Быть целокупным, недвижным.329
328 См. примечание 13 к лекции 10.9.1991. (Сост.)
329 «фрагменты...», с. 297.
496
В. В. БИБИХИН
«Целокупным», говорил Лосев, «такого слова по-русски
нет!»330 Когда нужна уж совсем большая, закругленная красивость,
тогда так говорят. Или как когда бытия мало, думают, что надо
сказать торжественнее, бытийство, будто бы получается совсем
крупно и возвышенно, тогда получается, что можно и выше: «бы-
тийствование», и «бытийственность», вот это уже совсем важно,
крупно, хорошо.
В греч. ούλος «целый», которое, как русское «целый», как
«исцеление», имеет эти этимологические связи: sölor, solari
«утешать, ободрять», д.-в.-н. sâlig «счастливый, блаженный».
Мойра, «наделяющая», его бытие связала, а перед этим было
сказано — Ананке, «сжимающая». Теперь она названа мойра:
«наделяющая», здесь — наделяющая всему быть, когда оно есть.
Сейчас уже будет конец так называемой части истины —
которая не противоречит части мнения, а высвобождает для нее,
дает, давая увидеть все схваченным в единственности,
неповторимости, увидеть и удивительную единственность, «положенность»
положенного, доксы, мнения.
Уже эта вторая часть, к которой освобождает первая, дает
о себе знать, наплывает предвестием на экстатическое единство
парменидовского рассказа:
Поэтому именем будет
Все, что приняли люди, за истину то полагая.331
Хорошой перевод. Всё, что приняли люди, будет именем? И то, что
говорит Парменид? Да\ Но он, правда, почти что и не говорит, это
на грани речи, он разрывает речь. А в той мере, в какой все-таки
что-то говорит? Да! О себе: это будет только мнением, принятым.
Потому что Ум, истина уже «сказалась» в бытии, в том, что все
есть ^—и в этот блеск «есть» никакое вообще слово уже не
проникнет. Всякое окажется только именем!
Вот так. Апокалиптический полет Парменида закончился.
Истина добыта, она ослепляет своим блеском, абсолютной,
невероятной убедительностью что все так именно, как оно есть,
что все то, то самое, тем самым в том самом лежащее. Хватит.
Теперь глаза, разум, голова, сердце, как после очистительной
бури, свободны видеть, без конца смотреть, слушать, и удивляться,
удивляться без конца этой железными оковами хранимой навсег-
330 См.: Бибихин. В. В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аве-
ринцев. М.: МФТИ св. Фомы, 2004, 2005, с. 104. (Сост.)
331 «Фрагменты...», с. 297, ст. 38—39.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
497
да правде, что все было есть и будет именно так, как было есть
и будет, а по-другому не будет. Теперь страшно важно, интересно,
захватывающе вглядеться во все, и видим прежде всего
человеческий мир:
...именем будет
Все, что приняли люди, за истину то полагая:
«Быть и не быть», «рождаться на свет и гибнуть бесследно»,
«Перемещаться» и «цвет изменять ослепительно яркий».
Но нет. Перед расставанием тот космический пейзаж, то
откровение бытия еще раз вернутся, последний уже раз, в поэму
парменидовскую, и снова в восьми стихах 42—49, снова (не у
Лебедева) выделенных в абзац у издателей — словно прощальный
взгляд на тот удивительный, словно после грозы вымытый пейзаж.
Парменид и вообще человеческая мысль с ним прощается. Ах
грустно: все погружается в перебор мнений, человечество хочет
устроиться в своих домодельных перегородках. Но все-таки: эти
последние восемь строк, на следующий раз. — А так называемую
часть доксы мы читать уже не будем, там слишком много лакун,
сложностей. Чутъ-чутъ только предлагаю в нее заглянуть в той
мере, в какой там следы первой части.
498
В. В. БИБИХИН
11—15(19.5.1992)
1) πείρας πύματον; 2) μάλλον — μείζον; 3) χειρό-
τερον — βαιότερον, μάλλον — ήσσον; 4) το κεν Ι παύοι «=*
εϊργοι; 5) μιν Ι ίκνεΐσθαι τ± συνέχεσθαι [εις όμόν]; 6) τη ή τη;
7) άσυλον, οτύλον.
Плавный переход от части прямой, «голой» истины — бытия,
того же, теперь к мнению, и открытая истина, объявленная
преданность чисто только тому, что есть, должна делать и делает
огромной захваченность тем, что говорят люди, что имеет хождение в
человеческой мудрости. Парменидовское открытие — не
открытие чего-то, а открытие просто, открытие как переход к
открытости — не просто открывает, а как шире невозможно откидывает
входы для науки, всей вплоть до сего дня, потому что основа науки
и сейчас парменидовская — и, между прочим, непохоже, чтобы
у науки вообще могло быть другое начало. И для науки, и для
поэзии, и для мифа, и для общественного строительства. Планка
поднята предельно, она пропускает, впускает по-настоящему всё.
Началась Европа. Началась всемирная цивилизация. Началась
техника. Но Парменид Европа? Нет. И не техника. Парменид?
Не можем его определить. — У него же самого, в его же поэме
в открытые им входы буквально ломится знание, познание мира.
Мир круглый, он круглый как шар. На переходе от чистого бытия
к «мирострою» у Парменида появляется шар, σφαίρα. Это
предполагает края, кроме бытия ничего нет — и не пространственно,
а именно определенностью того, что всё, ничего нет, появляется
«дно предела»,
Но, поскольку есть крайний предел, оно завершенно
Отовсюду, подобное глыбе прекруглого Шара,
(у Лебедева с большой буквы, божественный шар)
От середины везде равносильное.332
Незаметно, нечаянно от определенности, необходимости
перешли к пределу. Или еще не перешли? Нет, еще пока только чистая,
в себе равная себе определенность необходимого тождества, — но
готова закрепиться уже в образ, форму, начиная с наиболее
совершенной, по Платону, шара.
332 Там же, ст. 42—44.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
499
«Крайний предел» по-гречески сказано загадочнее: πείρας
πύματον, буквально «донное, коренное предела», πύματον
«донное, коренное» — то же слово, что нем. Boden «почва,
основа», санскритское ЧЯ (budhnâ) «дно» и «бездна»
одновременно, т. е. дальше некуда; и в греческой математике слово той же
семьи πυθμήν о «корень», «дно» также, «основание, ствол».
У Парменида имеется в виду черта как таковая, не эта или та,
а граничное в черте, основание черты — тем более не
пространственное окончание, за которым что, а доведенная до предела
определенность. Отчего? От полноты, от «завершенности», лучше
может быть было бы сказать «совершенства», которое повсюду.
После этого, сказанного еще на языке той, которая была до сих
пор, простейшей схемы, появляется сравнение, и объявлено:
«подобное глыбе прекруглого шара», блестящий перевод. Как и
дальше: «от середины везде равносильное». Блестящий перевод. Или,
у другого переводчика: «tale ehe a partire dal centro avanza in ogni
sua parte con uguale energia».333
.... (так что) не больше,
Но и не меньше вот тут должно его быть, чем вон там вот.334
Это повтор стихов 23—24 того же 8 фрагмента?335 Да, похоже,
вплоть до синтаксиса, так что можно даже подумать, что Парменид
или кто-нибудь из критиков текста, ранних, издателей его
критического издания (в критическом издании издаются и варианты) дал,
привел обе редакции, в которых эта мысль имелась у Парменида,
или дал в чем-то вроде примечания к первой редакции вторую,
и, как это бывало, примечания были переписаны сплошным
текстом — или с самого начала вторая другая редакция была
приписана сплошным текстом, как если бы кто одним голосом читал
«Евгений Онегин» в его главном корпусе, а потом в вариантах,
черновиках и набросках. Это небрежность? Ни в каком случае,
ни в случае, если это парменидовская вставка, ни издательская:
наоборот, это строгость, какой теперь я сказал не могут
похвалиться большинство изданий. От уважения к своей или чужой,
все равно, способности слышать, быть не своим, принадлежать
правде, вести, которая требует человека для слышания.
333 Calogero Guido. Studi sulfeleatismo, Roma 1932, p. 27.
334 «фрагменты...», с. 297, ст. 44—45.
335 [Запись В. Б. на полях машинописи] Напряжение («нагнетание», Лосев)
должно было кончиться так.
500
В. В. БИБИХИН
Почему слова «больше» и «меньше» (у Лебедева одинаково:
стих 23, «тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не
меньше», стих 45 «.. .Но и не меньше вот тут должно его быть, чем вон
там вот», сказано одинаково) в греческом — синонимами,
заменены оба слова, μάΛΛον — μείζον, χειρότερον — βαιότερον, и это
больше обращает на себя внимание, что другие слова тоже
заменены: внутри того же синтаксиса словно шла замена синонимов,
τό κεν παύοι μιν ικνεΐσθαι [εις όμόν]
τό κεν εϊργοι μιν συνέχεσθαι
и это подтверждает то, что я предположил прошлый раз: что на
стихе 38 Парменид о бытии, не возникающем, не уничтожимом
тождестве уже договорил, но еще слишком горячие следы этого
откровения, и как от раскаленного железа или от бенгальского огня
в темноте остается в воздухе светящийся след, так от того огня
откровения еще остается грамматический след, человек пробует
удержаться на том уровне не своего, посланного ему слова, но уже
не может, и повторяет, и средствами языка поясняет, подтверждает
синонимическим повтором, как важно то, что он сказал. Вот тут
впервые на горизонте появляются «средства языка». До этого
было откровение, запечатавшееся в языке так, что язык почти
горел, когда до пяти раз в одном стихе повторялось одно и то же
слово, когда оставалось почти одно только бессловесное движение
чего? О том, чего, вся поэма; весь наш вопрос об этом, об этом мы
только и говорим, и вовсе не только по поводу Парменида. О чем,
в самом деле? Что это такое, что
не больше,
Но и не меньше вот тут должно его быть, чем вон там вот.
«Должно быть» — не в смысле «мы должны устроить так,
чтобы его было везде одинаково», а снова синонимы: вместо
Ананки, душащей, вынуждающей, — опять более плоское, более
академическое, если хотите, «надлежит, следует». Снижение тона,
жара, переход к логике — которого, этого перехода, не
произойдет опять, потому что будет переход к физике, к устройству мира.
Логика как мы ее понимаем Пармениду, похоже, смертельно
скучна; он, мы говорили, закладывает другие основания, из которых
если кому угодно или удобно оставить только один формальный
профиль, пожалуйста, но это уже крутое, я бы сказал, жесткое
прочтение Парменида, когда мы его подрезаем по нашей мерке.
Интересно, откуда она взялась? Наверное, нигде, как в так на-
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
501
зываемой чистой логике, «строгом формализме», «корректной
математичности» мысли нет столько подкладки, работы для
психоаналитика. Или — сколько извращенной этики в требовании,
чтобы наука очистилась от этики, и так далее.
Но в самом деле только, что же это такое, что
...не больше,
Но и не меньше вот тут должно его быть, чем вон там вот?
Второй раз это говорится, и мы одновременно и захвачены,
задеты, чувствуем, что Парменид прав, прав, тысячу раз прав, он
о чем-то говорит, но о чем, наш-то опыт говорит — и все наше
«знание», в кавычках, — говорит другое? Ты объясни же, чтобы
мы поняли! Но не будет никакого объяснения. Дело идет о вещах,
которым объяснения — может ли быть? Об услышанных вещах,
увиденных вещах, — их, наверное, тоже надо услышать, увидеть?
Второй раз Парменид повторяет эту загадку, и в переводе Лебедева
хорошо передан этот жест указания на самое видимое, стоящее
перед глазами, как приглашение: смотри, смотри, «не меньше вот
тут его, чем вот там вот», хотя в греческом не так
многословно и примитивно, здесь опять частое к сожалению в переводах
утрирование свойскости, домашности, до фамильярности якобы
греческого философского слова; к сожалению, по такой дороге
пошел переводчик «Жизнеописания философов» Диогена Лаэрция,336
где говорок доходит до заискивающего балагурства — вот уж чего
нет в греческом, нет никогда скуки и желания поразвлечь и
поразвлечься, которые доводят до заискивающего балагурства, — нет
никогда в хорошей греческой мысли и даже у Диогена Лаэрция,
слишком горячие, жаркие вещи эти люди держат в руках. Русское
«вот тут» и «вот там вот» стоит на месте греческого τη ή τη,
буквально просто «тут или тут».
Так вот. Второй раз сказал, мы просим, поясни, — нет, он
теперь скажет то же самое в третий раз, и уже не хватает
синонимов, только одно слово из пары заменено, было χειρότερον,
потом βαιότερον, теперь ήσσον. Нет ничего, что бы прекратило
ему, остановило его так, чтобы от сущего, бытия было бы тут
меньше, тут больше. В переводе Лебедева это слово «от сущего»,
«от бытия» пропущено и можно при невнимательном чтении
подумать, что речь идет теперь уже о «прекруглом Шаре», но нет:
все время о бытии.
336 См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов. М.: Мысль, 1979. (Сост.)
502
В. В. БИБИХИН
Да, эти наши последние восемь стихов о бытии, 42—49 — уже
как след молнии на сетчатке глаза, уже только отсвет того, что
было с таким размахом сказано. Было запрещено: не насилуйте,
не усмиряйте ничто, чтобы как-то выделать из него бытие. Теперь
то же сказано о бытии: его тоже нельзя ограбить, не нравственно
нельзя, не технически нельзя, а по более смешной причине: его
нельзя грабить, потому что в одном месте его не меньше, чем в
другом, а грабеж ведь это перемещение из одних рук в другие. И
значит откровение Парменида тоже, если к слову сказать, не может
быть ограблено. При этом третьем повторе, что бытия не больше
тут, чем там, Лебедев выпускает ниточку из рук, соль у него
теряется, он переводит «невозможно»337
чтобы тут его было
Больше, меньше — там, раз все оно неуязвимо.
Неясно, какая связь между невозможностью быть больше тут, чем
там, и неуязвимостью, по крайней мере темная связь — а в
греческом блестящая, с настоящим безотказно бьющим размахом.
Бытие — άσυλον, от σύλον «грабеж» или «арест», скажем арест
должника, который есть подозрение сбежит, или секвестрация
имущества противника на своей территории во время войны — но
никакой такой остановке (опять созвучие с пред-предыдущим 46-м
стихом, никто не остановит бытие от того, чтобы оно достигло,
дотянулось до того же, до тождества, до равенства себе), теперь
сказано резче — никакому захвату, аресту бытие не поддастся, не
потому что оно окружило себя неуязвимостью, щитом, а потому
что его и так везде полная полнота, от совершенной полноты взять
и перенести в другое место невозможно, потому что и там тоже
такого же совершенства полнота того же бытия, бытие άσυλον,
безопасное от грабежа и насилия, неподверженное, у Еврипида
о женщине, что она в таком положении, что ее не могут тронуть,
задеть сватовством или браком. Άσυλον, «безопасное для
захвата», — так стали говорить потом о храмах, куда преследуемый мог
прийти и там его не имели права тронуть. Удивительно, как долго
продержался этот обычай, до конца Византии; но в современном
337 ...Не больше
Но и не меньше вот тут должно его быть, чем вон там вот.
Ибо нет ни не-сущего, кое ему помешало б
С равным смыкаться, ни сущего, так чтобы тут его было
Больше, меньше — там, раз все оно неуязвимо. —
«Фрагменты...», с. 297, ст. 44—48. (Сост.)
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
503
мире нет ничего подобного, и надо задуматься, что же это за
современный мир, где это слово, «безопасный для захвата», теперь
в западных языках есть, но оно относится к — обычно приютам,
asile d'aliénés, lunatic asylu, asile de nuit, ночлежка. В этом,
казалось бы, все разрушающем переходе смысла, от священного
прибежища до сумасшедшего дома, есть как всегда в языке и истории
больше смысла, чем мы думаем или чем мы можем догадаться.
Сумасшедший дом — да, он священное прибежище, потому что,
похоже, только там еще по-настоящему человек, сумасшедший,
еще хранит неприкосновенным бога, его страх, безусловность его
слова. Сумасшедшая верность слову — это единственное, что еще
осталось неприкосновенным в современном мире от настоящего
бога, весь остальной «бог» в кавычках уже приспособлен для
нужд. — Но бытие приспособить нельзя, не потому, что
запрещено, а потому, что оно абсолютно то же тождество в мухе
в кошке и в галактике, чье равенство себе такое же и не другое
всегда.
И вот последний, 49-й стих:
Ибо отвсюду равно себе, однородно в границах,
точнее было бы сказать, «где бы оно ни случалось», при
всякой встрече, попадании бытие одинаковым образом оказывается
в границах, как раньше было — сковано великими цепями
необходимости. Необходимость равенства себе. Я уже упоминал
частое у Аверинцева выражение «равно себе». Тот же смысл:
«такое, какое есть». Все, что есть, такое есть, как бы ни выпало,
каким бы ни случилось, случилось так, как случилось, и никаким
не другим способом, оно абсолютно, непоколебимо равно себе
и как бы еще оно ни изменилось, изменение будет снова равно
именно себе и ничему другому. Что есть, то есть. Истина: в этом
слове слышится «естина», или, по этимологии В. Н. Топорова, от
истъ, «тот же самый, тот самый». Есть в языке нашем и то же, что
в греческом, у сия как «имение, имущество»: «исто», от которого
и «истина», тоже от указания истъ, «тот самый» — в старину
значит «капитал, основное имущество». Ах если бы только успеть за
теми указательными стрелочками, которые в языке. Но для этого
надо думать, искать самим.
Всё: этим, что бытие случается, как оно случается, где бы оно
ни случалось, одинаковым образом в границах, этим еще раз
повтором кончается часть поэмы первая, о бытии, которая достаточно
длинна или коротка, чтобы сказать то, что сказала. И мы, которые
504
В. В. БИБИХИН
нашли столько для себя, догадавшись о тождестве, о равенстве
себе как о лице бытия, — лице абсолютной необходимости,
неизменной вечности, которые не где-то, а безусловно ближе к нам
чем что бы то ни было, близко настолько, что мы никогда к нему
[бытию] не успеваем, всегда прежде чем схватить уловить мы
теряемся в этом самом схватывании уловлении, которое опять же
именно такое какое оно есть, и стало быть бытие, которое мы
хотим уловить, оказывается в такости, так-случившести нашего
уловления, — мы с этим равенством себе уловили что-то большее,
чем что оттуда, куда смотрит и откуда говорит этот старый «до-
сократик» (как будто Сократ такая исключительная высота, что
все прежние попадают в ее тень, когда Сократ сам от уважения
к Пармениду не готов был говорить о нем всерьез, и в диалоге
«Парменид» мало уже очень от Парменида, но уже и так
достаточно, чтобы нам хватило из поколения в поколение вокруг
«Парменида» ходить).
Только что блеск там, ослепительный (там? т. е. значит и здесь
теперь), только об этом за весь семестр мы и сумели догадаться,
а пристально вглядеться в этот блеск? Нам удастся еще, успеем?
Нашему поколению еще удастся? Западная история катится три
тысячелетия, и сейчас еще поэма Парменида — новость из
новостей, буквально сметающая, свертывающая, как яркий свет
свертывает сумрак, количество говорения, для напечатания которого
требуются целые леса, которых уже так мало на земле...
Сейчас задним числом Парменид скажет, о чем шла до сих
пор речь:
Здесь достоверное слово и мысль мою завершаю
Я об истине.
Все, что говорилось до сих пор, говорилось об истине. Курс
«Парменид» Хайдеггера339: только разбор истины, понятия и
вещи. Мы теперь слышим по-новому оба слова, русское
«истина» — от того, что есть, как оно есть, или от «исть», «тот же
самый», «тот самый». В смысле — равный себе. И греческое
«алетейя» слышим по-новому. Непотаенность. Всё потаено,
ничто не открыто, всё загадка. Только одно не потаено: что что бы
то ни было, потаннное, менее потаенное, раскрываемое,
скрываемое, всегда случилось и встретилось именно так, как случилось и
встретилось. Среди тайн только эта одна тайна не утаена, но зато
338 «фрагменты...», с. 297, ст. 50—51.
339 GA, В. 54.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
505
своей неутаенностью она себя сделала тайной тайн, ясность тут
доведена до невыносимого блеска.
Невыносимого, и заставляющего и разрешающего, в его свете,
вглядываться теперь в космос, в порядок вещей. Мы не можем
здесь читать, не сравнивая, сопоставляя с тем, что было и помимо
Парменида, с другими историями мира, потому что в последнем
стихе этого самого длинного 8-го фрагмента так прямо и сказано:
все, что идет после «достоверного» слова, достоверное слово
одно, — об истине-бытии-тождестве-равенстве себе, — всё это
соревнование с другими космогониями, как задорно и рискованно
переводит эту последнюю 61-ю строку Лебедев,
сей мирострой извещаю тебе вполне вероятный,
Да не обскачет тебя какое воззрение смертных.340
Дальше у Лебедева необычная вставка фрагмента 4.
Дальше опять нужно для подготовки большое чтение других,
прежде всего Гомера и Гесиода, чтобы по-настоящему читать
Парменида.
Остановлюсь только на местах, с которыми надо особенно
осторожно, кажется.
Фрагмент 9:
Все наполнено вместе Светом и темною Ночью,
Поровну тем и другим, поскольку ничто не причастно
Ни тому, ни другому.341
Кто-нибудь сразу скажет, что это чушь досократика, «все
наполнено поровну светом и ночью, поскольку ничто не причастно
ни тому ни другому», — только в каком смысле, нет такой вещи,
чтобы [была] непричастна, или Ничто [непричастно], — кто-то, из
уважения к Пармениду, будет думать, что это за заумная мудрость
тут запрятана. Кажется, переведено действительно так, что выбран
хотя и возможный, но слишком уж натянутый смысл, другие
переводят иначе, так: Дильс-Кранц: Ничего не возможно такого, что
не было бы в одном из них, в свете или в тьме. Бофре: Потому что
Ничто не соседствует ни с одним из них (ни с светом, ни с тьмой).
Унтерстейнер: Ни один из двух (свет, ночь) не обладает никакой
властью над другим, т. е. они сами в себе не смешиваются, только
в вещах. Или вариант этого перевода, у Рейнхардта: «Оба равны
между собой — т. е. отвечают друг другу, параллельны, — ибо
340 «фрагменты...», с. 297, ст. 60—61.
341 Там же, ст. 3—5.
506
В. В. БИБИХИН
ни одно не причастно другому». Лучше думать, что это трудное
место и нет перевода.
Во фрагменте 10 о небе сказано, как раньше о бытии: оно
приковано Ананкой держать границы звезд. Это — еще одна
связь между бытием и миром, равновесным шаром. Как все
втянуто, вдето в бытие, так — в мир, мир другое название бытия.
Божественный шар Эмпедокла, открываемый Эросом. Но разве
у Лейбница прикоснуться к бытию помимо Бога, и верности ему,
можно? Здесь опять тема, чуть задеть которую — уже рискованно.
Что-то о ней я говорил в давнем курсе «Мир». Ах все это слишком
важно, так что даже перечисление опасно, снижением до «темы»
из истории философии.
Насколько все теперь фрагментарно, показывает приписка
Симплиция, который цитирует Парменида в своем комментарии
к аристотелевскому «О небе» (Симплиций, в 529 г. после
эдикта Юстиниана, запретившего преподавание христианам,
эмигрировал в Персию, но через 4 года вернулся и писал в Византии
в стол):
[...Земля, Солнце и Луна
...Эфир, и небесное Млеко]
.. .и звезд горячая сила пустились
Вдруг рождаться на свет...
дальше приписка: «и излагает затем происхождение
подверженных возникновению и уничтожению вещей вплоть до частей
животных».342 Контрольный вопрос: значит Парменид не очень
хорошо понимал, когда говорил, что кроме бытия ничего нет,
бытия, которое не возникает и не уничтожается, — а теперь
оказывается масса вещей возникающих и уничтожающихся? Неувязка,
непоследовательность, «мыслитель был противоречив»? Может,
то была выдумка? И когда почти тем же словом, как небытие,
«неукротимое», Парменид назвал бытие, «неарестуемое», то,
может быть, он проговорился, бытие и есть небытие, никакого бытия
невозникающего вовсе нет?
Или действительно: ничего невозникающего, неуничтожаю-
щегося, конечно, нет, — но оно, которое есть, есть с такой
окончательностью, настолько уже схвачено громадными оковами то,
что есть, какое оно есть, что само становление, поскольку оно
есть и именно такое становление, и есть бытие? Если, схваченное
бытием и схваченное в бытии, оно оказывается бездонным, или
342 См. там же, с. 292.
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
507
доходит до такого дна, где сама граница границ, т. е. божество,
которое все держит? Ведь это особая граница, последняя, которая
не чем-то проведена, а сама граница, сама определенность, тот
«термин», которому «термина» нет — тот предел, которому уже
нет предела. Снова абсолют — и не где-то, а внутри всего.
Фрагмент 12:
Всюду причина она проклятых родов и случки,
Самку самцу посылая на случку, равно и напротив:
Самке — самца.343
Богиня (даймон): та же, которая у ворот Дня и Ночи.
Унтерстейнер: «печальных родов». Дильс: здесь странные
пессимистические мысли орфических интонаций. Эрвин Роде,
«Душа», другой редкостный знаток античности: грустное
переселение душ. Лебедев утрирует: проклятые, лучше бы их не
было. Еще: в античности отношения разных полов не были
освящены, достойным, настоящим считалось только — между
одного пола.344 — Таких культурологических наблюдений много
можно сделать? — Жан Бофре, французский ученик Хайдеггера:
redoutable enfantement, «ужасающие роды» — намек на то, для
чего мы приходим в этот мир, рождаемся: чтобы уйти навсегда.
Это не противоречит неуничтожимости бытия: мысль нам бытие
не гарантирует, мы — не мысль и не бытие. Где же мы? Мы
меньше бытия? Или мы больше бытия, потому что мы
смертные? Мы рождаемся, по-видимому, людьми, человеческий
младенец это уже человеческий младенец, — т. е. смертными, как
говорит Бофре, toujours assez vieux et toujours trop jeunes pour en
(от этого проклятия) mourir. Проклятых! Это если мы решим
приписать ему пессимизм. Страшных, торжественным ужасом
того, что рождается существо, которое встанет, родится не мимо
бытия и не в небытие. Мы, похоже, причастны тайне; это
понимание Бофре. Но похоже, что речь не только о человеческом
рождении [...]
Фрагмент 16:
Смесь какова всякий раз многоблудных членов, такая
Людям и мысль приходит на ум; тождественна, право,
С тем, что она сознает, природа членов и в людях,
И во всех, и во всем, ибо мысль — это то, что в Избытке.345
343 Там же, с. 298.
344 Fränkel Hermann. Dichtung und Philosophie des frühen Griechentuns. Eine
Gesch der griech. L-г von Homer bis Pindar. Ν. Y., 1959, S. 468, η. 23.
345 «Фрагменты...», с. 298.
508
В. В. БИБИХИН
Лебедев продолжает этизировать, получается мрачная этика,
но, конечно, не «многоблудные». На этом месте стоят два разных
слова, πολυκάμπτων, πολυπλάγκτων.
Фрагмент 19:
Так родились эти вещи согласно мненью и ныне
Суть, а потом, коль скоро однажды возникли, — погибнут.
Люди же каждой из них нарекли приметное имя.346
[Из ответов на записки слушателей]
Должна была быть эта геометрия, бытия и небытия — потому
что она есть. — Она открыта тем, кто знает [...]
But say the word only...347 Ни о каком изобретательстве речи
нет — всё и так уже есть, увидеть и сказать. Как это может быть,
почему? Мы не знаем. Мы видим только по Пармениду, что это
так. — Мы видим еще, что он собственно не понят, он обозначение
середины вихря, Аристотель в учении об энергии развертывает,
как может быть бытие. Как-то никак, ничем...
И сейчас, у нас — что надо делать? Похоже, достаточно
только стоять и не падать — не падать как будто достаточно.
346 Там же.
347 Неточное цитирование последней строки части III из «Пепельной среды»
(Ash-Wednesday) Т.С. Элиота:
Lord, I am not worthy
Lord, I am not worthy
but speak the word only.
(Сост.)
Вопросы к зачету
(осень 1991)
1. Место философии в культуре.
2. Наука, философия, понимание (В.В. Розанов).
3. Критика отвлеченных начал материализма и идеализма
(В. С. Соловьев).
4. Исходный опыт человеческого существа (всеединство).
5. Почему дедукция теоретического и практического знания
из исходного опыта всеединства у В. Соловьева должна опираться
на веру, воображение, творчество.
6. Проблема смерти у В. Соловьева. Предельные задачи
преображения действительности.
7. Религия, поэзия, философия. Их самостоятельность, их
пересечение, их встреча.
8. Иллюзия и достоверность в «теоретической философии»
В. Соловьева. Проблема субъекта.
9. Скепсис. Нигилизм. Бытие и небытие.
10. Статус универсалий. Существует ли «лошадность». Сила
идеи.
11. Граница действия нигилистического скепсиса. Подход
к проблематике Парменида: в каком смысле можно отрицать
несуществование.
12. Главный вопрос философии. Происхождение вопроса.
(весна 1992)
1. Когда жил Парменид? Где? Современник ли он Гераклита?
Вы можете сказать о связях Парменида с афинской школой
философии?
2. Что дошло до нас от сочинений Парменида? Объем, жанр,
разночтения.
510
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
3. «Этим путем я летел, по нему меня мудрые кони, Мча
колесницу, влекли, а Девы вожатыми были». Кто такие «мудрые
кони»? «Девы»?
4. «Девы... ускоряли бег колесницы к Свету, откинувши прочь
руками с голов покрывала». Почему Девы так ведут себя? Почему
переводчик пишет «Свет» с прописной буквы?
5. Скачка коней, «Девы», «грозновозмездная Правда» — эти
и подобные реалии введения к парменидовской поэме создают
строгую торжественность происходящего. Как вы считаете,
мешает ли такое настроение строгости его мысли? Если не мешает,
то почему?
6. «Хаос», исходное значение слова. Не могли бы вы объяснить,
почему парменидовский хаос зияет между «многомедными
стержнями» ворот, образующими явно ограниченное пространство?
7. Богиня Дика называет Парменида «юноша, спутник
бессмертных возниц». Почему «юноша»? В каком смысле «спутник»?
До этого Парменид был назван «видевшим, знающим мужем».
8. Что и как сказано в гераклитовских фрагментах о детях?
9. «Докса». Происхождение слова, его место в античной
философии. Есть ли в современной философии соответствующее
понятие? Если нет, то как продолжает жить то, о чем говорило слово
«докса»?
10. «Если бы мы сейчас взялись за разбор его (Парменида)
учения, то, боюсь, мы даже и слов-то самих его не поняли бы,
и что он, собственно, под ними имел в виду, о чем думал, это
остается для нас тайной». Кем сказаны эти слова? Что было сказано
автором этих слов о Гераклите?
11. У Парменида и Гераклита, да и не только у них, нет
недостатка в «должно», «следует», «необходимо». Этот «философский
императив», однако, чем-то отличается от операционального
предписания («поступайте так»). Чем?
12. Можете ли вы назвать три главных значения греческого
слова, которое мы переводим как «бытие»? Какое еще другое
слово и с каким значением применяет Парменид в том же смысле?
13. Различие между «колеей» и «путем» у Парменида. Что
у него движется по неизменной колее, кто вступает на путь?
14. «Мыслитель, чья чистота и строгость уже никогда
больше не повторились, не возвратились». Кто и о ком это сказал? На
каком основании?
15. Верно ли будет сказать, что трудность парменидовской
поэмы не языковая? Если да, то почему? В чем тогда причина
трудности, создающей разнообразие переводов и комментариев?
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
В курсе «Чтение философии»348 мы так или иначе имеем дело
с отцами. Почитаемые авторы всегда ощущались как отцы; за
учителями Церкви это именование закреплено официально. Я ввожу
сейчас эту тему особенно потому, что в предстоящем семестре мы
собираемся заглянуть в ранний европейский мир, совсем ранний,
очень внимательный и очень разборчивый греческий мир, на
протяжении двухсот или двухсот пятидесяти лет думающий,
пишущий, говорящий так, что потом на его слове, на там открывшейся
истине строится все знание, здание и задание Европы, к которой
мы чудом — продолжается «европейское чудо» — сейчас
принадлежим, потому что еще можем держаться на ногах, смотреть,
думать, говорить и спрашивать и слушать друг друга, удивляясь
тому что открытость не закрыта и мир, давно пошатнувшийся
и скользящий, опасный, чреватый, не окончился.
Сразу видно что отцы могут быть моложе нас. Возьму
близкий пример. По возрасту я отец нынешним молодым людям; меня
можно привлечь к ответственности за то, что теперь можно видеть,
среди чего мы живем; ведь можно посмотреть, что я писал, как
поступал, что делал. В этом смысле я прежний, молодой, как ни
странно кажется сказать, по отношению к самому себе тепереш-
348 Курс 1991—1992 уч. года, философский факультет МГУ им. Ломоносова.
Данный текст — лекция 11.2.1992 с небольшими изменениями. Заглавие и
примечания добавлены 19.1.1993.*
* Из письма В. Б. Н. Струве: «...Мой отрывок „Возвращение отцов"
содержит мое окончательное отношение к новому активному племени приватизаторов
культуры. Не то что с ними надо или хотя бы можно бороться, их слишком много
и они победят, но однажды сказать, что о них думается, надо. Как в свое время
со стороны можно было снисходительно смотреть на большевиков, тогдашних
захватчиков культуры, так теперь, боюсь, издалека не видно, как скверен новый
активизм, как он снижает, буквально срезает уровень речи, слова». (Сост.)
514
ПРИЛОЖЕНИЕ
нему оказываюсь как бы отцом; я теперешний мною прежним
подготовлен, порожден, подведен к тому что я есть или к тому что
мне мешает быть; он, т. е. я же сам, отец себе, который сделал —
в той мере, в какой сделал — так, что теперь все сложилось как
сложилось.
Отец тот, кто вызывает к жизни, дает существование и
образует его. Недодуманным, непродуманным в замысле воскрешения
отцов у Николая Федоровича Федорова остается то важное или
центральное обстоятельство, что воскрешающие вызывают отцов
к жизни и в смысле их возвращения сыновьям и в смысле
возвращения отцам их самих, т. е. восстановления отцов в достоинстве
их отцовства. Воскрешение отцов одновременно превращает
отцов в создаваемых, т. е. в сынов, а сынов соответственно в отцов,
и возвращает как новым отцам, так и новым сыновьям полноту
отцовства и сыновства.
Это доведенное Федоровым до крайности обращение
сыновей и отцов, предков и потомков — странным образом мало
замечаемое, плохо осмысленное, — разве оно по своему существу
изобретение Федорова? Нет, ведь и мы, читающие отцов, как-то
возрождаем их в себе.
Кто, надо переспросить себя, воскрешает отцов? Всего легче
сказать, и напрашивается такой ответ, что сыновья. Но даже
просто почитая, тем более воскрешая отцов, сыновья оказываются
родителями. Отцы нуждаются в детях не меньше чем дети в отцах;
оттого что есть дети, почитающие отцов, есть и отцы. Это так.
Посмотрим однако еще внимательнее. То, что дети почитают
отцов, вделали в конечном счете не отцы. Никаким своим деланием
они вделать в сыновей такое почитание не сумели бы. Мы их
почитаем и читаем не в первую очередь потому, иногда совсем не
потому что они нам это внушили. Каким-то скрытым образом отцы
дают о себе знать раньше чем мы их узнаем. Мы узнаем в отцах
отцов не потому что они явились и обозначили себя «мы отцы»,
не потому что они подтвердили это заслужив уважение. Мы еще
прежде того искали их, искали рано, так что может быть ничего
раньше чем их не искали.
Найденные нами отцы настолько не причина нашего
почитания их, что скорее наоборот, наше отношение к ним суд над ними
за то, что они оказались не те, кого мы искали. Чем туманнее, чем
громаднее нависают над сыновьями те, искомые отцы, тем острее,
жестче становится суд сыновей над этими, найденными. Вообще
сплошь и рядом, большей частью, в какой-то мере всегда здесь
происходит неладное. Когда мы видим отцов, они обычно, если
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
515
не считать случаев недолговечного экзальтированного увлечения,
начинают казаться нам не теми, кого мы искали. Мы приходим
к мысли что отцы — ив узком, и в широком, имеющем право
расширяться смысле — нас не обеспечили. Их было много, большая
масса, но мы остались после них неуверенными или хуже,
потерянными, растерянными. Что эти отцы нам оставили. Что, в том
числе, мы сами себе оставили. Кроме того что они оказались не на
высоте, они вообще просто уже отсутствуют, оставшись в
прошлом, в могиле, в немощи. Отцы всячески, во-первых потому что
оказались не на высоте, тем более потому что большей частью
их уже нет совсем, вышли несовершенными, «не пришли в мужа
совершенна», до зрелости, какую надлежит иметь отцам, не
дотянули.
Недостаточность отцов была бы кричащей, невыносимой, не
в последнюю очередь потому что она и сыновей обрекает на
недостаточность, неизбежную неосуществленность безотцовства, не
будь она смягчена в нашей культуре тем, что есть верховный Отец
Небесный или его внутрицерковные и внецерковные заменители.
И для отцов, и для нас верховный Отец — высота, под которой
мы ходим. Человеческое усилие измеряется целью быть
совершенными как высший Отец. Своей безубыточной полнотой он
заполняет все несовершенства, какие были, есть и будут у отцов,
прежних и теперешних. Отец небесный восполняет всех отцов.
Он же их и затмевает, заранее и с запасом санкционируя всякий
наш суд над ними.
Между тем мы слышим что Бог умер. Это задевает нас
крайностью абсурда, ведь Бог не может умереть. Юрий Николаевич
Давыдов имеет полное право с возмущением сказать: какая
ницшеанская ересь, что Бог умер! что за отвратительный вздор! Наше
возмущение или наше смущение при вести о смерти Бога означает,
что по-честному мы не знаем что возразить. Здесь нет
противоречия тому, что разумных логичных возражений у нас наоборот
слишком много. Нас сбивает с толку дикий тон самого
предположения. Смерть не может случиться с Вечным и Бесконечным по
определению, которое мы Ему дали. Небесный Отец отличается
от земного как раз тем, что с Ним никогда не могут случиться оба
этих промаха земного отца: ни несовершенства, чтобы Он вдруг
оказался не на высоте, ни такого, чтобы Его совсем не стало, тем
более чтобы Его вообще никогда не было. Он восполняет промахи
земного отца, несовершенство и конечность, тем, что Он всесо-
вершенный и бесконечный. Разве не так? Вы что, шутите? По сути
516
ПРИЛОЖЕНИЕ
своей Бог не может умереть, быть такого не бывает! Если бы хоть
что другое сказали, но тут верх абсурда.
Тревожит то, что какой же все-таки заблудший,
экстравагантный, беззастенчиво нарушающий все правила разума ход мысли
оказался способен выдать такое, «Бог умер». Означает ли наша
тревога о состоянии ума Ницше, что мы твердо верим в
неспособность Бога умереть, отсутствовать?
Какой-то остроумец в Париже предложил такую пару
сообщений с подписями тех, от кого сообщение исходит: «Бог умер.
Ницше. — Ницше умер. Бог». Тут должна создавать эффект
стопроцентная, мертвая очевидность второго сообщения, с которым
кажется едва ли кто когда вздумает спорить; с правдой подписи
под ним тоже едва ли кто будет спорить, потому что если уж люди
вместе со своей смертностью в чьем-то ведении все-таки состоят,
то наверное в ведении Бога. И по контрасту — недостоверность
человеческого сообщения о Боге. Всякое вообще сообщение
человека сомнительно, проблематично, тем более о Боге.
Верховный Отец затмил в нашей культуре временных отцов.
Все они оказались неприметно сдвинуты из настоящего в
прошлое, которому противопоставлено новое, новейшее. Только новое
для нас существенно. Вчерашняя газета не идет ни в какое
сравнение с сегодняшней. Вместе с прошлым уходят в историю, которую
мы для приличия уважаем, и отцы.
Инвентаризация, так назовем определяющее отношение
нашей культуры к наследию. Инвентаризация — констатирующая
запись, пересчет в имуществе владельца, наследника того
полезного, что найдено, inventum. Мы озираемся, обнаруживаем там
и здесь, в старом книгохранилище, в сундуке, на чердаке то, что
осталось нам от предков, близких или далеких. Статус учтенного,
принятого к сведению для возможного применения совсем другой
чем исходный статус вещи, заслужившей того чтобы войти в
наследие. Inventio, «нахождением» называлась в старину
поэтическая вещь, но invenire, inventum инвентаризации совсем другое.
В поэзии найдена поэтическая вещь и наследниками найдена та
же вещь и включена в культурное хозяйство, но это совсем другое
нахождение. Различие между первой находкой и второй та, что
в первой найдено, каким образом то, что мы прежде всего и
главным образом ищем (ищем мы всегда полноту бытия), может
присутствовать, во второй мы нашли слово, в котором присутствовала
полнота. Почему не присутствует? Потому что полнота для того
чтобы присутствовать в полноте (в конечном счете это полнота
мира или просто мир) требует больше чем повторения, пусть даже
очень точного, тех слов, в которых она когда-то присутствовала.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
517
Всякая инвентаризация наследия, историографическая,
культурологическая, педагогическая, находит свое inventum и, поскольку
находит только в одном смысле, постольку теряет многое или
главное: опыт нахождения. Инвентаризация, опись наследия
отцов, не делается до констатации их смерти.
История культуры, ведущаяся способом инвентаризации, даже
там и всего больше там, где достигает высокой техничности,
точности, тщательности, полноты собирания культурного инвентаря
(которая совсем другая полнота чем та, которая сделала наследие
достойным инвентаризации), это наследие, подменяя одну
находку другой, собирает и уничтожает. Среди высшей точности
этой историографической инвентаризации хозяйничает высший
произвол в отношении того, что было целью той первой находки,
в отношении присутствия полноты, присутствия мира. Произвол
доходит — среди научной, профессиональной безупречности,
выучки, результативности историографа — до безразличия к полноте
присутствия, цели всякого первичного искания, в погоне за
полнотой учета найденного.
Поэтому такая небрежность в отношении наследия, например
философского, когда позволяют себе любое его перетолкование,
переиначивание, только кажется противоположностью строгой
историографической инвентаризации: на деле она уже заложена,
предполагается в безразличии профессионала к той ранней
решающей полноте. Произвол противоположен правильной
инвентаризации только по видимости, потому что явно разрушает ее
технику, методологию. По сути он ее продолжает. Просто разрушить
научный историографический подход конечно еще недостаточно
чтобы найти в находках, из которых состоит наследие, именно
находки. До этого произволу не ближе чем профессиональной
корректности.
Чтобы пойти дальше того и другого, нужно по крайней мере
чтобы задача находки, настоящей, т. е. искания полноты, всерьез
стояла перед нами; чтобы надежда на такую находку не
обрывалась, потому что с истончанием этой надежды пошатывается
для нас и все наследие. Мы перестаем — фатально — понимать,
о чем там вообще идет речь. Там речь идет о полноте, о мире. Мы
имеем сейчас мало опыта такой полноты. Напрасно после этого
говорить что высота была только в прошлом. Если мы не видим
ее в настоящем, то не увидим и в прошлом.
Отцы для нас не на высоте. Об этом стоит задуматься. Мы
одинокие, культура одиноких. Нигде вокруг, ни среди предков,
ни в среде нас самих мы не видим никогда, кто был бы безуслов-
518
ПРИЛОЖЕНИЕ
но на высоте. Когда я дошел до этого места, то вдруг вспомнил,
что псевдоним одного заметного автора новейшей философско-
литературной публицистики Одинокий. Этот псевдоним связан
у него с отношением к отцу или к отцам, потому что отец у
одинокого собирательный, включающий тех, кто оставил литературное
наследие. Из-за них мы живем в сегодняшнем мире. (Этот мир
Россия и Россия это целый мир не потому что вне России ничего
не видно, а потому что без России все равно мира нет, и если куда
смотреть, чтобы увидеть мир, то сначала на Россию, на нас самих;
а мы, в первую очередь с нашим словом, живем в у-словиях, в
которых живем, потому что наши отцы были такие.)
Отношение одинокого к отцам или к собирательному отцу
создает одинокого. Открытие одинокого сделано автором, но
одновременно это и открытие, сделавшее автора и принадлежащее
одинокому. Автор делает дело одинокого и с санкции одинокого,
так что одинокий правит автором, который создание одинокого.
Отличие одинокого от автора нам в этом смысле не очень важно.
Сила одинокого такая, что ее хватает и на автора и на персонаж.349
Положение одинокого, его одинокая сила определяется его
отношением к отцу или, вернее, тем, что его отец — в
собирательном смысле, включающем всех отцов отечества, прежде всего
отечества мысли, отечества слова — явно не на высоте по обоим
параметрам, по каким отец может быть не на высоте, по
несовершенству и по отсутствию. Начать со второго и главного: отец
одинокого умер. Его смерть сделала одинокого. Его определение:
тот, кто узнал, что отца нет. Смерть отца неизменная опора
одинокого, основание, на котором он судит и пишет. «Иду по улице,
философствую, а мне кто-то спокойно говорит на ухо: „А у тебя
отец умер". — „Да, жил, понимаешь, существовал, а тут, хе-хе,
'собирайте вещи'. Папенька-то 'тю-тю'". Какая-то мучительная,
постыдная незавершенность. Вышел на сцену, а штаны сзади
рваные». Смерть отца казалось бы наповал убивает одинокого.
Но эту убитость смертью отца, такой для него несомненной, ка-
менно убедительной, он сразу же делает силой для подсечения
всех и каждого. Сила смерти отца дает ему право любой сцены.
349 Я все же исходил из того, что литературным грабежом среди бела дня
в общем потоке экономического и другого грабежа занимается только
литературный герой, Одиноков, а его автор виноват разве что в садизме, с каким он
наслаждается совсем по-настоящему болезненными криками людей, обиженных
персонажем. Мне говорят, что сейчас Одиноков без остатка ассимилировал
автора, но за его сочинениями я уже не слежу и его имя пока не считаю заслужившим
упоминания.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
519
Только что срезанный жестоко сам («штаны сзади рваные»), он
догадывается что точно так же можно срезать кого хочется срезать,
например лектора по философии. «Читают лекцию по философии.
Я вопросик лектору, „записочку из зала": „Такого-то числа такого-
то месяца и года у меня умер Отец". И подпись: „Одинокий"»
(Отец с большой буквы).
Этими словами, умер Отец, лектор по философии
поставлен перед фактом фактов, о котором только и имело бы по-
настоящему смысл говорить и философствовать; без которого во
всяком случае — без памяти о смерти Отца — всякое думание,
всякое философствование будет пустое. Одинокий ставит
лектору по философии подножку, резко: нет смысла
разглагольствовать, рассказывать что-то про Гегеля, когда умер Отец. Одинокий
прав как никто. Созданный своим одиночеством после смерти
Отца, он оглядывается вокруг и видит, что у всех, у каждого
штаны сзади рваные из-за этой смерти; что срезать каждого
легко и нужно простой записочкой, напоминанием о факте.
Одинокий, свежий, только что созданный знанием смерти Отца,
этим своим знанием вымеряет теперь всех и убеждается, что
люди слабы, фатально, безысходно. Ясно, что лектор, которому
прислан вопросик, записка из зала, ведет себя, статистически
поведет себя с почти стопроцентной вероятностью так, как
случилось. Записка Одинокого показалась ему отвлечением от
дела. «Ну и что? при чем здесь это-то? о чем вы, милейший?!
Ну конечно, очень жалко, мы сочувствуем и т. д. И я получаюсь
каким-то „и т. д.". „Идите отсюдова"».
Одинокому даже не приходится как-то особенно срезать
лектора, лектор срезает сам себя, решительно, раз навсегда своей
неспособностью понять и принять происшедшее: Отец умер. Лектор
сам исключает себя из числа тех, кто в курсе дела. С лекторами
дело ясно, с ними покончено, они непричастны к миру фактов, они
обречены. А кто в курсе дела, много ли их?
Ответ на вопрос, сколько людей в числе тех, кто приобщен
к факту, знает о смерти Отца, содержится в фамилии
открывателя. Посвященным он видит только себя одного. Как такое может
быть, в каком случае? Знать о смерти отца может ведь в сущности
каждый. Выходит, в одинокости одинокого скрывается что-то
еще. Мы знаем, в каком случае человек безусловно и непременно
один: в умирании. Свою смерть невозможно разделить ни с кем.
Одинокость одинокого не от того только, что он знает о смерти
Отца, но и оттого что он знает смысл смерти Отца: она
повертывает знающего лицом к своей смерти. Знание о смерти Отца
520
ПРИЛОЖЕНИЕ
у одинокого одновременно и встреча со смертью. Но снова такая,
что сразу обертывается его новой силой, новой уверенностью:
отец умер, умру я, так тогда все равно.
С этим убедительным знанием одинокий стоит посреди
философского факультета, где лекторы читают свои лекции по
философии, и посреди наследия русской (мировой) мысли,
инвентаризацией которой все давно уже заняты вокруг. Отец одинокого,
мы помним, собирательный, он вбирает в себя подгулявшего отца
вообще, отца, какими отцы бывают. Литературный отец одинокого
автора это писатель, которого мы читали в прошлом семестре,
Василий Васильевич Розанов. Одинокий, созданный своим
уверенным знанием, обязательно срезал бы нас вместе со всем, что
наговорили о Розанове; да вернее он заранее уже срезал нас, что
бы мы и как бы мы ни говорили. Отец умер. Розанов, т. е. для
одинокого главная наша («русская») мысль сама по себе умерла везде,
кроме как в одиноком. Это сказано решительно и окончательно:
теперь, когда отец умер, «гаденькие и гладенькие» окажутся все
писания о нем. О каком еще писании, милейшие, слышим мы
голос одинокого, может идти речь после того как Отец умер. Сам
одинокий правда все-таки пишет, и много, но в том настроении,
что чего уж там теперь, все равно. «Я писал... „так", как „пустяк",
не вполне серьезно. Я уже сознавал что это все не то. Почему я это
писал?»
Да, вопрос: зачем писать, когда не вполне серьезно? Ответ
одинокого: потому именно и писать что теперь все равно; и если
напишут другие, то заведомо хуже. А ведь напишут. Идет поток
безотцовского писания. Не напишу я — напишет кто-нибудь еще.
Пусть уж лучше тогда напишу все-таки я. Не зря же у меня талант.
На крайний случай у меня есть средство срезать всех.
Одинокий пишет так, пустяк, потому что уже все равно.
«Зачем писать? Ну да, Розанов гений? — Гений. Чуткий? —
Чуткий. Добрый? — Добрый. А зачем тогда писать? о чем? Это
не нужно. Это глумление. Вот отец умер. А мне приносят о нем
статью, где мне доказывают что он хороший. Зачем это? куда вы?
Розанов писал что мир погибнет от равнодушного сострадания.
Нет. Или уж сострадать, но искренно, всей душой, до потери
приличия, до размазывания слез по онемевшему от страдания лицу...
или лучше отойти в сторону».
Это два разных поведения, оставленные им для выбора. Та
чушь, которую будут плести люди, которые еще не знают,
лекторы, для одинокого за пределами рассмотрения. Не интересно.
И нам вообще говоря тоже: нас не очень занимает то, что и как
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
521
будут говорить люди, не услышавшие это «отец умер». Мы
услышали. Мы и не спорим разумеется с одиноким. Мы только
нечаянно обращаем внимание вот на что. Одинокий выбирает между
«размазыванием слез» и «отойти в сторону», выбирает второе из
двух, только из двух. Ему не приходит в голову спросить себя,
почему он так уверен что отец умер намертво.
Говорю и сжимаюсь, ожидая удара, страшась по своей робости
судьбы лектора, которого одинокий издевательски срежет. Меня
еще резче чем того, который еще не знает о смерти отца. Розанов
не умер, Розанов вернется? Не все дома, скажет одинокий. Или
еще хуже: что мечтать о неумершем Розанове невероятно пошло,
что так мечтает Гегель. Гегель идеалист. Потаптывание идеалиста
еще одна черта, общая у одинокого с философским факультетом.
«Гегель не облагораживает, а опошляет. Сам-то он не пошл, куда,
и выговорить-то смешно такое. А вот почему-то опошляет все
вокруг, сыпет в мозг наждаком». Не сыпьте мне в мозг наждаком,
скажет одинокий, размазывая слезы по не совсем онемевшему
лицу; что за чушь, какой вздор про Розанова, который не умер;
к чему старая мельница.
Я упомянул сегодня нравственного, высоконравственного
философа Юрия Николаевича Давыдова, который возмущается
слыша что Бог умер и сердито отмахивается от абсурда такого
предположения. Одинокий диаметрально противоположен такому
высоконравственному философу. Но полюса, чтобы быть
противоположными, должны находиться в одном измерении, в чем им
стоять друг против друга. Раздражен одинокий будет по
противоположному поводу, но так же нетерпеливо. Ему отвратительно
слышать что отец возможно не умер. Раздражение понятно; этой
возможностью подсекается весь одинокий. Рождение одинокого
было такое: он стоит на смерти отца, вырос, соткался из нее когда
подал ту записочку лектору; просветитель, пророк, апостол безот-
цовства, он несет свою смертельную правду и срежет ею любого.
Возвращение отца сразу одинокого отменит.
Остережемся подвертываться под хлесткую руку одинокого,
в полной мере впитаем его правду. Я так много о нем говорю
потому, что за ним стоит наше безотцовство, о котором несколько
раз я раздумывал думать и каждый раз срывался: оно слишком
большой медведь и слишком прочно сидит в своей берлоге;
слишком страшно его оттуда выгонять или выманивать. Не будем
попадаться зря под горячую руку, не станем сразу говорить такое,
за что нам не очень поздоровится. Одинокой уже очень широко,
на тысячах страниц размахнулся благодаря смерти Отца, и его
размах сейчас, с приватизацией культуры, будет на той же по-
522
ПРИЛОЖЕНИЕ
чве все сильнее. Одиноких скоро окажется много.350 Множество
одиноких включит, а может быть уже включает почти всех, пусть
с той определенностью еще не осмысливших, но чующих смерть
Отца и даруемую этой смертью волю — тем более на просторе,
где смерть Отца уже официально объявлена. Статус одинокого при
этом остается прежним и странным образом ничуть не пострадает
оттого, что к нему приобщится громадное большинство.
И вот, я говорю, надо признать правду одиноких, она лучше
пьяных пожеланий; хочется строгого покоя. Но все же придется,
иначе хуже будет, набраться мужества и спросить, не одинокого
конечно, который и за вопрос нас тоже срежет, а самих себя: почему
смерть отца верховная достоверность? почему все, что не упрется
лбом в смерть Отца, одинокому возмутительно, отвратительно?
Вот говорит о пружине своего писательства, о «голом столбе»
одиночества, о «столпе молчания», тысячестраничного, и снова как
к питанию припадает к своему истоку, смерти Отца. «Его увезли
умирать, а я прислонился лбом к холодному стеклу окна... О чем
же тут думать? и зачем? зачем думать, жить? Не как осмысленное
стремление к самоубийству, а как обессмысливание каких-либо
смыслов, бессмысленный ужас и недоумение перед каким-нибудь
смыслом. И вот это ощущение бьющего через лоб ледяного холода
и есть то. А остальное — лохмато-серые тряпочные эманации
в какую-то там „реальность"». Хотелось бы надеяться избежать
расправы от одинокого, потому что у нас никогда не было
желания уползать в сомнительную потустороннюю реальность. Но из
своего одиночества мы только этот вывод, о нашем одиночестве,
и делали; у нас не выходило превратить одиночество в оружие.
Мы приглядываемся с отчужденным удивлением к тому, как опыт
бьющего через лоб ледяного холода, когда совершенно незачем
больше думать, жить, превращается в машину наступательной
речи, на колесах которой одинокий хочет, срезая всех, вырваться
из тесноты. Из тесноты одиноких.
Отец умер. Но Одинокий, убитый и ослепленный этой
смертью, оживает странной убийственной жизнью. Он отталкивается
от смерти в обоих смыслах слова. «Постепенно все будет угасать,
цепенеть и наконец последняя искра пробежит по умирающему
рассудку.. Недоумение. Скука. Смерть... Но все же. Все же
предпринята безумная попытка сопротивления. И вдруг она удастся,
350 Рядом с Галковским уже встает Курицын. За ним поднимается пока еще
безымянный варвар, тоже совершенно одинокий, тоже непомерно талантливый,
тоже жадный до наследства, тоже ироничный к идеалам.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
523
и произойдет чудо, и реальность изогнется фантастически
причудливым образом, и я, ласково окутанный родным пространством,
буду перенесен в иной, подлинный мир... Попаду ли я в
фантастическое пространство, а в общем-то, с другой-то стороны,
единственно подлинное и естественное? Или же я фатально обречен на
существование в сером и унылом „реальном мире"? Ответ на этот
вопрос неизбежен, ибо само отсутствие ответа есть ответ».
Ответ содержится в вопросе. Серое, унылое конечно обречено;
родное, подлинное, фантастическое конечно естественно. Но
ответ дан путаным, явно пародийным издевательским образом. Над
кем издевается тут одинокий? Он издевается или по крайней мере
иронизирует над собственной мечтой о чуде, которого конечно, он
знает, не произойдет и о котором одинокий говорит ернически:
реальность изогнется... ласково окутанный... буду перенесен
в иной мир. Говорящий так советует себе: держи карман шире.
Скоморошество действует в нем уже помимо воли как
постоянный жест ерзания на всякий случай. Он спешит заблаговременно
срезать и самого себя, «звезды рассмеются надо мной холодным
русалочьим смехом».
Одинокий, всякий одинокий всегда будет так срезать себя,
поддевать себя вилами в бок, издеваясь над родным
пространством, которое где-то ласково изогнется. Если мы неосторожно
разбежимся и размечтаемся вместе с ним, одинокий нас срежет
вместе с собой. — Но вот зато теперь другое, альтернатива раю,
другой его вопрос: «Или же я фатально обречен на существование
в сером и унылом „реальном мире"». Вопрос опять шутовской. Во-
первых конечно никто ни на что фатально не обречен. Во-вторых
всякий одинокий знает, что надави даже не очень сильно, и
«реальность» «серого и унылого» мира обязательно будет сломлена,
обессилена, так что «сгусток энергии, воли, желания, мысли»
никогда не повиснет в пустоте. И вот что будет: что фантастическое
пространство ласково изогнется, это едва ли, думает Одинокий,
трезво думают все одинокие, это вряд ли, это смешно. Но вот что
серый и унылый мир очень даже можно куда-то с какой-то
стороны проломить, это опять же Одинокий, всякий одинокий очень
хорошо знает, потому так вызывающе спрашивает: «Я фатально
обречен?». Вопрос звучит у Одинокого и у всех одиноких
горделиво. Уж с их-то энергией, волей, желанием не на месте застыть.
Ладно, пусть с родным пространством, ласково окутывающим,
будет как получится, там много не возьмешь, но уж «серая и
унылая реальность» извини подвинься, ей это снова, в которую уже
524
ПРИЛОЖЕНИЕ
революцию, предстоит; ее сломит и размечет еще один напор.
Недаром срезал одинокий лекторов на философском факультете;
не зря же у него могучая сила бесспорного знания.
Отец умер, это пароль, пропуск, санкция на слом серой и
унылой реальности. Отец умер, значит можно быть очень уже
размашистым, чем больнее тем лучше. Но, мы помним, отец
оказывается не на высоте не только потому что умирает. Он не на высоте
еще и тем, что несовершенен. Между той и другой невысотой
связь: в самом деле, был бы отец совершенным, и не было бы
настоящей причины умирать, в каком-то смысле он оставался
бы бессмертным. Он умер как раз потому что был такой, какой
был. Не упуская из виду что отец одинокого собирательный и не
спеша верить что гадости, сообщаемые об отце, относятся
действительно к главе семьи его автора, мы поймем, что речь идет
между прочим или даже в первую очередь о литературном отце
Одинокого, Василии Васильевиче Розанове. «Отец играл на
мандолине; немного говорил по-испански и по-итальянски... Однажды
он с „ребятами" ел на кухне уху под водку... смачно обсасывая
кости...Мой отец был типичной „ерундой с художеством"». Так
Розанов называл русского вообще. Еще одинокий об отце: «Отец
сидел на коленях на санках и, отталкиваясь лыжными палками,
катался по растаявшему катку... пел арии на итальянском языке...
истерически хохотал». Сравни одинокий о Розанове: «Всю жизнь
совершал смешные ошибки. Брак с Сусловой и т. д. И в результате
жизнь его удалась». Мораль: надо размахнуться тоже, поскольку
Отец такой. Он гулял, и одинокий будет широко гулять. «Иду...
почти сознательно, с заведомым ожиданием неизбежных срывов
и просчетов... Ведь иначе нельзя, выхода нет. Мы, как сказал сам
Розанов ( ! ), не можем вырваться из-под власти национального
рока».
Двойная санкция, своего надежного одиночества и общего
успокоительного разгула, дает необъятные права. Кроме того,
в прямом завещании, написанном от имени умершего, одинокий
объявляет себя его единственным законным наследником. В этом
завещании, которое, говорят нам, Розанов написал бы сам, доживи
он до наших дней, учитель одинокого учит его распусканию. Это
действительно розановское слово. Но распускание, в каком
распустился гуляя и не растворяясь в окружающем Ничто (т. е. в той
реальности, которая не реальность) одинокий — в каком смысле?
Тут важный пункт в стратегии всякого одинокого, центральный
в его знании и главный в применении им Отца, в данном случае
Розанова, поэтому мы остановимся здесь минут на семь.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
525
Одинокий цитирует Мандельштама: «Розанов всю жизнь
шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской
культуры». Мы уже знаем, что сейчас скажет одинокий: стен у
русской культуры конечно нет, это у других культур есть стены, но мы
особенные, совершенно бескрайние. «У каждой нации должна быть
рациональная сказка, охватывающая плотным кольцом все стороны
бытия и изгибающая их по направлению к центральному мифу...
У русских никакой ограды не было. Отсюда ущербная
беззащитность русской культуры. Розанов никого не спасал, никого не учил
и не воспитывал. Но именно ему как-то походя, незаметно удалось
построить ограду». Заметил одинокий. Розанов еще не сумел.
После этого мы ждем, нам сейчас должны сказать, какую
ограду. Пока нас заинтриговывают: мы, русские, исключительны
по своей беззащитной широте, но среди нас, русских, есть один,
который показал нам, как сложиться в округлое, как сделать так,
чтобы наша широта была не в ущерб нам, а в прибыль. Секрет
прочел у Розанова одинокий, мы не сумели, — я теперь могу
добавить: прочтут и все одинокие; как отец одинокого
собирательный, так и он сам для нас будет собиранием, собранием нашего
безотцовства; мы освобождены от необходимости обдумывать,
приходится ли здесь прибавлять слово «русского»; вместо нас
это сделают, очень часто повторяя это слово, — загадочно часто,
можно было бы даже сказать.
Итак, культура — выбросим теперь спокойно «русская» —
вообще не имеет стен (этому общему месту, что культура по
определению не имеет определения, что она открытость, что у нее нет
границ, что ограничившая себя культура быть культурой перестает,
что французская культура, поскольку она культура, остается
культурой без границ, отдана одна из последних книг Жака Деррида), не
знает ограды, это делает ее беззащитной. Розанов же — тот
единственный, кому как-то невзначай удалось («незаметно») построить
ограду. Теперь в опоре на Розанова одинокий достроит ограду,
которая сделает его уже не беззащитным, придаст ему крепость
вместо той наивной открытости. Или, как он говорит, введет его
существование, не отнимая богатства, в надежную колею правил и
обычаев, даст строить наконец свой дом. Розанов еще не совсем, не
вполне понимал собственное открытие, но одинокий уже понимает,
так что мы спокойно можем говорить о его открытии.
Вот как оно объявляется. «Розанов дал Домострой XX века.
Правда, ему было неинтересно его развивать — чувствовал
ненужность. Тогда. А вот я подниму. Мне нужно было высветить
реальность новой сказкой, новой актуализацией ( ! ) русского
526
ПРИЛОЖЕНИЕ
мифа. И я искал для этого наиболее здоровую основу И нашел ее
в Розанове. В нем гармонизируется и наполняется смыслом наше
бытие».
Нам объявлено, обещано. Суть того, что объявлено и обещано,
нам предлагают увидеть в одной записи Розанова. Мы эту запись
прочитаем.
«В собственной душе хожу как в саду Божьем. И
рассматриваю, что в ней растет, с какой-то отчужденностью. Самой душе
своей — я чужой. Кто же я? Мне только ясно, что много „я" в „я".
И самое внутреннее смотрит на остальное с задумчивостью и без
участия». Слова Розанова.
К этому месту из Розанова одинокий комментария вдруг не
дает. Для одинокого, приходится думать, здесь все ясно. Значит,
нам оставляют только самим еще раз вчитаться чтобы увидеть
чего мы не видели, домострой XX века, новый закон, каким сейчас
строит свой дом личность, и конкретно, русская личность, и еще
конкретнее, одинокий, «пример и опыт максимального
осуществления русской личности и способ ее существования в мире,
распускания, но не погашения в окружающем ничто». Это точно
и метко сказано: окружающее ничто. Одинокий не мелочится на
вхождение в детали, для его одиночества, для боевого безотцов-
ства все вокруг окружающее ничто, в котором важно не погасить
личность, ценящую себя, максимально осуществляющуюся.
Еще раз. Максимальное осуществление русской личности,
ее распускание нам велят вычитать из розановских слов: «В
собственной душе хожу как в саду Божьем. И рассматриваю, что в ней
растет, с какой-то отчужденностью». А непогашение
максимальной личности в окружающем ничто предлагают угадать в словах
Розанова: «Самой душе своей— я чужой... Самое внутреннее
смотрит на остальное с задумчивостью и без участия».
Надо очень многое чтобы произошло, прежде чем стало
можно читать розановскую задумчивость в смысле программы
распускания русской личности, «гигантской паутины национального
мифа» и программы воспроизведения изнутри «расово
идентичного опыта». Во всяком случае мы в прошлом семестре читали
розановскую задумчивость иначе. По крайней мере можно
прочесть Розанова иначе. Чтобы сделать его создателем домостроя
XX века, надо было сначала чтобы Розанов прочно умер. У нас
нет такой уверенности, как уверенность Одинокова, что Розанов
прочно умер. Даже с риском быть срезанными и осмеянными
позволим себе высказать предположение, что и после
убийственного прочтения Розанова у одинокого чтение Розанова все же еще
продолжится. Розанов не обязательно станет теоретиком нового
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
527
активизма, программой для распускающей себя личности. Вообще
распускание личности совсем не то самое что распускание
деревьев в саду, где задумчиво он бродит.
Буквально на наших глазах сделано открытие одинокого. Он
открылся, распустил себя, потому что открыл что Отец умер. Где
произошло открытие? Читаем о его авторе: «молодой писатель,
недавний выпускник философского факультета МГУ». Этим многое
объясняется. Настоящий отец одинокого философский факультет,
система инвентаризации наследия, оставлявшая в своем чистом
варианте как раз одно незанятое место нового всевластного
хозяина, одинокого наследника. Одинокий его занял, сохранив позу
профессионала. Инвентаризатор находит и заприходует ценности,
например такую новую как Розанов. Программа для деятельной
личности в новых условиях исходит из той же констатации смерти
что и задача инвентаризации. Опись имущества делается при
переходе его в другие руки. Отец, в чьих руках было имущество, умер.
Для одинокого это главная достоверность, трагическая санкция
на свободу распорядительного действия. Мы читали Розанова
иначе: наоборот, каменная задумчивость, амехания, завороженная
неспособность запустить в ход говорящие механизмы сделали его
непричесанную литературу концом литературы. Одинокий начал
ее кошмарную реанимацию.
Воскрешение отцов у Николая Федоровича Федорова —
немыслимая задача, т. е. мыслью ее не охватить. Если бы она
выдвигалась как одна из задач, можно было бы назвать ее абсурдной.
Но она не одна из: она у Федорова та, без которой как первой и
исходной все другие пусты. Я уже говорил когда-то, что кажущийся
упрек Федорова философии, которая занята якобы теорией, тогда
как мир дан нам не на погляденье, это тайное и от затаенности
тем более настойчивое, неотступное убеждение всей настоящей
мысли, философской традиции. Она никогда не занималась
описанием. Федоровское воскрешение отцов, тем более с помощью
современной техники, кажется далеким от философии до
противоположности ей, но им движет тайный мотив всякой настоящей
попытки думать. К воскрешению отцов не только в трудном
прямом смысле их возвращения, но и в смысле простой готовности
читать, почитать их, путь наверное далекий, по всем привычным
меркам невозможный. Но никакого другого нам уже просто не
остается, особенно после того как мы увидели перед глазами
распускание одинокой русской личности, которая разрешила себя на
том основании что Отец умер. Мы видим как эту одинокую
личность ведет от ее непосильного знания. Она одновременно сбита
528
ПРИЛОЖЕНИЕ
с толку и агрессивна. Чистое одиночество трудно вынести, и она
сбивается на принятие мер. Но велики ли силы у личности, чей
Отец умер? Ее ближайшей возможностью остается тоже смерть.
Она хочет чтобы смерть была сначала чужая.
Пусть подгулявшие отцы скорее уходят, одинокий стерпит их
гибель. Прийти просто новым хозяином однако неудобно, поэтому
он ведет с собой покладистого, как ему кажется, патрона,
безмерный вневременный логос. «Внутренний мир», готовящийся к
победе над окружающим ничто, делят между собой двое, «мир этот
принадлежит некоему конкретному человеку, со всеми его
слабостями и комплексами, и одновременно безмерному вневременному
логосу». Одновременность тут вовсе не означает равноправия,
потому что трактовка безмерного вневременного по его безмерности
принадлежит тому, кто «логосом» так или иначе владеет. Как он со
своими слабостями и комплексами умеет взять дело в свои руки,
мы уже видели и не перестанем видеть впредь.
Предсказуемым образом одинокому хочется чтобы и
завещатель, Розанов, тоже успел уже хотя бы провизорно подключить
безмерный логос источником питания к внутреннему миру личности.
Мы читали у Розанова о задумчивости, о понимании, сближали
отрешенность понимания с гераклитовской неприступностью мысли:
софия от всего отстранена. Отдельное отграничивает, рассекает.
Разрезающая или уже отрезавшая, уже вдвинутая в мир как
отдельность, эта софия — война, полемос, «отец всех, царь всех: одних
объявляет богами, других людьми, одних творит рабами, других
свободными» (фр. 53 по Дильсу, 29 по Марковичу). Отдельное
у Гераклита прячется в противоположностях: день другое ночи, но
настолько не отделен от ночи, что без ночи не было бы и дня; то,
в чем день и ночь одно — не сумерки, не вечерняя и не утренняя
заря, а другое и дню и ночи и их противоположности, немыслимое.
Я хочу сейчас только напомнить, какой это логос. Он слишком
отделен чтобы с ним могла случиться такая вещь как смерть. И он
конечно слишком отделен чтобы личность сумела подключить его
к своему «внутреннему миру». Одинокий надеется, утвердившись
на смерти отца, создать себе такой внутренний мир, где можно
было бы отрицать отрицание. Очередной проект раздраженного
сознания. Смешно думать что ему помогут здесь литературно-
литературно-публицистические успехи. Одинокий надеется что
он нашел и заприходовал у Розанова домострой, секрет ведения
абсолюта в рамках личности. Нет, у Розанова можно найти только
понимание неприступности Отдельного и задумчивость, каменную
завороженность им — со спокойным торжественным знанием что
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦОВ
529
Отец настолько отделен, что умеет быть и через смерть, пустоту,
ничто. Деловитость одинокого, который нервно приватизирует
наследие русской мысли или то, что он таким считает, к пониманию
Розанова отношения не имеет.
Но вот что удивительно. Мы читаем всем известное. При этом
мы казалось бы вступаем в плотно утоптанную область, так
называемого культурного наследия, которая дважды, трижды, много раз
и в последний раз очень решительно инвентаризована, описана,
распределена, использована. Это нам настолько не мешает, что
даже помогает. Потому что, это нам делается все яснее, мы ищем
читая философию не новой классификации, не своих способов
актуализирующего применения ее богатств, не хотим заниматься
ни разбойной, ни профессионально корректной инвентаризацией,
а идем по следам Отца, от всего отдельного, которому наверное
очень смешны попытки его заприходовать. Объявлением «Отец
умер» он никак не уловлен, и вовсе не потому что объявивший
это умер, а как раз наоборот потому что Ницше жив как мало кто
из живущих. То же Розанов. Если такое умеют земные отцы, что
сказать о небесном.
Мы должны быть благодарны одиноким за ярость, с какой они
загоняют нас в смерть, не оставляя надежды на снисхождение. Они
вынуждают впервые всерьез задуматься о загадочном, поначалу
пугающем, потом все меньше, предприятии Николая Федорова,
которому предстоит стать неизбежным, в конце концов
единственным делом человека на земле.
Возвращение отцов. В каком смысле? разве в том что отцы
должны прийти сюда к блуждающим сыновьям? Конечно нет.
Толкователи Федорова мало замечают что сыновьям у него
предстоит измениться не меньше чем отцам. Возвращению отцов
должно предшествовать возвращение сыновей. Пока это еще не
исключено, констатировать смерть отцов рано.351
351 Сейчас, на переходе тысячелетий, звучание слова изменяется так, как
еще не бывало, возможно, со Средних веков. Это изменение, чуткими замеченное,
но еще мало кем осмысленное, дает о себе знать в нежелании печататься, когда
самое важное снова остается в рукописи, во взгляде, в жесте. Оборотная сторона
той же перемены — жадный захват разреженного пространства активными
сочинителями, которые имитируют говорок былой публицистики, на всякий случай
устраивая ей при этом полный погром. Загадочная черта изменившегося пейзажа
в том, что новейшие знаменитости не становятся событием. «Новый мир»,
совсем недавно еще интеллектуальный и либеральный, перехватывает Одинокова
у «Нашего современника», который первым открыл «наиболее яркого и
глубокого мыслителя нынешнего молодого поколения России» (Наш современник.
1992, 11, 168), — и ничего. Единственная у нас независимая газета громогласно
530
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПО ПОВОДУ «ЧТЕНИЯ „ТЕЭТЕТА"»352
В начале «Теэтета» почти сразу после введения лиц Сократ,
которому остается мало времени, решительно повертывает своих
дружественных собеседников к невидимой и непривычной сути
дела. Он рискует. Здравый смысл в оглядке на реальные условия
бытия видит в поступке Сократа отлет в облака, софистику или
пустоту, ничто (146 е). Сократу будет трудно. Нелегко будет его
и понять.
Силовой прием Сократа, вопрос что такое знание само по
себе, а не знание геометра, сапожника, или что такое глина сама
по себе, а не глина горшечника, печника, строго говоря запретный.
Это гипостазирование лексики, «остановка словом» (157 Ь). Не
существует глина сама по себе. Она впервые открыта, разомкнута
горшечником, вошла в мир как часть человеческого хозяйства,
а иначе не существовала бы и для мыслителя. Поэтому вопрос что
такое глина должен идти путем разбора хозяйства,
феноменологии мира. Никакой глины до человеческих рук не было. Сократ
шутит, будто глина это разведенная водой земля и неважно, у кого
она в руках (147 с). Такое шутовство становится однако возможно
и необходимо, когда расписание бытия обнаружило свою
условность и притяжение неписаной софии стало безраздельным.
Задачей становится пойти неведомо куда искать неведомо
что — идут к единому целому, которого нет, ищут знание, не
зная, как его опознать. Ставка теперь не первенство в
соревновании (148 bc), а здравие или безумие, правда или ложь, добро
или зло (151 cd). Речь идет о поведении в крайней опасности,
в войне и чуме, в кораблекрушении, когда спасти могут только
боги. Спастись надо не полису, а человечеству и остальному жи-
объявляет сенсационную статью того же глубокого мыслителя, где он начинает
хоронить уже живых, — и хоть бы что. Менее яркий мыслитель молодого
поколения восхищается в «Литературной газете» тем, что более яркий заранее рад
всем мыслимым насмешкам над собой и оттого якобы совершенно непотопляем;
литератору характерным образом не приходит в голову что насмешка еще не
последнее средство против нахрапистого писателя, возможно простое уменьшение
интереса к нему. Непривычность новой ситуации в том, что большого театра
словесности («литературного процесса»), требовательного и отзывчивого, теперь
нет, и нетерпеливым гениям приходится играть по собственным правилам на ими
же сооруженной сцене (постмодерн). Они мстят за свое одиночество отцам и,
добив их, еще больше жалуются потом на оставленность.
352 Впервые опубликовано: АРХЭ: Труды культуро-логического
семинара, вып. 3, М.: РГГУ, 1998 г. Статья написана по поводу работы А. В. Ахутина
«Чтение „Теэтета"», опубликованной там же и впоследствии вошедшей в сборник
«Поворотные времена» (СПб.: Наука, 2005, с. 218—293). (Сост.)
ПО ПОВОДУ «ЧТЕНИЯ,ТЕЭТЕТА"»
531
вому (!) со всеми его действиями и делами (170 ab). Литературное
и философское мастерство Платона только заслоняет этот бой
в темноте («у la mas alta conquista en oscuro se hacia», Хуан де ла
Крус), и величайший мастер слова несколько раз вызывающе
разрывает сплетенную ткань.
Ответ на сюжетный вопрос диалога; что такое знание, дан
тоже сразу. Оно эстесис (151 е), чутье, схватывание, опознание,
распознание (см. с. 130—131353). Все остальное будет уже только
уточнением. По ходу детализации обнаружится скандальная
недостаточность этого и любого академического «ответа». Другая
нужда, не в умствовании а в спасении, заставит понять, что истина
не что а ищущий кто, прочертит геометрию креста, на который
в конце диалога взойдет Сократ, распятый в амехании.
«Эстетика» относится к самым большим недоразумениям
нашей «культуры». Правда А. Ф. Лосева, который вовсе не только
по цензурным соображениям отнес всю античную и не только
античную мыоль к эстетике, стоит на интуиции, что с перебором
схематизированных «воззрений» надо навсегда расстаться и мысль
становится интересна только когда всем телом тонет в бытии,
природе или мире. Но для понимания платоновской и античной
эстетики Лосева не хватает. Теперь необходимо уже внимание
к хайдеггеровской феноменологии присутствия, бытия в мире,
с настроением, основным тоном этого бытия, и к витгенштейнов-
скому солипсизму, впускающему в субъект тоже всю массу мира.
Развертывание эстесиса у Ахутина и своевременно, и необходимо,
чтобы вытеснить негодную схему «ощущение-мнение-наука-
софия», якобы отвечающую античной иерархии познания.
Новоевропейский субъект, преодолевший «ограниченность
чувственного восприятия», ошибся, вообразив себя отдельным.
Вмещение через αίσθησις всего, открытие настоящей меры вещей
в человеке возвращает его в мир. Снова как в раннем
младенчестве он едва способен шевельнуться, растворенный во всем.
Невозможность активизма совершенно одинаково показывают
и всеобщая подвижность Гераклита и единое неподвижное бытие
Парменида. Нет смысла двигаться среди неостановимого
вселенского вихря. Смешно еще как-то поступать, если бытие уже
навсегда утвердило себя алмазными скрепами в небесах. Но сам
раздор этих несовместимых очевидностей настоятельно требует
решения.
353 Указаны страницы в «АРХЭ»; см. также: Ахутин. А. В. Поворотные
времена..., с. 233—234. (Сост.)
532
ПРИЛОЖЕНИЕ
Страшного Парменида Сократ в почтении и ужасе обходит.
Еще очень молодым он столкнулся с ним и ему явилась
безусловно подлинная глубина этого мужа, даже в речь которого трудно
вникнуть, тем более в ход мысли. Но Парменид и Пифагор конечно
постоянно присутствуют в мире Сократа строгим фоном, тягой
к геометрии. В решающем месте именно она заставит
оттолкнуться от знания через эстесис, но не так, что его опровергнет или
отменит. В реабилитации эстесиса против бездумных прочтений
платоновского диалога как критики сенсуализма заслуга Ахутина.
Он указывает, что эстесис это прямое и простое,
непосредственное и неразложимое схватывание, опознание, распознание; в эсте-
сисе сущее открыто нам и мы открыты сущему, даже становимся
им. Напоминание о парменидовском тожестве бытия и мышления
здесь уместно или даже необходимо. «Знание есть чувство...
прямое участие человеческого существа в существовании
существующего... В ощущении мы непосредственно соприкасаемся
с бытием... вникаем, проникаем в само сущее, а оно прямо втекает
в нас» (с. 134—135354).
Чувство в открытом человеке истинно. Оно слитно с его
существом, которое всеми способами принадлежности относится
к вселенной. Так капля, растворяясь в море, вбирает его в себя.
Человек свидетельство того, что сущее есть как оно есть и
несущего нет. В чуткости корни всего знания (160 cd), которое потом
будет разветвляться.
В сплошном стихийном чутье все во всем по-своему есть. Ему
одинаково причастно все живое, люди и звери (162 е). Человек
должен им довольствоваться, потому что он не бог. Замахиваться
на другое, божественное знание человек может, но должен ли.
Протагор остерегался даже задумываться о существовании и
несуществовании богов. При сохранении непереходимой границы,
существующей между богами и людьми, человеку в его области
довольно быть мерой всех вещей. Лукавая осторожность Протагора
нравится Платону, он тоже не хотел бы смешения божественного
и человеческого. С другой стороны, богов невозможно удержать
за границей. Их присутствие угадывается в земном мире по
трансцендентной точности такой науки как геометрия.
Проникающая чуткость живого дает слышать все и быть
причастным всему в мировом потоке, но похоже что за границей
всего остается еще что-то. Мы слышим всё в иностранной речи
354 См. там же, с. 237. (Сост.)
ПО ПОВОДУ «ЧТЕНИЯ „ТЕЭТЕТА"»
533
и не понимаем ее. По Библии, разноязычие создано богами. Слуха,
которого хватало для того, чтобы родной звук был внятным, для
речи иноземцев не хватает и становится нужна наука грамматики
и толкования (163 be). Чтобы услышать в чужой речи не только
музыку, оказывается мало чувствовать: надо еще и знать
знанием, о котором теперь никогда уже не знаешь и не узнаешь, все
ли оно возможное и необходимое тут знание или нет. Так Сократ
говорил о понятной, надводной,, и другой, непонятной части
книги Гераклита, куда заглянет только опытный ныряльщик. В речи
мира (природы) мы никогда не будем знать, хотя так чувствуем
ее, что поняли всё и никакой другой смысл уже не потребует себе
грамматика и герменевта. Нам всегда все дано в цветомузыке
мира — и почему-то никогда не все.
Чуть ли не лучше бы нам вообще воздерживаться говорить
знаю и вижу, потому что это одновременно означает не знаю и не
вижу (182 е). Положение тут неисправимо, не отменяется, не
улучшается с годами. Полнота знания может быть только
полнотой неизбежного незнания. Дело вовсе не в ускользании вечно
движущегося вихря. «Опровержение» Протагора проходит вовсе
не так, что Сократу удается что-то установить, остановить среди
всеобщего потока или получить на руки эталонную меру вещей.
Сократ и не хочет себе божественного всезнания. Единственное,
что разлучает его со школой сплошного безостановочного
вихрения, это решимость на поступок: принимая гераклитовско-
парменидовскую школу, он по своей добротности решает, что дело
обстоит именно так (183 а), но как раз эта именность утверждает
в середине вихря геометрию. Принятие таким, какой он есть,
скрепляет вихрь, ничуть не ослабляя его.
Для Сократа не подарить вихрю именность невозможно,
равносильно отказу от языка и вообще от человечества (183 ab).
Читатель оказывается глубоко задет. Он должен не меньше как
решить, остаться ли ему по сю сторону принятия вихря с
трансцендентальной рухлядью в руках или пойти под суд с Сократом,
который вводит нового Бога, когда ищет истину не в данности,
а в имени, которое хранит душа, действуя и поступая (187 а, πραγ-
ματεύηται напоминает о πράξες 155 е). От вихря тут не только
не уходят в запредельность (учение об идеях принадлежит скорее
Аристотелю чем Платону), наоборот, движение впервые
принимают всерьез, берясь нести его невыносимость. Ахутин верно
говорит в этой связи об открытии души. Понимать это открытие можно
однакс^ и шире. Как никогда, она открывается в эстесисе бытию,
приникает его и дарит ему свое «так». Окунаясь в течение вещей,
534
ПРИЛОЖЕНИЕ-
открывая настежь все свои чувства, не уходя от бросающегося под
ноги и в глаза, она решается на принятие бытия, на доксу. В поле
предельного напряжения между бытием и доксой складывается
слово как голос самого вихря. Замечательно у Ахутина: чем
мимолетней настроение, тем более «внезапная, ловкая форма» нужна
чтобы схватить его ритм (с. 165, прим.355).
Вопрос о знании, подразумевается руководящем, спрашивает
о чем-то таком, чего нет вне решения. Он уводит от перебора
сущего, показывает недостаточность расхожей мудрости опыта и
навыка, касается бытия-небытия, ориентирует не на меньше-больше,
а на спасение или гибель. Дело оказывается не в том, внутри мы
или вне мира, в вещах или наедине со своей душой, а в том,
выведено ли все для нас уже в апокалиптическое пространство да-нет,
последнего решения, или мы еще томимся в мнимом покое. Все,
конечно, и без нас так или иначе будет снято до среза да-нет, как
в «логике». Идет охота за тем, чего нет в природе и чего нет в душе
тоже. Согласие может быть гармонией, музыкой, но мнение — это
принятие или отвержение, жесткое и собственно страшное. Игра
с огнем. После доксы не нужно уже никакой специальной атомной
бомбы. Мир и так поставлен на весы.
Неверно, что геометрия дополняет или совершенствует
чувство, что алгеброй проверяется гармония. Чувству всегда уже
открыто все во всем, оно и есть все доступное нам знание и наш
мир. Он однако начинает шататься в целом между его принятием
и непринятием. Сойти с этого креста ему не даст никакое
приращение знания-чувства, пока в действие не вступит поступок.
Мир не изменился, когда вместо да ему сказали нет. Смена мира
имеет отношение к добру-злу, не к познанию истины (167 ab).
Суд над миром не дожидается знания всех обстоятельств дела,
как и вообще любой суд. Отсутствие у судьи полного знания не
оправдывает затяжки решения и не мешает суду быть правым.
То, что поступок суда называется силлогизмом (186 d),
намекает на путь выхода из формального удушья, в котором
тысячелетиями полуживет логика. С логикой как этикой знакомит нас,
теперешних, Витгенштейн, мимо школы которого мы пройти уже
не можем. Пусть здесь останется только отсылкой то, что требует
другого размаха и подхода.
Во всяком случае искать надо не знания и незнания, а бытия
и небытия (188 с). Только как понять бытие. Оно например не
ближе к ощущению чем к математике. И не так, что суть дела надо
355 Там же, с. 264, прим.
ПО ПОВОДУ «ЧТЕНИЯ „ТЕЭТЕТА"»
535
искать в правильном соединении чувства с мыслью. Удача здесь
в конечном счете дело опять же навыка и техники. Решает не наука
а поступок, сохраняющий свое свободное и личное существо все
равно, касается ли он вещи или мысли.
Расстаться с формулой «добродетель тождественна знанию»,
якобы описывающей этику Сократа, так или иначе придется.
В этой формуле правильнее видеть [скорее] определение знания
чем добродетели. Знания нет там, где человеческое существо
не берется схватить его в руки и держать в собственности. Что
мы добыли, о том уже нелегко сказать, что ничего нами не
добыто (199 с). Схватывание будет в любом случае предшествовать
знанию. Что знание не условие поступка, показывает поведение
хорошего судьи. За время, отмеренное течением воды в клепсидре,
он, грабежа и насилия не видевший (судья и свидетель по
определению разные лица), т. е. по совести случившегося не знающий,
должен вынести правильное решение. Нуждайся правота в
полноте предварительного знания, честный суд был бы невозможен
(201 be), и на чем тогда стоял бы город, понимать ли его как
внутренний или внешний.
Начавшись с представления действующих лиц, «Теэтет»
заканчивается вглядыванием в те же лица (209 be). Они как никто
и никогда захвачены существом познания. Знать можно и нужно
прежде всего и в конечном счете лицо. Знание лица сводится к
знанию его отличия. Это отличие всегда налицо, но оно только
ощущается; любая попытка определения схематизирует его. Ощутимое
явление необщих лиц, единственных в истории, остается в памяти
от диалога.
Подготовка к публикации
О. Е. Лебедевой при участии А. В. Ахутина
СОДЕРЖАНИЕ
Чтение философии 5
Вопросы к зачету 509
Приложение
Возвращение отцов 513
По поводу «Чтения „Теэтета"» 530
Научное издание
Владимир Вениаминович Б и б и χ и н
ЧТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
Утверждено к печати Редколлегией серии «Слово о сущем»
Технический редактор И. М. Кашеварова
Компьютерная верстка Е. С. Егоровой
Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 23.12.08. Подписано к печати 28.07.09.
Формат 60 χ 90 Vie. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 33.6. Уч.-изд. л. 32.6.
Тираж 1500 экз. Тип. зак. № 3880. С 147
Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru
Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
ISBN 978-5-02-026339-0